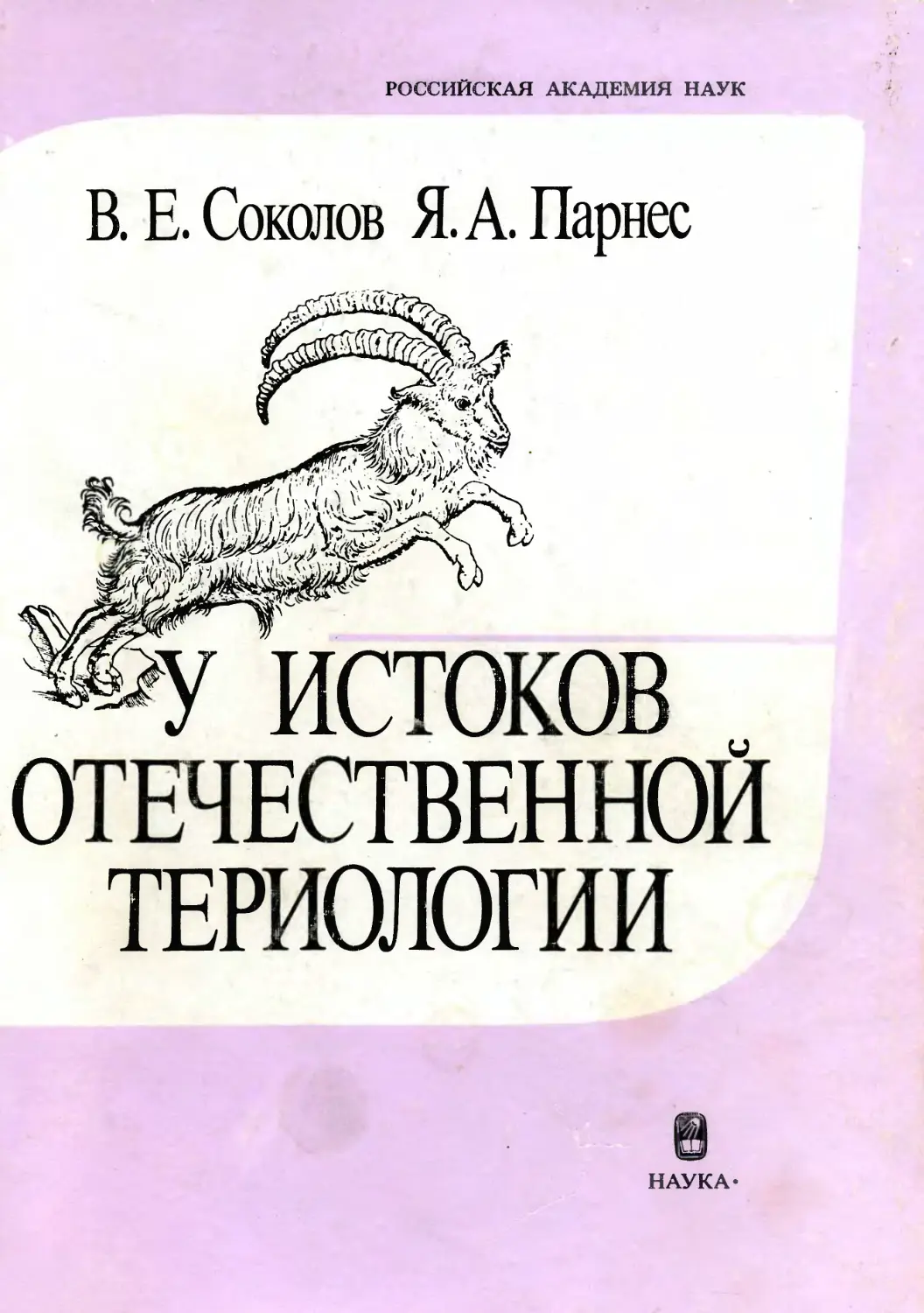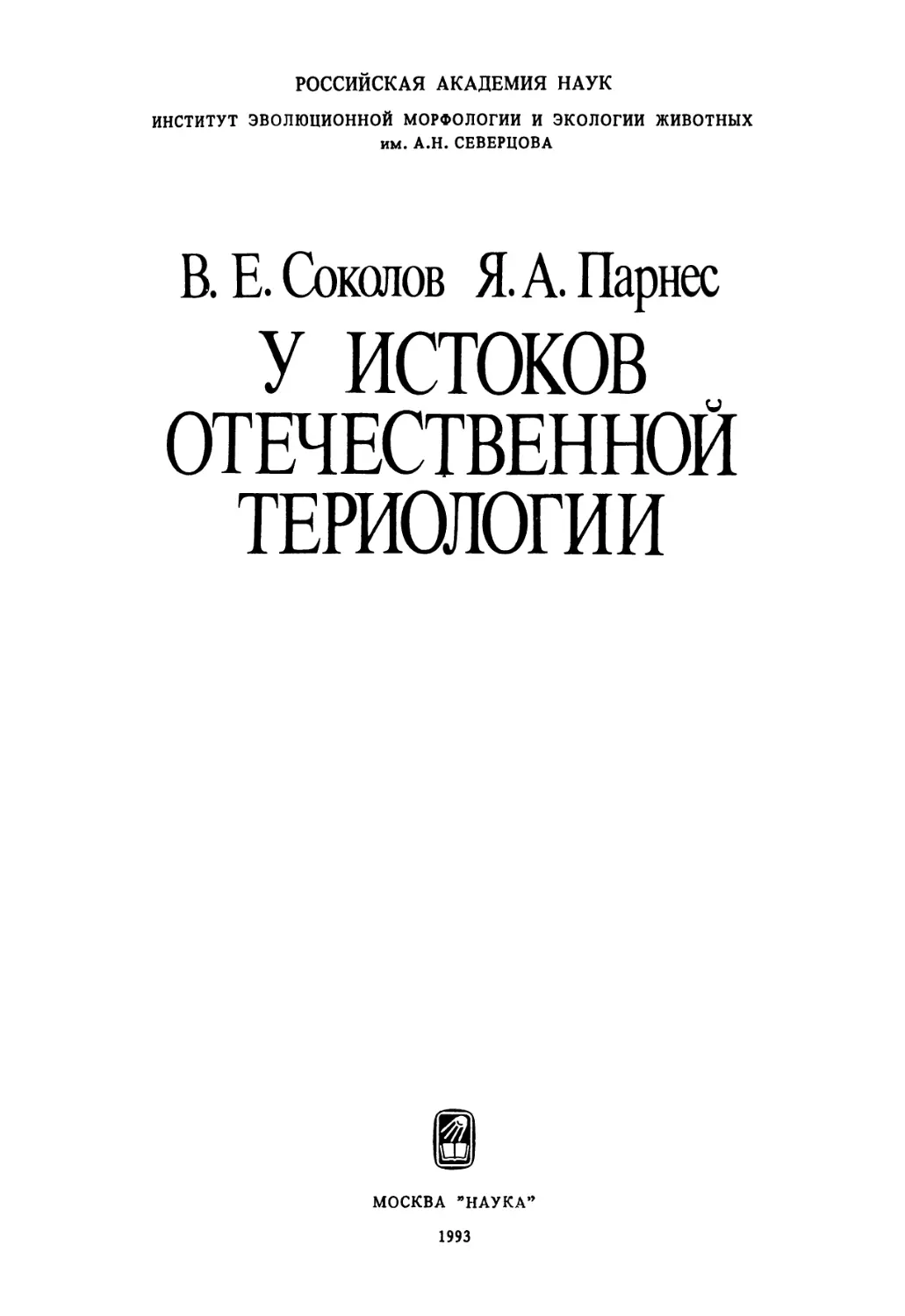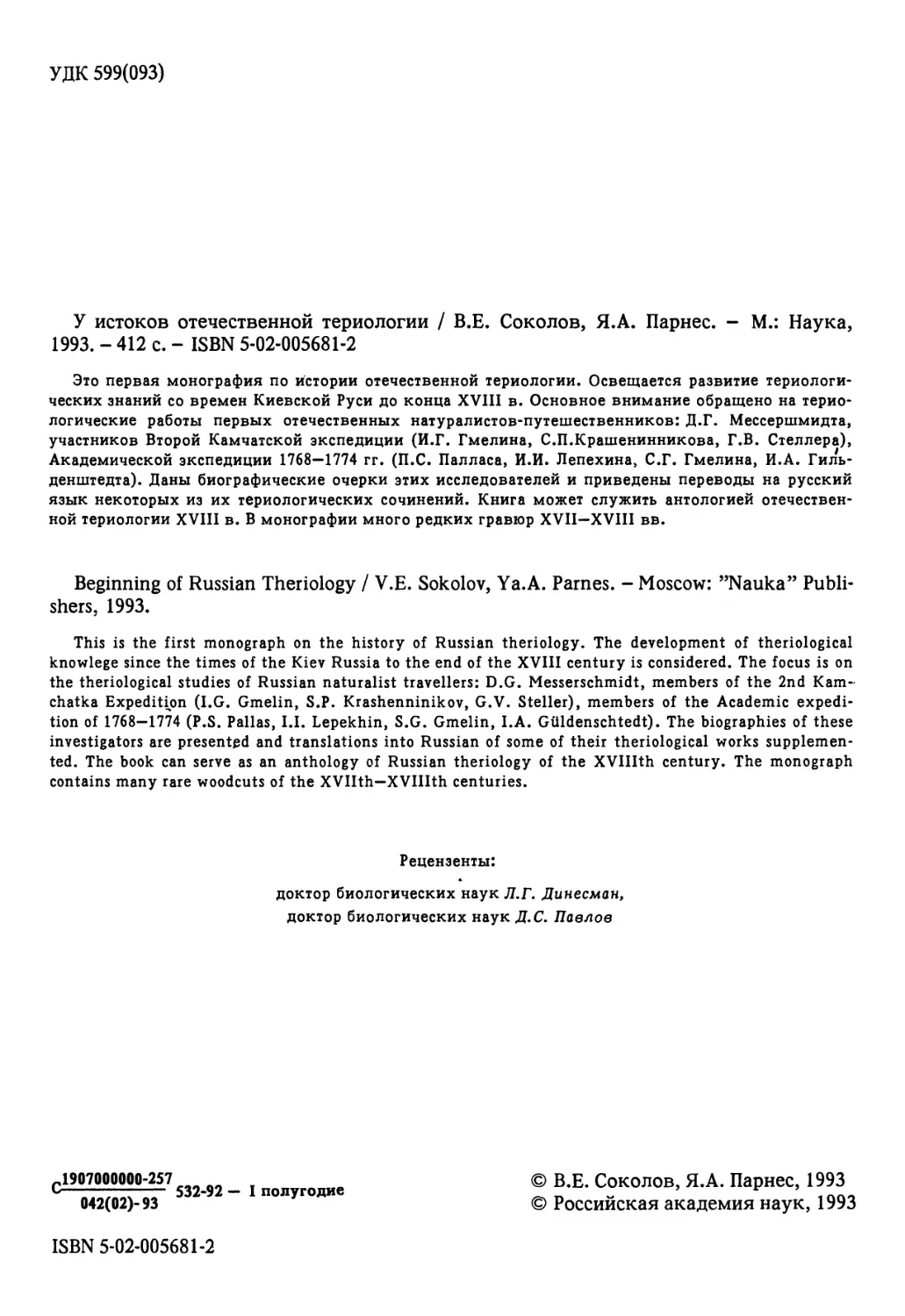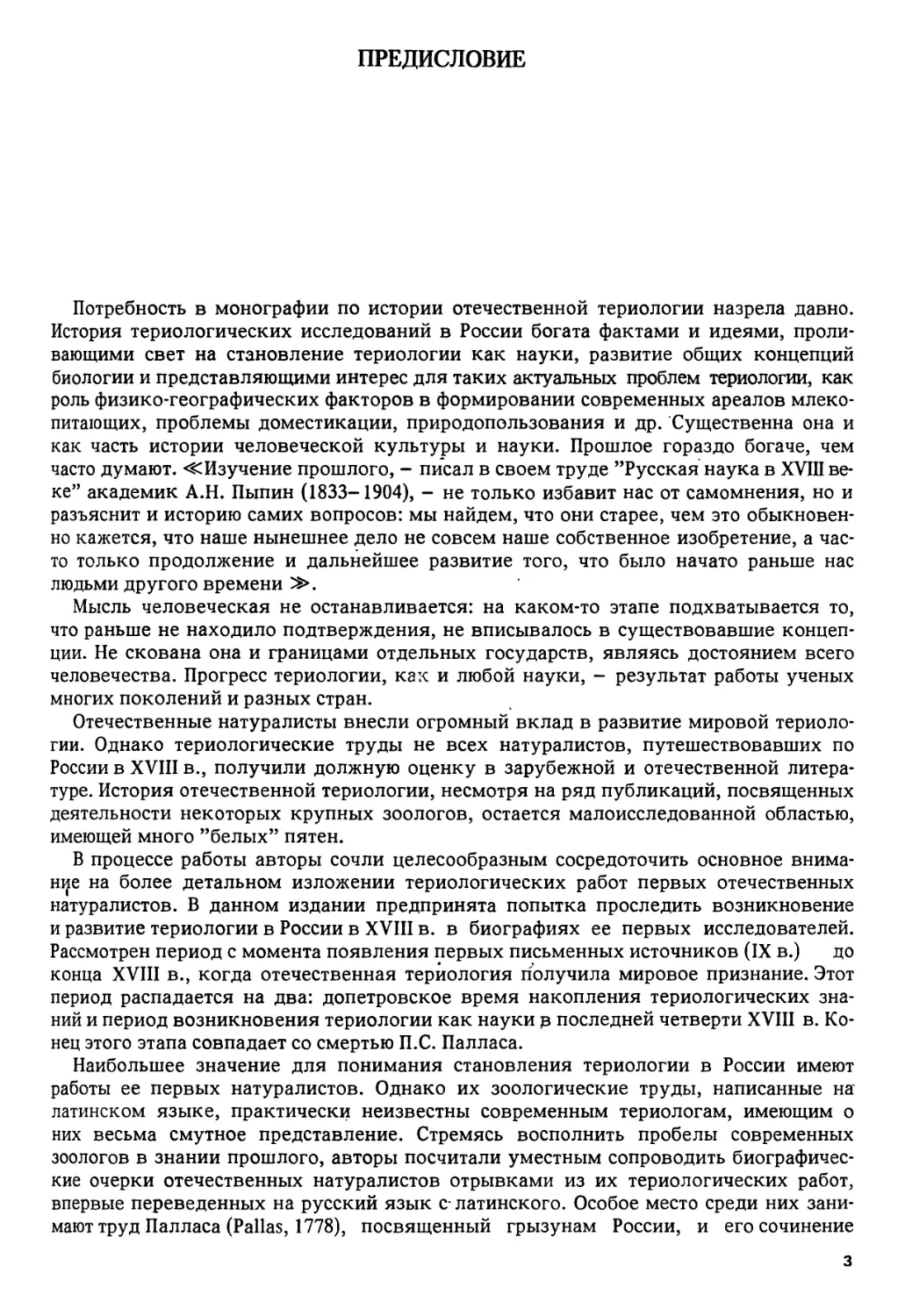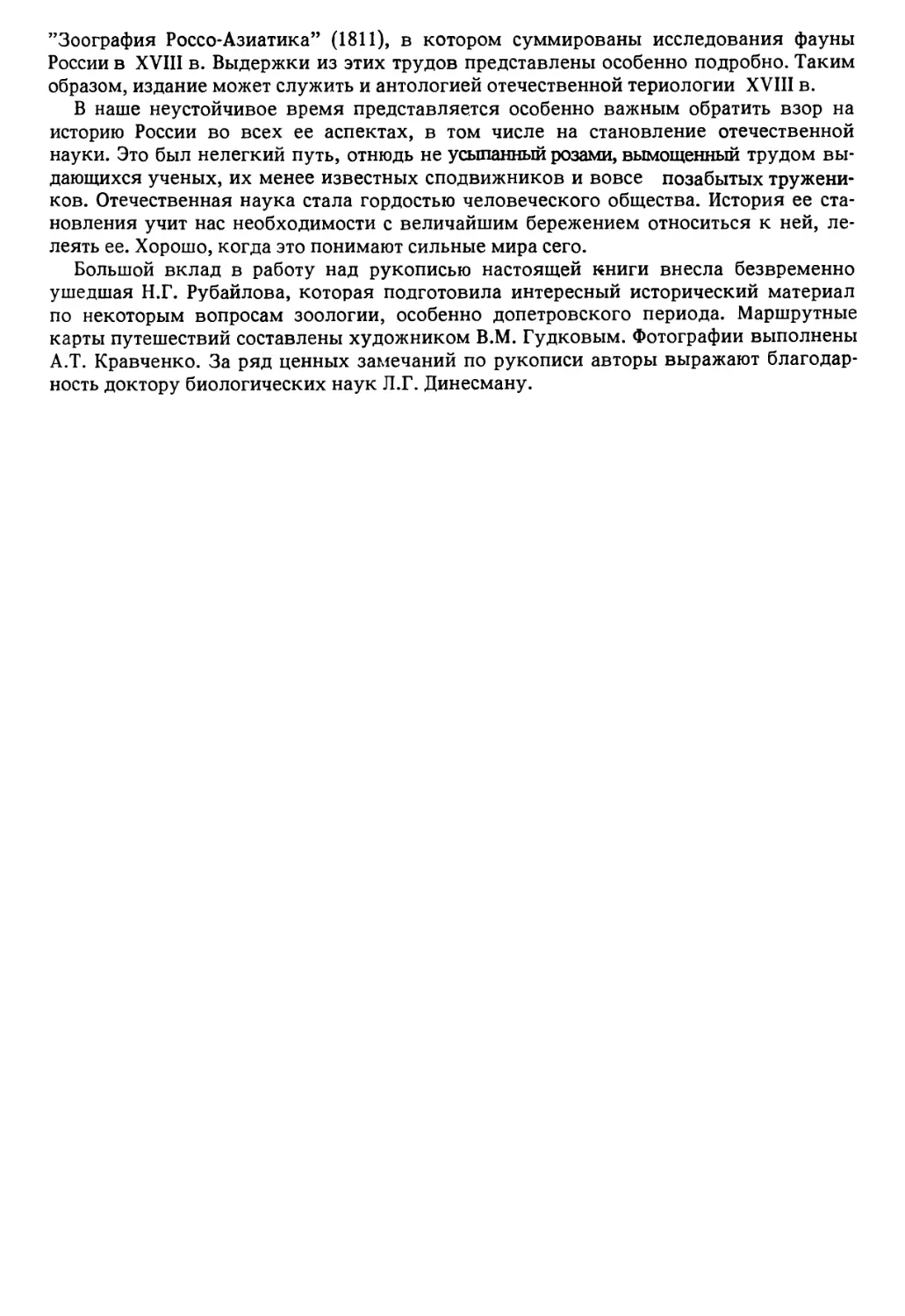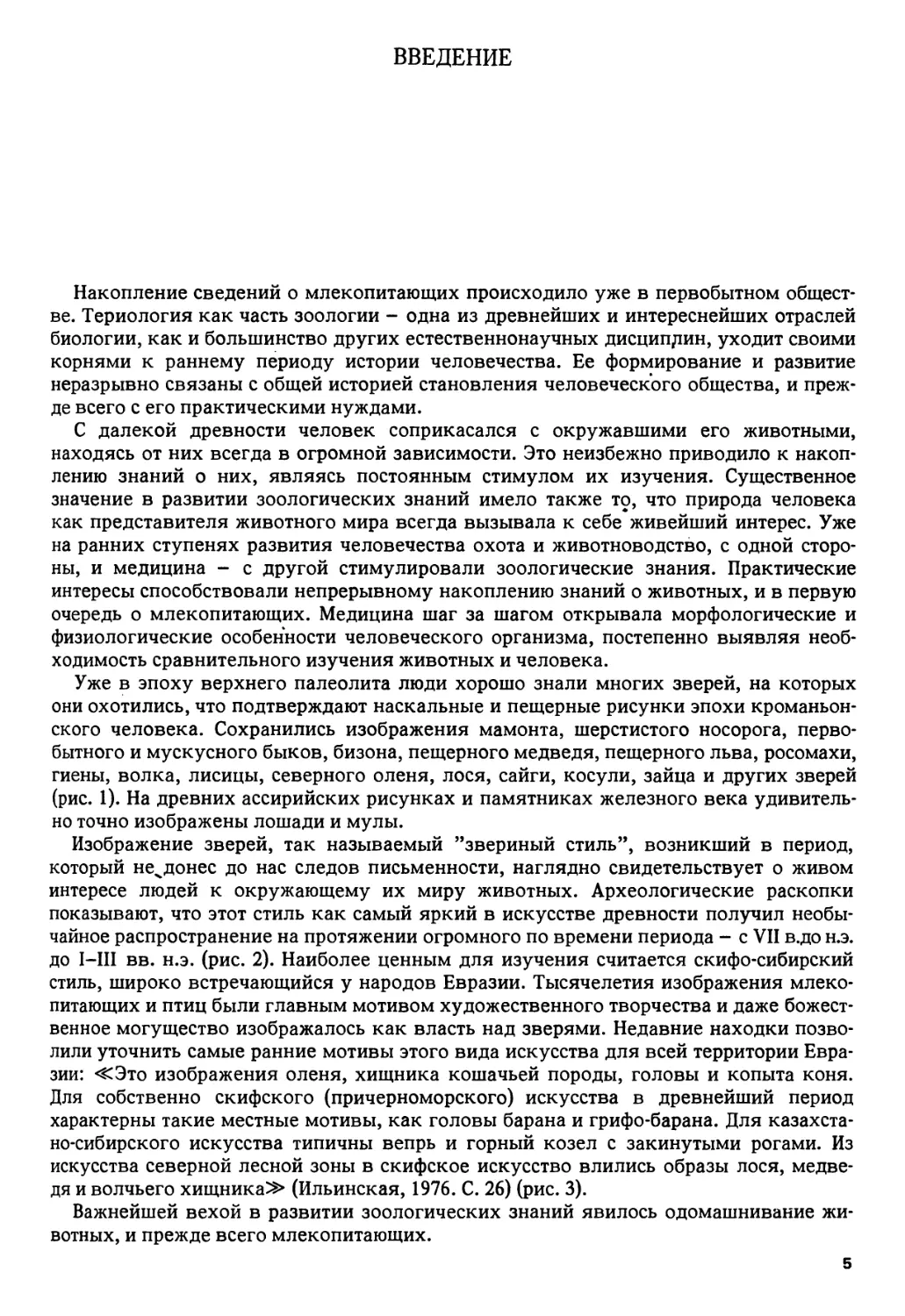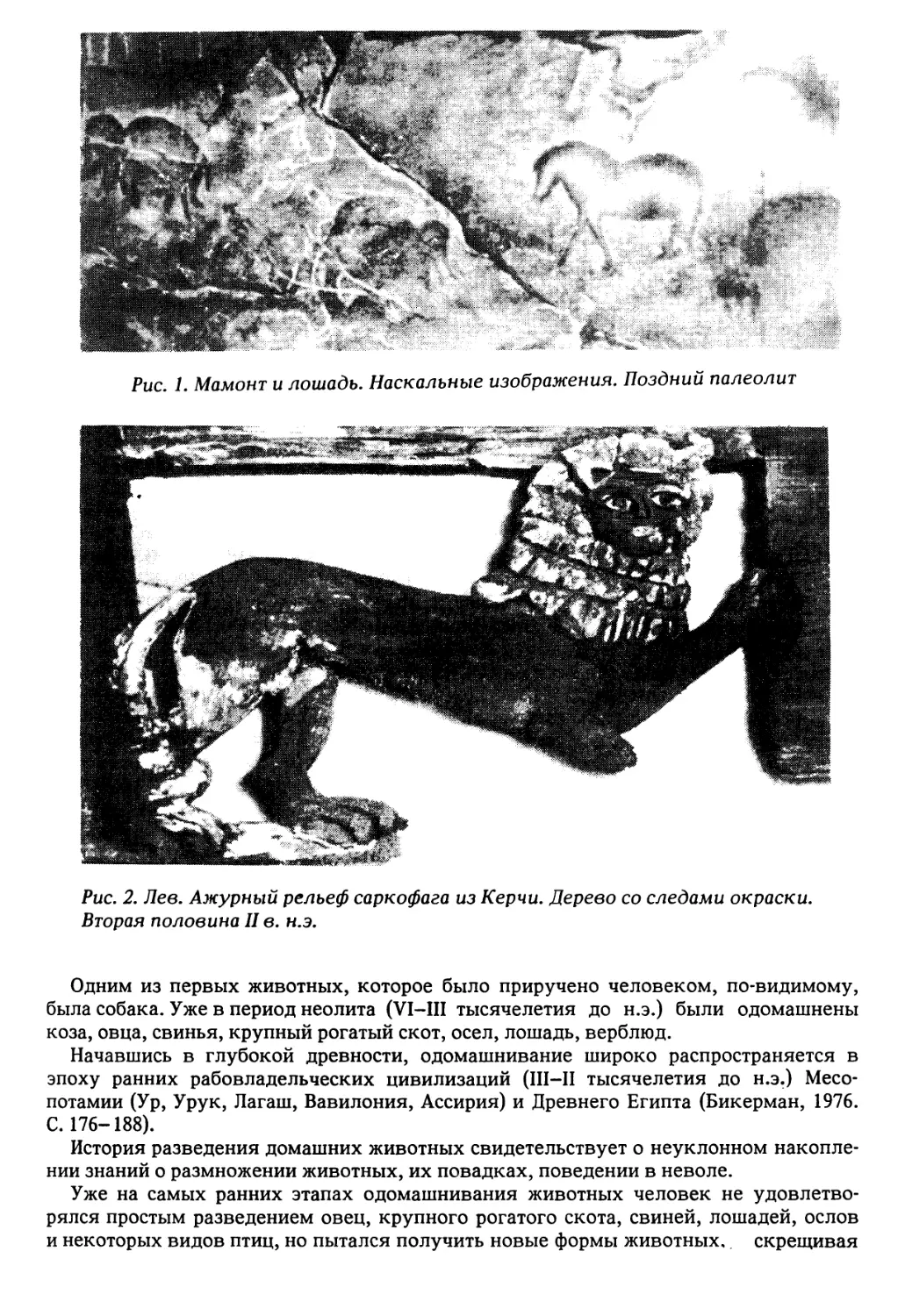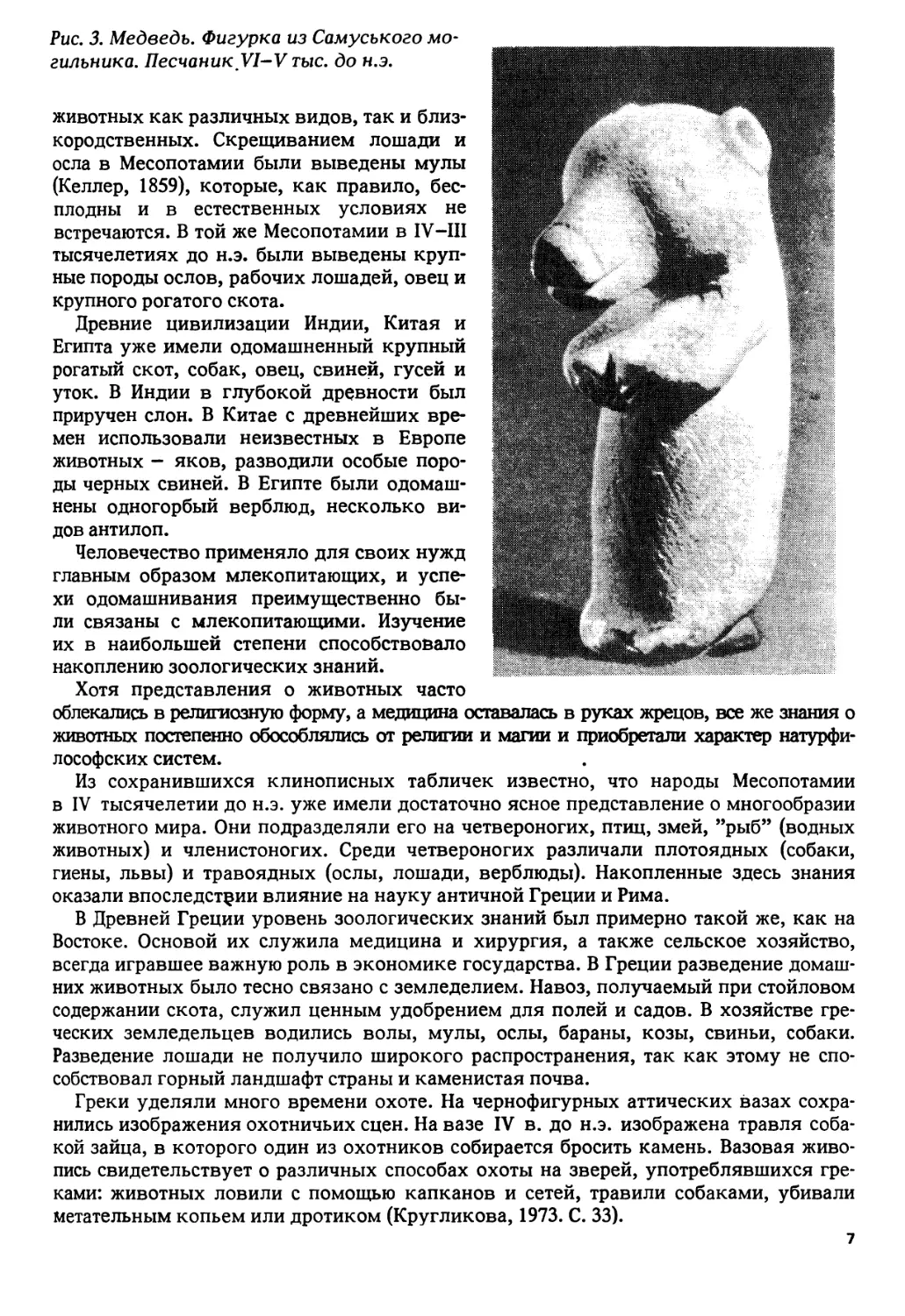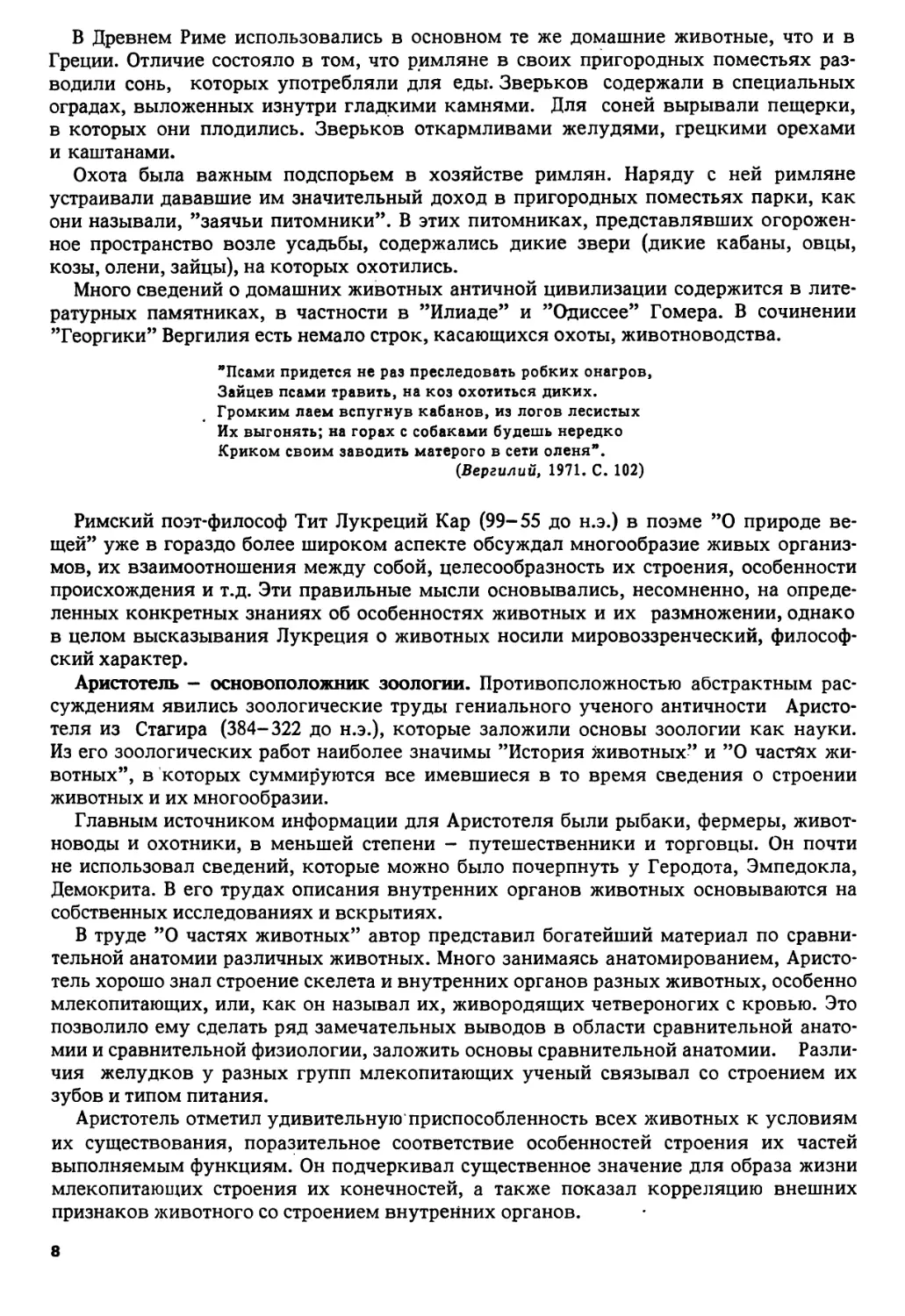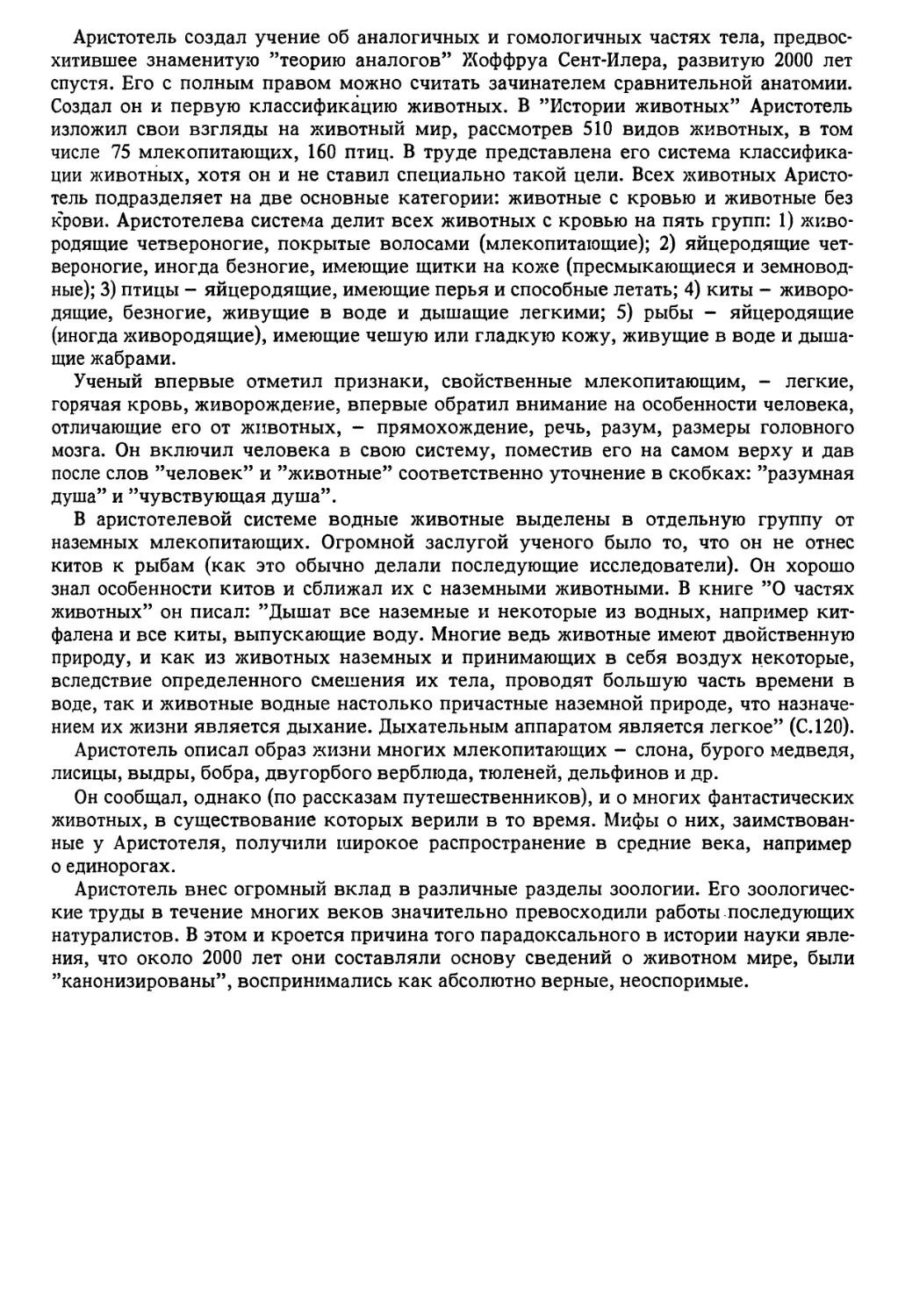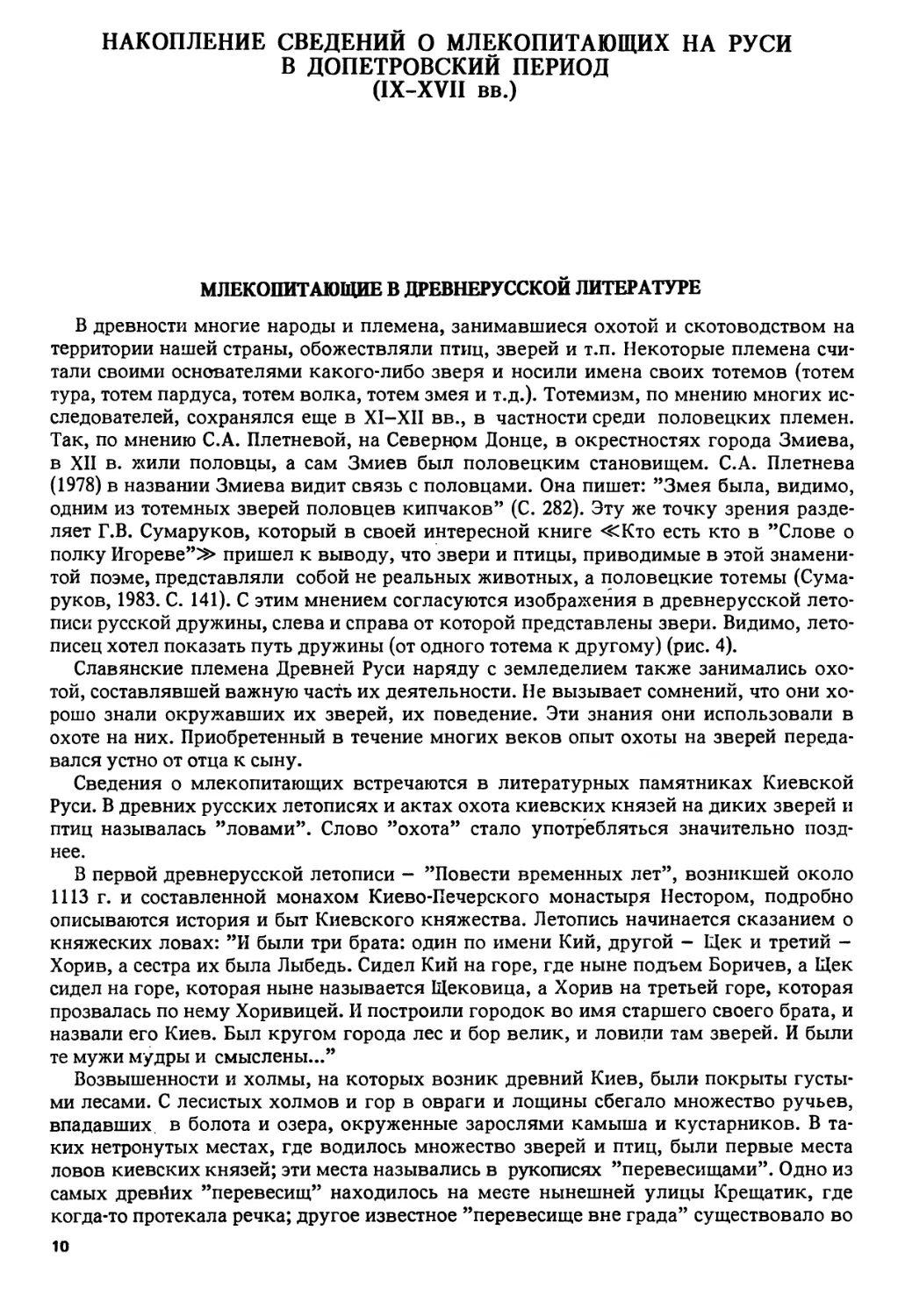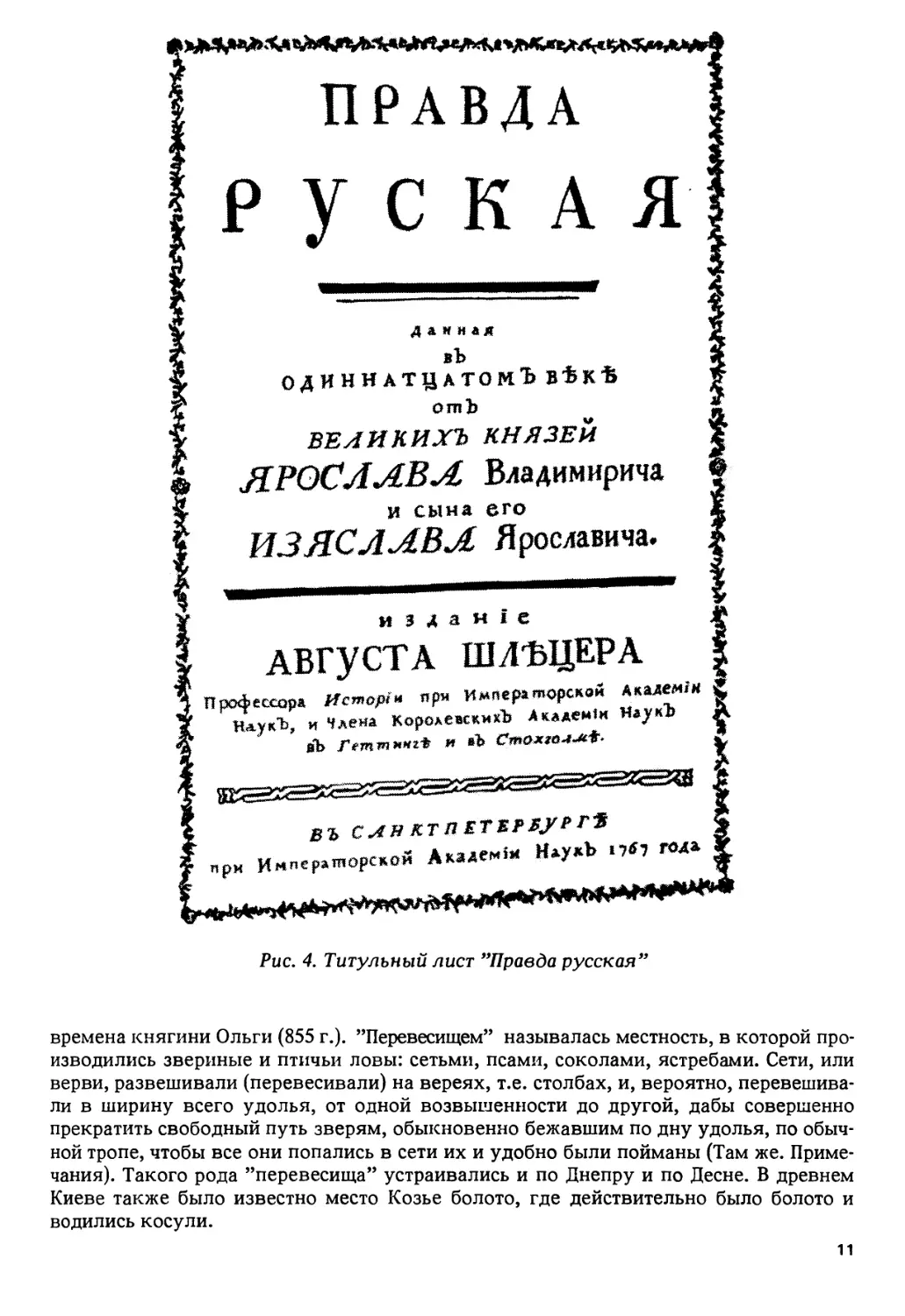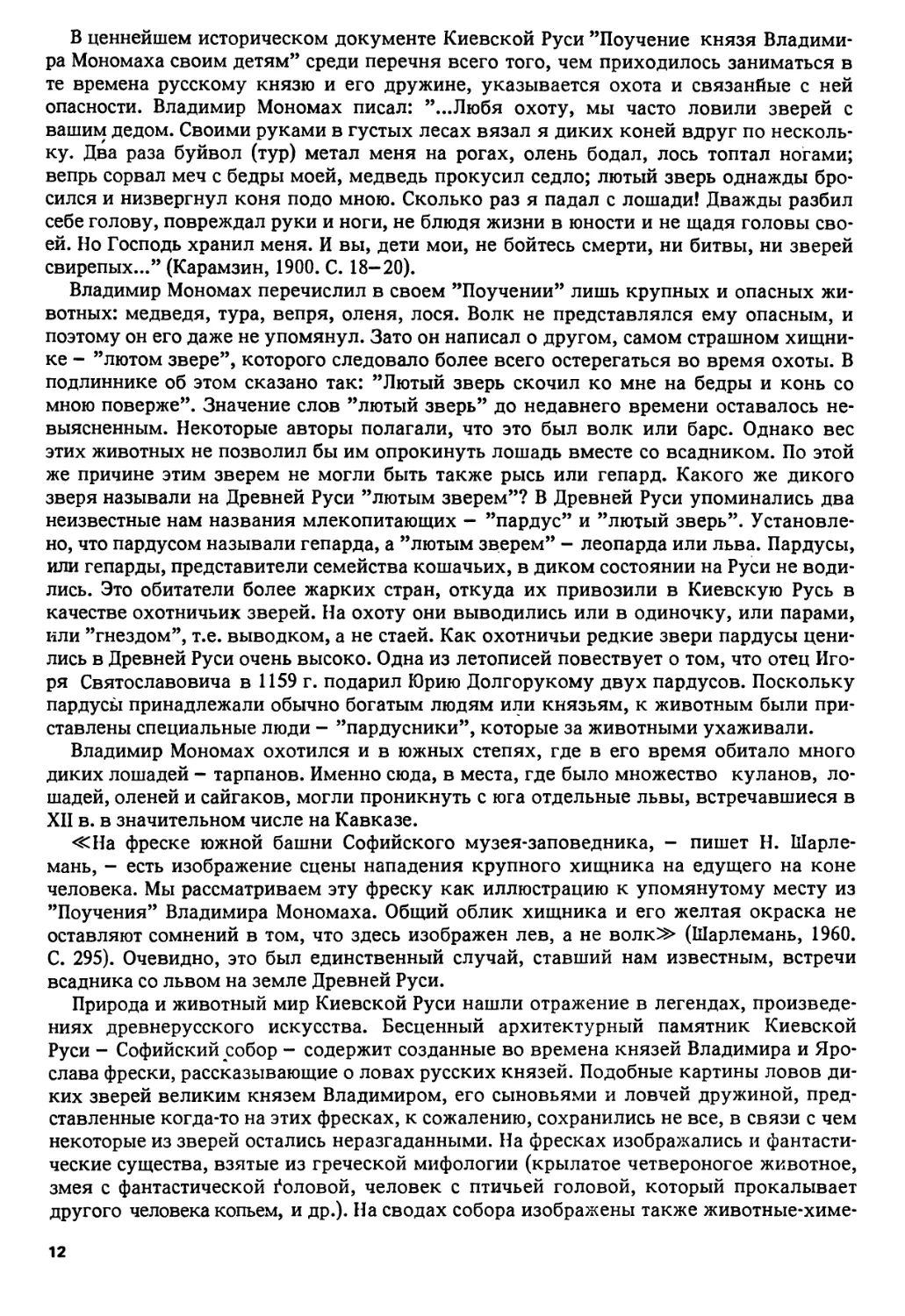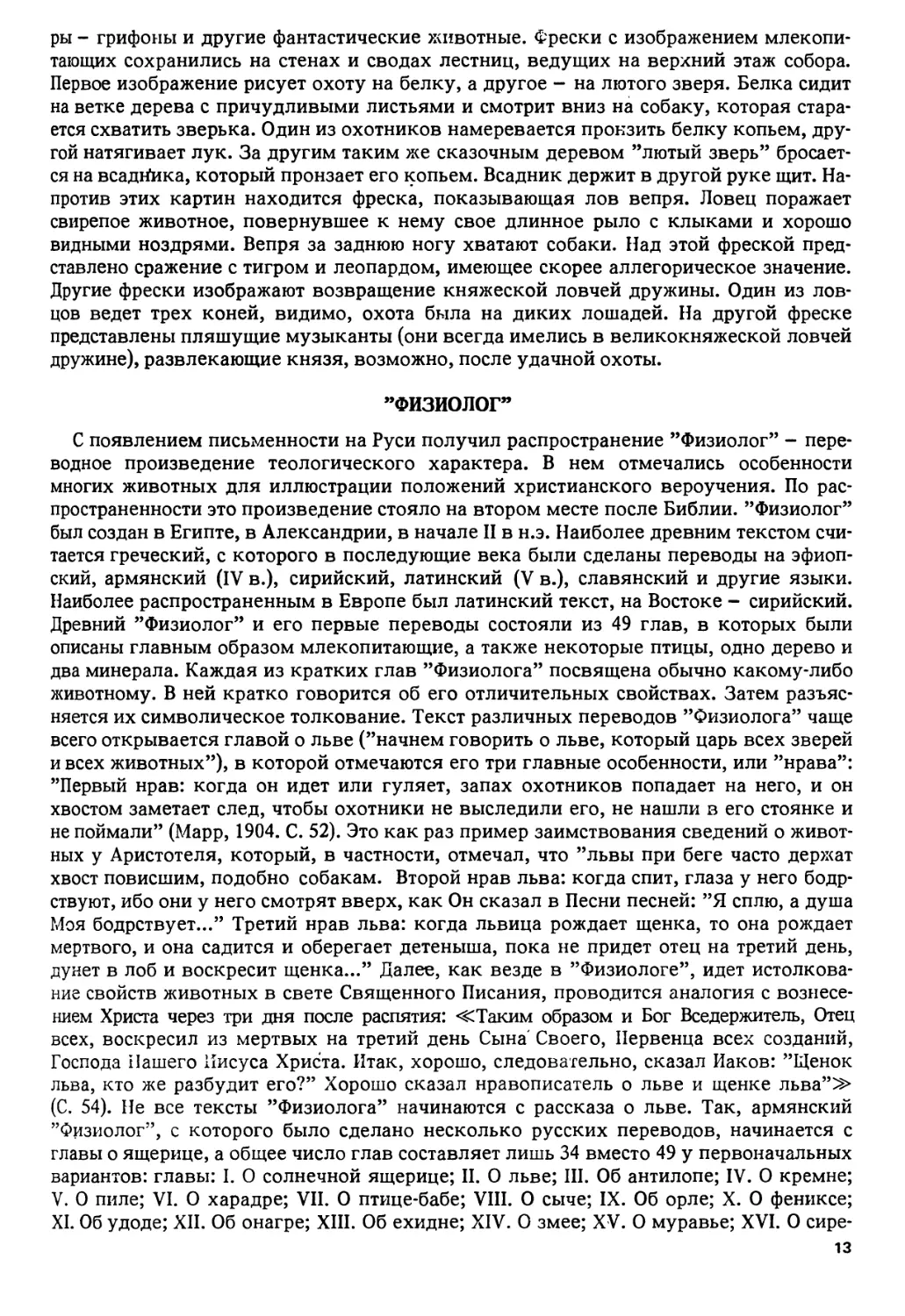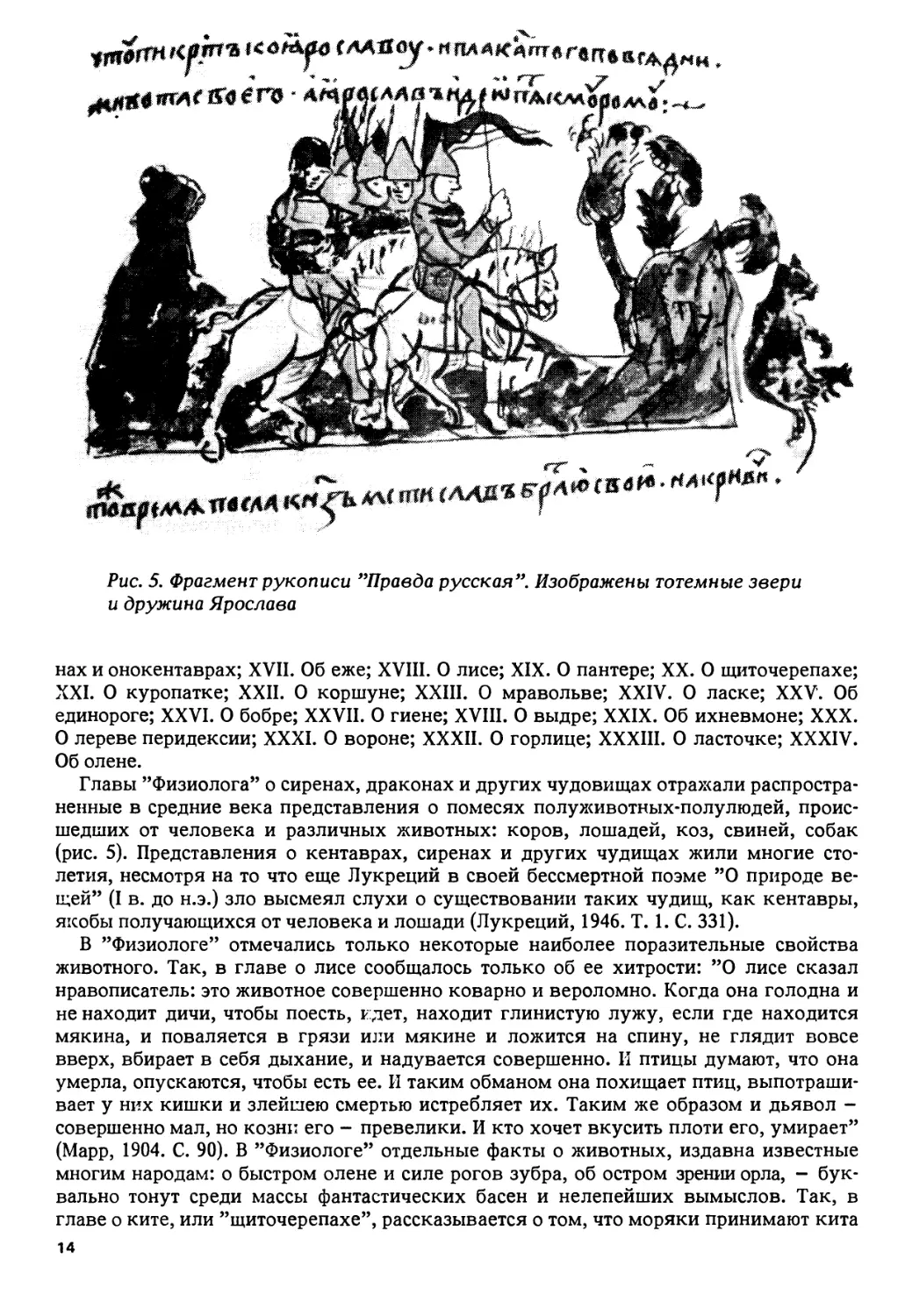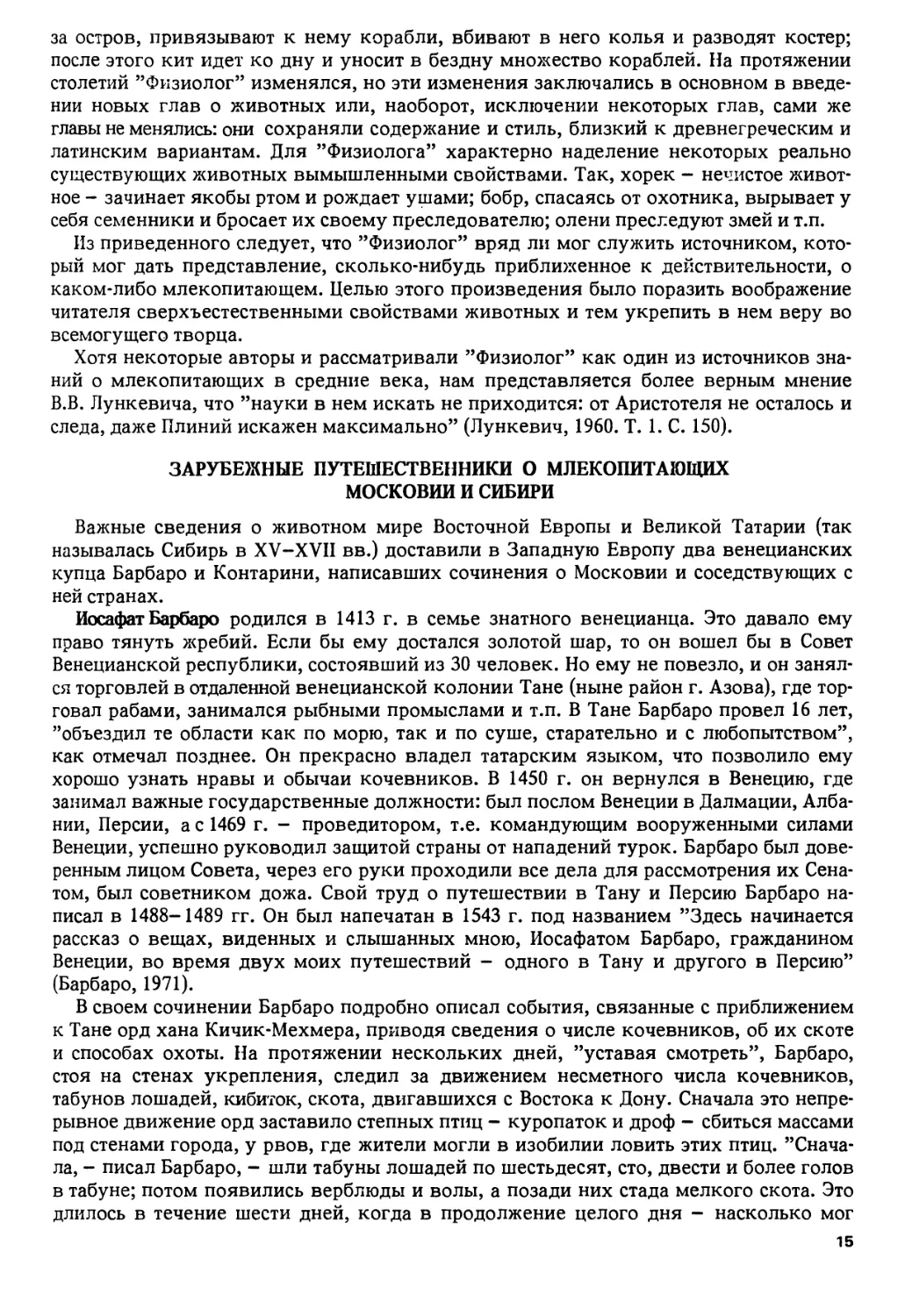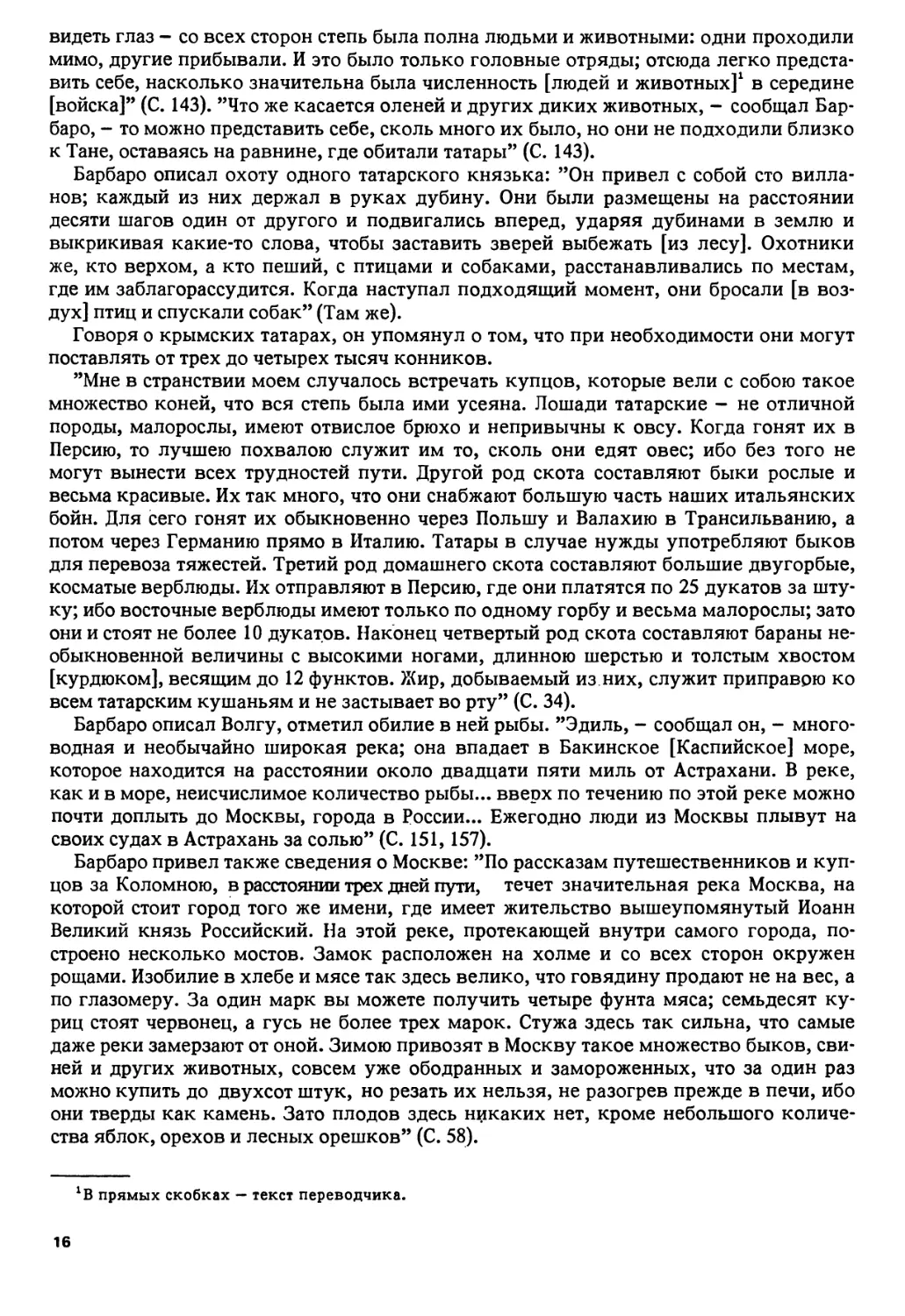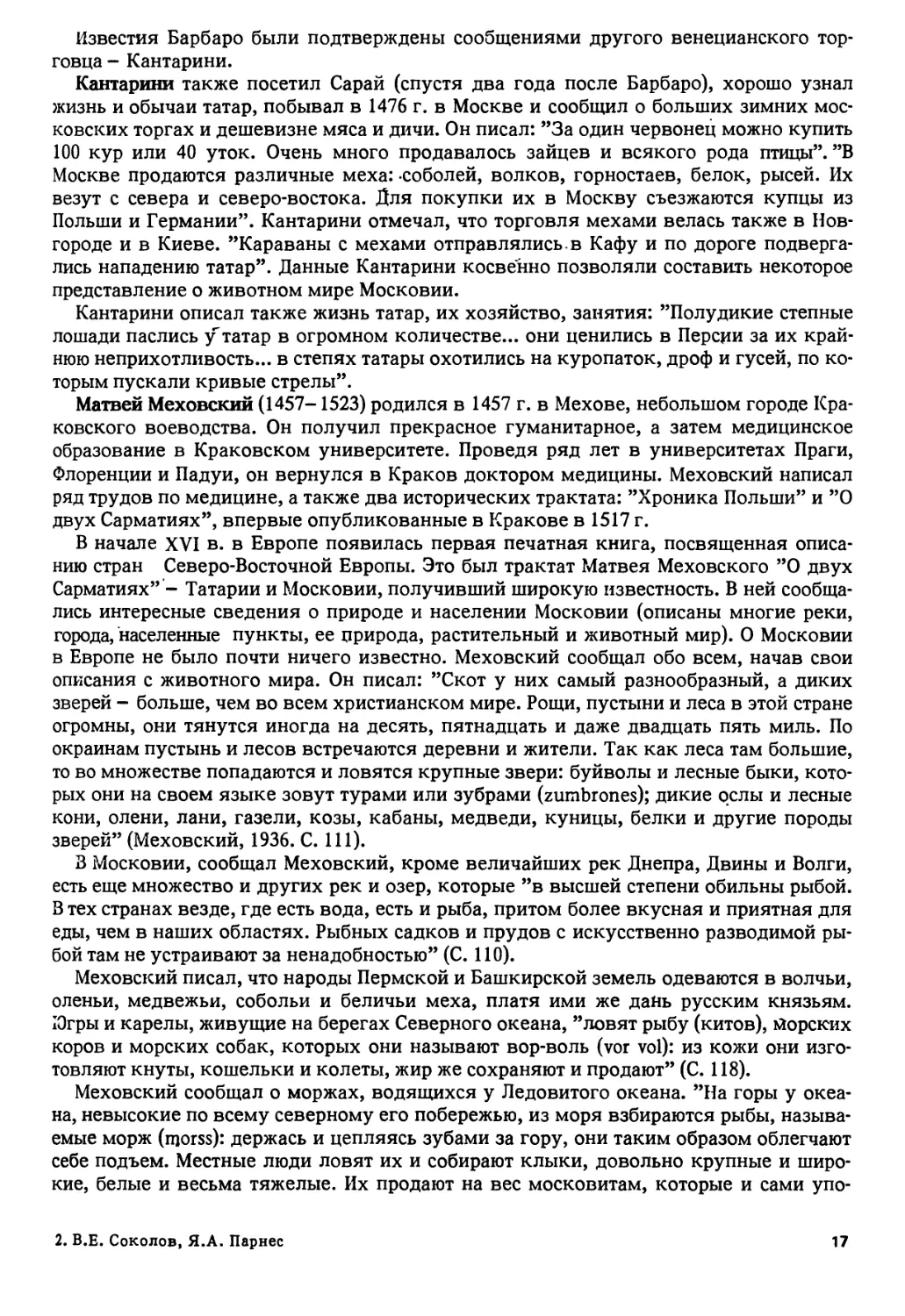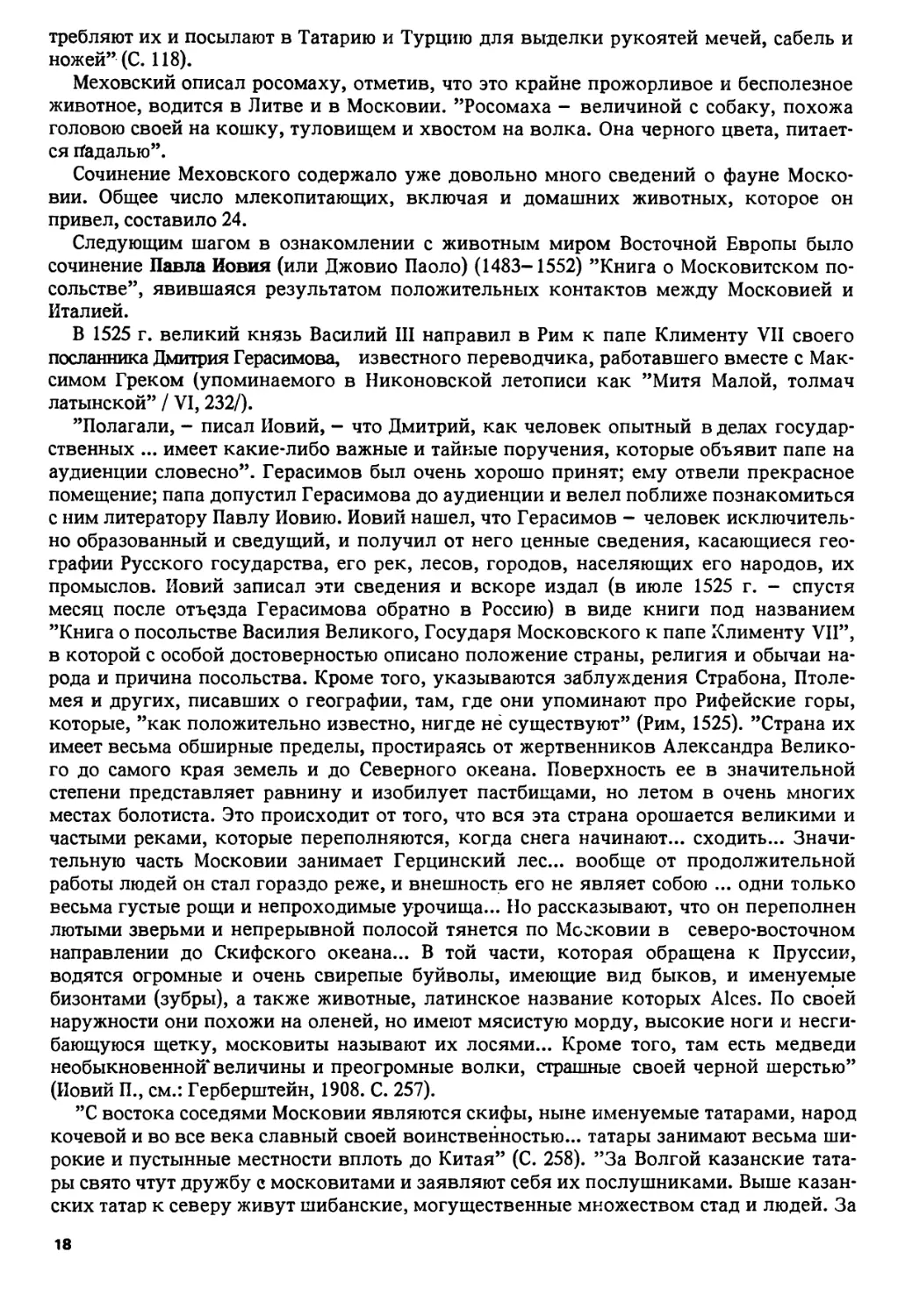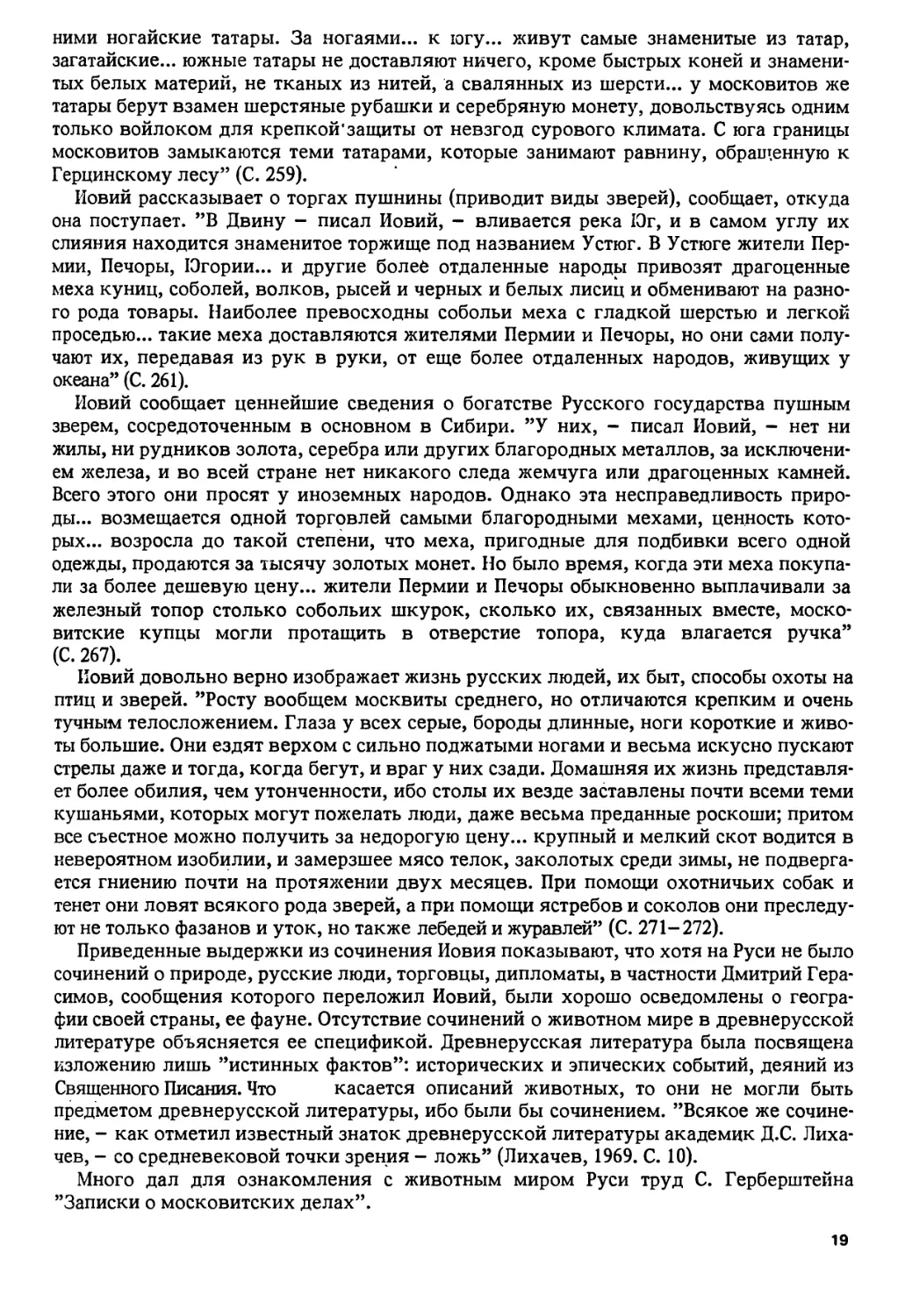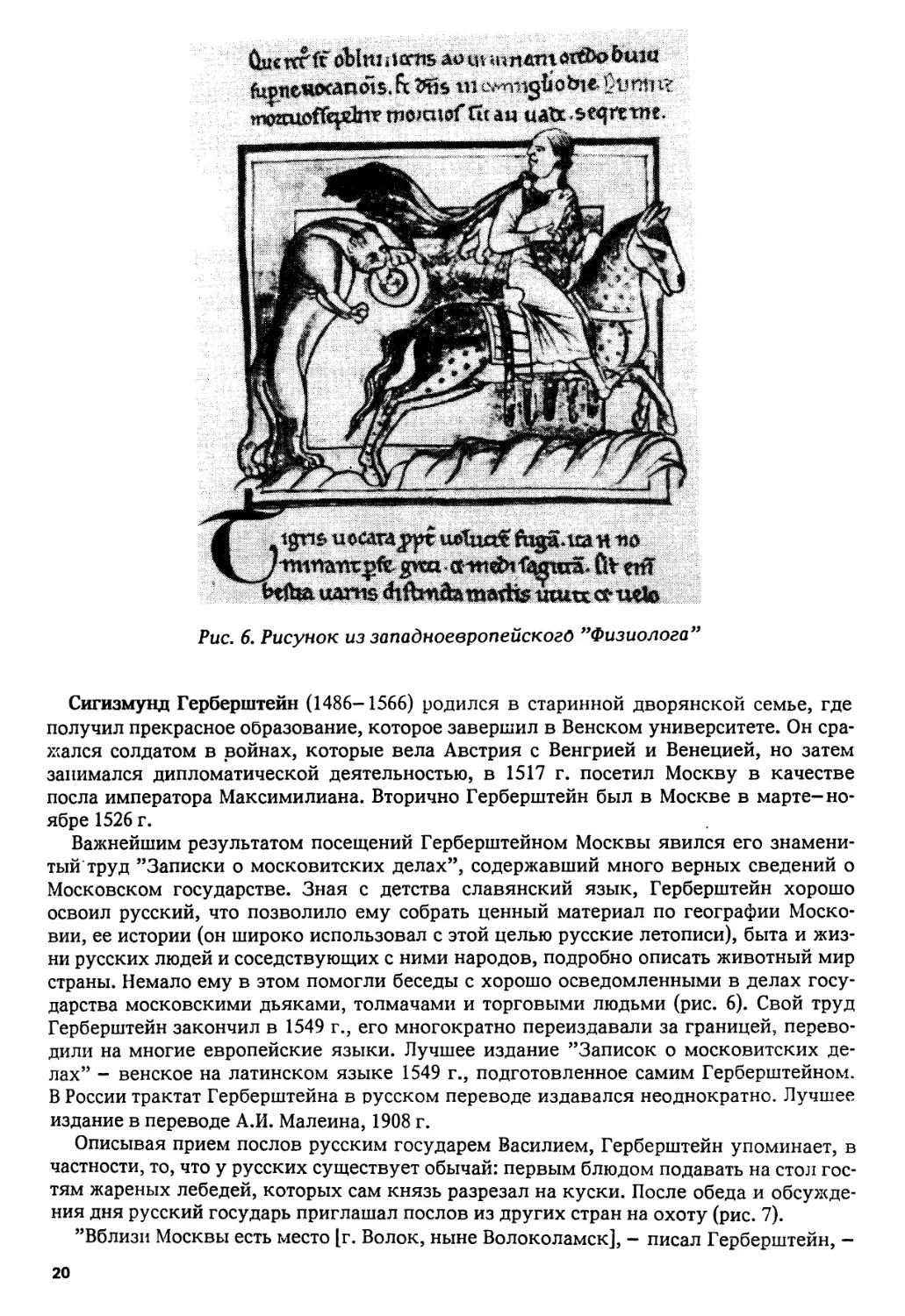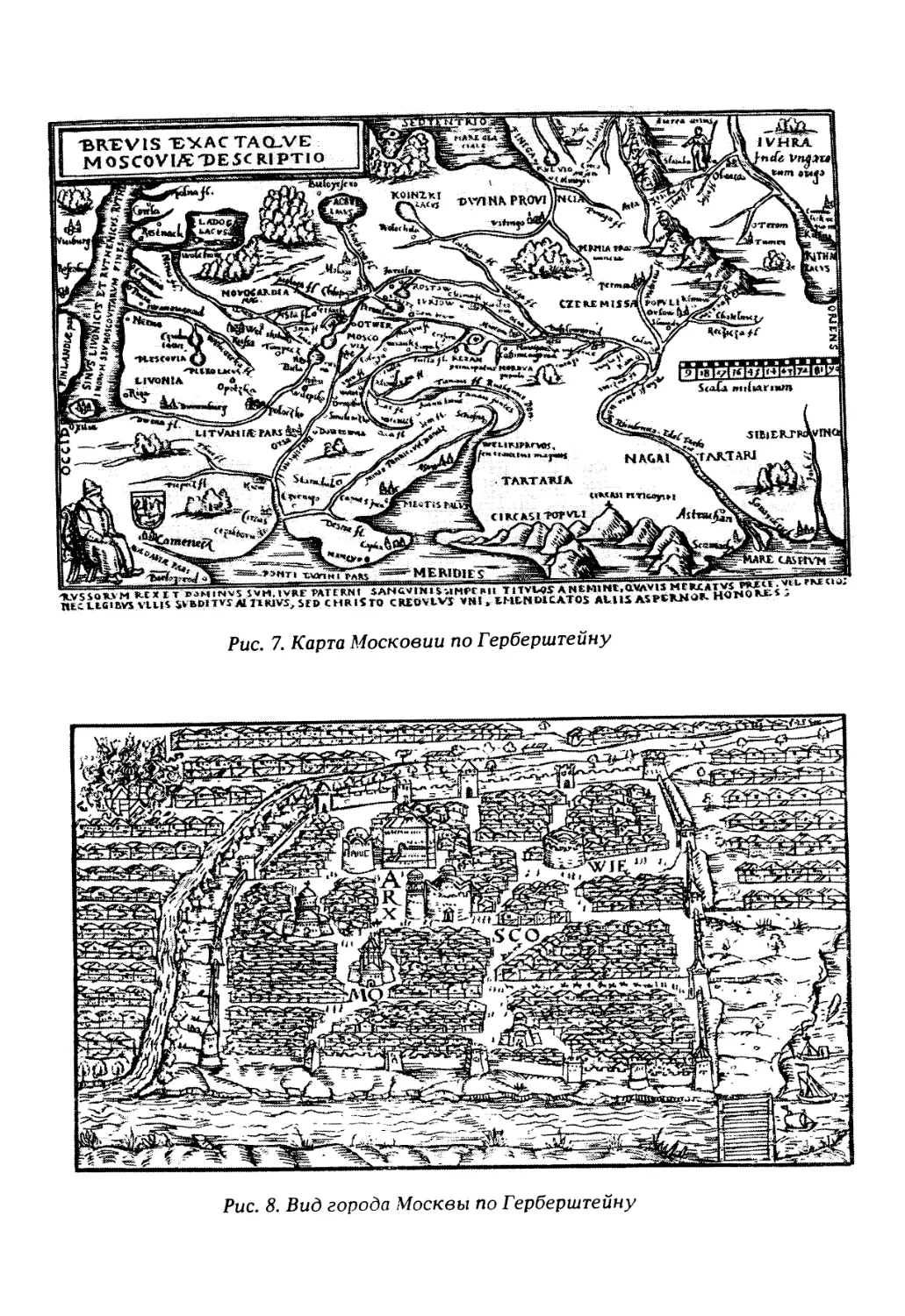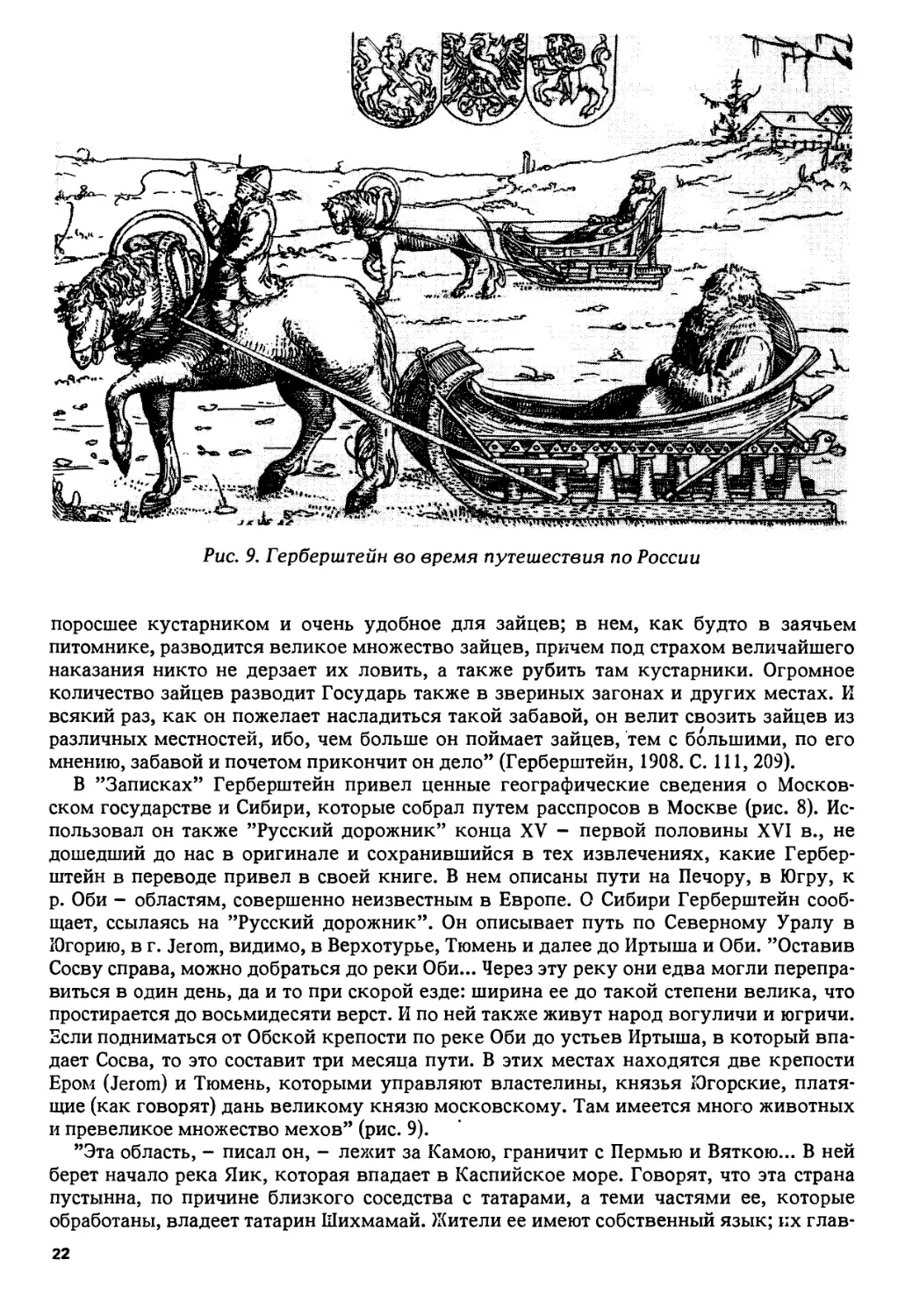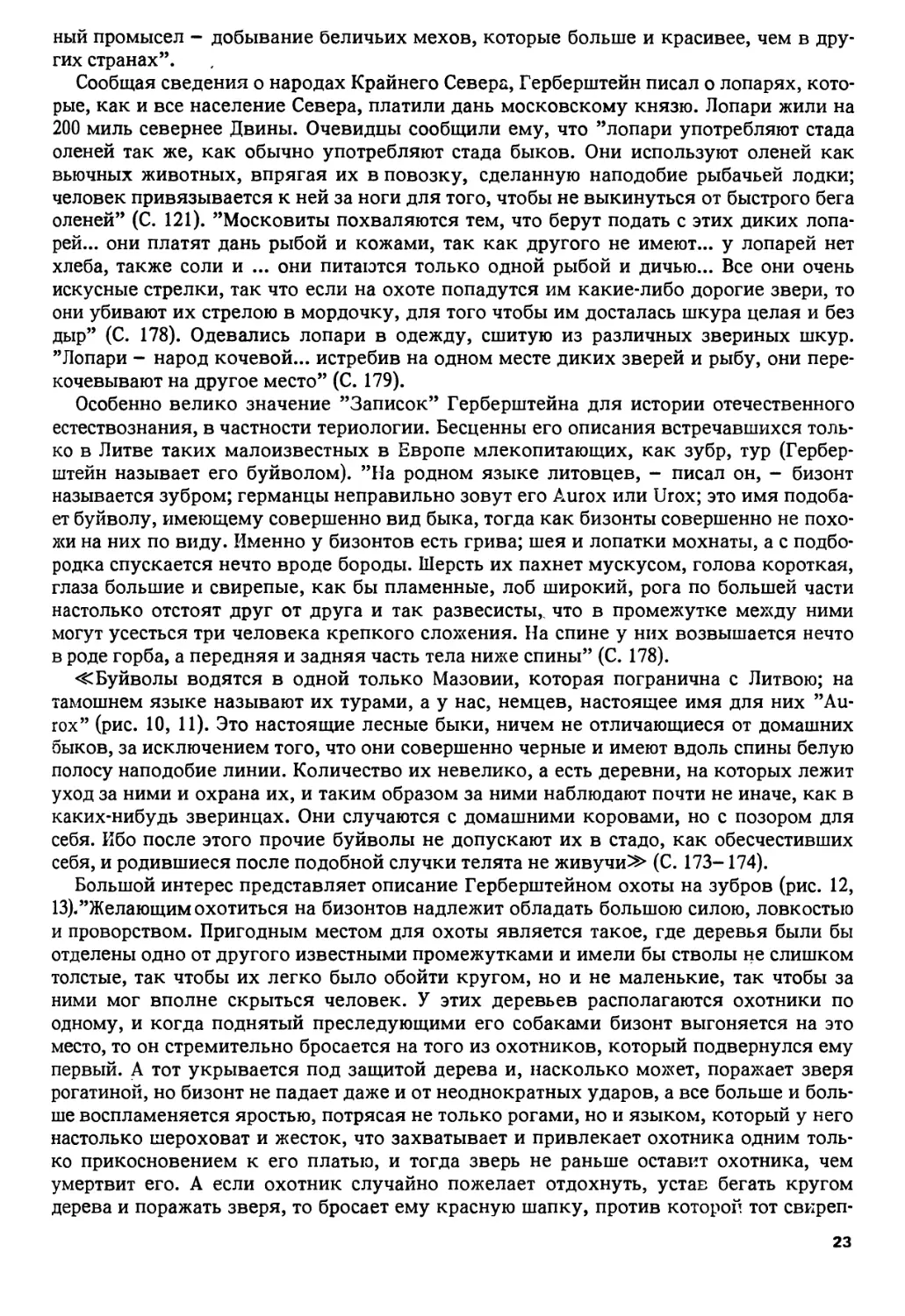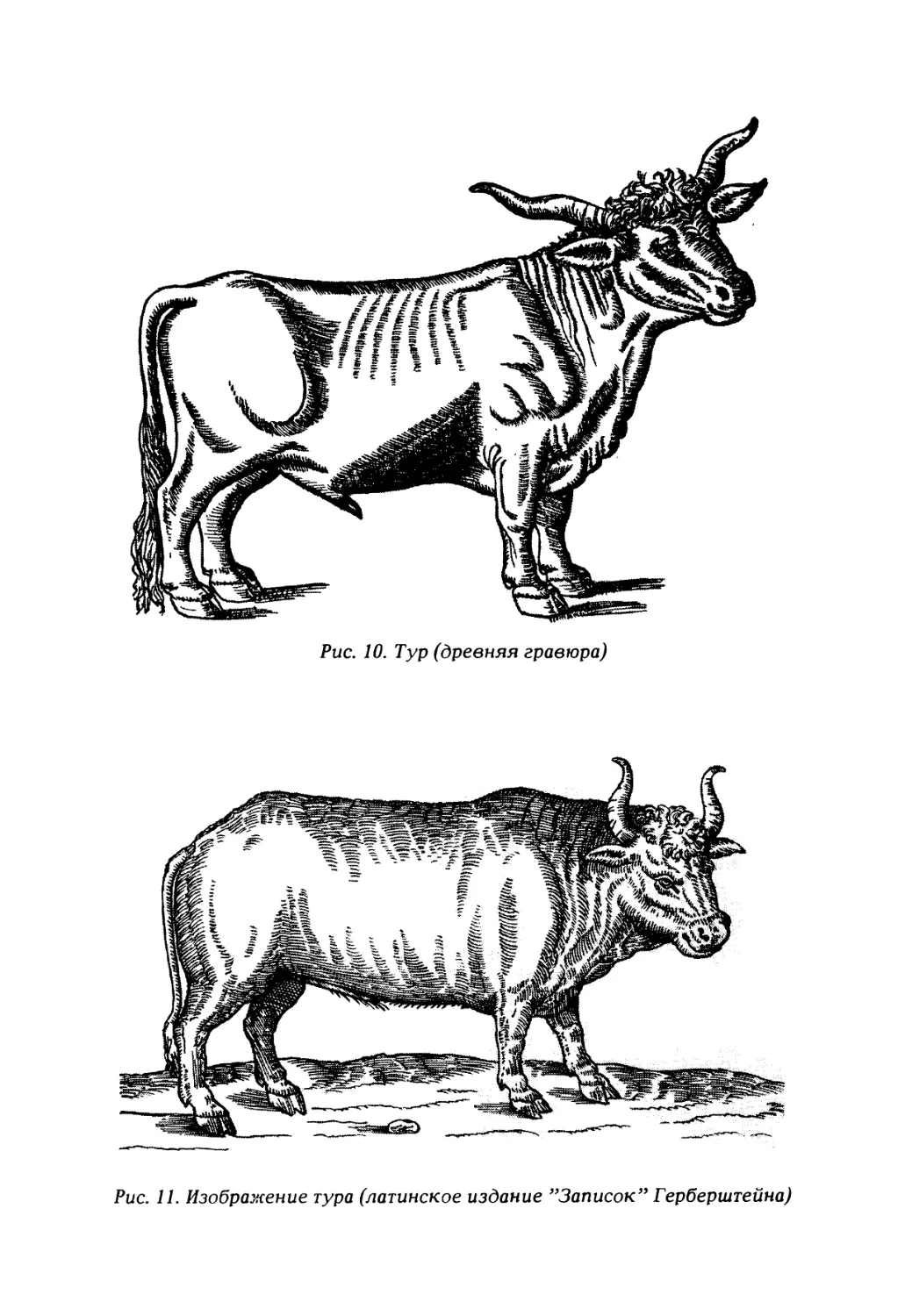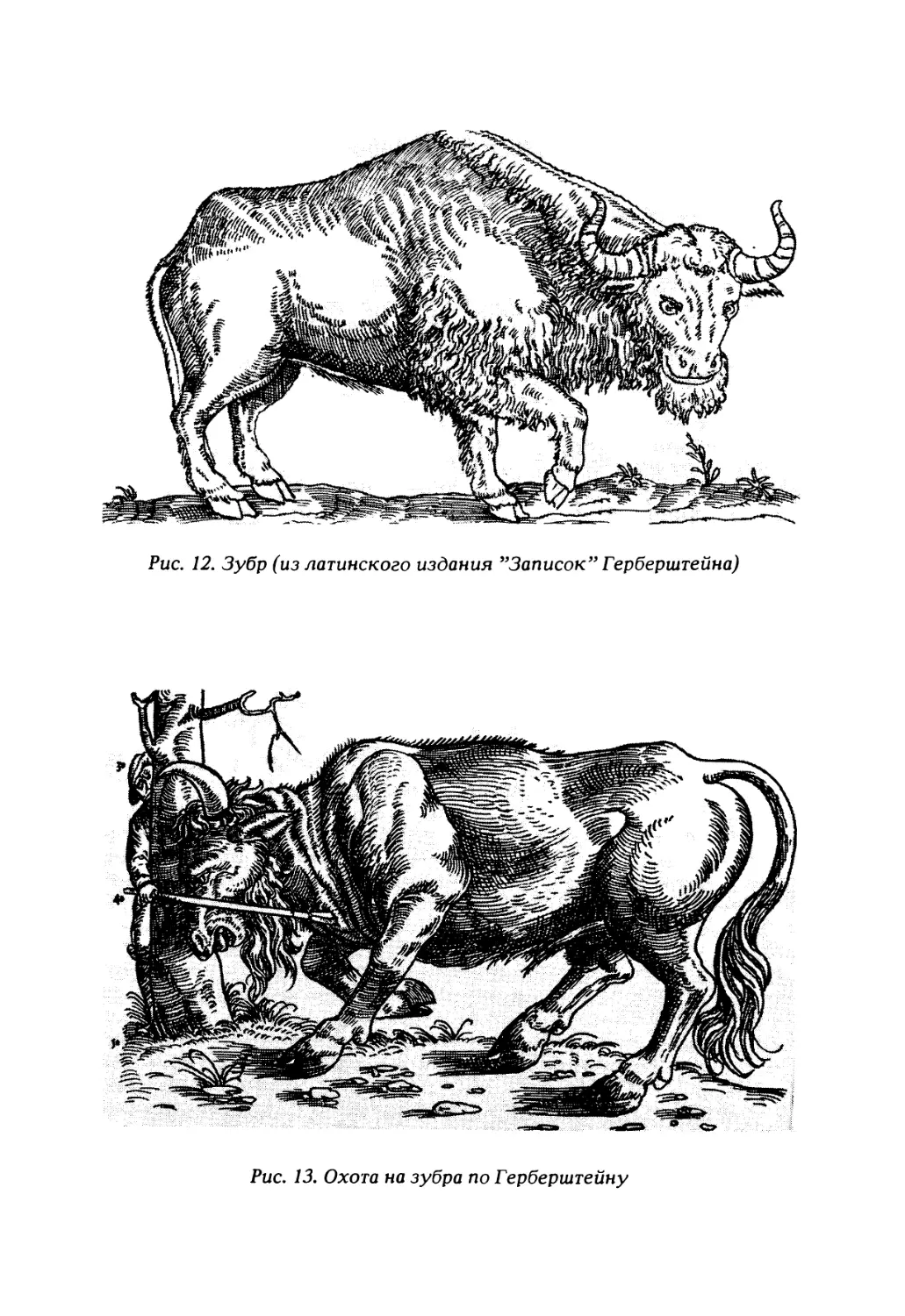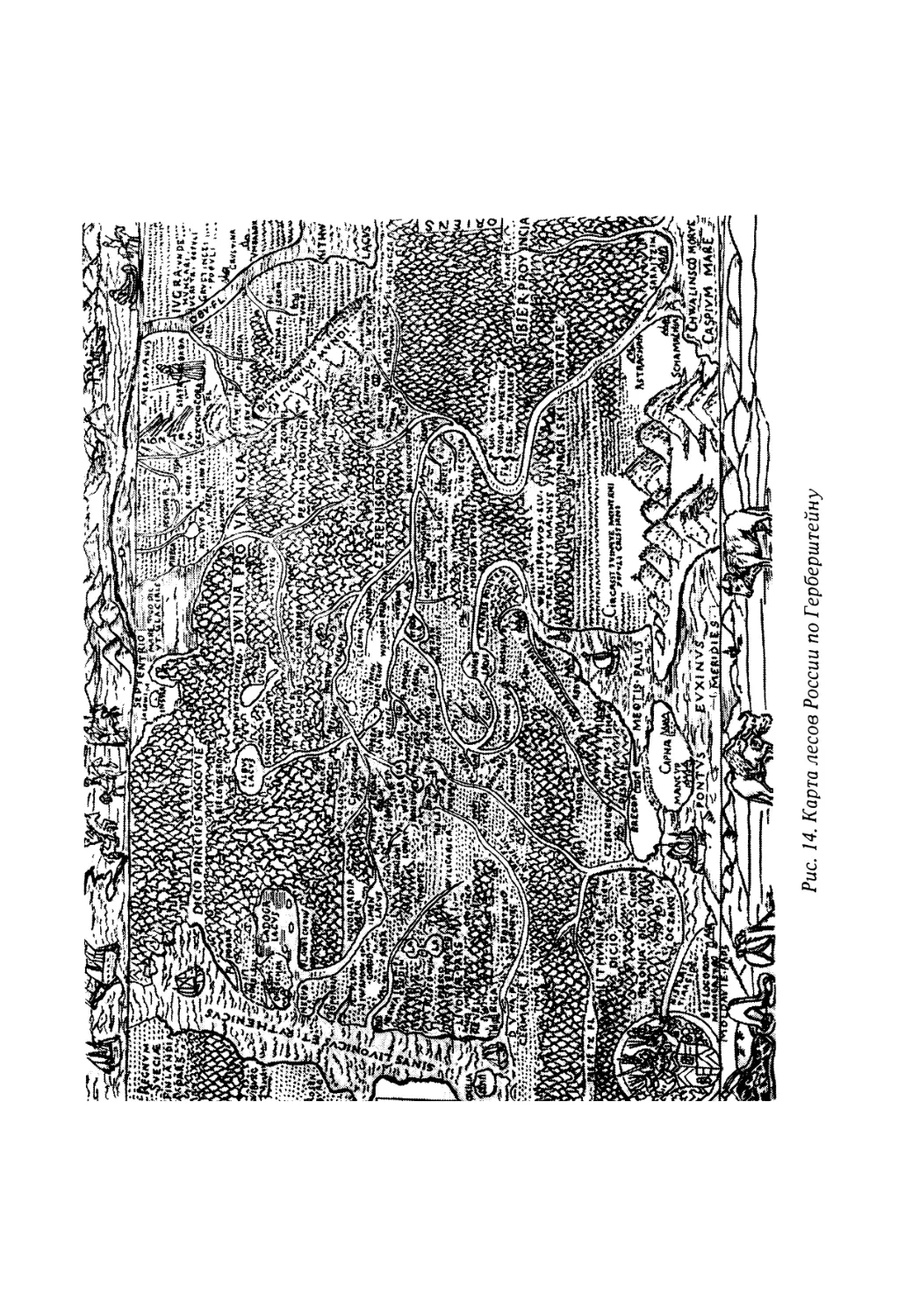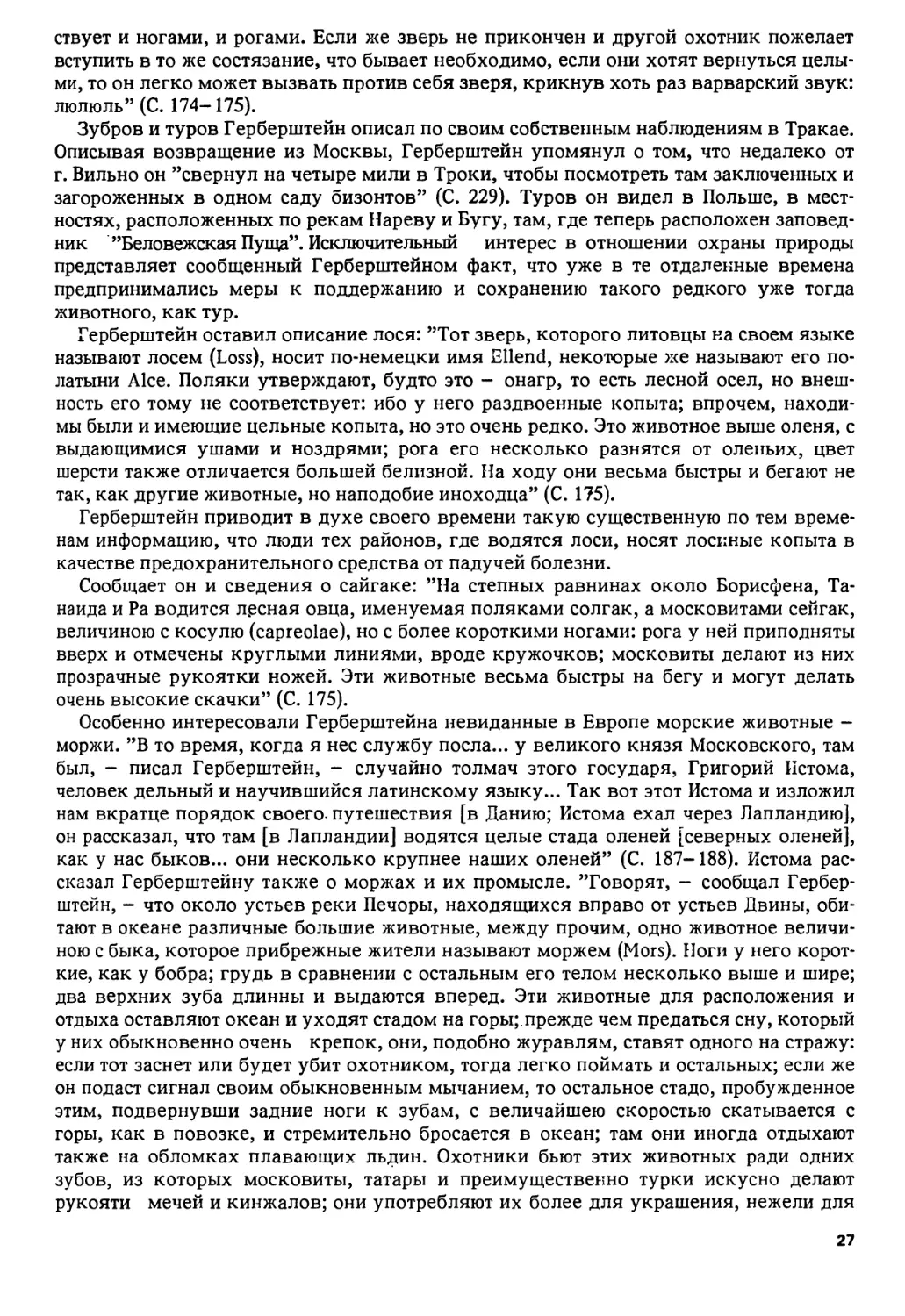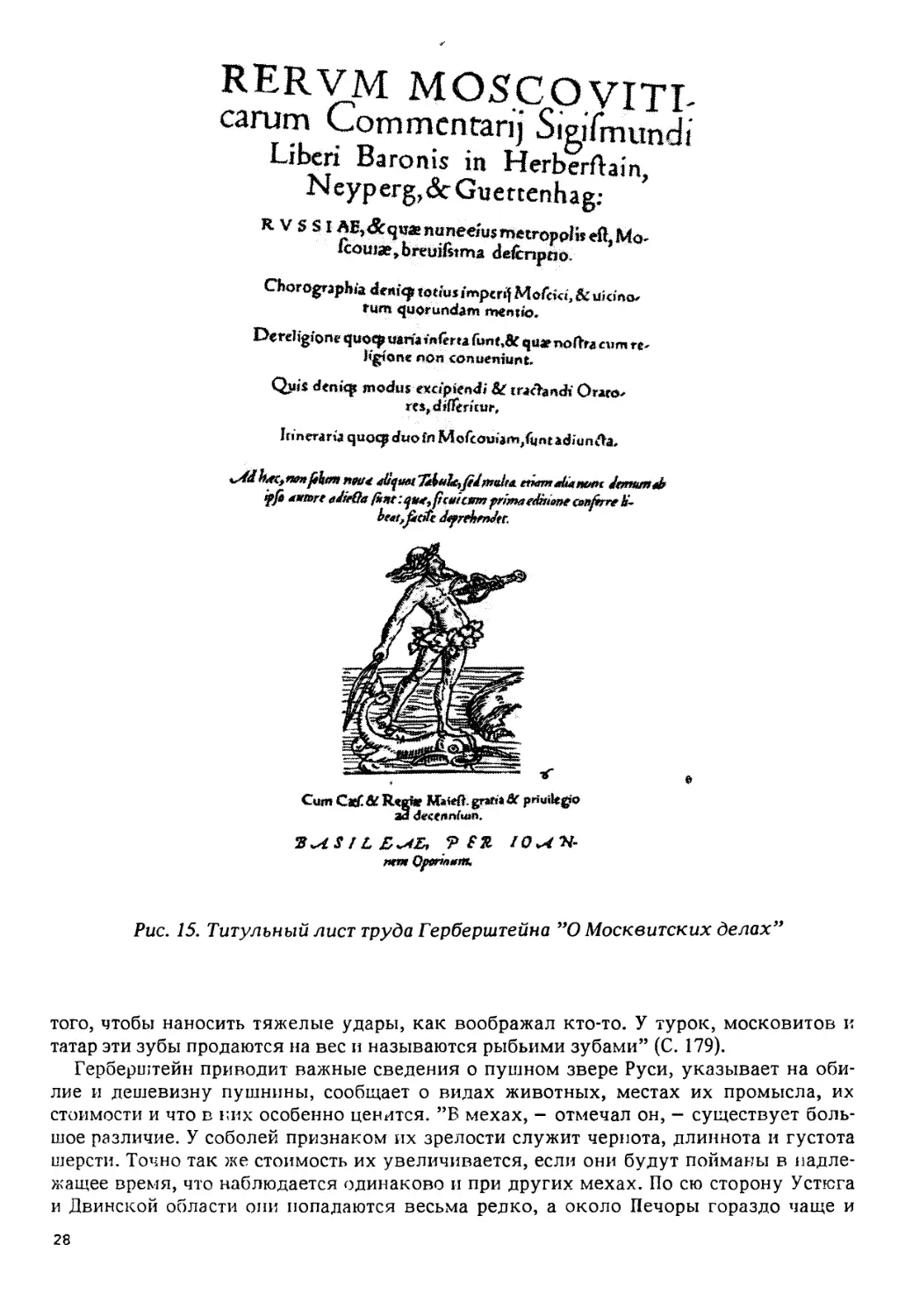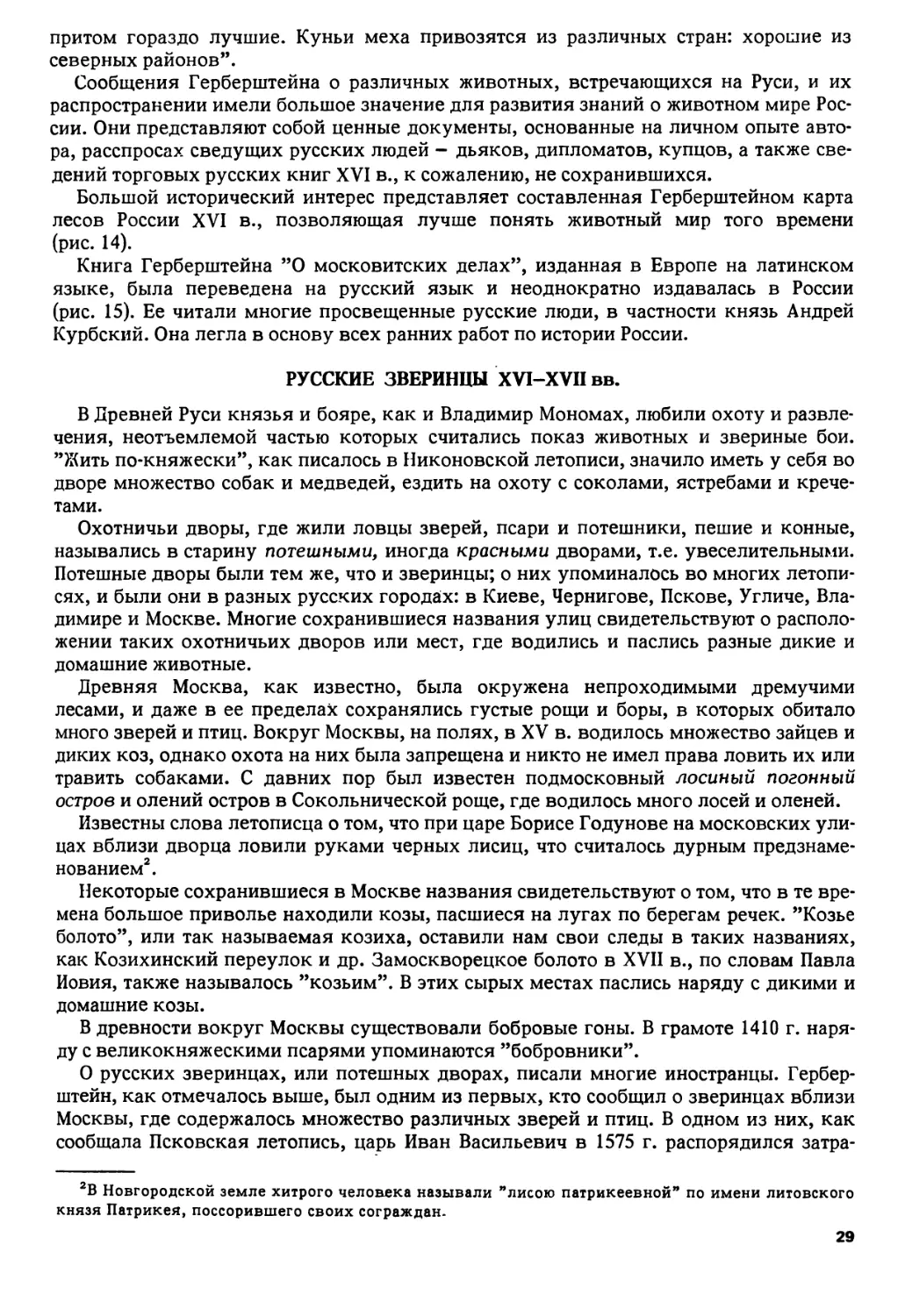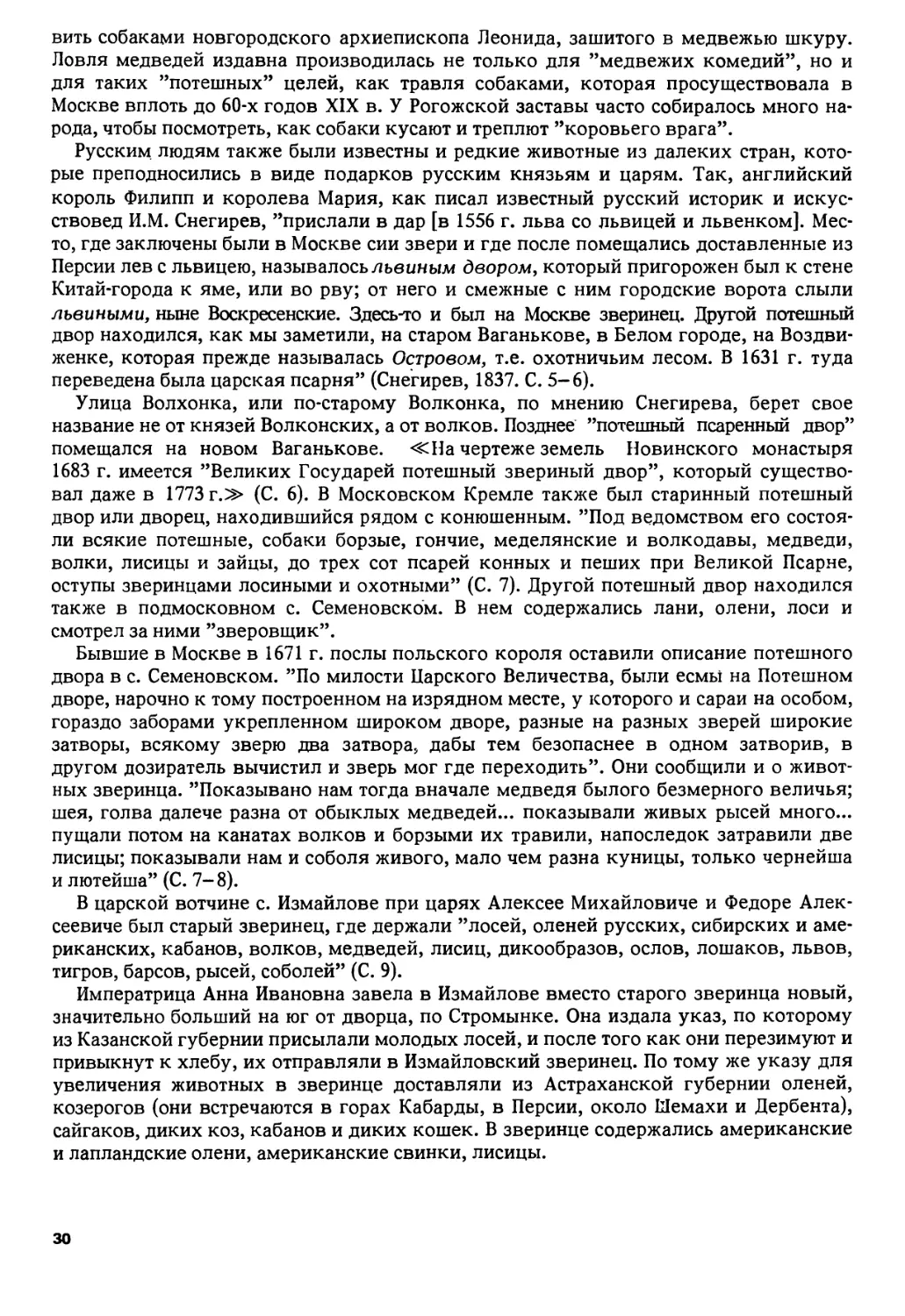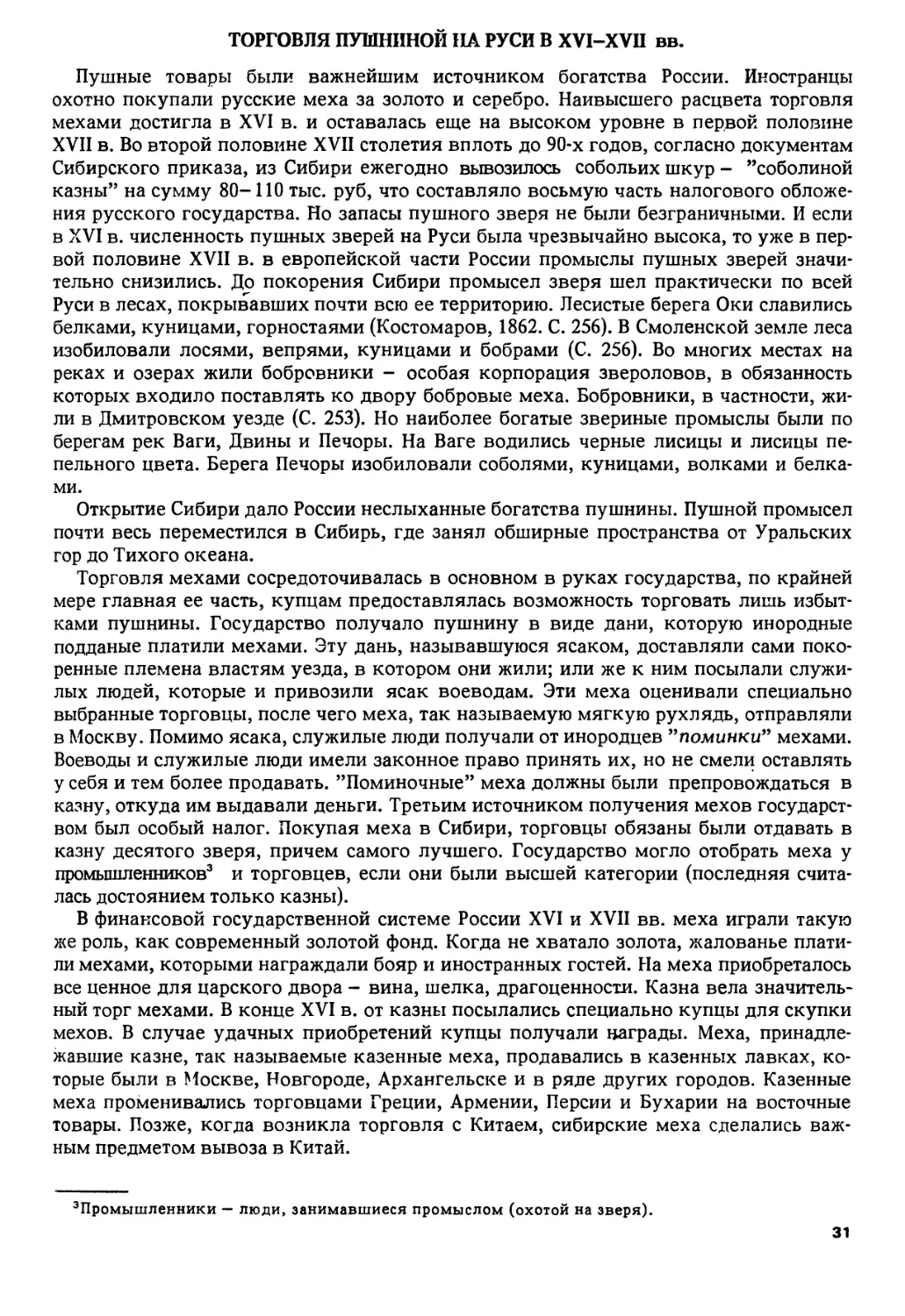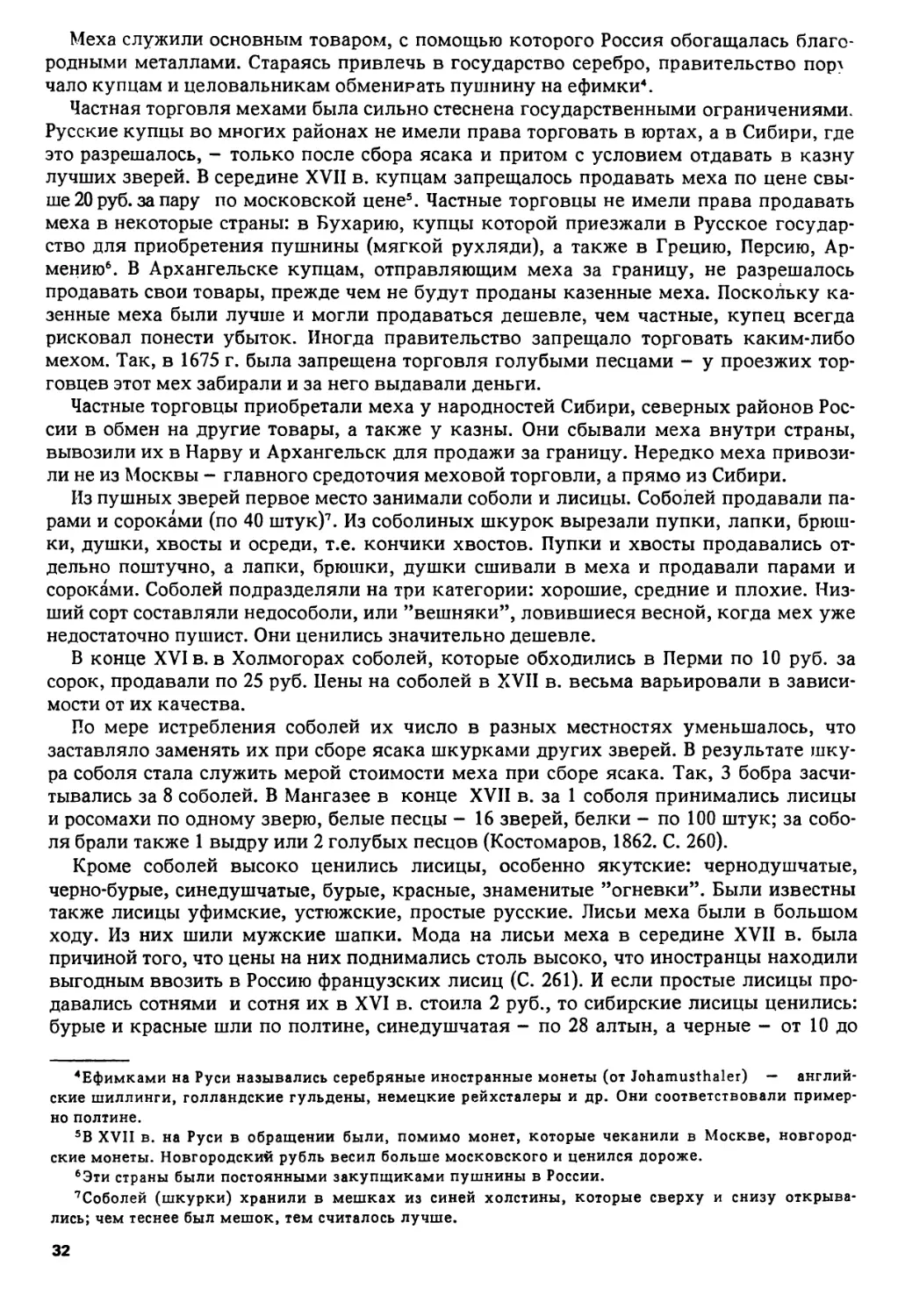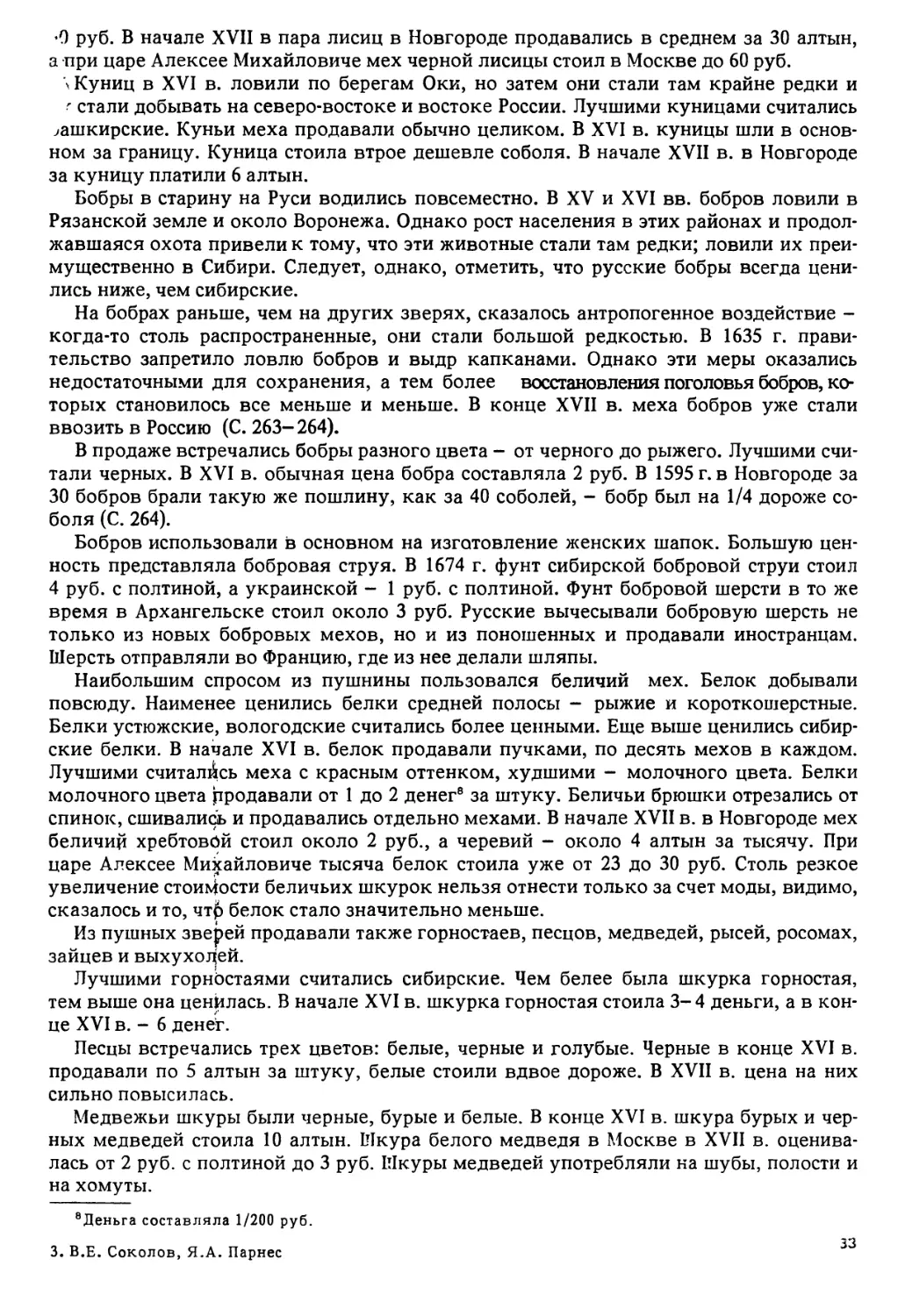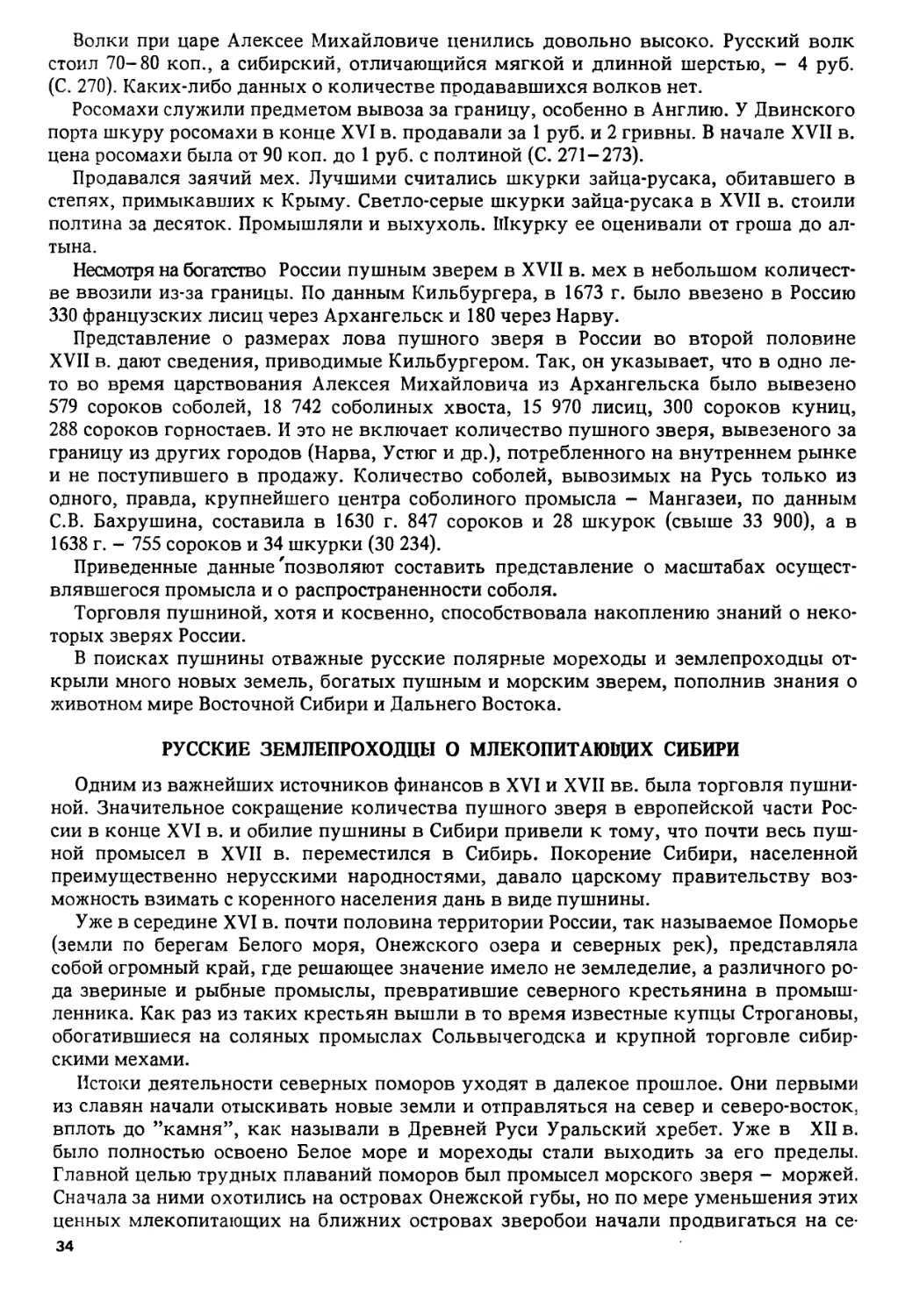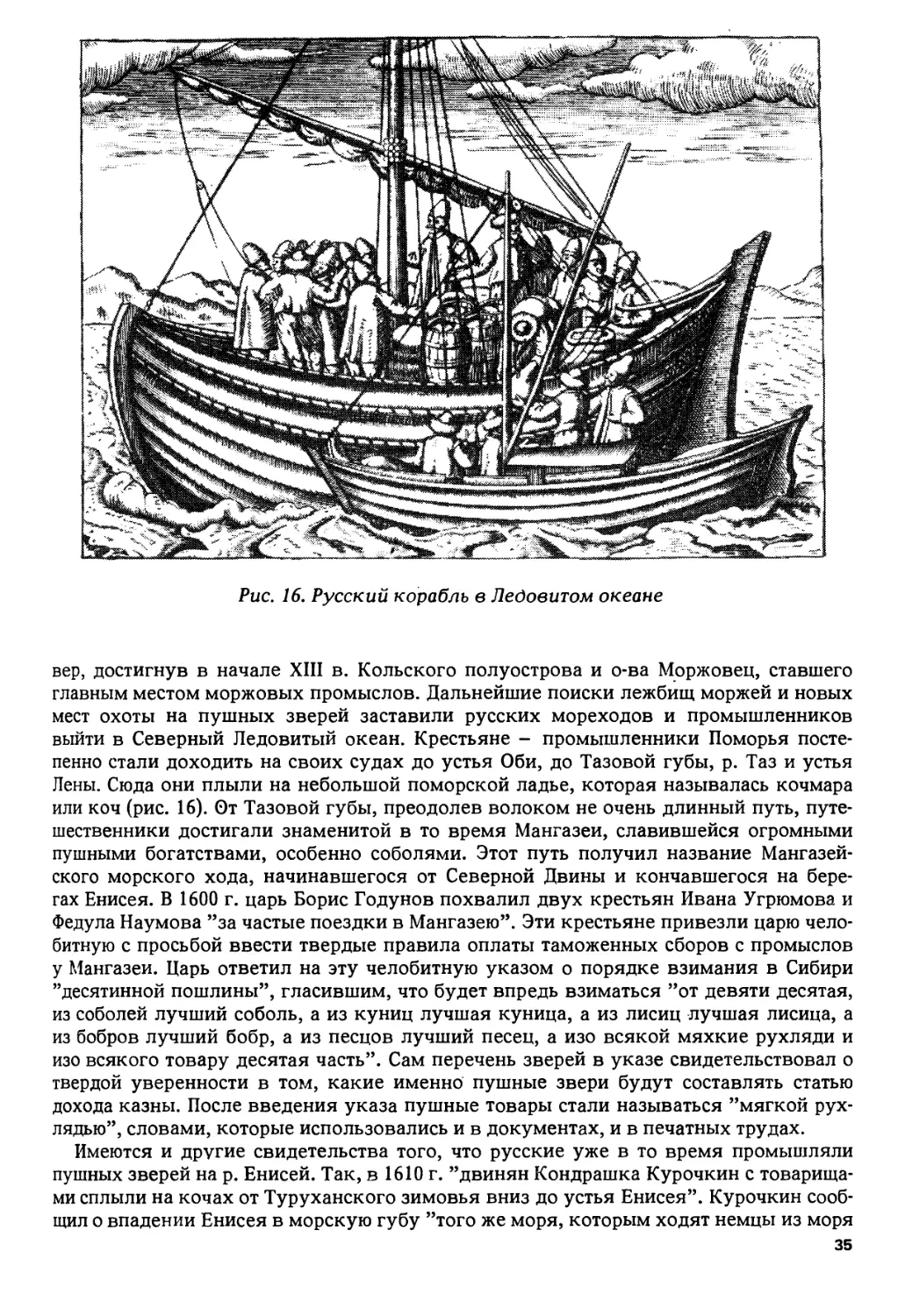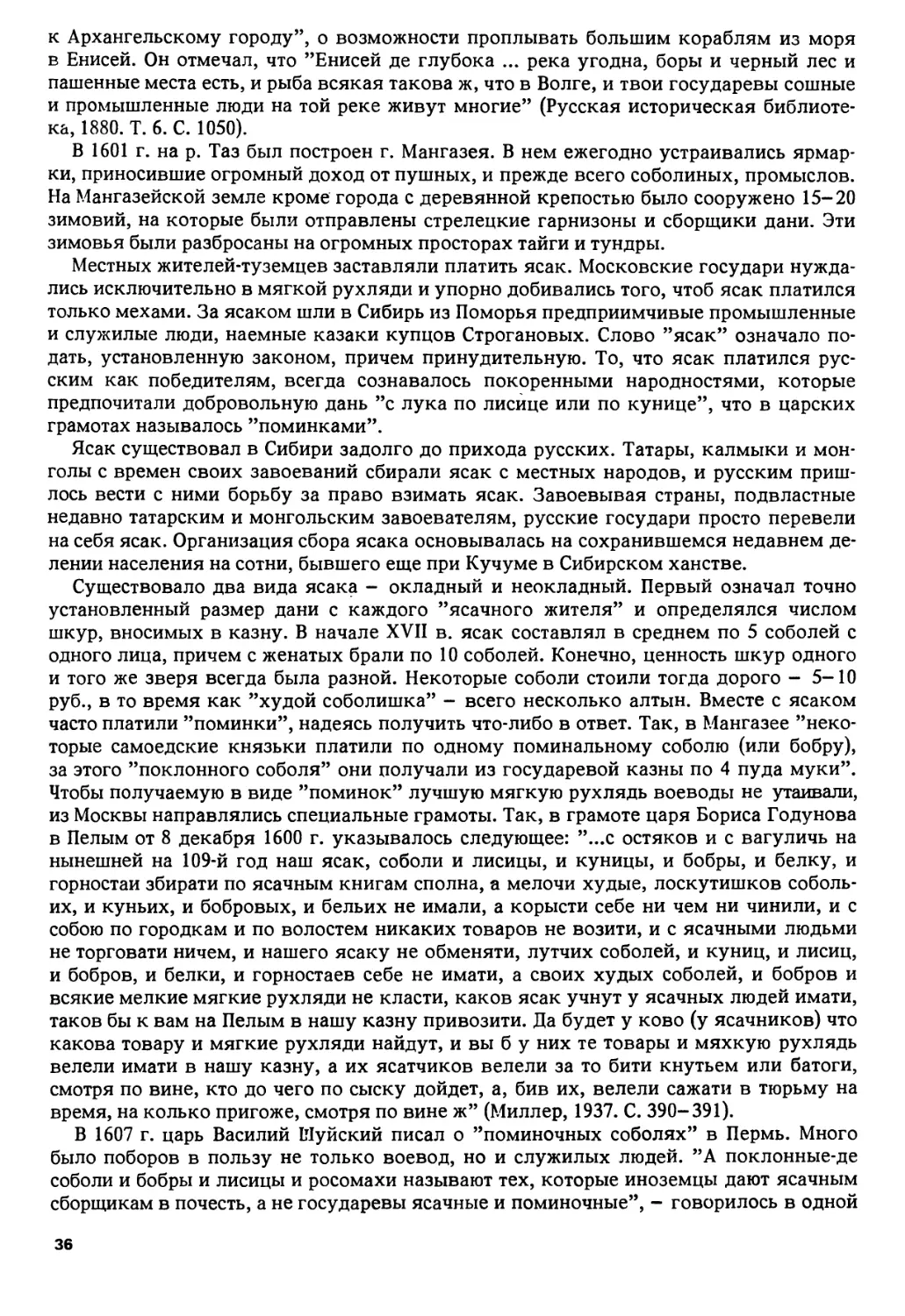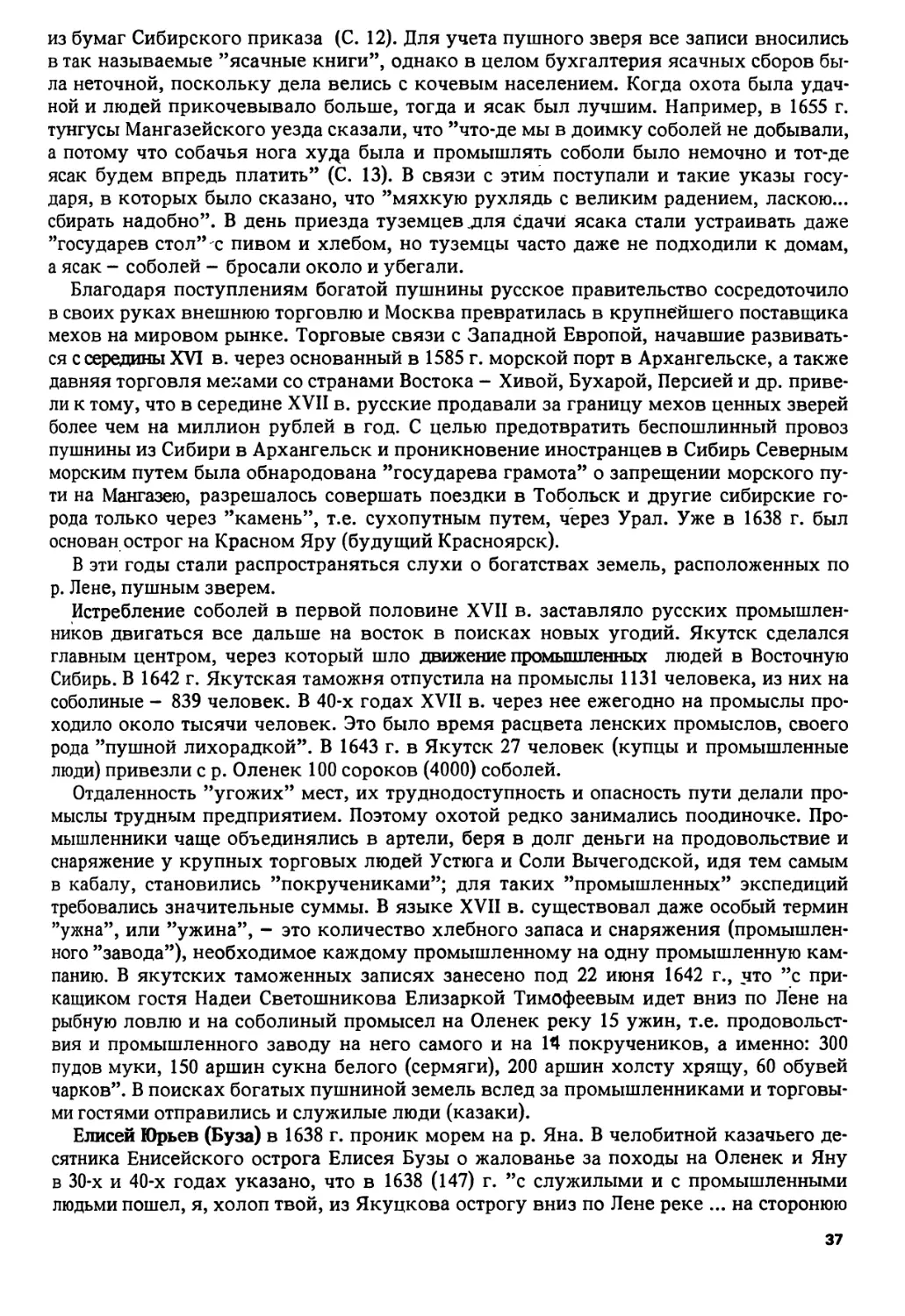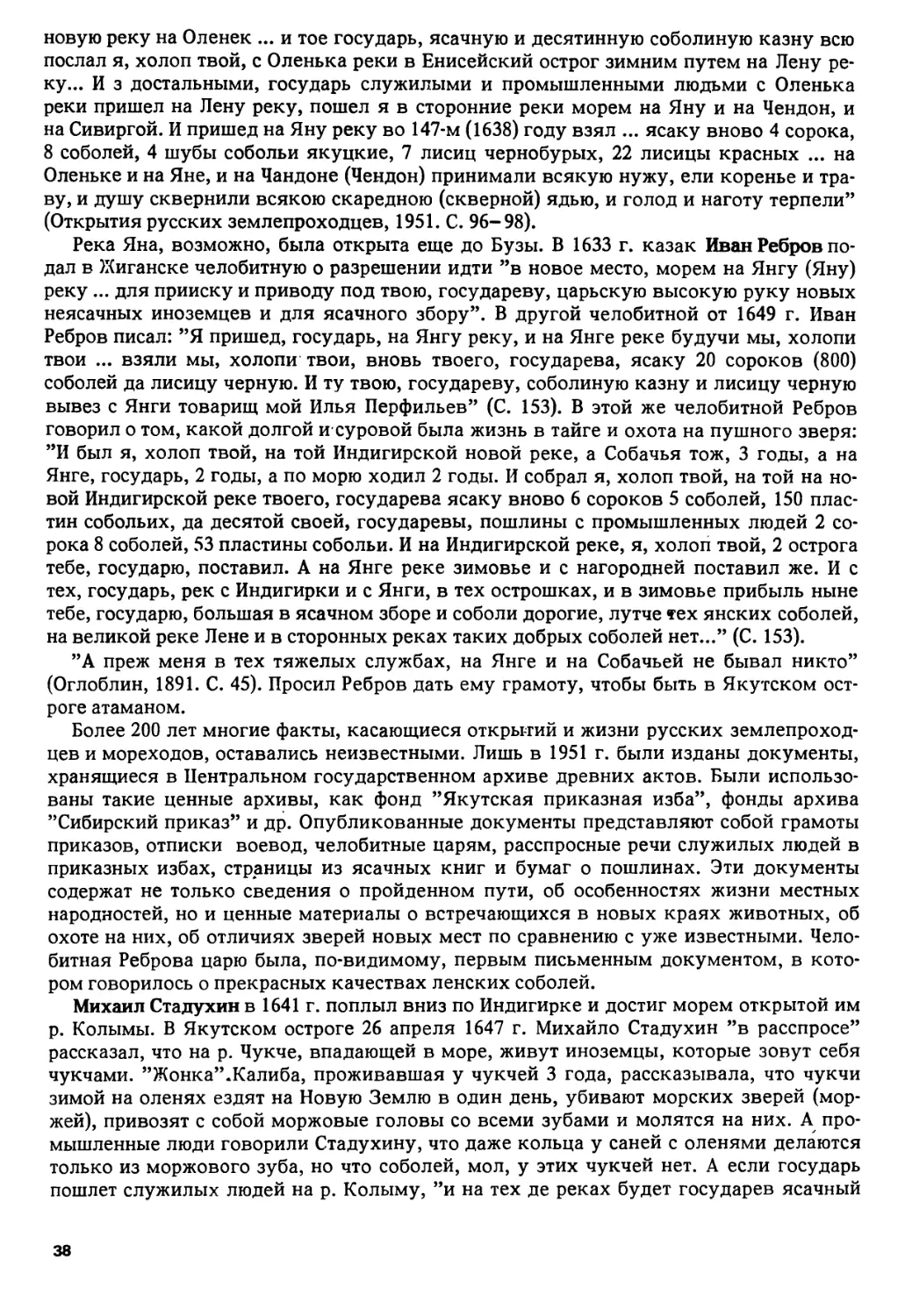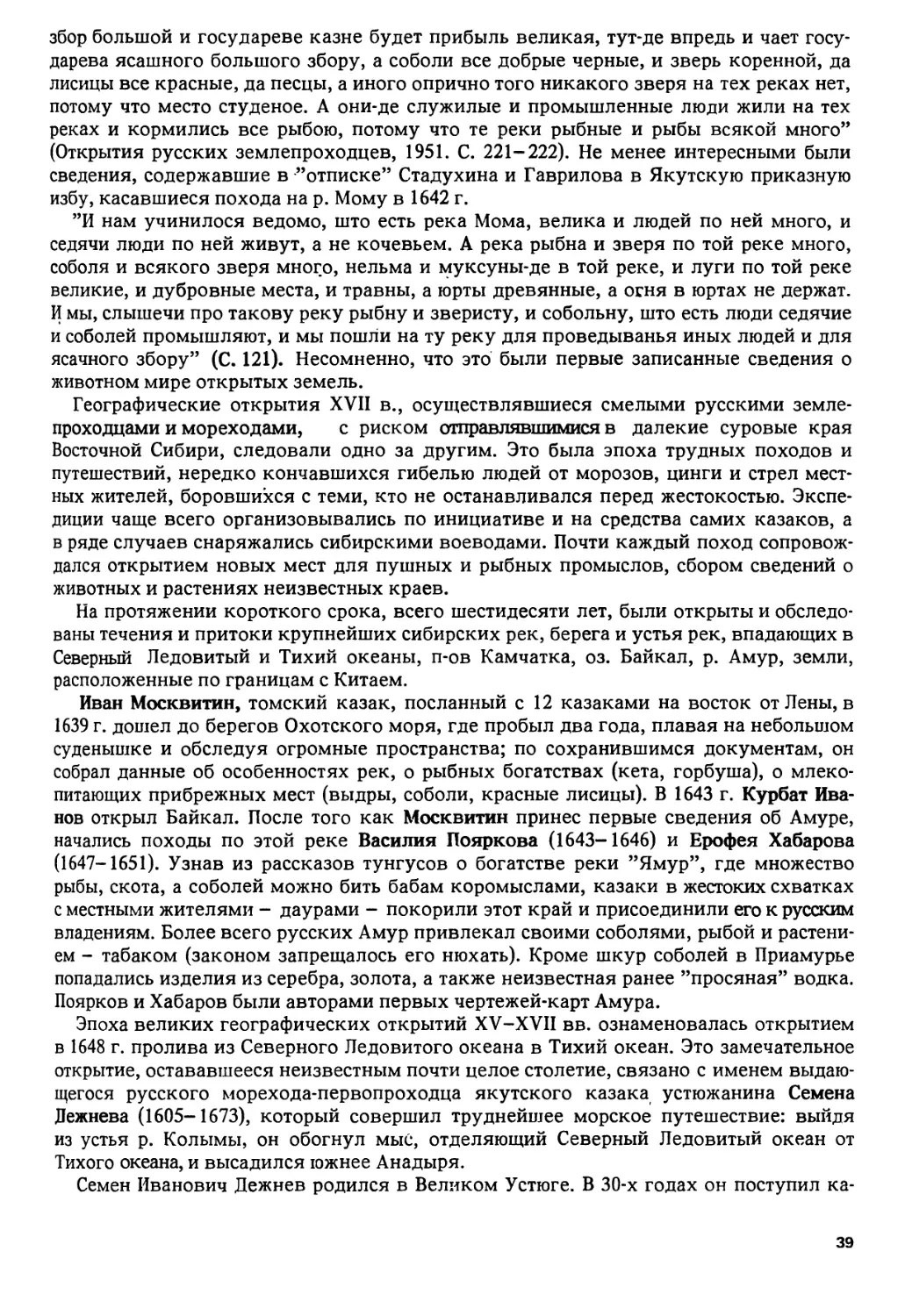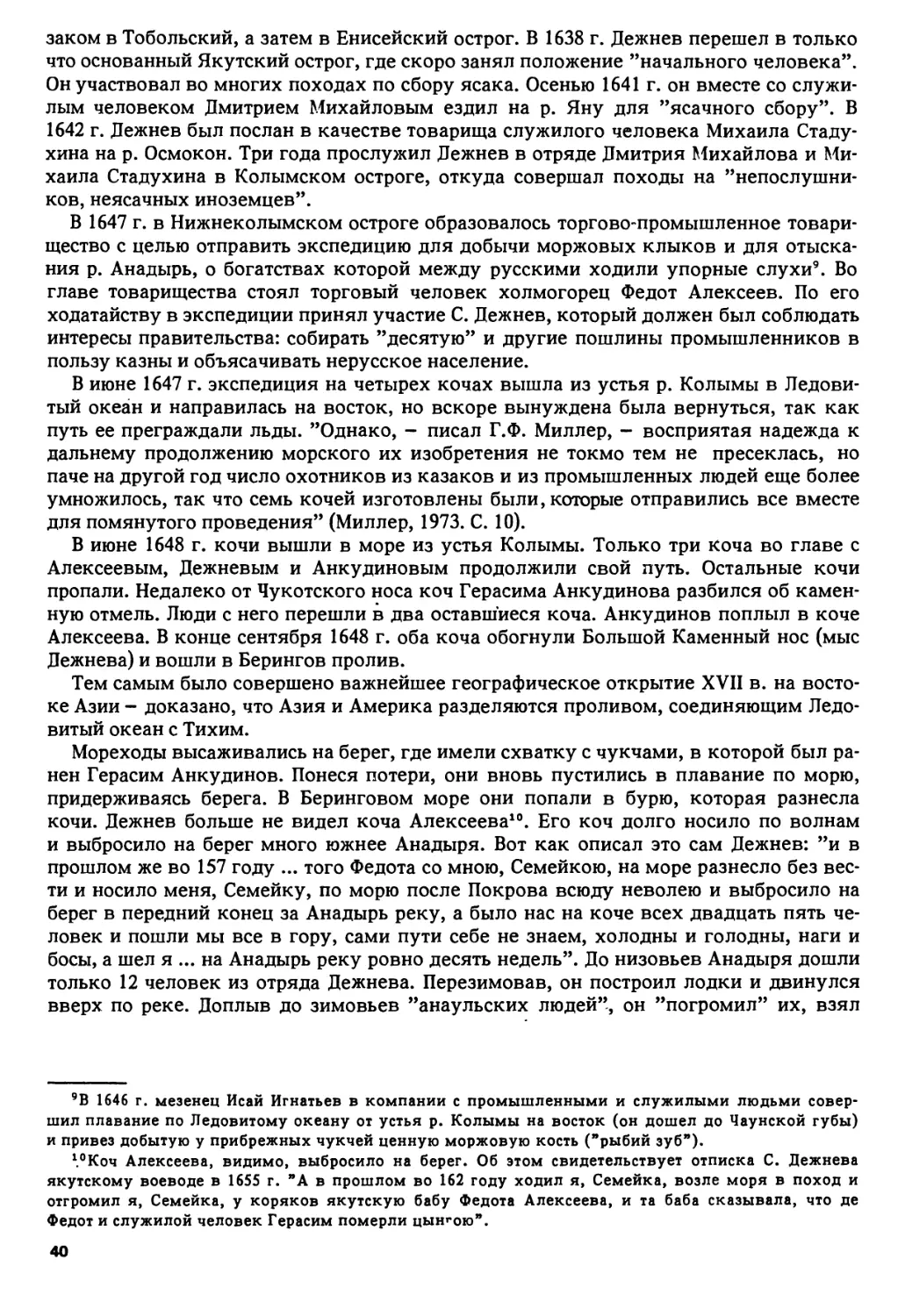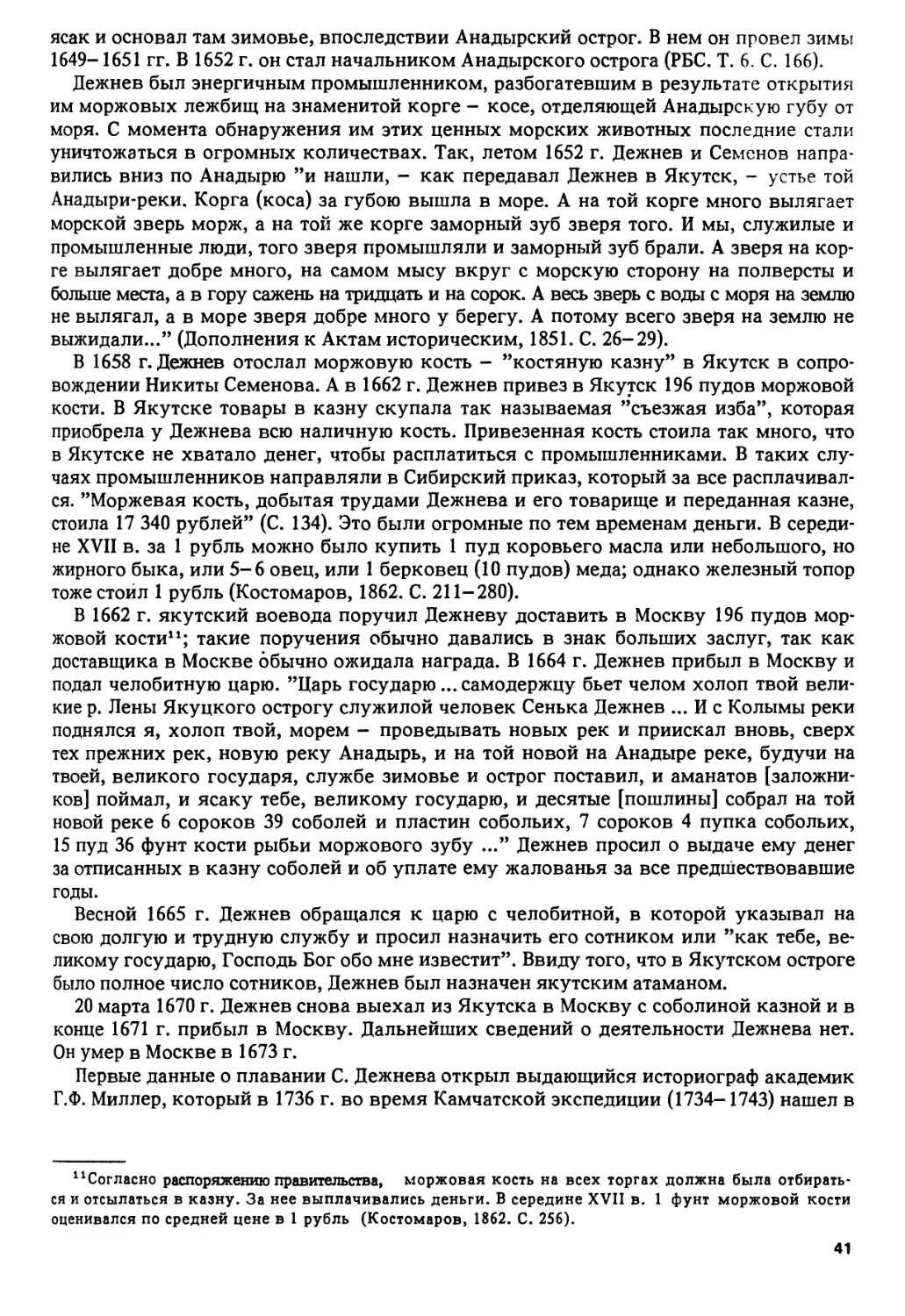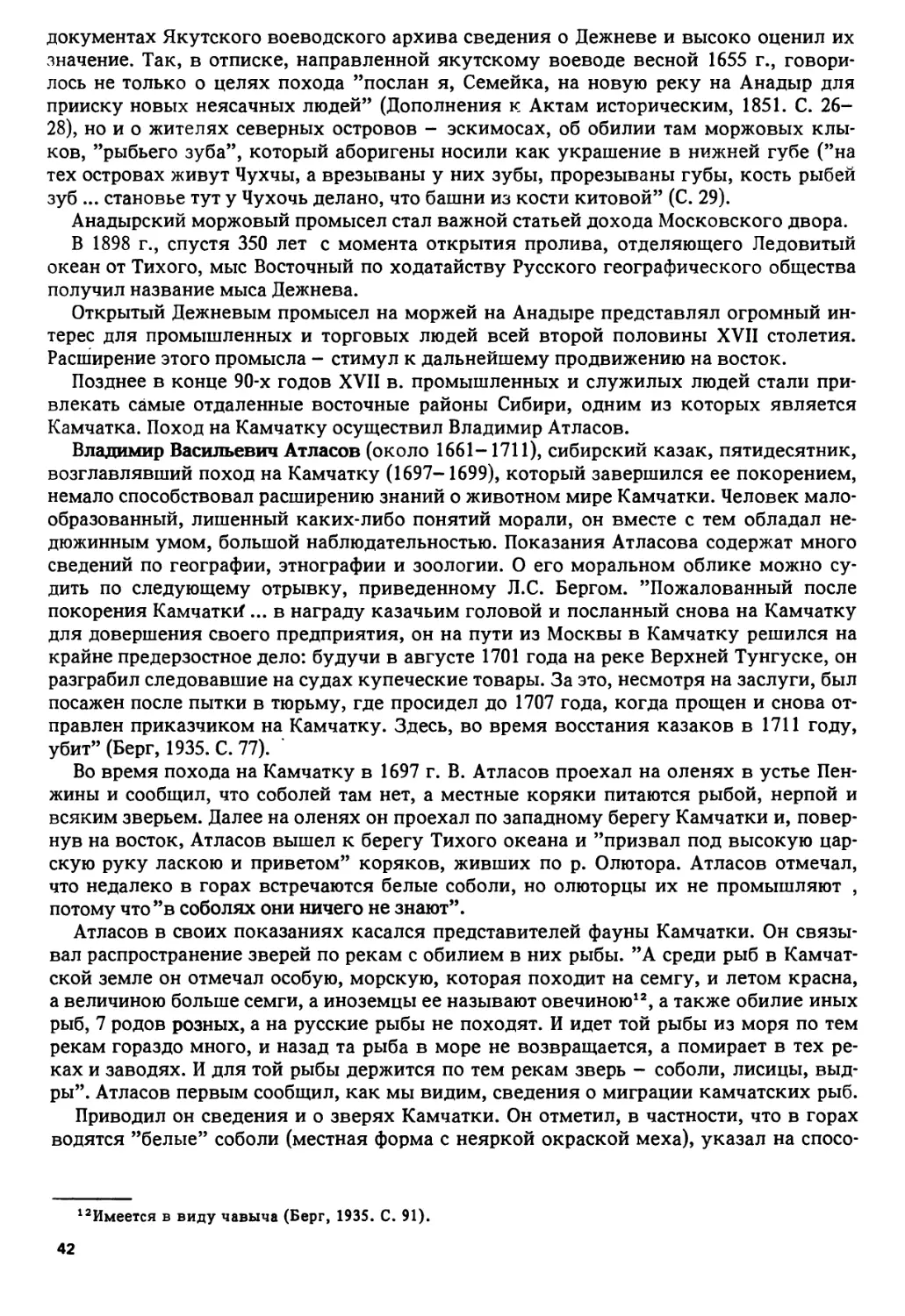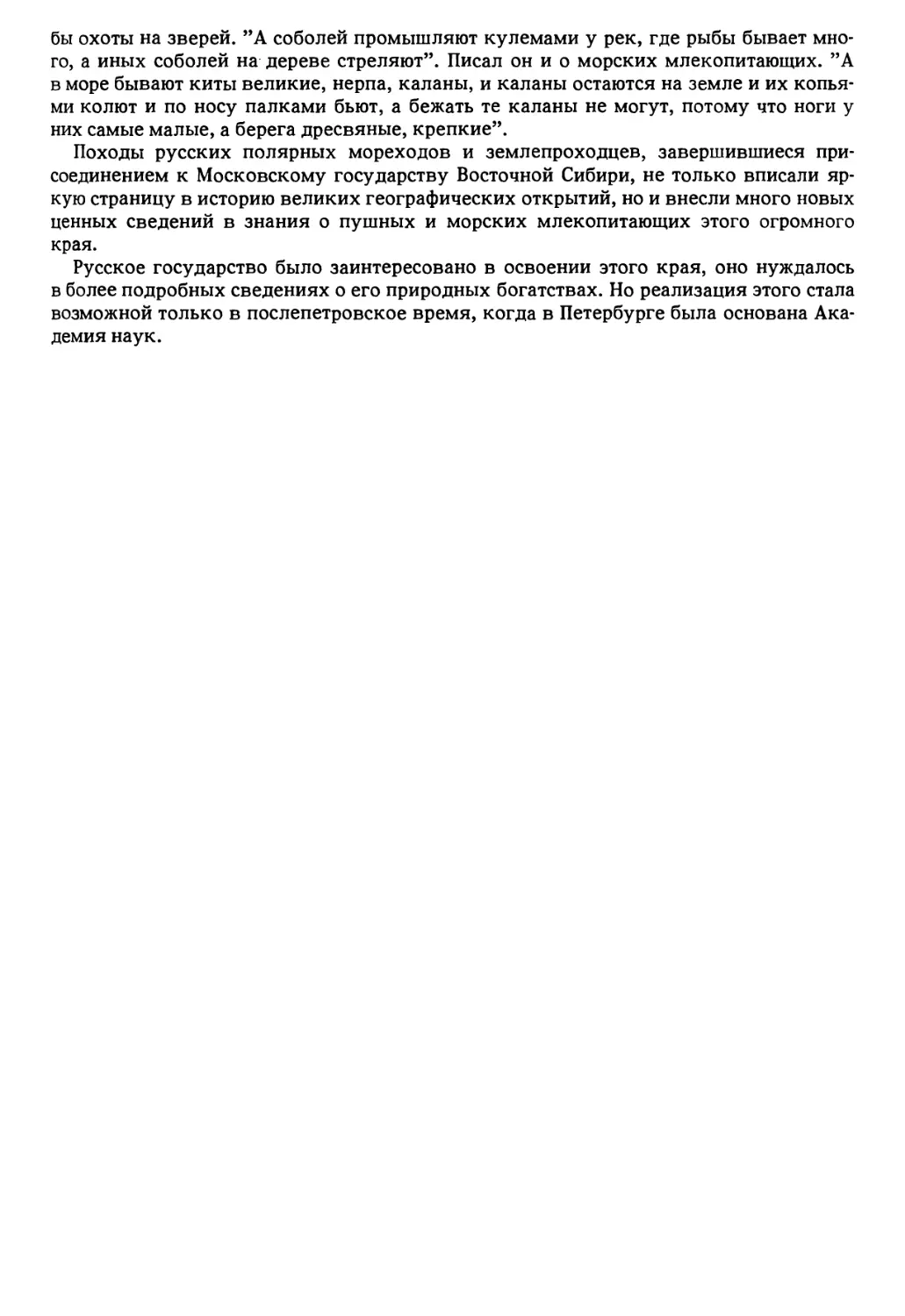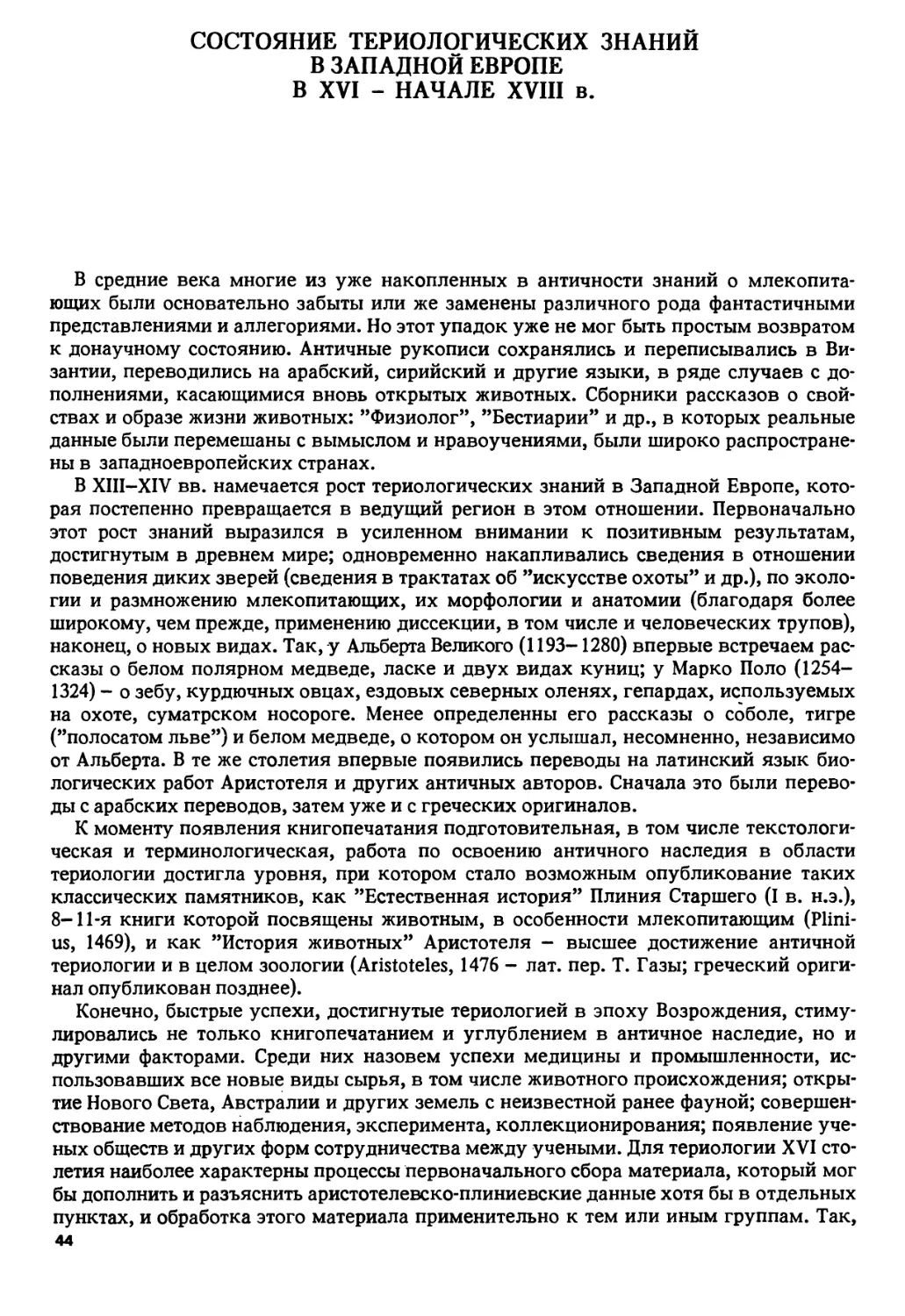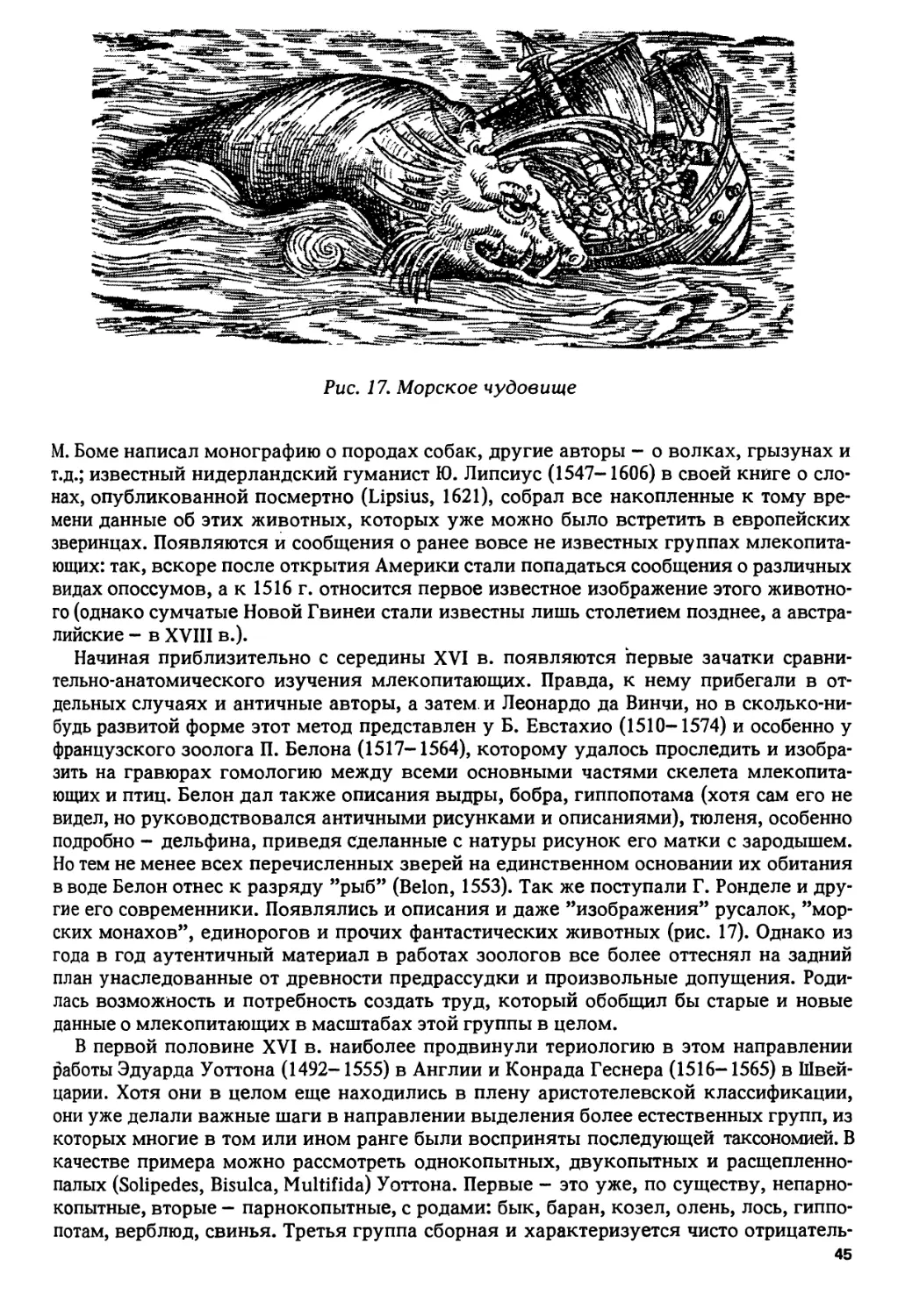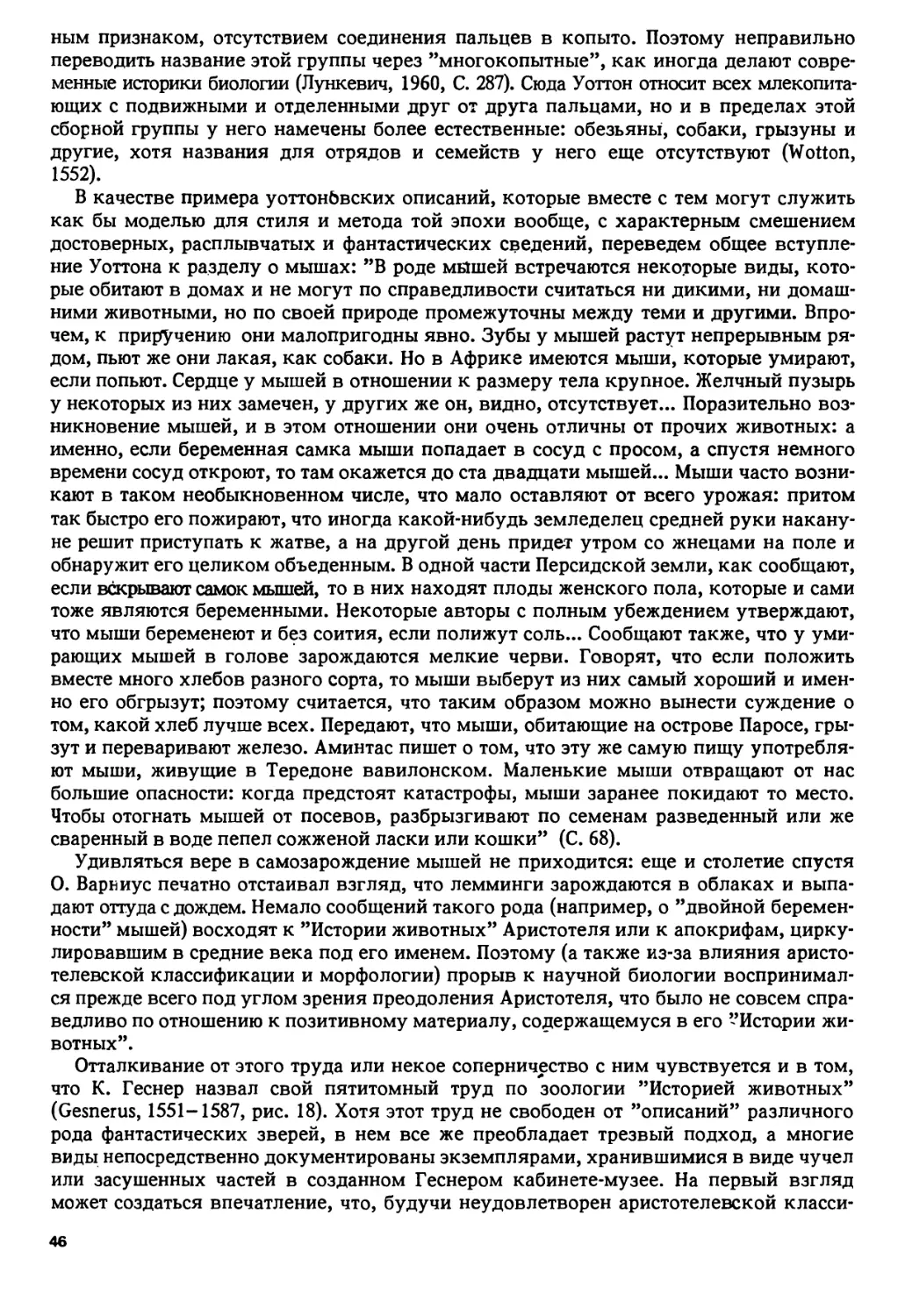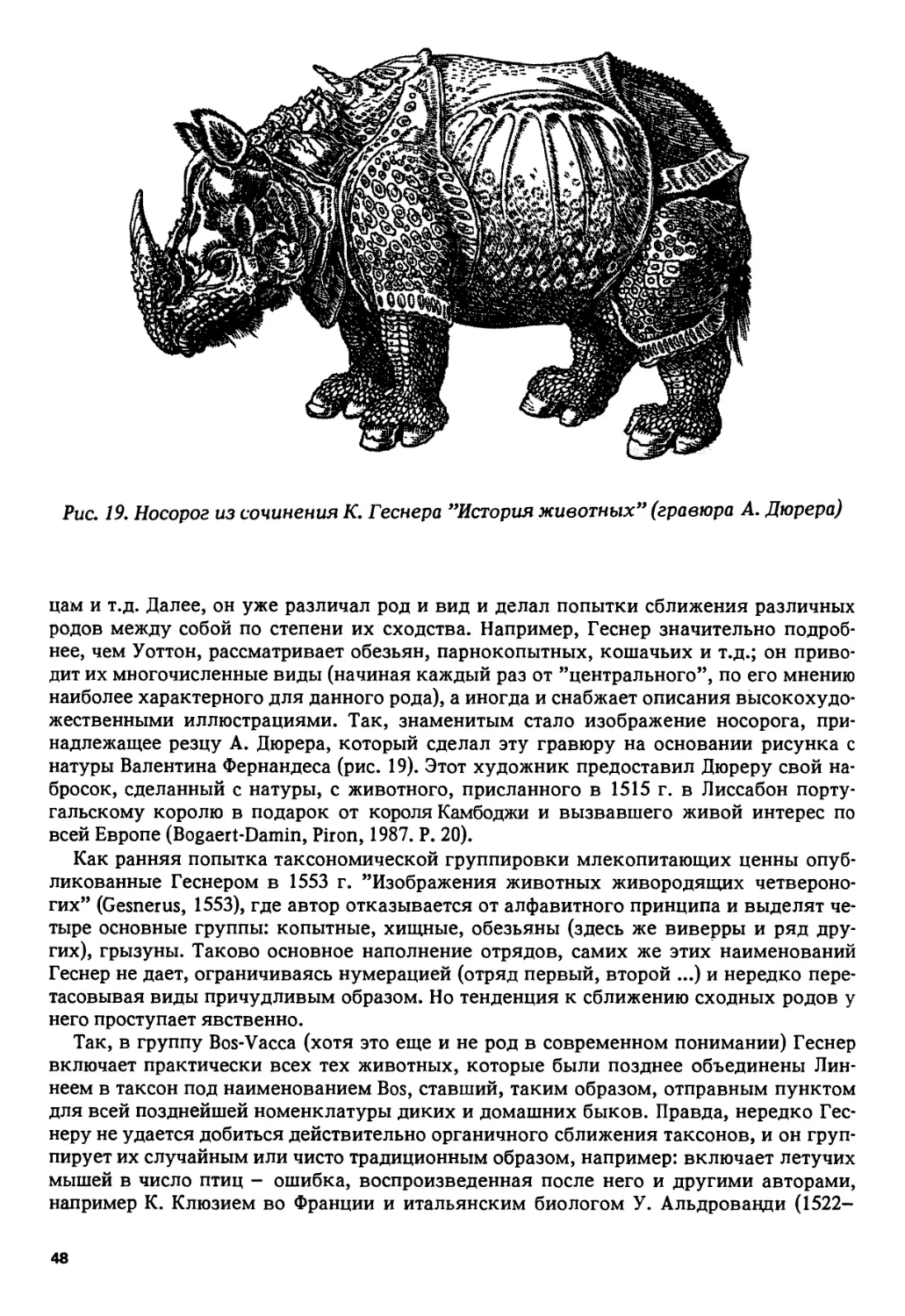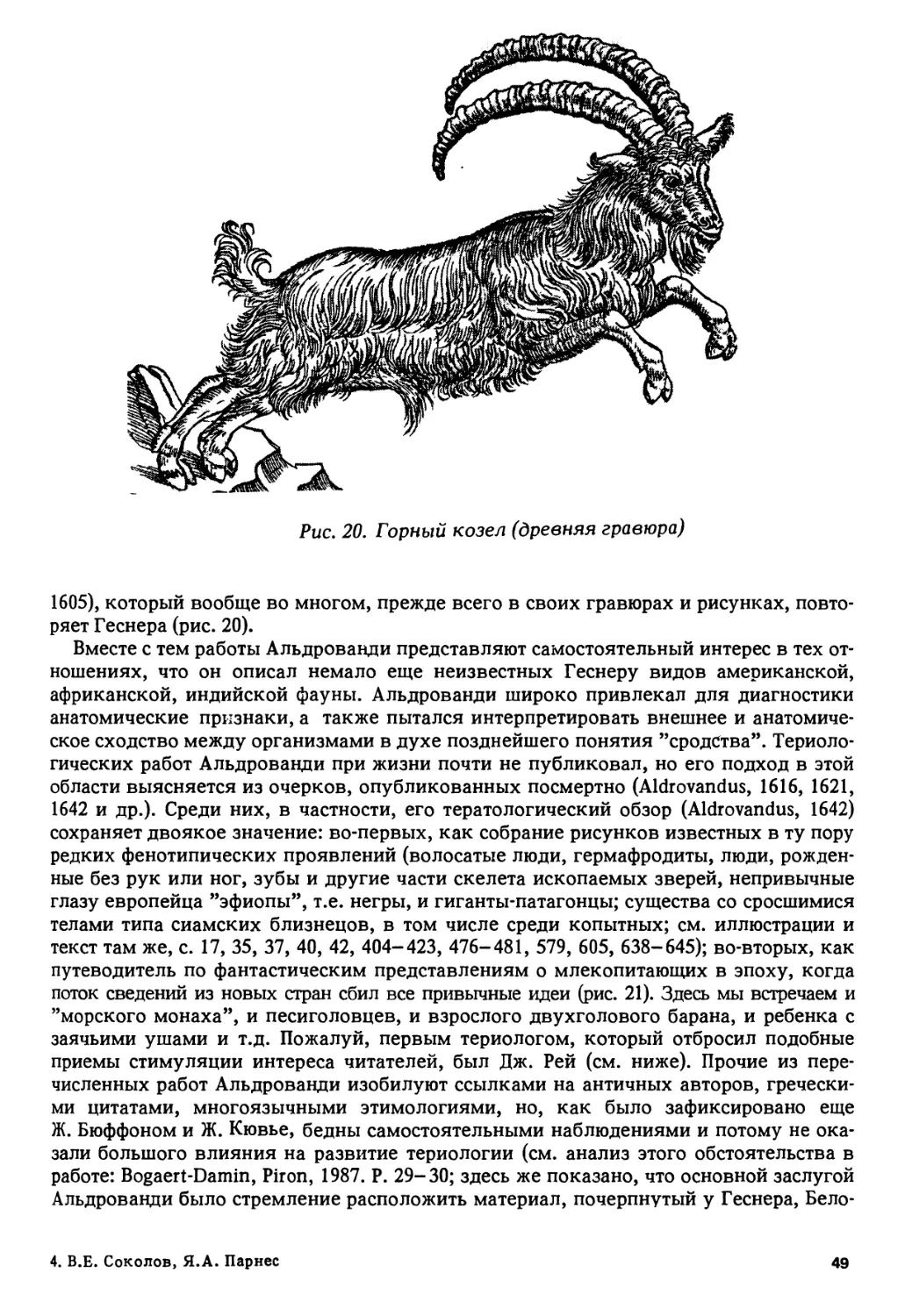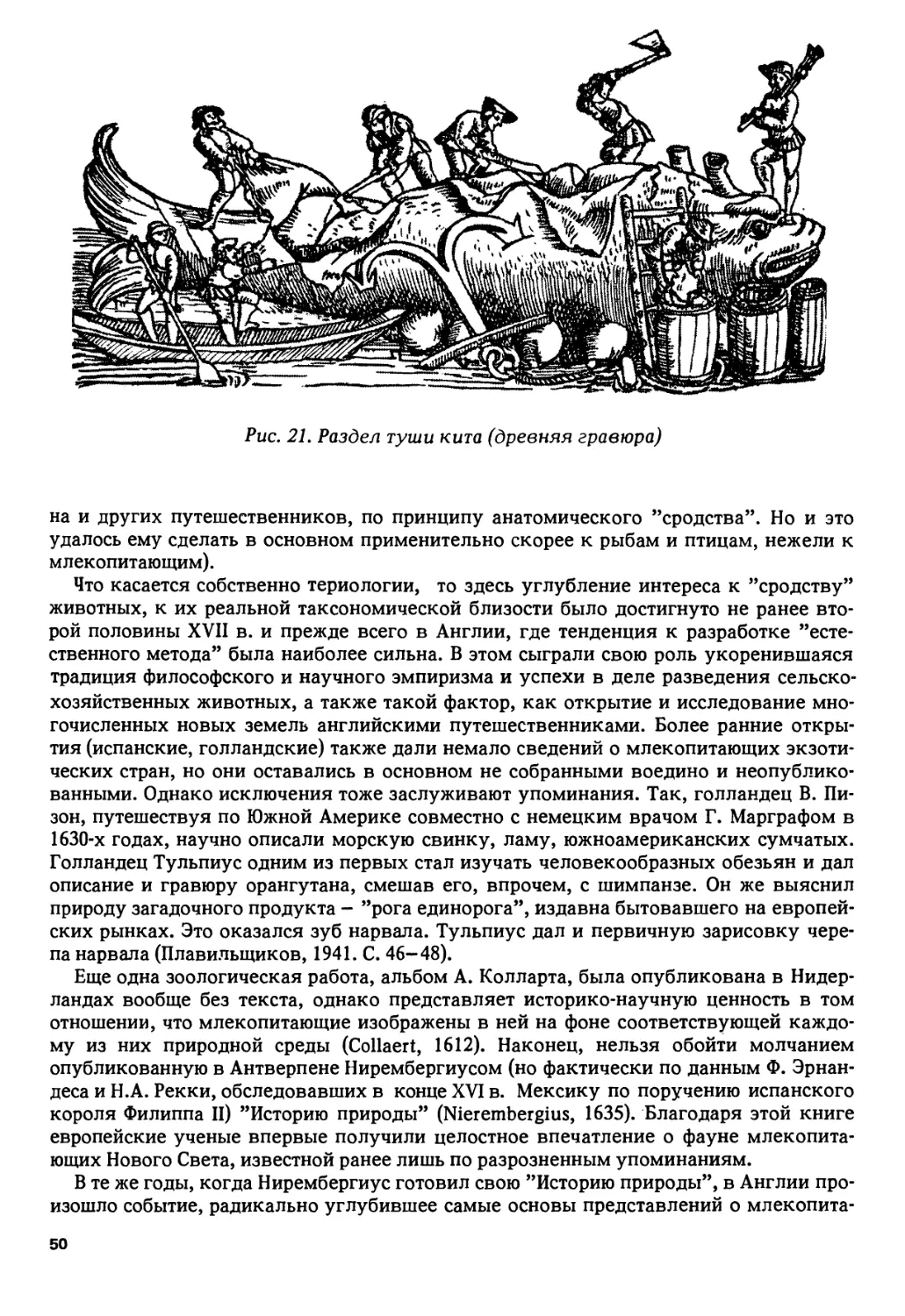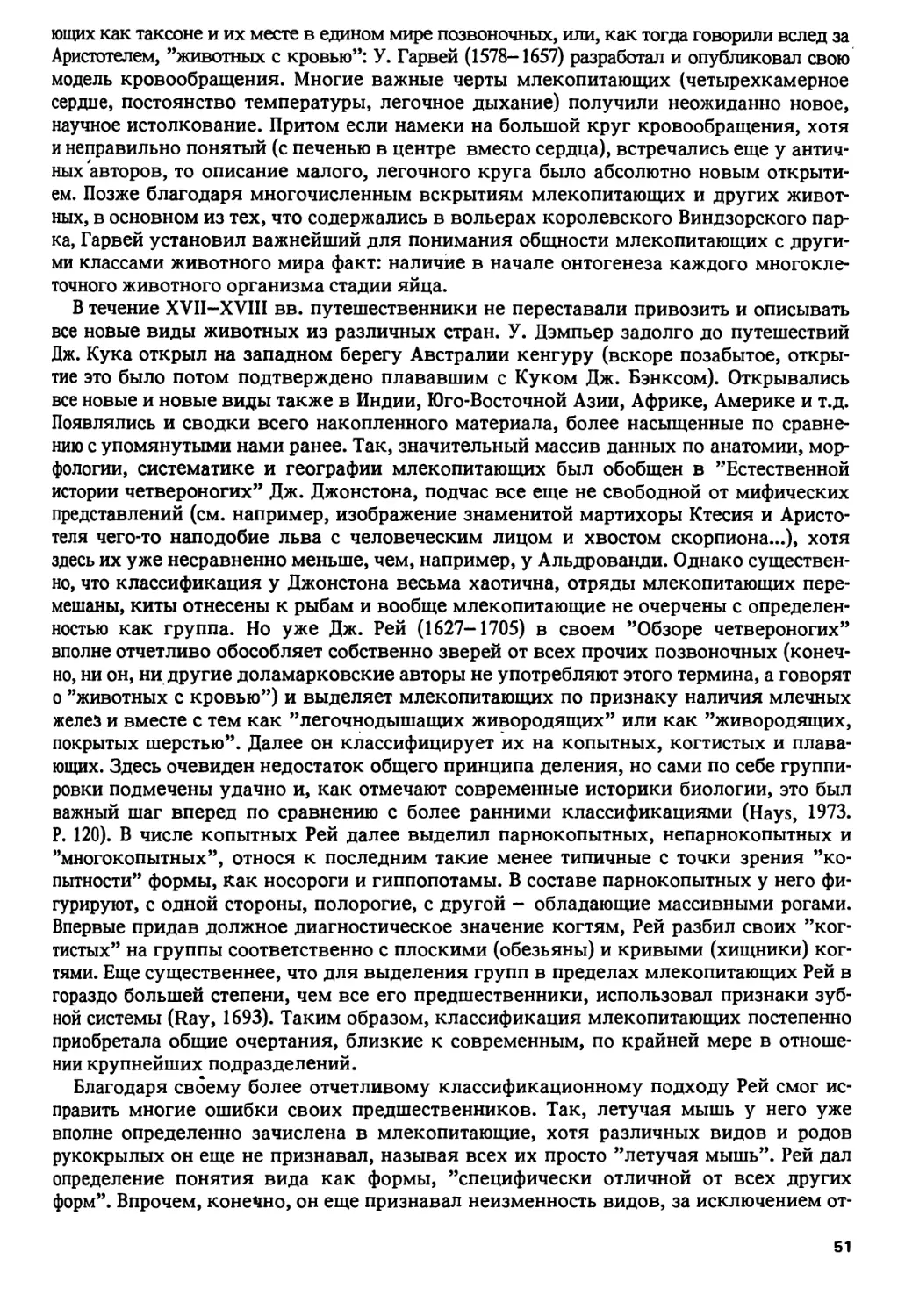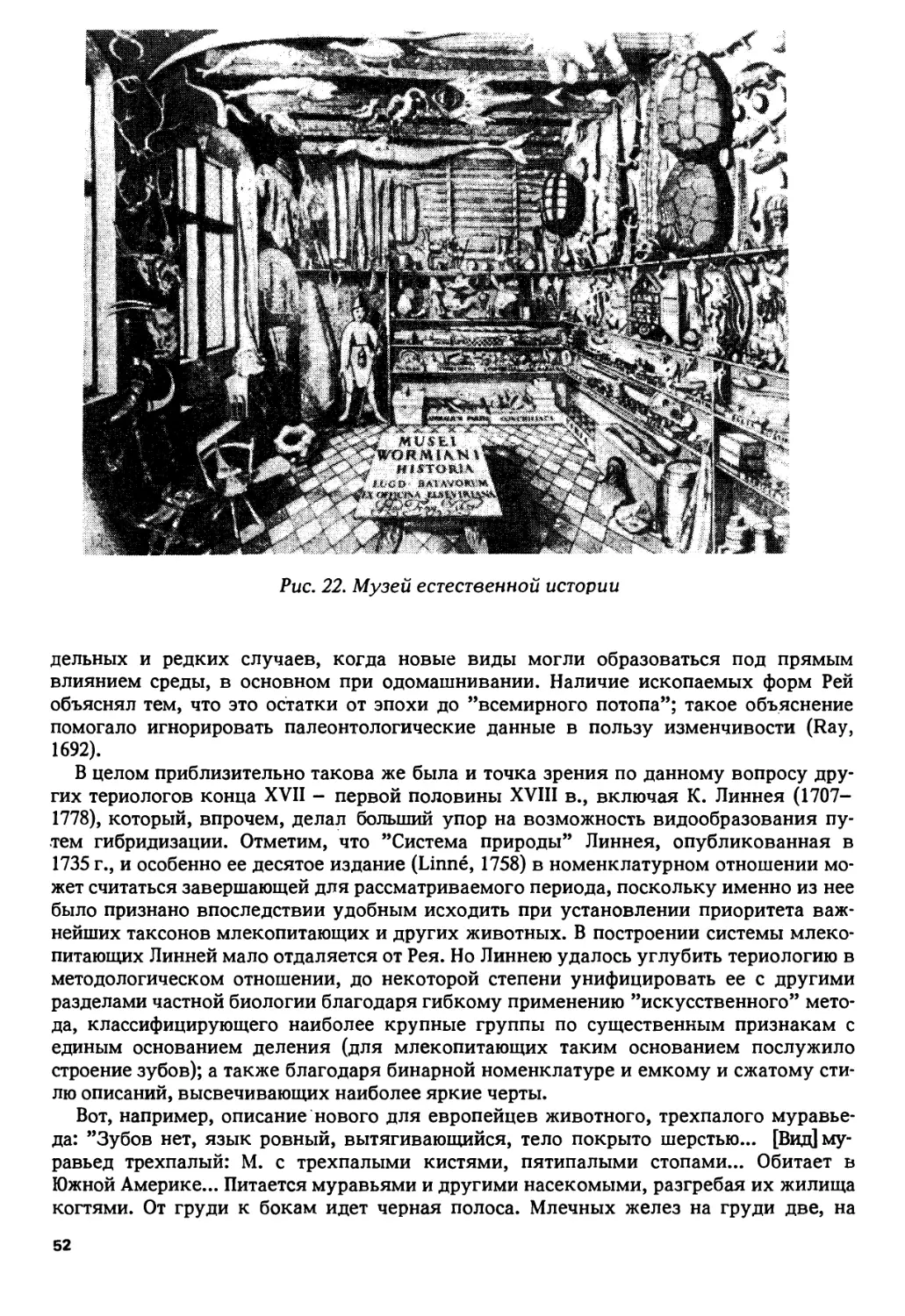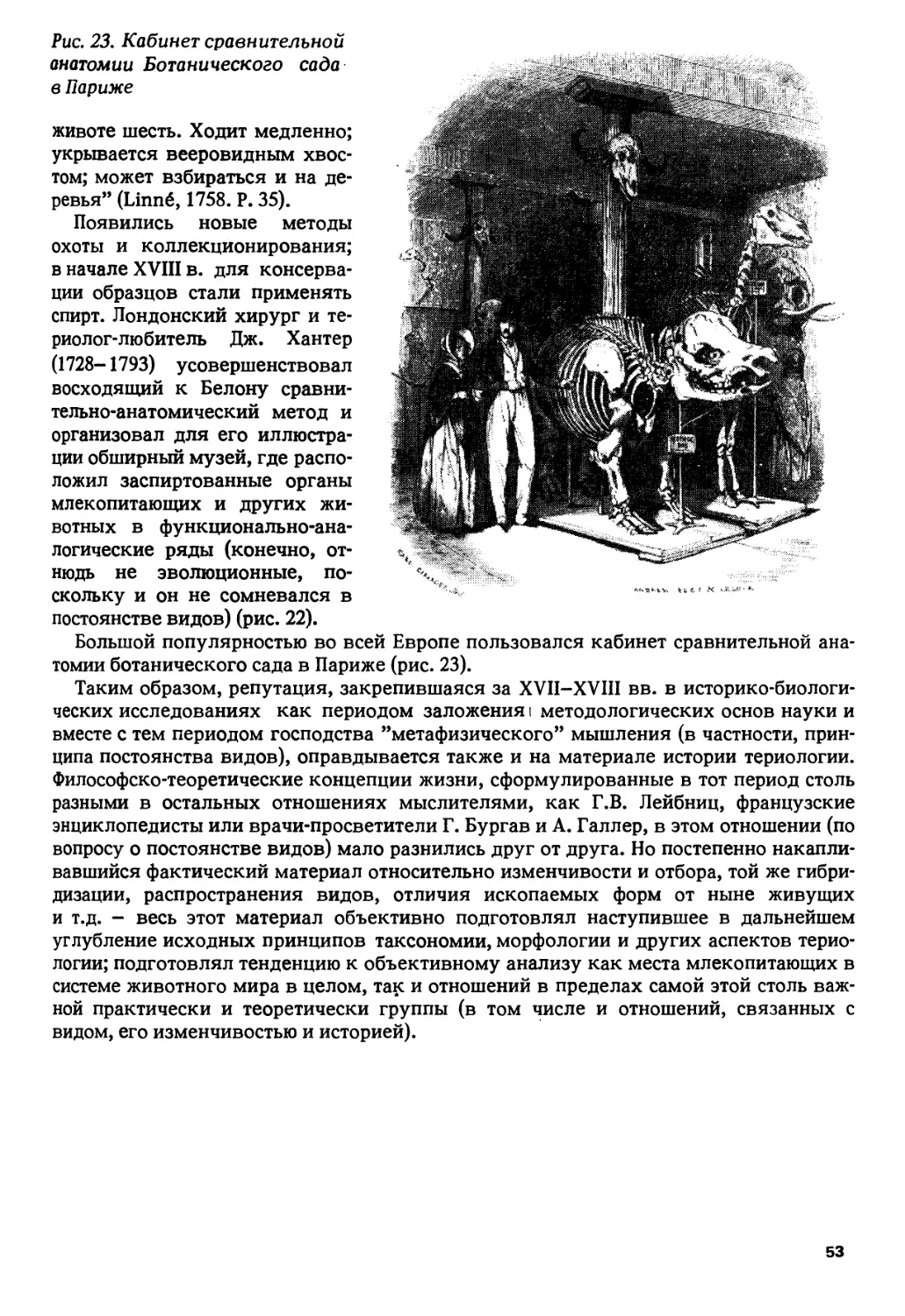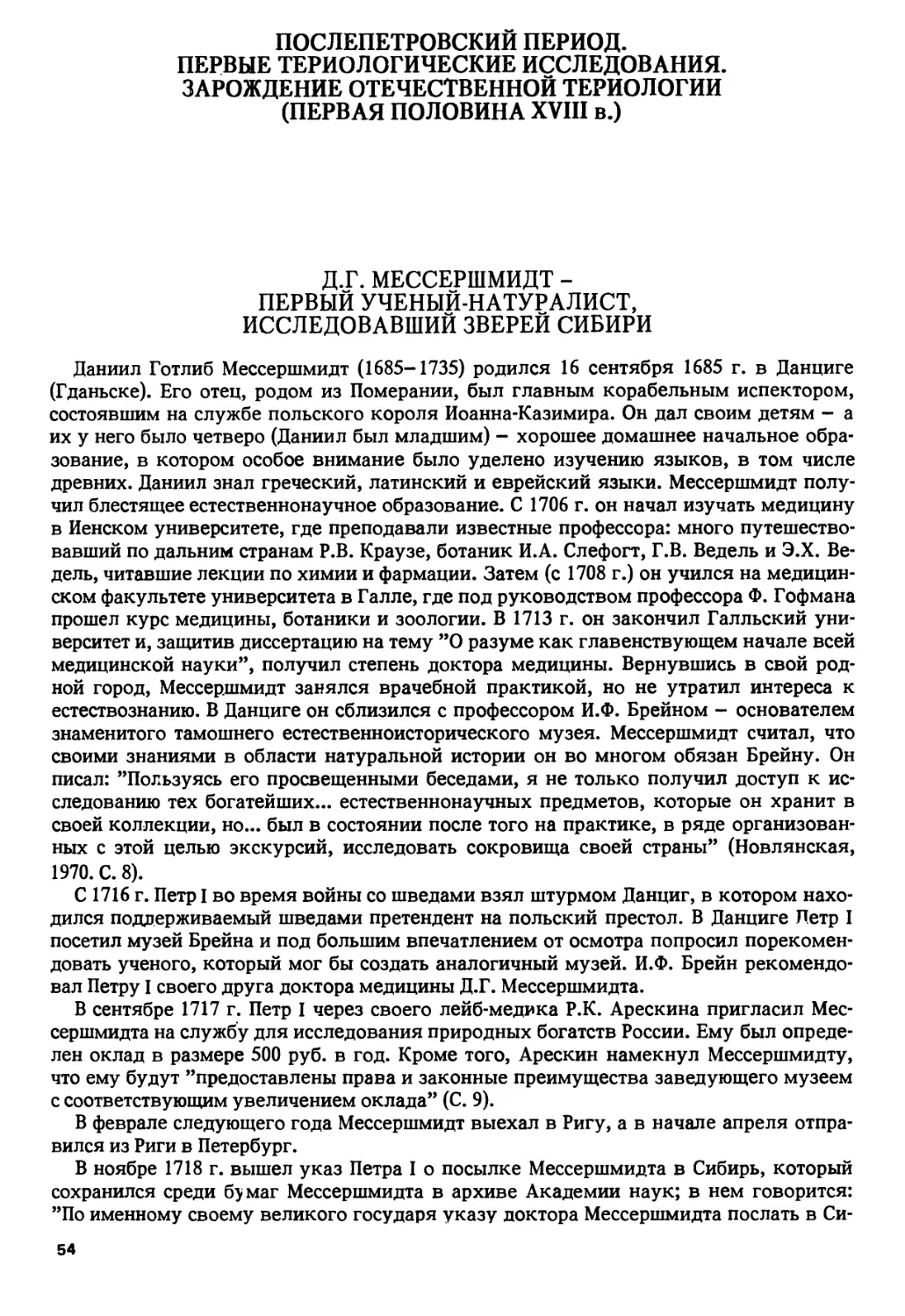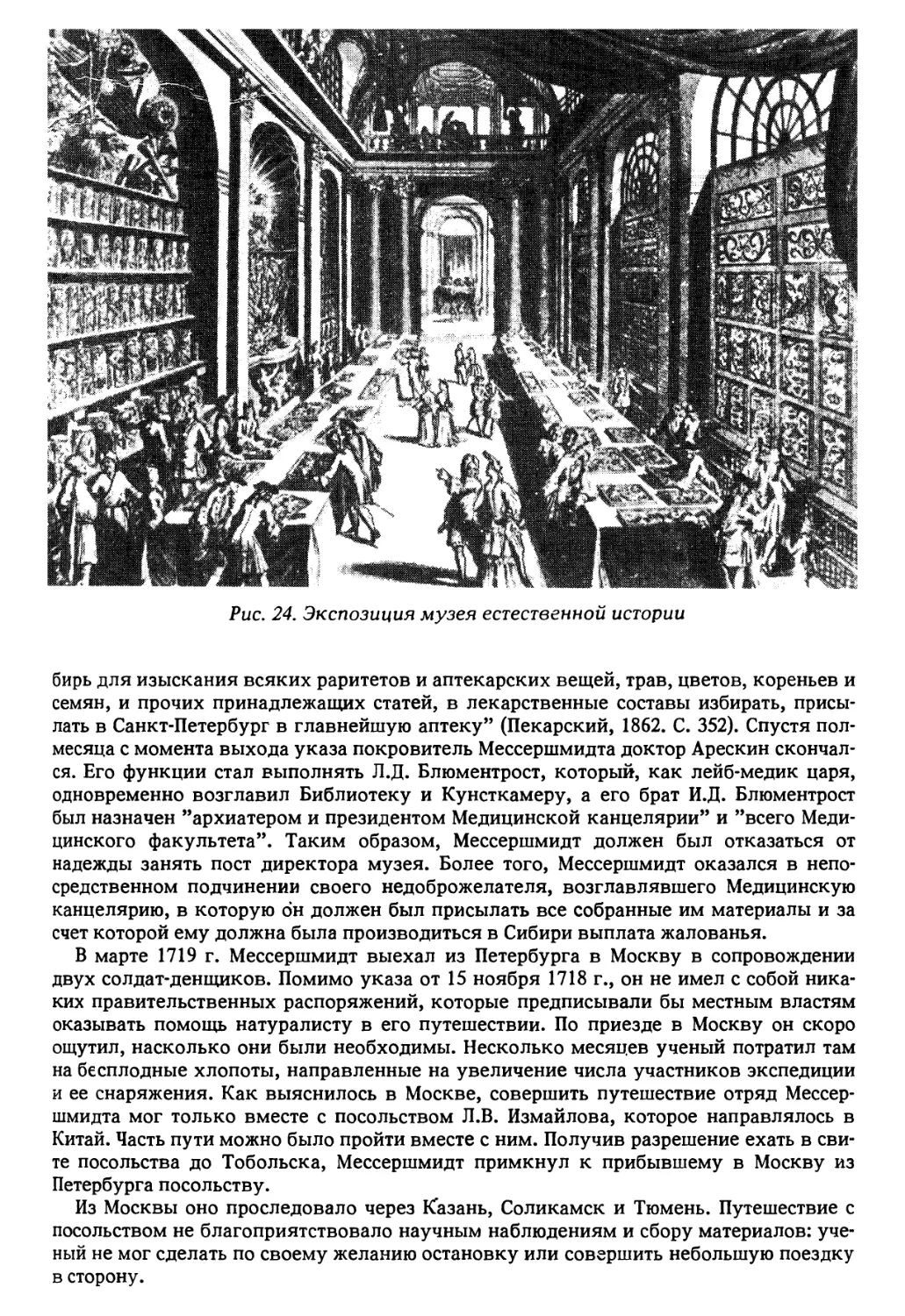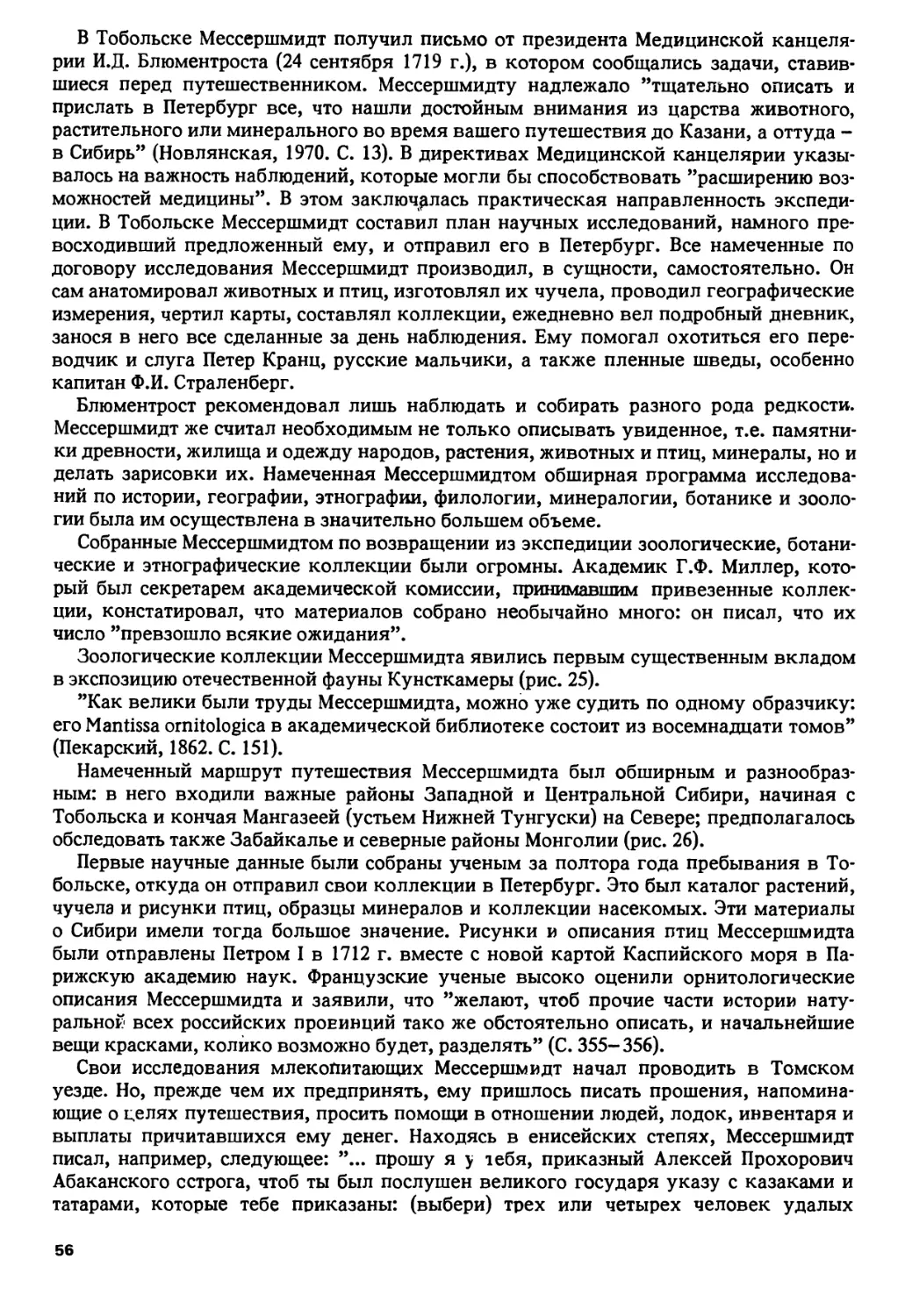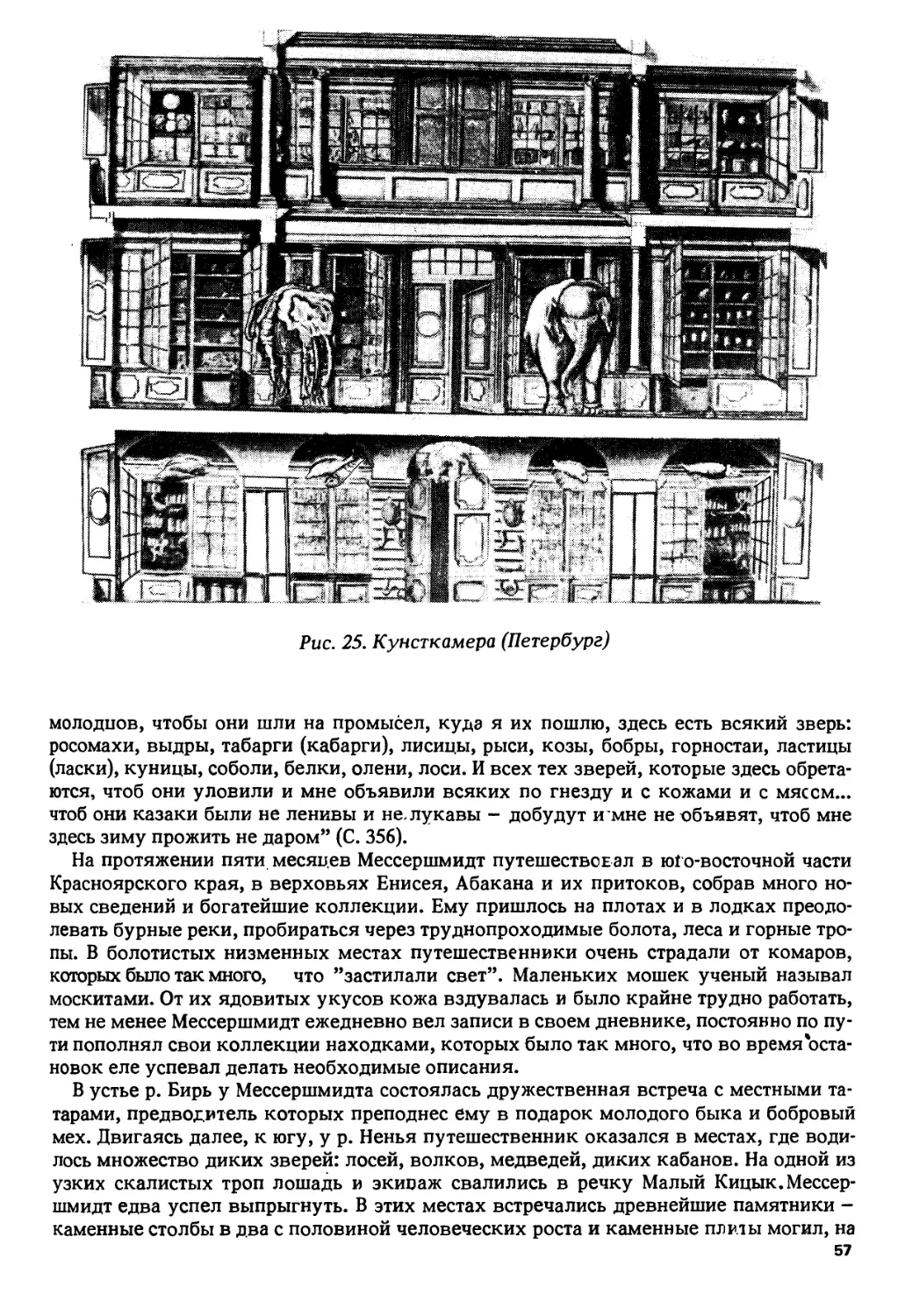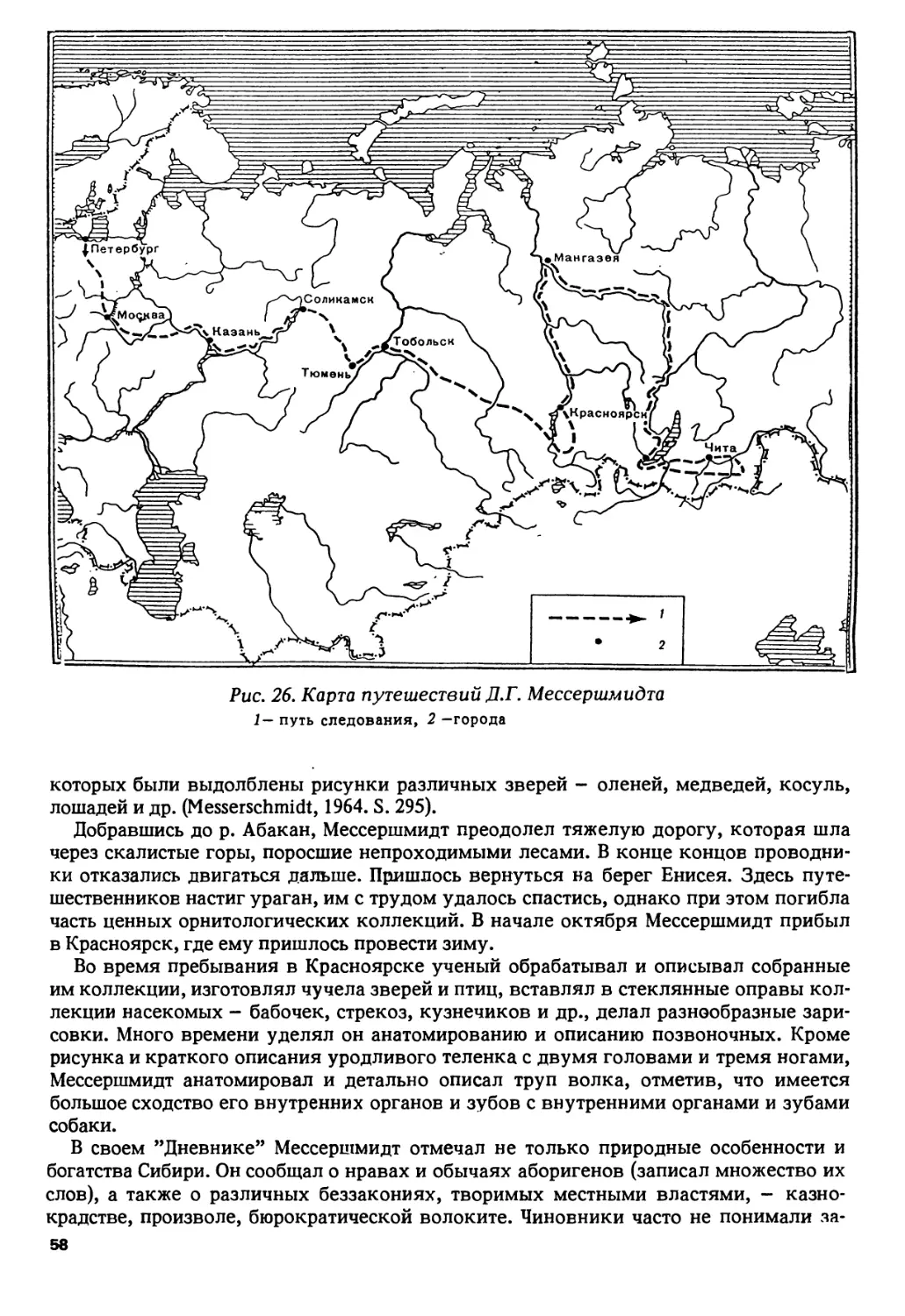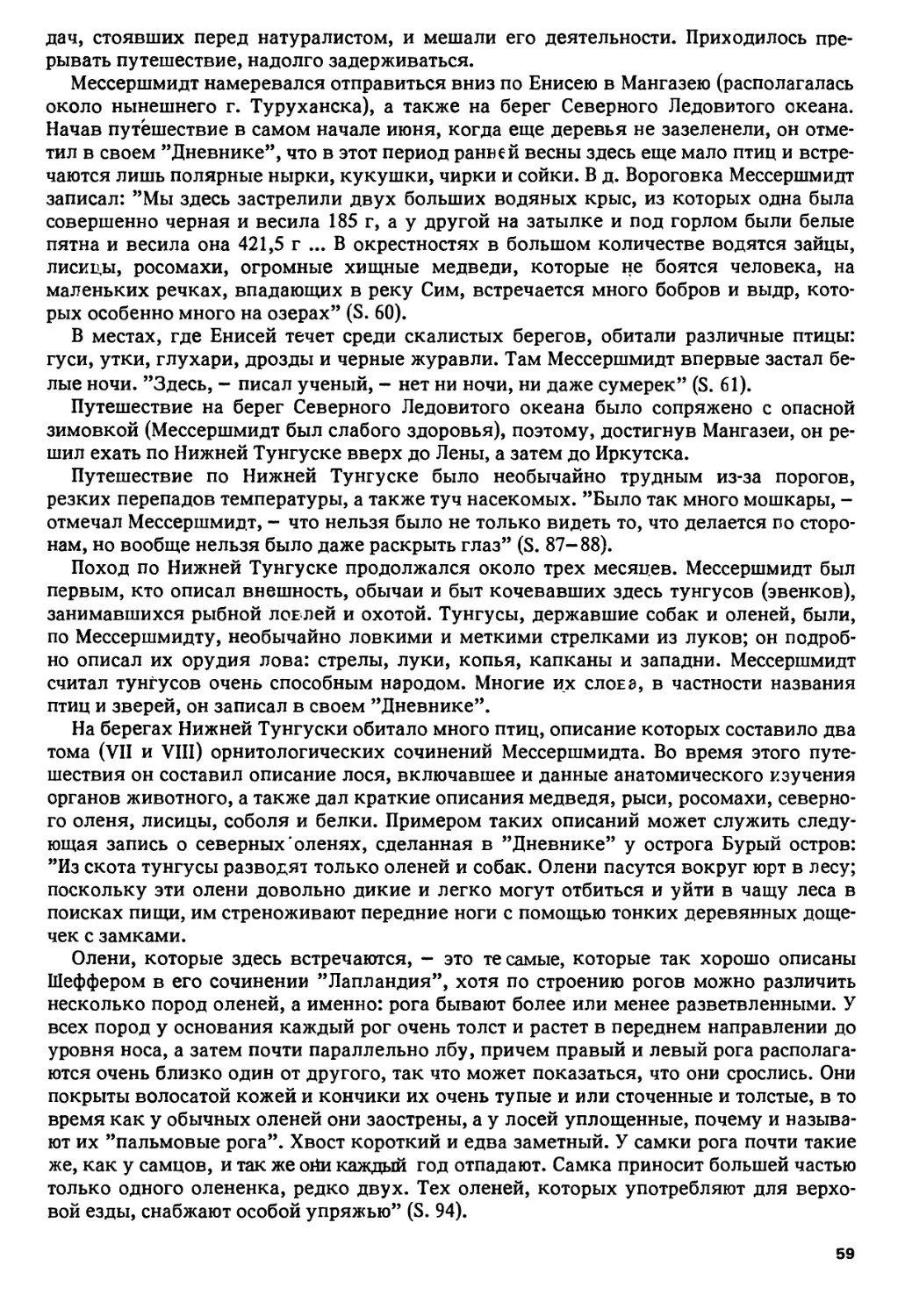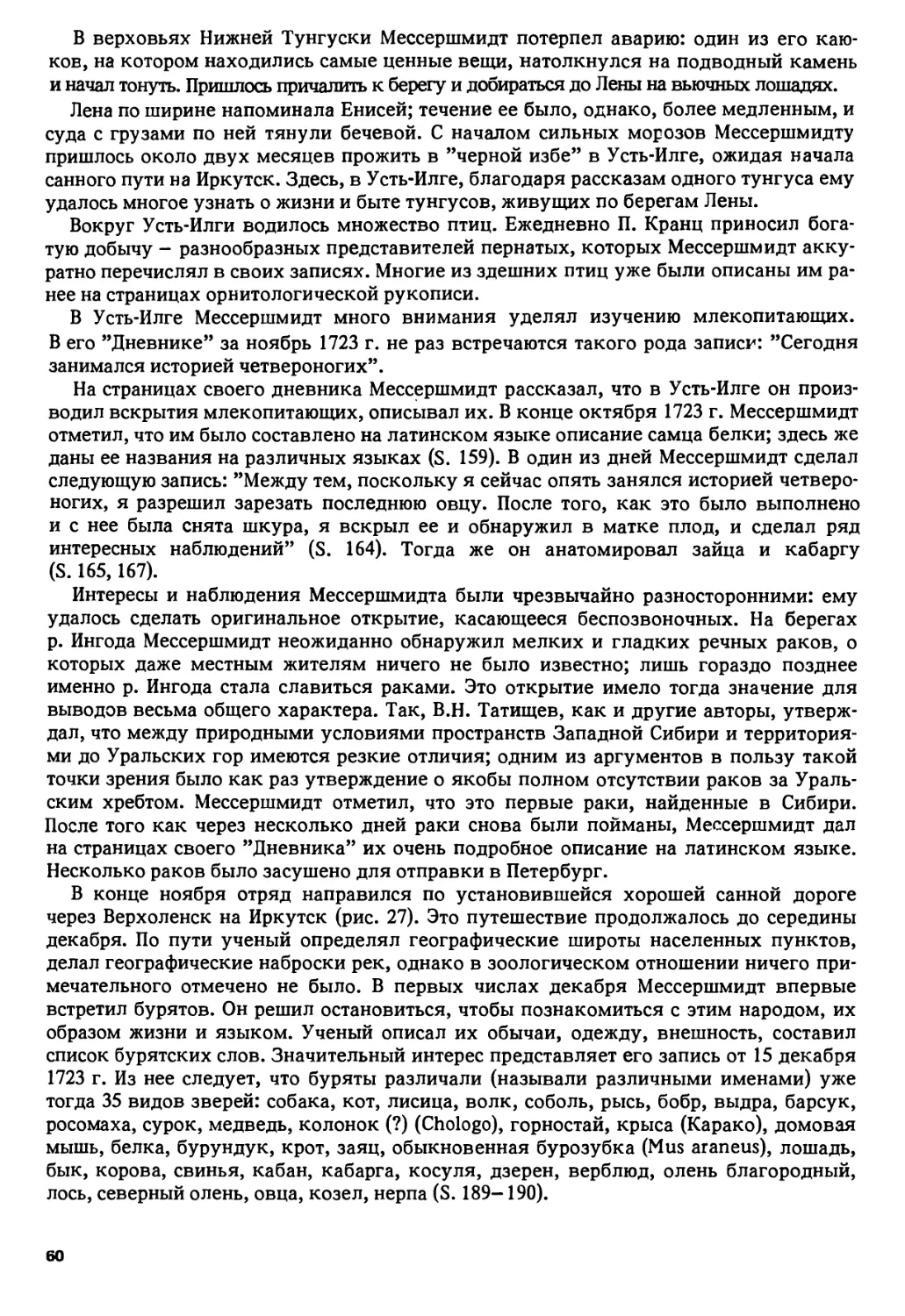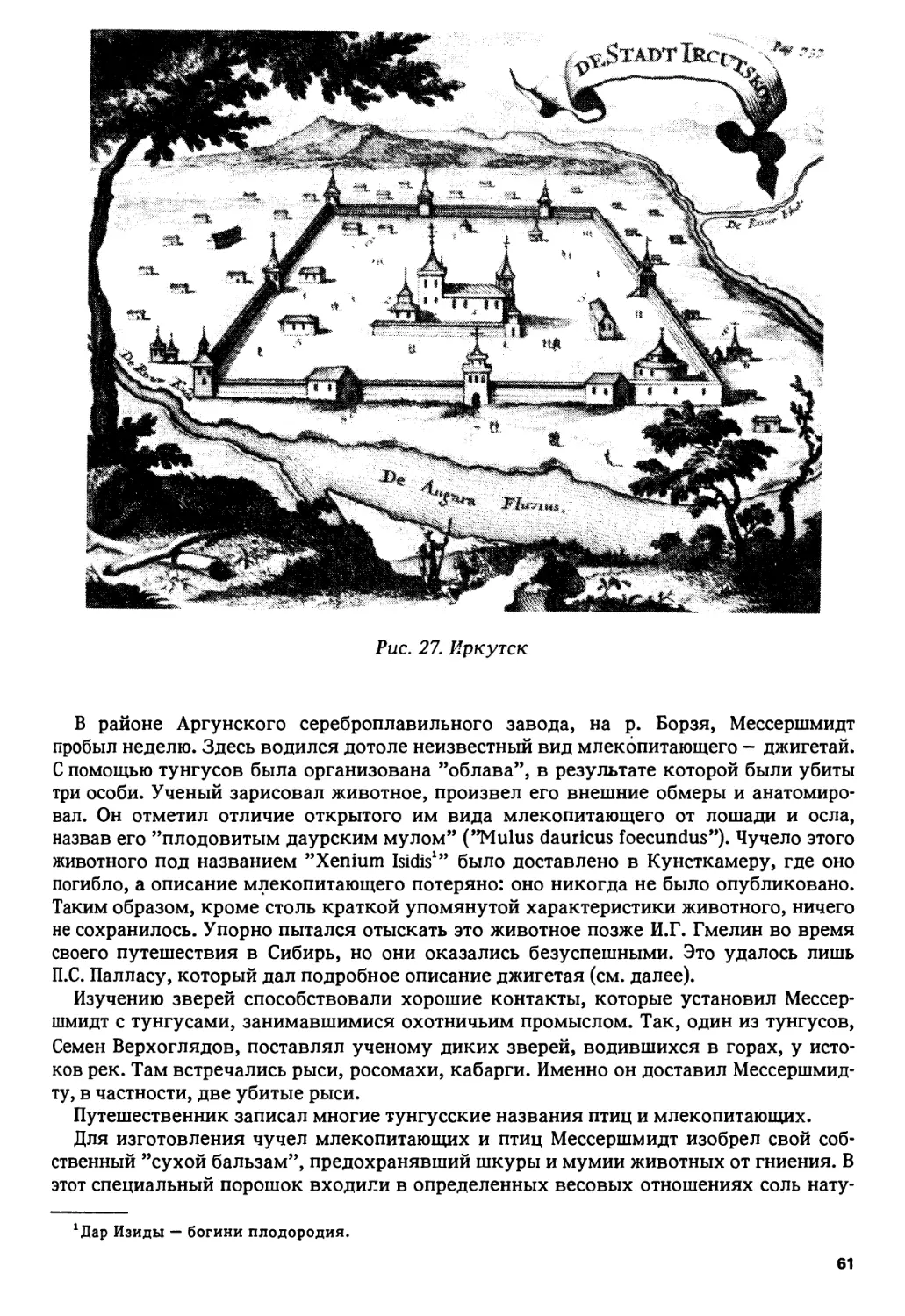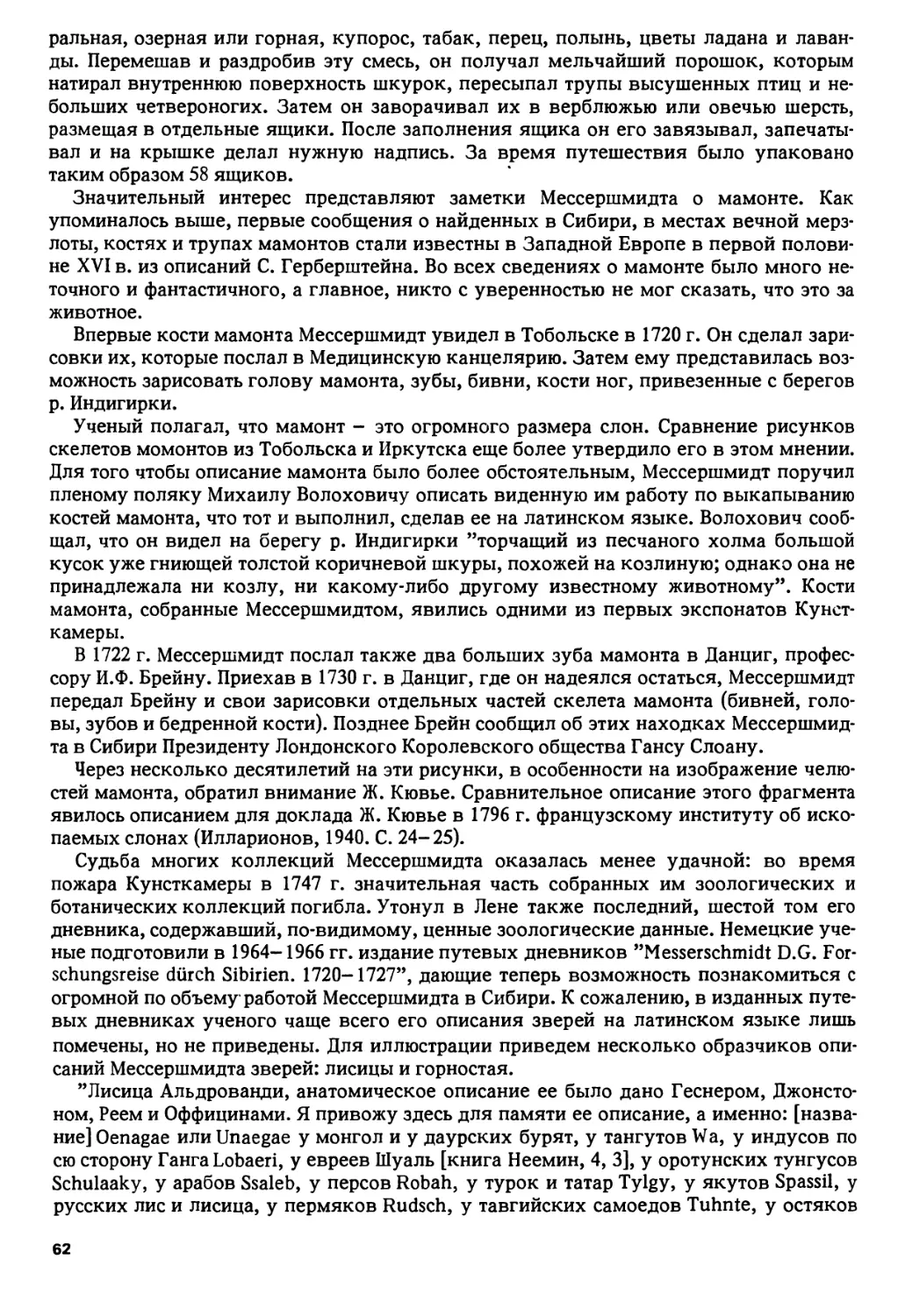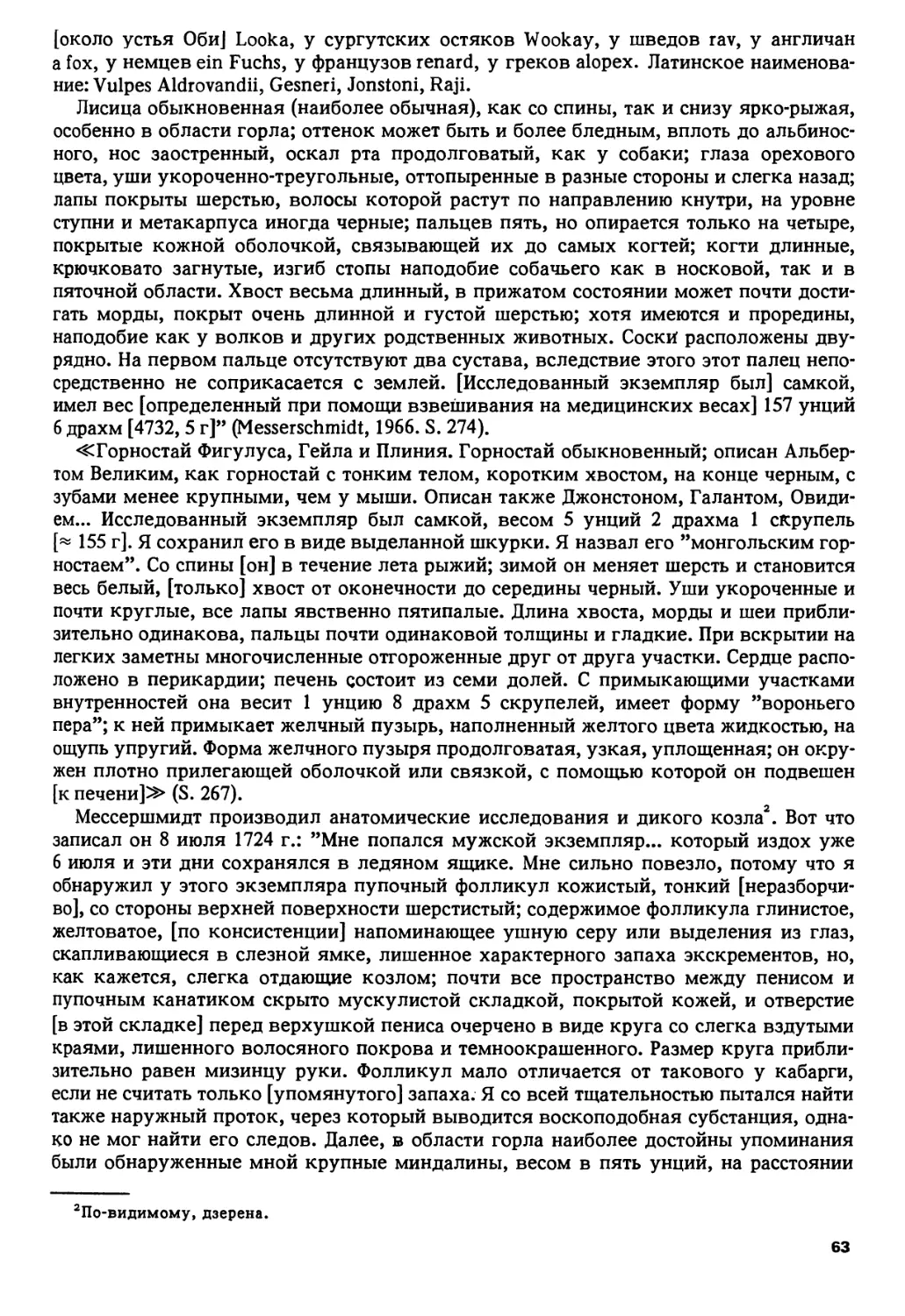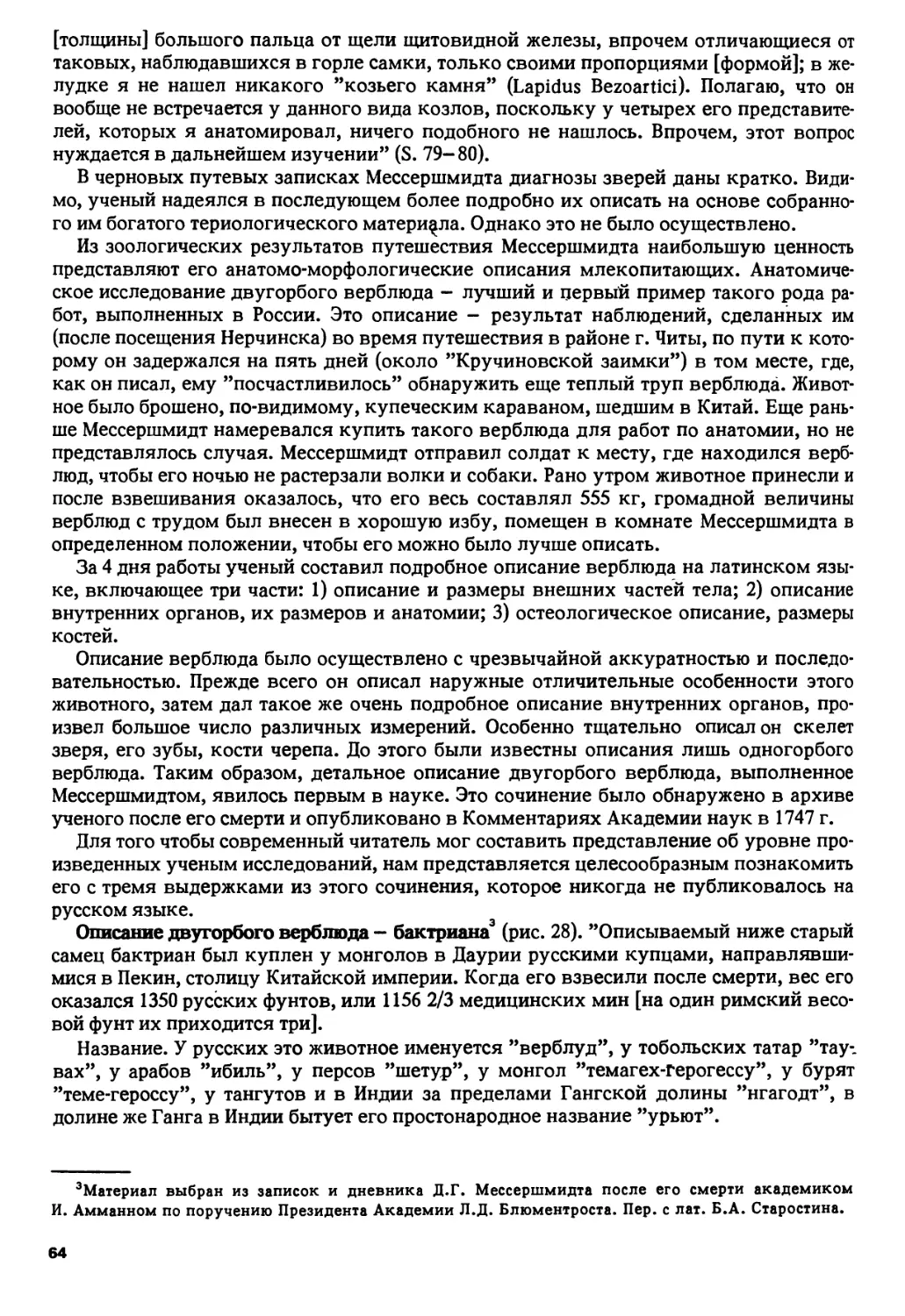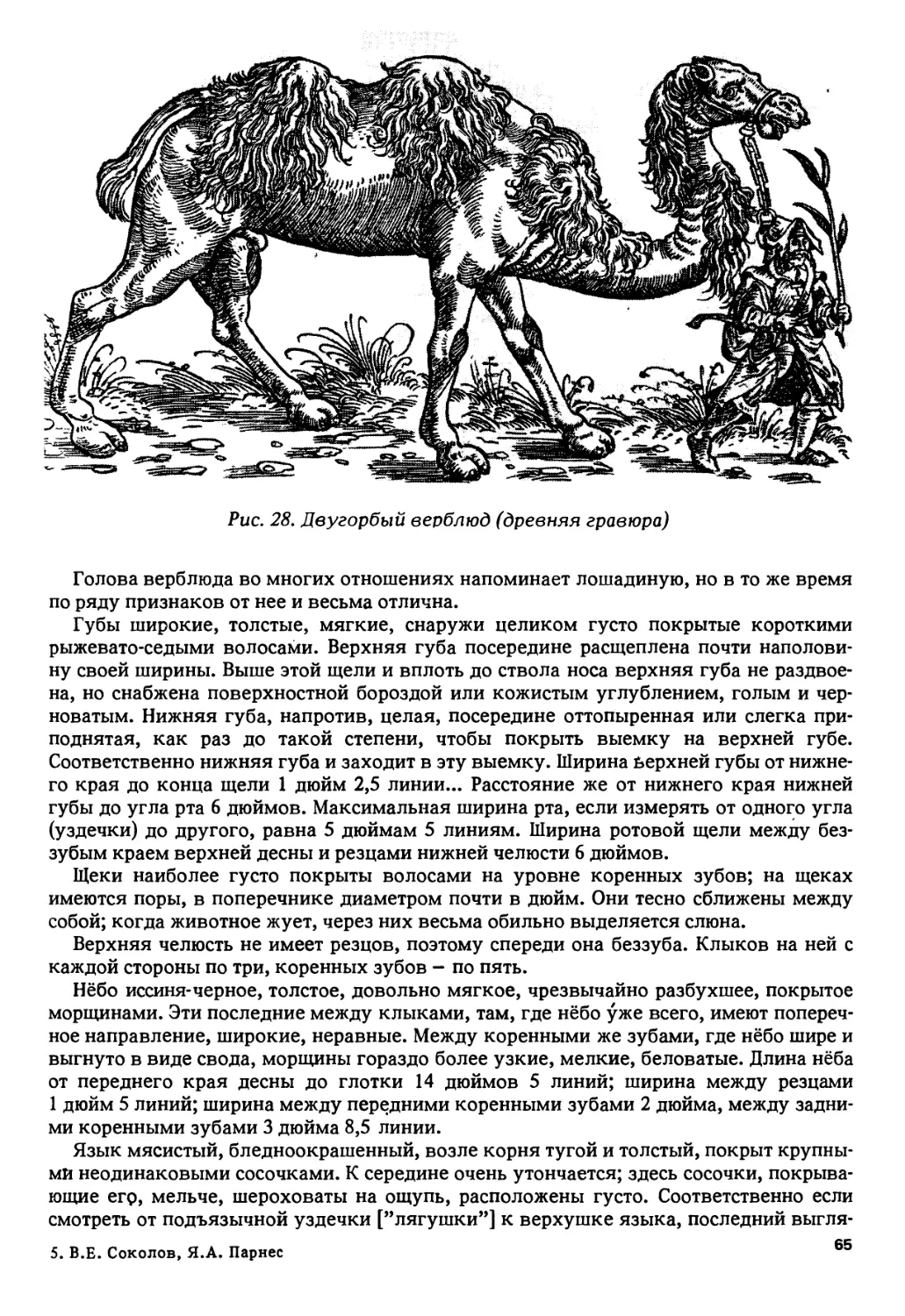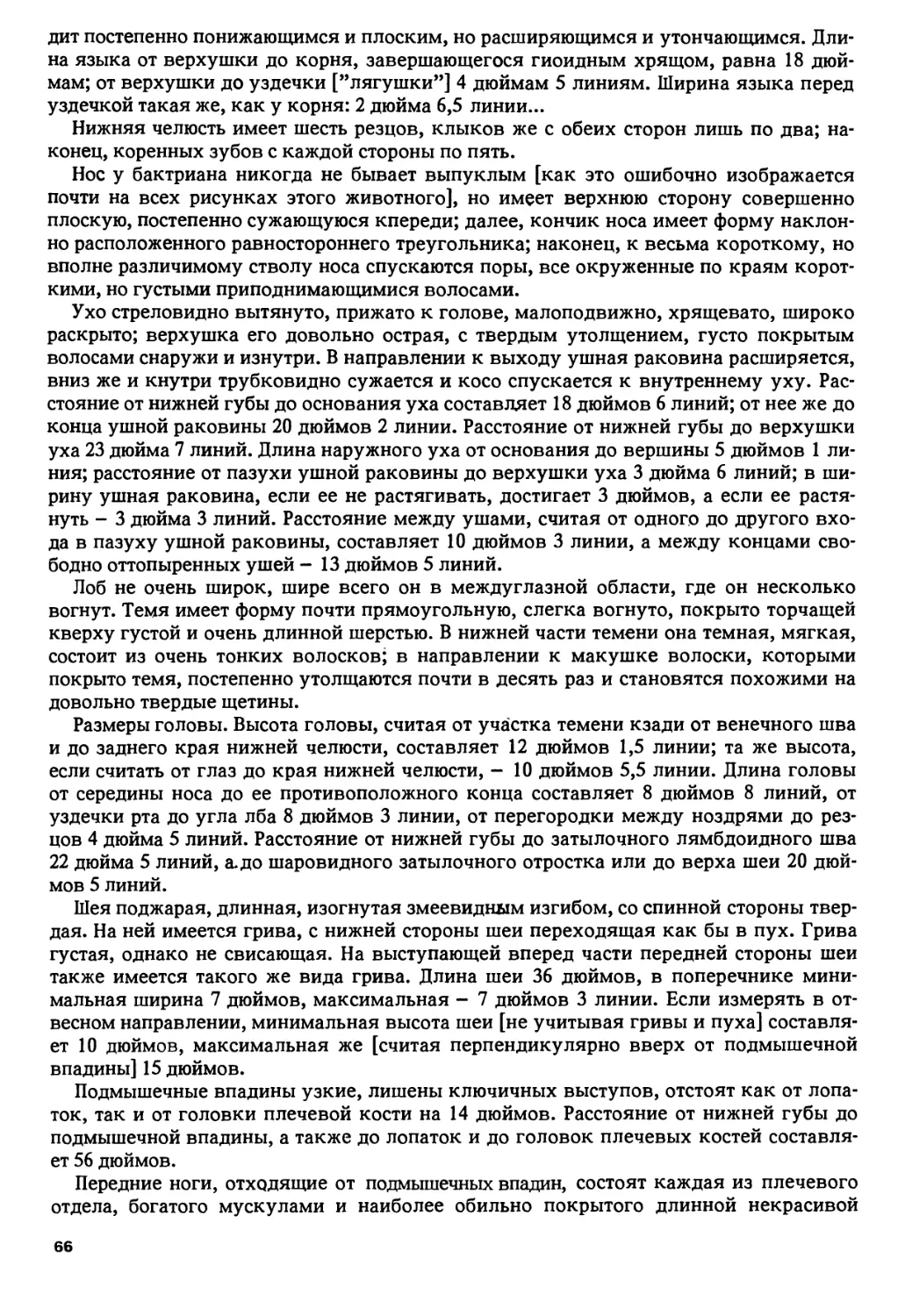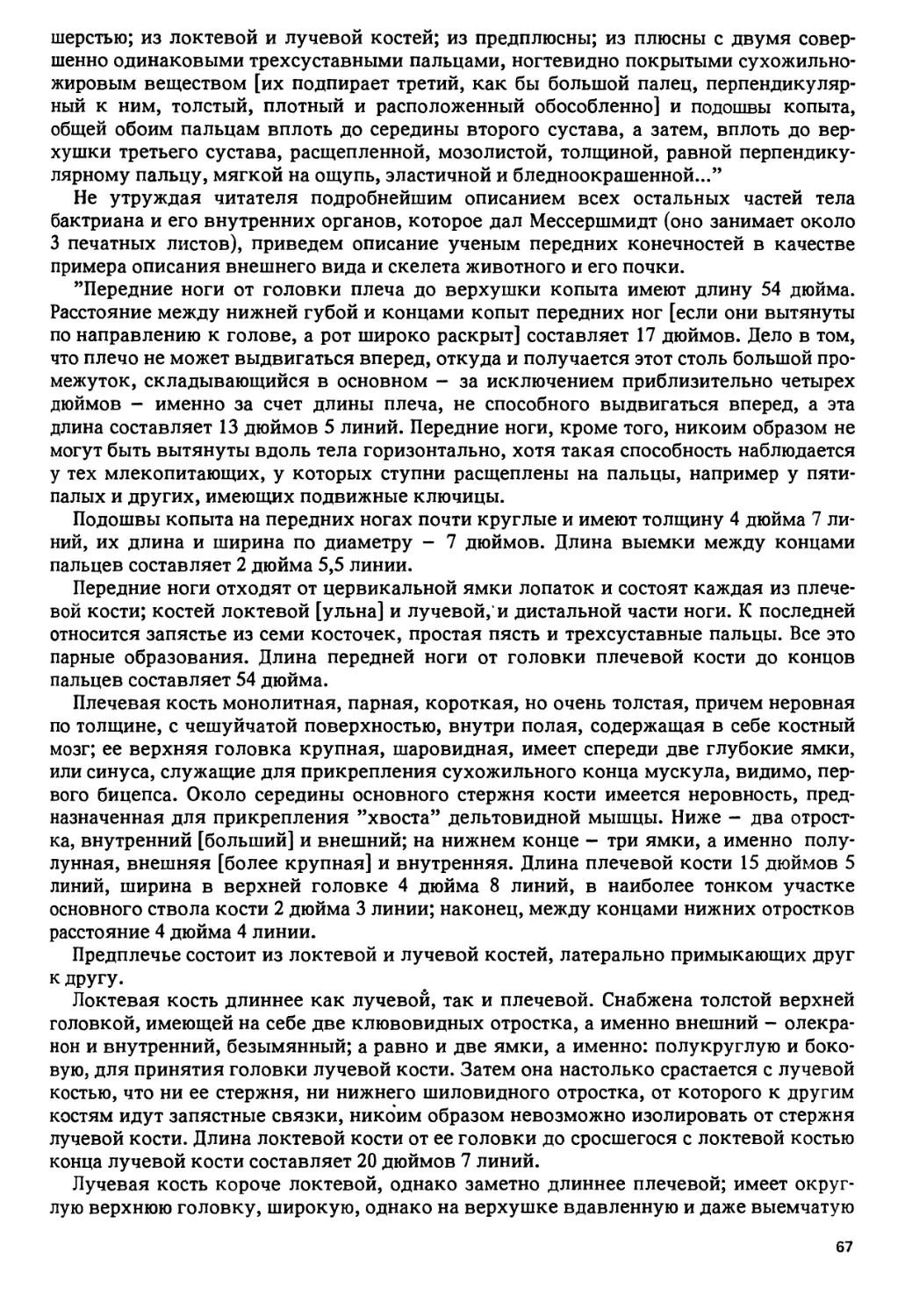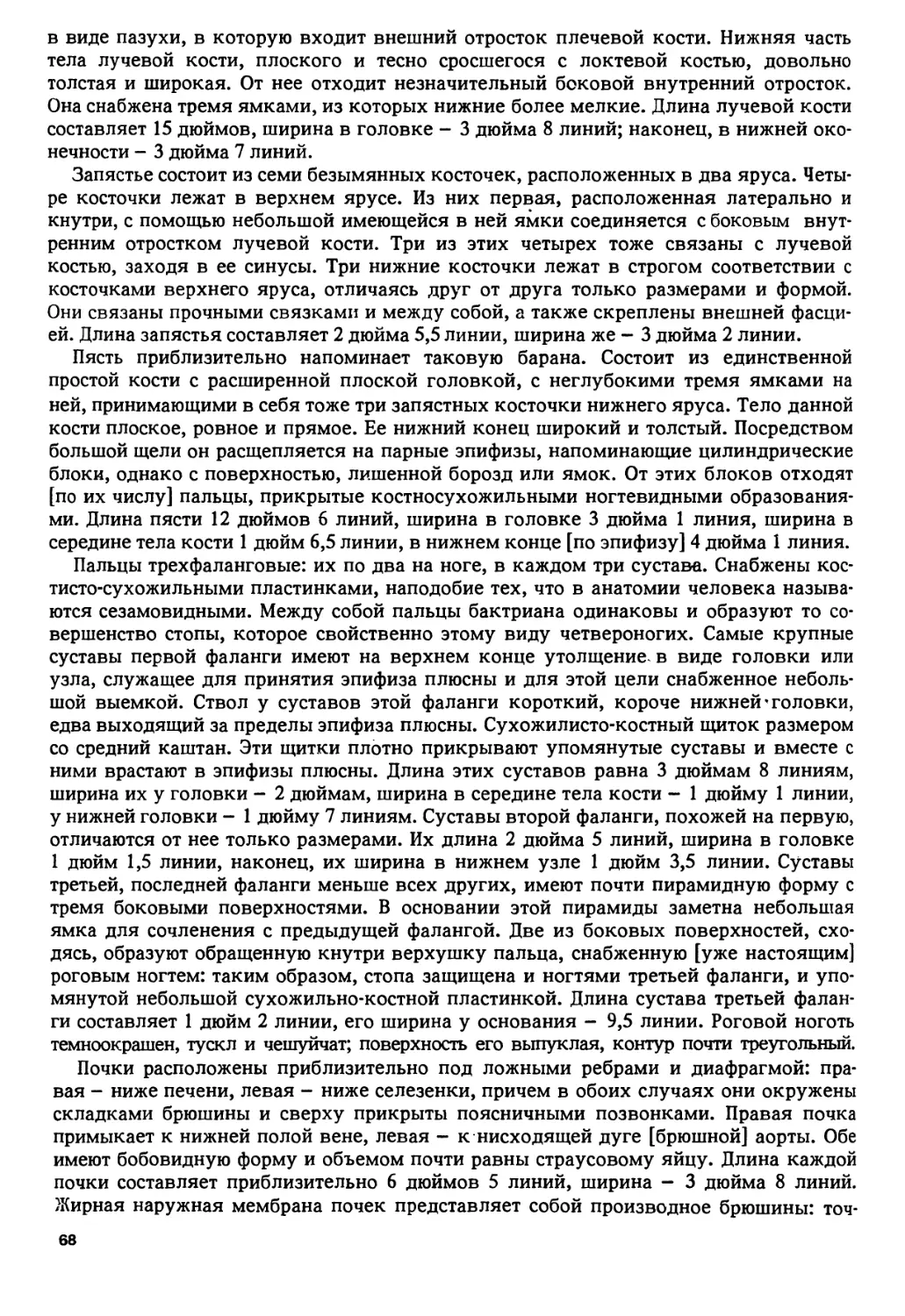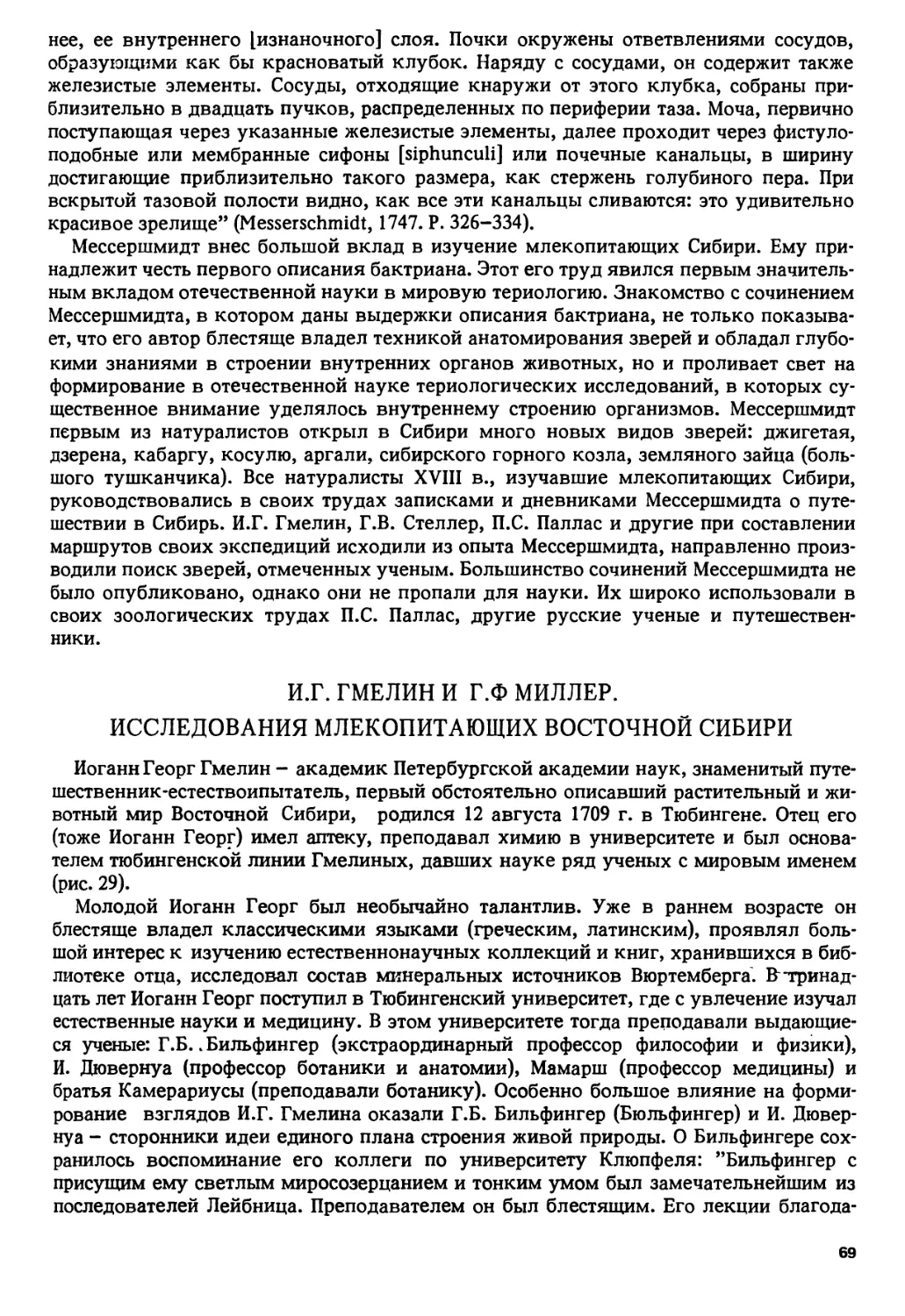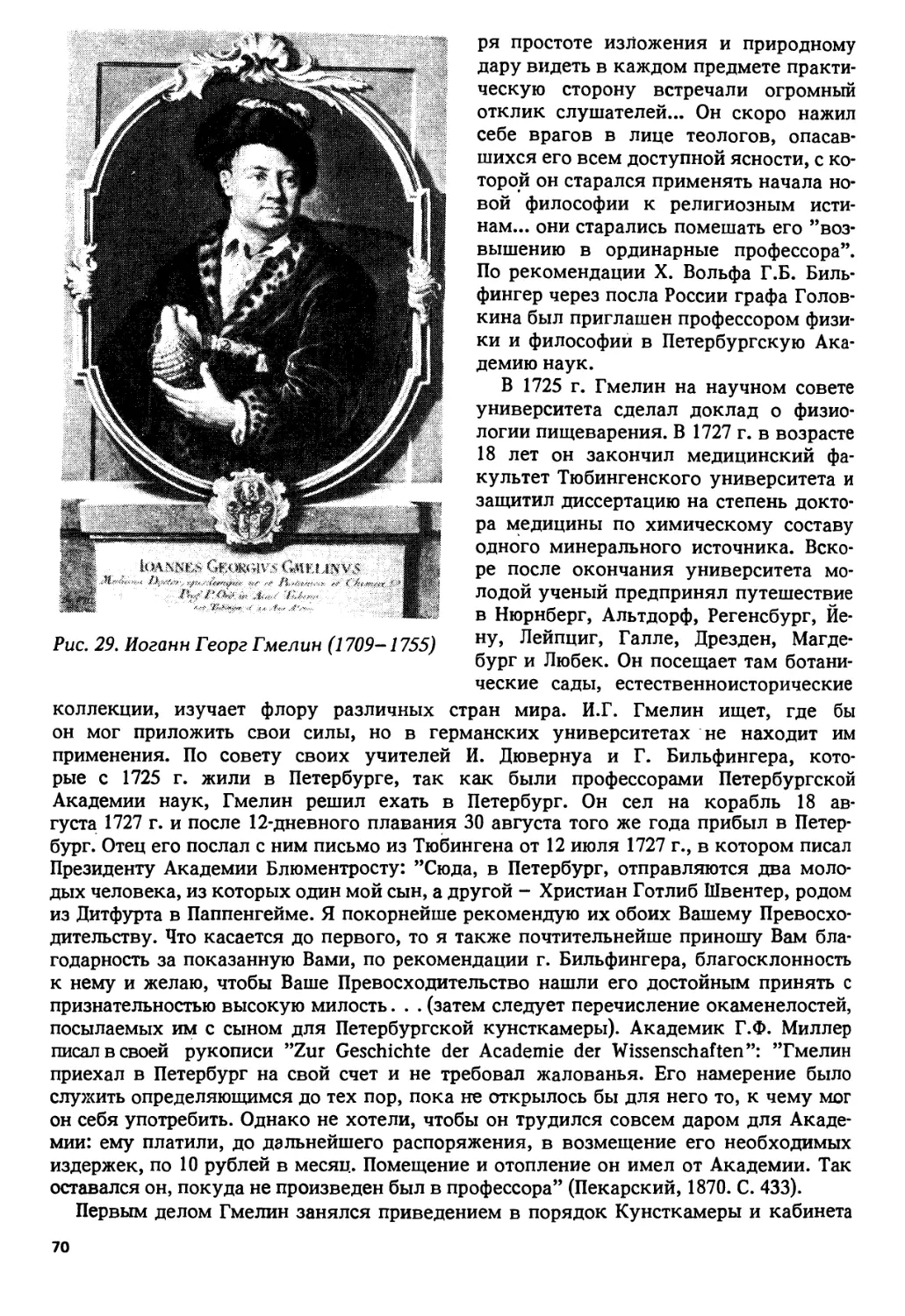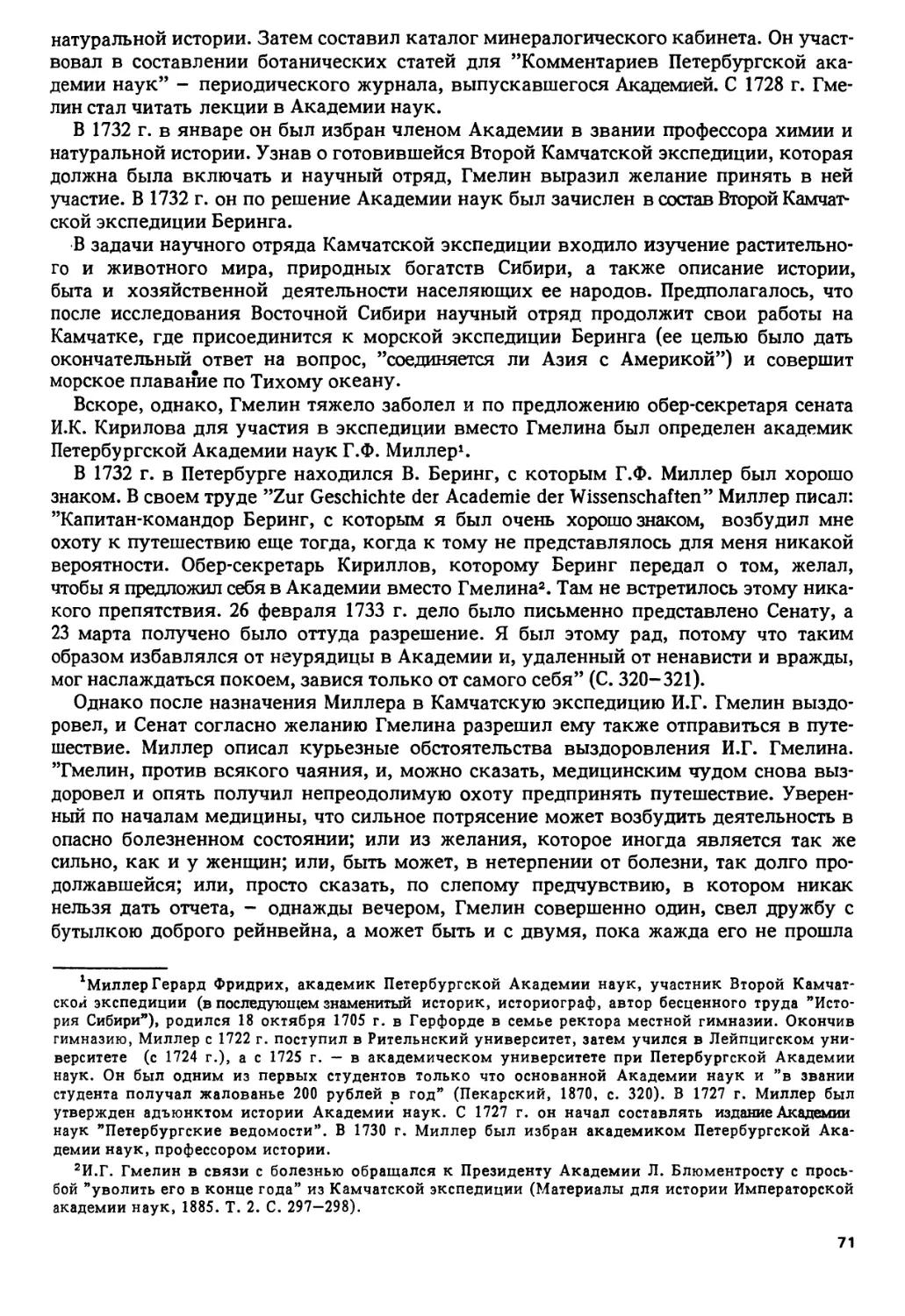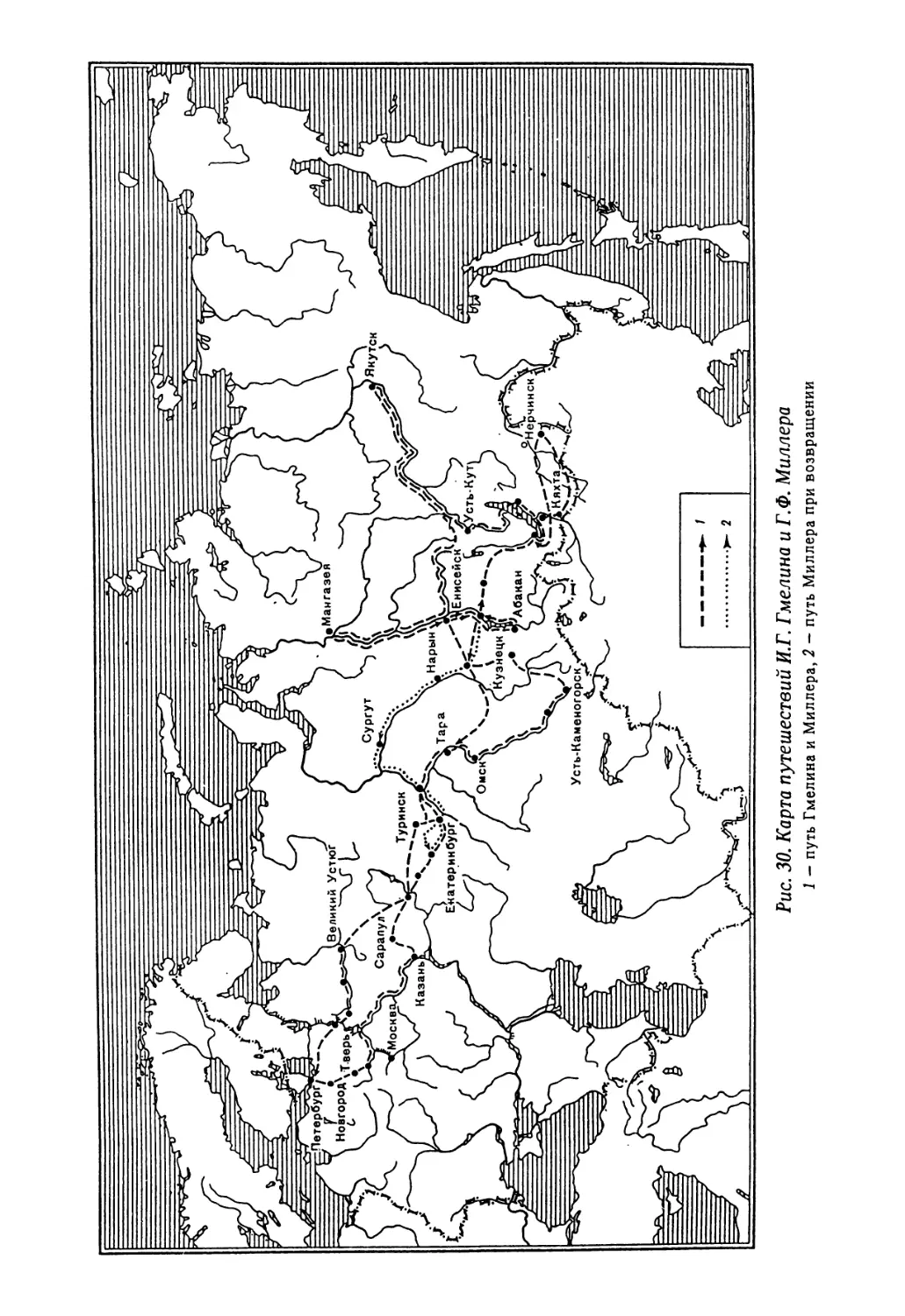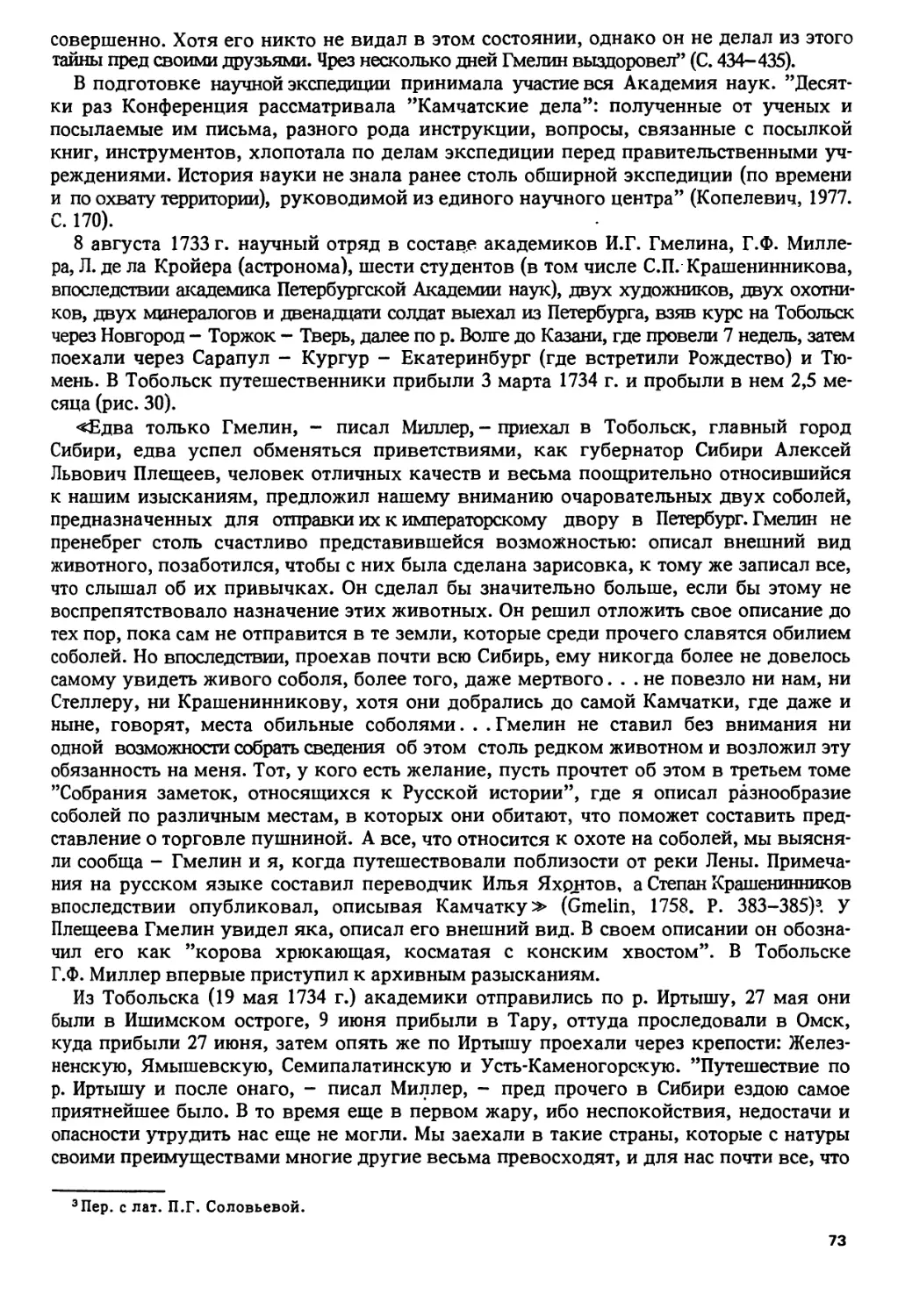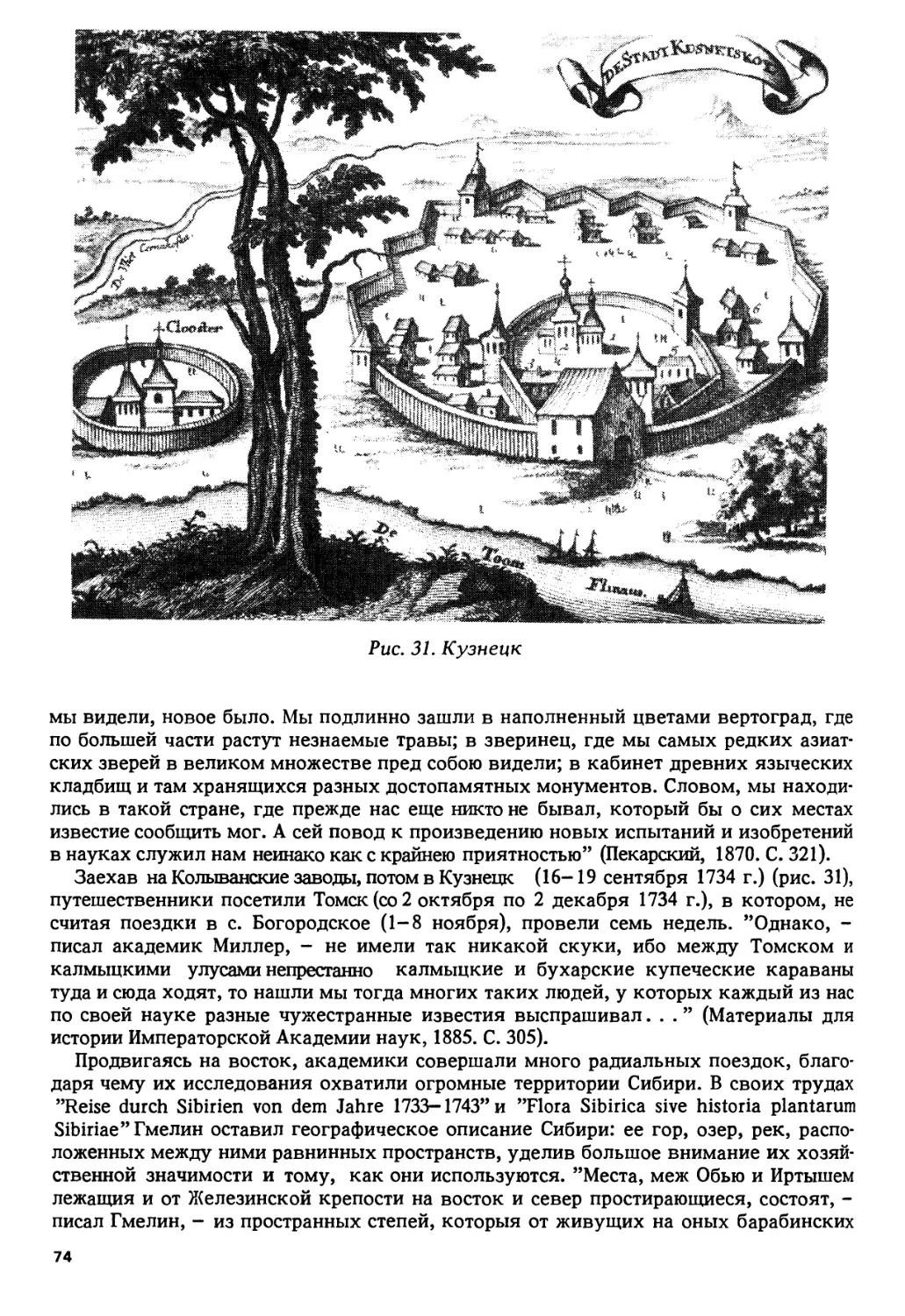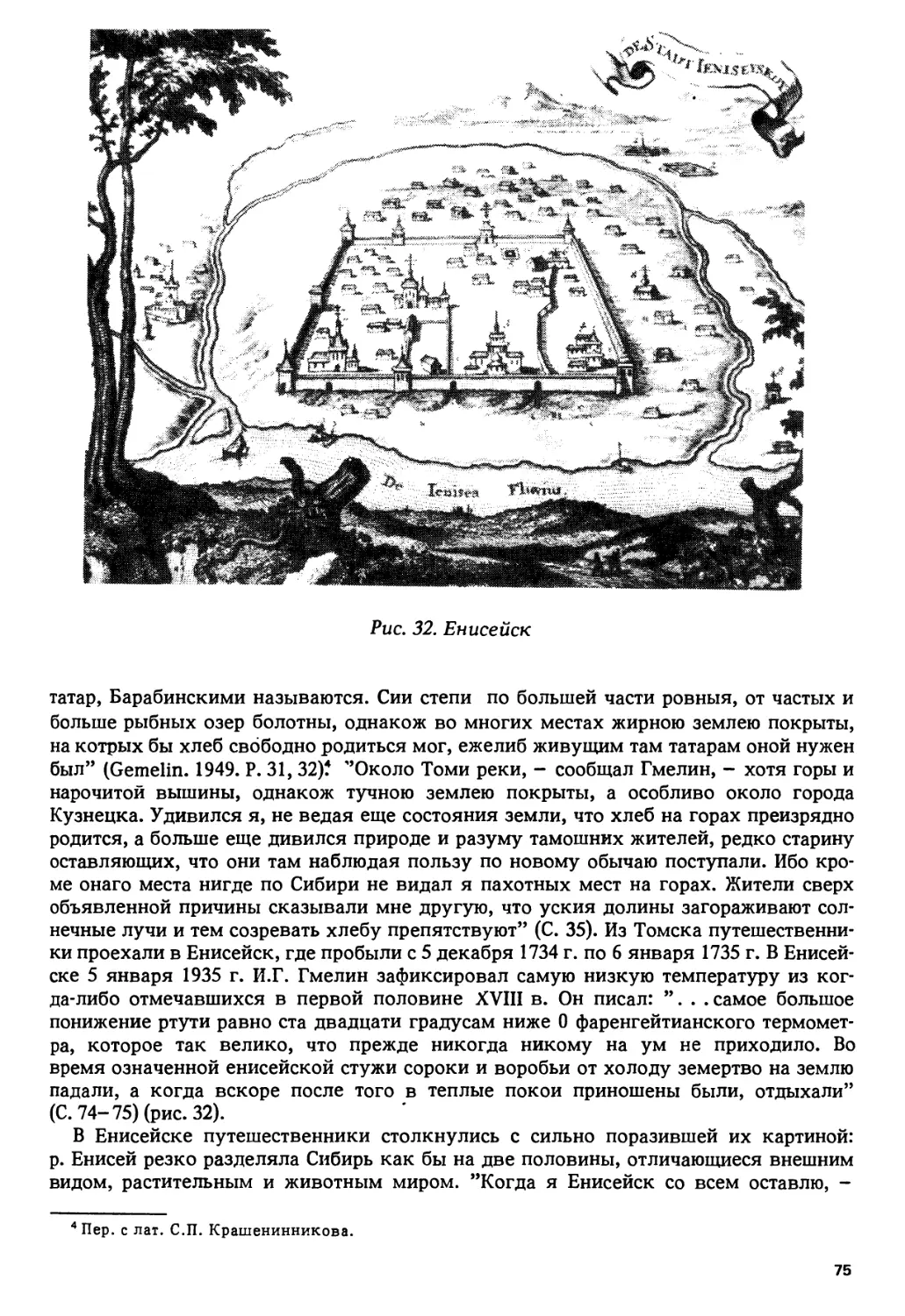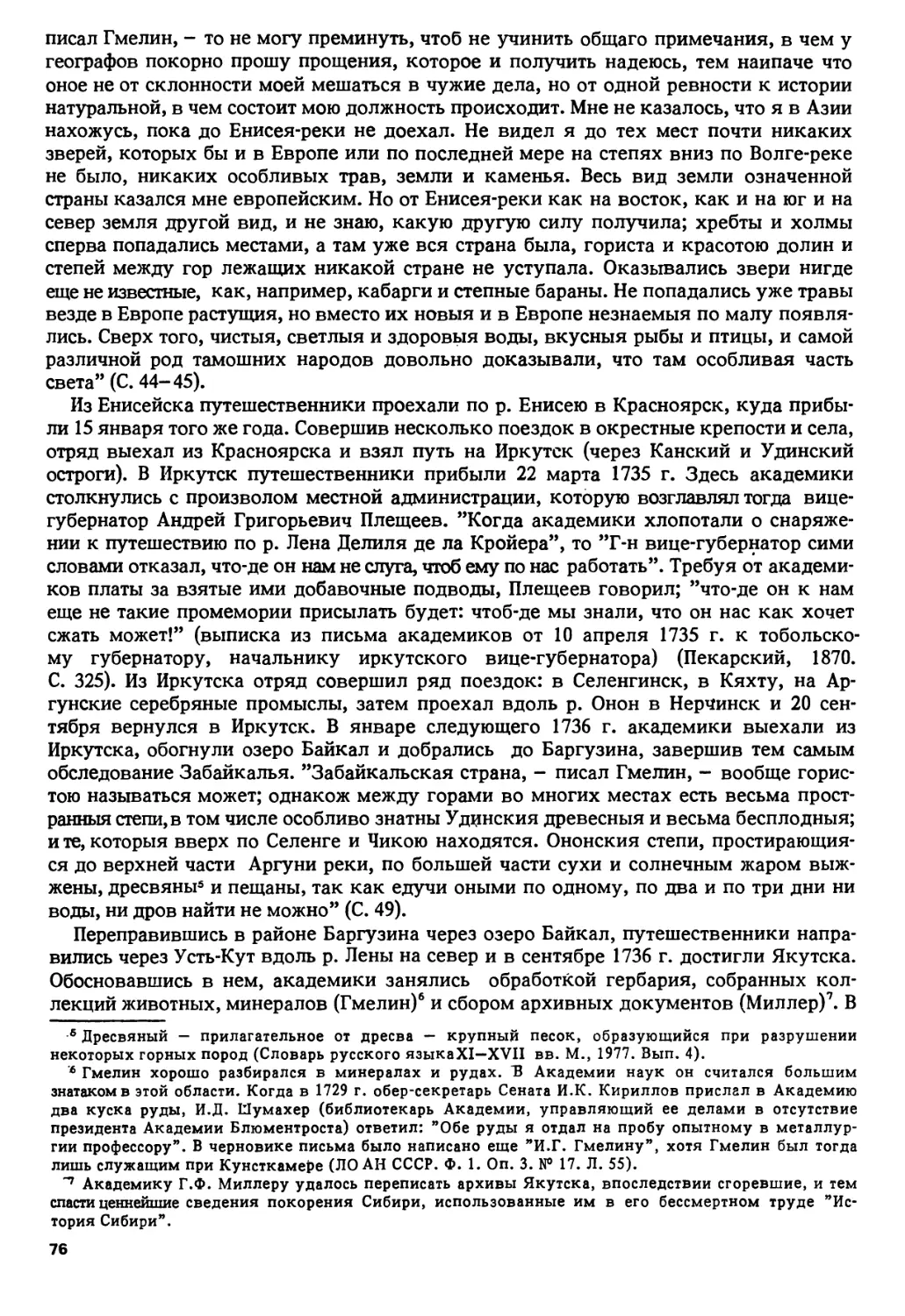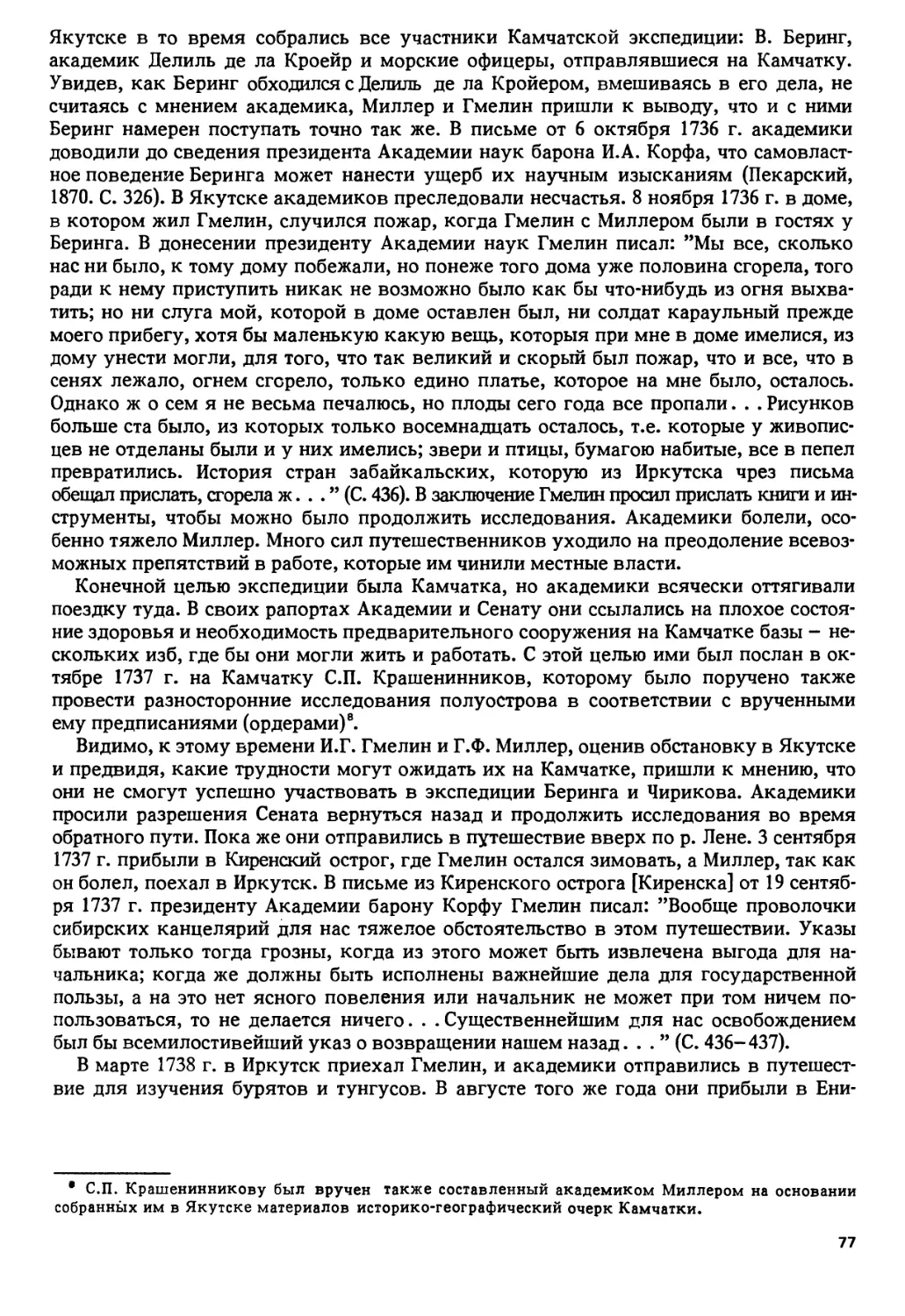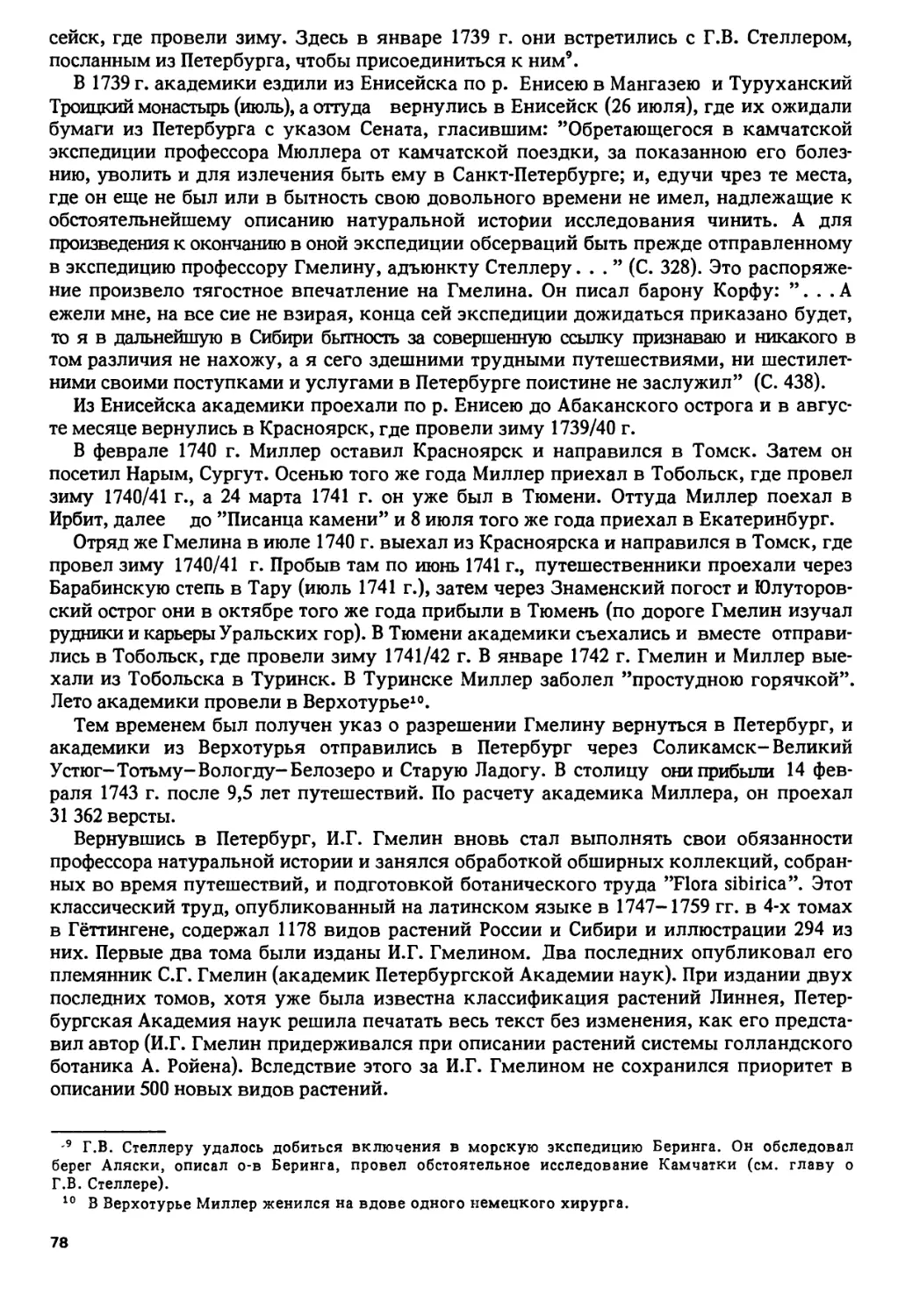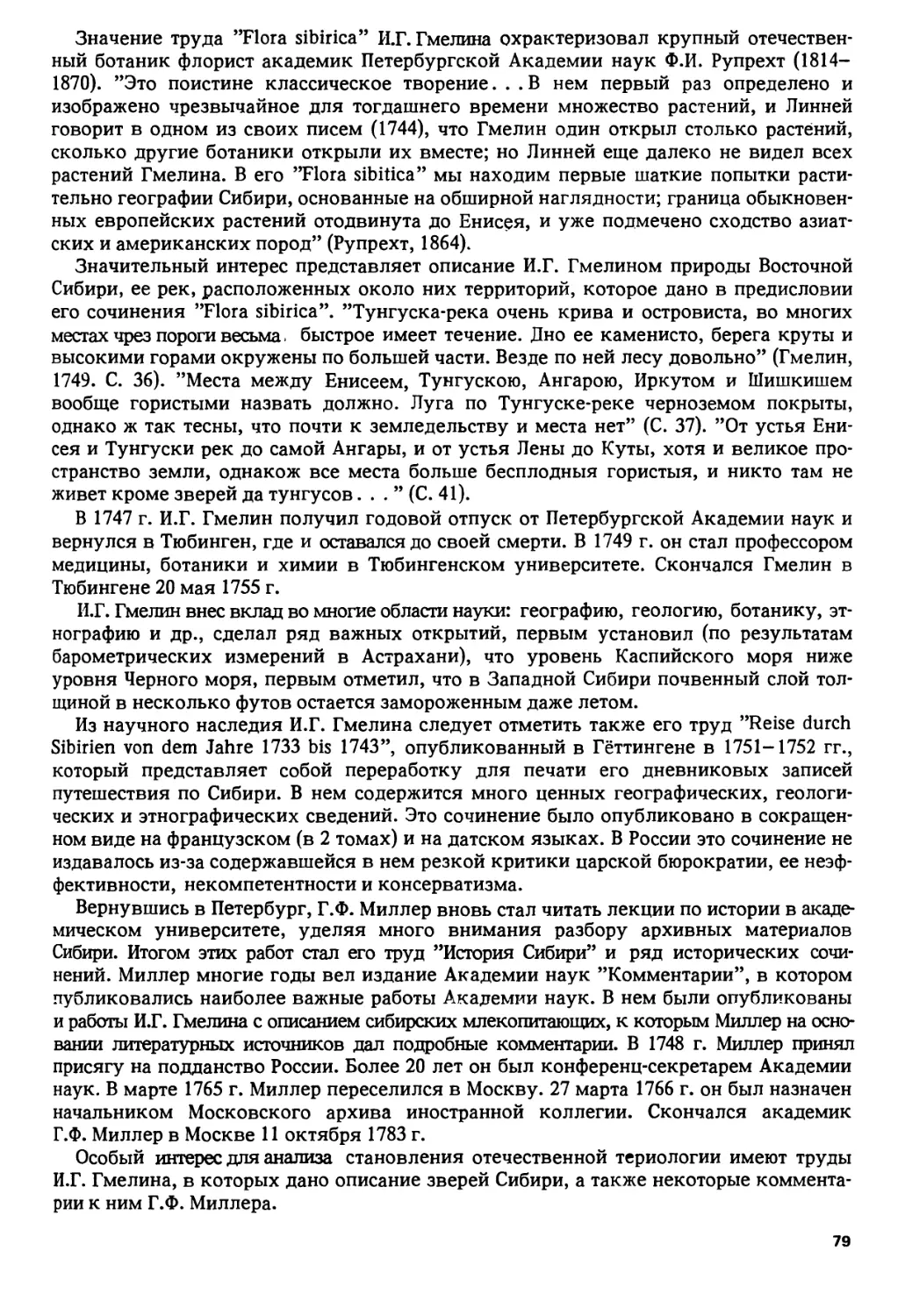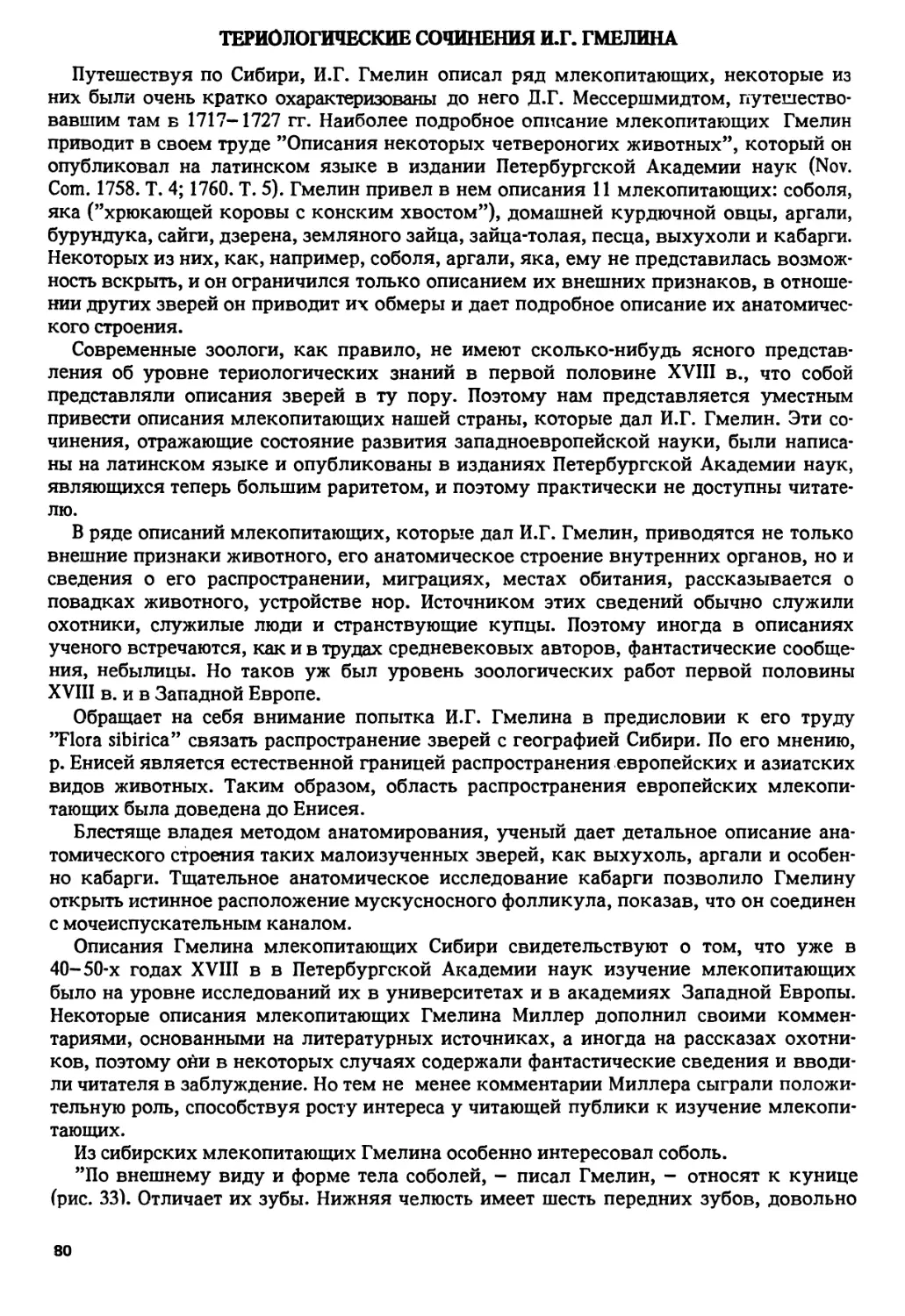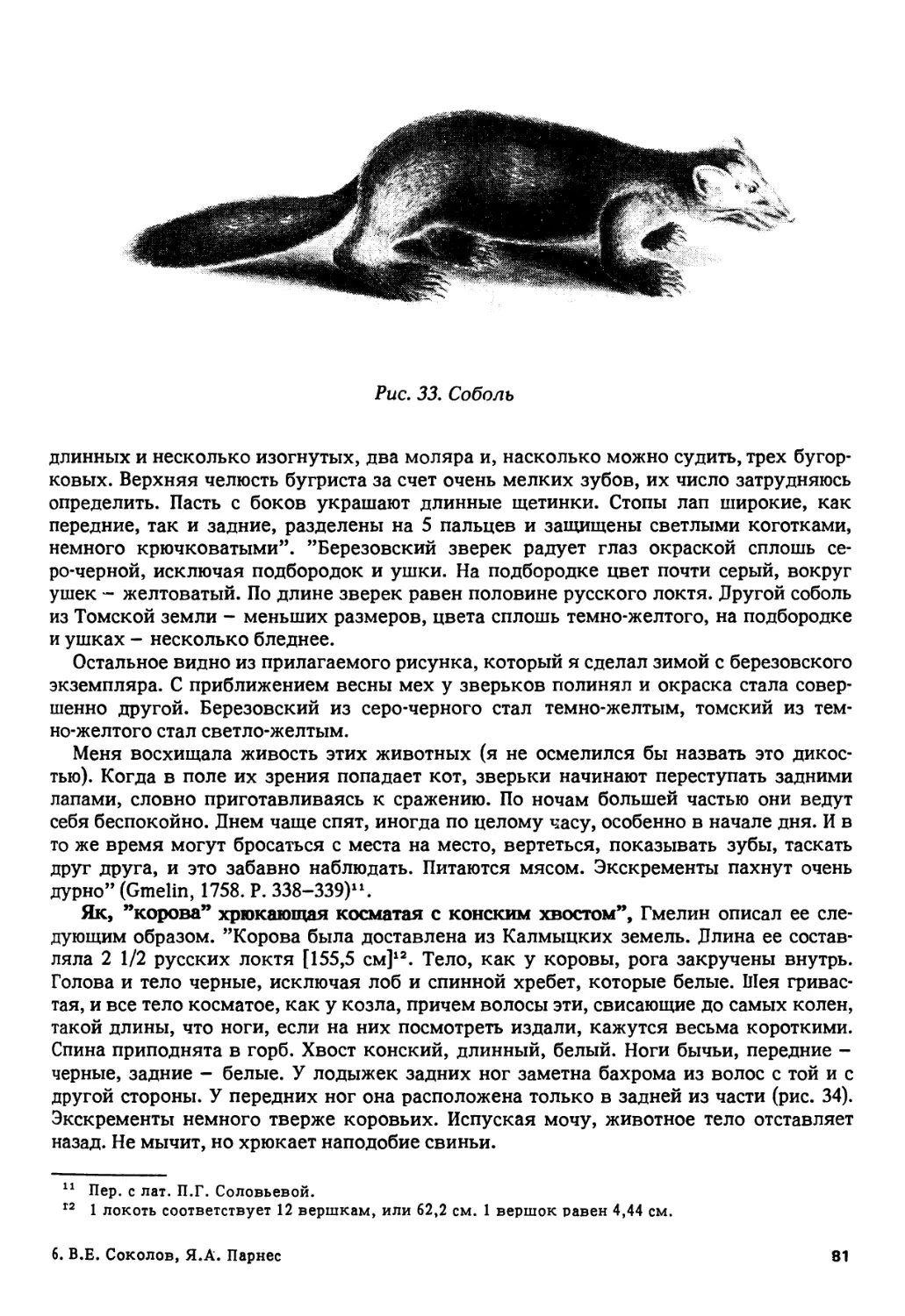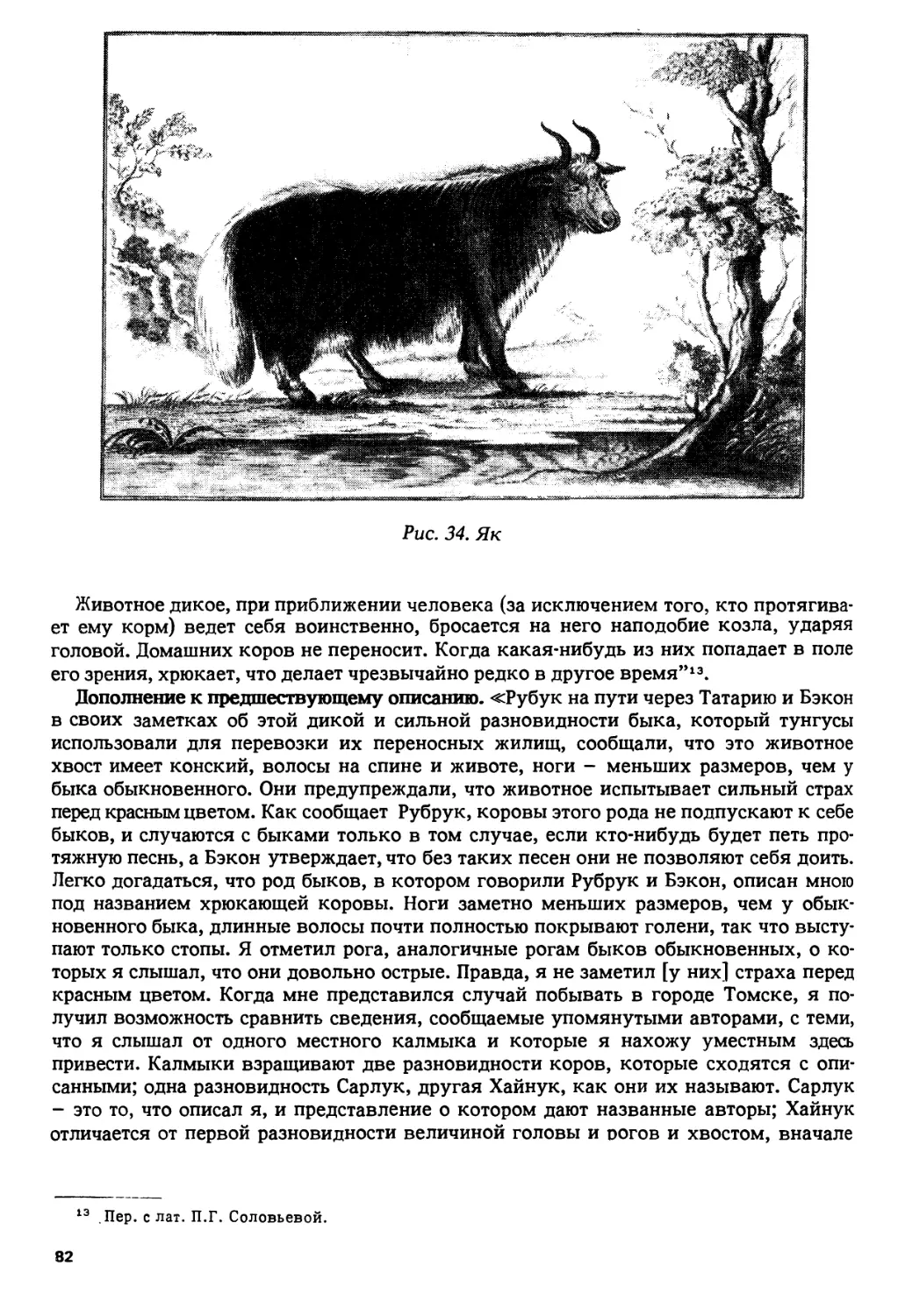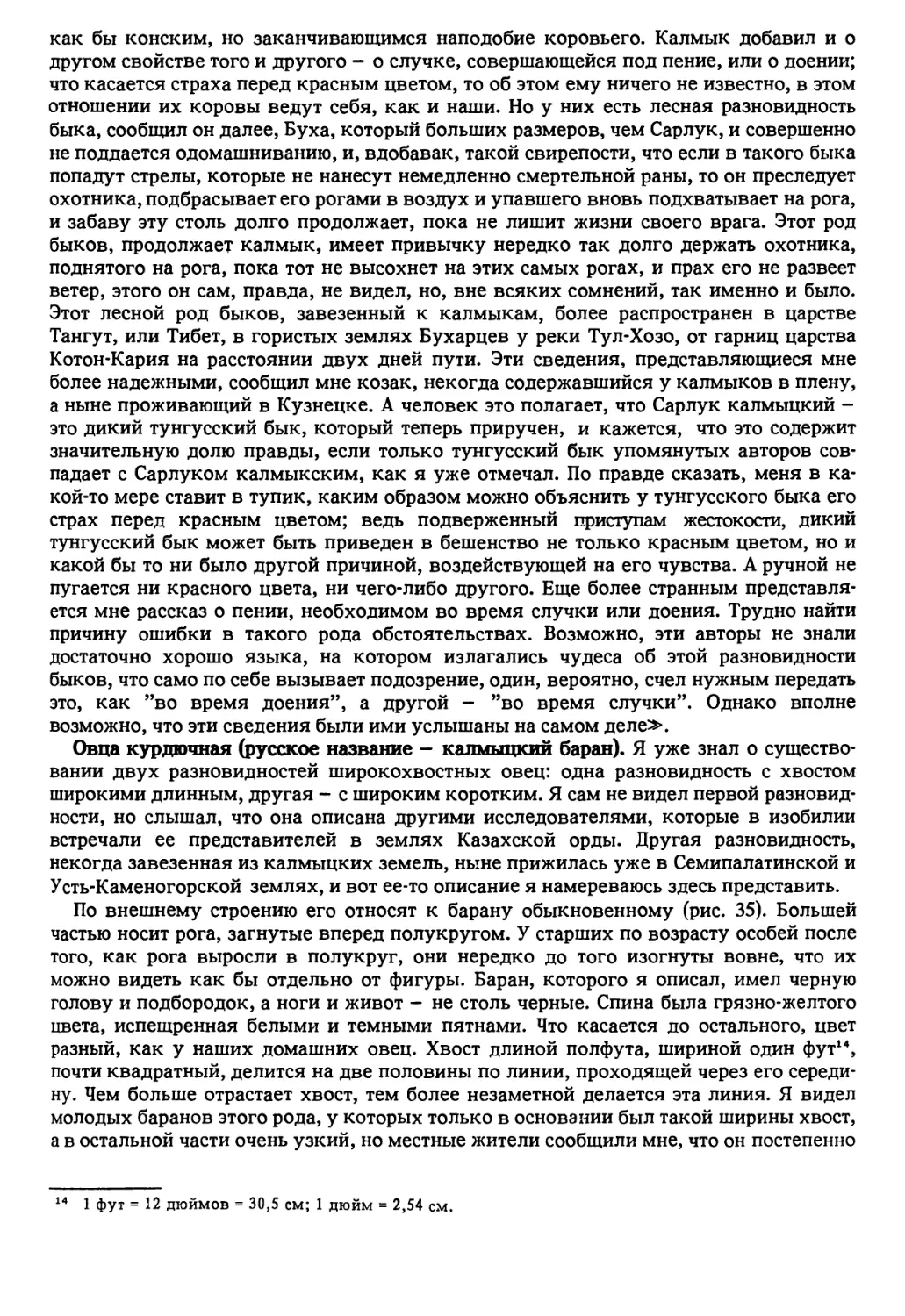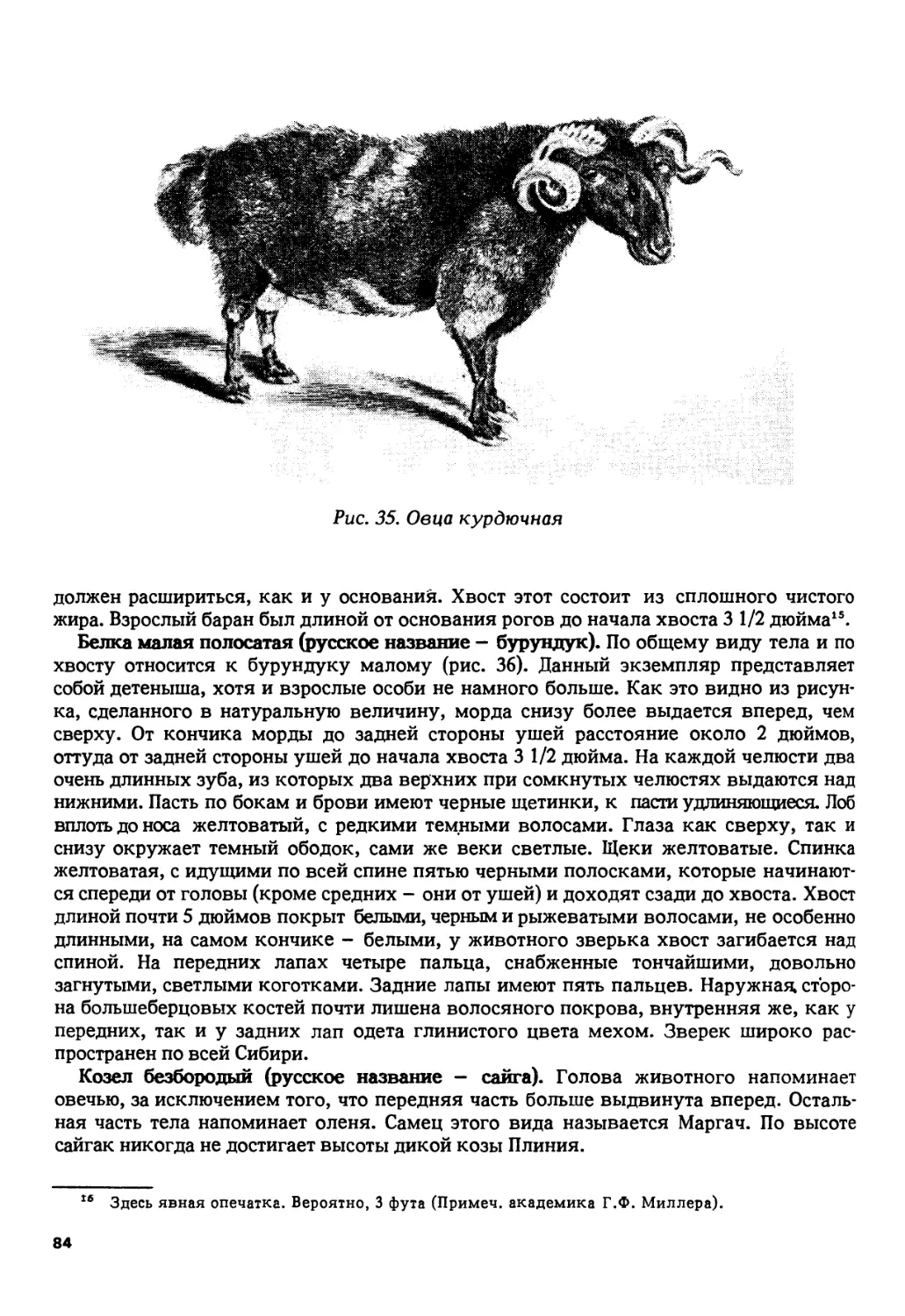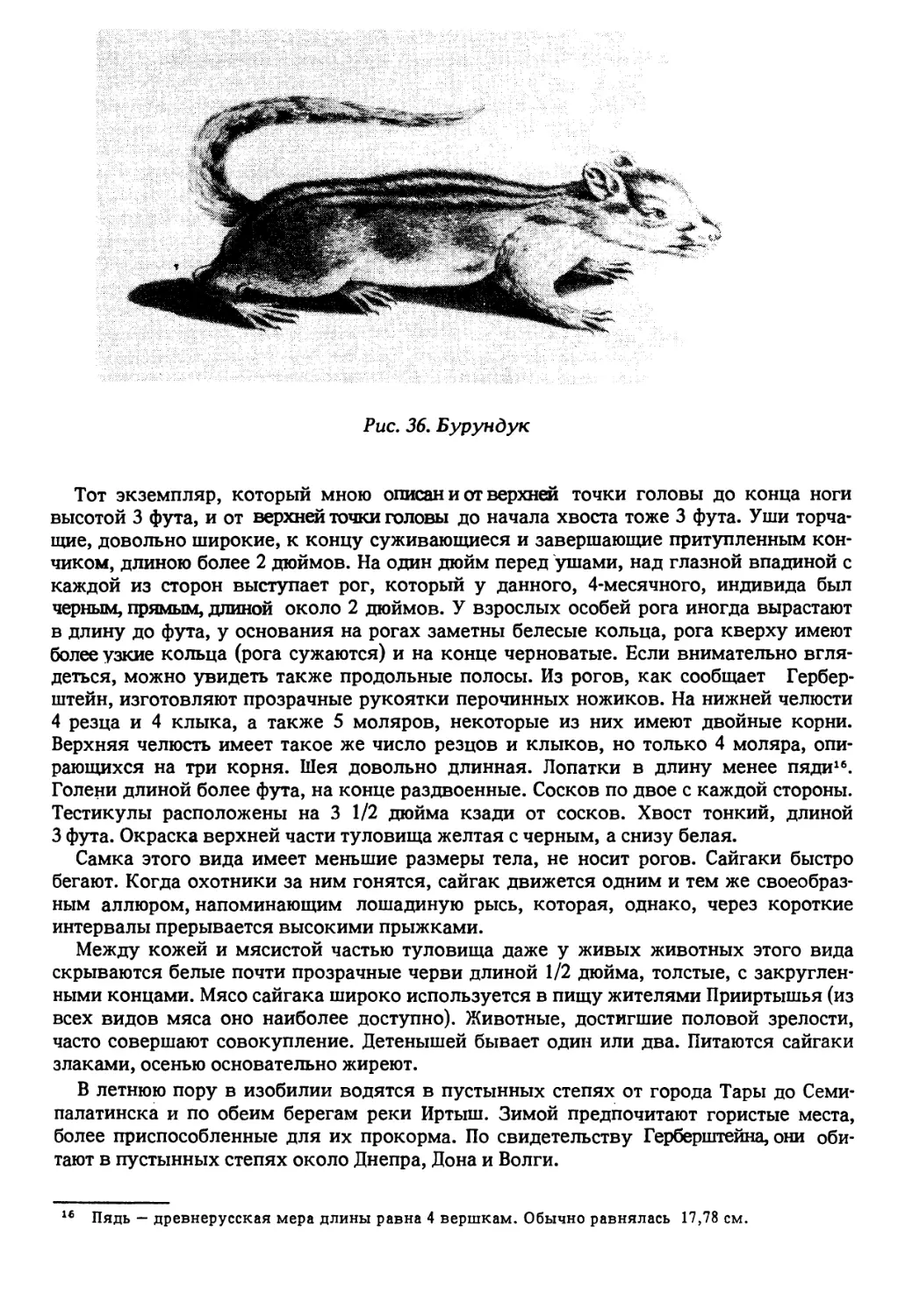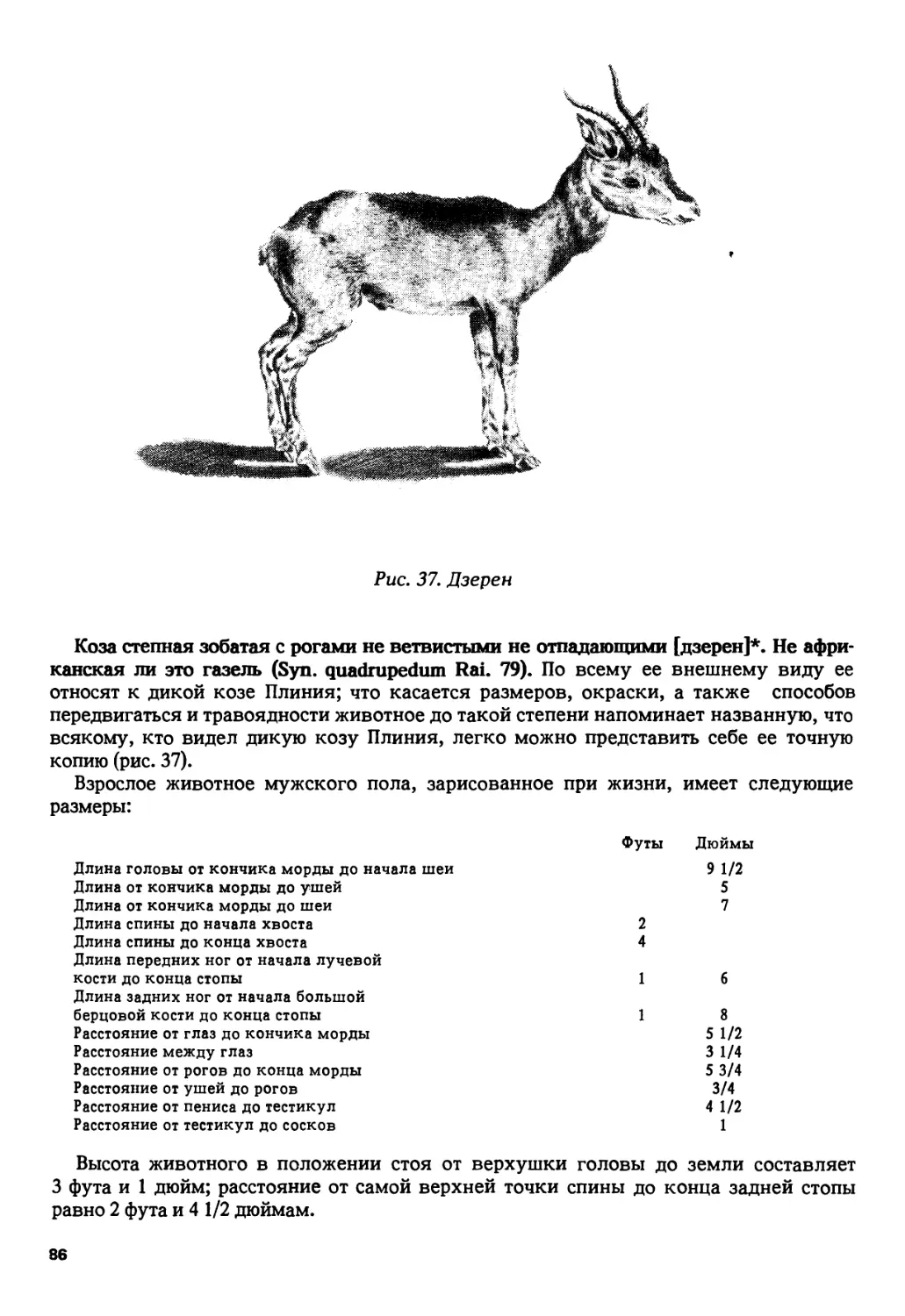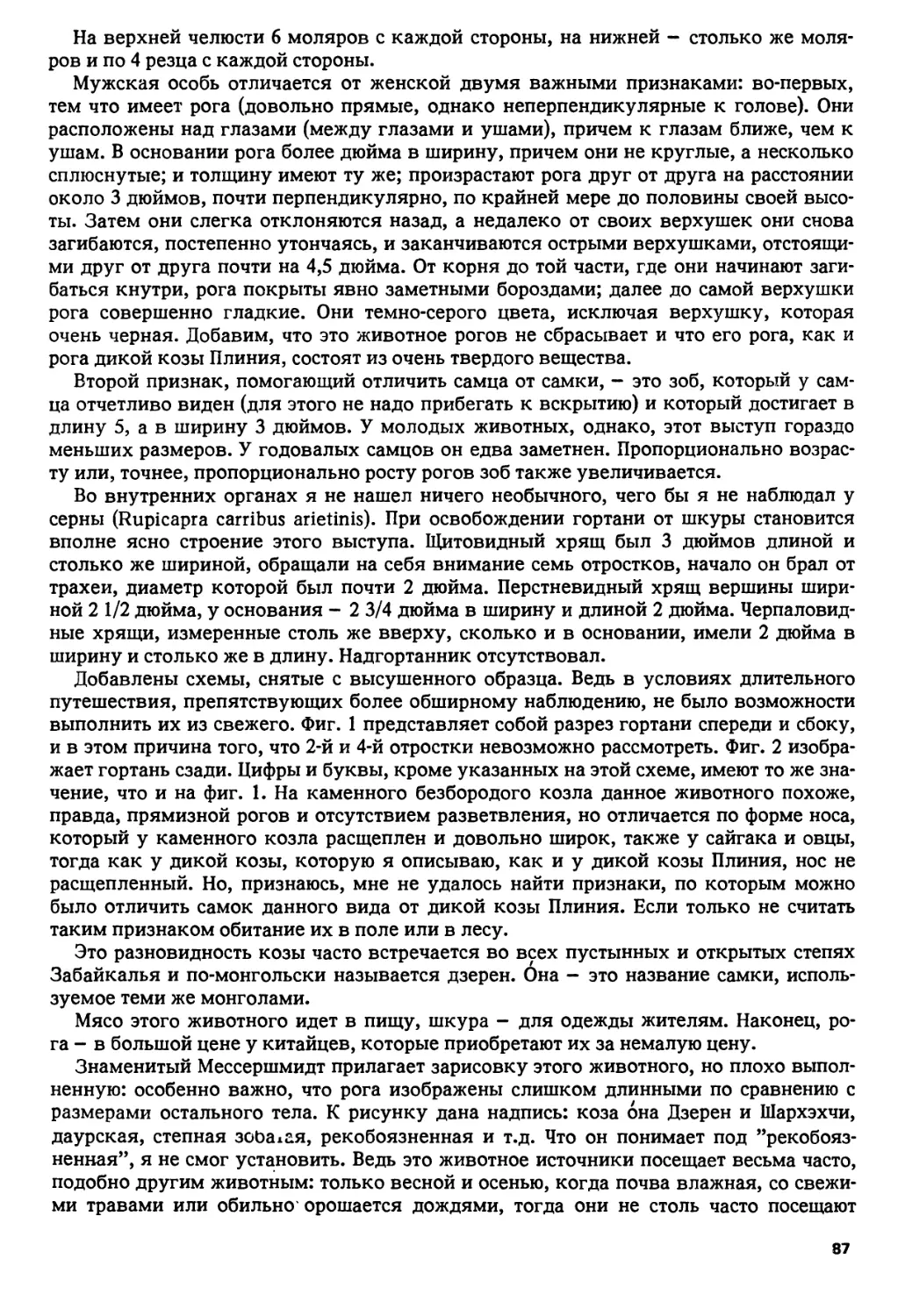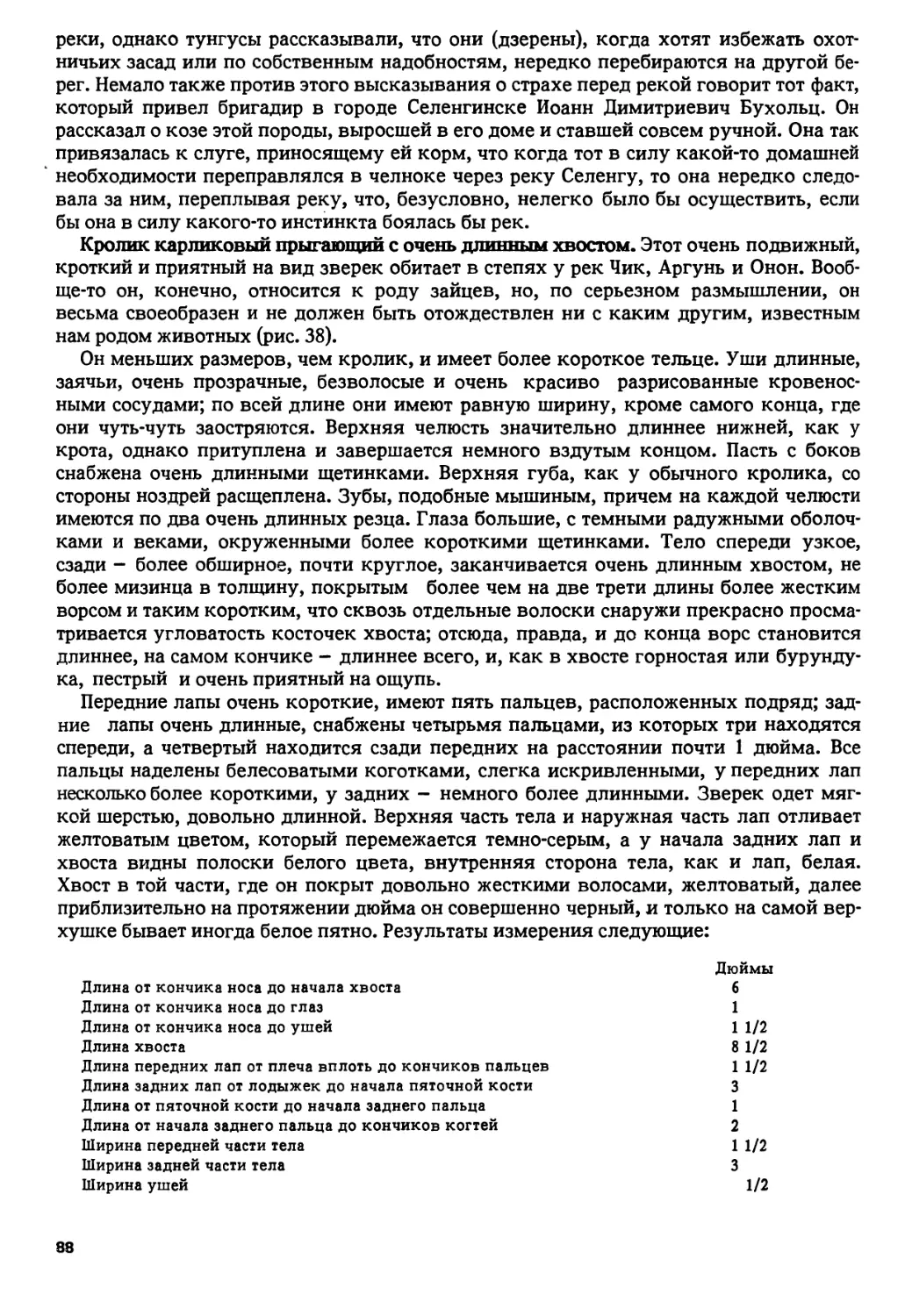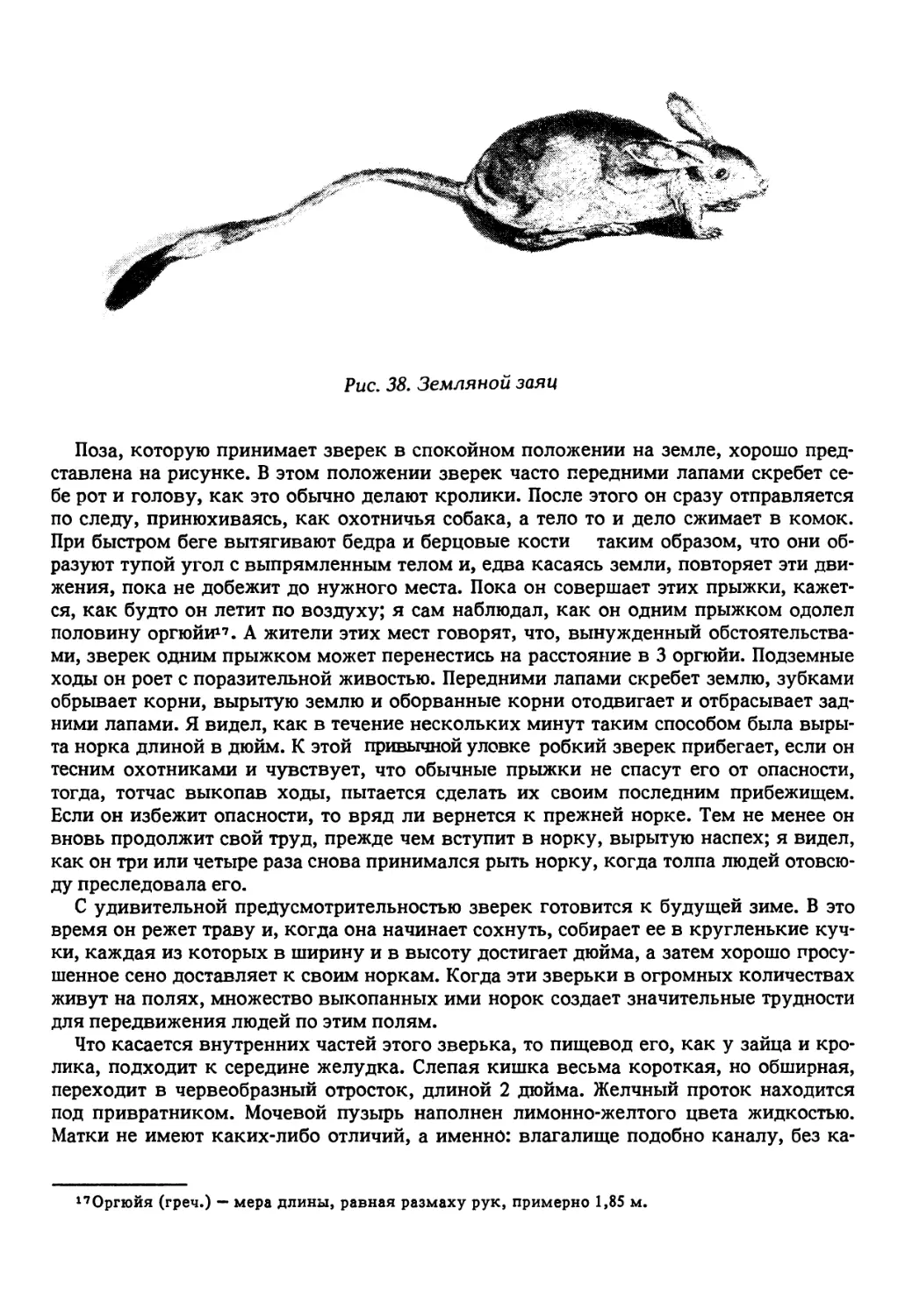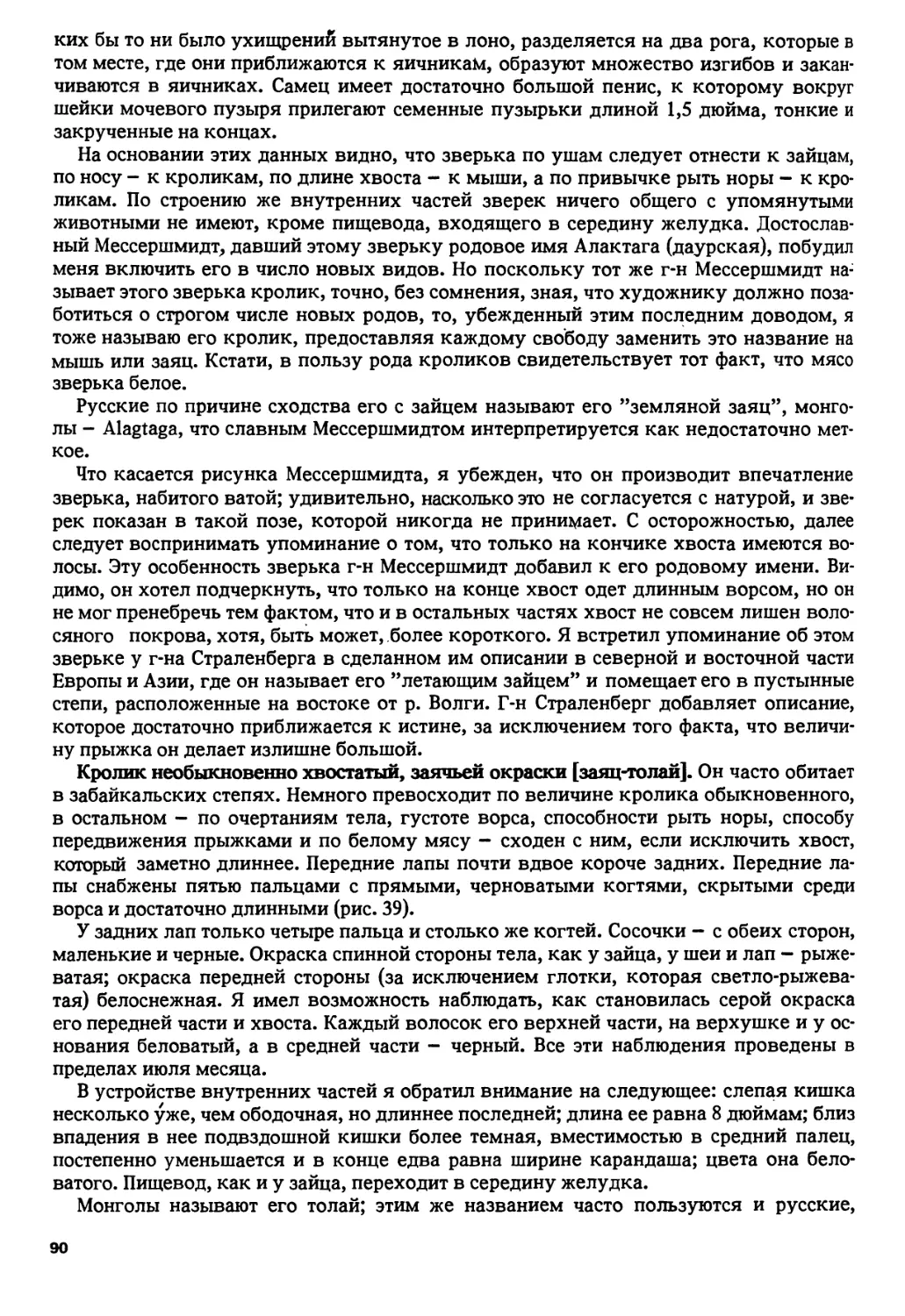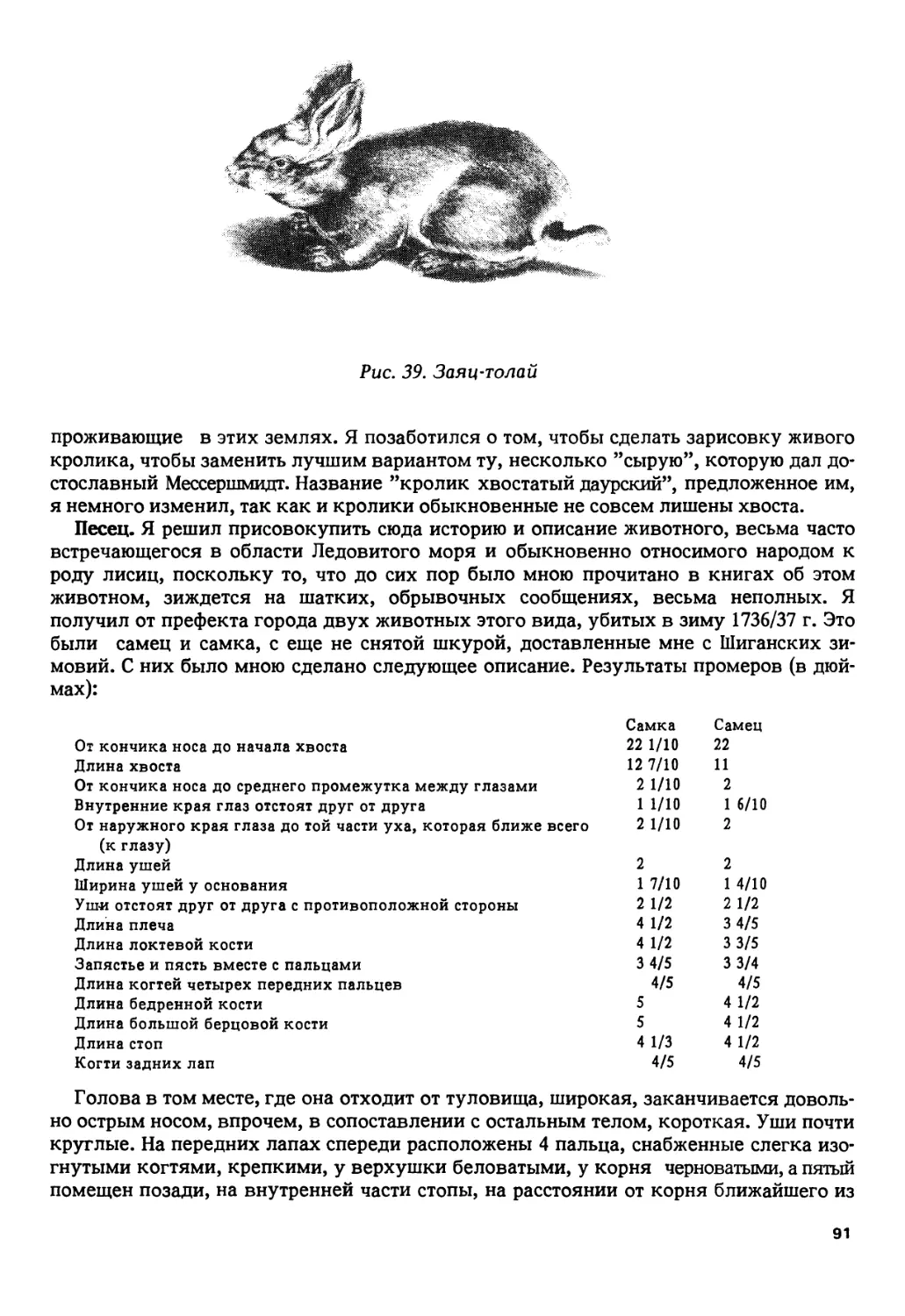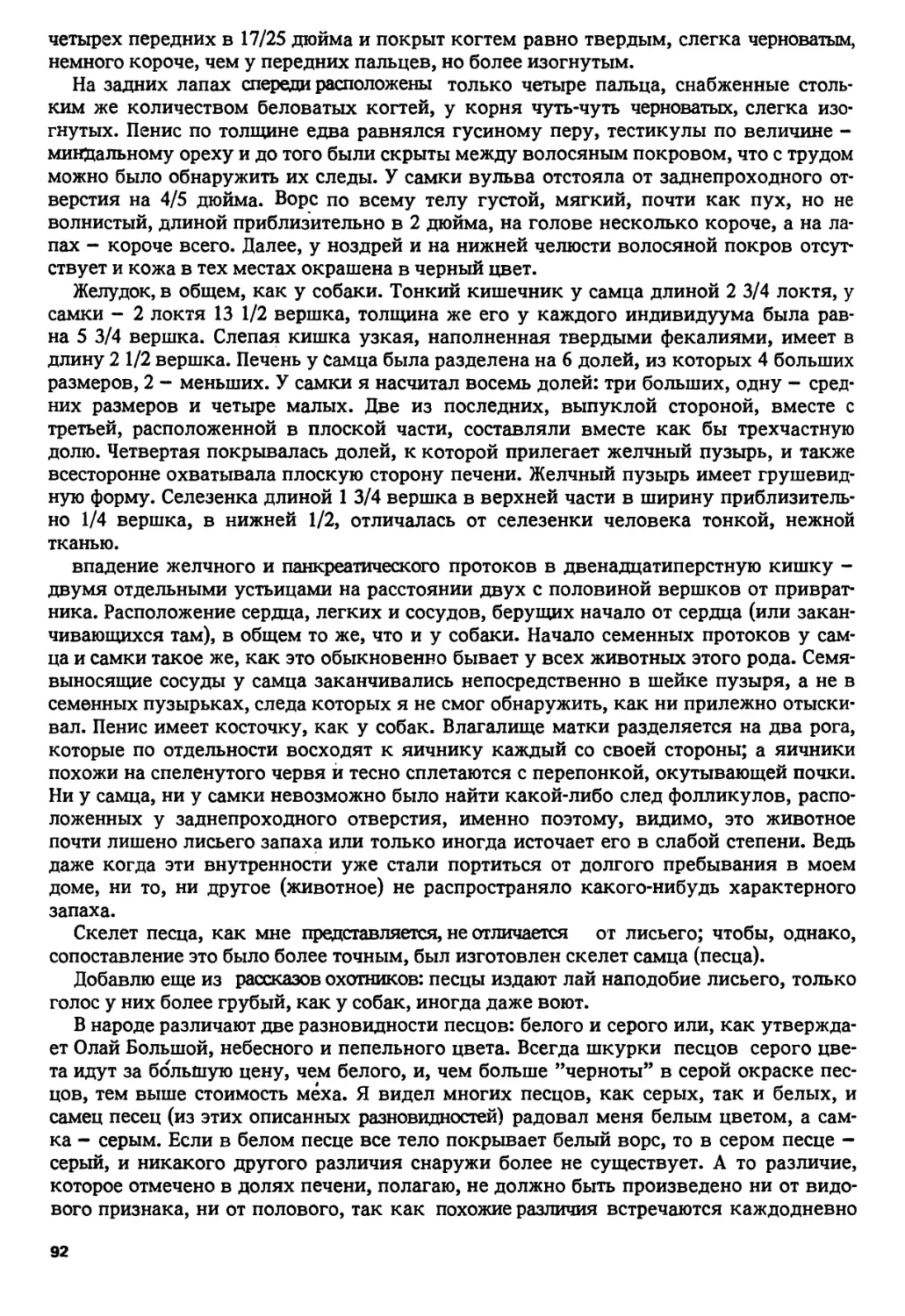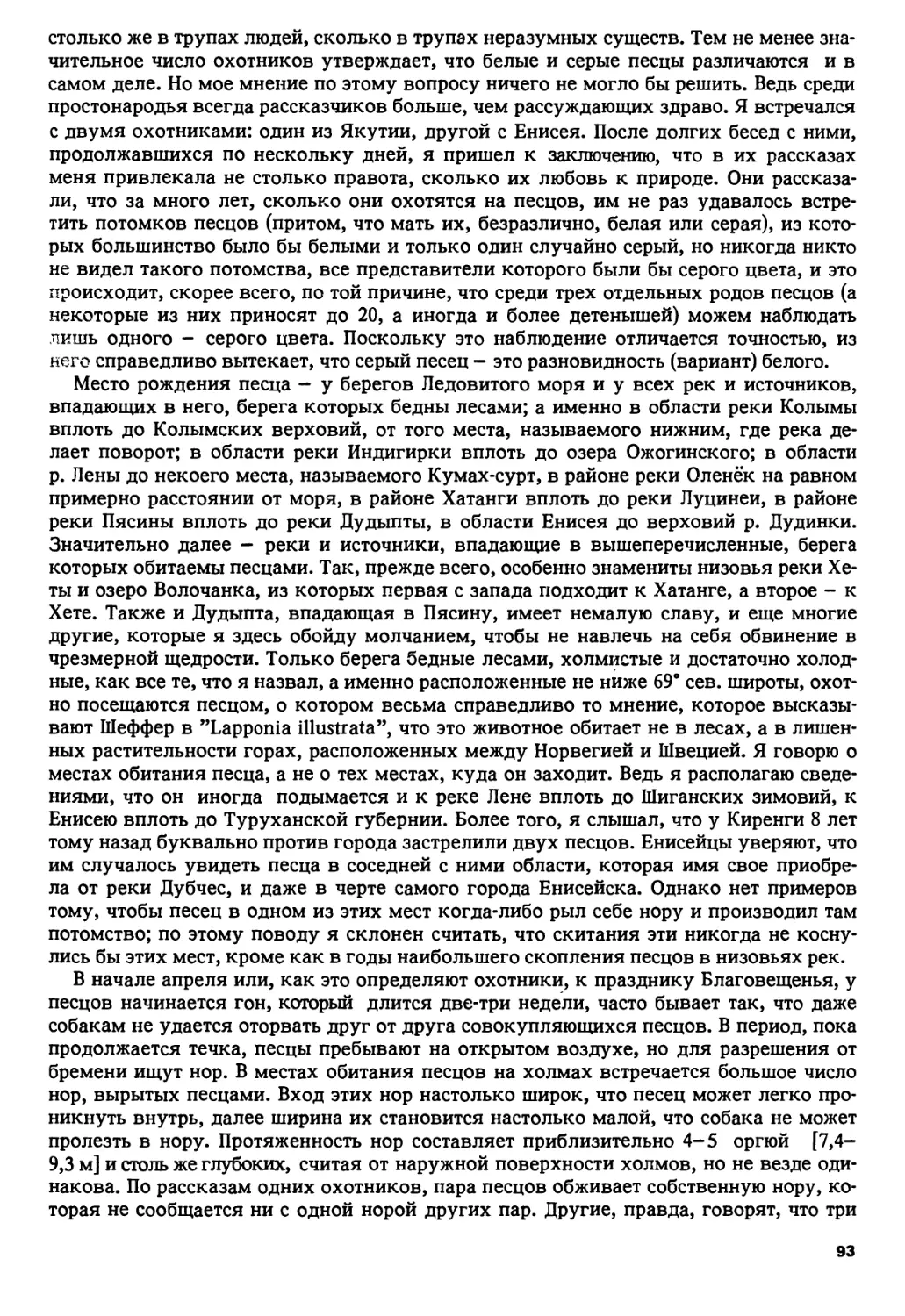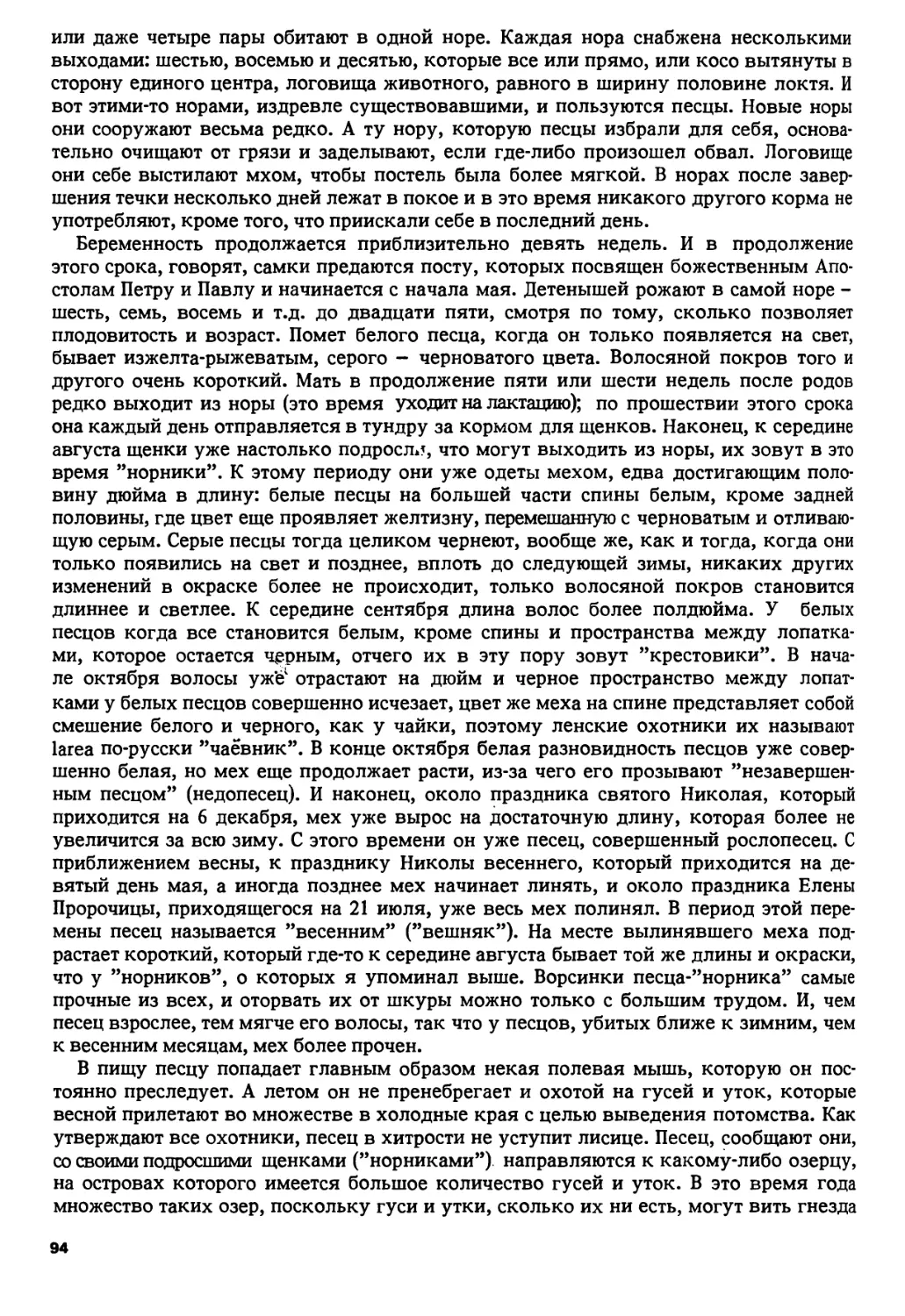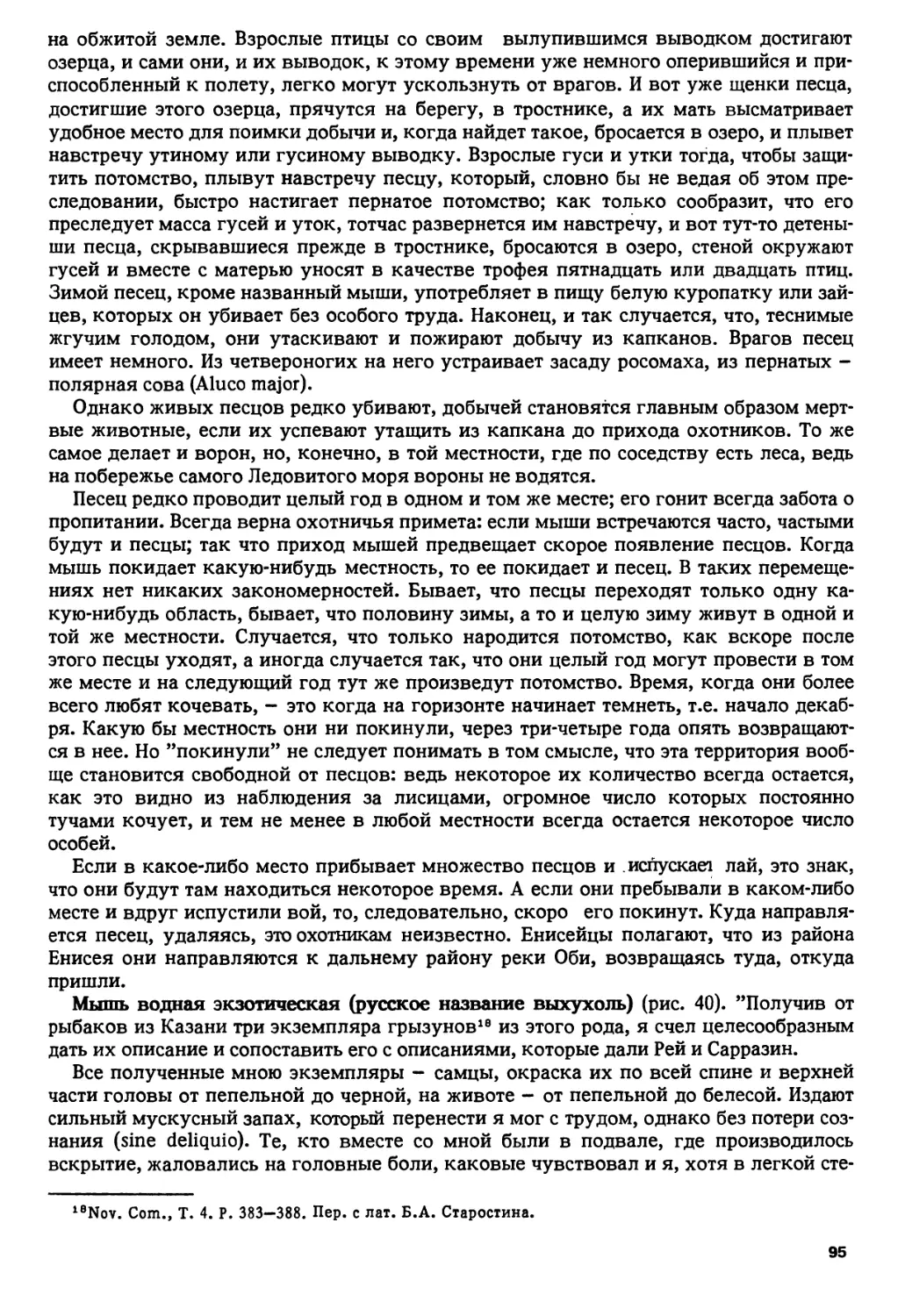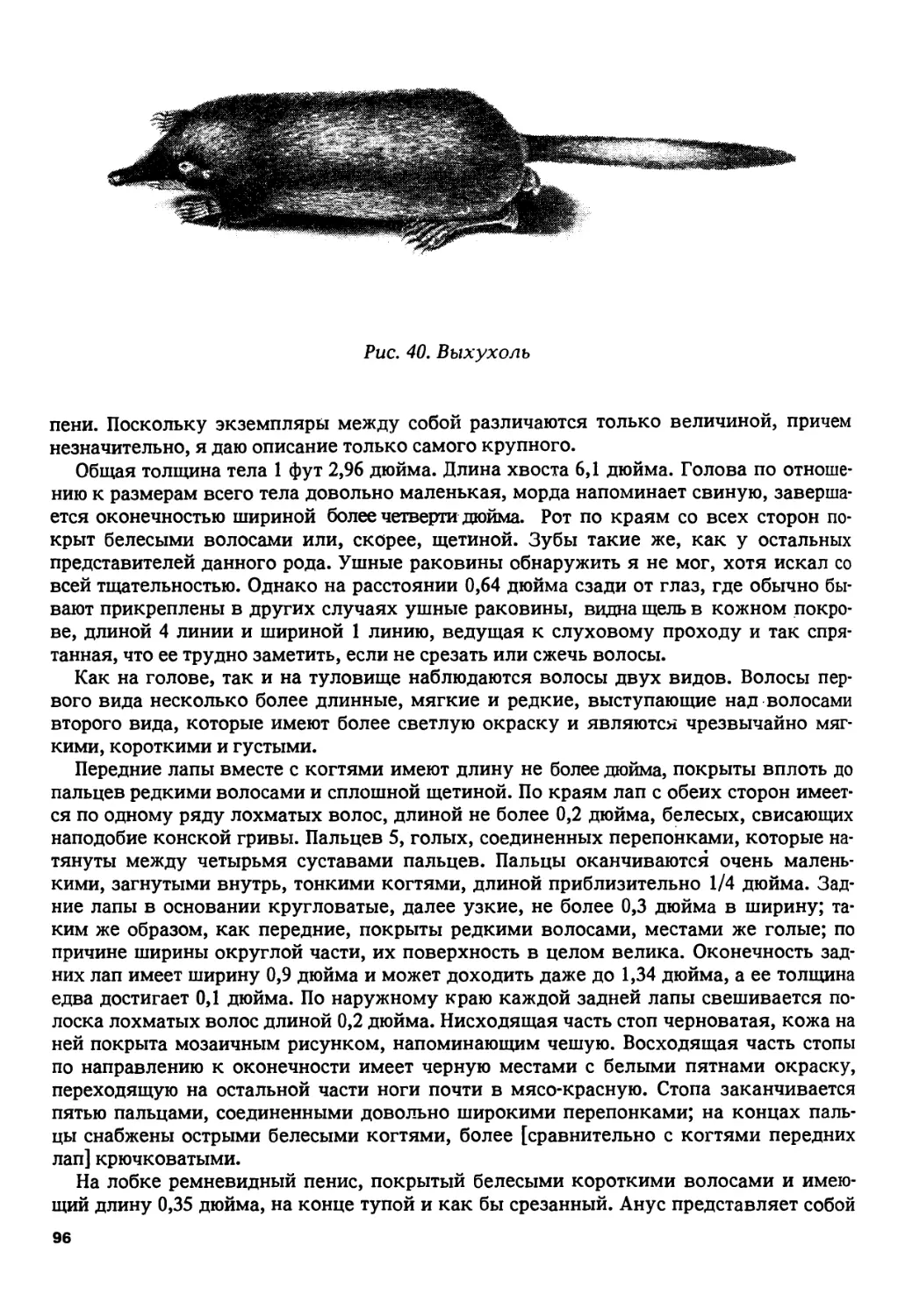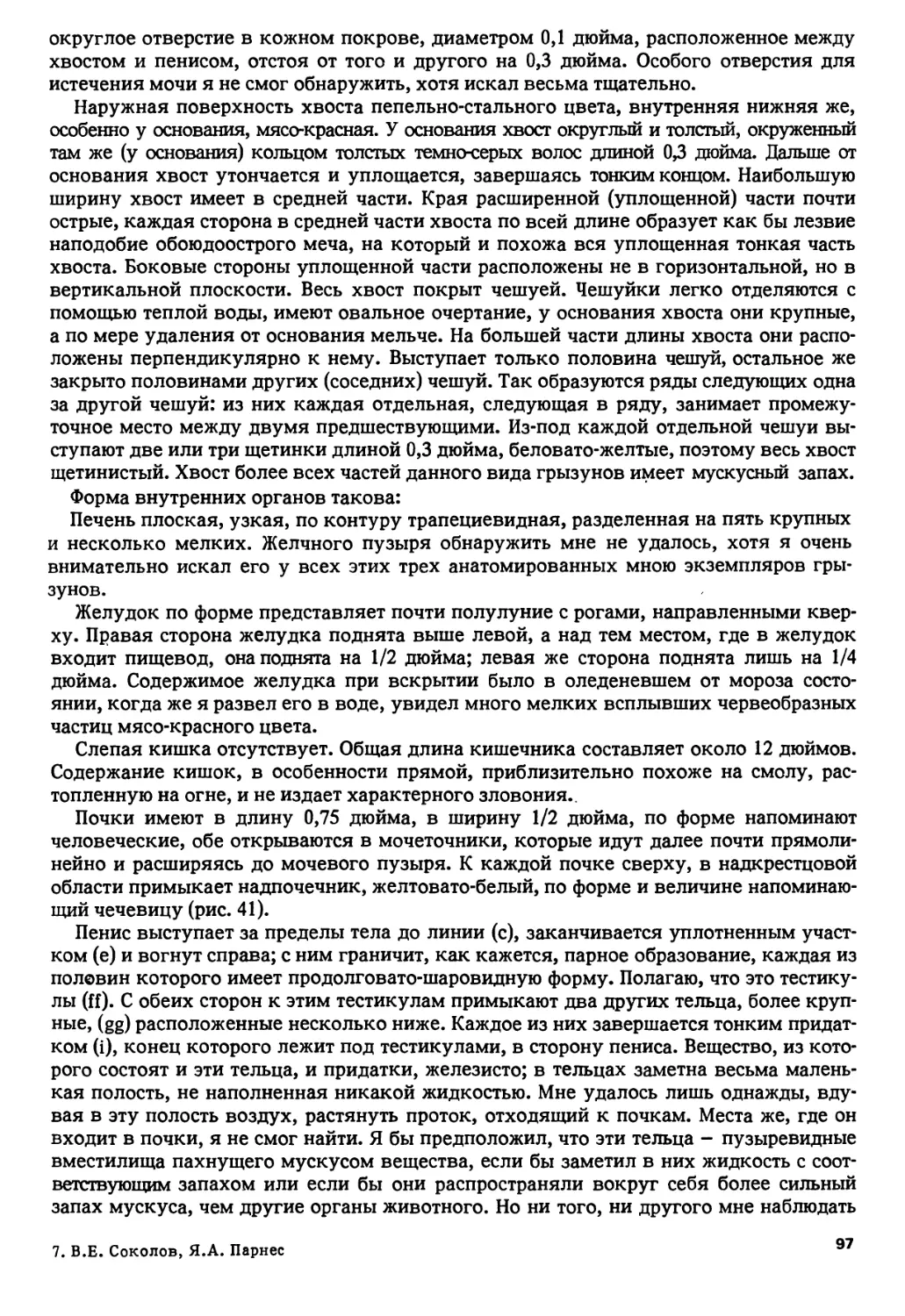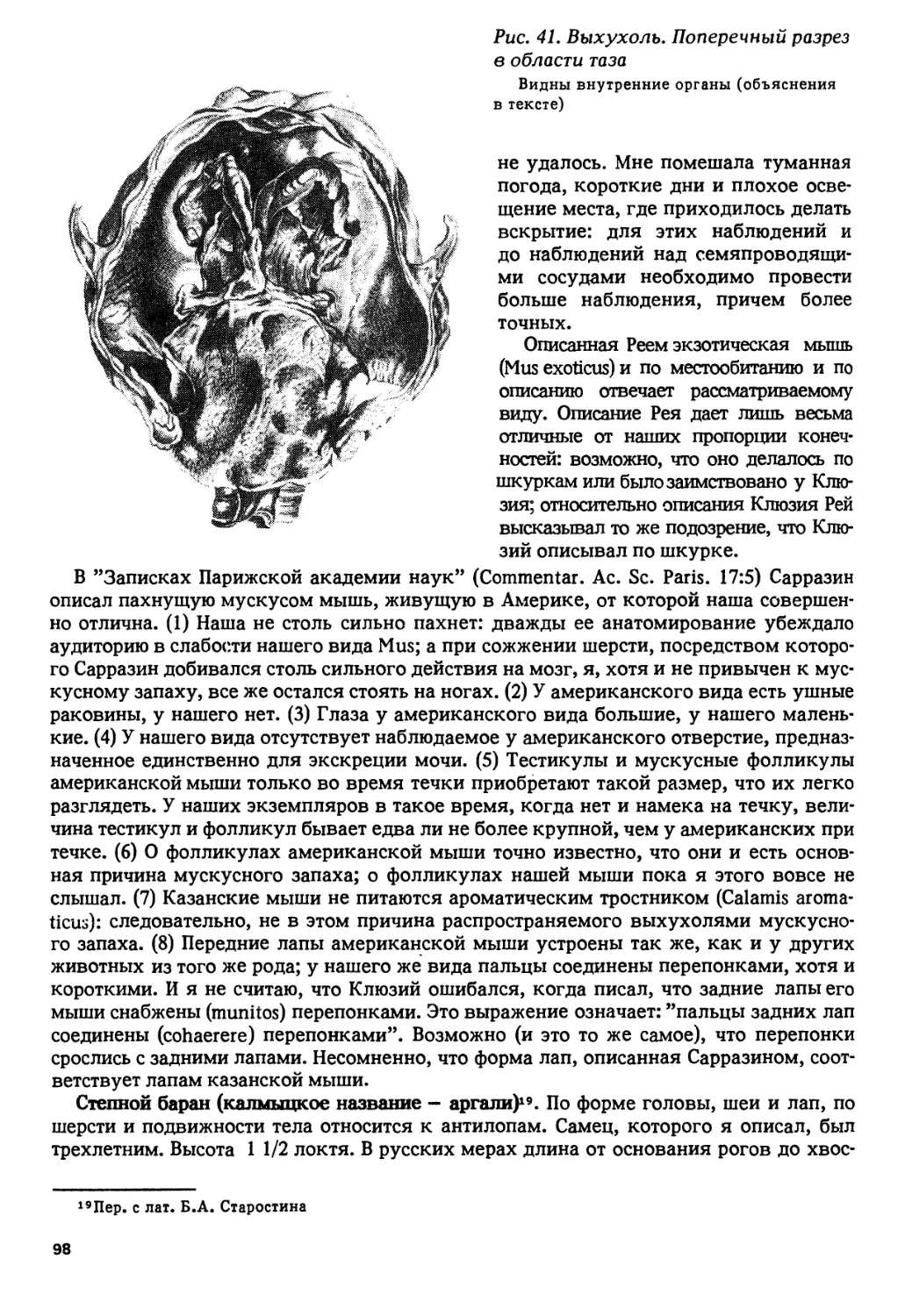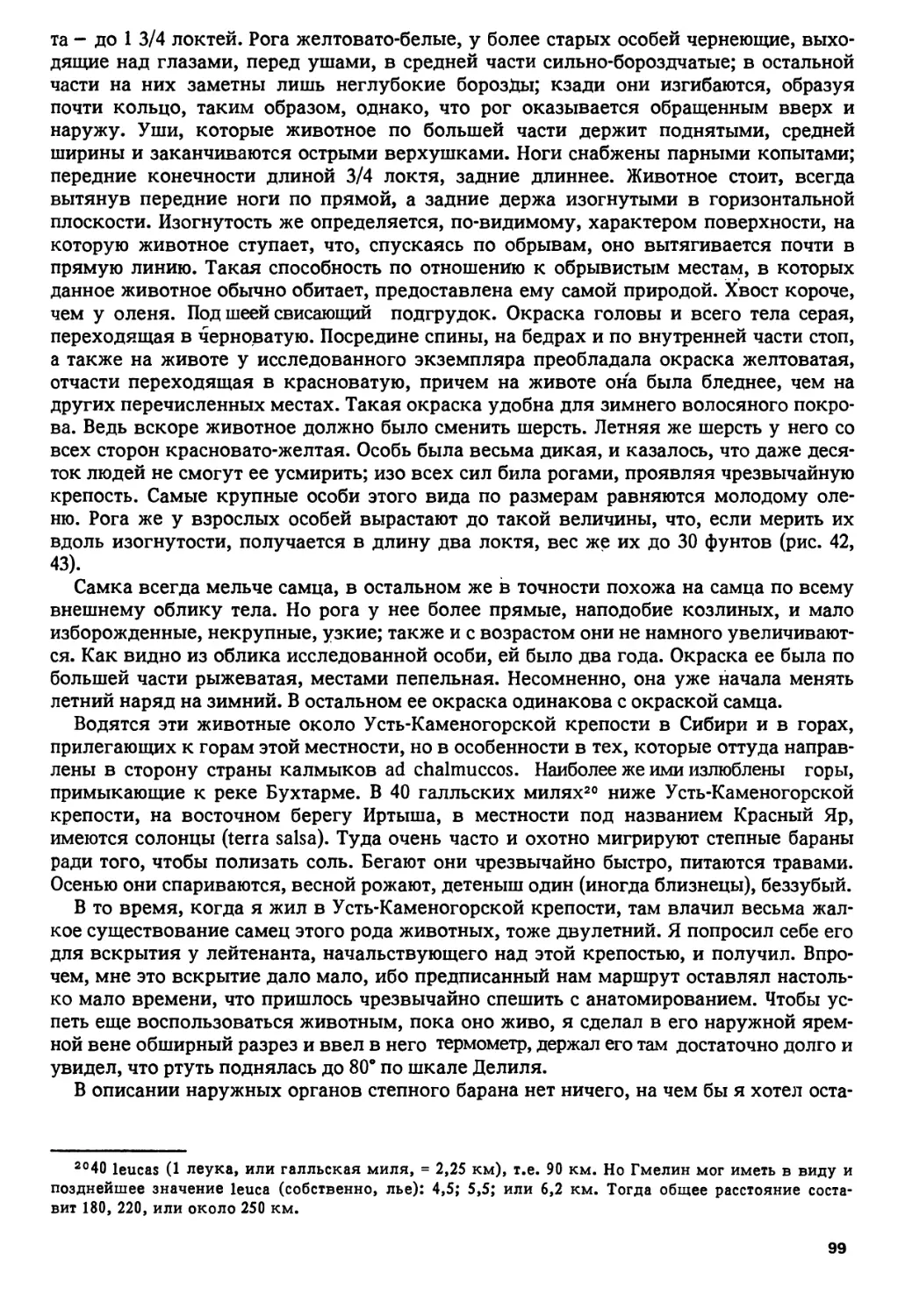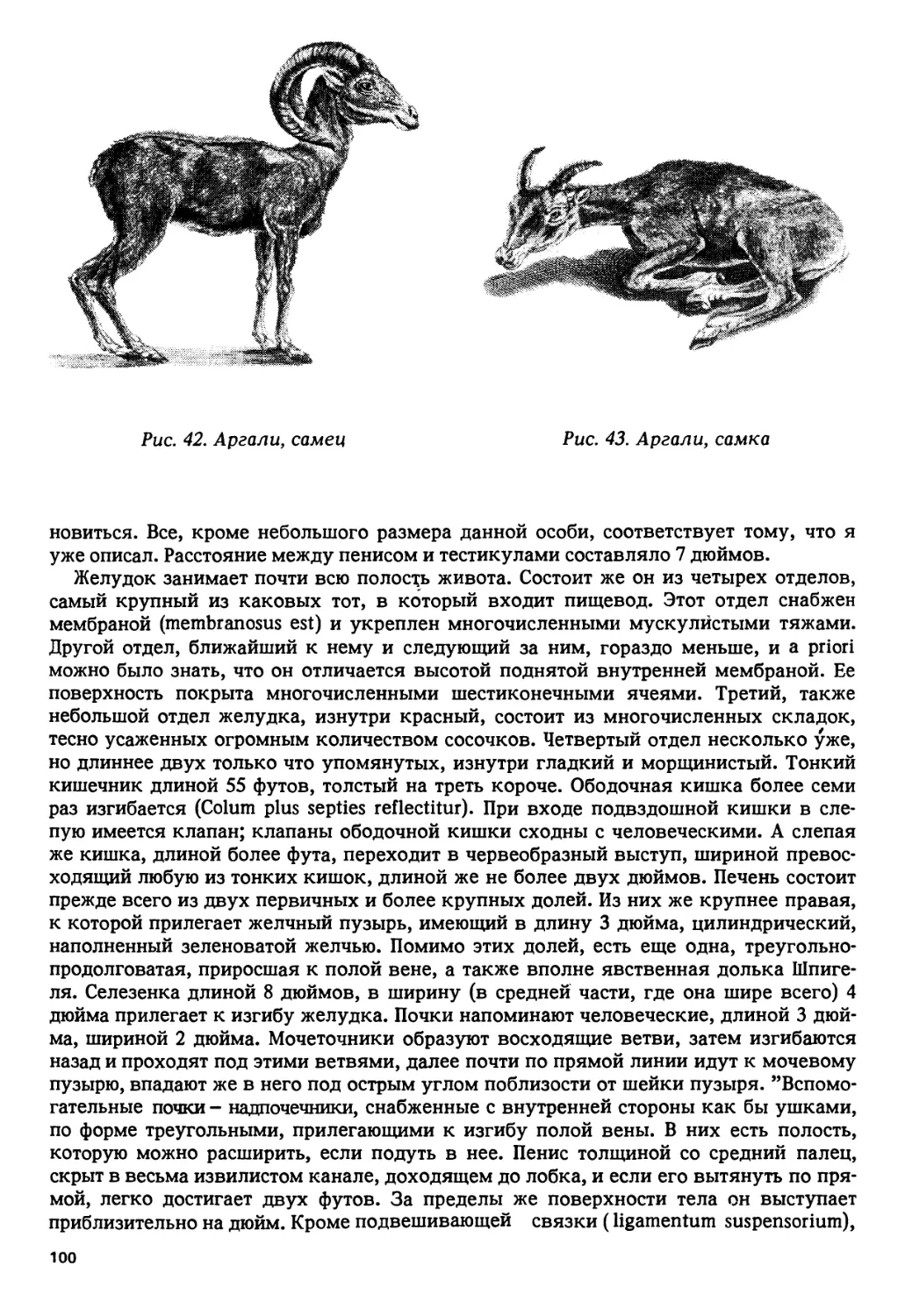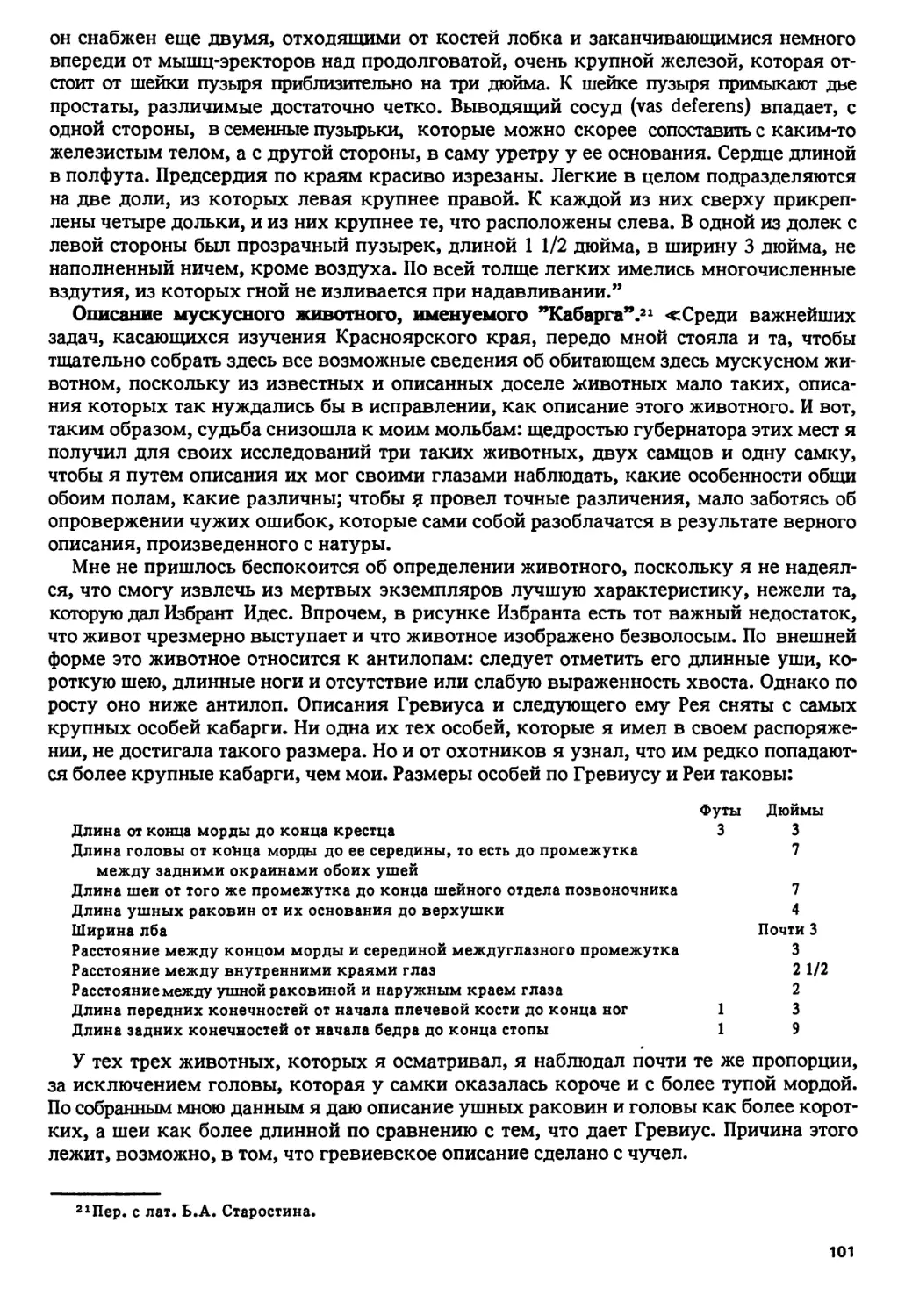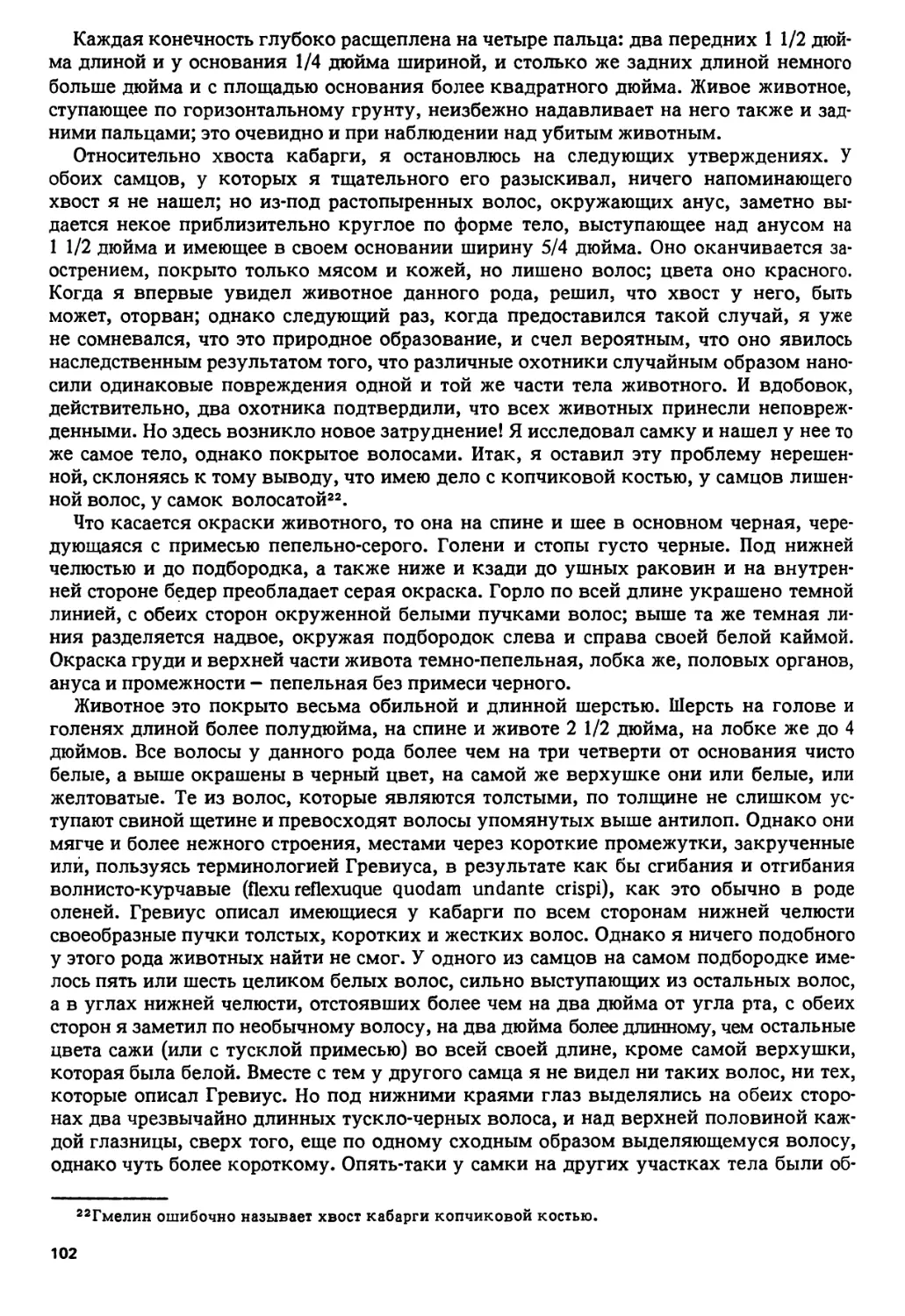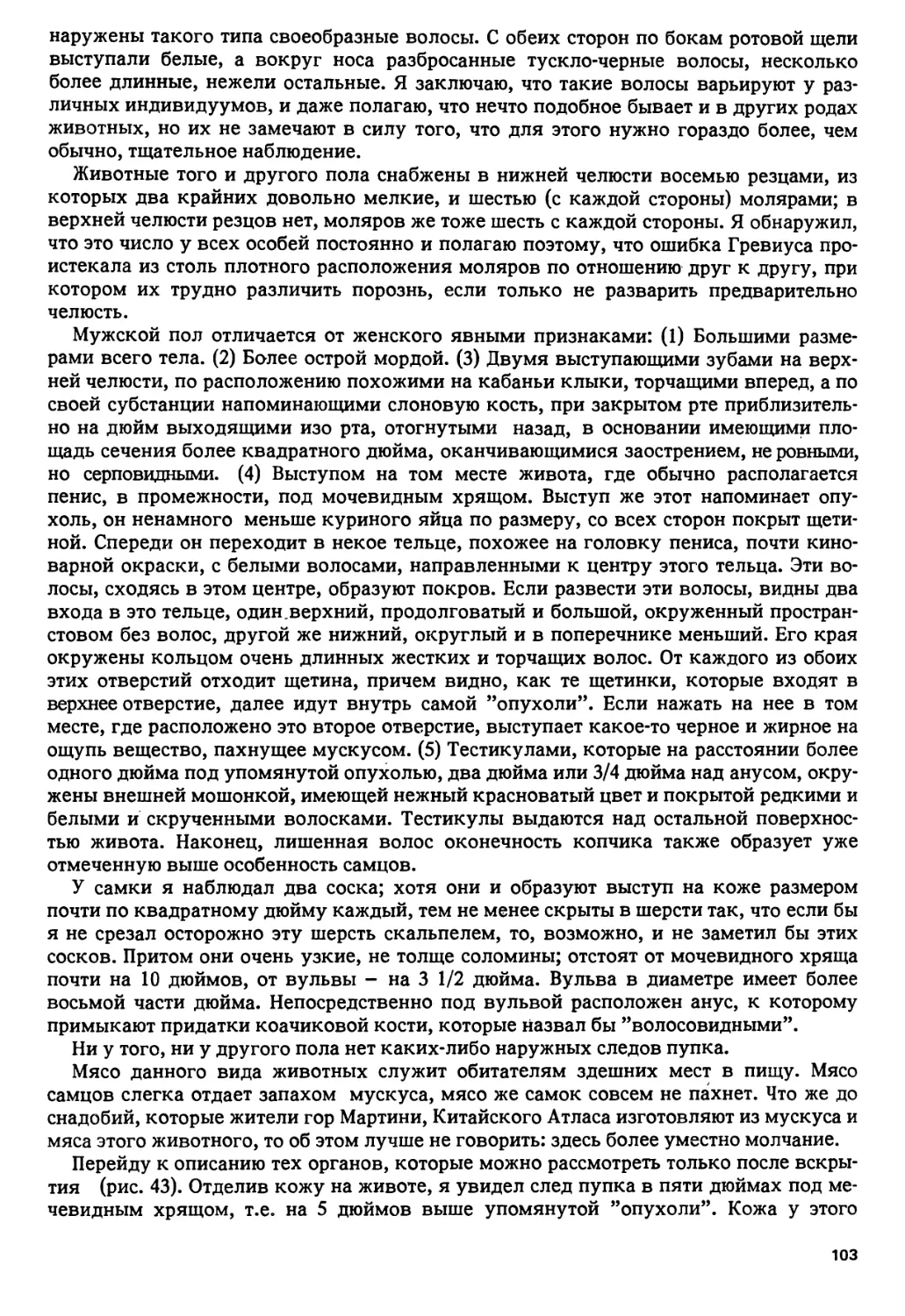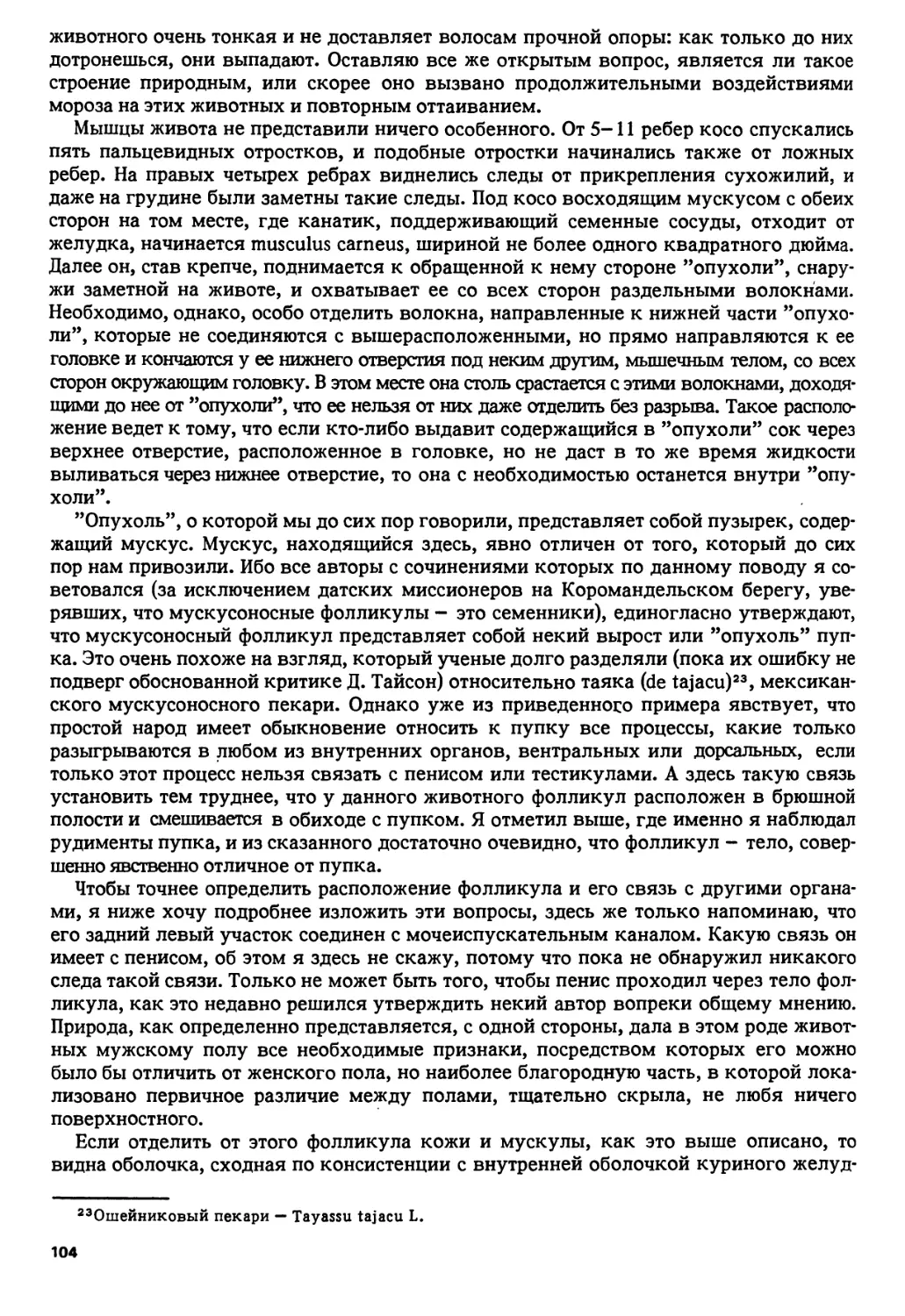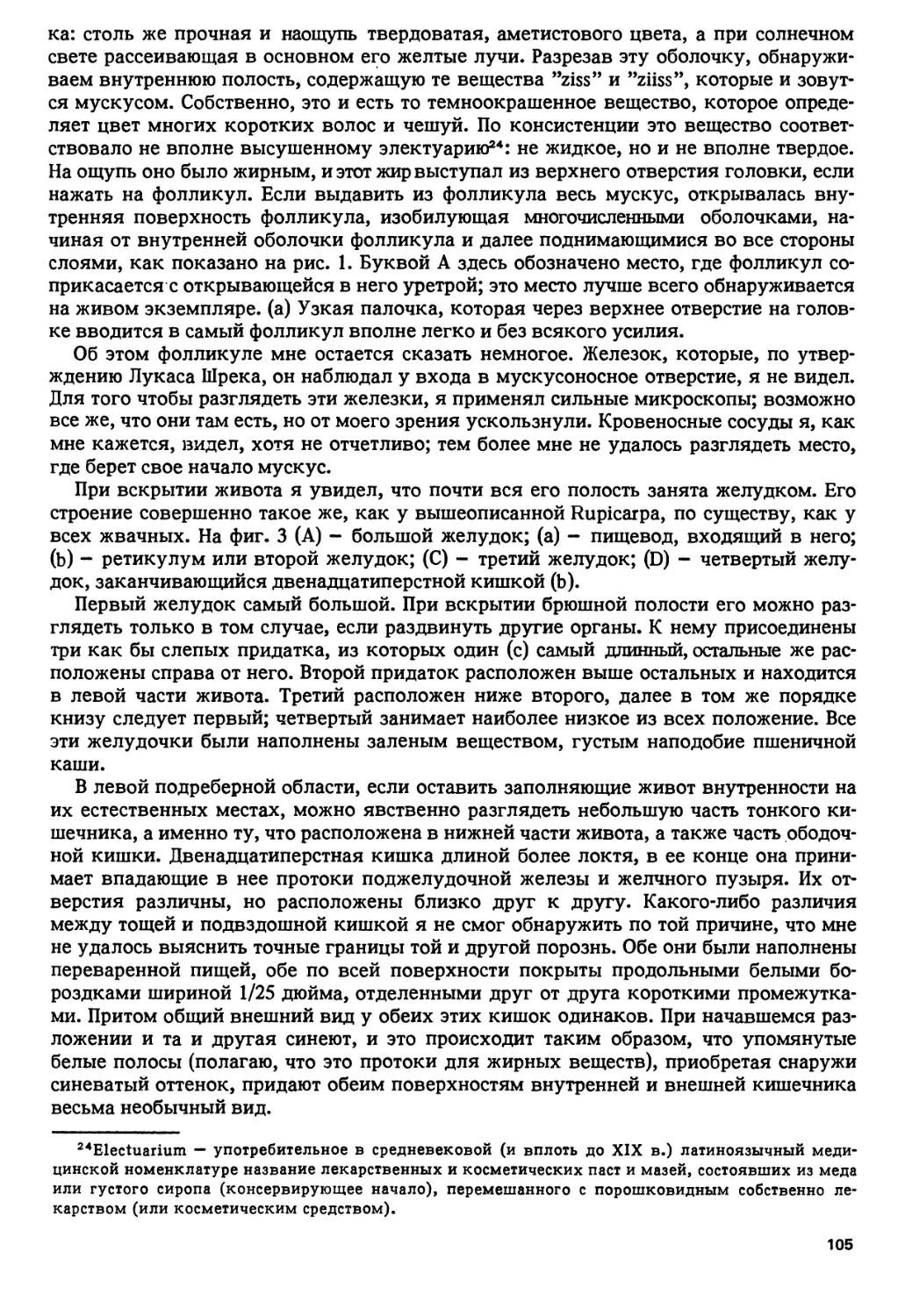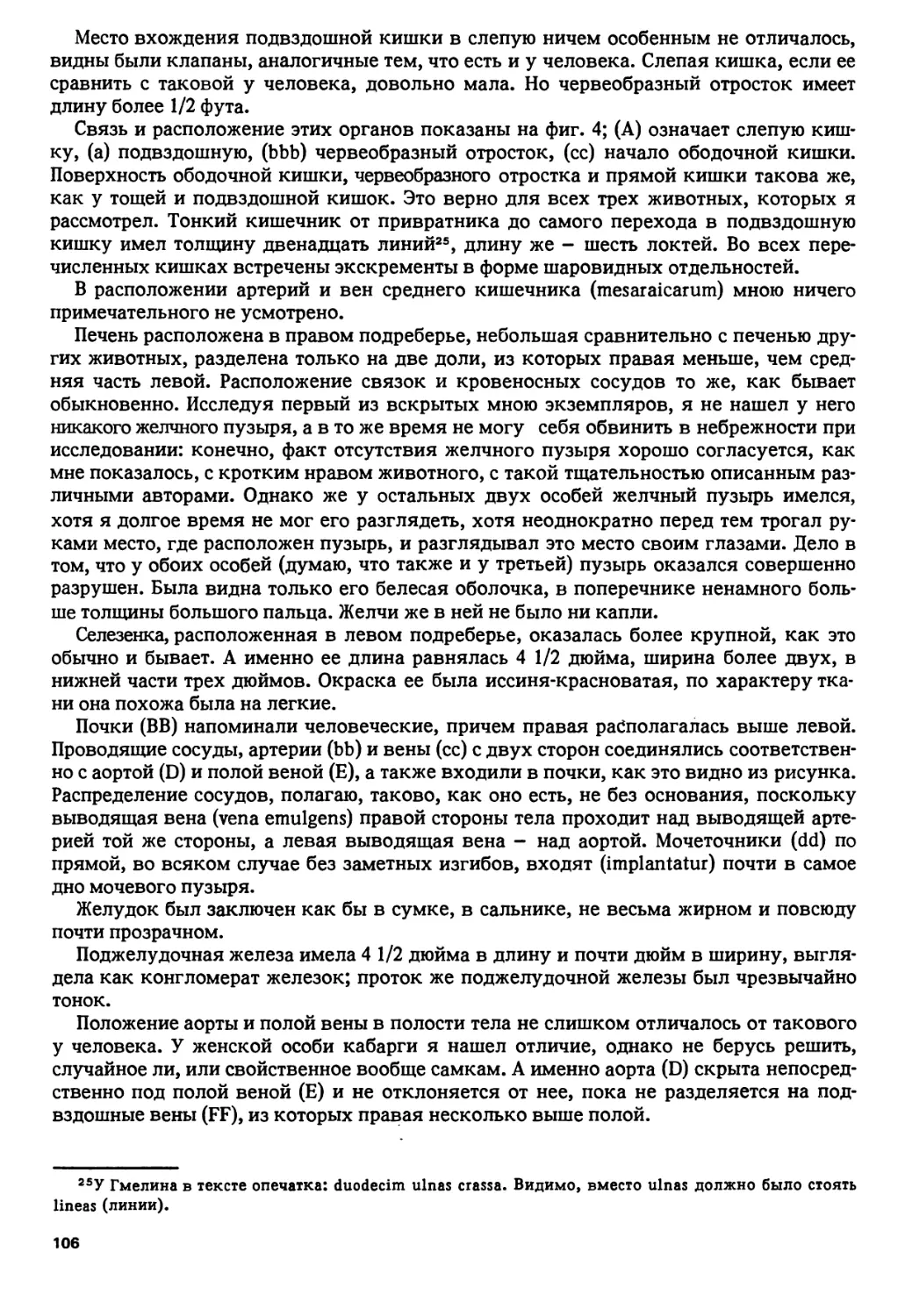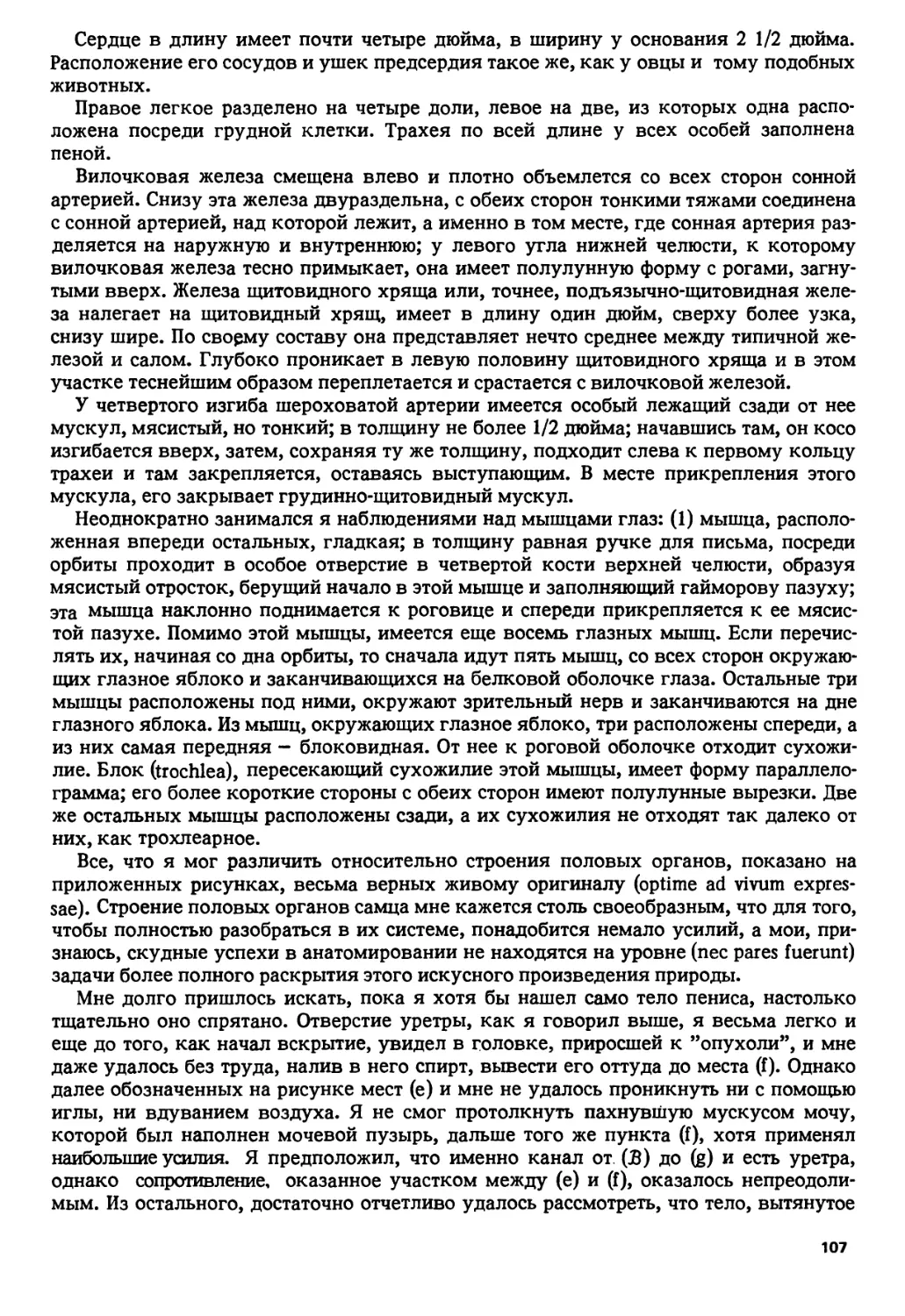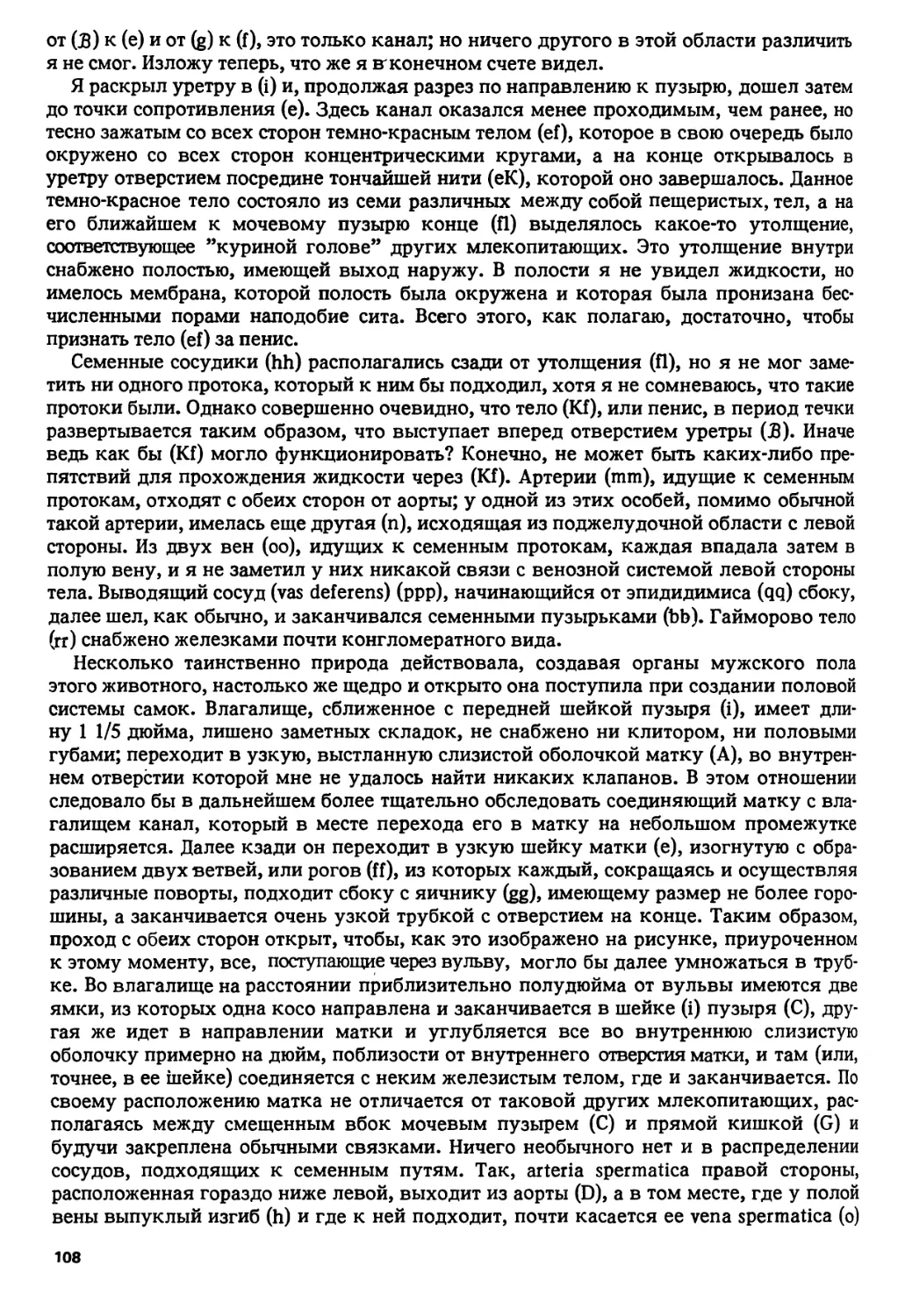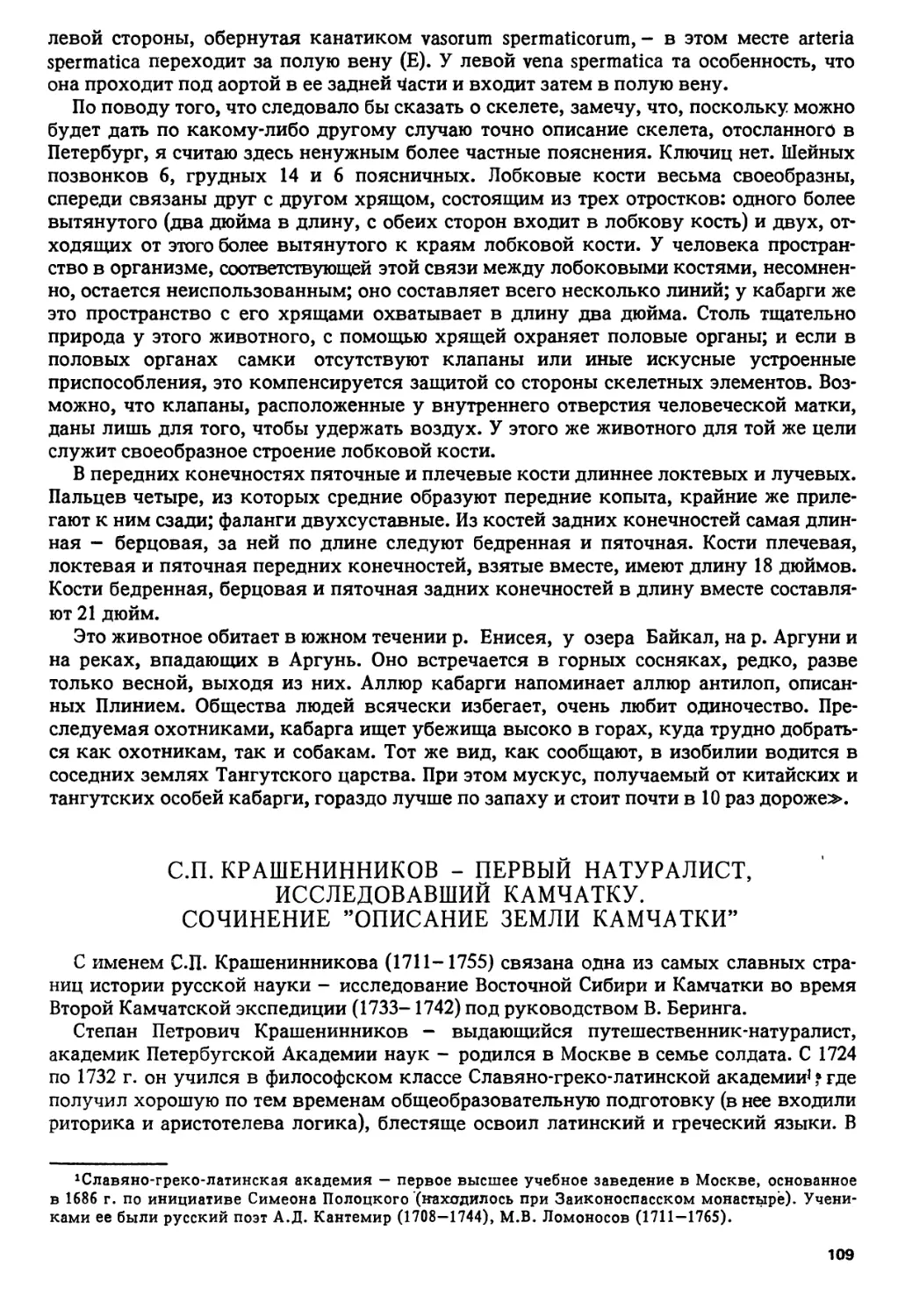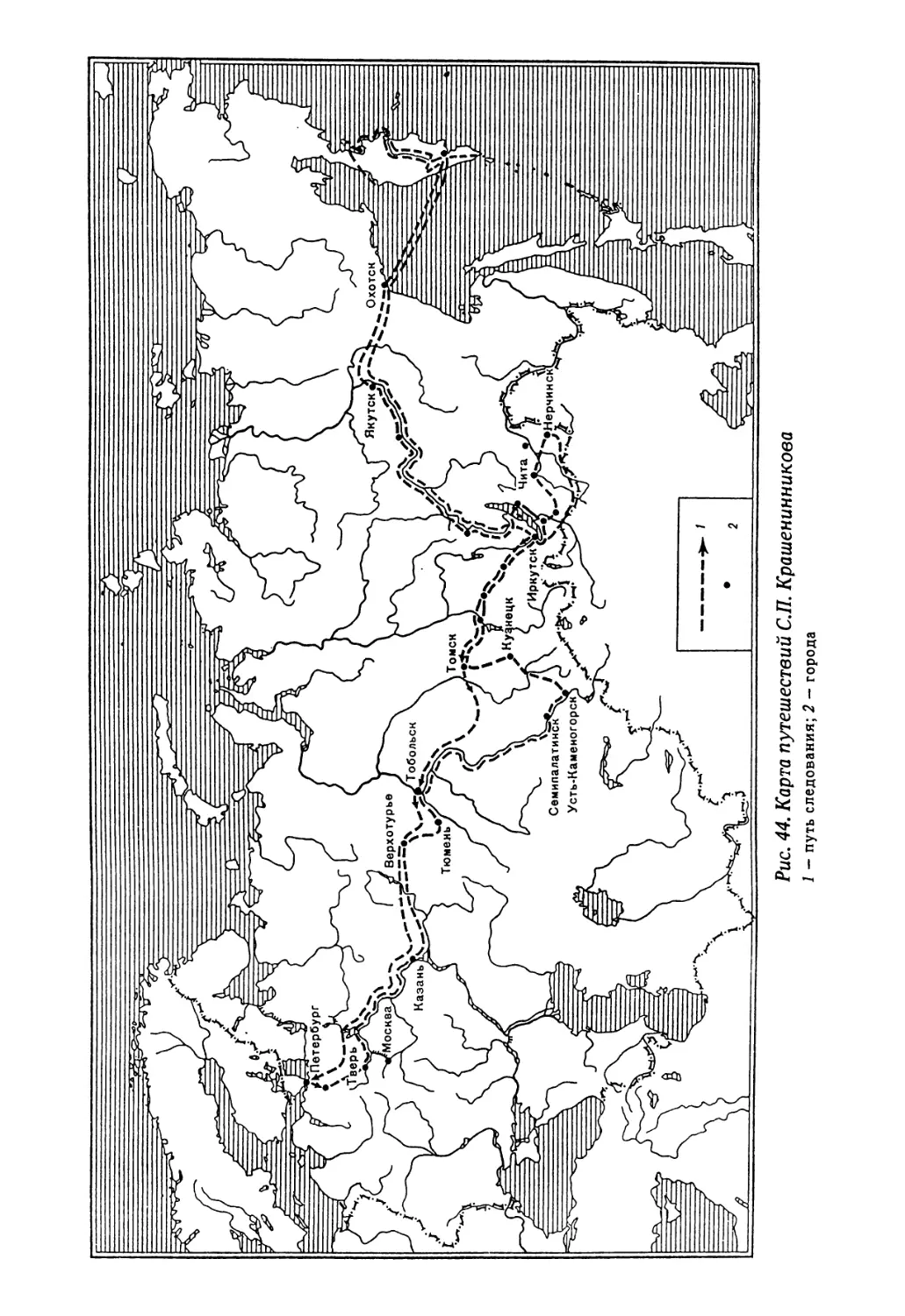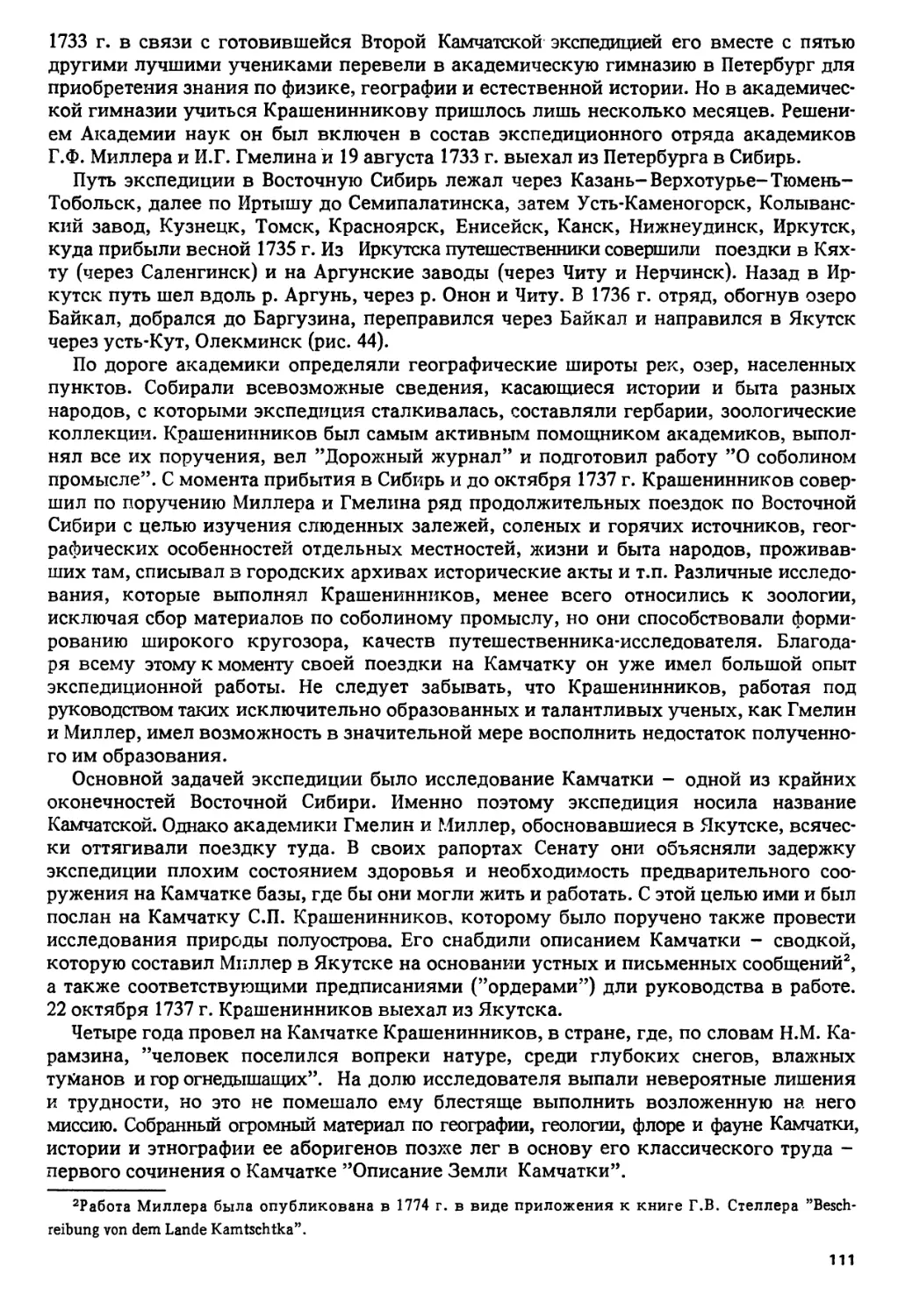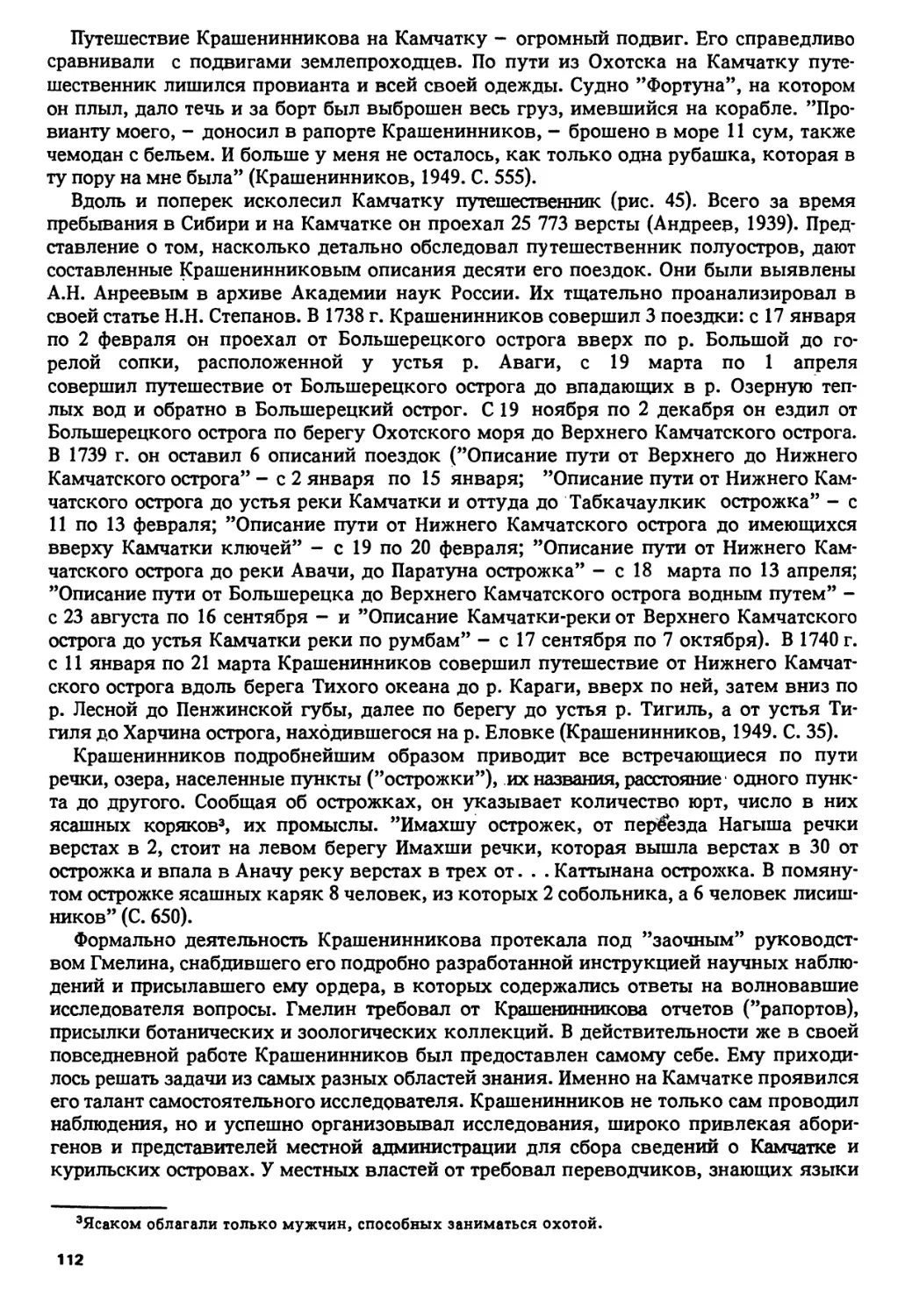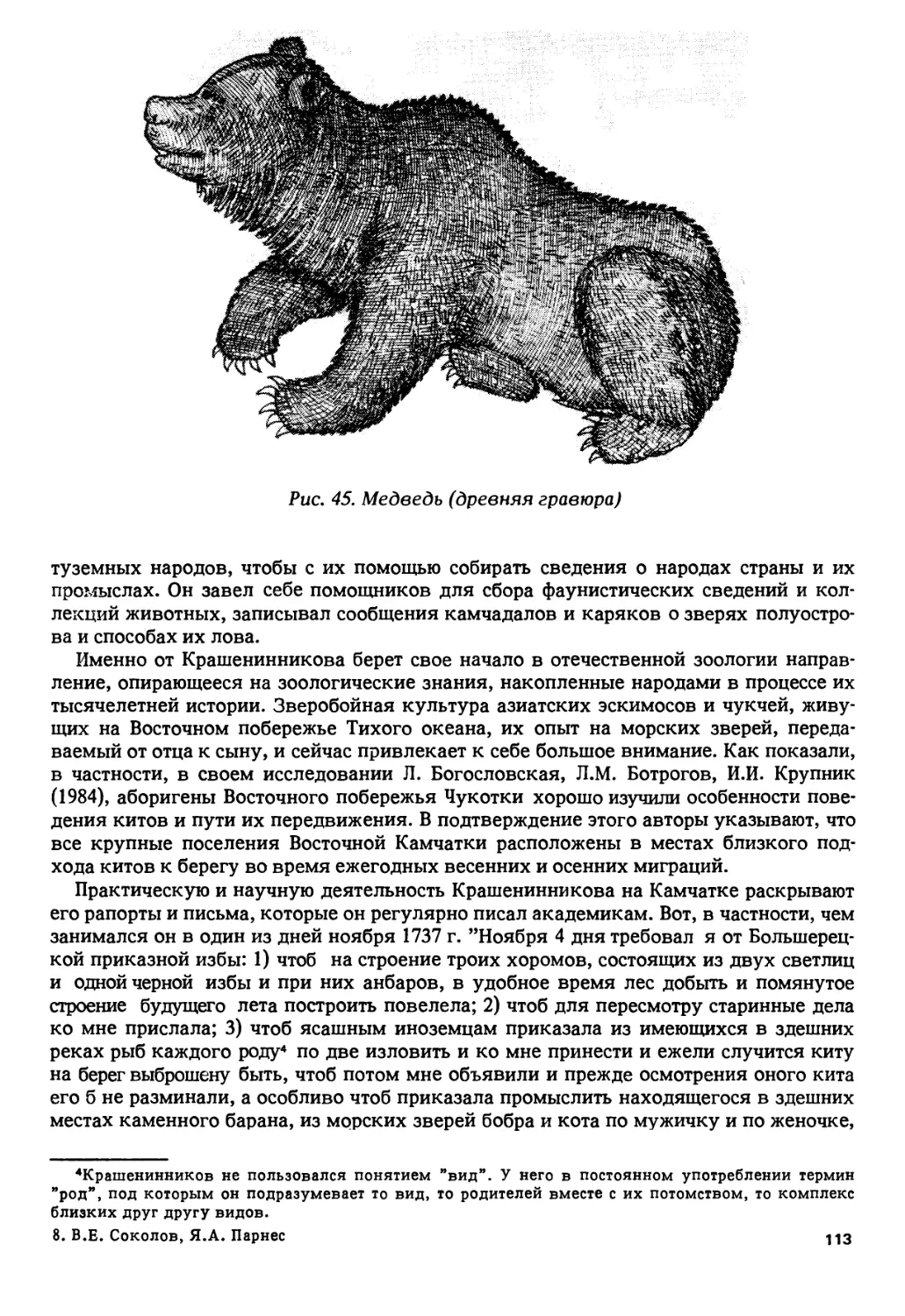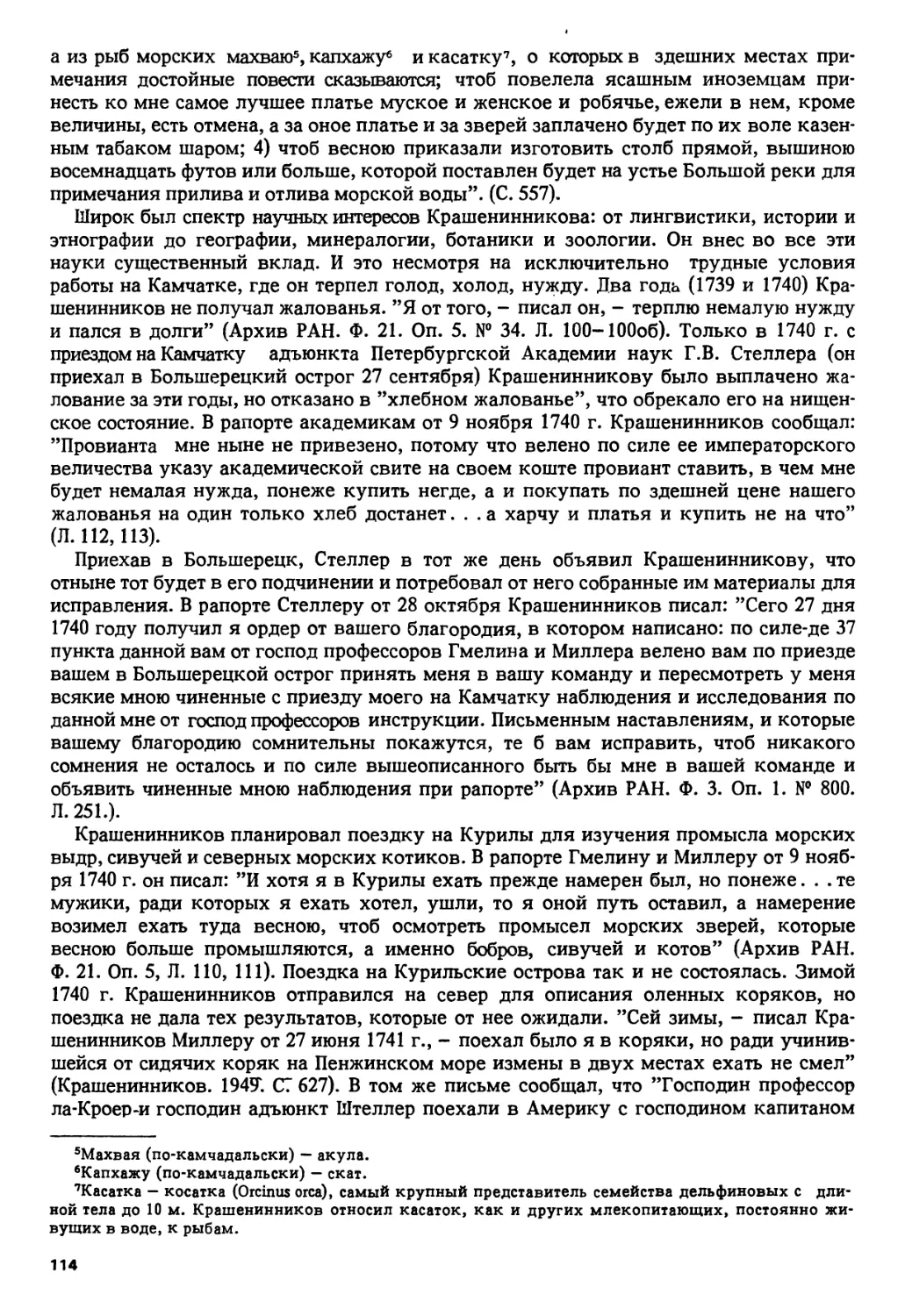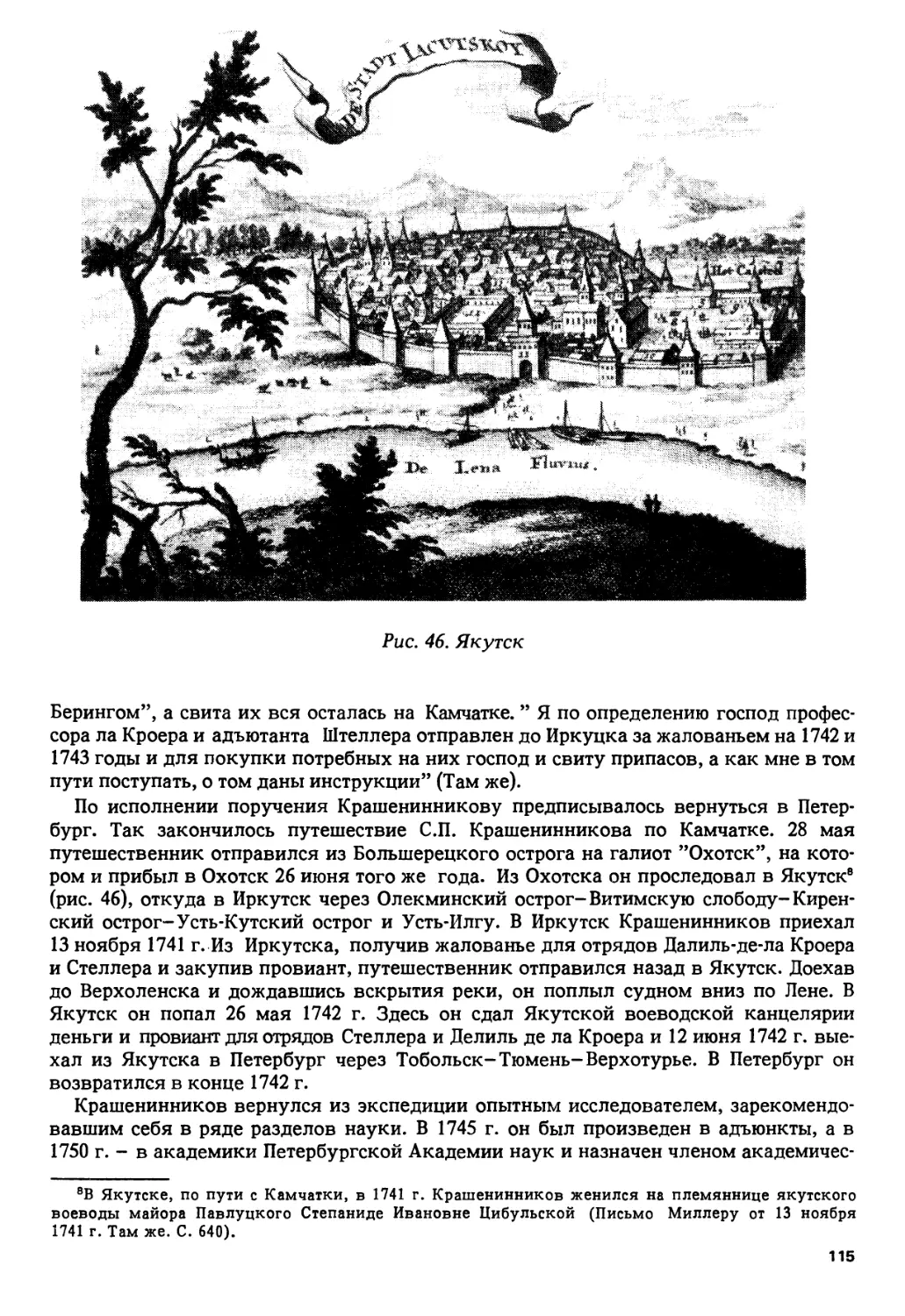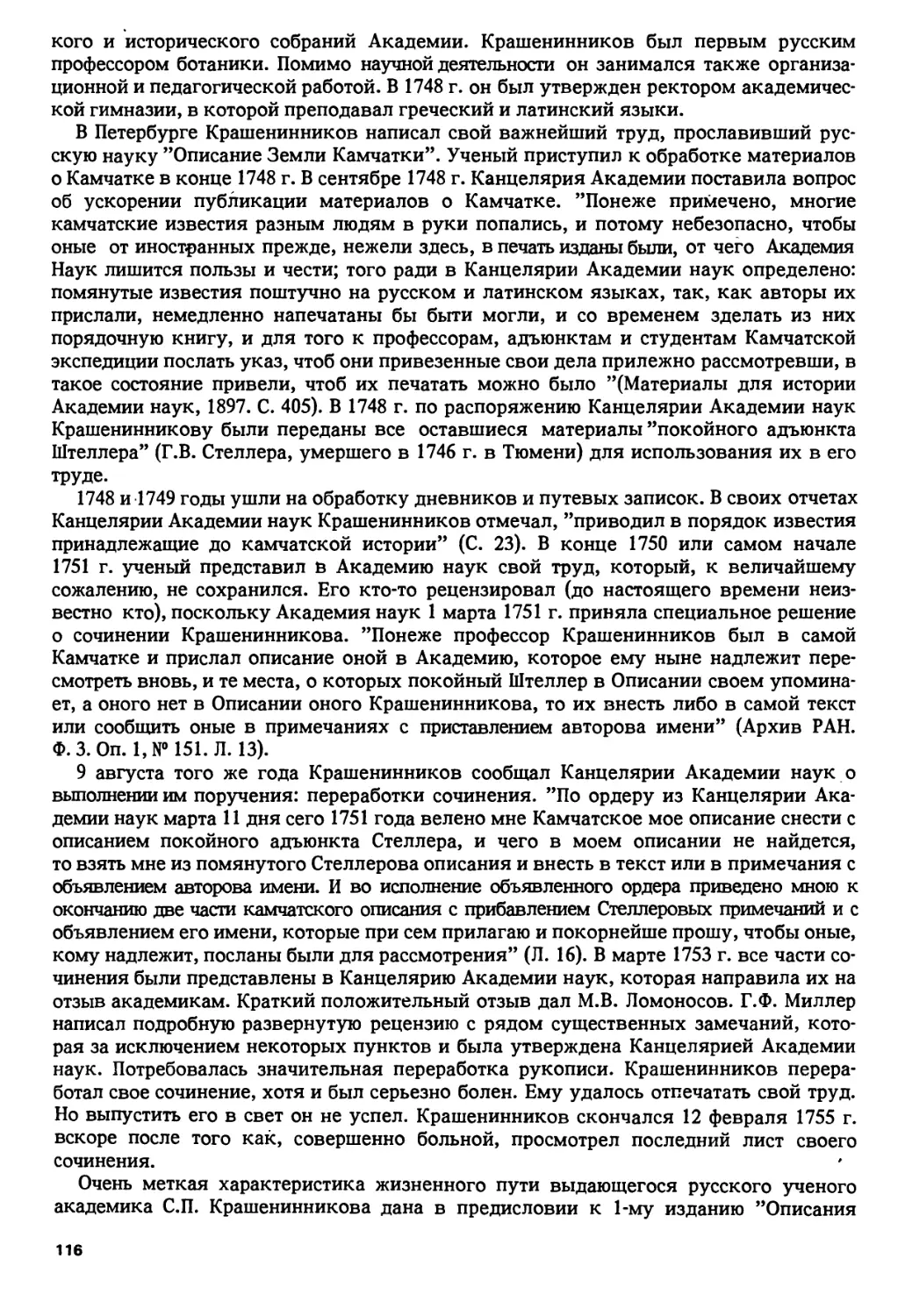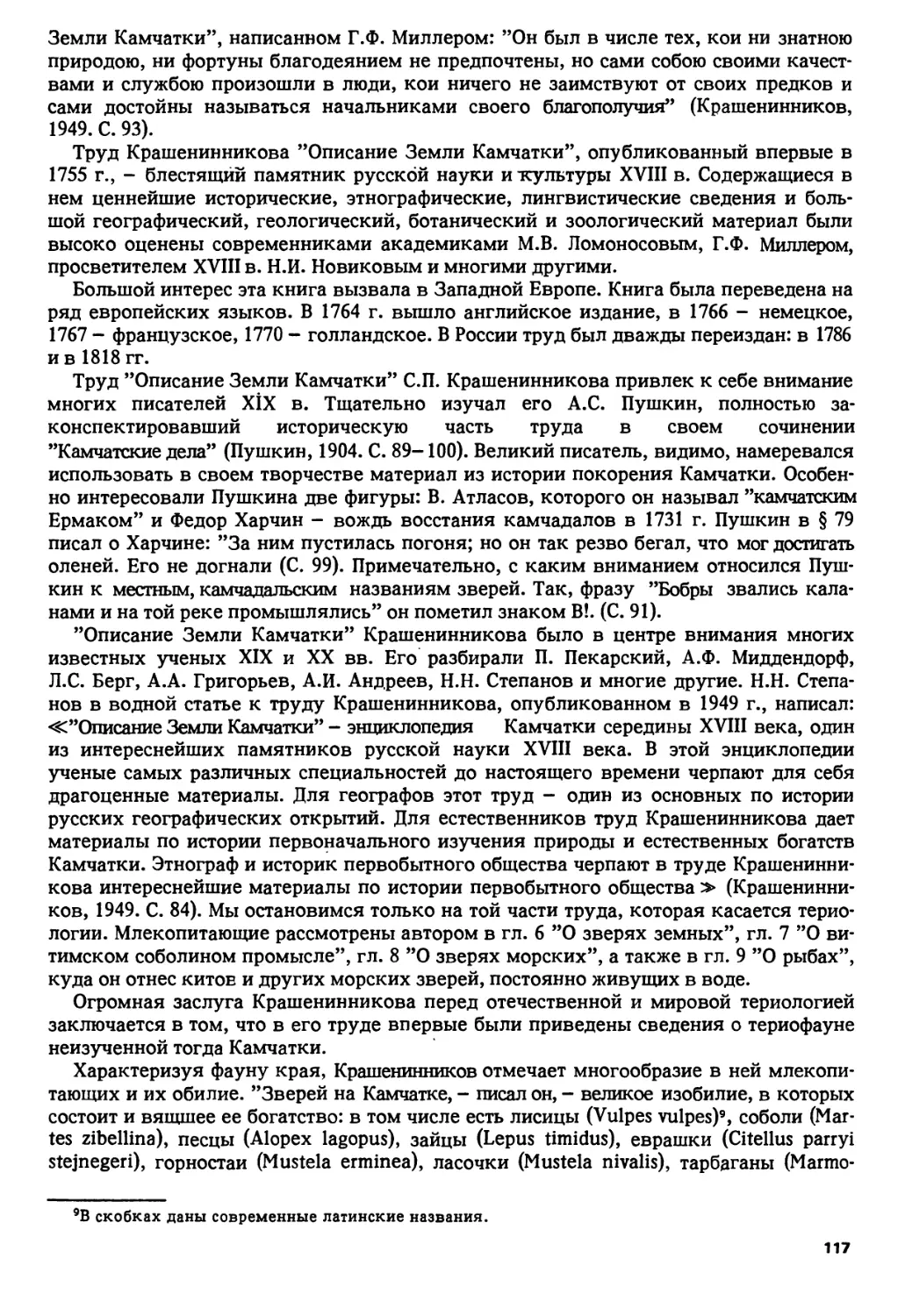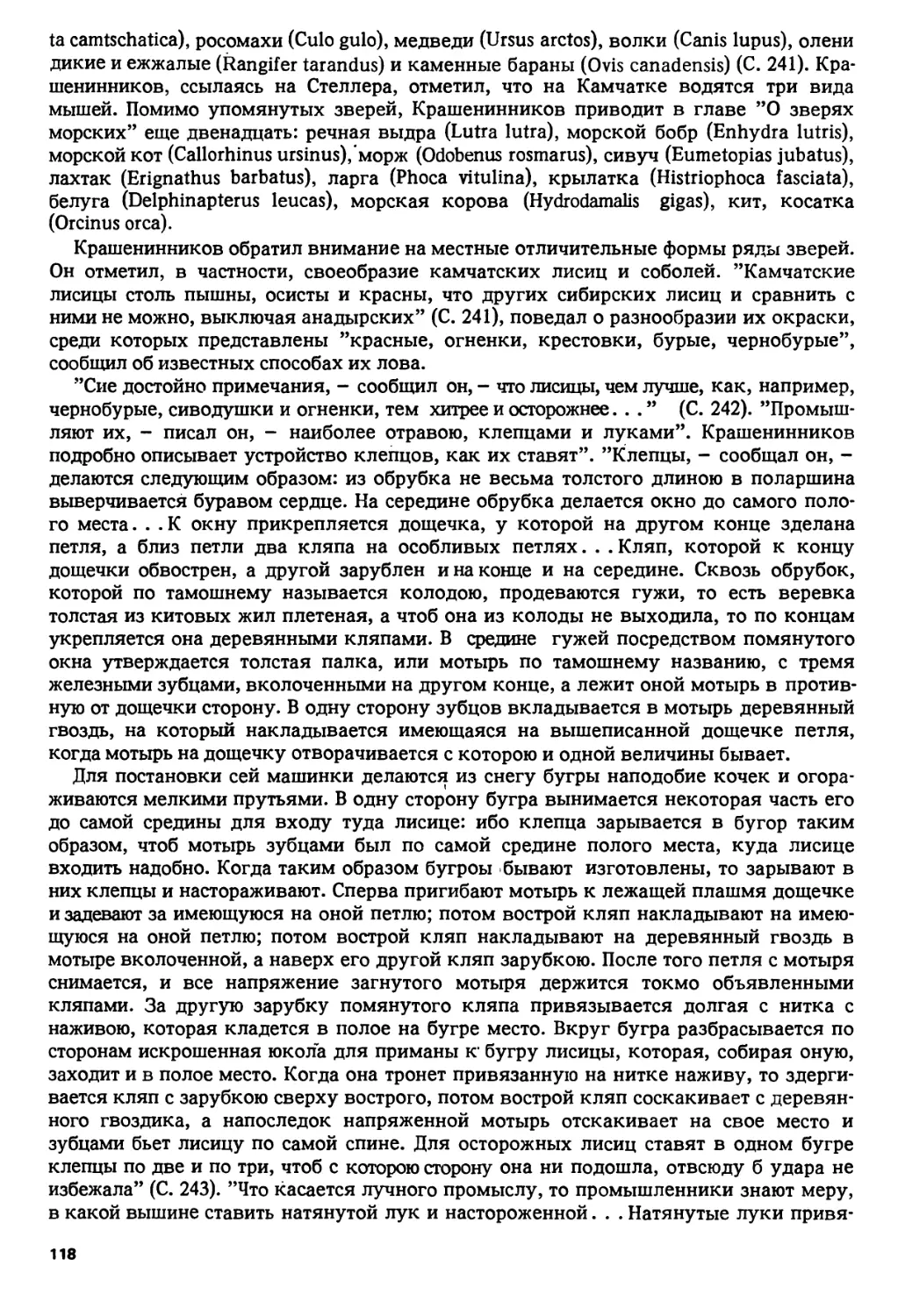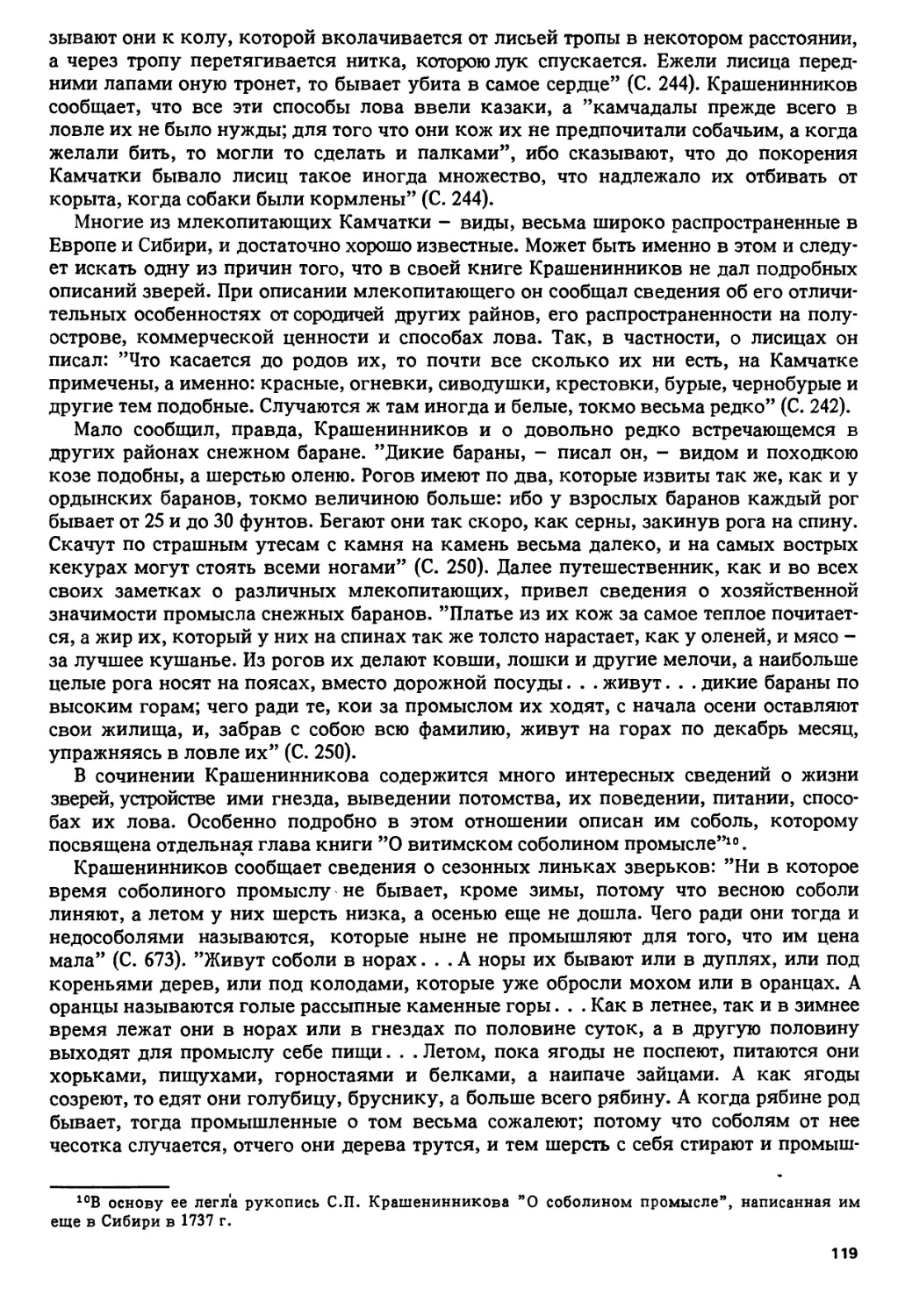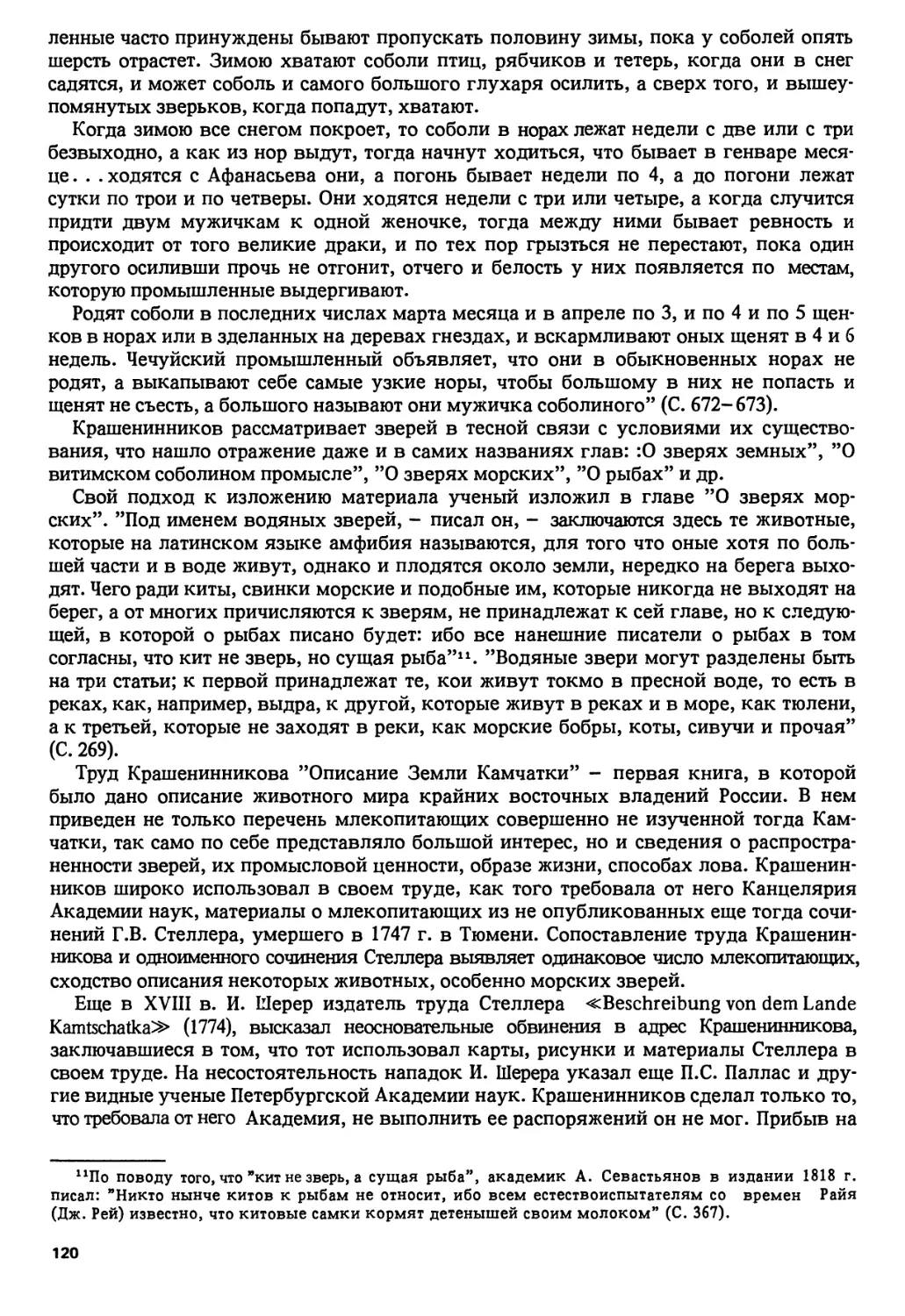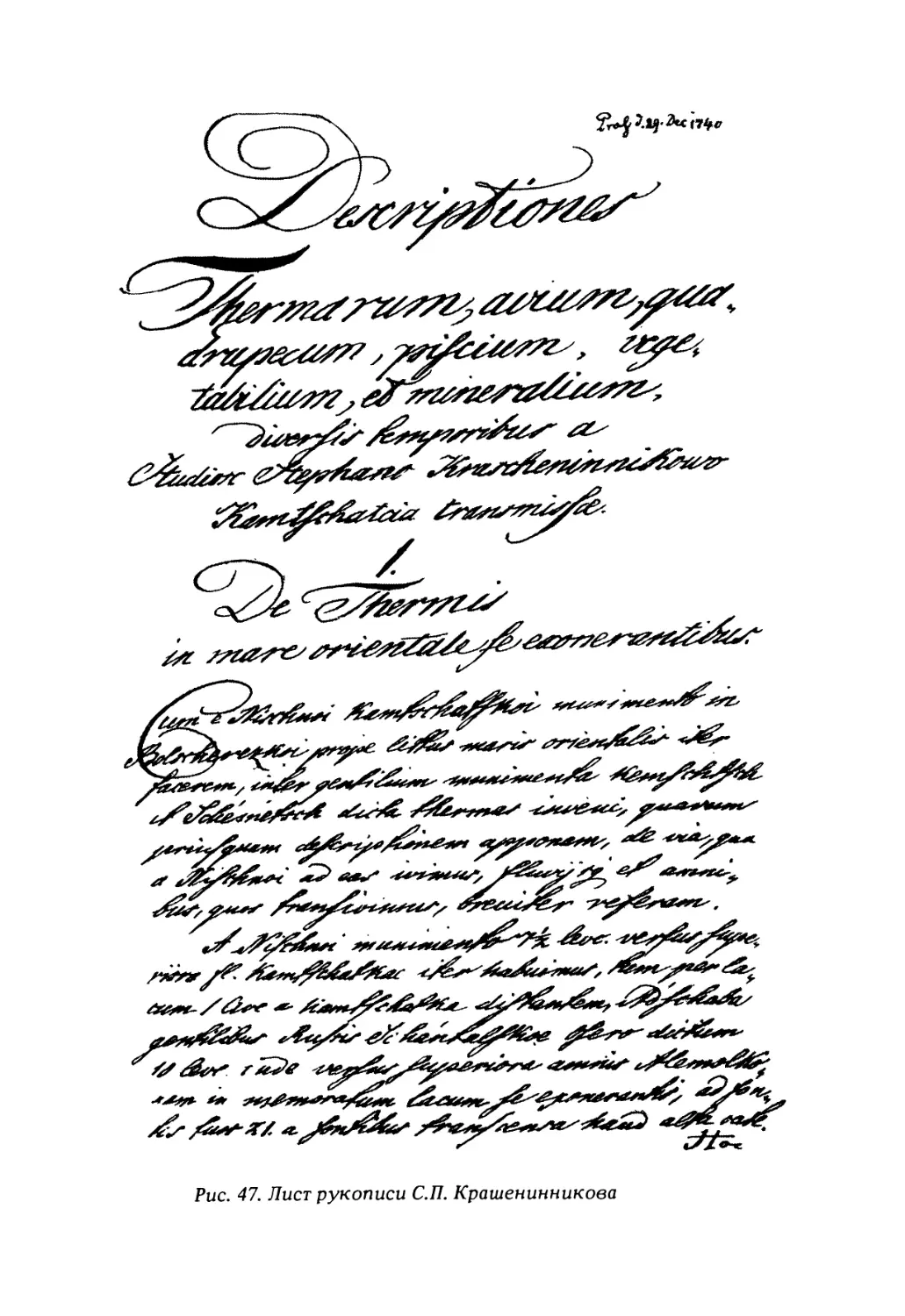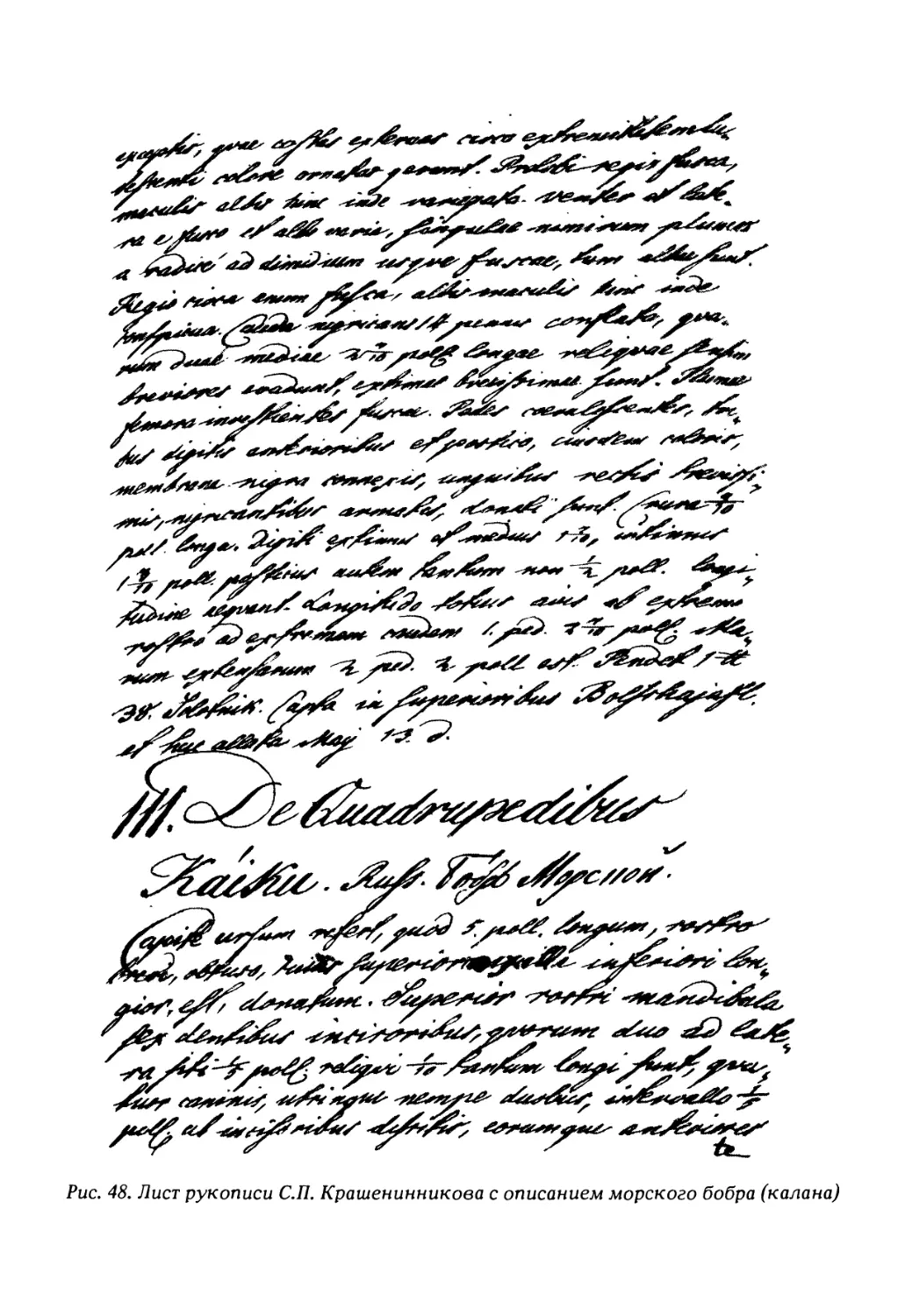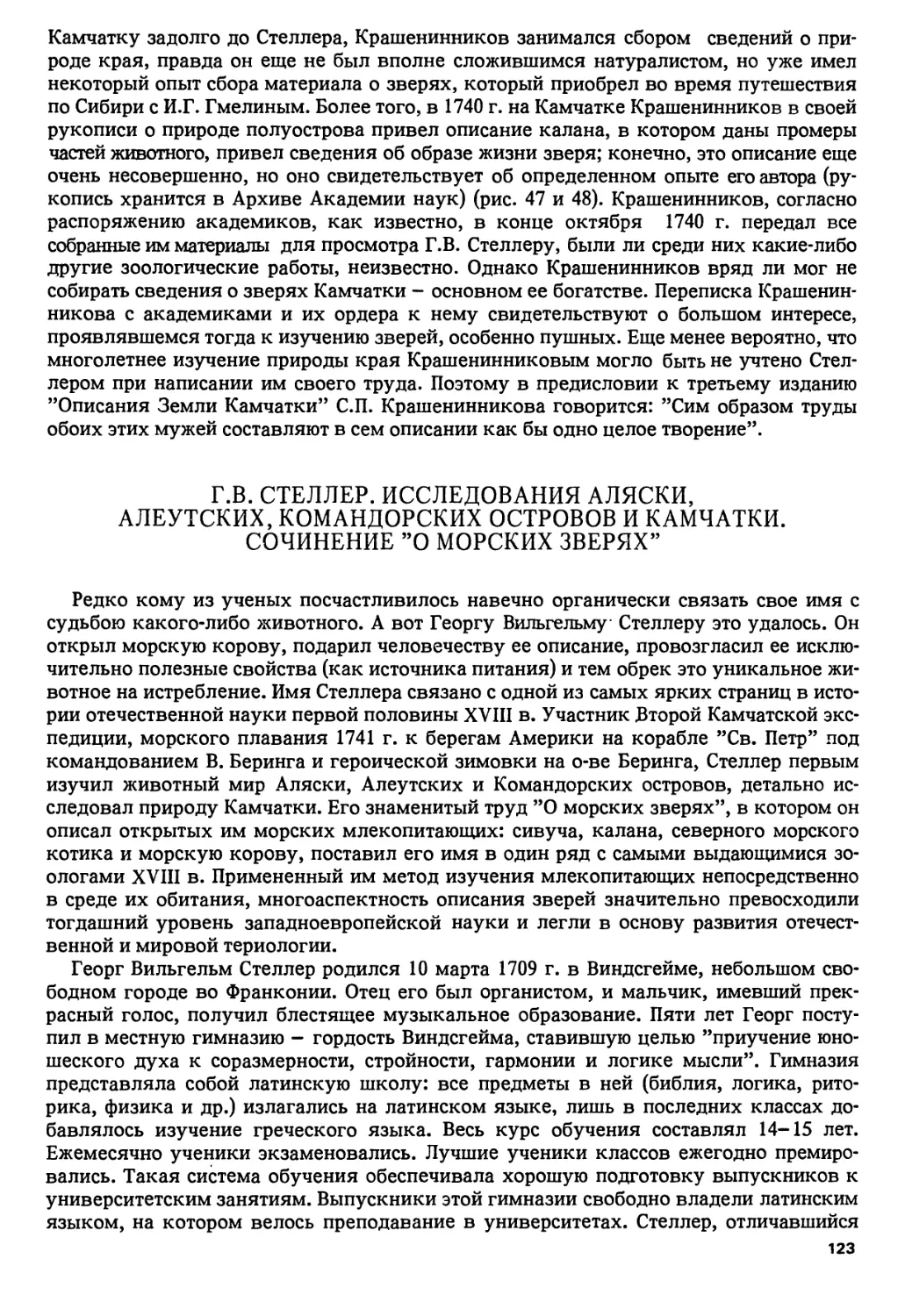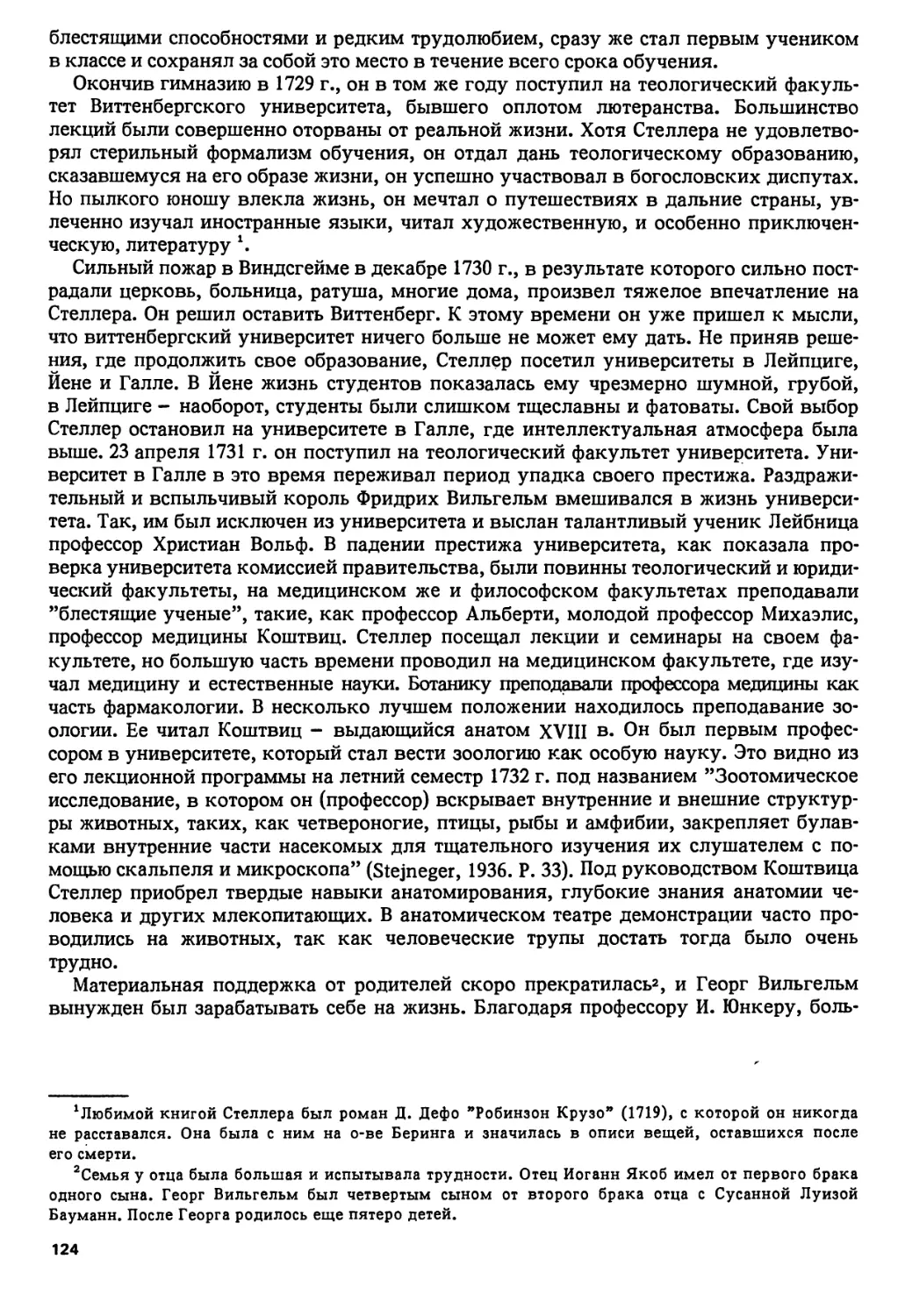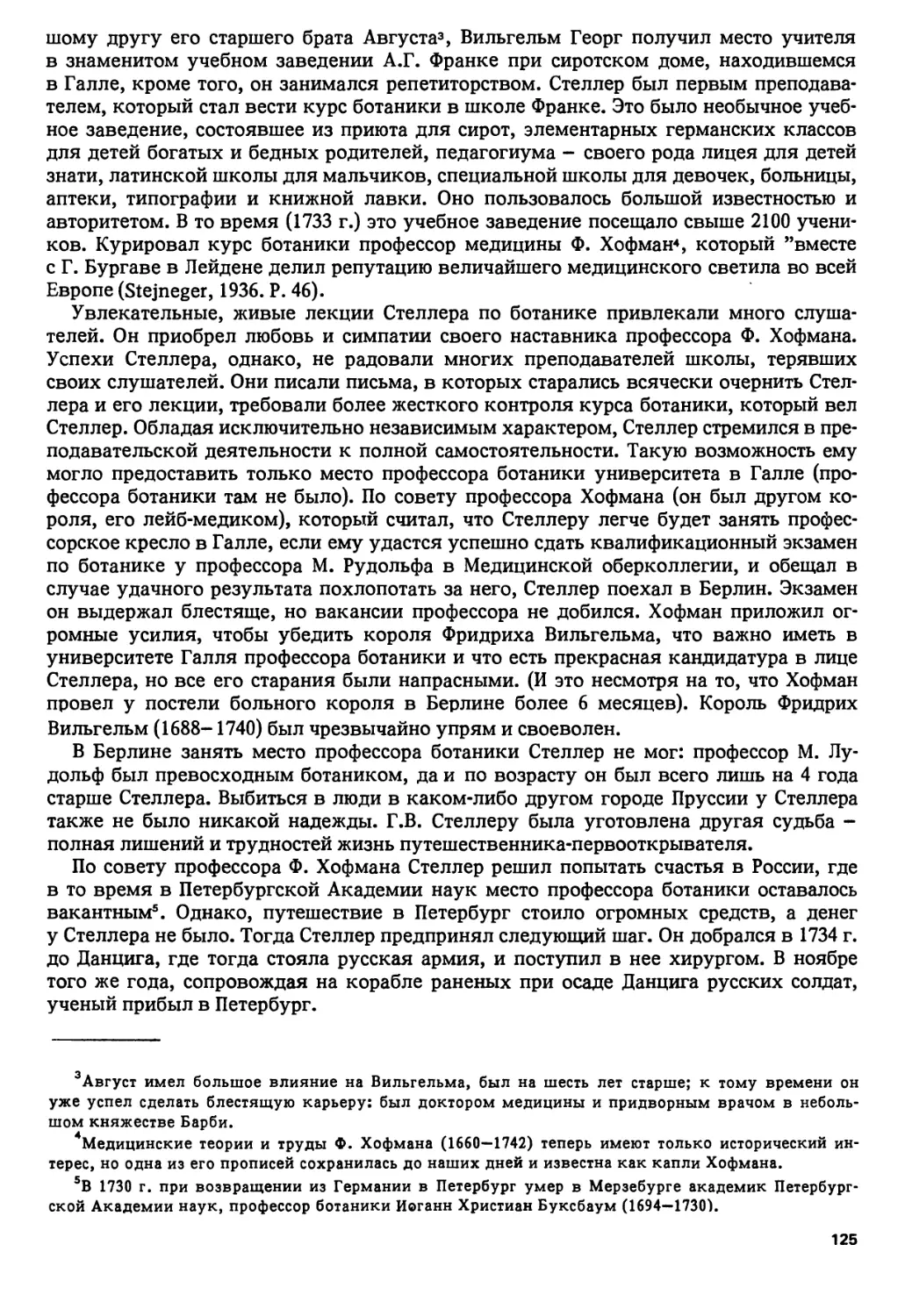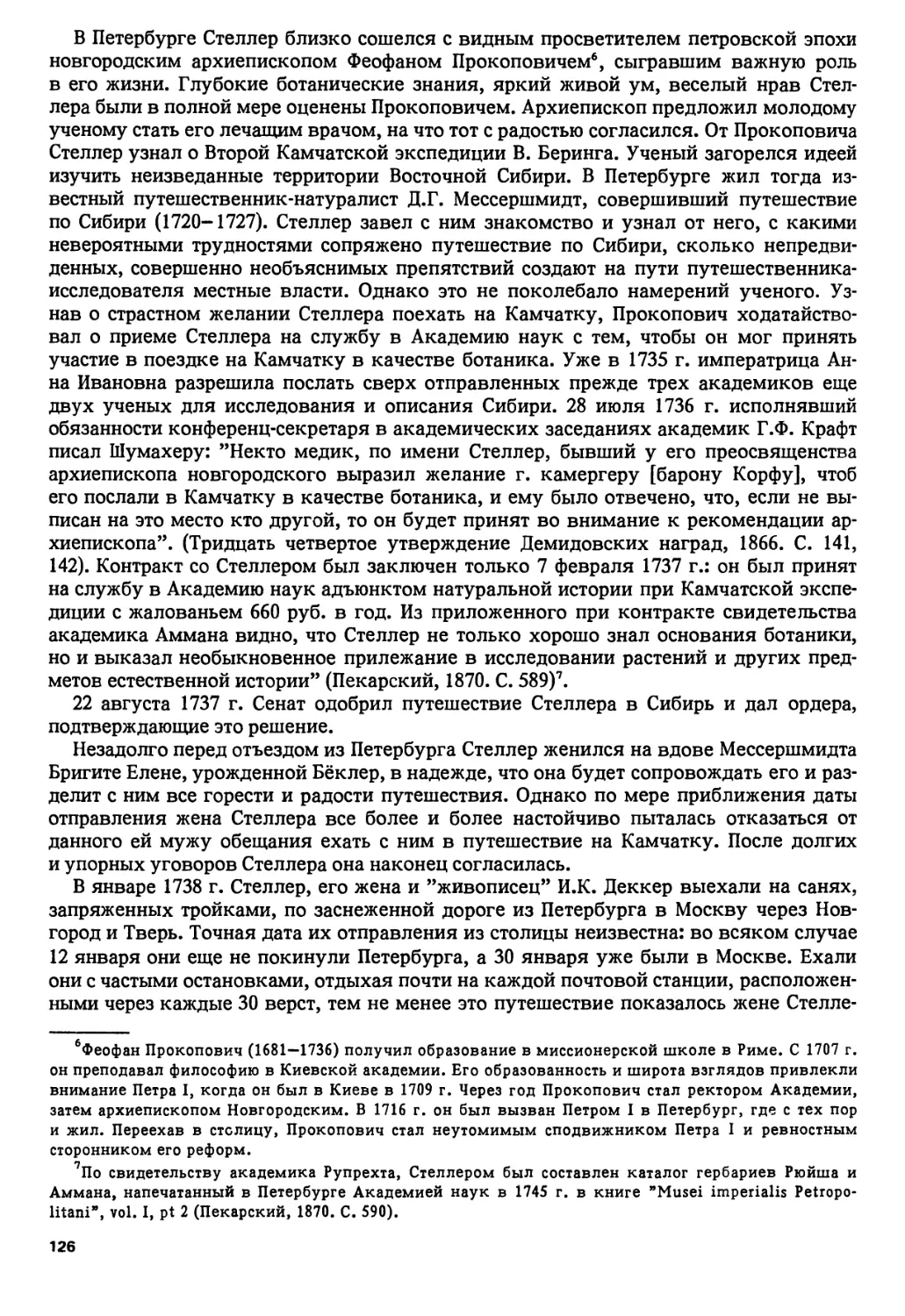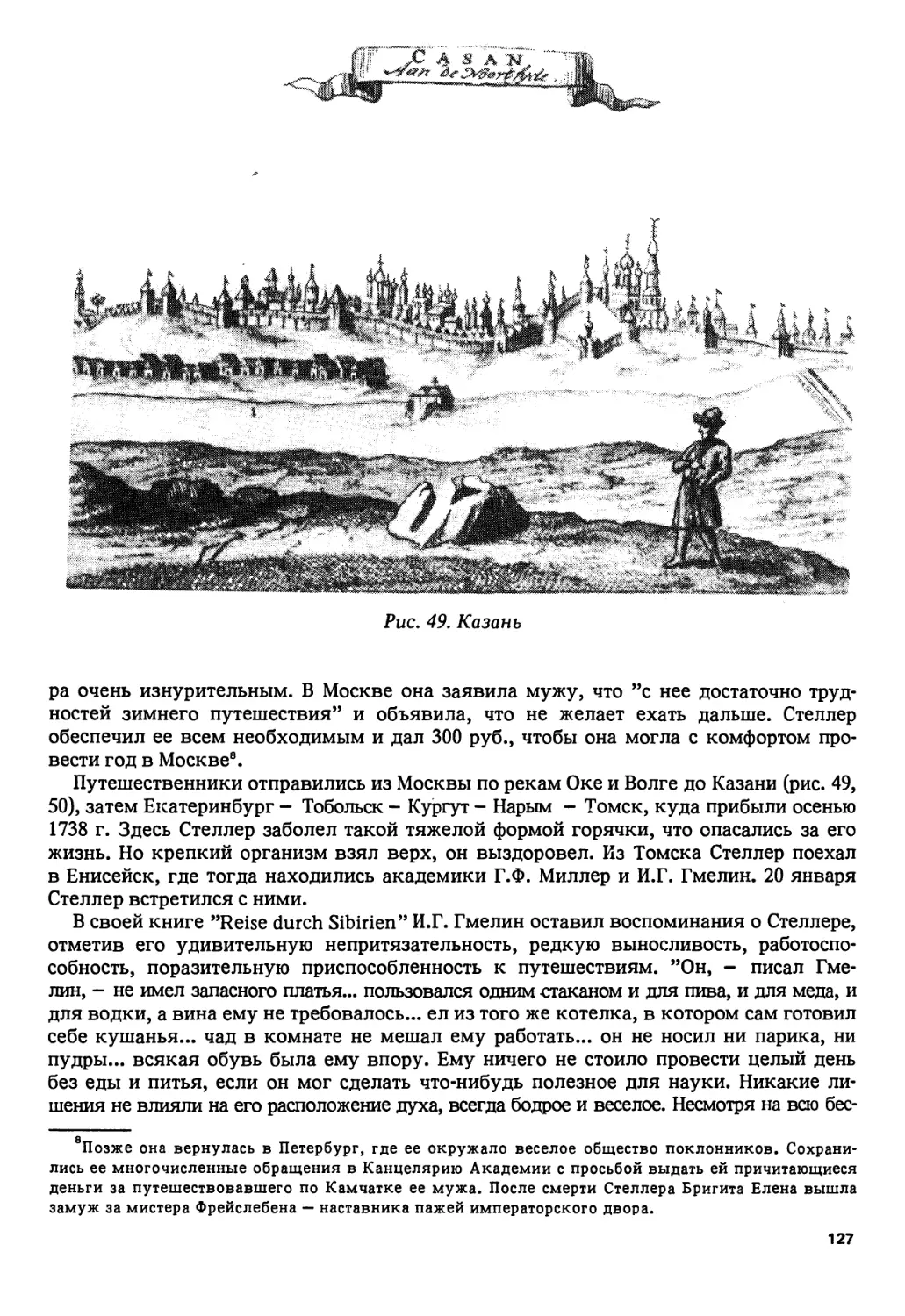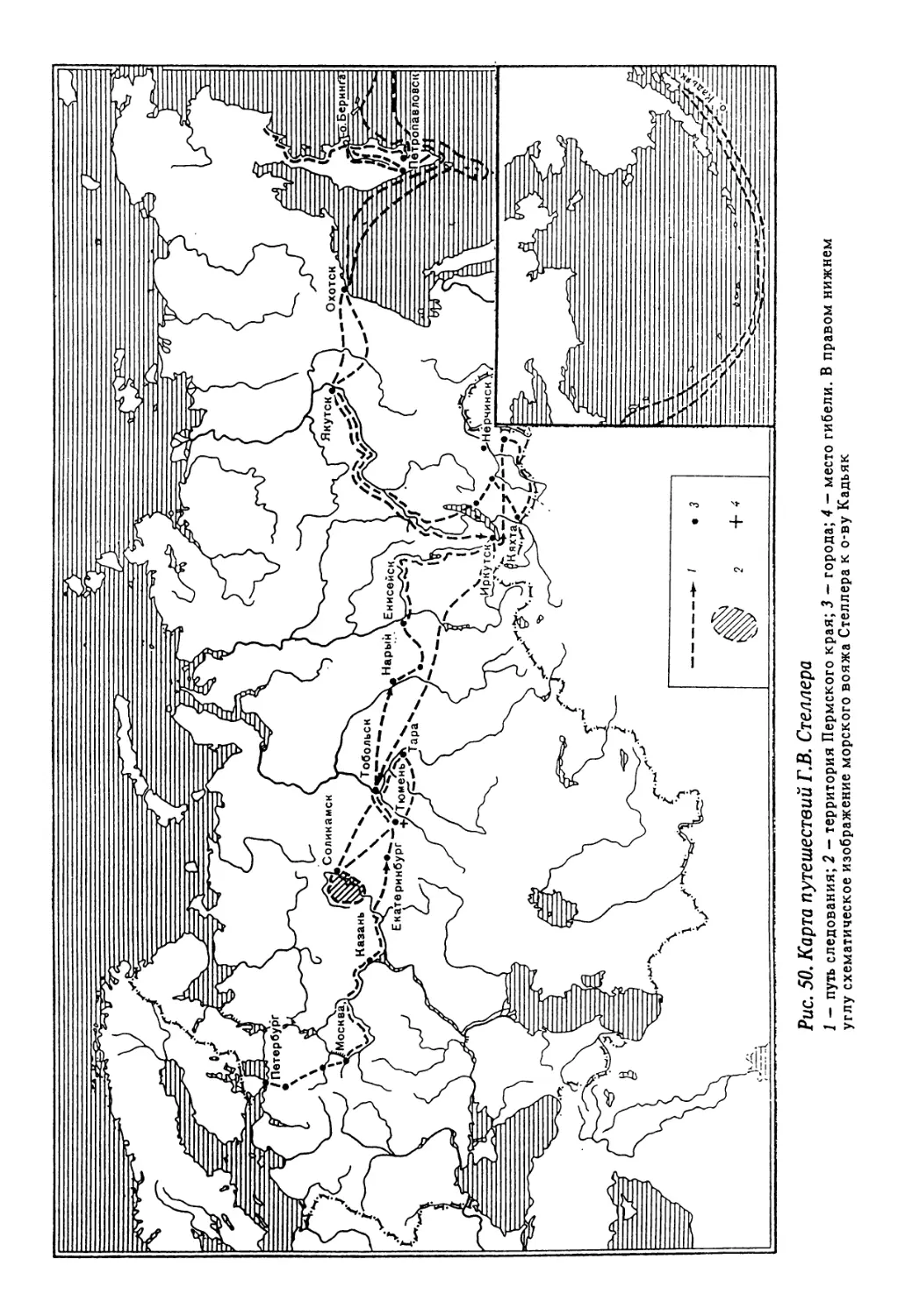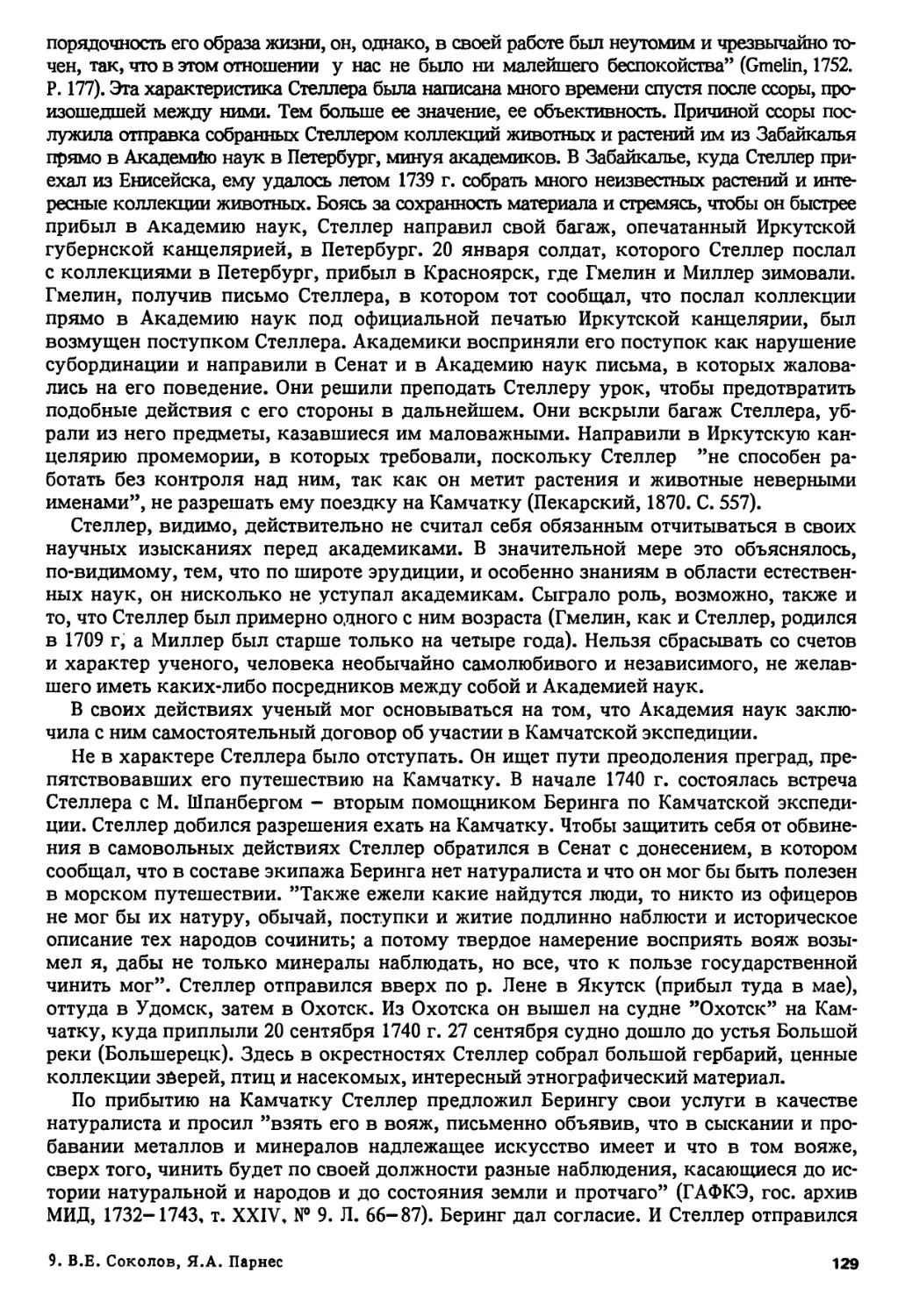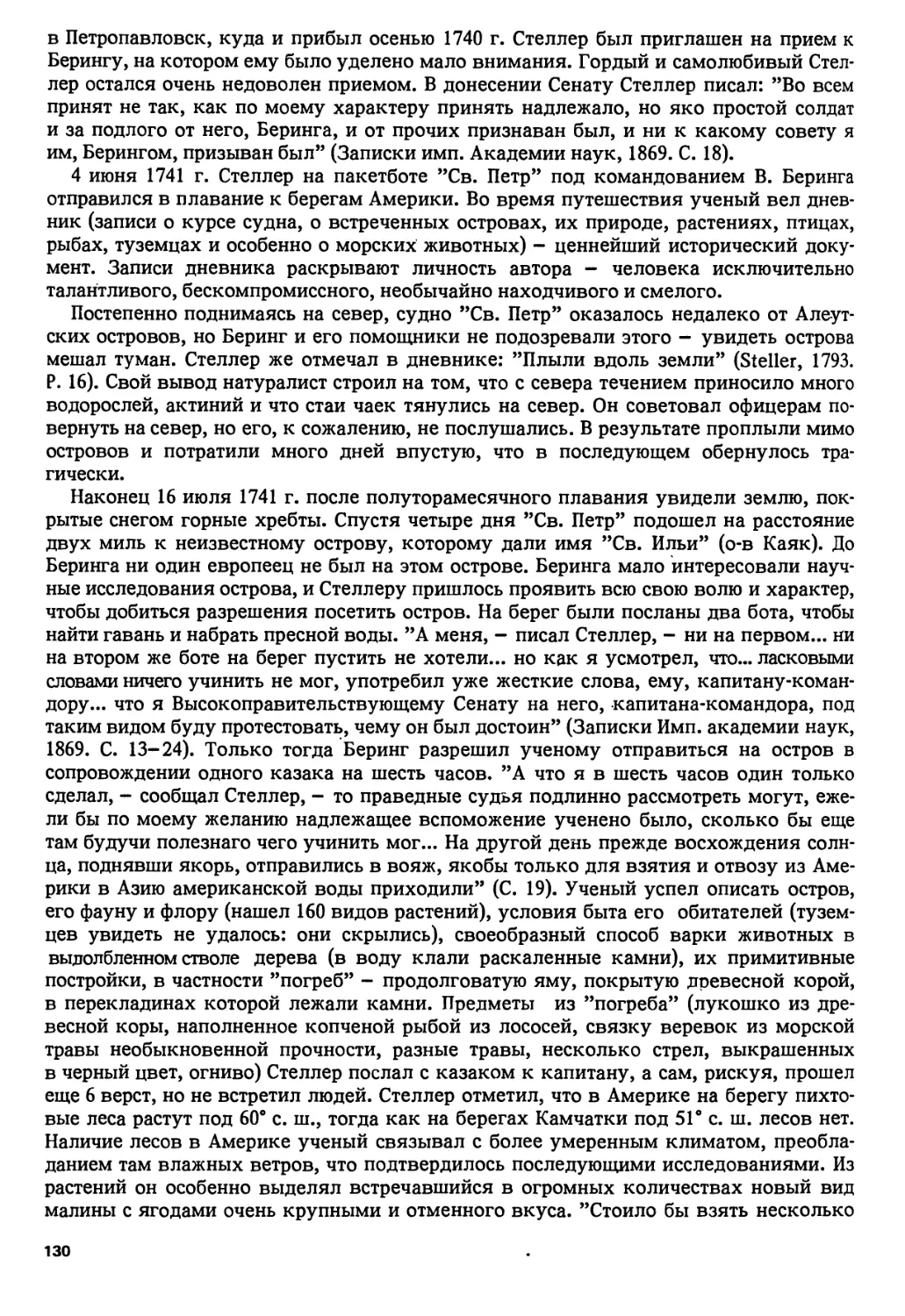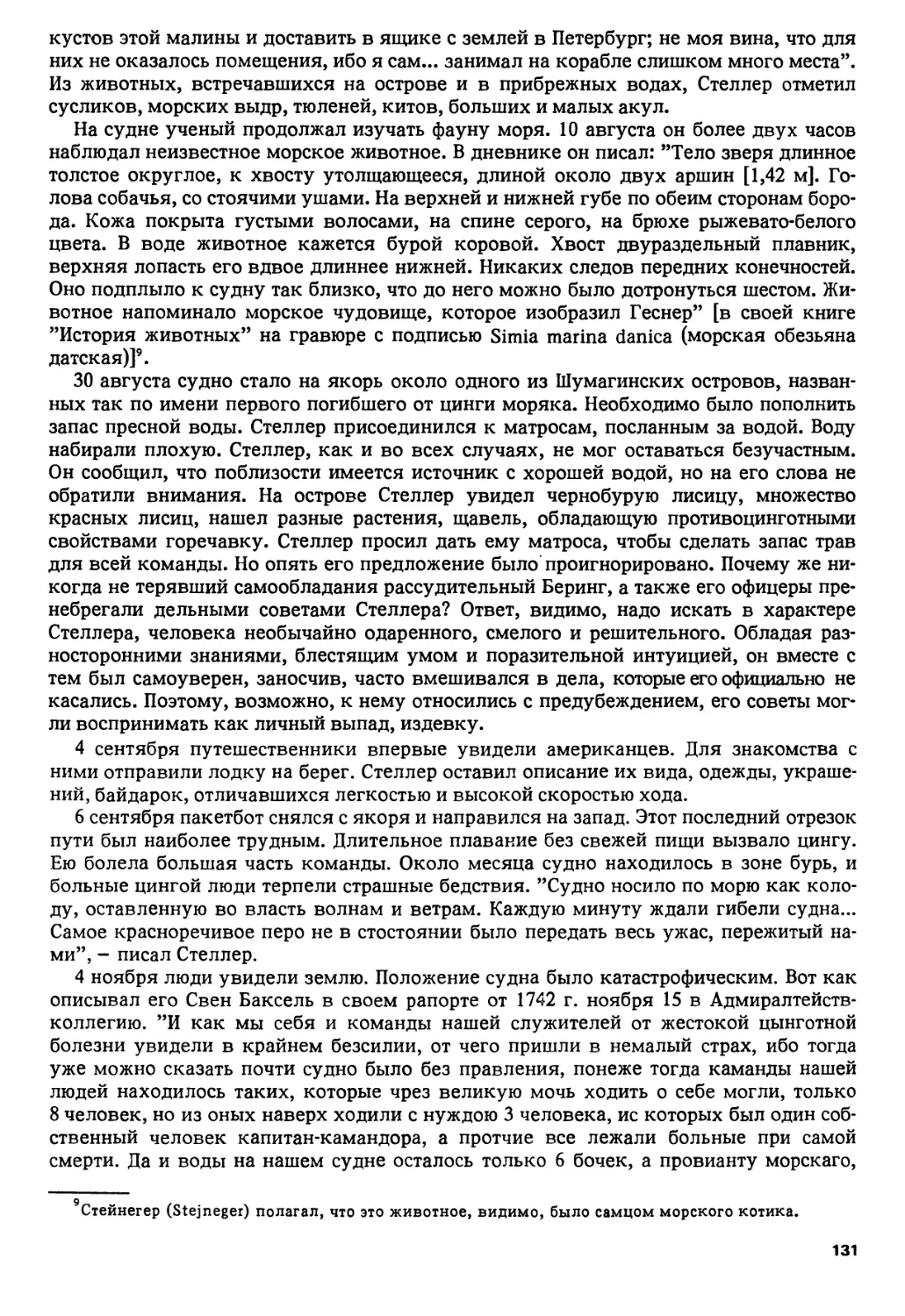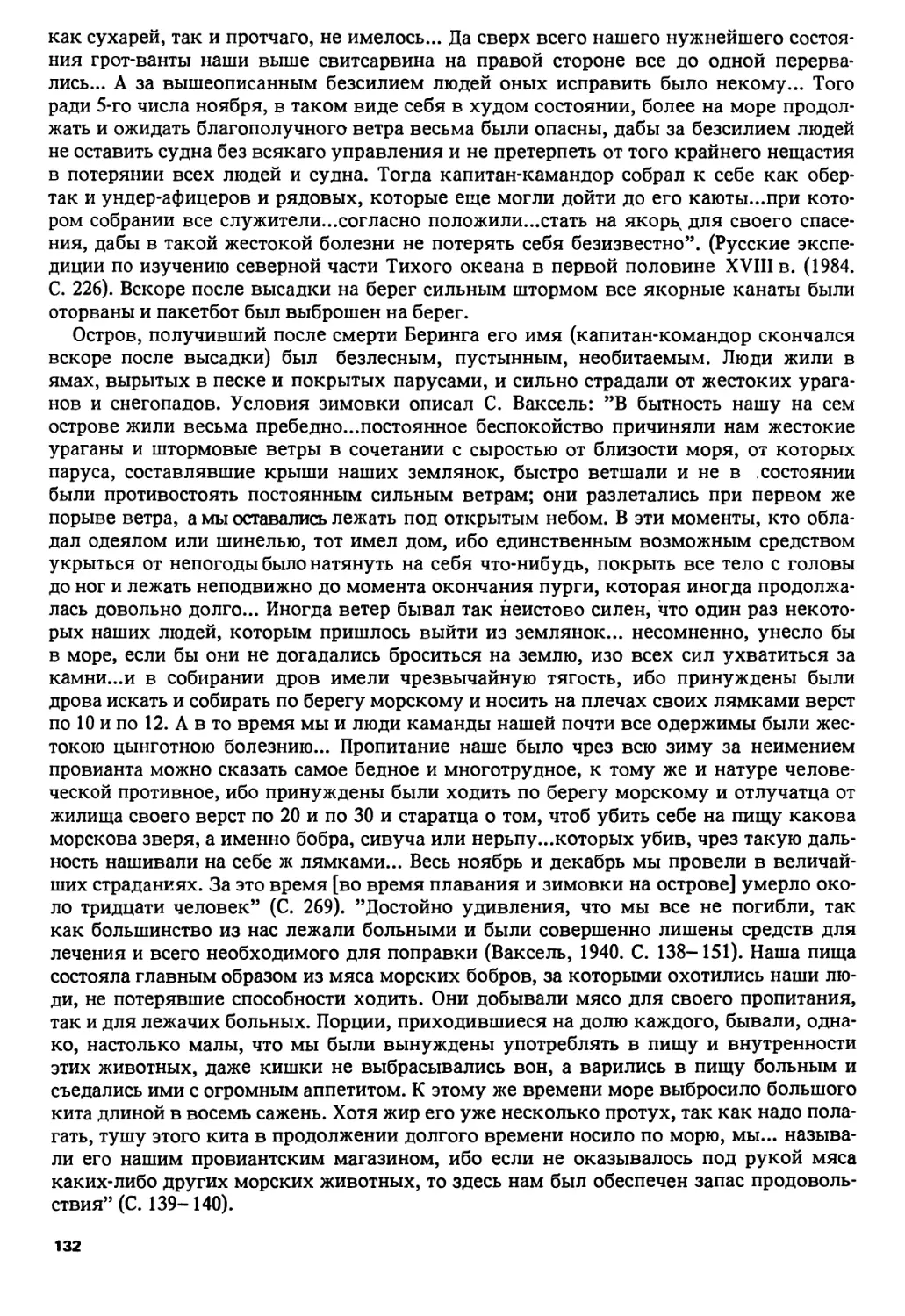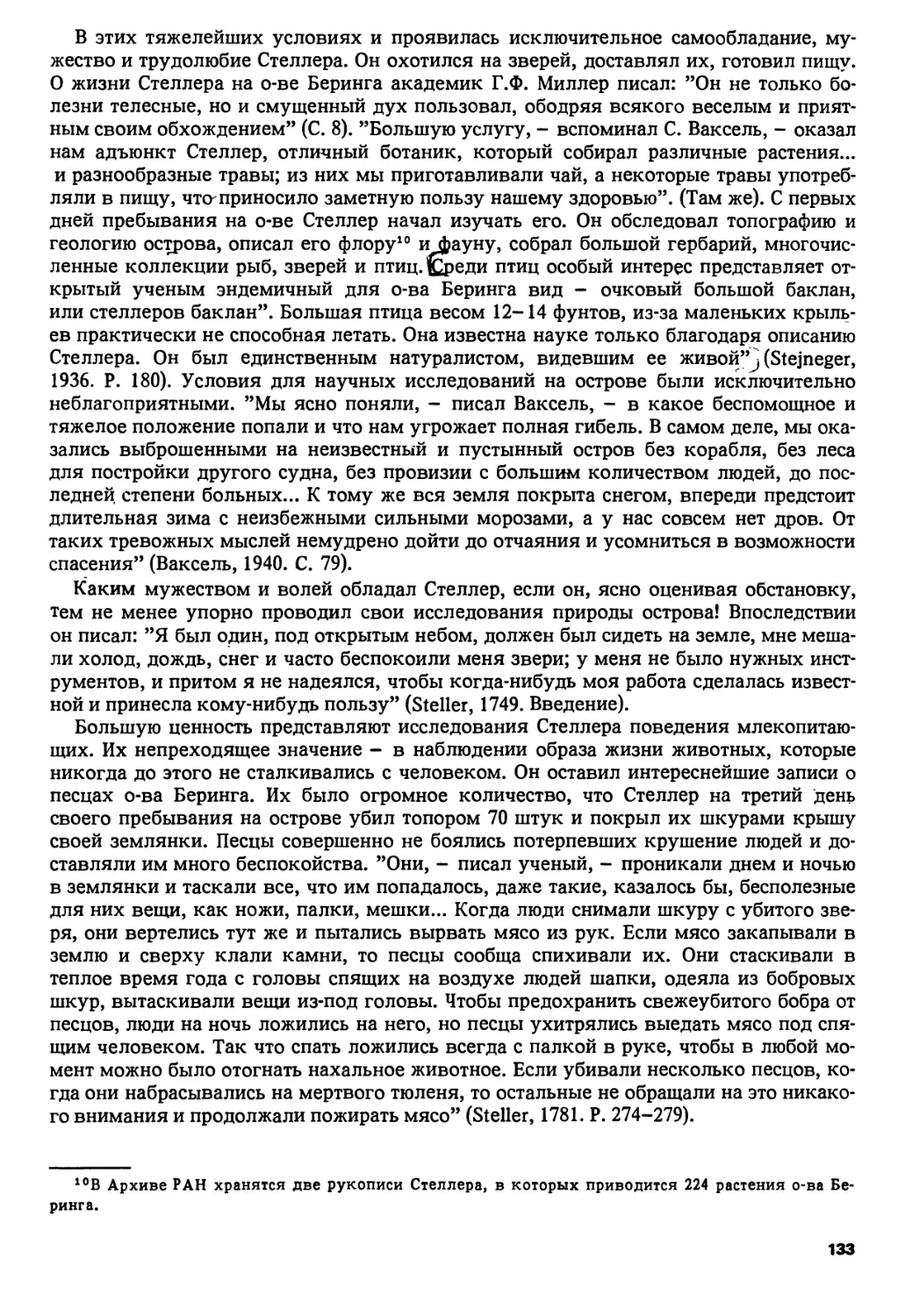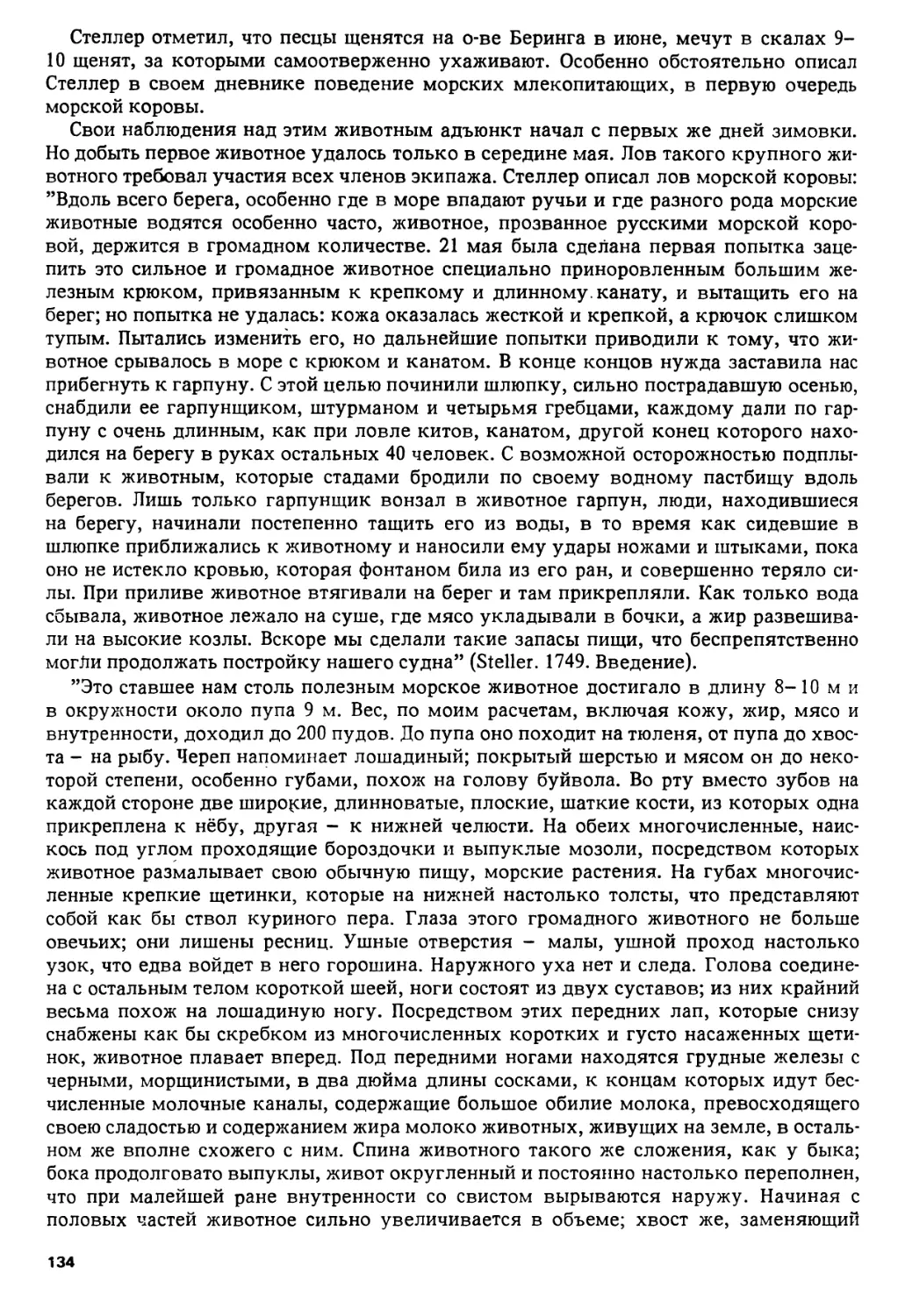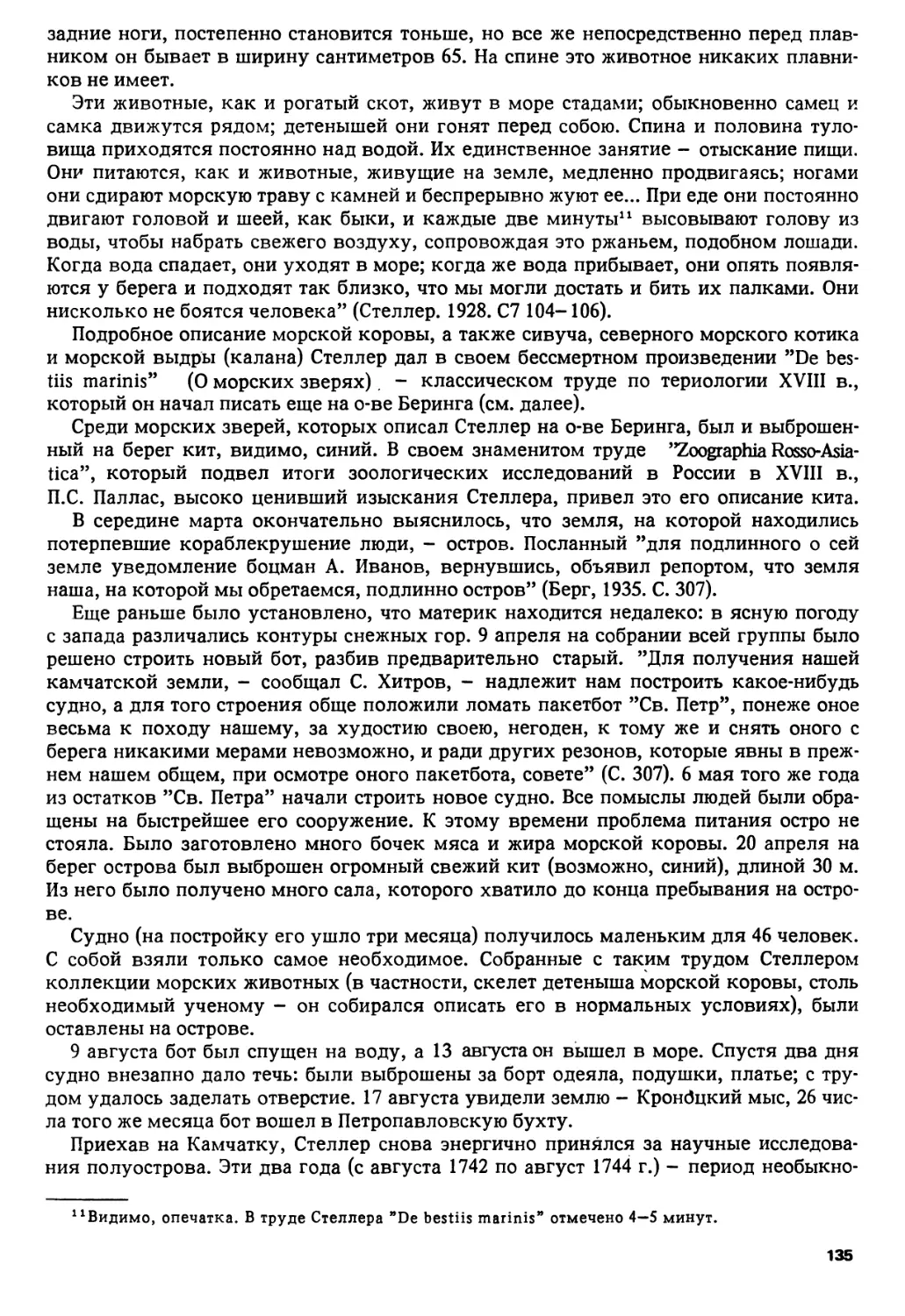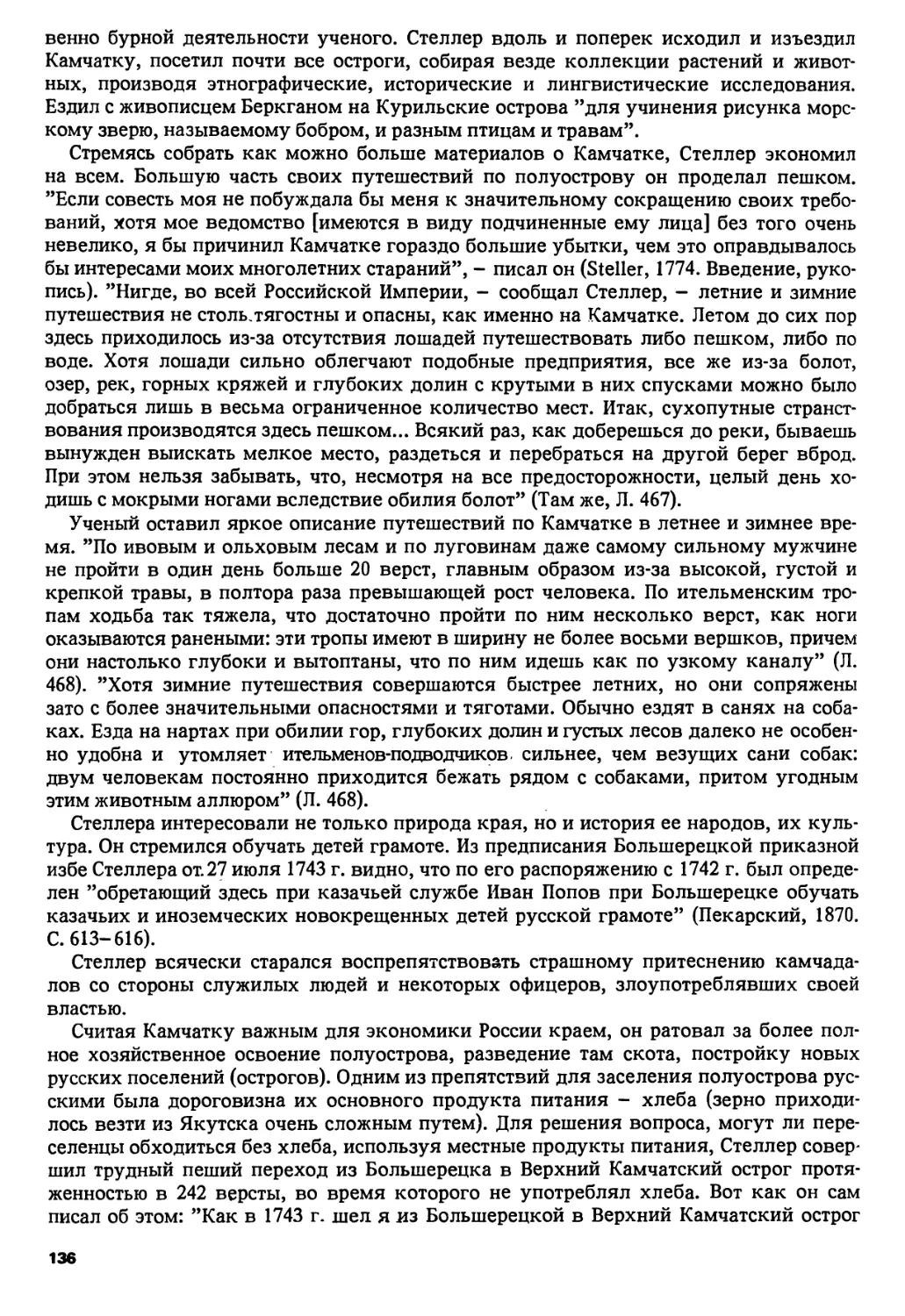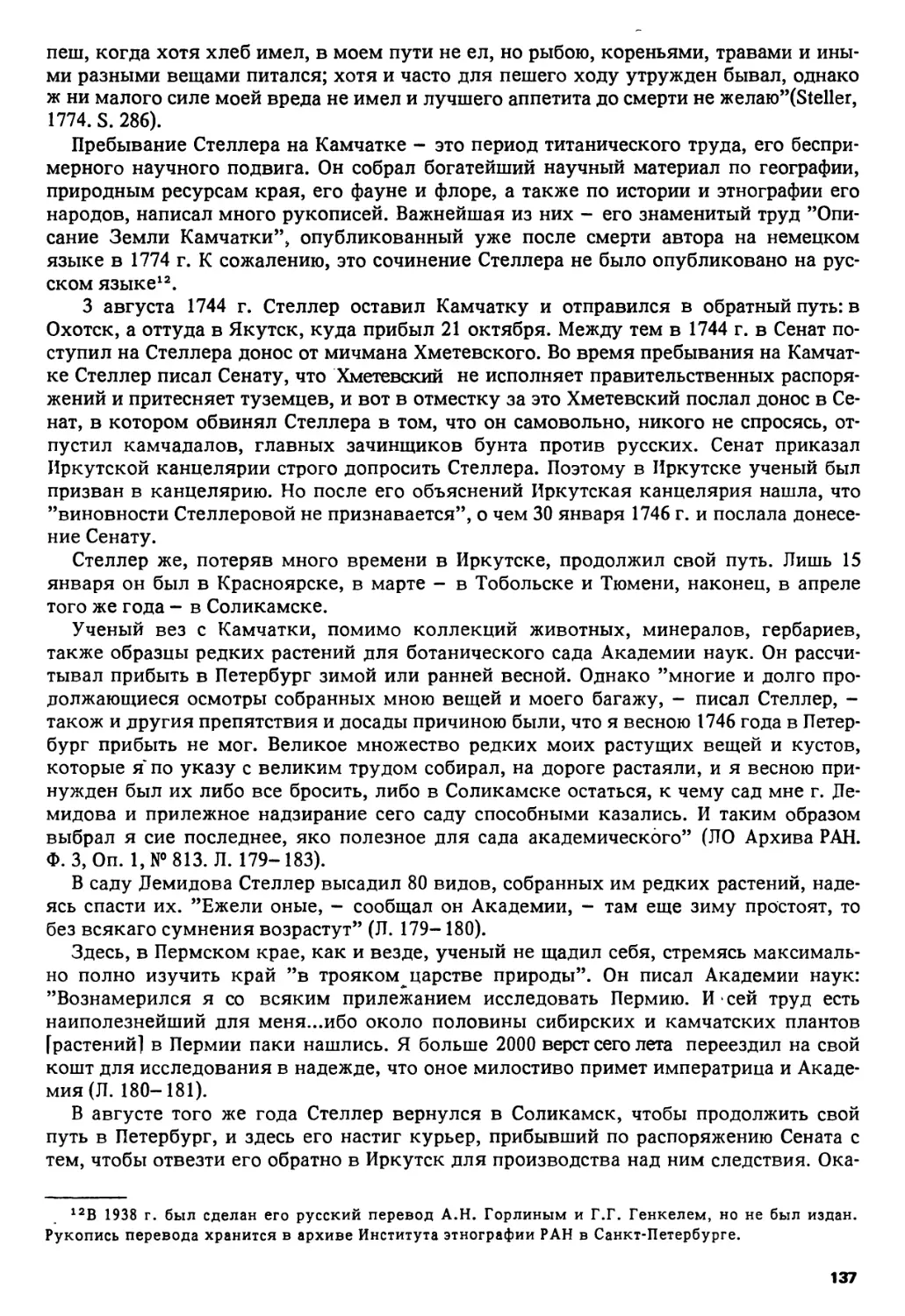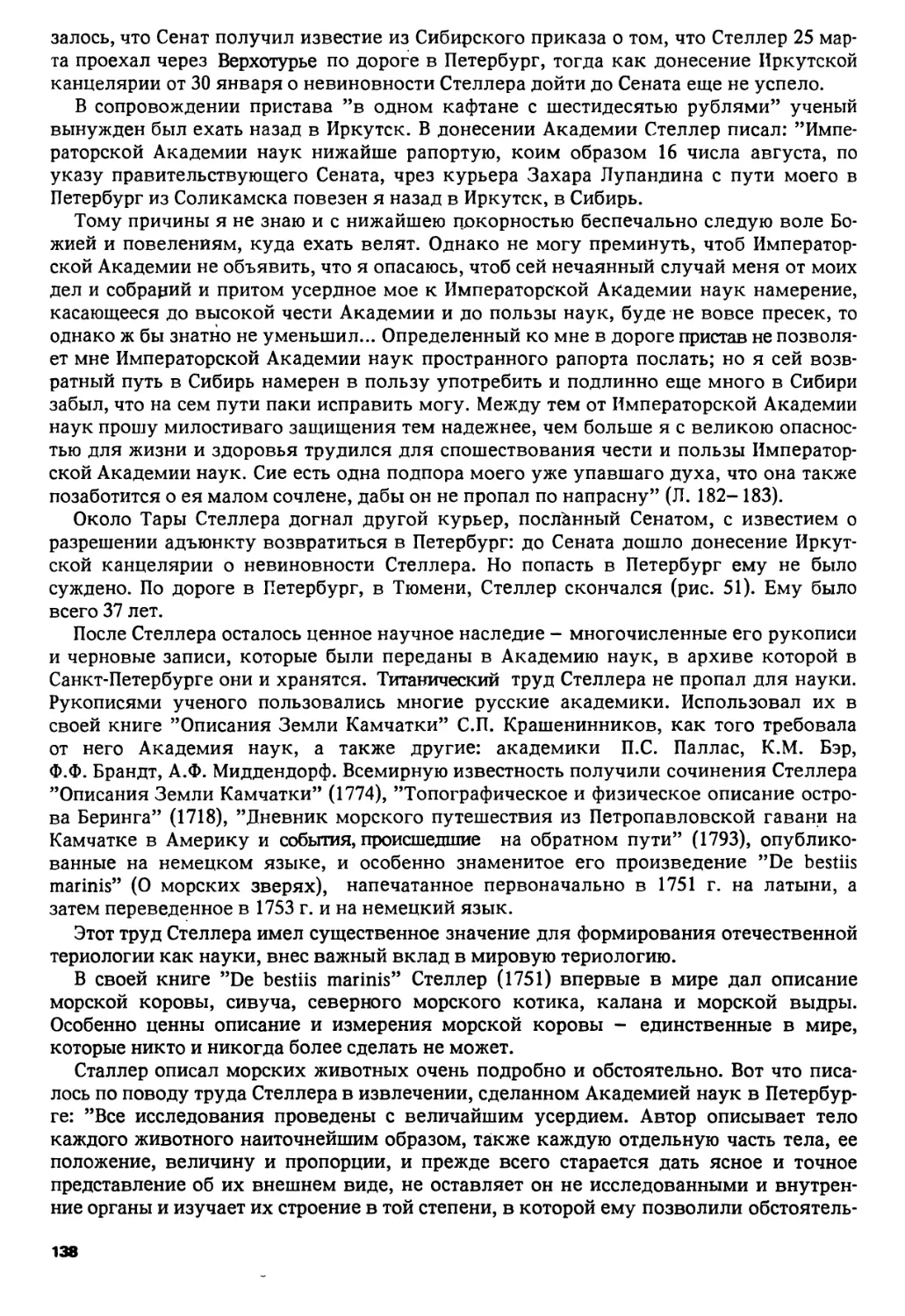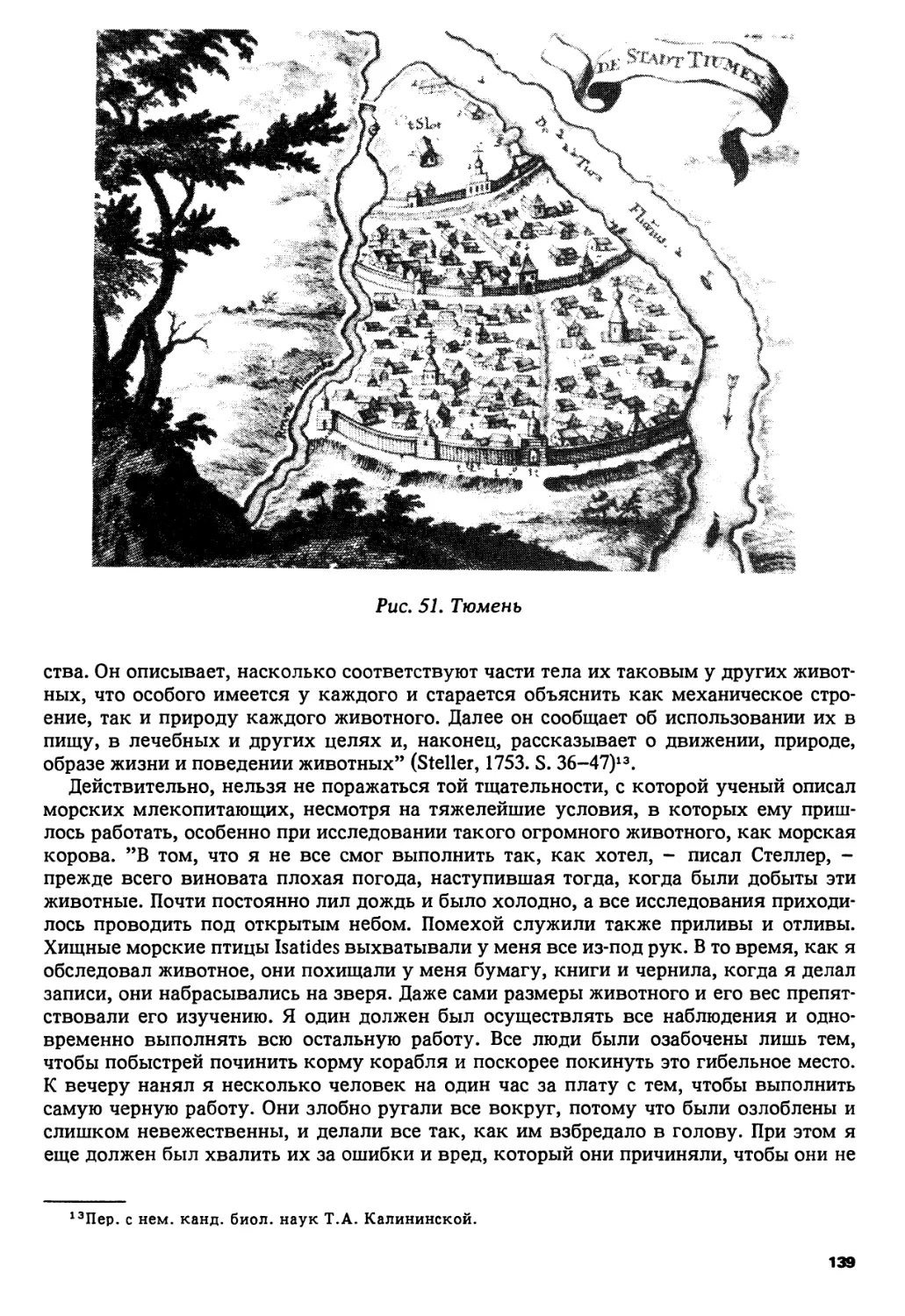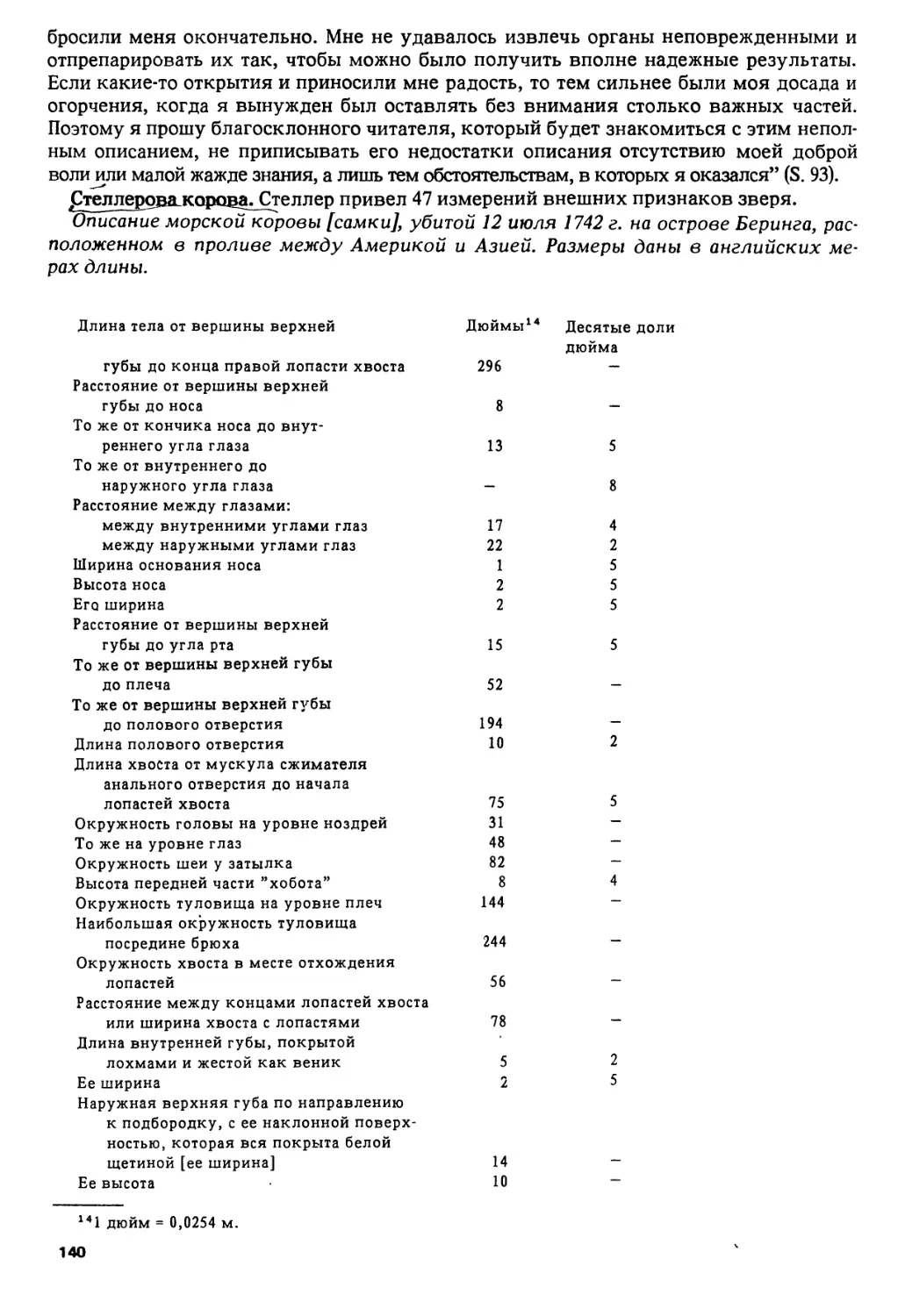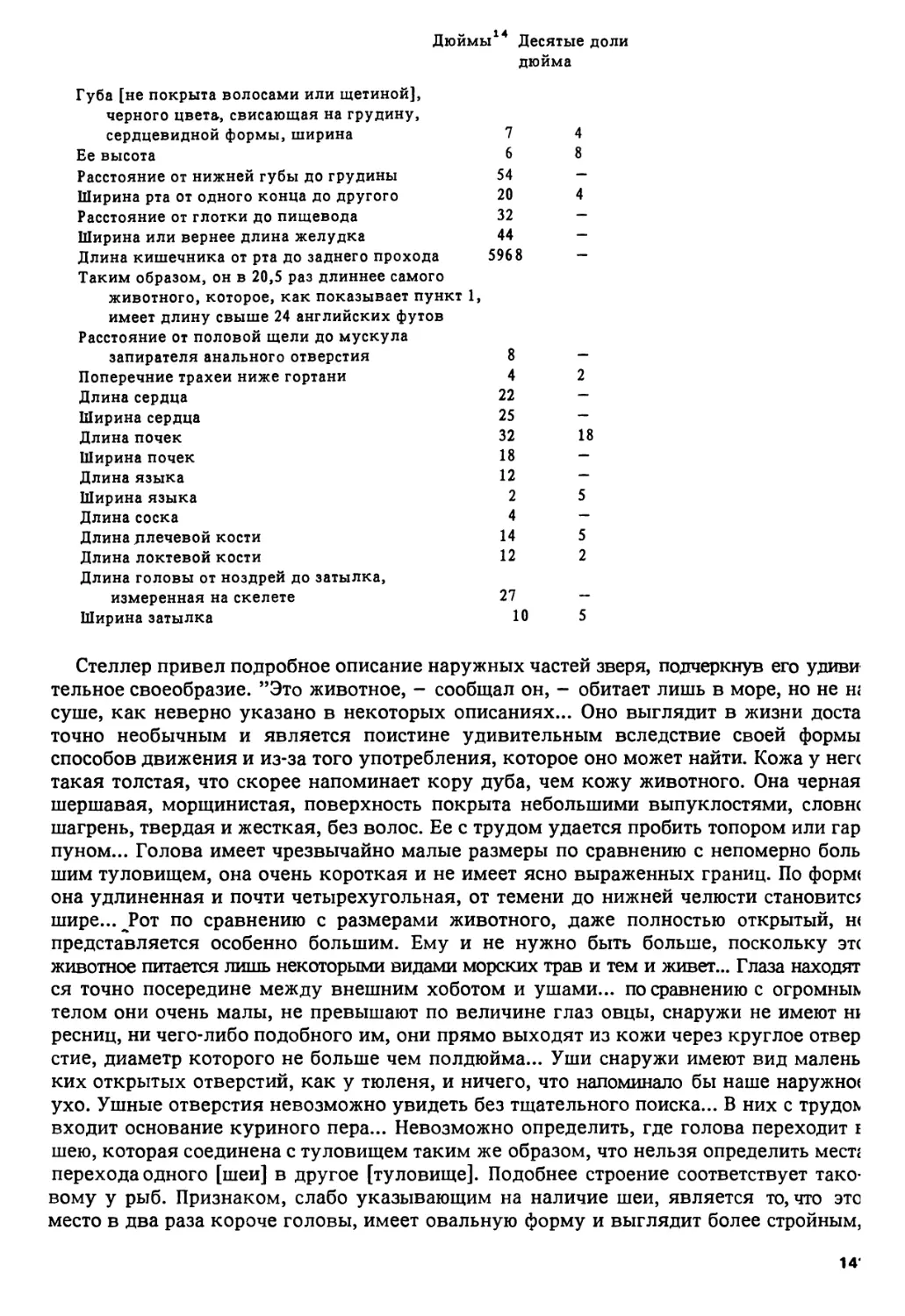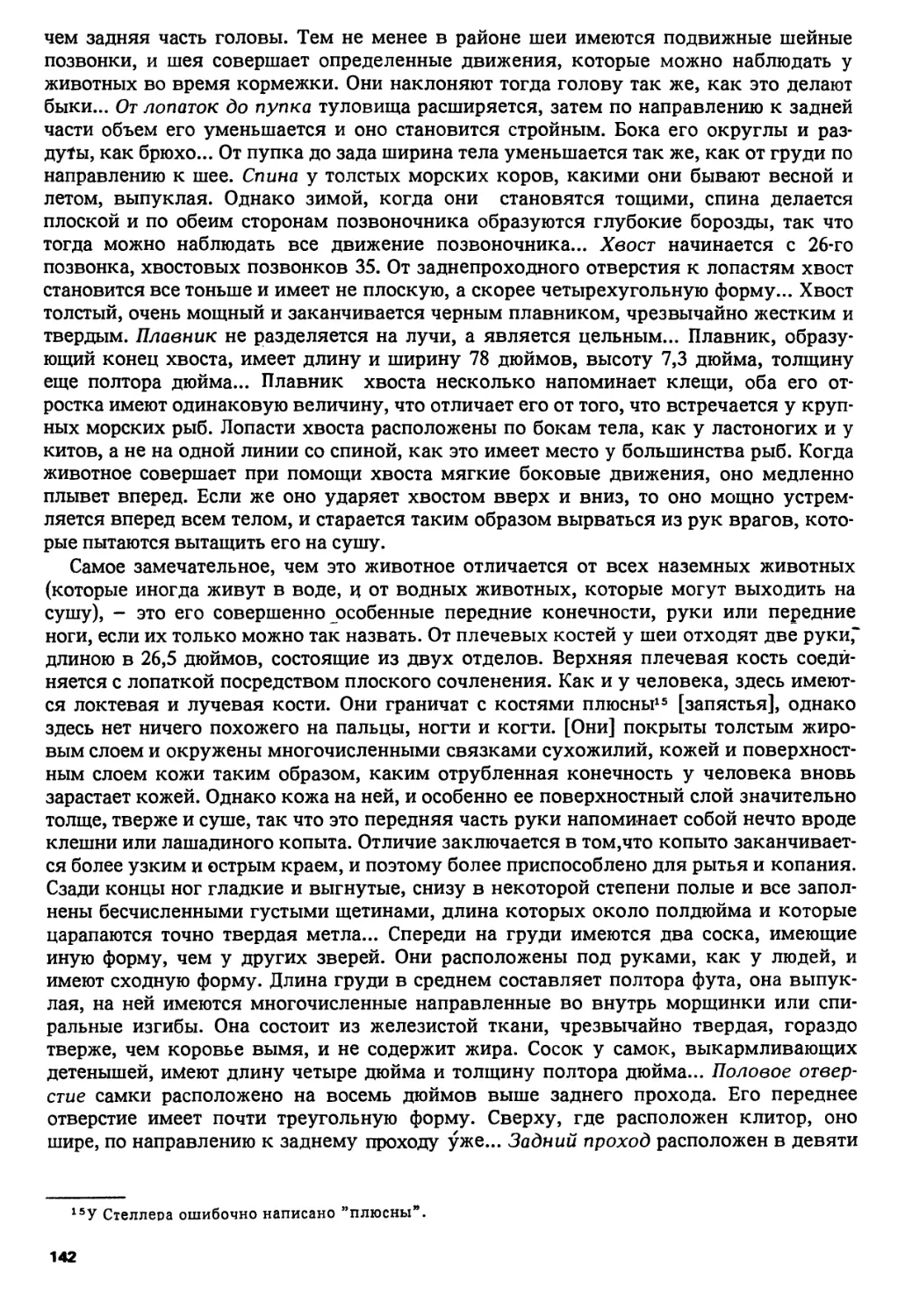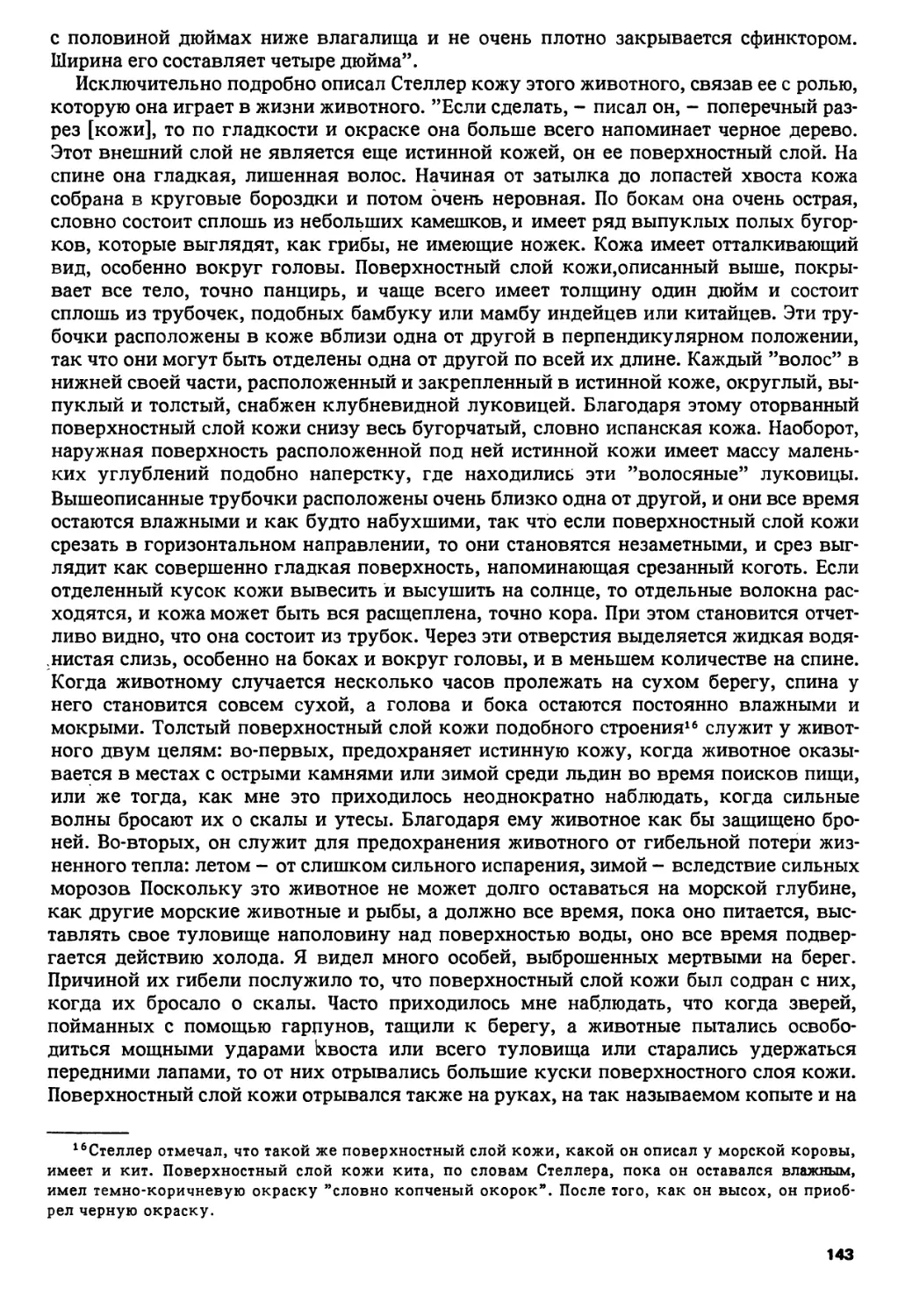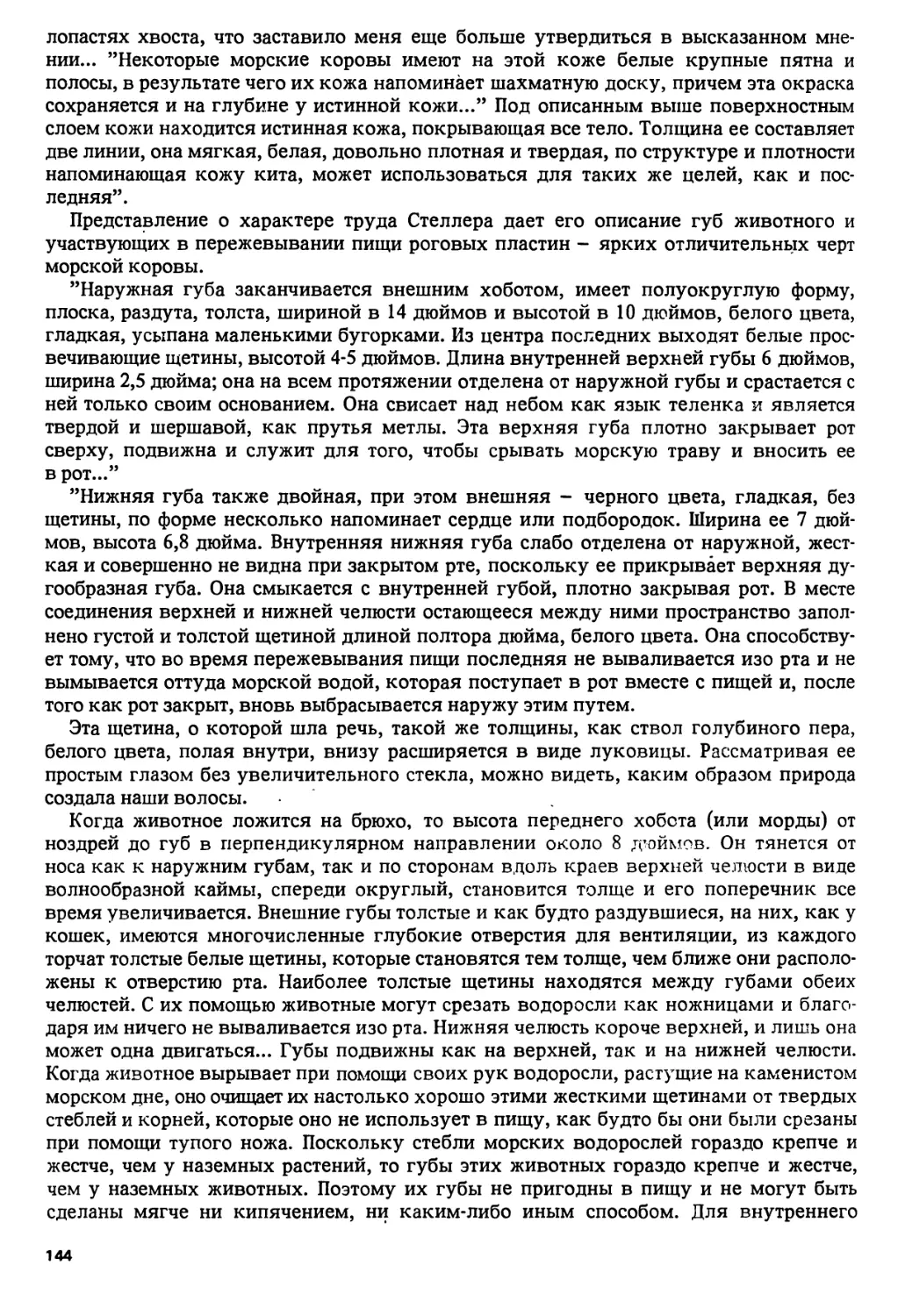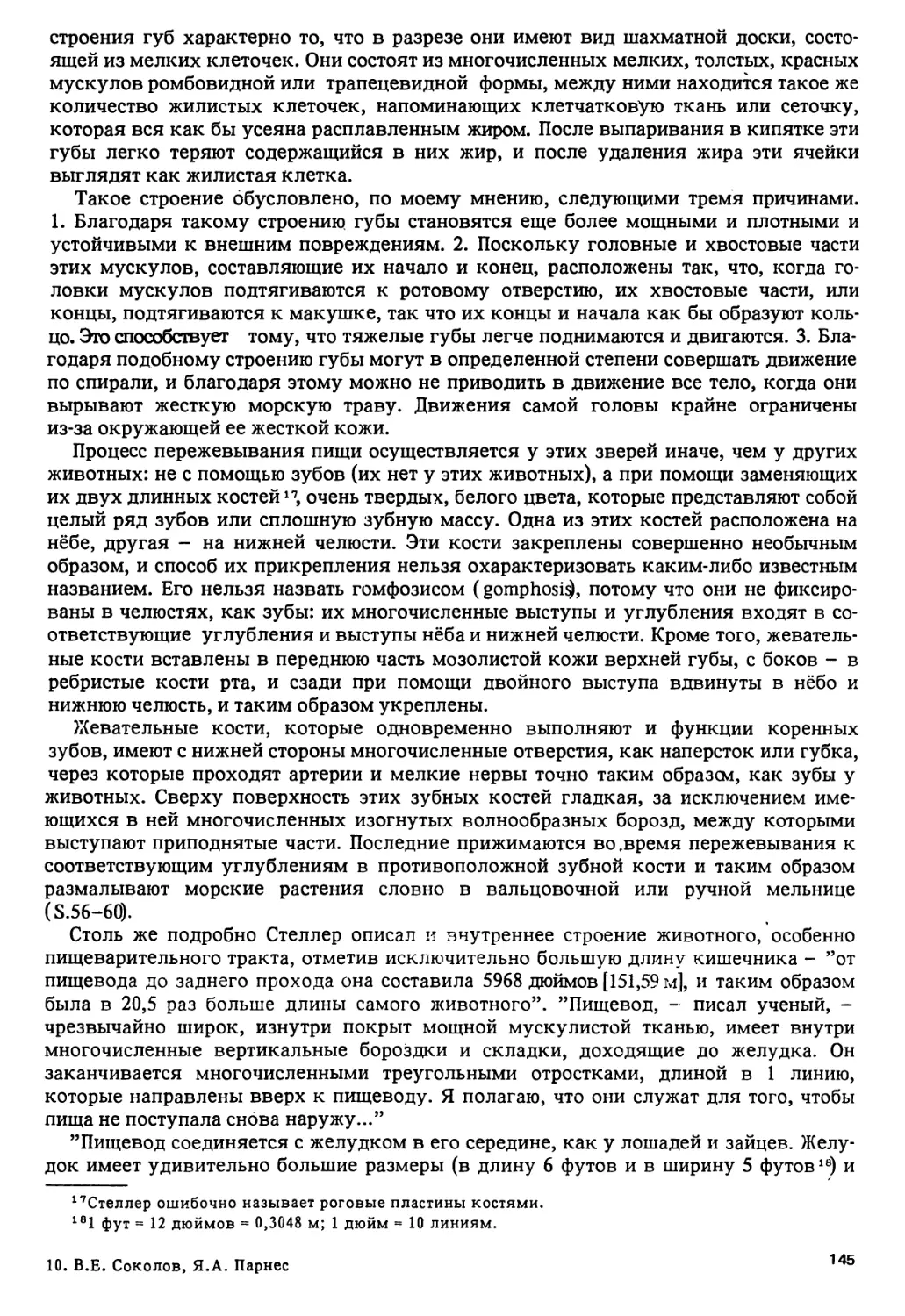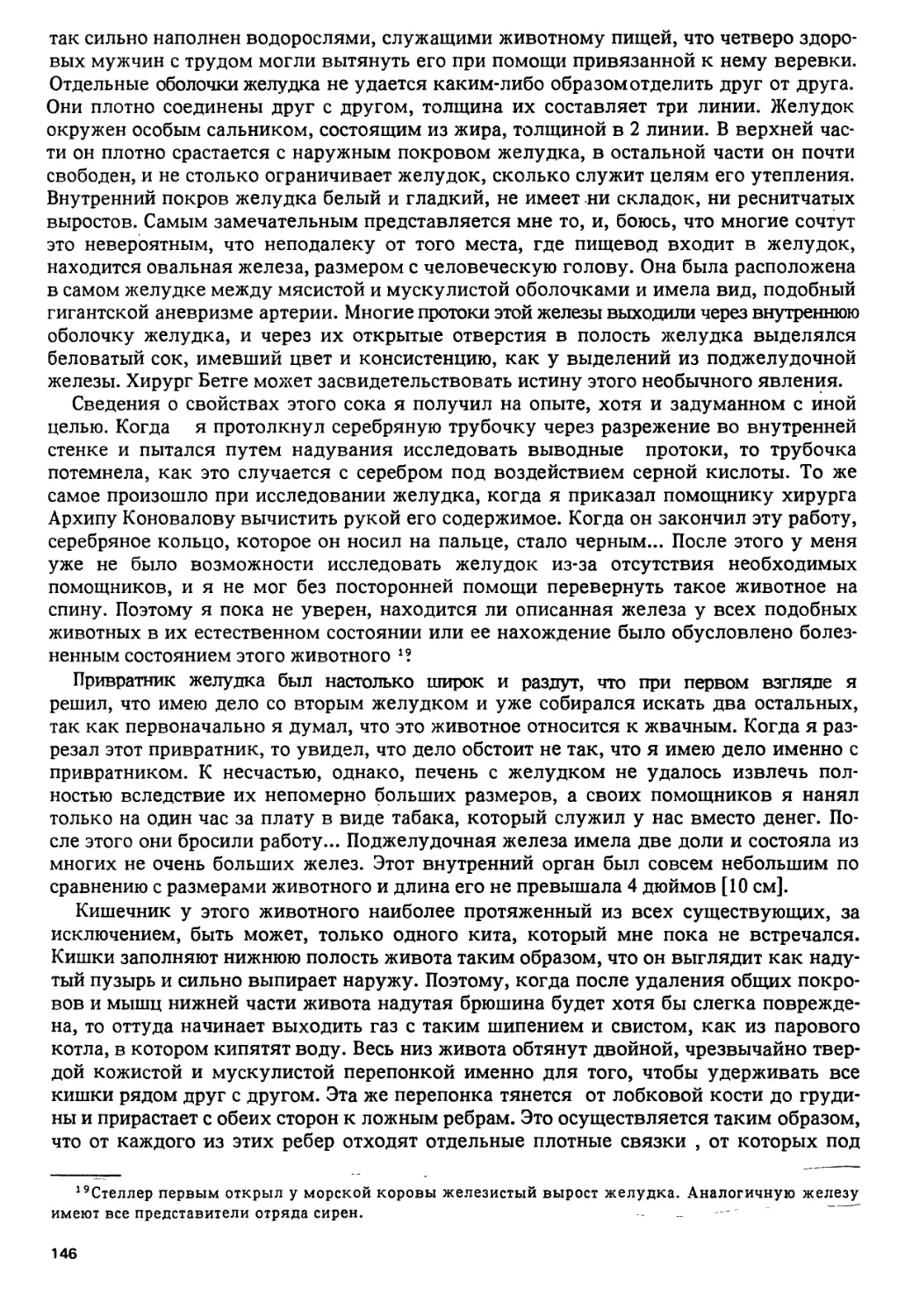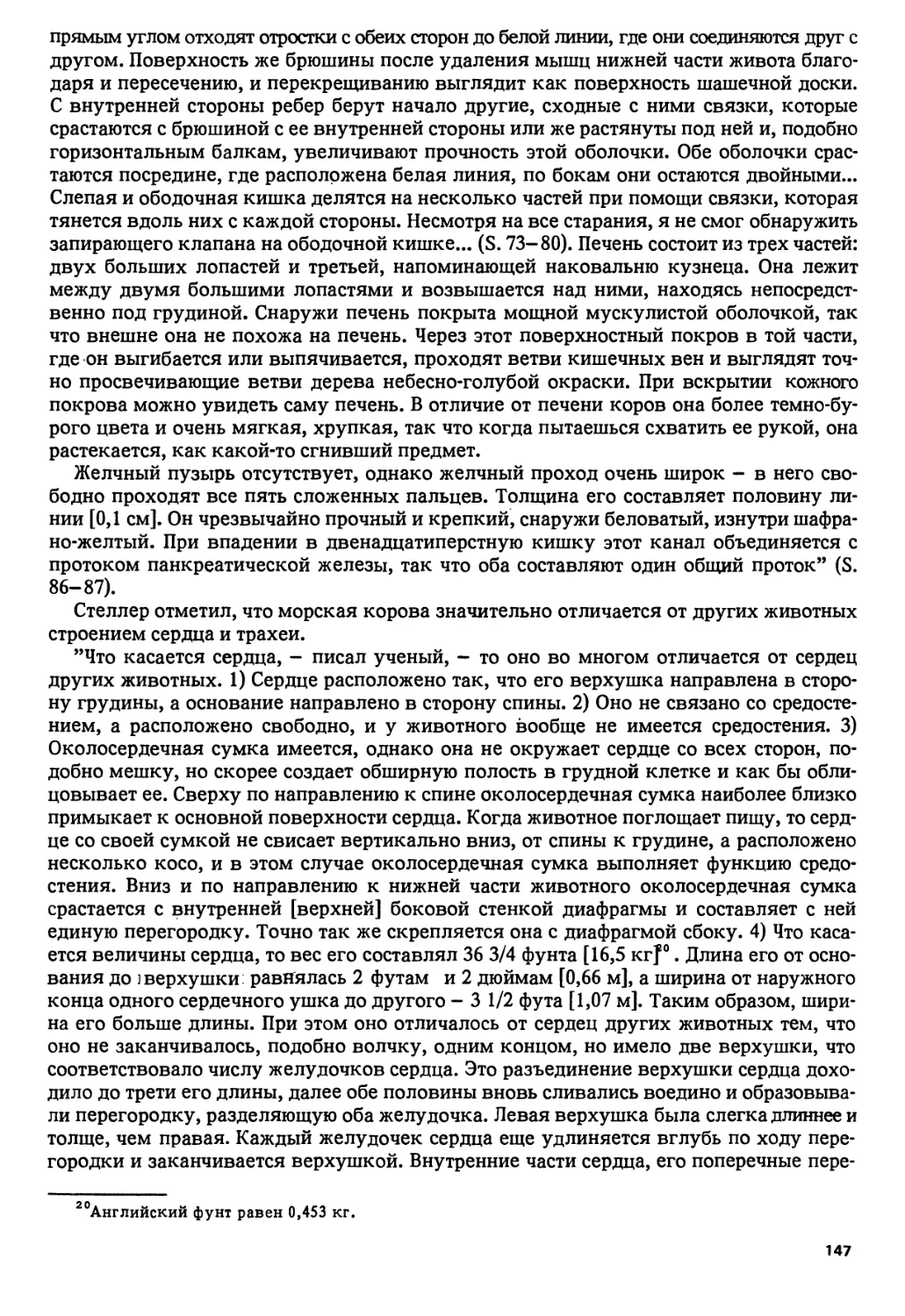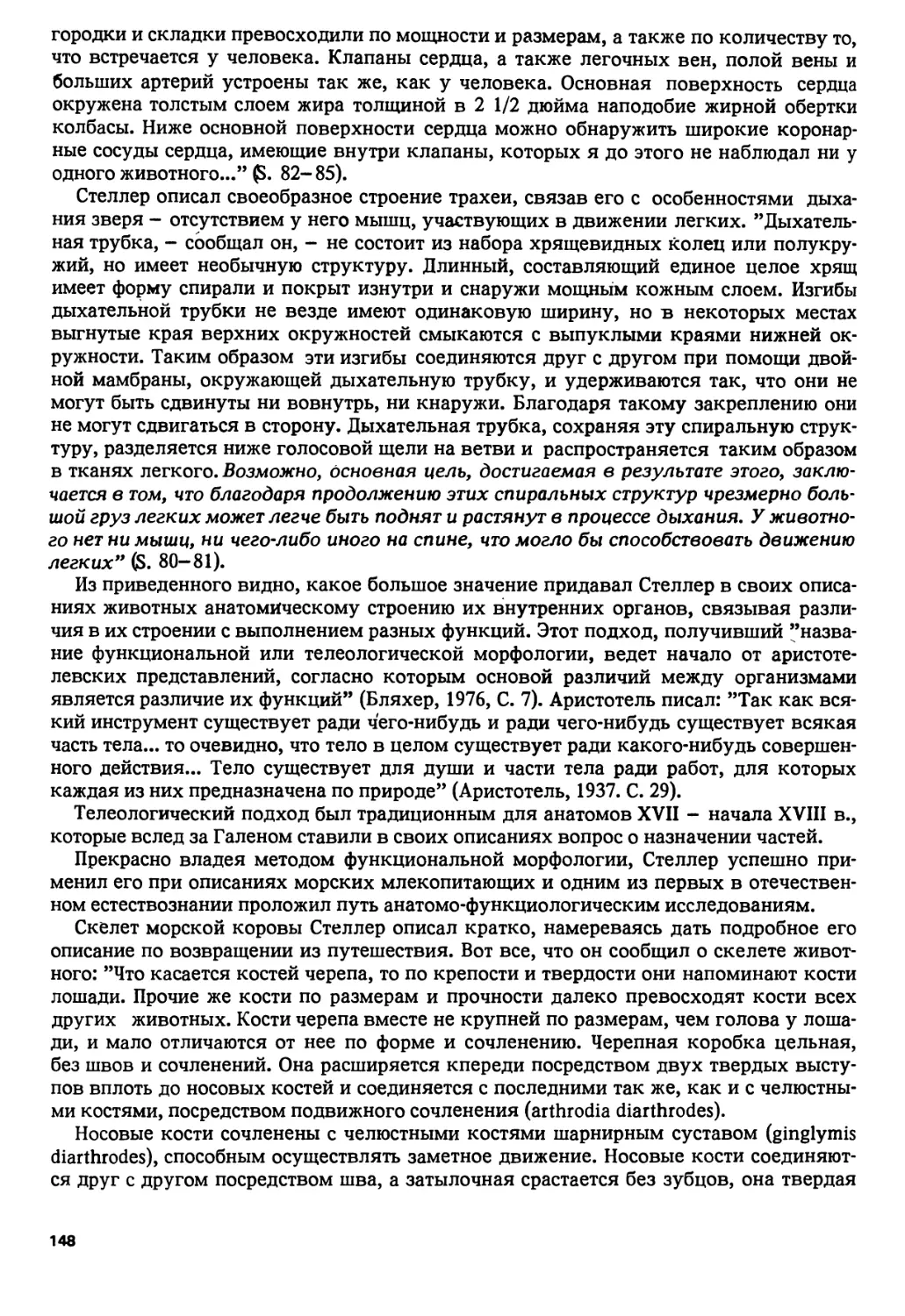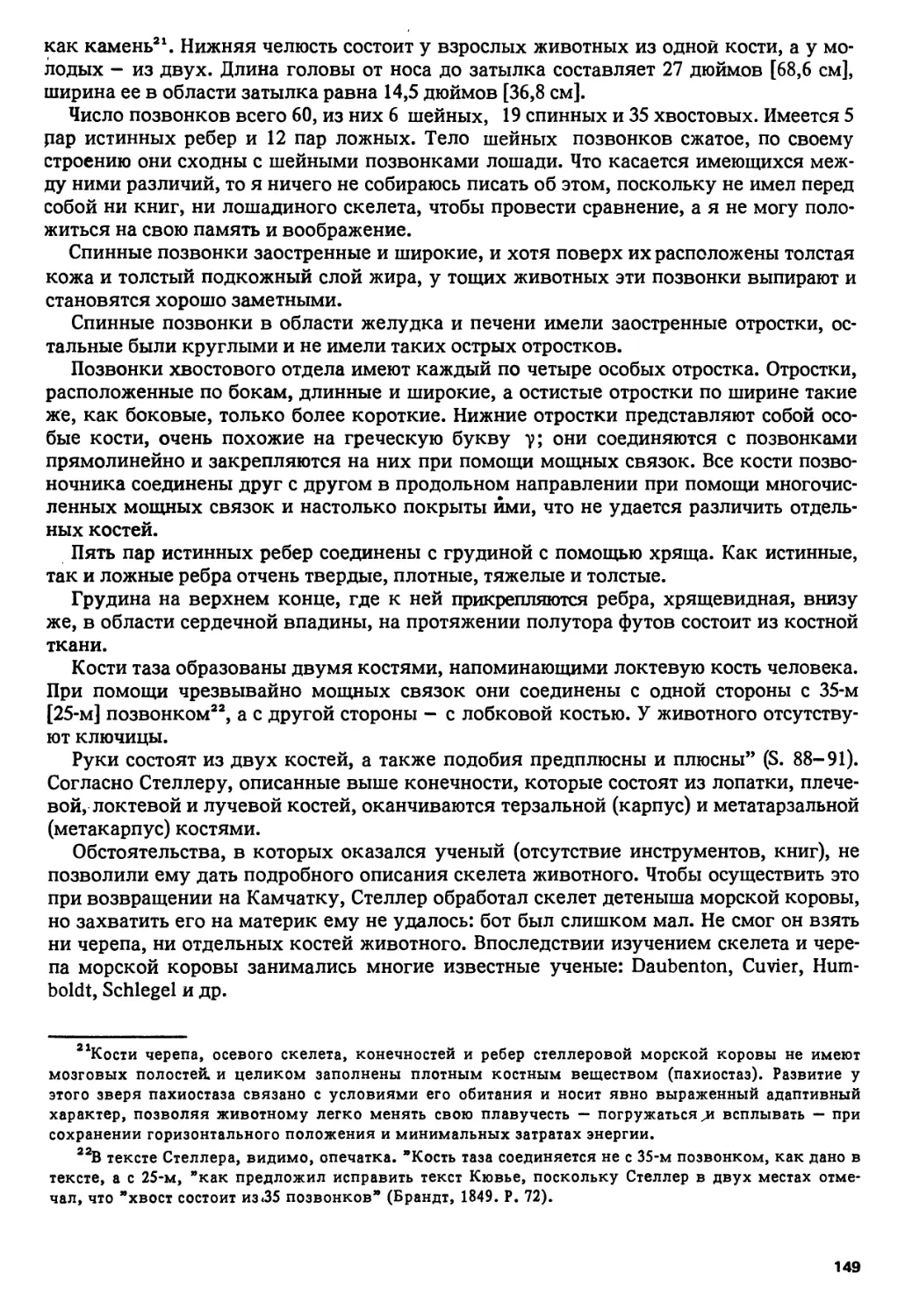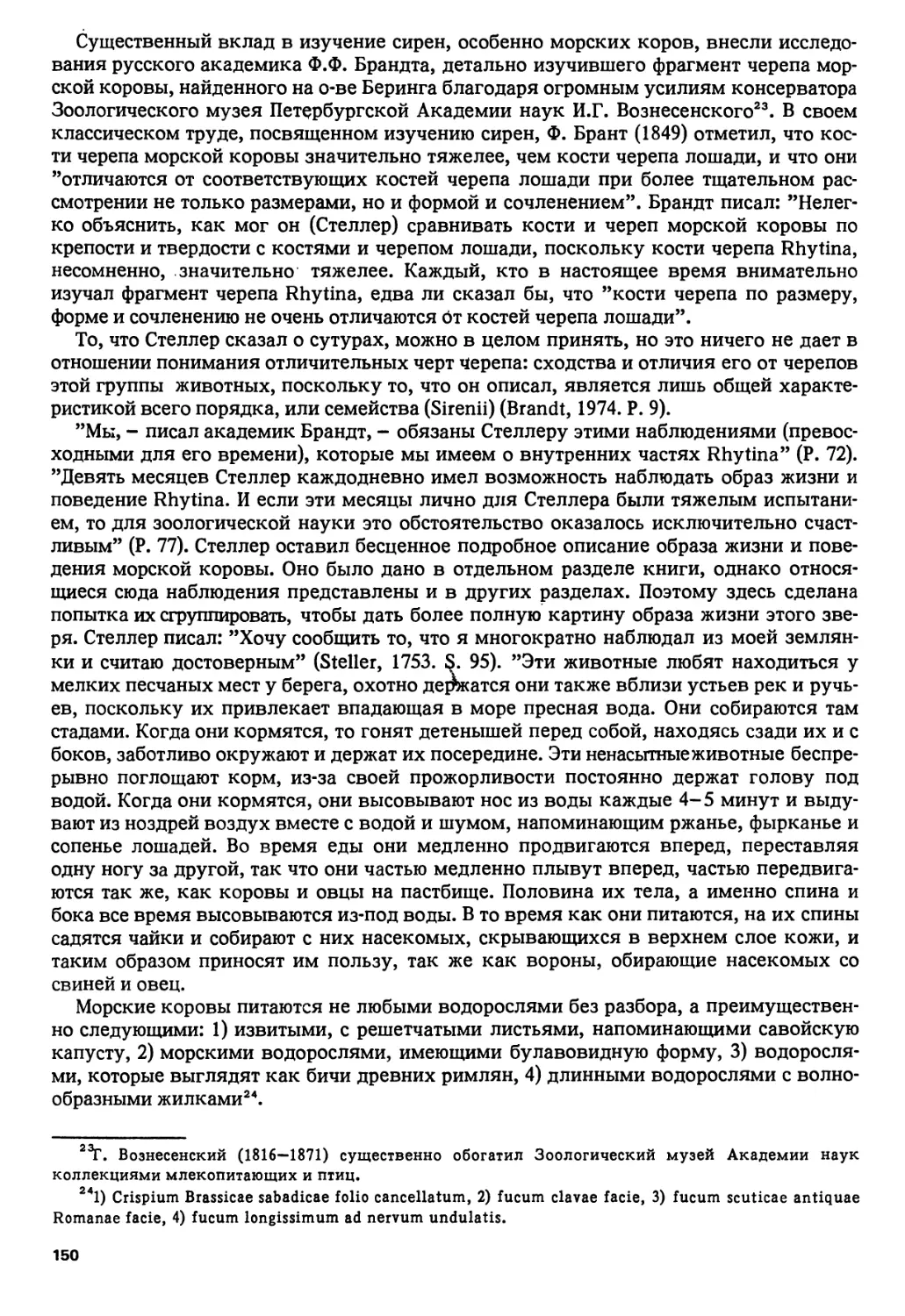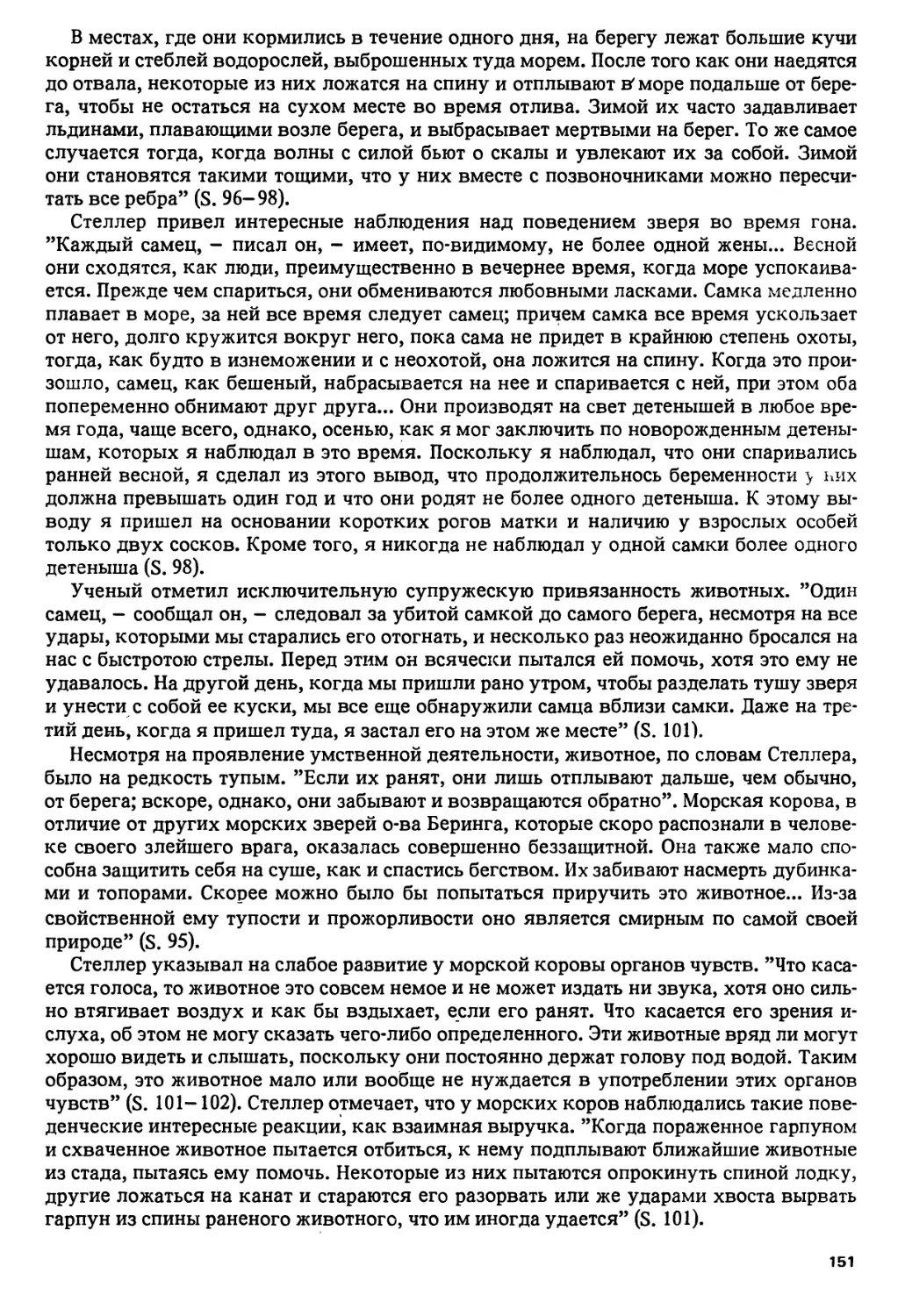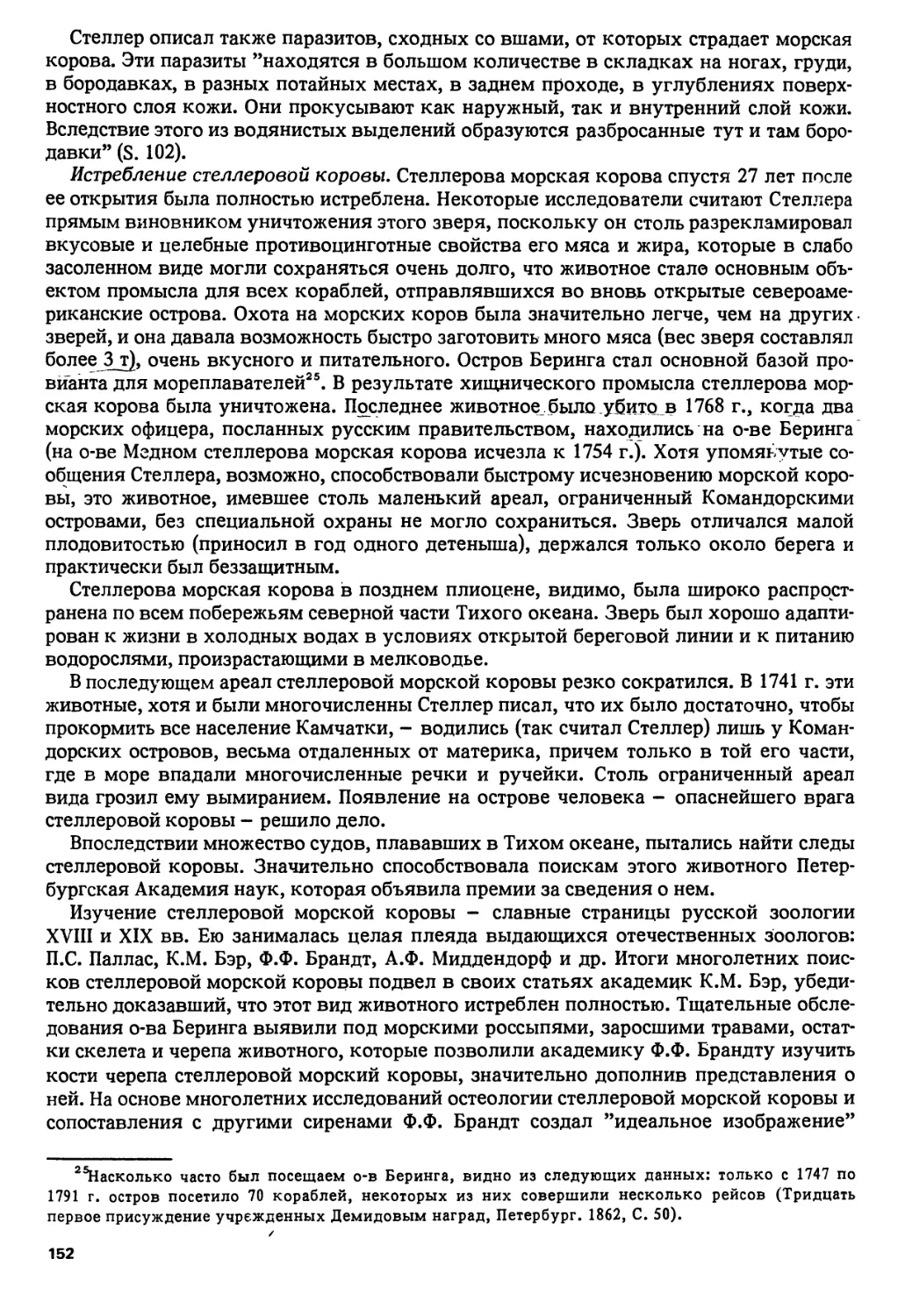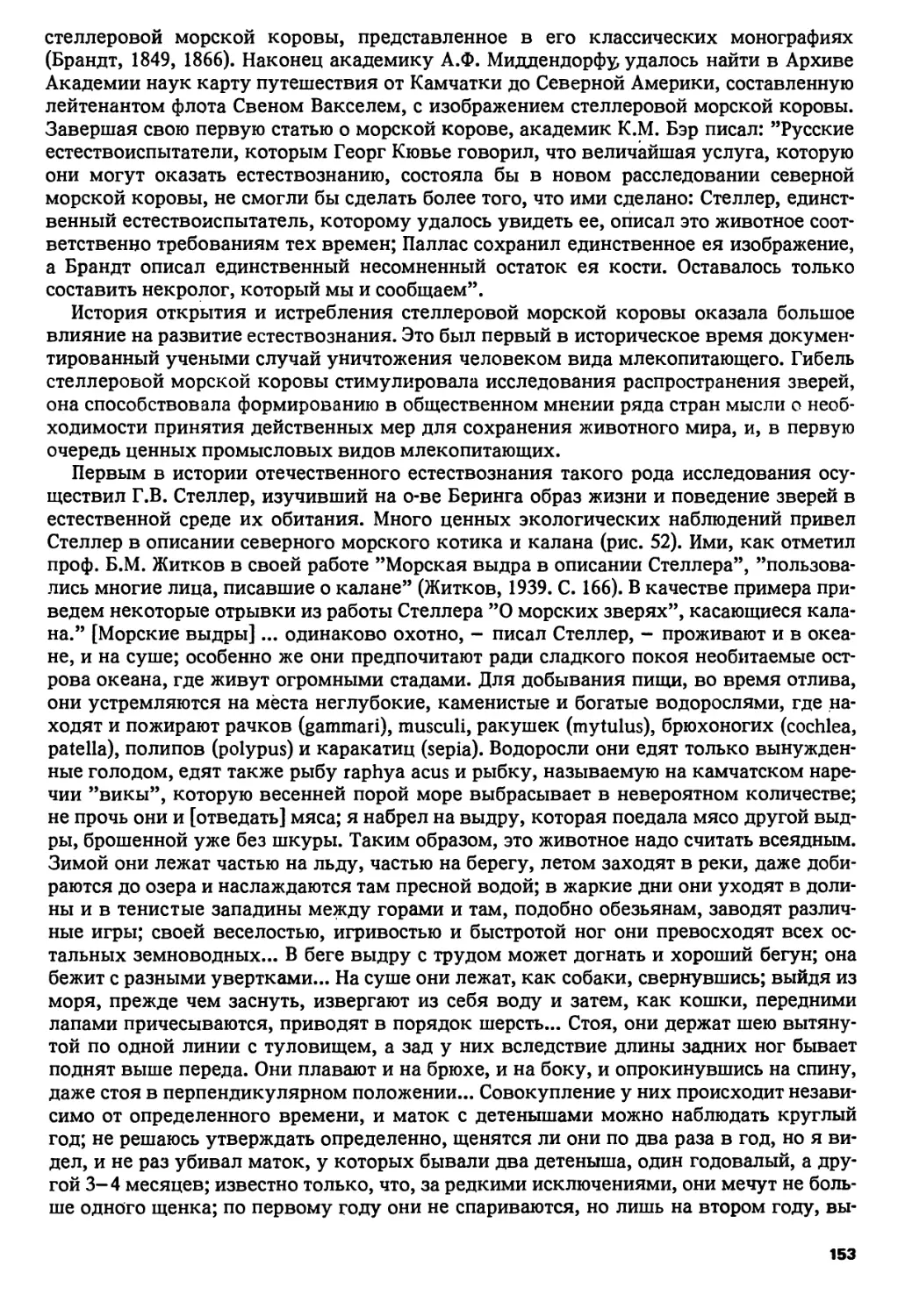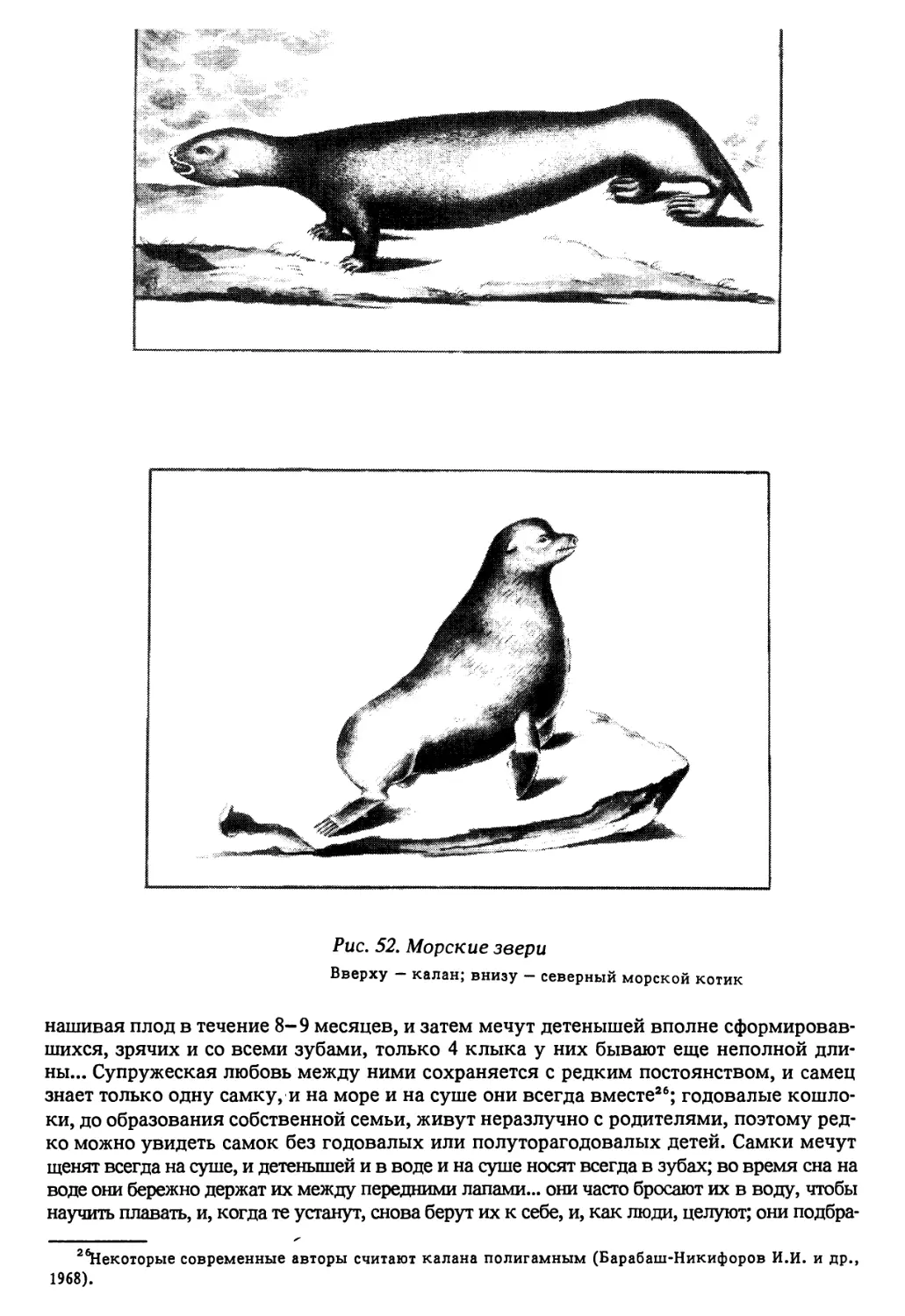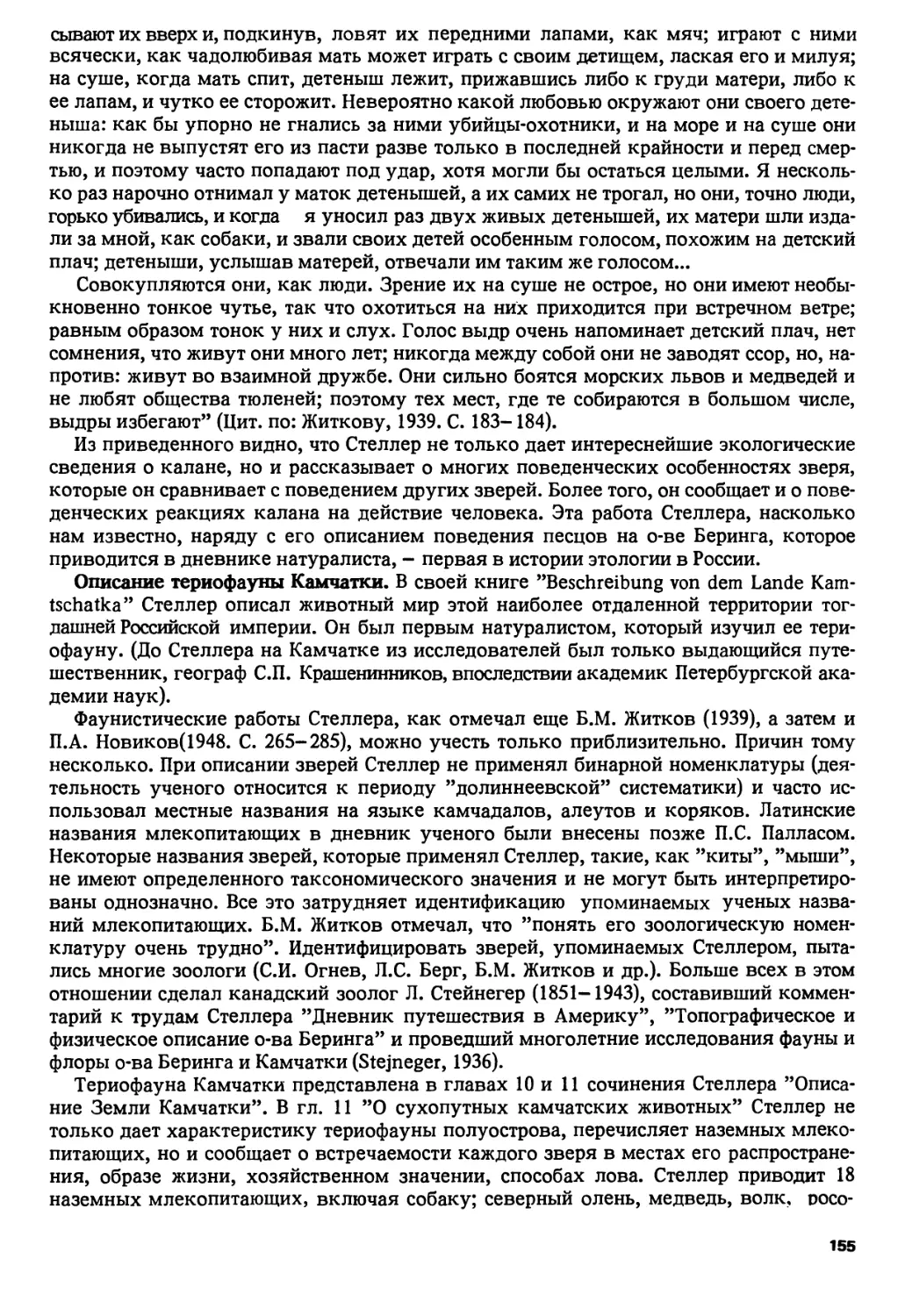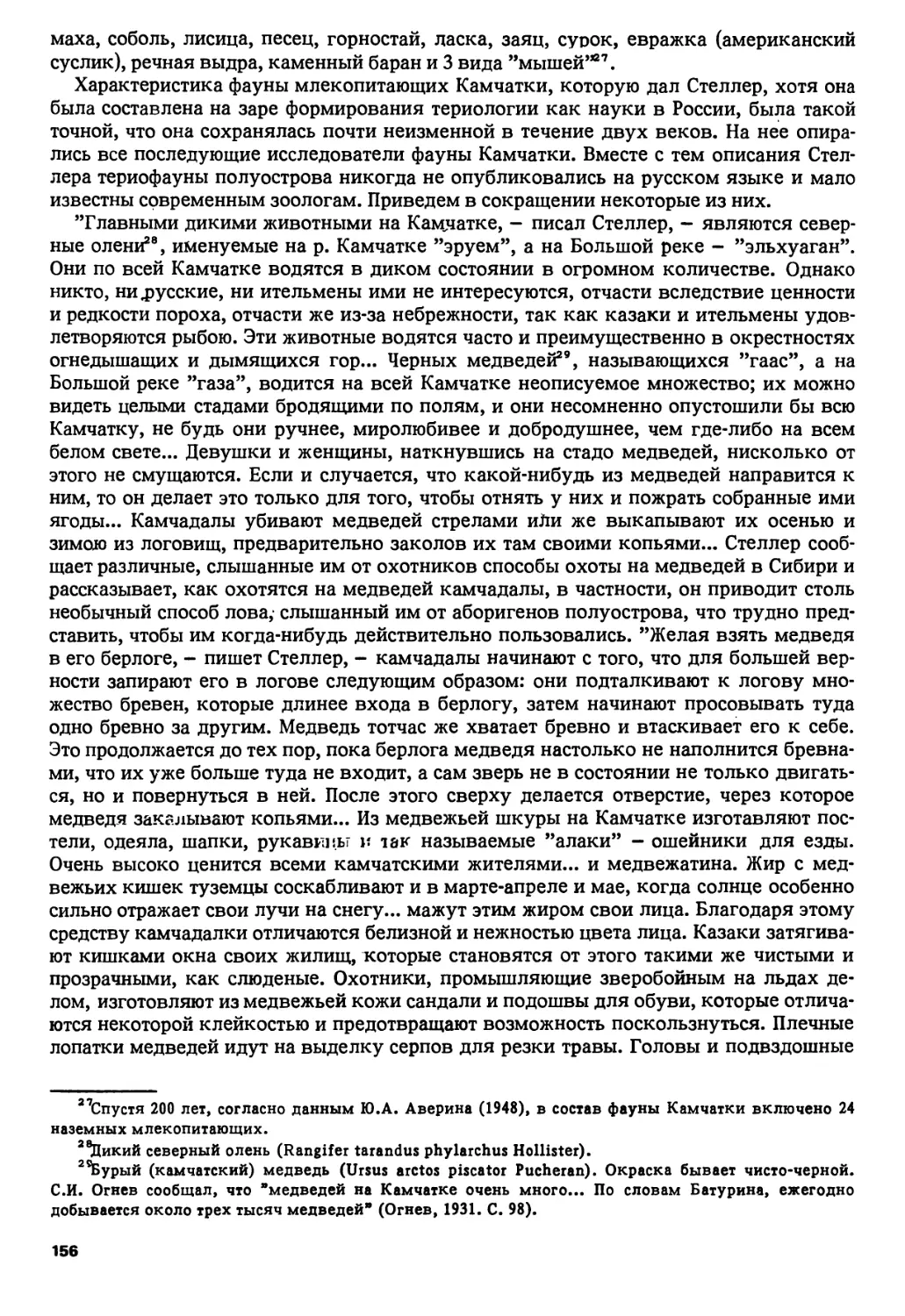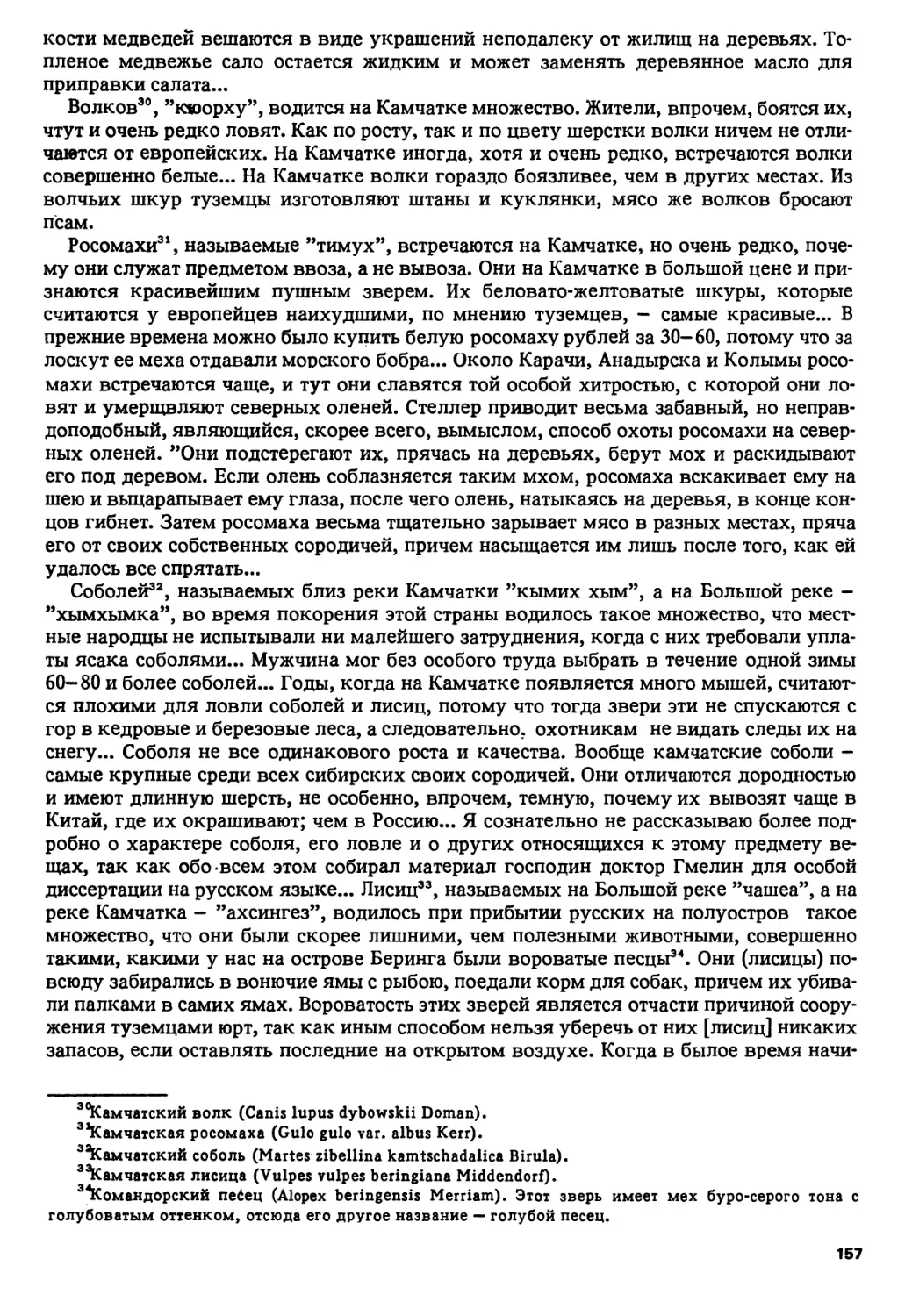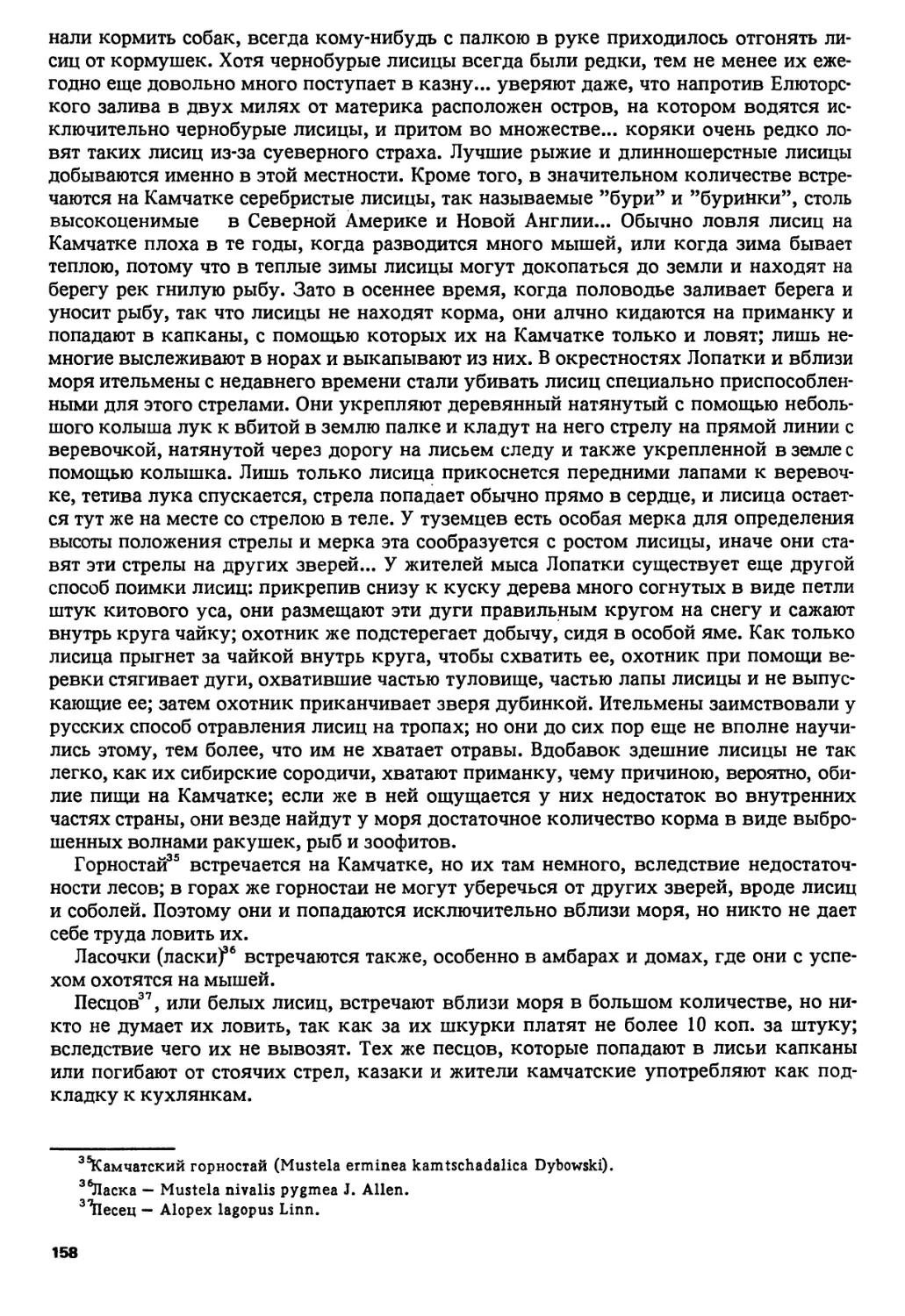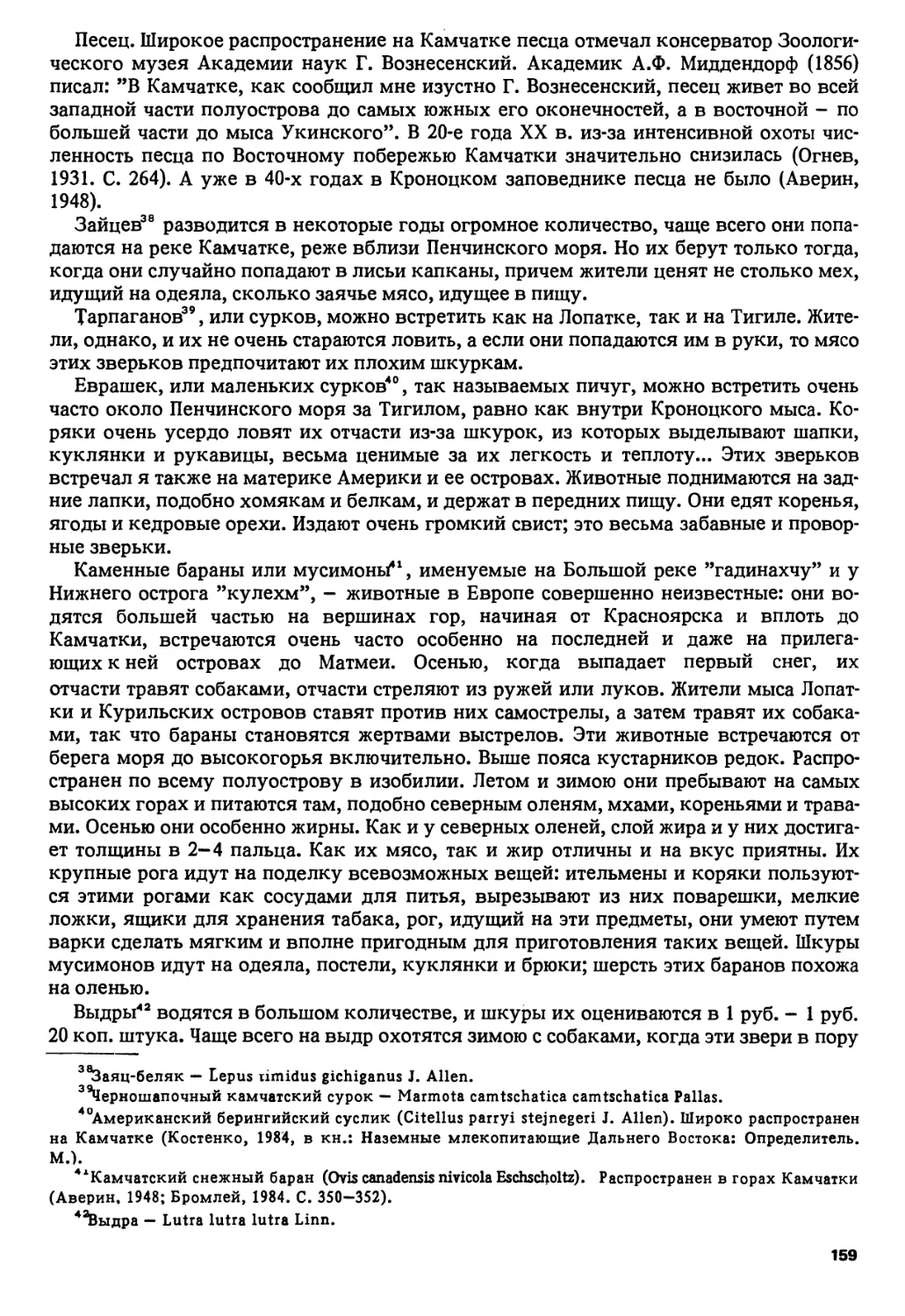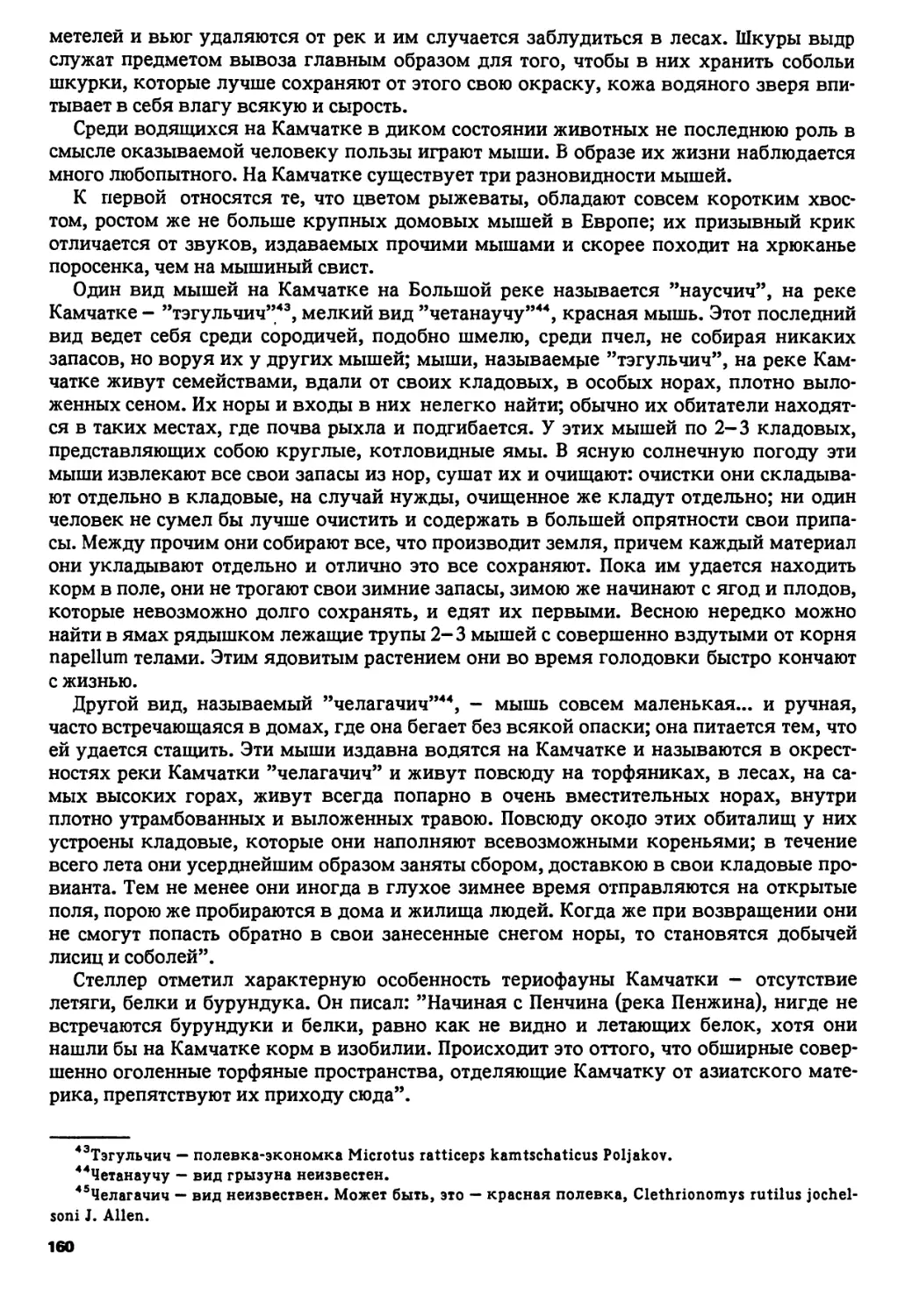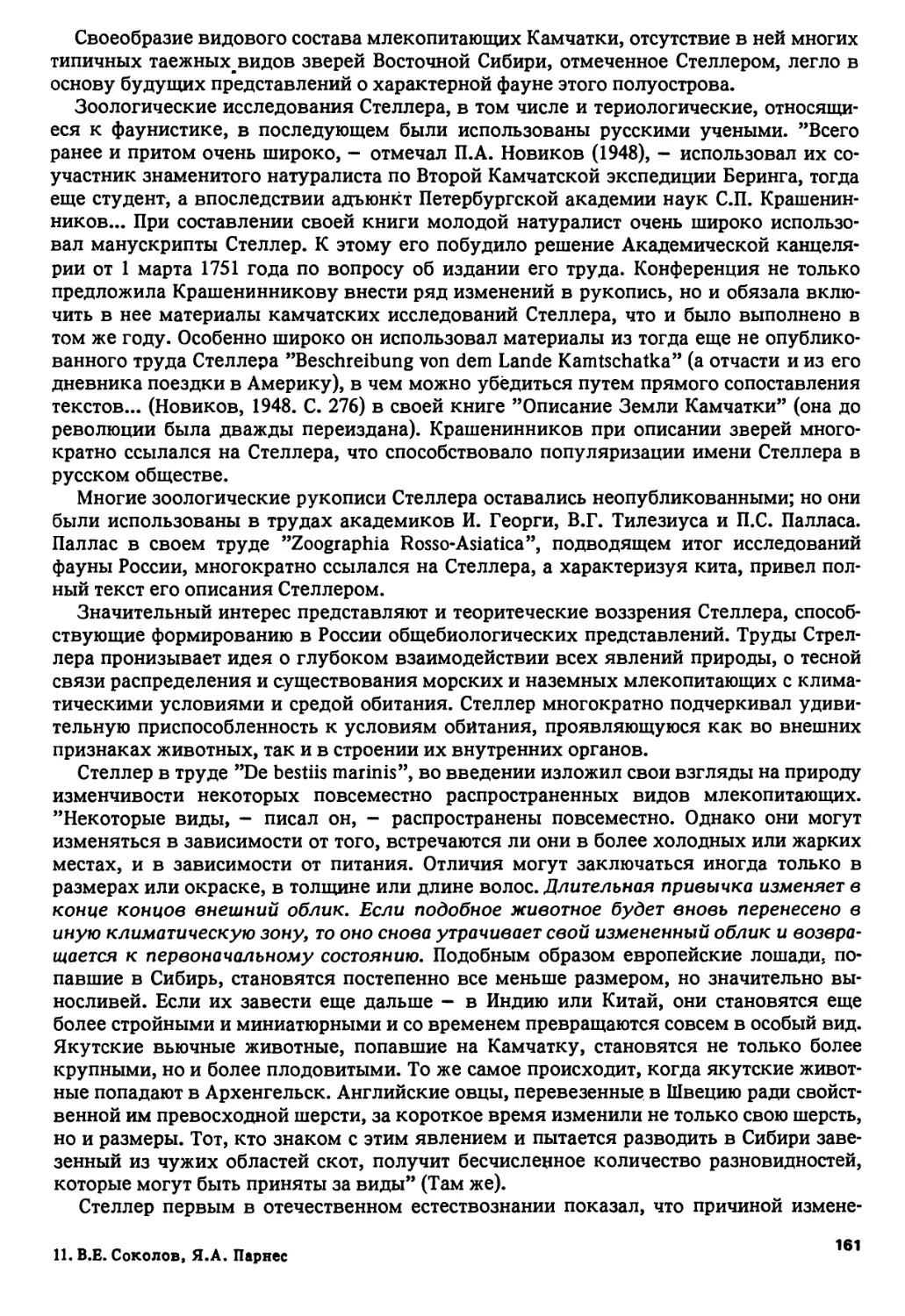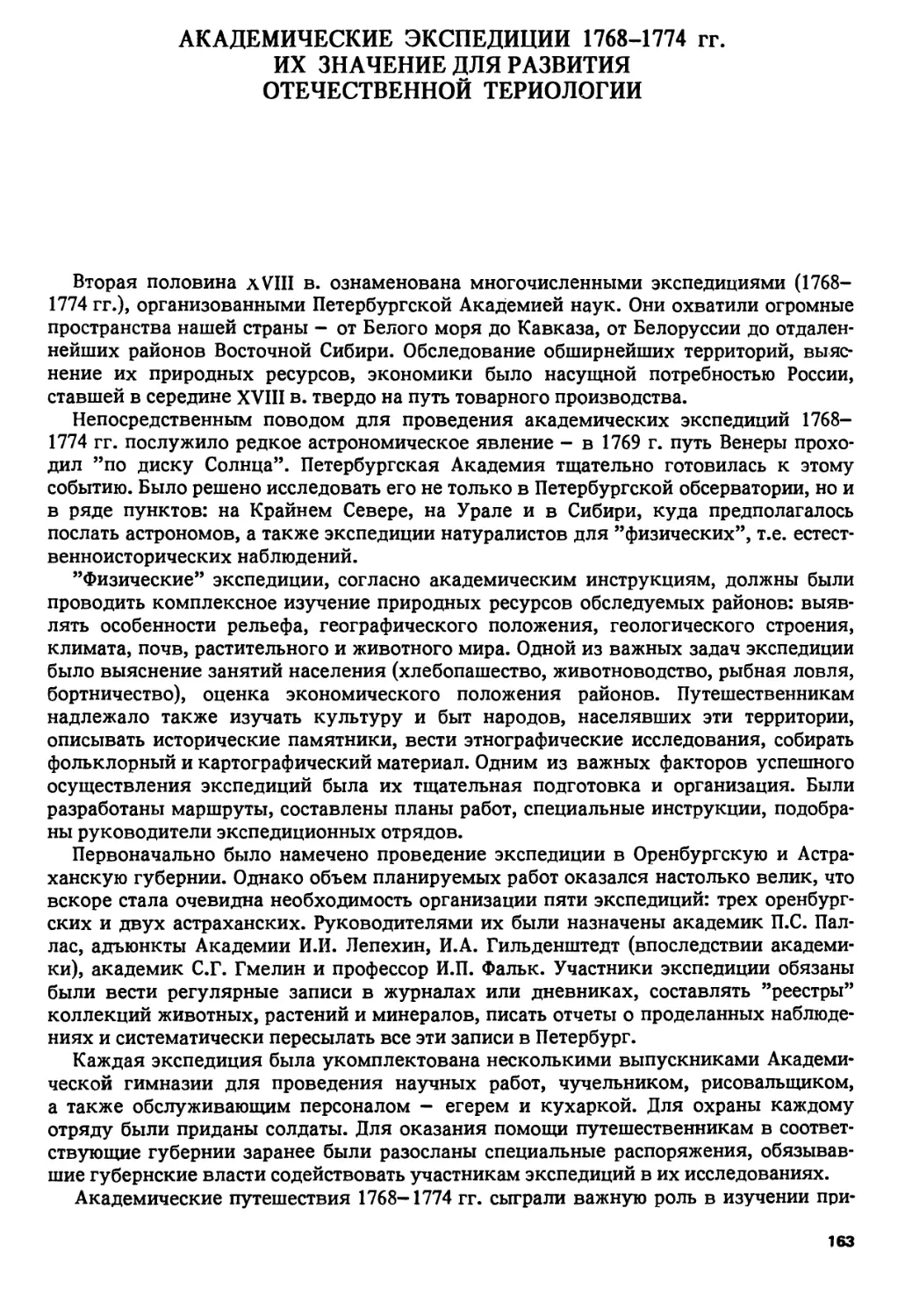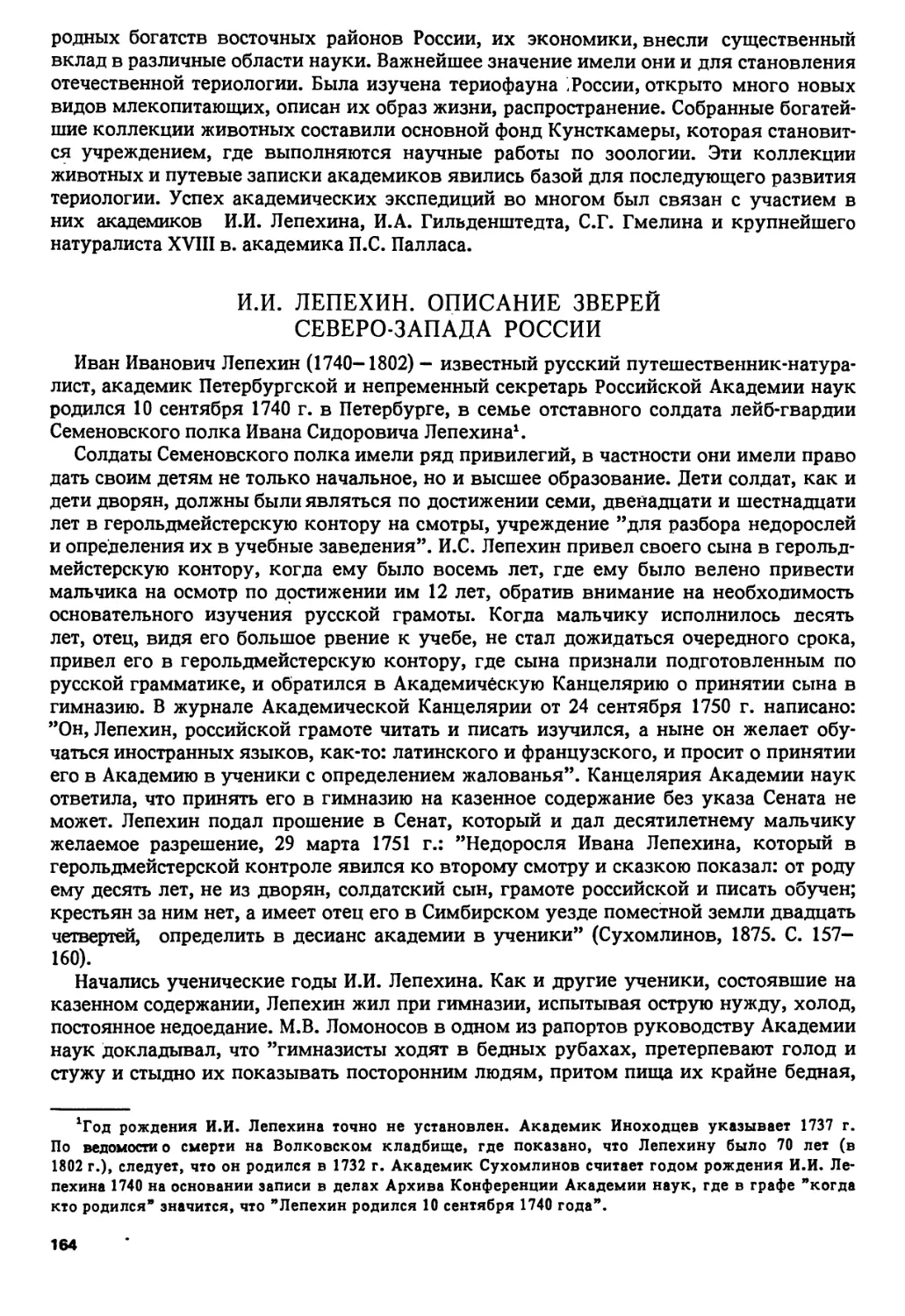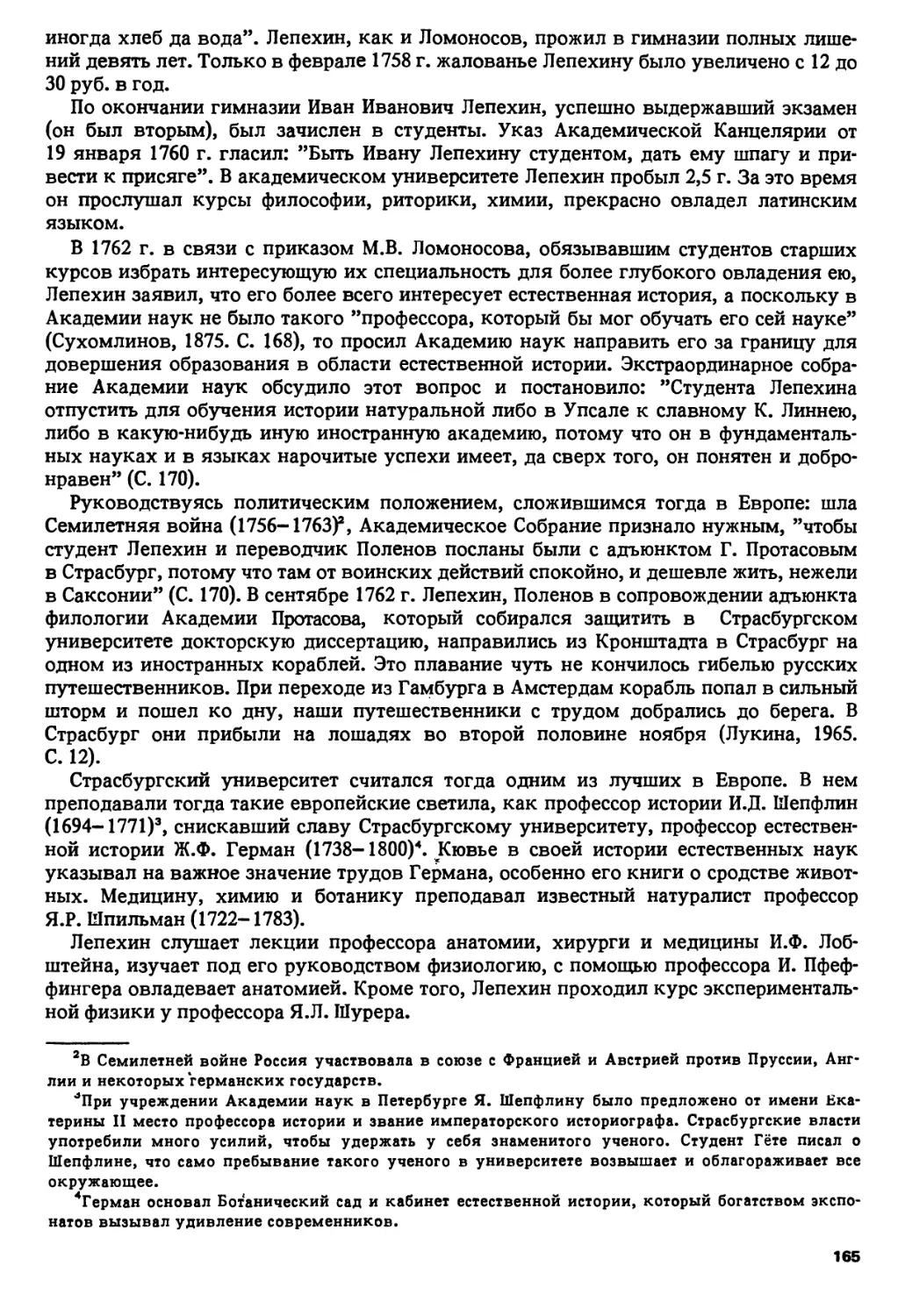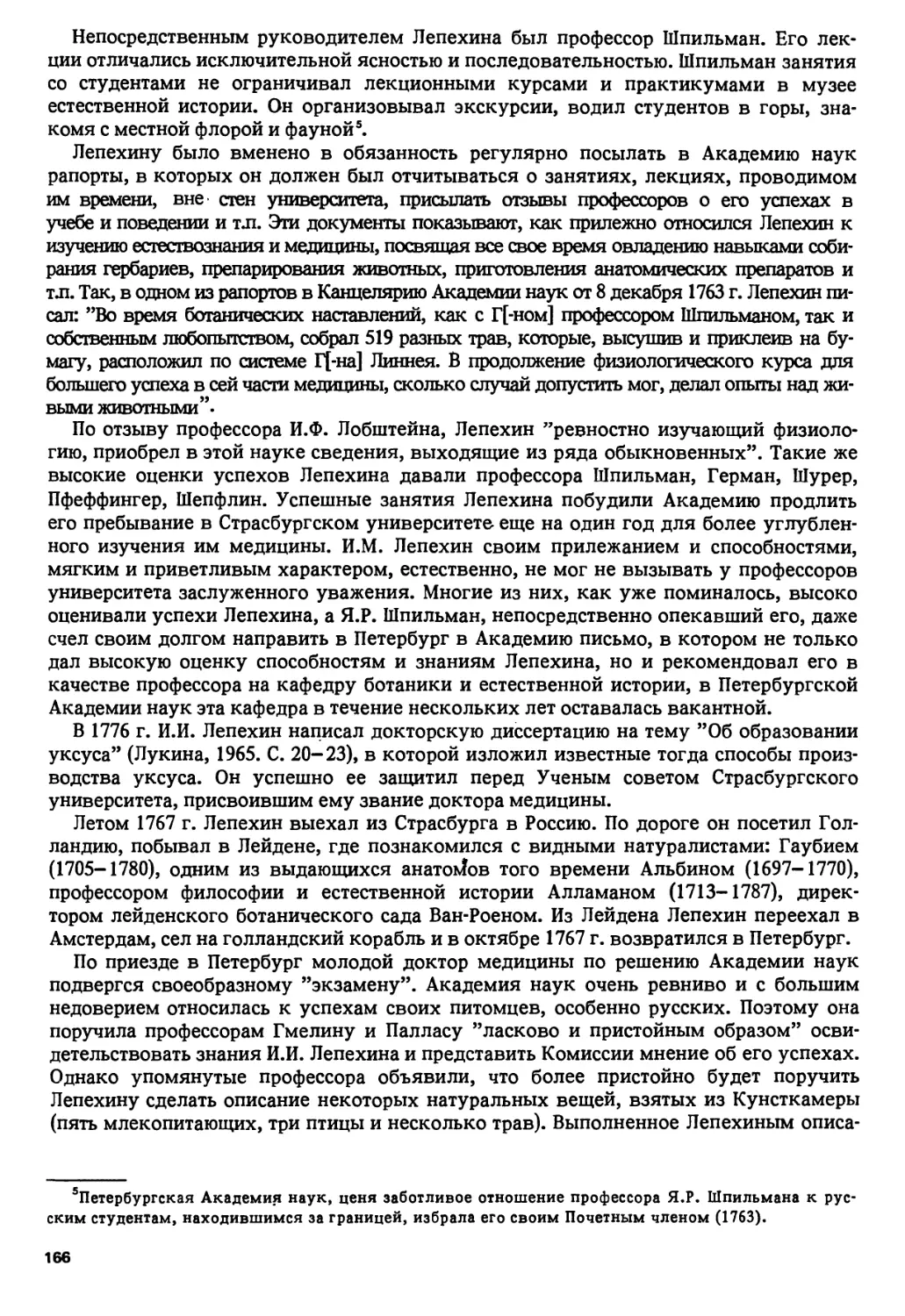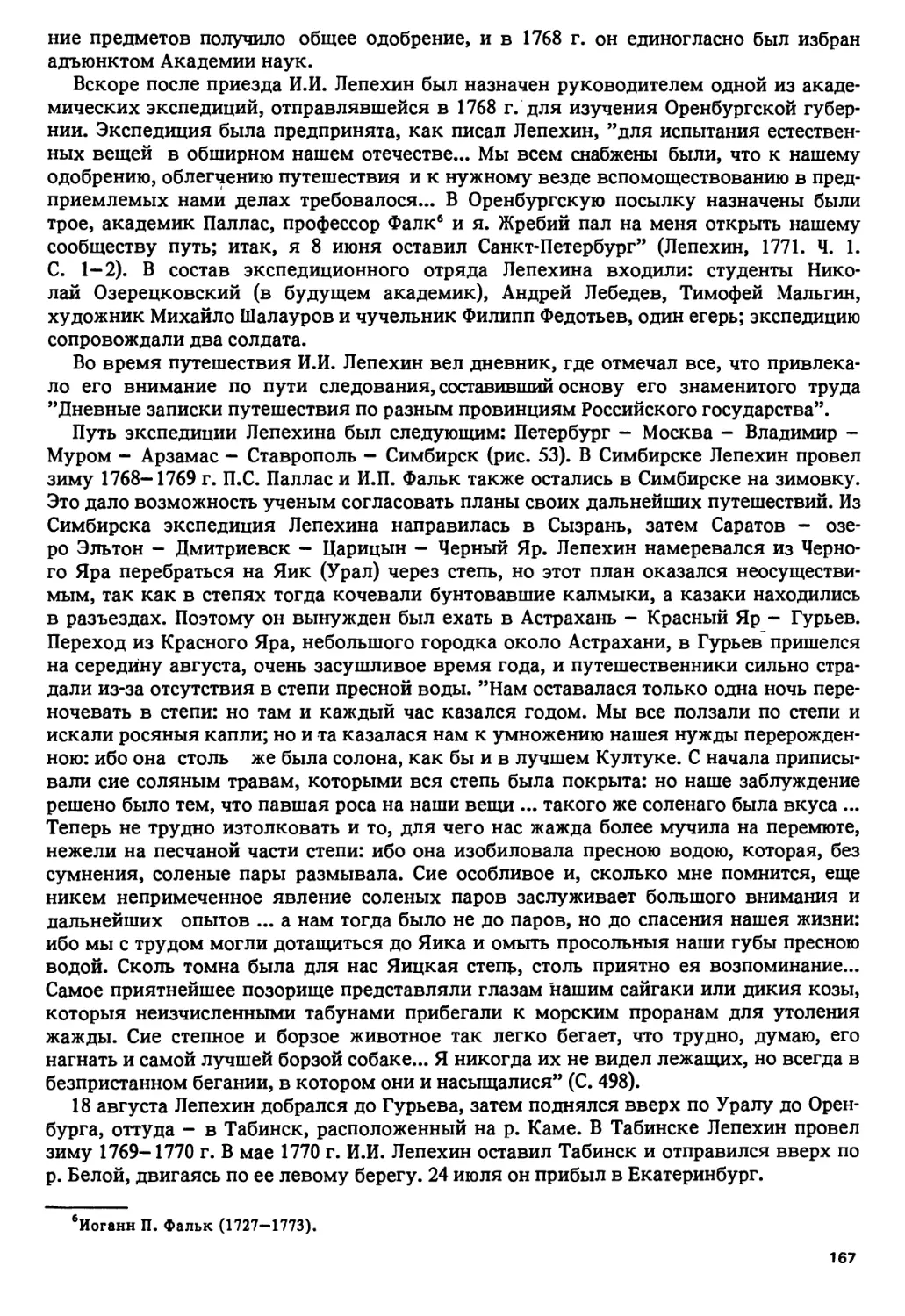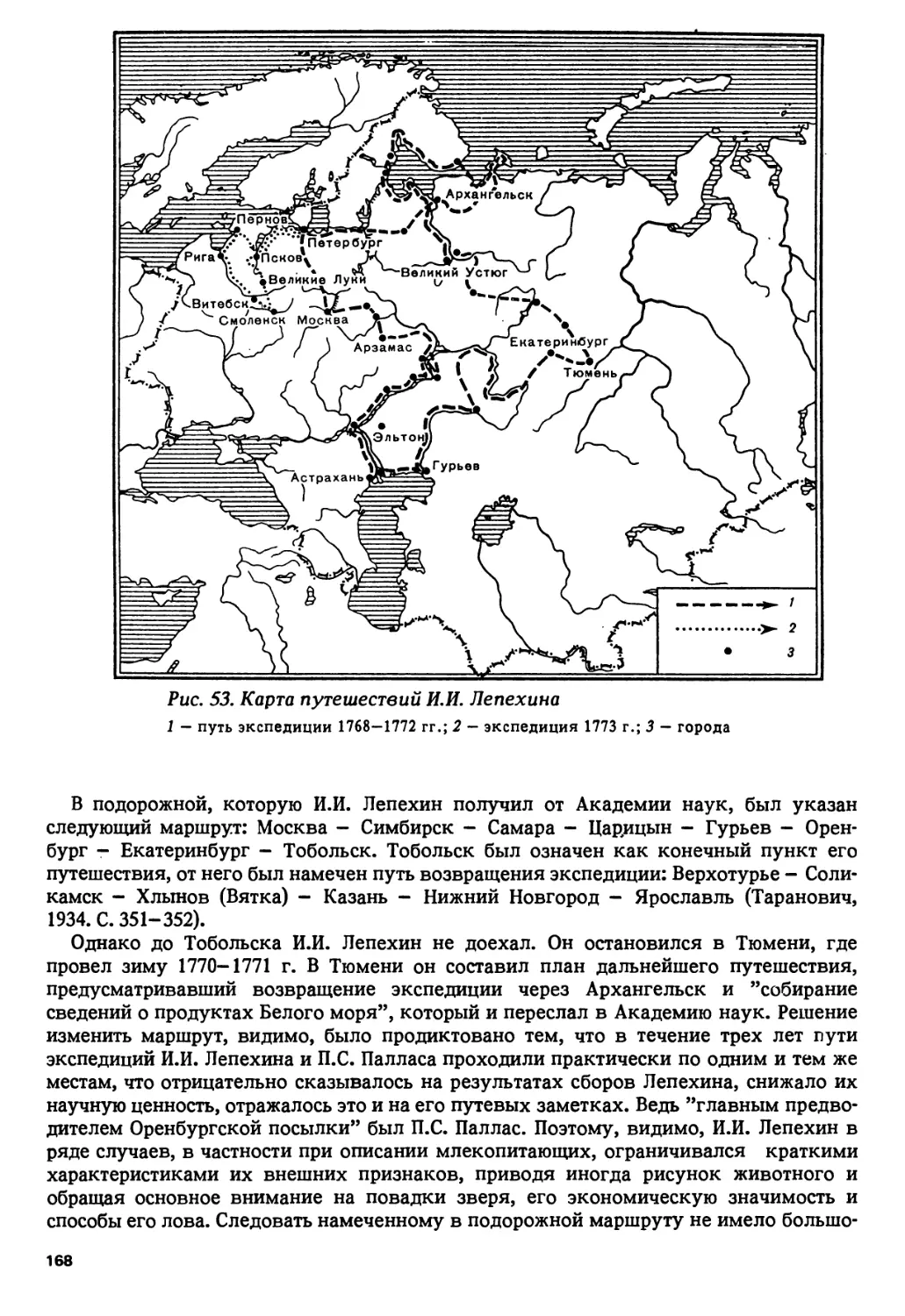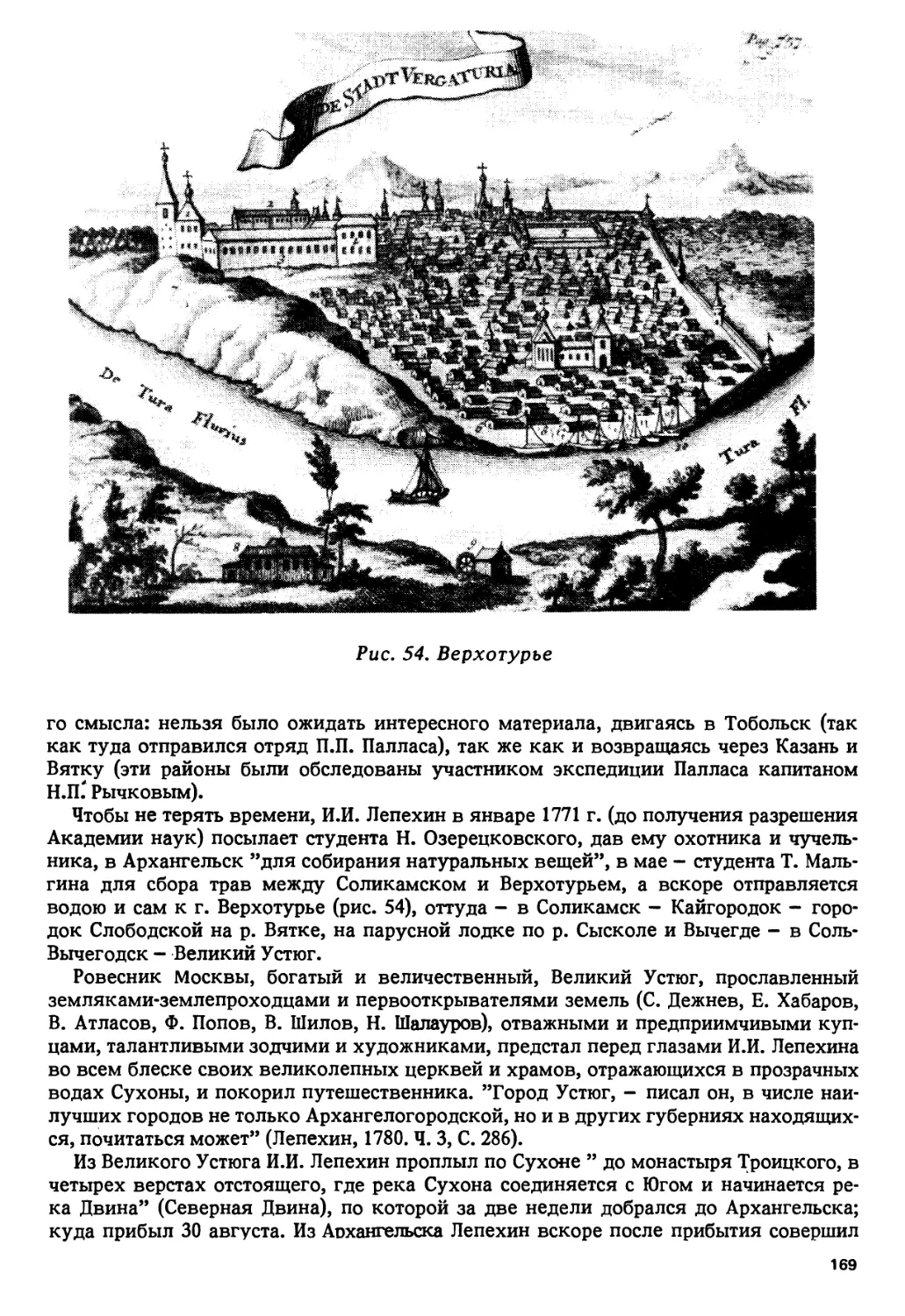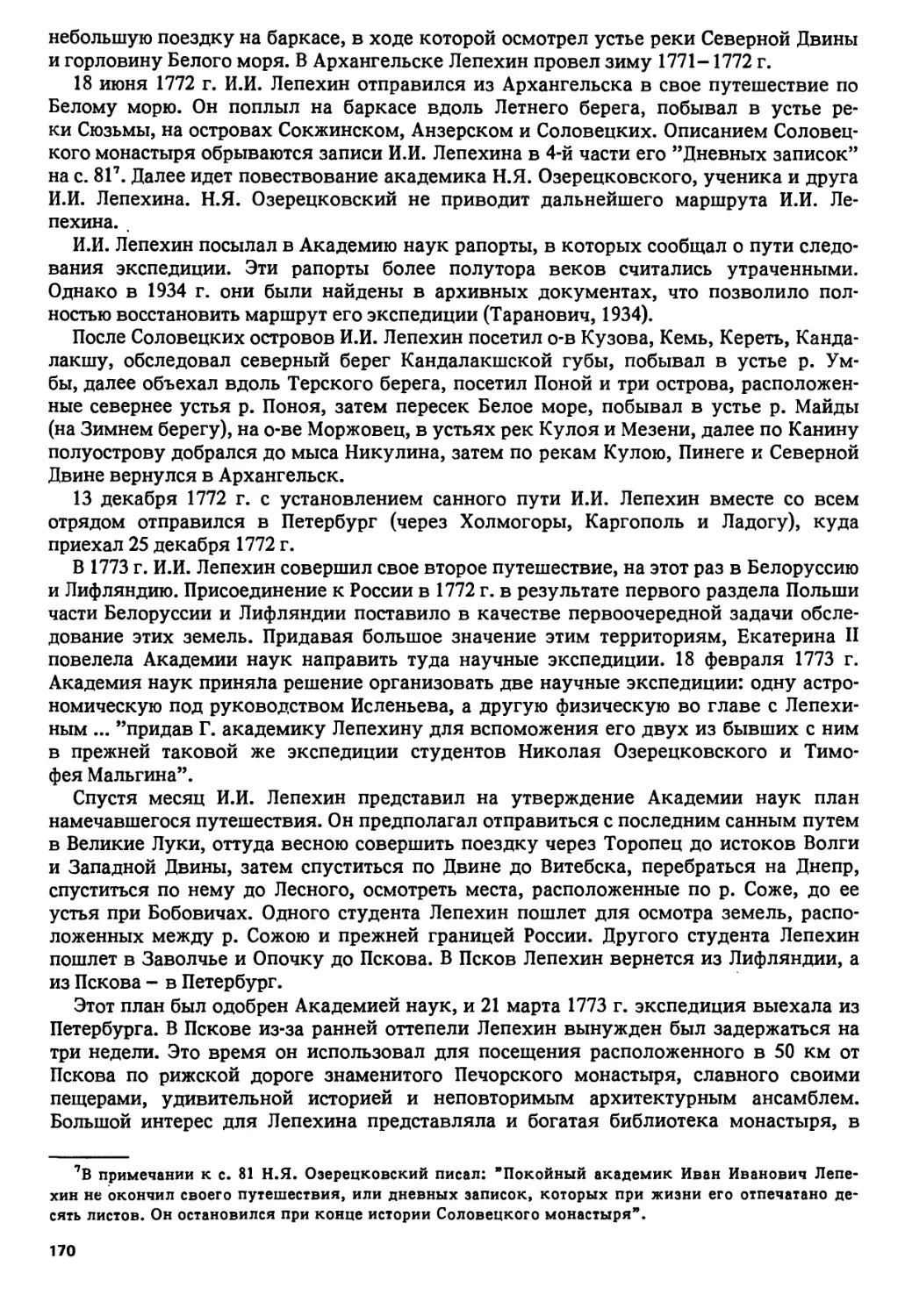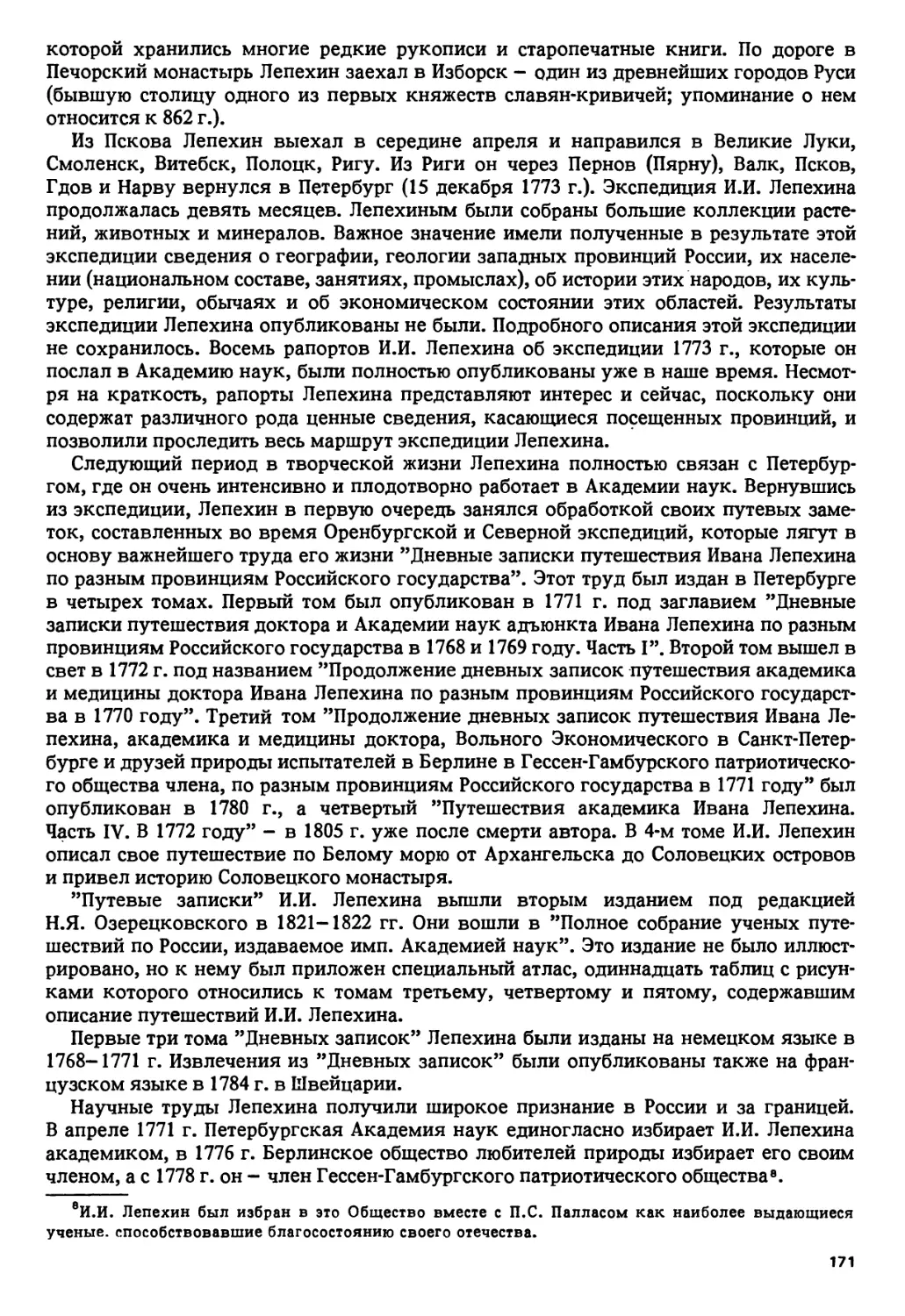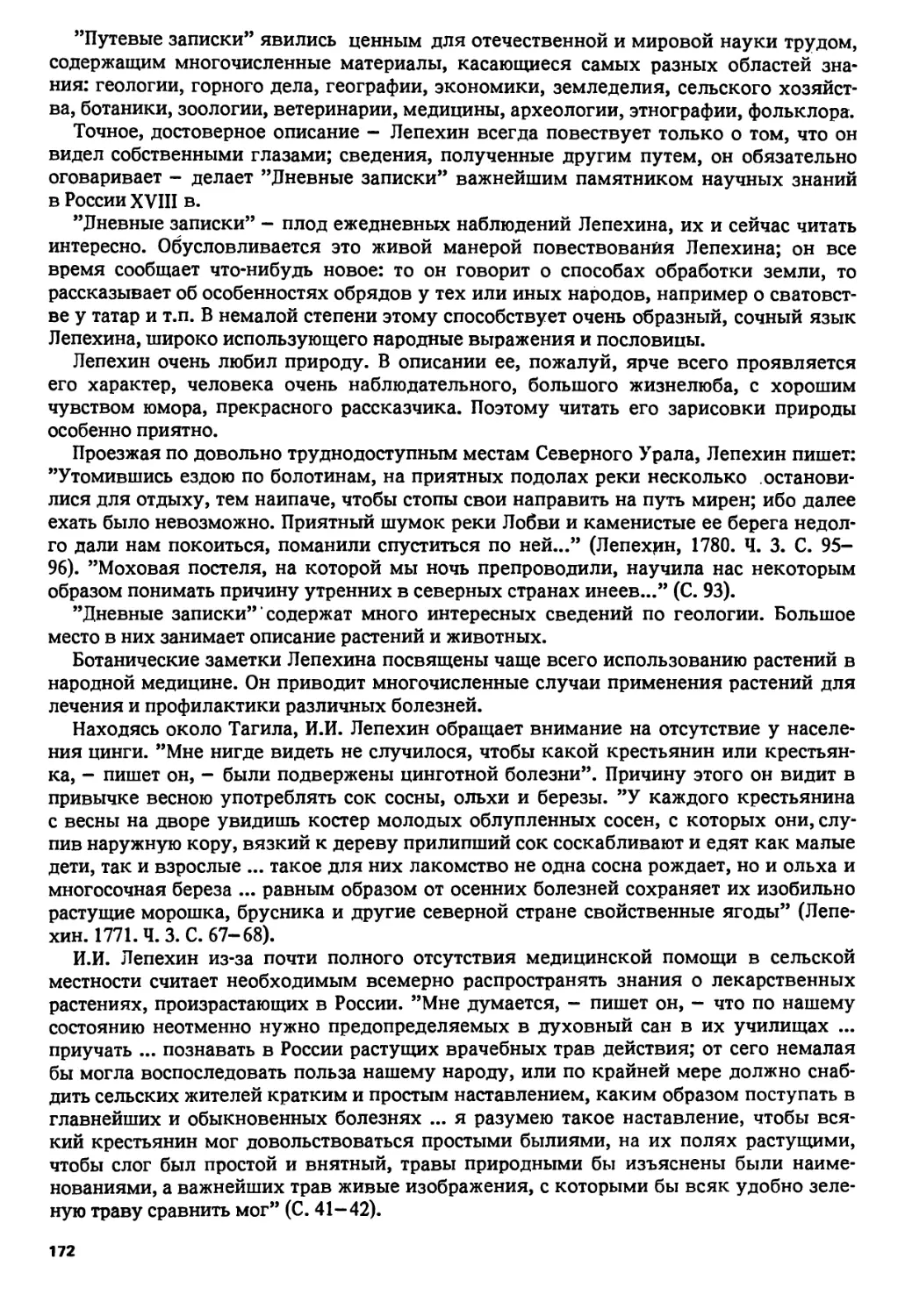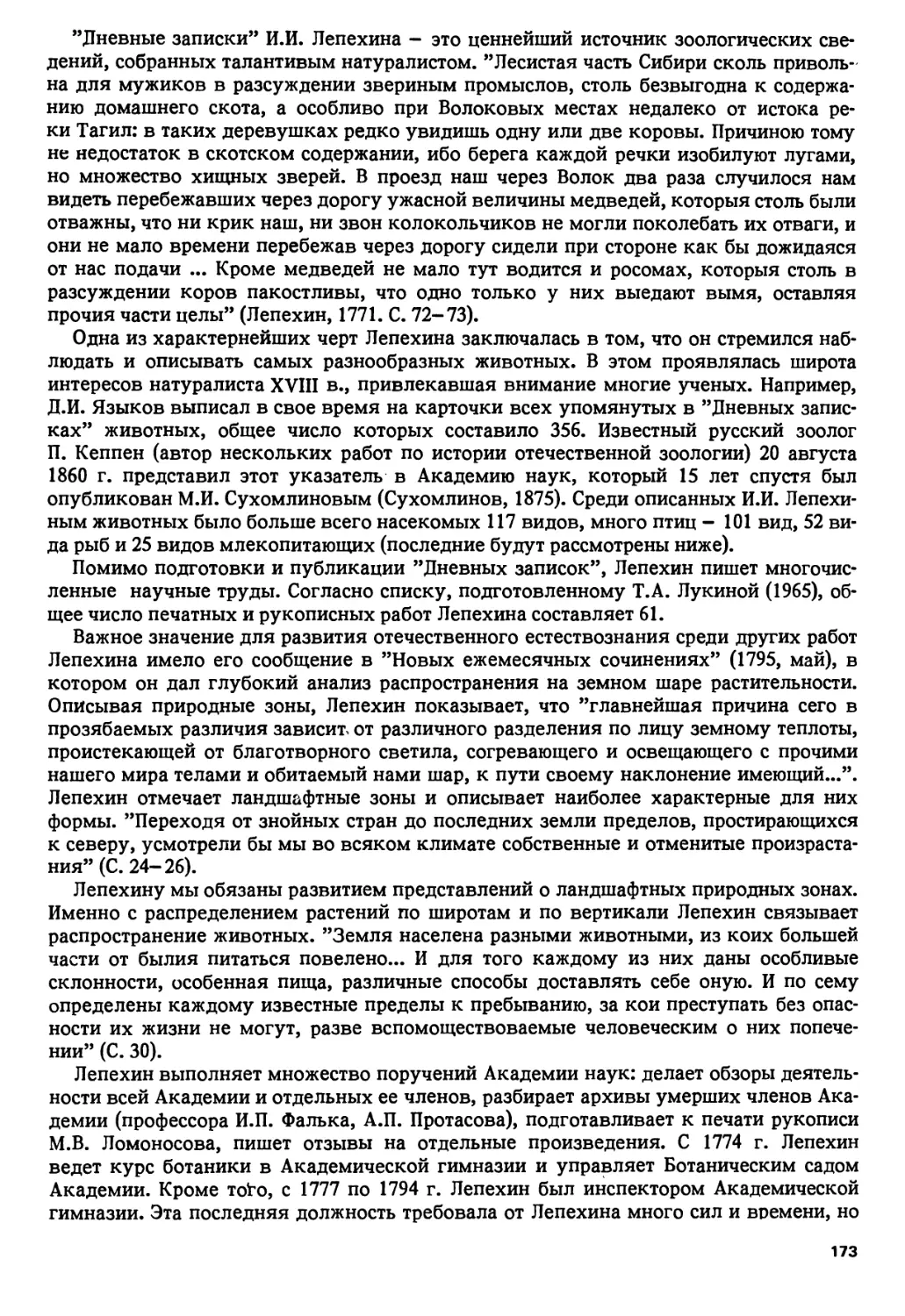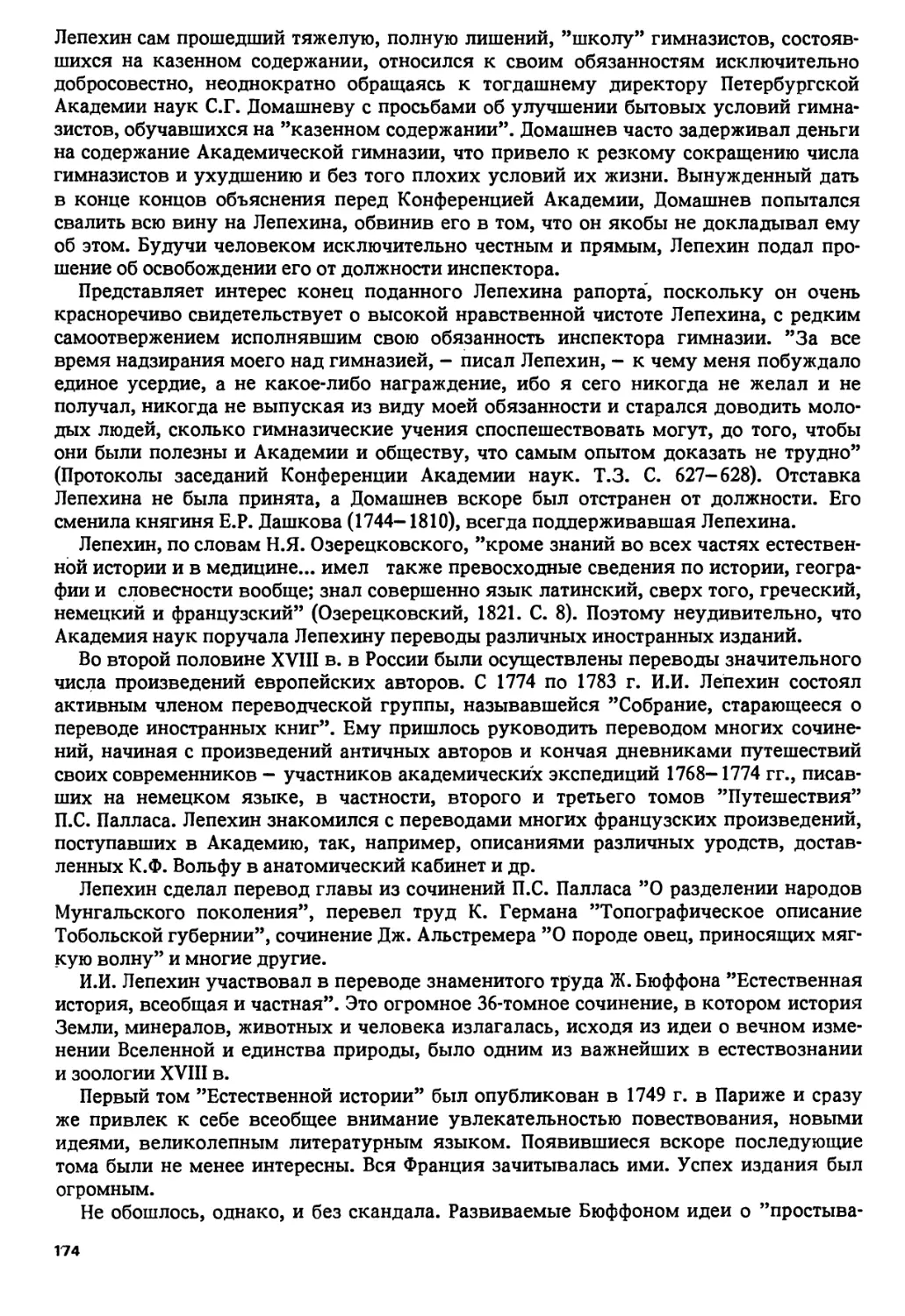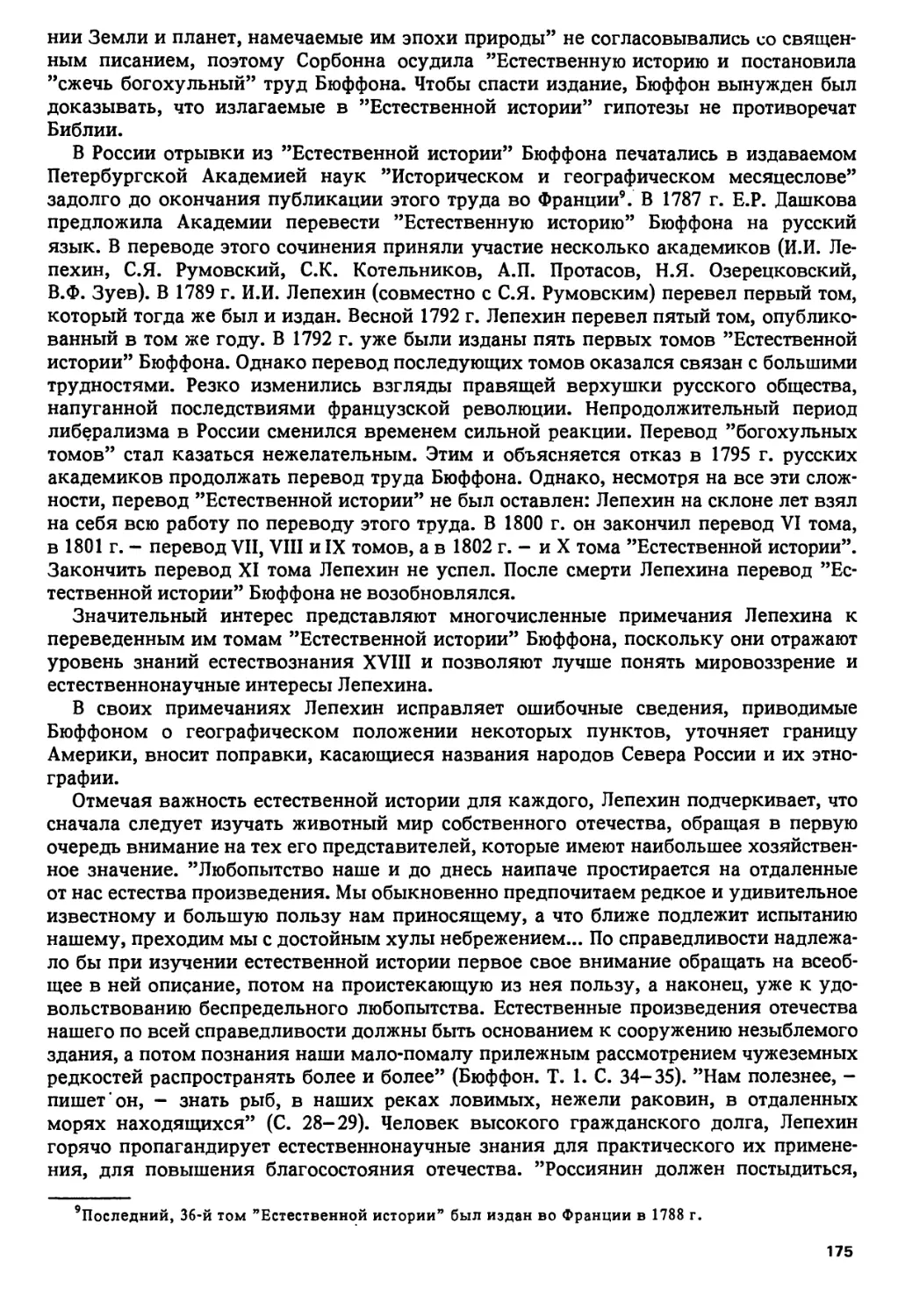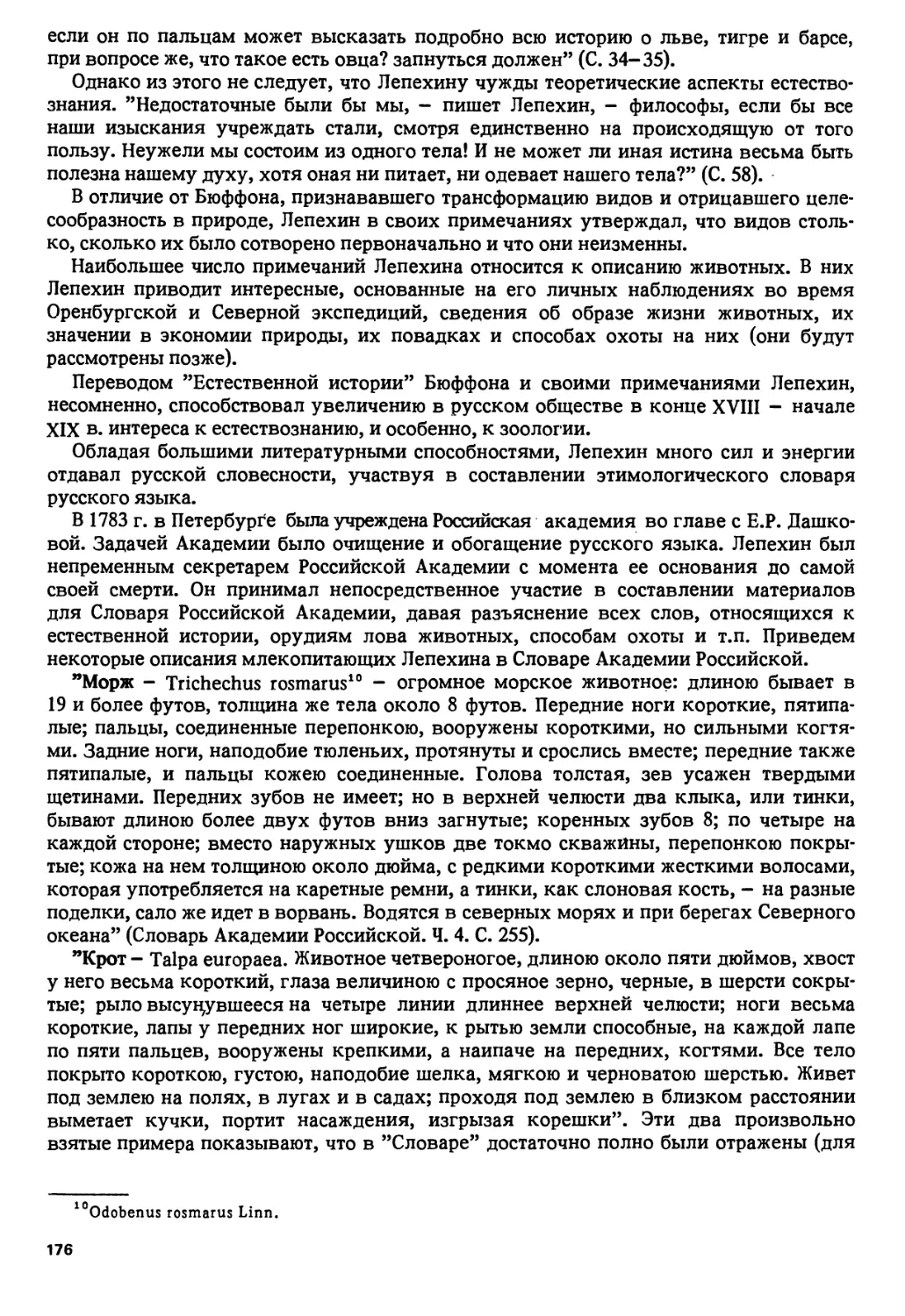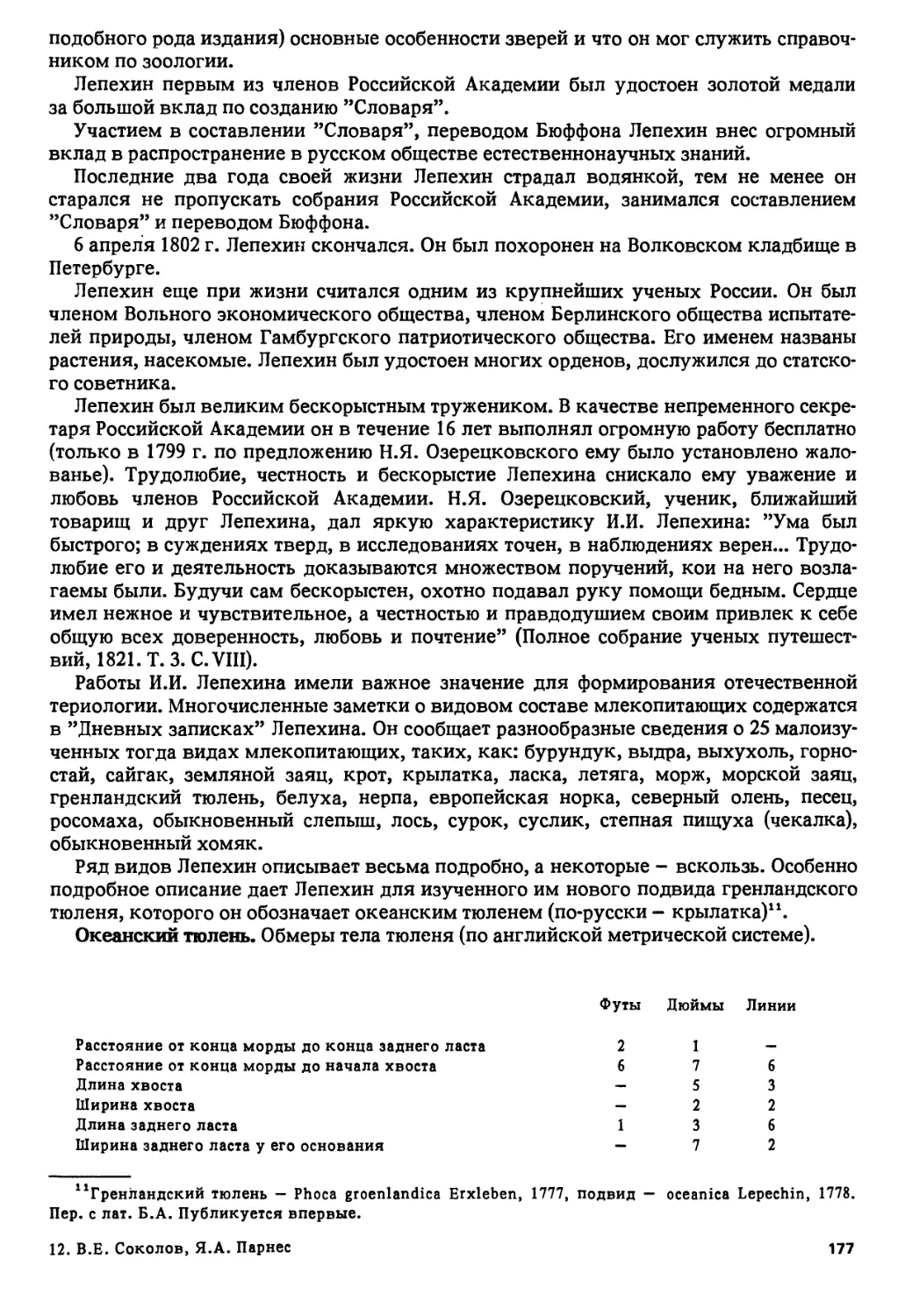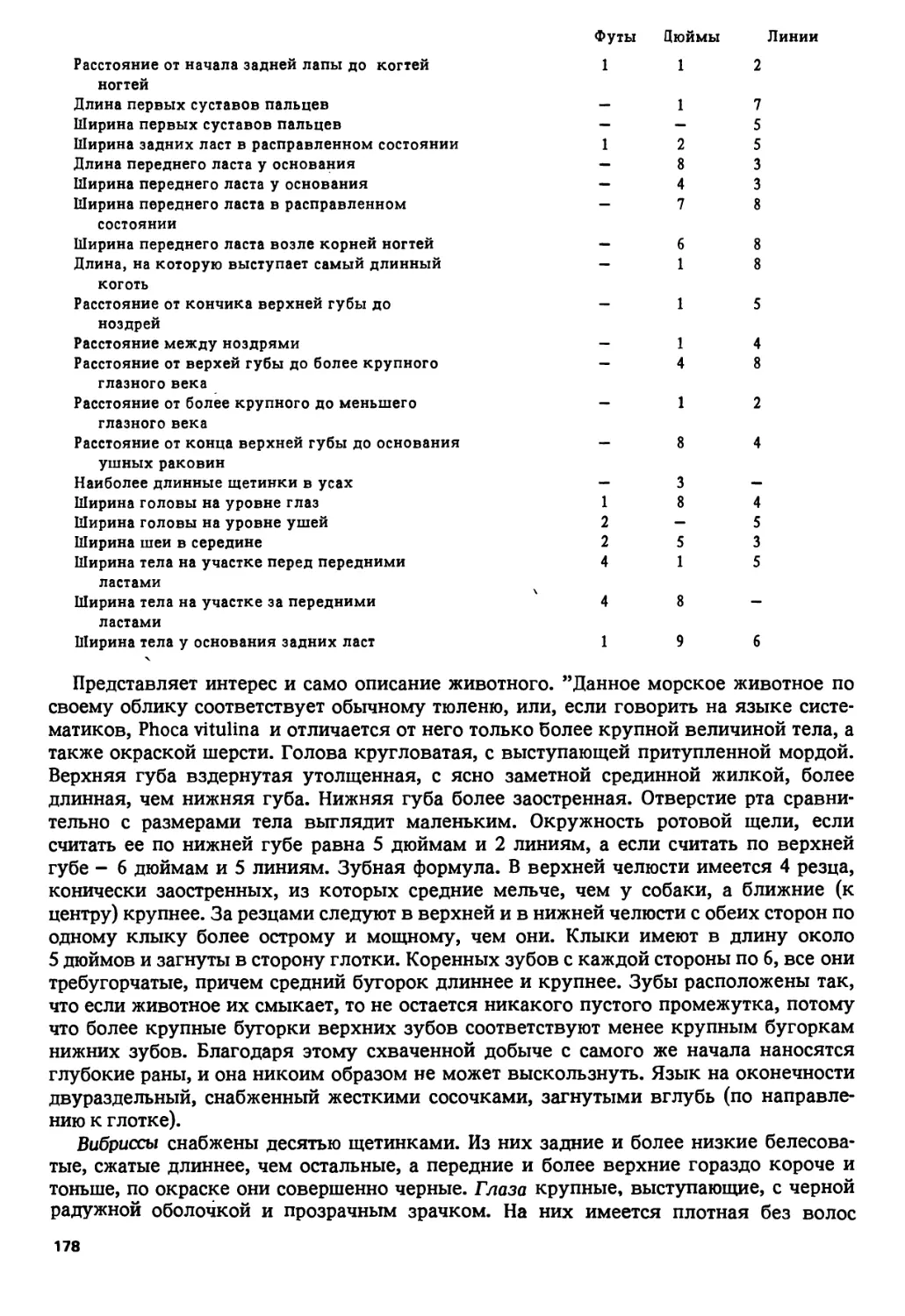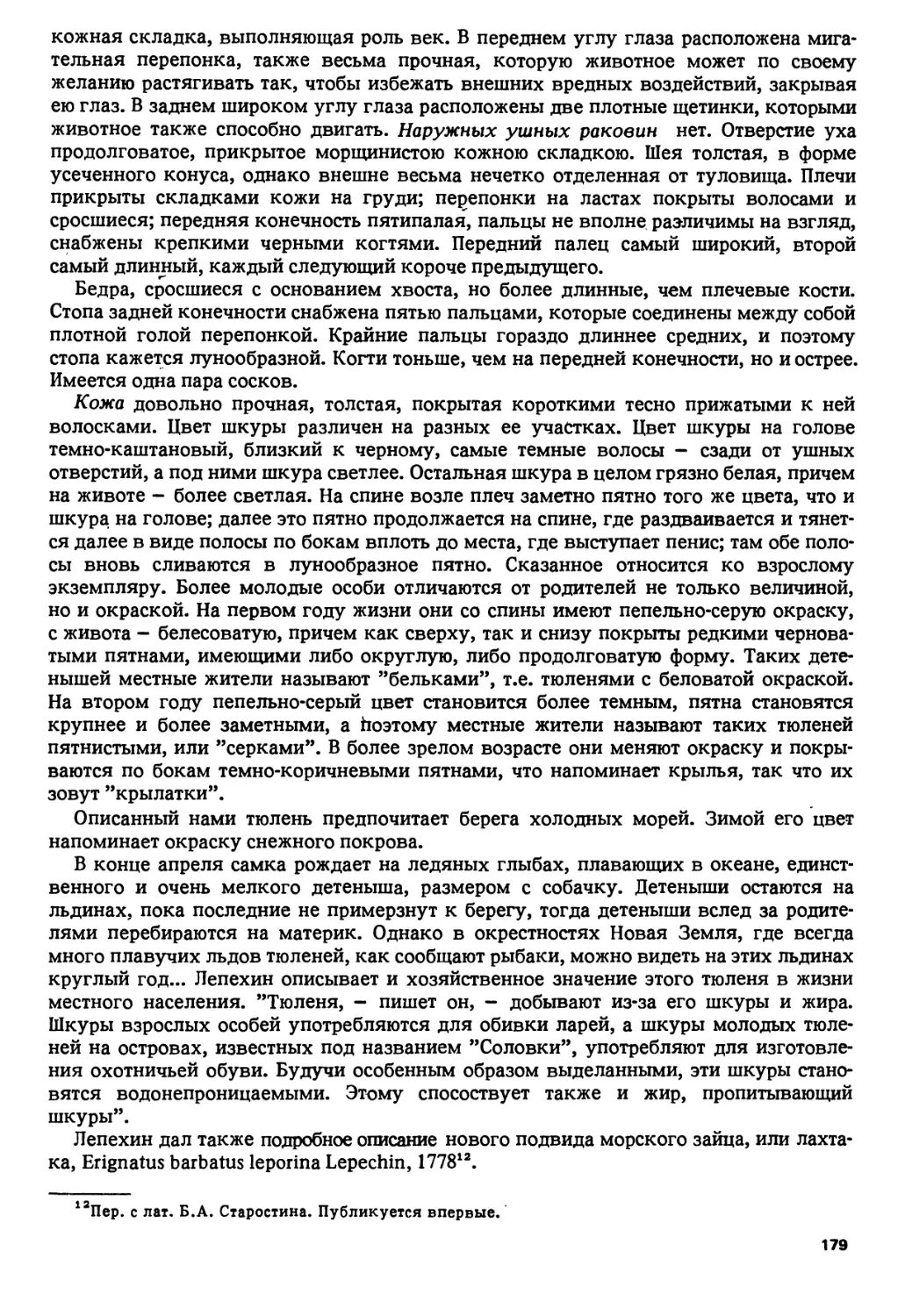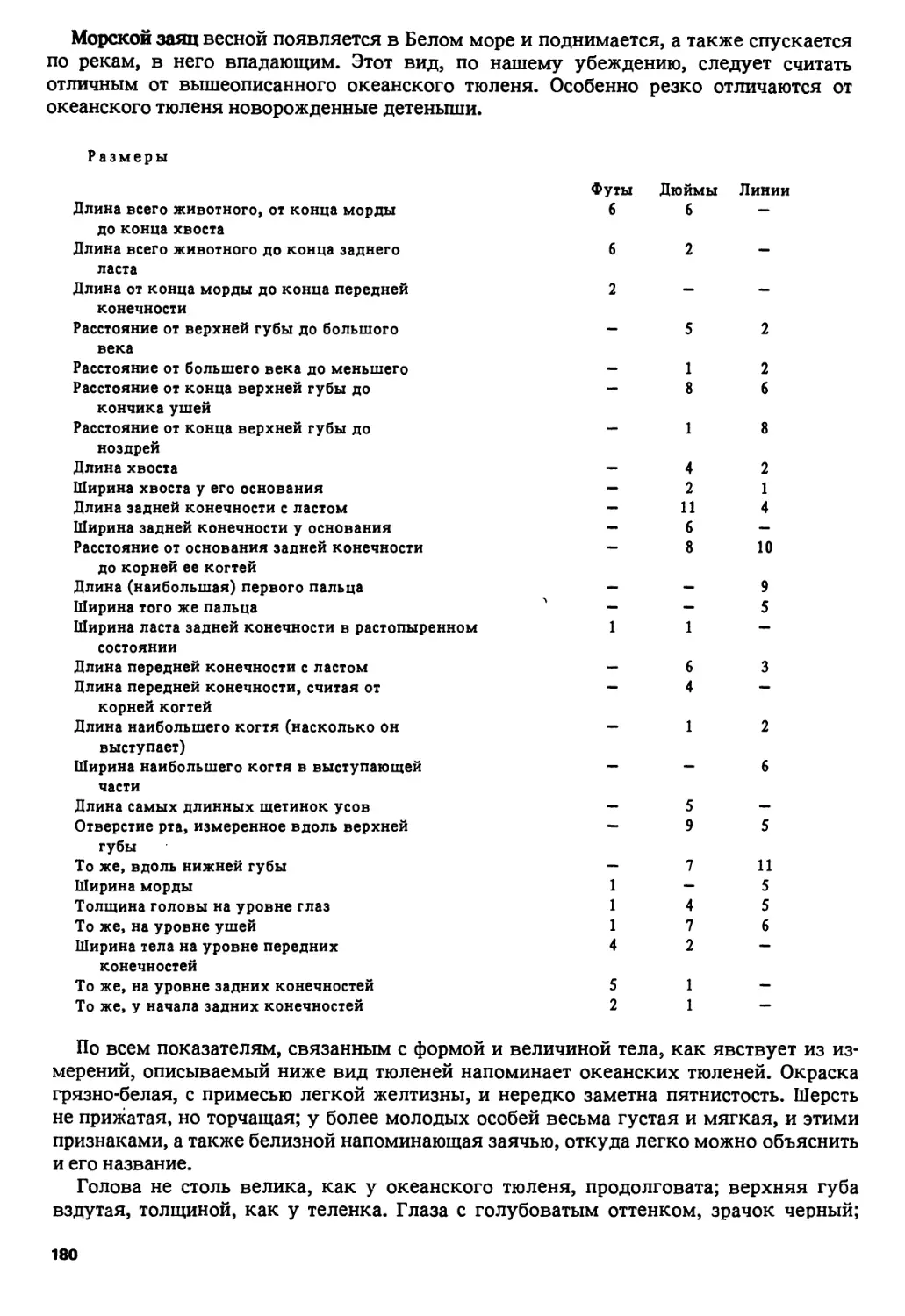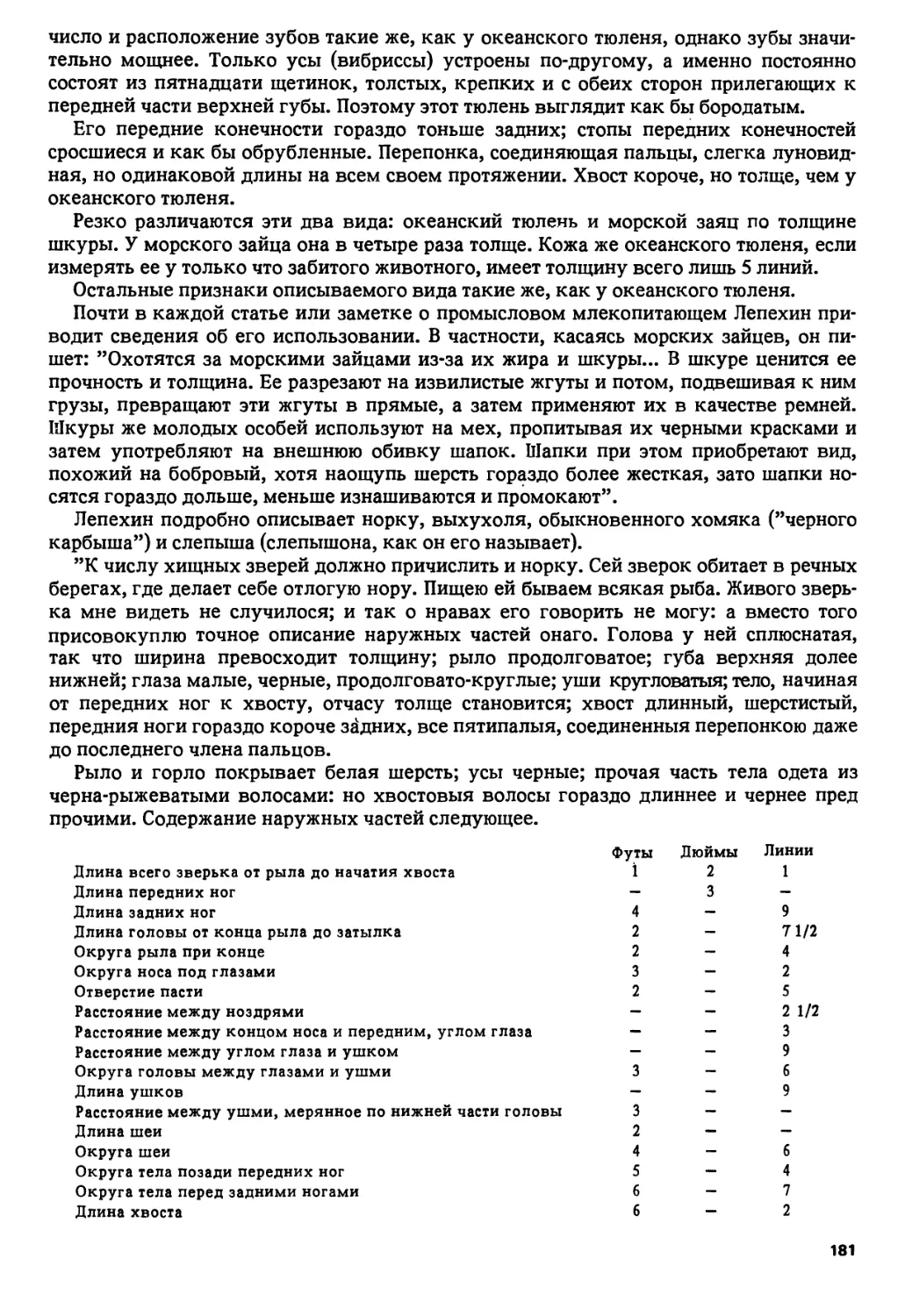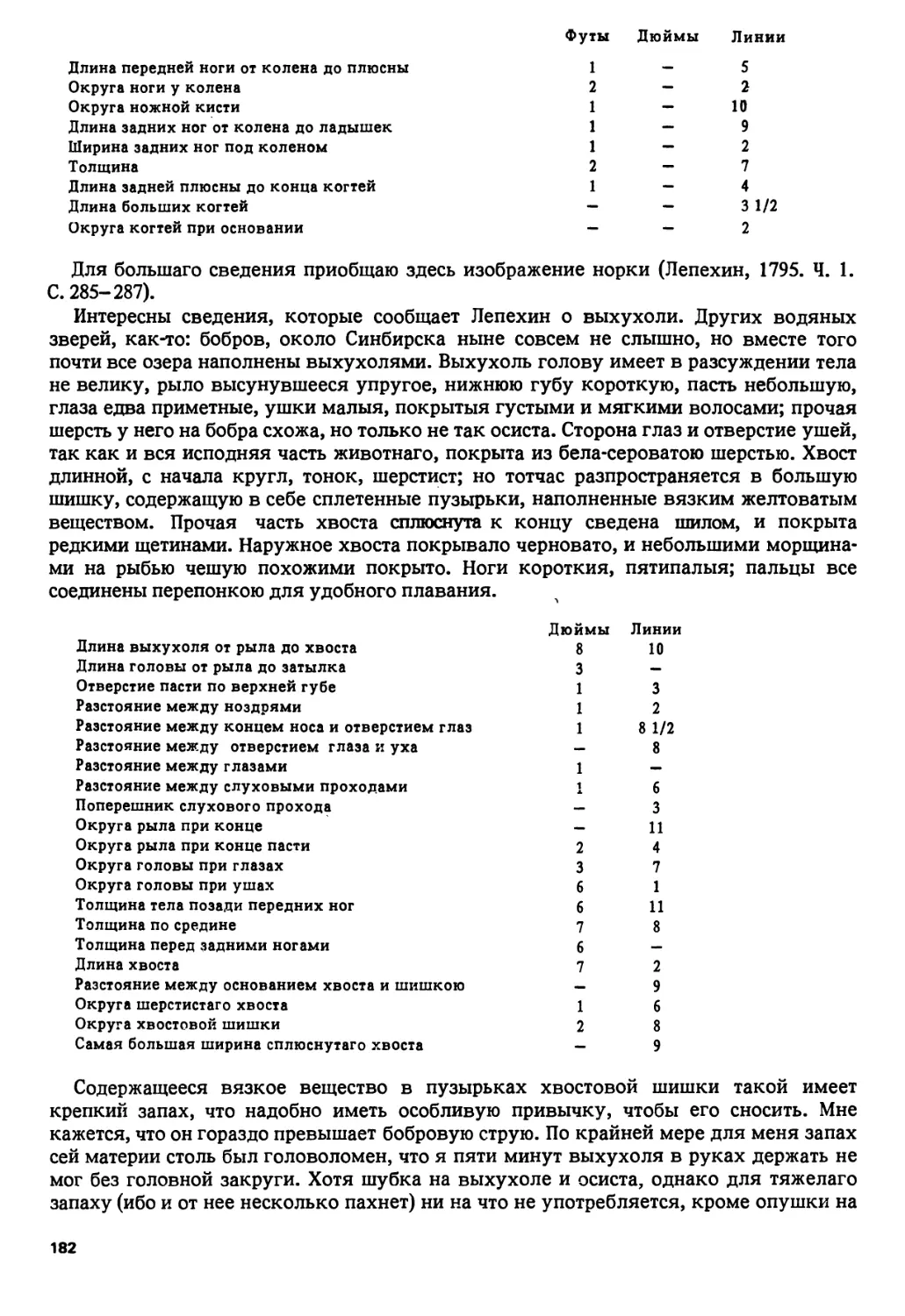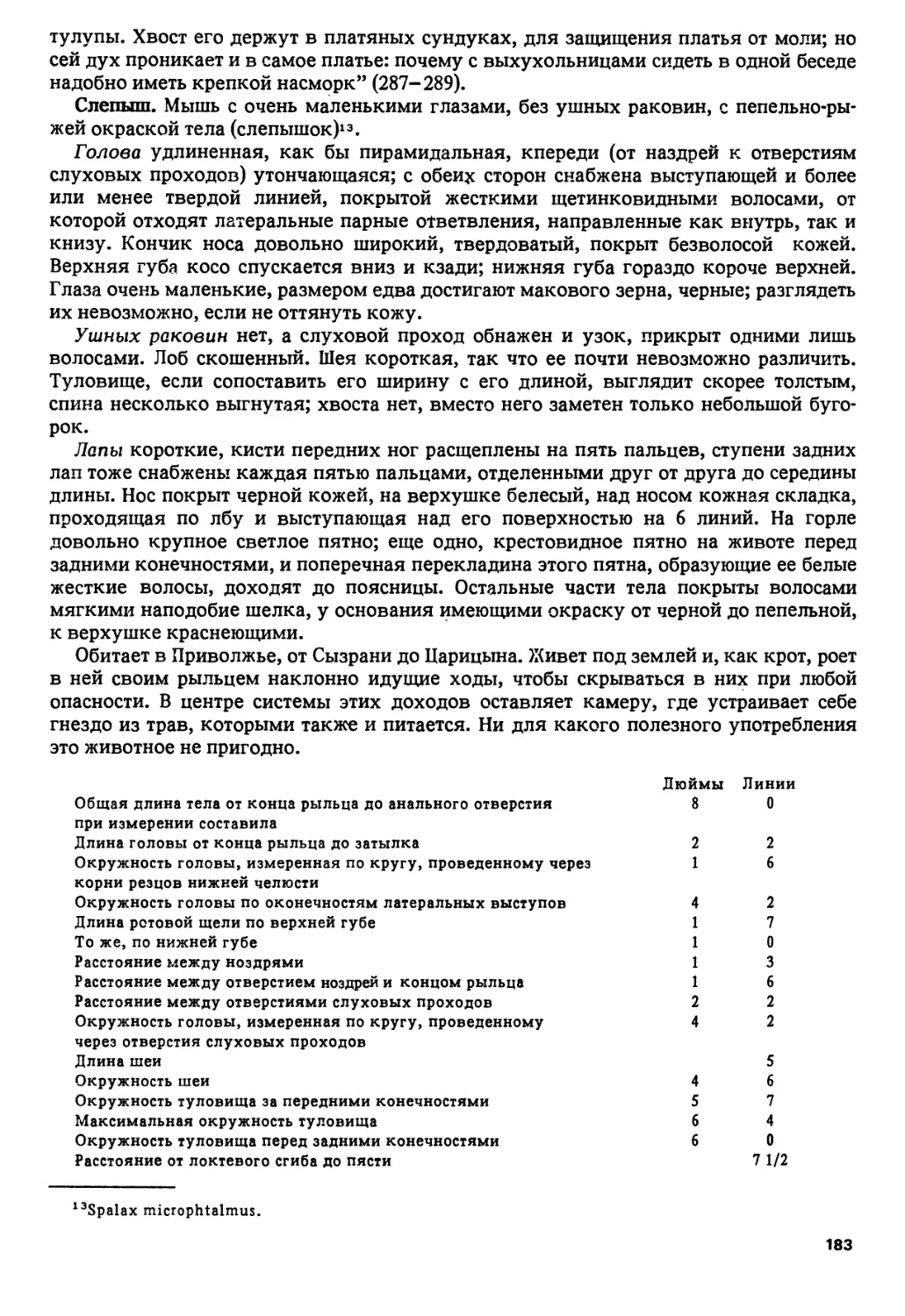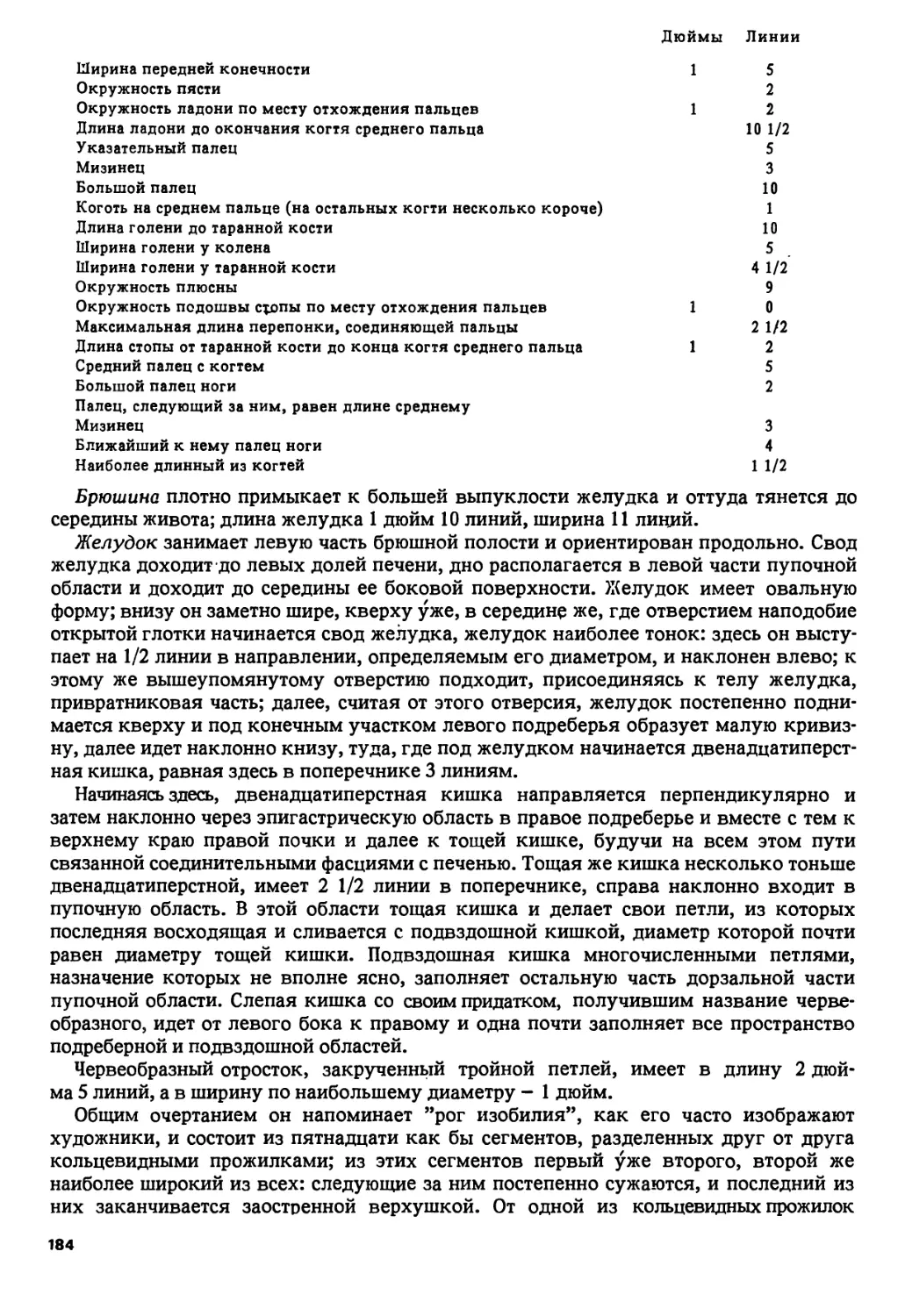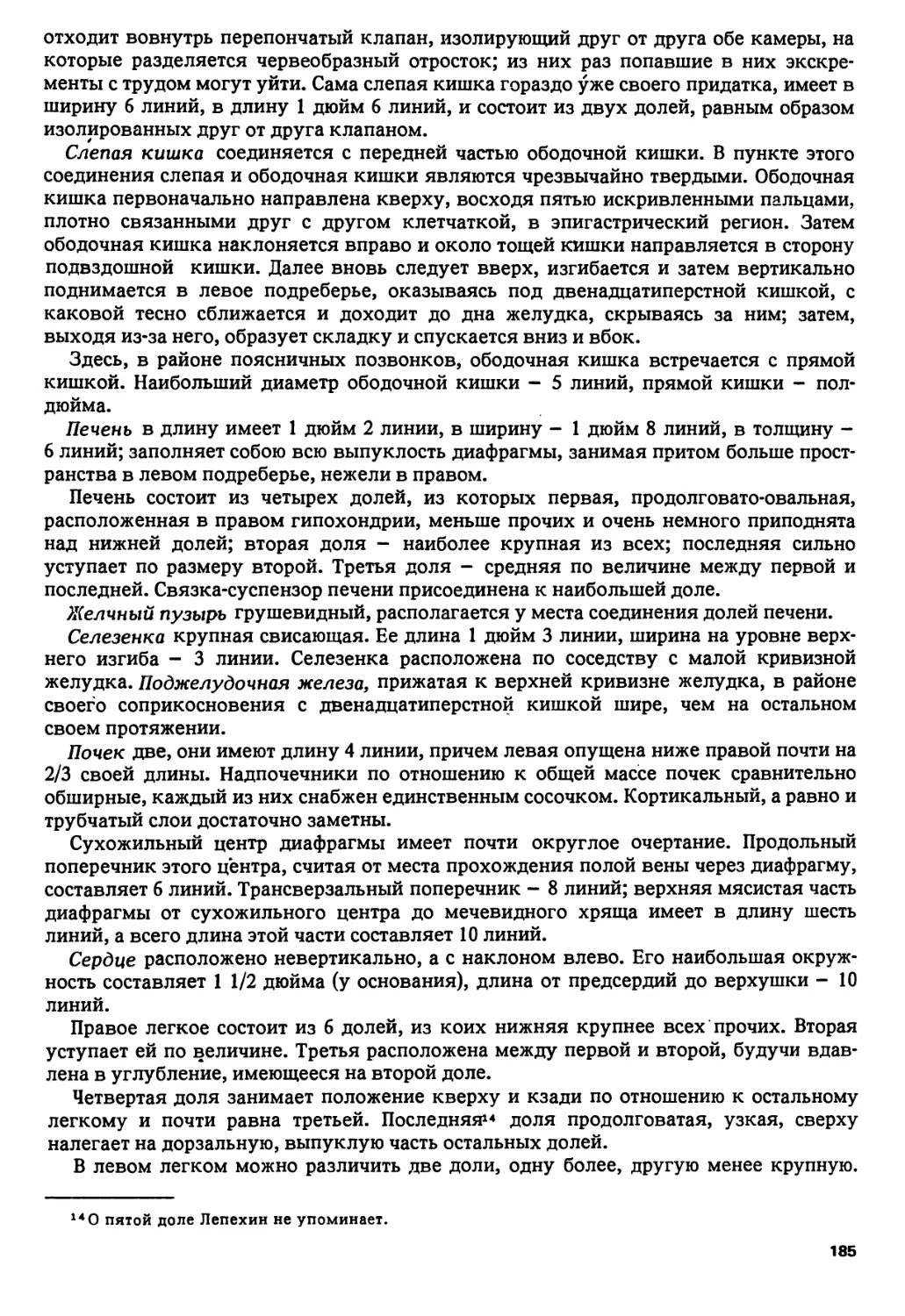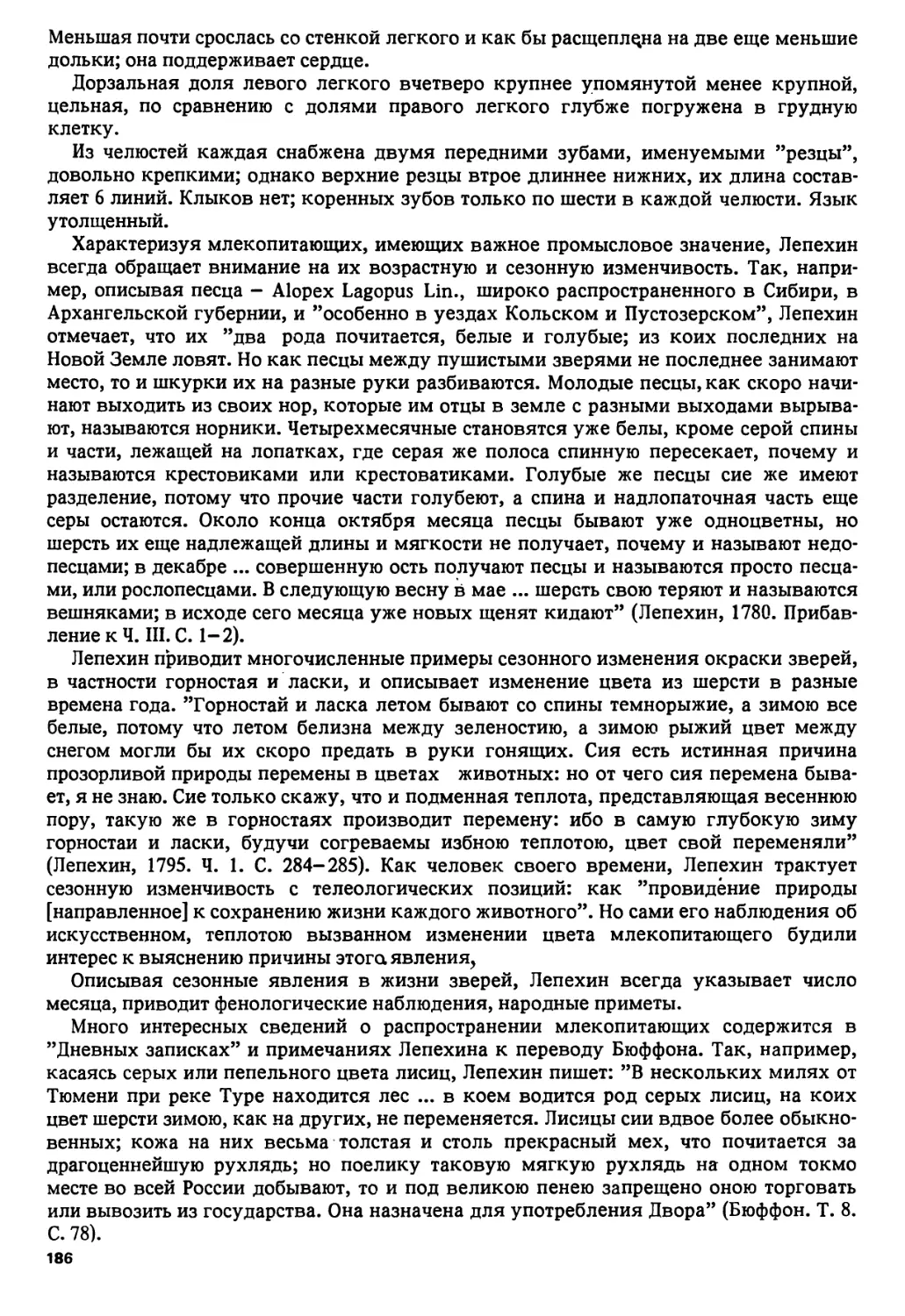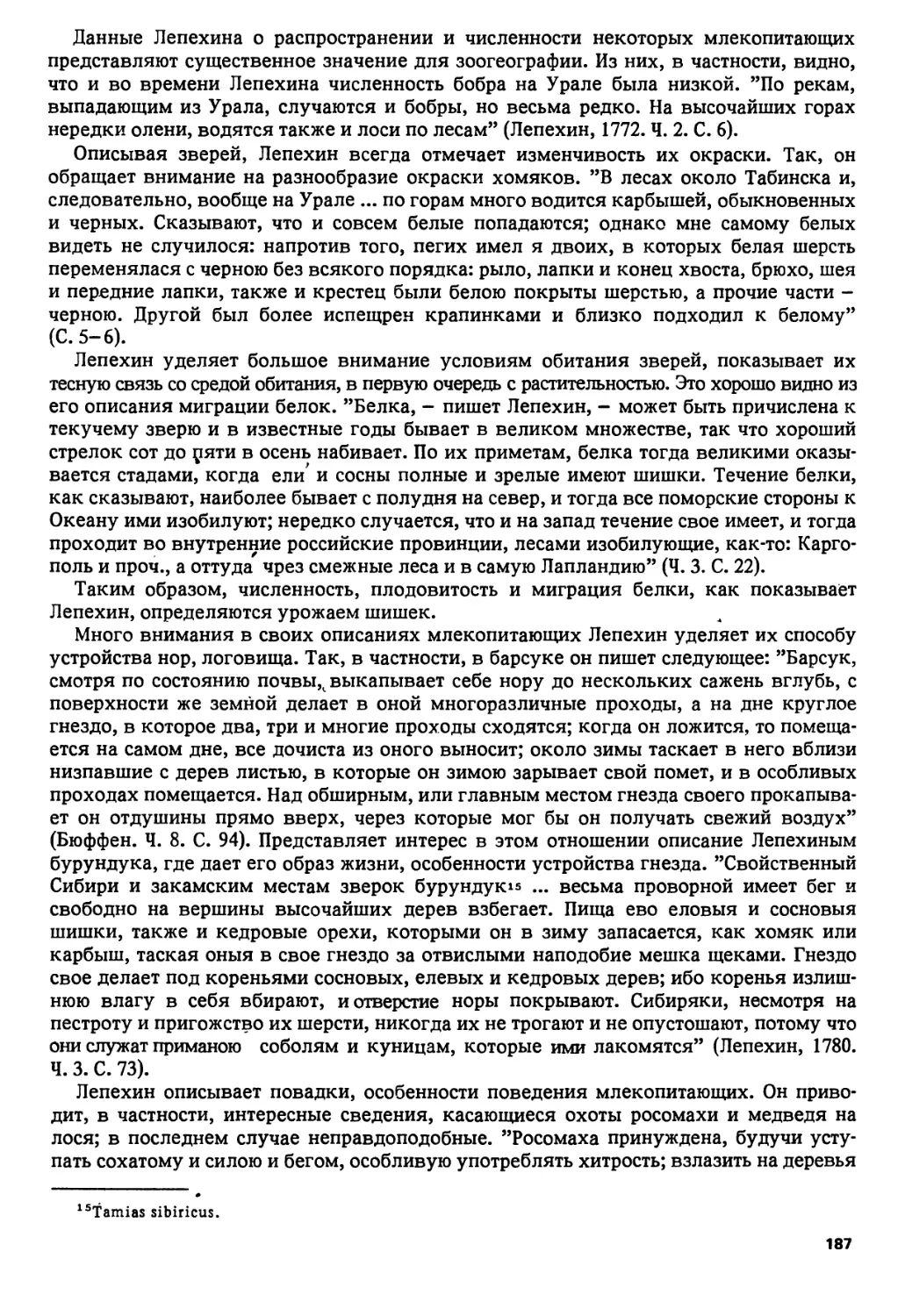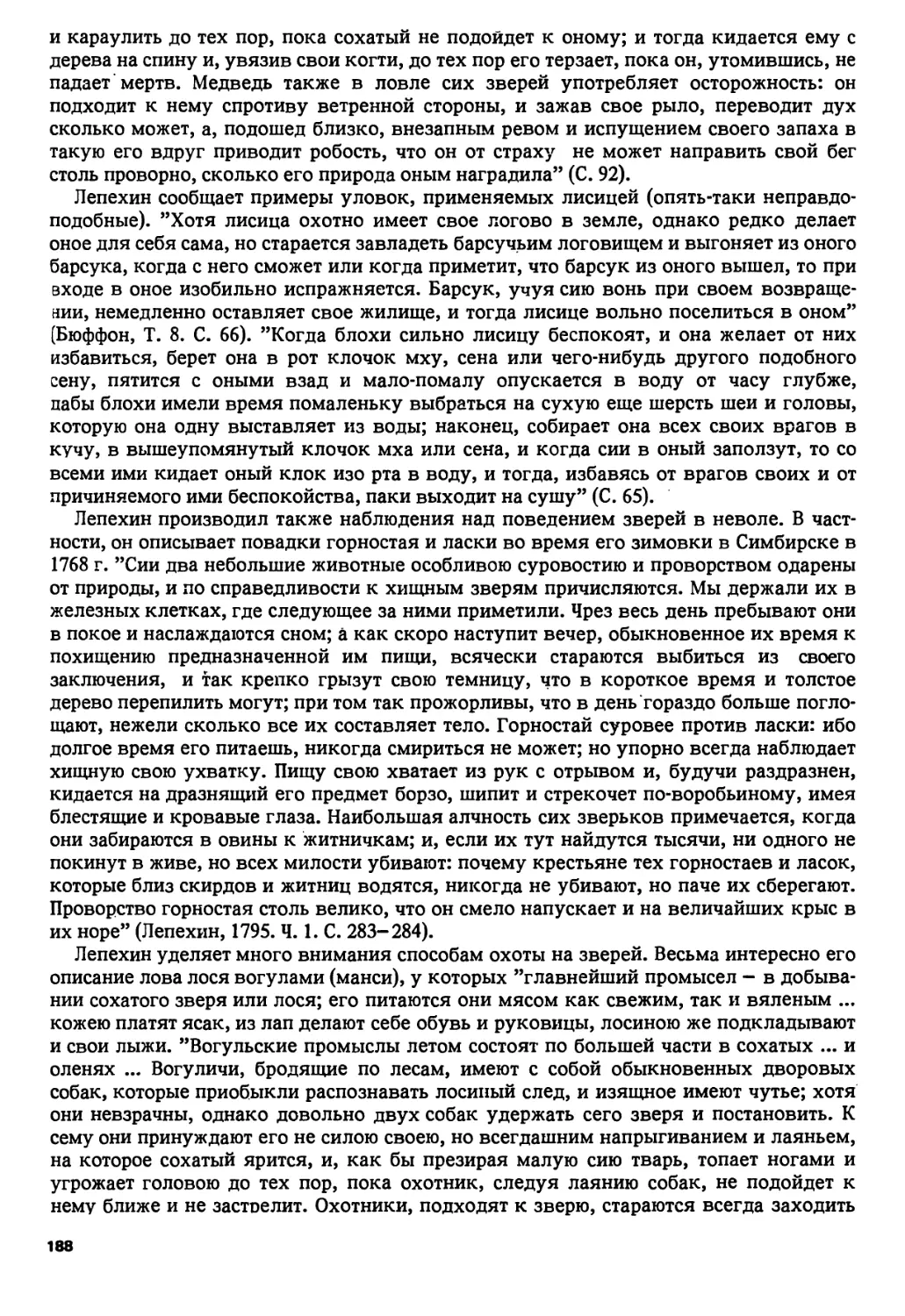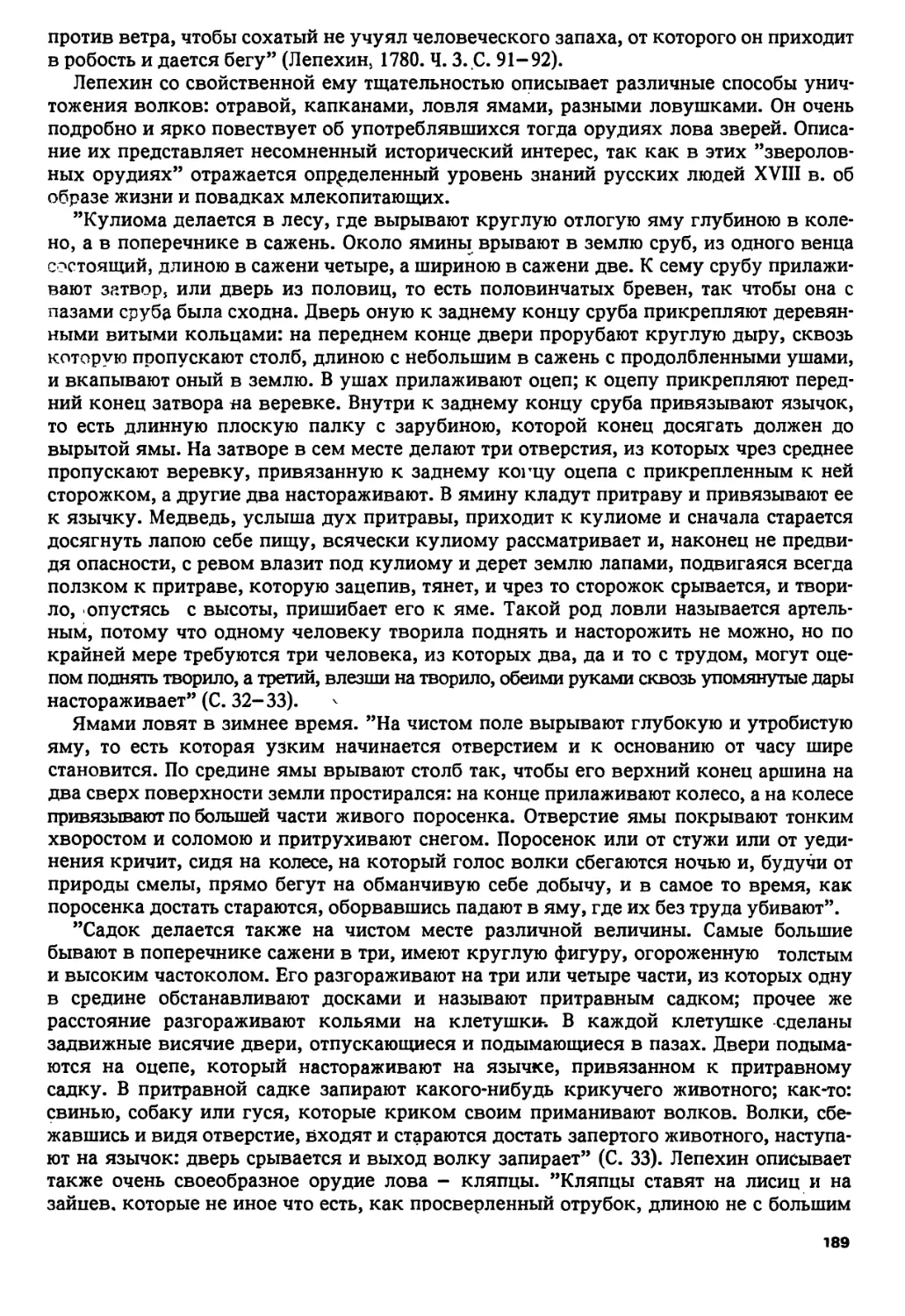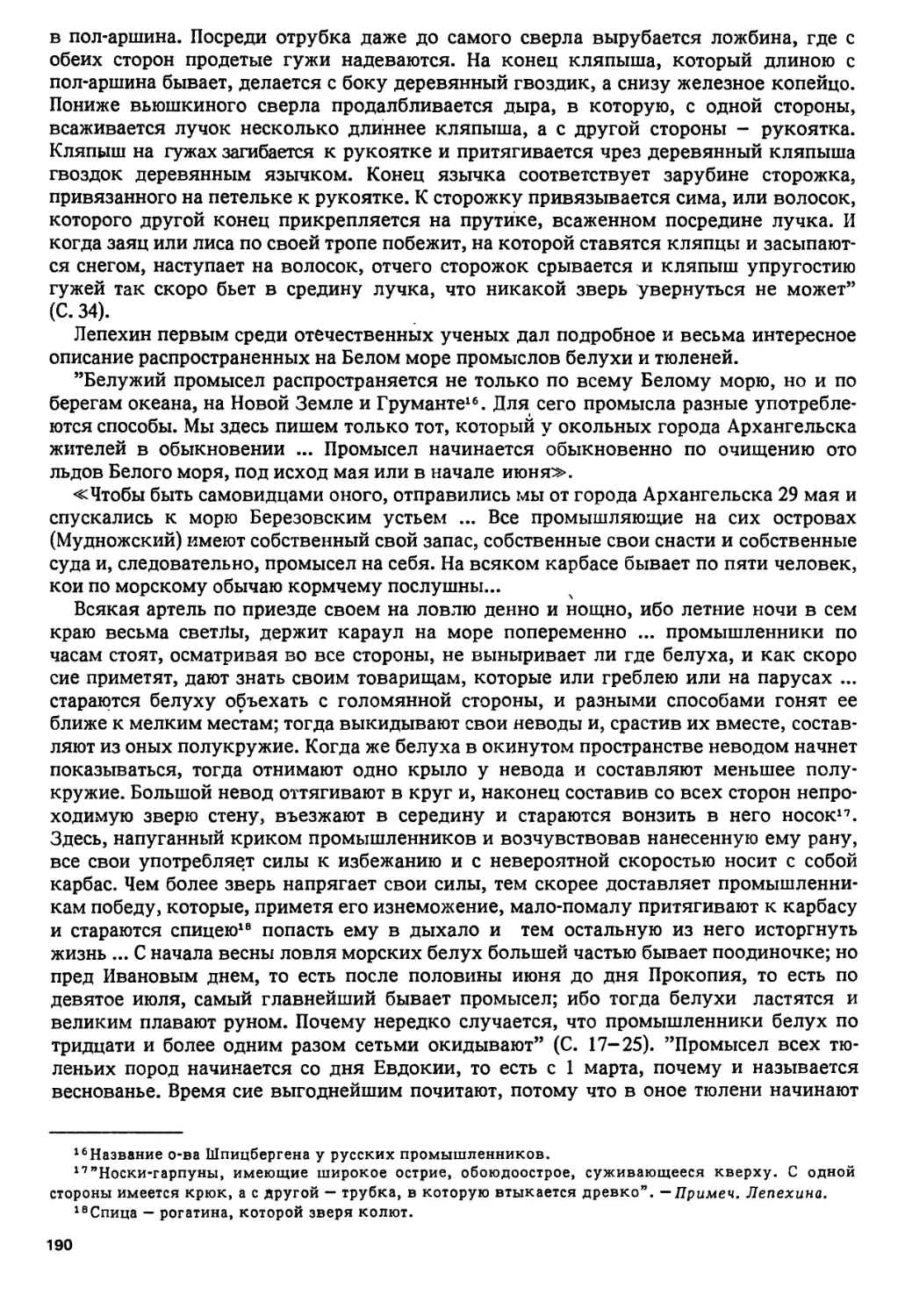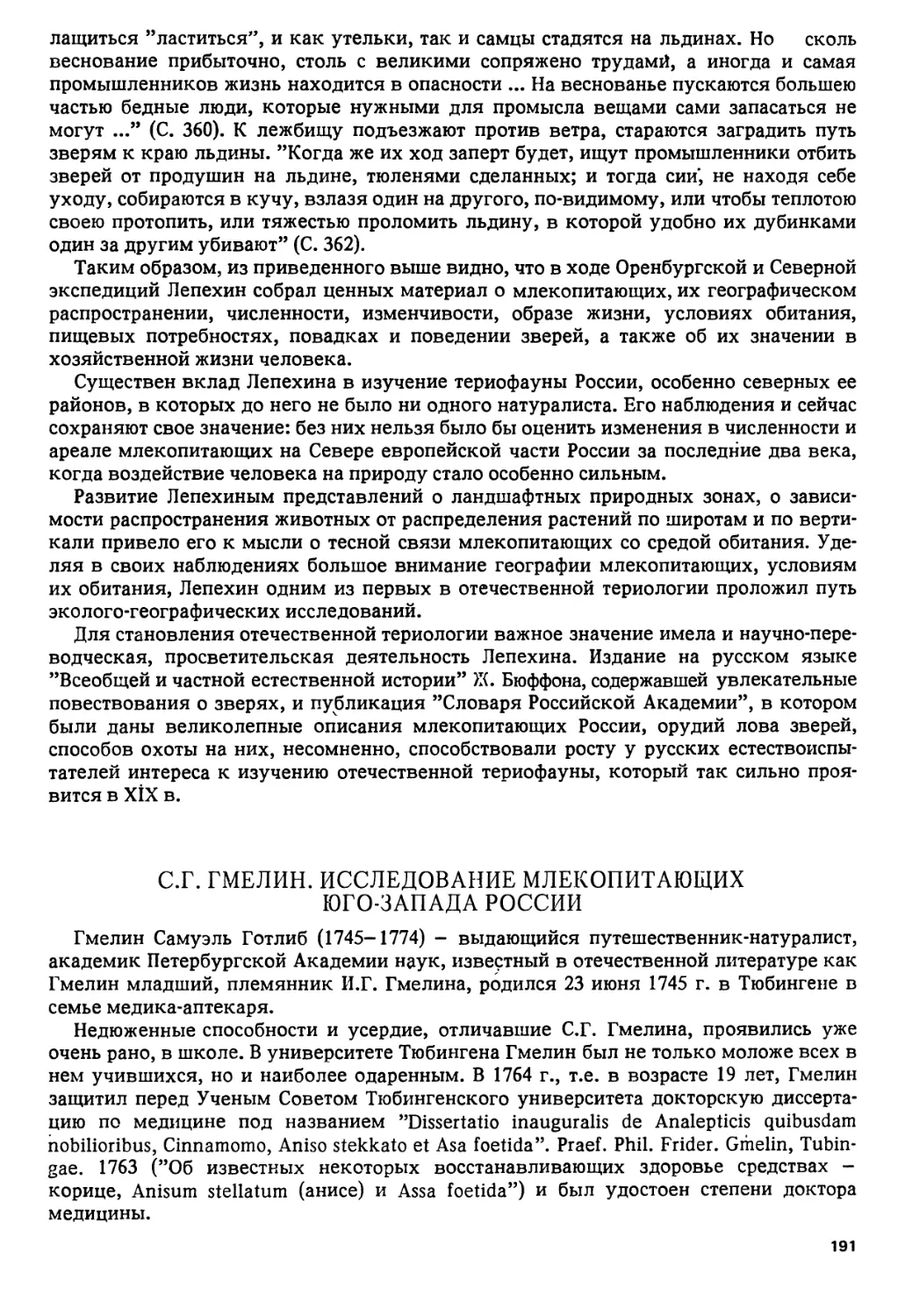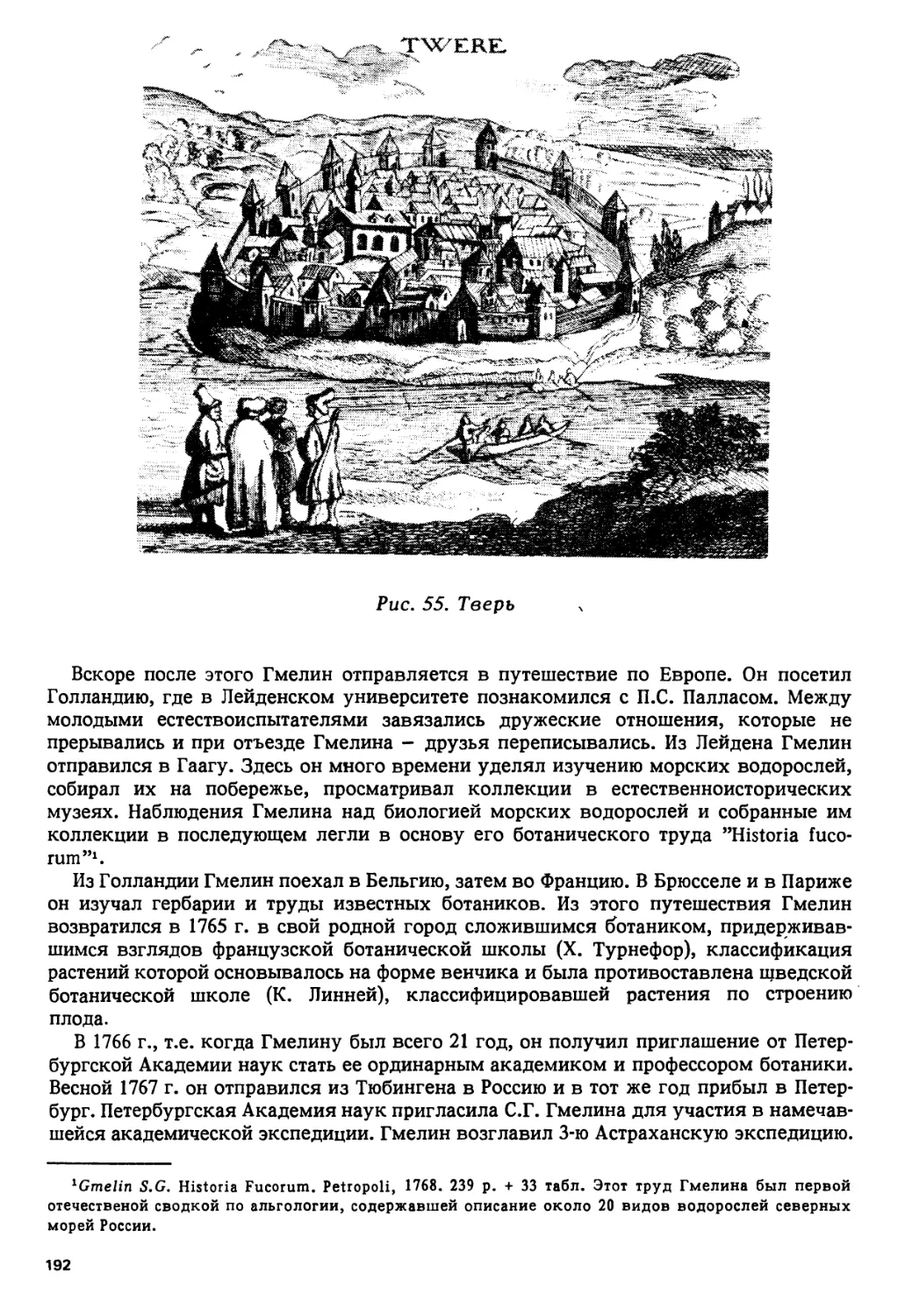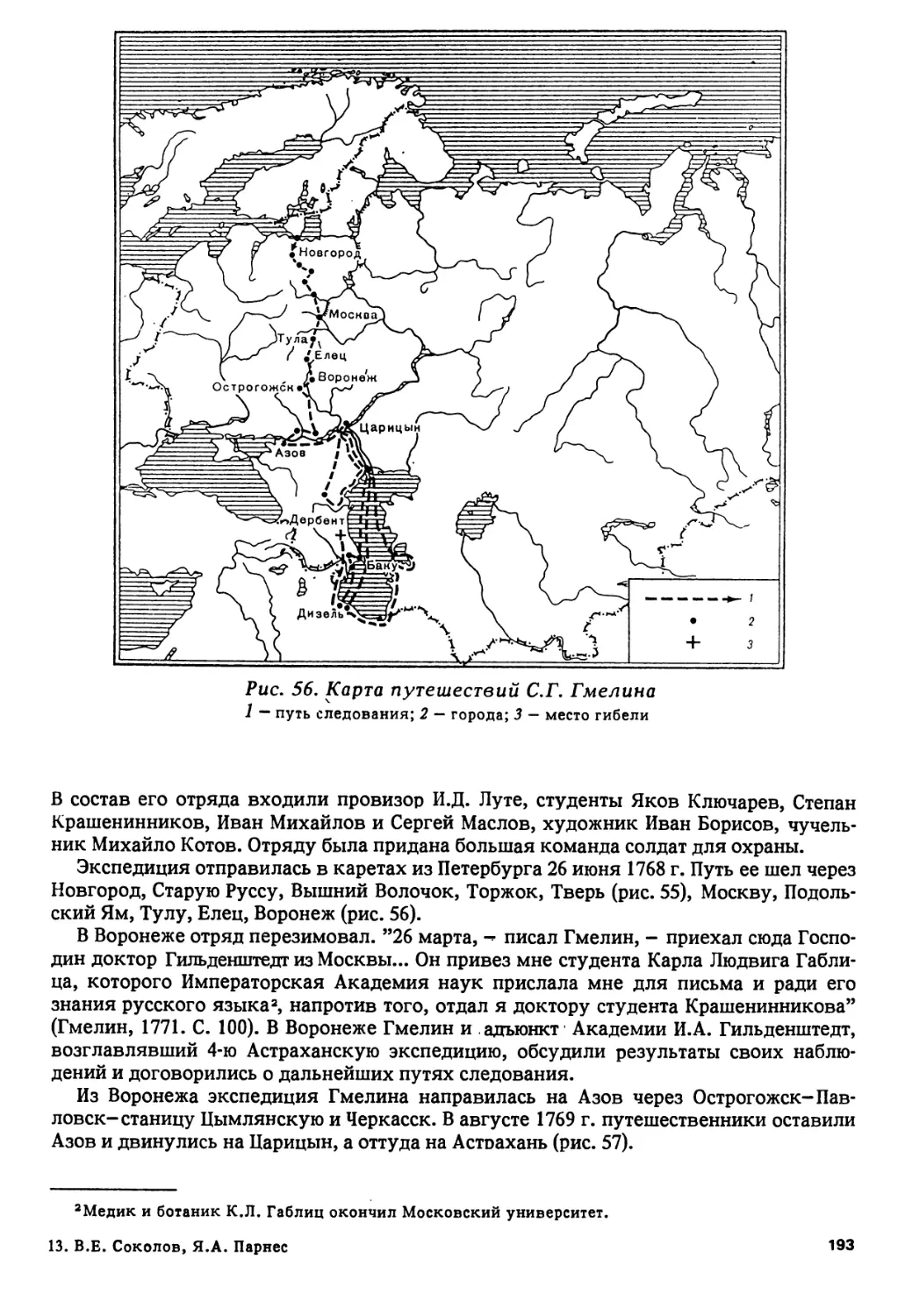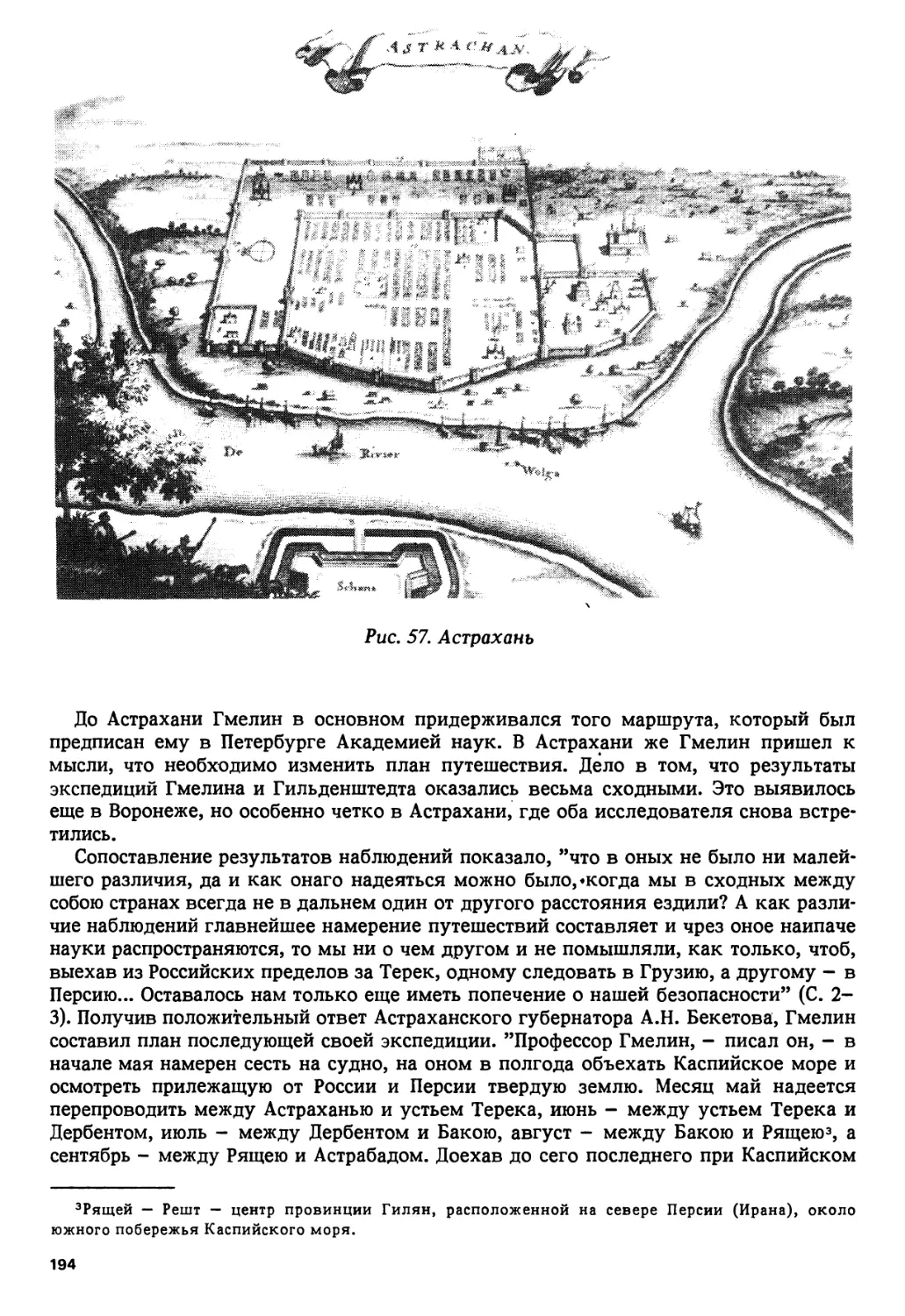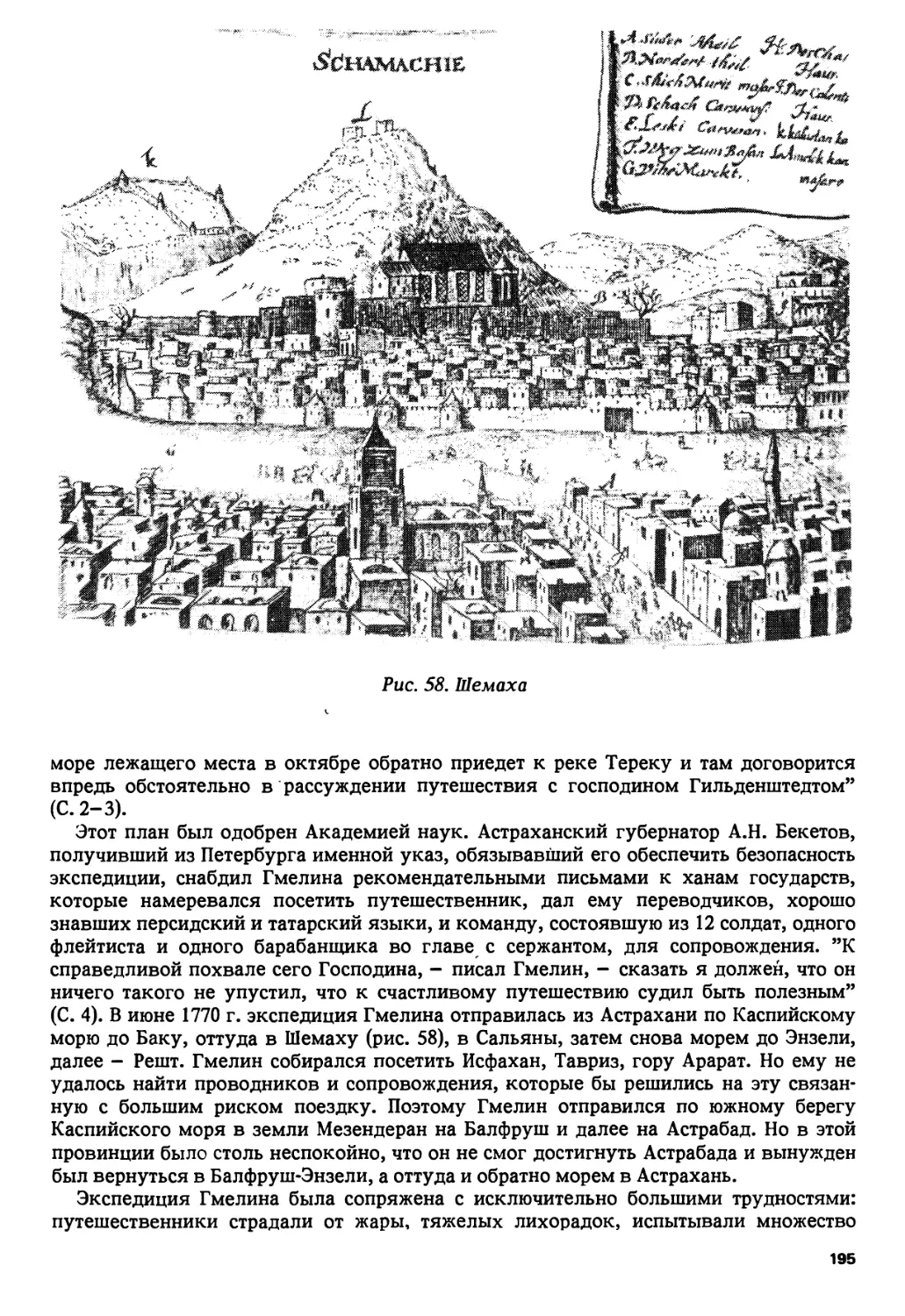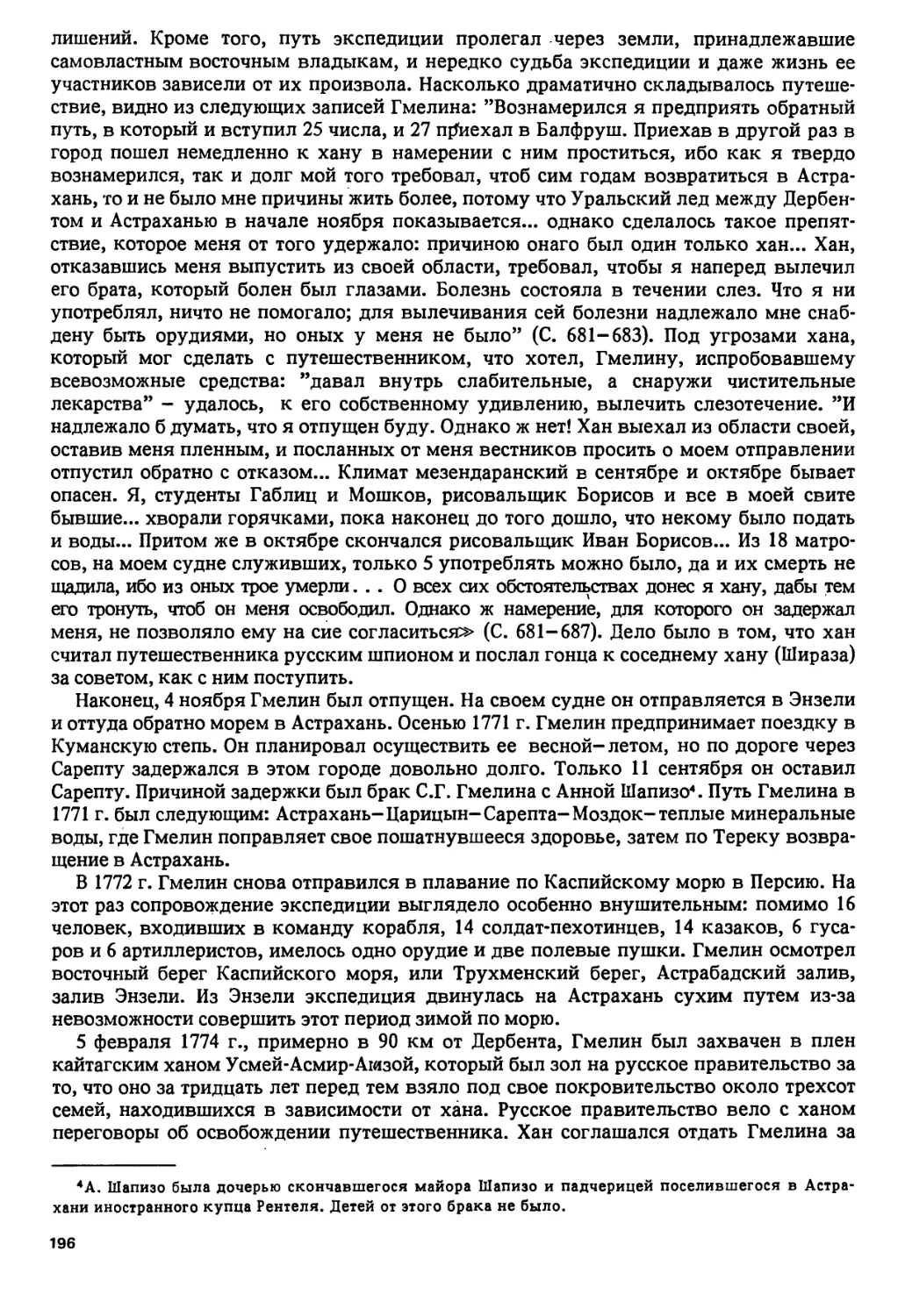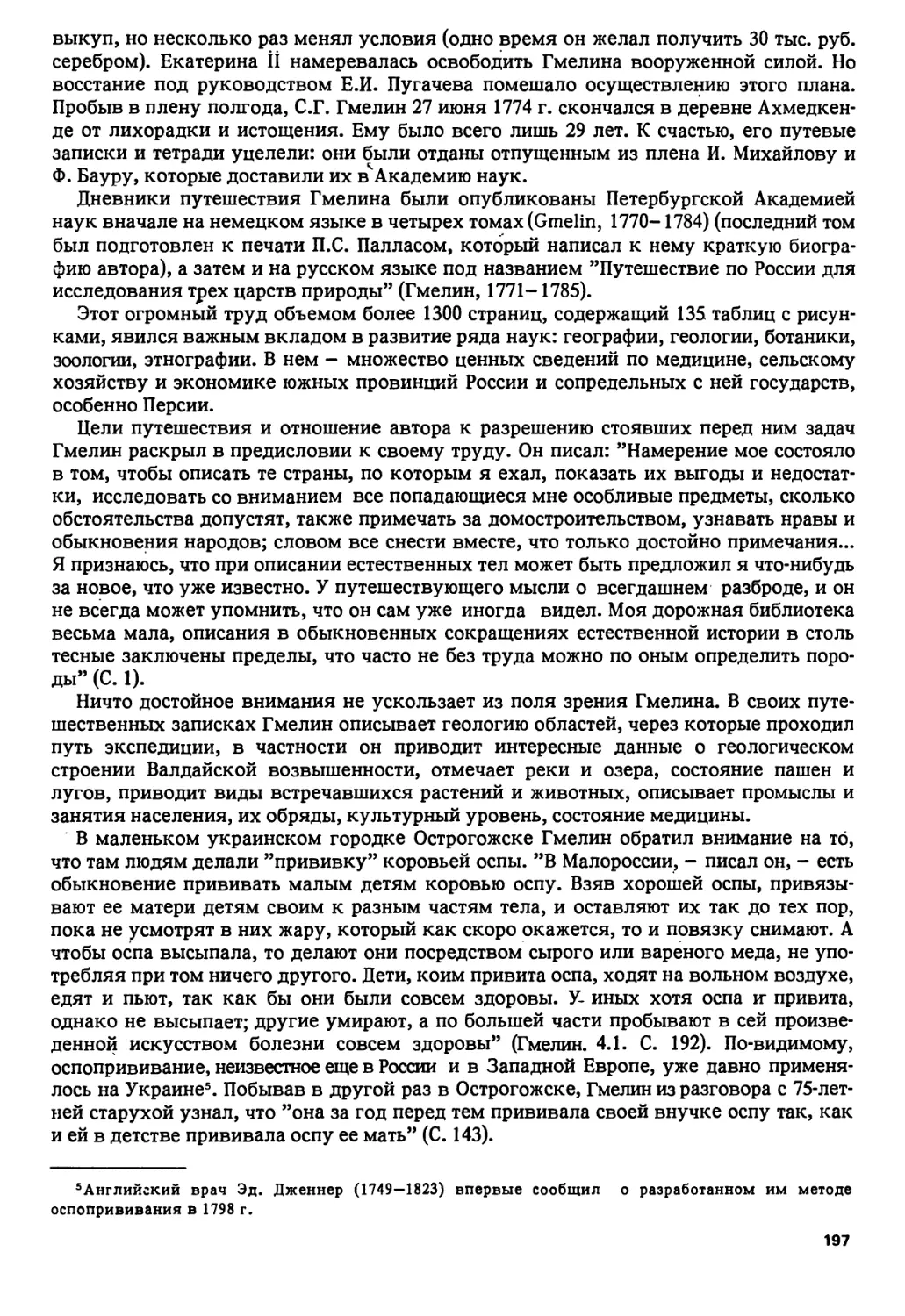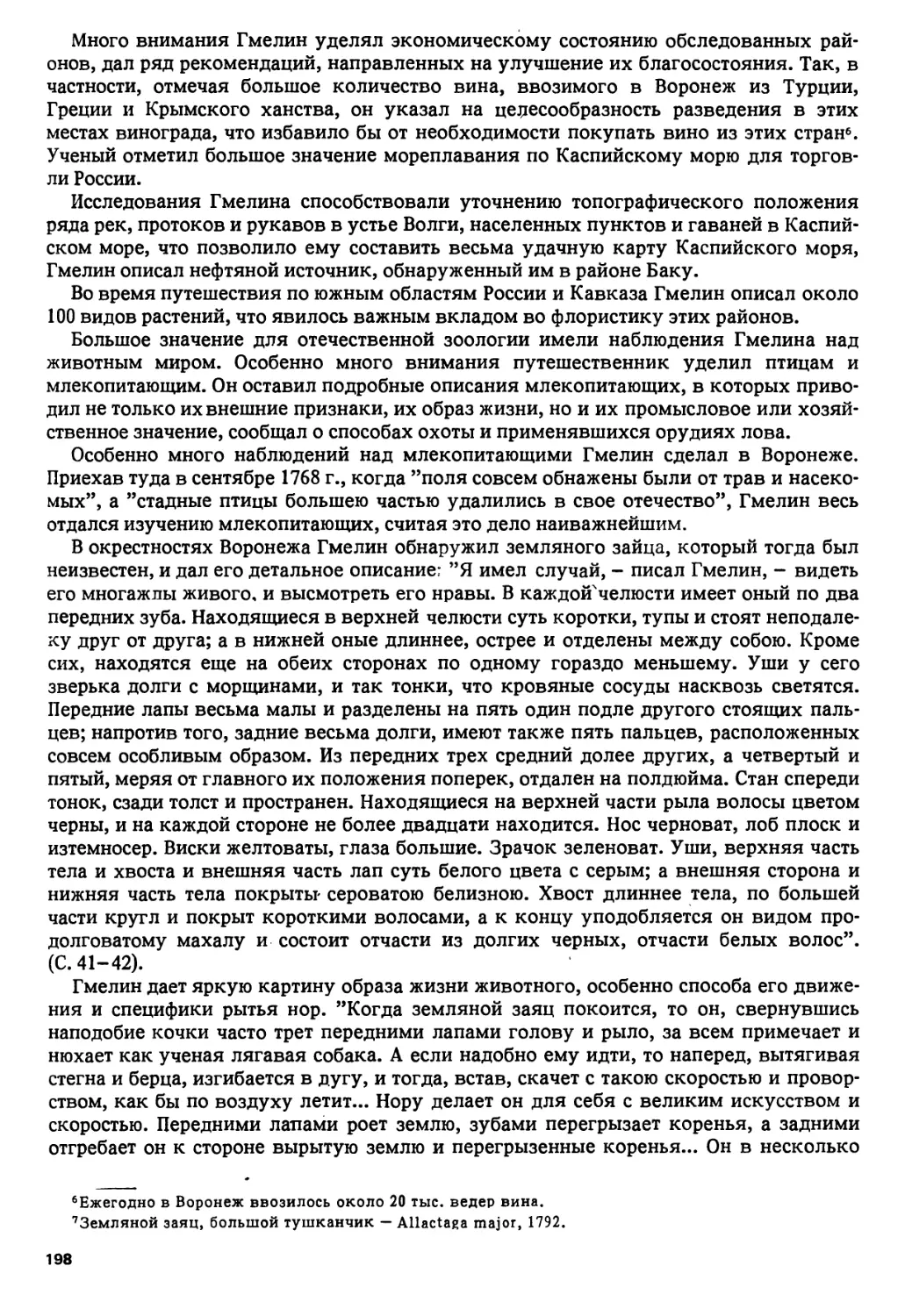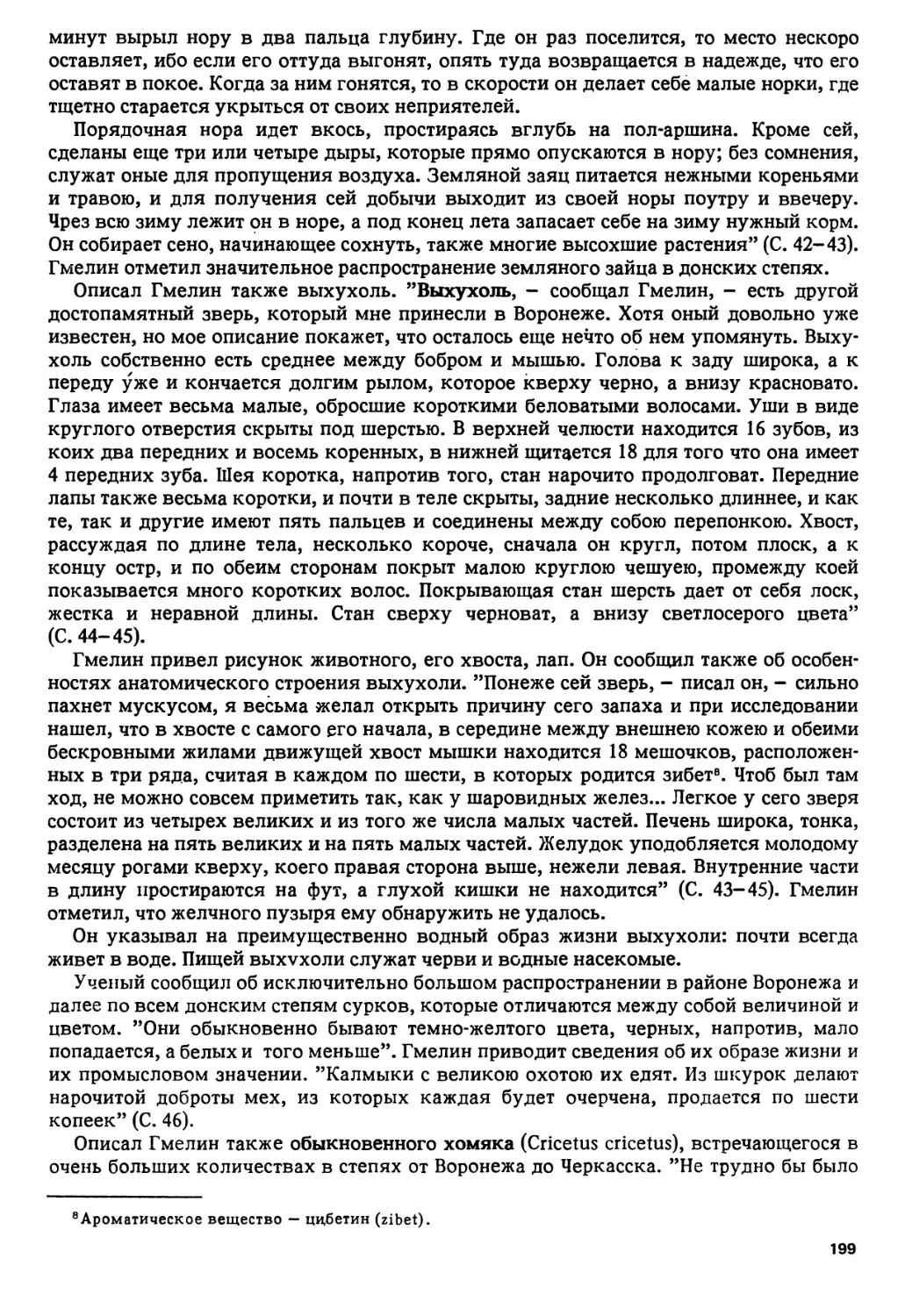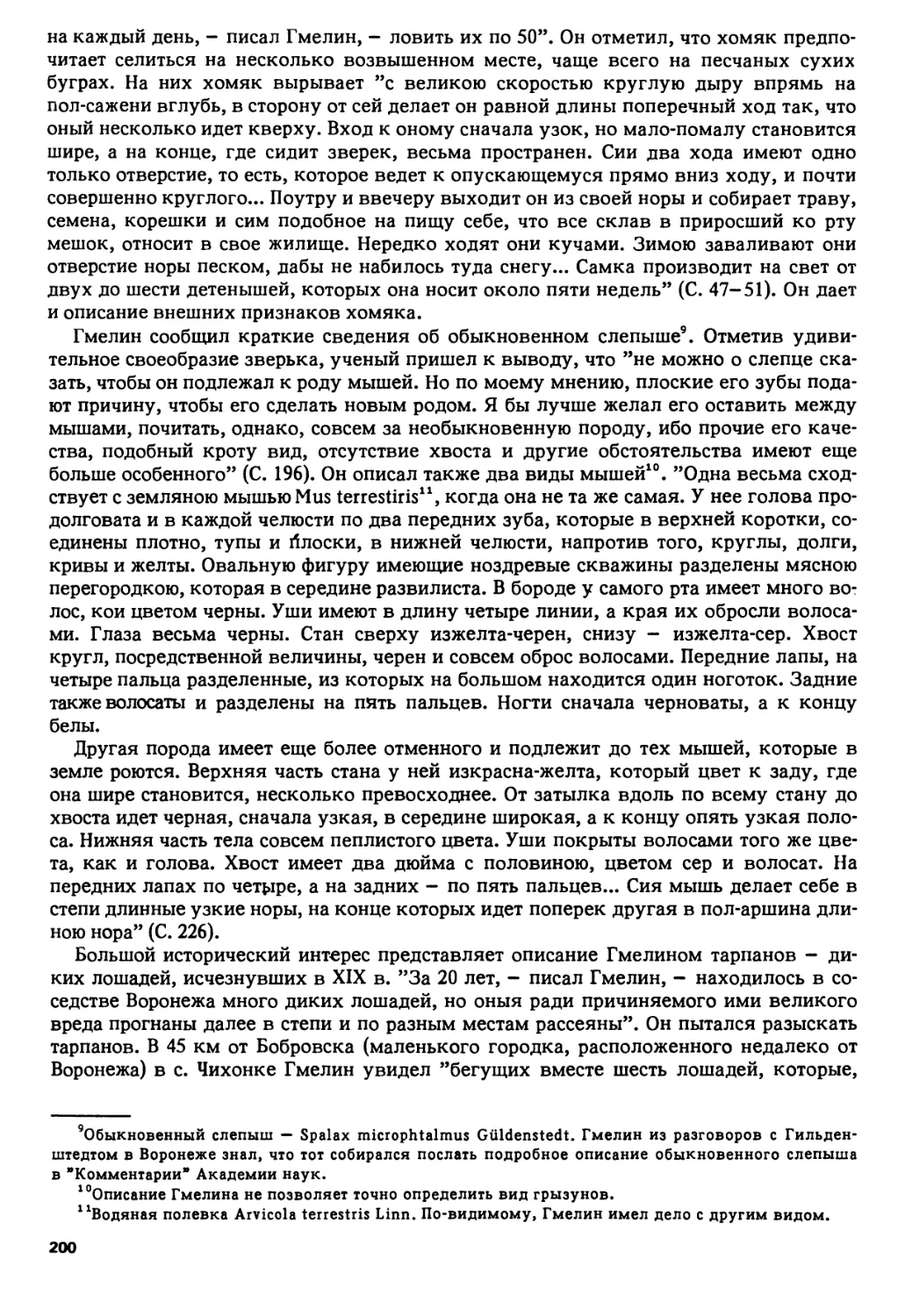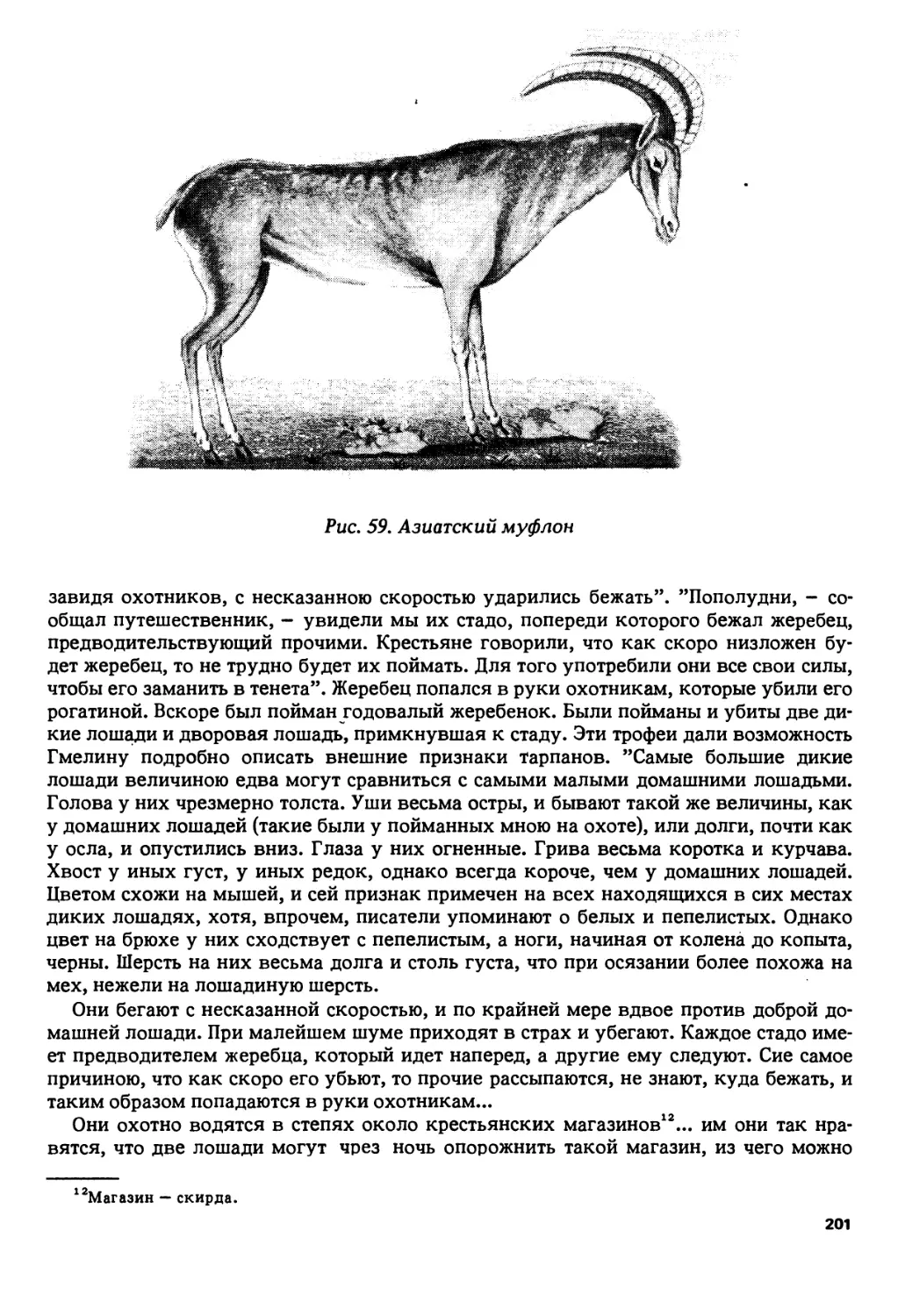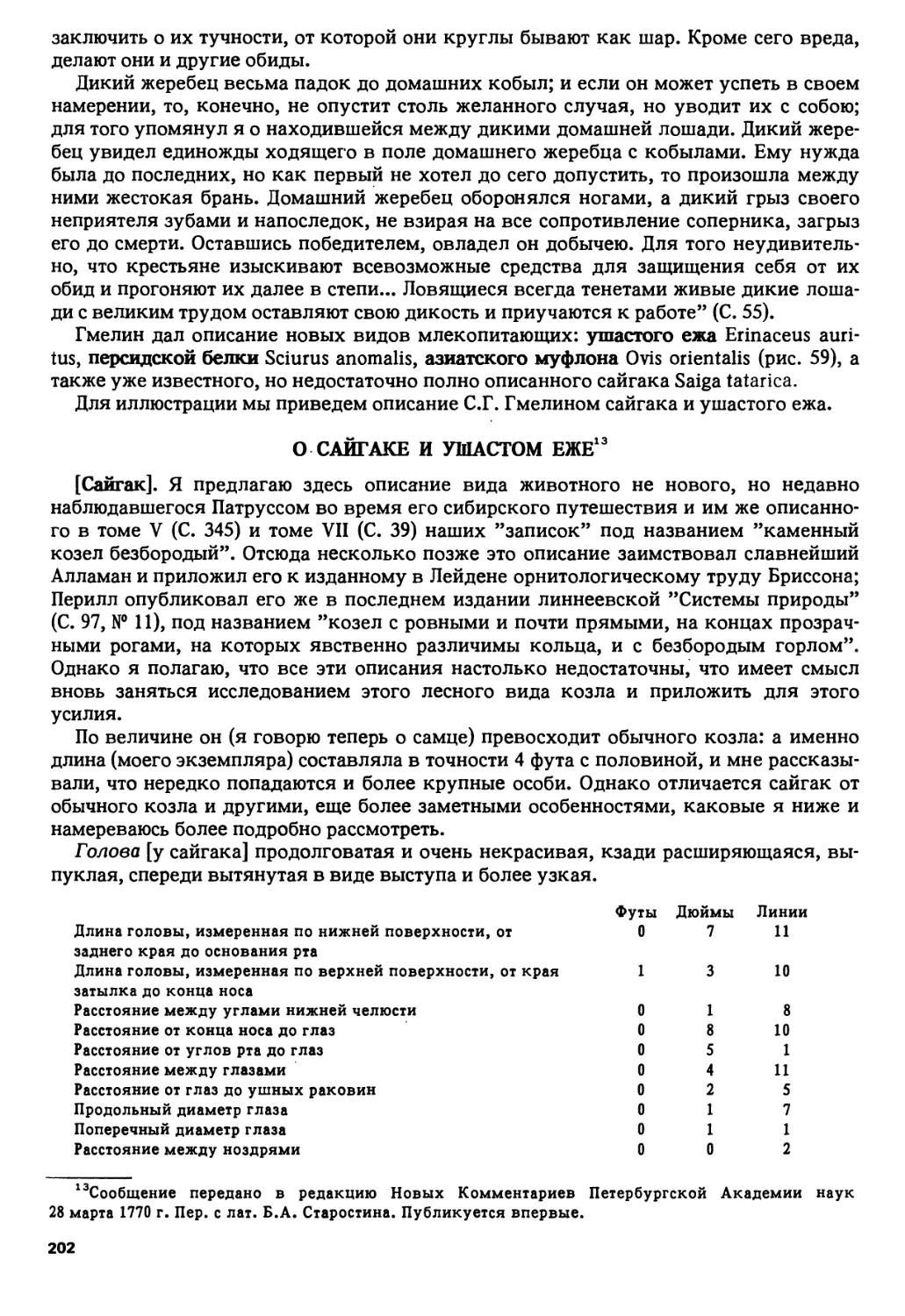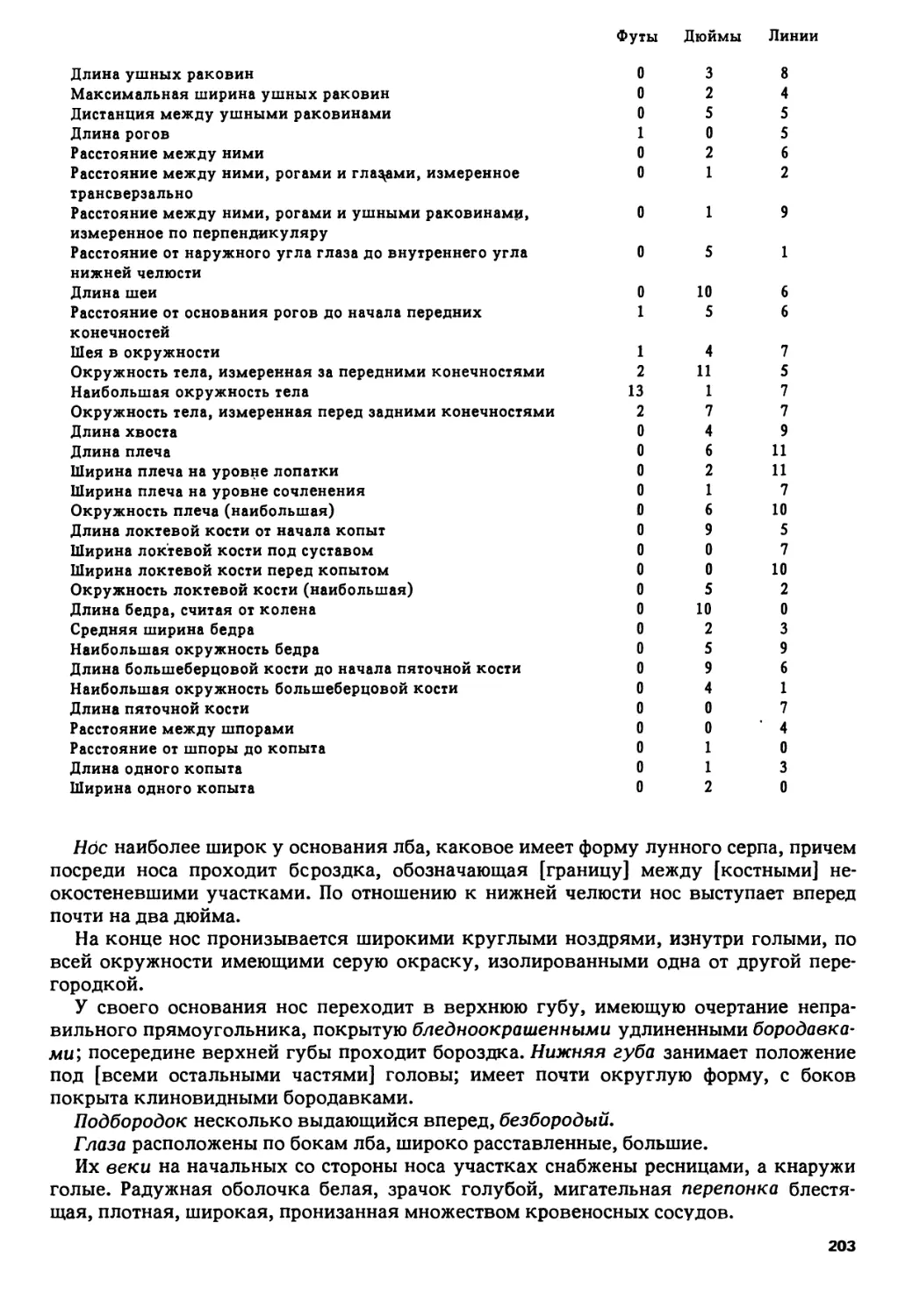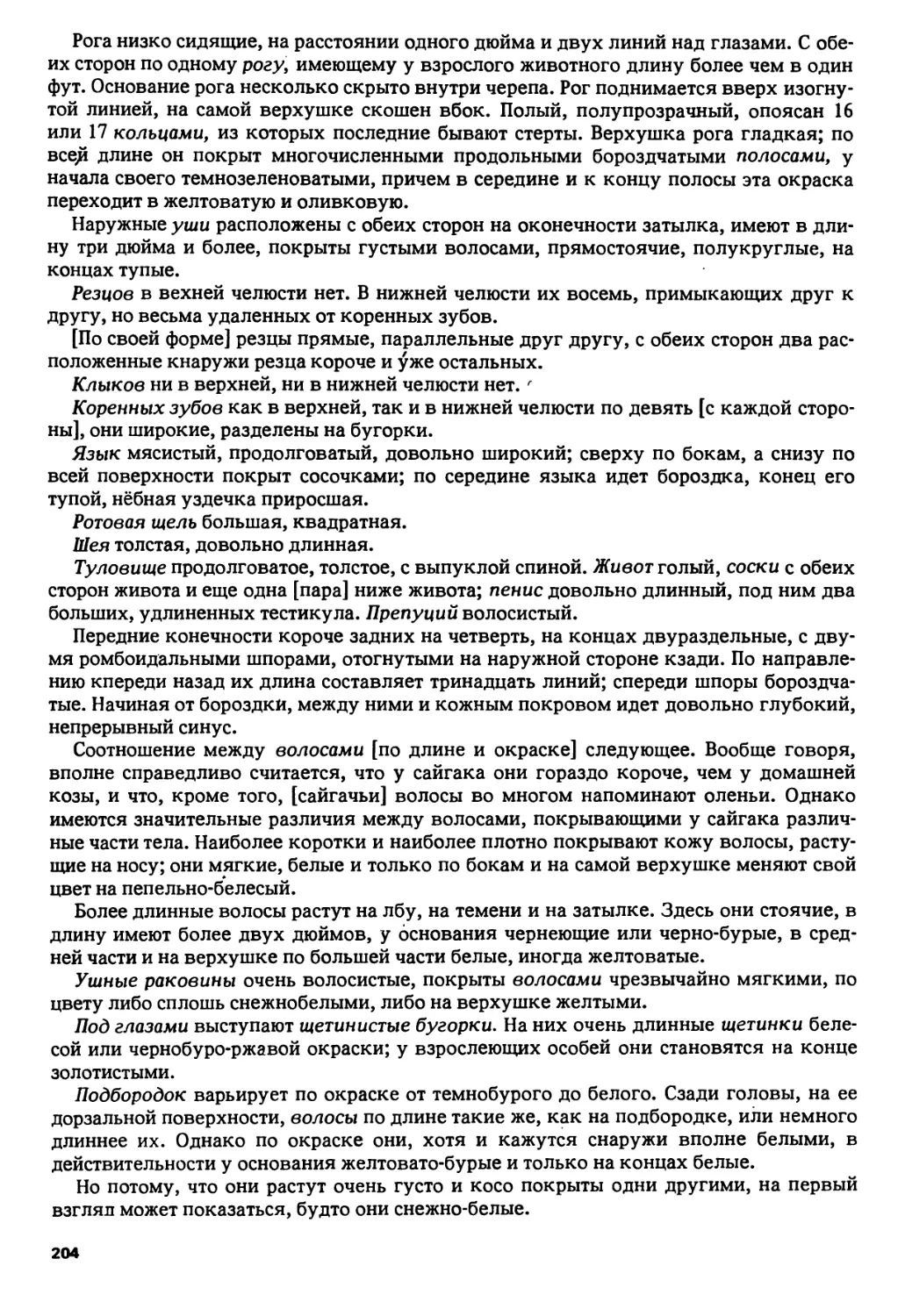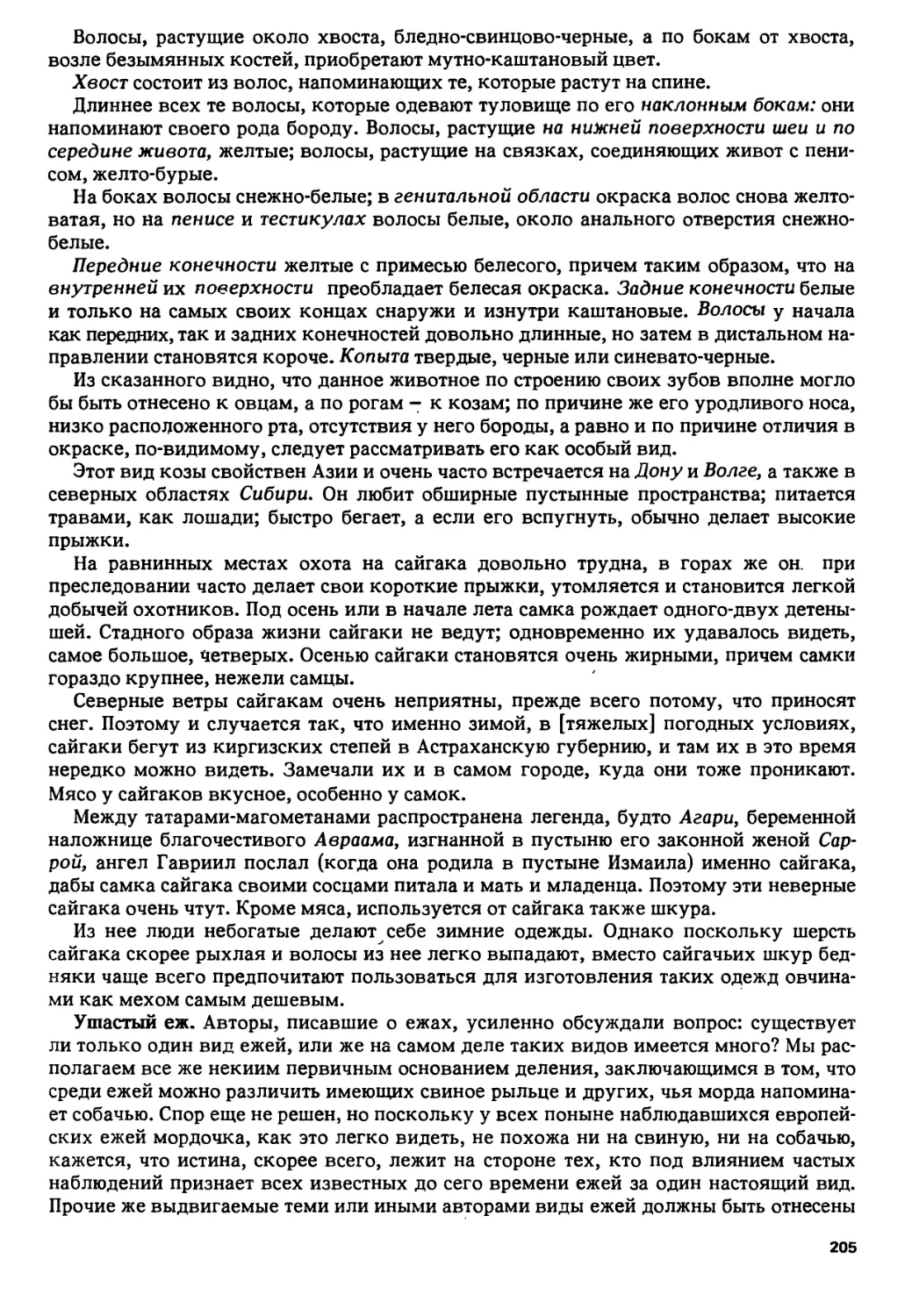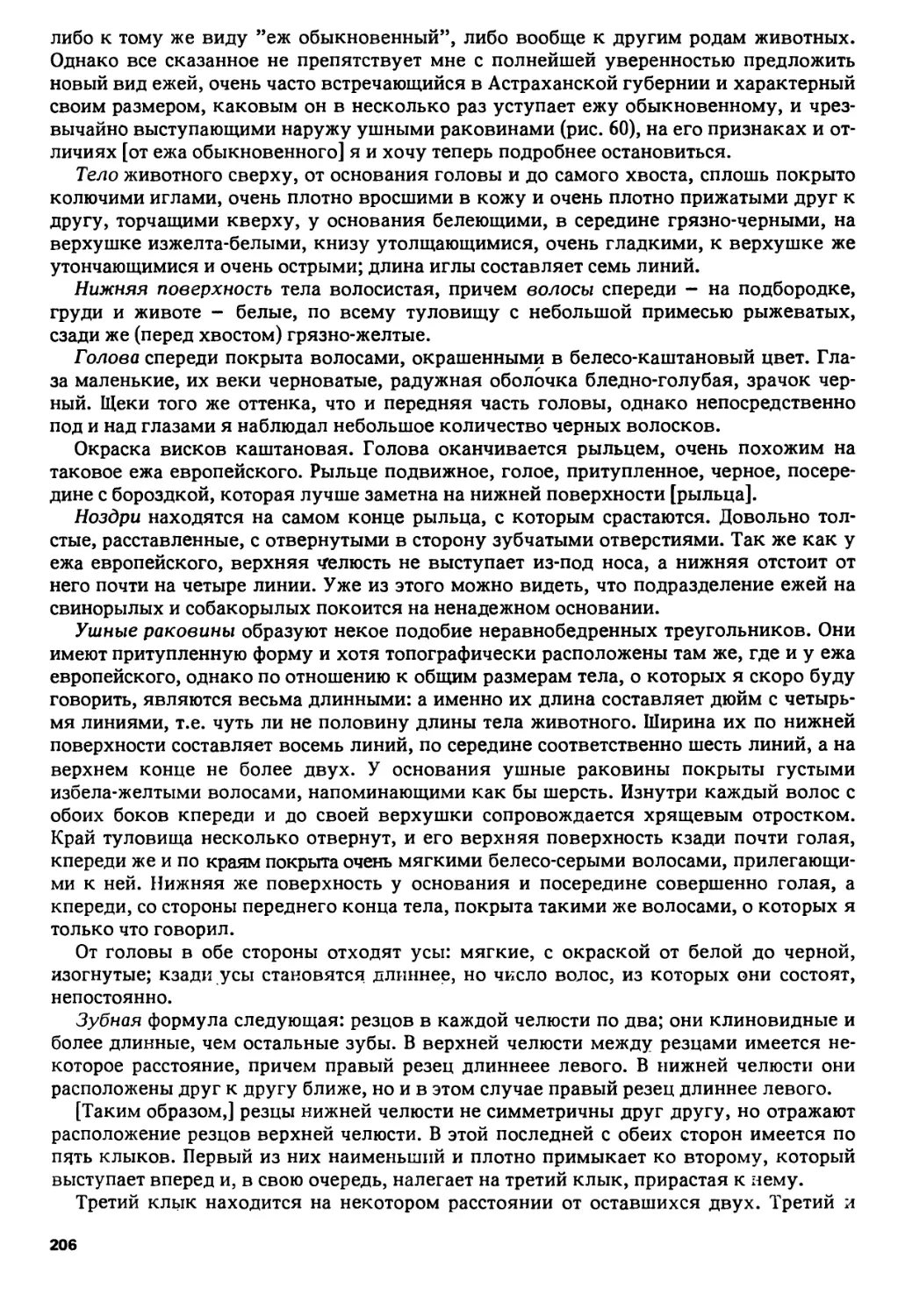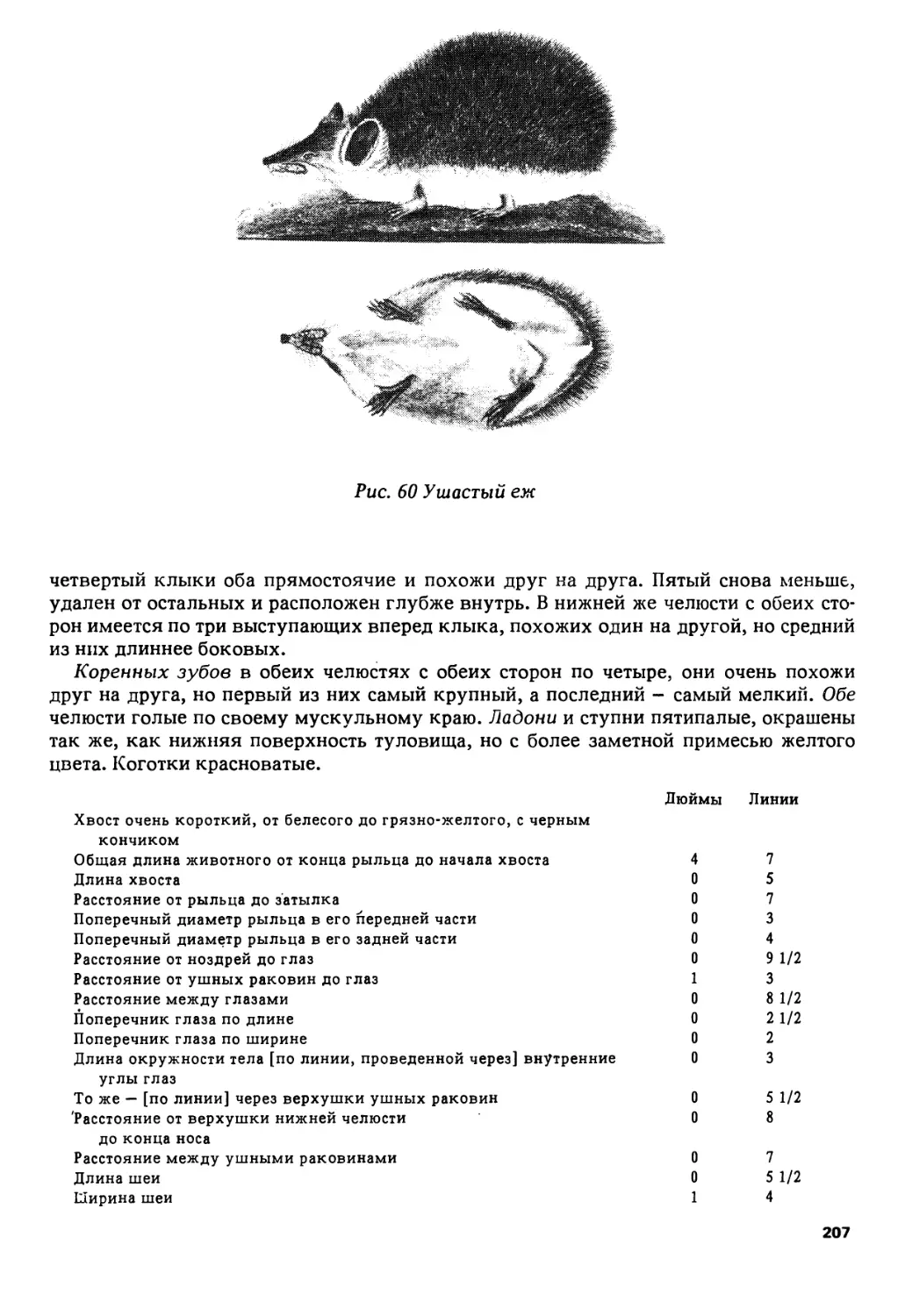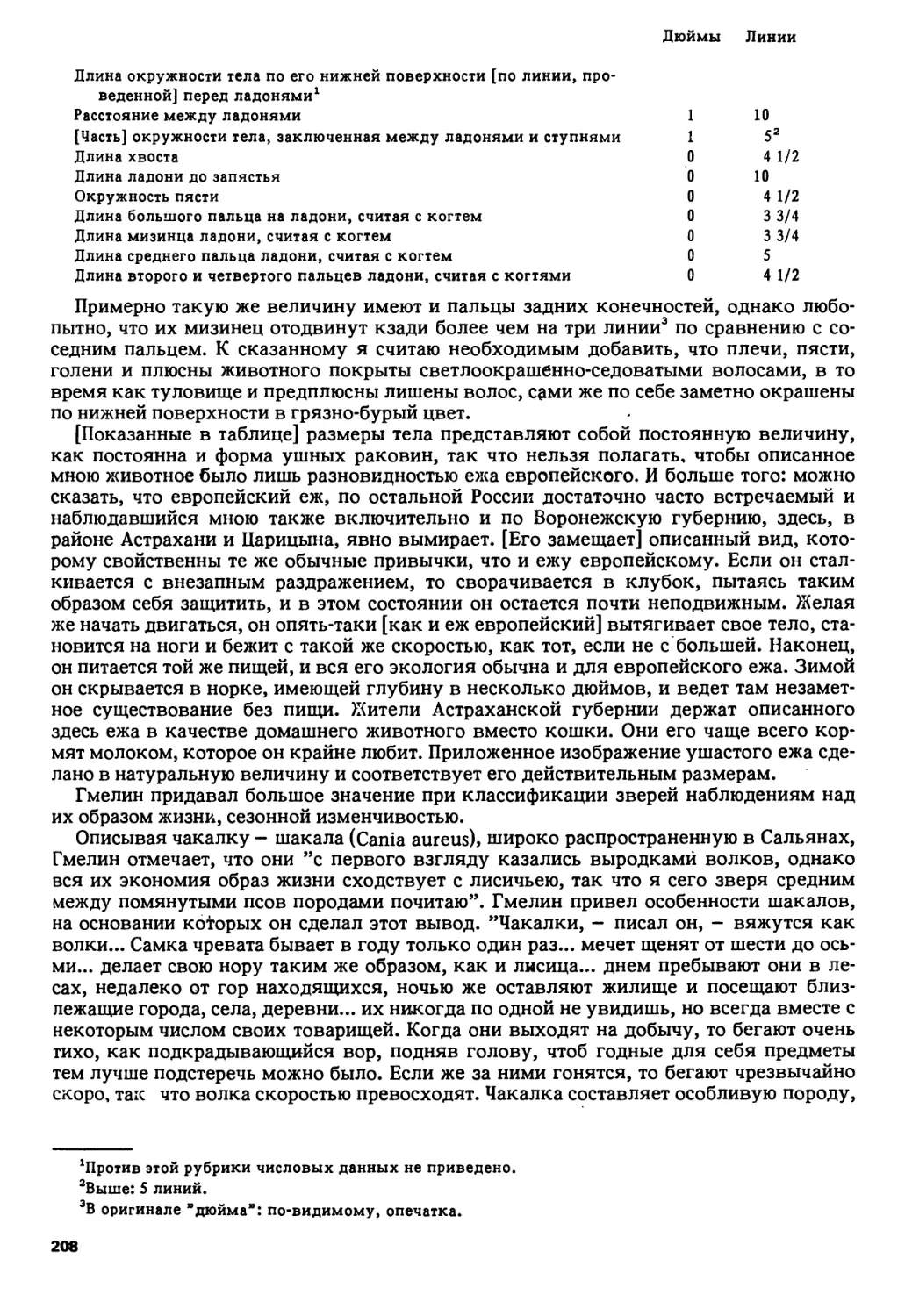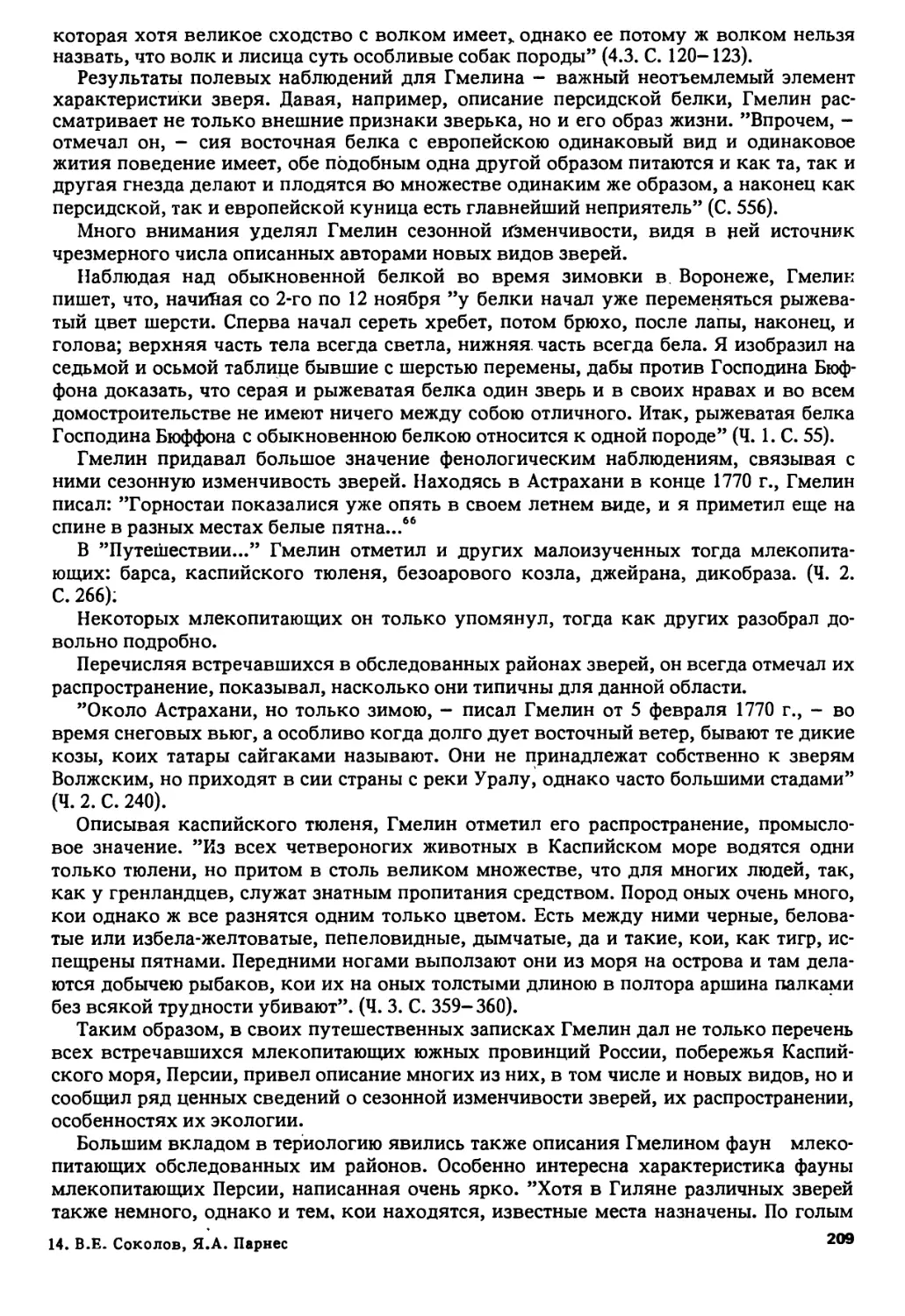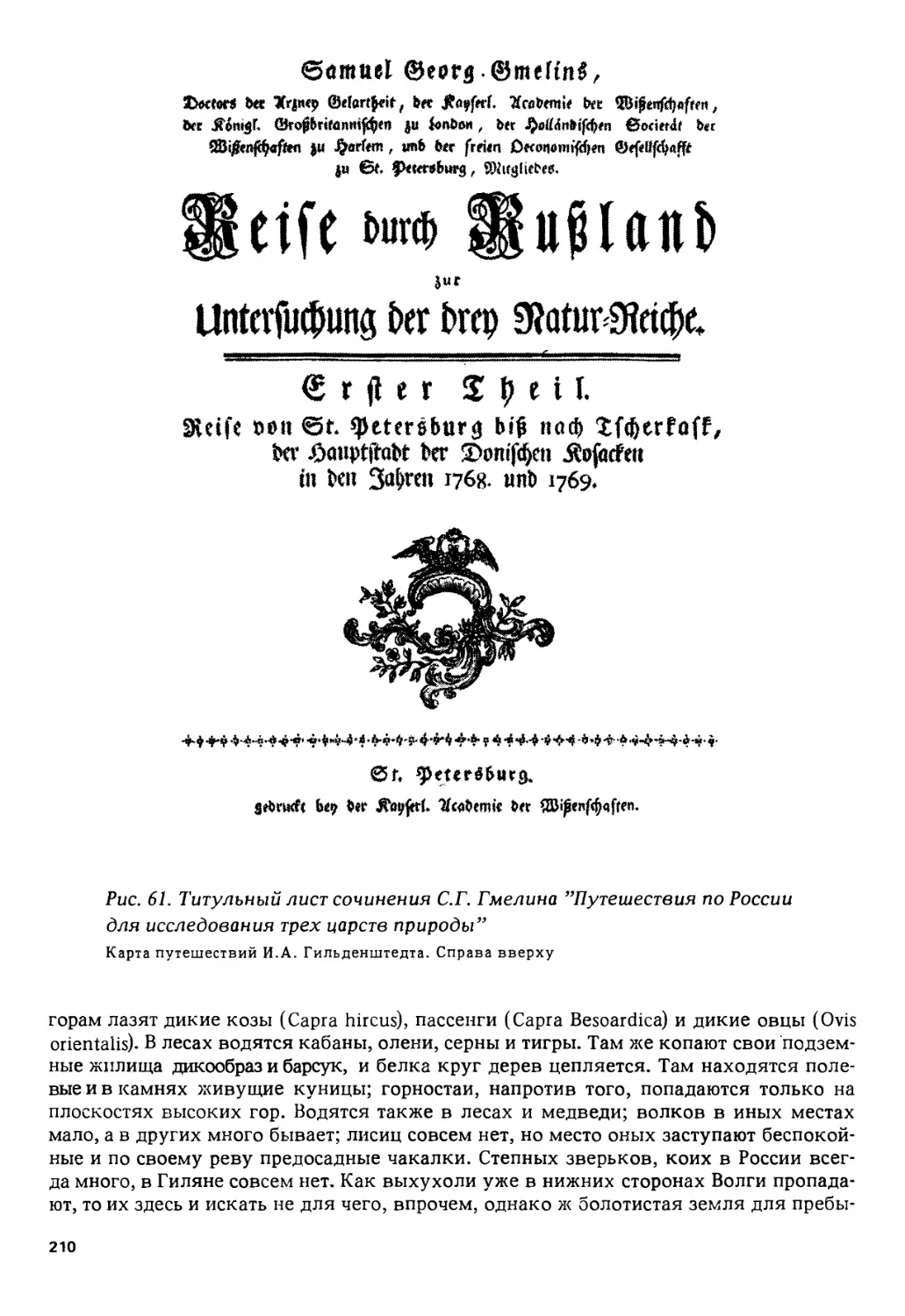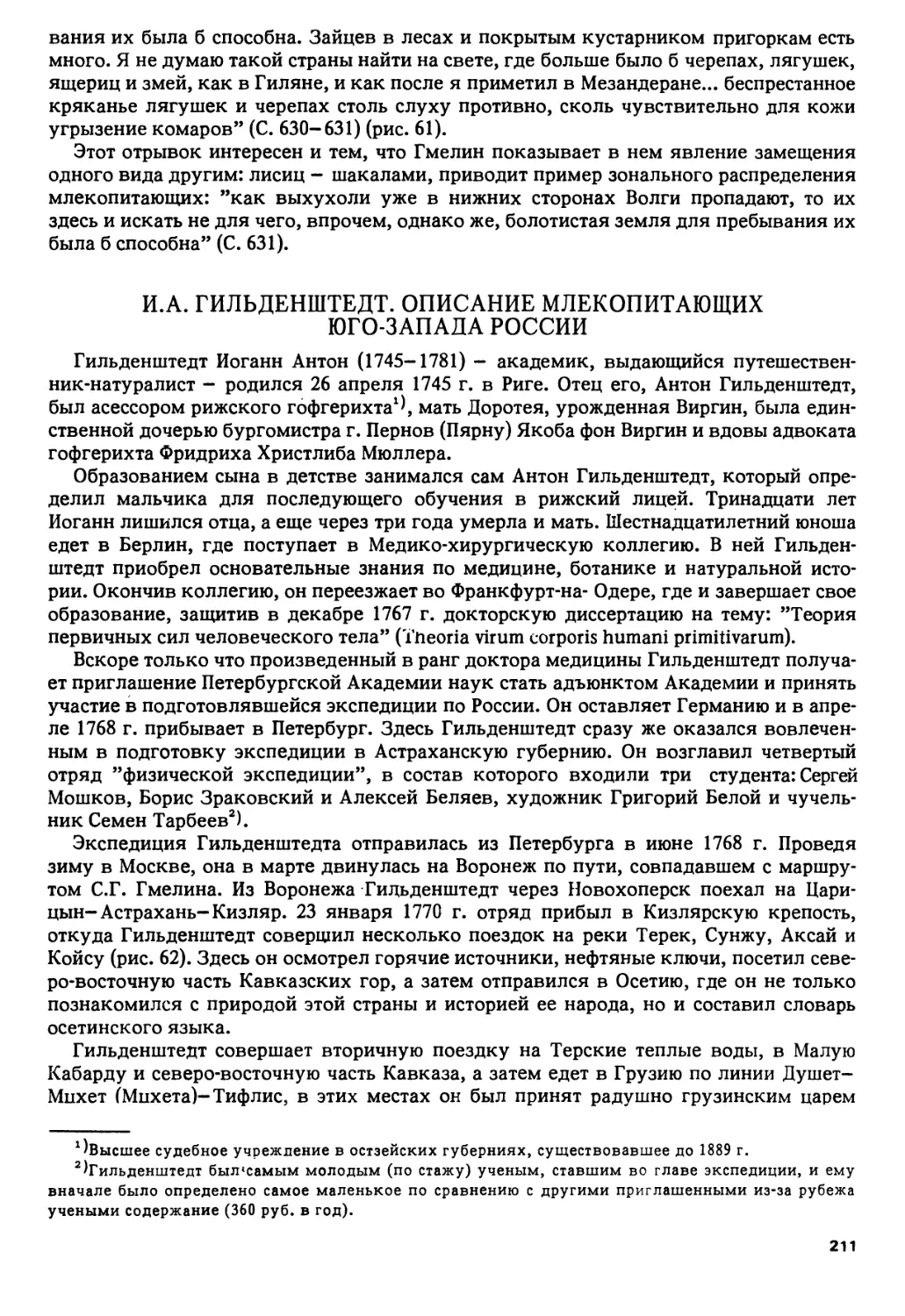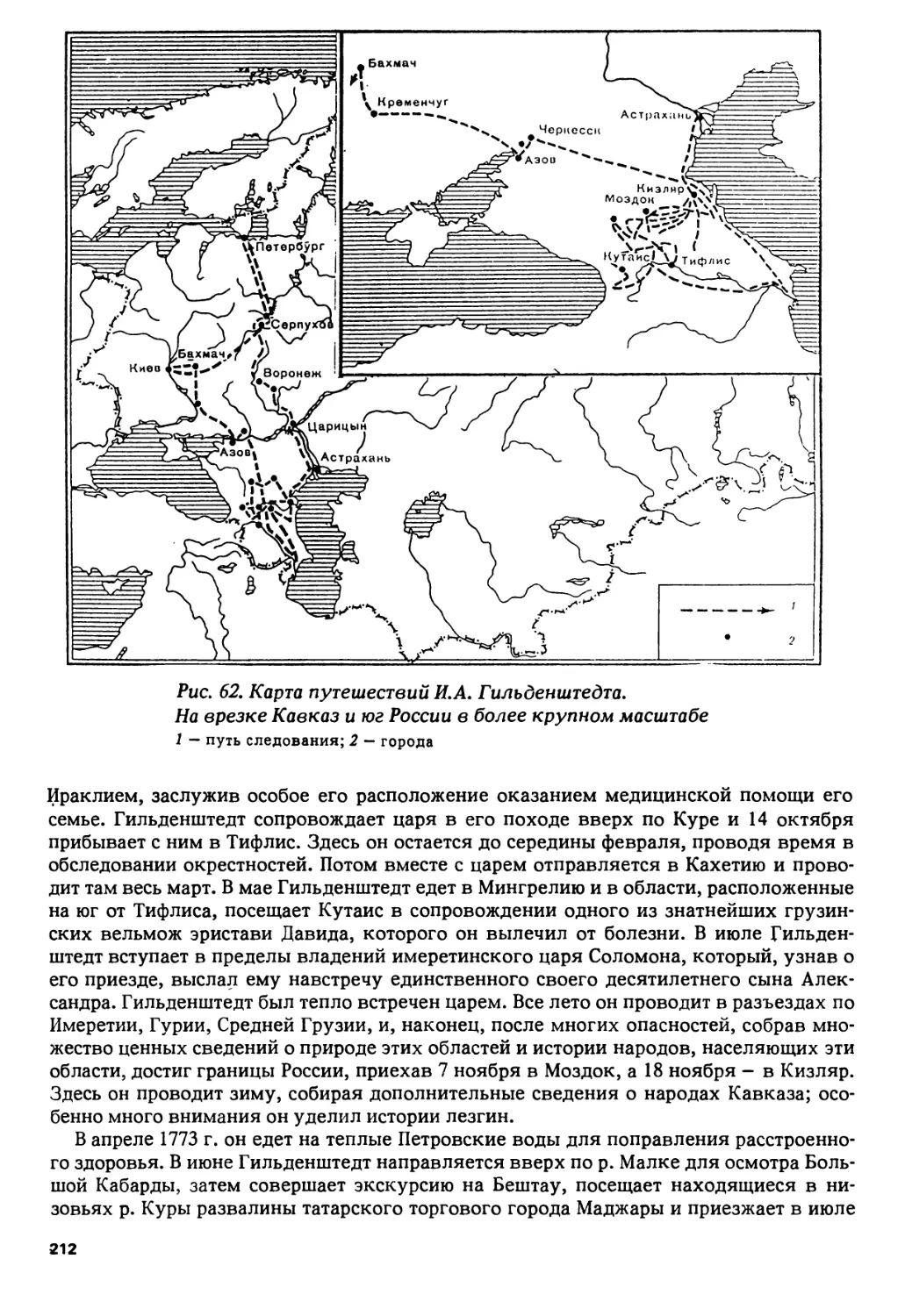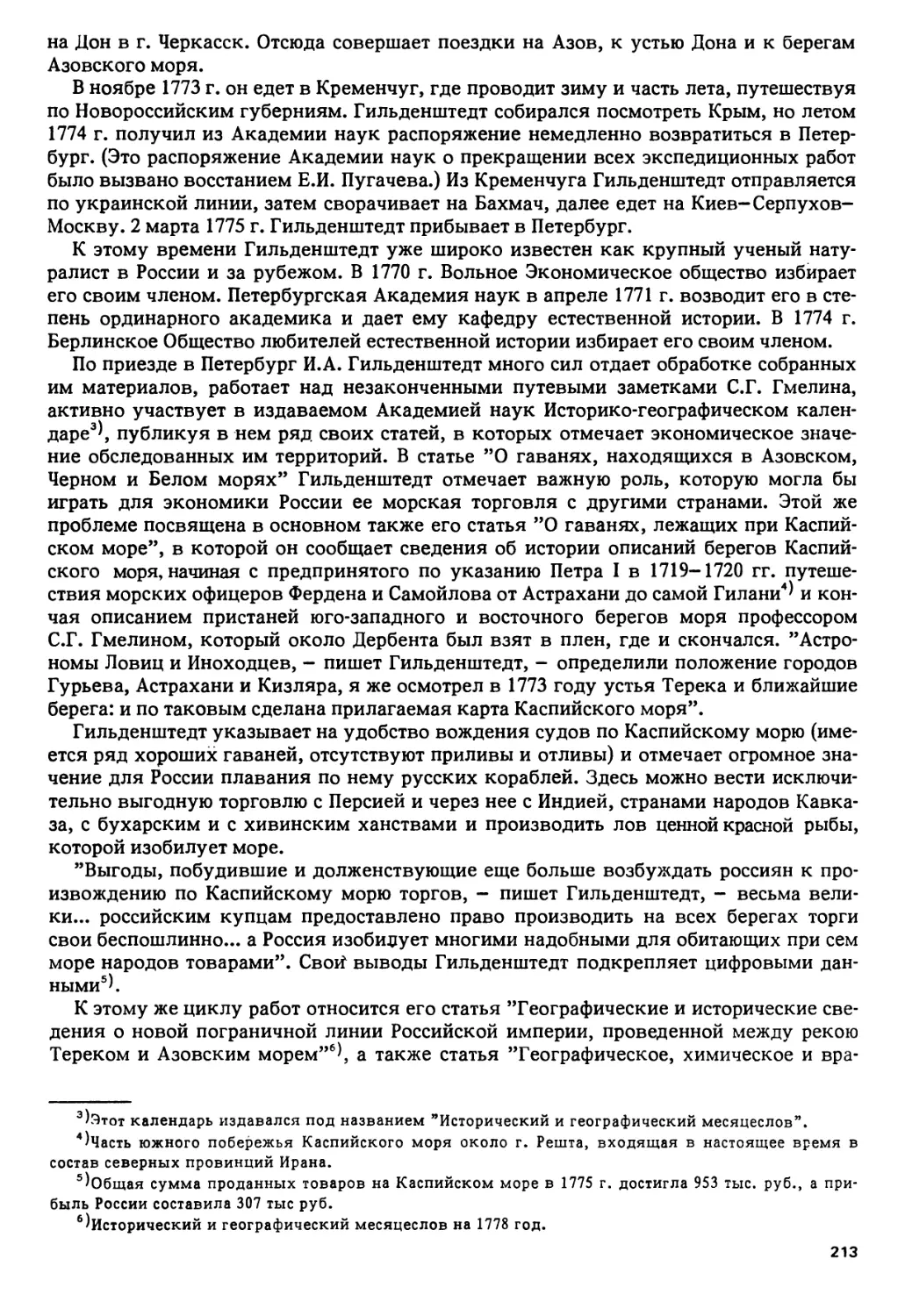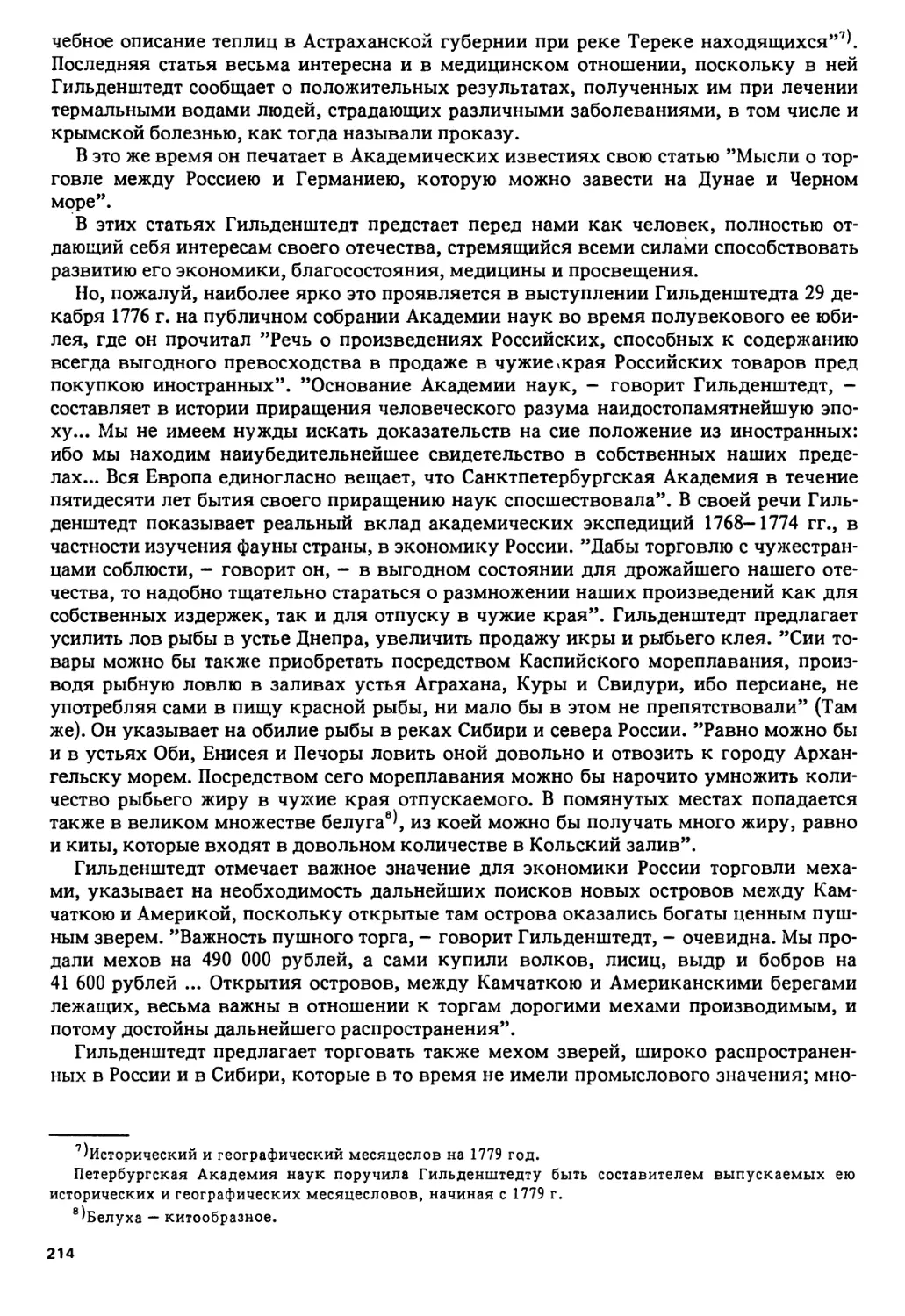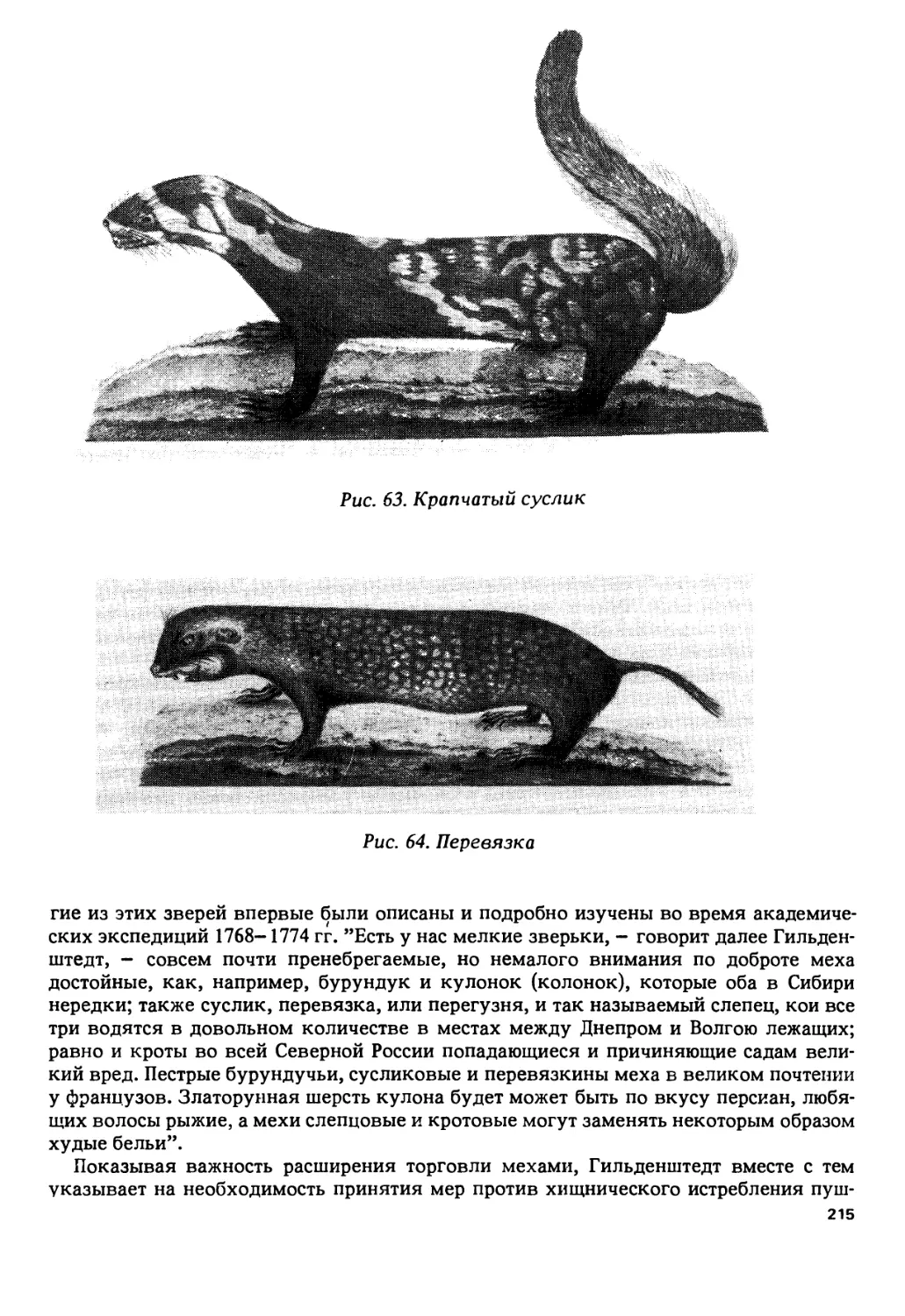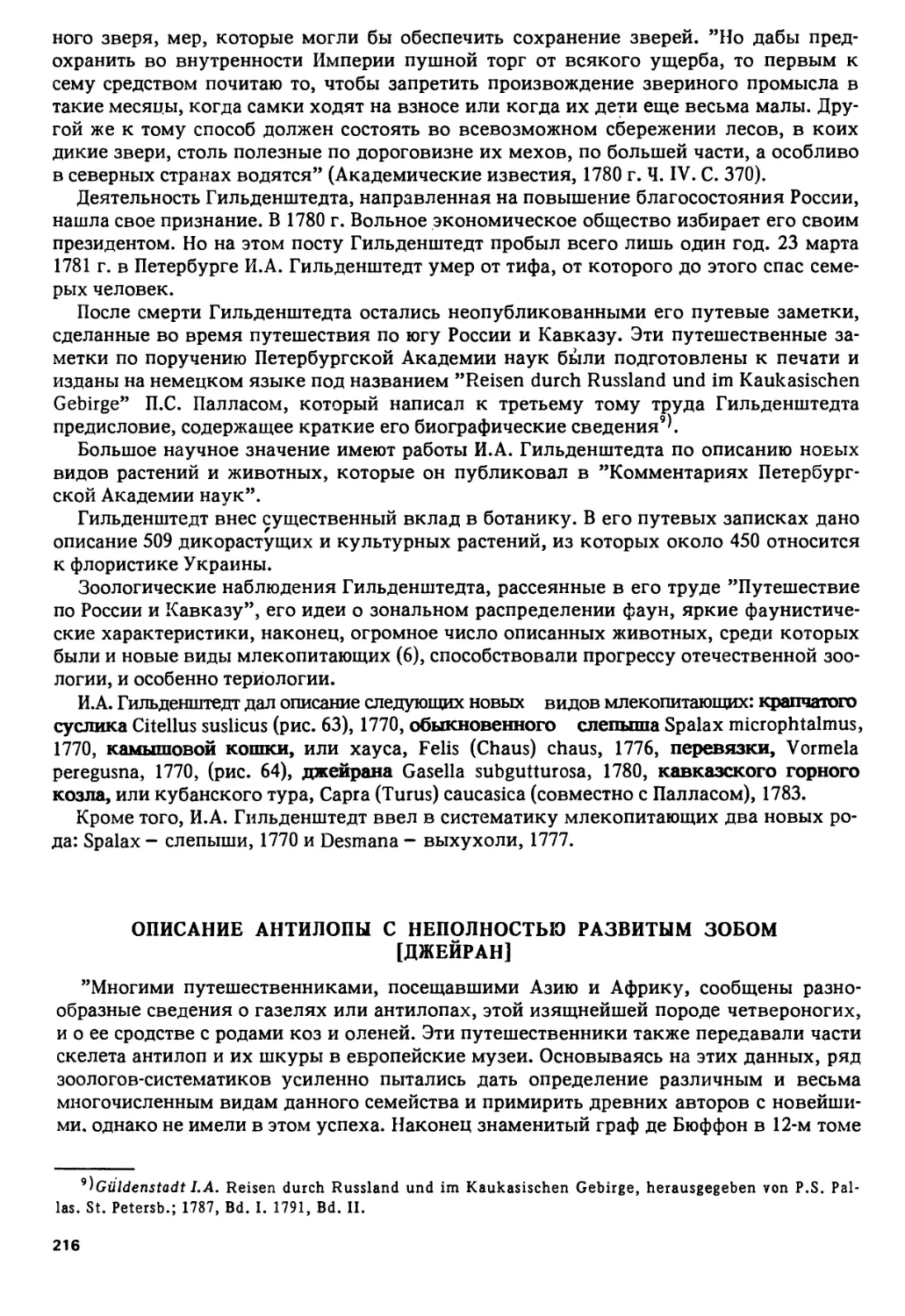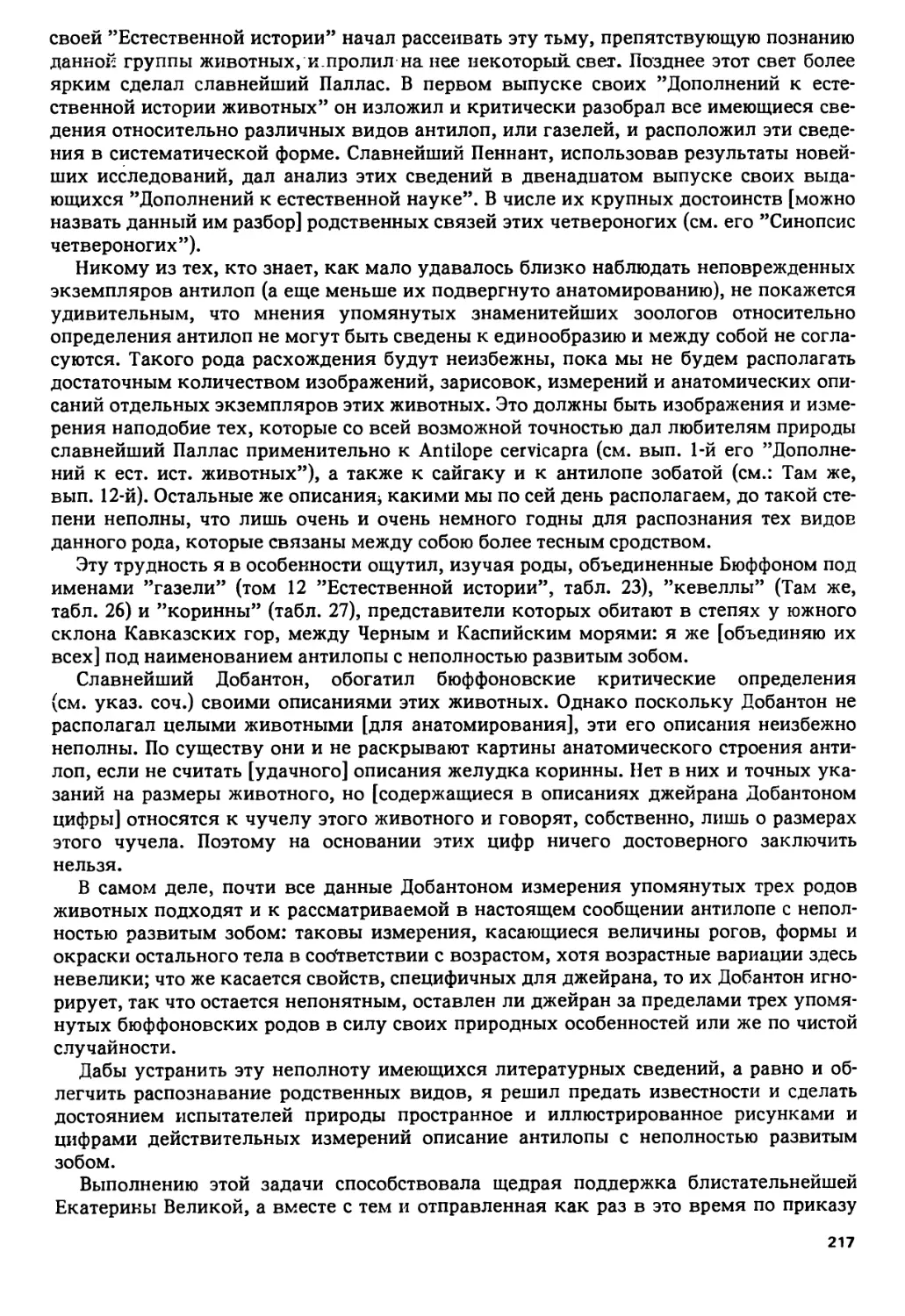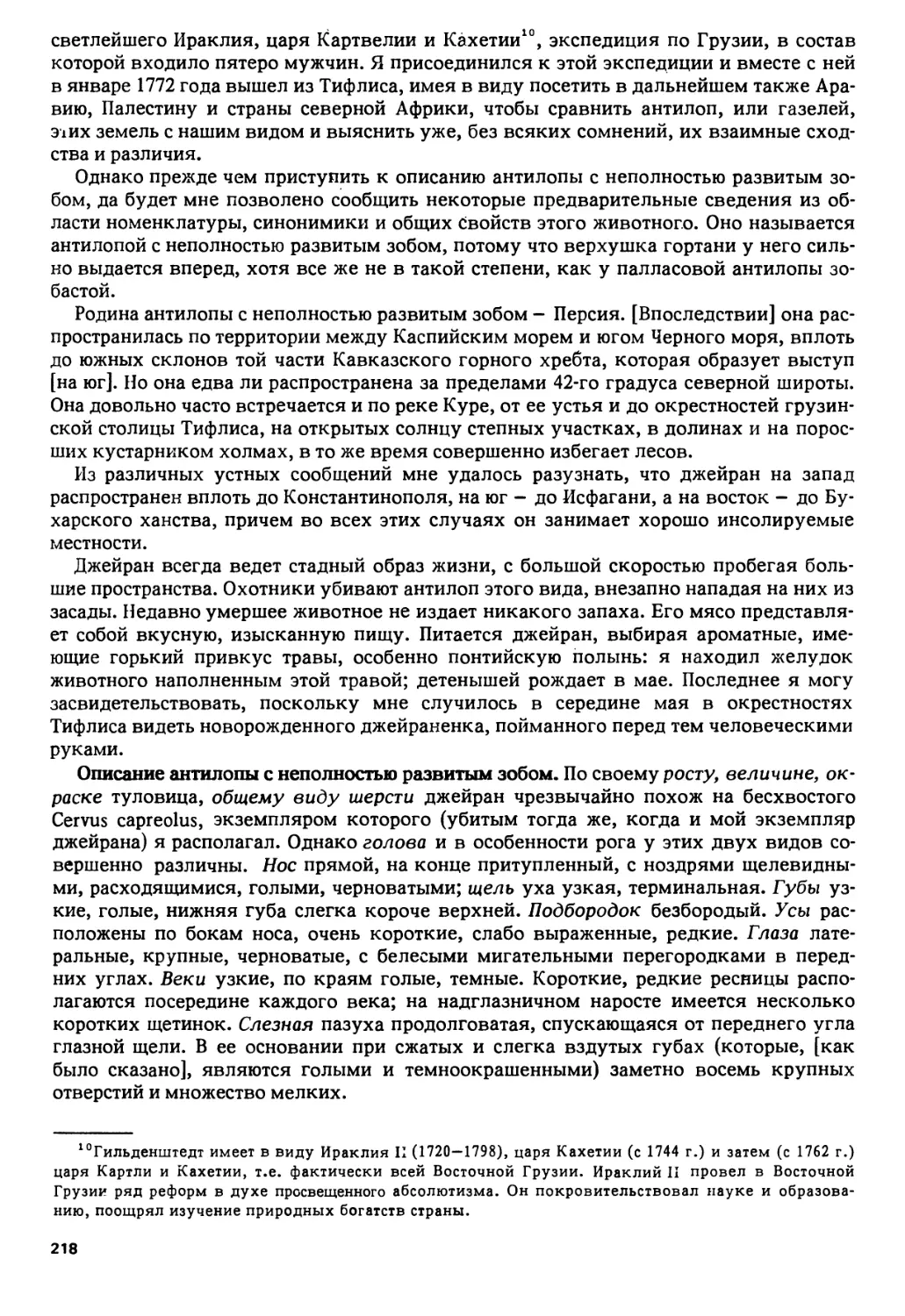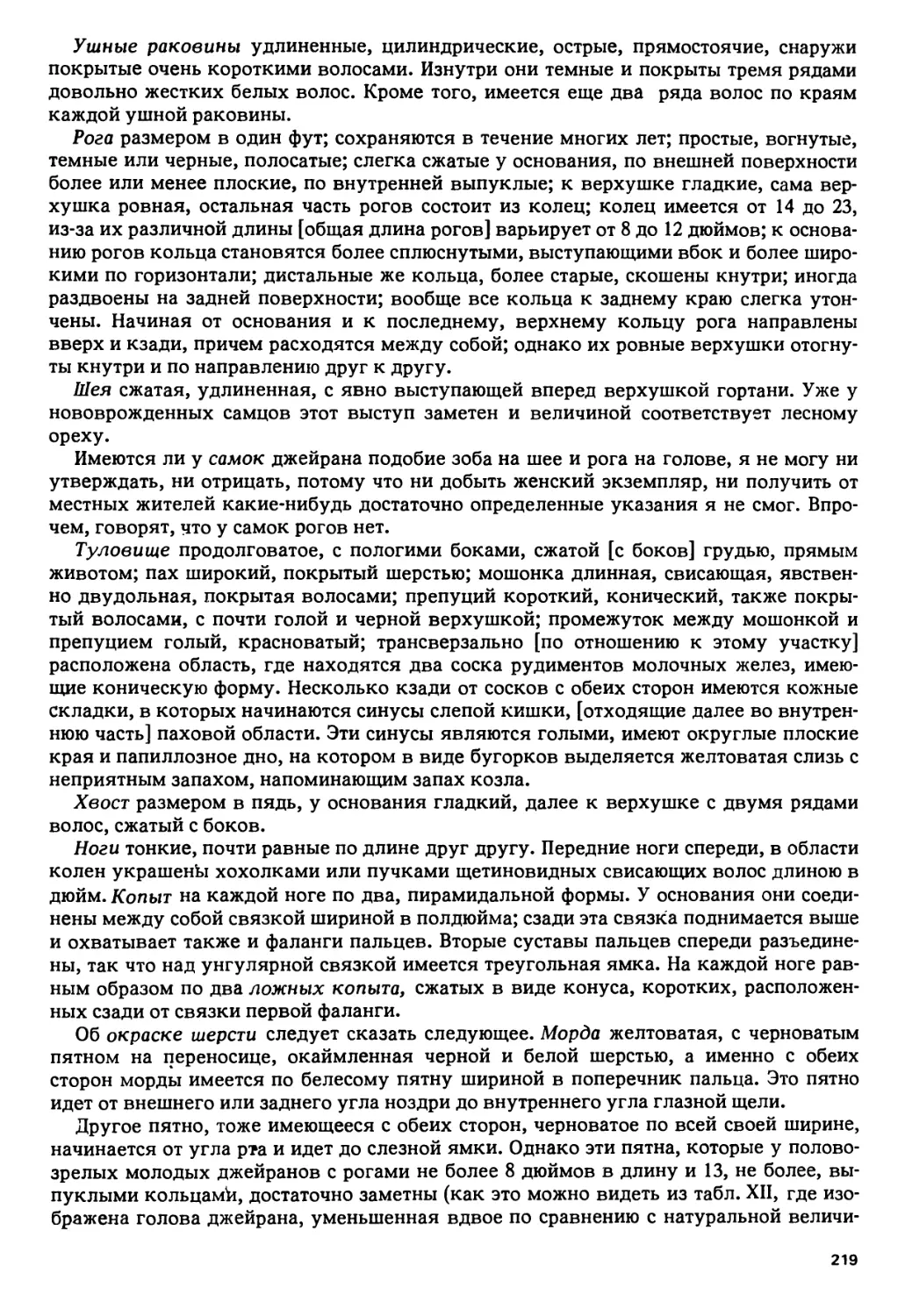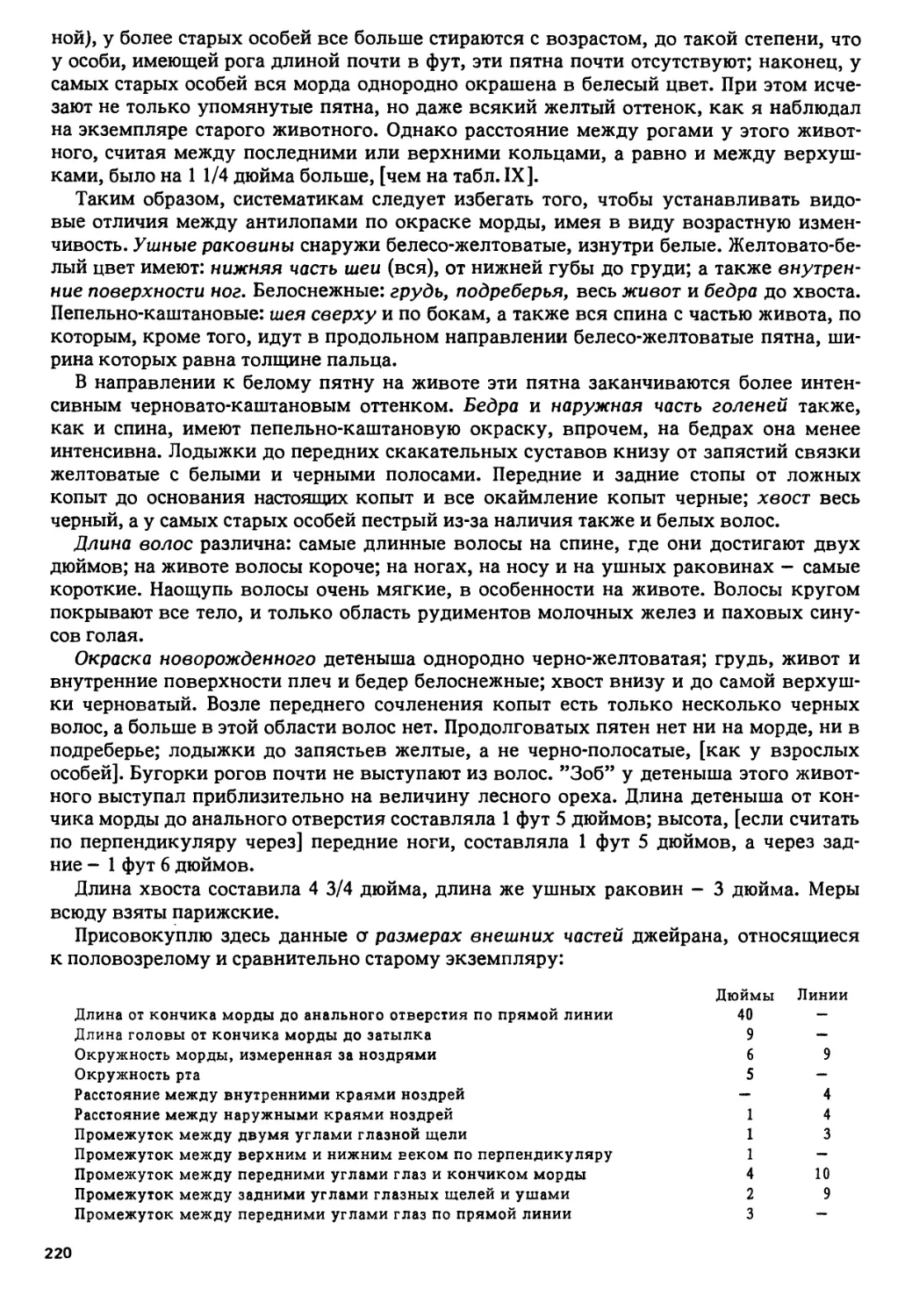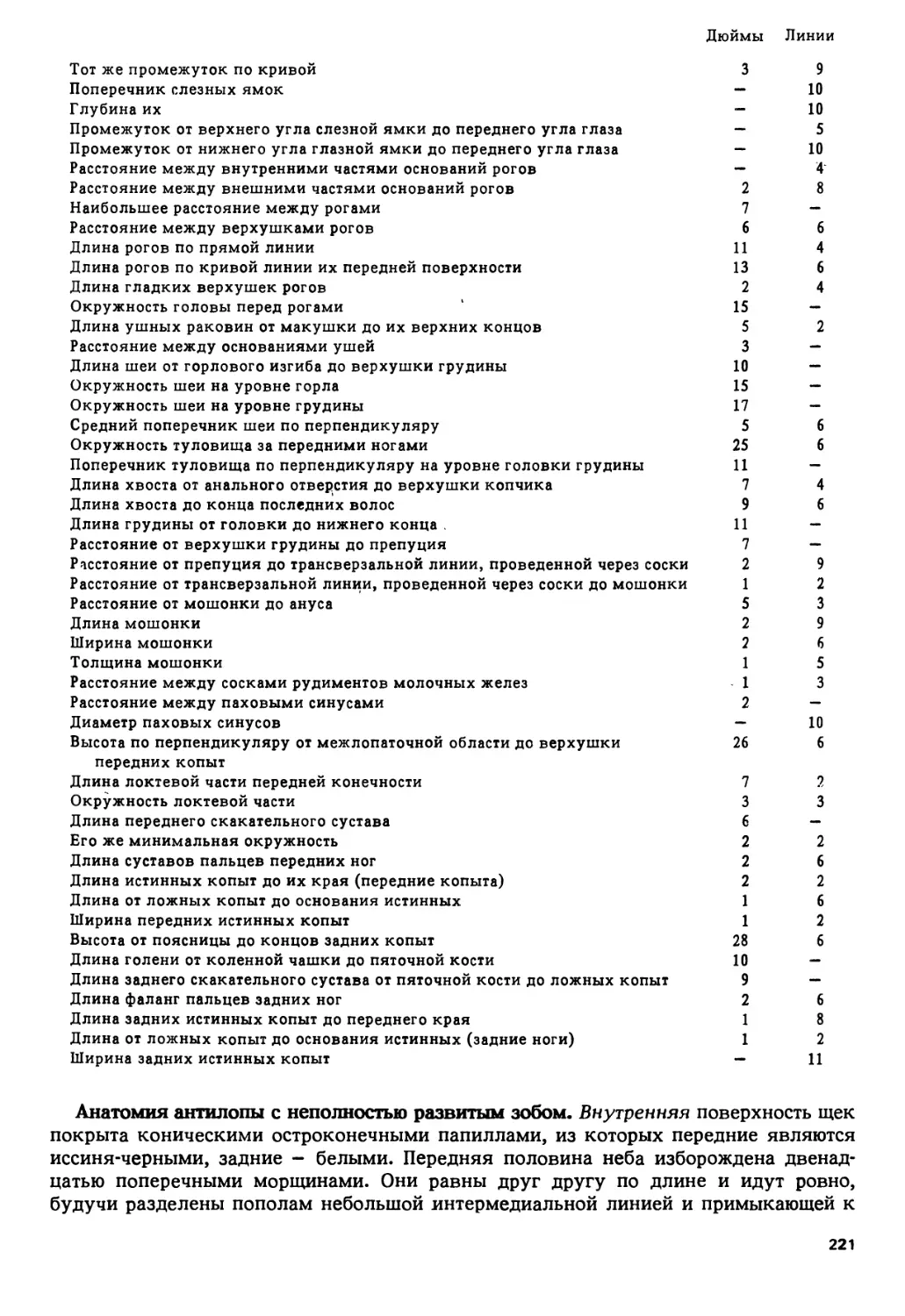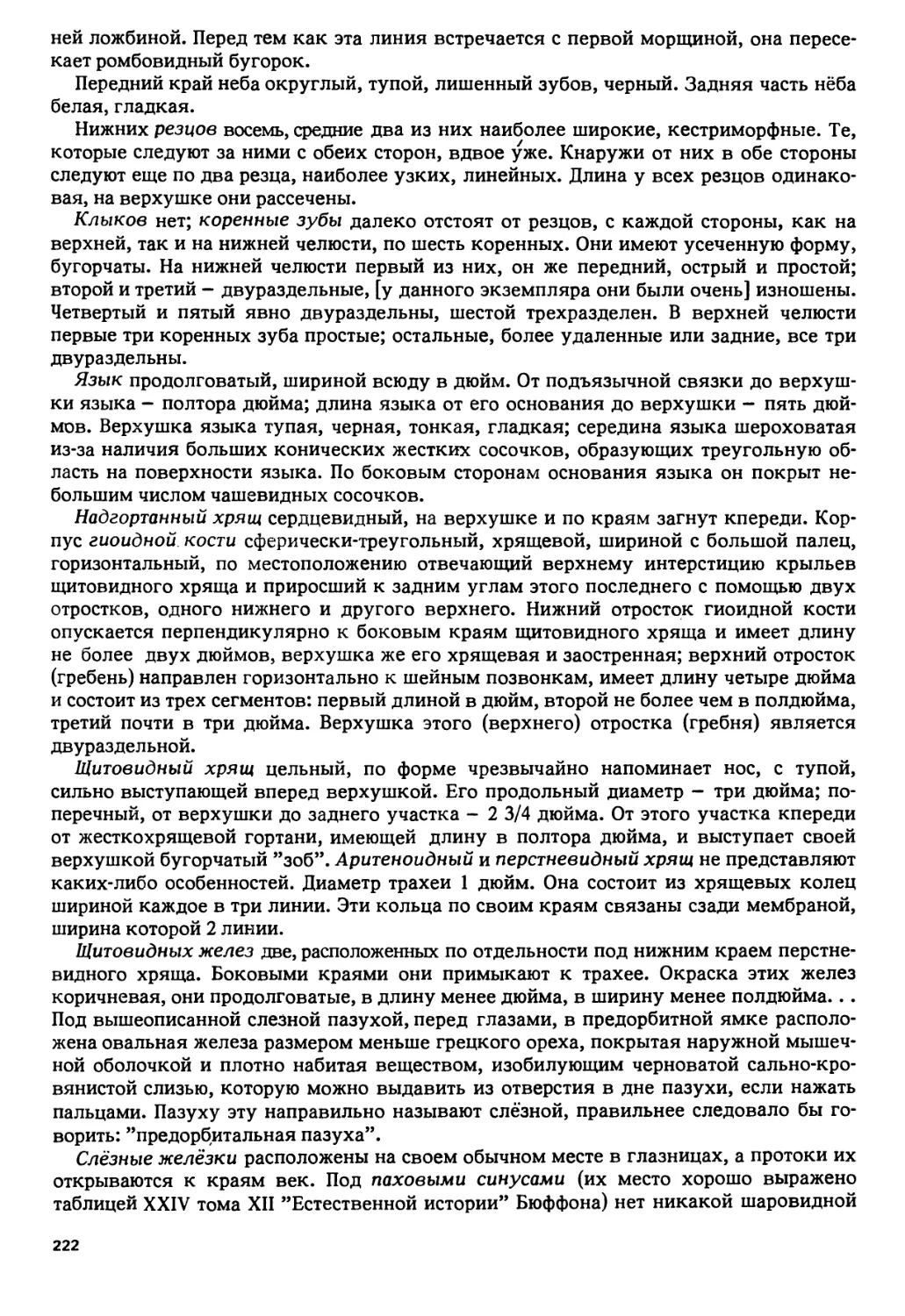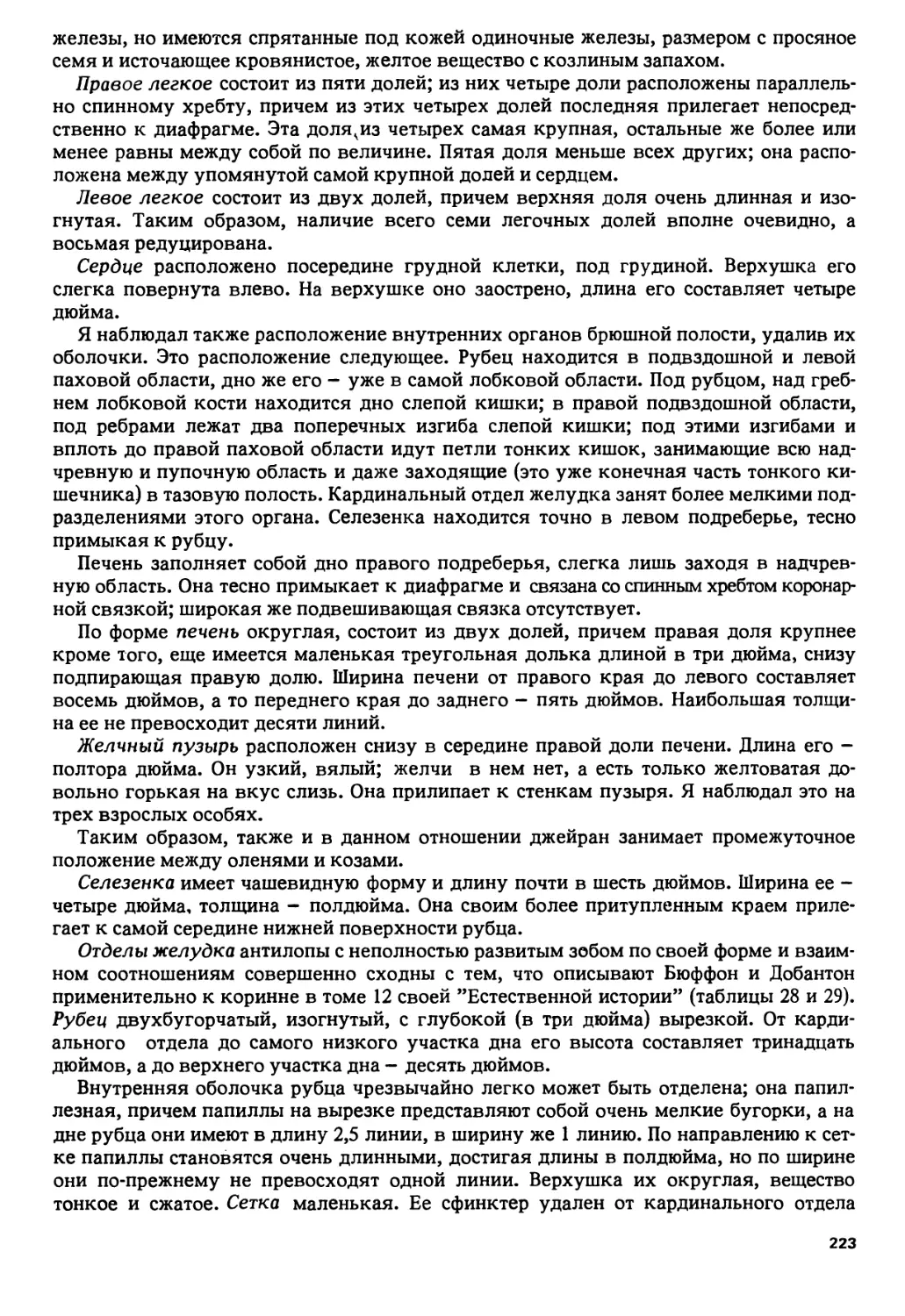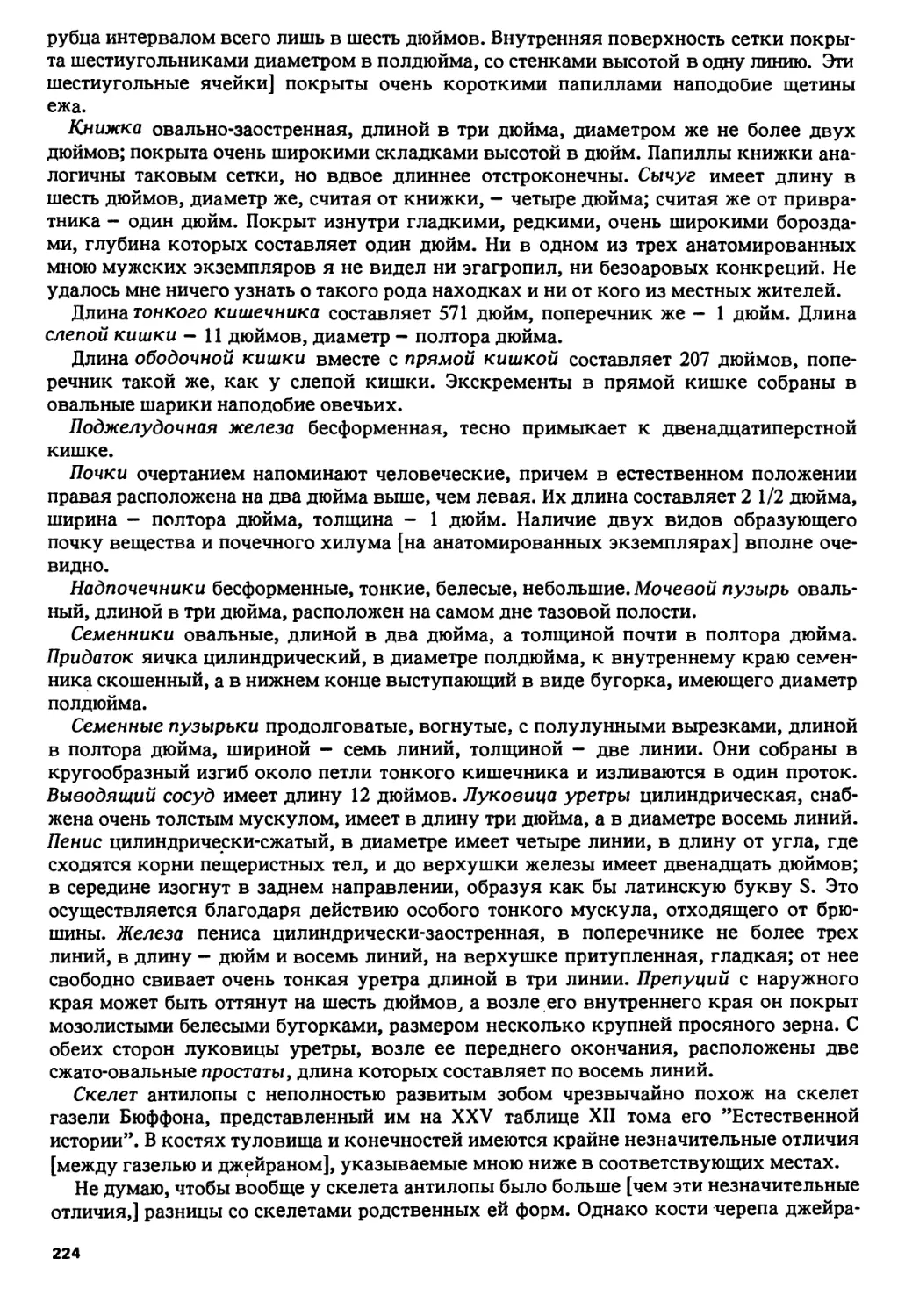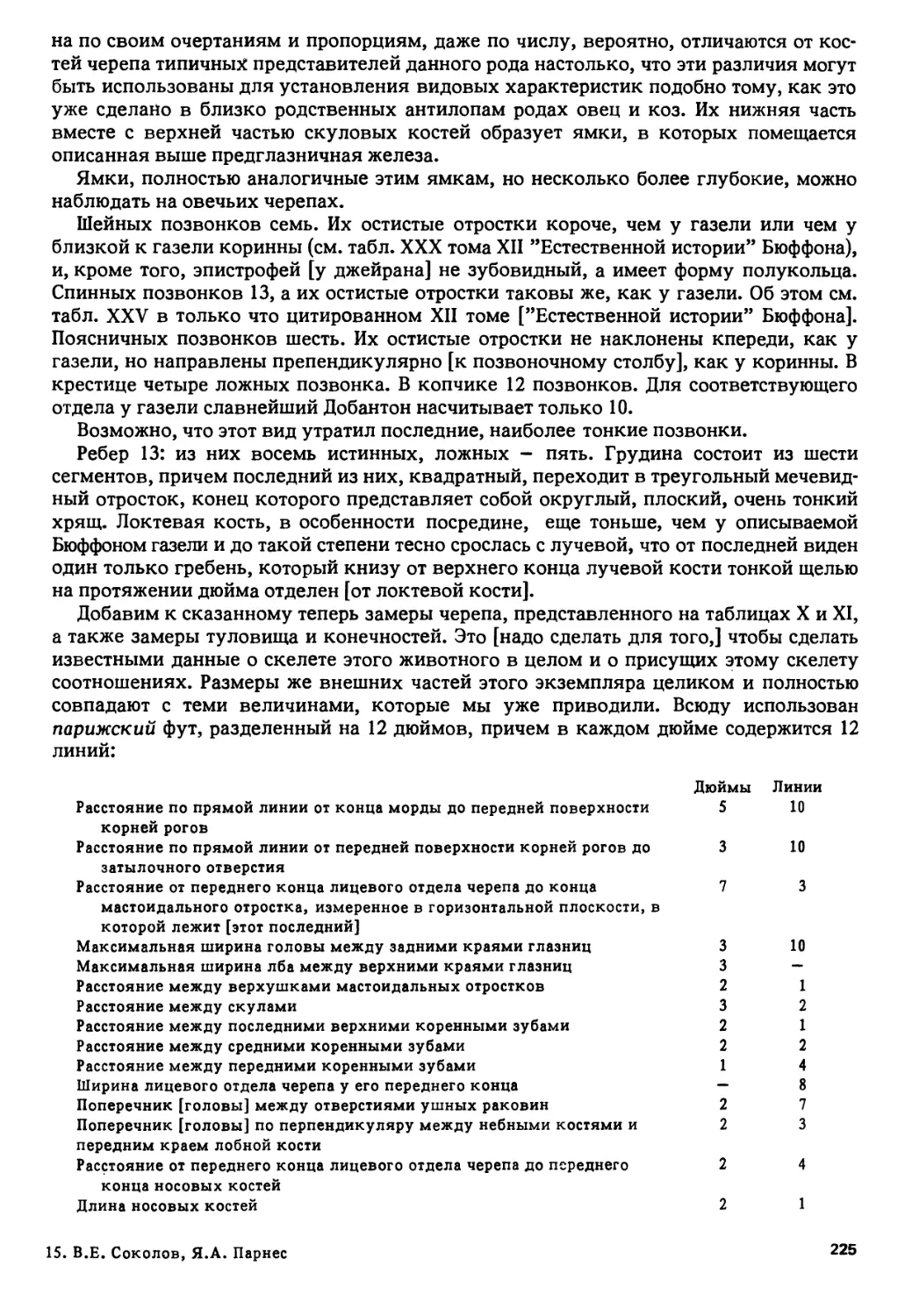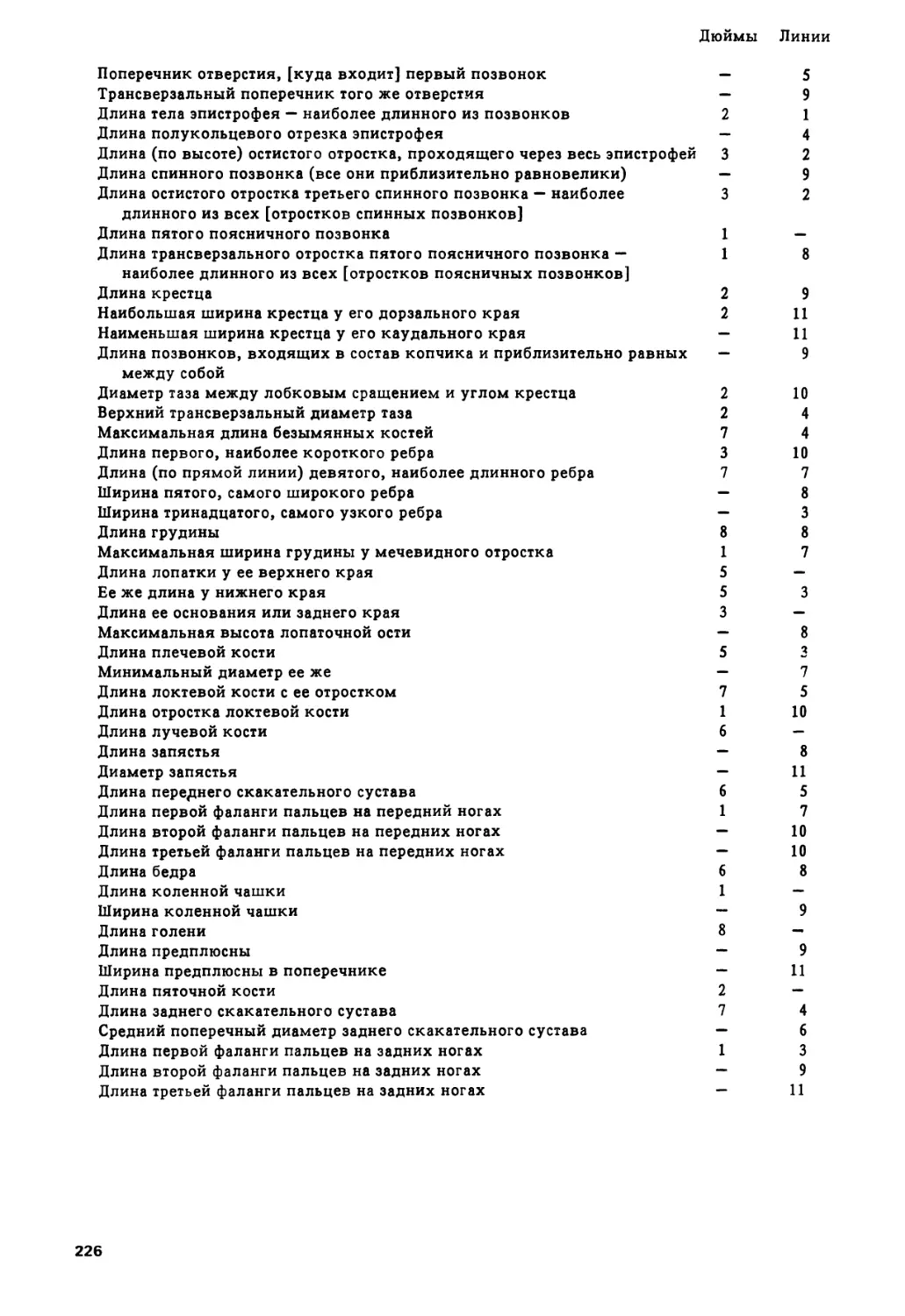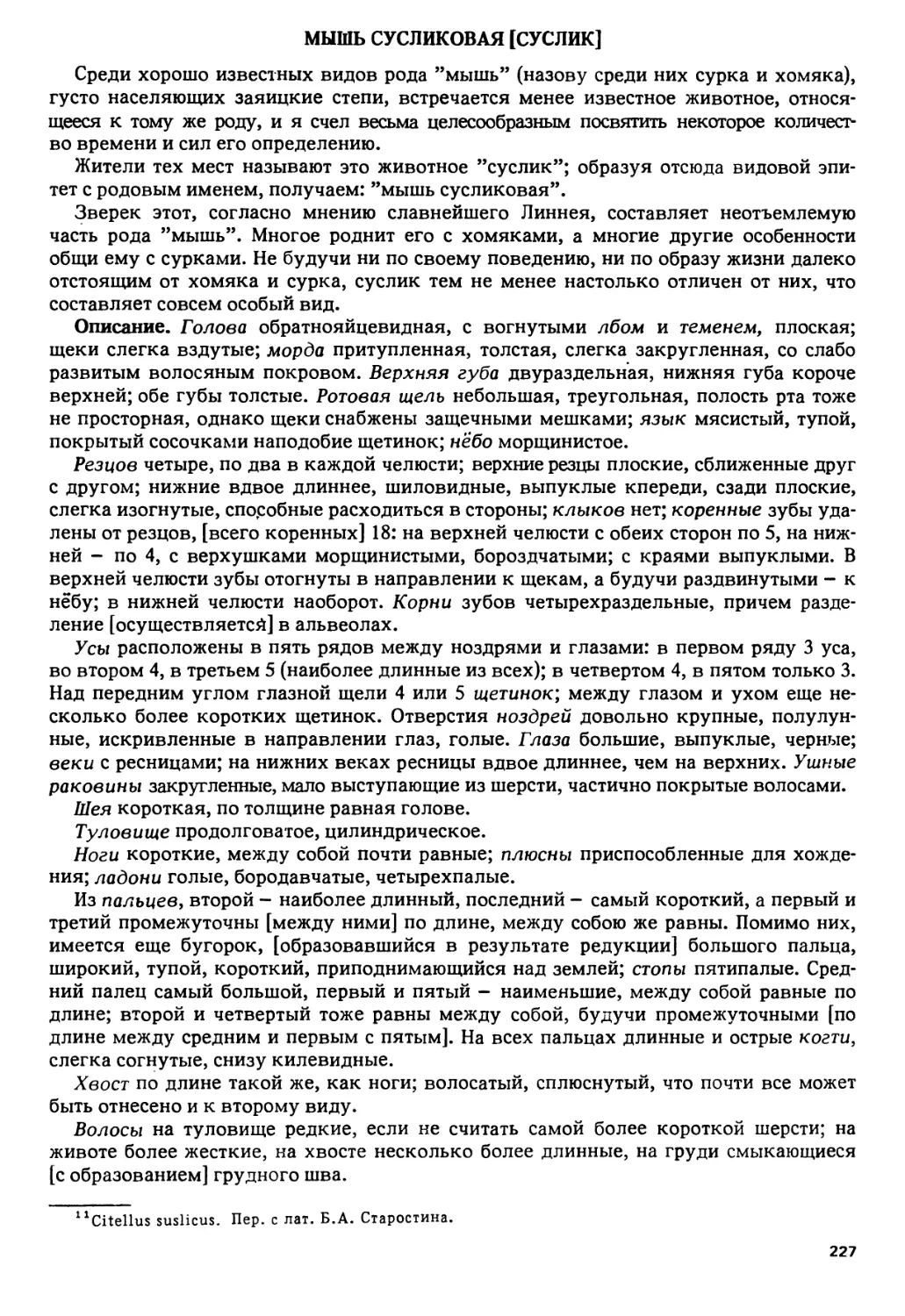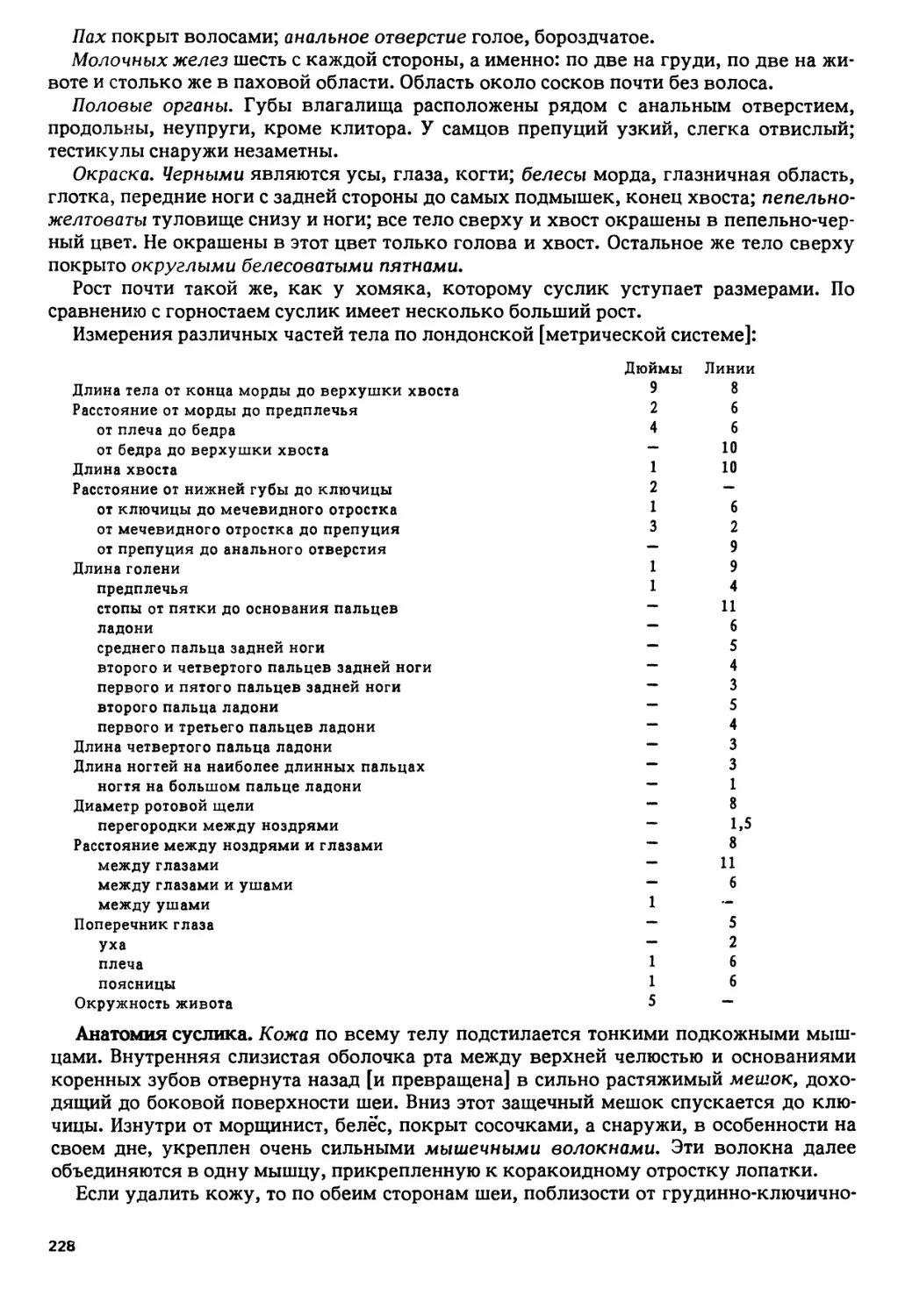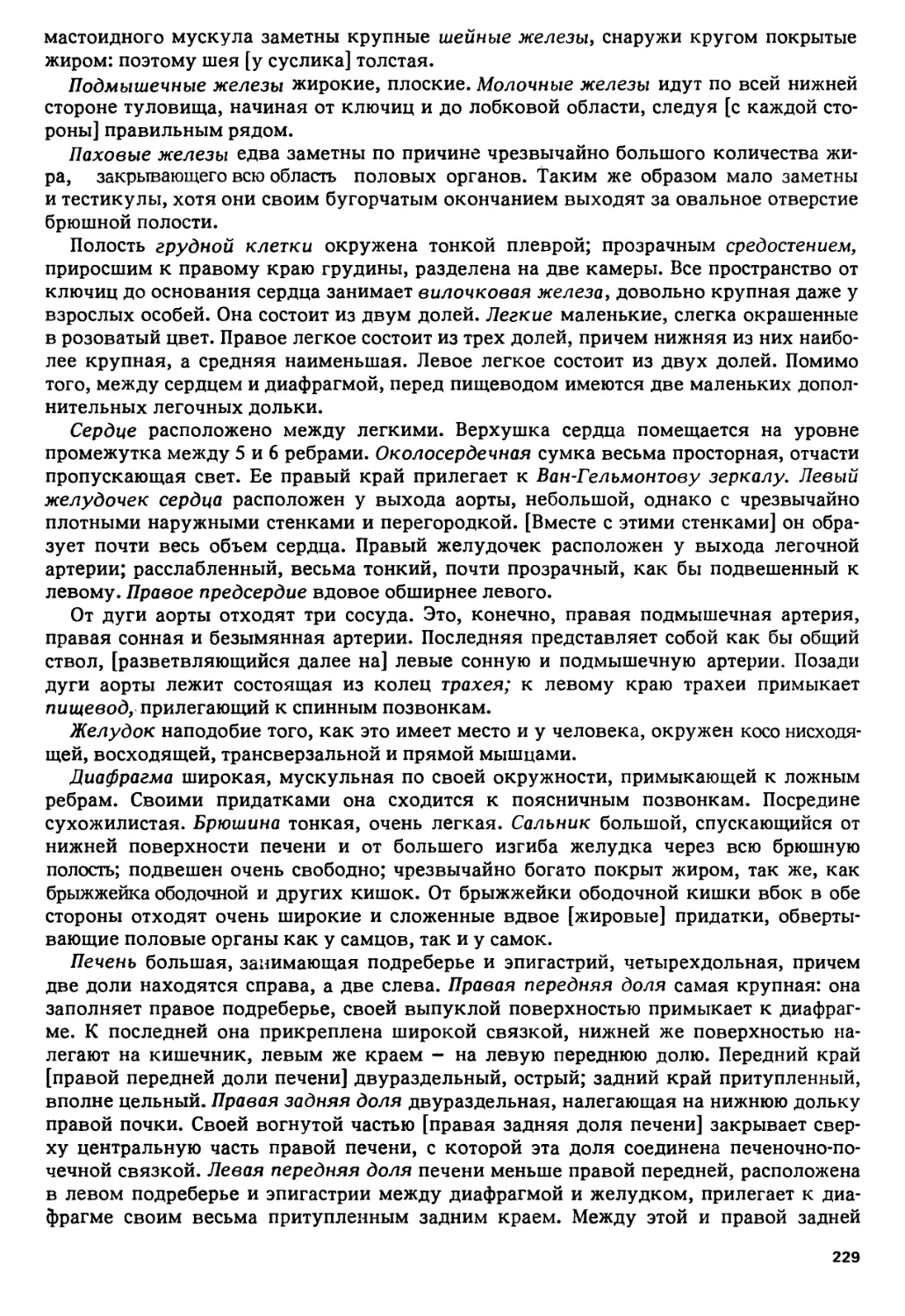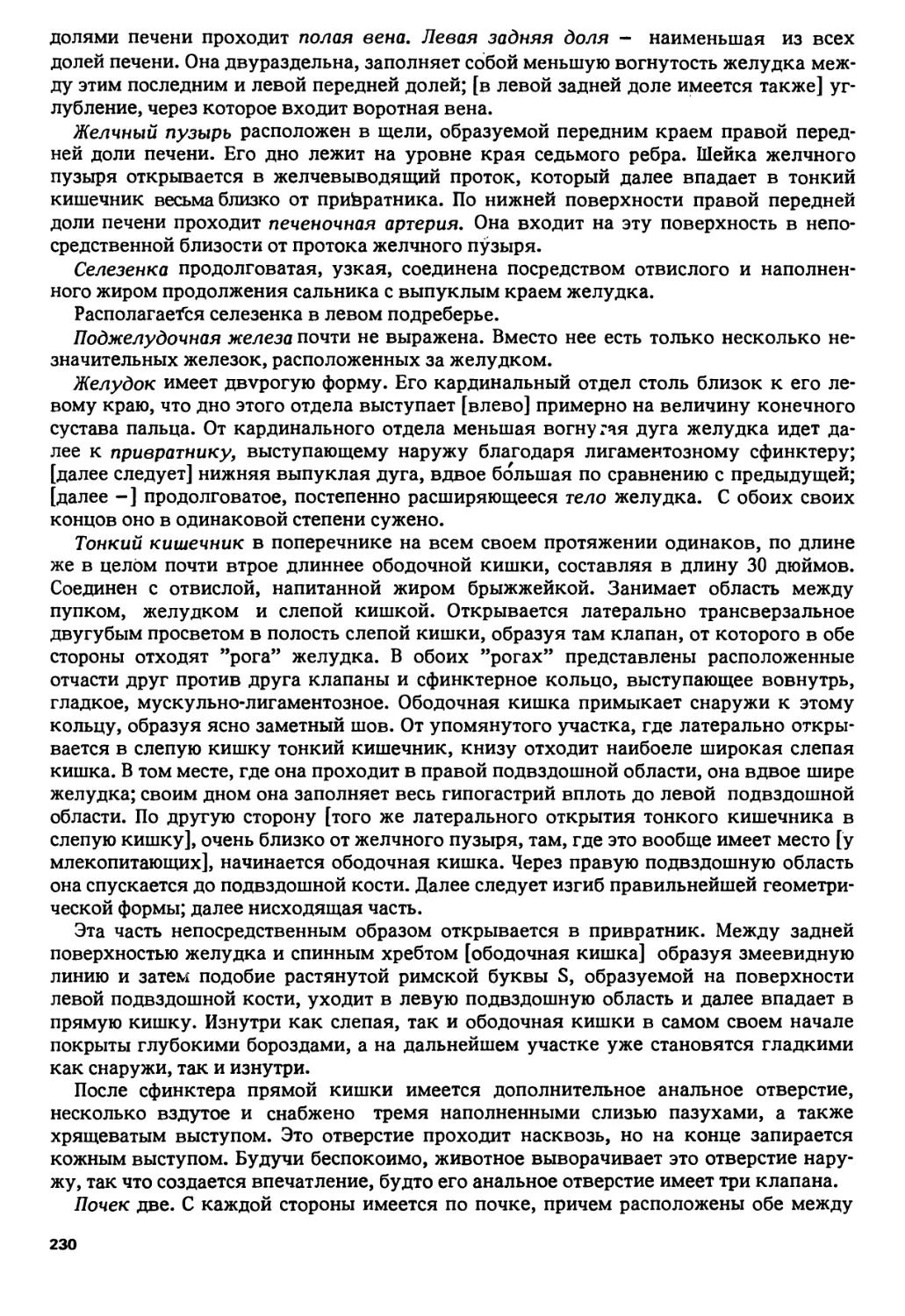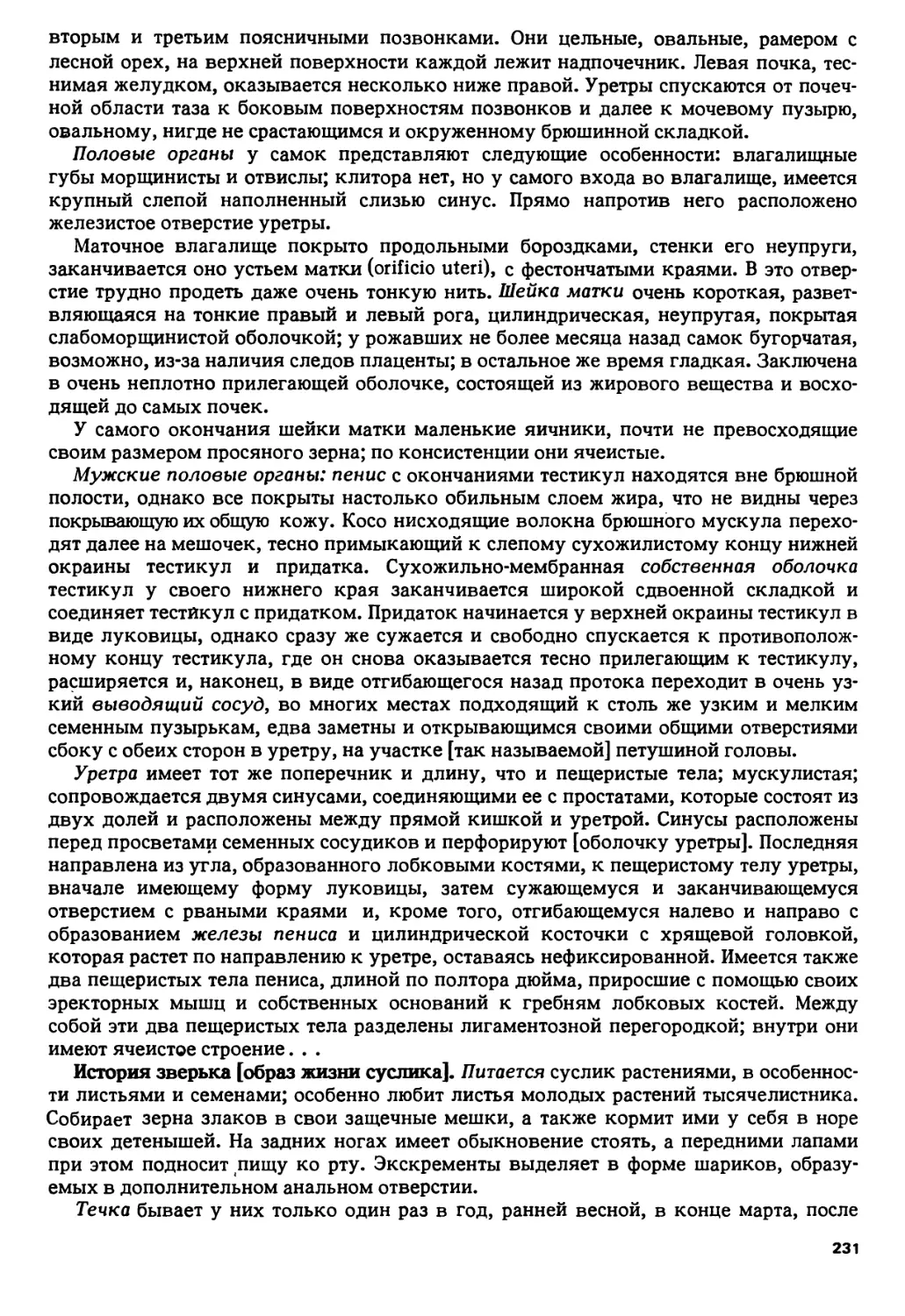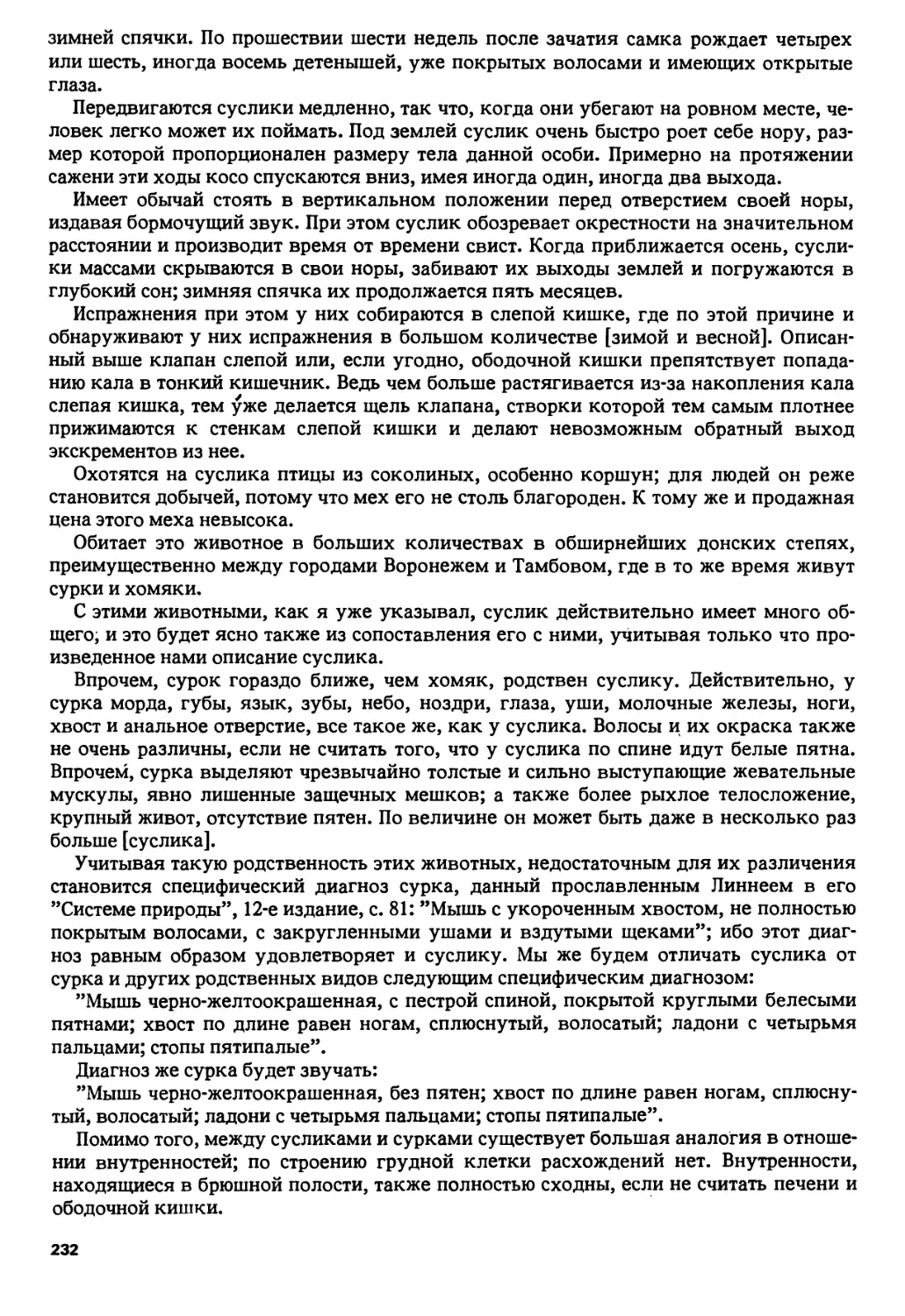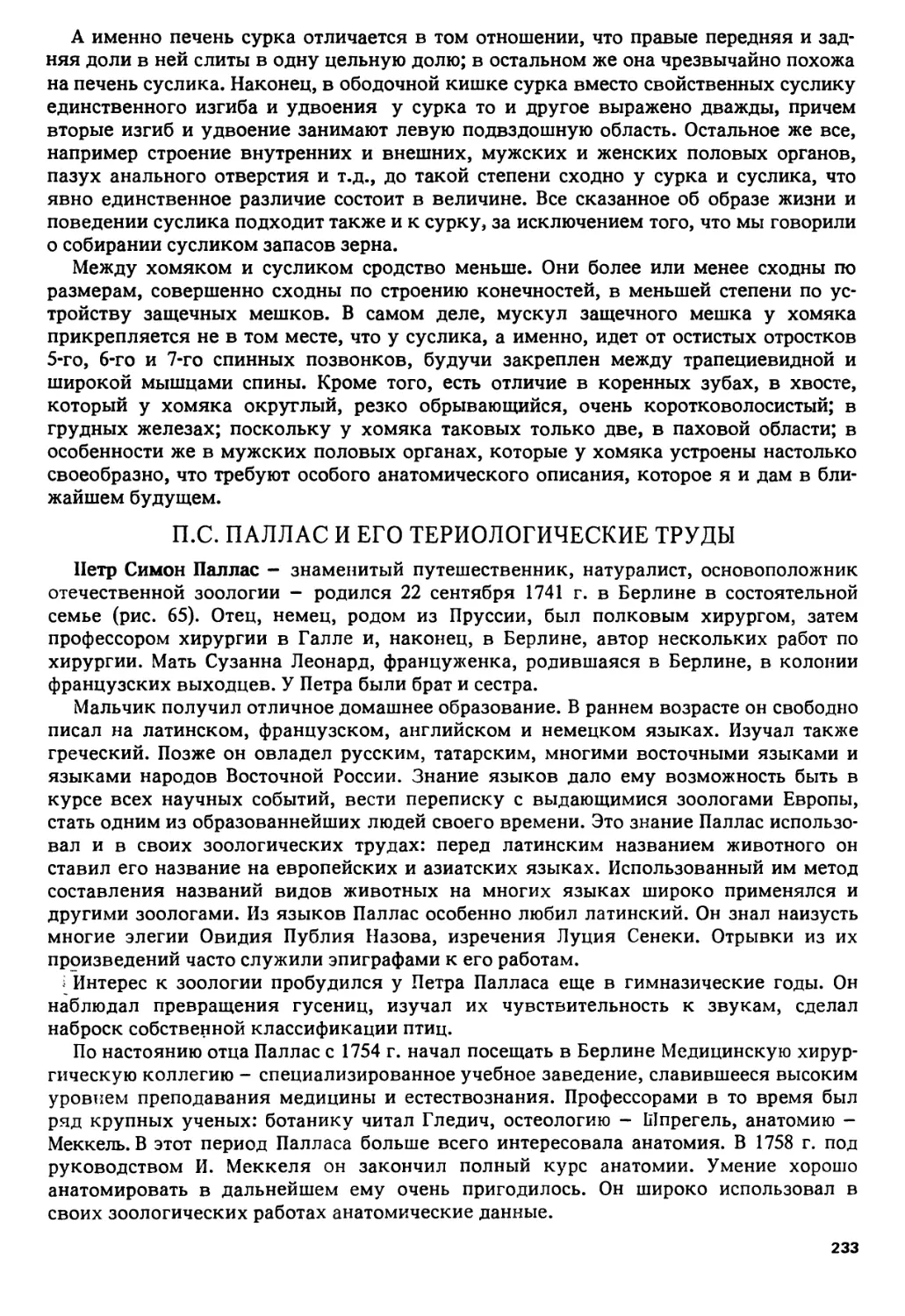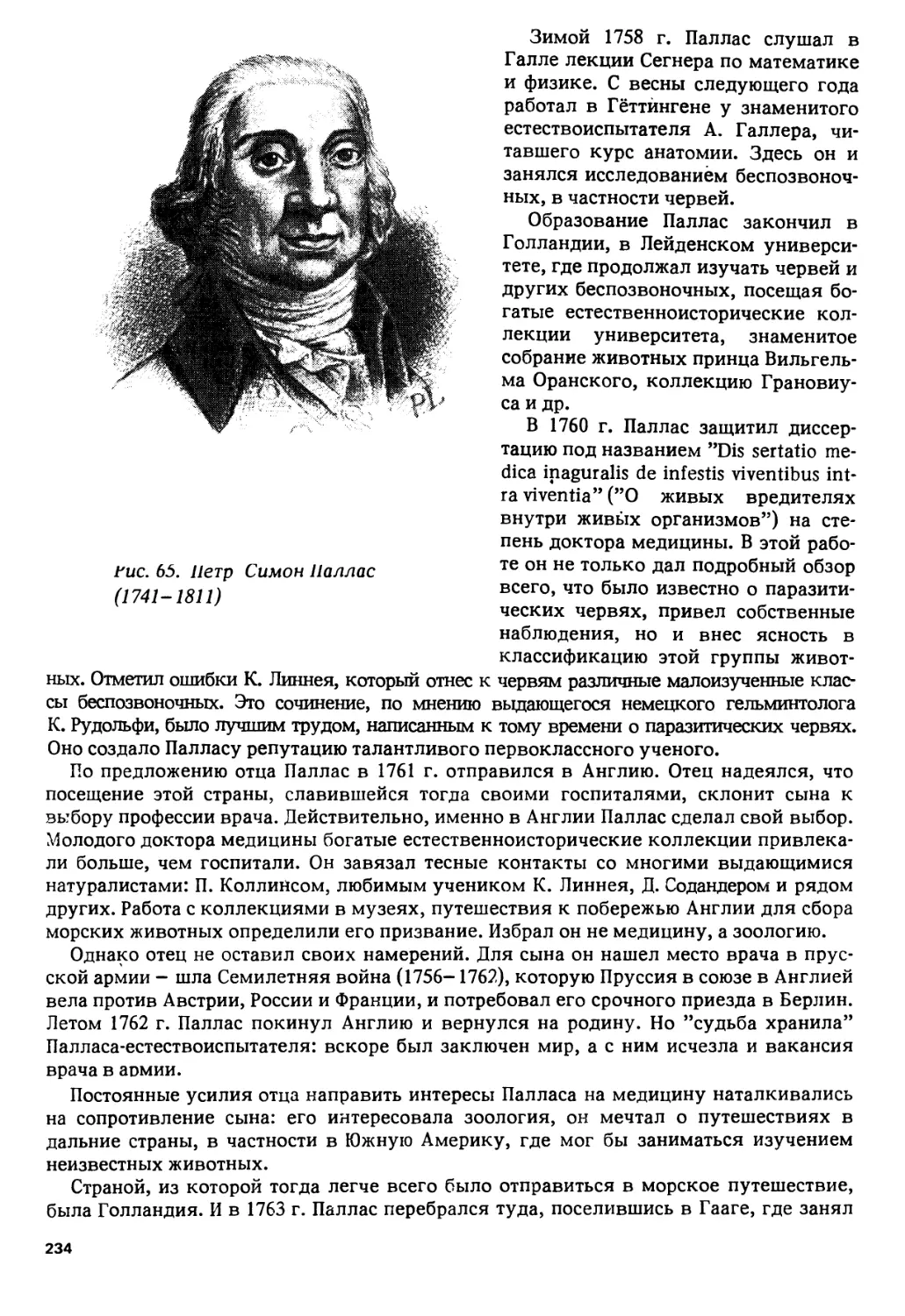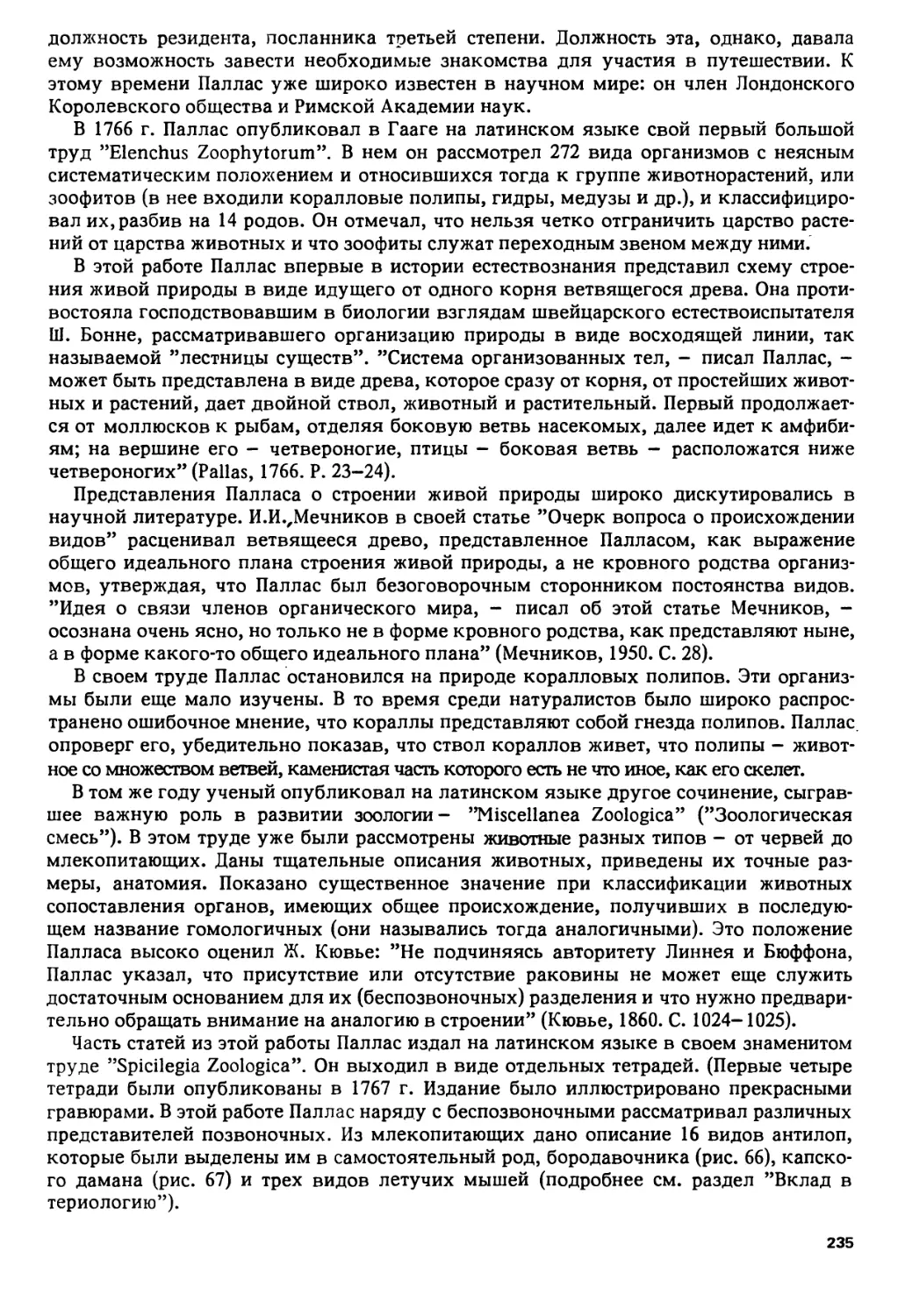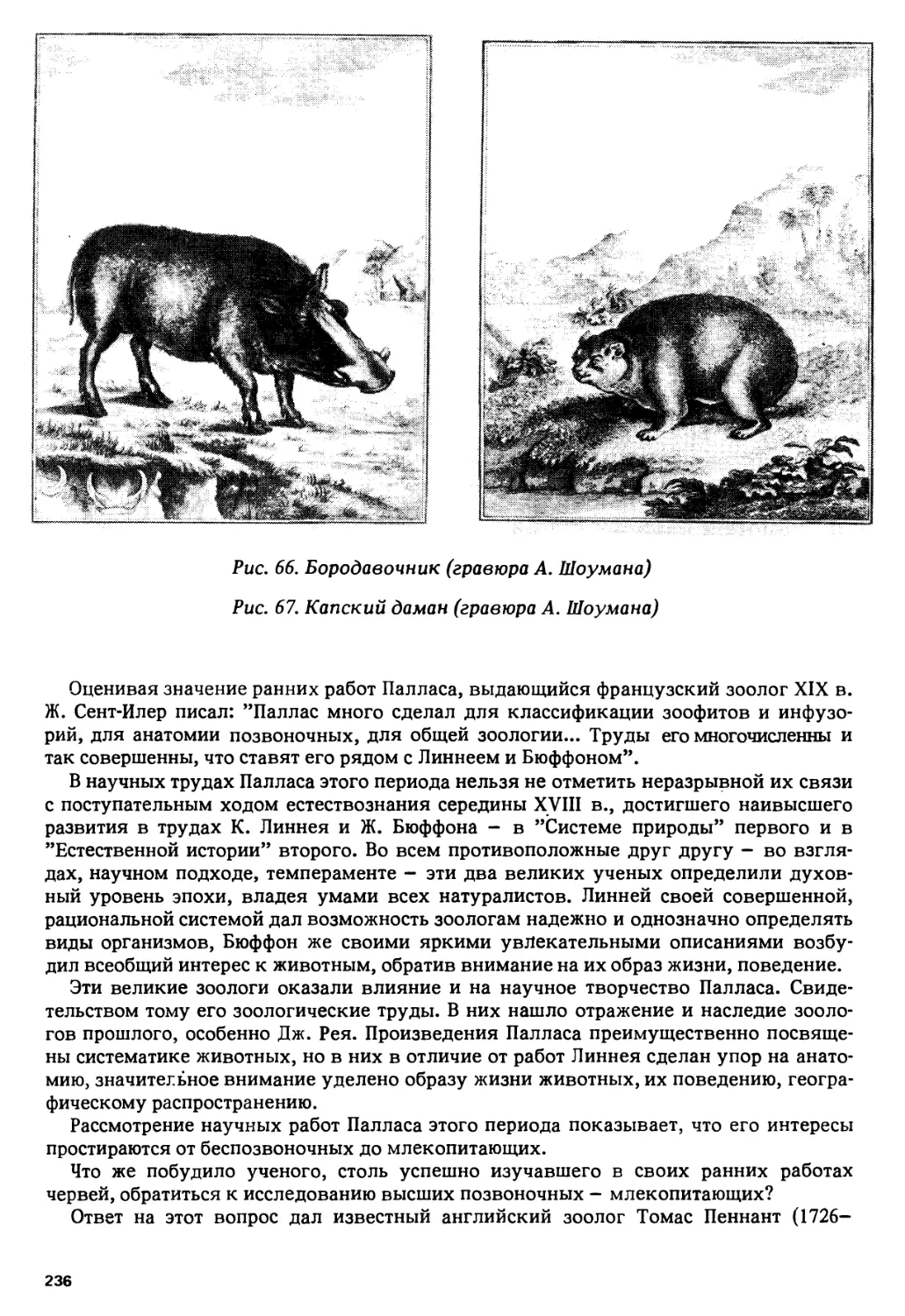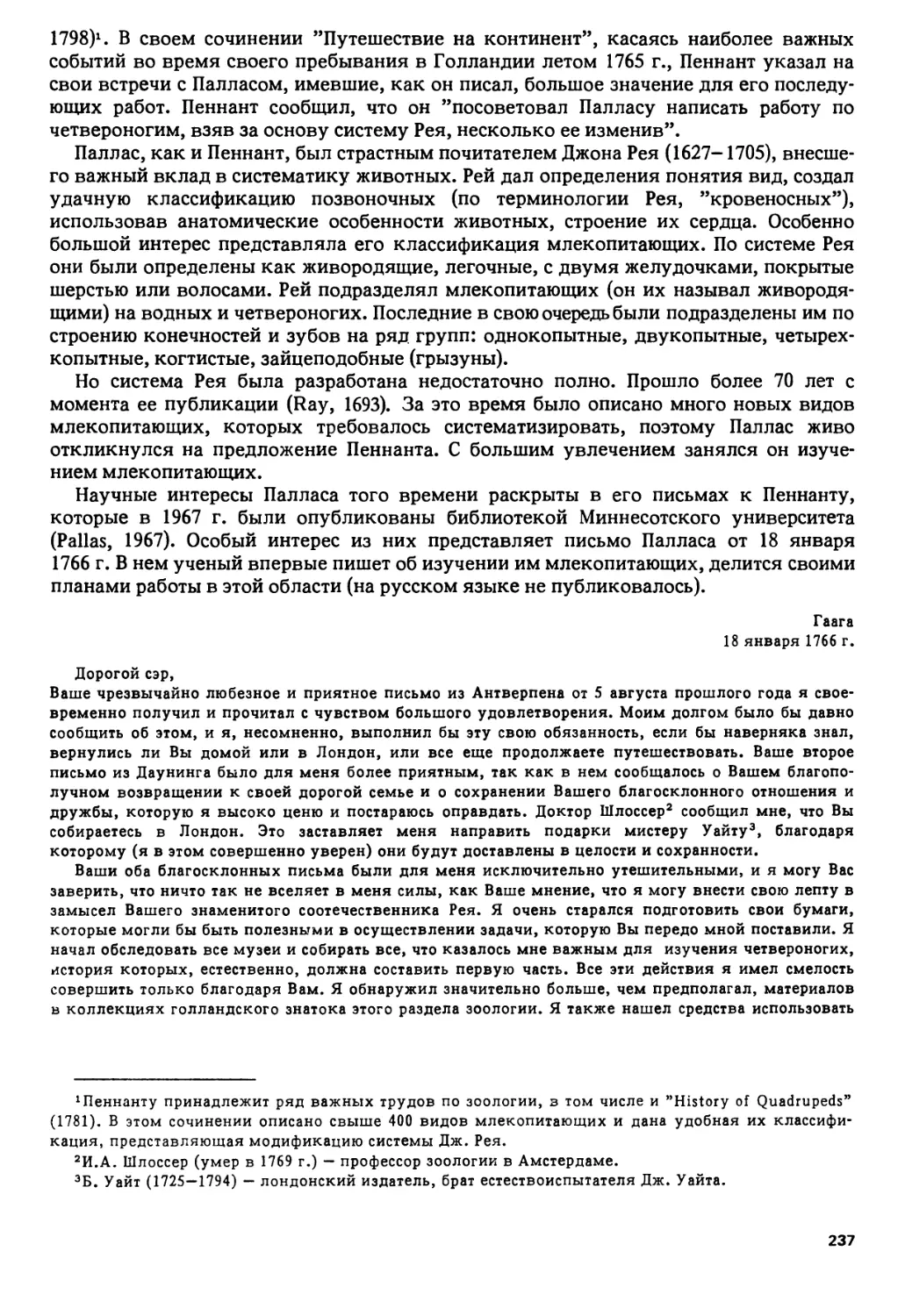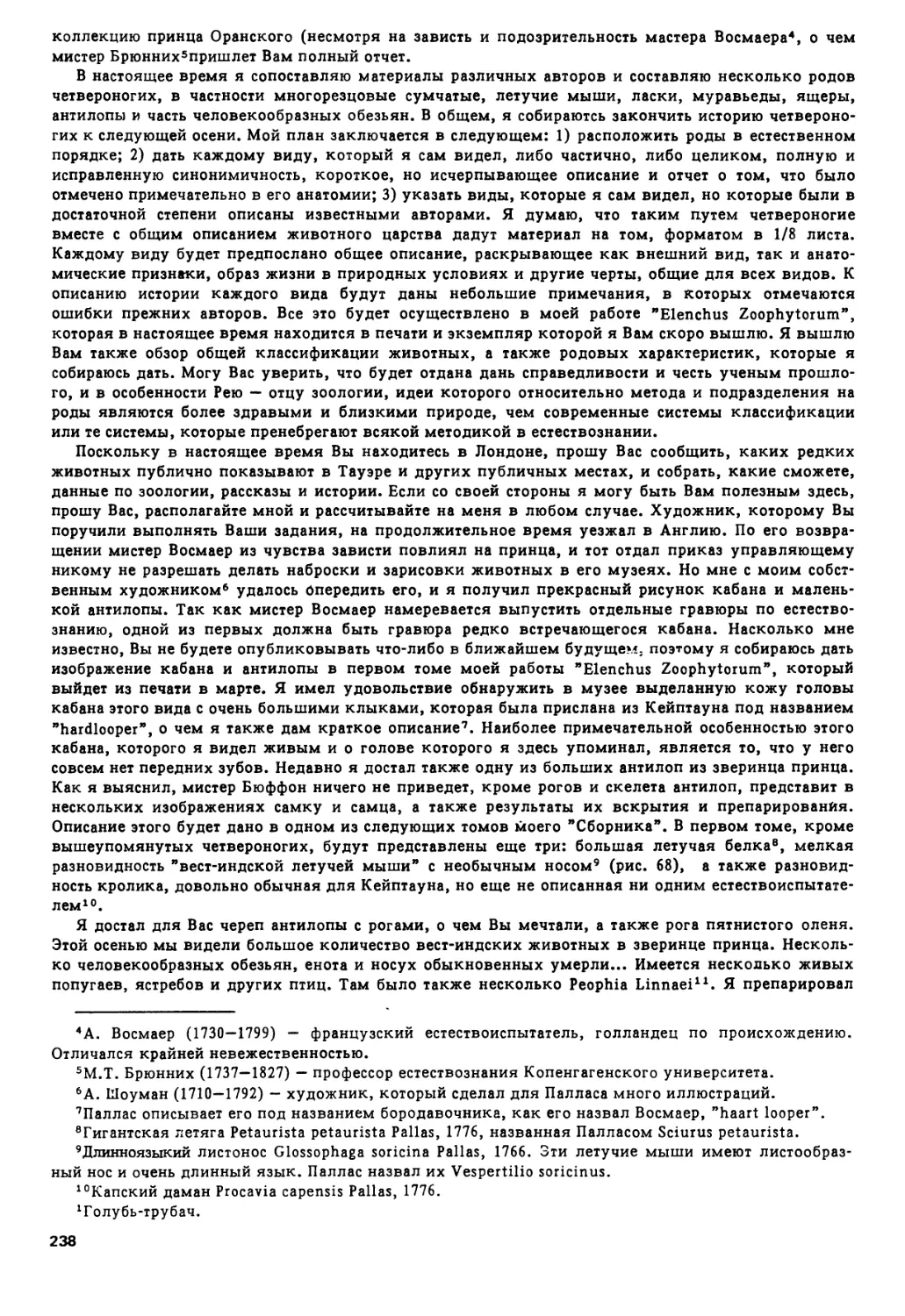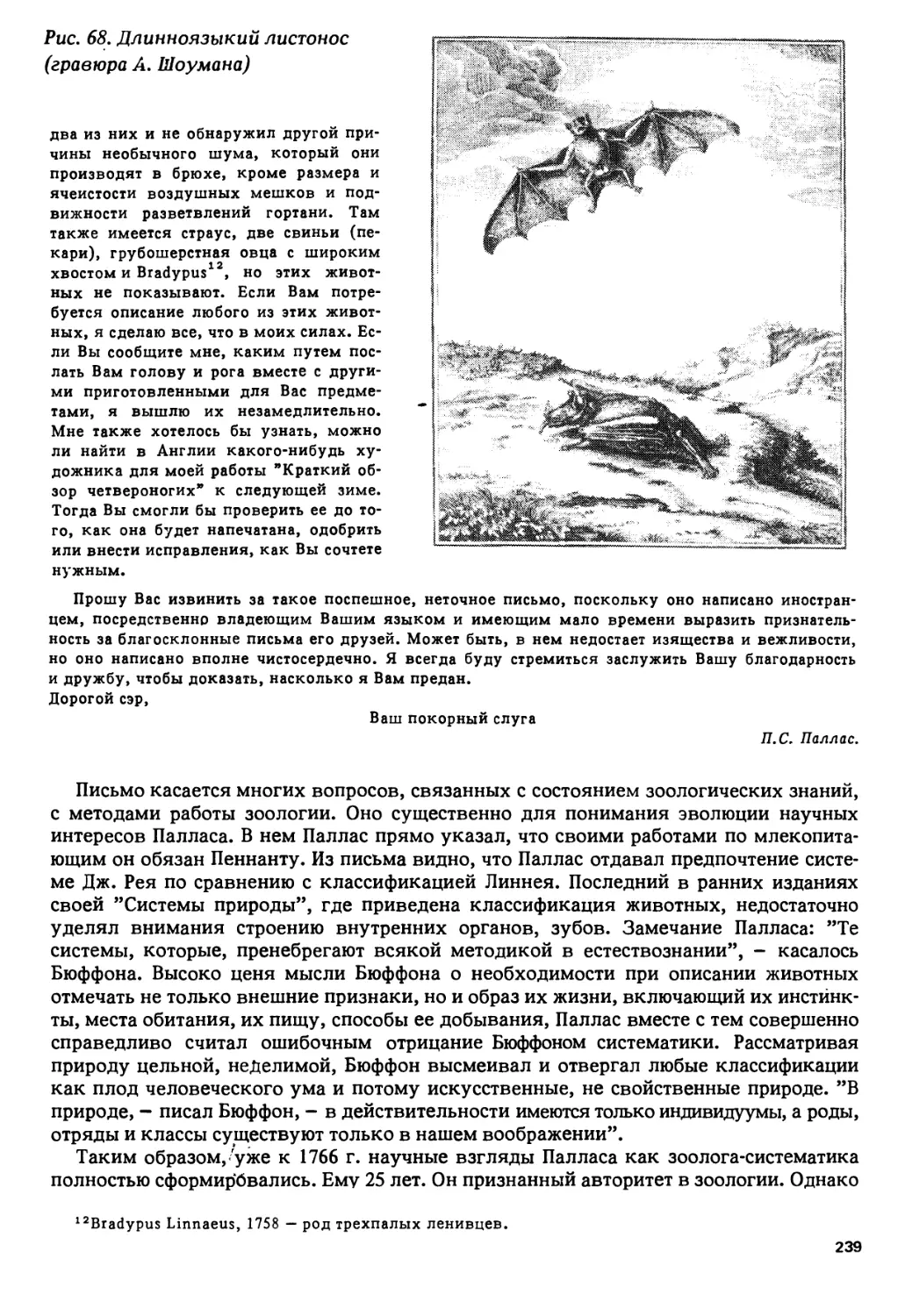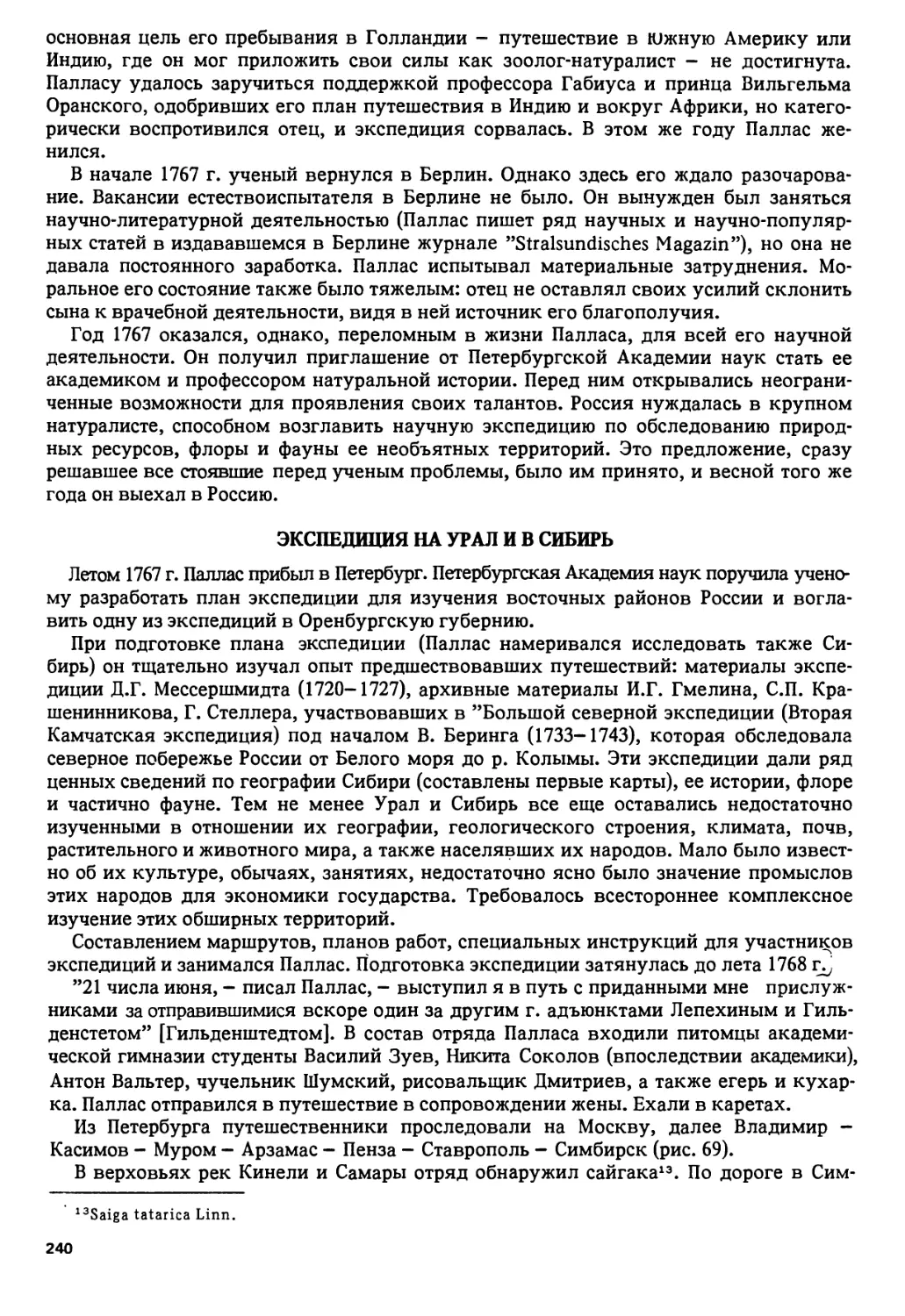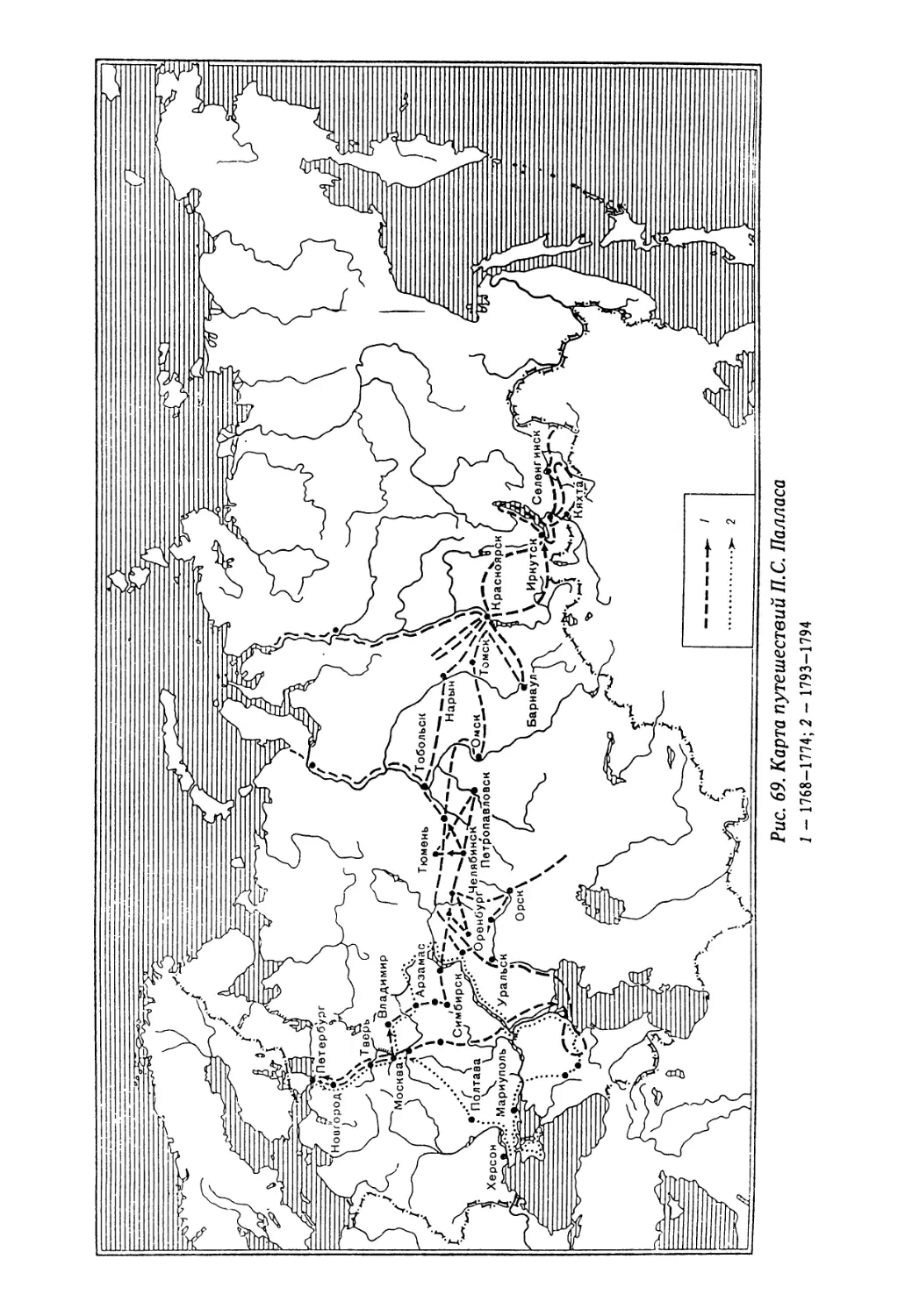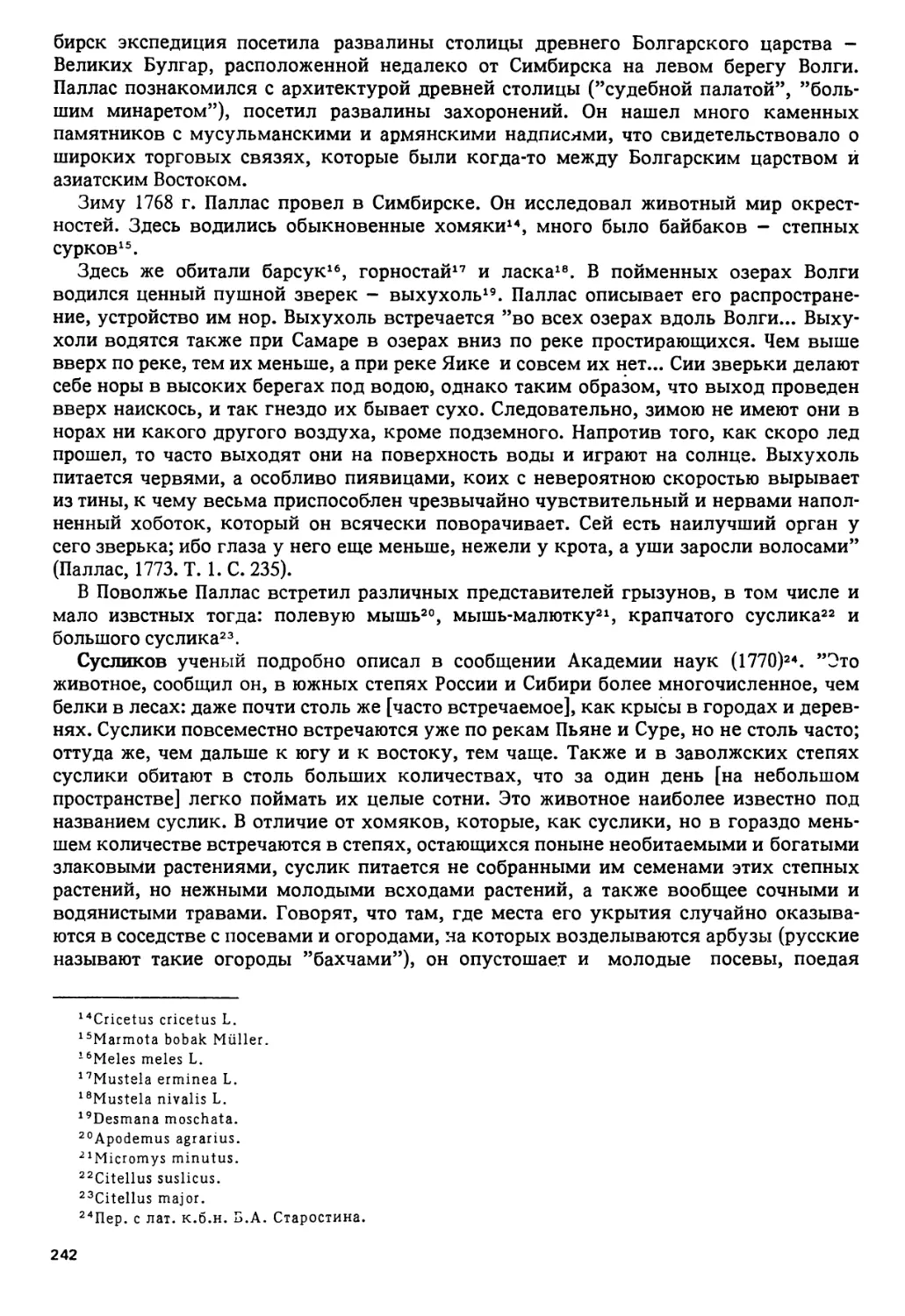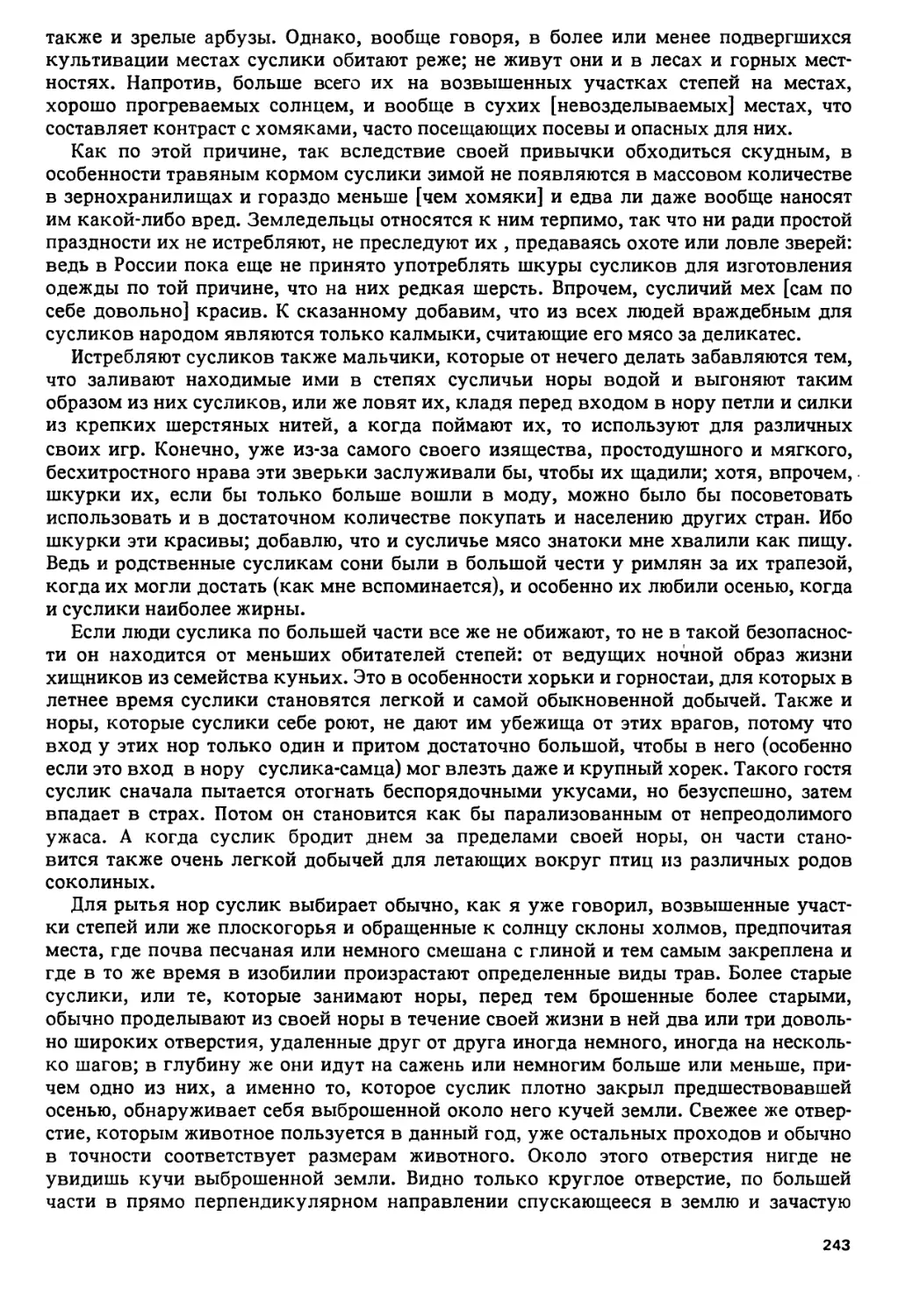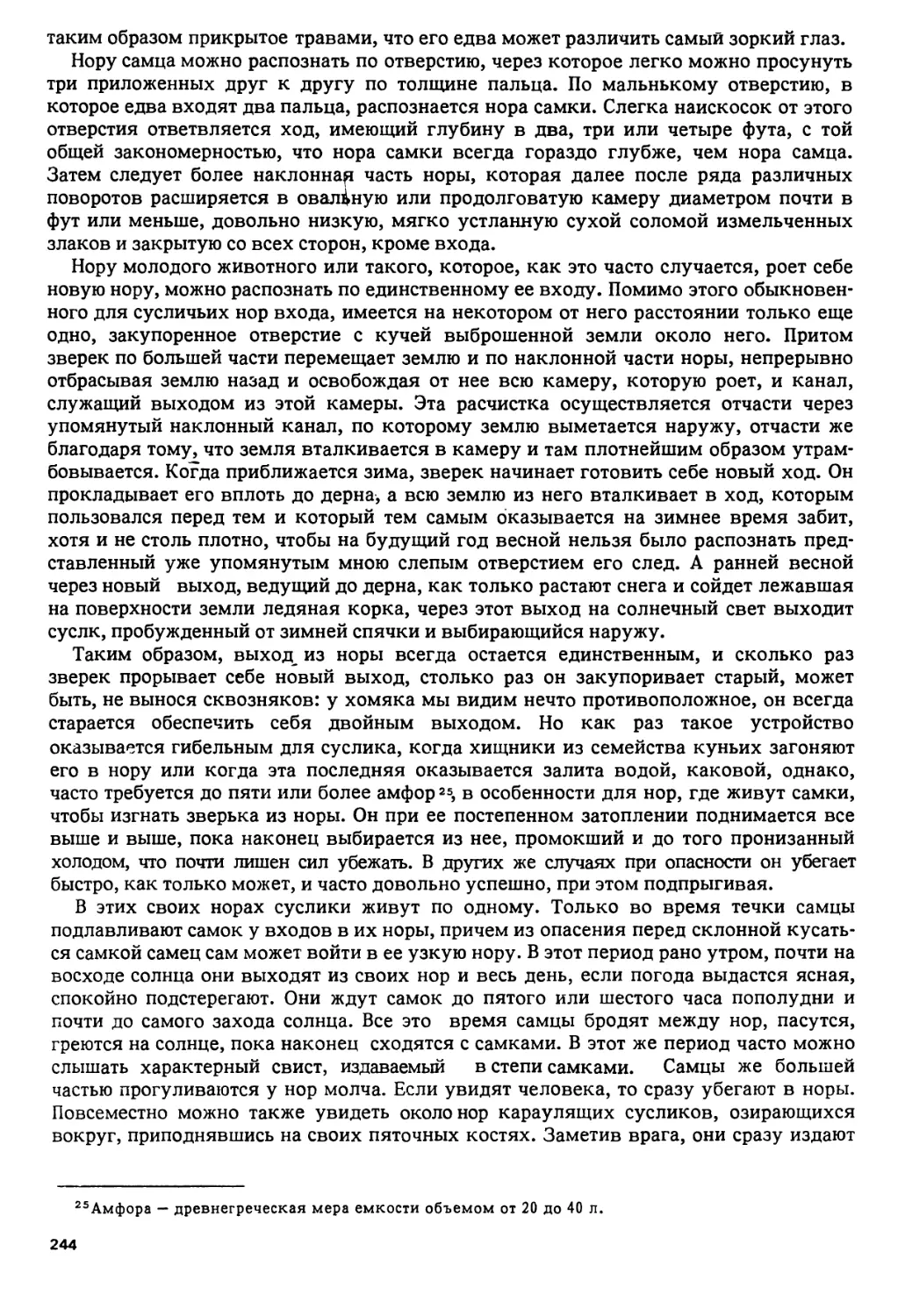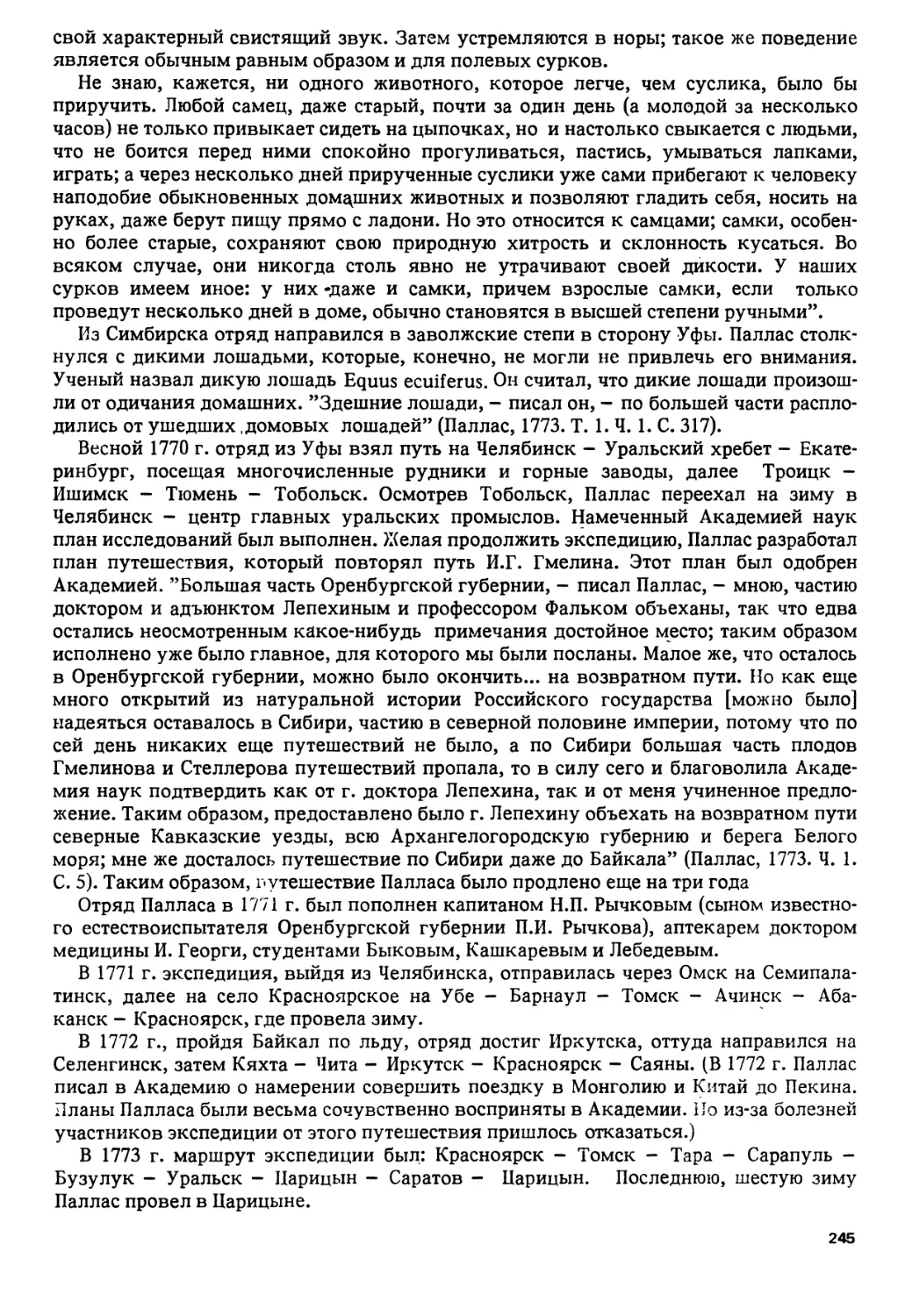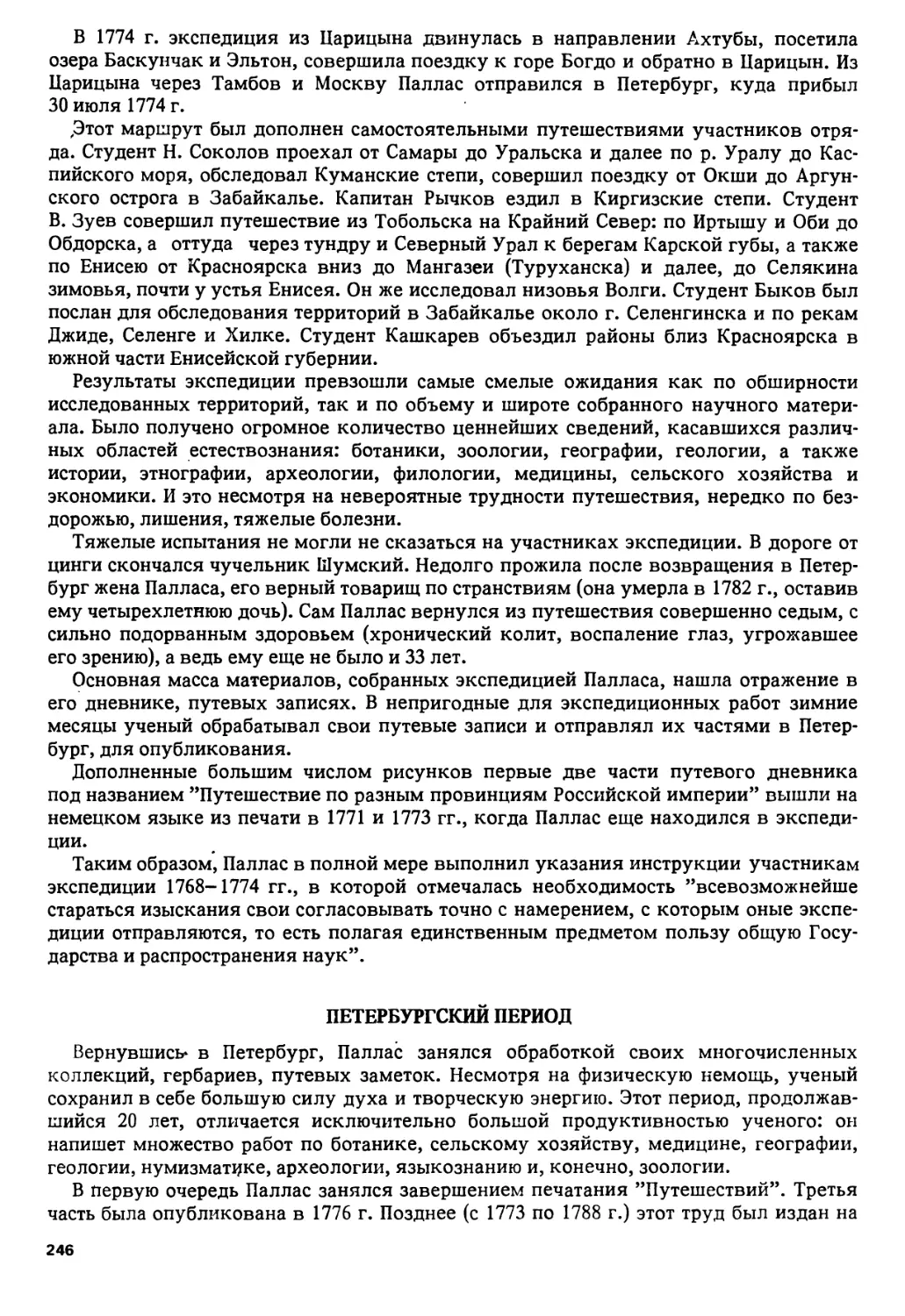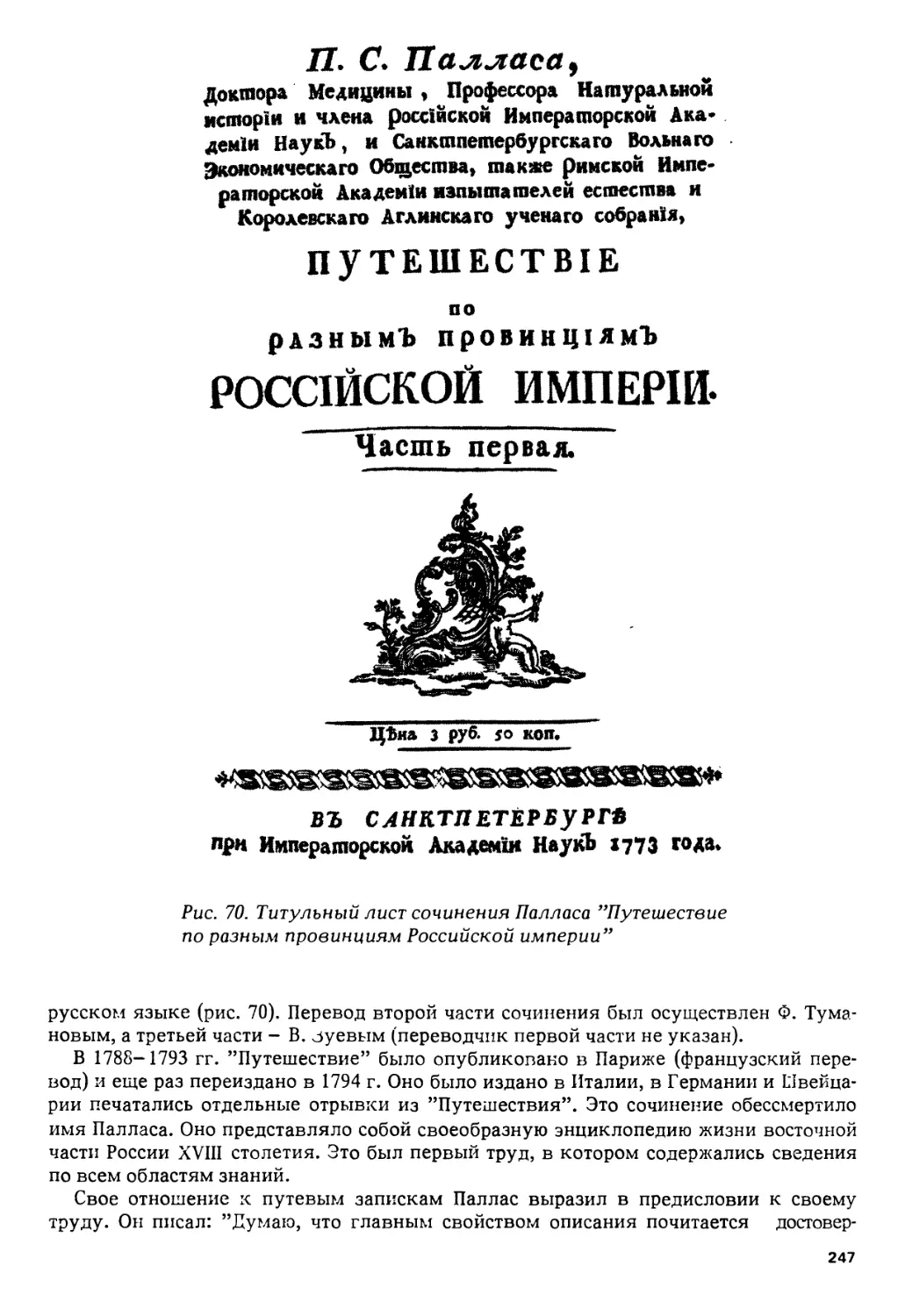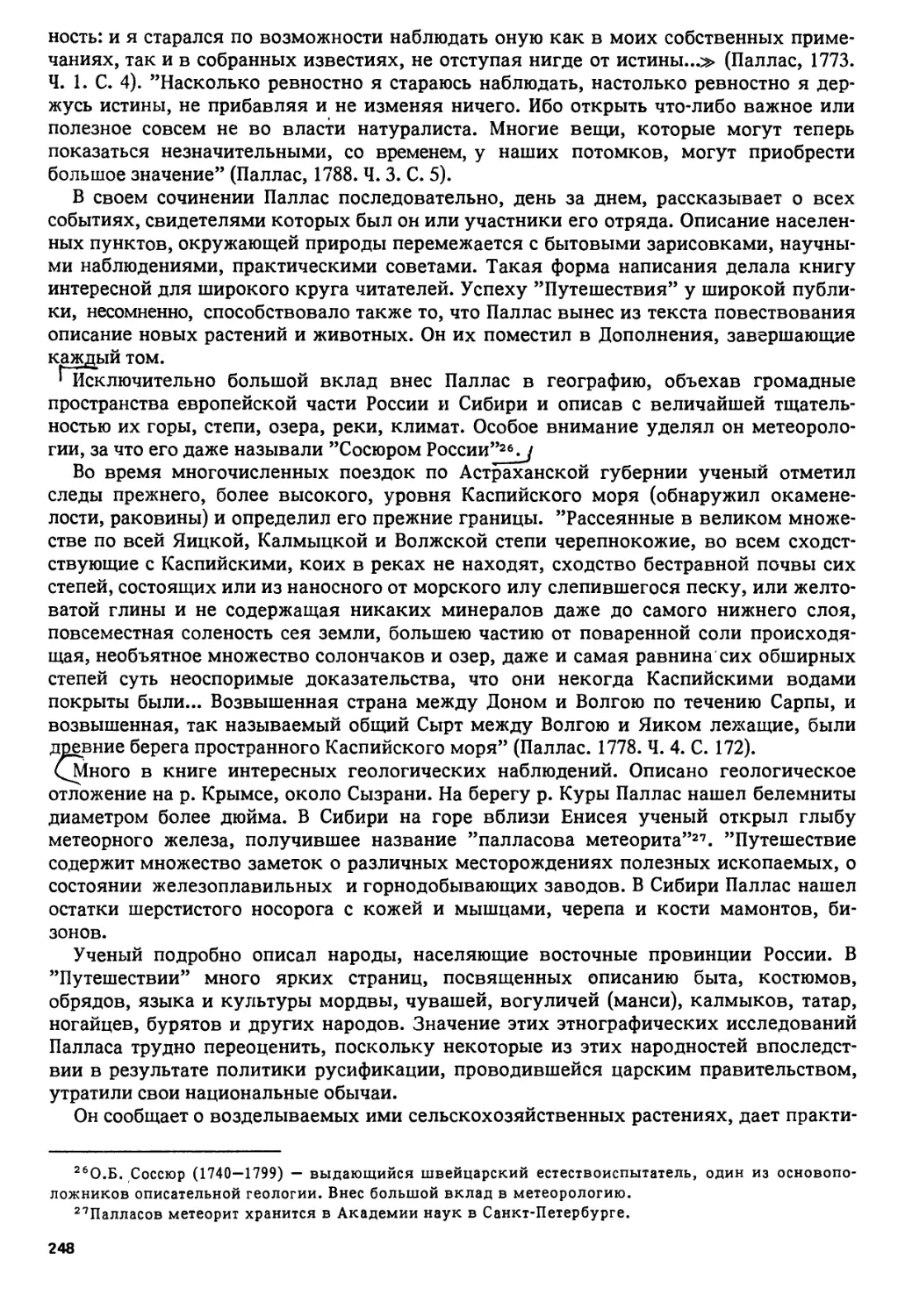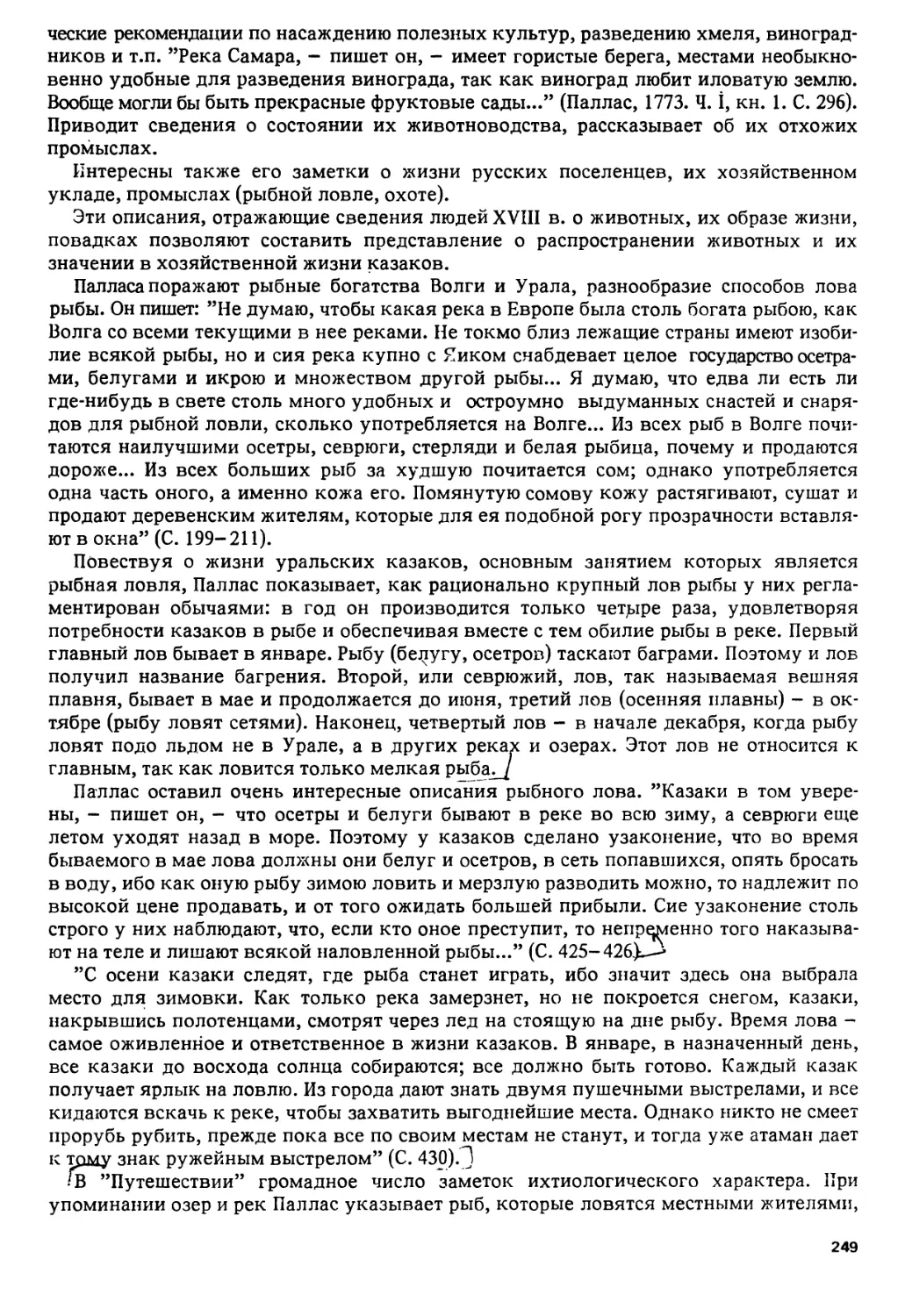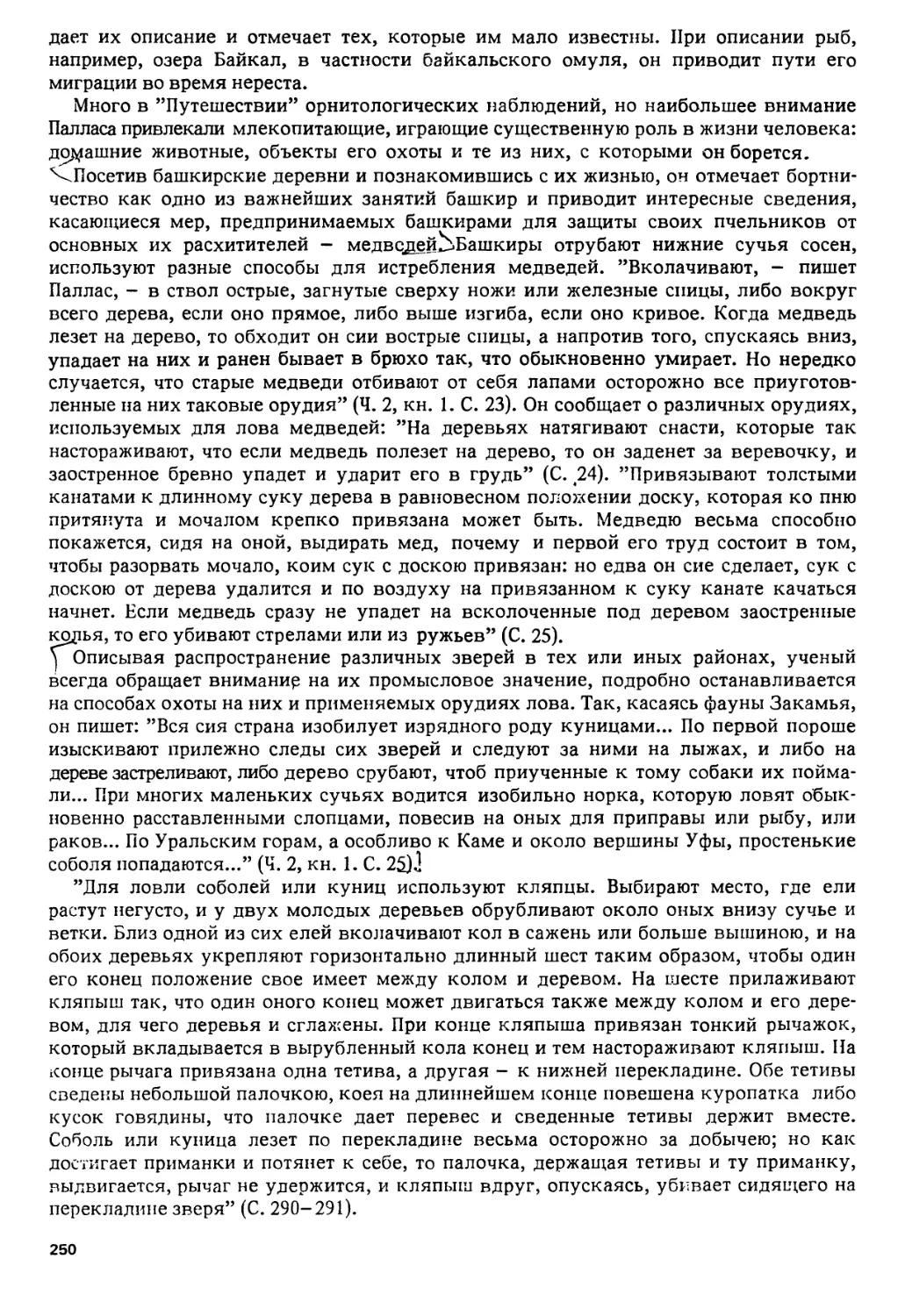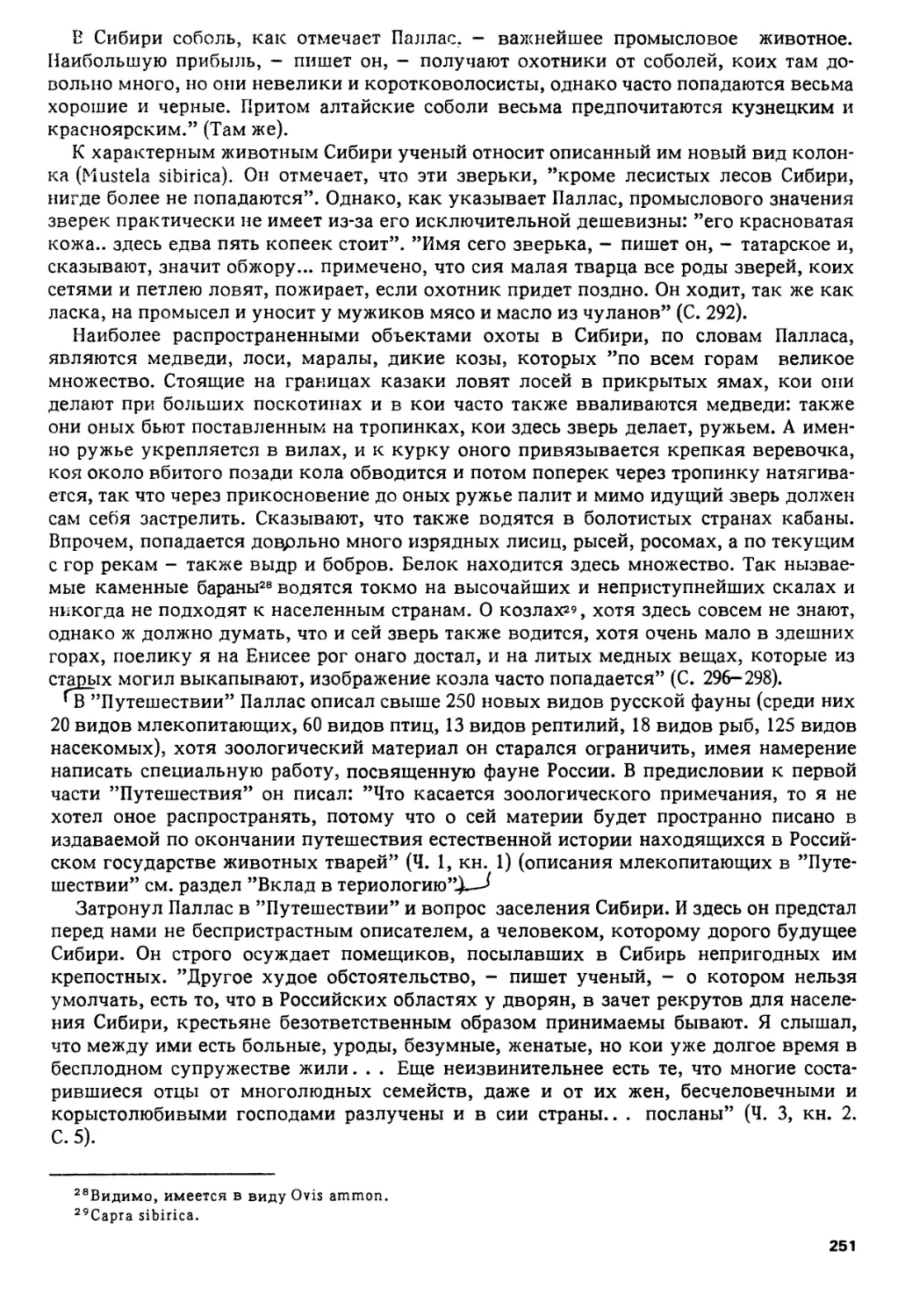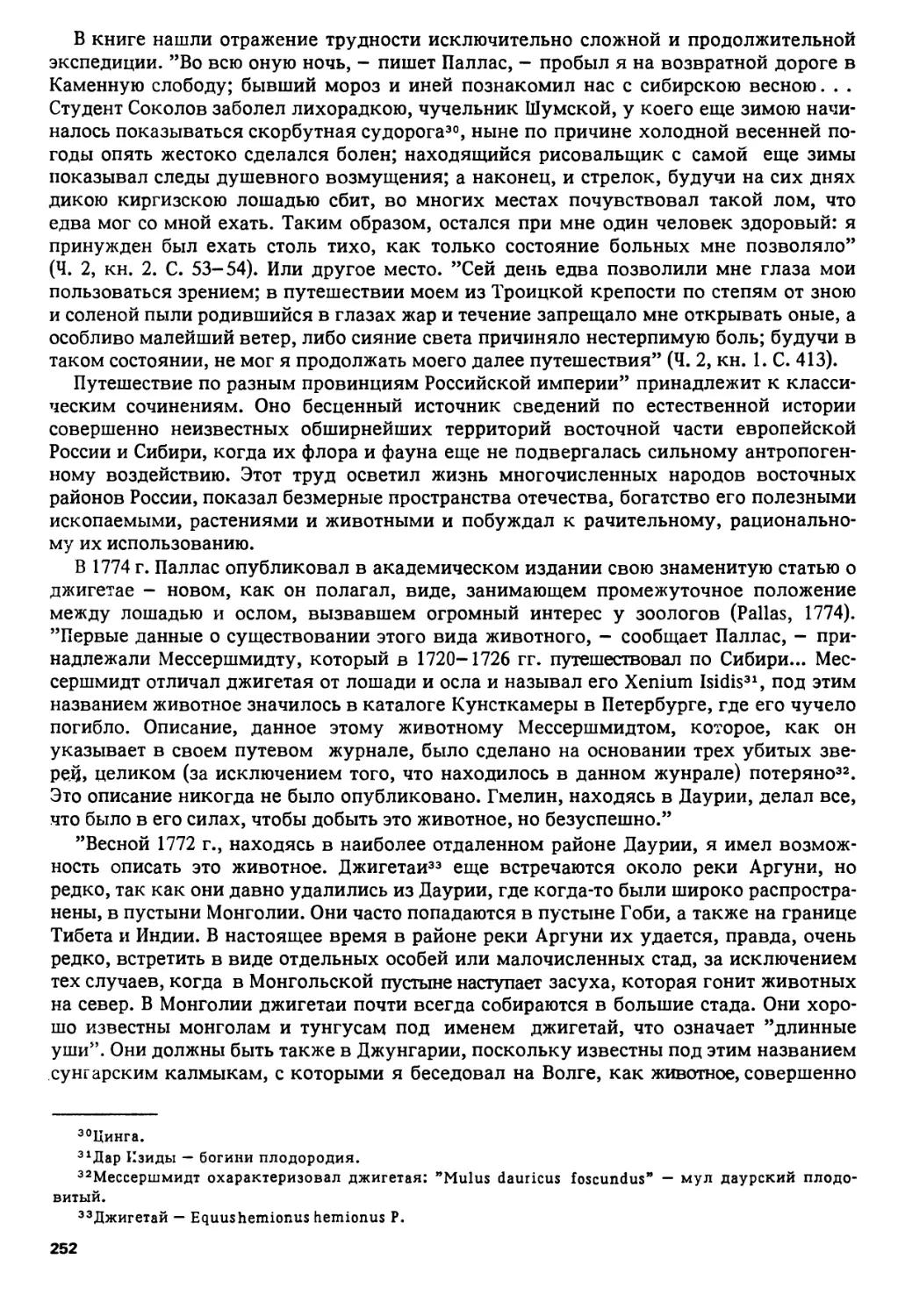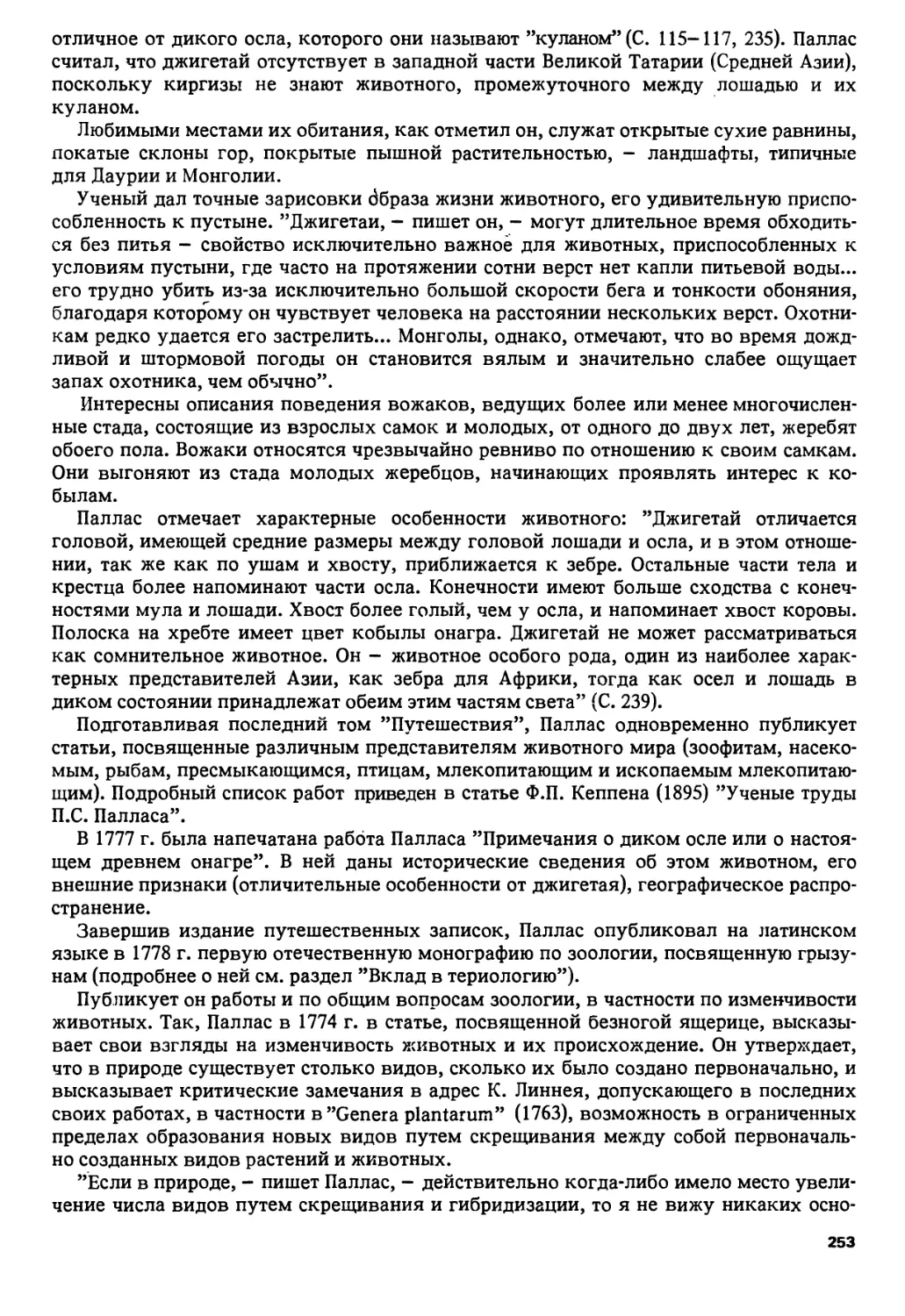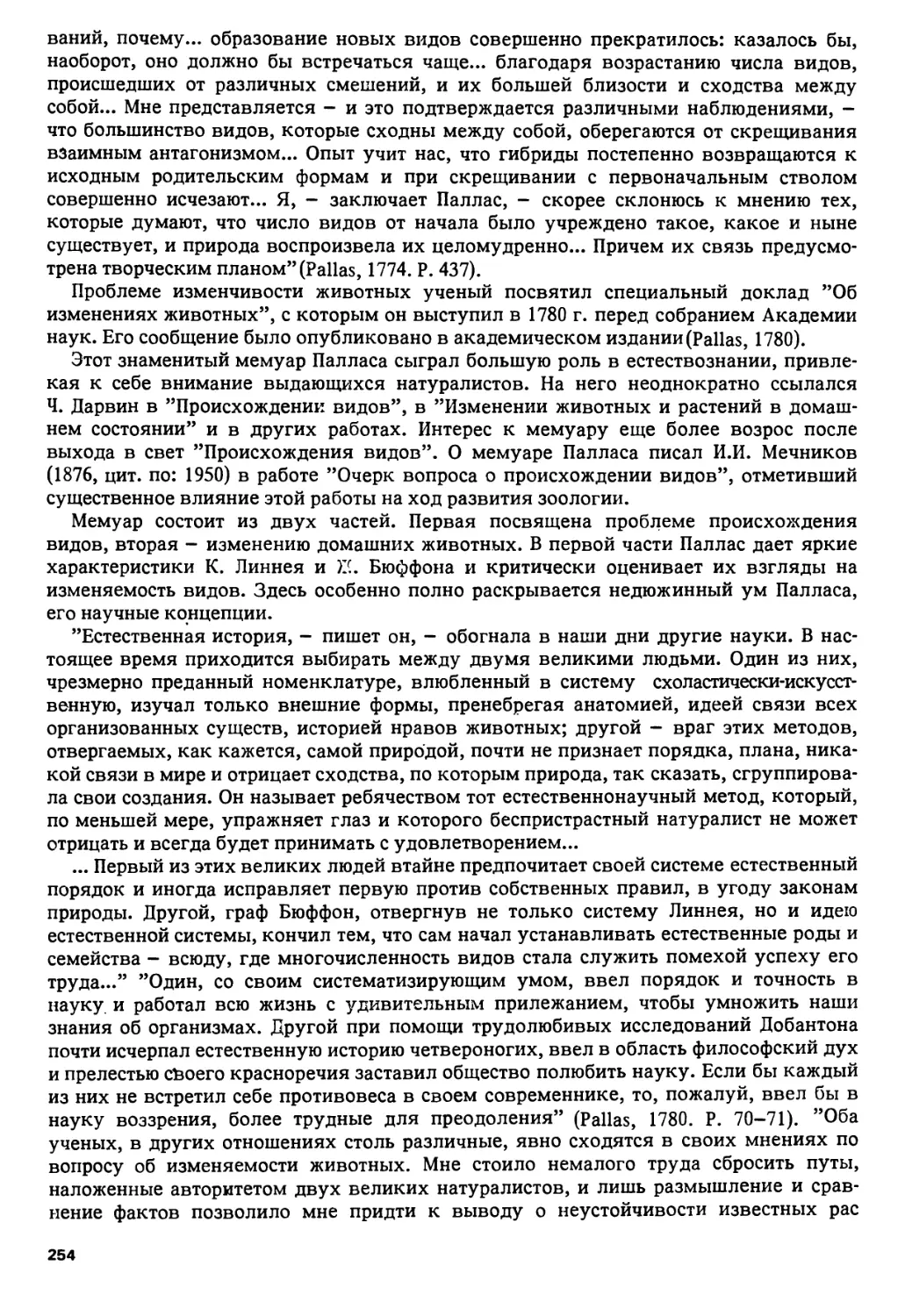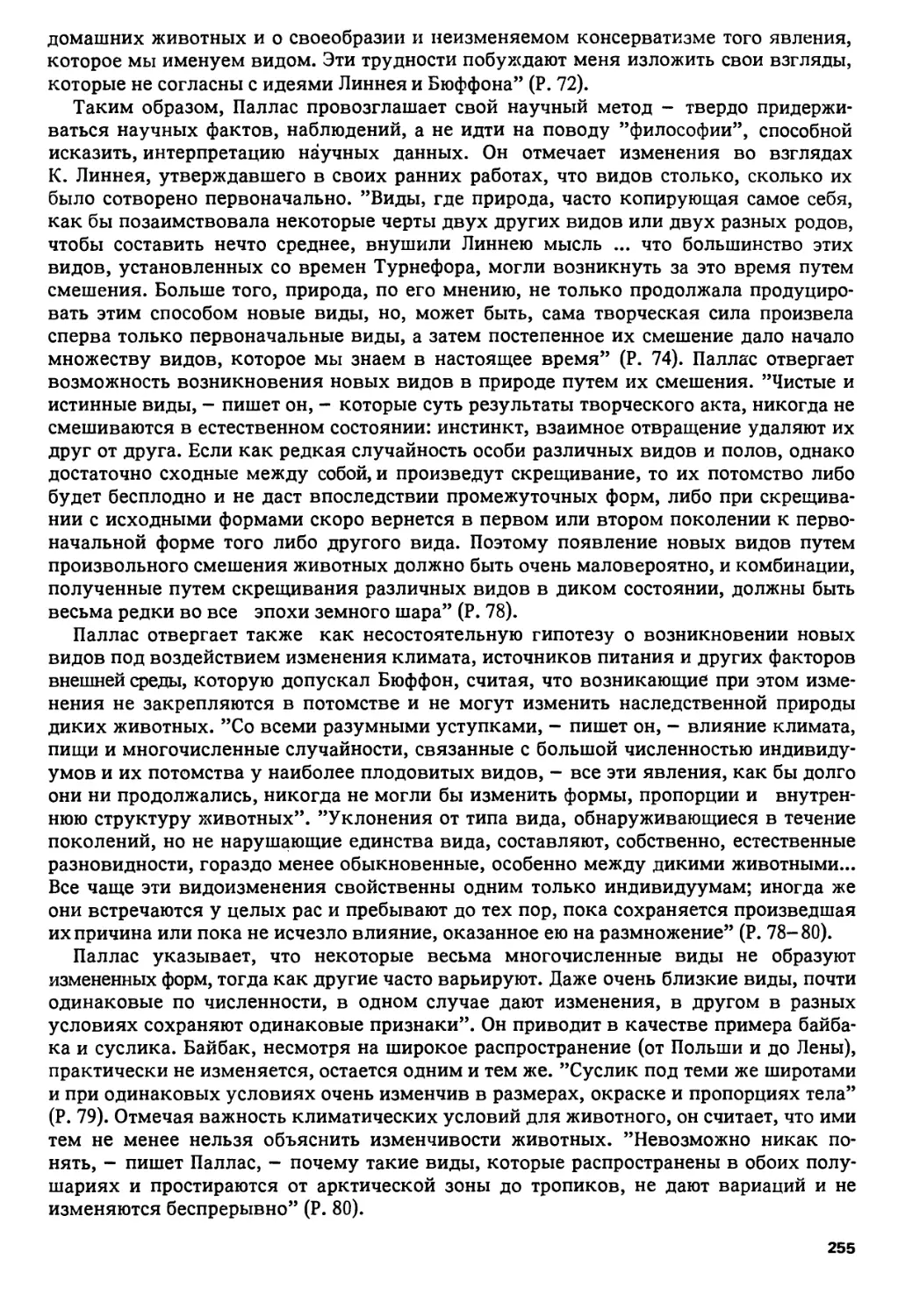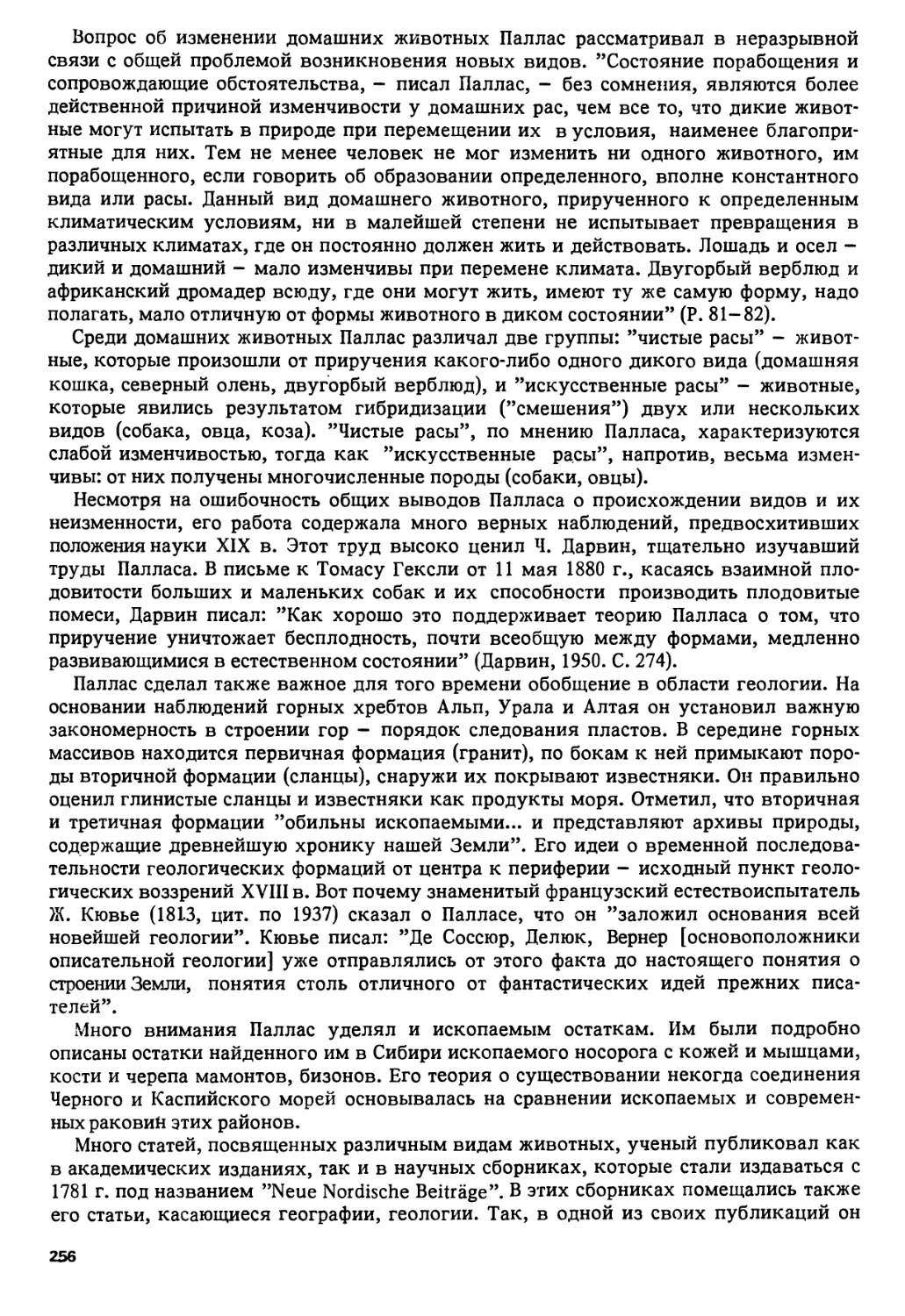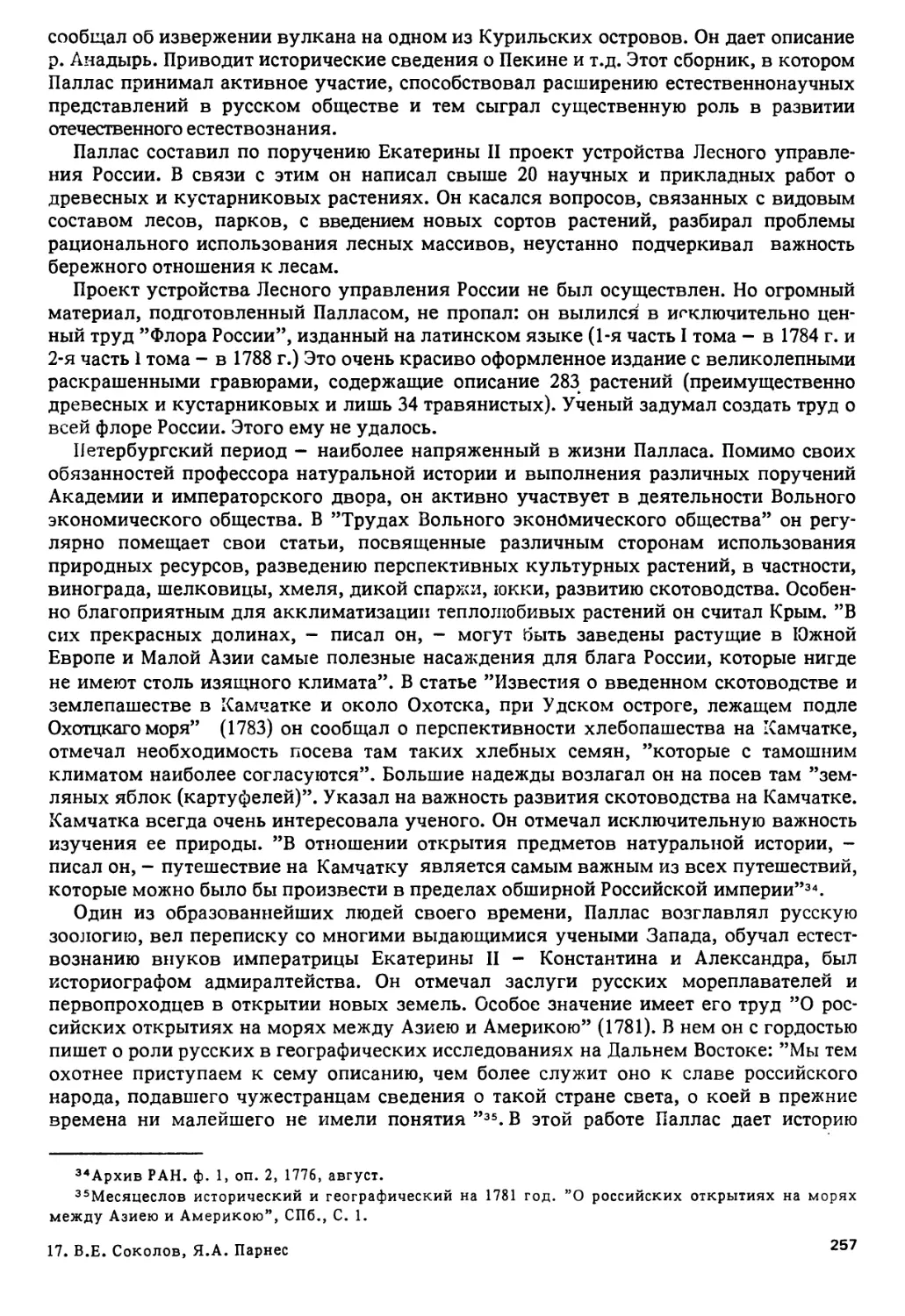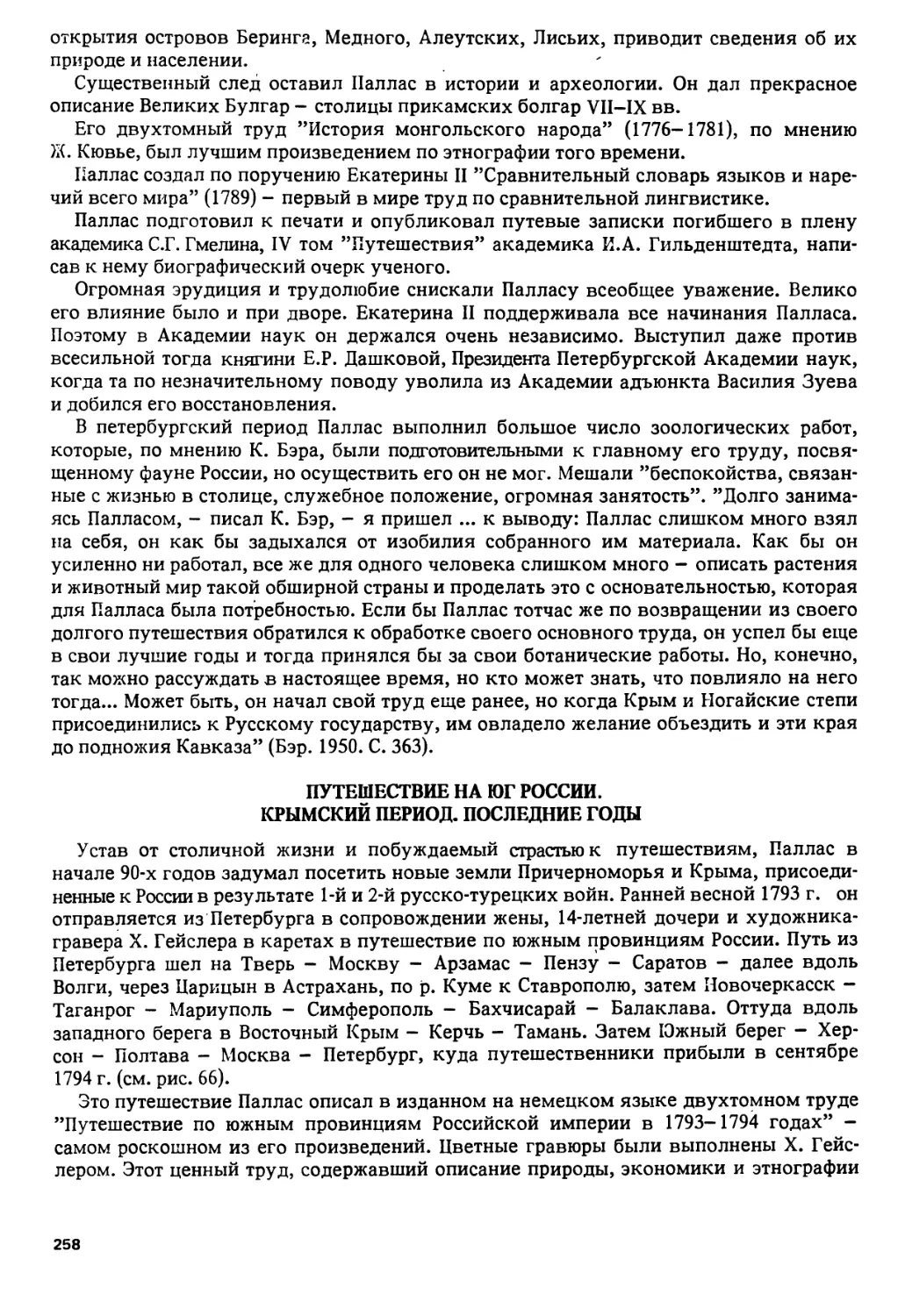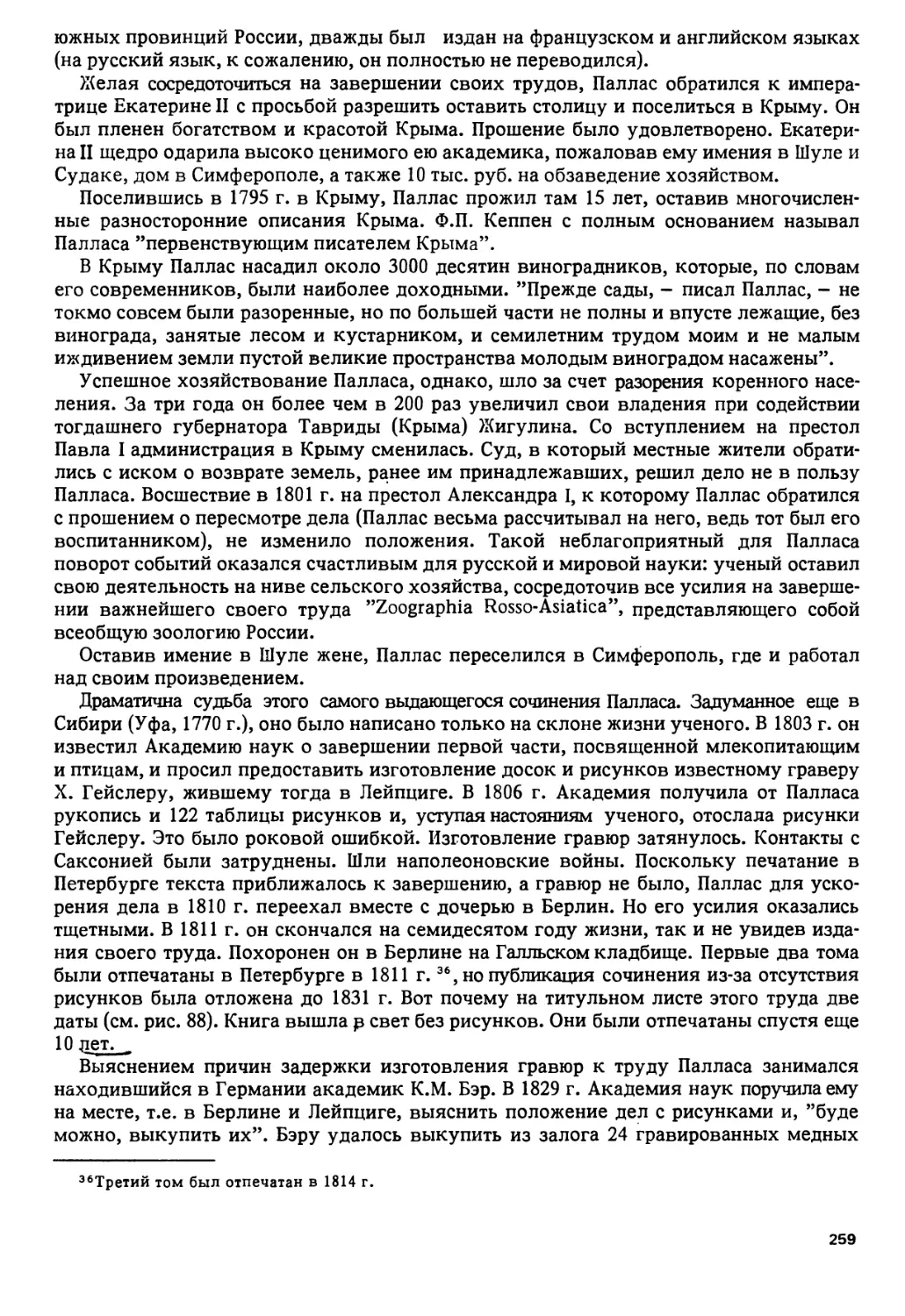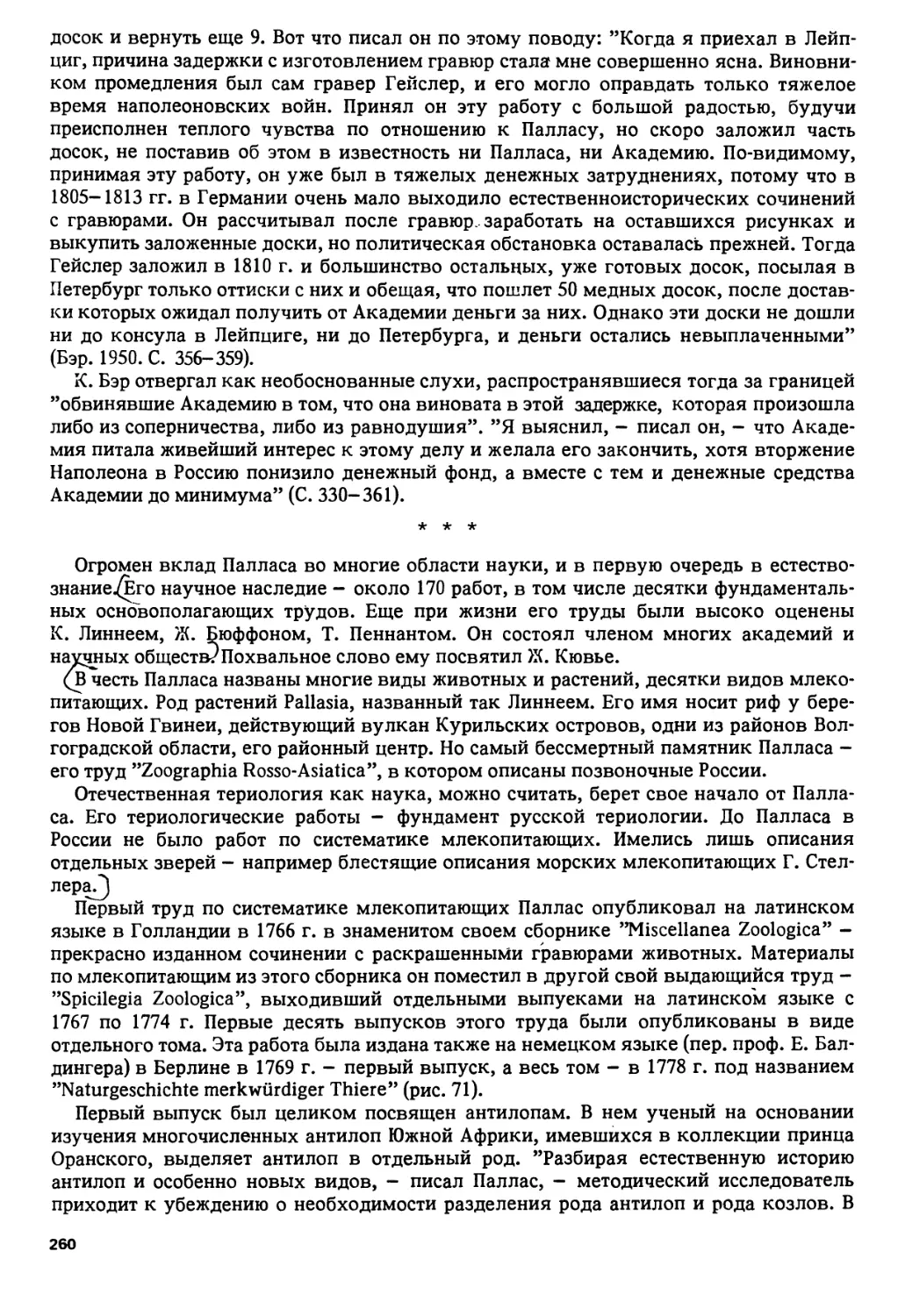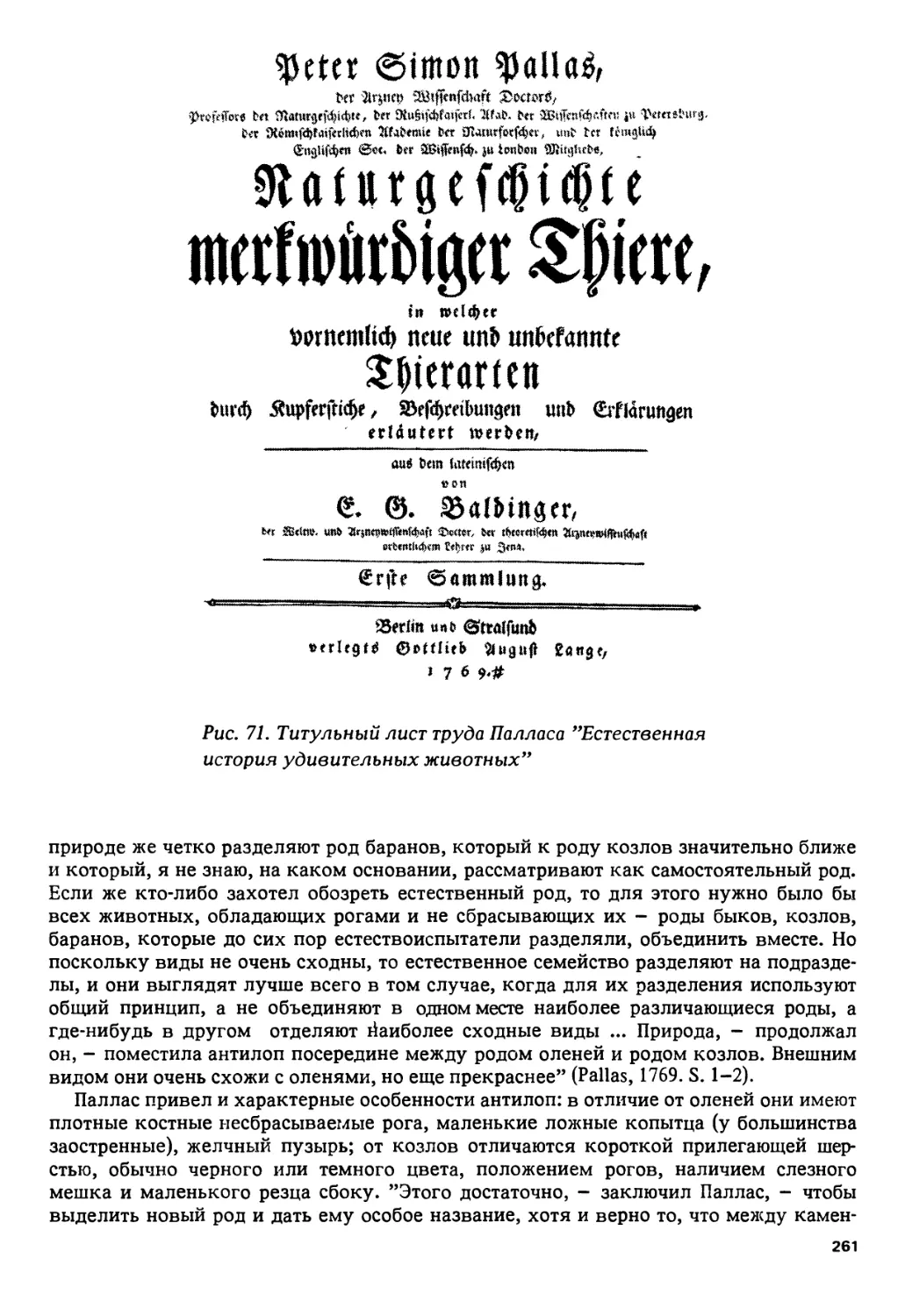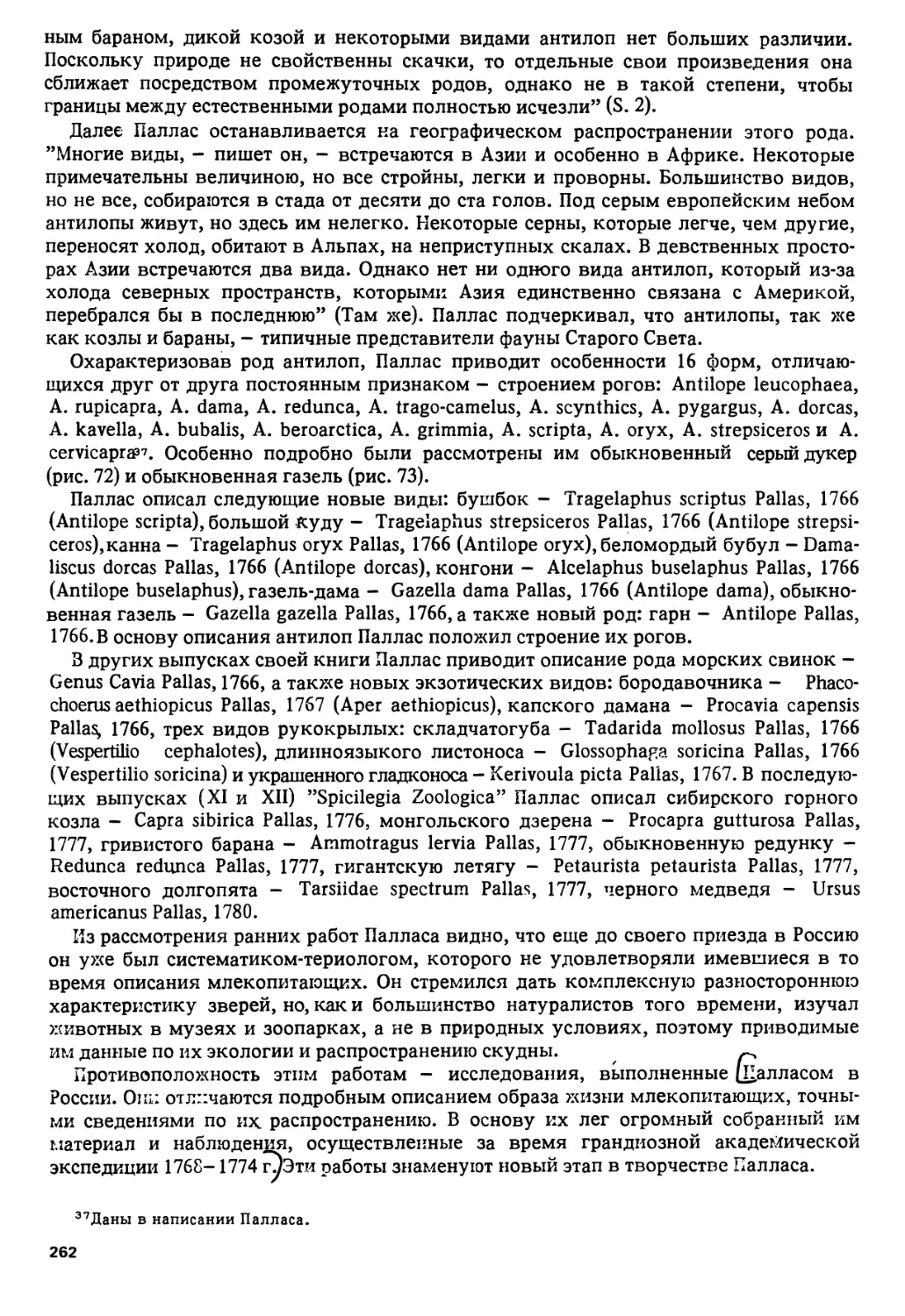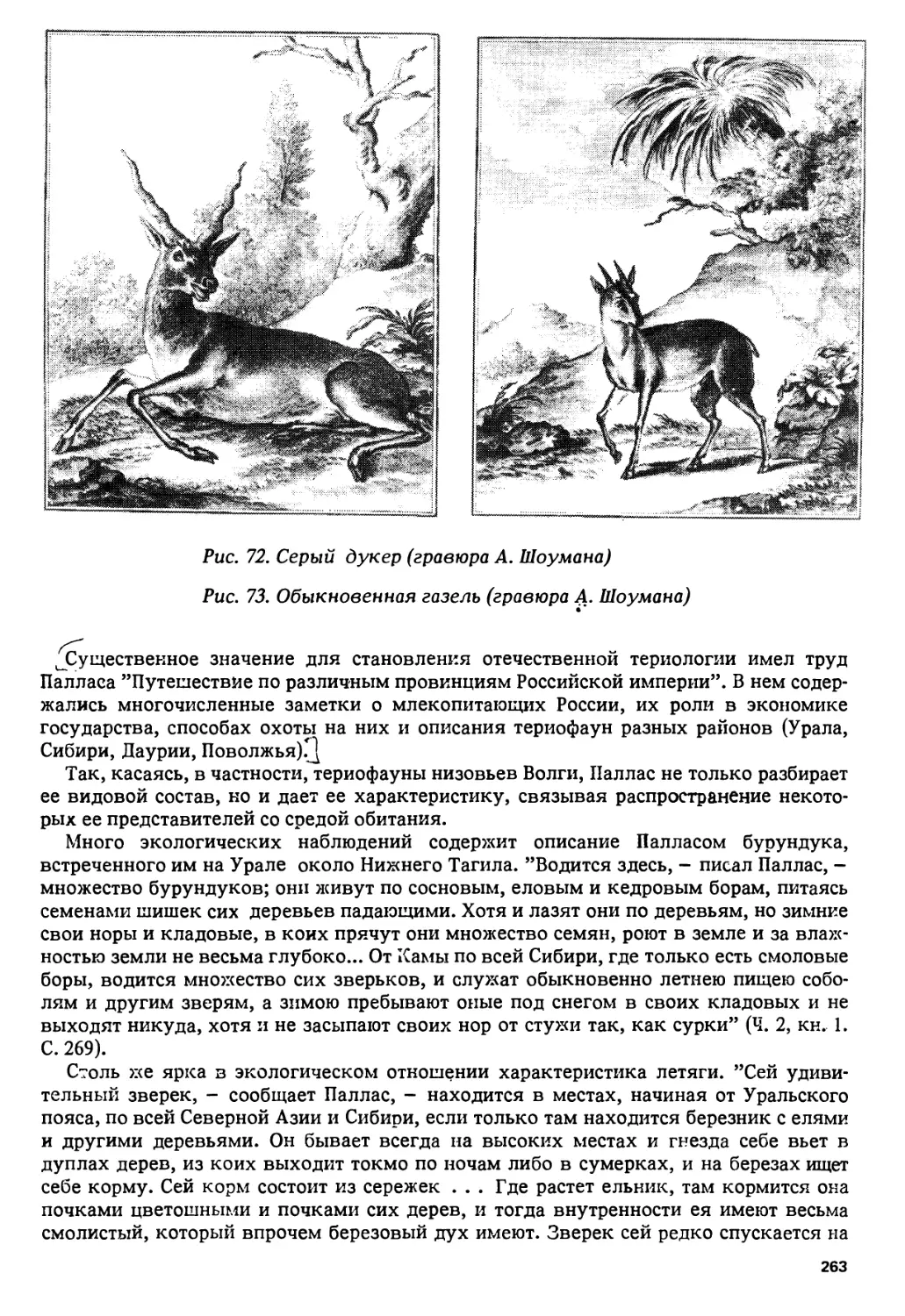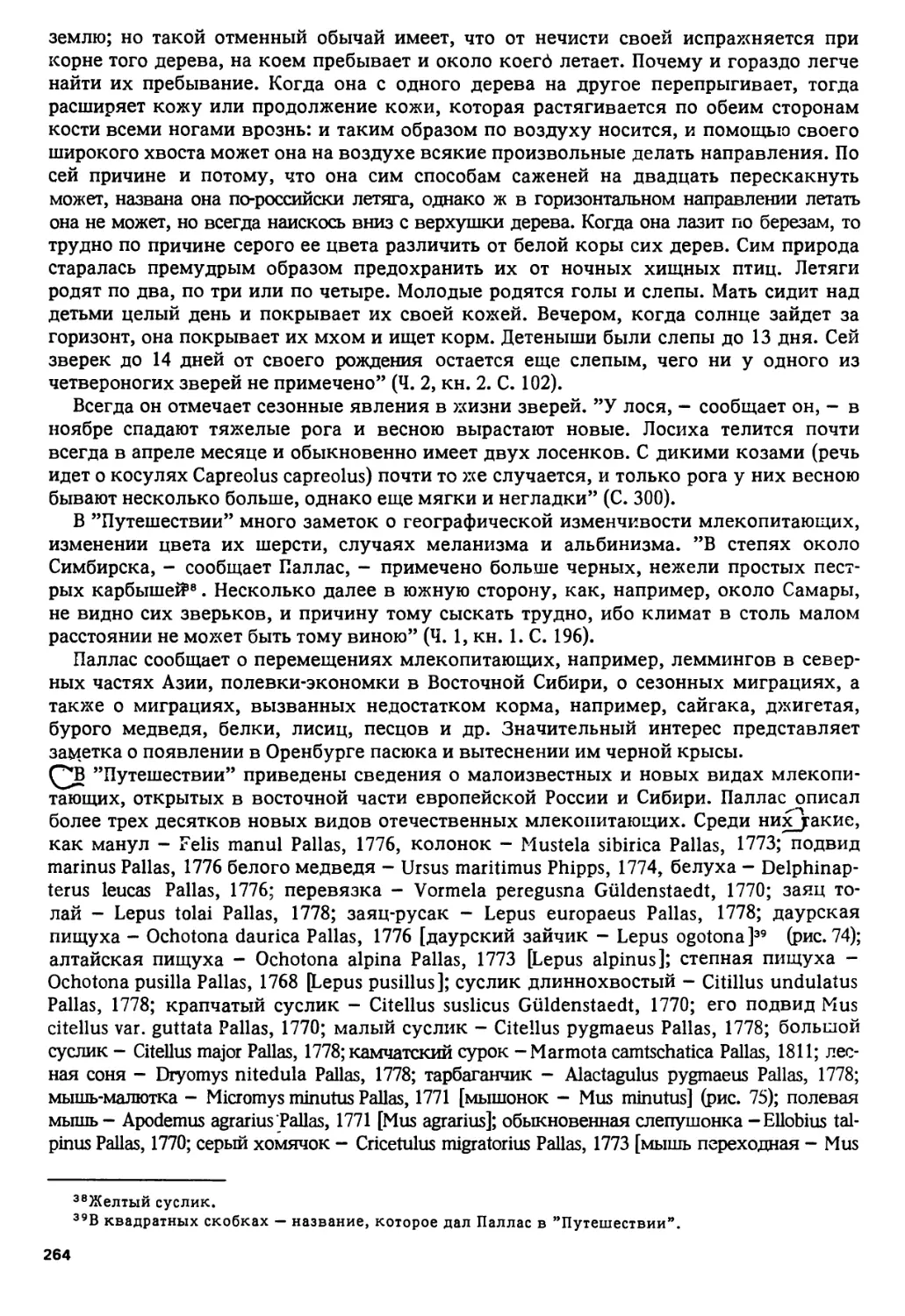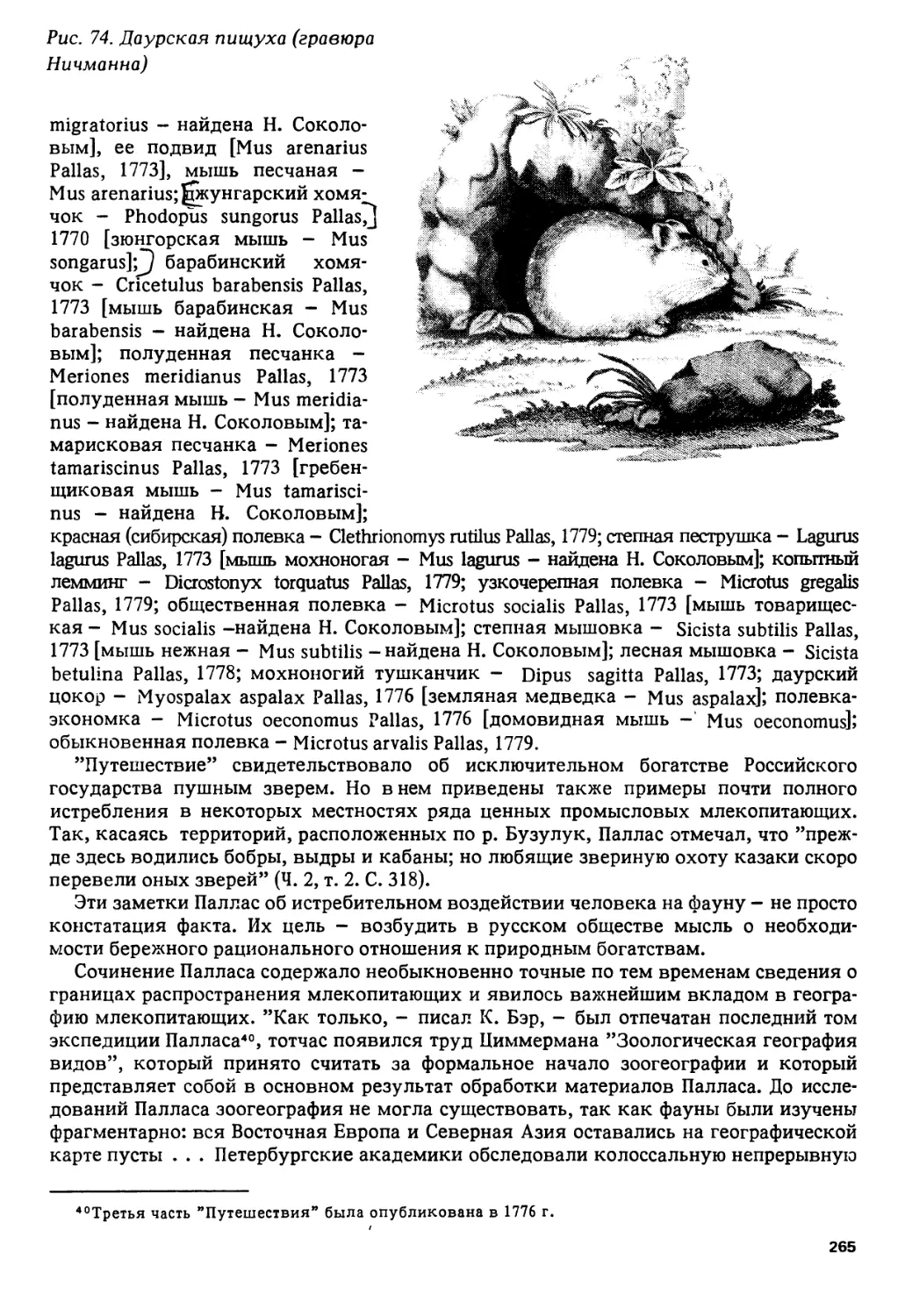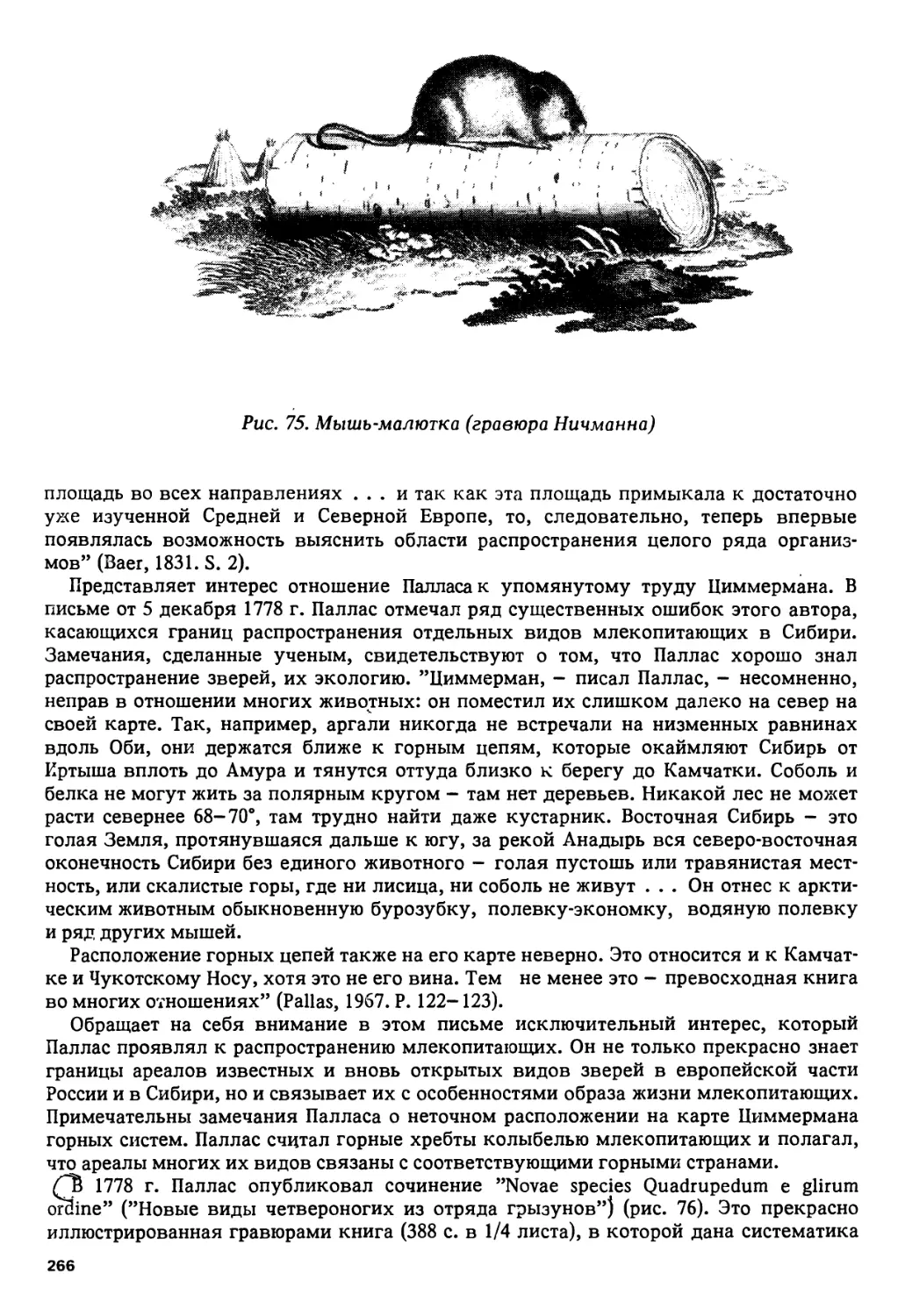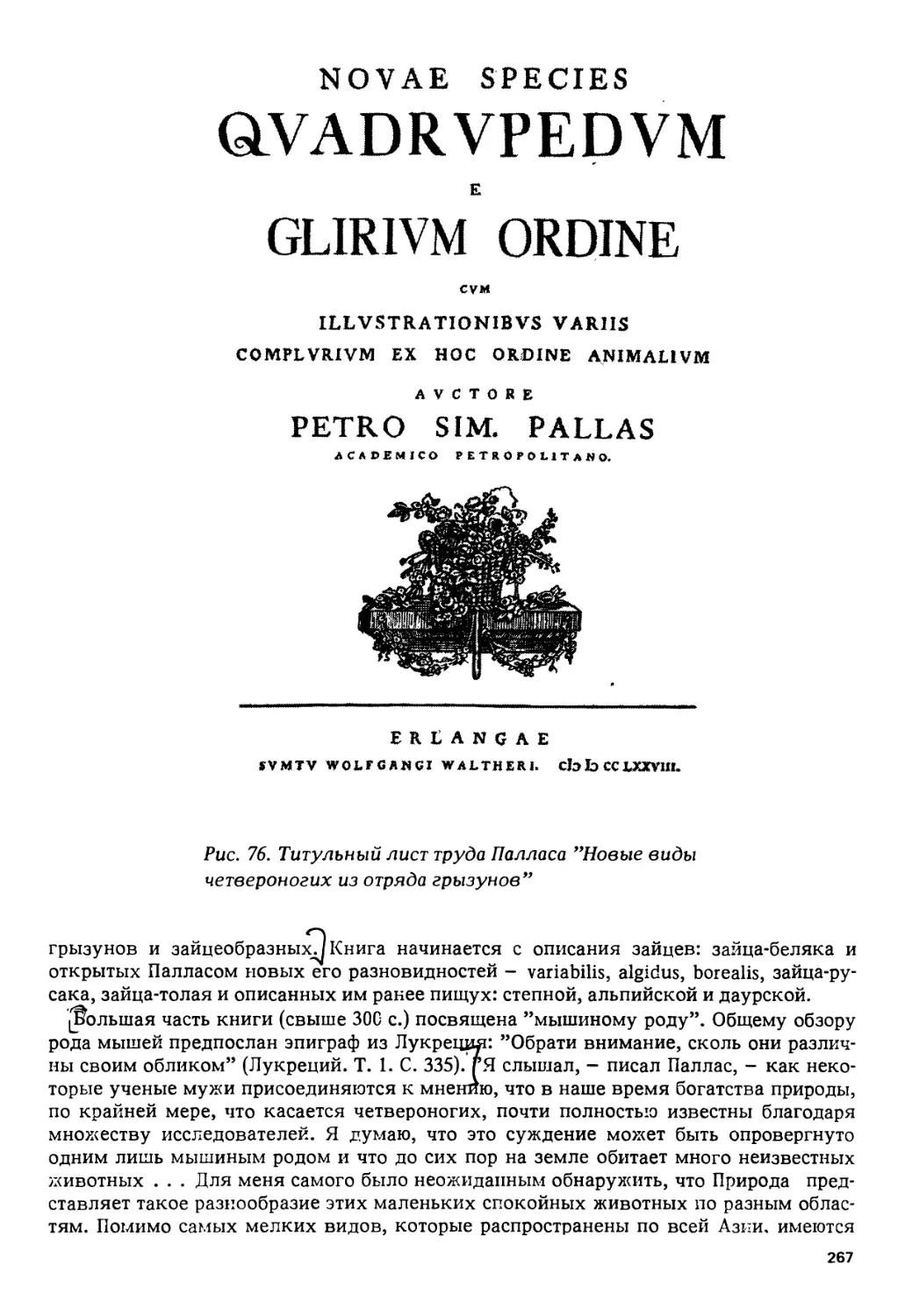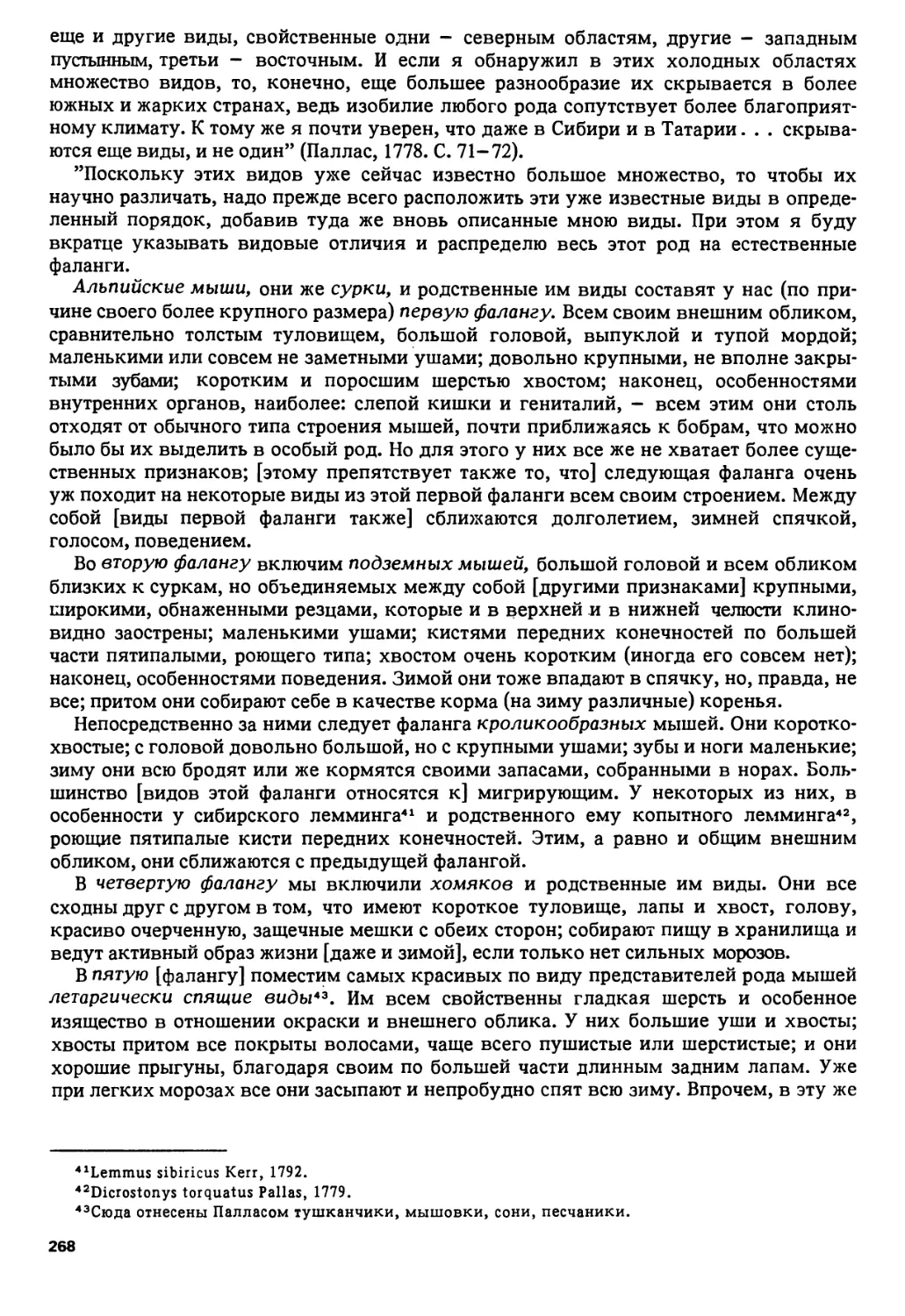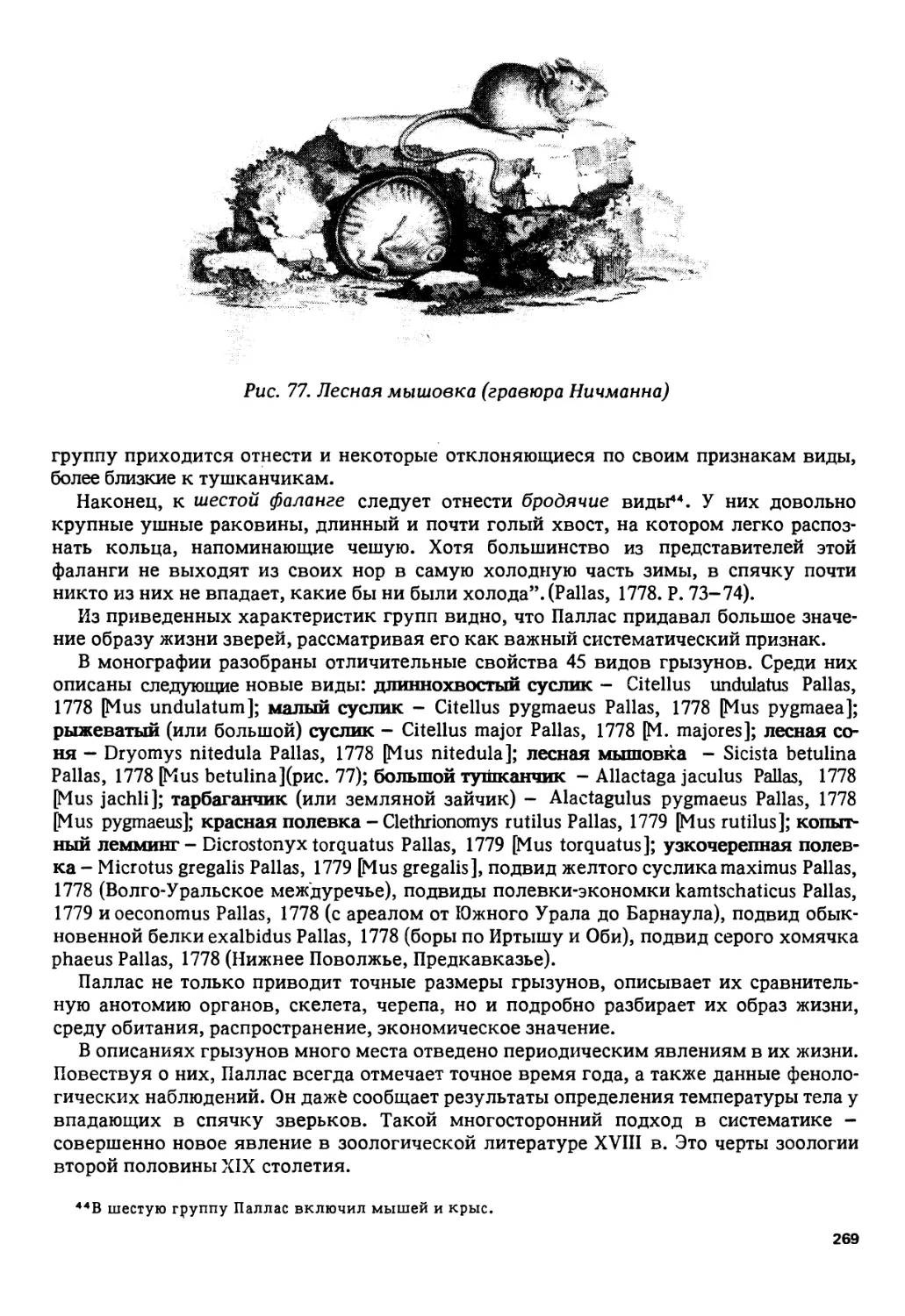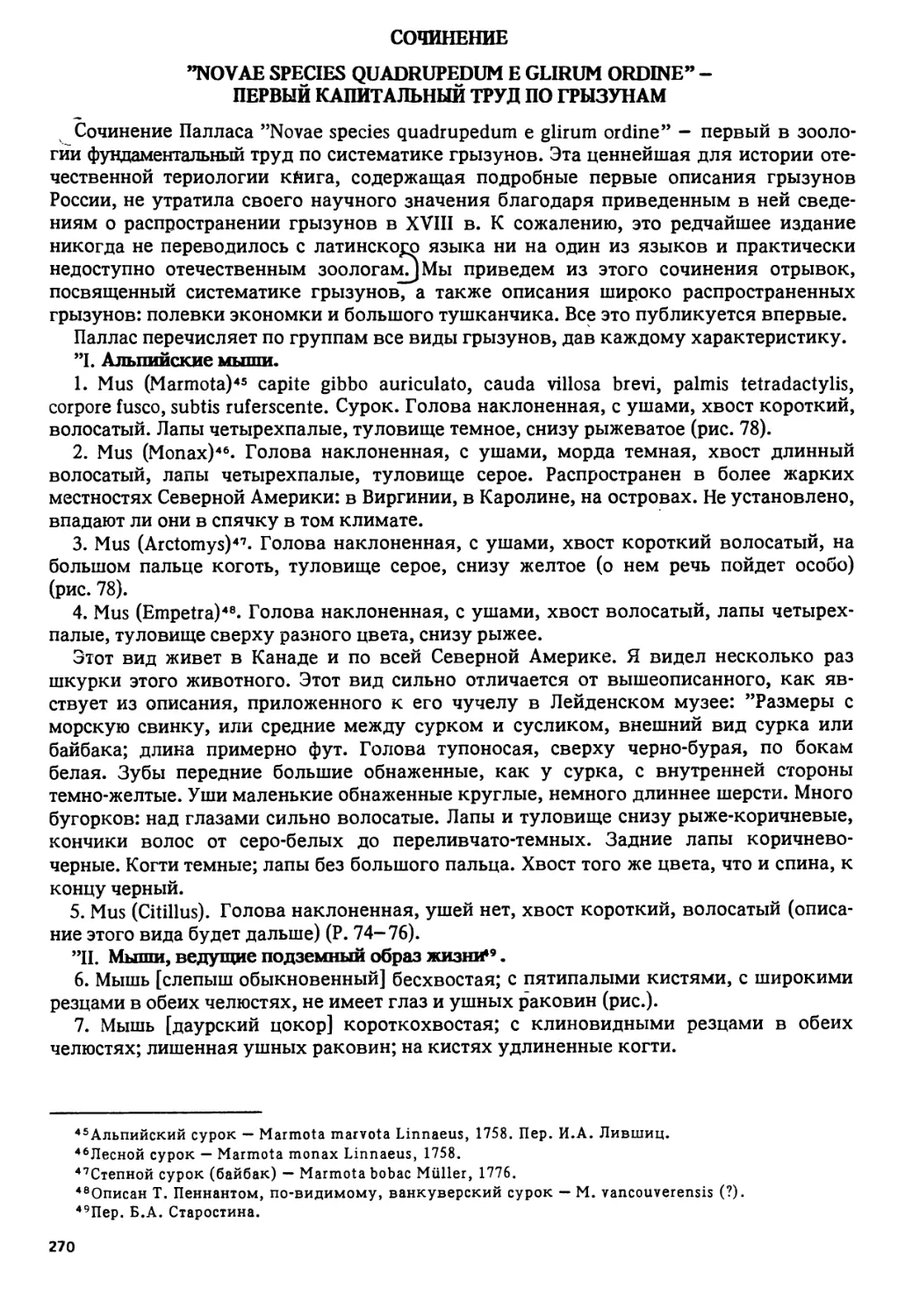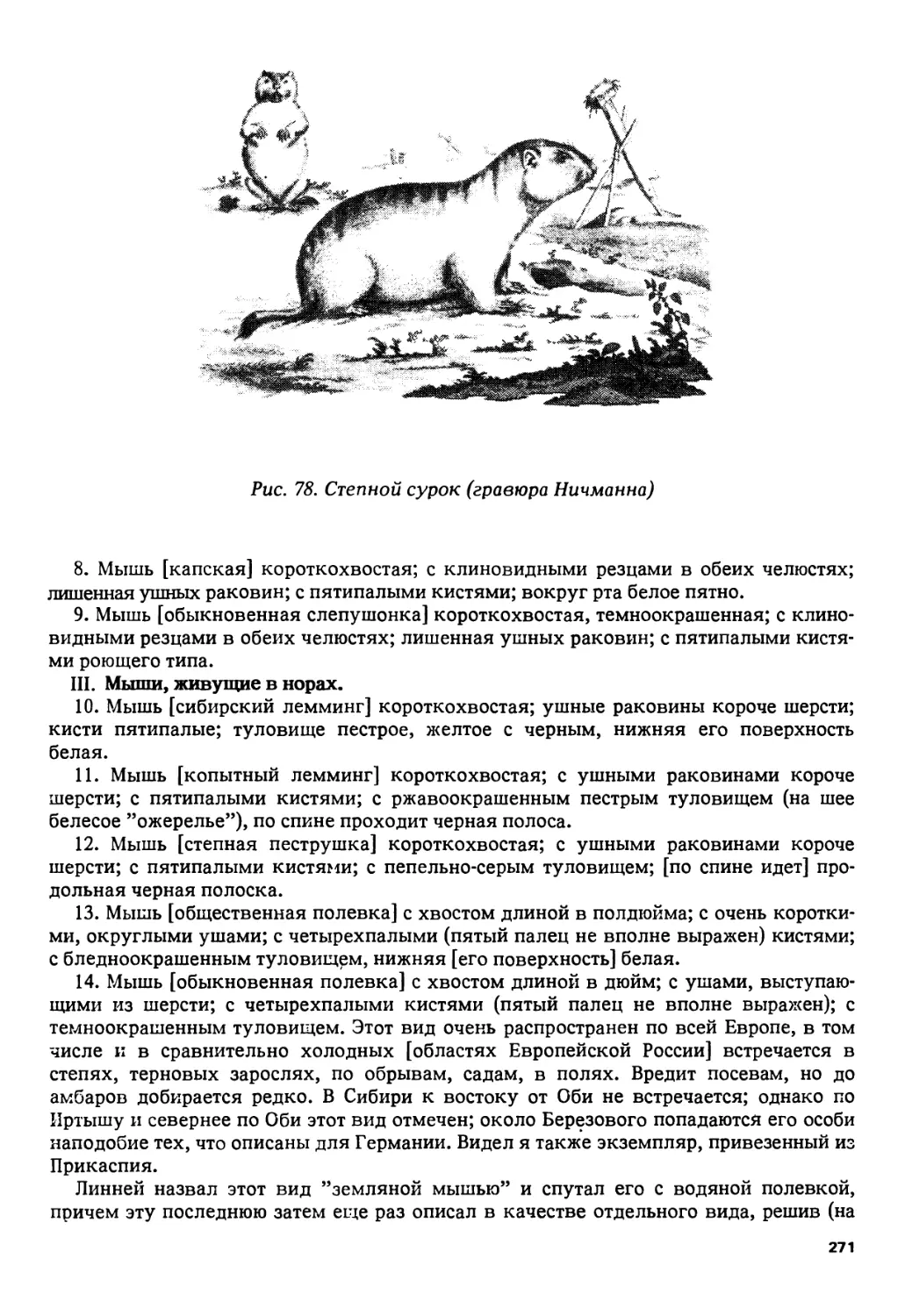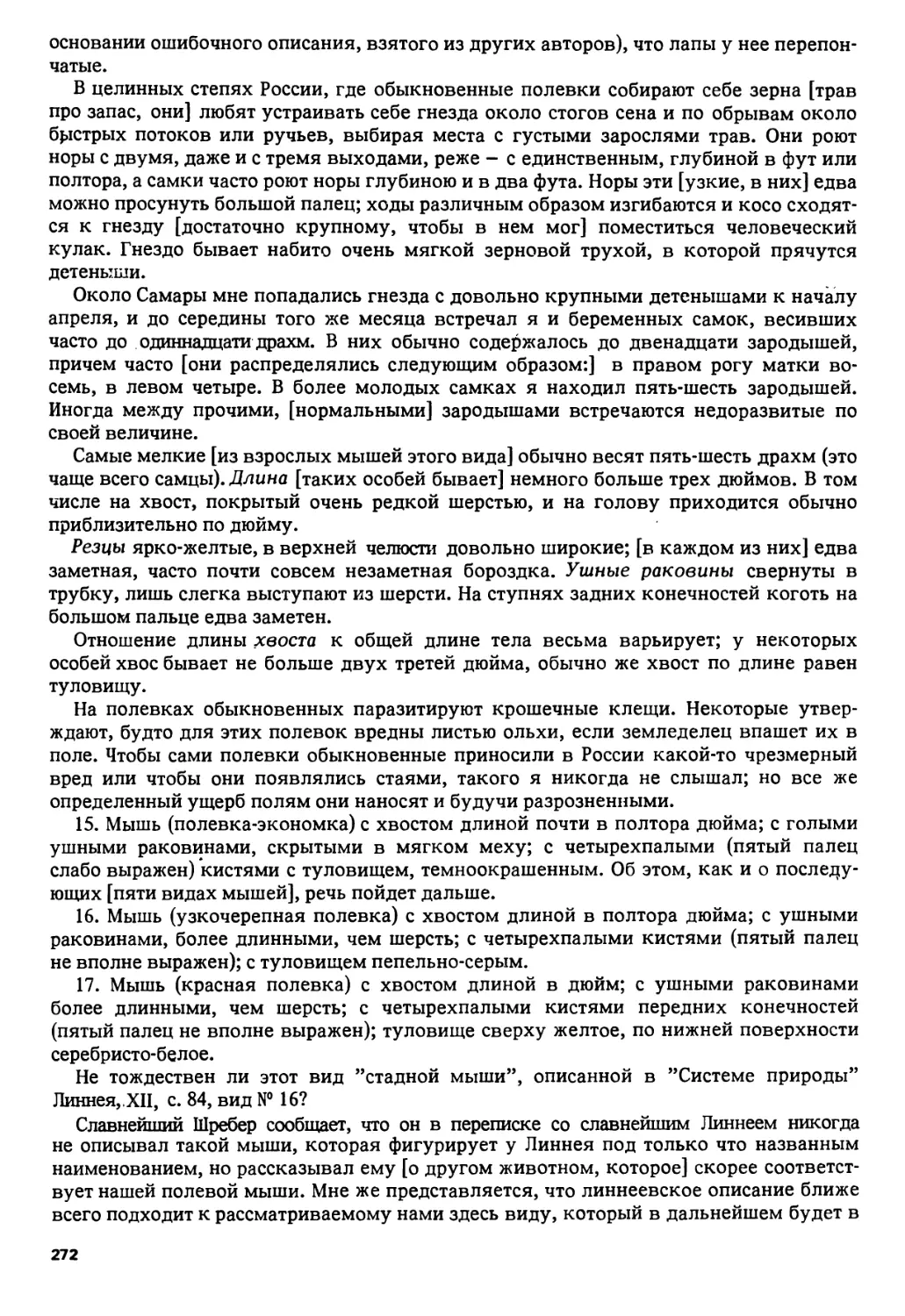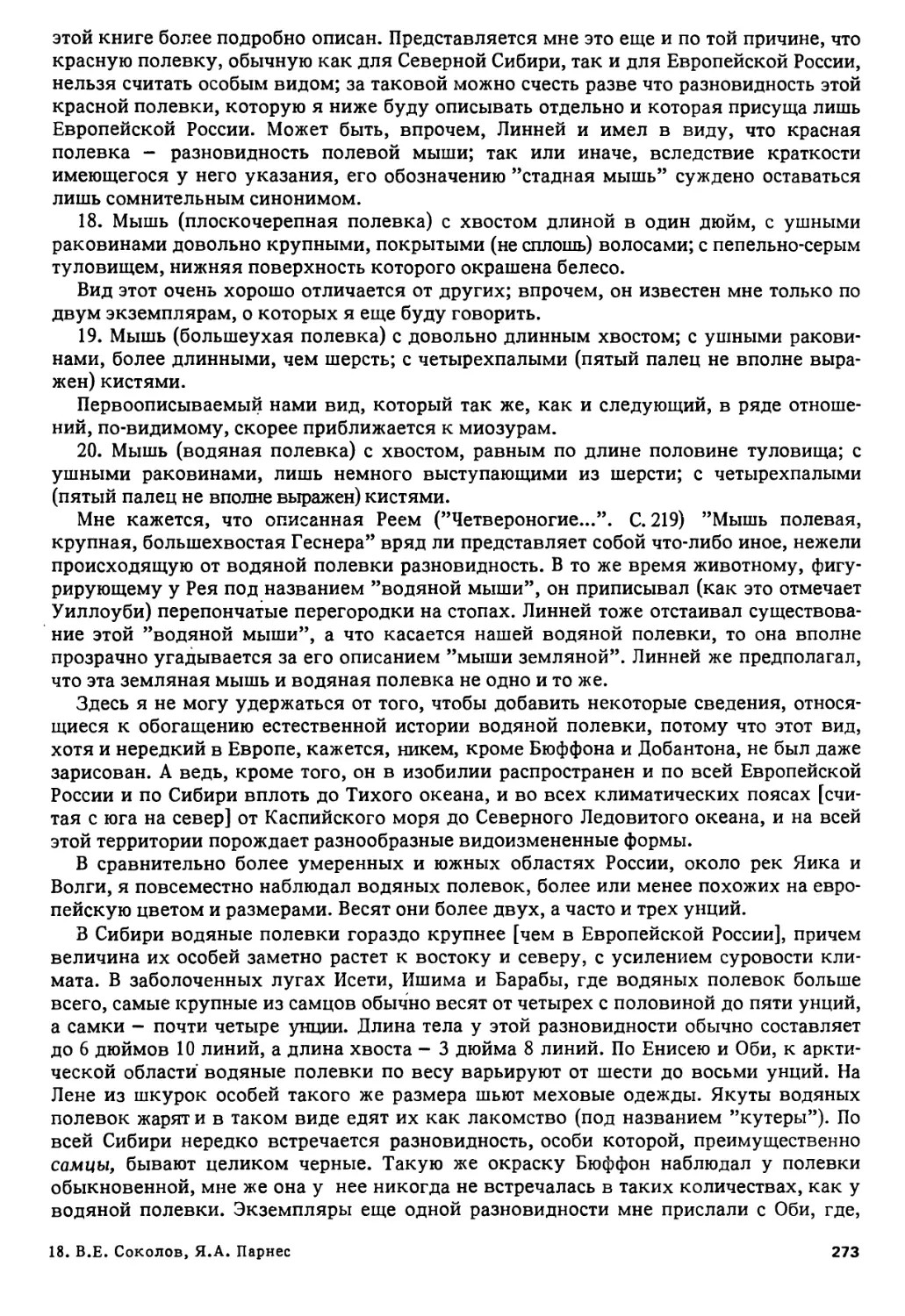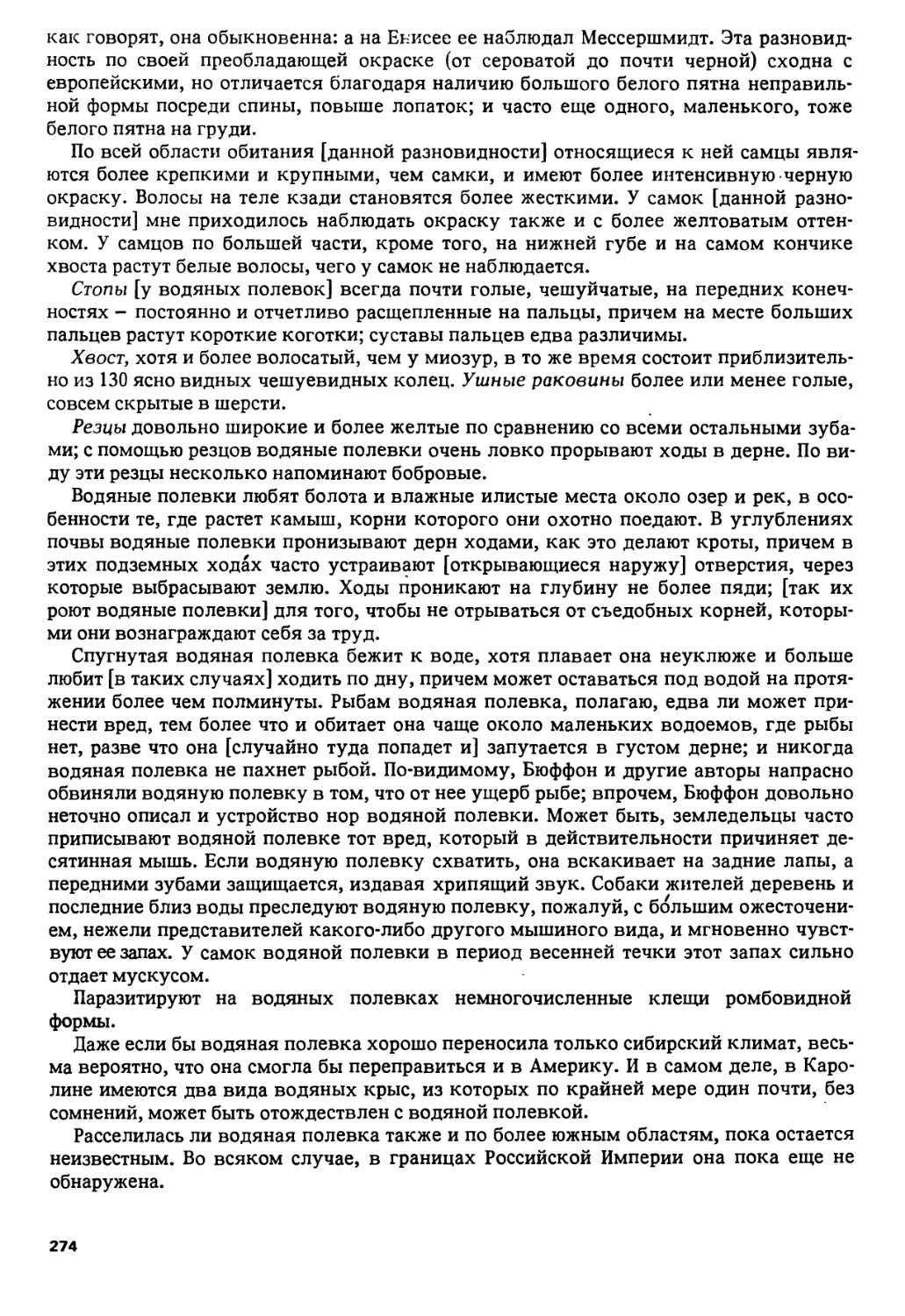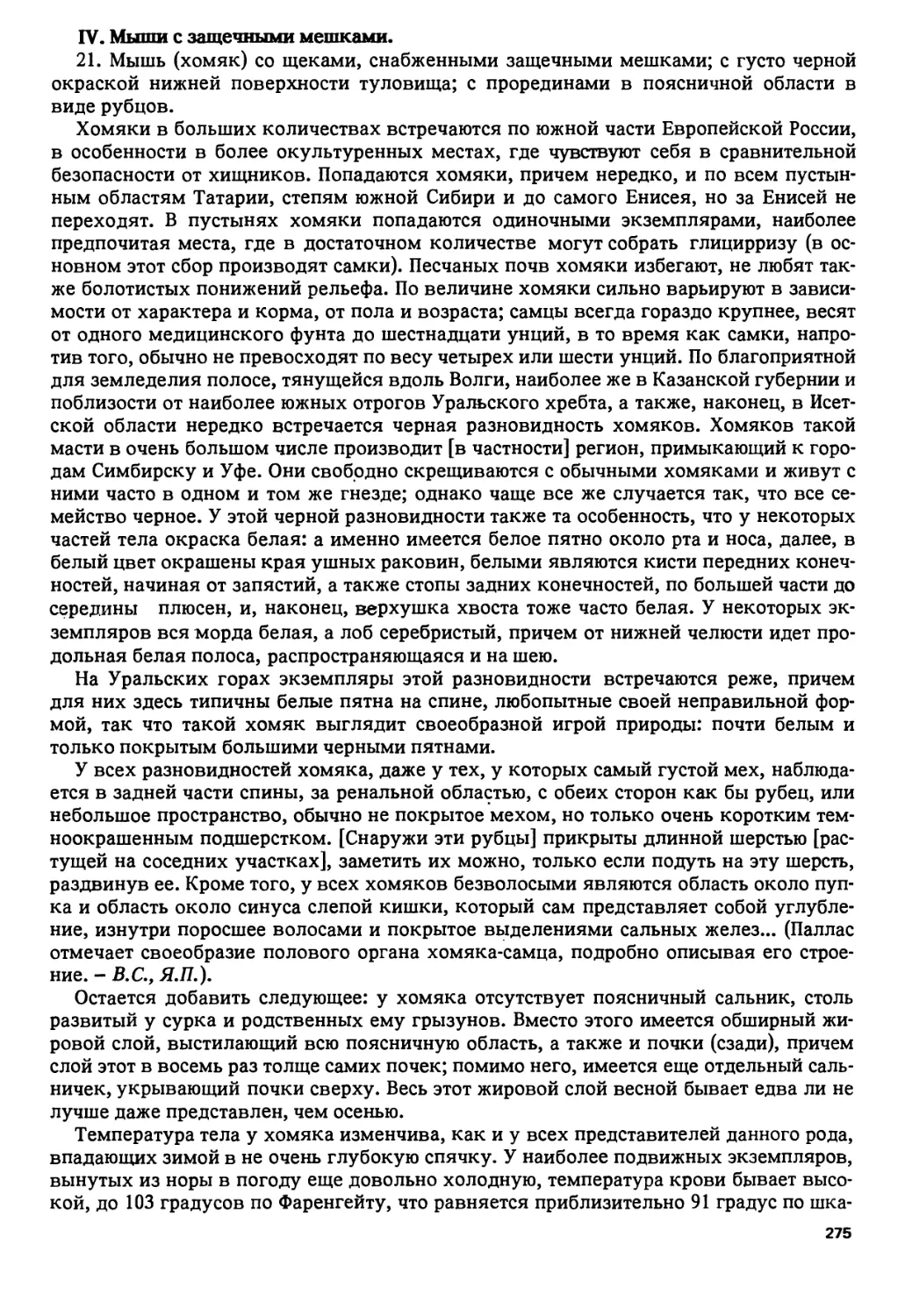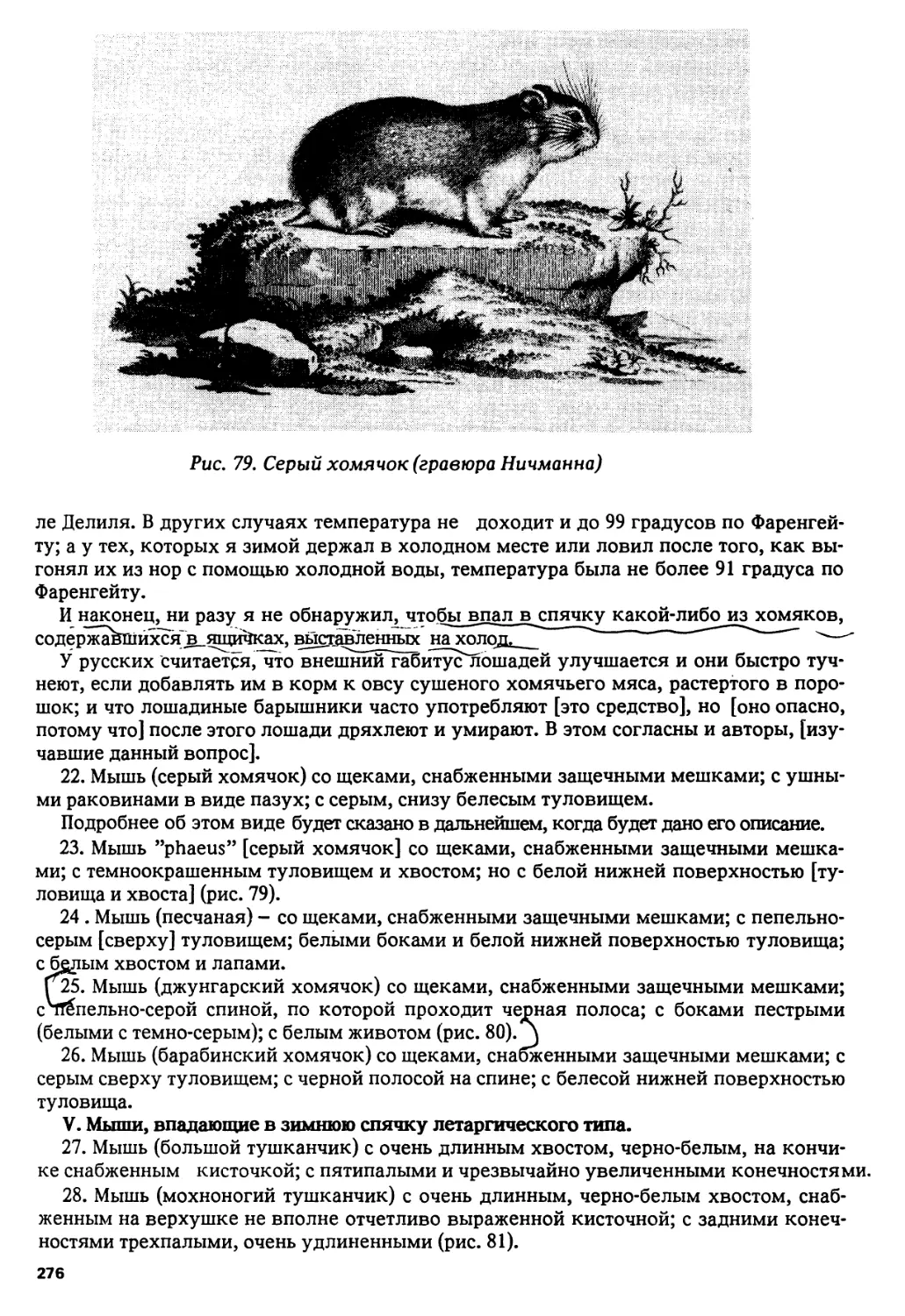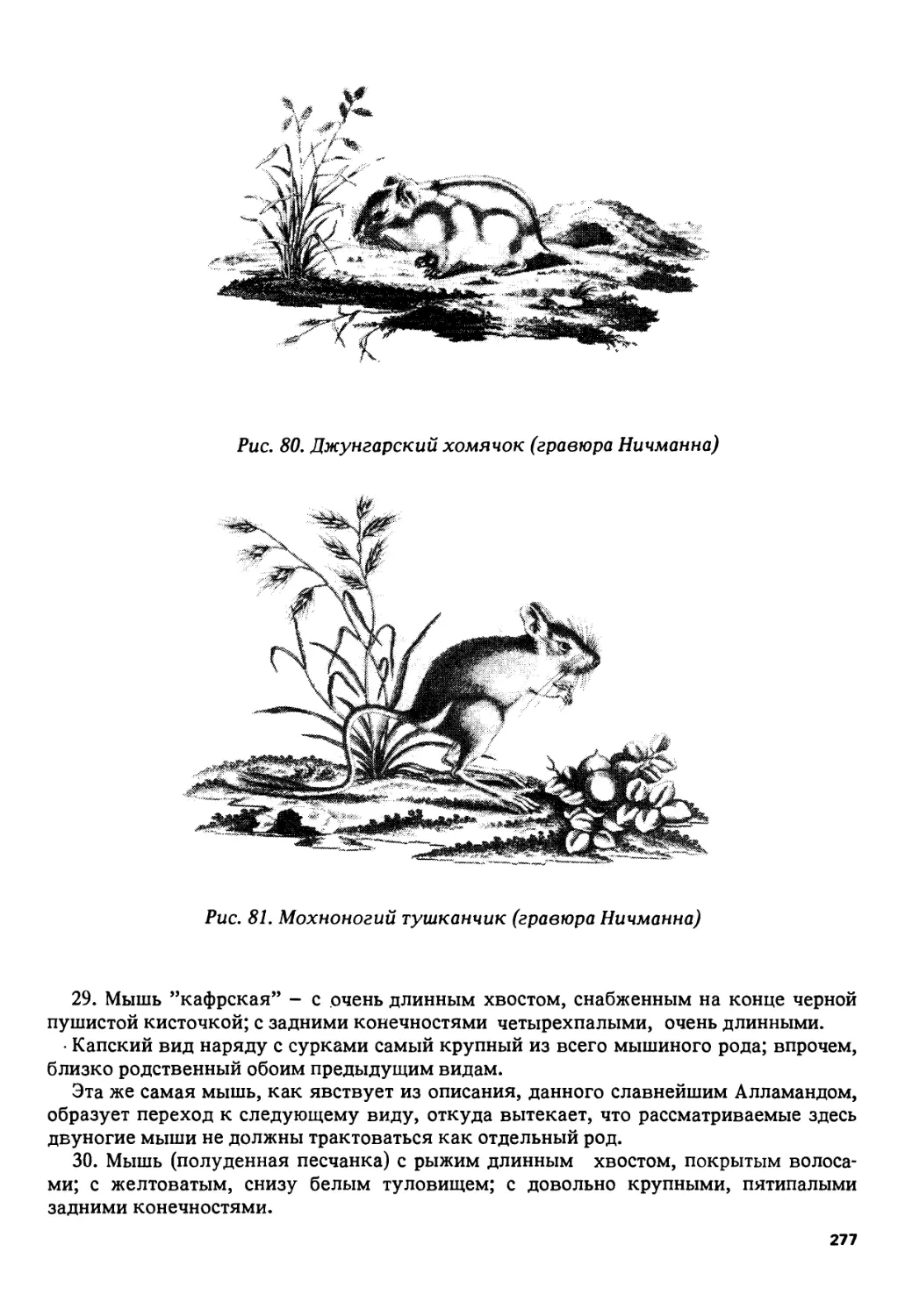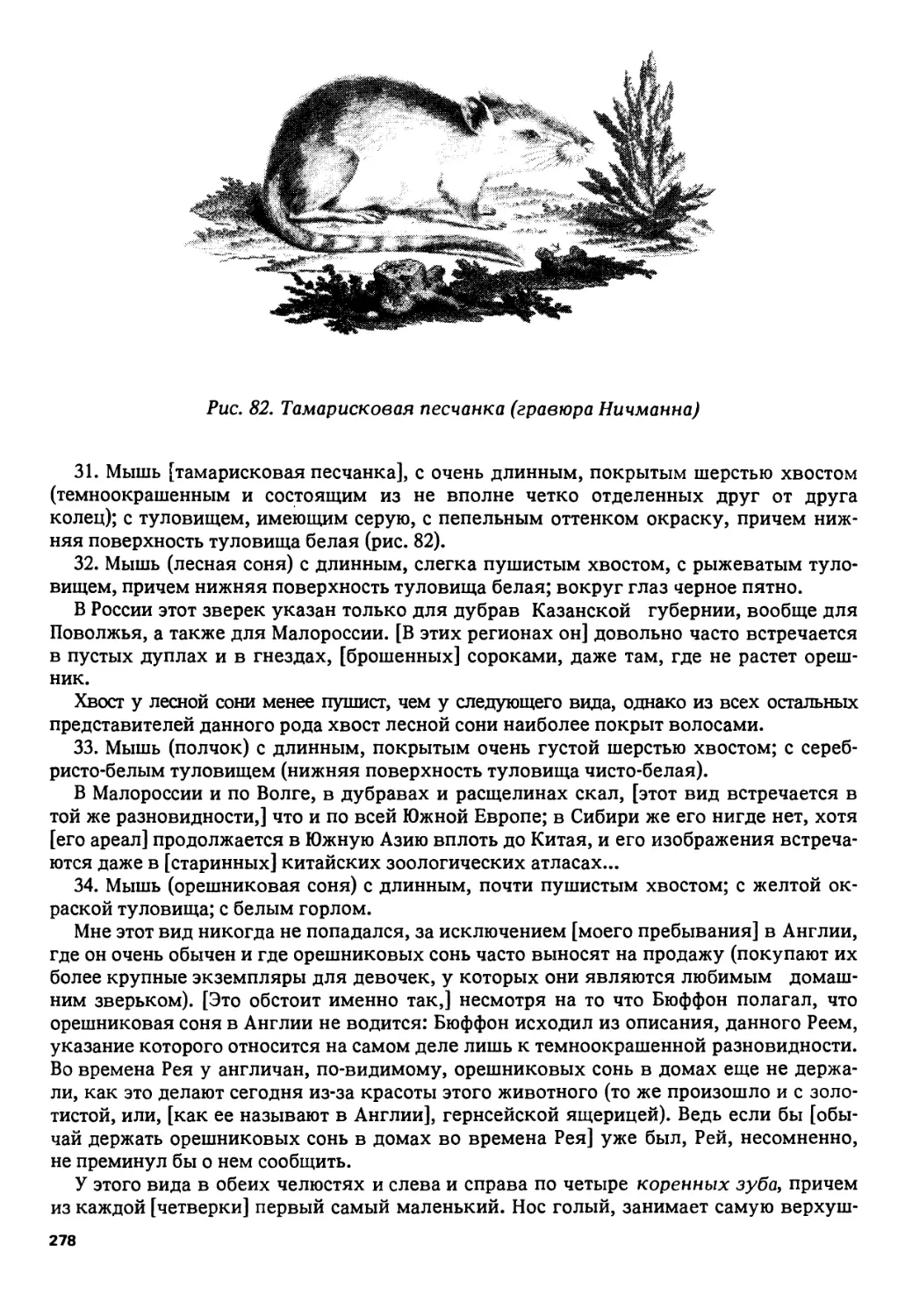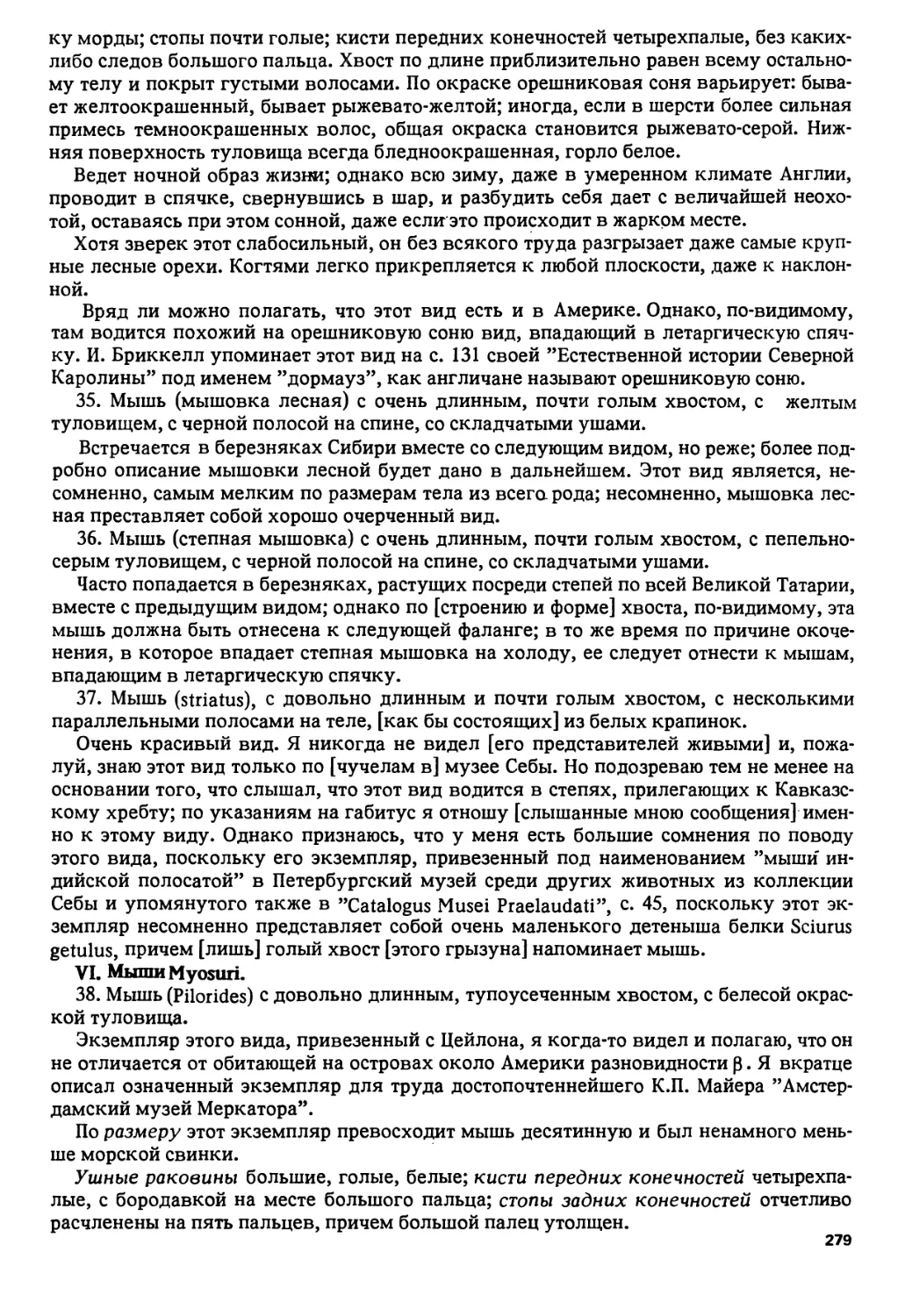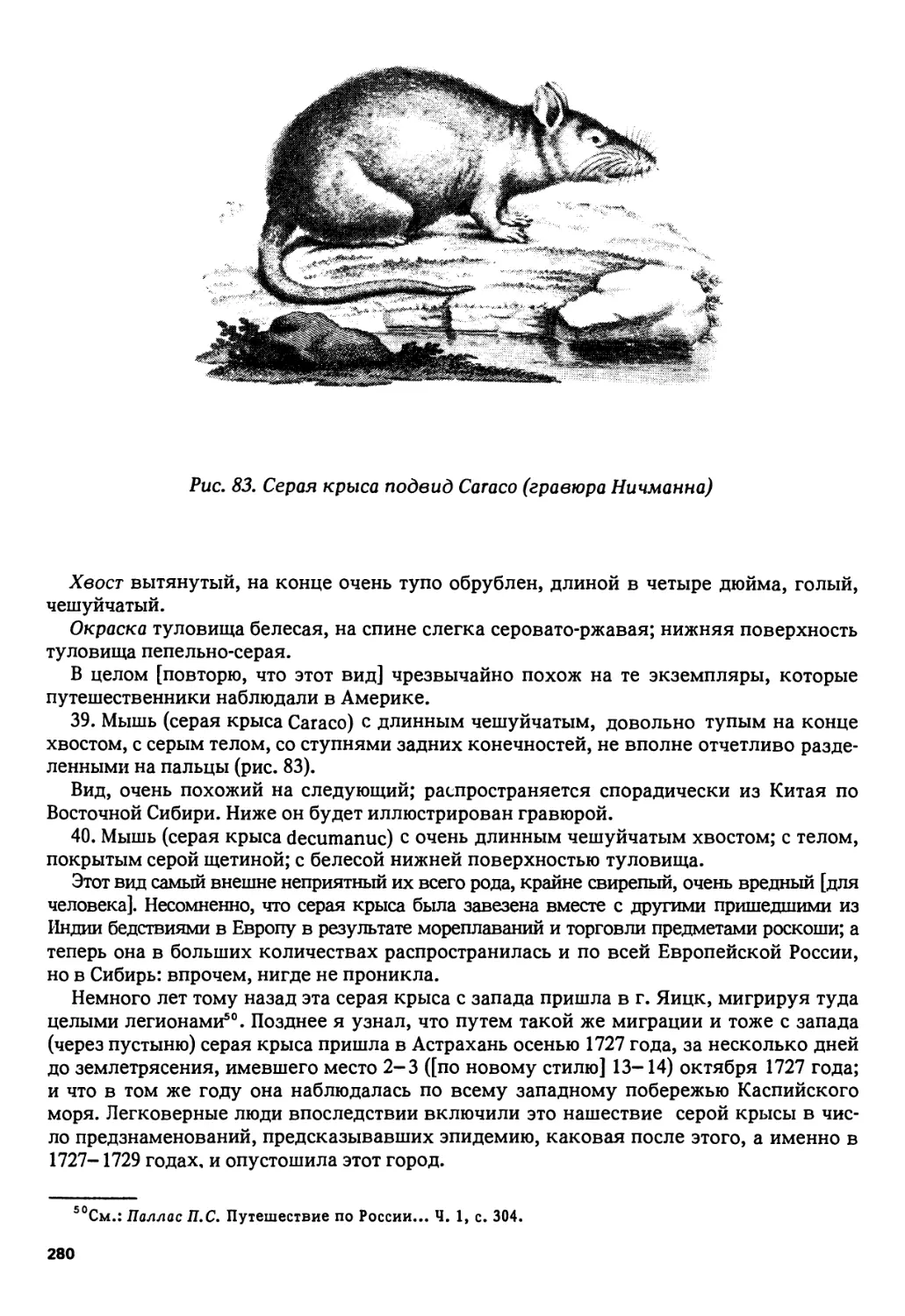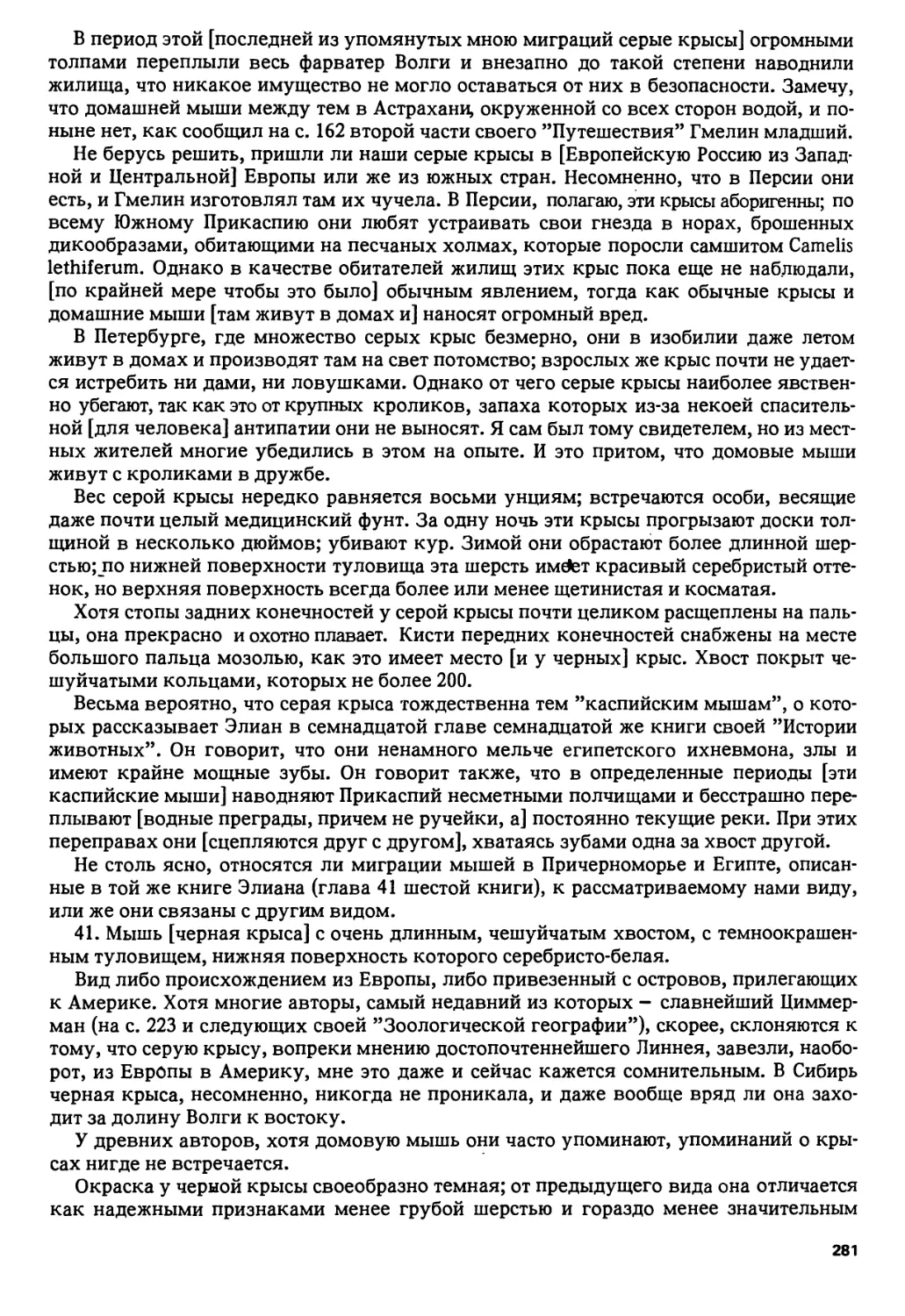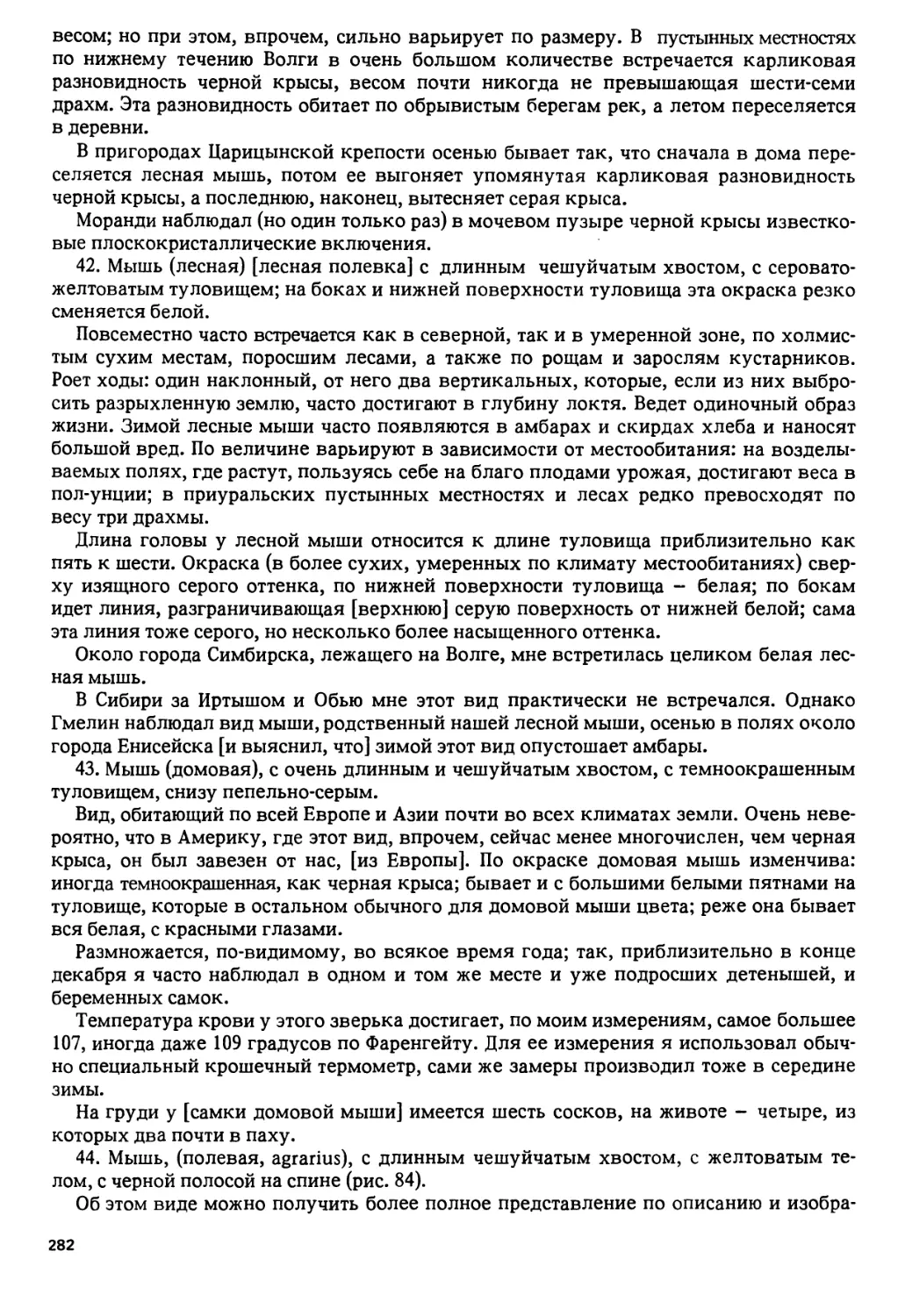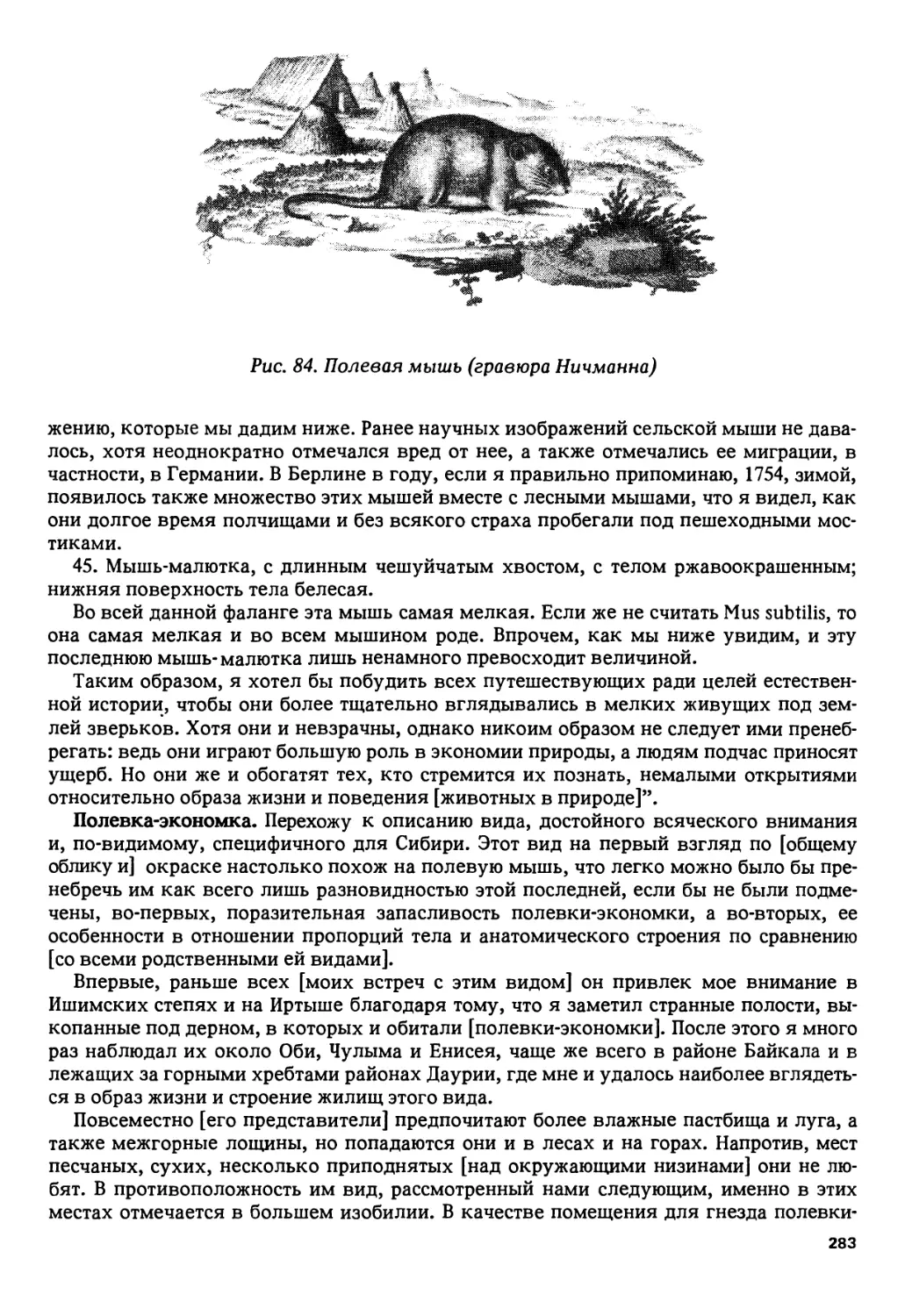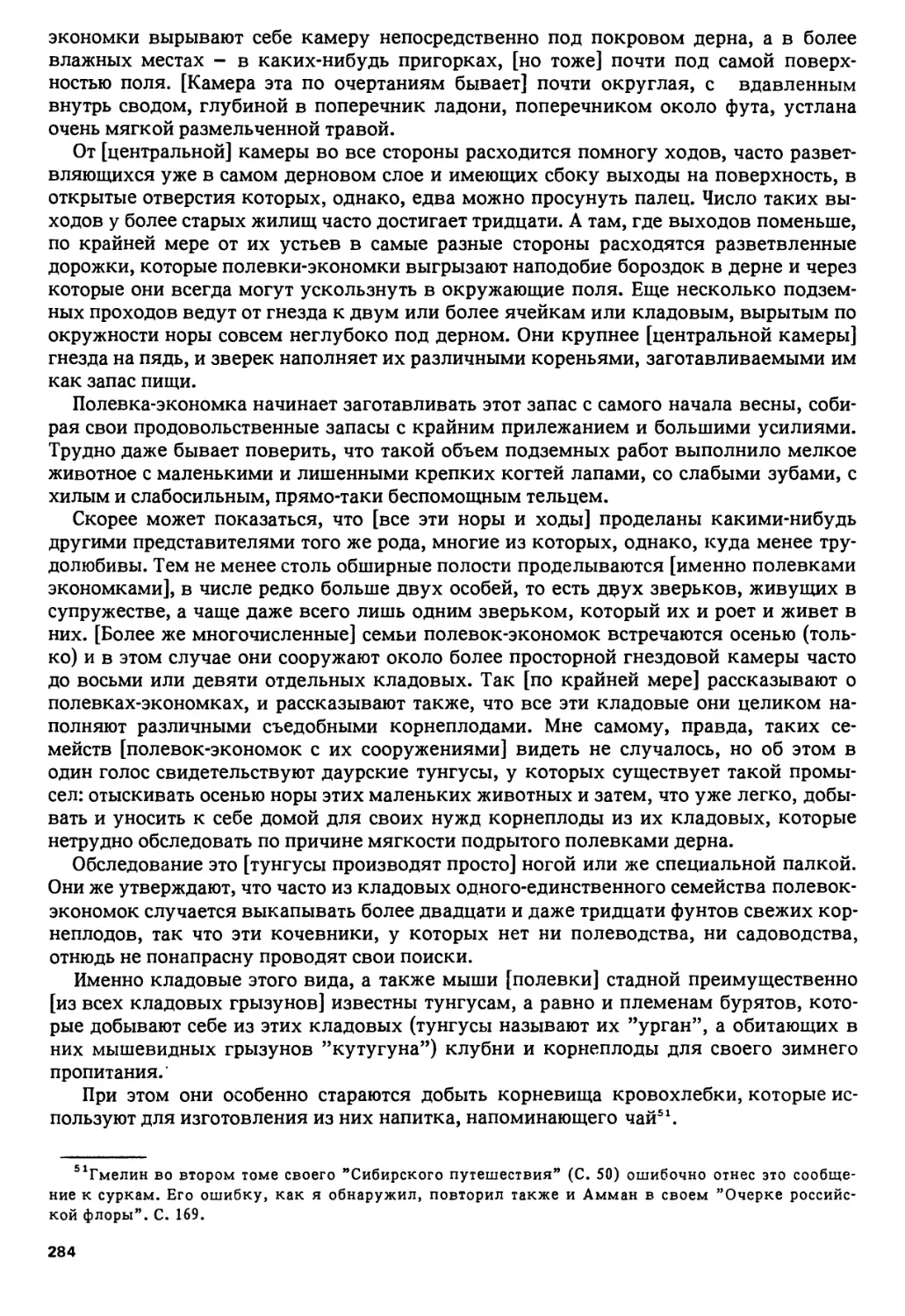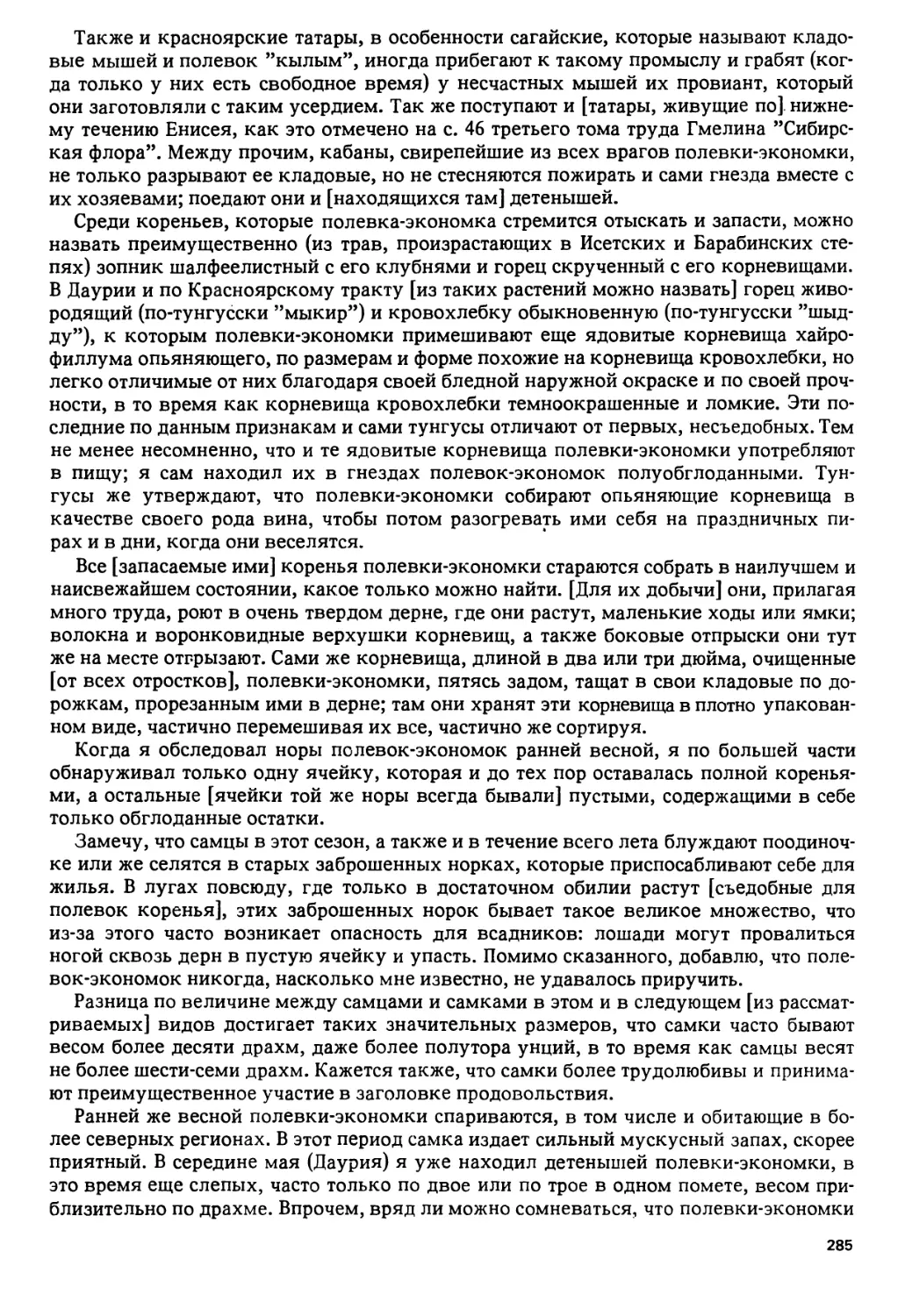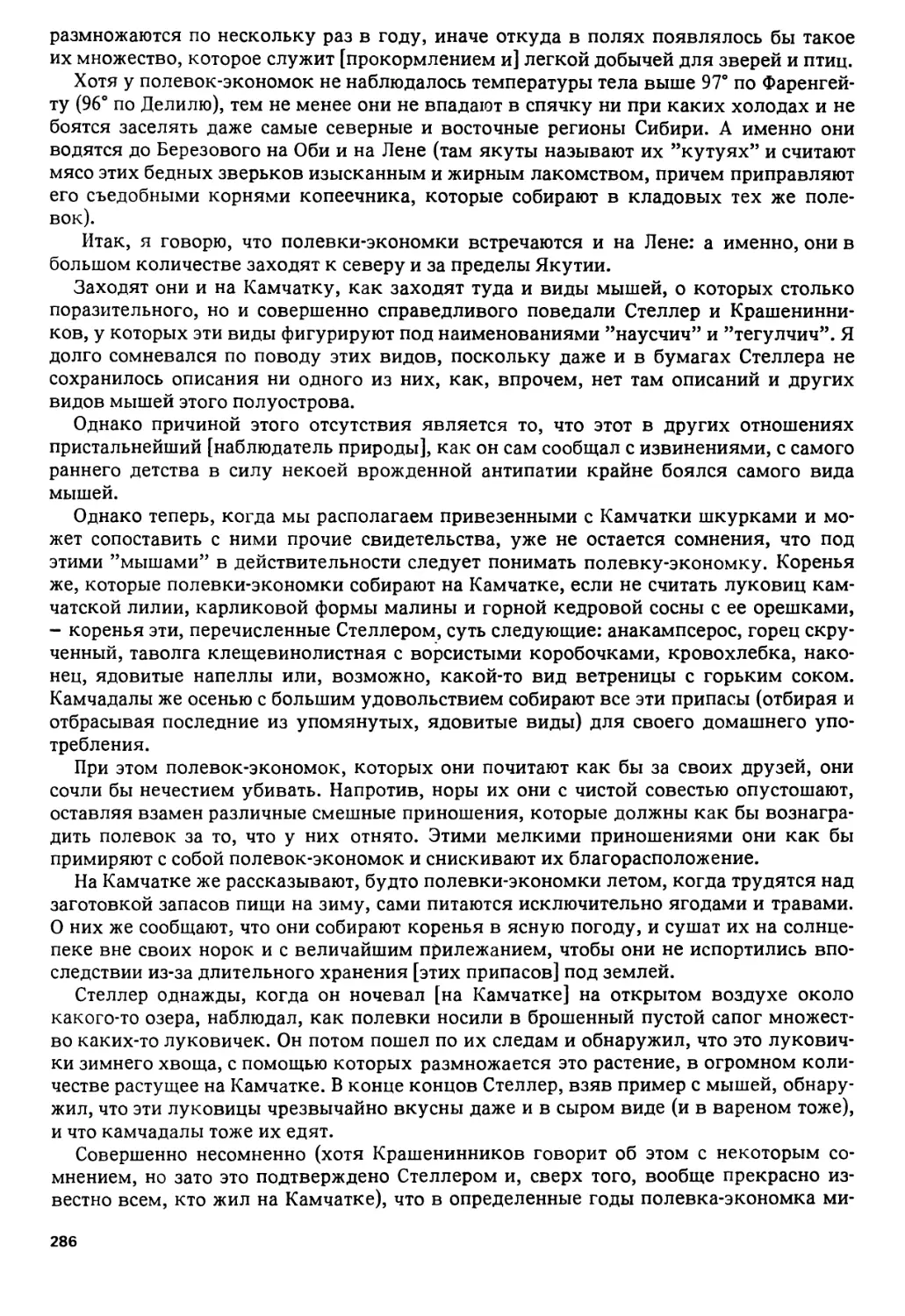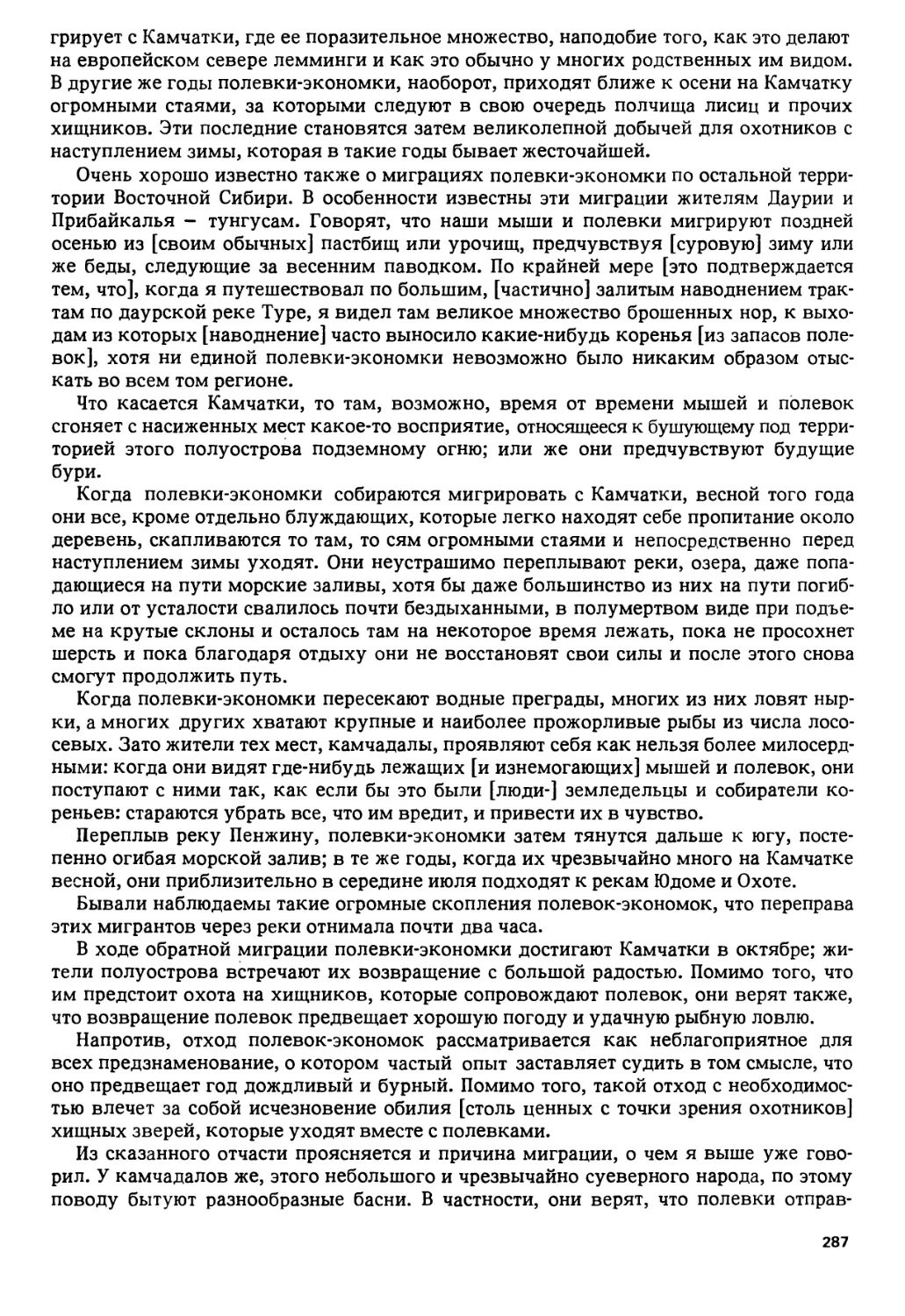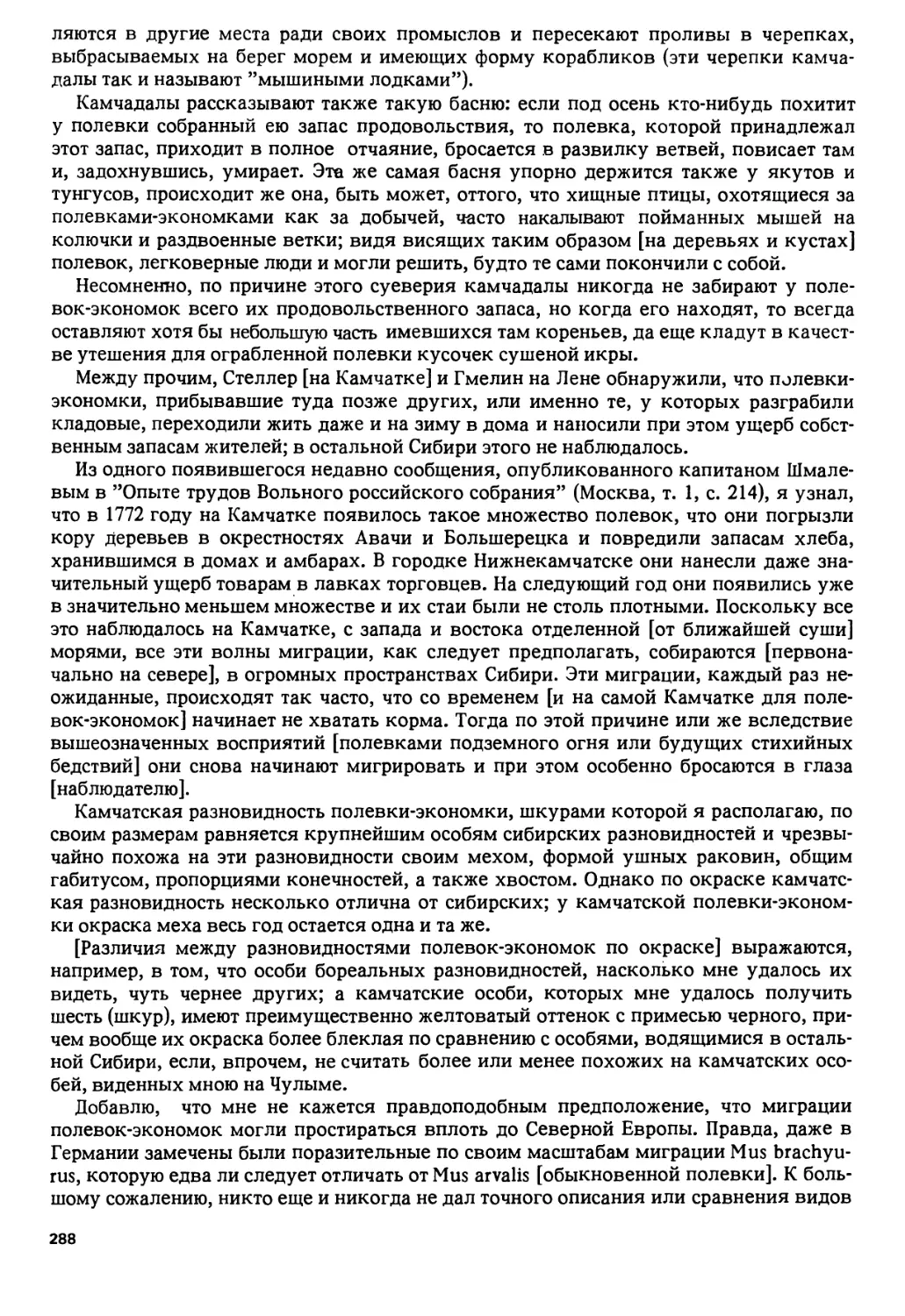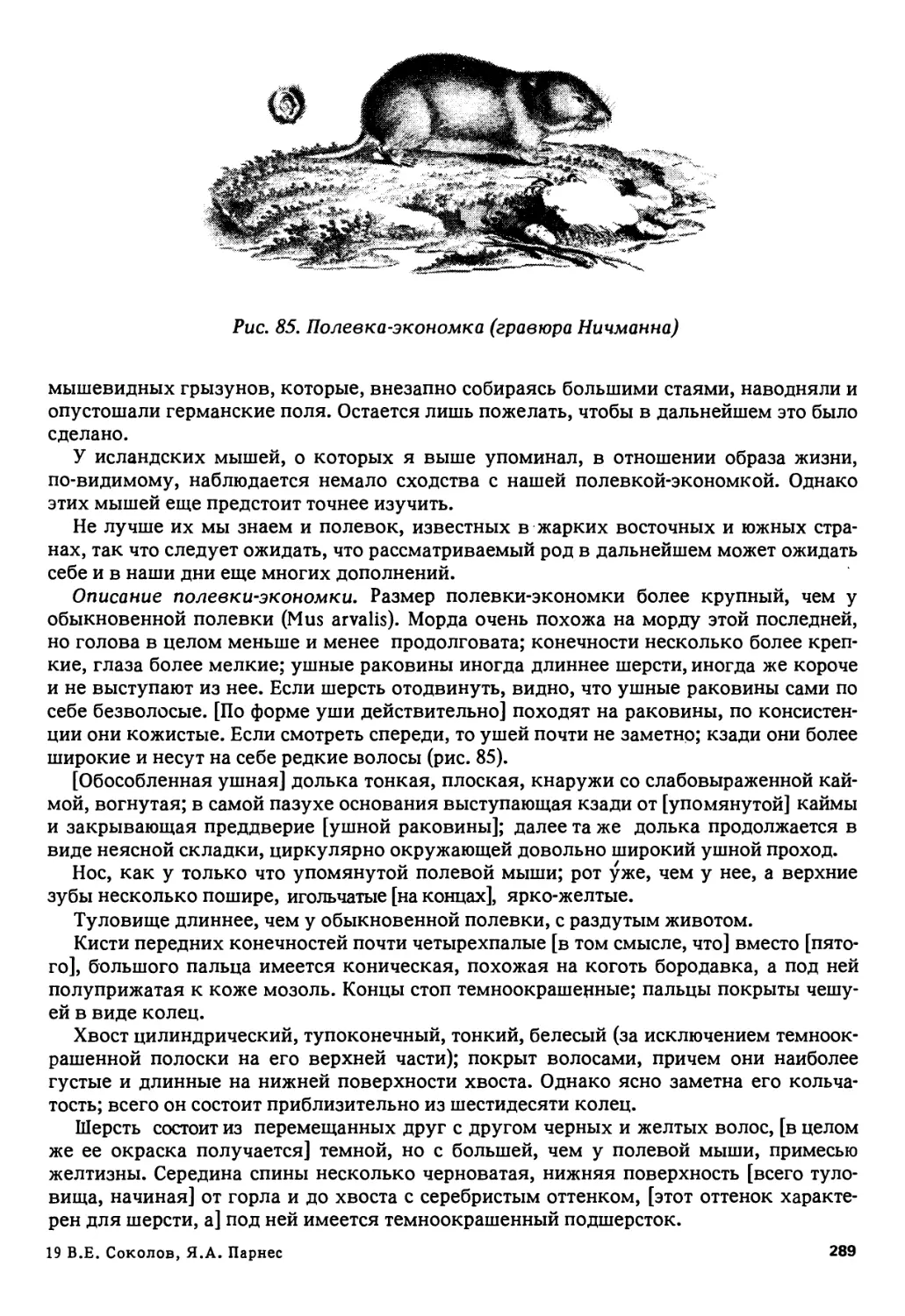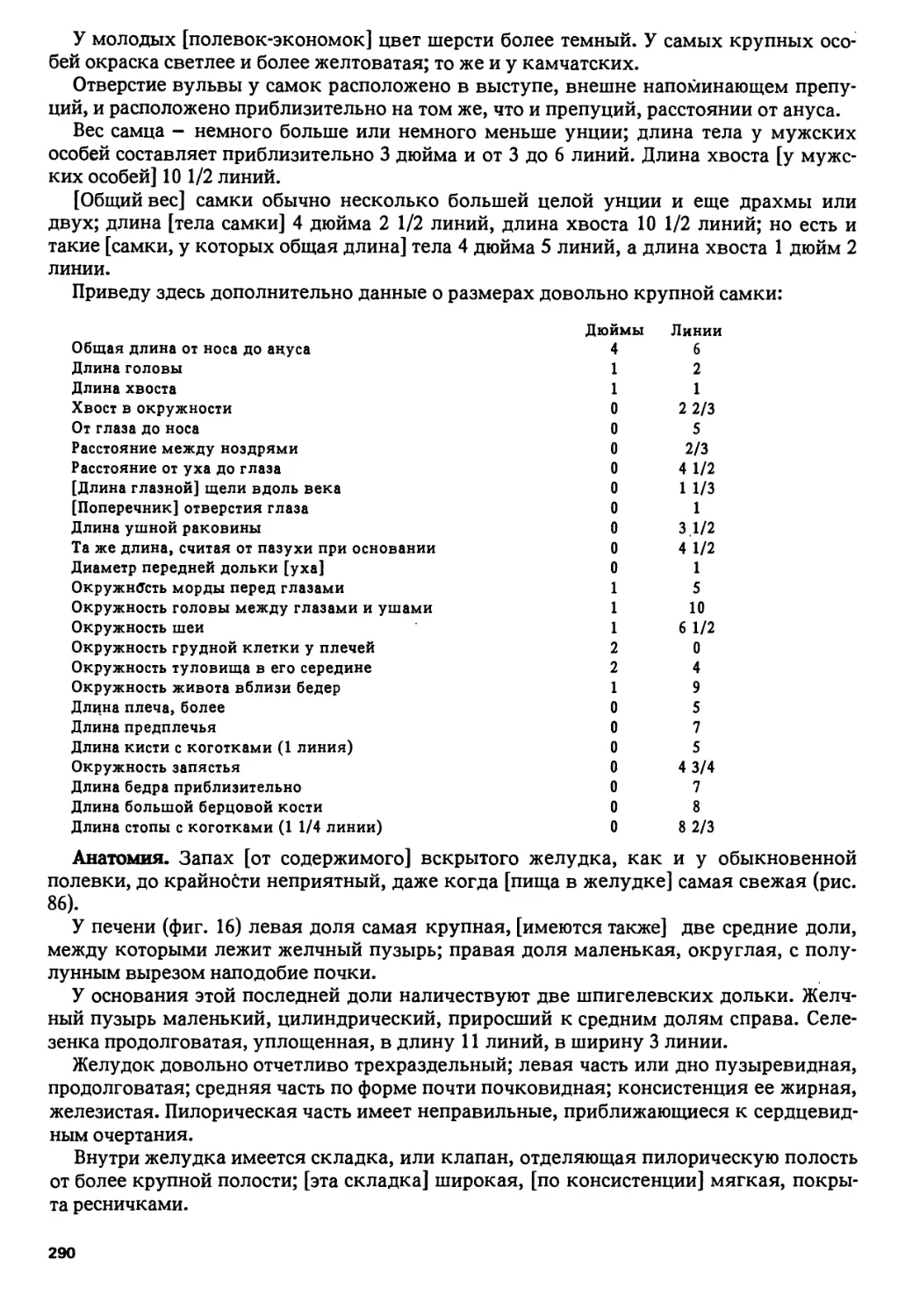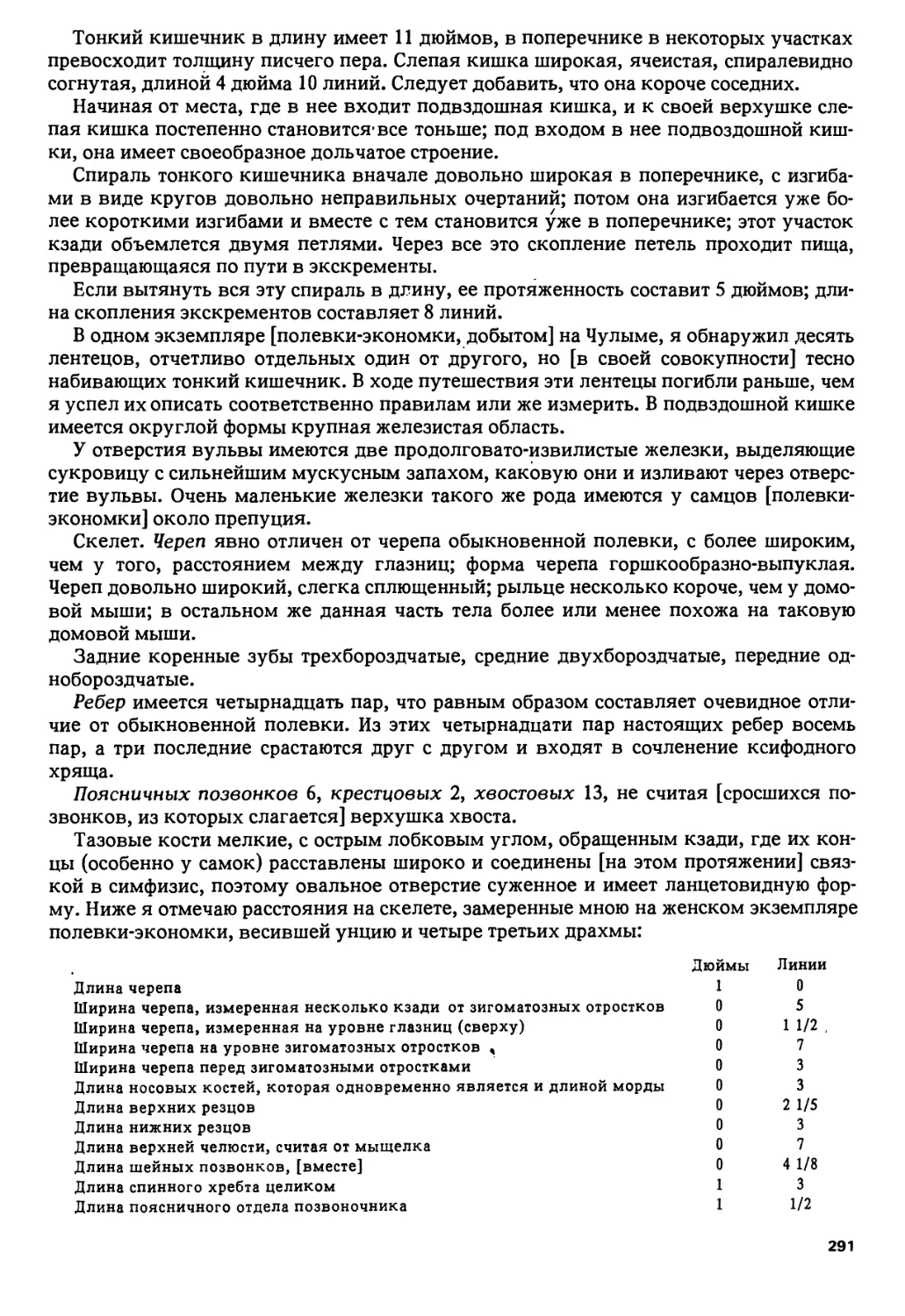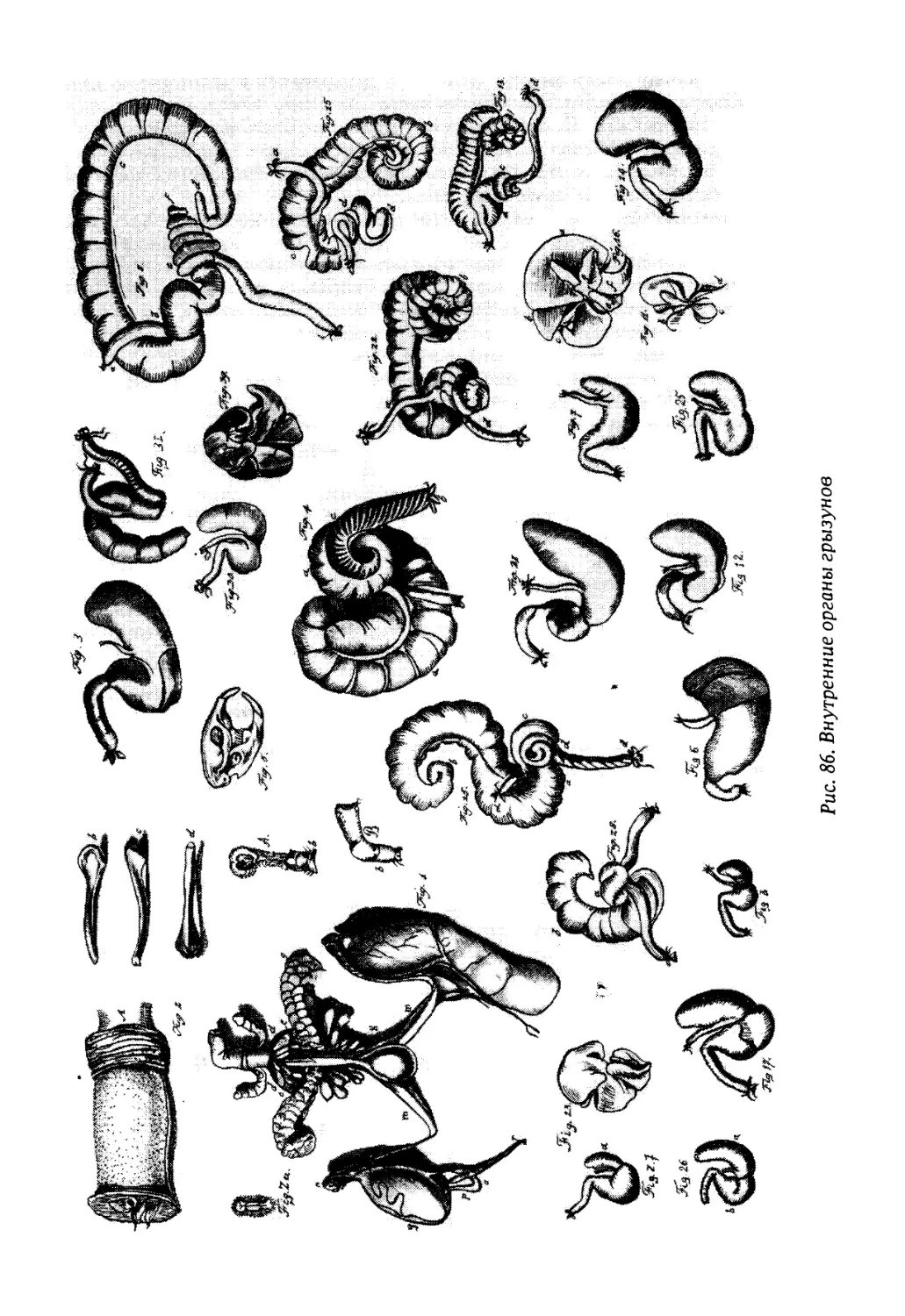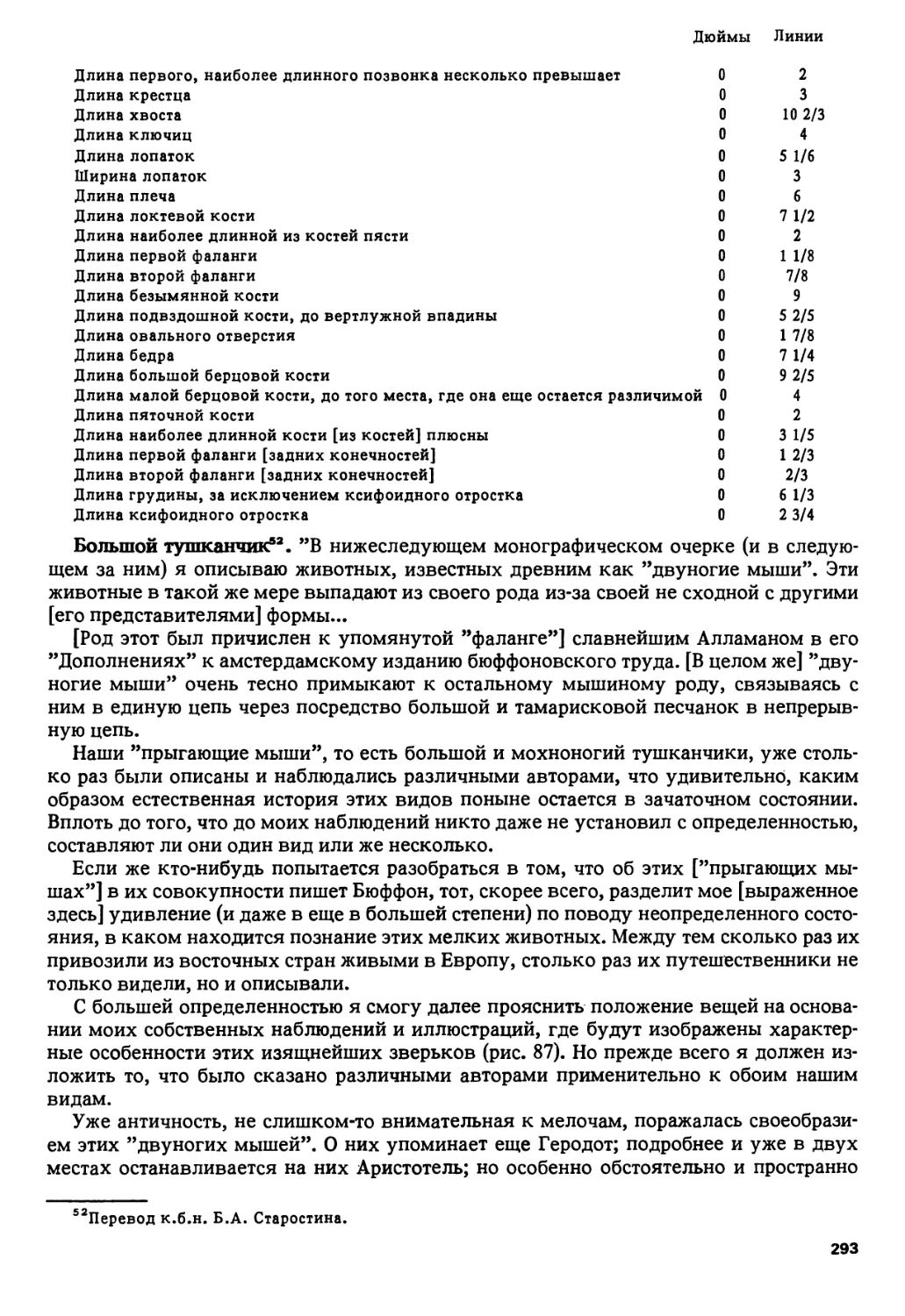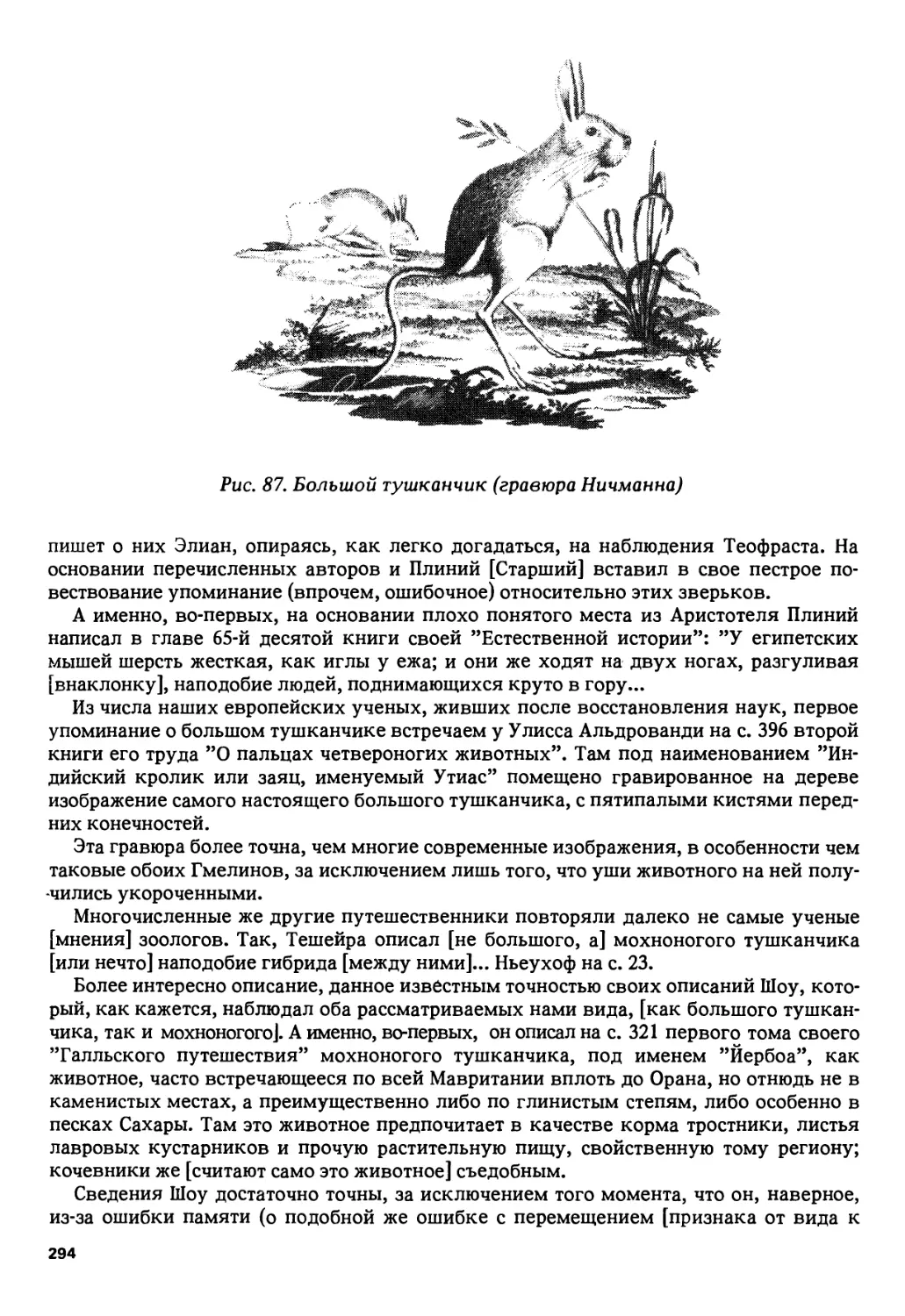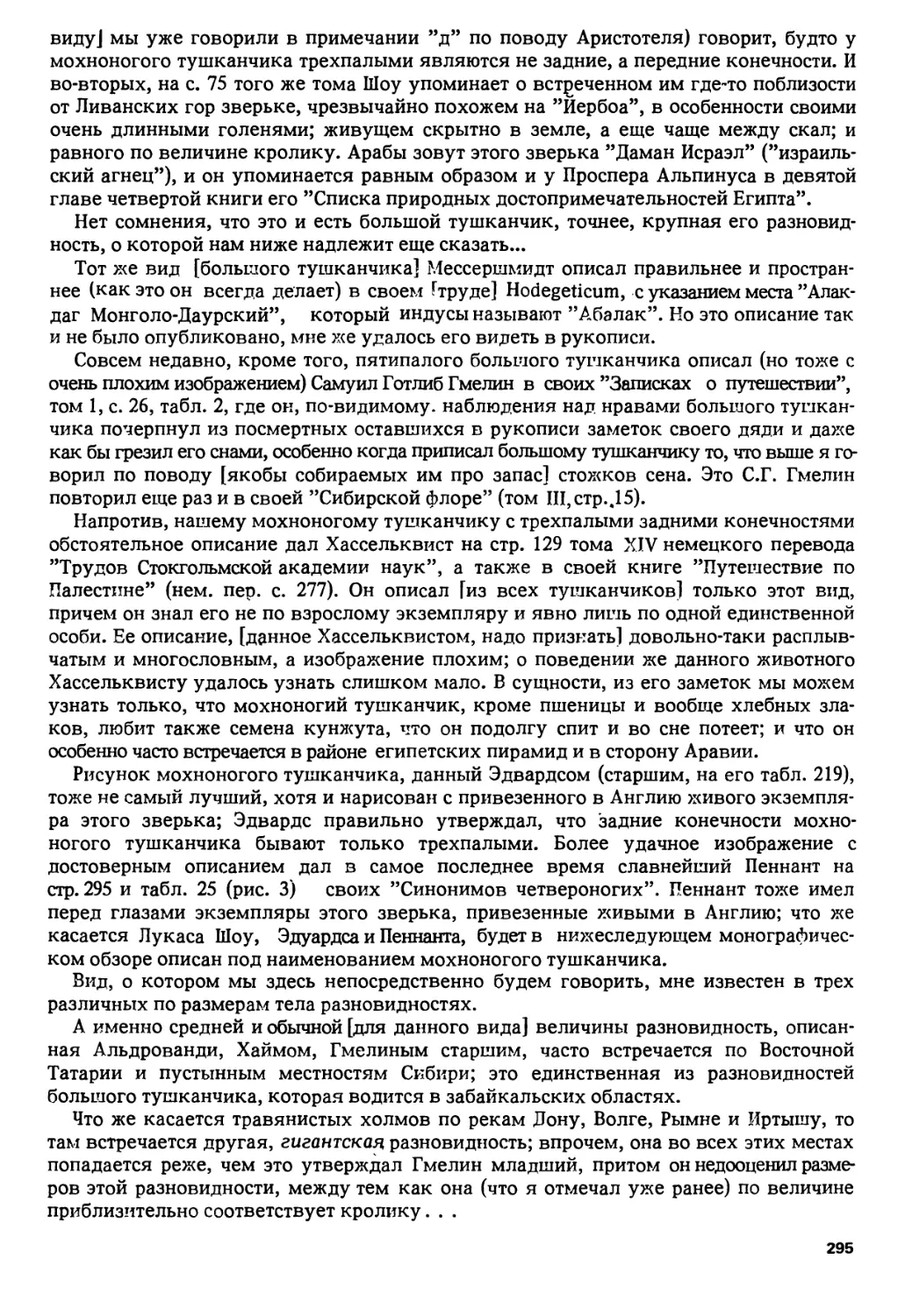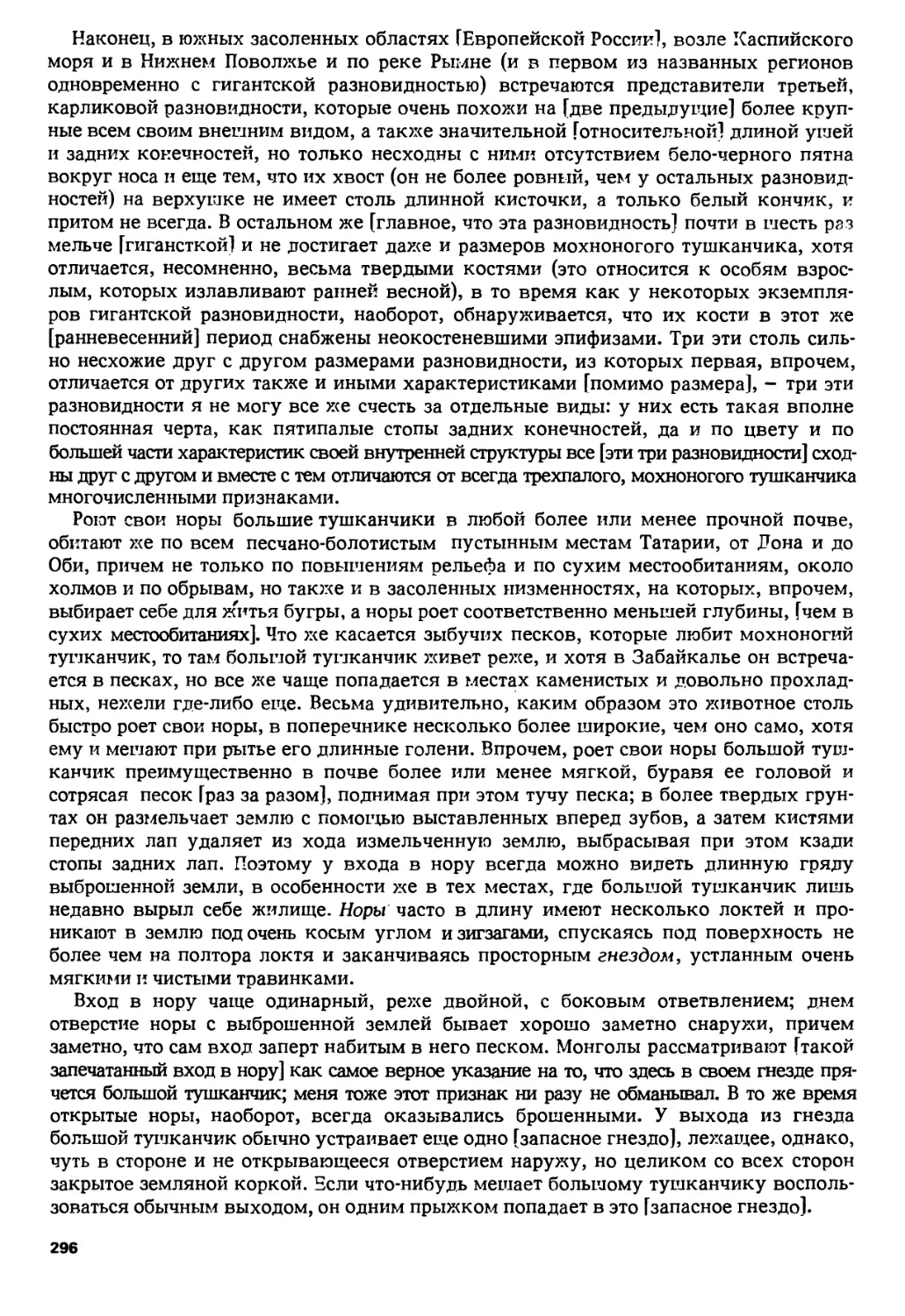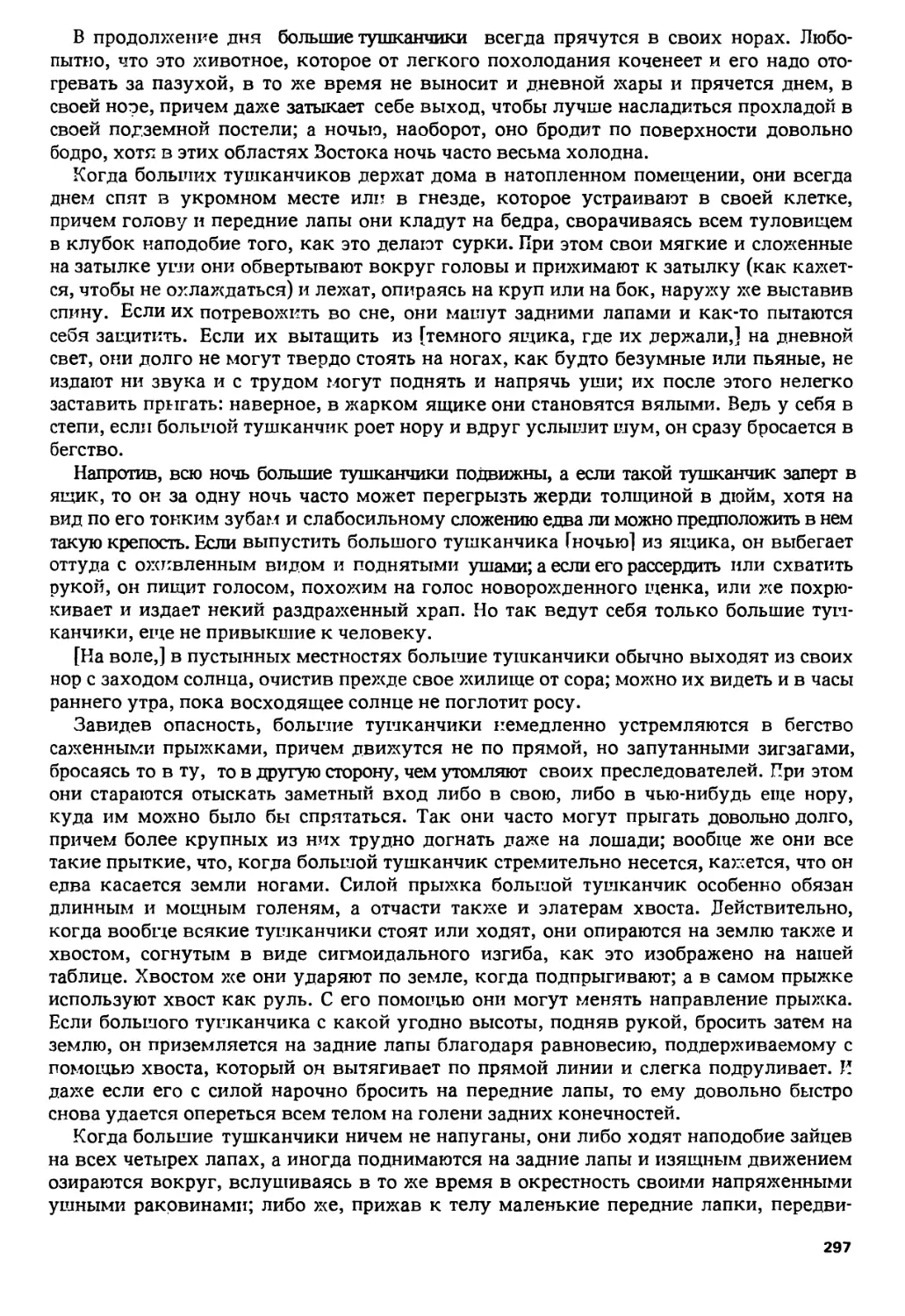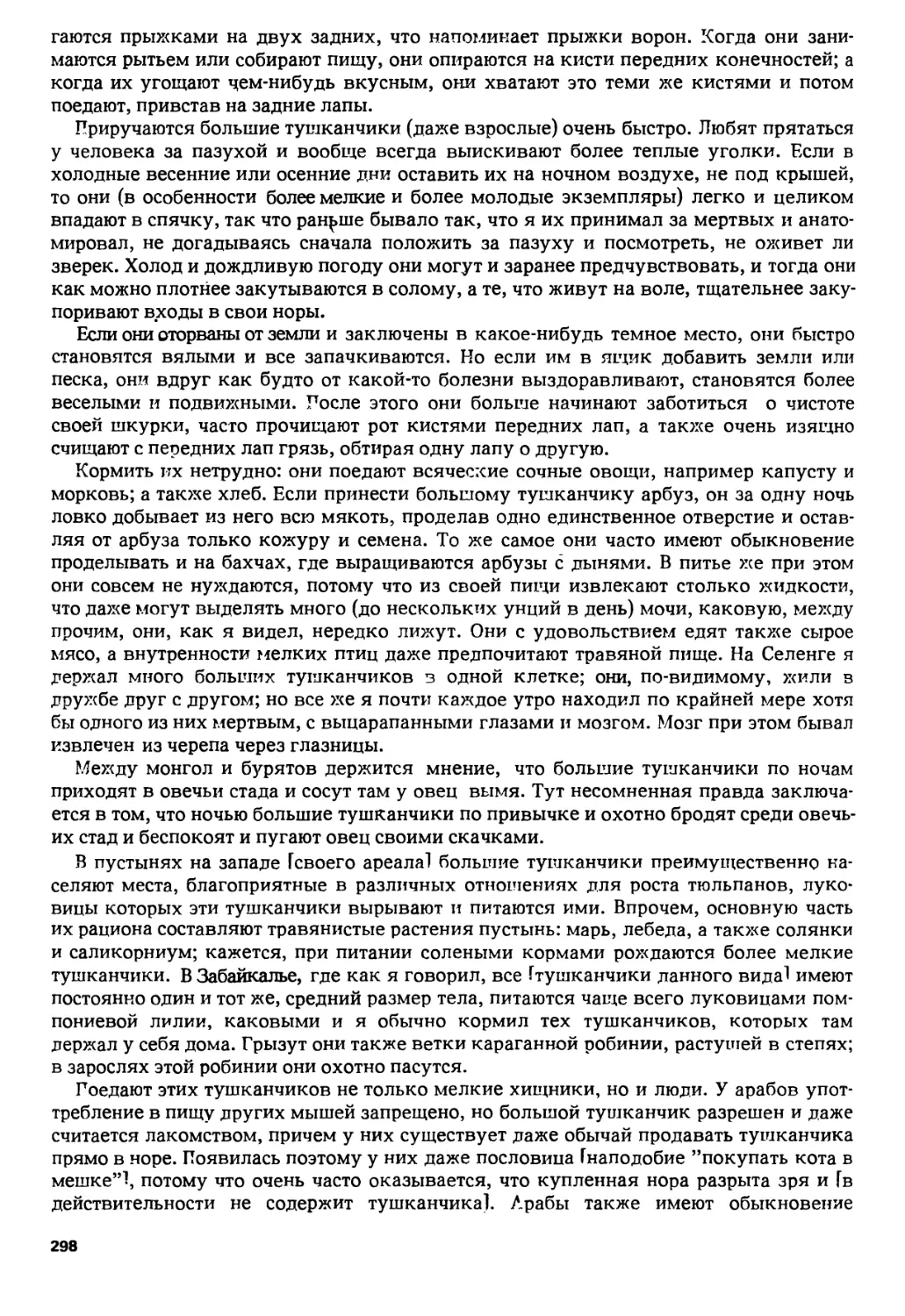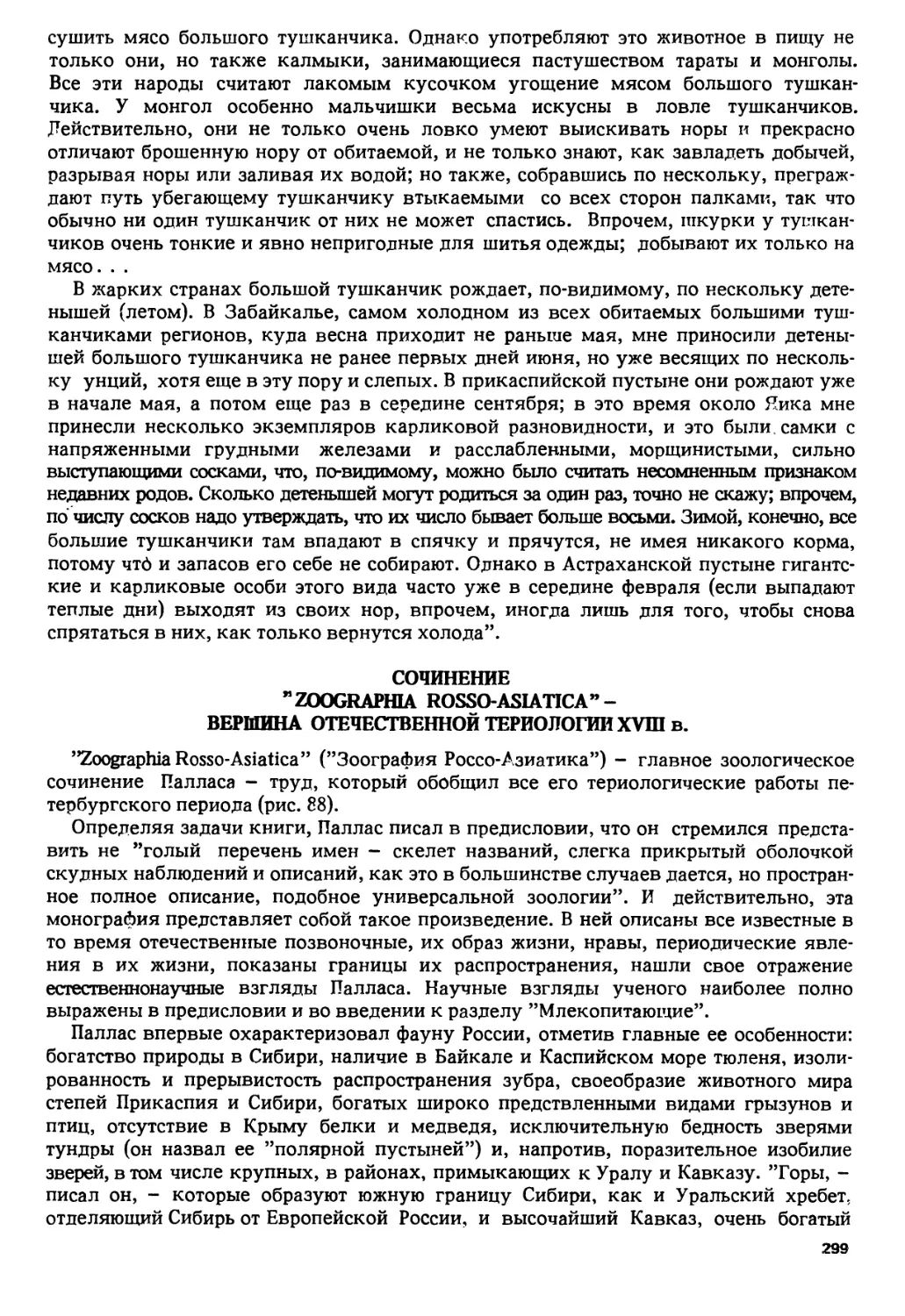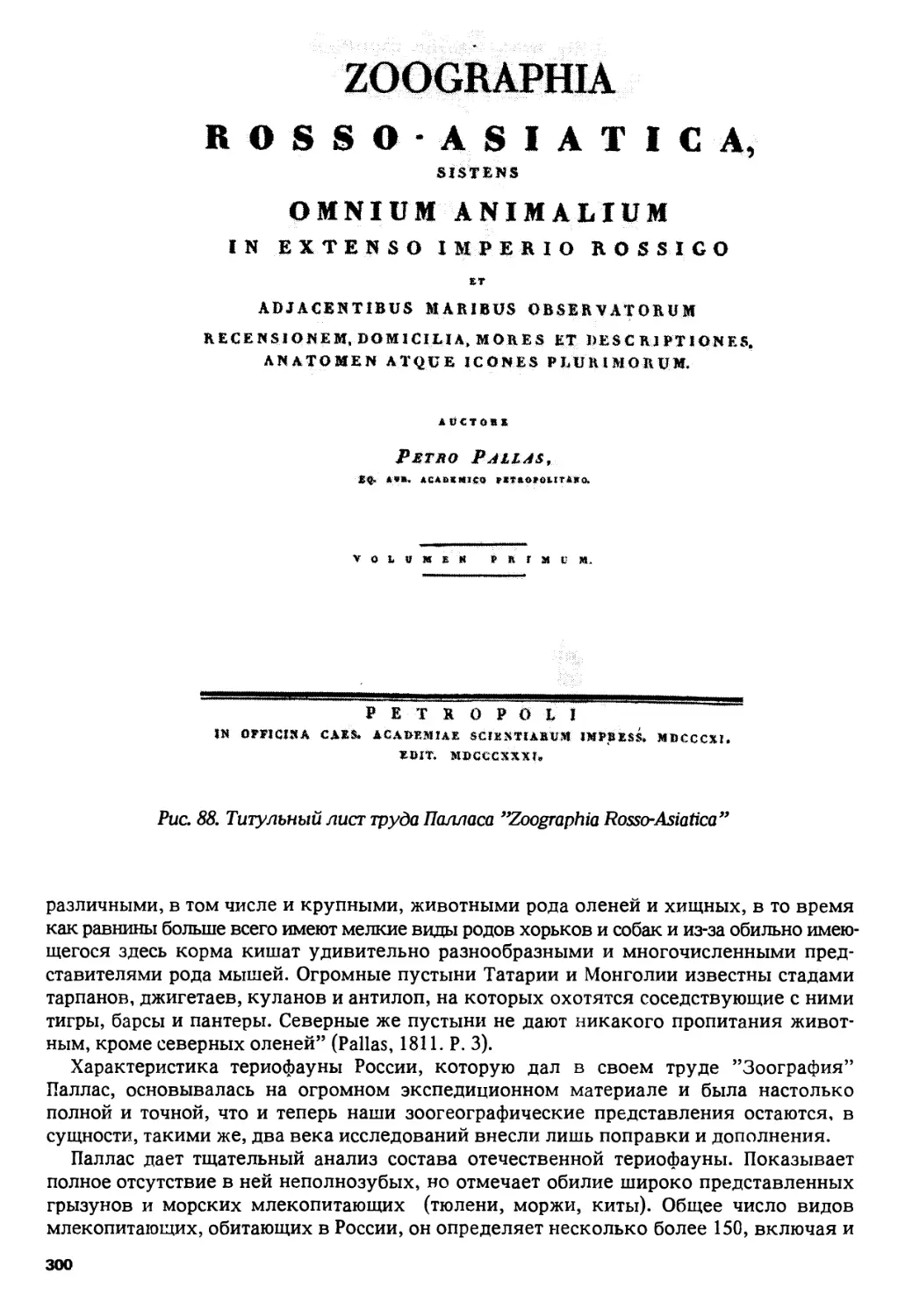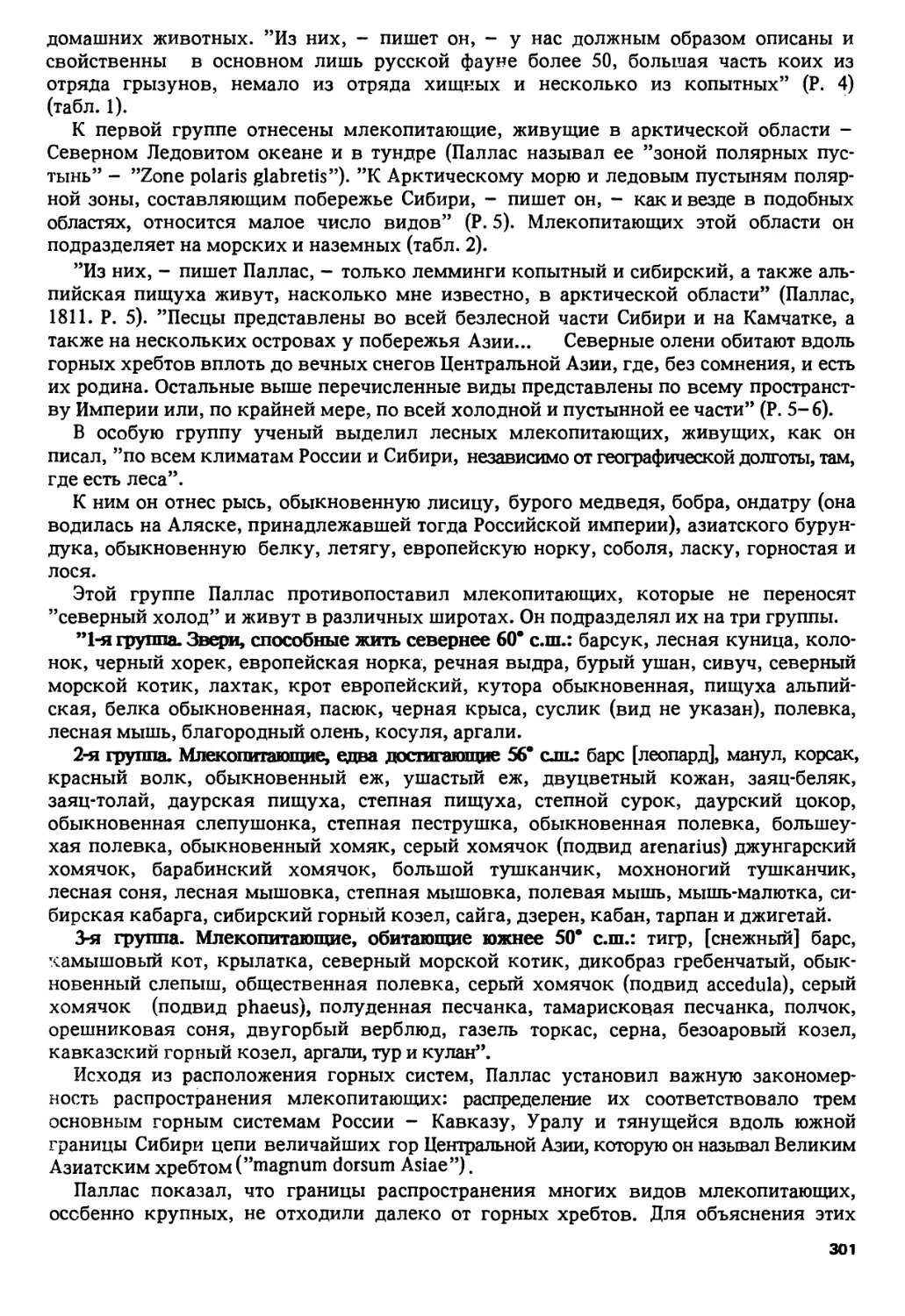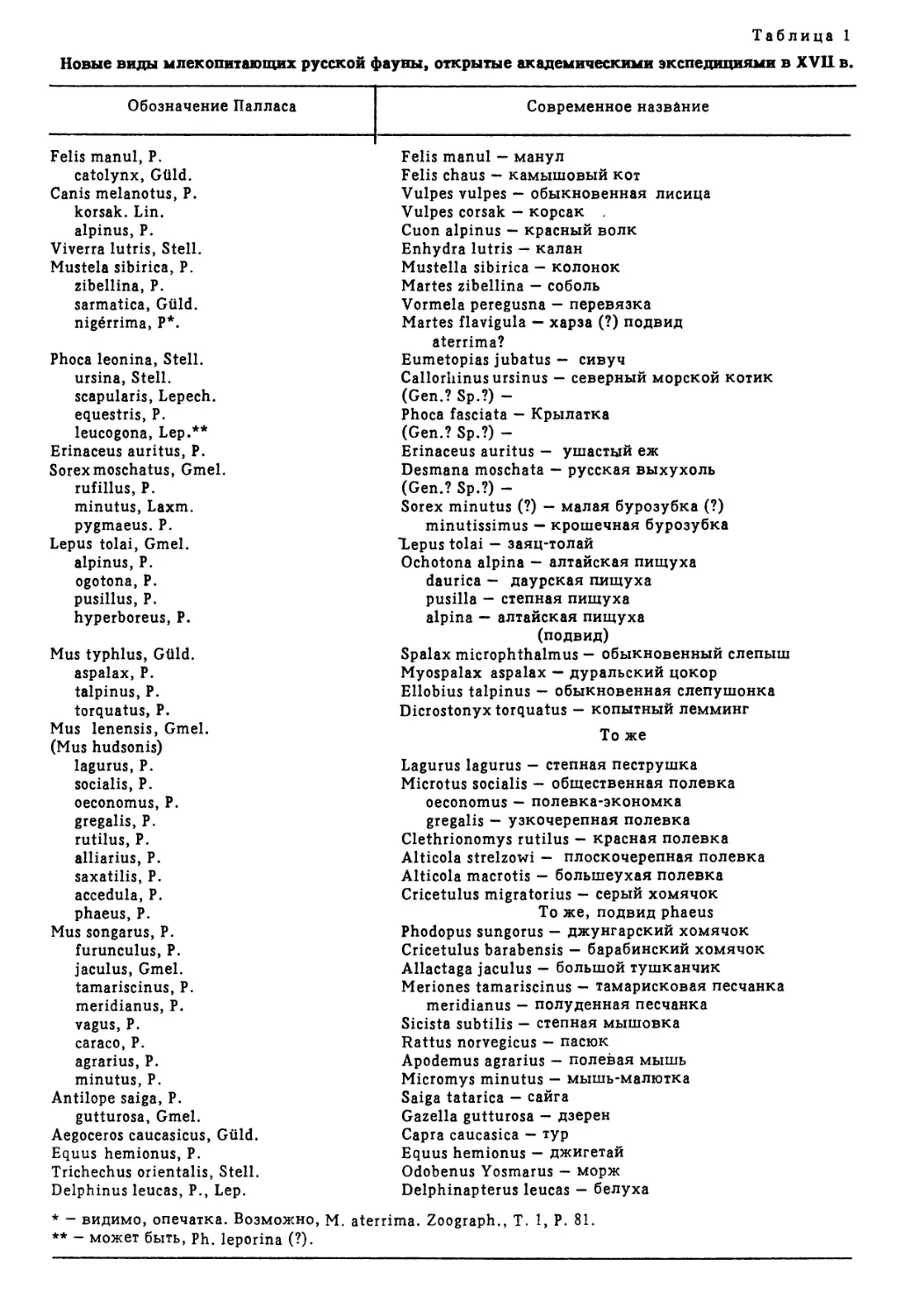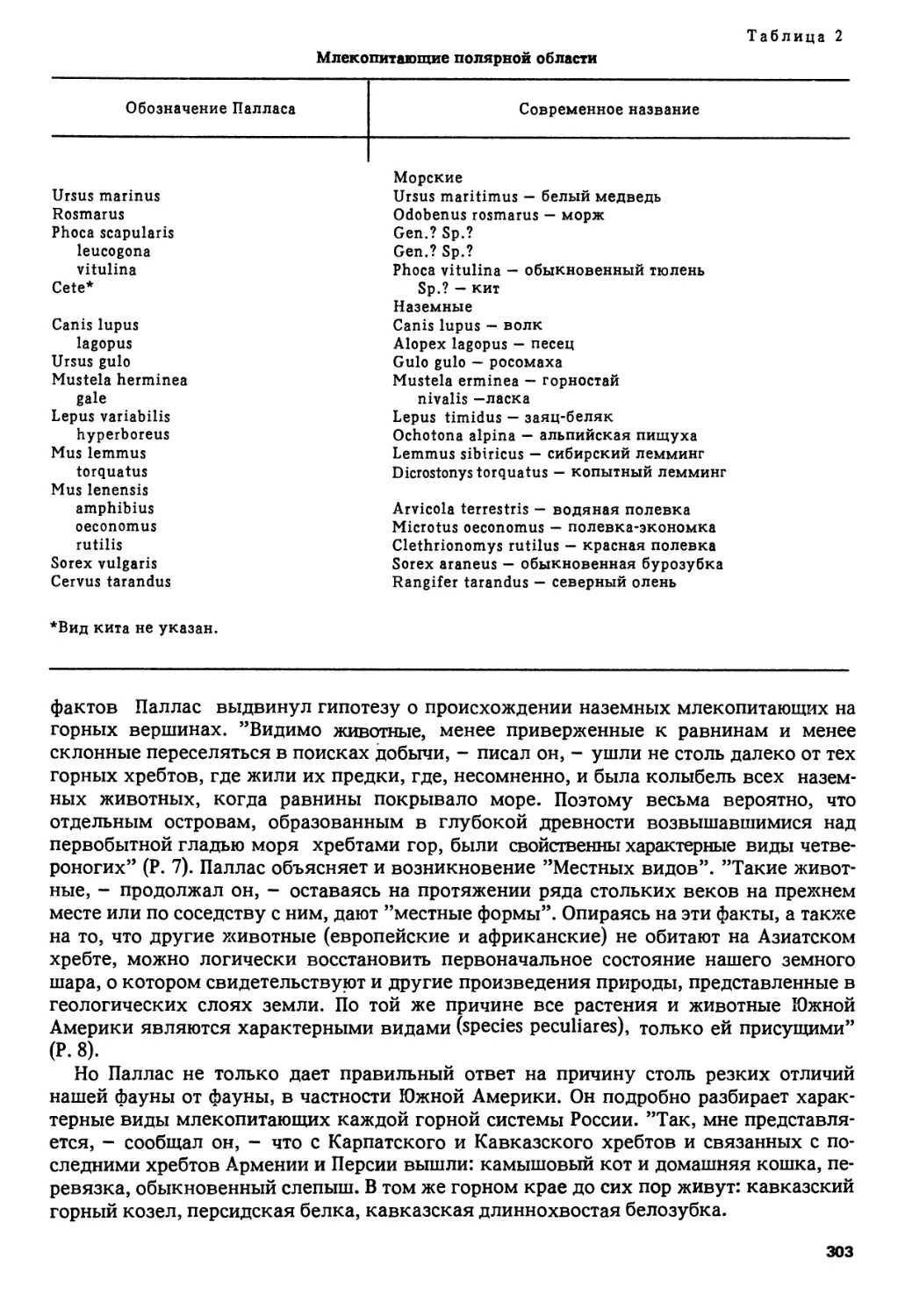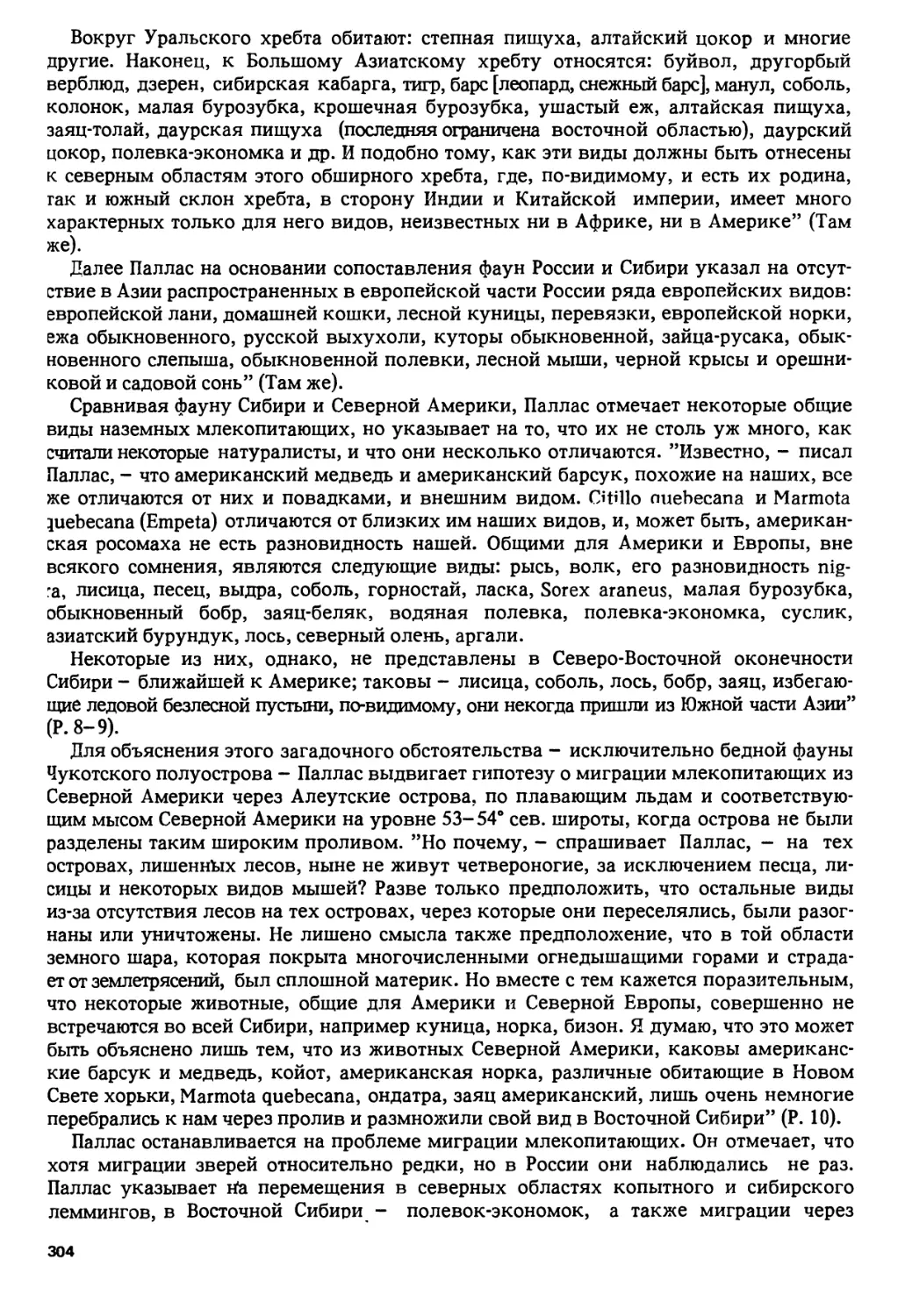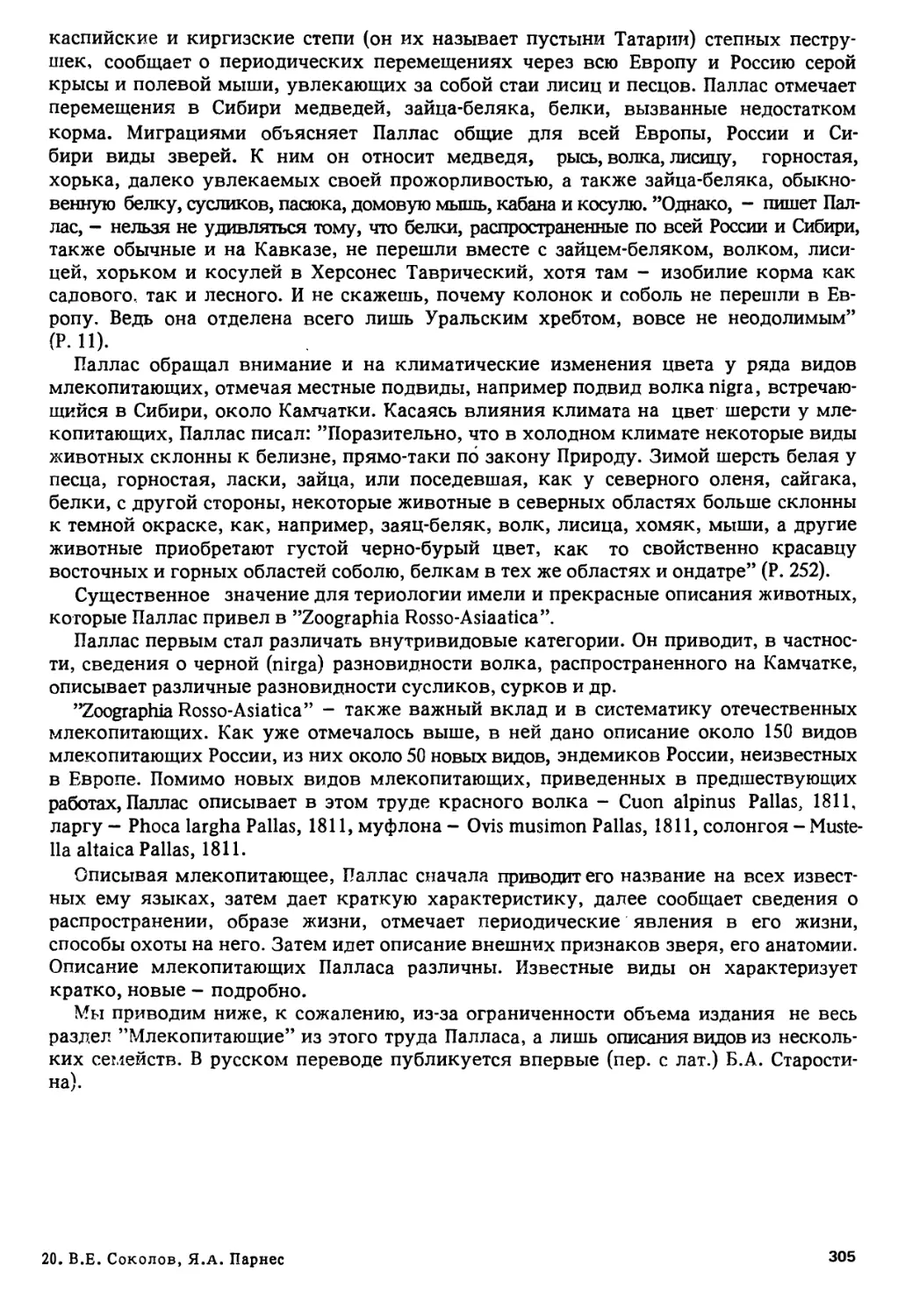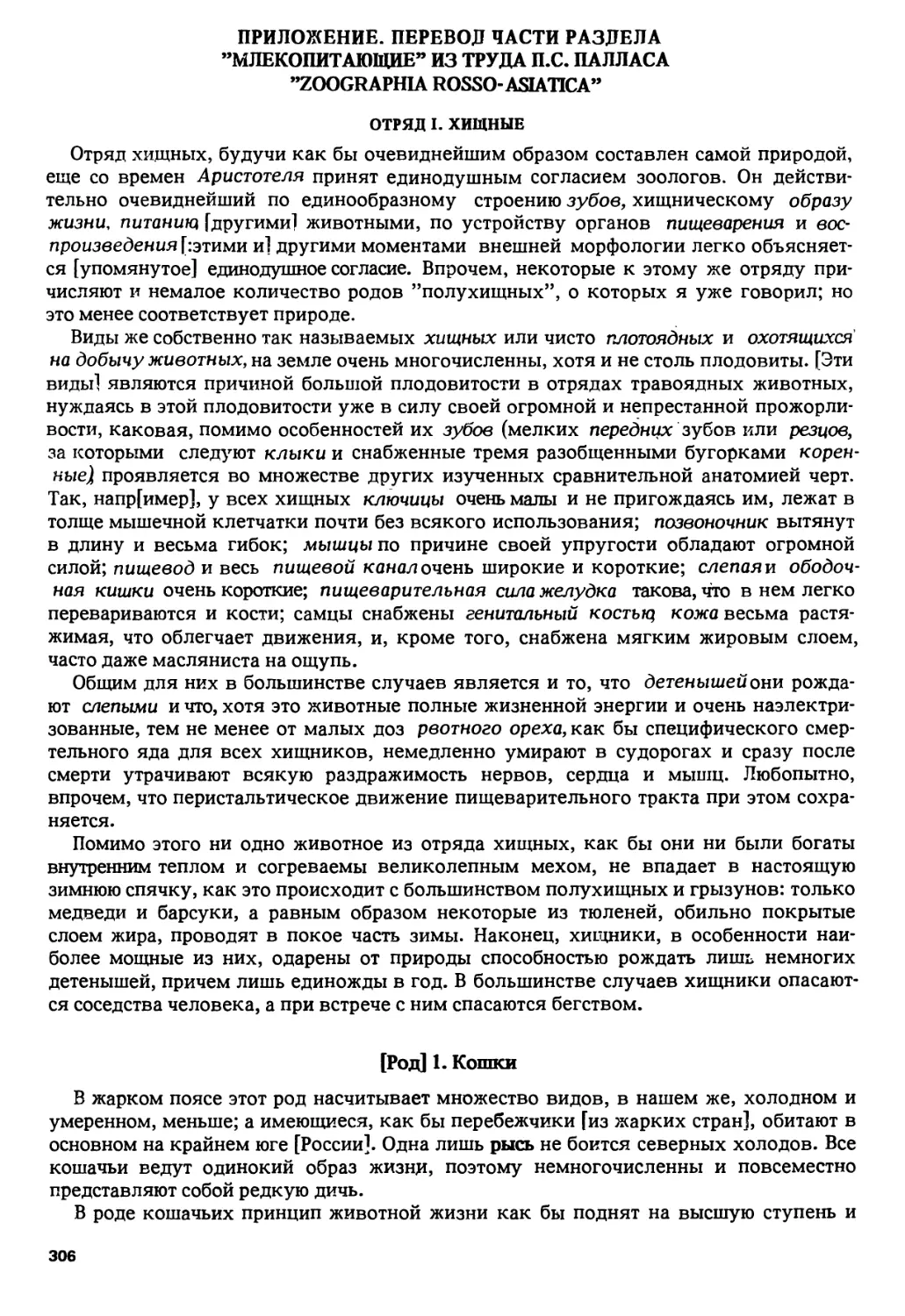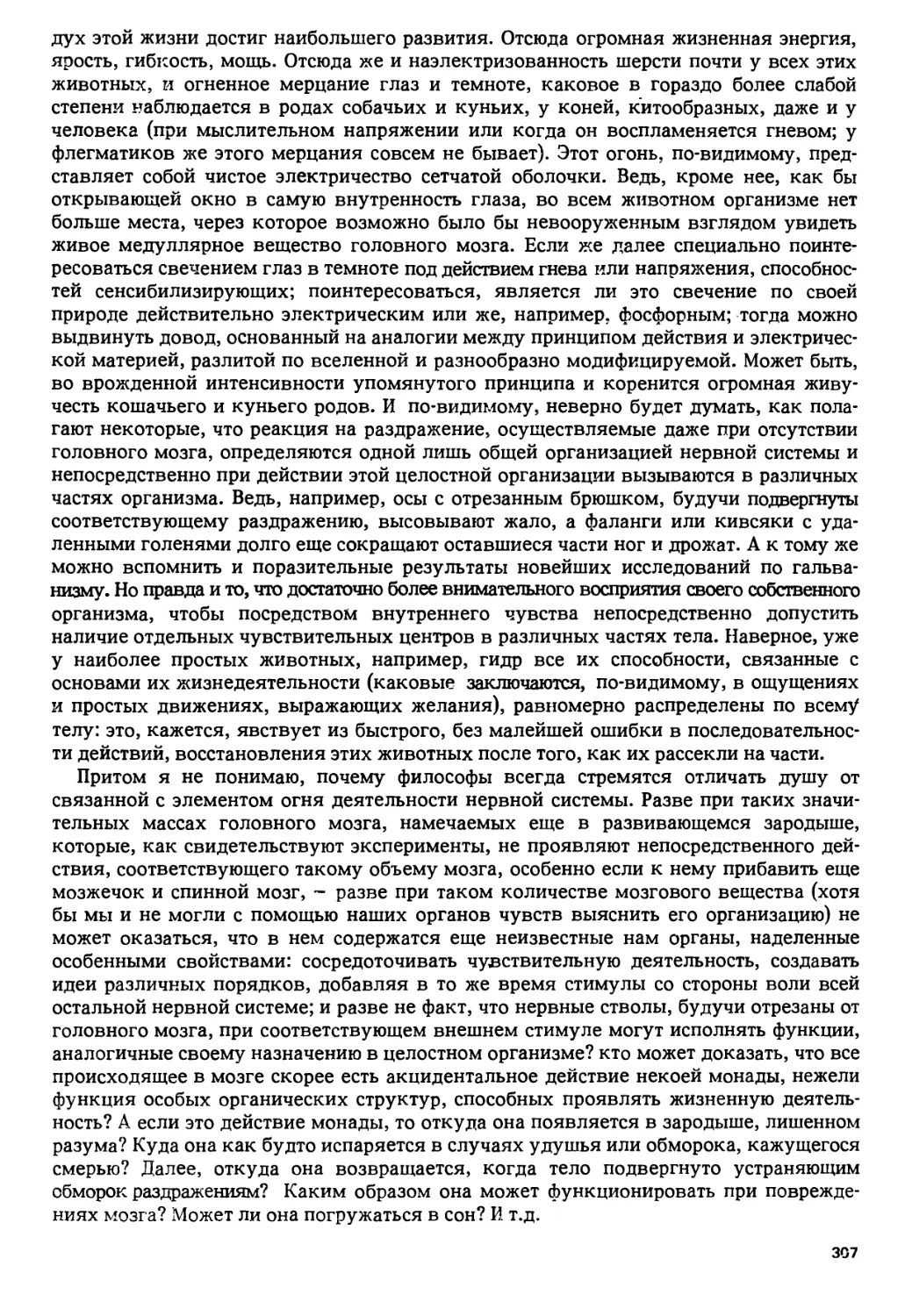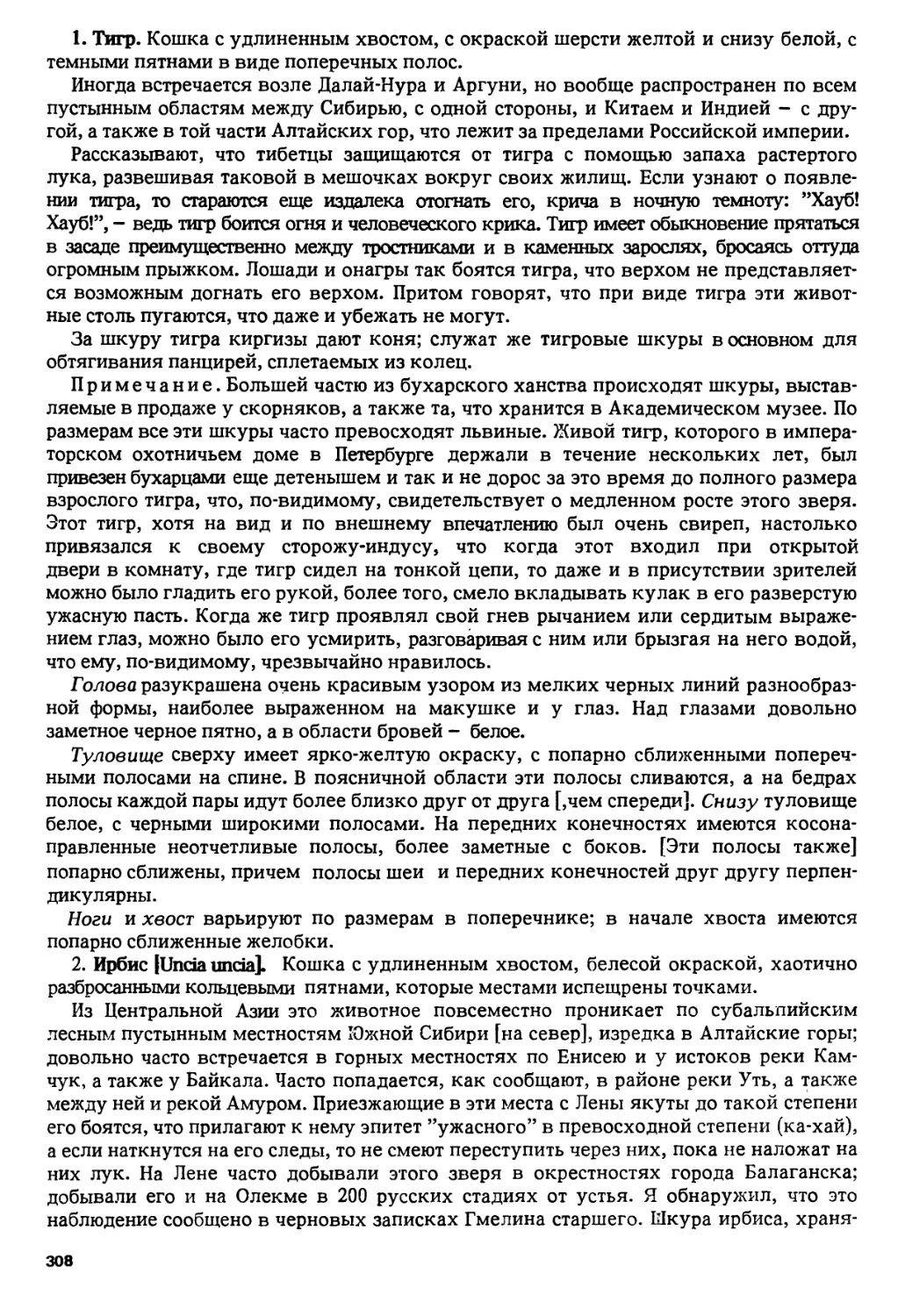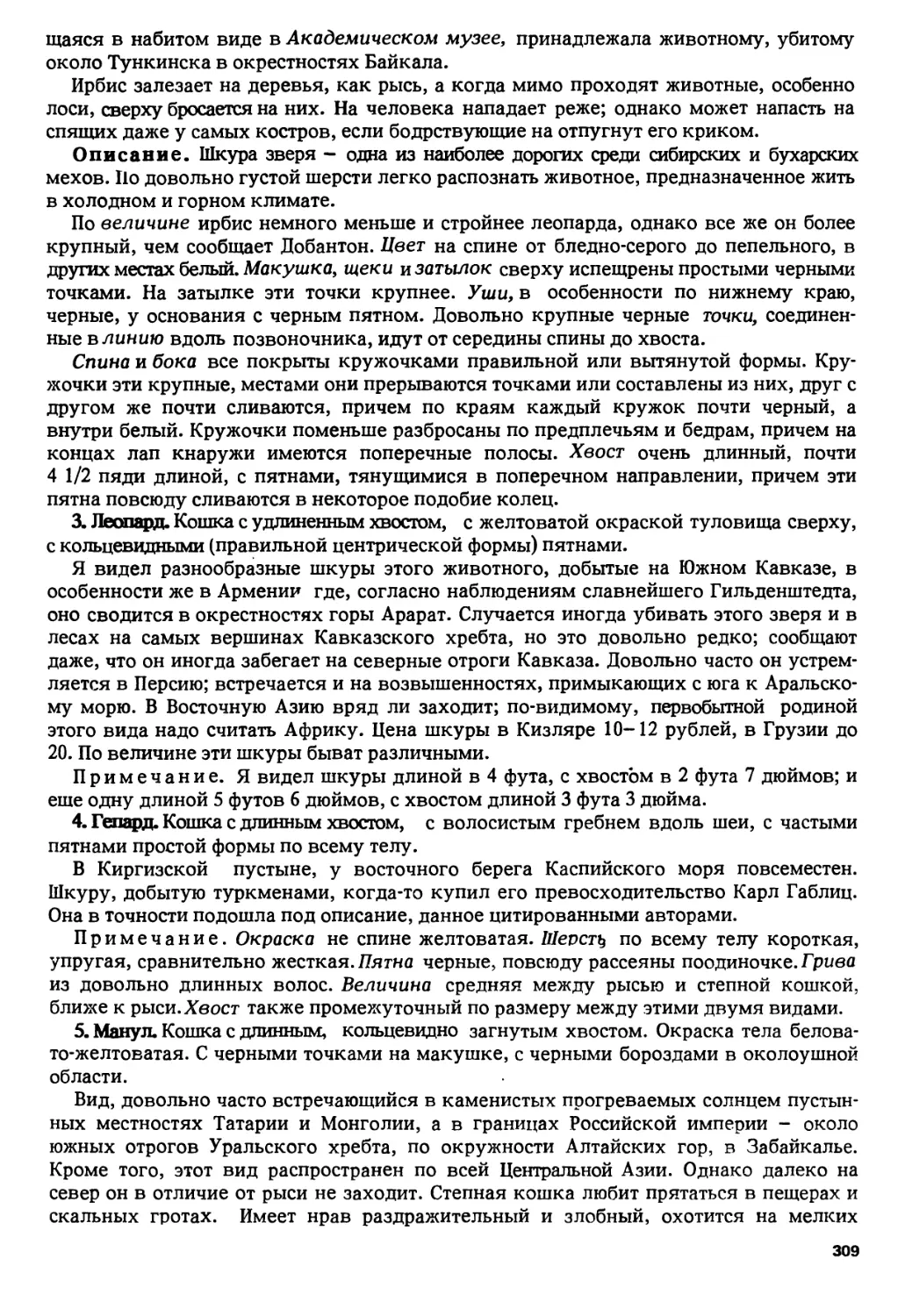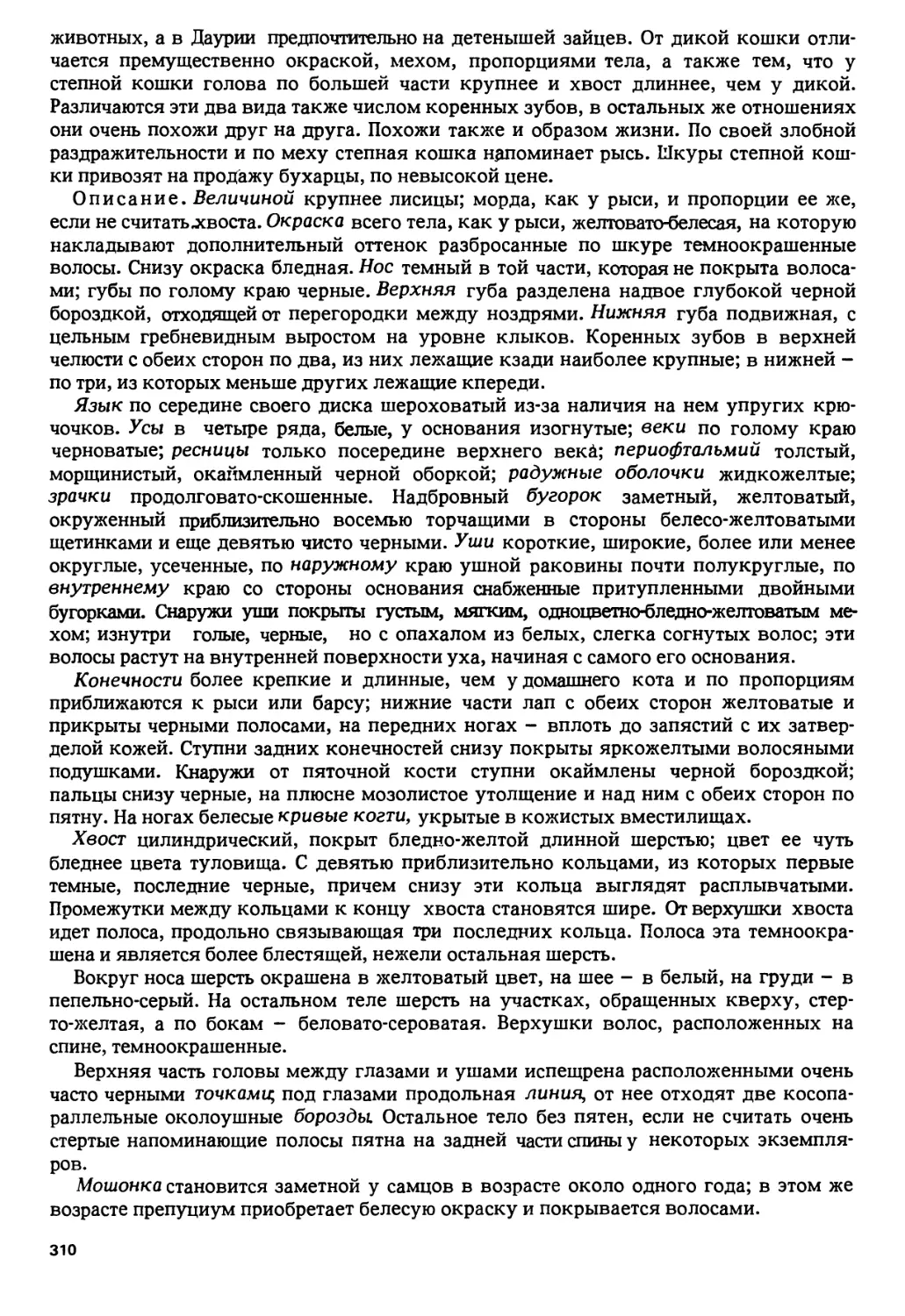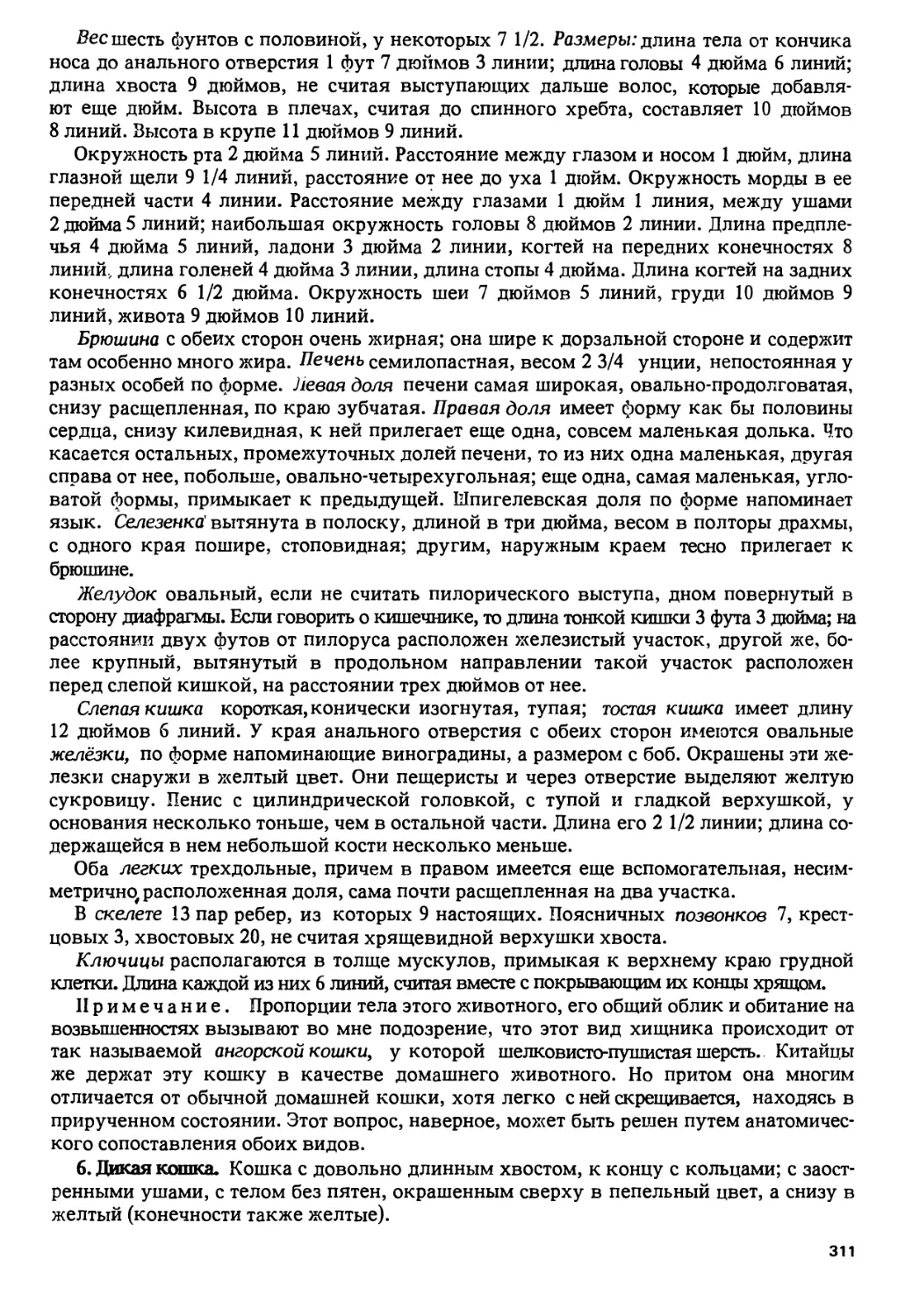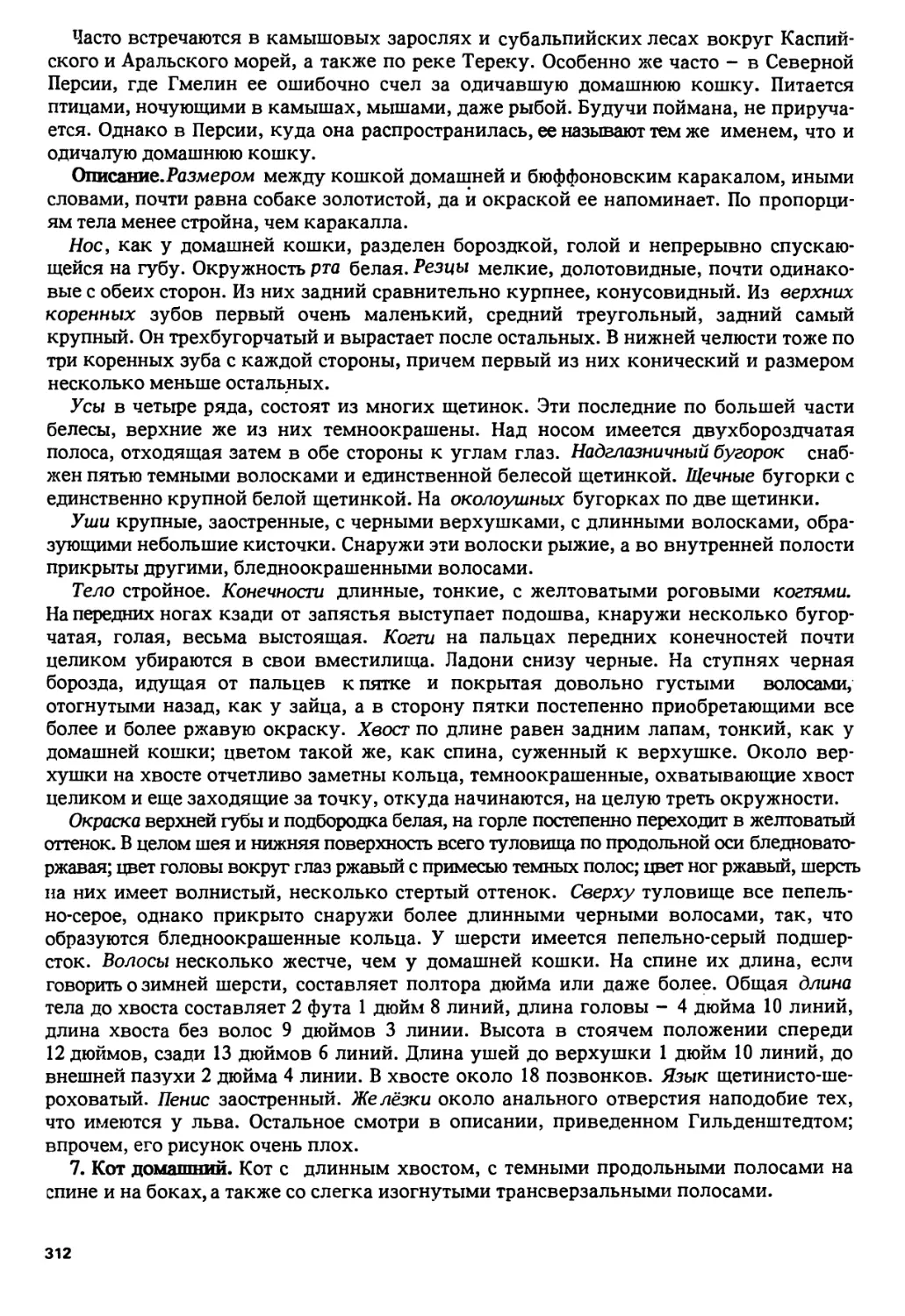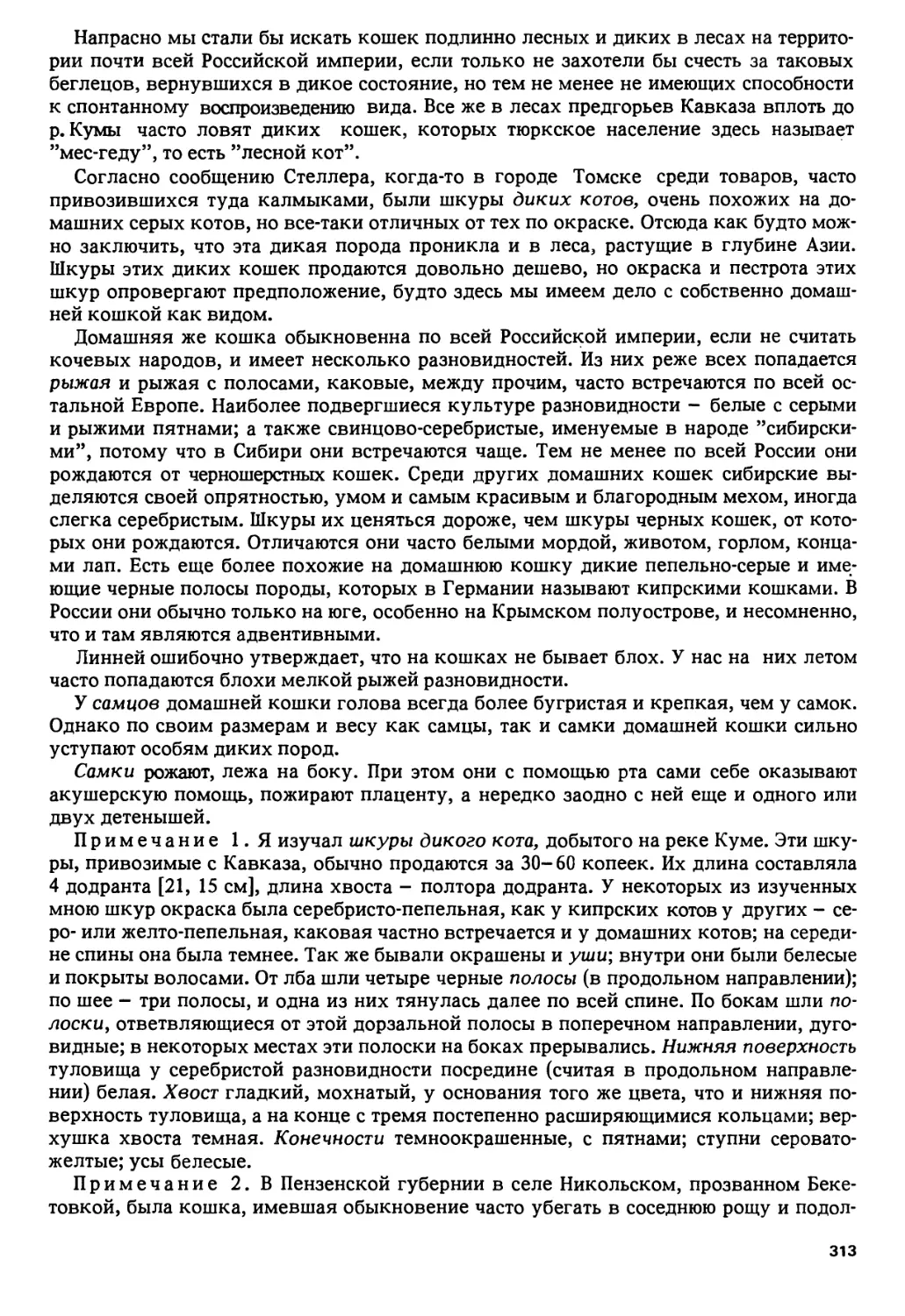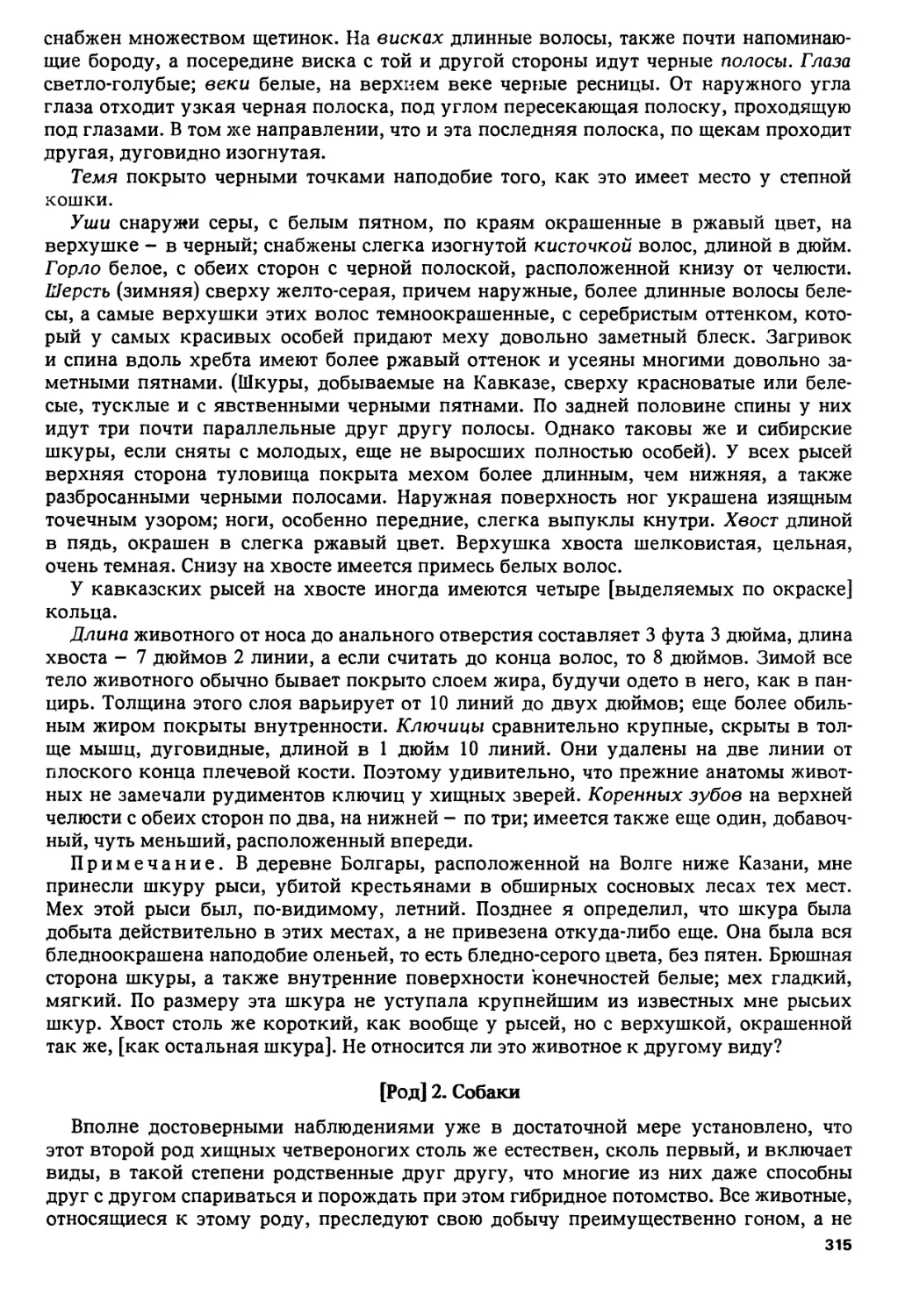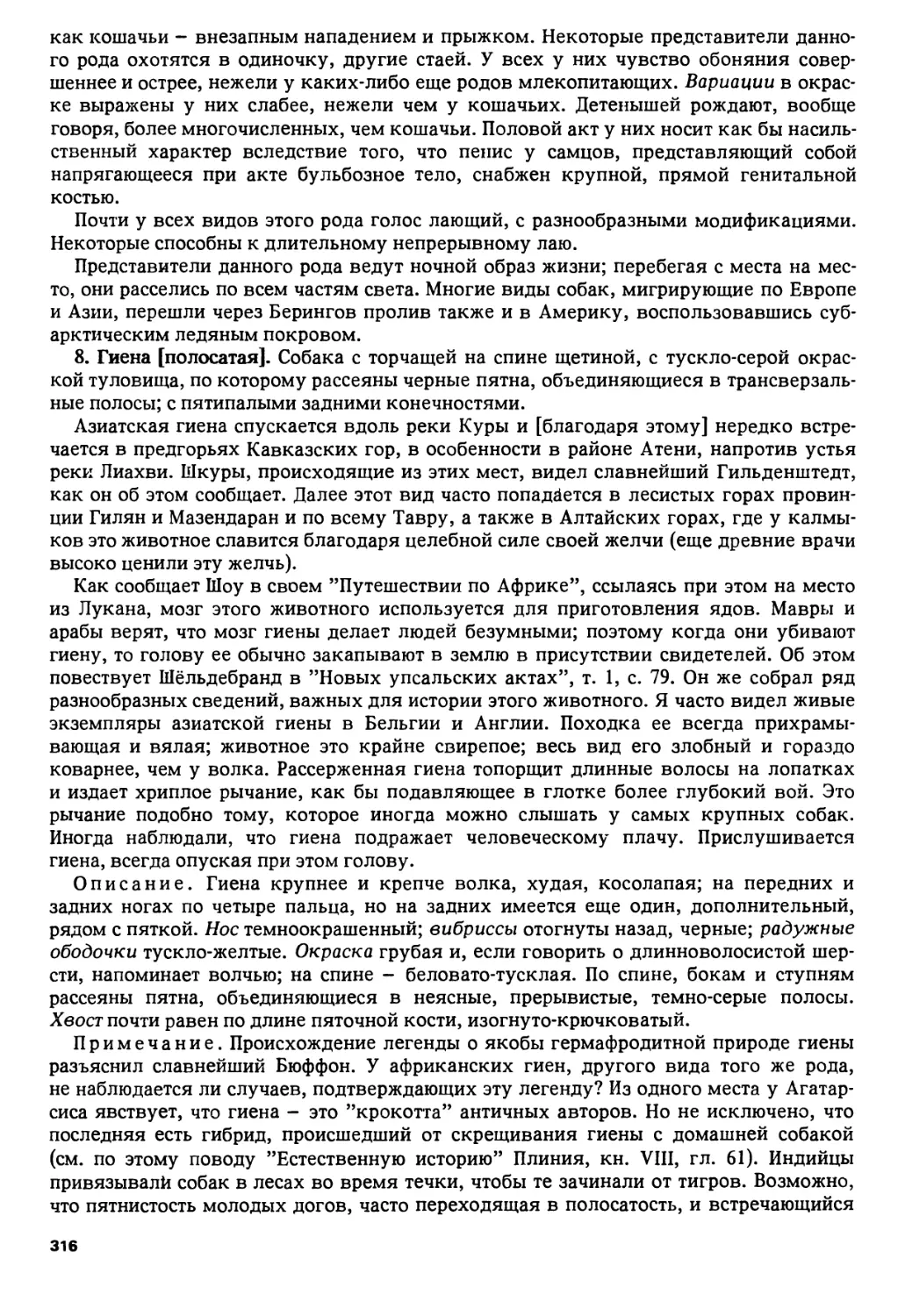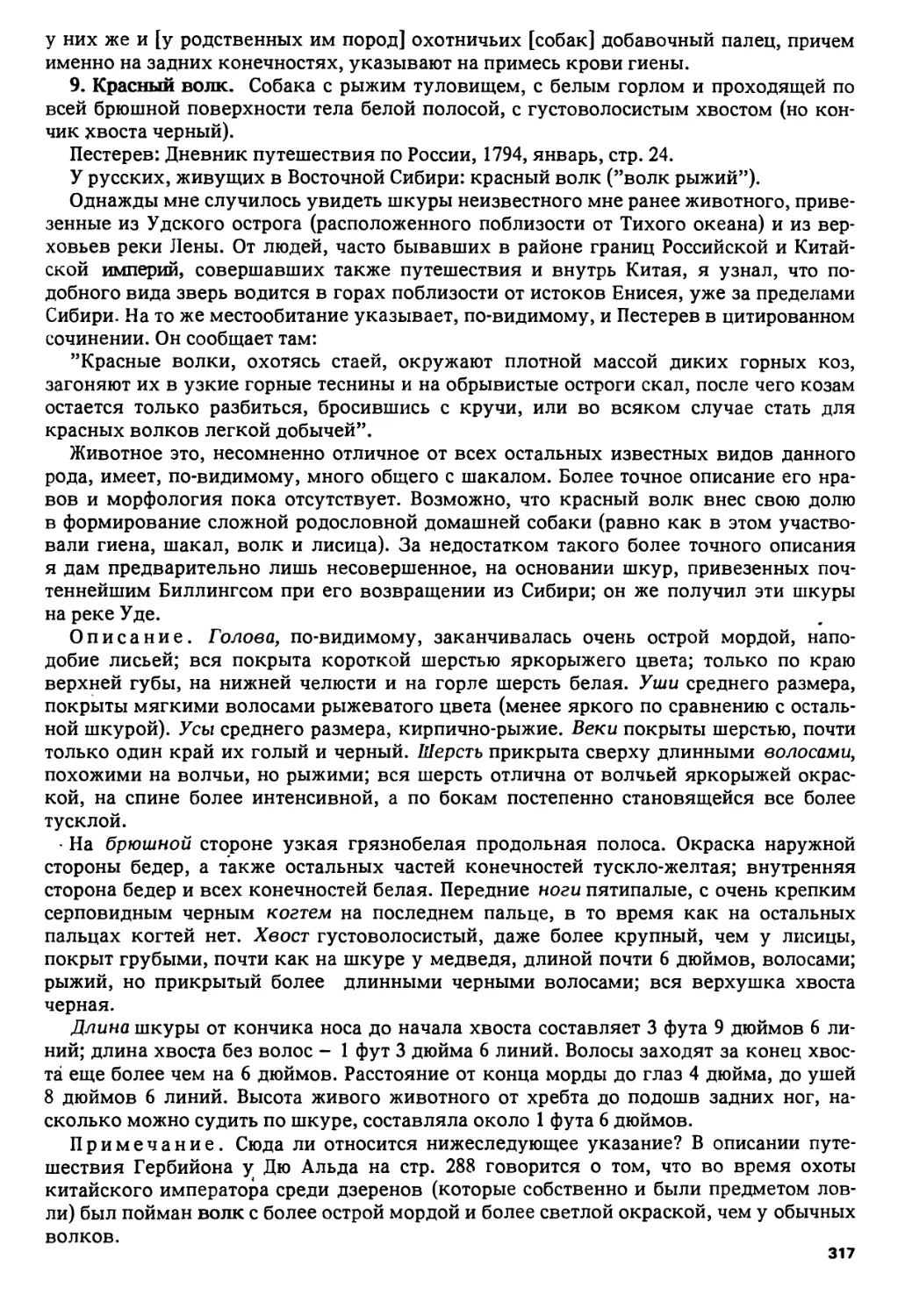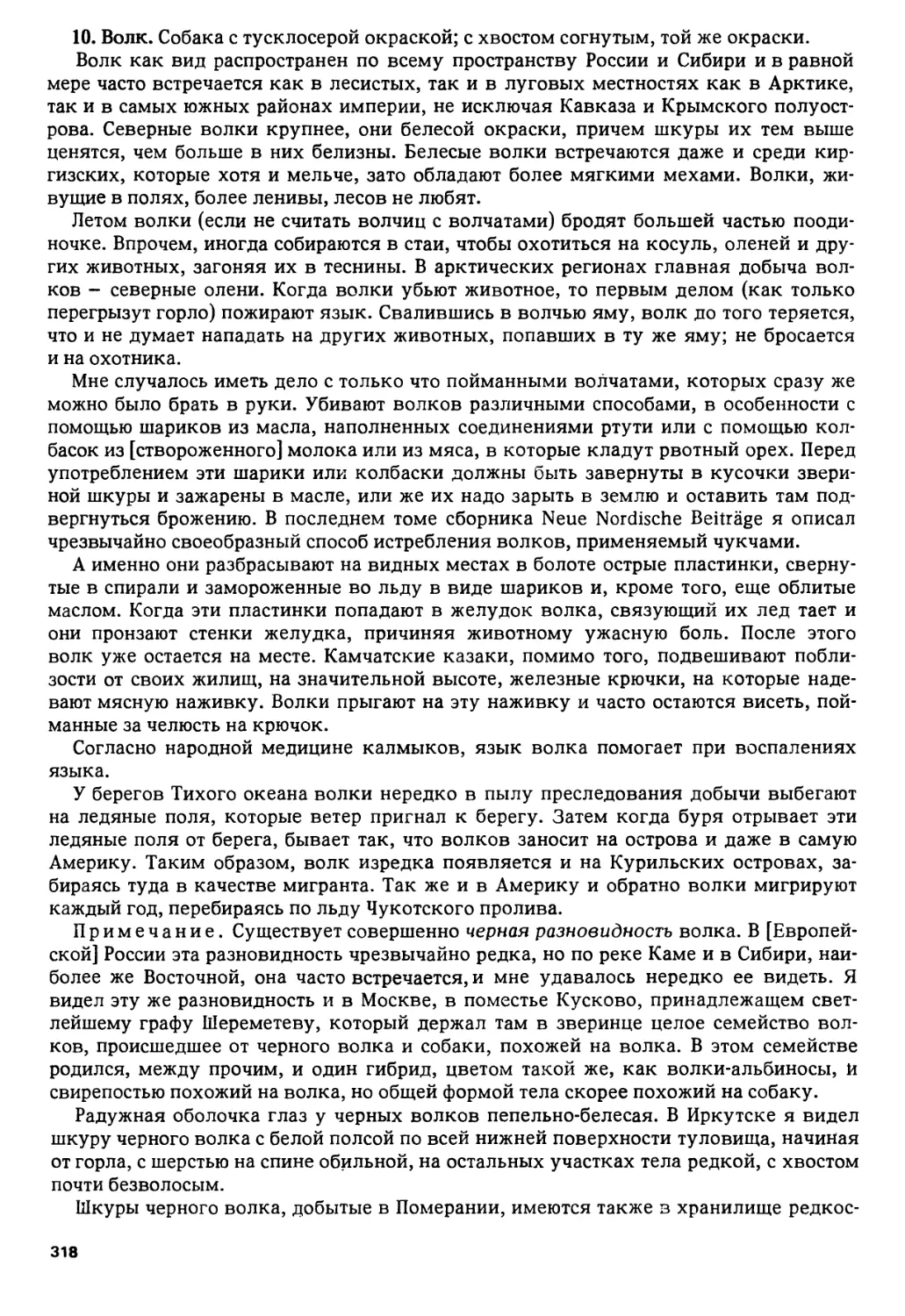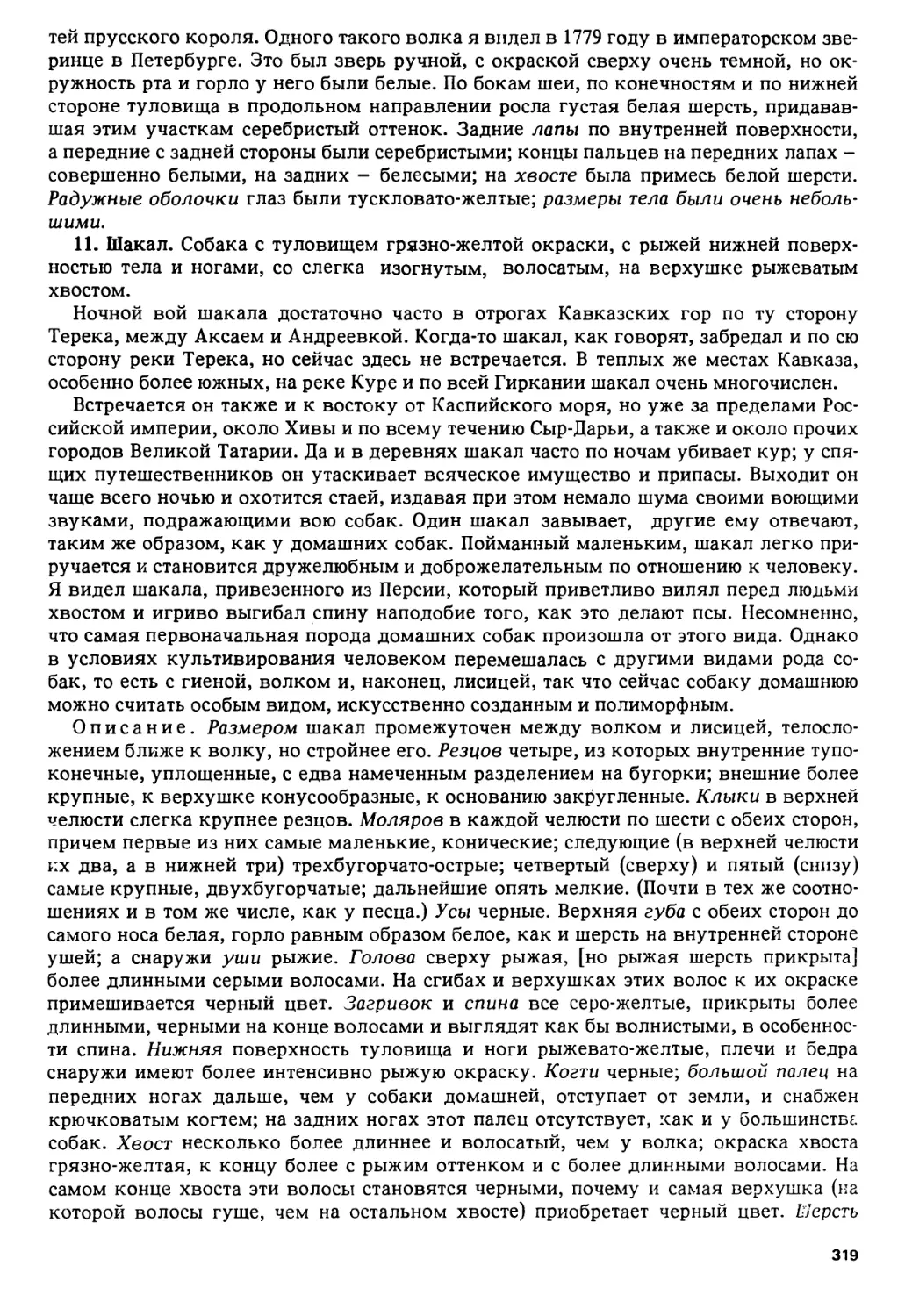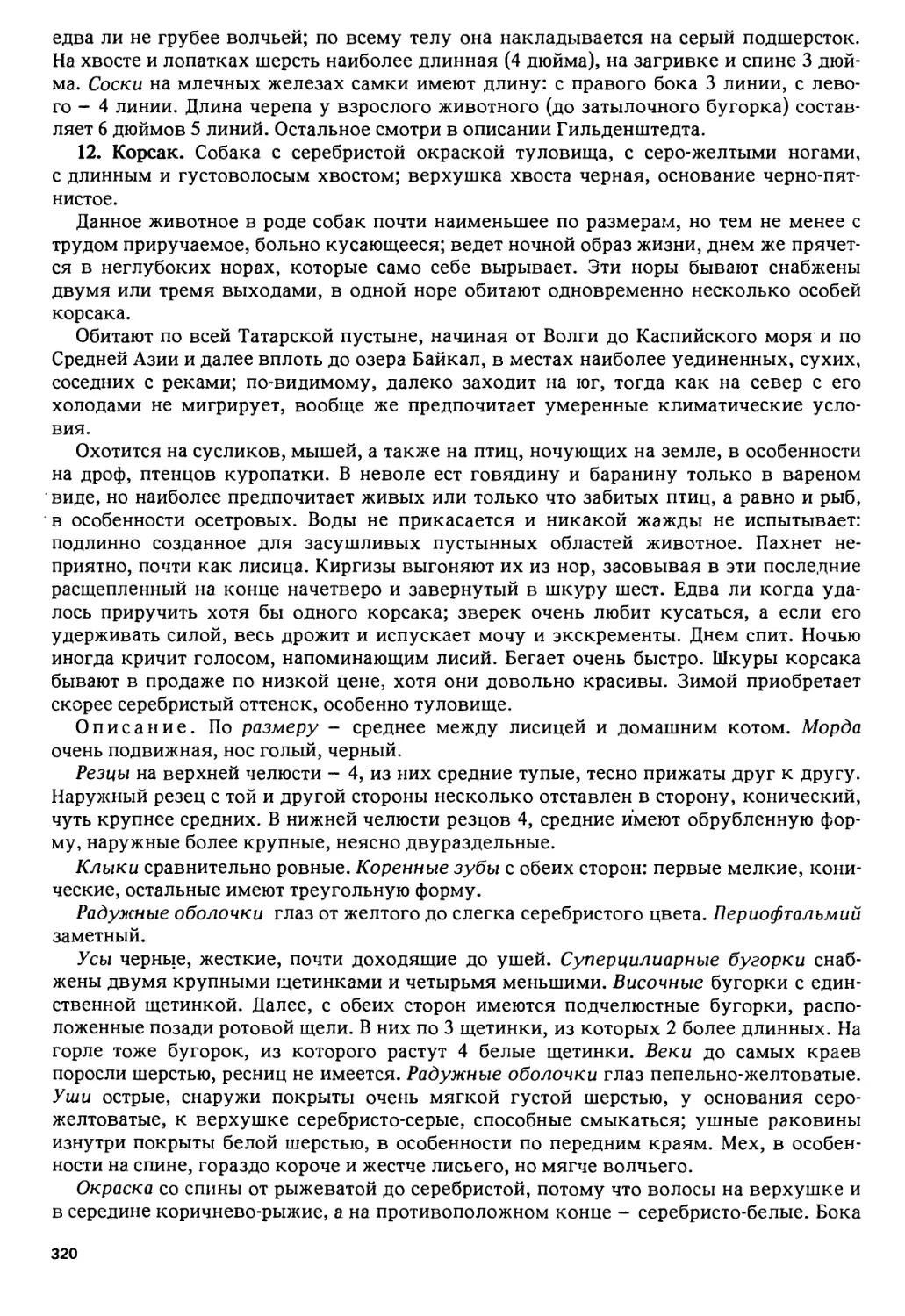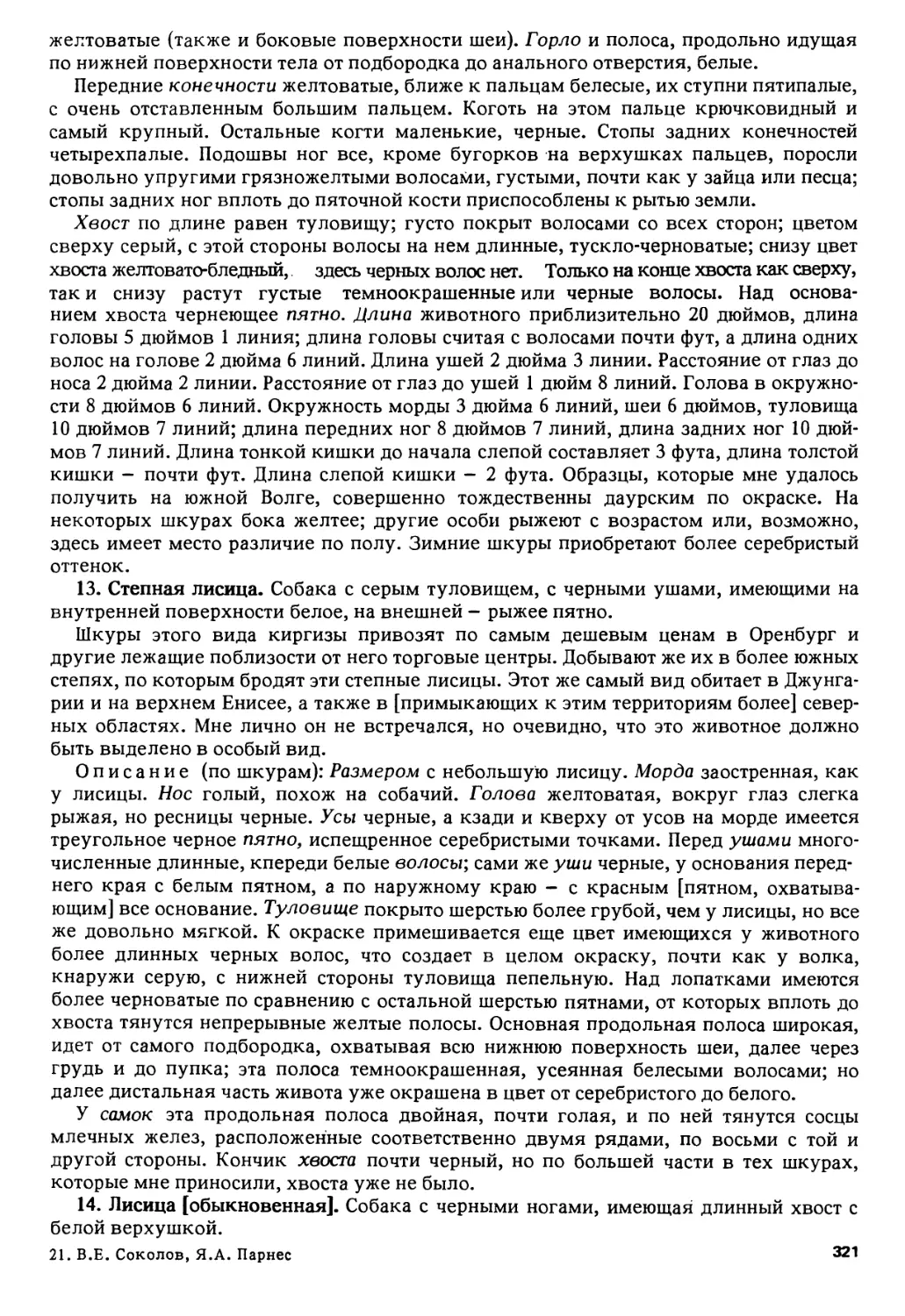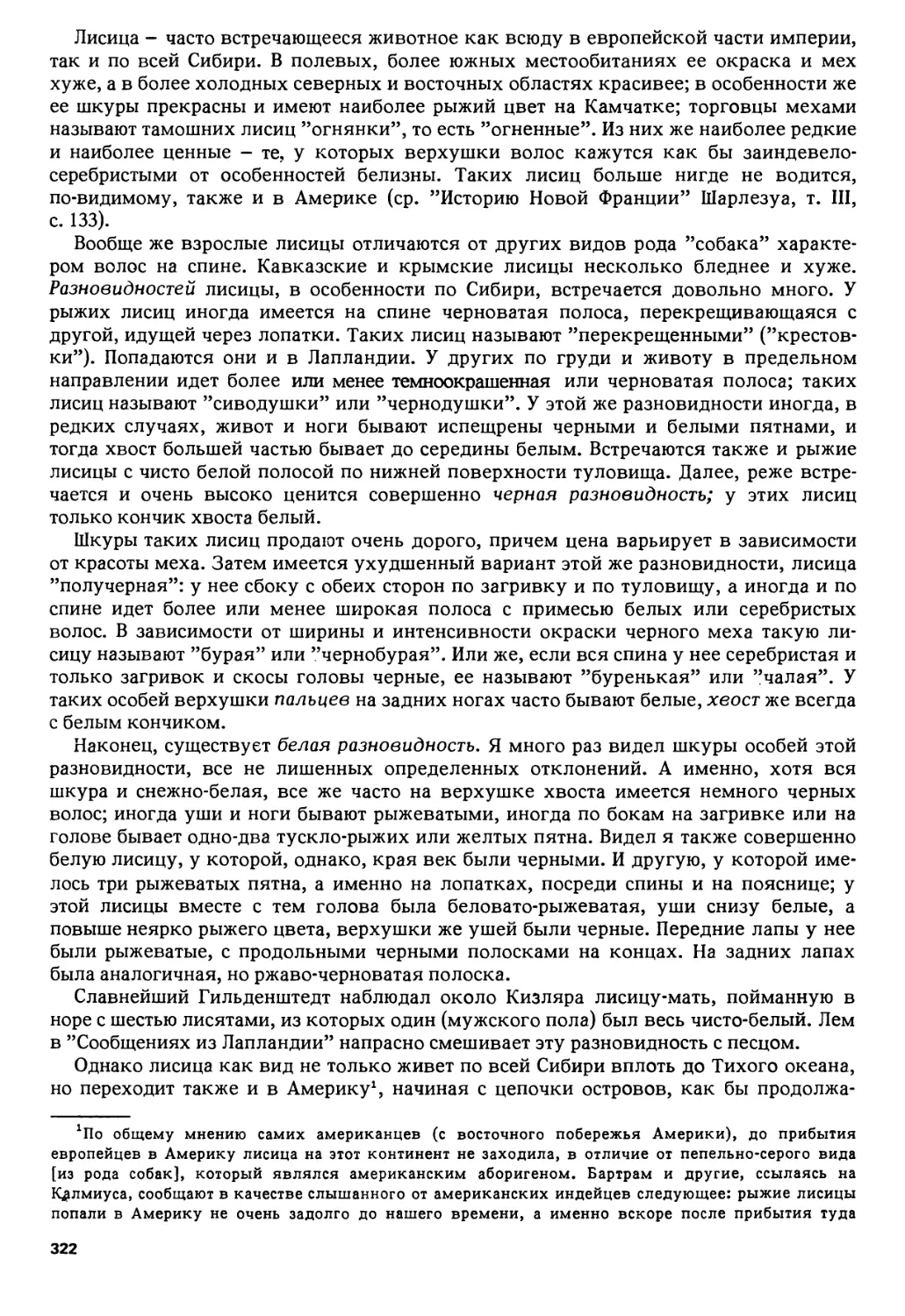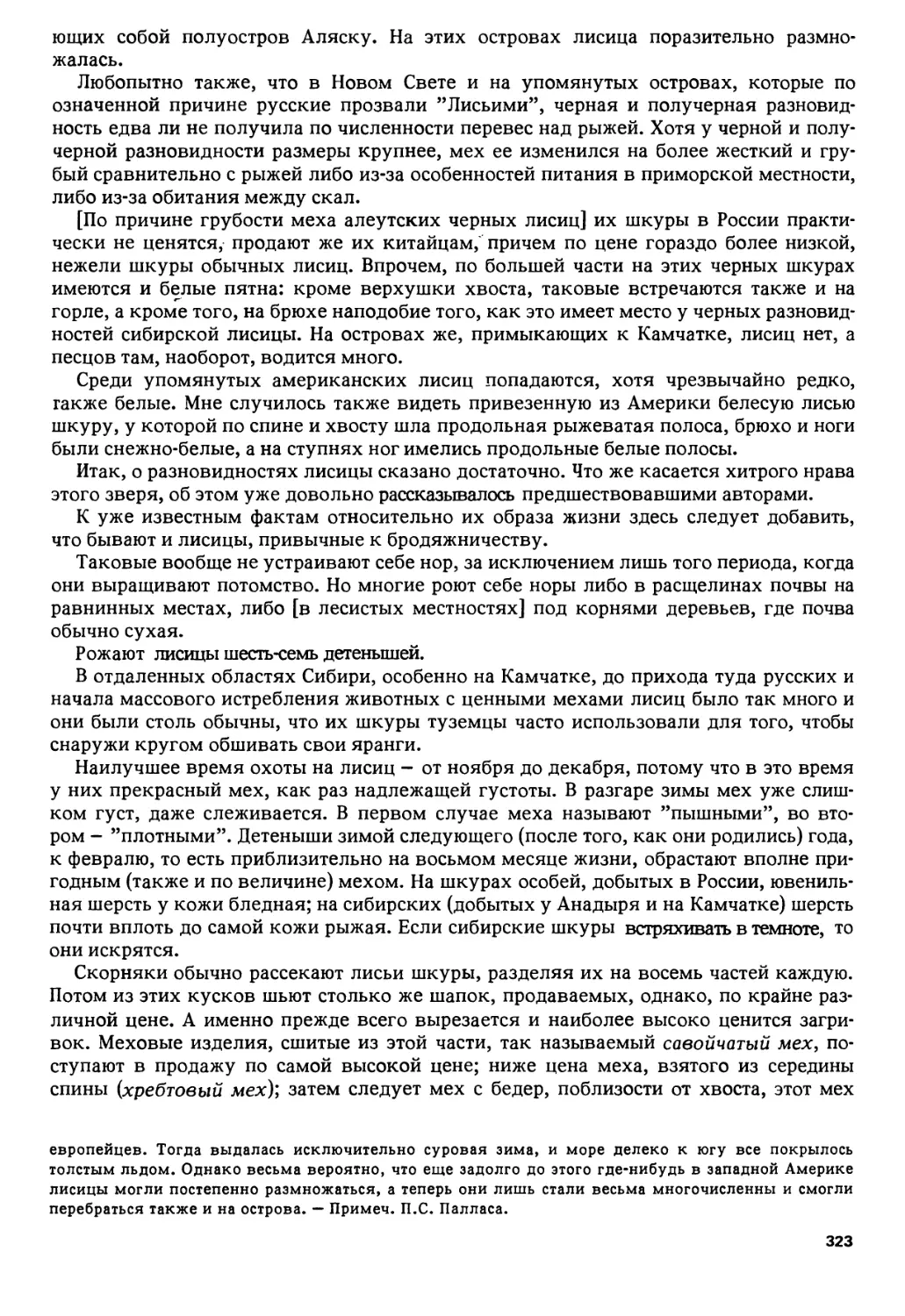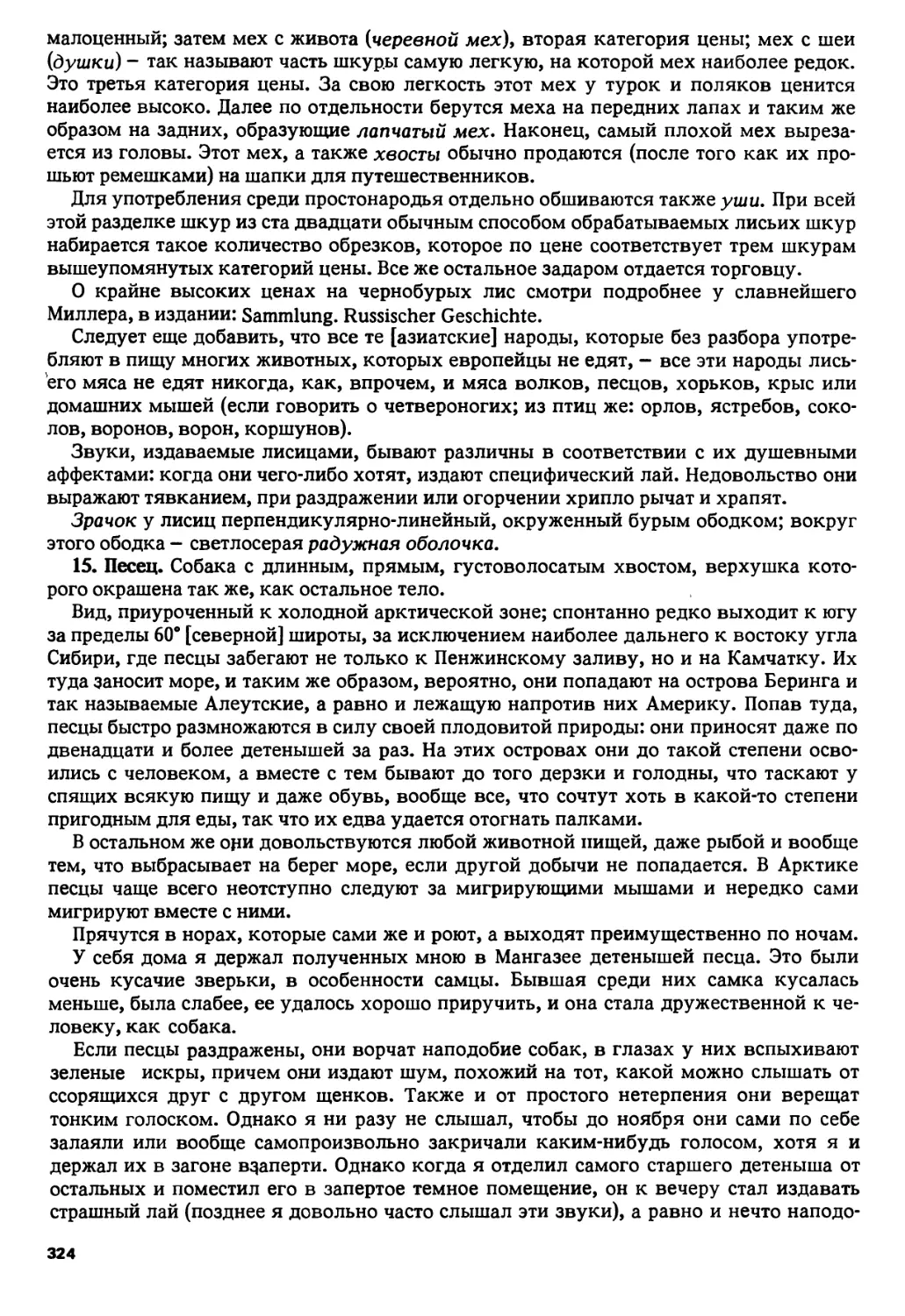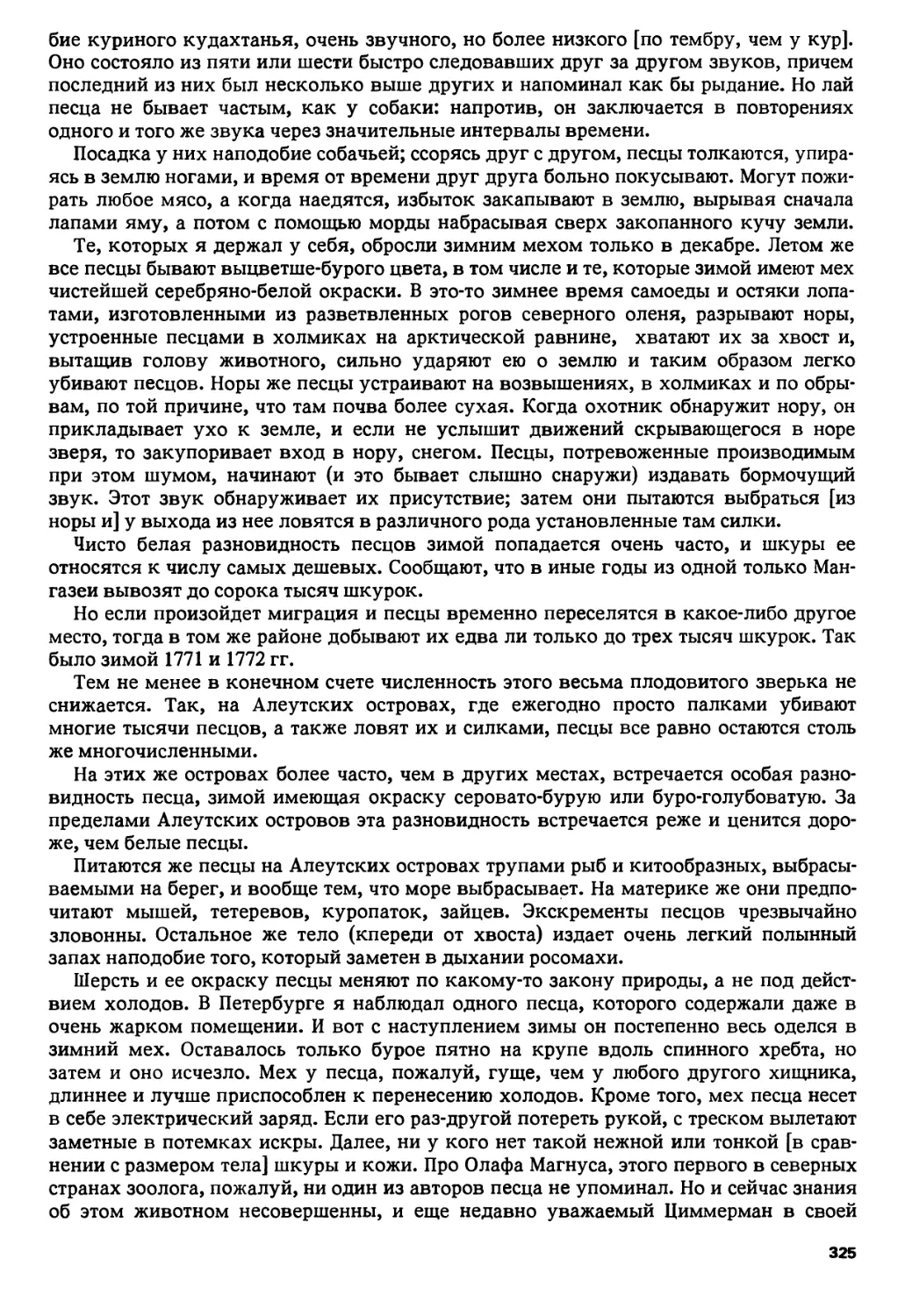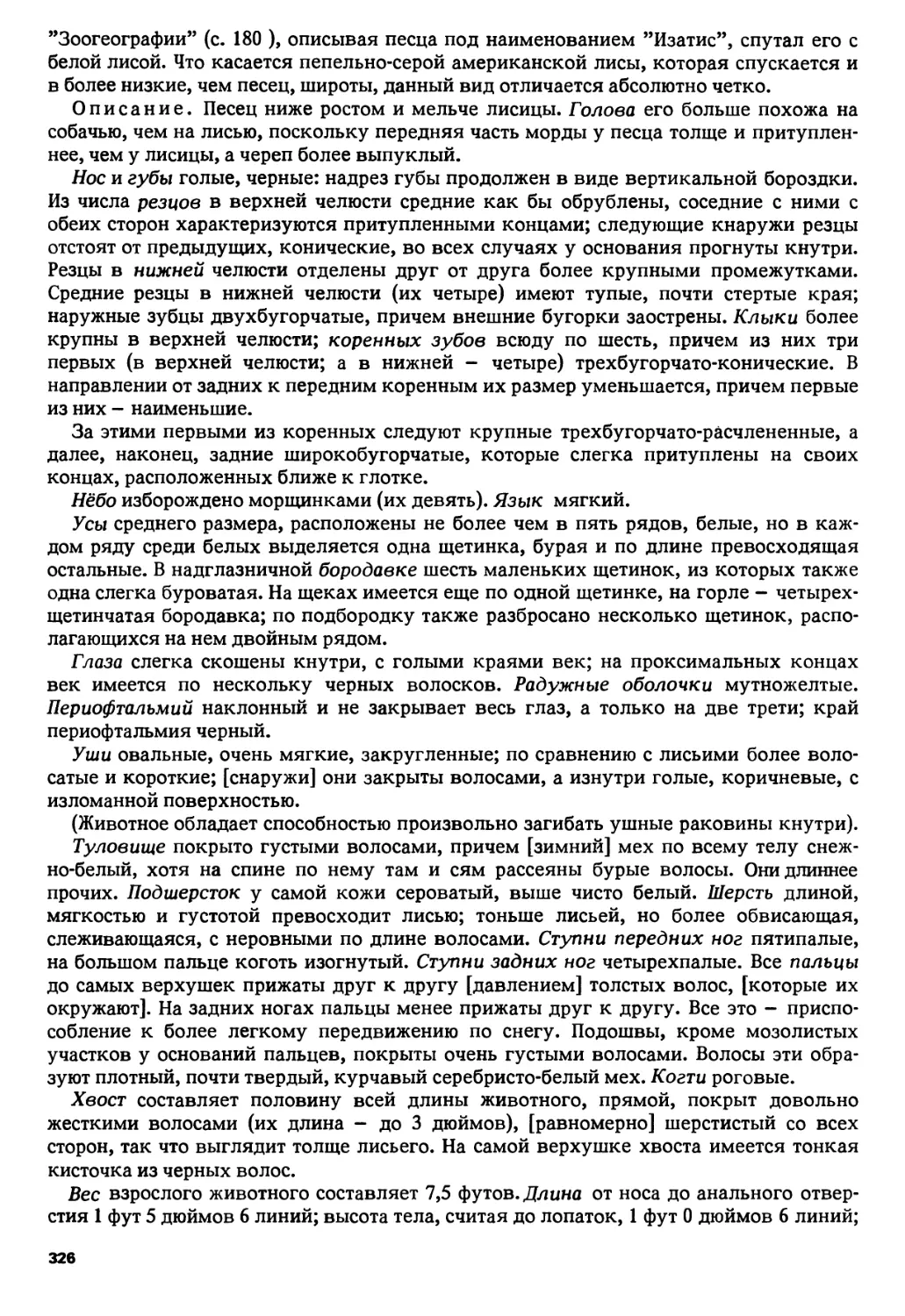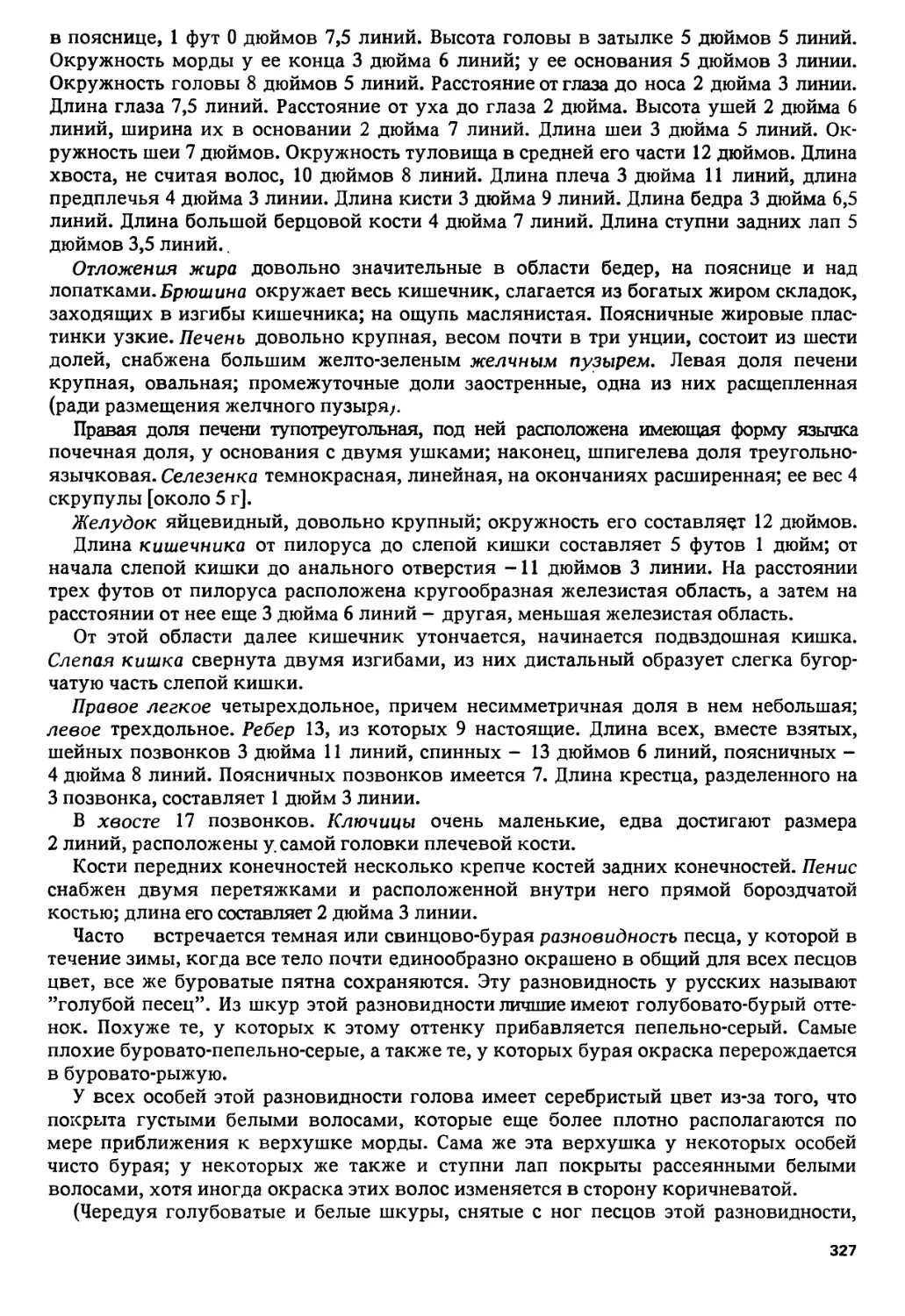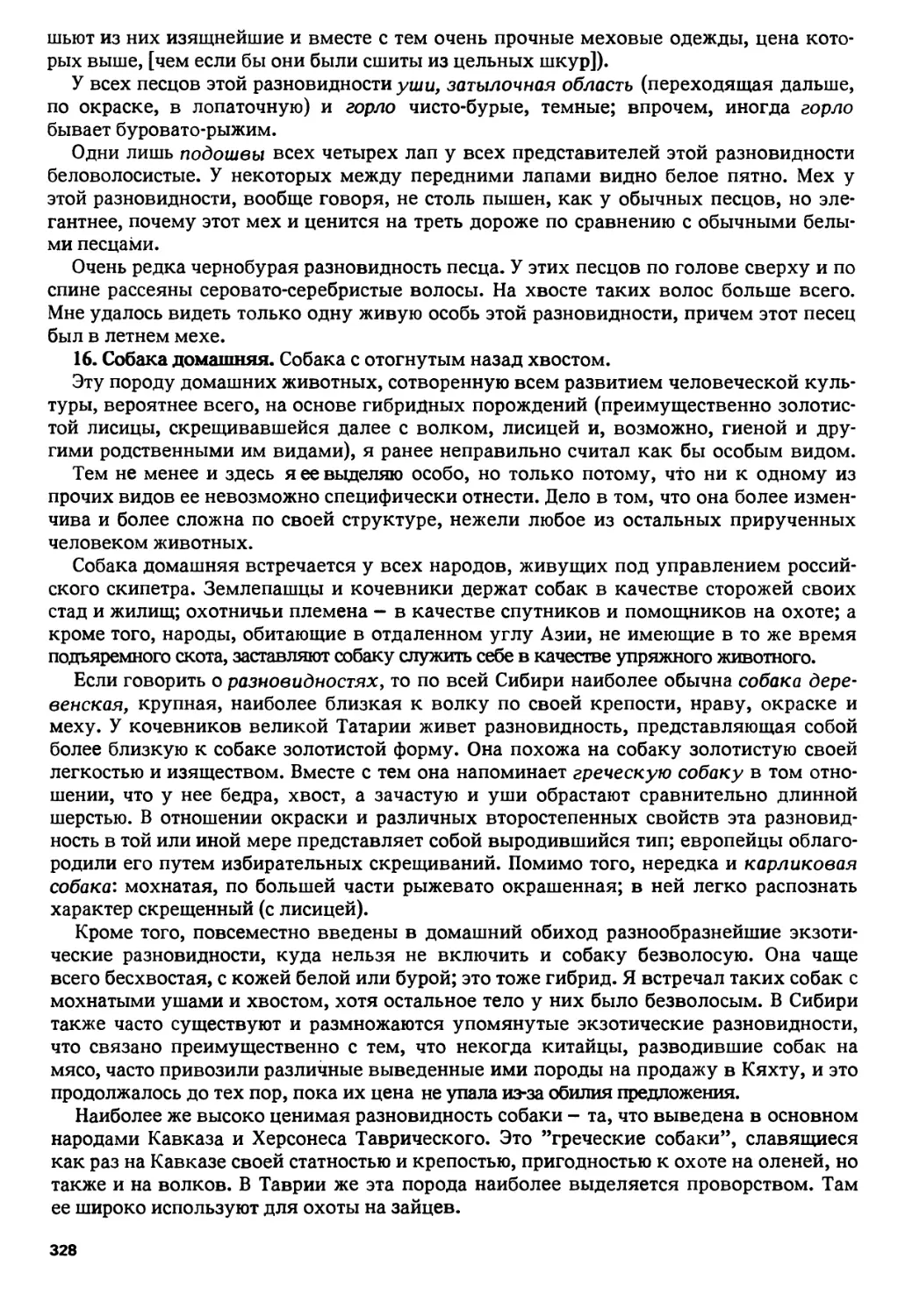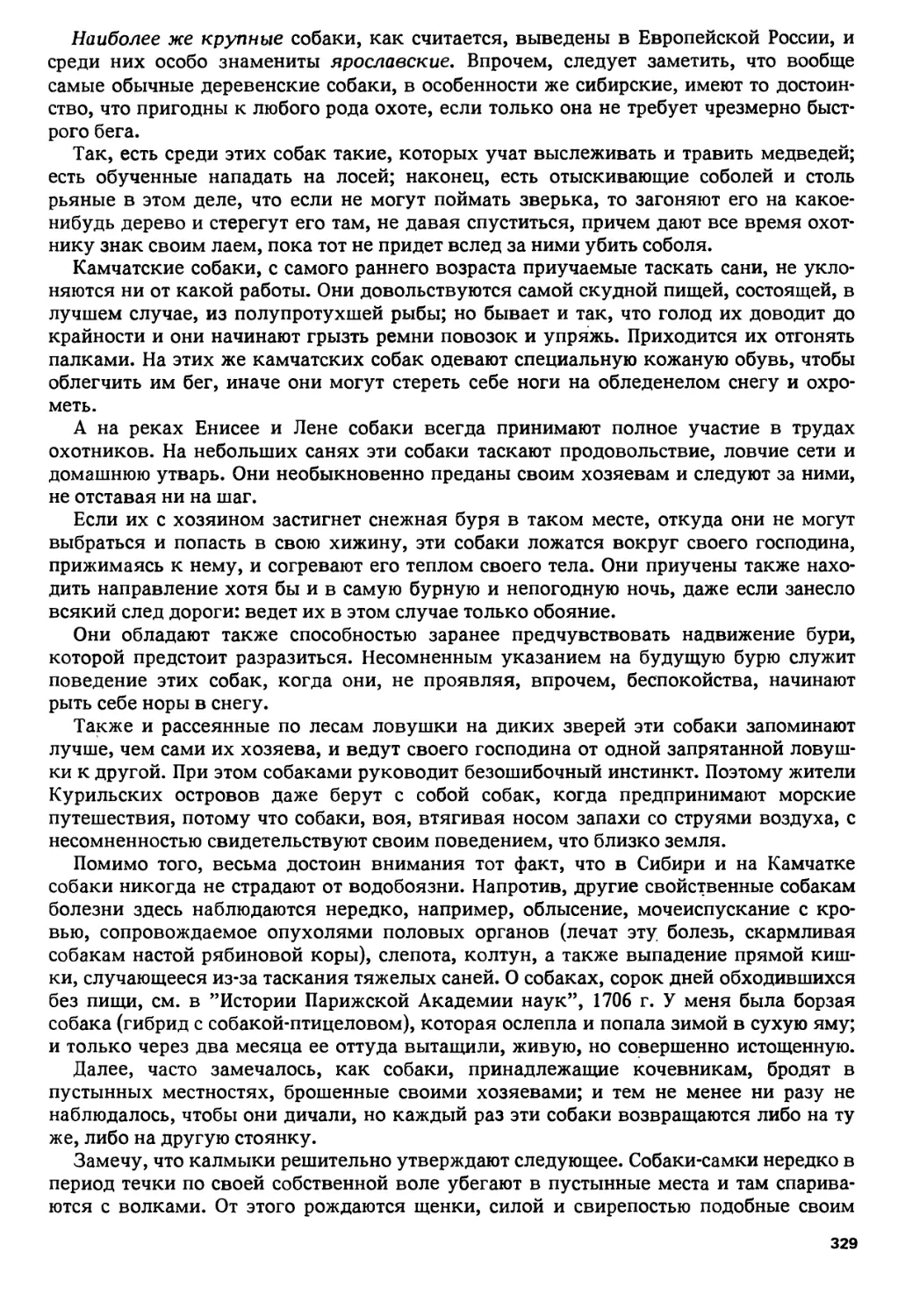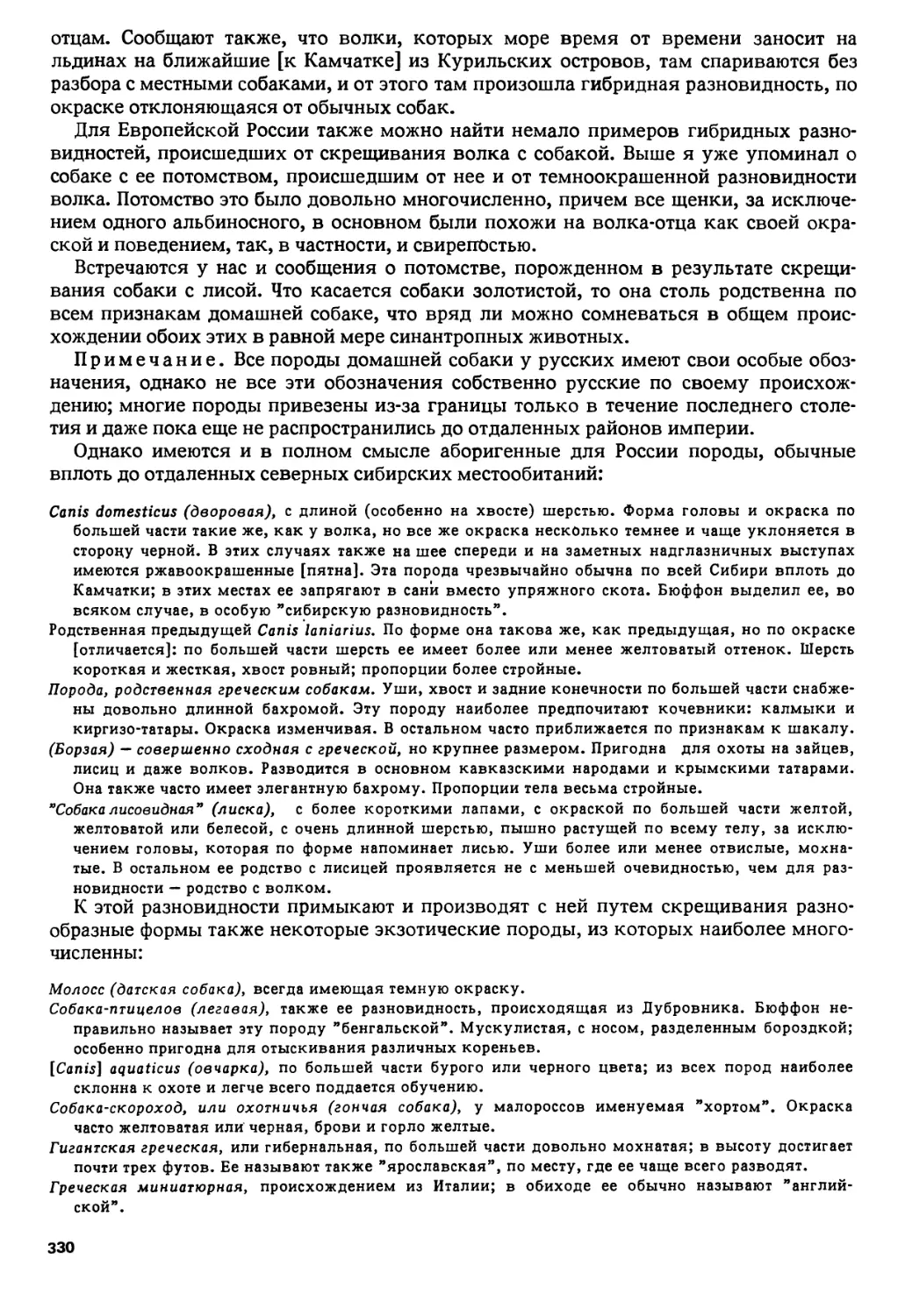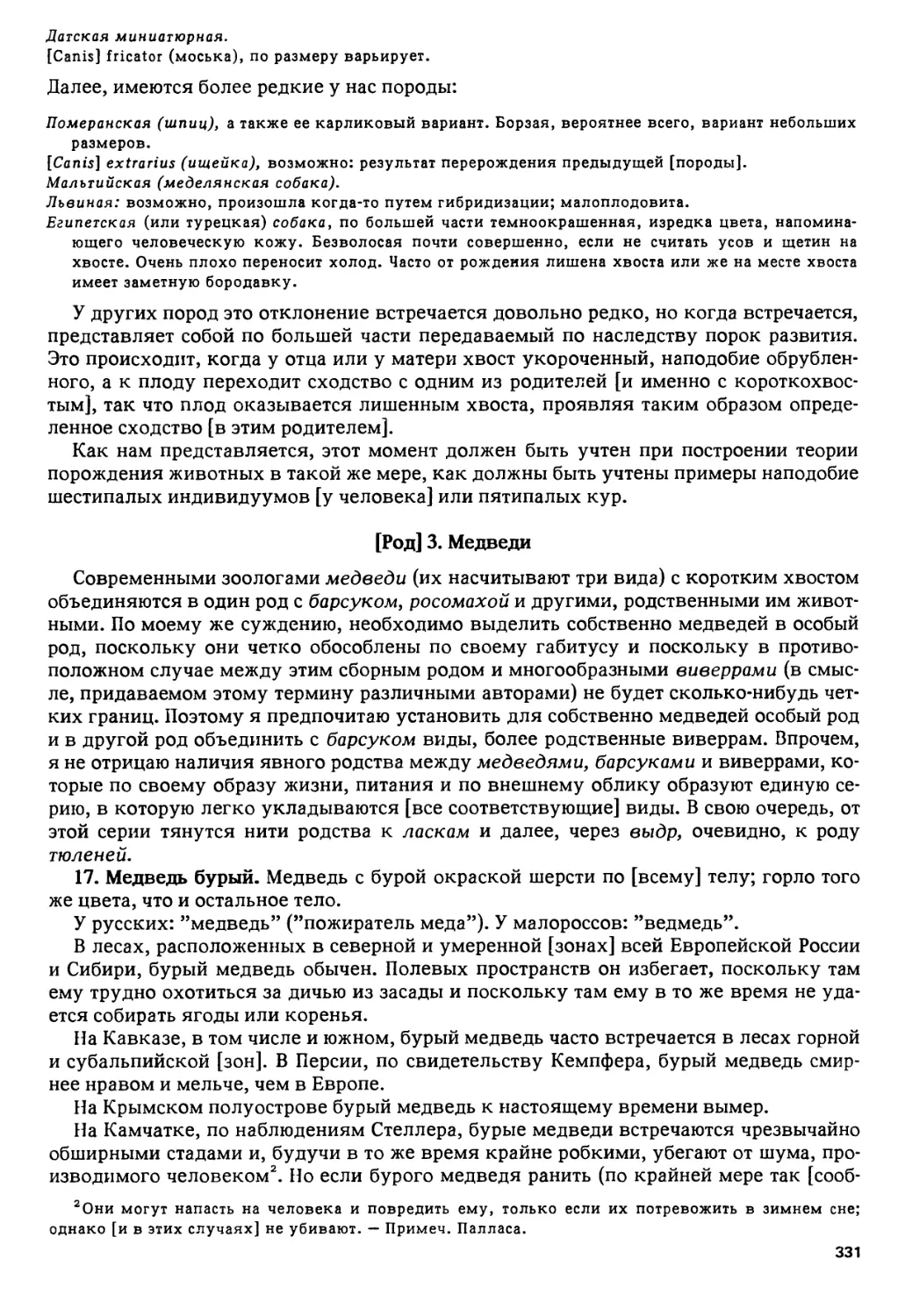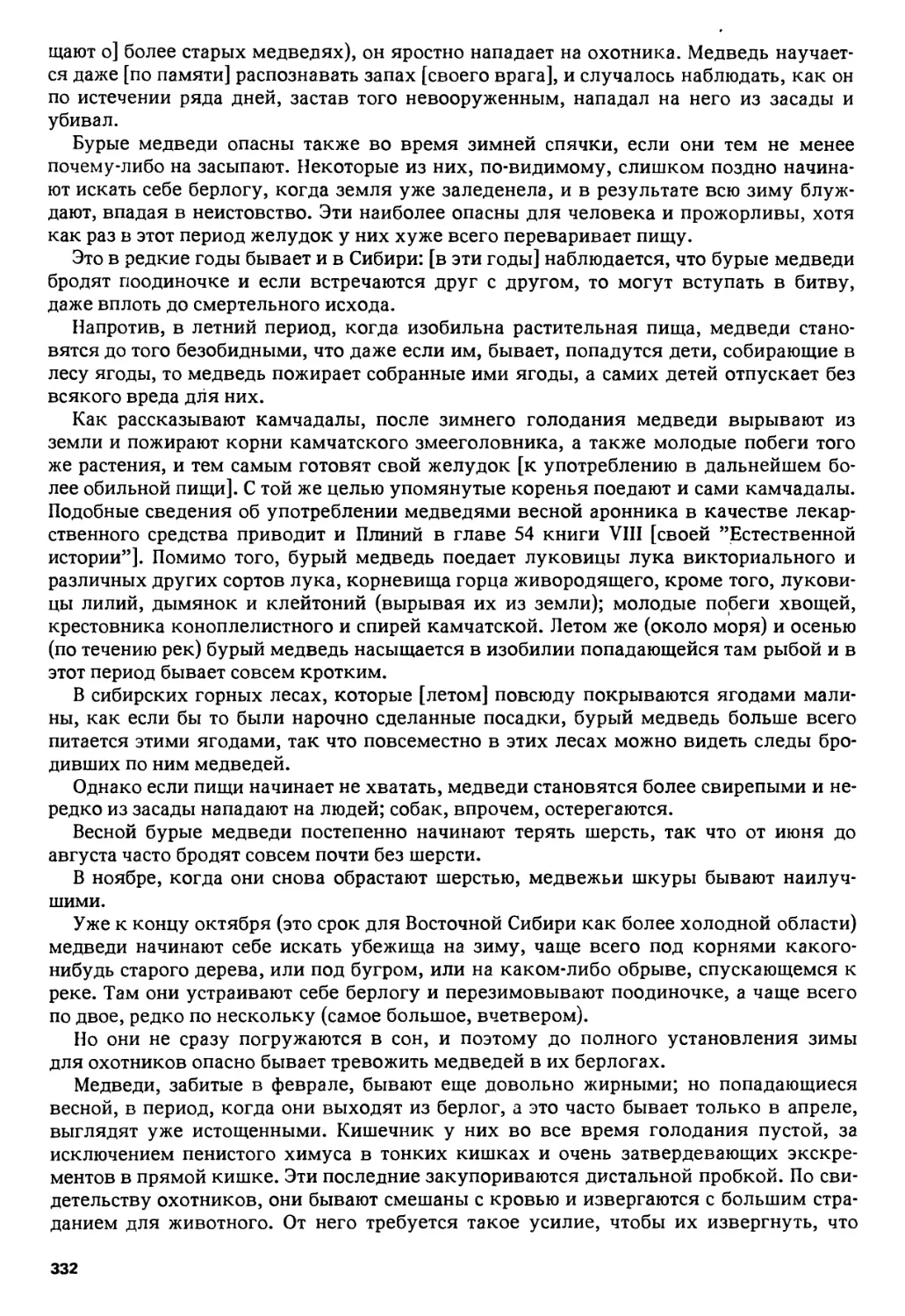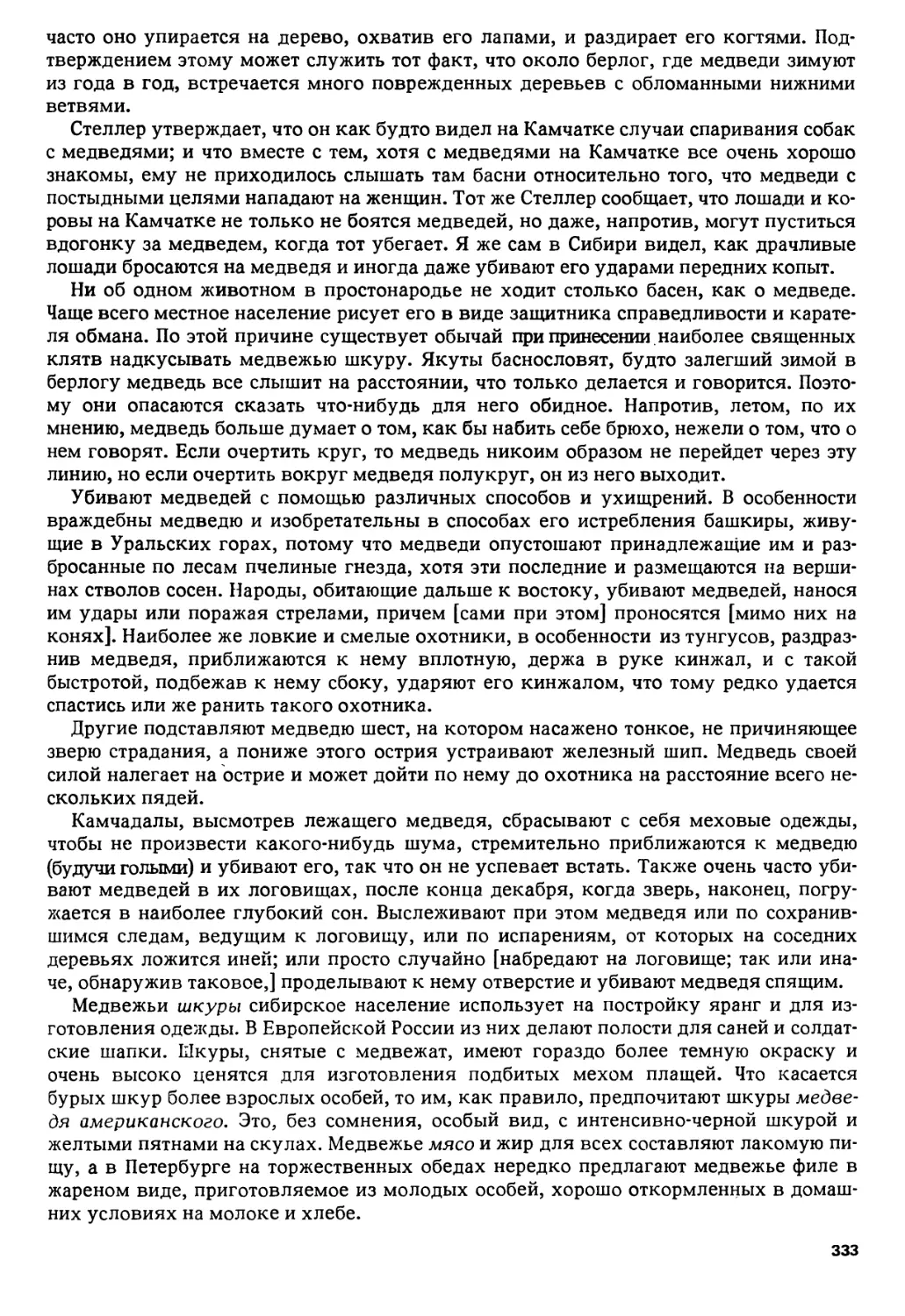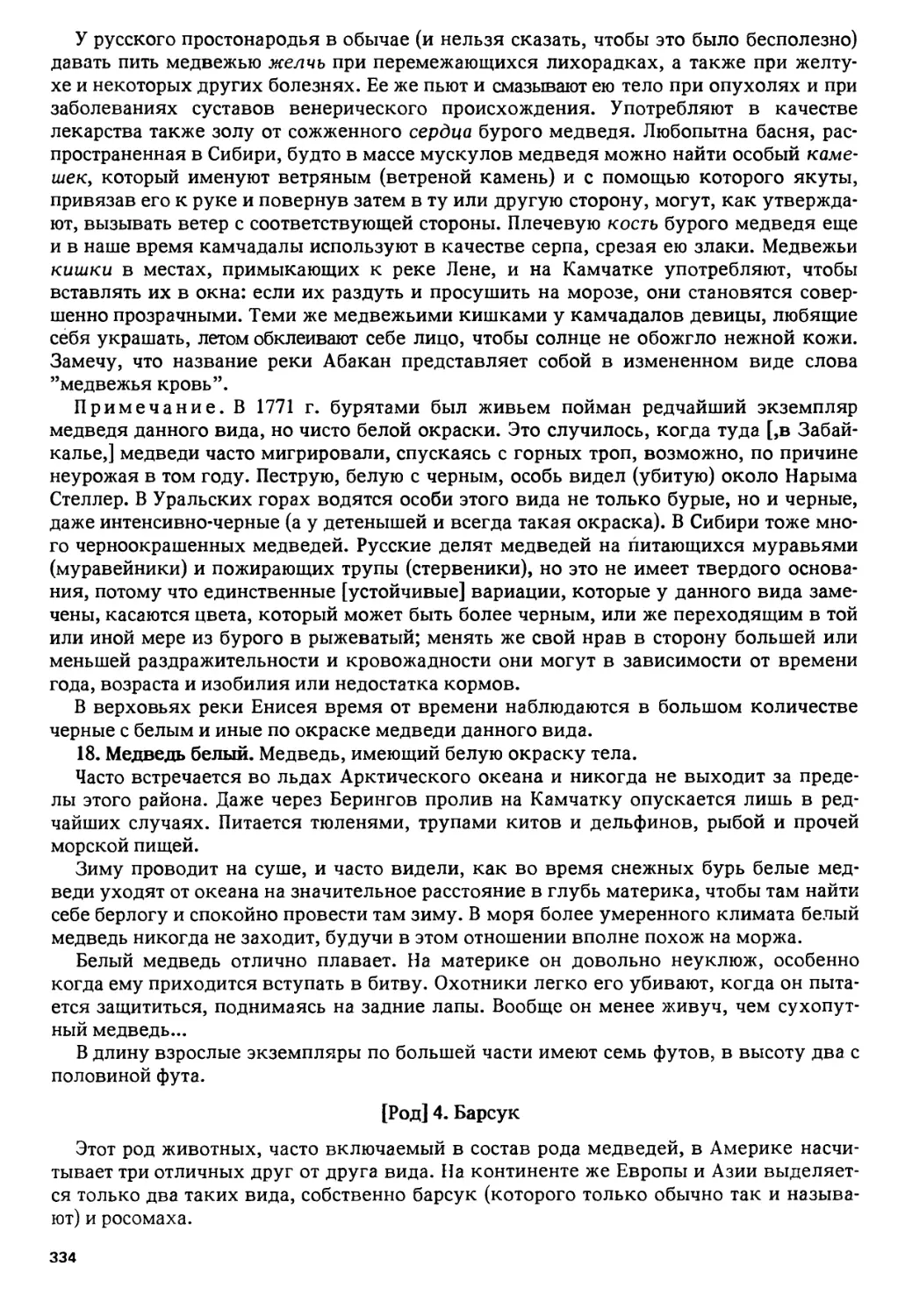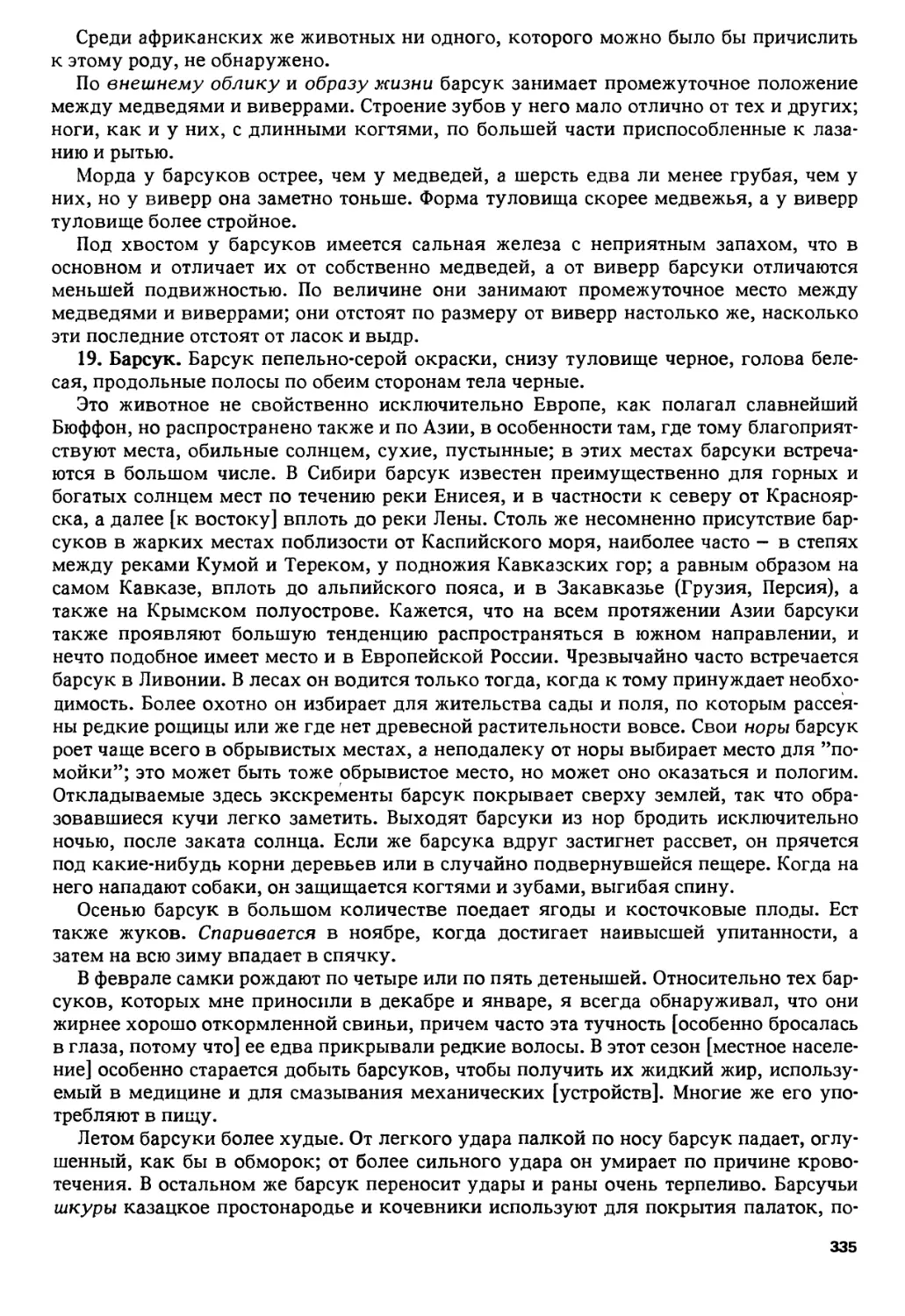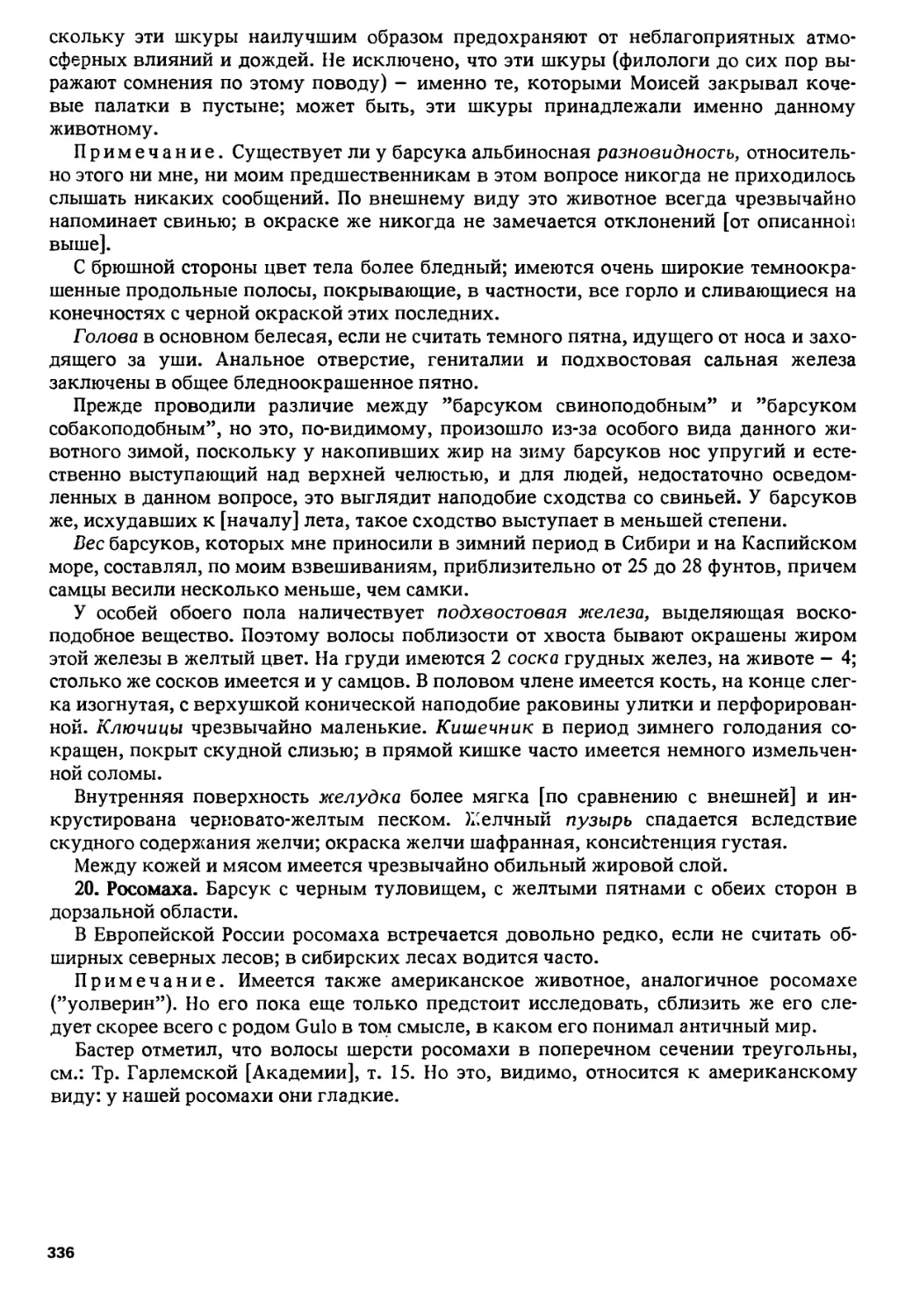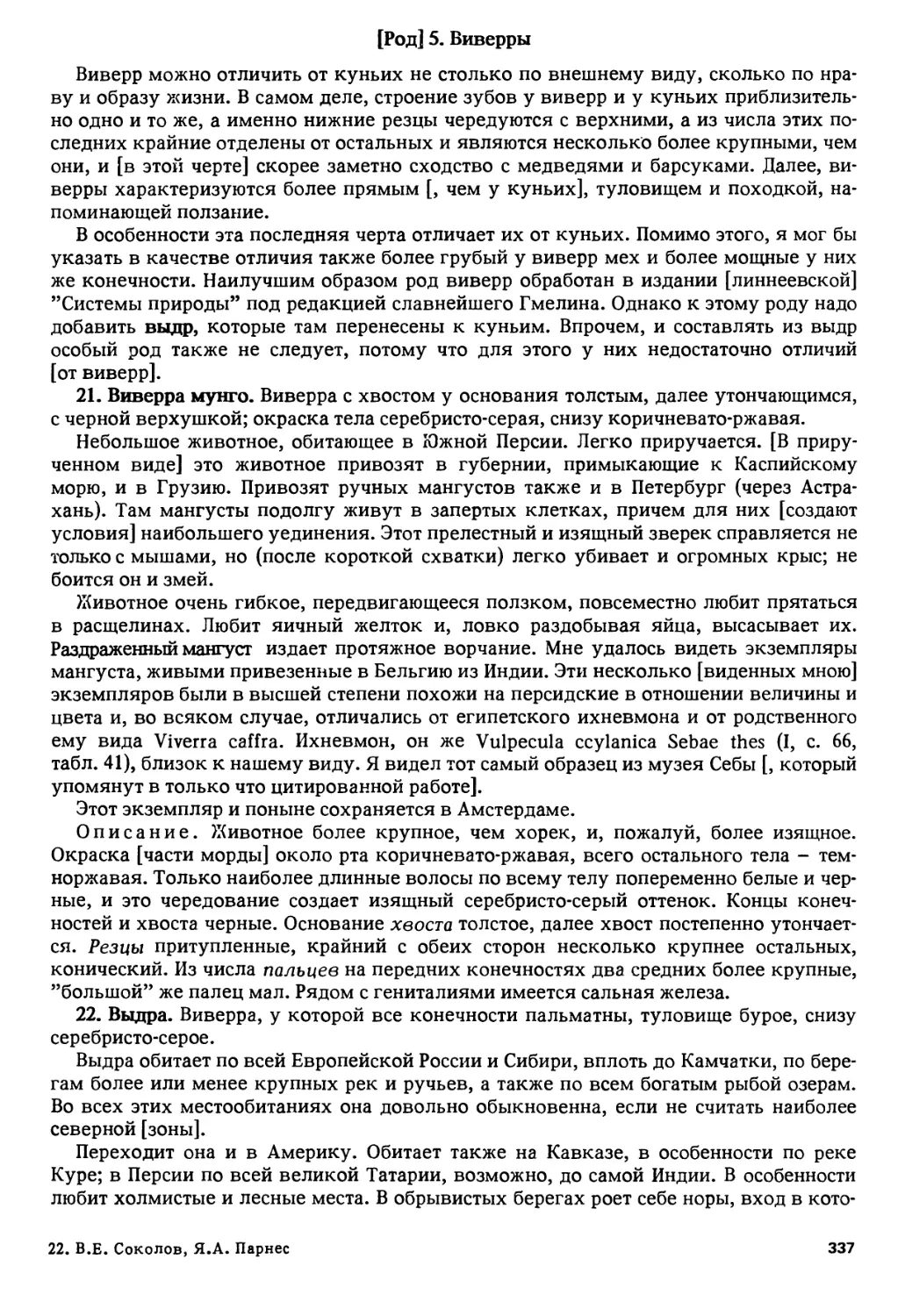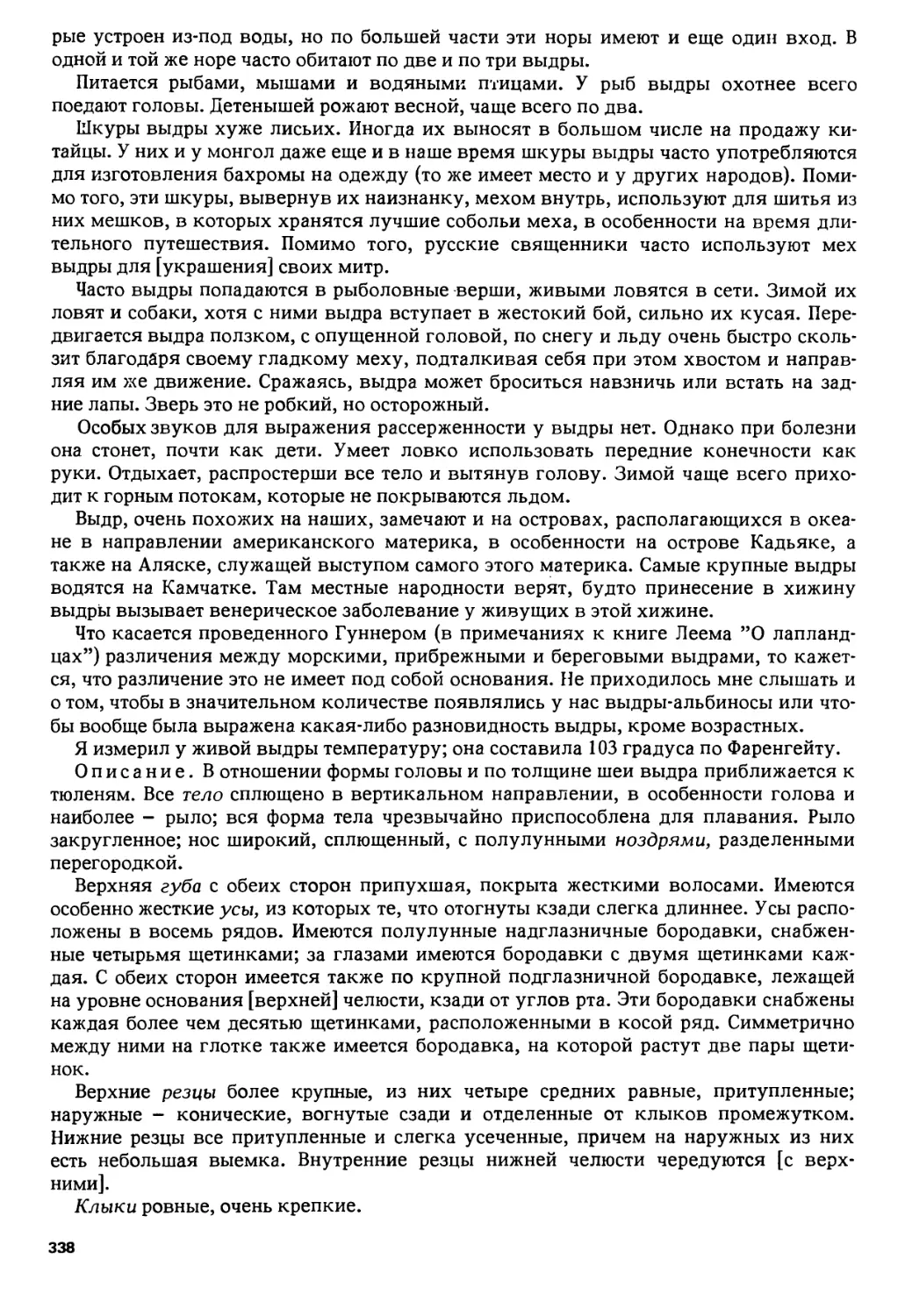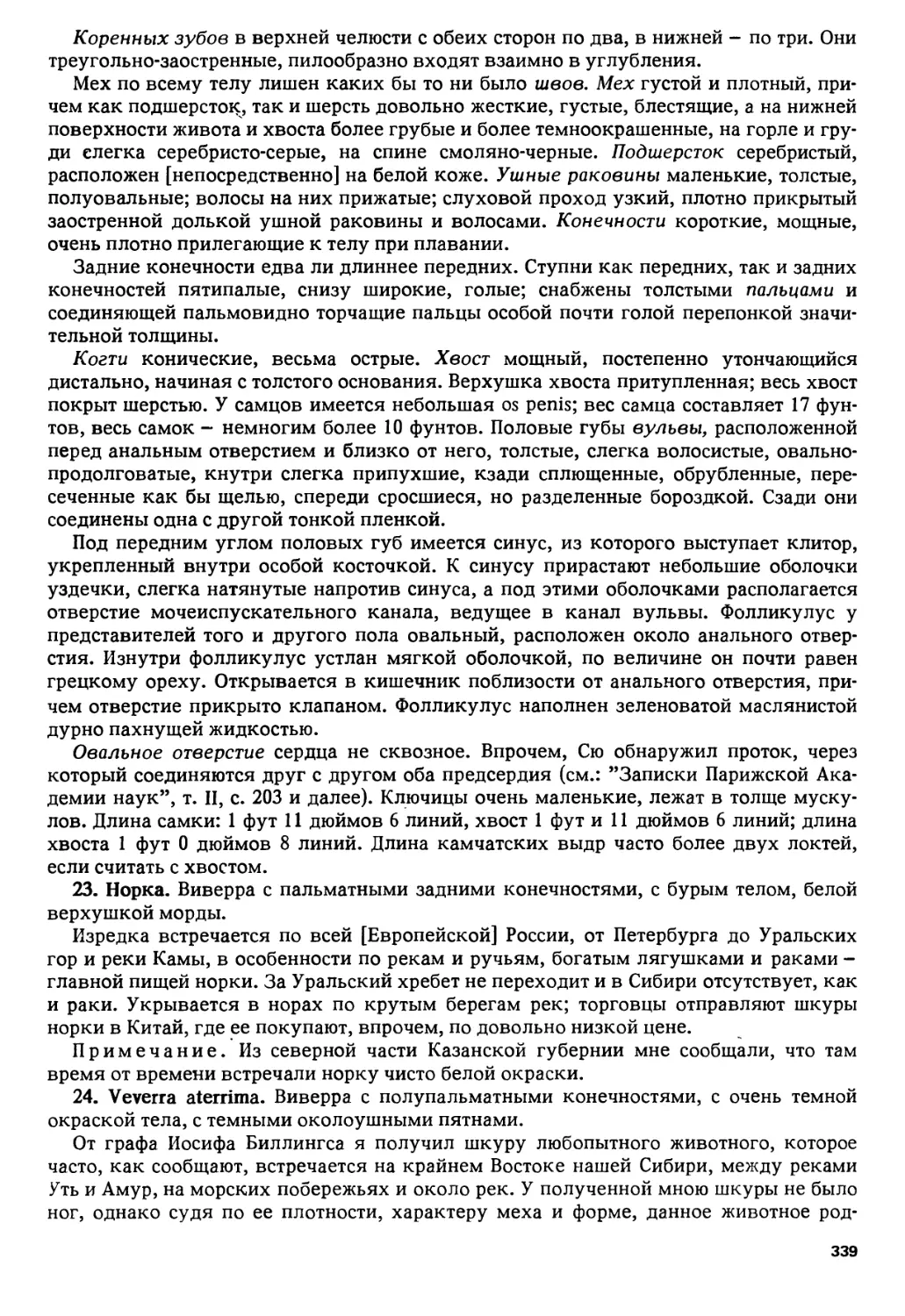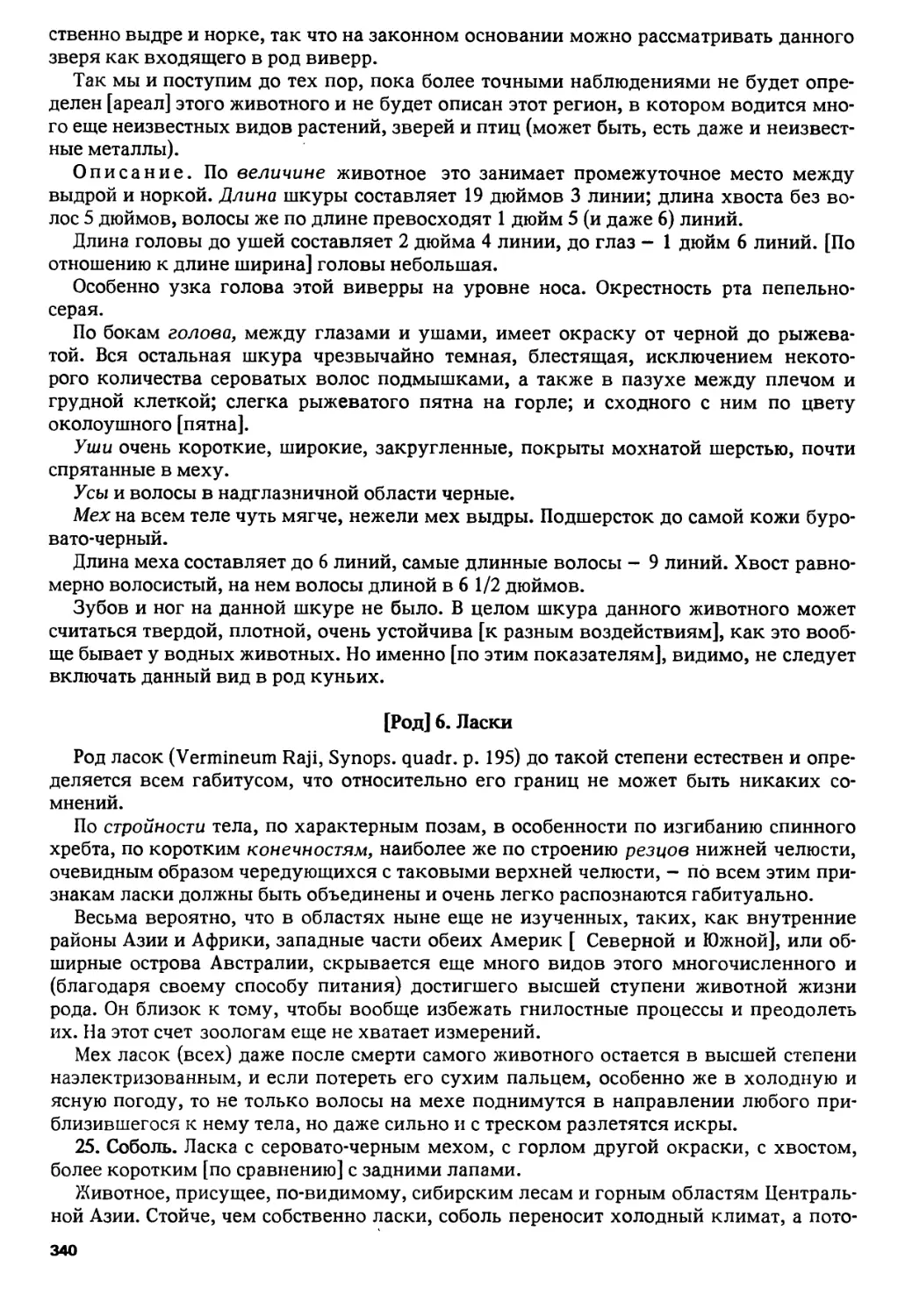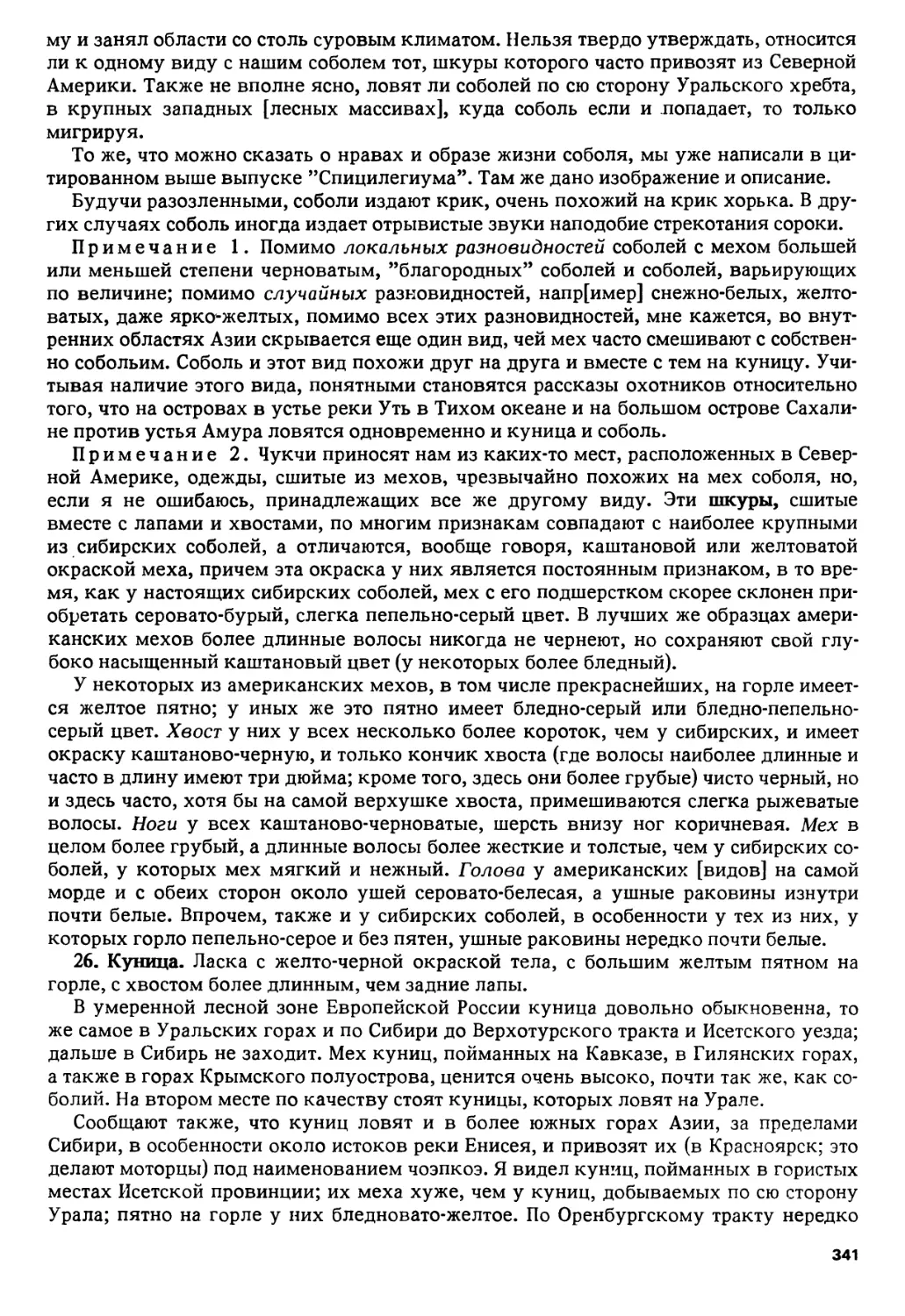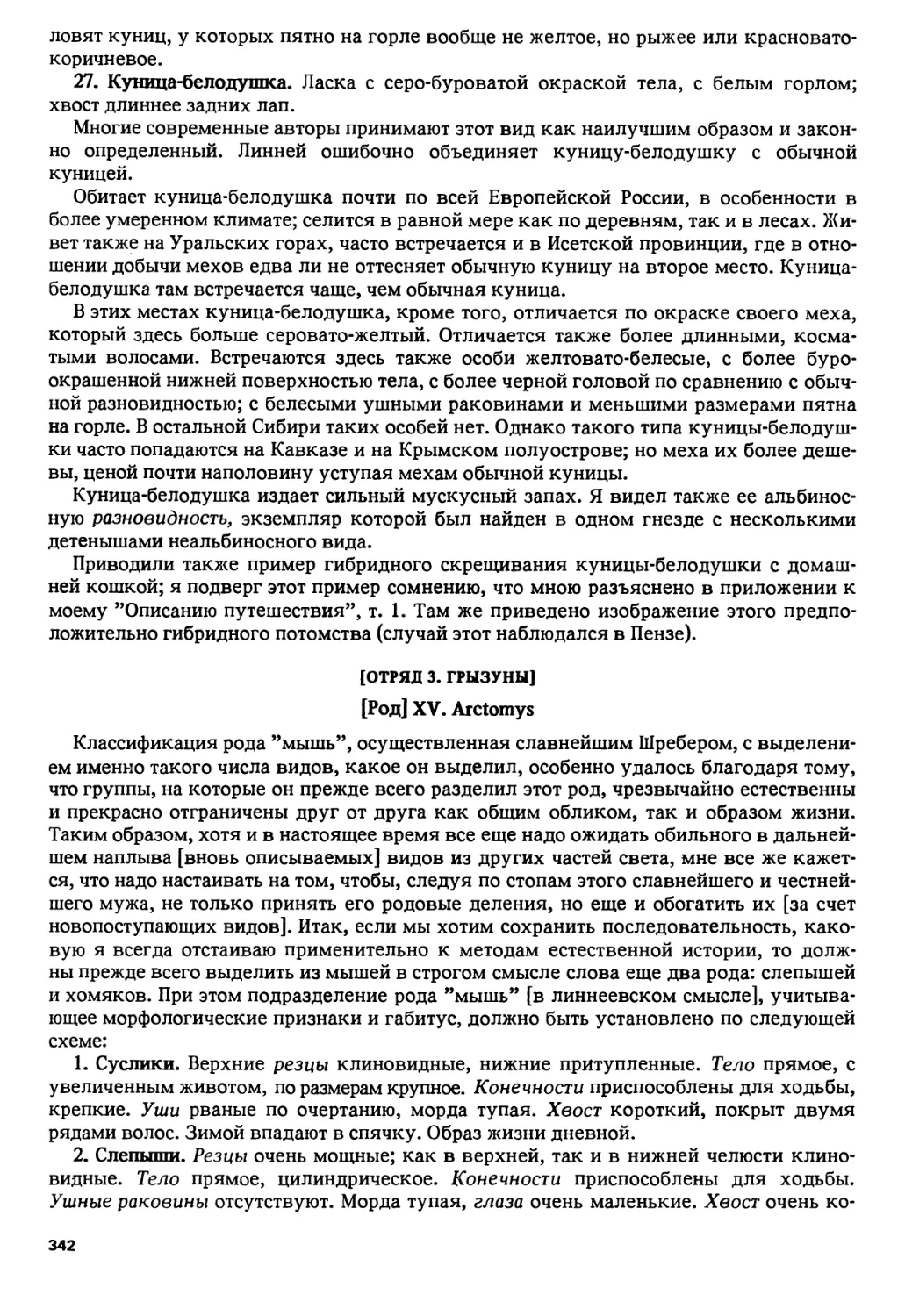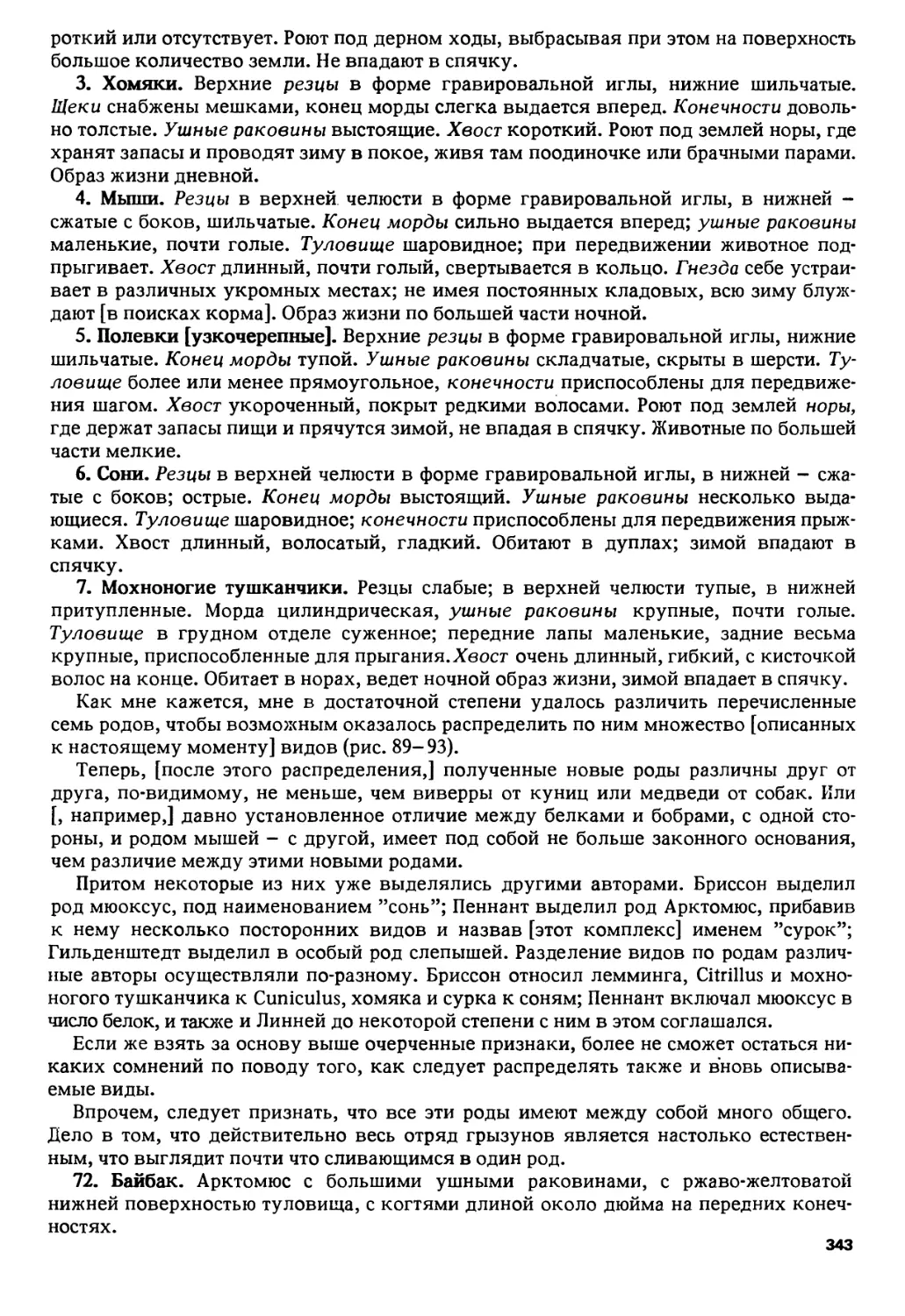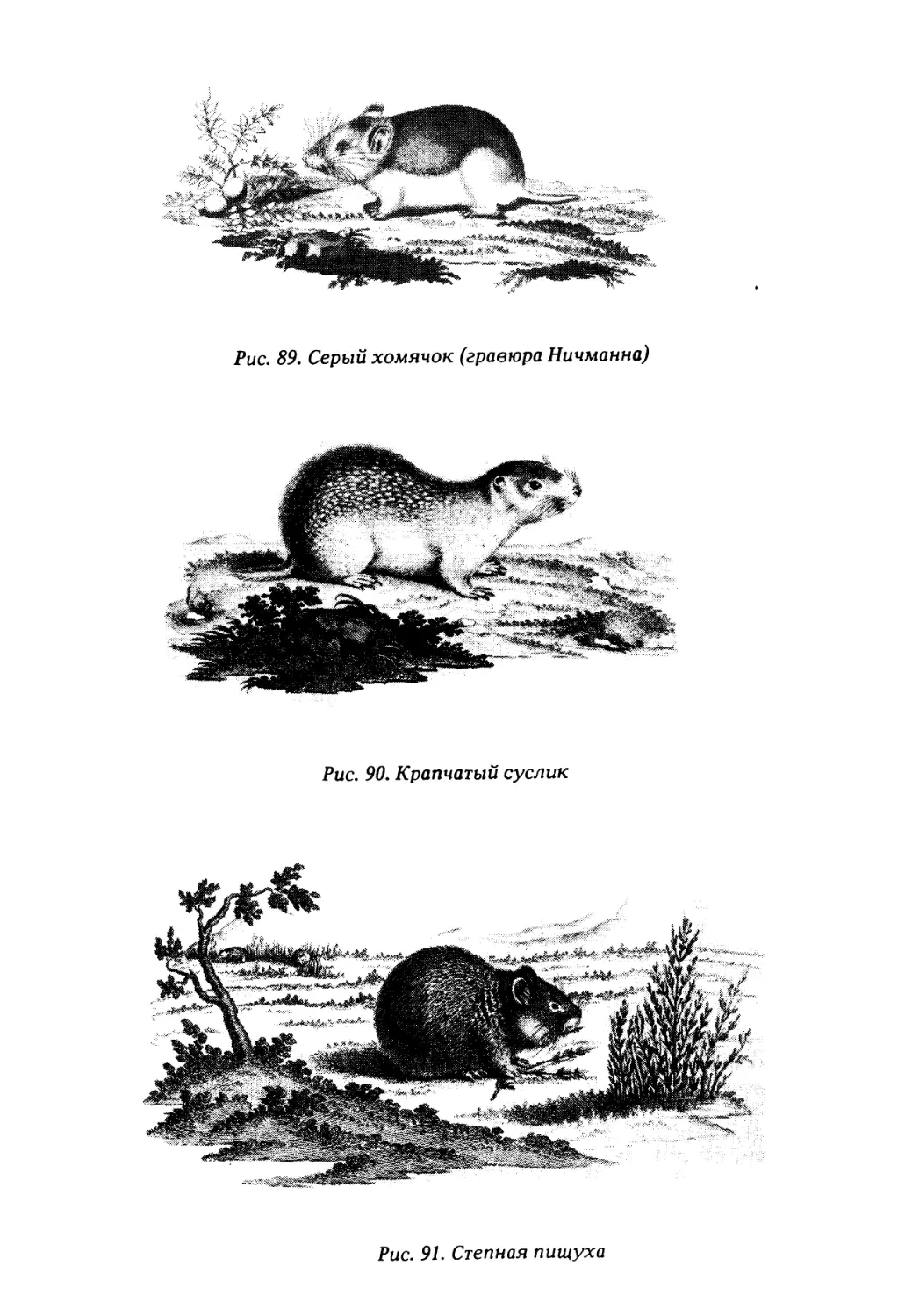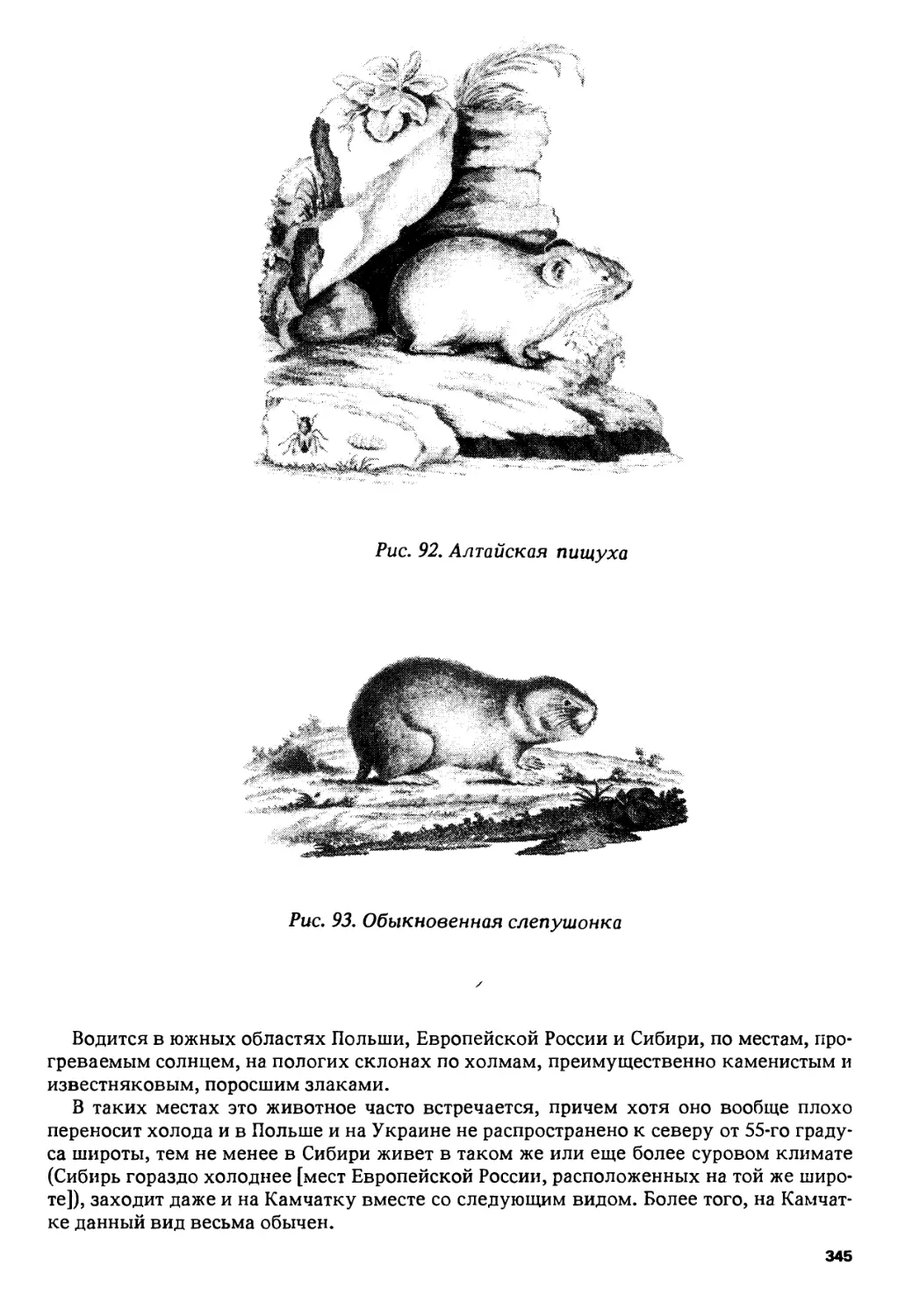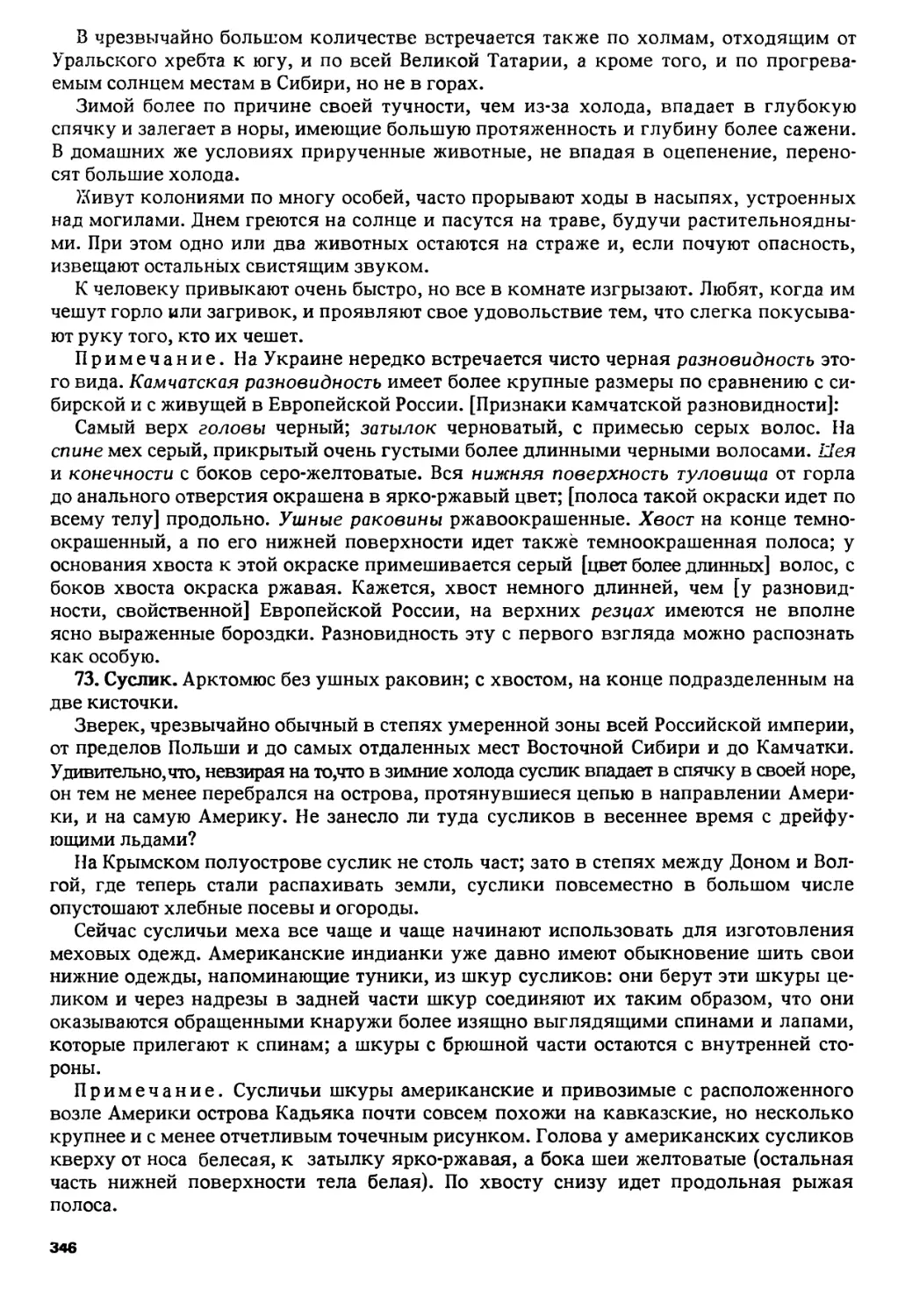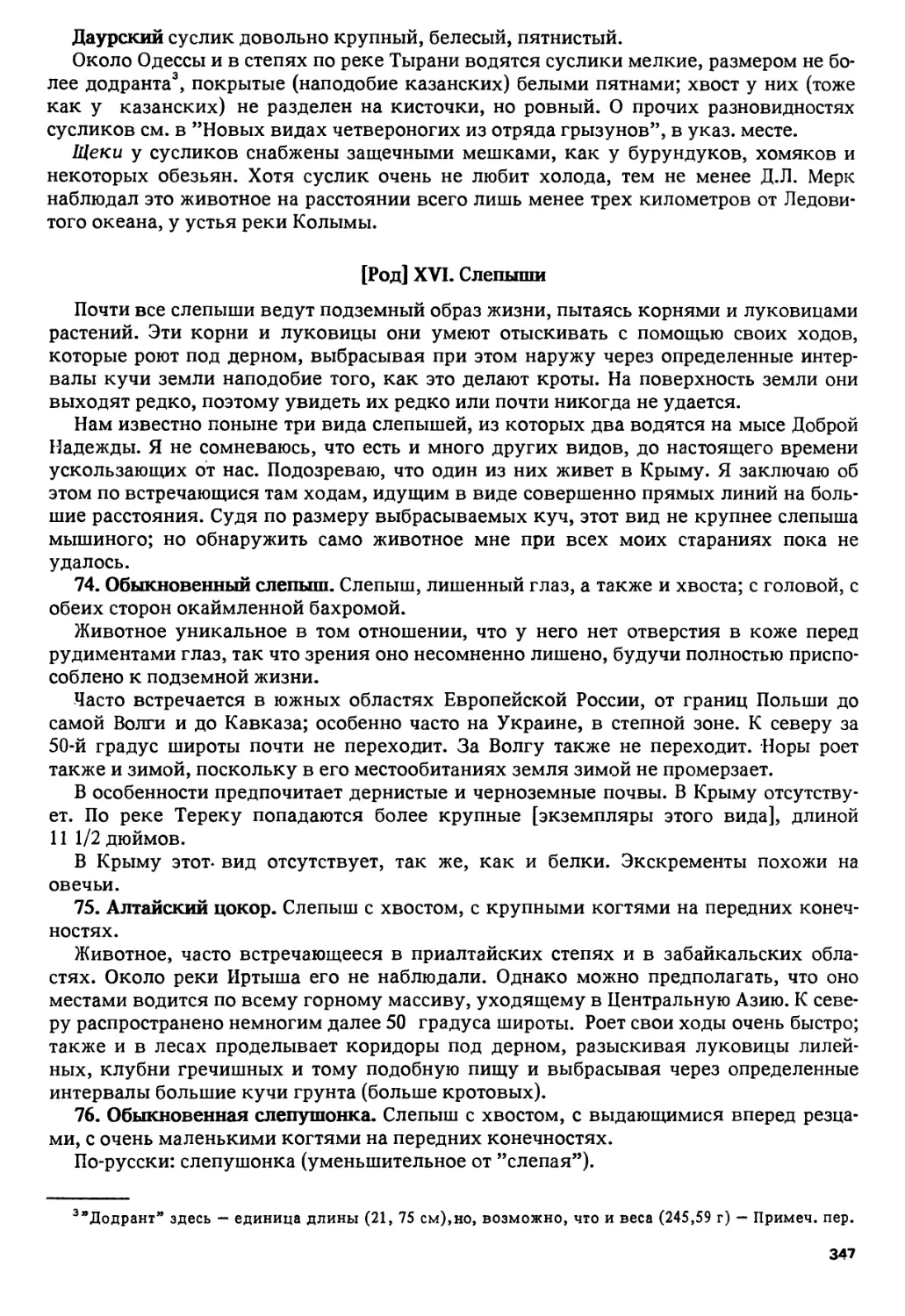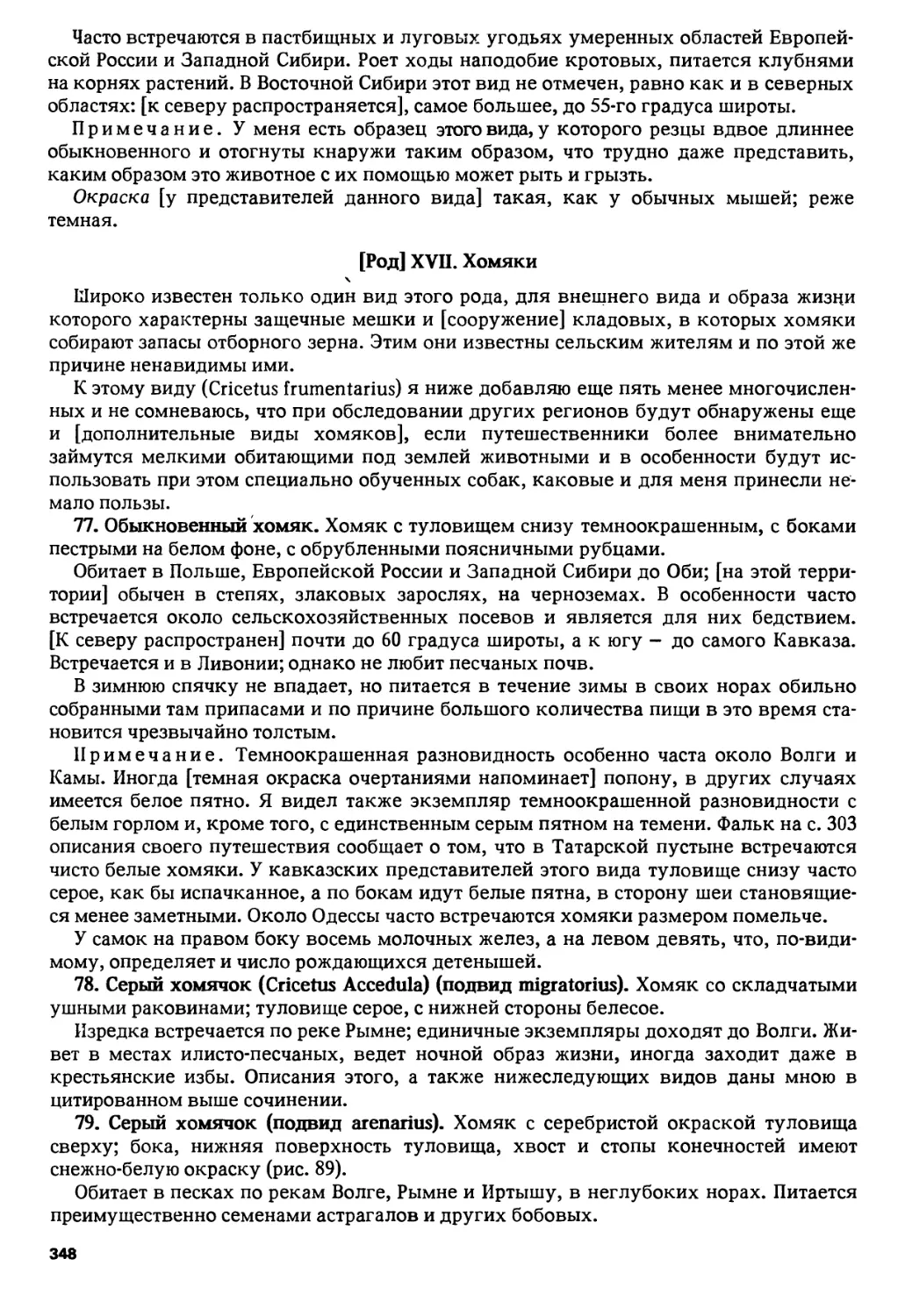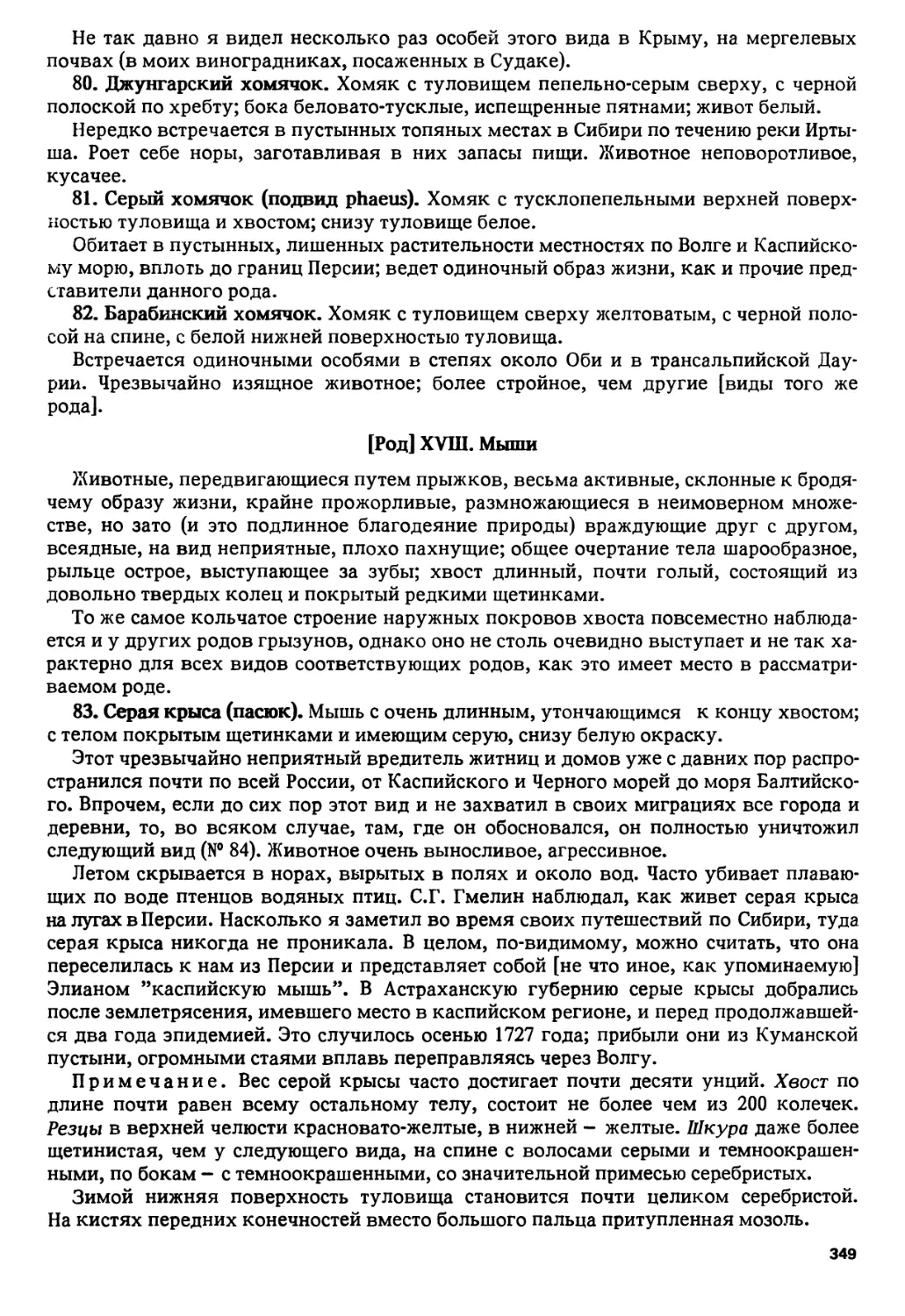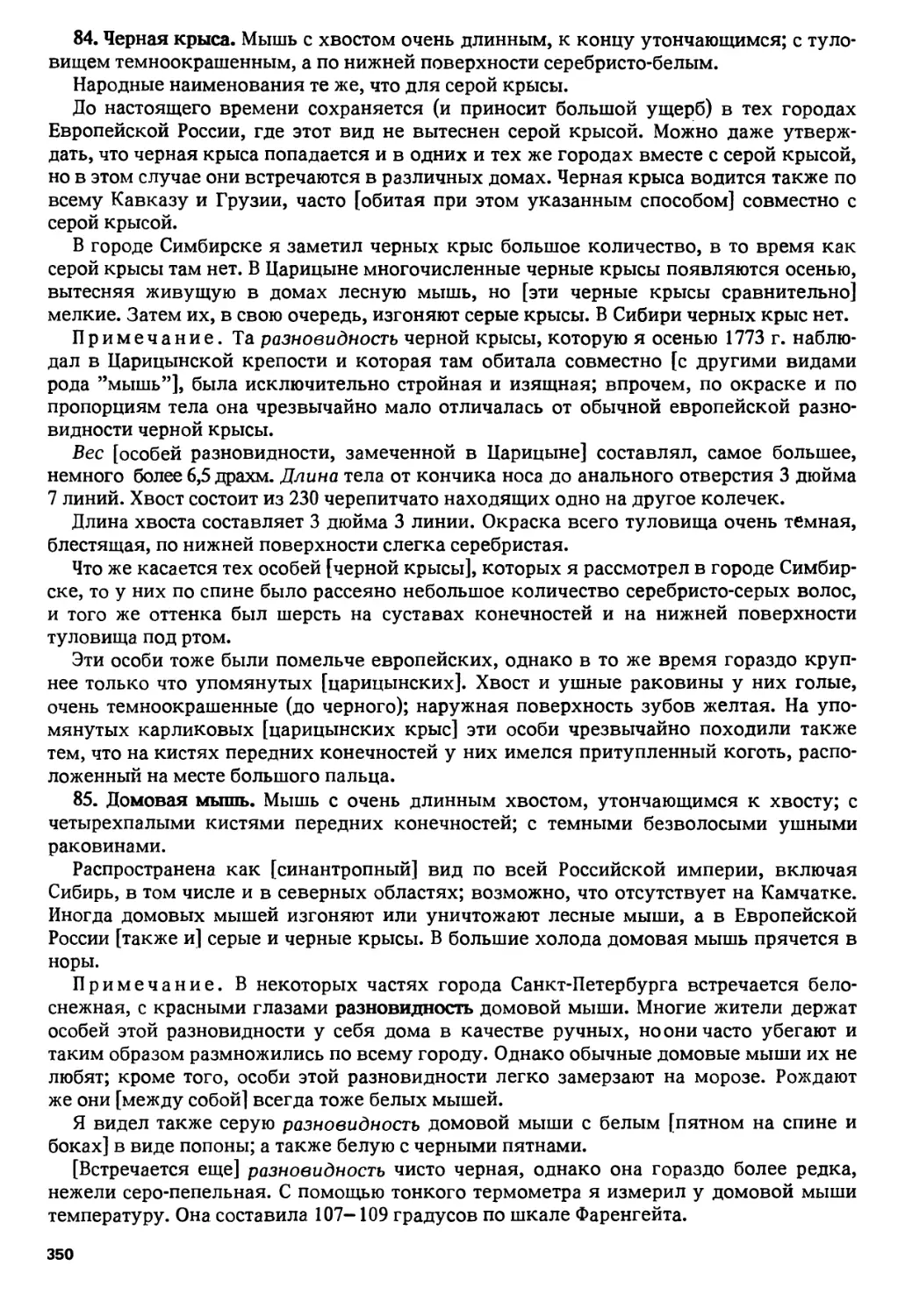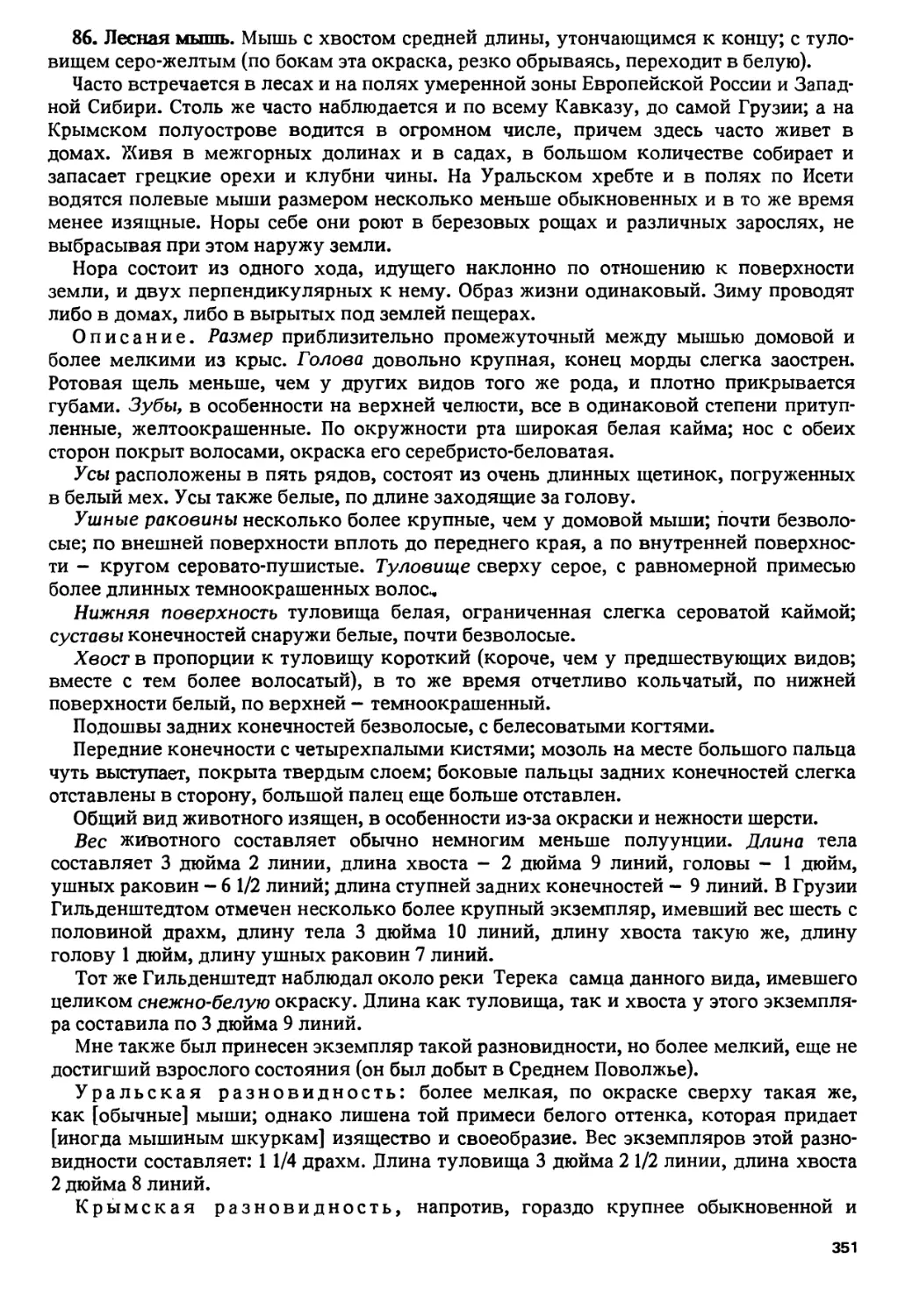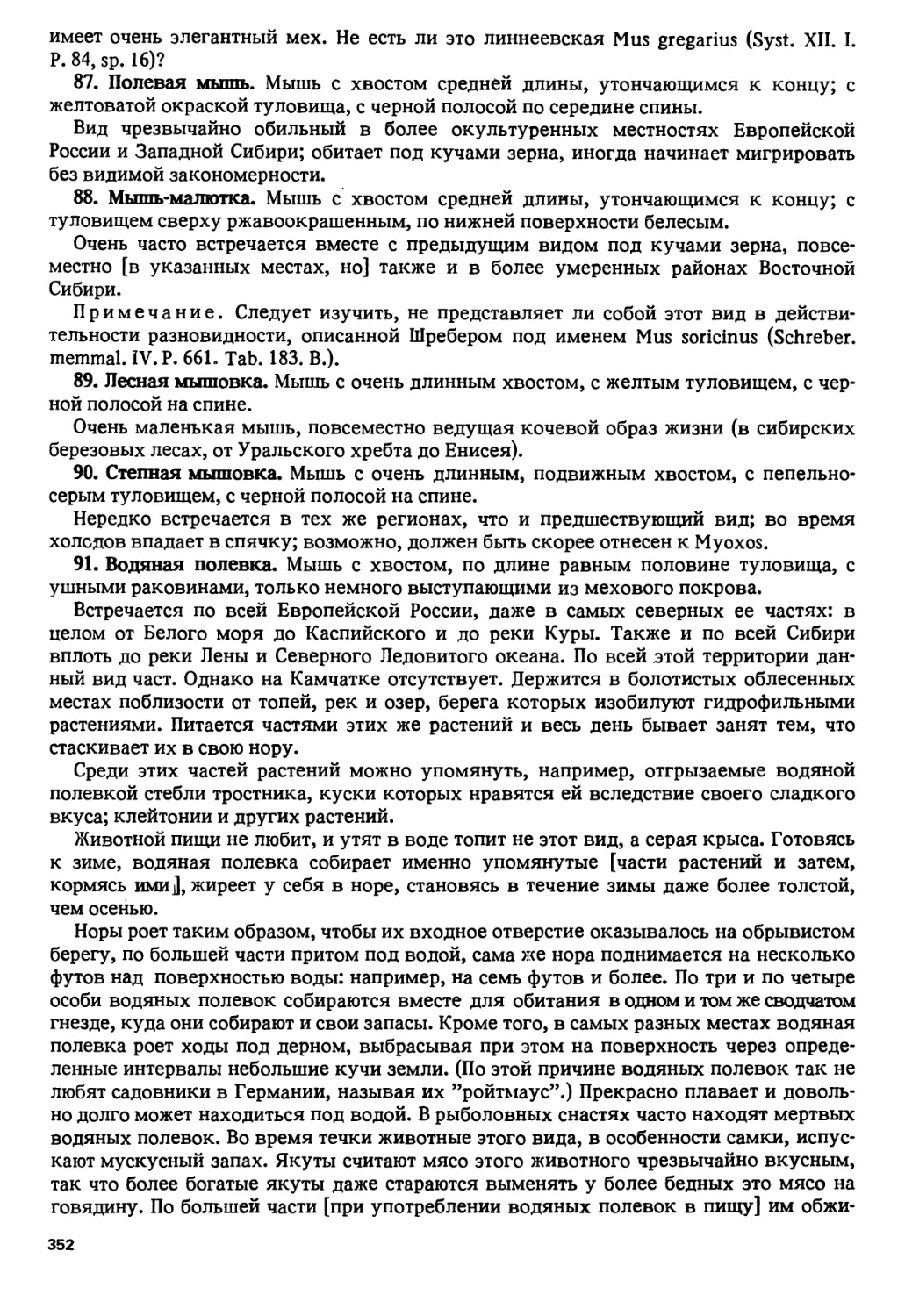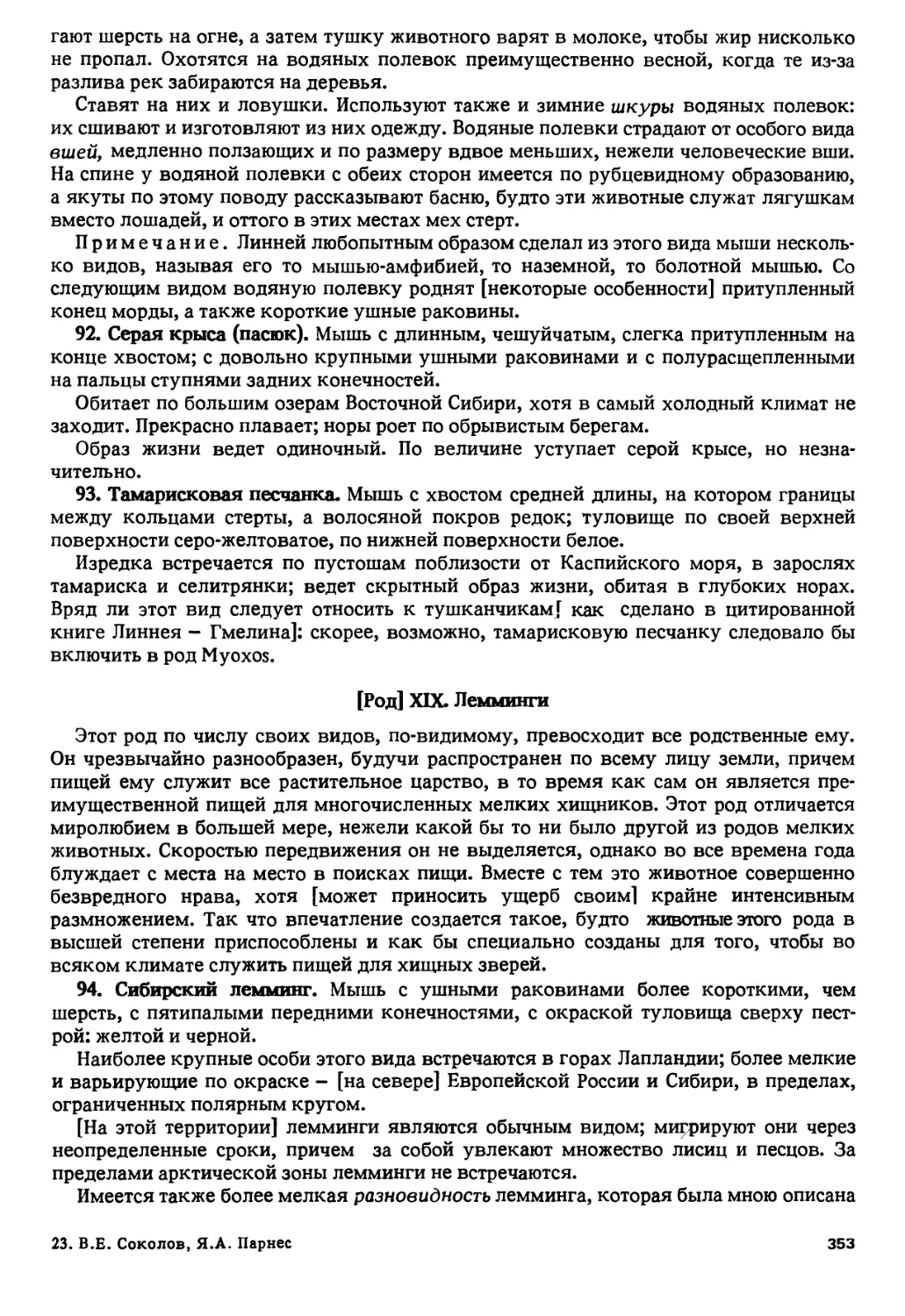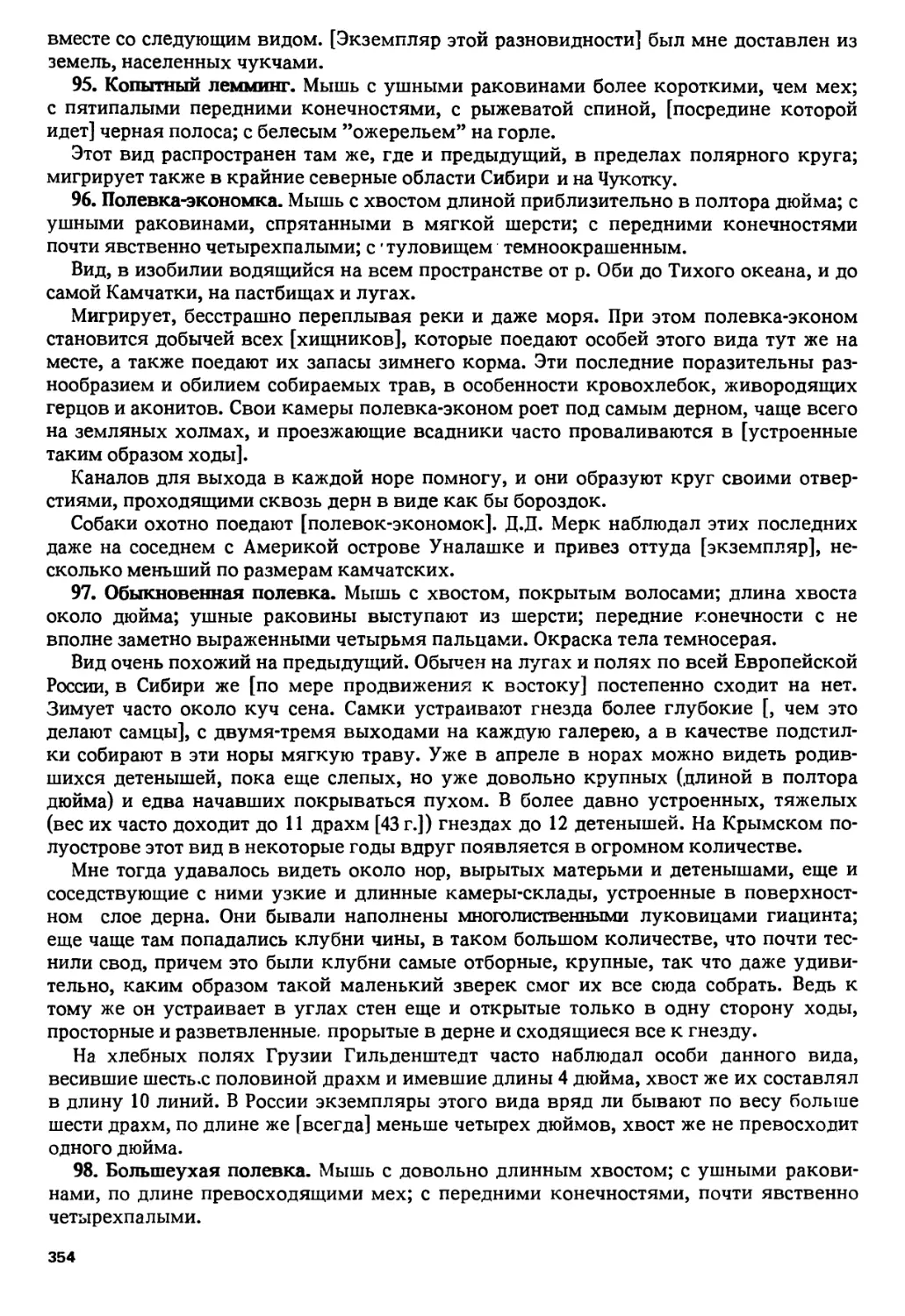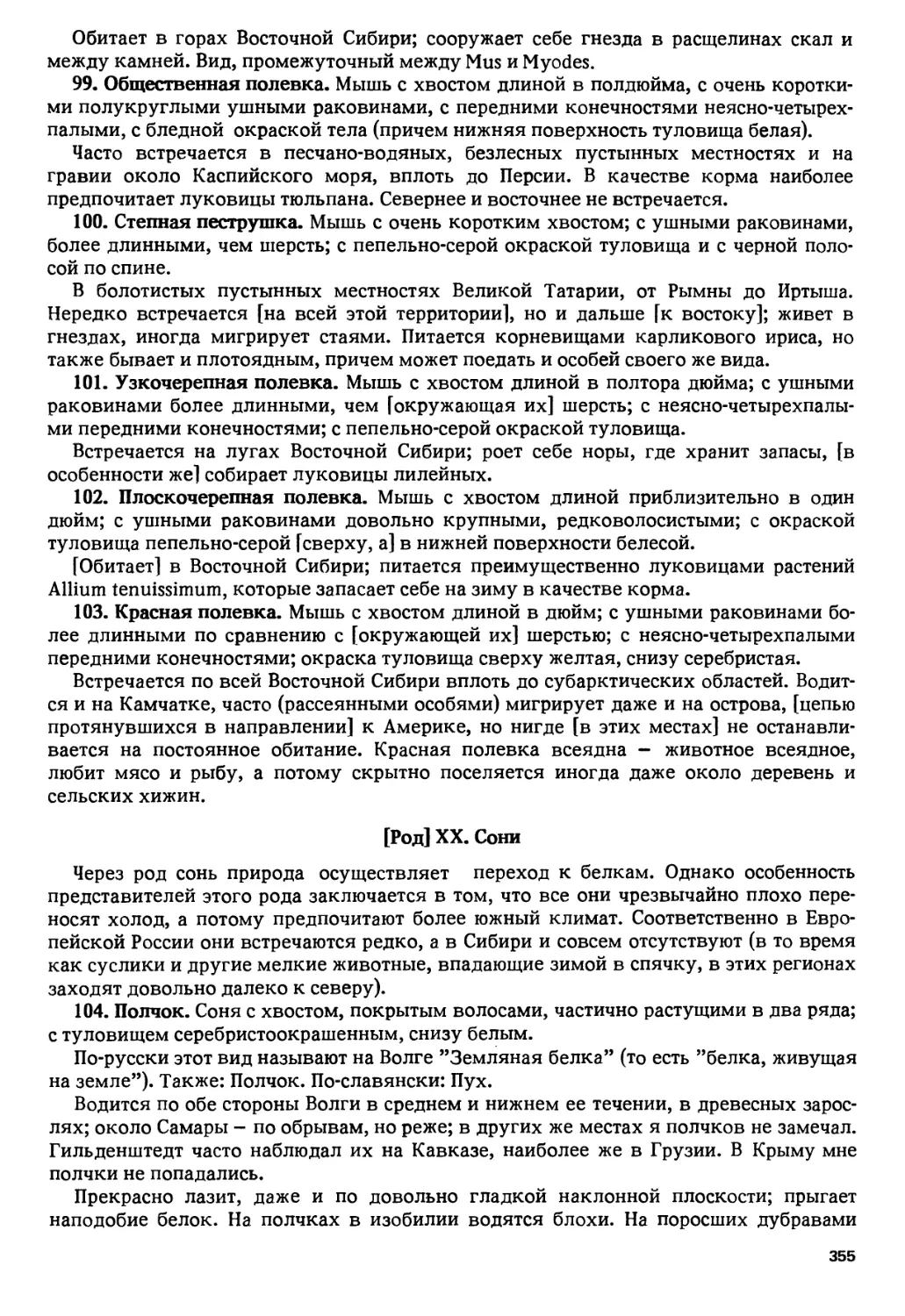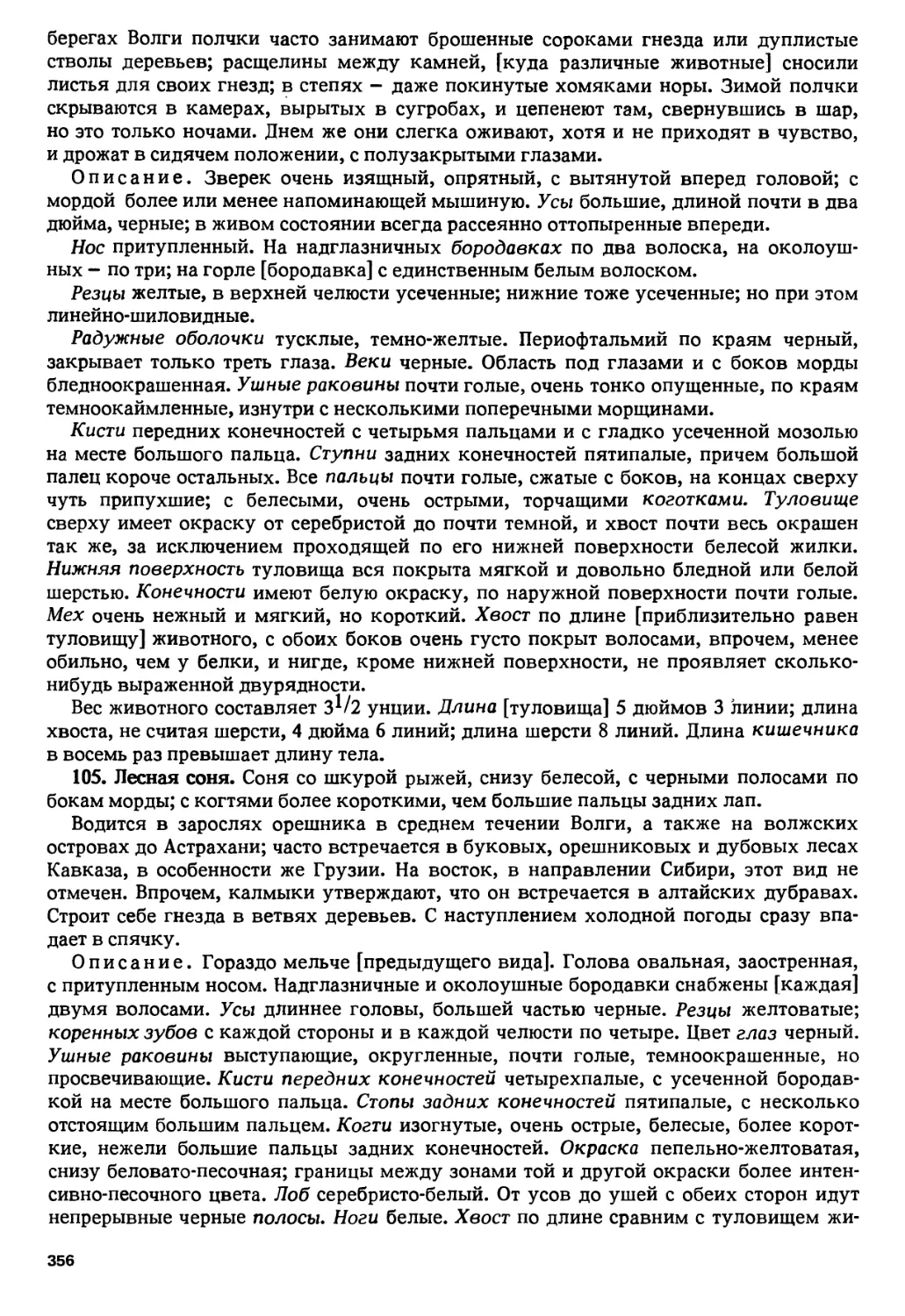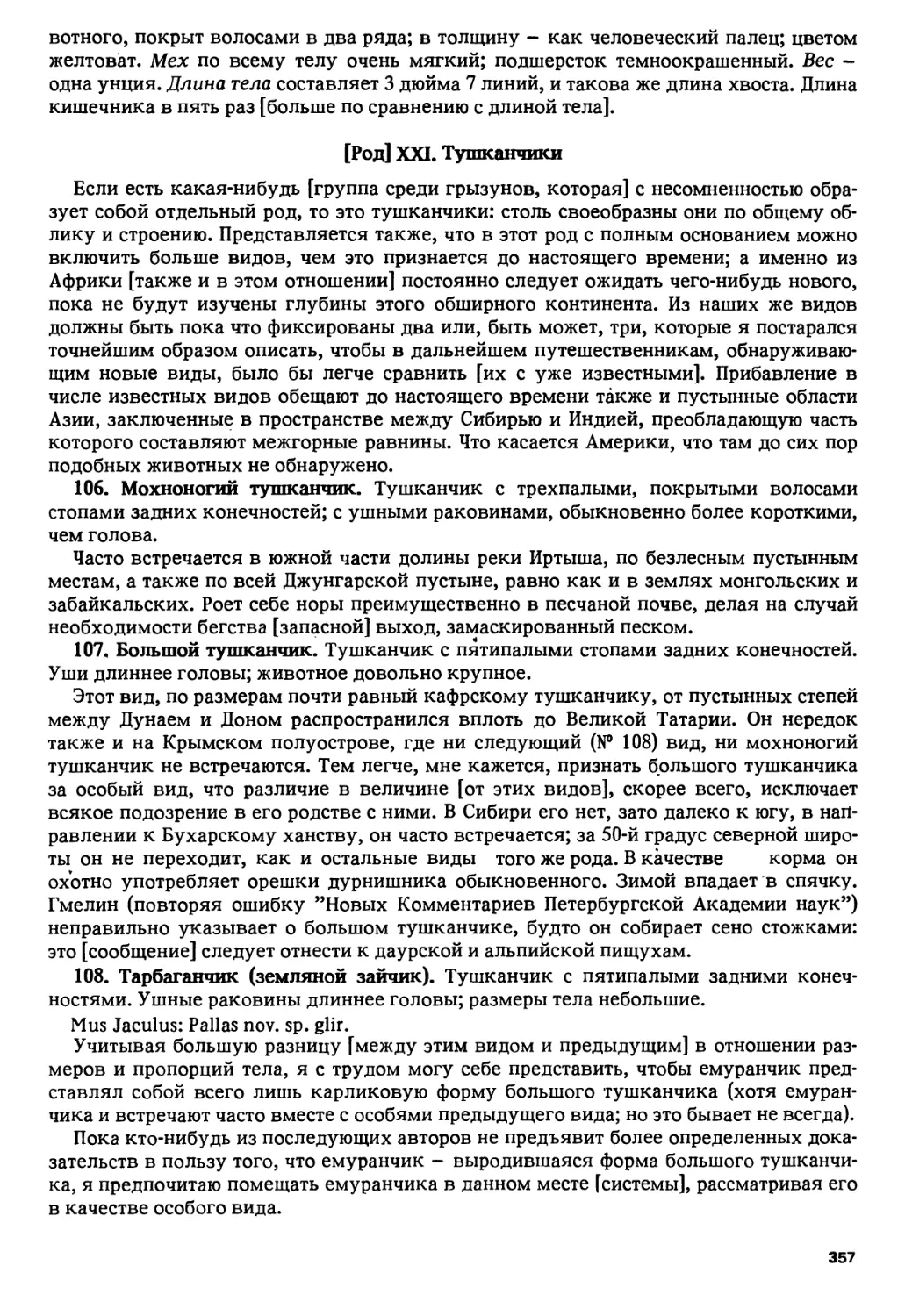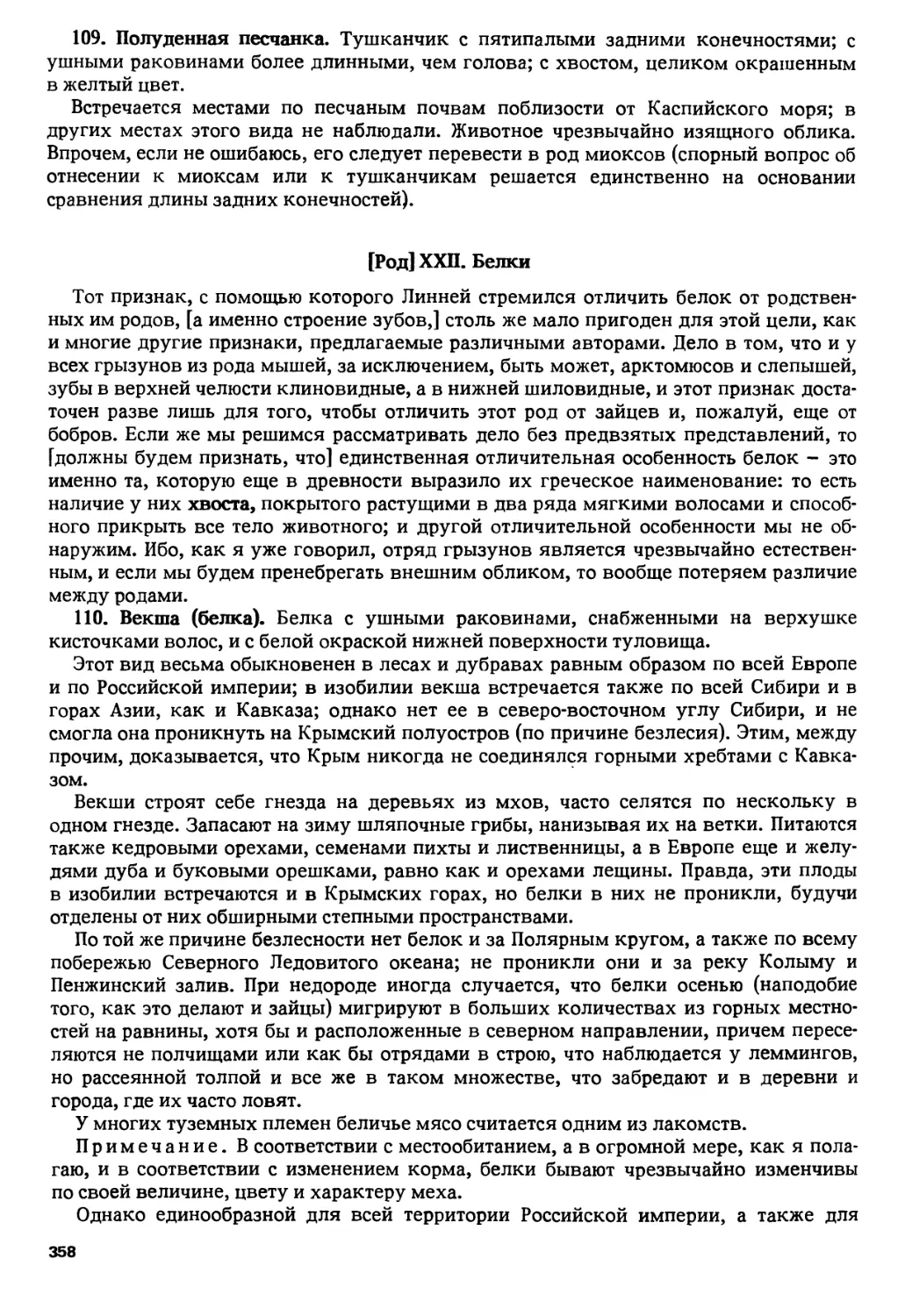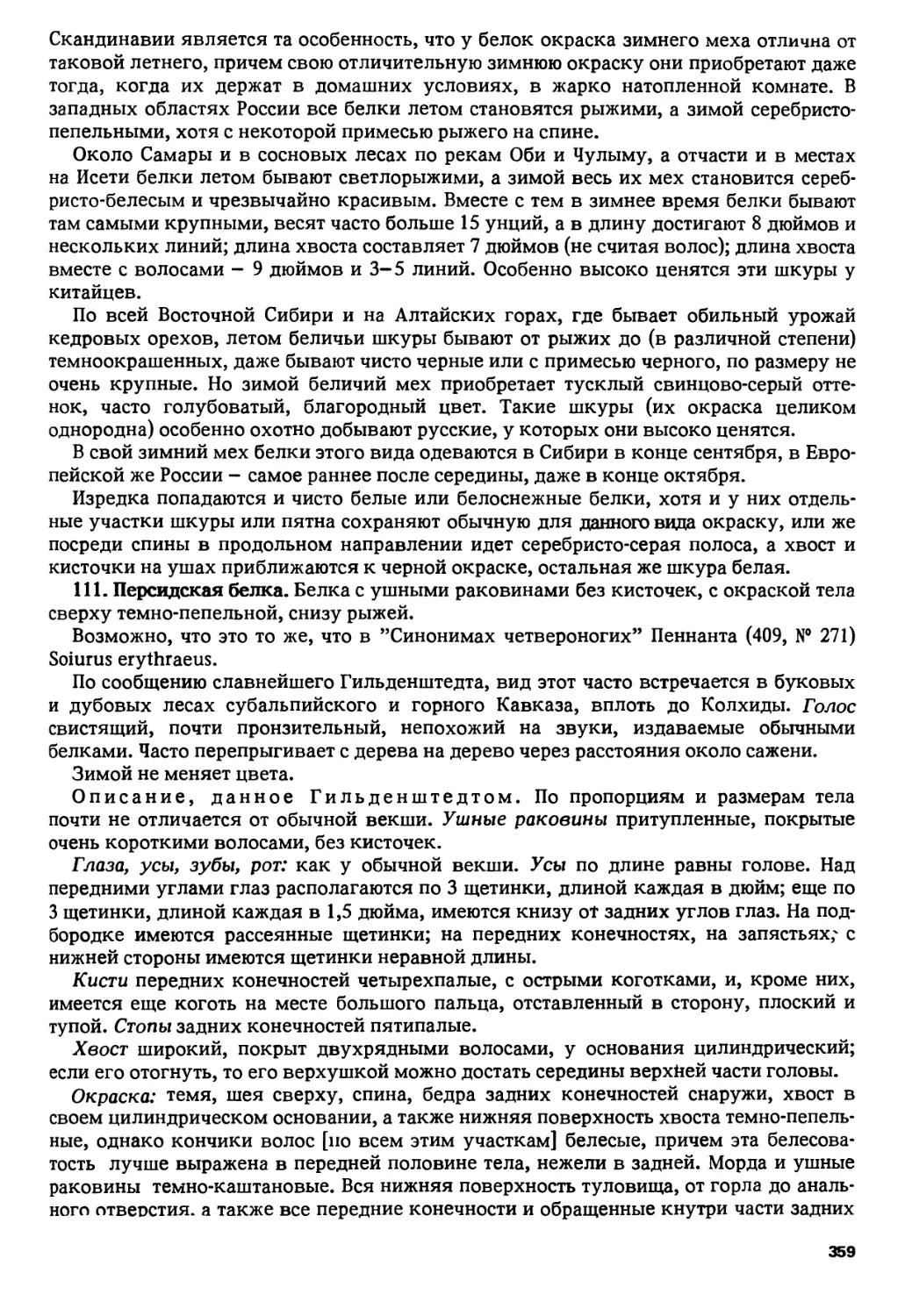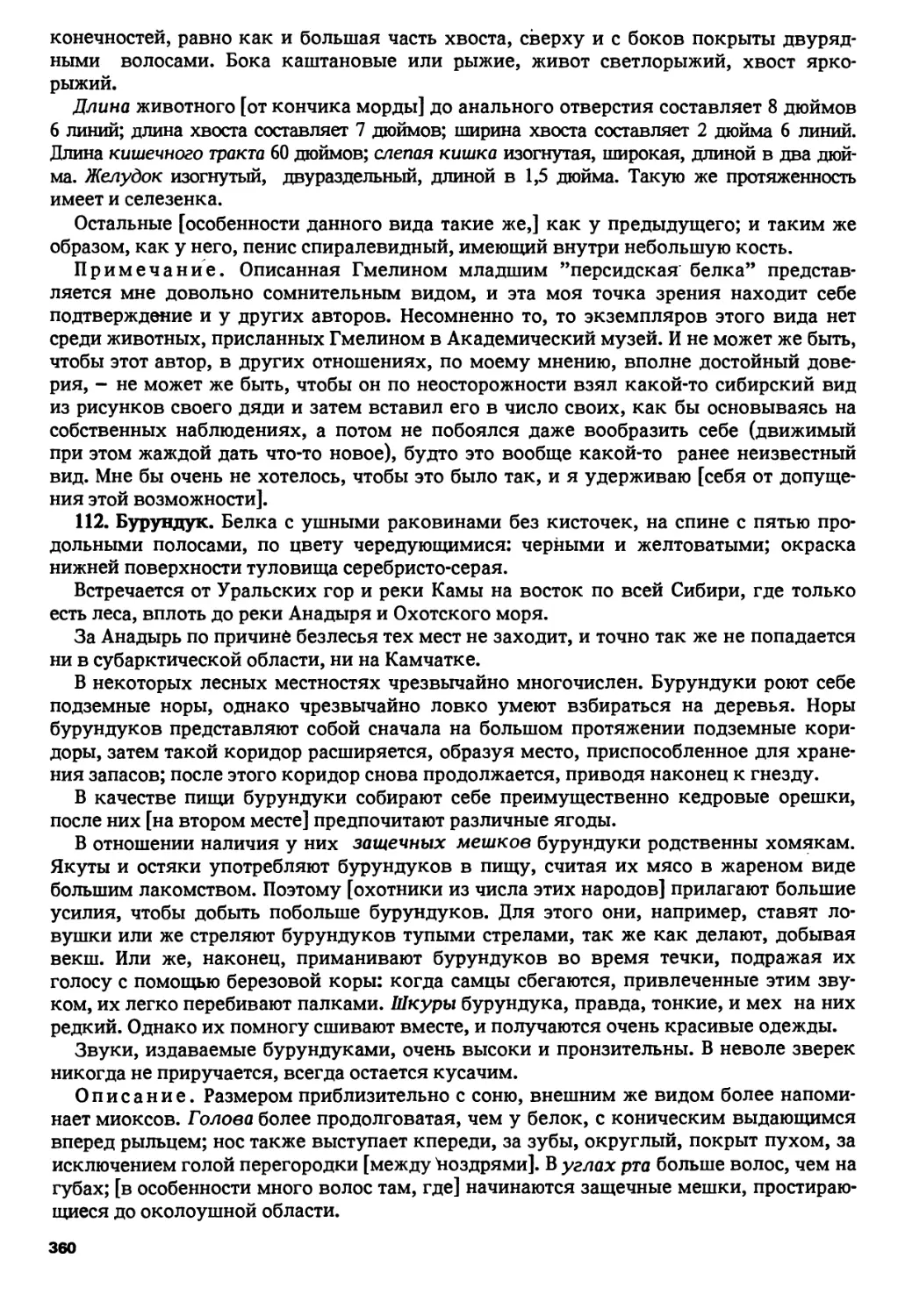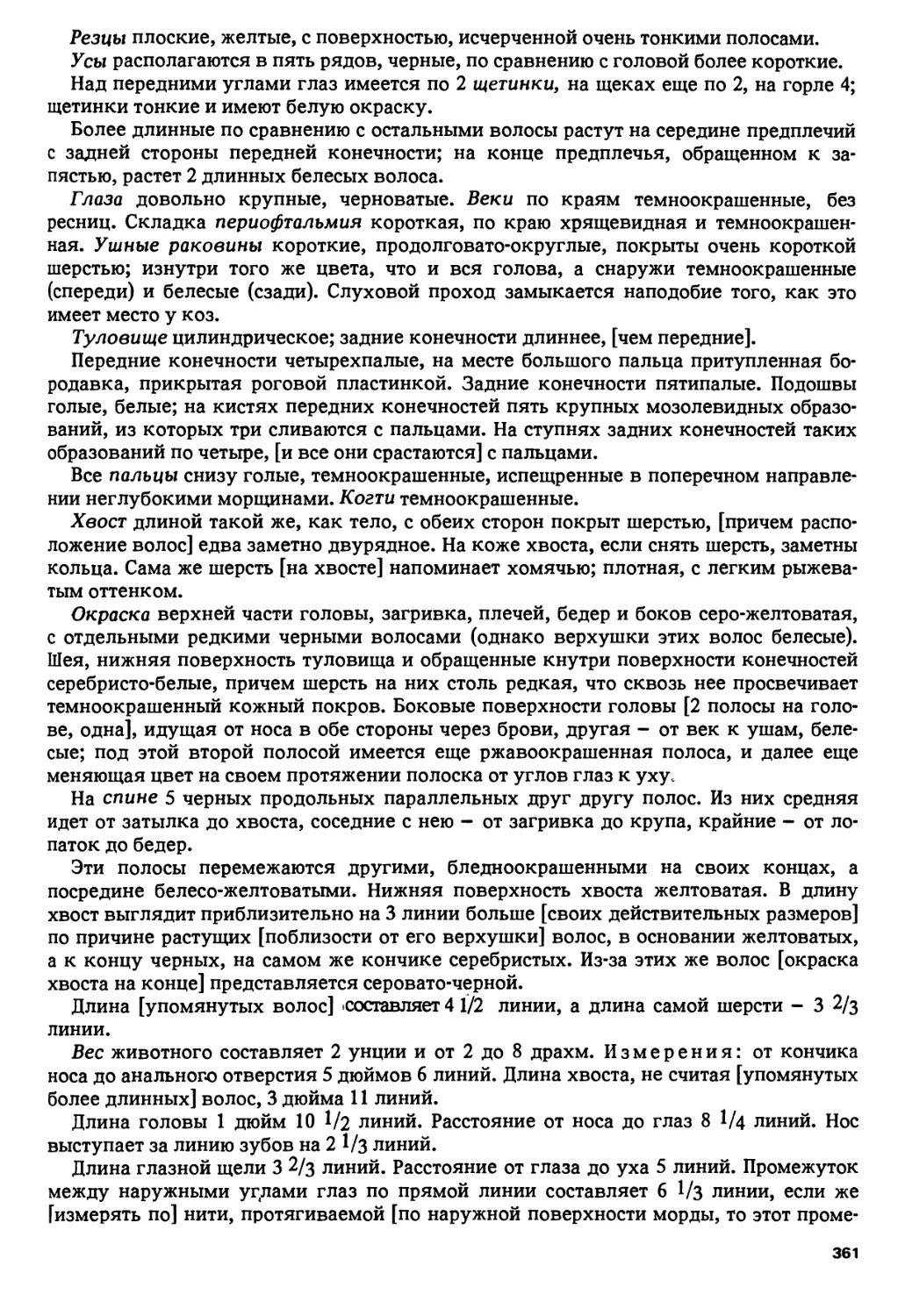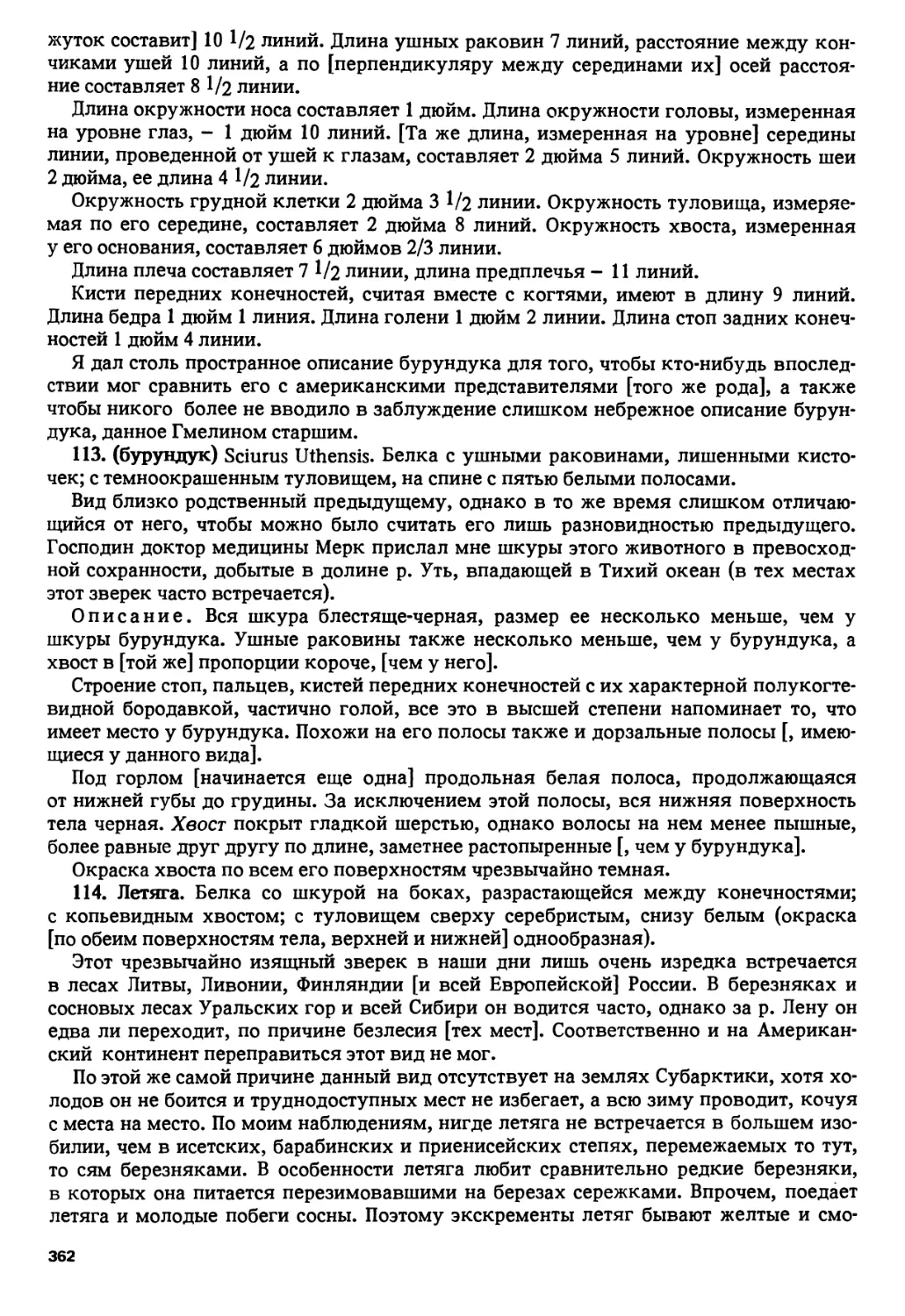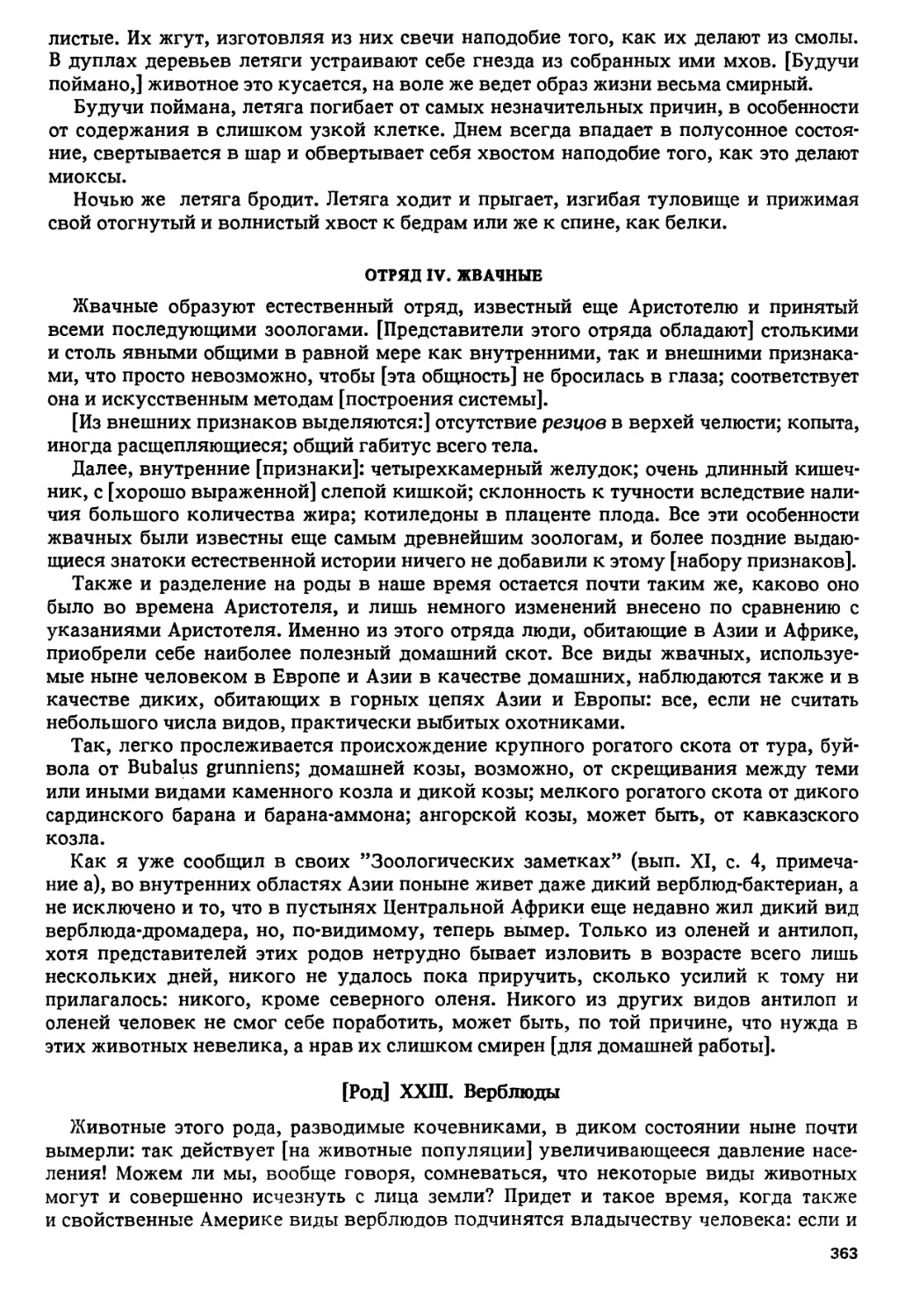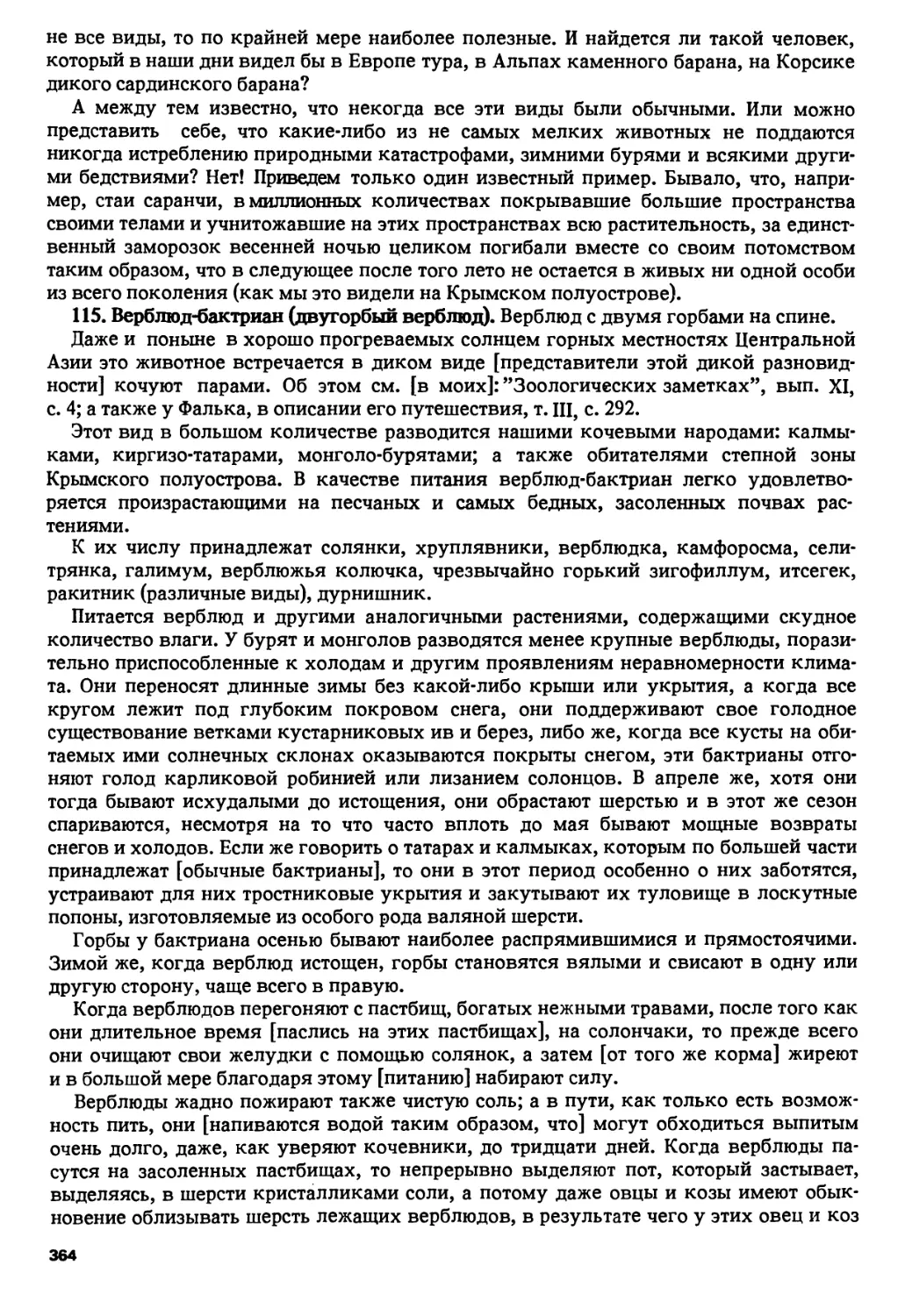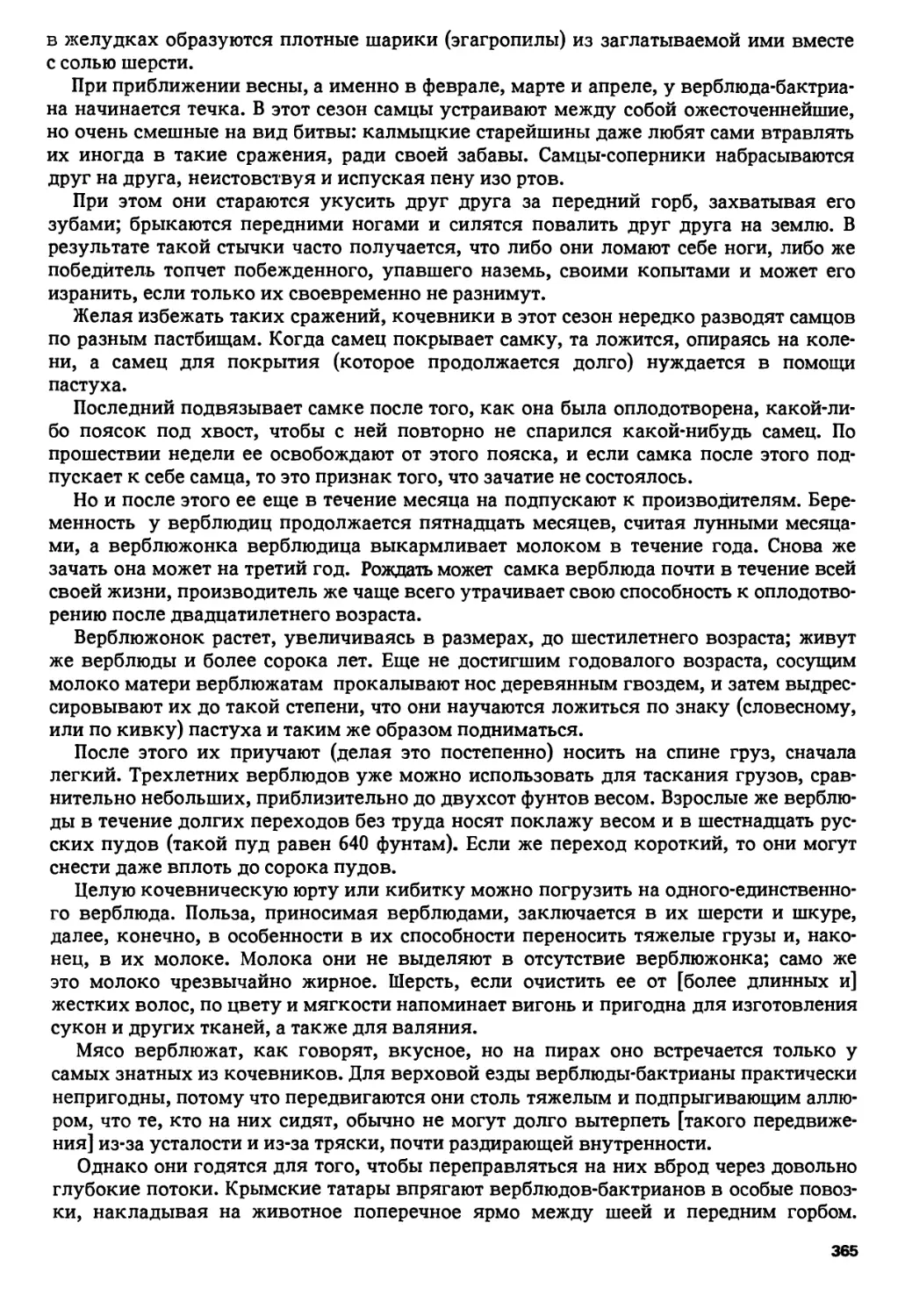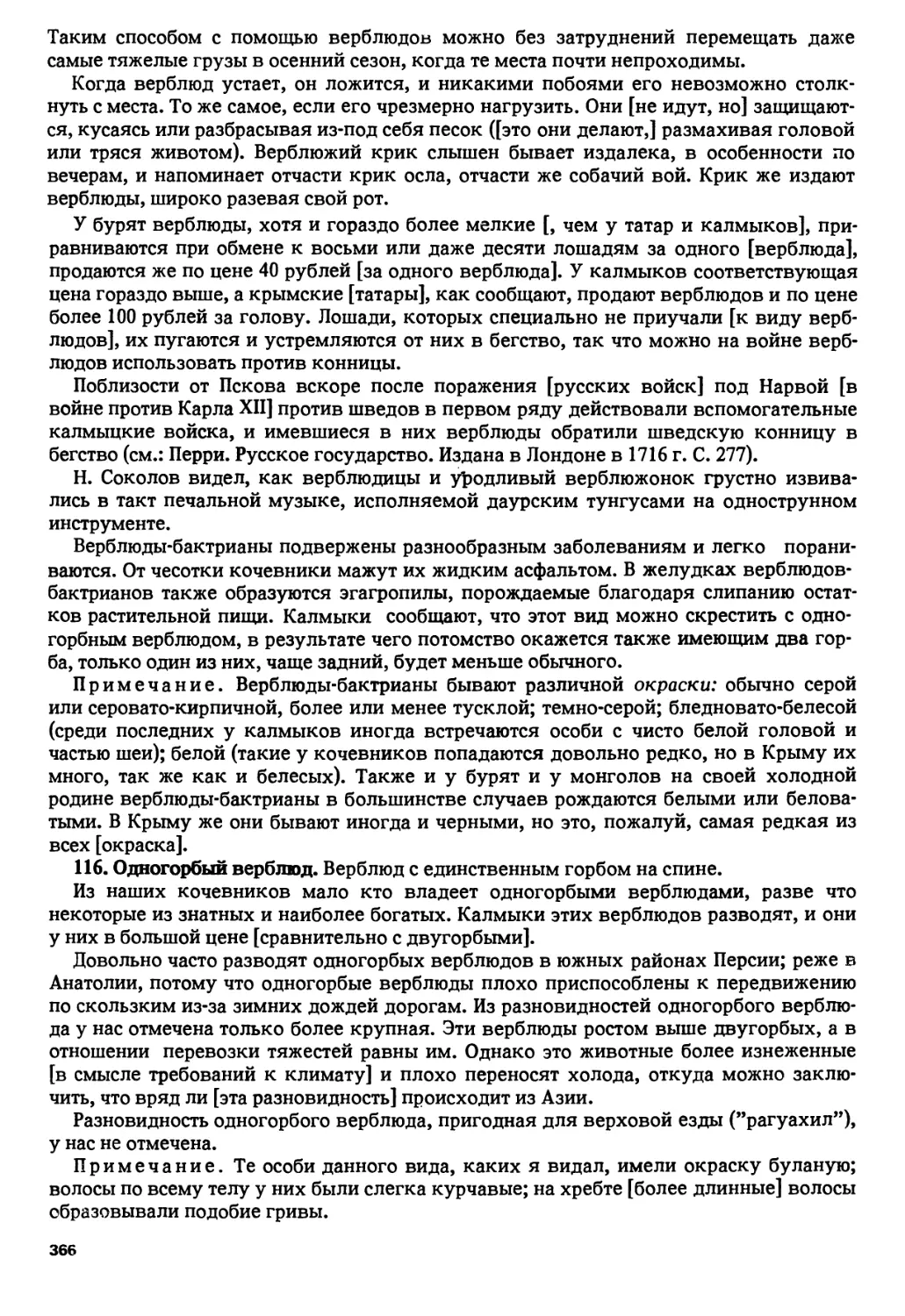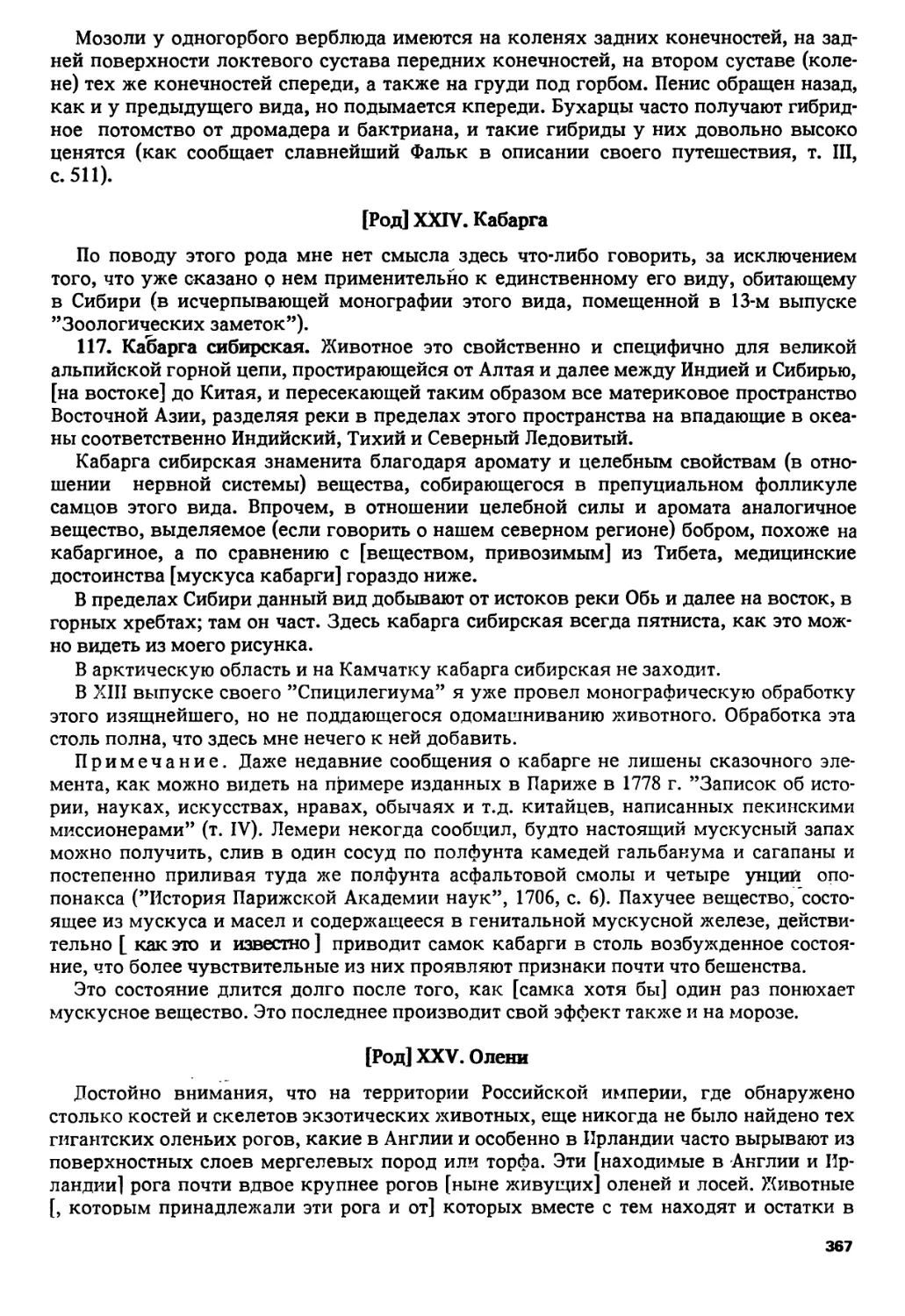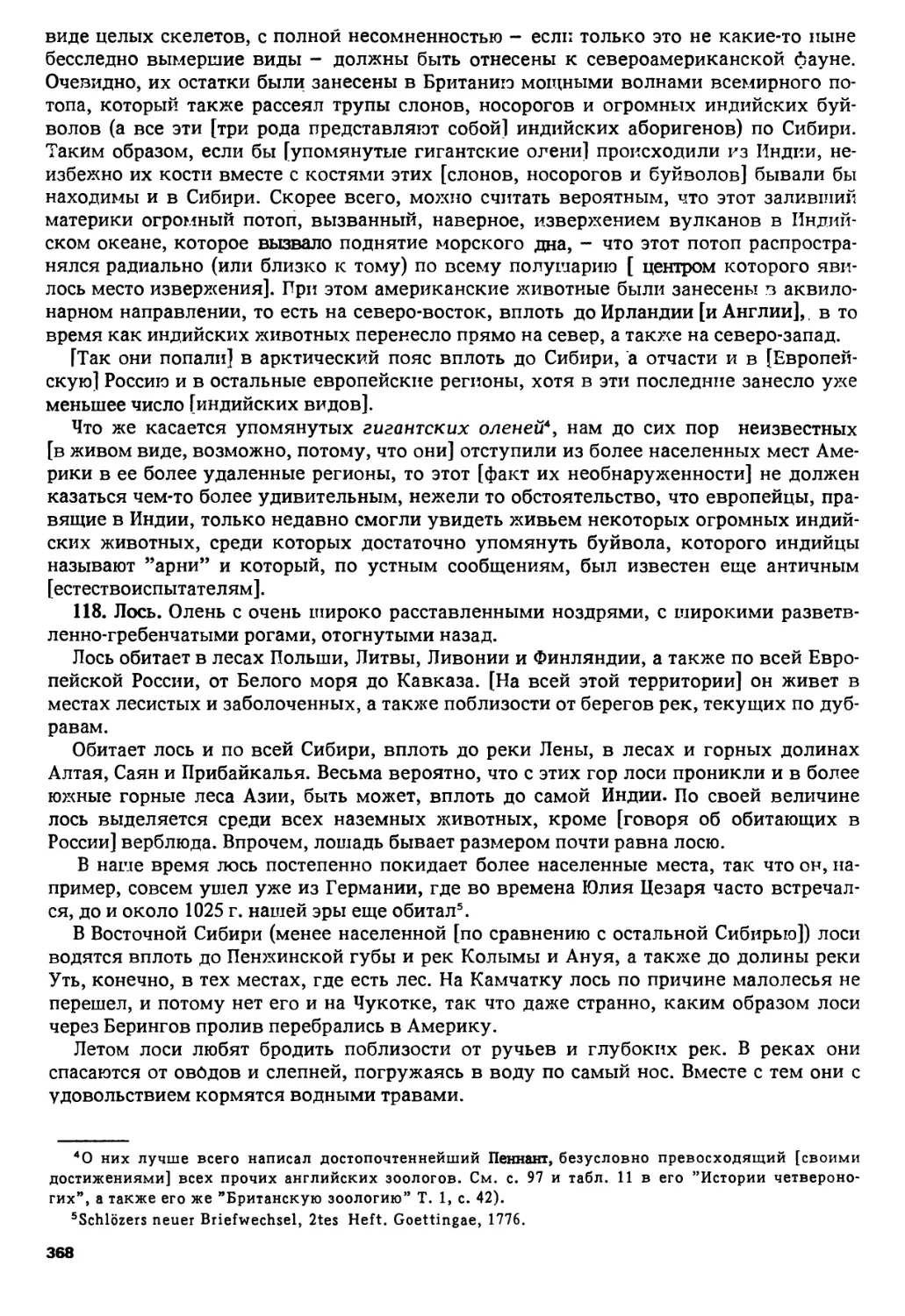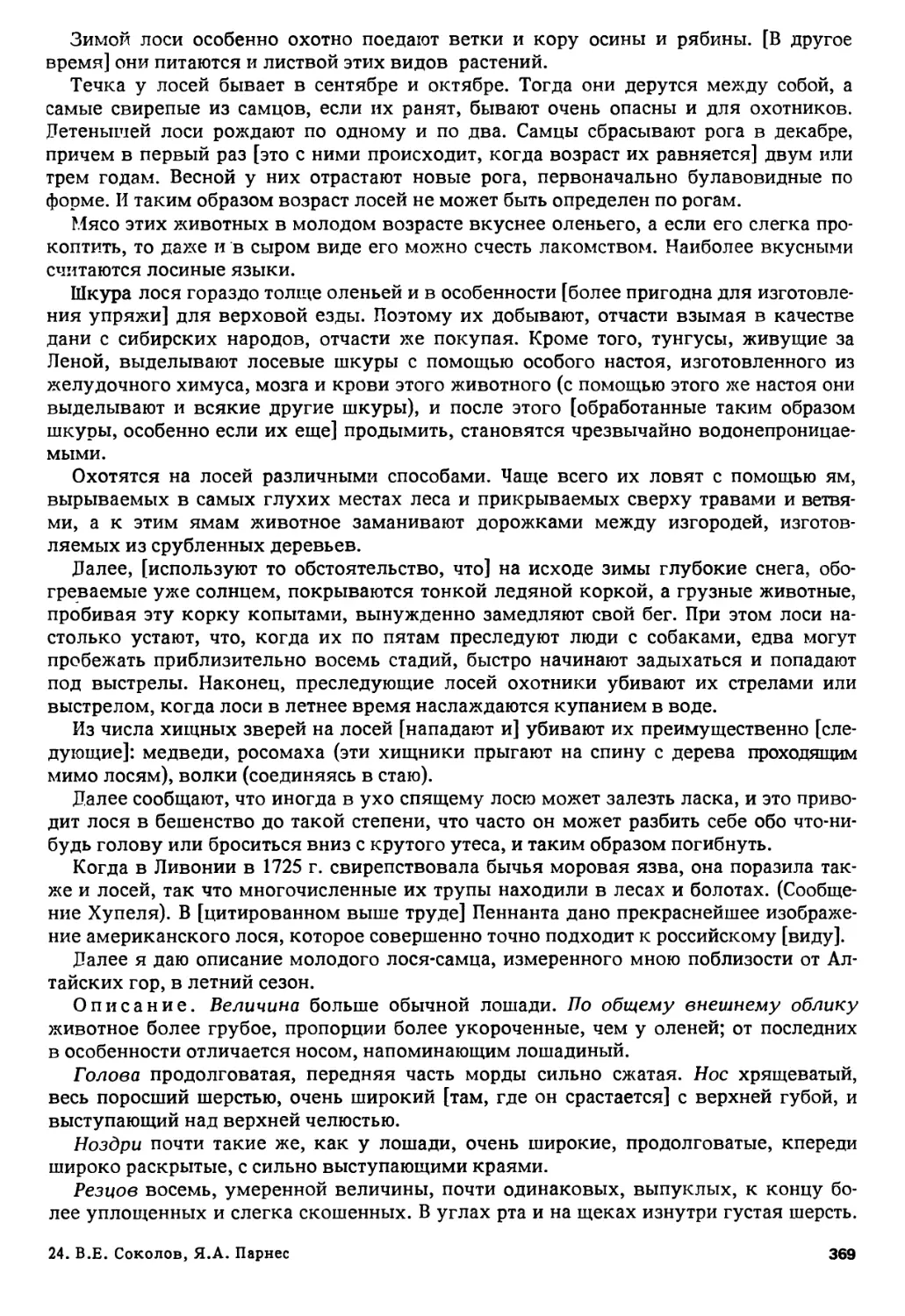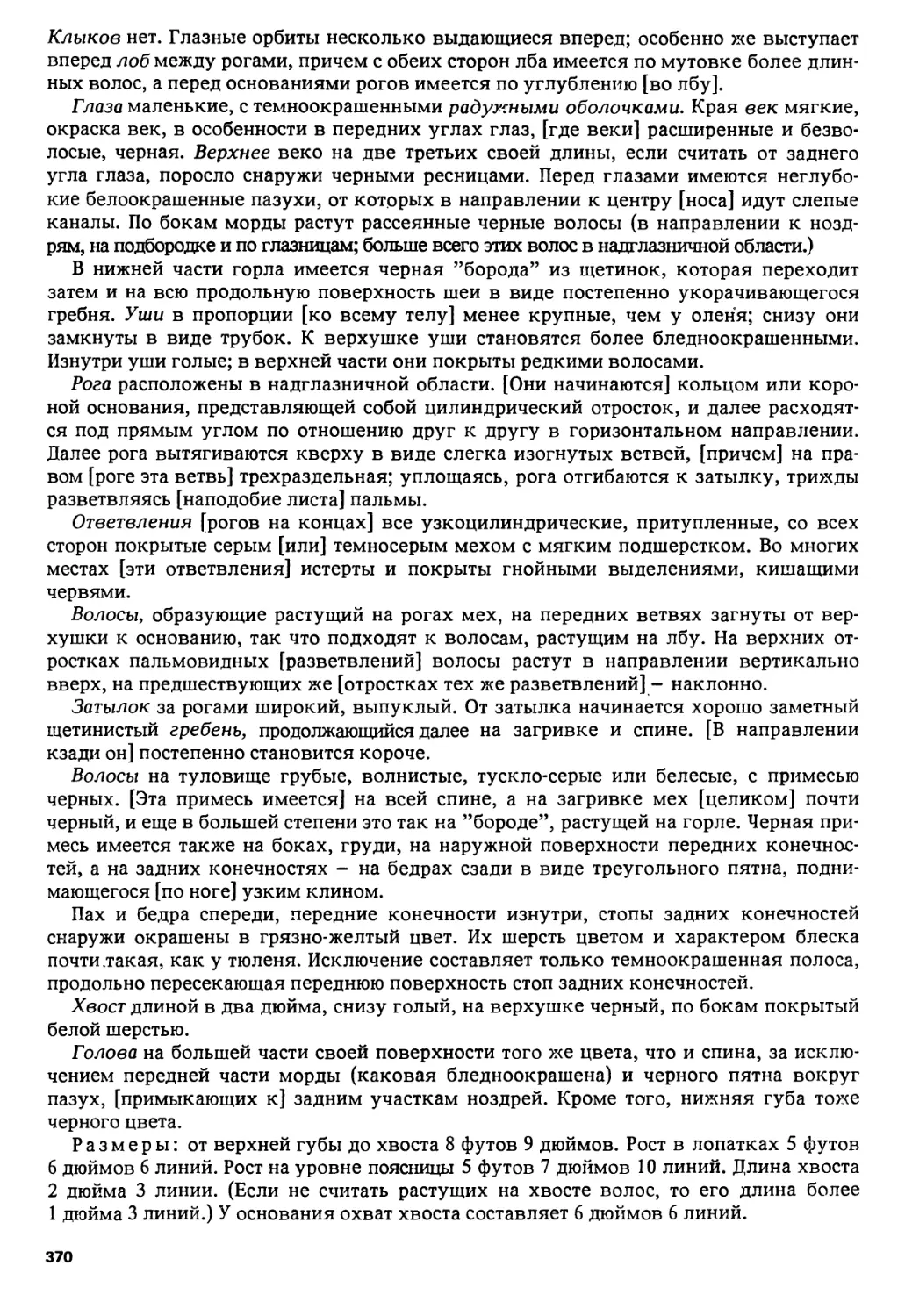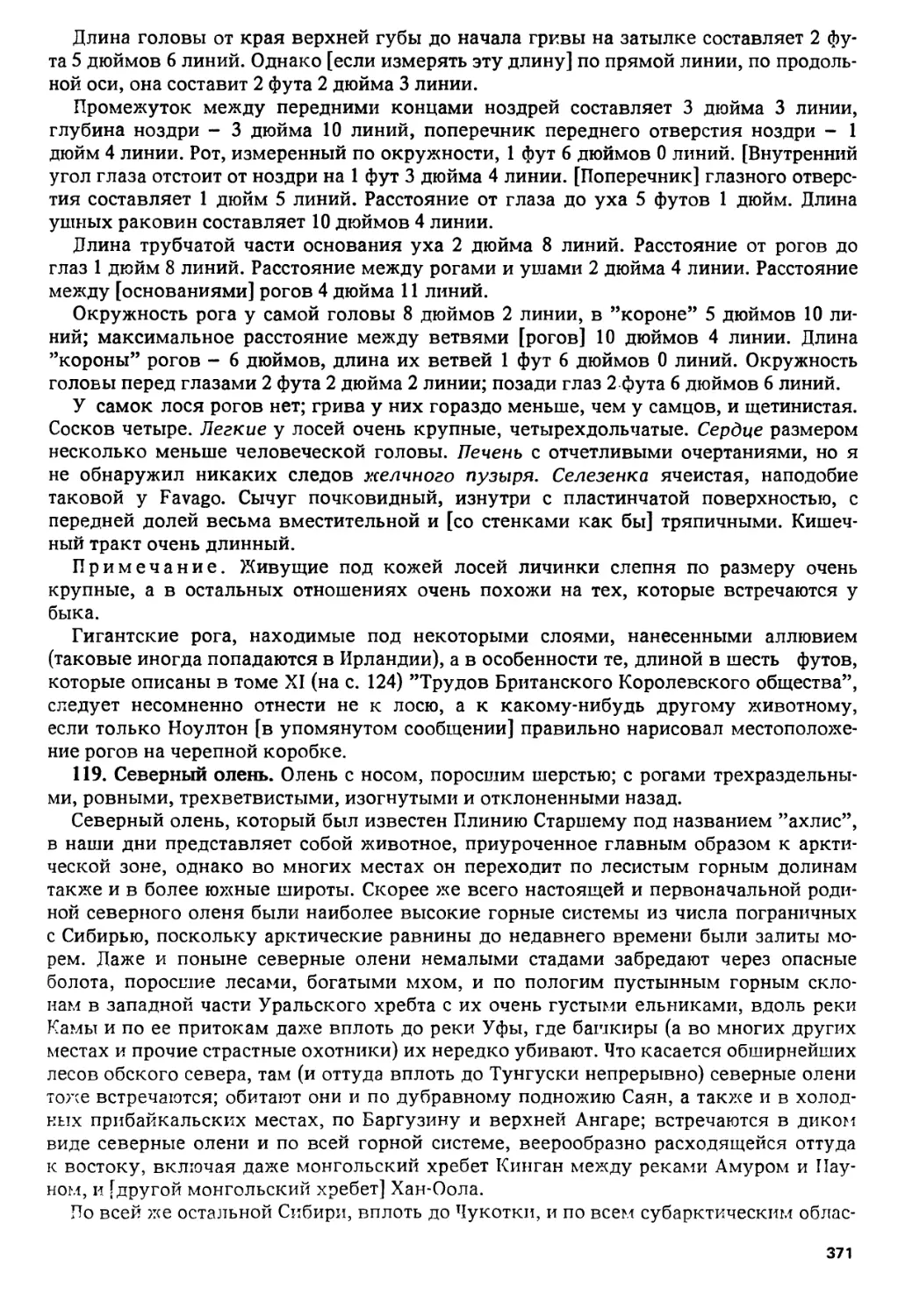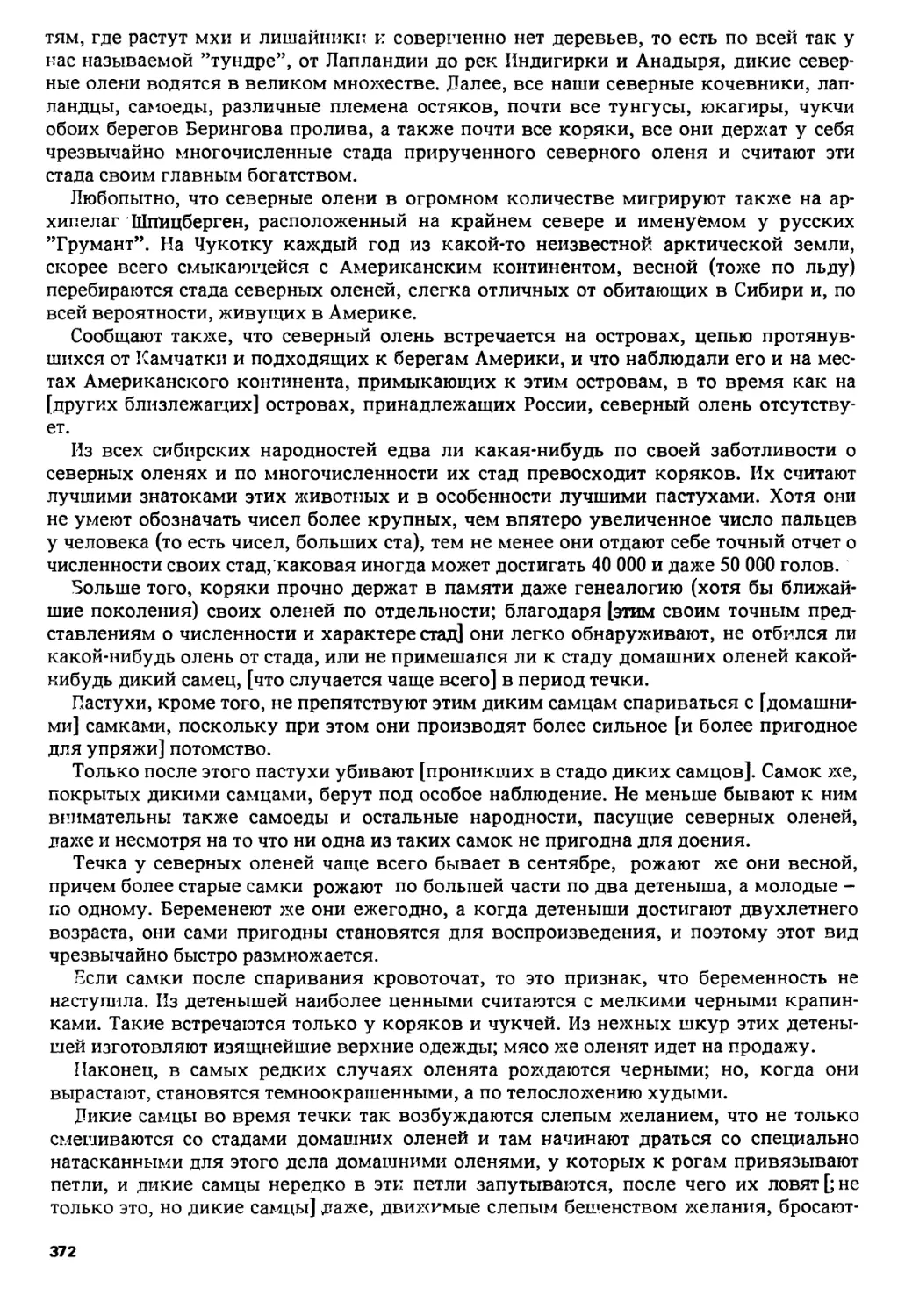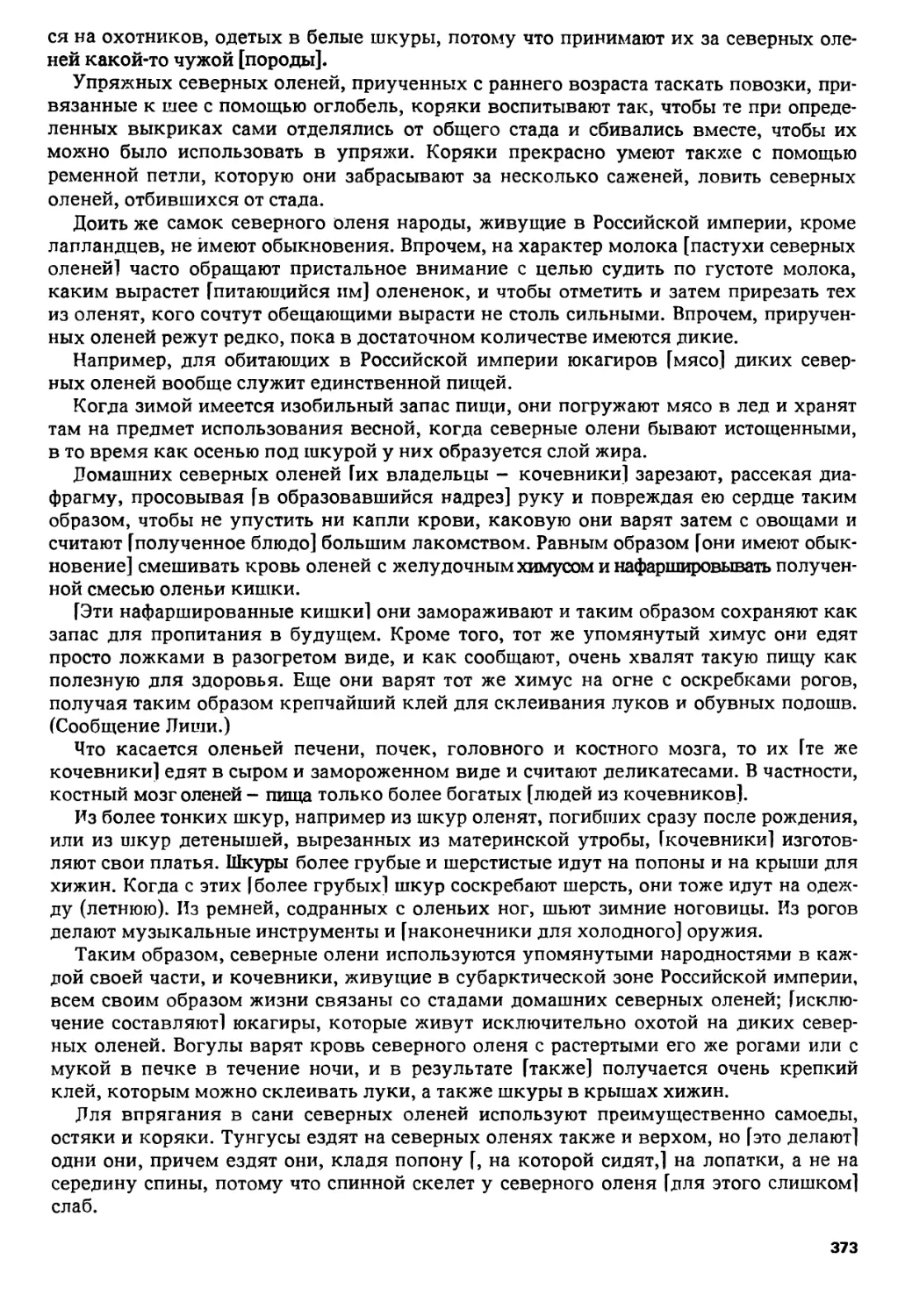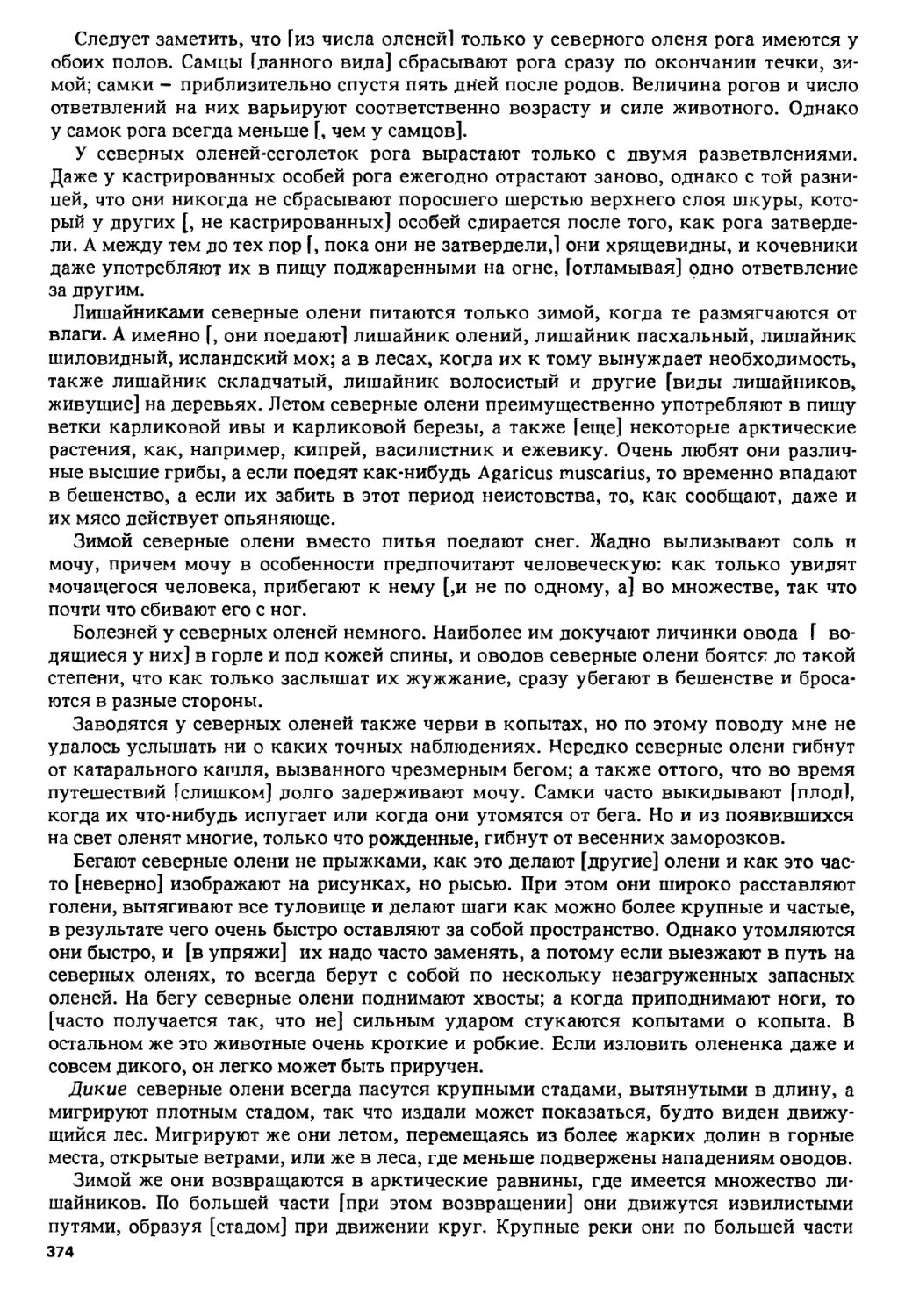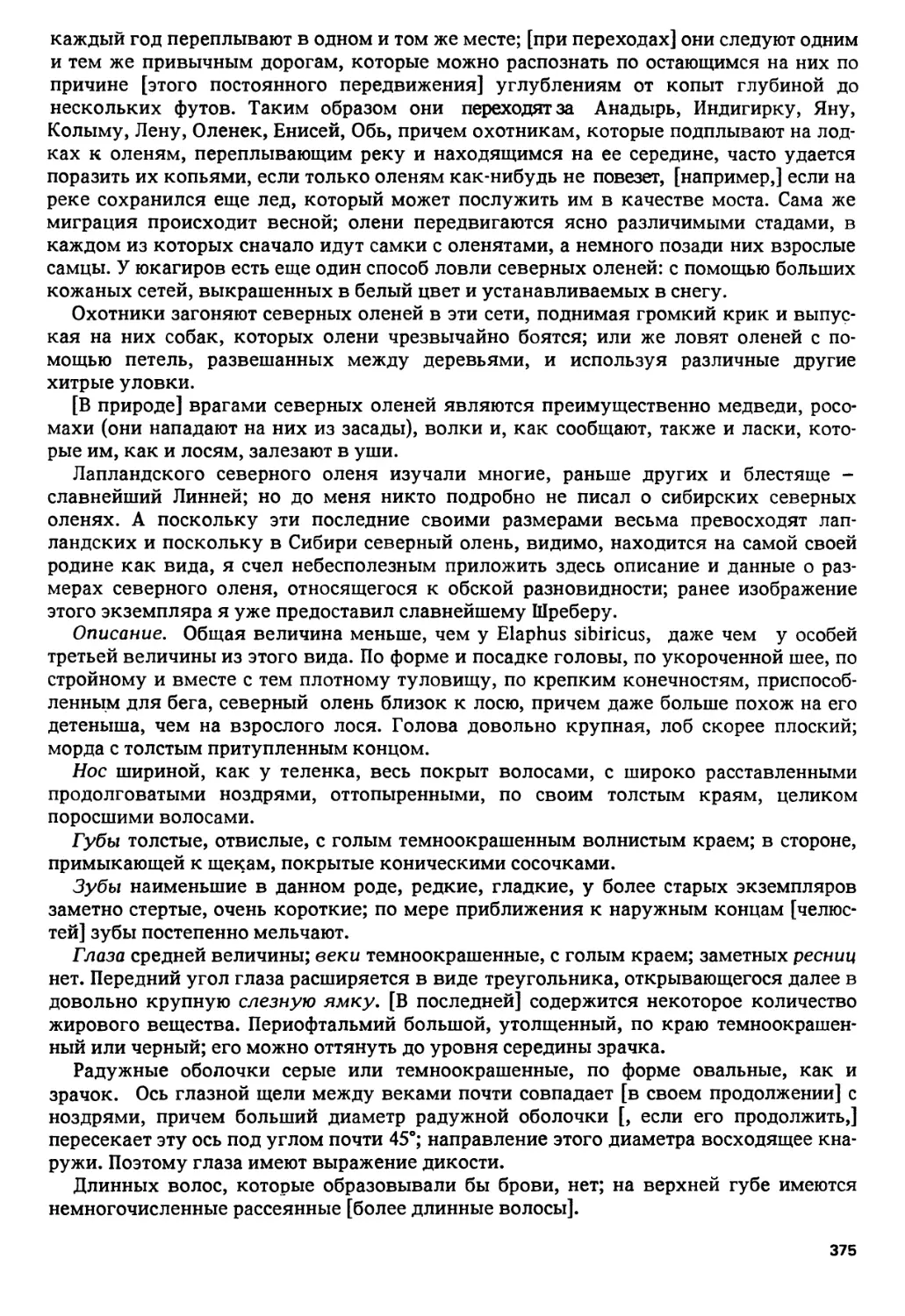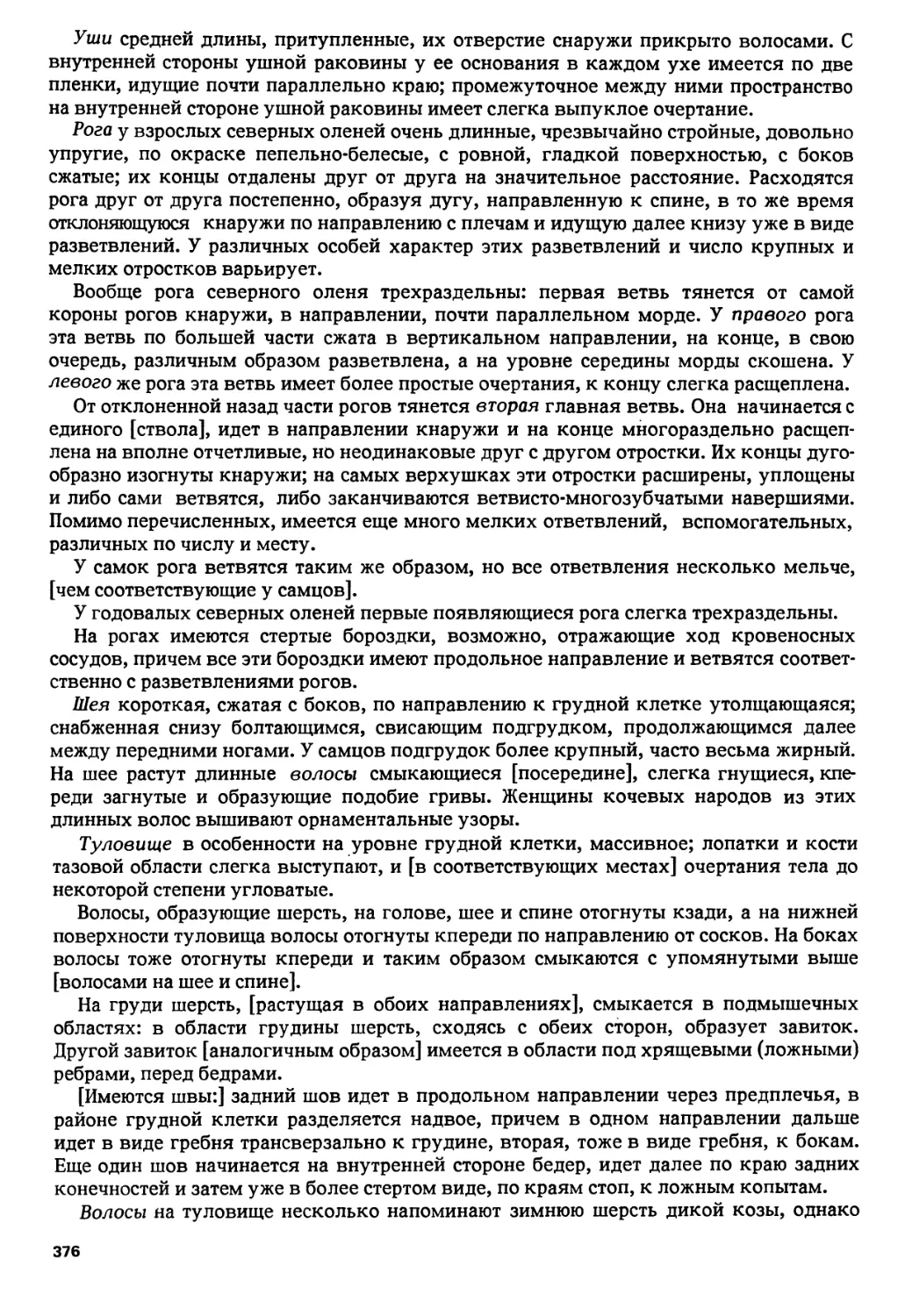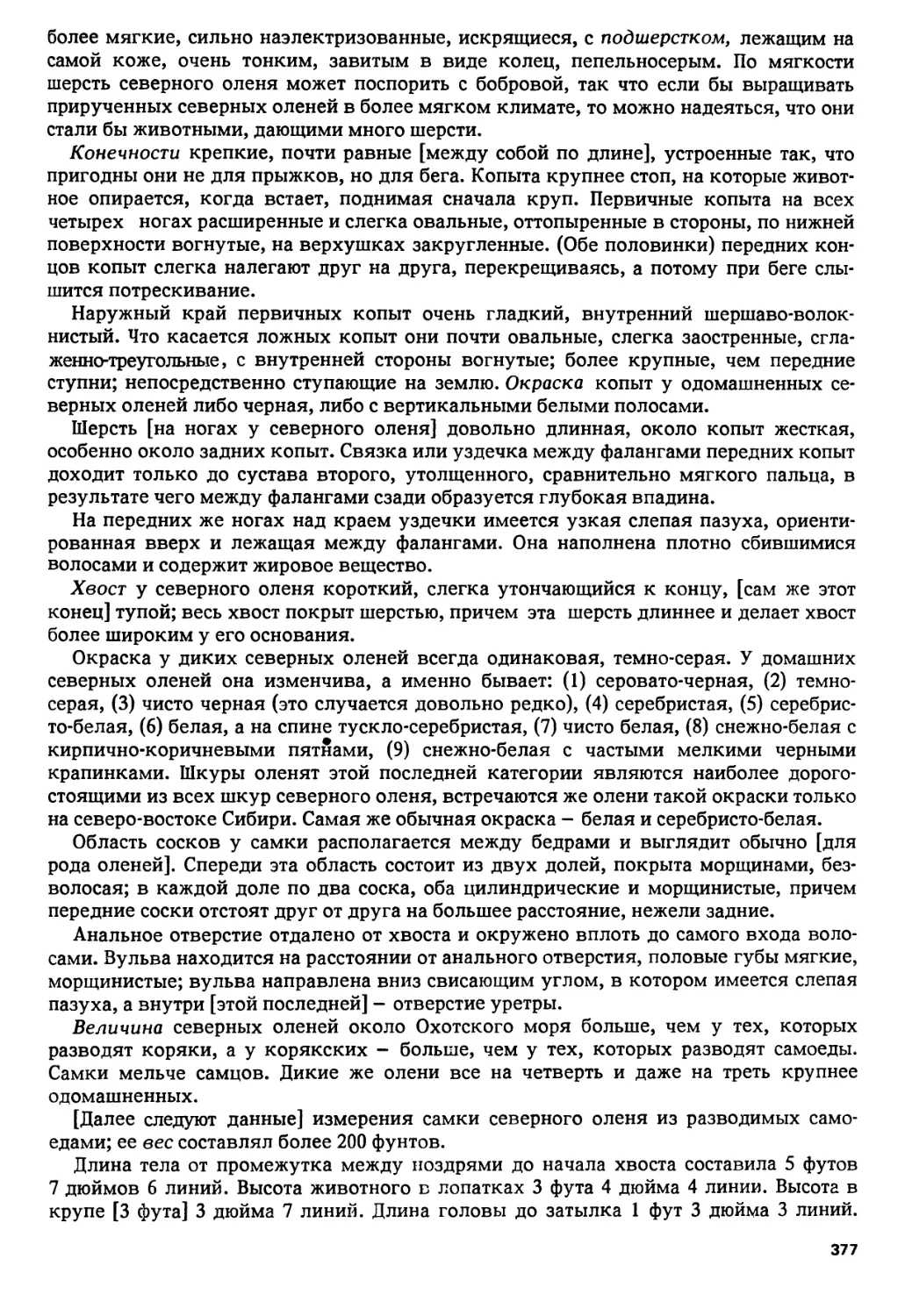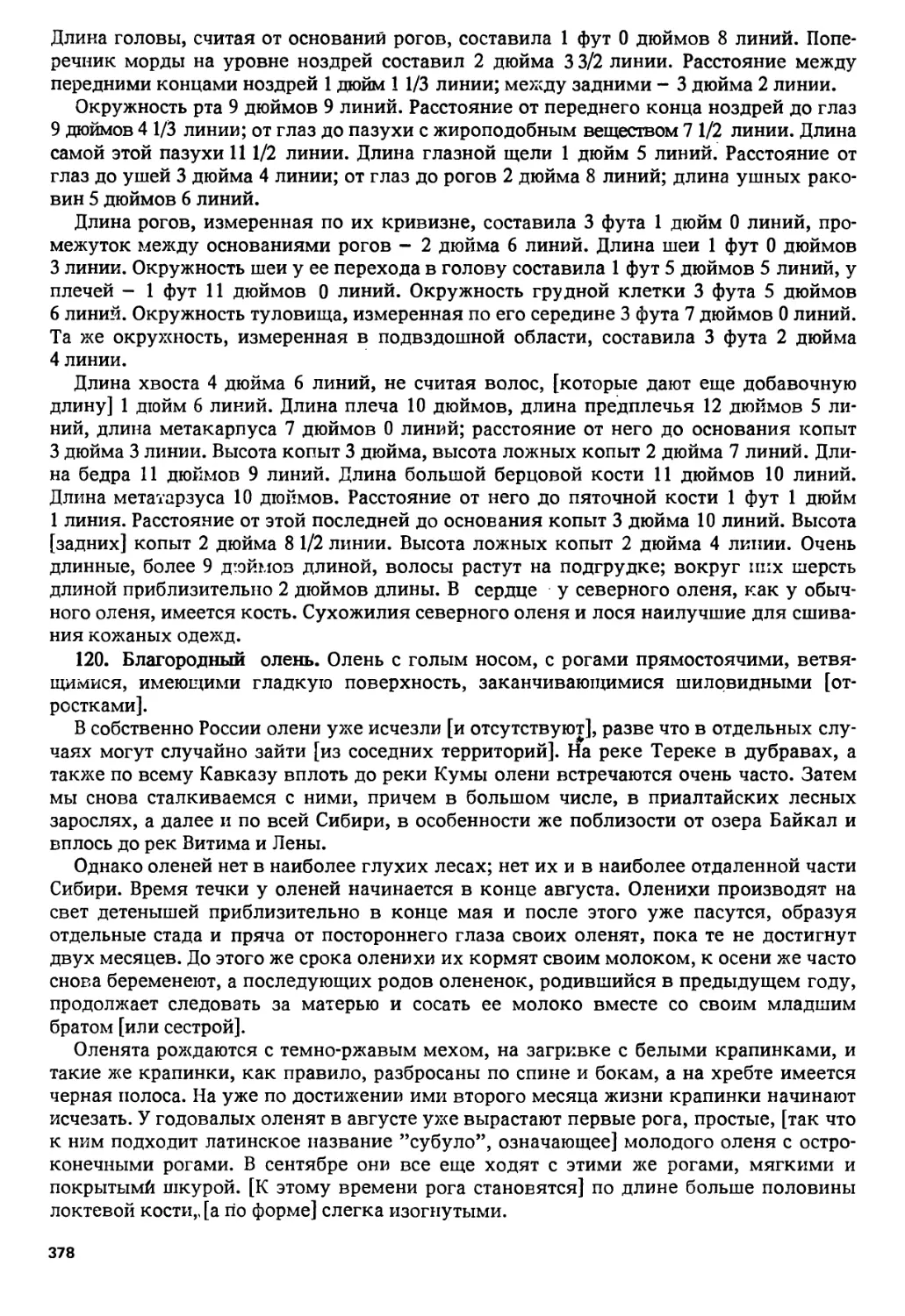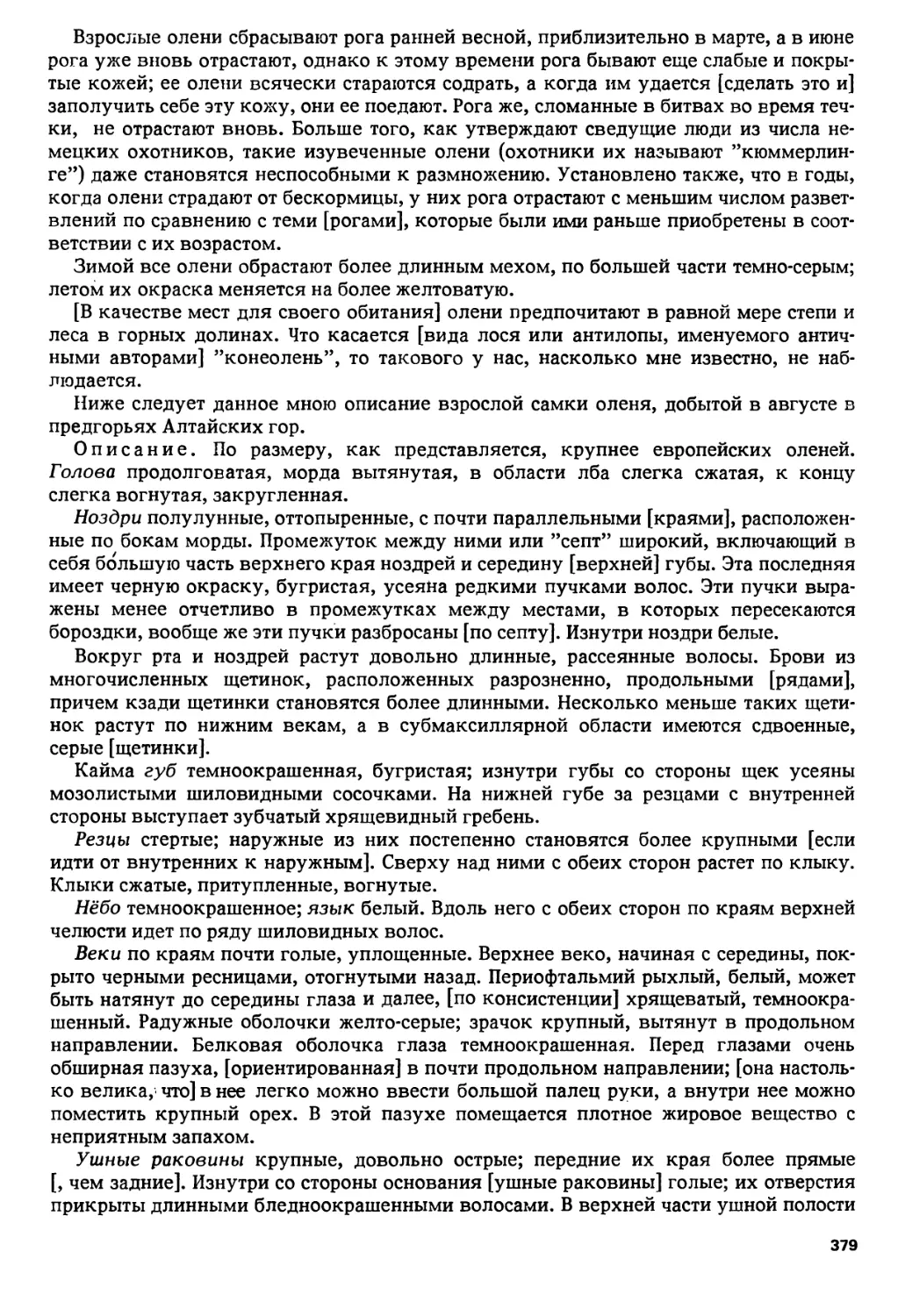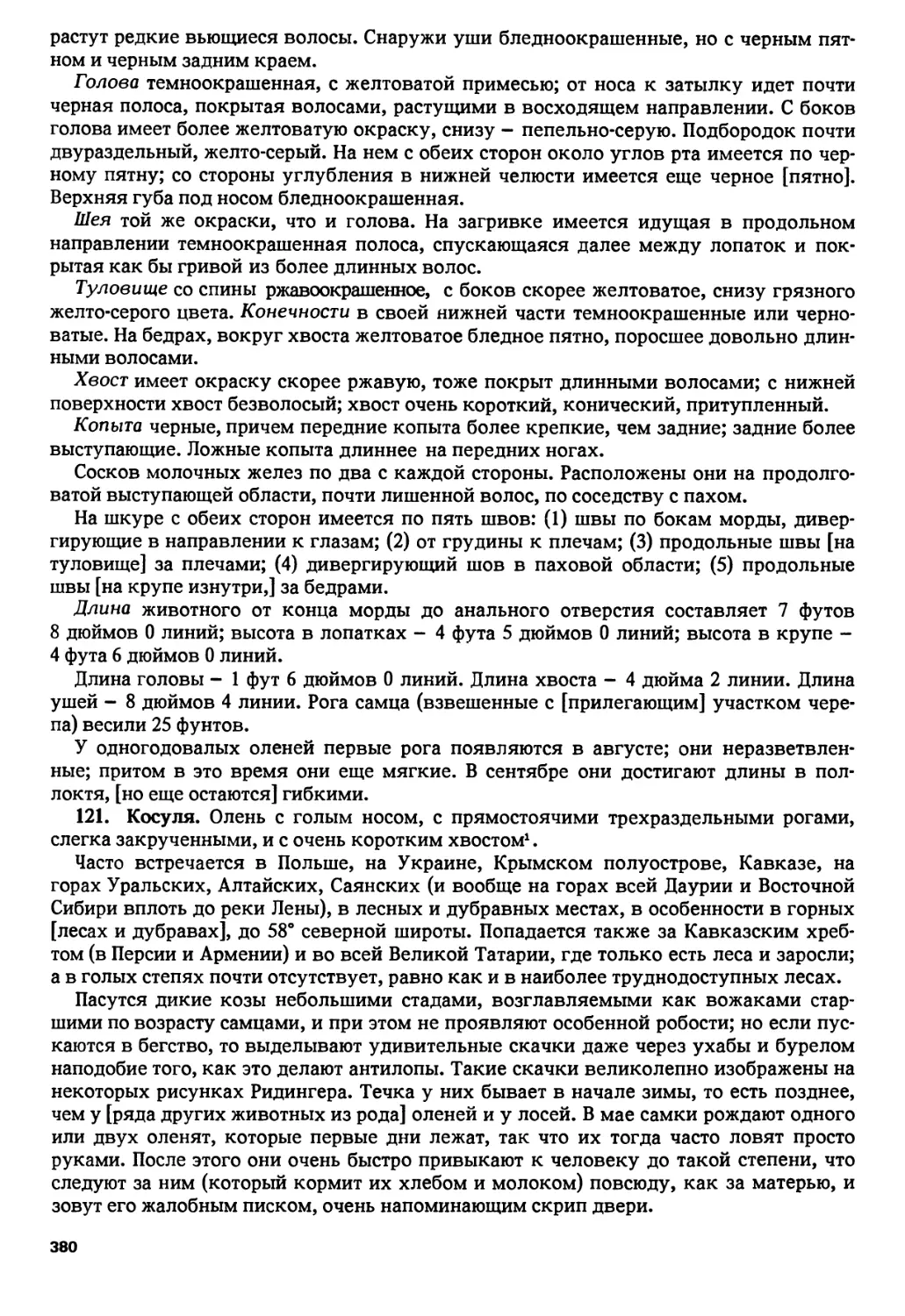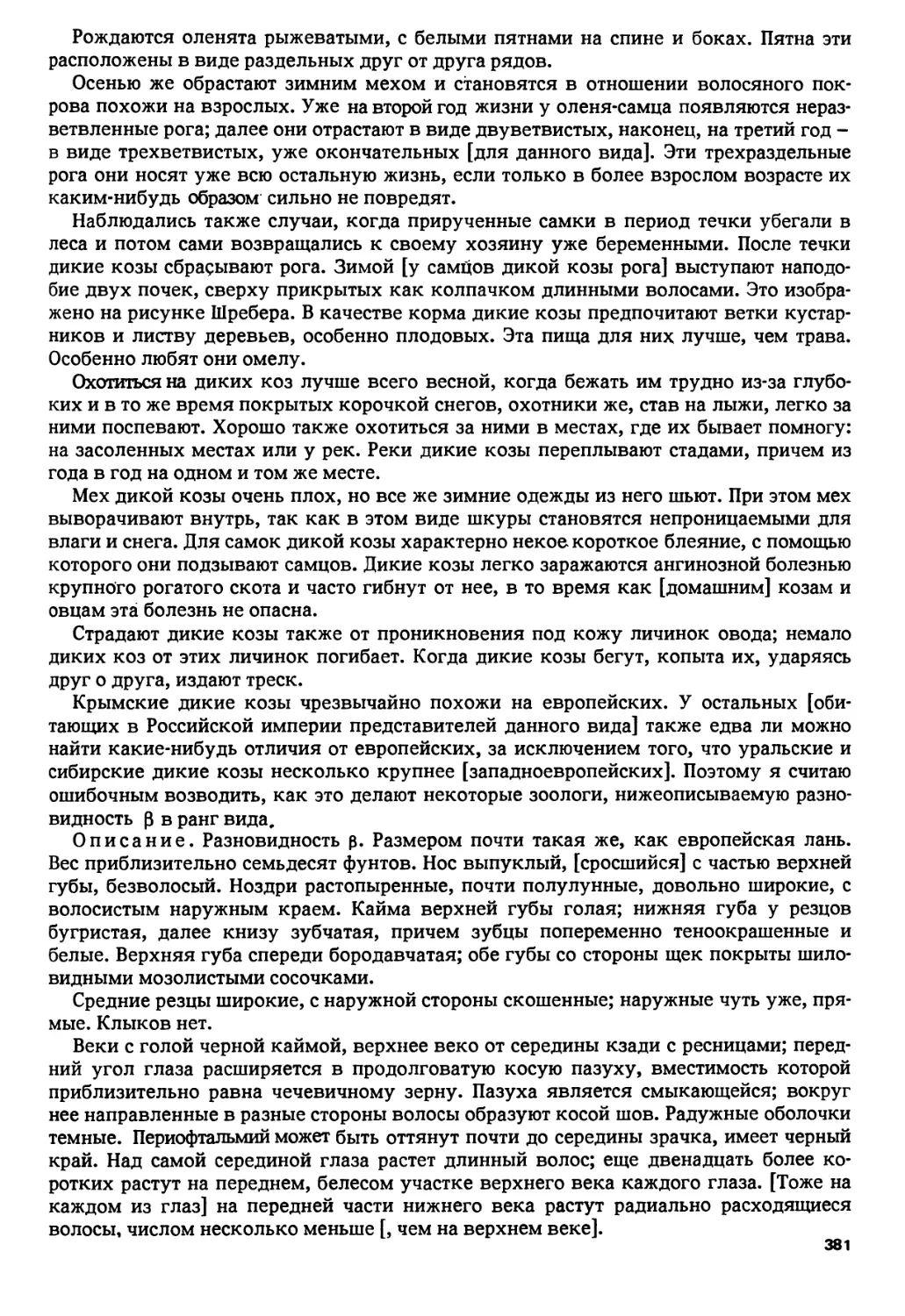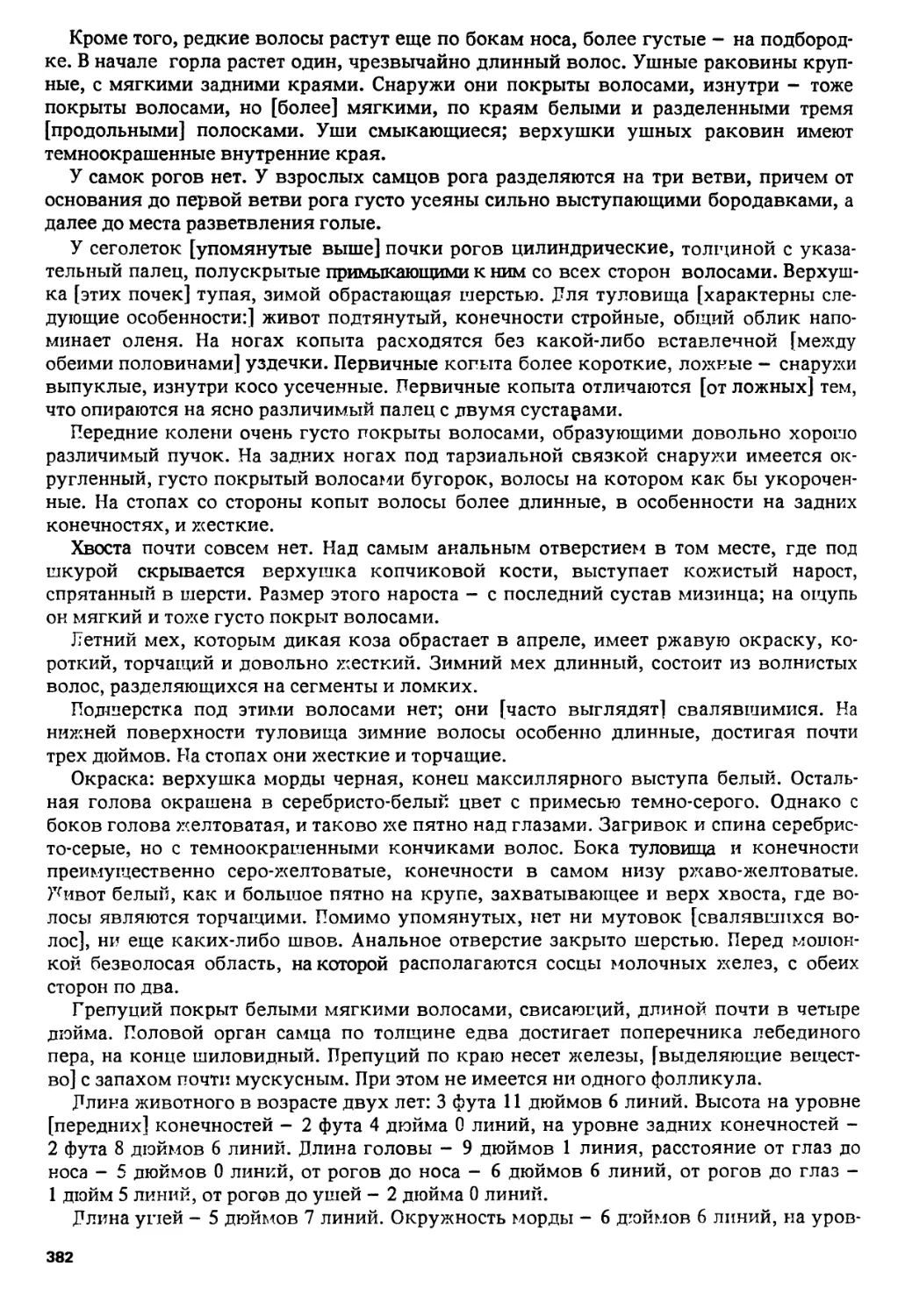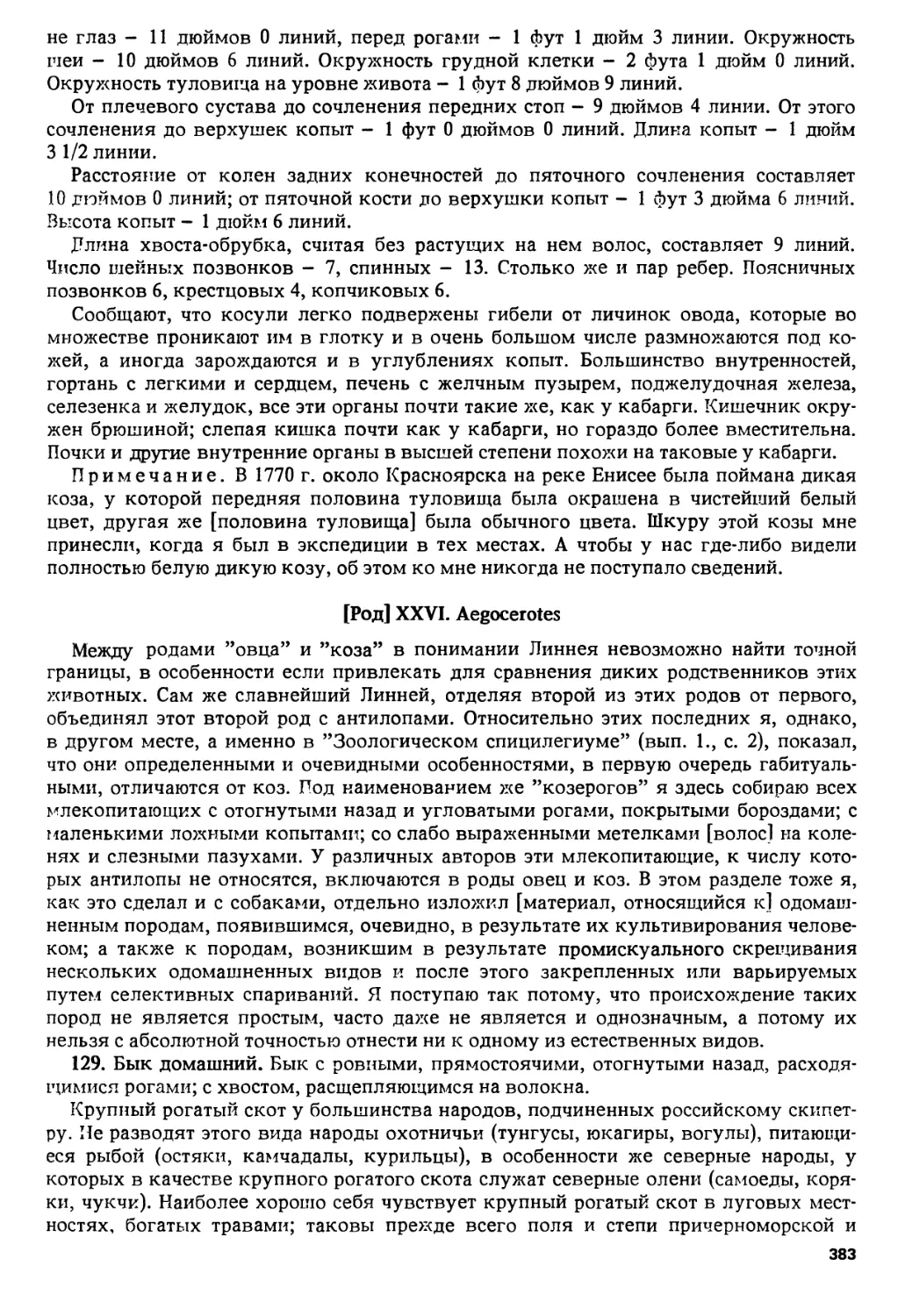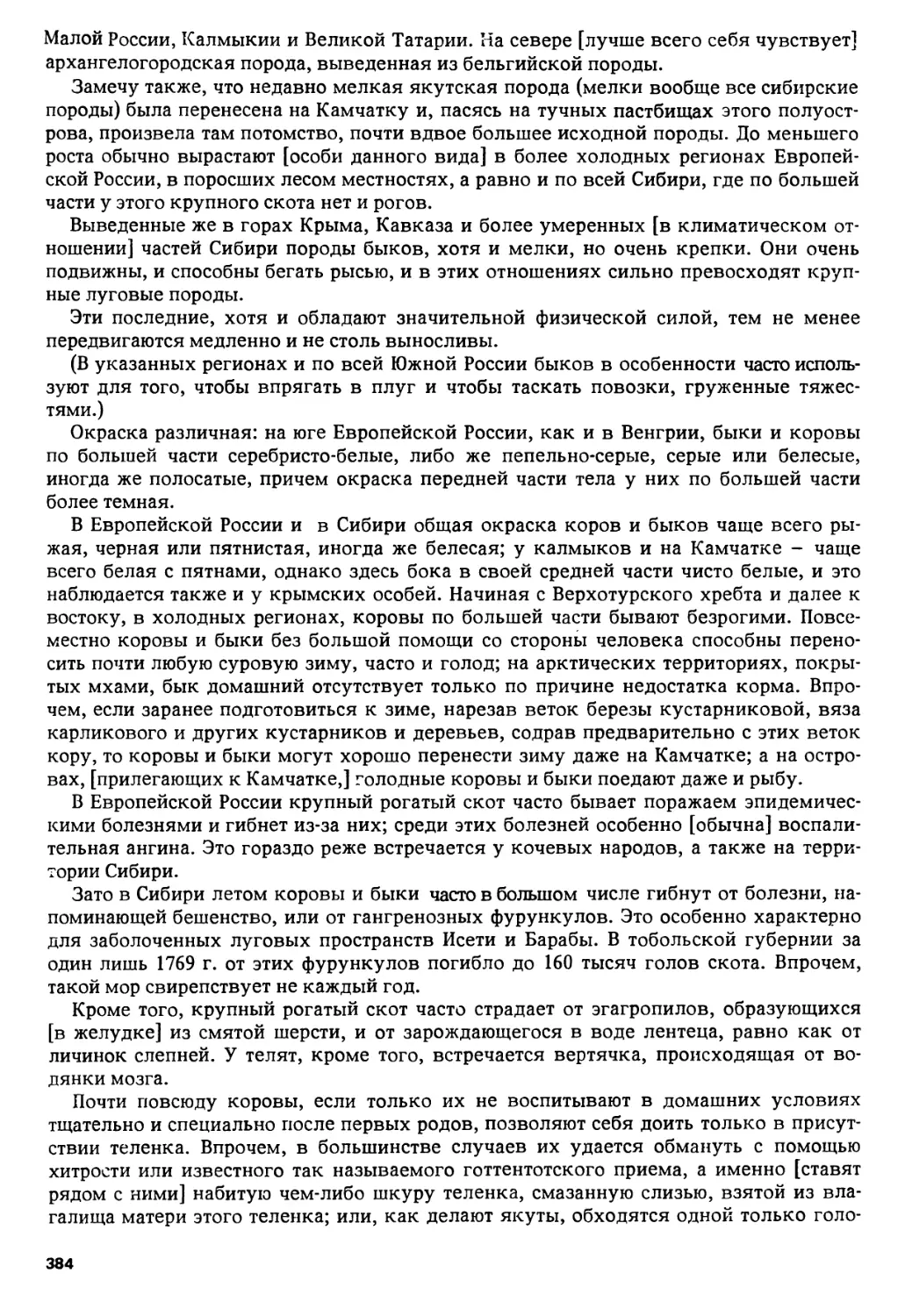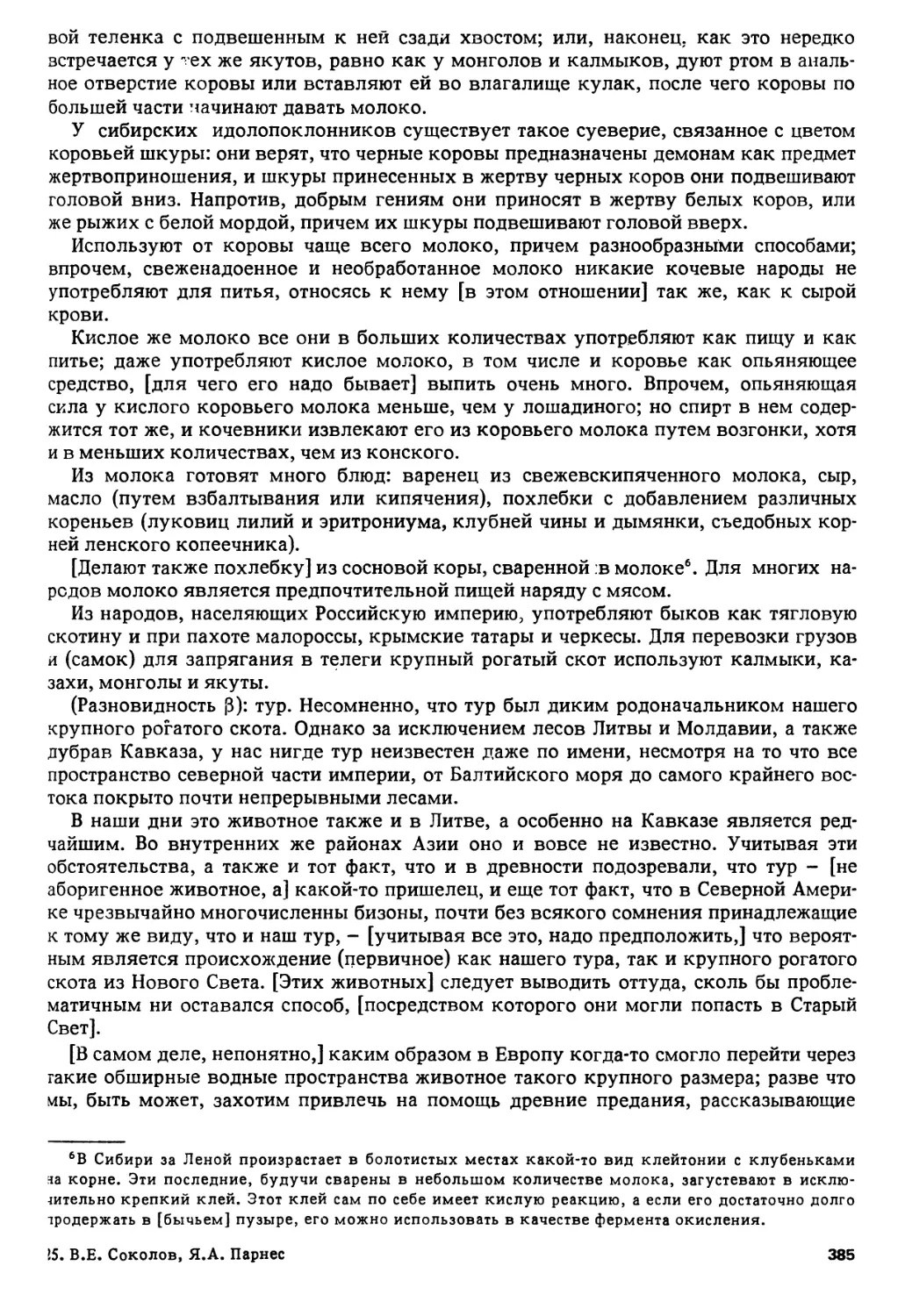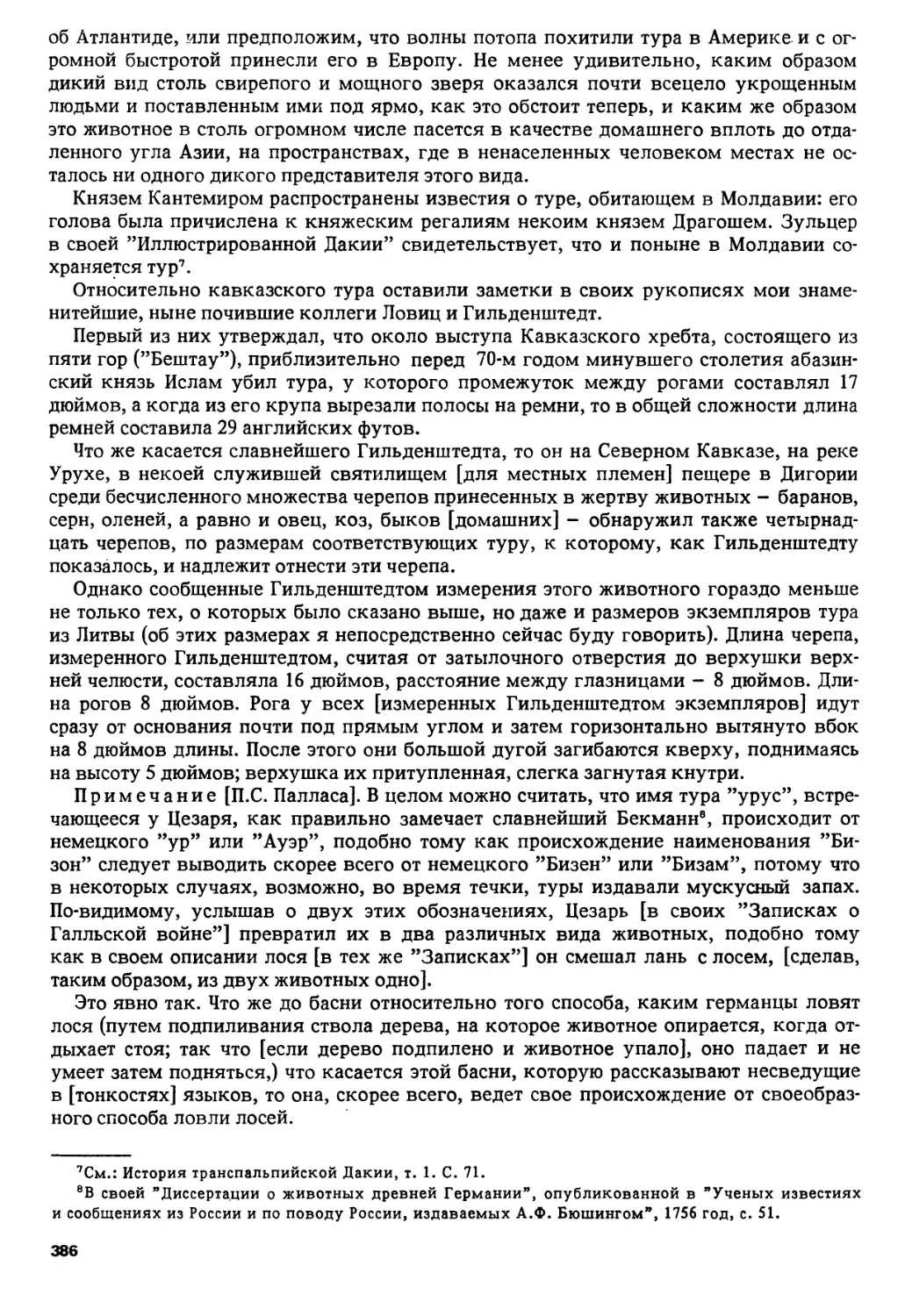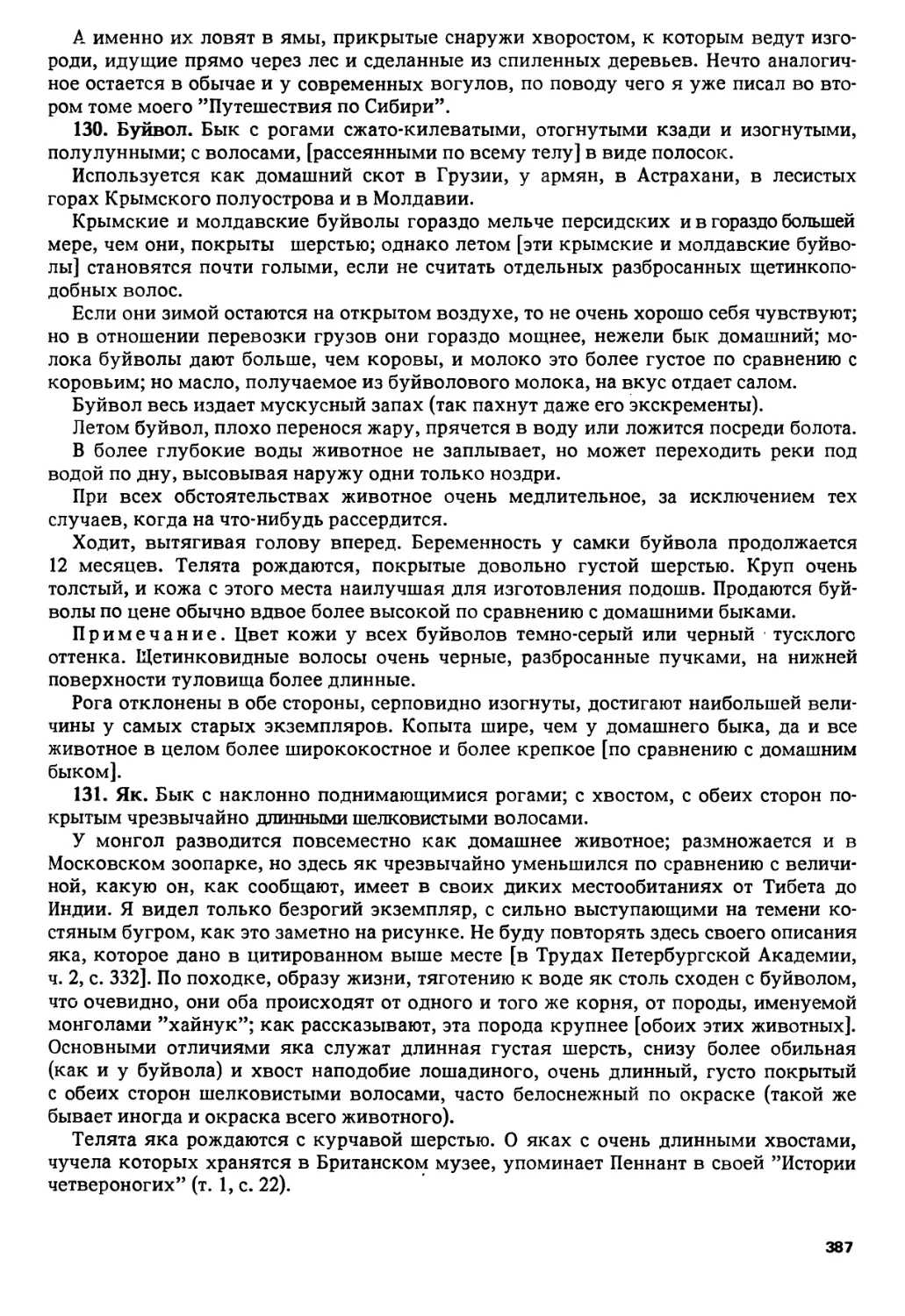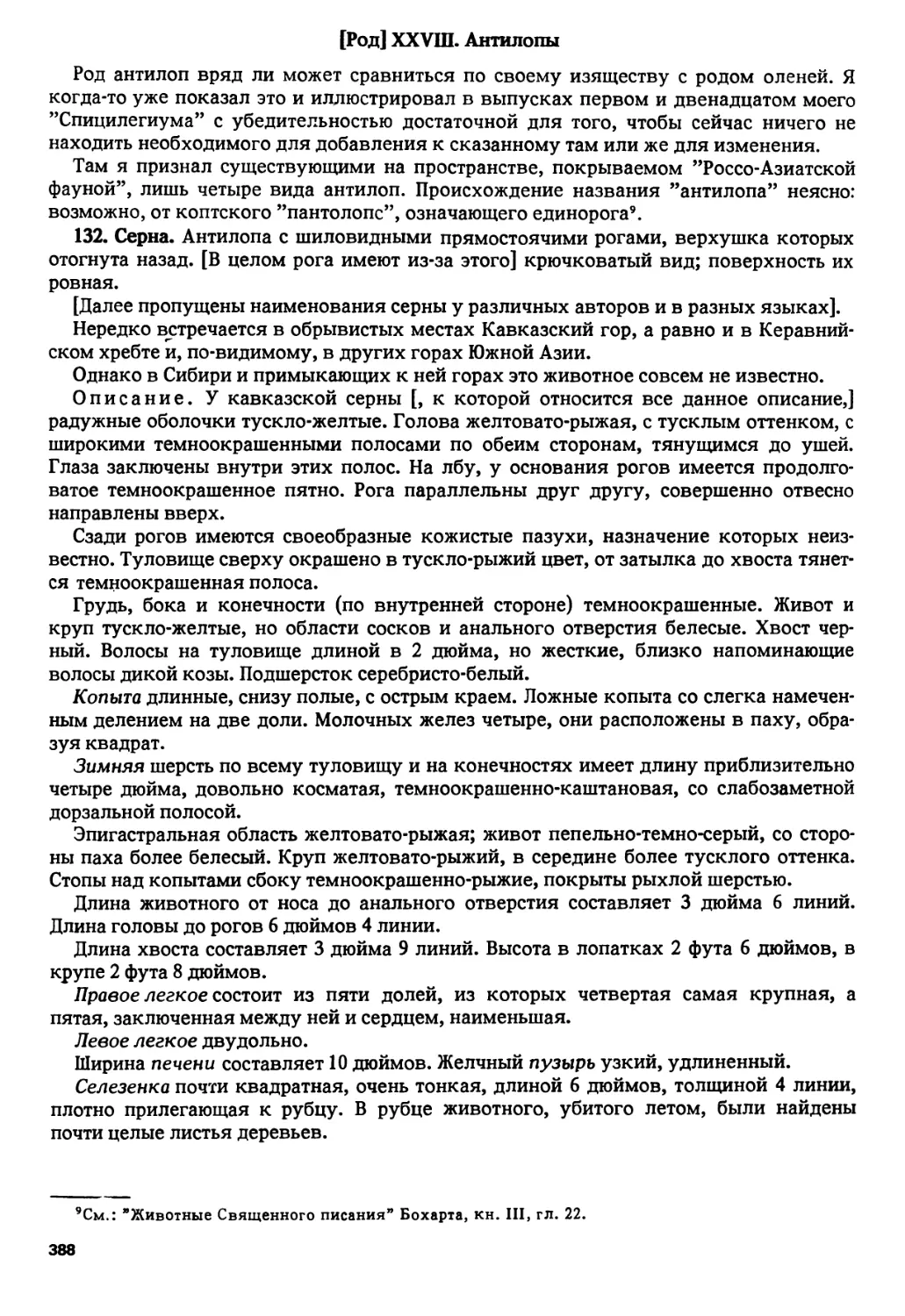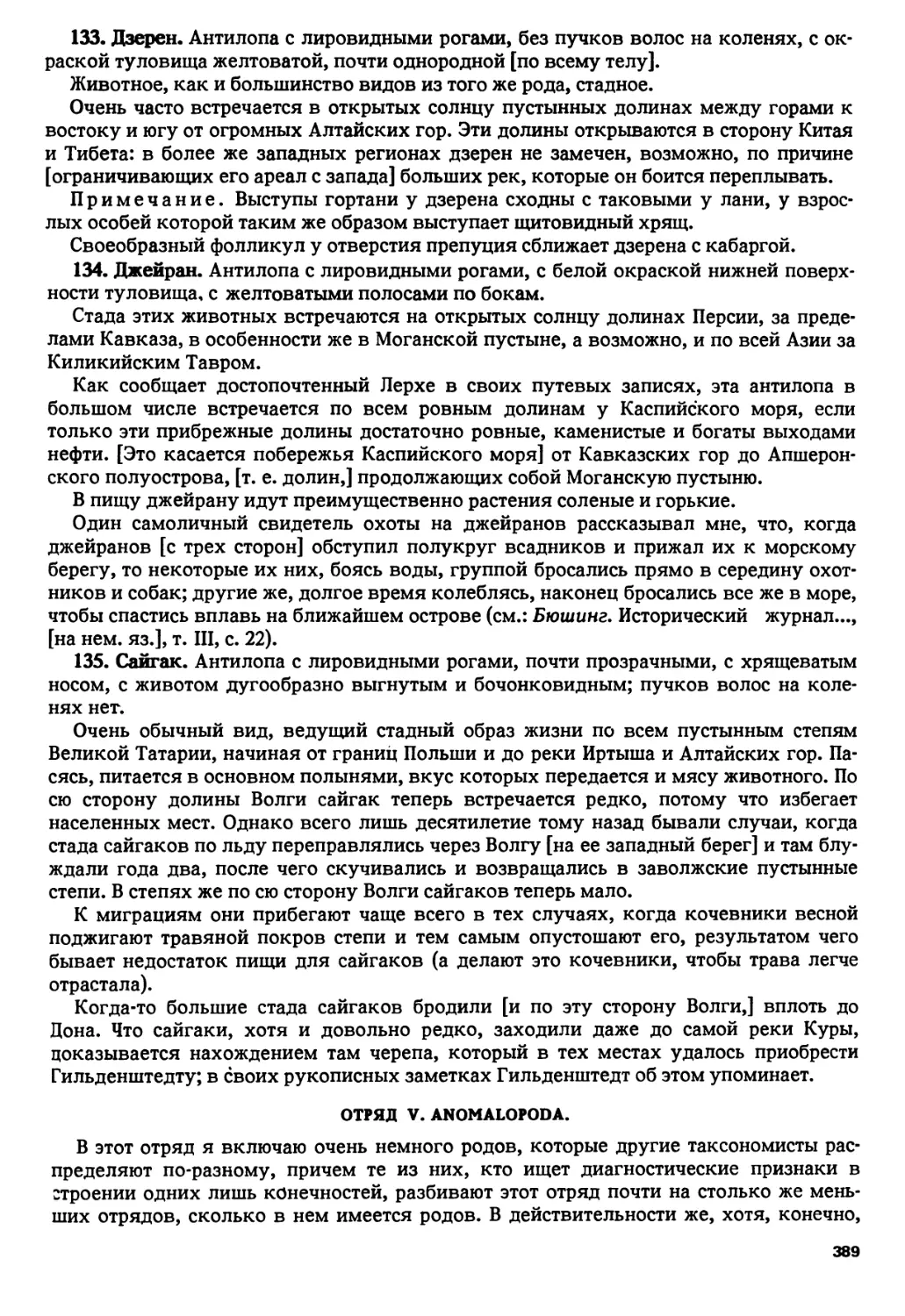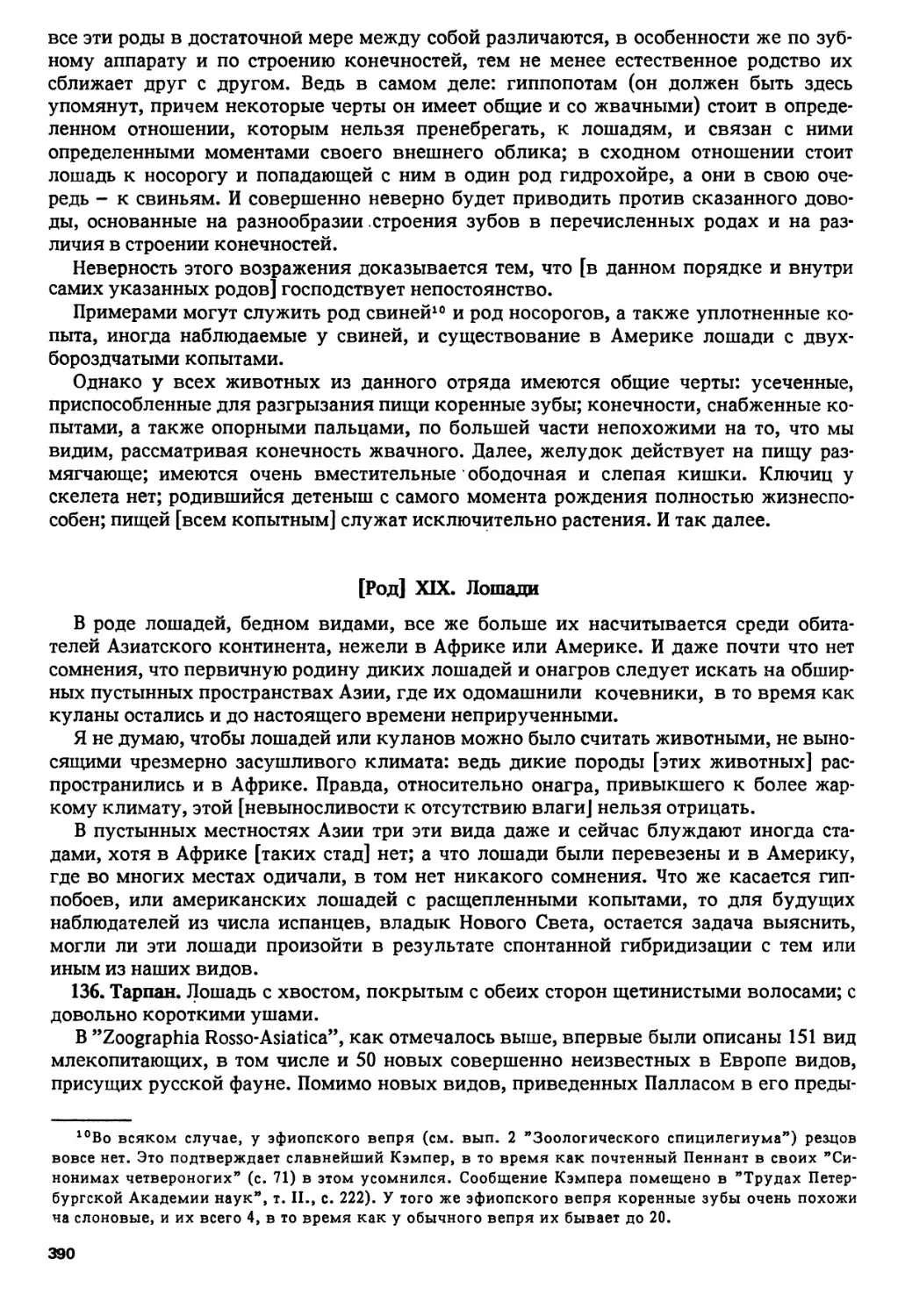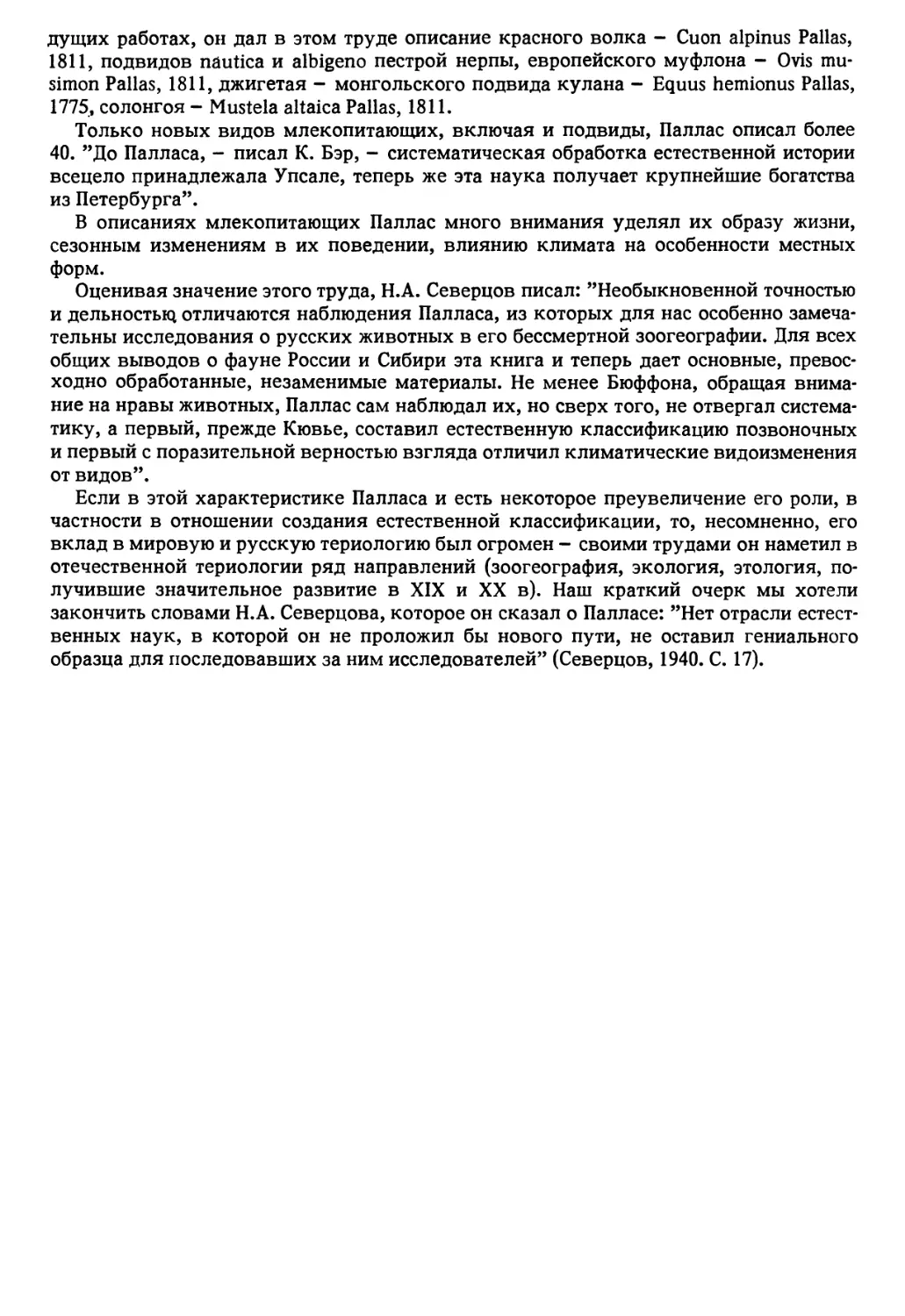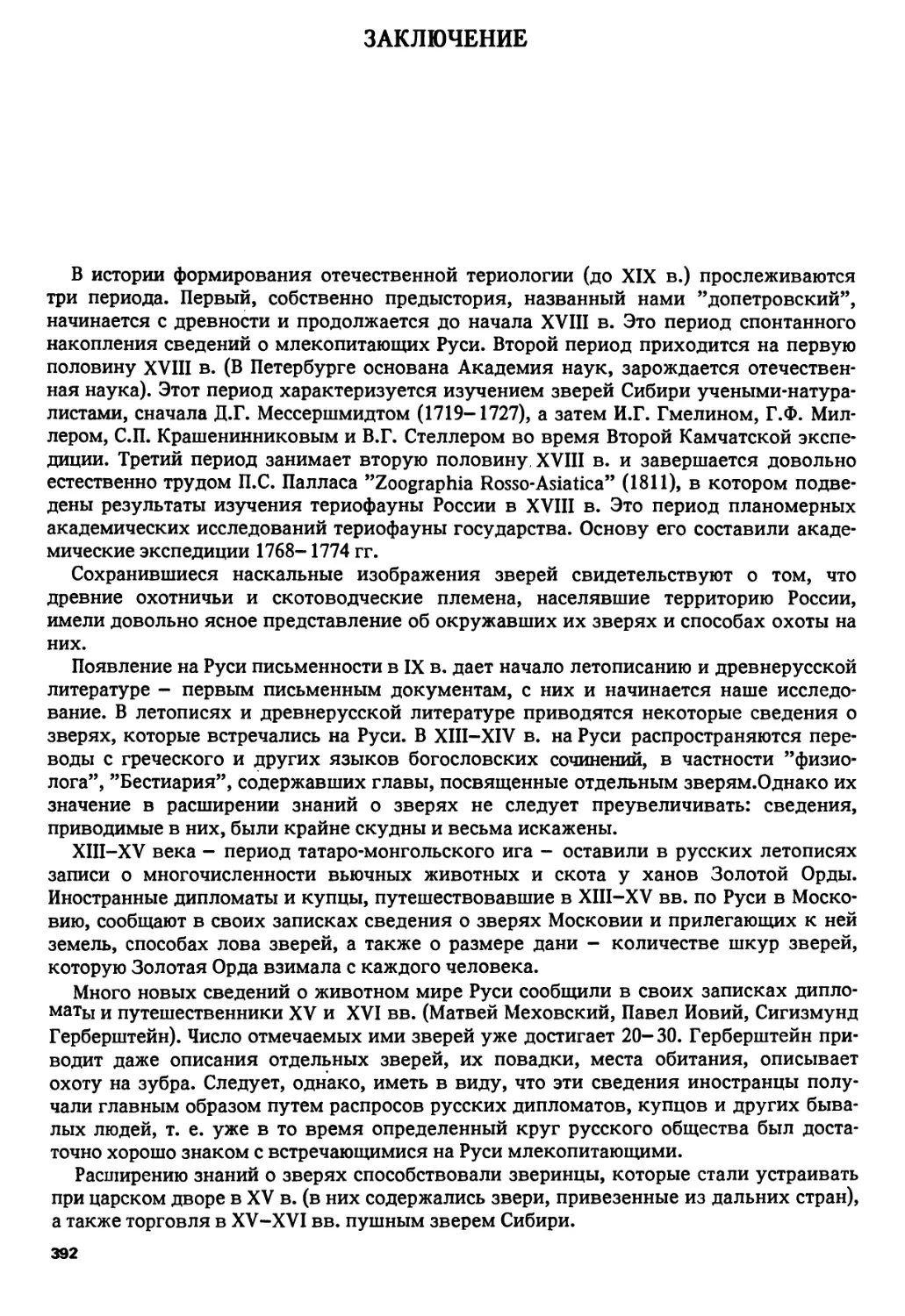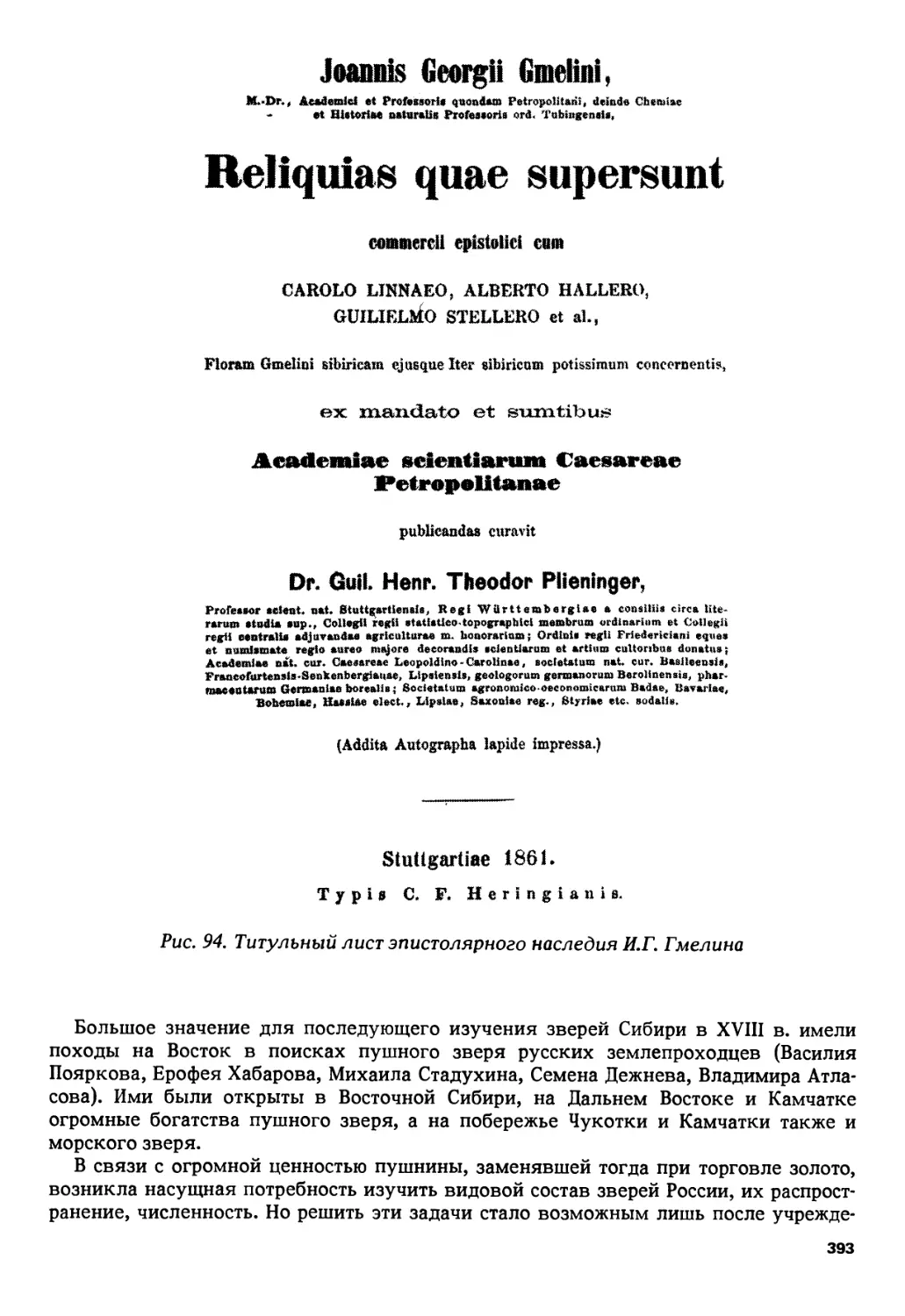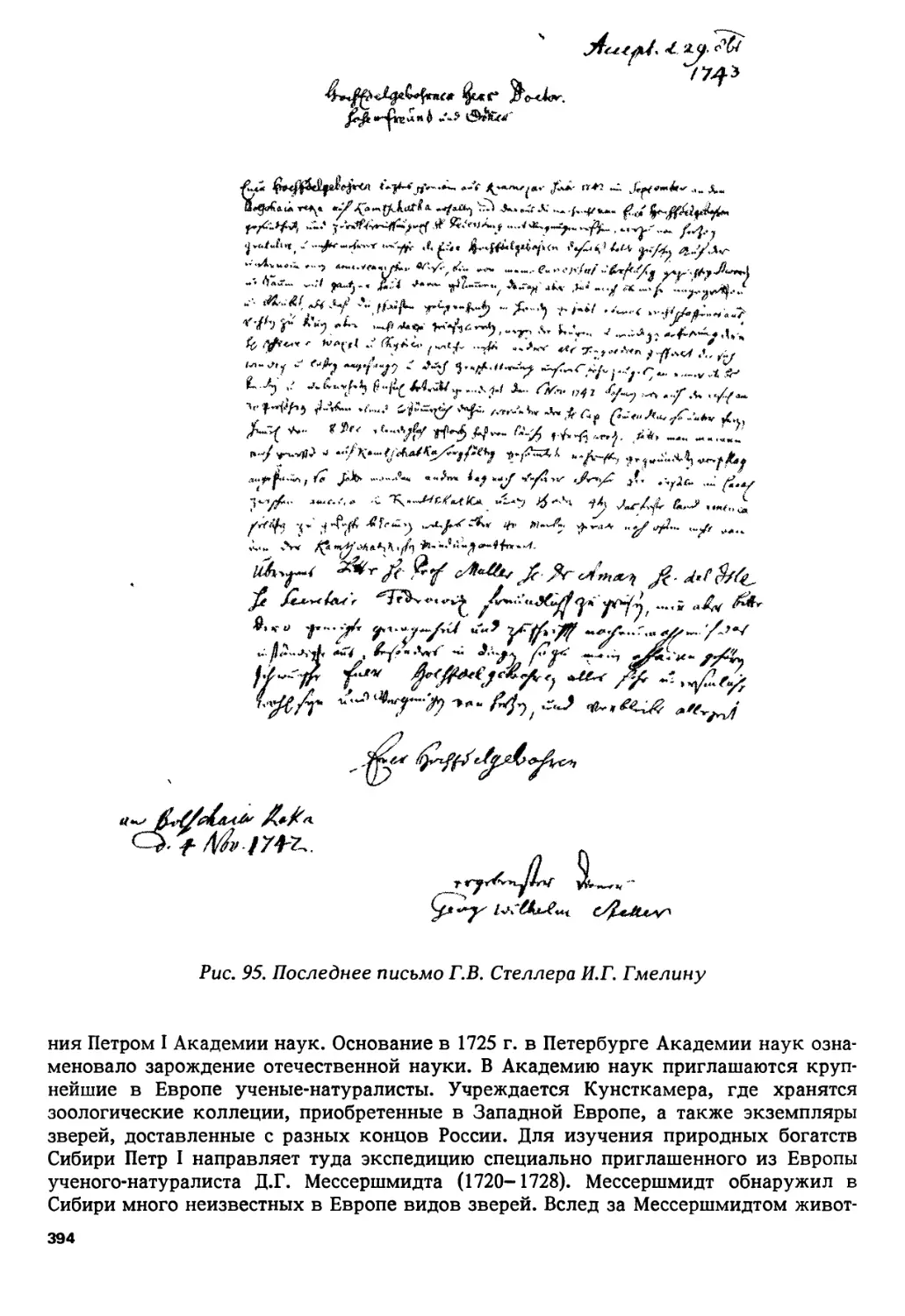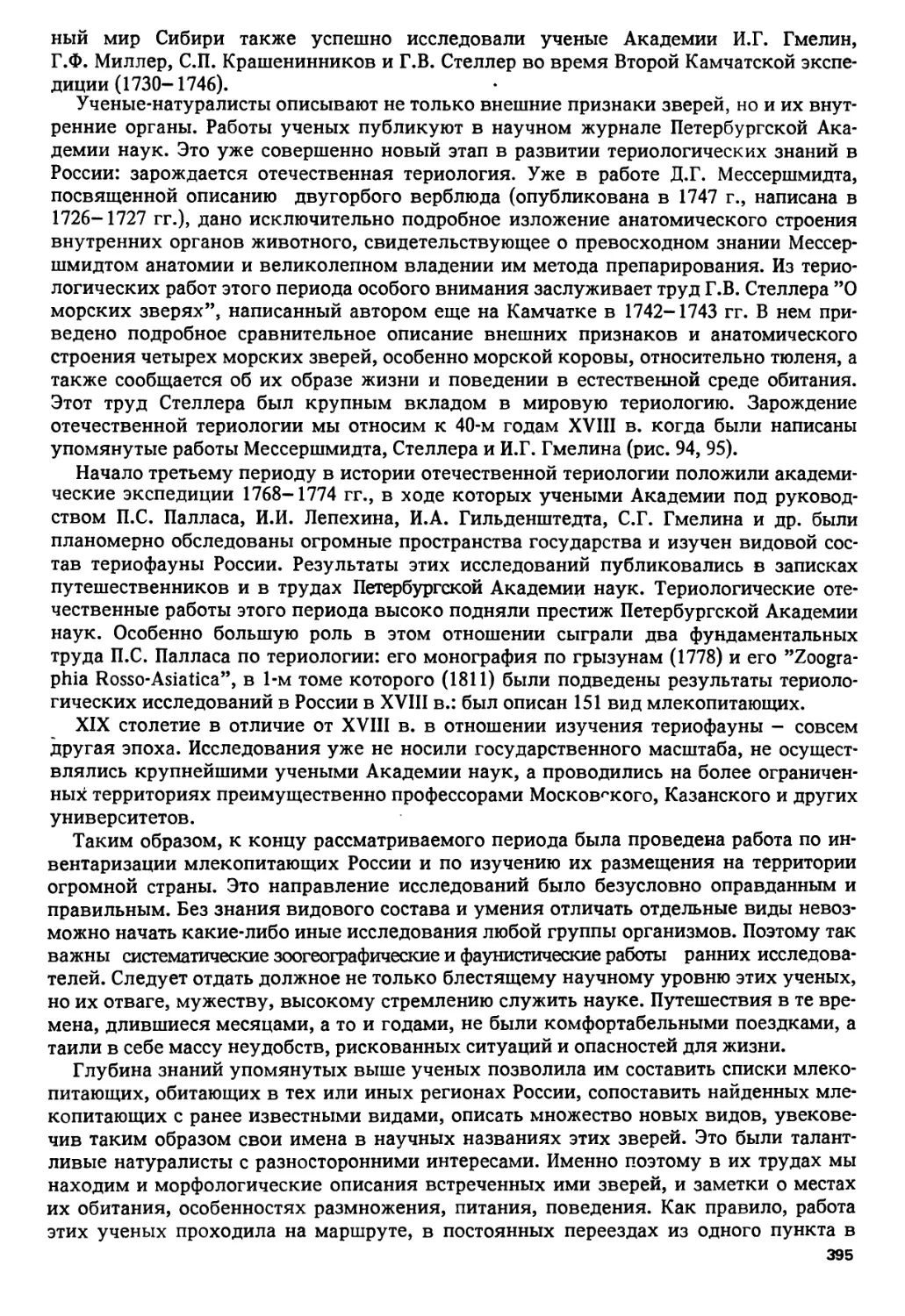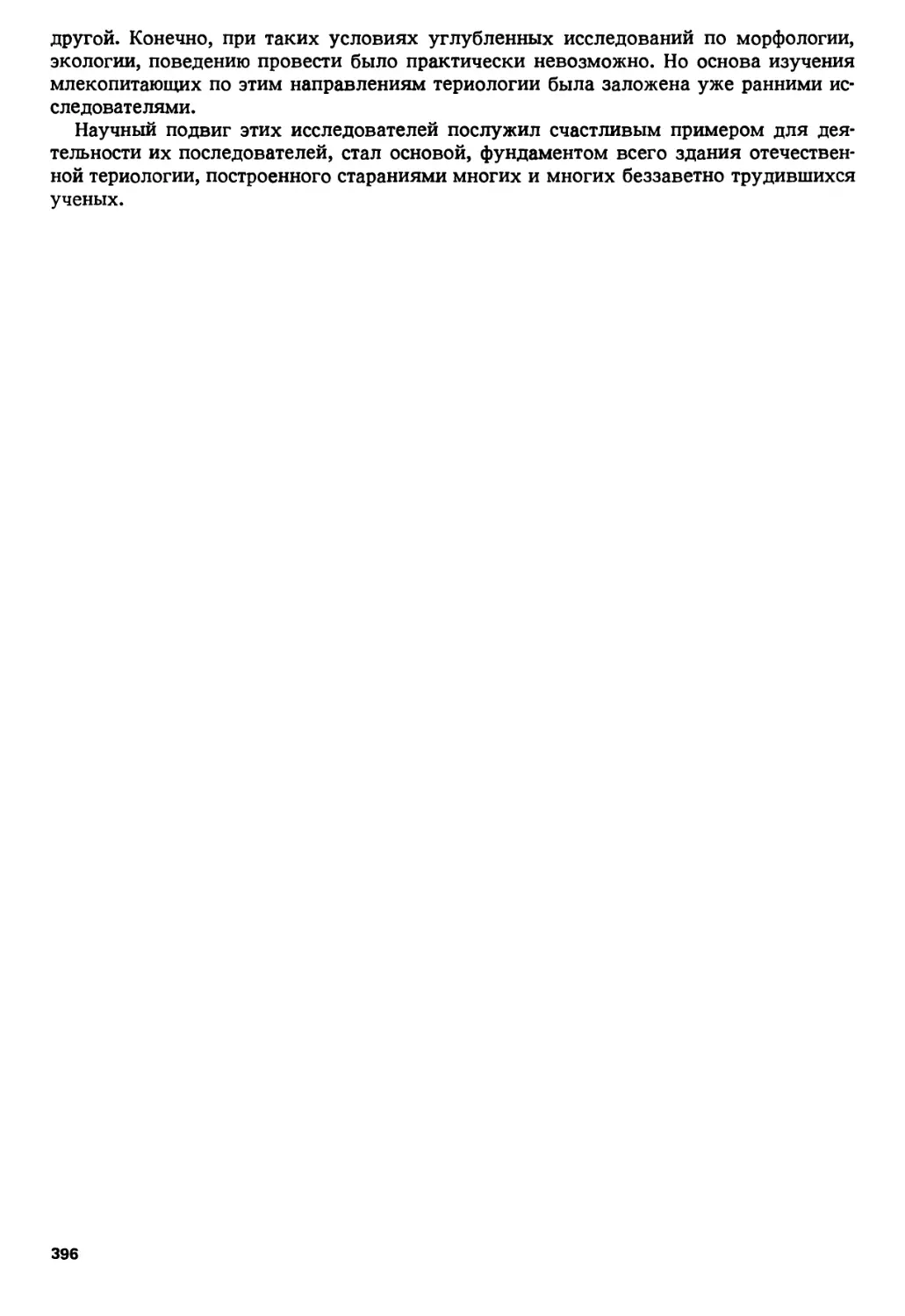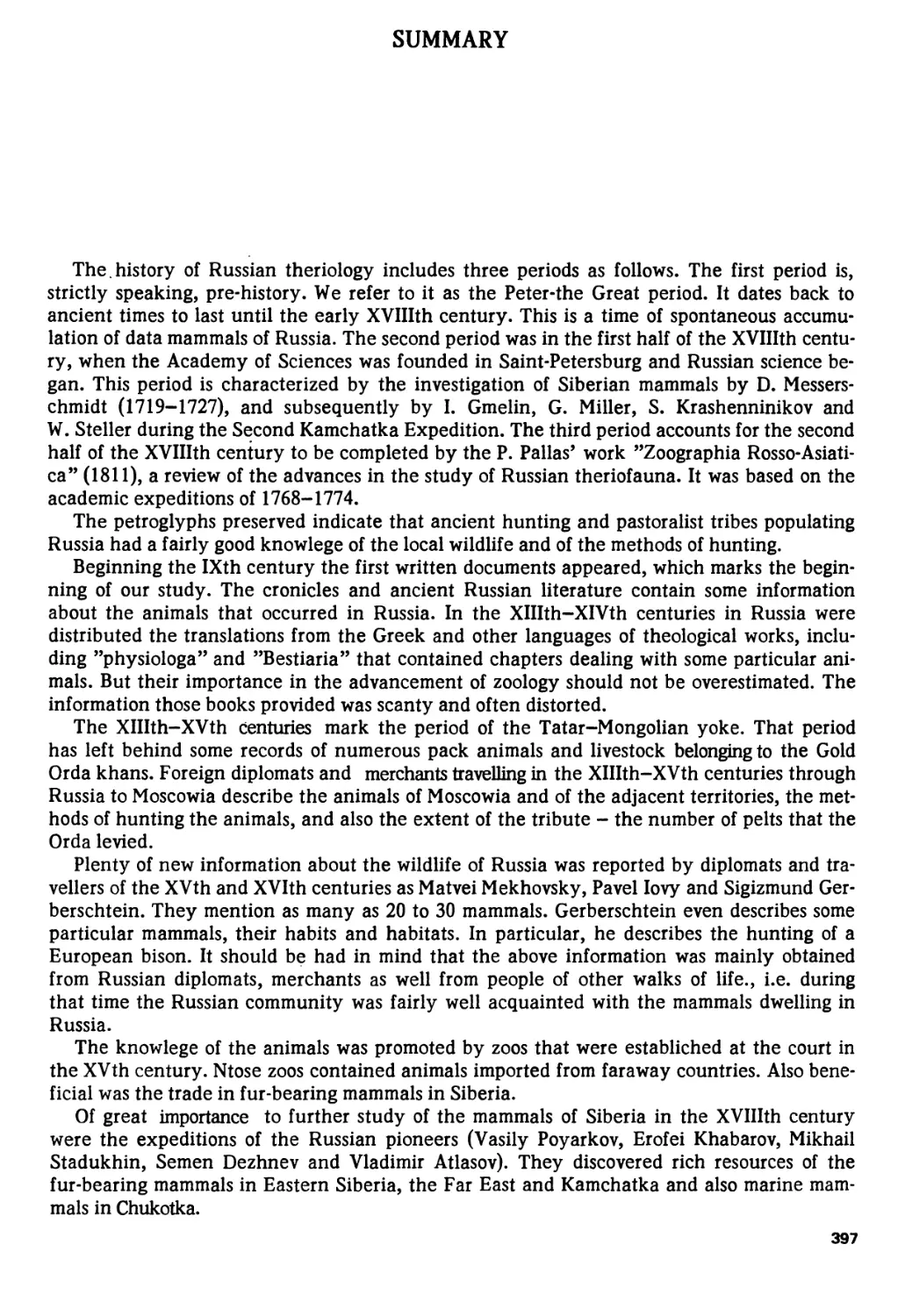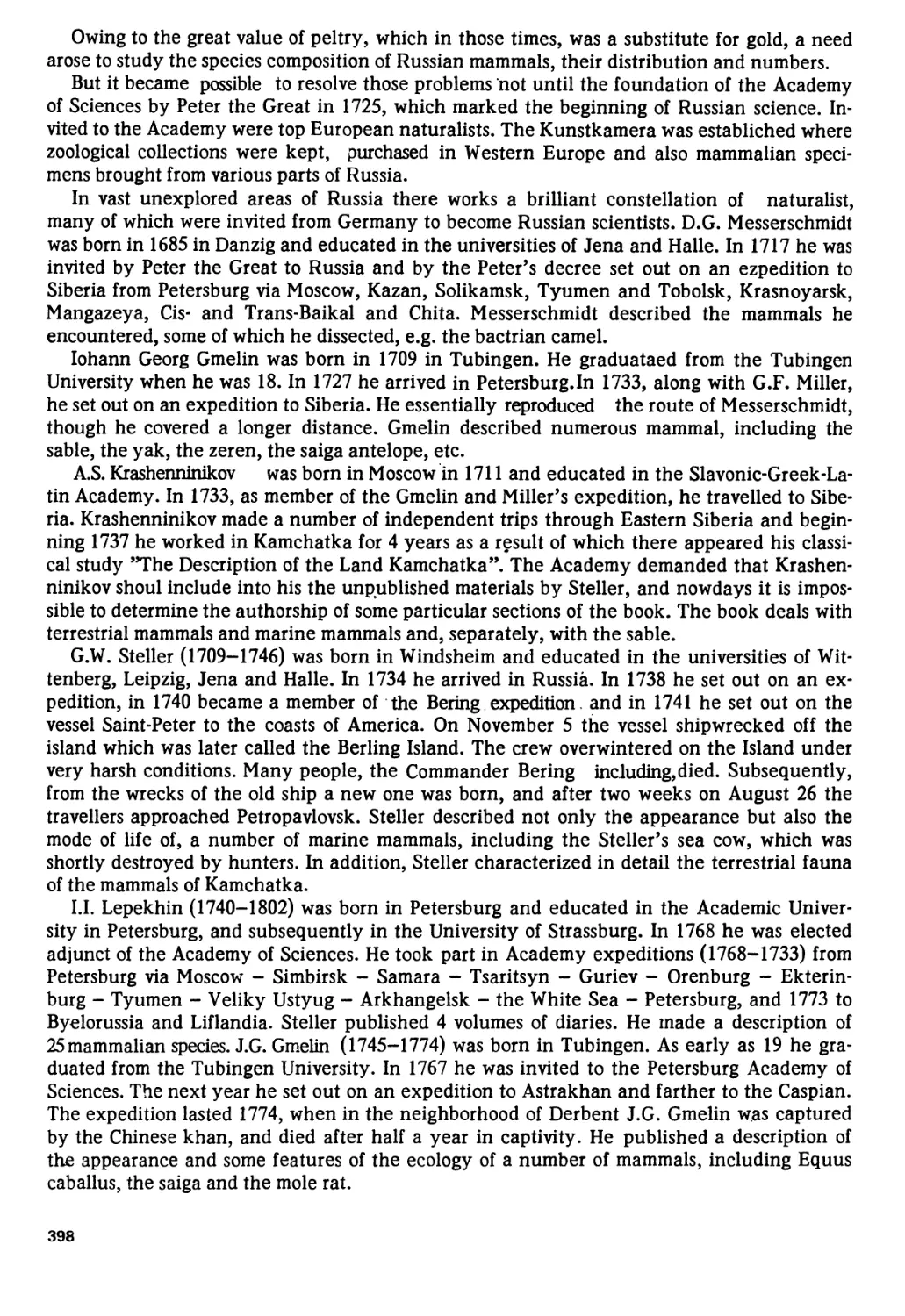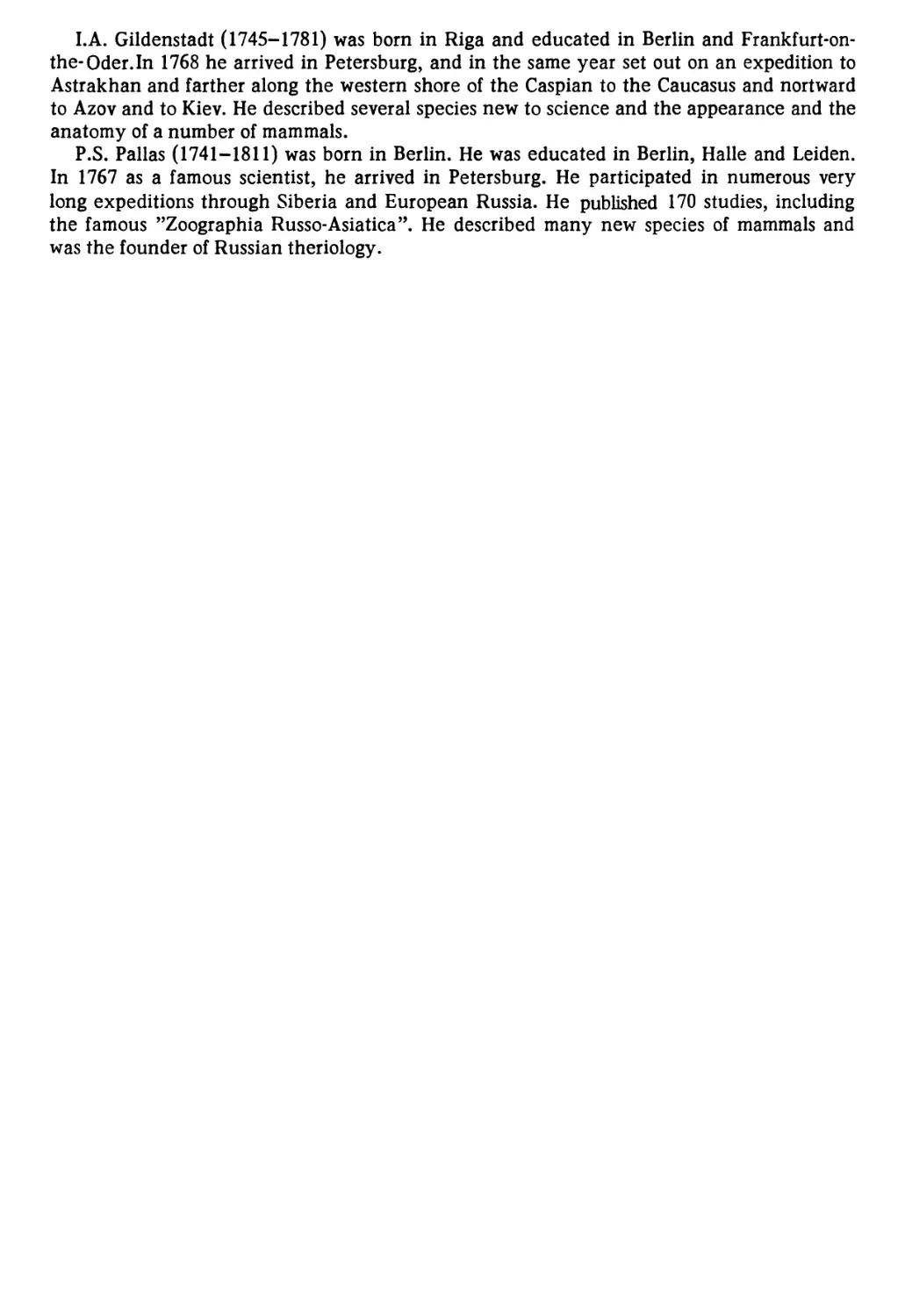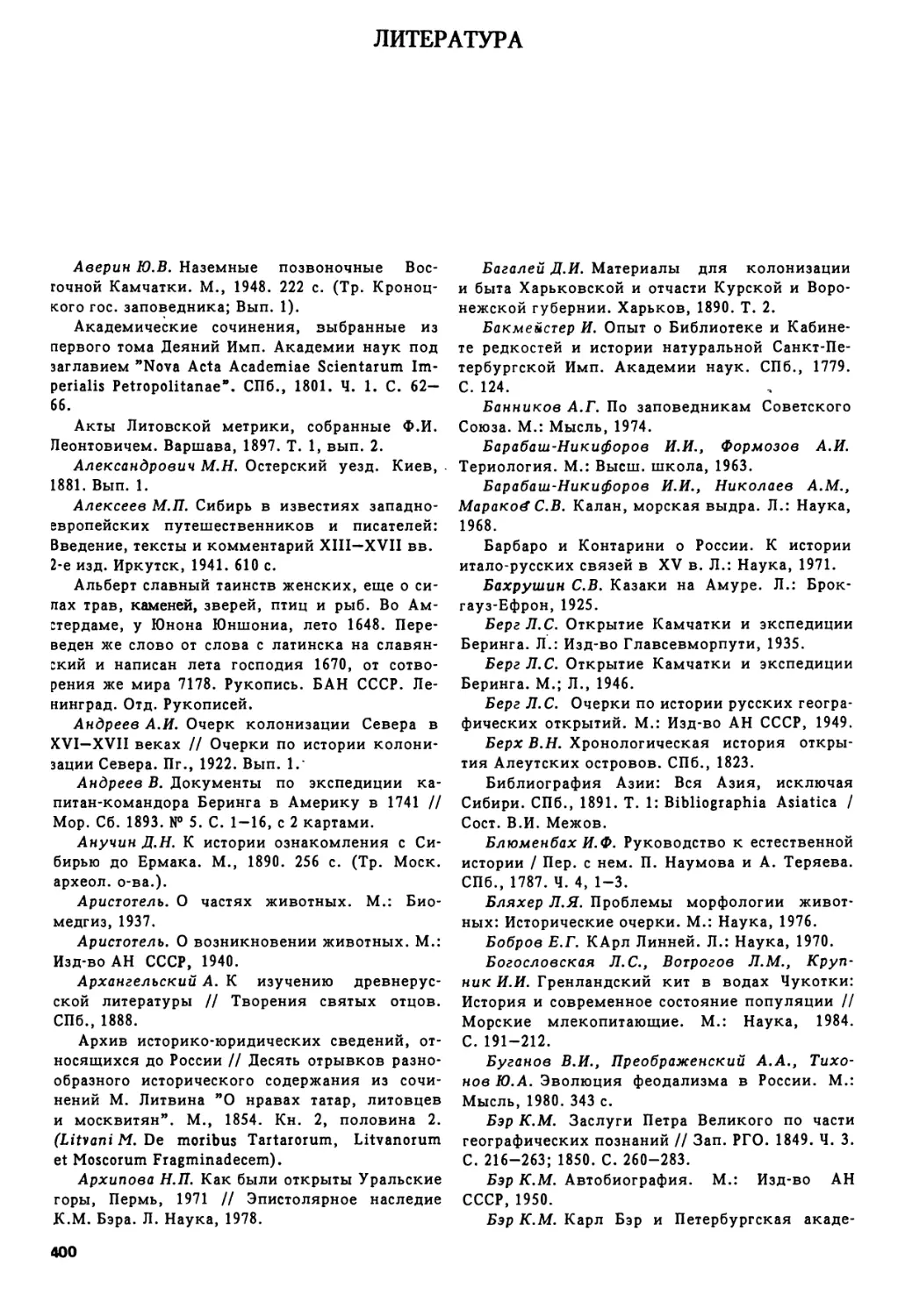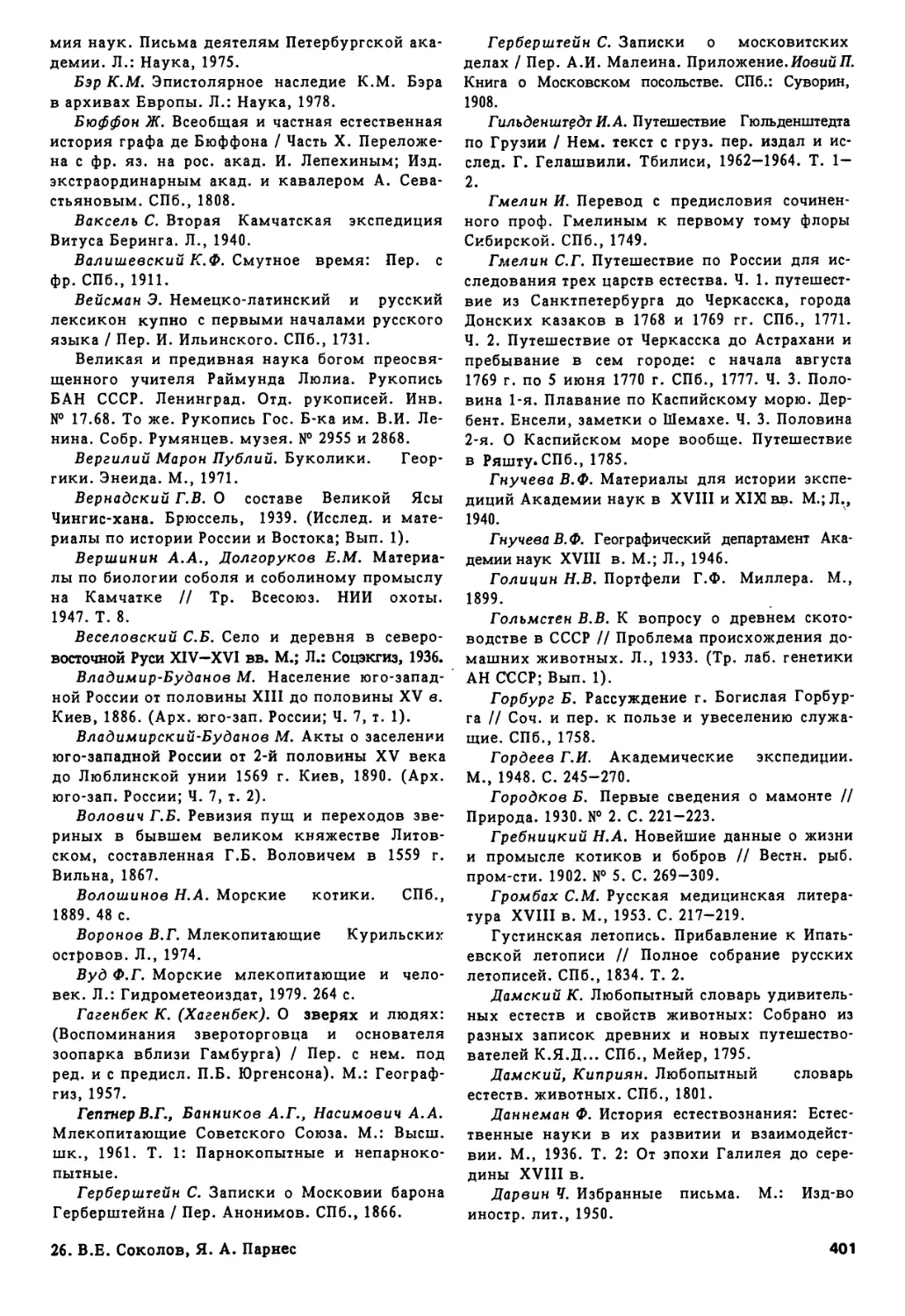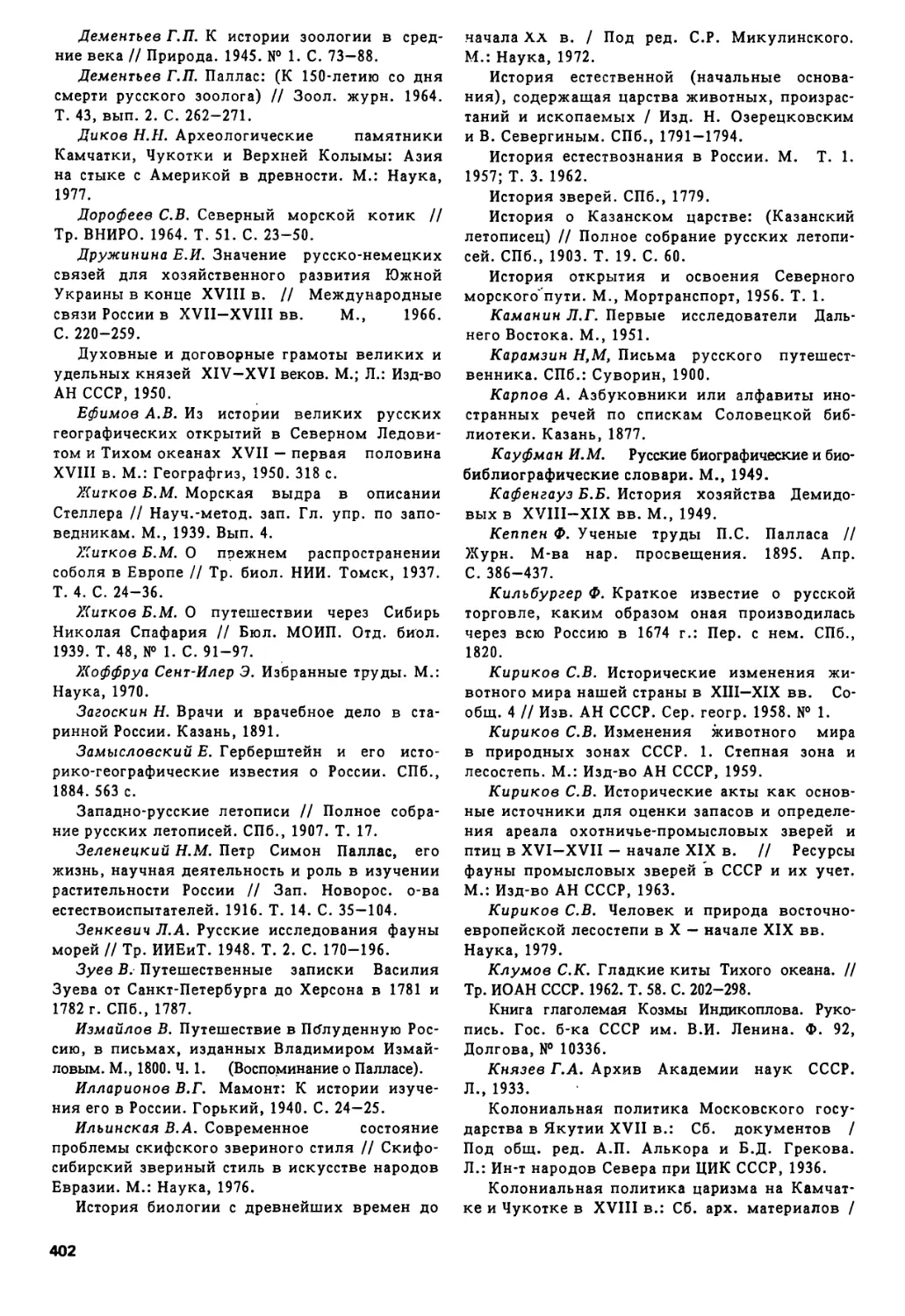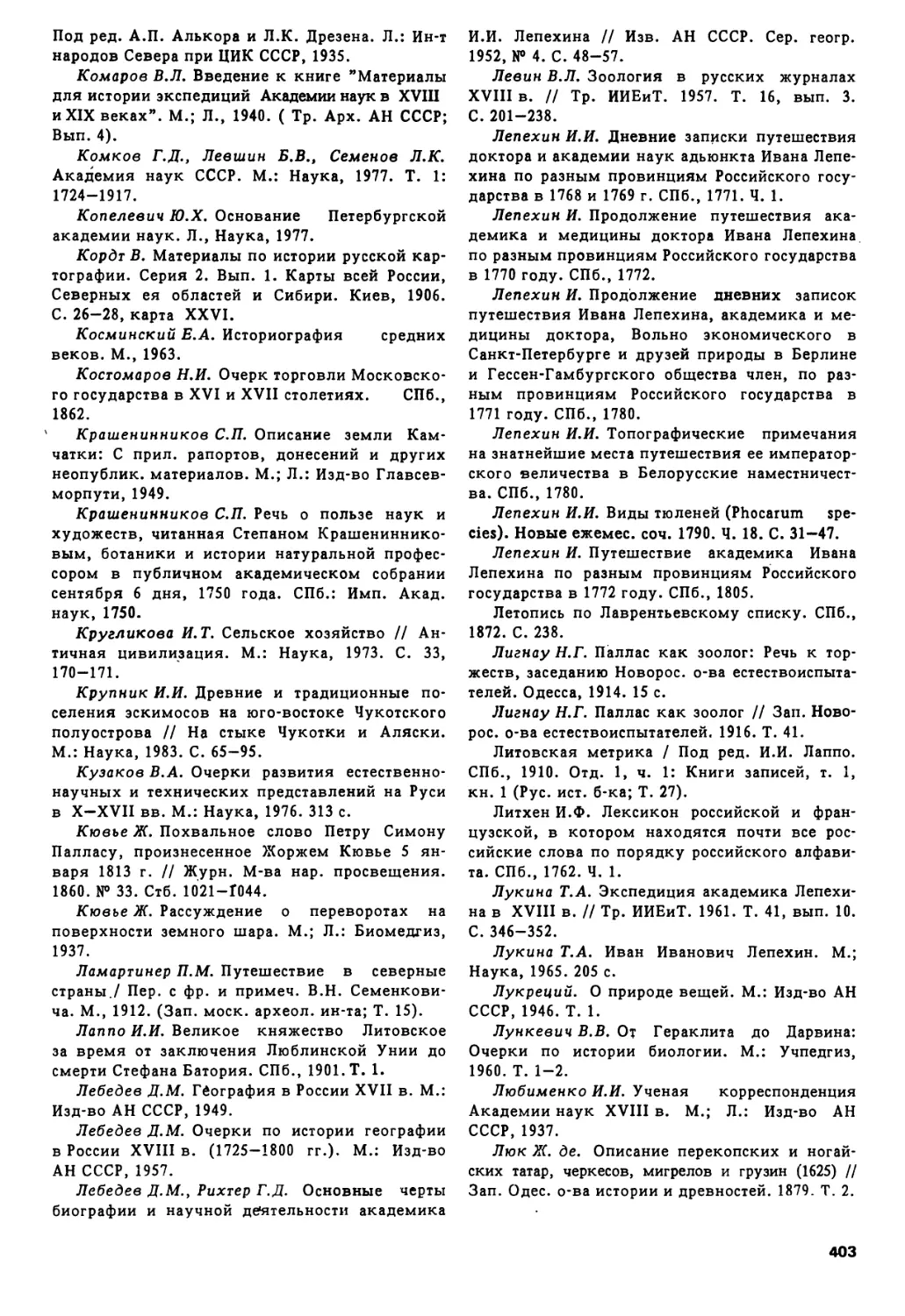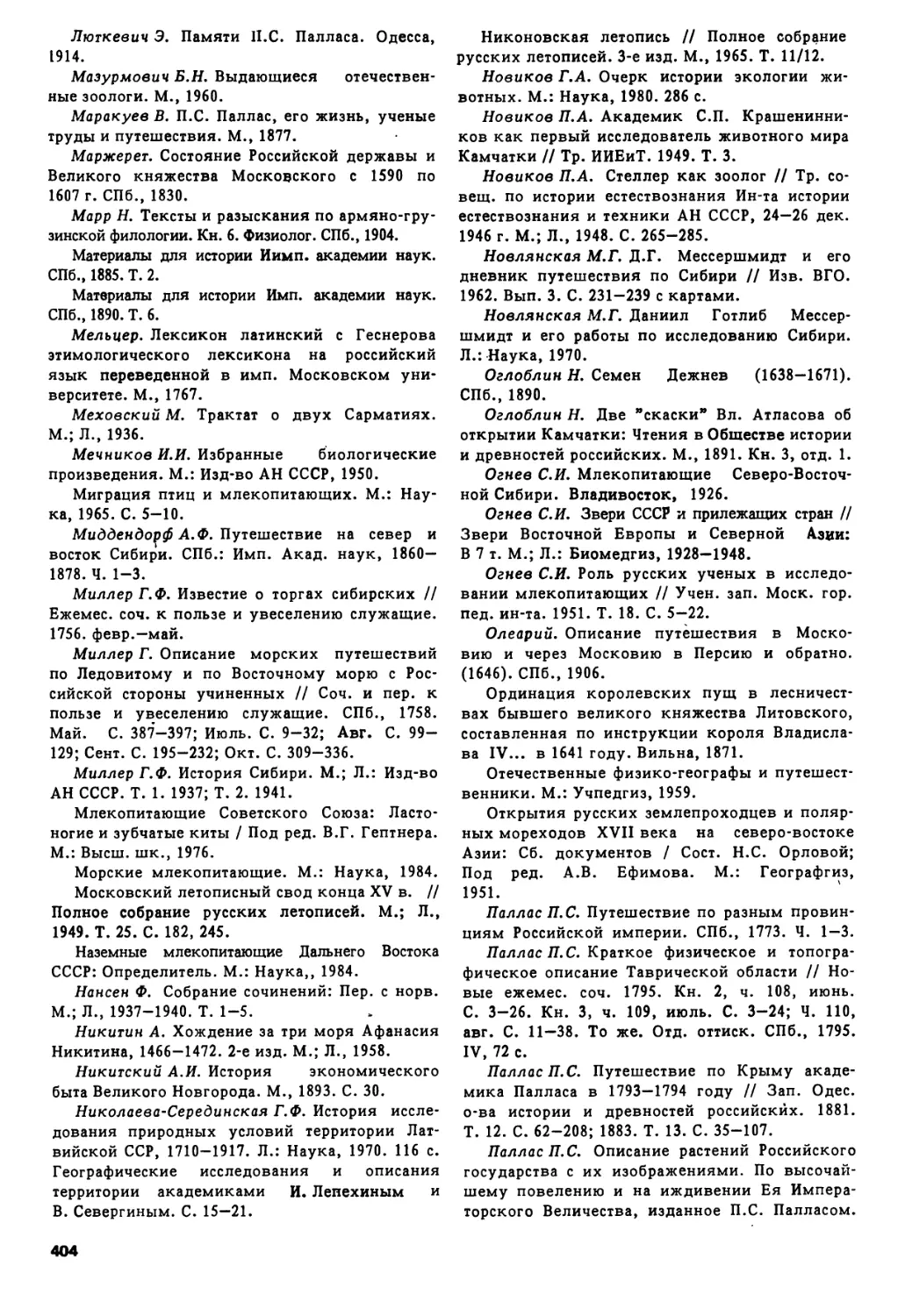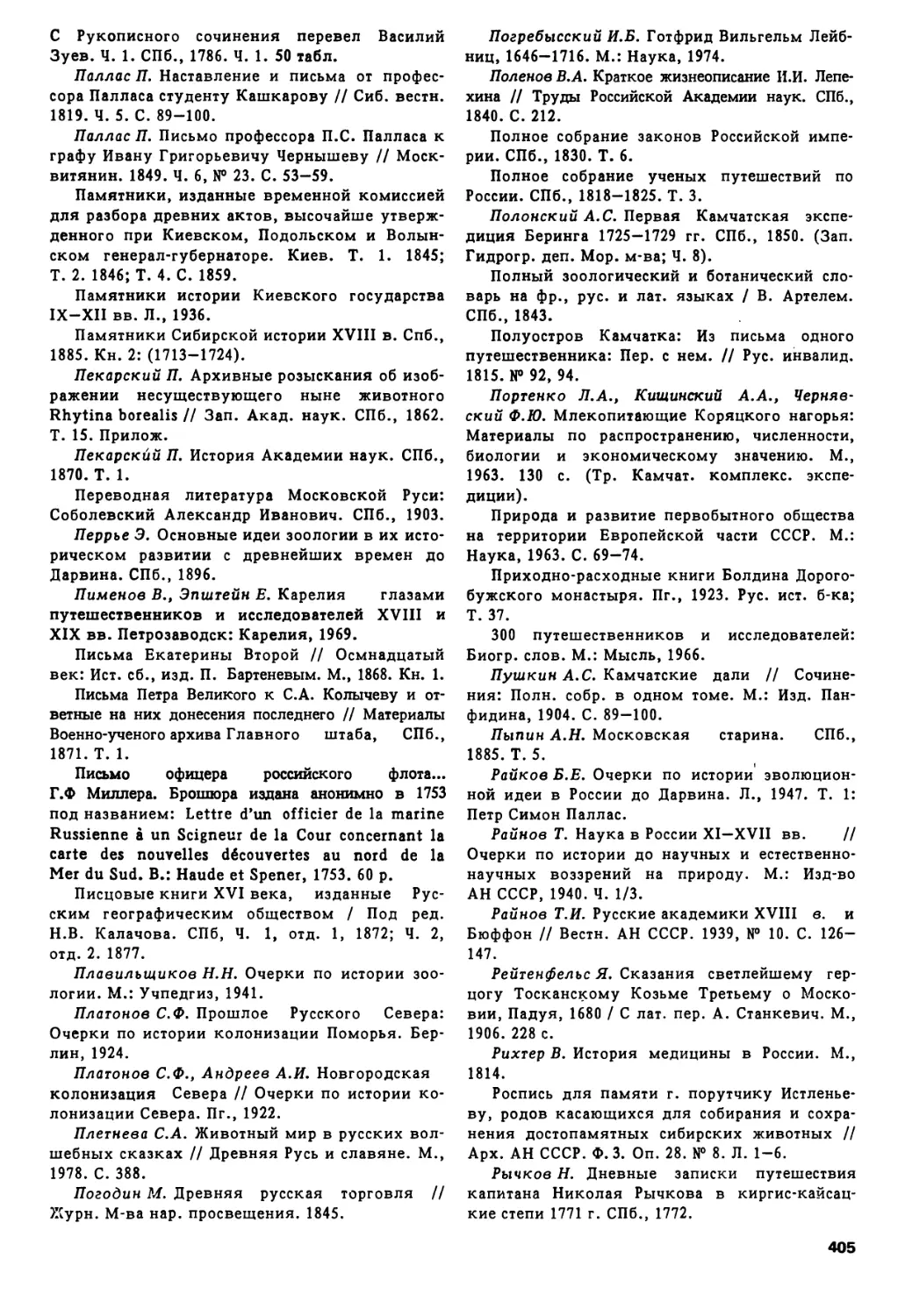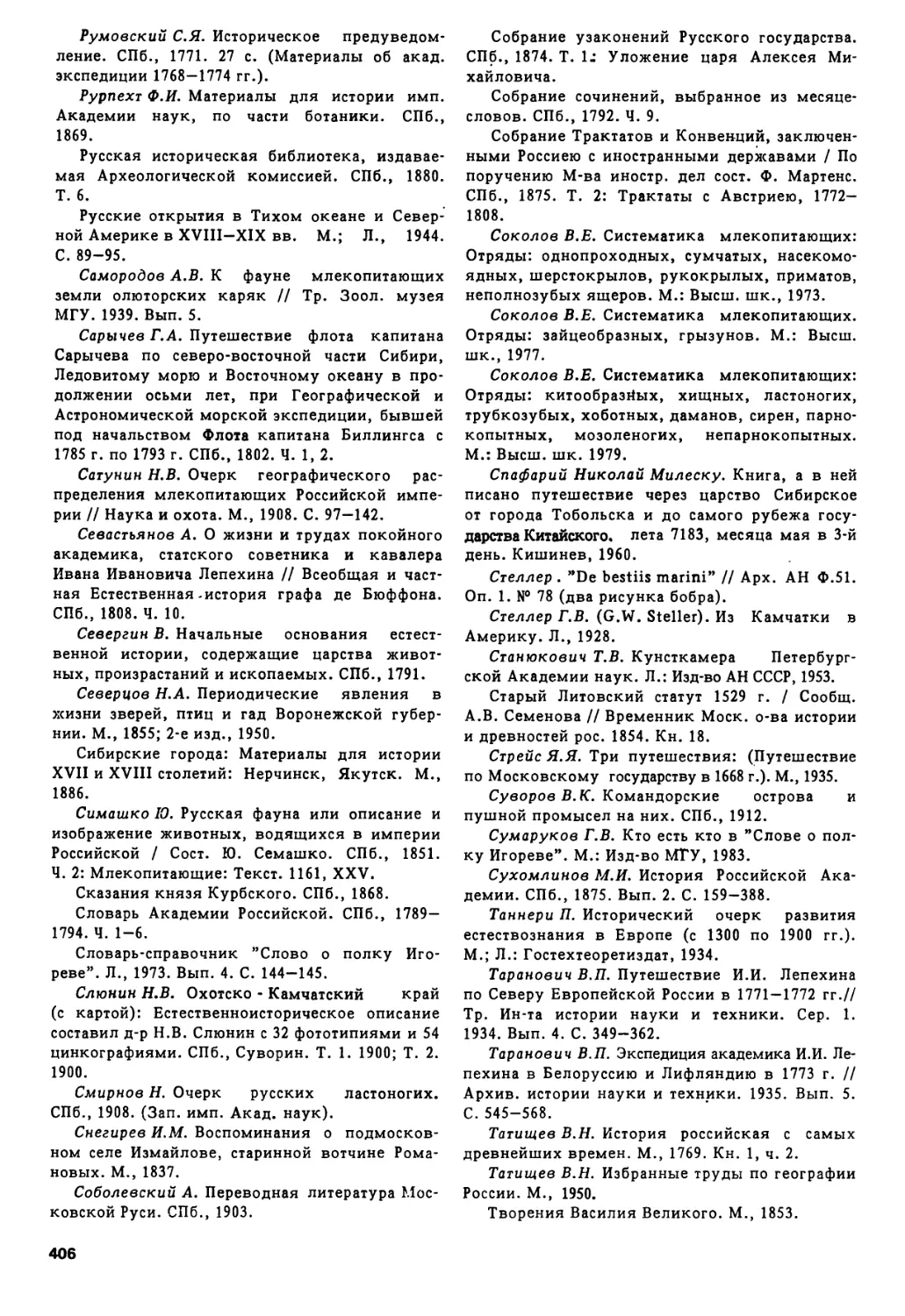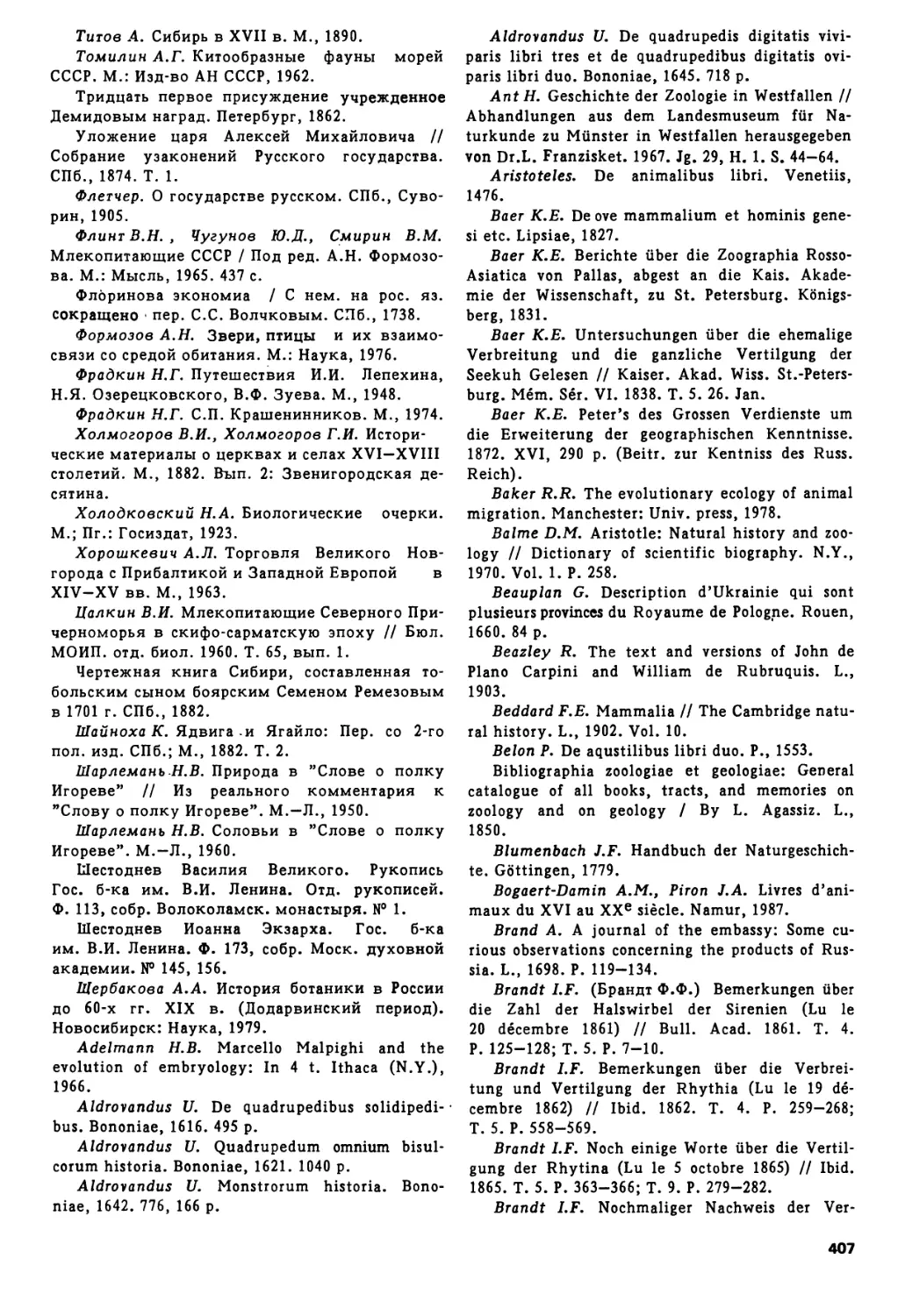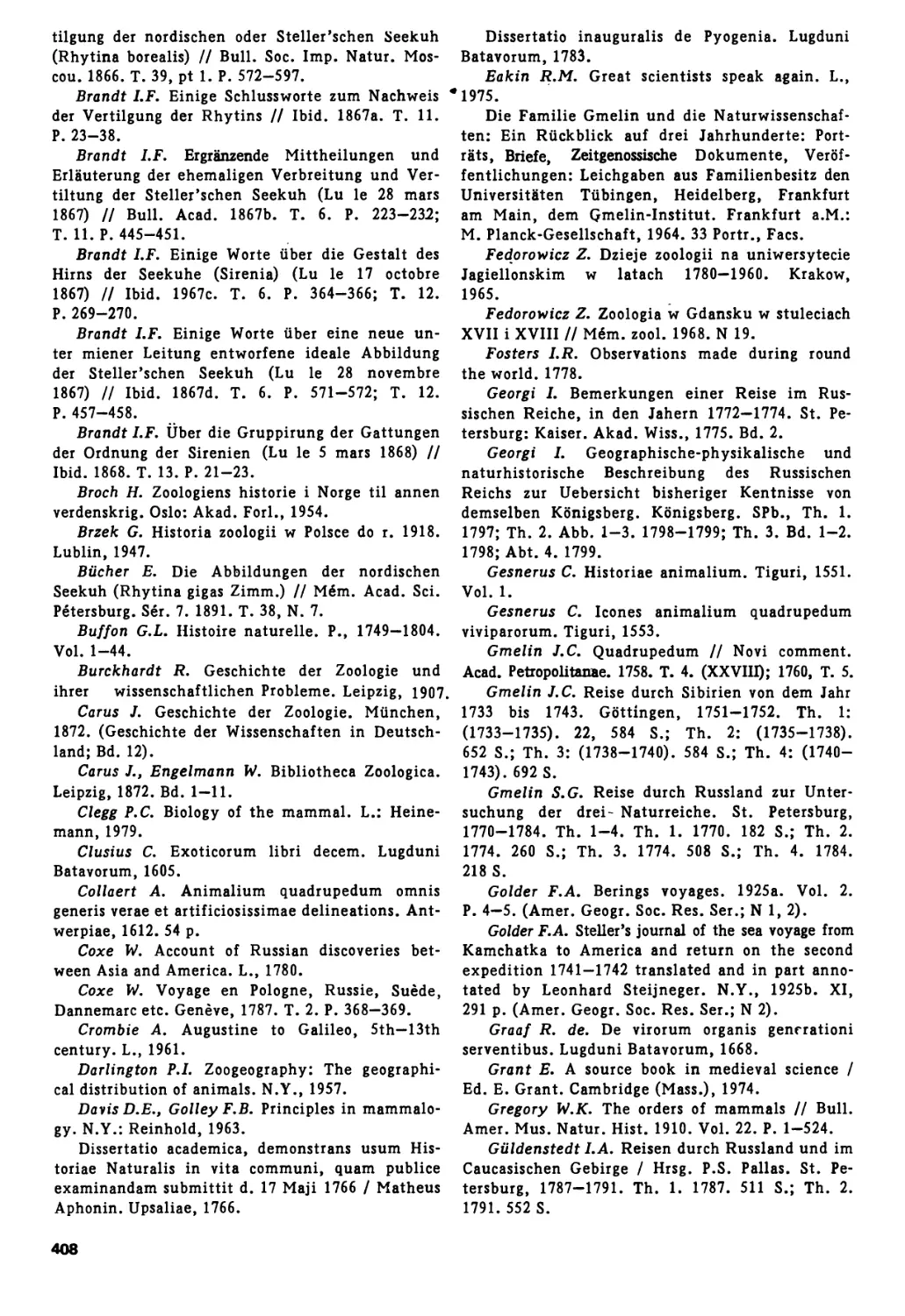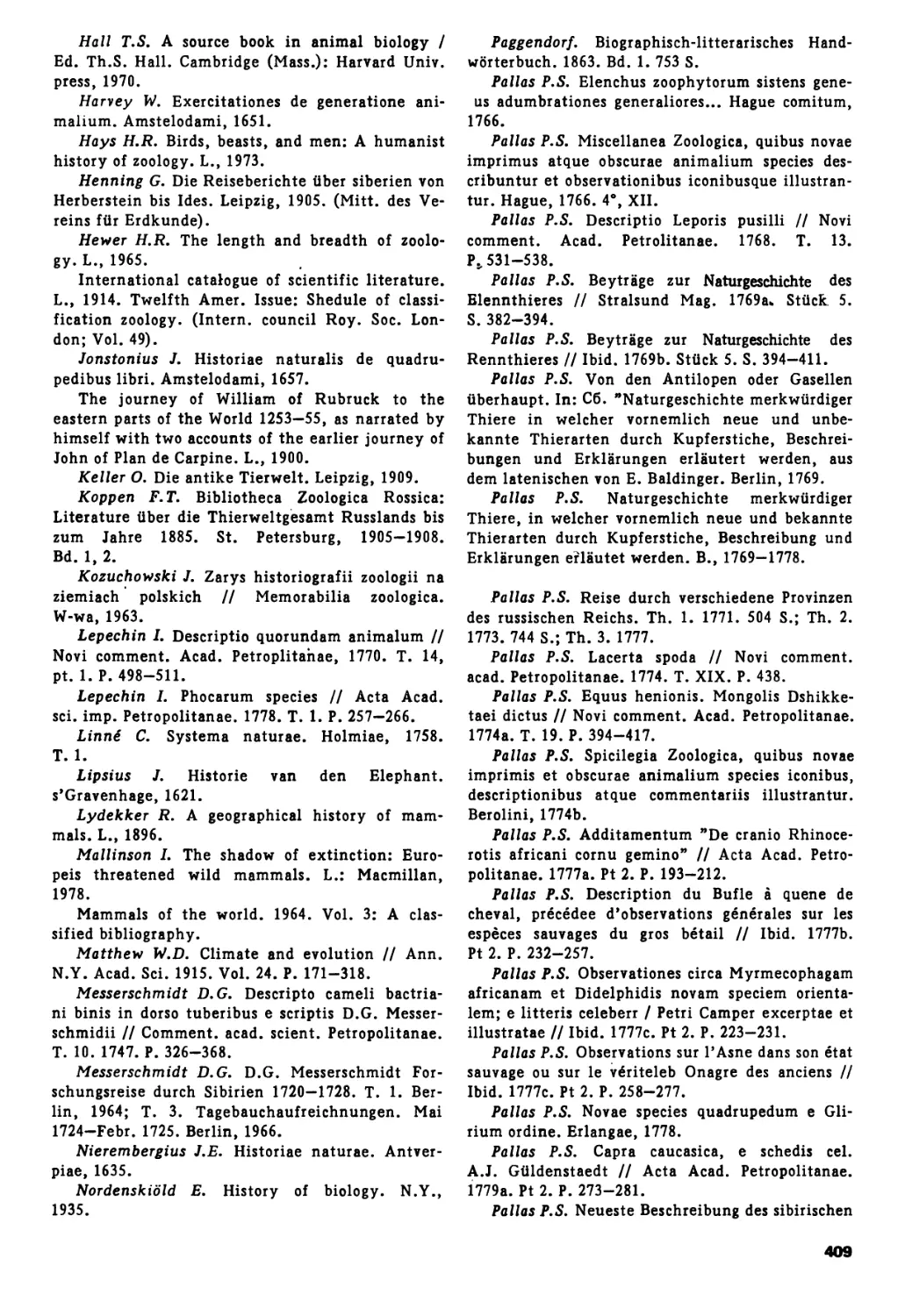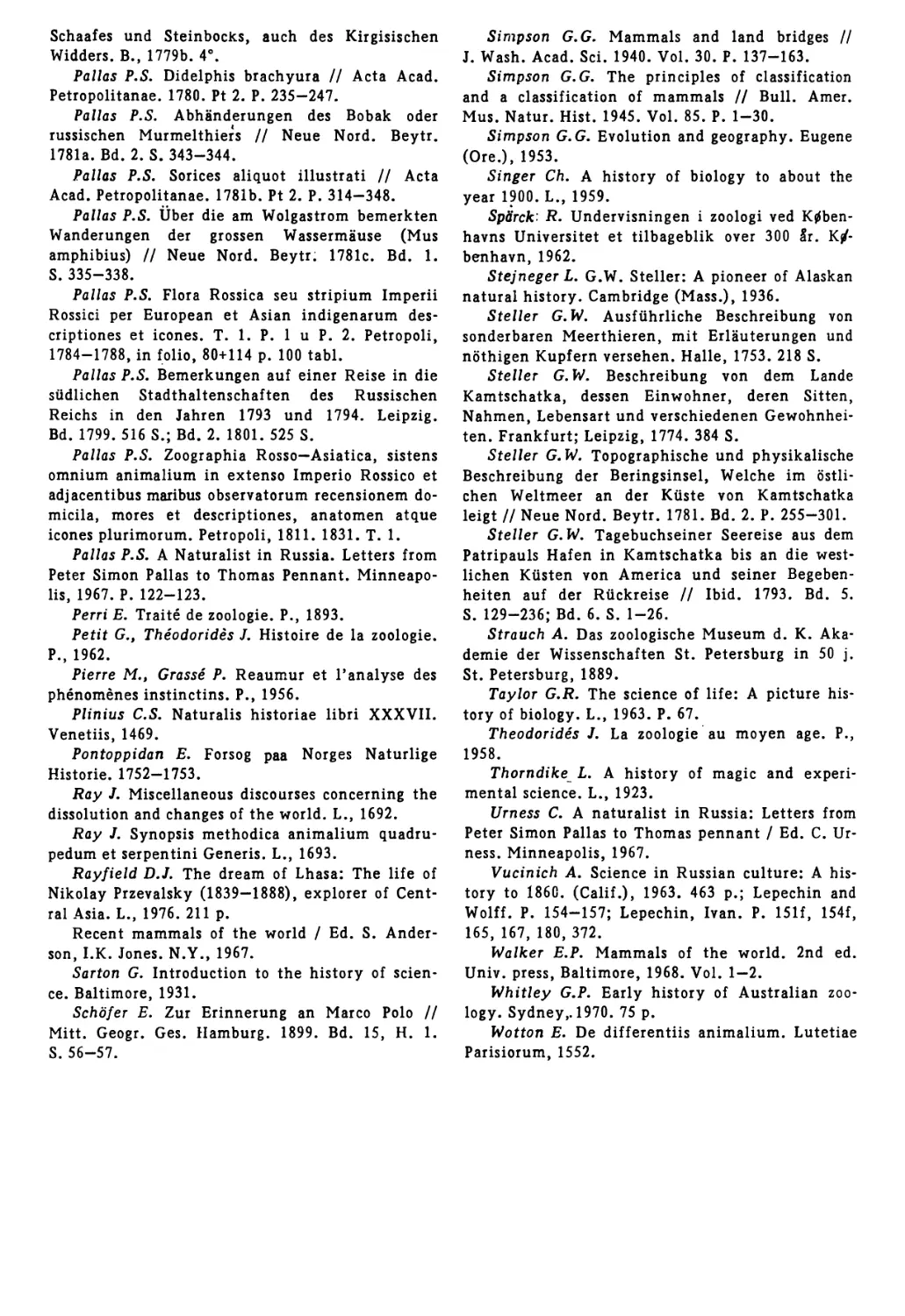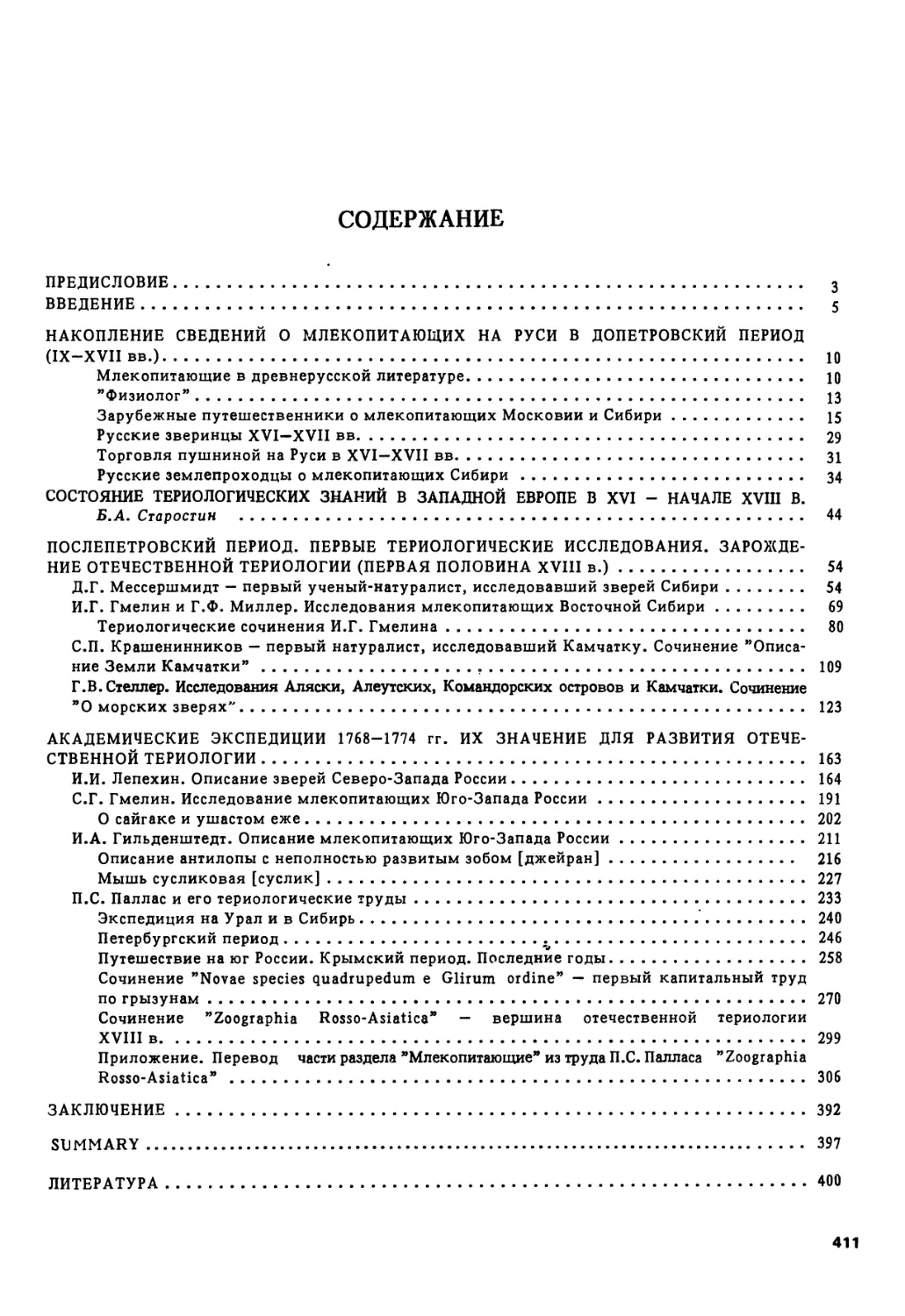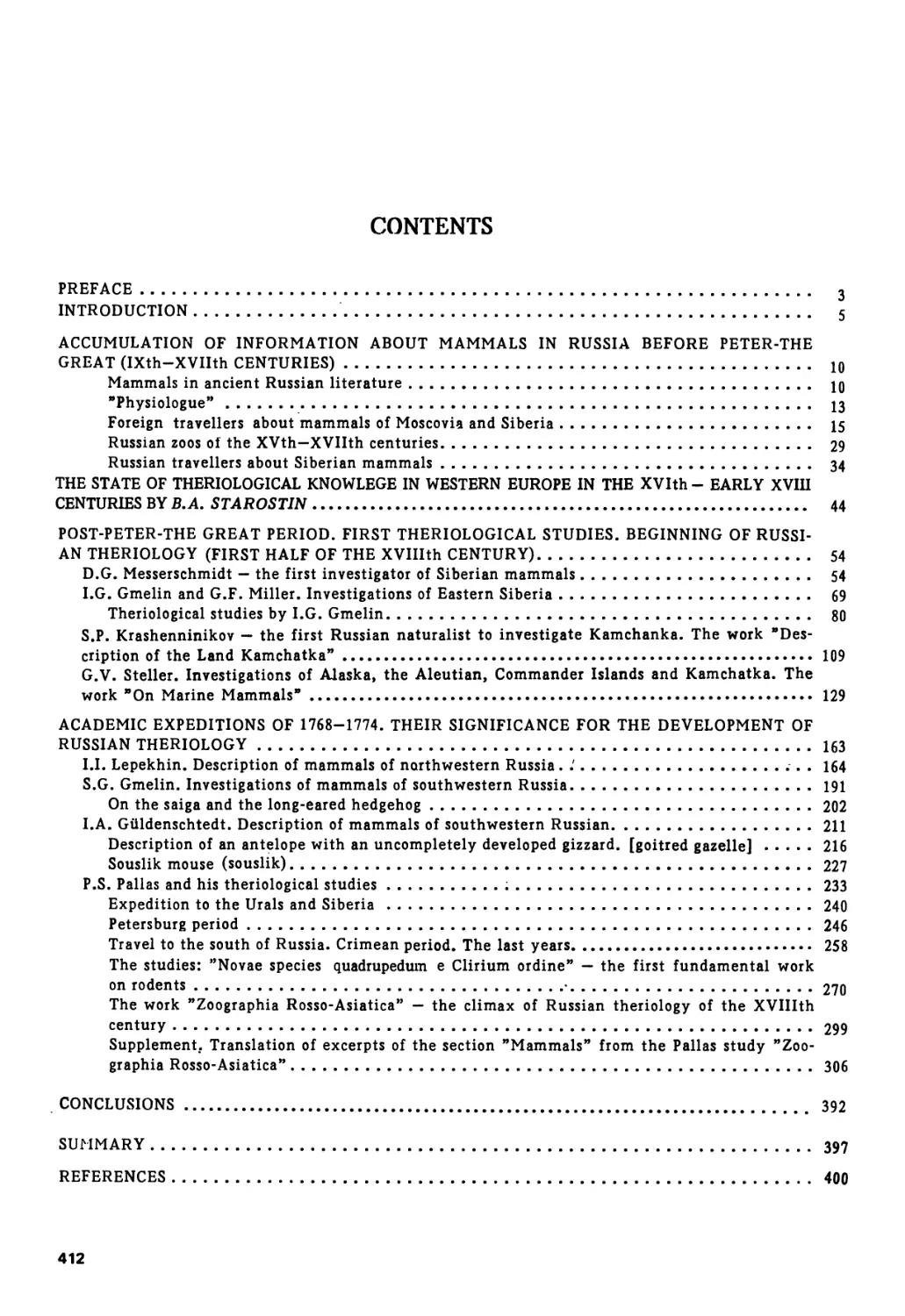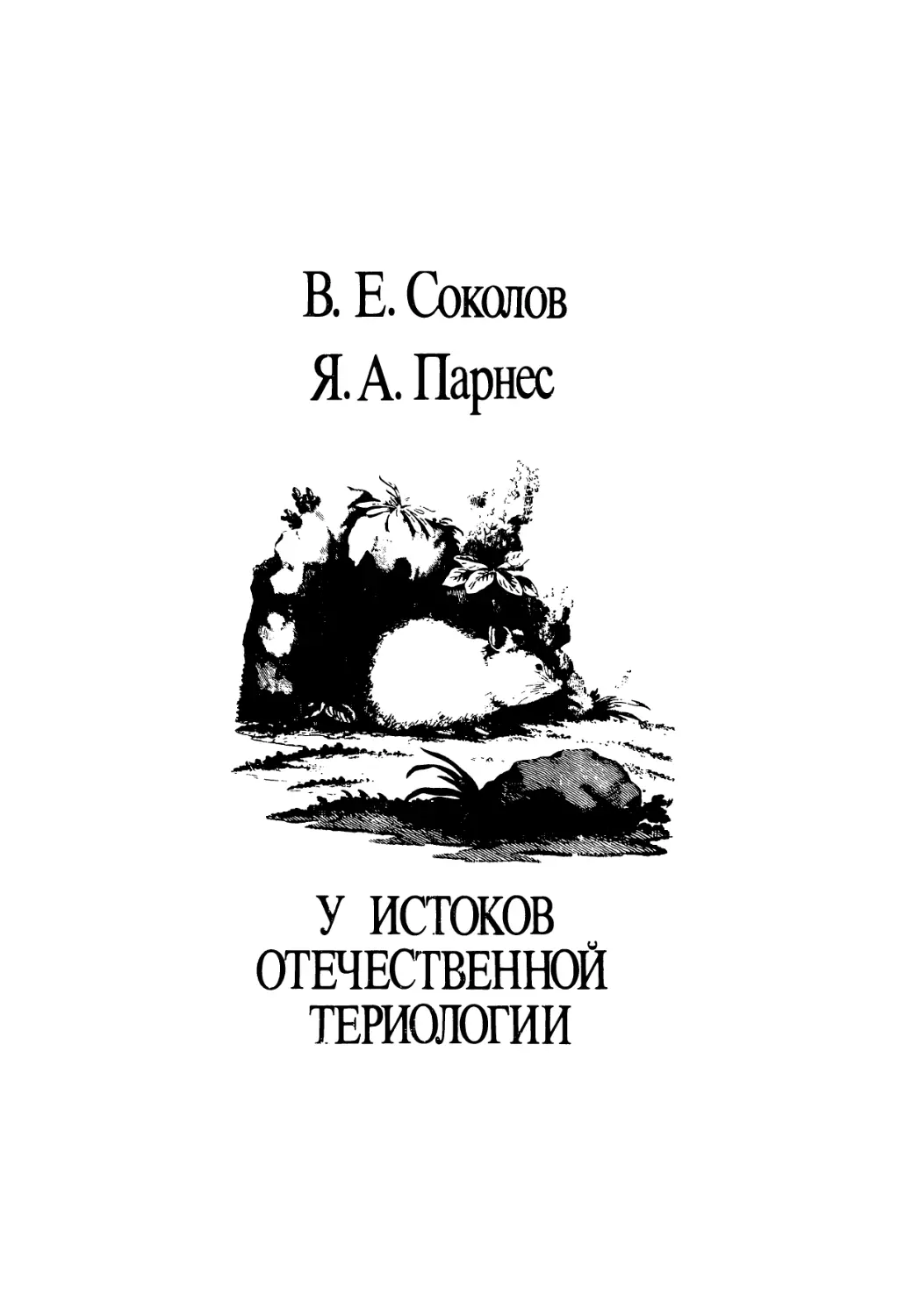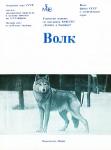Автор: Соколов В.Е. Парнес Я.А.
Теги: mammalia млекопитающие история история руси
ISBN: 5-02-005681-2
Год: 1993
Текст
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
В. Е. Соколов Я. А. Парнес
W истоков
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ТЕРИОЛОГИИ
НАУКА*
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ИНСТИТУТ ЭВОЛЮЦИОННОЙ МОРФОЛОГИИ и экологии животных
им. А.Н.СЕВЕРЦОВА
В. Е. Соколов Я.А.Парнес
У истоков
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ТЕРИОЛОГИИ
МОСКВА "НАУКА”
1993
УДК 599(093)
У истоков отечественной териологии / В.Е. Соколов, Я.А. Парнес. - М.: Наука,
1993. - 412 с. - ISBN 5-02-005681-2
Это первая монография по истории отечественной териологии. Освещается развитие териологи-
ческих знаний со времен Киевской Руси до конца XVIII в. Основное внимание обращено на терио-
логические работы первых отечественных натуралистов-путешественников: Д.Г. Мессершмидта,
участников Второй Камчатской экспедиции (И.Г. Гмелина, С.П.Крашенинникова, Г.В. Стеллера),
Академической экспедиции 1768—1774 гг. (П.С. Далласа, И.И. Лепехина, С.Г. Гмелина, И.А. Гиль-
денштедта). Даны биографические очерки этих исследователей и приведены переводы на русский
язык некоторых из их териологических сочинений. Книга может служить антологией отечествен-
ной териологии XVIII в. В монографии много редких гравюр XVII—XVIII вв.
Beginning of Russian Theriology I V.E. Sokolov, Ya.A. Pames. - Moscow: ’’Nauka” Publi-
shers, 1993.
This is the first monograph on the history of Russian theriology. The development of theriological
knowlege since the times of the Kiev Russia to the end of the XVIII century is considered. The focus is on
the theriological studies of Russian naturalist travellers: D.G. Messerschmidt, members of the 2nd Kam-
chatka Expedition (I.G. Gmelin, S.P. Krashenninikov, G.V. Steller), members of the Academic expedi-
tion of 1768—1774 (P.S. Pallas, 1.1. Lepekhin, S.G. Gmelin, I.A. Giildenschtedt). The biographies of these
investigators are presented and translations into Russian of some of their theriological works supplemen-
ted. The book can serve as an anthology of Russian theriology of the XVIIIth century. The monograph
contains many rare woodcuts of the XVIIth—XVIIIth centuries.
Рецензенты:
доктор биологических наук Л.Г. Динесман,
доктор биологических наук Д.С. Павлов
.1907000000-257
С—Г——— 532-92 - I полугодие
042(02)-93
© В.Е. Соколов, Я.А. Парнес, 1993
© Российская академия наук, 1993
ISBN 5-02-005681-2
ПРЕДИСЛОВИЕ
Потребность в монографии по истории отечественной териологии назрела давно.
История териологических исследований в России богата фактами и идеями, проли-
вающими свет на становление териологии как науки, развитие общих концепций
биологии и представляющими интерес для таких актуальных проблем териологии, как
роль физико-географических факторов в формировании современных ареалов млеко-
питающих, проблемы доместикации, природопользования и др. Существенна она и
как часть истории человеческой культуры и науки. Прошлое гораздо богаче, чем
часто думают. «^Изучение прошлого, - писал в своем труде ’’Русская наука в XVIII ве-
ке” академик А.Н. Пыпин (1833-1904), - не только избавит нас от самомнения, но и
разъяснит и историю самих вопросов: мы найдем, что они старее, чем это обыкновен-
но кажется, что наше нынешнее дело не совсем наше собственное изобретение, а час-
то только продолжение и дальнейшее развитие того, что было начато раньше нас
людьми другого времени
Мысль человеческая не останавливается: на каком-то этапе подхватывается то,
что раньше не находило подтверждения, не вписывалось в существовавшие концеп-
ции. Не скована она и границами отдельных государств, являясь достоянием всего
человечества. Прогресс териологии, как и любой науки, - результат работы ученых
многих поколений и разных стран.
Отечественные натуралисты внесли огромный вклад в развитие мировой териоло-
гии. Однако териологические труды не всех натуралистов, путешествовавших по
России в XVIII в., получили должную оценку в зарубежной и отечественной литера-
туре. История отечественной териологии, несмотря на ряд публикаций, посвященных
деятельности некоторых крупных зоологов, остается малоисследованной областью,
имеющей много ’’белых” пятен.
В процессе работы авторы сочли целесообразным сосредоточить основное внима-
ние на более детальном изложении териологических работ первых отечественных
натуралистов. В данном издании предпринята попытка проследить возникновение
и развитие териологии в России в XVIII в. в биографиях ее первых исследователей.
Рассмотрен период с момента появления первых письменных источников (IX в.) до
конца XVIII в., когда отечественная териология получила мировое признание. Этот
период распадается на два: допетровское время накопления териологических зна-
ний и период возникновения териологии как науки р последней четверти XVIII в. Ко-
нец этого этапа совпадает со смертью П.С. Палласа.
Наибольшее значение для понимания становления териологии в России имеют
работы ее первых натуралистов. Однако их зоологические труды, написанные на
латинском языке, практически неизвестны современным териологам, имеющим о
них весьма смутное представление. Стремясь восполнить пробелы современных
зоологов в знании прошлого, авторы посчитали уместным сопроводить биографичес-
кие очерки отечественных натуралистов отрывками из их териологических работ,
впервые переведенных на русский язык с-латинского. Особое место среди них зани-
мают труд Палласа (Pallas, 1778), посвященный грызунам России, и его сочинение
з
’’Зоография Россо-Азиатика” (1811), в котором суммированы исследования фауны
России в XVIII в. Выдержки из этих трудов представлены особенно подробно. Таким
образом, издание может служить и антологией отечественной териологии XVIII в.
В наше неустойчивое время представляется особенно важным обратить взор на
историю России во всех ее аспектах, в том числе на становление отечественной
науки. Это был нелегкий путь, отнюдь не усыпанный розами, вымощенный трудом вы-
дающихся ученых, их менее известных сподвижников и вовсе позабытых тружени-
ков. Отечественная наука стала гордостью человеческого общества. История ее ста-
новления учит нас необходимости с величайшим бережением относиться к ней, ле-
леять ее. Хорошо, когда это понимают сильные мира сего.
Большой вклад в работу над рукописью настоящей книги внесла безвременно
ушедшая Н.Г. Рубайлова, которая подготовила интересный исторический материал
по некоторым вопросам зоологии, особенно допетровского периода. Маршрутные
карты путешествий составлены художником В.М. Гудковым. Фотографии выполнены
А.Т. Кравченко. За ряд ценных замечаний по рукописи авторы выражают благодар-
ность доктору биологических наук Л.Г. Динесману.
ВВЕДЕНИЕ
Накопление сведений о млекопитающих происходило уже в первобытном общест-
ве. Териология как часть зоологии - одна из древнейших и интереснейших отраслей
биологии, как и большинство других естественнонаучных дисциплин, уходит своими
корнями к раннему периоду истории человечества. Ее формирование и развитие
неразрывно связаны с общей историей становления человеческого общества, и преж-
де всего с его практическими нуждами.
С далекой древности человек соприкасался с окружавшими его животными,
находясь от них всегда в огромной зависимости. Это неизбежно приводило к накоп-
лению знаний о них, являясь постоянным стимулом их изучения. Существенное
значение в развитии зоологических знаний имело также то, что природа человека
как представителя животного мира всегда вызывала к себе живейший интерес. Уже
на ранних ступенях развития человечества охота и животноводство, с одной сторо-
ны, и медицина - с другой стимулировали зоологические знания. Практические
интересы способствовали непрерывному накоплению знаний о животных, и в первую
очередь о млекопитающих. Медицина шаг за шагом открывала морфологические и
физиологические особенности человеческого организма, постепенно выявляя необ-
ходимость сравнительного изучения животных и человека.
Уже в эпоху верхнего палеолита люди хорошо знали многих зверей, на которых
они охотились, что подтверждают наскальные и пещерные рисунки эпохи кроманьон-
ского человека. Сохранились изображения мамонта, шерстистого носорога, перво-
бытного и мускусного быков, бизона, пещерного медведя, пещерного льва, росомахи,
гиены, волка, лисицы, северного оленя, лося, сайги, косули, зайца и других зверей
(рис. 1). На древних ассирийских рисунках и памятниках железного века удивитель-
но точно изображены лошади и мулы.
Изображение зверей, так называемый ’’звериный стиль”, возникший в период,
который нехдонес до нас следов письменности, наглядно свидетельствует о живом
интересе людей к окружающему их миру животных. Археологические раскопки
показывают, что этот стиль как самый яркий в искусстве древности получил необы-
чайное распространение на протяжении огромного по времени периода - с VII в.до н.э.
до I—III вв. н.э. (рис. 2). Наиболее ценным для изучения считается скифо-сибирский
стиль, широко встречающийся у народов Евразии. Тысячелетия изображения млеко-
питающих и птиц были главным мотивом художественного творчества и даже божест-
венное могущество изображалось как власть над зверями. Недавние находки позво-
лили уточнить самые ранние мотивы этого вида искусства для всей территории Евра-
зии: <ЗСЭто изображения оленя, хищника кошачьей породы, головы и копыта коня.
Для собственно скифского (причерноморского) искусства в древнейший период
характерны такие местные мотивы, как головы барана и грифо-барана. Для казахста-
но-сибирского искусства типичны вепрь и горный козел с закинутыми рогами. Из
искусства северной лесной зоны в скифское искусство влились образы лося, медве-
дя и волчьего хищника» (Ильинская, 1976. С. 26) (рис. 3).
Важнейшей вехой в развитии зоологических знаний явилось одомашнивание жи-
вотных, и прежде всего млекопитающих.
5
Рис, 1. Мамонт и лошадь. Наскальные изображения. Поздний палеолит
Рис. 2. Лев. Ажурный рельеф саркофага из Керчи. Дерево со следами окраски.
Вторая половина II в. н.э.
Одним из первых животных, которое было приручено человеком, по-видимому,
была собака. Уже в период неолита (VI—III тысячелетия до н.э.) были одомашнены
коза, овца, свинья, крупный рогатый скот, осел, лошадь, верблюд.
Начавшись в глубокой древности, одомашнивание широко распространяется в
эпоху ранних рабовладельческих цивилизаций (Ш-П тысячелетия до н.э.) Месо-
потамии (Ур, Урук, Лагаш, Вавилония, Ассирия) и Древнего Египта (Бикерман, 1976.
С. 176-188).
История разведения домашних животных свидетельствует о неуклонном накопле-
нии знаний о размножении животных, их повадках, поведении в неволе.
Уже на самых ранних этапах одомашнивания животных человек не удовлетво-
рялся простым разведением овец, крупного рогатого скота, свиней, лошадей, ослов
и некоторых видов птиц, но пытался получить новые формы животных, скрещивая
Рис. 3. Медведь. Фигурка из Самуського мо-
гильника. Песчаник VI-V тыс. до н.э.
животных как различных видов, так и близ-
кородственных. Скрещиванием лошади и
осла в Месопотамии были выведены мулы
(Келлер, 1859), которые, как правило, бес-
плодны и в естественных условиях не
встречаются. В той же Месопотамии в IV-III
тысячелетиях до н.э. были выведены круп-
ные породы ослов, рабочих лошадей, овец и
крупного рогатого скота.
Древние цивилизации Индии, Китая и
Египта уже имели одомашненный крупный
рогатый скот, собак, овец, свиней, гусей и
уток. В Индии в глубокой древности был
приручен слон. В Китае с древнейших вре-
мен использовали неизвестных в Европе
животных - яков, разводили особые поро-
ды черных свиней. В Египте были одомаш-
нены одногорбый верблюд, несколько ви-
дов антилоп.
Человечество применяло для своих нужд
главным образом млекопитающих, и успе-
хи одомашнивания преимущественно бы-
ли связаны с млекопитающими. Изучение
их в наибольшей степени способствовало
накоплению зоологических знаний.
Хотя представления о животных часто
облекались в религиозную форму, а медицина оставалась в руках жрецов, все же знания о
животных постепенно обособлялись от религии и магии и приобретали характер натурфи-
лософских систем.
Из сохранившихся клинописных табличек известно, что народы Месопотамии
в IV тысячелетии до н.э. уже имели достаточно ясное представление о многообразии
животного мира. Они подразделяли его на четвероногих, птиц, змей, ’’рыб” (водных
животных) и членистоногих. Среди четвероногих различали плотоядных (собаки,
гиены, львы) и травоядных (ослы, лошади, верблюды). Накопленные здесь знания
оказали впоследствии влияние на науку античной Греции и Рима.
В Древней Греции уровень зоологических знаний был примерно такой же, как на
Востоке. Основой их служила медицина и хирургия, а также сельское хозяйство,
всегда игравшее важную роль в экономике государства. В Греции разведение домаш-
них животных было тесно связано с земледелием. Навоз, получаемый при стойловом
содержании скота, служил ценным удобрением для полей и садов. В хозяйстве гре-
ческих земледельцев водились волы, мулы, ослы, бараны, козы, свиньи, собаки.
Разведение лошади не получило широкого распространения, так как этому не спо-
собствовал горный ландшафт страны и каменистая почва.
Греки уделяли много времени охоте. На чернофигурных аттических вазах сохра-
нились изображения охотничьих сцен. На вазе IV в. до н.э. изображена травля соба-
кой зайца, в которого один из охотников собирается бросить камень. Вазовая живо-
пись свидетельствует о различных способах охоты на зверей, употреблявшихся гре-
ками: животных ловили с помощью капканов и сетей, травили собаками, убивали
метательным копьем или дротиком (Кругликова, 1973. С. 33).
7
В Древнем Риме использовались в основном те же домашние животные, что и в
Греции. Отличие состояло в том, что римляне в своих пригородных поместьях раз-
водили сонь, которых употребляли для еды. Зверьков содержали в специальных
оградах, выложенных изнутри гладкими камнями. Для соней вырывали пещерки,
в которых они плодились. Зверьков откармливами желудями, грецкими орехами
и каштанами.
Охота была важным подспорьем в хозяйстве римлян. Наряду с ней римляне
устраивали дававшие им значительный доход в пригородных поместьях парки, как
они называли, ’’заячьи питомники”. В этих питомниках, представлявших огорожен-
ное пространство возле усадьбы, содержались дикие звери (дикие кабаны, овцы,
козы, олени, зайцы), на которых охотились.
Много сведений о домашних животных античной цивилизации содержится в лите-
ратурных памятниках, в частности в ’’Илиаде” и ’’Одиссее” Гомера. В сочинении
’Теоргики” Вергилия есть немало строк, касающихся охоты, животноводства.
"Псами придется не раз преследовать робких онагров,
Зайцев псами травить, на коз охотиться диких.
Громким лаем вспугнув кабанов, из логов лесистых
Их выгонять; на горах с собаками будешь нередко
Криком своим заводить матерого в сети оленя".
(Вергилий, 1971. С. 102)
Римский поэт-философ Тит Лукреций Кар (99-55 до н.э.) в поэме ”0 природе ве-
щей” уже в гораздо более широком аспекте обсуждал многообразие живых организ-
мов, их взаимоотношения между собой, целесообразность их строения, особенности
происхождения и т.д. Эти правильные мысли основывались, несомненно, на опреде-
ленных конкретных знаниях об особенностях животных и их размножении, однако
в целом высказывания Лукреция о животных носили мировоззренческий, философ-
ский характер.
Аристотель - основоположник зоологии. Противоположностью абстрактным рас-
суждениям явились зоологические труды гениального ученого античности Аристо-
теля из Стагира (384-322 до н.э.), которые заложили основы зоологии как науки.
Из его зоологических работ наиболее значимы ’’История животных” и ”0 частях жи-
вотных”, в которых суммируются все имевшиеся в то время сведения о строении
животных и их многообразии.
Главным источником информации для Аристотеля были рыбаки, фермеры, живот-
новоды и охотники, в меньшей степени - путешественники и торговцы. Он почти
не использовал сведений, которые можно было почерпнуть у Геродота, Эмпедокла,
Демокрита. В его трудах описания внутренних органов животных основываются на
собственных исследованиях и вскрытиях.
В труде ”0 частях животных” автор представил богатейший материал по сравни-
тельной анатомии различных животных. Много занимаясь анатомированием, Аристо-
тель хорошо знал строение скелета и внутренних органов разных животных, особенно
млекопитающих, или, как он называл их, живородящих четвероногих с кровью. Это
позволило ему сделать ряд замечательных выводов в области сравнительной анато-
мии и сравнительной физиологии, заложить основы сравнительной анатомии. Разли-
чия желудков у разных групп млекопитающих ученый связывал со строением их
зубов и типом питания.
Аристотель отметил удивительную приспособленность всех животных к условиям
их существования, поразительное соответствие особенностей строения их частей
выполняемым функциям. Он подчеркивал существенное значение для образа жизни
млекопитающих строения их конечностей, а также показал корреляцию внешних
признаков животного со строением внутренних органов.
8
Аристотель создал учение об аналогичных и гомологичных частях тела, предвос-
хитившее знаменитую ’’теорию аналогов” Жоффруа Сент-Илера, развитую 2000 лет
спустя. Его с полным правом можно считать зачинателем сравнительной анатомии.
Создал он и первую классификацию животных. В ’’Истории животных” Аристотель
изложил свои взгляды на животный мир, рассмотрев 510 видов животных, в том
числе 75 млекопитающих, 160 птиц. В труде представлена его система классифика-
ции животных, хотя он и не ставил специально такой цели. Всех животных Аристо-
тель подразделяет на две основные категории: животные с кровью и животные без
крови. Аристотелева система делит всех животных с кровью на пять групп: 1) живо-
родящие четвероногие, покрытые волосами (млекопитающие); 2) яйцеродящие чет-
вероногие, иногда безногие, имеющие щитки на коже (пресмыкающиеся и земновод-
ные); 3) птицы - яйцеродящие, имеющие перья и способные летать; 4) киты - живоро-
дящие, безногие, живущие в воде и дышащие легкими; 5) рыбы - яйцеродящие
(иногда живородящие), имеющие чешую или гладкую кожу, живущие в воде и дыша-
щие жабрами.
Ученый впервые отметил признаки, свойственные млекопитающим, - легкие,
горячая кровь, живорождение, впервые обратил внимание на особенности человека,
отличающие его от животных, - прямохождение, речь, разум, размеры головного
мозга. Он включил человека в свою систему, поместив его на самом верху и дав
после слов ’’человек” и ’’животные” соответственно уточнение в скобках: ’’разумная
душа” и ’’чувствующая душа”.
В аристотелевой системе водные животные выделены в отдельную группу от
наземных млекопитающих. Огромной заслугой ученого было то, что он не отнес
китов к рыбам (как это обычно делали последующие исследователи). Он хорошо
знал особенности китов и сближал их с наземными животными. В книге ”0 частях
животных” он писал: ’’Дышат все наземные и некоторые из водных, например кит-
фалена и все киты, выпускающие воду. Многие ведь животные имеют двойственную
природу, и как из животных наземных и принимающих в себя воздух некоторые,
вследствие определенного смешения их тела, проводят большую часть времени в
воде, так и животные водные настолько причастные наземной природе, что назначе-
нием их жизни является дыхание. Дыхательным аппаратом является легкое” (С. 120).
Аристотель описал образ жизни многих млекопитающих - слона, бурого медведя,
лисицы, выдры, бобра, двугорбого верблюда, тюленей, дельфинов и др.
Он сообщал, однако (по рассказам путешественников), и о многих фантастических
животных, в существование которых верили в то время. Мифы о них, заимствован-
ные у Аристотеля, получили широкое распространение в средние века, например
о единорогах.
Аристотель внес огромный вклад в различные разделы зоологии. Его зоологичес-
кие труды в течение многих веков значительно превосходили работы последующих
натуралистов. В этом и кроется причина того парадоксального в истории науки явле-
ния, что около 2000 лет они составляли основу сведений о животном мире, были
’’канонизированы”, воспринимались как абсолютно верные, неоспоримые.
НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА РУСИ
В ДОПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД
(IX-XVII вв.)
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ В ДРЕВНЕРУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
В древности многие народы и племена, занимавшиеся охотой и скотоводством на
территории нашей страны, обожествляли птиц, зверей и т.п. Некоторые племена счи-
тали своими основателями какого-либо зверя и носили имена своих тотемов (тотем
тура, тотем пардуса, тотем волка, тотем змея и т.д.). Тотемизм, по мнению многих ис-
следователей, сохранялся еще в XI—XII вв., в частности среди половецких племен.
Так, по мнению С.А. Плетневой, на Северном Донце, в окрестностях города Змиева,
в XII в. жили половцы, а сам Змиев был половецким становищем. С.А. Плетнева
(1978) в названии Змиева видит связь с половцами. Она пишет: ’’Змея была, видимо,
одним из тотемных зверей половцев кипчаков” (С. 282). Эту же точку зрения разде-
ляет Г.В. Сумаруков, который в своей интересной книге <СКто есть кто в ’’Слове о
полку Игореве”» пришел к выводу, что звери и птицы, приводимые в этой знамени-
той поэме, представляли собой не реальных животных, а половецкие тотемы (Сума-
руков, 1983. С. 141). С этим мнением согласуются изображения в древнерусской лето-
писи русской дружины, слева и справа от которой представлены звери. Видимо, лето-
писец хотел показать путь дружины (от одного тотема к другому) (рис. 4).
Славянские племена Древней Руси наряду с земледелием также занимались охо-
той, составлявшей важную часть их деятельности. Не вызывает сомнений, что они хо-
рошо знали окружавших их зверей, их поведение. Эти знания они использовали в
охоте на них. Приобретенный в течение многих веков опыт охоты на зверей переда-
вался устно от отца к сыну.
Сведения о млекопитающих встречаются в литературных памятниках Киевской
Руси. В древних русских летописях и актах охота киевских князей на диких зверей и
птиц называлась ’’ловами”. Слово ’’охота” стало употребляться значительно позд-
нее.
В первой древнерусской летописи - ’’Повести временных лет”, возникшей около
1113 г. и составленной монахом Киево-Печерского монастыря Нестором, подробно
описываются история и быт Киевского княжества. Летопись начинается сказанием о
княжеских ловах: ”И были три брата: один по имени Кий, другой - Щек и третий -
Хорив, а сестра их была Лыбедь. Сидел Кий на горе, где ныне подъем Боричев, а Щек
сидел на горе, которая ныне называется Щековица, а Хорив на третьей горе, которая
прозвалась по нему Хоривицей. И построили городок во имя старшего своего брата, и
назвали его Киев. Был кругом города лес и бор велик, и ловили там зверей. И были
те мужи мудры и смыслены...”
Возвышенности и холмы, на которых возник древний Киев, были покрыты густы-
ми лесами. С лесистых холмов и гор в овраги и лощины сбегало множество ручьев,
впадавших, в болота и озера, окруженные зарослями камыша и кустарников. В та-
ких нетронутых местах, где водилось множество зверей и птиц, были первые места
ловов киевских князей; эти места назывались в рукописях ’’перевесищами”. Одно из
самых древйих ’’перевесищ” находилось на месте нынешней улицы Крещатик, где
когда-то протекала речка; другое известное ’’перевесище вне града” существовало во
ю
данная
вЪ
ОДИННАТЦАТОМЪВ’ЬК'Ь
огпЪ
ВЕЛИКИХЪ КНЯЗЕЙ
ЯРОСЛЛВЛ Владимирича
и сына его
ИЗЯСЛЛВЛ ярославича.
ВЪ ЫВКТШМ#”*
лрм Имперской АкздемЫ МдукЪ W ГМ>
и з л а н i е
АВГУСТА Ш ЛИДЕРА
Профессора Ясто/»- «р» Императорской Академ/И
НлукЬ, и Члена КоролевскмхЪ АклдемШ Нау кВ
йЪ тп и С'тсмглм**'#’*
Рис, 4. Титульный лист "Правда русская"
времена княгини Ольги (855 г.). ’’Перевесищем” называлась местность, в которой про-
изводились звериные и птичьи ловы: сетьми, псами, соколами, ястребами. Сети, или
верви, развешивали (перевесивали) на вереях, т.е. столбах, и, вероятно, перевешива-
ли в ширину всего удолья, от одной возвышенности до другой, дабы совершенно
прекратить свободный путь зверям, обыкновенно бежавшим по дну удолья, по обыч-
ной тропе, чтобы все они попались в сети их и удобно были пойманы (Там же. Приме-
чания). Такого рода ’’перевесища” устраивались и по Днепру и по Десне. В древнем
Киеве также было известно место Козье болото, где действительно было болото и
водились косули.
11
В ценнейшем историческом документе Киевской Руси ’’Поучение князя Владими-
ра Мономаха своим детям” среди перечня всего того, чем приходилось заниматься в
те времена русскому князю и его дружине, указывается охота и связанйые с ней
опасности. Владимир Мономах писал: ’’...Любя охоту, мы часто ловили зверей с
вашим дедом. Своими руками в густых лесах вязал я диких коней вдруг по несколь-
ку. Два раза буйвол (тур) метал меня на рогах, олень бодал, лось топтал ногами;
вепрь сорвал меч с бедры моей, медведь прокусил седло; лютый зверь однажды бро-
сился и низвергнул коня подо мною. Сколько раз я падал с лошади! Дважды разбил
себе голову, повреждал руки и ноги, не блюдя жизни в юности и не щадя головы сво-
ей. Но Господь хранил меня. И вы, дети мои, не бойтесь смерти, ни битвы, ни зверей
свирепых...” (Карамзин, 1900. С. 18-20).
Владимир Мономах перечислил в своем ’’Поучении” лишь крупных и опасных жи-
вотных: медведя, тура, вепря, оленя, лося. Волк не представлялся ему опасным, и
поэтому он его даже не упомянул. Зато он написал о другом, самом страшном хищни-
ке - ’’лютом звере”, которого следовало более всего остерегаться во время охоты. В
подлиннике об этом сказано так: ’’Лютый зверь скочил ко мне на бедры и конь со
мною поверже”. Значение слов ’’лютый зверь” до недавнего времени оставалось не-
выясненным. Некоторые авторы полагали, что это был волк или барс. Однако вес
этих животных не позволил бы им опрокинуть лошадь вместе со всадником. По этой
же причине этим зверем не могли быть также рысь или гепард. Какого же дикого
зверя называли на Древней Руси ’’лютым зверем”? В Древней Руси упоминались два
неизвестные нам названия млекопитающих - ’’пардус” и ’’лютый зверь”. Установле-
но, что пардусом называли гепарда, а ’’лютым зверем” - леопарда или льва. Пардусы,
или гепарды, представители семейства кошачьих, в диком состоянии на Руси не води-
лись. Это обитатели более жарких стран, откуда их привозили в Киевскую Русь в
качестве охотничьих зверей. На охоту они выводились или в одиночку, или парами,
или ’’гнездом”, т.е. выводком, а не стаей. Как охотничьи редкие звери пардусы цени-
лись в Древней Руси очень высоко. Одна из летописей повествует о том, что отец Иго-
ря Святославовича в 1159 г. подарил Юрию Долгорукому двух пардусов. Поскольку
пардусы принадлежали обычно богатым людям или князьям, к животным были при-
ставлены специальные люди - ’’пардусники”, которые за животными ухаживали.
Владимир Мономах охотился и в южных степях, где в его время обитало много
диких лошадей - тарпанов. Именно сюда, в места, где было множество куланов, ло-
шадей, оленей и сайгаков, могли проникнуть с юга отдельные львы, встречавшиеся в
XII в. в значительном числе на Кавказе.
<^На фреске южной башни Софийского музея-заповедника, - пишет Н. Шарле-
мань, - есть изображение сцены нападения крупного хищника на едущего на коне
человека. Мы рассматриваем эту фреску как иллюстрацию к упомянутому месту из
’’Поучения” Владимира Мономаха. Общий облик хищника и его желтая окраска не
оставляют сомнений в том, что здесь изображен лев, а не волк» (Шарлемань, 1960.
С. 295). Очевидно, это был единственный случай, ставший нам известным, встречи
всадника со львом на земле Древней Руси.
Природа и животный мир Киевской Руси нашли отражение в легендах, произведе-
ниях древнерусского искусства. Бесценный архитектурный памятник Киевской
Руси - Софийский собор - содержит созданные во времена князей Владимира и Яро-
слава фрески, рассказывающие о ловах русских князей. Подобные картины ловов ди-
ких зверей великим князем Владимиром, его сыновьями и ловчей дружиной, пред-
ставленные когда-то на этих фресках, к сожалению, сохранились не все, в связи с чем
некоторые из зверей остались неразгаданными. На фресках изображались и фантасти-
ческие существа, взятые из греческой мифологии (крылатое четвероногое животное,
змея с фантастической Головой, человек с птичьей головой, который прокалывает
другого человека копьем, и др.). На сводах собора изображены также животные-химе-
12
ры - грифоны и другие фантастические животные. Фрески с изображением млекопи-
тающих сохранились на стенах и сводах лестниц, ведущих на верхний этаж собора.
Первое изображение рисует охоту на белку, а другое - на лютого зверя. Белка сидит
на ветке дерева с причудливыми листьями и смотрит вниз на собаку, которая стара-
ется схватить зверька. Один из охотников намеревается пронзить белку копьем, дру-
гой натягивает лук. За другим таким же сказочным деревом ’’лютый зверь” бросает-
ся на всадника, который пронзает его копьем. Всадник держит в другой руке щит. На-
против этих картин находится фреска, показывающая лов вепря. Ловец поражает
свирепое животное, повернувшее к нему свое длинное рыло с клыками и хорошо
видными ноздрями. Вепря за заднюю ногу хватают собаки. Над этой фреской пред-
ставлено сражение с тигром и леопардом, имеющее скорее аллегорическое значение.
Другие фрески изображают возвращение княжеской ловчей дружины. Один из лов-
цов ведет трех коней, видимо, охота была на диких лошадей. На другой фреске
представлены пляшущие музыканты (они всегда имелись в великокняжеской ловчей
дружине), развлекающие князя, возможно, после удачной охоты.
’’ФИЗИОЛОГ”
С появлением письменности на Руси получил распространение ’’Физиолог” - пере-
водное произведение теологического характера. В нем отмечались особенности
многих животных для иллюстрации положений христианского вероучения. По рас-
пространенности это произведение стояло на втором месте после Библии. ’’Физиолог”
был создан в Египте, в Александрии, в начале II в н.э. Наиболее древним текстом счи-
тается греческий, с которого в последующие века были сделаны переводы на эфиоп-
ский, армянский (IV в.), сирийский, латинский (V в.), славянский и другие языки.
Наиболее распространенным в Европе был латинский текст, на Востоке - сирийский.
Древний ’’Физиолог” и его первые переводы состояли из 49 глав, в которых были
описаны главным образом млекопитающие, а также некоторые птицы, одно дерево и
два минерала. Каждая из кратких глав ’’Физиолога” посвящена обычно какому-либо
животному. В ней кратко говорится об его отличительных свойствах. Затем разъяс-
няется их символическое толкование. Текст различных переводов ’’Физиолога” чаще
всего открывается главой о льве (’’начнем говорить о льве, который царь всех зверей
и всех животных”), в которой отмечаются его три главные особенности, или ’’нрава”:
’’Первый нрав: когда он идет или гуляет, запах охотников попадает на него, и он
хвостом заметает след, чтобы охотники не выследили его, не нашли в его стоянке и
не поймали” (Марр, 1904. С. 52). Это как раз пример заимствования сведений о живот-
ных у Аристотеля, который, в частности, отмечал, что ’’львы при беге часто держат
хвост повисшим, подобно собакам. Второй нрав льва: когда спит, глаза у него бодр-
ствуют, ибо они у него смотрят вверх, как Он сказал в Песни песней: ”Я сплю, а душа
Моя бодрствует...” Третий нрав льва: когда львица рождает щенка, то она рождает
мертвого, и она садится и оберегает детеныша, пока не придет отец на третий день,
дунет в лоб и воскресит щенка...” Далее, как везде в ’’Физиологе”, идет истолкова-
ние свойств животных в свете Священного Писания, проводится аналогия с вознесе-
нием Христа через три дня после распятия: <<Таким образом и Бог Вседержитель, Отец
всех, воскресил из мертвых на третий день Сына Своего, Первенца всех созданий,
Господа Нашего Иисуса Христа. Итак, хорошо, следовательно, сказал Иаков: ’’Щенок
льва, кто же разбудит его?” Хорошо сказал нравописатель о льве и щенке льва”^>
(С. 54). Не все тексты ’’Физиолога” начинаются с рассказа о льве. Так, армянский
’’Физиолог”, с которого было сделано несколько русских переводов, начинается с
главы о ящерице, а общее число глав составляет лишь 34 вместо 49 у первоначальных
вариантов: главы: I. О солнечной ящерице; II. О льве; III. Об антилопе; IV. О кремне;
V. О пиле; VI. О харадре; VII. О птице-бабе; VIII. О сыче; IX. Об орле; X. О фениксе;
XI. Об удоде; XII. Об онагре; XIII. Об ехидне; XIV. О змее; XV. О муравье; XVI. О сире-
13
Я»***Р™ мгмд^^«гвгтааГАдми ,
™ ^г~г J
rtWpMA<r«<M Krt^ЪМ( ГПК САДД« Fp«®cstff< •нли?я*
Рис, 5. Фрагмент рукописи "Правда русская". Изображены тотемные звери
и дружина Ярослава
нах и онокентаврах; XVII. Об еже; XVIII. О лисе; XIX. О пантере; XX. О щиточерепахе;
XXI. О куропатке; XXII. О коршуне; XXIII. О мравольве; XXIV. О ласке; XXV. Об
единороге; XXVI. О бобре; XXVII. О гиене; XVIII. О выдре; XXIX. Об ихневмоне; XXX.
О лереве перидексии; XXXI. О вороне; XXXII. О горлице; XXXIII. О ласточке; XXXIV.
Об олене.
Главы ’’Физиолога” о сиренах, драконах и других чудовищах отражали распростра-
ненные в средние века представления о помесях полуживотных-полулюдей, проис-
шедших от человека и различных животных: коров, лошадей, коз, свиней, собак
(рис. 5). Представления о кентаврах, сиренах и других чудищах жили многие сто-
летия, несмотря на то что еще Лукреций в своей бессмертной поэме ”0 природе ве-
щей” (I в. до н.э.) зло высмеял слухи о существовании таких чудищ, как кентавры,
якобы получающихся от человека и лошади (Лукреций, 1946. Т. 1. С. 331).
В ’’Физиологе” отмечались только некоторые наиболее поразительные свойства
животного. Так, в главе о лисе сообщалось только об ее хитрости: ”0 лисе сказал
нравописатель: это животное совершенно коварно и вероломно. Когда она голодна и
не находит дичи, чтобы поесть, идет, находит глинистую лужу, если где находится
мякина, и поваляется в грязи или мякине и ложится на спину, не глядит вовсе
вверх, вбирает в себя дыхание, и надувается совершенно. И птицы думают, что она
умерла, опускаются, чтобы есть ее. И таким обманом она похищает птиц, выпотраши-
вает у них кишки и злейшею смертью истребляет их. Таким же образом и дьявол -
совершенно мал, но козни его - превелики. И кто хочет вкусить плоти его, умирает”
(Марр, 1904. С. 90). В ’’Физиологе” отдельные факты о животных, издавна известные
многим народам: о быстром олене и силе рогов зубра, об остром зрении орла, - бук-
вально тонут среди массы фантастических басен и нелепейших вымыслов. Так, в
главе о ките, или ’’щиточерепахе”, рассказывается о том, что моряки принимают кита
14
за остров, привязывают к нему корабли, вбивают в него колья и разводят костер;
после этого кит идет ко дну и уносит в бездну множество кораблей. На протяжении
столетий ’’Физиолог” изменялся, но эти изменения заключались в основном в введе-
нии новых глав о животных или, наоборот, исключении некоторых глав, сами же
главы не менялись: они сохраняли содержание и стиль, близкий к древнегреческим и
латинским вариантам. Для ’’Физиолога” характерно наделение некоторых реально
существующих животных вымышленными свойствами. Так, хорек - нечистое живот-
ное - зачинает якобы ртом и рождает ушами; бобр, спасаясь от охотника, вырывает у
себя семенники и бросает их своему преследователю; олени преследуют змей и т.п.
Из приведенного следует, что ’’Физиолог” вряд ли мог служить источником, кото-
рый мог дать представление, сколько-нибудь приближенное к действительности, о
каком-либо млекопитающем. Целью этого произведения было поразить воображение
читателя сверхъестественными свойствами животных и тем укрепить в нем веру во
всемогущего творца.
Хотя некоторые авторы и рассматривали ’’Физиолог” как один из источников зна-
ний о млекопитающих в средние века, нам представляется более верным мнение
В.В. Лункевича, что ’’науки в нем искать не приходится: от Аристотеля не осталось и
следа, даже Плиний искажен максимально” (Лункевич, 1960. Т. 1. С. 150).
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПУТЕШЕСТВЕННИКИ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ
МОСКОВИИ И СИБИРИ
Важные сведения о животном мире Восточной Европы и Великой Татарии (так
называлась Сибирь в XV-XVII вв.) доставили в Западную Европу два венецианских
купца Барбаро и Контарини, написавших сочинения о Московии и соседствующих с
ней странах.
Иосафат Барбаро родился в 1413 г. в семье знатного венецианца. Это давало ему
право тянуть жребий. Если бы ему достался золотой шар, то он вошел бы в Совет
Венецианской республики, состоявший из 30 человек. Но ему не повезло, и он занял-
ся торговлей в отдаленной венецианской колонии Тане (ныне район г. Азова), где тор-
говал рабами, занимался рыбными промыслами и т.п. В Тане Барбаро провел 16 лет,
’’объездил те области как по морю, так и по суше, старательно и с любопытством”,
как отмечал позднее. Он прекрасно владел татарским языком, что позволило ему
хорошо узнать нравы и обычаи кочевников. В 1450 г. он вернулся в Венецию, где
занимал важные государственные должности: был послом Венеции в Далмации, Алба-
нии, Персии, а с 1469 г. - проведитором, т.е. командующим вооруженными силами
Венеции, успешно руководил защитой страны от нападений турок. Барбаро был дове-
ренным лицом Совета, через его руки проходили все дела для рассмотрения их Сена-
том, был советником дожа. Свой труд о путешествии в Тану и Персию Барбаро на-
писал в 1488-1489 гг. Он был напечатан в 1543 г. под названием ’’Здесь начинается
рассказ о вещах, виденных и слышанных мною, Иосафатом Барбаро, гражданином
Венеции, во время двух моих путешествий - одного в Тану и другого в Персию”
(Барбаро, 1971).
В своем сочинении Барбаро подробно описал события, связанные с приближением
к Тане орд хана Кичик-Мехмера, приводя сведения о числе кочевников, об их скоте
и способах охоты. На протяжении нескольких дней, ’’уставая смотреть”, Барбаро,
стоя на стенах укрепления, следил за движением несметного числа кочевников,
табунов лошадей, кибиток, скота, двигавшихся с Востока к Дону. Сначала это непре-
рывное движение орд заставило степных птиц - куропаток и дроф - сбиться массами
под стенами города, у рвов, где жители могли в изобилии ловить этих птиц. ’’Снача-
ла, - писал Барбаро, - шли табуны лошадей по шестьдесят, сто, двести и более голов
в табуне; потом появились верблюды и волы, а позади них стада мелкого скота. Это
длилось в течение шести дней, когда в продолжение целого дня - насколько мог
15
видеть глаз - со всех сторон степь была полна людьми и животными: одни проходили
мимо, другие прибывали. И это было только головные отряды; отсюда легко предста-
вить себе, насколько значительна была численность [людей и животных]1 в середине
[войска]” (С. 143). ’’Что же касается оленей и других диких животных, - сообщал Бар-
баро, - то можно представить себе, сколь много их было, но они не подходили близко
к Тане, оставаясь на равнине, где обитали татары” (С. 143).
Барбаро описал охоту одного татарского князька: ”Он привел с собой сто вилла-
нов; каждый из них держал в руках дубину. Они были размещены на расстоянии
десяти шагов один от другого и подвигались вперед, ударяя дубинами в землю и
выкрикивая какие-то слова, чтобы заставить зверей выбежать [из лесу]. Охотники
же, кто верхом, а кто пеший, с птицами и собаками, расстанавливались по местам,
где им заблагорассудится. Когда наступал подходящий момент, они бросали [в воз-
дух] птиц и спускали собак” (Там же).
Говоря о крымских татарах, он упомянул о том, что при необходимости они могут
поставлять от трех до четырех тысяч конников.
’’Мне в странствии моем случалось встречать купцов, которые вели с собою такое
множество коней, что вся степь была ими усеяна. Лошади татарские - не отличной
породы, малорослы, имеют отвислое брюхо и непривычны к овсу. Когда гонят их в
Персию, то лучшею похвалою служит им то, сколь они едят овес; ибо без того не
могут вынести всех трудностей пути. Другой род скота составляют быки рослые и
весьма красивые. Их так много, что они снабжают большую часть наших итальянских
бойн. Для сего гонят их обыкновенно через Польшу и Валахию в Трансильванию, а
потом через Германию прямо в Италию. Татары в случае нужды употребляют быков
для перевоза тяжестей. Третий род домашнего скота составляют большие двугорбые,
косматые верблюды. Их отправляют в Персию, где они платятся по 25 дукатов за шту-
ку; ибо восточные верблюды имеют только по одному горбу и весьма малорослы; зато
они и стоят не более 10 дукатов. Наконец четвертый род скота составляют бараны не-
обыкновенной величины с высокими ногами, длинною шерстью и толстым хвостом
[курдюком], весящим до 12 функтов. Жир, добываемый из них, служит приправою ко
всем татарским кушаньям и не застывает во рту” (С. 34).
Барбаро описал Волгу, отметил обилие в ней рыбы. ’’Эдиль, - сообщал он, - много-
водная и необычайно широкая река; она впадает в Бакинское [Каспийское] море,
которое находится на расстоянии около двадцати пяти миль от Астрахани. В реке,
как и в море, неисчислимое количество рыбы... вверх по течению по этой реке можно
почти доплыть до Москвы, города в России... Ежегодно люди из Москвы плывут на
своих судах в Астрахань за солью” (С. 151,157).
Барбаро привел также сведения о Москве: ”По рассказам путешественников и куп-
цов за Коломною, в расстоянии трех дней пути, течет значительная река Москва, на
которой стоит город того же имени, где имеет жительство вышеупомянутый Иоанн
Великий князь Российский. На этой реке, протекающей внутри самого города, по-
строено несколько мостов. Замок расположен на холме и со всех сторон окружен
рощами. Изобилие в хлебе и мясе так здесь велико, что говядину продают не на вес, а
по глазомеру. За один марк вы можете получить четыре фунта мяса; семьдесят ку-
риц стоят червонец, а гусь не более трех марок. Стужа здесь так сильна, что самые
даже реки замерзают от оной. Зимою привозят в Москву такое множество быков, сви-
ней и других животных, совсем уже ободранных и замороженных, что за один раз
можно купить до двухсот штук, но резать их нельзя, не разогрев прежде в печи, ибо
они тверды как камень. Зато плодов здесь никаких нет, кроме небольшого количе-
ства яблок, орехов и лесных орешков” (С. 58).
ХВ прямых скобках — текст переводчика.
16
Известия Барбаро были подтверждены сообщениями другого венецианского тор-
говца - Кантарини.
Кантарини также посетил Сарай (спустя два года после Барбаро), хорошо узнал
жизнь и обычаи татар, побывал в 1476 г. в Москве и сообщил о больших зимних мос-
ковских торгах и дешевизне мяса и дичи. Он писал: ”3а один червонец можно купить
100 кур или 40 уток. Очень много продавалось зайцев и всякого рода птицы”. ”В
Москве продаются различные меха: -соболей, волков, горностаев, белок, рысей. Их
везут с севера и северо-востока. Для покупки их в Москву съезжаются купцы из
Польши и Германии”. Кантарини отмечал, что торговля мехами велась также в Нов-
городе и в Киеве. ’’Караваны с мехами отправлялись в Кафу и по дороге подверга-
лись нападению татар”. Данные Кантарини косвенно позволяли составить некоторое
представление о животном мире Московии.
Кантарини описал также жизнь татар, их хозяйство, занятия: ’’Полудикие степные
лошади паслись у татар в огромном количестве... они ценились в Персии за их край-
нюю неприхотливость... в степях татары охотились на куропаток, дроф и гусей, по ко-
торым пускали кривые стрелы”.
Матвей Меховский (1457-1523) родился в 1457 г. в Мехове, небольшом городе Кра-
ковского воеводства. Он получил прекрасное гуманитарное, а затем медицинское
образование в Краковском университете. Проведя ряд лет в университетах Праги,
Флоренции и Падуи, он вернулся в Краков доктором медицины. Меховский написал
ряд трудов по медицине, а также два исторических трактата: ’’Хроника Польши” и ”0
двух Сарматиях”, впервые опубликованные в Кракове в 1517 г.
В начале XVI в. в Европе появилась первая печатная книга, посвященная описа-
нию стран Северо-Восточной Европы. Это был трактат Матвея Меховского ”0 двух
Сарматиях” - Татарии и Московии, получивший широкую известность. В ней сообща-
лись интересные сведения о природе и населении Московии (описаны многие реки,
города, населенные пункты, ее природа, растительный и животный мир). О Московии
в Европе не было почти ничего известно. Меховский сообщал обо всем, начав свои
описания с животного мира. Он писал: ’’Скот у них самый разнообразный, а диких
зверей - больше, чем во всем христианском мире. Рощи, пустыни и леса в этой стране
огромны, они тянутся иногда на десять, пятнадцать и даже двадцать пять миль. По
окраинам пустынь и лесов встречаются деревни и жители. Так как леса там большие,
то во множестве попадаются и ловятся крупные звери: буйволы и лесные быки, кото-
рых они на своем языке зовут турами или зубрами (zumbrones); дикие ослы и лесные
кони, олени, лани, газели, козы, кабаны, медведи, куницы, белки и другие породы
зверей” (Меховский, 1936. С. 111).
В Московии, сообщал Меховский, кроме величайших рек Днепра, Двины и Волги,
есть еще множество и других рек и озер, которые ”в высшей степени обильны рыбой.
В тех странах везде, где есть вода, есть и рыба, притом более вкусная и приятная для
еды, чем в наших областях. Рыбных садков и прудов с искусственно разводимой ры-
бой там не устраивают за ненадобностью” (С. 110).
Меховский писал, что народы Пермской и Башкирской земель одеваются в волчьи,
оленьи, медвежьи, собольи и беличьи меха, платя ими же дань русским князьям.
Югры и карелы, живущие на берегах Северного океана, ’’ловят рыбу (китов), Морских
коров и морских собак, которых они называют вор-воль (vor vol): из кожи они изго-
товляют кнуты, кошельки и колеты, жир же сохраняют и продают” (С. 118).
Меховский сообщал о моржах, водящихся у Ледовитого океана. ”На горы у океа-
на, невысокие по всему северному его побережью, из моря взбираются рыбы, называ-
емые морж (morss): держась и цепляясь зубами за гору, они таким образом облегчают
себе подъем. Местные люди ловят их и собирают клыки, довольно крупные и широ-
кие, белые и весьма тяжелые. Их продают на вес московитам, которые и сами упо-
2. В.Е. Соколов, Я.А. Парное
17
требляют их и посылают в Татарию и Турцию для выделки рукоятей мечей, сабель и
ножей” (С. 118).
Меховский описал росомаху, отметив, что это крайне прожорливое и бесполезное
животное, водится в Литве и в Московии. ’’Росомаха - величиной с собаку, похожа
головою своей на кошку, туловищем и хвостом на волка. Она черного цвета, питает-
ся п'адалью”.
Сочинение Меховского содержало уже довольно много сведений о фауне Моско-
вии. Общее число млекопитающих, включая и домашних животных, которое он
привел, составило 24.
Следующим шагом в ознакомлении с животным миром Восточной Европы было
сочинение Павла Иовия (или Джовио Паоло) (1483-1552) ’’Книга о Московитском по-
сольстве”, явившаяся результатом положительных контактов между Московией и
Италией.
В 1525 г. великий князь Василий III направил в Рим к папе Клименту VII своего
посланника Дмитрия Герасимова, известного переводчика, работавшего вместе с Мак-
симом Греком (упоминаемого в Никоновской летописи как ’’Митя Малой, толмач
латынской” / VI, 232/).
’’Полагали, - писал Иовий, - что Дмитрий, как человек опытный в делах государ-
ственных ... имеет какие-либо важные и тайные поручения, которые объявит папе на
аудиенции словесно”. Герасимов был очень хорошо принят; ему отвели прекрасное
помещение; папа допустил Герасимова до аудиенции и велел поближе познакомиться
с ним литератору Павлу Иовию. Иовий нашел, что Герасимов - человек исключитель-
но образованный и сведущий, и получил от него ценные сведения, касающиеся гео-
графии Русского государства, его рек, лесов, городов, населяющих его народов, их
промыслов. Иовий записал эти сведения и вскоре издал (в июле 1525 г. - спустя
месяц после отъезда Герасимова обратно в Россию) в виде книги под названием
’’Книга о посольстве Василия Великого, Государя Московского к папе Клименту VII”,
в которой с особой достоверностью описано положение страны, религия и обычаи на-
рода и причина посольства. Кроме того, указываются заблуждения Страбона, Птоле-
мея и других, писавших о географии, там, где они упоминают про Рифейские горы,
которые, ’’как положительно известно, нигде не существуют” (Рим, 1525). ’’Страна их
имеет весьма обширные пределы, простираясь от жертвенников Александра Велико-
го до самого края земель и до Северного океана. Поверхность ее в значительной
степени представляет равнину и изобилует пастбищами, но летом в очень многих
местах болотиста. Это происходит от того, что вся эта страна орошается великими и
частыми реками, которые переполняются, когда снега начинают... сходить... Значи-
тельную часть Московии занимает Герцинский лес... вообще от продолжительной
работы людей он стал гораздо реже, и внешность его не являет собою ... одни только
весьма густые рощи и непроходимые урочища... Но рассказывают, что он переполнен
лютыми зверьми и непрерывной полосой тянется по Московии в северо-восточном
направлении до Скифского океана... В той части, которая обращена к Пруссии,
водятся огромные и очень свирепые буйволы, имеющие вид быков, и именуемые
бизонтами (зубры), а также животные, латинское название которых Alces. По своей
наружности они похожи на оленей, но имеют мясистую морду, высокие ноги и несги-
бающуюся щетку, московиты называют их лосями... Кроме того, там есть медведи
необыкновенной величины и преогромные волки, страшные своей черной шерстью”
(Иовий П., см.: Герберштейн, 1908. С. 257).
”С востока соседями Московии являются скифы, ныне именуемые татарами, народ
кочевой и во все века славный своей воинствейностью... татары занимают весьма ши-
рокие и пустынные местности вплоть до Китая” (С. 258). ”3а Волгой казанские тата-
ры свято чтут дружбу с московитами и заявляют себя их послушниками. Выше казан-
ских татар к северу живут шибанские, могущественные множеством стад и людей. За
18
ними ногайские татары. За ногаями... к югу... живут самые знаменитые из татар,
загатайские... южные татары не доставляют ничего, кроме быстрых коней и знамени-
тых белых материй, не тканых из нитей, а свалянных из шерсти... у московитов же
татары берут взамен шерстяные рубашки и серебряную монету, довольствуясь одним
только войлоком для крепкой’защиты от невзгод сурового климата. С юга границы
московитов замыкаются теми татарами, которые занимают равнину, обращенную к
Герцинскому лесу” (С. 259).
Иовий рассказывает о торгах пушнины (приводит виды зверей), сообщает, откуда
она поступает. ”В Двину - писал Иовий, - вливается река Юг, и в самом углу их
слияния находится знаменитое торжище под названием Устюг. В Устюге жители Пер-
мии, Печоры, Югории... и другие болеб отдаленные народы привозят драгоценные
меха куниц, соболей, волков, рысей и черных и белых лисиц и обменивают на разно-
го рода товары. Наиболее превосходны собольи меха с гладкой шерстью и легкой
проседью... такие меха доставляются жителями Пермии и Печоры, но они сами полу-
чают их, передавая из рук в руки, от еще более отдаленных народов, живущих у
океана” (С. 261).
Иовий сообщает ценнейшие сведения о богатстве Русского государства пушным
зверем, сосредоточенным в основном в Сибири. ”У них, - писал Иовий, - нет ни
жилы, ни рудников золота, серебра или других благородных металлов, за исключени-
ем железа, и во всей стране нет никакого следа жемчуга или драгоценных камней.
Всего этого они просят у иноземных народов. Однако эта несправедливость приро-
ды... возмещается одной торговлей самыми благородными мехами, ценность кото-
рых... возросла до такой степени, что меха, пригодные для подбивки всего одной
одежды, продаются за тысячу золотых монет. Но было время, когда эти меха покупа-
ли за более дешевую цену... жители Пермии и Печоры обыкновенно выплачивали за
железный топор столько собольих шкурок, сколько их, связанных вместе, моско-
витские купцы могли протащить в отверстие топора, куда влагается ручка”
(С. 267).
Иовий довольно верно изображает жизнь русских людей, их быт, способы охоты на
птиц и зверей. ’’Росту вообщем москвиты среднего, но отличаются крепким и очень
тучным телосложением. Глаза у всех серые, бороды длинные, ноги короткие и живо-
ты большие. Они ездят верхом с сильно поджатыми ногами и весьма искусно пускают
стрелы даже и тогда, когда бегут, и враг у них сзади. Домашняя их жизнь представля-
ет более обилия, чем утонченности, ибо столы их везде заставлены почти всеми теми
кушаньями, которых могут пожелать люди, даже весьма преданные роскоши; притом
все съестное можно получить за недорогую цену... крупный и мелкий скот водится в
невероятном изобилии, и замерзшее мясо телок, заколотых среди зимы, не подверга-
ется гниению почти на протяжении двух месяцев. При помощи охотничьих собак и
тенет они ловят всякого рода зверей, а при помощи ястребов и соколов они преследу-
ют не только фазанов и уток, но также лебедей и журавлей” (С. 271-272).
Приведенные выдержки из сочинения Иовия показывают, что хотя на Руси не было
сочинений о природе, русские люди, торговцы, дипломаты, в частности Дмитрий Гера-
симов, сообщения которого переложил Иовий, были хорошо осведомлены о геогра-
фии своей страны, ее фауне. Отсутствие сочинений о животном мире в древнерусской
литературе объясняется ее спецификой. Древнерусская литература была посвящена
изложению лишь ’’истинных фактов”: исторических и эпических событий, деяний из
Священного Писания. Что касается описаний животных, то они не могли быть
предметом древнерусской литературы, ибо были бы сочинением. ’’Всякое же сочине-
ние, - как отметил известный знаток древнерусской литературы академик Д.С. Лиха-
чев, - со средневековой точки зрения - ложь” (Лихачев, 1969. С. 10).
Много дал для ознакомления с животным миром Руси труд С. Герберштейна
’’Записки о московитских делах”.
19
Рис. 6. Рисунок из западноевропейского "Физиолога”
Сигизмунд Герберштейн (1486-1566) родился в старинной дворянской семье, где
получил прекрасное образование, которое завершил в Венском университете. Он сра-
жался солдатом в войнах, которые вела Австрия с Венгрией и Венецией, но затем
занимался дипломатической деятельностью, в 1517 г. посетил Москву в качестве
посла императора Максимилиана. Вторично Герберштейн был в Москве в марте-но-
ябре 1526 г.
Важнейшим результатом посещений Герберштейном Москвы явился его знамени-
тый труд ’’Записки о московитских делах”, содержавший много верных сведений о
Московском государстве. Зная с детства славянский язык, Герберштейн хорошо
освоил русский, что позволило ему собрать ценный материал по географии Моско-
вии, ее истории (он широко использовал с этой целью русские летописи), быта и жиз-
ни русских людей и соседствующих с ними народов, подробно описать животный мир
страны. Немало ему в этом помогли беседы с хорошо осведомленными в делах госу-
дарства московскими дьяками, толмачами и торговыми людьми (рис. 6). Свой труд
Герберштейн закончил в 1549 г., его многократно переиздавали за границей, перево-
дили на многие европейские языки. Лучшее издание ’’Записок о московитских де-
лах” - венское на латинском языке 1549 г., подготовленное самим Герберштейном.
В России трактат Герберштейна в русском переводе издавался неоднократно. Лучшее
издание в переводе А.И. Малеина, 1908 г.
Описывая прием послов русским государем Василием, Герберштейн упоминает, в
частности, то, что у русских существует обычай: первым блюдом подавать на стол гос-
тям жареных лебедей, которых сам князь разрезал на куски. После обеда и обсужде-
ния дня русский государь приглашал послов из других стран на охоту (рис. 7).
’’Вблизи Москвы есть место [г. Волок, ныне Волоколамск], - писал Герберштейн, -
20
Рис. 7. Карта Московии по Герберштейну
Рис. 8. Вид города Москвы по Герберштейну
Рис. 9. Герберштейн во время путешествия по России
поросшее кустарником и очень удобное для зайцев; в нем, как будто в заячьем
питомнике, разводится великое множество зайцев, причем под страхом величайшего
наказания никто не дерзает их ловить, а также рубить там кустарники. Огромное
количество зайцев разводит Государь также в звериных загонах и других местах. И
всякий раз, как он пожелает насладиться такой забавой, он велит свозить зайцев из
различных местностей, ибо, чем больше он поймает зайцев, тем с большими, по его
мнению, забавой и почетом прикончит он дело” (Герберштейн, 1908. С. 111, 209).
В ’’Записках” Герберштейн привел ценные географические сведения о Москов-
ском государстве и Сибири, которые собрал путем расспросов в Москве (рис. 8). Ис-
пользовал он также ’’Русский дорожник” конца XV - первой половины XVI в., не
дошедший до нас в оригинале и сохранившийся в тех извлечениях, какие Гербер-
штейн в переводе привел в своей книге. В нем описаны пути на Печору, в Югру, к
р. Оби - областям, совершенно неизвестным в Европе. О Сибири Герберштейн сооб-
щает, ссылаясь на ’’Русский дорожник”. Он описывает путь по Северному Уралу в
Югорию, в г. Jerom, видимо, в Верхотурье, Тюмень и далее до Иртыша и Оби. ’’Оставив
Сосву справа, можно добраться до реки Оби... Через эту реку они едва могли перепра-
виться в один день, да и то при скорой езде: ширина ее до такой степени велика, что
простирается до восьмидесяти верст. И по ней также живут народ вогуличи и югричи.
Если подниматься от Обской крепости по реке Оби до устьев Иртыша, в который впа-
дает Сосва, то это составит три месяца пути. В этих местах находятся две крепости
Ером (Jerom) и Тюмень, которыми управляют властелины, князья Югорские, платя-
щие (как говорят) дань великому князю московскому. Там имеется много животных
и превеликое множество мехов” (рис. 9).
’’Эта область, - писал он, - лежит за Камою, граничит с Пермью и Вяткою... В ней
берет начало река Яик, которая впадает в Каспийское море. Говорят, что эта страна
пустынна, по причине близкого соседства с татарами, а теми частями ее, которые
обработаны, владеет татарин Шихмамай. Жители ее имеют собственный язык; их глав-
22
ный промысел - добывание беличьих мехов, которые больше и красивее, чем в дру-
гих странах”.
Сообщая сведения о народах Крайнего Севера, Герберштейн писал о лопарях, кото-
рые, как и все население Севера, платили дань московскому князю. Лопари жили на
200 миль севернее Двины. Очевидцы сообщили ему, что ’’лопари употребляют стада
оленей так же, как обычно употребляют стада быков. Они используют оленей как
вьючных животных, впрягая их в повозку, сделанную наподобие рыбачьей лодки;
человек привязывается к ней за ноги для того, чтобы не выкинуться от быстрого бега
оленей” (С. 121). ’’Московиты похваляются тем, что берут подать с этих диких лопа-
рей... они платят дань рыбой и кожами, так как другого не имеют... у лопарей нет
хлеба, также соли и ... они питаются только одной рыбой и дичью... Все они очень
искусные стрелки, так что если на охоте попадутся им какие-либо дорогие звери, то
они убивают их стрелою в мордочку, для того чтобы им досталась шкура целая и без
дыр” (С. 178). Одевались лопари в одежду, сшитую из различных звериных шкур.
’’Лопари - народ кочевой... истребив на одном месте диких зверей и рыбу, они пере-
кочевывают на другое место” (С. 179).
Особенно велико значение ’’Записок” Герберштейна для истории отечественного
естествознания, в частности териологии. Бесценны его описания встречавшихся толь-
ко в Литве таких малоизвестных в Европе млекопитающих, как зубр, тур (Гербер-
штейн называет его буйволом). ”На родном языке литовцев, - писал он, - бизонт
называется зубром; германцы неправильно зовут его Аигох или Urox; это имя подоба-
ет буйволу, имеющему совершенно вид быка, тогда как бизонты совершенно не похо-
жи на них по виду. Именно у бизонтов есть грива; шея и лопатки мохнаты, а с подбо-
родка спускается нечто вроде бороды. Шерсть их пахнет мускусом, голова короткая,
глаза большие и свирепые, как бы пламенные, лоб широкий, рога по большей части
настолько отстоят друг от друга и так развесисты,, что в промежутке между ними
могут усесться три человека крепкого сложения. На спине у них возвышается нечто
в роде горба, а передняя и задняя часть тела ниже спины” (С. 178).
Буйволы водятся в одной только Мазовии, которая погранична с Литвою; на
тамошнем языке называют их турами, а у нас, немцев, настоящее имя для них ’’Аи-
гох” (рис. 10, 11). Это настоящие лесные быки, ничем не отличающиеся от домашних
быков, за исключением того, что они совершенно черные и имеют вдоль спины белую
полосу наподобие линии. Количество их невелико, а есть деревни, на которых лежит
уход за ними и охрана их, и таким образом за ними наблюдают почти не иначе, как в
каких-нибудь зверинцах. Они случаются с домашними коровами, но с позором для
себя. Ибо после этого прочие буйволы не допускают их в стадо, как обесчестивших
себя, и родившиеся после подобной случки телята не живучий (С. 173-174).
Большой интерес представляет описание Герберштейном охоты на зубров (рис. 12,
13).”Желающим охотиться на бизонтов надлежит обладать большою силою, ловкостью
и проворством. Пригодным местом для охоты является такое, где деревья были бы
отделены одно от другого известными промежутками и имели бы стволы не слишком
толстые, так чтобы их легко было обойти кругом, но и не маленькие, так чтобы за
ними мог вполне скрыться человек. У этих деревьев располагаются охотники по
одному, и когда поднятый преследующими его собаками бизонт выгоняется на это
место, то он стремительно бросается на того из охотников, который подвернулся ему
первый. А тот укрывается под защитой дерева и, насколько может, поражает зверя
рогатиной, но бизонт не падает даже и от неоднократных ударов, а все больше и боль-
ше воспламеняется яростью, потрясая не только рогами, но и языком, который у него
настолько шероховат и жесток, что захватывает и привлекает охотника одним толь-
ко прикосновением к его платью, и тогда зверь не раньше оставит охотника, чем
умертвит его. А если охотник случайно пожелает отдохнуть, устав бегать кругом
дерева и поражать зверя, то бросает ему красную шапку, против которой тот свиреп-
23
Рис. 11. Изображение тура (латинское издание ’’Записок” Герберштейна)
Рис. 12. Зубр (из латинского издания
"Записок” Герберштейна)
Рис. 13. Охота на зубра по Герберштейну
Рис. 14. Карта лесов России по Герберштейну
ствует и ногами, и рогами. Если же зверь не прикончен и другой охотник пожелает
вступить в то же состязание, что бывает необходимо, если они хотят вернуться целы-
ми, то он легко может вызвать против себя зверя, крикнув хоть раз варварский звук:
люлюль” (С. 174-175).
Зубров и туров Герберштейн описал по своим собственным наблюдениям в Тракае.
Описывая возвращение из Москвы, Герберштейн упомянул о том, что недалеко от
г. Вильно он ’’свернул на четыре мили в Троки, чтобы посмотреть там заключенных и
загороженных в одном саду бизонтов” (С. 229). Туров он видел в Польше, в мест-
ностях, расположенных по рекам Нареву и Бугу, там, где теперь расположен заповед-
ник ’’Беловежская Пуща”. Исключительный интерес в отношении охраны природы
представляет сообщенный Герберштейном факт, что уже в те отдаленные времена
предпринимались меры к поддержанию и сохранению такого редкого уже тогда
животного, как тур.
Герберштейн оставил описание лося: ’’Тот зверь, которого литовцы на своем языке
называют лосем (Loss), носит по-немецки имя Ellend, некоторые же называют его по-
латыни Alee. Поляки утверждают, будто это - онагр, то есть лесной осел, но внеш-
ность его тому не соответствует: ибо у него раздвоенные копыта; впрочем, находи-
мы были и имеющие цельные копыта, но это очень редко. Это животное выше оленя, с
выдающимися ушами и ноздрями; рога его несколько разнятся от оленьих, цвет
шерсти также отличается большей белизной. На ходу они весьма быстры и бегают не
так, как другие животные, но наподобие иноходца” (С. 175).
Герберштейн приводит в духе своего времени такую существенную по тем време-
нам информацию, что люди тех районов, где водятся лоси, носят лосиные копыта в
качестве предохранительного средства от падучей болезни.
Сообщает он и сведения о сайгаке: ”На степных равнинах около Борисфена, Та-
наида и Ра водится лесная овца, именуемая поляками солгак, а московитами сейгак,
величиною с косулю (capreolae), но с более короткими ногами: рога у ней приподняты
вверх и отмечены круглыми линиями, вроде кружочков; московиты делают из них
прозрачные рукоятки ножей. Эти животные весьма быстры на бегу и могут делать
очень высокие скачки” (С. 175).
Особенно интересовали Герберштейна невиданные в Европе морские животные -
моржи. ”В то время, когда я нес службу посла... у великого князя Московского, там
был, - писал Герберштейн, - случайно толмач этого государя, Григорий Истома,
человек дельный и научившийся латинскому языку... Так вот этот Истома и изложил
нам вкратце порядок своего- путешествия [в Данию; Истома ехал через Лапландию],
он рассказал, что там [в Лапландии] водятся целые стада оленей [северных оленей],
как у нас быков... они несколько крупнее наших оленей” (С. 187-188). Истома рас-
сказал Герберштейну также о моржах и их промысле. ’’Говорят, - сообщал Гербер-
штейн, - что около устьев реки Печоры, находящихся вправо от устьев Двины, оби-
тают в океане различные большие животные, между прочим, одно животное величи-
ною с быка, которое прибрежные жители называют моржем (Mors). Ноги у него корот-
кие, как у бобра; грудь в сравнении с остальным его телом несколько выше и шире;
два верхних зуба длинны и выдаются вперед. Эти животные для расположения и
отдыха оставляют океан и уходят стадом на горы; прежде чем предаться сну, который
у них обыкновенно очень крепок, они, подобно журавлям, ставят одного на стражу:
если тот заснет или будет убит охотником, тогда легко поймать и остальных; если же
он подаст сигнал своим обыкновенным мычанием, то остальное стадо, пробужденное
этим, подвернувши задние ноги к зубам, с величайшею скоростью скатывается с
горы, как в повозке, и стремительно бросается в океан; там они иногда отдыхают
также на обломках плавающих льдин. Охотники бьют этих животных ради одних
зубов, из которых московиты, татары и преимущественно турки искусно делают
рукояти мечей и кинжалов; они употребляют их более для украшения, нежели для
27
RERVM moscovitl
carum Commcntarij SiWmundi
Liberi Baronis in Herb?rflain
NeyPergAGvettenhag: ’
R V S SIAE, & qua; nuneelus metropolis eft, Mo-
Jcowae^bmrifitma defcnptio-
Chorography denirp Whusimpcrif Mofdd, & uidno-
r«m quorundam men do.
Derdigiqne quocpuana infer ta font,# quaenofTra rum re-
Kgione non tonueniunL
Qjds denier modus excipiend; & trachndi (W
res^diBencur,
Inneraria quocp duo fn Mofcouiam/tintadwn «Да,
мм епатлИапми fonurtieb
tpfi **n>rc a^fta fine: q*** fauatnnprima e&tone&nfare li~
beet,facie tfyrekrnJtr.
Cum C«f & Ясей? Mawfl. gran* # privilege
aa decennfum.
10ЛН
ми СуегЬинп,
Puc. 15. Титульный лист труда Герберштейна "О Москвитских делах'9
того, чтобы наносить тяжелые удары, как воображал кто-то. У турок, московитов и
татар эти зубы продаются на вес и называются рыбьими зубами” (С. 179).
Герберштейн приводит важные сведения о пушном звере Руси, указывает на оби-
лие и дешевизну пушнины, сообщает о видах животных, местах их промысла, их
стоимости и что в них особенно ценится. ”В мехах, - отмечал он, — существует боль-
шое различие. У соболей признаком их зрелости служит чернота, длиннота и густота
шерсти. Точно так же стоимость их увеличивается, если они будут пойманы в надле-
жащее время, что наблюдается одинаково и при других мехах. По сю сторону Устюга
и Двинской области они попадаются весьма редко, а около Печоры гораздо чаще и
28
притом гораздо лучшие. Куньи меха привозятся из различных стран: хорошие из
северных районов”.
Сообщения Герберштейна о различных животных, встречающихся на Руси, и их
распространении имели большое значение для развития знаний о животном мире Рос-
сии. Они представляют собой ценные документы, основанные на личном опыте авто-
ра, расспросах сведущих русских людей - дьяков, дипломатов, купцов, а также све-
дений торговых русских книг XVI в., к сожалению, не сохранившихся.
Большой исторический интерес представляет составленная Герберштейном карта
лесов России XVI в., позволяющая лучше понять животный мир того времени
(рис. 14).
Книга Герберштейна ”0 московитских делах”, изданная в Европе на латинском
языке, была переведена на русский язык и неоднократно издавалась в России
(рис. 15). Ее читали многие просвещенные русские люди, в частности князь Андрей
Курбский. Она легла в основу всех ранних работ по истории России.
РУССКИЕ ЗВЕРИНЦЫ XVI-XVII вв.
В Древней Руси князья и бояре, как и Владимир Мономах, любили охоту и развле-
чения, неотъемлемой частью которых считались показ животных и звериные бои.
’’Жить по-княжески”, как писалось в Никоновской летописи, значило иметь у себя во
дворе множество собак и медведей, ездить на охоту с соколами, ястребами и крече-
тами.
Охотничьи дворы, где жили ловцы зверей, псари и потешники, пешие и конные,
назывались в старину потешными, иногда красными дворами, т.е. увеселительными.
Потешные дворы были тем же, что и зверинцы; о них упоминалось во многих летопи-
сях, и были они в разных русских городах: в Киеве, Чернигове, Пскове, Угличе, Вла-
димире и Москве. Многие сохранившиеся названия улиц свидетельствуют о располо-
жении таких охотничьих дворов или мест, где водились и паслись разные дикие и
домашние животные.
Древняя Москва, как известно, была окружена непроходимыми дремучими
лесами, и даже в ее пределах сохранялись густые рощи и боры, в которых обитало
много зверей и птиц. Вокруг Москвы, на полях, в XV в. водилось множество зайцев и
диких коз, однако охота на них была запрещена и никто не имел права ловить их или
травить собаками. С давних пор был известен подмосковный лосиный погонный
остров и олений остров в Сокольнической роще, где водилось много лосей и оленей.
Известны слова летописца о том, что при царе Борисе Годунове на московских ули-
цах вблизи дворца ловили руками черных лисиц, что считалось дурным предзнаме-
нованием2.
Некоторые сохранившиеся в Москве названия свидетельствуют о том, что в те вре-
мена большое приволье находили козы, пасшиеся на лугах по берегам речек. ’’Козье
болото”, или так называемая козиха, оставили нам свои следы в таких названиях,
как Козихинский переулок и др. Замоскворецкое болото в XVII в., по словам Павла
Иовия, также называлось ’’козьим”. В этих сырых местах паслись наряду с дикими и
домашние козы.
В древности вокруг Москвы существовали бобровые гоны. В грамоте 1410 г. наря-
ду с великокняжескими псарями упоминаются ’’бобровники”.
О русских зверинцах, или потешных дворах, писали многие иностранцы. Гербер-
штейн, как отмечалось выше, был одним из первых, кто сообщил о зверинцах вблизи
Москвы, где содержалось множество различных зверей и птиц. В одном из них, как
сообщала Псковская летопись, царь Иван Васильевич в 1575 г. распорядился затра-
2В Новгородской земле хитрого человека называли "лисою патрикеевной” по имени литовского
князя Патрикея, поссорившего своих сограждан.
29
вить собаками новгородского архиепископа Леонида, зашитого в медвежью шкуру.
Ловля медведей издавна производилась не только для ’’медвежих комедий”, но и
для таких ’’потешных” целей, как травля собаками, которая просуществовала в
Москве вплоть до 60-х годов XIX в. У Рогожской заставы часто собиралось много на-
рода, чтобы посмотреть, как собаки кусают и треплют ’’коровьего врага”.
Русским людям также были известны и редкие животные из далеких стран, кото-
рые преподносились в виде подарков русским князьям и царям. Так, английский
король Филипп и королева Мария, как писал известный русский историк и искус-
ствовед И.М. Снегирев, ’’прислали в дар [в 1556 г. льва со львицей и львенком]. Мес-
то, где заключены были в Москве сии звери и где после помещались доставленные из
Персии лев с львицею, называлось львиным двором, который пригорожен был к стене
Китай-города к яме, или во рву; от него и смежные с ним городские ворота слыли
львиными, ныне Воскресенские. Здесь-то и был на Москве зверинец. Другой потешный
двор находился, как мы заметили, на старом Ваганькове, в Белом городе, на Воздви-
женке, которая прежде называлась Островом, т.е. охотничьим лесом. В 1631 г. туда
переведена была царская псарня” (Снегирев, 1837. С. 5-6).
Улица Волхонка, или по-старому Волконка, по мнению Снегирева, берет свое
название не от князей Волконских, а от волков. Позднее ’’потешный псаренный двор”
помещался на новом Ваганькове. На чертеже земель Новинского монастыря
1683 г. имеется ’’Великих Государей потешный звериный двор”, который существо-
вал даже в 1773 г.» (С. 6). В Московском Кремле также был старинный потешный
двор или дворец, находившийся рядом с конюшенным. ’’Под ведомством его состоя-
ли всякие потешные, собаки борзые, гончие, меделянские и волкодавы, медведи,
волки, лисицы и зайцы, до трех сот псарей конных и пеших при Великой Псарне,
оступы зверинцами лосиными и охотными” (С. 7). Другой потешный двор находился
также в подмосковном с. Семеновском. В нем содержались лани, олени, лоси и
смотрел за ними ’’зверовщик”.
Бывшие в Москве в 1671 г. послы польского короля оставили описание потешного
двора в с. Семеновском. ”По милости Царского Величества, были есмы на Потешном
дворе, нарочно к тому построенном на изрядном месте, у которого и сараи на особом,
гораздо заборами укрепленном широком дворе, разные на разных зверей широкие
затворы, всякому зверю два затвора, дабы тем безопаснее в одном затворив, в
другом дозиратель вычистил и зверь мог где переходить”. Они сообщили и о живот-
ных зверинца. ’’Показывано нам тогда вначале медведя былого безмерного величья;
шея, голва далече разна от обыклых медведей... показывали живых рысей много...
пущали потом на канатах волков и борзыми их травили, напоследок затравили две
лисицы; показывали нам и соболя живого, мало чем разна куницы, только чернейша
и лютейша” (С. 7-8).
В царской вотчине с. Измайлове при царях Алексее Михайловиче и Федоре Алек-
сеевиче был старый зверинец, где держали ’’лосей, оленей русских, сибирских и аме-
риканских, кабанов, волков, медведей, лисиц, дикообразов, ослов, лошаков, львов,
тигров, барсов, рысей, соболей” (С. 9).
Императрица Анна Ивановна завела в Измайлове вместо старого зверинца новый,
значительно больший на юг от дворца, по Стромынке. Она издала указ, по которому
из Казанской губернии присылали молодых лосей, и после того как они перезимуют и
привыкнут к хлебу, их отправляли в Измайловский зверинец. По тому же указу для
увеличения животных в зверинце доставляли из Астраханской губернии оленей,
козерогов (они встречаются в горах Кабарды, в Персии, около Шемахи и Дербента),
сайгаков, диких коз, кабанов и диких кошек. В зверинце содержались американские
и лапландские олени, американские свинки, лисицы.
30
ТОРГОВЛЯ ПУШНИНОЙ НА РУСИ В XVI-XVII вв.
Пушные товары были важнейшим источником богатства России. Иностранцы
охотно покупали русские меха за золото и серебро. Наивысшего расцвета торговля
мехами достигла в XVI в. и оставалась еще на высоком уровне в первой половине
XVII в. Во второй половине XVII столетия вплоть до 90-х годов, согласно документам
Сибирского приказа, из Сибири ежегодно вывозилось собольих шкур - ’’соболиной
казны” на сумму 80-110 тыс. руб, что составляло восьмую часть налогового обложе-
ния русского государства. Но запасы пушного зверя не были безграничными. И если
в XVI в. численность пушных зверей на Руси была чрезвычайно высока, то уже в пер-
вой половине XVII в. в европейской части России промыслы пушных зверей значи-
тельно снизились. До покорения Сибири промысел зверя шел практически по всей
Руси в лесах, покрывавших почти всю ее территорию. Лесистые берега Оки славились
белками, куницами, горностаями (Костомаров, 1862. С. 256). В Смоленской земле леса
изобиловали лосями, вепрями, куницами и бобрами (С. 256). Во многих местах на
реках и озерах жили бобровники - особая корпорация звероловов, в обязанность
которых входило поставлять ко двору бобровые меха. Бобровники, в частности, жи-
ли в Дмитровском уезде (С. 253). Но наиболее богатые звериные промыслы были по
берегам рек Ваги, Двины и Печоры. На Ваге водились черные лисицы и лисицы пе-
пельного цвета. Берега Печоры изобиловали соболями, куницами, волками и белка-
ми.
Открытие Сибири дало России неслыханные богатства пушнины. Пушной промысел
почти весь переместился в Сибирь, где занял обширные пространства от Уральских
гор до Тихого океана.
Торговля мехами сосредоточивалась в основном в руках государства, по крайней
мере главная ее часть, купцам предоставлялась возможность торговать лишь избыт-
ками пушнины. Государство получало пушнину в виде дани, которую инородные
подданые платили мехами. Эту дань, называвшуюся ясаком, доставляли сами поко-
ренные племена властям уезда, в котором они жили; или же к ним посылали служи-
лых людей, которые и привозили ясак воеводам. Эти меха оценивали специально
выбранные торговцы, после чего меха, так называемую мягкую рухлядь, отправляли
в Москву. Помимо ясака, служилые люди получали от инородцев "поминки99 мехами.
Воеводы и служилые люди имели законное право принять их, но не смели оставлять
у себя и тем более продавать. ’’Поминочные” меха должны были препровождаться в
казну, откуда им выдавали деньги. Третьим источником получения мехов государст-
вом был особый налог. Покупая меха в Сибири, торговцы обязаны были отдавать в
казну десятого зверя, причем самого лучшего. Государство могло отобрать меха у
промышленников3 и торговцев, если они были высшей категории (последняя счита-
лась достоянием только казны).
В финансовой государственной системе России XVI и XVII вв. меха играли такую
же роль, как современный золотой фонд. Когда не хватало золота, жалованье плати-
ли мехами, которыми награждали бояр и иностранных гостей. На меха приобреталось
все ценное для царского двора - вина, шелка, драгоценности. Казна вела значитель-
ный торг мехами. В конце XVI в. от казны посылались специально купцы для скупки
мехов. В случае удачных приобретений купцы получали награды. Меха, принадле-
жавшие казне, так называемые казенные меха, продавались в казенных лавках, ко-
торые были в Москве, Новгороде, Архангельске и в ряде других городов. Казенные
меха променивались торговцами Греции, Армении, Персии и Бухарин на восточные
товары. Позже, когда возникла торговля с Китаем, сибирские меха сделались важ-
ным предметом вывоза в Китай.
Промышленники — люди, занимавшиеся промыслом (охотой на зверя).
31
Меха служили основным товаром, с помощью которого Россия обогащалась благо-
родными металлами. Стараясь привлечь в государство серебро, правительство пор'
чало купцам и целовальникам обменивать пушнину на ефимки4.
Частная торговля мехами была сильно стеснена государственными ограничениями.
Русские купцы во многих районах не имели права торговать в юртах, а в Сибири, где
это разрешалось, - только после сбора ясака и притом с условием отдавать в казну
лучших зверей. В середине XVII в. купцам запрещалось продавать меха по цене свы-
ше 20 руб. за пару по московской цене5. Частные торговцы не имели права продавать
меха в некоторые страны: в Бухарию, купцы которой приезжали в Русское государ-
ство для приобретения пушнины (мягкой рухляди), а также в Грецию, Персию, Ар-
мению6. В Архангельске купцам, отправляющим меха за границу, не разрешалось
продавать свои товары, прежде чем не будут проданы казенные меха. Поскольку ка-
зенные меха были лучше и могли продаваться дешевле, чем частные, купец всегда
рисковал понести убыток. Иногда правительство запрещало торговать каким-либо
мехом. Так, в 1675 г. была запрещена торговля голубыми песцами - у проезжих тор-
говцев этот мех забирали и за него выдавали деньги.
Частные торговцы приобретали меха у народностей Сибири, северных районов Рос-
сии в обмен на другие товары, а также у казны. Они сбывали меха внутри страны,
вывозили их в Нарву и Архангельск для продажи за границу. Нередко меха привози-
ли не из Москвы - главного средоточия меховой торговли, а прямо из Сибири.
Из пушных зверей первое место занимали соболи и лисицы. Соболей продавали па-
рами и сороками (по 40 штук)7. Из соболиных шкурок вырезали пупки, лапки, брюш-
ки, душки, хвосты и осреди, т.е. кончики хвостов. Пупки и хвосты продавались от-
дельно поштучно, а лапки, брюшки, душки сшивали в меха и продавали парами и
сороками. Соболей подразделяли на три категории: хорошие, средние и плохие. Низ-
ший сорт составляли недособоли, или ’’вешняки”, ловившиеся весной, когда мех уже
недостаточно пушист. Они ценились значительно дешевле.
В конце XVI в. в Холмогорах соболей, которые обходились в Перми по 10 руб. за
сорок, продавали по 25 руб. Пены на соболей в XVII в. весьма варьировали в зависи-
мости от их качества.
По мере истребления соболей их число в разных местностях уменьшалось, что
заставляло заменять их при сборе ясака шкурками других зверей. В результате шку-
ра соболя стала служить мерой стоимости меха при сборе ясака. Так, 3 бобра засчи-
тывались за 8 соболей. В Мангазее в конце XVII в. за 1 соболя принимались лисицы
и росомахи по одному зверю, белые песцы - 16 зверей, белки - по 100 штук; за собо-
ля брали также 1 выдру или 2 голубых песцов (Костомаров, 1862. С. 260).
Кроме соболей высоко ценились лисицы, особенно якутские: чернодушчатые,
черно-бурые, синедушчатые, бурые, красные, знаменитые ’’огневки”. Были известны
также лисицы уфимские, устюжские, простые русские. Лисьи меха были в большом
ходу. Из них шили мужские шапки. Мода на лисьи меха в середине XVII в. была
причиной того, что цены на них поднимались столь высоко, что иностранцы находили
выгодным ввозить в Россию французских лисиц (С. 261). И если простые лисицы про-
давались сотнями и сотня их в XVI в. стоила 2 руб., то сибирские лисицы ценились:
бурые и красные шли по полтине, синедушчатая - по 28 алтын, а черные - от 10 до
4Ефимками на Руси назывались серебряные иностранные монеты (от Johamusthaler) — англий-
ские шиллинги, голландские гульдены, немецкие рейхсталеры и др. Они соответствовали пример-
но полтине.
5В XVII в. на Руси в обращении были, помимо монет, которые чеканили в Москве, новгород-
ские монеты. Новгородский рубль весил больше московского и ценился дороже.
6Эти страны были постоянными закупщиками пушнины в России.
7Соболей (шкурки) хранили в мешках из синей холстины, которые сверху и снизу открыва-
лись; чем теснее был мешок, тем считалось лучше.
32
’О руб. В начале XVII в пара лисиц в Новгороде продавались в среднем за 30 алтын,
а при царе Алексее Михайловиче мех черной лисицы стоил в Москве до 60 руб.
\ Куниц в XVI в. ловили по берегам Оки, но затем они стали там крайне редки и
г стали добывать на северо-востоке и востоке России. Лучшими куницами считались
башкирские. Куньи меха продавали обычно целиком. В XVI в. куницы шли в основ-
ном за границу. Куница стоила втрое дешевле соболя. В начале XVII в. в Новгороде
за куницу платили 6 алтын.
Бобры в старину на Руси водились повсеместно. В XV и XVI вв. бобров ловили в
Рязанской земле и около Воронежа. Однако рост населения в этих районах и продол-
жавшаяся охота привели к тому, что эти животные стали там редки; ловили их преи-
мущественно в Сибири. Следует, однако, отметить, что русские бобры всегда цени-
лись ниже, чем сибирские.
На бобрах раньше, чем на других зверях, сказалось антропогенное воздействие -
когда-то столь распространенные, они стали большой редкостью. В 1635 г. прави-
тельство запретило ловлю бобров и выдр капканами. Однако эти меры оказались
недостаточными для сохранения, а тем более восстановления поголовья бобров, ко-
торых становилось все меньше и меньше. В конце XVII в. меха бобров уже стали
ввозить в Россию (С. 263-264).
В продаже встречались бобры разного цвета - от черного до рыжего. Лучшими счи-
тали черных. В XVI в. обычная цена бобра составляла 2 руб. В 1595 г. в Новгороде за
30 бобров брали такую же пошлину, как за 40 соболей, - бобр был на 1/4 дороже со-
боля (С. 264).
Бобров использовали в основном на изготовление женских шапок. Большую цен-
ность представляла бобровая струя. В 1674 г. фунт сибирской бобровой струи стоил
4 руб. с полтиной, а украинской - 1 руб. с полтиной. Фунт бобровой шерсти в то же
время в Архангельске стоил около 3 руб. Русские вычесывали бобровую шерсть не
только из новых бобровых мехов, но и из поношенных и продавали иностранцам.
Шерсть отправляли во Францию, где из нее делали шляпы.
Наибольшим спросом из пушнины пользовался беличий мех. Белок добывали
повсюду. Наименее ценились белки средней полосы - рыжие и короткошерстные.
Белки устюжские, вологодские считались более ценными. Еще выше ценились сибир-
ские белки. В начале XVI в. белок продавали пучками, по десять мехов в каждом.
Лучшими считалась меха с красным оттенком, худшими - молочного цвета. Белки
молочного цвета рродавали от 1 до 2 денег8 за штуку. Беличьи брюшки отрезались от
спинок, сшивались и продавались отдельно мехами. В начале XVII в. в Новгороде мех
беличий хребтовбй стоил около 2 руб., а черевий - около 4 алтын за тысячу. При
царе Алексее Михайловиче тысяча белок стоила уже от 23 до 30 руб. Столь резкое
увеличение стоимости беличьих шкурок нельзя отнести только за счет моды, видимо,
сказалось и то, чт£ белок стало значительно меньше.
Из пушных зверей продавали также горностаев, песцов, медведей, рысей, росомах,
зайцев и выхуходей.
Лучшими горностаями считались сибирские. Чем белее была шкурка горностая,
тем выше она ценилась. В начале XVI в. шкурка горностая стоила 3-4 деньги, а в кон-
це XVI в. - 6 денег.
Песцы встречались трех цветов: белые, черные и голубые. Черные в конце XVI в.
продавали по 5 алтын за штуку, белые стоили вдвое дороже. В XVII в. цена на них
сильно повысилась.
Медвежьи шкуры были черные, бурые и белые. В конце XVI в. шкура бурых и чер-
ных медведей стоила 10 алтын. Шкура белого медведя в Москве в XVII в. оценива-
лась от 2 руб. с полтиной до 3 руб. Шкуры медведей употребляли на шубы, полости и
на хомуты.
8Деньга составляла 1/200 руб.
3. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
33
Волки при царе Алексее Михайловиче ценились довольно высоко. Русский волк
стоил 70-80 коп., а сибирский, отличающийся мягкой и длинной шерстью, - 4 руб.
(С. 270). Каких-либо данных о количестве продававшихся волков нет.
Росомахи служили предметом вывоза за границу, особенно в Англию. У Двинского
порта шкуру росомахи в конце XVI в. продавали за 1 руб. и 2 гривны. В начале XVII в.
цена росомахи была от 90 коп. до 1 руб. с полтиной (С. 271-273).
Продавался заячий мех. Лучшими считались шкурки зайца-русака, обитавшего в
степях, примыкавших к Крыму. Светло-серые шкурки зайца-русака в XVII в. стоили
полтина за десяток. Промышляли и выхухоль. Шкурку ее оценивали от гроша до ал-
тына.
Несмотря на богатство России пушным зверем в XVII в. мех в небольшом количест-
ве ввозили из-за границы. По данным Кильбургера, в 1673 г. было ввезено в Россию
330 французских лисиц через Архангельск и 180 через Нарву.
Представление о размерах лова пушного зверя в России во второй половине
XVII в. дают сведения, приводимые Кильбургером. Так, он указывает, что в одно ле-
то во время царствования Алексея Михайловича из Архангельска было вывезено
579 сороков соболей, 18 742 соболиных хвоста, 15 970 лисиц, 300 сороков куниц,
288 сороков горностаев. И это не включает количество пушного зверя, вывезеного за
границу из других городов (Нарва, Устюг и др.), потребленного на внутреннем рынке
и не поступившего в продажу. Количество соболей, вывозимых на Русь только из
одного, правда, крупнейшего центра соболиного промысла - Мангазеи, по данным
С.В. Бахрушина, составила в 1630 г. 847 сороков и 28 шкурок (свыше 33 900), а в
1638 г. - 755 сороков и 34 шкурки (30 234).
Приведенные данные'позволяют составить представление о масштабах осущест-
влявшегося промысла и о распространенности соболя.
Торговля пушниной, хотя и косвенно, способствовала накоплению знаний о неко-
торых зверях России.
В поисках пушнины отважные русские полярные мореходы и землепроходцы от-
крыли много новых земель, богатых пушным и морским зверем, пополнив знания о
животном мире Восточной Сибири и Дальнего Востока.
РУССКИЕ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ СИБИРИ
Одним из важнейших источников финансов в XVI и XVII вв. была торговля пушни-
ной. Значительное сокращение количества пушного зверя в европейской части Рос-
сии в конце XVI в. и обилие пушнины в Сибири привели к тому, что почти весь пуш-
ной промысел в XVII в. переместился в Сибирь. Покорение Сибири, населенной
преимущественно нерусскими народностями, давало царскому правительству воз-
можность взимать с коренного населения дань в виде пушнины.
Уже в середине XVI в. почти половина территории России, так называемое Поморье
(земли по берегам Белого моря, Онежского озера и северных рек), представляла
собой огромный край, где решающее значение имело не земледелие, а различного ро-
да звериные и рыбные промыслы, превратившие северного крестьянина в промыш-
ленника. Как раз из таких крестьян вышли в то время известные купцы Строгановы,
обогатившиеся на соляных промыслах Сольвычегодска и крупной торговле сибир-
скими мехами.
Истоки деятельности северных поморов уходят в далекое прошлое. Они первыми
из славян начали отыскивать новые земли и отправляться на север и северо-восток,
вплоть до ’’камня”, как называли в Древней Руси Уральский хребет. Уже в XII в.
было полностью освоено Белое море и мореходы стали выходить за его пределы.
Главной целью трудных плаваний поморов был промысел морского зверя - моржей.
Сначала за ними охотились на островах Онежской губы, но по мере уменьшения этих
ценных млекопитающих на ближних островах зверобои начали продвигаться на се-
34
Рис. 16. Русский корабль в Ледовитом океане
вер, достигнув в начале XIII в. Кольского полуострова и о-ва Моржовец, ставшего
главным местом моржовых промыслов. Дальнейшие поиски лежбищ моржей и новых
мест охоты на пушных зверей заставили русских мореходов и промышленников
выйти в Северный Ледовитый океан. Крестьяне - промышленники Поморья посте-
пенно стали доходить на своих судах до устья Оби, до Тазовой губы, р. Таз и устья
Лены. Сюда они плыли на небольшой поморской ладье, которая называлась кочмара
или коч (рис. 16). От Тазовой губы, преодолев волоком не очень длинный путь, путе-
шественники достигали знаменитой в то время Мангазеи, славившейся огромными
пушными богатствами, особенно соболями. Этот путь получил название Мангазей-
ского морского хода, начинавшегося от Северной Двины и кончавшегося на бере-
гах Енисея. В 1600 г. царь Борис Годунов похвалил двух крестьян Ивана Угрюмова и
Федула Наумова ”за частые поездки в Мангазею”. Эти крестьяне привезли царю чело-
битную с просьбой ввести твердые правила оплаты таможенных сборов с промыслов
у Мангазеи. Царь ответил на эту челобитную указом о порядке взимания в Сибири
’’десятинной пошлины”, гласившим, что будет впредь взиматься ”от девяти десятая,
из соболей лучший соболь, а из куниц лучшая куница, а из лисиц лучшая лисица, а
из бобров лучший бобр, а из песцов лучший песец, а изо всякой мяхкие рухляди и
изо всякого товару десятая часть”. Сам перечень зверей в указе свидетельствовал о
твердой уверенности в том, какие именно пушные звери будут составлять статью
дохода казны. После введения указа пушные товары стали называться ’’мягкой рух-
лядью”, словами, которые использовались и в документах, и в печатных трудах.
Имеются и другие свидетельства того, что русские уже в то время промышляли
пушных зверей на р. Енисей. Так, в 1610 г. ’’двинян Кондрашка Курочкин с товарища-
ми сплыли на кочах от Туруханского зимовья вниз до устья Енисея”. Курочкин сооб-
щил о впадении Енисея в морскую губу ’’того же моря, которым ходят немцы из моря
35
к Архангельскому городу”, о возможности проплывать большим кораблям из моря
в Енисей. Он отмечал, что ’’Енисей де глубока ... река угодна, боры и черный лес и
пашенные места есть, и рыба всякая такова ж, что в Волге, и твои государевы сошные
и промышленные люди на той реке живут многие” (Русская историческая библиоте-
ка, 1880. Т. 6. С. 1050).
В 1601 г. на р. Таз был построен г. Мангазея. В нем ежегодно устраивались ярмар-
ки, приносившие огромный доход от пушных, и прежде всего соболиных, промыслов.
На Мангазейской земле кроме города с деревянной крепостью было сооружено 15-20
зимовий, на которые были отправлены стрелецкие гарнизоны и сборщики дани. Эти
зимовья были разбросаны на огромных просторах тайги и тундры.
Местных жителей-туземцев заставляли платить ясак. Московские государи нужда-
лись исключительно в мягкой рухляди и упорно добивались того, чтоб ясак платился
только мехами. За ясаком шли в Сибирь из Поморья предприимчивые промышленные
и служилые люди, наемные казаки купцов Строгановых. Слово ’’ясак” означало по-
дать, установленную законом, причем принудительную. То, что ясак платился рус-
ским как победителям, всегда сознавалось покоренными народностями, которые
предпочитали добровольную дань ”с лука по лисице или по кунице”, что в царских
грамотах называлось ’’поминками”.
Ясак существовал в Сибири задолго до прихода русских. Татары, калмыки и мон-
голы с времен своих завоеваний сбирали ясак с местных народов, и русским приш-
лось вести с ними борьбу за право взимать ясак. Завоевывая страны, подвластные
недавно татарским и монгольским завоевателям, русские государи просто перевели
на себя ясак. Организация сбора ясака основывалась на сохранившемся недавнем де-
лении населения на сотни, бывшего еще при Кучуме в Сибирском ханстве.
Существовало два вида ясака - окладный и неокладный. Первый означал точно
установленный размер дани с каждого ’’ясачного жителя” и определялся числом
шкур, вносимых в казну. В начале XVII в. ясак составлял в среднем по 5 соболей с
одного лица, причем с женатых брали по 10 соболей. Конечно, ценность шкур одного
и того же зверя всегда была разной. Некоторые соболи стоили тогда дорого - 5-10
руб., в то время как ’’худой соболишка” - всего несколько алтын. Вместе с ясаком
часто платили ’’поминки”, надеясь получить что-либо в ответ. Так, в Мангазее ’’неко-
торые самоедские князьки платили по одному поминальному соболю (или бобру),
за этого ’’поклонного соболя” они получали из государевой казны по 4 пуда муки”.
Чтобы получаемую в виде ’’поминок” лучшую мягкую рухлядь воеводы не утаивали,
из Москвы направлялись специальные грамоты. Так, в грамоте царя Бориса Годунова
в Пелым от 8 декабря 1600 г. указывалось следующее: ”...с остяков и с вагуличь на
нынешней на 109-й год наш ясак, соболи и лисицы, и куницы, и бобры, и белку, и
горностаи збирати по ясачным книгам сполна, а мелочи худые, лоскутишков соболь-
их, и куньих, и бобровых, и бельих не имали, а корысти себе ни чем ни чинили, и с
собою по городкам и по волостем никаких товаров не возити, и с ясачными людьми
не торговати ничем, и нашего ясаку не обменяти, лутчих соболей, и куниц, и лисиц,
и бобров, и белки, и горностаев себе не имати, а своих худых соболей, и бобров и
всякие мелкие мягкие рухляди не класти, каков ясак учнут у ясачных людей имати,
таков бы к вам на Пелым в нашу казну привозити. Да будет у ково (у ясачников) что
какова товару и мягкие рухляди найдут, и вы б у них те товары и мяхкую рухлядь
велели имати в нашу казну, а их ясатчиков велели за то бити кнутьем или батоги,
смотря по вине, кто до чего по сыску дойдет, а, бив их, велели сажати в тюрьму на
время, на колько пригоже, смотря по вине ж” (Миллер, 1937. С. 390-391).
В 1607 г. царь Василий Шуйский писал о ’’поминочных соболях” в Пермь. Много
было поборов в пользу не только воевод, но и служилых людей. ”А поклонные-де
соболи и бобры и лисицы и росомахи называют тех, которые иноземцы дают ясачным
сборщикам в почесть, а не государевы ясачные и поминочные”, - говорилось в одной
36
из бумаг Сибирского приказа (С. 12). Для учета пушного зверя все записи вносились
в так называемые ’’ясачные книги”, однако в целом бухгалтерия ясачных сборов бы-
ла неточной, поскольку дела велись с кочевым населением. Когда охота была удач-
ной и людей прикочевывало больше, тогда и ясак был лучшим. Например, в 1655 г.
тунгусы Мангазейского уезда сказали, что ”что-де мы в доимку соболей не добывали,
а потому что собачья нога худа была и промышлять соболи было немочно и тот-де
ясак будем впредь платить” (С. 13). В связи с этим поступали и такие указы госу-
даря, в которых было сказано, что ’’мяхкую рухлядь с великим радением, ласкою...
сбирать надобно”. В день приезда туземцев .для сдачи ясака стали устраивать даже
’’государев стол” с пивом и хлебом, но туземцы часто даже не подходили к домам,
а ясак - соболей - бросали около и убегали.
Благодаря поступлениям богатой пушнины русское правительство сосредоточило
в своих руках внешнюю торговлю и Москва превратилась в крупнейшего поставщика
мехов на мировом рынке. Торговые связи с Западной Европой, начавшие развивать-
ся с середины XVI в. через основанный в 1585 г. морской порт в Архангельске, а также
давняя торговля мехами со странами Востока - Хивой, Бухарой, Персией и др. приве-
ли к тому, что в середине XVII в. русские продавали за границу мехов ценных зверей
более чем на миллион рублей в год. С целью предотвратить беспошлинный провоз
пушнины из Сибири в Архангельск и проникновение иностранцев в Сибирь Северным
морским путем была обнародована ’’государева грамота” о запрещении морского пу-
ти на Мангазею, разрешалось совершать поездки в Тобольск и другие сибирские го-
рода только через ’’камень”, т.е. сухопутным путем, через Урал. Уже в 1638 г. был
основан острог на Красном Яру (будущий Красноярск).
В эти годы стали распространяться слухи о богатствах земель, расположенных по
р. Лене, пушным зверем.
Истребление соболей в первой половине XVII в. заставляло русских промышлен-
ников двигаться все дальше на восток в поисках новых угодий. Якутск сделался
главным центром, через который шло движение промышленных людей в Восточную
Сибирь. В 1642 г. Якутская таможня отпустила на промыслы 1131 человека, из них на
соболиные - 839 человек. В 40-х годах XVII в. через нее ежегодно на промыслы про-
ходило около тысячи человек. Это было время расцвета ленских промыслов, своего
рода ’’пушной лихорадкой”. В 1643 г. в Якутск 27 человек (купцы и промышленные
люди) привезли с р. Оленек 100 сороков (4000) соболей.
Отдаленность ’’угожих” мест, их труднодоступность и опасность пути делали про-
мыслы трудным предприятием. Поэтому охотой редко занимались поодиночке. Про-
мышленники чаще объединялись в артели, беря в долг деньги на продовольствие и
снаряжение у крупных торговых людей Устюга и Соли Вычегодской, идя тем самым
в кабалу, становились ’’покручениками”; для таких ’’промышленных” экспедиций
требовались значительные суммы. В языке XVII в. существовал даже особый термин
”ужна”, или ’’ужина”, - это количество хлебного запаса и снаряжения (промышлен-
ного ’’завода”), необходимое каждому промышленному на одну промышленную кам-
панию. В якутских таможенных записях занесено под 22 июня 1642 г., что ”с при-
кащиком гостя Надей Светошникова Елизаркой Тимофеевым идет вниз по Лене на
рыбную ловлю и на соболиный промысел на Оленек реку 15 ужин, т.е. продовольст-
вия и промышленного заводу на него самого и на 14 покручеников, а именно: 300
пудов муки, 150 аршин сукна белого (сермяги), 200 аршин холсту хрящу, 60 обувей
чарков”. В поисках богатых пушниной земель вслед за промышленниками и торговы-
ми гостями отправились и служилые люди (казаки).
Елисей Юрьев (Буза) в 1638 г. проник морем на р. Яна. В челобитной казачьего де-
сятника Енисейского острога Елисея Бузы о жалованье за походы на Оленек и Яну
в 30-х и 40-х годах указано, что в 1638 (147) г. ”с служилыми и с промышленными
людьми пошел, я, холоп твой, из Якуцкова острогу вниз по Лене реке ... на сторонюю
37
новую реку на Оленек ... и тое государь, ясачную и десятинную соболиную казну всю
послал я, холоп твой, с Оленька реки в Енисейский острог зимним путем на Лену ре-
ку... И з достальными, государь служилыми и промышленными людьми с Оленька
реки пришел на Лену реку, пошел я в сторонние реки морем на Яну и на Чендон, и
на Сивиргой. И пришед на Яну реку во 147-м (1638) году взял ... ясаку вново 4 сорока,
8 соболей, 4 шубы собольи якуцкие, 7 лисиц чернобурых, 22 лисицы красных ... на
Оленьке и на Яне, и на Чандоне (Чендон) принимали всякую нужу, ели коренье и тра-
ву, и душу сквернили всякою скаредною (скверной) ядью, и голод и наготу терпели”
(Открытия русских землепроходцев, 1951. С. 96-98).
Река Яна, возможно, была открыта еще до Бузы. В 1633 г. казак Иван Ребров по-
дал в Жиганске челобитную о разрешении идти ”в новое место, морем на Янгу (Яну)
реку ... для прииску и приводу под твою, государеву, царьскую высокую руку новых
неясачных иноземцев и для ясачного збору”. В другой челобитной от 1649 г. Иван
Ребров писал: ”Я пришед, государь, на Янгу реку, и на Янге реке будучи мы, холопи
твои ... взяли мы, холопи твои, вновь твоего, государева, ясаку 20 сороков (800)
соболей да лисицу черную. И ту твою, государеву, соболиную казну и лисицу черную
вывез с Янги товарищ мой Илья Перфильев” (С. 153). В этой же челобитной Ребров
говорил о том, какой долгой и суровой была жизнь в тайге и охота на пушного зверя:
”И был я, холоп твой, на той Индигирской новой реке, а Собачья тож, 3 годы, а на
Янге, государь, 2 годы, а по морю ходил 2 годы. И собрал я, холоп твой, на той на но-
вой Индигирской реке твоего, государева ясаку вново 6 сороков 5 соболей, 150 плас-
тин собольих, да десятой своей, государевы, пошлины с промышленных людей 2 со-
рока 8 соболей, 53 пластины собольи. И на Индигирской реке, я, холоп твой, 2 острога
тебе, государю, поставил. А на Янге реке зимовье и с нагородней поставил же. И с
тех, государь, рек с Индигирки и с Янги, в тех острошках, и в зимовье прибыль ныне
тебе, государю, большая в ясачном зборе и соболи дорогие, лутче тех янских соболей,
на великой реке Лене и в сторонных реках таких добрых соболей нет...” (С. 153).
”А преж меня в тех тяжелых службах, на Янге и на Собачьей не бывал никто”
(Оглоблин, 1891. С. 45). Просил Ребров дать ему грамоту, чтобы быть в Якутском ост-
роге атаманом.
Более 200 лет многие факты, касающиеся открытий и жизни русских землепроход-
цев и мореходов, оставались неизвестными. Лишь в 1951 г. были изданы документы,
хранящиеся в Центральном государственном архиве древних актов. Были использо-
ваны такие ценные архивы, как фонд ’’Якутская приказная изба”, фонды архива
’’Сибирский приказ” и др. Опубликованные документы представляют собой грамоты
приказов, отписки воевод, челобитные царям, расспросные речи служилых людей в
приказных избах, страницы из ясачных книг и бумаг о пошлинах. Эти документы
содержат не только сведения о пройденном пути, об особенностях жизни местных
народностей, но и ценные материалы о встречающихся в новых краях животных, об
охоте на них, об отличиях зверей новых мест по сравнению с уже известными. Чело-
битная Реброва царю была, по-видимому, первым письменным документом, в кото-
ром говорилось о прекрасных качествах ленских соболей.
Михаил Стадухин в 1641 г. поплыл вниз по Индигирке и достиг морем открытой им
р. Колымы. В Якутском остроге 26 апреля 1647 г. Михайло Стадухин ”в расспросе”
рассказал, что на р. Чукче, впадающей в море, живут иноземцы, которые зовут себя
чукчами. ”Жонка”<Калиба, проживавшая у чукчей 3 года, рассказывала, что чукчи
зимой на оленях ездят на Новую Землю в один день, убивают морских зверей (мор-
жей), привозят с собой моржовые головы со всеми зубами и молятся на них. А про-
мышленные люди говорили Стадухину, что даже кольца у саней с оленями делаются
только из моржового зуба, но что соболей, мол, у этих чукчей нет. А если государь
пошлет служилых людей на р. Колыму, ”и на тех де реках будет государев ясачный
38
збор большой и государеве казне будет прибыль великая, тут-де впредь и чает госу-
дарева ясашного большого збору, а соболи все добрые черные, и зверь коренной, да
лисицы все красные, да песцы, а иного опрично того никакого зверя на тех реках нет,
потому что место студеное. А они-де служилые и промышленные люди жили на тех
реках и кормились все рыбою, потому что те реки рыбные и рыбы всякой много”
(Открытия русских землепроходцев, 1951. С. 221-222). Не менее интересными были
сведения, содержавшие в ’’отписке” Стадухина и Гаврилова в Якутскую приказную
избу, касавшиеся похода на р. Мому в 1642 г.
”И нам учинилося ведомо, што есть река Мома, велика и людей по ней много, и
седячи люди по ней живут, а не кочевьем. А река рыбна и зверя по той реке много,
соболя и всякого зверя много, нельма и муксуны-де в той реке, и луги по той реке
великие, и дубровные места, и травны, а юрты древянные, а огня в юртах не держат.
И мы, слышечи про такову реку рыбну и зверисту, и собольну, што есть люди седячие
и соболей промышляют, и мы пошли на ту реку для проведыванья иных людей и для
ясачного збору” (С. 121). Несомненно, что это были первые записанные сведения о
животном мире открытых земель.
Географические открытия XVII в., осуществлявшиеся смелыми русскими земле-
проходцами и мореходами, с риском отправлявшимися в далекие суровые края
Восточной Сибири, следовали одно за другим. Это была эпоха трудных походов и
путешествий, нередко кончавшихся гибелью людей от морозов, цинги и стрел мест-
ных жителей, боровшихся с теми, кто не останавливался перед жестокостью. Экспе-
диции чаще всего организовывались по инициативе и на средства самих казаков, а
в ряде случаев снаряжались сибирскими воеводами. Почти каждый поход сопровож-
дался открытием новых мест для пушных и рыбных промыслов, сбором сведений о
животных и растениях неизвестных краев.
На протяжении короткого срока, всего шестидесяти лет, были открыты и обследо-
ваны течения и притоки крупнейших сибирских рек, берега и устья рек, впадающих в
Северный Ледовитый и Тихий океаны, п-ов Камчатка, оз. Байкал, р. Амур, земли,
расположенные по границам с Китаем.
Иван Москвитин, томский казак, посланный с 12 казаками на восток от Лены, в
1639 г. дошел до берегов Охотского моря, где пробыл два года, плавая на небольшом
суденышке и обследуя огромные пространства; по сохранившимся документам, он
собрал данные об особенностях рек, о рыбных богатствах (кета, горбуша), о млеко-
питающих прибрежных мест (выдры, соболи, красные лисицы). В 1643 г. Курбат Ива-
нов открыл Байкал. После того как Москвитин принес первые сведения об Амуре,
начались походы по этой реке Василия Пояркова (1643-1646) и Ерофея Хабарова
(1647-1651). Узнав из рассказов тунгусов о богатстве реки ”Ямур”, где множество
рыбы, скота, а соболей можно бить бабам коромыслами, казаки в жестоких схватках
с местными жителями - даурами - покорили этот край и присоединили его к русским
владениям. Более всего русских Амур привлекал своими соболями, рыбой и растени-
ем - табаком (законом запрещалось его нюхать). Кроме шкур соболей в Приамурье
попадались изделия из серебра, золота, а также неизвестная ранее ’’просяная” водка.
Поярков и Хабаров были авторами первых чертежей-карт Амура.
Эпоха великих географических открытий XV-XVII вв. ознаменовалась открытием
в 1648 г. пролива из Северного Ледовитого океана в Тихий океан. Это замечательное
открытие, остававшееся неизвестным почти целое столетие, связано с именем выдаю-
щегося русского морехода-первопроходца якутского казака устюжанина Семена
Лежнева (1605-1673), который совершил труднейшее морское путешествие: выйдя
из устья р. Колымы, он обогнул мыс, отделяющий Северный Ледовитый океан от
Тихого океана, и высадился южнее Анадыря.
Семен Иванович Дежнев родился в Великом Устюге. В 30-х годах он поступил ка-
39
заком в Тобольский, а затем в Енисейский острог. В 1638 г. Дежнев перешел в только
что основанный Якутский острог, где скоро занял положение ’’начального человека”.
Он участвовал во многих походах по сбору ясака. Осенью 1641 г. он вместе со служи-
лым человеком Дмитрием Михайловым ездил на р. Яну для ’’ясачного сбору”. В
1642 г. Дежнев был послан в качестве товарища служилого человека Михаила Стаду-
хина на р. Осмокон. Три года прослужил Дежнев в отряде Дмитрия Михайлова и Ми-
хаила Стадухина в Колымском остроге, откуда совершал походы на ’’непослушни-
ков, неясачных иноземцев”.
В 1647 г. в Нижнеколымском остроге образовалось торгово-промышленное товари-
щество с целью отправить экспедицию для добычи моржовых клыков и для отыска-
ния р. Анадырь, о богатствах которой между русскими ходили упорные слухи9. Во
главе товарищества стоял торговый человек холмогорец Федот Алексеев. По его
ходатайству в экспедиции принял участие С. Дежнев, который должен был соблюдать
интересы правительства: собирать ’’десятую” и другие пошлины промышленников в
пользу казны и объясачивать нерусское население.
В июне 1647 г. экспедиция на четырех кочах вышла из устья р. Колымы в Ледови-
тый океан и направилась на восток, но вскоре вынуждена была вернуться, так как
путь ее преграждали льды. ’’Однако, - писал Г.Ф. Миллер, - восприятая надежда к
дальнему продолжению морского их изобретения не токмо тем не пресеклась, но
паче на другой год число охотников из казаков и из промышленных людей еще более
умножилось, так что семь кочей изготовлены были, которые отправились все вместе
для помянутого проведения” (Миллер, 1973. С. 10).
В июне 1648 г. кочи вышли в море из устья Колымы. Только три коча во главе с
Алексеевым, Дежневым и Анкудиновым продолжили свой путь. Остальные кочи
пропали. Недалеко от Чукотского носа коч Герасима Анкудинова разбился об камен-
ную отмель. Люди с него перешли в два оставшиеся коча. Анкудинов поплыл в коче
Алексеева. В конце сентября 1648 г. оба коча обогнули Большой Каменный нос (мыс
Дежнева) и вошли в Берингов пролив.
Тем самым было совершено важнейшее географическое открытие XVII в. на восто-
ке Азии - доказано, что Азия и Америка разделяются проливом, соединяющим Ледо-
витый океан с Тихим.
Мореходы высаживались на берег, где имели схватку с чукчами, в которой был ра-
нен Герасим Анкудинов. Понеся потери, они вновь пустились в плавание по морю,
придерживаясь берега. В Беринговом море они попали в бурю, которая разнесла
кочи. Дежнев больше не видел коча Алексеева10. Его коч долго носило по волнам
и выбросило на берег много южнее Анадыря. Вот как описал это сам Дежнев: ”и в
прошлом же во 157 году ... того Федота со мною, Семейкою, на море разнесло без вес-
ти и носило меня, Семейку, по морю после Покрова всюду неволею и выбросило на
берег в передний конец за Анадырь реку, а было нас на коче всех двадцать пять че-
ловек и пошли мы все в гору, сами пути себе не знаем, холодны и голодны, наги и
босы, а шел я ... на Анадырь реку ровно десять недель”. До низовьев Анадыря дошли
только 12 человек из отряда Дежнева. Перезимовав, он построил лодки и двинулся
вверх по реке. Доплыв до зимовьев ’’анаульских людей”, он ’’погромил” их, взял
9В 1646 г. мезенец Исай Игнатьев в компании с промышленными и служилыми людьми совер-
шил плавание по Ледовитому океану от устья р. Колымы на восток (он дошел до Чаунской губы)
и привез добытую у прибрежных чукчей ценную моржовую кость ("рыбий зуб").
х.°Коч Алексеева, видимо, выбросило на берег. Об этом свидетельствует отписка С. Дежнева
якутскому воеводе в 1655 г. "А в прошлом во 162 году ходил я, Семейка, возле моря в поход и
отгромил я, Семейка, у коряков якутскую бабу Федота Алексеева, и та баба сказывала, что де
Федот и служилой человек Герасим померли цын^ою”.
40
ясак и основал там зимовье, впоследствии Анадырский острог. В нем он провел зимы
1649-1651 гг. В 1652 г. он стал начальником Анадырского острога (РБС. Т. 6. С. 166).
Дежнев был энергичным промышленником, разбогатевшим в результате открытия
им моржовых лежбищ на знаменитой корге - косе, отделяющей Анадырскую губу от
моря. С момента обнаружения им этих ценных морских животных последние стали
уничтожаться в огромных количествах. Так, летом 1652 г. Дежнев и Семенов напра-
вились вниз по Анадырю ”и нашли, - как передавал Дежнев в Якутск, - устье той
Анадыри-реки. Корга (коса) за губою вышла в море. А на той корге много вылягает
морской зверь морж, а на той же корге заморный зуб зверя того. И мы, служилые и
промышленные люди, того зверя промышляли и заморный зуб брали. А зверя на кор-
ге вылягает добре много, на самом мысу вкруг с морскую сторону на полверсты и
больше места, а в гору сажень на тридцать и на сорок. А весь зверь с воды с моря на землю
не вылягал, а в море зверя добре много у берегу. А потому всего зверя на землю не
выжидали...” (Дополнения к Актам историческим, 1851. С. 26-29).
В 1658 г. Дежнев отослал моржовую кость - ’’костяную казну” в Якутск в сопро-
вождении Никиты Семенова. А в 1662 г. Дежнев привез в Якутск 196 пудов моржовой
кости. В Якутске товары в казну скупала так называемая ’’съезжая изба”, которая
приобрела у Дежнева всю наличную кость. Привезенная кость стоила так много, что
в Якутске не хватало денег, чтобы расплатиться с промышленниками. В таких слу-
чаях промышленников направляли в Сибирский приказ, который за все расплачивал-
ся. ’’Моржевая кость, добытая трудами Дежнева и его товарище и переданная казне,
стоила 17 340 рублей” (С. 134). Это были огромные по тем временам деньги. В середи-
не XVII в. за 1 рубль можно было купить 1 пуд коровьего масла или небольшого, но
жирного быка, или 5-6 овец, или 1 берковец (10 пудов) меда; однако железный топор
тоже стойл 1 рубль (Костомаров, 1862. С. 211-280).
В 1662 г. якутский воевода поручил Дежневу доставить в Москву 196 пудов мор-
жовой кости11; такие поручения обычно давались в знак больших заслуг, так как
доставщика в Москве обычно ожидала награда. В 1664 г. Дежнев прибыл в Москву и
подал челобитную царю. ’’Царь государю ...самодержцу бьет челом холоп твой вели-
кие р. Лены Якуцкого острогу служилой человек Сенька Дежнев ... И с Колымы реки
поднялся я, холоп твой, морем - проведывать новых рек и приискал вновь, сверх
тех прежних рек, новую реку Анадырь, и на той новой на Анадыре реке, будучи на
твоей, великого государя, службе зимовье и острог поставил, и аманатов [заложни-
ков] поймал, и ясаку тебе, великому государю, и десятые [пошлины] собрал на той
новой реке 6 сороков 39 соболей и пластин собольих, 7 сороков 4 пупка собольих,
15 пуд 36 фунт кости рыбьи моржового зубу ...” Дежнев просил о выдаче ему денег
за отписанных в казну соболей и об уплате ему жалованья за все предшествовавшие
годы.
Весной 1665 г. Дежнев обращался к царю с челобитной, в которой указывал на
свою долгую и трудную службу и просил назначить его сотником или ’’как тебе, ве-
ликому государю, Господь Бог обо мне известит”. Ввиду того, что в Якутском остроге
было полное число сотников, Дежнев был назначен якутским атаманом.
20 марта 1670 г. Дежнев снова выехал из Якутска в Москву с соболиной казной и в
конце 1671 г. прибыл в Москву. Дальнейших сведений о деятельности Дежнева нет.
Он умер в Москве в 1673 г.
Первые данные о плавании С. Дежнева открыл выдающийся историограф академик
Г.Ф. Миллер, который в 1736 г. во время Камчатской экспедиции (1734-1743) нашел в
“Согласно распоряжению правительства, моржовая кость на всех торгах должна была отбирать-
ся и отсылаться в казну. За нее выплачивались деньги. В середине XVII в. 1 фунт моржовой кости
оценивался по средней цене в 1 рубль (Костомаров, 1862. С. 256).
41
документах Якутского воеводского архива сведения о Дежневе и высоко оценил их
значение. Так, в отписке, направленной якутскому воеводе весной 1655 г., говори-
лось не только о целях похода ’’послан я, Семейка, на новую реку на Анадыр для
прииску новых неясачных людей” (Дополнения к Актам историческим, 1851. С. 26-
28), но и о жителях северных островов - эскимосах, об обилии там моржовых клы-
ков, ’’рыбьего зуба”, который аборигены носили как украшение в нижней губе (”на
тех островах живут Чухчы, а врезываны у них зубы, прорезываны губы, кость рыбей
зуб ... становье тут у Чухочь делано, что башни из кости китовой” (С. 29).
Анадырский моржовый промысел стал важной статьей дохода Московского двора.
В 1898 г., спустя 350 лет с момента открытия пролива, отделяющего Ледовитый
океан от Тихого, мыс Восточный по ходатайству Русского географического общества
получил название мыса Дежнева.
Открытый Дежневым промысел на моржей на Анадыре представлял огромный ин-
терес для промышленных и торговых людей всей второй половины XVII столетия.
Расширение этого промысла - стимул к дальнейшему продвижению на восток.
Позднее в конце 90-х годов XVII в. промышленных и служилых людей стали при-
влекать самые отдаленные восточные районы Сибири, одним из которых является
Камчатка. Поход на Камчатку осуществил Владимир Атласов.
Владимир Васильевич Атласов (около 1661-1711), сибирский казак, пятидесятник,
возглавлявший поход на Камчатку (1697-1699), который завершился ее покорением,
немало способствовал расширению знаний о животном мире Камчатки. Человек мало-
образованный, лишенный каких-либо понятий морали, он вместе с тем обладал не-
дюжинным умом, большой наблюдательностью. Показания Атласова содержат много
сведений по географии, этнографии и зоологии. О его моральном облике можно су-
дить по следующему отрывку, приведенному Л.С. Бергом. ’’Пожалованный после
покорения Камчатка... в награду казачьим головой и посланный снова на Камчатку
для довершения своего предприятия, он на пути из Москвы в Камчатку решился на
крайне предерзостное дело: будучи в августе 1701 года на реке Верхней Тунгуске, он
разграбил следовавшие на судах купеческие товары. За это, несмотря на заслуги, был
посажен после пытки в тюрьму, где просидел до 1707 года, когда прощен и снова от-
правлен приказчиком на Камчатку. Здесь, во время восстания казаков в 1711 году,
убит” (Берг, 1935. С. 77). ‘
Во время похода на Камчатку в 1697 г. В. Атласов проехал на оленях в устье Пен-
жины и сообщил, что соболей там нет, а местные коряки питаются рыбой, нерпой и
всяким зверьем. Далее на оленях он проехал по западному берегу Камчатки и, повер-
нув на восток, Атласов вышел к берегу Тихого океана и ’’призвал под высокую цар-
скую руку ласкою и приветом” коряков, живших по р. Олютора. Атласов отмечал,
что недалеко в горах встречаются белые соболи, но олюторцы их не промышляют ,
потому что”в соболях они ничего не знают”.
Атласов в своих показаниях касался представителей фауны Камчатки. Он связы-
вал распространение зверей по рекам с обилием в них рыбы. ”А среди рыб в Камчат-
ской земле он отмечал особую, морскую, которая походит на семгу, и летом красна,
а величиною больше семги, а иноземцы ее называют овечиною12, а также обилие иных
рыб, 7 родов розных, а на русские рыбы не походят. И идет той рыбы из моря по тем
рекам гораздо много, и назад та рыба в море не возвращается, а помирает в тех ре-
ках и заводях. И для той рыбы держится по тем рекам зверь - соболи, лисицы, выд-
ры”. Атласов первым сообщил, как мы видим, сведения о миграции камчатских рыб.
Приводил он сведения и о зверях Камчатки. Он отметил, в частности, что в горах
водятся ’’белые” соболи (местная форма с неяркой окраской меха), указал на спосо-
12Имеется в виду чавыча (Берг, 1935. С. 91).
42
бы охоты на зверей. ”А соболей промышляют кулемами у рек, где рыбы бывает мно-
го, а иных соболей на дереве стреляют”. Писал он и о морских млекопитающих. ”А
в море бывают киты великие, нерпа, каланы, и каланы остаются на земле и их копья-
ми колют и по носу палками бьют, а бежать те каланы не могут, потому что ноги у
них самые малые, а берега дресвяные, крепкие”.
Походы русских полярных мореходов и землепроходцев, завершившиеся при-
соединением к Московскому государству Восточной Сибири, не только вписали яр-
кую страницу в историю великих географических открытий, но и внесли много новых
ценных сведений в знания о пушных и морских млекопитающих этого огромного
края.
Русское государство было заинтересовано в освоении этого края, оно нуждалось
в более подробных сведениях о его природных богатствах. Но реализация этого стала
возможной только в послепетровское время, когда в Петербурге была основана Ака-
демия наук.
СОСТОЯНИЕ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ
В XVI - НАЧАЛЕ XVIII в.
В средние века многие из уже накопленных в античности знаний о млекопита-
ющих были основательно забыты или же заменены различного рода фантастичными
представлениями и аллегориями. Но этот упадок уже не мог быть простым возвратом
к донаучному состоянию. Античные рукописи сохранялись и переписывались в Ви-
зантии, переводились на арабский, сирийский и другие языки, в ряде случаев с до-
полнениями, касающимися вновь открытых животных. Сборники рассказов о свой-
ствах и образе жизни животных: ’’Физиолог”, ’’Бестиарии” и др., в которых реальные
данные были перемешаны с вымыслом и нравоучениями, были широко распростране-
ны в западноевропейских странах.
В XIII—XIV вв. намечается рост териологических знаний в Западной Европе, кото-
рая постепенно превращается в ведущий регион в этом отношении. Первоначально
этот рост знаний выразился в усиленном внимании к позитивным результатам,
достигнутым в древнем мире; одновременно накапливались сведения в отношении
поведения диких зверей (сведения в трактатах об ’’искусстве охоты” и др.), по эколо-
гии и размножению млекопитающих, их морфологии и анатомии (благодаря более
широкому, чем прежде, применению диссекции, в том числе и человеческих трупов),
наконец, о новых видах. Так, у Альберта Великого (1193-1280) впервые встречаем рас-
сказы о белом полярном медведе, ласке и двух видах куниц; у Марко Поло (1254-
1324) - о зебу, курдючных овцах, ездовых северных оленях, гепардах, используемых
на охоте, суматрском носороге. Менее определенны его рассказы о соболе, тигре
(’’полосатом льве”) и белом медведе, о котором он услышал, несомненно, независимо
от Альберта. В те же столетия впервые появились переводы на латинский язык био-
логических работ Аристотеля и других античных авторов. Сначала это были перево-
ды с арабских переводов, затем уже и с греческих оригиналов.
К моменту появления книгопечатания подготовительная, в том числе текстологи-
ческая и терминологическая, работа по освоению античного наследия в области
териологии достигла уровня, при котором стало возможным опубликование таких
классических памятников, как ’’Естественная история” Плиния Старшего (I в. н.э.),
8-11-я книги которой посвящены животным, в особенности млекопитающим (Plini-
us, 1469), и как ’’История животных” Аристотеля - высшее достижение античной
териологии и в целом зоологии (Aristoteles, 1476 - лат. пер. Т. Газы; греческий ориги-
нал опубликован позднее).
Конечно, быстрые успехи, достигнутые териологией в эпоху Возрождения, стиму-
лировались не только книгопечатанием и углублением в античное наследие, но и
другими факторами. Среди них назовем успехи медицины и промышленности, ис-
пользовавших все новые виды сырья, в том числе животного происхождения; откры-
тие Нового Света, Австралии и других земель с неизвестной ранее фауной; совершен-
ствование методов наблюдения, эксперимента, коллекционирования; появление уче-
ных обществ и других форм сотрудничества между учеными. Для териологии XVI сто-
летия наиболее характерны процессы первоначального сбора материала, который мог
бы дополнить и разъяснить аристотелевско-плиниевские данные хотя бы в отдельных
пунктах, и обработка этого материала применительно к тем или иным группам. Так,
44
Рис, 17. Морское чудовище
М. Боме написал монографию о породах собак, другие авторы - о волках, грызунах и
т.д.; известный нидерландский гуманист Ю. Липсиус (1547-1606) в своей книге о сло-
нах, опубликованной посмертно (Lipsius, 1621), собрал все накопленные к тому вре-
мени данные об этих животных, которых уже можно было встретить в европейских
зверинцах. Появляются и сообщения о ранее вовсе не известных группах млекопита-
ющих: так, вскоре после открытия Америки стали попадаться сообщения о различных
видах опоссумов, а к 1516 г. относится первое известное изображение этого животно-
го (однако сумчатые Новой Гвинеи стали известны лишь столетием позднее, а австра-
лийские - в XVIII в.).
Начиная приблизительно с середины XVI в. появляются первые зачатки сравни-
тельно-анатомического изучения млекопитающих. Правда, к нему прибегали в от-
дельных случаях и античные авторы, а затем и Леонардо да Винчи, но в сколько-ни-
будь развитой форме этот метод представлен у Б. Евстахио (1510-1574) и особенно у
французского зоолога П. Белона (1517-1564), которому удалось проследить и изобра-
зить на гравюрах гомологию между всеми основными частями скелета млекопита-
ющих и птиц. Белон дал также описания выдры, бобра, гиппопотама (хотя сам его не
видел, но руководствовался античными рисунками и описаниями), тюленя, особенно
подробно - дельфина, приведя сделанные с натуры рисунок его матки с зародышем.
Но тем не менее всех перечисленных зверей на единственном основании их обитания
в воде Белон отнес к разряду ’’рыб” (Belon, 1553). Так же поступали Г. Ронделе и дру-
гие его современники. Появлялись и описания и даже ’’изображения” русалок, ’’мор-
ских монахов”, единорогов и прочих фантастических животных (рис. 17). Однако из
года в год аутентичный материал в работах зоологов все более оттеснял на задний
план унаследованные от древности предрассудки и произвольные допущения. Роди-
лась возможность и потребность создать труд, который обобщил бы старые и новые
данные о млекопитающих в масштабах этой группы в целом.
В первой половине XVI в. наиболее продвинули териологию в этом направлении
работы Эдуарда У отгона (1492-1555) в Англии и Конрада Геснера (1516-1565) в Швей-
царии. Хотя они в целом еще находились в плену аристотелевской классификации,
они уже делали важные шаги в направлении выделения более естественных групп, из
которых многие в том или ином ранге были восприняты последующей таксономией. В
качестве примера можно рассмотреть однокопытных, двукопытных и расщепленно-
палых (Solipedes, Bisulca, Multifida) Уоттона. Первые - это уже, по существу, непарно-
копытные, вторые - парнокопытные, с родами: бык, баран, козел, олень, лось, гиппо-
потам, верблюд, свинья. Третья группа сборная и характеризуется чисто отрицатель-
45
ным признаком, отсутствием соединения пальцев в копыто. Поэтому неправильно
переводить название этой группы через ’’многокопытные”, как иногда делают совре-
менные историки биологии (Лункевич, 1960, С. 287). Сюда Уоттон относит всех млекопита-
ющих с подвижными и отделенными друг от друга пальцами, но и в пределах этой
сборной группы у него намечены более естественные: обезьяны, собаки, грызуны и
другие, хотя названия для отрядов и семейств у него еще отсутствуют (Wotton,
1552).
В качестве примера уоттон&вских описаний, которые вместе с тем могут служить
как бы моделью для стиля и метода той эпохи вообще, с характерным смешением
достоверных, расплывчатых и фантастических сведений, переведем общее вступле-
ние Уоттона к разделу о мышах: ”В роде мышей встречаются некоторые виды, кото-
рые обитают в домах и не могут по справедливости считаться ни дикими, ни домаш-
ними животными, но по своей природе промежуточны между теми и другими. Впро-
чем, к приручению они малопригодны явно. Зубы у мышей растут непрерывным ря-
дом, пьют же они лакая, как собаки. Но в Африке имеются мыши, которые умирают,
если попьют. Сердце у мышей в отношении к размеру тела крупное. Желчный пузырь
у некоторых из них замечен, у других же он, видно, отсутствует... Поразительно воз-
никновение мышей, и в этом отношении они очень отличны от прочих животных: а
именно, если беременная самка мыши попадает в сосуд с просом, а спустя немного
времени сосуд откроют, то там окажется до ста двадцати мышей... Мыши часто возни-
кают в таком необыкновенном числе, что мало оставляют от всего урожая: притом
так быстро его пожирают, что иногда какой-нибудь земледелец средней руки накану-
не решит приступать к жатве, а на другой день придет утром со жнецами на поле и
обнаружит его целиком объеденным. В одной части Персидской земли, как сообщают,
если вскрывают самок мышей, то в них находят плоды женского пола, которые и сами
тоже являются беременными. Некоторые авторы с полным убеждением утверждают,
что мыши беременеют и без соития, если полижут соль... Сообщают также, что у уми-
рающих мышей в голове зарождаются мелкие черви. Говорят, что если положить
вместе много хлебов разного сорта, то мыши выберут из них самый хороший и имен-
но его обгрызут; поэтому считается, что таким образом можно вынести суждение о
том, какой хлеб лучше всех. Передают, что мыши, обитающие на острове Паросе, гры-
зут и переваривают железо. Аминтас пишет о том, что эту же самую пищу употребля-
ют мыши, живущие в Тередоне вавилонском. Маленькие мыши отвращают от нас
большие опасности: когда предстоят катастрофы, мыши заранее покидают то место.
Чтобы отогнать мышей от посевов, разбрызгивают по семенам разведенный или же
сваренный в воде пепел сожженой ласки или кошки” (С. 68).
Удивляться вере в самозарождение мышей не приходится: еще и столетие спустя
О. Варниус печатно отстаивал взгляд, что лемминги зарождаются в облаках и выпа-
дают оттуда с дождем. Немало сообщений такого рода (например, о ’’двойной беремен-
ности” мышей) восходят к ’’Истории животных” Аристотеля или к апокрифам, цирку-
лировавшим в средние века под его именем. Поэтому (а также из-за влияния аристо-
телевской классификации и морфологии) прорыв к научной биологии воспринимал-
ся прежде всего под углом зрения преодоления Аристотеля, что было не совсем спра-
ведливо по отношению к позитивному материалу, содержащемуся в его ’’Истории жи-
вотных”.
Отталкивание от этого труда или некое соперничество с ним чувствуется и в том,
что К. Геснер назвал свой пятитомный труд по зоологии ’’Историей животных”
(Gesnerus, 1551-1587, рис. 18). Хотя этот труд не свободен от ’’описаний” различного
рода фантастических зверей, в нем все же преобладает трезвый подход, а многие
виды непосредственно документированы экземплярами, хранившимися в виде чучел
или засушенных частей в созданном Геснером кабинете-музее. На первый взгляд
может создаться впечатление, что, будучи неудовлетворен аристотелевской класси-
46
CONRADI GESNERI
mcdici Tigurini Hiftorise Animalium
Liber 1111. qui eft de Pi f ci um &
Aquatilium ammantium
пашга.
С V M IС О NI В V S SINfGVLORVM AD
VIVVM ЕХРЛЕИ15 FERE ОМКГ8. PCCV1.
{ynfinentur tn fa , G V LI f IM 1 R О N DE L E T l t 4C(fel;*
mreifttnji fritfffforii Ktgy tn Seboh g/ pf tri bf m
l ONi i Ctncman^ rnfdicihotifrnporeLbtttife*(my, de
csfyuat >J>n m pK^tih/jcr^ra.
AD I N VIC TU JIM VM P HI M 0I> t M, 01 V VM Ft R D l N A N«
dum Impf ratorem temper AuguOum, 6dc,
cvm РНмИ|>£1]8$, Carfare Maieftat*sadod1enrvurri,& poien*
liTsian Rcgi’s Calh'arufYi ad dtctnniunrv
TlCVRI APVO CrtRUToH, J ft 0$c НО V £ Л V M ,
ANNO M, %, LVitL
Puc. 18. Титульный лист сочинения К. Геспера "История животных"
фикацией с ее делением животных на имеющих роль и якобы не имеющих, далее по
числу ног, обитанию в воде или на суше или вообще по не раскрывающим сути при-
знакам, - будучи неудовлетворен ни этой, ни (еще менее) позднейшими средневеко-
выми схемами, Геснер вообще отказывается от классификации, почему и располагает
животных по алфавиту. Однако это не совсем так. Прежде всего, Геснер фактически
первый выделил млекопитающих в целом из остального животного мира. Он сделал
это, не придав им какой-нибудь определенный таксономический ранг, но просто
посвятив им (’’живородящим четвероногим”) первый том своего труда, подобно тому
как второй том посвящен, по современной терминологии, рептилиям, третий - пти-
47
Рис. 19. Носорог из сочинения К. Геснера "История животных" (гравюра А. Дюрера)
цам и т.д. Далее, он уже различал род и вид и делал попытки сближения различных
родов между собой по степени их сходства. Например, Геснер значительно подроб-
нее, чем Уоттон, рассматривает обезьян, парнокопытных, кошачьих и т.д.; он приво-
дит их многочисленные виды (начиная каждый раз от ’’центрального”, по его мнению
наиболее характерного для данного рода), а иногда и снабжает описания высокохудо-
жественными иллюстрациями. Так, знаменитым стало изображение носорога, при-
надлежащее резцу А. Дюрера, который сделал эту гравюру на основании рисунка с
натуры Валентина Фернандеса (рис. 19). Этот художник предоставил Дюреру свой на-
бросок, сделанный с натуры, с животного, присланного в 1515 г. в Лиссабон порту-
гальскому королю в подарок от короля Камбоджи и вызвавшего живой интерес по
всей Европе (Bogaert-Damin, Piron, 1987. Р. 20).
Как ранняя попытка таксономической группировки млекопитающих ценны опуб-
ликованные Геснером в 1553 г. ’’Изображения животных живородящих четвероно-
гих” (Gesnerus, 1553), где автор отказывается от алфавитного принципа и выделят че-
тыре основные группы: копытные, хищные, обезьяны (здесь же виверры и ряд дру-
гих), грызуны. Таково основное наполнение отрядов, самих же этих наименований
Геснер не дает, ограничиваясь нумерацией (отряд первый, второй ...) и нередко пере-
тасовывая виды причудливым образом. Но тенденция к сближению сходных родов у
него проступает явственно.
Так, в группу Bos-Vacca (хотя это еще и не род в современном понимании) Геснер
включает практически всех тех животных, которые были позднее объединены Лин-
неем в таксон под наименованием Bos, ставший, таким образом, отправным пунктом
для всей позднейшей номенклатуры диких и домашних быков. Правда, нередко Гес-
неру не удается добиться действительно органичного сближения таксонов, и он груп-
пирует их случайным или чисто традиционным образом, например: включает летучих
мышей в число птиц - ошибка, воспроизведенная после него и другими авторами,
например К. Клюзием во Франции и итальянским биологом У. Альдрованди (1522—
48
1605), который вообще во многом, прежде всего в своих гравюрах и рисунках, повто-
ряет Геснера (рис. 20).
Вместе с тем работы Альдрованди представляют самостоятельный интерес в тех от-
ношениях, что он описал немало еще неизвестных Геснеру видов американской,
африканской, индийской фауны. Альдрованди широко привлекал для диагностики
анатомические признаки, а также пытался интерпретировать внешнее и анатомиче-
ское сходство между организмами в духе позднейшего понятия ’’сродства”. Териоло-
гических работ Альдрованди при жизни почти не публиковал, но его подход в этой
области выясняется из очерков, опубликованных посмертно (Aldrovandus, 1616, 1621,
1642 и др.). Среди них, в частности, его тератологический обзор (Aldrovandus, 1642)
сохраняет двоякое значение: во-первых, как собрание рисунков известных в ту пору
редких фенотипических проявлений (волосатые люди, гермафродиты, люди, рожден-
ные без рук или ног, зубы и другие части скелета ископаемых зверей, непривычные
глазу европейца ’’эфиопы”, т.е. негры, и гиганты-патагонцы; существа со сросшимися
телами типа сиамских близнецов, в том числе среди копытных; см. иллюстрации и
текст там же, с. 17, 35, 37, 40, 42, 404-423, 476-481, 579, 605, 638-645); во-вторых, как
путеводитель по фантастическим представлениям о млекопитающих в эпоху, когда
поток сведений из новых стран сбил все привычные идеи (рис. 21). Здесь мы встречаем и
’’морского монаха”, и песиголовцев, и взрослого двухголового барана, и ребенка с
заячьими ушами и т.д. Пожалуй, первым териологом, который отбросил подобные
приемы стимуляции интереса читателей, был Дж. Рей (см. ниже). Прочие из пере-
численных работ Альдрованди изобилуют ссылками на античных авторов, гречески-
ми цитатами, многоязычными этимологиями, но, как было зафиксировано еще
Ж. Бюффоном и Ж. Кювье, бедны самостоятельными наблюдениями и потому не ока-
зали большого влияния на развитие териологии (см. анализ этого обстоятельства в
работе: Bogaert-Damin, Piron, 1987. Р. 29-30; здесь же показано, что основной заслугой
Альдрованди было стремление расположить материал, почерпнутый у Геснера, Бело-
4. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
49
Рис, 21, Раздел туши кита (древняя гравюра)
на и других путешественников, по принципу анатомического ’’сродства”. Но и это
удалось ему сделать в основном применительно скорее к рыбам и птицам, нежели к
млекопитающим).
Что касается собственно териологии, то здесь углубление интереса к ’’сродству”
животных, к их реальной таксономической близости было достигнуто не ранее вто-
рой половины XVII в. и прежде всего в Англии, где тенденция к разработке ’’есте-
ственного метода” была наиболее сильна. В этом сыграли свою роль укоренившаяся
традиция философского и научного эмпиризма и успехи в деле разведения сельско-
хозяйственных животных, а также такой фактор, как открытие и исследование мно-
гочисленных новых земель английскими путешественниками. Более ранние откры-
тия (испанские, голландские) также дали немало сведений о млекопитающих экзоти-
ческих стран, но они оставались в основном не собранными воедино и неопублико-
ванными. Однако исключения тоже заслуживают упоминания. Так, голландец В. Пи-
зон, путешествуя по Южной Америке совместно с немецким врачом Г. Марграфом в
1630-х годах, научно описали морскую свинку, ламу, южноамериканских сумчатых.
Голландец Тульпиус одним из первых стал изучать человекообразных обезьян и дал
описание и гравюру орангутана, смешав его, впрочем, с шимпанзе. Он же выяснил
природу загадочного продукта - ’’рога единорога”, издавна бытовавшего на европей-
ских рынках. Это оказался зуб нарвала. Тульпиус дал и первичную зарисовку чере-
па нарвала (Плавильщиков, 1941. С. 46-48).
Еще одна зоологическая работа, альбом А. Колларта, была опубликована в Нидер-
ландах вообще без текста, однако представляет историко-научную ценность в том
отношении, что млекопитающие изображены в ней на фоне соответствующей каждо-
му из них природной среды (Collaert, 1612). Наконец, нельзя обойти молчанием
опубликованную в Антверпене Нирембергиусом (но фактически по данным Ф. Эрнан-
деса и Н.А. Рекки, обследовавших в конце XVI в. Мексику по поручению испанского
короля Филиппа II) ’’Историю природы” (Nierembergius, 1635). Благодаря этой книге
европейские ученые впервые получили целостное впечатление о фауне млекопита-
ющих Нового Света, известной ранее лишь по разрозненным упоминаниям.
В те же годы, когда Нирембергиус готовил свою ’’Историю природы”, в Англии про-
изошло событие, радикально углубившее самые основы представлений о млекопита-
50
ющих как таксоне и их месте в едином мире позвоночных, или, как тогда говорили вслед за
Аристотелем, ’’животных с кровью”: У. Гарвей (1578-1657) разработал и опубликовал свою
модель кровообращения. Многие важные черты млекопитающих (четырехкамерное
сердце, постоянство температуры, легочное дыхание) получили неожиданно новое,
научное истолкование. Притом если намеки на большой круг кровообращения, хотя
и неправильно понятый (с печенью в центре вместо сердца), встречались еще у антич-
ных авторов, то описание малого, легочного круга было абсолютно новым открыти-
ем. Позже благодаря многочисленным вскрытиям млекопитающих и других живот-
ных, в основном из тех, что содержались в вольерах королевского Виндзорского пар-
ка, Гарвей установил важнейший для понимания общности млекопитающих с други-
ми классами животного мира факт: наличие в начале онтогенеза каждого многокле-
точного животного организма стадии яйца.
В течение XVII-XVIII вв. путешественники не переставали привозить и описывать
все новые виды животных из различных стран. У. Дэмпьер задолго до путешествий
Дж. Кука открыл на западном берегу Австралии кенгуру (вскоре позабытое, откры-
тие это было потом подтверждено плававшим с Куком Дж. Бэнксом). Открывались
все новые и новые виды также в Индии, Юго-Восточной Азии, Африке, Америке и т.д.
Появлялись и сводки всего накопленного материала, более насыщенные по сравне-
нию с упомянутыми нами ранее. Так, значительный массив данных по анатомии, мор-
фологии, систематике и географии млекопитающих был обобщен в ’’Естественной
истории четвероногих” Дж. Джонстона, подчас все еще не свободной от мифических
представлений (см. например, изображение знаменитой мартихоры Ктесия и Аристо-
теля чего-то наподобие льва с человеческим лицом и хвостом скорпиона...), хотя
здесь их уже несравненно меньше, чем, например, у Альдрованди. Однако существен-
но, что классификация у Джонстона весьма хаотична, отряды млекопитающих пере-
мешаны, киты отнесены к рыбам и вообще млекопитающие не очерчены с определен-
ностью как группа. Но уже Дж. Рей (1627-1705) в своем ’’Обзоре четвероногих”
вполне отчетливо обособляет собственно зверей от всех прочих позвоночных (конеч-
но, ни он, ни другие доламарковские авторы не употребляют этого термина, а говорят
о ’’животных с кровью”) и выделяет млекопитающих по признаку наличия млечных
желез и вместе с тем как ’’легочнодышащих живородящих” или как ’’живородящих,
покрытых шерстью”. Далее он классифицирует их на копытных, когтистых и плава-
ющих. Здесь очевиден недостаток общего принципа деления, но сами по себе группи-
ровки подмечены удачно и, как отмечают современные историки биологии, это был
важный шаг вперед по сравнению с более ранними классификациями (Hays, 1973.
Р. 120). В числе копытных Рей далее выделил парнокопытных, непарнокопытных и
’’многокопытных”, относя к последним такие менее типичные с точки зрения ”ко-
пытности” формы, Как носороги и гиппопотамы. В составе парнокопытных у него фи-
гурируют, с одной стороны, полорогие, с другой - обладающие массивными рогами.
Впервые придав должное диагностическое значение когтям, Рей разбил своих ’’ког-
тистых” на группы соответственно с плоскими (обезьяны) и кривыми (хищники) ког-
тями. Еще существеннее, что для выделения групп в пределах млекопитающих Рей в
гораздо большей степени, чем все его предшественники, использовал признаки зуб-
ной системы (Ray, 1693). Таким образом, классификация млекопитающих постепенно
приобретала общие очертания, близкие к современным, по крайней мере в отноше-
нии крупнейших подразделений.
Благодаря своему более отчетливому классификационному подходу Рей смог ис-
править многие ошибки своих предшественников. Так, летучая мышь у него уже
вполне определенно зачислена в млекопитающие, хотя различных видов и родов
рукокрылых он еще не признавал, называя всех их просто ’’летучая мышь”. Рей дал
определение понятия вида как формы, ’’специфически отличной от всех других
форм”. Впрочем, конечно, он еще признавал неизменность видов, за исключением от-
51
Рис. 22. Музей естественной истории
дельных и редких случаев, когда новые виды могли образоваться под прямым
влиянием среды, в основном при одомашнивании. Наличие ископаемых форм Рей
объяснял тем, что это остатки от эпохи до ’’всемирного потопа”; такое объяснение
помогало игнорировать палеонтологические данные в пользу изменчивости (Ray,
1692).
В целом приблизительно такова же была и точка зрения по данному вопросу дру-
гих териологов конца XVII - первой половины XVIII в., включая К. Линнея (1707—
1778), который, впрочем, делал больший упор на возможность видообразования пу-
тем гибридизации. Отметим, что ’’Система природы” Линнея, опубликованная в
1735 г., и особенно ее десятое издание (Ьшпё, 1758) в номенклатурном отношении мо-
жет считаться завершающей для рассматриваемого периода, поскольку именно из нее
было признано впоследствии удобным исходить при установлении приоритета важ-
нейших таксонов млекопитающих и других животных. В построении системы млеко-
питающих Линней мало отдаляется от Рея. Но Линнею удалось углубить териологию в
методологическом отношении, до некоторой степени унифицировать ее с другими
разделами частной биологии благодаря гибкому применению ’’искусственного” мето-
да, классифицирующего наиболее крупные группы по существенным признакам с
единым основанием деления (для млекопитающих таким основанием послужило
строение зубов); а также благодаря бинарной номенклатуре и емкому и сжатому сти-
лю описаний, высвечивающих наиболее яркие черты.
Вот, например, описание нового для европейцев животного, трехпалого муравье-
да: ’’Зубов нет, язык ровный, вытягивающийся, тело покрыто шерстью... [Вид] му-
равьед трехпалый: М. с трехпалыми кистями, пятипалыми стопами... Обитает в
Южной Америке... Питается муравьями и другими насекомыми, разгребая их жилища
когтями. От груди к бокам идет черная полоса. Млечных желез на груди две, на
52
Рис. 23. Кабинет сравнительной
анатомии Ботанического сада
в Париже
животе шесть. Ходит медленно;
укрывается вееровидным хвос-
том; может взбираться и на де-
ревья” (1Лппё, 1758. Р. 35).
Появились новые методы
охоты и коллекционирования;
в начале XVIII в. для консерва-
ции образцов стали применять
спирт. Лондонский хирург и те-
риолог-любитель Дж. Хантер
(1728-1793) усовершенствовал
восходящий к Белону сравни-
тельно-анатомический метод и
организовал для его иллюстра-
ции обширный музей, где распо-
ложил заспиртованные органы
млекопитающих и других жи-
вотных в функционально-ана-
логические ряды (конечно, от-
нюдь не эволюционные, по-
скольку и он не сомневался в
постоянстве видов) (рис. 22).
Большой популярностью во всей Европе пользовался кабинет сравнительной ана-
томии ботанического сада в Париже (рис. 23).
Таким образом, репутация, закрепившаяся за XVII—XVIII вв. в историко-биологи-
ческих исследованиях как периодом заложения i методологических основ науки и
вместе с тем периодом господства ’’метафизического” мышления (в частности, прин-
ципа постоянства видов), оправдывается также и на материале истории териологии.
Философско-теоретические концепции жизни, сформулированные в тот период столь
разными в остальных отношениях мыслителями, как Г.В. Лейбниц, французские
энциклопедисты или врачи-просветители Г. Бургав и А. Галлер, в этом отношении (по
вопросу о постоянстве видов) мало разнились друг от друга. Но постепенно накапли-
вавшийся фактический материал относительно изменчивости и отбора, той же гибри-
дизации, распространения видов, отличия ископаемых форм от ныне живущих
и т.д. - весь этот материал объективно подготовлял наступившее в дальнейшем
углубление исходных принципов таксономии, морфологии и других аспектов терио-
логии; подготовлял тенденцию к объективному анализу как места млекопитающих в
системе животного мира в целом, так и отношений в пределах самой этой столь важ-
ной практически и теоретически группы (в том числе и отношений, связанных с
видом, его изменчивостью и историей).
53
ПОСЛЕПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД.
ПЕРВЫЕ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.
ЗАРОЖДЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕРИОЛОГИИ
(ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.)
Д.Г. МЕССЕРШМИДТ -
ПЕРВЫЙ УЧЕНЫЙ-НАТУРАЛИСТ,
ИССЛЕДОВАВШИЙ ЗВЕРЕЙ СИБИРИ
Даниил Готлиб Мессершмидт (1685-1735) родился 16 сентября 1685 г. в Данциге
(Гданьске). Его отец, родом из Померании, был главным корабельным испектором,
состоявшим на службе польского короля Иоанна-Казимира. Он дал своим детям - а
их у него было четверо (Даниил был младшим) - хорошее домашнее начальное обра-
зование, в котором особое внимание было уделено изучению языков, в том числе
древних. Даниил знал греческий, латинский и еврейский языки. Мессершмидт полу-
чил блестящее естественнонаучное образование. С 1706 г. он начал изучать медицину
в Йенском университете, где преподавали известные профессора: много путешество-
вавший по дальним странам Р.В. Краузе, ботаник И.А. Слефогт, Г.В. Ведель и Э.Х. Ве-
дель, читавшие лекции по химии и фармации. Затем (с 1708 г.) он учился на медицин-
ском факультете университета в Галле, где под руководством профессора Ф. Гофмана
прошел курс медицины, ботаники и зоологии. В 1713 г. он закончил Галльский уни-
верситет и, защитив диссертацию на тему ”0 разуме как главенствующем начале всей
медицинской науки”, получил степень доктора медицины. Вернувшись в свой род-
ной город, Мессершмидт занялся врачебной практикой, но не утратил интереса к
естествознанию. В Данциге он сблизился с профессором И.Ф. Брейном - основателем
знаменитого тамошнего естественноисторического музея. Мессершмидт считал, что
своими знаниями в области натуральной истории он во многом обязан Брейну. Он
писал: ’’Пользуясь его просвещенными беседами, я не только получил доступ к ис-
следованию тех богатейших... естественнонаучных предметов, которые он хранит в
своей коллекции, но... был в состоянии после того на практике, в ряде организован-
ных с этой целью экскурсий, исследовать сокровища своей страны” (Новлянская,
1970. С. 8).
С 1716 г. Петр I во время войны со шведами взял штурмом Данциг, в котором нахо-
дился поддерживаемый шведами претендент на польский престол. В Данциге Петр I
посетил музей Брейна и под большим впечатлением от осмотра попросил порекомен-
довать ученого, который мог бы создать аналогичный музей. И.Ф. Брейн рекомендо-
вал Петру I своего друга доктора медицины Д.Г. Мессершмидта.
В сентябре 1717 г. Петр I через своего лейб-медика Р.К. Арескина пригласил Мес-
сершмидта на службу для исследования природных богатств России. Ему был опреде-
лен оклад в размере 500 руб. в год. Кроме того, Арескин намекнул Мессершмидту,
что ему будут ’’предоставлены права и законные преимущества заведующего музеем
с соответствующим увеличением оклада” (С. 9).
В феврале следующего года Мессершмидт выехал в Ригу, а в начале апреля отпра-
вился из Риги в Петербург.
В ноябре 1718 г. вышел указ Петра I о посылке Мессершмидта в Сибирь, который
сохранился среди бумаг Мессершмидта в архиве Академии наук; в нем говорится:
”По именному своему великого государя указу доктора Мессершмидта послать в Си-
54
Рис. 24. Экспозиция музея естественной истории
бирь для изыскания всяких раритетов и аптекарских вещей, трав, цветов, кореньев и
семян, и прочих принадлежащих статей, в лекарственные составы избирать, присы-
лать в Санкт-Петербург в главнейшую аптеку” (Пекарский, 1862. С. 352). Спустя пол-
месяца с момента выхода указа покровитель Мессершмидта доктор Арескин скончал-
ся. Его функции стал выполнять Л.Д. Блюментрост, который, как лейб-медик царя,
одновременно возглавил Библиотеку и Кунсткамеру, а его брат И.Д. Блюментрост
был назначен ’’архиатером и президентом Медицинской канцелярии” и ’’всего Меди-
цинского факультета”. Таким образом, Мессершмидт должен был отказаться от
надежды занять пост директора музея. Более того, Мессершмидт оказался в непо-
средственном подчинении своего недоброжелателя, возглавлявшего Медицинскую
канцелярию, в которую он должен был присылать все собранные им материалы и за
счет которой ему должна была производиться в Сибири выплата жалованья.
В марте 1719 г. Мессершмидт выехал из Петербурга в Москву в сопровождении
двух солдат-денщиков. Помимо указа от 15 ноября 1718 г., он не имел с собой ника-
ких правительственных распоряжений, которые предписывали бы местным властям
оказывать помощь натуралисту в его путешествии. По приезде в Москву он скоро
ощутил, насколько они были необходимы. Несколько месяцев ученый потратил там
на бесплодные хлопоты, направленные на увеличение числа участников экспедиции
и ее снаряжения. Как выяснилось в Москве, совершить путешествие отряд Мессер-
шмидта мог только вместе с посольством Л.В. Измайлова, которое направлялось в
Китай. Часть пути можно было пройти вместе с ним. Получив разрешение ехать в сви-
те посольства до Тобольска, Мессершмидт примкнул к прибывшему в Москву из
Петербурга посольству.
Из Москвы оно проследовало через Казань, Соликамск и Тюмень. Путешествие с
посольством не благоприятствовало научным наблюдениям и сбору материалов: уче-
ный не мог сделать по своему желанию остановку или совершить небольшую поездку
в сторону.
В Тобольске Мессершмидт получил письмо от президента Медицинской канцеля-
рии И.Д. Блюментроста (24 сентября 1719 г.), в котором сообщались задачи, ставив-
шиеся перед путешественником. Мессершмидту надлежало ’’тщательно описать и
прислать в Петербург все, что нашли достойным внимания из царства животного,
растительного или минерального во время вашего путешествия до Казани, а оттуда -
в Сибирь” (Новлянская, 1970. С. 13). В директивах Медицинской канцелярии указы-
валось на важность наблюдений, которые могли бы способствовать ’’расширению воз-
можностей медицины”. В этом заключалась практическая направленность экспеди-
ции. В Тобольске Мессершмидт составил план научных исследований, намного пре-
восходивший предложенный ему, и отправил его в Петербург. Все намеченные по
договору исследования Мессершмидт производил, в сущности, самостоятельно. Он
сам анатомировал животных и птиц, изготовлял их чучела, проводил географические
измерения, чертил карты, составлял коллекции, ежедневно вел подробный дневник,
занося в него все сделанные за день наблюдения. Ему помогал охотиться его пере-
водчик и слуга Петер Кранц, русские мальчики, а также пленные шведы, особенно
капитан Ф.И. Страленберг.
Блюментрост рекомендовал лишь наблюдать и собирать разного рода редкости.
Мессершмидт же считал необходимым не только описывать увиденное, т.е. памятни-
ки древности, жилища и одежду народов, растения, животных и птиц, минералы, но и
делать зарисовки их. Намеченная Мессершмидтом обширная программа исследова-
ний по истории, географии, этнографии, филологии, минералогии, ботанике и зооло-
гии была им осуществлена в значительно большем объеме.
Собранные Мессершмидтом по возвращении из экспедиции зоологические, ботани-
ческие и этнографические коллекции были огромны. Академик Г.Ф. Миллер, кото-
рый был секретарем академической комиссии, принимавшим привезенные коллек-
ции, констатировал, что материалов собрано необычайно много: он писал, что их
число ’’превзошло всякие ожидания”.
Зоологические коллекции Мессершмидта явились первым существенным вкладом
в экспозицию отечественной фауны Кунсткамеры (рис. 25).
’’Как велики были труды Мессершмидта, можно уже судить по одному образчику:
его Mantissa ornitologica в академической библиотеке состоит из восемнадцати томов”
(Пекарский, 1862. С. 151).
Намеченный маршрут путешествия Мессершмидта был обширным и разнообраз-
ным: в него входили важные районы Западной и Центральной Сибири, начиная с
Тобольска и кончая Мангазеей (устьем Нижней Тунгуски) на Севере; предполагалось
обследовать также Забайкалье и северные районы Монголии (рис. 26).
Первые научные данные были собраны ученым за полтора года пребывания в То-
больске, откуда он отправил свои коллекции в Петербург. Это был каталог растений,
чучела и рисунки птиц, образцы минералов и коллекции насекомых. Эти материалы
о Сибири имели тогда большое значение. Рисунки и описания птиц Мессершмидта
были отправлены Петром I в 1712 г. вместе с новой картой Каспийского моря в Па-
рижскую академию наук. Французские ученые высоко оценили орнитологические
описания Мессершмидта и заявили, что ’’желают, чтоб прочие части истории нату-
ральной всех российских провинций тако же обстоятельно описать, и начальнейшие
вещи красками, колйко возможно будет, разделять” (С. 355-356).
Свои исследования млекопитающих Мессершмидт начал проводить в Томском
уезде. Но, прежде чем их предпринять, ему пришлось писать прошения, напомина-
ющие о целях путешествия, просить помощи в отношении людей, лодок, инвентаря и
выплаты причитавшихся ему денег. Находясь в енисейских степях, Мессершмидт
писал, например, следующее: ”... прошу я у 1ебя, приказный Алексей Прохорович
Абаканского острога, чтоб ты был послушен великого государя указу с казаками и
татарами, которые тебе приказаны: (выбери) трех или четырех человек удалых
56
Рис. 25. Кунсткамера (Петербург)
молодиов, чтобы они шли на промысел, куда я их пошлю, здесь есть всякий зверь:
росомахи, выдры, табарги (кабарги), лисицы, рыси, козы, бобры, горностаи, ластицы
(ласки), куницы, соболи, белки, олени, лоси. И всех тех зверей, которые здесь обрета-
ются, чтоб они уловили и мне объявили всяких по гнезду и с кожами и с мяссм...
чтоб они казаки были не ленивы и не, лукавы - добудут и мне не объявят, чтоб мне
здесь зиму прожить не даром” (С. 356).
На протяжении пяти месяцев Мессершмидт путешествовал в юГо-восточной части
Красноярского края, в верховьях Енисея, Абакана и их притоков, собрав много но-
вых сведений и богатейшие коллекции. Ему пришлось на плотах и в лодках преодо-
левать бурные реки, пробираться через труднопроходимые болота, леса и горные тро-
пы. В болотистых низменных местах путешественники очень страдали от комаров,
которых было так много, что ’’застилали свет”. Маленьких мошек ученый называл
москитами. От их ядовитых укусов кожа вздувалась и было крайне трудно работать,
тем не менее Мессершмидт ежедневно вел записи в своем дневнике, постоянно по пу-
ти пополнял свои коллекции находками, которых было так много, что во время оста-
новок еле успевал делать необходимые описания.
В устье р. Бирь у Мессершмидта состоялась дружественная встреча с местными та-
тарами, предводитель которых преподнес ему в подарок молодого быка и бобровый
мех. Двигаясь далее, к югу, у р. Ненья путешественник оказался в местах, где води-
лось множество диких зверей: лосей, волков, медведей, диких кабанов. На одной из
узких скалистых троп лошадь и экипаж свалились в речку Малый Кицык. Мессер-
шмидт едва успел выпрыгнуть. В этих местах встречались древнейшие памятники -
каменные столбы в два с половиной человеческих роста и каменные пл илы могил, на
57
Рис. 26. Карта путешествий Д.Г. Мессершмидта
1— путь следования, 2 —города
которых были выдолблены рисунки различных зверей - оленей, медведей, косуль,
лошадей и др. (Messerschmidt, 1964. S. 295).
Добравшись до р. Абакан, Мессершмидт преодолел тяжелую дорогу, которая шла
через скалистые горы, поросшие непроходимыми лесами. В конце концов проводни-
ки отказались двигаться дальше. Пришлось вернуться на берег Енисея. Здесь путе-
шественников настиг ураган, им с трудом удалось спастись, однако при этом погибла
часть ценных орнитологических коллекций. В начале октября Мессершмидт прибыл
в Красноярск, где ему пришлось провести зиму.
Во время пребывания в Красноярске ученый обрабатывал и описывал собранные
им коллекции, изготовлял чучела зверей и птиц, вставлял в стеклянные оправы кол-
лекции насекомых - бабочек, стрекоз, кузнечиков и др., делал разнообразные зари-
совки. Много времени уделял он анатомированию и описанию позвоночных. Кроме
рисунка и краткого описания уродливого теленка с двумя головами и тремя ногами,
Мессершмидт анатомировал и детально описал труп волка, отметив, что имеется
большое сходство его внутренних органов и зубов с внутренними органами и зубами
собаки.
В своем ’’Дневнике” Мессершмидт отмечал не только природные особенности и
богатства Сибири. Он сообщал о нравах и обычаях аборигенов (записал множество их
слов), а также о различных беззакониях, творимых местными властями, - казно-
крадстве, произволе, бюрократической волоките. Чиновники часто не понимали за-
58
дач, стоявших перед натуралистом, и мешали его деятельности. Приходилось пре-
рывать путешествие, надолго задерживаться.
Мессершмидт намеревался отправиться вниз по Енисею в Мангазею (располагалась
около нынешнего г. Туруханска), а также на берег Северного Ледовитого океана.
Начав путешествие в самом начале июня, когда еще деревья не зазеленели, он отме-
тил в своем ’’Дневнике”, что в этот период ранней весны здесь еще мало птиц и встре-
чаются лишь полярные нырки, кукушки, чирки и сойки. В д. Вороговка Мессершмидт
записал: ”Мы здесь застрелили двух больших водяных крыс, из которых одна была
совершенно черная и весила 185 г, а у другой на затылке и под горлом были белые
пятна и весила она 421,5 г ... В окрестностях в большом количестве водятся зайцы,
лисицы, росомахи, огромные хищные медведи, которые не боятся человека, на
маленьких речках, впадающих в реку Сим, встречается много бобров и выдр, кото-
рых особенно много на озерах” (S. 60).
В местах, где Енисей течет среди скалистых берегов, обитали различные птицы:
гуси, утки, глухари, дрозды и черные журавли. Там Мессершмидт впервые застал бе-
лые ночи. ’’Здесь, - писал ученый, - нет ни ночи, ни даже сумерек” (S. 61).
Путешествие на берег Северного Ледовитого океана было сопряжено с опасной
зимовкой (Мессершмидт был слабого здоровья), поэтому, достигнув Мангазеи, он ре-
шил ехать по Нижней Тунгуске вверх до Лены, а затем до Иркутска.
Путешествие по Нижней Тунгуске было необычайно трудным из-за порогов,
резких перепадов температуры, а также туч насекомых. ’’Было так много мошкары, -
отмечал Мессершмидт, - что нельзя было не только видеть то, что делается по сторо-
нам, но вообще нельзя было даже раскрыть глаз” (S. 87-88).
Поход по Нижней Тунгуске продолжался около трех месяцев. Мессершмидт был
первым, кто описал внешность, обычаи и быт кочевавших здесь тунгусов (эвенков),
занимавшихся рыбной ловлей и охотой. Тунгусы, державшие собак и оленей, были,
по Мессершмидту, необычайно ловкими и меткими стрелками из луков; он подроб-
но описал их орудия лова: стрелы, луки, копья, капканы и западни. Мессершмидт
считал тунгусов очень способным народом. Многие их слога, в частности названия
птиц и зверей, он записал в своем ’’Дневнике”.
На берегах Нижней Тунгуски обитало много птиц, описание которых составило два
тома (VII и VIII) орнитологических сочинений Мессершмидта. Во время этого путе-
шествия он составил описание лося, включавшее и данные анатомического изучения
органов животного, а также дал краткие описания медведя, рыси, росомахи, северно-
го оленя, лисицы, соболя и белки. Примером таких описаний может служить следу-
ющая запись о северных оленях, сделанная в ’’Дневнике” у острога Бурый остров:
”Из скота тунгусы разводят только оленей и собак. Олени пасутся вокруг юрт в лесу;
поскольку эти олени довольно дикие и легко могут отбиться и уйти в чащу леса в
поисках пищи, им стреноживают передние ноги с помощью тонких деревянных доще-
чек с замками.
Олени, которые здесь встречаются, - это те самые, которые так хорошо описаны
Шеффером в его сочинении ’’Лапландия”, хотя по строению рогов можно различить
несколько пород оленей, а именно: рога бывают более или менее разветвленными. У
всех пород у основания каждый рог очень толст и растет в переднем направлении до
уровня носа, а затем почти параллельно лбу, причем правый и левый рога располага-
ются очень близко один от другого, так что может показаться, что они срослись. Они
покрыты волосатой кожей и кончики их очень тупые и или сточенные и толстые, в то
время как у обычных оленей они заострены, а у лосей уплощенные, почему и называ-
ют их ’’пальмовые рога”. Хвост короткий и едва заметный. У самки рога почти такие
же, как у самцов, и так же ойи каждый год отпадают. Самка приносит большей частью
только одного олененка, редко двух. Тех оленей, которых употребляют для верхо-
вой езды, снабжают особой упряжью” (S. 94).
59
В верховьях Нижней Тунгуски Мессершмидт потерпел аварию: один из его каю-
ков, на котором находились самые ценные вещи, натолкнулся на подводный камень
и начал тонуть. Пришлось причалить к берегу и добираться до Лены на вьючных лошадях.
Лена по ширине напоминала Енисей; течение ее было, однако, более медленным, и
суда с грузами по ней тянули бечевой. С началом сильных морозов Мессершмидту
пришлось около двух месяцев прожить в ’’черной избе” в Усть-Илге, ожидая начала
санного пути на Иркутск. Здесь, в Усть-Илге, благодаря рассказам одного тунгуса ему
удалось многое узнать о жизни и быте тунгусов, живущих по берегам Лены.
Вокруг Усть-Илги водилось множество птиц. Ежедневно П. Кранц приносил бога-
тую добычу - разнообразных представителей пернатых, которых Мессершмидт акку-
ратно перечислял в своих записях. Многие из здешних птиц уже были описаны им ра-
нее на страницах орнитологической рукописи.
В Усть-Илге Мессершмидт много внимания уделял изучению млекопитающих.
В его ’’Дневнике” за ноябрь 1723 г. не раз встречаются такого рода записи: ’’Сегодня
занимался историей четвероногих”.
На страницах своего дневника Мессершмидт рассказал, что в Усть-Илге он произ-
водил вскрытия млекопитающих, описывал их. В конце октября 1723 г. Мессершмидт
отметил, что им было составлено на латинском языке описание самца белки; здесь же
даны ее названия на различных языках (S. 159). В один из дней Мессершмидт сделал
следующую запись: ’’Между тем, поскольку я сейчас опять занялся историей четверо-
ногих, я разрешил зарезать последнюю овцу. После того, как это было выполнено
и с нее была снята шкура, я вскрыл ее и обнаружил в матке плод, и сделал ряд
интересных наблюдений” (S. 164). Тогда же он анатомировал зайца и кабаргу
(S. 165, 167).
Интересы и наблюдения Мессершмидта были чрезвычайно разносторонними: ему
удалось сделать оригинальное открытие, касающееся беспозвоночных. На берегах
р. Ингода Мессершмидт неожиданно обнаружил мелких и гладких речных раков, о
которых даже местным жителям ничего не было известно; лишь гораздо позднее
именно р. Ингода стала славиться раками. Это открытие имело тогда значение для
выводов весьма общего характера. Так, В.Н. Татищев, как и другие авторы, утверж-
дал, что между природными условиями пространств Западной Сибири и территория-
ми до Уральских гор имеются резкие отличия; одним из аргументов в пользу такой
точки зрения было как раз утверждение о якобы полном отсутствии раков за Ураль-
ским хребтом. Мессершмидт отметил, что это первые раки, найденные в Сибири.
После того как через несколько дней раки снова были пойманы, Мессершмидт дал
на страницах своего ’’Дневника” их очень подробное описание на латинском языке.
Несколько раков было засушено для отправки в Петербург.
В конце ноября отряд направился по установившейся хорошей санной дороге
через Верхоленск на Иркутск (рис. 27). Это путешествие продолжалось до середины
декабря. По пути ученый определял географические широты населенных пунктов,
делал географические наброски рек, однако в зоологическом отношении ничего при-
мечательного отмечено не было. В первых числах декабря Мессершмидт впервые
встретил бурятов. Он решил остановиться, чтобы познакомиться с этим народом, их
образом жизни и языком. Ученый описал их обычаи, одежду, внешность, составил
список бурятских слов. Значительный интерес представляет его запись от 15 декабря
1723 г. Из нее следует, что буряты различали (называли различными именами) уже
тогда 35 видов зверей: собака, кот, лисица, волк, соболь, рысь, бобр, выдра, барсук,
росомаха, сурок, медведь, колонок (?) (Chologo), горностай, крыса (Карако), домовая
мышь, белка, бурундук, крот, заяц, обыкновенная бурозубка (Mus araneus), лошадь,
бык, корова, свинья, кабан, кабарга, косуля, дзерен, верблюд, олень благородный,
лось, северный олень, овца, козел, нерпа (S. 189-190).
60
Рис. 27. Иркутск
В районе Аргунского сереброплавильного завода, на р. Борзя, Мессершмидт
пробыл неделю. Здесь водился дотоле неизвестный вид млекопитающего - джигетай.
С помощью тунгусов была организована ’’облава”, в результате которой были убиты
три особи. Ученый зарисовал животное, произвел его внешние обмеры и анатомиро-
вал. Он отметил отличие открытого им вида млекопитающего от лошади и осла,
назвав его ’’плодовитым даурским мулом” (”Mulus dauricus foecundus”). Чучело этого
животного под названием ’’Xenium Isidis1” было доставлено в Кунсткамеру, где оно
погибло, а описание млекопитающего потеряно: оно никогда не было опубликовано.
Таким образом, кроме столь краткой упомянутой характеристики животного, ничего
не сохранилось. Упорно пытался отыскать это животное позже И.Г. Гмелин во время
своего путешествия в Сибирь, но они оказались безуспешными. Это удалось лишь
П.С. Палласу, который дал подробное описание джигетая (см. далее).
Изучению зверей способствовали хорошие контакты, которые установил Мессер-
шмидт с тунгусами, занимавшимися охотничьим промыслом. Так, один из тунгусов,
Семен Верхоглядов, поставлял ученому диких зверей, водившихся в горах, у исто-
ков рек. Там встречались рыси, росомахи, кабарги. Именно он доставил Мессершмид-
ту, в частности, две убитые рыси.
Путешественник записал многие тунгусские названия птиц и млекопитающих.
Для изготовления чучел млекопитающих и птиц Мессершмидт изобрел свой соб-
ственный ’’сухой бальзам”, предохранявший шкуры и мумии животных от гниения. В
этот специальный порошок входили в определенных весовых отношениях соль нату-
хДар Изиды — богини плодородия.
61
ральная, озерная или горная, купорос, табак, перец, полынь, цветы ладана и лаван-
ды. Перемешав и раздробив эту смесь, он получал мельчайший порошок, которым
натирал внутреннюю поверхность шкурок, пересыпал трупы высушенных птиц и не-
больших четвероногих. Затем он заворачивал их в верблюжью или овечью шерсть,
размещая в отдельные ящики. После заполнения ящика он его завязывал, запечаты-
вал и на крышке делал нужную надпись. За время путешествия было упаковано
таким образом 58 ящиков.
Значительный интерес представляют заметки Мессершмидта о мамонте. Как
упоминалось выше, первые сообщения о найденных в Сибири, в местах вечной мерз-
лоты, костях и трупах мамонтов стали известны в Западной Европе в первой полови-
не XVI в. из описаний С. Герберштейна. Во всех сведениях о мамонте было много не-
точного и фантастичного, а главное, никто с уверенностью не мог сказать, что это за
животное.
Впервые кости мамонта Мессершмидт увидел в Тобольске в 1720 г. Он сделал зари-
совки их, которые послал в Медицинскую канцелярию. Затем ему представилась воз-
можность зарисовать голову мамонта, зубы, бивни, кости ног, привезенные с берегов
р. Индигирки.
Ученый полагал, что мамонт - это огромного размера слон. Сравнение рисунков
скелетов моментов из Тобольска и Иркутска еще более утвердило его в этом мнении.
Для того чтобы описание мамонта было более обстоятельным, Мессершмидт поручил
пленому поляку Михаилу Волоховичу описать виденную им работу по выкапыванию
костей мамонта, что тот и выполнил, сделав ее на латинском языке. Волохович сооб-
щал, что он видел на берегу р. Индигирки ’’торчащий из песчаного холма большой
кусок уже гниющей толстой коричневой шкуры, похожей на козлиную; однако она не
принадлежала ни козлу, ни какому-либо другому известному животному”. Кости
мамонта, собранные Мессершмидтом, явились одними из первых экспонатов Кунст-
камеры.
В 1722 г. Мессершмидт послал также два больших зуба мамонта в Данциг, профес-
сору И.Ф. Брейну. Приехав в 1730 г. в Данциг, где он надеялся остаться, Мессершмидт
передал Брейну и свои зарисовки отдельных частей скелета мамонта (бивней, голо-
вы, зубов и бедренной кости). Позднее Брейн сообщил об этих находках Мессершмид-
та в Сибири Президенту Лондонского Королевского общества Гансу Слоану.
Через несколько десятилетий на эти рисунки, в особенности на изображение челю-
стей мамонта, обратил внимание Ж. Кювье. Сравнительное описание этого фрагмента
явилось описанием для доклада Ж. Кювье в 1796 г. французскому институту об иско-
паемых слонах (Илларионов, 1940. С. 24-25).
Судьба многих коллекций Мессершмидта оказалась менее удачной: во время
пожара Кунсткамеры в 1747 г. значительная часть собранных им зоологических и
ботанических коллекций погибла. Утонул в Лене также последний, шестой том его
дневника, содержавший, по-видимому, ценные зоологические данные. Немецкие уче-
ные подготовили в 1964-1966 гг. издание путевых дневников ’’Messerschmidt D.G. For-
schungsreise diirch Sibirien. 1720-1727”, дающие теперь возможность познакомиться с
огромной по объему работой Мессершмидта в Сибири. К сожалению, в изданных путе-
вых дневниках ученого чаще всего его описания зверей на латинском языке лишь
помечены, но не приведены. Для иллюстрации приведем несколько образчиков опи-
саний Мессершмидта зверей: лисицы и горностая.
’’Лисица Альдрованди, анатомическое описание ее было дано Геснером, Джонсто-
ном, Реем и Оффицинами. Я привожу здесь для памяти ее описание, а именно: [назва-
ние] Oenagae или Unaegae у монгол и у даурских бурят, у тангутов Wa, у индусов по
сю сторону Ганга Lobaeri, у евреев Шуаль [книга Неемин, 4, 3], у оротунских тунгусов
Schulaaky, у арабов Ssaleb, у персов Robah, у турок и татар Tylgy, у якутов Spassil, у
русских лис и лисица, у пермяков Rudsch, у тавгийских самоедов Tuhnte, у остяков
62
[около устья Оби] Looka, у сургутских остяков Wookay, у шведов rav, у англичан
a fox, у немцев ein Fuchs, у французов renard, у греков alopex. Латинское наименова-
ние: Vulpes Aldrovandii, Gesneri, Jonstoni, Raji.
Лисица обыкновенная (наиболее обычная), как со спины, так и снизу ярко-рыжая,
особенно в области горла; оттенок может быть и более бледным, вплоть до альбинос-
ного, нос заостренный, оскал рта продолговатый, как у собаки; глаза орехового
цвета, уши укороченно-треугольные, оттопыренные в разные стороны и слегка назад;
лапы покрыты шерстью, волосы которой растут по направлению кнутри, на уровне
ступни и метакарпуса иногда черные; пальцев пять, но опирается только на четыре,
покрытые кожной оболочкой, связывающей их до самых когтей; когти длинные,
крючковато загнутые, изгиб стопы наподобие собачьего как в носковой, так и в
пяточной области. Хвост весьма длинный, в прижатом состоянии может почти дости-
гать морды, покрыт очень длинной и густой шерстью; хотя имеются и проредины,
наподобие как у волков и других родственных животных. Соскй расположены дву-
рядно. На первом пальце отсутствуют два сустава, вследствие этого этот палец непо-
средственно не соприкасается с землей. [Исследованный экземпляр был] самкой,
имел вес [определенный при помощи взвешивания на медицинских весах] 157 унций
6 драхм [4732, 5 г]” (Messerschmidt, 1966. S. 274).
Горностай Фигулуса, Гейла и Плиния. Горностай обыкновенный; описан Альбер-
том Великим, как горностай с тонким телом, коротким хвостом, на конце черным, с
зубами менее крупными, чем у мыши. Описан также Джонстоном, Галантом, Овиди-
ем... Исследованный экземпляр был самкой, весом 5 унций 2 драхма 1 скрупель
[« 155 г]. Я сохранил его в виде выделанной шкурки. Я назвал его ’’монгольским гор-
ностаем”. Со спины [он] в течение лета рыжий; зимой он меняет шерсть и становится
весь белый, [только] хвост от оконечности до середины черный. Уши укороченные и
почти круглые, все лапы явственно пятипалые. Длина хвоста, морды и шеи прибли-
зительно одинакова, пальцы почти одинаковой толщины и гладкие. При вскрытии на
легких заметны многочисленные отгороженные друг от друга участки. Сердце распо-
ложено в перикардии; печень состоит из семи долей. С примыкающими участками
внутренностей она весит 1 унцию 8 драхм 5 скрупелей, имеет форму ’’вороньего
пера”; к ней примыкает желчный пузырь, наполненный желтого цвета жидкостью, на
ощупь упругий. Форма желчного пузыря продолговатая, узкая, уплощенная; он окру-
жен плотно прилегающей оболочкой или связкой, с помощью которой он подвешен
[к печени]» (S. 267).
Мессершмидт производил анатомические исследования и дикого козла2. Вот что
записал он 8 июля 1724 г.: ’’Мне попался мужской экземпляр... который издох уже
6 июля и эти дни сохранялся в ледяном ящике. Мне сильно повезло, потому что я
обнаружил у этого экземпляра пупочный фолликул кожистый, тонкий [неразборчи-
во], со стороны верхней поверхности шерстистый; содержимое фолликула глинистое,
желтоватое, [по консистенции] напоминающее ушную серу или выделения из глаз,
скапливающиеся в слезной ямке, лишенное характерного запаха экскрементов, но,
как кажется, слегка отдающие козлом; почти все пространство между пенисом и
пупочным канатиком скрыто мускулистой складкой, покрытой кожей, и отверстие
[в этой складке] перед верхушкой пениса очерчено в виде круга со слегка вздутыми
краями, лишенного волосяного покрова и темноокрашенного. Размер круга прибли-
зительно равен мизинцу руки. Фолликул мало отличается от такового у кабарги,
если не считать только [упомянутого] запаха. Я со всей тщательностью пытался найти
также наружный проток, через который выводится воскоподобная субстанция, одна-
ко не мог найти его следов. Далее, в области горла наиболее достойны упоминания
были обнаруженные мной крупные миндалины, весом в пять унций, на расстоянии
2По-видимому, дзерена.
63
[толщины] большого пальца от щели щитовидной железы, впрочем отличающиеся от
таковых, наблюдавшихся в горле самки, только своими пропорциями [формой]; в же-
лудке я не нашел никакого ’’козьего камня” (Lapidus Bezoartici). Полагаю, что он
вообще не встречается у данного вида козлов, поскольку у четырех его представите-
лей, которых я анатомировал, ничего подобного не нашлось. Впрочем, этот вопрос
нуждается в дальнейшем изучении” (S. 79-80).
В черновых путевых записках Мессершмидта диагнозы зверей даны кратко. Види-
мо, ученый надеялся в последующем более подробно их описать на основе собранно-
го им богатого териологического материала. Однако это не было осуществлено.
Из зоологических результатов путешествия Мессершмидта наибольшую ценность
представляют его анатомо-морфологические описания млекопитающих. Анатомиче-
ское исследование двугорбого верблюда - лучший и первый пример такого рода ра-
бот, выполненных в России. Это описание - результат наблюдений, сделанных им
(после посещения Нерчинска) во время путешествия в районе г. Читы, по пути к кото-
рому он задержался на пять дней (около ’’Кручиновской заимки”) в том месте, где,
как он писал, ему ’’посчастливилось” обнаружить еще теплый труп верблюда. Живот-
ное было брошено, по-видимому, купеческим караваном, шедшим в Китай. Еще рань-
ше Мессершмидт намеревался купить такого верблюда для работ по анатомии, но не
представлялось случая. Мессершмидт отправил солдат к месту, где находился верб-
люд, чтобы его ночью не растерзали волки и собаки. Рано утром животное принесли и
после взвешивания оказалось, что его весь составлял 555 кг, громадной величины
верблюд с трудом был внесен в хорошую избу, помещен в комнате Мессершмидта в
определенном положении, чтобы его можно было лучше описать.
За 4 дня работы ученый составил подробное описание верблюда на латинском язы-
ке, включающее три части: 1) описание и размеры внешних частей тела; 2) описание
внутренних органов, их размеров и анатомии; 3) остеологическое описание, размеры
костей.
Описание верблюда было осуществлено с чрезвычайной аккуратностью и последо-
вательностью. Прежде всего он описал наружные отличительные особенности этого
животного, затем дал такое же очень подробное описание внутренних органов, про-
извел большое число различных измерений. Особенно тщательно описал он скелет
зверя, его зубы, кости черепа. До этого были известны описания лишь одногорбого
верблюда. Таким образом, детальное описание двугорбого верблюда, выполненное
Мессершмидтом, явилось первым в науке. Это сочинение было обнаружено в архиве
ученого после его смерти и опубликовано в Комментариях Академии наук в 1747 г.
Для того чтобы современный читатель мог составить представление об уровне про-
изведенных ученым исследований, нам представляется целесообразным познакомить
его с тремя выдержками из этого сочинения, которое никогда не публиковалось на
русском языке.
Описание двугорбого верблюда - бактриана3 (рис. 28). ’’Описываемый ниже старый
самец бактриан был куплен у монголов в Даурии русскими купцами, направлявши-
мися в Пекин, столицу Китайской империи. Когда его взвесили после смерти, вес его
оказался 1350 русских фунтов, или 1156 2/3 медицинских мин [на один римский весо-
вой фунт их приходится три].
Название. У русских это животное именуется ’’верблуд”, у тобольских татар ”тау-_
вах”, у арабов ’’ибиль”, у персов ’’шетур”, у монгол ’’темагех-герогессу”, у бурят
”теме-героссу”, у тангутов и в Индии за пределами Гангской долины ’’нгагодт”, в
долине же Ганга в Индии бытует его простонародное название ’’урьют”.
3Материал выбран из записок и дневника Д.Г. Мессершмидта после его смерти академиком
И. Амманном по поручению Президента Академии Л.Д. Блюментроста. Пер. с лат. Б.А. Старостина.
64
Рис. 28. Двугорбый верблюд (древняя гравюра)
Голова верблюда во многих отношениях напоминает лошадиную, но в то же время
по ряду признаков от нее и весьма отлична.
Губы широкие, толстые, мягкие, снаружи целиком густо покрытые короткими
рыжевато-седыми волосами. Верхняя губа посередине расщеплена почти наполови-
ну своей ширины. Выше этой щели и вплоть до ствола носа верхняя губа не раздвое-
на, но снабжена поверхностной бороздой или кожистым углублением, голым и чер-
новатым. Нижняя губа, напротив, целая, посередине оттопыренная или слегка при-
поднятая, как раз до такой степени, чтобы покрыть выемку на верхней губе.
Соответственно нижняя губа и заходит в эту выемку. Ширина верхней губы от нижне-
го края до конца щели 1 дюйм 2,5 линии... Расстояние же от нижнего края нижней
губы до угла рта 6 дюймов. Максимальная ширина рта, если измерять от одного угла
(уздечки) до другого, равна 5 дюймам 5 линиям. Ширина ротовой щели между без-
зубым краем верхней десны и резцами нижней челюсти 6 дюймов.
Щеки наиболее густо покрыты волосами на уровне коренных зубов; на щеках
имеются поры, в поперечнике диаметром почти в дюйм. Они тесно сближены между
собой; когда животное жует, через них весьма обильно выделяется слюна.
Верхняя челюсть не имеет резцов, поэтому спереди она беззуба. Клыков на ней с
каждой стороны по три, коренных зубов - по пять.
Нёбо иссиня-черное, толстое, довольно мягкое, чрезвычайно разбухшее, покрытое
морщинами. Эти последние между клыками, там, где нёбо уже всего, имеют попереч-
ное направление, широкие, неравные. Между коренными же зубами, где нёбо шире и
выгнуто в виде свода, морщины гораздо более узкие, мелкие, беловатые. Длина нёба
от переднего края десны до глотки 14 дюймов 5 линий; ширина между резцами
1 дюйм 5 линий; ширина между передними коренными зубами 2 дюйма, между задни-
ми коренными зубами 3 дюйма 8,5 линии.
Язык мясистый, бледноокрашенный, возле корня тугой и толстый, покрыт крупны-
ми неодинаковыми сосочками. К середине очень утончается; здесь сосочки, покрыва-
ющие егр, мельче, шероховаты на ощупь, расположены густо. Соответственно если
смотреть от подъязычной уздечки [’’лягушки”] к верхушке языка, последний выгля-
5. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес 65
дит постепенно понижающимся и плоским, но расширяющимся и утончающимся. Дли-
на языка от верхушки до корня, завершающегося гиоидным хрящом, равна 18 дюй-
мам; от верхушки до уздечки [’’лягушки”] 4 дюймам 5 линиям. Ширина языка перед
уздечкой такая же, как у корня: 2 дюйма 6,5 линии...
Нижняя челюсть имеет шесть резцов, клыков же с обеих сторон лишь по два; на-
конец, коренных зубов с каждой стороны по пять.
Нос у бактриана никогда не бывает выпуклым [как это ошибочно изображается
почти на всех рисунках этого животного], но имеет верхнюю сторону совершенно
плоскую, постепенно сужающуюся кпереди; далее, кончик носа имеет форму наклон-
но расположенного равностороннего треугольника; наконец, к весьма короткому, но
вполне различимому стволу носа спускаются поры, все окруженные по краям корот-
кими, но густыми приподнимающимися волосами.
Ухо стреловидно вытянуто, прижато к голове, малоподвижно, хрящевато, широко
раскрыто; верхушка его довольно острая, с твердым утолщением, густо покрытым
волосами снаружи и изнутри. В направлении к выходу ушная раковина расширяется,
вниз же и кнутри трубковидно сужается и косо спускается к внутреннему уху. Рас-
стояние от нижней губы до основания уха составляет 18 дюймов 6 линий; от нее же до
конца ушной раковины 20 дюймов 2 линии. Расстояние от нижней губы до верхушки
уха 23 дюйма 7 линий. Длина наружного уха от основания до вершины 5 дюймов 1 ли-
ния; расстояние от пазухи ушной раковины до верхушки уха 3 дюйма 6 линий; в ши-
рину ушная раковина, если ее не растягивать, достигает 3 дюймов, а если ее растя-
нуть - 3 дюйма 3 линий. Расстояние между ушами, считая от одного до другого вхо-
да в пазуху ушной раковины, составляет 10 дюймов 3 линии, а между концами сво-
бодно оттопыренных ушей - 13 дюймов 5 линий.
Лоб не очень широк, шире всего он в междуглазной области, где он несколько
вогнут. Темя имеет форму почти прямоугольную, слегка вогнуто, покрыто торчащей
кверху густой и очень длинной шерстью. В нижней части темени она темная, мягкая,
состоит из очень тонких волосков; в направлении к макушке волоски, которыми
покрыто темя, постепенно утолщаются почти в десять раз и становятся похожими на
довольно твердые щетины.
Размеры головы. Высота головы, считая от участка темени кзади от венечного шва
и до заднего края нижней челюсти, составляет 12 дюймов 1,5 линии; та же высота,
если считать от глаз до края нижней челюсти, - 10 дюймов 5,5 линии. Длина головы
от середины носа до ее противоположного конца составляет 8 дюймов 8 линий, от
уздечки рта до угла лба 8 дюймов 3 линии, от перегородки между ноздрями до рез-
цов 4 дюйма 5 линий. Расстояние от нижней губы до затылочного лямбдоидного шва
22 дюйма 5 линий, а.до шаровидного затылочного отростка или до верха шеи 20 дюй-
мов 5 линий.
Шея поджарая, длинная, изогнутая змеевидным изгибом, со спинной стороны твер-
дая. На ней имеется грива, с нижней стороны шеи переходящая как бы в пух. Грива
густая, однако не свисающая. На выступающей вперед части передней стороны шеи
также имеется такого же вида грива. Длина шеи 36 дюймов, в поперечнике мини-
мальная ширина 7 дюймов, максимальная - 7 дюймов 3 линии. Если измерять в от-
весном направлении, минимальная высота шеи [не учитывая гривы и пуха] составля-
ет 10 дюймов, максимальная же [считая перпендикулярно вверх от подмышечной
впадины] 15 дюймов.
Подмышечные впадины узкие, лишены ключичных выступов, отстоят как от лопа-
ток, так и от головки плечевой кости на 14 дюймов. Расстояние от нижней губы до
подмышечной впадины, а также до лопаток и до головок плечевых костей составля-
ет 56 дюймов.
Передние ноги, отходящие от подмышечных впадин, состоят каждая из плечевого
отдела, богатого мускулами и наиболее обильно покрытого длинной некрасивой
66
шерстью; из локтевой и лучевой костей; из предплюсны; из плюсны с двумя совер-
шенно одинаковыми трехсуставными пальцами, ногтевидно покрытыми сухожильно-
жировым веществом [их подпирает третий, как бы большой палец, перпендикуляр-
ный к ним, толстый, плотный и расположенный обособленно] и подошвы копыта,
общей обоим пальцам вплоть до середины второго сустава, а затем, вплоть до вер-
хушки третьего сустава, расщепленной, мозолистой, толщиной, равной перпендику-
лярному пальцу, мягкой на ощупь, эластичной и бледноокрашенной...”
Не утруждая читателя подробнейшим описанием всех остальных частей тела
бактриана и его внутренних органов, которое дал Мессершмидт (оно занимает около
3 печатных листов), приведем описание ученым передних конечностей в качестве
примера описания внешнего вида и скелета животного и его почки.
’’Передние ноги от головки плеча до верхушки копыта имеют длину 54 дюйма.
Расстояние между нижней губой и концами копыт передних ног [если они вытянуты
по направлению к голове, а рот широко раскрыт] составляет 17 дюймов. Дело в том,
что плечо не может выдвигаться вперед, откуда и получается этот столь большой про-
межуток, складывающийся в основном - за исключением приблизительно четырех
дюймов - именно за счет длины плеча, не способного выдвигаться вперед, а эта
длина составляет 13 дюймов 5 линий. Передние ноги, кроме того, никоим образом не
могут быть вытянуты вдоль тела горизонтально, хотя такая способность наблюдается
у тех млекопитающих, у которых ступни расщеплены на пальцы, например у пяти-
палых и других, имеющих подвижные ключицы.
Подошвы копыта на передних ногах почти круглые и имеют толщину 4 дюйма 7 ли-
ний, их длина и ширина по диаметру - 7 дюймов. Длина выемки между концами
пальцев составляет 2 дюйма 5,5 линии.
Передние ноги отходят от цервикальной ямки лопаток и состоят каждая из плече-
вой кости; костей локтевой [ульна] и лучевой, и дистальной части ноги. К последней
относится запястье из семи косточек, простая пясть и трехсуставные пальцы. Все это
парные образования. Длина передней ноги от головки плечевой кости до концов
пальцев составляет 54 дюйма.
Плечевая кость монолитная, парная, короткая, но очень толстая, причем неровная
по толщине, с чешуйчатой поверхностью, внутри полая, содержащая в себе костный
мозг; ее верхняя головка крупная, шаровидная, имеет спереди две глубокие ямки,
или синуса, служащие для прикрепления сухожильного конца мускула, видимо, пер-
вого бицепса. Около середины основного стержня кости имеется неровность, пред-
назначенная для прикрепления ’’хвоста” дельтовидной мышцы. Ниже - два отрост-
ка, внутренний [больший] и внешний; на нижнем конце - три ямки, а именно полу-
лунная, внешняя [более крупная] и внутренняя. Длина плечевой кости 15 дюймов 5
линий, ширина в верхней головке 4 дюйма 8 линий, в наиболее тонком участке
основного ствола кости 2 дюйма 3 линии; наконец, между концами нижних отростков
расстояние 4 дюйма 4 линии.
Предплечье состоит из локтевой и лучевой костей, латерально примыкающих друг
к другу.
Локтевая кость длиннее как лучевой, так и плечевой. Снабжена толстой верхней
головкой, имеющей на себе две клювовидных отростка, а именно внешний - олекра-
нон и внутренний, безымянный; а равно и две ямки, а именно: полукруглую и боко-
вую, для принятия головки лучевой кости. Затем она настолько срастается с лучевой
костью, что ни ее стержня, ни нижнего шиловидного отростка, от которого к другим
костям идут запястные связки, никоим образом невозможно изолировать от стержня
лучевой кости. Длина локтевой кости от ее головки до сросшегося с локтевой костью
конца лучевой кости составляет 20 дюймов 7 линий.
Лучевая кость короче локтевой, однако заметно длиннее плечевой; имеет округ-
лую верхнюю головку, широкую, однако на верхушке вдавленную и даже выемчатую
67
в виде пазухи, в которую входит внешний отросток плечевой кости. Нижняя часть
тела лучевой кости, плоского и тесно сросшегося с локтевой костью, довольно
толстая и широкая. От нее отходит незначительный боковой внутренний отросток.
Она снабжена тремя ямками, из которых нижние более мелкие. Длина лучевой кости
составляет 15 дюймов, ширина в головке - 3 дюйма 8 линий; наконец, в нижней око-
нечности - 3 дюйма 7 линий.
Запястье состоит из семи безымянных косточек, расположенных в два яруса. Четы-
ре косточки лежат в верхнем ярусе. Из них первая, расположенная латерально и
кнутри, с помощью небольшой имеющейся в ней ямки соединяется с боковым внут-
ренним отростком лучевой кости. Три из этих четырех тоже связаны с лучевой
костью, заходя в ее синусы. Три нижние косточки лежат в строгом соответствии с
косточками верхнего яруса, отличаясь друг от друга только размерами и формой.
Они связаны прочными связками и между собой, а также скреплены внешней фасци-
ей. Длина запястья составляет 2 дюйма 5,5 линии, ширина же - 3 дюйма 2 линии.
Пясть приблизительно напоминает таковую барана. Состоит из единственной
простой кости с расширенной плоской головкой, с неглубокими тремя ямками на
ней, принимающими в себя тоже три запястных косточки нижнего яруса. Тело данной
кости плоское, ровное и прямое. Ее нижний конец широкий и толстый. Посредством
большой щели он расщепляется на парные эпифизы, напоминающие цилиндрические
блоки, однако с поверхностью, лишенной борозд или ямок. От этих блоков отходят
[по их числу] пальцы, прикрытые костносухожильными ногтевидными образования-
ми. Длина пясти 12 дюймов 6 линий, ширина в головке 3 дюйма 1 линия, ширина в
середине тела кости 1 дюйм 6,5 линии, в нижнем конце [по эпифизу] 4 дюйма 1 линия.
Пальцы трехфаланговые: их по два на ноге, в каждом три сустава. Снабжены кос-
тисто-сухожильными пластинками, наподобие тех, что в анатомии человека называ-
ются сезамовидными. Между собой пальцы бактриана одинаковы и образуют то со-
вершенство стопы, которое свойственно этому виду четвероногих. Самые крупные
суставы первой фаланги имеют на верхнем конце утолщение в виде головки или
узла, служащее для принятия эпифиза плюсны и для этой цели снабженное неболь-
шой выемкой. Ствол у суставов этой фаланги короткий, короче нижней'головки,
едва выходящий за пределы эпифиза плюсны. Сухожилисто-костный щиток размером
со средний каштан. Эти щитки плотно прикрывают упомянутые суставы и вместе с
ними врастают в эпифизы плюсны. Длина этих суставов равна 3 дюймам 8 линиям,
ширина их у головки - 2 дюймам, ширина в середине тела кости - 1 дюйму 1 линии,
у нижней головки - 1 дюйму 7 линиям. Суставы второй фаланги, похожей на первую,
отличаются от нее только размерами. Их длина 2 дюйма 5 линий, ширина в головке
1 дюйм 1,5 линии, наконец, их ширина в нижнем узле 1 дюйм 3,5 линии. Суставы
третьей, последней фаланги меньше всех других, имеют почти пирамидную форму с
тремя боковыми поверхностями. В основании этой пирамиды заметна небольшая
ямка для сочленения с предыдущей фалангой. Две из боковых поверхностей, схо-
дясь, образуют обращенную кнутри верхушку пальца, снабженную [уже настоящим]
роговым ногтем: таким образом, стопа защищена и ногтями третьей фаланги, и упо-
мянутой небольшой сухожильно-костной пластинкой. Длина сустава третьей фалан-
ги составляет 1 дюйм 2 линии, его ширина у основания - 9,5 линии. Роговой ноготь
темноокрашен, тускл и чешуйчат; поверхность его выпуклая, контур почти треугольный.
Почки расположены приблизительно под ложными ребрами и диафрагмой: пра-
вая - ниже печени, левая - ниже селезенки, причем в обоих случаях они окружены
складками брюшины и сверху прикрыты поясничными позвонками. Правая почка
примыкает к нижней полой вене, левая - к нисходящей дуге [брюшной] аорты. Обе
имеют бобовидную форму и объемом почти равны страусовому яйцу. Длина каждой
почки составляет приблизительно 6 дюймов 5 линий, ширина - 3 дюйма 8 линий.
Жирная наружная мембрана почек представляет собой производное брюшины: точ-
68
нее, ее внутреннего [изнаночного] слоя. Почки окружены ответвлениями сосудов,
образующими как бы красноватый клубок. Наряду с сосудами, он содержит также
железистые элементы. Сосуды, отходящие кнаружи от этого клубка, собраны при-
близительно в двадцать пучков, распределенных по периферии таза. Моча, первично
поступающая через указанные железистые элементы, далее проходит через фистуло-
подобные или мембранные сифоны [siphunculi] или почечные канальцы, в ширину
достигающие приблизительно такого размера, как стержень голубиного пера. При
вскрытой тазовой полости видно, как все эти канальцы сливаются: это удивительно
красивое зрелище” (Messerschmidt, 1747. Р. 326-334).
Мессершмидт внес большой вклад в изучение млекопитающих Сибири. Ему при-
надлежит честь первого описания бактриана. Этот его труд явился первым значитель-
ным вкладом отечественной науки в мировую териологию. Знакомство с сочинением
Мессершмидта, в котором даны выдержки описания бактриана, не только показыва-
ет, что его автор блестяще владел техникой анатомирования зверей и обладал глубо-
кими знаниями в строении внутренних органов животных, но и проливает свет на
формирование в отечественной науке териологических исследований, в которых су-
щественное внимание уделялось внутреннему строению организмов. Мессершмидт
первым из натуралистов открыл в Сибири много новых видов зверей: джигетая,
дзерена, кабаргу, косулю, аргали, сибирского горного козла, земляного зайца (боль-
шого тушканчика). Все натуралисты XVIII в., изучавшие млекопитающих Сибири,
руководствовались в своих трудах записками и дневниками Мессершмидта о путе-
шествии в Сибирь. И.Г. Гмелин, Г.В. Стеллер, П.С. Паллас и другие при составлении
маршрутов своих экспедиций исходили из опыта Мессершмидта, направленно произ-
водили поиск зверей, отмеченных ученым. Большинство сочинений Мессершмидта не
было опубликовано, однако они не пропали для науки. Их широко использовали в
своих зоологических трудах П.С. Паллас, другие русские ученые и путешествен-
ники.
И.Г. ГМЕЛИН И Г.Ф МИЛЛЕР.
ИССЛЕДОВАНИЯ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ
Иоганн Георг Гмелин - академик Петербургской академии наук, знаменитый путе-
шественник-естествоипытатель, первый обстоятельно описавший растительный и жи-
вотный мир Восточной Сибири, родился 12 августа 1709 г. в Тюбингене. Отец его
(тоже Иоганн Георг) имел аптеку, преподавал химию в университете и был основа-
телем тюбингенской линии Гмелиных, давших науке ряд ученых с мировым именем
(рис. 29).
Молодой Иоганн Георг был необычайно талантлив. Уже в раннем возрасте он
блестяще владел классическими языками (греческим, латинским), проявлял боль-
шой интерес к изучению естественнонаучных коллекций и книг, хранившихся в биб-
лиотеке отца, исследовал состав минеральных источников Вюртемберга. R тринад-
цать лет Иоганн Георг поступил в Тюбингенский университет, где с увлечение изучал
естественные науки и медицину. В этом университете тогда преподавали выдающие-
ся ученые: Г.Б. .Бильфингер (экстраординарный профессор философии и физики),
И. Дювернуа (профессор ботаники и анатомии), Мамарш (профессор медицины) и
братья Камерариусы (преподавали ботанику). Особенно большое влияние на форми-
рование взглядов И.Г. Гмелина оказали Г.Б. Бильфингер (Бюльфингер) и И. Дювер-
нуа - сторонники идеи единого плана строения живой природы. О Бильфингере сох-
ранилось воспоминание его коллеги по университету Клюпфеля: ’’Бильфингер с
присущим ему светлым миросозерцанием и тонким умом был замечательнейшим из
последователей Лейбница. Преподавателем он был блестящим. Его лекции благода-
69
Рис. 29. Иоганн Георг Гмелин (1709-1755)
ря простоте изложения и природному
дару видеть в каждом предмете практи-
ческую сторону встречали огромный
отклик слушателей... Он скоро нажил
себе врагов в лице теологов, опасав-
шихся его всем доступной ясности, с ко-
торой он старался применять начала но-
вой философии к религиозным исти-
нам... они старались помешать его ’’воз-
вышению в ординарные профессора”.
По рекомендации X. Вольфа Г.Б. Биль-
фингер через посла России графа Голов-
кина был приглашен профессором физи-
ки и философии в Петербургскую Ака-
демию наук.
В 1725 г. Гмелин на научном совете
университета сделал доклад о физио-
логии пищеварения. В 1727 г. в возрасте
18 лет он закончил медицинский фа-
культет Тюбингенского университета и
защитил диссертацию на степень докто-
ра медицины по химическому составу
одного минерального источника. Вско-
ре после окончания университета мо-
лодой ученый предпринял путешествие
в Нюрнберг, Альтдорф, Регенсбург, Йе-
ну, Лейпциг, Галле, Дрезден, Магде-
бург и Любек. Он посещает там ботани-
ческие сады, естественноисторические
коллекции, изучает флору различных
стран мира. И.Г. Гмелин ищет, где бы
он мог приложить свои силы, но в германских университетах не находит им
применения. По совету своих учителей И. Дювернуа и Г. Бильфингера, кото-
рые с 1725 г. жили в Петербурге, так как были профессорами Петербургской
Академии наук, Гмелин решил ехать в Петербург. Он сел на корабль 18 ав-
густа 1727 г. и после 12-дневного плавания 30 августа того же года прибыл в Петер-
бург. Отец его послал с ним письмо из Тюбингена от 12 июля 1727 г., в котором писал
Президенту Академии Блюментросту: ’’Сюда, в Петербург, отправляются два моло-
дых человека, из которых один мой сын, а другой - Христиан Готлиб Швентер, родом
из Дитфурта в Паппенгейме. Я покорнейше рекомендую их обоих Вашему Превосхо-
дительству. Что касается до первого, то я также почтительнейше приношу Вам бла-
годарность за показанную Вами, по рекомендации г. Бильфингера, благосклонность
к нему и желаю, чтобы Ваше Превосходительство нашли его достойным принять с
признательностью высокую милость. . . (затем следует перечисление окаменелостей,
посылаемых им с сыном для Петербургской кунсткамеры). Академик Г.Ф. Миллер
писал в своей рукописи ”Zur Geschichte der Academie der Wissenschaften”: ’’Гмелин
приехал в Петербург на свой счет и не требовал жалованья. Его намерение было
служить определяющимся до тех пор, пока не открылось бы для него то, к чему мог
он себя употребить. Однако не хотели, чтобы он трудился совсем даром для Акаде-
мии: ему платили, до дальнейшего распоряжения, в возмещение его необходимых
издержек, по 10 рублей в месяц. Помещение и отопление он имел от Академии. Так
оставался он, покуда не произведен был в профессора” (Пекарский, 1870. С. 433).
Первым делом Гмелин занялся приведением в порядок Кунсткамеры и кабинета
70
натуральной истории. Затем составил каталог минералогического кабинета. Он участ-
вовал в составлении ботанических статей для ’’Комментариев Петербургской ака-
демии наук” - периодического журнала, выпускавшегося Академией. С 1728 г. Гме-
лин стал читать лекции в Академии наук.
В 1732 г. в январе он был избран членом Академии в звании профессора химии и
натуральной истории. Узнав о готовившейся Второй Камчатской экспедиции, которая
должна была включать и научный отряд, Гмелин выразил желание принять в ней
участие. В 1732 г. он по решение Академии наук был зачислен в состав Второй Камчат-
ской экспедиции Беринга.
В задачи научного отряда Камчатской экспедиции входило изучение растительно-
го и животного мира, природных богатств Сибири, а также описание истории,
быта и хозяйственной деятельности населяющих ее народов. Предполагалось, что
после исследования Восточной Сибири научный отряд продолжит свои работы на
Камчатке, где присоединится к морской экспедиции Беринга (ее целью было дать
окончательный ответ на вопрос, ’’соединяется ли Азия с Америкой”) и совершит
морское плавание по Тихому океану.
Вскоре, однако, Гмелин тяжело заболел и по предложению обер-секретаря сената
И.К. Кирилова для участия в экспедиции вместо Гмелина был определен академик
Петербургской Академии наук Г.Ф. Миллер1.
В 1732 г. в Петербурге находился В. Беринг, с которым Г.Ф. Миллер был хорошо
знаком. В своем труде ”Zur Geschichte der Academie der Wissenschaften” Миллер писал:
’’Капитан-командор Беринг, с которым я был очень хорошо знаком, возбудил мне
охоту к путешествию еще тогда, когда к тому не представлялось для меня никакой
вероятности. Обер-секретарь Кириллов, которому Беринг передал о том, желал,
чтобы я предложил себя в Академии вместо Гмелина* 2. Там не встретилось этому ника-
кого препятствия. 26 февраля 1733 г. дело было письменно представлено Сенату, а
23 марта получено было оттуда разрешение. Я был этому рад, потому что таким
образом избавлялся от неурядицы в Академии и, удаленный от ненависти и вражды,
мог наслаждаться покоем, завися только от самого себя” (С. 320-321).
Однако после назначения Миллера в Камчатскую экспедицию И.Г. Гмелин выздо-
ровел, и Сенат согласно желанию Гмелина разрешил ему также отправиться в путе-
шествие. Миллер описал курьезные обстоятельства выздоровления И.Г. Гмелина.
’’Гмелин, против всякого чаяния, и, можно сказать, медицинским чудом снова выз-
доровел и опять получил непреодолимую охоту предпринять путешествие. Уверен-
ный по началам медицины, что сильное потрясение может возбудить деятельность в
опасно болезненном состоянии; или из желания, которое иногда является так же
сильно, как и у женщин; или, быть может, в нетерпении от болезни, так долго про-
должавшейся; или, просто сказать, по слепому предчувствию, в котором никак
нельзя дать отчета, - однажды вечером, Гмелин совершенно один, свел дружбу с
бутылкою доброго рейнвейна, а может быть и с двумя, пока жажда его не прошла
хМиллер Герард Фридрих, академик Петербургской Академии наук, участник Второй Камчат-
ской экспедиции (в последующем знаменитый историк, историограф, автор бесценного труда "Исто-
рия Сибири”), родился 18 октября 1705 г. в Герфорде в семье ректора местной гимназии. Окончив
гимназию, Миллер с 1722 г. поступил в Рительнский университет, затем учился в Лейпцигском уни-
верситете (с 1724 г.), а с 1725 г. — в академическом университете при Петербургской Академии
наук. Он был одним из первых студентов только что основанной Академии наук и ”в звании
студента получал жалованье 200 рублей в год” (Пекарский, 1870, с. 320). В 1727 г. Миллер был
утвержден адъюнктом истории Академии наук. С 1727 г. он начал составлять издание Академии
наук "Петербургские ведомости”. В 1730 г. Миллер был избран академиком Петербургской Ака-
демии наук, профессором истории.
2И.Г. Гмелин в связи с болезнью обращался к Президенту Академии Л. Блюментросту с прось-
бой "уволить его в конце года” из Камчатской экспедиции (Материалы для истории Императорской
академии наук, 1885. Т. 2. С. 297—298).
71
Рис. 30. Карта путешествий И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера
1 — путь Гмелина и Миллера, 2 - путь Миллера при возвращении
совершенно. Хотя его никто не видал в этом состоянии, однако он не делал из этого
тайны пред своими друзьями. Чрез несколько дней Гмелин выздоровел” (С. 434-435).
В подготовке научной экспедиции принимала участие вся Академия наук. ’’Десят-
ки раз Конференция рассматривала ’’Камчатские дела”: полученные от ученых и
посылаемые им письма, разного рода инструкции, вопросы, связанные с посылкой
книг, инструментов, хлопотала по делам экспедиции перед правительственными уч-
реждениями. История науки не знала ранее столь обширной экспедиции (по времени
и по охвату территории), руководимой из единого научного центра” (Копелевич, 1977.
С. 170).
8 августа 1733 г. научный отряд в составе академиков И.Г. Гмелина, Г.Ф. Милле-
ра, Л. де ла Кройера (астронома), шести студентов (в том числе С.П. Крашенинникова,
впоследствии академика Петербургской Академии наук), двух художников, двух охотни-
ков, двух минералогов и двенадцати солдат выехал из Петербурга, взяв курс на Тобольск
через Новгород - Торжок - Тверь, далее по р. Волге до Казани, где провели 7 недель, затем
поехали через Сарапул - Кургур - Екатеринбург (где встретили Рождество) и Тю-
мень. В Тобольск путешественники прибыли 3 марта 1734 г. и пробыли в нем 2,5 ме-
сяца (рис. 30).
«Едва только Гмелин, - писал Миллер, - приехал в Тобольск, главный город
Сибири, едва успел обменяться приветствиями, как губернатор Сибири Алексей
Львович Плещеев, человек отличных качеств и весьма поощрительно относившийся
к нашим изысканиям, предложил нашему вниманию очаровательных двух соболей,
предназначенных для отправки их к императорскому двору в Петербург. Гмелин не
пренебрег столь счастливо представившейся возможностью: описал внешний вид
животного, позаботился, чтобы с них была сделана зарисовка, к тому же записал все,
что слышал об их привычках. Он сделал бы значительно больше, если бы этому не
воспрепятствовало назначение этих животных. Он решил отложить свое описание до
тех пор, пока сам не отправится в те земли, которые среди прочего славятся обилием
соболей. Но впоследствии, проехав почти всю Сибирь, ему никогда более не довелось
самому увидеть живого соболя, более того, даже мертвого... не повезло ни нам, ни
Степлеру, ни Крашенинникову, хотя они добрались до самой Камчатки, где даже и
ныне, говорят, места обильные соболями. . . Гмелин не ставил без внимания ни
одной возможности собрать сведения об этом столь редком животном и возложил эту
обязанность на меня. Тот, у кого есть желание, пусть прочтет об этом в третьем томе
’’Собрания заметок, относящихся к Русской истории”, где я описал разнообразие
соболей по различным местам, в которых они обитают, что поможет составить пред-
ставление о торговле пушниной. А все, что относится к охоте на соболей, мы выясня-
ли сообща - Гмелин и я, когда путешествовали поблизости от реки Лены. Примеча-
ния на русском языке составил переводчик Илья Яхрнтов, а Степан Крашенинников
впоследствии опубликовал, описывая Камчатку» (Gmelin, 1758. Р. 383-385)3. У
Плещеева Гмелин увидел яка, описал его внешний вид. В своем описании он обозна-
чил его как ’’корова хрюкающая, косматая с конским хвостом”. В Тобольске
Г.Ф. Миллер впервые приступил к архивным разысканиям.
Из Тобольска (19 мая 1734 г.) академики отправились по р. Иртышу, 27 мая они
были в Ишимском остроге, 9 июня прибыли в Тару, оттуда проследовали в Омск,
куда прибыли 27 июня, затем опять же по Иртышу проехали через крепости: Желез-
ненскую, Ямышевскую, Семипалатинскую и Усть-Каменогорскую. ’’Путешествие по
р. Иртышу и после онаго, - писал Миллер, - пред прочего в Сибири ездою самое
приятнейшее было. В то время еще в первом жару, ибо неспокойствия, недостачи и
опасности утрудить нас еще не могли. Мы заехали в такие страны, которые с натуры
своими преимуществами многие другие весьма превосходят, и для нас почти все, что
3Пер. с лат. П.Г. Соловьевой.
73
Рис. 31. Кузнецк
мы видели, новое было. Мы подлинно зашли в наполненный цветами вертоград, где
по большей части растут незнаемые травы; в зверинец, где мы самых редких азиат-
ских зверей в великом множестве пред собою видели; в кабинет древних языческих
кладбищ и там хранящихся разных достопамятных монументов. Словом, мы находи-
лись в такой стране, где прежде нас еще никто не бывал, который бы о сих местах
известие сообщить мог. А сей повод к произведению новых испытаний и изобретений
в науках служил нам неинако как с крайнею приятностью” (Пекарский, 1870. С. 321).
Заехав на Колыванские заводы, потом в Кузнецк (16-19 сентября 1734 г.) (рис. 31),
путешественники посетили Томск (со 2 октября по 2 декабря 1734 г.), в котором, не
считая поездки в с. Богородское (1-8 ноября), провели семь недель. ’’Однако, -
писал академик Миллер, - не имели так никакой скуки, ибо между Томском и
калмыцкими улусами непрестанно калмыцкие и бухарские купеческие караваны
туда и сюда ходят, то нашли мы тогда многих таких людей, у которых каждый из нас
по своей науке разные чужестранные известия выспрашивал...” (Материалы для
истории Императорской Академии наук, 1885. С. 305).
Продвигаясь на восток, академики совершали много радиальных поездок, благо-
даря чему их исследования охватили огромные территории Сибири. В своих трудах
’’Reise durch Sibirien von dem Jahre 1733-1743” и ’’Flora Sibirica sive historia plantarum
Sibiriae” Гмелин оставил географическое описание Сибири: ее гор, озер, рек, распо-
ложенных между ними равнинных пространств, уделив большое внимание их хозяй-
ственной значимости и тому, как они используются. ’’Места, меж Обью и Иртышем
лежащия и от Железинской крепости на восток и север простирающиеся, состоят, -
писал Гмелин, - из пространных степей, который от живущих на оных барабинских
74
Рис. 32. Енисейск
татар, Барабинскими называются. Сии степи по большей части ровныя, от частых и
больше рыбных озер болотны, однакож во многих местах жирною землею покрыты,
на котрых бы хлеб свободно родиться мог, ежелиб живущим там татарам оной нужен
был” (Gemelin. 1949. Р. 31, 32)? ’’Около Томи реки, - сообщал Гмелин, - хотя горы и
нарочитой вышины, однакож тучною землею покрыты, а особливо около города
Кузнецка. Удивился я, не ведая еще состояния земли, что хлеб на горах преизрядно
родится, а больше еще дивился природе и разуму тамошних жителей, редко старину
оставляющих, что они там наблюдая пользу по новому обычаю поступали. Ибо кро-
ме онаго места нигде по Сибири не видал я пахотных мест на горах. Жители сверх
объявленной причины сказывали мне другую, что уския долины загораживают сол-
нечные лучи и тем созревать хлебу препятствуют” (С. 35). Из Томска путешественни-
ки проехали в Енисейск, где пробыли с 5 декабря 1734 г. по 6 января 1735 г. В Енисей-
ске 5 января 1935 г. И.Г. Гмелин зафиксировал самую низкую температуру из ког-
да-либо отмечавшихся в первой половине XVIII в. Он писал: ”... самое большое
понижение ртути равно ста двадцати градусам ниже 0 фаренгейтианского термомет-
ра, которое так велико, что прежде никогда никому на ум не приходило. Во
время означенной енисейской стужи сороки и воробьи от холоду земертво на землю
падали, а когда вскоре после того в теплые покои приношены были, отдыхали”
(С. 74-75) (рис. 32).
В Енисейске путешественники столкнулись с сильно поразившей их картиной:
р. Енисей резко разделяла Сибирь как бы на две половины, отличающиеся внешним
видом, растительным и животным миром. ’’Когда я Енисейск со всем оставлю, -
4 Пер. с лат. С.П. Крашенинникова.
75
писал Гмелин, - то не могу преминуть, чтоб не учинить общаго примечания, в чем у
географов покорно прошу прощения, которое и получить надеюсь, тем наипаче что
оное не от склонности моей мешаться в чужие дела, но от одной ревности к истории
натуральной, в чем состоит мою должность происходит. Мне не казалось, что я в Азии
нахожусь, пока до Енисея-реки не доехал. Не видел я до тех мест почти никаких
зверей, которых бы и в Европе или по последней мере на степях вниз по Волге-реке
не было, никаких особливых трав, земли и каменья. Весь вид земли означенной
страны казался мне европейским. Но от Енисея-реки как на восток, как и на юг и на
север земля другой вид, и не знаю, какую другую силу получила; хребты и холмы
сперва попадались местами, а там уже вся страна была, гориста и красотою долин и
степей между гор лежащих никакой стране не уступала. Оказывались звери нигде
еще не известные, как, например, кабарги и степные бараны. Не попадались уже травы
везде в Европе растущия, но вместо их новыя и в Европе незнаемыя по малу появля-
лись. Сверх того, чистыя, светлыя и здоровыя воды, вкусныя рыбы и птицы, и самой
различной род тамошних народов довольно доказывали, что там особливая часть
света” (С. 44-45).
Из Енисейска путешественники проехали по р. Енисею в Красноярск, куда прибы-
ли 15 января того же года. Совершив несколько поездок в окрестные крепости и села,
отряд выехал из Красноярска и взял путь на Иркутск (через Канский и Удинский
остроги). В Иркутск путешественники прибыли 22 марта 1735 г. Здесь академики
столкнулись с произволом местной администрации, которую возглавлял тогда вице-
губернатор Андрей Григорьевич Плещеев. ’’Когда академики хлопотали о снаряже-
нии к путешествию по р. Лена Делиля де ла Кройера”, то ”Г-н вице-губернатор сими
словами отказал, что-де он нам не слуга, чтоб ему по нас работать”. Требуя от академи-
ков платы за взятые ими добавочные подводы, Плещеев говорил; ”что-де он к нам
еще не такие промемории присылать будет: чтоб-де мы знали, что он нас как хочет
сжать может!” (выписка из письма академиков от 10 апреля 1735 г. к тобольско-
му губернатору, начальнику иркутского вице-губернатора) (Пекарский, 1870.
С. 325). Из Иркутска отряд совершил ряд поездок: в Селенгинск, в Кяхту, на Ар-
гунские серебряные промыслы, затем проехал вдоль р. Онон в Нерчинск и 20 сен-
тября вернулся в Иркутск. В январе следующего 1736 г. академики выехали из
Иркутска, обогнули озеро Байкал и добрались до Баргузина, завершив тем самым
обследование Забайкалья. ’’Забайкальская страна, - писал Гмелин, - вообще горис-
тою называться может; однакож между горами во многих местах есть весьма прост-
ранный степи, в том числе особливо знатны Удцнския древесныя и весьма бесплодный;
и те, который вверх по Селенге и Чикою находятся. Ононския степи, простирающий-
ся до верхней части Аргуни реки, по большей части сухи и солнечным жаром выж-
жены, дресвяны5 и пещаны, так как едучи оными по одному, по два и по три дни ни
воды, ни дров найти не можно” (С. 49).
Переправившись в районе Баргузина через озеро Байкал, путешественники напра-
вились через Усть-Кут вдоль р. Лены на север и в сентябре 1736 г. достигли Якутска.
Обосновавшись в нем, академики занялись обработкой гербария, собранных кол-
лекций животных, минералов (Гмелин)6 и сбором архивных документов (Миллер)7. В
6 Дресвяный — прилагательное от дресва — крупный песок, образующийся при разрушении
некоторых горных пород (Словарь русского языкаХ!—XVII вв. M., 1977. Вып. 4).
6 Гмелин хорошо разбирался в минералах и рудах. Л Академии наук он считался большим
знатакомв этой области. Когда в 1729 г. обер-секретарь Сената И.К. Кириллов прислал в Академию
два куска руды, И.Д. Шумахер (библиотекарь Академии, управляющий ее делами в отсутствие
президента Академии Блюментроста) ответил: ”Обе руды я отдал на пробу опытному в металлур-
гии профессору”. В черновике письма было написано еще ”И.Г. Емелину”, хотя Гмелин был тогда
лишь служащим при Кунсткамере (ЛО АН СССР. Ф. 1. Оп. 3. № 17. Л. 55).
Академику Г.Ф. Миллеру удалось переписать архивы Якутска, впоследствии сгоревшие, и тем
спасти ценнейшие сведения покорения Сибири, использованные им в его бессмертном труде "Ис-
тория Сибири”.
76
Якутске в то время собрались все участники Камчатской экспедиции: В. Беринг,
академик Делиль де ла Кроейр и морские офицеры, отправлявшиеся на Камчатку.
Увидев, как Беринг обходился с Делиль де ла Кройером, вмешиваясь в его дела, не
считаясь с мнением академика, Миллер и Гмелин пришли к выводу, что и с ними
Беринг намерен поступать точно так же. В письме от 6 октября 1736 г. академики
доводили до сведения президента Академии наук барона И.А. Корфа, что самовласт-
ное поведение Беринга может нанести ущерб их научным изысканиям (Пекарский,
1870. С. 326). В Якутске академиков преследовали несчастья. 8 ноября 1736 г. в доме,
в котором жил Гмелин, случился пожар, когда Гмелин с Миллером были в гостях у
Беринга. В донесении президенту Академии наук Гмелин писал: ”Мы все, сколько
нас ни было, к тому дому побежали, но понеже того дома уже половина сгорела, того
ради к нему приступить никак не возможно было как бы что-нибудь из огня выхва-
тить; но ни слуга мой, которой в доме оставлен был, ни солдат караульный прежде
моего прибегу, хотя бы маленькую какую вещь, который при мне в доме имелися, из
дому унести могли, для того, что так великий и скорый был пожар, что и все, что в
сенях лежало, огнем сгорело, только едино платье, которое на мне было, осталось.
Однако ж о сем я не весьма печалюсь, но плоды сего года все пропали. . . Рисунков
больше ста было, из которых только восемнадцать осталось, т.е. которые у живопис-
цев не отделаны были и у них имелись; звери и птицы, бумагою набитые, все в пепел
превратились. История стран забайкальских, которую из Иркутска чрез письма
обещал прислать, сгорела ж. . . ” (С. 436). В заключение Гмелин просил прислать книги и ин-
струменты, чтобы можно было продолжить исследования. Академики болели, осо-
бенно тяжело Миллер. Много сил путешественников уходило на преодоление всевоз-
можных препятствий в работе, которые им чинили местные власти.
Конечной целью экспедиции была Камчатка, но академики всячески оттягивали
поездку туда. В своих рапортах Академии и Сенату они ссылались на плохое состоя-
ние здоровья и необходимость предварительного сооружения на Камчатке базы - не-
скольких изб, где бы они могли жить и работать. С этой целью ими был послан в ок-
тябре 1737 г. на Камчатку С.П. Крашенинников, которому было поручено также
провести разносторонние исследования полуострова в соответствии с врученными
ему предписаниями (ордерами)8.
Видимо, к этому времени И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер, оценив обстановку в Якутске
и предвидя, какие трудности могут ожидать их на Камчатке, пришли к мнению, что
они не смогут успешно участвовать в экспедиции Беринга и Чирикова. Академики
просили разрешения Сената вернуться назад и продолжить исследования во время
обратного пути. Пока же они отправились в путешествие вверх по р. Лене. 3 сентября
1737 г. прибыли в Киренский острог, где Гмелин остался зимовать, а Миллер, так как
он болел, поехал в Иркутск. В письме из Киренского острога [Киренска] от 19 сентяб-
ря 1737 г. президенту Академии барону Корфу Гмелин писал: ’’Вообще проволочки
сибирских канцелярий для нас тяжелое обстоятельство в этом путешествии. Указы
бывают только тогда грозны, когда из этого может быть извлечена выгода для на-
чальника; когда же должны быть исполнены важнейшие дела для государственной
пользы, а на это нет ясного повеления или начальник не может при том ничем по-
пользоваться, то не делается ничего. . . Существеннейшим для нас освобождением
был бы всемилостивейший указ о возвращении нашем назад...” (С. 436-437).
В марте 1738 г. в Иркутск приехал Гмелин, и академики отправились в путешест-
вие для изучения бурятов и тунгусов. В августе того же года они прибыли в Ени-
• С.П. Крашенинникову был вручен также составленный академиком Миллером на основании
собранных им в Якутске материалов историко-географический очерк Камчатки.
77
сейск, где провели зиму. Здесь в январе 1739 г. они встретились с Г.В. Стелл ером,
посланным из Петербурга, чтобы присоединиться к ним9.
В 1739 г. академики ездили из Енисейска по р. Енисею в Мангазею и Туруханский
Троицкий монастырь (июль), а оттуда вернулись в Енисейск (26 июля), где их ожидали
бумаги из Петербурга с указом Сената, гласившим: ’’Обретающегося в камчатской
экспедиции профессора Мюллера от камчатской поездки, за показанною его болез-
нию, уволить и для излечения быть ему в Санкт-Петербурге; и, едучи чрез те места,
где он еще не был или в бытность свою довольного времени не имел, надлежащие к
обстоятельнейшему описанию натуральной истории исследования чинить. А для
произведения к окончанию в оной экспедиции обсерваций быть прежде отправленному
в экспедицию профессору Гмелину, адъюнкту Стеллеру...” (С. 328). Это распоряже-
ние произвело тягостное впечатление на Гмелина. Он писал барону Корфу: ”... А
ежели мне, на все сие не взирая, конца сей экспедиции дожидаться приказано будет,
то я в дальнейшую в Сибири бытность за совершенную ссылку признаваю и никакого в
том различия не нахожу, а я сего здешними трудными путешествиями, ни шестилет-
ними своими поступками и услугами в Петербурге поистине не заслужил” (С. 438).
Из Енисейска академики проехали по р. Енисею до Абаканского острога и в авгус-
те месяце вернулись в Красноярск, где провели зиму 1739/40 г.
В феврале 1740 г. Миллер оставил Красноярск и направился в Томск. Затем он
посетил Нарым, Сургут. Осенью того же года Миллер приехал в Тобольск, где провел
зиму 1740/41 г., а 24 марта 1741 г. он уже был в Тюмени. Оттуда Миллер поехал в
Ирбит, далее до ’’Писанца камени” и 8 июля того же года приехал в Екатеринбург.
Отряд же Гмелина в июле 1740 г. выехал из Красноярска и направился в Томск, где
провел зиму 1740/41 г. Пробыв там по июнь 1741 г., путешественники проехали через
Барабинскую степь в Тару (июль 1741 г.), затем через Знаменский погост и Юлуторов-
ский острог они в октябре того же года прибыли в Тюмень (по дороге Гмелин изучал
рудники и карьеры Уральских гор). В Тюмени академики съехались и вместе отправи-
лись в Тобольск, где провели зиму 1741/42 г. В январе 1742 г. Гмелин и Миллер вые-
хали из Тобольска в Туринск. В Туринске Миллер заболел ’’простудною горячкой”.
Лето академики провели в Верхотурье10.
Тем временем был получен указ о разрешении Гмелину вернуться в Петербург, и
академики из Верхотурья отправились в Петербург через Соликамск-Великий
Устюг-Тотьму-Вологду-Белозеро и Старую Ладогу. В столицу они прибыли 14 фев-
раля 1743 г. после 9,5 лет путешествий. По расчету академика Миллера, он проехал
31 362 версты.
Вернувшись в Петербург, И.Г. Гмелин вновь стал выполнять свои обязанности
профессора натуральной истории и занялся обработкой обширных коллекций, собран-
ных во время путешествий, и подготовкой ботанического труда ’’Flora sibirica”. Этот
классический труд, опубликованный на латинском языке в 1747-1759 гг. в 4-х томах
в Гёттингене, содержал 1178 видов растений России и Сибири и иллюстрации 294 из
них. Первые два тома были изданы И.Г. Гмелином. Два последних опубликовал его
племянник С.Г. Гмелин (академик Петербургской Академии наук). При издании двух
последних томов, хотя уже была известна классификация растений Линнея, Петер-
бургская Академия наук решила печатать весь текст без изменения, как его предста-
вил автор (И.Г. Гмелин придерживался при описании растений системы голландского
ботаника А. Ройена). Вследствие этого за И.Г. Гмелином не сохранился приоритет в
описании 500 новых видов растений.
9 Г.В. Стеллеру удалось добиться включения в морскую экспедицию Беринга. Он обследовал
берег Аляски, описал о-в Беринга, провел обстоятельное исследование Камчатки (см. главу о
Г.В. Стеллере).
10 В Верхотурье Миллер женился на вдове одного немецкого хирурга.
78
Значение труда ’’Flora sibirica” И.Г. Гмелина охрактеризовал крупный отечествен-
ный ботаник флорист академик Петербургской Академии наук Ф.И. Рупрехт (1814-
1870). ’’Это поистине классическое творение. . .В нем первый раз определено и
изображено чрезвычайное для тогдашнего времени множество растений, и Линней
говорит в одном из своих писем (1744), что Гмелин один открыл столько растений,
сколько другие ботаники открыли их вместе; но Линней еще далеко не видел всех
растений Гмелина. В его ’’Flora sibitica” мы находим первые шаткие попытки расти-
тельно географии Сибири, основанные на обширной наглядности; граница обыкновен-
ных европейских растений отодвинута до Енисея, и уже подмечено сходство азиат-
ских и американских пород” (Рупрехт, 1864).
Значительный интерес представляет описание И.Г. Гмелином природы Восточной
Сибири, ее рек, расположенных около них территорий, которое дано в предисловии
его сочинения ’’Flora sibirica”. ”Тунгуска-река очень крива и островиста, во многих
местах чрез пороги весьма. быстрое имеет течение. Дно ее каменисто, берега круты и
высокими горами окружены по большей части. Везде по ней лесу довольно” (Гмелин,
1749. С. 36). ’’Места между Енисеем, Тунгускою, Ангарою, Иркутом и Шишкишем
вообще гористыми назвать должно. Луга по Тунгуске-реке черноземом покрыты,
однако ж так тесны, что почти к земледельству и места нет” (С. 37). ”От устья Ени-
сея и Тунгуски рек до самой Ангары, и от устья Лены до Куты, хотя и великое про-
странство земли, однакож все места больше бесплодный гористыя, и никто там не
живет кроме зверей да тунгусов. . . ” (С. 41).
В 1747 г. И.Г. Гмелин получил годовой отпуск от Петербургской Академии наук и
вернулся в Тюбинген, где и оставался до своей смерти. В 1749 г. он стал профессором
медицины, ботаники и химии в Тюбингенском университете. Скончался Гмелин в
Тюбингене 20 мая 1755 г.
И.Г. Гмелин внес вклад во многие области науки: географию, геологию, ботанику, эт-
нографию и др., сделал ряд важных открытий, первым установил (по результатам
барометрических измерений в Астрахани), что уровень Каспийского моря ниже
уровня Черного моря, первым отметил, что в Западной Сибири почвенный слой тол-
щиной в несколько футов остается замороженным даже летом.
Из научного наследия И.Г. Гмелина следует отметить также его труд ’’Reise durch
Sibirien von dem Jahre 1733 bis 1743”, опубликованный в Гёттингене в 1751-1752 гг.,
который представляет собой переработку для печати его дневниковых записей
путешествия по Сибири. В нем содержится много ценных географических, геологи-
ческих и этнографических сведений. Это сочинение было опубликовано в сокращен-
ном виде на французском (в 2 томах) и на датском языках. В России это сочинение не
издавалось из-за содержавшейся в нем резкой критики царской бюрократии, ее неэф-
фективности, некомпетентности и консерватизма.
Вернувшись в Петербург, Г.Ф. Миллер вновь стал читать лекции по истории в акаде-
мическом университете, уделяя много внимания разбору архивных материалов
Сибири. Итогом этих работ стал его труд ’’История Сибири” и ряд исторических сочи-
нений. Миллер многие годы вел издание Академии наук ’’Комментарии”, в котором
публиковались наиболее важные работы Академии наук. В нем были опубликованы
и работы И.Г. Гмелина с описанием сибирских млекопитающих, к которым Миллер на осно-
вании литературных источников дал подробные комментарии. В 1748 г. Миллер принял
присягу на подданство России. Более 20 лет он был конференц-секретарем Академии
наук. В марте 1765 г. Миллер переселился в Москву. 27 марта 1766 г. он был назначен
начальником Московского архива иностранной коллегии. Скончался академик
Г.Ф. Миллер в Москве 11 октября 1783 г.
Особый интерес для анализа становления отечественной териологии имеют труды
И.Г. Гмелина, в которых дано описание зверей Сибири, а также некоторые коммента-
рии к ним Г.Ф. Миллера.
79
ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ И.Г. ГМЕЛИНА
Путешествуя по Сибири, И.Г. Гмелин описал ряд млекопитающих, некоторые из
них были очень кратко охарактеризованы до него Д.Г. Мессершмидтом, путешество-
вавшим там в 1717-1727 гг. Наиболее подробное описание млекопитающих Гмелин
приводит в своем труде ’’Описания некоторых четвероногих животных”, который он
опубликовал на латинском языке в издании Петербургской Академии наук (Nov.
Com. 1758. Т. 4; 1760. Т. 5). Гмелин привел в нем описания И млекопитающих: соболя,
яка (’’хрюкающей коровы с конским хвостом”), домашней курдючной овцы, аргали,
бурундука, сайги, дзерена, земляного зайца, зайца-толая, песца, выхухоли и кабарги.
Некоторых из них, как, например, соболя, аргали, яка, ему не представилась возмож-
ность вскрыть, и он ограничился только описанием их внешних признаков, в отноше-
нии других зверей он приводит их обмеры и дает подробное описание их анатомичес-
кого строения.
Современные зоологи, как правило, не имеют сколько-нибудь ясного представ-
ления об уровне териологических знаний в первой половине XVIII в., что собой
представляли описания зверей в ту пору. Поэтому нам представляется уместным
привести описания млекопитающих нашей страны, которые дал И.Г. Гмелин. Эти со-
чинения, отражающие состояние развития западноевропейской науки, были написа-
ны на латинском языке и опубликованы в изданиях Петербургской Академии наук,
являющихся теперь большим раритетом, и поэтому практически не доступны читате-
лю.
В ряде описаний млекопитающих, которые дал И.Г. Гмелин, приводятся не только
внешние признаки животного, его анатомическое строение внутренних органов, но и
сведения о его распространении, миграциях, местах обитания, рассказывается о
повадках животного, устройстве нор. Источником этих сведений обычно служили
охотники, служилые люди и странствующие купцы. Поэтому иногда в описаниях
ученого встречаются, как и в трудах средневековых авторов, фантастические сообще-
ния, небылицы. Но таков уж был уровень зоологических работ первой половины
XVIII в. и в Западной Европе.
Обращает на себя внимание попытка И.Г. Гмелина в предисловии к его труду
’’Flora sibirica” связать распространение зверей с географией Сибири. По его мнению,
р. Енисей является естественной границей распространения европейских и азиатских
видов животных. Таким образом, область распространения европейских млекопи-
тающих была доведена до Енисея.
Блестяще владея методом анатомирования, ученый дает детальное описание ана-
томического строения таких малоизученных зверей, как выхухоль, аргали и особен-
но кабарги. Тщательное анатомическое исследование кабарги позволило Гмелину
открыть истинное расположение мускусносного фолликула, показав, что он соединен
с мочеиспускательным каналом.
Описания Гмелина млекопитающих Сибири свидетельствуют о том, что уже в
40-50-х годах XVIII в в Петербургской Академии наук изучение млекопитающих
было на уровне исследований их в университетах и в академиях Западной Европы.
Некоторые описания млекопитающих Гмелина Миллер дополнил своими коммен-
тариями, основанными на литературных источниках, а иногда на рассказах охотни-
ков, поэтому они в некоторых случаях содержали фантастические сведения и вводи-
ли читателя в заблуждение. Но тем не менее комментарии Миллера сыграли положи-
тельную роль, способствуя росту интереса у читающей публики к изучение млекопи-
тающих.
Из сибирских млекопитающих Гмелина особенно интересовал соболь.
”По внешнему виду и форме тела соболей, - писал Гмелин, - относят к кунице
(рис. 33). Отличает их зубы. Нижняя челюсть имеет шесть передних зубов, довольно
80
Рис. 33. Соболь
длинных и несколько изогнутых, два моляра и, насколько можно судить, трех бугор-
ковых. Верхняя челюсть бугриста за счет очень мелких зубов, их число затрудняюсь
определить. Пасть с боков украшают длинные щетинки. Стопы лап широкие, как
передние, так и задние, разделены на 5 пальцев и защищены светлыми коготками,
немного крючковатыми”. ’’Березовский зверек радует глаз окраской сплошь се-
ро-черной, исключая подбородок и ушки. На подбородке цвет почти серый, вокруг
ушек - желтоватый. По длине зверек равен половине русского локтя. Другой соболь
из Томской земли - меньших размеров, цвета сплошь темно-желтого, на подбородке
и ушках - несколько бледнее.
Остальное видно из прилагаемого рисунка, который я сделал зимой с березовского
экземпляра. С приближением весны мех у зверьков полинял и окраска стала совер-
шенно другой. Березовский из серо-черного стал темно-желтым, томский из тем-
но-желтого стал светло-желтым.
Меня восхищала живость этих животных (я не осмелился бы назвать это дикос-
тью). Когда в поле их зрения попадает кот, зверьки начинают переступать задними
лапами, словно приготавливаясь к сражению. По ночам большей частью они ведут
себя беспокойно. Днем чаще спят, иногда по целому часу, особенно в начале дня. И в
то же время могут бросаться с места на место, вертеться, показывать зубы, таскать
друг друга, и это забавно наблюдать. Питаются мясом. Экскременты пахнут очень
дурно” (Gmelin, 1758. Р. 338-339)11.
Як, ’’корова” хрюкающая косматая с конским хвостом”, Гмелин описал ее сле-
дующим образом. ’’Корова была доставлена из Калмыцких земель. Длина ее состав-
ляла 2 1/2 русских локтя [155,5 см]11 12. Тело, как у коровы, рога закручены внутрь.
Голова и тело черные, исключая лоб и спинной хребет, которые белые. Шея гривас-
тая, и все тело косматое, как у козла, причем волосы эти, свисающие до самых колен,
такой длины, что ноги, если на них посмотреть издали, кажутся весьма короткими.
Спина приподнята в горб. Хвост конский, длинный, белый. Ноги бычьи, передние -
черные, задние - белые. У лодыжек задних ног заметна бахрома из волос с той и с
другой стороны. У передних ног она расположена только в задней из части (рис. 34).
Экскременты немного тверже коровьих. Испуская мочу, животное тело отставляет
назад. Не мычит, но хрюкает наподобие свиньи.
11 Пер. с лат. П.Г. Соловьевой.
12 1 локоть соответствует 12 вершкам, или 62,2 см. 1 вершок равен 4,44 см.
6. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
81
Рис. 34. Як
Животное дикое, при приближении человека (за исключением того, кто протягива-
ет ему корм) ведет себя воинственно, бросается на него наподобие козла, ударяя
головой. Домашних коров не переносит. Когда какая-нибудь из них попадает в поле
его зрения, хрюкает, что делает чрезвычайно редко в другое время”13.
Дополнение к предшествующему описанию. «сРубук на пути через Татарию и Бэкон
в своих заметках об этой дикой и сильной разновидности быка, который тунгусы
использовали для перевозки их переносных жилищ, сообщали, что это животное
хвост имеет конский, волосы на спине и животе, ноги - меньших размеров, чем у
быка обыкновенного. Они предупреждали, что животное испытывает сильный страх
перед красным цветом. Как сообщает Рубрук, коровы этого рода не подпускают к себе
быков, и случаются с быками только в том случае, если кто-нибудь будет петь про-
тяжную песнь, а Бэкон утверждает, что без таких песен они не позволяют себя доить.
Легко догадаться, что род быков, в котором говорили Рубрук и Бэкон, описан мною
под названием хрюкающей коровы. Ноги заметно меньших размеров, чем у обык-
новенного быка, длинные волосы почти полностью покрывают голени, так что высту-
пают только стопы. Я отметил рога, аналогичные рогам быков обыкновенных, о ко-
торых я слышал, что они довольно острые. Правда, я не заметил [у них] страха перед
красным цветом. Когда мне представился случай побывать в городе Томске, я по-
лучил возможность сравнить сведения, сообщаемые упомянутыми авторами, с теми,
что я слышал от одного местного калмыка и которые я нахожу уместным здесь
привести. Калмыки взращивают две разновидности коров, которые сходятся с опи-
санными; одна разновидность Сарлук, другая Хайнук, как они их называют. Сарлук
- это то, что описал я, и представление о котором дают названные авторы; Хайнук
отличается от первой разновидности величиной головы и рогов и хвостом, вначале
13 Пер. с лат. П.Г. Соловьевой.
82
как бы конским, но заканчивающимся наподобие коровьего. Калмык добавил и о
другом свойстве того и другого - о случке, совершающейся под пение, или о доении;
что касается страха перед красным цветом, то об этом ему ничего не известно, в этом
отношении их коровы ведут себя, как и наши. Но у них есть лесная разновидность
быка, сообщил он далее, Буха, который больших размеров, чем Сарлук, и совершенно
не поддается одомашниванию, и, вдобавак, такой свирепости, что если в такого быка
попадут стрелы, которые не нанесут немедленно смертельной раны, то он преследует
охотника, подбрасывает его рогами в воздух и упавшего вновь подхватывает на рога,
и забаву эту столь долго продолжает, пока не лишит жизни своего врага. Этот род
быков, продолжает калмык, имеет привычку нередко так долго держать охотника,
поднятого на рога, пока тот не высохнет на этих самых рогах, и прах его не развеет
ветер, этого он сам, правда, не видел, но, вне всяких сомнений, так именно и было.
Этот лесной род быков, завезенный к калмыкам, более распространен в царстве
Тангут, или Тибет, в гористых землях Бухарцев у реки Тул-Хозо, от гарниц царства
Котон-Кария на расстоянии двух дней пути. Эти сведения, представляющиеся мне
более надежными, сообщил мне козак, некогда содержавшийся у калмыков в плену,
а ныне проживающий в Кузнецке. А человек это полагает, что Сарлук калмыцкий -
это дикий тунгусский бык, который теперь приручен, и кажется, что это содержит
значительную долю правды, если только тунгусский бык упомянутых авторов сов-
падает с Сарлуком калмыкским, как я уже отмечал. По правде сказать, меня в ка-
кой-то мере ставит в тупик, каким образом можно объяснить у тунгусского быка его
страх перед красным цветом; ведь подверженный приступам жестокости, дикий
тунгусский бык может быть приведен в бешенство не только красным цветом, но и
какой бы то ни было другой причиной, воздействующей на его чувства. А ручной не
пугается ни красного цвета, ни чего-либо другого. Еще более странным представля-
ется мне рассказ о пении, необходимом во время случки или доения. Трудно найти
причину ошибки в такого рода обстоятельствах. Возможно, эти авторы не знали
достаточно хорошо языка, на котором излагались чудеса об этой разновидности
быков, что само по себе вызывает подозрение, один, вероятно, счел нужным передать
это, как ”во время доения”, а другой - ”во время случки”. Однако вполне
возможно, что эти сведения были ими услышаны на самом деле».
Овца курдючная (русское название — калмыцкий баран). Я уже знал о существо-
вании двух разновидностей широкохвостных овец: одна разновидность с хвостом
широкими длинным, другая - с широким коротким. Я сам не видел первой разновид-
ности, но слышал, что она описана другими исследователями, которые в изобилии
встречали ее представителей в землях Казахской орды. Другая разновидность,
некогда завезенная из калмыцких земель, ныне прижилась уже в Семипалатинской и
Усть-Каменогорской землях, и вот ее-то описание я намереваюсь здесь представить.
По внешнему строению его относят к барану обыкновенному (рис. 35). Большей
частью носит рога, загнутые вперед полукругом. У старших по возрасту особей после
того, как рога выросли в полукруг, они нередко до того изогнуты вовне, что их
можно видеть как бы отдельно от фигуры. Баран, которого я описал, имел черную
голову и подбородок, а ноги и живот - не столь черные. Спина была грязно-желтого
цвета, испещренная белыми и темными пятнами. Что касается до остального, цвет
разный, как у наших домашних овец. Хвост длиной полфута, шириной один фут14,
почти квадратный, делится на две половины по линии, проходящей через его середи-
ну. Чем больше отрастает хвост, тем более незаметной делается эта линия. Я видел
молодых баранов этого рода, у которых только в основании был такой ширины хвост,
а в остальной части очень узкий, но местные жители сообщили мне, что он постепенно
14 1 фут = 12 дюймов = 30,5 см; 1 дюйм = 2,54 см.
Рис. 35. Овца курдючная
должен расшириться, как и у основания. Хвост этот состоит из сплошного чистого
жира. Взрослый баран был длиной от основания рогов до начала хвоста 3 1/2 дюйма15.
Белка малая полосатая (русское название - бурундук). По общему виду тела и по
хвосту относится к бурундуку малому (рис. 36). Данный экземпляр представляет
собой детеныша, хотя и взрослые особи не намного больше. Как это видно из рисун-
ка, сделанного в натуральную величину, морда снизу более выдается вперед, чем
сверху. От кончика морды до задней стороны ушей расстояние около 2 дюймов,
оттуда от задней стороны ушей до начала хвоста 3 1/2 дюйма. На каждой челюсти два
очень длинных зуба, из которых два верхних при сомкнутых челюстях выдаются над
нижними. Пасть по бокам и брови имеют черные щетинки, к пасти удлиняющиеся. Лоб
вплоть до носа желтоватый, с редкими темными волосами. Глаза как сверху, так и
снизу окружает темный ободок, сами же веки светлые. Щеки желтоватые. Спинка
желтоватая, с идущими по всей спине пятью черными полосками, которые начинают-
ся спереди от головы (кроме средних - они от ушей) и доходят сзади до хвоста. Хвост
длиной почти 5 дюймов покрыт белыми, черным и рыжеватыми волосами, не особенно
длинными, на самом кончике - белыми, у животного зверька хвост загибается над
спиной. На передних лапах четыре пальца, снабженные тончайшими, довольно
загнутыми, светлыми коготками. Задние лапы имеют пять пальцев. Наружная сторо-
на большеберцовых костей почти лишена волосяного покрова, внутренняя же, как у
передних, так и у задних лап одета глинистого цвета мехом. Зверек широко рас-
пространен по всей Сибири.
Козел безбородый (русское название - сайга). Голова животного напоминает
овечью, за исключением того, что передняя часть больше выдвинута вперед. Осталь-
ная часть тела напоминает оленя. Самец этого вида называется Маргач. По высоте
сайгак никогда не достигает высоты дикой козы Плиния. 16
16 Здесь явная опечатка. Вероятно, 3 фута (Примеч. академика Г.Ф. Миллера).
84
Рис. 36. Бурундук
Тот экземпляр, который мною описан и от верхней точки головы до конца ноги
высотой 3 фута, и от верхней точки головы до начала хвоста тоже 3 фута. Уши торча-
щие, довольно широкие, к концу суживающиеся и завершающие притупленным кон-
чиком, длиною более 2 дюймов. На один дюйм перед ушами, над глазной впадиной с
каждой из сторон выступает рог, который у данного, 4-месячного, индивида был
черным, прямым, длиной около 2 дюймов. У взрослых особей рога иногда вырастают
в длину до фута, у основания на рогах заметны белесые кольца, рога кверху имеют
более узкие кольца (рога сужаются) и на конце черноватые. Если внимательно вгля-
деться, можно увидеть также продольные полосы. Из рогов, как сообщает Гербер-
штейн, изготовляют прозрачные рукоятки перочинных ножиков. На нижней челюсти
4 резца и 4 клыка, а также 5 моляров, некоторые из них имеют двойные корни.
Верхняя челюсть имеет такое же число резцов и клыков, но только 4 моляра, опи-
рающихся на три корня. Шея довольно длинная. Лопатки в длину менее пяди16.
Голени длиной более фута, на конце раздвоенные. Сосков по двое с каждой стороны.
Тестикулы расположены на 3 1/2 дюйма кзади от сосков. Хвост тонкий, длиной
3 фута. Окраска верхней части туловища желтая с черным, а снизу белая.
Самка этого вида имеет меньшие размеры тела, не носит рогов. Сайгаки быстро
бегают. Когда охотники за ним гонятся, сайгак движется одним и тем же своеобраз-
ным аллюром, напоминающим лошадиную рысь, которая, однако, через короткие
интервалы прерывается высокими прыжками.
Между кожей и мясистой частью туловища даже у живых животных этого вида
скрываются белые почти прозрачные черви длиной 1/2 дюйма, толстые, с закруглен-
ными концами. Мясо сайгака широко используется в пищу жителями Прииртышья (из
всех видов мяса оно наиболее доступно). Животные, достигшие половой зрелости,
часто совершают совокупление. Детенышей бывает один или два. Питаются сайгаки
злаками, осенью основательно жиреют.
В летнюю пору в изобилии водятся в пустынных степях от города Тары до Семи-
палатинска и по обеим берегам реки Иртыш. Зимой предпочитают гористые места,
более приспособленные для их прокорма. По свидетельству Герберштейна, они оби-
тают в пустынных степях около Днепра, Дона и Волги. 16
16 Пядь — древнерусская мера длины равна 4 вершкам. Обычно равнялась 17,78 см.
Рис. 37. Дзерен
Коза степная зобатая с рогами не ветвистыми не отпадающими [дзерен]*. Не афри-
канская ли это газель (Syn. quadrupedum Rai. 79). По всему ее внешнему виду ее
относят к дикой козе Плиния; что касается размеров, окраски, а также способов
передвигаться и травоядности животное до такой степени напоминает названную, что
всякому, кто видел дикую козу Плиния, легко можно представить себе ее точную
копию (рис. 37).
Взрослое животное мужского пола, зарисованное при жизни, имеет следующие
размеры:
Футы Дюймы
Длина головы от кончика морды до начала шеи 9 1/2
Длина от кончика морды до ушей 5
Длина от кончика морды до шеи 7
Длина спины до начала хвоста 2
Длина спины до конца хвоста 4
Длина передних ног от начала лучевой
кости до конца стопы 1 6
Длина задних ног от начала большой
берцовой кости до конца стопы 1 8
Расстояние от глаз до кончика морды 5 1/2
Расстояние между глаз 3 1/4
Расстояние от рогов до конца морды 5 3/4
Расстояние от ушей до рогов 3/4
Расстояние от пениса до тестикул 4 1/2
Расстояние от тестикул до сосков 1
Высота животного в положении стоя от верхушки головы до земли составляет
3 фута и 1 дюйм; расстояние от самой верхней точки спины до конца задней стопы
равно 2 фута и 4 1/2 дюймам.
86
На верхней челюсти 6 моляров с каждой стороны, на нижней - столько же моля-
ров и по 4 резца с каждой стороны.
Мужская особь отличается от женской двумя важными признаками: во-первых,
тем что имеет рога (довольно прямые, однако неперпендикулярные к голове). Они
расположены над глазами (между глазами и ушами), причем к глазам ближе, чем к
ушам. В основании рога более дюйма в ширину, причем они не круглые, а несколько
сплюснутые; и толщину имеют ту же; произрастают рога друг от друга на расстоянии
около 3 дюймов, почти перпендикулярно, по крайней мере до половины своей высо-
ты. Затем они слегка отклоняются назад, а недалеко от своих верхушек они снова
загибаются, постепенно утончаясь, и заканчиваются острыми верхушками, отстоящи-
ми друг от друга почти на 4,5 дюйма. От корня до той части, где они начинают заги-
баться кнутри, рога покрыты явно заметными бороздами; далее до самой верхушки
рога совершенно гладкие. Они темно-серого цвета, исключая верхушку, которая
очень черная. Добавим, что это животное рогов не сбрасывает и что его рога, как и
рога дикой козы Плиния, состоят из очень твердого вещества.
Второй признак, помогающий отличить самца от самки, - это зоб, который у сам-
ца отчетливо виден (для этого не надо прибегать к вскрытию) и который достигает в
длину 5, а в ширину 3 дюймов. У молодых животных, однако, этот выступ гораздо
меньших размеров. У годовалых самцов он едва заметней. Пропорционально возрас-
ту или, точнее, пропорционально росту рогов зоб также увеличивается.
Во внутренних органах я не нашел ничего необычного, чего бы я не наблюдал у
серны (Rupicapra carribus arietinis). При освобождении гортани от шкуры становится
вполне ясно строение этого выступа. Щитовидный хрящ был 3 дюймов длиной и
столько же шириной, обращали на себя внимание семь отростков, начало он брал от
трахеи, диаметр которой был почти 2 дюйма. Перстневидный хрящ вершины шири-
ной 2 1/2 дюйма, у основания - 2 3/4 дюйма в ширину и длиной 2 дюйма. Черпаловид-
ные хрящи, измеренные столь же вверху, сколько и в основании, имели 2 дюйма в
ширину и столько же в длину. Надгортанник отсутствовал.
Добавлены схемы, снятые с высушенного образца. Ведь в условиях длительного
путешествия, препятствующих более обширному наблюдению, не было возможности
выполнить их из свежего. Фиг. 1 представляет собой разрез гортани спереди и сбоку,
и в этом причина того, что 2-й и 4-й отростки невозможно рассмотреть. Фиг. 2 изобра-
жает гортань сзади. Цифры и буквы, кроме указанных на этой схеме, имеют то же зна-
чение, что и на фиг. 1. На каменного безбородого козла данное животного похоже,
правда, прямизной рогов и отсутствием разветвления, но отличается по форме носа,
который у каменного козла расщеплен и довольно широк, также у сайгака и овцы,
тогда как у дикой козы, которую я описываю, как и у дикой козы Плиния, нос не
расщепленный. Но, признаюсь, мне не удалось найти признаки, по которым можно
было отличить самок данного вида от дикой козы Плиния. Если только не считать
таким признаком обитание их в поле или в лесу.
Это разновидность козы часто встречается во всех пустынных и открытых степях
Забайкалья и по-монгольски называется дзерен. Она - это название самки, исполь-
зуемое теми же монголами.
Мясо этого животного идет в пищу, шкура - для одежды жителям. Наконец, ро-
га - в большой цене у китайцев, которые приобретают их за немалую цену.
Знаменитый Мессершмидт прилагает зарисовку этого животного, но плохо выпол-
ненную: особенно важно, что рога изображены слишком длинными по сравнению с
размерами остального тела. К рисунку дана надпись: коза она Дзерен и Шархэхчи,
даурская, степная зоЬахая, рекобоязненная и т.д. Что он понимает под ’’рекобояз-
ненная”, я не смог установить. Ведь это животное источники посещает весьма часто,
подобно другим животным: только весной и осенью, когда почва влажная, со свежи-
ми травами или обильно орошается дождями, тогда они не столь часто посещают
87
реки, однако тунгусы рассказывали, что они (дзерены), когда хотят избежать охот-
ничьих засад или по собственным надобностям, нередко перебираются на другой бе-
рег. Немало также против этого высказывания о страхе перед рекой говорит тот факт,
который привел бригадир в городе Селенгинске Иоанн Димитриевич Бухольц. Он
рассказал о козе этой породы, выросшей в его доме и ставшей совсем ручной. Она так
привязалась к слуге, приносящему ей корм, что когда тот в силу какой-то домашней
необходимости переправлялся в челноке через реку Селенгу, то она нередко следо-
вала за ним, переплывая реку, что, безусловно, нелегко было бы осуществить, если
бы она в силу какого-то инстинкта боялась бы рек.
Кролик карликовый прыгающий с очень длинным хвостом. Этот очень подвижный,
кроткий и приятный на вид зверек обитает в степях у рек Чик, Аргунь и Онон. Вооб-
ще-то он, конечно, относится к роду зайцев, но, по серьезном размышлении, он
весьма своеобразен и не должен быть отождествлен ни с каким другим, известным
нам родом животных (рис. 38).
Он меньших размеров, чем кролик, и имеет более короткое тельце. Уши длинные,
заячьи, очень прозрачные, безволосые и очень красиво разрисованные кровенос-
ными сосудами; по всей длине они имеют равную ширину, кроме самого конца, где
они чуть-чуть заостряются. Верхняя челюсть значительно длиннее нижней, как у
крота, однако притуплена и завершается немного вздутым концом. Пасть с боков
снабжена очень длинными щетинками. Верхняя губа, как у обычного кролика, со
стороны ноздрей расщеплена. Зубы, подобные мышиным, причем на каждой челюсти
имеются по два очень длинных резца. Глаза большие, с темными радужными оболоч-
ками и веками, окруженными более короткими щетинками. Тело спереди узкое,
сзади - более обширное, почти круглое, заканчивается очень длинным хвостом, не
более мизинца в толщину, покрытым более чем на две трети длины более жестким
ворсом и таким коротким, что сквозь отдельные волоски снаружи прекрасно просма-
тривается угловатость косточек хвоста; отсюда, правда, и до конца ворс становится
длиннее, на самом кончике - длиннее всего, и, как в хвосте горностая или бурунду-
ка, пестрый и очень приятный на ощупь.
Передние лапы очень короткие, имеют пять пальцев, расположенных подряд; зад-
ние лапы очень длинные, снабжены четырьмя пальцами, из которых три находятся
спереди, а четвертый находится сзади передних на расстоянии почти 1 дюйма. Все
пальцы наделены белесоватыми коготками, слегка искривленными, у передних лап
несколько более короткими, у задних - немного более длинными. Зверек одет мяг-
кой шерстью, довольно длинной. Верхняя часть тела и наружная часть лап отливает
желтоватым цветом, который перемежается темно-серым, а у начала задних лап и
хвоста видны полоски белого цвета, внутренняя сторона тела, как и лап, белая.
Хвост в той части, где он покрыт довольно жесткими волосами, желтоватый, далее
приблизительно на протяжении дюйма он совершенно черный, и только на самой вер-
хушке бывает иногда белое пятно. Результаты измерения следующие:
Дюймы
Длина от кончика носа до начала хвоста 6
Длина от кончика носа до глаз 1
Длина от кончика носа до ушей 1 1/2
Длина хвоста 8 1/2
Длина передних лап от плеча вплоть до кончиков пальцев 1 1/2
Длина задних лап от лодыжек до начала пяточной кости 3
Длина от пяточной кости до начала заднего пальца 1
Длина от начала заднего пальца до кончиков когтей 2
Ширина передней части тела 1 1/2
Ширина задней части тела 3
Ширина ушей 1/2
88
Рис. 38. Земляной заяц
Поза, которую принимает зверек в спокойном положении на земле, хорошо пред-
ставлена на рисунке. В этом положении зверек часто передними лапами скребет се-
бе рот и голову, как это обычно делают кролики. После этого он сразу отправляется
по следу, принюхиваясь, как охотничья собака, а тело то и дело сжимает в комок.
При быстром беге вытягивают бедра и берцовые кости таким образом, что они об-
разуют тупой угол с выпрямленным телом и, едва касаясь земли, повторяет эти дви-
жения, пока не добежит до нужного места. Пока он совершает этих прыжки, кажет-
ся, как будто он летит по воздуху; я сам наблюдал, как он одним прыжком одолел
половину оргюйи17. А жители этих мест говорят, что, вынужденный обстоятельства-
ми, зверек одним прыжком может перенестись на расстояние в 3 оргюйи. Подземные
ходы он роет с поразительной живостью. Передними лапами скребет землю, зубками
обрывает корни, вырытую землю и оборванные корни отодвигает и отбрасывает зад-
ними лапами. Я видел, как в течение нескольких минут таким способом была выры-
та норка длиной в дюйм. К этой привычной уловке робкий зверек прибегает, если он
тесним охотниками и чувствует, что обычные прыжки не спасут его от опасности,
тогда, тотчас выкопав ходы, пытается сделать их своим последним прибежищем.
Если он избежит опасности, то вряд ли вернется к прежней норке. Тем не менее он
вновь продолжит свой труд, прежде чем вступит в норку, вырытую наспех; я видел,
как он три или четыре раза снова принимался рыть норку, когда толпа людей отовсю-
ду преследовала его.
С удивительной предусмотрительностью зверек готовится к будущей зиме. В это
время он режет траву и, когда она начинает сохнуть, собирает ее в кругленькие куч-
ки, каждая из которых в ширину и в высоту достигает дюйма, а затем хорошо просу-
шенное сено доставляет к своим норкам. Когда эти зверьки в огромных количествах
живут на полях, множество выкопанных ими норок создает значительные трудности
для передвижения людей по этим полям.
Что касается внутренних частей этого зверька, то пищевод его, как у зайца и кро-
лика, подходит к середине желудка. Слепая кишка весьма короткая, но обширная,
переходит в червеобразный отросток, длиной 2 дюйма. Желчный проток находится
под привратником. Мочевой пузырь наполнен лимонно-желтого цвета жидкостью.
Матки не имеют каких-либо отличий, а именно: влагалище подобно каналу, без ка-
17Оргюйя (греч.) — мера длины, равная размаху рук, примерно 1,85 м.
ких бы то ни было ухищрений вытянутое в лоно, разделяется на два рога, которые в
том месте, где они приближаются к яичникам, образуют множество изгибов и закан-
чиваются в яичниках. Самец имеет достаточно большой пенис, к которому вокруг
шейки мочевого пузыря прилегают семенные пузырьки длиной 1,5 дюйма, тонкие и
закрученные на концах.
На основании этих данных видно, что зверька по ушам следует отнести к зайцам,
по носу - к кроликам, по длине хвоста - к мыши, а по привычке рыть норы - к кро-
ликам. По строению же внутренних частей зверек ничего общего с упомянутыми
животными не имеют, кроме пищевода, входящего в середину желудка. Достослав-
ный Мессершмидт, давший этому зверьку родовое имя Алактага (даурская), побудил
меня включить его в число новых видов. Но поскольку тот же г-н Мессершмидт на-
зывает этого зверька кролик, точно, без сомнения, зная, что художнику должно поза-
ботиться о строгом числе новых родов, то, убежденный этим последним доводом, я
тоже называю его кролик, предоставляя каждому свободу заменить это название на
мышь или заяц. Кстати, в пользу рода кроликов свидетельствует тот факт, что мясо
зверька белое.
Русские по причине сходства его с зайцем называют его ’’земляной заяц”, монго-
лы - Alagtaga, что славным Мессершмидтом интерпретируется как недостаточно мет-
кое.
Что касается рисунка Мессершмидта, я убежден, что он производит впечатление
зверька, набитого ватой; удивительно, насколько это не согласуется с натурой, и зве-
рек показан в такой позе, которой никогда не принимает. С осторожностью, далее
следует воспринимать упоминание о том, что только на кончике хвоста имеются во-
лосы. Эту особенность зверька г-н Мессершмидт добавил к его родовому имени. Ви-
димо, он хотел подчеркнуть, что только на конце хвост одет длинным ворсом, но он
не мог пренебречь тем фактом, что и в остальных частях хвост не совсем лишен воло-
сяного покрова, хотя, быть может, более короткого. Я встретил упоминание об этом
зверьке у г-на Страленберга в сделанном им описании в северной и восточной части
Европы и Азии, где он называет его ’’летающим зайцем” и помещает его в пустынные
степи, расположенные на востоке от р. Волги. Г-н Страленберг добавляет описание,
которое достаточно приближается к истине, за исключением того факта, что величи-
ну прыжка он делает излишне большой.
Кролик необыкновенно хвостатый, заячьей окраски [заяц-толаи]. Он часто обитает
в забайкальских степях. Немного превосходит по величине кролика обыкновенного,
в остальном - по очертаниям тела, густоте ворса, способности рыть норы, способу
передвижения прыжками и по белому мясу - сходен с ним, если исключить хвост,
который заметно длиннее. Передние лапы почти вдвое короче задних. Передние ла-
пы снабжены пятью пальцами с прямыми, черноватыми когтями, скрытыми среди
ворса и достаточно длинными (рис. 39).
У задних лап только четыре пальца и столько же когтей. Сосочки - с обеих сторон,
маленькие и черные. Окраска спинной стороны тела, как у зайца, у шеи и лап - рыже-
ватая; окраска передней стороны (за исключением глотки, которая светло-рыжева-
тая) белоснежная. Я имел возможность наблюдать, как становилась серой окраска
его передней части и хвоста. Каждый волосок его верхней части, на верхушке и у ос-
нования беловатый, а в средней части - черный. Все эти наблюдения проведены в
пределах июля месяца.
В устройстве внутренних частей я обратил внимание на следующее: слепая кишка
несколько уже, чем ободочная, но длиннее последней; длина ее равна 8 дюймам; близ
впадения в нее подвздошной кишки более темная, вместимостью в средний палец,
постепенно уменьшается и в конце едва равна ширине карандаша; цвета она бело-
ватого. Пищевод, как и у зайца, переходит в середину желудка.
Монголы называют его толай; этим же названием часто пользуются и русские,
90
Рис. 39. Заяц-толай
проживающие в этих землях. Я позаботился о том, чтобы сделать зарисовку живого
кролика, чтобы заменить лучшим вариантом ту, несколько ’’сырую”, которую дал до-
стославный Мессершмидт. Название ’’кролик хвостатый даурский”, предложенное им,
я немного изменил, так как и кролики обыкновенные не совсем лишены хвоста.
Песец. Я решил присовокупить сюда историю и описание животного, весьма часто
встречающегося в области Ледовитого моря и обыкновенно относимого народом к
роду лисиц, поскольку то, что до сих пор было мною прочитано в книгах об этом
животном, зиждется на шатких, обрывочных сообщениях, весьма неполных. Я
получил от префекта города двух животных этого вида, убитых в зиму 1736/37 г. Это
были самец и самка, с еще не снятой шкурой, доставленные мне с Шиганских зи-
мовий. С них было мною сделано следующее описание. Результаты промеров (в дюй-
мах):
Самка Самец
От кончика носа до начала хвоста 22 1/10 22
Длина хвоста 12 7/10 11
От кончика носа до среднего промежутка между глазами 2 1/10 2
Внутренние края глаз отстоят друг от друга 1 1/10 1 6/10
От наружного края глаза до той части уха, которая ближе всего 2 1/10 2
(к глазу)
Длина ушей 2 2
Ширина ушей у основания 1 7/10 1 4/10
Уши отстоят друг от друга с противоположной стороны 2 1/2 2 1/2
Длина плеча 4 1/2 3 4/5
Длина локтевой кости 4 1/2 3 3/5
Запястье и пясть вместе с пальцами 3 4/5 3 3/4
Длина когтей четырех передних пальцев 4/5 4/5
Длина бедренной кости 5 4 1/2
Длина большой берцовой кости 5 4 1/2
Длина стоп 4 1/3 4 1/2
Когти задних лап 4/5 4/5
Голова в том месте, где она отходит от туловища, широкая, заканчивается доволь-
но острым носом, впрочем, в сопоставлении с остальным телом, короткая. Уши почти
круглые. На передних лапах спереди расположены 4 пальца, снабженные слегка изо-
гнутыми когтями, крепкими, у верхушки беловатыми, у корня черноватыми, а пятый
помещен позади, на внутренней части стопы, на расстоянии от корня ближайшего из
91
четырех передних в 17/25 дюйма и покрыт когтем равно твердым, слегка черноватым,
немного короче, чем у передних пальцев, но более изогнутым.
На задних лапах спереди расположены только четыре пальца, снабженные столь-
ким же количеством беловатых когтей, у корня чуть-чуть черноватых, слегка изо-
гнутых. Пенис по толщине едва равнялся гусиному перу, тестикулы по величине -
миндальному ореху и до того были скрыты между волосяным покровом, что с трудом
можно было обнаружить их следы. У самки вульва отстояла от заднепроходного от-
верстия на 4/5 дюйма. Ворс по всему телу густой, мягкий, почти как пух, но не
волнистый, длиной приблизительно в 2 дюйма, на голове несколько короче, а на ла-
пах - короче всего. Далее, у ноздрей и на нижней челюсти волосяной покров отсут-
ствует и кожа в тех местах окрашена в черный цвет.
Желудок, в общем, как у собаки. Тонкий кишечник у самца длиной 2 3/4 локтя, у
самки - 2 локтя 13 1/2 вершка, толщина же его у каждого индивидуума была рав-
на 5 3/4 вершка. Слепая кишка узкая, наполненная твердыми фекалиями, имеет в
длину 2 1/2 вершка. Печень у самца была разделена на 6 долей, из которых 4 больших
размеров, 2 - меньших. У самки я насчитал восемь долей: три больших, одну - сред-
них размеров и четыре малых. Две из последних, выпуклой стороной, вместе с
третьей, расположенной в плоской части, составляли вместе как бы трехчастную
долю. Четвертая покрывалась долей, к которой прилегает желчный пузырь, и также
всесторонне охватывала плоскую сторону печени. Желчный пузырь имеет грушевид-
ную форму. Селезенка длиной 1 3/4 вершка в верхней части в ширину приблизитель-
но 1/4 вершка, в нижней 1/2, отличалась от селезенки человека тонкой, нежной
тканью.
впадение желчного и панкреатического протоков в двенадцатиперстную кишку -
двумя отдельными устьицами на расстоянии двух с половиной вершков от приврат-
ника. Расположение сердца, легких и сосудов, берущих начало от сердца (или закан-
чивающихся там), в общем то же, что и у собаки. Начало семенных протоков у сам-
ца и самки такое же, как это обыкновенно бывает у всех животных этого рода. Семя-
выносящие сосуды у самца заканчивались непосредственно в шейке пузыря, а не в
семенных пузырьках, следа которых я не смог обнаружить, как ни прилежно отыски-
вал. Пенис имеет косточку, как у собак. Влагалище матки разделяется на два рога,
которые по отдельности восходят к яичнику каждый со своей стороны; а яичники
похожи на спеленутого червя и тесно сплетаются с перепонкой, окутывающей почки.
Ни у самца, ни у самки невозможно было найти какой-либо след фолликулов, распо-
ложенных у заднепроходного отверстия, именно поэтому, видимо, это животное
почти лишено лисьего запаха или только иногда источает его в слабой степени. Ведь
даже когда эти внутренности уже стали портиться от долгого пребывания в моем
доме, ни то, ни другое (животное) не распространяло какого-нибудь характерного
запаха.
Скелет песца, как мне представляется, не отличается от лисьего; чтобы, однако,
сопоставление это было более точным, был изготовлен скелет самца (песца).
Добавлю еще из рассказов охотников: песцы издают лай наподобие лисьего, только
голос у них более грубый, как у собак, иногда даже воют.
В народе различают две разновидности песцов: белого и серого или, как утвержда-
ет Олай Большой, небесного и пепельного цвета. Всегда шкурки песцов серого цве-
та идут за большую цену, чем белого, и, чем больше ’’черноты” в серой окраске пес-
цов, тем выше стоимость меха. Я видел многих песцов, как серых, так и белых, и
самец песец (из этих описанных разновидностей) радовал меня белым цветом, а сам-
ка - серым. Если в белом песце все тело покрывает белый ворс, то в сером песце -
серый, и никакого другого различия снаружи более не существует. А то различие,
которое отмечено в долях печени, полагаю, не должно быть произведено ни от видо-
вого признака, ни от полового, так как похожие различия встречаются каждодневно
92
столько же в трупах людей, сколько в трупах неразумных существ. Тем не менее зна-
чительное число охотников утверждает, что белые и серые песцы различаются и в
самом деле. Но мое мнение по этому вопросу ничего не могло бы решить. Ведь среди
простонародья всегда рассказчиков больше, чем рассуждающих здраво. Я встречался
с двумя охотниками: один из Якутии, другой с Енисея. После долгих бесед с ними,
продолжавшихся по нескольку дней, я пришел к заключению, что в их рассказах
меня привлекала не столько правота, сколько их любовь к природе. Они рассказа-
ли, что за много лет, сколько они охотятся на песцов, им не раз удавалось встре-
тить потомков песцов (притом, что мать их, безразлично, белая или серая), из кото-
рых большинство было бы белыми и только один случайно серый, но никогда никто
не видел такого потомства, все представители которого были бы серого цвета, и это
происходит, скорее всего, по той причине, что среди трех отдельных родов песцов (а
некоторые из них приносят до 20, а иногда и более детенышей) можем наблюдать
лишь одного - серого цвета. Поскольку это наблюдение отличается точностью, из
него справедливо вытекает, что серый песец - это разновидность (вариант) белого.
Место рождения песца - у берегов Ледовитого моря и у всех рек и источников,
впадающих в него, берега которых бедны лесами; а именно в области реки Колымы
вплоть до Колымских верховий, от того места, называемого нижним, где река де-
лает поворот; в области реки Индигирки вплоть до озера Ожогинского; в области
р. Лены до некоего места, называемого Кумах-сурт, в районе реки Оленёк на равном
примерно расстоянии от моря, в районе Хатанги вплоть до реки Луцинеи, в районе
реки Пясины вплоть до реки Дудыпты, в области Енисея до верховий р. Дудинки.
Значительно далее - реки и источники, впадающие в вышеперечисленные, берега
которых обитаемы песцами. Так, прежде всего, особенно знамениты низовья реки Хе-
ты и озеро Волочанка, из которых первая с запада подходит к Хатанге, а второе - к
Хете. Также и Дудыпта, впадающая в Пясину, имеет немалую славу, и еще многие
другие, которые я здесь обойду молчанием, чтобы не навлечь на себя обвинение в
чрезмерной щедрости. Только берега бедные лесами, холмистые и достаточно холод-
ные, как все те, что я назвал, а именно расположенные не ниже 69° сев. широты, охот-
но посещаются песцом, о котором весьма справедливо то мнение, которое высказы-
вают Шеффер в ’’Lapponia illustrata”, что это животное обитает не в лесах, а в лишен-
ных растительности горах, расположенных между Норвегией и Швецией. Я говорю о
местах обитания песца, а не о тех местах, куда он заходит. Ведь я располагаю сведе-
ниями, что он иногда подымается и к реке Лене вплоть до Шиганских зимовий, к
Енисею вплоть до Туруханской губернии. Более того, я слышал, что у Киренги 8 лет
тому назад буквально против города застрелили двух песцов. Енисейцы уверяют, что
им случалось увидеть песца в соседней с ними области, которая имя свое приобре-
ла от реки Дубчес, и даже в черте самого города Енисейска. Однако нет примеров
тому, чтобы песец в одном из этих мест когда-либо рыл себе нору и производил там
потомство; по этому поводу я склонен считать, что скитания эти никогда не косну-
лись бы этих мест, кроме как в годы наибольшего скопления песцов в низовьях рек.
В начале апреля или, как это определяют охотники, к празднику Благовещенья, у
песцов начинается гон, который длится две-три недели, часто бывает так, что даже
собакам не удается оторвать друг от друга совокупляющихся песцов. В период, пока
продолжается течка, песцы пребывают на открытом воздухе, но для разрешения от
бремени ищут нор. В местах обитания песцов на холмах встречается большое число
нор, вырытых песцами. Вход этих нор настолько широк, что песец может легко про-
никнуть внутрь, далее ширина их становится настолько малой, что собака не может
пролезть в нору. Протяженность нор составляет приблизительно 4-5 оргюй [7,4-
9,3 м] и столь же глубоких, считая от наружной поверхности холмов, но не везде оди-
накова. По рассказам одних охотников, пара песцов обживает собственную нору, ко-
торая не сообщается ни с одной норой других пар. Другие, правда, говорят, что три
93
или даже четыре пары обитают в одной норе. Каждая нора снабжена несколькими
выходами: шестью, восемью и десятью, которые все или прямо, или косо вытянуты в
сторону единого центра, логовища животного, равного в ширину половине локтя. И
вот этими-то норами, издревле существовавшими, и пользуются песцы. Новые норы
они сооружают весьма редко. А ту нору, которую песцы избрали для себя, основа-
тельно очищают от грязи и заделывают, если где-либо произошел обвал. Логовище
они себе выстилают мхом, чтобы постель была более мягкой. В норах после завер-
шения течки несколько дней лежат в покое и в это время никакого другого корма не
употребляют, кроме того, что приискали себе в последний день.
Беременность продолжается приблизительно девять недель. И в продолжение
этого срока, говорят, самки предаются посту, которых посвящен божественным Апо-
столам Петру и Павлу и начинается с начала мая. Детенышей рожают в самой норе -
шесть, семь, восемь и т.д. до двадцати пяти, смотря по тому, сколько позволяет
плодовитость и возраст. Помет белого песца, когда он только появляется на свет,
бывает изжелта-рыжеватым, серого - черноватого цвета. Волосяной покров того и
другого очень короткий. Мать в продолжение пяти или шести недель после родов
редко выходит из норы (это время уходит на лактацию); по прошествии этого срока
она каждый день отправляется в тундру за кормом для щенков. Наконец, к середине
августа щенки уже настолько подрослл, что могут выходить из норы, их зовут в это
время ’’норники”. К этому периоду они уже одеты мехом, едва достигающим поло-
вину дюйма в длину: белые песцы на большей части спины белым, кроме задней
половины, где цвет еще проявляет желтизну, перемешанную с черноватым и отливаю-
щую серым. Серые песцы тогда целиком чернеют, вообще же, как и тогда, когда они
только появились на свет и позднее, вплоть до следующей зимы, никаких других
изменений в окраске более не происходит, только волосяной покров становится
длиннее и светлее. К середине сентября длина волос более полдюйма. У белых
песцов когда все становится белым, кроме спины и пространства между лопатка-
ми, которое остается черным, отчего их в эту пору зовут ’’крестовики”. В нача-
ле октября волосы уже" отрастают на дюйм и черное пространство между лопат-
ками у белых песцов совершенно исчезает, цвет же меха на спине представляет собой
смешение белого и черного, как у чайки, поэтому ленские охотники их называют
larea по-русски ’’чаёвник”. В конце октября белая разновидность песцов уже совер-
шенно белая, но мех еще продолжает расти, из-за чего его прозывают ’’незавершен-
ным песцом” (недопесец). И наконец, около праздника святого Николая, который
приходится на 6 декабря, мех уже вырос на достаточную длину, которая более не
увеличится за всю зиму. С этого времени он уже песец, совершенный рослопесец. С
приближением весны, к празднику Николы весеннего, который приходится на де-
вятый день мая, а иногда позднее мех начинает линять, и около праздника Елены
Пророчицы, приходящегося на 21 июля, уже весь мех полинял. В период этой пере-
мены песец называется ’’весенним” (’’вешняк”). На месте вылинявшего меха под-
растает короткий, который где-то к середине августа бывает той же длины и окраски,
что у ’’норников”, о которых я упоминал выше. Ворсинки песца-”норника” самые
прочные из всех, и оторвать их от шкуры можно только с большим трудом. И, чем
песец взрослее, тем мягче его волосы, так что у песцов, убитых ближе к зимним, чем
к весенним месяцам, мех более прочен.
В пищу песцу попадает главным образом некая полевая мышь, которую он пос-
тоянно преследует. А летом он не пренебрегает и охотой на гусей и уток, которые
весной прилетают во множестве в холодные края с целью выведения потомства. Как
утверждают все охотники, песец в хитрости не уступит лисице. Песец, сообщают они,
со своими подросшими щенками (’’норниками”) направляются к какому-либо озерцу,
на островах которого имеется большое количество гусей и уток. В это время года
множество таких озер, поскольку гуси и утки, сколько их ни есть, могут вить гнезда
94
на обжитой земле. Взрослые птицы со своим вылупившимся выводком достигают
озерца, и сами они, и их выводок, к этому времени уже немного оперившийся и при-
способленный к полету, легко могут ускользнуть от врагов. И вот уже щенки песца,
достигшие этого озерца, прячутся на берегу, в тростнике, а их мать высматривает
удобное место для поимки добычи и, когда найдет такое, бросается в озеро, и плывет
навстречу утиному или гусиному выводку. Взрослые гуси и утки тогда, чтобы защи-
тить потомство, плывут навстречу песцу, который, словно бы не ведая об этом пре-
следовании, быстро настигает пернатое потомство; как только сообразит, что его
преследует масса гусей и уток, тотчас развернется им навстречу, и вот тут-то детены-
ши песца, скрывавшиеся прежде в тростнике, бросаются в озеро, стеной окружают
гусей и вместе с матерью уносят в качестве трофея пятнадцать или двадцать птиц.
Зимой песец, кроме названный мыши, употребляет в пищу белую куропатку или зай-
цев, которых он убивает без особого труда. Наконец, и так случается, что, теснимые
жгучим голодом, они утаскивают и пожирают добычу из капканов. Врагов песец
имеет немного. Из четвероногих на него устраивает засаду росомаха, из пернатых -
полярная сова (Aluco major).
Однако живых песцов редко убивают, добычей становятся главным образом мерт-
вые животные, если их успевают утащить из капкана до прихода охотников. То же
самое делает и ворон, но, конечно, в той местности, где по соседству есть леса, ведь
на побережье самого Ледовитого моря вороны не водятся.
Песец редко проводит целый год в одном и том же месте; его гонит всегда забота о
пропитании. Всегда верна охотничья примета: если мыши встречаются часто, частыми
будут и песцы; так что приход мышей предвещает скорое появление песцов. Когда
мышь покидает какую-нибудь местность, то ее покидает и песец. В таких перемеще-
ниях нет никаких закономерностей. Бывает, что песцы переходят только одну ка-
кую-нибудь область, бывает, что половину зимы, а то и целую зиму живут в одной и
той же местности. Случается, что только народится потомство, как вскоре после
этого песцы уходят, а иногда случается так, что они целый год могут провести в том
же месте и на следующий год тут же произведут потомство. Время, когда они более
всего любят кочевать, - это когда на горизонте начинает темнеть, т.е. начало декаб-
ря. Какую бы местность они ни покинули, через три-четыре года опять возвращают-
ся в нее. Но ’’покинули” не следует понимать в том смысле, что эта территория вооб-
ще становится свободной от песцов: ведь некоторое их количество всегда остается,
как это видно из наблюдения за лисицами, огромное число которых постоянно
тучами кочует, и тем не менее в любой местности всегда остается некоторое число
особей.
Если в какое-либо место прибывает множество песцов и . испускав! лай, это знак,
что они будут там находиться некоторое время. А если они пребывали в каком-либо
месте и вдруг испустили вой, то, следовательно, скоро его покинут. Куда направля-
ется песец, удаляясь, это охотникам неизвестно. Енисейцы полагают, что из района
Енисея они направляются к дальнему району реки Оби, возвращаясь туда, откуда
пришли.
Мышь водная экзотическая (русское название выхухоль) (рис. 40). ’’Получив от
рыбаков из Казани три экземпляра грызунов10 из этого рода, я счел целесообразным
дать их описание и сопоставить его с описаниями, которые дали Рей и Сарразин.
Все полученные мною экземпляры - самцы, окраска их по всей спине и верхней
части головы от пепельной до черной, на животе - от пепельной до белесой. Издают
сильный мускусный запах, который перенести я мог с трудом, однако без потери соз-
нания (sine deliquio). Те, кто вместе со мной были в подвале, где производилось
вскрытие, жаловались на головные боли, каковые чувствовал и я, хотя в легкой сте-
10Nov. Com., Т. 4. Р. 383—388. Пер. с лат. Б.А. Старостина.
95
Рис, 40. Выхухоль
пени. Поскольку экземпляры между собой различаются только величиной, причем
незначительно, я даю описание только самого крупного.
Общая толщина тела 1 фут 2,96 дюйма. Длина хвоста 6,1 дюйма. Голова по отноше-
нию к размерам всего тела довольно маленькая, морда напоминает свиную, заверша-
ется оконечностью шириной более четверти дюйма. Рот по краям со всех сторон по-
крыт белесыми волосами или, скорее, щетиной. Зубы такие же, как у остальных
представителей данного рода. Ушные раковины обнаружить я не мог, хотя искал со
всей тщательностью. Однако на расстоянии 0,64 дюйма сзади от глаз, где обычно бы-
вают прикреплены в других случаях ушные раковины, видна щель в кожном покро-
ве, длиной 4 линии и шириной 1 линию, ведущая к слуховому проходу и так спря-
танная, что ее трудно заметить, если не срезать или сжечь волосы.
Как на голове, так и на туловище наблюдаются волосы двух видов. Волосы пер-
вого вида несколько более длинные, мягкие и редкие, выступающие над волосами
второго вида, которые имеют более светлую окраску и являются чрезвычайно мяг-
кими, короткими и густыми.
Передние лапы вместе с когтями имеют длину не более дюйма, покрыты вплоть до
пальцев редкими волосами и сплошной щетиной. По краям лап с обеих сторон имеет-
ся по одному ряду лохматых волос, длиной не более 0,2 дюйма, белесых, свисающих
наподобие конской гривы. Пальцев 5, голых, соединенных перепонками, которые на-
тянуты между четырьмя суставами пальцев. Пальцы оканчиваются очень малень-
кими, загнутыми внутрь, тонкими когтями, длиной приблизительно 1/4 дюйма. Зад-
ние лапы в основании кругловатые, далее узкие, не более 0,3 дюйма в ширину; та-
ким же образом, как передние, покрыты редкими волосами, местами же голые; по
причине ширины округлой части, их поверхность в целом велика. Оконечность зад-
них лап имеет ширину 0,9 дюйма и может доходить даже до 1,34 дюйма, а ее толщина
едва достигает 0,1 дюйма. По наружному краю каждой задней лапы свешивается по-
лоска лохматых волос длиной 0,2 дюйма. Нисходящая часть стоп черноватая, кожа на
ней покрыта мозаичным рисунком, напоминающим чешую. Восходящая часть стопы
по направлению к оконечности имеет черную местами с белыми пятнами окраску,
переходящую на остальной части ноги почти в мясо-красную. Стопа заканчивается
пятью пальцами, соединенными довольно широкими перепонками; на концах паль-
цы снабжены острыми белесыми когтями, более [сравнительно с когтями передних
лап] крючковатыми.
На лобке ремневидный пенис, покрытый белесыми короткими волосами и имею-
щий длину 0,35 дюйма, на конце тупой и как бы срезанный. Анус представляет собой
96
округлое отверстие в кожном покрове, диаметром 0,1 дюйма, расположенное между
хвостом и пенисом, отстоя от того и другого на 0,3 дюйма. Особого отверстия для
истечения мочи я не смог обнаружить, хотя искал весьма тщательно.
Наружная поверхность хвоста пепельно-стального цвета, внутренняя нижняя же,
особенно у основания, мясо-красная. У основания хвост округлый и толстый, окруженный
там же (у основания) кольцом толстых темно-серых волос длиной 0,3 дюйма. Дальше от
основания хвост утончается и уплощается, завершаясь тонким концом. Наибольшую
ширину хвост имеет в средней части. Края расширенной (уплощенной) части почти
острые, каждая сторона в средней части хвоста по всей длине образует как бы лезвие
наподобие обоюдоострого меча, на который и похожа вся уплощенная тонкая часть
хвоста. Боковые стороны уплощенной части расположены не в горизонтальной, но в
вертикальной плоскости. Весь хвост покрыт чешуей. Чешуйки легко отделяются с
помощью теплой воды, имеют овальное очертание, у основания хвоста они крупные,
а по мере удаления от основания мельче. На большей части длины хвоста они распо-
ложены перпендикулярно к нему. Выступает только половина чешуй, остальное же
закрыто половинами других (соседних) чешуй. Так образуются ряды следующих одна
за другой чешуй: из них каждая отдельная, следующая в ряду, занимает промежу-
точное место между двумя предшествующими. Из-под каждой отдельной чешуи вы-
ступают две или три щетинки длиной 0,3 дюйма, беловато-желтые, поэтому весь хвост
щетинистый. Хвост более всех частей данного вида грызунов имеет мускусный запах.
Форма внутренних органов такова:
Печень плоская, узкая, по контуру трапециевидная, разделенная на пять крупных
и несколько мелких. Желчного пузыря обнаружить мне не удалось, хотя я очень
внимательно искал его у всех этих трех анатомированных мною экземпляров гры-
зунов.
Желудок по форме представляет почти полулуние с рогами, направленными квер-
ху. Правая сторона желудка поднята выше левой, а над тем местом, где в желудок
входит пищевод, она поднята на 1/2 дюйма; левая же сторона поднята лишь на 1/4
дюйма. Содержимое желудка при вскрытии было в оледеневшем от мороза состо-
янии, когда же я развел его в воде, увидел много мелких всплывших червеобразных
частиц мясо-красного цвета.
Слепая кишка отсутствует. Общая длина кишечника составляет около 12 дюймов.
Содержание кишок, в особенности прямой, приблизительно похоже на смолу, рас-
топленную на огне, и не издает характерного зловония..
Почки имеют в длину 0,75 дюйма, в ширину 1/2 дюйма, по форме напоминают
человеческие, обе открываются в мочеточники, которые идут далее почти прямоли-
нейно и расширяясь до мочевого пузыря. К каждой почке сверху, в надкрестцовой
области примыкает надпочечник, желтовато-белый, по форме и величине напоминаю-
щий чечевицу (рис. 41).
Пенис выступает за пределы тела до линии (с), заканчивается уплотненным участ-
ком (е) и вогнут справа; с ним граничит, как кажется, парное образование, каждая из
половин которого имеет продолговато-шаровидную форму. Полагаю, что это тестику-
лы (ff). С обеих сторон к этим тестикулам примыкают два других тельца, более круп-
ные, (gg) расположенные несколько ниже. Каждое из них завершается тонким придат-
ком (i), конец которого лежит под тестикулами, в сторону пениса. Вещество, из кото-
рого состоят и эти тельца, и придатки, железисто; в тельцах заметна весьма малень-
кая полость, не наполненная никакой жидкостью. Мне удалось лишь однажды, вду-
вая в эту полость воздух, растянуть проток, отходящий к почкам. Места же, где он
входит в почки, я не смог найти. Я бы предположил, что эти тельца - пузыревидные
вместилища пахнущего мускусом вещества, если бы заметил в них жидкость с соот-
ветствующим запахом или если бы они распространяли вокруг себя более сильный
запах мускуса, чем другие органы животного. Но ни того, ни другого мне наблюдать
7. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
97
Рис. 41. Выхухоль. Поперечный разрез
в области таза
Видны внутренние органы (объяснения
в тексте)
не удалось. Мне помешала туманная
погода, короткие дни и плохое осве-
щение места, где приходилось делать
вскрытие: для этих наблюдений и
до наблюдений над семяпроводящи-
ми сосудами необходимо провести
больше наблюдения, причем более
точных.
Описанная Реем экзотическая мышь
(Mus exoticus) и по местообитанию и по
описанию отвечает рассматриваемому
виду. Описание Рея дает лишь весьма
отличные от наших пропорции конеч-
ностей: возможно, что оно делалось по
шкуркам или было заимствовано у Клю-
зия; относительно описания Клюзия Рей
высказывал то же подозрение, что Клю-
зий описывал по шкурке.
В ’’Записках Парижской академии наук” (Commentar. Ac. Sc. Paris. 17:5) Сарразин
описал пахнущую мускусом мышь, живущую в Америке, от которой наша совершен-
но отлична. (1) Наша не столь сильно пахнет: дважды ее анатомирование убеждало
аудиторию в слабости нашего вида Mus; а при сожжении шерсти, посредством которо-
го Сарразин добивался столь сильного действия на мозг, я, хотя и не привычен к мус-
кусному запаху, все же остался стоять на ногах. (2) У американского вида есть ушные
раковины, у нашего нет. (3) Глаза у американского вида большие, у нашего малень-
кие. (4) У нашего вида отсутствует наблюдаемое у американского отверстие, предназ-
наченное единственно для экскреции мочи. (5) Тестикулы и мускусные фолликулы
американской мыши только во время течки приобретают такой размер, что их легко
разглядеть. У наших экземпляров в такое время, когда нет и намека на течку, вели-
чина тестикул и фолликул бывает едва ли не более крупной, чем у американских при
течке. (6) О фолликулах американской мыши точно известно, что они и есть основ-
ная причина мускусного запаха; о фолликулах нашей мыши пока я этого вовсе не
слышал. (7) Казанские мыши не питаются ароматическим тростником (Calamis агоша-
ticus): следовательно, не в этом причина распространяемого выхухолями мускусно-
го запаха. (8) Передние лапы американской мыши устроены так же, как и у других
животных из того же рода; у нашего же вида пальцы соединены перепонками, хотя и
короткими. И я не считаю, что Клюзий ошибался, когда писал, что задние лапы его
мыши снабжены (munitos) перепонками. Это выражение означает: ’’пальцы задних лап
соединены (cohaerere) перепонками”. Возможно (и это то же самое), что перепонки
срослись с задними лапами. Несомненно, что форма лап, описанная Сарразином, соот-
ветствует лапам казанской мыши.
Степной баран (калмыцкое название — аргали)19. По форме головы, шеи и лап, по
шерсти и подвижности тела относится к антилопам. Самец, которого я описал, был
трехлетним. Высота 1 1/2 локтя. В русских мерах длина от основания рогов до хвос-
19Пер. с лат. Б.А. Старостина
98
та - до 1 3/4 локтей. Рога желтовато-белые, у более старых особей чернеющие, выхо-
дящие над глазами, перед ушами, в средней части сильно-бороздчатые; в остальной
части на них заметны лишь неглубокие борозды; кзади они изгибаются, образуя
почти кольцо, таким образом, однако, что рог оказывается обращенным вверх и
наружу. Уши, которые животное по большей части держит поднятыми, средней
ширины и заканчиваются острыми верхушками. Ноги снабжены парными копытами;
передние конечности длиной 3/4 локтя, задние длиннее. Животное стоит, всегда
вытянув передние ноги по прямой, а задние держа изогнутыми в горизонтальной
плоскости. Изогнутость же определяется, по-видимому, характером поверхности, на
которую животное ступает, что, спускаясь по обрывам, оно вытягивается почти в
прямую линию. Такая способность по отношению к обрывистым местам, в которых
данное животное обычно обитает, предоставлена ему самой природой. Хвост короче,
чем у оленя. Под шеей свисающий подгрудок. Окраска головы и всего тела серая,
переходящая в черноватую. Посредине спины, на бедрах и по внутренней части стоп,
а также на животе у исследованного экземпляра преобладала окраска желтоватая,
отчасти переходящая в красноватую, причем на животе она была бледнее, чем на
других перечисленных местах. Такая окраска удобна для зимнего волосяного покро-
ва. Ведь вскоре животное должно было сменить шерсть. Летняя же шерсть у него со
всех сторон красновато-желтая. Особь была весьма дикая, и казалось, что даже деся-
ток людей не смогут ее усмирить; изо всех сил била рогами, проявляя чрезвычайную
крепость. Самые крупные особи этого вида по размерам равняются молодому оле-
ню. Рога же у взрослых особей вырастают до такой величины, что, если мерить их
вдоль изогнутости, получается в длину два локтя, вес же их до 30 фунтов (рис. 42,
43).
Самка всегда мельче самца, в остальном же в точности похожа на самца по всему
внешнему облику тела. Но рога у нее более прямые, наподобие козлиных, и мало
изборожденные, некрупные, узкие; также и с возрастом они не намного увеличивают-
ся. Как видно из облика исследованной особи, ей было два года. Окраска ее была по
большей части рыжеватая, местами пепельная. Несомненно, она уже начала менять
летний наряд на зимний. В остальном ее окраска одинакова с окраской самца.
Водятся эти животные около Усть-Каменогорской крепости в Сибири и в горах,
прилегающих к горам этой местности, но в особенности в тех, которые оттуда направ-
лены в сторону страны калмыков ad chalmuccos. Наиболее же ими излюблены горы,
примыкающие к реке Бухтарме. В 40 галльских милях20 ниже Усть-Каменогорской
крепости, на восточном берегу Иртыша, в местности под названием Красный Яр,
имеются солонцы (terra salsa). Туда очень часто и охотно мигрируют степные бараны
ради того, чтобы полизать соль. Бегают они чрезвычайно быстро, питаются травами.
Осенью они спариваются, весной рожают, детеныш один (иногда близнецы), беззубый.
В то время, когда я жил в Усть-Каменогорской крепости, там влачил весьма жал-
кое существование самец этого рода животных, тоже двулетний. Я попросил себе его
для вскрытия у лейтенанта, начальствующего над этой крепостью, и получил. Впро-
чем, мне это вскрытие дало мало, ибо предписанный нам маршрут оставлял настоль-
ко мало времени, что пришлось чрезвычайно спешить с анатомированием. Чтобы ус-
петь еще воспользоваться животным, пока оно живо, я сделал в его наружной ярем-
ной вене обширный разрез и ввел в него термометр, держал его там достаточно долго и
увидел, что ртуть поднялась до 80° по шкале Делиля.
В описании наружных органов степного барана нет ничего, на чем бы я хотел оста-
2о40 leucas (1 леука, или галльская миля, = 2,25 км), т.е. 90 км. Но Гмелин мог иметь в виду и
позднейшее значение leuca (собственно, лье): 4,5; 5,5; или 6,2 км. Тогда общее расстояние соста-
вит 180, 220, или около 250 км.
99
Рис. 43. Аргали, самка
Рис. 42. Аргали, самец
новиться. Все, кроме небольшого размера данной особи, соответствует тому, что я
уже описал. Расстояние между пенисом и тестикулами составляло 7 дюймов.
Желудок занимает почти всю полость живота. Состоит же он из четырех отделов,
самый крупный из каковых тот, в который входит пищевод. Этот отдел снабжен
мембраной (membranosus est) и укреплен многочисленными мускулистыми тяжами.
Другой отдел, ближайший к нему и следующий за ним, гораздо меньше, и a priori
можно было знать, что он отличается высотой поднятой внутренней мембраной. Ее
поверхность покрыта многочисленными шестиконечными ячеями. Третий, также
небольшой отдел желудка, изнутри красный, состоит из многочисленных складок,
тесно усаженных огромным количеством сосочков. Четвертый отдел несколько уже,
но длиннее двух только что упомянутых, изнутри гладкий и морщинистый. Тонкий
кишечник длиной 55 футов, толстый на треть короче. Ободочная кишка более семи
раз изгибается (Colum plus septies reflectitur). При входе подвздошной кишки в сле-
пую имеется клапан; клапаны ободочной кишки сходны с человеческими. А слепая
же кишка, длиной более фута, переходит в червеобразный выступ, шириной превос-
ходящий любую из тонких кишок, длиной же не более двух дюймов. Печень состоит
прежде всего из двух первичных и более крупных долей. Из них же крупнее правая,
к которой прилегает желчный пузырь, имеющий в длину 3 дюйма, цилиндрический,
наполненный зеленоватой желчью. Помимо этих долей, есть еще одна, треугольно-
продолговатая, приросшая к полой вене, а также вполне явственная долька Шпиге-
ля. Селезенка длиной 8 дюймов, в ширину (в средней части, где она шире всего) 4
дюйма прилегает к изгибу желудка. Почки напоминают человеческие, длиной 3 дюй-
ма, шириной 2 дюйма. Мочеточники образуют восходящие ветви, затем изгибаются
назад и проходят под этими ветвями, далее почти по прямой линии идут к мочевому
пузырю, впадают же в него под острым углом поблизости от шейки пузыря. ’’Вспомо-
гательные почки - надпочечники, снабженные с внутренней стороны как бы ушками,
по форме треугольными, прилегающими к изгибу полой вены. В них есть полость,
которую можно расширить, если подуть в нее. Пенис толщиной со средний палец,
скрыт в весьма извилистом канале, доходящем до лобка, и если его вытянуть по пря-
мой, легко достигает двух футов. За пределы же поверхности тела он выступает
приблизительно на дюйм. Кроме подвешивающей связки (ligamentum suspensorium),
юо
он снабжен еще двумя, отходящими от костей лобка и заканчивающимися немного
впереди от мышц-эректоров над продолговатой, очень крупной железой, которая от-
стоит от шейки пузыря приблизительно на три дюйма. К шейке пузыря примыкают две
простаты, различимые достаточно четко. Выводящий сосуд (vas deferens) впадает, с
одной стороны, в семенные пузырьки, которые можно скорее сопоставить с каким-то
железистым телом, а с другой стороны, в саму уретру у ее основания. Сердце длиной
в полфута. Предсердия по краям красиво изрезаны. Легкие в целом подразделяются
на две доли, из которых левая крупнее правой. К каждой из них сверху прикреп-
лены четыре дольки, и из них крупнее те, что расположены слева. В одной из долек с
левой стороны был прозрачный пузырек, длиной 1 1/2 дюйма, в ширину 3 дюйма, не
наполненный ничем, кроме воздуха. По всей толще легких имелись многочисленные
вздутия, из которых гной не изливается при надавливании.”
Описание мускусного животного, именуемого ”Кабарга”.21 «сСреди важнейших
задач, касающихся изучения Красноярского края, передо мной стояла и та, чтобы
тщательно собрать здесь все возможные сведения об обитающем здесь мускусном жи-
вотном, поскольку из известных и описанных доселе животных мало таких, описа-
ния которых так нуждались бы в исправлении, как описание этого животного. И вот,
таким образом, судьба снизошла к моим мольбам: щедростью губернатора этих мест я
получил для своих исследований три таких животных, двух самцов и одну самку,
чтобы я путем описания их мог своими глазами наблюдать, какие особенности общи
обоим полам, какие различны; чтобы я провел точные различения, мало заботясь об
опровержении чужих ошибок, которые сами собой разоблачатся в результате верного
описания, произведенного с натуры.
Мне не пришлось беспокоится об определении животного, поскольку я не надеял-
ся, что смогу извлечь из мертвых экземпляров лучшую характеристику, нежели та,
которую дал Избрант Идее. Впрочем, в рисунке Избранта есть тот важный недостаток,
что живот чрезмерно выступает и что животное изображено безволосым. По внешней
форме это животное относится к антилопам: следует отметить его длинные уши, ко-
роткую шею, длинные ноги и отсутствие или слабую выраженность хвоста. Однако по
росту оно ниже антилоп. Описания Гревиуса и следующего ему Рея сняты с самых
крупных особей кабарги. Ни одна их тех особей, которые я имел в своем распоряже-
нии, не достигала такого размера. Но и от охотников я узнал, что им редко попадают-
ся более крупные кабарги, чем мои. Размеры особей по Гревиусу и Реи таковы:
Футы Дюймы
Длина от конца морды до конца крестца 3 3
Длина головы от коЦца морды до ее середины, то есть до промежутка 7
между задними окраинами обоих ушей
Длина шеи от того же промежутка до конца шейного отдела позвоночника 7
Длина ушных раковин от их основания до верхушки 4
Ширина лба Почти 3
Расстояние между концом морды и серединой междуглазного промежутка 3
Расстояние между внутренними краями глаз 2 1/2
Расстояние между ушной раковиной и наружным краем глаза 2
Длина передних конечностей от начала плечевой кости до конца ног 1 3
Длина задних конечностей от начала бедра до конца стопы 1 9
У тех трех животных, которых я осматривал, я наблюдал почти те же пропорции,
за исключением головы, которая у самки оказалась короче и с более тупой мордой.
По собранным мною данным я даю описание ушных раковин и головы как более корот-
ких, а шеи как более длинной по сравнению с тем, что дает Гревиус. Причина этого
лежит, возможно, в том, что гревиевское описание сделано с чучел.
21Пер. с лат. Б.А. Старостина.
101
Каждая конечность глубоко расщеплена на четыре пальца: два передних 1 1/2 дюй-
ма длиной и у основания 1/4 дюйма шириной, и столько же задних длиной немного
больше дюйма и с площадью основания более квадратного дюйма. Живое животное,
ступающее по горизонтальному грунту, неизбежно надавливает на него также и зад-
ними пальцами; это очевидно и при наблюдении над убитым животным.
Относительно хвоста кабарги, я остановлюсь на следующих утверждениях. У
обоих самцов, у которых я тщательного его разыскивал, ничего напоминающего
хвост я не нашел; но из-под растопыренных волос, окружающих анус, заметно вы-
дается некое приблизительно круглое по форме тело, выступающее над анусом на
1 1/2 дюйма и имеющее в своем основании ширину 5/4 дюйма. Оно оканчивается за-
острением, покрыто только мясом и кожей, но лишено волос; цвета оно красного.
Когда я впервые увидел животное данного рода, решил, что хвост у него, быть
может, оторван; однако следующий раз, когда предоставился такой случай, я уже
не сомневался, что это природное образование, и счел вероятным, что оно явилось
наследственным результатом того, что различные охотники случайным образом нано-
сили одинаковые повреждения одной и той же части тела животного. И вдобовок,
действительно, два охотника подтвердили, что всех животных принесли неповреж-
денными. Но здесь возникло новое затруднение! Я исследовал самку и нашел у нее то
же самое тело, однако покрытое волосами. Итак, я оставил эту проблему нерешен-
ной, склоняясь к тому выводу, что имею дело с копчиковой костью, у самцов лишен-
ной волос, у самок волосатой22.
Что касается окраски животного, то она на спине и шее в основном черная, чере-
дующаяся с примесью пепельно-серого. Голени и стопы густо черные. Под нижней
челюстью и до подбородка, а также ниже и кзади до ушных раковин и на внутрен-
ней стороне бедер преобладает серая окраска. Горло по всей длине украшено темной
линией, с обеих сторон окруженной белыми пучками волос; выше та же темная ли-
ния разделяется надвое, окружая подбородок слева и справа своей белой каймой.
Окраска груди и верхней части живота темно-пепельная, лобка же, половых органов,
ануса и промежности - пепельная без примеси черного.
Животное это покрыто весьма обильной и длинной шерстью. Шерсть на голове и
голенях длиной более полудюйма, на спине и животе 2 1/2 дюйма, на лобке же до 4
дюймов. Все волосы у данного рода более чем на три четверти от основания чисто
белые, а выше окрашены в черный цвет, на самой же верхушке они или белые, или
желтоватые. Те из волос, которые являются толстыми, по толщине не слишком ус-
тупают свиной щетине и превосходят волосы упомянутых выше антилоп. Однако они
мягче и более нежного строения, местами через короткие промежутки, закрученные
илй, пользуясь терминологией Гревиуса, в результате как бы сгибания и отгибания
волнисто-курчавые (flexu reflexuque quodam undante crispi), как это обычно в роде
оленей. Гревиус описал имеющиеся у кабарги по всем сторонам нижней челюсти
своеобразные пучки толстых, коротких и жестких волос. Однако я ничего подобного
у этого рода животных найти не смог. У одного из самцов на самом подбородке име-
лось пять или шесть целиком белых волос, сильно выступающих из остальных волос,
а в углах нижней челюсти, отстоявших более чем на два дюйма от угла рта, с обеих
сторон я заметил по необычному волосу, на два дюйма более длинному, чем остальные
цвета сажи (или с тусклой примесью) во всей своей длине, кроме самой верхушки,
которая была белой. Вместе с тем у другого самца я не видел ни таких волос, ни тех,
которые описал Гревиус. Но под нижними краями глаз выделялись на обеих сторо-
нах два чрезвычайно длинных тускло-черных волоса, и над верхней половиной каж-
дой глазницы, сверх того, еще по одному сходным образом выделяющемуся волосу,
однако чуть более короткому. Опять-таки у самки на других участках тела были об-
22Гмелин ошибочно называет хвост кабарги копчиковой костью.
102
наружены такого типа своеобразные волосы. С обеих сторон по бокам ротовой щели
выступали белые, а вокруг носа разбросанные тускло-черные волосы, несколько
более длинные, нежели остальные. Я заключаю, что такие волосы варьируют у раз-
личных индивидуумов, и даже полагаю, что нечто подобное бывает и в других родах
животных, но их не замечают в силу того, что для этого нужно гораздо более, чем
обычно, тщательное наблюдение.
Животные того и другого пола снабжены в нижней челюсти восемью резцами, из
которых два крайних довольно мелкие, и шестью (с каждой стороны) молярами; в
верхней челюсти резцов нет, моляров же тоже шесть с каждой стороны. Я обнаружил,
что это число у всех особей постоянно и полагаю поэтому, что ошибка Гревиуса про-
истекала из столь плотного расположения моляров по отношению друг к другу, при
котором их трудно различить порознь, если только не разварить предварительно
челюсть.
Мужской пол отличается от женского явными признаками: (1) Большими разме-
рами всего тела. (2) Более острой мордой. (3) Двумя выступающими зубами на верх-
ней челюсти, по расположению похожими на кабаньи клыки, торчащими вперед, а по
своей субстанции напоминающими слоновую кость, при закрытом рте приблизитель-
но на дюйм выходящими изо рта, отогнутыми назад, в основании имеющими пло-
щадь сечения более квадратного дюйма, оканчивающимися заострением, не ровными,
но серповидными. (4) Выступом на том месте живота, где обычно располагается
пенис, в промежности, под мочевидным хрящом. Выступ же этот напоминает опу-
холь, он ненамного меньше куриного яйца по размеру, со всех сторон покрыт щети-
ной. Спереди он переходит в некое тельце, похожее на головку пениса, почти кино-
варной окраски, с белыми волосами, направленными к центру этого тельца. Эти во-
лосы, сходясь в этом центре, образуют покров. Если развести эти волосы, видны два
входа в это тельце, один „верхний, продолговатый и большой, окруженный простран-
стовом без волос, другой же нижний, округлый и в поперечнике меньший. Его края
окружены кольцом очень длинных жестких и торчащих волос. От каждого из обоих
этих отверстий отходит щетина, причем видно, как те щетинки, которые входят в
верхнее отверстие, далее идут внутрь самой ’’опухоли”. Если нажать на нее в том
месте, где расположено это второе отверстие, выступает какое-то черное и жирное на
ощупь вещество, пахнущее мускусом. (5) Тестикулами, которые на расстоянии более
одного дюйма под упомянутой опухолью, два дюйма или 3/4 дюйма над анусом, окру-
жены внешней мошонкой, имеющей нежный красноватый цвет и покрытой редкими и
белыми и скрученными волосками. Тестикулы выдаются над остальной поверхнос-
тью живота. Наконец, лишенная волос оконечность копчика также образует уже
отмеченную выше особенность самцов.
У самки я наблюдал два соска; хотя они и образуют выступ на коже размером
почти по квадратному дюйму каждый, тем не менее скрыты в шерсти так, что если бы
я не срезал осторожно эту шерсть скальпелем, то, возможно, и не заметил бы этих
сосков. Притом они очень узкие, не толще соломины; отстоят от мочевидного хряща
почти на 10 дюймов, от вульвы - на 3 1/2 дюйма. Вульва в диаметре имеет более
восьмой части дюйма. Непосредственно под вульвой расположен анус, к которому
примыкают придатки коачиковой кости, которые назвал бы ’’волосовидными”.
Ни у того, ни у другого пола нет каких-либо наружных следов пупка.
Мясо данного вида животных служит обитателям здешних мест в пищу. Мясо
самцов слегка отдает запахом мускуса, мясо же самок совсем не пахнет. Что же до
снадобий, которые жители гор Мартини, Китайского Атласа изготовляют из мускуса и
мяса этого животного, то об этом лучше не говорить: здесь более уместно молчание.
Перейду к описанию тех органов, которые можно рассмотреть только после вскры-
тия (рис. 43). Отделив кожу на животе, я увидел след пупка в пяти дюймах под ме-
чевидным хрящом, т.е. на 5 дюймов выше упомянутой ’’опухоли”. Кожа у этого
юз
животного очень тонкая и не доставляет волосам прочной опоры: как только до них
дотронешься, они выпадают. Оставляю все же открытым вопрос, является ли такое
строение природным, или скорее оно вызвано продолжительными воздействиями
мороза на этих животных и повторным оттаиванием.
Мышцы живота не представили ничего особенного. От 5-11 ребер косо спускались
пять пальцевидных отростков, и подобные отростки начинались также от ложных
ребер. На правых четырех ребрах виднелись следы от прикрепления сухожилий, и
даже на грудине были заметны такие следы. Под косо восходящим мускусом с обеих
сторон на том месте, где канатик, поддерживающий семенные сосуды, отходит от
желудка, начинается musculus carneus, шириной не более одного квадратного дюйма.
Далее он, став крепче, поднимается к обращенной к нему стороне ’’опухоли”, снару-
жи заметной на животе, и охватывает ее со всех сторон раздельными волокнами.
Необходимо, однако, особо отделить волокна, направленные к нижней части ’’опухо-
ли”, которые не соединяются с вышерасположенными, но прямо направляются к ее
головке и кончаются у ее нижнего отверстия под неким другим, мышечным телом, со всех
сторон окружающим головку. В этом месте она столь срастается с этими волокнами, доходя-
щими до нее от ’’опухоли”, что ее нельзя от них даже отделить без разрыва. Такое располо-
жение ведет к тому, что если кто-либо выдавит содержащийся в ’’опухоли” сок через
верхнее отверстие, расположенное в головке, но не даст в то же время жидкости
выливаться через нижнее отверстие, то она с необходимостью останется внутри ’’опу-
холи”.
’’Опухоль”, о которой мы до сих пор говорили, представляет собой пузырек, содер-
жащий мускус. Мускус, находящийся здесь, явно отличен от того, который до сих
пор нам привозили. Ибо все авторы с сочинениями которых по данному поводу я со-
ветовался (за исключением датских миссионеров на Коромандельском берегу, уве-
рявших, что мускусоносные фолликулы - это семенники), единогласно утверждают,
что мускусоносный фолликул представляет собой некий вырост или ’’опухоль” пуп-
ка. Это очень похоже на взгляд, который ученые долго разделяли (пока их ошибку не
подверг обоснованной критике Д. Тайсон) относительно таяка (de tajacu)23, мексикан-
ского мускусоносного пекари. Однако уже из приведенного примера явствует, что
простой народ имеет обыкновение относить к пупку все процессы, какие только
разыгрываются в любом из внутренних органов, вентральных или дорсальных, если
только этот процесс нельзя связать с пенисом или тестикулами. А здесь такую связь
установить тем труднее, что у данного животного фолликул расположен в брюшной
полости и смешивается в обиходе с пупком. Я отметил выше, где именно я наблюдал
рудименты пупка, и из сказанного достаточно очевидно, что фолликул - тело, совер-
шенно явственно отличное от пупка.
Чтобы точнее определить расположение фолликула и его связь с другими органа-
ми, я ниже хочу подробнее изложить эти вопросы, здесь же только напоминаю, что
его задний левый участок соединен с мочеиспускательным каналом. Какую связь он
имеет с пенисом, об этом я здесь не скажу, потому что пока не обнаружил никакого
следа такой связи. Только не может быть того, чтобы пенис проходил через тело фол-
ликула, как это недавно решился утверждить некий автор вопреки общему мнению.
Природа, как определенно представляется, с одной стороны, дала в этом роде живот-
ных мужскому полу все необходимые признаки, посредством которых его можно
было бы отличить от женского пола, но наиболее благородную часть, в которой лока-
лизовано первичное различие между полами, тщательно скрыла, не любя ничего
поверхностного.
Если отделить от этого фолликула кожи и мускулы, как это выше описано, то
видна оболочка, сходная по консистенции с внутренней оболочкой куриного желуд-
23Ошейниковый пекари — Tayassu tajacu L.
104
ка: столь же прочная и наощупь твердоватая, аметистового цвета, а при солнечном
свете рассеивающая в основном его желтые лучи. Разрезав эту оболочку, обнаружи-
ваем внутреннюю полость, содержащую те вещества ”ziss” и ’’ziiss”, которые и зовут-
ся мускусом. Собственно, это и есть то темноокрашенное вещество, которое опреде-
ляет цвет многих коротких волос и чешуй. По консистенции это вещество соответ-
ствовало не вполне высушенному электуарию24: не жидкое, но и не вполне твердое.
На ощупь оно было жирным, и этот жир выступал из верхнего отверстия головки, если
нажать на фолликул. Если выдавить из фолликула весь мускус, открывалась вну-
тренняя поверхность фолликула, изобилующая многочисленными оболочками, на-
чиная от внутренней оболочки фолликула и далее поднимающимися во все стороны
слоями, как показано на рис. 1. Буквой А здесь обозначено место, где фолликул со-
прикасается с открывающейся в него уретрой; это место лучше всего обнаруживается
на живом экземпляре, (а) Узкая палочка, которая через верхнее отверстие на голов-
ке вводится в самый фолликул вполне легко и без всякого усилия.
Об этом фолликуле мне остается сказать немногое. Железок, которые, по утвер-
ждению Лукаса Шрека, он наблюдал у входа в мускусоносное отверстие, я не видел.
Для того чтобы разглядеть эти железки, я применял сильные микроскопы; возможно
все же, что они там есть, но от моего зрения ускользнули. Кровеносные сосуды я, как
мне кажется, видел, хотя не отчетливо; тем более мне не удалось разглядеть место,
где берет свое начало мускус.
При вскрытии живота я увидел, что почти вся его полость занята желудком. Его
строение совершенно такое же, как у вышеописанной Rupicarpa, по существу, как у
всех жвачных. На фиг. 3 (А) - большой желудок; (а) - пищевод, входящий в него;
(b) - ретикулум или второй желудок; (С) - третий желудок; (D) - четвертый желу-
док, заканчивающийся двенадцатиперстной кишкой (Ь).
Первый желудок самый большой. При вскрытии брюшной полости его можно раз-
глядеть только в том случае, если раздвинуть другие органы. К нему присоединены
три как бы слепых придатка, из которых один (с) самый длинный, остальные же рас-
положены справа от него. Второй придаток расположен выше остальных и находится
в левой части живота. Третий расположен ниже второго, далее в том же порядке
книзу следует первый; четвертый занимает наиболее низкое из всех положение. Все
эти желудочки были наполнены заленым веществом, густым наподобие пшеничной
каши.
В левой подреберной области, если оставить заполняющие живот внутренности на
их естественных местах, можно явственно разглядеть небольшую часть тонкого ки-
шечника, а именно ту, что расположена в нижней части живота, а также часть ободоч-
ной кишки. Двенадцатиперстная кишка длиной более локтя, в ее конце она прини-
мает впадающие в нее протоки поджелудочной железы и желчного пузыря. Их от-
верстия различны, но расположены близко друг к другу. Какого-либо различия
между тощей и подвздошной кишкой я не смог обнаружить по той причине, что мне
не удалось выяснить точные границы той и другой порознь. Обе они были наполнены
переваренной пищей, обе по всей поверхности покрыты продольными белыми бо-
роздками шириной 1/25 дюйма, отделенными друг от друга короткими промежутка-
ми. Притом общий внешний вид у обеих этих кишок одинаков. При начавшемся раз-
ложении и та и другая синеют, и это происходит таким образом, что упомянутые
белые полосы (полагаю, что это протоки для жирных веществ), приобретая снаружи
синеватый оттенок, придают обеим поверхностям внутренней и внешней кишечника
весьма необычный вид.
24Electuarium — употребительное в средневековой (и вплоть до XIX в.) латиноязычный меди-
цинской номенклатуре название лекарственных и косметических паст и мазей, состоявших из меда
или густого сиропа (консервирующее начало), перемешанного с порошковидным собственно ле-
карством (или косметическим средством).
105
Место вхождения подвздошной кишки в слепую ничем особенным не отличалось,
видны были клапаны, аналогичные тем, что есть и у человека. Слепая кишка, если ее
сравнить с таковой у человека, довольно мала. Но червеобразный отросток имеет
длину более 1/2 фута.
Связь и расположение этих органов показаны на фиг. 4; (А) означает слепую киш-
ку, (а) подвздошную, (bbb) червеобразный отросток, (сс) начало ободочной кишки.
Поверхность ободочной кишки, червеобразного отростка и прямой кишки такова же,
как у тощей и подвздошной кишок. Это верно для всех трех животных, которых я
рассмотрел. Тонкий кишечник от привратника до самого перехода в подвздошную
кишку имел толщину двенадцать линий25, длину же - шесть локтей. Во всех пере-
численных кишках встречены экскременты в форме шаровидных отдельностей.
В расположении артерий и вен среднего кишечника (mesaraicarum) мною ничего
примечательного не усмотрено.
Печень расположена в правом подреберье, небольшая сравнительно с печенью дру-
гих животных, разделена только на две доли, из которых правая меньше, чем сред-
няя часть левой. Расположение связок и кровеносных сосудов то же, как бывает
обыкновенно. Исследуя первый из вскрытых мною экземпляров, я не нашел у него
никакого желчного пузыря, а в то же время не могу себя обвинить в небрежности при
исследовании: конечно, факт отсутствия желчного пузыря хорошо согласуется, как
мне показалось, с кротким нравом животного, с такой тщательностью описанным раз-
личными авторами. Однако же у остальных двух особей желчный пузырь имелся,
хотя я долгое время не мог его разглядеть, хотя неоднократно перед тем трогал ру-
ками место, где расположен пузырь, и разглядывал это место своим глазами. Дело в
том, что у обоих особей (думаю, что также и у третьей) пузырь оказался совершенно
разрушен. Была видна только его белесая оболочка, в поперечнике ненамного боль-
ше толщины большого пальца. Желчи же в ней не было ни капли.
Селезенка, расположенная в левом подреберье, оказалась более крупной, как это
обычно и бывает. А именно ее длина равнялась 4 1/2 дюйма, ширина более двух, в
нижней части трех дюймов. Окраска ее была иссиня-красноватая, по характеру тка-
ни она похожа была на легкие.
Почки (ВВ) напоминали человеческие, причем правая располагалась выше левой.
Проводящие сосуды, артерии (bb) и вены (сс) с двух сторон соединялись соответствен-
но с аортой (D) и полой веной (Е), а также входили в почки, как это видно из рисунка.
Распределение сосудов, полагаю, таково, как оно есть, не без основания, поскольку
выводящая вена (vena emulgens) правой стороны тела проходит над выводящей арте-
рией той же стороны, а левая выводящая вена - над аортой. Мочеточники (dd) по
прямой, во всяком случае без заметных изгибов, входят (implantatur) почти в самое
дно мочевого пузыря.
Желудок был заключен как бы в сумке, в сальнике, не весьма жирном и повсюду
почти прозрачном.
Поджелудочная железа имела 4 1/2 дюйма в длину и почти дюйм в ширину, выгля-
дела как конгломерат железок; проток же поджелудочной железы был чрезвычайно
тонок.
Положение аорты и полой вены в полости тела не слишком отличалось от такового
у человека. У женской особи кабарги я нашел отличие, однако не берусь решить,
случайное ли, или свойственное вообще самкам. А именно аорта (D) скрыта непосред-
ственно под полой веной (Е) и не отклоняется от нее, пока не разделяется на под-
вздошные вены (FF), из которых правая несколько выше полой.
25У Гмелина в тексте опечатка: duodecim ulnas crassa. Видимо, вместо ulnas должно было стоять
lineas (линии).
106
Сердце в длину имеет почти четыре дюйма, в ширину у основания 2 1/2 дюйма.
Расположение его сосудов и ушек предсердия такое же, как у овцы и тому подобных
животных.
Правое легкое разделено на четыре доли, левое на две, из которых одна распо-
ложена посреди грудной клетки. Трахея по всей длине у всех особей заполнена
пеной.
Вилочковая железа смещена влево и плотно объемлется со всех сторон сонной
артерией. Снизу эта железа двураздельна, с обеих сторон тонкими тяжами соединена
с сонной артерией, над которой лежит, а именно в том месте, где сонная артерия раз-
деляется на наружную и внутреннюю; у левого угла нижней челюсти, к которому
вилочковая железа тесно примыкает, она имеет полулунную форму с рогами, загну-
тыми вверх. Железа щитовидного хряща или, точнее, подъязычно-щитовидная желе-
за налегает на щитовидный хрящ, имеет в длину один дюйм, сверху более узка,
снизу шире. По сворму составу она представляет нечто среднее между типичной же-
лезой и салом. Глубоко проникает в левую половину щитовидного хряща и в этом
участке теснейшим образом переплетается и срастается с вилочковой железой.
У четвертого изгиба шероховатой артерии имеется особый лежащий сзади от нее
мускул, мясистый, но тонкий; в толщину не более 1/2 дюйма; начавшись там, он косо
изгибается вверх, затем, сохраняя ту же толщину, подходит слева к первому кольцу
трахеи и там закрепляется, оставаясь выступающим. В месте прикрепления этого
мускула, его закрывает грудинно-щитовидный мускул.
Неоднократно занимался я наблюдениями над мышцами глаз: (1) мышца, располо-
женная впереди остальных, гладкая; в толщину равная ручке для письма, посреди
орбиты проходит в особое отверстие в четвертой кости верхней челюсти, образуя
мясистый отросток, берущий начало в этой мышце и заполняющий гайморову пазуху;
эта мышца наклонно поднимается к роговице и спереди прикрепляется к ее мясис-
той пазухе. Помимо этой мышцы, имеется еще восемь глазных мышц. Если перечис-
лять их, начиная со дна орбиты, то сначала идут пять мышц, со всех сторон окружаю-
щих глазное яблоко и заканчивающихся на белковой оболочке глаза. Остальные три
мышцы расположены под ними, окружают зрительный нерв и заканчиваются на дне
глазного яблока. Из мышц, окружающих глазное яблоко, три расположены спереди, а
из них самая передняя - блоковидная. От нее к роговой оболочке отходит сухожи-
лие. Блок (trochlea), пересекающий сухожилие этой мышцы, имеет форму параллело-
грамма; его более короткие стороны с обеих сторон имеют полулунные вырезки. Две
же остальных мышцы расположены сзади, а их сухожилия не отходят так далеко от
них, как трохлеарное.
Все, что я мог различить относительно строения половых органов, показано на
приложенных рисунках, весьма верных живому оригиналу (optime ad vivum expres-
sae). Строение половых органов самца мне кажется столь своеобразным, что для того,
чтобы полностью разобраться в их системе, понадобится немало усилий, а мои, при-
знаюсь, скудные успехи в анатомировании не находятся на уровне (пес pares fuerunt)
задачи более полного раскрытия этого искусного произведения природы.
Мне долго пришлось искать, пока я хотя бы нашел само тело пениса, настолько
тщательно оно спрятано. Отверстие уретры, как я говорил выше, я весьма легко и
еще до того, как начал вскрытие, увидел в головке, приросшей к ’’опухоли”, и мне
даже удалось без труда, налив в него спирт, вывести его оттуда до места (f). Однако
далее обозначенных на рисунке мест (е) и мне не удалось проникнуть ни с помощью
иглы, ни вдуванием воздуха. Я не смог протолкнуть пахнувшую мускусом мочу,
которой был наполнен мочевой пузырь, дальше того же пункта (f), хотя применял
наибольшие усилия. Я предположил, что именно канал от (В) до (g) и есть уретра,
однако сопротивление, оказанное участком между (е) и (f), оказалось непреодоли-
мым. Из остального, достаточно отчетливо удалось рассмотреть, что тело, вытянутое
107
от (jB) к (е) и от (g) к (f), это только канал; но ничего другого в этой области различить
я не смог. Изложу теперь, что же я в конечном счете видел.
Я раскрыл уретру в (i) и, продолжая разрез по направлению к пузырю, дошел затем
до точки сопротивления (е). Здесь канал оказался менее проходимым, чем ранее, но
тесно зажатым со всех сторон темно-красным телом (ef), которое в свою очередь было
окружено со всех сторон концентрическими кругами, а на конце открывалось в
уретру отверстием посредине тончайшей нити (еК), которой оно завершалось. Данное
темно-красное тело состояло из семи различных между собой пещеристых, тел, а на
его ближайшем к мочевому пузырю конце (fl) выделялось какое-то утолщение,
соответствующее ’’куриной голове” других млекопитающих. Это утолщение внутри
снабжено полостью, имеющей выход наружу. В полости я не увидел жидкости, но
имелось мембрана, которой полость была окружена и которая была пронизана бес-
численными порами наподобие сита. Всего этого, как полагаю, достаточно, чтобы
признать тело (ef) за пенис.
Семенные сосудики (hh) располагались сзади от утолщения (fl), но я не мог заме-
тить ни одного протока, который к ним бы подходил, хотя я не сомневаюсь, что такие
протоки были. Однако совершенно очевидно, что тело (Kf), или пенис, в период течки
развертывается таким образом, что выступает вперед отверстием уретры (В). Иначе
ведь как бы (Kf) могло функционировать? Конечно, не может быть каких-либо пре-
пятствий для прохождения жидкости через (Kf). Артерии (mm), идущие к семенным
протокам, отходят с обеих сторон от аорты; у одной из этих особей, помимо обычной
такой артерии, имелась еще другая (п), исходящая из поджелудочной области с левой
стороны. Из двух вен (оо), идущих к семенным протокам, каждая впадала затем в
полую вену, и я не заметил у них никакой связи с венозной системой левой стороны
тела. Выводящий сосуд (vas deferens) (ppp), начинающийся от эпидидимиса (qq) сбоку,
далее шел, как обычно, и заканчивался семенными пузырьками (ЬЬ). Гайморово тело
(гг) снабжено железками почти конгломератного вида.
Несколько таинственно природа действовала, создавая органы мужского пола
этого животного, настолько же щедро и открыто она поступила при создании половой
системы самок. Влагалище, сближенное с передней шейкой пузыря (i), имеет дли-
ну 1 1/5 дюйма, лишено заметных складок, не снабжено ни клитором, ни половыми
губами; переходит в узкую, выстланную слизистой оболочкой матку (А), во внутрен-
нем отверстии которой мне не удалось найти никаких клапанов. В этом отношении
следовало бы в дальнейшем более тщательно обследовать соединяющий матку с вла-
галищем канал, который в месте перехода его в матку на небольшом промежутке
расширяется. Далее кзади он переходит в узкую шейку матки (е), изогнутую с обра-
зованием двух ветвей, или рогов (ff), из которых каждый, сокращаясь и осуществляя
различные поворты, подходит сбоку с яичнику (gg), имеющему размер не более горо-
шины, а заканчивается очень узкой трубкой с отверстием на конце. Таким образом,
проход с обеих сторон открыт, чтобы, как это изображено на рисунке, приуроченном
к этому моменту, все, поступающие через вульву, могло бы далее умножаться в труб-
ке. Во влагалище на расстоянии приблизительно полудюйма от вульвы имеются две
ямки, из которых одна косо направлена и заканчивается в шейке (i) пузыря (С), дру-
гая же идет в направлении матки и углубляется все во внутреннюю слизистую
оболочку примерно на дюйм, поблизости от внутреннего отверстия матки, и там (или,
точнее, в ее шейке) соединяется с неким железистым телом, где и заканчивается. По
своему расположению матка не отличается от таковой других млекопитающих, рас-
полагаясь между смещенным вбок мочевым пузырем (С) и прямой кишкой (G) и
будучи закреплена обычными связками. Ничего необычного нет и в распределении
сосудов, подходящих к семенным путям. Так, arteria spermatica правой стороны,
расположенная гораздо ниже левой, выходит из аорты (D), а в том месте, где у полой
вены выпуклый изгиб (h) и где к ней подходит, почти касается ее vena spermatica (о)
108
левой стороны, обернутая канатиком vasorum spermaticorum, - в этом месте arteria
spermatica переходит за полую вену (Е). У левой vena spermatica та особенность, что
она проходит под аортой в ее задней *1асти и входит затем в полую вену.
По поводу того, что следовало бы сказать о скелете, замечу, что, поскольку можно
будет дать по какому-либо другому случаю точно описание скелета, отосланного в
Петербург, я считаю здесь ненужным более частные пояснения. Ключиц нет. Шейных
позвонков 6, грудных 14 и 6 поясничных. Лобковые кости весьма своеобразны,
спереди связаны друг с другом хрящом, состоящим из трех отростков: одного более
вытянутого (два дюйма в длину, с обеих сторон входит в лобкову кость) и двух, от-
ходящих от этого более вытянутого к краям лобковой кости. У человека простран-
ство в организме, соответствующей этой связи между лобоковыми костями, несомнен-
но, остается неиспользованным; оно составляет всего несколько линий; у кабарги же
это пространство с его хрящами охватывает в длину два дюйма. Столь тщательно
природа у этого животного, с помощью хрящей охраняет половые органы; и если в
половых органах самки отсутствуют клапаны или иные искусные устроенные
приспособления, это компенсируется защитой со стороны скелетных элементов. Воз-
можно, что клапаны, расположенные у внутреннего отверстия человеческой матки,
даны лишь для того, чтобы удержать воздух. У этого же животного для той же цели
служит своеобразное строение лобковой кости.
В передних конечностях пяточные и плечевые кости длиннее локтевых и лучевых.
Пальцев четыре, из которых средние образуют передние копыта, крайние же приле-
гают к ним сзади; фаланги двухсуставные. Из костей задних конечностей самая длин-
ная - берцовая, за ней по длине следуют бедренная и пяточная. Кости плечевая,
локтевая и пяточная передних конечностей, взятые вместе, имеют длину 18 дюймов.
Кости бедренная, берцовая и пяточная задних конечностей в длину вместе составля-
ют 21 дюйм.
Это животное обитает в южном течении р. Енисея, у озера Байкал, на р. Аргуни и
на реках, впадающих в Аргунь. Оно встречается в горных сосняках, редко, разве
только весной, выходя из них. Аллюр кабарги напоминает аллюр антилоп, описан-
ных Плинием. Общества людей всячески избегает, очень любит одиночество. Пре-
следуемая охотниками, кабарга ищет убежища высоко в горах, куда трудно добрать-
ся как охотникам, так и собакам. Тот же вид, как сообщают, в изобилии водится в
соседних землях Тангутского царства. При этом мускус, получаемый от китайских и
тангутских особей кабарги, гораздо лучше по запаху и стоит почти в 10 раз дороже».
С.П. КРАШЕНИННИКОВ - ПЕРВЫЙ НАТУРАЛИСТ,
ИССЛЕДОВАВШИЙ КАМЧАТКУ.
СОЧИНЕНИЕ ’’ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ КАМЧАТКИ”
С именем С.П. Крашенинникова (1711-1755) связана одна из самых славных стра-
ниц истории русской науки - исследование Восточной Сибири и Камчатки во время
Второй Камчатской экспедиции (1733-1742) под руководством В. Беринга.
Степан Петрович Крашенинников - выдающийся путешественник-натуралист,
академик Петербугской Академии наук - родился в Москве в семье солдата. С 1724
по 1732 г. он учился в философском классе Славяно-греко-латинской академии*»где
получил хорошую по тем временам общеобразовательную подготовку (в нее входили
риторика и аристотелева логика), блестяще освоил латинский и греческий языки. В
1Славяно-греко-латинская академия — первое высшее учебное заведение в Москве, основанное
в 1686 г. по инициативе Симеона Полоцкого (находилось при Заиконоспасском монастыре). Учени-
ками ее были русский поэт А.Д. Кантемир (1708—1744), М.В. Ломоносов (1711—1765).
109
Рис. 44. Карта путешествий С.П. Крашенинникова
1 — путь следования; 2 — города
1733 г. в связи с готовившейся Второй Камчатской экспедицией его вместе с пятью
другими лучшими учениками перевели в академическую гимназию в Петербург для
приобретения знания по физике, географии и естественной истории. Но в академичес-
кой гимназии учиться Крашенинникову пришлось лишь несколько месяцев. Решени-
ем Академии наук он был включен в состав экспедиционного отряда академиков
Г.Ф. Миллера и И.Г. Гмелина и 19 августа 1733 г. выехал из Петербурга в Сибирь.
Путь экспедиции в Восточную Сибирь лежал через Казань-Верхотурье-Тюмень-
Тобольск, далее по Иртышу до Семипалатинска, затем Усть-Каменогорск, Колыванс-
кий завод, Кузнецк, Томск, Красноярск, Енисейск, Канск, Нижнеудинск, Иркутск,
куда прибыли весной 1735 г. Из Иркутска путешественники совершили поездки в Кях-
ту (через Саленгинск) и на Аргунские заводы (через Читу и Нерчинск). Назад в Ир-
кутск путь шел вдоль р. Аргунь, через р. Онон и Читу. В 1736 г. отряд, обогнув озеро
Байкал, добрался до Баргузина, переправился через Байкал и направился в Якутск
через усть-Кут, Олекминск (рис. 44).
По дороге академики определяли географические широты рек, озер, населенных
пунктов. Собирали всевозможные сведения, касающиеся истории и быта разных
народов, с которыми экспедиция сталкивалась, составляли гербарии, зоологические
коллекции. Крашенинников был самым активным помощником академиков, выпол-
нял все их поручения, вел ’’Дорожный журнал” и подготовил работу ”0 соболином
промысле”. С момента прибытия в Сибирь и до октября 1737 г. Крашенинников совер-
шил по поручению Миллера и Гмелина ряд продолжительных поездок по Восточной
Сибири с целью изучения слюденных залежей, соленых и горячих источников, геог-
рафических особенностей отдельных местностей, жизни и быта народов, проживав-
ших там, списывал в городских архивах исторические акты и т.п. Различные исследо-
вания, которые выполнял Крашенинников, менее всего относились к зоологии,
исключая сбор материалов по соболиному промыслу, но они способствовали форми-
рованию широкого кругозора, качеств путешественника-исследователя. Благода-
ря всему этому к моменту своей поездки на Камчатку он уже имел большой опыт
экспедиционной работы. Не следует забывать, что Крашенинников, работая под
руководством таких исключительно образованных и талантливых ученых, как Гмелин
и Миллер, имел возможность в значительной мере восполнить недостаток полученно-
го им образования.
Основной задачей экспедиции было исследование Камчатки - одной из крайних
оконечностей Восточной Сибири. Именно поэтому экспедиция носила название
Камчатской. Однако академики Гмелин и Миллер, обосновавшиеся в Якутске, всячес-
ки оттягивали поездку туда. В своих рапортах Сенату они объясняли задержку
экспедиции плохим состоянием здоровья и необходимость предварительного соо-
ружения на Камчатке базы, где бы они могли жить и работать. С этой целью ими и был
послан на Камчатку С.П. Крашенинников, которому было поручено также провести
исследования природы полуострова. Его снабдили описанием Камчатки - сводкой,
которую составил Миллер в Якутске на основании устных и письменных сообщений2,
а также соответствующими предписаниями (’’ордерами”) дли руководства в работе.
22 октября 1737 г. Крашенинников выехал из Якутска.
Четыре года провел на Камчатке Крашенинников, в стране, где, по словам Н.М. Ка-
рамзина, ’’человек поселился вопреки натуре, среди глубоких снегов, влажных
туманов и гор огнедышащих”. На долю исследователя выпали невероятные лишения
и трудности, но это не помешало ему блестяще выполнить возложенную на него
миссию. Собранный огромный материал по географии, геологии, флоре и фауне Камчатки,
истории и этнографии ее аборигенов позже лег в основу его классического труда -
первого сочинения о Камчатке ’’Описание Земли Камчатки”.
2Работа Миллера была опубликована в 1774 г. в виде приложения к книге Г.В. Стеллера ’’Besch-
reibung von dem Lande Kamtschtka”.
111
Путешествие Крашенинникова на Камчатку - огромный подвиг. Его справедливо
сравнивали с подвигами землепроходцев. По пути из Охотска на Камчатку путе-
шественник лишился провианта и всей своей одежды. Судно ’’Фортуна”, на котором
он плыл, дало течь и за борт был выброшен весь груз, имевшийся на корабле. ’’Про-
вианту моего, - доносил в рапорте Крашенинников, - брошено в море 11 сум, также
чемодан с бельем. И больше у меня не осталось, как только одна рубашка, которая в
ту пору на мне была” (Крашенинников, 1949. С. 555).
Вдоль и поперек исколесил Камчатку путешественник (рис. 45). Всего за время
пребывания в Сибири и на Камчатке он проехал 25 773 версты (Андреев, 1939). Пред-
ставление о том, насколько детально обследовал путешественник полуостров, дают
составленные Крашенинниковым описания десяти его поездок. Они были выявлены
А.Н. Анреевым в архиве Академии наук России. Их тщательно проанализировал в
своей статье Н.Н. Степанов. В 1738 г. Крашенинников совершил 3 поездки: с 17 января
по 2 февраля он проехал от Большерецкого острога вверх по р. Большой до го-
релой сопки, расположенной у устья р. Аваги, с 19 марта по 1 апреля
совершил путешествие от Большерецкого острога до впадающих в р. Озерную теп-
лых вод и обратно в Большерецкий острог. С 19 ноября по 2 декабря он ездил от
Большерецкого острога по берегу Охотского моря до Верхнего Камчатского острога.
В 1739 г. он оставил 6 описаний поездок (’’Описание пути от Верхнего до Нижнего
Камчатского острога” - с 2 января по 15 января; ’’Описание пути от Нижнего Кам-
чатского острога до устья реки Камчатки и оттуда до Табкачаулкик острожка” - с
11 по 13 февраля; ’’Описание пути от Нижнего Камчатского острога до имеющихся
вверху Камчатки ключей” - с 19 по 20 февраля; ’’Описание пути от Нижнего Кам-
чатского острога до реки Авачи, до Паратуна острожка” - с 18 марта по 13 апреля;
’’Описание пути от Большерецка до Верхнего Камчатского острога водным путем” -
с 23 августа по 16 сентября - и ’’Описание Камчатки-реки от Верхнего Камчатского
острога до устья Камчатки реки по румбам” - с 17 сентября по 7 октября). В 1740 г.
с 11 января по 21 марта Крашенинников совершил путешествие от Нижнего Камчат-
ского острога вдоль берега Тихого океана до р. Караги, вверх по ней, затем вниз по
р. Лесной до Пенжинской губы, далее по берегу до устья р. Тигиль, а от устья Ти-
гиля до Харчина острога, находившегося на р. Еловке (Крашенинников, 1949. С. 35).
Крашенинников подробнейшим образом приводит все встречающиеся по пути
речки, озера, населенные пункты (’’острожки”), их названия, расстояние одного пунк-
та до другого. Сообщая об острожках, он указывает количество юрт, число в них
ясашных коряков3, их промыслы. ’’Имахшу острожек, от переезда Нагыша речки
верстах в 2, стоит на левом берегу Имахши речки, которая вышла верстах в 30 от
острожка и впала в Аначу реку верстах в трех от. . . Каттынана острожка. В помяну-
том острожке ясашных каряк 8 человек, из которых 2 собольника, а 6 человек лисиш-
ников” (С. 650).
Формально деятельность Крашенинникова протекала под ’’заочным” руководст-
вом Гмелина, снабдившего его подробно разработанной инструкцией научных наблю-
дений и присылавшего ему ордера, в которых содержались ответы на волновавшие
исследователя вопросы. Гмелин требовал от Крашенинникова отчетов (’’рапортов),
присылки ботанических и зоологических коллекций. В действительности же в своей
повседневной работе Крашенинников был предоставлен самому себе. Ему приходи-
лось решать задачи из самых разных областей знания. Именно на Камчатке проявился
его талант самостоятельного исследователя. Крашенинников не только сам проводил
наблюдения, но и успешно организовывал исследования, широко привлекая абори-
генов и представителей местной администрации для сбора сведений о Камчатке и
курильских островах. У местных властей от требовал переводчиков, знающих языки
3Ясаком облагали только мужчин, способных заниматься охотой.
112
Рис. 45. Медведь (древняя гравюра)
туземных народов, чтобы с их помощью собирать сведения о народах страны и их
промыслах. Он завел себе помощников для сбора фаунистических сведений и кол-
лекций животных, записывал сообщения камчадалов и каряков о зверях полуостро-
ва и способах их лова.
Именно от Крашенинникова берет свое начало в отечественной зоологии направ-
ление, опирающееся на зоологические знания, накопленные народами в процессе их
тысячелетней истории. Зверобойная культура азиатских эскимосов и чукчей, живу-
щих на Восточном побережье Тихого океана, их опыт на морских зверей, переда-
ваемый от отца к сыну, и сейчас привлекает к себе большое внимание. Как показали,
в частности, в своем исследовании Л. Богословская, Л.М. Ботрогов, И.И. Крупник
(1984), аборигены Восточного побережья Чукотки хорошо изучили особенности пове-
дения китов и пути их передвижения. В подтверждение этого авторы указывают, что
все крупные поселения Восточной Камчатки расположены в местах близкого под-
хода китов к берегу во время ежегодных весенних и осенних миграций.
Практическую и научную деятельность Крашенинникова на Камчатке раскрывают
его рапорты и письма, которые он регулярно писал академикам. Вот, в частности, чем
занимался он в один из дней ноября 1737 г. ’’Ноября 4 дня требовал я от Большерец-
кой приказной избы: 1) чтоб на строение троих хоромов, состоящих из двух светлиц
и одной черной избы и при них анбаров, в удобное время лес добыть и помянутое
строение будущего лета построить повелела; 2) чтоб для пересмотру старинные дела
ко мне прислала; 3) чтоб ясашным иноземцам приказала из имеющихся в здешних
реках рыб каждого роду4 по две изловить и ко мне принести и ежели случится киту
на берег выброшену быть, чтоб потом мне объявили и прежде осмотрения оного кита
его б не разминали, а особливо чтоб приказала промыслить находящегося в здешних
местах каменного барана, из морских зверей бобра и кота по мужичку и по женочке,
4Крашенинников не пользовался понятием ”вид”. У него в постоянном употреблении термин
”род”, под которым он подразумевает то вид, то родителей вместе с их потомством, то комплекс
близких друг другу видов.
8. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес цз
а из рыб морских махваю5, капхажу6 и касатку7, о которых в здешних местах при-
мечания достойные повести сказываются; чтоб повелела ясашным иноземцам при-
несть ко мне самое лучшее платье муское и женское и робячье, ежели в нем, кроме
величины, есть отмена, а за оное платье и за зверей заплачено будет по их воле казен-
ным табаком шаром; 4) чтоб весною приказали изготовить столб прямой, вышиною
восемнадцать футов или больше, которой поставлен будет на устье Большой реки для
примечания прилива и отлива морской воды”. (С. 557).
Широк был спектр научных интересов Крашенинникова: от лингвистики, истории и
этнографии до географии, минералогии, ботаники и зоологии. Он внес во все эти
науки существенный вклад. И это несмотря на исключительно трудные условия
работы на Камчатке, где он терпел голод, холод, нужду. Два года (1739 и 1740) Кра-
шенинников не получал жалованья. ”Я от того, - писал он, - терплю немалую нужду
и палея в долги” (Архив РАН. Ф. 21. Оп. 5. № 34. Л. 100— ЮОоб). Только в 1740 г. с
приездом на Камчатку адъюнкта Петербургской Академии наук Г.В. Стеллера (он
приехал в Большерецкий острог 27 сентября) Крашенинникову было выплачено жа-
лование за эти годы, но отказано в ’’хлебном жалованье”, что обрекало его на нищен-
ское состояние. В рапорте академикам от 9 ноября 1740 г. Крашенинников сообщал:
’’Провианта мне ныне не привезено, потому что велено по силе ее императорского
величества указу академической свите на своем коште провиант ставить, в чем мне
будет немалая нужда, понеже купить негде, а и покупать по здешней цене нашего
жалованья на один только хлеб достанет... а харчу и платья и купить не на что”
(Л. 112,113).
Приехав в Большерецк, Стеллер в тот же день объявил Крашенинникову, что
отныне тот будет в его подчинении и потребовал от него собранные им материалы для
исправления. В рапорте Стеллеру от 28 октября Крашенинников писал: ’’Сего 27 дня
1740 году получил я ордер от вашего благородия, в котором написано: по силе-де 37
пункта данной вам от господ профессоров Гмелина и Миллера велено вам по приезде
вашем в Большерецкой острог принять меня в вашу команду и пересмотреть у меня
всякие мною чиненные с приезду моего на Камчатку наблюдения и исследования по
данной мне от господ профессоров инструкции. Письменным наставлениям, и которые
вашему благородию сомнительны покажутся, те б вам исправить, чтоб никакого
сомнения не осталось и по силе вышеописанного быть бы мне в вашей команде и
объявить чиненные мною наблюдения при рапорте” (Архив РАН. Ф. 3. On. 1. № 800.
Л. 251.).
Крашенинников планировал поездку на Курилы для изучения промысла морских
выдр, сивучей и северных морских котиков. В рапорте Гмелину и Миллеру от 9 нояб-
ря 1740 г. он писал: ”И хотя я в Курилы ехать прежде намерен был, но понеже... те
мужики, ради которых я ехать хотел, ушли, то я оной путь оставил, а намерение
возимел ехать туда весною, чтоб осмотреть промысел морских зверей, которые
весною больше промышляются, а именно бобров, сивучей и котов” (Архив РАН.
Ф. 21. Оп. 5, Л. ПО, 111). Поездка на Курильские острова так и не состоялась. Зимой
1740 г. Крашенинников отправился на север для описания оленных коряков, но
поездка не дала тех результатов, которые от нее ожидали. ”Сей зимы, - писал Кра-
шенинников Миллеру от 27 июня 1741 г., - поехал было я в коряки, но ради учинив-
шейся от сидячих коряк на Пенжинском море измены в двух местах ехать не смел”
(Крашенинников. 1947. С7 627). В том же письме сообщал, что ’’Господин профессор
ла-Кроер-и господин адъюнкт Штеллер поехали в Америку с господином капитаном
5Махвая (по-камчадальски) — акула.
6Капхажу (по-камчадальски) — скат.
7Касатка — косатка (Orcinus orca), самый крупный представитель семейства дельфиновых с дли-
ной тела до 10 м. Крашенинников относил касаток, как и других млекопитающих, постоянно жи-
вущих в воде, к рыбам.
114
Рис. 46. Якутск
Берингом”, а свита их вся осталась на Камчатке. ” Я по определению господ профес-
сора ла Кроера и адъютанта Штеллера отправлен до Иркуцка за жалованьем на 1742 и
1743 годы и для покупки потребных на них господ и свиту припасов, а как мне в том
пути поступать, о том даны инструкции” (Там же).
По исполнении поручения Крашенинникову предписывалось вернуться в Петер-
бург. Так закончилось путешествие С.П. Крашенинникова по Камчатке. 28 мая
путешественник отправился из Большерецкого острога на галиот ’’Охотск”, на кото-
ром и прибыл в Охотск 26 июня того же года. Из Охотска он проследовал в Якутск8
(рис. 46), откуда в Иркутск через Олекминский острог-Витимскую слободу-Кирен-
ский острог-Усть-Кутский острог и Усть-Илгу. В Иркутск Крашенинников приехал
13 ноября 1741 г. Из Иркутска, получив жалованье для отрядов Далиль-де-ла Кроера
и Стеллера и закупив провиант, путешественник отправился назад в Якутск. Доехав
до Верхоленска и дождавшись вскрытия реки, он поплыл судном вниз по Лене. В
Якутск он попал 26 мая 1742 г. Здесь он сдал Якутской воеводской канцелярии
деньги и провиант для отрядов Стеллера и Делиль де ла Кроера и 12 июня 1742 г. вые-
хал из Якутска в Петербург через Тобольск-Тюмень-Верхотурье. В Петербург он
возвратился в конце 1742 г.
Крашенинников вернулся из экспедиции опытным исследователем, зарекомендо-
вавшим себя в ряде разделов науки. В 1745 г. он был произведен в адъюнкты, а в
1750 г. - в академики Петербургской Академии наук и назначен членом академичес-
8В Якутске, по пути с Камчатки, в 1741 г. Крашенинников женился на племяннице якутского
воеводы майора Павлуцкого Степаниде Ивановне Цибульской (Письмо Миллеру от 13 ноября
1741 г. Там же. С. 640).
115
кого и исторического собраний Академии. Крашенинников был первым русским
профессором ботаники. Помимо научной деятельности он занимался также организа-
ционной и педагогической работой. В 1748 г. он был утвержден ректором академичес-
кой гимназии, в которой преподавал греческий и латинский языки.
В Петербурге Крашенинников написал свой важнейший труд, прославивший рус-
скую науку ’’Описание Земли Камчатки”. Ученый приступил к обработке материалов
о Камчатке в конце 1748 г. В сентябре 1748 г. Канцелярия Академии поставила вопрос
об ускорении публикации материалов о Камчатке. ’’Понеже примечено, многие
камчатские известия разным людям в руки попались, и потому небезопасно, чтобы
оные от иностранных прежде, нежели здесь, в печать изданы были, от чего Академия
Наук лишится пользы и чести; того ради в Канцелярии Академии наук определено:
помянутые известия поштучно на русском и латинском языках, так, как авторы их
прислали, немедленно напечатаны бы быти могли, и со временем зделать из них
порядочную книгу, и для того к профессорам, адъюнктам и студентам Камчатской
экспедиции послать указ, чтоб они привезенные свои дела прилежно рассмотревши, в
такое состояние привели, чтоб их печатать можно было ’’(Материалы для истории
Академии наук, 1897. С. 405). В 1748 г. по распоряжению Канцелярии Академии наук
Крашенинникову были переданы все оставшиеся материалы ’’покойного адъюнкта
Штеллера” (Г.В. Стеллера, умершего в 1746 г. в Тюмени) для использования их в его
труде.
1748 и 1749 годы ушли на обработку дневников и путевых записок. В своих отчетах
Канцелярии Академии наук Крашенинников отмечал, ’’приводил в порядок известия
принадлежащие до камчатской истории” (С. 23). В конце 1750 или самом начале
1751 г. ученый представил в Академию наук свой труд, который, к величайшему
сожалению, не сохранился. Его кто-то рецензировал (до настоящего времени неиз-
вестно кто), поскольку Академия наук 1 марта 1751 г. приняла специальное решение
о сочинении Крашенинникова. ’’Понеже профессор Крашенинников был в самой
Камчатке и прислал описание оной в Академию, которое ему ныне надлежит пере-
смотреть вновь, и те места, о которых покойный Штеллер в Описании своем упомина-
ет, а оного нет в Описании оного Крашенинникова, то их внесть либо в самой текст
или сообщить оные в примечаниях с приставлением авторова имени” (Архив РАН.
Ф. 3. Оп. 1,№151.Л. 13).
9 августа того же года Крашенинников сообщал Канцелярии Академии наук о
выполнении им поручения: переработки сочинения. ”По ордеру из Канцелярии Ака-
демии наук марта И дня сего 1751 года велено мне Камчатское мое описание снести с
описанием покойного адъюнкта Стеллера, и чего в моем описании не найдется,
то взять мне из помянутого Стеллерова описания и внесть в текст или в примечания с
объявлением авторова имени. И во исполнение объявленного ордера приведено мною к
окончанию две части камчатского описания с прибавлением Стеллеровых примечаний и с
объявлением его имени, которые при сем прилагаю и покорнейше прошу, чтобы оные,
кому надлежит, посланы были для рассмотрения” (Л. 16). В марте 1753 г. все части со-
чинения были представлены в Канцелярию Академии наук, которая направила их на
отзыв академикам. Краткий положительный отзыв дал М.В. Ломоносов. Г.Ф. Миллер
написал подробную развернутую рецензию с рядом существенных замечаний, кото-
рая за исключением некоторых пунктов и была утверждена Канцелярией Академии
наук. Потребовалась значительная переработка рукописи. Крашенинников перера-
ботал свое сочинение, хотя и был серьезно болен. Ему удалось отпечатать свой труд.
Но выпустить его в свет он не успел. Крашенинников скончался 12 февраля 1755 г.
вскоре после того как, совершенно больной, просмотрел последний лист своего
сочинения.
Очень меткая характеристика жизненного пути выдающегося русского ученого
академика С.П. Крашенинникова дана в предисловии к 1-му изданию ’’Описания
116
Земли Камчатки”, написанном Г.Ф. Миллером: ”Он был в числе тех, кои ни знатною
природою, ни фортуны благодеянием не предпочтены, но сами собою своими качест-
вами и службою произошли в люди, кои ничего не заимствуют от своих предков и
сами достойны называться начальниками своего благополучия” (Крашенинников,
1949. С. 93).
Труд Крашенинникова ’’Описание Земли Камчатки”, опубликованный впервые в
1755 г., - блестящий памятник русской науки и культуры XVIII в. Содержащиеся в
нем ценнейшие исторические, этнографические, лингвистические сведения и боль-
шой географический, геологический, ботанический и зоологический материал были
высоко оценены современниками академиками М.В. Ломоносовым, Г.Ф. Миллером,
просветителем XVIII в. Н.И. Новиковым и многими другими.
Большой интерес эта книга вызвала в Западной Европе. Книга была переведена на
ряд европейских языков. В 1764 г. вышло английское издание, в 1766 - немецкое,
1767 - французское, 1770 - голландское. В России труд был дважды переиздан: в 1786
и в 1818 гг.
Труд ’’Описание Земли Камчатки” С.П. Крашенинникова привлек к себе внимание
многих писателей XIX в. Тщательно изучал его А.С. Пушкин, полностью за-
конспектировавший историческую часть труда в своем сочинении
’’Камчатские дела” (Пушкин, 1904. С. 89-100). Великий писатель, видимо, намеревался
использовать в своем творчестве материал из истории покорения Камчатки. Особен-
но интересовали Пушкина две фигуры: В. Атласов, которого он называл ’’камчатским
Ермаком” и Федор Харчин - вождь восстания камчадалов в 1731 г. Пушкин в § 79
писал о Харчине: ”3а ним пустилась погоня; но он так резво бегал, что мог достигать
оленей. Его не догнали (С. 99). Примечательно, с каким вниманием относился Пуш-
кин к местным, камчадальским названиям зверей. Так, фразу ’’Бобры звались кала-
нами и на той реке промышлялись” он пометил знаком В!. (С. 91).
’’Описание Земли Камчатки” Крашенинникова было в центре внимания многих
известных ученых XIX и XX вв. Его разбирали П. Пекарский, А.Ф. Миддендорф,
Л.С. Берг, А.А. Григорьев, А.И. Андреев, Н.Н. Степанов и многие другие. Н.Н. Степа-
нов в водной статье к труду Крашенинникова, опубликованном в 1949 г., написал:
^’’Описание Земли Камчатки” - энциклопедия Камчатки середины XVIII века, один
из интереснейших памятников русской науки XVIII века. В этой энциклопедии
ученые самых различных специальностей до настоящего времени черпают для себя
драгоценные материалы. Для географов этот труд - один из основных по истории
русских географических открытий. Для естественников труд Крашенинникова дает
материалы по истории первоначального изучения природы и естественных богатств
Камчатки. Этнограф и историк первобытного общества черпают в труде Крашенинни-
кова интереснейшие материалы по истории первобытного общества > (Крашенинни-
ков, 1949. С. 84). Мы остановимся только на той части труда, которая касается терио-
логии. Млекопитающие рассмотрены автором в гл. 6 ”0 зверях земных”, гл. 7 ”0 ви-
тимском соболином промысле”, гл. 8 ”0 зверях морских”, а также в гл. 9 ”0 рыбах”,
куда он отнес китов и других морских зверей, постоянно живущих в воде.
Огромная заслуга Крашенинникова перед отечественной и мировой териологией
заключается в том, что в его труде впервые были приведены сведения о териофауне
неизученной тогда Камчатки.
Характеризуя фауну края, Крашенинников отмечает многообразие в ней млекопи-
тающих и их обилие. ’’Зверей на Камчатке, - писал он, - великое изобилие, в которых
состоит и вящшее ее богатство: в том числе есть лисицы (Vulpes vulpes)9, соболи (Mar-
tes zibellina), песцы (Alopex lagopus), зайцы (Lepus timidus), еврашки (Citellus parryi
stejnegeri), горностаи (Mustela erminea), ласочки (Mustela nivalis), тарбаганы (Marmo-
9B скобках даны современные латинские названия.
117
ta camtschatica), росомахи (Culo gulo), медведи (Ursus arctos), волки (Canis lupus), олени
дикие и ежжалые (Rangifer tarandus) и каменные бараны (Ovis canadensis) (С. 241). Кра-
шенинников, ссылаясь на Стеллера, отметил, что на Камчатке водятся три вида
мышей. Помимо упомянутых зверей, Крашенинников приводит в главе ”0 зверях
морских” еще двенадцать: речная выдра (Lutra lutra), морской бобр (Enhydra lutris),
морской кот (Callorhinus иг5ши5),*морж (Odobenus rosmarus), сивуч (Eumetopias jubatus),
лахтак (Erignathus barbatus), ларга (Phoca vitulina), крылатка (Histriophoca fasciata),
белуга (Delphinapterus leucas), морская корова (Hydrodamalis gigas), кит, косатка
(Orcinus orca).
Крашенинников обратил внимание на местные отличительные формы ряды зверей.
Он отметил, в частности, своеобразие камчатских лисиц и соболей. ’’Камчатские
лисицы столь пышны, осисты и красны, что других сибирских лисиц и сравнить с
ними не можно, выключая анадырских” (С. 241), поведал о разнообразии их окраски,
среди которых представлены ’’красные, огненки, крестовки, бурые, чернобурые”,
сообщил об известных способах их лова.
”Сие достойно примечания, - сообщил он, - что лисицы, чем лучше, как, например,
чернобурые, сиводушки и огненки, тем хитрее и осторожнее...” (С. 242). ’’Промыш-
ляют их, - писал он, - наиболее отравою, клепцами и луками”. Крашенинников
подробно описывает устройство клепцов, как их ставят”. ’’Клепцы, - сообщал он, -
делаются следующим образом: из обрубка не весьма толстого длиною в поларшина
выверчивается буравом сердце. На середине обрубка делается окно до самого поло-
го места... К окну прикрепляется дощечка, у которой на другом конце зделана
петля, а близ петли два кляпа на особливых петлях. . . Кляп, которой к концу
дощечки обвострен, а другой зарублен и на конце и на середине. Сквозь обрубок,
которой по тамошнему называется колодою, продеваются гужи, то есть веревка
толстая из китовых жил плетеная, а чтоб она из колоды не выходила, то по концам
укрепляется она деревянными кляпами. В средине гужей посредством помянутого
окна утверждается толстая палка, или мотырь по тамошнему названию, с тремя
железными зубцами, вколоченными на другом конце, а лежит оной мотырь в против-
ную от дощечки сторону. В одну сторону зубцов вкладывается в мотырь деревянный
гвоздь, на который накладывается имеющаяся на вышеписанной дощечке петля,
когда мотырь на дощечку отворачивается с которою и одной величины бывает.
Для постановки сей машинки делаются из снегу бугры наподобие кочек и огора-
живаются мелкими прутьями. В одну сторону бугра вынимается некоторая часть его
до самой средины для входу туда лисице: ибо клепца зарывается в бугор таким
образом, чтоб мотырь зубцами был по самой средине полого места, куда лисице
входить надобно. Когда таким образом бугром бывают изготовлены, то зарывают в
них клепцы и настораживают. Сперва пригибают мотырь к лежащей плашмя дощечке
и задевают за имеющуюся на оной петлю; потом вострой кляп накладывают на имею-
щуюся на оной петлю; потом вострой кляп накладывают на деревянный гвоздь в
мотыре вколоченной, а наверх его другой кляп зарубкою. После того петля с мотыря
снимается, и все напряжение загнутого мотыря держится токмо объявленными
кляпами. За другую зарубку помянутого кляпа привязывается долгая с нитка с
наживою, которая кладется в полое на бугре место. Вкруг бугра разбрасывается по
сторонам искрошенная юкола для приманы к' бугру лисицы, которая, собирая оную,
заходит и в полое место. Когда она тронет привязанную на нитке наживу, то здерги-
вается кляп с зарубкою сверху вострого, потом вострой кляп соскакивает с деревян-
ного гвоздика, а напоследок напряженной мотырь отскакивает на свое место и
зубцами бьет лисицу по самой спине. Для осторожных лисиц ставят в одном бугре
клепцы по две и по три, чтоб с которою сторону она ни подошла, отвсюду б удара не
избежала” (С. 243). ’’Что касается лучного промыслу, то промышленники знают меру,
в какой вышине ставить натянутой лук и настороженной. . . Натянутые луки привя-
118
зывают они к колу, которой вколачивается от лисьей тропы в некотором расстоянии,
а через тропу перетягивается нитка, которою лук спускается. Ежели лисица перед-
ними лапами оную тронет, то бывает убита в самое сердце” (С. 244). Крашенинников
сообщает, что все эти способы лова ввели казаки, а ’’камчадалы прежде всего в
ловле их не было нужды; для того что они кож их не предпочитали собачьим, а когда
желали бить, то могли то сделать и палками”, ибо сказывают, что до покорения
Камчатки бывало лисиц такое иногда множество, что надлежало их отбивать от
корыта, когда собаки были кормлены” (С. 244).
Многие из млекопитающих Камчатки - виды, весьма широко распространенные в
Европе и Сибири, и достаточно хорошо известные. Может быть именно в этом и следу-
ет искать одну из причин того, что в своей книге Крашенинников не дал подробных
описаний зверей. При описании млекопитающего он сообщал сведения об его отличи-
тельных особенностях от сородичей других райнов, его распространенности на полу-
острове, коммерческой ценности и способах лова. Так, в частности, о лисицах он
писал: ’’Что касается до родов их, то почти все сколько их ни есть, на Камчатке
примечены, а именно: красные, огневки, сиводушки, крестовки, бурые, чернобурые и
другие тем подобные. Случаются ж там иногда и белые, токмо весьма редко” (С. 242).
Мало сообщил, правда, Крашенинников и о довольно редко встречающемся в
других районах снежном баране. ’’Дикие бараны, - писал он, - видом и походкою
козе подобны, а шерстью оленю. Рогов имеют по два, которые извиты так же, как и у
ордынских баранов, токмо величиною больше: ибо у взрослых баранов каждый рог
бывает от 25 и до 30 фунтов. Бегают они так скоро, как серны, закинув рога на спину.
Скачут по страшным утесам с камня на камень весьма далеко, и на самых вострых
кекурах могут стоять всеми ногами” (С. 250). Далее путешественник, как и во всех
своих заметках о различных млекопитающих, привел сведения о хозяйственной
значимости промысла снежных баранов. ’’Платье из их кож за самое теплое почитает-
ся, а жир их, который у них на спинах так же толсто нарастает, как у оленей, и мясо -
за лучшее кушанье. Из рогов их делают ковши, лошки и другие мелочи, а наиболыпе
целые рога носят на поясах, вместо дорожной посуды. . . живут. . . дикие бараны по
высоким горам; чего ради те, кои за промыслом их ходят, с начала осени оставляют
свои жилища, и, забрав с собою всю фамилию, живут на горах по декабрь месяц,
упражняясь в ловле их” (С. 250).
В сочинении Крашенинникова содержится много интересных сведений о жизни
зверей, устройстве ими гнезда, выведении потомства, их поведении, питании, спосо-
бах их лова. Особенно подробно в этом отношении описан им соболь, которому
посвящена отдельная глава книги ”0 витимском соболином промысле”10.
Крашенинников сообщает сведения о сезонных линьках зверьков: ”Ни в которое
время соболиного промыслу не бывает, кроме зимы, потому что весною соболи
линяют, а летом у них шерсть низка, а осенью еще не дошла. Чего ради они тогда и
недособолями называются, которые ныне не промышляют для того, что им цена
мала” (С. 673). ’’Живут соболи в норах... А норы их бывают или в дуплях, или под
кореньями дерев, или под колодами, которые уже обросли мохом или в оранцах. А
оранцы называются голые рассыпные каменные горы. . . Как в летнее, так и в зимнее
время лежат они в норах или в гнездах по половине суток, а в другую половину
выходят для промыслу себе пищи. . . Летом, пока ягоды не поспеют, питаются они
хорьками, пищухами, горностаями и белками, а наипаче зайцами. А как ягоды
созреют, то едят они голубицу, бруснику, а больше всего рябину. А когда рябине род
бывает, тогда промышленные о том весьма сожалеют; потому что соболям от нее
чесотка случается, отчего они дерева трутся, и тем шерсть с себя стирают и промыш-
10В основу ее легла рукопись С.П. Крашенинникова ”0 соболином промысле”, написанная им
еще в Сибири в 1737 г.
119
ленные часто принуждены бывают пропускать половину зимы, пока у соболей опять
шерсть отрастет. Зимою хватают соболи птиц, рябчиков и тетерь, когда они в снег
садятся, и может соболь и самого большого глухаря осилить, а сверх того, и вышеу-
помянутых зверьков, когда попадут, хватают.
Когда зимою все снегом покроет, то соболи в норах лежат недели с две или с три
безвыходно, а как из нор выдут, тогда начнут ходиться, что бывает в генваре меся-
це.. . ходится с Афанасьева они, а погонь бывает недели по 4, а до погони лежат
сутки по трои и по четверы. Они ходится недели с три или четыре, а когда случится
придти двум мужичкам к одной женочке, тогда между ними бывает ревность и
происходит от того великие драки, и по тех пор грызться не перестают, пока один
другого осиливши прочь не отгонит, отчего и белость у них появляется по местам,
которую промышленные выдергивают.
Родят соболи в последних числах марта месяца и в апреле по 3, и по 4 и по 5 щен-
ков в норах или в зделанных на деревах гнездах, и вскармливают оных щенят в 4 и 6
недель. Чечуйский промышленный объявляет, что они в обыкновенных норах не
родят, а выкапывают себе самые узкие норы, чтобы большому в них не попасть и
щенят не съесть, а большого называют они мужичка соболиного” (С. 672-673).
Крашенинников рассматривает зверей в тесной связи с условиями их существо-
вания, что нашло отражение даже и в самих названиях глав: :О зверях земных”, ”0
витимском соболином промысле”, ”0 зверях морских”, ”0 рыбах” и др.
Свой подход к изложению материала ученый изложил в главе ”0 зверях мор-
ских”. ’’Под именем водяных зверей, - писал он, - заключаются здесь те животные,
которые на латинском языке амфибия называются, для того что оные хотя по боль-
шей части и в воде живут, однако и плодятся около земли, нередко на берега выхо-
дят. Чего ради киты, свинки морские и подобные им, которые никогда не выходят на
берег, а от многих причисляются к зверям, не принадлежат к сей главе, но к следую-
щей, в которой о рыбах писано будет: ибо все нанешние писатели о рыбах в том
согласны, что кит не зверь, но сущая рыба”11. ’’Водяные звери могут разделены быть
на три статьи; к первой принадлежат те, кои живут токмо в пресной воде, то есть в
реках, как, например, выдра, к другой, которые живут в реках и в море, как тюлени,
а к третьей, которые не заходят в реки, как морские бобры, коты, сивучи и прочая”
(С. 269).
Труд Крашенинникова ’’Описание Земли Камчатки” - первая книга, в которой
было дано описание животного мира крайних восточных владений России. В нем
приведен не только перечень млекопитающих совершенно не изученной тогда Кам-
чатки, так само по себе представляло большой интерес, но и сведения о распростра-
ненности зверей, их промысловой ценности, образе жизни, способах лова. Крашенин-
ников широко использовал в своем труде, как того требовала от него Канцелярия
Академии наук, материалы о млекопитающих из не опубликованных еще тогда сочи-
нений Г.В. Стеллера, умершего в 1747 г. в Тюмени. Сопоставление труда Крашенин-
никова и одноименного сочинения Стеллера выявляет одинаковое число млекопитающих,
сходство описания некоторых животных, особенно морских зверей.
Еще в XVIII в. И. Шерер издатель труда Стеллера «cBeschreibung von dem Lande
Kamtschatka» (1774), высказал неосновательные обвинения в адрес Крашенинникова,
заключавшиеся в том, что тот использовал карты, рисунки и материалы Стеллера в
своем труде. На несостоятельность нападок И. Шерера указал еще П.С. Паллас и дру-
гие видные ученые Петербургской Академии наук. Крашенинников сделал только то,
что требовала от него Академия, не выполнить ее распоряжений он не мог. Прибыв на *
иПо поводу того, что ”кит не зверь, а сущая рыба”, академик А. Севастьянов в издании 1818 г.
писал: "Никто нынче китов к рыбам не относит, ибо всем естествоиспытателям со времен Райя
(Дж. Рей) известно, что китовые самки кормят детенышей своим молоком” (С. 367).
120
Рис. 47. Лист рукописи С.П. Крашенинникова
Рис. 48. Лист рукописи С.П. Крашенинникова с описанием морского бобра (калана)
Камчатку задолго до Стеллера, Крашенинников занимался сбором сведений о при-
роде края, правда он еще не был вполне сложившимся натуралистом, но уже имел
некоторый опыт сбора материала о зверях, который приобрел во время путешествия
по Сибири с И.Г. Гмелиным. Более того, в 1740 г. на Камчатке Крашенинников в своей
рукописи о природе полуострова привел описание калана, в котором даны промеры
частей животного, привел сведения об образе жизни зверя; конечно, это описание еще
очень несовершенно, но оно свидетельствует об определенном опыте его автора (ру-
копись хранится в Архиве Академии наук) (рис. 47 и 48). Крашенинников, согласно
распоряжению академиков, как известно, в конце октября 1740 г. передал все
собранные им материалы для просмотра Г.В. Стеллеру, были ли среди них какие-либо
другие зоологические работы, неизвестно. Однако Крашенинников вряд ли мог не
собирать сведения о зверях Камчатки - основном ее богатстве. Переписка Крашенин-
никова с академиками и их ордера к нему свидетельствуют о большом интересе,
проявлявшемся тогда к изучению зверей, особенно пушных. Еще менее вероятно, что
многолетнее изучение природы края Крашенинниковым могло быть не учтено Стел-
лером при написании им своего труда. Поэтому в предисловии к третьему изданию
’’Описания Земли Камчатки” С.П. Крашенинникова говорится: ’’Сим образом труды
обоих этих мужей составляют в сем описании как бы одно целое творение”.
Г.В. СТЕЛЛЕР. ИССЛЕДОВАНИЯ АЛЯСКИ,
АЛЕУТСКИХ, КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ И КАМЧАТКИ.
СОЧИНЕНИЕ ”0 МОРСКИХ ЗВЕРЯХ”
Редко кому из ученых посчастливилось навечно органически связать свое имя с
судьбою какого-либо животного. А вот Георгу Вильгельму Стеллеру это удалось. Он
открыл морскую корову, подарил человечеству ее описание, провозгласил ее исклю-
чительно полезные свойства (как источника питания) и тем обрек это уникальное жи-
вотное на истребление. Имя Стеллера связано с одной из самых ярких страниц в исто-
рии отечественной науки первой половины XVIII в. Участник Второй Камчатской экс-
педиции, морского плавания 1741 г. к берегам Америки на корабле ”Св. Петр” под
командованием В. Беринга и героической зимовки на о-ве Беринга, Стеллер первым
изучил животный мир Аляски, Алеутских и Командорских островов, детально ис-
следовал природу Камчатки. Его знаменитый труд ”0 морских зверях”, в котором он
описал открытых им морских млекопитающих: сивуча, калана, северного морского
котика и морскую корову, поставил его имя в один ряд с самыми выдающимися зо-
ологами XVIII в. Примененный им метод изучения млекопитающих непосредственно
в среде их обитания, многоаспектность описания зверей значительно превосходили
тогдашний уровень западноевропейской науки и легли в основу развития отечест-
венной и мировой териологии.
Георг Вильгельм Стеллер родился 10 марта 1709 г. в Виндсгейме, небольшом сво-
бодном городе во Франконии. Отец его был органистом, и мальчик, имевший прек-
расный голос, получил блестящее музыкальное образование. Пяти лет Георг посту-
пил в местную гимназию - гордость Виндсгейма, ставившую целью ’’приучение юно-
шеского духа к соразмерности, стройности, гармонии и логике мысли”. Гимназия
представляла собой латинскую школу: все предметы в ней (библия, логика, рито-
рика, физика и др.) излагались на латинском языке, лишь в последних классах до-
бавлялось изучение греческого языка. Весь курс обучения составлял 14-15 лет.
Ежемесячно ученики экзаменовались. Лучшие ученики классов ежегодно премиро-
вались. Такая система обучения обеспечивала хорошую подготовку выпускников к
университетским занятиям. Выпускники этой гимназии свободно владели латинским
языком, на котором велось преподавание в университетах. Стеллер, отличавшийся
123
блестящими способностями и редким трудолюбием, сразу же стал первым учеником
в классе и сохранял за собой это место в течение всего срока обучения.
Окончив гимназию в 1729 г., он в том же году поступил на теологический факуль-
тет Виттенбергского университета, бывшего оплотом лютеранства. Большинство
лекций были совершенно оторваны от реальной жизни. Хотя Стеллера не удовлетво-
рял стерильный формализм обучения, он отдал дань теологическому образованию,
сказавшемуся на его образе жизни, он успешно участвовал в богословских диспутах.
Но пылкого юношу влекла жизнь, он мечтал о путешествиях в дальние страны, ув-
леченно изучал иностранные языки, читал художественную, и особенно приключен-
ческую, литературу \
Сильный пожар в Виндсгейме в декабре 1730 г., в результате которого сильно пост-
радали церковь, больница, ратуша, многие дома, произвел тяжелое впечатление на
Стеллера. Он решил оставить Виттенберг. К этому времени он уже пришел к мысли,
что виттенбергский университет ничего больше не может ему дать. Не приняв реше-
ния, где продолжить свое образование, Стеллер посетил университеты в Лейпциге,
Йене и Галле. В Йене жизнь студентов показалась ему чрезмерно шумной, грубой,
в Лейпциге - наоборот, студенты были слишком тщеславны и фатоваты. Свой выбор
Стеллер остановил на университете в Галле, где интеллектуальная атмосфера была
выше. 23 апреля 1731 г. он поступил на теологический факультет университета. Уни-
верситет в Галле в это время переживал период упадка своего престижа. Раздражи-
тельный и вспыльчивый король Фридрих Вильгельм вмешивался в жизнь универси-
тета. Так, им был исключен из университета и выслан талантливый ученик Лейбница
профессор Христиан Вольф. В падении престижа университета, как показала про-
верка университета комиссией правительства, были повинны теологический и юриди-
ческий факультеты, на медицинском же и философском факультетах преподавали
’’блестящие ученые”, такие, как профессор Альберти, молодой профессор Михаэлис,
профессор медицины Коштвиц. Стеллер посещал лекции и семинары на своем фа-
культете, но большую часть времени проводил на медицинском факультете, где изу-
чал медицину и естественные науки. Ботанику преподавали профессора медицины как
часть фармакологии. В несколько лучшем положении находилось преподавание зо-
ологии. Ее читал Коштвиц - выдающийся анатом XVIII в. Он был первым профес-
сором в университете, который стал вести зоологию как особую науку. Это видно из
его лекционной программы на летний семестр 1732 г. под названием ’’Зоотомическое
исследование, в котором он (профессор) вскрывает внутренние и внешние структур-
ры животных, таких, как четвероногие, птицы, рыбы и амфибии, закрепляет булав-
ками внутренние части насекомых для тщательного изучения их слушателем с по-
мощью скальпеля и микроскопа” (Stejneger, 1936. Р. 33). Под руководством Коштвица
Стеллер приобрел твердые навыки анатомирования, глубокие знания анатомии че-
ловека и других млекопитающих. В анатомическом театре демонстрации часто про-
водились на животных, так как человеческие трупы достать тогда было очень
трудно.
Материальная поддержка от родителей скоро прекратилась1 2, и Георг Вильгельм
вынужден был зарабатывать себе на жизнь. Благодаря профессору И. Юнкеру, боль-
1 Любимой книгой Стеллера был роман Д. Дефо "Робинзон Крузо" (1719), с которой он никогда
не расставался. Она была с ним на о-ве Беринга и значилась в описи вещей, оставшихся после
его смерти.
2Семья у отца была большая и испытывала трудности. Отец Иоганн Якоб имел от первого брака
одного сына. Георг Вильгельм был четвертым сыном от второго брака отца с Сусанной Луизой
Бауманн. После Георга родилось еще пятеро детей.
124
тому другу его старшего брата Августа3, Вильгельм Георг получил место учителя
в знаменитом учебном заведении А.Г. Франке при сиротском доме, находившемся
в Галле, кроме того, он занимался репетиторством. Стеллер был первым преподава-
телем, который стал вести курс ботаники в школе Франке. Это было необычное учеб-
ное заведение, состоявшее из приюта для сирот, элементарных германских классов
для детей богатых и бедных родителей, педагогиума - своего рода лицея для детей
знати, латинской школы для мальчиков, специальной школы для девочек, больницы,
аптеки, типографии и книжной лавки. Оно пользовалось большой известностью и
авторитетом. В то время (1733 г.) это учебное заведение посещало свыше 2100 учени-
ков. Курировал курс ботаники профессор медицины Ф. Хофман4, который ’’вместе
с Г. Бургаве в Лейдене делил репутацию величайшего медицинского светила во всей
Европе (Stejneger, 1936. Р. 46).
Увлекательные, живые лекции Стеллера по ботанике привлекали много слуша-
телей. Он приобрел любовь и симпатии своего наставника профессора Ф. Хофмана.
Успехи Стеллера, однако, не радовали многих преподавателей школы, терявших
своих слушателей. Они писали письма, в которых старались всячески очернить Стел-
лера и его лекции, требовали более жесткого контроля курса ботаники, который вел
Стеллер. Обладая исключительно независимым характером, Стеллер стремился в пре-
подавательской деятельности к полной самостоятельности. Такую возможность ему
могло предоставить только место профессора ботаники университета в Галле (про-
фессора ботаники там не было). По совету профессора Хофмана (он был другом ко-
роля, его лейб-медиком), который считал, что Стеллеру легче будет занять профес-
сорское кресло в Галле, если ему удастся успешно сдать квалификационный экзамен
по ботанике у профессора М. Рудольфа в Медицинской оберколлегии, и обещал в
случае удачного результата похлопотать за него, Стеллер поехал в Берлин. Экзамен
он выдержал блестяще, но вакансии профессора не добился. Хофман приложил ог-
ромные усилия, чтобы убедить короля Фридриха Вильгельма, что важно иметь в
университете Галля профессора ботаники и что есть прекрасная кандидатура в лице
Стеллера, но все его старания были напрасными. (И это несмотря на то, что Хофман
провел у постели больного короля в Берлине более 6 месяцев). Король Фридрих
Вильгельм (1688-1740) был чрезвычайно упрям и своеволен.
В Берлине занять место профессора ботаники Стеллер не мог: профессор М. Лу-
дольф был превосходным ботаником, да и по возрасту он был всего лишь на 4 года
старше Стеллера. Выбиться в люди в каком-либо другом городе Пруссии у Стеллера
также не было никакой надежды. Г.В. Стеллеру была уготовлена другая судьба -
полная лишений и трудностей жизнь путешественника-первооткрывателя.
По совету профессора Ф. Хофмана Стеллер решил попытать счастья в России, где
в то время в Петербургской Академии наук место профессора ботаники оставалось
вакантным5. Однако, путешествие в Петербург стоило огромных средств, а денег
у Стеллера не было. Тогда Стеллер предпринял следующий шаг. Он добрался в 1734 г.
до Данцига, где тогда стояла русская армия, и поступил в нее хирургом. В ноябре
того же года, сопровождая на корабле раненых при осаде Данцига русских солдат,
ученый прибыл в Петербург.
3Август имел большое влияние на Вильгельма, был на шесть лет старше; к тому времени он
уже успел сделать блестящую карьеру: был доктором медицины и придворным врачом в неболь-
шом княжестве Барби.
4Медицинские теории и труды Ф. Хофмана (1660—1742) теперь имеют только исторический ин-
терес, но одна из его прописей сохранилась до наших дней и известна как капли Хофмана.
5В 1730 г. при возвращении из Германии в Петербург умер в Мерзебурге академик Петербург-
ской Академии наук, профессор ботаники Иоганн Христиан Буксбаум (1694—1730).
125
В Петербурге Стеллер близко сошелся с видным просветителем петровской эпохи
новгородским архиепископом Феофаном Прокоповичем6, сыгравшим важную роль
в его жизни. Глубокие ботанические знания, яркий живой ум, веселый нрав Стел-
лера были в полной мере оценены Прокоповичем. Архиепископ предложил молодому
ученому стать его лечащим врачом, на что тот с радостью согласился. От Прокоповича
Стеллер узнал о Второй Камчатской экспедиции В. Беринга. Ученый загорелся идеей
изучить неизведанные территории Восточной Сибири. В Петербурге жил тогда из-
вестный путешественник-натуралист Д.Г. Мессершмидт, совершивший путешествие
по Сибири (1720-1727). Стеллер завел с ним знакомство и узнал от него, с какими
невероятными трудностями сопряжено путешествие по Сибири, сколько непредви-
денных, совершенно необъяснимых препятствий создают на пути путешественника-
исследователя местные власти. Однако это не поколебало намерений ученого. Уз-
нав о страстном желании Стеллера поехать на Камчатку, Прокопович ходатайство-
вал о приеме Стеллера на службу в Академию наук с тем, чтобы он мог принять
участие в поездке на Камчатку в качестве ботаника. Уже в 1735 г. императрица Ан-
на Ивановна разрешила послать сверх отправленных прежде трех академиков еще
двух ученых для исследования и описания Сибири. 28 июля 1736 г. исполнявший
обязанности конференц-секретаря в академических заседаниях академик Г.Ф. Крафт
писал Шумахеру: ’’Некто медик, по имени Стеллер, бывший у его преосвященства
архиепископа новгородского выразил желание г. камергеру [барону Корфу], чтоб
его послали в Камчатку в качестве ботаника, и ему было отвечено, что, если не вы-
писан на это место кто другой, то он будет принят во внимание к рекомендации ар-
хиепископа”. (Тридцать четвертое утверждение Демидовских наград, 1866. С. 141,
142). Контракт со Стеллером был заключен только 7 февраля 1737 г.: он был принят
на службу в Академию наук адъюнктом натуральной истории при Камчатской экспе-
диции с жалованьем 660 руб. в год. Из приложенного при контракте свидетельства
академика Аммана видно, что Стеллер не только хорошо знал основания ботаники,
но и выказал необыкновенное прилежание в исследовании растений и других пред-
метов естественной истории” (Пекарский, 1870. С. 589)7.
22 августа 1737 г. Сенат одобрил путешествие Стеллера в Сибирь и дал ордера,
подтверждающие это решение.
Незадолго перед отъездом из Петербурга Стеллер женился на вдове Мессершмидта
Бригите Елене, урожденной Бёклер, в надежде, что она будет сопровождать его и раз-
делит с ним все горести и радости путешествия. Однако по мере приближения даты
отправления жена Стеллера все более и более настойчиво пыталась отказаться от
данного ей мужу обещания ехать с ним в путешествие на Камчатку. После долгих
и упорных уговоров Стеллера она наконец согласилась.
В январе 1738 г. Стеллер, его жена и ’’живописец” И.К. Деккер выехали на санях,
запряженных тройками, по заснеженной дороге из Петербурга в Москву через Нов-
город и Тверь. Точная дата их отправления из столицы неизвестна: во всяком случае
12 января они еще не покинули Петербурга, а 30 января уже были в Москве. Ехали
они с частыми остановками, отдыхая почти на каждой почтовой станции, расположен-
ными через каждые 30 верст, тем не менее это путешествие показалось жене Стелле-
бФеофан Прокопович (1681—1736) получил образование в миссионерской школе в Риме. С 1707 г.
он преподавал философию в Киевской академии. Его образованность и широта взглядов привлекли
внимание Петра I, когда он был в Киеве в 1709 г. Через год Прокопович стал ректором Академии,
затем архиепископом Новгородским. В 1716 г. он был вызван Петром I в Петербург, где с тех пор
и жил. Переехав в столицу, Прокопович стал неутомимым сподвижником Петра I и ревностным
сторонником его реформ.
7По свидетельству академика Рупрехта, Стеллером был составлен каталог гербариев Рюйша и
Аммана, напечатанный в Петербурге Академией наук в 1745 г. в книге ”Musei imperialis Petropo-
litani”, vol. I, pt 2 (Пекарский, 1870. C. 590).
126
J A $ аж
Рис. 49. Казань
ра очень изнурительным. В Москве она заявила мужу, что ”с нее достаточно труд-
ностей зимнего путешествия” и объявила, что не желает ехать дальше. Стеллер
обеспечил ее всем необходимым и дал 300 руб., чтобы она могла с комфортом про-
вести год в Москве6 * 8.
Путешественники отправились из Москвы по рекам Оке и Волге до Казани (рис. 49,
50), затем Екатеринбург - Тобольск - Кургут - Нарым - Томск, куда прибыли осенью
1738 г. Здесь Стеллер заболел такой тяжелой формой горячки, что опасались за его
жизнь. Но крепкий организм взял верх, он выздоровел. Из Томска Стеллер поехал
в Енисейск, где тогда находились академики Г.Ф. Миллер и И.Г. Гмелин. 20 января
Стеллер встретился с ними.
В своей книге ’’Reise dutch Sibirien” И.Г. Гмелин оставил воспоминания о Стеллере,
отметив его удивительную непритязательность, редкую выносливость, работоспо-
собность, поразительную приспособленность к путешествиям. ”Он, - писал Гме-
лин, - не имел запасного платья... пользовался одним стаканом и для пива, и для меда, и
для водки, а вина ему не требовалось... ел из того же котелка, в котором сам готовил
себе кушанья... чад в комнате не мешал ему работать... он не носил ни парика, ни
пудры... всякая обувь была ему впору. Ему ничего не стоило провести целый день
без еды и питья, если он мог сделать что-нибудь полезное для науки. Никакие ли-
шения не влияли на его расположение духа, всегда бодрое и веселое. Несмотря на всю бес-
6Позже она вернулась в Петербург, где ее окружало веселое общество поклонников. Сохрани-
лись ее многочисленные обращения в Канцелярию Академии с просьбой выдать ей причитающиеся
деньги за путешествовавшего по Камчатке ее мужа. После смерти Стеллера Бригита Елена вышла
замуж за мистера Фрейслебена — наставника пажей императорского двора.
127
углу схематическое изображеХ морсХ’оТо^^^ гибели- В п₽авом нижнем
порядочность его образа жизни, он, однако, в своей работе был неутомим и чрезвычайно то-
чен, так, что в этом отношении у нас не было ни малейшего беспокойства” (Gmelin, 1752.
Р. 177). Эта характеристика Стеллера была написана много времени спустя после ссоры, про-
изошедшей между ними. Тем больше ее значение, ее объективность. Причиной ссоры пос-
лужила отправка собранных Стеллером коллекций животных и растений им из Забайкалья
прямо в Академйю наук в Петербург, минуя академиков. В Забайкалье, куда Стеллер при-
ехал из Енисейска, ему удалось летом 1739 г. собрать много неизвестных растений и инте-
ресные коллекции животных. Боясь за сохранность материала и стремясь, чтобы он быстрее
прибыл в Академию наук, Стеллер направил свой багаж, опечатанный Иркутской
губернской канцелярией, в Петербург. 20 января солдат, которого Стеллер послал
с коллекциями в Петербург, прибыл в Красноярск, где Гмелин и Миллер зимовали.
Гмелин, получив письмо Стеллера, в котором тот сообщал, что послал коллекции
прямо в Академию наук под официальной печатью Иркутской канцелярии, был
возмущен поступком Стеллера. Академики восприняли его поступок как нарушение
субординации и направили в Сенат и в Академию наук письма, в которых жалова-
лись на его поведение. Они решили преподать Стеллеру урок, чтобы предотвратить
подобные действия с его стороны в дальнейшем. Они вскрыли багаж Стеллера, уб-
рали из него предметы, казавшиеся им маловажными. Направили в Иркутскую кан-
целярию промемории, в которых требовали, поскольку Стеллер ”не способен ра-
ботать без контроля над ним, так как он метит растения и животные неверными
именами”, не разрешать ему поездку на Камчатку (Пекарский, 1870. С. 557).
Стеллер, видимо, действительно не считал себя обязанным отчитываться в своих
научных изысканиях перед академиками. В значительной мере это объяснялось,
по-видимому, тем, что по широте эрудиции, и особенно знаниям в области естествен-
ных наук, он нисколько не уступал академикам. Сыграло роль, возможно, также и
то, что Стеллер был примерно одного с ним возраста (Гмелин, как и Стеллер, родился
в 1709 г, а Миллер был старше только на четыре года). Нельзя сбрасывать со счетов
и характер ученого, человека необычайно самолюбивого и независимого, не желав-
шего иметь каких-либо посредников между собой и Академией наук.
В своих действиях ученый мог основываться на том, что Академия наук заклю-
чила с ним самостоятельный договор об участии в Камчатской экспедиции.
Не в характере Стеллера было отступать. Он ищет пути преодоления преград, пре-
пятствовавших его путешествию на Камчатку. В начале 1740 г. состоялась встреча
Стеллера с М. Шпанбергом - вторым помощником Беринга по Камчатской экспеди-
ции. Стеллер добился разрешения ехать на Камчатку. Чтобы защитить себя от обвине-
ния в самовольных действиях Стеллер обратился в Сенат с донесением, в котором
сообщал, что в составе экипажа Беринга нет натуралиста и что он мог бы быть полезен
в морском путешествии. ’’Также ежели какие найдутся люди, то никто из офицеров
не мог бы их натуру, обычай, поступки и житие подлинно наблюсти и историческое
описание тех народов сочинить; а потому твердое намерение восприять вояж возы-
мел я, дабы не только минералы наблюдать, но все, что к пользе государственной
чинить мог”. Стеллер отправился вверх по р. Лене в Якутск (прибыл туда в мае),
оттуда в Удомск, затем в Охотск. Из Охотска он вышел на судне ’’Охотск” на Кам-
чатку, куда приплыли 20 сентября 1740 г. 27 сентября судно дошло до устья Большой
реки (Большерецк). Здесь в окрестностях Стеллер собрал большой гербарий, ценные
коллекции зйерей, птиц и насекомых, интересный этнографический материал.
По прибытию на Камчатку Стеллер предложил Берингу свои услуги в качестве
натуралиста и просил ’’взять его в вояж, письменно объявив, что в сыскании и про-
бавании металлов и минералов надлежащее искусство имеет и что в том вояже,
сверх того, чинить будет по своей должности разные наблюдения, касающиеся до ис-
тории натуральной и народов и до состояния земли и протчаго” (ГАФКЭ, гос. архив
МИД, 1732-1743, т. XXIV, № 9. Л. 66-87). Беринг дал согласие. И Стеллер отправился
9. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
129
в Петропавловск, куда и прибыл осенью 1740 г. Стеллер был приглашен на прием к
Берингу, на котором ему было уделено мало внимания. Гордый и самолюбивый Стел-
лер остался очень недоволен приемом. В донесении Сенату Стеллер писал: ”Во всем
принят не так, как по моему характеру принять надлежало, но яко простой солдат
и за подлого от него, Беринга, и от прочих признавай был, и ни к какому совету я
им, Берингом, призыван был” (Записки имп. Академии наук, 1869. С. 18).
4 июня 1741 г. Стеллер на пакетботе ”Св. Петр” под командованием В. Беринга
отправился в плавание к берегам Америки. Во время путешествия ученый вел днев-
ник (записи о курсе судна, о встреченных островах, их природе, растениях, птицах,
рыбах, туземцах и особенно о морских животных) - ценнейший исторический доку-
мент. Записи дневника раскрывают личность автора - человека исключительно
талантливого, бескомпромиссного, необычайно находчивого и смелого.
Постепенно поднимаясь на север, судно ”Св. Петр” оказалось недалеко от Алеут-
ских островов, но Беринг и его помощники не подозревали этого - увидеть острова
мешал туман. Стеллер же отмечал в дневнике: ’’Плыли вдоль земли” (Steller, 1793.
Р. 16). Свой вывод натуралист строил на том, что с севера течением приносило много
водорослей, актиний и что стаи чаек тянулись на север. Он советовал офицерам по-
вернуть на север, но его, к сожалению, не послушались. В результате проплыли мимо
островов и потратили много дней впустую, что в последующем обернулось тра-
гически.
Наконец 16 июля 1741 г. после полуторамесячного плавания увидели землю, пок-
рытые снегом горные хребты. Спустя четыре дня ”Св. Петр” подошел на расстояние
двух миль к неизвестному острову, которому дали имя ”Св. Ильи” (о-в Каяк). До
Беринга ни один европеец не был на этом острове. Беринга мало интересовали науч-
ные исследования острова, и Стеллеру пришлось проявить всю свою волю и характер,
чтобы добиться разрешения посетить остров. На берег были посланы два бота, чтобы
найти гавань и набрать пресной воды. ”А меня, - писал Стеллер, - ни на первом... ни
на втором же боте на берег пустить не хотели... но как я усмотрел, что... ласковыми
словами ничего учинить не мог, употребил уже жесткие слова, ему, капитану-коман-
дору... что я Высокоправительствующему Сенату на него, капитана-командора, под
таким видом буду протестовать, чему он был достоин” (Записки Имп. академии наук,
1869. С. 13-24). Только тогда Беринг разрешил ученому отправиться на остров в
сопровождении одного казака на шесть часов. ”А что я в шесть часов один только
сделал, - сообщал Стеллер, - то праведные судья подлинно рассмотреть могут, еже-
ли бы по моему желанию надлежащее вспоможение ученено было, сколько бы еще
там будучи полезнаго чего учинить мог... На другой день прежде восхождения солн-
ца, поднявши якорь, отправились в вояж, якобы только для взятия и отвозу из Аме-
рики в Азию американской воды приходили” (С. 19). Ученый успел описать остров,
его фауну и флору (нашел 160 видов растений), условия быта его обитателей (тузем-
цев увидеть не удалось: они скрылись), своеобразный способ варки животных в
выдолбленном стволе дерева (в воду клали раскаленные камни), их примитивные
постройки, в частности ’’погреб” - продолговатую яму, покрытую древесной корой,
в перекладинах которой лежали камни. Предметы из ’’погреба” (лукошко из дре-
весной коры, наполненное копченой рыбой из лососей, связку веревок из морской
травы необыкновенной прочности, разные травы, несколько стрел, выкрашенных
в черный цвет, огниво) Стеллер послал с казаком к капитану, а сам, рискуя, прошел
еще 6 верст, но не встретил людей. Стеллер отметил, что в Америке на берегу пихто-
вые леса растут под 60° с. ш., тогда как на берегах Камчатки под 5Г с. ш. лесов нет.
Наличие лесов в Америке ученый связывал с более умеренным климатом, преобла-
данием там влажных ветров, что подтвердилось последующими исследованиями. Из
растений он особенно выделял встречавшийся в огромных количествах новый вид
малины с ягодами очень крупными и отменного вкуса. ’’Стоило бы взять несколько
130
кустов этой малины и доставить в ящике с землей в Петербург; не моя вина, что для
них не оказалось помещения, ибо я сам... занимал на корабле слишком много места”.
Из животных, встречавшихся на острове и в прибрежных водах, Стеллер отметил
сусликов, морских выдр, тюленей, китов, больших и малых акул.
На судне ученый продолжал изучать фауну моря. 10 августа он более двух часов
наблюдал неизвестное морское животное. В дневнике он писал: ’’Тело зверя длинное
толстое округлое, к хвосту утолщающееся, длиной около двух аршин [1,42 м]. Го-
лова собачья, со стоячими ушами. На верхней и нижней губе по обеим сторонам боро-
да. Кожа покрыта густыми волосами, на спине серого, на брюхе рыжевато-белого
цвета. В воде животное кажется бурой коровой. Хвост двураздельный плавник,
верхняя лопасть его вдвое длиннее нижней. Никаких следов передних конечностей.
Оно подплыло к судну так близко, что до него можно было дотронуться шестом. Жи-
вотное напоминало морское чудовище, которое изобразил Геснер” [в своей книге
’’История животных” на гравюре с подписью Simia marina danica (морская обезьяна
датская)]9.
30 августа судно стало на якорь около одного из Шумагинских островов, назван-
ных так по имени первого погибшего от цинги моряка. Необходимо было пополнить
запас пресной воды. Стеллер присоединился к матросам, посланным за водой. Воду
набирали плохую. Стеллер, как и во всех случаях, не мог оставаться безучастным.
Он сообщил, что поблизости имеется источник с хорошей водой, но на его слова не
обратили внимания. На острове Стеллер увидел чернобурую лисицу, множество
красных лисиц, нашел разные растения, щавель, обладающую противоцинготными
свойствами горечавку. Стеллер просил дать ему матроса, чтобы сделать запас трав
для всей команды. Но опять его предложение было проигнорировано. Почему же ни-
когда не терявший самообладания рассудительный Беринг, а также его офицеры пре-
небрегали дельными советами Стеллера? Ответ, видимо, надо искать в характере
Стеллера, человека необычайно одаренного, смелого и решительного. Обладая раз-
носторонними знаниями, блестящим умом и поразительной интуицией, он вместе с
тем был самоуверен, заносчив, часто вмешивался в дела, которые его официально не
касались. Поэтому, возможно, к нему относились с предубеждением, его советы мог-
ли воспринимать как личный выпад, издевку.
4 сентября путешественники впервые увидели американцев. Для знакомства с
ними отправили лодку на берег. Стеллер оставил описание их вида, одежды, украше-
ний, байдарок, отличавшихся легкостью и высокой скоростью хода.
6 сентября пакетбот снялся с якоря и направился на запад. Этот последний отрезок
пути был наиболее трудным. Длительное плавание без свежей пищи вызвало цингу.
Ею болела большая часть команды. Около месяца судно находилось в зоне бурь, и
больные цингой люди терпели страшные бедствия. ’’Судно носило по морю как коло-
ду, оставленную во власть волнам и ветрам. Каждую минуту ждали гибели судна...
Самое красноречивое перо не в стостоянии было передать весь ужас, пережитый на-
ми”, - писал Стеллер.
4 ноября люди увидели землю. Положение судна было катастрофическим. Вот как
описывал его Свен Баксель в своем рапорте от 1742 г. ноября 15 в Адмиралтейств-
коллегию. ”И как мы себя и команды нашей служителей от жестокой цынготной
болезни увидели в крайнем безсилии, от чего пришли в немалый страх, ибо тогда
уже можно сказать почти судно было без правления, понеже тогда каманды нашей
людей находилось таких, которые чрез великую мочь ходить о себе могли, только
8 человек, но из оных наверх ходили с нуждою 3 человека, ис которых был один соб-
ственный человек капитан-камандора, а протчие все лежали больные при самой
смерти. Да и воды на нашем судне осталось только 6 бочек, а провианту морскаго,
Стейнегер (Stejneger) полагал, что это животное, видимо, было самцом морского котика.
131
как сухарей, так и протчаго, не имелось... Да сверх всего нашего нужнейшего состоя-
ния грот-ванты наши выше свитсарвина на правой стороне все до одной перерва-
лись... А за вышеописанным безсилием людей оных исправить было некому... Того
ради 5-го числа ноября, в таком виде себя в худом состоянии, более на море продол-
жать и ожидать благополучного ветра весьма были опасны, дабы за безсилием людей
не оставить судна без всякаго управления и не претерпеть от того крайнего нещастия
в потерянии всех людей и судна. Тогда капитан-камандор собрал к себе как обер-
так и ундер-афицеров и рядовых, которые еще могли дойти до его каюты...при кото-
ром собрании все служители...согласно положили...стать на якорь^ для своего спасе-
ния, дабы в такой жестокой болезни не потерять себя безизвестно”. (Русские экспе-
диции по изучению северной части Тихого океана в первой половине XVIII в. (1984.
С. 226). Вскоре после высадки на берег сильным штормом все якорные канаты были
оторваны и пакетбот был выброшен на берег.
Остров, получивший после смерти Беринга его имя (капитан-командор скончался
вскоре после высадки) был безлесным, пустынным, необитаемым. Люди жили в
ямах, вырытых в песке и покрытых парусами, и сильно страдали от жестоких урага-
нов и снегопадов. Условия зимовки описал С. Ваксель: ”В бытность нашу на сем
острове жили весьма пребедно...постоянное беспокойство причиняли нам жестокие
ураганы и штормовые ветры в сочетании с сыростью от близости моря, от которых
паруса, составлявшие крыши наших землянок, быстро ветшали и не в состоянии
были противостоять постоянным сильным ветрам; они разлетались при первом же
порыве ветра, а мы оставались лежать под открытым небом. В эти моменты, кто обла-
дал одеялом или шинелью, тот имел дом, ибо единственным возможным средством
укрыться от непогоды было натянуть на себя что-нибудь, покрыть все тело с головы
до ног и лежать неподвижно до момента окончания пурги, которая иногда продолжа-
лась довольно долго... Иногда ветер бывал так неистово силен, что один раз некото-
рых наших людей, которым пришлось выйти из землянок... несомненно, унесло бы
в море, если бы они не догадались броситься на землю, изо всех сил ухватиться за
камни...и в собирании дров имели чрезвычайную тягость, ибо принуждены были
дрова искать и собирать по берегу морскому и носить на плечах своих лямками верст
по 10 и по 12. А в то время мы и люди каманды нашей почти все одержимы были жес-
токою цынготною болезнию... Пропитание наше было чрез всю зиму за неимением
провианта можно сказать самое бедное и многотрудное, к тому же и натуре челове-
ческой противное, ибо принуждены были ходить по берегу морскому и отлучатца от
жилища своего верст по 20 и по 30 и старатца о том, чтоб убить себе на пищу какова
морскова зверя, а именно бобра, сивуча или нерьпу...которых убив, чрез такую даль-
ность нашивали на себе ж лямками... Весь ноябрь и декабрь мы провели в величай-
ших страданиях. За это время [во время плавания и зимовки на острове] умерло око-
ло тридцати человек” (С. 269). ’’Достойно удивления, что мы все не погибли, так
как большинство из нас лежали больными и были совершенно лишены средств для
лечения и всего необходимого для поправки (Ваксель, 1940. С. 138-151). Наша пища
состояла главным образом из мяса морских бобров, за которыми охотились наши лю-
ди, не потерявшие способности ходить. Они добывали мясо для своего пропитания,
так и для лежачих больных. Порции, приходившиеся на долю каждого, бывали, одна-
ко, настолько малы, что мы были вынуждены употреблять в пищу и внутренности
этих животных, даже кишки не выбрасывались вон, а варились в пищу больным и
съедались ими с огромным аппетитом. К этому же времени море выбросило большого
кита длиной в восемь сажень. Хотя жир его уже несколько протух, так как надо пола-
гать, тушу этого кита в продолжении долгого времени носило по морю, мы... называ-
ли его нашим провиантским магазином, ибо если не оказывалось под рукой мяса
каких-либо других морских животных, то здесь нам был обеспечен запас продоволь-
ствия” (С. 139-140).
132
В этих тяжелейших условиях и проявилась исключительное самообладание, му-
жество и трудолюбие Стеллера. Он охотился на зверей, доставлял их, готовил пищу.
О жизни Стеллера на о-ве Беринга академик Г.Ф. Миллер писал: ”Он не только бо-
лезни телесные, но и смущенный дух пользовал, ободряя всякого веселым и прият-
ным своим обхождением” (С. 8). ’’Большую услугу, - вспоминал С. Ваксель, - оказал
нам адъюнкт Стеллер, отличный ботаник, который собирал различные растения...
и разнообразные травы; из них мы приготавливали чай, а некоторые травы употреб-
ляли в пищу, чтсгприносило заметную пользу нашему здоровью”. (Там же). С первых
дней пребывания на о-ве Стеллер начал изучать его. Он обследовал топографию и
геологию острова, описал его флору10 и Фауну, собрал большой гербарий, многочис-
ленные коллекции рыб, зверей и птиц. 'Среди птиц особый интерес представляет от-
крытый ученым эндемичный для о-ва Беринга вид - очковый большой баклан,
или стеллеров баклан”. Большая птица весом 12-14 фунтов, из-за маленьких крыль-
ев практически не способная летать. Она известна науке только благодаря описанию
Стеллера. Он был единственным натуралистом, видевшим ее живой”] (Stejneger,
1936. Р. 180). Условия для научных исследований на острове были исключительно
неблагоприятными. ”Мы ясно поняли, - писал Ваксель, - в какое беспомощное и
тяжелое положение попали и что нам угрожает полная гибель. В самом деле, мы ока-
зались выброшенными на неизвестный и пустынный остров без корабля, без леса
для постройки другого судна, без провизии с большим количеством людей, до пос-
ледней степени больных... К тому же вся земля покрыта снегом, впереди предстоит
длительная зима с неизбежными сильными морозами, а у нас совсем нет дров. От
таких тревожных мыслей немудрено дойти до отчаяния и усомниться в возможности
спасения” (Ваксель, 1940. С. 79).
Каким мужеством и волей обладал Стеллер, если он, ясно оценивая обстановку,
тем не менее упорно проводил свои исследования природы острова! Впоследствии
он писал: ”Я был один, под открытым небом, должен был сидеть на земле, мне меша-
ли холод, дождь, снег и часто беспокоили меня звери; у меня не было нужных инст-
рументов, и притом я не надеялся, чтобы когда-нибудь моя работа сделалась извест-
ной и принесла кому-нибудь пользу” (Steller, 1749. Введение).
Большую ценность представляют исследования Стеллера поведения млекопитаю-
щих. Их непреходящее значение - в наблюдении образа жизни животных, которые
никогда до этого не сталкивались с человеком. Он оставил интереснейшие записи о
песцах о-ва Беринга. Их было огромное количество, что Стеллер на третий день
своего пребывания на острове убил топором 70 штук и покрыл их шкурами крышу
своей землянки. Песцы совершенно не боялись потерпевших крушение людей и до-
ставляли им много беспокойства. ’’Они, - писал ученый, - проникали днем и ночью
в землянки и таскали все, что им попадалось, даже такие, казалось бы, бесполезные
для них вещи, как ножи, палки, мешки... Когда люди снимали шкуру с убитого зве-
ря, они вертелись тут же и пытались вырвать мясо из рук. Если мясо закапывали в
землю и сверху клали камни, то песцы сообща спихивали их. Они стаскивали в
теплое время года с головы спящих на воздухе людей шапки, одеяла из бобровых
шкур, вытаскивали вещи из-под головы. Чтобы предохранить свежеубитого бобра от
песцов, люди на ночь ложились на него, но песцы ухитрялись выедать мясо под спя-
щим человеком. Так что спать ложились всегда с палкой в руке, чтобы в любой мо-
мент можно было отогнать нахальное животное. Если убивали несколько песцов, ко-
гда они набрасывались на мертвого тюленя, то остальные не обращали на это никако-
го внимания и продолжали пожирать мясо” (Steller, 1781. Р. 274-279).
10В Архиве РАН хранятся две рукописи Стеллера, в которых приводится 224 растения о-ва Бе-
ринга.
133
Стеллер отметил, что песцы щенятся на о-ве Беринга в июне, мечут в скалах 9-
10 щенят, за которыми самоотверженно ухаживают. Особенно обстоятельно описал
Стеллер в своем дневнике поведение морских млекопитающих, в первую очередь
морской коровы.
Свои наблюдения над этим животным адъюнкт начал с первых же дней зимовки.
Но добыть первое животное удалось только в середине мая. Лов такого крупного жи-
вотного требовал участия всех членов экипажа. Стеллер описал лов морской коровы:
’’Вдоль всего берега, особенно где в море впадают ручьи и где разного рода морские
животные водятся особенно часто, животное, прозванное русскими морской коро-
вой, держится в громадном количестве. 21 мая была сделана первая попытка заце-
пить это сильное и громадное животное специально приноровленным большим же-
лезным крюком, привязанным к крепкому и длинному, канату, и вытащить его на
берег; но попытка не удалась: кожа оказалась жесткой и крепкой, а крючок слишком
тупым. Пытались изменить его, но дальнейшие попытки приводили к тому, что жи-
вотное срывалось в море с крюком и канатом. В конце концов нужда заставила нас
прибегнуть к гарпуну. С этой целью починили шлюпку, сильно пострадавшую осенью,
снабдили ее гарпунщиком, штурманом и четырьмя гребцами, каждому дали по гар-
пуну с очень длинным, как при ловле китов, канатом, другой конец которого нахо-
дился на берегу в руках остальных 40 человек. С возможной осторожностью подплы-
вали к животным, которые стадами бродили по своему водному пастбищу вдоль
берегов. Лишь только гарпунщик вонзал в животное гарпун, люди, находившиеся
на берегу, начинали постепенно тащить его из воды, в то время как сидевшие в
шлюпке приближались к животному и наносили ему удары ножами и штыками, пока
оно не истекло кровью, которая фонтаном била из его ран, и совершенно теряло си-
лы. При приливе животное втягивали на берег и там прикрепляли. Как только вода
сбывала, животное лежало на суше, где мясо укладывали в бочки, а жир развешива-
ли на высокие козлы. Вскоре мы сделали такие запасы пищи, что беспрепятственно
могйи продолжать постройку нашего судна” (Steller. 1749. Введение).
’’Это ставшее нам столь полезным морское животное достигало в длину 8-10 м и
в окружности около пупа 9 м. Вес, по моим расчетам, включая кожу, жир, мясо и
внутренности, доходил до 200 пудов. До пупа оно походит на тюленя, от пупа до хвос-
та - на рыбу. Череп напоминает лошадиный; покрытый шерстью и мясом он до неко-
торой степени, особенно губами, похож на голову буйвола. Во рту вместо зубов на
каждой стороне две широкие, длинноватые, плоские, шаткие кости, из которых одна
прикреплена к нёбу, другая - к нижней челюсти. На обеих многочисленные, наис-
кось под углом проходящие бороздочки и выпуклые мозоли, посредством которых
животное размалывает свою обычную пищу, морские растения. На губах многочис-
ленные крепкие щетинки, которые на нижней настолько толсты, что представляют
собой как бы ствол куриного пера. Глаза этого громадного животного не больше
овечьих; они лишены ресниц. Ушные отверстия - малы, ушной проход настолько
узок, что едва войдет в него горошина. Наружного уха нет и следа. Голова соедине-
на с остальным телом короткой шеей, ноги состоят из двух суставов; из них крайний
весьма похож на лошадиную ногу. Посредством этих передних лап, которые снизу
снабжены как бы скребком из многочисленных коротких и густо насаженных щети-
нок, животное плавает вперед. Под передними ногами находятся грудные железы с
черными, морщинистыми, в два дюйма длины сосками, к концам которых идут бес-
численные молочные каналы, содержащие большое обилие молока, превосходящего
своею сладостью и содержанием жира молоко животных, живущих на земле, в осталь-
ном же вполне схожего с ним. Спина животного такого же сложения, как у быка;
бока продолговато выпуклы, живот округленный и постоянно настолько переполнен,
что при малейшей ране внутренности со свистом вырываются наружу. Начиная с
половых частей животное сильно увеличивается в объеме; хвост же, заменяющий
134
задние ноги, постепенно становится тоньше, но все же непосредственно перед плав-
ником он бывает в ширину сантиметров 65. На спине это животное никаких плавни-
ков не имеет.
Эти животные, как и рогатый скот, живут в море стадами; обыкновенно самец и
самка движутся рядом; детенышей они гонят перед собою. Спина и половина туло-
вища приходятся постоянно над водой. Их единственное занятие - отыскание пищи.
Они питаются, как и животные, живущие на земле, медленно продвигаясь; ногами
они сдирают морскую траву с камней и беспрерывно жуют ее... При еде они постоянно
двигают головой и шеей, как быки, и каждые две минуты11 высовывают голову из
воды, чтобы набрать свежего воздуху, сопровождая это ржаньем, подобном лошади.
Когда вода спадает, они уходят в море; когда же вода прибывает, они опять появля-
ются у берега и подходят так близко, что мы могли достать и бить их палками. Они
нисколько не боятся человека” (Стеллер. 1928. С7 104-106).
Подробное описание морской коровы, а также сивуча, северного морского котика
и морской выдры (калана) Стеллер дал в своем бессмертном произведении ”De bes-
tiis marinis” (О морских зверях). - классическом труде по териологии XVIII в.,
который он начал писать еще на о-ве Беринга (см. далее).
Среди морских зверей, которых описал Стеллер на о-ве Беринга, был и выброшен-
ный на берег кит, видимо, синий. В своем знаменитом труде ”Zoographia Rosso-Asia-
tica”, который подвел итоги зоологических исследований в России в XVIII в.,
П.С. Паллас, высоко ценивший изыскания Стеллера, привел это его описание кита.
В середине марта окончательно выяснилось, что земля, на которой находились
потерпевшие кораблекрушение люди, - остров. Посланный ’’для подлинного о сей
земле уведомление боцман А. Иванов, вернувшись, объявил репортом, что земля
наша, на которой мы обретаемся, подлинно остров” (Берг, 1935. С. 307).
Еще раньше было установлено, что материк находится недалеко: в ясную погоду
с запада различались контуры снежных гор. 9 апреля на собрании всей группы было
решено строить новый бот, разбив предварительно старый. ’’Для получения нашей
камчатской земли, - сообщал С. Хитров, - надлежит нам построить какое-нибудь
судно, а для того строения обще положили ломать пакетбот ”Св. Петр”, понеже оное
весьма к походу нашему, за худостию своею, негоден, к тому же и снять оного с
берега никакими мерами невозможно, и ради других резонов, которые явны в преж-
нем нашем общем, при осмотре оного пакетбота, совете” (С. 307). 6 мая того же года
из остатков ”Св. Петра” начали строить новое судно. Все помыслы людей были обра-
щены на быстрейшее его сооружение. К этому времени проблема питания остро не
стояла. Было заготовлено много бочек мяса и жира морской коровы. 20 апреля на
берег острова был выброшен огромный свежий кит (возможно, синий), длиной 30 м.
Из него было получено много сала, которого хватило до конца пребывания на остро-
ве.
Судно (на постройку его ушло три месяца) получилось маленьким для 46 человек.
С собой взяли только самое необходимое. Собранные с таким трудом Стеллером
коллекции морских животных (в частности, скелет детеныша морской коровы, столь
необходимый ученому - он собирался описать его в нормальных условиях), были
оставлены на острове.
9 августа бот был спущен на воду, а 13 августа он вышел в море. Спустя два дня
судно внезапно дало течь: были выброшены за борт одеяла, подушки, платье; с тру-
дом удалось заделать отверстие. 17 августа увидели землю - Крондцкий мыс, 26 чис-
ла того же месяца бот вошел в Петропавловскую бухту.
Приехав на Камчатку, Стеллер снова энергично принялся за научные исследова-
ния полуострова. Эти два года (с августа 1742 по август 1744 г.) - период необыкно- 1
1 видимо, опечатка. В труде Стеллера ”De bestiis marinis” отмечено 4—5 минут.
135
венно бурной деятельности ученого. Стеллер вдоль и поперек исходил и изъездил
Камчатку, посетил почти все остроги, собирая везде коллекции растений и живот-
ных, производя этнографические, исторические и лингвистические исследования.
Ездил с живописцем Беркганом на Курильские острова ’’для учинения рисунка морс-
кому зверю, называемому бобром, и разным птицам и травам”.
Стремясь собрать как можно больше материалов о Камчатке, Стеллер экономил
на всем. Большую часть своих путешествий по полуострову он проделал пешком.
’’Если совесть моя не побуждала бы меня к значительному сокращению своих требо-
ваний, хотя мое ведомство [имеются в виду подчиненные ему лица] без того очень
невелико, я бы причинил Камчатке гораздо большие убытки, чем это оправдывалось
бы интересами моих многолетних стараний”, - писал он (Steller, 1774. Введение, руко-
пись). ’’Нигде, во всей Российской Империи, - сообщал Стеллер, - летние и зимние
путешествия не столь,тягостны и опасны, как именно на Камчатке. Летом до сих пор
здесь приходилось из-за отсутствия лошадей путешествовать либо пешком, либо по
воде. Хотя лошади сильно облегчают подобные предприятия, все же из-за болот,
озер, рек, горных кряжей и глубоких долин с крутыми в них спусками можно было
добраться лишь в весьма ограниченное количество мест. Итак, сухопутные странст-
вования производятся здесь пешком... Всякий раз, как доберешься до реки, бываешь
вынужден выискать мелкое место, раздеться и перебраться на другой берег вброд.
При этом нельзя забывать, что, несмотря на все предосторожности, целый день хо-
дишь с мокрыми ногами вследствие обилия болот” (Там же, Л. 467).
Ученый оставил яркое описание путешествий по Камчатке в летнее и зимнее вре-
мя. ”По ивовым и ольховым лесам и по луговинам даже самому сильному мужчине
не пройти в один день больше 20 верст, главным образом из-за высокой, густой и
крепкой травы, в полтора раза превышающей рост человека. По ительменским тро-
пам ходьба так тяжела, что достаточно пройти по ним несколько верст, как ноги
оказываются ранеными: эти тропы имеют в ширину не более восьми вершков, причем
они настолько глубоки и вытоптаны, что по ним идешь как по узкому каналу” (Л.
468). ’’Хотя зимние путешествия совершаются быстрее летних, но они сопряжены
зато с более значительными опасностями и тяготами. Обычно ездят в санях на соба-
ках. Езда на нартах при обилии гор, глубоких долин и густых лесов далеко не особен-
но удобна и утомляет ительменов-подводчиков- сильнее, чем везущих сани собак:
двум человекам постоянно приходится бежать рядом с собаками, притом угодным
этим животным аллюром” (Л. 468).
Стеллера интересовали не только природа края, но и история ее народов, их куль-
тура. Он стремился обучать детей грамоте. Из предписания Болыперецкой приказной
избе Стеллера от. 27 июля 1743 г. видно, что по его распоряжению с 1742 г. был опреде-
лен ’’обретающий здесь при казачьей службе Иван Попов при Болыперецке обучать
казачьих и иноземческих новокрещенных детей русской грамоте” (Пекарский, 1870.
С. 613-616).
Стеллер всячески старался воспрепятствовать страшному притеснению камчада-
лов со стороны служилых людей и некоторых офицеров, злоупотреблявших своей
властью.
Считая Камчатку важным для экономики России краем, он ратовал за более пол-
ное хозяйственное освоение полуострова, разведение там скота, постройку новых
русских поселений (острогов). Одним из препятствий для заселения полуострова рус-
скими была дороговизна их основного продукта питания - хлеба (зерно приходи-
лось везти из Якутска очень сложным путем). Для решения вопроса, могут ли пере-
селенцы обходиться без хлеба, используя местные продукты питания, Стеллер совер*
шил трудный пеший переход из Болыперецка в Верхний Камчатский острог протя-
женностью в 242 версты, во время которого не употреблял хлеба. Вот как он сам
писал об этом: ’’Как в 1743 г. шел я из Болыперецкой в Верхний Камчатский острог
136
пеш, когда хотя хлеб имел, в моем пути не ел, но рыбою, кореньями, травами и ины-
ми разными вещами питался; хотя и часто для пешего ходу утружден бывал, однако
ж ни малого силе моей вреда не имел и лучшего аппетита до смерти не желаю”(51е11ег,
1774. S. 286).
Пребывание Стеллера на Камчатке - это период титанического труда, его беспри-
мерного научного подвига. Он собрал богатейший научный материал по географии,
природным ресурсам края, его фауне и флоре, а также по истории и этнографии его
народов, написал много рукописей. Важнейшая из них - его знаменитый труд ’’Опи-
сание Земли Камчатки”, опубликованный уже после смерти автора на немецком
языке в 1774 г. К сожалению, это сочинение Стеллера не было опубликовано на рус-
ском языке12.
3 августа 1744 г. Стеллер оставил Камчатку и отправился в обратный путь: в
Охотск, а оттуда в Якутск, куда прибыл 21 октября. Между тем в 1744 г. в Сенат по-
ступил на Стеллера донос от мичмана Хметевского. Во время пребывания на Камчат-
ке Стеллер писал Сенату, что Хметевский не исполняет правительственных распоря-
жений и притесняет туземцев, и вот в отместку за это Хметевский послал донос в Се-
нат, в котором обвинял Стеллера в том, что он самовольно, никого не спросясь, от-
пустил камчадалов, главных зачинщиков бунта против русских. Сенат приказал
Иркутской канцелярии строго допросить Стеллера. Поэтому в Иркутске ученый был
призван в канцелярию. Но после его объяснений Иркутская канцелярия нашла, что
’’виновности Стеллеровой не признавается”, о чем 30 января 1746 г. и послала донесе-
ние Сенату.
Стеллер же, потеряв много времени в Иркутске, продолжил свой путь. Лишь 15
января он был в Красноярске, в марте - в Тобольске и Тюмени, наконец, в апреле
того же года - в Соликамске.
Ученый вез с Камчатки, помимо коллекций животных, минералов, гербариев,
также образцы редких растений для ботанического сада Академии наук. Он рассчи-
тывал прибыть в Петербург зимой или ранней весной. Однако ’’многие и долго про-
должающиеся осмотры собранных мною вещей и моего багажу, - писал Стеллер, -
також и другия препятствия и досады причиною были, что я весною 1746 года в Петер-
бург прибыть не мог. Великое множество редких моих растущих вещей и кустов,
которые я по указу с великим трудом собирал, на дороге растаяли, и я весною при-
нужден был их либо все бросить, либо в Соликамске остаться, к чему сад мне г. Де-
мидова и прилежное надзирание сего саду способными казались. И таким образом
выбрал я сие последнее, яко полезное для сада академического” (ПО Архива РАН.
Ф. 3, Оп. 1,№813. Л. 179-183).
В саду Демидова Стеллер высадил 80 видов, собранных им редких растений, наде-
ясь спасти их. ’’Ежели оные, - сообщал он Академии, - там еще зиму простоят, то
без всякаго сумнения возрастут” (Л. 179-180).
Здесь, в Пермском крае, как и везде, ученый не щадил себя, стремясь максималь-
но полно изучить край ”в трояком царстве природы”. Он писал Академии наук:
’’Вознамерился я со всяким прилежанием исследовать Пермию. И 1 сей труд есть
наиполезнейший для меня...ибо около половины сибирских и камчатских плантов
[растений] в Пермии паки нашлись. Я больше 2000 верст сего лета переездил на свой
кошт для исследования в надежде, что оное милостиво примет императрица и Акаде-
мия (Л. 180-181).
В августе того же года Стеллер вернулся в Соликамск, чтобы продолжить свой
путь в Петербург, и здесь его настиг курьер, прибывший по распоряжению Сената с
тем, чтобы отвезти его обратно в Иркутск для производства над ним следствия. Ока-
12В 1938 г. был сделан его русский перевод А.Н. Горлиным и Г.Г. Генкелем, но не был издан.
Рукопись перевода хранится в архиве Института этнографии РАН в Санкт-Петербурге.
137
залось, что Сенат получил известие из Сибирского приказа о том, что Стеллер 25 мар-
та проехал через Верхотурье по дороге в Петербург, тогда как донесение Иркутской
канцелярии от 30 января о невиновности Стеллера дойти до Сената еще не успело.
В сопровождении пристава ”в одном кафтане с шестидесятые рублями” ученый
вынужден был ехать назад в Иркутск. В донесении Академии Стеллер писал: ’’Импе-
раторской Академии наук нижайше рапортую, коим образом 16 числа августа, по
указу правительствующего Сената, чрез курьера Захара Лупандина с пути моего в
Петербург из Соликамска повезен я назад в Иркутск, в Сибирь.
Тому причины я не знаю и с нижайшею покорностью беспечально следую воле Бо-
жией и повелениям, куда ехать велят. Однако не могу преминуть, чтоб Император-
ской Академии не объявить, что я опасаюсь, чтоб сей нечаянный случай меня от моих
дел и собраний и притом усердное мое к Императорской Академии наук намерение,
касающееся до высокой чести Академии и до пользы наук, буде не вовсе пресек, то
однако ж бы знатно не уменьшил... Определенный ко мне в дороге пристав не позволя-
ет мне Императорской Академии наук пространного рапорта послать; но я сей возв-
ратный путь в Сибирь намерен в пользу употребить и подлинно еще много в Сибири
забыл, что на сем пути паки исправить могу. Между тем от Императорской Академии
наук прошу милостиваго защищения тем надежнее, чем больше я с великою опаснос-
тью для жизни и здоровья трудился для спошествования чести и пользы Император-
ской Академии наук. Сие есть одна подпора моего уже упавшаго духа, что она также
позаботится о ея малом сочлене, дабы он не пропал по напрасну” (Л. 182-183).
Около Тары Стеллера догнал другой курьер, посланный Сенатом, с известием о
разрешении адъюнкту возвратиться в Петербург: до Сената дошло донесение Иркут-
ской канцелярии о невиновности Стеллера. Но попасть в Петербург ему не было
суждено. По дороге в Петербург, в Тюмени, Стеллер скончался (рис. 51). Ему было
всего 37 лет.
После Стеллера осталось ценное научное наследие - многочисленные его рукописи
и черновые записи, которые были переданы в Академию наук, в архиве которой в
Санкт-Петербурге они и хранятся. Титанический труд Стеллера не пропал для науки.
Рукописями ученого пользовались многие русские академики. Использовал их в
своей книге ’’Описания Земли Камчатки” С.П. Крашенинников, как того требовала
от него Академия наук, а также другие: академики П.С. Паллас, К.М. Бэр,
Ф.Ф. Брандт, А.Ф. Миддендорф. Всемирную известность получили сочинения Стеллера
’’Описания Земли Камчатки” (1774), ’’Топографическое и физическое описание остро-
ва Беринга” (1718), ’’Дневник морского путешествия из Петропавловской гавани на
Камчатке в Америку и события, происшедшие на обратном пути” (1793), опублико-
ванные на немецком языке, и особенно знаменитое его произведение ”De bestiis
marinis” (О морских зверях), напечатанное первоначально в 1751 г. на латыни, а
затем переведенное в 1753 г. и на немецкий язык.
Этот труд Стеллера имел существенное значение для формирования отечественной
териологии как науки, внес важный вклад в мировую териологию.
В своей книге ”De bestiis marinis” Стеллер (1751) впервые в мире дал описание
морской коровы, сивуча, северного морского котика, калана и морской выдры.
Особенно ценны описание и измерения морской коровы - единственные в мире,
которые никто и никогда более сделать не может.
Сталлер описал морских животных очень подробно и обстоятельно. Вот что писа-
лось по поводу труда Стеллера в извлечении, сделанном Академией наук в Петербур-
ге: ’’Все исследования проведены с величайшим усердием. Автор описывает тело
каждого животного наиточнейшим образом, та[кже каждую отдельную часть тела, ее
положение, величину и пропорции, и прежде всего старается дать ясное и точное
представление об их внешнем виде, не оставляет он не исследованными и внутрен-
ние органы и изучает их строение в той степени, в которой ему позволили обстоятель-
138
Рис. 51. Тюмень
ства. Он описывает, насколько соответствуют части тела их таковым у других живот-
ных, что особого имеется у каждого и старается объяснить как механическое стро-
ение, так и природу каждого животного. Далее он сообщает об использовании их в
пищу, в лечебных и других целях и, наконец, рассказывает о движении, природе,
образе жизни и поведении животных” (Steller, 1753. S. 36-47)13.
Действительно, нельзя не поражаться той тщательности, с которой ученый описал
морских млекопитающих, несмотря на тяжелейшие условия, в которых ему приш-
лось работать, особенно при исследовании такого огромного животного, как морская
корова. ”В том, что я не все смог выполнить так, как хотел, - писал Стеллер, -
прежде всего виновата плохая погода, наступившая тогда, когда были добыты эти
животные. Почти постоянно лил дождь и было холодно, а все исследования приходи-
лось проводить под открытым небом. Помехой служили также приливы и отливы.
Хищные морские птицы Isatides выхватывали у меня все из-под рук. В то время, как я
обследовал животное, они похищали у меня бумагу, книги и чернила, когда я делал
записи, они набрасывались на зверя. Даже сами размеры животного и его вес препят-
ствовали его изучению. Я один должен был осуществлять все наблюдения и одно-
временно выполнять всю остальную работу. Все люди были озабочены лишь тем,
чтобы побыстрей починить корму корабля и поскорее покинуть это гибельное место.
К вечеру нанял я несколько человек на один час за плату с тем, чтобы выполнить
самую черную работу. Они злобно ругали все вокруг, потому что были озлоблены и
слишком невежественны, и делали все так, как им взбредало в голову. При этом я
еще должен был хвалить их за ошибки и вред, который они причиняли, чтобы они не
13Пер. с нем. канд. биол. наук Т.А. Калининской.
139
бросили меня окончательно. Мне не удавалось извлечь органы неповрежденными и
отпрепарировать их так, чтобы можно было получить вполне надежные результаты.
Если какие-то открытия и приносили мне радость, то тем сильнее были моя досада и
огорчения, когда я вынужден был оставлять без внимания столько важных частей.
Поэтому я прошу благосклонного читателя, который будет знакомиться с этим непол-
ным описанием, не приписывать его недостатки описания отсутствию моей доброй
воли или малой жажде знания, а лишь тем обстоятельствам, в которых я оказался” (S. 93).
Стеллероваькорова. Стеллер привел 47 измерений внешних признаков зверя.
Описание морской коровы [самки], убитой 12 июля 1742 г. на острове Беринга, рас-
положенном в проливе между Америкой и Азией. Размеры даны в английских ме-
рах длины.
Длина тела от вершины верхней Дюймы14 Десятые доли дюйма
губы до конца правой лопасти хвоста 296 —
Расстояние от вершины верхней
губы до носа 8 —
То же от кончика носа до внут-
реннего угла глаза 13 5
То же от внутреннего до
наружного угла глаза — 8
Расстояние между глазами:
между внутренними углами глаз 17 4
между наружными углами глаз 22 2
Ширина основания носа 1 5
Высота носа 2 5
Его ширина 2 5
Расстояние от вершины верхней
губы до угла рта 15 5
То же от вершины верхней губы
до плеча 52 —
То же от вершины верхней губы
до полового отверстия 194 —
Длина полового отверстия 10 2
Длина хвоста от мускула сжимателя анального отверстия до начала
лопастей хвоста 75 5
Окружность головы на уровне ноздрей 31 —
То же на уровне глаз 48 —
Окружность шеи у затылка 82 —
Высота передней части ’’хобота” 8 4
Окружность туловища на уровне плеч 144 —
Наибольшая окружность туловища
посредине брюха 244 —
Окружность хвоста в месте отхождения
лопастей 56 —
Расстояние между концами лопастей хвоста
или ширина хвоста с лопастями 78 —
Длина внутренней губы, покрытой
лохмами и жестой как веник 5 2
Ее ширина 2 5
Наружная верхняя губа по направлению к подбородку, с ее наклонной поверх- ностью, которая вся покрыта белой
щетиной [ее ширина] 14 —
Ее высота 10 —
141 дюйм = 0,0254 м.
140
Дюймы14 Десятые доли
дюйма
Губа [не покрыта волосами или щетиной],
черного цвета, свисающая на грудину, сердцевидной формы, ширина 7 4
Ее высота 6 8
Расстояние от нижней губы до грудины 54 —
Ширина рта от одного конца до другого 20 4
Расстояние от глотки до пищевода 32 —
Ширина или вернее длина желудка 44 —
Длина кишечника от рта до заднего прохода 5968 —
Таким образом, он в 20,5 раз длиннее самого животного, которое, как показывает пункт 1, имеет длину свыше 24 английских футов Расстояние от половой щели до мускула запирателя анального отверстия 8
Поперечние трахеи ниже гортани 4 2
Длина сердца 22 —
Ширина сердца 25 —
Длина почек 32 18
Ширина почек 18 —
Длина языка 12 —
Ширина языка 2 5
Длина соска 4 —
Длина длечевой кости 14 5
Длина локтевой кости 12 2
Длина головы от ноздрей до затылка, измеренная на скелете 27 —
Ширина затылка 10 5
Стеллер привел подробное описание наружных частей зверя, подчеркнув его удиви
тельное своеобразие. ’’Это животное, - сообщал он, - обитает лишь в море, но не Hi
суше, как неверно указано в некоторых описаниях... Оно выглядит в жизни доста
точно необычным и является поистине удивительным вследствие своей формы
способов движения и из-за того употребления, которое оно может найти. Кожа у неге
такая толстая, что скорее напоминает кору дуба, чем кожу животного. Она черная
шершавая, морщинистая, поверхность покрыта небольшими выпуклостями, словнс
шагрень, твердая и жесткая, без волос. Ее с трудом удается пробить топором или гар
пуном... Голова имеет чрезвычайно малые размеры по сравнению с непомерно боль
шим туловищем, она очень короткая и не имеет ясно выраженных границ. По форме
она удлиненная и почти четырехугольная, от темени до нижней челюсти становитс*
шире... Рот по сравнению с размерами животного, даже полностью открытый, не
представляется особенно большим. Ему и не нужно быть больше, поскольку этс
животное питается лишь некоторыми видами морских трав и тем и живет... Глаза находят
ся точно посередине между внешним хоботом и ушами... по сравнению с огромнык
телом они очень малы, не превышают по величине глаз овцы, снаружи не имеют ш
ресниц, ни чего-либо подобного им, они прямо выходят из кожи через круглое отвер
стие, диаметр которого не больше чем полдюйма... Уши снаружи имеют вид малень
ких открытых отверстий, как у тюленя, и ничего, что напоминало бы наше наружное
ухо. Ушные отверстия невозможно увидеть без тщательного поиска... В них с трудок
входит основание куриного пера... Невозможно определить, где голова переходит i
шею, которая соединена с туловищем таким же образом, что нельзя определить мест*
перехода одного [шеи] в другое [туловище]. Подобнее строение соответствует тако-
вому у рыб. Признаком, слабо указывающим на наличие шеи, является то, что этс
место в два раза короче головы, имеет овальную форму и выглядит более стройным,
14-
чем задняя часть головы. Тем не менее в районе шеи имеются подвижные шейные
позвонки, и шея совершает определенные движения, которые можно наблюдать у
животных во время кормежки. Они наклоняют тогда голову так же, как это делают
быки... От лопаток до пупка туловища расширяется, затем по направлению к задней
части объем его уменьшается и оно становится стройным. Бока его округлы и раз-
дуты, как брюхо... От пупка до зада ширина тела уменьшается так же, как от груди по
направлению к шее. Спина у толстых морских коров, какими они бывают весной и
летом, выпуклая. Однако зимой, когда они становятся тощими, спина делается
плоской и по обеим сторонам позвоночника образуются глубокие борозды, так что
тогда можно наблюдать все движение позвоночника... Хвост начинается с 26-го
позвонка, хвостовых позвонков 35. От заднепроходного отверстия к лопастям хвост
становится все тоньше и имеет не плоскую, а скорее четырехугольную форму... Хвост
толстый, очень мощный и заканчивается черным плавником, чрезвычайно жестким и
твердым. Плавник не разделяется на лучи, а является цельным... Плавник, образу-
ющий конец хвоста, имеет длину и ширину 78 дюймов, высоту 7,3 дюйма, толщину
еще полтора дюйма... Плавник хвоста несколько напоминает клещи, оба его от-
ростка имеют одинаковую величину, что отличает его от того, что встречается у круп-
ных морских рыб. Лопасти хвоста расположены по бокам тела, как у ластоногих и у
китов, а не на одной линии со спиной, как это имеет место у большинства рыб. Когда
животное совершает при помощи хвоста мягкие боковые движения, оно медленно
плывет вперед. Если же оно ударяет хвостом вверх и вниз, то оно мощно устрем-
ляется вперед всем телом, и старается таким образом вырваться из рук врагов, кото-
рые пытаются вытащить его на сушу.
Самое замечательное, чем это животное отличается от всех наземных животных
(которые иногда живут в воде, ц от водных животных, которые могут выходить на
сушу), - это его совершенно особенные передние конечности, руки или передние
ноги, если их только можно так назвать. От плечевых костей у шеи отходят две руки,*
длиною в 26,5 дюймов, состоящие из двух отделов. Верхняя плечевая кость соеди-
няется с лопаткой посредством плоского сочленения. Как и у человека, здесь имеют-
ся локтевая и лучевая кости. Они граничат с костями плюсны15 [запястья], однако
здесь нет ничего похожего на пальцы, ногти и когти. [Они] покрыты толстым жиро-
вым слоем и окружены многочисленными связками сухожилий, кожей и поверхност-
ным слоем кожи таким образом, каким отрубленная конечность у человека вновь
зарастает кожей. Однако кожа на ней, и особенно ее поверхностный слой значительно
толще, тверже и суше, так что это передняя часть руки напоминает собой нечто вроде
клешни или лашадиного копыта. Отличие заключается в том,что копыто заканчивает-
ся более узким и острым краем, и поэтому более приспособлено для рытья и копания.
Сзади концы ног гладкие и выгнутые, снизу в некоторой степени полые и все запол-
нены бесчисленными густыми щетинами, длина которых около полдюйма и которые
царапаются точно твердая метла... Спереди на груди имеются два соска, имеющие
иную форму, чем у других зверей. Они расположены под руками, как у людей, и
имеют сходную форму. Длина груди в среднем составляет полтора фута, она выпук-
лая, на ней имеются многочисленные направленные во внутрь морщинки или спи-
ральные изгибы. Она состоит из железистой ткани, чрезвычайно твердая, гораздо
тверже, чем коровье вымя, и не содержит жира. Сосок у самок, выкармливающих
детенышей, имеют длину четыре дюйма и толщину полтора дюйма... Половое отвер-
стие самки расположено на восемь дюймов выше заднего прохода. Его переднее
отверстие имеет почти треугольную форму. Сверху, где расположен клитор, оно
шире, по направлению к заднему проходу уже... Задний проход расположен в девяти
15У Стеллера ошибочно написано "плюсны”.
142
с половиной дюймах ниже влагалища и не очень плотно закрывается сфинктором.
Ширина его составляет четыре дюйма”.
Исключительно подробно описал Стеллер кожу этого животного, связав ее с ролью,
которую она играет в жизни животного. ’’Если сделать, - писал он, - поперечный раз-
рез [кожи], то по гладкости и окраске она больше всего напоминает черное дерево.
Этот внешний слой не является еще истинной кожей, он ее поверхностный слой. На
спине она гладкая, лишенная волос. Начиная от затылка до лопастей хвоста кожа
собрана в круговые бороздки и потом очень неровная. По бокам она очень острая,
словно состоит сплошь из небольших камешков, и имеет ряд выпуклых полых бугор-
ков, которые выглядят, как грибы, не имеющие ножек. Кожа имеет отталкивающий
вид, особенно вокруг головы. Поверхностный слой кожи,описанный выше, покры-
вает все тело, точно панцирь, и чаще всего имеет толщину один дюйм и состоит
сплошь из трубочек, подобных бамбуку или мамбу индейцев или китайцев. Эти тру-
бочки расположены в коже вблизи одна от другой в перпендикулярном положении,
так что они могут быть отделены одна от другой по всей их длине. Каждый ’’волос” в
нижней своей части, расположенный и закрепленный в истинной коже, округлый, вы-
пуклый и толстый, снабжен клубневидной луковицей. Благодаря этому оторванный
поверхностный слой кожи снизу весь бугорчатый, словно испанская кожа. Наоборот,
наружная поверхность расположенной под ней истинной кожи имеет массу малень-
ких углублений подобно наперстку, где находились эти ’’волосяные” луковицы.
Вышеописанные трубочки расположены очень близко одна от другой, и они все время
остаются влажными и как будто набухшими, так что если поверхностный слой кожи
срезать в горизонтальном направлении, то они становятся незаметными, и срез выг-
лядит как совершенно гладкая поверхность, напоминающая срезанный коготь. Если
отделенный кусок кожи вывесить и высушить на солнце, то отдельные волокна рас-
ходятся, и кожа может быть вся расщеплена, точно кора. При этом становится отчет-
ливо видно, что она состоит из трубок. Через эти отверстия выделяется жидкая водя-
нистая слизь, особенно на боках и вокруг головы, и в меньшем количестве на спине.
Когда животному случается несколько часов пролежать на сухом берегу, спина у
него становится совсем сухой, а голова и бока остаются постоянно влажными и
мокрыми. Толстый поверхностный слой кожи подобного строения16 служит у живот-
ного двум целям: во-первых, предохраняет истинную кожу, когда животное оказы-
вается в местах с острыми камнями или зимой среди льдин во время поисков пищи,
или же тогда, как мне это приходилось неоднократно наблюдать, когда сильные
волны бросают их о скалы и утесы. Благодаря ему животное как бы защищено бро-
ней. Во-вторых, он служит для предохранения животного от гибельной потери жиз-
ненного тепла: летом - от слишком сильного испарения, зимой - вследствие сильных
морозов Поскольку это животное не может долго оставаться на морской глубине,
как другие морские животные и рыбы, а должно все время, пока оно питается, выс-
тавлять свое туловище наполовину над поверхностью воды, оно все время подвер-
гается действию холода. Я видел много особей, выброшенных мертвыми на берег.
Причиной их гибели послужило то, что поверхностный слой кожи был содран с них,
когда их бросало о скалы. Часто приходилось мне наблюдать, что когда зверей,
пойманных с помощью гарпунов, тащили к берегу, а животные пытались освобо-
диться мощными ударами Ьсвоста или всего туловища или старались удержаться
передними лапами, то от них отрывались большие куски поверхностного слоя кожи.
Поверхностный слой кожи отрывался также на руках, на так называемом копыте и на
1бСтеллер отмечал, что такой же поверхностный слой кожи, какой он описал у морской коровы,
имеет и кит. Поверхностный слой кожи кита, по словам Стеллера, пока он оставался влажным,
имел темно-коричневую окраску ’’словно копченый окорок”. После того, как он высох, он приоб-
рел черную окраску.
143
лопастях хвоста, что заставило меня еще больше утвердиться в высказанном мне-
нии... ’’Некоторые морские коровы имеют на этой коже белые крупные пятна и
полосы, в результате чего их кожа напоминает шахматную доску, причем эта окраска
сохраняется и на глубине у истинной кожи...” Под описанным выше поверхностным
слоем кожи находится истинная кожа, покрывающая все тело. Толщина ее составляет
две линии, она мягкая, белая, довольно плотная и твердая, по структуре и плотности
напоминающая кожу кита, может использоваться для таких же целей, как и пос-
ледняя”.
Представление о характере труда Стеллера дает его описание губ животного и
участвующих в пережевывании пищи роговых пластин - ярких отличительных черт
морской коровы.
’’Наружная губа заканчивается внешним хоботом, имеет полуокруглую форму,
плоска, раздута, толста, шириной в 14 дюймов и высотой в 10 дюймов, белого цвета,
гладкая, усыпана маленькими бугорками. Из центра последних выходят белые прос-
вечивающие щетины, высотой 4-5 дюймов. Длина внутренней верхней губы 6 дюймов,
ширина 2,5 дюйма; она на всем протяжении отделена от наружной губы и срастается с
ней только своим основанием. Она свисает над небом как язык теленка и является
твердой и шершавой, как прутья метлы. Эта верхняя губа плотно закрывает рот
сверху, подвижна и служит для того, чтобы срывать морскую траву и вносить ее
в рот...”
’’Нижняя губа также двойная, при этом внешняя - черного цвета, гладкая, без
щетины, по форме несколько напоминает сердце или подбородок. Ширина ее 7 дюй-
мов, высота 6,8 дюйма. Внутренняя нижняя губа слабо отделена от наружной, жест-
кая и совершенно не видна при закрытом рте, поскольку ее прикрывает верхняя ду-
гообразная губа. Она смыкается с внутренней губой, плотно закрывая рот. В месте
соединения верхней и нижней челюсти остающееся между ними пространство запол-
нено густой и толстой щетиной длиной полтора дюйма, белого цвета. Она способству-
ет тому, что во время пережевывания пищи последняя не вываливается изо рта и не
вымывается оттуда морской водой, которая поступает в рот вместе с пищей и, после
того как рот закрыт, вновь выбрасывается наружу этим путем.
Эта щетина, о которой шла речь, такой же толщины, как ствол голубиного пера,
белого цвета, полая внутри, внизу расширяется в виде луковицы. Рассматривая ее
простым глазом без увеличительного стекла, можно видеть, каким образом природа
создала наши волосы.
Когда животное ложится на брюхо, то высота переднего хобота (или морды) от
ноздрей до губ в перпендикулярном направлении около 8 дюймов. Он тянется от
носа как к наружним губам, так и по сторонам вдоль краев верхней челюсти в виде
волнообразной каймы, спереди округлый, становится толще и его поперечник все
время увеличивается. Внешние губы толстые и как будто раздувшиеся, на них, как у
кошек, имеются многочисленные глубокие отверстия для вентиляции, из каждого
торчат толстые белые щетины, которые становятся тем толще, чем ближе они располо-
жены к отверстию рта. Наиболее толстые щетины находятся между губами обеих
челюстей. С их помощью животные могут срезать водоросли как ножницами и благо-
даря им ничего не вываливается изо рта. Нижняя челюсть короче верхней, и лишь она
может одна двигаться... Губы подвижны как на верхней, так и на нижней челюсти.
Когда животное вырывает при помощи своих рук водоросли, растущие на каменистом
морском дне, оно очищает их настолько хорошо этими жесткими щетинами от твердых
стеблей и корней, которые оно не использует в пищу, как будто бы они были срезаны
при помощи тупого ножа. Поскольку стебли морских водорослей гораздо крепче и
жестче, чем у наземных растений, то губы этих животных гораздо крепче и жестче,
чем у наземных животных. Поэтому их губы не пригодны в пищу и не могут быть
сделаны мягче ни кипячением, ни каким-либо иным способом. Для внутреннего
144
строения губ характерно то, что в разрезе они имеют вид шахматной доски, состо-
ящей из мелких клеточек. Они состоят из многочисленных мелких, толстых, красных
мускулов ромбовидной или трапецевидной формы, между ними находится такое же
количество жилистых клеточек, напоминающих клетчатковую ткань или сеточку,
которая вся как бы усеяна расплавленным жиром. После выпаривания в кипятке эти
губы легко теряют содержащийся в них жир, и после удаления жира эти ячейки
выглядят как жилистая клетка.
Такое строение обусловлено, по моему мнению, следующими тремя причинами.
1. Благодаря такому строению губы становятся еще более мощными и плотными и
устойчивыми к внешним повреждениям. 2. Поскольку головные и хвостовые части
этих мускулов, составляющие их начало и конец, расположены так, что, когда го-
ловки мускулов подтягиваются к ротовому отверстию, их хвостовые части, или
концы, подтягиваются к макушке, так что их концы и начала как бы образуют коль-
цо. Это способствует тому, что тяжелые губы легче поднимаются и двигаются. 3. Бла-
годаря подобному строению губы могут в определенной степени совершать движение
по спирали, и благодаря этому можно не приводить в движение все тело, когда они
вырывают жесткую морскую траву. Движения самой головы крайне ограничены
из-за окружающей ее жесткой кожи.
Процесс пережевывания пищи осуществляется у этих зверей иначе, чем у других
животных: не с помощью зубов (их нет у этих животных), а при помощи заменяющих
их двух длинных костей17 очень твердых, белого цвета, которые представляют собой
целый ряд зубов или сплошную зубную массу. Одна из этих костей расположена на
нёбе, другая - на нижней челюсти. Эти кости закреплены совершенно необычным
образом, и способ их прикрепления нельзя охарактеризовать каким-либо известным
названием. Его нельзя назвать гомфозисом (gomphosi^, потому что они не фиксиро-
ваны в челюстях, как зубы: их многочисленные выступы и углубления входят в со-
ответствующие углубления и выступы нёба и нижней челюсти. Кроме того, жеватель-
ные кости вставлены в переднюю часть мозолистой кожи верхней губы, с боков - в
ребристые кости рта, и сзади при помощи двойного выступа вдвинуты в нёбо и
нижнюю челюсть, и таким образом укреплены.
Жевательные кости, которые одновременно выполняют и функции коренных
зубов, имеют с нижней стороны многочисленные отверстия, как наперсток или губка,
через которые проходят артерии и мелкие нервы точно таким образсм, как зубы у
животных. Сверху поверхность этих зубных костей гладкая, за исключением име-
ющихся в ней многочисленных изогнутых волнообразных борозд, между которыми
выступают приподнятые части. Последние прижимаются во .время пережевывания к
соответствующим углублениям в противоположной зубной кости и таким образом
размалывают морские растения словно в вальцовочной или ручной мельнице
(S.56-60).
Столь же подробно Стеллер описал и внутреннее строение животного, особенно
пищеварительного тракта, отметив исключительно большую длину кишечника - ”от
пищевода до заднего прохода она составила 5968 дюймов [151,59 м], и таким образом
была в 20,5 раз больше длины самого животного”. ’’Пищевод, - писал ученый, -
чрезвычайно широк, изнутри покрыт мощной мускулистой тканью, имеет внутри
многочисленные вертикальные бороздки и складки, доходящие до желудка. Он
заканчивается многочисленными треугольными отростками, длиной в 1 линию,
которые направлены вверх к пищеводу. Я полагаю, что они служат для того, чтобы
пища не поступала снова наружу...”
’’Пищевод соединяется с желудком в его середине, как у лошадей и зайцев. Желу-
док имеет удивительно большие размеры (в длину 6 футов и в ширину 5 футов18) и
17Стеллер ошибочно называет роговые пластины костями.
161 фут = 12 дюймов = 0,3048 м; 1 дюйм = 10 линиям.
10. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
145
так сильно наполнен водорослями, служащими животному пищей, что четверо здоро-
вых мужчин с трудом могли вытянуть его при помощи привязанной к нему веревки.
Отдельные оболочки желудка не удается каким-либо образом отделить друг от друга.
Они плотно соединены друг с другом, толщина их составляет три линии. Желудок
окружен особым сальником, состоящим из жира, толщиной в 2 линии. В верхней час-
ти он плотно срастается с наружным покровом желудка, в остальной части он почти
свободен, и не столько ограничивает желудок, сколько служит целям его утепления.
Внутренний покров желудка белый и гладкий, не имеет ни складок, ни реснитчатых
выростов. Самым замечательным представляется мне то, и, боюсь, что многие сочтут
это невероятным, что неподалеку от того места, где пищевод входит в желудок,
находится овальная железа, размером с человеческую голову. Она была расположена
в самом желудке между мясистой и мускулистой оболочками и имела вид, подобный
гигантской аневризме артерии. Многие протоки этой железы выходили через внутреннюю
оболочку желудка, и через их открытые отверстия в полость желудка выделялся
беловатый сок, имевший цвет и консистенцию, как у выделений из поджелудочной
железы. Хирург Бетге может засвидетельствовать истину этого необычного явления.
Сведения о свойствах этого сока я получил на опыте, хотя и задуманном с иной
целью. Когда я протолкнул серебряную трубочку через разрежение во внутренней
стенке и пытался путем надувания исследовать выводные протоки, то трубочка
потемнела, как это случается с серебром под воздействием серной кислоты. То же
самое произошло при исследовании желудка, когда я приказал помощнику хирурга
Архипу Коновалову вычистить рукой его содержимое. Когда он закончил эту работу,
серебряное кольцо, которое он носил на пальце, стало черным... После этого у меня
уже не было возможности исследовать желудок из-за отсутствия необходимых
помощников, и я не мог без посторонней помощи перевернуть такое животное на
спину. Поэтому я пока не уверен, находится ли описанная железа у всех подобных
животных в их естественном состоянии или ее нахождение было обусловлено болез-
ненным состоянием этого животного 19
Привратник желудка был настолько широк и раздут, что при первом взгляде я
решил, что имею дело со вторым желудком и уже собирался искать два остальных,
так как первоначально я думал, что это животное относится к жвачным. Когда я раз-
резал этот привратник, то увидел, что дело обстоит не так, что я имею дело именно с
привратником. К несчастью, однако, печень с желудком не удалось извлечь пол-
ностью вследствие их непомерно больших размеров, а своих помощников я нанял
только на один час за плату в виде табака, который служил у нас вместо денег. По-
сле этого они бросили работу... Поджелудочная железа имела две доли и состояла из
многих не очень больших желез. Этот внутренний орган был совсем небольшим по
сравнению с размерами животного и длина его не превышала 4 дюймов [10 см].
Кишечник у этого животного наиболее протяженный из всех существующих, за
исключением, быть может, только одного кита, который мне пока не встречался.
Кишки заполняют нижнюю полость живота таким образом, что он выглядит как наду-
тый пузырь и сильно выпирает наружу. Поэтому, когда после удаления общих покро-
вов и мышц нижней части живота надутая брюшина будет хотя бы слегка поврежде-
на, то оттуда начинает выходить газ с таким шипением и свистом, как из парового
котла, в котором кипятят воду. Весь низ живота обтянут двойной, чрезвычайно твер-
дой кожистой и мускулистой перепонкой именно для того, чтобы удерживать все
кишки рядом друг с другом. Эта же перепонка тянется от лобковой кости до груди-
ны и прирастает с обеих сторон к ложным ребрам. Это осуществляется таким образом,
что от каждого из этих ребер отходят отдельные плотные связки , от которых под
19Стеллер первым открыл у морской коровы железистый вырост желудка. Аналогичную железу
имеют все представители отряда сирен. ~
146
прямым углом отходят отростки с обеих сторон до белой линии, где они соединяются друг с
другом. Поверхность же брюшины после удаления мышц нижней части живота благо-
даря и пересечению, и перекрещиванию выглядит как поверхность шашечной доски.
С внутренней стороны ребер берут начало другие, сходные с ними связки, которые
срастаются с брюшиной с ее внутренней стороны или же растянуты под ней и, подобно
горизонтальным балкам, увеличивают прочность этой оболочки. Обе оболочки срас-
таются посредине, где расположена белая линия, по бокам они остаются двойными...
Слепая и ободочная кишка делятся на несколько частей при помощи связки, которая
тянется вдоль них с каждой стороны. Несмотря на все старания, я не смог обнаружить
запирающего клапана на ободочной кишке... (S. 73-80). Печень состоит из трех частей:
двух больших лопастей и третьей, напоминающей наковальню кузнеца. Она лежит
между двумя большими лопастями и возвышается над ними, находясь непосредст-
венно под грудиной. Снаружи печень покрыта мощной мускулистой оболочкой, так
что внешне она не похожа на печень. Через этот поверхностный покров в той части,
где он выгибается или выпячивается, проходят ветви кишечных вен и выглядят точ-
но просвечивающие ветви дерева небесно-голубой окраски. При вскрытии кожного
покрова можно увидеть саму печень. В отличие от печени коров она более темно-бу-
рого цвета и очень мягкая, хрупкая, так что когда пытаешься схватить ее рукой, она
растекается, как какой-то сгнивший предмет.
Желчный пузырь отсутствует, однако желчный проход очень широк - в него сво-
бодно проходят все пять сложенных пальцев. Толщина его составляет половину ли-
нии [0,1 см]. Он чрезвычайно прочный и крепкий, снаружи беловатый, изнутри шафра-
но-желтый. При впадении в двенадцатиперстную кишку этот канал объединяется с
протоком панкреатической железы, так что оба составляют один общий проток” (S.
86-87).
Стеллер отметил, что морская корова значительно отличается от других животных
строением сердца и трахеи.
’’Что касается сердца, - писал ученый, - то оно во многом отличается от сердец
других животных. 1) Сердце расположено так, что его верхушка направлена в сторо-
ну грудины, а основание направлено в сторону спины. 2) Оно не связано со средосте-
нием, а расположено свободно, и у животного вообще не имеется средостения. 3)
Околосердечная сумка имеется, однако она не окружает сердце со всех сторон, по-
добно мешку, но скорее создает обширную полость в грудной клетке и как бы обли-
цовывает ее. Сверху по направлению к спине околосердечная сумка наиболее близко
примыкает к основной поверхности сердца. Когда животное поглощает пищу, то серд-
це со своей сумкой не свисает вертикально вниз, от спины к грудине, а расположено
несколько косо, и в этом случае околосердечная сумка выполняет функцию средо-
стения. Вниз и по направлению к нижней части животного околосердечная сумка
срастается с внутренней [верхней] боковой стенкой диафрагмы и составляет с ней
единую перегородку. Точно так же скрепляется она с диафрагмой сбоку. 4) Что каса-
ется величины сердца, то вес его составлял 36 3/4 фунта [16,5 Krf0. Длина его от осно-
вания до ]верхушки: равнялась 2 футам и 2 дюймам [0,66 м], а ширина от наружного
конца одного сердечного ушка до другого - 3 1/2 фута [1,07 м]. Таким образом, шири-
на его больше длины. При этом оно отличалось от сердец других животных тем, что
оно не заканчивалось, подобно волчку, одним концом, но имело две верхушки, что
соответствовало числу желудочков сердца. Это разъединение верхушки сердца дохо-
дило до трети его длины, далее обе половины вновь сливались воедино и образовыва-
ли перегородку, разделяющую оба желудочка. Левая верхушка была слегка длиннее и
толще, чем правая. Каждый желудочек сердца еще удлиняется вглубь по ходу пере-
городки и заканчивается верхушкой. Внутренние части сердца, его поперечные пере-
20Английский фунт равен 0,453 кг.
147
городки и складки превосходили по мощности и размерам, а также по количеству то,
что встречается у человека. Клапаны сердца, а также легочных вен, полой вены и
больших артерий устроены так же, как у человека. Основная поверхность сердца
окружена толстым слоем жира толщиной в 2 1/2 дюйма наподобие жирной обертки
колбасы. Ниже основной поверхности сердца можно обнаружить широкие коронар-
ные сосуды сердца, имеющие внутри клапаны, которых я до этого не наблюдал ни у
одного животного...” (S. 82- 85).
Стеллер описал своеобразное строение трахеи, связав его с особенностями дыха-
ния зверя - отсутствием у него мышц, участвующих в движении легких. ’’Дыхатель-
ная трубка, - сообщал он, - не состоит из набора хрящевидных колец или полукру-
жий, но имеет необычную структуру. Длинный, составляющий единое целое хрящ
имеет форму спирали и покрыт изнутри и снаружи мощным кожным слоем. Изгибы
дыхательной трубки не везде имеют одинаковую ширину, но в некоторых местах
выгнутые края верхних окружностей смыкаются с выпуклыми краями нижней ок-
ружности. Таким образом эти изгибы соединяются друг с другом при помощи двой-
ной мамбраны, окружающей дыхательную трубку, и удерживаются так, что они не
могут быть сдвинуты ни вовнутрь, ни кнаружи. Благодаря такому закреплению они
не могут сдвигаться в сторону. Дыхательная трубка, сохраняя эту спиральную струк-
туру, разделяется ниже голосовой щели на ветви и распространяется таким образом
в тканях легкого. Возможно, основная цель, достигаемая в результате этого, заклю-
чается в том, что благодаря продолжению этих спиральных структур чрезмерно боль-
шой груз легких может легче быть поднят и растянут в процессе дыхания. У животно-
го нет ни мышц, ни чего-либо иного на спине, что могло бы способствовать движению
легких" (S. 80-81).
Из приведенного видно, какое большое значение придавал Стеллер в своих описа-
ниях животных анатомическому строению их внутренних органов, связывая разли-
чия в их строении с выполнением разных функций. Этот подход, получивший ’’назва-
ние функциональной или телеологической морфологии, ведет начало от аристоте-
левских представлений, согласно которым основой различий между организмами
является различие их функций” (Бляхер, 1976, С. 7). Аристотель писал: ’’Так как вся-
кий инструмент существует ради чего-нибудь и ради чего-нибудь существует всякая
часть тела... то очевидно, что тело в целом существует ради какого-нибудь совершен-
ного действия... Тело существует для души и части тела ради работ, для которых
каждая из них предназначена по природе” (Аристотель, 1937. С. 29).
Телеологический подход был традиционным для анатомов XVII - начала XVIII в.,
которые вслед за Галеном ставили в своих описаниях вопрос о назначении частей.
Прекрасно владея методом функциональной морфологии, Стеллер успешно при-
менил его при описаниях морских млекопитающих и одним из первых в отечествен-
ном естествознании проложил путь анатомо-функциологическим исследованиям.
Скелет морской коровы Стеллер описал кратко, намереваясь дать подробное его
описание по возвращении из путешествия. Вот все, что он сообщил о скелете живот-
ного: ’’Что касается костей черепа, то по крепости и твердости они напоминают кости
лошади. Прочие же кости по размерам и прочности далеко превосходят кости всех
других животных. Кости черепа вместе не крупней по размерам, чем голова у лоша-
ди, и мало отличаются от нее по форме и сочленению. Черепная коробка цельная,
без швов и сочленений. Она расширяется кпереди посредством двух твердых высту-
пов вплоть до носовых костей и соединяется с последними так же, как и с челюстны-
ми костями, посредством подвижного сочленения (arthrodia diarthrodes).
Носовые кости сочленены с челюстными костями шарнирным суставом (ginglymis
diarthrodes), способным осуществлять заметное движение. Носовые кости соединяют-
ся друг с другом посредством шва, а затылочная срастается без зубцов, она твердая
148
как камень21. Нижняя челюсть состоит у взрослых животных из одной кости, а у мо-
лодых - из двух. Длина головы от носа до затылка составляет 27 дюймов [68,6 см],
ширина ее в области затылка равна 14,5 дюймов [36,8 см].
Число позвонков всего 60, из них 6 шейных, 19 спинных и 35 хвостовых. Имеется 5
рар истинных ребер и 12 пар ложных. Тело шейных позвонков сжатое, по своему
строению они сходны с шейными позвонками лошади. Что касается имеющихся меж-
ду ними различий, то я ничего не собираюсь писать об этом, поскольку не имел перед
собой ни книг, ни лошадиного скелета, чтобы провести сравнение, а я не могу поло-
житься на свою память и воображение.
Спинные позвонки заостренные и широкие, и хотя поверх их расположены толстая
кожа и толстый подкожный слой жира, у тощих животных эти позвонки выпирают и
становятся хорошо заметными.
Спинные позвонки в области желудка и печени имели заостренные отростки, ос-
тальные были круглыми и не имели таких острых отростков.
Позвонки хвостового отдела имеют каждый по четыре особых отростка. Отростки,
расположенные по бокам, длинные и широкие, а остистые отростки по ширине такие
же, как боковые, только более короткие. Нижние отростки представляют собой осо-
бые кости, очень похожие на греческую букву у; они соединяются с позвонками
прямолинейно и закрепляются на них при помощи мощных связок. Все кости позво-
ночника соединены друг с другом в продольном направлении при помощи многочис-
ленных мощных связок и настолько покрыты йми, что не удается различить отдель-
ных костей.
Пять пар истинных ребер соединены с грудиной с помощью хряща. Как истинные,
так и ложные ребра отчень твердые, плотные, тяжелые и толстые.
Грудина на верхнем конце, где к ней прикрепляются ребра, хрящевидная, внизу
же, в области сердечной впадины, на протяжении полутора футов состоит из костной
ткани.
Кости таза образованы двумя костями, напоминающими локтевую кость человека.
При помощи чрезвывайно мощных связок они соединены с одной стороны с 35-м
[25-м] позвонком22, а с другой стороны - с лобковой костью. У животного отсутству-
ют ключицы.
Руки состоят из двух костей, а также подобия предплюсны и плюсны” (S. 88-91).
Согласно Стеллеру, описанные выше конечности, которые состоят из лопатки, плече-
вой, локтевой и лучевой костей, оканчиваются терзальной (карпус) и метатарзальной
(метакарпус) костями.
Обстоятельства, в которых оказался ученый (отсутствие инструментов, книг), не
позволили ему дать подробного описания скелета животного. Чтобы осуществить это
при возвращении на Камчатку, Стеллер обработал скелет детеныша морской коровы,
но захватить его на материк ему не удалось: бот был слишком мал. Не смог он взять
ни черепа, ни отдельных костей животного. Впоследствии изучением скелета и чере-
па морской коровы занимались многие известные ученые: Daubenton, Cuvier, Hum-
boldt, Schlegel и др.
21Кости черепа, осевого скелета, конечностей и ребер стеллеровой морской коровы не имеют
мозговых полостей, и целиком заполнены плотным костным веществом (пахиостаз). Развитие у
этого зверя пахиостаза связано с условиями его обитания и носит явно выраженный адаптивный
характер, позволяя животному легко менять свою плавучесть — погружаться всплывать — при
сохранении горизонтального положения и минимальных затратах энергии.
22В тексте Стеллера, видимо, опечатка. ’Кость таза соединяется не с 35-м позвонком, как дано в
тексте, а с 25-м, ’как предложил исправить текст Кювье, поскольку Стеллер в двух местах отме-
чал, что ’хвост состоит из<35 позвонков’ (Брандт, 1849. Р. 72).
149
Существенный вклад в изучение сирен, особенно морских коров, внесли исследо-
вания русского академика Ф.Ф. Брандта, детально изучившего фрагмент черепа мор-
ской коровы, найденного на о-ве Беринга благодаря огромным усилиям консерватора
Зоологического музея Петербургской Академии наук И.Г. Вознесенского23. В своем
классическом труде, посвященном изучению сирен, Ф. Брант (1849) отметил, что кос-
ти черепа морской коровы значительно тяжелее, чем кости черепа лошади, и что они
’’отличаются от соответствующих костей черепа лошади при более тщательном рас-
смотрении не только размерами, но и формой и сочленением”. Брандт писал: ’’Нелег-
ко объяснить, как мог он (Стеллер) сравнивать кости и череп морской коровы по
крепости и твердости с костями и черепом лошади, поскольку кости черепа Rhytina,
несомненно, значительно тяжелее. Каждый, кто в настоящее время внимательно
изучал фрагмент черепа Rhytina, едва ли сказал бы, что ’’кости черепа по размеру,
форме и сочленению не очень отличаются От костей черепа лошади”.
То, что Стеллер сказал о сутурах, можно в целом принять, но это ничего не дает в
отношении понимания отличительных черт черепа: сходства и отличия его от черепов
этой группы животных, поскольку то, что он описал, является лишь общей характе-
ристикой всего порядка, или семейства (Sirenii) (Brandt, 1974. Р. 9).
”Мы, - писал академик Брандт, - обязаны Стеллеру этими наблюдениями (превос-
ходными для его времени), которые мы имеем о внутренних частях Rhytina” (Р. 72).
’’Девять месяцев Стеллер каждодневно имел возможность наблюдать образ жизни и
поведение Rhytina. И если эти месяцы лично для Стеллера были тяжелым испытани-
ем, то для зоологической науки это обстоятельство оказалось исключительно счаст-
ливым” (Р. 77). Стеллер оставил бесценное подробное описание образа жизни и пове-
дения морской коровы. Оно было дано в отдельном разделе книги, однако относя-
щиеся сюда наблюдения представлены и в других разделах. Поэтому здесь сделана
попытка их сгруппировать, чтобы дать более полную картину образа жизни этого зве-
ря. Стеллер писал: ’’Хочу сообщить то, что я многократно наблюдал из моей землян-
ки и считаю достоверным” (Steller, 1753. S. 95). ’’Эти животные любят находиться у
мелких песчаных мест у берега, охотно дертсатся они также вблизи устьев рек и ручь-
ев, поскольку их привлекает впадающая в море пресная вода. Они собираются там
стадами. Когда они кормятся, то гонят детенышей перед собой, находясь сзади их и с
боков, заботливо окружают и держат их посередине. Эти ненасытные животные беспре-
рывно поглощают корм, из-за своей прожорливости постоянно держат голову под
водой. Когда они кормятся, они высовывают нос из воды каждые 4-5 минут и выду-
вают из ноздрей воздух вместе с водой и шумом, напоминающим ржанье, фырканье и
сопенье лошадей. Во время еды они медленно продвигаются вперед, переставляя
одну ногу за другой, так что они частью медленно плывут вперед, частью передвига-
ются так же, как коровы и овцы на пастбище. Половина их тела, а именно спина и
бока все время высовываются из-под воды. В то время как они питаются, на их спины
садятся чайки и собирают с них насекомых, скрывающихся в верхнем слое кожи, и
таким образом приносят им пользу, так же как вороны, обирающие насекомых со
свиней и овец.
Морские коровы питаются не любыми водорослями без разбора, а преимуществен-
но следующими: 1) извитыми, с решетчатыми листьями, напоминающими савойскую
капусту, 2) морскими водорослями, имеющими булавовидную форму, 3) водоросля-
ми, которые выглядят как бичи древних римлян, 4) длинными водорослями с волно-
образными жилками24.
23Г. Вознесенский (1816—1871) существенно обогатил Зоологический музей Академии наук
коллекциями млекопитающих и птиц.
241) Crispium Brassicae sabadicae folio cancellatum, 2) fucum clavae facie, 3) fucum scuticae antiquae
Romanae facie, 4) fucum longissimum ad nervum undulatis.
150
В местах, где они кормились в течение одного дня, на берегу лежат большие кучи
корней и стеблей водорослей, выброшенных туда морем. После того как они наедятся
до отвала, некоторые из них ложатся на спину и отплывают вгморе подальше от бере-
га, чтобы не остаться на сухом месте во время отлива. Зимой их часто залавливает
льдинами, плавающими возле берега, и выбрасывает мертвыми на берег. То же самое
случается тогда, когда волны с силой бьют о скалы и увлекают их за собой. Зимой
они становятся такими тощими, что у них вместе с позвоночниками можно пересчи-
тать все ребра” (S. 96-98).
Стеллер привел интересные наблюдения над поведением зверя во время гона.
’’Каждый самец, - писал он, - имеет, по-видимому, не более одной жены... Весной
они сходятся, как люди, преимущественно в вечернее время, когда море успокаива-
ется. Прежде чем спариться, они обмениваются любовными ласками. Самка медленно
плавает в море, за ней все время следует самец; причем самка все время ускользает
от него, долго кружится вокруг него, пока сама не придет в крайнюю степень охоты,
тогда, как будто в изнеможении и с неохотой, она ложится на спину. Когда это прои-
зошло, самец, как бешеный, набрасывается на нее и спаривается с ней, при этом оба
попеременно обнимают друг друга... Они производят на свет детенышей в любое вре-
мя года, чаще всего, однако, осенью, как я мог заключить по новорожденным детены-
шам, которых я наблюдал в это время. Поскольку я наблюдал, что они спаривались
ранней весной, я сделал из этого вывод, что продолжительнось беременности у них
должна превышать один год и что они родят не более одного детеныша. К этому вы-
воду я пришел на основании коротких рогов матки и наличию у взрослых особей
только двух сосков. Кроме того, я никогда не наблюдал у одной самки более одного
детеныша (S. 98).
Ученый отметил исключительную супружескую привязанность животных. ’’Один
самец, - сообщал он, - следовал за убитой самкой до самого берега, несмотря на все
удары, которыми мы старались его отогнать, и несколько раз неожиданно бросался на
нас с быстротою стрелы. Перед этим он всячески пытался ей помочь, хотя это ему не
удавалось. На другой день, когда мы пришли рано утром, чтобы разделать тушу зверя
и унести с собой ее куски, мы все еще обнаружили самца вблизи самки. Даже на тре-
тий день, когда я пришел туда, я застал его на этом же месте” (S. 101).
Несмотря на проявление умственной деятельности, животное, по словам Стеллера,
было на редкость тупым. ’’Если их ранят, они лишь отплывают дальше, чем обычно,
от берега; вскоре, однако, они забывают и возвращаются обратно”. Морская корова, в
отличие от других морских зверей о-ва Беринга, которые скоро распознали в челове-
ке своего злейшего врага, оказалась совершенно беззащитной. Она также мало спо-
собна защитить себя на суше, как и спастись бегством. Их забивают насмерть дубинка-
ми и топорами. Скорее можно было бы попытаться приручить это животное... Из-за
свойственной ему тупости и прожорливости оно является смирным по самой своей
природе” (S. 95).
Стеллер указывал на слабое развитие у морской коровы органов чувств. ’’Что каса-
ется голоса, то животное это совсем немое и не может издать ни звука, хотя оно силь-
но втягивает воздух и как бы вздыхает, если его ранят. Что касается его зрения и-
слуха, об этом не могу сказать чего-либо определенного. Эти животные вряд ли могут
хорошо видеть и слышать, поскольку они постоянно держат голову под водой. Таким
образом, это животное мало или вообще не нуждается в употреблении этих органов
чувств” (S. 101-102). Стеллер отмечает, что у морских коров наблюдались такие пове-
денческие интересные реакции, как взаимная выручка. ’’Когда пораженное гарпуном
и схваченное животное пытается отбиться, к нему подплывают ближайшие животные
из стада, пытаясь ему помочь. Некоторые из них пытаются опрокинуть спиной лодку,
другие ложаться на канат и стараются его разорвать или же ударами хвоста вырвать
гарпун из спины раненого животного, что им иногда удается” (S. 101).
151
Стеллер описал также паразитов, сходных со вшами, от которых страдает морская
корова. Эти паразиты ’’находятся в большом количестве в складках на ногах, груди,
в бородавках, в разных потайных местах, в заднем проходе, в углублениях поверх-
ностного слоя кожи. Они прокусывают как наружный, так и внутренний слой кожи.
Вследствие этого из водянистых выделений образуются разбросанные тут и там боро-
давки” (S. 102).
Истребление стеллеровой коровы. Стеллерова морская корова спустя 27 лет после
ее открытия была полностью истреблена. Некоторые исследователи считают Стеллера
прямым виновником уничтожения этого зверя, поскольку он столь разрекламировал
вкусовые и целебные противоцинготные свойства его мяса и жира, которые в слабо
засоленном виде могли сохраняться очень долго, что животное стало основным объ-
ектом промысла для всех кораблей, отправлявшихся во вновь открытые североаме-
риканские острова. Охота на морских коров была значительно легче, чем на других
зверей, и она давала возможность быстро заготовить много мяса (вес зверя составлял
более 3 т), очень вкусного и питательного. Остров Беринга стал основной базой про-
вианта для мореплавателей25. В результате хищнического промысла стеллерова мор-
ская корова была уничтожена. Последнее животное было убито в 1768 г., когда два
морских офицера, посланных русским правительством, находились на о-ве Беринга
(на о-ве Медном стеллерова морская корова исчезла к 1754 г.). Хотя упомянутые со-
общения Стеллера, возможно, способствовали быстрому исчезновению морской коро-
вы, это животное, имевшее столь маленький ареал, ограниченный Командорскими
островами, без специальной охраны не могло сохраниться. Зверь отличался малой
плодовитостью (приносил в год одного детеныша), держался только около берега и
практически был беззащитным.
Стеллерова морская корова в позднем плиоцене, видимо, была широко распрост-
ранена по всем побережьям северной части Тихого океана. Зверь был хорошо адапти-
рован к жизни в холодных водах в условиях открытой береговой линии и к питанию
водорослями, произрастающими в мелководье.
В последующем ареал стеллеровой морской коровы резко сократился. В 1741 г. эти
животные, хотя и были многочисленны Стеллер писал, что их было достаточно, чтобы
прокормить все население Камчатки, - водились (так считал Стеллер) лишь у Коман-
дорских островов, весьма отдаленных от материка, причем только в той его части,
где в море впадали многочисленные речки и ручейки. Столь ограниченный ареал
вида грозил ему вымиранием. Появление на острове человека - опаснейшего врага
стеллеровой коровы - решило дело.
Впоследствии множество судов, плававших в Тихом океане, пытались найти следы
стеллеровой коровы. Значительно способствовала поискам этого животного Петер-
бургская Академия наук, которая объявила премии за сведения о нем.
Изучение стеллеровой морской коровы - славные страницы русской зоологии
XVIII и XIX вв. Ею занималась целая плеяда выдающихся отечественных зоологов:
П.С. Паллас, К.М. Бэр, Ф.Ф. Брандт, А.Ф. Миддендорф и др. Итоги многолетних поис-
ков стеллеровой морской коровы подвел в своих статьях академик К.М. Бэр, убеди-
тельно доказавший, что этот вид животного истреблен полностью. Тщательные обсле-
дования о-ва Беринга выявили под морскими россыпями, заросшими травами, остат-
ки скелета и черепа животного, которые позволили академику Ф.Ф. Брандту изучить
кости черепа стеллеровой морский коровы, значительно дополнив представления о
ней. На основе многолетних исследований остеологии стеллеровой морской коровы и
сопоставления с другими сиренами Ф.Ф. Брандт создал ’’идеальное изображение”
25Насколько часто был посещаем о-в Беринга, видно из следующих данных: только с 1747 по
1791 г. остров посетило 70 кораблей, некоторых из них совершили несколько рейсов (Тридцать
первое присуждение учрежденных Демидовым наград, Петербург. 1862, С. 50).
152
стеллеровой морской коровы, представленное в его классических монографиях
(Брандт, 1849, 1866). Наконец академику А.Ф. Миддендорфу удалось найти в Архиве
Академии наук карту путешествия от Камчатки до Северной Америки, составленную
лейтенантом флота Свеном Вакселем, с изображением стеллеровой морской коровы.
Завершая свою первую статью о морской корове, академик К.М. Бэр писал: ’’Русские
естествоиспытатели, которым Георг Кювье говорил, что величайшая услуга, которую
они могут оказать естествознанию, состояла бы в новом расследовании северной
морской коровы, не смогли бы сделать более того, что ими сделано: Стеллер, единст-
венный естествоиспытатель, которому удалось увидеть ее, описал это животное соот-
ветственно требованиям тех времен; Паллас сохранил единственное ея изображение,
а Брандт описал единственный несомненный остаток ея кости. Оставалось только
составить некролог, который мы и сообщаем”.
История открытия и истребления стеллеровой морской коровы оказала большое
влияние на развитие естествознания. Это был первый в историческое время докумен-
тированный учеными случай уничтожения человеком вида млекопитающего. Гибель
стеллеровой морской коровы стимулировала исследования распространения зверей,
она способствовала формированию в общественном мнении ряда стран мысли о необ-
ходимости принятия действенных мер для сохранения животного мира, и, в первую
очередь ценных промысловых видов млекопитающих.
Первым в истории отечественного естествознания такого рода исследования осу-
ществил Г.В. Стеллер, изучивший на о-ве Беринга образ жизни и поведение зверей в
естественной среде их обитания. Много ценных экологических наблюдений привел
Стеллер в описании северного морского котика и калана (рис. 52). Ими, как отметил
проф. Б.М. Житков в своей работе ’’Морская выдра в описании Стеллера”, ’’пользова-
лись многие лица, писавшие о калане” (Житков, 1939. С. 166). В качестве примера при-
ведем некоторые отрывки из работы Стеллера ”0 морских зверях”, касающиеся кала-
на.” [Морские выдры]... одинаково охотно, - писал Стеллер, - проживают и в океа-
не, и на суше; особенно же они предпочитают ради сладкого покоя необитаемые ост-
рова океана, где живут огромными стадами. Для добывания пищи, во время отлива,
они устремляются на места неглубокие, каменистые и богатые водорослями, где на-
ходят и пожирают рачков (gammari), musculi, ракушек (mytulus), брюхоногих (cochlea,
patella), полипов (polypus) и каракатиц (sepia). Водоросли они едят только вынужден-
ные голодом, едят также рыбу raphya acus и рыбку, называемую на камчатском наре-
чии ”викы”, которую весенней порой море выбрасывает в невероятном количестве;
не прочь они и [отведать] мяса; я набрел на выдру, которая поедала мясо другой выд-
ры, брошенной уже без шкуры. Таким образом, это животное надо считать всеядным.
Зимой они лежат частью на льду, частью на берегу, летом заходят в реки, даже доби-
раются до озера и наслаждаются там пресной водой; в жаркие дни они уходят в доли-
ны и в тенистые западины между горами и там, подобно обезьянам, заводят различ-
ные игры; своей веселостью, игривостью и быстротой ног они превосходят всех ос-
тальных земноводных... В беге выдру с трудом может догнать и хороший бегун; она
бежит с разными увертками... На суше они лежат, как собаки, свернувшись; выйдя из
моря, прежде чем заснуть, извергают из себя воду и затем, как кошки, передними
лапами причесываются, приводят в порядок шерсть... Стоя, они держат шею вытяну-
той по одной линии с туловищем, а зад у них вследствие длины задних ног бывает
поднят выше переда. Они плавают и на брюхе, и на боку, и опрокинувшись на спину,
даже стоя в перпендикулярном положении... Совокупление у них происходит незави-
симо от определенного времени, и маток с детенышами можно наблюдать круглый
год; не решаюсь утверждать определенно, щенятся ли они по два раза в год, но я ви-
дел, и не раз убивал маток, у которых бывали два детеныша, один годовалый, а дру-
гой 3-4 месяцев; известно только, что, за редкими исключениями, они мечут не боль-
ше одного щенка; по первому году они не спариваются, но лишь на втором году, вы-
153
Рис. 52. Морские звери
Вверху — калан; внизу — северный морской котик
нашивая плод в течение 8-9 месяцев, и затем мечут детенышей вполне сформировав-
шихся, зрячих и со всеми зубами, только 4 клыка у них бывают еще неполной дли-
ны... Супружеская любовь между ними сохраняется с редким постоянством, и самец
знает только одну самку, и на море и на суше они всегда вместе26; годовалые кошло-
ки, до образования собственной семьи, живут неразлучно с родителями, поэтому ред-
ко можно увидеть самок без годовалых или полуторагодовалых детей. Самки мечут
щенят всегда на суше, и детенышей и в воде и на суше носят всегда в зубах; во время сна на
воде они бережно держат их между передними лапами... они часто бросают их в воду, чтобы
научить плавать, и, когда те устанут, снова берут их к себе, и, как люди, целуют; они подбра-
2бНекоторые современные авторы считают калана полигамным (Барабаш-Никифоров И.И. и др.,
1968).
сывают их вверх и, подкинув, ловят их передними лапами, как мяч; играют с ними
всячески, как чадолюбивая мать может играть с своим детищем, лаская его и милуя;
на суше, когда мать спит, детеныш лежит, прижавшись либо к груди матери, либо к
ее лапам, и чутко ее сторожит. Невероятно какой любовью окружают они своего дете-
ныша: как бы упорно не гнались за ними убийцы-охотники, и на море и на суше они
никогда не выпустят его из пасти разве только в последней крайности и перед смер-
тью, и поэтому часто попадают под удар, хотя могли бы остаться целыми. Я несколь-
ко раз нарочно отнимал у маток детенышей, а их самих не трогал, но они, точно люди,
горько убивались, и когда я уносил раз двух живых детенышей, их матери шли изда-
ли за мной, как собаки, и звали своих детей особенным голосом, похожим на детский
плач; детеныши, услышав матерей, отвечали им таким же голосом...
Совокупляются они, как люди. Зрение их на суше не острое, но они имеют необы-
кновенно тонкое чутье, так что охотиться на них приходится при встречном ветре;
равным образом тонок у них и слух. Голос выдр очень напоминает детский плач, нет
сомнения, что живут они много лет; никогда между собой они не заводят ссор, но, на-
против: живут во взаимной дружбе. Они сильно боятся морских львов и медведей и
не любят общества тюленей; поэтому тех мест, где те собираются в большом числе,
выдры избегают” (Цит. по: Житкову, 1939. С. 183-184).
Из приведенного видно, что Стеллер не только дает интереснейшие экологические
сведения о калане, но и рассказывает о многих поведенческих особенностях зверя,
которые он сравнивает с поведением других зверей. Более того, он сообщает и о пове-
денческих реакциях калана на действие человека. Эта работа Стеллера, насколько
нам известно, наряду с его описанием поведения песцов на о-ве Беринга, которое
приводится в дневнике натуралиста, - первая в истории этологии в России.
Описание териофауны Камчатки. В своей книге ’’Beschreibung von dem Lande Kam-
tschatka” Стеллер описал животный мир этой наиболее отдаленной территории тог-
дашней Российской империи. Он был первым натуралистом, который изучил ее тери-
офауну. (До Стеллера на Камчатке из исследователей был только выдающийся путе-
шественник, географ С.П. Крашенинников, впоследствии академик Петербургской ака-
демии наук).
Фаунистические работы Стеллера, как отмечал еще Б.М. Житков (1939), а затем и
П.А. Новиков(1948. С. 265-285), можно учесть только приблизительно. Причин тому
несколько. При описании зверей Стеллер не применял бинарной номенклатуры (дея-
тельность ученого относится к периоду ’’долиннеевской” систематики) и часто ис-
пользовал местные названия на языке камчадалов, алеутов и коряков. Латинские
названия млекопитающих в дневник ученого были внесены позже П.С. Палласом.
Некоторые названия зверей, которые применял Стеллер, такие, как ’’киты”, ’’мыши”,
не имеют определенного таксономического значения и не могут быть интерпретиро-
ваны однозначно. Все это затрудняет идентификацию упоминаемых ученых назва-
ний млекопитающих. Б.М. Житков отмечал, что ’’понять его зоологическую номен-
клатуру очень трудно”. Идентифицировать зверей, упоминаемых Стеллером, пыта-
лись многие зоологи (С.И. Огнев, Л.С. Берг, Б.М. Житков и др.). Больше всех в этом
отношении сделал канадский зоолог Л. Стейнегер (1851-1943), составивший коммен-
тарий к трудам Стеллера ’’Дневник путешествия в Америку”, ’’Топографическое и
физическое описание о-ва Беринга” и проведший многолетние исследования фауны и
флоры о-ва Беринга и Камчатки (Stejneger, 1936).
Териофауна Камчатки представлена в главах 10 и И сочинения Стеллера ’’Описа-
ние Земли Камчатки”. В гл. 11 ”0 сухопутных камчатских животных” Стеллер не
только дает характеристику териофауны полуострова, перечисляет наземных млеко-
питающих, но и сообщает о встречаемости каждого зверя в местах его распростране-
ния, образе жизни, хозяйственном значении, способах лова. Стеллер приводит 18
наземных млекопитающих, включая собаку; северный олень, медведь, волк, росо-
155
маха, соболь, лисица, песец, горностай, ласка, заяц, сурок, евражка (американский
суслик), речная выдра, каменный баран и 3 вида ’’мышей”27.
Характеристика фауны млекопитающих Камчатки, которую дал Стеллер, хотя она
была составлена на заре формирования териологии как науки в России, была такой
точной, что она сохранялась почти неизменной в течение двух веков. На нее опира-
лись все последующие исследователи фауны Камчатки. Вместе с тем описания Стел-
лера териофауны полуострова никогда не опубликовались на русском языке и мало
известны современным зоологам. Приведем в сокращении некоторые из них.
’’Главными дикими животными на Камчатке, - писал Стеллер, - являются север-
ные олени28, именуемые на р. Камчатке ’’эруем”, а на Большой реке - ’’эльхуаган”.
Они по всей Камчатке водятся в диком состоянии в огромном количестве. Однако
никто, ни .русские, ни ительмены ими не интересуются, отчасти вследствие ценности
и редкости пороха, отчасти же из-за небрежности, так как казаки и ительмены удов-
летворяются рыбою. Эти животные водятся часто и преимущественно в окрестностях
огнедышащих и дымящихся гор... Черных медведей29, называющихся ”гаас”, а на
Большой реке ’’газа”, водится на всей Камчатке неописуемое множество; их можно
видеть целыми стадами бродящими по полям, и они несомненно опустошили бы всю
Камчатку, не будь они ручнее, миролюбивее и добродушнее, чем где-либо на всем
белом свете... Девушки и женщины, наткнувшись на стадо медведей, нисколько от
этого не смущаются. Если и случается, что какой-нибудь из медведей направится к
ним, то он делает это только для того, чтобы отнять у них и пожрать собранные ими
ягоды... Камчадалы убивают медведей стрелами ийи же выкапывают их осенью и
зимою из логовищ, предварительно заколов их там своими копьями... Стеллер сооб-
щает различные, слышанные им от охотников способы охоты на медведей в Сибири и
рассказывает, как охотятся на медведей камчадалы, в частности, он приводит столь
необычный способ лова; слышанный им от аборигенов полуострова, что трудно пред-
ставить, чтобы им когда-нибудь действительно пользовались. ’’Желая взять медведя
в его берлоге, - пишет Стеллер, - камчадалы начинают с того, что для большей вер-
ности запирают его в логове следующим образом: они подталкивают к логову мно-
жество бревен, которые длинее входа в берлогу, затем начинают просовывать туда
одно бревно за другим. Медведь тотчас же хватает бревно и втаскивает его к себе.
Это продолжается до тех пор, пока берлога медведя настолько не наполнится бревна-
ми, что их уже больше туда не входит, а сам зверь не в состоянии не только двигать-
ся, но и повернуться в ней. После этого сверху делается отверстие, через которое
медведя закалывают копьями... Из медвежьей шкуры на Камчатке изготавляют пос-
тели, одеяла, шапки, рукавицы и так называемые ’’алаки” - ошейники для езды.
Очень высоко ценится всеми камчатскими жителями... и медвежатина. Жир с мед-
вежьих кишек туземцы соскабливают и в марте-апреле и мае, когда солнце особенно
сильно отражает свои лучи на снегу... мажут этим жиром свои лица. Благодаря этому
средству камчадалки отличаются белизной и нежностью цвета лица. Казаки затягива-
ют кишками окна своих жилищ, которые становятся от этого такими же чистыми и
прозрачными, как слюденые. Охотники, промышляющие зверобойным на льдах де-
лом, изготовляют из медвежьей кожи сандали и подошвы для обуви, которые отлича-
ются некоторой клейкостью и предотвращают возможность поскользнуться. Плечные
лопатки медведей идут на выделку серпов для резки травы. Головы и подвздошные
27Спустя 200 лет, согласно данным Ю.А. Аверина (1948), в состав фауны Камчатки включено 24
наземных млекопитающих.
2^Цикий северный олень (Rangifer tarandus phylarchus Hollister).
2%урый (камчатский) медведь (Ursus arctos piscator Pucheran). Окраска бывает чисто-черной.
С.И. Огнев сообщал, что "медведей на Камчатке очень много... По словам Батурина, ежегодно
добывается около трех тысяч медведей0 (Огнев, 1931. С. 98).
156
кости медведей вешаются в виде украшений неподалеку от жилищ на деревьях. То-
пленое медвежье сало остается жидким и может заменять деревянное масло для
приправки салата...
Волков30, ’’кюорху”, водится на Камчатке множество. Жители, впрочем, боятся их,
чтут и очень редко ловят. Как по росту, так и по цвету шерстки волки ничем не отли-
чаются от европейских. На Камчатке иногда, хотя и очень редко, встречаются волки
совершенно белые... На Камчатке волки гораздо боязливее, чем в других местах. Из
волчьих шкур туземцы изготовляют штаны и куклянки, мясо же волков бросают
псам.
Росомахи31, называемые ’’тимух”, встречаются на Камчатке, но очень редко, поче-
му они служат предметом ввоза, а не вывоза. Они на Камчатке в большой цене и при-
знаются красивейшим пушным зверем. Их беловато-желтоватые шкуры, которые
считаются у европейцев наихудшими, по мнению туземцев, - самые красивые... В
прежние времена можно было купить белую росомаху рублей за 30-60, потому что за
лоскут ее меха отдавали морского бобра... Около Карачи, Анадырска и Колымы росо-
махи встречаются чаще, и тут они славятся той особой хитростью, с которой они ло-
вят и умерщвляют северных оленей. Стеллер приводит весьма забавный, но неправ-
доподобный, являющийся, скорее всего, вымыслом, способ охоты росомахи на север-
ных оленей. ’’Они подстерегают их, прячась на деревьях, берут мох и раскидывают
его под деревом. Если олень соблазняется таким мхом, росомаха вскакивает ему на
шею и выцарапывает ему глаза, после чего олень, натыкаясь на деревья, в конце кон-
цов гибнет. Затем росомаха весьма тщательно зарывает мясо в разных местах, пряча
его от своих собственных сородичей, причем насыщается им лишь после того, как ей
удалось все спрятать...
Соболей32, называемых близ реки Камчатки ’’кымих хым”, а на Большой реке -
’’хымхымка”, во время покорения этой страны водилось такое множество, что мест-
ные народцы не испытывали ни малейшего затруднения, когда с них требовали упла-
ты ясака соболями... Мужчина мог без особого труда выбрать в течение одной зимы
60-80 и более соболей... Годы, когда на Камчатке появляется много мышей, считают-
ся плохими для ловли соболей и лисиц, потому что тогда звери эти не спускаются с
гор в кедровые и березовые леса, а следовательно, охотникам не видать следы их на
снегу... Соболя не все одинакового роста и качества. Вообще камчатские соболи -
самые крупные среди всех сибирских своих сородичей. Они отличаются дородностью
и имеют длинную шерсть, не особенно, впрочем, темную, почему их вывозят чаще в
Китай, где их окрашивают; чем в Россию... Я сознательно не рассказываю более под-
робно о характере соболя, его ловле и о других относящихся к этому предмету ве-
щах, так как обо-всем этом собирал материал господин доктор Гмелин для особой
диссертации на русском языке... Лисиц33, называемых на Большой реке ’’чашеа”, а на
реке Камчатка - ’’ахсингез”, водилось при прибытии русских на полуостров такое
множество, что они были скорее лишними, чем полезными животными, совершенно
такими, какими у нас на острове Беринга были вороватые песцы34. Они (лисицы) по-
всюду забирались в вонючие ямы с рыбою, поедали корм для собак, причем их убива-
ли палками в самих ямах. Вороватость этих зверей является отчасти причиной соору-
жения туземцами юрт, так как иным способом нельзя уберечь от них [лисиц] никаких
запасов, если оставлять последние на открытом воздухе. Когда в былое время начи-
30Камчатский волк (Canis lupus dybowskii Doman).
3’Камчатская росомаха (Gulo gulo var. albus Kerr).
камчатский соболь (Martes zibellina kamtschadalica Birula).
3камчатская лисица (Vulpes vulpes beringiana Middendorf).
34Командорский пеёец (Alopex beringensis Merriam). Этот зверь имеет мех буро-серого тона с
голубоватым оттенком, отсюда его другое название — голубой песец.
157
нали кормить собак, всегда кому-нибудь с палкою в руке приходилось отгонять ли-
сиц от кормушек. Хотя чернобурые лисицы всегда были редки, тем не менее их еже-
годно еще довольно много поступает в казну... уверяют даже, что напротив Елюторс-
кого залива в двух милях от материка расположен остров, на котором водятся ис-
ключительно чернобурые лисицы, и притом во множестве... коряки очень редко ло-
вят таких лисиц из-за суеверного страха. Лучшие рыжие и длинношерстные лисицы
добываются именно в этой местности. Кроме того, в значительном количестве встре-
чаются на Камчатке серебристые лисицы, так называемые ’’бури” и ’’буринки”, столь
высокоценимые в Северной Америке и Новой Англии... Обычно ловля лисиц на
Камчатке плоха в те годы, когда разводится много мышей, или когда зима бывает
теплою, потому что в теплые зимы лисицы могут докопаться до земли и находят на
берегу рек гнилую рыбу. Зато в осеннее время, когда половодье заливает берега и
уносит рыбу, так что лисицы не находят корма, они алчно кидаются на приманку и
попадают в капканы, с помощью которых их на Камчатке только и ловят; лишь не-
многие выслеживают в норах и выкапывают из них. В окрестностях Лопатки и вблизи
моря ительмены с недавнего времени стали убивать лисиц специально приспособлен-
ными для этого стрелами. Они укрепляют деревянный натянутый с помощью неболь-
шого колыша лук к вбитой в землю палке и кладут на него стрелу на прямой линии с
веревочкой, натянутой через дорогу на лисьем следу и также укрепленной в земле с
помощью колышка. Лишь только лисица прикоснется передними лапами к веревоч-
ке, тетива лука спускается, стрела попадает обычно прямо в сердце, и лисица остает-
ся тут же на месте со стрелою в теле. У туземцев есть особая мерка для определения
высоты положения стрелы и мерка эта сообразуется с ростом лисицы, иначе они ста-
вят эти стрелы на других зверей... У жителей мыса Лопатки существует еще другой
способ поимки лисиц: прикрепив снизу к куску дерева много согнутых в виде петли
штук китового уса, они размещают эти дуги правильным кругом на снегу и сажают
внутрь круга чайку; охотник же подстерегает добычу, сидя в особой яме. Как только
лисица прыгнет за чайкой внутрь круга, чтобы схватить ее, охотник при помощи ве-
ревки стягивает дуги, охватившие частью туловище, частью лапы лисицы и не выпус-
кающие ее; затем охотник приканчивает зверя дубинкой. Ительмены заимствовали у
русских способ отравления лисиц на тропах; но они до сих пор еще не вполне научи-
лись этому, тем более, что им не хватает отравы. Вдобавок здешние лисицы не так
легко, как их сибирские сородичи, хватают приманку, чему причиною, вероятно, оби-
лие пищи на Камчатке; если же в ней ощущается у них недостаток во внутренних
частях страны, они везде найдут у моря достаточное количество корма в виде выбро-
шенных волнами ракушек, рыб и зоофитов.
Горностай35 встречается на Камчатке, но их там немного, вследствие недостаточ-
ности лесов; в горах же горностаи не могут уберечься от других зверей, вроде лисиц
и соболей. Поэтому они и попадаются исключительно вблизи моря, но никто не дает
себе труда ловить их.
Ласочки (ласки/6 встречаются также, особенно в амбарах и домах, где они с успе-
хом охотятся на мышей.
Песцов37, или белых лисиц, встречают вблизи моря в большом количестве, но ни-
кто не думает их ловить, так как за их шкурки платят не более 10 коп. за штуку;
вследствие чего их не вывозят. Тех же песцов, которые попадают в лисьи капканы
или погибают от стоячих стрел, казаки и жители камчатские употребляют как под-
кладку к кухлянкам.
камчатский горностай (Mustela erminea kamtschadalica Dybowski).
3^Ласка — Mustela nivalis pygmea J. Allen.
3^1есец — Alopex lagopus Linn.
158
Песец. Широкое распространение на Камчатке песца отмечал консерватор Зоологи-
ческого музея Академии наук Г. Вознесенский. Академик А.Ф. Миддендорф (1856)
писал: ”В Камчатке, как сообщил мне изустно Г. Вознесенский, песец живет во всей
западной части полуострова до самых южных его оконечностей, а в восточной - по
большей части до мыса Укинского”. В 20-е года XX в. из-за интенсивной охоты чис-
ленность песца по Восточному побережью Камчатки значительно снизилась (Огнев,
1931. С. 264). А уже в 40-х годах в Кроноцком заповеднике песца не было (Аверин,
1948).
Зайцев36 разводится в некоторые годы огромное количество, чаще всего они попа-
даются на реке Камчатке, реже вблизи Пенчинского моря. Но их берут только тогда,
когда они случайно попадают в лисьи капканы, причем жители ценят не столько мех,
идущий на одеяла, сколько заячье мясо, идущее в пищу.
Тарпаганов* 39, или сурков, можно встретить как на Лопатке, так и на Тигиле. Жите-
ли, однако, и их не очень стараются ловить, а если они попадаются им в руки, то мясо
этих зверьков предпочитают их плохим шкуркам.
Еврашек, или маленьких сурков40 *, так называемых пичуг, можно встретить очень
часто около Пенчинского моря за Тигилом, равно как внутри Кроноцкого мыса. Ко-
ряки очень усердо ловят их отчасти из-за шкурок, из которых выделывают шапки,
куклянки и рукавицы, весьма ценимые за их легкость и теплоту... Этих зверьков
встречал я также на материке Америки и ее островах. Животные поднимаются на зад-
ние лапки, подобно хомякам и белкам, и держат в передних пищу. Они едят коренья,
ягоды и кедровые орехи. Издают очень громкий свист; это весьма забавные и провор-
ные зверьки.
Каменные бараны или мусимонь/*1, именуемые на Большой реке ’’гадинахчу” и у
Нижнего острога ’’кулехм”, - животные в Европе совершенно неизвестные: они во-
дятся большей частью на вершинах гор, начиная от Красноярска и вплоть до
Камчатки, встречаются очень часто особенно на последней и даже на прилега-
ющих к ней островах до Матмеи. Осенью, когда выпадает первый снег, их
отчасти травят собаками, отчасти стреляют из ружей или луков. Жители мыса Лопат-
ки и Курильских островов ставят против них самострелы, а затем травят их собака-
ми, так что бараны становятся жертвами выстрелов. Эти животные встречаются от
берега моря до высокогорья включительно. Выше пояса кустарников редок. Распро-
странен по всему полуострову в изобилии. Летом и зимою они пребывают на самых
высоких горах и питаются там, подобно северным оленям, мхами, кореньями и трава-
ми. Осенью они особенно жирны. Как и у северных оленей, слой жира и у них достига-
ет толщины в 2-4 пальца. Как их мясо, так и жир отличны и на вкус приятны. Их
крупные рога идут на поделку всевозможных вещей: ительмены и коряки пользуют-
ся этими рогами как сосудами для питья, вырезывают из них поварешки, мелкие
ложки, ящики для хранения табака, рог, идущий на эти предметы, они умеют путем
варки сделать мягким и вполне пригодным для приготовления таких вещей. Шкуры
мусимонов идут на одеяла, постели, куклянки и брюки; шерсть этих баранов похожа
на оленью.
Выдры42 водятся в большом количестве, и шкуры их оцениваются в 1 руб. - 1 руб.
20 коп. штука. Чаще всего на выдр охотятся зимою с собаками, когда эти звери в пору
З^3аяц-беляк — Lepus rimidus gichiganus J. Allen.
3^1ерношапочный камчатский сурок — Marmota camtschatica camtschatica Pallas.
40Американский берингийский суслик (Citellus parryi stejnegeri J. Allen). Широко распространен
на Камчатке (Костенко, 1984, в кн.: Наземные млекопитающие Дальнего Востока: Определитель.
М.).
4хКамчатский снежный баран (Ovis canadensisnivicola Eschscholtz). Распространен в горах Камчатки
(Аверин, 1948; Бромлей, 1984. С. 350—352).
4%ыдра — Lutra lutra lutra Linn.
159
метелей и вьюг удаляются от рек и им случается заблудиться в лесах. Шкуры выдр
служат предметом вывоза главным образом для того, чтобы в них хранить собольи
шкурки, которые лучше сохраняют от этого свою окраску, кожа водяного зверя впи-
тывает в себя влагу всякую и сырость.
Среди водящихся на Камчатке в диком состоянии животных не последнюю роль в
смысле оказываемой человеку пользы играют мыши. В образе их жизни наблюдается
много любопытного. На Камчатке существует три разновидности мышей.
К первой относятся те, что цветом рыжеваты, обладают совсем коротким хвос-
том, ростом же не больше крупных домовых мышей в Европе; их призывный крик
отличается от звуков, издаваемых прочими мышами и скорее походит на хрюканье
поросенка, чем на мышиный свист.
Один вид мышей на Камчатке на Большой реке называется ’’наусчич”, на реке
Камчатке - ’’тэгульчич”43, мелкий вид ’’четанаучу”44 45, красная мышь. Этот последний
вид ведет себя среди сородичей, подобно шмелю, среди пчел, не собирая никаких
запасов, но воруя их у других мышей; мыши, называемое ’’тэгульчич”, на реке Кам-
чатке живут семействами, вдали от своих кладовых, в особых норах, плотно выло-
женных сеном. Их норы и входы в них нелегко найти; обычно их обитатели находят-
ся в таких местах, где почва рыхла и подгибается. У этих мышей по 2-3 кладовых,
представляющих собою круглые, котловидные ямы. В ясную солнечную погоду эти
мыши извлекают все свои запасы из нор, сушат их и очищают: очистки они складыва-
ют отдельно в кладовые, на случай нужды, очищенное же кладут отдельно; ни один
человек не сумел бы лучше очистить и содержать в большей опрятности свои припа-
сы. Между прочим они собирают все, что производит земля, причем каждый материал
они укладывают отдельно и отлично это все сохраняют. Пока им удается находить
корм в поле, они не трогают свои зимние запасы, зимою же начинают с ягод и плодов,
которые невозможно долго сохранять, и едят их первыми. Весною нередко можно
найти в ямах рядышком лежащие трупы 2-3 мышей с совершенно вздутыми от корня
napellum телами. Этим ядовитым растением они во время голодовки быстро кончают
с жизнью.
Другой вид, называемый ’’челагачич”44, - мышь совсем маленькая... и ручная,
часто встречающаяся в домах, где она бегает без всякой опаски; она питается тем, что
ей удается стащить. Эти мыши издавна водятся на Камчатке и называются в окрест-
ностях реки Камчатки ’’челагачич” и живут повсюду на торфяниках, в лесах, на са-
мых высоких горах, живут всегда попарно в очень вместительных норах, внутри
плотно утрамбованных и выложенных травою. Повсюду окодо этих обиталищ у них
устроены кладовые, которые они наполняют всевозможными кореньями; в течение
всего лета они усерднейшим образом заняты сбором, доставкою в свои кладовые про-
вианта. Тем не менее они иногда в глухое зимнее время отправляются на открытые
поля, порою же пробираются в дома и жилища людей. Когда же при возвращении они
не смогут попасть обратно в свои занесенные снегом норы, то становятся добычей
лисиц и соболей”.
Стеллер отметил характерную особенность териофауны Камчатки - отсутствие
летяги, белки и бурундука. Он писал: ’’Начиная с Пенчина (река Пенжина), нигде не
встречаются бурундуки и белки, равно как не видно и летающих белок, хотя они
нашли бы на Камчатке корм в изобилии. Происходит это оттого, что обширные совер-
шенно оголенные торфяные пространства, отделяющие Камчатку от азиатского мате-
рика, препятствуют их приходу сюда”.
43Тэгульчич — полевка-экономка Microtus ratticeps kamtschaticus Poljakov.
44Четанаучу — вид грызуна неизвестен.
45Челагачич — вид неизвествен. Может быть, это — красная полевка, Clethrionomys rutilus jochel-
soni J. Allen.
160
Своеобразие видового состава млекопитающих Камчатки, отсутствие в ней многих
типичных таежныхвидов зверей Восточной Сибири, отмеченное Стеллером, легло в
основу будущих представлений о характерной фауне этого полуострова.
Зоологические исследования Стеллера, в том числе и териологические, относящи-
еся к фаунистике, в последующем были использованы русскими учеными. ’’Всего
ранее и притом очень широко, - отмечал П.А. Новиков (1948), - использовал их со-
участник знаменитого натуралиста по Второй Камчатской экспедиции Беринга, тогда
еще студент, а впоследствии адъюнкт Петербургской академии наук С.П. Крашенин-
ников... При составлении своей книги молодой натуралист очень широко использо-
вал манускрипты Стеллер. К этому его побудило решение Академической канцеля-
рии от 1 марта 1751 года по вопросу об издании его труда. Конференция не только
предложила Крашенинникову внести ряд изменений в рукопись, но и обязала вклю-
чить в нее материалы камчатских исследований Стеллера, что и было выполнено в
том же году. Особенно широко он использовал материалы из тогда еще не опублико-
ванного труда Стеллера ’’Beschreibung von dem Lande Kamtschatka” (а отчасти и из его
дневника поездки в Америку), в чем можно убедиться путем прямого сопоставления
текстов... (Новиков, 1948. С. 276) в своей книге ’’Описание Земли Камчатки” (она до
революции была дважды переиздана). Крашенинников при описании зверей много-
кратно ссылался на Стеллера, что способствовало популяризации имени Стеллера в
русском обществе.
Многие зоологические рукописи Стеллера оставались неопубликованными; но они
были использованы в трудах академиков И. Георги, В.Г. Тилезиуса и П.С. Палласа.
Паллас в своем труде ’’Zoographia Rosso-Asiatica”, подводящем итог исследований
фауны России, многократно ссылался на Стеллера, а характеризуя кита, привел пол-
ный текст его описания Стеллером.
Значительный интерес представляют и теоритеческие воззрения Стеллера, способ-
ствующие формированию в России общебиологических представлений. Труды Стрел-
лера пронизывает идея о глубоком взаимодействии всех явлений природы, о тесной
связи распределения и существования морских и наземных млекопитающих с клима-
тическими условиями и средой обитания. Стеллер многократно подчеркивал удиви-
тельную приспособленность к условиям обитания, проявляющуюся как во внешних
признаках животных, так и в строении их внутренних органов.
Стеллер в труде ”De bestiis marinis”, во введении изложил свои взгляды на природу
изменчивости некоторых повсеместно распространенных видов млекопитающих.
’’Некоторые виды, - писал он, - распространены повсеместно. Однако они могут
изменяться в зависимости от того, встречаются ли они в более холодных или жарких
местах, и в зависимости от питания. Отличия могут заключаться иногда только в
размерах или окраске, в толщине или длине волос. Длительная привычка изменяет в
конце концов внешний облик. Если подобное животное будет вновь перенесено в
иную климатическую зону, то оно снова утрачивает свой измененный облик и возвра-
щается к первоначальному состоянию. Подобным образом европейские лошади, по-
павшие в Сибирь, становятся постепенно все меньше размером, но значительно вы-
носливей. Если их завести еще дальше - в Индию или Китай, они становятся еще
более стройными и миниатюрными и со временем превращаются совсем в особый вид.
Якутские вьючные животные, попавшие на Камчатку, становятся не только более
крупными, но и более плодовитыми. То же самое происходит, когда якутские живот-
ные попадают в Архенгельск. Английские овцы, перевезенные в Швецию ради свойст-
венной им превосходной шерсти, за короткое время изменили не только свою шерсть,
но и размеры. Тот, кто знаком с этим явлением и пытается разводить в Сибири заве-
зенный из чужих областей скот, получит бесчисленное количество разновидностей,
которые могут быть приняты за виды” (Там же).
Стеллер первым в отечественном естествознании показал, что причиной измене-
11. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
161
ния некоторых внешних признаков животных (цвета волос, размера тела) являются
различные климатические условия и источники питания, характерные для разных
географических зон и местообитаний. Эти изменения, как верно подметил Стеллер, у
животного, перенесенного в иную климатическую зону в течение времени могут ока-
заться столь резкими, что это животное может быть принято за новый вид. Стеллер,
однако, не был эволюционистом, как и большинство его современников, он был сто-
ронником креационизма и объяснял приспособленность животных к среде обитания
телеологически.
Стеллер отметил и такую характерную особенность изменчивости, вызванной кли-
матическими и пищевыми факторами, как ее неспособность передаваться по наслед-
ству и вследствие этого легко утрачиваться при перенесении животного в исходную
среду обитания. Эти мысли Стеллера получили в дальнейшем развитие в трактате
”06 изменчивости животных” академика П.С. Палласа, привлекшем внимание
Ч.Дарвина.
Стеллер первым в отечественной зоологии отметил тесную связь окраски зверя, в
частности белки, с ее местообитанием. ’’Следует только обратить внимание, - писал
он, - на белок, которые на реке Обь становятся крупными и имеют длинную белова-
то-серую шерсть. Напротив, в Обдорске размеры из тела уменьшаются на одну треть,
волосы становятся более толстыми и короткими. В Баргузине они становятся черны-
ми, в Верхоянске приобретают пеструю черную с серым окраску. Различия в длине и
густоте волос зависят от климата, различия в их окраске связаны с пищей. Там, где
лиственницы не теряют листву и где обычны кедры и пихты, там шерсть имеет пе-
пельно-белую окраску. В местах, где лиственницы теряют листву и где растут ели,
окраска волос черная” (Steller, 1753. Введение). Хотя в приведенном примере глав-
ным фактором изменения волосяного покрова служит скорее климат, а не пища, так
как там, где лиственница теряет листву, иглы, холоднее, это нисколько не умаляет
поразительной прозорливости Стеллера - первого в России зачинателя экономичес-
ких исследований млекопитающих.
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 1768-1774 гг.
ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕРИОЛОГИИ
Вторая половина xVIII в. ознаменована многочисленными экспедициями (1768—
1774 гг.), организованными Петербургской Академией наук. Они охватили огромные
пространства нашей страны - от Белого моря до Кавказа, от Белоруссии до отдален-
нейших районов Восточной Сибири. Обследование обширнейших территорий, выяс-
нение их природных ресурсов, экономики было насущной потребностью России,
ставшей в середине XVIII в. твердо на путь товарного производства.
Непосредственным поводом для проведения академических экспедиций 1768-
1774 гг. послужило редкое астрономическое явление - в 1769 г. путь Венеры прохо-
дил ”по диску Солнца”. Петербургская Академия тщательно готовилась к этому
событию. Было решено исследовать его не только в Петербургской обсерватории, но и
в ряде пунктов: на Крайнем Севере, на Урале и в Сибири, куда предполагалось
послать астрономов, а также экспедиции натуралистов для ’’физических”, т.е. естест-
венноисторических наблюдений.
’’Физические” экспедиции, согласно академическим инструкциям, должны были
проводить комплексное изучение природных ресурсов обследуемых районов: выяв-
лять особенности рельефа, географического положения, геологического строения,
климата, почв, растительного и животного мира. Одной из важных задач экспедиции
было выяснение занятий населения (хлебопашество, животноводство, рыбная ловля,
бортничество), оценка экономического положения районов. Путешественникам
надлежало также изучать культуру и быт народов, населявших эти территории,
описывать исторические памятники, вести этнографические исследования, собирать
фольклорный и картографический материал. Одним из важных факторов успешного
осуществления экспедиций была их тщательная подготовка и организация. Были
разработаны маршруты, составлены планы работ, специальные инструкции, подобра-
ны руководители экспедиционных отрядов.
Первоначально было намечено проведение экспедиции в Оренбургскую и Астра-
ханскую губернии. Однако объем планируемых работ оказался настолько велик, что
вскоре стала очевидна необходимость организации пяти экспедиций: трех оренбург-
ских и двух астраханских. Руководителями их были назначены академик П.С. Пал-
лас, адъюнкты Академии И.И. Лепехин, И.А. Гильденштедт (впоследствии академи-
ки), академик С.Г. Гмелин и профессор И.П. Фальк. Участники экспедиции обязаны
были вести регулярные записи в журналах или дневниках, составлять ’’реестры”
коллекций животных, растений и минералов, писать отчеты о проделанных наблюде-
ниях и систематически пересылать все эти записи в Петербург.
Каждая экспедиция была укомплектована несколькими выпускниками Академи-
ческой гимназии для проведения научных работ, чучельником, рисовальщиком,
а также обслуживающим персоналом - егерем и кухаркой. Для охраны каждому
отряду были приданы солдаты. Для оказания помощи путешественникам в соответ-
ствующие губернии заранее были разосланы специальные распоряжения, обязывав-
шие губернские власти содействовать участникам экспедиций в их исследованиях.
Академические путешествия 1768-1774 гг. сыграли важную роль в изучении при-
163
родных богатств восточных районов России, их экономики, внесли существенный
вклад в различные области науки. Важнейшее значение имели они и для становления
отечественной териологии. Была изучена териофауна ^России, открыто много новых
видов млекопитающих, описан их образ жизни, распространение. Собранные богатей-
шие коллекции животных составили основной фонд Кунсткамеры, которая становит-
ся учреждением, где выполняются научные работы по зоологии. Эти коллекции
животных и путевые записки академиков явились базой для последующего развития
териологии. Успех академических экспедиций во многом был связан с участием в
них академиков И.И. Лепехина, И.А. Гильденштедта, С.Г. Гмелина и крупнейшего
натуралиста XVIII в. академика П.С. Палласа.
И.И. ЛЕПЕХИН. ОПИСАНИЕ ЗВЕРЕЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ
Иван Иванович Лепехин (1740-1802) - известный русский путешественник-натура-
лист, академик Петербургской и непременный секретарь Российской Академии наук
родился 10 сентября 1740 г. в Петербурге, в семье отставного солдата лейб-гвардии
Семеновского полка Ивана Сидоровича Лепехина1.
Солдаты Семеновского полка имели ряд привилегий, в частности они имели право
дать своим детям не только начальное, но и высшее образование. Дети солдат, как и
дети дворян, должны были являться по достижении семи, двенадцати и шестнадцати
лет в герольдмейстерскую контору на смотры, учреждение ’’для разбора недорослей
и определения их в учебные заведения”. И.С. Лепехин привел своего сына в герольд-
мейстерскую контору, когда ему было восемь лет, где ему было велено привести
мальчика на осмотр по достижении им 12 лет, обратив внимание на необходимость
основательного изучения русской грамоты. Когда мальчику исполнилось десять
лет, отец, видя его большое рвение к учебе, не стал дожидаться очередного срока,
привел его в герольдмейстерскую контору, где сына признали подготовленным по
русской грамматике, и обратился в Академическую Канцелярию о принятии сына в
гимназию. В журнале Академической Канцелярии от 24 сентября 1750 г. написано:
”Он, Лепехин, российской грамоте читать и писать изучился, а ныне он желает обу-
чаться иностранных языков, как-то: латинского и французского, и просит о принятии
его в Академию в ученики с определением жалованья”. Канцелярия Академии наук
ответила, что принять его в гимназию на казенное содержание без указа Сената не
может. Лепехин подал прошение в Сенат, который и дал десятилетнему мальчику
желаемое разрешение, 29 марта 1751 г.: ’’Недоросля Ивана Лепехина, который в
герольдмейстерской контроле явился ко второму смотру и сказкою показал: от роду
ему десять лет, не из дворян, солдатский сын, грамоте российской и писать обучен;
крестьян за ним нет, а имеет отец его в Симбирском уезде поместной земли двадцать
четвертей, определить в десианс академии в ученики” (Сухомлинов, 1875. С. 157-
160).
Начались ученические годы И.И. Лепехина. Как и другие ученики, состоявшие на
казенном содержании, Лепехин жил при гимназии, испытывая острую нужду, холод,
постоянное недоедание. М.В. Ломоносов в одном из рапортов руководству Академии
наук докладывал, что ’’гимназисты ходят в бедных рубахах, претерпевают голод и
стужу и стыдно их показывать посторонним людям, притом пища их крайне бедная,
хГод рождения И.И. Лепехина точно не установлен. Академик Иноходцев указывает 1737 г.
По ведомости о смерти на Волковском кладбище, где показано, что Лепехину было 70 лет (в
1802 г.), следует, что он родился в 1732 г. Академик Сухомлинов считает годом рождения И.И. Ле-
пехина 1740 на основании записи в делах Архива Конференции Академии наук, где в графе "когда
кто родился" значится, что "Лепехин родился 10 сентября 1740 года".
164
иногда хлеб да вода”. Лепехин, как и Ломоносов, прожил в гимназии полных лише-
ний девять лет. Только в феврале 1758 г. жалованье Лепехину было увеличено с 12 до
30 руб. в год.
По окончании гимназии Иван Иванович Лепехин, успешно выдержавший экзамен
(он был вторым), был зачислен в студенты. Указ Академической Канцелярии от
19 января 1760 г. гласил: ’’Быть Ивану Лепехину студентом, дать ему шпагу и при-
вести к присяге”. В академическом университете Лепехин пробыл 2,5 г. За это время
он прослушал курсы философии, риторики, химии, прекрасно овладел латинским
языком.
В 1762 г. в связи с приказом М.В. Ломоносова, обязывавшим студентов старших
курсов избрать интересующую их специальность для более глубокого овладения ею,
Лепехин заявил, что его более всего интересует естественная история, а поскольку в
Академии наук не было такого ’’профессора, который бы мог обучать его сей науке”
(Сухомлинов, 1875. С. 168), то просил Академию наук направить его за границу для
довершения образования в области естественной истории. Экстраординарное собра-
ние Академии наук обсудило этот вопрос и постановило: ’’Студента Лепехина
отпустить для обучения истории натуральной либо в Упсале к славному К. Линнею,
либо в какую-нибудь иную иностранную академию, потому что он в фундаменталь-
ных науках и в языках нарочитые успехи имеет, да сверх того, он понятен и добро-
нравен” (С. 170).
Руководствуясь политическим положением, сложившимся тогда в Европе: шла
Семи летняя война (1756-1763)2, Академическое Собрание признало нужным, ’’чтобы
студент Лепехин и переводчик Поленов посланы были с адъюнктом Г. Протасовым
в Страсбург, потому что там от воинских действий спокойно, и дешевле жить, нежели
в Саксонии” (С. 170). В сентябре 1762 г. Лепехин, Поленов в сопровождении адъюнкта
филологии Академии Протасова, который собирался защитить в Страсбургском
университете докторскую диссертацию, направились из Кронштадта в Страсбург на
одном из иностранных кораблей. Это плавание чуть не кончилось гибелью русских
путешественников. При переходе из Гамбурга в Амстердам корабль попал в сильный
шторм и пошел ко дну, наши путешественники с трудом добрались до берега. В
Страсбург они прибыли на лошадях во второй половине ноября (Лукина, 1965.
С. 12).
Страсбургский университет считался тогда одним из лучших в Европе. В нем
преподавали тогда такие европейские светила, как профессор истории И.Д. Шепфлин
(1694-1771)3, снискавший славу Страсбургскому университету, профессор естествен-
ной истории Ж.Ф. Герман (1738-1800)4. Кювье в своей истории естественных наук
указывал на важное значение трудов Германа, особенно его книги о сродстве живот-
ных. Медицину, химию и ботанику преподавал известный натуралист профессор
Я.Р. Шпильман (1722-1783).
Лепехин слушает лекции профессора анатомии, хирурги и медицины И.Ф. Лоб-
штейна, изучает под его руководством физиологию, с помощью профессора И. Пфеф-
фингера овладевает анатомией. Кроме того, Лепехин проходил курс эксперименталь-
ной физики у профессора Я.Л. Шурера.
2В Семилетней войне Россия участвовала в союзе с Францией и Австрией против Пруссии, Анг-
лии и некоторых германских государств.
’’При учреждении Академии наук в Петербурге Я. Шепфлину было предложено от имени Ека-
терины II место профессора истории и звание императорского историографа. Страсбургские власти
употребили много усилий, чтобы удержать у себя знаменитого ученого. Студент Гёте писал о
Шепфлине, что само пребывание такого ученого в университете возвышает и облагораживает все
окружающее.
4Герман основал Ботанический сад и кабинет естественной истории, который богатством экспо-
натов вызывал удивление современников.
165
Непосредственным руководителем Лепехина был профессор Шпильман. Его лек-
ции отличались исключительной ясностью и последовательностью. Шпильман занятия
со студентами не ограничивал лекционными курсами и практикумами в музее
естественной истории. Он организовывал экскурсии, водил студентов в горы, зна-
комя с местной флорой и фауной5.
Лепехину было вменено в обязанность регулярно посылать в Академию наук
рапорты, в которых он должен был отчитываться о занятиях, лекциях, проводимом
им времени, вне стен университета, присылать отзывы профессоров о его успехах в
учебе и поведении и тл. Эти документы показывают, как прилежно относился Лепехин к
изучению естествознания и медицины, посвящая все свое время овладению навыками соби-
рания гербариев, препарирования животных, приготовления анатомических препаратов и
тл. Так, в одном из рапортов в Канцелярию Академии наук от 8 декабря 1763 г. Лепехин пи-
сал: ”Во время ботанических наставлений, как с Г[-ном] профессором Шпильманом, так и
собственным любопытством, собрал 519 разных трав, которые, высушив и приклеив на бу-
магу, расположил по системе Г[-на] Линнея. В продолжение физиологического курса для
большего успеха в сей части медицины, сколько случай допустить мог, делал опыты над жи-
выми животными”-
По отзыву профессора И.Ф. Лобштейна, Лепехин ’’ревностно изучающий физиоло-
гию, приобрел в этой науке сведения, выходящие из ряда обыкновенных”. Такие же
высокие оценки успехов Лепехина давали профессора Шпильман, Герман, Шурер,
Пфеффингер, Шепфлин. Успешные занятия Лепехина побудили Академию продлить
его пребывание в Страсбургском университете- еще на один год для более углублен-
ного изучения им медицины. И.М. Лепехин своим прилежанием и способностями,
мягким и приветливым характером, естественно, не мог не вызывать у профессоров
университета заслуженного уважения. Многие из них, как уже поминалось, высоко
оценивали успехи Лепехина, а Я.Р. Шпильман, непосредственно опекавший его, даже
счел своим долгом направить в Петербург в Академию письмо, в котором не только
дал высокую оценку способностям и знаниям Лепехина, но и рекомендовал его в
качестве профессора на кафедру ботаники и естественной истории, в Петербургской
Академии наук эта кафедра в течение нескольких лет оставалась вакантной.
В 1776 г. И.И. Лепехин написал докторскую диссертацию на тему ”06 образовании
уксуса” (Лукина, 1965. С. 20-23), в которой изложил известные тогда способы произ-
водства уксуса. Он успешно ее защитил перед Ученым советом Страсбургского
университета, присвоившим ему звание доктора медицины.
Летом 1767 г. Лепехин выехал из Страсбурга в Россию. По дороге он посетил Гол-
ландию, побывал в Лейдене, где познакомился с видными натуралистами: Гаубием
(1705-1780), одним из выдающихся анатомов того времени Альбином (1697-1770),
профессором философии и естественной истории Алламаном (1713-1787), дирек-
тором лейденского ботанического сада Ван-Роеном. Из Лейдена Лепехин переехал в
Амстердам, сел на голландский корабль и в октябре 1767 г. возвратился в Петербург.
По приезде в Петербург молодой доктор медицины по решению Академии наук
подвергся своеобразному ’’экзамену”. Академия наук очень ревниво и с большим
недоверием относилась к успехам своих питомцев, особенно русских. Поэтому она
поручила профессорам Гмелину и Палласу ’’ласково и пристойным образом” осви-
детельствовать знания И.И. Лепехина и представить Комиссии мнение об его успехах.
Однако упомянутые профессора объявили, что более пристойно будет поручить
Лепехину сделать описание некоторых натуральных вещей, взятых из Кунсткамеры
(пять млекопитающих, три птицы и несколько трав). Выполненное Лепехиным описа-
5Петербургская Академия наук, ценя заботливое отношение профессора Я.Р. Шпильмана к рус-
ским студентам, находившимся за границей, избрала его своим Почетным членом (1763).
166
ние предметов получило общее одобрение, и в 1768 г. он единогласно был избран
адъюнктом Академии наук.
Вскоре после приезда И.И. Лепехин был назначен руководителем одной из акаде-
мических экспедиций, отправлявшейся в 1768 г. для изучения Оренбургской губер-
нии. Экспедиция была предпринята, как писал Лепехин, ’’для испытания естествен-
ных вещей в обширном нашем отечестве... Мы всем снабжены были, что к нашему
одобрению, облегчению путешествия и к нужному везде вспомоществованию в пред-
приемлемых нами делах требовалося... В Оренбургскую посылку назначены были
трое, академик Паллас, профессор Фалк6 и я. Жребий пал на меня открыть нашему
сообществу путь; итак, я 8 июня оставил Санкт-Петербург” (Лепехин, 1771. Ч. 1.
С. 1-2). В состав экспедиционного отряда Лепехина входили: студенты Нико-
лай Озерецковский (в будущем академик), Андрей Лебедев, Тимофей Мальгин,
художник Михайло Шалауров и чучельник Филипп Федотьев, один егерь; экспедицию
сопровождали два солдата.
Во время путешествия И.И. Лепехин вел дневник, где отмечал все, что привлека-
ло его внимание по пути следования, составивший основу его знаменитого труда
’’Дневные записки путешествия по разным провинциям Российского государства”.
Путь экспедиции Лепехина был следующим: Петербург - Москва - Владимир -
Муром - Арзамас - Ставрополь - Симбирск (рис. 53). В Симбирске Лепехин провел
зиму 1768-1769 г. П.С. Паллас и И.П. Фальк также остались в Симбирске на зимовку.
Это дало возможность ученым согласовать планы своих дальнейших путешествий. Из
Симбирска экспедиция Лепехина направилась в Сызрань, затем Саратов - озе-
ро Эльтон - Дмитриевск - Царицын - Черный Яр. Лепехин намеревался из Черно-
го Яра перебраться на Яик (Урал) через степь, но этот план оказался неосуществи-
мым, так как в степях тогда кочевали бунтовавшие калмыки, а казаки находились
в разъездах. Поэтому он вынужден был ехать в Астрахань - Красный Яр - Гурьев.
Переход из Красного Яра, небольшого городка около Астрахани, в Гурьев пришелся
на середину августа, очень засушливое время года, и путешественники сильно стра-
дали из-за отсутствия в степи пресной воды. ’’Нам оставалася только одна ночь пере-
ночевать в степи: но там и каждый час казался годом. Мы все ползали по степи и
искали росяныя капли; но и та казалася нам к умножению нашея нужды перерожден-
ною: ибо она столь же была солона, как бы и в лучшем Култуке. С начала приписы-
вали сие соляным травам, которыми вся степь была покрыта: но наше заблуждение
решено было тем, что павшая роса на наши вещи ... такого же соленаго была вкуса ...
Теперь не трудно изтолковать и то, для чего нас жажда более мучила на перемюте,
нежели на песчаной части степи: ибо она изобиловала пресною водою, которая, без
сумнения, соленые пары размывала. Сие особливое и, сколько мне помнится, еще
никем непримеченное явление соленых паров заслуживает большого внимания и
дальнейших опытов ... а нам тогда было не до паров, но до спасения нашея жизни:
ибо мы с трудом могли дотащиться до Яика и омыть просольныя наши губы пресною
водой. Сколь томна была для нас Яицкая степь, столь приятно ея возпоминание...
Самое приятнейшее позорище представляли глазам нашим сайгаки или дикия козы,
который неизчисленными табунами прибегали к морским проранам для утоления
жажды. Сие степное и борзое животное так легко бегает, что трудно, думаю, его
нагнать и самой лучшей борзой собаке... Я никогда их не видел лежащих, но всегда в
безпристанном бегании, в котором они и насыщалися” (С. 498).
18 августа Лепехин добрался до Гурьева, затем поднялся вверх по Уралу до Орен-
бурга, оттуда - в Табинск, расположенный на р. Каме. В Табинске Лепехин провел
зиму 1769-1770 г. В мае 1770 г. И.И. Лепехин оставил Табинск и отправился вверх по
р. Белой, двигаясь по ее левому берегу. 24 июля он прибыл в Екатеринбург.
бИоганн П. Фальк (1727-1773).
167
Рис. 53. Карта путешествий И.И. Лепехина
1 — путь экспедиции 1768—1772 гг.; 2 — экспедиция 1773 г.; 3 — города
В подорожной, которую И.И. Лепехин получил от Академии наук, был указан
следующий маршрут: Москва - Симбирск - Самара - Царицын - Гурьев - Орен-
бург - Екатеринбург - Тобольск. Тобольск был означен как конечный пункт его
путешествия, от него был намечен путь возвращения экспедиции: Верхотурье - Соли-
камск - Хлынов (Вятка) - Казань - Нижний Новгород - Ярославль (Таранович,
1934. С. 351-352).
Однако до Тобольска И.И. Лепехин не доехал. Он остановился в Тюмени, где
провел зиму 1770-1771 г. В Тюмени он составил план дальнейшего путешествия,
предусматривавший возвращение экспедиции через Архангельск и ’’собирание
сведений о продуктах Белого моря”, который и переслал в Академию наук. Решение
изменить маршрут, видимо, было продиктовано тем, что в течение трех лет пути
экспедиций И.И. Лепехина и П.С. Палласа проходили практически по одним и тем же
местам, что отрицательно сказывалось на результатах сборов Лепехина, снижало их
научную ценность, отражалось это и на его путевых заметках. Ведь ’’главным предво-
дителем Оренбургской посылки” был П.С. Паллас. Поэтому, видимо, И.И. Лепехин в
ряде случаев, в частности при описании млекопитающих, ограничивался краткими
характеристиками их внешних признаков, приводя иногда рисунок животного и
обращая основное внимание на повадки зверя, его экономическую значимость и
способы его лова. Следовать намеченному в подорожной маршруту не имело большо-
168
Рис. 54. Верхотурье
го смысла: нельзя было ожидать интересного материала, двигаясь в Тобольск (так
как туда отправился отряд П.П. Палласа), так же как и возвращаясь через Казань и
Вятку (эти районы были обследованы участником экспедиции Палласа капитаном
Н.П* Рычковым).
Чтобы не терять времени, И.И. Лепехин в январе 1771 г. (до получения разрешения
Академии наук) посылает студента Н. Озерецковского, дав ему охотника и чучель-
ника, в Архангельск ’’для собирания натуральных вещей”, в мае - студента Т. Маль-
гина для сбора трав между Соликамском и Верхотурьем, а вскоре отправляется
водою и сам к г. Верхотурье (рис. 54), оттуда - в Соликамск - Кайгородок - горо-
док Слободской на р. Вятке, на парусной лодке по р. Сысколе и Вычегде - в Соль-
Вычегодск - Великий Устюг.
Ровесник Москвы, богатый и величественный, Великий Устюг, прославленный
земляками-землепроходцами и первооткрывателями земель (С. Дежнев, Е. Хабаров,
В. Атласов, Ф. Попов, В. Шилов, Н. Шалауров), отважными и предприимчивыми куп-
цами, талантливыми зодчими и художниками, предстал перед глазами И.И. Лепехина
во всем блеске своих великолепных церквей и храмов, отражающихся в прозрачных
водах Сухоны, и покорил путешественника. ’’Город Устюг, - писал он, в числе наи-
лучших городов не только Архангелогородской, но и в других губерниях находящих-
ся, почитаться может” (Лепехин, 1780. Ч. 3, С. 286).
Из Великого Устюга И.И. Лепехин проплыл по Сухоне ” до монастыря Троицкого, в
четырех верстах отстоящего, где река Сухона соединяется с Югом и начинается ре-
ка Двина” (Северная Двина), по которой за две недели добрался до Архангельска;
куда прибыл 30 августа. Из Архангельска Лепехин вскоре после прибытия совершил
169
небольшую поездку на баркасе, в ходе которой осмотрел устье реки Северной Двины
и горловину Белого моря. В Архангельске Лепехин провел зиму 1771-1772 г.
18 июня 1772 г. И.И. Лепехин отправился из Архангельска в свое путешествие по
Белому морю. Он поплыл на баркасе вдоль Летнего берега, побывал в устье ре-
ки Сюзьмы, на островах Сокжинском, Анзерском и Соловецких. Описанием Соловец-
кого монастыря обрываются записи И.И. Лепехина в 4-й части его ’’Дневных записок”
на с. 817. Далее идет повествование академика Н.Я. Озерецковского, ученика и друга
И.И. Лепехина. Н.Я. Озерецковский не приводит дальнейшего маршрута И.И. Ле-
пехина. .
И.И. Лепехин посылал в Академию наук рапорты, в которых сообщал о пути следо-
вания экспедиции. Эти рапорты более полутора веков считались утраченными.
Однако в 1934 г. они были найдены в архивных документах, что позволило пол-
ностью восстановить маршрут его экспедиции (Таранович, 1934).
После Соловецких островов И.И. Лепехин посетил о-в Кузова, Кемь, Кереть, Канда-
лакшу, обследовал северный берег Кандалакшской губы, побывал в устье р. Ум-
бы, далее объехал вдоль Терского берега, посетил Поной и три острова, расположен-
ные севернее устья р. Поноя, затем пересек Белое море, побывал в устье р. Майды
(на Зимнем берегу), на о-ве Моржовец, в устьях рек Кулоя и Мезени, далее по Канину
полуострову добрался до мыса Никулина, затем по рекам Кулою, Пинеге и Северной
Двине вернулся в Архангельск.
13 декабря 1772 г. с установлением санного пути И.И. Лепехин вместе со всем
отрядом отправился в Петербург (через Холмогоры, Каргополь и Ладогу), куда
приехал 25 декабря 1772 г.
В 1773 г. И.И. Лепехин совершил свое второе путешествие, на этот раз в Белоруссию
и Лифляндию. Присоединение к России в 1772 г. в результате первого раздела Польши
части Белоруссии и Лифляндии поставило в качестве первоочередной задачи обсле-
дование этих земель. Придавая большое значение этим территориям, Екатерина II
повелела Академии наук направить туда научные экспедиции. 18 февраля 1773 г.
Академия наук приняла решение организовать две научные экспедиции: одну астро-
номическую под руководством Исленьева, а другую физическую во главе с Лепехи-
ным ... ’’придав Г. академику Лепехину для вспоможения его двух из бывших с ним
в прежней таковой же экспедиции студентов Николая Озерецковского и Тимо-
фея Мальгина”.
Спустя месяц И.И. Лепехин представил на утверждение Академии наук план
намечавшегося путешествия. Он предполагал отправиться с последним санным путем
в Великие Луки, оттуда весною совершить поездку через Торопец до истоков Волги
и Западной Двины, затем спуститься по Двине до Витебска, перебраться на Днепр,
спуститься по нему до Лесного, осмотреть места, расположенные по р. Соже, до ее
устья при Бобовичах. Одного студента Лепехин пошлет для осмотра земель, распо-
ложенных между р. Сожою и прежней границей России. Другого студента Лепехин
пошлет в Заволчье и Опочку до Пскова. В Псков Лепехин вернется из Лифляндии, а
из Пскова - в Петербург.
Этот план был одобрен Академией наук, и 21 марта 1773 г. экспедиция выехала из
Петербурга. В Пскове из-за ранней оттепели Лепехин вынужден был задержаться на
три недели. Это время он использовал для посещения расположенного в 50 км от
Пскова по рижской дороге знаменитого Печорского монастыря, славного своими
пещерами, удивительной историей и неповторимым архитектурным ансамблем.
Большой интерес для Лепехина представляла и богатая библиотека монастыря, в
7В примечании к с. 81 Н.Я. Озерецковский писал: "Покойный академик Иван Иванович Лепе-
хин не окончил своего путешествия, или дневных записок, которых при жизни его отпечатано де-
сять листов. Он остановился при конце истории Соловецкого монастыря".
170
которой хранились многие редкие рукописи и старопечатные книги. По дороге в
Печорский монастырь Лепехин заехал в Изборск - один из древнейших городов Руси
(бывшую столицу одного из первых княжеств славян-кривичей; упоминание о нем
относится к 862 г.).
Из Пскова Лепехин выехал в середине апреля и направился в Великие Луки,
Смоленск, Витебск, Полоцк, Ригу. Из Риги он через Пернов (Пярну), Валк, Псков,
Гдов и Нарву вернулся в Петербург (15 декабря 1773 г.). Экспедиция И.И. Лепехина
продолжалась девять месяцев. Лепехиным были собраны большие коллекции расте-
ний, животных и минералов. Важное значение имели полученные в результате этой
экспедиции сведения о географии, геологии западных провинций России, их населе-
нии (национальном составе, занятиях, промыслах), об истории этих народов, их куль-
туре, религии, обычаях и об экономическом состоянии этих областей. Результаты
экспедиции Лепехина опубликованы не были. Подробного описания этой экспедиции
не сохранилось. Восемь рапортов И.И. Лепехина об экспедиции 1773 г., которые он
послал в Академию наук, были полностью опубликованы уже в наше время. Несмот-
ря на краткость, рапорты Лепехина представляют интерес и сейчас, поскольку они
содержат различного рода ценные сведения, касающиеся посещенных провинций, и
позволили проследить весь маршрут экспедиции Лепехина.
Следующий период в творческой жизни Лепехина полностью связан с Петербур-
гом, где он очень интенсивно и плодотворно работает в Академии наук. Вернувшись
из экспедиции, Лепехин в первую очередь занялся обработкой своих путевых заме-
ток, составленных во время Оренбургской и Северной экспедиций, которые лягут в
основу важнейшего труда его жизни ’’Дневные записки путешествия Ивана Лепехина
по разным провинциям Российского государства”. Этот труд был издан в Петербурге
в четырех томах. Первый том был опубликован в 1771 г. под заглавием ’’Дневные
записки путешествия доктора и Академии наук адъюнкта Ивана Лепехина по разным
провинциям Российского государства в 1768 и 1769 году. Часть I”. Второй том вышел в
свет в 1772 г. под названием ’’Продолжение дневных записок путешествия академика
и медицины доктора Ивана Лепехина по разным провинциям Российского государст-
ва в 1770 году”. Третий том ’’Продолжение дневных записок путешествия Ивана Ле-
пехина, академика и медицины доктора, Вольного Экономического в Санкт-Петер-
бурге и друзей природы испытателей в Берлине в Гессен-Гамбурского патриотическо-
го общества члена, по разным провинциям Российского государства в 1771 году” был
опубликован в 1780 г., а четвертый ’’Путешествия академика Ивана Лепехина.
Часть IV. В 1772 году” - в 1805 г. уже после смерти автора. В 4-м томе И.И. Лепехин
описал свое путешествие по Белому морю от Архангельска до Соловецких островов
и привел историю Соловецкого монастыря.
’’Путевые записки” И.И. Лепехина вышли вторым изданием под редакцией
Н.Я. Озерецковского в 1821-1822 гг. Они вошли в ’’Полное собрание ученых путе-
шествий по России, издаваемое имп. Академией наук”. Это издание не было иллюст-
рировано, но к нему был приложен специальный атлас, одиннадцать таблиц с рисун-
ками которого относились к томам третьему, четвертому и пятому, содержавшим
описание путешествий И.И. Лепехина.
Первые три тома ’’Дневных записок” Лепехина были изданы на немецком языке в
1768-1771 г. Извлечения из ’’Дневных записок” были опубликованы также на фран-
цузском языке в 1784 г. в Швейцарии.
Научные труды Лепехина получили широкое признание в России и за границей.
В апреле 1771 г. Петербургская Академия наук единогласно избирает И.И. Лепехина
академиком, в 1776 г. Берлинское общество любителей природы избирает его своим
членом, а с 1778 г. он - член Гессен-Гамбургского патриотического общества8.
8И.И. Лепехин был избран в это Общество вместе с П.С. Палласом как наиболее выдающиеся
ученые, способствовавшие благосостоянию своего отечества.
171
’’Путевые записки” явились ценным для отечественной и мировой науки трудом,
содержащим многочисленные материалы, касающиеся самых разных областей зна-
ния: геологии, горного дела, географии, экономики, земледелия, сельского хозяйст-
ва, ботаники, зоологии, ветеринарии, медицины, археологии, этнографии, фольклора.
Точное, достоверное описание — Лепехин всегда повествует только о том, что он
видел собственными глазами; сведения, полученные другим путем, он обязательно
оговаривает - делает ’’Дневные записки” важнейшим памятником научных знаний
в России XVIII в.
’’Дневные записки” - плод ежедневных наблюдений Лепехина, их и сейчас читать
интересно. Обусловливается это живой манерой повествования Лепехина; он все
время сообщает что-нибудь новое: то он говорит о способах обработки земли, то
рассказывает об особенностях обрядов у тех или иных народов, например о сватовст-
ве у татар и т.п. В немалой степени этому способствует очень образный, сочный язык
Лепехина, широко использующего народные выражения и пословицы.
Лепехин очень любил природу. В описании ее, пожалуй, ярче всего проявляется
его характер, человека очень наблюдательного, большого жизнелюба, с хорошим
чувством юмора, прекрасного рассказчика. Поэтому читать его зарисовки природы
особенно приятно.
Проезжая по довольно труднодоступным местам Северного Урала, Лепехин пишет:
’’Утомившись ездою по болотинам, на приятных подолах реки несколько останови-
лися для отдыху, тем наипаче, чтобы стопы свои направить на путь мирен; ибо далее
ехать было невозможно. Приятный шумок реки Лобви и каменистые ее берега недол-
го дали нам покоиться, поманили спуститься по ней...” (Лепехцн, 1780. Ч. 3. С. 95-
96). ’’Моховая постеля, на которой мы ночь препроводили, научила нас некоторым
образом понимать причину утренних в северных странах инеев...” (С. 93).
’’Дневные записки” ’ содержат много интересных сведений по геологии. Большое
место в них занимает описание растений и животных.
Ботанические заметки Лепехина посвящены чаще всего использованию растений в
народной медицине. Он приводит многочисленные случаи применения растений для
лечения и профилактики различных болезней.
Находясь около Тагила, И.И. Лепехин обращает внимание на отсутствие у населе-
ния цинги. ’’Мне нигде видеть не случилося, чтобы какой крестьянин или крестьян-
ка, - пишет он, - были подвержены цинготной болезни”. Причину этого он видит в
привычке весною употреблять сок сосны, ольхи и березы. ”У каждого крестьянина
с весны на дворе увидишь костер молодых облупленных сосен, с которых они, слу-
пив наружную кору, вязкий к дереву прилипший сок соскабливают и едят как малые
дети, так и взрослые ... такое для них лакомство не одна сосна рождает, но и ольха и
многосочная береза ... равным образом от осенних болезней сохраняет их изобильно
растущие морошка, брусника и другие северной стране свойственные ягоды” (Лепе-
хин. 1771. Ч. 3. С. 67-68).
И.И. Лепехин из-за почти полного отсутствия медицинской помощи в сельской
местности считает необходимым всемерно распространять знания о лекарственных
растениях, произрастающих в России. ’’Мне думается, - пишет он, - что по нашему
состоянию неотменно нужно предопределяемых в духовный сан в их училищах ...
приучать ... познавать в России растущих врачебных трав действия; от сего немалая
бы могла воспоследовать польза нашему народу, или по крайней мере должно снаб-
дить сельских жителей кратким и простым наставлением, каким образом поступать в
главнейших и обыкновенных болезнях ... я разумею такое наставление, чтобы вся-
кий крестьянин мог довольствоваться простыми былиями, на их полях растущими,
чтобы слог был простой и внятный, травы природными бы изъяснены были наиме-
нованиями, а важнейших трав живые изображения, с которыми бы всяк удобно зеле-
ную траву сравнить мог” (С. 41-42).
172
’’Дневные записки” И.И. Лепехина - это ценнейший источник зоологических све-
дений, собранных талантивым натуралистом. ’’Лесистая часть Сибири сколь приволь-
на для мужиков в разсуждении звериным промыслов, столь безвыгодна к содержа-
нию домашнего скота, а особливо при Волоковых местах недалеко от истока ре-
ки Тагил: в таких деревушках редко увидишь одну или две коровы. Причиною тому
не недостаток в скотском содержании, ибо берега каждой речки изобилуют лугами,
но множество хищных зверей. В проезд наш через Волок два раза случилося нам
видеть перебежавших через дорогу ужасной величины медведей, который столь были
отважны, что ни крик наш, ни звон колокольчиков не могли поколебать их отваги, и
они не мало времени перебежав через дорогу сидели при стороне как бы дожидался
от нас подачи ... Кроме медведей не мало тут водится и росомах, которыя столь в
разсуждении коров пакостливы, что одно только у них выедают вымя, оставляя
прочил части целы” (Лепехин, 1771. С. 72-73).
Одна из характернейших черт Лепехина заключалась в том, что он стремился наб-
людать и описывать самых разнообразных животных. В этом проявлялась широта
интересов натуралиста XVIII в., привлекавшая внимание многие ученых. Например,
Д.И. Языков выписал в свое время на карточки всех упомянутых в ’’Дневных запис-
ках” животных, общее число которых составило 356. Известный русский зоолог
П. Кеппен (автор нескольких работ по истории отечественной зоологии) 20 августа
1860 г. представил этот указатель в Академию наук, который 15 лет спустя был
опубликован М.И. Сухомлиновым (Сухомлинов, 1875). Среди описанных И.И. Лепехи-
ным животных было больше всего насекомых 117 видов, много птиц - 101 вид, 52 ви-
да рыб и 25 видов млекопитающих (последние будут рассмотрены ниже).
Помимо подготовки и публикации ’’Дневных записок”, Лепехин пишет многочис-
ленные научные труды. Согласно списку, подготовленному Т.А. Лукиной (1965), об-
щее число печатных и рукописных работ Лепехина составляет 61.
Важное значение для развития отечественного естествознания среди других работ
Лепехина имело его сообщение в ’’Новых ежемесячных сочинениях” (1795, май), в
котором он дал глубокий анализ распространения на земном шаре растительности.
Описывая природные зоны, Лепехин показывает, что ’’главнейшая причина сего в
прозябаемых различия зависит от различного разделения по лицу земному теплоты,
проистекающей от благотворного светила, согревающего и освещающего с прочими
нашего мира телами и обитаемый нами шар, к пути своему наклонение имеющий...”.
Лепехин отмечает ландшафтные зоны и описывает наиболее характерные для них
формы. ’’Переходя от знойных стран до последних земли пределов, простирающихся
к северу, усмотрели бы мы во всяком климате собственные и отменитые произраста-
ния” (С. 24-26).
Лепехину мы обязаны развитием представлений о ландшафтных природных зонах.
Именно с распределением растений по широтам и по вертикали Лепехин связывает
распространение животных. ’’Земля населена разными животными, из коих большей
части от былия питаться повелено... И для того каждому из них даны особливые
склонности, особенная пища, различные способы доставлять себе оную. И по сему
определены каждому известные пределы к пребыванию, за кои преступать без опас-
ности их жизни не могут, разве вспомоществоваемые человеческим о них попече-
нии” (С. 30).
Лепехин выполняет множество поручений Академии наук: делает обзоры деятель-
ности всей Академии и отдельных ее членов, разбирает архивы умерших членов Ака-
демии (профессора И.П. Фалька, А.П. Протасова), подготавливает к печати рукописи
М.В. Ломоносова, пишет отзывы на отдельные произведения. С 1774 г. Лепехин
ведет курс ботаники в Академической гимназии и управляет Ботаническим садом
Академии. Кроме Toto, с 1777 по 1794 г. Лепехин был инспектором Академической
гимназии. Эта последняя должность требовала от Лепехина много сил и времени, но
173
Лепехин сам прошедший тяжелую, полную лишений, ’’школу” гимназистов, состояв-
шихся на казенном содержании, относился к своим обязанностям исключительно
добросовестно, неоднократно обращаясь к тогдашнему директору Петербургской
Академии наук С.Г. Домашневу с просьбами об улучшении бытовых условий гимна-
зистов, обучавшихся на ’’казенном содержании”. Домашнев часто задерживал деньги
на содержание Академической гимназии, что привело к резкому сокращению числа
гимназистов и ухудшению и без того плохих условий их жизни. Вынужденный дать
в конце концов объяснения перед Конференцией Академии, Домашнев попытался
свалить всю вину на Лепехина, обвинив его в том, что он якобы не докладывал ему
об этом. Будучи человеком исключительно честным и прямым, Лепехин подал про-
шение об освобождении его от должности инспектора.
Представляет интерес конец поданного Лепехина рапорта, поскольку он очень
красноречиво свидетельствует о высокой нравственной чистоте Лепехина, с редким
самоотвержением исполнявшим свою обязанность инспектора гимназии. ”3а все
время надзирания моего над гимназией, - писал Лепехин, - к чему меня побуждало
единое усердие, а не какое-либо награждение, ибо я сего никогда не желал и не
получал, никогда не выпуская из виду моей обязанности и старался доводить моло-
дых людей, сколько гимназические учения споспешествовать могут, до того, чтобы
они были полезны и Академии и обществу, что самым опытом доказать не трудно”
(Протоколы заседаний Конференции Академии наук. Т.З. С. 627-628). Отставка
Лепехина не была принята, а Домашнев вскоре был отстранен от должности. Его
сменила княгиня Е.Р. Дашкова (1744-1810), всегда поддерживавшая Лепехина.
Лепехин, по словам Н.Я. Озерецковского, ’’кроме знаний во всех частях естествен-
ной истории и в медицине... имел также превосходные сведения по истории, геогра-
фии и словесности вообще; знал совершенно язык латинский, сверх того, греческий,
немецкий и французский” (Озерецковский, 1821. С. 8). Поэтому неудивительно, что
Академия наук поручала Лепехину переводы различных иностранных изданий.
Во второй половине XVIII в. в России были осуществлены переводы значительного
числа произведений европейских авторов. С 1774 по 1783 г. И.И. Лепехин состоял
активным членом переводческой группы, называвшейся ’’Собрание, старающееся о
переводе иностранных книг”. Ему пришлось руководить переводом многих сочине-
ний, начиная с произведений античных авторов и кончая дневниками путешествий
своих современников - участников академических экспедиций 1768-1774 гг., писав-
ших на немецком языке, в частности, второго и третьего томов ’’Путешествия”
П.С. Палласа. Лепехин знакомился с переводами многих французских произведений,
поступавших в Академию, так, например, описаниями различных уродств, достав-
ленных К.Ф. Вольфу в анатомический кабинет и др.
Лепехин сделал перевод главы из сочинений П.С. Палласа ”0 разделении народов
Мунгальского поколения”, перевел труд К. Германа ’’Топографическое описание
Тобольской губернии”, сочинение Дж. Альстремера ”0 породе овец, приносящих мяг-
кую волну” и многие другие.
И.И. Лепехин участвовал в переводе знаменитого труда Ж. Бюффона ’’Естественная
история, всеобщая и частная”. Это огромное 36-томное сочинение, в котором история
Земли, минералов, животных и человека излагалась, исходя из идеи о вечном изме-
нении Вселенной и единства природы, было одним из важнейших в естествознании
и зоологии XVIII в.
Первый том ’’Естественной истории” был опубликован в 1749 г. в Париже и сразу
же привлек к себе всеобщее внимание увлекательностью повествования, новыми
идеями, великолепным литературным языком. Появившиеся вскоре последующие
тома были не менее интересны. Вся Франция зачитывалась ими. Успех издания был
огромным.
Не обошлось, однако, и без скандала. Развиваемые Бюффоном идеи о ’’простыва-
174
нии Земли и планет, намечаемые им эпохи природы” не согласовывались ио священ-
ным писанием, поэтому Сорбонна осудила ’’Естественную историю и постановила
’’сжечь богохульный” труд Бюффона. Чтобы спасти издание, Бюффон вынужден был
доказывать, что излагаемые в ’’Естественной истории” гипотезы не противоречат
Библии.
В России отрывки из ’’Естественной истории” Бюффона печатались в издаваемом
Петербургской Академией наук ’’Историческом и географическом месяцеслове”
задолго до окончания публикации этого труда во Франции9. В 1787 г. Е.Р. Дашкова
предложила Академии перевести ’’Естественную историю” Бюффона на русский
язык. В переводе этого сочинения приняли участие несколько академиков (И.И. Ле-
пехин, С.Я. Румовский, С.К. Котельников, А.П. Протасов, Н.Я. Озерецковский,
В.Ф. Зуев). В 1789 г. И.И. Лепехин (совместно с С.Я. Румовским) перевел первый том,
который тогда же был и издан. Весной 1792 г. Лепехин перевел пятый том, опублико-
ванный в том же году. В 1792 г. уже были изданы пять первых томов ’’Естественной
истории” Бюффона. Однако перевод последующих томов оказался связан с большими
трудностями. Резко изменились взгляды правящей верхушки русского общества,
напуганной последствиями французской революции. Непродолжительный период
либерализма в России сменился временем сильной реакции. Перевод ’’богохульных
томов” стал казаться нежелательным. Этим и объясняется отказ в 1795 г. русских
академиков продолжать перевод труда Бюффона. Однако, несмотря на все эти слож-
ности, перевод ’’Естественной истории” не был оставлен: Лепехин на склоне лет взял
на себя всю работу по переводу этого труда. В 1800 г. он закончил перевод VI тома,
в 1801 г. - перевод VII, VIII и IX томов, а в 1802 г. - и X тома ’’Естественной истории”.
Закончить перевод XI тома Лепехин не успел. После смерти Лепехина перевод ’’Ес-
тественной истории” Бюффона не возобновлялся.
Значительный интерес представляют многочисленные примечания Лепехина к
переведенным им томам ’’Естественной истории” Бюффона, поскольку они отражают
уровень знаний естествознания XVIII и позволяют лучше понять мировоззрение и
естественнонаучные интересы Лепехина.
В своих примечаниях Лепехин исправляет ошибочные сведения, приводимые
Бюффоном о географическом положении некоторых пунктов, уточняет границу
Америки, вносит поправки, касающиеся названия народов Севера России и их этно-
графии.
Отмечая важность естественной истории для каждого, Лепехин подчеркивает, что
сначала следует изучать животный мир собственного отечества, обращая в первую
очередь внимание на тех его представителей, которые имеют наибольшее хозяйствен-
ное значение. ’’Любопытство наше и до днесь наипаче простирается на отдаленные
от нас естества произведения. Мы обыкновенно предпочитаем редкое и удивительное
известному и большую пользу нам приносящему, а что ближе подлежит испытанию
нашему, преходим мы с достойным хулы небрежением... По справедливости надлежа-
ло бы при изучении естественной истории первое свое внимание обращать на всеоб-
щее в ней описание, потом на проистекающую из нея пользу, а наконец, уже к удо-
вольствованию беспредельного любопытства. Естественные произведения отечества
нашего по всей справедливости должны быть основанием к сооружению незыблемого
здания, а потом познания наши мало-помалу прилежным рассмотрением чужеземных
редкостей распространять более и более” (Бюффон. Т. 1. С. 34-35). ’’Нам полезнее, -
пишет он, - знать рыб, в наших реках ловимых, нежели раковин, в отдаленных
морях находящихся” (С. 28-29). Человек высокого гражданского долга, Лепехин
горячо пропагандирует естественнонаучные знания для практического их примене-
ния, для повышения благосостояния отечества. ’’Россиянин должен постыдиться,
Последний, 36-й том "Естественной истории” был издан во Франции в 1788 г.
175
если он по пальцам может высказать подробно всю историю о льве, тигре и барсе,
при вопросе же, что такое есть овца? запнуться должен” (С. 34-35).
Однако из этого не следует, что Лепехину чужды теоретические аспекты естество-
знания. ’’Недостаточные были бы мы, - пишет Лепехин, - философы, если бы все
наши изыскания учреждать стали, смотря единственно на происходящую от того
пользу. Неужели мы состоим из одного тела! И не может ли иная истина весьма быть
полезна нашему духу, хотя оная ни питает, ни одевает нашего тела?” (С. 58).
В отличие от Бюффона, признававшего трансформацию видов и отрицавшего целе-
сообразность в природе, Лепехин в своих примечаниях утверждал, что видов столь-
ко, сколько их было сотворено первоначально и что они неизменны.
Наибольшее число примечаний Лепехина относится к описанию животных. В них
Лепехин приводит интересные, основанные на его личных наблюдениях во время
Оренбургской и Северной экспедиций, сведения об образе жизни животных, их
значении в экономии природы, их повадках и способах охоты на них (они будут
рассмотрены позже).
Переводом ’’Естественной истории” Бюффона и своими примечаниями Лепехин,
несомненно, способствовал увеличению в русском обществе в конце XVIII - начале
XIX в. интереса к естествознанию, и особенно, к зоологии.
Обладая большими литературными способностями, Лепехин много сил и энергии
отдавал русской словесности, участвуя в составлении этимологического словаря
русского языка.
В 1783 г. в Петербурге была учреждена Российская академия во главе с Е.Р. Дашко-
вой. Задачей Академии было очищение и обогащение русского языка. Лепехин был
непременным секретарем Российской Академии с момента ее основания до самой
своей смерти. Он принимал непосредственное участие в составлении материалов
для Словаря Российской Академии, давая разъяснение всех слов, относящихся к
естественной истории, орудиям лова животных, способам охоты и т.п. Приведем
некоторые описания млекопитающих Лепехина в Словаре Академии Российской.
"Морж - Trichechus rosmarus10 - огромное морское животное: длиною бывает в
19 и более футов, толщина же тела около 8 футов. Передние ноги короткие, пятипа-
лые; пальцы, соединенные перепонкою, вооружены короткими, но сильными когтя-
ми. Задние ноги, наподобие тюленьих, протянуты и срослись вместе; передние также
пятипалые, и пальцы кожею соединенные. Голова толстая, зев усажен твердыми
щетинами. Передних зубов не имеет; но в верхней челюсти два клыка, или тинки,
бывают длиною более двух футов вниз загнутые; коренных зубов 8; по четыре на
каждой стороне; вместо наружных ушков две токмо скважины, перепонкою покры-
тые; кожа на нем толщиною около дюйма, с редкими короткими жесткими волосами,
которая употребляется на каретные ремни, а тинки, как слоновая кость, - на разные
поделки, сало же идет в ворвань. Водятся в северных морях и при берегах Северного
океана” (Словарь Академии Российской. Ч. 4. С. 255).
”Крот - Talpa europaea. Животное четвероногое, длиною около пяти дюймов, хвост
у него весьма короткий, глаза величиною с просяное зерно, черные, в шерсти сокры-
тые; рыло высунувшееся на четыре линии длиннее верхней челюсти; ноги весьма
короткие, лапы у передних ног широкие, к рытью земли способные, на каждой лапе
по пяти пальцев, вооружены крепкими, а наипаче на передних, когтями. Все тело
покрыто короткою, густою, наподобие шелка, мягкою и черноватою шерстью. Живет
под землею на полях, в лугах и в садах; проходя под землею в близком расстоянии
выметает кучки, портит насаждения, изгрызая корешки”. Эти два произвольно
взятые примера показывают, что в ’’Словаре” достаточно полно были отражены (для
10Odobenus rosmarus Linn.
176
подобного рода издания) основные особенности зверей и что он мог служить справоч-
ником по зоологии.
Лепехин первым из членов Российской Академии был удостоен золотой медали
за большой вклад по созданию ’’Словаря”.
Участием в составлении ’’Словаря”, переводом Бюффона Лепехин внес огромный
вклад в распространение в русском обществе естественнонаучных знаний.
Последние два года своей жизни Лепехин страдал водянкой, тем не менее он
старался не пропускать собрания Российской Академии, занимался составлением
’’Словаря” и переводом Бюффона.
6 апреля 1802 г. Лепехин скончался. Он был похоронен на Волковском кладбище в
Петербурге.
Лепехин еще при жизни считался одним из крупнейших ученых России. Он был
членом Вольного экономического общества, членом Берлинского общества испытате-
лей природы, членом Гамбургского патриотического общества. Его именем названы
растения, насекомые. Лепехин был удостоен многих орденов, дослужился до статско-
го советника.
Лепехин был великим бескорыстным тружеником. В качестве непременного секре-
таря Российской Академии он в течение 16 лет выполнял огромную работу бесплатно
(только в 1799 г. по предложению Н.Я. Озерецковского ему было установлено жало-
ванье). Трудолюбие, честность и бескорыстие Лепехина снискало ему уважение и
любовь членов Российской Академии. Н.Я. Озерецковский, ученик, ближайший
товарищ и друг Лепехина, дал яркую характеристику И.И. Лепехина: ’’Ума был
быстрого; в суждениях тверд, в исследованиях точен, в наблюдениях верен... Трудо-
любие его и деятельность доказываются множеством поручений, кои на него возла-
гаемы были. Будучи сам бескорыстен, охотно подавал руку помощи бедным. Сердце
имел нежное и чувствительное, а честностью и правдодушием своим привлек к себе
общую всех доверенность, любовь и почтение” (Полное собрание ученых путешест-
вий, 1821. Т. 3. С. VIII).
Работы И.И. Лепехина имели важное значение для формирования отечественной
териологии. Многочисленные заметки о видовом составе млекопитающих содержатся
в ’’Дневных записках” Лепехина. Он сообщает разнообразные сведения о 25 малоизу-
ченных тогда видах млекопитающих, таких, как: бурундук, выдра, выхухоль, горно-
стай, сайгак, земляной заяц, крот, крылатка, ласка, летяга, морж, морской заяц,
гренландский тюлень, белуха, нерпа, европейская норка, северный олень, песец,
росомаха, обыкновенный слепыш, лось, сурок, суслик, степная пищуха (чекалка),
обыкновенный хомяк.
Ряд видов Лепехин описывает весьма подробно, а некоторые - вскользь. Особенно
подробное описание дает Лепехин для изученного им нового подвида гренландского
тюленя, которого он обозначает океанским тюленем (по-русски - крылатка)11.
Океанский тюлень. Обмеры тела тюленя (по английской метрической системе).
Футы Дюймы Линии
Расстояние от конца морды до конца заднего ласта 2 1 —
Расстояние от конца морды до начала хвоста 6 7 6
Длина хвоста — 5 3
Ширина хвоста — 2 2
Длина заднего ласта 1 3 6
Ширина заднего ласта у его основания — 7 2
^Гренландский тюлень — Phoca groenlandica Erxleben, 1777, подвид — oceanica Lepechin, 1778.
Пер. с лат. Б.А. Публикуется впервые.
12. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
177
Футы Дюймы Линии
Расстояние от начала задней лапы до когтей 1 1 2
ногтей
Длина первых суставов пальцев — 1 7
Ширина первых суставов пальцев — — 5
Ширина задних ласт в расправленном состоянии 1 2 5
Длина переднего ласта у основания — 8 3
Ширина переднего ласта у основания — 4 3
Ширина переднего ласта в расправленном — 7 8
состоянии
Ширина переднего ласта возле корней ногтей — 6 8
Длина, на которую выступает самый длинный — 1 8
коготь
Расстояние от кончика верхней губы до — 1 5
ноздрей
Расстояние между ноздрями — 1 4
Расстояние от верхей губы до более крупного — 4 8
глазного века
Расстояние от более крупного до меньшего — 1 2
глазного века
Расстояние от конца верхней губы до основания — 8 4
ушных раковин
Наиболее длинные щетинки в усах — 3 —
Ширина головы на уровне глаз 1 8 4
Ширина головы на уровне ушей 2 — 5
Ширина шеи в середине 2 5 3
Ширина тела на участке перед передними 4 1 5
ластами
Ширина тела на участке за передними 4 8 —
ластами
Ширина тела у основания задних ласт 1 9 6
Представляет интерес и само описание животного. ’’Данное морское животное по
своему облику соответствует обычному тюленю, или, если говорить на языке систе-
матиков, Phoca vitulina и отличается от него только более крупной величиной тела, а
также окраской шерсти. Голова кругловатая, с выступающей притупленной мордой.
Верхняя губа вздернутая утолщенная, с ясно заметной срединной жилкой, более
длинная, чем нижняя губа. Нижняя губа более заостренная. Отверстие рта сравни-
тельно с размерами тела выглядит маленьким. Окружность ротовой щели, если
считать ее по нижней губе равна 5 дюймам и 2 линиям, а если считать по верхней
губе - 6 дюймам и 5 линиям. Зубная формула. В верхней челюсти имеется 4 резца,
конически заостренных, из которых средние мельче, чем у собаки, а ближние (к
центру) крупнее. За резцами следуют в верхней и в нижней челюсти с обеих сторон по
одному клыку более острому и мощному, чем они. Клыки имеют в длину около
5 дюймов и загнуты в сторону глотки. Коренных зубов с каждой стороны по 6, все они
требугорчатые, причем средний бугорок длиннее и крупнее. Зубы расположены так,
что если животное их смыкает, то не остается никакого пустого промежутка, потому
что более крупные бугорки верхних зубов соответствуют менее крупным бугоркам
нижних зубов. Благодаря этому схваченной добыче с самого же начала наносятся
глубокие раны, и она никоим образом не может выскользнуть. Язык на оконечности
двураздельный, снабженный жесткими сосочками, загнутыми вглубь (по направле-
нию к глотке).
Вибриссы снабжены десятью щетинками. Из них задние и более низкие белесова-
тые, сжатые длиннее, чем остальные, а передние и более верхние гораздо короче и
тоньше, по окраске они совершенно черные. Глаза крупные, выступающие, с черной
радужной оболочкой и прозрачным зрачком. На них имеется плотная без волос
178
кожная складка, выполняющая роль век. В переднем углу глаза расположена мига-
тельная перепонка, также весьма прочная, которую животное может по своему
желанию растягивать так, чтобы избежать внешних вредных воздействий, закрывая
ею глаз. В заднем широком углу глаза расположены две плотные щетинки, которыми
животное также способно двигать. Наружных ушных раковин нет. Отверстие уха
продолговатое, прикрытое морщинистою кожною складкою. Шея толстая, в форме
усеченного конуса, однако внешне весьма нечетко отделенная от туловища. Плечи
прикрыты складками кожи на груди; перепонки на ластах покрыты волосами и
сросшиеся; передняя конечность пятипалая, пальцы не вполне различимы на взгляд,
снабжены крепкими черными когтями. Передний палец самый широкий, второй
самый длинный, каждый следующий короче предыдущего.
Бедра, сросшиеся с основанием хвоста, но более длинные, чем плечевые кости.
Стопа задней конечности снабжена пятью пальцами, которые соединены между собой
плотной голой перепонкой. Крайние пальцы гораздо длиннее средних, и поэтому
стопа кажется лунообразной. Когти тоньше, чем на передней конечности, но и острее.
Имеется одна пара сосков.
Кожа довольно прочная, толстая, покрытая короткими тесно прижатыми к ней
волосками. Цвет шкуры различен на разных ее участках. Цвет шкуры на голове
темно-каштановый, близкий к черному, самые темные волосы - сзади от ушных
отверстий, а под ними шкура светлее. Остальная шкура в целом грязно белая, причем
на животе - более светлая. На спине возле плеч заметно пятно того же цвета, что и
шкура на голове; далее это пятно продолжается на спине, где раздваивается и тянет-
ся далее в виде полосы по бокам вплоть до места, где выступает пенис; там обе поло-
сы вновь сливаются в лунообразное пятно. Сказанное относится ко взрослому
экземпляру. Более молодые особи отличаются от родителей не только величиной,
но и окраской. На первом году жизни они со спины имеют пепельно-серую окраску,
с живота - белесоватую, причем как сверху, так и снизу покрыты редкими чернова-
тыми пятнами, имеющими либо округлую, либо продолговатую форму. Таких дете-
нышей местные жители называют ’’бельками”, т.е. тюленями с беловатой окраской.
На втором году пепельно-серый цвет становится более темным, пятна становятся
крупнее и более заметными, а йоэтому местные жители называют таких тюленей
пятнистыми, или ’’серками”. В более зрелом возрасте они меняют окраску и покры-
ваются по бокам темно-коричневыми пятнами, что напоминает крылья, так что их
зовут ’’крылатки”.
Описанный нами тюлень предпочитает берега холодных морей. Зимой его цвет
напоминает окраску снежного покрова.
В конце апреля самка рождает на ледяных глыбах, плавающих в океане, единст-
венного и очень мелкого детеныша, размером с собачку. Детеныши остаются на
льдинах, пока последние не примерзнут к берегу, тогда детеныши вслед за родите-
лями перебираются на материк. Однако в окрестностях Новая Земля, где всегда
много плавучих льдов тюленей, как сообщают рыбаки, можно видеть на этих льдинах
круглый год... Лепехин описывает и хозяйственное значение этого тюленя в жизни
местного населения. ’’Тюленя, - пишет он, - добывают из-за его шкуры и жира.
Шкуры взрослых особей употребляются для обивки ларей, а шкуры молодых тюле-
ней на островах, известных под названием ’’Соловки”, употребляют для изготовле-
ния охотничьей обуви. Будучи особенным образом выделанными, эти шкуры стано-
вятся водонепроницаемыми. Этому спосоствует также и жир, пропитывающий
шкуры”.
Лепехин дал также подробное описание нового подвида морского зайца, или лахта-
ка, Erignatus barbatus leporina Lepechin, 177812.
12Пер. с лат. Б.А. Старостина. Публикуется впервые.
179
Морской заяц весной появляется в Белом море и поднимается, а также спускается
по рекам, в него впадающим. Этот вид, по нашему убеждению, следует считать
отличным от вышеописанного океанского тюленя. Особенно резко отличаются от
океанского тюленя новорожденные детеныши.
Размеры
Футы Дюймы Линии
Длина всего животного, от конца морды 6 б —
до конца хвоста Длина всего животного до конца заднего 6 2 —
ласта Длина от конца морды до конца передней 2 — —
конечности Расстояние от верхней губы до большого — 5 2
века Расстояние от большего века до меньшего 1 2
Расстояние от конца верхней губы до — 8 б
кончика ушей Расстояние от конца верхней губы до — 1 8
ноздрей Длина хвоста — 4 2
Ширина хвоста у его основания — 2 1
Длина задней конечности с ластом — 11 4
Ширина задней конечности у основания — б —
Расстояние от основания задней конечности — 8 10
до корней ее когтей Длина (наибольшая) первого пальца — — 9
Ширина того же пальца — — 5
Ширина ласта задней конечности в растопыренном 1 1 —
состоянии Длина передней конечности с ластом — 6 3
Длина передней конечности, считая от — 4 —
корней когтей Длина наибольшего когтя (насколько он — 1 2
выступает) Ширина наибольшего когтя в выступающей — — 6
части Длина самых длинных щетинок усов — 5 —
Отверстие рта, измеренное вдоль верхней — 9 5
губы То же, вдоль нижней губы — 7 11
Ширина морды 1 — 5
Толщина головы на уровне глаз 1 4 5
То же, на уровне ушей 1 7 б
Ширина тела на уровне передних 4 2 —
конечностей То же, на уровне задних конечностей 5 1 —
То же, у начала задних конечностей 2 1 —
По всем показателям, связанным с формой и величиной тела, как явствует из из-
мерений, описываемый ниже вид тюленей напоминает океанских тюленей. Окраска
грязно-белая, с примесью легкой желтизны, и нередко заметна пятнистость. Шерсть
не прижатая, но торчащая; у более молодых особей весьма густая и мягкая, и этими
признаками, а также белизной напоминающая заячью, откуда легко можно объяснить
и его название.
Голова не столь велика, как у океанского тюленя, продолговата; верхняя губа
вздутая, толщиной, как у теленка. Глаза с голубоватым оттенком, зрачок черный;
180
число и расположение зубов такие же, как у океанского тюленя, однако зубы значи-
тельно мощнее. Только усы (вибриссы) устроены по-другому, а именно постоянно
состоят из пятнадцати щетинок, толстых, крепких и с обеих сторон прилегающих к
передней части верхней губы. Поэтому этот тюлень выглядит как бы бородатым.
Его передние конечности гораздо тоньше задних; стопы передних конечностей
сросшиеся и как бы обрубленные. Перепонка, соединяющая пальцы, слегка луновид-
ная, но одинаковой длины на всем своем протяжении. Хвост короче, но толще, чем у
океанского тюленя.
Резко различаются эти два вида: океанский тюлень и морской заяц по толщине
шкуры. У морского зайца она в четыре раза толще. Кожа же океанского тюленя, если
измерять ее у только что забитого животного, имеет толщину всего лишь 5 линий.
Остальные признаки описываемого вида такие же, как у океанского тюленя.
Почти в каждой статье или заметке о промысловом млекопитающем Лепехин при-
водит сведения об его использовании. В частности, касаясь морских зайцев, он пи-
шет: ’’Охотятся за морскими зайцами из-за их жира и шкуры... В шкуре ценится ее
прочность и толщина. Ее разрезают на извилистые жгуты и потом, подвешивая к ним
грузы, превращают эти жгуты в прямые, а затем применяют их в качестве ремней.
Шкуры же молодых особей используют на мех, пропитывая их черными красками и
затем употребляют на внешнюю обивку шапок. Шапки при этом приобретают вид,
похожий на бобровый, хотя наощупь шерсть гораздо более жесткая, зато шапки но-
сятся гораздо дольше, меньше изнашиваются и промокают”.
Лепехин подробно описывает норку, выхухоля, обыкновенного хомяка (’’черного
карбыша”) и слепыша (слепышона, как он его называет).
”К числу хищных зверей должно причислить и норку. Сей зверок обитает в речных
берегах, где делает себе отлогую нору. Пищею ей бываем всякая рыба. Живого зверь-
ка мне видеть не случилося; и так о нравах его говорить не могу: а вместо того
присовокуплю точное описание наружных частей онаго. Голова у ней сплюснатая,
так что ширина превосходит толщину; рыло продолговатое; губа верхняя долее
нижней; глаза малые, черные, продолговато-круглые; уши кругловатыя; тело, начиная
от передних ног к хвосту, отчасу толще становится; хвост длинный, шерстистый,
передния ноги гораздо короче задних, все пятипалыя, соединенный перепонкою даже
до последнего члена пальцов.
Рыло и горло покрывает белая шерсть; усы черные; прочая часть тела одета из
черна-рыжеватыми волосами: но хвостовыя волосы гораздо длиннее и чернее пред
прочими. Содержание наружных частей следующее.
Футы Дюймы Линии
Длина всего зверька от рыла до начатия хвоста 1 2 1
Длина передних ног — 3 —
Длина задних ног 4 — 9
Длина головы от конца рыла до затылка 2 — 71/2
Округа рыла при конце 2 — 4
Округа носа под глазами 3 — 2
Отверстие пасти 2 — 5
Расстояние между ноздрями — — 2 1/2
Расстояние между концом носа и передним, углом глаза — — 3
Расстояние между углом глаза и ушком — — 9
Округа головы между глазами и ушми 3 — 6
Длина ушков — — 9
Расстояние между ушми, мерянное по нижней части головы 3 — —
Длина шеи 2 — —
Округа шеи 4 — 6
Округа тела позади передних ног 5 — 4
Округа тела перед задними ногами 6 — 7
Длина хвоста 6 — 2
181
Футы Дюймы Линии
Длина передней ноги от колена до плюсны 1 — 5
Округа ноги у колена 2 — 2
Округа ножной кисти 1 — 10
Длина задних ног от колена до ладышек 1 — 9
Ширина задних ног под коленом 1 — 2
Толщина 2 — 7
Длина задней плюсны до конца когтей 1 — 4
Длина больших когтей — — 3 1/2
Округа когтей при основании — — 2
Для большаго сведения приобщаю здесь изображение норки (Лепехин, 1795. Ч. 1.
С. 285-287).
Интересны сведения, которые сообщает Лепехин о выхухоли. Других водяных
зверей, как-то: бобров, около Синбирска ныне совсем не слышно, но вместе того
почти все озера наполнены выхухолями. Выхухоль голову имеет в разсуждении тела
не велику, рыло высунувшееся упругое, нижнюю губу короткую, пасть небольшую,
глаза едва приметные, ушки малыя, покрытый густыми и мягкими волосами; прочая
шерсть у него на бобра схожа, но только не так осиста. Сторона глаз и отверстие ушей,
так как и вся исподняя часть животнаго, покрыта из бела-сероватою шерстью. Хвост
длинной, с начала кругл, тонок, шерстист; но тотчас разпространяется в большую
шишку, содержащую в себе сплетенные пузырьки, наполненные вязким желтоватым
веществом. Прочая часть хвоста сплюснута к концу сведена шилом, и покрыта
редкими щетинами. Наружное хвоста покрывало черновато, и небольшими морщина-
ми на рыбью чешую похожими покрыто. Ноги короткий, пятипалыя; пальцы все
соединены перепонкою для удобного плавания.
Длина выхухоля от рыла до хвоста Дюймы 8 Линии 10
Длина головы от рыла до затылка 3 —
Отверстие пасти по верхней губе 1 3
Разстояние между ноздрями 1 2
Разстояние между концем носа и отверстием глаз 1 8 1/2
Разстояние между отверстием глаза и уха — 8
Разстояние между глазами 1 —
Разстояние между слуховыми проходами 1 6
Поперешник слухового прохода — 3
Округа рыла при конце — 11
Округа рыла при конце пасти 2 4
Округа головы при глазах 3 7
Округа головы при ушах 6 1
Толщина тела позади передних ног 6 11
Толщина по средине 7 8
Толщина перед задними ногами 6 —
Длина хвоста 7 2
Разстояние между основанием хвоста и шишкою — 9
Округа шерстистаго хвоста 1 6
Округа хвостовой шишки 2 8
Самая большая ширина сплюснутаго хвоста — 9
Содержащееся вязкое вещество в пузырьках хвостовой шишки такой имеет
крепкий запах, что надобно иметь особливую привычку, чтобы его сносить. Мне
кажется, что он гораздо превышает бобровую струю. По крайней мере для меня запах
сей материи столь был головоломен, что я пяти минут выхухоля в руках держать не
мог без головной закруги. Хотя шубка на выхухоле и осиста, однако для тяжелаго
запаху (ибо и от нее несколько пахнет) ни на что не употребляется, кроме опушки на
182
тулупы. Хвост его держут в платяных сундуках, для защищения платья от моли; но
сей дух проникает и в самое платье: почему с выхухольницами сидеть в одной беседе
надобно иметь крепкой насморк” (287-289).
Слепыш. Мышь с очень маленькими глазами, без ушных раковин, с пепельно-ры-
жей окраской тела (слепышок)13.
Голова удлиненная, как бы пирамидальная, кпереди (от наздрей к отверстиям
слуховых проходов) утончающаяся; с обеих сторон снабжена выступающей и более
или менее твердой линией, покрытой жесткими щетинковидными волосами, от
которой отходят латеральные парные ответвления, направленные как внутрь, так и
книзу. Кончик носа довольно широкий, твердоватый, покрыт безволосой кожей.
Верхняя губя косо спускается вниз и кзади; нижняя губа гораздо короче верхней.
Глаза очень маленькие, размером едва достигают макового зерна, черные; разглядеть
их невозможно, если не оттянуть кожу.
Ушных раковин нет, а слуховой проход обнажен и узок, прикрыт одними лишь
волосами. Лоб скошенный. Шея короткая, так что ее почти невозможно различить.
Туловище, если сопоставить его ширину с его длиной, выглядит скорее толстым,
спина несколько выгнутая; хвоста нет, вместо него заметен только небольшой буго-
рок.
Лапы короткие, кисти передних ног расщеплены на пять пальцев, ступени задних
лап тоже снабжены каждая пятью пальцами, отделенными друг от друга до середины
длины. Нос покрыт черной кожей, на верхушке белесый, над носом кожная складка,
проходящая по лбу и выступающая над его поверхностью на 6 линий. На горле
довольно крупное светлое пятно; еще одно, крестовидное пятно на животе перед
задними конечностями, и поперечная перекладина этого пятна, образующие ее белые
жесткие волосы, доходят до поясницы. Остальные части тела покрыты волосами
мягкими наподобие шелка, у основания имеющими окраску от черной до пепельной,
к верхушке краснеющими.
Обитает в Приволжье, от Сызрани до Царицына. Живет под землей и, как крот, роет
в ней своим рыльцем наклонно идущие ходы, чтобы скрываться в них при любой
опасности. В центре системы этих доходов оставляет камеру, где устраивает себе
гнездо из трав, которыми также и питается. Ни для какого полезного употребления
это животное не пригодно.
Дюймы Линии
Общая длина тела от конца рыльца до анального отверстия 8 0
при измерении составила Длина головы от конца рыльца до затылка 2 2
Окружность головы, измеренная по кругу, проведенному через 1 6
корни резцов нижней челюсти Окружность головы по оконечностям латеральных выступов 4 2
Длина ротовой щели по верхней губе 1 7
То же, по нижней губе 1 0
Расстояние между ноздрями 1 3
Расстояние между отверстием ноздрей и концом рыльца 1 6
Расстояние между отверстиями слуховых проходов 2 2
Окружность головы, измеренная по кругу, проведенному 4 2
через отверстия слуховых проходов Длина шеи 5
Окружность шеи 4 6
Окружность туловища за передними конечностями 5 7
Максимальная окружность туловища 6 4
Окружность туловища перед задними конечностями 6 0
Расстояние от локтевого сгиба до пясти 7 1/2
13Spalax microphtalmus.
183
Дюймы Линии
Ширина передней конечности 1 5
Окружность пясти 2
Окружность ладони по месту отхождения пальцев 1 2
Длина ладони до окончания когтя среднего пальца 10 1/2
Указательный палец 5
Мизинец 3
Большой палец 10
Коготь на среднем пальце (на остальных когти несколько короче) 1
Длина голени до таранной кости 10
Ширина голени у колена 5
Ширина голени у таранной кости 4 1/2
Окружность плюсны 9
Окружность подошвы схопы по месту отхождения пальцев 1 0
Максимальная длина перепонки, соединяющей пальцы 2 1/2
Длина стопы от таранной кости до конца когтя среднего пальца 1 2
Средний палец с когтем 5
Большой палец ноги 2
Палец, следующий за ним, равен длине среднему Мизинец 3
Ближайший к нему палец ноги 4
Наиболее длинный из когтей 1 1/2
Брюшина плотно примыкает к большей выпуклости желудка и оттуда тянется до
середины живота; длина желудка 1 дюйм 10 линий, ширина 11 линий.
Желудок занимает левую часть брюшной полости и ориентирован продольно. Свод
желудка доходит до левых долей печени, дно располагается в левой части пупочной
области и доходит до середины ее боковой поверхности. Желудок имеет овальную
форму; внизу он заметно шире, кверху уже, в середине же, где отверстием наподобие
открытой глотки начинается свод желудка, желудок наиболее тонок: здесь он высту-
пает на 1/2 линии в направлении, определяемым его диаметром, и наклонен влево; к
этому же вышеупомянутому отверстию подходит, присоединяясь к телу желудка,
привратниковая часть; далее, считая от этого отверсия, желудок постепенно подни-
мается кверху и под конечным участком левого подреберья образует малую кривиз-
ну, далее идет наклонно книзу, туда, где под желудком начинается двенадцатиперст-
ная кишка, равная здесь в поперечнике 3 линиям.
Начинаясь здесь, двенадцатиперстная кишка направляется перпендикулярно и
затем наклонно через эпигастрическую область в правое подреберье и вместе с тем к
верхнему краю правой почки и далее к тощей кишке, будучи на всем этом пути
связанной соединительными фасциями с печенью. Тощая же кишка несколько тоньше
двенадцатиперстной, имеет 2 1/2 линии в поперечнике, справа наклонно входит в
пупочную область. В этой области тощая кишка и делает свои петли, из которых
последняя восходящая и сливается с подвздошной кишкой, диаметр которой почти
равен диаметру тощей кишки. Подвздошная кишка многочисленными петлями,
назначение которых не вполне ясно, заполняет остальную часть дорзальной части
пупочной области. Слепая кишка со своим придатком, получившим название черве-
образного, идет от левого бока к правому и одна почти заполняет все пространство
подреберной и подвздошной областей.
Червеобразный отросток, закрученный тройной петлей, имеет в длину 2 дюй-
ма 5 линий, а в ширину по наибольшему диаметру - 1 дюйм.
Общим очертанием он напоминает ”рог изобилия”, как его часто изображают
художники, и состоит из пятнадцати как бы сегментов, разделенных друг от друга
кольцевидными прожилками; из этих сегментов первый уже второго, второй же
наиболее широкий из всех: следующие за ним постепенно сужаются, и последний из
них заканчивается заостренной верхушкой. От одной из кольцевидных прожилок
184
отходит вовнутрь перепончатый клапан, изолирующий друг от друга обе камеры, на
которые разделяется червеобразный отросток; из них раз попавшие в них экскре-
менты с трудом могут уйти. Сама слепая кишка гораздо уже своего придатка, имеет в
ширину 6 линий, в длину 1 дюйм 6 линий, и состоит из двух долей, равным образом
изолированных друг от друга клапаном.
Слепая кишка соединяется с передней частью ободочной кишки. В пункте этого
соединения слепая и ободочная кишки являются чрезвычайно твердыми. Ободочная
кишка первоначально направлена кверху, восходя пятью искривленными пальцами,
плотно связанными друг с другом клетчаткой, в эпигастрический регион. Затем
ободочная кишка наклоняется вправо и около тощей кишки направляется в сторону
подвздошной кишки. Далее вновь следует вверх, изгибается и затем вертикально
поднимается в левое подреберье, оказываясь под двенадцатиперстной кишкой, с
каковой тесно сближается и доходит до дна желудка, скрываясь за ним; затем,
выходя из-за него, образует складку и спускается вниз и вбок.
Здесь, в районе поясничных позвонков, ободочная кишка встречается с прямой
кишкой. Наибольший диаметр ободочной кишки - 5 линий, прямой кишки - пол-
дюйма.
Печень в длину имеет 1 дюйм 2 линии, в ширину - 1 дюйм 8 линий, в толщину -
6 линий; заполняет собою всю выпуклость диафрагмы, занимая притом больше прост-
ранства в левом подреберье, нежели в правом.
Печень состоит из четырех долей, из которых первая, продолговато-овальная,
расположенная в правом гипохондрии, меньше прочих и очень немного приподнята
над нижней долей; вторая доля - наиболее крупная из всех; последняя сильно
уступает по размеру второй. Третья доля - средняя по величине между первой и
последней. Связка-суспензор печени присоединена к наибольшей доле.
Желчный пузырь грушевидный, располагается у места соединения долей печени.
Селезенка крупная свисающая. Ее длина 1 дюйм 3 линии, ширина на уровне верх-
него изгиба - 3 линии. Селезенка расположена по соседству с малой кривизной
желудка. Поджелудочная железа, прижатая к верхней кривизне желудка, в районе
своего соприкосновения с двенадцатиперстной кишкой шире, чем на остальном
своем протяжении.
Почек две, они имеют длину 4 линии, причем левая опущена ниже правой почти на
2/3 своей длины. Надпочечники по отношению к общей массе почек сравнительно
обширные, каждый из них снабжен единственным сосочком. Кортикальный, а равно и
трубчатый слои достаточно заметны.
Сухожильный центр диафрагмы имеет почти округлое очертание. Продольный
поперечник этого центра, считая от места прохождения полой вены через диафрагму,
составляет 6 линий. Трансверзальный поперечник - 8 линий; верхняя мясистая часть
диафрагмы от сухожильного центра до мечевидного хряща имеет в длину шесть
линий, а всего длина этой части составляет 10 линий.
Сердце расположено невертикально, а с наклоном влево. Его наибольшая окруж-
ность составляет 1 1/2 дюйма (у основания), длина от предсердий до верхушки - 10
линий.
Правое легкое состоит из 6 долей, из коих нижняя крупнее всех прочих. Вторая
уступает ей по величине. Третья расположена между первой и второй, будучи вдав-
лена в углубление, имеющееся на второй доле.
Четвертая доля занимает положение кверху и кзади по отношению к остальному
легкому и почти равна третьей. Последняя14 доля продолговатая, узкая, сверху
налегает на дорзальную, выпуклую часть остальных долей.
В левом легком можно различить две доли, одну более, другую менее крупную.
14 О пятой доле Лепехин не упоминает.
185
Меньшая почти срослась со стенкой легкого и как бы расщеплена на две еще меньшие
дольки; она поддерживает сердце.
Дорзальная доля левого легкого вчетверо крупнее упомянутой менее крупной,
цельная, по сравнению с долями правого легкого глубже погружена в грудную
клетку.
Из челюстей каждая снабжена двумя передними зубами, именуемыми ’’резцы”,
довольно крепкими; однако верхние резцы втрое длиннее нижних, их длина состав-
ляет 6 линий. Клыков нет; коренных зубов только по шести в каждой челюсти. Язык
утолщенный.
Характеризуя млекопитающих, имеющих важное промысловое значение, Лепехин
всегда обращает внимание на их возрастную и сезонную изменчивость. Так, напри-
мер, описывая песца - Alopex Lagopus Lin., широко распространенного в Сибири, в
Архангельской губернии, и ’’особенно в уездах Кольском и Пустозерском”, Лепехин
отмечает, что их ’’два рода почитается, белые и голубые; из коих последних на
Новой Земле ловят. Но как песцы между пушистыми зверями не последнее занимают
место, то и шкурки их на разные руки разбиваются. Молодые песцы, как скоро начи-
нают выходить из своих нор, которые им отцы в земле с разными выходами вырыва-
ют, называются норники. Четырехмесячные становятся уже белы, кроме серой спины
и части, лежащей на лопатках, где серая же полоса спинную пересекает, почему и
называются крестовиками или крестоватиками. Голубые же песцы сие же имеют
разделение, потому что прочие части голубеют, а спина и надлопаточная часть еще
серы остаются. Около конца октября месяца песцы бывают уже одноцветны, но
шерсть их еще надлежащей длины и мягкости не получает, почему и называют недо-
песцами; в декабре ... совершенную ость получают песцы и называются просто песца-
ми, или рослопесцами. В следующую весну в мае ... шерсть свою теряют и называются
вешняками; в исходе сего месяца уже новых щенят кидают” (Лепехин, 1780. Прибав-
ление к Ч. III. С. 1-2).
Лепехин приводит многочисленные примеры сезонного изменения окраски зверей,
в частности горностая и ласки, и описывает изменение цвета из шерсти в разные
времена года. ’’Горностай и ласка летом бывают со спины темнорыжие, а зимою все
белые, потому что летом белизна между зеленостию, а зимою рыжий цвет между
снегом могли бы их скоро предать в руки гонящих. Сия есть истинная причина
прозорливой природы перемены в цветах животных: но от чего сия перемена быва-
ет, я не знаю. Сие только скажу, что и подменная теплота, представляющая весеннюю
пору, такую же в горностаях производит перемену: ибо в самую глубокую зиму
горностаи и ласки, будучи согреваемы избною теплотою, цвет свой переменяли”
(Лепехин, 1795. Ч. 1. С. 284-285). Как человек своего времени, Лепехин трактует
сезонную изменчивость с телеологических позиций: как ’’провидение природы
[направленное] к сохранению жизни каждого животного”. Но сами его наблюдения об
искусственном, теплотою вызванном изменении цвета млекопитающего будили
интерес к выяснению причины этого, явления,
Описывая сезонные явления в жизни зверей, Лепехин всегда указывает число
месяца, приводит фенологические наблюдения, народные приметы.
Много интересных сведений о распространении млекопитающих содержится в
’’Дневных записках” и примечаниях Лепехина к переводу Бюффона. Так, например,
касаясь серых или пепельного цвета лисиц, Лепехин пишет: ”В нескольких милях от
Тюмени при реке Туре находится лес ... в коем водится род серых лисиц, на коих
цвет шерсти зимою, как на других, не переменяется. Лисицы сии вдвое более обыкно-
венных; кожа на них весьма толстая и столь прекрасный мех, что почитается за
драгоценнейшую рухлядь; но поелику таковую мягкую рухлядь на одном токмо
месте во всей России добывают, то и под великою пенею запрещено оною торговать
или вывозить из государства. Она назначена для употребления Двора” (Бюффон. Т. 8.
С. 78).
186
Данные Лепехина о распространении и численности некоторых млекопитающих
представляют существенное значение для зоогеографии. Из них, в частности, видно,
что и во времени Лепехина численность бобра на Урале была низкой. ”По рекам,
выпадающим из Урала, случаются и бобры, но весьма редко. На высочайших горах
нередки олени, водятся также и лоси по лесам” (Лепехин, 1772. Ч. 2. С. 6).
Описывая зверей, Лепехин всегда отмечает изменчивость их окраски. Так, он
обращает внимание на разнообразие окраски хомяков. ”В лесах около Табинска и,
следовательно, вообще на Урале ... по горам много водится карбышей, обыкновенных
и черных. Сказывают, что и совсем белые попадаются; однако мне самому белых
видеть не случилося: напротив того, пегих имел я двоих, в которых белая шерсть
переменялася с черною без всякого порядка: рыло, лапки и конец хвоста, брюхо, шея
и передние лапки, также и крестец были белою покрыты шерстью, а прочие части -
черною. Другой был более испещрен крапинками и близко подходил к белому”
(С. 5-6).
Лепехин уделяет большое внимание условиям обитания зверей, показывает их
тесную связь со средой обитания, в первую очередь с растительностью. Это хорошо видно из
его описания миграции белок. ’’Белка, - пишет Лепехин, - может быть причислена к
текучему зверю и в известные годы бывает в великом множестве, так что хороший
стрелок сот до ряти в осень набивает. По их приметам, белка тогда великими оказы-
вается стадами, когда ели' и сосны полные и зрелые имеют шишки. Течение белки,
как сказывают, наиболее бывает с полудня на север, и тогда все поморские стороны к
Океану ими изобилуют; нередко случается, что и на запад течение свое имеет, и тогда
проходит во внутренние российские провинции, лесами изобилующие, как-то: Карго-
поль и проч., а оттуда чрез смежные леса и в самую Лапландию” (Ч. 3. С. 22).
Таким образом, численность, плодовитость и миграция белки, как показывает
Лепехин, определяются урожаем шишек.
Много внимания в своих описаниях млекопитающих Лепехин уделяет их способу
устройства нор, логовища. Так, в частности, в барсуке он пишет следующее: ’’Барсук,
смотря по состоянию почвы,t выкапывает себе нору до нескольких сажень вглубь, с
поверхности же земной делает в оной многоразличные проходы, а на дне круглое
гнездо, в которое два, три и многие проходы сходятся; когда он ложится, то помеща-
ется на самом дне, все дочиста из оного выносит; около зимы таскает в него вблизи
низпавшие с дерев листью, в которые он зимою зарывает свой помет, и в особливых
проходах помещается. Над обширным, или главным местом гнезда своего прокапыва-
ет он отдушины прямо вверх, через которые мог бы он получать свежий воздух”
(Бюффен. Ч. 8. С. 94). Представляет интерес в этом отношении описание Лепехиным
бурундука, где дает его образ жизни, особенности устройства гнезда. ’’Свойственный
Сибири и закамским местам зверок бурундук^ ... весьма проворной имеет бег и
свободно на вершины высочайших дерев взбегает. Пища ево еловыя и сосновыя
шишки, также и кедровые орехи, которыми он в зиму запасается, как хомяк или
карбыш, таская оныя в свое гнездо за отвислыми наподобие мешка щеками. Гнездо
свое делает под кореньями сосновых, елевых и кедровых дерев; ибо коренья излиш-
нюю влагу в себя вбирают, и отверстие норы покрывают. Сибиряки, несмотря на
пестроту и пригожство их шерсти, никогда их не трогают и не опустошают, потому что
они служат приманою соболям и куницам, которые ими лакомятся” (Лепехин, 1780.
Ч. 3. С. 73).
Лепехин описывает повадки, особенности поведения млекопитающих. Он приво-
дит, в частности, интересные сведения, касающиеся охоты росомахи и медведя на
лося; в последнем случае неправдоподобные. ’’Росомаха принуждена, будучи усту-
пать сохатому и силою и бегом, особливую употреблять хитрость; взлазить на деревья
15Tamias sibiricus.
187
и караулить до тех пор, пока сохатый не подойдет к оному; и тогда кидается ему с
дерева на спину и, увязив свои когти, до тех пор его терзает, пока он, утомившись, не
падает мертв. Медведь также в ловле сих зверей употребляет осторожность: он
подходит к нему спротиву ветренной стороны, и зажав свое рыло, переводит дух
сколько может, а, подошед близко, внезапным ревом и испущением своего запаха в
такую его вдруг приводит робость, что он от страху не может направить свой бег
столь проворно, сколько его природа оным наградила” (С. 92).
Лепехин сообщает примеры уловок, применяемых лисицей (опять-таки неправдо-
подобные). ’’Хотя лисица охотно имеет свое логово в земле, однако редко делает
оное для себя сама, но старается завладеть барсучьим логовищем и выгоняет из оного
барсука, когда с него сможет или когда приметит, что барсук из оного вышел, то при
входе в оное изобильно испражняется. Барсук, учуя сию вонь при своем возвраще-
нии, немедленно оставляет свое жилище, и тогда лисице вольно поселиться в оном”
(Бюффон, Т. 8. С. 66). ’’Когда блохи сильно лисицу беспокоят, и она желает от них
избавиться, берет она в рот клочок мху, сена или чего-нибудь другого подобного
сену, пятится с оными взад и мало-помалу опускается в воду от часу глубже,
пабы блохи имели время помаленьку выбраться на сухую еще шерсть шеи и головы,
которую она одну выставляет из воды; наконец, собирает она всех своих врагов в
кучу, в вышеупомянутый клочок мха или сена, и когда сии в оный заползут, то со
всеми ими кидает оный клок изо рта в воду, и тогда, избавясь от врагов своих и от
причиняемого ими беспокойства, паки выходит на сушу” (С. 65).
Лепехин производил также наблюдения над поведением зверей в неволе. В част-
ности, он описывает повадки горностая и ласки во время его зимовки в Симбирске в
1768 г. ”Сии два небольшие животные особливою суровостию и проворством одарены
от природы, и по справедливости к хищным зверям причисляются. Мы держали их в
железных клетках, где следующее за ними приметили. Чрез весь день пребывают они
в покое и наслаждаются сном; а как скоро наступит вечер, обыкновенное их время к
похищению предназначенной им пищи, всячески стараются выбиться из своего
заключения, и так крепко грызут свою темницу, что в короткое время и толстое
дерево перепилить могут; при том так прожорливы, что в день гораздо больше погло-
щают, нежели сколько все их составляет тело. Горностай суровее против ласки: ибо
долгое время его питаешь, никогда смириться не может; но упорно всегда наблюдает
хищную свою ухватку. Пищу свою хватает из рук с отрывом и, будучи раздразнен,
кидается на дразнящий его предмет борзо, шипит и стрекочет по-воробьиному, имея
блестящие и кровавые глаза. Наибольшая алчность сих зверьков примечается, когда
они забираются в овины к житничкам; и, если их тут найдутся тысячи, ни одного не
покинут в живе, но всех милости убивают: почему крестьяне тех горностаев и ласок,
которые близ скирдов и житниц водятся, никогда не убивают, но паче их сберегают.
Проворство горностая столь велико, что он смело напускает и на величайших крыс в
их норе” (Лепехин, 1795. Ч. 1. С. 283-284).
Лепехин уделяет много внимания способам охоты на зверей. Весьма интересно его
описание лова лося вогулами (манси), у которых ’’главнейший промысел - в добыва-
нии сохатого зверя или лося; его питаются они мясом как свежим, так и вяленым ...
кожею платят ясак, из лап делают себе обувь и руковицы, лосиною же подкладывают
и свои лыжи. ’’Вогульские промыслы летом состоят по большей части в сохатых ... и
оленях ... Вогуличи, бродящие по лесам, имеют с собой обыкновенных дворовых
собак, которые приобыкли распознавать лосиный след, и изящное имеют чутье; хотя
они невзрачны, однако довольно двух собак удержать сего зверя и постановить. К
сему они принуждают его не силою своею, но всегдашним напрыгиванием и лаяньем,
на которое сохатый ярится, и, как бы презирая малую сию тварь, топает ногами и
угрожает головою до тех пор, пока охотник, следуя лаянию собак, не подойдет к
нему ближе и не застрелит. Охотники, подходят к зверю, стараются всегда заходить
188
против ветра, чтобы сохатый не учуял человеческого запаха, от которого он приходит
в робость и дается бегу” (Лепехин, 1780. Ч. З.С. 91-92).
Лепехин со свойственной ему тщательностью описывает различные способы унич-
тожения волков: отравой, капканами, ловля ямами, разными ловушками. Он очень
подробно и ярко повествует об употреблявшихся тогда орудиях лова зверей. Описа-
ние их представляет несомненный исторический интерес, так как в этих ’’зверолов-
ных орудиях” отражается определенный уровень знаний русских людей XVIII в. об
образе жизни и повадках млекопитающих.
’’Кулиома делается в лесу, где вырывают круглую отлогую яму глубиною в коле-
но, а в поперечнике в сажень. Около ямины врывают в землю сруб, из одного венца
состоящий, длиною в сажени четыре, а шириною в сажени две. К сему срубу прилажи-
вают затвор, или дверь из половиц, то есть половинчатых бревен, так чтобы она с
пазами сруба была сходна. Дверь оную к заднему концу сруба прикрепляют деревян-
ными витыми кольцами: на переднем конце двери прорубают круглую дыру, сквозь
которую пропускают столб, длиною с небольшим в сажень с продолбленными ушами,
и вкапывают оный в землю. В ушах прилаживают оцеп; к оцепу прикрепляют перед-
ний конец затвора на веревке. Внутри к заднему концу сруба привязывают язычок,
то есть длинную плоскую палку с зарубиною, которой конец досягать должен до
вырытой ямы. На затворе в сем месте делают три отверстия, из которых чрез среднее
пропускают веревку, привязанную к заднему когцу оцепа с прикрепленным к ней
сторожком, а другие два настораживают. В ямину кладут притраву и привязывают ее
к язычку. Медведь, услыша дух притравы, приходит к кулиоме и сначала старается
досягнуть лапою себе пищу, всячески кулиому рассматривает и, наконец не предви-
дя опасности, с ревом влазит под кулиому и дерет землю лапами, подвигался всегда
ползком к притраве, которую зацепив, тянет, и чрез то сторожок срывается, и твори-
ло, опустясь с высоты, пришибает его к яме. Такой род ловли называется артель-
ным, потому что одному человеку творила поднять и насторожить не можно, но по
крайней мере требуются три человека, из которых два, да и то с трудом, могут оце-
пом поднять творило, а третий, влезши на творило, обеими руками сквозь упомянутые дары
настораживает” (С. 32-33).
Ямами ловят в зимнее время. ”На чистом поле вырывают глубокую и утробистую
яму, то есть которая узким начинается отверстием и к основанию от часу шире
становится. По средине ямы врывают столб так, чтобы его верхний конец аршина на
два сверх поверхности земли простирался: на конце прилаживают колесо, а на колесе
привязывают по большей части живого поросенка. Отверстие ямы покрывают тонким
хворостом и соломою и притрухивают снегом. Поросенок или от стужи или от уеди-
нения кричит, сидя на колесе, на который голос волки сбегаются ночью и, будучи от
природы смелы, прямо бегут на обманчивую себе добычу, и в самое то время, как
поросенка достать стараются, оборвавшись падают в яму, где их без труда убивают”.
’’Садок делается также на чистом месте различной величины. Самые большие
бывают в поперечнике сажени в три, имеют круглую фигуру, огороженную толстым
и высоким частоколом. Его разгораживают на три или четыре части, из которых одну
в средине обстанавливают досками и называют притравным садком; прочее же
расстояние разгораживают кольями на клетушки^ В каждой клетушке сделаны
задвижные висячие двери, отпускающиеся и подымающиеся в пазах. Двери подыма-
ются на оцепе, который настораживают на язычке, привязанном к притравному
садку. В притравной садке запирают какого-нибудь крикучего животного; как-то:
свинью, собаку или гуся, которые криком своим приманивают волков. Волки, сбе-
жавшись и видя отверстие, входят и стараются достать запертого животного, наступа-
ют на язычок: дверь срывается и выход волку запирает” (С. 33). Лепехин описывает
также очень своеобразное орудие лова - кляпцы. ’’Кляпцы ставят на лисиц и на
зайпев. которые не иное что есть, как просверленный отрубок, длиною не с большим
189
в пол-аршина. Посреди отрубка даже до самого сверла вырубается ложбина, где с
обеих сторон продетые гужи надеваются. На конец кляпыша, который длиною с
пол-аршина бывает, делается с боку деревянный гвоздик, а снизу железное копейцо.
Пониже вьюшкиного сверла продалбливается дыра, в которую, с одной стороны,
всаживается лучок несколько длиннее кляпыша, а с другой стороны - рукоятка.
Кляпыш на гужах загибается к рукоятке и притягивается чрез деревянный кляпыша
гвоздок деревянным язычком. Конец язычка соответствует зарубине сторожка,
привязанного на петельке к рукоятке. К сторожку привязывается сима, или волосок,
которого другой конец прикрепляется на прутике, всаженном посредине лучка. И
когда заяц или лиса по своей тропе побежит, на которой ставятся кляпцы и засыпают-
ся снегом, наступает на волосок, отчего сторожок срывается и кляпыш упругостию
гужей так скоро бьет в средину лучка, что никакой зверь увернуться не может”
(С. 34).
Лепехин первым среди отечественных ученых дал подробное и весьма интересное
описание распространенных на Белом море промыслов белухи и тюленей.
’’Белужий промысел распространяется не только по всему Белому морю, но и по
берегам океана, на Новой Земле и Груманте16. Для сего промысла разные у потреб ле-
ются способы. Мы здесь пишем только тот, который у окольных города Архангельска
жителей в обыкновении ... Промысел начинается обыкновенно по очищению ото
льдов Белого моря, под исход мая или в начале июня».
«с Чтобы быть самовидцами оного, отправились мы от города Архангельска 29 мая и
спускались к морю Березовским устьем ... Все промышляющие на сих островах
(Мудножский) имеют собственный свой запас, собственные свои снасти и собственные
суда и, следовательно, промысел на себя. На всяком карбасе бывает по пяти человек,
кои по морскому обычаю кормчему послушны...
Всякая артель по приезде своем на ловлю денно и нощно, ибо летние ночи в сем
краю весьма светлы, держит караул на море попеременно ... промышленники по
часам стоят, осматривая во все стороны, не выныривает ли где белуха, и как скоро
сие приметят, дают знать своим товарищам, которые или греблею или на парусах ...
стараются белуху объехать с голомянкой стороны, и разными способами гонят ее
ближе к мелким местам; тогда выкидывают свои неводы и, срастив их вместе, состав-
ляют из оных полукружие. Когда же белуха в окинутом пространстве неводом начнет
показываться, тогда отнимают одно крыло у невода и составляют меньшее полу-
кружие. Большой невод оттягивают в круг и, наконец составив со всех сторон непро-
ходимую зверю стену, въезжают в середину и стараются вонзить в него носок17.
Здесь, напуганный криком промышленников и возчувствовав нанесенную ему рану,
все свои употребляет силы к избежанию и с невероятной скоростью носит с собой
карбас. Чем более зверь напрягает свои силы, тем скорее доставляет промышленни-
кам победу, которые, приметя его изнеможение, мало-помалу притягивают к карбасу
и стараются спицею10 попасть ему в дыхало и тем остальную из него исторгнуть
жизнь ... С начала весны ловля морских белух большей частью бывает поодиночке; но
пред Ивановым днем, то есть после половины июня до дня Прокопия, то есть по
девятое июля, самый главнейший бывает промысел; ибо тогда белухи ластятся и
великим плавают руном. Почему нередко случается, что промышленники белух по
тридцати и более одним разом сетьми окидывают” (С. 17-25). ’’Промысел всех тю-
леньих пород начинается со дня Евдокии, то есть с 1 марта, почему и называется
веснованье. Время сие выгоднейшим почитают, потому что в оное тюлени начинают
16Название о-ва Шпицбергена у русских промышленников.
17”Носки-гарпуны, имеющие широкое острие, обоюдоострое, суживающееся кверху. С одной
стороны имеется крюк, а с другой — трубка, в которую втыкается древко”. — Примеч. Лепехина.
10Спица — рогатина, которой зверя колют.
190
лащиться ’’ластиться”, и как утельки, так и самцы стадятся на льдинах. Но сколь
веснование прибыточно, столь с великими сопряжено трудамй, а иногда и самая
промышленников жизнь находится в опасности ... На веснованье пускаются большею
частью бедные люди, которые нужными для промысла вещами сами запасаться не
могут ...” (С. 360). К лежбищу подъезжают против ветра, стараются заградить путь
зверям к краю льдины. ’’Когда же их ход заперт будет, ищут промышленники отбить
зверей от продушин на льдине, тюленями сделанных; и тогда сии, не находя себе
уходу, собираются в кучу, взлазя один на другого, по-видимому, или чтобы теплотою
своею протопить, или тяжестью проломить льдину, в которой удобно их дубинками
один за другим убивают” (С. 362).
Таким образом, из приведенного выше видно, что в ходе Оренбургской и Северной
экспедиций Лепехин собрал ценных материал о млекопитающих, их географическом
распространении, численности, изменчивости, образе жизни, условиях обитания,
пищевых потребностях, повадках и поведении зверей, а также об их значении в
хозяйственной жизни человека.
Существен вклад Лепехина в изучение териофауны России, особенно северных ее
районов, в которых до него не было ни одного натуралиста. Его наблюдения и сейчас
сохраняют свое значение: без них нельзя было бы оценить изменения в численности и
ареале млекопитающих на Севере европейской части России за последние два века,
когда воздействие человека на природу стало особенно сильным.
Развитие Лепехиным представлений о ландшафтных природных зонах, о зависи-
мости распространения животных от распределения растений по широтам и по верти-
кали привело его к мысли о тесной связи млекопитающих со средой обитания. Уде-
ляя в своих наблюдениях большое внимание географии млекопитающих, условиям
их обитания, Лепехин одним из первых в отечественной териологии проложил путь
эколого-географических исследований.
Для становления отечественной териологии важное значение имела и научно-пере-
водческая, просветительская деятельность Лепехина. Издание на русском языке
’’Всеобщей и частной естественной истории” Ж. Бюффона, содержавшей увлекательные
повествования о зверях, и публикация ’’Словаря Российской Академии”, в котором
были даны великолепные описания млекопитающих России, орудий лова зверей,
способов охоты на них, несомненно, способствовали росту у русских естествоиспы-
тателей интереса к изучению отечественной териофауны, который так сильно проя-
вится в XIX в.
С.Г. ГМЕЛИН. ИССЛЕДОВАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЮГО-ЗАПАДА РОССИИ
Гмелин Самуэль Готлиб (1745-1774) - выдающийся путешественник-натуралист,
академик Петербургской Академии наук, известный в отечественной литературе как
Гмелин младший, племянник И.Г. Гмелина, родился 23 июня 1745 г. в Тюбингене в
семье медика-аптекаря.
Недюженные способности и усердие, отличавшие С.Г. Гмелина, проявились уже
очень рано, в школе. В университете Тюбингена Гмелин был не только моложе всех в
нем учившихся, но и наиболее одаренным. В 1764 г., т.е. в возрасте 19 лет, Гмелин
защитил перед Ученым Советом Тюбингенского университета докторскую диссерта-
цию по медицине под названием ’’Dissertatio inauguralis de Analepticis quibusdam
nobilioribus, Cinnamomo, Aniso stekkato et Asa foetida”. Praef. Phil. Frider. Gmelin, Tubin-
gae. 1763 (”Об известных некоторых восстанавливающих здоровье средствах -
корице, Anisum stellatum (анисе) и Assa foetida”) и был удостоен степени доктора
медицины.
191
Рис. 55. Тверь
Вскоре после этого Гмелин отправляется в путешествие по Европе. Он посетил
Голландию, где в Лейденском университете познакомился с П.С. Палласом. Между
молодыми естествоиспытателями завязались дружеские отношения, которые не
прерывались и при отъезде Гмелина - друзья переписывались. Из Лейдена Гмелин
отправился в Гаагу. Здесь он много времени уделял изучению морских водорослей,
собирал их на побережье, просматривал коллекции в естественноисторических
музеях. Наблюдения Гмелина над биологией морских водорослей и собранные им
коллекции в последующем легли в основу его ботанического труда ’’Historia fuco-
rum”1.
Из Голландии Гмелин поехал в Бельгию, затем во Францию. В Брюсселе и в Париже
он изучал гербарии и труды известных ботаников. Из этого путешествия Гмелин
возвратился в 1765 г. в свой родной город сложившимся ботаником, придерживав-
шимся взглядов французской ботанической школы (X. Турнефор), классификация
растений которой основывалось на форме венчика и была противоставлена шведской
ботанической школе (К. Линней), классифицировавшей растения по строению
плода.
В 1766 г., т.е. когда Гмелину был всего 21 год, он получил приглашение от Петер-
бургской Академии наук стать ее ординарным академиком и профессором ботаники.
Весной 1767 г. он отправился из Тюбингена в Россию и в тот же год прибыл в Петер-
бург. Петербургская Академия наук пригласила С.Г. Гмелина для участия в намечав-
шейся академической экспедиции. Гмелин возглавил 3-ю Астраханскую экспедицию.
1Gmelin S.G. Historia Fucorum. Petropoli, 1768. 239 p. + 33 табл. Этот труд Гмелина был первой
отечественой сводкой по альгологии, содержавшей описание около 20 видов водорослей северных
морей России.
192
Рис. 56. Карта путешествий С.Г. Гмелина
1 — путь следования; 2 — города; 3 — место гибели
В состав его отряда входили провизор И.Д. Луте, студенты Яков Ключарев, Степан
Крашенинников, Иван Михайлов и Сергей Маслов, художник Иван Борисов, чучель-
ник Михайло Котов. Отряду была придана большая команда солдат для охраны.
Экспедиция отправилась в каретах из Петербурга 26 июня 1768 г. Путь ее шел через
Новгород, Старую Руссу, Вышний Волочок, Торжок, Тверь (рис. 55), Москву, Подоль-
ский Ям, Тулу, Елец, Воронеж (рис. 56).
В Воронеже отряд перезимовал. ”26 марта, - писал Гмелин, - приехал сюда Госпо-
дин доктор Гильденштедг из Москвы... Он привез мне студента Карла Людвига Табли-
ца, которого Императорская Академия наук прислала мне для письма и ради его
знания русского языка2, напротив того, отдал я доктору студента Крашенинникова”
(Гмелин, 1771. С. 100). В Воронеже Гмелин и адъюнкт Академии И.А. Гильденштедт,
возглавлявший 4-ю Астраханскую экспедицию, обсудили результаты своих наблю-
дений и договорились о дальнейших путях следования.
Из Воронежа экспедиция Гмелина направилась на Азов через Острогожск-Пав-
ловск-станицу Цымлянскую и Черкасск. В августе 1769 г. путешественники оставили
Азов и двинулись на Царицын, а оттуда на Астпахань (рис. 57).
2Медик и ботаник К.Л. Таблиц окончил Московский университет.
13. В.Б. Соколов, Я.А. Парнес
193
A 3 T & •< e* #4#
£
Puc. 57. Астрахань
До Астрахани Гмелин в основном придерживался того маршрута, который был
предписан ему в Петербурге Академией наук. В Астрахани же Гмелин пришел к
мысли, что необходимо изменить план путешествия. Дело в том, что результаты
экспедиций Гмелина и Гильденштедта оказались весьма сходными. Это выявилось
еще в Воронеже, но особенно четко в Астрахани, где оба исследователя снова встре-
тились.
Сопоставление результатов наблюдений показало, ’’что в оных не было ни малей-
шего различия, да и как онаго надеяться можно было, «когда мы в сходных между
собою странах всегда не в дальнем один от другого расстояния ездили? А как разли-
чие наблюдений главнейшее намерение путешествий составляет и чрез оное наипаче
науки распространяются, то мы ни о чем другом и не помышляли, как только, чтоб,
выехав из Российских пределов за Терек, одному следовать в Грузию, а другому - в
Персию... Оставалось нам только еще иметь попечение о нашей безопасности” (С. 2-
3). Получив положительный ответ Астраханского губернатора А.Н. Бекетова, Гмелин
составил план последующей своей экспедиции. ’’Профессор Гмелин, - писал он, - в
начале мая намерен сесть на судно, на оном в полгода объехать Каспийское море и
осмотреть прилежащую от России и Персии твердую землю. Месяц май надеется
перепроводить между Астраханью и устьем Терека, июнь - между устьем Терека и
Дербентом, июль - между Дербентом и Бакою, август - между Бакою и Рящею3, а
сентябрь - между Рящею и Астрабадом. Доехав до сего последнего при Каспийском
3Рящей — Решт — центр провинции Гилян, расположенной на севере Персии (Ирана), около
южного побережья Каспийского моря.
194
Рис. 58. Шемаха
море лежащего места в октябре обратно приедет к реке Тереку и там договорится
впредь обстоятельно в рассуждении путешествия с господином Гильденштедтом”
(С. 2-3).
Этот план был одобрен Академией наук. Астраханский губернатор А.Н. Бекетов,
получивший из Петербурга именной указ, обязывавший его обеспечить безопасность
экспедиции, снабдил Гмелина рекомендательными письмами к ханам государств,
которые намеревался посетить путешественник, дал ему переводчиков, хорошо
знавших персидский и татарский языки, и команду, состоявшую из 12 солдат, одного
флейтиста и одного барабанщика во главе с сержантом, для сопровождения. ”К
справедливой похвале сего Господина, - писал Гмелин, - сказать я должен, что он
ничего такого не упустил, что к счастливому путешествию судил быть полезным”
(С. 4). В июне 1770 г. экспедиция Гмелина отправилась из Астрахани по Каспийскому
морю до Баку, оттуда в Шемаху (рис. 58), в Сальяны, затем снова морем до Энзели,
далее - Решт. Гмелин собирался посетить Исфахан, Тавриз, гору Арарат. Но ему не
удалось найти проводников и сопровождения, которые бы решились на эту связан-
ную с большим риском поездку. Поэтому Гмелин отправился по южному берегу
Каспийского моря в земли Мезендеран на Балфруш и далее на Астрабад. Но в этой
провинции было столь неспокойно, что он не смог достигнуть Астрабада и вынужден
был вернуться в Балфруш-Энзели, а оттуда и обратно морем в Астрахань.
Экспедиция Гмелина была сопряжена с исключительно большими трудностями:
путешественники страдали от жары, тяжелых лихорадок, испытывали множество
195
лишений. Кроме того, путь экспедиции пролегал через земли, принадлежавшие
самовластным восточным владыкам, и нередко судьба экспедиции и даже жизнь ее
участников зависели от их произвола. Насколько драматично складывалось путеше-
ствие, видно из следующих записей Гмелина: ’’Вознамерился я предприять обратный
путь, в который и вступил 25 числа, и 27 прйехал в Балфруш. Приехав в другой раз в
город пошел немедленно к хану в намерении с ним проститься, ибо как я твердо
вознамерился, так и долг мой того требовал, чтоб сим годам возвратиться в Астра-
хань, то и не было мне причины жить более, потому что Уральский лед между Дербен-
том и Астраханью в начале ноября показывается... однако сделалось такое препят-
ствие, которое меня от того удержало: причиною онаго был один только хан... Хан,
отказавшись меня выпустить из своей области, требовал, чтобы я наперед вылечил
его брата, который болен был глазами. Болезнь состояла в течении слез. Что я ни
употреблял, ничто не помогало; для вылечивания сей болезни надлежало мне снаб-
дену быть орудиями, но оных у меня не было” (С. 681-683). Под угрозами хана,
который мог сделать с путешественником, что хотел, Гмелину, испробовавшему
всевозможные средства: ’’давал внутрь слабительные, а снаружи чистительные
лекарства” - удалось, к его собственному удивлению, вылечить слезотечение. ”И
надлежало б думать, что я отпущен буду. Однако ж нет! Хан выехал из области своей,
оставив меня пленным, и посланных от меня вестников просить о моем отправлении
отпустил обратно с отказом... Климат мезендаранский в сентябре и октябре бывает
опасен. Я, студенты Таблиц и Мошков, рисовальщик Борисов и все в моей свите
бывшие... хворали горячками, пока наконец до того дошло, что некому было подать
и воды... Притом же в октябре скончался рисовальщик Иван Борисов... Из 18 матро-
сов, на моем судне служивших, только 5 употреблять можно было, да и их смерть не
щадила, ибо из оных трое умерли... О всех сих обстоятельствах донес я хану, дабы тем
его тронуть, чтоб он меня освободил. Однако ж намерение, для которого он задержал
меня, не позволяло ему на сие согласиться» (С. 681-687). Дело было в том, что хан
считал путешественника русским шпионом и послал гонца к соседнему хану (Шираза)
за советом, как с ним поступить.
Наконец, 4 ноября Гмелин был отпущен. На своем судне он отправляется в Энзели
и оттуда обратно морем в Астрахань. Осенью 1771 г. Гмелин предпринимает поездку в
Куманскую степь. Он планировал осуществить ее весной-летом, но по дороге через
Сарепту задержался в этом городе довольно долго. Только 11 сентября он оставил
Сарепту. Причиной задержки был брак С.Г. Гмелина с Анной Шапизо4. Путь Гмелина в
1771 г. был следующим: Астрахань-Царицын-Сарепта-Моздок-теплые минеральные
воды, где Гмелин поправляет свое пошатнувшееся здоровье, затем по Тереку возвра-
щение в Астрахань.
В 1772 г. Гмелин снова отправился в плавание по Каспийскому морю в Персию. На
этот раз сопровождение экспедиции выглядело особенно внушительным: помимо 16
человек, входивших в команду корабля, 14 солдат-пехотинцев, 14 казаков, 6 гуса-
ров и 6 артиллеристов, имелось одно орудие и две полевые пушки. Гмелин осмотрел
восточный берег Каспийского моря, или Трухменский берег, Астрабадский залив,
залив Энзели. Из Энзели экспедиция двинулась на Астрахань сухим путем из-за
невозможности совершить этот период зимой по морю.
5 февраля 1774 г., примерно в 90 км от Дербента, Гмелин был захвачен в плен
кайтагским ханом Усмей-Асмир-Амзой, который был зол на русское правительство за
то, что оно за тридцать лет перед тем взяло под свое покровительство около трехсот
семей, находившихся в зависимости от хана. Русское правительство вело с ханом
переговоры об освобождении путешественника. Хан соглашался отдать Гмелина за
4А. Шапизо была дочерью скончавшегося майора Шапизо и падчерицей поселившегося в Астра-
хани иностранного купца Рентеля. Детей от этого брака не было.
196
выкуп, но несколько раз менял условия (одно время он желал получить 30 тыс. руб.
серебром). Екатерина II намеревалась освободить Гмелина вооруженной силой. Но
восстание под руководством Е.И. Пугачева помешало осуществлению этого плана.
Пробыв в плену полгода, С.Г. Гмелин 27 июня 1774 г. скончался в деревне Ахмедкен-
де от лихорадки и истощения. Ему было всего лишь 29 лет. К счастью, его путевые
записки и тетради уцелели: они были отданы отпущенным из плена И. Михайлову и
Ф. Бауру, которые доставили их в Академию наук.
Дневники путешествия Гмелина были опубликованы Петербургской Академией
наук вначале на немецком языке в четырех томах (Gmelin, 1770-1784) (последний том
был подготовлен к печати П.С. Палласом, который написал к нему краткую биогра-
фию автора), а затем и на русском языке под названием ’’Путешествие по России для
исследования трех царств природы” (Гмелин, 1771-1785).
Этот огромный труд объемом более 1300 страниц, содержащий 135 таблиц с рисун-
ками, явился важным вкладом в развитие ряда наук: географии, геологии, ботаники,
зоологии, этнографии. В нем - множество ценных сведений по медицине, сельскому
хозяйству и экономике южных провинций России и сопредельных с ней государств,
особенно Персии.
Цели путешествия и отношение автора к разрешению стоявших перед ним задач
Гмелин раскрыл в предисловии к своему труду. Он писал: ’’Намерение мое состояло
в том, чтобы описать те страны, по которым я ехал, показать их выгоды и недостат-
ки, исследовать со вниманием все попадающиеся мне особливые предметы, сколько
обстоятельства допустят, также примечать за домостроительством, узнавать нравы и
обыкновения народов; словом все снести вместе, что только достойно примечания...
Я признаюсь, что при описании естественных тел может быть предложил я что-нибудь
за новое, что уже известно. У путешествующего мысли о всегдашнем разброде, и он
не всегда может упомнить, что он сам уже иногда видел. Моя дорожная библиотека
весьма мала, описания в обыкновенных сокращениях естественной истории в столь
тесные заключены пределы, что часто не без труда можно по оным определить поро-
ды” (С. 1).
Ничто достойное внимания не ускользает из поля зрения Гмелина. В своих путе-
шественных записках Гмелин описывает геологию областей, через которые проходил
путь экспедиции, в частности он приводит интересные данные о геологическом
строении Валдайской возвышенности, отмечает реки и озера, состояние пашен и
лугов, приводит виды встречавшихся растений и животных, описывает промыслы и
занятия населения, их обряды, культурный уровень, состояние медицины.
В маленьком украинском городке Острогожске Гмелин обратил внимание на то,
что там людям делали ’’прививку” коровьей оспы. ”В Малороссии, - писал он, - есть
обыкновение прививать малым детям коровью оспу. Взяв хорошей оспы, привязы-
вают ее матери детям своим к разным частям тела, и оставляют их так до тех пор,
пока не усмотрят в них жару, который как скоро окажется, то и повязку снимают. А
чтобы оспа высыпала, то делают они посредством сырого или вареного меда, не упо-
требляя при том ничего другого. Дети, коим привита оспа, ходят на вольном воздухе,
едят и пьют, так как бы они были совсем здоровы. У- иных хотя оспа и привита,
однако не высыпает; другие умирают, а по большей части пробывают в сей произве-
денной искусством болезни совсем здоровы” (Гмелин. 4.1. С. 192). По-видимому,
оспопрививание, неизвестное еще в России и в Западной Европе, уже давно применя-
лось на Украине5. Побывав в другой раз в Острогожске, Гмелин из разговора с 75-лет-
ней старухой узнал, что ’’она за год перед тем прививала своей внучке оспу так, как
и ей в детстве прививала оспу ее мать” (С. 143).
5Английский врач Эд. Дженнер (1749—1823) впервые сообщил о разработанном им методе
оспопрививания в 1798 г.
197
Много внимания Гмелин уделял экономическому состоянию обследованных рай-
онов, дал ряд рекомендаций, направленных на улучшение их благосостояния. Так, в
частности, отмечая большое количество вина, ввозимого в Воронеж из Турции,
Греции и Крымского ханства, он указал на целесообразность разведения в этих
местах винограда, что избавило бы от необходимости покупать вино из этих стран6 *.
Ученый отметил большое значение мореплавания по Каспийскому морю для торгов-
ли России.
Исследования Гмелина способствовали уточнению топографического положения
ряда рек, протоков и рукавов в устье Волги, населенных пунктов и гаваней в Каспий-
ском море, что позволило ему составить весьма удачную карту Каспийского моря,
Гмелин описал нефтяной источник, обнаруженный им в районе Баку.
Во время путешествия по южным областям России и Кавказа Гмелин описал около
100 видов растений, что явилось важным вкладом во флористику этих районов.
Большое значение для отечественной зоологии имели наблюдения Гмелина над
животным миром. Особенно много внимания путешественник уделил птицам и
млекопитающим. Он оставил подробные описания млекопитающих, в которых приво-
дил не только их внешние признаки, их образ жизни, но и их промысловое или хозяй-
ственное значение, сообщал о способах охоты и применявшихся орудиях лова.
Особенно много наблюдений над млекопитающими Гмелин сделал в Воронеже.
Приехав туда в сентябре 1768 г., когда ’’поля совсем обнажены были от трав и насеко-
мых”, а ’’стадные птицы большею частью удалились в свое отечество”, Гмелин весь
отдался изучению млекопитающих, считая это дело наиважнейшим.
В окрестностях Воронежа Гмелин обнаружил земляного зайца, который тогда был
неизвестен, и дал его детальное описание: ”Я имел случай, - писал Гмелин, - видеть
его многажлы живого, и высмотреть его нравы. В каждой'челюсти имеет оный по два
передних зуба. Находящиеся в верхней челюсти суть коротки, тупы и стоят неподале-
ку друг от друга; а в нижней оные длиннее, острее и отделены между собою. Кроме
сих, находятся еще на обеих сторонах по одному гораздо меньшему. Уши у сего
зверька долги с морщинами, и так тонки, что кровяные сосуды насквозь светятся.
Передние лапы весьма малы и разделены на пять один подле другого стоящих паль-
цев; напротив того, задние весьма долги, имеют также пять пальцев, расположенных
совсем особливым образом. Из передних трех средний долее других, а четвертый и
пятый, меряя от главного их положения поперек, отдален на полдюйма. Стан спереди
тонок, сзади толст и пространен. Находящиеся на верхней части рыла волосы цветом
черны, и на каждой стороне не более двадцати находится. Нос черноват, лоб плоек и
изтемносер. Виски желтоваты, глаза большие. Зрачок зеленоват. Уши, верхняя часть
тела и хвоста и внешняя часть лап суть белого цвета с серым; а внешняя сторона и
нижняя часть тела покрыть? сероватою белизною. Хвост длиннее тела, по большей
части кругл и покрыт короткими волосами, а к концу уподобляется он видом про-
долговатому махалу и состоит отчасти из долгих черных, отчасти белых волос”.
(С. 41-42).
Гмелин дает яркую картину образа жизни животного, особенно способа его движе-
ния и специфики рытья нор. ’’Когда земляной заяц покоится, то он, свернувшись
наподобие кочки часто трет передними лапами голову и рыло, за всем примечает и
нюхает как ученая лягавая собака. А если надобно ему идти, то наперед, вытягивая
стегна и берца, изгибается в дугу, и тогда, встав, скачет с такою скоростью и провор-
ством, как бы по воздуху летит... Нору делает он для себя с великим искусством и
скоростью. Передними лапами роет землю, зубами перегрызает коренья, а задними
отгребает он к стороне вырытую землю и перегрызенные коренья... Он в несколько
бЕжегодно в Воронеж ввозилось около 20 тыс. ведер вина.
^Земляной заяц, большой тушканчик — Allactaga major, 1792.
198
минут вырыл нору в два пальца глубину. Где он раз поселится, то место нескоро
оставляет, ибо если его оттуда выгонят, опять туда возвращается в надежде, что его
оставят в покое. Когда за ним гонятся, то в скорости он делает себе малые норки, где
тщетно старается укрыться от своих неприятелей.
Порядочная нора идет вкось, простираясь вглубь на пол-аршина. Кроме сей,
сделаны еще три или четыре дыры, которые прямо опускаются в нору; без сомнения,
служат оные для пропущения воздуха. Земляной заяц питается нежными кореньями
и травою, и для получения сей добычи выходит из своей норы поутру и ввечеру.
Чрез всю зиму лежит он в норе, а под конец лета запасает себе на зиму нужный корм.
Он собирает сено, начинающее сохнуть, также многие высохшие растения” (С. 42-43).
Гмелин отметил значительное распространение земляного зайца в донских степях.
Описал Гмелин также выхухоль. ’’Выхухоль, - сообщал Гмелин, - есть другой
достопамятный зверь, который мне принесли в Воронеже. Хотя оный довольно уже
известен, но мое описание покажет, что осталось еще нечто об нем упомянуть. Выху-
холь собственно есть среднее между бобром и мышью. Голова к заду широка, а к
переду уже и кончается долгим рылом, которое кверху черно, а внизу красновато.
Глаза имеет весьма малые, обросшие короткими беловатыми волосами. Уши в виде
круглого отверстия скрыты под шерстью. В верхней челюсти находится 16 зубов, из
коих два передних и восемь коренных, в нижней щитается 18 для того что она имеет
4 передних зуба. Шея коротка, напротив того, стан нарочито продолговат. Передние
лапы также весьма коротки, и почти в теле скрыты, задние несколько длиннее, и как
те, так и другие имеют пять пальцев и соединены между собою перепонкою. Хвост,
рассуждая по длине тела, несколько короче, сначала он кругл, потом плоек, а к
концу остр, и по обеим сторонам покрыт малою круглою чешуею, промежду коей
показывается много коротких волос. Покрывающая стан шерсть дает от себя лоск,
жестка и неравной длины. Стан сверху черноват, а внизу светлосерого цвета”
(С. 44-45).
Гмелин привел рисунок животного, его хвоста, лап. Он сообщил также об особен-
ностях анатомического строения выхухоли. ’’Понеже сей зверь, - писал он, - сильно
пахнет мускусом, я весьма желал открыть причину сего запаха и при исследовании
нашел, что в хвосте с самого его начала, в середине между внешнею кожею и обеими
бескровными жилами движущей хвост мышки находится 18 мешочков, расположен-
ных в три ряда, считая в каждом по шести, в которых родится зибет8. Чтоб был там
ход, не можно совсем приметить так, как у шаровидных желез... Легкое у сего зверя
состоит из четырех великих и из того же числа малых частей. Печень широка, тонка,
разделена на пять великих и на пять малых частей. Желудок уподобляется молодому
месяцу рогами кверху, коего правая сторона выше, нежели левая. Внутренние части
в длину простираются на фут, а глухой кишки не находится” (С. 43-45). Гмелин
отметил, что желчного пузыря ему обнаружить не удалось.
Он указывал на преимущественно водный образ жизни выхухоли: почти всегда
живет в воде. Пищей выхухоли служат черви и водные насекомые.
Ученый сообщил об исключительно большом распространении в районе Воронежа и
далее по всем донским степям сурков, которые отличаются между собой величиной и
цветом. ’’Они обыкновенно бывают темно-желтого цвета, черных, напротив, мало
попадается, а белых и того меньше”. Гмелин приводит сведения об их образе жизни и
их промысловом значении. ’’Калмыки с великою охотою их едят. Из шкурок делают
нарочитой доброты мех, из которых каждая будет очерчена, продается по шести
копеек” (С. 46).
Описал Гмелин также обыкновенного хомяка (Cricetus cricetus), встречающегося в
очень больших количествах в степях от Воронежа до Черкасска. ”Не трудно бы было
8Ароматическое вещество — циДетин (zibet).
199
на каждый день, - писал Гмелин, - ловить их по 50”. Он отметил, что хомяк предпо-
читает селиться на несколько возвышенном месте, чаще всего на песчаных сухих
буграх. На них хомяк вырывает ”с великою скоростью круглую дыру впрямь на
пол-сажени вглубь, в сторону от сей делает он равной длины поперечный ход так, что
оный несколько идет кверху. Вход к оному сначала узок, но мало-помалу становится
шире, а на конце, где сидит зверек, весьма пространен. Сии два хода имеют одно
только отверстие, то есть, которое ведет к опускающемуся прямо вниз ходу, и почти
совершенно круглого... Поутру и ввечеру выходит он из своей норы и собирает траву,
семена, корешки и сим подобное на пищу себе, что все склав в приросший ко рту
мешок, относит в свое жилище. Нередко ходят они кучами. Зимою заваливают они
отверстие норы песком, дабы не набилось туда снегу... Самка производит на свет от
двух до шести детенышей, которых она носит около пяти недель” (С. 47-51). Он дает
и описание внешних признаков хомяка.
Гмелин сообщил краткие сведения об обыкновенном слепыше9. Отметив удиви-
тельное своеобразие зверька, ученый пришел к выводу, что ”не можно о слепце ска-
зать, чтобы он подлежал к роду мышей. Но по моему мнению, плоские его зубы пода-
ют причину, чтобы его сделать новым родом. Я бы лучше желал его оставить между
мышами, почитать, однако, совсем за необыкновенную породу, ибо прочие его каче-
ства, подобный кроту вид, отсутствие хвоста и другие обстоятельства имеют еще
больше особенного” (С. 196). Он описал также два виды мышей10. ’’Одна весьма сход-
ствует с земляною мышью Mus terrestiris11, когда она не та же самая. У нее голова про-
долговата и в каждой челюсти по два передних зуба, которые в верхней коротки, со-
единены плотно, тупы и йлоски, в нижней челюсти, напротив того, круглы, долги,
кривы и желты. Овальную фигуру имеющие ноздревые скважины разделены мясною
перегородкою, которая в середине развилиста. В бороде у самого рта имеет много во-
лос, кои цветом черны. Уши имеют в длину четыре линии, а края их обросли волоса-
ми. Глаза весьма черны. Стан сверху изжелта-черен, снизу - изжелта-сер. Хвост
кругл, посредственной величины, черен и совсем оброс волосами. Передние лапы, на
четыре пальца разделенные, из которых на большом находится один ноготок. Задние
также волосаты и разделены на пять пальцев. Ногти сначала черноваты, а к концу
белы.
Другая порода имеет еще более отменного и подлежит до тех мышей, которые в
земле роются. Верхняя часть стана у ней изкрасна-желта, который цвет к заду, где
она шире становится, несколько превосходнее. От затылка вдоль по всему стану до
хвоста идет черная, сначала узкая, в середине широкая, а к концу опять узкая поло-
са. Нижняя часть тела совсем пеплистого цвета. Уши покрыты волосами того же цве-
та, как и голова. Хвост имеет два дюйма с половиною, цветом сер и волосат. На
передних лапах по четыре, а на задних - по пять пальцев... Сия мышь делает себе в
степи длинные узкие норы, на конце которых идет поперек другая в пол-аршина дли-
ною нора” (С. 226).
Большой исторический интерес представляет описание Гмелином тарпанов - ди-
ких лошадей, исчезнувших в XIX в. ”3а 20 лет, - писал Гмелин, - находилось в со-
седстве Воронежа много диких лошадей, но оныя ради причиняемого ими великого
вреда прогнаны далее в степи и по разным местам рассеяны”. Он пытался разыскать
тарпанов. В 45 км от Бобровска (маленького городка, расположенного недалеко от
Воронежа) в с. Чихонке Гмелин увидел ’’бегущих вместе шесть лошадей, которые,
’Обыкновенный слепыш — Spalax microphtalmus Giildenstedt. Гмелин из разговоров с Гильден-
штедтом в Воронеже знал, что тот собирался послать подробное описание обыкновенного слепыша
в "Комментарии” Академии наук.
10Описание Гмелина не позволяет точно определить вид грызунов.
1ХВодяная полевка Arvicola terrestris Linn. По-видимому, Гмелин имел дело с другим видом.
200
Рис. 59. Азиатский муфлон
завидя охотников, с несказанною скоростью ударились бежать”. ’’Пополудни, - со-
общал путешественник, - увидели мы их стадо, попереди которого бежал жеребец,
предводительствующий прочими. Крестьяне говорили, что как скоро низложен бу-
дет жеребец, то не трудно будет их поймать. Для того употребили они все свои силы,
чтобы его заманить в тенета”. Жеребец попался в руки охотникам, которые убили его
рогатиной. Вскоре был пойман годовалый жеребенок. Были пойманы и убиты две ди-
кие лошади и дворовая лошадь, примкнувшая к стаду. Эти трофеи дали возможность
Гмелину подробно описать внешние признаки тарпанов. ’’Самые большие дикие
лошади величиною едва могут сравниться с самыми малыми домашними лошадьми.
Голова у них чрезмерно толста. Уши весьма остры, и бывают такой же величины, как
у домашних лошадей (такие были у пойманных мною на охоте), или долги, почти как
у осла, и опустились вниз. Глаза у них огненные. Грива весьма коротка и курчава.
Хвост у иных густ, у иных редок, однако всегда короче, чем у домашних лошадей.
Цветом схожи на мышей, и сей признак примечен на всех находящихся в сих местах
диких лошадях, хотя, впрочем, писатели упоминают о белых и пепелистых. Однако
цвет на брюхе у них сходствует с пепелистым, а ноги, начиная от колена до копыта,
черны. Шерсть на них весьма долга и столь густа, что при осязании более похожа на
мех, нежели на лошадиную шерсть.
Они бегают с несказанной скоростью, и по крайней мере вдвое против доброй до-
машней лошади. При малейшем шуме приходят в страх и убегают. Каждое стадо име-
ет предводителем жеребца, который идет наперед, а другие ему следуют. Сие самое
причиною, что как скоро его убьют, то прочие рассыпаются, не знают, куда бежать, и
таким образом попадаются в руки охотникам...
Они охотно водятся в степях около крестьянских магазинов12... им они так нра-
вятся, что две лошади могут чрез ночь опорожнить такой магазин, из чего можно
12Магазин — скирда.
201
заключить о их тучности, от которой они круглы бывают как шар. Кроме сего вреда,
делают они и другие обиды.
Дикий жеребец весьма падок до домашних кобыл; и если он может успеть в своем
намерении, то, конечно, не опустит столь желанного случая, но уводит их с собою;
для того упомянул я о находившейся между дикими домашней лошади. Дикий жере-
бец увидел единожды ходящего в поле домашнего жеребца с кобылами. Ему нужда
была до последних, но как первый не хотел до сего допустить, то произошла между
ними жестокая брань. Домашний жеребец оборонялся ногами, а дикий грыз своего
неприятеля зубами и напоследок, не взирая на все сопротивление соперника, загрыз
его до смерти. Оставшись победителем, овладел он добычею. Для того неудивитель-
но, что крестьяне изыскивают всевозможные средства для защищения себя от их
обид и прогоняют их далее в степи... Ловящиеся всегда тенетами живые дикие лоша-
ди с великим трудом оставляют свою дикость и приучаются к работе” (С. 55).
Гмелин дал описание новых видов млекопитающих: ушастого ежа Erinaceus auri-
tus, персидской белки Sciurus anomalis, азиатского муфлона Ovis orientalis (рис. 59), а
также уже известного, но недостаточно полно описанного сайгака Saiga tatarica.
Для иллюстрации мы приведем описание С.Г. Гмелином сайгака и ушастого ежа.
О САЙГАКЕ И УШАСТОМ ЕЖЕ13
[Сайгак]. Я предлагаю здесь описание вида животного не нового, но недавно
наблюдавшегося Патруссом во время его сибирского путешествия и им же описанно-
го в томе V (С. 345) и томе VII (С. 39) наших ’’записок” под названием ’’каменный
козел безбородый”. Отсюда несколько позже это описание заимствовал славнейший
Алламан и приложил его к изданному в Лейдене орнитологическому труду Бриссона;
Перилл опубликовал его же в последнем издании линнеевской ’’Системы природы”
(С. 97, № 11), под названием ’’козел с ровными и почти прямыми, на концах прозрач-
ными рогами, на которых явственно различимы кольца, и с безбородым горлом”.
Однако я полагаю, что все эти описания настолько недостаточны, что имеет смысл
вновь заняться исследованием этого лесного вида козла и приложить для этого
усилия.
По величине он (я говорю теперь о самце) превосходит обычного козла: а именно
длина (моего экземпляра) составляла в точности 4 фута с половиной, и мне рассказы-
вали, что нередко попадаются и более крупные особи. Однако отличается сайгак от
обычного козла и другими, еще более заметными особенностями, каковые я ниже и
намереваюсь более подробно рассмотреть.
Голова [у сайгака] продолговатая и очень некрасивая, кзади расширяющаяся, вы-
пуклая, спереди вытянутая в виде выступа и более узкая.
Футы Дюймы Линии
Длина головы, измеренная по нижней поверхности, от 0 7 11
заднего края до основания рта
Длина головы, измеренная по верхней поверхности, от края 1 3 10
затылка до конца носа
Расстояние между углами нижней челюсти 0 1 8
Расстояние от конца носа до глаз 0 8 10
Расстояние от углов рта до глаз 0 5 1
Расстояние между глазами 0 4 И
Расстояние от глаз до ушных раковин 0 2 5
Продольный диаметр глаза 0 1 7
Поперечный диаметр глаза 0 1 1
Расстояние между ноздрями 0 0 2
13Сообщение передано в редакцию Новых Комментариев Петербургской Академии наук
28 марта 1770 г. Пер. с лат. Б.А. Старостина. Публикуется впервые.
202
Футы Дюймы Линии
Длина ушных раковин 0 3 8
Максимальная ширина ушных раковин 0 2 4
Дистанция между ушными раковинами 0 5 5
Длина рогов 1 0 5
Расстояние между ними 0 2 6
Расстояние между ними, рогами и главами, измеренное 0 1 2
трансверзально
Расстояние между ними, рогами и ушными раковинамц, 0 1 9
измеренное по перпендикуляру
Расстояние от наружного угла глаза до внутреннего угла 0 5 1
нижней челюсти
Длина шеи 0 10 6
Расстояние от основания рогов до начала передних 1 5 6
конечностей
Шея в окружности 1 4 7
Окружность тела, измеренная за передними конечностями 2 11 5
Наибольшая окружность тела 13 1 7
Окружность тела, измеренная перед задними конечностями 2 7 7
Длина хвоста 0 4 9
Длина плеча 0 6 И
Ширина плеча на уровне лопатки 0 2 11
Ширина плеча на уровне сочленения 0 1 7
Окружность плеча (наибольшая) 0 6 10
Длина локтевой кости от начала копыт 0 9 5
Ширина локтевой кости под суставом 0 0 7
Ширина локтевой кости перед копытом 0 0 10
Окружность локтевой кости (наибольшая) 0 5 2
Длина бедра, считая от колена 0 10 0
Средняя ширина бедра 0 2 3
Наибольшая окружность бедра 0 5 9
Длина большеберцовой кости до начала пяточной кости 0 9 6
Наибольшая окружность большеберцовой кости 0 4 1
Длина пяточной кости 0 0 7
Расстояние между шпорами 0 0 ’ 4
Расстояние от шпоры до копыта 0 1 0
Длина одного копыта 0 1 3
Ширина одного копыта 0 2 0
Нос наиболее широк у основания лба, каковое имеет форму лунного серпа, причем
посреди носа проходит бсроздка, обозначающая [границу] между [костными] не-
окостеневшими участками. По отношению к нижней челюсти нос выступает вперед
почти на два дюйма.
На конце нос пронизывается широкими круглыми ноздрями, изнутри голыми, по
всей окружности имеющими серую окраску, изолированными одна от другой пере-
городкой.
У своего основания нос переходит в верхнюю губу, имеющую очертание непра-
вильного прямоугольника, покрытую бледноокрашенными удлиненными бородавка-
ми; посередине верхней губы проходит бороздка. Нижняя губа занимает положение
под [всеми остальными частями] головы; имеет почти округлую форму, с боков
покрыта клиновидными бородавками.
Подбородок несколько выдающийся вперед, безбородый.
Глаза расположены по бокам лба, широко расставленные, большие.
Их веки на начальных со стороны носа участках снабжены ресницами, а кнаружи
голые. Радужная оболочка белая, зрачок голубой, мигательная перепонка блестя-
щая, плотная, широкая, пронизанная множеством кровеносных сосудов.
203
Рога низко сидящие, на расстоянии одного дюйма и двух линий над глазами. С обе-
их сторон по одному рогу, имеющему у взрослого животного длину более чем в один
фут. Основание рога несколько скрыто внутри черепа. Рог поднимается вверх изогну-
той линией, на самой верхушке скошен вбок. Полый, полупрозрачный, опоясан 16
или 17 кольцами, из которых последние бывают стерты. Верхушка рога гладкая; по
веер длине он покрыт многочисленными продольными бороздчатыми полосами, у
начала своего темнозеленоватыми, причем в середине и к концу полосы эта окраска
переходит в желтоватую и оливковую.
Наружные уши расположены с обеих сторон на оконечности затылка, имеют в дли-
ну три дюйма и более, покрыты густыми волосами, прямостоячие, полукруглые, на
концах тупые.
Резцов в вехней челюсти нет. В нижней челюсти их восемь, примыкающих друг к
другу, но весьма удаленных от коренных зубов.
[По своей форме] резцы прямые, параллельные друг другу, с обеих сторон два рас-
положенные кнаружи резца короче и уже остальных.
Клыков ни в верхней, ни в нижней челюсти нет.г
Коренных зубов как в верхней, так и в нижней челюсти по девять [с каждой сторо-
ны], они широкие, разделены на бугорки.
Язык мясистый, продолговатый, довольно широкий; сверху по бокам, а снизу по
всей поверхности покрыт сосочками; по середине языка идет бороздка, конец его
тупой, нёбная уздечка приросшая.
Ротовая щель большая, квадратная.
Шея толстая, довольно длинная.
Туловище продолговатое, толстое, с выпуклой спиной. Живот голый, соски с обеих
сторон живота и еще одна [пара] ниже живота; пенис довольно длинный, под ним два
больших, удлиненных тестикула. Препуций волосистый.
Передние конечности короче задних на четверть, на концах двураздельные, с дву-
мя ромбоидальными шпорами, отогнутыми на наружной стороне кзади. По направле-
нию кпереди назад их длина составляет тринадцать линий; спереди шпоры бороздча-
тые. Начиная от бороздки, между ними и кожным покровом идет довольно глубокий,
непрерывный синус.
Соотношение между волосами [по длине и окраске] следующее. Вообще говоря,
вполне справедливо считается, что у сайгака они гораздо короче, чем у домашней
козы, и что, кроме того, [сайгачьи] волосы во многом напоминают оленьи. Однако
имеются значительные различия между волосами, покрывающими у сайгака различ-
ные части тела. Наиболее коротки и наиболее плотно покрывают кожу волосы, расту-
щие на носу; они мягкие, белые и только по бокам и на самой верхушке меняют свой
цвет на пепельно-белесый.
Более длинные волосы растут на лбу, на темени и на затылке. Здесь они стоячие, в
длину имеют более двух дюймов, у основания чернеющие или черно-бурые, в сред-
ней части и на верхушке по большей части белые, иногда желтоватые.
Ушные раковины очень волосистые, покрыты волосами чрезвычайно мягкими, по
цвету либо сплошь снежнобелыми, либо на верхушке желтыми.
Под глазами выступают щетинистые бугорки. На них очень длинные щетинки беле-
сой или чернобуро-ржавой окраски; у взрослеющих особей они становятся на конце
золотистыми.
Подбородок варьирует по окраске от темнобурого до белого. Сзади головы, на ее
дорзальной поверхности, волосы по длине такие же, как на подбородке, или немного
длиннее их. Однако по окраске они, хотя и кажутся снаружи вполне белыми, в
действительности у основания желтовато-бурые и только на концах белые.
Но потому, что они растут очень густо и косо покрыты одни другими, на первый
взгляд может показаться, будто они снежно-белые.
204
Волосы, растущие около хвоста, бледно-свинцово-черные, а по бокам от хвоста,
возле безымянных костей, приобретают мутно-каштановый цвет.
Хвост состоит из волос, напоминающих те, которые растут на спине.
Длиннее всех те волосы, которые одевают туловище по его наклонным бокам: они
напоминают своего рода бороду. Волосы, растущие на нижней поверхности шеи и по
середине живота, желтые; волосы, растущие на связках, соединяющих живот с пени-
сом, желто-бурые.
На боках волосы снежно-белые; в генитальной области окраска волос снова желто-
ватая, но на пенисе и тестикулах волосы белые, около анального отверстия снежно-
белые.
Передние конечности желтые с примесью белесого, причем таким образом, что на
внутренней их поверхности преобладает белесая окраска. Задние конечности белые
и только на самых своих концах снаружи и изнутри каштановые. Волосы у начала
как передних, так и задних конечностей довольно длинные, но затем в дистальном на-
правлении становятся короче. Копыта твердые, черные или синевато-черные.
Из сказанного видно, что данное животное по строению своих зубов вполне могло
бы быть отнесено к овцам, а по рогам - к козам; по причине же его уродливого носа,
низко расположенного рта, отсутствия у него бороды, а равно и по причине отличия в
окраске, по-видимому, следует рассматривать его как особый вид.
Этот вид козы свойствен Азии и очень часто встречается на Дону и Волге, а также в
северных областях Сибири. Он любит обширные пустынные пространства; питается
травами, как лошади; быстро бегает, а если его вспугнуть, обычно делает высокие
прыжки.
На равнинных местах охота на сайгака довольно трудна, в горах же он при
преследовании часто делает свои короткие прыжки, утомляется и становится легкой
добычей охотников. Под осень или в начале лета самка рождает одного-двух детены-
шей. Стадного образа жизни сайгаки не ведут; одновременно их удавалось видеть,
самое большое, четверых. Осенью сайгаки становятся очень жирными, причем самки
гораздо крупнее, нежели самцы.
Северные ветры сайгакам очень неприятны, прежде всего потому, что приносят
снег. Поэтому и случается так, что именно зимой, в [тяжелых] погодных условиях,
сайгаки бегут из киргизских степей в Астраханскую губернию, и там их в это время
нередко можно видеть. Замечали их и в самом городе, куда они тоже проникают.
Мясо у сайгаков вкусное, особенно у самок.
Между татарами-магометанами распространена легенда, будто Агари, беременной
наложнице благочестивого Авраама, изгнанной в пустыню его законной женой Сар-
рой, ангел Гавриил послал (когда она родила в пустыне Измаила) именно сайгака,
дабы самка сайгака своими сосцами питала и мать и младенца. Поэтому эти неверные
сайгака очень чтут. Кроме мяса, используется от сайгака также шкура.
Из нее люди небогатые делают себе зимние одежды. Однако поскольку шерсть
сайгака скорее рыхлая и волосы из нее легко выпадают, вместо сайгачьих шкур бед-
няки чаще всего предпочитают пользоваться для изготовления таких одежд овчина-
ми как мехом самым дешевым.
Ушастый еж. Авторы, писавшие о ежах, усиленно обсуждали вопрос: существует
ли только один вид ежей, или же на самом деле таких видов имеется много? Мы рас-
полагаем все же некиим первичным основанием деления, заключающимся в том, что
среди ежей можно различить имеющих свиное рыльце и других, чья морда напомина-
ет собачью. Спор еще не решен, но поскольку у всех поныне наблюдавшихся европей-
ских ежей мордочка, как это легко видеть, не похожа ни на свиную, ни на собачью,
кажется, что истина, скорее всего, лежит на стороне тех, кто под влиянием частых
наблюдений признает всех известных до сего времени ежей за один настоящий вид.
Прочие же выдвигаемые теми или иными авторами виды ежей должны быть отнесены
205
либо к тому же виду ”еж обыкновенный”, либо вообще к другим родам животных.
Однако все сказанное не препятствует мне с полнейшей уверенностью предложить
новый вид ежей, очень часто встречающийся в Астраханской губернии и характерный
своим размером, каковым он в несколько раз уступает ежу обыкновенному, и чрез-
вычайно выступающими наружу ушными раковинами (рис. 60), на его признаках и от-
личиях [от ежа обыкновенного] я и хочу теперь подробнее остановиться.
Тело животного сверху, от основания головы и до самого хвоста, сплошь покрыто
колючими иглами, очень плотно вросшими в кожу и очень плотно прижатыми друг к
другу, торчащими кверху, у основания белеющими, в середине грязно-черными, на
верхушке изжелта-белыми, книзу утолщающимися, очень гладкими, к верхушке же
утончающимися и очень острыми; длина иглы составляет семь линий.
Нижняя поверхность тела волосистая, причем волосы спереди - на подбородке,
груди и животе - белые, по всему туловищу с небольшой примесью рыжеватых,
сзади же (перед хвостом) грязно-желтые.
Голова спереди покрыта волосами, окрашенными в белесо-каштановый цвет. Гла-
за маленькие, их веки черноватые, радужная оболочка бледно-голубая, зрачок чер-
ный. Щеки того же оттенка, что и передняя часть головы, однако непосредственно
под и над глазами я наблюдал небольшое количество черных волосков.
Окраска висков каштановая. Голова оканчивается рыльцем, очень похожим на
таковое ежа европейского. Рыльце подвижное, голое, притупленное, черное, посере-
дине с бороздкой, которая лучше заметна на нижней поверхности [рыльца].
Ноздри находятся на самом конце рыльца, с которым срастаются. Довольно тол-
стые, расставленные, с отвернутыми в сторону зубчатыми отверстиями. Так же как у
ежа европейского, верхняя челюсть не выступает из-под носа, а нижняя отстоит от
него почти на четыре линии. Уже из этого можно видеть, что подразделение ежей на
свинорылых и собакорылых покоится на ненадежном основании.
Ушные раковины образуют некое подобие неравнобедренных треугольников. Они
имеют притупленную форму и хотя топографически расположены там же, где и у ежа
европейского, однако по отношению к общим размерам тела, о которых я скоро буду
говорить, являются весьма длинными: а именно их длина составляет дюйм с четырь-
мя линиями, т.е. чуть ли не половину длины тела животного. Ширина их по нижней
поверхности составляет восемь линий, по середине соответственно шесть линий, а на
верхнем конце не более двух. У основания ушные раковины покрыты густыми
избела-желтыми волосами, напоминающими как бы шерсть. Изнутри каждый волос с
обоих боков кпереди и до своей верхушки сопровождается хрящевым отростком.
Край туловища несколько отвернут, и его верхняя поверхность кзади почти голая,
кпереди же и по краям покрыта очень мягкими белесо-серыми волосами, прилегающи-
ми к ней. Нижняя же поверхность у основания и посередине совершенно голая, а
кпереди, со стороны переднего конца тела, покрыта такими же волосами, о которых я
только что говорил.
От головы в обе стороны отходят усы: мягкие, с окраской от белой до черной,
изогнутые; кзади усы становятся длиннее, но число волос, из которых они состоят,
непостоянно.
Зубная формула следующая: резцов в каждой челюсти по два; они клиновидные и
более длинные, чем остальные зубы. В верхней челюсти между резцами имеется не-
которое расстояние, причем правый резец длиннеее левого. В нижней челюсти они
расположены друг к другу ближе, но и в этом случае правый резец длиннее левого.
[Таким образом,] резцы нижней челюсти не симметричны друг другу, но отражают
расположение резцов верхней челюсти. В этой последней с обеих сторон имеется по
пять клыков. Первый из них наименьший и плотно примыкает ко второму, который
выступает вперед и, в свою очередь, налегает на третий клык, прирастая к нему.
Третий клык находится на некотором расстоянии от оставшихся двух. Третий и
206
Рис. 60 Ушастый еж
четвертый клыки оба прямостоячие и похожи друг на друга. Пятый снова меньше,
удален от остальных и расположен глубже внутрь. В нижней же челюсти с обеих сто-
рон имеется по три выступающих вперед клыка, похожих один на другой, но средний
из них длиннее боковых.
Коренных зубов в обеих челюстях с обеих сторон по четыре, они очень похожи
друг на друга, но первый из них самый крупный, а последний - самый мелкий. Обе
челюсти голые по своему мускульному краю. Ладони и ступни пятипалые, окрашены
так же, как нижняя поверхность туловища, но с более заметной примесью желтого
цвета. Коготки красноватые.
Дюймы Линии
Хвост очень короткий, от белесого до грязно-желтого, с черным кончиком
Общая длина животного от конца рыльца до начала хвоста 4 7
Длина хвоста 0 5
Расстояние от рыльца до затылка 0 7
Поперечный диаметр рыльца в его передней части 0 3
Поперечный диаметр рыльца в его задней части 0 4
Расстояние от ноздрей до глаз 0 9 1/2
Расстояние от ушных раковин до глаз 1 3
Расстояние между глазами 0 8 1/2
Поперечник глаза по длине 0 2 1/2
Поперечник глаза по ширине 0 2
Длина окружности тела [по линии, проведенной через] внутренние 0 3
углы глаз
То же — [по линии] через верхушки ушных раковин 0 5 1/2
'Расстояние от верхушки нижней челюсти 0 8
до конца носа
Расстояние между ушными раковинами 0 7
Длина шеи 0 5 1/2
Ширина шеи 1 4
207
Дюймы Линии
Длина окружности тела по его нижней поверхности [по линии, про-
веденной] перед ладонями1
Расстояние между ладонями
[Часть] окружности тела, заключенная между ладонями и ступнями
Длина хвоста
Длина ладони до запястья
Окружность пясти
Длина большого пальца на ладони, считая с когтем
Длина мизинца ладони, считая с когтем
Длина среднего пальца ладони, считая с когтем
Длина второго и четвертого пальцев ладони, считая с когтями
1 10
1 52
0 4 1/2
0 10
0 4 1/2
0 3 3/4
0 3 3/4
0 5
0 4 1/2
Примерно такую же величину имеют и пальцы задних конечностей, однако любо-
пытно, что их мизинец отодвинут кзади более чем на три линии3 по сравнению с со-
седним пальцем. К сказанному я считаю необходимым добавить, что плечи, пясти,
голени и плюсны животного покрыты светлоокрашенно-седоватыми волосами, в то
время как туловище и предплюсны лишены волос, сами же по себе заметно окрашены
по нижней поверхности в грязно-бурый цвет.
[Показанные в таблице] размеры тела представляют собой постоянную величину,
как постоянна и форма ушных раковин, так что нельзя полагать, чтобы описанное
мною животное было лишь разновидностью ежа европейского. И больше того: можно
сказать, что европейский еж, по остальной России достаточно часто встречаемый и
наблюдавшийся мною также включительно и по Воронежскую губернию, здесь, в
районе Астрахани и Царицына, явно вымирает. [Его замещает] описанный вид, кото-
рому свойственны те же обычные привычки, что и ежу европейскому. Если он стал-
кивается с внезапным раздражением, то сворачивается в клубок, пытаясь таким
образом себя защитить, и в этом состоянии он остается почти неподвижным. Желая
же начать двигаться, он опять-таки [как и еж европейский] вытягивает свое тело, ста-
новится на ноги и бежит с такой же скоростью, как тот, если не с большей. Наконец,
он питается той же пищей, и вся его экология обычна и для европейского ежа. Зимой
он скрывается в норке, имеющей глубину в несколько дюймов, и ведет там незамет-
ное существование без пищи. Жители Астраханской губернии держат описанного
здесь ежа в качестве домашнего животного вместо кошки. Они его чаще всего кор-
мят молоком, которое он крайне любит. Приложенное изображение ушастого ежа сде-
лано в натуральную величину и соответствует его действительным размерам.
Гмелин придавал большое значение при классификации зверей наблюдениям над
их образом жизни, сезонной изменчивостью.
Описывая чакалку - шакала (Cania aureus), широко распространенную в Сальянах,
Гмелин отмечает, что они ”с первого взгляду казались выродками волков, однако
вся их экономия образ жизни сходствует с лисичьею, так что я сего зверя средним
между помянутыми псов породами почитаю”. Гмелин привел особенности шакалов,
на основании которых он сделал этот вывод. ’’Чакалки, - писал он, - вяжутся как
волки... Самка чревата бывает в году только один раз... мечет щенят от шести до ось-
ми... делает свою нору таким же образом, как и лисица... днем пребывают они в ле-
сах, недалеко от гор находящихся, ночью же оставляют жилище и посещают близ-
лежащие города, села, деревни... их никогда по одной не увидишь, но всегда вместе с
некоторым числом своих товарищей. Когда они выходят на добычу, то бегают очень
тихо, как подкрадывающийся вор, подняв голову, чтоб годные для себя предметы
тем лучше подстеречь можно было. Если же за ними гонятся, то бегают чрезвычайно
скоро, так что волка скоростью превосходят. Чакалка составляет особливую породу,
хПротив этой рубрики числовых данных не приведено.
2Выше: 5 линий.
3В оригинале "дюйма": по-видимому, опечатка.
208
которая хотя великое сходство с волком имеет,, однако ее потому ж волком нельзя
назвать, что волк и лисица суть особливые собак породы” (4.3. С. 120-123).
Результаты полевых наблюдений для Гмелина - важный неотъемлемый элемент
характеристики зверя. Давая, например, описание персидской белки, Гмелин рас-
сматривает не только внешние признаки зверька, но и его образ жизни. ’’Впрочем, -
отмечал он, - сия восточная белка с европейскою одинаковый вид и одинаковое
жития поведение имеет, обе подобным одна другой образом питаются и как та, так и
другая гнезда делают и плодятся во множестве одинаким же образом, а наконец как
персидской, так и европейской куница есть главнейший неприятель” (С. 556).
Много внимания уделял Гмелин сезонной изменчивости, видя в ней источник
чрезмерного числа описанных авторами новых видов зверей.
Наблюдая над обыкновенной белкой во время зимовки в Воронеже, Гмелин
пишет, что, начиная со 2-го по 12 ноября ”у белки начал уже переменяться рыжева-
тый цвет шерсти. Сперва начал сереть хребет, потом брюхо, после лапы, наконец, и
голова; верхняя часть тела всегда светла, нижняя, часть всегда бела. Я изобразил на
седьмой и осьмой таблице бывшие с шерстью перемены, дабы против Господина Бюф-
фона доказать, что серая и рыжеватая белка один зверь и в своих нравах и во всем
домостроительстве не имеют ничего между собою отличного. Итак, рыжеватая белка
Господина Бюффона с обыкновенною белкою относится к одной породе” (Ч. 1. С. 55).
Гмелин придавал большое значение фенологическим наблюдениям, связывая с
ними сезонную изменчивость зверей. Находясь в Астрахани в конце 1770 г., Гмелин
писал: ’’Горностаи показалися уже опять в своем летнем виде, и я приметил еще на
спине в разных местах белые пятна...66
В ’’Путешествии...” Гмелин отметил и других малоизученных тогда млекопита-
ющих: барса, каспийского тюленя, безоарового козла, джейрана, дикобраза. (Ч. 2.
С. 266);
Некоторых млекопитающих он только упомянул, тогда как других разобрал до-
вольно подробно.
Перечисляя встречавшихся в обследованных районах зверей, он всегда отмечал их
распространение, показывал, насколько они типичны для данной области.
’’Около Астрахани, но только зимою, - писал Гмелин от 5 февраля 1770 г., - во
время снеговых вьюг, а особливо когда долго дует восточный ветер, бывают те дикие
козы, коих татары сайгаками называют. Они не принадлежат собственно к зверям
Волжским, но приходят в сии страны с реки Уралу, однако часто большими стадами”
(Ч. 2. С. 240).
Описывая каспийского тюленя, Гмелин отметил его распространение, промысло-
вое значение. ”Из всех четвероногих животных в Каспийском море водятся одни
только тюлени, но притом в столь великом множестве, что для многих людей, так,
как у гренландцев, служат знатным пропитания средством. Пород оных очень много,
кои однако ж все разнятся одним только цветом. Есть между ними черные, белова-
тые или избела-желтоватые, пепеловидные, дымчатые, да и такие, кои, как тигр, ис-
пещрены пятнами. Передними ногами выползают они из моря на острова и там дела-
ются добычею рыбаков, кои их на оных толстыми длиною в полтора аршина палками
без всякой трудности убивают”. (Ч. 3. С. 359-360).
Таким образом, в своих путешественных записках Гмелин дал не только перечень
всех встречавшихся млекопитающих южных провинций России, побережья Каспий-
ского моря, Персии, привел описание многих из них, в том числе и новых видов, но и
сообщил ряд ценных сведений о сезонной изменчивости зверей, их распространении,
особенностях их экологии.
Большим вкладом в териологию явились также описания Гмелином фаун млеко-
питающих обследованных им районов. Особенно интересна характеристика фауны
млекопитающих Персии, написанная очень ярко. ’’Хотя в Гиляне различных зверей
также немного, однако и тем, кои находятся, известные места назначены. По голым
14. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес 20®
©nmud ©eorg ®mehn$,
Tutors bet (Martjrit, bee J₽a?ferl. Xrabemk bet ,
ber it6nt$r. (Brofibrttantti$en ju ionbort , ber JJafUnbifdHi 45oaet<if bet
9B$enf(fytfffen ju флНет f unb bee freien 0Kowfnt$en 0ep8fcfy<tfft
|u St. SJetcwbawj, Wgliebetk
Shifc t>m Stuglaiib
Jur
Untcrfuc&ung ber brep ЭШипЭйфе.
<£ r (I e г X i i I.
Shift »on 0L Ettersburg bif поф ХГфегГoff,
ber J&auptftabt ber 2)ош[феп 5?ofncfett
tn ben 2Иген пб«. unb 1769.
44 «Ф4 44’ <t • «44' e ♦ 4*9*4 *4*4 9 4 4 *44 4 44 4 4 4 4 4*44444* 4
0П фегег$&1Н&
Sebrucfc be? ber JfttyftH» Ifwbemk ber WJ^enf^aften.
Puc. 61. Титульный лист сочинения С.Г. Гмелина ’’Путешествия по России
для исследования трех царств природы”
Карта путешествий И.А. Гильденштедта. Справа вверху
горам лазят дикие козы (Сарга hircus), пассенги (Сарга Besoardica) и дикие овцы (Ovis
orientalis). В лесах водятся кабаны, олени, серны и тигры. Там же копают свои подзем-
ные жилища дикообраз и барсук, и белка круг дерев цепляется. Там находятся поле-
вые и в камнях живущие куницы; горностаи, напротив того, попадаются только на
плоскостях высоких гор. Водятся также в лесах и медведи; волков в иных местах
мало, а в других много бывает; лисиц совсем нет, но место оных заступают беспокой-
ные и по своему реву предосадные чакалки. Степных зверьков, коих в России всег-
да много, в Гиляне совсем нет. Как выхухоли уже в нижних сторонах Волги пропада-
ют, то их здесь и искать не для чего, впрочем, однако ж болотистая земля для пребы-
210
вания их была б способна. Зайцев в лесах и покрытым кустарником пригоркам есть
много. Я не думаю такой страны найти на свете, где больше было б черепах, лягушек,
ящериц и змей, как в Гиляне, и как после я приметил в Мезандеране... беспрестанное
кряканье лягушек и черепах столь слуху противно, сколь чувствительно для кожи
угрызение комаров” (С. 630—631) (рис. 61).
Этот отрывок интересен и тем, что Гмелин показывает в нем явление замещения
одного вида другим: лисиц - шакалами, приводит пример зонального распределения
млекопитающих: ’’как выхухоли уже в нижних сторонах Волги пропадают, то их
здесь и искать не для чего, впрочем, однако же, болотистая земля для пребывания их
была б способна” (С. 631).
И.А. ГИЛЬДЕНШТЕДТ. ОПИСАНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
ЮГО-ЗАПАДА РОССИИ
Гильденштедт Иоганн Антон (1745-1781) - академик, выдающийся путешествен-
ник-натуралист - родился 26 апреля 1745 г. в Риге. Отец его, Антон Гильденштедт,
был асессором рижского гофгерихта1), мать Доротея, урожденная Виргин, была един-
ственной дочерью бургомистра г. Пернов (Пярну) Якоба фон Виргин и вдовы адвоката
гофгерихта Фридриха Христлиба Мюллера.
Образованием сына в детстве занимался сам Антон Гильденштедт, который опре-
делил мальчика для последующего обучения в рижский лицей. Тринадцати лет
Иоганн лишился отца, а еще через три года умерла и мать. Шестнадцатилетний юноша
едет в Берлин, где поступает в Медико-хирургическую коллегию. В ней Гильден-
штедт приобрел основательные знания по медицине, ботанике и натуральной исто-
рии. Окончив коллегию, он переезжает во Франкфурт-на- Одере, где и завершает свое
образование, защитив в декабре 1767 г. докторскую диссертацию на тему: ’’Теория
первичных сил человеческого тела” (Tueoria virum corporis humani primitivarum).
Вскоре только что произведенный в ранг доктора медицины Гильденштедт получа-
ет приглашение Петербургской Академии наук стать адъюнктом Академии и принять
участие в подготовлявшейся экспедиции по России. Он оставляет Германию и в апре-
ле 1768 г. прибывает в Петербург. Здесь Гильденштедт сразу же оказался вовлечен-
ным в подготовку экспедиции в Астраханскую губернию. Он возглавил четвертый
отряд ’’физической экспедиции”, в состав которого входили три студента: Сергей
Мошков, Борис Зраковский и Алексей Беляев, художник Григорий Белой и чучель-
ник Семен Тарбеев2).
Экспедиция Гильденштедта отправилась из Петербурга в июне 1768 г. Проведя
зиму в Москве, она в марте двинулась на Воронеж по пути, совпадавшем с маршру-
том С.Г. Гмелина. Из Воронежа Гильденштедт через Новохоперск поехал на Цари-
цын-Астрахань-Кизляр. 23 января 1770 г. отряд прибыл в Кизлярскую крепость,
откуда Гильденштедт совершил несколько поездок на реки Терек, Сунжу, Аксай и
Койсу (рис. 62). Здесь он осмотрел горячие источники, нефтяные ключи, посетил севе-
ро-восточную часть Кавказских гор, а затем отправился в Осетию, где он не только
познакомился с природой этой страны и историей ее народа, но и составил словарь
осетинского языка.
Гильденштедт совершает вторичную поездку на Терские теплые воды, в Малую
Кабарду и северо-восточную часть Кавказа, а затем едет в Грузию по линии Душет-
Мпхет (Мпхета)-Тифлис, в этих местах он был принят радушно грузинским царем
х)Высшее судебное учреждение в остзейских губерниях, существовавшее до 1889 г.
2)Гильденштедт был<самым молодым (по стажу) ученым, ставшим во главе экспедиции, и ему
вначале было определено самое маленькое по сравнению с другими приглашенными из-за рубежа
учеными содержание (360 руб. в год).
211
Рис. 62. Карта путешествий И.А. Гилъденштедта.
На врезке Кавказ и юг России в более крупном масштабе
1 — путь следования;2 — города
Ираклием, заслужив особое его расположение оказанием медицинской помощи его
семье. Гильденштедт сопровождает царя в его походе вверх по Куре и 14 октября
прибывает с ним в Тифлис. Здесь он остается до середины февраля, проводя время в
обследовании окрестностей. Потом вместе с царем отправляется в Кахетию и прово-
дит там весь март. В мае Гильденштедт едет в Мингрелию и в области, расположенные
на юг от Тифлиса, посещает Кутаис в сопровождении одного из знатнейших грузин-
ских вельмож эристави Давида, которого он вылечил от болезни. В июле Гильден-
штедт вступает в пределы владений имеретинского царя Соломона, который, узнав о
его приезде, выслал ему навстречу единственного своего десятилетнего сына Алек-
сандра. Гильденштедт был тепло встречен царем. Все лето он проводит в разъездах по
Имеретии, Гурии, Средней Грузии, и, наконец, после многих опасностей, собрав мно-
жество ценных сведений о природе этих областей и истории народов, населяющих эти
области, достиг границы России, приехав 7 ноября в Моздок, а 18 ноября - в Кизляр.
Здесь он проводит зиму, собирая дополнительные сведения о народах Кавказа; осо-
бенно много внимания он уделил истории лезгин.
В апреле 1773 г. он едет на теплые Петровские воды для поправления расстроенно-
го здоровья. В июне Гильденштедт направляется вверх по р. Малке для осмотра Боль-
шой Кабарды, затем совершает экскурсию на Бештау, посещает находящиеся в ни-
зовьях р. Куры развалины татарского торгового города Маджары и приезжает в июле
212
на Дон в г. Черкасск. Отсюда совершает поездки на Азов, к устью Дона и к берегам
Азовского моря.
В ноябре 1773 г. он едет в Кременчуг, где проводит зиму и часть лета, путешествуя
по Новороссийским губерниям. Гильденштедт собирался посмотреть Крым, но летом
1774 г. получил из Академии наук распоряжение немедленно возвратиться в Петер-
бург. (Это распоряжение Академии наук о прекращении всех экспедиционных работ
было вызвано восстанием Е.И. Пугачева.) Из Кременчуга Гильденштедт отправляется
по украинской линии, затем сворачивает на Бахмач, далее едет на Киев-Серпухов-
Москву. 2 марта 1775 г. Гильденштедт прибывает в Петербург.
К этому времени Гильденштедт уже широко известен как крупный ученый нату-
ралист в России и за рубежом. В 1770 г. Вольное Экономическое общество избирает
его своим членом. Петербургская Академия наук в апреле 1771 г. возводит его в сте-
пень ординарного академика и дает ему кафедру естественной истории. В 1774 г.
Берлинское Общество любителей естественной истории избирает его своим членом.
По приезде в Петербург И.А. Гильденштедт много сил отдает обработке собранных
им материалов, работает над незаконченными путевыми заметками С.Г. Гмелина,
активно участвует в издаваемом Академией наук Историко-географическом кален-
даре3), публикуя в нем ряд своих статей, в которых отмечает экономическое значе-
ние обследованных им территорий. В статье ”0 гаванях, находящихся в Азовском,
Черном и Белом морях” Гильденштедт отмечает важную роль, которую могла бы
играть для экономики России ее морская торговля с другими странами. Этой же
проблеме посвящена в основном также его статья ”0 гаванях, лежащих при Каспий-
ском море”, в которой он сообщает сведения об истории описаний берегов Каспий-
ского моря, начиная с предпринятого по указанию Петра I в 1719-1720 гг. путеше-
ствия морских офицеров Фердена и Самойлова от Астрахани до самой Гилани4) и кон-
чая описанием пристаней юго-западного и восточного берегов моря профессором
С.Г. Гмелином, который около Дербента был взят в плен, где и скончался. ’’Астро-
номы Ловиц и Иноходцев, - пишет Гильденштедт, - определили положение городов
Гурьева, Астрахани и Кизляра, я же осмотрел в 1773 году устья Терека и ближайшие
берега: и по таковым сделана прилагаемая карта Каспийского моря”.
Гильденштедт указывает на удобство вождения судов по Каспийскому морю (име-
ется ряд хороших гаваней, отсутствуют приливы и отливы) и отмечает огромное зна-
чение для России плавания по нему русских кораблей. Здесь можно вести исключи-
тельно выгодную торговлю с Персией и через нее с Индией, странами народов Кавка-
за, с бухарским и с хивинским ханствами и производить лов ценной красной рыбы,
которой изобилует море.
’’Выгоды, побудившие и долженствующие еще больше возбуждать россиян к про-
извождению по Каспийскому морю торгов, - пишет Гильденштедт, - весьма вели-
ки... российским купцам предоставлено право производить на всех берегах торги
свои беспошлинно... а Россия изобилует многими надобными для обитающих при сем
море народов товарами”. Сво^ выводы Гильденштедт подкрепляет цифровыми дан-
ными5).
К этому же циклу работ относится его статья ’’Географические и исторические све-
дения о новой пограничной линии Российской империи, проведенной между рекою
Тереком и Азовским морем”6), а также статья ’’Географическое, химическое и вра-
3)Этот календарь издавался под названием "Исторический и географический месяцеслов”.
4)Часть южного побережья Каспийского моря около г. Решта, входящая в настоящее время в
состав северных провинций Ирана.
5)Общая сумма проданных товаров на Каспийском море в 1775 г. достигла 953 тыс. руб., а при-
быль России составила 307 тыс руб.
6 Исторический и географический месяцеслов на 1778 год.
213
чебное описание теплиц в Астраханской губернии при реке Тереке находящихся”7).
Последняя статья весьма интересна и в медицинском отношении, поскольку в ней
Гильденштедт сообщает о положительных результатах, полученных им при лечении
термальными водами людей, страдающих различными заболеваниями, в том числе и
крымской болезнью, как тогда называли проказу.
В это же время он печатает в Академических известиях свою статью ’’Мысли о тор-
говле между Россиею и Германиею, которую можно завести на Дунае и Черном
море”.
В этих статьях Гильденштедт предстает перед нами как человек, полностью от-
дающий себя интересам своего отечества, стремящийся всеми силами способствовать
развитию его экономики, благосостояния, медицины и просвещения.
Но, пожалуй, наиболее ярко это проявляется в выступлении Гильденштедта 29 де-
кабря 1776 г. на публичном собрании Академии наук во время полувекового ее юби-
лея, где он прочитал ’’Речь о произведениях Российских, способных к содержанию
всегда выгодного превосходства в продаже в чужие хкрая Российских товаров пред
покупкою иностранных”. ’’Основание Академии наук, - говорит Гильденштедт, -
составляет в истории приращения человеческого разума наидостопамятнейшую эпо-
ху... Мы не имеем нужды искать доказательств на сие положение из иностранных:
ибо мы находим наиубедительнейшее свидетельство в собственных наших преде-
лах... Вся Европа единогласно вещает, что Санктпетербургская Академия в течение
пятидесяти лет бытия своего приращению наук спосшествовала”. В своей речи Гиль-
денштедт показывает реальный вклад академических экспедиций 1768-1774 гг., в
частности изучения фауны страны, в экономику России. ’’Дабы торговлю с чужестран-
цами соблюсти, - говорит он, - в выгодном состоянии для дрожайшего нашего оте-
чества, то надобно тщательно стараться о размножении наших произведений как для
собственных издержек, так и для отпуску в чужие края”. Гильденштедт предлагает
усилить лов рыбы в устье Днепра, увеличить продажу икры и рыбьего клея. ”Сии то-
вары можно бы также приобретать посредством Каспийского мореплавания, произ-
водя рыбную ловлю в заливах устья Аграхана, Куры и Свидури, ибо персиане, не
употребляя сами в пищу красной рыбы, ни мало бы в этом не препятствовали” (Там
же). Он указывает на обилие рыбы в реках Сибири и севера России. ’’Равно можно бы
и в устьях Оби, Енисея и Печоры ловить оной довольно и отвозить к городу Архан-
гельску морем. Посредством сего мореплавания можно бы нарочито умножить коли-
чество рыбьего жиру в чужие края отпускаемого. В помянутых местах попадается
также в великом множестве белуга8), из коей можно бы получать много жиру, равно
и киты, которые входят в довольном количестве в Кольский залив”.
Гильденштедт отмечает важное значение для экономики России торговли меха-
ми, указывает на необходимость дальнейших поисков новых островов между Кам-
чаткою и Америкой, поскольку открытые там острова оказались богаты ценным пуш-
ным зверем. ’’Важность пушного торга, - говорит Гильденштедт, - очевидна. Мы про-
дали мехов на 490 000 рублей, а сами купили волков, лисиц, выдр и бобров на
41 600 рублей ... Открытия островов, между Камчаткою и Американскими берегами
лежащих, весьма важны в отношении к торгам дорогими мехами производимым, и
потому достойны дальнейшего распространения”.
Гильденштедт предлагает торговать также мехом зверей, широко распространен-
ных в России и в Сибири, которые в то время не имели промыслового значения; мно-
7Исторический и географический месяцеслов на 1779 год.
Петербургская Академия наук поручила Гильденштедту быть составителем выпускаемых ею
исторических и географических месяцесловов, начиная с 1779 г.
8)Белуха — китообразное.
214
Рис. 63. Крапчатый суслик
Рис. 64. Перевязка
гие из этих зверей впервые были описаны и подробно изучены во время академиче-
ских экспедиций 1768-1774 гг. ’’Есть у нас мелкие зверьки, - говорит далее Гильден-
штедт, - совсем почти пренебрегаемые, но немалого внимания по доброте меха
достойные, как, например, бурундук и кулонок (колонок), которые оба в Сибири
нередки; также суслик, перевязка, или перегузня, и так называемый слепец, кои все
три водятся в довольном количестве в местах между Днепром и Волгою лежащих;
равно и кроты во всей Северной России попадающиеся и причиняющие садам вели-
кий вред. Пестрые бурундучьи, сусликовые и перевязкины меха в великом почтении
у французов. Златорунная шерсть кулона будет может быть по вкусу персиан, любя-
щих волосы рыжие, а мехи слепцовые и кротовые могут заменять некоторым образом
худые бельи”.
Показывая важность расширения торговли мехами, Гильденштедт вместе с тем
указывает на необходимость принятия мер против хищнического истребления пуш-
215
ного зверя, мер, которые могли бы обеспечить сохранение зверей. ”Но дабы пред-
охранить во внутренности Империи пушной торг от всякого ущерба, то первым к
сему средством почитаю то, чтобы запретить произвождение звериного промысла в
такие месяцы, когда самки ходят на взносе или когда их дети еще весьма малы. Дру-
гой же к тому способ должен состоять во всевозможном сбережении лесов, в коих
дикие звери, столь полезные по дороговизне их мехов, по большей части, а особливо
в северных странах водятся” (Академические известия, 1780 г. Ч. IV. С. 370).
Деятельность Гильденштедта, направленная на повышение благосостояния России,
нашла свое признание. В 1780 г. Вольное экономическое общество избирает его своим
президентом. Но на этом посту Гильденштедт пробыл всего лишь один год. 23 марта
1781 г. в Петербурге И.А. Гильденштедт умер от тифа, от которого до этого спас семе-
рых человек.
После смерти Гильденштедта остались неопубликованными его путевые заметки,
сделанные во время путешествия по югу России и Кавказу. Эти путешественные за-
метки по поручению Петербургской Академии наук были подготовлены к печати и
изданы на немецком языке под названием ’’Reisen durch Russland und im Kaukasischen
Gebirge” П.С. Палласом, который написал к третьему тому труда Гильденштедта
предисловие, содержащее краткие его биографические сведения9).
Большое научное значение имеют работы И.А. Гильденштедта по описанию новых
видов растений и животных, которые он публиковал в ’’Комментариях Петербург-
ской Академии наук”.
Гильденштедт внес существенный вклад в ботанику. В его путевых записках дано
описание 509 дикорастущих и культурных растений, из которых около 450 относится
к флористике Украины.
Зоологические наблюдения Гильденштедта, рассеянные в его труде ’’Путешествие
по России и Кавказу”, его идеи о зональном распределении фаун, яркие фаунистиче-
ские характеристики, наконец, огромное число описанных животных, среди которых
были и новые виды млекопитающих (6), способствовали прогрессу отечественной зоо-
логии, и особенно териологии.
И.А. Гильденштедт дал описание следующих новых видов млекопитающих: крапчатого
суслика Citellus suslicus (рис. 63), 1770, обыкновенного слепыша Spalax microphtalmus,
1770, камышовой кошки, или хауса, Fells (Chaus) chaus, 1776, перевязки, Vormela
peregusna, 1770, (рис. 64), джейрана Gasella subgutturosa, 1780, кавказского горного
козла, или кубанского тура, Capra (Turns) caucasica (совместно с Палласом), 1783.
Кроме того, И.А. Гильденштедт ввел в систематику млекопитающих два новых ро-
да: Spalax - слепыши, 1770 и Desmana - выхухоли, 1777.
ОПИСАНИЕ АНТИЛОПЫ С НЕПОЛНОСТЬЮ РАЗВИТЫМ ЗОБОМ
[ДЖЕЙРАН]
’’Многими путешественниками, посещавшими Азию и Африку, сообщены разно-
образные сведения о газелях или антилопах, этой изящнейшей породе четвероногих,
и о ее сродстве с родами коз и оленей. Эти путешественники также передавали части
скелета антилоп и их шкуры в европейские музеи. Основываясь на этих данных, ряд
зоологов-систематиков усиленно пытались дать определение различным и весьма
многочисленным видам данного семейства и примирить древних авторов с новейши-
ми. однако не имели в этом успеха. Наконец знаменитый граф де Бюффон в 12-м томе
9)Giildenstadt I.A. Reisen durch Russland und im Kaukasischen Gebirge, herausgegeben von P.S. Pal-
las. St. Petersb.; 1787, Bd. I. 1791, Bd. II.
216
своей ’’Естественной истории” начал рассеивать эту тьму, препятствующую познанию
данной группы животных, и.пролил на нее некоторый свет. Позднее этот свет более
ярким сделал славнейший Паллас. В первом выпуске своих ’’Дополнений к есте-
ственной истории животных” он изложил и критически разобрал все имеющиеся све-
дения относительно различных видов антилоп, или газелей, и расположил эти сведе-
ния в систематической форме. Славнейший Пеннант, использовав результаты новей-
ших исследований, дал анализ этих сведений в двенадцатом выпуске своих выда-
ющихся ’’Дополнений к естественной науке”. В числе их крупных достоинств [можно
назвать данный им разбор] родственных связей этих четвероногих (см. его ’’Синопсис
четвероногих”).
Никому из тех, кто знает, как мало удавалось близко наблюдать неповрежденных
экземпляров антилоп (а еще меньше их подвергнуто анатомированию), не покажется
удивительным, что мнения упомянутых знаменитейших зоологов относительно
определения антилоп не могут быть сведены к единообразию и между собой не согла-
суются. Такого рода расхождения будут неизбежны, пока мы не будем располагать
достаточным количеством изображений, зарисовок, измерений и анатомических опи-
саний отдельных экземпляров этих животных. Это должны быть изображения и изме-
рения наподобие тех, которые со всей возможной точностью дал любителям природы
славнейший Паллас применительно к Antilope cervicapra (см. вып. 1-й его ’’Дополне-
ний к ест. ист. животных”), а также к сайгаку и к антилопе зобатой (см.: Там же,
вып. 12-й). Остальные же описания^ какими мы по сей день располагаем, до такой сте-
пени неполны, что лишь очень и очень немного годны для распознания тех видов
данного рода, которые связаны между собою более тесным сродством.
Эту трудность я в особенности ощутил, изучая роды, объединенные Бюффоном под
именами ’’газели” (том 12 ’’Естественной истории”, табл. 23), ’’кевеллы” (Там же,
табл. 26) и ’’коринны” (табл. 27), представители которых обитают в степях у южного
склона Кавказских гор, между Черным и Каспийским морями: я же [объединяю их
всех] под наименованием антилопы с неполностью развитым зобом.
Славнейший Добантон, обогатил бюффоновские критические определения
(см. указ, соч.) своими описаниями этих животных. Однако поскольку Добантон не
располагал целыми животными [для анатомирования], эти его описания неизбежно
неполны. По существу они и не раскрывают картины анатомического строения анти-
лоп, если не считать [удачного] описания желудка коринны. Нет в них и точных ука-
заний на размеры животного, но [содержащиеся в описаниях джейрана Добантоном
цифры] относятся к чучелу этого животного и говорят, собственно, лишь о размерах
этого чучела. Поэтому на основании этих цифр ничего достоверного заключить
нельзя.
В самом деле, почти все данные Добантоном измерения упомянутых трех родов
животных подходят и к рассматриваемой в настоящем сообщении антилопе с непол-
ностью развитым зобом: таковы измерения, касающиеся величины рогов, формы и
окраски остального тела в соответствии с возрастом, хотя возрастные вариации здесь
невелики; что же касается свойств, специфичных для джейрана, то их Добантон игно-
рирует, так что остается непонятным, оставлен ли джейран за пределами трех упомя-
нутых бюффоновских родов в силу своих природных особенностей или же по чистой
случайности.
Дабы устранить эту неполноту имеющихся литературных сведений, а равно и об-
легчить распознавание родственных видов, я решил предать известности и сделать
достоянием испытателей природы пространное и иллюстрированное рисунками и
цифрами действительных измерений описание антилопы с неполностью развитым
зобом.
Выполнению этой задачи способствовала щедрая поддержка блистательнейшей
Екатерины Великой, а вместе с тем и отправленная как раз в это время по приказу
217
светлейшего Ираклия, царя Картвелии и Кахетии10, экспедиция по Грузии, в состав
которой входило пятеро мужчин. Я присоединился к этой экспедиции и вместе с ней
в январе 1772 года вышел из Тифлиса, имея в виду посетить в дальнейшем также Ара-
вию, Палестину и страны северной Африки, чтобы сравнить антилоп, или газелей,
эаих земель с нашим видом и выяснить уже, без всяких сомнений, их взаимные сход-
ства и различия.
Однако прежде чем приступить к описанию антилопы с неполностью развитым зо-
бом, да будет мне позволено сообщить некоторые предварительные сведения из об-
ласти номенклатуры, синонимики и общих свойств этого животного. Оно называется
антилопой с неполностью развитым зобом, потому что верхушка гортани у него силь-
но выдается вперед, хотя все же не в такой степени, как у палласовой антилопы зо-
бастой.
Родина антилопы с неполностью развитым зобом - Персия. [Впоследствии] она рас-
пространилась по территории между Каспийским морем и югом Черного моря, вплоть
до южных склонов той части Кавказского горного хребта, которая образует выступ
[на юг]. Но она едва ли распространена за пределами 42-го градуса северной широты.
Она довольно часто встречается и по реке Куре, от ее устья и до окрестностей грузин-
ской столицы Тифлиса, на открытых солнцу степных участках, в долинах и на порос-
ших кустарником холмах, в то же время совершенно избегает лесов.
Из различных устных сообщений мне удалось разузнать, что джейран на запад
распространен вплоть до Константинополя, на юг - до Исфагани, а на восток - до Бу-
харского ханства, причем во всех этих случаях он занимает хорошо инсолируемые
местности.
Джейран всегда ведет стадный образ жизни, с большой скоростью пробегая боль-
шие пространства. Охотники убивают антилоп этого вида, внезапно нападая на них из
засады. Недавно умершее животное не издает никакого запаха. Его мясо представля-
ет собой вкусную, изысканную пищу. Питается джейран, выбирая ароматные, име-
ющие горький привкус травы, особенно понтийскую полынь: я находил желудок
животного наполненным этой травой; детенышей рождает в мае. Последнее я могу
засвидетельствовать, поскольку мне случилось в середине мая в окрестностях
Тифлиса видеть новорожденного джейраненка, пойманного перед тем человеческими
руками.
Описание антилопы с неполностью развитым зобом. По своему росту, величине, ок-
раске туловица, общему виду шерсти джейран чрезвычайно похож на бесхвостого
Cervus capreolus, экземпляром которого (убитым тогда же, когда и мой экземпляр
джейрана) я располагал. Однако голова и в особенности рога у этих двух видов со-
вершенно различны. Нос прямой, на конце притупленный, с ноздрями щелевидны-
ми, расходящимися, голыми, черноватыми; щель уха узкая, терминальная. Губы уз-
кие, голые, нижняя губа слегка короче верхней. Подбородок безбородый. Усы рас-
положены по бокам носа, очень короткие, слабо выраженные, редкие. Глаза лате-
ральные, крупные, черноватые, с белесыми мигательными перегородками в перед-
них углах. Веки узкие, по краям голые, темные. Короткие, редкие ресницы распо-
лагаются посередине каждого века; на надглазничном наросте имеется несколько
коротких щетинок. Слезная пазуха продолговатая, спускающаяся от переднего угла
глазной щели. В ее основании при сжатых и слегка вздутых губах (которые, [как
было сказано], являются голыми и темноокрашенными) заметно восемь крупных
отверстий и множество мелких.
10Гильденштедт имеет в виду Ираклия II (1720—1798), царя Кахетии (с 1744 г.) и затем (с 1762 г.)
царя Картли и Кахетии, т.е. фактически всей Восточной Грузии. Ираклий II провел в Восточной
Грузии ряд реформ в духе просвещенного абсолютизма. Он покровительствовал науке и образова-
нию, поощрял изучение природных богатств страны.
218
Ушные раковины удлиненные, цилиндрические, острые, прямостоячие, снаружи
покрытые очень короткими волосами. Изнутри они темные и покрыты тремя рядами
довольно жестких белых волос. Кроме того, имеется еще два ряда волос по краям
каждой ушной раковины.
Рога размером в один фут; сохраняются в течение многих лет; простые, вогнутые,
темные или черные, полосатые; слегка сжатые у основания, по внешней поверхности
более или менее плоские, по внутренней выпуклые; к верхушке гладкие, сама вер-
хушка ровная, остальная часть рогов состоит из колец; колец имеется от 14 до 23,
из-за их различной длины [общая длина рогов] варьирует от 8 до 12 дюймов; к основа-
нию рогов кольца становятся более сплюснутыми, выступающими вбок и более широ-
кими по горизонтали; дистальные же кольца, более старые, скошены кнутри; иногда
раздвоены на задней поверхности; вообще все кольца к заднему краю слегка утон-
чены. Начиная от основания и к последнему, верхнему кольцу рога направлены
вверх и кзади, причем расходятся между собой; однако их ровные верхушки отогну-
ты кнутри и по направлению друг к другу.
Шея сжатая, удлиненная, с явно выступающей вперед верхушкой гортани. Уже у
нововрожденных самцов этот выступ заметен и величиной соответствует лесному
ореху.
Имеются ли у самок джейрана подобие зоба на шее и рога на голове, я не могу ни
утверждать, ни отрицать, потому что ни добыть женский экземпляр, ни получить от
местных жителей какие-нибудь достаточно определенные указания я не смог. Впро-
чем, говорят, что у самок рогов нет.
Туловище продолговатое, с пологими боками, сжатой [с боков] грудью, прямым
животом; пах широкий, покрытый шерстью; мошонка длинная, свисающая, явствен-
но двудольная, покрытая волосами; препуций короткий, конический, также покры-
тый волосами, с почти голой и черной верхушкой; промежуток между мошонкой и
препуцием голый, красноватый; трансверзально [по отношению к этому участку]
расположена область, где находятся два соска рудиментов молочных желез, имею-
щие коническую форму. Несколько кзади от сосков с обеих сторон имеются кожные
складки, в которых начинаются синусы слепой кишки, [отходящие далее во внутрен-
нюю часть] паховой области. Эти синусы являются голыми, имеют округлые плоские
края и папиллозное дно, на котором в виде бугорков выделяется желтоватая слизь с
неприятным запахом, напоминающим запах козла.
Хвост размером в пядь, у основания гладкий, далее к верхушке с двумя рядами
волос, сжатый с боков.
Ноги тонкие, почти равные по длине друг другу. Передние ноги спереди, в области
колен украшенк хохолками или пучками щетиновидных свисающих волос длиною в
дюйм. Копыт на каждой ноге по два, пирамидальной формы. У основания они соеди-
нены между собой связкой шириной в полдюйма; сзади эта связка поднимается выше
и охватывает также и фаланги пальцев. Вторые суставы пальцев спереди разъедине-
ны, так что над унгулярной связкой имеется треугольная ямка. На каждой ноге рав-
ным образом по два ложных копыта, сжатых в виде конуса, коротких, расположен-
ных сзади от связки первой фаланги.
Об окраске шерсти следует сказать следующее. Морда желтоватая, с черноватым
пятном на переносице, окаймленная черной и белой шерстью, а именно с обеих
сторон морды имеется по белесому пятну шириной в поперечник пальца. Это пятно
идет от внешнего или заднего угла ноздри до внутреннего угла глазной щели.
Другое пятно, тоже имеющееся с обеих сторон, черноватое по всей своей ширине,
начинается от угла рта и идет до слезной ямки. Однако эти пятна, которые у полово-
зрелых молодых джейранов с рогами не более 8 дюймов в длину и 13, не более, вы-
пуклыми кольцамй, достаточно заметны (как это можно видеть из табл. XII, где изо-
бражена голова джейрана, уменьшенная вдвое по сравнению с натуральной величи-
219
ной), у более старых особей все больше стираются с возрастом, до такой степени, что
у особи, имеющей рога длиной почти в фут, эти пятна почти отсутствуют; наконец, у
самых старых особей вся морда однородно окрашена в белесый цвет. При этом исче-
зают не только упомянутые пятна, но даже всякий желтый оттенок, как я наблюдал
на экземпляре старого животного. Однако расстояние между рогами у этого живот-
ного, считая между последними или верхними кольцами, а равно и между верхуш-
ками, было на 1 1/4 дюйма больше, [чем на табл. IX].
Таким образом, систематикам следует избегать того, чтобы устанавливать видо-
вые отличия между антилопами по окраске морды, имея в виду возрастную измен-
чивость. Ушные раковины снаружи белесо-желтоватые, изнутри белые. Желтовато-бе-
лый цвет имеют: нижняя часть шеи (вся), от нижней губы до груди; а также внутрен-
ние поверхности ног. Белоснежные: грудь, подреберья, весь живот и бедра до хвоста.
Пепельно-каштановые: шея сверху и по бокам, а также вся спина с частью живота, по
которым, кроме того, идут в продольном направлении белесо-желтоватые пятна, ши-
рина которых равна толщине пальца.
В направлении к белому пятну на животе эти пятна заканчиваются более интен-
сивным черновато-каштановым оттенком. Бедра и наружная часть голеней также,
как и спина, имеют пепельно-каштановую окраску, впрочем, на бедрах она менее
интенсивна. Лодыжки до передних скакательных суставов книзу от запястий связки
желтоватые с белыми и черными полосами. Передние и задние стопы от ложных
копыт до основания настоящих копыт и все окаймление копыт черные; хвост весь
черный, а у самых старых особей пестрый из-за наличия также и белых волос.
Длина волос различна: самые длинные волосы на спине, где они достигают двух
дюймов; на животе волосы короче; на ногах, на носу и на ушных раковинах - самые
короткие. Наощупь волосы очень мягкие, в особенности на животе. Волосы кругом
покрывают все тело, и только область рудиментов молочных желез и паховых сину-
сов голая.
Окраска новорожденного детеныша однородно черно-желтоватая; грудь, живот и
внутренние поверхности плеч и бедер белоснежные; хвост внизу и до самой верхуш-
ки черноватый. Возле переднего сочленения копыт есть только несколько черных
волос, а больше в этой области волос нет. Продолговатых пятен нет ни на морде, ни в
подреберье; лодыжки до запястьев желтые, а не черно-полосатые, [как у взрослых
особей]. Бугорки рогов почти не выступают из волос. ”3об” у детеныша этого живот-
ного выступал приблизительно на величину лесного ореха. Длина детеныша от кон-
чика морды до анального отверстия составляла 1 фут 5 дюймов; высота, [если считать
по перпендикуляру через] передние ноги, составляла 1 фут 5 дюймов, а через зад-
ние - 1 фут 6 дюймов.
Длина хвоста составила 4 3/4 дюйма, длина же ушных раковин - 3 дюйма. Меры
всюду взяты парижские.
Присовокуплю здесь данные ст размерах внешних частей джейрана, относящиеся
к половозрелому и сравнительно старому экземпляру:
Дюймы Линии
Длина от кончика морды до анального отверстия по прямой линии 40 —
Длина головы от кончика морды до затылка 9 —
Окружность морды, измеренная за ноздрями 6 9
Окружность рта 5 —
Расстояние между внутренними краями ноздрей — 4
Расстояние между наружными краями ноздрей 1 4
Промежуток между двумя углами глазной щели 1 3
Промежуток между верхним и нижним веком по перпендикуляру 1 —
Промежуток между передними углами глаз и кончиком морды 4 10
Промежуток между задними углами глазных щелей и ушами 2 9
Промежуток между передними углами глаз по прямой линии 3 —
220
Дюймы Линии
Тот же промежуток по кривой 3 9
Поперечник слезных ямок — 10
Глубина их — 10
Промежуток от верхнего угла слезной ямки до переднего угла глаза — 5
Промежуток от нижнего угла глазной ямки до переднего угла глаза — 10
Расстояние между внутренними частями оснований рогов — 4
Расстояние между внешними частями оснований рогов 2 8
Наибольшее расстояние между рогами 7 —
Расстояние между верхушками рогов 6 6
Длина рогов по прямой линии 11 4
Длина рогов по кривой линии их передней поверхности 13 6
Длина гладких верхушек рогов 2 4
Окружность головы перед рогами 15 —
Длина ушных раковин от макушки до их верхних концов 5 2
Расстояние между основаниями ушей 3 —
Длина шеи от горлового изгиба до верхушки грудины 10 —
Окружность шеи на уровне горла 15 —
Окружность шеи на уровне грудины 17 —
Средний поперечник шеи по перпендикуляру 5 6
Окружность туловища за передними ногами 25 6
Поперечник туловища по перпендикуляру на уровне головки грудины 11 —
Длина хвоста от анального отверстия до верхушки копчика 7 4
Длина хвоста до конца последних волос 9 6
Длина грудины от головки до нижнего конца . 11 —
Расстояние от верхушки грудины до препуция 7 —
Расстояние от препуция до трансверзальной линии, проведенной через соски 2 9
Расстояние от трансверзальной линии, проведенной через соски до мошонки 1 2
Расстояние от мошонки до ануса 5 3
Длина мошонки 2 9
Ширина мошонки 2 6
Толщина мошонки 1 5
Расстояние между сосками рудиментов молочных желез 1 3
Расстояние между паховыми синусами 2 —
Диаметр паховых синусов — 10
Высота по перпендикуляру от межлопаточной области до верхушки 26 6
передних копыт
Длина локтевой части передней конечности 7 2
Окружность локтевой части 3 3
Длина переднего скакательного сустава 6 —
Его же минимальная окружность 2 2
Длина суставов пальцев передних ног 2 6
Длина истинных копыт до их края (передние копыта) 2 2
Длина от ложных копыт до основания истинных 1 6
Ширина передних истинных копыт 1 2
Высота от поясницы до концов задних копыт 28 6
Длина голени от коленной чашки до пяточной кости 10 —
Длина заднего скакательного сустава от пяточной кости до ложных копыт 9 —
Длина фаланг пальцев задних ног 2 6
Длина задних истинных копыт до переднего края 1 8
Длина от ложных копыт до основания истинных (задние ноги) 1 2
Ширина задних истинных копыт — 11
Анатомия антилопы с неполностью развитым зобом. Внутренняя поверхность щек
покрыта коническими остроконечными папиллами, из которых передние являются
иссиня-черными, задние - белыми. Передняя половина неба изборождена двенад-
цатью поперечными морщинами. Они равны друг другу по длине и идут ровно,
будучи разделены пополам небольшой интермедиальной линией и примыкающей к
221
ней ложбиной. Перед тем как эта линия встречается с первой морщиной, она пересе-
кает ромбовидный бугорок.
Передний край неба округлый, тупой, лишенный зубов, черный. Задняя часть нёба
белая, гладкая.
Нижних резцов восемь, средние два из них наиболее широкие, кестриморфные. Те,
которые следуют за ними с обеих сторон, вдвое уже. Кнаружи от них в обе стороны
следуют еще по два резца, наиболее узких, линейных. Длина у всех резцов одинако-
вая, на верхушке они рассечены.
Клыков нет; коренные зубы далеко отстоят от резцов, с каждой стороны, как на
верхней, так и на нижней челюсти, по шесть коренных. Они имеют усеченную форму,
бугорчаты. На нижней челюсти первый из них, он же передний, острый и простой;
второй и третий - двураздельные, [у данного экземпляра они были очень] изношены.
Четвертый и пятый явно двураздельны, шестой трехразделен. В верхней челюсти
первые три коренных зуба простые; остальные, более удаленные или задние, все три
двураздельны.
Язык продолговатый, шириной всюду в дюйм. От подъязычной связки до верхуш-
ки языка - полтора дюйма; длина языка от его основания до верхушки - пять дюй-
мов. Верхушка языка тупая, черная, тонкая, гладкая; середина языка шероховатая
из-за наличия больших конических жестких сосочков, образующих треугольную об-
ласть на поверхности языка. По боковым сторонам основания языка он покрыт не-
большим числом чашевидных сосочков.
Надгортанный хрящ сердцевидный, на верхушке и по краям загнут кпереди. Кор-
пус гиоидной кости сферически-треугольный, хрящевой, шириной с большой палец,
горизонтальный, по местоположению отвечающий верхнему интерстицию крыльев
щитовидного хряща и приросший к задним углам этого последнего с помощью двух
отростков, одного нижнего и другого верхнего. Нижний отросток гиоидной кости
опускается перпендикулярно к боковым краям щитовидного хряща и имеет длину
не более двух дюймов, верхушка же его хрящевая и заостренная; верхний отросток
(гребень) направлен горизонтально к шейным позвонкам, имеет длину четыре дюйма
и состоит из трех сегментов: первый длиной в дюйм, второй не более чем в полдюйма,
третий почти в три дюйма. Верхушка этого (верхнего) отростка (гребня) является
двураздельной.
Щитовидный хрящ цельный, по форме чрезвычайно напоминает нос, с тупой,
сильно выступающей вперед верхушкой. Его продольный диаметр - три дюйма; по-
перечный, от верхушки до заднего участка - 2 3/4 дюйма. От этого участка кпереди
от жесткохрящевой гортани, имеющей длину в полтора дюйма, и выступает своей
верхушкой бугорчатый ”зоб”. Аритеноидный и перстневидный хрящ не представляют
каких-либо особенностей. Диаметр трахеи 1 дюйм. Она состоит из хрящевых колец
шириной каждое в три линии. Эти кольца по своим краям связаны сзади мембраной,
ширина которой 2 линии.
Щитовидных желез две, расположенных по отдельности под нижним краем перстне-
видного хряща. Боковыми краями они примыкают к трахее. Окраска этих желез
коричневая, они продолговатые, в длину менее дюйма, в ширину менее полдюйма...
Под вышеописанной слезной пазухой, перед глазами, в предорбитной ямке располо-
жена овальная железа размером меньше грецкого ореха, покрытая наружной мышеч-
ной оболочкой и плотно набитая веществом, изобилующим черноватой сально-кро-
вянистой слизью, которую можно выдавить из отверстия в дне пазухи, если нажать
пальцами. Пазуху эту направильно называют слёзной, правильнее следовало бы го-
ворить: ’’предорбитальная пазуха”.
Слёзные желёзки расположены на своем обычном месте в глазницах, а протоки их
открываются к краям век. Под паховыми синусами (их место хорошо выражено
таблицей XXIV тома XII ’’Естественной истории” Бюффона) нет никакой шаровидной
222
железы, но имеются спрятанные под кожей одиночные железы, размером с просяное
семя и источающее кровянистое, желтое вещество с козлиным запахом.
Правое легкое состоит из пяти долей; из них четыре доли расположены параллель-
но спинному хребту, причем из этих четырех долей последняя прилегает непосред-
ственно к диафрагме. Эта долячиз четырех самая крупная, остальные же более или
менее равны между собой по величине. Пятая доля меньше всех других; она распо-
ложена между упомянутой самой крупной долей и сердцем.
Левое легкое состоит из двух долей, причем верхняя доля очень длинная и изо-
гнутая. Таким образом, наличие всего семи легочных долей вполне очевидно, а
восьмая редуцирована.
Сердце расположено посередине грудной клетки, под грудиной. Верхушка его
слегка повернута влево. На верхушке оно заострено, длина его составляет четыре
дюйма.
Я наблюдал также расположение внутренних органов брюшной полости, удалив их
оболочки. Это расположение следующее. Рубец находится в подвздошной и левой
паховой области, дно же его - уже в самой лобковой области. Под рубцом, над греб-
нем лобковой кости находится дно слепой кишки; в правой подвздошной области,
под ребрами лежат два поперечных изгиба слепой кишки; под этими изгибами и
вплоть до правой паховой области идут петли тонких кишок, занимающие всю над-
чревную и пупочную область и даже заходящие (это уже конечная часть тонкого ки-
шечника) в тазовую полость. Кардинальный отдел желудка занят более мелкими под-
разделениями этого органа. Селезенка находится точно в левом подреберье, тесно
примыкая к рубцу.
Печень заполняет собой дно правого подреберья, слегка лишь заходя в надчрев-
ную область. Она тесно примыкает к диафрагме и связана со спинным хребтом коронар-
ной связкой; широкая же подвешивающая связка отсутствует.
По форме печень округлая, состоит из двух долей, причем правая доля крупнее
кроме того, еще имеется маленькая треугольная долька длиной в три дюйма, снизу
подпирающая правую долю. Ширина печени от правого края до левого составляет
восемь дюймов, а то переднего края до заднего - пять дюймов. Наибольшая толщи-
на ее не превосходит десяти линий.
Желчный пузырь расположен снизу в середине правой доли печени. Длина его -
полтора дюйма. Он узкий, вялый; желчи в нем нет, а есть только желтоватая до-
вольно горькая на вкус слизь. Она прилипает к стенкам пузыря. Я наблюдал это на
трех взрослых особях.
Таким образом, также и в данном отношении джейран занимает промежуточное
положение между оленями и козами.
Селезенка имеет чашевидную форму и длину почти в шесть дюймов. Ширина ее -
четыре дюйма, толщина - полдюйма. Она своим более притупленным краем приле-
гает к самой середине нижней поверхности рубца.
Отделы желудка антилопы с неполностью развитым зобом по своей форме и взаим-
ном соотношениям совершенно сходны с тем, что описывают Бюффон и Добантон
применительно к коринне в томе 12 своей ’’Естественной истории” (таблицы 28 и 29).
Рубец двухбугорчатый, изогнутый, с глубокой (в три дюйма) вырезкой. От карди-
ального отдела до самого низкого участка дна его высота составляет тринадцать
дюймов, а до верхнего участка дна - десять дюймов.
Внутренняя оболочка рубца чрезвычайно легко может быть отделена; она папил-
лезная, причем папиллы на вырезке представляют собой очень мелкие бугорки, а на
дне рубца они имеют в длину 2,5 линии, в ширину же 1 линию. По направлению к сет-
ке папиллы становятся очень длинными, достигая длины в полдюйма, но по ширине
они по-прежнему не превосходят одной линии. Верхушка их округлая, вещество
тонкое и сжатое. Сетка маленькая. Ее сфинктер удален от кардинального отдела
223
рубца интервалом всего лишь в шесть дюймов. Внутренняя поверхность сетки покры-
та шестиугольниками диаметром в полдюйма, со стенками высотой в одну линию. Эти
шестиугольные ячейки] покрыты очень короткими папиллами наподобие щетины
ежа.
Книжка овально-заостренная, длиной в три дюйма, диаметром же не более двух
дюймов; покрыта очень широкими складками высотой в дюйм. Папиллы книжки ана-
логичны таковым сетки, но вдвое длиннее отстроконечны. Сычуг имеет длину в
шесть дюймов, диаметр же, считая от книжки, - четыре дюйма; считая же от привра-
тника - один дюйм. Покрыт изнутри гладкими, редкими, очень широкими борозда-
ми, глубина которых составляет один дюйм. Ни в одном из трех анатомированных
мною мужских экземпляров я не видел ни эгагропил, ни безоаровых конкреций. Не
удалось мне ничего узнать о такого рода находках и ни от кого из местных жителей.
Длина тонкого кишечника составляет 571 дюйм, поперечник же - 1 дюйм. Длина
слепой кишки -11 дюймов, диаметр - полтора дюйма.
Длина ободочной кишки вместе с прямой кишкой составляет 207 дюймов, попе-
речник такой же, как у слепой кишки. Экскременты в прямой кишке собраны в
овальные шарики наподобие овечьих.
Поджелудочная железа бесформенная, тесно примыкает к двенадцатиперстной
кишке.
Почки очертанием напоминают человеческие, причем в естественном положении
правая расположена на два дюйма выше, чем левая. Их длина составляет 2 1/2 дюйма,
ширина - полтора дюйма, толщина - 1 дюйм. Наличие двух вйдов образующего
почку вещества и почечного хилума [на анатомированных экземплярах] вполне оче-
видно.
Надпочечники бесформенные, тонкие, белесые, небольшие. Мочевой пузырь оваль-
ный, длиной в три дюйма, расположен на самом дне тазовой полости.
Семенники овальные, длиной в два дюйма, а толщиной почти в полтора дюйма.
Придаток яичка цилиндрический, в диаметре полдюйма, к внутреннему краю семен-
ника скошенный, а в нижнем конце выступающий в виде бугорка, имеющего диаметр
полдюйма.
Семенные пузырьки продолговатые, вогнутые, с полулунными вырезками, длиной
в полтора дюйма, шириной - семь линий, толщиной - две линии. Они собраны в
кругообразный изгиб около петли тонкого кишечника и изливаются в один проток.
Выводящий сосуд имеет длину 12 дюймов. Луковица уретры цилиндрическая, снаб-
жена очень толстым мускулом, имеет в длину три дюйма, а в диаметре восемь линий.
Пенис цилиндрически-сжатый, в диаметре имеет четыре линии, в длину от угла, где
сходятся корни пещеристных тел, и до верхушки железы имеет двенадцать дюймов;
в середине изогнут в заднем направлении, образуя как бы латинскую букву S. Это
осуществляется благодаря действию особого тонкого мускула, отходящего от брю-
шины. Железа пениса цилиндрически-заостренная, в поперечнике не более трех
линий, в длину - дюйм и восемь линий, на верхушке притупленная, гладкая; от нее
свободно свивает очень тонкая уретра длиной в три линии. Препуций с наружного
края может быть оттянут на шесть дюймов, а возле его внутреннего края он покрыт
мозолистыми белесыми бугорками, размером несколько крупней просяного зерна. С
обеих сторон луковицы уретры, возле ее переднего окончания, расположены две
сжато-овальные простаты, длина которых составляет по восемь линий.
Скелет антилопы с неполностью развитым зобом чрезвычайно похож на скелет
газели Бюффона, представленный им на XXV таблице XII тома его ’’Естественной
истории”. В костях туловища и конечностей имеются крайне незначительные отличия
[между газелью и джейраном], указываемые мною ниже в соответствующих местах.
Не думаю, чтобы вообще у скелета антилопы было больше [чем эти незначительные
отличия,] разницы со скелетами родственных ей форм. Однако кости черепа джейра-
224
на по своим очертаниям и пропорциям, даже по числу, вероятно, отличаются от кос-
тей черепа типичных представителей данного рода настолько, что эти различия могут
быть использованы для установления видовых характеристик подобно тому, как это
уже сделано в близко родственных антилопам родах овец и коз. Их нижняя часть
вместе с верхней частью скуловых костей образует ямки, в которых помещается
описанная выше предглазничная железа.
Ямки, полностью аналогичные этим ямкам, но несколько более глубокие, можно
наблюдать на овечьих черепах.
Шейных позвонков семь. Их остистые отростки короче, чем у газели или чем у
близкой к газели коринны (см. табл. XXX тома XII ’’Естественной истории” Бюффона),
и, кроме того, эпистрофей [у джейрана] не зубовидный, а имеет форму полукольца.
Спинных позвонков 13, а их остистые отростки таковы же, как у газели. Об этом см.
табл. XXV в только что цитированном XII томе [’’Естественной истории” Бюффона].
Поясничных позвонков шесть. Их остистые отростки не наклонены кпереди, как у
газели, но направлены препендикулярно [к позвоночному столбу], как у коринны. В
крестице четыре ложных позвонка. В копчике 12 позвонков. Для соответствующего
отдела у газели славнейший Добантон насчитывает только 10.
Возможно, что этот вид утратил последние, наиболее тонкие позвонки.
Ребер 13: из них восемь истинных, ложных - пять. Грудина состоит из шести
сегментов, причем последний из них, квадратный, переходит в треугольный мечевид-
ный отросток, конец которого представляет собой округлый, плоский, очень тонкий
хрящ. Локтевая кость, в особенности посредине, еще тоньше, чем у описываемой
Бюффоном газели и до такой степени тесно срослась с лучевой, что от последней виден
один только гребень, который книзу от верхнего конца лучевой кости тонкой щелью
на протяжении дюйма отделен [от локтевой кости].
Добавим к сказанному теперь замеры черепа, представленного на таблицах X и XI,
а также замеры туловища и конечностей. Это [надо сделать для того,] чтобы сделать
известными данные о скелете этого животного в целом и о присущих этому скелету
соотношениях. Размеры же внешних частей этого экземпляра целиком и полностью
совпадают с теми величинами, которые мы уже приводили. Всюду использован
парижский фут, разделенный на 12 дюймов, причем в каждом дюйме содержится 12
линий:
Дюймы Линии
Расстояние по прямой линии от конца морды до передней поверхности корней рогов 5 10
Расстояние по прямой линии от передней поверхности корней рогов до затылочного отверстия 3 10
Расстояние от переднего конца лицевого отдела черепа до конца мастоидального отростка, измеренное в горизонтальной плоскости, в которой лежит [этот последний] 7 3
Максимальная ширина головы между задними краями глазниц 3 10
Максимальная ширина лба между верхними краями глазниц 3 —
Расстояние между верхушками мастоидальных отростков 2 1
Расстояние между скулами 3 2
Расстояние между последними верхними коренными зубами 2 1
Расстояние между средними коренными зубами 2 2
Расстояние между передними коренными зубами 1 4
Ширина лицевого отдела черепа у его переднего конца — 8
Поперечник [головы] между отверстиями ушных раковин 2 7
Поперечник [головы] по перпендикуляру между небными костями и передним краем лобной кости 2 3
Расстояние от переднего конца лицевого отдела черепа до переднего конца носовых костей 2 4
Длина носовых костей 2 1
15. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
225
Дюймы Линии
Поперечник отверстия, [куда входит] первый позвонок — 5
Трансверзальный поперечник того же отверстия — 9
Длина тела эпистрофея — наиболее длинного из позвонков 2 1
Длина полукольцевого отрезка эпистрофея — 4
Длина (по высоте) остистого отростка, проходящего через весь эпистрофей 3 2
Длина спинного позвонка (все они приблизительно равновелики) — 9
Длина остистого отростка третьего спинного позвонка — наиболее 3 2
длинного из всех [отростков спинных позвонков]
Длина пятого поясничного позвонка 1 —
Длина трансверзального отростка пятого поясничного позвонка — 1 8
наиболее длинного из всех [отростков поясничных позвонков]
Длина крестца 2 9
Наибольшая ширина крестца у его дорзального края 2 11
Наименьшая ширина крестца у его каудального края — И
Длина позвонков, входящих в состав копчика и приблизительно равных — 9
между собой
Диаметр таза между лобковым сращением и углом крестца 2 10
Верхний трансверзальный диаметр таза 2 4
Максимальная длина безымянных костей 7 4
Длина первого, наиболее короткого ребра 3 10
Длина (по прямой линии) девятого, наиболее длинного ребра 7 7
Ширина пятого, самого широкого ребра — 8
Ширина тринадцатого, самого узкого ребра — 3
Длина грудины 8 8
Максимальная ширина грудины у мечевидного отростка 1 7
Длина лопатки у ее верхнего края 5 —
Ее же длина у нижнего края 5 3
Длина ее основания или заднего края 3 —
Максимальная высота лопаточной ости — 8
Длина плечевой кости 5 з
Минимальный диаметр ее же — 7
Длина локтевой кости с ее отростком 7 5
Длина отростка локтевой кости 1 10
Длина лучевой кости 6 —
Длина запястья — 8
Диаметр запястья — 11
Длина переднего скакательного сустава 6 5
Длина первой фаланги пальцев на передний ногах 1 7
Длина второй фаланги пальцев на передних ногах — 10
Длина третьей фаланги пальцев на передних ногах — 10
Длина бедра 6 8
Длина коленной чашки 1 —
Ширина коленной чашки — 9
Длина голени 8 —
Длина предплюсны — 9
Ширина предплюсны в поперечнике — И
Длина пяточной кости 2 —
Длина заднего скакательного сустава 7 4
Средний поперечный диаметр заднего скакательного сустава — 6
Длина первой фаланги пальцев на задних ногах 1 3
Длина второй фаланги пальцев на задних ногах — 9
Длина третьей фаланги пальцев на задних ногах — 11
226
МЫШЬ СУСЛИКОВАЯ [СУСЛИК]
Среди хорошо известных видов рода ’’мышь” (назову среди них сурка и хомяка),
густо населяющих заяицкие степи, встречается менее известное животное, относя-
щееся к тому же роду, и я счел весьма целесообразным посвятить некоторое количест-
во времени и сил его определению.
Жители тех мест называют это животное ’’суслик”; образуя отсюда видовой эпи-
тет с родовым именем, получаем: ’’мышь сусликовая”.
Зверек этот, согласно мнению славнейшего Линнея, составляет неотъемлемую
часть рода ’’мышь”. Многое роднит его с хомяками, а многие другие особенности
общи ему с сурками. Не будучи ни по своему поведению, ни по образу жизни далеко
отстоящим от хомяка и сурка, суслик тем не менее настолько отличен от них, что
составляет совсем особый вид.
Описание. Голова обратнояйцевидная, с вогнутыми лбом и теменем, плоская;
щеки слегка вздутые; морда притупленная, толстая, слегка закругленная, со слабо
развитым волосяным покровом. Верхняя губа двураздельная, нижняя губа короче
верхней; обе губы толстые. Ротовая щель небольшая, треугольная, полость рта тоже
не просторная, однако щеки снабжены защечными мешками; язык мясистый, тупой,
покрытый сосочками наподобие щетинок; нёбо морщинистое.
Резцов четыре, по два в каждой челюсти; верхние резцы плоские, сближенные друг
с другом; нижние вдвое длиннее, шиловидные, выпуклые кпереди, сзади плоские,
слегка изогнутые, способные расходиться в стороны; клыков нет; коренные зубы уда-
лены от резцов, [всего коренных] 18: на верхней челюсти с обеих сторон по 5, на ниж-
ней - по 4, с верхушками морщинистыми, бороздчатыми; с краями выпуклыми. В
верхней челюсти зубы отогнуты в направлении к щекам, а будучи раздвинутыми - к
нёбу; в нижней челюсти наоборот. Корни зубов четырехраздельные, причем разде-
ление [осуществляется] в альвеолах.
Усы расположены в пять рядов между ноздрями и глазами: в первом ряду 3 уса,
во втором 4, в третьем 5 (наиболее длинные из всех); в четвертом 4, в пятом только 3.
Над передним углом глазной щели 4 или 5 щетинок; между глазом и ухом еще не-
сколько более коротких щетинок. Отверстия ноздрей довольно крупные, полулун-
ные, искривленные в направлении глаз, голые. Глаза большие, выпуклые, черные;
веки с ресницами; на нижних веках ресницы вдвое длиннее, чем на верхних. Ушные
раковины закругленные, мало выступающие из шерсти, частично покрытые волосами.
Шея короткая, по толщине равная голове.
Туловище продолговатое, цилиндрическое.
Ноги короткие, между собой почти равные; плюсны приспособленные для хожде-
ния; ладони голые, бородавчатые, четырехпалые.
Из пальцев, второй - наиболее длинный, последний - самый короткий, а первый и
третий промежуточны [между ними] по длине, между собою же равны. Помимо них,
имеется еще бугорок, [образовавшийся в результате редукции] большого пальца,
широкий, тупой, короткий, приподнимающийся над землей; стопы пятипалые. Сред-
ний палец самый большой, первый и пятый - наименьшие, между собой равные по
длине; второй и четвертый тоже равны между собой, будучи промежуточными [по
длине между средним и первым с пятым]. На всех пальцах длинные и острые когти,
слегка согнутые, снизу килевидные.
Хвост по длине такой же, как ноги; волосатый, сплюснутый, что почти все может
быть отнесено и к второму виду.
Волосы на туловище редкие, если не считать самой более короткой шерсти; на
животе более жесткие, на хвосте несколько более длинные, на груди смыкающиеся
[с образованием] грудного шва.
11Citellus suslicus. Пер. с лат. Б.А. Старостина.
227
Пах покрыт волосами; анальное отверстие голое, бороздчатое.
Молочных желез шесть с каждой стороны, а именно: по две на груди, по две на жи-
воте и столько же в паховой области. Область около сосков почти без волоса.
Половые органы. Губы влагалища расположены рядом с анальным отверстием,
продольны, неупруги, кроме клитора. У самцов препуций узкий, слегка отвислый;
тестикулы снаружи незаметны.
Окраска. Черными являются усы, глаза, когти; белесы морда, глазничная область,
глотка, передние ноги с задней стороны до самых подмышек, конец хвоста; пепельно-
желтоваты туловище снизу и ноги; все тело сверху и хвост окрашены в пепельно-чер-
ный цвет. Не окрашены в этот цвет только голова и хвост. Остальное же тело сверху
покрыто округлыми белесоватыми пятнами.
Рост почти такой же, как у хомяка, которому суслик уступает размерами. По
сравнению с горностаем суслик имеет несколько больший рост.
Измерения различных частей тела по лондонской [метрической системе]:
Длина тела от конца морды до верхушки хвоста Дюймы 9 Линии 8
Расстояние от морды до предплечья 2 6
от плеча до бедра 4 6
от бедра до верхушки хвоста — 10
Длина хвоста 1 10
Расстояние от нижней губы до ключицы 2 —
от ключицы до мечевидного отростка 1 6
от мечевидного отростка до препуция 3 2
от препуция до анального отверстия — 9
Длина голени 1 9
предплечья 1 4
стопы от пятки до основания пальцев — И
ладони — 6
среднего пальца задней ноги — 5
второго и четвертого пальцев задней ноги — 4
первого и пятого пальцев задней ноги — 3
второго пальца ладони — 5
первого и третьего пальцев ладони — 4
Длина четвертого пальца ладони — 3
Длина ногтей на наиболее длинных пальцах — 3
ногтя на большом пальце ладони — 1
Диаметр ротовой щели — 8
перегородки между ноздрями — 1,5
Расстояние между ноздрями и глазами — 8
между глазами — 11
между глазами и ушами — 6
между ушами 1 —
Поперечник глаза — 5
уха — 2
плеча 1 6
поясницы 1 6
Окружность живота 5 —
Анатомия суслика. Кожа по всему телу подстилается тонкими подкожными мыш-
цами. Внутренняя слизистая оболочка рта между верхней челюстью и основаниями
коренных зубов отвернута назад [и превращена] в сильно растяжимый мешок, дохо-
дящий до боковой поверхности шеи. Вниз этот защечный мешок спускается до клю-
чицы. Изнутри от морщинист, белёс, покрыт сосочками, а снаружи, в особенности на
своем дне, укреплен очень сильными мышечными волокнами. Эти волокна далее
объединяются в одну мышцу, прикрепленную к коракоидному отростку лопатки.
Если удалить кожу, то по обеим сторонам шеи, поблизости от грудинно-ключично-
228
мастоидного мускула заметны крупные шейные железы, снаружи кругом покрытые
жиром: поэтому шея [у суслика] толстая.
Подмышечные железы жирокие, плоские. Молочные железы идут по всей нижней
стороне туловища, начиная от ключиц и до лобковой области, следуя [с каждой сто-
роны] правильным рядом.
Паховые железы едва заметны по причине чрезвычайно большого количества жи-
ра, закрывающего всю область половых органов. Таким же образом мало заметны
и тестикулы, хотя они своим бугорчатым окончанием выходят за овальное отверстие
брюшной полости.
Полость грудной клетки окружена тонкой плеврой; прозрачным средостением,
приросшим к правому краю грудины, разделена на две камеры. Все пространство от
ключиц до основания сердца занимает вилочковая железа, довольно крупная даже у
взрослых особей. Она состоит из двум долей. Легкие маленькие, слегка окрашенные
в розоватый цвет. Правое легкое состоит из трех долей, причем нижняя из них наибо-
лее крупная, а средняя наименьшая. Левое легкое состоит из двух долей. Помимо
того, между сердцем и диафрагмой, перед пищеводом имеются две маленьких допол-
нительных легочных дольки.
Сердце расположено между легкими. Верхушка сердца помещается на уровне
промежутка между 5 и 6 ребрами. Околосердечная сумка весьма просторная, отчасти
пропускающая свет. Ее правый край прилегает к Ван-Гельмонтову зеркалу. Левый
желудочек сердца расположен у выхода аорты, небольшой, однако с чрезвычайно
плотными наружными стенками и перегородкой. [Вместе с этими стенками] он обра-
зует почти весь объем сердца. Правый желудочек расположен у выхода легочной
артерии; расслабленный, весьма тонкий, почти прозрачный, как бы подвешенный к
левому. Правое предсердие вдовое обширнее левого.
От дуги аорты отходят три сосуда. Это, конечно, правая подмышечная артерия,
правая сонная и безымянная артерии. Последняя представляет собой как бы общий
ствол, [разветвляющийся далее на] левые сонную и подмышечную артерии. Позади
дуги аорты лежит состоящая из колец трахея; к левому краю трахеи примыкает
пищевод, прилегающий к спинным позвонкам.
Желудок наподобие того, как это имеет место и у человека, окружен косо нисходя-
щей, восходящей, трансверзальной и прямой мышцами.
Диафрагма широкая, мускульная по своей окружности, примыкающей к ложным
ребрам. Своими придатками она сходится к поясничным позвонкам. Посредине
сухожилистая. Брюшина тонкая, очень легкая. Сальник большой, спускающийся от
нижней поверхности печени и от большего изгиба желудка через всю брюшную
полость; подвешен очень свободно; чрезвычайно богато покрыт жиром, так же, как
брыжжейка ободочной и других кишок. От брыжжейки ободочной кишки вбок в обе
стороны отходят очень широкие и сложенные вдвое [жировые] придатки, обверты-
вающие половые органы как у самцов, так и у самок.
Печень большая, занимающая подреберье и эпигастрий, четырехдольная, причем
две доли находятся справа, а две слева. Правая передняя доля самая крупная: она
заполняет правое подреберье, своей выпуклой поверхностью примыкает к диафраг-
ме. К последней она прикреплена широкой связкой, нижней же поверхностью на-
легают на кишечник, левым же краем - на левую переднюю долю. Передний край
[правой передней доли печени] двураздельный, острый; задний край притупленный,
вполне цельный. Правая задняя доля двураздельная, налегающая на нижнюю дольку
правой почки. Своей вогнутой частью [правая задняя доля печени] закрывает свер-
ху центральную часть правой печени, с которой эта доля соединена печеночно-по-
чечной связкой. Левая передняя доля печени меньше правой передней, расположена
в левом подреберье и эпигастрии между диафрагмой и желудком, прилегает к диа-
фрагме своим весьма притупленным задним краем. Между этой и правой задней
229
долями печени проходит полая вена. Левая задняя доля - наименьшая из всех
долей печени. Она двураздельна, заполняет собой меньшую вогнутость желудка меж-
ду этим последним и левой передней долей; [в левой задней доле имеется также] уг-
лубление, через которое входит воротная вена.
Желчный пузырь расположен в щели, образуемой передним краем правой перед-
ней доли печени. Его дно лежит на уровне края седьмого ребра. Шейка желчного
пузыря открывается в желчевыводящий проток, который далее впадает в тонкий
кишечник весьма близко от приЬратника. По нижней поверхности правой передней
доли печени проходит печеночная артерия. Она входит на эту поверхность в непо-
средственной близости от протока желчного пузыря.
Селезенка продолговатая, узкая, соединена посредством отвислого и наполнен-
ного жиром продолжения сальника с выпуклым краем желудка.
Располагаемся селезенка в левом подреберье.
Поджелудочная железа почти не выражена. Вместо нее есть только несколько не-
значительных железок, расположенных за желудком.
Желудок имеет двурогую форму. Его кардинальный отдел столь близок к его ле-
вому краю, что дно этого отдела выступает [влево] примерно на величину конечного
сустава пальца. От кардинального отдела меньшая вогнутая дуга желудка идет да-
лее к привратнику, выступающему наружу благодаря лигаментозному сфинктеру;
[далее следует] нижняя выпуклая дуга, вдвое большая по сравнению с предыдущей;
[далее -] продолговатое, постепенно расширяющееся тело желудка. С обоих своих
концов оно в одинаковой степени сужено.
Тонкий кишечник в поперечнике на всем своем протяжении одинаков, по длине
же в целом почти втрое длиннее ободочной кишки, составляя в длину 30 дюймов.
Соединен с отвислой, напитанной жиром брыжжейкой. Занимает область между
пупком, желудком и слепой кишкой. Открывается латерально трансверзальное
двугубым просветом в полость слепой кишки, образуя там клапан, от которого в обе
стороны отходят ’’рога” желудка. В обоих ’’рогах” представлены расположенные
отчасти друг против друга клапаны и сфинктерное кольцо, выступающее вовнутрь,
гладкое, мускульно-лигаментозное. Ободочная кишка примыкает снаружи к этому
кольцу, образуя ясно заметный шов. От упомянутого участка, где латерально откры-
вается в слепую кишку тонкий кишечник, книзу отходит наибоеле широкая слепая
кишка. В том месте, где она проходит в правой подвздошной области, она вдвое шире
желудка; своим дном она заполняет весь гипогастрий вплоть до левой подвздошной
области. По другую сторону [того же латерального открытия тонкого кишечника в
слепую кишку], очень близко от желчного пузыря, там, где это вообще имеет место [у
млекопитающих], начинается ободочная кишка. Через правую подвздошную область
она спускается до подвздошной кости. Далее следует изгиб правильнейшей геометри-
ческой формы; далее нисходящая часть.
Эта часть непосредственным образом открывается в привратник. Между задней
поверхностью желудка и спинным хребтом [ободочная кишка] образуя змеевидную
линию и затем подобие растянутой римской буквы S, образуемой на поверхности
левой подвздошной кости, уходит в левую подвздошную область и далее впадает в
прямую кишку. Изнутри как слепая, так и ободочная кишки в самом своем начале
покрыты глубокими бороздами, а на дальнейшем участке уже становятся гладкими
как снаружи, так и изнутри.
После сфинктера прямой кишки имеется дополнительное анальное отверстие,
несколько вздутое и снабжено тремя наполненными слизью пазухами, а также
хрящеватым выступом. Это отверстие проходит насквозь, но на конце запирается
кожным выступом. Будучи беспокоимо, животное выворачивает это отверстие нару-
жу, так что создается впечатление, будто его анальное отверстие имеет три клапана.
Почек две. С каждой стороны имеется по почке, причем расположены обе между
230
вторым и третьим поясничными позвонками. Они цельные, овальные, рамером с
лесной орех, на верхней поверхности каждой лежит надпочечник. Левая почка, тес-
нимая желудком, оказывается несколько ниже правой. Уретры спускаются от почеч-
ной области таза к боковым поверхностям позвонков и далее к мочевому пузырю,
овальному, нигде не срастающимся и окруженному брюшинной складкой.
Половые органы у самок представляют следующие особенности: влагалищные
губы морщинисты и отвислы; клитора нет, но у самого входа во влагалище, имеется
крупный слепой наполненный слизью синус. Прямо напротив него расположено
железистое отверстие уретры.
Маточное влагалище покрыто продольными бороздками, стенки его неупруги,
заканчивается оно устьем матки (orificio uteri), с фестончатыми краями. В это отвер-
стие трудно продеть даже очень тонкую нить. Шейка матки очень короткая, развет-
вляющаяся на тонкие правый и левый рога, цилиндрическая, неупругая, покрытая
слабоморщинистой оболочкой; у рожавших не более месяца назад самок бугорчатая,
возможно, из-за наличия следов плаценты; в остальное же время гладкая. Заключена
в очень неплотно прилегающей оболочке, состоящей из жирового вещества и восхо-
дящей до самых почек.
У самого окончания шейки матки маленькие яичники, почти не превосходящие
своим размером просяного зерна; по консистенции они ячеистые.
Мужские половые органы: пенис с окончаниями тестикул находятся вне брюшной
полости, однако все покрыты настолько обильным слоем жира, что не видны через
покрывающую их общую кожу. Косо нисходящие волокна брюшного мускула перехо-
дят далее на мешочек, тесно примыкающий к слепому сухожилистому концу нижней
окраины тестикул и придатка. Сухожильно-мембранная собственная оболочка
тестикул у своего нижнего края заканчивается широкой сдвоенной складкой и
соединяет тестйкул с придатком. Придаток начинается у верхней окраины тестикул в
виде луковицы, однако сразу же сужается и свободно спускается к противополож-
ному концу тестикула, где он снова оказывается тесно прилегающим к тестикулу,
расширяется и, наконец, в виде отгибающегося назад протока переходит в очень уз-
кий выводящий сосуд, во многих местах подходящий к столь же узким и мелким
семенным пузырькам, едва заметны и открывающимся своими общими отверстиями
сбоку с обеих сторон в уретру, на участке [так называемой] петушиной головы.
Уретра имеет тот же поперечник и длину, что и пещеристые тела; мускулистая;
сопровождается двумя синусами, соединяющими ее с простатами, которые состоят из
двух долей и расположены между прямой кишкой и уретрой. Синусы расположены
перед просветами семенных сосудиков и перфорируют [оболочку уретры]. Последняя
направлена из утла, образованного лобковыми костями, к пещеристому телу уретры,
вначале имеющему форму луковицы, затем сужающемуся и заканчивающемуся
отверстием с рваными краями и, кроме того, отгибающемуся налево и направо с
образованием железы пениса и цилиндрической косточки с хрящевой головкой,
которая растет по направлению к уретре, оставаясь нефиксированной. Имеется также
два пещеристых тела пениса, длиной по полтора дюйма, приросшие с помощью своих
эректорных мышц и собственных оснований к гребням лобковых костей. Между
собой эти два пещеристых тела разделены лигаментозной перегородкой; внутри они
имеют ячеистое строение. . .
История зверька [образ жизни суслика]. Питается суслик растениями, в особеннос-
ти листьями и семенами; особенно любит листья молодых растений тысячелистника.
Собирает зерна злаков в свои защечные мешки, а также кормит ими у себя в норе
своих детенышей. На задних ногах имеет обыкновение стоять, а передними лапами
при этом подносит пищу ко рту. Экскременты выделяет в форме шариков, образу-
емых в дополнительном анальном отверстии.
Течка бывает у них только один раз в год, ранней весной, в конце марта, после
231
зимней спячки. По прошествии шести недель после зачатия самка рождает четырех
или шесть, иногда восемь детенышей, уже покрытых волосами и имеющих открытые
глаза.
Передвигаются суслики медленно, так что, когда они убегают на ровном месте, че-
ловек легко может их поймать. Под землей суслик очень быстро роет себе нору, раз-
мер которой пропорционален размеру тела данной особи. Примерно на протяжении
сажени эти ходы косо спускаются вниз, имея иногда один, иногда два выхода.
Имеет обычай стоять в вертикальном положении перед отверстием своей норы,
издавая бормочущий звук. При этом суслик обозревает окрестности на значительном
расстоянии и производит время от времени свист. Когда приближается осень, сусли-
ки массами скрываются в свои норы, забивают их выходы землей и погружаются в
глубокий сон; зимняя спячка их продолжается пять месяцев.
Испражнения при этом у них собираются в слепой кишке, где по этой причине и
обнаруживают у них испражнения в большом количестве [зимой и весной]. Описан-
ный выше клапан слепой или, если угодно, ободочной кишки препятствует попада-
нию кала в тонкий кишечник. Ведь чем больше растягивается из-за накопления кала
слепая кишка, тем уже делается щель клапана, створки которой тем самым плотнее
прижимаются к стенкам слепой кишки и делают невозможным обратный выход
экскрементов из нее.
Охотятся на суслика птицы из соколиных, особенно коршун; для людей он реже
становится добычей, потому что мех его не столь благороден. К тому же и продажная
цена этого меха невысока.
Обитает это животное в больших количествах в обширнейших донских степях,
преимущественно между городами Воронежем и Тамбовом, где в то же время живут
сурки и хомяки.
С этими животными, как я уже указывал, суслик действительно имеет много об-
щего; и это будет ясно также из сопоставления его с ними, учитывая только что про-
изведенное нами описание суслика.
Впрочем, сурок гораздо ближе, чем хомяк, родствен суслику. Действительно, у
сурка морда, губы, язык, зубы, небо, ноздри, глаза, уши, молочные железы, ноги,
хвост и анальное отверстие, все такое же, как у суслика. Волосы и их окраска также
не очень различны, если не считать того, что у суслика по спине идут белые пятна.
Впрочем, сурка выделяют чрезвычайно толстые и сильно выступающие жевательные
мускулы, явно лишенные защечных мешков; а также более рыхлое телосложение,
крупный живот, отсутствие пятен. По величине он может быть даже в несколько раз
больше [суслика].
Учитывая такую родственность этих животных, недостаточным для их различения
становится специфический диагноз сурка, данный прославленным Линнеем в его
’’Системе природы”, 12-е издание, с. 81: ’’Мышь с укороченным хвостом, не полностью
покрытым волосами, с закругленными ушами и вздутыми щеками”; ибо этот диаг-
ноз равным образом удовлетворяет и суслику. Мы же будем отличать суслика от
сурка и других родственных видов следующим специфическим диагнозом:
’’Мышь черно-желтоокрашенная, с пестрой спиной, покрытой круглыми белесыми
пятнами; хвост по длине равен ногам, сплюснутый, волосатый; ладони с четырьмя
пальцами; стопы пятипалые”.
Диагноз же сурка будет звучать:
’’Мышь черно-желтоокрашенная, без пятен; хвост по длине равен ногам, сплюсну-
тый, волосатый; ладони с четырьмя пальцами; стопы пятипалые”.
Помимо того, между сусликами и сурками существует большая аналогия в отноше-
нии внутренностей; по строению грудной клетки расхождений нет. Внутренности,
находящиеся в брюшной полости, также полностью сходны, если не считать печени и
ободочной кишки.
232
А именно печень сурка отличается в том отношении, что правые передняя и зад-
няя доли в ней слиты в одну цельную долю; в остальном же она чрезвычайно похожа
на печень суслика. Наконец, в ободочной кишке сурка вместо свойственных суслику
единственного изгиба и удвоения у сурка то и другое выражено дважды, причем
вторые изгиб и удвоение занимают левую подвздошную область. Остальное же все,
например строение внутренних и внешних, мужских и женских половых органов,
пазух анального отверстия и т.д., до такой степени сходно у сурка и суслика, что
явно единственное различие состоит в величине. Все сказанное об образе жизни и
поведении суслика подходит также и к сурку, за исключением того, что мы говорили
о собирании сусликом запасов зерна.
Между хомяком и сусликом сродство меньше. Они более или менее сходны по
размерам, совершенно сходны по строению конечностей, в меньшей степени по ус-
тройству защечных мешков. В самом деле, мускул защечного мешка у хомяка
прикрепляется не в том месте, что у суслика, а именно, идет от остистых отростков
5-го, 6-го и 7-го спинных позвонков, будучи закреплен между трапециевидной и
широкой мышцами спины. Кроме того, есть отличие в коренных зубах, в хвосте,
который у хомяка округлый, резко обрывающийся, очень коротковолосистый; в
грудных железах; поскольку у хомяка таковых только две, в паховой области; в
особенности же в мужских половых органах, которые у хомяка устроены настолько
своеобразно, что требуют особого анатомического описания, которое я и дам в бли-
жайшем будущем.
П.С. ПАЛЛАС И ЕГО ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДЫ
Петр Симон Паллас - знаменитый путешественник, натуралист, основоположник
отечественной зоологии - родился 22 сентября 1741 г. в Берлине в состоятельной
семье (рис. 65). Отец, немец, родом из Пруссии, был полковым хирургом, затем
профессором хирургии в Галле и, наконец, в Берлине, автор нескольких работ по
хирургии. Мать Сузанна Леонард, француженка, родившаяся в Берлине, в колонии
французских выходцев. У Петра были брат и сестра.
Мальчик получил отличное домашнее образование. В раннем возрасте он свободно
писал на латинском, французском, английском и немецком языках. Изучал также
греческий. Позже он овладел русским, татарским, многими восточными языками и
языками народов Восточной России. Знание языков дало ему возможность быть в
курсе всех научных событий, вести переписку с выдающимися зоологами Европы,
стать одним из образованнейших людей своего времени. Это знание Паллас использо-
вал и в своих зоологических трудах: перед латинским названием животного он
ставил его название на европейских и азиатских языках. Использованный им метод
составления названий видов животных на многих языках широко применялся и
другими зоологами. Из языков Паллас особенно любил латинский. Он знал наизусть
многие элегии Овидия Публия Назова, изречения Луция Сенеки. Отрывки из их
произведений часто служили эпиграфами к его работам.
i Интерес к зоологии пробудился у Петра Палласа еще в гимназические годы. Он
наблюдал превращения гусениц, изучал их чувствительность к звукам, сделал
наброск собственной классификации птиц.
По настоянию отца Паллас с 1754 г. начал посещать в Берлине Медицинскую хирур-
гическую коллегию - специализированное учебное заведение, славившееся высоким
уровнем преподавания медицины и естествознания. Профессорами в то время был
ряд крупных ученых: ботанику читал Гледич, остеологию - Шпрегель, анатомию -
Меккель. В этот период Палласа больше всего интересовала анатомия. В 1758 г. под
руководством И. Меккеля он закончил полный курс анатомии. Умение хорошо
анатомировать в дальнейшем ему очень пригодилось. Он широко использовал в
своих зоологических работах анатомические данные.
233
vuc. 65. Петр Симон Паллас
(1741-1811)
Зимой 1758 г. Паллас слушал в
Галле лекции Сегнера по математике
и физике. С весны следующего года
работал в Гёттингене у знаменитого
естествоиспытателя А. Галлера, чи-
тавшего курс анатомии. Здесь он и
занялся исследованием беспозвоноч-
ных, в частности червей.
Образование Паллас закончил в
Голландии, в Лейденском универси-
тете, где продолжал изучать червей и
других беспозвоночных, посещая бо-
гатые естественноисторические кол-
лекции университета, знаменитое
собрание животных принца Вильгель-
ма Оранского, коллекцию Грановиу-
са и др.
В 1760 г. Паллас защитил диссер-
тацию под названием ”Dis sertatio me-
dica inaguralis de infestis viventibus int-
ra viventia” (”O живых вредителях
внутри живых организмов”) на сте-
пень доктора медицины. В этой рабо-
те он не только дал подробный обзор
всего, что было известно о паразити-
ческих червях, привел собственные
наблюдения, но и внес ясность в
классификацию этой группы живот-
ных. Отметил ошибки К. Линнея, который отнес к червям различные малоизученные клас-
сы беспозвоночных. Это сочинение, по мнению выдающегося немецкого гельминтолога
К. Рудольфи, было лучшим трудом, написанным к тому времени о паразитических червях.
Оно создало Палласу репутацию талантливого первоклассного ученого.
По предложению отца Паллас в 1761 г. отправился в Англию. Отец надеялся, что
посещение этой страны, славившейся тогда своими госпиталями, склонит сына к
выбору профессии врача. Действительно, именно в Англии Паллас сделал свой выбор.
Молодого доктора медицины богатые естественноисторические коллекции привлека-
ли больше, чем госпитали. Он завязал тесные контакты со многими выдающимися
натуралистами: П. Коллийсом, любимым учеником К. Линнея, Д. Содандером и рядом
других. Работа с коллекциями в музеях, путешествия к побережью Англии для сбора
морских животных определили его призвание. Избрал он не медицину, а зоологию.
Однако отец не оставил своих намерений. Для сына он нашел место врача в прус-
ской армии - шла Семилетняя война (1756-1762), которую Пруссия в союзе в Англией
вела против Австрии, России и Франции, и потребовал его срочного приезда в Берлин.
Летом 1762 г. Паллас покинул Англию и вернулся на родину. Но ’’судьба хранила”
Палласа-естествоиспытателя: вскоре был заключен мир, а с ним исчезла и вакансия
врача в армии.
Постоянные усилия отца направить интересы Палласа на медицину наталкивались
на сопротивление сына: его интересовала зоология, он мечтал о путешествиях в
дальние страны, в частности в Южную Америку, где мог бы заниматься изучением
неизвестных животных.
Страной, из которой тогда легче всего было отправиться в морское путешествие,
была Голландия. И в 1763 г. Паллас перебрался туда, поселившись в Гааге, где занял
234
должность резидента, посланника третьей степени. Должность эта, однако, давала
ему возможность завести необходимые знакомства для участия в путешествии. К
этому времени Паллас уже широко известен в научном мире: он член Лондонского
Королевского общества и Римской Академии наук.
В 1766 г. Паллас опубликовал в Гааге на латинском языке свой первый большой
труд ’’Elenchus Zoophytorum”. В нем он рассмотрел 272 вида организмов с неясным
систематическим положением и относившихся тогда к группе животнорастений, или
зоофитов (в нее входили коралловые полипы, гидры, медузы и др.), и классифициро-
вал их, разбив на 14 родов. Он отмечал, что нельзя четко отграничить царство расте-
ний от царства животных и что зоофиты служат переходным звеном между ними.
В этой работе Паллас впервые в истории естествознания представил схему строе-
ния живой природы в виде идущего от одного корня ветвящегося древа. Она проти-
востояла господствовавшим в биологии взглядам швейцарского естествоиспытателя
Ш. Бонне, рассматривавшего организацию природы в виде восходящей линии, так
называемой ’’лестницы существ”. ’’Система организованных тел, - писал Паллас, -
может быть представлена в виде древа, которое сразу от корня, от простейших живот-
ных и растений, дает двойной ствол, животный и растительный. Первый продолжает-
ся от моллюсков к рыбам, отделяя боковую ветвь насекомых, далее идет к амфиби-
ям; на вершине его - четвероногие, птицы - боковая ветвь - расположатся ниже
четвероногих” (Pallas, 1766. Р. 23-24).
Представления Палласа о строении живой природы широко дискутировались в
научной литературе. И.И.,Мечников в своей статье ’’Очерк вопроса о происхождении
видов” расценивал ветвящееся древо, представленное Палласом, как выражение
общего идеального плана строения живой природы, а не кровного родства организ-
мов, утверждая, что Паллас был безоговорочным сторонником постоянства видов.
’’Идея о связи членов органического мира, - писал об этой статье Мечников, -
осознана очень ясно, но только не в форме кровного родства, как представляют ныне,
а в форме какого-то общего идеального плана” (Мечников, 1950. С. 28).
В своем труде Паллас остановился на природе коралловых полипов. Эти организ-
мы были еще мало изучены. В то время среди натуралистов было широко распрос-
транено ошибочное мнение, что кораллы представляют собой гнезда полипов. Паллас
опроверг его, убедительно показав, что ствол кораллов живет, что полипы - живот-
ное со множеством ветвей, каменистая часть которого есть не что иное, как его скелет.
В том же году ученый опубликовал на латинском языке другое сочинение, сыграв-
шее важную роль в развитии зоологии- ”Miscellanea Zoologica” (’’Зоологическая
смесь”). В этом труде уже были рассмотрены животные разных типов - от червей до
млекопитающих. Даны тщательные описания животных, приведены их точные раз-
меры, анатомия. Показано существенное значение при классификации животных
сопоставления органов, имеющих общее происхождение, получивших в последую-
щем название гомологичных (они назывались тогда аналогичными). Это положение
Палласа высоко оценил Ж. Кювье: ”Не подчиняясь авторитету Линнея и Бюффона,
Паллас указал, что присутствие или отсутствие раковины не может еще служить
достаточным основанием для их (беспозвоночных) разделения и что нужно предвари-
тельно обращать внимание на аналогию в строении” (Кювье, 1860. С. 1024-1025).
Часть статей из этой работы Паллас издал на латинском языке в своем знаменитом
труде ’’Spicilegia Zoologica”. Он выходил в виде отдельных тетрадей. (Первые четыре
тетради были опубликованы в 1767 г. Издание было иллюстрировано прекрасными
гравюрами. В этой работе Паллас наряду с беспозвоночными рассматривал различных
представителей позвоночных. Из млекопитающих дано описание 16 видов антилоп,
которые были выделены им в самостоятельный род, бородавочника (рис. 66), капско-
го дамана (рис. 67) и трех видов летучих мышей (подробнее см. раздел ’’Вклад в
териологию”).
235
Рис. 66. Бородавочник (гравюра А. Шоумана)
Рис. 67. Капский даман (гравюра А. Шоумана)
Оценивая значение ранних работ Палласа, выдающийся французский зоолог XIX в.
Ж. Сент-Илер писал: ’’Паллас много сделал для классификации зоофитов и инфузо-
рий, для анатомии позвоночных, для общей зоологии... Труды его многочисленны и
так совершенны, что ставят его рядом с Линнеем и Бюффоном”.
В научных трудах Палласа этого периода нельзя не отметить неразрывной их связи
с поступательным ходом естествознания середины XVIII в., достигшего наивысшего
развития в трудах К. Линнея и Ж. Бюффона - в ’’Системе природы” первого и в
’’Естественной истории” второго. Во всем противоположные друг другу - во взгля-
дах, научном подходе, темпераменте - эти два великих ученых определили духов-
ный уровень эпохи, владея умами всех натуралистов. Линней своей совершенной,
рациональной системой дал возможность зоологам надежно и однозначно определять
виды организмов, Бюффон же своими яркими увлекательными описаниями возбу-
дил всеобщий интерес к животным, обратив внимание на их образ жизни, поведение.
Эти великие зоологи оказали влияние и на научное творчество Палласа. Свиде-
тельством тому его зоологические труды. В них нашло отражение и наследие зооло-
гов прошлого, особенно Дж. Рея. Произведения Палласа преимущественно посвяще-
ны систематике животных, но в них в отличие от работ Линнея сделан упор на анато-
мию, значительное внимание уделено образу жизни животных, их поведению, геогра-
фическому распространению.
Рассмотрение научных работ Палласа этого периода показывает, что его интересы
простираются от беспозвоночных до млекопитающих.
Что же побудило ученого, столь успешно изучавшего в своих ранних работах
червей, обратиться к исследованию высших позвоночных - млекопитающих?
Ответ на этот вопрос дал известный английский зоолог Томас Пеннант (1726-
236
1798)1. В своем сочинении ’’Путешествие на континент”, касаясь наиболее важных
событий во время своего пребывания в Голландии летом 1765 г., Пеннант указал на
свои встречи с Палласом, имевшие, как он писал, большое значение для его последу-
ющих работ. Пеннант сообщил, что он ’’посоветовал Палласу написать работу по
четвероногим, взяв за основу систему Рея, несколько ее изменив”.
Паллас, как и Пеннант, был страстным почитателем Джона Рея (1627-1705), внесше-
го важный вклад в систематику животных. Рей дал определения понятия вид, создал
удачную классификацию позвоночных (по терминологии Рея, ’’кровеносных”),
использовав анатомические особенности животных, строение их сердца. Особенно
большой интерес представляла его классификация млекопитающих. По системе Рея
они были определены как живородящие, легочные, с двумя желудочками, покрытые
шерстью или волосами. Рей подразделял млекопитающих (он их называл живородя-
щими) на водных и четвероногих. Последние в свою очередь были подразделены им по
строению конечностей и зубов на ряд групп: однокопытные, двукопытные, четырех-
копытные, когтистые, зайцеподобные (грызуны).
Но система Рея была разработана недостаточно полно. Прошло более 70 лет с
момента ее публикации (Ray, 1693). За это время было описано много новых видов
млекопитающих, которых требовалось систематизировать, поэтому Паллас живо
откликнулся на предложение Пеннанта. С большим увлечением занялся он изуче-
нием млекопитающих.
Научные интересы Палласа того времени раскрыты в его письмах к Пеннанту,
которые в 1967 г. были опубликованы библиотекой Миннесотского университета
(Pallas, 1967). Особый интерес из них представляет письмо Палласа от 18 января
1766 г. В нем ученый впервые пишет об изучении им млекопитающих, делится своими
планами работы в этой области (на русском языке не публиковалось).
Гаага
18 января 1766 г.
Дорогой сэр,
Ваше чрезвычайно любезное и приятное письмо из Антверпена от 5 августа прошлого года я свое-
временно получил и прочитал с чувством большого удовлетворения. Моим долгом было бы давно
сообщить об этом, и я, несомненно, выполнил бы эту свою обязанность, если бы наверняка знал,
вернулись ли Вы домой или в Лондон, или все еще продолжаете путешествовать. Ваше второе
письмо из Даунинга было для меня более приятным, так как в нем сообщалось о Вашем благопо-
лучном возвращении к своей дорогой семье и о сохранении Вашего благосклонного отношения и
дружбы, которую я высоко ценю и постараюсь оправдать. Доктор Шлоссер* 2 сообщил мне, что Вы
собираетесь в Лондон. Это заставляет меня направить подарки мистеру Уайту3, благодаря
которому (я в этом совершенно уверен) они будут доставлены в целости и сохранности.
Ваши оба благосклонных письма были для меня исключительно утешительными, и я могу Вас
заверить, что ничто так не вселяет в меня силы, как Ваше мнение, что я могу внести свою лепту в
замысел Вашего знаменитого соотечественника Рея. Я очень старался подготовить свои бумаги,
которые могли бы быть полезными в осуществлении задачи, которую Вы передо мной поставили. Я
начал обследовать все музеи и собирать все, что казалось мне важным для изучения четвероногих,
история которых, естественно, должна составить первую часть. Все эти действия я имел смелость
совершить только благодаря Вам. Я обнаружил значительно больше, чем предполагал, материалов
в коллекциях голландского знатока этого раздела зоологии. Я также нашел средства использовать
Теннанту принадлежит ряд важных трудов по зоологии, в том числе и ’’History of Quadrupeds”
(1781). В этом сочинении описано свыше 400 видов млекопитающих и дана удобная их классифи-
кация, представляющая модификацию системы Дж. Рея.
2И.А. Шлоссер (умер в 1769 г.) — профессор зоологии в Амстердаме.
3Б. Уайт (1725—1794) — лондонский издатель, брат естествоиспытателя Дж. Уайта.
237
коллекцию принца Оранского (несмотря на зависть и подозрительность мастера Восмаера4, о чем
мистер Брюнних5пришлет Вам полный отчет.
В настоящее время я сопоставляю материалы различных авторов и составляю несколько родов
четвероногих, в частности многорезцовые сумчатые, летучие мыши, ласки, муравьеды, ящеры,
антилопы и часть человекообразных обезьян. В общем, я собираютсь закончить историю четвероно-
гих к следующей осени. Мой план заключается в следующем: 1) расположить роды в естественном
порядке; 2) дать каждому виду, который я сам видел, либо частично, либо целиком, полную и
исправленную синонимичность, короткое, но исчерпывающее описание и отчет о том, что было
отмечено примечательно в его анатомии; 3) указать виды, которые я сам видел, но которые были в
достаточной степени описаны известными авторами. Я думаю, что таким путем четвероногие
вместе с общим описанием животного царства дадут материал на том, форматом в 1/8 листа.
Каждому виду будет предпослано общее описание, раскрывающее как внешний вид, так и анато-
мические признаки, образ жизни в природных условиях и другие черты, общие для всех видов. К
описанию истории каждого вида будут даны небольшие примечания, в которых отмечаются
ошибки прежних авторов. Все это будет осуществлено в моей работе "Elenchus Zoophytorum”,
которая в настоящее время находится в печати и экземпляр которой я Вам скоро вышлю. Я вышлю
Вам также обзор общей классификации животных, а также родовых характеристик, которые я
собираюсь дать. Могу Вас уверить, что будет отдана дань справедливости и честь ученым прошло-
го, и в особенности Рею — отцу зоологии, идеи которого относительно метода и подразделения на
роды являются более здравыми и близкими природе, чем современные системы классификации
или те системы, которые пренебрегают всякой методикой в естествознании.
Поскольку в настоящее время Вы находитесь в Лондоне, прошу Вас сообщить, каких редких
животных публично показывают в Тауэре и других публичных местах, и собрать, какие сможете,
данные по зоологии, рассказы и истории. Если со своей стороны я могу быть Вам полезным здесь,
прошу Вас, располагайте мной и рассчитывайте на меня в любом случае. Художник, которому Вы
поручили выполнять Ваши задания, на продолжительное время уезжал в Англию. По его возвра-
щении мистер Восмаер из чувства зависти повлиял на принца, и тот отдал приказ управляющему
никому не разрешать делать наброски и зарисовки животных в его музеях. Но мне с моим собст-
венным художником6 удалось Опередить его, и я получил прекрасный рисунок кабана и малень-
кой антилопы. Так как мистер Восмаер намеревается выпустить отдельные гравюры по естество-
знанию, одной из первых должна быть гравюра редко встречающегося кабана. Насколько мне
известно, Вы не будете опубликовывать что-либо в ближайшем будущем, поэтому я собираюсь дать
изображение кабана и антилопы в первом томе моей работы "Elenchus Zoophytorum”, который
выйдет из печати в марте. Я имел удовольствие обнаружить в музее выделанную кожу головы
кабана этого вида с очень большими клыками, которая была прислана из Кейптауна под названием
"hardlooper”, о чем я также дам краткое описание7. Наиболее примечательной особенностью этого
кабана, которого я видел живым и о голове которого я здесь упоминал, является то, что у него
совсем нет передних зубов. Недавно я достал также одну из больших антилоп из зверинца принца.
Как я выяснил, мистер Бюффон ничего не приведет, кроме рогов и скелета антилоп, представит в
нескольких изображениях самку и самца, а также результаты их вскрытия и препарированйя.
Описание этого будет дано в одном из следующих томов моего "Сборника”. В первом томе, кроме
вышеупомянутых четвероногих, будут представлены еще три: большая летучая белка8, мелкая
разновидность ”вест-индской летучей мыши” с необычным носом9 (рис. 68), а также разновид-
ность кролика, довольно обычная для Кейптауна, но еще не описанная ни одним естествоиспытате-
лем10 *.
Я достал для Вас череп антилопы с рогами, о чем Вы мечтали, а также рога пятнистого оленя.
Этой осенью мы видели большое количество вест-индских животных в зверинце принца. Несколь-
ко человекообразных обезьян, енота и носух обыкновенных умерли... Имеется несколько живых
попугаев, ястребов и других птиц. Там было также несколько Peophia Linnaei11. Я препарировал
4А. Восмаер (1730—1799) — французский естествоиспытатель, голландец по происхождению.
Отличался крайней невежественностью.
5М.Т. Брюнних (1737—1827) — профессор естествознания Копенгагенского университета.
бА. Шоуман (1710—1792) — художник, который сделал для Палласа много иллюстраций.
7Паллас описывает его под названием бородавочника, как его назвал Восмаер, ”haart looper”.
8Гигантская летяга Petaurista petaurista Pallas, 1776, названная Палласом Sciurus petaurista.
9Длинноязыкий листонос Glossophaga soricina Pallas, 1766. Эти летучие мыши имеют листообраз-
ный нос и очень длинный язык. Паллас назвал их Vespertilio soricinus.
10Капский даман Procavia capensis Pallas, 1776.
Голубь-трубач.
238
Рис. 68. Длинноязыкий листонос
(гравюра А. Шоумана)
два из них и не обнаружил другой при-
чины необычного шума, который они
производят в брюхе, кроме размера и
ячеистости воздушных мешков и под-
вижности разветвлений гортани. Там
также имеется страус, две свиньи (пе-
кари), грубошерстная овца с широким
хвостом и Bradypus12, но этих живот-
ных не показывают. Если Вам потре-
буется описание любого из этих живот-
ных, я сделаю все, что в моих силах. Ес-
ли Вы сообщите мне, каким путем пос-
лать Вам голову и рога вместе с други-
ми приготовленными для Вас предме-
тами, я вышлю их незамедлительно.
Мне также хотелось бы узнать, можно
ли найти в Англии какого-нибудь ху-
дожника для моей работы "Краткий об-
зор четвероногих" к следующей зиме.
Тогда Вы смогли бы проверить ее до то-
го, как она будет напечатана, одобрить
или внести исправления, как Вы сочтете
нужным.
Прошу Вас извинить за такое поспешное, неточное письмо, поскольку оно написано иностран-
цем, посредственно владеющим Вашим языком и имеющим мало времени выразить признатель-
ность за благосклонные письма его друзей. Может быть, в нем недостает изящества и вежливости,
но оно написано вполне чистосердечно. Я всегда буду стремиться заслужить Вашу благодарность
и дружбу, чтобы доказать, насколько я Вам предан.
Дорогой сэр,
Ваш покорный слуга
П.С. Паллас.
Письмо касается многих вопросов, связанных с состоянием зоологических знаний,
с методами работы зоологии. Оно существенно для понимания эволюции научных
интересов Палласа. В нем Паллас прямо указал, что своими работами по млекопита-
ющим он обязан Пеннанту. Из письма видно, что Паллас отдавал предпочтение систе-
ме Дж. Рея по сравнению с классификацией Линнея. Последний в ранних изданиях
своей ’’Системы природы”, где приведена классификация животных, недостаточно
уделял внимания строению внутренних органов, зубов. Замечание Палласа: ”Те
системы, которые, пренебрегают всякой методикой в естествознании”, - касалось
Бюффона. Высоко ценя мысли Бюффона о необходимости при описании животных
отмечать не только внешние признаки, но и образ их жизни, включающий их инстинк-
ты, места обитания, их пищу, способы ее добывания, Паллас вместе с тем совершенно
справедливо считал ошибочным отрицание Бюффоном систематики. Рассматривая
природу цельной, неделимой, Бюффон высмеивал и отвергал любые классификации
как плод человеческого ума и потому искусственные, не свойственные природе. ”В
природе, - писал Бюффон, - в действительности имеются только индивидуумы, а роды,
отряды и классы существуют только в нашем воображении”.
Таким образом, уже к 1766 г. научные взгляды Палласа как зоолога-систематика
полностью сформировались. Ему 25 лет. Он признанный авторитет в зоологии. Однако
12Bradypus Linnaeus, 1758 — род трехпалых ленивцев.
239
основная цель его пребывания в Голландии - путешествие в Южную Америку или
Индию, где он мог приложить свои силы как зоолог-натуралист - не достигнута.
Палласу удалось заручиться поддержкой профессора Габиуса и принца Вильгельма
Оранского, одобривших его план путешествия в Индию и вокруг Африки, но катего-
рически воспротивился отец, и экспедиция сорвалась. В этом же году Паллас же-
нился.
В начале 1767 г. ученый вернулся в Берлин. Однако здесь его ждало разочарова-
ние. Вакансии естествоиспытателя в Берлине не было. Он вынужден был заняться
научно-литературной деятельностью (Паллас пишет ряд научных и научно-популяр-
ных статей в издававшемся в Берлине журнале ’’Stralsundisches Magazin”), но она не
давала постоянного заработка. Паллас испытывал материальные затруднения. Мо-
ральное его состояние также было тяжелым: отец не оставлял своих усилий склонить
сына к врачебной деятельности, видя в ней источник его благополучия.
Год 1767 оказался, однако, переломным в жизни Палласа, для всей его научной
деятельности. Он получил приглашение от Петербургской Академии наук стать ее
академиком и профессором натуральной истории. Перед ним открывались неограни-
ченные возможности для проявления своих талантов. Россия нуждалась в крупном
натуралисте, способном возглавить научную экспедицию по обследованию природ-
ных ресурсов, флоры и фауны ее необъятных территорий. Это предложение, сразу
решавшее все стоявшие перед ученым проблемы, было им принято, и весной того же
года он выехал в Россию.
ЭКСПЕДИЦИЯ НА УРАЛ И В СИБИРЬ
Летом 1767 г. Паллас прибыл в Петербург. Петербургская Академия наук поручила учено-
му разработать план экспедиции для изучения восточных районов России и вогла-
вить одну из экспедиций в Оренбургскую губернию.
При подготовке плана экспедиции (Паллас намеривался исследовать также Си-
бирь) он тщательно изучал опыт предшествовавших путешествий: материалы экспе-
диции Д.Г. Мессершмидта (1720-1727), архивные материалы И.Г. Гмелина, С.П. Кра-
шенинникова, Г. Стеллера, участвовавших в ’’Большой северной экспедиции (Вторая
Камчатская экспедиция) под началом В. Беринга (1733-1743), которая обследовала
северное побережье России от Белого моря до р. Колымы. Эти экспедиции дали ряд
ценных сведений по географии Сибири (составлены первые карты), ее истории, флоре
и частично фауне. Тем не менее Урал и Сибирь все еще оставались недостаточно
изученными в отношении их географии, геологического строения, климата, почв,
растительного и животного мира, а также населявших их народов. Мало было извест-
но об их культуре, обычаях, занятиях, недостаточно ясно было значение промыслов
этих народов для экономики государства. Требовалось всестороннее комплексное
изучение этих обширных территорий.
Составлением маршрутов, планов работ, специальных инструкций для участников
экспедиций и занимался Паллас. Подготовка экспедиции затянулась до лета 1768 iv
”21 числа июня, - писал Паллас, - выступил я в путь с приданными мне прислуж-
никами за отправившимися вскоре один за другим г. адъюнктами Лепехиным и Гиль-
денстетом” [Гильденштедтом]. В состав отряда Палласа входили питомцы академи-
ческой гимназии студенты Василий Зуев, Никита Соколов (впоследствии академики),
Антон Вальтер, чучельник Шумский, рисовальщик Дмитриев, а также егерь и кухар-
ка. Паллас отправился в путешествие в сопровождении жены. Ехали в каретах.
Из Петербурга путешественники проследовали на Москву, далее Владимир -
Касимов - Муром - Арзамас - Пенза - Ставрополь - Симбирск (рис. 69).
В верховьях рек Кинели и Самары отряд обнаружил сайгака13. По дороге в Сим-
13Saiga tatarica Linn.
240
бирск экспедиция посетила развалины столицы древнего Болгарского царства -
Великих Булгар, расположенной недалеко от Симбирска на левом берегу Волги.
Паллас познакомился с архитектурой древней столицы (’’судебной палатой”, ’’боль-
шим минаретом”), посетил развалины захоронений. Он нашел много каменных
памятников с мусульманскими и армянскими надписями, что свидетельствовало о
широких торговых связях, которые были когда-то между Болгарским царством й
азиатским Востоком.
Зиму 1768 г. Паллас провел в Симбирске. Он исследовал животный мир окрест-
ностей. Здесь водились обыкновенные хомяки14, много было байбаков - степных
сурков15.
Здесь же обитали барсук16, горностай17 и ласка18. В пойменных озерах Волги
водился ценный пушной зверек - выхухоль19. Паллас описывает его распростране-
ние, устройство им нор. Выхухоль встречается ”во всех озерах вдоль Волги... Выху-
холи водятся также при Самаре в озерах вниз по реке простирающихся. Чем выше
вверх по реке, тем их меньше, а при реке Яике и совсем их нет... Сии зверьки делают
себе норы в высоких берегах под водою, однако таким образом, что выход проведен
вверх наискось, и так гнездо их бывает сухо. Следовательно, зимою не имеют они в
норах ни какого другого воздуха, кроме подземного. Напротив того, как скоро лед
прошел, то часто выходят они на поверхность воды и играют на солнце. Выхухоль
питается червями, а особливо пиявицами, коих с невероятною скоростью вырывает
из тины, к чему весьма приспособлен чрезвычайно чувствительный и нервами напол-
ненный хоботок, который он всячески поворачивает. Сей есть наилучший орган у
сего зверька; ибо глаза у него еще меньше, нежели у крота, а уши заросли волосами”
(Паллас, 1773. Т. 1.С. 235).
В Поволжье Паллас встретил различных представителей грызунов, в том числе и
мало извстных тогда: полевую мышь20, мышь-малютку21, крапчатого суслика22 и
большого суслика23.
Сусликов ученый подробно описал в сообщении Академии наук (1770)24. ’’Это
животное, сообщил он, в южных степях России и Сибири более многочисленное, чем
белки в лесах: даже почти столь же [часто встречаемое], как крысы в городах и дерев-
нях. Суслики повсеместно встречаются уже по рекам Пьяне и Суре, но не столь часто;
оттуда же, чем дальше к югу и к востоку, тем чаще. Также и в заволжских степях
суслики обитают в столь больших количествах, что за один день [на небольшом
пространстве] легко поймать их целые сотни. Это животное наиболее известно под
названием суслик. В отличие от хомяков, которые, как суслики, но в гораздо мень-
шем количестве встречаются в степях, остающихся поныне необитаемыми и богатыми
злаковыми растениями, суслик питается не собранными им семенами этих степных
растений, но нежными молодыми всходами растений, а также вообщее сочными и
водянистыми травами. Говорят, что там, где места его укрытия случайно оказыва-
ются в соседстве с посевами и огородами, на которых возделываются арбузы (русские
называют такие огороды ’’бахчами”), он опустошает и молодые посевы, поедая
14Cricetus cricetus L.
15Marmota bobak Muller.
16Meles meles L.
17Mustela erminea L.
18Mustela nivalis L.
19Desmana moschata.
20Apodemus agrarius.
21Micromys minutus.
22Citellus suslicus.
23Citellus major.
24Пер. с лат. к.б.н. Б.А. Старостина.
242
также и зрелые арбузы. Однако, вообще говоря, в более или менее подвергшихся
культивации местах суслики обитают реже; не живут они и в лесах и горных мест-
ностях. Напротив, больше всего их на возвышенных участках степей на местах,
хорошо прогреваемых солнцем, и вообще в сухих [невозделываемых] местах, что
составляет контраст с хомяками, часто посещающих посевы и опасных для них.
Как по этой причине, так вследствие своей привычки обходиться скудным, в
особенности травяным кормом суслики зимой не появляются в массовом количестве
в зернохранилищах и гораздо меньше [чем хомяки] и едва ли даже вообще наносят
им какой-либо вред. Земледельцы относятся к ним терпимо, так что ни ради простой
праздности их не истребляют, не преследуют их , предаваясь охоте или ловле зверей:
ведь в России пока еще не принято употреблять шкуры сусликов для изготовления
одежды по той причине, что на них редкая шерсть. Впрочем, сусличий мех [сам по
себе довольно] красив. К сказанному добавим, что из всех людей враждебным для
сусликов народом являются только калмыки, считающие его мясо за деликатес.
Истребляют сусликов также мальчики, которые от нечего делать забавляются тем,
что заливают находимые ими в степях сусличьи норы водой и выгоняют таким
образом из них сусликов, или же ловят их, кладя перед входом в нору петли и силки
из крепких шерстяных нитей, а когда поймают их, то используют для различных
своих игр. Конечно, уже из-за самого своего изящества, простодушного и мягкого,
бесхитростного нрава эти зверьки заслуживали бы, чтобы их щадили; хотя, впрочем,
шкурки их, если бы только больше вошли в моду, можно было бы посоветовать
использовать и в достаточном количестве покупать и населению других стран. Ибо
шкурки эти красивы; добавлю, что и сусличье мясо знатоки мне хвалили как пищу.
Ведь и родственные сусликам сони были в большой чести у римлян за их трапезой,
когда их могли достать (как мне вспоминается), и особенно их любили осенью, когда
и суслики наиболее жирны.
Если люди суслика по большей части все же не обижают, то не в такой безопаснос-
ти он находится от меньших обитателей степей: от ведущих ночной образ жизни
хищников из семейства куньих. Это в особенности хорьки и горностаи, для которых в
летнее время суслики становятся легкой и самой обыкновенной добычей. Также и
норы, которые суслики себе роют, не дают им убежища от этих врагов, потому что
вход у этих нор только один и притом достаточно большой, чтобы в него (особенно
если это вход в нору суслика-самца) мог влезть даже и крупный хорек. Такого гостя
суслик сначала пытается отогнать беспорядочными укусами, но безуспешно, затем
впадает в страх. Потом он становится как бы парализованным от непреодолимого
ужаса. А когда суслик бродит днем за пределами своей норы, он части стано-
вится также очень легкой добычей для летающих вокруг птиц из различных родов
соколиных.
Для рытья нор суслик выбирает обычно, как я уже говорил, возвышенные участ-
ки степей или же плоскогорья и обращенные к солнцу склоны холмов, предпочитая
места, где почва песчаная или немного смешана с глиной и тем самым закреплена и
где в то же время в изобилии произрастают определенные виды трав. Более старые
суслики, или те, которые занимают норы, перед тем брошенные более старыми,
обычно проделывают из своей норы в течение своей жизни в ней два или три доволь-
но широких отверстия, удаленные друг от друга иногда немного, иногда на несколь-
ко шагов; в глубину же они идут на сажень или немногим больше или меньше, при-
чем одно из них, а именно то, которое суслик плотно закрыл предшествовавшей
осенью, обнаруживает себя выброшенной около него кучей земли. Свежее же отвер-
стие, которым животное пользуется в данный год, уже остальных проходов и обычно
в точности соответствует размерам животного. Около этого отверстия нигде не
увидишь кучи выброшенной земли. Видно только круглое отверстие, по большей
части в прямо перпендикулярном направлении спускающееся в землю и зачастую
243
таким образом прикрытое травами, что его едва может различить самый зоркий глаз.
Нору самца можно распознать по отверстию, через которое легко можно просунуть
три приложенных друг к другу по толщине пальца. По мальнькому отверстию, в
которое едва входят два пальца, распознается нора самки. Слегка наискосок от этого
отверстия ответвляется ход, имеющий глубину в два, три или четыре фута, с той
общей закономерностью, что нора самки всегда гораздо глубже, чем нора самца.
Затем следует более наклонна^ часть норы, которая далее после ряда различных
поворотов расширяется в овальную или продолговатую камеру диаметром почти в
фут или меньше, довольно низкую, мягко устланную сухой соломой измельченных
злаков и закрытую со всех сторон, кроме входа.
Нору молодого животного или такого, которое, как это часто случается, роет себе
новую нору, можно распознать по единственному ее входу. Помимо этого обыкновен-
ного для сусличьих нор входа, имеется на некотором от него расстоянии только еще
одно, закупоренное отверстие с кучей выброшенной земли около него. Притом
зверек по большей части перемещает землю и по наклонной части норы, непрерывно
отбрасывая землю назад и освобождая от нее всю камеру, которую роет, и канал,
служащий выходом из этой камеры. Эта расчистка осуществляется отчасти через
упомянутый наклонный канал, по которому землю выметается наружу, отчасти же
благодаря тому, что земля вталкивается в камеру и там плотнейшим образом утрам-
бовывается. Когда приближается зима, зверек начинает готовить себе новый ход. Он
прокладывает его вплоть до дерна, а всю землю из него вталкивает в ход, которым
пользовался перед тем и который тем самым оказывается на зимнее время забит,
хотя и не столь плотно, чтобы на будущий год весной нельзя было распознать пред-
ставленный уже упомянутым мною слепым отверстием его след. А ранней весной
через новый выход, ведущий до дерна, как только растают снега и сойдет лежавшая
на поверхности земли ледяная корка, через этот выход на солнечный свет выходит
суслк, пробужденный от зимней спячки и выбирающийся наружу.
Таким образом, выход^ из норы всегда остается единственным, и сколько раз
зверек прорывает себе новый выход, столько раз он закупоривает старый, может
быть, не вынося сквозняков: у хомяка мы видим нечто противоположное, он всегда
старается обеспечить себя двойным выходом. Но как раз такое устройство
оказывается гибельным для суслика, когда хищники из семейства куньих загоняют
его в нору или когда эта последняя оказывается залита водой, каковой, однако,
часто требуется до пяти или более амфор25, в особенности для нор, где живут самки,
чтобы изгнать зверька из норы. Он при ее постепенном затоплении поднимается все
выше и выше, пока наконец выбирается из нее, промокший и до того пронизанный
холодом, что почти лишен сил убежать. В других же случаях при опасности он убегает
быстро, как только может, и часто довольно успешно, при этом подпрыгивая.
В этих своих норах суслики живут по одному. Только во время течки самцы
подлавливают самок у входов в их норы, причем из опасения перед склонной кусать-
ся самкой самец сам может войти в ее узкую нору. В этот период рано утром, почти на
восходе солнца они выходят из своих нор и весь день, если погода выдастся ясная,
спокойно подстерегают. Они ждут самок до пятого или шестого часа пополудни и
почти до самого захода солнца. Все это время самцы бродят между нор, пасутся,
греются на солнце, пока наконец сходятся с самками. В этот же период часто можно
слышать характерный свист, издаваемый в степи самками. Самцы же большей
частью прогуливаются у нор молча. Если увидят человека, то сразу убегают в норы.
Повсеместно можно также увидеть около нор караулящих сусликов, озирающихся
вокруг, приподнявшись на своих пяточных костях. Заметив врага, они сразу издают
25Амфора — древнегреческая мера емкости объемом от 20 до 40 л.
244
свой характерный свистящий звук. Затем устремляются в норы; такое же поведение
является обычным равным образом и для полевых сурков.
Не знаю, кажется, ни одного животного, которое легче, чем суслика, было бы
приручить. Любой самец, даже старый, почти за один день (а молодой за несколько
часов) не только привыкает сидеть на цыпочках, но и настолько свыкается с людьми,
что не боится перед ними спокойно прогуливаться, пастись, умываться лапками,
играть; а через несколько дней прирученные суслики уже сами прибегают к человеку
наподобие обыкновенных домашних животных и позволяют гладить себя, носить на
руках, даже берут пищу прямо с ладони. Но это относится к самцами; самки, особен-
но более старые, сохраняют свою природную хитрость и склонность кусаться. Во
всяком случае, они никогда столь явно не утрачивают своей дикости. У наших
сурков имеем иное: у них -даже и самки, причем взрослые самки, если только
проведут несколько дней в доме, обычно становятся в высшей степени ручными”.
Из Симбирска отряд направился в заволжские степи в сторону Уфы. Паллас столк-
нулся с дикими лошадьми, которые, конечно, не могли не привлечь его внимания.
Ученый назвал дикую лошадь Equus ecuiferus. Он считал, что дикие лошади произош-
ли от одичания домашних. ’’Здешние лошади, - писал он, - по большей части распло-
дились от ушедших .домовых лошадей” (Паллас, 1773. Т. 1.4. 1. С. 317).
Весной 1770 г. отряд из Уфы взял путь на Челябинск - Уральский хребет - Екате-
ринбург, посещая многочисленные рудники и горные заводы, далее Троицк -
Ишимск - Тюмень - Тобольск. Осмотрев Тобольск, Паллас переехал на зиму в
Челябинск - центр главных уральских промыслов. Намеченный Академией наук
план исследований был выполнен. Желая продолжить экспедицию, Паллас разработал
план путешествия, который повторял путь И.Г. Гмелина. Этот план был одобрен
Академией. ’’Большая часть Оренбургской губернии, - писал Паллас, - мною, частию
доктором и адъюнктом Лепехиным и профессором Фальком объеханы, так что едва
остались неосмотренным какое-нибудь примечания достойное место; таким образом
исполнено уже было главное, для которого мы были посланы. Малое же, что осталось
в Оренбургской губернии, можно было окончить... на возвратном пути. Но как еще
много открытий из натуральной истории Российского государства [можно было]
надеяться оставалось в Сибири, частию в северной половине империи, потому что по
сей день никаких еще путешествий не было, а по Сибири большая часть плодов
Гмелинова и Стеллерова путешествий пропала, то в силу сего и благоволила Акаде-
мия наук подтвердить как от г. доктора Лепехина, так и от меня учиненное предло-
жение. Таким образом, предоставлено было г. Лепехину объехать на возвратном пути
северные Кавказские уезды, всю Архангелогородскую губернию и берега Белого
моря; мне же досталось путешествие по Сибири даже до Байкала” (Паллас, 1773. Ч. 1.
С. 5). Таким образом, путешествие Палласа было продлено еще на три года
Отряд Палласа в 1771 г. был пополнен капитаном Н.П. Рычковым (сыном известно-
го естествоиспытателя Оренбургской губернии П.И. Рычкова), аптекарем доктором
медицины И. Георги, студентами Быковым, Кашкаревым и Лебедевым.
В 1771 г. экспедиция, выйдя из Челябинска, отправилась через Омск на Семипала-
тинск, далее на село Красноярское на Убе - Барнаул - Томск - Ачинск - Аба-
канск - Красноярск, где провела зиму.
В 1772 г., пройдя Байкал по льду, отряд достиг Иркутска, оттуда направился на
Селенгинск, затем Кяхта - Чита - Иркутск - Красноярск - Саяны. (В 1772 г. Паллас
писал в Академию о намерении совершить поездку в Монголию и Китай до Пекина.
Планы Палласа были весьма сочувственно восприняты в Академии. Но из-за болезней
участников экспедиции от этого путешествия пришлось отказаться.)
В 1773 г. маршрут экспедиции был: Красноярск - Томск - Тара - Сарапуль -
Бузулук - Уральск - Царицын - Саратов - Царицын. Последнюю, шестую зиму
Паллас провел в Царицыне.
245
В 1774 г. экспедиция из Царицына двинулась в направлении Ахтубы, посетила
озера Баскунчак и Эльтон, совершила поездку к горе Богдо и обратно в Царицын. Из
Царицына через Тамбов и Москву Паллас отправился в Петербург, куда прибыл
30 июля 1774 г.
,Этот маршрут был дополнен самостоятельными путешествиями участников отря-
да. Студент Н. Соколов проехал от Самары до Уральска и далее по р. Уралу до Кас-
пийского моря, обследовал Куманские степи, совершил поездку от Окши до Аргун-
ского острога в Забайкалье. Капитан Рычков ездил в Киргизские степи. Студент
В. Зуев совершил путешествие из Тобольска на Крайний Север: по Иртышу и Оби до
Обдорска, а оттуда через тундру и Северный Урал к берегам Карской губы, а также
по Енисею от Красноярска вниз до Мангазеи (Туруханска) и далее, до Селякина
зимовья, почти у устья Енисея. Он же исследовал низовья Волги. Студент Быков был
послан для обследования территорий в Забайкалье около г. Селенгинска и по рекам
Джиде, Селенге и Хилке. Студент Кашкарев объездил районы близ Красноярска в
южной части Енисейской губернии.
Результаты экспедиции превзошли самые смелые ожидания как по обширности
исследованных территорий, так и по объему и широте собранного научного матери-
ала. Было получено огромное количество ценнейших сведений, касавшихся различ-
ных областей естествознания: ботаники, зоологии, географии, геологии, а также
истории, этнографии, археологии, филологии, медицины, сельского хозяйства и
экономики. И это несмотря на невероятные трудности путешествия, нередко по без-
дорожью, лишения, тяжелые болезни.
Тяжелые испытания не могли не сказаться на участниках экспедиции. В дороге от
цинги скончался чучельник Шумский. Недолго прожила после возвращения в Петер-
бург жена Палласа, его верный товарищ по странствиям (она умерла в 1782 г., оставив
ему четырехлетнюю дочь). Сам Паллас вернулся из путешествия совершенно седым, с
сильно подорванным здоровьем (хронический колит, воспаление глаз, угрожавшее
его зрению), а ведь ему еще не было и 33 лет.
Основная масса материалов, собранных экспедицией Палласа, нашла отражение в
его дневнике, путевых записях. В непригодные для экспедиционных работ зимние
месяцы ученый обрабатывал свои путевые записи и отправлял их частями в Петер-
бург, для опубликования.
Дополненные большим числом рисунков первые две части путевого дневника
под названием ’’Путешествие по разным провинциям Российской империи” вышли на
немецком языке из печати в 1771 и 1773 гг., когда Паллас еще находился в экспеди-
ции.
Таким образом, Паллас в полной мере выполнил указания инструкции участникам
экспедиции 1768-1774 гг., в которой отмечалась необходимость ’’всевозможнейше
стараться изыскания свои согласовывать точно с намерением, с которым оные экспе-
диции отправляются, то есть полагая единственным предметом пользу общую Госу-
дарства и распространения наук”.
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПЕРИОД
Вернувшись в Петербург, Паллас занялся обработкой своих многочисленных
коллекций, гербариев, путевых заметок. Несмотря на физическую немощь, ученый
сохранил в себе большую силу духа и творческую энергию. Этот период, продолжав-
шийся 20 лет, отличается исключительно большой продуктивностью ученого: он
напишет множество работ по ботанике, сельскому хозяйству, медицине, географии,
геологии, нумизматике, археологии, языкознанию и, конечно, зоологии.
В первую очередь Паллас занялся завершением печатания ’’Путешествий”. Третья
часть была опубликована в 1776 г. Позднее (с 1773 по 1788 г.) этот труд был издан на
246
П. С. Калласа,
Медицины, Профессора Натуральной
истории и члена российской Императорской Ака>
дем!и НаукЪ, и Санктпетербургскаго Вольна го
Экономическаго Общества, также римской Импе*
раторской Академ1и изпытателей естества и
Королевскаго Аглиискаго ученаго собрания,
ПУТЕШЕСТВ1Е
по
рлзнымЪ провинщямЪ
РОССИЙСКОЙ ИМПЕР1И.
Чаешь первая.
ЦЪид з руб. $0 коп.
ВЪ САНКТПЕТЕРБуРГВ
при Императорской ЛкадемЫ НаукЪ 1773 года.
Рис. 70. Титульный лист сочинения Палласа ’’Путешествие
по разным провинциям Российской империи”
русском языке (рис. 70). Перевод второй части сочинения был осуществлен Ф. Тума-
новым, а третьей части - В. зуевым (переводчик первой части не указан).
В 1788—1793 гг. ’’Путешествие” было опубликовано в Париже (французский пере-
вод) и еще раз переиздано в 1794 г. Оно было издано в Италии, в Германии и Швейца-
рии печатались отдельные отрывки из ’’Путешествия”. Это сочинение обессмертило
имя Палласа. Оно представляло собой своеобразную энциклопедию жизни восточной
части России XVIII столетия. Это был первый труд, в котором содержались сведения
по всем областям знаний.
Свое отношение к путевым запискам Паллас выразил в предисловии к своему
труду. Он писал: ’’Думаю, что главным свойством описания почитается достовер-
247
ность: и я старался по возможности наблюдать оную как в моих собственных приме-
чаниях, так и в собранных известиях, не отступая нигде от истины...» (Паллас, 1773.
Ч. 1. С. 4). ’’Насколько ревностно я стараюсь наблюдать, настолько ревностно я дер-
жусь истины, не прибавляя и не изменяя ничего. Ибо открыть что-либо важное или
полезное совсем не во власти натуралиста. Многие вещи, которые могут теперь
показаться незначительными, со временем, у наших потомков, могут приобрести
большое значение” (Паллас, 1788. Ч. 3. С. 5).
В своем сочинении Паллас последовательно, день за днем, рассказывает о всех
событиях, свидетелями которых был он или участники его отряда. Описание населен-
ных пунктов, окружающей природы перемежается с бытовыми зарисовками, научны-
ми наблюдениями, практическими советами. Такая форма написания делала книгу
интересной для широкого круга читателей. Успеху ’’Путешествия” у широкой публи-
ки, несомненно, способствовало также то, что Паллас вынес из текста повествования
описание новых растений и животных. Он их поместил в Дополнения, завершающие
каждый том.
* Исключительно большой вклад внес Паллас в географию, объехав громадные
пространства европейской части России и Сибири и описав с величайшей тщатель-
ностью их горы, степи, озера, реки, климат. Особое внимание уделял он метеороло-
гии, за что его даже называли ’’Сосюром России”26.^
Во время многочисленных поездок по Астраханской губернии ученый отметил
следы прежнего, более высокого, уровня Каспийского моря (обнаружил окамене-
лости, раковины) и определил его прежние границы. ’’Рассеянные в великом множе-
стве по всей Яицкой, Калмыцкой и Волжской степи черепнокожие, во всем сходст-
ствующие с Каспийскими, коих в реках не находят, сходство бестравной почвы сих
степей, состоящих или из наносного от морского илу слепившегося песку, или желто-
ватой глины и не содержащая никаких минералов даже до самого нижнего слоя,
повсеместная соленость сея земли, большею частию от поваренной соли происходя-
щая, необъятное множество солончаков и озер, даже и самая равнина сих обширных
степей суть неоспоримые доказательства, что они некогда Каспийскими водами
покрыты были... Возвышенная страна между Доном и Волгою по течению Сарпы, и
возвышенная, так называемый общий Сырт между Волгою и Яиком лежащие, были
дпевние берега пространного Каспийского моря” (Паллас. 1778. Ч. 4. С. 172).
С^Много в книге интересных геологических наблюдений. Описано геологическое
отложение на р. Крымсе, около Сызрани. На берегу р. Куры Паллас нашел белемниты
диаметром более дюйма. В Сибири на горе вблизи Енисея ученый открыл глыбу
метеорного железа, получившее название ’’палласова метеорита”27. ’’Путешествие
содержит множество заметок о различных месторождениях полезных ископаемых, о
состоянии железоплавильных и горнодобывающих заводов. В Сибири Паллас нашел
остатки шерстистого носорога с кожей и мышцами, черепа и кости мамонтов, би-
зонов.
Ученый подробно описал народы, населяющие восточные провинции России. В
’’Путешествии” много ярких страниц, посвященных описанию быта, костюмов,
обрядов, языка и культуры мордвы, чувашей, вогуличей (манси), калмыков, татар,
ногайцев, бурятов и других народов. Значение этих этнографических исследований
Палласа трудно переоценить, поскольку некоторые из этих народностей впоследст-
вии в результате политики русификации, проводившейся царским правительством,
утратили свои национальные обычаи.
Он сообщает о возделываемых ими сельскохозяйственных растениях, дает практи-
26О.Б. Соссюр (1740—1799) — выдающийся швейцарский естествоиспытатель, один из основопо-
ложников описательной геологии. Внес большой вклад в метеорологию.
27Палласов метеорит хранится в Академии наук в Санкт-Петербурге.
248
ческие рекомендации по насаждению полезных культур, разведению хмеля, виноград-
ников и т.п. ’’Река Самара, - пишет он, - имеет гористые берега, местами необыкно-
венно удобные для разведения винограда, так как виноград любит иловатую землю.
Вообще могли бы быть прекрасные фруктовые сады...” (Паллас, 1773. Ч. I, кн. 1. С. 296).
Приводит сведения о состоянии их животноводства, рассказывает об их отхожих
промыслах.
Интересны также его заметки о жизни русских поселенцев, их хозяйственном
укладе, промыслах (рыбной ловле, охоте).
Эти описания, отражающие сведения людей XVIII в. о животных, их образе жизни,
повадках позволяют составить представление о распространении животных и их
значении в хозяйственной жизни казаков.
Палласа поражают рыбные богатства Волги и Урала, разнообразие способов лова
рыбы. Он пишет: ”Не думаю, чтобы какая река в Европе была столь богата рыбою, как
Волга со всеми текущими в нее реками. Не токмо близ лежащие страны имеют изоби-
лие всякой рыбы, но и сия река купно с Яиком снабдевает целое государство осетра-
ми, белугами и икрою и множеством другой рыбы... Я думаю, что едва ли есть ли
где-нибудь в свете столь много удобных и остроумно выдуманных снастей и снаря-
дов для рыбной ловли, сколько употребляется на Волге... Из всех рыб в Волге почи-
таются наилучшими осетры, севрюги, стерляди и белая рыбица, почему и продаются
дороже... Из всех больших рыб за худшую почитается сом; однако употребляется
одна часть оного, а именно кожа его. Помянутую Сомову кожу растягивают, сушат и
продают деревенским жителям, которые для ея подобной рогу прозрачности вставля-
ют в окна” (С. 199-211).
Повествуя о жизни уральских казаков, основным занятием которых является
рыбная ловля, Паллас показывает, как рационально крупный лов рыбы у них регла-
ментирован обычаями: в год он производится только четыре раза, удовлетворяя
потребности казаков в рыбе и обеспечивая вместе с тем обилие рыбы в реке. Первый
главный лов бывает в январе. Рыбу (белугу, осетров) таскают баграми. Поэтому и лов
получил название багрения. Второй, или севрюжий, лов, так называемая вешняя
плавня, бывает в мае и продолжается до июня, третий лов (осенняя плавны) - в ок-
тябре (рыбу ловят сетями). Наконец, четвертый лов - в начале декабря, когда рыбу
ловят подо льдом не в Урале, а в других реках и озерах. Этот лов не относится к
главным, так как ловится только мелкая рыба. /
Паллас оставил очень интересные описания рыбного лова. ’’Казаки в том увере-
ны, - пишет он, - что осетры и белуги бывают в реке во всю зиму, а севрюги еще
летом уходят назад в море. Поэтому у казаков сделано узаконение, что во время
бываемого в мае лова должны они белуг и осетров, в сеть попавшихся, опять бросать
в воду, ибо как оную рыбу зимою ловить и мерзлую разводить можно, то надлежит по
высокой цене продавать, и от того ожидать большей прибыли. Сие узаконение столь
строго у них наблюдают, что, если кто оное преступит, то непременно того наказыва-
ют на теле и лишают всякой наловленной рыбы...” (С. 425-426)^
”С осени казаки следят, где рыба станет играть, ибо значит здесь она выбрала
место для зимовки. Как только река замерзнет, но не покроется снегом, казаки,
накрывшись полотенцами, смотрят через лед на стоящую на дне рыбу. Время лова -
самое оживленное и ответственное в жизни казаков. В январе, в назначенный день,
все казаки до восхода солнца собираются; все должно быть готово. Каждый казак
получает ярлык на ловлю. Из города дают знать двумя пушечными выстрелами, и все
кидаются вскачь к реке, чтобы захватить выгоднейшие места. Однако никто не смеет
прорубь рубить, прежде пока все по своим местам не станут, и тогда уже атаман дает
к тому знак ружейным выстрелом” (С. 430).3
/В ’’Путешествии” громадное число заметок ихтиологического характера. При
упоминании озер и рек Паллас указывает рыб, которые ловятся местными жителями,
249
дает их описание и отмечает тех, которые им мало известны. При описании рыб,
например, озера Байкал, в частности байкальского омуля, он приводит пути его
миграции во время нереста.
Много в ’’Путешествии” орнитологических наблюдений, но наибольшее внимание
Палласа привлекали млекопитающие, играющие существенную роль в жизни человека:
домашние животные, объекты его охоты и те из них, с которыми он борется.
"^Посетив башкирские деревни и познакомившись с их жизнью, он отмечает бортни-
чество как одно из важнейших занятий башкир и приводит интересные сведения,
касающиеся мер, предпринимаемых башкирами для защиты своих пчельников от
основных их расхитителей - медвсдей^Башкиры отрубают нижние сучья сосен,
используют разные способы для истребления медведей. ’’Вколачивают, - пишет
Паллас, - в ствол острые, загнутые сверху ножи или железные спицы, либо вокруг
всего дерева, если оно прямое, либо выше изгиба, если оно кривое. Когда медведь
лезет на дерево, то обходит он сии вострые спицы, а напротив того, спускаясь вниз,
упадает на них и ранен бывает в брюхо так, что обыкновенно умирает. Но нередко
случается, что старые медведи отбивают от себя лапами осторожно все приуготов-
ленные на них таковые орудия” (Ч. 2, кн. 1. С. 23). Он сообщает о различных орудиях,
используемых для лова медведей: ”На деревьях натягивают снасти, которые так
настораживают, что если медведь полезет на дерево, то он заденет за веревочку, и
заостренное бревно упадет и ударит его в грудь” (С. ,24). ’’Привязывают толстыми
канатами к длинному суку дерева в равновесном положении доску, которая ко пню
притянута и мочалом крепко привязана может быть. Медведю весьма способно
покажется, сидя на оной, выдирать мед, почему и первой его труд состоит в том,
чтобы разорвать мочало, коим сук с доскою привязан: но едва он сие сделает, сук с
доскою от дерева удалится и по воздуху на привязанном к суку канате качаться
начнет. Если медведь сразу не упадет на всколоченные под деревом заостренные
кодья, то его убивают стрелами или из ружьев” (С. 25).
У Описывая распространение различных зверей в тех или иных районах, ученый
всегда обращает внимание на их промысловое значение, подробно останавливается
на способах охоты на них и применяемых орудиях лова. Так, касаясь фауны Закамья,
он пишет: ’’Вся сия страна изобилует изрядного роду куницами... По первой пороше
изыскивают прилежно следы сих зверей и следуют за ними на лыжах, и либо на
дереве застреливают, либо дерево срубают, чтоб приученные к тому собаки их пойма-
ли... При многих маленьких сучьях водится изобильно норка, которую ловят обык-
новенно расставленными слопцами, повесив на оных для приправы или рыбу, или
раков... По Уральским горам, а особливо к Каме и около вершины Уфы, простенькие
соболя попадаются...” (Ч. 2, кн. 1. С. 25).1
’’Для ловли соболей или куниц используют кляпцы. Выбирают место, где ели
растут негусто, и у двух молодых деревьев обрубливают около оных внизу сучье и
ветки. Близ одной из сих елей вколачивают кол в сажень или больше вышиною, и на
обоих деревьях укрепляют горизонтально длинный шест таким образом, чтобы один
его конец положение свое имеет между колом и деревом. На шесте прилаживают
кляпыш так, что один оного конец может двигаться также между колом и его дере-
вом, для чего деревья и сглажены. При конце кляпыша привязан тонкий рычажок,
который вкладывается в вырубленный кола конец и тем настораживают кляпыш. На
конце рычага привязана одна тетива, а другая - к нижней перекладине. Обе тетивы
сведены небольшой палочкою, коея на длиннейшем конце повешена куропатка либо
кусок говядины, что палочке дает перевес и сведенные тетивы держит вместе.
Соболь или куница лезет по перекладине весьма осторожно за добычею; но как
достигает приманки и потянет к себе, то палочка, держащая тетивы и ту приманку,
выдвигается, рычаг не удержится, и кляпыш вдруг, опускаясь, убивает сидящего на
перекладине зверя” (С. 290-291).
250
В Сибири соболь, как отмечает Паллас, - важнейшее промысловое животное.
Наибольшую прибыль, - пишет он, - получают охотники от соболей, коих там до-
вольно много, но они невелики и коротковолосисты, однако часто попадаются весьма
хорошие и черные. Притом алтайские соболи весьма предпочитаются кузнецким и
красноярским.” (Там же).
К характерным животным Сибири ученый относит описанный им новый вид колон-
ка (Mustela sibirica). Он отмечает, что эти зверьки, ’’кроме лесистых лесов Сибири,
нигде более не попадаются”. Однако, как указывает Паллас, промыслового значения
зверек практически не имеет из-за его исключительной дешевизны: ’’его красноватая
кожа., здесь едва пять копеек стоит”. ’’Имя сего зверька, - пишет он, - татарское и,
сказывают, значит обжору... примечено, что сия малая тварца все роды зверей, коих
сетями и петлею ловят, пожирает, если охотник придет поздно. Он ходит, так же как
ласка, на промысел и уносит у мужиков мясо и масло из чуланов” (С. 292).
Наиболее распространенными объектами охоты в Сибири, по словам Палласа,
являются медведи, лоси, маралы, дикие козы, которых ”по всем горам великое
множество. Стоящие на границах казаки ловят лосей в прикрытых ямах, кои они
делают при больших поскотинах и в кои часто также вваливаются медведи: также
они оных бьют поставленным на тропинках, кои здесь зверь делает, ружьем. А имен-
но ружье укрепляется в вилах, и к курку оного привязывается крепкая веревочка,
коя около вбитого позади кола обводится и потом поперек через тропинку натягива-
ется, так что через прикосновение до оных ружье палит и мимо идущий зверь должен
сам себя застрелить. Сказывают, что также водятся в болотистых странах кабаны.
Впрочем, попадается доврльно много изрядных лисиц, рысей, росомах, а по текущим
с гор рекам - также выдр и бобров. Белок находится здесь множество. Так нызвае-
мые каменные бараны28 29 водятся токмо на высочайших и неприступнейших скалах и
никогда не подходят к населенным странам. О козлахгэ, хотя здесь совсем не знают,
однако ж должно думать, что и сей зверь также водится, хотя очень мало в здешних
горах, поелику я на Енисее рог онаго достал, и на литых медных вещах, которые из
старых могил выкапывают, изображение козла часто попадается” (С. 296-298).
ПГ”Путешествии” Паллас описал свыше 250 новых видов русской фауны (среди них
20 видов млекопитающих, 60 видов птиц, 13 видов рептилий, 18 видов рыб, 125 видов
насекомых), хотя зоологический материал он старался ограничить, имея намерение
написать специальную работу, посвященную фауне России. В предисловии к первой
части ’’Путешествия” он писал: ’’Что касается зоологического примечания, то я не
хотел оное распространять, потому что о сей материи будет пространно писано в
издаваемой по окончании путешествия естественной истории находящихся в Россий-
ском государстве животных тварей” (Ч. 1, кн. 1) (описания млекопитающих в ’’Путе-
шествии” см. раздел ’’Вклад в териологию”-)-^
Затронул Паллас в ’’Путешествии” и вопрос заселения Сибири. И здесь он предстал
перед нами не беспристрастным описателем, а человеком, которому дорого будущее
Сибири. Он строго осуждает помещиков, посылавших в Сибирь непригодных им
крепостных. ’’Другое худое обстоятельство, - пишет ученый, - о котором нельзя
умолчать, есть то, что в Российских областях у дворян, в зачет рекрутов для населе-
ния Сибири, крестьяне безответственным образом принимаемы бывают. Я слышал,
что между ими есть больные, уроды, безумные, женатые, но кои уже долгое время в
бесплодном супружестве жили. . . Еще неизвинительнее есть те, что многие соста-
рившиеся отцы от многолюдных семейств, даже и от их жен, бесчеловечными и
корыстолюбивыми господами разлучены и в сии страны.. . посланы” (Ч. 3, кн. 2.
С. 5).
28Видимо, имеется в виду Ovis ammon.
29Сарга sibirica.
251
В книге нашли отражение трудности исключительно сложной и продолжительной
экспедиции. ”Во всю оную ночь, - пишет Паллас, - пробыл я на возвратной дороге в
Каменную слободу; бывший мороз и иней познакомил нас с сибирскою весною. . .
Студент Соколов заболел лихорадкою, чучельник Шумской, у коего еще зимою начи-
налось показываться скорбутная судорога30, ныне по причине холодной весенней по-
годы опять жестоко сделался болен; находящийся рисовальщик с самой еще зимы
показывал следы душевного возмущения; а наконец, и стрелок, будучи на сих днях
дикою киргизскою лошадью сбит, во многих местах почувствовал такой лом, что
едва мог со мной ехать. Таким образом, остался при мне один человек здоровый: я
принужден был ехать столь тихо, как только состояние больных мне позволяло”
(Ч. 2, кн. 2. С. 53-54). Или другое место. ”Сей день едва позволили мне глаза мои
пользоваться зрением; в путешествии моем из Троицкой крепости по степям от зною
и соленой пыли родившийся в глазах жар и течение запрещало мне открывать оные, а
особливо малейший ветер, либо сияние света причиняло нестерпимую боль; будучи в
таком состоянии, не мог я продолжать моего далее путешествия” (Ч. 2, кн. 1. С. 413).
Путешествие по разным провинциям Российской империи” принадлежит к класси-
ческим сочинениям. Оно бесценный источник сведений по естественной истории
совершенно неизвестных обширнейших территорий восточной части европейской
России и Сибири, когда их флора и фауна еще не подвергалась сильному антропоген-
ному воздействию. Этот труд осветил жизнь многочисленных народов восточных
районов России, показал безмерные пространства отечества, богатство его полезными
ископаемыми, растениями и животными и побуждал к рачительному, рационально-
му их использованию.
В 1774 г. Паллас опубликовал в академическом издании свою знаменитую статью о
джигетае - новом, как он полагал, виде, занимающем промежуточное положение
между лошадью и ослом, вызвавшем огромный интерес у зоологов (Pallas, 1774).
’’Первые данные о существовании этого вида животного, - сообщает Паллас, - при-
надлежали Мессершмидту, который в 1720-1726 гг. путешествовал по Сибири... Мес-
сершмидт отличал джигетая от лошади и осла и называл его Xenium Isidis31, под этим
названием животное значилось в каталоге Кунсткамеры в Петербурге, где его чучело
погибло. Описание, данное этому животному Мессершмидтом, которое, как он
указывает в своем путевом журнале, было сделано на основании трех убитых зве-
рей, целиком (за исключением того, что находилось в данном жунрале) потеряно32.
Это описание никогда не было опубликовано. Гмелин, находясь в Даурии, делал все,
что было в его силах, чтобы добыть это животное, но безуспешно.”
’’Весной 1772 г., находясь в наиболее отдаленном районе Даурии, я имел возмож-
ность описать это животное. Джигетаи33 еще встречаются около реки Аргуни, но
редко, так как они давно удалились из Даурии, где когда-то были широко распростра-
нены, в пустыни Монголии. Они часто попадаются в пустыне Гоби, а также на границе
Тибета и Индии. В настоящее время в районе реки Аргуни их удается, правда, очень
редко, встретить в виде отдельных особей или малочисленных стад, за исключением
тех случаев, когда в Монгольской пустыне наступает засуха, которая гонит животных
на север. В Монголии джигетаи почти всегда собираются в большие стада. Они хоро-
шо известны монголам и тунгусам под именем джигетай, что означает ’’длинные
уши”. Они должны быть также в Джунгарии, поскольку известны под этим названием
сунгарским калмыкам, с которыми я беседовал на Волге, как животное, совершенно
30Цинга.
31 Дар Изиды — богини плодородия.
32Мессершмидт охарактеризовал джигетая: "Mulus dauricus foscundus” — мул даурский плодо-
витый.
33Джигетай — Equushemionus hemionus Р.
252
отличное от дикого осла, которого они называют ’’куланом” (С. 115-117, 235). Паллас
считал, что джигетай отсутствует в западной части Великой Татарии (Средней Азии),
поскольку киргизы не знают животного, промежуточного между лошадью и их
куланом.
Любимыми местами их обитания, как отметил он, служат открытые сухие равнины,
покатые склоны гор, покрытые пышной растительностью, - ландшафты, типичные
для Даурии и Монголии.
Ученый дал точные зарисовки дбраза жизни животного, его удивительную приспо-
собленность к пустыне. ’’Джигетаи, - пишет он, - могут длительное время обходить-
ся без питья - свойство исключительно важное для животных, приспособленных к
условиям пустыни, где часто на протяжении сотни верст нет капли питьевой воды...
его трудно убить из-за исключительно большой скорости бега и тонкости обоняния,
благодаря которому он чувствует человека на расстоянии нескольких верст. Охотни-
кам редко удается его застрелить... Монголы, однако, отмечают, что во время дожд-
ливой и штормовой погоды он становится вялым и значительно слабее ощущает
запах охотника, чем обычно”.
Интересны описания поведения вожаков, ведущих более или менее многочислен-
ные стада, состоящие из взрослых самок и молодых, от одного до двух лет, жеребят
обоего пола. Вожаки относятся чрезвычайно ревниво по отношению к своим самкам.
Они выгоняют из стада молодых жеребцов, начинающих проявлять интерес к ко-
былам.
Паллас отмечает характерные особенности животного: ’’Джигетай отличается
головой, имеющей средние размеры между головой лошади и осла, и в этом отноше-
нии, так же как по ушам и хвосту, приближается к зебре. Остальные части тела и
крестца более напоминают части осла. Конечности имеют больше сходства с конеч-
ностями мула и лошади. Хвост более голый, чем у осла, и напоминает хвост коровы.
Полоска на хребте имеет цвет кобылы онагра. Джигетай не может рассматриваться
как сомнительное животное. Он - животное особого рода, один из наиболее харак-
терных представителей Азии, как зебра для Африки, тогда как осел и лошадь в
диком состоянии принадлежат обеим этим частям света” (С. 239).
Подготавливая последний том ’’Путешествия”, Паллас одновременно публикует
статьи, посвященные различным представителям животного мира (зоофитам, насеко-
мым, рыбам, пресмыкающимся, птицам, млекопитающим и ископаемым млекопитаю-
щим). Подробный список работ приведен в статье Ф.П. Кеппена (1895) ’’Ученые труды
П.С. Палласа”.
В 1777 г. была напечатана работа Палласа ’’Примечания о диком осле или о настоя-
щем древнем онагре”. В ней даны исторические сведения об этом животном, его
внешние признаки (отличительные особенности от джигетая), географическое распро-
странение.
Завершив издание путешественных записок, Паллас опубликовал на латинском
языке в 1778 г. первую отечественную монографию по зоологии, посвященную грызу-
нам (подробнее о ней см. раздел ’’Вклад в териологию”).
Публикует он работы и по общим вопросам зоологии, в частности по изменчивости
животных. Так, Паллас в 1774 г. в статье, посвященной безногой ящерице, высказы-
вает свои взгляды на изменчивость животных и их происхождение. Он утверждает,
что в природе существует столько видов, сколько их было создано первоначально, и
высказывает критические замечания в адрес К. Линнея, допускающего в последних
своих работах, в частности в’’Genera plantarum” (1763), возможность в ограниченных
пределах образования новых видов путем скрещивания между собой первоначаль-
но созданных видов растений и животных.
’’Если в природе, - пишет Паллас, - действительно когда-либо имело место увели-
чение числа видов путем скрещивания и гибридизации, то я не вижу никаких осно-
253
ваний, почему... образование новых видов совершенно прекратилось: казалось бы,
наоборот, оно должно бы встречаться чаще... благодаря возрастанию числа видов,
происшедших от различных смешений, и их большей близости и сходства между
собой... Мне представляется - и это подтверждается различными наблюдениями, -
что большинство видов, которые сходны между собой, оберегаются от скрещивания
взаимным антагонизмом... Опыт учит нас, что гибриды постепенно возвращаются к
исходным родительским формам и при скрещивании с первоначальным стволом
совершенно исчезают... Я, - заключает Паллас, - скорее склонюсь к мнению тех,
которые думают, что число видов от начала было учреждено такое, какое и ныне
существует, и природа воспроизвела их целомудренно... Причем их связь предусмо-
трена творческим планом” (Pallas, 1774. Р. 437).
Проблеме изменчивости животных ученый посвятил специальный доклад ”06
изменениях животных”, с которым он выступил в 1780 г. перед собранием Академии
наук. Его сообщение было опубликовано в академическом издании (Pallas, 1780).
Этот знаменитый мемуар Палласа сыграл большую роль в естествознании, привле-
кая к себе внимание выдающихся натуралистов. На него неоднократно ссылался
Ч. Дарвин в ’’Происхождении видов”, в ’’Изменении животных и растений в домаш-
нем состоянии” и в других работах. Интерес к мемуару еще более возрос после
выхода в свет ’’Происхождения видов”. О мемуаре Палласа писал И.И. Мечников
(1876, цит. по: 1950) в работе ’’Очерк вопроса о происхождении видов”, отметивший
существенное влияние этой работы на ход развития зоологии.
Мемуар состоит из двух частей. Первая посвящена проблеме происхождения
видов, вторая - изменению домашних животных. В первой части Паллас дает яркие
характеристики К. Линнея и В. Бюффона и критически оценивает их взгляды на
изменяемость видов. Здесь особенно полно раскрывается недюжинный ум Палласа,
его научные концепции.
’’Естественная история, - пишет он, - обогнала в наши дни другие науки. В нас-
тоящее время приходится выбирать между двумя великими людьми. Один из них,
чрезмерно преданный номенклатуре, влюбленный в систему схоластически-искусст-
венную, изучал только внешние формы, пренебрегая анатомией, идеей связи всех
организованных существ, историей нравов животных; другой - враг этих методов,
отвергаемых, как кажется, самой природой, почти не признает порядка, плана, ника-
кой связи в мире и отрицает сходства, по которым природа, так сказать, сгруппирова-
ла свои создания. Он называет ребячеством тот естественнонаучный метод, который,
по меньшей мере, упражняет глаз и которого беспристрастный натуралист не может
отрицать и всегда будет принимать с удовлетворением...
... Первый из этих великих людей втайне предпочитает своей системе естественный
порядок и иногда исправляет первую против собственных правил, в угоду законам
природы. Другой, граф Бюффон, отвергнув не только систему Линнея, но и идею
естественной системы, кончил тем, что сам начал устанавливать естественные роды и
семейства - всюду, где многочисленность видов стала служить помехой успеху его
труда...” ’’Один, со своим систематизирующим умом, ввел порядок и точность в
науку, и работал всю жизнь с удивительным прилежанием, чтобы умножить наши
знания об организмах. Другой при помощи трудолюбивых исследований Добантона
почти исчерпал естественную историю четвероногих, ввел в область философский дух
и прелестью своего красноречия заставил общество полюбить науку. Если бы каждый
из них не встретил себе противовеса в своем современнике, то, пожалуй, ввел бы в
науку воззрения, более трудные для преодоления” (Pallas, 1780. Р. 70-71). ’’000
ученых, в других отношениях столь различные, явно сходятся в своих мнениях по
вопросу об изменяемости животных. Мне стоило немалого труда сбросить путы,
наложенные авторитетом двух великих натуралистов, и лишь размышление и срав-
нение фактов позволило мне придти к выводу о неустойчивости известных рас
254
домашних животных и о своеобразии и неизменяемом консерватизме того явления,
которое мы именуем видом. Эти трудности побуждают меня изложить свои взгляды,
которые не согласны с идеями Линнея и Бюффона” (Р. 72).
Таким образом, Паллас провозглашает свой научный метод - твердо придержи-
ваться научных фактов, наблюдений, а не идти на поводу ’’философии”, способной
исказить, интерпретацию научных данных. Он отмечает изменения во взглядах
К. Линнея, утверждавшего в своих ранних работах, что видов столько, сколько их
было сотворено первоначально. ’’Виды, где природа, часто копирующая самое себя,
как бы позаимствовала некоторые черты двух других видов или двух разных родов,
чтобы составить нечто среднее, внушили Линнею мысль ... что большинство этих
видов, установленных со времен Турнефора, могли возникнуть за это время путем
смешения. Больше того, природа, по его мнению, не только продолжала продуциро-
вать этим способом новые виды, но, может быть, сама творческая сила произвела
сперва только первоначальные виды, а затем постепенное их смешение дало начало
множеству видов, которое мы знаем в настоящее время” (Р. 74). Паллас отвергает
возможность возникновения новых видов в природе путем их смешения. ’’Чистые и
истинные виды, - пишет он, - которые суть результаты творческого акта, никогда не
смешиваются в естественном состоянии: инстинкт, взаимное отвращение удаляют их
друг от друга. Если как редкая случайность особи различных видов и полов, однако
достаточно сходные между собой, и произведут скрещивание, то их потомство либо
будет бесплодно и не даст впоследствии промежуточных форм, либо при скрещива-
нии с исходными формами скоро вернется в первом или втором поколении к перво-
начальной форме того либо другого вида. Поэтому появление новых видов путем
произвольного смешения животных должно быть очень маловероятно, и комбинации,
полученные путем скрещивания различных видов в диком состоянии, должны быть
весьма редки во все эпохи земного шара” (Р. 78).
Паллас отвергает также как несостоятельную гипотезу о возникновении новых
видов под воздействием изменения климата, источников питания и других факторов
внешней среды, которую допускал Бюффон, считая, что возникающие при этом изме-
нения не закрепляются в потомстве и не могут изменить наследственной природы
диких животных. ”Со всеми разумными уступками, - пишет он, - влияние климата,
пищи и многочисленные случайности, связанные с большой численностью индивиду-
умов и их потомства у наиболее плодовитых видов, - все эти явления, как бы долго
они ни продолжались, никогда не могли бы изменить формы, пропорции и внутрен-
нюю структуру животных”. ’’Уклонения от типа вида, обнаруживающиеся в течение
поколений, но не нарушающие единства вида, составляют, собственно, естественные
разновидности, гораздо менее обыкновенные, особенно между дикими животными...
Все чаще эти видоизменения свойственны одним только индивидуумам; иногда же
они встречаются у целых рас и пребывают до тех пор, пока сохраняется произведшая
их причина или пока не исчезло влияние, оказанное ею на размножение” (Р. 78-80).
Паллас указывает, что некоторые весьма многочисленные виды не образуют
измененных форм, тогда как другие часто варьируют. Даже очень близкие виды, почти
одинаковые по численности, в одном случае дают изменения, в другом в разных
условиях сохраняют одинаковые признаки”. Он приводит в качестве примера байба-
ка и суслика. Байбак, несмотря на широкое распространение (от Польши и до Лены),
практически не изменяется, остается одним и тем же. ’’Суслик под теми же широтами
и при одинаковых условиях очень изменчив в размерах, окраске и пропорциях тела”
(Р. 79). Отмечая важность климатических условий для животного, он считает, что ими
тем не менее нельзя объяснить изменчивости животных. ’’Невозможно никак по-
нять, - пишет Паллас, - почему такие виды, которые распространены в обоих полу-
шариях и простираются от арктической зоны до тропиков, не дают вариаций и не
изменяются беспрерывно” (Р. 80).
255
Вопрос об изменении домашних животных Паллас рассматривал в неразрывной
связи с общей проблемой возникновения новых видов. ’’Состояние порабощения и
сопровождающие обстоятельства, - писал Паллас, - без сомнения, являются более
действенной причиной изменчивости у домашних рас, чем все то, что дикие живот-
ные могут испытать в природе при перемещении их в условия, наименее благопри-
ятные для них. Тем не менее человек не мог изменить ни одного животного, им
порабощенного, если говорить об образовании определенного, вполне константного
вида или расы. Данный вид домашнего животного, прирученного к определенным
климатическим условиям, ни в малейшей степени не испытывает превращения в
различных климатах, где он постоянно должен жить и действовать. Лошадь и осел -
дикий и домашний - мало изменчивы при перемене климата. Двугорбый верблюд и
африканский дромадер всюду, где они могут жить, имеют ту же самую форму, надо
полагать, мало отличную от формы животного в диком состоянии” (Р. 81-82).
Среди домашних животных Паллас различал две группы: ’’чистые расы” - живот-
ные, которые произошли от приручения какого-либо одного дикого вида (домашняя
кошка, северный олень, двугорбый верблюд), и ’’искусственные расы” - животные,
которые явились результатом гибридизации (’’смешения”) двух или нескольких
видов (собака, овца, коза). ’’Чистые расы”, по мнению Палласа, характеризуются
слабой изменчивостью, тогда как ’’искусственные расы”, напротив, весьма измен-
чивы: от них получены многочисленные породы (собаки, овцы).
Несмотря на ошибочность общих выводов Палласа о происхождении видов и их
неизменности, его работа содержала много верных наблюдений, предвосхитивших
положения науки XIX в. Этот труд высоко ценил Ч. Дарвин, тщательно изучавший
труды Палласа. В письме к Томасу Гексли от 11 мая 1880 г., касаясь взаимной пло-
довитости больших и маленьких собак и их способности производить плодовитые
помеси, Дарвин писал: ’’Как хорошо это поддерживает теорию Палласа о том, что
приручение уничтожает бесплодность, почти всеобщую между формами, медленно
развивающимися в естественном состоянии” (Дарвин, 1950. С. 274).
Паллас сделал также важное для того времени обобщение в области геологии. На
основании наблюдений горных хребтов Альп, Урала и Алтая он установил важную
закономерность в строении гор - порядок следования пластов. В середине горных
массивов находится первичная формация (гранит), по бокам к ней примыкают поро-
ды вторичной формации (сланцы), снаружи их покрывают известняки. Он правильно
оценил глинистые сланцы и известняки как продукты моря. Отметил, что вторичная
и третичная формации ’’обильны ископаемыми... и представляют архивы природы,
содержащие древнейшую хронику нашей Земли”. Его идеи о временной последова-
тельности геологических формаций от центра к периферии - исходный пункт геоло-
гических воззрений XVIII в. Вот почему знаменитый французский естествоиспытатель
Ж. Кювье (1813, цит. по 1937) сказал о Палласе, что он ’’заложил основания всей
новейшей геологии”. Кювье писал: ”Де Соссюр, Делюк, Вернер [основоположники
описательной геологии] уже отправлялись от этого факта до настоящего понятия о
строении Земли, понятия столь отличного от фантастических идей прежних писа-
телей”.
Много внимания Паллас уделял и ископаемым остаткам. Им были подробно
описаны остатки найденного им в Сибири ископаемого носорога с кожей и мышцами,
кости и черепа мамонтов, бизонов. Его теория о существовании некогда соединения
Черного и Каспийского морей основывалась на сравнении ископаемых и современ-
ных раковий этих районов.
Много статей, посвященных различным видам животных, ученый публиковал как
в академических изданиях, так и в научных сборниках, которые стали издаваться с
1781 г. под названием ”Neue Nordische Beitrage”. В этих сборниках помещались также
его статьи, касающиеся географии, геологии. Так, в одной из своих публикаций он
256
сообщал об извержении вулкана на одном из Курильских островов. Он дает описание
р. Анадырь. Приводит исторические сведения о Пекине и т.д. Этот сборник, в котором
Паллас принимал активное участие, способствовал расширению естественнонаучных
представлений в русском обществе и тем сыграл существенную роль в развитии
отечественного естествознания.
Паллас составил по поручению Екатерины II проект устройства Лесного управле-
ния России. В связи с этим он написал свыше 20 научных и прикладных работ о
древесных и кустарниковых растениях. Он касался вопросов, связанных с видовым
составом лесов, парков, с введением новых сортов растений, разбирал проблемы
рационального использования лесных массивов, неустанно подчеркивал важность
бережного отношения к лесам.
Проект устройства Лесного управления России не был осуществлен. Но огромный
материал, подготовленный Палласом, не пропал: он вылился в исключительно цен-
ный труд ’’Флора России”, изданный на латинском языке (1-я часть I тома - в 1784 г. и
2-я часть 1 тома - в 1788 г.) Это очень красиво оформленное издание с великолепными
раскрашенными гравюрами, содержащие описание 283 растений (преимущественно
древесных и кустарниковых и лишь 34 травянистых). Ученый задумал создать труд о
всей флоре России. Этого ему не удалось.
Петербургский период - наиболее напряженный в жизни Палласа. Помимо своих
обязанностей профессора натуральной истории и выполнения различных поручений
Академии и императорского двора, он активно участвует в деятельности Вольного
экономического общества. В ’’Трудах Вольного экономического общества” он регу-
лярно помещает свои статьи, посвященные различным сторонам использования
природных ресурсов, разведению перспективных культурных растений, в частности,
винограда, шелковицы, хмеля, дикой спаржи, юкки, развитию скотоводства. Особен-
но благоприятным для акклиматизации теплолюбивых растений он считал Крым. ”В
сих прекрасных долинах, - писал он, - могут быть заведены растущие в Южной
Европе и Малой Азии самые полезные насаждения для блага России, которые нигде
не имеют столь изящного климата”. В статье ’’Известия о введенном скотоводстве и
землепашестве в Камчатке и около Охотска, при У деком остроге, лежащем подле
Охотцкаго моря” (1783) он сообщал о перспективности хлебопашества на Камчатке,
отмечал необходимость посева там таких хлебных семян, ’’которые с тамошним
климатом наиболее согласуются”. Большие надежды возлагал он на посев там ’’зем-
ляных яблок (картуфелей)”. Указал на важность развития скотоводства на Камчатке.
Камчатка всегда очень интересовала ученого. Он отмечал исключительную важность
изучения ее природы. ”В отношении открытия предметов натуральной истории, -
писал он, - путешествие на Камчатку является самым важным из всех путешествий,
которые можно было бы произвести в пределах обширной Российской империи”34.
Один из образованнейших людей своего времени, Паллас возглавлял русскую
зоологию, вел переписку со многими выдающимися учеными Запада, обучал естест-
вознанию внуков императрицы Екатерины II - Константина и Александра, был
историографом адмиралтейства. Он отмечал заслуги русских мореплавателей и
первопроходцев в открытии новых земель. Особое значение имеет его труд ”0 рос-
сийских открытиях на морях между Азиею и Америкою” (1781). В нем он с гордостью
пишет о роли русских в географических исследованиях на Дальнем Востоке: ”Мы тем
охотнее приступаем к сему описанию, чем более служит оно к славе российского
народа, подавшего чужестранцам сведения о такой стране света, о коей в прежние
времена ни малейшего не имели понятия ”35. В этой работе Паллас дает историю
34Архив РАН. ф. 1, оп. 2, 1776, август.
35Месяцеслов исторический и географический на 1781 год. ”0 российских открытиях на морях
между Азиею и Америкою”, СПб., С. 1.
17. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
257
открытия островов Беринга, Медного, Алеутских, Лисьих, приводит сведения об их
природе и населении.
Существенный след оставил Паллас в истории и археологии. Он дал прекрасное
описание Великих Булгар - столицы прикамских болгар VII-IX вв.
Его двухтомный труд ’’История монгольского народа” (1776-1781), по мнению
Ж. Кювье, был лучшим произведением по этнографии того времени.
Паллас создал по поручению Екатерины II ’’Сравнительный словарь языков и наре-
чий всего мира” (1789) - первый в мире труд по сравнительной лингвистике.
Паллас подготовил к печати и опубликовал путевые записки погибшего в плену
академика С.Г. Гмелина, IV том ’’Путешествия” академика И.А. Гильденштедта, напи-
сав к нему биографический очерк ученого.
Огромная эрудиция и трудолюбие снискали Палласу всеобщее уважение. Велико
его влияние было и при дворе. Екатерина II поддерживала все начинания Палласа.
Поэтому в Академии наук он держался очень независимо. Выступил даже против
всесильной тогда княгини Е.Р. Дашковой, Президента Петербургской Академии наук,
когда та по незначительному поводу уволила из Академии адъюнкта Василия Зуева
и добился его восстановления.
В петербургский период Паллас выполнил большое число зоологических работ,
которые, по мнению К. Бэра, были подготовительными к главному его труду, посвя-
щенному фауне России, но осуществить его он не мог. Мешали ’’беспокойства, связан-
ные с жизнью в столице, служебное положение, огромная занятость”. ’’Долго занима-
ясь Палласом, - писал К. Бэр, - я пришел ... к выводу: Паллас слишком много взял
на себя, он как бы задыхался от изобилия собранного им материала. Как бы он
усиленно ни работал, все же для одного человека слишком много - описать растения
и животный мир такой обширной страны и проделать это с основательностью, которая
для Палласа была потребностью. Если бы Паллас тотчас же по возвращении из своего
долгого путешествия обратился к обработке своего основного труда, он успел бы еще
в свои лучшие годы и тогда принялся бы за свои ботанические работы. Но, конечно,
так можно рассуждать в настоящее время, но кто может знать, что повлияло на него
тогда... Может быть, он начал свой труд еще ранее, но когда Крым и Ногайские степи
присоединились к Русскому государству, им овладело желание объездить и эти края
до подножия Кавказа” (Бэр. 1950. С. 363).
ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЮГ РОССИИ.
КРЫМСКИЙ ПЕРИОД. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
Устав от столичной жизни и побуждаемый страстью к путешествиям, Паллас в
начале 90-х годов задумал посетить новые земли Причерноморья и Крыма, присоеди-
ненные к России в результате 1-й и 2-й русско-турецких войн. Ранней весной 1793 г. он
отправляется из Петербурга в сопровождении жены, 14-летней дочери и художника-
гравера X. Гейслера в каретах в путешествие по южным провинциям России. Путь из
Петербурга шел на Тверь - Москву - Арзамас - Пензу - Саратов - далее вдоль
Волги, через Царицын в Астрахань, по р. Куме к Ставрополю, затем Новочеркасск —
Таганрог - Мариуполь - Симферополь - Бахчисарай - Балаклава. Оттуда вдоль
западного берега в Восточный Крым — Керчь — Тамань. Затем Южный берег — Хер-
сон - Полтава - Москва - Петербург, куда путешественники прибыли в сентябре
1794 г. (см. рис. 66).
Зто путешествие Паллас описал в изданном на немецком языке двухтомном труде
’’Путешествие по южным провинциям Российской империи в 1793-1794 годах” -
самом роскошном из его произведений. Цветные гравюры были выполнены X. Гейс-
лером. Этот ценный труд, содержавший описание природы, экономики и этнографии
258
южных провинций России, дважды был издан на французском и английском языках
(на русский язык, к сожалению, он полностью не переводился).
Желая сосредоточиться на завершении своих трудов, Паллас обратился к импера-
трице Екатерине II с просьбой разрешить оставить столицу и поселиться в Крыму. Он
был пленен богатством и красотой Крыма. Прошение было удовлетворено. Екатери-
на II щедро одарила высоко ценимого ею академика, пожаловав ему имения в Шуле и
Судаке, дом в Симферополе, а также 10 тыс. руб. на обзаведение хозяйством.
Поселившись в 1795 г. в Крыму, Паллас прожил там 15 лет, оставив многочислен-
ные разносторонние описания Крыма. Ф.П. Кеппен с полным основанием называл
Палласа ’’первенствующим писателем Крыма”.
В Крыму Паллас насадил около 3000 десятин виноградников, которые, по словам
его современников, были наиболее доходными. ’’Прежде сады, - писал Паллас, - не
токмо совсем были разоренные, но по большей части не полны и впусте лежащие, без
винограда, занятые лесом и кустарником, и семилетним трудом моим и не малым
иждивением земли пустой великие пространства молодым виноградом насажены”.
Успешное хозяйствование Палласа, однако, шло за счет разорения коренного насе-
ления. За три года он более чем в 200 раз увеличил свои владения при содействии
тогдашнего губернатора Тавриды (Крыма) Жигулина. Со вступлением на престол
Павла I администрация в Крыму сменилась. Суд, в который местные жители обрати-
лись с иском о возврате земель, ранее им принадлежавших, решил дело не в пользу
Палласа. Восшествие в 1801 г. на престол Александра I, к которому Паллас обратился
с прошением о пересмотре дела (Паллас весьма рассчитывал на него, ведь тот был его
воспитанником), не изменило положения. Такой неблагоприятный для Палласа
поворот событий оказался счастливым для русской и мировой науки: ученый оставил
свою деятельность на ниве сельского хозяйства, сосредоточив все усилия на заверше-
нии важнейшего своего труда ’’Zoographia Rosso-Asiatica”, представляющего собой
всеобщую зоологию России.
Оставив имение в Шуле жене, Паллас переселился в Симферополь, где и работал
над своим произведением.
Драматична судьба этого самого выдающегося сочинения Палласа. Задуманное еще в
Сибири (Уфа, 1770 г.), оно было написано только на склоне жизни ученого. В 1803 г. он
известил Академию наук о завершении первой части, посвященной млекопитающим
и птицам, и просил предоставить изготовление досок и рисунков известному граверу
X. Гейслеру, жившему тогда в Лейпциге. В 1806 г. Академия получила от Палласа
рукопись и 122 таблицы рисунков и, уступая настояниям ученого, отослала рисунки
Гейслеру. Это было роковой ошибкой. Изготовление гравюр затянулось. Контакты с
Саксонией были затруднены. Шли наполеоновские войны. Поскольку печатание в
Петербурге текста приближалось к завершению, а гравюр не было, Паллас для уско-
рения дела в 1810 г. переехал вместе с дочерью в Берлин. Но его усилия оказались
тщетными. В 1811 г. он скончался на семидесятом году жизни, так и не увидев изда-
ния своего труда. Похоронен он в Берлине на Галльском кладбище. Первые два тома
были отпечатаны в Петербурге в 1811 г.36, но публикация сочинения из-за отсутствия
рисунков была отложена до 1831 г. Вот почему на титульном листе этого труда две
даты (см. рис. 88). Книга вышла р свет без рисунков. Они были отпечатаны спустя еще
Ю дет. _
Выяснением причин задержки изготовления гравюр к труду Палласа занимался
находившийся в Германии академик К.М. Бэр. В 1829 г. Академия наук поручила ему
на месте, т.е. в Берлине и Лейпциге, выяснить положение дел с рисунками и, ”буде
можно, выкупить их”. Бэру удалось выкупить из залога 24 гравированных медных
Э6Третий том был отпечатан в 1814 г.
259
досок и вернуть еще 9. Вот что писал он по этому поводу: ’’Когда я приехал в Лейп-
циг, причина задержки с изготовлением гравюр стала мне совершенно ясна. Виновни-
ком промедления был сам гравер Гейслер, и его могло оправдать только тяжелое
время наполеоновских войн. Принял он эту работу с большой радостью, будучи
преисполнен теплого чувства по отношению к Палласу, но скоро заложил часть
досок, не поставив об этом в известность ни Палласа, ни Академию. По-видимому,
принимая эту работу, он уже был в тяжелых денежных затруднениях, потому что в
1805-1813 гг. в Германии очень мало выходило естественноисторических сочинений
с гравюрами. Он рассчитывал после гравюр, заработать на оставшихся рисунках и
выкупить заложенные доски, но политическая обстановка оставалась прежней. Тогда
Гейслер заложил в 1810 г. и большинство остальных, уже готовых досок, посылая в
Петербург только оттиски с них и обещая, что пошлет 50 медных досок, после достав-
ки которых ожидал получить от Академии деньги за них. Однако эти доски не дошли
ни до консула в Лейпциге, ни до Петербурга, и деньги остались невыплаченными”
(Бэр. 1950. С. 356-359).
К. Бэр отвергал как необоснованные слухи, распространявшиеся тогда за границей
’’обвинявшие Академию в том, что она виновата в этой задержке, которая произошла
либо из соперничества, либо из равнодушия”. ”Я выяснил, - писал он, - что Акаде-
мия питала живейший интерес к этому делу и желала его закончить, хотя вторжение
Наполеона в Россию понизило денежный фонд, а вместе с тем и денежные средства
Академии до минимума” (С. 330-361).
* * *
Огромен вклад Палласа во многие области науки, и в первую очередь в естество-
знание/Его научное наследие — около 170 работ, в том числе десятки фундаменталь-
ных основополагающих трудов. Еще при жизни его труды были высоко оценены
К. Линнеем, Ж. Бюффоном, Т. Пеннантом. Он состоял членом многих академий и
научных обществ?Похвальное слово ему посвятил Ж. Кювье.
(\В честь Палласа названы многие виды животных и растений, десятки видов млеко-
питающих. Род растений Pallasia, названный так Линнеем. Его имя носит риф у бере-
гов Новой Гвинеи, действующий вулкан Курильских островов, одни из районов Вол-
гоградской области, его районный центр. Но самый бессмертный памятник Палласа -
его труд ’’Zoographia Rosso-Asiatica”, в котором описаны позвоночные России.
Отечественная териология как наука, можно считать, берет свое начало от Палла-
са. Его териологические работы - фундамент русской териологии. До Палласа в
России не было работ по систематике млекопитающих. Имелись лишь описания
отдельных зверей - например блестящие описания морских млекопитающих Г. Стел-
лера?)
Первый труд по систематике млекопитающих Паллас опубликовал на латинском
языке в Голландии в 1766 г. в знаменитом своем сборнике ’’Miscellanea Zoologica” -
прекрасно изданном сочинении с раскрашенными гравюрами животных. Материалы
по млекопитающим из этого сборника он поместил в другой свой выдающийся труд -
’’Spicilegia Zoologica”, выходивший отдельными выпусками на латинском языке с
1767 по 1774 г. Первые десять выпусков этого труда были опубликованы в виде
отдельного тома. Эта работа была издана также на немецком языке (пер. проф. Е. Бал-
дингера) в Берлине в 1769 г. - первый выпуск, а весь том - в 1778 г. под названием
’’Naturgeschichte merkwtirdiger Thiere” (рис. 71).
Первый выпуск был целиком посвящен антилопам. В нем ученый на основании
изучения многочисленных антилоп Южной Африки, имевшихся в коллекции принца
Оранского, выделяет антилоп в отдельный род. ’’Разбирая естественную историю
антилоп и особенно новых видов, - писал Паллас, - методический исследователь
приходит к убеждению о необходимости разделения рода антилоп и рода козлов. В
260
(Simon фаИай
ber 'SBifTenfdHHt
>J>wffore ba Штг|г(ф|фее> bet 9Ып(<Ш*П< Wab. her ^iiTcnfd}^fta: jw Itoenburg,
ba Ж$ш<(фЬпкг1Шп ШдЬепне ba Шашф^ег, unb t« ten^lufy
(£ihjHf$en S*<« ba й$ЦТеп(ф> ju bnbou Wfctqtabe,
^atngefcMte
metttvfirbtger Spitrt,
bornemltcb neue unb unbcfannte
SWarttn
Ьигф 5?upferftid)e, aSrffymbungflj unb Srfldrungen
erldutcrt iverben?
au$ ban lateinifdjcn
& 0. Batting er,
fen ЯМпе. unb ^rjn^MWdHt Stecttr, bev thmettfdjtn 3tfjnn*nH6h^eft
etbcittMHm ГПиг $u
(Erfte ©ammlung.
*.......— --- ; г
SBedht unb Stroifunb
uerle^td ©rttlieb ^ugu0 £nngez
* 7 б И
Puc. 71. Титульный лист труда Палласа "Естественная
история удивительных животных"
природе же четко разделяют род баранов, который к роду козлов значительно ближе
и который, я не знаю, на каком основании, рассматривают как самостоятельный род.
Если же кто-либо захотел обозреть естественный род, то для этого нужно было бы
всех животных, обладающих рогами и не сбрасывающих их - роды быков, козлов,
баранов, которые до сих пор естествоиспытатели разделяли, объединить вместе. Но
поскольку виды не очень сходны, то естественное семейство разделяют на подразде-
лы, и они выглядят лучше всего в том случае, когда для их разделения используют
общий принцип, а не объединяют в одном месте наиболее различающиеся роды, а
где-нибудь в другом отделяют йаиболее сходные виды ... Природа, - продолжал
он, - поместила антилоп посередине между родом оленей и родом козлов. Внешним
видом они очень схожи с оленями, но еще прекраснее” (Pallas, 1769. S. 1-2).
Паллас привел и характерные особенности антилоп: в отличие от оленей они имеют
плотные костные несбрасываемые рога, маленькие ложные копытца (у большинства
заостренные), желчный пузырь; от козлов отличаются короткой прилегающей шер-
стью, обычно черного или темного цвета, положением рогов, наличием слезного
мешка и маленького резца сбоку. ’’Этого достаточно, - заключил Паллас, - чтобы
выделить новый род и дать ему особое название, хотя и верно то, что между камен-
261
ным бараном, дикой козой и некоторыми видами антилоп нет больших различии.
Поскольку природе не свойственны скачки, то отдельные свои произведения она
сближает посредством промежуточных родов, однако не в такой степени, чтобы
границы между естественными родами полностью исчезли” (S. 2).
Далее Паллас останавливается на географическом распространении этого рода.
’’Многие виды, - пишет он, - встречаются в Азии и особенно в Африке. Некоторые
примечательны величиною, но все стройны, легки и проворны. Большинство видов,
но не все, собираются в стада от десяти до ста голов. Под серым европейским небом
антилопы живут, но здесь им нелегко. Некоторые серны, которые легче, чем другие,
переносят холод, обитают в Альпах, на неприступных скалах. В девственных просто-
рах Азии встречаются два вида. Однако нет ни одного вида антилоп, который из-за
холода северных пространств, которыми Азия единственно связана с Америкой,
перебрался бы в последнюю” (Там же). Паллас подчеркивал, что антилопы, так же
как козлы и бараны, - типичные представители фауны Старого Света.
Охарактеризовав род антилоп, Паллас приводит особенности 16 форм, отличаю-
щихся друг от друга постоянным признаком - строением рогов: Antilope leucophaea,
A. rupicapra, A. dama, A. redunca, A. trago-camelus, A. scynthics, A. pygargus, A. dorcas,
A. kavella, A. bubalis, A. beroarctica, A. grimmia, A. scripta, A. oryx, A. strepsiceros и А.
cervicapra??. Особенно подробно были рассмотрены им обыкновенный серый дукер
(рис. 72) и обыкновенная газель (рис. 73).
Паллас описал следующие новые виды: бушбок - Tragelaphus scriptus Pallas, 1766
(Antilope scripta), большой Куду - Tragelaphus strepsiceros Pallas, 1766 (Antilope strepsi-
ceros), канна - Tragelaphus oryx Pallas, 1766 (Antilope oryx), беломордый бу бул - Dama-
liscus dorcas Pallas, 1766 (Antilope dorcas), конгони - Alcelaphus buselaphus Pallas, 1766
(Antilope buselaphus), газель-дама - Gazella dama Pallas, 1766 (Antilope dama), обыкно-
венная газель - Gazella gazella Pallas, 1766, а также новый род: гарн - Antilope Pallas,
1766. В основу описания антилоп Паллас положил строение их рогов.
3 других выпусках своей книги Паллас приводит описание рода морских свинок -
Genus Cavia Pallas, 1766, а также новых экзотических видов: бородавочника - Phaco-
choerus aethiopicus Pallas, 1767 (Aper aethiopicus), капского дамана - Procavia capensis
Pallas, 1766, трех видов рукокрылых: складчатогуба - Tadarida mollosus Pallas, 1766
(Vespertilio cephalotes), длинноязыкого листоноса - Glossophaga soricina Pallas, 1766
(Vespertilio soricina) и украшенного гладконоса - Kerivoula picta Pallas, 1767. В последую-
щих выпусках (XI и XII) ’’Spicilegia Zoologica” Паллас описал сибирского горного
козла - Capra sibirica Pallas, 1776, монгольского дзерена - Procapra gutturosa Pallas,
1777, гривистого барана - Ammotragus lervia Pallas, 1777, обыкновенную редунку -
Redunca redunca Pallas, 1777, гигантскую летягу - Petaurista petaurista Pallas, 1777,
восточного долгопята - Tarsiidae spectrum Pallas, 1777, черного медведя - Ursus
americanus Pallas, 1780.
Из рассмотрения ранних работ Палласа видно, что еще до своего приезда в Россию
он уже был систематиком-териологом, которого не удовлетворяли имевшиеся в то
время описания млекопитающих. Он стремился дать комплексную разностороннюю
характеристику зверей, но, как и большинство натуралистов того времени, изучал
животных в музеях и зоопарках, а не в природных условиях, поэтому приводимые
им данные по их экологии и распространению скудны.
Противоположность этим работам - исследования, выполненные [Далласом в
России. Они отличаются подробным описанием образа жизни млекопитающих, точны-
ми сведениями по ик распространению. В основу их лег огромный собранный им
материал и наблюдения, осуществленные за время грандиозной академической
экспедиции 1768-1774 гуЭти работы знаменуют новый этап в творчестве Палласа.
Э7Даны в написании Палласа.
262
Рис, 72, Серый дукер (гравюра А, Шоумана)
Рис. 73. Обыкновенная газель (гравюра А. Шоумана)
i *
^Существенное значение для становления отечественной териологии имел труд
Палласа ’’Путешествие по различным провинциям Российской империи”. В нем содер-
жались многочисленные заметки о млекопитающих России, их роли в экономике
государства, способах охоты на них и описания териофаун разных районов (Урала,
Сибири, Даурии, Поволжья).^}
Так, касаясь, в частности, териофауны низовьев Волги, Паллас не только разбирает
ее видовой состав, ко и дает ее характеристику, связывая распространение некото-
рых ее представителей со средой обитания.
Много экологических наблюдений содержит описание Палласом бурундука,
встреченного им на Урале около Нижнего Тагила. ’’Водится здесь, - писал Паллас, -
множество бурундуков; они живут по сосновым, еловым и кедровым борам, питаясь
семенами шишек сих деревьев падающими. Хотя и лазят они по деревьям, но зимние
свои норы и кладовые, в коих прячут они множество семян, роют в земле и за влаж-
ностью земли не весьма глубоко... От Камы по всей Сибири, где только есть смоловые
боры, водится множество сих зверьков, и служат обыкновенно летнею пищею собо-
лям и другим зверям, а зимою пребывают оные под снегом в своих кладовых и не
выходят никуда, хотя и не засыпают своих нор от стужи так, как сурки” (Ч. 2, кн. 1.
С. 269).
Столь же ярка в экологическом отношении характеристика летяги. ”Сей удиви-
тельный зверек, - сообщает Паллас, - находится в местах, начиная от Уральского
пояса, по всей Северной Азии и Сибири, если только там находится березник с елями
и другими деревьями. Он бывает всегда на высоких местах и гнезда себе вьет в
дуплах дерев, из коих выходит токмо по ночам либо в сумерках, и на березах ищет
себе корму. Сей корм состоит из сережек . . . Где растет ельник, там кормится она
почками цветошными и почками сих дерев, и тогда внутренности ея имеют весьма
смолистый, который впрочем березовый дух имеют. Зверек сей редко спускается на
263
землю; но такой отменный обычай имеет, что от нечисти своей испражняется при
корне того дерева, на коем пребывает и около коегд летает. Почему и гораздо легче
найти их пребывание. Когда она с одного дерева на другое перепрыгивает, тогда
расширяет кожу или продолжение кожи, которая растягивается по обеим сторонам
кости всеми ногами врознь: и таким образом по воздуху носится, и помощью своего
широкого хвоста может она на воздухе всякие произвольные делать направления. По
сей причине и потому, что она сим способам саженей на двадцать перескакнуть
может, названа она по-российски летяга, однако ж в горизонтальном направлении летать
она не может, но всегда наискось вниз с верхушки дерева. Когда она лазит по березам, то
трудно по причине серого ее цвета различить от белой коры сих дерев. Сим природа
старалась премудрым образом предохранить их от ночных хищных птиц. Летяги
родят по два, по три или по четыре. Молодые родятся голы и слепы. Мать сидит над
детьми целый день и покрывает их своей кожей. Вечером, когда солнце зайдет за
горизонт, она покрывает их мхом и ищет корм. Детеныши были слепы до 13 дня. Сей
зверек до 14 дней от своего рождения остается еще слепым, чего ни у одного из
четвероногих зверей не примечено” (Ч. 2, кн. 2. С. 102).
Всегда он отмечает сезонные явления в жизни зверей. ”У лося, - сообщает он, - в
ноябре спадают тяжелые рога и весною вырастают новые. Лосиха телится почти
всегда в апреле месяце и обыкновенно имеет двух лосенков. С дикими козами (речь
идет о косулях Capreolus capreolus) почти то же случается, и только рога у них весною
бывают несколько больше, однако еще мягки и негладки” (С. 300).
В ’’Путешествии” много заметок о географической изменчивости млекопитающих,
изменении цвета их шерсти, случаях меланизма и альбинизма. ”В степях около
Симбирска, - сообщает Паллас, - примечено больше черных, нежели простых пест-
рых Карбышев8. Несколько далее в южную сторону, как, например, около Самары,
не видно сих зверьков, и причину тому сыскать трудно, ибо климат в столь малом
расстоянии не может быть тому виною” (Ч. 1, кн. 1. С. 196).
Паллас сообщает о перемещениях млекопитающих, например, леммингов в север-
ных частях Азии, полевки-экономки в Восточной Сибири, о сезонных миграциях, а
также о миграциях, вызванных недостатком корма, например, сайгака, джигетая,
бурого медведя, белки, лисиц, песцов и др. Значительный интерес представляет
зацетка о появлении в Оренбурге пасюка и вытеснении им черной крысы.
’’Путешествии” приведены сведения о малоизвестных и новых видах млекопи-
тающих, открытых в восточной части европейской России и Сибири. Паллас описал
более трех десятков новых видов отечественных млекопитающих. Среди никакие,
как манул - Felis manul Pallas, 1776, колонок - Mustela sibirica Pallas, 1773; подвид
marinus Pallas, 1776 белого медведя - Ursus maritimus Phipps, 1774, белуха - Delphinap-
terus leucas Pallas, 1776; перевязка - Vormela peregusna Giildenstaedt, 1770; заяц то-
лай - Lepus tolai Pallas, 1778; заяц-русак - Lepus europaeus Pallas, 1778; даурская
пищуха - Ochotona daurica Pallas, 1776 [даурский зайчик - Lepus ogotona]38 39 (рис. 74);
алтайская пищуха - Ochotona alpina Pallas, 1773 [Lepus alpinus]; степная пищуха -
Ochotona pusilia Pallas, 1768 [Lepus pusillus]; суслик длиннохвостый - Citillus undulatus
Pallas, 1778; крапчатый суслик - Citellus suslicus Giildenstaedt, 1770; его подвид Mus
citellus var. guttata Pallas, 1770; малый суслик - Citellus pygmaeus Pallas, 1778; большой
суслик - Citellus major Pallas, 1778; камчатский сурок -Marmota camtschatica Pallas, 1811; лес-
ная соня - Dryomys nitedula Pallas, 1778; тарбаганчик - Alactagulus pygmaeus Pallas, 1778;
мышь-малютка - Micromys minutus Pallas, 1771 [мышонок - Mus minutus] (рис. 75); полевая
мышь - Apodemus agrarius Pallas, 1771 [Mus agrarius]; обыкновенная слепушонка -Ellobius tal-
pinus Pallas, 1770; серый хомячок - Cricetulus migratorius Pallas, 1773 [мышь переходная - Mus
38Желтый суслик.
39B квадратных скобках — название, которое дал Паллас в ’’Путешествии”.
264
Рис. 74. Даурская пищуха (гравюра
Ничманна)
migratorius - найдена Н. Соколо-
вым], ее подвид [Mus arenarius
Pallas, 1773], мышь песчаная -
Mus arenarius;Джунгарский хомя-
чок - Phodopus sungorus Pallas?]
1770 [зюнгорская мышь - Mus
songarus]Q барабинский хомя-
чок - Cricetulus barabensis Pallas,
1773 [мышь барабинская - Mus
barabensis - найдена H. Соколо-
вым]; полуденная песчанка -
Meriones meridianus Pallas, 1773
[полуденная мышь - Mus meridia-
nus - найдена Н. Соколовым]; та-
марисковая песчанка - Meriones
tamariscinus Pallas, 1773 [гребен-
щиковая мышь - Mus tamarisci-
nus - найдена Н. Соколовым];
красная (сибирская) полевка - Clethrionomys rutilus Pallas, 1779; степная пеструшка - Lagurus
lagurus Pallas, 1773 [мышь мохноногая - Mus lagurus - найдена H. Соколовым]; копытный
лемминг - Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779; узкочерепная полевка - Microtus gregalis
Pallas, 1779; общественная полевка - Microtus socialis Pallas, 1773 [мышь товарищес-
кая - Mus socialis -найдена H. Соколовым]; степная мышовка - Sicista subtilis Pallas,
1773 [мышь нежная - Mus subtilis - найдена Н. Соколовым]; лесная мышовка - Sicista
betulina Pallas, 1778; мохноногий тушканчик - Dipus sagitta Pallas, 1773; даурский
цокор - Myospalax aspalax Pallas, 1776 [земляная медведка - Mus aspalax]; полевка-
экономка - Microtus oeconomus Pallas, 1776 [домовидная мышь -’ Mus oeconomus];
обыкновенная полевка - Microtus arvalis Pallas, 1779.
’’Путешествие” свидетельствовало об исключительном богатстве Российского
государства пушным зверем. Но в нем приведены также примеры почти полного
истребления в некоторых местностях ряда ценных промысловых млекопитающих.
Так, касаясь территорий, расположенных по р. Бузулук, Паллас отмечал, что ’’преж-
де здесь водились бобры, выдры и кабаны; но любящие звериную охоту казаки скоро
перевели оных зверей” (Ч. 2, т. 2. С. 318).
Эти заметки Паллас об истребительном воздействии человека на фауну - не просто
констатация факта. Их цель - возбудить в русском обществе мысль о необходи-
мости бережного рационального отношения к природным богатствам.
Сочинение Палласа содержало необыкновенно точные по тем временам сведения о
границах распространения млекопитающих и явилось важнейшим вкладом в геогра-
фию млекопитающих. ’’Как только, - писал К. Бэр, - был отпечатан последний том
экспедиции Палласа40, тотчас появился труд Циммермана ’’Зоологическая география
видов”, который принято считать за формальное начало зоогеографии и который
представляет собой в основном результат обработки материалов Палласа. До иссле-
дований Палласа зоогеография не могла существовать, так как фауны были изучены
фрагментарно: вся Восточная Европа и Северная Азия оставались на географической
карте пусты . . . Петербургские академики обследовали колоссальную непрерывную
40Третья часть "Путешествия” была опубликована в 1776 г.
265
Рис. 75. Мышь-малютка (гравюра Ничманна)
площадь во всех направлениях ... и так как эта площадь примыкала к достаточно
уже изученной Средней и Северной Европе, то, следовательно, теперь впервые
появлялась возможность выяснить области распространения целого ряда организ-
мов” (Ваег, 1831. S. 2).
Представляет интерес отношение Палласа к упомянутому труду Циммермана. В
письме от 5 декабря 1778 г. Паллас отмечал ряд существенных ошибок этого автора,
касающихся границ распространения отдельных видов млекопитающих в Сибири.
Замечания, сделанные ученым, свидетельствуют о том, что Паллас хорошо знал
распространение зверей, их экологию. ’’Циммерман, - писал Паллас, - несомненно,
неправ в отношении многих животных: он поместил их слишком далеко на север на
своей карте. Так, например, аргали никогда не встречали на низменных равнинах
вдоль Оби, они держатся ближе к горным цепям, которые окаймляют Сибирь от
Иртыша вплоть до Амура и тянутся оттуда близко к берегу до Камчатки. Соболь и
белка не могут жить за полярным кругом - там нет деревьев. Никакой лес не может
расти севернее 68-70°, там трудно найти даже кустарник. Восточная Сибирь - это
голая Земля, протянувшаяся дальше к югу, за рекой Анадырь вся северо-восточная
оконечность Сибири без единого животного - голая пустошь или травянистая мест-
ность, или скалистые горы, где ни лисица, ни соболь не живут ... Он отнес к аркти-
ческим животным обыкновенную бурозубку, полевку-экономку, водяную полевку
и ряд других мышей.
Расположение горных цепей также на его карте неверно. Это относится и к Камчат-
ке и Чукотскому Носу, хотя это не его вина. Тем не менее это - превосходная книга
во многих отношениях” (Pallas, 1967. Р. 122-123).
Обращает на себя внимание в этом письме исключительный интерес, который
Паллас проявлял к распространению млекопитающих. Он не только прекрасно знает
границы ареалов известных и вновь открытых видов зверей в европейской части
России и в Сибири, но и связывает их с особенностями образа жизни млекопитающих.
Примечательны замечания Палласа о неточном расположении на карте Циммермана
горных систем. Паллас счцтал горные хребты колыбелью млекопитающих и полагал,
что ареалы многих их видов связаны с соответствующими горными странами.
ЛЬ 1778 г. Паллас опубликовал сочинение ’’Novae species Quadrupedum е glirum
online” (’’Новые виды четвероногих из отряда грызунов”) (рис. 76). Это прекрасно
иллюстрированная гравюрами книга (388 с. в 1/4 листа), в которой дана систематика
266
NOVAE SPECIES
QVADRVPEDVM
E
GLIR1VM ORDINE
CVM
ILLVSTRATIONIBVS VARHS
COMPLVRIVM EX HOC ORDINE ANIMAUVM
A V C TO R E
PETRO SIM. PALLAS
ACADEMICO PETROPOL1TANQ.
ERtANGAE
SVMTV WOLFGANGI WALTHERI. CbbCCLXXVUU
Puc. 76. Титульный лист труда Палласа "Новые виды
четвероногих из отряда грызунов"
грызунов и зайцеобразных^ Книга начинается с описания зайцев: зайца-беляка и
открытых Палласом новых его разновидностей - variabilis, algidus, borealis, зайца-ру-
сака, зайца-толая и описанных им ранее пищух: степной, альпийской и даурской.
^большая часть книги (свыше 300 с.) посвящена ’’мышиному роду”. Общему обзору
рода мышей предпослан эпиграф из Лукрещш: ’’Обрати внимание, сколь они различ-
ны своим обликом” (Лукреций. Т. 1. С. 335). г Я слышал, - писал Паллас, - как неко-
торые ученые мужи присоединяются к мнению, что в наше время богатства природы,
по крайней мере, что касается четвероногих, почти полностью известны благодаря
множеству исследователей. Я думаю, что это суждение может быть опровергнуто
одним лишь мышиным родом и что до сих пор на земле обитает много неизвестных
животных . . . Для меня самого было неожиданным обнаружить, что Природа пред-
ставляет такое разнообразие этих маленьких спокойных животных по разным облас-
тям. Помимо самых мелких видов, которые распространены по всей Азии, имеются
267
еще и другие виды, свойственные одни - северным областям, другие - западным
пустынным, третьи - восточным. И если я обнаружил в этих холодных областях
множество видов, то, конечно, еще большее разнообразие их скрывается в более
южных и жарких странах, ведь изобилие любого рода сопутствует более благоприят-
ному климату. К тому же я почти уверен, что даже в Сибири и в Татарии. . . скрыва-
ются еще виды, и не один” (Паллас, 1778. С. 71-72).
’’Поскольку этих видов уже сейчас известно большое множество, то чтобы их
научно различать, надо прежде всего расположить эти уже известные виды в опреде-
ленный порядок, добавив туда же вновь описанные мною виды. При этом я буду
вкратце указывать видовые отличия и распределю весь этот род на естественные
фаланги.
Альпийские мыши, они же сурки, и родственные им виды составят у нас (по при-
чине своего более крупного размера) первую фалангу. Всем своим внешним обликом,
сравнительно толстым туловищем, большой головой, выпуклой и тупой мордой;
маленькими или совсем не заметными ушами; довольно крупными, не вполне закры-
тыми зубами; коротким и поросшим шерстью хвостом; наконец, особенностями
внутренних органов, наиболее: слепой кишки и гениталий, - всем этим они столь
отходят от обычного типа строения мышей, почти приближаясь к бобрам, что можно
было бы их выделить в особый род. Но для этого у них все же не хватает более суще-
ственных признаков; [этому препятствует также то, что] следующая фаланга очень
уж походит на некоторые виды из этой первой фаланги всем своим строением. Между
собой [виды первой фаланги также] сближаются долголетием, зимней спячкой,
голосом, поведением.
Во вторую фалангу включим подземных мышей, большой головой и всем обликом
близких к суркам, но объединяемых между собой [другими признаками] крупными,
широкими, обнаженными резцами, которые и в верхней и в нижней челюсти клино-
видно заострены; маленькими ушами; кистями передних конечностей по большей
части пятипалыми, роющего типа; хвостом очень коротким (иногда его совсем нет);
наконец, особенностями поведения. Зимой они тоже впадают в спячку, но, правда, не
все; притом они собирают себе в качестве корма (на зиму различные) коренья.
Непосредственно за ними следует фаланга кроликообразных мышей. Они коротко-
хвостые; с головой довольно большой, но с крупными ушами; зубы и ноги маленькие;
зиму они всю бродят или же кормятся своими запасами, собранными в норах. Боль-
шинство [видов этой фаланги относятся к] мигрирующим. У некоторых из них, в
особенности у сибирского лемминга41 и родственного ему копытного лемминга42,
роющие пятипалые кисти передних конечностей. Этим, а равно и общим внешним
обликом, они сближаются с предыдущей фалангой.
В четвертую фалангу мы включили хомяков и родственные им виды. Они все
сходны друг с другом в том, что имеют короткое туловище, лапы и хвост, голову,
красиво очерченную, защечные мешки с обеих сторон; собирают пищу в хранилища и
ведут активный образ жизни [даже и зимой], если только нет сильных морозов.
В пятую [фалангу] поместим самых красивых по виду представителей рода мышей
летаргически спящие виды43. Им всем свойственны гладкая шерсть и особенное
изящество в отношении окраски и внешнего облика. У них большие уши и хвосты;
хвосты притом все покрыты волосами, чаще всего пушистые или шерстистые; и они
хорошие прыгуны, благодаря своим по большей части длинным задним лапам. Уже
при легких морозах все они засыпают и непробудно спят всю зиму. Впрочем, в эту же
41Lemmus sibiricus Kerr, 1792.
42Dicrostonys torquatus Pallas, 1779.
4ЭСюда отнесены Палласом тушканчики, мышовки, сони, песчаники.
268
Рис. 17. Лесная мышовка (гравюра Ничманна)
группу приходится отнести и некоторые отклоняющиеся по своим признакам виды,
более близкие к тушканчикам.
Наконец, к шестой фаланге следует отнести бродячие виды44. У них довольно
крупные ушные раковины, длинный и почти голый хвост, на котором легко распоз-
нать кольца, напоминающие чешую. Хотя большинство из представителей этой
фаланги не выходят из своих нор в самую холодную часть зимы, в спячку почти
никто из них не впадает, какие бы ни были холода”. (Pallas, 1778. Р. 73-74).
Из приведенных характеристик групп видно, что Паллас придавал большое значе-
ние образу жизни зверей, рассматривая его как важный систематический признак.
В монографии разобраны отличительные свойства 45 видов грызунов. Среди них
описаны следующие новые виды: длиннохвостый суслик - Citellus undulatus Pallas,
1778 |Mus undulatum]; малый суслик - Citellus pygmaeus Pallas, 1778 |Mus pygmaea];
рыжеватый (или большой) суслик - Citellus major Pallas, 1778 [M. majores]; лесная со-
ня - Dryomys nitedula Pallas, 1778 [Mus nitedula]; лесная мышовка - Sicista betulina
Pallas, 1778 [Mus betulina](рис. 77); большой тушканчик - Allactaga jaculus Pallas, 1778
[Mus jachli]; тарбаганчик (или земляной зайчик) - Alactagulus pygmaeus Pallas, 1778
[Mus pygmaeus]; красная полевка - Clethrionomys rutilus Pallas, 1779 |Mus rutilus]; копыт-
ный лемминг - Dicrostonyx torquatus Pallas, 1779 [Mus torquatus]; узкочерепная полев-
ка - Microtus gregalis Pallas, 1779 [Mus gregalis], подвид желтого сусликаmaximus Pallas,
1778 (Волго-Уральское междуречье), подвиды полевки-экономки kamtschaticus Pallas,
1779 Hoeconomus Pallas, 1778 (с ареалом от Южного Урала до Барнаула), подвид обык-
новенной белки exalbidus Pallas, 1778 (боры по Иртышу и Оби), подвид серого хомячка
phaeus Pallas, 1778 (Нижнее Поволжье, Предкавказье).
Паллас не только приводит точные размеры грызунов, описывает их сравнитель-
ную анотомию органов, скелета, черепа, но и подробно разбирает их образ жизни,
среду обитания, распространение, экономическое значение.
В описаниях грызунов много места отведено периодическим явлениям в их жизни.
Повествуя о них, Паллас всегда отмечает точное время года, а также данные феноло-
гических наблюдений. Он дажё сообщает результаты определения температуры тела у
впадающих в спячку зверьков. Такой многосторонний подход в систематике -
совершенно новое явление в зоологической литературе XVIII в. Это черты зоологии
второй половины XIX столетия.
44В шестую группу Паллас включил мышей и крыс.
269
СОЧИНЕНИЕ
"NOVAE SPECIES QUADRUPEDUM E GLIRUM ORDINE” -
ПЕРВЫЙ КАПИТАЛЬНЫЙ ТРУД ПО ГРЫЗУНАМ
Сочинение Палласа ’’Novae species quadrupedum е glirum ordine” - первый в зооло-
гии фундаментальный труд по систематике грызунов. Эта ценнейшая для истории оте-
чественной териологии кйига, содержащая подробные первые описания грызунов
России, не утратила своего научного значения благодаря приведенным в ней сведе-
ниям о распространении грызунов в XVIII в. К сожалению, это редчайшее издание
никогда не переводилось с латинского языка ни на один из языков и практически
недоступно отечественным зоологаь0Мы приведем из этого сочинения отрывок,
посвященный систематике грызунов, а также описания широко распространенных
грызунов: полевки экономки и большого тушканчика. Все это публикуется впервые.
Паллас перечисляет по группам все виды грызунов, дав каждому характеристику.
”1. Альпийские мыши.
1. Mus (Marmota)45 capite gibbo auriculato, cauda villosa brevi, palmis tetradactylis,
corpore fusco, subtis ruferscente. Сурок. Голова наклоненная, с ушами, хвост короткий,
волосатый. Лапы четырехпалые, туловище темное, снизу рыжеватое (рис. 78).
2. Mus (Молах)46. Голова наклоненная, с ушами, морда темная, хвост длинный
волосатый, лапы четырехпалые, туловище серое. Распространен в более жарких
местностях Северной Америки: в Виргинии, в Каролине, на островах. Не установлено,
впадают ли они в спячку в том климате.
3. Mus (Arctomys)47. Голова наклоненная, с ушами, хвост короткий волосатый, на
большом пальце коготь, туловище серое, снизу желтое (о нем речь пойдет особо)
(рис. 78).
4. Mus (Empetra)48 49. Голова наклоненная, с ушами, хвост волосатый, лапы четырех-
палые, туловище сверху разного цвета, снизу рыжее.
Этот вид живет в Канаде и по всей Северной Америке. Я видел несколько раз
шкурки этого животного. Этот вид сильно отличается от вышеописанного, как яв-
ствует из описания, приложенного к его чучелу в Лейденском музее: ’’Размеры с
морскую свинку, или средние между сурком и сусликом, внешний вид сурка или
байбака; длина примерно фут. Голова тупоносая, сверху черно-бурая, по бокам
белая. Зубы передние большие обнаженные, как у сурка, с внутренней стороны
темно-желтые. Уши маленькие обнаженные круглые, немного длиннее шерсти. Много
бугорков: над глазами сильно волосатые. Лапы и туловище снизу рыже-коричневые,
кончики волос от серо-белых до переливчато-темных. Задние лапы коричнево-
черные. Когти темные; лапы без большого пальца. Хвост того же цвета, что и спина, к
концу черный.
5. Mus (Citillus). Голова наклоненная, ушей нет, хвост короткий, волосатый (описа-
ние этого вида будет дальше) (Р. 74-76).
”П. Мыши, ведущие подземный образ жизни19.
6. Мышь [слепыш обыкновенный] бесхвостая; с пятипалыми кистями, с широкими
резцами в обеих челюстях, не имеет глаз и ушных раковин (рис.).
7. Мышь [даурский цокор] короткохвостая; с клиновидными резцами в обеих
челюстях; лишенная ушных раковин; на кистях удлиненные когти.
45Альпийский сурок — Marmota marvota Linnaeus, 1758. Пер. И.А. Лившиц.
46Лесной сурок — Marmota топах Linnaeus, 1758.
47Степной сурок (байбак) — Marmota bobac Muller, 1776.
48Описан Т. Пеннантом, по-видимому, ванкуверский сурок — М. vancouverensis (?).
49Пер. Б.А. Старостина.
270
Рис. 78. Степной сурок (гравюра Ничманна)
8. Мышь [капская] короткохвостая; с клиновидными резцами в обеих челюстях;
лишенная ушных раковин; с пятипалыми кистями; вокруг рта белое пятно.
9. Мышь [обыкновенная слепушонка] короткохвостая, темноокрашенная; с клино-
видными резцами в обеих челюстях; лишенная ушных раковин; с пятипалыми кистя-
ми роющего типа.
III. Мыши, живущие в норах.
10. Мышь [сибирский лемминг] короткохвостая; ушные раковины короче шерсти;
кисти пятипалые; туловище пестрое, желтое с черным, нижняя его поверхность
белая.
11. Мышь [копытный лемминг] короткохвостая; с ушными раковинами короче
шерсти; с пятипалыми кистями; с ржавоокрашенным пестрым туловищем (на шее
белесое ’’ожерелье”), по спине проходит черная полоса.
12. Мышь [степная пеструшка] короткохвостая; с ушными раковинами короче
шерсти; с пятипалыми кистями; с пепельно-серым туловищем; [по спине идет] про-
дольная черная полоска.
13. Мышь [общественная полевка] с хвостом длиной в полдюйма; с очень коротки-
ми, округлыми ушами; с четырехпалыми (пятый палец не вполне выражен) кистями;
с бледноокрашенным туловищем, нижняя [его поверхность] белая.
14. Мышь [обыкновенная полевка] с хвостом длиной в дюйм; с ушами, выступаю-
щими из шерсти; с четырехпалыми кистями (пятый палец не вполне выражен); с
темноокрашенным туловищем. Этот вид очень распространен по всей Европе, в том
числе и в сравнительно холодных [областях Европейской России] встречается в
степях, терновых зарослях, по обрывам, садам, в полях. Вредит посевам, но до
амбаров добирается редко. В Сибири к востоку от Оби не встречается; однако по
Иртышу и севернее по Оби этот вид отмечен; около Березового попадаются его особи
наподобие тех, что описаны для Германии. Видел я также экземпляр, привезенный из
Прикаспия.
Линней назвал этот вид ’’земляной мышью” и спутал его с водяной полевкой,
причем эту последнюю затем еще раз описал в качестве отдельного вида, решив (на
271
основании ошибочного описания, взятого из других авторов), что лапы у нее перепон-
чатые.
В целинных степях России, где обыкновенные полевки собирают себе зерна [трав
про запас, они] любят устраивать себе гнезда около стогов сена и по обрывам около
быстрых потоков или ручьев, выбирая места с густыми зарослями трав. Они роют
норы с двумя, даже и с тремя выходами, реже - с единственным, глубиной в фут или
полтора, а самки часто роют норы глубиною и в два фута. Норы эти [узкие, в них] едва
можно просунуть большой палец; ходы различным образом изгибаются и косо сходят-
ся к гнезду [достаточно крупному, чтобы в нем мог] поместиться человеческий
кулак. Гнездо бывает набито очень мягкой зерновой трухой, в которой прячутся
детеныши.
Около Самары мне попадались гнезда с довольно крупными детенышами к началу
апреля, и до середины того же месяца встречал я и беременных самок, весивших
часто до одиннадцати драхм. В них обычно содержалось до двенадцати зародышей,
причем часто [они распределялись следующим образом:] в правом рогу матки во-
семь, в левом четыре. В более молодых самках я находил пять-шесть зародышей.
Иногда между прочими, [нормальными] зародышами встречаются недоразвитые по
своей величине.
Самые мелкие [из взрослых мышей этого вида] обычно весят пять-шесть драхм (это
чаще всего самцы). Длина [таких особей бывает] немного больше трех дюймов. В том
числе на хвост, покрытый очень редкой шерстью, и на голову приходится обычно
приблизительно по дюйму.
Резцы ярко-желтые, в верхней челюсти довольно широкие; [в каждом из них] едва
заметная, часто почти совсем незаметная бороздка. Ушные раковины свернуты в
трубку, лишь слегка выступают из шерсти. На ступнях задних конечностей коготь на
большом пальце едва заметен.
Отношение длины хвоста к общей длине тела весьма варьирует; у некоторых
особей хвое бывает не больше двух третей дюйма, обычно же хвост по длине равен
туловищу.
На полевках обыкновенных паразитируют крошечные клещи. Некоторые утвер-
ждают, будто для этих полевок вредны листью ольхи, если земледелец впашет их в
поле. Чтобы сами полевки обыкновенные приносили в России какой-то чрезмерный
вред или чтобы они появлялись стаями, такого я никогда не слышал; но все же
определенный ущерб полям они наносят и будучи разрозненными.
15. Мышь (полевка-экономка) с хвостом длиной почти в полтора дюйма; с голыми
ушными раковинами, скрытыми в мягком меху; с четырехпалыми (пятый палец
слабо выражен) кистями с туловищем, темноокрашенным. Об этом, как и о последу-
ющих [пяти видах мышей], речь пойдет дальше.
16. Мышь (узкочерепная полевка) с хвостом длиной в полтора дюйма; с ушными
раковинами, более длинными, чем шерсть; с четырехпалыми кистями (пятый палец
не вполне выражен); с туловищем пепельно-серым.
17. Мышь (красная полевка) с хвостом длиной в дюйм; с ушными раковинами
более длинными, чем шерсть; с четырехпалыми кистями передних конечностей
(пятый палец не вполне выражен); туловище сверху желтое, по нижней поверхности
серебристо-белое.
Не тождествен ли этот вид ’’стадной мыши”, описанной в ’’Системе природы”
Линнея,.XII, с. 84, вид № 16?
Славнейший Шребер сообщает, что он в переписке со славнейшим Линнеем никогда
не описывал такой мыши, которая фигурирует у Линнея под только что названным
наименованием, но рассказывал ему [о другом животном, которое] скорее соответст-
вует нашей полевой мыши. Мне же представляется, что линнеевское описание ближе
всего подходит к рассматриваемому нами здесь виду, который в дальнейшем будет в
272
этой книге более подробно описан. Представляется мне это еще и по той причине, что
красную полевку, обычную как для Северной Сибири, так и для Европейской России,
нельзя считать особым видом; за таковой можно счесть разве что разновидность этой
красной полевки, которую я ниже буду описывать отдельно и которая присуща лишь
Европейской России. Может быть, впрочем, Линней и имел в виду, что красная
полевка - разновидность полевой мыши; так или иначе, вследствие краткости
имеющегося у него указания, его обозначению ’’стадная мышь” суждено оставаться
лишь сомнительным синонимом.
18. Мышь (плоскочерепная полевка) с хвостом длиной в один дюйм, с ушными
раковинами довольно крупными, покрытыми (не сплошь) волосами; с пепельно-серым
туловищем, нижняя поверхность которого окрашена белесо.
Вид этот очень хорошо отличается от других; впрочем, он известен мне только по
двум экземплярам, о которых я еще буду говорить.
19. Мышь (большеухая полевка) с довольно длинным хвостом; с ушными ракови-
нами, более длинными, чем шерсть; с четырехпалыми (пятый палец не вполне выра-
жен) кистями.
Первоописываемый нами вид, который так же, как и следующий, в ряде отноше-
ний, по-видимому, скорее приближается к миозурам.
20. Мышь (водяная полевка) с хвостом, равным по длине половине туловища; с
ушными раковинами, лишь немного выступающими из шерсти; с четырехпалыми
(пятый палец не вполне выражен) кистями.
Мне кажется, что описанная Реем (’’Четвероногие...”. С. 219) ’’Мышь полевая,
крупная, большехвостая Геснера” вряд ли представляет собой что-либо иное, нежели
происходящую от водяной полевки разновидность. В то же время животному, фигу-
рирующему у Рея под названием ’’водяной мыши”, он приписывал (как это отмечает
Уиллоуби) перепончатые перегородки на стопах. Линней тоже отстаивал существова-
ние этой ’’водяной мыши”, а что касается нашей водяной полевки, то она вполне
прозрачно угадывается за его описанием ’’мыши земляной”. Линней же предполагал,
что эта земляная мышь и водяная полевка не одно и то же.
Здесь я не могу удержаться от того, чтобы добавить некоторые сведения, относя-
щиеся к обогащению естественной истории водяной полевки, потому что этот вид,
хотя и нередкий в Европе, кажется, никем, кроме Бюффона и Добантона, не был даже
зарисован. А ведь, кроме того, он в изобилии распространен и по всей Европейской
России и по Сибири вплоть до Тихого океана, и во всех климатических поясах [счи-
тая с юга на север] от Каспийского моря до Северного Ледовитого океана, и на всей
этой территории порождает разнообразные видоизмененные формы.
В сравнительно более умеренных и южных областях России, около рек Яика и
Волги, я повсеместно наблюдал водяных полевок, более или менее похожих на евро-
пейскую цветом и размерами. Весят они более двух, а часто и трех унций.
3 Сибири водяные полевки гораздо крупнее [чем в Европейской России], причем
величина их особей заметно растет к востоку и северу, с усилением суровости кли-
мата. В заболоченных лугах Исети, Ишима и Барабы, где водяных полевок больше
всего, самые крупные из самцов обычно весят от четырех с половиной до пяти унций,
а самки - почти четыре унции. Длина тела у этой разновидности обычно составляет
до 6 дюймов 10 линий, а длина хвоста - 3 дюйма 8 линий. По Енисею и Оби, к аркти-
ческой области водяные полевки по весу варьируют от шести до восьми унций. На
Лене из шкурок особей такого же размера шьют меховые одежды. Якуты водяных
полевок жарят и в таком виде едят их как лакомство (под названием ’’кутеры”). По
всей Сибири нередко встречается разновидность, особи которой, преимущественно
самцы, бывают целиком черные. Такую же окраску Бюффон наблюдал у полевки
обыкновенной, мне же она у нее никогда не встречалась в таких количествах, как у
водяной полевки. Экземпляры еще одной разновидности мне прислали с Оби, где,
18. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
273
как говорят, она обыкновенна: а на Енисее ее наблюдал Мессершмидт. Эта разновид-
ность по своей преобладающей окраске (от сероватой до почти черной) сходна с
европейскими, но отличается благодаря наличию большого белого пятна неправиль-
ной формы посреди спины, повыше лопаток; и часто еще одного, маленького, тоже
белого пятна на груди.
По всей области обитания [данной разновидности] относящиеся к ней самцы явля-
ются более крепкими и крупными, чем самки, и имеют более интенсивную черную
окраску. Волосы на теле кзади становятся более жесткими. У самок [данной разно-
видности] мне приходилось наблюдать окраску также и с более желтоватым оттен-
ком. У самцов по большей части, кроме того, на нижней губе и на самом кончике
хвоста растут белые волосы, чего у самок не наблюдается.
Стопы [у водяных полевок] всегда почти голые, чешуйчатые, на передних конеч-
ностях - постоянно и отчетливо расщепленные на пальцы, причем на месте больших
пальцев растут короткие коготки; суставы пальцев едва различимы.
Хвост, хотя и более волосатый, чем у миозур, в то же время состоит приблизитель-
но из 130 ясно видных чешуевидных колец. Ушные раковины более или менее голые,
совсем скрытые в шерсти.
Резцы довольно широкие и более желтые по сравнению со всеми остальными зуба-
ми; с помощью резцов водяные полевки очень ловко прорывают ходы в дерне. По ви-
ду эти резцы несколько напоминают бобровые.
Водяные полевки любят болота и влажные илистые места около озер и рек, в осо-
бенности те, где растет камыш, корни которого они охотно поедают. В углублениях
почвы водяные полевки пронизывают дерн ходами, как это делают кроты, причем в
этих подземных ходах часто устраивают [открывающиеся наружу] отверстия, через
которые выбрасывают землю. Ходы проникают на глубину не более пяди; [так их
роют водяные полевки] для того, чтобы не отрываться от съедобных корней, которы-
ми они вознаграждают себя за труд.
Спугнутая водяная полевка бежит к воде, хотя плавает она неуклюже и больше
любит [в таких случаях] ходить по дну, причем может оставаться под водой на протя-
жении более чем полминуты. Рыбам водяная полевка, полагаю, едва ли может при-
нести вред, тем более что и обитает она чаще около маленьких водоемов, где рыбы
нет, разве что она [случайно туда попадет и] запутается в густом дерне; и никогда
водяная полевка не пахнет рыбой. По-видимому, Бюффон и другие авторы напрасно
обвиняли водяную полевку в том, что от нее ущерб рыбе; впрочем, Бюффон довольно
неточно описал и устройство нор водяной полевки. Может быть, земледельцы часто
приписывают водяной полевке тот вред, который в действительности причиняет де-
сятинная мышь. Если водяную полевку схватить, она вскакивает на задние лапы, а
передними зубами защищается, издавая хрипящий звук. Собаки жителей деревень и
последние близ воды преследуют водяную полевку, пожалуй, с большим ожесточени-
ем, нежели представителей какого-либо другого мышиного вида, и мгновенно чувст-
вуют ее запах. У самок водяной полевки в период весенней течки этот запах сильно
отдает мускусом.
Паразитируют на водяных полевках немногочисленные клещи ромбовидной
формы.
Даже если бы водяная полевка хорошо переносила только сибирский климат, весь-
ма вероятно, что она смогла бы переправиться и в Америку. И в самом деле, в Каро-
лине имеются два вида водяных крыс, из которых по крайней мере один почти, без
сомнений, может быть отождествлен с водяной полевкой.
Расселилась ли водяная полевка также и по более южным областям, пока остается
неизвестным. Во всяком случае, в границах Российской Империи она пока еще не
обнаружена.
274
IV. Мыши с защечными мешками.
21. Мышь (хомяк) со щеками, снабженными защечными мешками; с густо черной
окраской нижней поверхности туловища; с прорединами в поясничной области в
виде рубцов.
Хомяки в больших количествах встречаются по южной части Европейской России,
в особенности в более окультуренных местах, где чувствуют себя в сравнительной
безопасности от хищников. Попадаются хомяки, причем нередко, и по всем пустын-
ным областям Татарии, степям южной Сибири и до самого Енисея, но за Енисей не
переходят. В пустынях хомяки попадаются одиночными экземплярами, наиболее
предпочитая места, где в достаточном количестве могут собрать глицирризу (в ос-
новном этот сбор производят самки). Песчаных почв хомяки избегают, не любят так-
же болотистых понижений рельефа. По величине хомяки сильно варьируют в зависи-
мости от характера и корма, от пола и возраста; самцы всегда гораздо крупнее, весят
от одного медицинского фунта до шестнадцати унций, в то время как самки, напро-
тив того, обычно не превосходят по весу четырех или шести унций. По благоприятной
для земледелия полосе, тянущейся вдоль Волги, наиболее же в Казанской губернии и
поблизости от наиболее южных отрогов Уральского хребта, а также, наконец, в Исет-
ской области нередко встречается черная разновидность хомяков. Хомяков такой
масти в очень большом числе производит [в частности] регион, примыкающий к горо-
дам Симбирску и Уфе. Они свободно скрещиваются с обычными хомяками и живут с
ними часто в одном и том же гнезде; однако чаще все же случается так, что все се-
мейство черное. У этой черной разновидности также та особенность, что у некоторых
частей тела окраска белая: а именно имеется белое пятно около рта и носа, далее, в
белый цвет окрашены края ушных раковин, белыми являются кисти передних конеч-
ностей, начиная от запястий, а также стопы задних конечностей, по большей части до
середины плюсен, и, наконец, верхушка хвоста тоже часто белая. У некоторых эк-
земпляров вся морда белая, а лоб серебристый, причем от нижней челюсти идет про-
дольная белая полоса, распространяющаяся и на шею.
На Уральских горах экземпляры этой разновидности встречаются реже, причем
для них здесь типичны белые пятна на спине, любопытные своей неправильной фор-
мой, так что такой хомяк выглядит своеобразной игрой природы: почти белым и
только покрытым большими черными пятнами.
У всех разновидностей хомяка, даже у тех, у которых самый густой мех, наблюда-
ется в задней части спины, за ренальной областью, с обеих сторон как бы рубец, или
небольшое пространство, обычно не покрытое мехом, но только очень коротким тем-
ноокрашенным подшерстком. [Снаружи эти рубцы] прикрыты длинной шерстью [рас-
тущей на соседних участках], заметить их можно, только если подуть на эту шерсть,
раздвинув ее. Кроме того, у всех хомяков безволосыми являются область около пуп-
ка и область около синуса слепой кишки, который сам представляет собой углубле-
ние, изнутри поросшее волосами и покрытое выделениями сальных желез... (Паллас
отмечает своеобразие полового органа хомяка-самца, подробно описывая его строе-
ние. - В.С., Я.П.).
Остается добавить следующее: у хомяка отсутствует поясничный сальник, столь
развитый у сурка и родственных ему грызунов. Вместо этого имеется обширный жи-
ровой слой, выстилающий всю поясничную область, а также и почки (сзади), причем
слой этот в восемь раз толще самих почек; помимо него, имеется еще отдельный саль-
ничек, укрывающий почки сверху. Весь этот жировой слой весной бывает едва ли не
лучше даже представлен, чем осенью.
Температура тела у хомяка изменчива, как и у всех представителей данного рода,
впадающих зимой в не очень глубокую спячку. У наиболее подвижных экземпляров,
вынутых из норы в погоду еще довольно холодную, температура крови бывает высо-
кой, до 103 градусов по Фаренгейту, что равняется приблизительно 91 градус по шка-
275
Рис. 79. Серый хомячок (гравюра Ничманна)
ле Делили. В других случаях температура не доходит и до 99 градусов по Фаренгей-
ту; а у тех, которых я зимой держал в холодном месте или ловил после того, как вы-
гонял их из нор с помощью холодной воды, температура была не более 91 градуса по
Фаренгейту.
И наконец, ни разу я не обнаружил, чтобы впал в^пячку какой-либо из хомяков,
содержа^Ших^я^япдйках, выставленных нахолодь^
У русских считается, что внешний габитус^лошадей улучшается и они быстро туч-
неют, если добавлять им в корм к овсу сушеного хомячьего мяса, растертого в поро-
шок; и что лошадиные барышники часто употребляют [это средство], но [оно опасно,
потому что] после этого лошади дряхлеют и умирают. В этом согласны и авторы, [изу-
чавшие данный вопрос].
22. Мышь (серый хомячок) со щеками, снабженными защечными мешками; с ушны-
ми раковинами в виде пазух; с серым, снизу белесым туловищем.
Подробнее об этом виде будет сказано в дальнейшем, когда будет дано его описание.
23. Мышь ’’phaeus” [серый хомячок] со щеками, снабженными защечными мешка-
ми; с темноокрашенным туловищем и хвостом; но с белой нижней поверхностью [ту-
ловища и хвоста] (рис. 79).
24 . Мышь (песчаная) - со щеками, снабженными защечными мешками; с пепельно-
серым [сверху] туловищем; белыми боками и белой нижней поверхностью туловища;
с б&лым хвостом и лапами.
fz5. Мышь (джунгарский хомячок) со щеками, снабженными защечными мешками;
с тгёпельно-серой спиной, по которой проходит черная полоса; с боками пестрыми
(белыми с темно-серым); с белым животом (рис. 80). Л
26. Мышь (барабинский хомячок) со щеками, снабженными защечными мешками; с
серым сверху туловищем; с черной полосой на спине; с белесой нижней поверхностью
туловища.
V. Мыши, впадающие в зимнюю спячку летаргического типа.
27. Мышь (большой тушканчик) с очень длинным хвостом, черно-белым, на кончи-
ке снабженным кисточкой; с пятипалыми и чрезвычайно увеличенными конечностями.
28. Мышь (мохноногий тушканчик) с очень длинным, черно-белым хвостом, снаб-
женным на верхушке не вполне отчетливо выраженной кисточной; с задними конеч-
ностями трехпалыми, очень удлиненными (рис. 81).
276
Рис. 80. Джунгарский хомячок (гравюра Ничманна)
Рис. 81. Мохноногий тушканчик (гравюра Ничманна)
29. Мышь ’’кафрская” - с очень длинным хвостом, снабженным на конце черной
пушистой кисточкой; с задними конечностями четырехпалыми, очень длинными.
• Капский вид наряду с сурками самый крупный из всего мышиного рода; впрочем,
близко родственный обоим предыдущим видам.
Эта же самая мышь, как явствует из описания, данного славнейшим Алламандом,
образует переход к следующему виду, откуда вытекает, что рассматриваемые здесь
двуногие мыши не должны трактоваться как отдельный род.
30. Мышь (полуденная песчанка) с рыжим длинным хвостом, покрытым волоса-
ми; с желтоватым, снизу белым туловищем; с довольно крупными, пятипалыми
задними конечностями.
277
Рис. 82. Тамарисковая песчанка (гравюра Ничманна)
31. Мышь [тамарисковая песчанка], с очень длинным, покрытым шерстью хвостом
(темноокрашенным и состоящим из не вполне четко отделенных друг от друга
колец); с туловищем, имеющим серую, с пепельным оттенком окраску, причем ниж-
няя поверхность туловища белая (рис. 82).
32. Мышь (лесная соня) с длинным, слегка пушистым хвостом, с рыжеватым туло-
вищем, причем нижняя поверхность туловища белая; вокруг глаз черное пятно.
В России этот зверек указан только для дубрав Казанской губернии, вообще для
Поволжья, а также для Малороссии. [В этих регионах он] довольно часто встречается
в пустых дуплах и в гнездах, [брошенных] сороками, даже там, где не растет ореш-
ник.
Хвост у лесной сони менее пушист, чем у следующего вида, однако из всех остальных
представителей данного рода хвост лесной сони наиболее покрыт волосами.
33. Мышь (полчок) с длинным, покрытым очень густой шерстью хвостом; с сереб-
ристо-белым туловищем (нижняя поверхность туловища чисто-белая).
В Малороссии и по Волге, в дубравах и расщелинах скал, [этот вид встречается в
той же разновидности,] что и по всей Южной Европе; в Сибири же его нигде нет, хотя
[его ареал] продолжается в Южную Азию вплоть до Китая, и его изображения встреча-
ются даже в [старинных] китайских зоологических атласах...
34. Мышь (орешниковая соня) с длинным, почти пушистым хвостом; с желтой ок-
раской туловища; с белым горлом.
Мне этот вид никогда не попадался, за исключением [моего пребывания] в Англии,
где он очень обычен и где орешниковых сонь часто выносят на продажу (покупают их
более крупные экземпляры для девочек, у которых они являются любимым домаш-
ним зверьком). [Это обстоит именно так,] несмотря на то что Бюффон полагал, что
орешниковая соня в Англии не водится: Бюффон исходил из описания, данного Реем,
указание которого относится на самом деле лишь к темноокрашенной разновидности.
Во времена Рея у англичан, по-видимому, орешниковых сонь в домах еще не держа-
ли, как это делают сегодня из-за красоты этого животного (то же произошло и с золо-
тистой, или, [как ее называют в Англии], гернсейской ящерицей). Ведь если бы [обы-
чай держать орешниковых сонь в домах во времена Рея] уже был, Рей, несомненно,
не преминул бы о нем сообщить.
У этого вида в обеих челюстях и слева и справа по четыре коренных зуба, причем
из каждой [четверки] первый самый маленький. Нос голый, занимает самую верхуш-
278
ку морды; стопы почти голые; кисти передних конечностей четырехпалые, без каких-
либо следов большого пальца. Хвост по длине приблизительно равен всему остально-
му телу и покрыт густыми волосами. По окраске орешниковая соня варьирует: быва-
ет желтоокрашенный, бывает рыжевато-желтой; иногда, если в шерсти более сильная
примесь темноокрашенных волос, общая окраска становится рыжевато-серой. Ниж-
няя поверхность туловища всегда бледноокрашенная, горло белое.
Ведет ночной образ жизни; однако всю зиму, даже в умеренном климате Англии,
проводит в спячке, свернувшись в шар, и разбудить себя дает с величайшей неохо-
той, оставаясь при этом сонной, даже если это происходит в жарком месте.
Хотя зверек этот слабосильный, он без всякого труда разгрызает даже самые круп-
ные лесные орехи. Когтями легко прикрепляется к любой плоскости, даже к наклон-
ной.
Вряд ли можно полагать, что этот вид есть и в Америке. Однако, по-видимому,
там водится похожий на орешниковую соню вид, впадающий в летаргическую спяч-
ку. И. Бриккелл упоминает этот вид на с. 131 своей ’’Естественной истории Северной
Каролины” под именем ’’дормауз”, как англичане называют орешниковую соню.
35. Мышь (мышовка лесная) с очень длинным, почти голым хвостом, с желтым
туловищем, с черной полосой на спине, со складчатыми ушами.
Встречается в березняках Сибири вместе со следующим видом, но реже; более под-
робно описание мышовки лесной будет дано в дальнейшем. Этот вид является, не-
сомненно, самым мелким по размерам тела из всего, рода; несомненно, мышовка лес-
ная преставляет собой хорошо очерченный вид.
36. Мышь (степная мышовка) с очень длинным, почти голым хвостом, с пепельно-
серым туловищем, с черной полосой на спине, со складчатыми ушами.
Часто попадается в березняках, растущих посреди степей по всей Великой Татарии,
вместе с предыдущим видом; однако по [строению и форме] хвоста, по-видимому, эта
мышь должна быть отнесена к следующей фаланге; в то же время по причине окоче-
нения, в которое впадает степная мышовка на холоду, ее следует отнести к мышам,
впадающим в летаргическую спячку.
37. Мышь (striatus), с довольно длинным и почти голым хвостом, с несколькими
параллельными полосами на теле, [как бы состоящих] из белых крапинок.
Очень красивый вид. Я никогда не видел [его представителей живыми] и, пожа-
луй, знаю этот вид только по [чучелам в] музее Себы. Но подозреваю тем не менее на
основании того, что слышал, что этот вид водится в степях, прилегающих к Кавказс-
кому хребту; по указаниям на габитус я отношу [слышанные мною сообщения] имен-
но к этому виду. Однако признаюсь, что у меня есть большие сомнения по поводу
этого вида, поскольку его экземпляр, привезенный под наименованием ”мышй ин-
дийской полосатой” в Петербургский музей среди других животных из коллекции
Себы и упомянутого также в ’’Catalogus Musei Praelaudati”, с. 45, поскольку этот эк-
земпляр несомненно представляет собой очень маленького детеныша белки Sciurus
getulus, причем [лишь] голый хвост [этого грызуна] напоминает мышь.
VI. Мыши Myosuri.
38. Мышь (Pilorides) с довольно длинным, тупоусеченным хвостом, с белесой окрас-
кой туловища.
Экземпляр этого вида, привезенный с Цейлона, я когда-то видел и полагаю, что он
не отличается от обитающей на островах около Америки разновидности р. Я вкратце
описал означенный экземпляр для труда достопочтеннейшего К.П. Майера ’’Амстер-
дамский музей Меркатора”.
По размеру этот экземпляр превосходит мышь десятинную и был ненамного мень-
ше морской свинки.
Ушные раковины большие, голые, белые; кисти передних конечностей четырехпа-
лые, с бородавкой на месте большого пальца; стопы задних конечностей отчетливо
расчленены на пять пальцев, причем большой палец утолщен.
279
Рис. 83. Серая крыса подвид Сагасо (гравюра Ничманна)
Хвост вытянутый, на конце очень тупо обрублен, длиной в четыре дюйма, голый,
чешуйчатый.
Окраска туловища белесая, на спине слегка серовато-ржавая; нижняя поверхность
туловища пепельно-серая.
В целом [повторю, что этот вид] чрезвычайно похож на те экземпляры, которые
путешественники наблюдали в Америке.
39. Мышь (серая крыса Сагасо) с длинным чешуйчатым, довольно тупым на конце
хвостом, с серым телом, со ступнями задних конечностей, не вполне отчетливо разде-
ленными на пальцы (рис. 83).
Вид, очень похожий на следующий; распространяется спорадически из Китая по
Восточной Сибири. Ниже он будет иллюстрирован гравюрой.
40. Мышь (серая крыса decumanuc) с очень длинным чешуйчатым хвостом; с телом,
покрытым серой щетиной; с белесой нижней поверхностью туловища.
Этот вид самый внешне неприятный их всего рода, крайне свирепый, очень вредный [для
человека]. Несомненно, что серая крыса была завезена вместе с другими пришедшими из
Индии бедствиями в Европу в результате мореплаваний и торговли предметами роскоши; а
теперь она в больших количествах распространилась и по всей Европейской России,
но в Сибирь: впрочем, нигде не проникла.
Немного лет тому назад эта серая крыса с запада пришла в г. Яицк, мигрируя туда
целыми легионами50. Позднее я узнал, что путем такой же миграции и тоже с запада
(через пустыню) серая крыса пришла в Астрахань осенью 1727 года, за несколько дней
до землетрясения, имевшего место 2-3 ([по новому стилю] 13-14) октября 1727 года;
и что в том же году она наблюдалась по всему западному побережью Каспийского
моря. Легковерные люди впоследствии включили это нашествие серой крысы в чис-
ло предзнаменований, предсказывавших эпидемию, каковая после этого, а именно в
1727-1729 годах, и опустошила этот город.
50См.: Паллас П.С. Путешествие по России... Ч. 1, с. 304.
280
В период этой [последней из упомянутых мною миграций серые крысы] огромными
толпами переплыли весь фарватер Волги и внезапно до такой степени наводнили
жилища, что никакое имущество не могло оставаться от них в безопасности. Замечу,
что домашней мыши между тем в Астрахани, окруженной со всех сторон водой, и по-
ныне нет, как сообщил на с. 162 второй части своего ’’Путешествия” Гмелин младший.
Не берусь решить, пришли ли наши серые крысы в [Европейскую Россию из Запад-
ной и Центральной] Европы или же из южных стран. Несомненно, что в Персии они
есть, и Гмелин изготовлял там их чучела. В Персии, полагаю, эти крысы аборигенны; по
всему Южному Прикаспию они любят устраивать свои гнезда в норах, брошенных
дикообразами, обитающими на песчаных холмах, которые поросли самшитом Camelis
lethiferum. Однако в качестве обитателей жилищ этих крыс пока еще не наблюдали,
[по крайней мере чтобы это было] обычным явлением, тогда как обычные крысы и
домашние мыши [там живут в домах и] наносят огромный вред.
В Петербурге, где множество серых крыс безмерно, они в изобилии даже летом
живут в домах и производят там на свет потомство; взрослых же крыс почти не удает-
ся истребить ни дами, ни ловушками. Однако от чего серые крысы наиболее явствен-
но убегают, так как это от крупных кроликов, запаха которых из-за некоей спаситель-
ной [для человека] антипатии они не выносят. Я сам был тому свидетелем, но из мест-
ных жителей многие убедились в этом на опыте. И это притом, что домовые мыши
живут с кроликами в дружбе.
Вес серой крысы нередко равняется восьми унциям; встречаются особи, весящие
даже почти целый медицинский фунт. За одну ночь эти крысы прогрызают доски тол-
щиной в несколько дюймов; убивают кур. Зимой они обрастают более длинной шер-
стью; по нижней поверхности туловища эта шерсть имд£т красивый серебристый отте-
нок, но верхняя поверхность всегда более или менее щетинистая и косматая.
Хотя стопы задних конечностей у серой крысы почти целиком расщеплены на паль-
цы, она прекрасно и охотно плавает. Кисти передних конечностей снабжены на месте
большого пальца мозолью, как это имеет место [и у черных] крыс. Хвост покрыт че-
шуйчатыми кольцами, которых не более 200.
Весьма вероятно, что серая крыса тождественна тем ’’каспийским мышам”, о кото-
рых рассказывает Элиан в семнадцатой главе семнадцатой же книги своей ’’Истории
животных”. Он говорит, что они ненамного мельче египетского ихневмона, злы и
имеют крайне мощные зубы. Он говорит также, что в определенные периоды [эти
каспийские мыши] наводняют Прикаспий несметными полчищами и бесстрашно пере-
плывают [водные преграды, причем не ручейки, а] постоянно текущие реки. При этих
переправах они [сцепляются друг с другом], хватаясь зубами одна за хвост другой.
Не столь ясно, относятся ли миграции мышей в Причерноморье и Египте, описан-
ные в той же книге Элиана (глава 41 шестой книги), к рассматриваемому нами виду,
или же они связаны с другим видом.
41. Мышь [черная крыса] с очень длинным, чешуйчатым хвостом, с темноокрашен-
ным туловищем, нижняя поверхность которого серебристо-белая.
Вид либо происхождением из Европы, либо привезенный с островов, прилегающих
к Америке. Хотя многие авторы, самый недавний из которых - славнейший Циммер-
ман (на с. 223 и следующих своей ’’Зоологической географии”), скорее, склоняются к
тому, что серую крысу, вопреки мнению достопочтеннейшего Линнея, завезли, наобо-
рот, из Европы в Америку, мне это даже и сейчас кажется сомнительным. В Сибирь
черная крыса, несомненно, никогда не проникала, и даже вообще вряд ли она захо-
дит за долину Волги к востоку.
У древних авторов, хотя домовую мышь они часто упоминают, упоминаний о кры-
сах нигде не встречается.
Окраска у черной крысы своеобразно темная; от предыдущего вида она отличается
как надежными признаками менее грубой шерстью и гораздо менее значительным
281
весом; но при этом, впрочем, сильно варьирует по размеру. В пустынных местностях
по нижнему течению Волги в очень большом количестве встречается карликовая
разновидность черной крысы, весом почти никогда не превышающая шести-семи
драхм. Эта разновидность обитает по обрывистым берегам рек, а летом переселяется
в деревни.
В пригородах Царицынской крепости осенью бывает так, что сначала в дома пере-
селяется лесная мышь, потом ее выгоняет упомянутая карликовая разновидность
черной крысы, а последнюю, наконец, вытесняет серая крыса.
Моранди наблюдал (но один только раз) в мочевом пузыре черной крысы известко-
вые плоскокристаллические включения.
42. Мышь (лесная) [лесная полевка] с длинным чешуйчатым хвостом, с серовато-
желтоватым туловищем; на боках и нижней поверхности туловища эта окраска резко
сменяется белой.
Повсеместно часто встречается как в северной, так и в умеренной зоне, по холмис-
тым сухим местам, поросшим лесами, а также по рощам и зарослям кустарников.
Роет ходы: один наклонный, от него два вертикальных, которые, если из них выбро-
сить разрыхленную землю, часто достигают в глубину локтя. Ведет одиночный образ
жизни. Зимой лесные мыши часто появляются в амбарах и скирдах хлеба и наносят
большой вред. По величине варьируют в зависимости от местообитания: на возделы-
ваемых полях, где растут, пользуясь себе на благо плодами урожая, достигают веса в
пол-унции; в приуральских пустынных местностях и лесах редко превосходят по
весу три драхмы.
Длина головы у лесной мыши относится к длине туловища приблизительно как
пять к шести. Окраска (в более сухих, умеренных по климату местообитаниях) свер-
ху изящного серого оттенка, по нижней поверхности туловища - белая; по бокам
идет линия, разграничивающая [верхнюю] серую поверхность от нижней белой; сама
эта линия тоже серого, но несколько более насыщенного оттенка.
Около города Симбирска, лежащего на Волге, мне встретилась целиком белая лес-
ная мышь.
В Сибири за Иртышем и Обью мне этот вид практически не встречался. Однако
Гмелин наблюдал вид мыши, родственный нашей лесной мыши, осенью в полях около
города Енисейска [и выяснил, что] зимой этот вид опустошает амбары.
43. Мышь (домовая), с очень длинным и чешуйчатым хвостом, с темноокрашенным
туловищем, снизу пепельно-серым.
Вид, обитающий по всей Европе и Азии почти во всех климатах земли. Очень неве-
роятно, что в Америку, где этот вид, впрочем, сейчас менее многочислен, чем черная
крыса, он был завезен от нас, [из Европы]. По окраске домовая мышь изменчива:
иногда темноокрашенная, как черная крыса; бывает и с большими белыми пятнами на
туловище, которые в остальном обычного для домовой мыши цвета; реже она бывает
вся белая, с красными глазами.
Размножается, по-видимому, во всякое время года; так, приблизительно в конце
декабря я часто наблюдал в одном и том же месте и уже подросших детенышей, и
беременных самок.
Температура крови у этого зверька достигает, по моим измерениям, самое большее
107, иногда даже 109 градусов по Фаренгейту. Для ее измерения я использовал обыч-
но специальный крошечный термометр, сами же замеры производил тоже в середине
зимы.
На груди у [самки домовой мыши] имеется шесть сосков, на животе - четыре, из
которых два почти в паху.
44. Мышь, (полевая, agrarius), с длинным чешуйчатым хвостом, с желтоватым те-
лом, с черной полосой на спине (рис. 84).
Об этом виде можно получить более полное представление по описанию и изобра-
282
Рис. 84. Полевая мышь (гравюра Ничманна)
жению, которые мы дадим ниже. Ранее научных изображений сельской мыши не дава-
лось, хотя неоднократно отмечался вред от нее, а также отмечались ее миграции, в
частности, в Германии. В Берлине в году, если я правильно припоминаю, 1754, зимой,
появилось также множество этих мышей вместе с лесными мышами, что я видел, как
они долгое время полчищами и без всякого страха пробегали под пешеходными мос-
тиками.
45. Мышь-малютка, с длинным чешуйчатым хвостом, с телом ржавоокрашенным;
нижняя поверхность тела белесая.
Во всей данной фаланге эта мышь самая мелкая. Если же не считать Mus subtilis, то
она самая мелкая и во всем мышином роде. Впрочем, как мы ниже увидим, и эту
последнюю мышь-малютка лишь ненамного превосходит величиной.
Таким образом, я хотел бы побудить всех путешествующих ради целей естествен-
ной истории, чтобы они более тщательно вглядывались в мелких живущих под зем-
лей зверьков. Хотя они и невзрачны, однако никоим образом не следует ими пренеб-
регать: ведь они играют большую роль в экономии природы, а людям подчас приносят
ущерб. Но они же и обогатят тех, кто стремится их познать, немалыми открытиями
относительно образа жизни и поведения [животных в природе]”.
Полевка-экономка. Перехожу к описанию вида, достойного всяческого внимания
и, по-видимому, специфичного для Сибири. Этот вид на первый взгляд по [общему
облику и] окраске настолько похож на полевую мышь, что легко можно было бы пре-
небречь им как всего лишь разновидностью этой последней, если бы не были подме-
чены, во-первых, поразительная запасливость полевки-экономки, а во-вторых, ее
особенности в отношении пропорций тела и анатомического строения по сравнению
[со всеми родственными ей видами].
Впервые, раньше всех [моих встреч с этим видом] он привлек мое внимание в
Ишимских степях и на Иртыше благодаря тому, что я заметил странные полости, вы-
копанные под дерном, в которых и обитали [полевки-экономки]. После этого я много
раз наблюдал их около Оби, Чулыма и Енисея, чаще же всего в районе Байкала и в
лежащих за горными хребтами районах Даурии, где мне и удалось наиболее вглядеть-
ся в образ жизни и строение жилищ этого вида.
Повсеместно [его представители] предпочитают более влажные пастбища и луга, а
также межгорные лощины, но попадаются они и в лесах и на горах. Напротив, мест
песчаных, сухих, несколько приподнятых [над окружающими низинами] они не лю-
бят. В противоположность им вид, рассмотренный нами следующим, именно в этих
местах отмечается в большем изобилии. В качестве помещения для гнезда полевки-
283
экономки вырывают себе камеру непосредственно под покровом дерна, а в более
влажных местах - в каких-нибудь пригорках, [но тоже] почти под самой поверх-
ностью поля. [Камера эта по очертаниям бывает] почти округлая, с вдавленным
внутрь сводом, глубиной в поперечник ладони, поперечником около фута, устлана
очень мягкой размельченной травой.
От [центральной] камеры во все стороны расходится помногу ходов, часто развет-
вляющихся уже в самом дерновом слое и имеющих сбоку выходы на поверхность, в
открытые отверстия которых, однако, едва можно просунуть палец. Число таких вы-
ходов у более старых жилищ часто достигает тридцати. А там, где выходов поменьше,
по крайней мере от их устьев в самые разные стороны расходятся разветвленные
дорожки, которые полевки-экономки выгрызают наподобие бороздок в дерне и через
которые они всегда могут ускользнуть в окружающие поля. Еще несколько подзем-
ных проходов ведут от гнезда к двум или более ячейкам или кладовым, вырытым по
окружности норы совсем неглубоко под дерном. Они крупнее [центральной камеры]
гнезда на пядь, и зверек наполняет их различными кореньями, заготавливаемыми им
как запас пищи.
Полевка-экономка начинает заготавливать этот запас с самого начала весны, соби-
рая свои продовольственные запасы с крайним прилежанием и большими усилиями.
Трудно даже бывает поверить, что такой объем подземных работ выполнило мелкое
животное с маленькими и лишенными крепких когтей лапами, со слабыми зубами, с
хилым и слабосильным, прямо-таки беспомощным тельцем.
Скорее может показаться, что [все эти норы и ходы] проделаны какими-нибудь
другими представителями того же рода, многие из которых, однако, куда менее тру-
долюбивы. Тем не менее столь обширные полости проделываются [именно полевками
экономками], в числе редко больше двух особей, то есть д^ух зверьков, живущих в
супружестве, а чаще даже всего лишь одним зверьком, который их и роет и живет в
них. [Более же многочисленные] семьи полевок-экономок встречаются осенью (толь-
ко) и в этом случае они сооружают около более просторной гнездовой камеры часто
до восьми или девяти отдельных кладовых. Так [по крайней мере] рассказывают о
полевках-экономках, и рассказывают также, что все эти кладовые они целиком на-
полняют различными съедобными корнеплодами. Мне самому, правда, таких се-
мейств [полевок-экономок с их сооружениями] видеть не случалось, но об этом в
один голос свидетельствуют даурские тунгусы, у которых существует такой промы-
сел: отыскивать осенью норы этих маленьких животных и затем, что уже легко, добы-
вать и уносить к себе домой для своих нужд корнеплоды из их кладовых, которые
нетрудно обследовать по причине мягкости подрытого полевками дерна.
Обследование это [тунгусы производят просто] ногой или же специальной палкой.
Они же утверждают, что часто из кладовых одного-единственного семейства полевок-
экономок случается выкапывать более двадцати и даже тридцати фунтов свежих кор-
неплодов, так что эти кочевники, у которых нет ни полеводства, ни садоводства,
отнюдь не понапрасну проводят свои поиски.
Именно кладовые этого вида, а также мыши [полевки] стадной преимущественно
[из всех кладовых грызунов] известны тунгусам, а равно и племенам бурятов, кото-
рые добывают себе из этих кладовых (тунгусы называют их ”урган”, а обитающих в
них мышевидных грызунов ’’кутугуна”) клубни и корнеплоды для своего зимнего
пропитания.'
При этом они особенно стараются добыть корневища кровохлебки, которые ис-
пользуют для изготовления из них напитка, напоминающего чай51.
51Гмелин во втором томе своего "Сибирского путешествия” (С. 50) ошибочно отнес это сообще-
ние к суркам. Его ошибку, как я обнаружил, повторил также и Амман в своем ’’Очерке российс-
кой флоры”. С. 169.
284
Также и красноярские татары, в особенности сагайские, которые называют кладо-
вые мышей и полевок ”кылым”, иногда прибегают к такому промыслу и грабят (ког-
да только у них есть свободное время) у несчастных мышей их провиант, который
они заготовляли с таким усердием. Так же поступают и [татары, живущие по], нижне-
му течению Енисея, как это отмечено на с. 46 третьего тома труда Гмелина ’’Сибирс-
кая флора”. Между прочим, кабаны, свирепейшие из всех врагов полевки-экономки,
не только разрывают ее кладовые, но не стесняются пожирать и сами гнезда вместе с
их хозяевами; поедают они и [находящихся там] детенышей.
Среди кореньев, которые полевка-экономка стремится отыскать и запасти, можно
назвать преимущественно (из трав, произрастающих в Исетских и Барабинских сте-
пях) зопник шалфеелистный с его клубнями и горец скрученный с его корневищами.
В Даурии и по Красноярскому тракту [из таких растений можно назвать] горец живо-
родящий (по-тунгусски ’’мыкир”) и кровохлебку обыкновенную (по-тунгусски ”шыд-
ду”), к которым полевки-экономки примешивают еще ядовитые корневища хайро-
филлума опьяняющего, по размерам и форме похожие на корневища кровохлебки, но
легко отличимые от них благодаря своей бледной наружной окраске и по своей проч-
ности, в то время как корневища кровохлебки темноокрашенные и ломкие. Эти по-
следние по данным признакам и сами тунгусы отличают от первых, несъедобных. Тем
не менее несомненно, что и те ядовитые корневища полевки-экономки употребляют
в пищу; я сам находил их в гнездах полевок-экономок полуобглоданными. Тун-
гусы же утверждают, что полевки-экономки собирают опьяняющие корневища в
качестве своего рода вина, чтобы потом разогревать ими себя на праздничных пи-
рах и в дни, когда они веселятся.
Все [запасаемые ими] коренья полевки-экономки стараются собрать в наилучшем и
наисвежайшем состоянии, какое только можно найти. [Для их добычи] они, прилагая
много труда, роют в очень твердом дерне, где они растут, маленькие ходы или ямки;
волокна и воронковидные верхушки корневищ, а также боковые отпрыски они тут
же на месте отгрызают. Сами же корневища, длиной в два или три дюйма, очищенные
[от всех отростков], полевки-экономки, пятясь задом, тащат в свои кладовые по до-
рожкам, прорезанным ими в дерне; там они хранят эти корневища в плотно упакован-
ном виде, частично перемешивая их все, частично же сортируя.
Когда я обследовал норы полевок-экономок ранней весной, я по большей части
обнаруживал только одну ячейку, которая и до тех пор оставалась полной коренья-
ми, а остальные [ячейки той же норы всегда бывали] пустыми, содержащими в себе
только обглоданные остатки.
Замечу, что самцы в этот сезон, а также и в течение всего лета блуждают поодиноч-
ке или же селятся в старых заброшенных норках, которые приспосабливают себе для
жилья. В лугах повсюду, где только в достаточном обилии растут [съедобные для
полевок коренья], этих заброшенных норок бывает такое великое множество, что
из-за этого часто возникает опасность для всадников: лошади могут провалиться
ногой сквозь дерн в пустую ячейку и упасть. Помимо сказанного, добавлю, что поле-
вок-экономок никогда, насколько мне известно, не удавалось приручить.
Разница по величине между самцами и самками в этом и в следующем [из рассмат-
риваемых] видов достигает таких значительных размеров, что самки часто бывают
весом более десяти драхм, даже более полутора унций, в то время как самцы весят
не более шести-семи драхм. Кажется также, что самки более трудолюбивы и принима-
ют преимущественное участие в заголовке продовольствия.
Ранней же весной полевки-экономки спариваются, в том числе и обитающие в бо-
лее северных регионах. В этот период самка издает сильный мускусный запах, скорее
приятный. В середине мая (Даурия) я уже находил детенышей полевки-экономки, в
это время еще слепых, часто только по двое или по трое в одном помете, весом при-
близительно по драхме. Впрочем, вряд ли можно сомневаться, что полевки-экономки
285
размножаются по нескольку раз в году, иначе откуда в полях появлялось бы такое
их множество, которое служит [прокормлением и] легкой добычей для зверей и птиц.
Хотя у полевок-экономок не наблюдалось температуры тела выше 97° по Фаренгей-
ту (96° по Делилю), тем не менее они не впадают в спячку ни при каких холодах и не
боятся заселять даже самые северные и восточные регионы Сибири. А именно они
водятся до Березового на Оби и на Лене (там якуты называют их ’’кутуях” и считают
мясо этих бедных зверьков изысканным и жирным лакомством, причем приправляют
его съедобными корнями копеечника, которые собирают в кладовых тех же поле-
вок).
Итак, я говорю, что полевки-экономки встречаются и на Лене: а именно, они в
большом количестве заходят к северу и за пределы Якутии.
Заходят они и на Камчатку, как заходят туда и виды мышей, о которых столько
поразительного, но и совершенно справедливого поведали Стеллер и Крашенинни-
ков, у которых эти виды фигурируют под наименованиями ’’наусчич” и ’’тегулчич”. Я
долго сомневался по поводу этих видов, поскольку даже и в бумагах Стеллера не
сохранилось описания ни одного из них, как, впрочем, нет там описаний и других
видов мышей этого полуострова.
Однако причиной этого отсутствия является то, что этот в других отношениях
пристальнейший [наблюдатель природы], как он сам сообщал с извинениями, с самого
раннего детства в силу некоей врожденной антипатии крайне боялся самого вида
мышей.
Однако теперь, когда мы располагаем привезенными с Камчатки шкурками и мо-
жет сопоставить с ними прочие свидетельства, уже не остается сомнения, что под
этими ’’мышами” в действительности следует понимать полевку-экономку. Коренья
же, которые полевки-экономки собирают на Камчатке, если не считать луковиц кам-
чатской лилии, карликовой формы малины и горной кедровой сосны с ее орешками,
- коренья эти, перечисленные Стеллером, суть следующие: анакампсерос, горец скру-
ченный, таволга клещевинолистная с ворсистыми коробочками, кровохлебка, нако-
нец, ядовитые напеллы или, возможно, какой-то вид ветреницы с горьким соком.
Камчадалы же осенью с большим удовольствием собирают все эти припасы (отбирая и
отбрасывая последние из упомянутых, ядовитые виды) для своего домашнего упо-
требления.
При этом полевок-экономок, которых они почитают как бы за своих друзей, они
сочли бы нечестием убивать. Напротив, норы их они с чистой совестью опустошают,
оставляя взамен различные смешные приношения, которые должны как бы вознагра-
дить полевок за то, что у них отнято. Этими мелкими приношениями они как бы
примиряют с собой полевок-экономок и снискивают их благорасположение.
На Камчатке же рассказывают, будто полевки-экономки летом, когда трудятся над
заготовкой запасов пищи на зиму, сами питаются исключительно ягодами и травами.
О них же сообщают, что они собирают коренья в ясную погоду, и сушат их на солнце-
пеке вне своих норок и с величайшим прилежанием, чтобы они не испортились впо-
следствии из-за длительного хранения [этих припасов] под землей.
Стеллер однажды, когда он ночевал [на Камчатке] на открытом воздухе около
какого-то озера, наблюдал, как полевки носили в брошенный пустой сапог множест-
во каких-то луковичек. Он потом пошел по их следам и обнаружил, что это лукович-
ки зимнего хвоща, с помощью которых размножается это растение, в огромном коли-
честве растущее на Камчатке. В конце концов Стеллер, взяв пример с мышей, обнару-
жил, что эти луковицы чрезвычайно вкусны даже и в сыром виде (и в вареном тоже),
и что камчадалы тоже их едят.
Совершенно несомненно (хотя Крашенинников говорит об этом с некоторым со-
мнением, но зато это подтверждено Стеллером и, сверх того, вообще прекрасно из-
вестно всем, кто жил на Камчатке), что в определенные годы полевка-экономка ми-
286
грирует с Камчатки, где ее поразительное множество, наподобие того, как это делают
на европейском севере лемминги и как это обычно у многих родственных им видом.
В другие же годы полевки-экономки, наоборот, приходят ближе к осени на Камчатку
огромными стаями, за которыми следуют в свою очередь полчища лисиц и прочих
хищников. Эти последние становятся затем великолепной добычей для охотников с
наступлением зимы, которая в такие годы бывает жесточайшей.
Очень хорошо известно также о миграциях полевки-экономки по остальной терри-
тории Восточной Сибири. В особенности известны эти миграции жителям Даурии и
Прибайкалья - тунгусам. Говорят, что наши мыши и полевки мигрируют поздней
осенью из [своим обычных] пастбищ или урочищ, предчувствуя [суровую] зиму или
же беды, следующие за весенним паводком. По крайней мере [это подтверждается
тем, что], когда я путешествовал по большим, [частично] залитым наводнением трак-
там по даурской реке Туре, я видел там великое множество брошенных нор, к выхо-
дам из которых [наводнение] часто выносило какие-нибудь коренья [из запасов поле-
вок], хотя ни единой полевки-экономки невозможно было никаким образом отыс-
кать во всем том регионе.
Что касается Камчатки, то там, возможно, время от времени мышей и полевок
сгоняет с насиженных мест какое-то восприятие, относящееся к бушующему под терри-
торией этого полуострова подземному огню; или же они предчувствуют будущие
бури.
Когда полевки-экономки собираются мигрировать с Камчатки, весной того года
они все, кроме отдельно блуждающих, которые легко находят себе пропитание около
деревень, скапливаются то там, то сям огромными стаями и непосредственно перед
наступлением зимы уходят. Они неустрашимо переплывают реки, озера, даже попа-
дающиеся на пути морские заливы, хотя бы даже большинство из них на пути погиб-
ло или от усталости свалилось почти бездыханными, в полумертвом виде при подъе-
ме на крутые склоны и осталось там на некоторое время лежать, пока не просохнет
шерсть и пока благодаря отдыху они не восстановят свои силы и после этого снова
смогут продолжить путь.
Когда полевки-экономки пересекают водные преграды, многих из них ловят ныр-
ки, а многих других хватают крупные и наиболее прожорливые рыбы из числа лосо-
севых. Зато жители тех мест, камчадалы, проявляют себя как нельзя более милосерд-
ными: когда они видят где-нибудь лежащих [и изнемогающих] мышей и полевок, они
поступают с ними так, как если бы это были [люди-] земледельцы и собиратели ко-
реньев: стараются убрать все, что им вредит, и привести их в чувство.
Переплыв реку Пенжину, полевки-экономки затем тянутся дальше к югу, посте-
пенно огибая морской залив; в те же годы, когда их чрезвычайно много на Камчатке
весной, они приблизительно в середине июля подходят к рекам Юдоме и Охоте.
Бывали наблюдаемы такие огромные скопления полевок-экономок, что переправа
этих мигрантов через реки отнимала почти два часа.
В ходе обратной миграции полевки-экономки достигают Камчатки в октябре; жи-
тели полуострова встречают их возвращение с большой радостью. Помимо того, что
им предстоит охота на хищников, которые сопровождают полевок, они верят также,
что возвращение полевок предвещает хорошую погоду и удачную рыбную ловлю.
Напротив, отход полевок-экономок рассматривается как неблагоприятное для
всех предзнаменование, о котором частый опыт заставляет судить в том смысле, что
оно предвещает год дождливый и бурный. Помимо того, такой отход с необходимос-
тью влечет за собой исчезновение обилия [столь ценных с точки зрения охотников]
хищных зверей, которые уходят вместе с полевками.
Из сказанного отчасти проясняется и причина миграции, о чем я выше уже гово-
рил. У камчадалов же, этого небольшого и чрезвычайно суеверного народа, по этому
поводу бытуют разнообразные басни. В частности, они верят, что полевки отправ-
287
ляются в другие места ради своих промыслов и пересекают проливы в черепках,
выбрасываемых на берег морем и имеющих форму корабликов (эти черепки камча-
далы так и называют ’’мышиными лодками”).
Камчадалы рассказывают также такую басню: если под осень кто-нибудь похитит
у полевки собранный ею запас продовольствия, то полевка, которой принадлежал
этот запас, приходит в полное отчаяние, бросается в развилку ветвей, повисает там
и, задохнувшись, умирает. Эта же самая басня упорно держится также у якутов и
тунгусов, происходит же она, быть может, оттого, что хищные птицы, охотящиеся за
полевками-экономками как за добычей, часто накалывают пойманных мышей на
колючки и раздвоенные ветки; видя висящих таким образом [на деревьях и кустах]
полевок, легковерные люди и могли решить, будто те сами покончили с собой.
Несомненно, по причине этого суеверия камчадалы никогда не забирают у поле-
вок-экономок всего их продовольственного запаса, но когда его находят, то всегда
оставляют хотя бы небольшую часть имевшихся там кореньев, да еще кладут в качест-
ве утешения для ограбленной полевки кусочек сушеной икры.
Между прочим, Стеллер [на Камчатке] и Гмелин на Лене обнаружили, что полевки-
экономки, прибывавшие туда позже других, или именно те, у которых разграбили
кладовые, переходили жить даже и на зиму в дома и наносили при этом ущерб собст-
венным запасам жителей; в остальной Сибири этого не наблюдалось.
Из одного появившегося недавно сообщения, опубликованного капитаном Шмале-
вым в ’’Опыте трудов Вольного российского собрания” (Москва, т. 1, с. 214), я узнал,
что в 1772 году на Камчатке появилось такое множество полевок, что они погрызли
кору деревьев в окрестностях Авачи и Болыперецка и повредили запасам хлеба,
хранившимся в домах и амбарах. В городке Нижнекамчатске они нанесли даже зна-
чительный ущерб товарам в лавках торговцев. На следующий год они появились уже
в значительно меньшем множестве и их стаи были не столь плотными. Поскольку все
это наблюдалось на Камчатке, с запада и востока отделенной [от ближайшей суши]
морями, все эти волны миграции, как следует предполагать, собираются [первона-
чально на севере], в огромных пространствах Сибири. Эти миграции, каждый раз не-
ожиданные, происходят так часто, что со временем [и на самой Камчатке для поле-
вок-экономок] начинает не хватать корма. Тогда по этой причине или же вследствие
вышеозначенных восприятий [полевками подземного огня или будущих стихийных
бедствий] они снова начинают мигрировать и при этом особенно бросаются в глаза
[наблюдателю].
Камчатская разновидность полевки-экономки, шкурами которой я располагаю, по
своим размерам равняется крупнейшим особям сибирских разновидностей и чрезвы-
чайно похожа на эти разновидности своим мехом, формой ушных раковин, общим
габитусом, пропорциями конечностей, а также хвостом. Однако по окраске камчатс-
кая разновидность несколько отлична от сибирских; у камчатской полевки-эконом-
ки окраска меха весь год остается одна и та же.
[Различия между разновидностями полевок-экономок по окраске] выражаются,
например, в том, что особи бореальных разновидностей, насколько мне удалось их
видеть, чуть чернее других; а камчатские особи, которых мне удалось получить
шесть (шкур), имеют преимущественно желтоватый оттенок с примесью черного, при-
чем вообще их окраска более блеклая по сравнению с особями, водящимися в осталь-
ной Сибири, если, впрочем, не считать более или менее похожих на камчатских осо-
бей, виденных мною на Чулыме.
Добавлю, что мне не кажется правдоподобным предположение, что миграции
полевок-экономок могли простираться вплоть до Северной Европы. Правда, даже в
Германии замечены были поразительные по своим масштабам миграции Mus brachyu-
rus, которую едва ли следует отличать от Mus arvalis [обыкновенной полевки]. К боль-
шому сожалению, никто еще и никогда не дал точного описания или сравнения видов
288
Рис. 85. Полевка-экономка (гравюра Ничманна)
мышевидных грызунов, которые, внезапно собираясь большими стаями, наводняли и
опустошали германские поля. Остается лишь пожелать, чтобы в дальнейшем это было
сделано.
У исландских мышей, о которых я выше упоминал, в отношении образа жизни,
по-видимому, наблюдается немало сходства с нашей полевкой-экономкой. Однако
этих мышей еще предстоит точнее изучить.
Не лучше их мы знаем и полевок, известных в жарких восточных и южных стра-
нах, так что следует ожидать, что рассматриваемый род в дальнейшем может ожидать
себе и в наши дни еще многих дополнений.
Описание полевки-экономки. Размер полевки-экономки более крупный, чем у
обыкновенной полевки (Mus arvalis). Морда очень похожа на морду этой последней,
но голова в целом меньше и менее продолговата; конечности несколько более креп-
кие, глаза более мелкие; ушные раковины иногда длиннее шерсти, иногда же короче
и не выступают из нее. Если шерсть отодвинуть, видно, что ушные раковины сами по
себе безволосые. [По форме уши действительно] походят на раковины, по консистен-
ции они кожистые. Если смотреть спереди, то ушей почти не заметно; кзади они более
широкие и несут на себе редкие волосы (рис. 85).
[Обособленная ушная] долька тонкая, плоская, кнаружи со слабовыраженной кай-
мой, вогнутая; в самой пазухе основания выступающая кзади от [упомянутой] каймы
и закрывающая преддверие [ушной раковины]; далее та же долька продолжается в
виде неясной складки, циркулярно окружающей довольно широкий ушной проход.
Нос, как у только что упомянутой полевой мыши; рот уже, чем у нее, а верхние
зубы несколько пошире, игольчатые [на концах], ярко-желтые.
Туловище длиннее, чем у обыкновенной полевки, с раздутым животом.
Кисти передних конечностей почти четырехпалые [в том смысле, что] вместо [пято-
го], большого пальца имеется коническая, похожая на коготь бородавка, а под ней
полуприжатая к коже мозоль. Концы стоп темноокрашецные; пальцы покрыты чешу-
ей в виде колец.
Хвост цилиндрический, тупоконечный, тонкий, белесый (за исключением темноок-
рашенной полоски на его верхней части); покрыт волосами, причем они наиболее
густые и длинные на нижней поверхности хвоста. Однако ясно заметна его кольча-
тость; всего он состоит приблизительно из шестидесяти колец.
Шерсть состоит из перемещанных друг с другом черных и желтых волос, [в целом
же ее окраска получается] темной, но с большей, чем у полевой мыши, примесью
желтизны. Середина спины несколько черноватая, нижняя поверхность [всего туло-
вища, начиная] от горла и до хвоста с серебристым оттенком, [этот оттенок характе-
рен для шерсти, а] под ней имеется темноокрашенный подшерсток.
19 В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
289
У молодых [полевок-экономок] цвет шерсти более темный. У самых крупных осо-
бей окраска светлее и более желтоватая; то же и у камчатских.
Отверстие вульвы у самок расположено в выступе, внешне напоминающем препу-
ций, и расположено приблизительно на том же, что и препуций, расстоянии от ануса.
Вес самца - немного больше или немного меньше унции; длина тела у мужских
особей составляет приблизительно 3 дюйма и от 3 до 6 линий. Длина хвоста [у мужс-
ких особей] 10 1/2 линий.
[Общий вес] самки обычно несколько большей целой унции и еще драхмы или
двух; длина [тела самки] 4 дюйма 2 1/2 линий, длина хвоста 10 1/2 линий; но есть и
такие [самки, у которых общая длина] тела 4 дюйма 5 линий, а длина хвоста 1 дюйм 2
линии.
Приведу здесь дополнительно данные о размерах довольно крупной самки:
Дюймы Линии
Общая длина от носа до ануса 4 6
Длина головы 1 2
Длина хвоста 1 1
Хвост в окружности 0 2 2/3
От глаза до носа 0 5
Расстояние между ноздрями 0 2/3
Расстояние от уха до глаза 0 4 1/2
[Длина глазной] щели вдоль века 0 1 1/3
[Поперечник] отверстия глаза 0 1
Длина ушной раковины 0 3.1/2
Та же длина, считая от пазухи при основании 0 4 1/2
Диаметр передней дольки [уха] 0 1
Окружность морды перед глазами 1 5
Окружность головы между глазами и ушами 1 10
Окружность шеи 1 6 1/2
Окружность грудной клетки у плечей 2 0
Окружность туловища в его середине 2 4
Окружность живота вблизи бедер 1 9
Длина плеча, более 0 5
Длина предплечья 0 7
Длина кисти с коготками (1 линия) 0 5
Окружность запястья 0 4 3/4
Длина бедра приблизительно 0 7
Длина большой берцовой кости 0 8
Длина стопы с коготками (1 1/4 линии) 0 8 2/3
Анатомия. Запах [от содержимого] вскрытого желудка, как и у обыкновенной
полевки, до крайности неприятный, даже когда [пища в желудке] самая свежая (рис.
86).
У печени (фиг. 16) левая доля самая крупная, [имеются также] две средние доли,
между которыми лежит желчный пузырь; правая доля маленькая, округлая, с полу-
лунным вырезом наподобие почки.
У основания этой последней доли наличествуют две шпигелевских дольки. Желч-
ный пузырь маленький, цилиндрический, приросший к средним долям справа. Селе-
зенка продолговатая, уплощенная, в длину 11 линий, в ширину 3 линии.
Желудок довольно отчетливо трехраздельный; левая часть или дно пузыревидная,
продолговатая; средняя часть по форме почти почковидная; консистенция ее жирная,
железистая. Пилорическая часть имеет неправильные, приближающиеся к сердцевид-
ным очертания.
Внутри желудка имеется складка, или клапан, отделяющая пилорическую полость
от более крупной полости; [эта складка] широкая, [по консистенции] мягкая, покры-
та ресничками.
290
Тонкий кишечник в длину имеет 11 дюймов, в поперечнике в некоторых участках
превосходит толщину писчего пера. Слепая кишка широкая, ячеистая, спиралевидно
согнутая, длиной 4 дюйма 10 линий. Следует добавить, что она короче соседних.
Начиная от места, где в нее входит подвздошная кишка, и к своей верхушке сле-
пая кишка постепенно становится* все тоньше; под входом в нее подвоздошной киш-
ки, она имеет своеобразное дольчатое строение.
Спираль тонкого кишечника вначале довольно широкая в поперечнике, с изгиба-
ми в виде кругов довольно неправильных очертаний; потом она изгибается уже бо-
лее короткими изгибами и вместе с тем становится уже в поперечнике; этот участок
кзади объемлется двумя петлями. Через все это скопление петель проходит пища,
превращающаяся по пути в экскременты.
Если вытянуть вся эту спираль в длину, ее протяженность составит 5 дюймов; дли-
на скопления экскрементов составляет 8 линий.
В одном экземпляре [полевки-экономки, добытом] на Чулыме, я обнаружил десять
лентецов, отчетливо отдельных один от другого, но [в своей совокупности] тесно
набивающих тонкий кишечник. В ходе путешествия эти лентецы погибли раньше, чем
я успел их описать соответственно правилам или же измерить. В подвздошной кишке
имеется округлой формы крупная железистая область.
У отверстия вульвы имеются две продолговато-извилистые железки, выделяющие
сукровицу с сильнейшим мускусным запахом, каковую они и изливают через отверс-
тие вульвы. Очень маленькие железки такого же рода имеются у самцов [полевки-
экономки] около препуция.
Скелет. Череп явно отличен от черепа обыкновенной полевки, с более широким,
чем у того, расстоянием между глазниц; форма черепа горшкообразно-выпуклая.
Череп довольно широкий, слегка сплющенный; рыльце несколько короче, чем у домо-
вой мыши; в остальном же данная часть тела более или менее похожа на таковую
домовой мыши.
Задние коренные зубы трехбороздчатые, средние двухбороздчатые, передние од-
нобороздчатые.
Ребер имеется четырнадцать пар, что равным образом составляет очевидное отли-
чие от обыкновенной полевки. Из этих четырнадцати пар настоящих ребер восемь
пар, а три последние срастаются друг с другом и входят в сочленение ксифодного
хряща.
Поясничных позвонков 6, крестцовых 2, хвостовых 13, не считая [сросшихся по-
звонков, из которых слагается] верхушка хвоста.
Тазовые кости мелкие, с острым лобковым углом, обращенным кзади, где их кон-
цы (особенно у самок) расставлены широко и соединены [на этом протяжении] связ-
кой в симфизис, поэтому овальное отверстие суженное и имеет ланцетовидную фор-
му. Ниже я отмечаю расстояния на скелете, замеренные мною на женском экземпляре
полевки-экономки, весившей унцию и четыре третьих драхмы:
Дюймы Линии
Длина черепа 1 0
Ширина черепа, измеренная несколько кзади от зигоматозных отростков 0 5
Ширина черепа, измеренная на уровне глазниц (сверху) 0 1 1/2 .
Ширина черепа на уровне зигоматозных отростков ч 0 7
Ширина черепа перед зигоматозными отростками 0 3
Длина носовых костей, которая одновременно является и длиной морды 0 3
Длина верхних резцов 0 2 1/5
Длина нижних резцов 0 3
Длина верхней челюсти, считая от мыщелка 0 7
Длина шейных позвонков, [вместе] 0 4 1/8
Длина спинного хребта целиком 1 3
Длина поясничного отдела позвоночника 1 1/2
291
Рис. 86. Внутренние органы грызунов
Дюймы Линии
Длина первого, наиболее длинного позвонка несколько превышает 0 2
Длина крестца 0 3
Длина хвоста 0 10 2/3
Длина ключиц 0 4
Длина лопаток 0 5 1/6
Ширина лопаток 0 3
Длина плеча 0 6
Длина локтевой кости 0 7 1/2
Длина наиболее длинной из костей пясти 0 2
Длина первой фаланги 0 1 1/8
Длина второй фаланги 0 7/8
Длина безымянной кости 0 9
Длина подвздошной кости, до вертлужной впадины 0 5 2/5
Длина овального отверстия 0 1 7/8
Длина бедра 0 7 1/4
Длина большой берцовой кости 0 9 2/5
Длина малой берцовой кости, до того места, где она еще остается различимой 0 4
Длина пяточной кости 0 2
Длина наиболее длинной кости [из костей] плюсны 0 3 1/5
Длина первой фаланги [задних конечностей] 0 1 2/3
Длина второй фаланги [задних конечностей] 0 2/3
Длина грудины, за исключением ксифоидного отростка 0 6 1/3
Длина ксифоидного отростка 0 2 3/4
Большой тушканчик52. ”В нижеследующем монографическом очерке (и в следую-
щем за ним) я описываю животных, известных древним как ’’двуногие мыши”. Эти
животные в такой же мере выпадают из своего рода из-за своей не сходной с другими
[его представителями] формы...
[Род этот был причислен к упомянутой ’’фаланге”] славнейшим Алламаном в его
’’Дополнениях” к амстердамскому изданию бюффоновского труда. [В целом же] ’’дву-
ногие мыши” очень тесно примыкают к остальному мышиному роду, связываясь с
ним в единую цепь через посредство большой и тамарисковой песчанок в непрерыв-
ную цепь.
Наши ’’прыгающие мыши”, то есть большой и мохноногий тушканчики, уже столь-
ко раз были описаны и наблюдались различными авторами, что удивительно, каким
образом естественная история этих видов поныне остается в зачаточном состоянии.
Вплоть до того, что до моих наблюдений никто даже не установил с определенностью,
составляют ли они один вид или же несколько.
Если же кто-нибудь попытается разобраться в том, что об этих [’’прыгающих мы-
шах”] в их совокупности пишет Бюффон, тот, скорее всего, разделит мое [выраженное
здесь] удивление (и даже в еще в большей степени) по поводу неопределенного состо-
яния, в каком находится познание этих мелких животных. Между тем сколько раз их
привозили из восточных стран живыми в Европу, столько раз их путешественники не
только видели, но и описывали.
С большей определенностью я смогу далее прояснить положение вещей на основа-
нии моих собственных наблюдений и иллюстраций, где будут изображены характер-
ные особенности этих изящнейших зверьков (рис. 87). Но прежде всего я должен из-
ложить то, что было сказано различными авторами применительно к обоим нашим
видам.
Уже античность, не слишком-то внимательная к мелочам, поражалась своеобрази-
ем этих ’’двуногих мышей”. О них упоминает еще Геродот; подробнее и уже в двух
местах останавливается на них Аристотель; но особенно обстоятельно и пространно
52Перевод к.б.н. Б.А. Старостина.
293
Рис. 87. Большой тушканчик (гравюра Ничманна)
пишет о них Элиан, опираясь, как легко догадаться, на наблюдения Теофраста. На
основании перечисленных авторов и Плиний [Старший] вставил в свое пестрое по-
вествование упоминание (впрочем, ошибочное) относительно этих зверьков.
А именно, во-первых, на основании плохо понятого места из Аристотеля Плиний
написал в главе 65-й десятой книги своей ’’Естественной истории”: ”У египетских
мышей шерсть жесткая, как иглы у ежа; и они же ходят на двух ногах, разгуливая
[внаклонку], наподобие людей, поднимающихся круто в гору...
Из числа наших европейских ученых, живших после восстановления наук, первое
упоминание о большом тушканчике встречаем у Улисса Альдрованди на с. 396 второй
книги его труда ”0 пальцах четвероногих животных”. Там под наименованием ’’Ин-
дийский кролик или заяц, именуемый Утиас” помещено гравированное на дереве
изображение самого настоящего большого тушканчика, с пятипалыми кистями перед-
них конечностей.
Эта гравюра более точна, чем многие современные изображения, в особенности чем
таковые обоих Гмелинов, за исключением лишь того, что уши животного на ней полу-
чились укороченными.
Многочисленные же другие путешественники повторяли далеко не самые ученые
[мнения] зоологов. Так, Тешейра описал [не большого, а] мохноногого тушканчика
[или нечто] наподобие гибрида [между ними]... Ньеухоф на с. 23.
Более интересно описание, данное известным точностью своих описаний Шоу, кото-
рый, как кажется, наблюдал оба рассматриваемых нами вида, [как большого тушкан-
чика, так и мохноногого]. А именно, во-первых, он описал на с. 321 первого тома своего
’’Галльского путешествия” мохноногого тушканчика, под именем ’’Йербоа”, как
животное, часто встречающееся по всей Мавритании вплоть до Орана, но отнюдь не в
каменистых местах, а преимущественно либо по глинистым степям, либо особенно в
песках Сахары. Там это животное предпочитает в качестве корма тростники, листья
лавровых кустарников и прочую растительную пищу, свойственную тому региону;
кочевники же [считают само это животное] съедобным.
Сведения Шоу достаточно точны, за исключением того момента, что он, наверное,
из-за ошибки памяти (о подобной же ошибке с перемещением [признака от вида к
294
виду] мы уже говорили в примечании ”д” по поводу Аристотеля) говорит, будто у
мохноногого тушканчика трехпалыми являются не задние, а передние конечности. И
во-вторых, на с. 75 того же тома Шоу упоминает о встреченном им где-то поблизости
от Ливанских гор зверьке, чрезвычайно похожем на ’’Иербоа”, в особенности своими
очень длинными голенями; живущем скрытно в земле, а еще чаще между скал; и
равного по величине кролику. Арабы зовут этого зверька ’’Даман Исраэл” (’’израиль-
ский агнец”), и он упоминается равным образом и у Проспера Альпинуса в девятой
главе четвертой книги его ’’Списка природных достопримечательностей Египта”.
Нет сомнения, что это и есть большой тушканчик, точнее, крупная его разновид-
ность, о которой нам ниже надлежит еще сказать...
Тот же вид [большого тушканчика] Мессершмидт описал правильнее и простран-
нее (как это он всегда делает) в своем Гтруде] Hodegeticum, с указанием места ”Алак-
даг Монголо-Даурский”, который индусы называют ’’Абалак”. Но это описание так
и не было опубликовано, мне же удалось его видеть в рукописи.
Совсем недавно, кроме того, пятипалого большого тушканчика описал (но тоже с
очень плохим изображением) Самуил Готлиб Гмелин в своих ’’Записках о путешествии”,
том 1, с. 26, табл. 2, где он, по-видимому, наблюдения над нравами большого тушкан-
чика почерпнул из посмертных оставшихся в рукописи заметок своего дяди и даже
как бы грезил его снами, особенно когда приписал большому тушканчику то, что выше я го-
ворил по поводу [якобы собираемых им про запас] стожков сена. Это С.Г. Гмелин
повторил еще раз и в своей ’’Сибирской флоре” (том III, стр. Д 5).
Напротив, нашему мохноногому тушканчику с трехпалыми задними конечностями
обстоятельное описание дал Хассельквист на стр. 129 тома XIV немецкого перевода
’’Трудов Стокгольмской академии наук”, а также в своей книге ’’Путешествие по
Палестине” (нем. пер. с. 277). Он описал [из всех тушканчиков] только этот вид,
причем он знал его не по взрослому экземпляру и явно лишь по одной единственной
особи. Ее описание, [данное Хассельквистом, надо признать] довольно-таки расплыв-
чатым и многословным, а изображение плохим; о поведении же данного животного
Хассельквисту удалось узнать слишком мало. В сущности, из его заметок мы можем
узнать только, что мохноногий тушканчик, кроме пшеницы и вообще хлебных зла-
ков, любит также семена кунжута, что он подолгу спит и во сне потеет; и что он
особенно часто встречается в районе египетских пирамид и в сторону Аравии.
Рисунок мохноногого тушканчика, данный Эдвардсом (старшим, на его табл. 219),
тоже не самый лучший, хотя и нарисован с привезенного в Англию живого экземпля-
ра этого зверька; Эдвардс правильно утверждал, что задние конечности мохно-
ногого тушканчика бывают только трехпалыми. Более удачное изображение с
достоверным описанием дал в самое последнее время славнейший Пеннант на
стр. 295 и табл. 25 (рис. 3) своих ’’Синонимов четвероногих”. Пеннант тоже имел
перед глазами экземпляры этого зверька, привезенные живыми в Англию; что же
касается Лукаса Шоу, Эдуардса и Пеннанта, будет в нижеследующем монографичес-
ком обзоре описан под наименованием мохноногого тушканчика.
Вид, о котором мы здесь непосредственно будем говорить, мне известен в трех
различных по размерам тела разновидностях.
А именно средней и обычной [для данного вида] величины разновидность, описан-
ная Альдрованди, Хаймом, Гмелиным старшим, часто встречается по Восточной
Татарии и пустынным местностям Сибири; это единственная из разновидностей
большого тушканчика, которая водится в забайкальских областях.
Что же касается травянистых холмов по рекам Лону, Волге, Рымне и Иртышу, то
там встречается другая, гигантская разновидность; впрочем, она во всех этих местах
попадается реже, чем это утверждал Гмелин младший, притом он недооценил разме-
ров этой разновидности, между тем как она (что я отмечал уже ранее) по величине
приблизительно соответствует кролику. . .
295
Наконец, в южных засоленных областях [Европейской России], возле Каспийского
моря и в Нижнем Поволжье и по реке Рымне (и в первом из названных регионов
одновременно с гигантской разновидностью) встречаются представители третьей,
карликовой разновидности, которые очень похожи на [две предыдущие] более круп-
ные всем своим внешним видом, а также значительной [относительной] длиной ушей
и задних конечностей, но только несходны с ними отсутствием бело-черного пятна
вокруг носа и еще тем, что их хвост (он не более ровный, чем у остальных разновид-
ностей) на верхушке не имеет столь длинной кисточки, а только белый кончик, и
притом не всегда. В остальном же [главное, что эта разновидность] почти в шесть раз
мельче [гигансткой] и не достигает даже и размеров мохноногого тушканчика, хотя
отличается, несомненно, весьма твердыми костями (это относится к особям взрос-
лым, которых излавливают ранней весной), в то время как у некоторых экземпля-
ров гигантской разновидности, наоборот, обнаруживается, что их кости в этот же
[ранневесенний] период снабжены неокостеневшими эпифизами. Три эти столь силь-
но несхожие друг с другом размерами разновидности, из которых первая, впрочем,
отличается от других также и иными характеристиками [помимо размера], - три эти
разновидности я не могу все же счесть за отдельные виды: у них есть такая вполне
постоянная черта, как пятипалые стопы задних конечностей, да и по цвету и по
большей части характеристик своей внутренней структуры все [эти три разновидности] сход-
ны друг с другом и вместе с тем отличаются от всегда трехпалого, мохноногого тушканчика
многочисленными признаками.
Роют свои норы большие тушканчики в любой более или менее прочной почве,
обитают же по всем песчано-болотистым пустынным местам Татарии, от Лона и до
Оби, причем не только по повышениям рельефа и по сухим местообитаниям, около
холмов и по обрывам, но также и в засоленных низменностях, на которых, впрочем,
выбирает себе для житья бугры, а норы роет соответственно меньшей глубины, [чем в
сухих местообитаниях]. Что же касается зыбучих песков, которые любит мохноногий
тушканчик, то там большой тушканчик живет реже, и хотя в Забайкалье он встреча-
ется в песках, но все же чаще попадается в местах каменистых и довольно прохлад-
ных, нежели где-либо еще. Весьма удивительно, каким образом это животное столь
быстро роет свои норы, в поперечнике несколько более широкие, чем оно само, хотя
ему и мешают при рытье его длинные голени. Впрочем, роет свои норы большой туш-
канчик преимущественно в почве более или менее мягкой, буравя ее головой и
сотрясая песок [раз за разом], поднимая при этом тучу песка; в более твердых грун-
тах он размельчает землю с помощью выставленных вперед зубов, а затем кистями
передних лап удаляет из хода измельченную землю, выбрасывая при этом кзади
стопы задних лап. Поэтому у входа в нору всегда можно видеть длинную гряду
выброшенной земли, в особенности же в тех местах, где большой тушканчик лишь
недавно вырыл себе жилище. Норы часто в длину имеют несколько локтей и про-
никают в землю под очень косым углом и зигзагами, спускаясь под поверхность не
более чем на полтора локтя и заканчиваясь просторным гнездом, устланным очень
мягкими и чистыми травинками.
Вход в нору чаще одинарный, реже двойной, с боковым ответвлением; днем
отверстие норы с выброшенной землей бывает хорошо заметно снаружи, причем
заметно, что сам вход заперт набитым в него песком. Монголы рассматривают [такой
запечатанный вход в нору] как самое верное указание на то, что здесь в своем гнезде пря-
чется большой тушканчик; меня тоже этот признак ни разу не обманывал. В то же время
открытые норы, наоборот, всегда оказывались брошенными. У выхода из гнезда
большой тушканчик обычно устраивает еще одно [запасное гнездо], лежащее, однако,
чуть в стороне и не открывающееся отверстием наружу, но целиком со всех сторон
закрытое земляной коркой. Если что-нибудь мешает большому тушканчику восполь-
зоваться обычным выходом, он одним прыжком попадает в это [запасное гнездо].
296
В продолжение дня большие тушканчики всегда прячутся в своих норах. Любо-
пытно, что это животное, которое от легкого похолодания коченеет и его надо ото-
гревать за пазухой, в то же время не выносит и дневной жары и прячется днем, в
своей ноэе, причем даже затыкает себе выход, чтобы лучше насладиться прохладой в
своей подземной постели; а ночью, наоборот, оно бродит по поверхности довольно
бодро, хотя в этих областях Востока ночь часто весьма холодна.
Когда больших тушканчиков держат дома в натопленном помещении, они всегда
днем спят в укромном месте или в гнезде, которое устраивают в своей клетке,
причем голову и передние лапы они кладут на бедра, сворачиваясь всем туловищем
в клубок наподобие того, как это делают сурки. При этом свои мягкие и сложенные
на затылке уши они обвертывают вокруг головы и прижимают к затылку (как кажет-
ся, чтобы не охлаждаться) и лежат, опираясь на круп или на бок, наружу же выставив
спину. Если их потревожить во сне, они машут задними лапами и как-то пытаются
себя защитить. Если их вытащить из [темного ящика, где их держали,] на дневной
свет, они долго не могут твердо стоять на ногах, как будто безумные или пьяные, не
издают ни звука и с трудом могут поднять и напрячь уши; их после этого нелегко
заставить прыгать: наверное, в жарком ящике они становятся вялыми. Ведь у себя в
степи, если большой тушканчик роет нору и вдруг услышит шум, он сразу бросается в
бегство.
Напротив, всю ночь большие тушканчики подвижны, а если такой тушканчик заперт в
ящик, то он за одну ночь часто может перегрызть жерди толщиной в дюйм, хотя на
вид по его тонким зубам и слабосильному сложению едва ли можно предположить в нем
такую крепость. Если выпустить большого тушканчика [ночью] из ящика, он выбегает
оттуда с оживленным видом и поднятыми ушами; а если его рассердить или схватить
рукой, он пищит голосом, похожим на голос новорожденного щенка, или же похрю-
кивает и издает некий раздраженный храп. Но так ведут себя только большие туш-
канчики, еще не привыкшие к человеку.
[На воле,] в пустынных местностях большие тушканчики обычно выходят из своих
нор с заходом солнца, очистив прежде свое жилище от сора; можно их видеть и в часы
раннего утра, пока восходящее солнце не поглотит росу.
Завидев опасность, большие тушканчики немедленно устремляются в бегство
саженными прыжками, причем движутся не по прямой, но запутанными зигзагами,
бросаясь то в ту, то в другую сторону, чем утомляют своих преследователей. При этом
они стараются отыскать заметный вход либо в свою, либо в чью-нибудь еще нору,
куда им можно было бы спрятаться. Так они часто могут прыгать довольно долго,
причем более крупных из них трудно догнать даже на лошади; вообще же они все
такие прыткие, что, когда большой тушканчик стремительно несется, кажется, что он
едва касается земли ногами. Силой прыжка большой тушканчик особенно обязан
длинным и мощным голеням, а отчасти также и элатерам хвоста. Действительно,
когда вообще всякие тушканчики стоят или ходят, они опираются на землю также и
хвостом, согнутым в виде сигмоидального изгиба, как это изображено на нашей
таблице. Хвостом же они ударяют по земле, когда подпрыгивают; а в самом прыжке
используют хвост как руль. С его помоищю они могут менять направление прыжка.
Если большого тушканчика с какой угодно высоты, подняв рукой, бросить затем на
землю, он приземляется на задние лапы благодаря равновесию, поддерживаемому с
помощью хвоста, который он вытягивает по прямой линии и слегка подруливает. И
даже если его с силой нарочно бросить на передние лапы, то ему довольно быстро
снова удается опереться всем телом на голени задних конечностей.
Когда большие тушканчики ничем не напуганы, они либо ходят наподобие зайцев
на всех четырех лапах, а иногда поднимаются на задние лапы и изящным движением
озираются вокруг, вслушиваясь в то же время в окрестность своими напряженными
ушными раковинами; либо же, прижав к телу маленькие передние лапки, передви-
297
гаются прыжками на двух задних, что напоминает прыжки ворон. Когда они зани-
маются рытьем или собирают пищу, они опираются на кисти передних конечностей; а
когда их угощают чем-нибудь вкусным, они хватают это теми же кистями и потом
поедают, привстав на задние лапы.
Приручаются большие тушканчики (даже взрослые) очень быстро. Любят прятаться
у человека за пазухой и вообще всегда выискивают более теплые уголки. Если в
холодные весенние или осенние дни оставить их на ночном воздухе, не под крышей,
то они (в особенности более мелкие и более молодые экземпляры) легко и целиком
впадают в спячку, так что раньше бывало так, что я их принимал за мертвых и анато-
мировал, не догадываясь сначала положить за пазуху и посмотреть, не оживет ли
зверек. Холод и дождливую погоду они могут и заранее предчувствовать, и тогда они
как можно плотнее закутываются в солому, а те, что живут на воле, тщательнее заку-
поривают входы в свои норы.
Если они оторваны от земли и заключены в какое-нибудь темное место, они быстро
становятся вялыми и все запачкиваются. Но если им в ящик добавить земли или
песка, они вдруг как будто от какой-то болезни выздоравливают, становятся более
веселыми и подвижными. После этого они больше начинают заботиться о чистоте
своей шкурки, часто прочищают рот кистями передних лап, а также очень изящно
счищают с передних лап грязь, обтирая одну лапу о другую.
Кормить их нетрудно: они поедают всяческие сочные овощи, например капусту и
морковь; а также хлеб. Если принести большому тушканчику арбуз, он за одну ночь
ловко добывает из него всю мякоть, проделав одно единственное отверстие и остав-
ляя от арбуза только кожуру и семена. То же самое они часто имеют обыкновение
проделывать и на бахчах, где выращиваются арбузы с дынями. В питье же при этом
они совсем не нуждаются, потому что из своей пищи извлекают столько жидкости,
что даже могут выделять много (до нескольких унций в день) мочи, каковую, между
прочим, они, как я видел, нередко лижут. Они с удовольствием едят также сырое
мясо, а внутренности мелких птиц даже предпочитают травяной пище. На Селенге я
держал много больших тушканчиков в одной клетке; они, по-видимому, жили в
дружбе друг с другом; но все же я почти каждое утро находил по крайней мере хотя
бы одного из них мертвым, с выцарапанными глазами и мозгом. Мозг при этом бывал
извлечен из черепа через глазницы.
Между монгол и бурятов держится мнение, что большие тушканчики по ночам
приходят в овечьи стада и сосут там у овец вымя. Тут несомненная правда заключа-
ется в том, что ночью большие тушканчики по привычке и охотно бродят среди овечь-
их стад и беспокоят и пугают овец своими скачками.
В пустынях на западе (своего ареала! большие тушканчики преимущественно на-
селяют места, благоприятные в различных отношениях для роста тюльпанов, луко-
вицы которых эти тушканчики вырывают и питаются ими. Впрочем, основную часть
их рациона составляют травянистые растения пустынь: марь, лебеда, а также солянки
и саликорниум; кажется, при питании солеными кормами рождаются более мелкие
тушканчики. В Забайкалье, где как я говорил, все (тушканчики данного вида! имеют
постоянно один и тот же, средний размер тела, питаются чаще всего луковицами пом-
пониевой лилии, каковыми и я обычно кормил тех тушканчиков, которых там
держал у себя дома. Грызут они также ветки караганной робинии, растущей в степях;
в зарослях этой робинии они охотно пасутся.
Поедают этих тушканчиков не только мелкие хищники, но и люди. У арабов упот-
требление в пищу других мышей запрещено, но большой тушканчик разрешен и даже
считается лакомством, причем у них существует даже обычай продавать тушканчика
прямо в норе. Появилась поэтому у них даже пословица (наподобие ’’покупать кота в
мешке”!, потому что очень часто оказывается, что купленная нора разрыта зря и (в
действительности не содержит тушканчика]. Арабы также имеют обыкновение
298
сушить мясо большого тушканчика. Однако употребляют это животное в пищу не
только они, но также калмыки, занимающиеся пастушеством тараты и монголы.
Все эти народы считают лакомым кусочком угощение мясом большого тушкан-
чика. У монгол особенно мальчишки весьма искусны в ловле тушканчиков.
Действительно, они не только очень ловко умеют выискивать норы и прекрасно
отличают брошенную нору от обитаемой, и не только знают, как завладеть добычей,
разрывая норы или заливая их водой; но также, собравшись по нескольку, преграж-
дают путь убегающему тушканчику втыкаемыми со всех сторон палками, так что
обычно ни один тушканчик от них не может спастись. Впрочем, шкурки у тушкан-
чиков очень тонкие и явно непригодные для шитья одежды; добывают их только на
мясо. . .
В жарких странах большой тушканчик рождает, по-видимому, по нескольку дете-
нышей (летом). В Забайкалье, самом холодном из всех обитаемых большими туш-
канчиками регионов, куда весна приходит не раньше мая, мне приносили детены-
шей большого тушканчика не ранее первых дней июня, но уже весящих по несколь-
ку унций, хотя еще в эту пору и слепых. В прикаспийской пустыне они рождают уже
в начале мая, а потом еще раз в середине сентября; в это время около Ника мне
принесли несколько экземпляров карликовой разновидности, и это были, самки с
напряженными грудными железами и расслабленными, морщинистыми, сильно
выступающими сосками, что, по-видимому, можно было считать несомненным признаком
недавних родов. Сколько детенышей могут родиться за один раз, точно не скажу; впрочем,
по числу сосков надо утверждать, что их число бывает больше восьми. Зимой, конечно, все
большие тушканчики там впадают в спячку и прячутся, не имея никакого корма,
потому чтд и запасов его себе не собирают. Однако в Астраханской пустыне гигантс-
кие и карликовые особи этого вида часто уже в середине февраля (если выпадают
теплые дни) выходят из своих нор, впрочем, иногда лишь для того, чтобы снова
спрятаться в них, как только вернутся холода”.
СОЧИНЕНИЕ
"ZOOGRAPHIA ROSSO-ASIATICA”-
ВЕРШИНА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕРИОЛОГИИ ХУШ в.
”Zoographia Rosso-Asiatica” (’’Зоография Россо-Азиатика”) - главное зоологическое
сочинение Палласа - труд, который обобщил все его териологические работы пе-
тербургского периода (рис. 88).
Определяя задачи книги, Паллас писал в предисловии, что он стремился предста-
вить не ’’голый перечень имен - скелет названий, слегка прикрытый оболочкой
скудных наблюдений и описаний, как это в большинстве случаев дается, но простран-
ное полное описание, подобное универсальной зоологии”. И действительно, эта
монография представляет собой такое произведение. В ней описаны все известные в
то время отечественные позвоночные, их образ жизни, нравы, периодические явле-
ния в их жизни, показаны границы их распространения, нашли свое отражение
естественнонаучные взгляды Палласа. Научные взгляды ученого наиболее полно
выражены в предисловии и во введении к разделу ’’Млекопитающие”.
Паллас впервые охарактеризовал фауну России, отметив главные ее особенности:
богатство природы в Сибири, наличие в Байкале и Каспийском море тюленя, изоли-
рованность и прерывистость распространения зубра, своеобразие животного мира
степей Прикаспия и Сибири, богатых широко предствленными видами грызунов и
птиц, отсутствие в Крыму белки и медведя, исключительную бедность зверями
тундры (он назвал ее ’’полярной пустыней”) и, напротив, поразительное изобилие
зверей, в том числе крупных, в районах, примыкающих к Уралу и Кавказу. ’’Горы, -
писал он, - которые образуют южную границу Сибири, как и Уральский хребет,
отделяющий Сибирь от Европейской России, и высочайший Кавказ, очень богатый
299
ZOOGRAPHIA
ROSSO-ASIATIC A,
SISTENS
OMNIUM ANIMALIUM
IN EXTEN SO IMPERIO RO SSI CO
ВТ
AD J ACENTIBUS MARIBUS OBSERVATORVM
RECENS1ONEM, DOMICILIA, MORES ET DES C RJ PT I ON ES.
ANATOMEN ATQUE ICONES PLURIMORUM.
AUCT08I
PETRO PAllJS,
ОД A«B. ACABSMICQ PMTftOFOiar Aho.
V о L V M В К ? К Г M £ ML
PETROPObl
IN OFFICINA CABS* ACAREM1AB SCfKNTIABUM 1MFBBSS* MDCCCXb
ШТ. MRCCCXXXb
Puc. 88. Титульный лист труда Палласа ’’Zoographia Rosso-Asiatica”
различными, в том числе и крупными, животными рода оленей и хищных, в то время
как равнины больше всего имеют мелкие виды родов хорьков и собак и из-за обильно имею-
щегося здесь корма кишат удивительно разнообразными и многочисленными пред-
ставителями рода мышей. Огромные пустыни Татарии и Монголии известны стадами
тарпанов, джигетаев, куланов и антилоп, на которых охотятся соседствующие с ними
тигры, барсы и пантеры. Северные же пустыни не дают никакого пропитания живот-
ным, кроме северных оленей” (Pallas, 1811. Р. 3).
Характеристика териофауны России, которую дал в своем труде ’’Зоография”
Паллас, основывалась на огромном экспедиционном материале и была настолько
полной и точной, что и теперь наши зоогеографические представления остаются, в
сущности, такими же, два века исследований внесли лишь поправки и дополнения.
Паллас дает тщательный анализ состава отечественной териофауны. Показывает
полное отсутствие в ней неполнозубых, но отмечает обилие широко представленных
грызунов и морских млекопитающих (тюлени, моржи, киты). Общее число видов
млекопитающих, обитающих в России, он определяет несколько более 150, включая и
300
домашних животных. ”Из них, - пишет он, - у нас должным образом описаны и
свойственны в основном лишь русской фауне более 50, большая часть коих из
отряда грызунов, немало из отряда хищных и несколько из копытных” (Р. 4)
(табл. 1).
К первой группе отнесены млекопитающие, живущие в арктической области -
Северном Ледовитом океане и в тундре (Паллас называл ее ’’зоной полярных пус-
тынь” - ’’Zone polaris glabretis ”). ”К Арктическому морю и ледовым пустыням поляр-
ной зоны, составляющим побережье Сибири, - пишет он, - как и везде в подобных
областях, относится малое число видов” (Р. 5). Млекопитающих этой области он
подразделяет на морских и наземных (табл. 2).
”Из них, - пишет Паллас, - только лемминги копытный и сибирский, а также аль-
пийская пищуха живут, насколько мне известно, в арктической области” (Паллас,
1811. Р. 5). ’’Песцы представлены во всей безлесной части Сибири и на Камчатке, а
также на нескольких островах у побережья Азии... Северные олени обитают вдоль
горных хребтов вплоть до вечных снегов Центральной Азии, где, без сомнения, и есть
их родина. Остальные выше перечисленные виды представлены по всему пространст-
ву Империи или, по крайней мере, по всей холодной и пустынной ее части” (Р. 5-6).
В особую группу ученый выделил лесных млекопитающих, живущих, как он
писал, ”по всем климатам России и Сибири, независимо от географической долготы, там,
где есть леса”.
К ним он отнес рысь, обыкновенную лисицу, бурого медведя, бобра, ондатру (она
водилась на Аляске, принадлежавшей тогда Российской империи), азиатского бурун-
дука, обыкновенную белку, летягу, европейскую норку, соболя, ласку, горностая и
лося.
Этой группе Паллас противопоставил млекопитающих, которые не переносят
’’северный холод” и живут в различных широтах. Он подразделял их на три группы.
”1-я группа. Звери, способные жить севернее 60е с.ш.: барсук, лесная куница, коло-
нок, черный хорек, европейская норка, речная выдра, бурый ушан, сивуч, северный
морской котик, лахтак, крот европейский, кутора обыкновенная, пищуха альпий-
ская, белка обыкновенная, пасюк, черная крыса, суслик (вид не указан), полевка,
лесная мышь, благородный олень, косуля, аргали.
2-я группа. Млекопитающие, едва достигающие 56е ели барс [леопард], манул, корсак,
красный волк, обыкновенный еж, ушастый еж, двуцветный кожан, заяц-беляк,
заяц-толай, даурская пищуха, степная пищуха, степной сурок, даурский цокор,
обыкновенная слепушонка, степная пеструшка, обыкновенная полевка, большеу-
хая полевка, обыкновенный хомяк, серый хомячок (подвид arenarius) джунгарский
хомячок, барабинский хомячок, большой тушканчик, мохноногий тушканчик,
лесная соня, лесная мышовка, степная мышовка, полевая мышь, мышь-малютка, си-
бирская кабарга, сибирский горный козел, сайга, дзерен, кабан, тарпан и джигетай.
3-я группа. Млекопитающие, обитающие южнее 50е с.ш.: тигр, [снежный] барс,
камышовый кот, крылатка, северный морской котик, дикобраз гребенчатый, обык-
новенный слепыш, общественная полевка, серый хомячок (подвид accedula), серый
хомячок (подвид phaeus), полуденная песчанка, тамарискодая песчанка, полчок,
орешниковая соня, двугорбый верблюд, газель торкас, серна, безоаровый козел,
кавказский горный козел, аргали, тур и кулан”.
Исходя из расположения горных систем, Паллас установил важную закономер-
ность распространения млекопитающих: распределение их соответствовало трем
основным горным системам России - Кавказу, Уралу и тянущейся вдоль южной
границы Сибири цепи величайших гор Центральной Азии, которую он называл Великим
Азиатским хребтом (’’magnum dorsum Asiae”).
Паллас показал, что границы распространения многих видов млекопитающих,
особенно крупных, не отходили далеко от горных хребтов. Для объяснения этих
301
Таблица 1
Новые виды млекопитающих русской фауны, открытые академическими экспедициями в XVII в.
Обозначение Палласа Современное название
Felis manul, Р. catolynx, Gtild. Canis melanotus, P. korsak. Lin. alpinus, P. Viverra lutris, Stell. Mustela sibirica, P. zibellina, P. sarmatica, Gtild. nigdrrima, P*. Felis manul — манул Felis chaus — камышовый кот Vulpes vulpes — обыкновенная лисица Vulpes corsak — корсак Cuon alpinus — красный волк Enhydra lutris — калан Mustella sibirica — колонок Martes zibellina - соболь Vormela peregusna — перевязка Martes flavigula — харза (?) подвид aterrima?
Phoca leonina, Stell, ursina, Stell, scapularis, Lepech. equestris, P. leucogona, Lep.** Erinaceus auritus, P. Sorexmoschatus, Gmel. rufillus, P. minutus, Laxm. pygmaeus. P. Lepus tolai, Gmel. alpinus, P. ogotona, P. pusillus, P. hyperboreus, P. Eumetopias jubatus — сивуч Callorhinus ursinus — северный морской котик (Gen.? Sp.?) - Phoca fasciata — Крылатка (Gen.? Sp.?) - Erinaceus auritus — ушастый еж Desmana moschata — русская выхухоль (Gen.? Sp.?) - Sorex minutus (?) - малая бурозубка (?) minutissimus — крошечная бурозубка "Lepus tolai - заяц-толай Ochotona alpina — алтайская пищуха daurica - даурская пищуха pusilia — степная пищуха alpina — алтайская пищуха (подвид)
Mus typhlus, Gtild. aspalax, P. talpinus, P. torquatus, P. Mus lenensis, Gmel. (Mus hudsonis) lagurus, P. socialis, P. oeconomus, P. gregalis, P. rutilus, P. alliarius, P. saxatilis, P. accedula, P. phaeus, P. Mus songarus, P. furunculus, P. jaculus, Gmel. tamariscinus, P. meridianus, P. vagus, P. caraco, P. agrarius, P. minutus, P. Antilope saiga, P. gutturosa, Gmel. Aegoceros caucasicus, Gtild. Equus hemionus, P. Trichechus orientalis, Stell. Delphinus leucas, P., Lep. Spalax microphthalmus - обыкновенный слепыш Myospalax aspalax — дуральский цокор Ellobius talpinus - обыкновенная слепушонка Dicrostonyx torquatus - копытный лемминг То же Lagurus lagurus — степная пеструшка Microtus socialis - общественная полевка oeconomus — полевка-экономка gregalis — узкочерепная полевка Clethrionomys rutilus — красная полевка Alticola strelzowi — плоскочерепная полевка Alticola macrotis — большеухая полевка Cricetulus migratorius — серый хомячок То же, подвид phaeus Phodopus sungorus — джунгарский хомячок Cricetulus barabensis - барабинский хомячок Allactaga jaculus — большой тушканчик Meriones tamariscinus — тамарисковая песчанка meridianus - полуденная песчанка Sicista subtilis — степная мышовка Rattus norvegicus - пасюк Apodemus agrarius — полевая мышь Micromys minutus — мышь-малютка Saiga tatarica — сайга Gazella gutturosa — дзерен Capra caucasica - тур Equus hemionus — джигетай Odobenus Yosmarus — морж Delphinapterus leucas — белуха
* - видимо, опечатка. Возможно, М. aterrima. Zoograph., Т. 1, Р. 81.
** - может быть, Ph. leporina (?).
Млекопитающие полярной области
Таблица 2
Обозначение Палласа Современное название
Морские
Ursus marinus Rosmarus Phoca scapularis leucogona vitulina Cete* Ursus maritimus - белый медведь Odobenus rosmarus — морж Gen.? Sp.? Gen.? Sp.? Phoca vitulina — обыкновенный тюлень Sp.? - кит Наземные
Canis lupus lagopus Ursus gulo Mustela herminea gale Lepus variabilis hyperboreus Mus lemmus torquatus Mus lenensis amphibius oeconomus rutilis Sorex vulgaris Cervus tarandus Canis lupus — волк Alopex lagopus - песец Gulo gulo — росомаха Mustela erminea — горностай nivalis —ласка Lepus timidus — заяц-беляк Ochotona alpina — альпийская пищуха Lemmus sibiricus - сибирский лемминг Dicrostonys torquatus — копытный лемминг Arvicola terrestris — водяная полевка Microtus oeconomus — полевка-экономка Clethrionomys rutilus - красная полевка Sorex araneus — обыкновенная бурозубка Rangifer tarandus - северный олень
*Вид кита не указан.
фактов Паллас выдвинул гипотезу о происхождении наземных млекопитающих на
горных вершинах. ’’Видимо животные, менее приверженные к равнинам и менее
склонные переселяться в поисках добычи, - писал он, - ушли не столь далеко от тех
горных хребтов, где жили их предки, где, несомненно, и была колыбель всех назем-
ных животных, когда равнины покрывало море. Поэтому весьма вероятно, что
отдельным островам, образованным в глубокой древности возвышавшимися над
первобытной гладью моря хребтами гор, были свойственны характерные виды четве-
роногих” (Р. 7). Паллас объясняет и возникновение ’’Местных видов”. ’’Такие живот-
ные, - продолжал он, - оставаясь на протяжении ряда стольких веков на прежнем
месте или по соседству с ним, дают ’’местные формы”. Опираясь на эти факты, а также
на то, что другие животные (европейские и африканские) не обитают на Азиатском
хребте, можно логически восстановить первоначальное состояние нашего земного
шара, о котором свидетельствуют и другие произведения природы, представленные в
геологических слоях земли. По той же причине все растения и животные Южной
Америки являются характерными видами (species peculiares), только ей присущими”
(Р. 8).
Но Паллас не только дает правильный ответ на причину столь резких отличий
нашей фауны от фауны, в частности Южной Америки. Он подробно разбирает харак-
терные виды млекопитающих каждой горной системы России. ’’Так, мне представля-
ется, - сообщал он, - что с Карпатского и Кавказского хребтов и связанных с по-
следними хребтов Армении и Персии вышли: камышовый кот и домашняя кошка, пе-
ревязка, обыкновенный слепыш. В том же горном крае до сих пор живут: кавказский
горный козел, персидская белка, кавказская длиннохвостая белозубка.
303
Вокруг Уральского хребта обитают: степная пищуха, алтайский цокор и многие
другие. Наконец, к Большому Азиатскому хребту относятся: буйвол, другорбый
верблюд, дзерен, сибирская кабарга, тигр, барс [леопард, снежный барс], манул, соболь,
колонок, малая бурозубка, крошечная бурозубка, ушастый еж, алтайская пищуха,
заяц-толай, даурская пищуха (последняя ограничена восточной областью), даурский
цокор, полевка-экономка и др. И подобно тому, как эти виды должны быть отнесены
к северным областям этого обширного хребта, где, по-видимому, и есть их родина,
гак и южный склон хребта, в сторону Индии и Китайской империи, имеет много
характерных только для него видов, неизвестных ни в Африке, ни в Америке” (Там
же).
Далее Паллас на основании сопоставления фаун России и Сибири указал на отсут-
ствие в Азии распространенных в европейской части России ряда европейских видов:
европейской лани, домашней кошки, лесной куницы, перевязки, европейской норки,
ежа обыкновенного, русской выхухоли, куторы обыкновенной, зайца-русака, обык-
новенного слепыша, обыкновенной полевки, лесной мыши, черной крысы и орешни-
ковой и садовой сонь” (Там же).
Сравнивая фауну Сибири и Северной Америки, Паллас отмечает некоторые общие
виды наземных млекопитающих, но указывает на то, что их не столь уж много, как
считали некоторые натуралисты, и что они несколько отличаются. ’’Известно, - писал
Паллас, - что американский медведь и американский барсук, похожие на наших, все
же отличаются от них и повадками, и внешним видом. СПШо auebecana и Marmota
juebecana (Empeta) отличаются от близких им наших видов, и, может быть, американ-
ская росомаха не есть разновидность нашей. Общими для Америки и Европы, вне
всякого сомнения, являются следующие виды: рысь, волк, его разновидность nig-
ra, лисица, песец, выдра, соболь, горностай, ласка, Sorex araneus, малая бурозубка,
обыкновенный бобр, заяц-беляк, водяная полевка, полевка-экономка, суслик,
азиатский бурундук, лось, северный олень, аргали.
Некоторые из них, однако, не представлены в Северо-Восточной оконечности
Сибири - ближайшей к Америке; таковы - лисица, соболь, лось, бобр, заяц, избегаю-
щие ледовой безлесной пустыни, по-видимому, они некогда пришли из Южной части Азии”
(Р. 8-9).
Для объяснения этого загадочного обстоятельства - исключительно бедной фауны
Чукотского полуострова - Паллас выдвигает гипотезу о миграции млекопитающих из
Северной Америки через Алеутские острова, по плавающим льдам и соответствую-
щим мысом Северной Америки на уровне 53-54° сев. широты, когда острова не были
разделены таким широким проливом. ”Но почему, - спрашивает Паллас, - на тех
островах, лишенных лесов, ныне не живут четвероногие, за исключением песца, ли-
сицы и некоторых видов мышей? Разве только предположить, что остальные виды
из-за отсутствия лесов на тех островах, через которые они переселялись, были разог-
наны или уничтожены. Не лишено смысла также предположение, что в той области
земного шара, которая покрыта многочисленными огнедышащими горами и страда-
ет от землетрясений, был сплошной материк. Но вместе с тем кажется поразительным,
что некоторые животные, общие для Америки и Северной Европы, совершенно не
встречаются во всей Сибири, например куница, норка, бизон. Я думаю, что это может
быть объяснено лишь тем, что из животных Северной Америки, каковы американс-
кие барсук и медведь, койот, американская норка, различные обитающие в Новом
Свете хорьки, Marmota quebecana, ондатра, заяц американский, лишь очень немногие
перебрались к нам через пролив и размножили свой вид в Восточной Сибири” (Р. 10).
Паллас останавливается на проблеме миграции млекопитающих. Он отмечает, что
хотя миграции зверей относительно редки, но в России они наблюдались не раз.
Паллас указывает н*а перемещения в северных областях копытного и сибирского
леммингов, в Восточной Сибири - полевок-экономок, а также миграции через
304
каспийские и киргизские степи (он их называет пустыни Татарии) степных пестру-
шек, сообщает о периодических перемещениях через всю Европу и Россию серой
крысы и полевой мыши, увлекающих за собой стаи лисиц и песцов. Паллас отмечает
перемещения в Сибири медведей, зайца-беляка, белки, вызванные недостатком
корма. Миграциями объясняет Паллас общие для всей Европы, России и Си-
бири виды зверей. К ним он относит медведя, рысь, волка, лисицу, горностая,
хорька, далеко увлекаемых своей прожорливостью, а также зайца-беляка, обыкно-
венную белку, сусликов, пасюка, домовую мышь, кабана и косулю. ’’Однако, - пишет Пал-
лас, - нельзя не удивляться тому, что белки, распространенные по всей России и Сибири,
также обычные и на Кавказе, не перешли вместе с зайцем-беляком, волком, лиси-
цей, хорьком и косулей в Херсонес Таврический, хотя там - изобилие корма как
садового, так и лесного. И не скажешь, почему колонок и соболь не перешли в Ев-
ропу. Ведь она отделена всего лишь Уральским хребтом, вовсе не неодолимым”
(Р. И).
Паллас обращал внимание и на климатические изменения цвета у ряда видов
млекопитающих, отмечая местные подвиды, например подвид волка nigra, встречаю-
щийся в Сибири, около Камчатки. Касаясь влияния климата на цвет шерсти у мле-
копитающих, Паллас писал: ’’Поразительно, что в холодном климате некоторые виды
животных склонны к белизне, прямо-таки по закону Природу. Зимой шерсть белая у
песца, горностая, ласки, зайца, или поседевшая, как у северного оленя, сайгака,
белки, с другой стороны, некоторые животные в северных областях больше склонны
к темной окраске, как, например, заяц-беляк, волк, лисица, хомяк, мыши, а другие
животные приобретают густой черно-бурый цвет, как то свойственно красавцу
восточных и горных областей соболю, белкам в тех же областях и ондатре” (Р. 252).
Существенное значение для териологии имели и прекрасные описания животных,
которые Паллас привел в ’’Zoographia Rosso-Asiaatica”.
Паллас первым стал различать внутривидовые категории. Он приводит, в частнос-
ти, сведения о черной (nirga) разновидности волка, распространенного на Камчатке,
описывает различные разновидности сусликов, сурков и др.
’’Zoographia Rosso-Asiatica” - также важный вклад и в систематику отечественных
млекопитающих. Как уже отмечалось выше, в ней дано описание около 150 видов
млекопитающих России, из них около 50 новых видов, эндемиков России, неизвестных
в Европе. Помимо новых видов млекопитающих, приведенных в предшествующих
работах, Паллас описывает в этом труде красного волка - Cuon alpinus Pallas, 1811,
ларгу - Phoca largha Pallas, 1811, муфлона - Ovis musimon Pallas, 1811, солонгоя - Muste-
11a altaica Pallas, 1811.
Описывая млекопитающее, Паллас сначала приводит его название на всех извест-
ных ему языках, затем дает краткую характеристику, далее сообщает сведения о
распространении, образе жизни, отмечает периодические явления в его жизни,
способы охоты на него. Затем идет описание внешних признаков зверя, его анатомии.
Описание млекопитающих Палласа различны. Известные виды он характеризует
кратко, новые - подробно.
Мы приводим ниже, к сожалению, из-за ограниченности объема издания не весь
раздел ’’Млекопитающие” из этого труда Палласа, а лишь описания видов из несколь-
ких семейств. В русском переводе публикуется впервые (пер. с лат.) Б.А. Старости-
на).
20. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
305
ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕВОД ЧАСТИ РАЗДЕЛА
’’МЛЕКОПИТАЮЩИЕ” ИЗ ТРУДА П.С. ПАЛЛАСА
’’ZOOGRAPHIA ROSSO-ASIATICA”
ОТРЯД I. ХИЩНЫЕ
Отряд хищных, будучи как бы очевиднейшим образом составлен самой природой,
еще со времен Аристотеля принят единодушным согласием зоологов. Он действи-
тельно очевиднейший по единообразному строению зубов, хищническому образу
жизни, питанию [другими! животными, по устройству органов пищеварения и вос-
произведения [этими и] другими моментами внешней морфологии легко объясняет-
ся [упомянутое] единодушное согласие. Впрочем, некоторые к этому же отряду при-
числяют и немалое количество родов ’’полухищных”, о которых я уже говорил; но
это менее соответствует природе.
Виды же собственно так называемых хищных или чисто плотоядных и охотящихся
на добычу животных, на земле очень многочисленны, хотя и не столь плодовиты. [Эти
виды] являются причиной большой плодовитости в отрядах травоядных животных,
нуждаясь в этой плодовитости уже в силу своей огромной и непрестанной прожорли-
вости, каковая, помимо особенностей их зубов (мелких передних зубов или резцов,
за которыми следуют клыки и снабженные тремя разобщенными бугорками корен-
ные) проявляется во множестве других изученных сравнительной анатомией черт.
Так, напр[имер], у всех хищных ключицы очень малы и не пригождаясь им, лежат в
толще мышечной клетчатки почти без всякого использования; позвоночник вытянут
в длину и весьма гибок; мышцы по причине своей упругости обладают огромной
силой; пищевод и весь пищевой канал очень широкие и короткие; слепаяи ободоч-
ная кишки очень короткие; пищеварительная сила желудка такова, что в нем легко
перевариваются и кости; самцы снабжены генитальный костью кожа весьма растя-
жимая, что облегчает движения, и, кроме того, снабжена мягким жировым слоем,
часто даже масляниста на ощупь.
Общим для них в большинстве случаев является и то, что детенышей они рожда-
ют слепыми и что, хотя это животные полные жизненной энергии и очень наэлектри-
зованные, тем не менее от малых доз рвотного ореха, как бы специфического смер-
тельного яда для всех хищников, немедленно умирают в судорогах и сразу после
смерти утрачивают всякую раздражимость нервов, сердца и мышц. Любопытно,
впрочем, что перистальтическое движение пищеварительного тракта при этом сохра-
няется.
Помимо этого ни одно животное из отряда хищных, как бы они ни были богаты
внутренним теплом и согреваемы великолепным мехом, не впадает в настоящую
зимнюю спячку, как это происходит с большинством полухищных и грызунов: только
медведи и барсуки, а равным образом некоторые из тюленей, обильно покрытые
слоем жира, проводят в покое часть зимы. Наконец, хищники, в особенности наи-
более мощные из них, одарены от природы способностью рождать лишь немногих
детенышей, причем лишь единожды в год. В большинстве случаев хищники опасают-
ся соседства человека, а при встрече с ним спасаются бегством.
[Род] 1. Кошки
В жарком поясе этот род насчитывает множество видов, в нашем же, холодном и
умеренном, меньше; а имеющиеся, как бы перебежчики [из жарких стран], обитают в
основном на крайнем юге [России]. Одна лишь рысь не боится северных холодов. Все
кошачьи ведут одинокий образ жизнд, поэтому немногочисленны и повсеместно
представляют собой редкую дичь.
В роде кошачьих принцип животной жизни как бы поднят на высшую ступень и
306
дух этой жизни достиг наибольшего развития. Отсюда огромная жизненная энергия,
ярость, гибкость, мощь. Отсюда же и наэлектризованность шерсти почти у всех этих
животных, и огненное мерцание глаз и темноте, каковое в гораздо более слабой
степени наблюдается в родах собачьих и куньих, у коней, китообразных, даже и у
человека (при мыслительном напряжении или когда он воспламеняется гневом; у
флегматиков же этого мерцания совсем не бывает). Этот огонь, по-видимому, пред-
ставляет собой чистое электричество сетчатой оболочки. Ведь, кроме нее, как бы
открывающей окно в самую внутренность глаза, во всем животном организме нет
больше места, через которое возможно было бы невооруженным взглядом увидеть
живое медуллярное вещество головного мозга. Если же далее специально поинте-
ресоваться свечением глаз в темноте под действием гнева или напряжения, способнос-
тей сенсибилизирующих; поинтересоваться, является ли это свечение по своей
природе действительно электрическим или же, например, фосфорным; тогда можно
выдвинуть довод, основанный на аналогии между принципом действия и электричес-
кой материей, разлитой по вселенной и разнообразно модифицируемой. Может быть,
во врожденной интенсивности упомянутого принципа и коренится огромная живу-
честь кошачьего и куньего родов. И по-видимому, неверно будет думать, как пола-
гают некоторые, что реакция на раздражение, осуществляемые даже при отсутствии
головного мозга, определяются одной лишь общей организацией нервной системы и
непосредственно при действии этой целостной организации вызываются в различных
частях организма. Ведь, например, осы с отрезанным брюшком, будучи подвергнуты
соответствующему раздражению, высовывают жало, а фаланги или кивсяки с уда-
ленными голенями долго еще сокращают оставшиеся части ног и дрожат. А к тому же
можно вспомнить и поразительные результаты новейших исследований по гальва-
низму. Но правда и то, что достаточно более внимательного восприятия своего собственного
организма, чтобы посредством внутреннего чувства непосредственно допустить
наличие отдельных чувствительных центров в различных частях тела. Наверное, уже
у наиболее простых животных, например, гидр все их способности, связанные с
основами их жизнедеятельности (каковые заключаются, по-видимому, в ощущениях
и простых движениях, выражающих желания), равномерно распределены по всему
телу: это, кажется, явствует из быстрого, без малейшей ошибки в последовательнос-
ти действий, восстановления этих животных после того, как их рассекли на части.
Притом я не понимаю, почему философы всегда стремятся отличать душу от
связанной с элементом огня деятельности нервной системы. Разве при таких значи-
тельных массах головного мозга, намечаемых еще в развивающемся зародыше,
которые, как свидетельствуют эксперименты, не проявляют непосредственного дей-
ствия, соответствующего такому объему мозга, особенно если к нему прибавить еще
мозжечок и спинной мозг, - разве при таком количестве мозгового вещества (хотя
бы мы и не могли с помощью наших органов чувств выяснить его организацию) не
может оказаться, что в нем содержатся еще неизвестные нам органы, наделенные
особенными свойствами: сосредоточивать чувствительную деятельность, создавать
идеи различных порядков, добавляя в то же время стимулы со стороны воли всей
остальной нервной системе; и разве не факт, что нервные стволы, будучи отрезаны от
головного мозга, при соответствующем внешнем стимуле могут исполнять функции,
аналогичные своему назначению в целостном организме? кто может доказать, что все
происходящее в мозге скорее есть акцидентальное действие некоей монады, нежели
функция особых органических структур, способных проявлять жизненную деятель-
ность? А если это действие монады, то откуда она появляется в зародыше, лишенном
разума? Куда она как будто испаряется в случаях удушья или обморока, кажущегося
смерью? Далее, откуда она возвращается, когда тело подвергнуто устраняющим
обморок раздражениям? Каким образом она может функционировать при поврежде-
ниях мозга? Может ли она погружаться в сон? И т.д.
307
1. Тигр. Кошка с удлиненным хвостом, с окраской шерсти желтой и снизу белой, с
темными пятнами в виде поперечных полос.
Иногда встречается возле Далай-Нура и Аргуни, но вообще распространен по всем
пустынным областям между Сибирью, с одной стороны, и Китаем и Индией - с дру-
гой, а также в той части Алтайских гор, что лежит за пределами Российской империи.
Рассказывают, что тибетцы защищаются от тигра с помощью запаха растертого
лука, развешивая таковой в мешочках вокруг своих жилищ. Если узнают о появле-
нии тигра, то стараются еще издалека отогнать его, крича в ночную темноту: ”Хауб!
Хауб!”, - ведь тигр боится огня и человеческого крика. Тигр имеет обыкновение прятаться
в засаде преимущественно между тростниками и в каменных зарослях, бросаясь оттуда
огромным прыжком. Лошади и онагры так боятся тигра, что верхом не представляет-
ся возможным догнать его верхом. Притом говорят, что при виде тигра эти живот-
ные столь пугаются, что даже и убежать не могут.
За шкуру тигра киргизы дают коня; служат же тигровые шкуры в основном для
обтягивания панцирей, сплетаемых из колец.
Примечание. Большей частю из бухарского ханства происходят шкуры, выстав-
ляемые в продаже у скорняков, а также та, что хранится в Академическом музее. По
размерам все эти шкуры часто превосходят львиные. Живой тигр, которого в импера-
торском охотничьем доме в Петербурге держали в течение нескольких лет, был
привезен бухарцами еще детенышем и так и не дорос за это время до полного размера
взрослого тигра, что, по-видимому, свидетельствует о медленном росте этого зверя.
Этот тигр, хотя на вид и по внешнему впечатлению был очень свиреп, настолько
привязался к своему сторожу-индусу, что когда этот входил при открытой
двери в комнату, где тигр сидел на тонкой цепи, то даже и в присутствии зрителей
можно было гладить его рукой, более того, смело вкладывать кулак в его разверстую
ужасную пасть. Когда же тигр проявлял свой гнев рычанием или сердитым выраже-
нием глаз, можно было его усмирить, разговаривая с ним или брызгая на него водой,
что ему, по-видимому, чрезвычайно нравилось.
Голова разукрашена очень красивым узором из мелких черных линий разнообраз-
ной формы, наиболее выраженном на макушке и у глаз. Над глазами довольно
заметное черное пятно, а в области бровей - белое.
Туловище сверху имеет ярко-желтую окраску, с попарно сближенными попереч-
ными полосами на спине. В поясничной области эти полосы сливаются, а на бедрах
полосы каждой пары идут более близко друг от друга [,чем спереди]. Снизу туловище
белое, с черными широкими полосами. На передних конечностях имеются косона-
правленные неотчетливые полосы, более заметные с боков. [Эти полосы также]
попарно сближены, причем полосы шеи и передних конечностей друг другу перпен-
дикулярны.
Ноги и хвост варьируют по размерам в поперечнике; в начале хвоста имеются
попарно сближенные желобки.
2. Ирбис [Unda unda]. Кошка с удлиненным хвостом, белесой окраской, хаотично
разбросанными кольцевыми пятнами, которые местами испещрены точками.
Из Центральной Азии это животное повсеместно проникает по субальпийским
лесным пустынным местностям Южной Сибири [на север], изредка в Алтайские горы;
довольно часто встречается в горных местностях по Енисею и у истоков реки Кам-
чук, а также у Байкала. Часто попадается, как сообщают, в районе реки Уть, а также
между ней и рекой Амуром. Приезжающие в эти места с Лены якуты до такой степени
его боятся, что прилагают к нему эпитет ’’ужасного” в превосходной степени (ка-хай),
а если наткнутся на его следы, то не смеют переступить через них, пока не наложат на
них лук. На Лене часто добывали этого зверя в окрестностях города Балаганска;
добывали его и на Олекме в 200 русских стадиях от устья. Я обнаружил, что это
наблюдение сообщено в черновых записках Гмелина старшего. Шкура ирбиса, храня-
308
щаяся в набитом виде в Академическом музее, принадлежала животному, убитому
около Тункинска в окрестностях Байкала.
Ирбис залезает на деревья, как рысь, а когда мимо проходят животные, особенно
лоси, сверху бросается на них. На человека нападает реже; однако может напасть на
спящих даже у самых костров, если бодрствующие на отпугнут его криком.
Описание. Шкура зверя - одна из наиболее дорогих среди сибирских и бухарских
мехов. По довольно густой шерсти легко распознать животное, предназначенное жить
в холодном и горном климате.
По величине ирбис немного меньше и стройнее леопарда, однако все же он более
крупный, чем сообщает Добантон. Цвет на спине от бледно-серого до пепельного, в
других местах белый. Макушка, щеки и затылок сверху испещрены простыми черными
точками. На затылке эти точки крупнее. Уши, в особенности по нижнему краю,
черные, у основания с черным пятном. Довольно крупные черные точки, соединен-
ные в линию вдоль позвоночника, идут от середины спины до хвоста.
Спина и бока все покрыты кружочками правильной или вытянутой формы. Кру-
жочки эти крупные, местами они прерываются точками или составлены из них, друг с
другом же почти сливаются, причем по краям каждый кружок почти черный, а
внутри белый. Кружочки поменьше разбросаны по предплечьям и бедрам, причем на
концах лап кнаружи имеются поперечные полосы. Хвост очень длинный, почти
4 1/2 пяди длиной, с пятнами, тянущимися в поперечном направлении, причем эти
пятна повсюду сливаются в некоторое подобие колец.
3. Леопард. Кошка с удлиненным хвостом, с желтоватой окраской туловища сверху,
с кольцевидными (правильной центрической формы) пятнами.
Я видел разнообразные шкуры этого животного, добытые на Южном Кавказе, в
особенности же в Армении где, согласно наблюдениям славнейшего Гильденштедта,
оно сводится в окрестностях горы Арарат. Случается иногда убивать этого зверя и в
лесах на самых вершинах Кавказского хребта, но это довольно редко; сообщают
даже, что он иногда забегает на северные отроги Кавказа. Довольно часто он устрем-
ляется в Персию; встречается и на возвышенностях, примыкающих с юга к Аральско-
му морю. В Восточную Азию вряд ли заходит; по-видимому, первобытной родиной
этого вида надо считать Африку. Цена шкуры в Кизляре 10—12 рублей, в Грузии до
20. По величине эти шкуры быват различными.
Примечание. Я видел шкуры длиной в 4 фута, с хвостом в 2 фута 7 дюймов; и
еше одну длиной 5 футов 6 дюймов, с хвостом длиной 3 фута 3 дюйма.
4. Гепард. Кошка с длинным хвостом, с волосистым гребнем вдоль шеи, с частыми
пятнами простой формы по всему телу.
В Киргизской пустыне, у восточного берега Каспийского моря повсеместен.
Шкуру, добытую туркменами, когда-то купил его превосходительство Карл Таблиц.
Она в точности подошла под описание, данное цитированными авторами.
Примечание. Окраска не спине желтоватая. Шерсть по всему телу короткая,
упругая, сравнительно жесткая. Пятна черные, повсюду рассеяны поодиночке. Грива
из довольно длинных волос. Величина средняя между рысью и степной кошкой,
ближе к рыси. Хвост также промежуточный по размеру между этими двумя видами.
5. Манул. Кошка с длинным, кольцевидно загнутым хвостом. Окраска тела белова-
то-желтоватая. С черными точками на макушке, с черными бороздами в околоушной
области.
Вид, довольно часто встречающийся в каменистых прогреваемых солнцем пустын-
ных местностях Татарии и Монголии, а в границах Российской империи - около
южных отрогов Уральского хребта, по окружности Алтайских гор, в Забайкалье.
Кроме того, этот вид распространен по всей Центральной Азии. Однако далеко на
север он в отличие от рыси не заходит. Степная кошка любит прятаться в пещерах и
скальных гротах. Имеет нрав раздражительный и злобный, охотится на мелких
309
животных, а в Даурии предпочтительно на детенышей зайцев. От дикой кошки отли-
чается премущественно окраской, мехом, пропорциями тела, а также тем, что у
степной кошки голова по большей части крупнее и хвост длиннее, чем у дикой.
Различаются эти два вида также числом коренных зубов, в остальных же отношениях
они очень похожи друг на друга. Похожи также и образом жизни. По своей злобной
раздражительности и по меху степная кошка напоминает рысь. Шкуры степной кош-
ки привозят на продажу бухарцы, по невысокой цене.
Описание. Величиной крупнее лисицы; морда, как у рыси, и пропорции ее же,
если не считать .хвоста. Окраска всего тела, как у рыси, желтовато-белесая, на которую
накладывают дополнительный оттенок разбросанные по шкуре темноокрашенные
волосы. Снизу окраска бледная. Нос темный в той части, которая не покрыта волоса-
ми; губы по голому краю черные. Верхняя губа разделена надвое глубокой черной
бороздкой, отходящей от перегородки между ноздрями. Нижняя губа подвижная, с
цельным гребневидным выростом на уровне клыков. Коренных зубов в верхней
челюсти с обеих сторон по два, из них лежащие кзади наиболее крупные; в нижней -
по три, из которых меньше других лежащие кпереди.
Язык по середине своего диска шероховатый из-за наличия на нем упругих крю-
чочков. Усы в четыре ряда, белые, у основания изогнутые; веки по голому краю
черноватые; ресницы только посередине верхнего век&; периофтальмий толстый,
морщинистый, окаймленный черной оборкой; радужные оболочки жидкожелтые;
зрачки продолговато-скошенные. Надбровный бугорок заметный, желтоватый,
окруженный приблизительно восемью торчащими в стороны белесо-желтоватыми
щетинками и еще девятью чисто черными. Уши короткие, широкие, более или менее
округлые, усеченные, по наружному краю ушной раковины почти полукруглые, по
внутреннему краю со стороны основания снабженные притупленными двойными
бугорками. Снаружи уши покрыты густым, мягким, одноцветно-бледно-желтоватым ме-
хом; изнутри голые, черные, но с опахалом из белых, слегка согнутых волос; эти
волосы растут на внутренней поверхности уха, начиная с самого его основания.
Конечности более крепкие и длинные, чем у домашнего кота и по пропорциям
приближаются к рыси или барсу; нижние части лап с обеих сторон желтоватые и
прикрыты черными полосами, на передних ногах - вплоть до запястий с их затвер-
делой кожей. Ступни задних конечностей снизу покрыты яркожелтыми волосяными
подушками. Кнаружи от пяточной кости ступни окаймлены черной бороздкой;
пальцы снизу черные, на плюсне мозолистое утолщение и над ним с обеих сторон по
пятну. На ногах белесые кривые когти, укрытые в кожистых вместилищах.
Хвост цилиндрический, покрыт бледно-желтой длинной шерстью; цвет ее чуть
бледнее цвета туловища. С девятью приблизительно кольцами, из которых первые
темные, последние черные, причем снизу эти кольца выглядят расплывчатыми.
Промежутки между кольцами к концу хвоста становятся шире. От верхушки хвоста
идет полоса, продольно связывающая три последних кольца. Полоса эта темноокра-
шена и является более блестящей, нежели остальная шерсть.
Вокруг носа шерсть окрашена в желтоватый цвет, на шее - в белый, на груди - в
пепельно-серый. На остальном теле шерсть на участках, обращенных кверху, стер-
то-желтая, а по бокам - беловато-сероватая. Верхушки волос, расположенных на
спине, темноокрашенные.
Верхняя часть головы между глазами и ушами испещрена расположенными очень
часто черными точками; под глазами продольная линия, от нее отходят две косопа-
раллельные околоушные борозды. Остальное тело без пятен, если не считать очень
стертые напоминающие полосы пятна на задней части спины у некоторых экземпля-
ров.
Мошонка становится заметной у самцов в возрасте около одного года; в этом же
возрасте препуциум приобретает белесую окраску и покрывается волосами.
зю
Вес шесть фунтов с половиной, у некоторых 7 1/2. Размеры: длина тела от кончика
носа до анального отверстия 1 фут 7 дюймов 3 линии; длина головы 4 дюйма 6 линий;
длина хвоста 9 дюймов, не считая выступающих дальше волос, которые добавля-
ют еще дюйм. Высота в плечах, считая до спинного хребта, составляет 10 дюймов
8 линий. Высота в крупе 11 дюймов 9 линий.
Окружность рта 2 дюйма 5 линий. Расстояние между глазом и носом 1 дюйм, длина
глазной щели 9 1/4 линий, расстояние от нее до уха 1 дюйм. Окружность морды в ее
передней части 4 линии. Расстояние между глазами 1 дюйм 1 линия, между ушами
2 дюйма 5 линий; наибольшая окружность головы 8 дюймов 2 линии. Длина предпле-
чья 4 дюйма 5 линий, ладони 3 дюйма 2 линии, когтей на передних конечностях 8
линий, длина голеней 4 дюйма 3 линии, длина стопы 4 дюйма. Длина когтей на задних
конечностях 6 1/2 дюйма. Окружность шеи 7 дюймов 5 линий, груди 10 дюймов 9
линий, живота 9 дюймов 10 линий.
Брюшина с обеих сторон очень жирная; она шире к дорзальной стороне и содержит
там особенно много жира. Печень семилопастная, весом 2 3/4 унции, непостоянная у
разных особей по форме. Левая доля печени самая широкая, овально-продолговатая,
снизу расщепленная, по краю зубчатая. Правая доля имеет форму как бы половины
сердца, снизу килевидная, к ней прилегает еще одна, совсем маленькая долька. Что
касается остальных, промежуточных долей печени, то из них одна маленькая, другая
справа от нее, побольше, овально-четырехугольная; еще одна, самая маленькая, угло-
ватой формы, примыкает к предыдущей. Шпигелевская доля по форме напоминает
язык. Селезенка' вытянута в полоску, длиной в три дюйма, весом в полторы драхмы,
с одного края пошире, стоповидная; другим, наружным краем тесно прилегает к
брюшине.
Желудок овальный, если не считать пилорического выступа, дном повернутый в
сторону диафрагмы. Если говорить о кишечнике, то длина тонкой кишки 3 фута 3 дюйма; на
расстоянии двух футов от пилоруса расположен железистый участок, другой же, бо-
лее крупный, вытянутый в продольном направлении такой участок расположен
перед слепой кишкой, на расстоянии трех дюймов от нее.
Слепая кишка короткая, конически изогнутая, тупая; тостая кишка имеет длину
12 дюймов 6 линий. У края анального отверстия с обеих сторон имеются овальные
желёзки, по форме напоминающие виноградины, а размером с боб. Окрашены эти же-
лезки снаружи в желтый цвет. Они пещеристы и через отверстие выделяют желтую
сукровицу. Пенис с цилиндрической головкой, с тупой и гладкой верхушкой, у
основания несколько тоньше, чем в остальной части. Длина его 2 1/2 линии; длина со-
держащейся в нем небольшой кости несколько меньше.
Оба легких трехдольные, причем в правом имеется еще вспомогательная, несим-
метрично# расположенная доля, сама почти расщепленная на два участка.
В скелете 13 пар ребер, из которых 9 настоящих. Поясничных позвонков 7, крест-
цовых 3, хвостовых 20, не считая хрящевидной верхушки хвоста.
Ключицы располагаются в толще мускулов, примыкая к верхнему краю грудной
клетки. Длина каждой из них 6 линий, считая вместе с покрывающим их концы хрящом.
Примечание. Пропорции тела этого животного, его общий облик и обитание на
возвышенностях вызывают во мне подозрение, что этот вид хищника происходит от
так называемой ангорской кошки, у которой шелковисто-пушистая шерсть. Китайцы
же держат эту кошку в качестве домашнего животного. Но притом она многим
отличается от обычной домашней кошки, хотя легко с ней скрещивается, находясь в
прирученном состоянии. Этот вопрос, наверное, может быть решен путем анатомичес-
кого сопоставления обоих видов.
6. Дикая кошка. Кошка с довольно длинным хвостом, к концу с кольцами; с заост-
ренными ушами, с телом без пятен, окрашенным сверху в пепельный цвет, а снизу в
желтый (конечности также желтые).
311
Часто встречаются в камышовых зарослях и субальпийских лесах вокруг Каспий-
ского и Аральского морей, а также по реке Тереку. Особенно же часто - в Северной
Персии, где Гмелин ее ошибочно счел за одичавшую домашнюю кошку. Питается
птицами, ночующими в камышах, мышами, даже рыбой. Будучи поймана, не прируча-
ется. Однако в Персии, куда она распространилась, ее называют тем же именем, что и
одичалую домашнюю кошку.
Описание. Размером между кошкой домашней и бюффоновским каракалом, иными
словами, почти равна собаке золотистой, да и окраской ее напоминает. По пропорци-
ям тела менее стройна, чем каракалла.
Нос, как у домашней кошки, разделен бороздкой, голой и непрерывно спускаю-
щейся на губу. Окружность рта белая. Резцы мелкие, долотовидные, почти одинако-
вые с обеих сторон. Из них задний сравнительно курпнее, конусовидный. Из верхних
коренных зубов первый очень маленький, средний треугольный, задний самый
крупный. Он трехбугорчатый и вырастает после остальных. В нижней челюсти тоже по
три коренных зуба с каждой стороны, причем первый из них конический и размером
несколько меньше остальных.
Усы в четыре ряда, состоят из многих щетинок. Эти последние по большей части
белесы, верхние же из них темноокрашены. Над носом имеется двухбороздчатая
полоса, отходящая затем в обе стороны к углам глаз. Надглазничный бугорок снаб-
жен пятью темными волосками и единственной белесой щетинкой. Щечные бугорки с
единственно крупной белой щетинкой. На околоушных бугорках по две щетинки.
Уши крупные, заостренные, с черными верхушками, с длинными волосками, обра-
зующими небольшие кисточки. Снаружи эти волоски рыжие, а во внутренней полости
прикрыты другими, бледноокрашенными волосами.
Тело стройное. Конечности длинные, тонкие, с желтоватыми роговыми когтями.
На передних ногах кзади от запястья выступает подошва, кнаружи несколько бугор-
чатая, голая, весьма выстоящая. Когти на пальцах передних конечностей почти
целиком убираются в свои вместилища. Ладони снизу черные. На ступнях черная
борозда, идущая от пальцев к пятке и покрытая довольно густыми волосами,
отогнутыми назад, как у зайца, а в сторону пятки постепенно приобретающими все
более и более ржавую окраску. Хвост по длине равен задним лапам, тонкий, как у
домашней кошки; цветом такой же, как спина, суженный к верхушке. Около вер-
хушки на хвосте отчетливо заметны кольца, темноокрашенные, охватывающие хвост
целиком и еще заходящие за точку, откуда начинаются, на целую треть окружности.
Окраска верхней губы и подбородка белая, на горле постепенно переходит в желтоватый
оттенок. В целом шея и нижняя поверхность всего туловища по продольной оси бледновато-
ржавая; цвет головы вокруг глаз ржавый с примесью темных полос; цвет ног ржавый, шерсть
на них имеет волнистый, несколько стертый оттенок. Сверху туловище все пепель-
но-серое, однако прикрыто снаружи более длинными черными волосами, так, что
образуются бледноокрашенные кольца. У шерсти имеется пепельно-серый подшер-
сток. Волосы несколько жестче, чем у домашней кошки. На спине их длина, если
говорить о зимней шерсти, составляет полтора дюйма или даже более. Общая длина
тела до хвоста составляет 2 фута 1 дюйм 8 линий, длина головы - 4 дюйма 10 линий,
длина хвоста без волос 9 дюймов 3 линии. Высота в стоячем положении спереди
12 дюймов, сзади 13 дюймов 6 линий. Длина ушей до верхушки 1 дюйм 10 линий, до
внешней пазухи 2 дюйма 4 линии. В хвосте около 18 позвонков. Язык щетинисто-ше-
роховатый. Пенис заостренный. Желёзки около анального отверстия наподобие тех,
что имеются у льва. Остальное смотри в описании, приведенном Гильденштедтом;
впрочем, его рисунок очень плох.
7. Кот домашний. Кот с длинным хвостом, с темными продольными полосами на
спине и на боках, а также со слегка изогнутыми трансверзальными полосами.
312
Напрасно мы стали бы искать кошек подлинно лесных и диких в лесах на террито-
рии почти всей Российской империи, если только не захотели бы счесть за таковых
беглецов, вернувшихся в дикое состояние, но тем не менее не имеющих способности
к спонтанному воспроизведению вида. Все же в лесах предгорьев Кавказа вплоть до
р. Кумы часто ловят диких кошек, которых тюркское население здесь называет
”мес-геду”, то есть ’’лесной кот”.
Согласно сообщению Стеллера, когда-то в городе Томске среди товаров, часто
привозившихся туда калмыками, были шкуры диких котов, очень похожих на до-
машних серых котов, но все-таки отличных от тех по окраске. Отсюда как будто мож-
но заключить, что эта дикая порода проникла и в леса, растущие в глубине Азии.
Шкуры этих диких кошек продаются довольно дешево, но окраска и пестрота этих
шкур опровергают предположение, будто здесь мы имеем дело с собственно домаш-
ней кошкой как видом.
Домашняя же кошка обыкновенна по всей Российской империи, если не считать
кочевых народов, и имеет несколько разновидностей. Из них реже всех попадается
рыжая и рыжая с полосами, каковые, между прочим, часто встречаются по всей ос-
тальной Европе. Наиболее подвергшиеся культуре разновидности - белые с серыми
и рыжими пятнами; а также свинцово-серебристые, именуемые в народе ’’сибирски-
ми”, потому что в Сибири они встречаются чаще. Тем не менее по всей России они
рождаются от черношерстных кошек. Среди других домашних кошек сибирские вы-
деляются своей опрятностью, умом и самым красивым и благородным мехом, иногда
слегка серебристым. Шкуры их цениться дороже, чем шкуры черных кошек, от кото-
рых они рождаются. Отличаются они часто белыми мордой, животом, горлом, конца-
ми лап. Есть еще более похожие на домашнюю кошку дикие пепельно-серые и име-
ющие черные полосы породы, которых в Германии называют кипрскими кошками. В
России они обычно только на юге, особенно на Крымском полуострове, и несомненно,
что и там являются адвентивными.
Линней ошибочно утверждает, что на кошках не бывает блох. У нас на них летом
часто попадаются блохи мелкой рыжей разновидности.
У самцов домашней кошки голова всегда более бугристая и крепкая, чем у самок.
Однако по своим размерам и весу как самцы, так и самки домашней кошки сильно
уступают особям диких пород.
Самки рожают, лежа на боку. При этом они с помощью рта сами себе оказывают
акушерскую помощь, пожирают плаценту, а нередко заодно с ней еще и одного или
двух детенышей.
Примечание 1. Я изучал шкуры дикого кота, добытого на реке Куме. Эти шку-
ры, привозимые с Кавказа, обычно продаются за 30- 60 копеек. Их длина составляла
4 додранта [21, 15 см], длина хвоста - полтора додранта. У некоторых из изученных
мною шкур окраска была серебристо-пепельная, как у кипрских котов у других - се-
ро- или желто-пепельная, каковая частно встречается и у домашних котов; на середи-
не спины она была темнее. Так же бывали окрашены и уши; внутри они были белесые
и покрыты волосами. От лба шли четыре черные полосы (в продольном направлении);
по шее - три полосы, и одна из них тянулась далее по всей спине. По бокам шли по-
лоски, ответвляющиеся от этой дорзальной полосы в поперечном направлении, дуго-
видные; в некоторых местах эти полоски на боках прерывались. Нижняя поверхность
туловища у серебристой разновидности посредине (считая в продольном направле-
нии) белая. Хвост гладкий, мохнатый, у основания того же цвета, что и нижняя по-
верхность туловища, а на конце с тремя постепенно расширяющимися кольцами; вер-
хушка хвоста темная. Конечности темноокрашенные, с пятнами; ступни серовато-
желтые; усы белесые.
Примечание 2. В Пензенской губернии в селе Никольском, прозванном Беке-
товкой, была кошка, имевшая обыкновение часто убегать в соседнюю рощу и подол-
313
гу отсутствовать из дома; однажды после такой отлучки она вернулась и родила трех
котят (это было около 1790 г.). Из них один был самкой, явно не походившей на мать.
Зато этот котенок общим обликом, шкурой, окраской и нравом походил на куницу-
белодушку. Признаки его гибридного происхождения были несомненны. Я сам ви-
дел всех этих котят живыми. Потом эта самка, скрещенная с обычным домашним ко-
том, родила трех котят, из которых два были черными, а третий серебристым. Но
спустя немного дней она всех их сожрала. Конечности у этих гибридных особей были
более тонкие, чем у обычной домашней кошки и, до самого туловища черные; перед-
няя часть морды выдавалась несколько больше вперед, чем у нее, и до глаз и выше
была темно-серой. Перед ушами была серповидная ямка; затылок серый, уши совер-
шенно черные. Хвост был втрое длиннее головы, черный; когда животное взъероши-
валось, волосы на хвосте вытягивались почти точно в два ряда. Туловище окраской
в целом напоминало белодушку (серовато-черное, пятнистое; но у кошек-гибридов
окраска была несколько темнее, чем у белодушки, в особенности на спине). Под-
шерсток по туловищу был серовато-белесым. Нрав и запах были такие же, как у ко-
шек, но гибриды остались весьма дикими. Их изображение я дал в приложении к
моему ’’Путешествию ...” (том 1, табл. 1).
Примечание 3. Кошки, похожие на ангорских, с длинной шелковистой
шерстью, завозятся в Сибирь также и китайцами.
8. Рысь. Кошка с коротким хвостом, с кисточками на верхушках ушей, с белесым
туловищем, с крапчатыми головой и ногами.
В огромных северных лесах и по горным цепям всей Сибири рысь встречается до-
вольно часто; попадается она и в северной России, и в дубравах Кавказа. Меха даур-
ской и саянской рыси хуже; меха северной рыси белесы, с сероватым оттенком. Из
сибирских рысей наиболее ценные добываются на реке Колыме. Наиболее богатые
из якутов так стремятся заполучить эти меха для украшения своих одежд, что гото-
вы бывают отдать за одну шкуру шесть или даже восемь рублей. Кавказские рыси
более пятнистые и пестрые. Таковы же и экземпляры младшего возраста сибирских
разновидностей. Далее, якуты считают мясо рыси (почти так, как цыгане кошачье)
самым нежным и после лошадиного самым вкусным.
Рысь - зверь крупный, но пугливый: убегает от людей и собак, ищет безопасности
на деревьях. На дереве же рысь подстерегает в засаде лосей, косуль, наиболее же
оленей, которым впивается когтями и зубами в загривок, между рогами.
Однако особенно любит рысь охотиться на мелких лисиц, зайцев и тетеревов. Она
ловит их внезапным броском, ибо умеет делать гигантские прыжки, а затем медлен-
но, содрав кожу, как это делают со своей добычей коты, пожирает, опасаясь при этом
запачкать свой мех, поскольку рысь чрезвычайно печется о чистоте, почему якуты
и сравнивают обычно с рысью тех, кто очень заботится о чистоте своей одежды.
Сообщают, что лишнюю добычу рысь зарывает и таким образом проявляет заботу о
пище на будущее; одного зайца она распределяет на два дня. На новую же добычу она
не нападает, покуда не съест заготовленной. Рождает четырех детенышей, слепых
(как это имеет место и у остальных кошек). Не приручается, даже если ее воспиты-
вать в доме с самого раннего возраста. Спаривается, как говорят, в феврале, а рожает
через девять недель.
Имеющиеся разновидности рыси различные авторы приписывают воздействию
возраста, местности и погодных условий в соответствующий год. Поэтому и Линней
свою ’’норвежскую рысь”, видимо, вряд ли считает возможным выделять как вид.
Сибирскую же рысь, которую я здесь описываю, мне чаще удавалось добыть около
Енисея (живые и мертвые экземпляры), и я привез с собой оттуда немало шкур,
происходящих из различных мест.
Описание. Вес взрослого животного составляет 60 фунтов и даже более. Усы
белые; на подбородке некрасивые волосы, почти как борода. Надглазничный бугорок
314
снабжен множеством щетинок. На висках длинные волосы, также почти напоминаю-
щие бороду, а посередине виска с той и другой стороны идут черные полосы. Глаза
светло-голубые; веки белые, на верхнем веке черные ресницы. От наружного угла
глаза отходит узкая черная полоска, под углом пересекающая полоску, проходящую
под глазами. В том же направлении, что и эта последняя полоска, по щекам проходит
другая, дуговидно изогнутая.
Темя покрыто черными точками наподобие того, как это имеет место у степной
кошки.
Уши снаружи серы, с белым пятном, по краям окрашенные в ржавый цвет, на
верхушке - в черный; снабжены слегка изогнутой кисточкой волос, длиной в дюйм.
Горло белое, с обеих сторон с черной полоской, расположенной книзу от челюсти.
Шерсть (зимняя) сверху желто-серая, причем наружные, более длинные волосы беле-
сы, а самые верхушки этих волос темноокрашенные, с серебристым оттенком, кото-
рый у самых красивых особей придают меху довольно заметный блеск. Загривок
и спина вдоль хребта имеют более ржавый оттенок и усеяны многими довольно за-
метными пятнами. (Шкуры, добываемые на Кавказе, сверху красноватые или беле-
сые, тусклые и с явственными черными пятнами. По задней половине спины у них
идут три почти параллельные друг другу полосы. Однако таковы же и сибирские
шкуры, если сняты с молодых, еще не выросших полностью особей). У всех рысей
верхняя сторона туловища покрыта мехом более длинным, чем нижняя, а также
разбросанными черными полосами. Наружная поверхность ног украшена изящным
точечным узором; ноги, особенно передние, слегка выпуклы кнутри. Хвост длиной
в пядь, окрашен в слегка ржавый цвет. Верхушка хвоста шелковистая, цельная,
очень темная. Снизу на хвосте имеется примесь белых волос.
У кавказских рысей на хвосте иногда имеются четыре [выделяемых по окраске]
кольца.
Длина животного от носа до анального отверстия составляет 3 фута 3 дюйма, длина
хвоста - 7 дюймов 2 линии, а если считать до конца волос, то 8 дюймов. Зимой все
тело животного обычно бывает покрыто слоем жира, будучи одето в него, как в пан-
цирь. Толщина этого слоя варьирует от 10 линий до двух дюймов; еще более обиль-
ным жиром покрыты внутренности. Ключицы сравнительно крупные, скрыты в тол-
ще мышц, дуговидные, длиной в 1 дюйм 10 линий. Они удалены на две линии от
плоского конца плечевой кости. Поэтому удивительно, что прежние анатомы живот-
ных не замечали рудиментов ключиц у хищных зверей. Коренных зубов на верхней
челюсти с обеих сторон по два, на нижней - по три; имеется также еще один, добавоч-
ный, чуть меньший, расположенный впереди.
Примечание. В деревне Болгары, расположенной на Волге ниже Казани, мне
принесли шкуру рыси, убитой крестьянами в обширных сосновых лесах тех мест.
Мех этой рыси был, по-видимому, летний. Позднее я определил, что шкура была
добыта действительно в этих местах, а не привезена откуда-либо еще. Она была вся
бледноокрашена наподобие оленьей, то есть бледно-серого цвета, без пятен. Брюшная
сторона шкуры, а также внутренние поверхности конечностей белые; мех гладкий,
мягкий. По размеру эта шкура не уступала крупнейшим из известных мне рысьих
шкур. Хвост столь же короткий, как вообще у рысей, но с верхушкой, окрашенной
так же, [как остальная шкура]. Не относится ли это животное к другому виду?
[Род] 2. Собаки
Вполне достоверными наблюдениями уже в достаточной мере установлено, что
этот второй род хищных четвероногих столь же естествен, сколь первый, и включает
виды, в такой степени родственные друг другу, что многие из них даже способны
друг с другом спариваться и порождать при этом гибридное потомство. Все животные,
относящиеся к этому роду, преследуют свою добычу преимущественно гоном, а не
315
как кошачьи - внезапным нападением и прыжком. Некоторые представители данно-
го рода охотятся в одиночку, другие стаей. У всех у них чувство обоняния совер-
шеннее и острее, нежели у каких-либо еще родов млекопитающих. Вариации в окрас-
ке выражены у них слабее, нежели чем у кошачьих. Детенышей рождают, вообще
говоря, более многочисленных, чем кошачьи. Половой акт у них носит как бы насиль-
ственный характер вследствие того, что пенис у самцов, представляющий собой
напрягающееся при акте бульбозное тело, снабжен крупной, прямой генитальной
костью.
Почти у всех видов этого рода голос лающий, с разнообразными модификациями.
Некоторые способны к длительному непрерывному лаю.
Представители данного рода ведут ночной образ жизни; перебегая с места на мес-
то, они расселись по всем частям света. Многие виды собак, мигрирующие по Европе
и Азии, перешли через Берингов пролив также и в Америку, воспользовавшись суб-
арктическим ледяным покровом.
8. Гиена [полосатая]. Собака с торчащей на спине щетиной, с тускло-серой окрас-
кой туловища, по которому рассеяны черные пятна, объединяющиеся в трансверзаль-
ные полосы; с пятипалыми задними конечностями.
Азиатская гиена спускается вдоль реки Куры и [благодаря этому] нередко встре-
чается в предгорьях Кавказских гор, в особенности в районе Атени, напротив устья
реки Лиахви. Шкуры, происходящие из этих мест, видел славнейший Гильденштедт,
как он об этом сообщает. Далее этот вид часто попадается в лесистых горах провин-
ции Гилян и Мазендаран и по всему Тавру, а также в Алтайских горах, где у калмы-
ков это животное славится благодаря целебной силе своей желчи (еще древние врачи
высоко ценили эту желчь).
Как сообщает Шоу в своем ’’Путешествии по Африке”, ссылаясь при этом на место
из Лукана, мозг этого животного используется для приготовления ядов. Мавры и
арабы верят, что мозг гиены делает людей безумными; поэтому когда они убивают
гиену, то голову ее обычно закапывают в землю в присутствии свидетелей. Об этом
повествует Шёльдебранд в ’’Новых упсальских актах”, т. 1, с. 79. Он же собрал ряд
разнообразных сведений, важных для истории этого животного. Я часто видел живые
экземпляры азиатской гиены в Бельгии и Англии. Походка ее всегда прихрамы-
вающая и вялая; животное это крайне свирепое; весь вид его злобный и гораздо
коварнее, чем у волка. Рассерженная гиена топорщит длинные волосы на лопатках
и издает хриплое рычание, как бы подавляющее в глотке более глубокий вой. Это
рычание подобно тому, которое иногда можно слышать у самых крупных собак.
Иногда наблюдали, что гиена подражает человеческому плачу. Прислушивается
гиена, всегда опуская при этом голову.
Описание. Гиена крупнее и крепче волка, худая, косолапая; на передних и
задних ногах по четыре пальца, но на задних имеется еще один, дополнительный,
рядом с пяткой. Нос темноокрашенный; вибриссы отогнуты назад, черные; радужные
ободочки тускло-желтые. Окраска грубая и, если говорить о длинноволосистой шер-
сти, напоминает волчью; на спине - беловато-тусклая. По спине, бокам и ступням
рассеяны пятна, объединяющиеся в неясные, прерывистые, темно-серые полосы.
Хвост почти равен по длине пяточной кости, изогнуто-крючковатый.
Примечание. Происхождение легенды о якобы гермафродитной природе гиены
разъяснил славнейший Бюффон. У африканских гиен, другого вида того же рода,
не наблюдается ли случаев, подтверждающих эту легенду? Из одного места у Агатар-
сиса явствует, что гиена - это ’’крокотта” античных авторов. Но не исключено, что
последняя есть гибрид, происшедший от скрещивания гиены с домашней собакой
(см. по этому поводу ’’Естественную историю” Плиния, кн. VIII, гл. 61). Индийцы
привязывали собак в лесах во время течки, чтобы те зачинали от тигров. Возможно,
что пятнистость молодых догов, часто переходящая в полосатость, и встречающийся
316
у них же и [у родственных им пород] охотничьих [собак] добавочный палец, причем
именно на задних конечностях, указывают на примесь крови гиены.
9. Красный волк. Собака с рыжим туловищем, с белым горлом и проходящей по
всей брюшной поверхности тела белой полосой, с густоволосистым хвостом (но кон-
чик хвоста черный).
Пестерев: Дневник путешествия по России, 1794, январь, стр. 24.
У русских, живущих в Восточной Сибири: красный волк (’’волк рыжий”).
Однажды мне случилось увидеть шкуры неизвестного мне ранее животного, приве-
зенные из Удского острога (расположенного поблизости от Тихого океана) и из вер-
ховьев реки Лены. От людей, часто бывавших в районе границ Российской и Китай-
ской империй, совершавших также путешествия и внутрь Китая, я узнал, что по-
добного вида зверь водится в горах поблизости от истоков Енисея, уже за пределами
Сибири. На то же местообитание указывает, по-видимому, и Пестерев в цитированном
сочинении. Он сообщает там:
’’Красные волки, охотясь стаей, окружают плотной массой диких горных коз,
загоняют их в узкие горные теснины и на обрывистые остроги скал, после чего козам
остается только разбиться, бросившись с кручи, или во всяком случае стать для
красных волков легкой добычей”.
Животное это, несомненно отличное от всех остальных известных видов данного
рода, имеет, по-видимому, много общего с шакалом. Более точное описание его нра-
вов и морфология пока отсутствует. Возможно, что красный волк внес свою долю
в формирование сложной родословной домашней собаки (равно как в этом участво-
вали гиена, шакал, волк и лисица). За недостатком такого более точного описания
я дам предварительно лишь несовершенное, на основании шкур, привезенных поч-
теннейшим Биллингсом при его возвращении из Сибири; он же получил эти шкуры
на реке Уде.
Описание. Голова, по-видимому, заканчивалась очень острой мордой, напо-
добие лисьей; вся покрыта короткой шерстью яркорыжего цвета; только по краю
верхней губы, на нижней челюсти и на горле шерсть белая. Уши среднего размера,
покрыты мягкими волосами рыжеватого цвета (менее яркого по сравнению с осталь-
ной шкурой). Усы среднего размера, кирпично-рыжие. Веки покрыты шерстью, почти
только один край их голый и черный. Шерсть прикрыта сверху длинными волосами,
похожими на волчьи, но рыжими; вся шерсть отлична от волчьей яркорыжей окрас-
кой, на спине более интенсивной, а по бокам постепенно становящейся все более
тусклой.
• На брюшной стороне узкая грязнобелая продольная полоса. Окраска наружной
стороны бедер, а также остальных частей конечностей тускло-желтая; внутренняя
сторона бедер и всех конечностей белая. Передние ноги пятипалые, с очень крепким
серповидным черным когтем на последнем пальце, в то время как на остальных
пальцах когтей нет. Хвост густоволосистый, даже более крупный, чем у лисицы,
покрыт грубыми, почти как на шкуре у медведя, длиной почти 6 дюймов, волосами;
рыжий, но прикрытый более длинными черными волосами; вся верхушка хвоста
черная.
Длина шкуры от кончика носа до начала хвоста составляет 3 фута 9 дюймов 6 ли-
ний; длина хвоста без волос - 1 фут 3 дюйма 6 линий. Волосы заходят за конец хвос-
та еще более чем на 6 дюймов. Расстояние от конца морды до глаз 4 дюйма, до ушей
8 дюймов 6 линий. Высота живого животного от хребта до подошв задних ног, на-
сколько можно судить по шкуре, составляла около 1 фута 6 дюймов.
Примечание. Сюда ли относится нижеследующее указание? В описании путе-
шествия Гербийона у Дю Альда на стр. 288 говорится о том, что во время охоты
китайского императора среди дзеренов (которые собственно и были предметом лов-
ли) был пойман волк с более острой мордой и более светлой окраской, чем у обычных
волков.
317
10. Волк. Собака с тусклосерой окраской; с хвостом согнутым, той же окраски.
Волк как вид распространен по всему пространству России и Сибири и в равной
мере часто встречается как в лесистых, так и в луговых местностях как в Арктике,
так и в самых южных районах империи, не исключая Кавказа и Крымского полуост-
рова. Северные волки крупнее, они белесой окраски, причем шкуры их тем выше
ценятся, чем больше в них белизны. Белесые волки встречаются даже и среди кир-
гизских, которые хотя и мельче, зато обладают более мягкими мехами. Волки, жи-
вущие в полях, более ленивы, лесов не любят.
Летом волки (если не считать волчиц с волчатами) бродят большей частью пооди-
ночке. Впрочем, иногда собираются в стаи, чтобы охотиться на косуль, оленей и дру-
гих животных, загоняя их в теснины. В арктических регионах главная добыча вол-
ков - северные олени. Когда волки убьют животное, то первым делом (как только
перегрызут горло) пожирают язык. Свалившись в волчью яму, волк до того теряется,
что и не думает нападать на других животных, попавших в ту же яму; не бросается
и на охотника.
Мне случалось иметь дело с только что пойманными волчатами, которых сразу же
можно было брать в руки. Убивают волков различными способами, в особенности с
помощью шариков из масла, наполненных соединениями ртути или с помощью кол-
басок из [створоженного] молока или из мяса, в которые кладут рвотный орех. Перед
употреблением эти шарики или колбаски должны быть завернуты в кусочки звери-
ной шкуры и зажарены в масле, или же их надо зарыть в землю и оставить там под-
вергнуться брожению. В последнем томе сборника Neue Nordische Beitrage я описал
чрезвычайно своеобразный способ истребления волков, применяемый чукчами.
А именно они разбрасывают на видных местах в болоте острые пластинки, сверну-
тые в спирали и замороженные во льду в виде шариков и, кроме того, еще облитые
маслом. Когда эти пластинки попадают в желудок волка, связующий их лед тает и
они пронзают стенки желудка, причиняя животному ужасную боль. После этого
волк уже остается на месте. Камчатские казаки, помимо того, подвешивают побли-
зости от своих жилищ, на значительной высоте, железные крючки, на которые наде-
вают мясную наживку. Волки прыгают на эту наживку и часто остаются висеть, пой-
манные за челюсть на крючок.
Согласно народной медицине калмыков, язык волка помогает при воспалениях
языка.
У берегов Тихого океана волки нередко в пылу преследования добычи выбегают
на ледяные поля, которые ветер пригнал к берегу. Затем когда буря отрывает эти
ледяные поля от берега, бывает так, что волков заносит на острова и даже в самую
Америку. Таким образом, волк изредка появляется и на Курильских островах, за-
бираясь туда в качестве мигранта. Так же и в Америку и обратно волки мигрируют
каждый год, перебираясь по льду Чукотского пролива.
Примечание. Существует совершенно черная разновидность волка. В [Европей-
ской] России эта разновидность чрезвычайно редка, но по реке Каме и в Сибири, наи-
более же Восточной, она часто встречается, и мне удавалось нередко ее видеть. Я
видел эту же разновидность и в Москве, в поместье Кусково, принадлежащем свет-
лейшему графу Шереметеву, который держал там в зверинце целое семейство вол-
ков, происшедшее от черного волка и собаки, похожей на волка. В этом семействе
родился, между прочим, и один гибрид, цветом такой же, как волки-альбиносы, й
свирепостью похожий на волка, но общей формой тела скорее похожий на собаку.
Радужная оболочка глаз у черных волков пепельно-белесая. В Иркутске я видел
шкуру черного волка с белой полсой по всей нижней поверхности туловища, начиная
от горла, с шерстью на спине обильной, на остальных участках тела редкой, с хвостом
почти безволосым.
Шкуры черного волка, добытые в Померании, имеются также в хранилище редкос-
318
тей прусского короля. Одного такого волка я видел в 1779 году в императорском зве-
ринце в Петербурге. Это был зверь ручной, с окраской сверху очень темной, но ок-
ружность рта и горло у него были белые. По бокам шеи, по конечностям и по нижней
стороне туловища в продольном направлении росла густая белая шерсть, придавав-
шая этим участкам серебристый оттенок. Задние лапы по внутренней поверхности,
а передние с задней стороны были серебристыми; концы пальцев на передних лапах -
совершенно белыми, на задних - белесыми; на хвосте была примесь белой шерсти.
Радужные оболочки глаз были тускловато-желтые; размеры тела были очень неболь-
шими.
11. Шакал. Собака с туловищем грязно-желтой окраски, с рыжей нижней поверх-
ностью тела и ногами, со слегка изогнутым, волосатым, на верхушке рыжеватым
хвостом.
Ночной вой шакала достаточно часто в отрогах Кавказских гор по ту сторону
Терека, между Аксаем и Андреевкой. Когда-то шакал, как говорят, забредал и по сю
сторону реки Терека, но сейчас здесь не встречается. В теплых же местах Кавказа,
особенно более южных, на реке Куре и по всей Гиркании шакал очень многочислен.
Встречается он также и к востоку от Каспийского моря, но уже за пределами Рос-
сийской империи, около Хивы и по всему течению Сыр-Дарьи, а также и около прочих
городов Великой Татарии. Да и в деревнях шакал часто по ночам убивает кур; у спя-
щих путешественников он утаскивает всяческое имущество и припасы. Выходит он
чаще всего ночью и охотится стаей, издавая при этом немало шума своими воющими
звуками, подражающими вою собак. Один шакал завывает, другие ему отвечают,
таким же образом, как у домашних собак. Пойманный маленьким, шакал легко при-
ручается и становится дружелюбным и доброжелательным по отношению к человеку.
Я видел шакала, привезенного из Персии, который приветливо вилял перед людьми
хвостом и игриво выгибал спину наподобие того, как это делают псы. Несомненно,
что самая первоначальная порода домашних собак произошла от этого вида. Однако
в условиях культивирования человеком перемешалась с другими видами рода со-
бак, то есть с гиеной, волком и, наконец, лисицей, так что сейчас собаку домашнюю
можно считать особым видом, искусственно созданным и полиморфным.
Описание. Размером шакал промежуточен между волком и лисицей, телосло-
жением ближе к волку, но стройнее его. Резцов четыре, из которых внутренние тупо-
конечные, уплощенные, с едва намеченным разделением на бугорки; внешние более
крупные, к верхушке конусообразные, к основанию закругленные. Клыки в верхней
челюсти слегка крупнее резцов. Моляров в каждой челюсти по шести с обеих сторон,
причем первые из них самые маленькие, конические; следующие (в верхней челюсти
их два, а в нижней три) трехбугорчато-острые; четвертый (сверху) и пятый (снизу)
самые крупные, двухбугорчатые; дальнейшие опять мелкие. (Почти в тех же соотно-
шениях и в том же числе, как у песца.) Усы черные. Верхняя губа с обеих сторон до
самого носа белая, горло равным образом белое, как и шерсть на внутренней стороне
ушей; а снаружи уши рыжие. Голова сверху рыжая, [но рыжая шерсть прикрыта]
более длинными серыми волосами. На сгибах и верхушках этих волос к их окраске
примешивается черный цвет. Загривок и спина все серо-желтые, прикрыты более
длинными, черными на конце волосами и выглядят как бы волнистыми, в особеннос-
ти спина. Нижняя поверхность туловища и ноги рыжевато-желтые, плечи и бедра
снаружи имеют более интенсивно рыжую окраску. Когти черные; большой палец на
передних ногах дальше, чем у собаки домашней, отступает от земли, и снабжен
крючковатым когтем; на задних ногах этот палец отсутствует, как и у большинстве,
собак. Хвост несколько более длиннее и волосатый, чем у волка; окраска хвоста
грязно-желтая, к концу более с рыжим оттенком и с более длинными волосами. На
самом конце хвоста эти волосы становятся черными, почему и самая верхушка (на
которой волосы гуще, чем на остальном хвосте) приобретает черный цвет. Шерсть
319
едва ли не грубее волчьей; по всему телу она накладывается на серый подшерсток.
На хвосте и лопатках шерсть наиболее длинная (4 дюйма), на загривке и спине 3 дюй-
ма. Соски на млечных железах самки имеют длину: с правого бока 3 линии, с лево-
го-4 линии. Длина черепа у взрослого животного (до затылочного бугорка) состав-
ляет 6 дюймов 5 линий. Остальное смотри в описании Гильденштедта.
12. Корсак. Собака с серебристой окраской туловища, с серо-желтыми ногами,
с длинным и густоволосым хвостом; верхушка хвоста черная, основание черно-пят-
нистое.
Данное животное в роде собак почти наименьшее по размерам, но тем не менее с
трудом приручаемое, больно кусающееся; ведет ночной образ жизни, днем же прячет-
ся в неглубоких норах, которые само себе вырывает. Эти норы бывают снабжены
двумя или тремя выходами, в одной норе обитают одновременно несколько особей
корсака.
Обитают по всей Татарской пустыне, начиная от Волги до Каспийского моря и по
Средней Азии и далее вплоть до озера Байкал, в местах наиболее уединенных, сухих,
соседних с реками; по-видимому, далеко заходит на юг, тогда как на север с его
холодами не мигрирует, вообще же предпочитает умеренные климатические усло-
вия.
Охотится на сусликов, мышей, а также на птиц, ночующих на земле, в особенности
на дроф, птенцов куропатки. В неволе ест говядину и баранину только в вареном
виде, но наиболее предпочитает живых или только что забитых птиц, а равно и рыб,
в особенности осетровых. Воды не прикасается и никакой жажды не испытывает:
подлинно созданное для засушливых пустынных областей животное. Пахнет не-
приятно, почти как лисица. Киргизы выгоняют их из нор, засовывая в эти последние
расщепленный на конце начетверо и завернутый в шкуру шест. Едва ли когда уда-
лось приручить хотя бы одного корсака; зверек очень любит кусаться, а если его
удерживать силой, весь дрожит и испускает мочу и экскременты. Днем спит. Ночью
иногда кричит голосом, напоминающим лисий. Бегает очень быстро. Шкуры корсака
бывают в продаже по низкой цене, хотя они довольно красивы. Зимой приобретает
скорее серебристый оттенок, особенно туловище.
Описание. По размеру - среднее между лисицей и домашним котом. Морда
очень подвижная, нос голый, черный.
Резцы на верхней челюсти - 4, из них средние тупые, тесно прижаты друг к другу.
Наружный резец с той и другой стороны несколько отставлен в сторону, конический,
чуть крупнее средних. В нижней челюсти резцов 4, средние имеют обрубленную фор-
му, наружные более крупные, неясно двураздельные.
Клыки сравнительно ровные. Коренные зубы с обеих сторон: первые мелкие, кони-
ческие, остальные имеют треугольную форму.
Радужные оболочки глаз от желтого до слегка серебристого цвета. Периофтальмий
заметный.
Усы черные, жесткие, почти доходящие до ушей. Супериилиарные бугорки снаб-
жены двумя крупными щетинками и четырьмя меньшими. Височные бугорки с един-
ственной щетинкой. Далее, с обеих сторон имеются подчелюстные бугорки, распо-
ложенные позади ротовой щели. В них по 3 щетинки, из которых 2 более длинных. На
горле тоже бугорок, из которого растут 4 белые щетинки. Веки до самых краев
поросли шерстью, ресниц не имеется. Радужные оболочки глаз пепельно-желтоватые.
Уши острые, снаружи покрыты очень мягкой густой шерстью, у основания серо-
желтоватые, к верхушке серебристо-серые, способные смыкаться; ушные раковины
изнутри покрыты белой шерстью, в особенности по передним краям. Мех, в особен-
ности на спине, гораздо короче и жестче лисьего, но мягче волчьего.
Окраска со спины от рыжеватой до серебристой, потому что волосы на верхушке и
в середине коричнево-рыжие, а на противоположном конце - серебристо-белые. Бока
320
желтоватые (также и боковые поверхности шеи). Горло и полоса, продольно идущая
по нижней поверхности тела от подбородка до анального отверстия, белые.
Передние конечности желтоватые, ближе к пальцам белесые, их ступни пятипалые,
с очень отставленным большим пальцем. Коготь на этом пальце крючковидный и
самый крупный. Остальные когти маленькие, черные. Стопы задних конечностей
четырехпалые. Подошвы ног все, кроме бугорков на верхушках пальцев, поросли
довольно упругими грязножелтыми волосами, густыми, почти как у зайца или песца;
стопы задних ног вплоть до пяточной кости приспособлены к рытью земли.
Хвост по длине равен туловищу; густо покрыт волосами со всех сторон; цветом
сверху серый, с этой стороны волосы на нем длинные, тускло-черноватые; снизу цвет
хвоста желтовато-бледный, здесь черных волос нет. Только на конце хвоста как сверху,
так и снизу растут густые темноокрашенные или черные волосы. Над основа-
нием хвоста чернеющее пятно. Длина животного приблизительно 20 дюймов, длина
головы 5 дюймов 1 линия; длина головы считая с волосами почти фут, а длина одних
волос на голове 2 дюйма 6 линий. Длина ушей 2 дюйма 3 линии. Расстояние от глаз до
носа 2 дюйма 2 линии. Расстояние от глаз до ушей 1 дюйм 8 линий. Голова в окружно-
сти 8 дюймов 6 линий. Окружность морды 3 дюйма 6 линий, шеи 6 дюймов, туловища
10 дюймов 7 линий; длина передних ног 8 дюймов 7 линий, длина задних ног 10 дюй-
мов 7 линий. Длина тонкой кишки до начала слепой составляет 3 фута, длина толстой
кишки - почти фут. Длина слепой кишки - 2 фута. Образцы, которые мне удалось
получить на южной Волге, совершенно тождественны даурским по окраске. На
некоторых шкурах бока желтее; другие особи рыжеют с возрастом или, возможно,
здесь имеет место различие по полу. Зимние шкуры приобретают более серебристый
оттенок.
13. Степная лисица. Собака с серым туловищем, с черными ушами, имеющими на
внутренней поверхности белое, на внешней - рыжее пятно.
Шкуры этого вида киргизы привозят по самым дешевым ценам в Оренбург и
другие лежащие поблизости от него торговые центры. Добывают же их в более южных
степях, по которым бродят эти степные лисицы. Этот же самый вид обитает в Джунга-
рии и на верхнем Енисее, а также в [примыкающих к этим территориям более] север-
ных областях. Мне лично он не встречался, но очевидно, что это животное должно
быть выделено в особый вид.
Описание (по шкурам): Размером с небольшую лисицу. Морда заостренная, как
у лисицы. Нос голый, похож на собачий. Голова желтоватая, вокруг глаз слегка
рыжая, но ресницы черные. Усы черные, а кзади и кверху от усов на морде имеется
треугольное черное пятно, испещренное серебристыми точками. Перед ушами много-
численные длинные, кпереди белые волосы; сами же уши черные, у основания перед-
него края с белым пятном, а по наружному краю - с красным [пятном, охватыва-
ющим] все основание. Туловище покрыто шерстью более грубой, чем у лисицы, но все
же довольно мягкой. К окраске примешивается еще цвет имеющихся у животного
более длинных черных волос, что создает в целом окраску, почти как у волка,
кнаружи серую, с нижней стороны туловища пепельную. Над лопатками имеются
более черноватые по сравнению с остальной шерстью пятнами, от которых вплоть до
хвоста тянутся непрерывные желтые полосы. Основная продольная полоса широкая,
идет от самого подбородка, охватывая всю нижнюю поверхность шеи, далее через
грудь и до пупка; эта полоса темноокрашенная, усеянная белесыми волосами; но
далее дистальная часть живота уже окрашена в цвет от серебристого до белого.
У самок эта продольная полоса двойная, почти голая, и по ней тянутся сосцы
млечных желез, расположенные соответственно двумя рядами, по восьми с той и
другой стороны. Кончик хвоста почти черный, но по большей части в тех шкурах,
которые мне приносили, хвоста уже не было.
14. Лисица [обыкновенная]. Собака с черными ногами, имеющая длинный хвост с
белой верхушкой.
21. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес 321
Лисица - часто встречающееся животное как всюду в европейской части империи,
так и по всей Сибири. В полевых, более южных местообитаниях ее окраска и мех
хуже, а в более холодных северных и восточных областях красивее; в особенности же
ее шкуры прекрасны и имеют наиболее рыжий цвет на Камчатке; торговцы мехами
называют тамошних лисиц ’’огнянки”, то есть ’’огненные”. Из них же наиболее редкие
и наиболее ценные - те, у которых верхушки волос кажутся как бы заиндевело-
серебристыми от особенностей белизны. Таких лисиц больше нигде не водится,
по-видимому, также и в Америке (ср. ’’Историю Новой Франции” Шарлезуа, т. III,
с. 133).
Вообще же взрослые лисицы отличаются от других видов рода ’’собака” характе-
ром волос на спине. Кавказские и крымские лисицы несколько бледнее и хуже.
Разновидностей лисицы, в особенности по Сибири, встречается довольно много. У
рыжих лисиц иногда имеется на спине черноватая полоса, перекрещивающаяся с
другой, идущей через лопатки. Таких лисиц называют ’’перекрещенными” (’’крестов-
ки”). Попадаются они и в Лапландии. У других по груди и животу в предельном
направлении идет более или менее темноокрашенная или черноватая полоса; таких
лисиц называют ’’сиводушки” или ’’чернодушки”. У этой же разновидности иногда, в
редких случаях, живот и ноги бывают испещрены черными и белыми пятнами, и
тогда хвост большей частью бывает до середины белым. Встречаются также и рыжие
лисицы с чисто белой полосой по нижней поверхности туловища. Далее, реже встре-
чается и очень высоко ценится совершенно черная разновидность; у этих лисиц
только кончик хвоста белый.
Шкуры таких лисиц продают очень дорого, причем цена варьирует в зависимости
от красоты меха. Затем имеется ухудшенный вариант этой же разновидности, лисица
’’получерная”: у нее сбоку с обеих сторон по загривку и по туловищу, а иногда и по
спине идет более или менее широкая полоса с примесью белых или серебристых
волос. В зависимости от ширины и интенсивности окраски черного меха такую ли-
сицу называют ’’бурая” или ’’чернобурая”. Или же, если вся спина у нее серебристая и
только загривок и скосы головы черные, ее называют ’’буренькая” или ’’чалая”. У
таких особей верхушки пальцев на задних ногах часто бывают белые, хвост же всегда
с белым кончиком.
Наконец, существует белая разновидность. Я много раз видел шкуры особей этой
разновидности, все не лишенных определенных отклонений. А именно, хотя вся
шкура и снежно-белая, все же часто на верхушке хвоста имеется немного черных
волос; иногда уши и ноги бывают рыжеватыми, иногда по бокам на загривке или на
голове бывает одно-два тускло-рыжих или желтых пятна. Видел я также совершенно
белую лисицу, у которой, однако, края век были черными. И другую, у которой име-
лось три рыжеватых пятна, а именно на лопатках, посреди спины и на пояснице; у
этой лисицы вместе с тем голова была беловато-рыжеватая, уши снизу белые, а
повыше неярко рыжего цвета, верхушки же ушей были черные. Передние лапы у нее
были рыжеватые, с продольными черными полосками на концах. На задних лапах
была аналогичная, но ржаво-черноватая полоска.
Славнейший Гильденштедт наблюдал около Кизляра лисицу-мать, пойманную в
норе с шестью лисятами, из которых один (мужского пола) был весь чисто-белый. Лем
в ’’Сообщениях из Лапландии” напрасно смешивает эту разновидность с песцом.
Однако лисица как вид не только живет по всей Сибири вплоть до Тихого океана,
но переходит также и в Америку1, начиная с цепочки островов, как бы продолжа-
ло общему мнению самих американцев (с восточного побережья Америки), до прибытия
европейцев в Америку лисица на этот континент не заходила, в отличие от пепельно-серого вида
[из рода собак], который являлся американским аборигеном. Бартрам и другие, ссылаясь на
К^лмиуса, сообщают в качестве слышанного от американских индейцев следующее: рыжие лисицы
попали в Америку не очень задолго до нашего времени, а именно вскоре после прибытия туда
322
ющих собой полуостров Аляску. На этих островах лисица поразительно размно-
жалась.
Любопытно также, что в Новом Свете и на упомянутых островах, которые по
означенной причине русские прозвали ’’Лисьими”, черная и получерная разновид-
ность едва ли не получила по численности перевес над рыжей. Хотя у черной и полу-
черной разновидности размеры крупнее, мех ее изменился на более жесткий и гру-
бый сравнительно с рыжей либо из-за особенностей питания в приморской местности,
либо из-за обитания между скал.
[По причине грубости меха алеутских черных лисиц] их шкуры в России практи-
чески не ценятся, продают же их китайцам, причем по цене гораздо более низкой,
нежели шкуры обычных лисиц. Впрочем, по большей части на этих черных шкурах
имеются и белые пятна: кроме верхушки хвоста, таковые встречаются также и на
горле, а кроме того, на брюхе наподобие того, как это имеет место у черных разновид-
ностей сибирской лисицы. На островах же, примыкающих к Камчатке, лисиц нет, а
песцов там, наоборот, водится много.
Среди упомянутых американских лисиц попадаются, хотя чрезвычайно редко,
также белые. Мне случилось также видеть привезенную из Америки белесую лисью
шкуру, у которой по спине и хвосту шла продольная рыжеватая полоса, брюхо и ноги
были снежно-белые, а на ступнях ног имелись продольные белые полосы.
Итак, о разновидностях лисицы сказано достаточно. Что же касается хитрого нрава
этого зверя, об этом уже довольно рассказывалось предшествовавшими авторами.
К уже известным фактам относительно их образа жизни здесь следует добавить,
что бывают и лисицы, привычные к бродяжничеству.
Таковые вообще не устраивают себе нор, за исключением лишь того периода, когда
они выращивают потомство. Но многие роют себе норы либо в расщелинах почвы на
равнинных местах, либо [в лесистых местностях] под корнями деревьев, где почва
обычно сухая.
Рожают лисицы шесть-семь детенышей.
В отдаленных областях Сибири, особенно на Камчатке, до прихода туда русских и
начала массового истребления животных с ценными мехами лисиц было так много и
они были столь обычны, что их шкуры туземцы часто использовали для того, чтобы
снаружи кругом обшивать свои яранги.
Наилучшее время охоты на лисиц - от ноября до декабря, потому что в это время
у них прекрасный мех, как раз надлежащей густоты. В разгаре зимы мех уже слиш-
ком густ, даже слеживается. В первом случае меха называют ’’пышными”, во вто-
ром - ’’плотными”. Детеныши зимой следующего (после того, как они родились) года,
к февралю, то есть приблизительно на восьмом месяце жизни, обрастают вполне при-
годным (также и по величине) мехом. На шкурах особей, добытых в России, ювениль-
ная шерсть у кожи бледная; на сибирских (добытых у Анадыря и на Камчатке) шерсть
почти вплоть до самой кожи рыжая. Если сибирские шкуры встряхивать в темноте, то
они искрятся.
Скорняки обычно рассекают лисьи шкуры, разделяя их на восемь частей каждую.
Потом из этих кусков шьют столько же шапок, продаваемых, однако, по крайне раз-
личной цене. А именно прежде всего вырезается и наиболее высоко ценится загри-
вок. Меховые изделия, сшитые из этой части, так называемый савойчатый мех, по-
ступают в продажу по самой высокой цене; ниже цена меха, взятого из середины
спины (хребтовый мех); затем следует мех с бедер, поблизости от хвоста, этот мех
европейцев. Тогда выдалась исключительно суровая зима, и море делеко к югу все покрылось
толстым льдом. Однако весьма вероятно, что еще задолго до этого где-нибудь в западной Америке
лисицы могли постепенно размножаться, а теперь они лишь стали весьма многочисленны и смогли
перебраться также и на острова. — Примеч. П.С. Палласа.
323
малоценный; затем мех с живота (черевной мех), вторая категория цены; мех с шеи
(душки) - так называют часть шкуры самую легкую, на которой мех наиболее редок.
Это третья категория цены. За свою легкость этот мех у турок и поляков ценится
наиболее высоко. Далее по отдельности берутся меха на передних лапах и таким же
образом на задних, образующие лапчатый мех. Наконец, самый плохой мех выреза-
ется из головы. Этот мех, а также хвосты обычно продаются (после того как их про-
шьют ремешками) на шапки для путешественников.
Для употребления среди простонародья отдельно обшиваются также уши. При всей
этой разделке шкур из ста двадцати обычным способом обрабатываемых лисьих шкур
набирается такое количество обрезков, которое по цене соответствует трем шкурам
вышеупомянутых категорий цены. Все же остальное задаром отдается торговцу.
О крайне высоких ценах на чернобурых лис смотри подробнее у славнейшего
Миллера, в издании: Sammlung. Russischer Geschichte.
Следует еще добавить, что все те [азиатские] народы, которые без разбора употре-
бляют в пищу многих животных, которых европейцы не едят, - все эти народы лись-
его мяса не едят никогда, как, впрочем, и мяса волков, песцов, хорьков, крыс или
домашних мышей (если говорить о четвероногих; из птиц же: орлов, ястребов, соко-
лов, воронов, ворон, коршунов).
Звуки, издаваемые лисицами, бывают различны в соответствии с их душевными
аффектами: когда они чего-либо хотят, издают специфический лай. Недовольство они
выражают тявканием, при раздражении или огорчении хрипло рычат и храпят.
Зрачок у лисиц перпендикулярно-линейный, окруженный бурым ободком; вокруг
этого ободка - светлосерая радужная оболочка.
15. Песец. Собака с длинным, прямым, густоволосатым хвостом, верхушка кото-
рого окрашена так же, как остальное тело.
Вид, приуроченный к холодной арктической зоне; спонтанно редко выходит к югу
за пределы 60е [северной] широты, за исключением наиболее дальнего к востоку угла
Сибири, где песцы забегают не только к Пенжинскому заливу, но и на Камчатку. Их
туда заносит море, и таким же образом, вероятно, они попадают на острова Беринга и
так называемые Алеутские, а равно и лежащую напротив них Америку. Попав туда,
песцы быстро размножаются в силу своей плодовитой природы: они приносят даже по
двенадцати и более детенышей за раз. На этих островах они до такой степени осво-
ились с человеком, а вместе с тем бывают до того дерзки и голодны, что таскают у
спящих всякую пищу и даже обувь, вообще все, что сочтут хоть в какой-то степени
пригодным для еды, так что их едва удается отогнать палками.
В остальном же ори довольствуются любой животной пищей, даже рыбой и вообще
тем, что выбрасывает на берег море, если другой добычи не попадается. В Арктике
песцы чаще всего неотступно следуют за мигрирующими мышами и нередко сами
мигрируют вместе с ними.
Прячутся в норах, которые сами же и роют, а выходят преимущественно по ночам.
У себя дома я держал полученных мною в Мангазее детенышей песца. Это были
очень кусачие зверьки, в особенности самцы. Бывшая среди них самка кусалась
меньше, была слабее, ее удалось хорошо приручить, и она стала дружественной к че-
ловеку, как собака.
Если песцы раздражены, они ворчат наподобие собак, в глазах у них вспыхивают
зеленые искры, причем они издают шум, похожий на тот, какой можно слышать от
ссорящихся друг с другом щенков. Также и от простого нетерпения они верещат
тонким голоском. Однако я ни разу не слышал, чтобы до ноября они сами по себе
залаяли или вообще самопроизвольно закричали каким-нибудь голосом, хотя я и
держал их в загоне взаперти. Однако когда я отделил самого старшего детеныша от
остальных и поместил его в запертое темное помещение, он к вечеру стал издавать
страшный лай (позднее я довольно часто слышал эти звуки), а равно и нечто наподо-
324
бие куриного кудахтанья, очень звучного, но более низкого [по тембру, чем у кур].
Оно состояло из пяти или шести быстро следовавших друг за другом звуков, причем
последний из них был несколько выше других и напоминал как бы рыдание. Но лай
песца не бывает частым, как у собаки: напротив, он заключается в повторениях
одного и того же звука через значительные интервалы времени.
Посадка у них наподобие собачьей; ссорясь друг с другом, песцы толкаются, упира-
ясь в землю ногами, и время от времени друг друга больно покусывают. Могут пожи-
рать любое мясо, а когда наедятся, избыток закапывают в землю, вырывая сначала
лапами яму, а потом с помощью морды набрасывая сверх закопанного кучу земли.
Те, которых я держал у себя, обросли зимним мехом только в декабре. Летом же
все песцы бывают выцветше-бурого цвета, в том числе и те, которые зимой имеют мех
чистейшей серебряно-белой окраски. В это-то зимнее время самоеды и остяки лопа-
тами, изготовленными из разветвленных рогов северного оленя, разрывают норы,
устроенные песцами в холмиках на арктической равнине, хватают их за хвост и,
вытащив голову животного, сильно ударяют ею о землю и таким образом легко
убивают песцов. Норы же песцы устраивают на возвышениях, в холмиках и по обры-
вам, по той причине, что там почва более сухая. Когда охотник обнаружит нору, он
прикладывает ухо к земле, и если не услышит движений скрывающегося в норе
зверя, то закупоривает вход в нору, снегом. Песцы, потревоженные производимым
при этом шумом, начинают (и это бывает слышно снаружи) издавать бормочущий
звук. Этот звук обнаруживает их присутствие; затем они пытаются выбраться [из
норы и] у выхода из нее ловятся в различного рода установленные там силки.
Чисто белая разновидность песцов зимой попадается очень часто, и шкуры ее
относятся к числу самых дешевых. Сообщают, что в иные годы из одной только Ман-
газеи вывозят до сорока тысяч шкурок.
Но если произойдет миграция и песцы временно переселятся в какое-либо другое
место, тогда в том же районе добывают их едва ли только до трех тысяч шкурок. Так
было зимой 1771 и 1772 гг.
Тем не менее в конечном счете численность этого весьма плодовитого зверька не
снижается. Так, на Алеутских островах, где ежегодно просто палками убивают
многие тысячи песцов, а также ловят их и силками, песцы все равно остаются столь
же многочисленными.
На этих же островах более часто, чем в других местах, встречается особая разно-
видность песца, зимой имеющая окраску серовато-бурую или буро-голубоватую. За
пределами Алеутских островов эта разновидность встречается реже и ценится доро-
же, чем белые песцы.
Питаются же песцы на Алеутских островах трупами рыб и китообразных, выбрасы-
ваемыми на берег, и вообще тем, что море выбрасывает. На материке же они предпо-
читают мышей, тетеревов, куропаток, зайцев. Экскременты песцов чрезвычайно
зловонны. Остальное же тело (кпереди от хвоста) издает очень легкий полынный
запах наподобие того, который заметен в дыхании росомахи.
Шерсть и ее окраску песцы меняют по какому-то закону природы, а не под дейст-
вием холодов. В Петербурге я наблюдал одного песца, которого содержали даже в
очень жарком помещении. И вот с наступлением зимы он постепенно весь оделся в
зимний мех. Оставалось только бурое пятно на крупе вдоль спинного хребта, но
затем и оно исчезло. Мех у песца, пожалуй, гуще, чем у любого другого хищника,
длиннее и лучше приспособлен к перенесению холодов. Кроме того, мех песца несет
в себе электрический заряд. Если его раз-другой потереть рукой, с треском вылетают
заметные в потемках искры. Далее, ни у кого нет такой нежной или тонкой [в срав-
нении с размером тела] шкуры и кожи. Про Олафа Магнуса, этого первого в северных
странах зоолога, пожалуй, ни один из авторов песца не упоминал. Но и сейчас знания
об этом животном несовершенны, и еще недавно уважаемый Циммерман в своей
325
’’Зоогеографии” (с. 180 ), описывая песца под наименованием ’’Изатис”, спутал его с
белой лисой. Что касается пепельно-серой американской лисы, которая спускается и
в более низкие, чем песец, широты, данный вид отличается абсолютно четко.
Описание. Песец ниже ростом и мельче лисицы. Голова его больше похожа на
собачью, чем на лисью, поскольку передняя часть морды у песца толще и притуплен-
нее, чем у лисицы, а череп более выпуклый.
Нос и губы голые, черные: надрез губы продолжен в виде вертикальной бороздки.
Из числа резцов в верхней челюсти средние как бы обрублены, соседние с ними с
обеих сторон характеризуются притупленными концами; следующие кнаружи резцы
отстоят от предыдущих, конические, во всех случаях у основания прогнуты кнутри.
Резцы в нижней челюсти отделены друг от друга более крупными промежутками.
Средние резцы в нижней челюсти (их четыре) имеют тупые, почти стертые края;
наружные зубцы двухбугорчатые, причем внешние бугорки заострены. Клыки более
крупны в верхней челюсти; коренных зубов всюду по шесть, причем из них три
первых (в верхней челюсти; а в нижней - четыре) трехбугорчато-конические. В
направлении от задних к передним коренным их размер уменьшается, причем первые
из них - наименьшие.
За этими первыми из коренных следуют крупные трехбугорчато-расчлененные, а
далее, наконец, задние широкобугорчатые, которые слегка притуплены на своих
концах, расположенных ближе к глотке.
Нёбо изборождено морщинками (их девять). Язык мягкий.
Усы среднего размера, расположены не более чем в пять рядов, белые, но в каж-
дом ряду среди белых выделяется одна щетинка, бурая и по длине превосходящая
остальные. В надглазничной бородавке шесть маленьких щетинок, из которых также
одна слегка буроватая. На щеках имеется еще по одной щетинке, на горле - четырех-
щетинчатая бородавка; по подбородку также разбросано несколько щетинок, распо-
лагающихся на нем двойным рядом.
Глаза слегка скошены кнутри, с голыми краями век; на проксимальных концах
век имеется по нескольку черных волосков. Радужные оболочки мутножелтые.
Периофтальмий наклонный и не закрывает весь глаз, а только на две трети; край
периофтальмия черный.
Уши овальные, очень мягкие, закругленные; по сравнению с лисьими более воло-
сатые и короткие; [снаружи] они закрыты волосами, а изнутри голые, коричневые, с
изломанной поверхностью.
(Животное обладает способностью произвольно загибать ушные раковины кнутри).
Туловище покрыто густыми волосами, причем [зимний] мех по всему телу снеж-
но-белый, хотя на спине по нему там и сям рассеяны бурые волосы. Они длиннее
прочих. Подшерсток у самой кожи сероватый, выше чисто белый. Шерсть длиной,
мягкостью и густотой превосходит лисью; тоньше лисьей, но более обвисающая,
слеживающаяся, с неровными по длине волосами. Ступни передних ног пятипалые,
на большом пальце коготь изогнутый. Ступни задних ног четырехпалые. Все пальцы
до самых верхушек прижаты друг к другу [давлением] толстых волос, [которые их
окружают]. На задних ногах пальцы менее прижаты друг к другу. Все это - приспо-
собление к более легкому передвижению по снегу. Подошвы, кроме мозолистых
участков у оснований пальцев, покрыты очень густыми волосами. Волосы эти обра-
зуют плотный, почти твердый, курчавый серебристо-белый мех. Когти роговые.
Хвост составляет половину всей длины животного, прямой, покрыт довольно
жесткими волосами (их длина - до 3 дюймов), [равномерно] шерстистый со всех
сторон, так что выглядит толще лисьего. На самой верхушке хвоста имеется тонкая
кисточка из черных волос.
Вес взрослого животного составляет 7,5 футов. Длина от носа до анального отвер-
стия 1 фут 5 дюймов 6 линий; высота тела, считая до лопаток, 1 фут 0 дюймов 6 линий;
326
в пояснице, 1 фут 0 дюймов 7,5 линий. Высота головы в затылке 5 дюймов 5 линий.
Окружность морды у ее конца 3 дюйма 6 линий; у ее основания 5 дюймов 3 линии.
Окружность головы 8 дюймов 5 линий. Расстояние от глаза до носа 2 дюйма 3 линии.
Длина глаза 7,5 линий. Расстояние от уха до глаза 2 дюйма. Высота ушей 2 дюйма 6
линий, ширина их в основании 2 дюйма 7 линий. Длина шеи 3 дюйма 5 линий. Ок-
ружность шеи 7 дюймов. Окружность туловища в средней его части 12 дюймов. Длина
хвоста, не считая волос, 10 дюймов 8 линий. Длина плеча 3 дюйма 11 линий, длина
предплечья 4 дюйма 3 линии. Длина кисти 3 дюйма 9 линий. Длина бедра 3 дюйма 6,5
линий. Длина большой берцовой кости 4 дюйма 7 линий. Длина ступни задних лап 5
дюймов 3,5 линий..
Отложения жира довольно значительные в области бедер, на пояснице и над
лопатками.Брюшина окружает весь кишечник, слагается из богатых жиром складок,
заходящих в изгибы кишечника; на ощупь маслянистая. Поясничные жировые плас-
тинки узкие. Печень довольно крупная, весом почти в три унции, состоит из шести
долей, снабжена большим желто-зеленым желчным пузырем. Левая доля печени
крупная, овальная; промежуточные доли заостренные, одна из них расщепленная
(ради размещения желчного пузыря/.
Правая доля печени тупотреугольная, под ней расположена имеющая форму язычка
почечная доля, у основания с двумя ушками; наконец, шпигелева доля треугольно-
язычковая. Селезенка темнокрасная, линейная, на окончаниях расширенная; ее вес 4
скрупулы [около 5 г].
Желудок яйцевидный, довольно крупный; окружность его составляет 12 дюймов.
Длина кишечника от пилоруса до слепой кишки составляет 5 футов 1 дюйм; от
начала слепой кишки до анального отверстия -11 дюймов 3 линии. На расстоянии
трех футов от пилоруса расположена кругообразная железистая область, а затем на
расстоянии от нее еще 3 дюйма 6 линий - другая, меньшая железистая область.
От этой области далее кишечник утончается, начинается подвздошная кишка.
Слепая кишка свернута двумя изгибами, из них дистальный образует слегка бугор-
чатую часть слепой кишки.
Правое легкое четырехдольное, причем несимметричная доля в нем небольшая;
левое трехдольное. Ребер 13, из которых 9 настоящие. Длина всех, вместе взятых,
шейных позвонков 3 дюйма И линий, спинных - 13 дюймов 6 линий, поясничных -
4 дюйма 8 линий. Поясничных позвонков имеется 7. Длина крестца, разделенного на
3 позвонка, составляет 1 дюйм 3 линии.
В хвосте 17 позвонков. Ключицы очень маленькие, едва достигают размера
2 линий, расположены усамой головки плечевой кости.
Кости передних конечностей несколько крепче костей задних конечностей. Пенис
снабжен двумя перетяжками и расположенной внутри него прямой бороздчатой
костью; длина его составляет 2 дюйма 3 линии.
Часто встречается темная или свинцово-бурая разновидность песца, у которой в
течение зимы, когда все тело почти единообразно окрашено в общий для всех песцов
цвет, все же буроватые пятна сохраняются. Эту разновидность у русских называют
’’голубой песец”. Из шкур этой разновидности личшие имеют голубовато-бурый отте-
нок. Похуже те, у которых к этому оттенку прибавляется пепельно-серый. Самые
плохие буровато-пепельно-серые, а также те, у которых бурая окраска перерождается
в буровато-рыжую.
У всех особей этой разновидности голова имеет серебристый цвет из-за того, что
покрыта густыми белыми волосами, которые еще более плотно располагаются по
мере приближения к верхушке морды. Сама же эта верхушка у некоторых особей
чисто бурая; у некоторых же также и ступни лап покрыты рассеянными белыми
волосами, хотя иногда окраска этих волос изменяется в сторону коричневатой.
(Чередуя голубоватые и белые шкуры, снятые с ног песцов этой разновидности,
327
шьют из них изящнейшие и вместе с тем очень прочные меховые одежды, цена кото-
рых выше, [чем если бы они были сшиты из цельных шкур]).
У всех песцов этой разновидности уши, затылочная область (переходящая дальше,
по окраске, в лопаточную) и горло чисто-бурые, темные; впрочем, иногда горло
бывает буровато-рыжим.
Одни лишь подошвы всех четырех лап у всех представителей этой разновидности
беловолосистые. У некоторых между передними лапами видно белое пятно. Мех у
этой разновидности, вообще говоря, не столь пышен, как у обычных песцов, но эле-
гантнее, почему этот мех и ценится на треть дороже по сравнению с обычными белы-
ми песцами.
Очень редка чернобурая разновидность песца. У этих песцов по голове сверху и по
спине рассеяны серовато-серебристые волосы. На хвосте таких волос больше всего.
Мне удалось видеть только одну живую особь этой разновидности, причем этот песец
был в летнем мехе.
16. Собака домашняя. Собака с отогнутым назад хвостом.
Эту породу домашних животных, сотворенную всем развитием человеческой куль-
туры, вероятнее всего, на основе гибридных порождений (преимущественно золотис-
той лисицы, скрещивавшейся далее с волком, лисицей и, возможно, гиеной и дру-
гими родственными им видами), я ранее неправильно считал как бы особым видом.
Тем не менее и здесь я ее выделяю особо, но только потому, что ни к одному из
прочих видов ее невозможно специфически отнести. Дело в том, что она более измен-
чива и более сложна по своей структуре, нежели любое из остальных прирученных
человеком животных.
Собака домашняя встречается у всех народов, живущих под управлением россий-
ского скипетра. Землепашцы и кочевники держат собак в качестве сторожей своих
стад и жилищ; охотничьи племена - в качестве спутников и помощников на охоте; а
кроме того, народы, обитающие в отдаленном углу Азии, не имеющие в то же время
подъяремного скота, заставляют собаку служить себе в качестве упряжного животного.
Если говорить о разновидностях, то по всей Сибири наиболее обычна собака дере-
венская, крупная, наиболее близкая к волку по своей крепости, нраву, окраске и
меху. У кочевников великой Татарии живет разновидность, представляющая собой
более близкую к собаке золотистой форму. Она похожа на собаку золотистую своей
легкостью и изяществом. Вместе с тем она напоминает греческую собаку в том отно-
шении, что у нее бедра, хвост, а зачастую и уши обрастают сравнительно длинной
шерстью. В отношении окраски и различных второстепенных свойств эта разновид-
ность в той или иной мере представляет собой выродившийся тип; европейцы облаго-
родили его путем избирательных скрещиваний. Помимо того, нередка и карликовая
собака: мохнатая, по большей части рыжевато окрашенная; в ней легко распознать
характер скрещенный (с лисицей).
Кроме того, повсеместно введены в домашний обиход разнообразнейшие экзоти-
ческие разновидности, куда нельзя не включить и собаку безволосую. Она чаще
всего бесхвостая, с кожей белой или бурой; это тоже гибрид. Я встречал таких собак с
мохнатыми ушами и хвостом, хотя остальное тело у них было безволосым. В Сибири
также часто существуют и размножаются упомянутые экзотические разновидности,
что связано преимущественно с тем, что некогда китайцы, разводившие собак на
мясо, часто привозили различные выведенные ими породы на продажу в Кяхту, и это
продолжалось до тех пор, пока их цена не упала из-за обилия предложения.
Наиболее же высоко ценимая разновидность собаки - та, что выведена в основном
народами Кавказа и Херсонеса Таврического. Это ’’греческие собаки”, славящиеся
как раз на Кавказе своей статностью и крепостью, пригодностью к охоте на оленей, но
также и на волков. В Таврии же эта порода наиболее выделяется проворством. Там
ее широко используют для охоты на зайцев.
328
Наиболее же крупные собаки, как считается, выведены в Европейской России, и
среди них особо знамениты ярославские. Впрочем, следует заметить, что вообще
самые обычные деревенские собаки, в особенности же сибирские, имеют то достоин-
ство, что пригодны к любого рода охоте, если только она не требует чрезмерно быст-
рого бега.
Так, есть среди этих собак такие, которых учат выслеживать и травить медведей;
есть обученные нападать на лосей; наконец, есть отыскивающие соболей и столь
рьяные в этом деле, что если не могут поймать зверька, то загоняют его на какое-
нибудь дерево и стерегут его там, не давая спуститься, причем дают все время охот-
нику знак своим лаем, пока тот не придет вслед за ними убить соболя.
Камчатские собаки, с самого раннего возраста приучаемые таскать сани, не укло-
няются ни от какой работы. Они довольствуются самой скудной пищей, состоящей, в
лучшем случае, из полупротухшей рыбы; но бывает и так, что голод их доводит до
крайности и они начинают грызть ремни повозок и упряжь. Приходится их отгонять
палками. На этих же камчатских собак одевают специальную кожаную обувь, чтобы
облегчить им бег, иначе они могут стереть себе ноги на обледенелом снегу и охро-
меть.
А на реках Енисее и Лене собаки всегда принимают полное участие в трудах
охотников. На небольших санях эти собаки таскают продовольствие, ловчие сети и
домашнюю утварь. Они необыкновенно преданы своим хозяевам и следуют за ними,
не отставая ни на шаг.
Если их с хозяином застигнет снежная буря в таком месте, откуда они не могут
выбраться и попасть в свою хижину, эти собаки ложатся вокруг своего господина,
прижимаясь к нему, и согревают его теплом своего тела. Они приучены также нахо-
дить направление хотя бы и в самую бурную и непогодную ночь, даже если занесло
всякий след дороги: ведет их в этом случае только обояние.
Они обладают также способностью заранее предчувствовать надвижение бури,
которой предстоит разразиться. Несомненным указанием на будущую бурю служит
поведение этих собак, когда они, не проявляя, впрочем, беспокойства, начинают
рыть себе норы в снегу.
Также и рассеянные по лесам ловушки на диких зверей эти собаки запоминают
лучше, чем сами их хозяева, и ведут своего господина от одной запрятанной ловуш-
ки к другой. При этом собаками руководит безошибочный инстинкт. Поэтому жители
Курильских островов даже берут с собой собак, когда предпринимают морские
путешествия, потому что собаки, воя, втягивая носом запахи со струями воздуха, с
несомненностью свидетельствуют своим поведением, что близко земля.
Помимо того, весьма достоин внимания тот факт, что в Сибири и на Камчатке
собаки никогда не страдают от водобоязни. Напротив, другие свойственные собакам
болезни здесь наблюдаются нередко, например, облысение, мочеиспускание с кро-
вью, сопровождаемое опухолями половых органов (лечат эту болезь, скармливая
собакам настой рябиновой коры), слепота, колтун, а также выпадение прямой киш-
ки, случающееся из-за таскания тяжелых саней. О собаках, сорок дней обходившихся
без пищи, см. в ’’Истории Парижской Академии наук”, 1706 г. У меня была борзая
собака (гибрид с собакой-птицеловом), которая ослепла и попала зимой в сухую яму;
и только через два месяца ее оттуда вытащили, живую, но совершенно истощенную.
Далее, часто замечалось, как собаки, принадлежащие кочевникам, бродят в
пустынных местностях, брошенные своими хозяевами; и тем не менее ни разу не
наблюдалось, чтобы они дичали, но каждый раз эти собаки возвращаются либо на ту
же, либо на другую стоянку.
Замечу, что калмыки решительно утверждают следующее. Собаки-самки нередко в
период течки по своей собственной воле убегают в пустынные места и там спарива-
ются с волками. От этого рождаются щенки, силой и свирепостью подобные своим
329
отцам. Сообщают также, что волки, которых море время от времени заносит на
льдинах на ближайшие [к Камчатке] из Курильских островов, там спариваются без
разбора с местными собаками, и от этого там произошла гибридная разновидность, по
окраске отклоняющаяся от обычных собак.
Для Европейской России также можно найти немало примеров гибридных разно-
видностей, происшедших от скрещивания волка с собакой. Выше я уже упоминал о
собаке с ее потомством, происшедшим от нее и от темноокрашенной разновидности
волка. Потомство это было довольно многочисленно, причем все щенки, за исключе-
нием одного альбиносного, в основном были похожи на волка-отца как своей окра-
ской и поведением, так, в частности, и свирепостью.
Встречаются у нас и сообщения о потомстве, порожденном в результате скрещи-
вания собаки с лисой. Что касается собаки золотистой, то она столь родственна по
всем признакам домашней собаке, что вряд ли можно сомневаться в общем проис-
хождении обоих этих в равной мере синантропных животных.
Примечание. Все породы домашней собаки у русских имеют свои особые обоз-
начения, однако не все эти обозначения собственно русские по своему происхож-
дению; многие породы привезены из-за границы только в течение последнего столе-
тия и даже пока еще не распространились до отдаленных районов империи.
Однако имеются и в полном смысле аборигенные для России породы, обычные
вплоть до отдаленных северных сибирских местообитаний:
Canis domesticus (дворовая), с длиной (особенно на хвосте) шерстью. Форма головы и окраска по
большей части такие же, как у волка, но все же окраска несколько темнее и чаще уклоняется в
сторону черной. В этих случаях также на шее спереди и на заметных надглазничных выступах
имеются ржавоокрашенные [пятна]. Эта порода чрезвычайно обычна по всей Сибири вплоть до
Камчатки; в этих местах ее запрягают в сани вместо упряжного скота. Бюффон выделил ее, во
всяком случае, в особую "сибирскую разновидность”.
Родственная предыдущей Canis laniarius. По форме она такова же, как предыдущая, но по окраске
[отличается]: по большей части шерсть ее имеет более или менее желтоватый оттенок. Шерсть
короткая и жесткая, хвост ровный; пропорции более стройные.
Порода, родственная греческим собакам. Уши, хвост и задние конечности по большей части снабже-
ны довольно длинной бахромой. Эту породу наиболее предпочитают кочевники: калмыки и
киргизо-татары. Окраска изменчивая. В остальном часто приближается по признакам к шакалу.
(Борзая) — совершенно сходная с греческой, но крупнее размером. Пригодна для охоты на зайцев,
лисиц и даже волков. Разводится в основном кавказскими народами и крымскими татарами.
Она также часто имеет элегантную бахрому. Пропорции тела весьма стройные.
"Собака лисовидная” (лиска), с более короткими лапами, с окраской по большей части желтой,
желтоватой или белесой, с очень длинной шерстью, пышно растущей по всему телу, за исклю-
чением головы, которая по форме напоминает лисью. Уши более или менее отвислые, мохна-
тые. В остальном ее родство с лисицей проявляется не с меньшей очевидностью, чем для раз-
новидности — родство с волком.
К этой разновидности примыкают и производят с ней путем скрещивания разно-
образные формы также некоторые экзотические породы, из которых наиболее много-
численны:
Молосс (датская собака), всегда имеющая темную окраску.
Собака-птицелов (легавая), также ее разновидность, происходящая из Дубровника. Бюффон не-
правильно называет эту породу "бенгальской”. Мускулистая, с носом, разделенным бороздкой;
особенно пригодна для отыскивания различных кореньев.
[Canis] aquaticus (овчарка), по большей части бурого или черного цвета; из всех пород наиболее
склонна к охоте и легче всего поддается обучению.
Собака-скороход, или охотничья (гончая собака), у малороссов именуемая "хортом”. Окраска
часто желтоватая или черная, брови и горло желтые.
Гигантская греческая, или гибернальная, по большей части довольно мохнатая; в высоту достигает
почти трех футов. Ее называют также "ярославская”, по месту, где ее чаще всего разводят.
Греческая миниатюрная, происхождением из Италии; в обиходе ее обычно называют "англий-
ской”.
330
Датская миниатюрная.
[Canis] fricator (моська), по размеру варьирует.
Далее, имеются более редкие у нас породы:
Померанская (шпиц), а также ее карликовый вариант. Борзая, вероятнее всего, вариант небольших
размеров.
[Canis] extrarius (ищейка), возможно: результат перерождения предыдущей [породы].
Мальтийская (меделянская собака).
Львиная: возможно, произошла когда-то путем гибридизации; малоплодовита.
Египетская (или турецкая) собака, по большей части темноокрашенная, изредка цвета, напомина-
ющего человеческую кожу. Безволосая почти совершенно, если не считать усов и щетин на
хвосте. Очень плохо переносит холод. Часто от рождения лишена хвоста или же на месте хвоста
имеет заметную бородавку.
У других пород это отклонение встречается довольно редко, но когда встречается,
представляет собой по большей части передаваемый по наследству порок развития.
Это происходит, когда у отца или у матери хвост укороченный, наподобие обрублен-
ного, а к плоду переходит сходство с одним из родителей [и именно с короткохвос-
тым], так что плод оказывается лишенным хвоста, проявляя таким образом опреде-
ленное сходство [в этим родителем].
Как нам представляется, этот момент должен быть учтен при построении теории
порождения животных в такой же мере, как должны быть учтены примеры наподобие
шестипалых индивидуумов [у человека] или пятипалых кур.
[Род] 3. Медведи
Современными зоологами медведи (их насчитывают три вида) с коротким хвостом
объединяются в один род с барсуком, росомахой и другими, родственными им живот-
ными. По моему же суждению, необходимо выделить собственно медведей в особый
род, поскольку они четко обособлены по своему габитусу и поскольку в противо-
положном случае между этим сборным родом и многообразными виверрами (в смыс-
ле, придаваемом этому термину различными авторами) не будет сколько-нибудь чет-
ких границ. Поэтому я предпочитаю установить для собственно медведей особый род
и в другой род объединить с барсуком виды, более родственные виверрам. Впрочем,
я не отрицаю наличия явного родства между медведями, барсуками и виверрами, ко-
торые по своему образу жизни, питания и по внешнему облику образуют единую се-
рию, в которую легко укладываются [все соответствующие] виды. В свою очередь, от
этой серии тянутся нити родства к ласкам и далее, через выдр, очевидно, к роду
тюленей.
17. Медведь бурый. Медведь с бурой окраской шерсти по [всему] телу; горло того
же цвета, что и остальное тело.
У русских: ’’медведь” (’’пожиратель меда”). У малороссов: ’’ведмедь”.
В лесах, расположенных в северной и умеренной [зонах] всей Европейской России
и Сибири, бурый медведь обычен. Полевых пространств он избегает, поскольку там
ему трудно охотиться за дичью из засады и поскольку там ему в то же время не уда-
ется собирать ягоды или коренья.
Па Кавказе, в том числе и южном, бурый медведь часто встречается в лесах горной
и субальпийской [зон]. В Персии, по свидетельству Кемпфера, бурый медведь смир-
нее нравом и мельче, чем в Европе.
На Крымском полуострове бурый медведь к настоящему времени вымер.
На Камчатке, по наблюдениям Стеллера, бурые медведи встречаются чрезвычайно
обширными стадами и, будучи в то же время крайне робкими, убегают от шума, про-
изводимого человеком2. Но если бурого медведя ранить (по крайней мере так [сооб-
20ни могут напасть на человека и повредить ему, только если их потревожить в зимнем сне;
однако [и в этих случаях] не убивают. — Примеч. Палласа.
331
тают о] более старых медведях), он яростно нападает на охотника. Медведь научает-
ся даже [по памяти] распознавать запах [своего врага], и случалось наблюдать, как он
по истечении ряда дней, застав того невооруженным, нападал на него из засады и
убивал.
Бурые медведи опасны также во время зимней спячки, если они тем не менее
почему-либо на засыпают. Некоторые из них, по-видимому, слишком поздно начина-
ют искать себе берлогу, когда земля уже заледенела, и в результате всю зиму блуж-
дают, впадая в неистовство. Эти наиболее опасны для человека и прожорливы, хотя
как раз в этот период желудок у них хуже всего переваривает пищу.
Это в редкие годы бывает и в Сибири: [в эти годы] наблюдается, что бурые медведи
бродят поодиночке и если встречаются друг с другом, то могут вступать в битву,
даже вплоть до смертельного исхода.
Напротив, в летний период, когда изобильна растительная пища, медведи стано-
вятся до того безобидными, что даже если им, бывает, попадутся дети, собирающие в
лесу ягоды, то медведь пожирает собранные ими ягоды, а самих детей отпускает без
всякого вреда для них.
Как рассказывают камчадалы, после зимнего голодания медведи вырывают из
земли и пожирают корни камчатского змееголовника, а также молодые побеги того
же растения, и тем самым готовят свой желудок [к употреблению в дальнейшем бо-
лее обильной пищи]. С той же целью упомянутые коренья поедают и сами камчадалы.
Подобные сведения об употреблении медведями весной аронника в качестве лекар-
ственного средства приводит и Плиний в главе 54 книги VIII [своей ’’Естественной
истории”]. Помимо того, бурый медведь поедает луковицы лука викториального и
различных других сортов лука, корневища горца живородящего, кроме того, лукови-
цы лилий, дымянок и клейтоний (вырывая их из земли); молодые побеги хвощей,
крестовника коноплелистного и спирей камчатской. Летом же (около моря) и осенью
(по течению рек) бурый медведь насыщается в изобилии попадающейся там рыбой и в
этот период бывает совсем кротким.
В сибирских горных лесах, которые [летом] повсюду покрываются ягодами мали-
ны, как если бы то были нарочно сделанные посадки, бурый медведь больше всего
питается этими ягодами, так что повсеместно в этих лесах можно видеть следы бро-
дивших по ним медведей.
Однако если пищи начинает не хватать, медведи становятся более свирепыми и не-
редко из засады нападают на людей; собак, впрочем, остерегаются.
Весной бурые медведи постепенно начинают терять шерсть, так что от июня до
августа часто бродят совсем почти без шерсти.
В ноябре, когда они снова обрастают шерстью, медвежьи шкуры бывают наилуч-
шими.
Уже к концу октября (это срок для Восточной Сибири как более холодной области)
медведи начинают себе искать убежища на зиму, чаще всего под корнями какого-
нибудь старого дерева, или под бугром, или на каком-либо обрыве, спускающемся к
реке. Там они устраивают себе берлогу и перезимовывают поодиночке, а чаще всего
по двое, редко по нескольку (самое большое, вчетвером).
Но они не сразу погружаются в сон, и поэтому до полного установления зимы
для охотников опасно бывает тревожить медведей в их берлогах.
Медведи, забитые в феврале, бывают еще довольно жирными; но попадающиеся
весной, в период, когда они выходят из берлог, а это часто бывает только в апреле,
выглядят уже истощенными. Кишечник у них во все время голодания пустой, за
исключением пенистого химуса в тонких кишках и очень затвердевающих экскре-
ментов в прямой кишке. Эти последние закупориваются дистальной пробкой. По сви-
детельству охотников, они бывают смешаны с кровью и извергаются с большим стра-
данием для животного. От него требуется такое усилие, чтобы их извергнуть, что
332
часто оно упирается на дерево, охватив его лапами, и раздирает его когтями. Под-
тверждением этому может служить тот факт, что около берлог, где медведи зимуют
из года в год, встречается много поврежденных деревьев с обломанными нижними
ветвями.
Стеллер утверждает, что он как будто видел на Камчатке случаи спаривания собак
с медведями; и что вместе с тем, хотя с медведями на Камчатке все очень хорошо
знакомы, ему не приходилось слышать там басни относительно того, что медведи с
постыдными целями нападают на женщин. Тот же Стеллер сообщает, что лошади и ко-
ровы на Камчатке не только не боятся медведей, но даже, напротив, могут пуститься
вдогонку за медведем, когда тот убегает. Я же сам в Сибири видел, как драчливые
лошади бросаются на медведя и иногда даже убивают его ударами передних копыт.
Ни об одном животном в простонародье не ходит столько басен, как о медведе.
Чаще всего местное население рисует его в виде защитника справедливости и карате-
ля обмана. По этой причине существует обычай при принесении наиболее священных
клятв надкусывать медвежью шкуру. Якуты баснословят, будто залегший зимой в
берлогу медведь все слышит на расстоянии, что только делается и говорится. Поэто-
му они опасаются сказать что-нибудь для него обидное. Напротив, летом, по их
мнению, медведь больше думает о том, как бы набить себе брюхо, нежели о том, что о
нем говорят. Если очертить круг, то медведь никоим образом не перейдет через эту
линию, но если очертить вокруг медведя полукруг, он из него выходит.
Убивают медведей с помощью различных способов и ухищрений. В особенности
враждебны медведю и изобретательны в способах его истребления башкиры, живу-
щие в Уральских горах, потому что медведи опустошают принадлежащие им и раз-
бросанные по лесам пчелиные гнезда, хотя эти последние и размещаются на верши-
нах стволов сосен. Народы, обитающие дальше к востоку, убивают медведей, нанося
им удары или поражая стрелами, причем [сами при этом] проносятся [мимо них на
конях]. Наиболее же ловкие и смелые охотники, в особенности из тунгусов, раздраз-
нив медведя, приближаются к нему вплотную, держа в руке кинжал, и с такой
быстротой, подбежав к нему сбоку, ударяют его кинжалом, что тому редко удается
спастись или же ранить такого охотника.
Другие подставляют медведю шест, на котором насажено тонкое, не причиняющее
зверю страдания, а пониже этого острия устраивают железный шип. Медведь своей
силой налегает на острие и может дойти по нему до охотника на расстояние всего не-
скольких пядей.
Камчадалы, высмотрев лежащего медведя, сбрасывают с себя меховые одежды,
чтобы не произвести какого-нибудь шума, стремительно приближаются к медведю
(будучи голыми) и убивают его, так что он не успевает встать. Также очень часто уби-
вают медведей в их логовищах, после конца декабря, когда зверь, наконец, погру-
жается в наиболее глубокий сон. Выслеживают при этом медведя или по сохранив-
шимся следам, ведущим к логовищу, или по испарениям, от которых на соседних
деревьях ложится иней; или просто случайно [набредают на логовище; так или ина-
че, обнаружив таковое,] проделывают к нему отверстие и убивают медведя спящим.
Медвежьи шкуры сибирское население использует на постройку яранг и для из-
готовления одежды. В Европейской России из них делают полости для саней и солдат-
ские шапки. Шкуры, снятые с медвежат, имеют гораздо более темную окраску и
очень высоко ценятся для изготовления подбитых мехом плащей. Что касается
бурых шкур более взрослых особей, то им, как правило, предпочитают шкуры медве-
дя американского. Это, без сомнения, особый вид, с интенсивно-черной шкурой и
желтыми пятнами на скулах. Медвежье мясо и жир для всех составляют лакомую пи-
щу, а в Петербурге на торжественных обедах нередко предлагают медвежье филе в
жареном виде, приготовляемое из молодых особей, хорошо откормленных в домаш-
них условиях на молоке и хлебе.
333
У русского простонародья в обычае (и нельзя сказать, чтобы это было бесполезно)
давать пить медвежью желчь при перемежающихся лихорадках, а также при желту-
хе и некоторых других болезнях. Ее же пьют и смазывают ею тело при опухолях и при
заболеваниях суставов венерического происхождения. Употребляют в качестве
лекарства также золу от сожженного сердца бурого медведя. Любопытна басня, рас-
пространенная в Сибири, будто в массе мускулов медведя можно найти особый каме-
шек, который именуют ветряным (ветреной камень) и с помощью которого якуты,
привязав его к руке и повернув затем в ту или другую сторону, могут, как утвержда-
ют, вызывать ветер с соответствующей стороны. Плечевую кость бурого медведя еще
и в наше время камчадалы используют в качестве серпа, срезая ею злаки. Медвежьи
кишки в местах, примыкающих к реке Лене, и на Камчатке употребляют, чтобы
вставлять их в окна: если их раздуть и просушить на морозе, они становятся совер-
шенно прозрачными. Теми же медвежьими кишками у камчадалов девицы, любящие
себя украшать, летом обклеивают себе лицо, чтобы солнце не обожгло нежной кожи.
Замечу, что название реки Абакан представляет собой в измененном виде слова
’’медвежья кровь”.
Примечание. В 1771 г. бурятами был живьем пойман редчайший экземпляр
медведя данного вида, но чисто белой окраски. Это случилось, когда туда [,в Забай-
калье,] медведи часто мигрировали, спускаясь с горных троп, возможно, по причине
неурожая в том году. Пеструю, белую с черным, особь видел (убитую) около Нарыма
Стеллер. В Уральских горах водятся особи этого вида не только бурые, но и черные,
даже интенсивно-черные (а у детенышей и всегда такая окраска). В Сибири тоже мно-
го черноокрашенных медведей. Русские делят медведей на питающихся муравьями
(муравейники) и пожирающих трупы (стервеники), но это не имеет твердого основа-
ния, потому что единственные [устойчивые] вариации, которые у данного вида заме-
чены, касаются цвета, который может быть более черным, или же переходящим в той
или иной мере из бурого в рыжеватый; менять же свой нрав в сторону большей или
меньшей раздражительности и кровожадности они могут в зависимости от времени
года, возраста и изобилия или недостатка кормов.
В верховьях реки Енисея время от времени наблюдаются в большом количестве
черные с белым и иные по окраске медведи данного вида.
18. Медведь белый. Медведь, имеющий белую окраску тела.
Часто встречается во льдах Арктического океана и никогда не выходит за преде-
лы этого района. Даже через Берингов пролив на Камчатку опускается лишь в ред-
чайших случаях. Питается тюленями, трупами китов и дельфинов, рыбой и прочей
морской пищей.
Зиму проводит на суше, и часто видели, как во время снежных бурь белые мед-
веди уходят от океана на значительное расстояние в глубь материка, чтобы там найти
себе берлогу и спокойно провести там зиму. В моря более умеренного климата белый
медведь никогда не заходит, будучи в этом отношении вполне похож на моржа.
Белый медведь отлично плавает. На материке он довольно неуклюж, особенно
когда ему приходится вступать в битву. Охотники легко его убивают, когда он пыта-
ется защититься, поднимаясь на задние лапы. Вообще он менее живуч, чем сухопут-
ный медведь...
В длину взрослые экземпляры по большей части имеют семь футов, в высоту два с
половиной фута.
[Род] 4. Барсук
Этот род животных, часто включаемый в состав рода медведей, в Америке насчи-
тывает три отличных друг от друга вида. На континенте же Европы и Азии выделяет-
ся только два таких вида, собственно барсук (которого только обычно так и называ-
ют) и росомаха.
334
Среди африканских же животных ни одного, которого можно было бы причислить
к этому роду, не обнаружено.
По внешнему облику и образу жизни барсук занимает промежуточное положение
между медведями и виверрами. Строение зубов у него мало отлично от тех и других;
ноги, как и у них, с длинными когтями, по большей части приспособленные к лаза-
нию и рытью.
Морда у барсуков острее, чем у медведей, а шерсть едва ли менее грубая, чем у
них, но у виверр она заметно тоньше. Форма туловища скорее медвежья, а у виверр
туловище более стройное.
Под хвостом у барсуков имеется сальная железа с неприятным запахом, что в
основном и отличает их от собственно медведей, а от виверр барсуки отличаются
меньшей подвижностью. По величине они занимают промежуточное место между
медведями и виверрами; они отстоят по размеру от виверр настолько же, насколько
эти последние отстоят от ласок и выдр.
19. Барсук. Барсук пепельно-серой окраски, снизу туловище черное, голова беле-
сая, продольные полосы по обеим сторонам тела черные.
Это животное не свойственно исключительно Европе, как полагал славнейший
Бюффон, но распространено также и по Азии, в особенности там, где тому благоприят-
ствуют места, обильные солнцем, сухие, пустынные; в этих местах барсуки встреча-
ются в большом числе. В Сибири барсук известен преимущественно для горных и
богатых солнцем мест по течению реки Енисея, и в частности к северу от Краснояр-
ска, а далее [к востоку] вплоть до реки Лены. Столь же несомненно присутствие бар-
суков в жарких местах поблизости от Каспийского моря, наиболее часто - в степях
между реками Кумой и Тереком, у подножия Кавказских гор; а равным образом на
самом Кавказе, вплоть до альпийского пояса, и в Закавказье (Грузия, Персия), а
также на Крымском полуострове. Кажется, что на всем протяжении Азии барсуки
также проявляют большую тенденцию распространяться в южном направлении, и
нечто подобное имеет место и в Европейской России. Чрезвычайно часто встречается
барсук в Ливонии. В лесах он водится только тогда, когда к тому принуждает необхо-
димость. Более охотно он избирает для жительства сады и поля, по которым рассея-
ны редкие рощицы или же где нет древесной растительности вовсе. Свои норы барсук
роет чаще всего в обрывистых местах, а неподалеку от норы выбирает место для ’’по-
мойки”; это может быть тоже обрывистое место, но может оно оказаться и пологим.
Откладываемые здесь экскременты барсук покрывает сверху землей, так что обра-
зовавшиеся кучи легко заметить. Выходят барсуки из нор бродить исключительно
ночью, после заката солнца. Если же барсука вдруг застигнет рассвет, он прячется
под какие-нибудь корни деревьев или в случайно подвернувшейся пещере. Когда на
него нападают собаки, он защищается когтями и зубами, выгибая спину.
Осенью барсук в большом количестве поедает ягоды и косточковые плоды. Ест
также жуков. Спаривается в ноябре, когда достигает наивысшей упитанности, а
затем на всю зиму впадает в спячку.
В феврале самки рождают по четыре или по пять детенышей. Относительно тех бар-
суков, которых мне приносили в декабре и январе, я всегда обнаруживал, что они
жирнее хорошо откормленной свиньи, причем часто эта тучность [особенно бросалась
в глаза, потому что] ее едва прикрывали редкие волосы. В этот сезон [местное населе-
ние] особенно старается добыть барсуков, чтобы получить их жидкий жир, использу-
емый в медицине и для смазывания механических [устройств]. Многие же его упо-
требляют в пищу.
Летом барсуки более худые. От легкого удара палкой по носу барсук падает, оглу-
шенный, как бы в обморок; от более сильного удара он умирает по причине крово-
течения. В остальном же барсук переносит удары и раны очень терпеливо. Барсучьи
шкуры казацкое простонародье и кочевники используют для покрытия палаток, по-
335
скольку эти шкуры наилучшим образом предохраняют от неблагоприятных атмо-
сферных влияний и дождей. Не исключено, что эти шкуры (филологи до сих пор вы-
ражают сомнения по этому поводу) - именно те, которыми Моисей закрывал коче-
вые палатки в пустыне; может быть, эти шкуры принадлежали именно данному
животному.
Примечание. Существует ли у барсука альбиносная разновидность, относитель-
но этого ни мне, ни моим предшественникам в этом вопросе никогда не приходилось
слышать никаких сообщений. По внешнему виду это животное всегда чрезвычайно
напоминает свинью; в окраске же никогда не замечается отклонений [от описанной
выше].
С брюшной стороны цвет тела более бледный; имеются очень широкие темноокра-
шенные продольные полосы, покрывающие, в частности, все горло и сливающиеся на
конечностях с черной окраской этих последних.
Голова в основном белесая, если не считать темного пятна, идущего от носа и захо-
дящего за уши. Анальное отверстие, гениталии и подхвостовая сальная железа
заключены в общее бледноокрашенное пятно.
Прежде проводили различие между ’’барсуком свиноподобным” и ’’барсуком
собакоподобным”, но это, по-видимому, произошло из-за особого вида данного жи-
вотного зимой, поскольку у накопивших жир на зиму барсуков нос упругий и есте-
ственно выступающий над верхней челюстью, и для людей, недостаточно осведом-
ленных в данном вопросе, это выглядит наподобие сходства со свиньей. У барсуков
же, исхудавших к [началу] лета, такое сходство выступает в меньшей степени.
Вес барсуков, которых мне приносили в зимний период в Сибири и на Каспийском
море, составлял, по моим взвешиваниям, приблизительно от 25 до 28 фунтов, причем
самцы весили несколько меньше, чем самки.
У особей обоего пола наличествует подхвостовая железа, выделяющая воско-
подобное вещество. Поэтому волосы поблизости от хвоста бывают окрашены жиром
этой железы в желтый цвет. На груди имеются 2 соска грудных желез, на животе - 4;
столько же сосков имеется и у самцов. В половом члене имеется кость, на конце слег-
ка изогнутая, с верхушкой конической наподобие раковины улитки и перфорирован-
ной. Ключицы чрезвычайно маленькие. Кишечник в период зимнего голодания со-
кращен, покрыт скудной слизью; в прямой кишке часто имеется немного измельчен-
ной соломы.
Внутренняя поверхность желудка более мягка [по сравнению с внешней] и ин-
крустирована черновато-желтым песком. Желчный пузырь спадается вследствие
скудного содержания желчи; окраска желчи шафранная, консиётенция густая.
Между кожей и мясом имеется чрезвычайно обильный жировой слой.
20. Росомаха. Барсук с черным туловищем, с желтыми пятнами с обеих сторон в
дорзальной области.
В Европейской России росомаха встречается довольно редко, если не считать об-
ширных северных лесов; в сибирских лесах водится часто.
Примечание. Имеется также американское животное, аналогичное росомахе
(’’уолверин”). Но его пока еще только предстоит исследовать, сблизить же его сле-
дует скорее всего с родом Gulo в том смысле, в каком его понимал античный мир.
Бастер отметил, что волосы шерсти росомахи в поперечном сечении треугольны,
см.: Тр. Гарлемской [Академии], т. 15. Но это, видимо, относится к американскому
виду: у нашей росомахи они гладкие.
336
[Род] 5. Виверры
Виверр можно отличить от куньих не столько по внешнему виду, сколько по нра-
ву и образу жизни. В самом деле, строение зубов у виверр и у куньих приблизитель-
но одно и то же, а именно нижние резцы чередуются с верхними, а из числа этих по-
следних крайние отделены от остальных и являются несколько более крупными, чем
они, и [в этой черте] скорее заметно сходство с медведями и барсуками. Далее, ви-
верры характеризуются более прямым [, чем у куньих], туловищем и походкой, на-
поминающей ползание.
В особенности эта последняя черта отличает их от куньих. Помимо этого, я мог бы
указать в качестве отличия также более грубый у виверр мех и более мощные у них
же конечности. Наилучшим образом род виверр обработан в издании [линнеевской]
’’Системы природы” под редакцией славнейшего Гмелина. Однако к этому роду надо
добавить выдр, которые там перенесены к куньим. Впрочем, и составлять из выдр
особый род также не следует, потому что для этого у них недостаточно отличий
[от виверр].
21. Виверра мунго. Виверра с хвостом у основания толстым, далее утончающимся,
с черной верхушкой; окраска тела серебристо-серая, снизу коричневато-ржавая.
Небольшое животное, обитающее в Южной Персии. Легко приручается. [В приру-
ченном виде] это животное привозят в губернии, примыкающие к Каспийскому
морю, и в Грузию. Привозят ручных мангустов также и в Петербург (через Астра-
хань). Там мангусты подолгу живут в запертых клетках, причем для них [создают
условия] наибольшего уединения. Этот прелестный и изящный зверек справляется не
только с мышами, но (после короткой схватки) легко убивает и огромных крыс; не
боится он и змей.
Животное очень гибкое, передвигающееся ползком, повсеместно любит прятаться
в расщелинах. Любит яичный желток и, ловко раздобывая яйца, высасывает их.
Раздраженный мангуст издает протяжное ворчание. Мне удалось видеть экземпляры
мангуста, живыми привезенные в Бельгию из Индии. Эти несколько [виденных мною]
экземпляров были в высшей степени похожи на персидские в отношении величины и
цвета и, во всяком случае, отличались от египетского ихневмона и от родственного
ему вида Viverra caffra. Ихневмон, он же Vulpecula ccylanica Sebae thes (I, c. 66,
табл. 41), близок к нашему виду. Я видел тот самый образец из музея Себы [, который
упомянут в только что цитированной работе].
Этот экземпляр и поныне сохраняется в Амстердаме.
Описание. Животное более крупное, чем хорек, и, пожалуй, более изящное.
Окраска [части морды] около рта коричневато-ржавая, всего остального тела - тем-
норжавая. Только наиболее длинные волосы по всему телу попеременно белые и чер-
ные, и это чередование создает изящный серебристо-серый оттенок. Концы конеч-
ностей и хвоста черные. Основание хвоста толстое, далее хвост постепенно утончает-
ся. Резцы притупленные, крайний с обеих сторон несколько крупнее остальных,
конический. Из числа пальцев на передних конечностях два средних более крупные,
’’большой” же палец мал. Рядом с гениталиями имеется сальная железа.
22. Выдра. Виверра, у которой все конечности пальматны, туловище бурое, снизу
серебристо-серое.
Выдра обитает по всей Европейской России и Сибири, вплоть до Камчатки, по бере-
гам более или менее крупных рек и ручьев, а также по всем богатым рыбой озерам.
Во всех этих местообитаниях она довольно обыкновенна, если не считать наиболее
северной [зоны].
Переходит она и в Америку. Обитает также на Кавказе, в особенности по реке
Куре; в Персии по всей великой Татарии, возможно, до самой Индии. В особенности
любит холмистые и лесные места. В обрывистых берегах роет себе норы, вход в кото-
22. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
337
рые устроен из-под воды, но по большей части эти норы имеют и еще один вход. В
одной и той же норе часто обитают по две и по три выдры.
Питается рыбами, мышами и водяными птицами. У рыб выдры охотнее всего
поедают головы. Детенышей рожают весной, чаще всего по два.
Шкуры выдры хуже лисьих. Иногда их выносят в большом числе на продажу ки-
тайцы. У них и у монгол даже еще и в наше время шкуры выдры часто употребляются
для изготовления бахромы на одежду (то же имеет место и у других народов). Поми-
мо того, эти шкуры, вывернув их наизнанку, мехом внутрь, используют для шитья из
них мешков, в которых хранятся лучшие собольи меха, в особенности на время дли-
тельного путешествия. Помимо того, русские священники часто используют мех
выдры для [украшения] своих митр.
Часто выдры попадаются в рыболовные верши, живыми ловятся в сети. Зимой их
ловят и собаки, хотя с ними выдра вступает в жестокий бой, сильно их кусая. Пере-
двигается выдра ползком, с опущенной головой, по снегу и льду очень быстро сколь-
зит благодаря своему гладкому меху, подталкивая себя при этом хвостом и направ-
ляя им же движение. Сражаясь, выдра может броситься навзничь или встать на зад-
ние лапы. Зверь это не робкий, но осторожный.
Особых звуков для выражения рассерженности у выдры нет. Однако при болезни
она стонет, почти как дети. Умеет ловко использовать передние конечности как
руки. Отдыхает, распростерши все тело и вытянув голову. Зимой чаще всего прихо-
дит к горным потокам, которые не покрываются льдом.
Выдр, очень похожих на наших, замечают и на островах, располагающихся в океа-
не в направлении американского материка, в особенности на острове Кадьяке, а
также на Аляске, служащей выступом самого этого материка. Самые крупные выдры
водятся на Камчатке. Там местные народности верят, будто принесение в хижину
выдры вызывает венерическое заболевание у живущих в этой хижине.
Что касается проведенного Туннером (в примечаниях к книге Леема ”0 лапланд-
цах”) различения между морскими, прибрежными и береговыми выдрами, то кажет-
ся, что различение это не имеет под собой основания. Не приходилось мне слышать и
о том, чтобы в значительном количестве появлялись у нас выдры-альбиносы или что-
бы вообще была выражена какая-либо разновидность выдры, кроме возрастных.
Я измерил у живой выдры температуру; она составила 103 градуса по Фаренгейту.
Описание. В отношении формы головы и по толщине шеи выдра приближается к
тюленям. Все тело сплющено в вертикальном направлении, в особенности голова и
наиболее - рыло; вся форма тела чрезвычайно приспособлена для плавания. Рыло
закругленное; нос широкий, сплющенный, с полулунными ноздрями, разделенными
перегородкой.
Верхняя губа с обеих сторон припухшая, покрыта жесткими волосами. Имеются
особенно жесткие усы, из которых те, что отогнуты кзади слегка длиннее. Усы распо-
ложены в восемь рядов. Имеются полулунные надглазничные бородавки, снабжен-
ные четырьмя щетинками; за глазами имеются бородавки с двумя щетинками каж-
дая. С обеих сторон имеется также по крупной подглазничной бородавке, лежащей
на уровне основания [верхней] челюсти, кзади от углов рта. Эти бородавки снабжены
каждая более чем десятью щетинками, расположенными в косой ряд. Симметрично
между ними на глотке также имеется бородавка, на которой растут две пары щети-
нок.
Верхние резцы более крупные, из них четыре средних равные, притупленные;
наружные - конические, вогнутые сзади и отделенные от клыков промежутком.
Нижние резцы все притупленные и слегка усеченные, причем на наружных из них
есть небольшая выемка. Внутренние резцы нижней челюсти чередуются [с верх-
ними].
Клыки ровные, очень крепкие.
338
Коренных зубов в верхней челюсти с обеих сторон по два, в нижней - по три. Они
треугольно-заостренные, пилообразно входят взаимно в углубления.
Мех по всему телу лишен каких бы то ни было швов. Мех густой и плотный, при-
чем как подшерсток, так и шерсть довольно жесткие, густые, блестящие, а на нижней
поверхности живота и хвоста более грубые и более темноокрашенные, на горле и гру-
ди слегка серебристо-серые, на спине смоляно-черные. Подшерсток серебристый,
расположен [непосредственно] на белой коже. Ушные раковины маленькие, толстые,
полуовальные; волосы на них прижатые; слуховой проход узкий, плотно прикрытый
заостренной долькой ушной раковины и волосами. Конечности короткие, мощные,
очень плотно прилегающие к телу при плавании.
Задние конечности едва ли длиннее передних. Ступни как передних, так и задних
конечностей пятипалые, снизу широкие, голые; снабжены толстыми пальцами и
соединяющей пальмовидно торчащие пальцы особой почти голой перепонкой значи-
тельной толщины.
Когти конические, весьма острые. Хвост мощный, постепенно утончающийся
дистально, начиная с толстого основания. Верхушка хвоста притупленная; весь хвост
покрыт шерстью. У самцов имеется небольшая os penis; вес самца составляет 17 фун-
тов, весь самок - немногим более 10 фунтов. Половые губы вульвы, расположенной
перед анальным отверстием и близко от него, толстые, слегка волосистые, овально-
продолговатые, кнутри слегка припухшие, кзади сплющенные, обрубленные, пере-
сеченные как бы щелью, спереди сросшиеся, но разделенные бороздкой. Сзади они
соединены одна с другой тонкой пленкой.
Под передним углом половых губ имеется синус, из которого выступает клитор,
укрепленный внутри особой косточкой. К синусу прирастают небольшие оболочки
уздечки, слегка натянутые напротив синуса, а под этими оболочками располагается
отверстие мочеиспускательного канала, ведущее в канал вульвы. Фолликулус у
представителей того и другого пола овальный, расположен около анального отвер-
стия. Изнутри фолликулус устлан мягкой оболочкой, по величине он почти равен
грецкому ореху. Открывается в кишечник поблизости от анального отверстия, при-
чем отверстие прикрыто клапаном. Фолликулус наполнен зеленоватой маслянистой
дурно пахнущей жидкостью.
Овальное отверстие сердца не сквозное. Впрочем, Сю обнаружил проток, через
который соединяются друг с другом оба предсердия (см.: ’’Записки Парижской Ака-
демии наук”, т. II, с. 203 и далее). Ключицы очень маленькие, лежат в толще муску-
лов. Длина самки: 1 фут 11 дюймов 6 линий, хвост 1 фут и 11 дюймов 6 линий; длина
хвоста 1 фут 0 дюймов 8 линий. Длина камчатских выдр часто более двух локтей,
если считать с хвостом.
23. Норка. Виверра с пальматными задними конечностями, с бурым телом, белой
верхушкой морды.
Изредка встречается по всей [Европейской] России, от Петербурга до Уральских
гор и реки Камы, в особенности по рекам и ручьям, богатым лягушками и раками -
главной пищей норки. За Уральский хребет не переходит и в Сибири отсутствует, как
и раки. Укрывается в норах по крутым берегам рек; торговцы отправляют шкуры
норки в Китай, где ее покупают, впрочем, по довольно низкой цене.
Примечание. Из северной части Казанской губернии мне сообщали, что там
время от времени встречали норку чисто белой окраски.
24. Veverra aterrima. Виверра с полупальматными конечностями, с очень темной
окраской тела, с темными околоушными пятнами.
От графа Иосифа Биллингса я получил шкуру любопытного животного, которое
часто, как сообщают, встречается на крайнем Востоке нашей Сибири, между реками
Уть и Амур, на морских побережьях и около рек. У полученной мною шкуры не было
ног, однако судя по ее плотности, характеру меха и форме, данное животное род-
339
ственно выдре и норке, так что на законном основании можно рассматривать данного
зверя как входящего в род виверр.
Так мы и поступим до тех пор, пока более точными наблюдениями не будет опре-
делен [ареал] этого животного и не будет описан этот регион, в котором водится мно-
го еще неизвестных видов растений, зверей и птиц (может быть, есть даже и неизвест-
ные металлы).
Описание. По величине животное это занимает промежуточное место между
выдрой и норкой. Длина шкуры составляет 19 дюймов 3 линии; длина хвоста без во-
лос 5 дюймов, волосы же по длине превосходят 1 дюйм 5 (и даже 6) линий.
Длина головы до ушей составляет 2 дюйма 4 линии, до глаз - 1 дюйм 6 линий. [По
отношению к длине ширина] головы небольшая.
Особенно узка голова этой виверры на уровне носа. Окрестность рта пепельно-
серая.
По бокам голова, между глазами и ушами, имеет окраску от черной до рыжева-
той. Вся остальная шкура чрезвычайно темная, блестящая, исключением некото-
рого количества сероватых волос подмышками, а также в пазухе между плечом и
грудной клеткой; слегка рыжеватого пятна на горле; и сходного с ним по цвету
околоушного [пятна].
Уши очень короткие, широкие, закругленные, покрыты мохнатой шерстью, почти
спрятанные в меху.
Усы и волосы в надглазничной области черные.
Мех на всем теле чуть мягче, нежели мех выдры. Подшерсток до самой кожи буро-
вато-черный.
Длина меха составляет до 6 линий, самые длинные волосы - 9 линий. Хвост равно-
мерно волосистый, на нем волосы длиной в 6 1/2 дюймов.
Зубов и ног на данной шкуре не было. В целом шкура данного животного может
считаться твердой, плотной, очень устойчива [к разным воздействиям], как это вооб-
ще бывает у водных животных. Но именно [по этим показателям], видимо, не следует
включать данный вид в род куньих.
[Род] 6. Ласки
Род ласок (Vermineum Raji, Synops. quadr. p. 195) до такой степени естествен и опре-
деляется всем габитусом, что относительно его границ не может быть никаких со-
мнений.
По стройности тела, по характерным позам, в особенности по изгибанию спинного
хребта, по коротким конечностям, наиболее же по строению резцов нижней челюсти,
очевидным образом чередующихся с таковыми верхней челюсти, - по всем этим при-
знакам ласки должны быть объединены и очень легко распознаются габитуально.
Весьма вероятно, что в областях ныне еще не изученных, таких, как внутренние
районы Азии и Африки, западные части обеих Америк [ Северной и Южной], или об-
ширные острова Австралии, скрывается еще много видов этого многочисленного и
(благодаря своему способу питания) достигшего высшей ступени животной жизни
рода. Он близок к тому, чтобы вообще избежать гнилостные процессы и преодолеть
их. На этот счет зоологам еще не хватает измерений.
Мех ласок (всех) даже после смерти самого животного остается в высшей степени
наэлектризованным, и если потереть его сухим пальцем, особенно же в холодную и
ясную погоду, то не только волосы на мехе поднимутся в направлении любого при-
близившегося к нему тела, но даже сильно и с треском разлетятся искры.
25. Соболь. Ласка с серовато-черным мехом, с горлом другой окраски, с хвостом,
более коротким [по сравнению] с задними лапами.
Животное, присущее, по-видимому, сибирским лесам и горным областям Централь-
ной Азии. Стойче, чем собственно ласки, соболь переносит холодный климат, а пото-
зло
му и занял области со столь суровым климатом. Нельзя твердо утверждать, относится
ли к одному виду с нашим соболем тот, шкуры которого часто привозят из Северной
Америки. Также не вполне ясно, ловят ли соболей по сю сторону Уральского хребта,
в крупных западных [лесных массивах], куда соболь если и попадает, то только
мигрируя.
То же, что можно сказать о нравах и образе жизни соболя, мы уже написали в ци-
тированном выше выпуске ’’Спицилегиума”. Там же дано изображение и описание.
Будучи разозленными, соболи издают крик, очень похожий на крик хорька. В дру-
гих случаях соболь иногда издает отрывистые звуки наподобие стрекотания сороки.
Примечание 1. Помимо локальных разновидностей соболей с мехом большей
или меньшей степени черноватым, ’’благородных” соболей и соболей, варьирующих
по величине; помимо случайных разновидностей, напр[имер] снежно-белых, желто-
ватых, даже ярко-желтых, помимо всех этих разновидностей, мне кажется, во внут-
ренних областях Азии скрывается еще один вид, чей мех часто смешивают с собствен-
но собольим. Соболь и этот вид похожи друг на друга и вместе с тем на куницу. Учи-
тывая наличие этого вида, понятными становятся рассказы охотников относительно
того, что на островах в устье реки Уть в Тихом океане и на большом острове Сахали-
не против устья Амура ловятся одновременно и куница и соболь.
Примечание 2. Чукчи приносят нам из каких-то мест, расположенных в Север-
ной Америке, одежды, сшитые из мехов, чрезвычайно похожих на мех соболя, но,
если я не ошибаюсь, принадлежащих все же другому виду. Эти шкуры, сшитые
вместе с лапами и хвостами, по многим признакам совпадают с наиболее крупными
из сибирских соболей, а отличаются, вообще говоря, каштановой или желтоватой
окраской меха, причем эта окраска у них является постоянным признаком, в то вре-
мя, как у настоящих сибирских соболей, мех с его подшерстком скорее склонен при-
обретать серовато-бурый, слегка пепельно-серый цвет. В лучших же образцах амери-
канских мехов более длинные волосы никогда не чернеют, но сохраняют свой глу-
боко насыщенный каштановый цвет (у некоторых более бледный).
У некоторых из американских мехов, в том числе прекраснейших, на горле имеет-
ся желтое пятно; у иных же это пятно имеет бледно-серый или бледно-пепельно-
серый цвет. Хвост у них у всех несколько более короток, чем у сибирских, и имеет
окраску каштаново-черную, и только кончик хвоста (где волосы наиболее длинные и
часто в длину имеют три дюйма; кроме того, здесь они более грубые) чисто черный, но
и здесь часто, хотя бы на самой верхушке хвоста, примешиваются слегка рыжеватые
волосы. Ноги у всех каштаново-черноватые, шерсть внизу ног коричневая. Мех в
целом более грубый, а длинные волосы более жесткие и толстые, чем у сибирских со-
болей, у которых мех мягкий и нежный. Голова у американских [видов] на самой
морде и с обеих сторон около ушей серовато-белесая, а ушные раковины изнутри
почти белые. Впрочем, также и у сибирских соболей, в особенности у тех из них, у
которых горло пепельно-серое и без пятен, ушные раковины нередко почти белые.
26. Куница. Ласка с желто-черной окраской тела, с большим желтым пятном на
горле, с хвостом более длинным, чем задние лапы.
В умеренной лесной зоне Европейской России куница довольно обыкновенна, то
же самое в Уральских горах и по Сибири до Верхотурского тракта и Исетского уезда;
дальше в Сибирь не заходит. Мех куниц, пойманных на Кавказе, в Гилянских горах,
а также в горах Крымского полуострова, ценится очень высоко, почти так же, как со-
болий. На втором месте по качеству стоят куницы, которых ловят на Урале.
Сообщают также, что куниц ловят и в более южных горах Азии, за пределами
Сибири, в особенности около истоков реки Енисея, и привозят их (в Красноярск; это
делают моторцы) под наименованием чоэпкоэ. Я видел куниц, пойманных в гористых
местах Исетской провинции; их меха хуже, чем у куниц, добываемых по сю сторону
Урала; пятно на горле у них бледновато-желтое. По Оренбургскому тракту нередко
341
ловят куниц, у которых пятно на горле вообще не желтое, но рыжее или красновато-
коричневое.
27. Куница-белодушка. Ласка с серо-буроватой окраской тела, с белым горлом;
хвост длиннее задних лап.
Многие современные авторы принимают этот вид как наилучшим образом и закон-
но определенный. Линней ошибочно объединяет куницу-белодушку с обычной
куницей.
Обитает куница-белодушка почти по всей Европейской России, в особенности в
более умеренном климате; селится в равной мере как по деревням, так и в лесах. Жи-
вет также на Уральских горах, часто встречается и в Исетской провинции, где в отно-
шении добычи мехов едва ли не оттесняет обычную куницу на второе место. Куница-
белодушка там встречается чаще, чем обычная куница.
В этих местах куница-белодушка, кроме того, отличается по окраске своего меха,
который здесь больше серовато-желтый. Отличается также более длинными, косма-
тыми волосами. Встречаются здесь также особи желтовато-белесые, с более буро-
окрашенной нижней поверхностью тела, с более черной головой по сравнению с обыч-
ной разновидностью; с белесыми ушными раковинами и меньшими размерами пятна
на горле. В остальной Сибири таких особей нет. Однако такого типа куницы-белодуш-
ки часто попадаются на Кавказе и на Крымском полуострове; но меха их более деше-
вы, ценой почти наполовину уступая мехам обычной куницы.
Куница-белодушка издает сильный мускусный запах. Я видел также ее альбинос-
ную разновидность, экземпляр которой был найден в одном гнезде с несколькими
детенышами неальбиносного вида.
Приводили также пример гибридного скрещивания куницы-белодушки с домаш-
ней кошкой; я подверг этот пример сомнению, что мною разъяснено в приложении к
моему ’’Описанию путешествия”, т. 1. Там же приведено изображение этого предпо-
ложительно гибридного потомства (случай этот наблюдался в Пензе).
[ОТРЯД 3. ГРЫЗУНЫ]
[Род] XV. Arctomys
Классификация рода ’’мышь”, осуществленная славнейшим Шребером, с выделени-
ем именно такого числа видов, какое он выделил, особенно удалось благодаря тому,
что группы, на которые он прежде всего разделил этот род, чрезвычайно естественны
и прекрасно отграничены друг от друга как общим обликом, так и образом жизни.
Таким образом, хотя и в настоящее время все еще надо ожидать обильного в дальней-
шем наплыва [вновь описываемых] видов из других частей света, мне все же кажет-
ся, что надо настаивать на том, чтобы, следуя по стопам этого славнейшего и честней-
шего мужа, не только принять его родовые деления, но еще и обогатить их [за счет
новопоступающих видов]. Итак, если мы хотим сохранить последовательность, како-
вую я всегда отстаиваю применительно к методам естественной истории, то долж-
ны прежде всего выделить из мышей в строгом смысле слова еще два рода: слепышей
и хомяков. При этом подразделение рода ’’мышь” [в линнеевском смысле], учитыва-
ющее морфологические признаки и габитус, должно быть установлено по следующей
схеме:
1. Суслики. Верхние резцы клиновидные, нижние притупленные. Тело прямое, с
увеличенным животом, по размерам крупное. Конечности приспособлены для ходьбы,
крепкие. Уши рваные по очертанию, морда тупая. Хвост короткий, покрыт двумя
рядами волос. Зимой впадают в спячку. Образ жизни дневной.
2. Слепыши. Резцы очень мощные; как в верхней, так и в нижней челюсти клино-
видные. Тело прямое, цилиндрическое. Конечности приспособлены для ходьбы.
Ушные раковины отсутствуют. Морда тупая, глаза очень маленькие. Хвост очень ко-
342
роткий или отсутствует. Роют под дерном ходы, выбрасывая при этом на поверхность
большое количество земли. Не впадают в спячку.
3. Хомяки. Верхние резцы в форме гравировальной иглы, нижние шильчатые.
Щеки снабжены мешками, конец морды слегка выдается вперед. Конечности доволь-
но толстые. Ушные раковины выстоящие. Хвост короткий. Роют под землей норы, где
хранят запасы и проводят зиму в покое, живя там поодиночке или брачными парами.
Образ жизни дневной.
4. Мыши. Резцы в верхней челюсти в форме гравировальной иглы, в нижней -
сжатые с боков, шильчатые. Конец морды сильно выдается вперед; ушные раковины
маленькие, почти голые. Туловище шаровидное; при передвижении животное под-
прыгивает. Хвост длинный, почти голый, свертывается в кольцо. Гнезда себе устраи-
вает в различных укромных местах; не имея постоянных кладовых, всю зиму блуж-
дают [в поисках корма]. Образ жизни по большей части ночной.
5. Полевки [узкочерепные]. Верхние резцы в форме гравировальной иглы, нижние
шильчатые. Конец морды тупой. Ушные раковины складчатые, скрыты в шерсти. Ту-
ловище более или менее прямоугольное, конечности приспособлены для передвиже-
ния шагом. Хвост укороченный, покрыт редкими волосами. Роют под землей норы,
где держат запасы пищи и прячутся зимой, не впадая в спячку. Животные по большей
части мелкие.
6. Сони. Резцы в верхней челюсти в форме гравировальной иглы, в нижней - сжа-
тые с боков; острые. Конец морды выстоящий. Ушные раковины несколько выда-
ющиеся. Туловище шаровидное; конечности приспособлены для передвижения прыж-
ками. Хвост длинный, волосатый, гладкий. Обитают в дуплах; зимой впадают в
спячку.
7. Мохноногие тушканчики. Резцы слабые; в верхней челюсти тупые, в нижней
притупленные. Морда цилиндрическая, ушные раковины крупные, почти голые.
Туловище в грудном отделе суженное; передние лапы маленькие, задние весьма
крупные, приспособленные для прыгания.Хвост очень длинный, гибкий, с кисточкой
волос на конце. Обитает в норах, ведет ночной образ жизни, зимой впадает в спячку.
Как мне кажется, мне в достаточной степени удалось различить перечисленные
семь родов, чтобы возможным оказалось распределить по ним множество [описанных
к настоящему моменту] видов (рис. 89-93).
Теперь, [после этого распределения,] полученные новые роды различны друг от
друга, по-видимому, не меньше, чем виверры от куниц или медведи от собак. Или
[, например,] давно установленное отличие между белками и бобрами, с одной сто-
роны, и родом мышей - с другой, имеет под собой не больше законного основания,
чем различие между этими новыми родами.
Притом некоторые из них уже выделялись другими авторами. Бриссон выделил
род мюоксус, под наименованием ’’сонь”; Пеннант выделил род Арктомюс, прибавив
к нему несколько посторонних видов и назвав [этот комплекс] именем ’’сурок”;
Гильденштедт выделил в особый род слепышей. Разделение видов по родам различ-
ные авторы осуществляли по-разному. Бриссон относил лемминга, Citrillus и мохно-
ногого тушканчика к Cuniculus, хомяка и сурка к соням; Пеннант включал мюоксус в
число белок, и также и Линней до некоторой степени с ним в этом соглашался.
Если же взять за основу выше очерченные признаки, более не сможет остаться ни-
каких сомнений по поводу того, как следует распределять также и вновь описыва-
емые виды.
Впрочем, следует признать, что все эти роды имеют между собой много общего.
Дело в том, что действительно весь отряд грызунов является настолько естествен-
ным, что выглядит почти что сливающимся в один род.
72. Байбак. Арктомюс с большими ушными раковинами, с ржаво-желтоватой
нижней поверхностью туловища, с когтями длиной около дюйма на передних конеч-
ностях.
343
Рис. 89. Серый хомячок (гравюра Ничманна)
Рис. 90. Крапчатый суслик
Рис. 91. Степная пищуха
Рис. 92. Алтайская пищуха
Рис. 93. Обыкновенная слепушонка
Водится в южных областях Польши, Европейской России и Сибири, по местам, про-
греваемым солнцем, на пологих склонах по холмам, преимущественно каменистым и
известняковым, поросшим злаками.
В таких местах это животное часто встречается, причем хотя оно вообще плохо
переносит холода и в Польше и на Украине не распространено к северу от 55-го граду-
са широты, тем не менее в Сибири живет в таком же или еще более суровом климате
(Сибирь гораздо холоднее [мест Европейской России, расположенных на той же широ-
те]), заходит даже и на Камчатку вместе со следующим видом. Более того, на Камчат-
ке данный вид весьма обычен.
345
В чрезвычайно большом количестве встречается также по холмам, отходящим от
Уральского хребта к югу, и по всей Великой Татарии, а кроме того, и по прогрева-
емым солнцем местам в Сибири, но не в горах.
Зимой более по причине своей тучности, чем из-за холода, впадает в глубокую
спячку и залегает в норы, имеющие большую протяженность и глубину более сажени.
В домашних же условиях прирученные животные, не впадая в оцепенение, перено-
сят большие холода.
Живут колониями по многу особей, часто прорывают ходы в насыпях, устроенных
над могилами. Днем греются на солнце и пасутся на траве, будучи растительноядны-
ми. При этом одно или два животных остаются на страже и, если почуют опасность,
извещают остальных свистящим звуком.
К человеку привыкают очень быстро, но все в комнате изгрызают. Любят, когда им
чешут горло или загривок, и проявляют свое удовольствие тем, что слегка покусыва-
ют руку того, кто их чешет.
Примечание. На Украине нередко встречается чисто черная разновидность это-
го вида. Камчатская разновидность имеет более крупные размеры по сравнению с си-
бирской и с живущей в Европейской России. [Признаки камчатской разновидности]:
Самый верх головы черный; затылок черноватый, с примесью серых волос. На
спине мех серый, прикрытый очень густыми более длинными черными волосами. Lien
и конечности с боков серо-желтоватые. Вся нижняя поверхность туловища от горла
до анального отверстия окрашена в ярко-ржавый цвет; [полоса такой окраски идет по
всему телу] продольно. Ушные раковины ржавоокрашенные. Хвост на конце темно-
окрашенный, а по его нижней поверхности идет также темноокрашенная полоса; у
основания хвоста к этой окраске примешивается серый [цвет более длинных] волос, с
боков хвоста окраска ржавая. Кажется, хвост немного длинней, чем [у разновид-
ности, свойственной] Европейской России, на верхних резцах имеются не вполне
ясно выраженные бороздки. Разновидность эту с первого взгляда можно распознать
как особую.
73. Суслик. Арктомюс без ушных раковин; с хвостом, на конце подразделенным на
две кисточки.
Зверек, чрезвычайно обычный в степях умеренной зоны всей Российской империи,
от пределов Польши и до самых отдаленных мест Восточной Сибири и до Камчатки.
Удивительно, что, невзирая на то,что в зимние холода суслик впадает в спячку в своей норе,
он тем не менее перебрался на острова, протянувшиеся цепью в направлении Амери-
ки, и на самую Америку. Не занесло ли туда сусликов в весеннее время с дрейфу-
ющими льдами?
На Крымском полуострове суслик не столь част; зато в степях между Доном и Вол-
гой, где теперь стали распахивать земли, суслики повсеместно в большом числе
опустошают хлебные посевы и огороды.
Сейчас сусличьи меха все чаще и чаще начинают использовать для изготовления
меховых одежд. Американские индианки уже давно имеют обыкновение шить свои
нижние одежды, напоминающие туники, из шкур сусликов: они берут эти шкуры це-
ликом и через надрезы в задней части шкур соединяют их таким образом, что они
оказываются обращенными кнаружи более изящно выглядящими спинами и лапами,
которые прилегают к спинам; а шкуры с брюшной части остаются с внутренней сто-
роны.
Примечание. Сусличьи шкуры американские и привозимые с расположенного
возле Америки острова Кадьяка почти совсем похожи на кавказские, но несколько
крупнее и с менее отчетливым точечным рисунком. Голова у американских сусликов
кверху от носа белесая, к затылку ярко-ржавая, а бока шеи желтоватые (остальная
часть нижней поверхности тела белая). По хвосту снизу идет продольная рыжая
полоса.
346
Даурский суслик довольно крупный, белесый, пятнистый.
Около Одессы и в степях по реке Тырани водятся суслики мелкие, размером не бо-
лее додранта3, покрытые (наподобие казанских) белыми пятнами; хвост у них (тоже
как у казанских) не разделен на кисточки, но ровный. О прочих разновидностях
сусликов см. в ’’Новых видах четвероногих из отряда грызунов”, в указ, месте.
Щеки у сусликов снабжены защечными мешками, как у бурундуков, хомяков и
некоторых обезьян. Хотя суслик очень не любит холода, тем не менее Д.Л. Мерк
наблюдал это животное на расстоянии всего лишь менее трех километров от Ледови-
того океана, у устья реки Колымы.
[Род] XVI. Слепыши
Почти все слепыши ведут подземный образ жизни, пытаясь корнями и луковицами
растений. Эти корни и луковицы они умеют отыскивать с помощью своих ходов,
которые роют под дерном, выбрасывая при этом наружу через определенные интер-
валы кучи земли наподобие того, как это делают кроты. На поверхность земли они
выходят редко, поэтому увидеть их редко или почти никогда не удается.
Нам известно поныне три вида слепышей, из которых два водятся на мысе Доброй
Надежды. Я не сомневаюсь, что есть и много других видов, до настоящего времени
ускользающих от нас. Подозреваю, что один из них живет в Крыму. Я заключаю об
этом по встречающися там ходам, идущим в виде совершенно прямых линий на боль-
шие расстояния. Судя по размеру выбрасываемых куч, этот вид не крупнее слепыша
мышиного; но обнаружить само животное мне при всех моих стараниях пока не
удалось.
74. Обыкновенный слепыш. Слепыш, лишенный глаз, а также и хвоста; с головой, с
обеих сторон окаймленной бахромой.
Животное уникальное в том отношении, что у него нет отверстия в коже перед
рудиментами глаз, так что зрения оно несомненно лишено, будучи полностью приспо-
соблено к подземной жизни.
Часто встречается в южных областях Европейской России, от границ Польши до
самой Волги и до Кавказа; особенно часто на Украине, в степной зоне. К северу за
50-й градус широты почти не переходит. За Волгу также не переходит. Норы роет
также и зимой, поскольку в его местообитаниях земля зимой не промерзает.
В особенности предпочитает дернистые и черноземные почвы. В Крыму отсутству-
ет. По реке Тереку попадаются более крупные [экземпляры этого вида], длиной
11 1/2 дюймов.
В Крыму этот. вид отсутствует, так же, как и белки. Экскременты похожи на
овечьи.
75. Алтайский цокор. Слепыш с хвостом, с крупными когтями на передних конеч-
ностях.
Животное, часто встречающееся в приалтайских степях и в забайкальских обла-
стях. Около реки Иртыша его не наблюдали. Однако можно предполагать, что оно
местами водится по всему горному массиву, уходящему в Центральную Азию. К севе-
ру распространено немногим далее 50 градуса широты. Роет свои ходы очень быстро;
также и в лесах проделывает коридоры под дерном, разыскивая луковицы лилей-
ных, клубни гречишных и тому подобную пищу и выбрасывая через определенные
интервалы большие кучи грунта (больше кротовых).
76. Обыкновенная слепушонка. Слепыш с хвостом, с выдающимися вперед резца-
ми, с очень маленькими когтями на передних конечностях.
По-русски: слепушонка (уменьшительное от ’’слепая”).
3яДодрант” здесь — единица длины (21, 75 см),но, возможно, что и веса (245,59 г) — Примеч. пер.
347
Часто встречаются в пастбищных и луговых угодьях умеренных областей Европей-
ской России и Западной Сибири. Роет ходы наподобие кротовых, питается клубнями
на корнях растений. В Восточной Сибири этот вид не отмечен, равно как и в северных
областях: [к северу распространяется], самое большее, до 55-го градуса широты.
Примечание. У меня есть образец этого вида, у которого резцы вдвое длиннее
обыкновенного и отогнуты кнаружи таким образом, что трудно даже представить,
каким образом это животное с их помощью может рыть и грызть.
Окраска [у представителей данного вида] такая, как у обычных мышей; реже
темная.
[Род] XVII. Хомяки
Широко известен только один вид этого рода, для внешнего вида и образа жизни
которого характерны защечные мешки и [сооружение] кладовых, в которых хомяки
собирают запасы отборного зерна. Этим они известны сельским жителям и по этой же
причине ненавидимы ими.
К этому виду (Cricetus frumentarius) я ниже добавляю еще пять менее многочислен-
ных и не сомневаюсь, что при обследовании других регионов будут обнаружены еще
и [дополнительные виды хомяков], если путешественники более внимательно
займутся мелкими обитающими под землей животными и в особенности будут ис-
пользовать при этом специально обученных собак, каковые и для меня принесли не-
мало пользы.
77. Обыкновенный хомяк. Хомяк с туловищем снизу темноокрашенным, с боками
пестрыми на белом фоне, с обрубленными поясничными рубцами.
Обитает в Польше, Европейской России и Западной Сибири до Оби; [на этой терри-
тории] обычен в степях, злаковых зарослях, на черноземах. В особенности часто
встречается около сельскохозяйственных посевов и является для них бедствием.
[К северу распространен] почти до 60 градуса широты, а к югу - до самого Кавказа.
Встречается и в Ливонии; однако не любит песчаных почв.
В зимнюю спячку не впадает, но питается в течение зимы в своих норах обильно
собранными там припасами и по причине большого количества пищи в это время ста-
новится чрезвычайно толстым.
Примечание. Темноокрашенная разновидность особенно часта около Волги и
Камы. Иногда [темная окраска очертаниями напоминает] попону, в других случаях
имеется белое пятно. Я видел также экземпляр темноокрашенной разновидности с
белым горлом и, кроме того, с единственным серым пятном на темени. Фальк на с. 303
описания своего путешествия сообщает о том, что в Татарской пустыне встречаются
чисто белые хомяки. У кавказских представителей этого вида туловище снизу часто
серое, как бы испачканное, а по бокам идут белые пятна, в сторону шеи становящие-
ся менее заметными. Около Одессы часто встречаются хомяки размером помельче.
У самок на правом боку восемь молочных желез, а на левом девять, что, по-види-
мому, определяет и число рождающихся детенышей.
78. Серый хомячок (Cricetus Accedula) (подвид migratorius). Хомяк со складчатыми
ушными раковинами; туловище серое, с нижней стороны белесое.
Изредка встречается по реке Рымне; единичные экземпляры доходят до Волги. Жи-
вет в местах илисто-песчаных, ведет ночной образ жизни, иногда заходит даже в
крестьянские избы. Описания этого, а также нижеследующих видов даны мною в
цитированном выше сочинении.
79. Серый хомячок (подвид arenarius). Хомяк с серебристой окраской туловища
сверху; бока, нижняя поверхность туловища, хвост и стопы конечностей имеют
снежно-белую окраску (рис. 89).
Обитает в песках по рекам Волге, Рымне и Иртышу, в неглубоких норах. Питается
преимущественно семенами астрагалов и других бобовых.
348
Не так давно я видел несколько раз особей этого вида в Крыму, на мергелевых
почвах (в моих виноградниках, посаженных в Судаке).
80. Джунгарский хомячок. Хомяк с туловищем пепельно-серым сверху, с черной
полоской по хребту; бока беловато-тусклые, испещренные пятнами; живот белый.
Нередко встречается в пустынных топяных местах в Сибири по течению реки Ирты-
ша. Роет себе норы, заготавливая в них запасы пищи. Животное неповоротливое,
кусачее.
81. Серый хомячок (подвид phaeus). Хомяк с тусклопепельными верхней поверх-
ностью туловища и хвостом; снизу туловище белое.
Обитает в пустынных, лишенных растительности местностях по Волге и Каспийско-
му морю, вплоть до границ Персии; ведет одиночный образ жизни, как и прочие пред-
ставители данного рода.
82. Барабинский хомячок. Хомяк с туловищем сверху желтоватым, с черной поло-
сой на спине, с белой нижней поверхностью туловища.
Встречается одиночными особями в степях около Оби и в трансальпийской Дау-
рии. Чрезвычайно изящное животное; более стройное, чем другие [виды того же
рода].
[Род] XVIII. Мыши
Животные, передвигающиеся путем прыжков, весьма активные, склонные к бродя-
чему образу жизни, крайне прожорливые, размножающиеся в неимоверном множе-
стве, но зато (и это подлинное благодеяние природы) враждующие друг с другом,
всеядные, на вид неприятные, плохо пахнущие; общее очертание тела шарообразное,
рыльце острое, выступающее за зубы; хвост длинный, почти голый, состоящий из
довольно твердых колец и покрытый редкими щетинками.
То же самое кольчатое строение наружных покровов хвоста повсеместно наблюда-
ется и у других родов грызунов, однако оно не столь очевидно выступает и не так ха-
рактерно для всех видов соответствующих родов, как это имеет место в рассматри-
ваемом роде.
83. Серая крыса (пасюк). Мышь с очень длинным, утончающимся к концу хвостом;
с телом покрытым щетинками и имеющим серую, снизу белую окраску.
Этот чрезвычайно неприятный вредитель житниц и домов уже с давних пор распро-
странился почти по всей России, от Каспийского и Черного морей до моря Балтийско-
го. Впрочем, если до сих пор этот вид и не захватил в своих миграциях все города и
деревни, то, во всяком случае, там, где он обосновался, он полностью уничтожил
следующий вид (№ 84). Животное очень выносливое, агрессивное.
Летом скрывается в норах, вырытых в полях и около вод. Часто убивает плаваю-
щих по воде птенцов водяных птиц. С.Г. Гмелин наблюдал, как живет серая крыса
на лугах в Персии. Насколько я заметил во время своих путешествий по Сибири, туда
серая крыса никогда не проникала. В целом, по-видимому, можно считать, что она
переселилась к нам из Персии и представляет собой [не что иное, как упоминаемую]
Элианом ’’каспийскую мышь”. В Астраханскую губернию серые крысы добрались
после землетрясения, имевшего место в каспийском регионе, и перед продолжавшей-
ся два года эпидемией. Это случилось осенью 1727 года; прибыли они из Куманской
пустыни, огромными стаями вплавь переправляясь через Волгу.
Примечание. Вес серой крысы часто достигает почти десяти унций. Хвост по
длине почти равен всему остальному телу, состоит не более чем из 200 колечек.
Резцы в верхней челюсти красновато-желтые, в нижней - желтые. Шкура даже более
щетинистая, чем у следующего вида, на спине с волосами серыми и темноокрашен-
ными, по бокам - с темноокрашенными, со значительной примесью серебристых.
Зимой нижняя поверхность туловища становится почти целиком серебристой.
На кистях передних конечностей вместо большого пальца притупленная мозоль.
349
84. Черная крыса. Мышь с хвостом очень длинным, к концу утончающимся; с туло-
вищем темноокрашенным, а по нижней поверхности серебристо-белым.
Народные наименования те же, что для серой крысы.
До настоящего времени сохраняется (и приносит большой ущерб) в тех городах
Европейской России, где этот вид не вытеснен серой крысой. Можно даже утверж-
дать, что черная крыса попадается и в одних и тех же городах вместе с серой крысой,
но в этом случае они встречаются в различных домах. Черная крыса водится также по
всему Кавказу и Грузии, часто [обитая при этом указанным способом] совместно с
серой крысой.
В городе Симбирске я заметил черных крыс большое количество, в то время как
серой крысы там нет. В Царицыне многочисленные черные крысы появляются осенью,
вытесняя живущую в домах лесную мышь, но [эти черные крысы сравнительно]
мелкие. Затем их, в свою очередь, изгоняют серые крысы. В Сибири черных крыс нет.
Примечание. Та разновидность черной крысы, которую я осенью 1773 г. наблю-
дал в Царицынской крепости и которая там обитала совместно [с другими видами
рода ’’мышь”], была исключительно стройная и изящная; впрочем, по окраске и по
пропорциям тела она чрезвычайно мало отличалась от обычной европейской разно-
видности черной крысы.
Вес [особей разновидности, замеченной в Царицыне] составлял, самое большее,
немного более 6,5 драхм. Длина тела от кончика носа до анального отверстия 3 дюйма
7 линий. Хвост состоит из 230 черепитчато находящих одно на другое колечек.
Длина хвоста составляет 3 дюйма 3 линии. Окраска всего туловища очень темная,
блестящая, по нижней поверхности слегка серебристая.
Что же касается тех особей [черной крысы], которых я рассмотрел в городе Симбир-
ске, то у них по спине было рассеяно небольшое количество серебристо-серых волос,
и того же оттенка был шерсть на суставах конечностей и на нижней поверхности
туловища под ртом.
Эти особи тоже были помельче европейских, однако в то же время гораздо круп-
нее только что упомянутых [царицынских]. Хвост и ушные раковины у них голые,
очень темноокрашенные (до черного); наружная поверхность зубов желтая. На упо-
мянутых карликовых [царицынских крыс] эти особи чрезвычайно походили также
тем, что на кистях передних конечностей у них имелся притупленный коготь, распо-
ложенный на месте большого пальца.
85. Домовая мышь. Мышь с очень длинным хвостом, утончающимся к хвосту; с
четырехпалыми кистями передних конечностей; с темными безволосыми ушными
раковинами.
Распространена как [синантропный] вид по всей Российской империи, включая
Сибирь, в том числе и в северных областях; возможно, что отсутствует на Камчатке.
Иногда домовых мышей изгоняют или уничтожают лесные мыши, а в Европейской
России [также и] серые и черные крысы. В большие холода домовая мышь прячется в
норы.
Примечание. В некоторых частях города Санкт-Петербурга встречается бело-
снежная, с красными глазами разновидность домовой мыши. Многие жители держат
особей этой разновидности у себя дома в качестве ручных, но они часто убегают и
таким образом размножились по всему городу. Однако обычные домовые мыши их не
любят; кроме того, особи этой разновидности легко замерзают на морозе. Рождают
же они [между собой] всегда тоже белых мышей.
Я видел также серую разновидность домовой мыши с белым [пятном на спине и
боках] в виде попоны; а также белую с черными пятнами.
[Встречается еще] разновидность чисто черная, однако она гораздо более редка,
нежели серо-пепельная. С помощью тонкого термометра я измерил у домовой мыши
температуру. Она составила 107—109 градусов по шкале Фаренгейта.
350
86. Лесная мышь. Мышь с хвостом средней длины, утончающимся к концу; с туло-
вищем серо-желтым (по бокам эта окраска, резко обрываясь, переходит в белую).
Часто встречается в лесах и на полях умеренной зоны Европейской России и Запад-
ной Сибири. Столь же часто наблюдается и по всему Кавказу, до самой Грузии; а на
Крымском полуострове водится в огромном числе, причем здесь часто живет в
домах. Живя в межгорных долинах и в садах, в большом количестве собирает и
запасает грецкие орехи и клубни чины. На Уральском хребте и в полях по Исети
водятся полевые мыши размером несколько меньше обыкновенных и в то же время
менее изящные. Норы себе они роют в березовых рощах и различных зарослях, не
выбрасывая при этом наружу земли.
Нора состоит из одного хода, идущего наклонно по отношению к поверхности
земли, и двух перпендикулярных к нему. Образ жизни одинаковый. Зиму проводят
либо в домах, либо в вырытых под землей пещерах.
Описание. Размер приблизительно промежуточный между мышью домовой и
более мелкими из крыс. Голова довольно крупная, конец морды слегка заострен.
Ротовая щель меньше, чем у других видов того же рода, и плотно прикрывается
губами. Зубы, в особенности на верхней челюсти, все в одинаковой степени притуп-
ленные, желтоокрашенные. По окружности рта широкая белая кайма; нос с обеих
сторон покрыт волосами, окраска его серебристо-беловатая.
Усы расположены в пять рядов, состоят из очень длинных щетинок, погруженных
в белый мех. Усы также белые, по длине заходящие за голову.
Ушные раковины несколько более крупные, чем у домовой мыши; почти безволо-
сые; по внешней поверхности вплоть до переднего края, а по внутренней поверхнос-
ти - кругом серовато-пушистые. Туловище сверху серое, с равномерной примесью
более длинных темноокрашенных волос.
Нижняя поверхность туловища белая, ограниченная слегка сероватой каймой;
суставы конечностей снаружи белые, почти безволосые.
Хвост в пропорции к туловищу короткий (короче, чем у предшествующих видов;
вместе с тем более волосатый), в то же время отчетливо кольчатый, по нижней
поверхности белый, по верхней - темноокрашенный.
Подошвы задних конечностей безволосые, с белесоватыми когтями.
Передние конечности с четырехпалыми кистями; мозоль на месте большого пальца
чуть выступает, покрыта твердым слоем; боковые пальцы задних конечностей слегка
отставлены в сторону, большой палец еще больше отставлен.
Общий вид животного изящен, в особенности из-за окраски и нежности шерсти.
Вес животного составляет обычно немногим меньше полуунции. Длина тела
составляет 3 дюйма 2 линии, длина хвоста - 2 дюйма 9 линий, головы - 1 дюйм,
ушных раковин - 6 1/2 линий; длина ступней задних конечностей - 9 линий. В Грузии
Гильденштедтом отмечен несколько более крупный экземпляр, имевший вес шесть с
половиной драхм, длину тела 3 дюйма 10 линий, длину хвоста такую же, длину
голову 1 дюйм, длину ушных раковин 7 линий.
Тот же Гильденштедт наблюдал около реки Терека самца данного вида, имевшего
целиком снежно-белую окраску. Длина как туловища, так и хвоста у этого экземпля-
ра составила по 3 дюйма 9 линий.
Мне также был принесен экземпляр такой разновидности, но более мелкий, еще не
достигший взрослого состояния (он был добыт в Среднем Поволжье).
Уральская разновидность: более мелкая, по окраске сверху такая же,
как [обычные] мыши; однако лишена той примеси белого оттенка, которая придает
[иногда мышиным шкуркам] изящество и своеобразие. Вес экземпляров этой разно-
видности составляет: 1 1/4 драхм. Длина туловища 3 дюйма 2 1/2 линии, длина хвоста
2 дюйма 8 линий.
Крымская разновидность, напротив, гораздо крупнее обыкновенной и
351
имеет очень элегантный мех. Не есть ли это линнеевская Mus gregarius (Syst. XII. I.
P. 84, sp. 16)?
87. Полевая мышь. Мышь с хвостом средней длины, утончающимся к концу; с
желтоватой окраской туловища, с черной полосой по середине спины.
Вид чрезвычайно обильный в более окультуренных местностях Европейской
России и Западной Сибири; обитает под кучами зерна, иногда начинает мигрировать
без видимой закономерности.
88. Мышь-малютка. Мышь с хвостом средней длины, утончающимся к концу; с
туловищем сверху ржавоокрашенным, по нижней поверхности белесым.
Очень часто встречается вместе с предыдущим видом под кучами зерна, повсе-
местно [в указанных местах, но] также и в более умеренных районах Восточной
Сибири.
Примечание. Следует изучить, не представляет ли собой этот вид в действи-
тельности разновидности, описанной Шребером под именем Mus soricinus (Schreber.
memmal. IV. P. 661. Tab. 183. B.).
89. Лесная мышовка. Мышь с очень длинным хвостом, с желтым туловищем, с чер-
ной полосой на спине.
Очень маленькая мышь, повсеместно ведущая кочевой образ жизни (в сибирских
березовых лесах, от Уральского хребта до Енисея).
90. Степная мышовка. Мышь с очень длинным, подвижным хвостом, с пепельно-
серым туловищем, с черной полосой на спине.
Нередко встречается в тех же регионах, что и предшествующий вид; во время
холодов впадает в спячку; возможно, должен быть скорее отнесен к Myoxos.
91. Водяная полевка. Мышь с хвостом, по длине равным половине туловища, с
ушными раковинами, только немного выступающими из мехового покрова.
Встречается по всей Европейской России, даже в самых северных ее частях: в
целом от Белого моря до Каспийского и до реки Куры. Также и по всей Сибири
вплоть до реки Лены и Северного Ледовитого океана. По всей этой территории дан-
ный вид част. Однако на Камчатке отсутствует. Держится в болотистых облесенных
местах поблизости от топей, рек и озер, берега которых изобилуют гидрофильными
растениями. Питается частями этих же растений и весь день бывает занят тем, что
стаскивает их в свою нору.
Среди этих частей растений можно упомянуть, например, отгрызаемые водяной
полевкой стебли тростника, куски которых нравятся ей вследствие своего сладкого
вкуса; клейтонии и других растений.
Животной пищи не любит, и утят в воде топит не этот вид, а серая крыса. Готовясь
к зиме, водяная полевка собирает именно упомянутые [части растений и затем,
кормясь ими], жиреет у себя в норе, становясь в течение зимы даже более толстой,
чем осенью.
Норы роет таким образом, чтобы их входное отверстие оказывалось на обрывистом
берегу, по большей части притом под водой, сама же нора поднимается на несколько
футов над поверхностью воды: например, на семь футов и более. По три и по четыре
особи водяных полевок собираются вместе для обитания в одном и том же сводчатом
гнезде, куда они собирают и свои запасы. Кроме того, в самых разных местах водяная
полевка роет ходы под дерном, выбрасывая при этом на поверхность через опреде-
ленные интервалы небольшие кучи земли. (По этой причине водяных полевок так не
любят садовники в Германии, называя их ’’ройтмаус”.) Прекрасно плавает и доволь-
но долго может находиться под водой. В рыболовных снастях часто находят мертвых
водяных полевок. Во время течки животные этого вида, в особенности самки, испус-
кают мускусный запах. Якуты считают мясо этого животного чрезвычайно вкусным,
так что более богатые якуты даже стараются выменять у более бедных это мясо на
говядину. По большей части [при употреблении водяных полевок в пищу] им обжи-
352
гают шерсть на огне, а затем тушку животного варят в молоке, чтобы жир нисколько
не пропал. Охотятся на водяных полевок преимущественно весной, когда те из-за
разлива рек забираются на деревья.
Ставят на них и ловушки. Используют также и зимние шкуры водяных полевок:
их сшивают и изготовляют из них одежду. Водяные полевки страдают от особого вида
вшей, медленно ползающих и по размеру вдвое меньших, нежели человеческие вши.
На спине у водяной полевки с обеих сторон имеется по рубцевидному образованию,
а якуты по этому поводу рассказывают басню, будто эти животные служат лягушкам
вместо лошадей, и оттого в этих местах мех стерт.
Примечание. Линней любопытным образом сделал из этого вида мыши несколь-
ко видов, называя его то мышью-амфибией, то наземной, то болотной мышью. Со
следующим видом водяную полевку роднят [некоторые особенности] притупленный
конец морды, а также короткие ушные раковины.
92. Серая крыса (пасюк). Мышь с длинным, чешуйчатым, слегка притупленным на
конце хвостом; с довольно крупными ушными раковинами и с полурасщепленными
на пальцы ступнями задних конечностей.
Обитает по большим озерам Восточной Сибири, хотя в самый холодный климат не
заходит. Прекрасно плавает; норы роет по обрывистым берегам.
Образ жизни ведет одиночный. По величине уступает серой крысе, но незна-
чительно.
93. Тамарисковая песчанка. Мышь с хвостом средней длины, на котором границы
между кольцами стерты, а волосяной покров редок; туловище по своей верхней
поверхности серо-желтоватое, по нижней поверхности белое.
Изредка встречается по пустошам поблизости от Каспийского моря, в зарослях
тамариска и селитрянки; ведет скрытный образ жизни, обитая в глубоких норах.
Вряд ли этот вид следует относить к тушканчикам! как сделано в цитированной
книге Линнея - Гмелина]: скорее, возможно, тамарисковую песчанку следовало бы
включить в род Myoxos.
[Род] XIX. Лемминги
Этот род по числу своих видов, по-видимому, превосходит все родственные ему.
Он чрезвычайно разнообразен, будучи распространен по всему лицу земли, причем
пищей ему служит все растительное царство, в то время как сам он является пре-
имущественной пищей для многочисленных мелких хищников. Этот род отличается
миролюбием в большей мере, нежели какой бы то ни было другой из родов мелких
животных. Скоростью передвижения он не выделяется, однако во все времена года
блуждает с места на место в поисках пищи. Вместе с тем это животное совершенно
безвредного нрава, хотя [может приносить ущерб своим] крайне интенсивным
размножением. Так что впечатление создается такое, будто животные этого рода в
высшей степени приспособлены и как бы специально созданы для того, чтобы во
всяком климате служить пищей для хищных зверей.
94. Сибирский лемминг. Мышь с ушными раковинами более короткими, чем
шерсть, с пятипалыми передними конечностями, с окраской туловища сверху пест-
рой: желтой и черной.
Наиболее крупные особи этого вида встречаются в горах Лапландии; более мелкие
и варьирующие по окраске - [на севере] Европейской России и Сибири, в пределах,
ограниченных полярным крутом.
[На этой территории] лемминги являются обычным видом; мигрируют они через
неопределенные сроки, причем за собой увлекают множество лисиц и песцов. За
пределами арктической зоны лемминги не встречаются.
Имеется также более мелкая разновидность лемминга, которая была мною описана
23. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
353
вместе со следующим видом. [Экземпляр этой разновидности] был мне доставлен из
земель, населенных чукчами.
95. Копытный лемминг. Мышь с ушными раковинами более короткими, чем мех;
с пятипалыми передними конечностями, с рыжеватой спиной, [посредине которой
идет] черная полоса; с белесым ’’ожерельем” на горле.
Этот вид распространен там же, где и предыдущий, в пределах полярного круга;
мигрирует также в крайние северные области Сибири и на Чукотку.
96. Полевка-экономка. Мышь с хвостом длиной приблизительно в полтора дюйма; с
ушными раковинами, спрятанными в мягкой шерсти; с передними конечностями
почти явственно четырехпалыми; с ’ туловищем темноокрашенным.
Вид, в изобилии водящийся на всем пространстве от р. Оби до Тихого океана, и до
самой Камчатки, на пастбищах и лугах.
Мигрирует, бесстрашно переплывая реки и даже моря. При этом полевка-эконом
становится добычей всех [хищников], которые поедают особей этого вида тут же на
месте, а также поедают их запасы зимнего корма. Эти последние поразительны раз-
нообразием и обилием собираемых трав, в особенности кровохлебок, живородящих
герцов и аконитов. Свои камеры полевка-эконом роет под самым дерном, чаще всего
на земляных холмах, и проезжающие всадники часто проваливаются в [устроенные
таким образом ходы].
Каналов для выхода в каждой норе помногу, и они образуют круг своими отвер-
стиями, проходящими сквозь дерн в виде как бы бороздок.
Собаки охотно поедают [полевок-экономок]. Д.Д. Мерк наблюдал этих последних
даже на соседнем с Америкой острове Уналашке и привез оттуда [экземпляр], не-
сколько меньший по размерам камчатских.
97. Обыкновенная полевка. Мышь с хвостом, покрытым волосами; длина хвоста
около дюйма; ушные раковины выступают из шерсти; передние конечности с не
вполне заметно выраженными четырьмя пальцами. Окраска тела темносерая.
Вид очень похожий на предыдущий. Обычен на лугах и полях по всей Европейской
России, в Сибири же [по мере продвижения к востоку] постепенно сходит на нет.
Зимует часто около куч сена. Самки устраивают гнезда более глубокие [, чем это
делают самцы], с двумя-тремя выходами на каждую галерею, а в качестве подстил-
ки собирают в эти норы мягкую траву. Уже в апреле в норах можно видеть родив-
шихся детенышей, пока еще слепых, но уже довольно крупных (длиной в полтора
дюйма) и едва начавших покрываться пухом. В более давно устроенных, тяжелых
(вес их часто доходит до 11 драхм [43 г.]) гнездах до 12 детенышей. На Крымском по-
луострове этот вид в некоторые годы вдруг появляется в огромном количестве.
Мне тогда удавалось видеть около нор, вырытых матерьми и детенышами, еще и
соседствующие с ними узкие и длинные камеры-склады, устроенные в поверхност-
ном слое дерна. Они бывали наполнены многолиственными луковицами гиацинта;
еще чаще там попадались клубни чины, в таком большом количестве, что почти тес-
нили свод, причем это были клубни самые отборные, крупные, так что даже удиви-
тельно, каким образом такой маленький зверек смог их все сюда собрать. Ведь к
тому же он устраивает в углах стен еще и открытые только в одну сторону ходы,
просторные и разветвленные, прорытые в дерне и сходящиеся все к гнезду.
На хлебных полях Грузии Гильденштедт часто наблюдал особи данного вида,
весившие шесть.с половиной драхм и имевшие длины 4 дюйма, хвост же их составлял
в длину 10 линий. В России экземпляры этого вида вряд ли бывают по весу больше
шести драхм, по длине же [всегда] меньше четырех дюймов, хвост же не превосходит
одного дюйма.
98. Большеухая полевка. Мышь с довольно длинным хвостом; с ушными ракови-
нами, по длине превосходящими мех; с передними конечностями, почти явственно
четырехпалыми.
354
Обитает в горах Восточной Сибири; сооружает себе гнезда в расщелинах скал и
между камней. Вид, промежуточный между Mus и Myodes.
99. Общественная полевка. Мышь с хвостом длиной в полдюйма, с очень коротки-
ми полукруглыми ушными раковинами, с передними конечностями неясно-четырех-
палыми, с бледной окраской тела (причем нижняя поверхность туловища белая).
Часто встречается в песчано-водяных, безлесных пустынных местностях и на
гравии около Каспийского моря, вплоть до Персии. В качестве корма наиболее
предпочитает луковицы тюльпана. Севернее и восточнее не встречается.
100. Степная пеструшка. Мышь с очень коротким хвостом; с ушными раковинами,
более длинными, чем шерсть; с пепельно-серой окраской туловища и с черной поло-
сой по спине.
В болотистых пустынных местностях Великой Татарии, от Рымны до Иртыша.
Нередко встречается [на всей этой территории], но и дальше [к востоку]; живет в
гнездах, иногда мигрирует стаями. Питается корневищами карликового ириса, но
также бывает и плотоядным, причем может поедать и особей своего же вида.
101. Узкочерепная полевка. Мышь с хвостом длиной в полтора дюйма; с ушными
раковинами более длинными, чем [окружающая их] шерсть; с неясно-четырехпалы-
ми передними конечностями; с пепельно-серой окраской туловища.
Встречается на лугах Восточной Сибири; роет себе норы, где хранит запасы, [в
особенности же] собирает луковицы лилейных.
102. Плоскочерепная полевка. Мышь с хвостом длиной приблизительно в один
дюйм; с ушными раковинами довольно крупными, редковолосистыми; с окраской
туловища пепельно-серой [сверху, а] в нижней поверхности белесой.
[Обитает] в Восточной Сибири; питается преимущественно луковицами растений
Allium tenuissimum, которые запасает себе на зиму в качестве корма.
103. Красная полевка. Мышь с хвостом длиной в дюйм; с ушными раковинами бо-
лее длинными по сравнению с [окружающей их] шерстью; с неясно-четырехпалыми
передними конечностями; окраска туловища сверху желтая, снизу серебристая.
Встречается по всей Восточной Сибири вплоть до субарктических областей. Водит-
ся и на Камчатке, часто (рассеянными особями) мигрирует даже и на острова, [цепью
протянувшихся в направлении] к Америке, но нигде [в этих местах] не останавли-
вается на постоянное обитание. Красная полевка всеядна - животное всеядное,
любит мясо и рыбу, а потому скрытно поселяется иногда даже около деревень и
сельских хижин.
[Род] XX. Сони
Через род сонь природа осуществляет переход к белкам. Однако особенность
представителей этого рода заключается в том, что все они чрезвычайно плохо пере-
носят холод, а потому предпочитают более южный климат. Соответственно в Евро-
пейской России они встречаются редко, а в Сибири и совсем отсутствуют (в то время
как суслики и другие мелкие животные, впадающие зимой в спячку, в этих регионах
заходят довольно далеко к северу).
104. Полчок. Соня с хвостом, покрытым волосами, частично растущими в два ряда;
с туловищем серебристоокрашенным, снизу белым.
По-русски этот вид называют на Волге ’’Земляная белка” (то есть ’’белка, живущая
на земле”). Также: Полчок. По-славянски: Пух.
Водится по обе стороны Волги в среднем и нижнем ее течении, в древесных зарос-
лях; около Самары - по обрывам, но реже; в других же местах я полчков не замечал.
Гильденштедт часто наблюдал их на Кавказе, наиболее же в Грузии. В Крыму мне
полчки не попадались.
Прекрасно лазит, даже и по довольно гладкой наклонной плоскости; прыгает
наподобие белок. На полчках в изобилии водятся блохи. На поросших дубравами
355
берегах Волги полчки часто занимают брошенные сороками гнезда или дуплистые
стволы деревьев; расщелины между камней, [куда различные животные] сносили
листья для своих гнезд; в степях - даже покинутые хомяками норы. Зимой полчки
скрываются в камерах, вырытых в сугробах, и цепенеют там, свернувшись в шар,
но это только ночами. Днем же они слегка оживают, хотя и не приходят в чувство,
и дрожат в сидячем положении, с полузакрытыми глазами.
Описание. Зверек очень изящный, опрятный, с вытянутой вперед головой; с
мордой более или менее напоминающей мышиную. Усы большие, длиной почти в два
дюйма, черные; в живом состоянии всегда рассеянно оттопыренные впереди.
Нос притупленный. На надглазничных бородавках по два волоска, на околоуш-
ных - по три; на горле [бородавка] с единственным белым волоском.
Резцы желтые, в верхней челюсти усеченные; нижние тоже усеченные; но при этом
линейно-шиловидные.
Радужные оболочки тусклые, темно-желтые. Периофтальмий по краям черный,
закрывает только треть глаза. Веки черные. Область под глазами и с боков морды
бледноокрашенная. Ушные раковины почти голые, очень тонко опущенные, по краям
темноокаймленные, изнутри с несколькими поперечными морщинами.
Кисти передних конечностей с четырьмя пальцами и с гладко усеченной мозолью
на месте большого пальца. Ступни задних конечностей пятипалые, причем большой
палец короче остальных. Все пальцы почти голые, сжатые с боков, на концах сверху
чуть припухшие; с белесыми, очень острыми, торчащими коготками. Туловище
сверху имеет окраску от серебристой до почти темной, и хвост почти весь окрашен
так же, за исключением проходящей по его нижней поверхности белесой жилки.
Нижняя поверхность туловища вся покрыта мягкой и довольно бледной или белой
шерстью. Конечности имеют белую окраску, по наружной поверхности почти голые.
Мех очень нежный и мягкий, но короткий. Хвост по длине [приблизительно равен
туловищу] животного, с обоих боков очень густо покрыт волосами, впрочем, менее
обильно, чем у белки, и нигде, кроме нижней поверхности, не проявляет сколько-
нибудь выраженной двурядности.
Вес животного составляет 3^/2 унции. Длина [туловища] 5 дюймов 3 линии; длина
хвоста, не считая шерсти, 4 дюйма 6 линий; длина шерсти 8 линий. Длина кишечника
в восемь раз превышает длину тела.
105. Лесная соня. Соня со шкурой рыжей, снизу белесой, с черными полосами по
бокам морды; с когтями более короткими, чем большие пальцы задних лап.
Водится в зарослях орешника в среднем течении Волги, а также на волжских
островах до Астрахани; часто встречается в буковых, орешниковых и дубовых лесах
Кавказа, в особенности же Грузии. На восток, в направлении Сибири, этот вид не
отмечен. Впрочем, калмыки утверждают, что он встречается в алтайских дубравах.
Строит себе гнезда в ветвях деревьев. С наступлением холодной погоды сразу впа-
дает в спячку.
Описание. Гораздо мельче [предыдущего вида]. Голова овальная, заостренная,
с притупленным носом. Надглазничные и околоушные бородавки снабжены [каждая]
двумя волосами. Усы длиннее головы, большей частью черные. Резцы желтоватые;
коренных зубов с каждой стороны и в каждой челюсти по четыре. Цвет глаз черный.
Ушные раковины выступающие, округленные, почти голые, темноокрашенные, но
просвечивающие. Кисти передних конечностей четырехпалые, с усеченной бородав-
кой на месте большого пальца. Стопы задних конечностей пятипалые, с несколько
отстоящим большим пальцем. Когти изогнутые, очень острые, белесые, более корот-
кие, нежели большие пальцы задних конечностей. Окраска пепельно-желтоватая,
снизу беловато-песочная; границы между зонами той и другой окраски более интен-
сивно-песочного цвета. Лоб серебристо-белый. От усов до ушей с обеих сторон идут
непрерывные черные полосы. Ноги белые. Хвост по длине сравним с туловищем жи-
356
вотного, покрыт волосами в два ряда; в толщину - как человеческий палец; цветом
желтоват. Мех по всему телу очень мягкий; подшерсток темноокрашенный. Вес -
одна унция. Длина тела составляет 3 дюйма 7 линий, и такова же длина хвоста. Длина
кишечника в пять раз [больше по сравнению с длиной тела].
[Род] XXI. Тушканчики
Если есть какая-нибудь [группа среди грызунов, которая] с несомненностью обра-
зует собой отдельный род, то это тушканчики: столь своеобразны они по общему об-
лику и строению. Представляется также, что в этот род с полным основанием можно
включить больше видов, чем это признается до настоящего времени; а именно из
Африки [также и в этом отношении] постоянно следует ожидать чего-нибудь нового,
пока не будут изучены глубины этого обширного континента. Из наших же видов
должны быть пока что фиксированы два или, быть может, три, которые я постарался
точнейшим образом описать, чтобы в дальнейшем путешественникам, обнаруживаю-
щим новые виды, было бы легче сравнить [их с уже известными]. Прибавление в
числе известных видов обещают до настоящего времени также и пустынные области
Азии, заключенные в пространстве между Сибирью и Индией, преобладающую часть
которого составляют межгорные равнины. Что касается Америки, что там до сих пор
подобных животных не обнаружено.
106. Мохноногий тушканчик. Тушканчик с трехпалыми, покрытыми волосами
стопами задних конечностей; с ушными раковинами, обыкновенно более короткими,
чем голова.
Часто встречается в южной части долины реки Иртыша, по безлесным пустынным
местам, а также по всей Джунгарской пустыне, равно как и в землях монгольских и
забайкальских. Роет себе норы преимущественно в песчаной почве, делая на случай
необходимости бегства [запасной] выход, замаскированный песком.
107. Большой тушканчик. Тушканчик с пятипалыми стопами задних конечностей.
Уши длиннее головы; животное довольно крупное.
Этот вид, по размерам почти равный кафрскому тушканчику, от пустынных степей
между Дунаем и Доном распространился вплоть до Великой Татарии. Он нередок
также и на Крымском полуострове, где ни следующий (№ 108) вид, ни мохноногий
тушканчик не встречаются. Тем легче, мне кажется, признать большого тушканчика
за особый вид, что различие в величине [от этих видов], скорее всего, исключает
всякое подозрение в его родстве с ними. В Сибири его нет, зато далеко к югу, в нап-
равлении к Бухарскому ханству, он часто встречается; за 50-й градус северной широ-
ты он не переходит, как и остальные виды того же рода. В качестве корма он
охотно употребляет орешки дурнишника обыкновенного. Зимой впадает в спячку.
Гмелин (повторяя ошибку ’’Новых Комментариев Петербургской Академии наук”)
неправильно указывает о большом тушканчике, будто он собирает сено стожками:
это [сообщение] следует отнести к даурской и альпийской пищухам.
108. Тарбаганчик (земляной зайчик). Тушканчик с пятипалыми задними конеч-
ностями. Ушные раковины длиннее головы; размеры тела небольшие.
Mus Jaculus: Pallas nov. sp. glir.
Учитывая большую разницу [между этим видом и предыдущим] в отношении раз-
меров и пропорций тела, я с трудом могу себе представить, чтобы емуранчик пред-
ставлял собой всего лишь карликовую форму большого тушканчика (хотя емуран-
чика и встречают часто вместе с особями предыдущего вида; но это бывает не всегда).
Пока кто-нибудь из последующих авторов не предъявит более определенных дока-
зательств в пользу того, что емуранчик - выродившаяся форма большого тушканчи-
ка, я предпочитаю помещать емуранчика в данном месте [системы], рассматривая его
в качестве особого вида.
357
109. Полуденная песчанка. Тушканчик с пятипалыми задними конечностями; с
ушными раковинами более длинными, чем голова; с хвостом, целиком окрашенным
в желтый цвет.
Встречается местами по песчаным почвам поблизости от Каспийского моря; в
других местах этого вида не наблюдали. Животное чрезвычайно изящного облика.
Впрочем, если не ошибаюсь, его следует перевести в род миоксов (спорный вопрос об
отнесении к миоксам или к тушканчикам решается единственно на основании
сравнения длины задних конечностей).
[Род] ХХП. Белки
Тот признак, с помощью которого Линней стремился отличить белок от родствен-
ных им родов, [а именно строение зубов,] столь же мало пригоден для этой цели, как
и многие другие признаки, предлагаемые различными авторами. Дело в том, что и у
всех грызунов из рода мышей, за исключением, быть может, арктомюсов и слепышей,
зубы в верхней челюсти клиновидные, а в нижней шиловидные, и этот признак доста-
точен разве лишь для того, чтобы отличить этот род от зайцев и, пожалуй, еще от
бобров. Если же мы решимся рассматривать дело без предвзятых представлений, то
[должны будем признать, что] единственная отличительная особенность белок - это
именно та, которую еще в древности выразило их греческое наименование: то есть
наличие у них хвоста, покрытого растущими в два ряда мягкими волосами и способ-
ного прикрыть все тело животного; и другой отличительной особенности мы не об-
наружим. Ибо, как я уже говорил, отряд грызунов является чрезвычайно естествен-
ным, и если мы будем пренебрегать внешним обликом, то вообще потеряем различие
между родами.
110. Векша (белка). Белка с ушными раковинами, снабженными на верхушке
кисточками волос, и с белой окраской нижней поверхности туловища.
Этот вид весьма обыкновенен в лесах и дубравах равным образом по всей Европе
и по Российской империи; в изобилии векша встречается также по всей Сибири и в
горах Азии, как и Кавказа; однако нет ее в северо-восточном углу Сибири, и не
смогла она проникнуть на Крымский полуостров (по причине безлесия). Этим, между
прочим, доказывается, что Крым никогда не соединялся горными хребтами с Кавка-
зом.
Векши строят себе гнезда на деревьях из мхов, часто селятся по нескольку в
одном гнезде. Запасают на зиму шляпочные грибы, нанизывая их на ветки. Питаются
также кедровыми орехами, семенами пихты и лиственницы, а в Европе еще и желу-
дями дуба и буковыми орешками, равно как и орехами лещины. Правда, эти плоды
в изобилии встречаются и в Крымских горах, но белки в них не проникли, будучи
отделены от них обширными степными пространствами.
По той же причине безлесности нет белок и за Полярным кругом, а также по всему
побережью Северного Ледовитого океана; не проникли они и за реку Колыму и
Пенжинский залив. При недороде иногда случается, что белки осенью (наподобие
того, как это делают и зайцы) мигрируют в больших количествах из горных местно-
стей на равнины, хотя бы и расположенные в северном направлении, причем пересе-
ляются не полчищами или как бы отрядами в строю, что наблюдается у леммингов,
но рассеянной толпой и все же в таком множестве, что забредают и в деревни и
города, где их часто ловят.
У многих туземных племен беличье мясо считается одним из лакомств.
Примечание. В соответствии с местообитанием, а в огромной мере, как я пола-
гаю, и в соответствии с изменением корма, белки бывают чрезвычайно изменчивы
по своей величине, цвету и характеру меха.
Однако единообразной для всей территории Российской империи, а также для
358
Скандинавии является та особенность, что у белок окраска зимнего меха отлична от
таковой летнего, причем свою отличительную зимнюю окраску они приобретают даже
тогда, когда их держат в домашних условиях, в жарко натопленной комнате. В
западных областях России все белки летом становятся рыжими, а зимой серебристо-
пепельными, хотя с некоторой примесью рыжего на спине.
Около Самары и в сосновых лесах по рекам Оби и Чулыму, а отчасти и в местах
на Исети белки летом бывают светлорыжими, а зимой весь их мех становится сереб-
ристо-белесым и чрезвычайно красивым. Вместе с тем в зимнее время белки бывают
там самыми крупными, весят часто больше 15 унций, а в длину достигают 8 дюймов и
нескольких линий; длина хвоста составляет 7 дюймов (не считая волос); длина хвоста
вместе с волосами - 9 дюймов и 3-5 линий. Особенно высоко ценятся эти шкуры у
китайцев.
По всей Восточной Сибири и на Алтайских горах, где бывает обильный урожай
кедровых орехов, летом беличьи шкуры бывают от рыжих до (в различной степени)
темноокрашенных, даже бывают чисто черные или с примесью черного, по размеру не
очень крупные. Но зимой беличий мех приобретает тусклый свинцово-серый отте-
нок, часто голубоватый, благородный цвет. Такие шкуры (их окраска целиком
однородна) особенно охотно добывают русские, у которых они высоко ценятся.
В свой зимний мех белки этого вида одеваются в Сибири в конце сентября, в Евро-
пейской же России - самое раннее после середины, даже в конце октября.
Изредка попадаются и чисто белые или белоснежные белки, хотя и у них отдель-
ные участки шкуры или пятна сохраняют обычную для данного вида окраску, или же
посреди спины в продольном направлении идет серебристо-серая полоса, а хвост и
кисточки на ушах приближаются к черной окраске, остальная же шкура белая.
111. Персидская белка. Белка с ушными раковинами без кисточек, с окраской тела
сверху темно-пепельной, снизу рыжей.
Возможно, что это то же, что в ’’Синонимах четвероногих” Пеннанта (409, № 271)
Soiurus erythraeus.
По сообщению славнейшего Гильденштедта, вид этот часто встречается в буковых
и дубовых лесах субальпийского и горного Кавказа, вплоть до Колхиды. Голос
свистящий, почти пронзительный, непохожий на звуки, издаваемые обычными
белками. Часто перепрыгивает с дерева на дерево через расстояния около сажени.
Зимой не меняет цвета.
Описание, данное Гильденштедтом. По пропорциям и размерам тела
почти не отличается от обычной векши. Ушные раковины притупленные, покрытые
очень короткими волосами, без кисточек.
Глаза, усы, зубы, рот: как у обычной векши. Усы по длине равны голове. Над
передними углами глаз располагаются по 3 щетинки, длиной каждая в дюйм; еще по
3 щетинки, длиной каждая в 1,5 дюйма, имеются книзу от задних углов глаз. На под-
бородке имеются рассеянные щетинки; на передних конечностях, на запястьях,' с
нижней стороны имеются щетинки неравной длины.
Кисти передних конечностей четырехпалые, с острыми коготками, и, кроме них,
имеется еще коготь на месте большого пальца, отставленный в сторону, плоский и
тупой. Стопы задних конечностей пятипалые.
Хвост широкий, покрыт двухрядными волосами, у основания цилиндрический;
если его отогнуть, то его верхушкой можно достать середины верхйей части головы.
Окраска: темя, шея сверху, спина, бедра задних конечностей снаружи, хвост в
своем цилиндрическом основании, а также нижняя поверхность хвоста темно-пепель-
ные, однако кончики волос [по всем этим участкам] белесые, причем эта белесова-
тость лучше выражена в передней половине тела, нежели в задней. Морда и ушные
раковины темно-каштановые. Вся нижняя поверхность туловища, от горла до аналь-
ного отверстия, а также все передние конечности и обращенные кнутри части задних
359
конечностей, равно как и большая часть хвоста, сверху и с боков покрыты двуряд-
ными волосами. Бока каштановые или рыжие, живот светлорыжий, хвост ярко-
рыжий.
Длина животного [от кончика морды] до анального отверстия составляет 8 дюймов
6 линий; длина хвоста составляет 7 дюймов; ширина хвоста составляет 2 дюйма 6 линий.
Длина кишечного тракта 60 дюймов; слепая кишка изогнутая, широкая, длиной в два дюй-
ма. Желудок изогнутый, двураздельный, длиной в 1,5 дюйма. Такую же протяженность
имеет и селезенка.
Остальные [особенности данного вида такие же,] как у предыдущего; и таким же
образом, как у него, пенис спиралевидный, имеющий внутри небольшую кость.
Примечание. Описанная Гмелином младшим ’’персидская белка” представ-
ляется мне довольно сомнительным видом, и эта моя точка зрения находит себе
подтверждение и у других авторов. Несомненно то, то экземпляров этого вида нет
среди животных, присланных Гмелином в Академический музей. И не может же быть,
чтобы этот автор, в других отношениях, по моему мнению, вполне достойный дове-
рия, - не может же быть, чтобы он по неосторожности взял какой-то сибирский вид
из рисунков своего дяди и затем вставил его в число своих, как бы основываясь на
собственных наблюдениях, а потом не побоялся даже вообразить себе (движимый
при этом жаждой дать что-то новое), будто это вообще какой-то ранее неизвестный
вид. Мне бы очень не хотелось, чтобы это было так, и я удерживаю [себя от допуще-
ния этой возможности].
112. Бурундук. Белка с ушными раковинами без кисточек, на спине с пятью про-
дольными полосами, по цвету чередующимися: черными и желтоватыми; окраска
нижней поверхности туловища серебристо-серая.
Встречается от Уральских гор и реки Камы на восток по всей Сибири, где только
есть леса, вплоть до реки Анадыря и Охотского моря.
За Анадырь по причине безлесья тех мест не заходит, и точно так же не попадается
ни в субарктической области, ни на Камчатке.
В некоторых лесных местностях чрезвычайно многочислен. Бурундуки роют себе
подземные норы, однако чрезвычайно ловко умеют взбираться на деревья. Норы
бурундуков представляют собой сначала на большом протяжении подземные кори-
доры, затем такой коридор расширяется, образуя место, приспособленное для хране-
ния запасов; после этого коридор снова продолжается, приводя наконец к гнезду.
В качестве пищи бурундуки собирают себе преимущественно кедровые орешки,
после них [на втором месте] предпочитают различные ягоды.
В отношении наличия у них защечных мешков бурундуки родственны хомякам.
Якуты и остяки употребляют бурундуков в пищу, считая их мясо в жареном виде
большим лакомством. Поэтому [охотники из числа этих народов] прилагают большие
усилия, чтобы добыть побольше бурундуков. Для этого они, например, ставят ло-
вушки или же стреляют бурундуков тупыми стрелами, так же как делают, добывая
векш. Или же, наконец, приманивают бурундуков во время течки, подражая их
голосу с помощью березовой коры: когда самцы сбегаются, привлеченные этим зву-
ком, их легко перебивают палками. Шкуры бурундука, правда, тонкие, и мех на них
редкий. Однако их помногу сшивают вместе, и получаются очень красивые одежды.
Звуки, издаваемые бурундуками, очень высоки и пронзительны. В неволе зверек
никогда не приручается, всегда остается кусачим.
Описание. Размером приблизительно с соню, внешним же видом более напоми-
нает миоксов. Голова более продолговатая, чем у белок, с коническим выдающимся
вперед рыльцем; нос также выступает кпереди, за зубы, округлый, покрыт пухом, за
исключением голой перегородки [между ^ноздрями]. В углах рта больше волос, чем на
губах; [в особенности много волос там, где] начинаются защечные мешки, простираю-
щиеся до околоушной области.
360
Резцы плоские, желтые, с поверхностью, исчерченной очень тонкими полосами.
Усы располагаются в пять рядов, черные, по сравнению с головой более короткие.
Над передними углами глаз имеется по 2 щетинки, на щеках еще по 2, на горле 4;
щетинки тонкие и имеют белую окраску.
Более длинные по сравнению с остальными волосы растут на середине предплечий
с задней стороны передней конечности; на конце предплечья, обращенном к за-
пястью, растет 2 длинных белесых волоса.
Глаза довольно крупные, черноватые. Веки по краям темноокрашенные, без
ресниц. Складка периофтальмия короткая, по краю хрящевидная и темноокрашен-
ная. Ушные раковины короткие, продолговато-округлые, покрыты очень короткой
шерстью; изнутри того же цвета, что и вся голова, а снаружи темноокрашенные
(спереди) и белесые (сзади). Слуховой проход замыкается наподобие того, как это
имеет место у коз.
Туловище цилиндрическое; задние конечности длиннее, [чем передние].
Передние конечности четырехпалые, на месте большого пальца притупленная бо-
родавка, прикрытая роговой пластинкой. Задние конечности пятипалые. Подошвы
голые, белые; на кистях передних конечностей пять крупных мозолевидных образо-
ваний, из которых три сливаются с пальцами. На ступнях задних конечностей таких
образований по четыре, [и все они срастаются] с пальцами.
Все пальцы снизу голые, темноокрашенные, испещренные в поперечном направле-
нии неглубокими морщинами. Когти темноокрашенные.
Хвост длиной такой же, как тело, с обеих сторон покрыт шерстью, [причем распо-
ложение волос] едва заметно двурядное. На коже хвоста, если снять шерсть, заметны
кольца. Сама же шерсть [на хвосте] напоминает хомячью; плотная, с легким рыжева-
тым оттенком.
Окраска верхней части головы, загривка, плечей, бедер и боков серо-желтоватая,
с отдельными редкими черными волосами (однако верхушки этих волос белесые).
Шея, нижняя поверхность туловища и обращенные кнутри поверхности конечностей
серебристо-белые, причем шерсть на них столь редкая, что сквозь нее просвечивает
темноокрашенный кожный покров. Боковые поверхности головы [2 полосы на голо-
ве, одна], идущая от носа в обе стороны через брови, другая - от век к ушам, беле-
сые; под этой второй полосой имеется еще ржавоокрашенная полоса, и далее еще
меняющая цвет на своем протяжении полоска от углов глаз к yxyt
На спине 5 черных продольных параллельных друг другу полос. Из них средняя
идет от затылка до хвоста, соседние с нею - от загривка до крупа, крайние - от ло-
паток до бедер.
Эти полосы перемежаются другими, бледноокрашенными на своих концах, а
посредине белесо-желтоватыми. Нижняя поверхность хвоста желтоватая. В длину
хвост выглядит приблизительно на 3 линии больше [своих действительных размеров]
по причине растущих [поблизости от его верхушки] волос, в основании желтоватых,
а к концу черных, на самом же кончике серебристых. Из-за этих же волос [окраска
хвоста на конце] представляется серовато-черной.
Длина [упомянутых волос] 'Составляет 4 1/2 линии, а длина самой шерсти - 3 2/з
линии.
Вес животного составляет 2 унции и от 2 до 8 драхм. Измерения: от кончика
носа до анального отверстия 5 дюймов 6 линий. Длина хвоста, не считая [упомянутых
более длинных] волос, 3 дюйма 11 линий.
Длина головы 1 дюйм 10 1/2 линий. Расстояние от носа до глаз 8 1/4 линий. Нос
выступает за линию зубов на 2 1/з линий.
Длина глазной щели 3 2/з линий. Расстояние от глаза до уха 5 линий. Промежуток
между наружными углами глаз по прямой линии составляет 6 1/3 линии, если же
[измерять по] нити, протягиваемой [по наружной поверхности морды, то этот проме-
361
жуток составит] 10 1/2 линий. Длина ушных раковин 7 линий, расстояние между кон-
чиками ушей 10 линий, а по [перпендикуляру между серединами их] осей расстоя-
ние составляет 8 1/2 линии.
Длина окружности носа составляет 1 дюйм. Длина окружности головы, измеренная
на уровне глаз, - 1 дюйм 10 линий. [Та же длина, измеренная на уровне] середины
линии, проведенной от ушей к глазам, составляет 2 дюйма 5 линий. Окружность шеи
2 дюйма, ее длина 4 1/2 линии.
Окружность грудной клетки 2 дюйма 3 1/2 линии. Окружность туловища, измеряе-
мая по его середине, составляет 2 дюйма 8 линий. Окружность хвоста, измеренная
у его основания, составляет 6 дюймов 2/3 линии.
Длина плеча составляет 7 1/2 линии, длина предплечья - 11 линий.
Кисти передних конечностей, считая вместе с когтями, имеют в длину 9 линий.
Длина бедра 1 дюйм 1 линия. Длина голени 1 дюйм 2 линии. Длина стоп задних конеч-
ностей 1 дюйм 4 линии.
Я дал столь пространное описание бурундука для того, чтобы кто-нибудь впослед-
ствии мог сравнить его с американскими представителями [того же рода], а также
чтобы никого более не вводило в заблуждение слишком небрежное описание бурун-
дука, данное Гмелином старшим.
113. (бурундук) Sciurus Uthensis. Белка с ушными раковинами, лишенными кисто-
чек; с темноокрашенным туловищем, на спине с пятью белыми полосами.
Вид близко родственный предыдущему, однако в то же время слишком отличаю-
щийся от него, чтобы можно было считать его лишь разновидностью предыдущего.
Господин доктор медицины Мерк прислал мне шкуры этого животного в превосход-
ной сохранности, добытые в долине р. Уть, впадающей в Тихий океан (в тех местах
этот зверек часто встречается).
Описание. Вся шкура блестяще-черная, размер ее несколько меньше, чем у
шкуры бурундука. Ушные раковины также несколько меньше, чем у бурундука, а
хвост в [той же] пропорции короче, [чем у него].
Строение стоп, пальцев, кистей передних конечностей с их характерной полукогте-
видной бородавкой, частично голой, все это в высшей степени напоминает то, что
имеет место у бурундука. Похожи на его полосы также и дорзальные полосы [, имею-
щиеся у данного вида].
Под горлом [начинается еще одна] продольная белая полоса, продолжающаяся
от нижней губы до грудины. За исключением этой полосы, вся нижняя поверхность
тела черная. Хвост покрыт гладкой шерстью, однако волосы на нем менее пышные,
более равные друг другу по длине, заметнее растопыренные [, чем у бурундука].
Окраска хвоста по всем его поверхностям чрезвычайно темная.
114. Летяга. Белка со шкурой на боках, разрастающейся между конечностями;
с копьевидным хвостом; с туловищем сверху серебристым, снизу белым (окраска
[по обеим поверхностям тела, верхней и нижней] однообразная).
Этот чрезвычайно изящный зверек в наши дни лишь очень изредка встречается
в лесах Литвы, Ливонии, Финляндии [и всей Европейской] России. В березняках и
сосновых лесах Уральских гор и всей Сибири он водится часто, однако за р. Лену он
едва ли переходит, по причине безлесия [тех мест]. Соответственно и на Американ-
ский континент переправиться этот вид не мог.
По этой же самой причине данный вид отсутствует на землях Субарктики, хотя хо-
лодов он не боится и труднодоступных мест не избегает, а всю зиму проводит, кочуя
с места на место. По моим наблюдениям, нигде летяга не встречается в большем изо-
билии, чем в исетских, барабинских и приенисейских степях, перемежаемых то тут,
то сям березняками. В особенности летяга любит сравнительно редкие березняки,
в которых она питается перезимовавшими на березах сережками. Впрочем, поедает
летяга и молодые побеги сосны. Поэтому экскременты летяг бывают желтые и смо-
362
листые. Их жгут, изготовляя из них свечи наподобие того, как их делают из смолы.
В дуплах деревьев летяги устраивают себе гнезда из собранных ими мхов. [Будучи
поймано,] животное это кусается, на воле же ведет образ жизни весьма смирный.
Будучи поймана, летяга погибает от самых незначительных причин, в особенности
от содержания в слишком узкой клетке. Днем всегда впадает в полусонное состоя-
ние, свертывается в шар и обвертывает себя хвостом наподобие того, как это делают
миоксы.
Ночью же летяга бродит. Летяга ходит и прыгает, изгибая туловище и прижимая
свой отогнутый и волнистый хвост к бедрам или же к спине, как белки.
ОТРЯД IV. ЖВАЧНЫЕ
Жвачные образуют естественный отряд, известный еще Аристотелю и принятый
всеми последующими зоологами. [Представители этого отряда обладают] столькими
и столь явными общими в равной мере как внутренними, так и внешними признака-
ми, что просто невозможно, чтобы [эта общность] не бросилась в глаза; соответствует
она и искусственным методам [построения системы].
[Из внешних признаков выделяются:] отсутствие резцое в верхей челюсти; копыта,
иногда расщепляющиеся; общий габитус всего тела.
Далее, внутренние [признаки]: четырехкамерный желудок; очень длинный кишеч-
ник, с [хорошо выраженной] слепой кишкой; склонность к тучности вследствие нали-
чия большого количества жира; котиледоны в плаценте плода. Все эти особенности
жвачных были известны еще самым древнейшим зоологам, и более поздние выдаю-
щиеся знатоки естественной истории ничего не добавили к этому [набору признаков].
Также и разделение на роды в наше время остается почти таким же, каково оно
было во времена Аристотеля, и лишь немного изменений внесено по сравнению с
указаниями Аристотеля. Именно из этого отряда люди, обитающие в Азии и Африке,
приобрели себе наиболее полезный домашний скот. Все виды жвачных, используе-
мые ныне человеком в Европе и Азии в качестве домашних, наблюдаются также и в
качестве диких, обитающих в горных цепях Азии и Европы: все, если не считать
небольшого числа видов, практически выбитых охотниками.
Так, легко прослеживается происхождение крупного рогатого скота от тура, буй-
вола от Bubalus grunniens; домашней козы, возможно, от скрещивания между теми
или иными видами каменного козла и дикой козы; мелкого рогатого скота от дикого
сардинского барана и барана-аммона; ангорской козы, может быть, от кавказского
козла.
Как я уже сообщил в своих ’’Зоологических заметках” (вып. XI, с. 4, примеча-
ние а), во внутренних областях Азии поныне живет даже дикий верблюд-бактериан, а
не исключено и то, что в пустынях Центральной Африки еще недавно жил дикий вид
верблюда-дромадера, но, по-видимому, теперь вымер. Только из оленей и антилоп,
хотя представителей этих родов нетрудно бывает изловить в возрасте всего лишь
нескольких дней, никого не удалось пока приручить, сколько усилий к тому ни
прилагалось: никого, кроме северного оленя. Никого из других видов антилоп и
оленей человек не смог себе поработить, может быть, по той причине, что нужда в
этих животных невелика, а нрав их слишком смирен [для домашней работы].
[Род] ХХШ. Верблюды
Животные этого рода, разводимые кочевниками, в диком состоянии ныне почти
вымерли: так действует [на животные популяции] увеличивающееся давление насе-
ления! Можем ли мы, вообще говоря, сомневаться, что некоторые виды животных
могут и совершенно исчезнуть с лица земли? Придет и такое время, когда также
и свойственные Америке виды верблюдов подчинятся владычеству человека: если и
363
не все виды, то по крайней мере наиболее полезные. И найдется ли такой человек,
который в наши дни видел бы в Европе тура, в Альпах каменного барана, на Корсике
дикого сардинского барана?
А между тем известно, что некогда все эти виды были обычными. Или можно
представить себе, что какие-либо из не самых мелких животных не поддаются
никогда истреблению природными катастрофами, зимними бурями и всякими други-
ми бедствиями? Нет! Приведем только один известный пример. Бывало, что, напри-
мер, стаи саранчи, в миллионных количествах покрывавшие большие пространства
своими телами и учнитожавшие на этих пространствах всю растительность, за единст-
венный заморозок весенней ночью целиком погибали вместе со своим потомством
таким образом, что в следующее после того лето не остается в живых ни одной особи
из всего поколения (как мы это видели на Крымском полуострове).
115. Верблюд-бактриан (двугорбый верблюд). Верблюд с двумя горбами на спине.
Даже и поныне в хорошо прогреваемых солнцем горных местностях Центральной
Азии это животное встречается в диком виде [представители этой дикой разновид-
ности] кочуют парами. Об этом см. [в моих]: ’’Зоологических заметках”, вып. XI,
с. 4; а также у Фалька, в описании его путешествия, т. Ш, с. 292.
Этот вид в большом количестве разводится нашими кочевыми народами: калмы-
ками, киргизо-татарами, монголо-бурятами; а также обитателями степной зоны
Крымского полуострова. В качестве питания верблюд-бактриан легко удовлетво-
ряется произрастающими на песчаных и самых бедных, засоленных почвах рас-
тениями.
К их числу принадлежат солянки, хруплявники, верблюдка, камфоросма, сели-
трянка, галимум, верблюжья колючка, чрезвычайно горький зигофиллум, итсегек,
ракитник (различные виды), дурнишник.
Питается верблюд и другими аналогичными растениями, содержащими скудное
количество влаги. У бурят и монголов разводятся менее крупные верблюды, порази-
тельно приспособленные к холодам и другим проявлениям неравномерности клима-
та. Они переносят длинные зимы без какой-либо крыши или укрытия, а когда все
кругом лежит под глубоким покровом снега, они поддерживают свое голодное
существование ветками кустарниковых ив и берез, либо же, когда все кусты на оби-
таемых ими солнечных склонах оказываются покрыты снегом, эти бактрианы отго-
няют голод карликовой робинией или лизанием солонцов. В апреле же, хотя они
тогда бывают исхудалыми до истощения, они обрастают шерстью и в этот же сезон
спариваются, несмотря на то что часто вплоть до мая бывают мощные возвраты
снегов и холодов. Если же говорить о татарах и калмыках, которым по большей части
принадлежат [обычные бактрианы], то они в этот период особенно о них заботятся,
устраивают для них тростниковые укрытия и закутывают их туловище в лоскутные
попоны, изготовляемые из особого рода валяной шерсти.
Горбы у бактриана осенью бывают наиболее распрямившимися и прямостоячими.
Зимой же, когда верблюд истощен, горбы становятся вялыми и свисают в одну или
другую сторону, чаще всего в правую.
Когда верблюдов перегоняют с пастбищ, богатых нежными травами, после того как
они длительное время [паслись на этих пастбищах], на солончаки, то прежде всего
они очищают свои желудки с помощью солянок, а затем [от того же корма] жиреют
и в большой мере благодаря этому [питанию] набирают силу.
Верблюды жадно пожирают также чистую соль; а в пути, как только есть возмож-
ность пить, они [напиваются водой таким образом, что] могут обходиться выпитым
очень долго, даже, как уверяют кочевники, до тридцати дней. Когда верблюды па-
сутся на засоленных пастбищах, то непрерывно выделяют пот, который застывает,
выделяясь, в шерсти кристалликами соли, а потому даже овцы и козы имеют обык-
новение облизывать шерсть лежащих верблюдов, в результате чего у этих овец и коз
364
в желудках образуются плотные шарики (эгагропилы) из заглатываемой ими вместе
с солью шерсти.
При приближении весны, а именно в феврале, марте и апреле, у верблюда-бактриа-
на начинается течка. В этот сезон самцы устраивают между собой ожесточеннейшие,
но очень смешные на вид битвы: калмыцкие старейшины даже любят сами втравлять
их иногда в такие сражения, ради своей забавы. Самцы-соперники набрасываются
друг на друга, неистовствуя и испуская пену изо ртов.
При этом они стараются укусить друг друга за передний горб, захватывая его
зубами; брыкаются передними ногами и силятся повалить друг друга на землю. В
результате такой стычки часто получается, что либо они ломают себе ноги, либо же
победитель топчет побежденного, упавшего наземь, своими копытами и может его
изранить, если только их своевременно не разнимут.
Желая избежать таких сражений, кочевники в этот сезон нередко разводят самцов
по разным пастбищам. Когда самец покрывает самку, та ложится, опираясь на коле-
ни, а самец для покрытия (которое продолжается долго) нуждается в помощи
пастуха.
Последний подвязывает самке после того, как она была оплодотворена, какой-ли-
бо поясок под хвост, чтобы с ней повторно не спарился какой-нибудь самец. По
прошествии недели ее освобождают от этого пояска, и если самка после этого под-
пускает к себе самца, то это признак того, что зачатие не состоялось.
Но и после этого ее еще в течение месяца на подпускают к производителям. Бере-
менность у верблюдиц продолжается пятнадцать месяцев, считая лунными месяца-
ми, а верблюжонка верблюдица выкармливает молоком в течение года. Снова же
зачать она может на третий год. Рождать может самка верблюда почти в течение всей
своей жизни, производитель же чаще всего утрачивает свою способность к оплодотво-
рению после двадцатилетнего возраста.
Верблюжонок растет, увеличиваясь в размерах, до шестилетнего возраста; живут
же верблюды и более сорока лет. Еще не достигшим годовалого возраста, сосущим
молоко матери верблюжатам прокалывают нос деревянным гвоздем, и затем выдрес-
сировывают их до такой степени, что они научаются ложиться по знаку (словесному,
или по кивку) пастуха и таким же образом подниматься.
После этого их приучают (делая это постепенно) носить на спине груз, сначала
легкий. Трехлетних верблюдов уже можно использовать для таскания грузов, срав-
нительно небольших, приблизительно до двухсот фунтов весом. Взрослые же верблю-
ды в течение долгих переходов без труда носят поклажу весом и в шестнадцать рус-
ских пудов (такой пуд равен 640 фунтам). Если же переход короткий, то они могут
снести даже вплоть до сорока пудов.
Целую кочевническую юрту или кибитку можно погрузить на одного-единственно-
го верблюда. Польза, приносимая верблюдами, заключается в их шерсти и шкуре,
далее, конечно, в особенности в их способности переносить тяжелые грузы и, нако-
нец, в их молоке. Молока они не выделяют в отсутствие верблюжонка; само же
это молоко чрезвычайно жирное. Шерсть, если очистить ее от [более длинных и]
жестких волос, по цвету и мягкости напоминает вигонь и пригодна для изготовления
сукон и других тканей, а также для валяния.
Мясо верблюжат, как говорят, вкусное, но на пирах оно встречается только у
самых знатных из кочевников. Для верховой езды верблюды-бактрианы практически
непригодны, потому что передвигаются они столь тяжелым и подпрыгивающим аллю-
ром, что те, кто на них сидят, обычно не могут долго вытерпеть [такого передвиже-
ния] из-за усталости и из-за тряски, почти раздирающей внутренности.
Однако они годятся для того, чтобы переправляться на них вброд через довольно
глубокие потоки. Крымские татары впрягают верблюдов-бактрианов в особые повоз-
ки, накладывая на животное поперечное ярмо между шеей и передним горбом.
365
Таким способом с помощью верблюдов можно без затруднений перемещать даже
самые тяжелые грузы в осенний сезон, когда те места почти непроходимы.
Когда верблюд устает, он ложится, и никакими побоями его невозможно столк-
нуть с места. То же самое, если его чрезмерно нагрузить. Они [не идут, но] защищают-
ся, кусаясь или разбрасывая из-под себя песок ([это они делают,] размахивая головой
или тряся животом). Верблюжий крик слышен бывает издалека, в особенности по
вечерам, и напоминает отчасти крик осла, отчасти же собачий вой. Крик же издают
верблюды, широко разевая свой рот.
У бурят верблюды, хотя и гораздо более мелкие [, чем у татар и калмыков], при-
равниваются при обмене к восьми или даже десяти лошадям за одного [верблюда],
продаются же по цене 40 рублей [за одного верблюда]. У калмыков соответствующая
цена гораздо выше, а крымские [татары], как сообщают, продают верблюдов и по цене
более 100 рублей за голову. Лошади, которых специально не приучали [к виду верб-
людов], их пугаются и устремляются от них в бегство, так что можно на войне верб-
людов использовать против конницы.
Поблизости от Пскова вскоре после поражения [русских войск] под Нарвой [в
войне против Карла XII] против шведов в первом ряду действовали вспомогательные
калмыцкие войска, и имевшиеся в них верблюды обратили шведскую конницу в
бегство (см.: Перри. Русское государство. Издана в Лондоне в 1716 г. С. 277).
Н. Соколов видел, как верблюдицы и угодливый верблюжонок грустно извива-
лись в такт печальной музыке, исполняемой даурским тунгусами на однострунном
инструменте.
Верблюды-бактрианы подвержены разнообразным заболеваниям и легко порани-
ваются. От чесотки кочевники мажут их жидким асфальтом. В желудках верблюдов-
бактрианов также образуются эгагропилы, порождаемые благодаря слипанию остат-
ков растительной пищи. Калмыки сообщают, что этот вид можно скрестить с одно-
горбным верблюдом, в результате чего потомство окажется также имеющим два гор-
ба, только один из них, чаще задний, будет меньше обычного.
Примечание. Верблюды-бактрианы бывают различной окраски: обычно серой
или серовато-кирпичной, более или менее тусклой; темно-серой; бледновато-белесой
(среди последних у калмыков иногда встречаются особи с чисто белой головой и
частью шеи); белой (такие у кочевников попадаются довольно редко, но в Крыму их
много, так же как и белесых). Также и у бурят и у монголов на своей холодной
родине верблюды-бактрианы в большинстве случаев рождаются белыми или белова-
тыми. В Крыму же они бывают иногда и черными, но это, пожалуй, самая редкая из
всех [окраска].
116. Одногорбый верблюд. Верблюд с единственным горбом на спине.
Из наших кочевников мало кто владеет одногорбыми верблюдами, разве что
некоторые из знатных и наиболее богатых. Калмыки этих верблюдов разводят, и они
у них в большой цене [сравнительно с двугорбыми].
Довольно часто разводят одногорбых верблюдов в южных районах Персии; реже в
Анатолии, потому что одногорбые верблюды плохо приспособлены к передвижению
по скользким из-за зимних дождей дорогам. Из разновидностей одногорбого верблю-
да у нас отмечена только более крупная. Эти верблюды ростом выше двугорбых, а в
отношении перевозки тяжестей равны им. Однако это животные более изнеженные
[в смысле требований к климату] и плохо переносят холода, откуда можно заклю-
чить, что вряд ли [эта разновидность] происходит из Азии.
Разновидность одногорбого верблюда, пригодная для верховой езды (’’рагуахил”),
у нас не отмечена.
Примечание. Те особи данного вида, каких я видал, имели окраску буланую;
волосы по всему телу у них были слегка курчавые; на хребте [более длинные] волосы
образовывали подобие гривы.
366
Мозоли у одногорбого верблюда имеются на коленях задних конечностей, на зад-
ней поверхности локтевого сустава передних конечностей, на втором суставе (коле-
не) тех же конечностей спереди, а также на груди под горбом. Пенис обращен назад,
как и у предыдущего вида, но подымается кпереди. Бухарцы часто получают гибрид-
ное потомство от дромадера и бактриана, и такие гибриды у них довольно высоко
ценятся (как сообщает славнейший Фальк в описании своего путешествия, т. III,
с. 511).
[Род] XXIV. Кабарга
По поводу этого рода мне нет смысла здесь что-либо говорить, за исключением
того, что уже сказано о нем применительно к единственному его виду, обитающему
в Сибири (в исчерпывающей монографии этого вида, помещенной в 13-м выпуске
’’Зоологических заметок”).
117. Кабарга сибирская. Животное это свойственно и специфично для великой
альпийской горной цепи, простирающейся от Алтая и далее между Индией и Сибирью,
[на востоке] до Китая, и пересекающей таким образом все материковое пространство
Восточной Азии, разделяя реки в пределах этого пространства на впадающие в океа-
ны соответственно Индийский, Тихий и Северный Ледовитый.
Кабарга сибирская знаменита благодаря аромату и целебным свойствам (в отно-
шении нервной системы) вещества, собирающегося в препуциальном фолликуле
самцов этого вида. Впрочем, в отношении целебной силы и аромата аналогичное
вещество, выделяемое (если говорить о нашем северном регионе) бобром, похоже на
кабаргиное, а по сравнению с [веществом, привозимым] из Тибета, медицинские
достоинства [мускуса кабарги] гораздо ниже.
В пределах Сибири данный вид добывают от истоков реки Обь и далее на восток, в
горных хребтах; там он част. Здесь кабарга сибирская всегда пятниста, как это мож-
но видеть из моего рисунка.
В арктическую область и на Камчатку кабарга сибирская не заходит.
В XIII выпуске своего ’’Спицилегиума” я уже провел монографическую обработку
этого изящнейшего, но не поддающегося одомашниванию животного. Обработка эта
столь полна, что здесь мне нечего к ней добавить.
Примечание. Даже недавние сообщения о кабарге не лишены сказочного эле-
мента, как можно видеть на примере изданных в Париже в 1778 г. ’’Записок об исто-
рии, науках, искусствах, нравах, обычаях и т.д. китайцев, написанных пекинскими
миссионерами” (т. IV). Лемери некогда сообщил, будто настоящий мускусный запах
можно получить, слив в один сосуд по полфунта камедей гальбанума и сагапаны и
постепенно приливая туда же полфунта асфальтовой смолы и четыре унций опо-
понакса (’’История Парижской Академии наук”, 1706, с. 6). Пахучее вещество, состо-
ящее из мускуса и масел и содержащееся в генитальной мускусной железе, действи-
тельно [ как это и известно ] приводит самок кабарги в столь возбужденное состоя-
ние, что более чувствительные из них проявляют признаки почти что бешенства.
Это состояние длится долго после того, как [самка хотя бы] один раз понюхает
мускусное вещество. Это последнее производит свой эффект также и на морозе.
[Род] XXV. Олени
Достойно внимания, что на территории Российской империи, где обнаружено
столько костей и скелетов экзотических животных, еще никогда не было найдено тех
гигантских оленьих рогов, какие в Англии и особенно в Ирландии часто вырывают из
поверхностных слоев мергелевых пород или торфа. Эти [находимые в Англии и Ир-
ландии] рога почти вдвое крупнее рогов [ныне живущих] оленей и лосей. Животные
[, которым принадлежали эти рога и от] которых вместе с тем находят и остатки в
367
виде целых скелетов, с полной несомненностью - если только это не какие-то ныне
бесследно вымершие виды - должны быть отнесены к североамериканской фауне.
Очевидно, их остатки были занесены в Британию мощными волнами всемирного по-
топа, который также рассеял трупы слонов, носорогов и огромных индийских буй-
волов (а все эти [три рода представляют собой] индийских аборигенов) по Сибири.
Таким образом, если бы [упомянутые гигантские олени] происходили из Индии, не-
избежно их кости вместе с костями этих [слонов, носорогов и буйволов] бывали бы
находимы и в Сибири. Скорее всего, можно считать вероятным, что этот заливший
материки огромный потоп, вызванный, наверное, извержением вулканов в Индий-
ском океане, которое вызвало поднятие морского дна, - что этот потоп распростра-
нялся радиально (или близко к тому) по всему полушарию [ центром которого яви-
лось место извержения]. При этом американские животные были занесены в аквило-
нарном направлении, то есть на северо-восток, вплоть до Ирландии [и Англии],, в то
время как индийских животных перенесло прямо на север, а также на северо-запад.
[Так они попали] в арктический пояс вплоть до Сибири, а отчасти и в [Европей-
скую] Россию и в остальные европейские регионы, хотя в эти последние занесло уже
меньшее число [индийских видов].
Что же касается упомянутых гигантских оленей4, нам до сих пор неизвестных
[в живом виде, возможно, потому, что они] отступили из более населенных мест Аме-
рики в ее более удаленные регионы, то этот [факт их необнаруженности] не должен
казаться чем-то более удивительным, нежели то обстоятельство, что европейцы, пра-
вящие в Индии, только недавно смогли увидеть живьем некоторых огромных индий-
ских животных, среди которых достаточно упомянуть буйвола, которого индийцы
называют ”арни” и который, по устным сообщениям, был известен еще античным
[естествоиспытателям].
118. Лось. Олень с очень широко расставленными ноздрями, с широкими разветв-
ленно-гребенчатыми рогами, отогнутыми назад.
Лось обитает в лесах Польши, Литвы, Ливонии и Финляндии, а также по всей Евро-
пейской России, от Белого моря до Кавказа. [На всей этой территории] он живет в
местах лесистых и заболоченных, а также поблизости от берегов рек, текущих по дуб-
равам.
Обитает лось и по всей Сибири, вплоть до реки Лены, в лесах и горных долинах
Алтая, Саян и Прибайкалья. Весьма вероятно, что с этих гор лоси проникли и в более
южные горные леса Азии, быть может, вплоть до самой Индии. По своей величине
лось выделяется среди всех наземных животных, кроме [говоря об обитающих в
России] верблюда. Впрочем, лошадь бывает размером почти равна лосю.
В наше время лось постепенно покидает более населенные места, так что он, на-
пример, совсем ушел уже из Германии, где во времена Юлия Цезаря часто встречал-
ся, до и около 1025 г. нашей эры еще обитал5.
В Восточной Сибири (менее населенной [по сравнению с остальной Сибирью]) лоси
водятся вплоть до Пенжинской губы и рек Колымы и Ануя, а также до долины реки
Уть, конечно, в тех местах, где есть лес. На Камчатку лось по причине малолесья не
перешел, и потому нет его и на Чукотке, так что даже странно, каким образом лоси
через Берингов пролив перебрались в Америку.
Летом лоси любят бродить поблизости от ручьев и глубоких рек. В реках они
спасаются от овОдов и слепней, погружаясь в воду по самый нос. Вместе с тем они с
удовольствием кормятся водными травами.
40 них лучше всего написал достопочтеннейший Пеннант, безусловно превосходящий [своими
достижениями] всех прочих английских зоологов. См. с. 97 и табл. 11 в его ’’Истории четвероно-
гих”, а также его же "Британскую зоологию” Т. 1, с. 42).
5Schldzers neuer Briefwechsel, 2tes Heft. Goettingae, 1776.
368
Зимой лоси особенно охотно поедают ветки и кору осины и рябины. [В другое
время] они питаются и листвой этих видов растений.
Течка у лосей бывает в сентябре и октябре. Тогда они дерутся между собой, а
самые свирепые из самцов, если их ранят, бывают очень опасны и для охотников.
Детенышей лоси рождают по одному и по два. Самцы сбрасывают рога в декабре,
причем в первый раз [это с ними происходит, когда возраст их равняется] двум или
трем годам. Весной у них отрастают новые рога, первоначально булавовидные по
форме. И таким образом возраст лосей не может быть определен по рогам.
Мясо этих животных в молодом возрасте вкуснее оленьего, а если его слегка про-
коптить, то даже и в сыром виде его можно счесть лакомством. Наиболее вкусными
считаются лосиные языки.
Шкура лося гораздо толще оленьей и в особенности [более пригодна для изготовле-
ния упряжи] для верховой езды. Поэтому их добывают, отчасти взымая в качестве
дани с сибирских народов, отчасти же покупая. Кроме того, тунгусы, живущие за
Леной, выделывают лосевые шкуры с помощью особого настоя, изготовленного из
желудочного химуса, мозга и крови этого животного (с помощью этого же настоя они
выделывают и всякие другие шкуры), и после этого [обработанные таким образом
шкуры, особенно если их еще] продымить, становятся чрезвычайно водонепроницае-
мыми.
Охотятся на лосей различными способами. Чаще всего их ловят с помощью ям,
вырываемых в самых глухих местах леса и прикрываемых сверху травами и ветвя-
ми, а к этим ямам животное заманивают дорожками между изгородей, изготов-
ляемых из срубленных деревьев.
Далее, [используют то обстоятельство, что] на исходе зимы глубокие снега, обо-
греваемые уже солнцем, покрываются тонкой ледяной коркой, а грузные животные,
пробивая эту корку копытами, вынужденно замедляют свой бег. При этом лоси на-
столько устают, что, когда их по пятам преследуют люди с собаками, едва могут
пробежать приблизительно восемь стадий, быстро начинают задыхаться и попадают
под выстрелы. Наконец, преследующие лосей охотники убивают их стрелами или
выстрелом, когда лоси в летнее время наслаждаются купанием в воде.
Из числа хищных зверей на лосей [нападают и] убивают их преимущественно [сле-
дующие]: медведи, росомаха (эти хищники прыгают на спину с дерева проходящим
мимо лосям), волки (соединяясь в стаю).
Далее сообщают, что иногда в ухо спящему лосю может залезть ласка, и это приво-
дит лося в бешенство до такой степени, что часто он может разбить себе обо что-ни-
будь голову или броситься вниз с крутого утеса, и таким образом погибнуть.
Когда в Ливонии в 1725 г. свирепствовала бычья моровая язва, она поразила так-
же и лосей, так что многочисленные их трупы находили в лесах и болотах. (Сообще-
ние Хупеля). В [цитированном выше труде] Пеннанта дано прекраснейшее изображе-
ние американского лося, которое совершенно точно подходит к российскому [виду].
Далее я даю описание молодого лося-самца, измеренного мною поблизости от Ал-
тайских гор, в летний сезон.
Описание. Величина больше обычной лошади. По общему внешнему облику
животное более грубое, пропорции более укороченные, чем у оленей; от последних
в особенности отличается носом, напоминающим лошадиный.
Голова продолговатая, передняя часть морды сильно сжатая. Нос хрящеватый,
весь поросший шерстью, очень широкий [там, где он срастается] с верхней губой, и
выступающий над верхней челюстью.
Ноздри почти такие же, как у лошади, очень широкие, продолговатые, кпереди
широко раскрытые, с сильно выступающими краями.
Резцов восемь, умеренной величины, почти одинаковых, выпуклых, к концу бо-
лее уплощенных и слегка скошенных. В углах рта и на щеках изнутри густая шерсть.
24. В.Е. Соколов, Я.А. Парное
369
Клыков нет. Глазные орбиты несколько выдающиеся вперед; особенно же выступает
вперед лоб между рогами, причем с обеих сторон лба имеется по мутовке более длин-
ных волос, а перед основаниями рогов имеется по углублению [во лбу].
Глаза маленькие, с темноокрашенными радужными оболочками. Края век мягкие,
окраска век, в особенности в передних углах глаз, [где веки] расширенные и безво-
лосые, черная. Верхнее веко на две третьих своей длины, если считать от заднего
угла глаза, поросло снаружи черными ресницами. Перед глазами имеются неглубо-
кие белоокрашенные пазухи, от которых в направлении к центру [носа] идут слепые
каналы. По бокам морды растут рассеянные черные волосы (в направлении к нозд-
рям, на подбородке и по глазницам; больше всего этих волос в надглазничной области.)
В нижней части горла имеется черная ’’борода” из щетинок, которая переходит
затем и на всю продольную поверхность шеи в виде постепенно укорачивающегося
гребня. Уши в пропорции [ко всему телу] менее крупные, чем у оленя; снизу они
замкнуты в виде трубок. К верхушке уши становятся более бледноокрашенными.
Изнутри уши голые; в верхней части они покрыты редкими волосами.
Рога расположены в надглазничной области. [Они начинаются] кольцом или коро-
ной основания, представляющей собой цилиндрический отросток, и далее расходят-
ся под прямым углом по отношению друг к другу в горизонтальном направлении.
Далее рога вытягиваются кверху в виде слегка изогнутых ветвей, [причем] на пра-
вом [роге эта ветвь] трехраздельная; уплощаясь, рога отгибаются к затылку, трижды
разветвляясь [наподобие листа] пальмы.
Ответвления [рогов на концах] все узкоцилиндрические, притупленные, со всех
сторон покрытые серым [или] темносерым мехом с мягким подшерстком. Во многих
местах [эти ответвления] истерты и покрыты гнойными выделениями, кишащими
червями.
Волосы, образующие растущий на рогах мех, на передних ветвях загнуты от вер-
хушки к основанию, так что подходят к волосам, растущим на лбу. На верхних от-
ростках пальмовидных [разветвлений] волосы растут в направлении вертикально
вверх, на предшествующих же [отростках тех же разветвлений] - наклонно.
Затылок за рогами широкий, выпуклый. От затылка начинается хорошо заметный
щетинистый гребень, продолжающийся далее на загривке и спине. [В направлении
кзади он] постепенно становится короче.
Волосы на туловище грубые, волнистые, тускло-серые или белесые, с примесью
черных. [Эта примесь имеется] на всей спине, а на загривке мех [целиком] почти
черный, и еще в большей степени это так на ’’бороде”, растущей на горле. Черная при-
месь имеется также на боках, груди, на наружной поверхности передних конечнос-
тей, а на задних конечностях - на бедрах сзади в виде треугольного пятна, подни-
мающегося [по ноге] узким клином.
Пах и бедра спереди, передние конечности изнутри, стопы задних конечностей
снаружи окрашены в грязно-желтый цвет. Их шерсть цветом и характером блеска
почти .такая, как у тюленя. Исключение составляет только темноокрашенная полоса,
продольно пересекающая переднюю поверхность стоп задних конечностей.
Хвост длиной в два дюйма, снизу голый, на верхушке черный, по бокам покрытый
белой шерстью.
Голова на большей части своей поверхности того же цвета, что и спина, за исклю-
чением передней части морды (каковая бледноокрашена) и черного пятна вокруг
пазух, [примыкающих к] задним участкам ноздрей. Кроме того, нижняя губа тоже
черного цвета.
Размеры: от верхней губы до хвоста 8 футов 9 дюймов. Рост в лопатках 5 футов
6 дюймов 6 линий. Рост на уровне поясницы 5 футов 7 дюймов 10 линий. Длина хвоста
2 дюйма 3 линии. (Если не считать растущих на хвосте волос, то его длина более
1 дюйма 3 линий.) У основания охват хвоста составляет 6 дюймов 6 линий.
370
Длина головы от края верхней губы до начала гривы на затылке составляет 2 фу-
та 5 дюймов 6 линий. Однако [если измерять эту длину] по прямой линии, по продоль-
ной оси, она составит 2 фута 2 дюйма 3 линии.
Промежуток между передними концами ноздрей составляет 3 дюйма 3 линии,
глубина ноздри - 3 дюйма 10 линий, поперечник переднего отверстия ноздри - 1
дюйм 4 линии. Рот, измеренный по окружности, 1 фут 6 дюймов 0 линий. [Внутренний
угол глаза отстоит от ноздри на 1 фут 3 дюйма 4 линии. [Поперечник] глазного отверс-
тия составляет 1 дюйм 5 линий. Расстояние от глаза до уха 5 футов 1 дюйм. Длина
ушных раковин составляет 10 дюймов 4 линии.
Длина трубчатой части основания уха 2 дюйма 8 линий. Расстояние от рогов до
глаз 1 дюйм 8 линий. Расстояние между рогами и ушами 2 дюйма 4 линии. Расстояние
между [основаниями] рогов 4 дюйма 11 линий.
Окружность рога у самой головы 8 дюймов 2 линии, в ’’короне” 5 дюймов 10 ли-
ний; максимальное расстояние между ветвями [рогов] 10 дюймов 4 линии. Длина
’’короны” рогов - 6 дюймов, длина их ветвей 1 фут 6 дюймов 0 линий. Окружность
головы перед глазами 2 фута 2 дюйма 2 линии; позади глаз 2 фута 6 дюймов 6 линий.
У самок лося рогов нет; грива у них гораздо меньше, чем у самцов, и щетинистая.
Сосков четыре. Легкие у лосей очень крупные, четырехдольчатые. Сердце размером
несколько меньше человеческой головы. Печень с отчетливыми очертаниями, но я
не обнаружил никаких следов желчного пузыря. Селезенка ячеистая, наподобие
таковой у Favago. Сычуг почковидный, изнутри с пластинчатой поверхностью, с
передней долей весьма вместительной и [со стенками как бы] тряпичными. Кишеч-
ный тракт очень длинный.
Примечание. Живущие под кожей лосей личинки слепня по размеру очень
крупные, а в остальных отношениях очень похожи на тех, которые встречаются у
быка.
Гигантские рога, находимые под некоторыми слоями, нанесенными аллювием
(таковые иногда попадаются в Ирландии), а в особенности те, длиной в шесть футов,
которые описаны в томе XI (на с. 124) ’’Трудов Британского Королевского общества”,
следует несомненно отнести не к лосю, а к какому-нибудь другому животному,
если только Ноултон [в упомянутом сообщении] правильно нарисовал местоположе-
ние рогов на черепной коробке.
119. Северный олень. Олень с носом, поросшим шерстью; с рогами трехраздельны-
ми, ровными, трехветвистыми, изогнутыми и отклоненными назад.
Северный олень, который был известен Плинию Старшему под названием ’’ахлис”,
в наши дни представляет собой животное, приуроченное главным образом к аркти-
ческой зоне, однако во многих местах он переходит по лесистым горным долинам
также и в более южные широты. Скорее же всего настоящей и первоначальной роди-
ной северного оленя были наиболее высокие горные системы из числа пограничных
с Сибирью, поскольку арктические равнины до недавнего времени были залиты мо-
рем. Даже и поныне северные олени немалыми стадами забредают через опасные
болота, поросшие лесами, богатыми мхом, и по пологим пустынным горным скло-
нам в западной части Уральского хребта с их очень густыми ельниками, вдоль реки
Камы и по ее притокам даже вплоть до реки Уфы, где башкиры (а во многих других
местах и прочие страстные охотники) их нередко убивают. Что касается обширнейших
лесов обского севера, там (и оттуда вплоть до Тунгуски непрерывно) северные олени
тогсе встречаются; обитают они и по дубравному подножию Саян, а также и в холод-
ных прибайкальских местах, по Баргузину и верхней Ангаре; встречаются в диком
виде северные олени и по всей горной системе, веерообразно расходящейся оттуда
к востоку, включая даже монгольский хребет Кинган между реками Амуром и Пау-
ном, и [другой монгольский хребет] Хан-Оола.
По всей же остальной Сибири, вплоть до Чукотки, и по всем субарктическим облас-
371
тям, где растут мхи и лишайники и совершенно нет деревьев, то есть по всей так у
нас называемой ’’тундре”, от Лапландии до рек Индигирки и Анадыря, дикие север-
ные олени водятся в великом множестве. Далее, все наши северные кочевники, лап-
ландцы, самоеды, различные племена остяков, почти все тунгусы, юкагиры, чукчи
обоих берегов Берингова пролива, а также почти все коряки, все они держат у себя
чрезвычайно многочисленные стада прирученного северного оленя и считают эти
стада своим главным богатством.
Любопытно, что северные олени в огромном количестве мигрируют также на ар-
хипелаг Шпицберген, расположенный на крайнем севере и именуемом у русских
’Трумант”. На Чукотку каждый год из какой-то неизвестной арктической земли,
скорее всего смыкающейся с Американским континентом, весной (тоже по льду)
перебираются стада северных оленей, слегка отличных от обитающих в Сибири и, по
всей вероятности, живущих в Америке.
Сообщают также, что северный олень встречается на островах, цепью протянув-
шихся от Камчатки и подходящих к берегам Америки, и что наблюдали его и на мес-
тах Американского континента, примыкающих к этим островам, в то время как на
[других близлежащих] островах, принадлежащих России, северный олень отсутству-
ет.
Из всех сибирских народностей едва ли какая-нибудь по своей заботливости о
северных оленях и по многочисленности их стад превосходит коряков. Их считают
лучшими знатоками этих животных и в особенности лучшими пастухами. Хотя они
не умеют обозначать чисел более крупных, чем впятеро увеличенное число пальцев
у человека (то есть чисел, больших ста), тем не менее они отдают себе точный отчет о
численности своих стад, каковая иногда может достигать 40 000 и даже 50 000 голов.
Больше того, коряки прочно держат в памяти даже генеалогию (хотя бы ближай-
шие поколения) своих оленей по отдельности; благодаря [этим своим точным пред-
ставлениям о численности и характере стад] они легко обнаруживают, не отбился ли
какой-нибудь олень от стада, или не примешался ли к стаду домашних оленей какой-
нибудь дикий самец, [что случается чаще всего] в период течки.
Пастухи, кроме того, не препятствуют этим диким самцам спариваться с [домашни-
ми] самками, поскольку при этом они производят более сильное [и более пригодное
для упряжи] потомство.
Только после этого пастухи убивают [проникших в стадо диких самцов]. Самок же,
покрытых дикими самцами, берут под особое наблюдение. Не меньше бывают к ним
внимательны также самоеды и остальные народности, пасущие северных оленей,
даже и несмотря на то что ни одна из таких самок не пригодна для доения.
Течка у северных оленей чаще всего бывает в сентябре, рожают же они весной,
причем более старые самки рожают по большей части по два детеныша, а молодые -
по одному. Беременеют же они ежегодно, а когда детеныши достигают двухлетнего
возраста, они сами пригодны становятся для воспроизведения, и поэтому этот вид
чрезвычайно быстро размножается.
Если самки после спаривания кровоточат, то это признак, что беременность не
наступила. Из детенышей наиболее ценными считаются с мелкими черными крапин-
ками. Такие встречаются только у коряков и чукчей. Из нежных шкур этих детены-
шей изготовляют изящнейшие верхние одежды; мясо же оленят идет на продажу.
Наконец, в самых редких случаях оленята рождаются черными; но, когда они
вырастают, становятся темноокрашенными, а по телосложению худыми.
Дикие самцы во время течки так возбуждаются слепым желанием, что не только
смешиваются со стадами домашних оленей и там начинают драться со специально
натасканными для этого дела домашними оленями, у которых к рогам привязывают
петли, и дикие самцы нередко в эти петли запутываются, после чего их ловят [; не
только это, но дикие самцы] даже, движимые слепым бешенством желания, бросают-
372
ся на охотников, одетых в белые шкуры, потому что принимают их за северных оле-
ней какой-то чужой [породы].
Упряжных северных оленей, приученных с раннего возраста таскать повозки, при-
вязанные к шее с помощью оглобель, коряки воспитывают так, чтобы те при опреде-
ленных выкриках сами отделялись от общего стада и сбивались вместе, чтобы их
можно было использовать в упряжи. Коряки прекрасно умеют также с помощью
ременной петли, которую они забрасывают за несколько саженей, ловить северных
оленей, отбившихся от стада.
Доить же самок северного оленя народы, живущие в Российской империи, кроме
лапландцев, не имеют обыкновения. Впрочем, на характер молока [пастухи северных
оленей! часто обращают пристальное внимание с целью судить по густоте молока,
каким вырастет [питающийся им] олененок, и чтобы отметить и затем прирезать тех
из оленят, кого сочтут обещающими вырасти не столь сильными. Впрочем, приручен-
ных оленей режут редко, пока в достаточном количестве имеются дикие.
Например, для обитающих в Российской империи юкагиров [мясо] диких север-
ных оленей вообще служит единственной пищей.
Когда зимой имеется изобильный запас пищи, они погружают мясо в лед и хранят
там на предмет использования весной, когда северные олени бывают истощенными,
в то время как осенью под шкурой у них образуется слой жира.
Домашних северных оленей [их владельцы - кочевники] зарезают, рассекая диа-
фрагму, просовывая [в образовавшийся надрез] руку и повреждая ею сердце таким
образом, чтобы не упустить ни капли крови, каковую они варят затем с овощами и
считают [полученное блюдо] большим лакомством. Равным образом [они имеют обык-
новение] смешивать кровь оленей с желудочным химусом и нафаршировывать получен-
ной смесью оленьи кишки.
[Эти нафаршированные кишки] они замораживают и таким образом сохраняют как
запас для пропитания в будущем. Кроме того, тот же упомянутый химус они едят
просто ложками в разогретом виде, и как сообщают, очень хвалят такую пищу как
полезную для здоровья. Еще они варят тот же химус на огне с оскребками рогов,
получая таким образом крепчайший клей для склеивания луков и обувных подошв.
(Сообщение Лиши.)
Что касается оленьей печени, почек, головного и костного мозга, то их [те же
кочевники] едят в сыром и замороженном виде и считают деликатесами. В частности,
костный мозг оленей - пища только более богатых [людей из кочевников].
Из более тонких шкур, например из шкур оленят, погибших сразу после рождения,
или из шкур детенышей, вырезанных из материнской утробы, [кочевники] изготов-
ляют свои платья. Шкуры более грубые и шерстистые идут на попоны и на крыши для
хижин. Когда с этих |более грубых] шкур соскребают шерсть, они тоже идут на одеж-
ду (летнюю). Из ремней, содранных с оленьих ног, шьют зимние ноговицы. Из рогов
делают музыкальные инструменты и [наконечники для холодного] оружия.
Таким образом, северные олени используются упомянутыми народностями в каж-
дой своей части, и кочевники, живущие в субарктической зоне Российской империи,
всем своим образом жизни связаны со стадами домашних северных оленей; [исклю-
чение составляют] юкагиры, которые живут исключительно охотой на диких север-
ных оленей. Вогулы варят кровь северного оленя с растертыми его же рогами или с
мукой в печке в течение ночи, и в результате [также] получается очень крепкий
клей, которым можно склеивать луки, а также шкуры в крышах хижин.
Для впрягания в сани северных оленей используют преимущественно самоеды,
остяки и коряки. Тунгусы ездят на северных оленях также и верхом, но [это делают]
одни они, причем ездят они, кладя попону [, на которой сидят,] на лопатки, а не на
середину спины, потому что спинной скелет у северного оленя [для этого слишком]
слаб.
373
Следует заметить, что [из числа оленей! только у северного оленя рога имеются у
обоих полов. Самцы [данного вида] сбрасывают рога сразу по окончании течки, зи-
мой; самки - приблизительно спустя пять дней после родов. Величина рогов и число
ответвлений на них варьируют соответственно возрасту и силе животного. Однако
у самок рога всегда меньше [, чем у самцов].
У северных оленей-сеголеток рога вырастают только с двумя разветвлениями.
Даже у кастрированных особей рога ежегодно отрастают заново, однако с той разни-
цей, что они никогда не сбрасывают поросшего шерстью верхнего слоя шкуры, кото-
рый у других [, не кастрированных] особей сдирается после того, как рога затверде-
ли. А между тем до тех пор [, пока они не затвердели,] они хрящевидны, и кочевники
даже употребляют их в пищу поджаренными на огне, [отламывая] одно ответвление
за другим.
Лишайниками северные олени питаются только зимой, когда те размягчаются от
влаги. А именно [, они поедают] лишайник олений, лишайник пасхальный, лишайник
шиловидный, исландский мох; а в лесах, когда их к тому вынуждает необходимость,
также лишайник складчатый, лишайник волосистый и другие [виды лишайников,
живущие] на деревьях. Летом северные олени преимущественно употребляют в пищу
ветки карликовой ивы и карликовой березы, а также [еще] некоторые арктические
растения, как, например, кипрей, василистник и ежевику. Очень любят они различ-
ные высшие грибы, а если поедят как-нибудь Agaricus muscarius, то временно впадают
в бешенство, а если их забить в этот период неистовства, то, как сообщают, даже и
их мясо действует опьяняюще.
Зимой северные олени вместо питья поедают снег. Жадно вылизывают соль и
мочу, причем мочу в особенности предпочитают человеческую: как только увидят
мочащегося человека, прибегают к нему [,и не по одному, а] во множестве, так что
почти что сбивают его с ног.
Болезней у северных оленей немного. Наиболее им докучают личинки овода Г во-
дящиеся у них] в горле и под кожей спины, и оводов северные олени боятся до такой
степени, что как только заслышат их жужжание, сразу убегают в бешенстве и броса-
ются в разные стороны.
Заводятся у северных оленей также черви в копытах, но по этому поводу мне не
удалось услышать ни о каких точных наблюдениях. Нередко северные олени гибнут
от катарального кашля, вызванного чрезмерным бегом; а также оттого, что во время
путешествий [слишком] долго задерживают мочу. Самки часто выкидывают [плод],
когда их что-нибудь испугает или когда они утомятся от бега. Но и из появившихся
на свет оленят многие, только что рожденные, гибнут от весенних заморозков.
Бегают северные олени не прыжками, как это делают [другие] олени и как это час-
то [неверно] изображают на рисунках, но рысью. При этом они широко расставляют
голени, вытягивают все туловище и делают шаги как можно более крупные и частые,
в результате чего очень быстро оставляют за собой пространство. Однако утомляются
они быстро, и [в упряжи] их надо часто заменять, а потому если выезжают в путь на
северных оленях, то всегда берут с собой по нескольку незагруженных запасных
оленей. На бегу северные олени поднимают хвосты; а когда приподнимают ноги, то
[часто получается так, что не] сильным ударом стукаются копытами о копыта. В
остальном же это животные очень кроткие и робкие. Если изловить олененка даже и
совсем дикого, он легко может быть приручен.
Дикие северные олени всегда пасутся крупными стадами, вытянутыми в длину, а
мигрируют плотным стадом, так что издали может показаться, будто виден движу-
щийся лес. Мигрируют же они летом, перемещаясь из более жарких долин в горные
места, открытые ветрами, или же в леса, где меньше подвержены нападениям оводов.
Зимой же они возвращаются в арктические равнины, где имеется множество ли-
шайников. По большей части [при этом возвращении] они движутся извилистыми
путями, образуя [стадом] при движении круг. Крупные реки они по большей части
374
каждый год переплывают в одном и том же месте; [при переходах] они следуют одним
и тем же привычным дорогам, которые можно распознать по остающимся на них по
причине [этого постоянного передвижения] углублениям от копыт глубиной до
нескольких футов. Таким образом они переходят за Анадырь, Индигирку, Яну,
Колыму, Лену, Оленек, Енисей, Обь, причем охотникам, которые подплывают на лод-
ках к оленям, переплывающим реку и находящимся на ее середине, часто удается
поразить их копьями, если только оленям как-нибудь не повезет, [например,] если на
реке сохранился еще лед, который может послужить им в качестве моста. Сама же
миграция происходит весной; олени передвигаются ясно различимыми стадами, в
каждом из которых сначало идут самки с оленятами, а немного позади них взрослые
самцы. У юкагиров есть еще один способ ловли северных оленей: с помощью больших
кожаных сетей, выкрашенных в белый цвет и устанавливаемых в снегу.
Охотники загоняют северных оленей в эти сети, поднимая громкий крик и выпус-
кая на них собак, которых олени чрезвычайно боятся; или же ловят оленей с по-
мощью петель, развешанных между деревьями, и используя различные другие
хитрые уловки.
[В природе] врагами северных оленей являются преимущественно медведи, росо-
махи (они нападают на них из засады), волки и, как сообщают, также и ласки, кото-
рые им, как и лосям, залезают в уши.
Лапландского северного оленя изучали многие, раньше других и блестяще -
славнейший Линней; но до меня никто подробно не писал о сибирских северных
оленях. А поскольку эти последние своими размерами весьма превосходят лап-
ландских и поскольку в Сибири северный олень, видимо, находится на самой своей
родине как вида, я счел небесполезным приложить здесь описание и данные о раз-
мерах северного оленя, относящегося к обской разновидности; ранее изображение
этого экземпляра я уже предоставил славнейшему Шреберу.
Описание. Общая величина меньше, чем у Elaphus sibiricus, даже чем у особей
третьей величины из этого вида. По форме и посадке головы, по укороченной шее, по
стройному и вместе с тем плотному туловищу, по крепким конечностям, приспособ-
ленным для бега, северный олень близок к лосю, причем даже больше похож на его
детеныша, чем на взрослого лося. Голова довольно крупная, лоб скорее плоский;
морда с толстым притупленным концом.
Нос шириной, как у теленка, весь покрыт волосами, с широко расставленными
продолговатыми ноздрями, оттопыренными, по своим толстым краям, целиком
поросшими волосами.
Губы толстые, отвислые, с голым темноокрашенным волнистым краем; в стороне,
примыкающей к щекам, покрытые коническими сосочками.
Зубы наименьшие в данном роде, редкие, гладкие, у более старых экземпляров
заметно стертые, очень короткие; по мере приближения к наружным концам [челюс-
тей] зубы постепенно мельчают.
Глаза средней величины; веки темноокрашенные, с голым краем; заметных ресниц
нет. Передний угол глаза расширяется в виде треугольника, открывающегося далее в
довольно крупную слезную ямку. [В последней] содержится некоторое количество
жирового вещества. Периофтальмий большой, утолщенный, по краю темноокрашен-
ный или черный; его можно оттянуть до уровня середины зрачка.
Радужные оболочки серые или темноокрашенные, по форме овальные, как и
зрачок. Ось глазной щели между веками почти совпадает [в своем продолжении] с
ноздрями, причем больший диаметр радужной оболочки [, если его продолжить,]
пересекает эту ось под углом почти 45°; направление этого диаметра восходящее кна-
ружи. Поэтому глаза имеют выражение дикости.
Длинных волос, которые образовывали бы брови, нет; на верхней губе имеются
немногочисленные рассеянные [более длинные волосы].
375
Уши средней длины, притупленные, их отверстие снаружи прикрыто волосами. С
внутренней стороны ушной раковины у ее основания в каждом ухе имеется по две
пленки, идущие почти параллельно краю; промежуточное между ними пространство
на внутренней стороне ушной раковины имеет слегка выпуклое очертание.
Рога у взрослых северных оленей очень длинные, чрезвычайно стройные, довольно
упругие, по окраске пепельно-белесые, с ровной, гладкой поверхностью, с боков
сжатые; их концы отдалены друг от друга на значительное расстояние. Расходятся
рога друг от друга постепенно, образуя дугу, направленную к спине, в то же время
отклоняющуюся кнаружи по направлению с плечам и идущую далее книзу уже в виде
разветвлений. У различных особей характер этих разветвлений и число крупных и
мелких отростков варьирует.
Вообще рога северного оленя трехраздельны: первая ветвь тянется от самой
короны рогов кнаружи, в направлении, почти параллельном морде. У правого рога
эта ветвь по большей части сжата в вертикальном направлении, на конце, в свою
очередь, различным образом разветвлена, а на уровне середины морды скошена. У
левого же рога эта ветвь имеет более простые очертания, к концу слегка расщеплена.
От отклоненной назад части рогов тянется вторая главная ветвь. Она начинается с
единого [ствола], идет в направлении кнаружи и на конце многораздельно расщеп-
лена на вполне отчетливые, но неодинаковые друг с другом отростки. Их концы дуго-
образно изогнуты кнаружи; на самых верхушках эти отростки расширены, уплощены
и либо сами ветвятся, либо заканчиваются ветвисто-многозубчатыми навершиями.
Помимо перечисленных, имеется еще много мелких ответвлений, вспомогательных,
различных по числу и месту.
У самок рога ветвятся таким же образом, но все ответвления несколько мельче,
[чем соответствующие у самцов].
У годовалых северных оленей первые появляющиеся рога слегка трехраздельны.
На рогах имеются стертые бороздки, возможно, отражающие ход кровеносных
сосудов, причем все эти бороздки имеют продольное направление и ветвятся соответ-
ственно с разветвлениями рогов.
Шея короткая, сжатая с боков, по направлению к грудной клетке утолщающаяся;
снабженная снизу болтающимся, свисающим подгрудком, продолжающимся далее
между передними ногами. У самцов подгрудок более крупный, часто весьма жирный.
На шее растут длинные волосы смыкающиеся [посередине], слегка гнущиеся, кпе-
реди загнутые и образующие подобие гривы. Женщины кочевых народов из этих
длинных волос вышивают орнаментальные узоры.
Туловище в особенности на уровне грудной клетки, массивное; лопатки и кости
тазовой области слегка выступают, и [в соответствующих местах] очертания тела до
некоторой степени угловатые.
Волосы, образующие шерсть, на голове, шее и спине отогнуты кзади, а на нижней
поверхности туловища волосы отогнуты кпереди по направлению от сосков. На боках
волосы тоже отогнуты кпереди и таким образом смыкаются с упомянутыми выше
[волосами на шее и спине].
На груди шерсть, [растущая в обоих направлениях], смыкается в подмышечных
областях: в области грудины шерсть, сходясь с обеих сторон, образует завиток.
Другой завиток [аналогичным образом] имеется в области под хрящевыми (ложными)
ребрами, перед бедрами.
[Имеются швы:] задний шов идет в продольном направлении через предплечья, в
районе грудной клетки разделяется надвое, причем в одном направлении дальше
идет в виде гребня трансверзально к грудине, вторая, тоже в виде гребня, к бокам.
Еще один шов начинается на внутренней стороне бедер, идет далее по краю задних
конечностей и затем уже в более стертом виде, по краям стоп, к ложным копытам.
Волосы на туловище несколько напоминают зимнюю шерсть дикой козы, однако
376
более мягкие, сильно наэлектризованные, искрящиеся, с подшерстком, лежащим на
самой коже, очень тонким, завитым в виде колец, пепельносерым. По мягкости
шерсть северного оленя может поспорить с бобровой, так что если бы выращивать
прирученных северных оленей в более мягком климате, то можно надеяться, что они
стали бы животными, дающими много шерсти.
Конечности крепкие, почти равные [между собой по длине], устроенные так, что
пригодны они не для прыжков, но для бега. Копыта крупнее стоп, на которые живот-
ное опирается, когда встает, поднимая сначала круп. Первичные копыта на всех
четырех ногах расширенные и слегка овальные, оттопыренные в стороны, по нижней
поверхности вогнутые, на верхушках закругленные. (Обе половинки) передних кон-
цов копыт слегка налегают друг на друга, перекрещиваясь, а потому при беге слы-
шится потрескивание.
Наружный край первичных копыт очень гладкий, внутренний шершаво-волок-
нистый. Что касается ложных копыт они почти овальные, слегка заостренные, сгла-
женно-треугольные, с внутренней стороны вогнутые; более крупные, чем передние
ступни; непосредственно ступающие на землю. Окраска копыт у одомашненных се-
верных оленей либо черная, либо с вертикальными белыми полосами.
Шерсть [на ногах у северного оленя] довольно длинная, около копыт жесткая,
особенно около задних копыт. Связка или уздечка между фалангами передних копыт
доходит только до сустава второго, утолщенного, сравнительно мягкого пальца, в
результате чего между фалангами сзади образуется глубокая впадина.
На передних же ногах над краем уздечки имеется узкая слепая пазуха, ориенти-
рованная вверх и лежащая между фалангами. Она наполнена плотно сбившимися
волосами и содержит жировое вещество.
Хвост у северного оленя короткий, слегка утончающийся к концу, [сам же этот
конец] тупой; весь хвост покрыт шерстью, причем эта шерсть длиннее и делает хвост
более широким у его основания.
Окраска у диких северных оленей всегда одинаковая, темно-серая. У домашних
северных оленей она изменчива, а именно бывает: (1) серовато-черная, (2) темно-
серая, (3) чисто черная (это случается довольно редко), (4) серебристая, (5) серебрис-
то-белая, (6) белая, а на спине тускло-серебристая, (7) чисто белая, (8) снежно-белая с
кирпично-коричневыми пятнами, (9) снежно-белая с частыми мелкими черными
крапинками. Шкуры оленят этой последней категории являются наиболее дорого-
стоящими из всех шкур северного оленя, встречаются же олени такой окраски только
на северо-востоке Сибири. Самая же обычная окраска - белая и серебристо-белая.
Область сосков у самки располагается между бедрами и выглядит обычно [для
рода оленей]. Спереди эта область состоит из двух долей, покрыта морщинами, без-
волосая; в каждой доле по два соска, оба цилиндрические и морщинистые, причем
передние соски отстоят друг от друга на большее расстояние, нежели задние.
Анальное отверстие отдалено от хвоста и окружено вплоть до самого входа воло-
сами. Вульва находится на расстоянии от анального отверстия, половые губы мягкие,
морщинистые; вульва направлена вниз свисающим углом, в котором имеется слепая
пазуха, а внутри [этой последней] - отверстие уретры.
Величина северных оленей около Охотского моря больше, чем у тех, которых
разводят коряки, а у корякских - больше, чем у тех, которых разводят самоеды.
Самки мельче самцов. Дикие же олени все на четверть и даже на треть крупнее
одомашненных.
[Далее следуют данные] измерения самки северного оленя из разводимых само-
едами; ее вес составлял более 200 фунтов.
Длина тела от промежутка между ноздрями до начала хвоста составила 5 футов
7 дюймов 6 линий. Высота животного в лопатках 3 фута 4 дюйма 4 линии. Высота в
крупе [3 фута] 3 дюйма 7 линий. Длина головы до затылка 1 фут 3 дюйма 3 линий.
377
Длина головы, считая от оснований рогов, составила 1 фут 0 дюймов 8 линий. Попе-
речник морды на уровне ноздрей составил 2 дюйма 3 3/2 линии. Расстояние между
передними концами ноздрей 1 дюйм 1 1/3 линии; между задними - 3 дюйма 2 линии.
Окружность рта 9 дюймов 9 линий. Расстояние от переднего конца ноздрей до глаз
9 дюймов 4 1/3 линии; от глаз до пазухи с жироподобным веществом 7 1/2 линии. Длина
самой этой пазухи 11 1/2 линии. Длина глазной щели 1 дюйм 5 линий. Расстояние от
глаз до ушей 3 дюйма 4 линии; от глаз до рогов 2 дюйма 8 линий; длина ушных рако-
вин 5 дюймов 6 линий.
Длина рогов, измеренная по их кривизне, составила 3 фута 1 дюйм 0 линий, про-
межуток между основаниями рогов - 2 дюйма 6 линий. Длина шеи 1 фут 0 дюймов
3 линии. Окружность шеи у ее перехода в голову составила 1 фут 5 дюймов 5 линий, у
плечей - 1 фут 11 дюймов 0 линий. Окружность грудной клетки 3 фута 5 дюймов
6 лини!4. Окружность туловища, измеренная по его середине 3 фута 7 дюймов 0 линий.
Та же окружность, измеренная в подвздошной области, составила 3 фута 2 дюйма
4 линии.
Длина хвоста 4 дюйма 6 линий, не считая волос, [которые дают еще добавочную
длину] 1 дюйм 6 линий. Длина плеча 10 дюймов, длина предплечья 12 дюймов 5 ли-
ний, длина метакарпуса 7 дюймов 0 линий; расстояние от него до основания копыт
3 дюйма 3 линии. Высота копыт 3 дюйма, высота ложных копыт 2 дюйма 7 линий. Дли-
на бедра 11 дюймов 9 линий. Длина большой берцовой кости 11 дюймов 10 линий.
Длина метатарзуса 10 дюймов. Расстояние от него до пяточной кости 1 фут 1 дюйм
1 линия. Расстояние от этой последней до основания копыт 3 дюйма 10 линий. Высота
[задних] копыт 2 дюйма 8 1/2 линии. Высота ложных копыт 2 дюйма 4 линии. Очень
длинные, более 9 дюймов длиной, волосы растут на подгрудке; вокруг них шерсть
длиной приблизительно 2 дюймов длины. В сердце у северного оленя, как у обыч-
ного оленя, имеется кость. Сухожилия северного оленя и лося наилучшие для сшива-
ния кожаных одежд.
120. Благородный олень. Олень с голым носом, с рогами прямостоячими, ветвя-
щимися, имеющими гладкую поверхность, заканчивающимися шиловидными [от-
ростками].
В собственно России олени уже исчезли [и отсутствуют], разве что в отдельных слу-
чаях могут случайно зайти [из соседних территорий]. На реке Тереке в дубравах, а
также по всему Кавказу вплоть до реки Кумы олени встречаются очень часто. Затем
мы снова сталкиваемся с ними, причем в большом числе, в приалтайских лесных
зарослях, а далее и по всей Сибири, в особенности же поблизости от озера Байкал и
вплось до рек Витима и Лены.
Однако оленей нет в наиболее глухих лесах; нет их и в наиболее отдаленной части
Сибири. Время течки у оленей начинается в конце августа. Оленихи производят на
свет детенышей приблизительно в конце мая и после этого уже пасутся, образуя
отдельные стада и пряча от постороннего глаза своих оленят, пока те не достигнут
двух месяцев. До этого же срока оленихи их кормят своим молоком, к осени же часто
снова беременеют, а последующих родов олененок, родившийся в предыдущем году,
продолжает следовать за матерью и сосать ее молоко вместе со своим младшим
братом [или сестрой].
Оленята рождаются с темно-ржавым мехом, на загривке с белыми крапинками, и
такие же крапинки, как правило, разбросаны по спине и бокам, а на хребте имеется
черная полоса. На уже по достижении ими второго месяца жизни крапинки начинают
исчезать. У годовалых оленят в августе уже вырастают первые рога, простые, [так что
к ним подходит латинское название ’’субуло”, означающее] молодого оленя с остро-
конечными рогами. В сентябре они все еще ходят с этими же рогами, мягкими и
покрытымй шкурой. [К этому времени рога становятся] по длине больше половины
локтевой кости,, [а по форме] слегка изогнутыми.
378
Взрослые олени сбрасывают рога ранней весной, приблизительно в марте, а в июне
рога уже вновь отрастают, однако к этому времени рога бывают еще слабые и покры-
тые кожей; ее олени всячески стараются содрать, а когда им удается [сделать это и]
заполучить себе эту кожу, они ее поедают. Рога же, сломанные в битвах во время теч-
ки, не отрастают вновь. Больше того, как утверждают сведущие люди из числа не-
мецких охотников, такие изувеченные олени (охотники их называют ’’кюммерлин-
ге”) даже становятся неспособными к размножению. Установлено также, что в годы,
когда олени страдают от бескормицы, у них рога отрастают с меньшим числом развет-
влений по сравнению с теми [рогами], которые были ими раньше приобретены в соот-
ветствии с их возрастом.
Зимой все олени обрастают более длинным мехом, по большей части темно-серым;
летом их окраска меняется на более желтоватую.
[В качестве мест для своего обитания] олени предпочитают в равной мере степи и
леса в горных долинах. Что касается [вида лося или антилопы, именуемого антич-
ными авторами] ’’конеолень”, то такового у нас, насколько мне известно, не наб-
людается.
Ниже следует данное мною описание взрослой самки оленя, добытой в августе в
предгорьях Алтайских гор.
Описание. По размеру, как представляется, крупнее европейских оленей.
Голова продолговатая, морда вытянутая, в области лба слегка сжатая, к концу
слегка вогнутая, закругленная.
Ноздри полулунные, оттопыренные, с почти параллельными [краями], расположен-
ные по бокам морды. Промежуток между ними или ’’септ” широкий, включающий в
себя большую часть верхнего края ноздрей и середину [верхней] губы. Эта последняя
имеет черную окраску, бугристая, усеяна редкими пучками волос. Эти пучки выра-
жены менее отчетливо в промежутках между местами, в которых пересекаются
бороздки, вообще же эти пучки разбросаны [по септу]. Изнутри ноздри белые.
Вокруг рта и ноздрей растут довольно длинные, рассеянные волосы. Брови из
многочисленных щетинок, расположенных разрозненно, продольными [рядами],
причем кзади щетинки становятся более длинными. Несколько меньше таких щети-
нок растут по нижним векам, а в субмаксиллярной области имеются сдвоенные,
серые [щетинки].
Кайма губ темноокрашенная, бугристая; изнутри губы со стороны щек усеяны
мозолистыми шиловидными сосочками. На нижней губе за резцами с внутренней
стороны выступает зубчатый хрящевидный гребень.
Резцы стертые; наружные из них постепенно становятся более крупными [если
идти от внутренних к наружным]. Сверху над ними с обеих сторон растет по клыку.
Клыки сжатые, притупленные, вогнутые.
Нёбо темноокрашенное; язык белый. Вдоль него с обеих сторон по краям верхней
челюсти идет по ряду шиловидных волос.
Веки по краям почти голые, уплощенные. Верхнее веко, начиная с середины, пок-
рыто черными ресницами, отогнутыми назад. Периофтальмий рыхлый, белый, может
быть натянут до середины глаза и далее, [по консистенции] хрящеватый, темноокра-
шенный. Радужные оболочки желто-серые; зрачок крупный, вытянут в продольном
направлении. Белковая оболочка глаза темноокрашенная. Перед глазами очень
обширная пазуха, [ориентированная] в почти продольном направлении; [она настоль-
ко велика, что] в нее легко можно ввести большой палец руки, а внутри нее можно
поместить крупный орех. В этой пазухе помещается плотное жировое вещество с
неприятным запахом.
Ушные раковины крупные, довольно острые; передние их края более прямые
[, чем задние]. Изнутри со стороны основания [ушные раковины] голые; их отверстия
прикрыты длинными бледноокрашенными волосами. В верхней части ушной полости
379
растут редкие вьющиеся волосы. Снаружи уши бледноокрашенные, но с черным пят-
ном и черным задним краем.
Голова темноокрашенная, с желтоватой примесью; от носа к затылку идет почти
черная полоса, покрытая волосами, растущими в восходящем направлении. С боков
голова имеет более желтоватую окраску, снизу - пепельно-серую. Подбородок почти
двураздельный, желто-серый. На нем с обеих сторон около углов рта имеется по чер-
ному пятну; со стороны углубления в нижней челюсти имеется еще черное [пятно].
Верхняя губа под носом бледноокрашенная.
Шея той же окраски, что и голова. На загривке имеется идущая в продольном
направлении темноокрашенная полоса, спускающаяся далее между лопаток и пок-
рытая как бы гривой из более длинных волос.
Туловище со спины ржавоокрашенное, с боков скорее желтоватое, снизу грязного
желто-серого цвета. Конечности в своей нижней части темноокрашенные или черно-
ватые. На бедрах, вокруг хвоста желтоватое бледное пятно, поросшее довольно длин-
ными волосами.
Хвост имеет окраску скорее ржавую, тоже покрыт длинными волосами; с нижней
поверхности хвост безволосый; хвост очень короткий, конический, притупленный.
Копыта черные, причем передние копыта более крепкие, чем задние; задние более
выступающие. Ложные копыта длиннее на передних ногах.
Сосков молочных желез по два с каждой стороны. Расположены они на продолго-
ватой выступающей области, почти лишенной волос, по соседству с пахом.
На шкуре с обеих сторон имеется по пять швов: (1) швы по бокам морды, дивер-
гирующие в направлении к глазам; (2) от грудины к плечам; (3) продольные швы [на
туловище] за плечами; (4) дивергирующий шов в паховой области; (5) продольные
швы [на крупе изнутри,] за бедрами.
Длина животного от конца морды до анального отверстия составляет 7 футов
8 дюймов 0 линий; высота в лопатках - 4 фута 5 дюймов 0 линий; высота в крупе -
4 фута 6 дюймов 0 линий.
Длина головы - 1 фут 6 дюймов 0 линий. Длина хвоста - 4 дюйма 2 линии. Длина
ушей - 8 дюймов 4 линии. Рога самца (взвешенные с [прилегающим] участком чере-
па) весили 25 фунтов.
У одногодовалых оленей первые рога появляются в августе; они неразветвлен-
ные; притом в это время они еще мягкие. В сентябре они достигают длины в пол-
локтя, [но еще остаются] гибкими.
121. Косуля. Олень с голым носом, с прямостоячими трехраздельными рогами,
слегка закрученными, и с очень коротким хвостом1.
Часто встречается в Польше, на Украине, Крымском полуострове, Кавказе, на
горах Уральских, Алтайских, Саянских (и вообще на горах всей Даурии и Восточной
Сибири вплоть до реки Лены), в лесных и дубравных местах, в особенности в горных
[лесах и дубравах], до 58° северной широты. Попадается также за Кавказским хреб-
том (в Персии и Армении) и во всей Великой Татарии, где только есть леса и заросли;
а в голых степях почти отсутствует, равно как и в наиболее труднодоступных лесах.
Пасутся дикие козы небольшими стадами, возглавляемыми как вожаками стар-
шими по возрасту самцами, и при этом не проявляют особенной робости; но если пус-
каются в бегство, то выделывают удивительные скачки даже через ухабы и бурелом
наподобие того, как это делают антилопы. Такие скачки великолепно изображены на
некоторых рисунках Ридингера. Течка у них бывает в начале зимы, то есть позднее,
чем у [ряда других животных из рода] оленей и у лосей. В мае самки рождают одного
или двух оленят, которые первые дни лежат, так что их тогда часто ловят просто
руками. После этого они очень быстро привыкают к человеку до такой степени, что
следуют за ним (который кормит их хлебом и молоком) повсюду, как за матерью, и
зовут его жалобным писком, очень напоминающим скрип двери.
380
Рождаются оленята рыжеватыми, с белыми пятнами на спине и боках. Пятна эти
расположены в виде раздельных друг от друга рядов.
Осенью же обрастают зимним мехом и становятся в отношении волосяного пок-
рова похожи на взрослых. Уже на второй год жизни у оленя-самца появляются нераз-
ветвленные рога; далее они отрастают в виде двуветвистых, наконец, на третий год -
в виде трехветвистых, уже окончательных [для данного вида]. Эти трехраздельные
рога они носят уже всю остальную жизнь, если только в более взрослом возрасте их
каким-нибудь образом сильно не повредят.
Наблюдались также случаи, когда прирученные самки в период течки убегали в
леса и потом сами возвращались к своему хозяину уже беременными. После течки
дикие козы сбрарывают рога. Зимой [у самцов дикой козы рога] выступают наподо-
бие двух почек, сверху прикрытых как колпачком длинными волосами. Это изобра-
жено на рисунке Шребера. В качестве корма дикие козы предпочитают ветки кустар-
ников и листву деревьев, особенно плодовых. Эта пища для них лучше, чем трава.
Особенно любят они омелу.
Охотиться на диких коз лучше всего весной, когда бежать им трудно из-за глубо-
ких и в то же время покрытых корочкой снегов, охотники же, став на лыжи, легко за
ними поспевают. Хорошо также охотиться за ними в местах, где их бывает помногу:
на засоленных местах или у рек. Реки дикие козы переплывают стадами, причем из
года в год на одном и том же месте.
Мех дикой козы очень плох, но все же зимние одежды из него шьют. При этом мех
выворачивают внутрь, так как в этом виде шкуры становятся непроницаемыми для
влаги и снега. Для самок дикой козы характерно некое короткое блеяние, с помощью
которого они подзывают самцов. Дикие козы легко заражаются ангинозной болезнью
крупного рогатого скота и часто гибнут от нее, в то время как [домашним] козам и
овцам эта болезнь не опасна.
Страдают дикие козы также от проникновения под кожу личинок овода; немало
диких коз от этих личинок погибает. Когда дикие козы бегут, копыта их, ударяясь
друг о друга, издают треск.
Крымские дикие козы чрезвычайно похожи на европейских. У остальных [оби-
тающих в Российской империи представителей данного вида] также едва ли можно
найти какие-нибудь отличия от европейских, за исключением того, что уральские и
сибирские дикие козы несколько крупнее [западноевропейских]. Поэтому я считаю
ошибочным возводить, как это делают некоторые зоологи, нижеописываемую разно-
видность р в ранг вида.
Описание. Разновидность р. Размером почти такая же, как европейская лань.
Вес приблизительно семьдесят фунтов. Нос выпуклый, [сросшийся] с частью верхней
губы, безволосый. Ноздри растопыренные, почти полулунные, довольно широкие, с
волосистым наружным краем. Кайма верхней губы голая; нижняя губа у резцов
бугристая, далее книзу зубчатая, причем зубцы попеременно теноокрашенные и
белые. Верхняя губа спереди бородавчатая; обе губы со стороны щек покрыты шило-
видными мозолистыми сосочками.
Средние резцы широкие, с наружной стороны скошенные; наружные чуть уже, пря-
мые. Клыков нет.
Веки с голой черной каймой, верхнее веко от середины кзади с ресницами; перед-
ний угол глаза расширяется в продолговатую косую пазуху, вместимость которой
приблизительно равна чечевичному зерну. Пазуха является смыкающейся; вокруг
нее направленные в разные стороны волосы образуют косой шов. Радужные оболочки
темные. Периофтальмий может быть оттянут почти до середины зрачка, имеет черный
край. Над самой серединой глаза растет длинный волос; еще двенадцать более ко-
ротких растут на переднем, белесом участке верхнего века каждого глаза. [Тоже на
каждом из глаз] на передней части нижнего века растут радиально расходящиеся
волосы, числом несколько меньше [, чем на верхнем веке].
381
Кроме того, редкие волосы растут еще по бокам носа, более густые - на подбород-
ке. В начале горла растет один, чрезвычайно длинный волос. Ушные раковины круп-
ные, с мягкими задними краями. Снаружи они покрыты волосами, изнутри - тоже
покрыты волосами, но [более] мягкими, по краям белыми и разделенными тремя
[продольными] полосками. Уши смыкающиеся; верхушки ушных раковин имеют
темноокрашенные внутренние края.
У самок рогов нет. У взрослых самцов рога разделяются на три ветви, причем от
основания до первой ветви рога густо усеяны сильно выступающими бородавками, а
далее до места разветвления голые.
У сеголеток [упомянутые выше] почки рогов цилиндрические, толщиной с указа-
тельный палец, полускрытые примыкающими к ним со всех сторон волосами. Верхуш-
ка [этих почек] тупая, зимой обрастающая шерстью. Для туловища [характерны сле-
дующие особенности:] живот подтянутый, конечности стройные, общий облик напо-
минает оленя. На ногах копыта расходятся без какой-либо вставленной [между
обеими половинами] уздечки. Первичные копыта более короткие, ложные - снаружи
выпуклые, изнутри косо усеченные. Первичные копыта отличаются [от ложных] тем,
что опираются на ясно различимый палец с двумя сустарами.
Передние колени очень густо покрыты волосами, образующими довольно хорошо
различимый пучок. На задних ногах под тарзиальной связкой снаружи имеется ок-
ругленный, густо покрытый волосами бугорок, волосы на котором как бы укорочен-
ные. На стопах со стороны копыт волосы более длинные, в особенности на задних
конечностях, и жесткие.
Хвоста почти совсем нет. Над самым анальным отверстием в том месте, где под
шкурой скрывается верхушка копчиковой кости, выступает кожистый нарост,
спрятанный в шерсти. Размер этого нароста - с последний сустав мизинца; на ощупь
он мягкий и тоже густо покрыт волосами.
Летний мех, которым дикая коза обрастает в апреле, имеет ржавую окраску, ко-
роткий, торчащий и довольно жесткий. Зимний мех длинный, состоит из волнистых
волос, разделяющихся на сегменты и ломких.
Подшерстка под этими волосами нет; они [часто выглядят] свалявшимися. На
нижней поверхности туловища зимние волосы особенно длинные, достигая почти
трех дюймов. На стопах они жесткие и торчащие.
Окраска: верхушка морды черная, конец максиллярного выступа белый. Осталь-
ная голова окрашена в серебристо-белый цвет с примесью темно-серого. Однако с
боков голова желтоватая, и таково же пятно над глазами. Загривок и спина серебрис-
то-серые, но с темноокрашенными кончиками волос. Бока туловища и конечности
преимущественно серо-желтоватые, конечности в самом низу ржаво-желтоватые.
Г<ивот белый, как и большое пятно на крупе, захватывающее и верх хвоста, где во-
лосы являются торчащими. Помимо упомянутых, нет ни мутовок [свалявшихся во-
лос], ни еще каких-либо швов. Анальное отверстие закрыто шерстью. Перед мошон-
кой безволосая область, на которой располагаются сосцы молочных желез, с обеих
сторон по два.
Препуций покрыт белыми мягкими волосами, свисающий, длиной почти в четыре
дюйма. Половой орган самца по толщине едва достигает поперечника лебединого
пера, на конце шиловидный. Препуций по краю несет железы, [выделяющие вещест-
во] с запахом почти мускусным. При этом не имеется ни одного фолликула.
Длина животного в возрасте двух лет: 3 фута 11 дюймов 6 линий. Высота на уровне
[передних] конечностей - 2 фута 4 дюйма 0 линий, на уровне задних конечностей -
2 фута 8 дюймов 6 линий. Длина головы - 9 дюймов 1 линия, расстояние от глаз до
носа - 5 дюймов 0 линий, от рогов до носа - 6 дюймов 6 линий, от рогов до глаз -
1 дюйм 5 линий, от рогов до ушей - 2 дюйма 0 линий.
Длина ушей - 5 дюймов 7 линий. Окружность морды - 6 дюймов 6 линий, на уров-
382
не глаз - 11 дюймов 0 линий, перед рогами - 1 фут 1 дюйм 3 линии. Окружность
шеи - 10 дюймов 6 линий. Окружность грудной клетки - 2 фута 1 дюйм 0 линий.
Окружность туловища на уровне живота - 1 фут 8 дюймов 9 линий.
От плечевого сустава до сочленения передних стоп - 9 дюймов 4 линии. От этого
сочленения до верхушек копыт - 1 фут 0 дюймов 0 линий. Длина копыт - 1 дюйм
3 1/2 линии.
Расстояние от колен задних конечностей до пяточного сочленения составляет
10 дюймов 0 линий; от пяточной кости до верхушки копыт - 1 фут 3 дюйма 6 линий.
Высота копыт - 1 дюйм 6 линий.
Длина хвоста-обрубка, считая без растущих на нем волос, составляет 9 линий.
Число шейных позвонков - 7, спинных - 13. Столько же и пар ребер. Поясничных
позвонков 6, крестцовых 4, копчиковых 6.
Сообщают, что косули легко подвержены гибели от личинок овода, которые во
множестве проникают им в глотку и в очень большом числе размножаются под ко-
жей, а иногда зарождаются и в углублениях копыт. Большинство внутренностей,
гортань с легкими и сердцем, печень с желчным пузырем, поджелудочная железа,
селезенка и желудок, все эти органы почти такие же, как у кабарги. Кишечник окру-
жен брюшиной; слепая кишка почти как у кабарги, но гораздо более вместительна.
Почки и другие внутренние органы в высшей степени похожи на таковые у кабарги.
Примечание. В 1770 г. около Красноярска на реке Енисее была поймана дикая
коза, у которой передняя половина туловища была окрашена в чистейший белый
цвет, другая же [половина туловища] была обычного цвета. Шкуру этой козы мне
принесли, когда я был в экспедиции в тех местах. А чтобы у нас где-либо видели
полностью белую дикую козу, об этом ко мне никогда не поступало сведений.
[Род] XXVI. Aegocerotes
Между родами ’’овца” и ’’коза” в понимании Линнея невозможно найти точной
границы, в особенности если привлекать для сравнения диких родственников этих
животных. Сам же славнейший Линней, отделяя второй из этих родов от первого,
объединял этот второй род с антилопами. Относительно этих последних я, однако,
в другом месте, а именно в ’’Зоологическом спицилегиуме” (вып. 1., с. 2), показал,
что они определенными и очевидными особенностями, в первую очередь габитуаль-
ными, отличаются от коз. Под наименованием же ’’козерогов” я здесь собираю всех
млекопитающих с отогнутыми назад и угловатыми рогами, покрытыми бороздами; с
маленькими ложными копытами; со слабо выраженными метелками [волос] на коле-
нях и слезными пазухами. У различных авторов эти млекопитающие, к числу кото-
рых антилопы не относятся, включаются в роды овец и коз. В этом разделе тоже я,
как это сделал и с собаками, отдельно изложил [материал, относящийся к] одомаш-
ненным породам, появившимся, очевидно, в результате их культивирования челове-
ком; а также к породам, возникшим в результате промискуального скрещивания
нескольких одомашненных видов и после этого закрепленных или варьируемых
путем селективных спариваний. Я поступаю так потому, что происхождение таких
пород не является простым, часто даже не является и однозначным, а потому их
нельзя с абсолютной точностью отнести ни к одному из естественных видов.
129. Бык домашний. Бык с ровными, прямостоячими, отогнутыми назад, расходя-
щимися рогами; с хвостом, расщепляющимся на волокна.
Крупный рогатый скот у большинства народов, подчиненных российскому скипет-
ру. Не разводят этого вида народы охотничьи (тунгусы, юкагиры, вогулы), питающи-
еся рыбой (остяки, камчадалы, курильцы), в особенности же северные народы, у
которых в качестве крупного рогатого скота служат северные олени (самоеды, коря-
ки, чукчи). Наиболее хорошо себя чувствует крупный рогатый скот в луговых мест-
ностях, богатых травами; таковы прежде всего поля и степи причерноморской и
383
Малой России, Калмыкии и Великой Татарии. На севере [лучше всего себя чувствует]
архангелогородская порода, выведенная из бельгийской породы.
Замечу также, что недавно мелкая якутская порода (мелки вообще все сибирские
породы) была перенесена на Камчатку и, пасясь на тучных пастбищах этого полуост-
рова, произвела там потомство, почти вдвое большее исходной породы. До меньшего
роста обычно вырастают [особи данного вида] в более холодных регионах Европей-
ской России, в поросших лесом местностях, а равно и по всей Сибири, где по большей
части у этого крупного скота нет и рогов.
Выведенные же в горах Крыма, Кавказа и более умеренных [в климатическом от-
ношении] частей Сибири породы быков, хотя и мелки, но очень крепки. Они очень
подвижны, и способны бегать рысью, и в этих отношениях сильно превосходят круп-
ные луговые породы.
Эти последние, хотя и обладают значительной физической силой, тем не менее
передвигаются медленно и не столь выносливы.
(В указанных регионах и по всей Южной России быков в особенности часто исполь-
зуют для того, чтобы впрягать в плуг и чтобы таскать повозки, груженные тяжес-
тями.)
Окраска различная: на юге Европейской России, как и в Венгрии, быки и коровы
по большей части серебристо-белые, либо же пепельно-серые, серые или белесые,
иногда же полосатые, причем окраска передней части тела у них по большей части
более темная.
В Европейской России и в Сибири общая окраска коров и быков чаще всего ры-
жая, черная или пятнистая, иногда же белесая; у калмыков и на Камчатке - чаще
всего белая с пятнами, однако здесь бока в своей средней части чисто белые, и это
наблюдается также и у крымских особей. Начиная с Верхотурского хребта и далее к
востоку, в холодных регионах, коровы по большей части бывают безрогими. Повсе-
местно коровы и быки без большой помощи со стороны человека способны перено-
сить почти любую суровую зиму, часто и голод; на арктических территориях, покры-
тых мхами, бык домашний отсутствует только по причине недостатка корма. Впро-
чем, если заранее подготовиться к зиме, нарезав веток березы кустарниковой, вяза
карликового и других кустарников и деревьев, содрав предварительно с этих веток
кору, то коровы и быки могут хорошо перенести зиму даже на Камчатке; а на остро-
вах, [прилегающих к Камчатке,] голодные коровы и быки поедают даже и рыбу.
В Европейской России крупный рогатый скот часто бывает поражаем эпидемичес-
кими болезнями и гибнет из-за них; среди этих болезней особенно [обычна] воспали-
тельная ангина. Это гораздо реже встречается у кочевых народов, а также на терри-
тории Сибири.
Зато в Сибири летом коровы и быки часто в большом числе гибнут от болезни, на-
поминающей бешенство, или от гангренозных фурункулов. Это особенно характерно
для заболоченных луговых пространств Исети и Барабы. В тобольской губернии за
один лишь 1769 г. от этих фурункулов погибло до 160 тысяч голов скота. Впрочем,
такой мор свирепствует не каждый год.
Кроме того, крупный рогатый скот часто страдает от эгагропилов, образующихся
[в желудке] из смятой шерсти, и от зарождающегося в воде лентеца, равно как от
личинок слепней. У телят, кроме того, встречается вертячка, происходящая от во-
дянки мозга.
Почти повсюду коровы, если только их не воспитывают в домашних условиях
тщательно и специально после первых родов, позволяют себя доить только в присут-
ствии теленка. Впрочем, в большинстве случаев их удается обмануть с помощью
хитрости или известного так называемого готтентотского приема, а именно [ставят
рядом с ними] набитую чем-либо шкуру теленка, смазанную слизью, взятой из вла-
галища матери этого теленка; или, как делают якуты, обходятся одной только голо-
384
вой теленка с подвешенным к ней сзади хвостом; или, наконец, как это нередко
встречается у тех же якутов, равно как у монголов и калмыков, дуют ртом в аналь-
ное отверстие коровы или вставляют ей во влагалище кулак, после чего коровы по
большей части начинают давать молоко.
У сибирских идолопоклонников существует такое суеверие, связанное с цветом
коровьей шкуры: они верят, что черные коровы предназначены демонам как предмет
жертвоприношения, и шкуры принесенных в жертву черных коров они подвешивают
головой вниз. Напротив, добрым гениям они приносят в жертву белых коров, или
же рыжих с белой мордой, причем их шкуры подвешивают головой вверх.
Используют от коровы чаще всего молоко, причем разнообразными способами;
впрочем, свеженадоенное и необработанное молоко никакие кочевые народы не
употребляют для питья, относясь к нему [в этом отношении] так же, как к сырой
крови.
Кислое же молоко все они в больших количествах употребляют как пищу и как
питье; даже употребляют кислое молоко, в том числе и коровье как опьяняющее
средство, [для чего его надо бывает] выпить очень много. Впрочем, опьяняющая
сила у кислого коровьего молока меньше, чем у лошадиного; но спирт в нем содер-
жится тот же, и кочевники извлекают его из коровьего молока путем возгонки, хотя
и в меньших количествах, чем из конского.
Из молока готовят много блюд: варенец из свежевскипяченного молока, сыр,
масло (путем взбалтывания или кипячения), похлебки с добавлением различных
кореньев (луковиц лилий и эритрониума, клубней чины и дымянки, съедобных кор-
ней ленского копеечника).
[Делают также похлебку] из сосновой коры, сваренной в молоке6. Для многих на-
родов молоко является предпочтительной пищей наряду с мясом.
Из народов, населяющих Российскую империю, употребляют быков как тягловую
скотину и при пахоте малороссы, крымские татары и черкесы. Для перевозки грузов
и (самок) для запрягания в телеги крупный рогатый скот используют калмыки, ка-
захи, монголы и якуты.
(Разновидность |3): тур. Несомненно, что тур был диким родоначальником нашего
крупного рогатого скота. Однако за исключением лесов Литвы и Молдавии, а также
дубрав Кавказа, у нас нигде тур неизвестен даже по имени, несмотря на то что все
пространство северной части империи, от Балтийского моря до самого крайнего вос-
тока покрыто почти непрерывными лесами.
В наши дни это животное также и в Литве, а особенно на Кавказе является ред-
чайшим. Во внутренних же районах Азии оно и вовсе не известно. Учитывая эти
обстоятельства, а также и тот факт, что и в древности подозревали, что тур - [не
аборигенное животное, а] какой-то пришелец, и еще тот факт, что в Северной Амери-
ке чрезвычайно многочисленны бизоны, почти без всякого сомнения принадлежащие
к тому же виду, что и наш тур, - [учитывая все это, надо предположить,] что вероят-
ным является происхождение (первичное) как нашего тура, так и крупного рогатого
скота из Нового Света. [Этих животных] следует выводить оттуда, сколь бы пробле-
матичным ни оставался способ, [посредством которого они могли попасть в Старый
Свет].
[В самом деле, непонятно,] каким образом в Европу когда-то смогло перейти через
гакие обширные водные пространства животное такого крупного размера; разве что
мы, быть может, захотим привлечь на помощь древние предания, рассказывающие
6В Сибири за Леной произрастает в болотистых местах какой-то вид клейтонии с клубеньками
яа корне. Эти последние, будучи сварены в небольшом количестве молока, загустевают в исклю-
чительно крепкий клей. Этот клей сам по себе имеет кислую реакцию, а если его достаточно долго
лродержать в [бычьем] пузыре, его можно использовать в качестве фермента окисления.
!5. В.Е. Соколов, Я.А. Парнес
385
об Атлантиде, или предположим, что волны потопа похитили тура в Америке и с ог-
ромной быстротой принесли его в Европу. Не менее удивительно, каким образом
дикий вид столь свирепого и мощного зверя оказался почти всецело укрощенным
людьми и поставленным ими под ярмо, как это обстоит теперь, и каким же образом
это животное в столь огромном числе пасется в качестве домашнего вплоть до отда-
ленного угла Азии, на пространствах, где в ненаселенных человеком местах не ос-
талось ни одного дикого представителя этого вида.
Князем Кантемиром распространены известия о туре, обитающем в Молдавии: его
голова была причислена к княжеским регалиям некоим князем Драгошем. Зульцер
в своей ’’Иллюстрированной Дакии” свидетельствует, что и поныне в Молдавии со-
храняется тур7.
Относительно кавказского тура оставили заметки в своих рукописях мои знаме-
нитейшие, ныне почившие коллеги Ловиц и Гильденштедт.
Первый из них утверждал, что около выступа Кавказского хребта, состоящего из
пяти гор (’’Бештау”), приблизительно перед 70-м годом минувшего столетия абазин-
ский князь Ислам убил тура, у которого промежуток между рогами составлял 17
дюймов, а когда из его крупа вырезали полосы на ремни, то в общей сложности длина
ремней составила 29 английских футов.
Что же касается славнейшего Гильденштедта, то он на Северном Кавказе, на реке
Урухе, в некоей служившей святилищем [для местных племен] пещере в Дигории
среди бесчисленного множества черепов принесенных в жертву животных - баранов,
серн, оленей, а равно и овец, коз, быков [домашних] - обнаружил также четырнад-
цать черепов, по размерам соответствующих туру, к которому, как Гильденштедту
показалось, и надлежит отнести эти черепа.
Однако сообщенные Гильденштедтом измерения этого животного гораздо меньше
не только тех, о которых было сказано выше, но даже и размеров экземпляров тура
из Литвы (об этих размерах я непосредственно сейчас буду говорить). Длина черепа,
измеренного Гильденштедтом, считая от затылочного отверстия до верхушки верх-
ней челюсти, составляла 16 дюймов, расстояние между глазницами - 8 дюймов. Дли-
на рогов 8 дюймов. Рога у всех [измеренных Гильденштедтом экземпляров] идут
сразу от основания почти под прямым углом и затем горизонтально вытянуто вбок
на 8 дюймов длины. После этого они большой дугой загибаются кверху, поднимаясь
на высоту 5 дюймов; верхушка их притупленная, слегка загнутая кнутри.
Примечание [П.С. Палласа]. В целом можно считать, что имя тура ”урус”, встре-
чающееся у Цезаря, как правильно замечает славнейший Бекманн8, происходит от
немецкого ”ур” или ’’Ауэр”, подобно тому как происхождение наименования ’’Би-
зон” следует выводить скорее всего от немецкого ’’Бизен” или ’’Бизам”, потому что
в некоторых случаях, возможно, во время течки, туры издавали мускусный запах.
По-видимому, услышав о двух этих обозначениях, Цезарь [в своих ’’Записках о
Галльской войне”] превратил их в два различных вида животных, подобно тому
как в своем описании лося [в тех же ’’Записках”] он смешал лань с лосем, [сделав,
таким образом, из двух животных одно].
Это явно так. Что же до басни относительно того способа, каким германцы ловят
лося (путем подпиливания ствола дерева, на которое животное опирается, когда от-
дыхает стоя; так что [если дерево подпилено и животное упало], оно падает и не
умеет затем подняться,) что касается этой басни, которую рассказывают несведущие
в [тонкостях] языков, то она, скорее всего, ведет свое происхождение от своеобраз-
ного способа ловли лосей.
7См.: История транспальпийской Дакии, т. 1. С. 71.
8В своей "Диссертации о животных древней Германии”, опубликованной в "Ученых известиях
и сообщениях из России и по поводу России, издаваемых А.Ф. Бюшингом”, 1756 год, с. 51.
386
А именно их ловят в ямы, прикрытые снаружи хворостом, к которым ведут изго-
роди, идущие прямо через лес и сделанные из спиленных деревьев. Нечто аналогич-
ное остается в обычае и у современных вогулов, по поводу чего я уже писал во вто-
ром томе моего ’’Путешествия по Сибири”.
130. Буйвол. Бык с рогами сжато-килеватыми, отогнутыми кзади и изогнутыми,
полулунными; с волосами, [рассеянными по всему телу] в виде полосок.
Используется как домашний скот в Грузии, у армян, в Астрахани, в лесистых
горах Крымского полуострова и в Молдавии.
Крымские и молдавские буйволы гораздо мельче персидских и в гораздо большей
мере, чем они, покрыты шерстью; однако летом [эти крымские и молдавские буйво-
лы] становятся почти голыми, если не считать отдельных разбросанных щетинкопо-
добных волос.
Если они зимой остаются на открытом воздухе, то не очень хорошо себя чувствуют;
но в отношении перевозки грузов они гораздо мощнее, нежели бык домашний; мо-
лока буйволы дают больше, чем коровы, и молоко это более густое по сравнению с
коровьим; но масло, получаемое из буйволового молока, на вкус отдает салом.
Буйвол весь издает мускусный запах (так пахнут даже его экскременты).
Летом буйвол, плохо перенося жару, прячется в воду или ложится посреди болота.
В более глубокие воды животное не заплывает, но может переходить реки под
водой по дну, высовывая наружу одни только ноздри.
При всех обстоятельствах животное очень медлительное, за исключением тех
случаев, когда на что-нибудь рассердится.
Ходит, вытягивая голову вперед. Беременность у самки буйвола продолжается
12 месяцев. Телята рождаются, покрытые довольно густой шерстью. Круп очень
толстый, и кожа с этого места наилучшая для изготовления подошв. Продаются буй-
волы по цене обычно вдвое более высокой по сравнению с домашними быками.
Примечание. Цвет кожи у всех буйволов темно-серый или черный тусклого
оттенка. Щетинковидные волосы очень черные, разбросанные пучками, на нижней
поверхности туловища более длинные.
Рога отклонены в обе стороны, серповидно изогнуты, достигают наибольшей вели-
чины у самых старых экземпляров. Копыта шире, чем у домашнего быка, да и все
животное в целом более ширококостное и более крепкое [по сравнению с домашним
быком].
131. Як. Бык с наклонно поднимающимися рогами; с хвостом, с обеих сторон по-
крытым чрезвычайно длинными шелковистыми волосами.
У монгол разводится повсеместно как домашнее животное; размножается и в
Московском зоопарке, но здесь як чрезвычайно уменьшился по сравнению с величи-
ной, какую он, как сообщают, имеет в своих диких местообитаниях от Тибета до
Индии. Я видел только безрогий экземпляр, с сильно выступающими на темени ко-
стяным бугром, как это заметно на рисунке. Не буду повторять здесь своего описания
яка, которое дано в цитированном выше месте [в Трудах Петербургской Академии,
ч. 2, с. 332]. По походке, образу жизни, тяготению к воде як столь сходен с буйволом,
что очевидно, они оба происходят от одного и того же корня, от породы, именуемой
монголами ’’хайнук”; как рассказывают, эта порода крупнее [обоих этих животных].
Основными отличиями яка служат длинная густая шерсть, снизу более обильная
(как и у буйвола) и хвост наподобие лошадиного, очень длинный, густо покрытый
с обеих сторон шелковистыми волосами, часто белоснежный по окраске (такой же
бывает иногда и окраска всего животного).
Телята яка рождаются с курчавой шерстью. О яках с очень длинными хвостами,
чучела которых хранятся в Британском музее, упоминает Пеннант в своей ’’Истории
четвероногих” (т. 1, с. 22).
387
[Род] XXVIII. Антилопы
Род антилоп вряд ли может сравниться по своему изяществу с родом оленей. Я
когда-то уже показал это и иллюстрировал в выпусках первом и двенадцатом моего
’’Спицилегиума” с убедительностью достаточной для того, чтобы сейчас ничего не
находить необходимого для добавления к сказанному там или же для изменения.
Там я признал существующими на пространстве, покрываемом ’’Россо-Азиатской
фауной”, лишь четыре вида антилоп. Происхождение названия ’’антилопа” неясно:
возможно, от коптского ’’пантолопс”, означающего единорога9.
132. Серна. Антилопа с шиловидными прямостоячими рогами, верхушка которых
отогнута назад. [В целом рога имеют из-за этого] крючковатый вид; поверхность их
ровная.
[Далее пропущены наименования серны у различных авторов и в разных языках].
Нередко встречается в обрывистых местах Кавказский гор, а равно и в Керавний-
ском хребте и, по-видимому, в других горах Южной Азии.
Однако в Сибири и примыкающих к ней горах это животное совсем не известно.
Описание. У кавказской серны [, к которой относится все данное описание,]
радужные оболочки тускло-желтые. Голова желтовато-рыжая, с тусклым оттенком, с
широкими темноокрашенными полосами по обеим сторонам, тянущимся до ушей.
Глаза заключены внутри этих полос. На лбу, у основания рогов имеется продолго-
ватое темноокрашенное пятно. Рога параллельны друг другу, совершенно отвесно
направлены вверх.
Сзади рогов имеются своеобразные кожистые пазухи, назначение которых неиз-
вестно. Туловище сверху окрашено в тускло-рыжий цвет, от затылка до хвоста тянет-
ся темноокрашенная полоса.
Грудь, бока и конечности (по внутренней стороне) темноокрашенные. Живот и
круп тускло-желтые, но области сосков и анального отверстия белесые. Хвост чер-
ный. Волосы на туловище длиной в 2 дюйма, но жесткие, близко напоминающие
волосы дикой козы. Подшерсток серебристо-белый.
Копыта длинные, снизу полые, с острым краем. Ложные копыта со слегка намечен-
ным делением на две доли. Молочных желез четыре, они расположены в паху, обра-
зуя квадрат.
Зимняя шерсть по всему туловищу и на конечностях имеет длину приблизительно
четыре дюйма, довольно косматая, темноокрашенно-каштановая, со слабозаметной
дорзальной полосой.
Эпигастральная область желтовато-рыжая; живот пепельно-темно-серый, со сторо-
ны паха более белесый. Круп желтовато-рыжий, в середине более тусклого оттенка.
Стопы над копытами сбоку темноокрашенно-рыжие, покрыты рыхлой шерстью.
Длина животного от носа до анального отверстия составляет 3 дюйма 6 линий.
Длина головы до рогов 6 дюймов 4 линии.
Длина хвоста составляет 3 дюйма 9 линий. Высота в лопатках 2 фута 6 дюймов, в
крупе 2 фута 8 дюймов.
Правое легкое состоит из пяти долей, из которых четвертая самая крупная, а
пятая, заключенная между ней и сердцем, наименьшая.
Левое легкое двудольно.
Ширина печени составляет 10 дюймов. Желчный пузырь узкий, удлиненный.
Селезенка почти квадратная, очень тонкая, длиной 6 дюймов, толщиной 4 линии,
плотно прилегающая к рубцу. В рубце животного, убитого летом, были найдены
почти целые листья деревьев.
9См.: "Животные Священного писания” Бохарта, кн. III, гл. 22.
388
133. Дзерен. Антилопа с лировидными рогами, без пучков волос на коленях, с ок-
раской туловища желтоватой, почти однородной [по всему телу].
Животное, как и большинство видов из того же рода, стадное.
Очень часто встречается в открытых солнцу пустынных долинах между горами к
востоку и югу от огромных Алтайских гор. Эти долины открываются в сторону Китая
и Тибета: в более же западных регионах дзерен не замечен, возможно, по причине
[ограничивающих его ареал с запада] больших рек, которые он боится переплывать.
Примечание. Выступы гортани у дзерена сходны с таковыми у лани, у взрос-
лых особей которой таким же образом выступает щитовидный хрящ.
Своеобразный фолликул у отверстия препуция сближает дзерена с кабаргой.
134. Джейран. Антилопа с лировидными рогами, с белой окраской нижней поверх-
ности туловища, с желтоватыми полосами по бокам.
Стада этих животных встречаются на открытых солнцу долинах Персии, за преде-
лами Кавказа, в особенности же в Моганской пустыне, а возможно, и по всей Азии за
Киликийским Тавром.
Как сообщает достопочтенный Лерхе в своих путевых записях, эта антилопа в
большом числе встречается по всем ровным долинам у Каспийского моря, если
только эти прибрежные долины достаточно ровные, каменистые и богаты выходами
нефти. [Это касается побережья Каспийского моря] от Кавказских гор до Апшерон-
ского полуострова, [т. е. долин,] продолжающих собой Моганскую пустыню.
В пищу джейрану идут преимущественно растения соленые и горькие.
Один самоличный свидетель охоты на джейранов рассказывал мне, что, когда
джейранов [с трех сторон] обступил полукруг всадников и прижал их к морскому
берегу, то некоторые их них, боясь воды, группой бросались прямо в середину охот-
ников и собак; другие же, долгое время колеблясь, наконец бросались все же в море,
чтобы спастись вплавь на ближайшем острове (см.: Бюшинг. Исторический журнал...,
[на нем. яз.], т. III, с. 22).
135. Сайгак. Антилопа с лировидными рогами, почти прозрачными, с хрящеватым
носом, с животом дугообразно выгнутым и бочонковидным; пучков волос на коле-
нях нет.
Очень обычный вид, ведущий стадный образ жизни по всем пустынным степям
Великой Татарии, начиная от границ Польши и до реки Иртыша и Алтайских гор. Па-
сясь, питается в основном полынями, вкус которых передается и мясу животного. По
сю сторону долины Волги сайгак теперь встречается редко, потому что избегает
населенных мест. Однако всего лишь десятилетие тому назад бывали случаи, когда
стада сайгаков по льду переправлялись через Волгу [на ее западный берег] и там блу-
ждали года два, после чего скучивались и возвращались в заволжские пустынные
степи. В степях же по сю сторону Волги сайгаков теперь мало.
К миграциям они прибегают чаще всего в тех случаях, когда кочевники весной
поджигают травяной покров степи и тем самым опустошают его, результатом чего
бывает недостаток пищи для сайгаков (а делают это кочевники, чтобы трава легче
отрастала).
Когда-то большие стада сайгаков бродили [и по эту сторону Волги,] вплоть до
Дона. Что сайгаки, хотя и довольно редко, заходили даже до самой реки Куры,
доказывается нахождением там черепа, который в тех местах удалось приобрести
Гильденштедту; в своих рукописных заметках Гильденштедт об этом упоминает.
ОТРЯД V. ANOMALOPODA.
В этот отряд я включаю очень немного родов, которые другие таксономисты рас-
пределяют по-разному, причем те из них, кто ищет диагностические признаки в
строении одних лишь конечностей, разбивают этот отряд почти на столько же мень-
ших отрядов, сколько в нем имеется родов. В действительности же, хотя, конечно,
389
все эти роды в достаточной мере между собой различаются, в особенности же по зуб-
ному аппарату и по строению конечностей, тем не менее естественное родство их
сближает друг с другом. Ведь в самом деле: гиппопотам (он должен быть здесь
упомянут, причем некоторые черты он имеет общие и со жвачными) стоит в опреде-
ленном отношении, которым нельзя пренебрегать, к лошадям, и связан с ними
определенными моментами своего внешнего облика; в сходном отношении стоит
лошадь к носорогу и попадающей с ним в один род гидрохойре, а они в свою оче-
редь - к свиньям. И совершенно неверно будет приводить против сказанного дово-
ды, основанные на разнообразии строения зубов в перечисленных родах и на раз-
личия в строении конечностей.
Неверность этого возражения доказывается тем, что [в данном порядке и внутри
самих указанных родов] господствует непостоянство.
Примерами могут служить род свиней10 и род носорогов, а также уплотненные ко-
пыта, иногда наблюдаемые у свиней, и существование в Америке лошади с двух-
бороздчатыми копытами.
Однако у всех животных из данного отряда имеются общие черты: усеченные,
приспособленные для разгрызания пищи коренные зубы; конечности, снабженные ко-
пытами, а также опорными пальцами, по большей части непохожими на то, что мы
видим, рассматривая конечность жвачного. Далее, желудок действует на пищу раз-
мягчающе; имеются очень вместительные ободочная и слепая кишки. Ключиц у
скелета нет; родившийся детеныш с самого момента рождения полностью жизнеспо-
собен; пищей [всем копытным] служат исключительно растения. И так далее.
[Род] XIX. Лошади
В роде лошадей, бедном видами, все же больше их насчитывается среди обита-
телей Азиатского континента, нежели в Африке или Америке. И даже почти что нет
сомнения, что первичную родину диких лошадей и онагров следует искать на обшир-
ных пустынных пространствах Азии, где их одомашнили кочевники, в то время как
куланы остались и до настоящего времени неприрученными.
Я не думаю, чтобы лошадей или куланов можно было считать животными, не выно-
сящими чрезмерно засушливого климата: ведь дикие породы [этих животных] рас-
пространились и в Африке. Правда, относительно онагра, привыкшего к более жар-
кому климату, этой [невыносливости к отсутствию влаги] нельзя отрицать.
В пустынных местностях Азии три эти вида даже и сейчас блуждают иногда ста-
дами, хотя в Африке [таких стад] нет; а что лошади были перевезены и в Америку,
где во многих местах одичали, в том нет никакого сомнения. Что же касается гип-
побоев, или американских лошадей с расщепленными копытами, то для будущих
наблюдателей из числа испанцев, владык Нового Света, остается задача выяснить,
могли ли эти лошади произойти в результате спонтанной гибридизации с тем или
иным из наших видов.
136. Тарпан. Лошадь с хвостом, покрытым с обеих сторон щетинистыми волосами; с
довольно короткими ушами.
В ’’Zoographia Rosso-Asiatica”, как отмечалось выше, впервые были описаны 151 вид
млекопитающих, в том числе и 50 новых совершенно неизвестных в Европе видов,
присущих русской фауне. Помимо новых видов, приведенных Палласом в его преды-
10Во всяком случае, у эфиопского вепря (см. вып. 2 "Зоологического спицилегиума”) резцов
вовсе нет. Это подтверждает славнейший Кэмпер, в то время как почтенный Пеннант в своих "Си-
нонимах четвероногих” (с. 71) в этом усомнился. Сообщение Кэмпера помещено в "Трудах Петер-
бургской Академии наук”, т. II., с. 222). У того же эфиопского вепря коренные зубы очень похожи
на слоновые, и их всего 4, в то время как у обычного вепря их бывает до 20.
390
дущих работах, он дал в этом труде описание красного волка - Cuon alpinus Pallas,
1811, подвидов nautica и albigeno пестрой нерпы, европейского муфлона - Ovis mu-
simon Pallas, 1811, джигетая - монгольского подвида кулана - Equus hemionus Pallas,
1775, солонгоя - Mustela altaica Pallas, 1811.
Только новых видов млекопитающих, включая и подвиды, Паллас описал более
40. ”До Палласа, - писал К. Бэр, - систематическая обработка естественной истории
всецело принадлежала Упсале, теперь же эта наука получает крупнейшие богатства
из Петербурга”.
В описаниях млекопитающих Паллас много внимания уделял их образу жизни,
сезонным изменениям в их поведении, влиянию климата на особенности местных
форм.
Оценивая значение этого труда, Н.А. Северцов писал: ’’Необыкновенной точностью
и дельностыц отличаются наблюдения Палласа, из которых для нас особенно замеча-
тельны исследования о русских животных в его бессмертной зоогеографии. Для всех
общих выводов о фауне России и Сибири эта книга и теперь дает основные, превос-
ходно обработанные, незаменимые материалы. Не менее Бюффона, обращая внима-
ние на нравы животных, Паллас сам наблюдал их, но сверх того, не отвергал система-
тику, а первый, прежде Кювье, составил естественную классификацию позвоночных
и первый с поразительной верностью взгляда отличил климатические видоизменения
от видов”.
Если в этой характеристике Палласа и есть некоторое преувеличение его роли, в
частности в отношении создания естественной классификации, то, несомненно, его
вклад в мировую и русскую териологию был огромен - своими трудами он наметил в
отечественной териологии ряд направлений (зоогеография, экология, этология, по-
лучившие значительное развитие в XIX и XX в). Наш краткий очерк мы хотели
закончить словами Н.А. Северцова, которое он сказал о Палласе: ’’Нет отрасли естест-
венных наук, в которой он не проложил бы нового пути, не оставил гениального
образца для последовавших за ним исследователей” (Северцов, 1940. С. 17).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В истории формирования отечественной териологии (до XIX в.) прослеживаются
три периода. Первый, собственно предыстория, названный нами ’’допетровский”,
начинается с древности и продолжается до начала XVIII в. Это период спонтанного
накопления сведений о млекопитающих Руси. Второй период приходится на первую
половину XVIII в. (В Петербурге основана Академия наук, зарождается отечествен-
ная наука). Этот период характеризуется изучением зверей Сибири учеными-натура-
листами, сначала Д.Г. Мессершмидтом (1719-1727), а затем И.Г. Гмелином, Г.Ф. Мил-
лером, С.П. Крашенинниковым и В.Г. Стеллером во время Второй Камчатской экспе-
диции. Третий период занимает вторую половину. XVIII в. и завершается довольно
естественно трудом П.С. Палласа ’’Zoographia Rosso-Asiatica” (1811), в котором подве-
дены результаты изучения териофауны России в XVIII в. Это период планомерных
академических исследований териофауны государства. Основу его составили акаде-
мические экспедиции 1768-1774 гг.
Сохранившиеся наскальные изображения зверей свидетельствуют о том, что
древние охотничьи и скотоводческие племена, населявшие территорию России,
имели довольно ясное представление об окружавших их зверях и способах охоты на
них.
Появление на Руси письменности в IX в. дает начало летописанию и древнерусской
литературе - первым письменным документам, с них и начинается наше исследо-
вание. В летописях и древнерусской литературе приводятся некоторые сведения о
зверях, которые встречались на Руси. В XIII-XIV в. на Руси распространяются пере-
воды с греческого и других языков богословских сочинений, в частности ’’физио-
лога”, ’’Бестиария”, содержавших главы, посвященные отдельным зверям.Однако их
значение в расширении знаний о зверях не следует преувеличивать: сведения,
приводимые в них, были крайне скудны и весьма искажены.
XIII-XV века - период татаро-монгольского ига - оставили в русских летописях
записи о многочисленности вьючных животных и скота у ханов Золотой Орды.
Иностранные дипломаты и купцы, путешествовавшие в XIII-XV вв. по Руси в Моско-
вию, сообщают в своих записках сведения о зверях Московии и прилегающих к ней
земель, способах лова зверей, а также о размере дани - количестве шкур зверей,
которую Золотая Орда взимала с каждого человека.
Много новых сведений о животном мире Руси сообщили в своих записках дипло-
маты и путешественники XV и XVI вв. (Матвей Меховский, Павел Иовий, Сигизмунд
Герберштейн). Число отмечаемых ими зверей уже достигает 20- 30. Герберштейн при-
водит даже описания отдельных зверей, их повадки, места обитания, описывает
охоту на зубра. Следует, однако, иметь в виду, что эти сведения иностранцы полу-
чали главным образом путем распросов русских дипломатов, купцов и других быва-
лых людей, т. е. уже в то время определенный круг русского общества был доста-
точно хорошо знаком с встречающимися на Руси млекопитающими.
Расширению знаний о зверях способствовали зверинцы, которые стали устраивать
при царском дворе в XV в. (в них содержались звери, привезенные из дальних стран),
а также торговля в XV-XVI вв. пушным зверем Сибири.
392
Joannis Georgii Gnielini.
M»«Dr. t Ac&demici et Professor!* quondam Petropolitani, deindo Chemiae
- et BbteriM naturals» Profesaoris ord. Tubiitgensia,
Reliquiae quae supersunt
commercli epistoiiei cam
CAROLO LINNAEO, ALBERTO BALLBRO,
GUILIELMO STELLERO et at,
Floram Gmelini sibiricam ej usque Iter sibiricum potissimum ceneornentis,
ex mandate et sixmtibus
Aeademiae seientiarum Caesareae
Petropmlitanae
publicandas curavit
Dr. Guil. Henr. Theodor Plieninger,
Profeasor eeient. net. Stuttgartienaie, Regi Wiir tt embergiae a consiHis circa lite-
rarum studia »op»> Colfegii regii etatfatieo-topographic! membrum ordinarinm et Collegli
regii centralia adjuvandae agriculturao m. honorarium; Ordinis regii Friedericiani eques
et numlamate regio aureo majore de corand la «clentiarum et artkim cultonbus donatus;
Academlae nat. cur. Caeaareae Leopoldino-Carolinae, soefetatum nat cur. Baslleensia,
Francofurtensis-Senkenbergiauae, Lipeiensls, geologorum germanorum Berolinenais, phar-
msceoUrum Germanies borealia; Societatum agrononiico-oeconomicaruni Badae, Bavarian,
Bohemlae, HassUe elect., Lipsiae, Saxoniae reg., fetyriae etc. sodalie.
(Addita Autographa lapide impressa.)
Stuttgartiae 1861.
T у p i s C. F. И e r i n g i a n i s.
Puc. 94. Титульный лист эпистолярного наследия И.Г. Гмелина
Большое значение для последующего изучения зверей Сибири в XVIII в. имели
походы на Восток в поисках пушного зверя русских землепроходцев (Василия
Пояркова, Ерофея Хабарова, Михаила Стадухина, Семена Дежнева, Владимира Атла-
сова). Ими были открыты в Восточной Сибири, на Дальнем Востоке и Камчатке
огромные богатства пушного зверя, а на побережье Чукотки и Камчатки также и
морского зверя.
В связи с огромной ценностью пушнины, заменявшей тогда при торговле золото,
возникла насущная потребность изучить видовой состав зверей России, их распрост-
ранение, численность. Но решить эти задачи стало возможным лишь после учрежде-
393
/7>p
**^Ve'*m tiMfccrf
л1
V
5^..
A
(•#'*— <?ч/
-•'^t..--j-'.- /4-7
1 —г^-
>/*♦' ..^4
^-ffC & £?4 9 4~#й^*4/»р<м
*»♦ <^au», v.<l yu.fj - < JiSl
U-. ^.тг/^л/ Л ^;/U
УЛ *£*
fy r </ <U>
***/*£ ** *'£''/ •
^''^> “? •»,*^*'*Л^
^<-f*»'(^5 >Л.,Ж?
JL-^ Г ^гг ,
<^.0 Ufl
Puc. 95. Последнее письмо Г.В. Степлера И.Г. Гмелину
«^'..ЦдАД ,^/л Ф
ч-t, ~-/Л.
ния Петром I Академии наук. Основание в 1725 г. в Петербурге Академии наук озна-
меновало зарождение отечественной науки. В Академию наук приглашаются круп-
нейшие в Европе ученые-натуралисты. Учреждается Кунсткамера, где хранятся
зоологические коллеции, приобретенные в Западной Европе, а также экземпляры
зверей, доставленные с разных концов России. Для изучения природных богатств
Сибири Петр I направляет туда экспедицию специально приглашенного из Европы
ученого-натуралиста Д.Г. Мессершмидта (1720-1728). Мессершмидт обнаружил в
Сибири много неизвестных в Европе видов зверей. Вслед за Мессершмидтом живот-
394
ный мир Сибири также успешно исследовали ученые Академии И.Г. Гмелин,
Г.Ф. Миллер, С.П. Крашенинников и Г.В. Стеллер во время Второй Камчатской экспе-
диции (1730-1746).
Ученые-натуралисты описывают не только внешние признаки зверей, но и их внут-
ренние органы. Работы ученых публикуют в научном журнале Петербургской Ака-
демии наук. Это уже совершенно новый этап в развитии териологических знаний в
России: зарождается отечественная териология. Уже в работе Д.Г. Мессершмидта,
посвященной описанию двугорбого верблюда (опубликована в 1747 г., написана в
1726-1727 гг.), дано исключительно подробное изложение анатомического строения
внутренних органов животного, свидетельствующее о превосходном знании Мессер-
шмидтом анатомии и великолепном владении им метода препарирования. Из терио-
логических работ этого периода особого внимания заслуживает труд Г.В. Стеллера ”0
морских зверях”, написанный автором еще на Камчатке в 1742-1743 гг. В нем при-
ведено подробное сравнительное описание внешних признаков и анатомического
строения четырех морских зверей, особенно морской коровы, относительно тюленя, а
также сообщается об их образе жизни и поведении в естественной среде обитания.
Этот труд Стеллера был крупным вкладом в мировую териологию. Зарождение
отечественной териологии мы относим к 40-м годам XVIII в. когда были написаны
упомянутые работы Мессершмидта, Стеллера и И.Г. Гмелина (рис. 94, 95).
Начало третьему периоду в истории отечественной териологии положили академи-
ческие экспедиции 1768-1774 гг., в ходе которых учеными Академии под руковод-
ством П.С. Палласа, И.И. Лепехина, И.А. Гильденштедта, С.Г. Гмелина и др. были
планомерно обследованы огромные пространства государства и изучен видовой сос-
тав териофауны России. Результаты этих исследований публиковались в записках
путешественников и в трудах Петербургской Академии наук. Териологические оте-
чественные работы этого периода высоко подняли престиж Петербургской Академии
наук. Особенно большую роль в этом отношении сыграли два фундаментальных
труда П.С. Палласа по териологии: его монография по грызунам (1778) и его ’’Zoogra-
phia Rosso-Asiatica”, в 1-м томе которого (1811) были подведены результаты териоло-
гических исследований в России в XVIII в.: был описан 151 вид млекопитающих.
XIX столетие в отличие от XVIII в. в отношении изучения териофауны - совсем
другая эпоха. Исследования уже не носили государственного масштаба, не осущест-
влялись крупнейшими учеными Академии наук, а проводились на более ограничен-
ных территориях преимущественно профессорами Московского, Казанского и других
университетов.
Таким образом, к концу рассматриваемого периода была проведена работа по ин-
вентаризации млекопитающих России и по изучению их размещения на территории
огромной страны. Это направление исследований было безусловно оправданным и
правильным. Без знания видового состава и умения отличать отдельные виды невоз-
можно начать какие-либо иные исследования любой группы организмов. Поэтому так
важны систематические зоогеографические и фаунистические работы ранних исследова-
телей. Следует отдать должное не только блестящему научному уровню этих ученых,
но их отваге, мужеству, высокому стремлению служить науке. Путешествия в те вре-
мена, длившиеся месяцами, а то и годами, не были комфортабельными поездками, а
таили в себе массу неудобств, рискованных ситуаций и опасностей для жизни.
Глубина знаний упомянутых выше ученых позволила им составить списки млеко-
питающих, обитающих в тех или иных регионах России, сопоставить найденных мле-
копитающих с ранее известными видами, описать множество новых видов, увекове-
чив таким образом свои имена в научных названиях этих зверей. Это были талант-
ливые натуралисты с разносторонними интересами. Именно поэтому в их трудах мы
находим и морфологические описания встреченных ими зверей, и заметки о местах
их обитания, особенностях размножения, питания, поведения. Как правило, работа
этих ученых проходила на маршруте, в постоянных переездах из одного пункта в
395
другой. Конечно, при таких условиях углубленных исследований по морфологии,
экологии, поведению провести было практически невозможно. Но основа изучения
млекопитающих по этим направлениям териологии была заложена уже ранними ис-
следователями.
Научный подвиг этих исследователей послужил счастливым примером для дея-
тельности их последователей, стал основой, фундаментом всего здания отечествен-
ной териологии, построенного стараниями многих и многих беззаветно трудившихся
ученых.
396
SUMMARY
The. history of Russian theriology includes three periods as follows. The first period is,
strictly speaking, pre-history. We refer to it as the Peter-the Great period. It dates back to
ancient times to last until the early XVIIIth century. This is a time of spontaneous accumu-
lation of data mammals of Russia. The second period was in the first half of the XVIIIth centu-
ry, when the Academy of Sciences was founded in Saint-Petersburg and Russian science be-
gan. This period is characterized by the investigation of Siberian mammals by D. Messers-
chmidt (1719-1727), and subsequently by I. Gmelin, G. Miller, S. Krashenninikov and
W. Steller during the Second Kamchatka Expedition. The third period accounts for the second
half of the XVIIIth century to be completed by the P. Pallas’ work ’’Zoographia Rosso-Asiati-
ca” (1811), a review of the advances in the study of Russian theriofauna. It was based on the
academic expeditions of 1768-1774.
The petroglyphs preserved indicate that ancient hunting and pastoralist tribes populating
Russia had a fairly good knowlege of the local wildlife and of the methods of hunting.
Beginning the IXth century the first written documents appeared, which marks the begin-
ning of our study. The cronicles and ancient Russian literature contain some information
about the animals that occurred in Russia. In the XHIth-XIVth centuries in Russia were
distributed the translations from the Greek and other languages of theological works, inclu-
ding ’’physiologa” and ’’Bestiaria” that contained chapters dealing with some particular ani-
mals. But their importance in the advancement of zoology should not be overestimated. The
information those books provided was scanty and often distorted.
The XHIth-XVth centuries mark the period of the Tatar-Mongolian yoke. That period
has left behind some records of numerous pack animals and livestock belonging to the Gold
Or da khans. Foreign diplomats and merchants travelling in the XHIth-XVth centuries through
Russia to Moscowia describe the animals of Moscowia and of the adjacent territories, the met-
hods of hunting the animals, and also the extent of the tribute - the number of pelts that the
Orda levied.
Plenty of new information about the wildlife of Russia was reported by diplomats and tra-
vellers of the XVth and XVIth centuries as Matvei Mekhovsky, Pavel lovy and Sigizmund Ger-
berschtein. They mention as many as 20 to 30 mammals. Gerberschtein even describes some
particular mammals, their habits and habitats. In particular, he describes the hunting of a
European bison. It should be had in mind that the above information was mainly obtained
from Russian diplomats, merchants as well from people of other walks of life., i.e. during
that time the Russian community was fairly well acquainted with the mammals dwelling in
Russia.
The knowlege of the animals was promoted by zoos that were establiched at the court in
the XVth century. Ntose zoos contained animals imported from faraway countries. Also bene-
ficial was the trade in fur-bearing mammals in Siberia.
Of great importance to further study of the mammals of Siberia in the XVIIIth century
were the expeditions of the Russian pioneers (Vasily Poyarkov, Erofei Khabarov, Mikhail
Stadukhin, Semen Dezhnev and Vladimir Atlasov). They discovered rich resources of the
fur-bearing mammals in Eastern Siberia, the Far East and Kamchatka and also marine mam-
mals in Chukotka.
397
Owing to the great value of peltry, which in those times, was a substitute for gold, a need
arose to study the species composition of Russian mammals, their distribution and numbers.
But it became possible to resolve those problems not until the foundation of the Academy
of Sciences by Peter the Great in 1725, which marked the beginning of Russian science. In-
vited to the Academy were top European naturalists. The Kunstkamera was establiched where
zoological collections were kept, purchased in Western Europe and also mammalian speci-
mens brought from various parts of Russia.
In vast unexplored areas of Russia there works a brilliant constellation of naturalist,
many of which were invited from Germany to become Russian scientists. D.G. Messerschmidt
was born in 1685 in Danzig and educated in the universities of Jena and Halle. In 1717 he was
invited by Peter the Great to Russia and by the Peter’s decree set out on an ezpedition to
Siberia from Petersburg via Moscow, Kazan, Solikamsk, Tyumen and Tobolsk, Krasnoyarsk,
Mangazeya, Cis- and Trans-Baikal and Chita. Messerschmidt described the mammals he
encountered, some of which he dissected, e.g. the bactrian camel.
lohann Georg Gmelin was born in 1709 in Tubingen. He graduataed from the Tubingen
University when he was 18. In 1727 he arrived in Petersburg.In 1733, along with G.F. Miller,
he set out on an expedition to Siberia. He essentially reproduced the route of Messerschmidt,
though he covered a longer distance. Gmelin described numerous mammal, including the
sable, the yak, the zeren, the saiga antelope, etc.
A.S. Krashenninikov was born in Moscow in 1711 and educated in the Slavonic-Greek-La-
tin Academy. In 1733, as member of the Gmelin and Miller’s expedition, he travelled to Sibe-
ria. Krashenninikov made a number of independent trips through Eastern Siberia and begin-
ning 1737 he worked in Kamchatka for 4 years as a result of which there appeared his classi-
cal study ”The Description of the Land Kamchatka”. The Academy demanded that Krashen-
ninikov shoul include into his the unpublished materials by Steller, and nowdays it is impos-
sible to determine the authorship of some particular sections of the book. The book deals with
terrestrial mammals and marine mammals and, separately, with the sable.
G.W. Steller (1709-1746) was born in Windsheim and educated in the universities of Wit-
tenberg, Leipzig, Jena and Halle. In 1734 he arrived in Russia. In 1738 he set out on an ex-
pedition, in 1740 became a member of the Bering. expedition. and in 1741 he set out on the
vessel Saint-Peter to the coasts of America. On November 5 the vessel shipwrecked off the
island which was later called the Berling Island. The crew overwintered on the Island under
very harsh conditions. Many people, the Commander Bering including,died. Subsequently,
from the wrecks of the old ship a new one was born, and after two weeks on August 26 the
travellers approached Petropavlovsk. Steller described not only the appearance but also the
mode of life of, a number of marine mammals, including the Steller’s sea cow, which was
shortly destroyed by hunters. In addition, Steller characterized in detail the terrestrial fauna
of the mammals of Kamchatka.
LI. Lepekhin (1740-1802) was born in Petersburg and educated in the Academic Univer-
sity in Petersburg, and subsequently in the University of Strassburg. In 1768 he was elected
adjunct of the Academy of Sciences. He took part in Academy expeditions (1768-1733) from
Petersburg via Moscow - Simbirsk - Samara - Tsaritsyn - Guriev - Orenburg - Ekterin-
burg - Tyumen - Veliky Ustyug - Arkhangelsk - the White Sea - Petersburg, and 1773 to
Byelorussia and Liflandia. Steller published 4 volumes of diaries. He made a description of
25 mammalian species. J.G. Gmelin (1745-1774) was born in Tubingen. As early as 19 he gra-
duated from the Tubingen University. In 1767 he was invited to the Petersburg Academy of
Sciences. The next year he set out on an expedition to Astrakhan and farther to the Caspian.
The expedition lasted 1774, when in the neighborhood of Derbent J.G. Gmelin was captured
by the Chinese khan, and died after half a year in captivity. He published a description of
the appearance and some features of the ecology of a number of mammals, including Equus
caballus, the saiga and the mole rat.
398
LA. Gildenstadt (1745-1781) was born in Riga and educated in Berlin and Frankfurt-on-
the-Oder.In 1768 he arrived in Petersburg, and in the same year set out on an expedition to
Astrakhan and farther along the western shore of the Caspian to the Caucasus and nortward
to Azov and to Kiev. He described several species new to science and the appearance and the
anatomy of a number of mammals.
P.S. Pallas (1741-1811) was born in Berlin. He was educated in Berlin, Halle and Leiden.
In 1767 as a famous scientist, he arrived in Petersburg. He participated in numerous very
long expeditions through Siberia and European Russia. He published 170 studies, including
the famous ’’Zoographia Russo-Asiatica”. He described many new species of mammals and
was the founder of Russian theriology.
ЛИТЕРАТУРА
Аверин Ю.В. Наземные позвоночные Вос-
гочной Камчатки. М., 1948. 222 с. (Тр. Кроноц-
кого гос. заповедника; Вып. 1).
Академические сочинения, выбранные из
первого тома Деяний Имп. Академии наук под
заглавием "Nova Acta Academiae Scientarum Im-
perialis Petropolitanae”. СПб., 1801. 4. 1. C. 62—
66.
Акты Литовской метрики, собранные Ф.И.
Леонтовичем. Варшава, 1897. Т. 1, вып. 2.
Александрович М.Н. Остерский уезд. Киев,
1881. Вып. 1.
Алексеев М.П. Сибирь в известиях западно-
европейских путешественников и писателей:
Введение, тексты и комментарий XIII—XVII вв.
2-е изд. Иркутск, 1941. 610 с.
Альберт славный таинств женских, еще о си-
пах трав, каменей, зверей, птиц и рыб. Во Ам-
стердаме, у Юнона Юншониа, лето 1648. Пере-
веден же слово от слова с латинска на славян-
ский и написан лета господин 1670, от сотво-
рения же мира 7178. Рукопись. БАН СССР. Ле-
нинград. Отд. Рукописей.
Андреев А.И. Очерк колонизации Севера в
XVI—XVII веках // Очерки по истории колони-
зации Севера. Пг., 1922. Вып. 1.'
Андреев В. Документы по экспедиции ка-
питан-командора Беринга в Америку в 1741 //
Мор. Сб. 1893. № 5. С. 1—16, с 2 картами.
Анучин Д.Н. К истории ознакомления с Си-
бирью до Ермака. М., 1890. 256 с. (Тр. Моск,
археол. о-ва.).
Аристотель. О частях животных. М.: Био-
медгиз, 1937.
Аристотель. О возникновении животных. М.:
Изд-во АН СССР, 1940.
Архангельский А. К изучению древнерус-
ской литературы // Творения святых отцов.
СПб., 1888.
Архив историко-юридических сведений, от-
носящихся до России Ц Десять отрывков разно-
образного исторического содержания из сочи-
нений М. Литвина ”О нравах татар, литовцев
и москвитян”. М., 1854. Кн. 2, половина 2.
(Litvani М. De moribus Tartarorum, Litvanorum
et Moscorum Fragminadecem).
Архипова Н.П. Как были открыты Уральские
горы, Пермь, 1971 // Эпистолярное наследие
К.М. Бэра. Л. Наука, 1978.
400
Багалей Д.И. Материалы для колонизации
и быта Харьковской и отчасти Курской и Воро-
нежской губернии. Харьков, 1890. Т. 2.
Бакмеыстер И. Опыт о Библиотеке и Кабине-
те редкостей и истории натуральной Санкт-Пе-
тербургской Имп. Академии наук. СПб., 1779.
С. 124.
Банников А.Г. По заповедникам Советского
Союза. М.: Мысль, 1974.
Барабаш-Никифоров И.И., Формозов А.И.
Териология. М.: Высш, школа, 1963.
Барабаш-Никифоров И.И., Николаев А.М.,
Марако& С.В. Калан, морская выдра. Л.: Наука,
1968.
Барбаро и Контарини о России. К истории
итало-русских связей в XV в. Л.: Наука, 1971.
Бахрушин С.В. Казаки на Амуре. Л.: Брок-
гауз-Ефрон, 1925.
Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга. Л.: Изд-во Главсевморпути, 1935.
Берг Л.С. Открытие Камчатки и экспедиции
Беринга. М.; Л., 1946.
Берг Л. С. Очерки по истории русских геогра-
фических открытий. М.: Изд-во АН СССР, 1949.
Берх В.Н. Хронологическая история откры-
тия Алеутских островов. СПб., 1823.
Библиография Азии: Вся Азия, исключая
Сибири. СПб., 1891. Т. 1: Bibliographia Asiatica /
Сост. В.И. Межов.
Блюменбах И.Ф. Руководство к естественной
истории / Пер. с нем. П. Наумова и А. Теряева.
СПб., 1787. Ч. 4, 1-3.
Бляхер Л.Я. Проблемы морфологии живот-
ных: Исторические очерки. М.: Наука, 1976.
Бобров Е.Г. КАрл Линней. Л.: Наука, 1970.
Богословская Л.С., Вотрогов Л.М., Круп-
ник И.И. Гренландский кит в водах Чукотки:
История и современное состояние популяции //
Морские млекопитающие. М.: Наука, 1984.
С. 191-212.
Буганов В.И., Преображенский А.А., Тихо-
нов Ю.А. Эволюция феодализма в России. М.:
Мысль, 1980. 343 с.
Бэр К.М. Заслуги Петра Великого по части
географических познаний // Зап. РГО. 1849. Ч. 3.
С. 216-263; 1850. С. 260-283.
Бэр К.М. Автобиография. М.: Изд-во АН
СССР, 1950.
Бэр К.М. Карл Бэр и Петербургская акаде-
мия наук. Письма деятелям Петербургской ака-
демии. Л.: Наука, 1975.
Бэр К.М. Эпистолярное наследие К.М. Бэра
в архивах Европы. Л.: Наука, 1978.
Бюффон Ж. Всеобщая и частная естественная
история графа де Бюффона / Часть X. Переложе-
на с фр. яз. на рос. акад. И. Лепехиным; Изд.
экстраординарным акад, и кавалером А. Сева-
стьяновым. СПб., 1808.
Ваксель С. Вторая Камчатская экспедиция
Витуса Беринга. Л., 1940.
Валишевский К.Ф. Смутное время: Пер. с
фр. СПб., 1911.
Вейсман Э. Немецко-латинский и русский
лексикон купно с первыми началами русского
языка / Пер. И. Ильинского. СПб., 1731.
Великая и предивная наука богом преосвя-
щенного учителя Раймунда Люлиа. Рукопись
БАН СССР. Ленинград. Отд. рукописей. Инв.
№ 17.68. То же. Рукопись Гос. Б-ка им. В.И. Ле-
нина. Собр. Румянцев, музея. № 2955 и 2868.
Вергилий Марон Публий. Буколики. Геор-
гики. Энеида. М., 1971.
Вернадский Г.В. О составе Великой Ясы
Чингис-хана. Брюссель, 1939. (Исслед. и мате-
риалы по истории России и Востока; Вып. 1).
Вершинин А.А., Долгоруков Е.М. Материа-
лы по биологии соболя и соболиному промыслу
на Камчатке // Тр. Всесоюз. НИИ охоты.
1947. Т. 8.
Веселовский С.Б. Село и деревня в северо-
восточной Руси XIV—XVI вв. М.; Л.: Соцэкгиз, 1936.
Владимир-Буданов М. Население юго-запад-
ной России от половины XIII до половины XV в.
Киев, 1886. (Арх. юго-зап. России; Ч. 7, т. 1).
Владимирский-Буданов М. Акты о заселении
юго-западной России от 2-й половины XV века
до Люблинской унии 1569 г. Киев, 1890. (Арх.
юго-зап. России; Ч. 7, т. 2).
Волович Г.Б. Ревизия пущ и переходов зве-
риных в бывшем великом княжестве Литов-
ском, составленная Г.Б. Воловичем в 1559 г.
Вильна, 1867.
Волошинов Н.А. Морские котики. СПб.,
1889. 48 с.
Воронов В.Г. Млекопитающие Курильских
островов. Л., 1974.
Вуд Ф.Г. Морские млекопитающие и чело-
век. Л.: Гидрометеоиздат, 1979. 264 с.
Гагенбек К. (Хагенбек). О зверях и людях:
(Воспоминания звероторговца и основателя
зоопарка вблизи Гамбурга) / Пер. с нем. под
ред. и с предисл. П.Б. Юргенсона). М.: Географ-
гиз, 1957.
ГептнерВ.Г., Банников А.Г., Насимович А.А.
Млекопитающие Советского Союза. М.: Высш,
шк., 1961. Т. 1: Парнокопытные и непарноко-
пытные.
Герберштейн С. Записки о Московии барона
Герберштейна / Пер. Анонимов. СПб., 1866.
Герберштейн С. Записки о московитских
делах / Пер. А.И. Малеина. Приложение.ИовийП.
Книга о Московском посольстве. СПб.: Суворин,
1908.
ГилъденштедтИ.А. Путешествие Гюльденштедта
по Грузии / Нем. текст с груз. пер. издал и ис-
след. Г. Гелашвили. Тбилиси, 1962—1964. Т. 1—
2.
Гмелин И. Перевод с предисловия сочинен-
ного проф. Гмелиным к первому тому флоры
Сибирской. СПб., 1749.
Гмелин С.Г. Путешествие по России для ис-
следования трех царств естества. Ч. 1. путешест-
вие из Санктпетербурга до Черкасска, города
Донских казаков в 1768 и 1769 гг. СПб., 1771.
Ч. 2. Путешествие от Черкасска до Астрахани и
пребывание в сем городе: с начала августа
1769 г. по 5 июня 1770 г. СПб., 1777. Ч. 3. Поло-
вина 1-я. Плавание по Каспийскому морю. Дер-
бент. Енсели, заметки о Шемахе. Ч. 3. Половина
2-я. О Каспийском море вообще. Путешествие
в Ряшту. СПб., 1785.
Гнучева В.Ф. Материалы для истории экспе-
диций Академии наук в XVIIIhXIXIbb. М.;Л.,
1940.
Гнучева В.Ф. Географический департамент Ака-
демии наук XVIII в. М.; Л., 1946.
Голицин Н.В. Портфели Г.Ф. Миллера. М.,
1899.
Гольмстен В.В. К вопросу о древнем ското-
водстве в СССР Ц Проблема происхождения до-
машних животных. Л., 1933. (Тр. лаб. генетики
АН СССР; Вып. 1).
Горбург Б. Рассуждение г. Богислая Горбур-
га // Соч. и пер. к пользе и увеселению служа-
щие. СПб., 1758.
Гордеев Г.И. Академические экспедиции.
М., 1948. С. 245-270.
Городков Б. Первые сведения о мамонте //
Природа. 1930. № 2. С. 221-223.
Гребницкий Н.А. Новейшие данные о жизни
и промысле котиков и бобров // Вести, рыб.
пром-сти. 1902. № 5. С. 269—309.
Громбах С.М. Русская медицинская литера-
тура XVIII в. М., 1953. С. 217-219.
Густинская летопись. Прибавление к Ипать-
евской летописи // Полное собрание русских
летописей. СПб., 1834. Т. 2.
Дамский К. Любопытный словарь удивитель-
ных естеств и свойств животных: Собрано из
разных записок древних и новых путешество-
вателей К.Я.Д... СПб., Мейер, 1795.
Дамский, Киприян. Любопытный словарь
естеств. животных. СПб., 1801.
Даннеман Ф. История естествознания: Естес-
твенные науки в их развитии и взаимодейст-
вии. М., 1936. Т. 2: От эпохи Галилея до сере-
дины XVIII в.
Дарвин Ч. Избранные письма. М.: Изд-во
иностр, лит., 1950.
26. В.Е. Соколов, Я. А. Парнес
401
Дементьев Г.П. К истории зоологии в сред-
ние века Ц Природа. 1945. № 1. С. 73-88.
Дементьев Г.П. Паллас: (К 150-летию со дня
смерти русского зоолога) // Зоол. журн. 1964.
Т. 43, вып. 2. С. 262-271.
Диков Н.Н. Археологические памятники
Камчатки, Чукотки и Верхней Колымы: Азия
на стыке с Америкой в древности. М.: Наука,
1977.
Дорофеев С.В. Северный морской котик //
Тр. ВНИРО. 1964. Т. 51. С. 23-50.
Дружинина Е.И. Значение русско-немецких
связей для хозяйственного развития Южной
Украины в конце XVIII в. // Международные
связи России в XVII—XVIII вв. М., 1966.
С. 220-259.
Духовные и договорные грамоты великих и
удельных князей XIV—XVI веков. М.; Л.: Изд-во
АН СССР, 1950.
Ефимов А.В. Из истории великих русских
географических открытий в Северном Ледови-
том и Тихом океанах XVII — первая половина
XVIII в. М.: Географгиз, 1950. 318 с.
Житков Б.М. Морская выдра в описании
Стеллера // Науч.-метод, зап. Гл. упр. по запо-
ведникам. М., 1939. Вып. 4.
Житков Б.М. О прежнем распространении
соболя в Европе // Тр. биол. НИИ. Томск, 1937.
Т. 4. С. 24-36.
Житков Б.М. О путешествии через Сибирь
Николая Спафария // Бюл. МОИП. Отд. биол.
1939. Т. 48, № 1. С. 91-97.
Жоффруа Сент-Илер Э. Избранные труды. М.:
Наука, 1970.
Загоскин Н. Врачи и врачебное дело в ста-
ринной России. Казань, 1891.
Замысловский Е. Герберштейн и его исто-
рико-географические известия о России. СПб.,
1884. 563 с.
Западно-русские летописи // Полное собра-
ние русских летописей. СПб., 1907. Т. 17.
Зеленецкий Н.М. Петр Симон Паллас, его
жизнь, научная деятельность и роль в изучении
растительности России // Зап. Новорос. о-ва
естествоиспытателей. 1916. Т. 14. С. 35—104.
Зенкевич Л.А. Русские исследования фауны
морей Ц Тр. ИИЕиТ. 1948. Т. 2. С. 170-196.
Зуев В. Путешественные записки Василия
Зуева от Санкт-Петербурга до Херсона в 1781 и
1782 г. СПб., 1787.
Измайлов В. Путешествие в Полуденную Рос-
сию, в письмах, изданных Владимиром Измай-
ловым. М., 1800. Ч. 1. (Воспоминание о Палласе).
Илларионов В.Г. Мамонт: К истории изуче-
ния его в России. Горький, 1940. С. 24—25.
Ильинская В.А. Современное состояние
проблемы скифского звериного стиля // Скифо-
сибирский звериный стиль в искусстве народов
Евразии. М.: Наука, 1976.
История биологии с древнейших времен до
начала XX в. / Под ред. С.Р. Микулинского.
М.: Наука, 1972.
История естественной (начальные основа-
ния), содержащая царства животных, произрас-
таний и ископаемых / Изд. Н. Озерецковским
и В. Севергиным. СПб., 1791—1794.
История естествознания в России. М. Т. 1.
1957; Т. 3. 1962.
История зверей. СПб., 1779.
История о Казанском царстве: (Казанский
летописец) // Полное собрание русских летопи-
сей. СПб., 1903. Т. 19. С. 60.
История открытия и освоения Северного
морского'пути. М., Мортранспорт, 1956. Т. 1.
Каманин Л.Г. Первые исследователи Даль-
него Востока. М., 1951.
Карамзин Н,М, Письма русского путешест-
венника. СПб.: Суворин, 1900.
Карпов А. Азбуковники или алфавиты ино-
странных речей по спискам Соловецкой биб-
лиотеки. Казань, 1877.
Кауфман И.М. Русские биографические и био-
библиографические словари. М., 1949.
Кафенгауз Б.Б. История хозяйства Демидо-
вых в XVIII-XIX вв. М., 1949.
Кеппен Ф. Ученые труды П.С. Палласа //
Журн. М-ва нар. просвещения. 1895. Апр.
С. 386-437.
Кильбургер Ф. Краткое известие о русской
торговле, каким образом оная производилась
через всю Россию в 1674 г.: Пер. с нем. СПб.,
1820.
Кириков С.В. Исторические изменения жи-
вотного мира нашей страны в XIII—XIX вв. Со-
общ. 4 Ц Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1958. № 1.
Кириков С.В. Изменения животного мира
в природных зонах СССР. 1. Степная зона и
лесостепь. М.: Изд-во АН СССР, 1959.
Кириков С.В. Исторические акты как основ-
ные источники для оценки запасов и определе-
ния ареала охотничье-промысловых зверей и
птиц в XVI—XVII — начале XIX в. Ц Ресурсы
фауны промысловых зверей в СССР и их учет.
М.: Изд-во АН СССР, 1963.
Кириков С.В. Человек и природа восточно-
европейской лесостепи в X — начале XIX вв.
Наука, 1979.
Клумов С.К. Гладкие киты Тихого океана. //
Тр. ИОАН СССР. 1962. Т. 58. С. 202-298.
Книга глаголемая Козмы Индикоплова. Руко-
пись. Гос. б-ка СССР им. В.И. Ленина. Ф. 92,
Долгова, № 10336.
Князев Г.А. Архив Академии наук СССР.
Л., 1933.
Колониальная политика Московского госу-
дарства в Якутии XVII в.: Сб. документов /
Под общ. ред. А.П. Алькора и Б.Д. Грекова.
Л.: Ин-т народов Севера при ЦИК СССР, 1936.
Колониальная политика царизма на Камчат-
ке и Чукотке в XVIII в.: Сб. арх. материалов /
402
Под ред. А.П. Алькора и Л.К. Дрезена. Л.: Ин-т
народов Севера при ЦИК СССР, 1935.
Комаров В.Л. Введение к книге "Материалы
для истории экспедиций Академии наук в XVIII
и XIX веках". М.; Л., 1940. ( Тр. Арх. АН СССР;
Вып. 4).
Комков Г.Д., Левшин Б.В., Семенов Л.К,
Академия наук СССР. М.: Наука, 1977. Т. 1:
1724-1917.
Копелевич Ю.Х. Основание Петербургской
академии наук. Л., Наука, 1977.
Кордт В. Материалы по истории русской кар-
тографии. Серия 2. Вып. 1. Карты всей России,
Северных ея областей и Сибири. Киев, 1906.
С. 26-28, карта XXVI.
Косминский Е.А. Историография средних
веков. М., 1963.
Костомаров Н.И. Очерк торговли Московско-
го государства в XVI и XVII столетиях. СПб.,
1862.
Крашенинников С.П. Описание земли Кам-
чатки: С прил. рапортов, донесений и других
неопублик. материалов. М.; Л.: Изд-во Главсев-
морпути, 1949.
Крашенинников С.П. Речь о пользе наук и
художеств, читанная Степаном Крашениннико-
вым, ботаники и истории натуральной профес-
сором в публичном академическом собрании
сентября 6 дня, 1750 года. СПб.: Имп. Акад,
наук, 1750.
Кругликова И.Т. Сельское хозяйство // Ан-
тичная цивилизация. М.: Наука, 1973. С. 33,
170-171.
Крупник И.И. Древние и традиционные по-
селения эскимосов на юго-востоке Чукотского
полуострова // На стыке Чукотки и Аляски.
М.: Наука, 1983. С. 65—95.
Кузаков В.А. Очерки развития естественно-
научных и технических представлений на Руси
в X-XVII вв. М.: Наука, 1976. 313 с.
Кювье Ж. Похвальное слово Петру Симону
Палласу, произнесенное Жоржем Кювье 5 ян-
варя 1813 г. // Журн. М-ва нар. просвещения.
1860. № 33. Стб. 1021—1044.
Кювье Ж. Рассуждение о переворотах на
поверхности земного шара. М.; Л.: Биомедгиз,
1937.
Ламартинер П.М. Путешествие в северные
страны./ Пер. с фр. и примеч. В.Н. Семенкови-
ча. М., 1912. (Зап. моек, археол. ин-та; Т. 15).
Лаппо И.И. Великое княжество Литовское
за время от заключения Люблинской Унии до
смерти Стефана Батория. СПб., 1901. Т. 1.
Лебедев Д.М. Гёография в России XVII в. М.:
Изд-во АН СССР, 1949.
Лебедев Д.М. Очерки по истории географии
в России XVIII в. (1725-1800 гг.). М.: Изд-во
АН СССР, 1957.
Лебедев Д.М., Рихтер Г.Д. Основные черты
биографии и научной деятельности академика
И.И. Лепехина // Изв. АН СССР. Сер. геогр.
1952, № 4. С. 48-57.
Левин В.Л. Зоология в русских журналах
XVIII в. Ц Тр. ИИЕиТ. 1957. Т. 16, вып. 3.
С. 201-238.
Лепехин И.И. Дневние записки путешествия
доктора и академии наук адьюнкта Ивана Лепе-
хина по разным провинциям Российского госу-
дарства в 1768 и 1769 г. СПб., 1771. Ч. 1.
Лепехин И. Продолжение путешествия ака-
демика и медицины доктора Ивана Лепехина,
по разным провинциям Российского государства
в 1770 году. СПб., 1772.
Лепехин И. Продолжение дневних записок
путешествия Ивана Лепехина, академика и ме-
дицины доктора, Вольно экономического в
Санкт-Петербурге и друзей природы в Берлине
и Гессен-Гамбургского общества член, по раз-
ным провинциям Российского государства в
1771 году. СПб., 1780.
Лепехин И.И. Топографические примечания
на знатнейшие места путешествия ее император-
ского величества в Белорусские наместничест-
ва. СПб., 1780.
Лепехин И.И. Виды тюленей (Phocarum spe-
cies). Новые ежемес. соч. 1790. Ч. 18. С. 31-47.
Лепехин И. Путешествие академика Ивана
Лепехина по разным провинциям Российского
государства в 1772 году. СПб., 1805.
Летопись по Лаврентьевскому списку. СПб.,
1872. С. 238.
Лигнау Н.Г. Паллас как зоолог: Речь к тор-
жеств, заседанию Новорос. о-ва естествоиспыта-
телей. Одесса, 1914. 15 с.
Лигнау Н.Г. Паллас как зоолог // Зап. Ново-
рос. о-ва естествоиспытателей. 1916. Т. 41.
Литовская метрика / Под ред. И.И. Лаппо.
СПб., 1910. Отд. 1, ч. 1: Книги записей, т. 1,
кн. 1 (Рус. ист. б-ка; Т. 27).
Литхен И.Ф. Лексикон российской и фран-
цузской, в котором находятся почти все рос-
сийские слова по порядку российского алфави-
та. СПб., 1762. Ч. 1.
Лукина Т.А. Экспедиция академика Лепехи-
на в XVIII в. Ц Тр. ИИЕиТ. 1961. Т. 41, вып. 10.
С. 346-352.
Лукина Т.А. Иван Иванович Лепехин. М.;
Наука, 1965. 205 с.
Лукреций. О природе вещей. М.: Изд-во АН
СССР, 1946. Т. 1.
Лункевич В.В. От Гераклита до Дарвина:
Очерки по истории биологии. М.: Учпедгиз,
1960. Т. 1-2.
Любименко И.И. Ученая корреспонденция
Академии наук XVIII в. М.; Л.: Изд-во АН
СССР, 1937.
Люк Ж. де. Описание перекопских и ногай-
ских татар, черкесов, мигрелов и грузин (1625) //
Зап. Одес. о-ва истории и древностей. 1879. Т. 2.
403
Люткевич Э. Памяти П.С. Палласа. Одесса,
1914.
Мазурмович Б.Н. Выдающиеся отечествен-
ные зоологи. М., 1960.
Маракуев В. П.С. Паллас, его жизнь, ученые
труды и путешествия. М., 1877.
Маржерет. Состояние Российской державы и
Великого княжества Московского с 1590 по
1607 г. СПб., 1830.
Марр Н. Тексты и разыскания по армяно-гру-
зинской филологии. Кн. 6. Физиолог. СПб., 1904.
Материалы для истории Иимп. академии наук.
СПб., 1885. Т. 2.
Материалы для истории Имп. академии наук.
СПб., 1890. Т. 6.
Мельцер. Лексикон латинский с Геснерова
этимологического лексикона на российский
язык переведенной в имп. Московском уни-
верситете. М., 1767.
Меховский М. Трактат о двух Сарматиях.
М.; Л., 1936.
Мечников И.И. Избранные биологические
произведения. М.: Изд-во АН СССР, 1950.
Миграция птиц и млекопитающих. М.: Нау-
ка, 1965. С. 5-10.
Миддендорф А. Ф. Путешествие на север и
восток Сибири. СПб.: Имп. Акад, наук, 1860—
1878. Ч. 1-3.
Миллер Г.Ф. Известие о торгах сибирских //
Ежемес. соч. к пользе и увеселению служащие.
1756. февр.—май.
Миллер Г. Описание морских путешествий
по Ледовитому и по Восточному морю с Рос-
сийской стороны учиненных // Соч. и пер. к
пользе и увеселению служащие. СПб., 1758.
Май. С. 387-397; Июль. С. 9-32; Авг. С. 99-
129; Сент. С. 195-232; Окт. С. 309-336.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М.; Л.: Изд-во
АН СССР. Т. 1. 1937; Т. 2. 1941.
Млекопитающие Советского Союза: Ласто-
ногие и зубчатые киты / Под ред. В.Г. Гептнера.
М.: Высш, шк., 1976.
Морские млекопитающие. М.: Наука, 1984.
Московский летописный свод конца XV в. Ц
Полное собрание русских летописей. М.; Л.,
1949. Т. 25. С. 182, 245.
Наземные млекопитающие Дальнего Востока
СССР: Определитель. М.: Наука,, 1984.
Нансен Ф. Собрание сочинений: Пер. с норв.
М.; Л., 1937-1940. Т. 1-5.
Никитин А. Хождение за три моря Афанасия
Никитина, 1466—1472. 2-е изд. М.; Л., 1958.
Никитский А.И. История экономического
быта Великого Новгорода. М., 1893. С. 30.
Николаева-Серединская Г.Ф. История иссле-
дования природных условий территории Лат-
вийской ССР, 1710-1917. Л.: Наука, 1970. 116 с.
Географические исследования и описания
территории академиками И. Лепехиным и
В. Севергиным. С. 15—21.
Никоновская летопись // Полное собрание
русских летописей. 3-е изд. М., 1965. Т. 11/12.
Новиков Г.А. Очерк истории экологии жи-
вотных. М.: Наука, 1980. 286 с.
Новиков П.А. Академик С.П. Крашенинни-
ков как первый исследователь животного мира
Камчатки // Тр. ИИЕиТ. 1949. Т. 3.
Новиков П.А. Стеллер как зоолог // Тр. со-
вещ. по истории естествознания Ин-та истории
естествознания и техники АН СССР, 24—26 дек.
1946 г. М.; Л., 1948. С. 265-285.
Новлянская М.Г. Д.Г. Мессершмидт и его
дневник путешествия по Сибири // Изв. ВГО.
1962. Вып. 3. С. 231—239 с картами.
Новлянская М.Г. Даниил Готлиб Мессер-
шмидт и его работы по исследованию Сибири.
Л.: Наука, 1970.
Оглоблин Н. Семен Дежнев (1638-1671).
СПб., 1890.
Оглоблин Н. Две ”скаски” Вл. Атласова об
открытии Камчатки: Чтения в Обществе истории
и древностей российских. М., 1891. Кн. 3, отд. 1.
Огнев С.И. Млекопитающие Северо-Восточ-
ной Сибири. Владивосток, 1926.
Огнев С.И. Звери СССР и прилежащих стран //
Звери Восточной Европы и Северной Азии:
В 7 т. М.; Л.: Биомедгиз, 1928—1948.
Огнев С.И. Роль русских ученых в исследо-
вании млекопитающих // Учен. зап. Моск. гор.
пед. ин-та. 1951. Т. 18. С. 5—22.
Олеарий. Описание путешествия в Моско-
вию и через Московию в Персию и обратно.
(1646). СПб., 1906.
Ординация королевских пущ в лесничест-
вах бывшего великого княжества Литовского,
составленная по инструкции короля Владисла-
ва IV... в 1641 году. Вильна, 1871.
Отечественные физико-географы и путешест-
венники. М.: Учпедгиз, 1959.
Открытия русских землепроходцев и поляр-
ных мореходов XVII века на северо-востоке
Азии: Сб. документов / Сост. Н.С. Орловой;
Под ред. А.В. Ефимова. М.: Географгиз,
1951.
Паллас П.С. Путешествие по разным провин-
циям Российской империи. СПб., 1773. Ч. 1—3.
Паллас П. С. Краткое физическое и топогра-
фическое описание Таврической области // Но-
вые ежемес. соч. 1795. Кн. 2, ч. 108, июнь.
С. 3-26. Кн. 3, ч. 109, июль. С. 3-24; Ч. 110,
авг. С. 11—38. То же. Отд. оттиск. СПб., 1795.
IV, 72 с.
Паллас П.С. Путешествие по Крыму акаде-
мика Палласа в 1793—1794 году // Зап. Одес.
о-ва истории и древностей российскйх. 1881.
Т. 12. С. 62-208; 1883. Т. 13. С. 35-107.
Паллас П.С. Описание растений Российского
государства с их изображениями. По высочай-
шему повелению и на иждивении Ея Импера-
торского Величества, изданное П.С. Палласом.
404
С Рукописного сочинения перевел Василий
Зуев. Ч. 1. СПб., 1786. Ч. 1. 50 табл.
Паллас П. Наставление и письма от профес-
сора Палласа студенту Кашкарову // Сиб. вести.
1819. Ч. 5. С. 89-100.
Паллас П. Письмо профессора П.С. Палласа к
графу Ивану Григорьевичу Чернышеву // Моск-
витянин. 1849. Ч. 6, № 23. С. 53-59.
Памятники, изданные временной комиссией
для разбора древних актов, высочайше утверж-
денного при Киевском, Подольском и Волын-
ском генерал-губернаторе. Киев. Т. 1. 1845;
Т. 2. 1846; Т. 4. С. 1859.
Памятники истории Киевского государства
IX-XII вв. Л., 1936.
Памятники Сибирской истории XVIII в. Спб.,
1885. Кн. 2: (1713-1724).
Пекарский П. Архивные розыскания об изоб-
ражении несуществующего ныне животного
Rhytina borealis // Зап. Акад. наук. СПб., 1862.
Т. 15. Прилож.
Пекарский П. История Академии наук. СПб.,
1870. Т. 1.
Переводная литература Московской Руси:
Соболевский Александр Иванович. СПб., 1903.
Перрье Э. Основные идеи зоологии в их исто-
рическом развитии с древнейших времен до
Дарвина. СПб., 1896.
Пименов В., Эпштейн Е. Карелия глазами
путешественников и исследователей XVIII и
XIX вв. Петрозаводск: Карелия, 1969.
Письма Екатерины Второй // Семнадцатый
век: Ист. сб., изд. П. Бартеневым. М., 1868. Кн. 1.
Письма Петра Великого к С.А. Колычеву и от-
ветные на них донесения последнего // Материалы
Военно-ученого архива Главного штаба, СПб.,
1871. Т. 1.
Письмо офицера российского флота...
Г.Ф Миллера. Брошюра издана анонимно в 1753
под названием: Lettie d’un officier de la marine
Russienne a un Seigneur de la Cour concernant la
carte des nouvelles dScouvertes au nord de la
Mer du Sud. B.: Haude et Spener, 1753. 60 p.
Писцовые книги XVI века, изданные Рус-
ским географическим обществом / Под ред.
Н.В. Калачова. СПб, Ч. 1, отд. 1, 1872; Ч. 2,
отд. 2. 1877.
Плавильщиков Н.Н. Очерки по истории зоо-
логии. М.: Учпедгиз, 1941.
Платонов С.Ф. Прошлое Русского Севера:
Очерки по истории колонизации Поморья. Бер-
лин, 1924.
Платонов С.Ф., Андреев А.И. Новгородская
колонизация Севера // Очерки по истории ко-
лонизации Севера. Пг., 1922.
Плетнева С.А. Животный мир в русских вол-
шебных сказках // Древняя Русь и славяне. М.,
1978. С. 388.
Погодин М. Древняя русская торговля //
Журн. М-ва нар. просвещения. 1845.
Погребысский И.Б. Готфрид Вильгельм Лейб-
ниц, 1646—1716. М.: Наука, 1974.
Поленов В.А. Краткое жизнеописание И.И. Лепе-
хина // Труды Российской Академии наук. СПб.,
1840. С. 212.
Полное собрание законов Российской импе-
рии. СПб., 1830. Т. 6.
Полное собрание ученых путешествий по
России. СПб., 1818-1825. Т. 3.
Полонский А.С. Первая Камчатская экспе-
диция Беринга 1725—1729 гг. СПб., 1850. (Зап.
Гидрогр. деп. Мор. м-ва; Ч. 8).
Полный зоологический и ботанический сло-
варь на фр., рус. и лат. языках / В. Артелем.
СПб., 1843.
Полуостров Камчатка: Из письма одного
путешественника: Пер. с нем. // Рус. инвалид.
1815. № 92, 94.
Портенко Л.А., Кишинский А.А., Черняв-
ский Ф.Ю. Млекопитающие Коряцкого нагорья:
Материалы по распространению, численности,
биологии и экономическому значению. М.,
1963. 130 с. (Тр. Камчат. комплекс, экспе-
диции).
Природа и развитие первобытного общества
на территории Европейской части СССР. М.:
Наука, 1963. С. 69-74.
Приходно-расходные книги Болдина Дорого-
бужского монастыря. Пг., 1923. Рус. ист. б-ка;
Т. 37.
300 путешественников и исследователей:
Биогр. слов. М.: Мысль, 1966.
Пушкин А.С. Камчатские дали // Сочине-
ния: Поли. собр. в одном томе. М.: Изд. Пан-
фидина, 1904. С. 89—100.
Пыпин А.Н. Московская старина. СПб.,
1885. Т. 5.
Райков Б.Е. Очерки по истории эволюцион-
ной идеи в России до Дарвина. Л., 1947. Т. 1:
Петр Симон Паллас.
Райнов Т. Наука в России XI—XVII вв. //
Очерки по истории до научных и естественно-
научных воззрений на природу. М.: Изд-во
АН СССР, 1940. Ч. 1/3.
Райнов Т.П. Русские академики XVIII в. и
Бюффон // Вести. АН СССР. 1939, № 10. С. 126—
147.
Рейтенфельс Я. Сказания светлейшему гер-
цогу Тосканскому Козьме Третьему о Моско-
вии, Падуя, 1680 / С лат. пер. А. Станкевич. М.,
1906. 228 с.
Рихтер В. История медицины в России. М.,
1814.
Роспись для памяти г. порутчику Истленье-
ву, родов касающихся для собирания и сохра-
нения достопамятных сибирских животных //
Арх. АН СССР. Ф.З. Оп. 28. № 8. Л. 1-6.
Рычков Н. Дневные записки путешествия
капитана Николая Рычкова в киргис-кайсац-
кие степи 1771 г. СПб., 1772.
405
Румовский С.Я. Историческое предуведом-
ление. СПб., 1771. 27 с. (Материалы об акад,
экспедиции 1768—1774 гг.).
Рурпехт Ф.И. Материалы для истории имп.
Академии наук, по части ботаники. СПб.,
1869.
Русская историческая библиотека, издавае-
мая Археологической комиссией. СПб., 1880.
Т. 6.
Русские открытия в Тихом океане и Север-
ной Америке в XVIII—XIX вв. М.; Л., 1944.
С. 89-95.
Самородов А.В. К фауне млекопитающих
земли олюторских каряк Ц Тр. Зоол. музея
МГУ. 1939. Вып. 5.
Сарычев Г.А. Путешествие флота капитана
Сарычева по северо-восточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану в про-
должении осьми лет, при Географической и
Астрономической морской экспедиции, бывшей
под начальством Флота капитана Биллингса с
1785 г. по 1793 г. СПб., 1802. Ч. 1, 2.
Сатунин Н.В. Очерк географического рас-
пределения млекопитающих Российской импе-
рии Ц Наука и охота. М., 1908. С. 97—142.
Севастьянов 4. О жизни и трудах покойного
академика, статского советника и кавалера
Ивана Ивановича Лепехина // Всеобщая и част-
ная Естественная-история графа де Бюффона.
СПб., 1808. Ч. 10.
Севергин В. Начальные основания естест-
венной истории, содержащие царства живот-
ных, произрастаний и ископаемых. СПб., 1791.
Северцов Н.А. Периодические явления в
жизни зверей, птиц и гад Воронежской губер-
нии. М., 1855; 2-е изд., 1950.
Сибирские города: Материалы для истории
XVII и XVIII столетий: Нерчинск, Якутск. М.,
1886.
Симащко 10. Русская фауна или описание и
изображение животных, водящихся в империи
Российской / Сост. Ю. Семашко. СПб., 1851.
Ч. 2: Млекопитающие: Текст. 1161, XXV.
Сказания князя Курбского. СПб., 1868.
Словарь Академии Российской. СПб., 1789—
1794. Ч. 1-6.
Словарь-справочник ’’Слово о полку Иго-
реве”. Л., 1973. Вып. 4. С. 144—145.
Слюнин Н.В. Охотско - Камчатский край
(с картой): Естественноисторическое описание
составил д-р Н.В. Слюнин с 32 фототипиями и 54
цинкографиями. СПб., Суворин. Т. 1. 1900; Т. 2.
1900.
Смирнов Н. Очерк русских ластоногих.
СПб., 1908. (Зап. имп. Акад. наук).
Снегирев И.М. Воспоминания о подмосков-
ном селе Измайлове, старинной вотчине Рома-
новых. М., 1837.
Соболевский А. Переводная литература Мос-
ковской Руси. СПб., 1903.
Собрание узаконений Русского государства.
СПб., 1874. Т. 1- Уложение царя Алексея Ми-
хайловича.
Собрание сочинений, выбранное из месяце-
словов. СПб., 1792. Ч. 9.
Собрание Трактатов и Конвенций, заключен-
ными Россиею с иностранными державами / По
поручению М-ва иностр, дел сост. Ф. Мартенс.
СПб., 1875. Т. 2: Трактаты с Австриею, 1772—
1808.
Соколов В.Е. Систематика млекопитающих:
Отряды: однопроходных, сумчатых, насекомо-
ядных, шерстокрылов, рукокрылых, приматов,
неполнозубых ящеров. М.: Высш, шк., 1973.
Соколов В.Е. Систематика млекопитающих.
Отряды: зайцеобразных, грызунов. М.: Высш,
шк., 1977.
Соколов В.Е. Систематика млекопитающих:
Отряды: китообразных, хищных, ластоногих,
трубкозубых, хоботных, даманов, сирен, парно-
копытных, мозоленогих, непарнокопытных.
М.: Высш. шк. 1979.
Спафарий Николай Милеску. Книга, а в ней
писано путешествие через царство Сибирское
от города Тобольска и до самого рубежа госу-
дарства Китайского, лета 7183, месяца мая в 3-й
день. Кишинев, 1960.
Стеллер . ”De bestiis marini” Ц Арх. АН Ф.51.
On. 1. № 78 (два рисунка бобра).
Стеллер Г.В. (G.W. Steller). Из Камчатки в
Америку. Л., 1928.
Станюкович Т.В. Кунсткамера Петербург-
ской Академии наук. Л.: Изд-во АН СССР, 1953.
Старый Литовский статут 1529 г. / Сообщ.
А.В. Семенова // Временник Моск, о-ва истории
и древностей рос. 1854. Кн. 18.
Стрейс Я.Я. Три путешествия: (Путешествие
по Московскому государству в 1668 г.). М., 1935.
Суворов В. К. Командорские острова и
пушной промысел на них. СПб., 1912.
Сумаруков Г.В. Кто есть кто в ’’Слове о пол-
ку Игореве”. М.: Изд-во МГУ, 1983.
Сухомлинов М.И. История Российской Ака-
демии. СПб., 1875. Вып. 2. С. 159—388.
Таннери П. Исторический очерк развития
естествознания в Европе (с 1300 по 1900 гг.).
М.; Л.: Гостехтеоретиздат, 1934.
Таранович В.П. Путешествие И.И. Лепехина
по Северу Европейской России в 1771—1772 гг.//
Тр. Ин-та истории науки и техники. Сер. 1.
1934. Вып. 4. С. 349-362.
Таранович В.П. Экспедиция академика И.И. Ле-
пехина в Белоруссию и Лифляндию в 1773 г. //
Архив, истории науки и техники. 1935. Вып. 5.
С. 545-568.
Татищев В.Н. История российская с самых
древнейших времен. М., 1769. Кн. 1, ч. 2.
Татищев В.Н. Избранные труды по географии
России. М., 1950.
Творения Василия Великого. М., 1853.
406
Титов 4. Сибирь в XVII в. М., 1890.
Томилин А.Г. Китообразные фауны морей
СССР. М.: Изд-во АН СССР, 1962.
Тридцать первое присуждение учрежденное
Демидовым наград. Петербург, 1862.
Уложение царя Алексей Михайловича //
Собрание узаконений Русского государства.
СПб., 1874. Т. 1.
Флетчер. О государстве русском. СПб., Суво-
рин, 1905.
Флинт В.Н. , Чугунов Ю.Д., Смирин В.М.
Млекопитающие СССР / Под ред. А.Н. Формозо-
ва. М.: Мысль, 1965. 437 с.
Флоринова экономна / С нем. на рос. яз.
сокращено 1 пер. С.С. Волчковым. СПб., 1738.
Формозов А.Н. Звери, птицы и их взаимо-
связи со средой обитания. М.: Наука, 1976.
Фрадкин Н.Г. Путешествия И.И. Лепехина,
Н.Я. Озерецковского, В.Ф. Зуева. М., 1948.
Фрадкин Н.Г. С.П. Крашенинников. М., 1974.
Холмогоров В.И., Холмогоров Г.И. Истори-
ческие материалы о церквах и селах XVI—XVIII
столетий. М., 1882. Вып. 2: Звенигородская де-
сятина.
Холодковский Н.А. Биологические очерки.
М.; Пг.: Госиздат, 1923.
Хорошкевич А.Л. Торговля Великого Нов-
города с Прибалтикой и Западной Европой в
XIV-XV вв. М., 1963.
Цалкин В.И. Млекопитающие Северного При-
черноморья в скифо-сарматскую эпоху // Бюл.
МОИП. отд. биол. 1960. Т. 65, вып. 1.
Чертежная книга Сибири, составленная то-
больским сыном боярским Семеном Ремезовым
в 1701 г. СПб., 1882.
Шайноха К. Ядвига -и Ягайло: Пер. со 2-го
пол. изд. СПб.; М., 1882. Т. 2.
Шарлемань Н.В. Природа в ’’Слове о полку
Игореве” // Из реального комментария к
"Слову о полку Игореве”. М.—Л., 1950.
Шарлемань Н.В. Соловьи в ’’Слове о полку
Игореве”. М.—Л., 1960.
Шестоднев Василия Великого. Рукопись
Гос. б-ка им. В.И. Ленина. Отд. рукописей.
Ф. 113, собр. Волоколамск, монастыря. № 1.
Шестоднев Иоанна Экзарха. Гос. б-ка
им. В.И. Ленина. Ф. 173, собр. Моск, духовной
академии. № 145, 156.
Щербакова А.А. История ботаники в России
до 60-х гг. XIX в. (Додарвинский период).
Новосибирск: Наука, 1979.
Adelmann Н.В. Marcello Malpighi and the
evolution of embryology: In 4 t. Ithaca (N.Y.),
1966.
Aldrovandus U. De quadrupedibus solidipedi- •
bus. Bononiae, 1616. 495 p.
Aldrovandus U. Quadrupedum omnium bisul-
corum historia. Bononiae, 1621. 1040 p.
Aldrovandus U. Monstrorum historia. Bono-
niae, 1642. 776, 166 p.
Aldrovandus U. De quadrupedis digitatis vivi-
paris libri tres et de quadrupedibus digitatis ovi-
paris libri duo. Bononiae, 1645. 718 p.
Ant H. Geschichte der Zoologie in Westfallen //
Abhandlungen aus dem Landesmuseum fur Na-
turkunde zu Munster in Westfallen herausgegeben
von Dr.L. Franzisket. 1967. Jg. 29, H. 1. S. 44—64.
Aristoteles. De animalibus libri. Venetiis,
1476.
Baer K.E. De ove mammalium et hominis gene-
si etc. Lipsiae, 1827.
Baer K.E. Berichte fiber die Zoographia Rosso-
Asiatica von Pallas, abgest an die Kais. Akade-
mie der Wissenschaft, zu St. Petersburg. Konigs-
berg, 1831.
Baer K.E. Untersuchungen fiber die ehemalige
Verbreitung und die ganzliche Vertilgung der
Seekuh Gelesen Ц Kaiser. Akad. Wiss. St.-Peters-
burg. Mem. Ser. VI. 1838. T. 5. 26. Jan.
Baer K.E. Peter’s des Grossen Verdienste um
die Erweiterung der geographischen Kenntnisse.
1872. XVI, 290 p. (Beitr. zur Kentniss des Russ.
Reich).
Baker R.R. The evolutionary ecology of animal
migration. Manchester: Univ, press, 1978.
Balme D.M. Aristotle: Natural history and zoo-
logy // Dictionary of scientific biography. N.Y.,
1970. Vol. 1. P. 258.
Beauplan G. Description d’Ukrainie qui sont
plusieurs provinces du Royaume de Pologne. Rouen,
1660. 84 р.
Beazley R. The text and versions of John de
Plano Carpini and William de Rubruquis. L.,
1903.
Beddard F.E. Mammalia // The Cambridge natu-
ral history. L., 1902. Vol. 10.
Belon P. De aqustilibus libri duo. P., 1553.
Bibliographia zoologiae et geologiae: General
catalogue of all books, tracts, and memories on
zoology and on geology I By L. Agassiz. L.,
1850.
Blumenbach J.F. Handbuch der Naturgeschich-
te. Gottingen, 1779.
Bogaert-Damin A.M., Piron J.A. Livres d’ani-
maux du XVI au XXе siecle. Namur, 1987.
Brand A. A journal of the embassy: Some cu-
rious observations concerning the products of Rus-
sia. L., 1698. P. 119-134.
Brandt I.F. (Брандт Ф.Ф.) Bemerkungen fiber
die Zahl der Halswirbel der Sirenien (Lu le
20 decembre 1861) Ц Bull. Acad. 1861. T. 4.
P. 125-128; T. 5. P. 7-10.
Brandt I.F. Bemerkungen fiber die Verbrei-
tung und Vertilgung der Rhythia (Lu le 19 de-
cembre 1862) // Ibid. 1862. T. 4. P. 259-268;
T. 5. P. 558-569.
Brandt I.F. Noch einige Worte fiber die Vertil-
gung der Rhytina (Lu le 5 octobre 1865) // Ibid.
1865. T. 5. P. 363-366; T. 9. P. 279-282.
Brandt I.F. Nochmaliger Nachweis der Ver-
407
tilgung der nordischen oder Steller’schen Seekuh
(Rhytina borealis) // Bull. Soc. Imp. Natur. Mos-
cou. 1866. T. 39, pt 1. P. 572-597.
Brandt I.F. Einige Schlussworte zum Nachweis
der Vertilgung der Rhytins 11 Ibid. 1867a. T. 11.
P. 23-38.
Brandt I.F. Ergranzende Mittheilungen und
Erlauterung der ehemaligen Verbreitung und Ver-
tiltung der Steller’schen Seekuh (Lu le 28 mars
1867) // Bull. Acad. 1867b. T. 6. P. 223-232;
T. 11. P. 445-451.
Brandt I.F. Einige Worte fiber die Gestalt des
Hirns der Seekuhe (Sirenia) (Lu le 17 octobre
1867) // Ibid. 1967c. T. 6. P. 364-366; T. 12.
P. 269-270.
Brandt I.F. Einige Worte fiber eine neue un-
ter miener Leitung entworfene ideale Abbildung
der Steller’schen Seekuh (Lu le 28 novembre
1867) // Ibid. 1867d. T. 6. P. 571-572; T. 12.
P. 457-458.
Brandt I.F. Uber die Gruppirung der Gattungen
der Ordnung der Sirenien (Lu le 5 mars 1868) //
Ibid. 1868. T. 13. P. 21-23.
Broch H. Zoologiens historic i Norge til annen
verdenskrig. Oslo: Akad. Fori., 1954.
Brzek G. Historia zoologii w Polsce do r. 1918.
Lublin, 1947.
Bucher E. Die Abbildungen der nordischen
Seekuh (Rhytina gigas Zimm.) 11 Мётп. Acad. Sci.
Petersburg. Ser. 7. 1891. T. 38, N. 7.
Buffon G.L. Histoire naturelie. P., 1749—1804.
Vol. 1-44.
Burckhardt R. Geschichte der Zoologie und
ihrer wissenschaftlichen Probleme. Leipzig, 1907,
Carus J. Geschichte der Zoologie. Mfinchen,
1872. (Geschichte der Wissenschaften in Deutsch-
land; Bd. 12).
Carus J., Engelmann W. Bibliotheca Zoologica.
Leipzig, 1872. Bd. 1-11.
Clegg P.C. Biology of the mammal. L.: Heine-
mann, 1979.
Clusius C. Exoticorum libri decern. Lugduni
Batavorum, 1605.
Collaert A. Animalium quadrupedum omnis
generis verae et artificiosissimae delineations. Ant-
werpiae, 1612. 54 p.
Coxe W. Account of Russian discoveries bet-
ween Asia and America. L., 1780.
Coxe W. Voyage en Pologne, Russie, Suede,
Dannemarc etc. Geneve, 1787. T. 2. P. 368—369.
Crombie A. Augustine to Galileo, 5th—13th
century. L., 1961.
Darlington P.I. Zoogeography: The geographi-
cal distribution of animals. N.Y., 1957.
Davis D.E., Golley F.B. Principles in mammalo-
gy. N.Y.: Reinhold, 1963.
Dissertatio academica, demonstrans usum His-
toriae Naturalis in vita communi, quam publice
examinandam submittit d. 17 Maji 1766 I Matheus
Aphonin. Upsaliae, 1766.
Dissertatio inauguralis de Pyogenia. Lugduni
Batavorum, 1783.
Eakin R.M. Great scientists speak again. L.,
1975.
Die Familie Gmelin und die Naturwissenschaf-
ten: Ein Rfickblick auf drei Jahrhunderte: Port-
rats, Briefe, Zeitgenossische Dokumente, Verof-
fentlichungen: Leichgaben aus Familienbesitz den
Universitaten Tubingen, Heidelberg, Frankfurt
am Main, dem Gmelin-Institut. Frankfurt a.M.:
M. Planck-Gesellschaft, 1964. 33 Portr., Facs.
Fedorowicz Z. Dzieje zoologii na uniwersytecie
Jagiellonskim w latach 1780—1960. Krakow,
1965.
Fedorowicz Z. Zoologia w Gdansku w stuleciach
XVII i XVIII // Мёт. zool. 1968. N 19.
Fosters I.R. Observations made during round
the world. 1778.
Georgi I. Bemerkungen einer Reise im Rus-
sischen Reiche, in den Jahern 1772—1774. St. Pe-
tersburg: Kaiser. Akad. Wiss., 1775. Bd. 2.
Georgi I. Geographische-physikalische und
naturhistorische Beschreibung des Russischen
Reichs zur Uebersicht bisheriger Kentnisse von
demselben Konigsberg. Konigsberg. SPb., Th. 1.
1797; Th. 2. Abb. 1-3. 1798-1799; Th. 3. Bd. 1-2.
1798; Abt. 4. 1799.
Gesnerus C. Historiae animalium. Tiguri, 1551.
Vol. 1.
Gesnerus C. leones animalium quadrupedum
viviparorum. Tiguri, 1553.
Gmelin J.C. Quadrupedum // Novi comment.
Acad. Petropolitanae. 1758. T. 4. (XXVIII); 1760, T. 5.
Gmelin J.C. Reise durch Sibirien von dem Jahr
1733 bis 1743. Gottingen, 1751-1752. Th. 1:
(1733-1735). 22, 584 S.; Th. 2: (1735-1738).
652 S.; Th. 3: (1738-1740). 584 S.; Th. 4: (1740—
1743). 692 S.
Gmelin S.G. Reise durch Russland zur Unter-
suchung der drei- Naturreiche. St. Petersburg,
1770-1784. Th. 1-4. Th. 1. 1770. 182 S.; Th. 2.
1774. 260 S.; Th. 3. 1774. 508 S.; Th. 4. 1784.
218 S.
Golder F.A. Berings voyages. 1925a. Vol. 2.
P. 4—5. (Amer. Geogr. Soc. Res. Ser.; N 1, 2).
Golder F.A. Steller’s journal of the sea voyage from
Kamchatka to America and return on the second
expedition 1741—1742 translated and in part anno-
tated by Leonhard Steijneger. N.Y., 1925b. XI,
291 p. (Amer. Geogr. Soc. Res. Ser.; N 2).
Graaf R. de. De virorum organis generation!
serventibus. Lugduni Batavorum, 1668.
Grant E. A source book in medieval science I
Ed. E. Grant. Cambridge (Mass.), 1974.
Gregory W.K. The orders of mammals // Bull.
Amer. Mus. Natur. Hist. 1910. Vol. 22. P. 1-524.
GUldenstedt LA. Reisen durch Russland und im
Caucasischen Gebirge I Hrsg. P.S. Pallas. St. Pe-
tersburg, 1787-1791. Th. 1. 1787. 511 S.; Th. 2.
1791. 552 S.
408
Hall T.S. A source book in animal biology /
Ed. Th.S. Hall. Cambridge (Mass.): Harvard Univ,
press, 1970.
Harvey W. Exercitationes de generatione ani-
malium. Amstelodami, 1651.
Hays H.R. Birds, beasts, and men: A humanist
history of zoology. L., 1973.
Henning G. Die Reiseberichte fiber siberien von
Herberstein bis Ides. Leipzig, 1905. (Mitt, des Ve-
reins ftir Erdkunde).
Hewer H.R. The length and breadth of zoolo-
gy. L., 1965.
International catalogue of scientific literature.
L., 1914. Twelfth Amer. Issue: Shedule of classi-
fication zoology. (Intern, council Roy. Soc. Lon-
don; Vol. 49).
Jonstonius J. Historiae naturalis de quadru-
pedibus libri. Amstelodami, 1657.
The journey of William of Rubruck to the
eastern parts of the World 1253—55, as narrated by
himself with two accounts of the earlier journey of
John of Plan de Carpine. L., 1900.
Keller O. Die antike Tierwelt. Leipzig, 1909.
Koppen F.T. Bibliotheca Zoologica Rossica:
Literature fiber die Thierweltgesamt Russlands bis
zum Jahre 1885. St. Petersburg, 1905—1908.
Bd. 1, 2.
Kozuchowski J. Zarys historiografii zoologii na
ziemiach polskich Ц Memorabilia zoologica.
W-wa, 1963.
Lepechin I. Descriptio quorundam animalum Ц
Novi comment. Acad. Petroplitahae, 1770. T. 14,
pt. 1. P. 498-511.
Lepechin I. Phocarum species // Acta Acad,
sci. imp. Petropolitanae. 1778. T. 1. P. 257—266.
Linne C. Systema naturae. Holmiae, 1758.
T. 1.
Lipsius J. Historic van den Elephant.
s’Gravenhage, 1621.
Lydekker R. A geographical history of mam-
mals. L., 1896.
Mallinson I. The shadow of extinction: Euro-
peis threatened wild mammals. L.: Macmillan,
1978.
Mammals of the world. 1964. Vol. 3: A clas-
sified bibliography.
Matthew W.D. Climate and evolution // Ann.
N.Y. Acad. Sci. 1915. Vol. 24. P. 171-318.
Messerschmidt D.G. Descripto cameli bactria-
ni binis in dorso tuberibus e scriptis D.G. Messer-
schmidii Ц Comment, acad. scient. Petropolitanae.
T. 10. 1747. P. 326-368.
Messerschmidt D.G. D.G. Messerschmidt For-
schungsreise durch Sibirien 1720—1728. T. 1. Ber-
lin, 1964; T. 3. Tagebauchaufreichnungen. Mai
1724—Febr. 1725. Berlin, 1966.
Nierembergius J.E. Historiae naturae. Antver-
piae, 1635.
Nordenskiold E. History of biology. N.Y.,
1935.
Paggendorf. Biographisch-litterarisches Hand-
worterbuch. 1863. Bd. 1. 753 S.
Pallas P.S. Elenchus zoophytorum sistens gene-
us adumbrationes generaliores... Hague comitum,
1766.
Pallas P.S. Miscellanea Zoologica, quibus novae
imprimus atque obscurae animalium species des-
cribuntur et observationibus iconibusque illustran-
tur. Hague, 1766. 4°, XII.
Pallas P.S. Descriptio Leporis pusilli // Novi
comment. Acad. Petrolitanae. 1768. T. 13.
P., 531-538.
Pallas P.S. Beytrage zur Naturgeschichte des
Elennthieres // Stralsund Mag. 1769a^ Stfick. 5.
S. 382-394.
Pallas P.S. Beytrage zur Naturgeschichte des
Rennthieres Ц Ibid. 1769b. Stfick 5. S. 394-411.
Pallas P.S. Von den Antilopen oder Gasellen
fiberhaupt. In: C6. "Naturgeschichte merkwiirdiger
Thiere in welcher vornemlich neue und unbe-
kannte Thierarten durch Kupferstiche, Beschrei-
bungen und Erklarungen erlautert werden, aus
dem latenischen von E. Baldinger. Berlin, 1769.
Pallas P.S. Naturgeschichte merkwiirdiger
Thiere, in welcher vornemlich neue und bekannte
Thierarten durch Kupferstiche, Beschreibung und
Erklarungen erlautet werden. B., 1769—1778.
Pallas P.S. Reise durch verschiedene Provinzen
des russischen Reichs. Th. 1. 1771. 504 S.; Th. 2.
1773. 744 S.; Th. 3. 1777.
Pallas P.S. Lacerta spoda H Novi comment,
acad. Petropolitanae. 1774. T. XIX. P. 438.
Pallas P.S. Equus henionis. Mongolis Dshikke-
taei dictus Ц Novi comment. Acad. Petropolitanae.
1774a. T. 19. P. 394-417.
Pallas P.S. Spicilegia Zoologica, quibus novae
imprimis et obscurae animalium species iconibus,
descriptionibus atque commentariis illustrantur.
Berolini, 1774b.
Pallas P.S. Additamentum "De cranio Rhinoce-
rotis africani cornu gemino” Ц Acta Acad. Petro-
politanae. 1777a. Pt 2. P. 193-212.
Pallas P.S. Description du Bufle a quene de
cheval, precedee d’observations generales sur les
especes sauvages du gros betail Ц Ibid. 1777b.
Pt 2. P. 232-257.
Pallas P.S. Observationes circa Myrmecophagam
africanam et Didelphidis novam speciem orienta-
lem; e litteris celeberr / Petri Camper excerptae et
illustratae Ц Ibid. 1777c. Pt 2. P. 223-231.
Pallas P.S. Observations sur I’Asne dans son etat
sauvage ou sur le v6riteleb Onagre des anciens Ц
Ibid. 1777c. Pt 2. P. 258-277.
Pallas P.S. Novae species quadrupedum e Gli-
rium ordine. Erlangae, 1778.
Pallas P.S. Capra caucasica, e schedis cel.
A.J. Giildenstaedt // Acta Acad. Petropolitanae.
1779a. Pt 2. P. 273-281.
Pallas P.S. Neueste Beschreibung des sibirischen
409
Schaafes und Steinbocks, auch des Kirgisischen
Widders. B., 1779b. 4°.
Pallas P.S. Didelphis brachyura // Acta Acad.
Petropolitanae. 1780. Pt 2. P. 235-247.
Pallas P.S. Abhanderungen des Bobak oder
russischen Murmelthiers // Neue Nord. Beytr.
1781a. Bd. 2. S. 343-344.
Pallas P.S. Sorices aliquot illustrati // Acta
Acad. Petropolitanae. 1781b. Pt 2. P. 314—348.
Pallas P.S. Uber die am Wolgastrom bemerkten
Wanderungen der grossen Wassermause (Mus
amphibius) // Neue Nord. Beytr. 1781c. Bd. 1.
S. 335-338.
Pallas P.S. Flora Rossica seu stripium Imperii
Rossici per European et Asian indigenarum des-
criptiones et icones. T. 1. P. 1 u P. 2. Petropoli,
1784-1788, in folio, 80+114 p. 100 tabl.
Pallas P.S. Bemerkungen auf einer Reise in die
siidlichen Stadthaltenschaften des Russischen
Reichs in den Jahren 1793 und 1794. Leipzig.
Bd. 1799. 516 S.; Bd. 2. 1801. 525 S.
Pallas P.S. Zoographia Rosso—Asiatica, sistens
omnium animalium in extenso Imperio Rossico et
adjacentibus maribus observatorum recensionem do-
micila, mores et descriptiones, anatomen atque
icones plurimorum. Petropoli, 1811. 1831. T. 1.
Pallas P.S. A Naturalist in Russia. Letters from
Peter Simon Pallas to Thomas Pennant. Minneapo-
lis, 1967. P. 122-123.
Perri E. Traite de zoologie. P., 1893.
Petit G.t Theodorides J. Histoire de la zoologie.
P., 1962.
Pierre M.t Grasse P. Reaumur et 1’analyse des
phenomenes instinctins. P., 1956.
Plinius C.S. Naturalis historiae libri XXXVII.
Venetiis, 1469.
Pontoppidan E. Forsog paa Norges Naturlige
Historic. 1752-1753.
Ray J. Miscellaneous discourses concerning the
dissolution and changes of the world. L., 1692.
Ray J. Synopsis methodica animalium quadru-
pedum et serpentini Generis. L., 1693.
Rayfield D.J. The dream of Lhasa: The life of
Nikolay Przevalsky (1839—1888), explorer of Cent-
ral Asia. L., 1976. 211 p.
Recent mammals of the world / Ed. S. Ander-
son, I.K. Jones. N.Y., 1967.
Sarton G. Introduction to the history of scien-
ce. Baltimore, 1931.
Schofer E. Zur Erinnerung an Marco Polo //
Mitt. Geogr. Ges. Hamburg. 1899. Bd. 15, H. 1.
S. 56-57.
Simpson G.G. Mammals and land bridges //
J. Wash. Acad. Sci. 1940. Vol. 30. P. 137-163.
Simpson G.G. The principles of classification
and a classification of mammals // Bull. Amer.
Mus. Natur. Hist. 1945. Vol. 85. P. 1—30.
Simpson G.G. Evolution and geography. Eugene
(Ore.), 1953.
Singer Ch. A history of biology to about the
year 1900. L., 1959.
SpSrck: R. Undervisningen i zoologi ved K0ben-
havns Universitet et tilbageblik over 300 Sr. K/-
benhavn, 1962.
Stejneger L. G.W. Steller: A pioneer of Alaskan
natural history. Cambridge (Mass.), 1936.
Steller G.W. Ausfiihrliche Beschreibung von
sonderbaren Meerthieren, mit Erlauterungen und
nothigen Kupfern versehen. Halle, 1753. 218 S.
Steller G.W. Beschreibung von dem Lande
Kamtschatka, dessen Einwohner, deren Sitten,
Nahmen, Lebensart und verschiedenen Gewohnhei-
ten. Frankfurt; Leipzig, 1774. 384 S.
Steller G.W. Topographische und physikalische
Beschreibung der Beringsinsel, Welche im ostli-
chen Weltmeer an der Kiiste von Kamtschatka
leigt Ц Neue Nord. Beytr. 1781. Bd. 2. P. 255-301.
Steller G.W. Tagebuchseiner Seereise aus dem
Patripauls Hafen in Kamtschatka bis an die west-
lichen Kiisten von America und seiner Begeben-
heiten auf der Riickreise // Ibid. 1793. Bd. 5.
S. 129-236; Bd. 6. S. 1-26.
Strauch A. Das zoologische Museum d. K. Aka-
demie der Wissenschaften St. Petersburg in 50 j.
St. Petersburg, 1889.
Taylor G.R. The science of life: A picture his-
tory of biology. L., 1963. P. 67.
Theodorides J. La zoologie au moyen age. P.,
1958.
Thorndike L. A history of magic and experi-
mental science. L., 1923.
Urness C. A naturalist in Russia: Letters from
Peter Simon Pallas to Thomas pennant / Ed. C. Ur-
ness. Minneapolis, 1967.
Vucinich A. Science in Russian culture: A his-
tory to 1860. (Calif.), 1963. 463 p.; Lepechin and
Wolff. P. 154—157; Lepechin, Ivan. P. 151f, 154f,
165, 167, 180, 372.
Walker E.P. Mammals of the world. 2nd ed.
Univ, press, Baltimore, 1968. Vol. 1—2.
Whitley G.P. Early history of Australian zoo-
logy. Sydney,. 1970. 75 p.
Wotton E. De differentiis animalium. Lutetiae
Parisiorum, 1552.
СОДЕРЖАНИЕ
ПРЕДИСЛОВИЕ................................................................... 3
ВВЕДЕНИЕ...................................................................... 5
НАКОПЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ О МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА РУСИ В ДОПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД
(IX-XVII вв.)................................................................. Ю
Млекопитающие в древнерусской литературе................................. Ю
"Физиолог”.............................................................. 13
Зарубежные путешественники о млекопитающих Московии и Сибири............ 15
Русские зверинцы XVI—XVII вв............................................ 29
Торговля пушниной на Руси в XVI—XVII вв................................. 31
Русские землепроходцы о млекопитающих Сибири............................ 34
СОСТОЯНИЕ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVI - НАЧАЛЕ XVIII В.
Б.А. Старостин ......................................................... 44
ПОСЛЕПЕТРОВСКИЙ ПЕРИОД. ПЕРВЫЕ ТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. ЗАРОЖДЕ-
НИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕРИОЛОГИИ (ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА XVIII в.)...................... 54
Д.Г. Мессершмидт — первый ученый-натуралист, исследовавший зверей Сибири.. 54
И.Г. Гмелин и Г.Ф. Миллер. Исследования млекопитающих Восточной Сибири.... 69
Териологические сочинения И.Г. Гмелина.................................. 80
С.П. Крашенинников — первый натуралист, исследовавший Камчатку. Сочинение ’’Описа-
ние Земли Камчатки”...................................................... 109
Г.В. Стеллер. Исследования Аляски, Алеутских, Командорских островов и Камчатки. Сочинение
”0 морских зверях"....................................................... 123
АКАДЕМИЧЕСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ 1768-1774 гг. ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННОЙ ТЕРИОЛОГИИ......................................................... 163
И.И. Лепехин. Описание зверей Северо-Запада России....................... 164
С.Г. Гмелин. Исследование млекопитающих Юго-Запада России................ 191
О сайгаке и ушастом еже................................................ 202
И.А. Гильденштедт. Описание млекопитающих Юго-Запада России...............211
Описание антилопы с неполностью развитым зобом [джейран]............... 216
Мышь сусликовая [суслик]................................................227
П.С. Паллас и его териологические труды...................................233
Экспедиция на Урал и в Сибирь...........................................240
Петербургский период................................................... 246
Путешествие на юг России. Крымский период. Последние годы...............258
Сочинение "Novae species quadrupedum е Glirum ordine” — первый капитальный труд
по грызунам.............................................................270
Сочинение "Zoographia Rosso-Asiatica” — вершина отечественной териологии
XVIII в.................................................................299
Приложение. Перевод части раздела "Млекопитающие” из труда П.С. Палласа "Zoographia
Rosso-Asiatica".........................................................306
ЗАКЛЮЧЕНИЕ...................................................................392
SUMMARY..................................................................... 397
ЛИТЕРАТУРА...................................................................400
411
CONTENTS
PREFACE .................................................................................. 3
INTRODUCTION............................................................................. 5
ACCUMULATION OF INFORMATION ABOUT MAMMALS IN RUSSIA BEFORE PETER-THE
GREAT (IXth-XVIIth CENTURIES)............................................................. Ю
Mammals in ancient Russian literature............................................... Ю
"Physiologue”...................................................................... 13
Foreign travellers about mammals of Moscovia and Siberia........................... 15
Russian zoos of the XVth—XVIIth centuries.......................................... 29
Russian travellers about Siberian mammals.......................................... 34
THE STATE OF THERIOLOGICAL KNOWLEGE IN WESTERN EUROPE IN THE XVIth- EARLY XVHI
CENTURIES BY B. A. STAROSTIN............................................................. 44
POST-PETER-THE GREAT PERIOD. FIRST THERIOLOGICAL STUDIES. BEGINNING OF RUSSI-
AN THERIOLOGY (FIRST HALF OF THE XVIIIth CENTURY)........................................ 54
D.G. Messerschmidt — the first investigator of Siberian mammals....................... 54
I.G. Gmelin and G.F. Miller. Investigations of Eastern Siberia........................ 69
Theriological studies by I.G. Gmelin............................................... 80
S.P. Krashenninikov - the first Russian naturalist to investigate Kamchanka. The work "Des-
cription of the Land Kamchatka”...................................................... 109
G.V. Steller. Investigations of Alaska, the Aleutian, Commander Islands and Kamchatka. The
work ”On Marine Mammals”............................................................. 129
ACADEMIC EXPEDITIONS OF 1768-1774. THEIR SIGNIFICANCE FOR THE DEVELOPMENT OF
RUSSIAN THERIOLOGY.......................................................................163
I.I. Lepekhin. Description of mammals of northwestern Russia. ...................... 164
S.G. Gmelin. Investigations of mammals of southwestern Russia.........................191
On the saiga and the long-eared hedgehog...........................................202
I.A. Giildenschtedt. Description of mammals of southwestern Russian...................211
Description of an antelope with an uncompletely developed gizzard, [goitred gazelle].216
Souslik mouse (souslik)............................................................227
P.S. Pallas and his theriological studies........................................... 233
Expedition to the Urals and Siberia................................................240
Petersburg period..................................................................246
Travel to the south of Russia. Crimean period. The last years..................... 258
The studies: ’’Novae species quadrupedum e Clirium ordine” — the first fundamental work
on rodents...........................................•.............................270
The work "Zoographia Rosso-Asiatica” — the climax of Russian theriology of the XVIIIth
century............................................................................299
Supplement. Translation of excerpts of the section "Mammals” from the Pallas study ”Zoo-
graphia Rosso-Asiatica”............................................................306
CONCLUSIONS............................................................................. 392
SUMMARY..................................................................................397
REFERENCES...............................................................................400
412
Научное издание
Соколов Владимир Евгеньевич
Парнес Яков Аркадьевич
У истоков
отечественной
териологии
Утверждено к печати
Институтом эволюционной
морфологии и экологии животных
им. А.Н. Северцова
Российской академии наук
Редактор издательства Г.М. Орлова
Художник И.В. Болотина
Художественный редактор Н.Н. Михайлова
Технический редактор Г.П. Каренина
Корректор Т.И. Шаповалова
Набор выполнен в издательстве
на наборно-печатающих автоматах
Подписано к печати 16.09.92
Формат 70x100 V16- Бумага этикеточная
Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная
Усл. печ.-л. 33,8. Усл. кр.-отт. 34,1. Уч.-изд. л. 39,4
Тираж 370 экз. Тип. зак. 3273
Ордена Трудового Красного Знамени
издательство "Наука”
117864 ГСП-7, Москва В-485,
Профсоюзная ул., д. 90
Ордена Трудового Красного Знамени
1-я типография издательства "Наука”
199034, Санкт-Петербург В-34, 9-я линия, 12
В. Е. Соколов
Я.А.Парнес
У ИСТОКОВ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ТЕРИОЛОГИИ