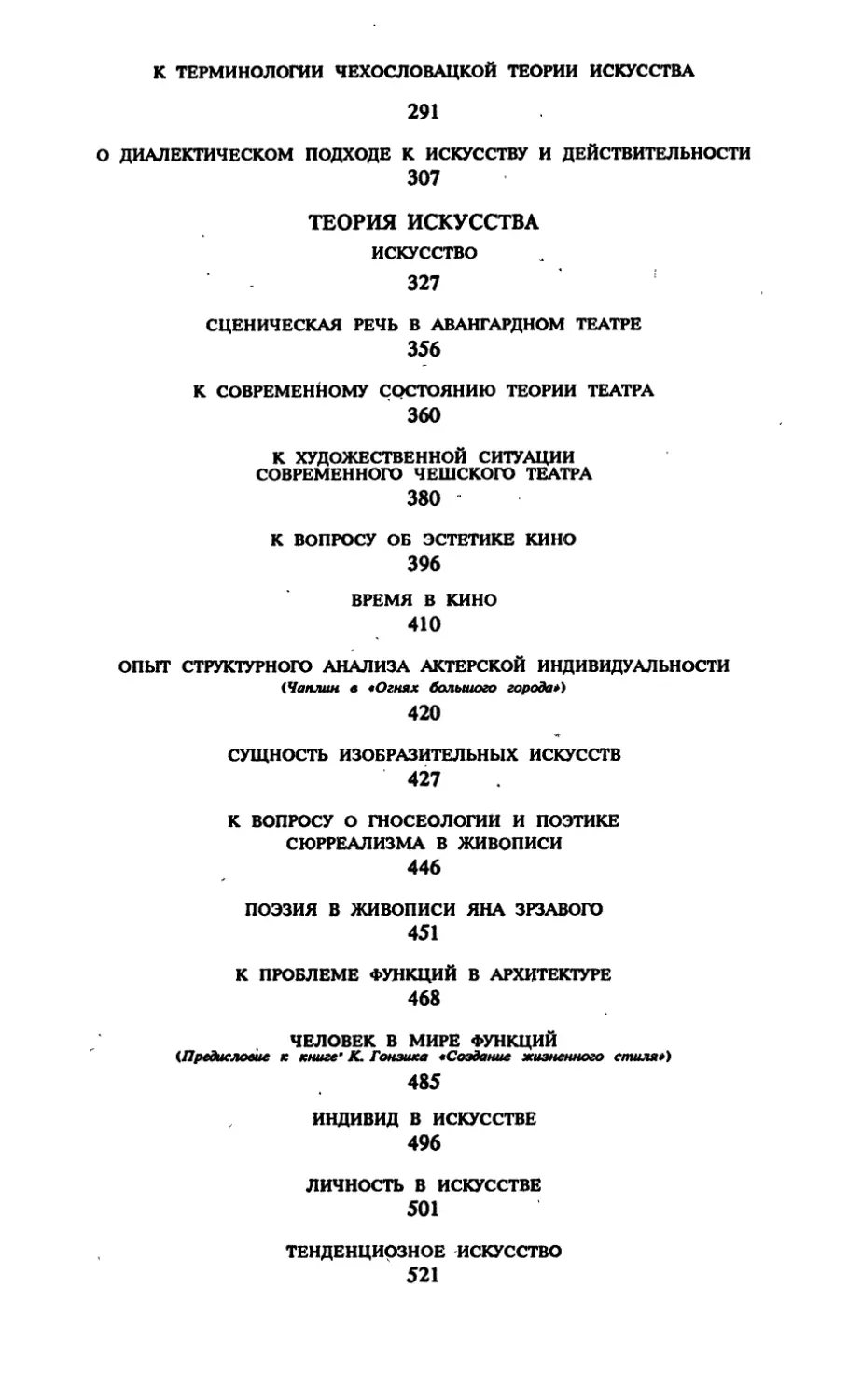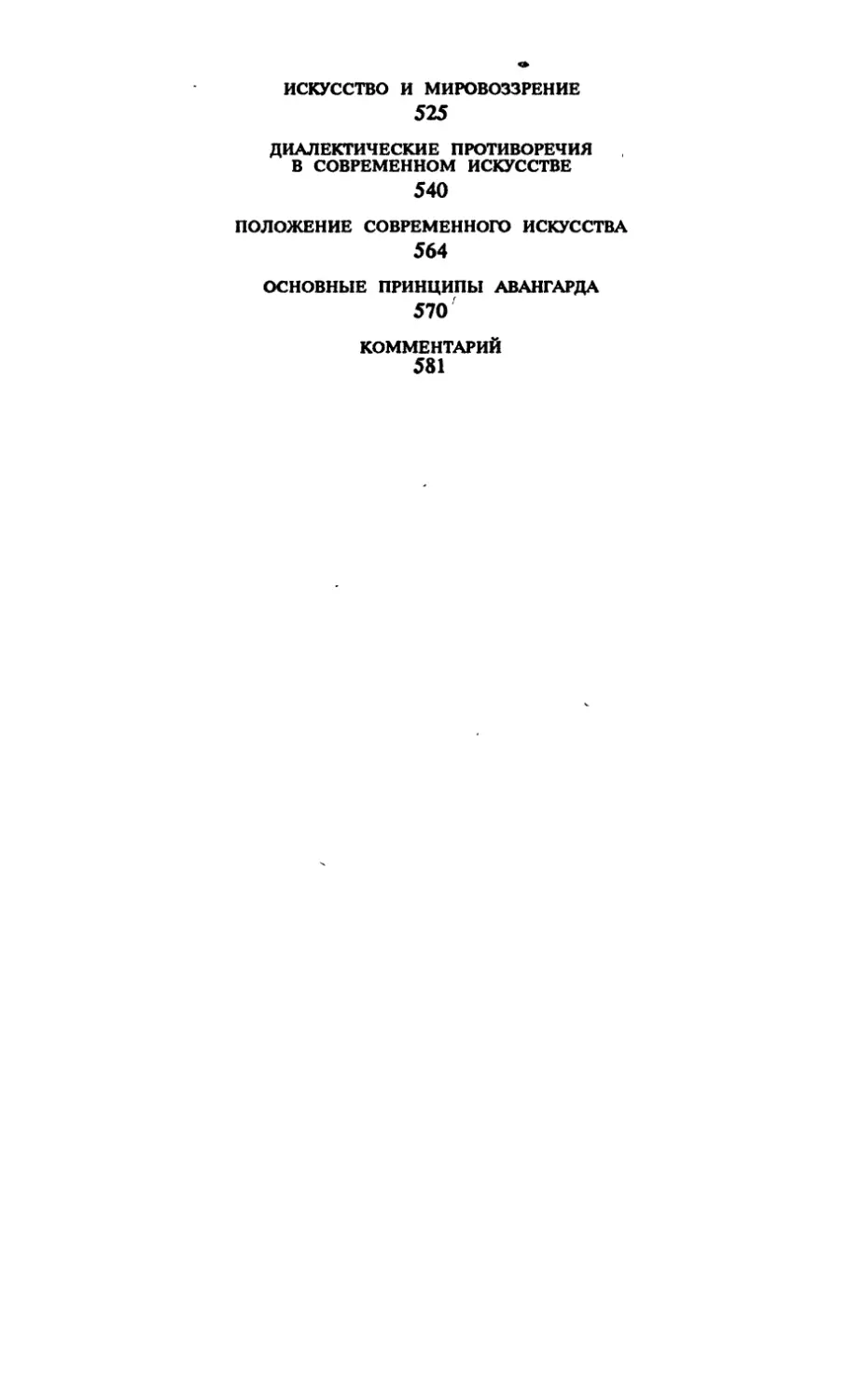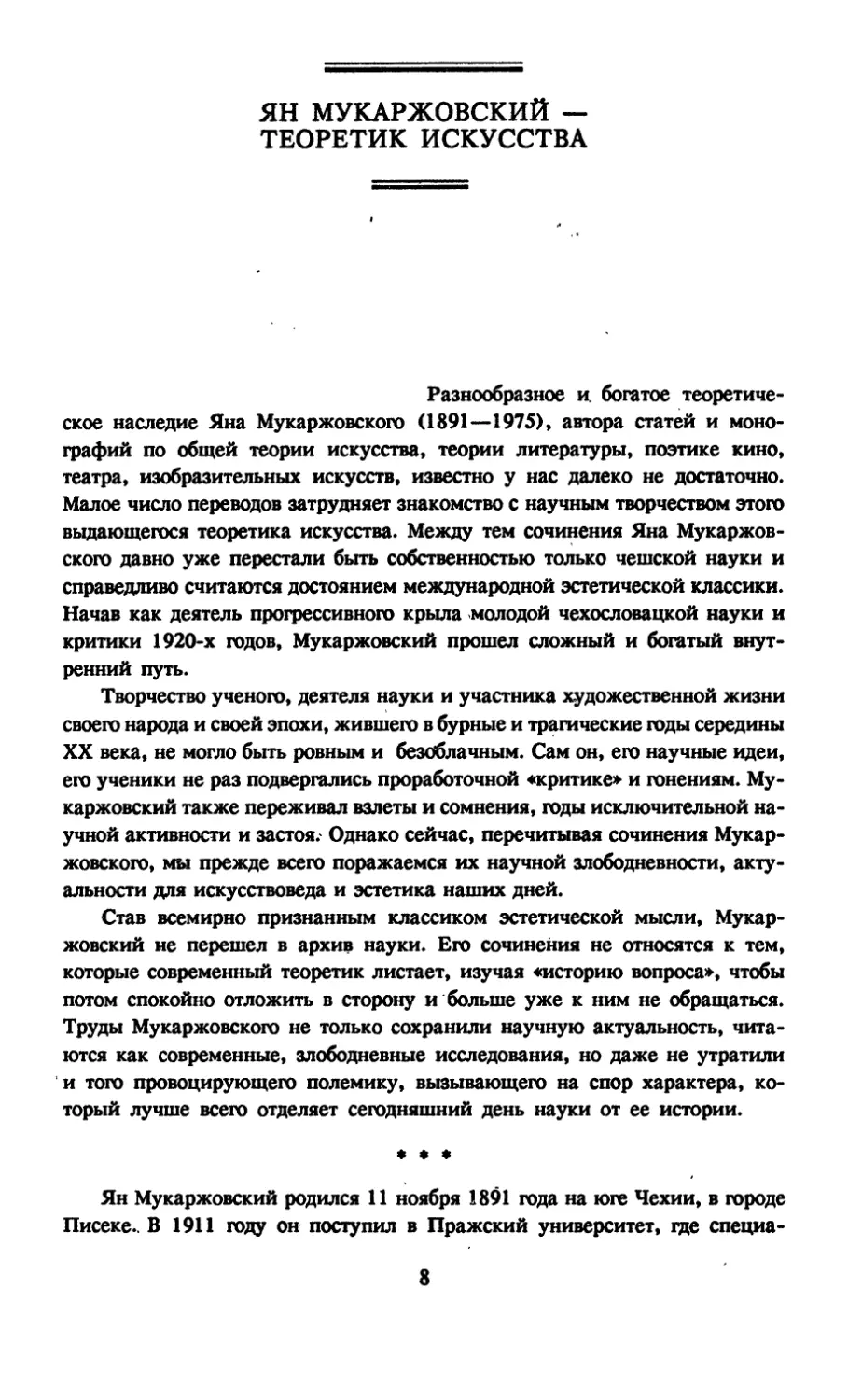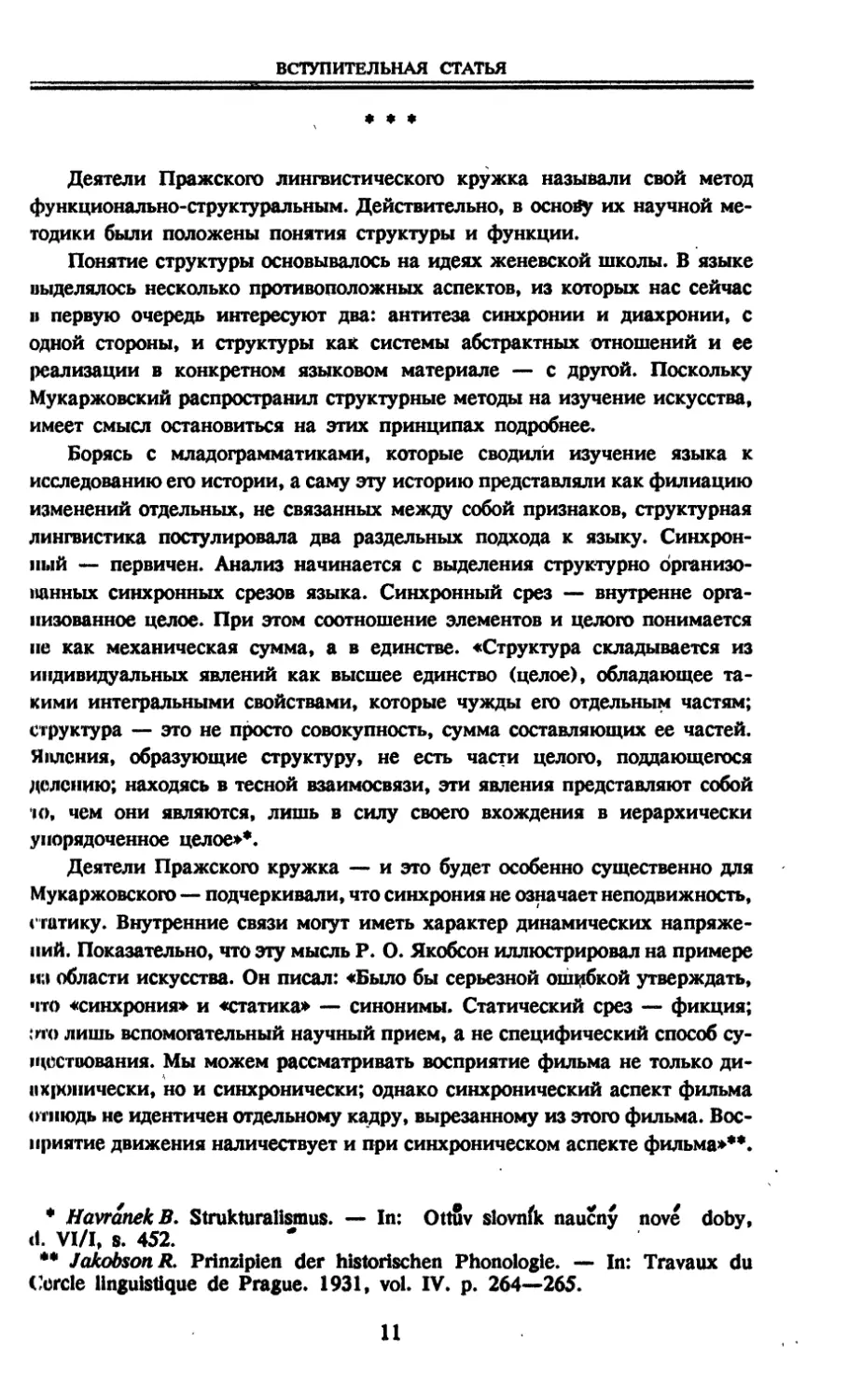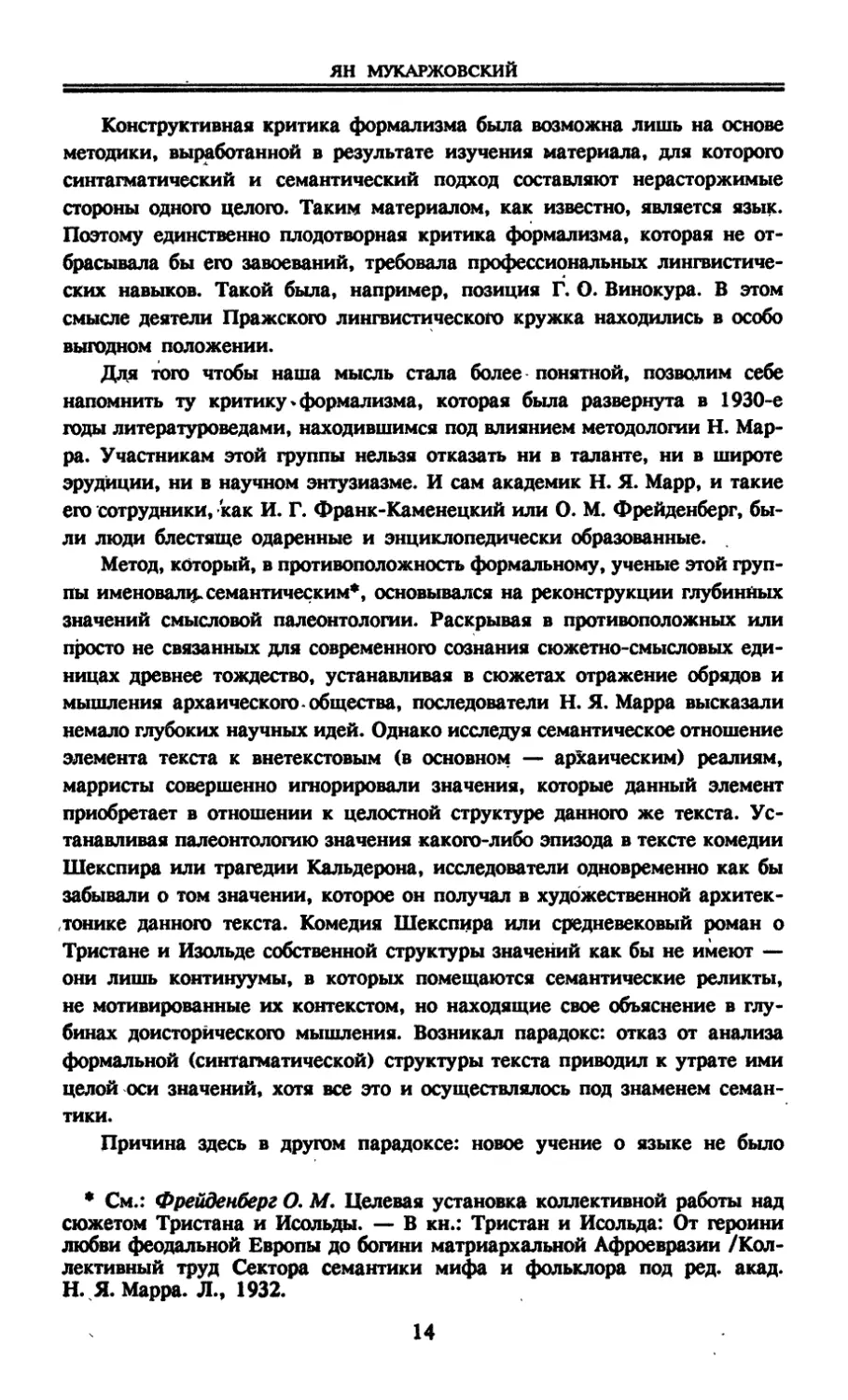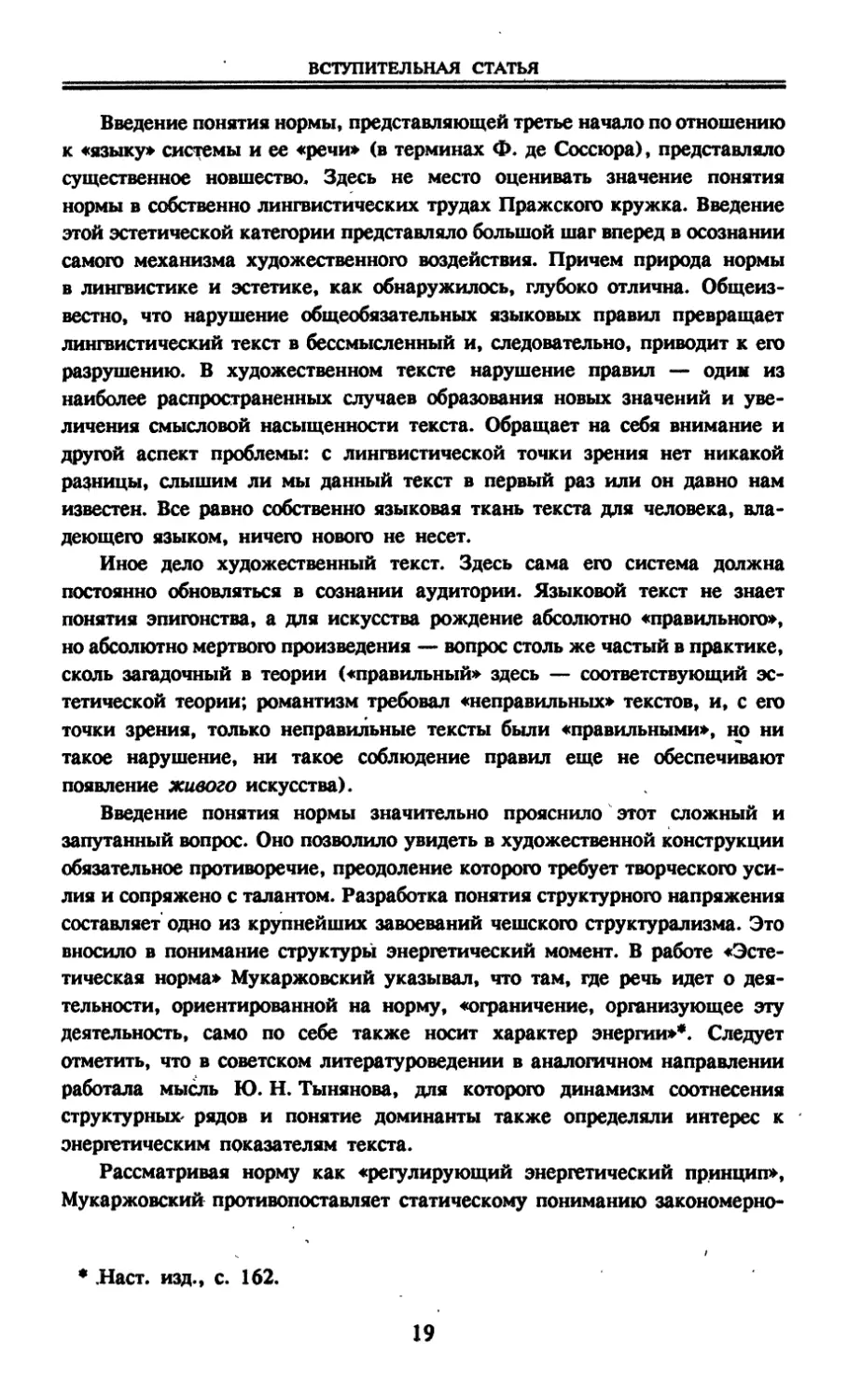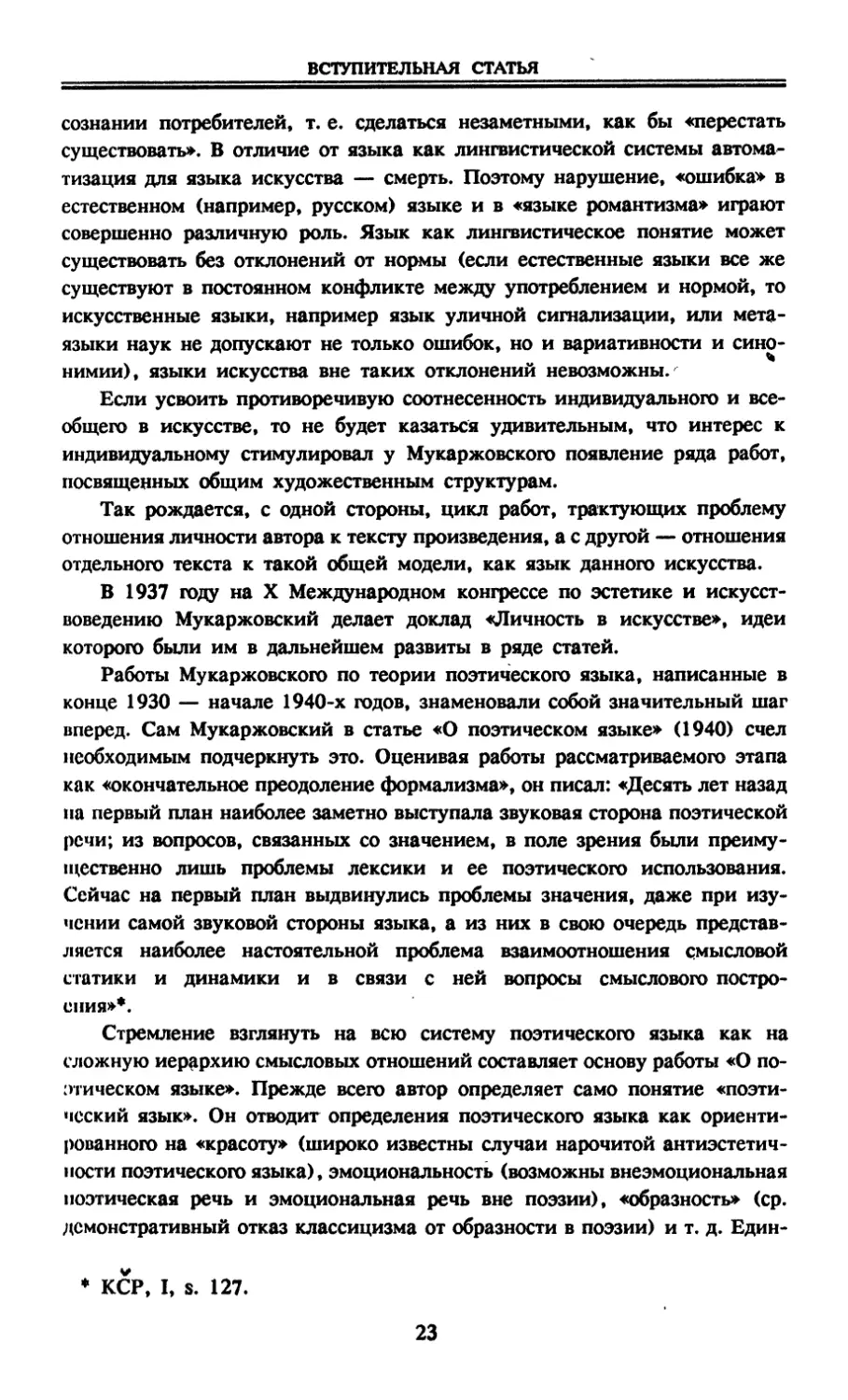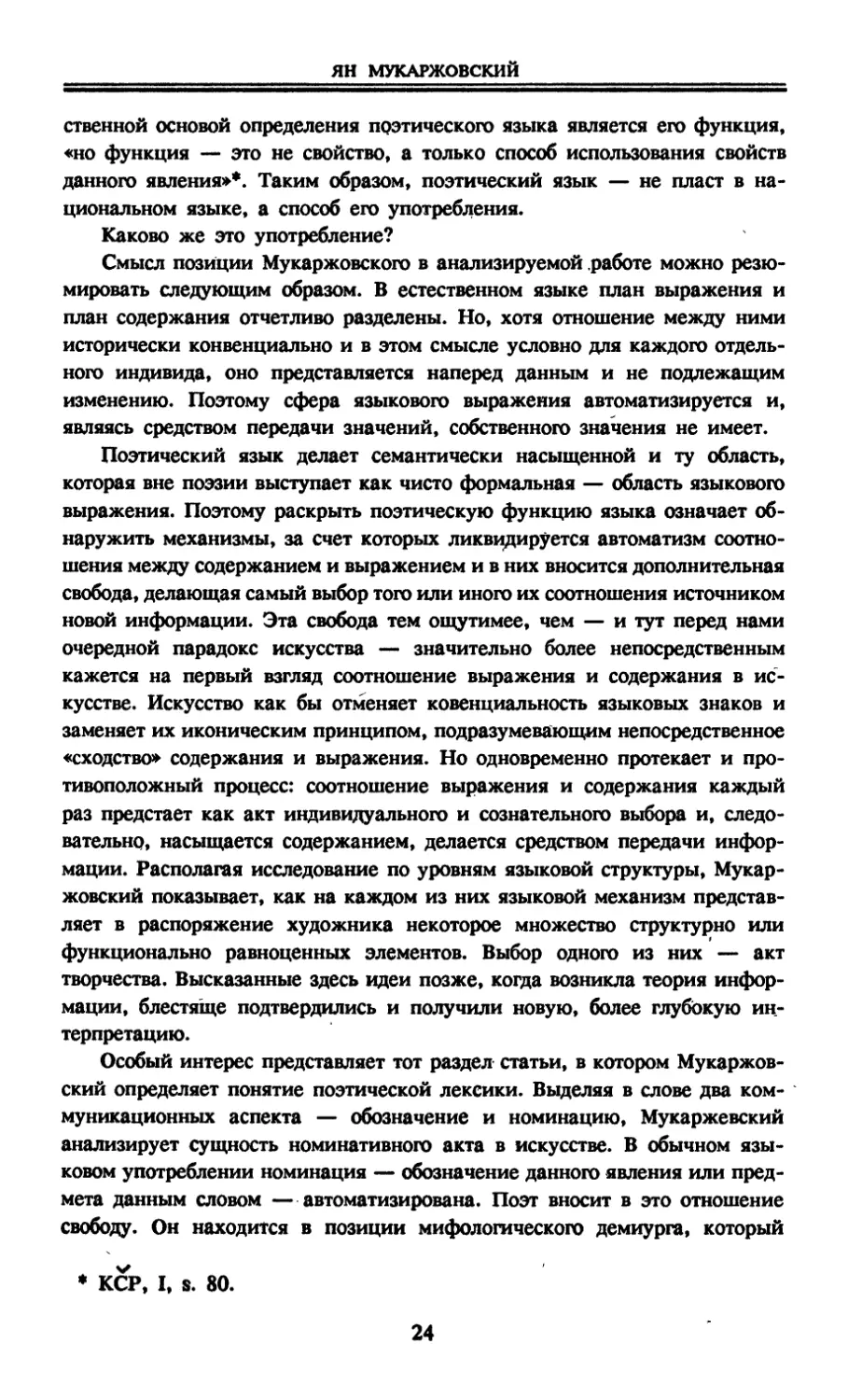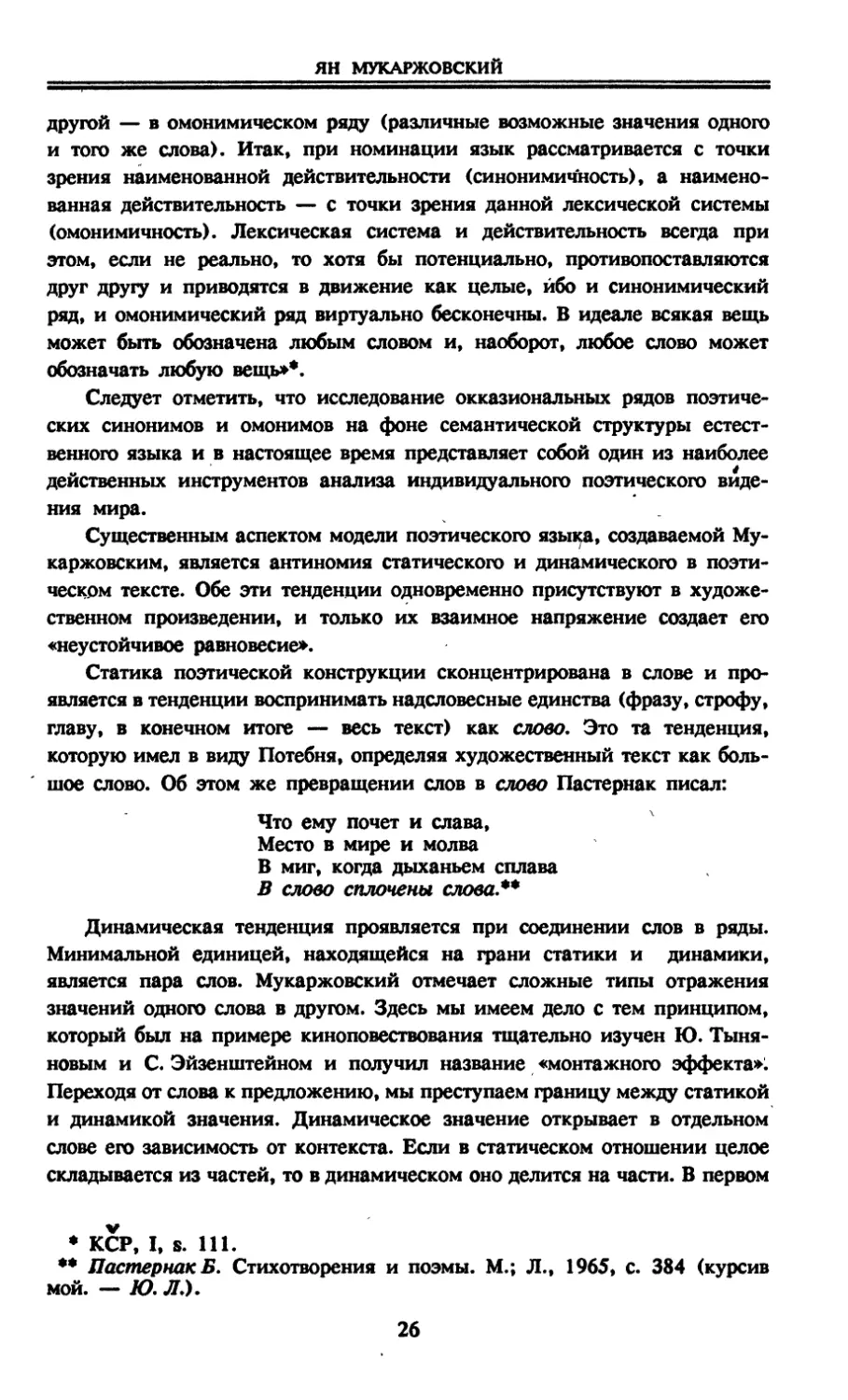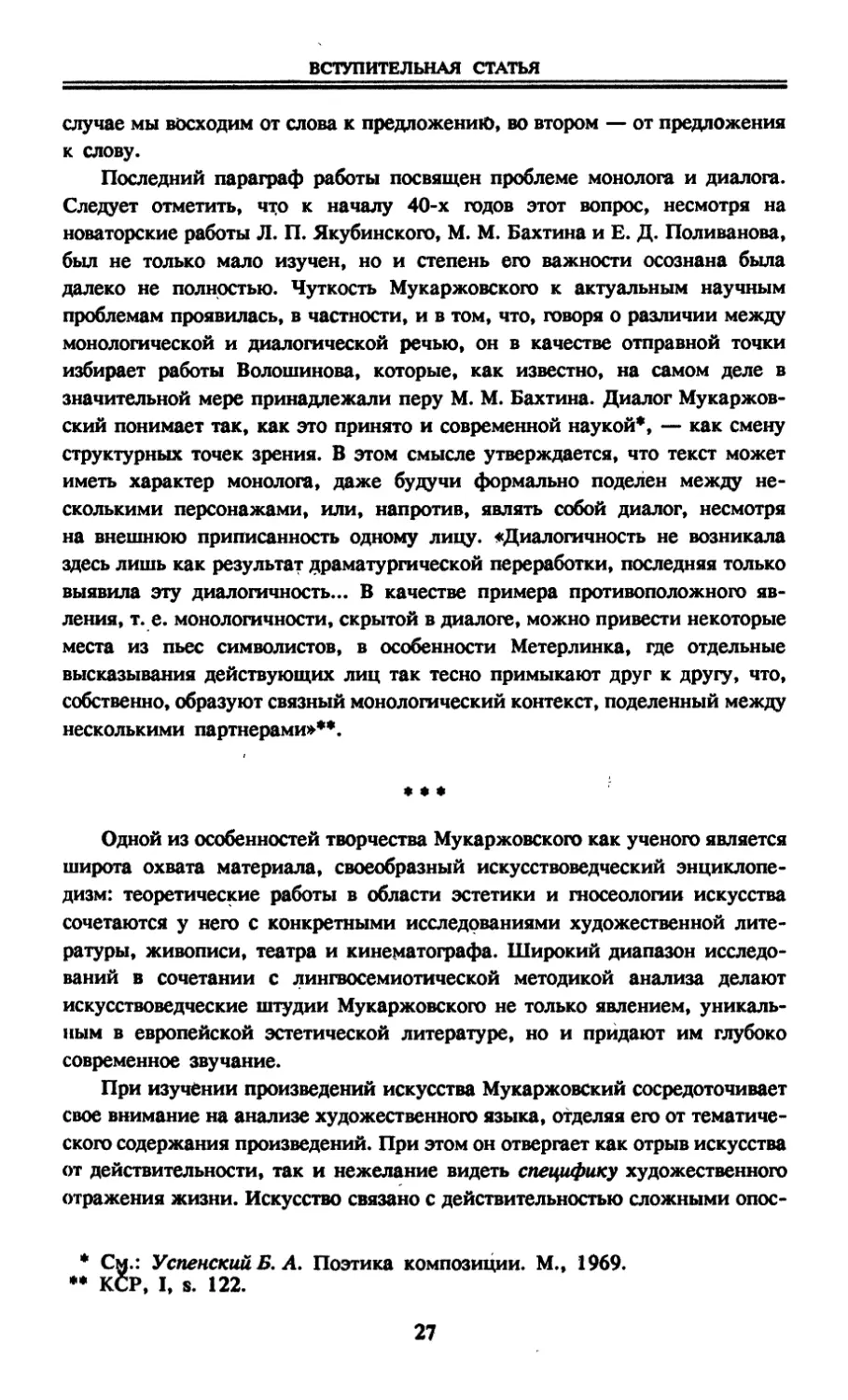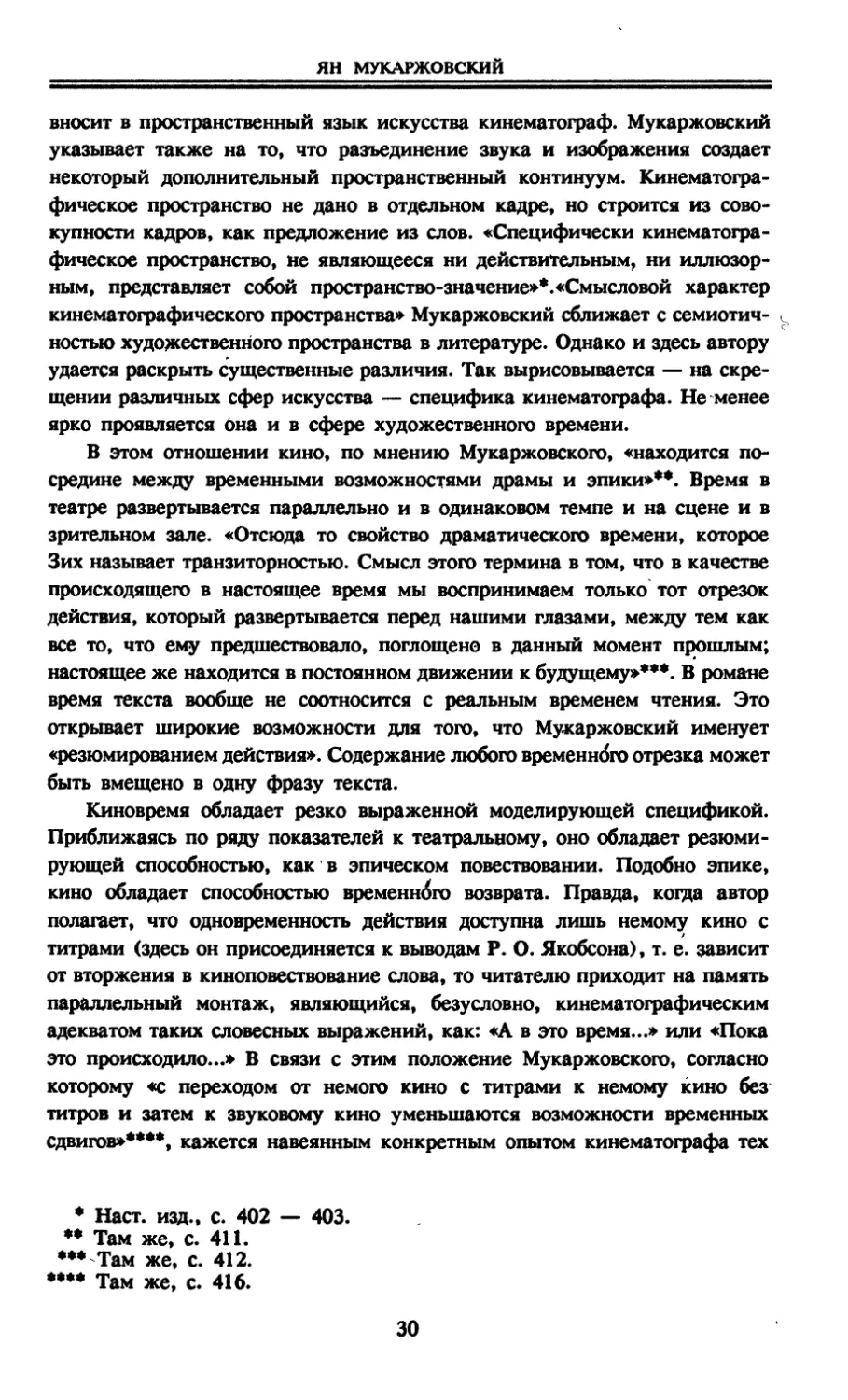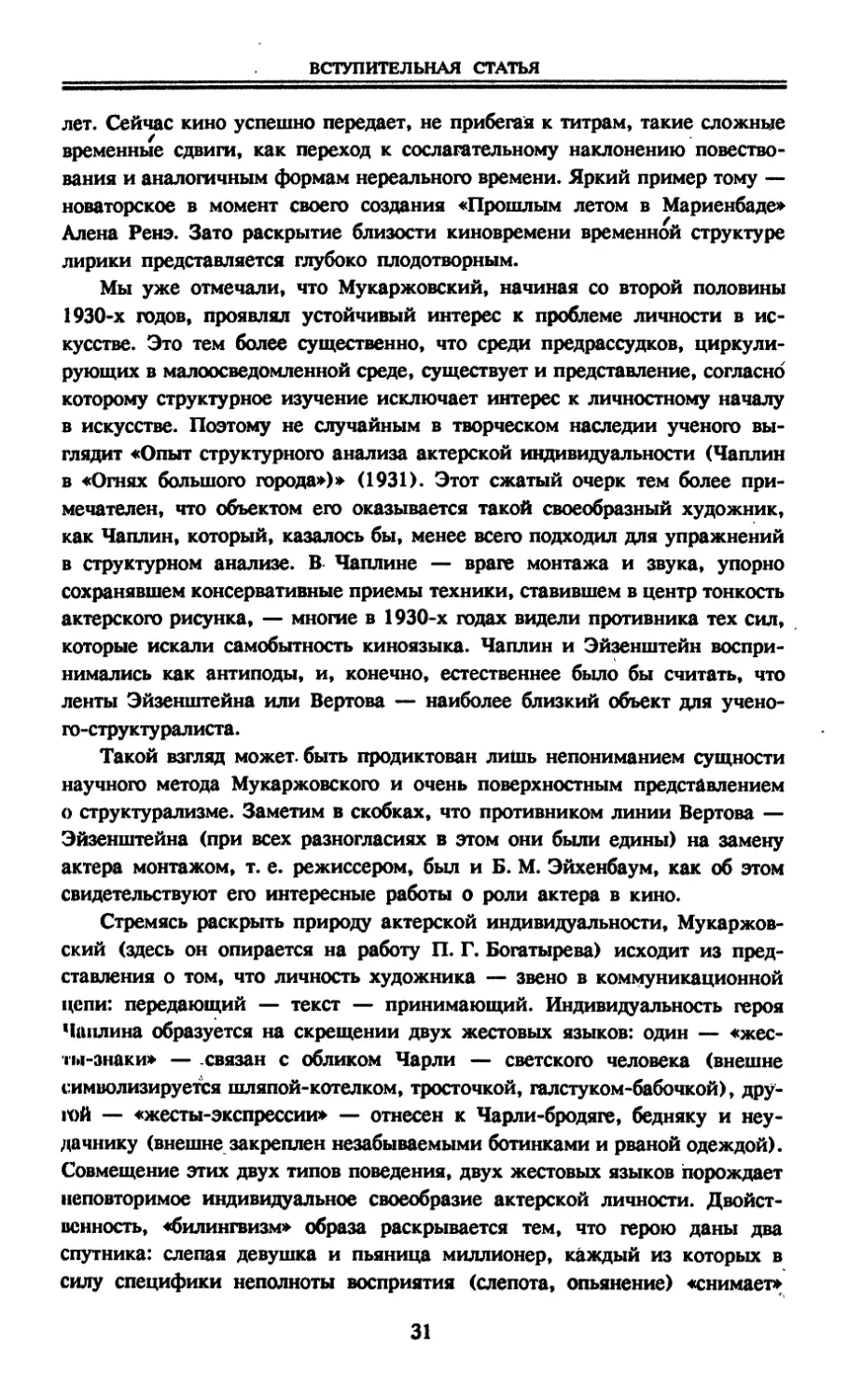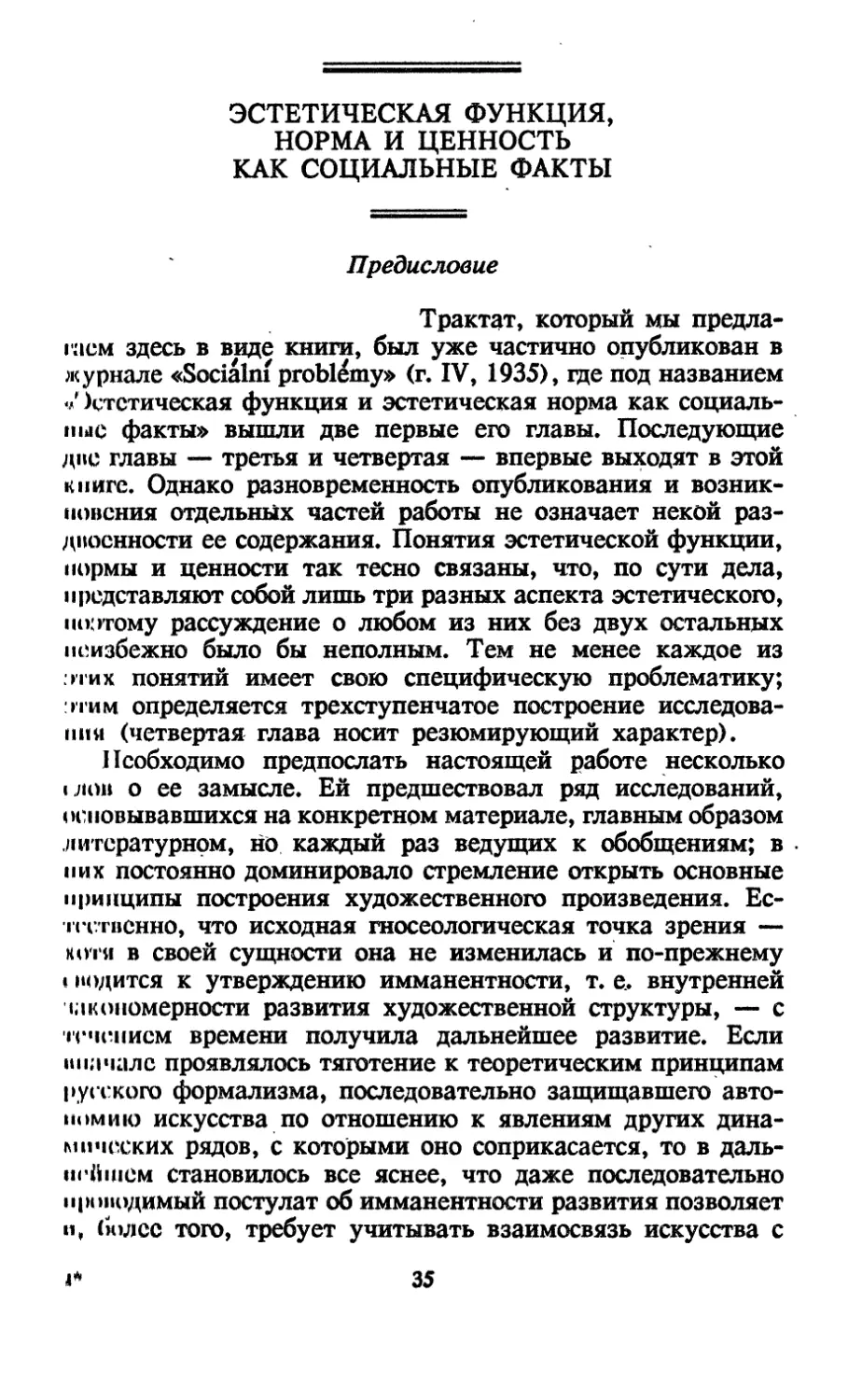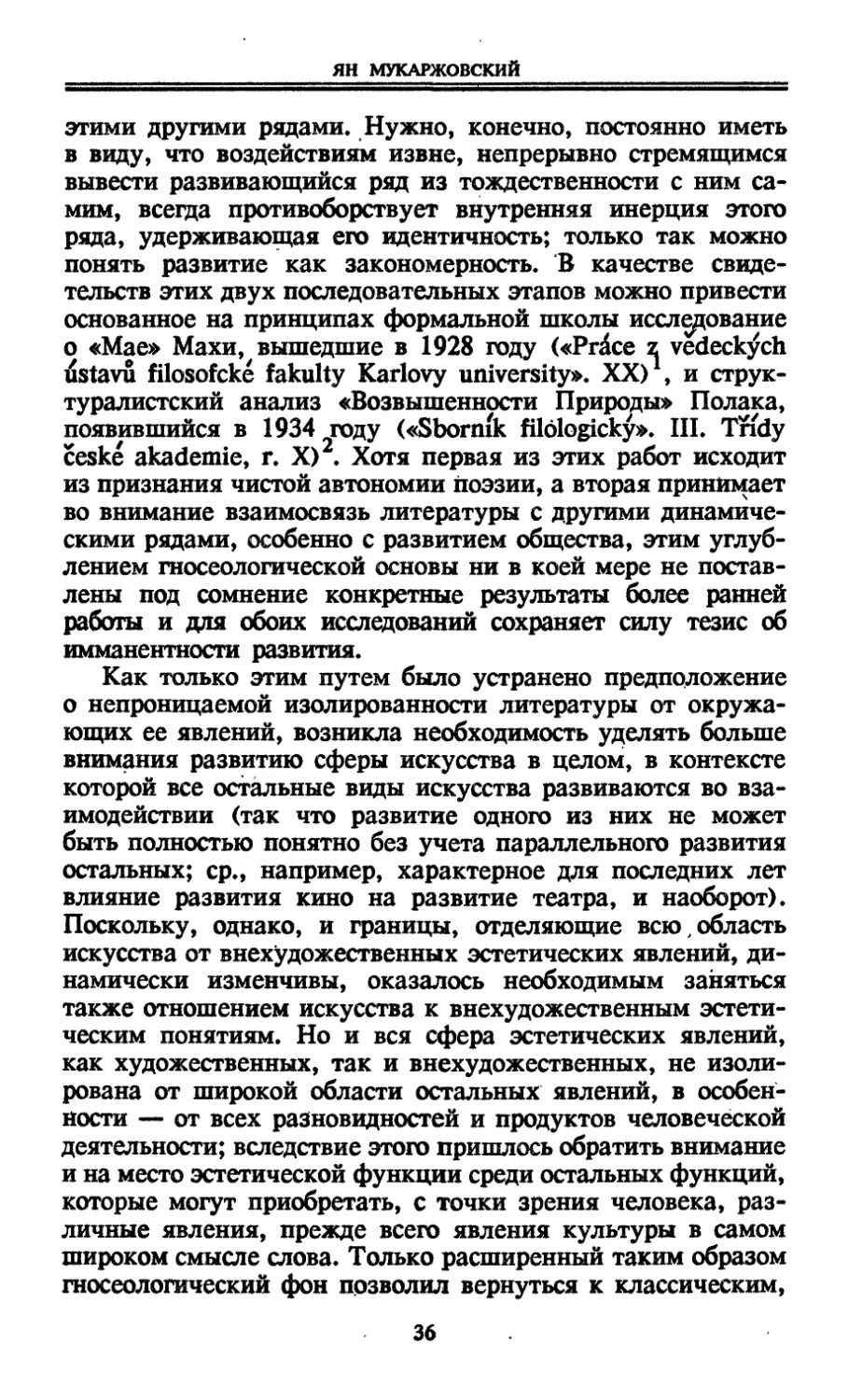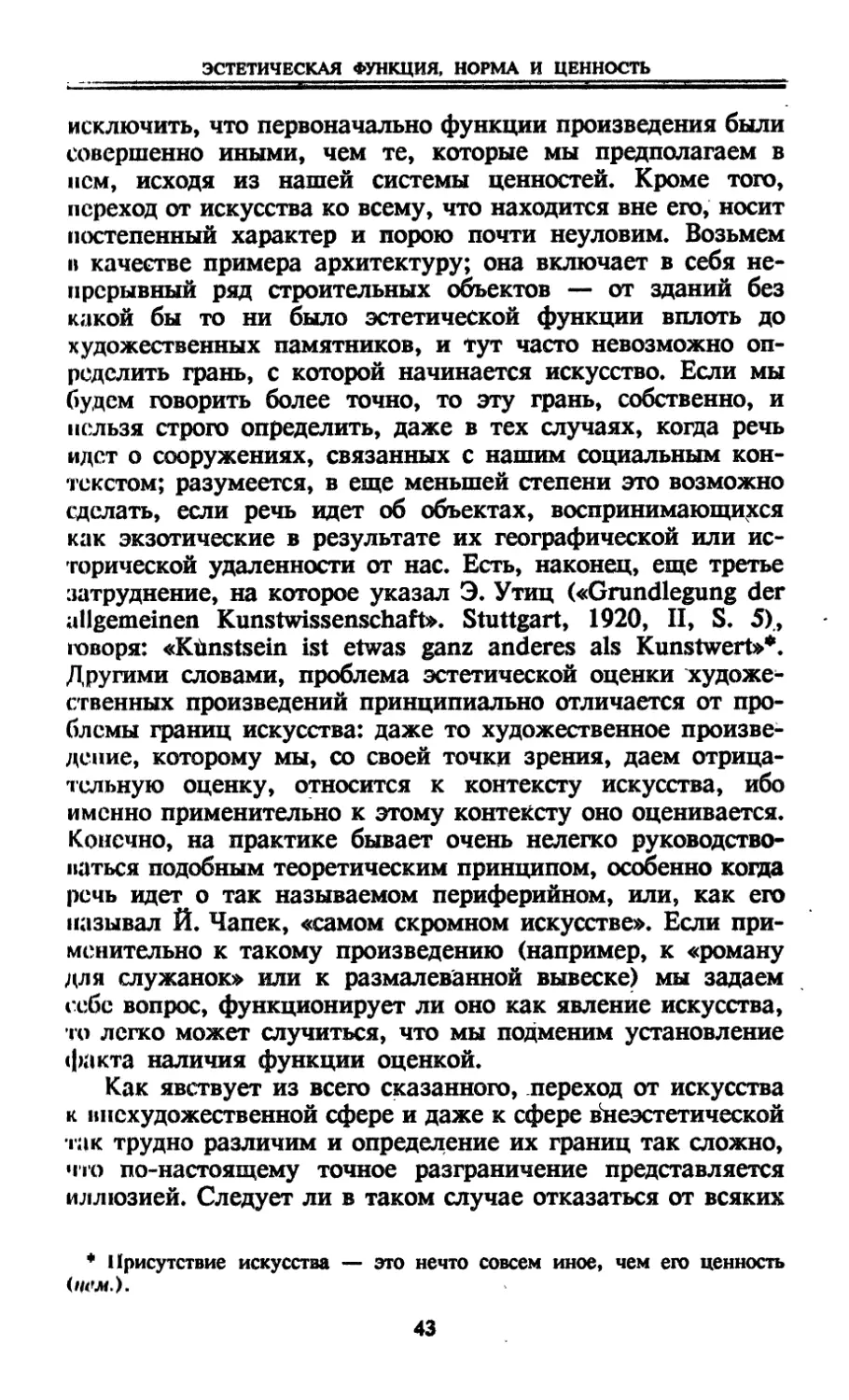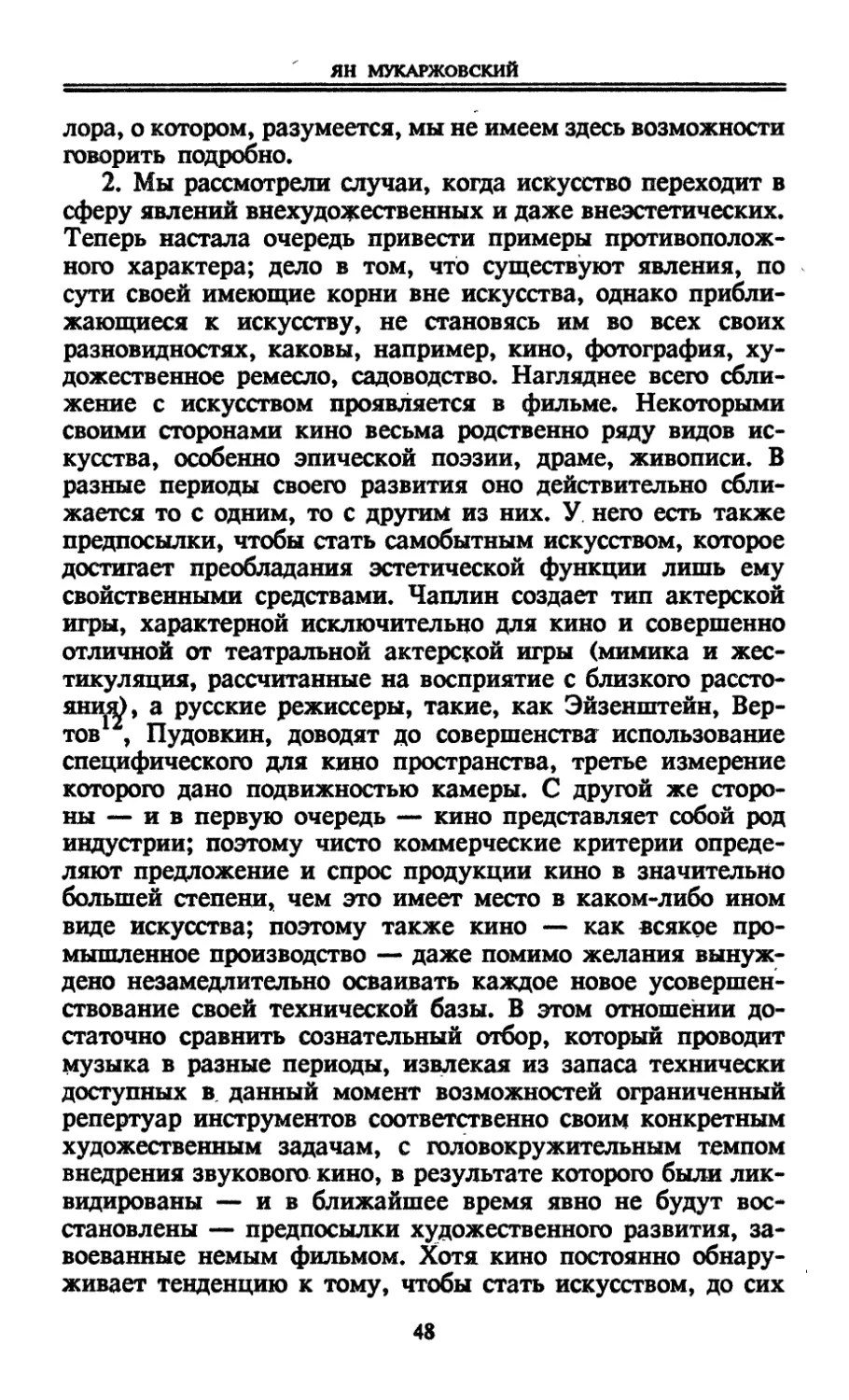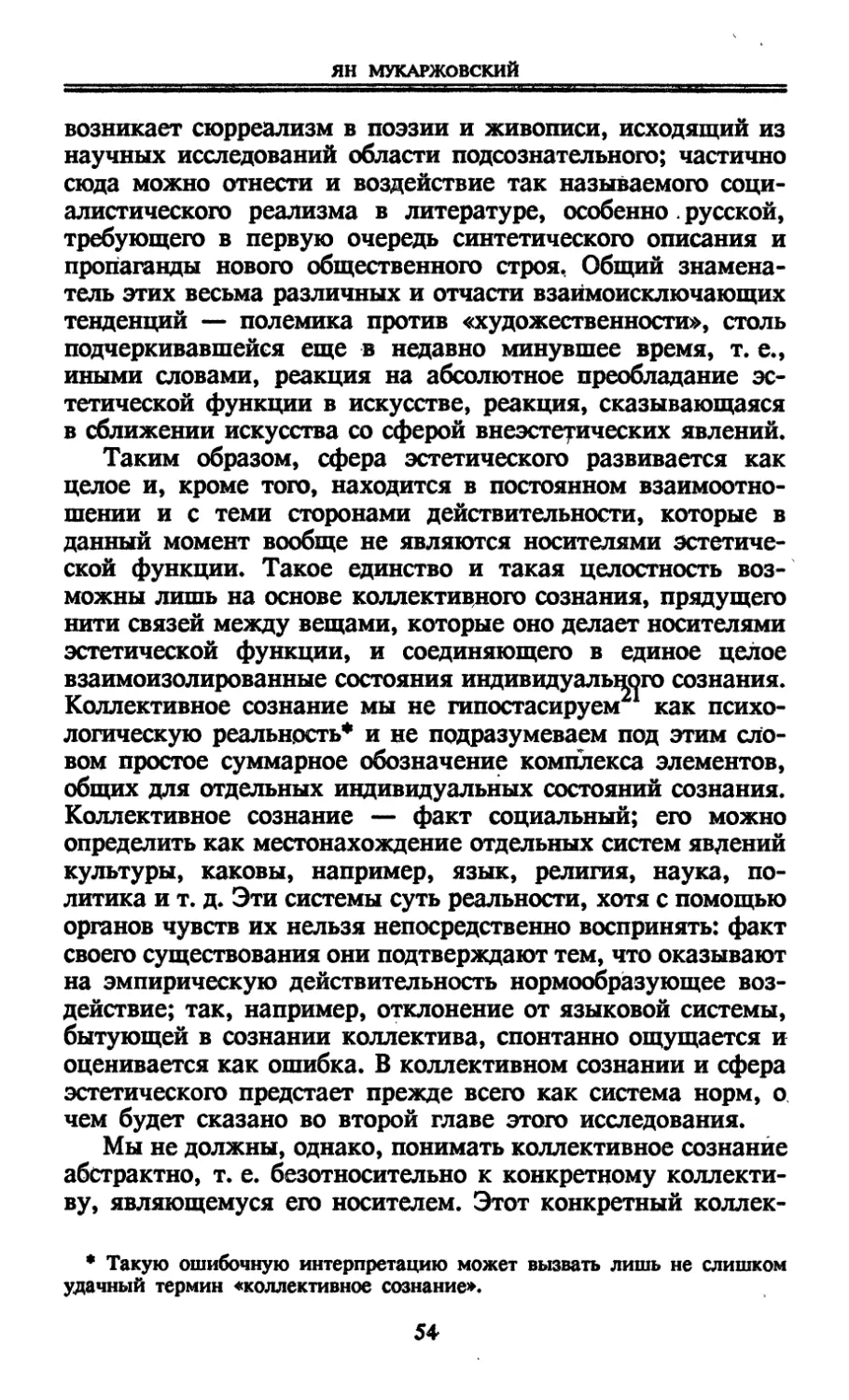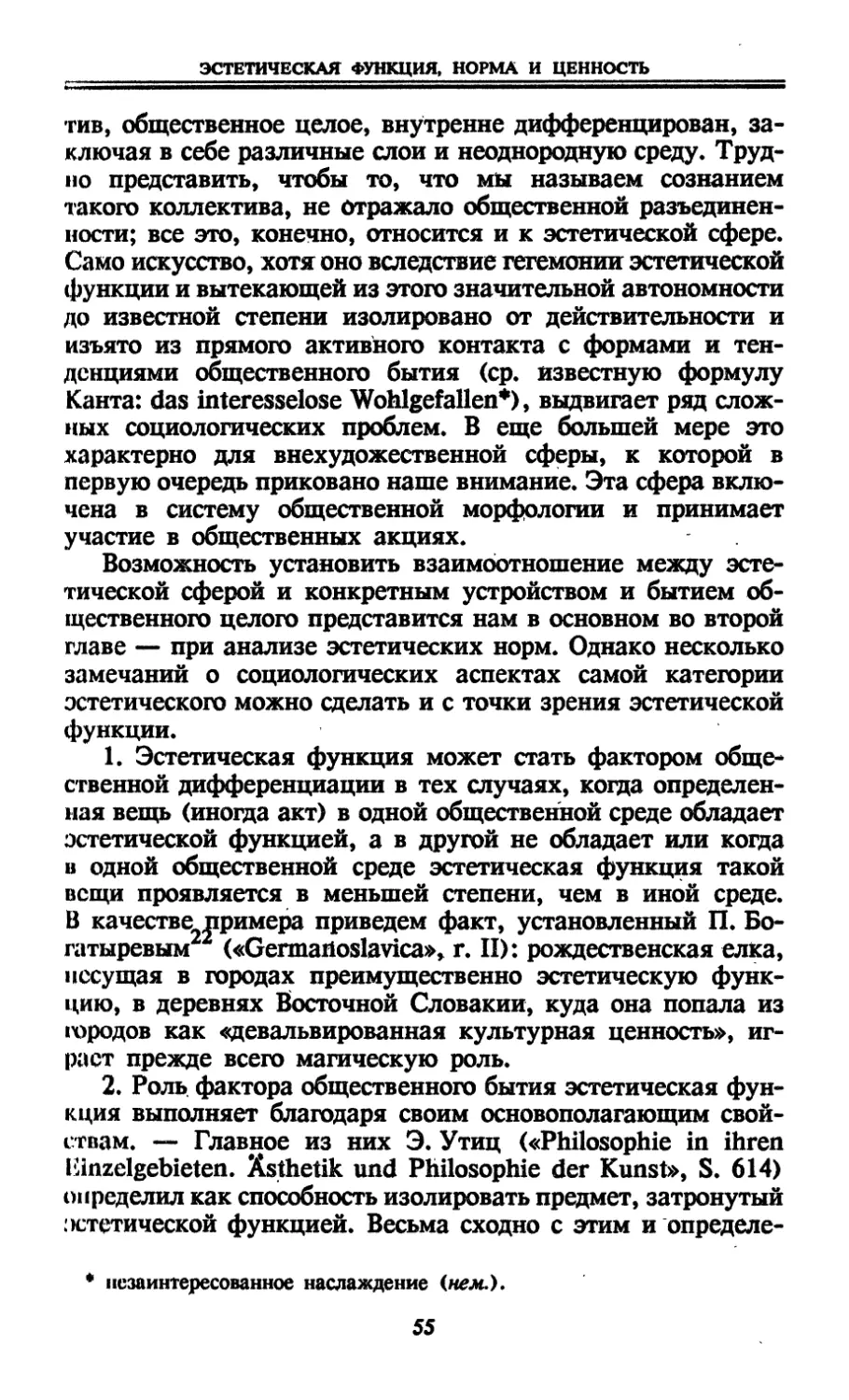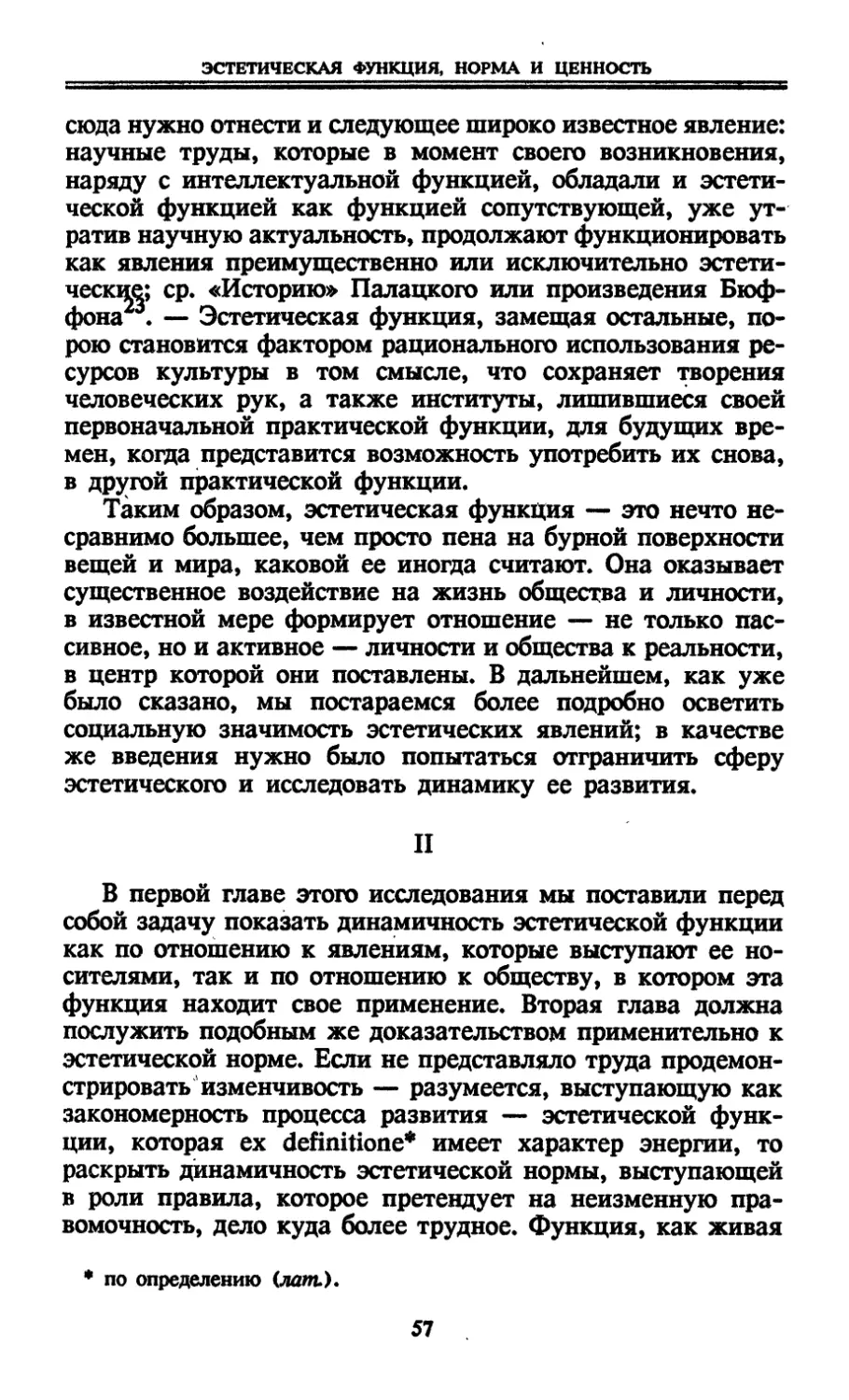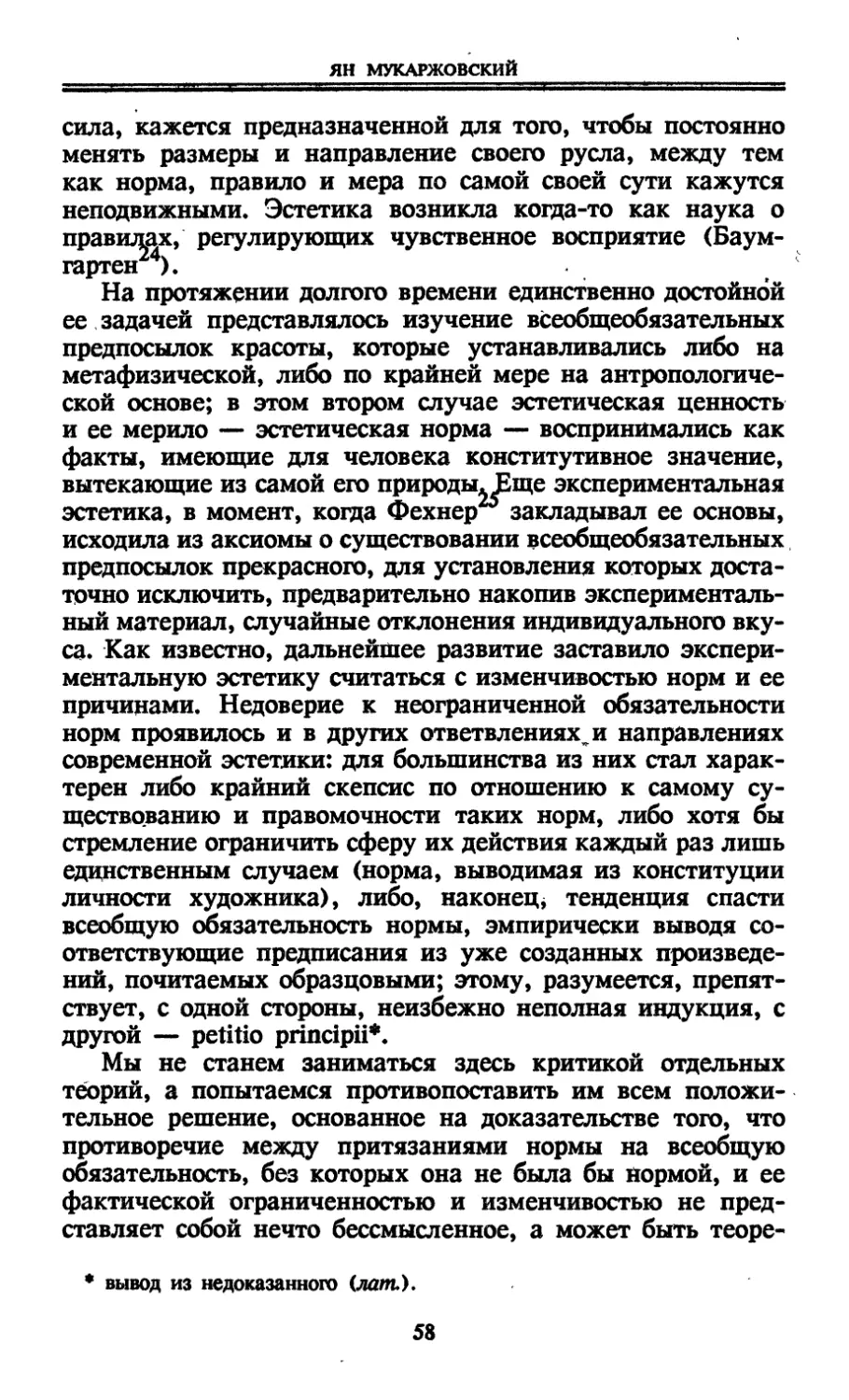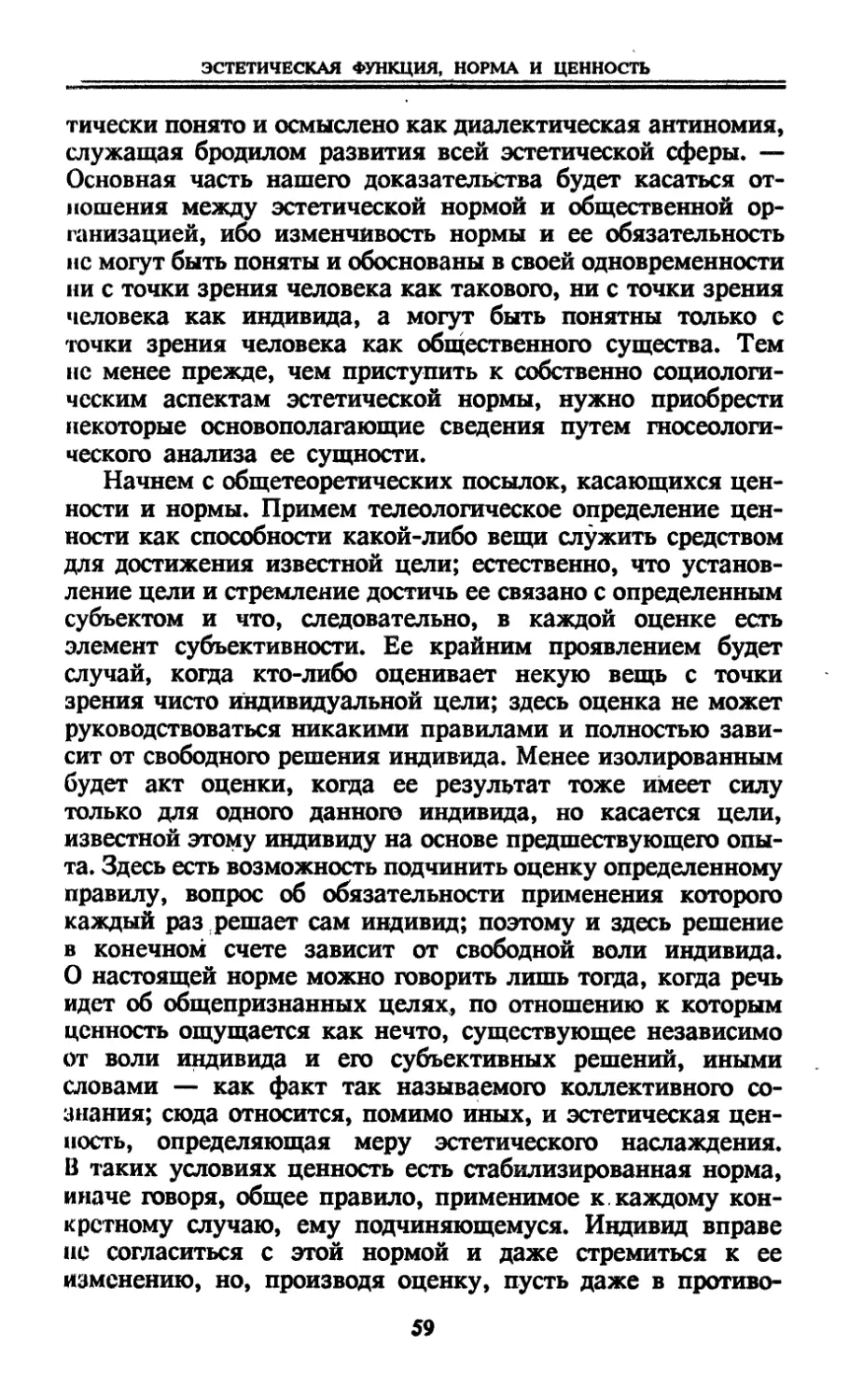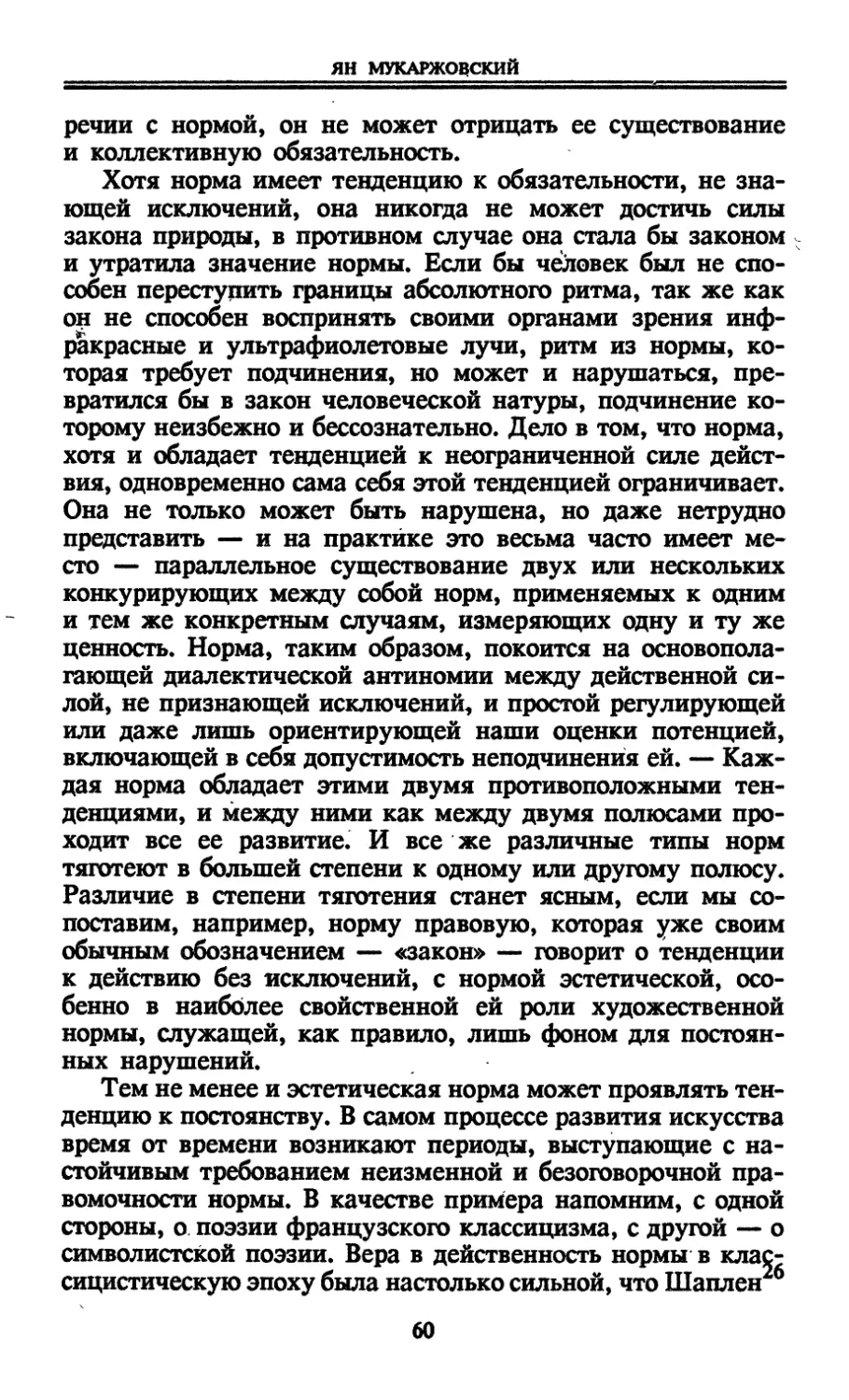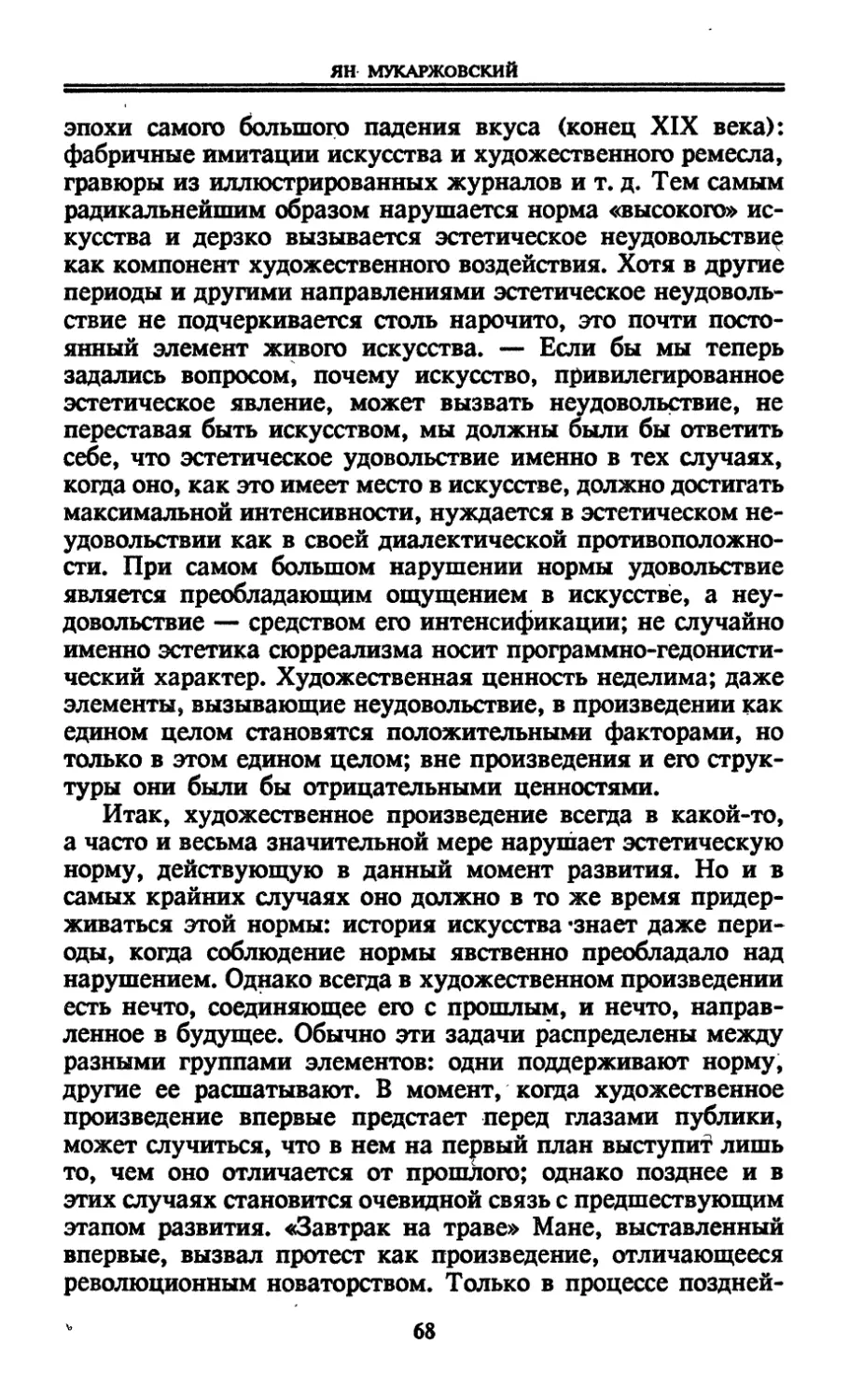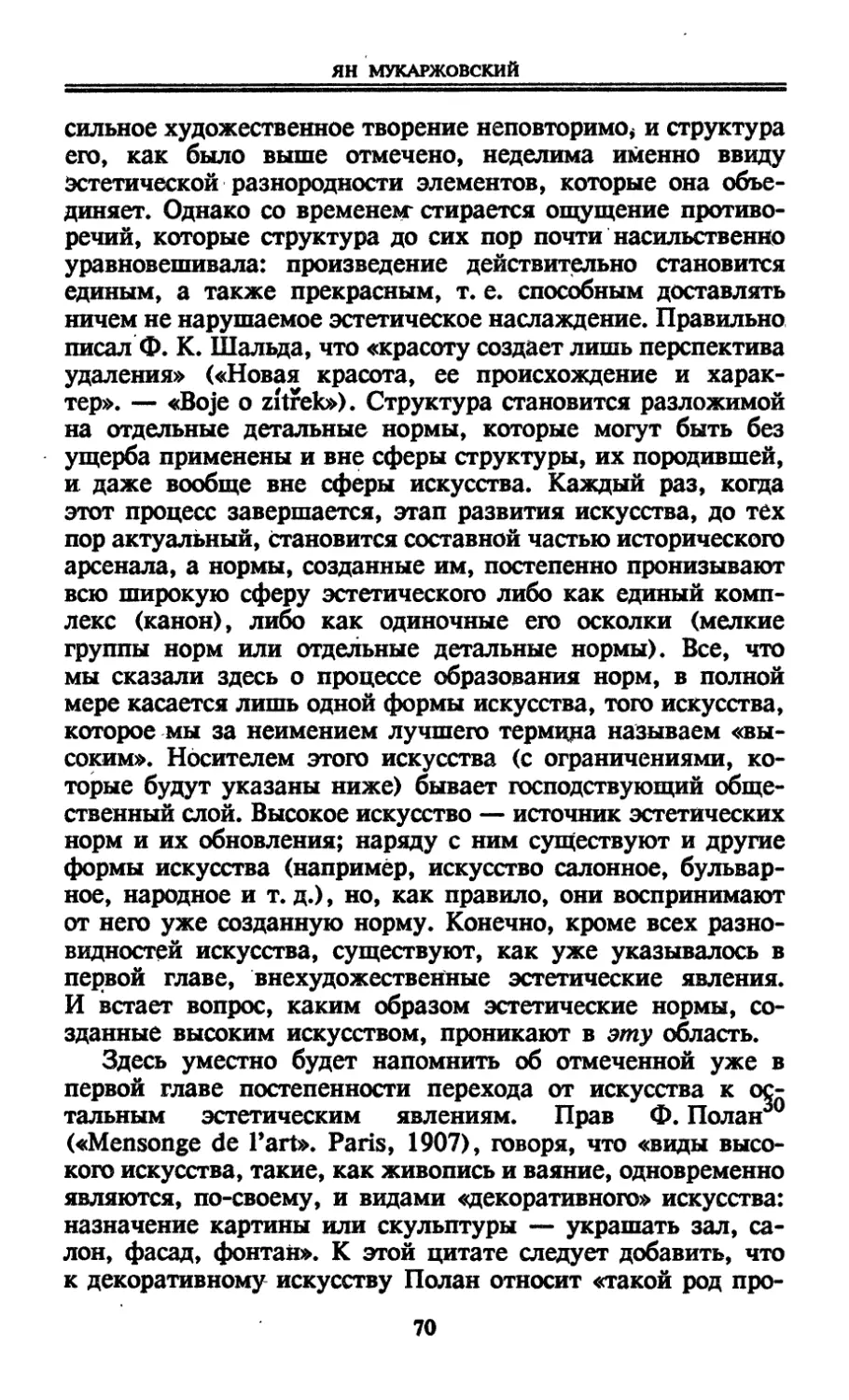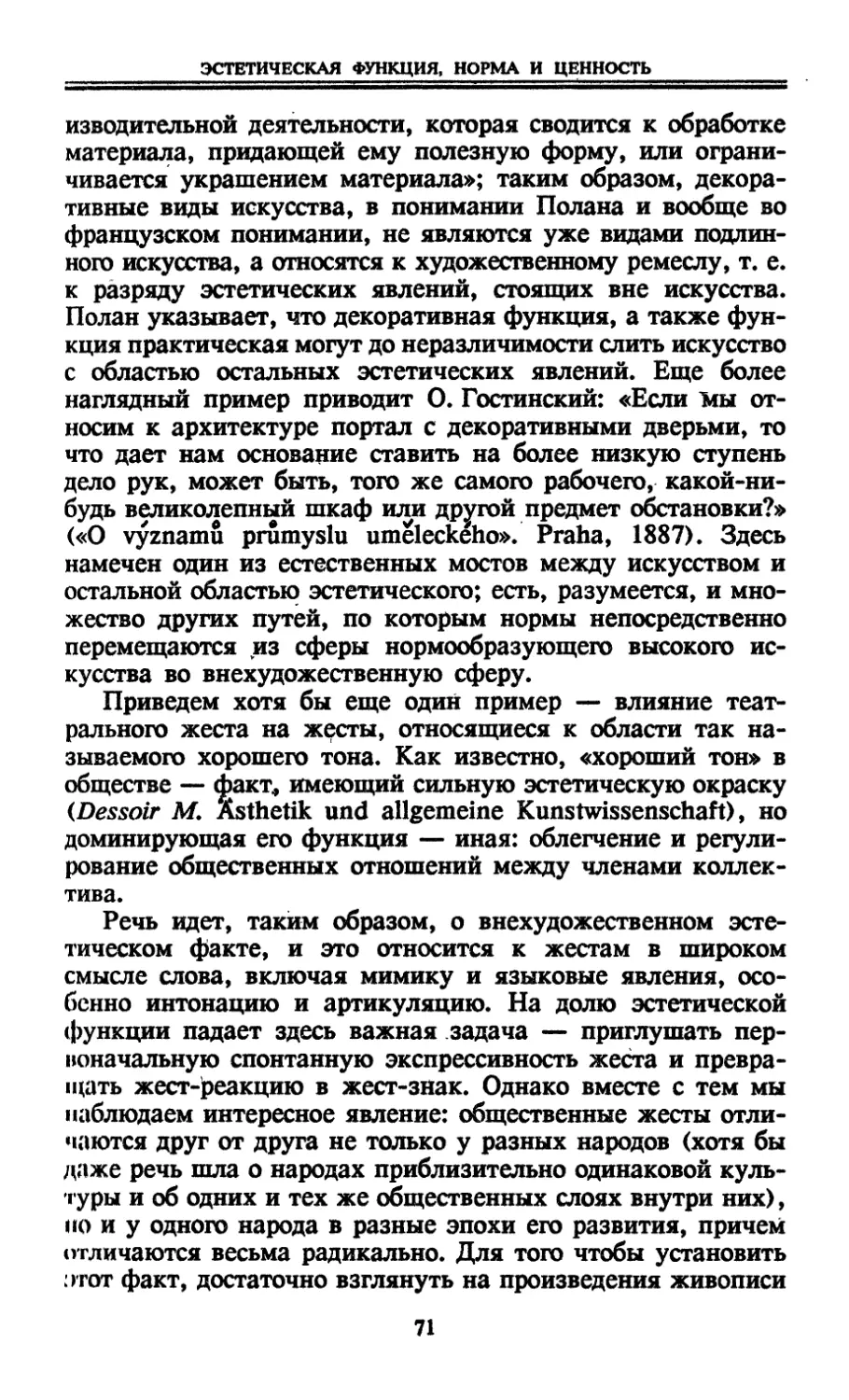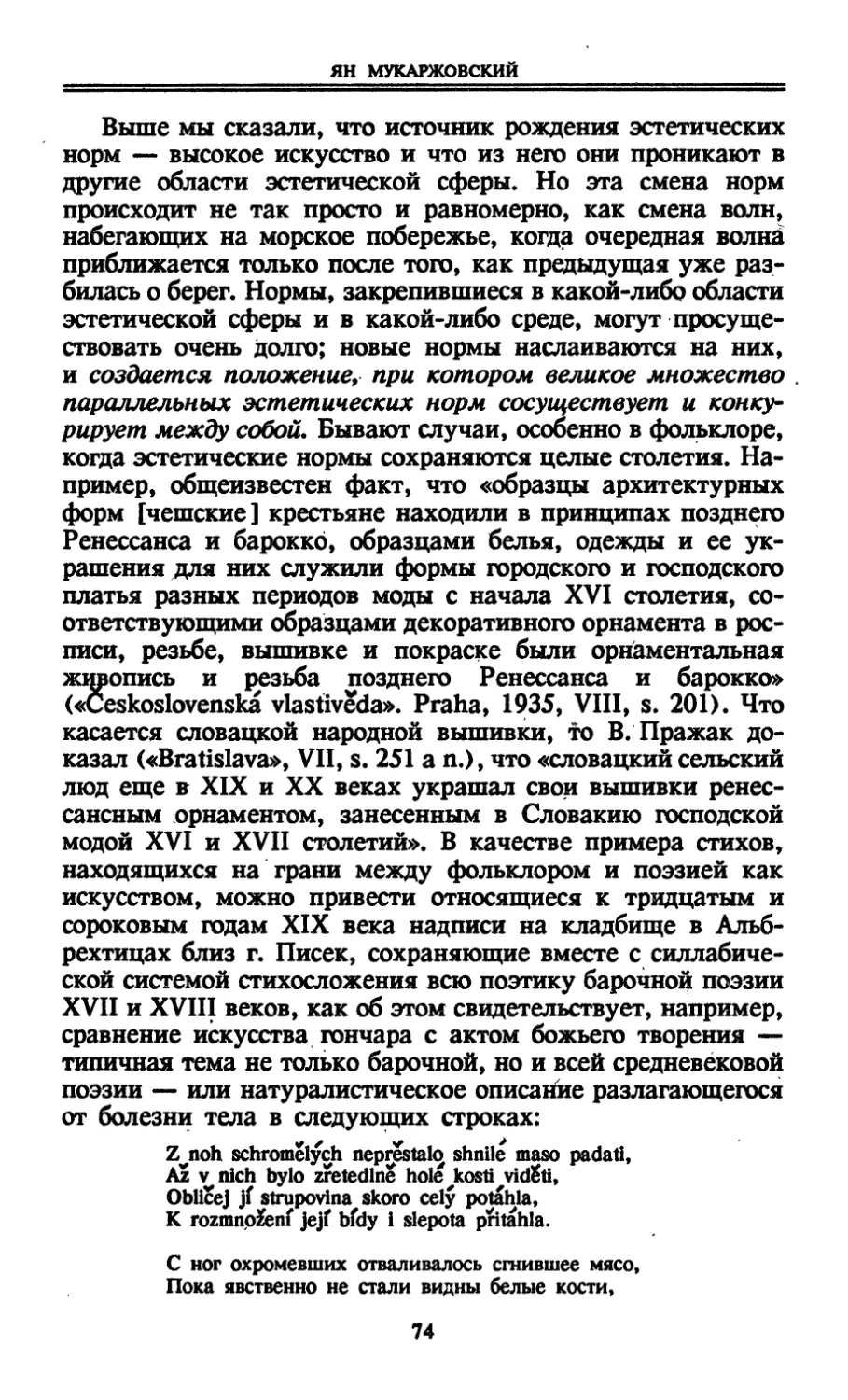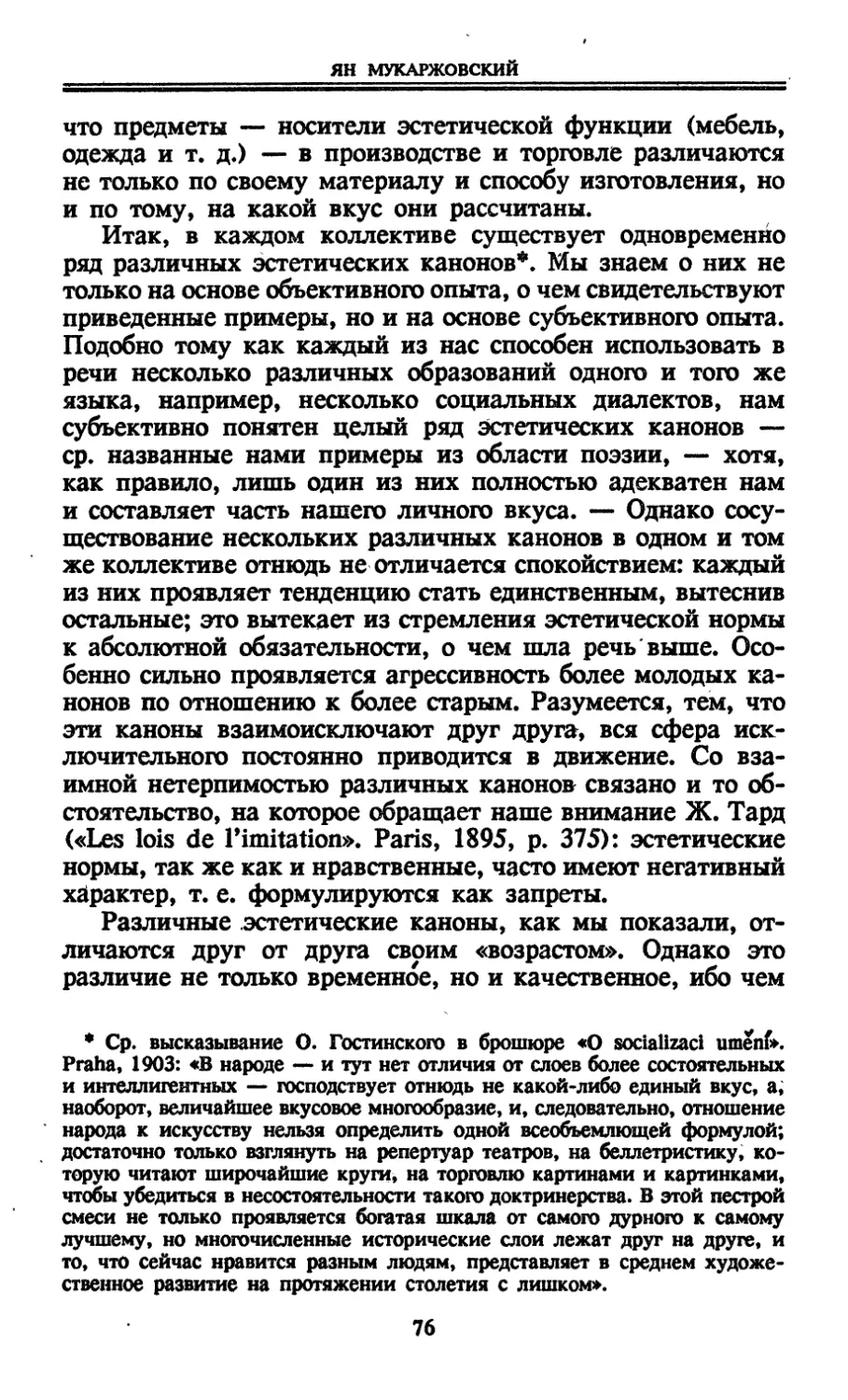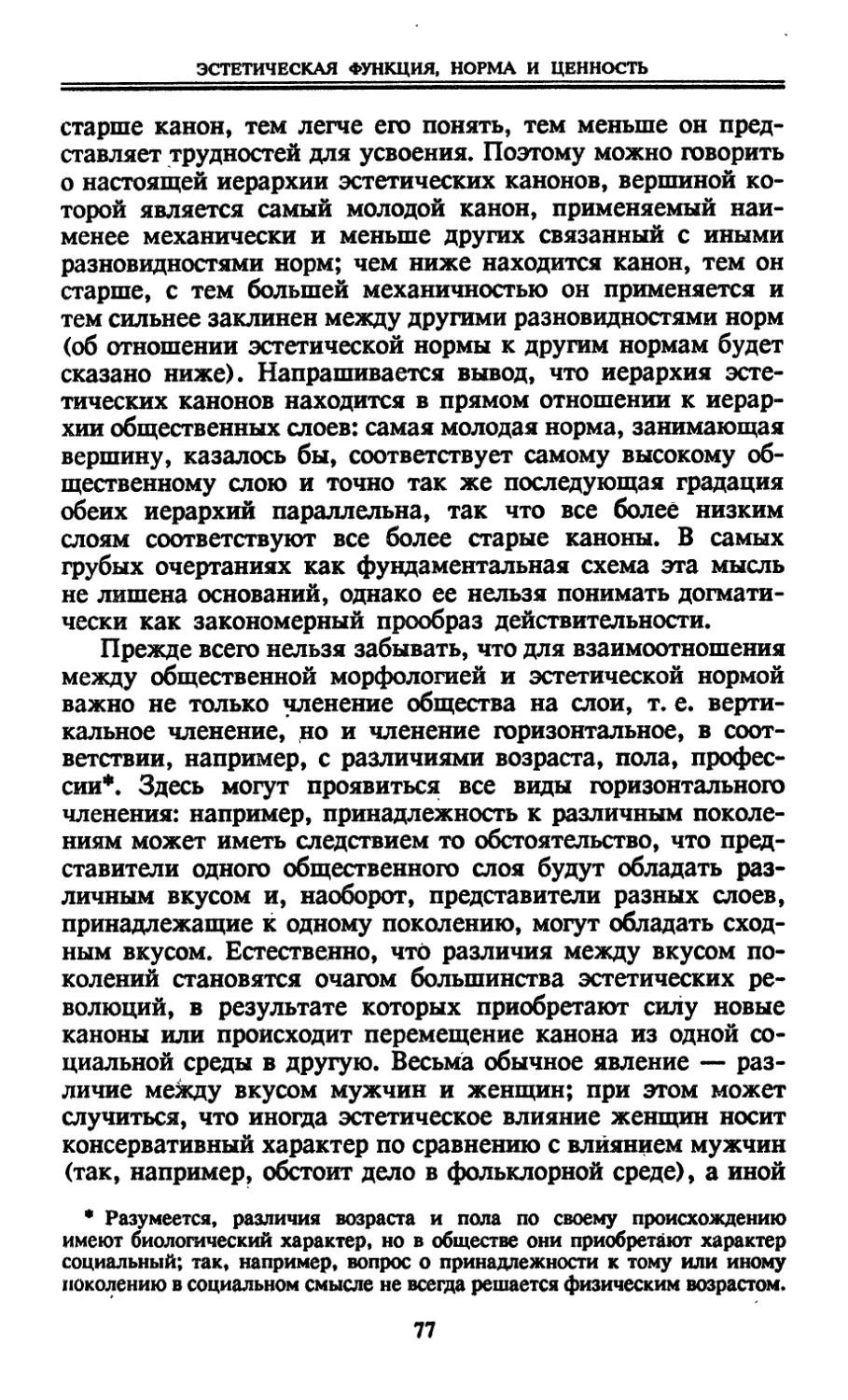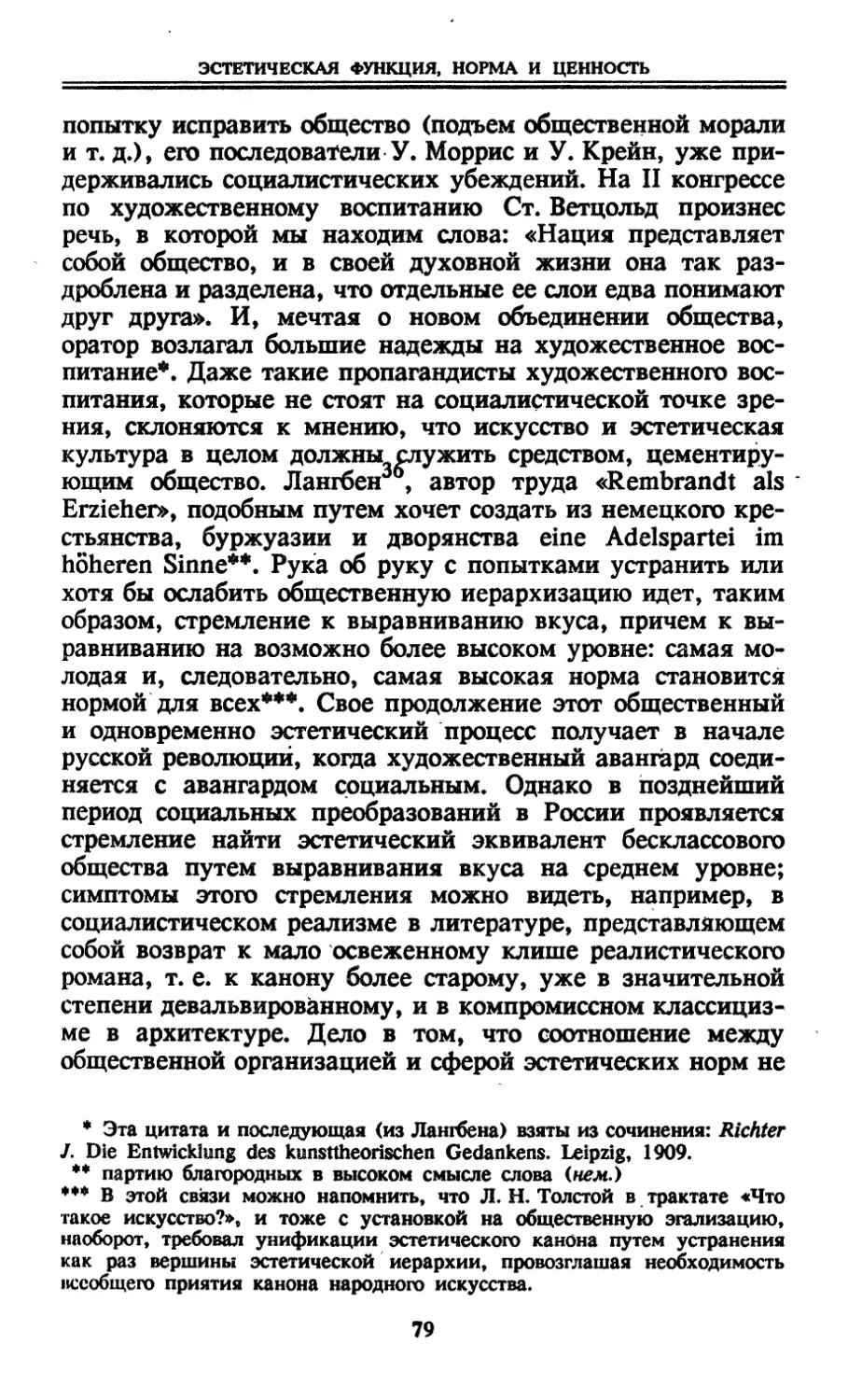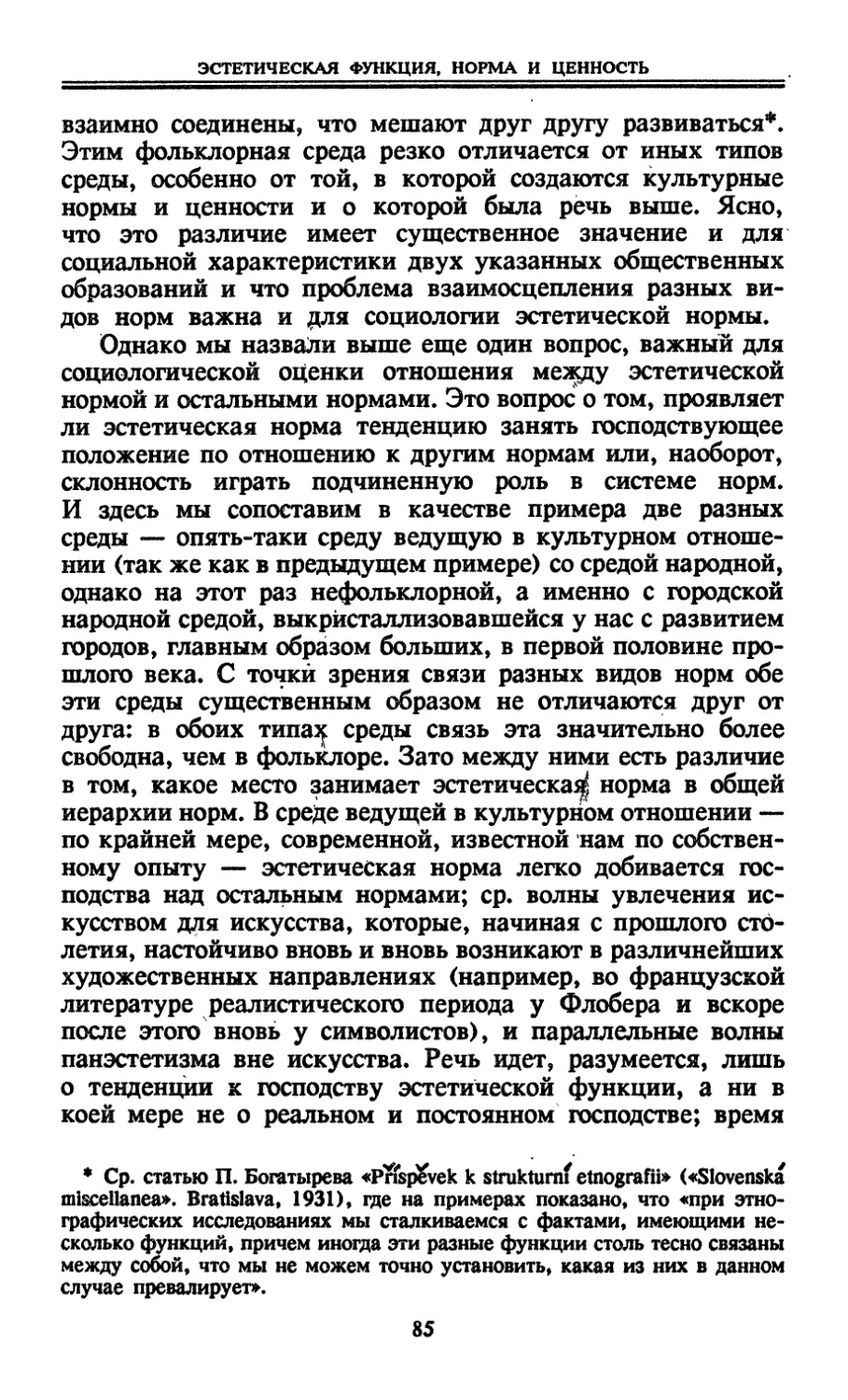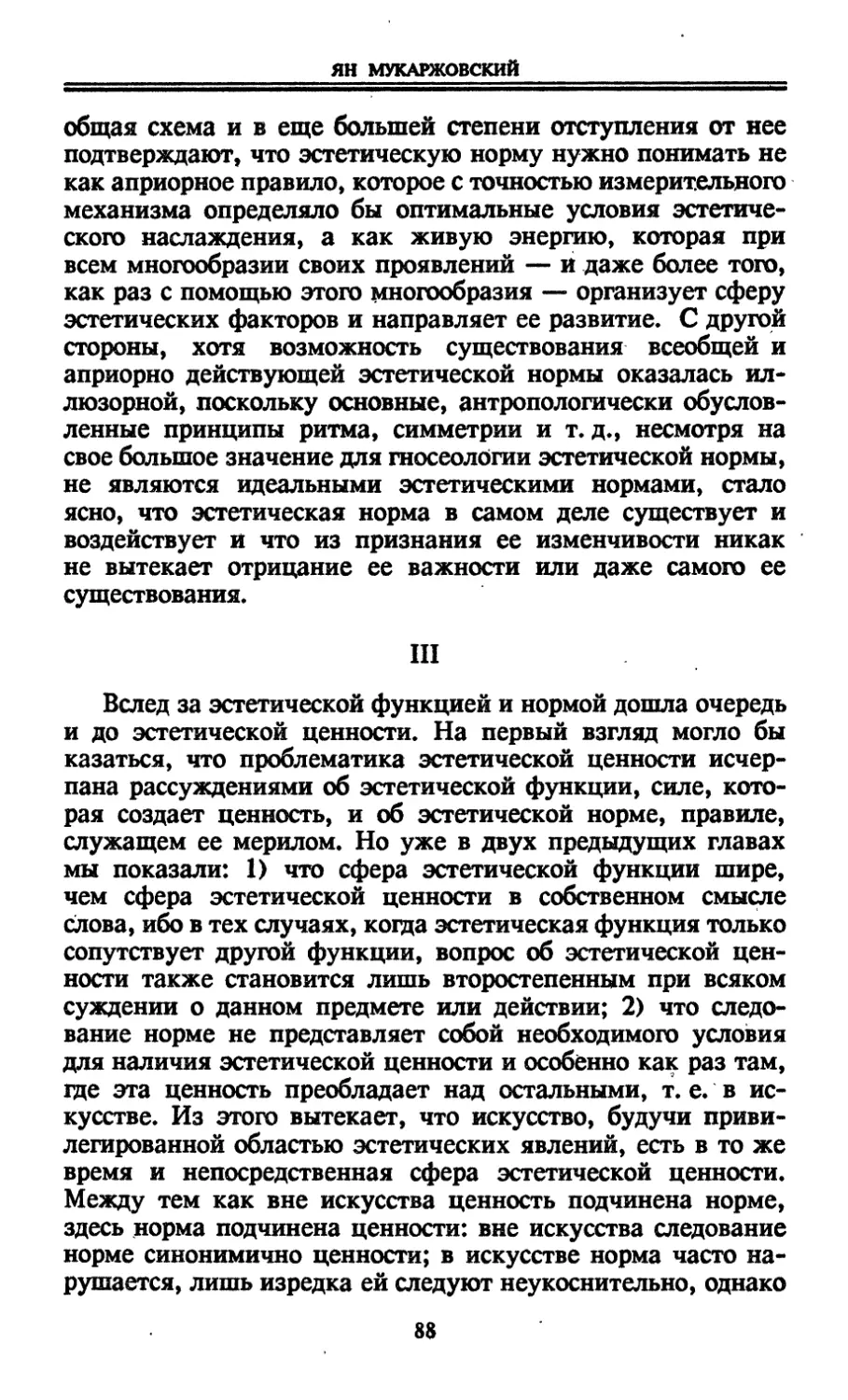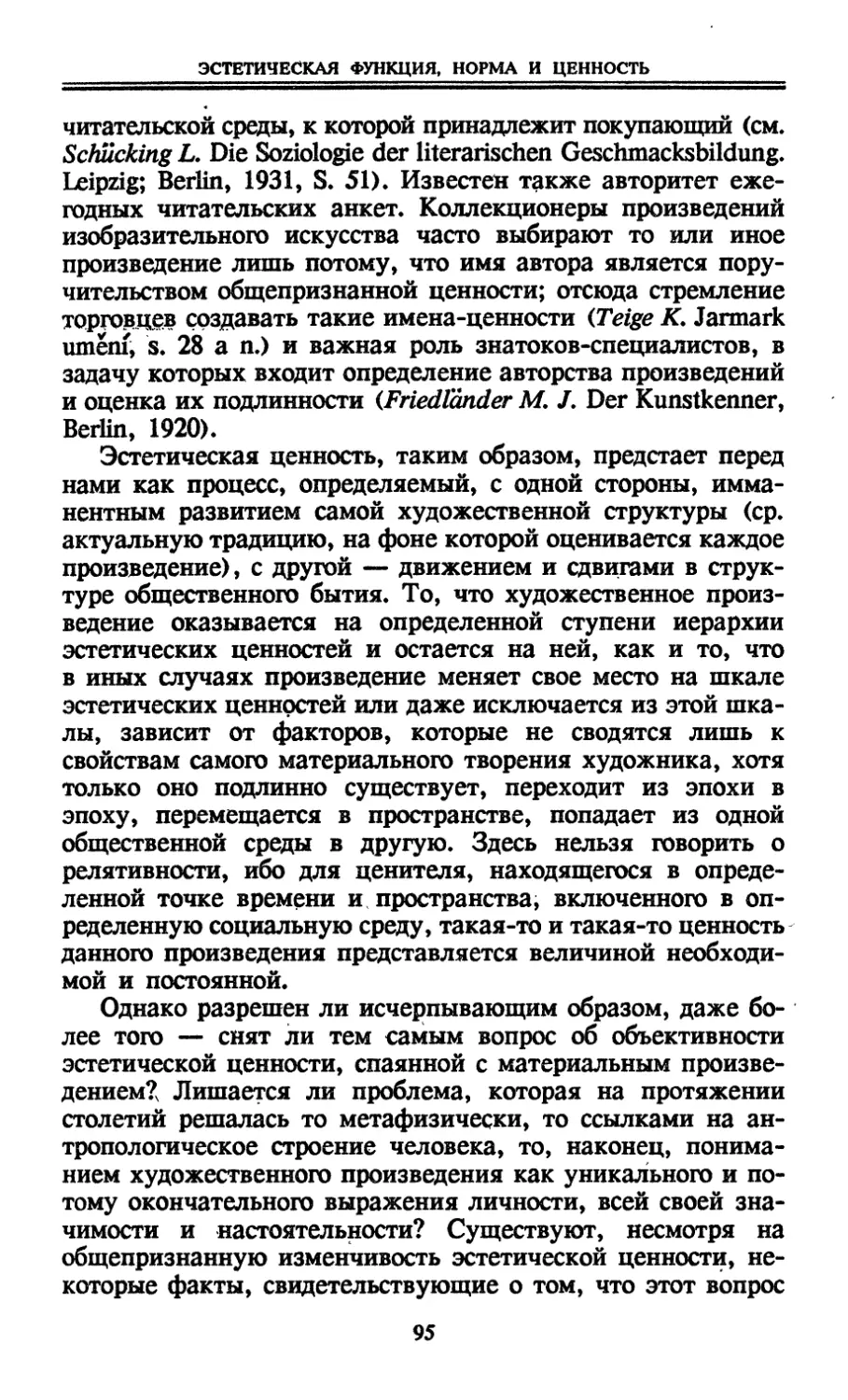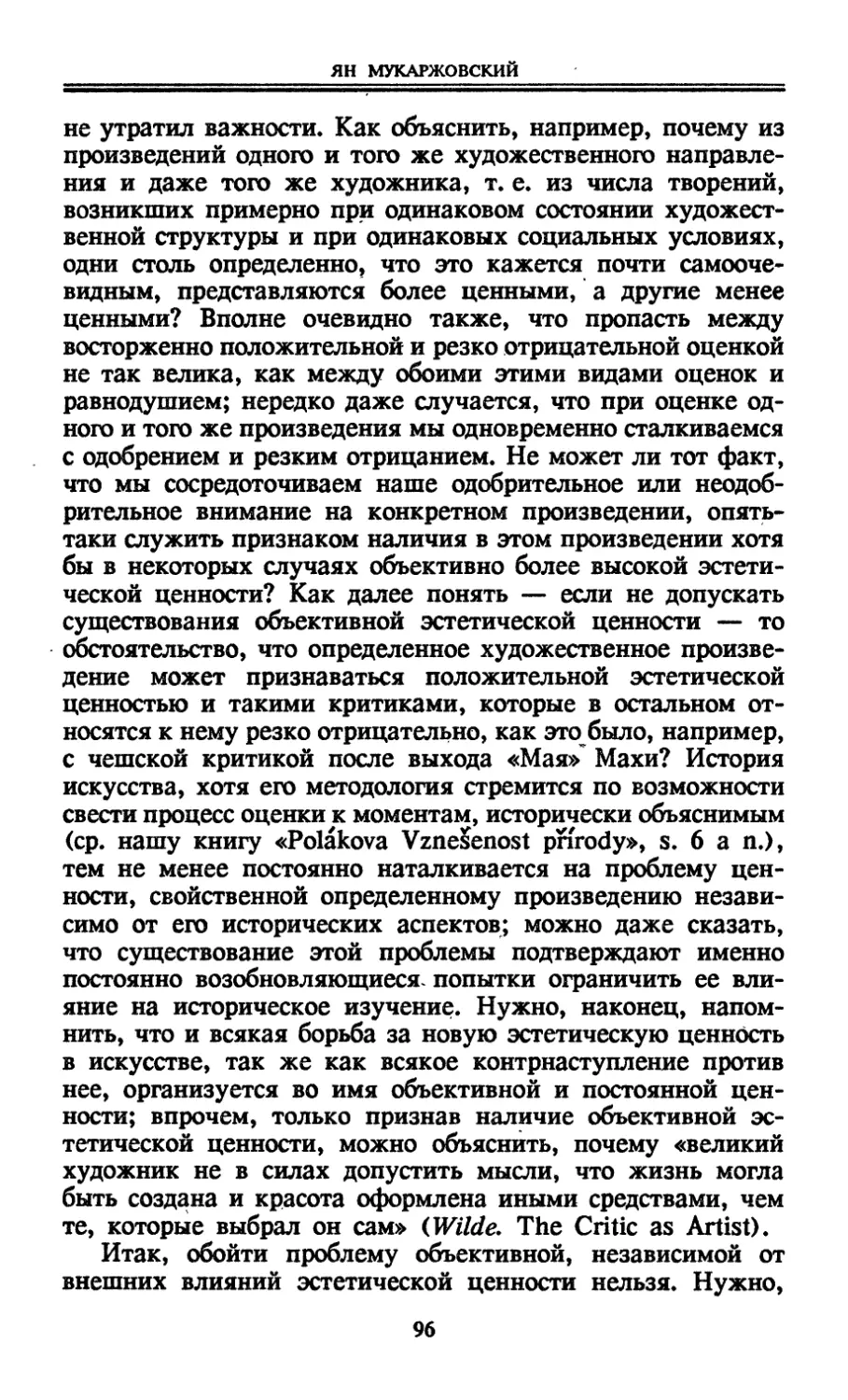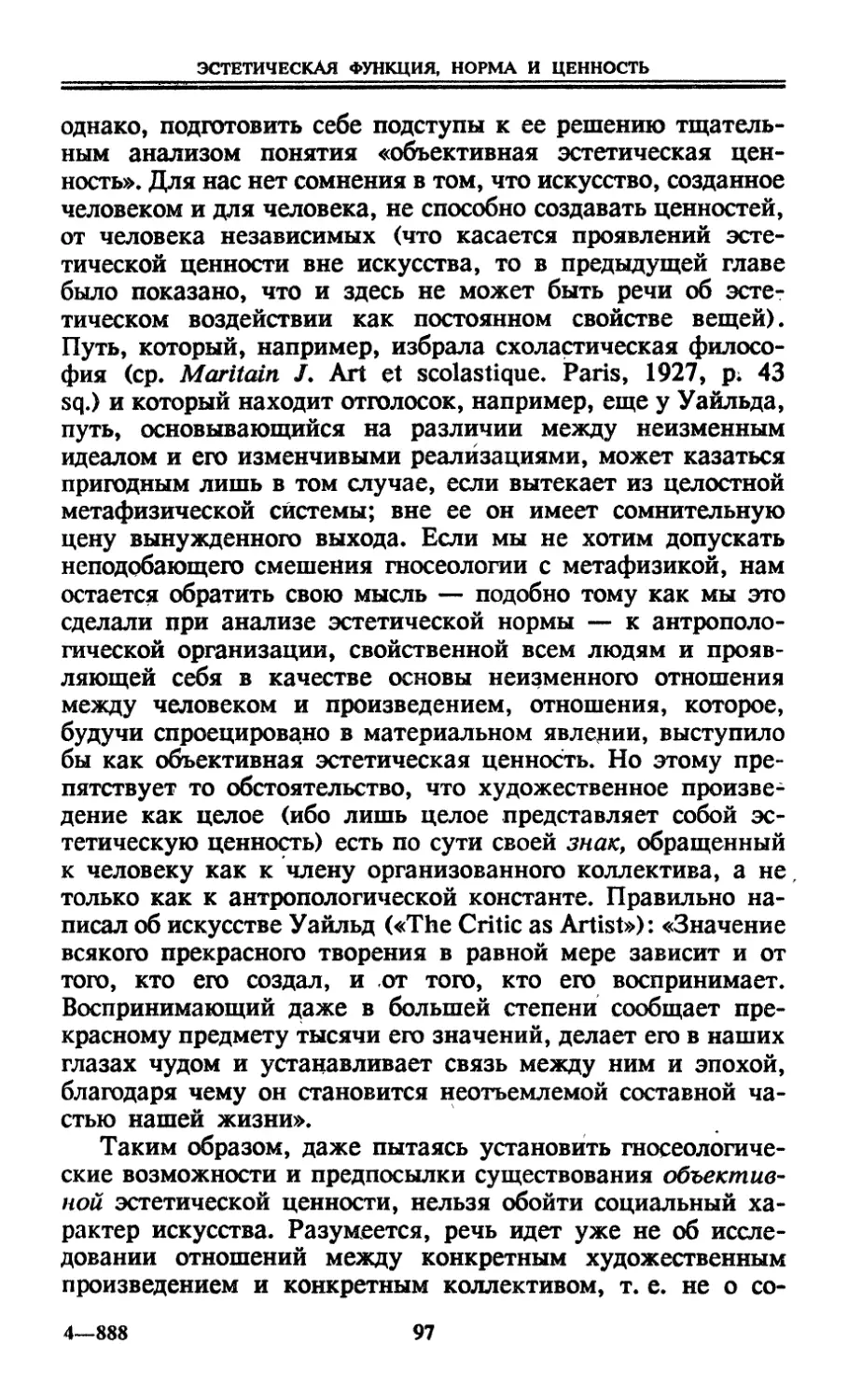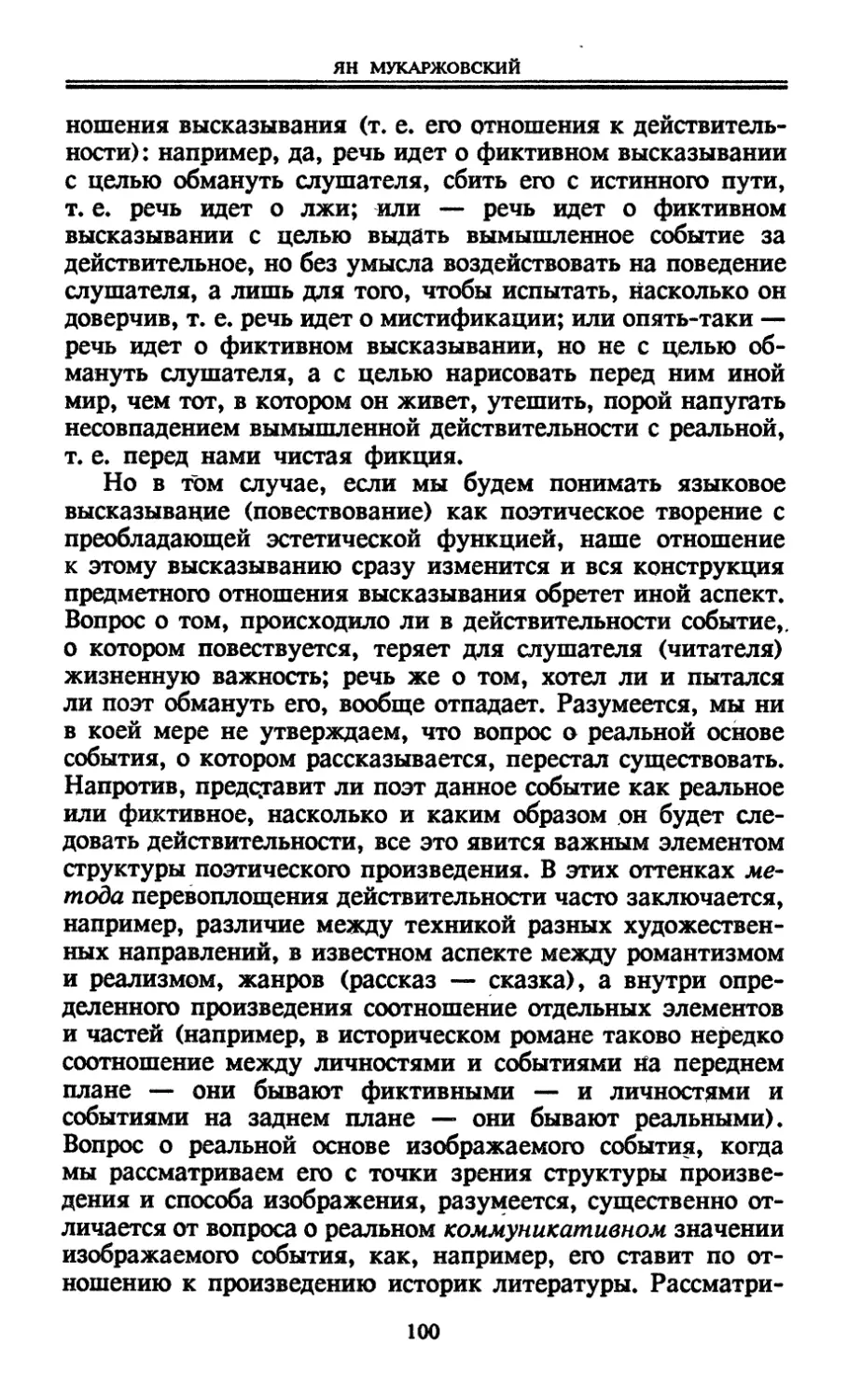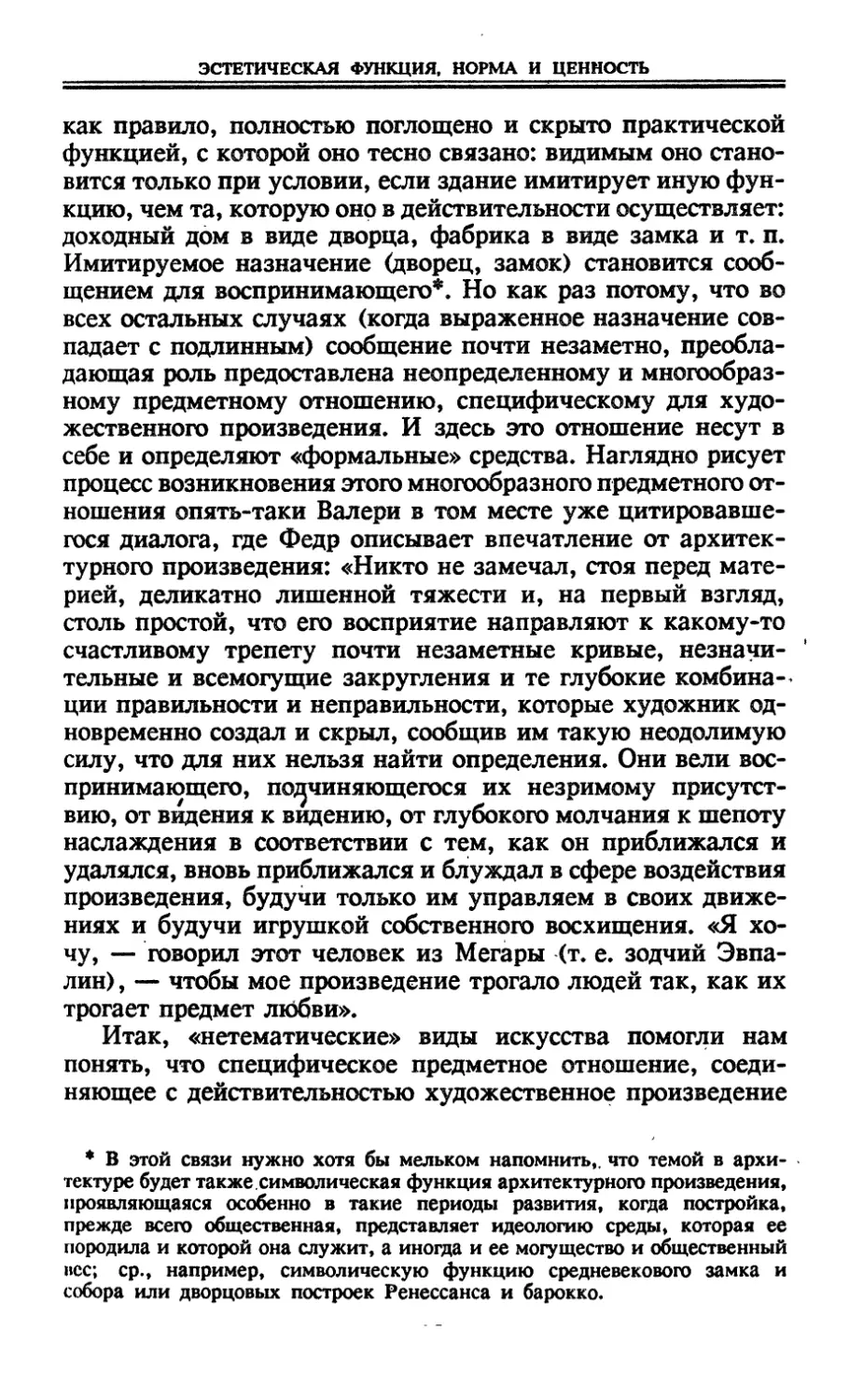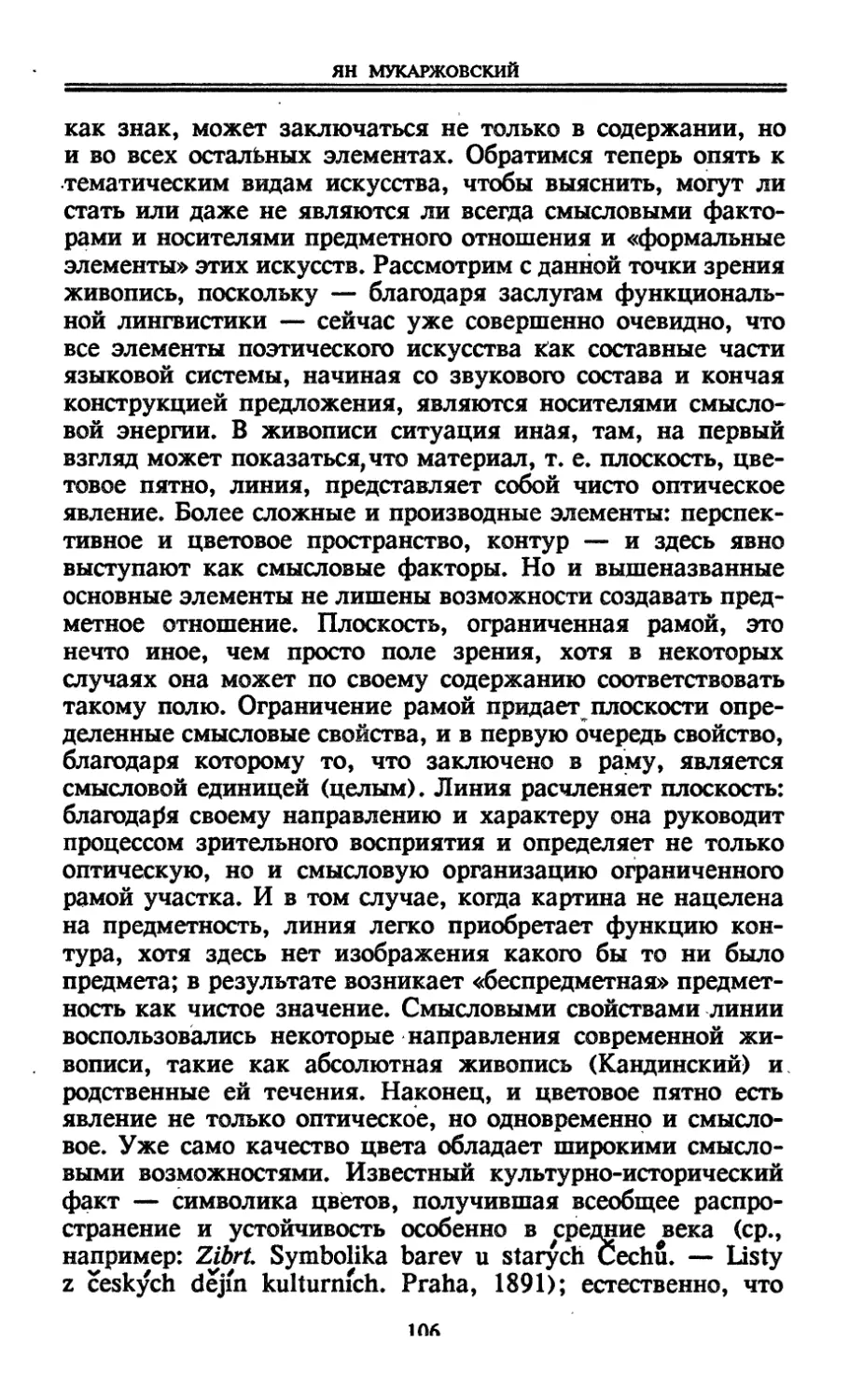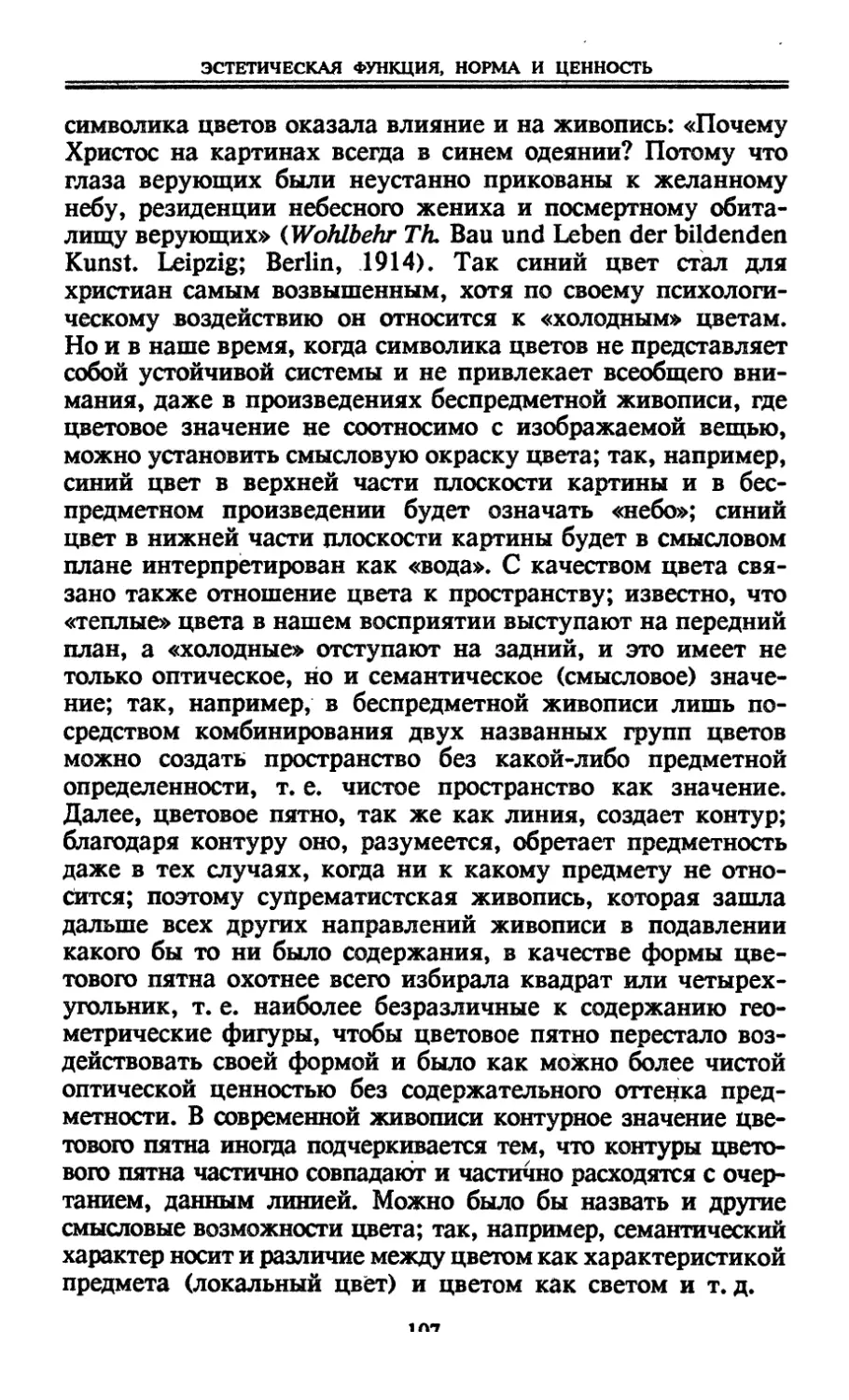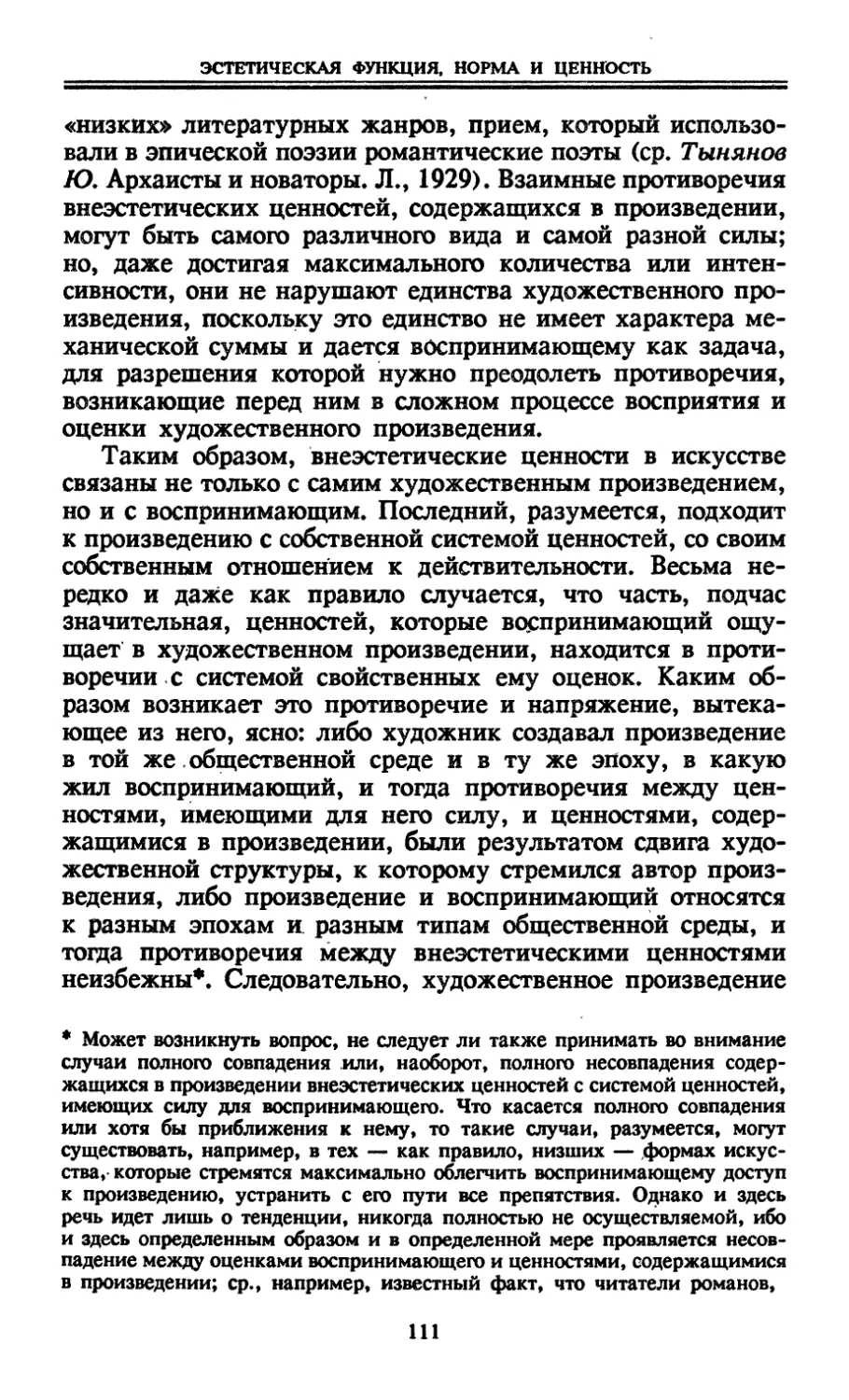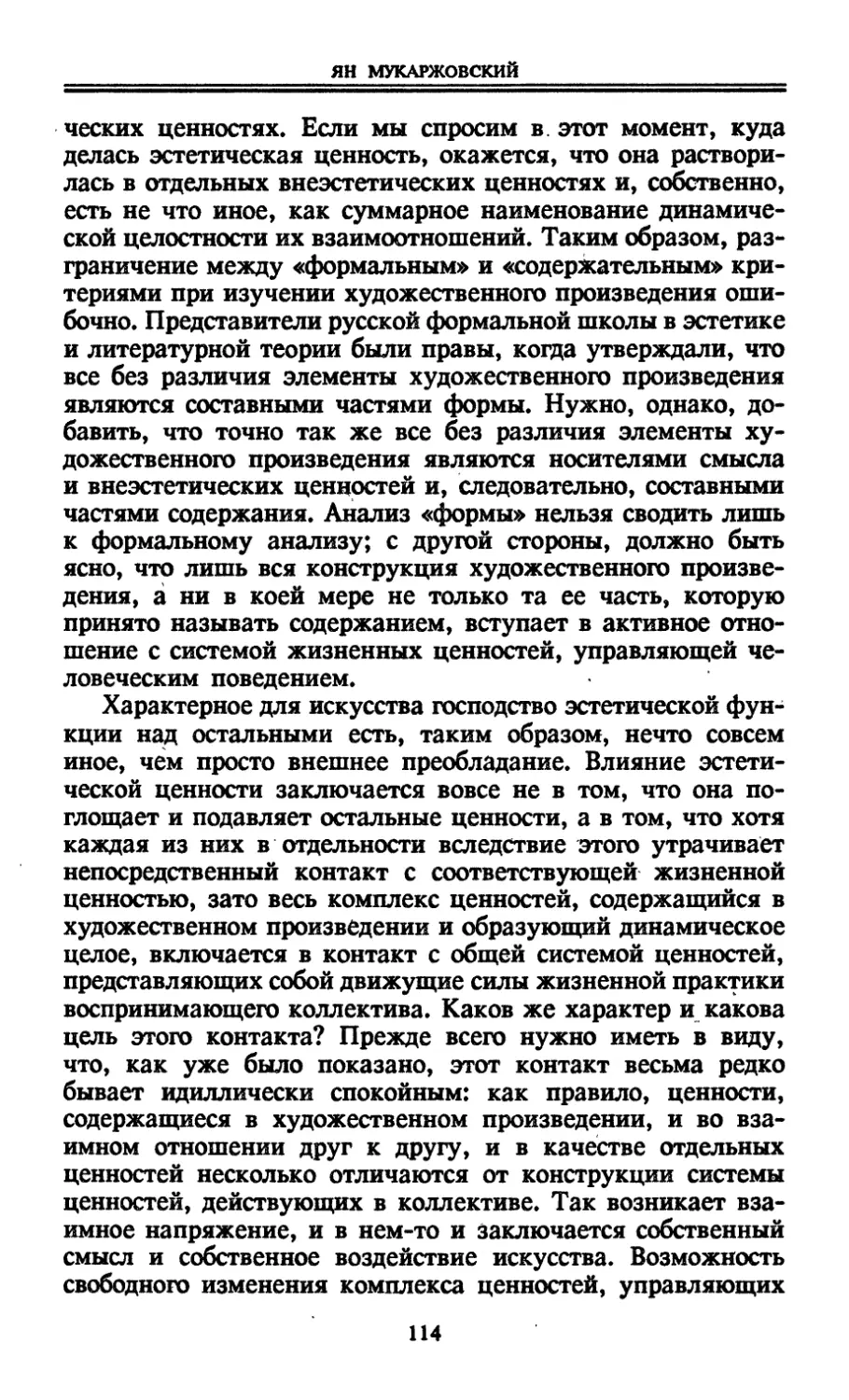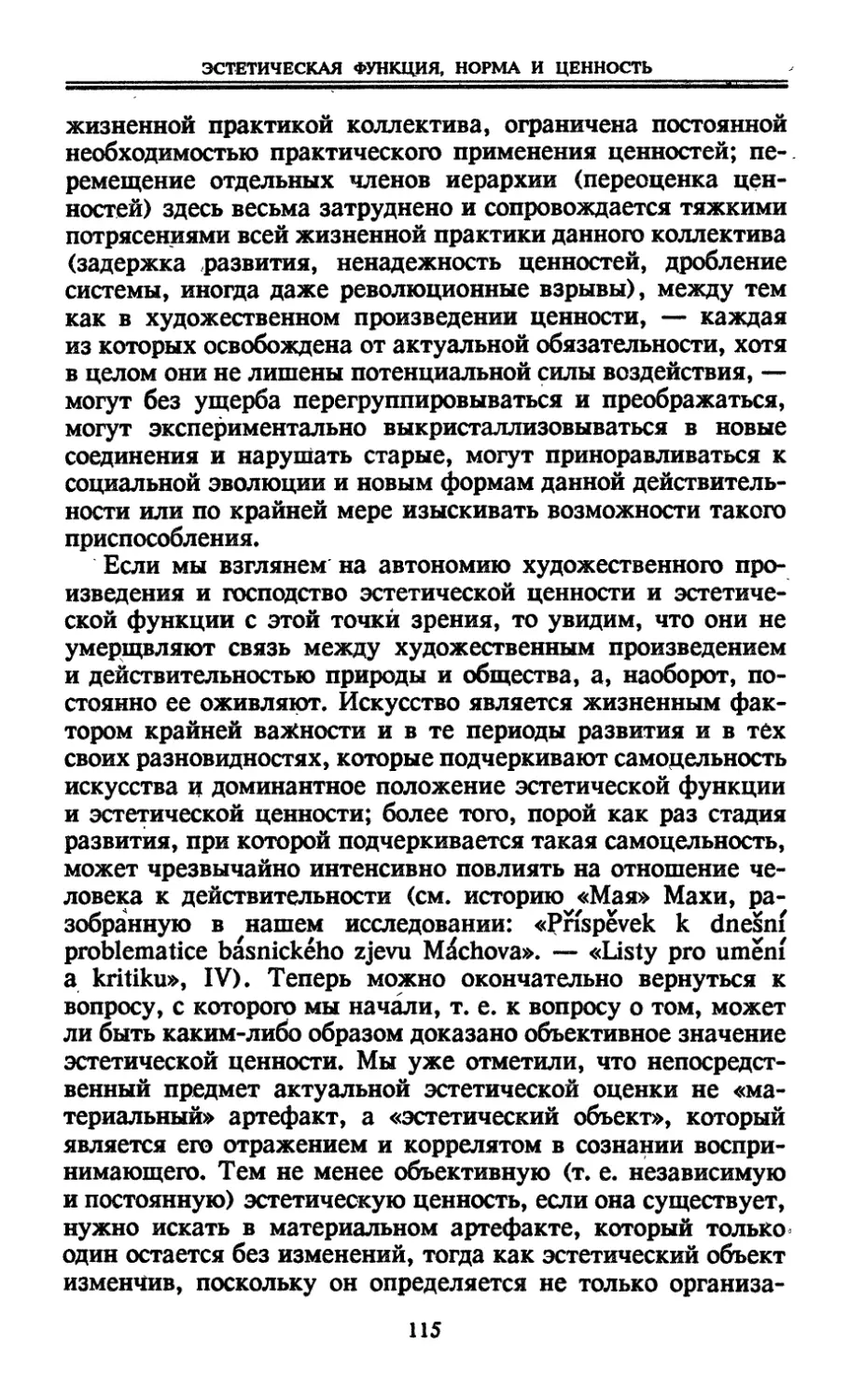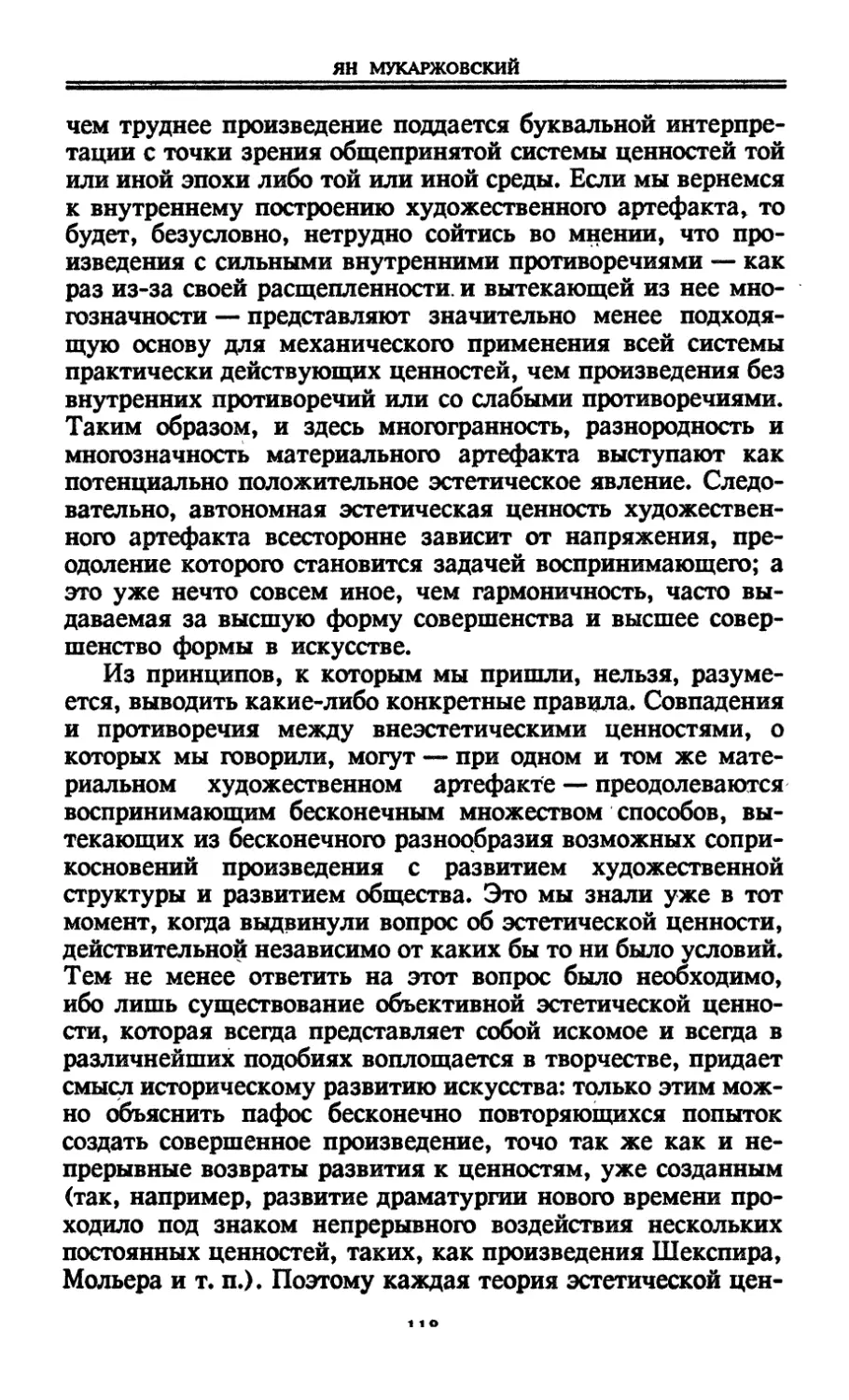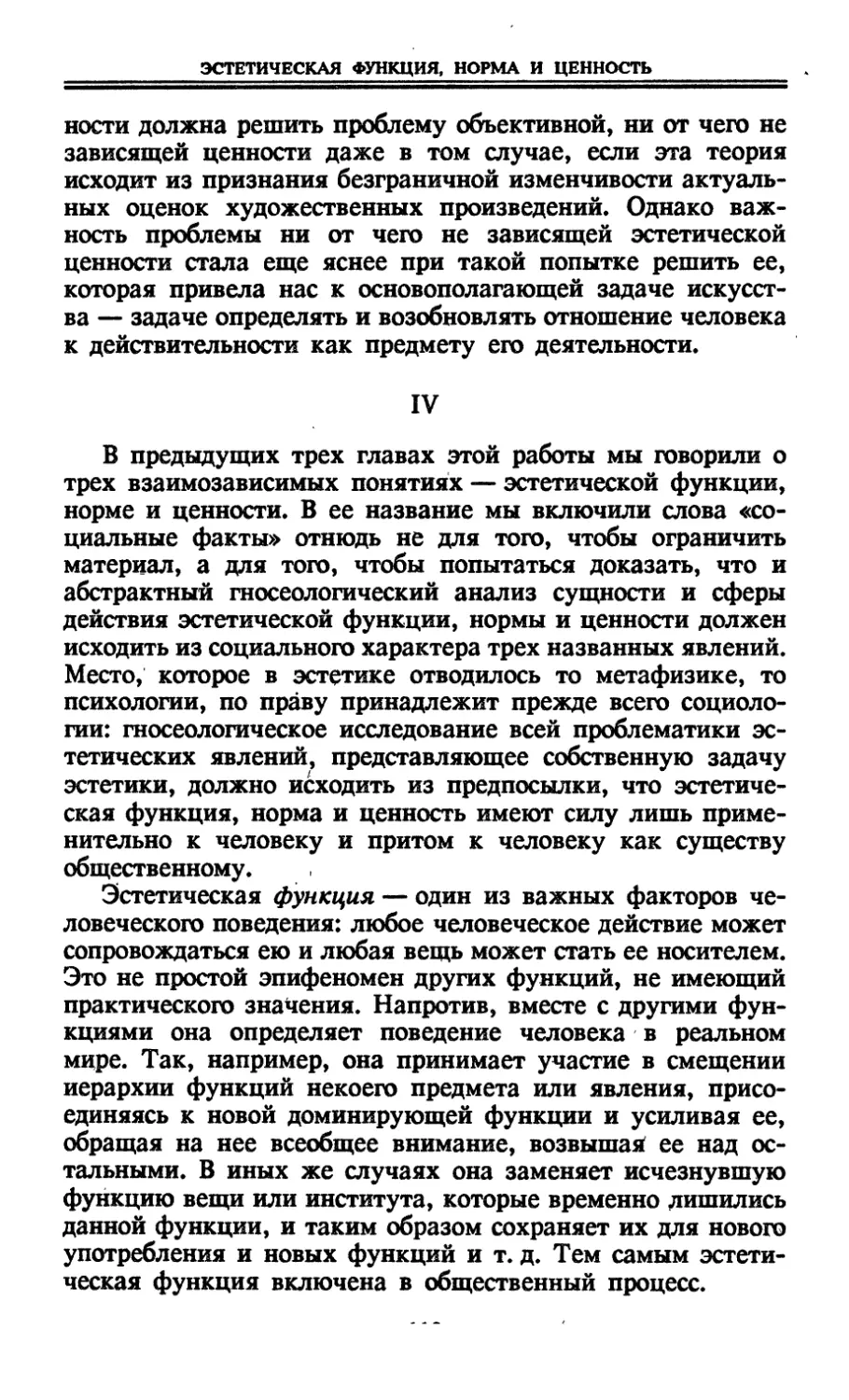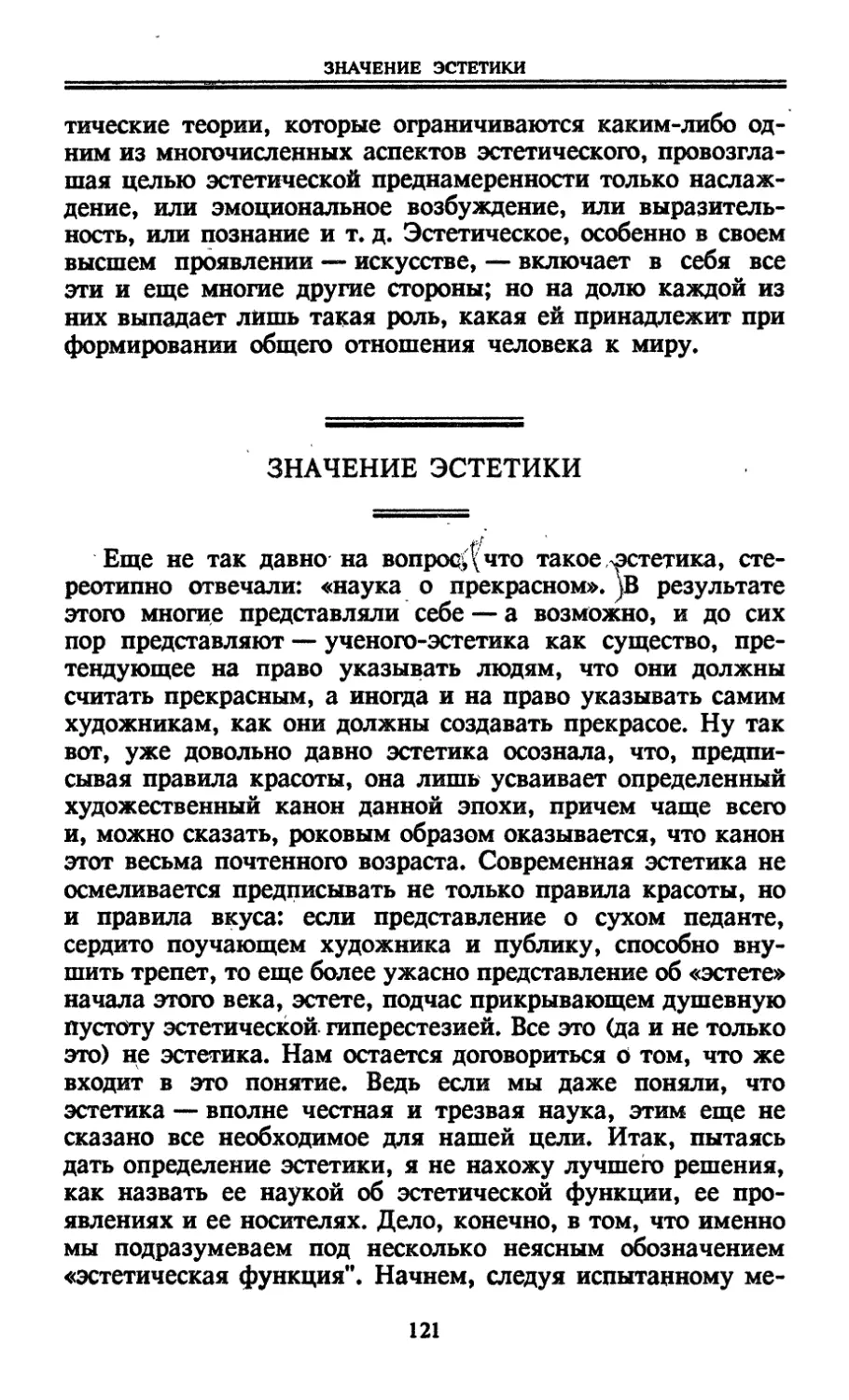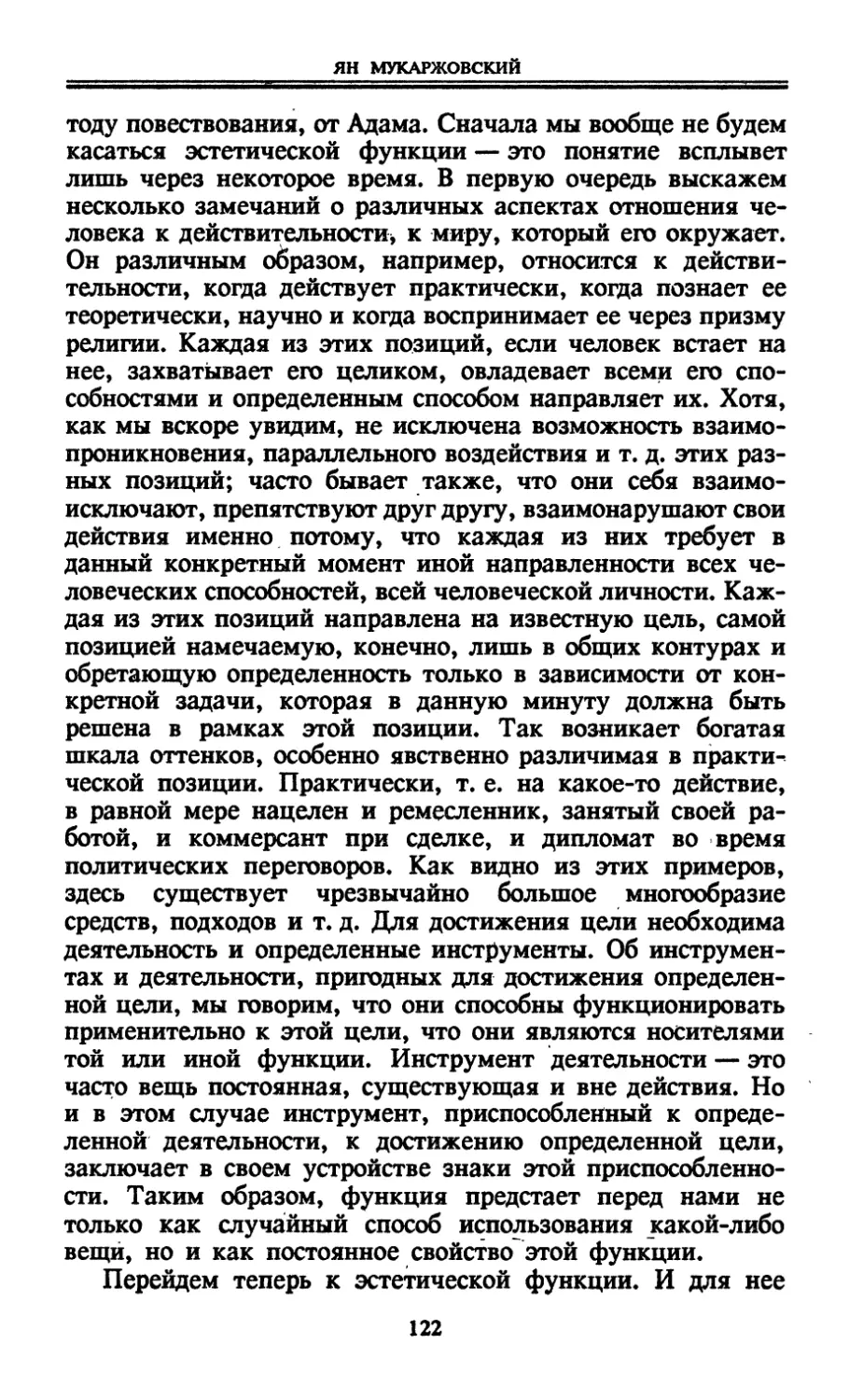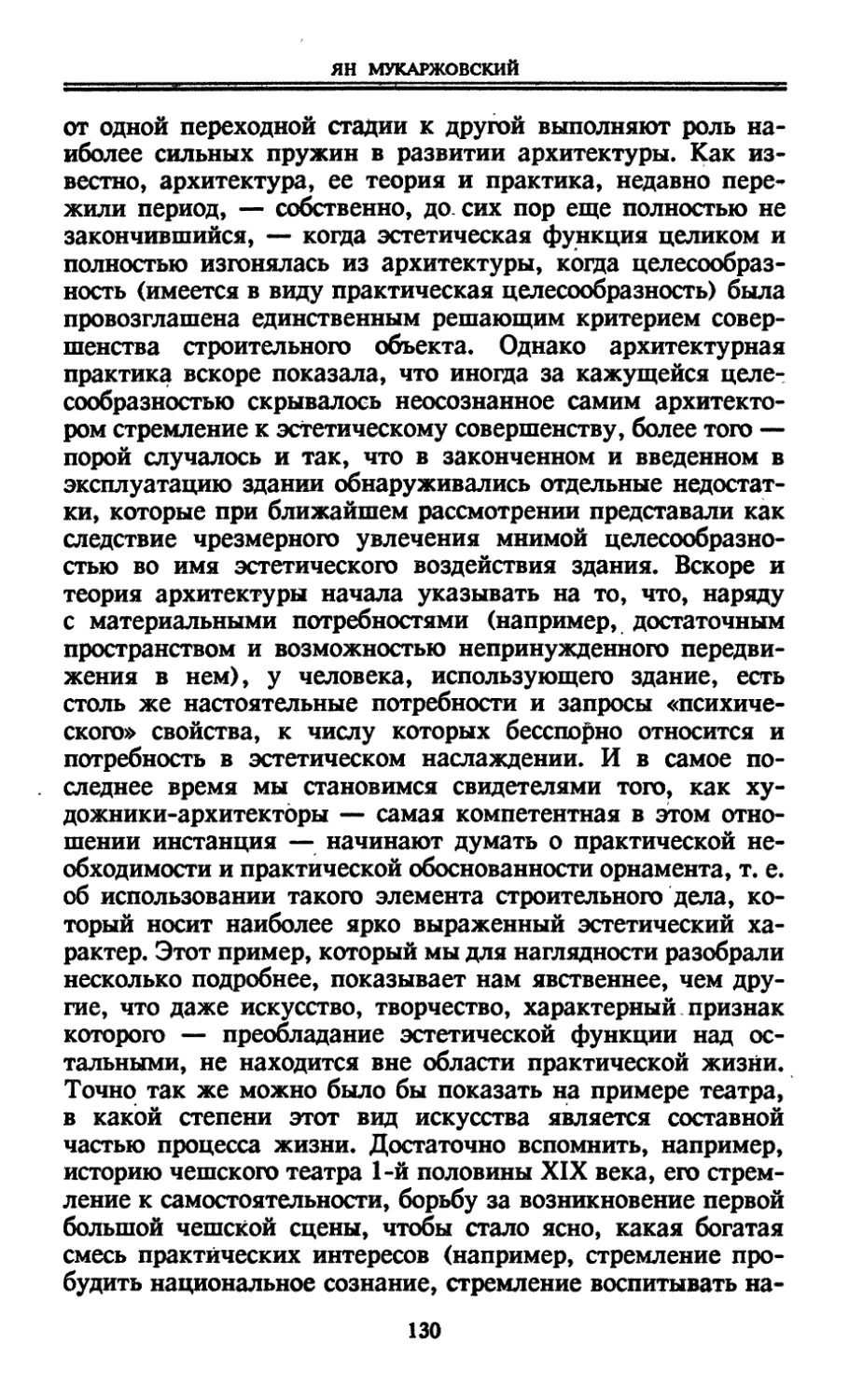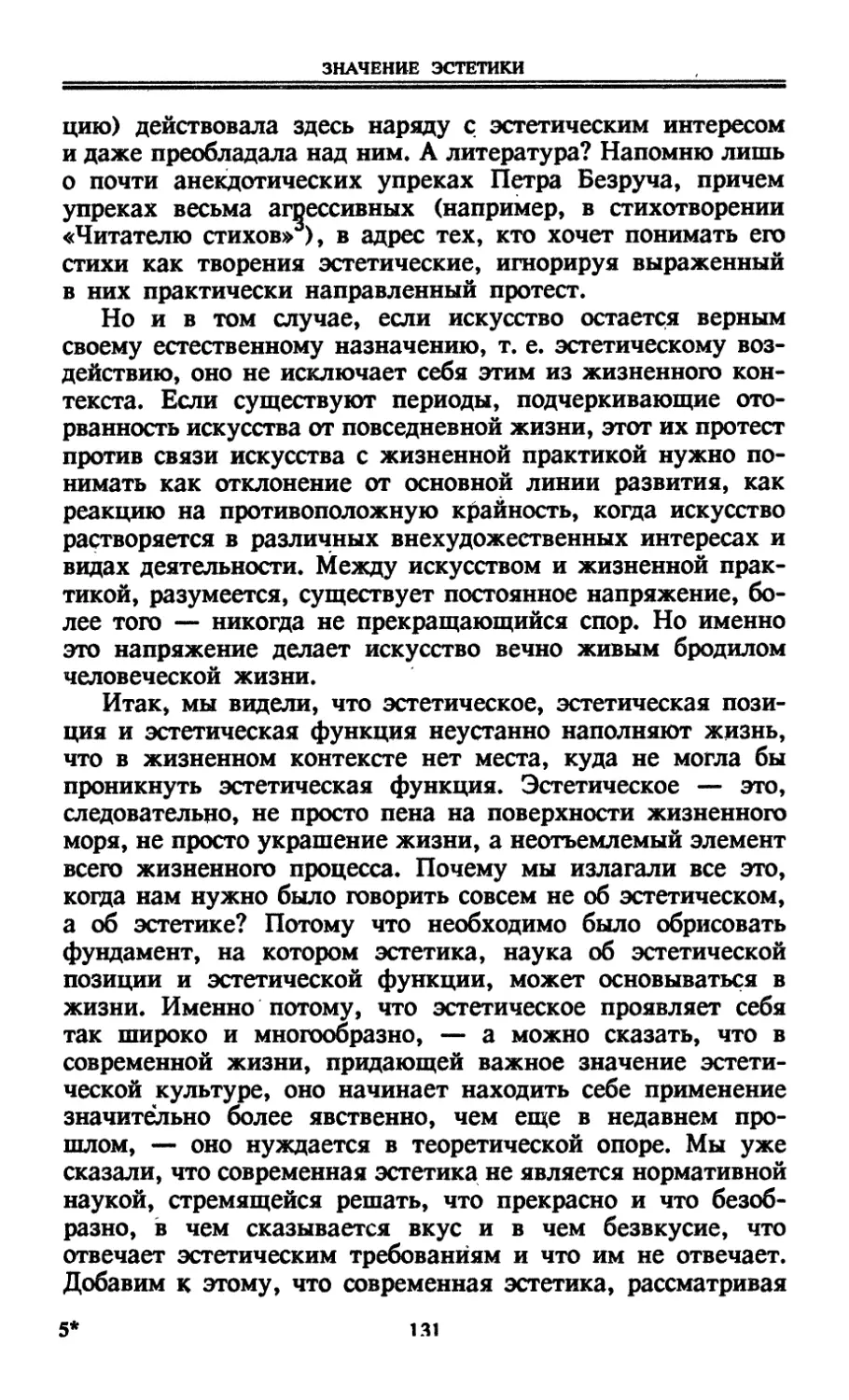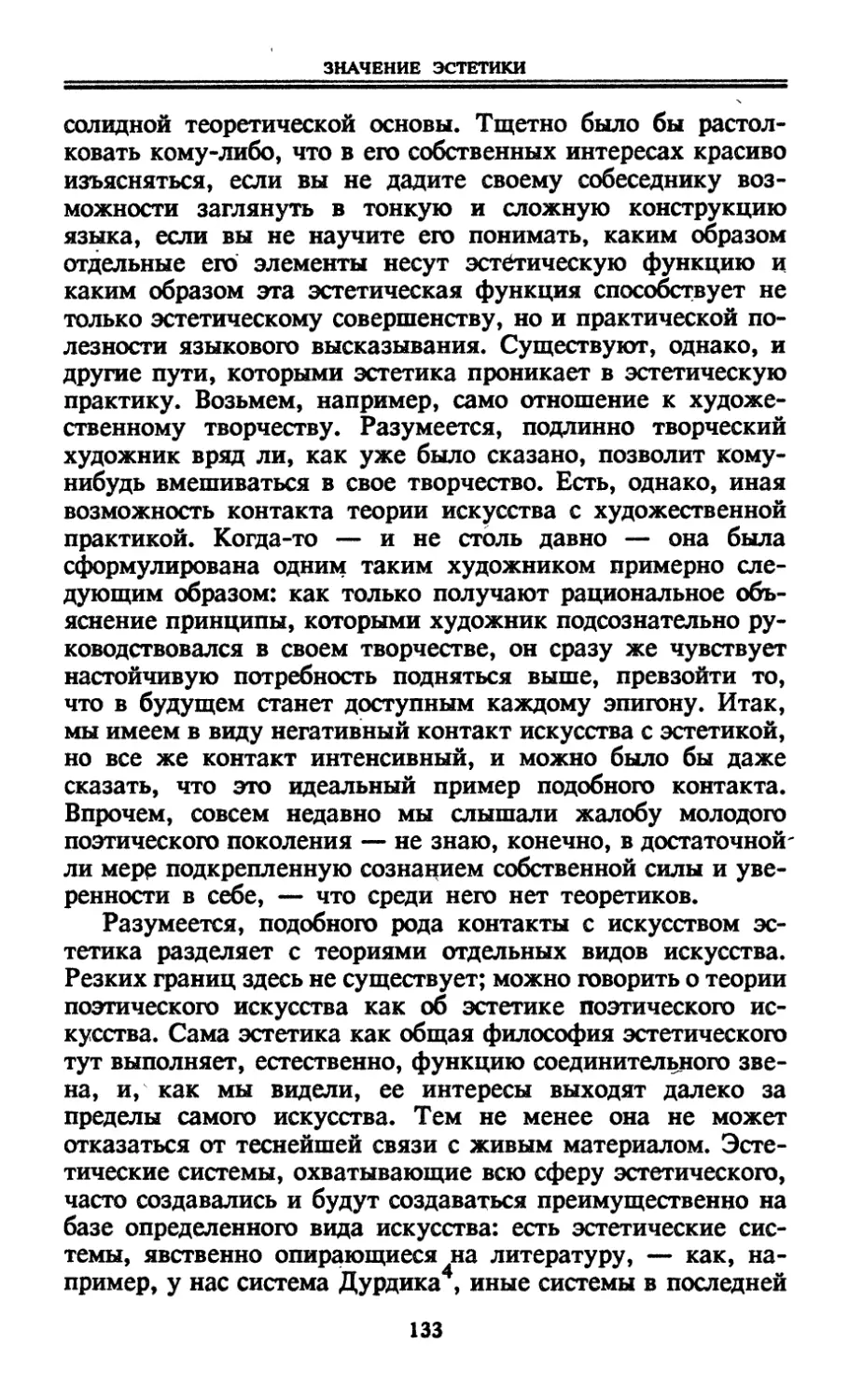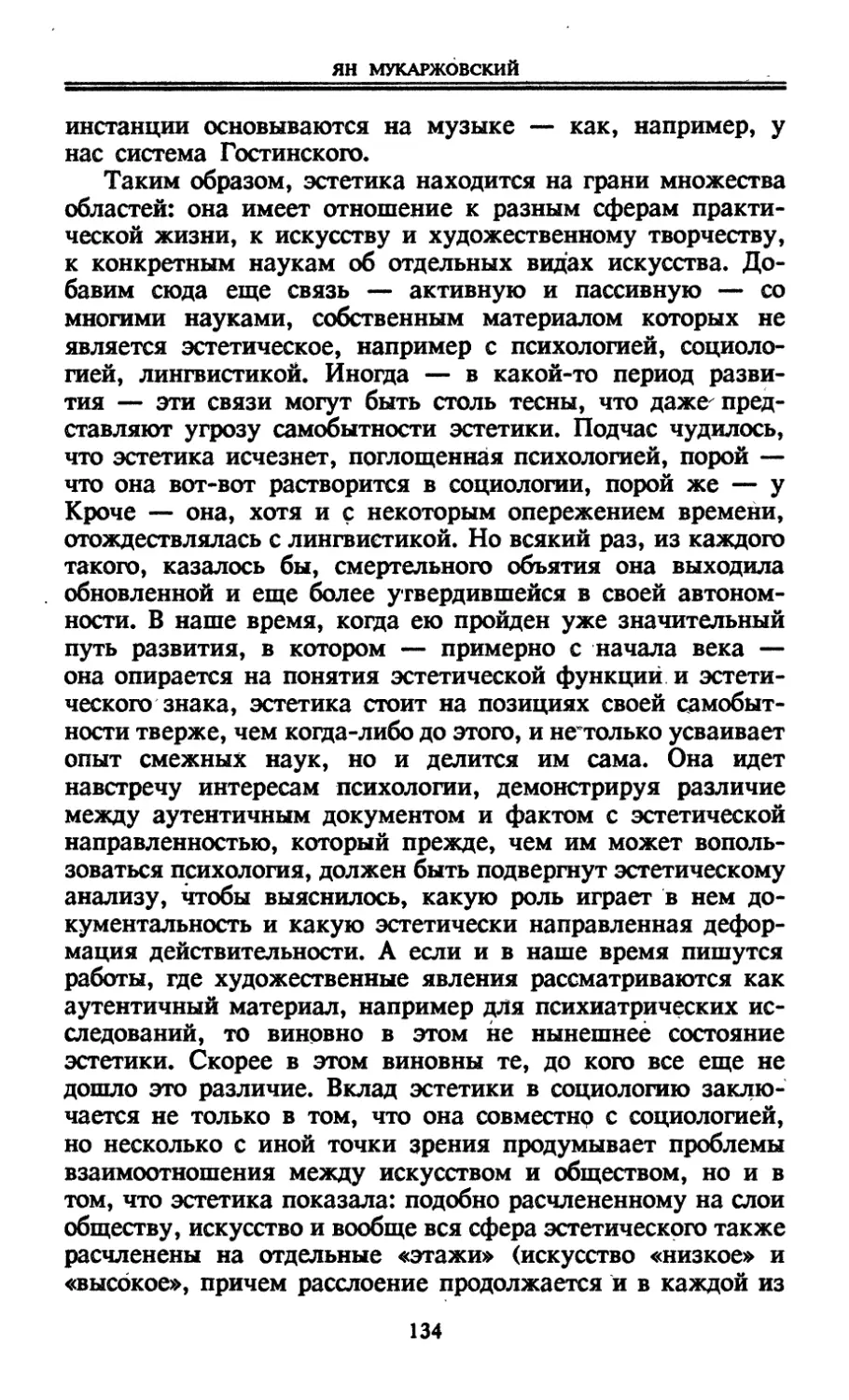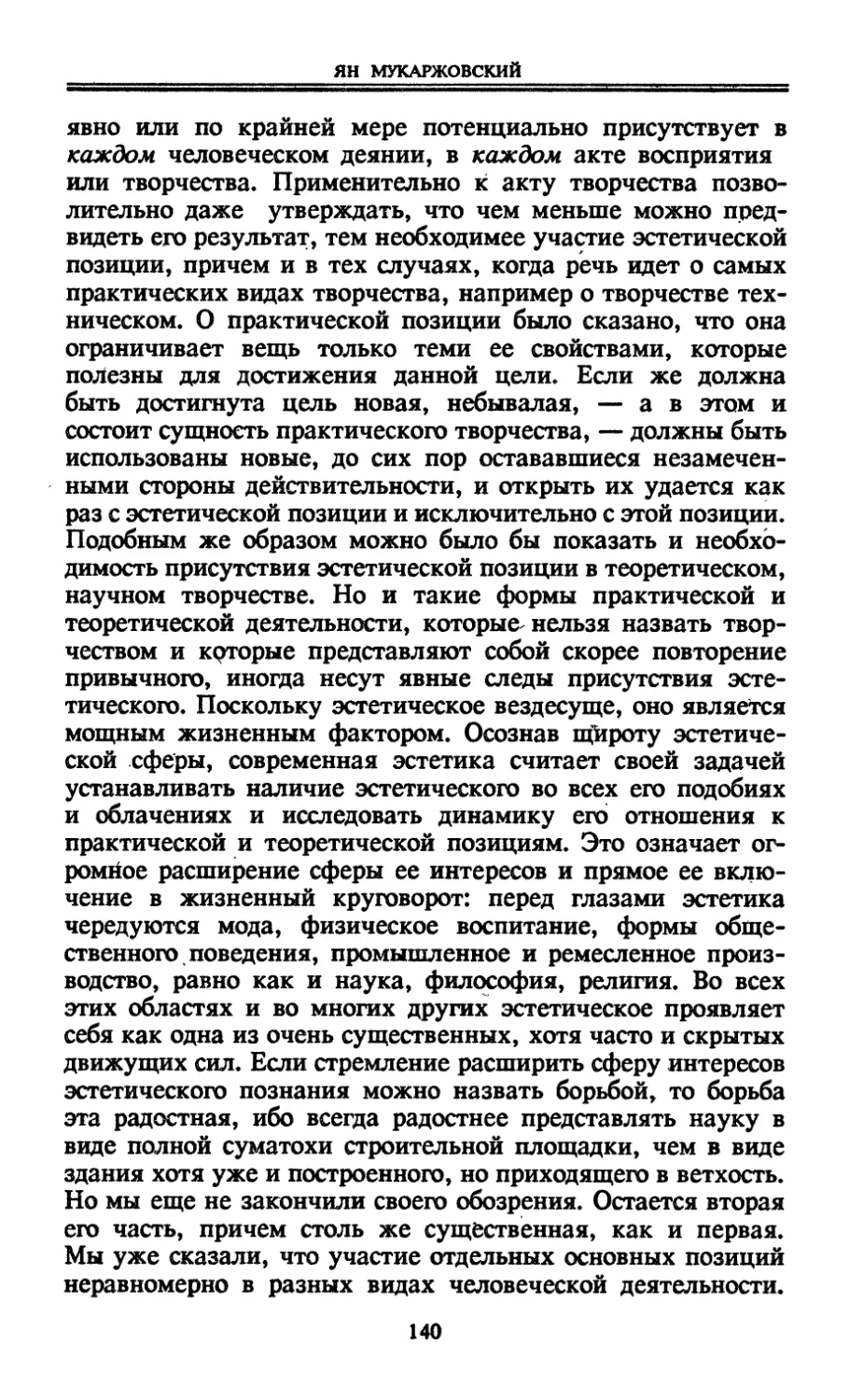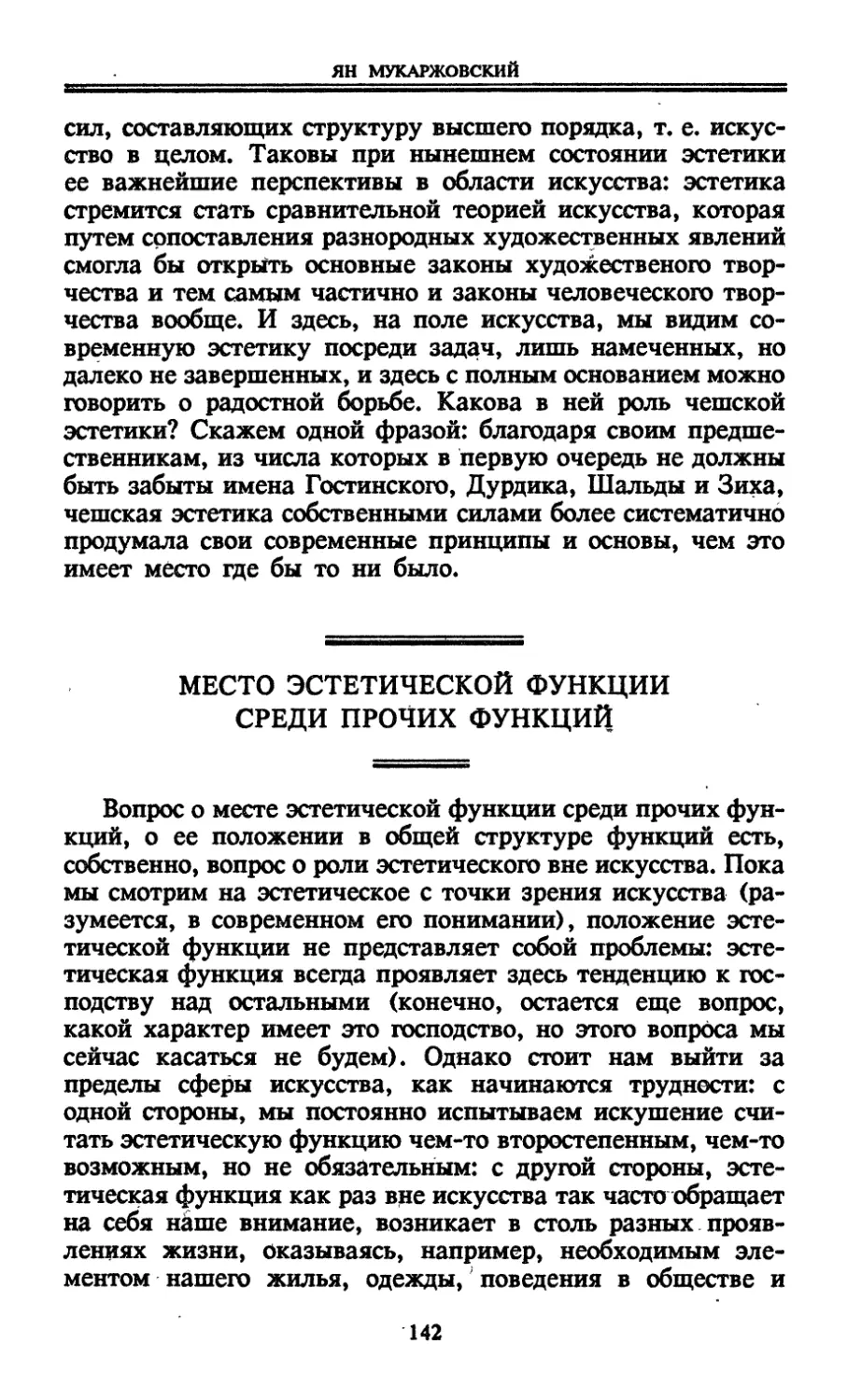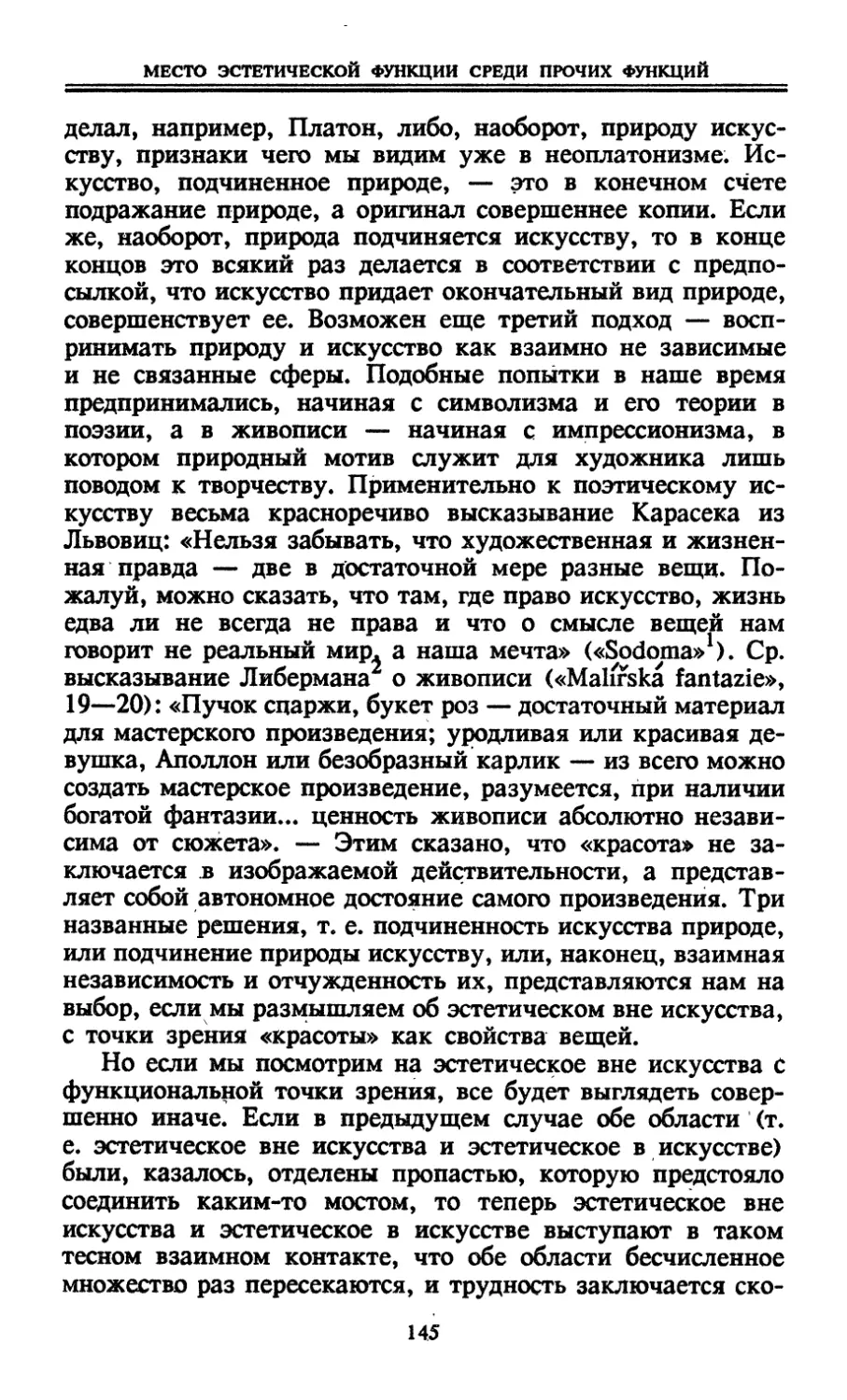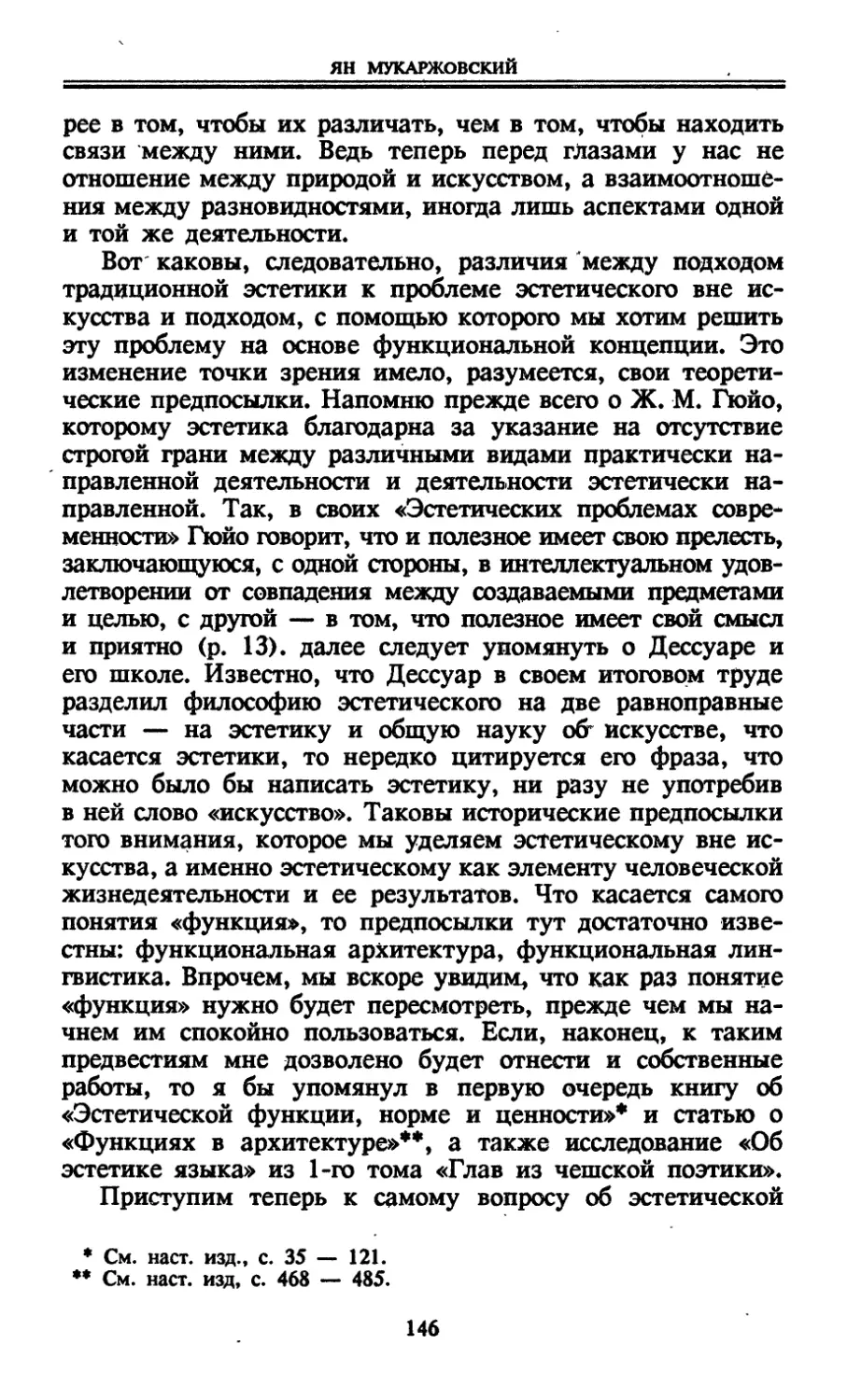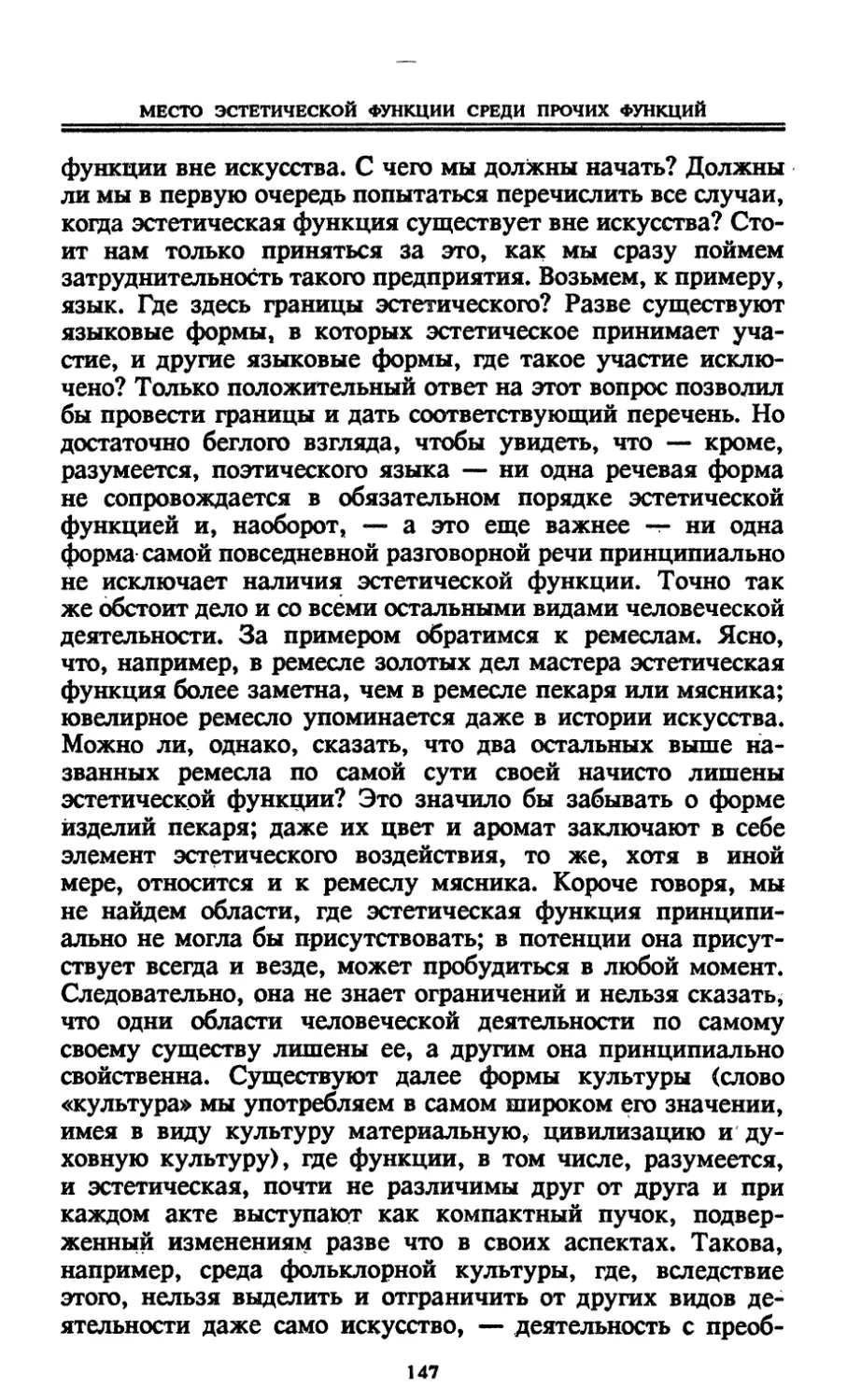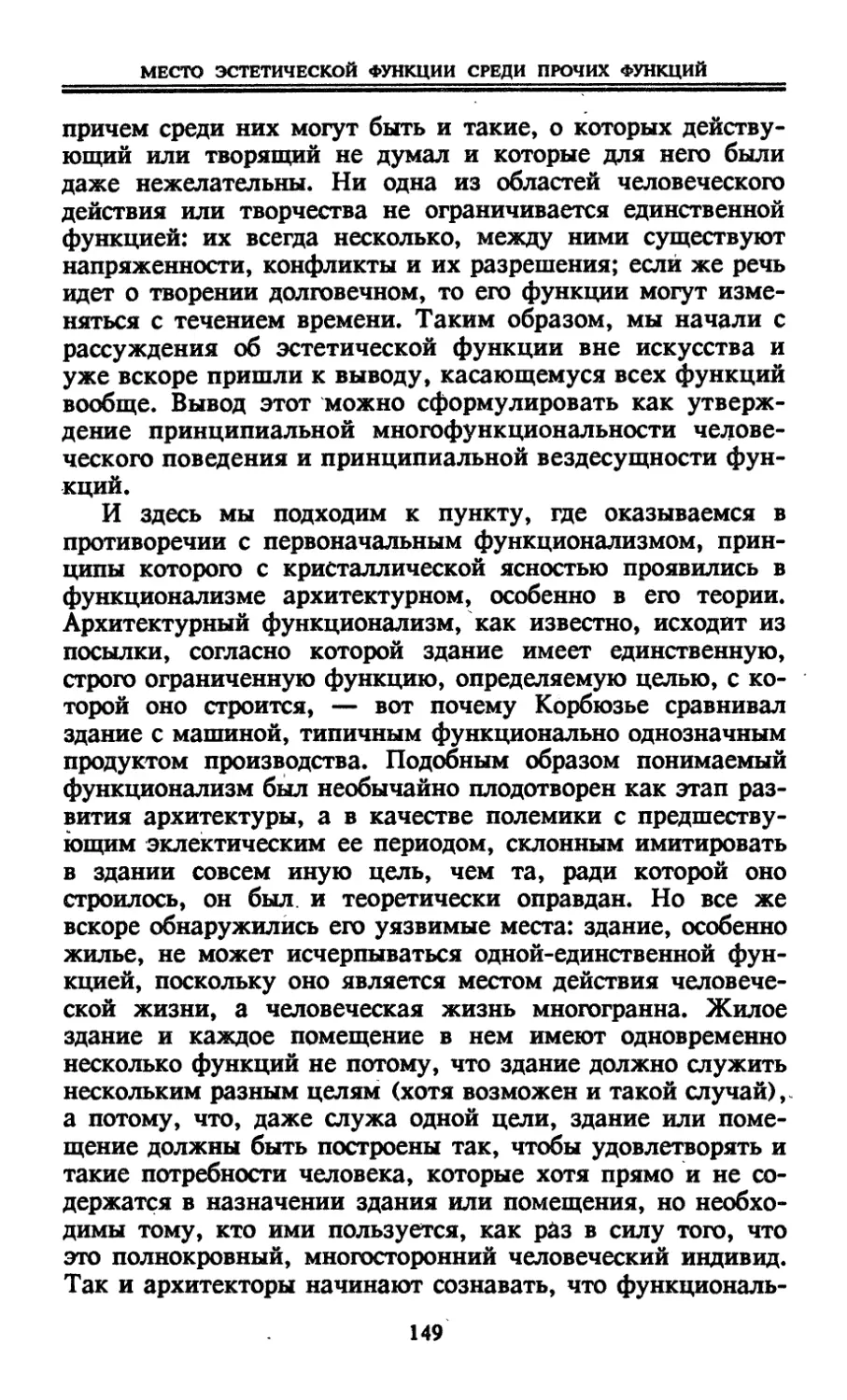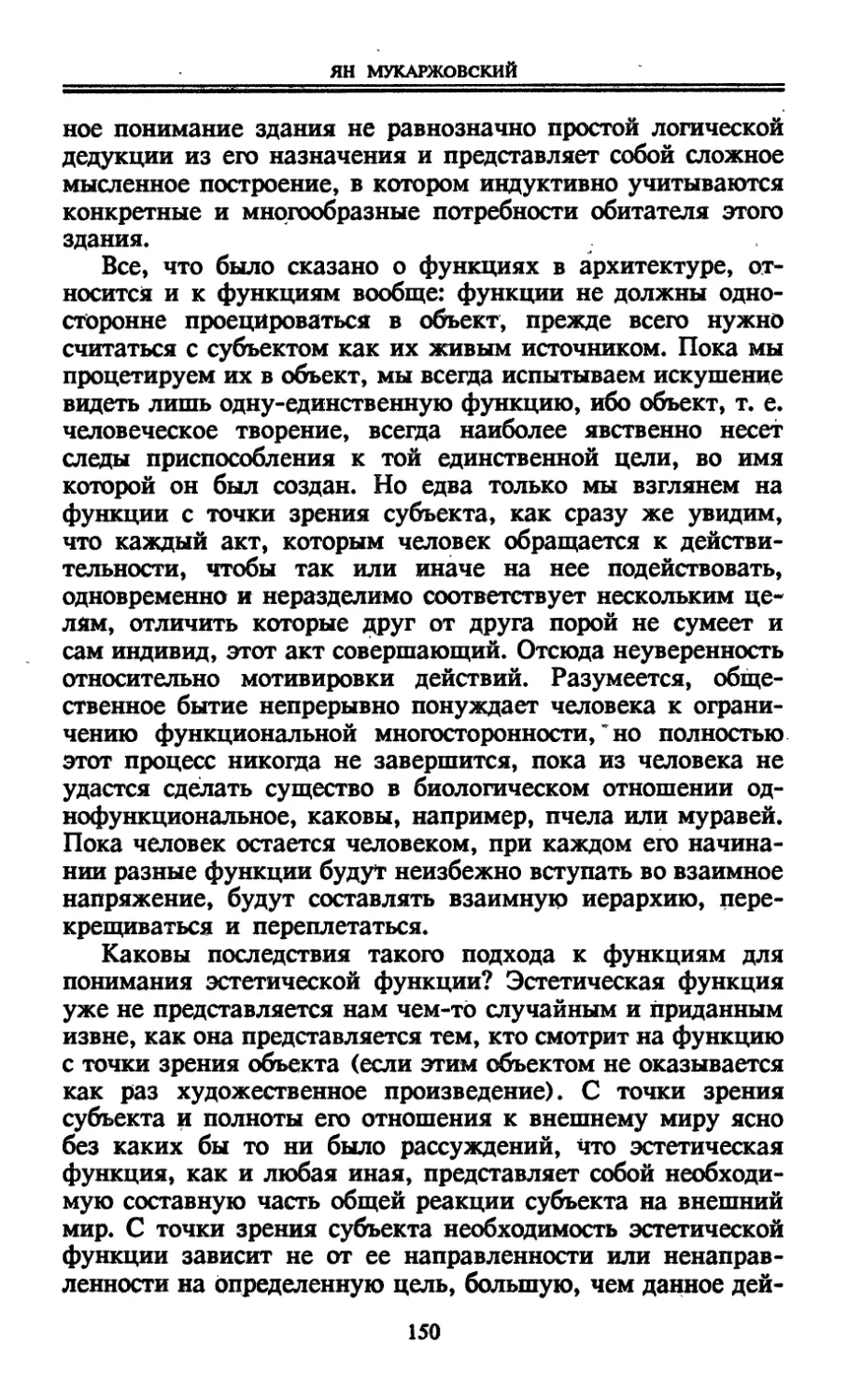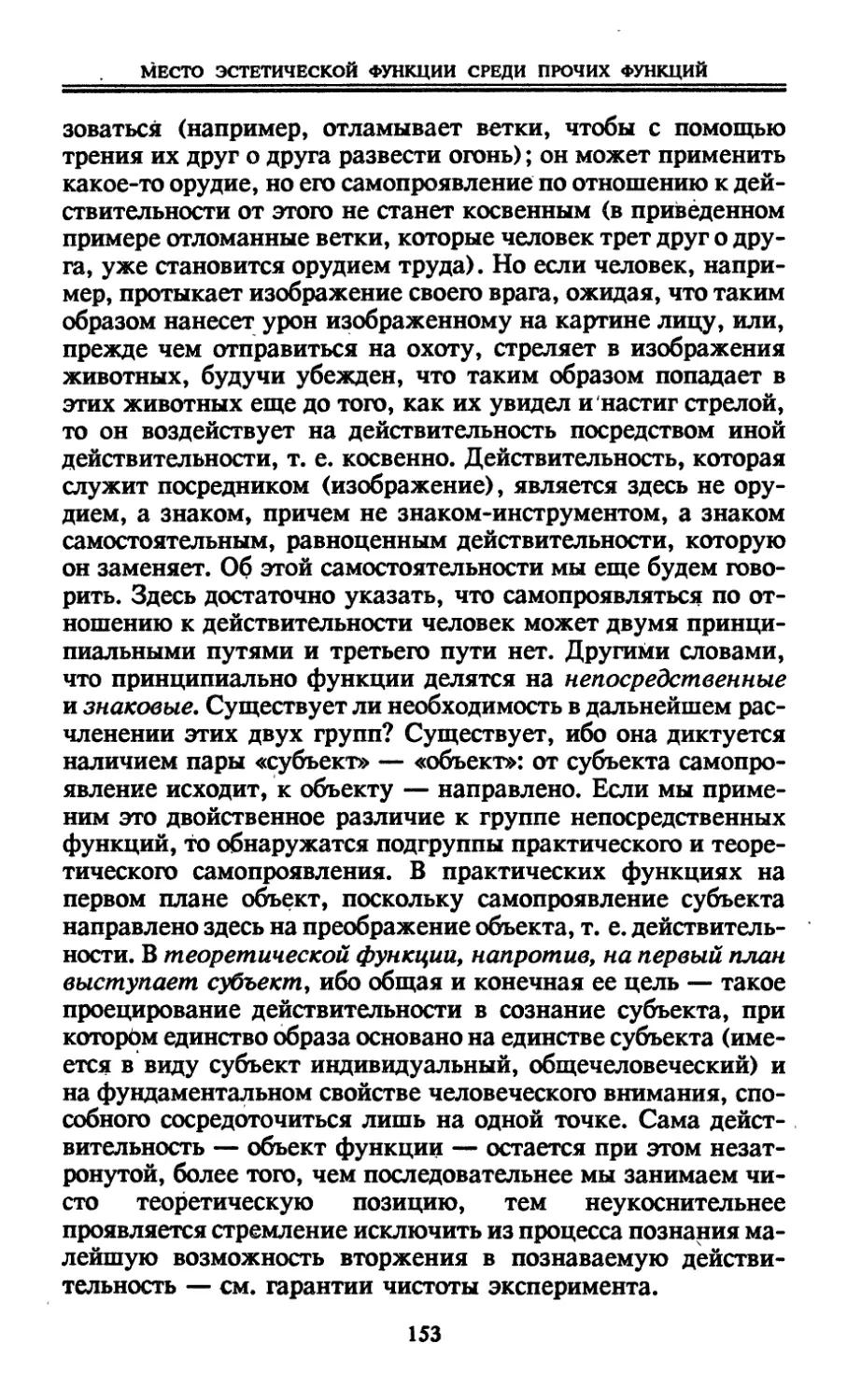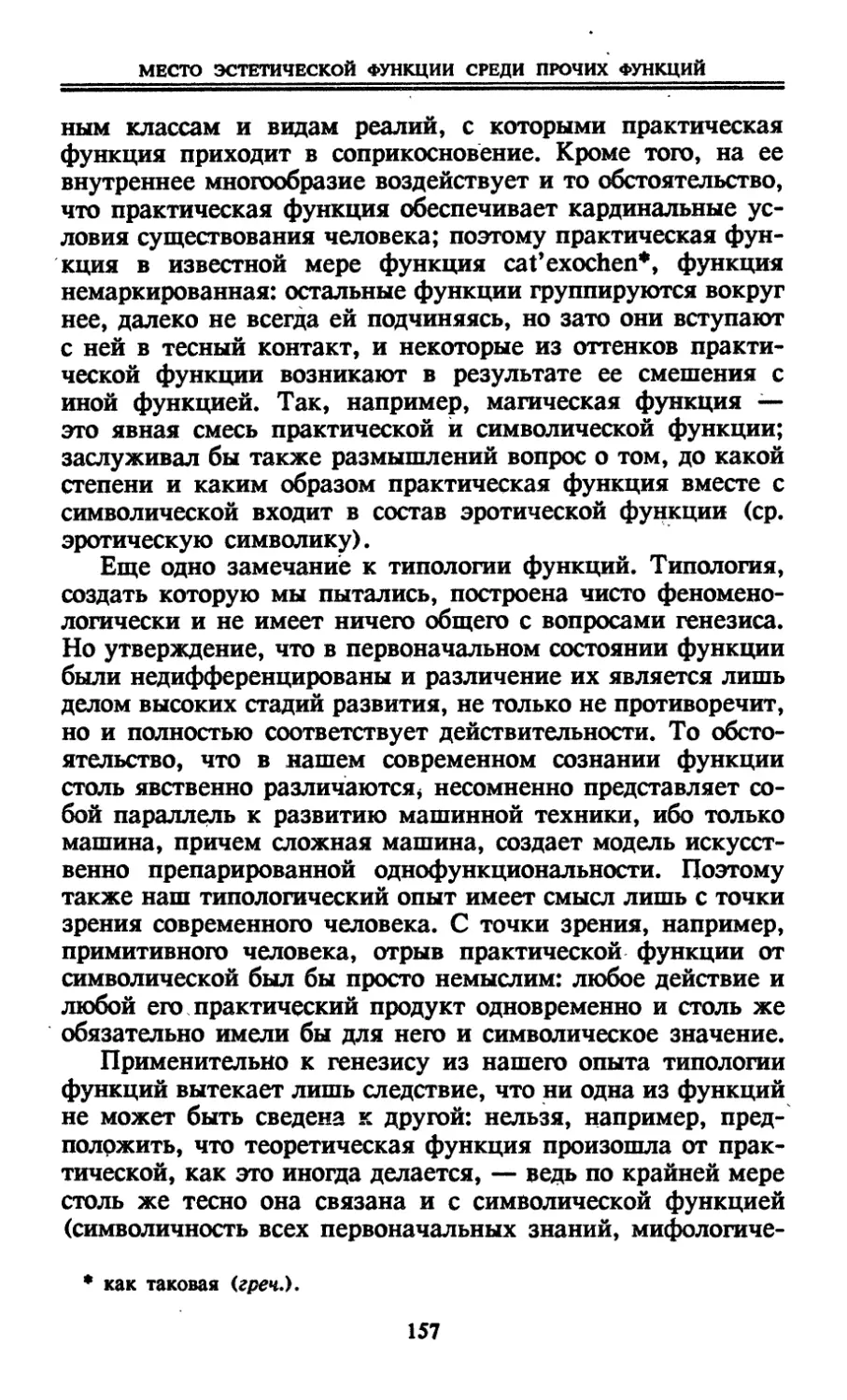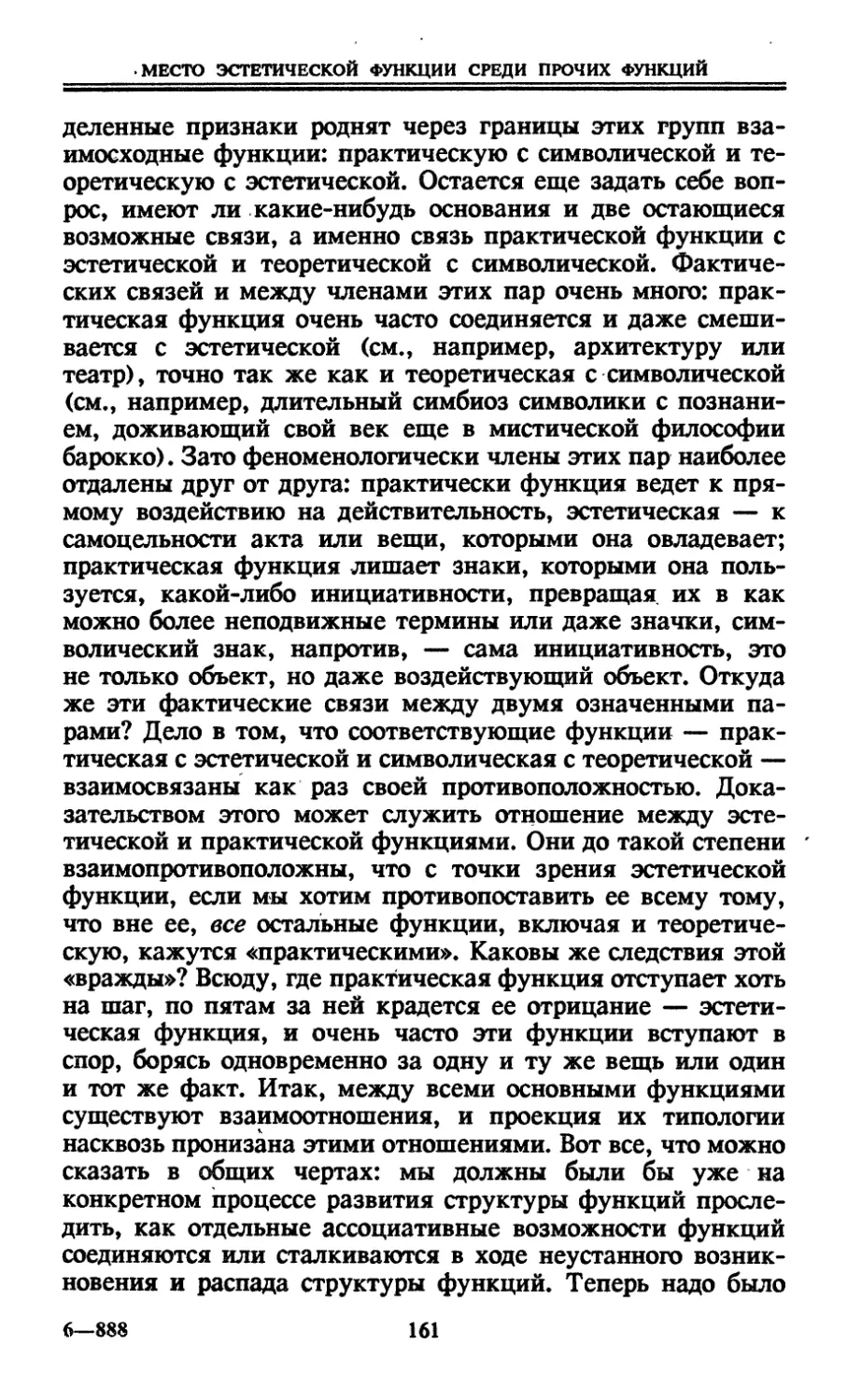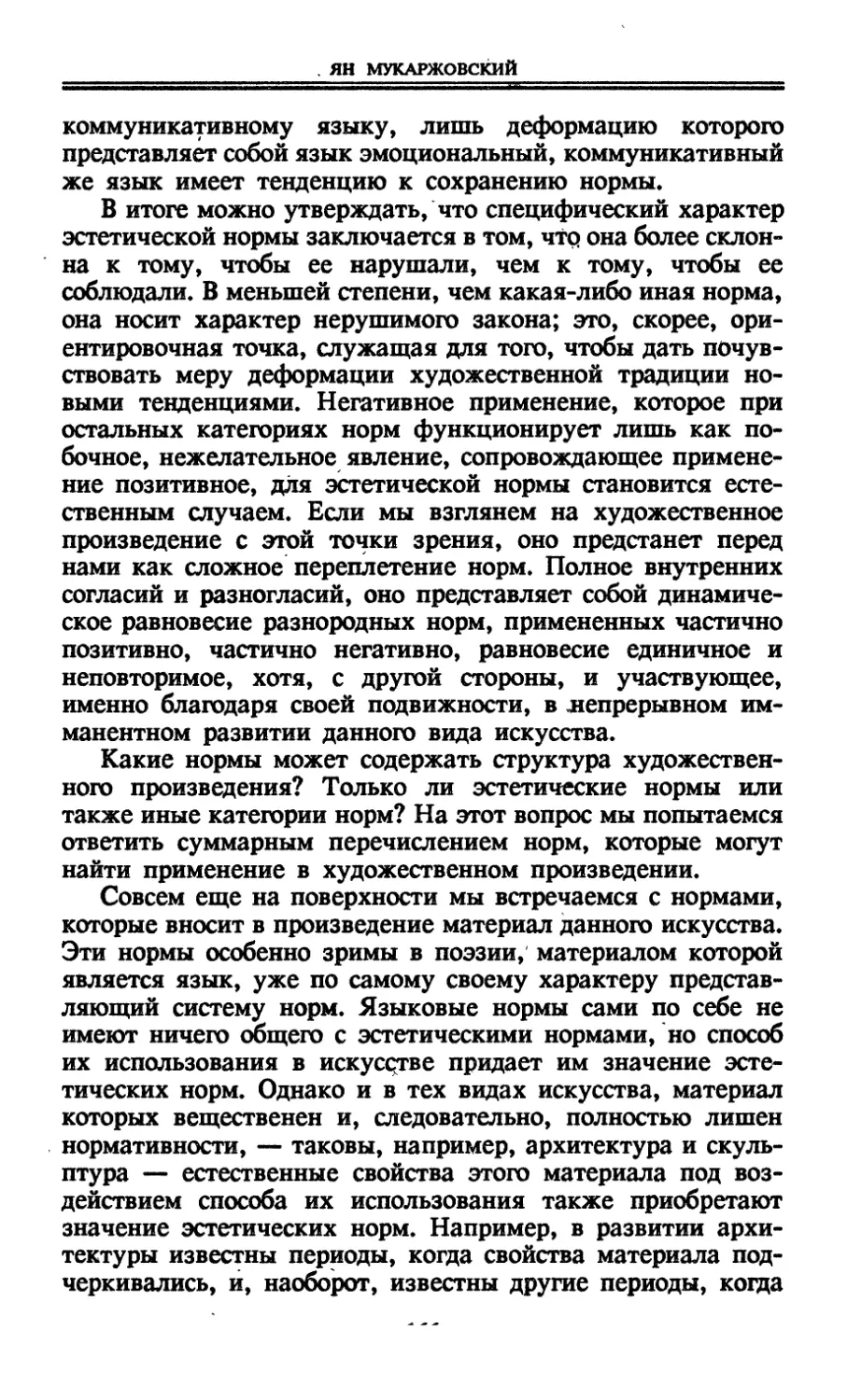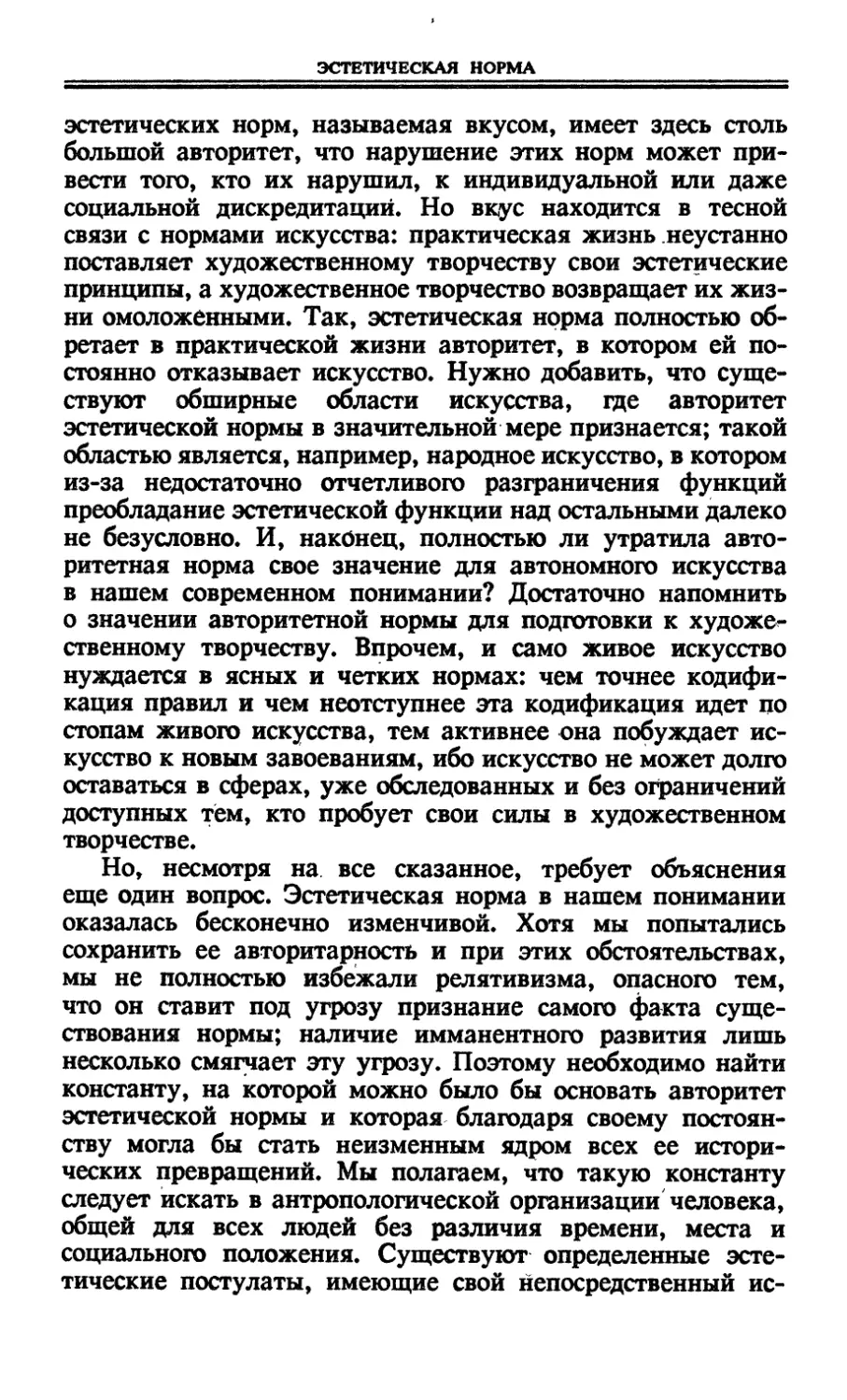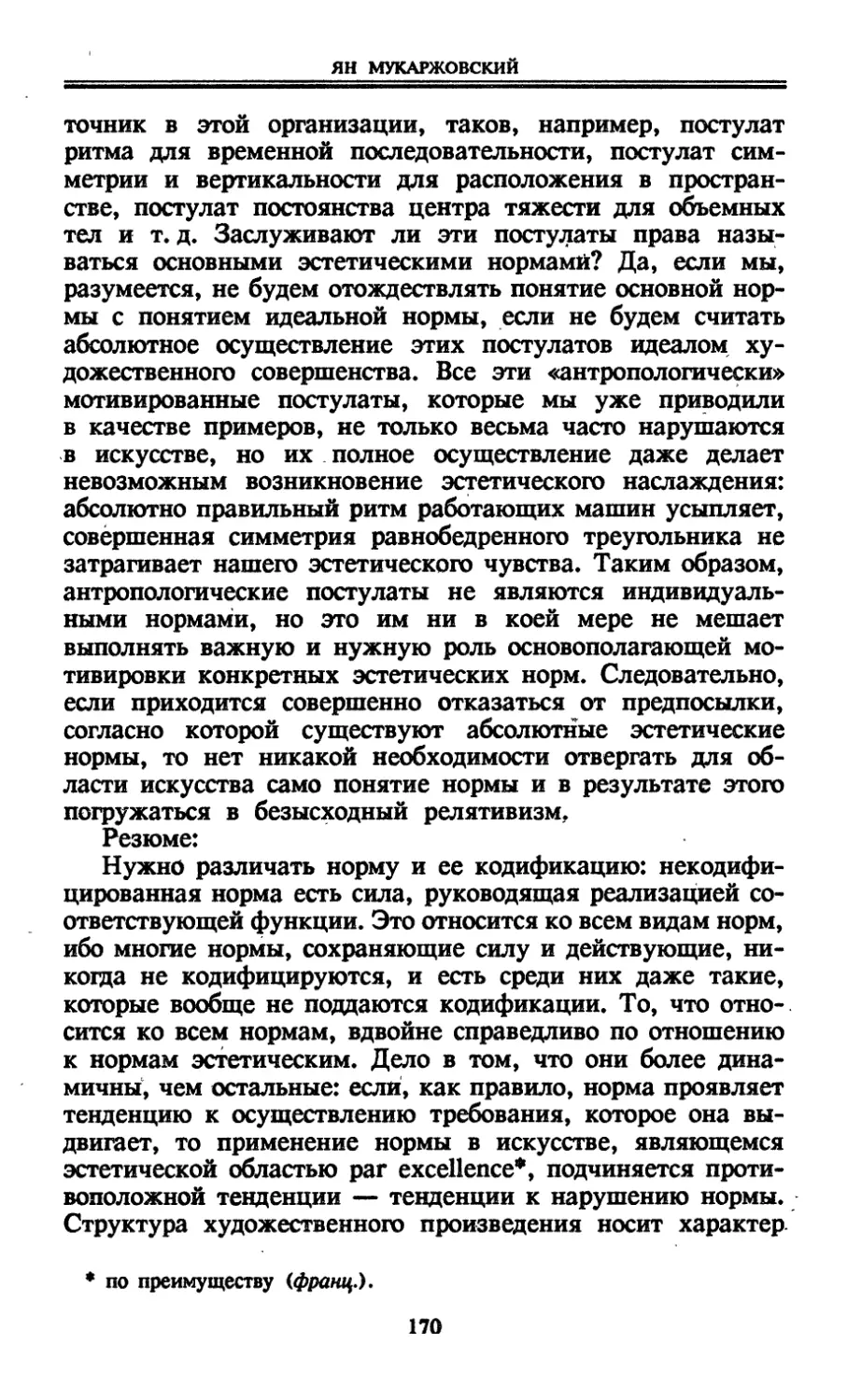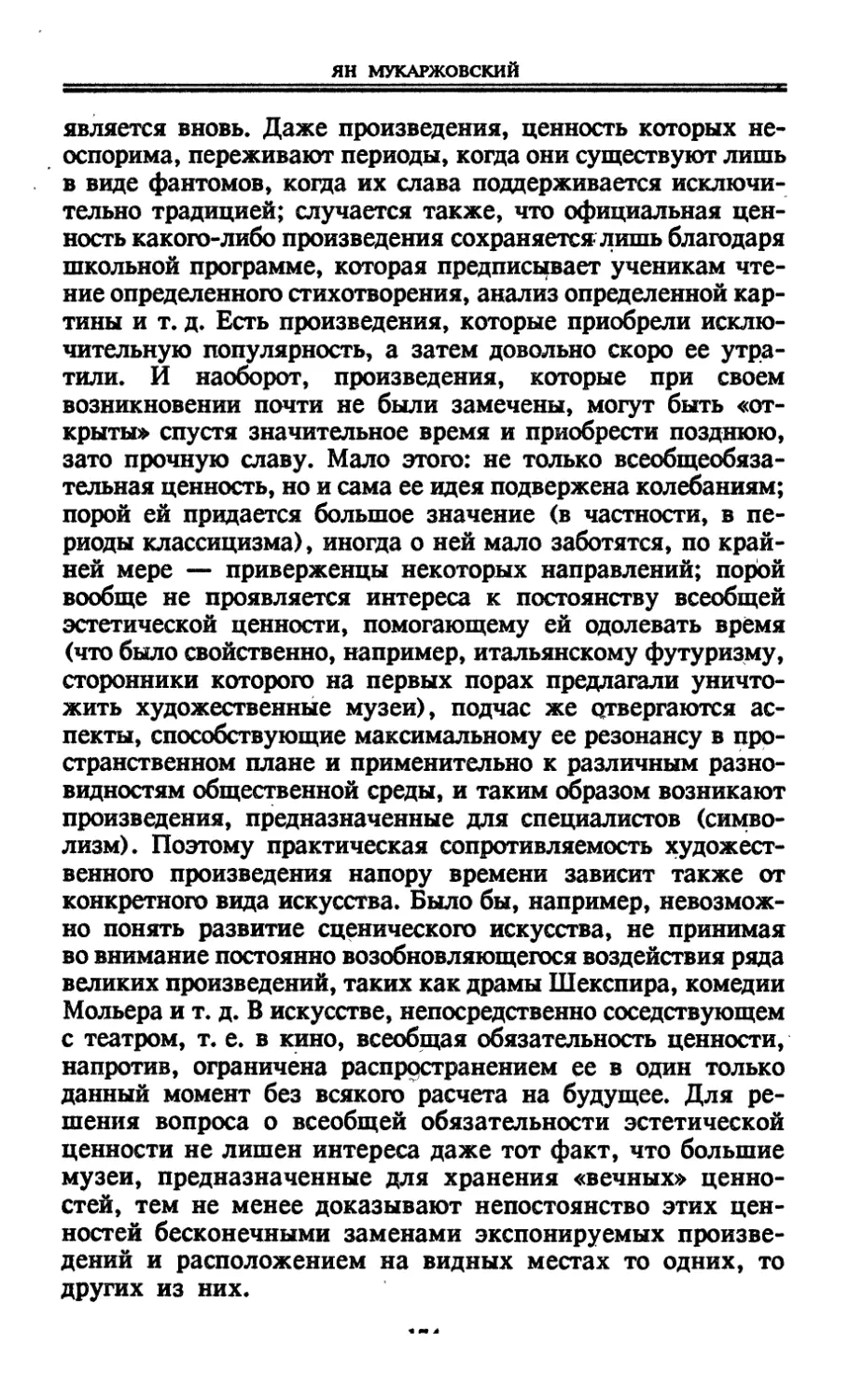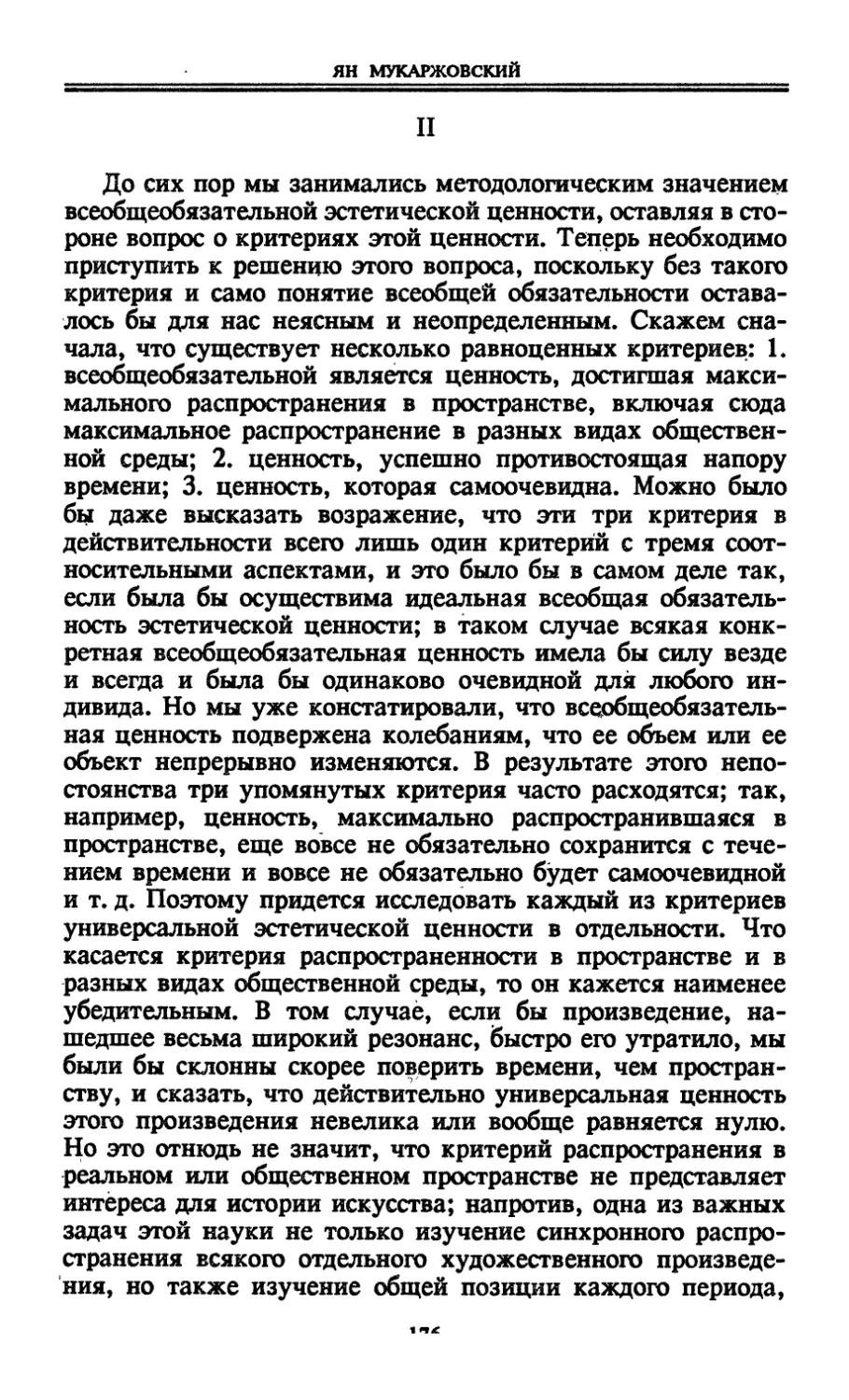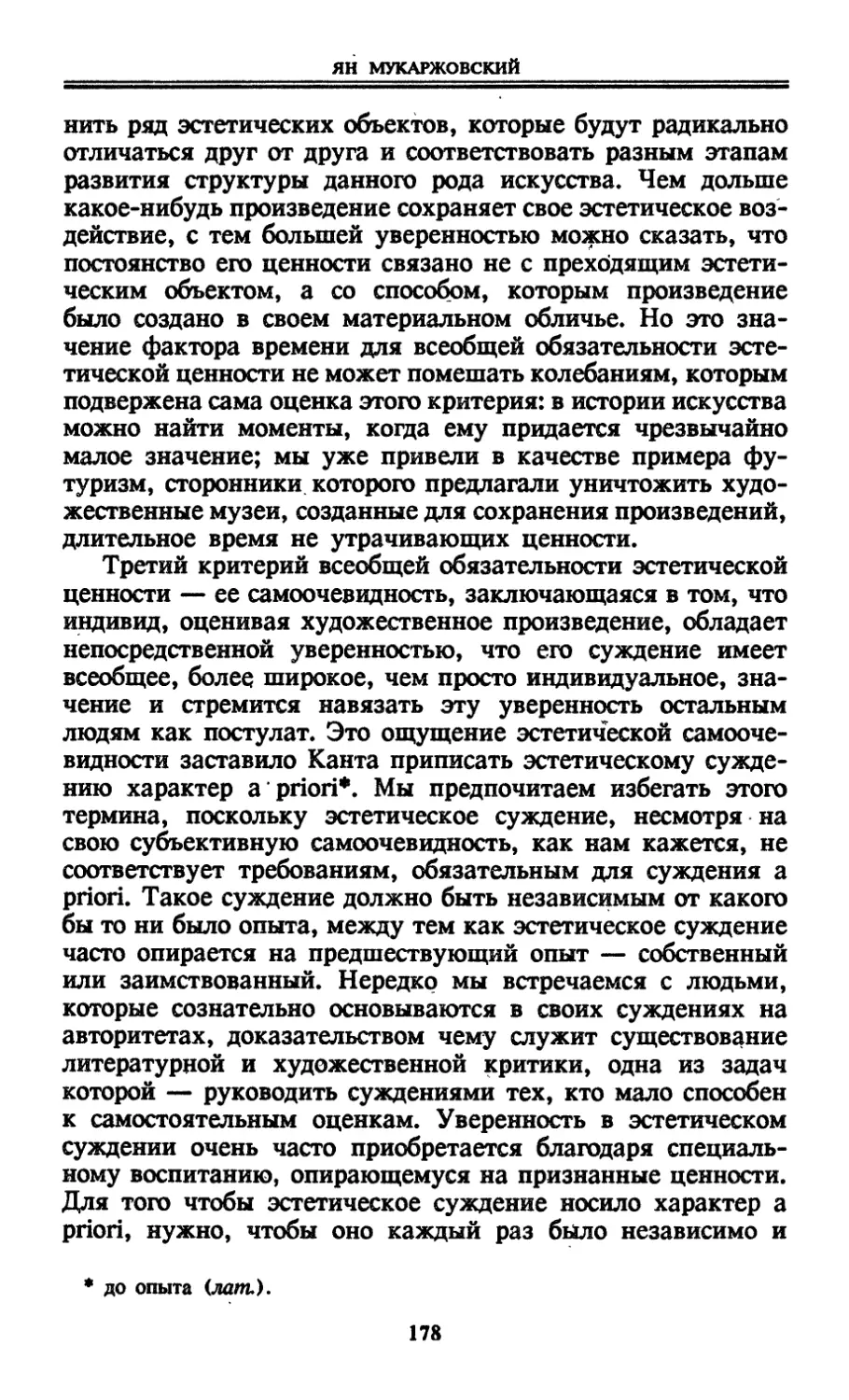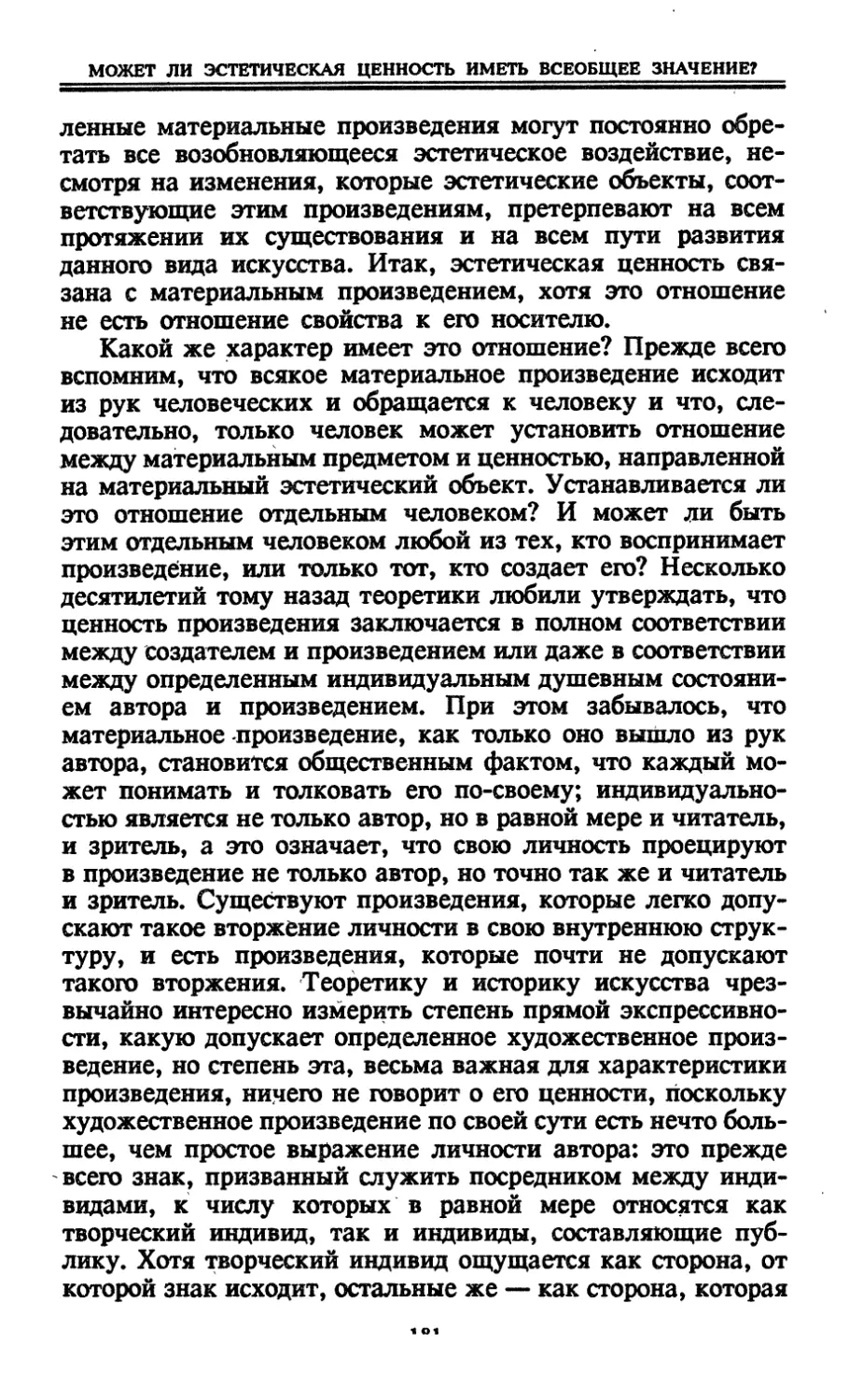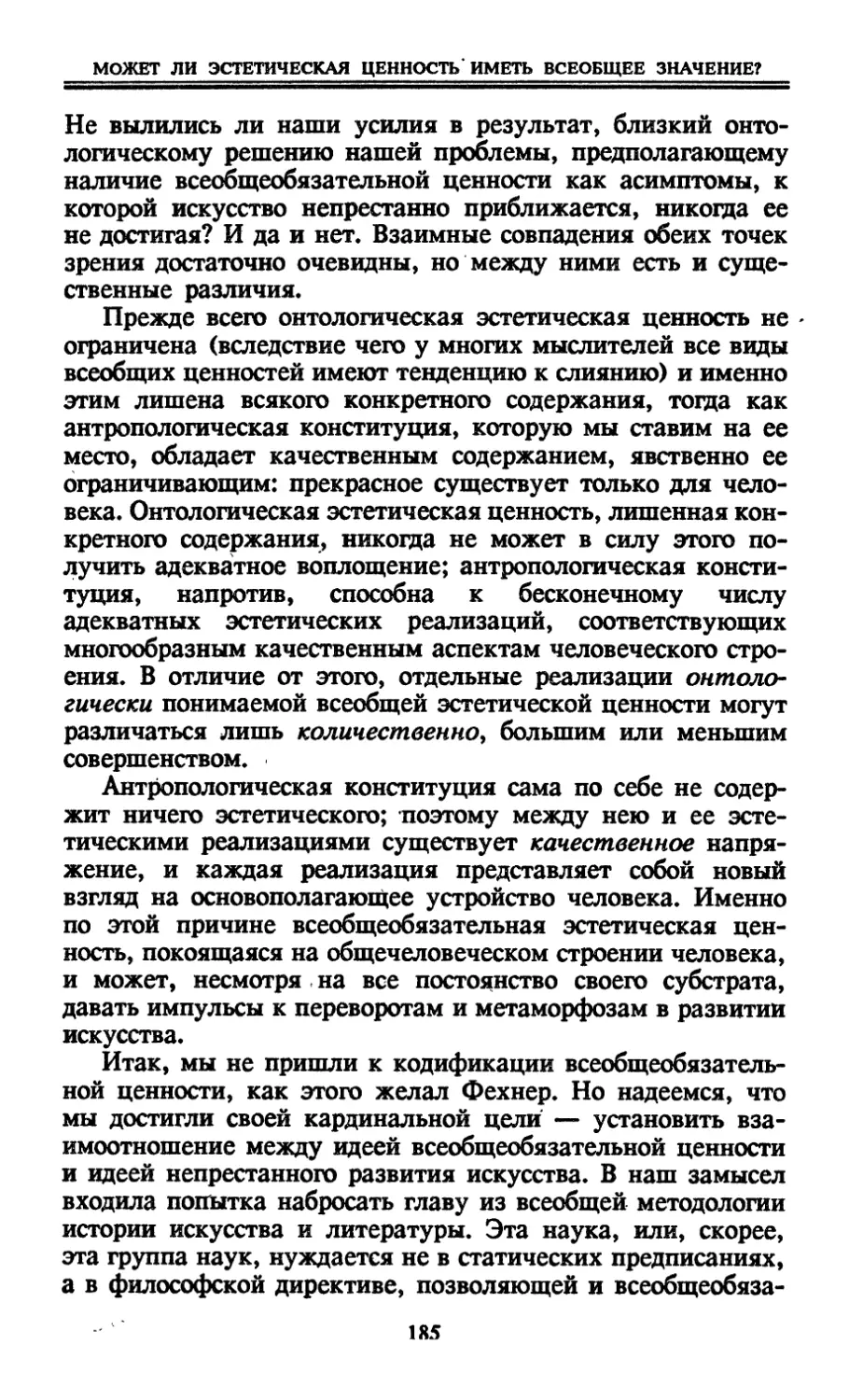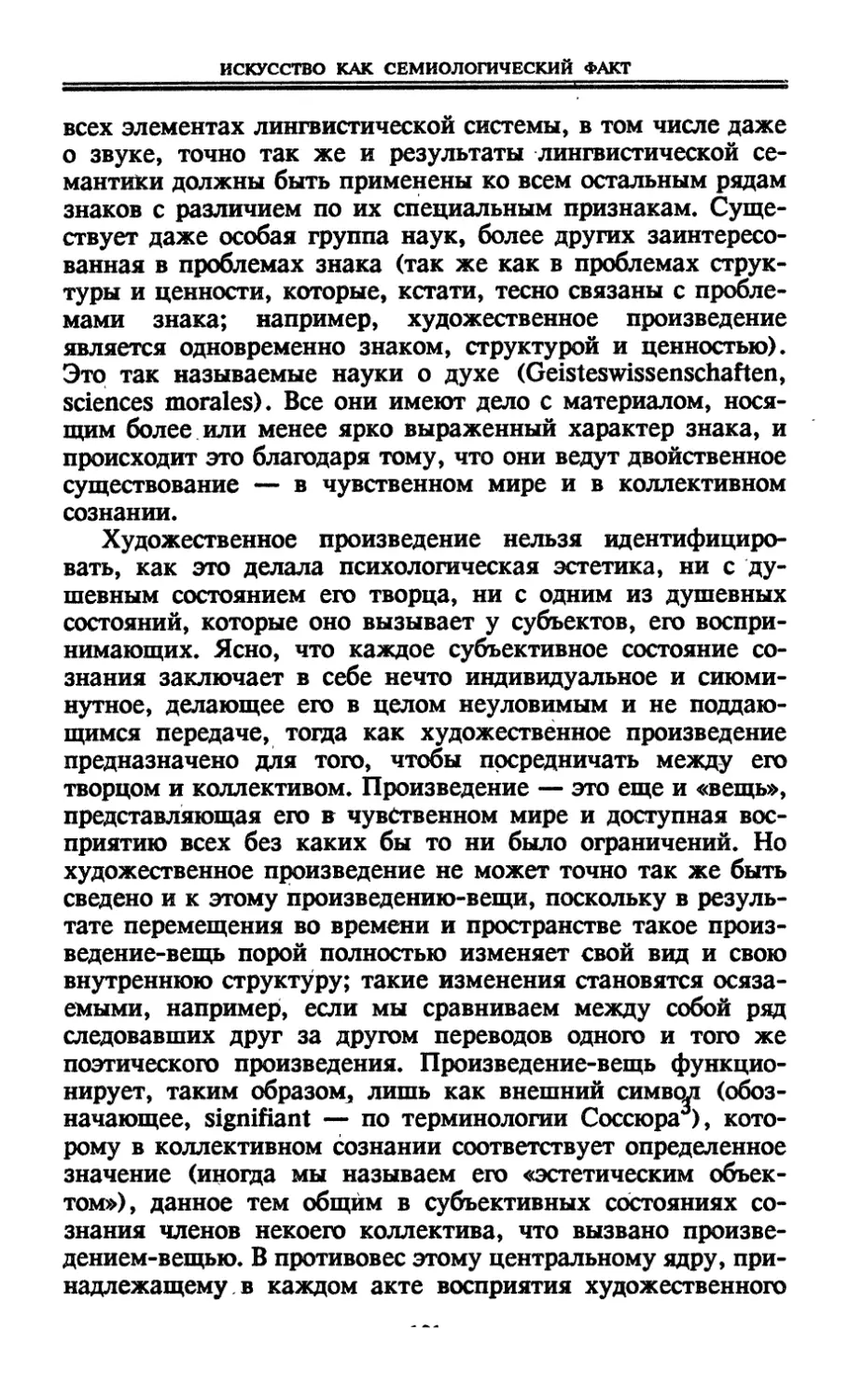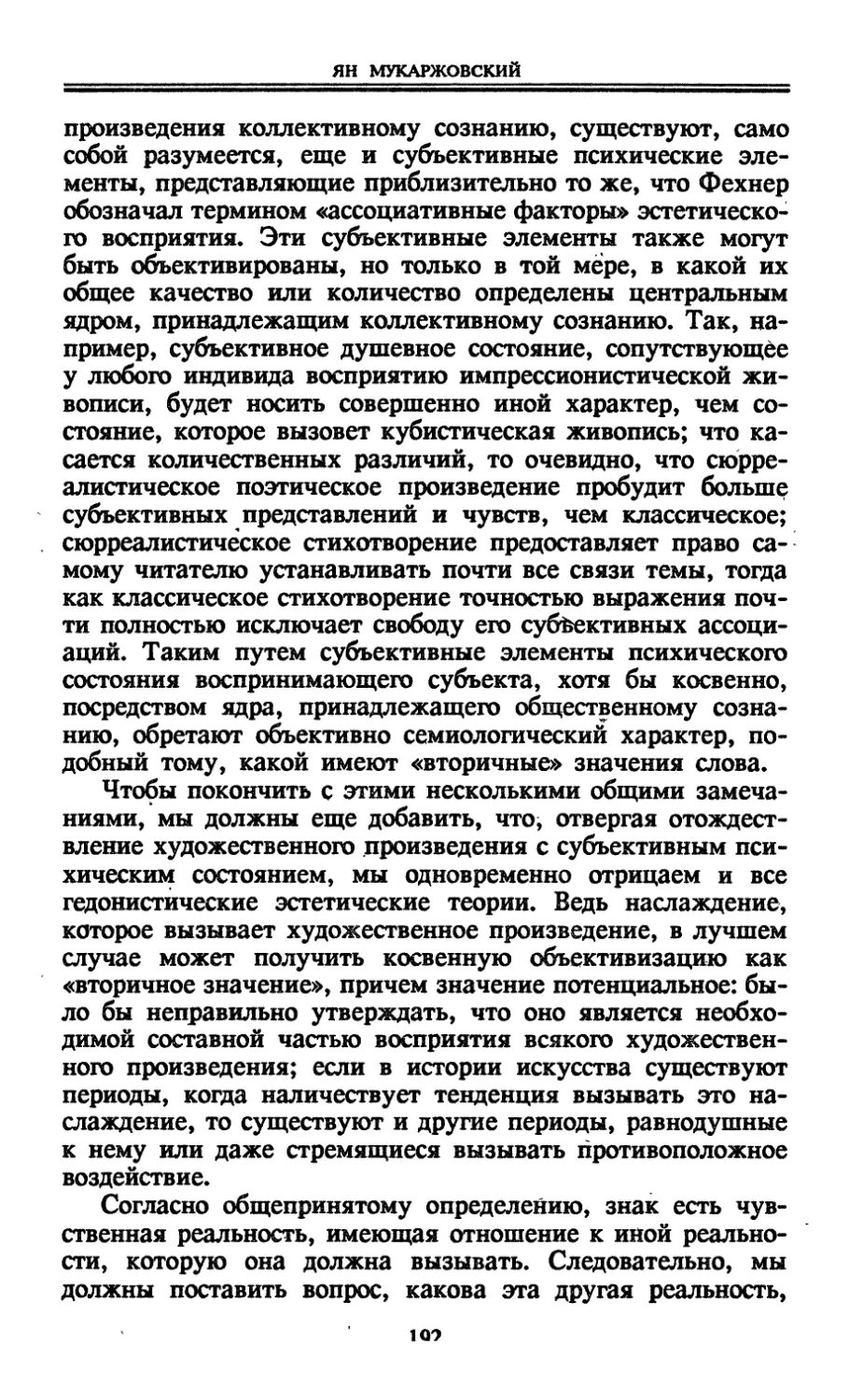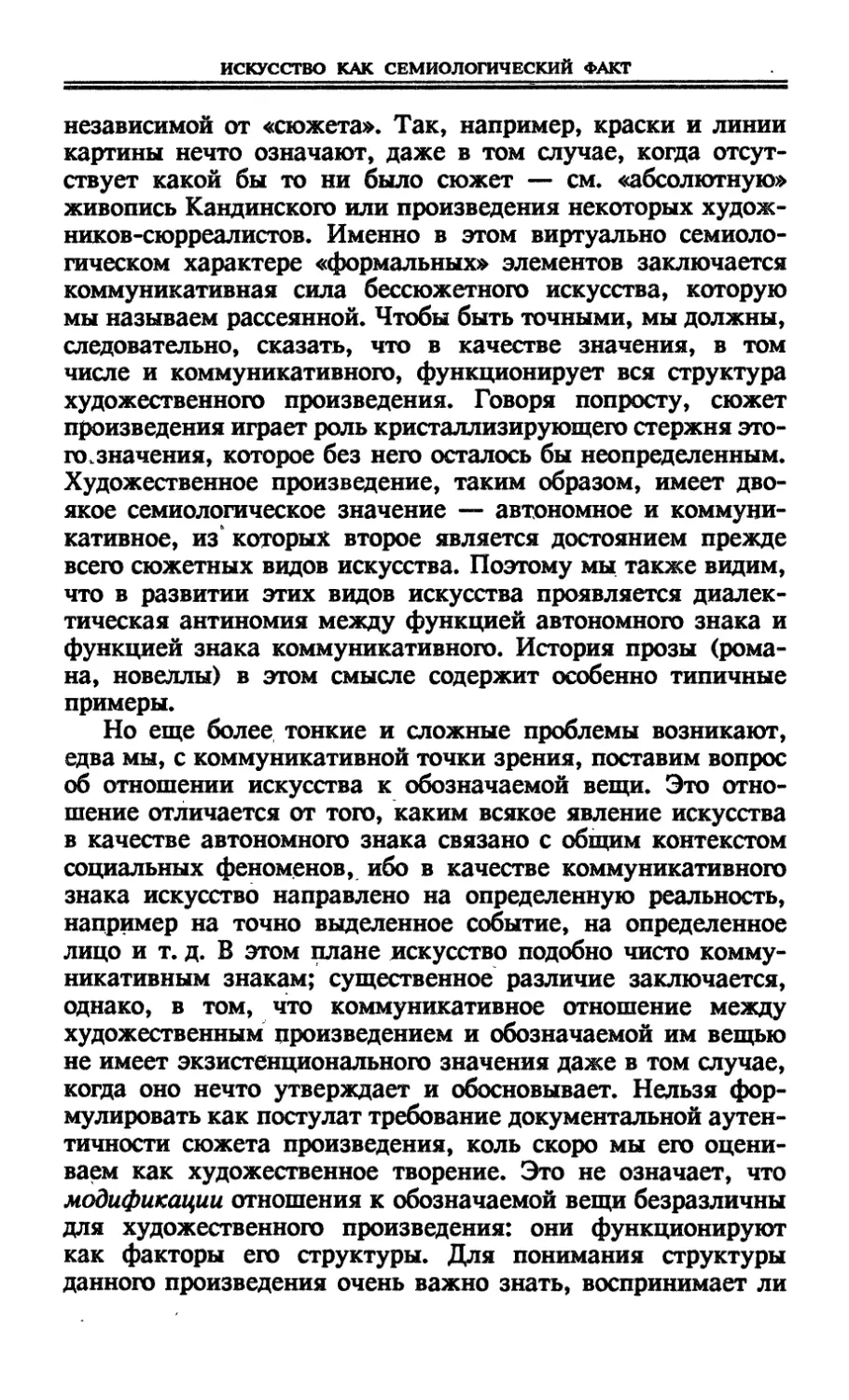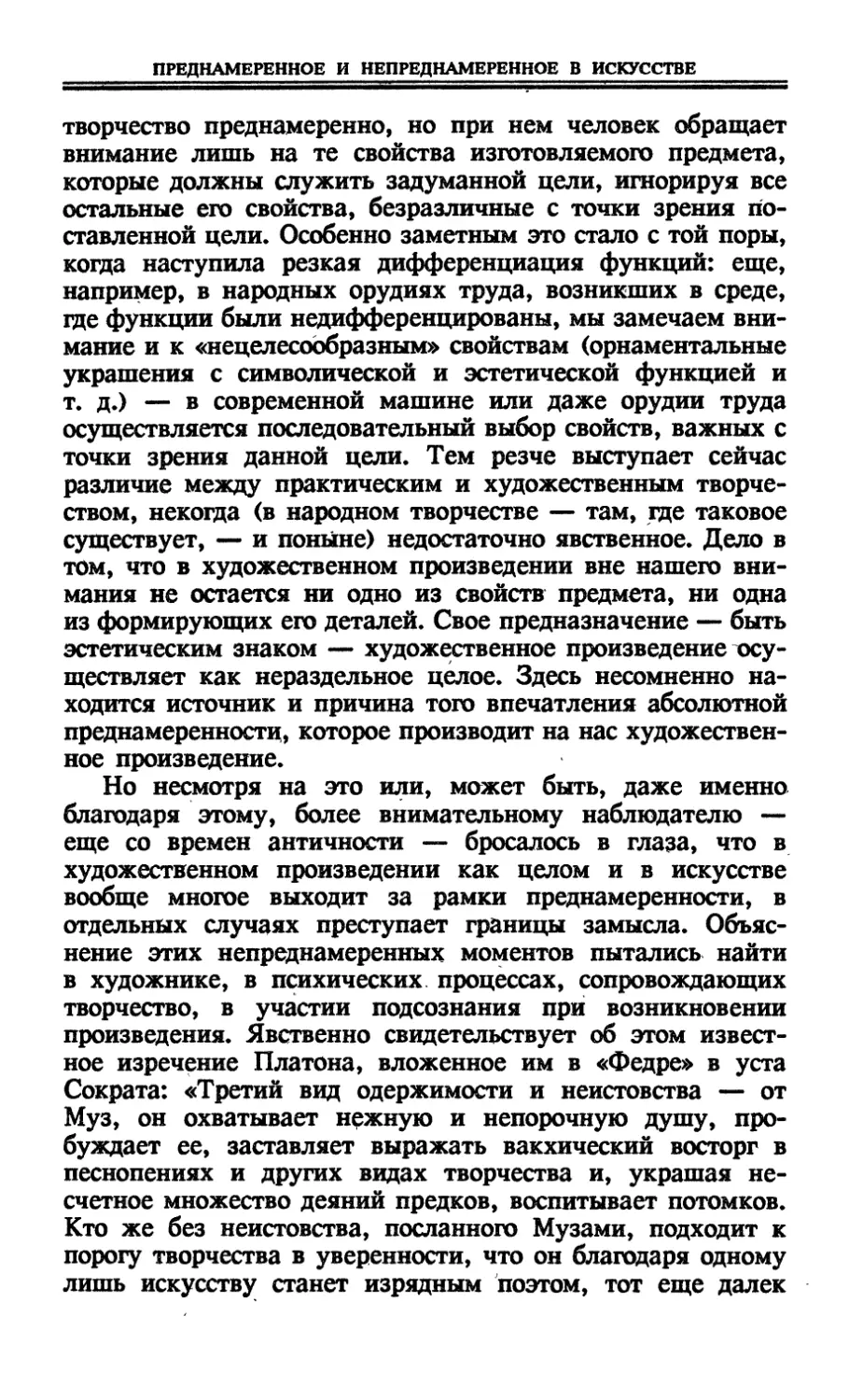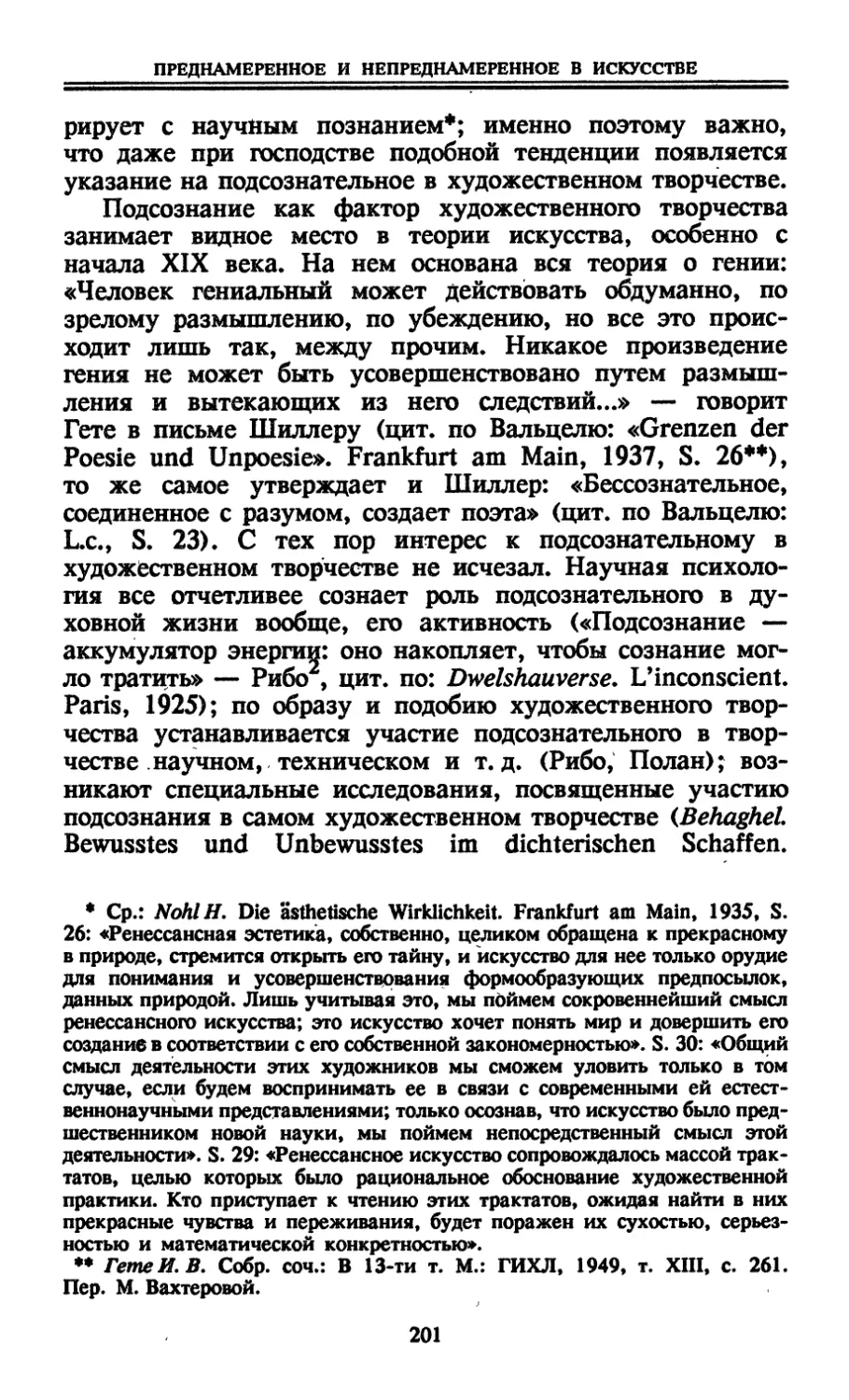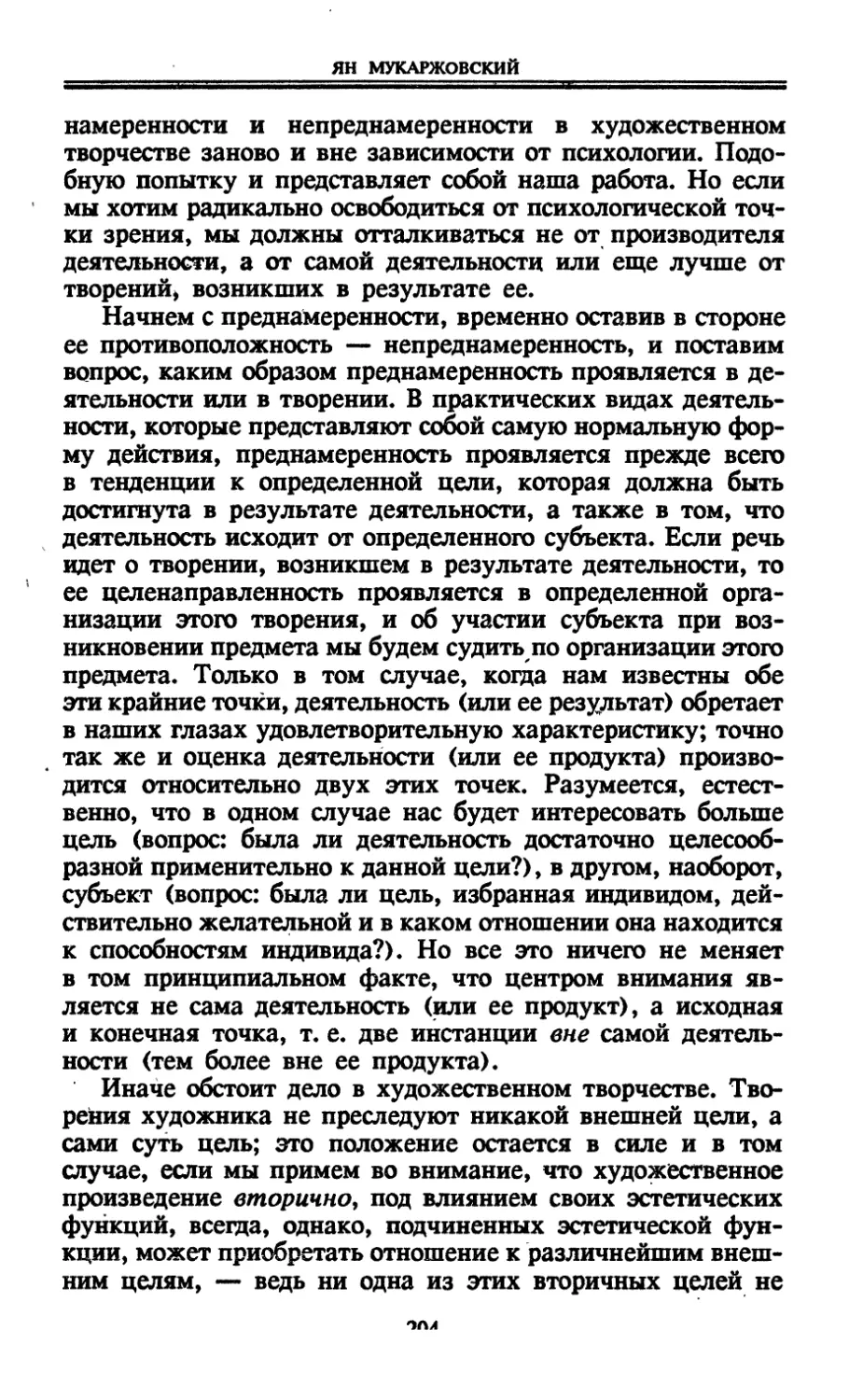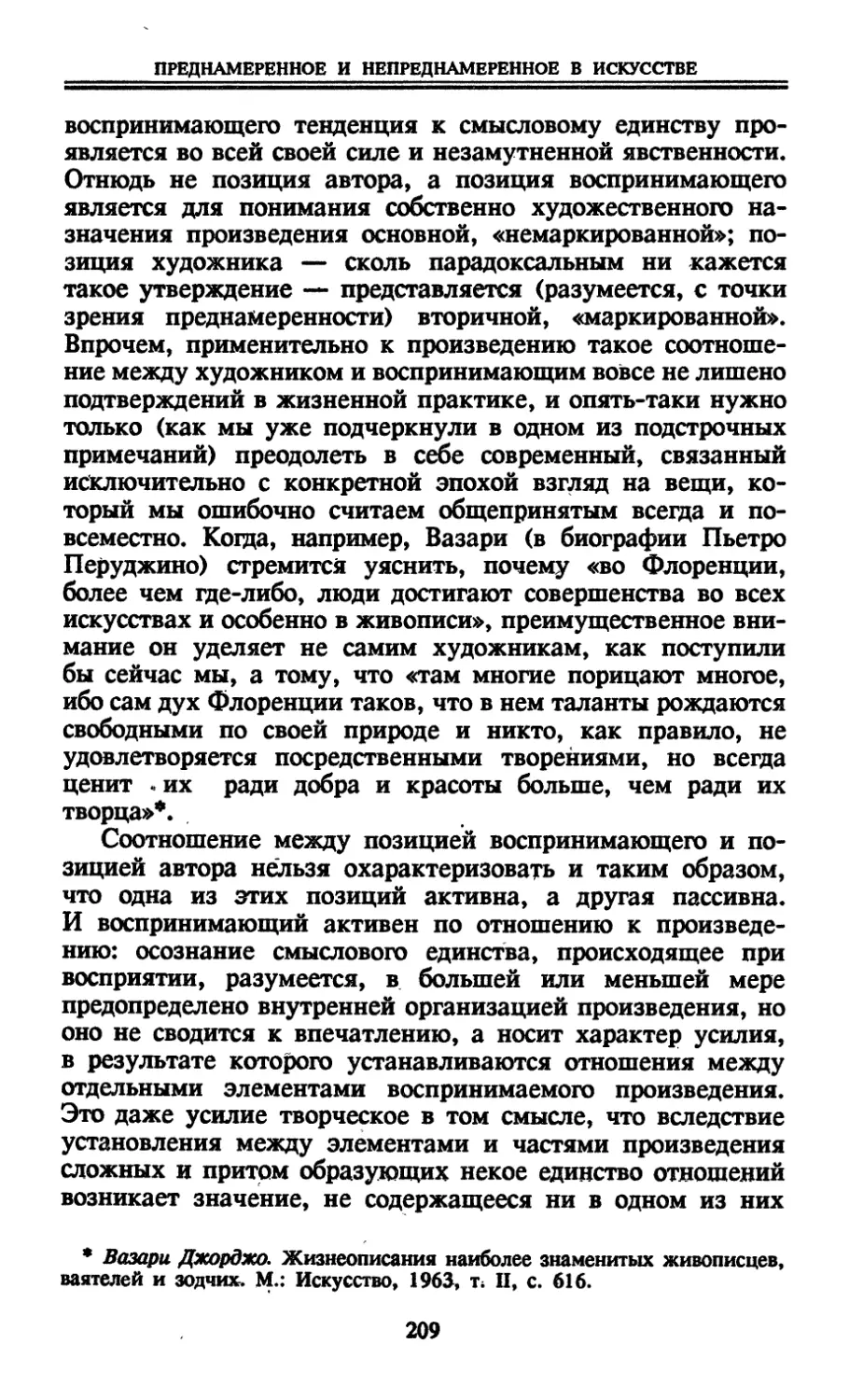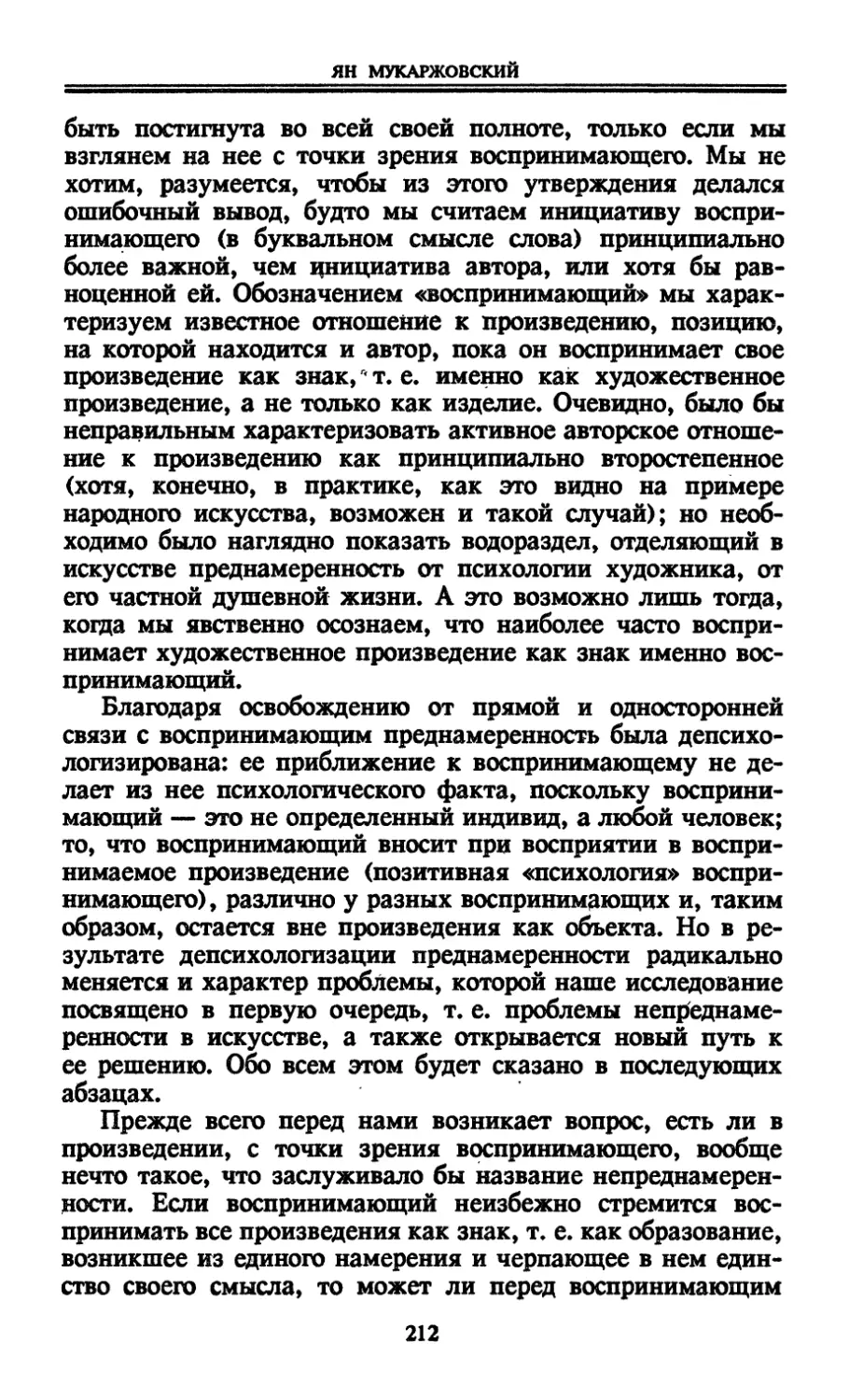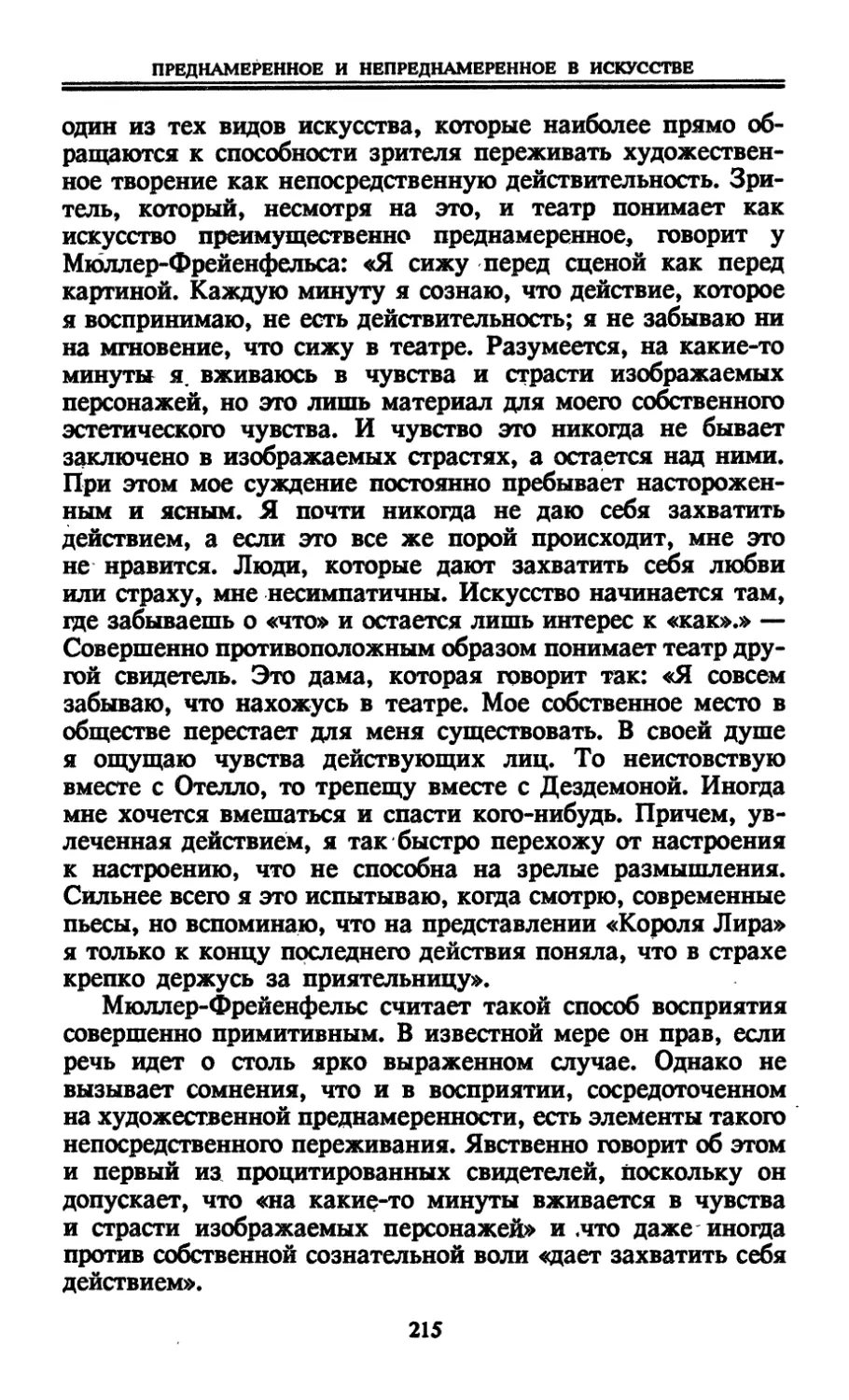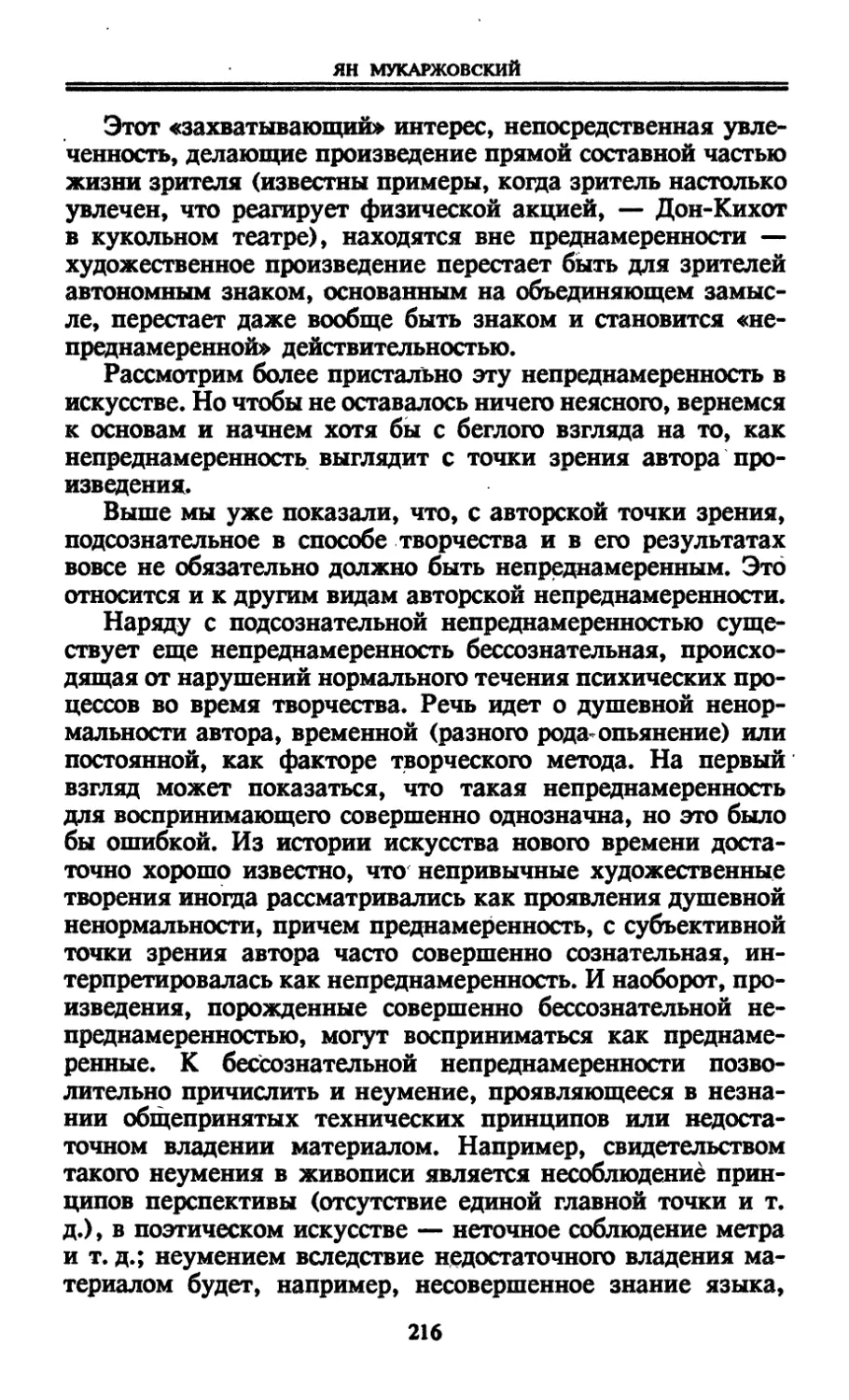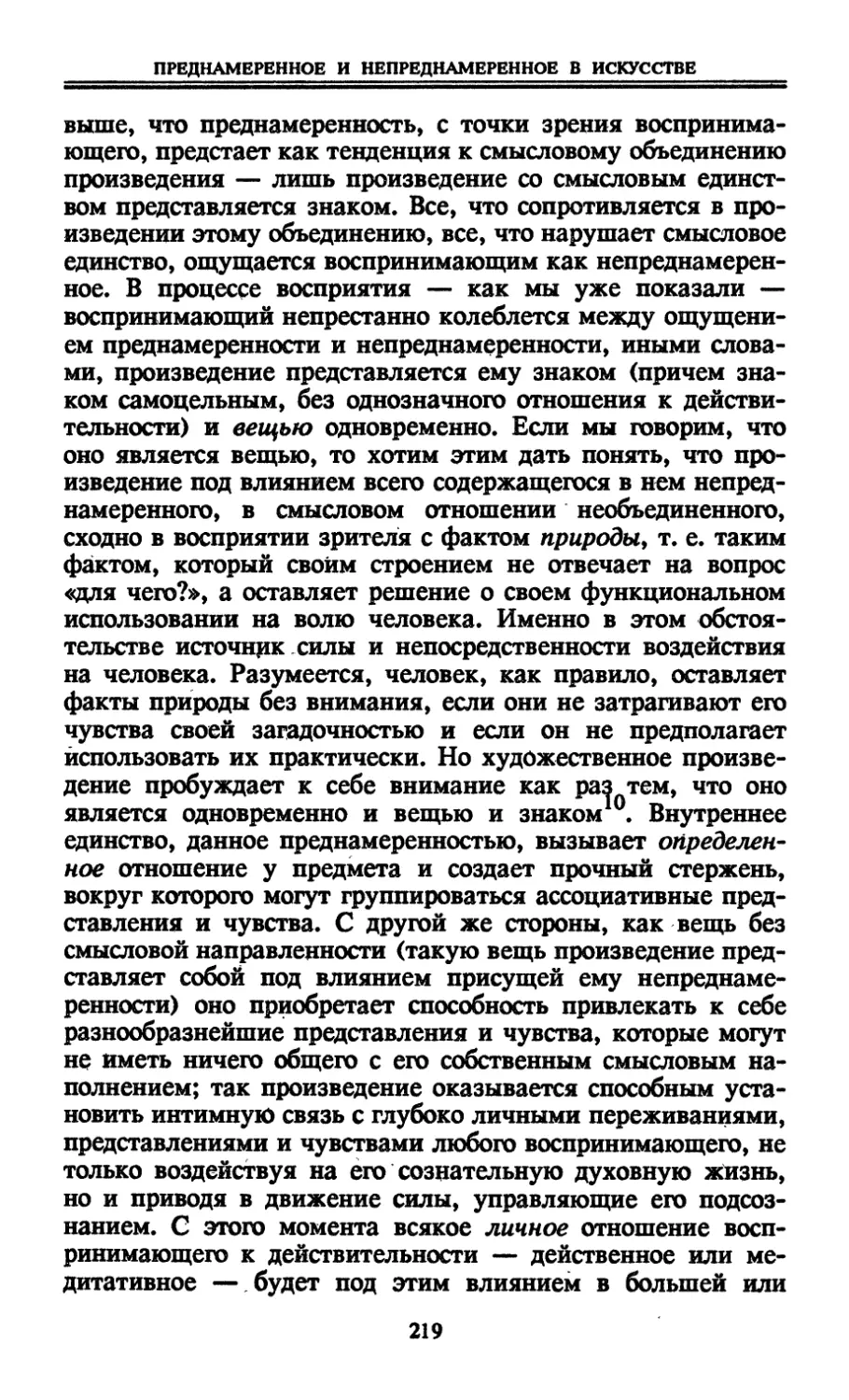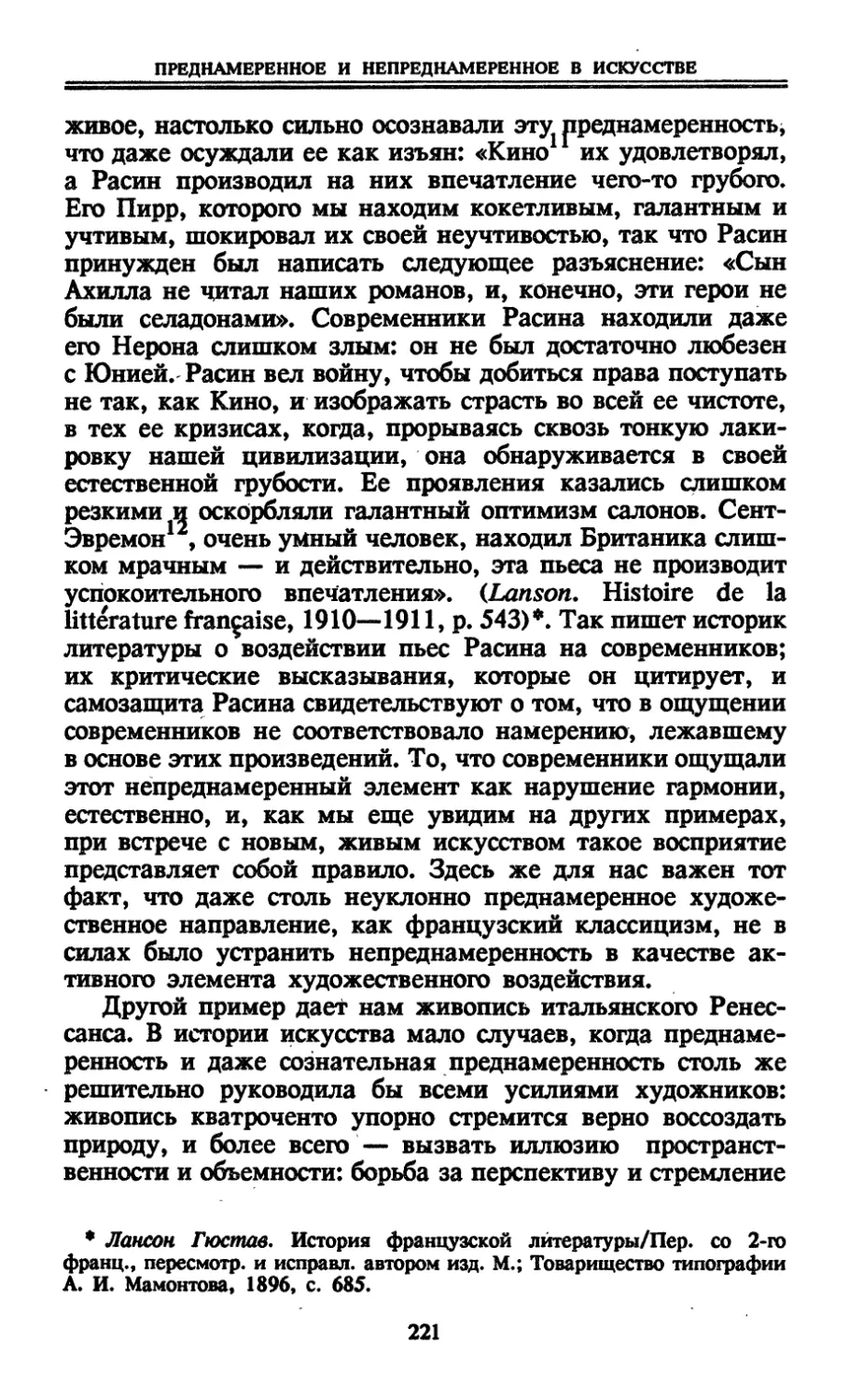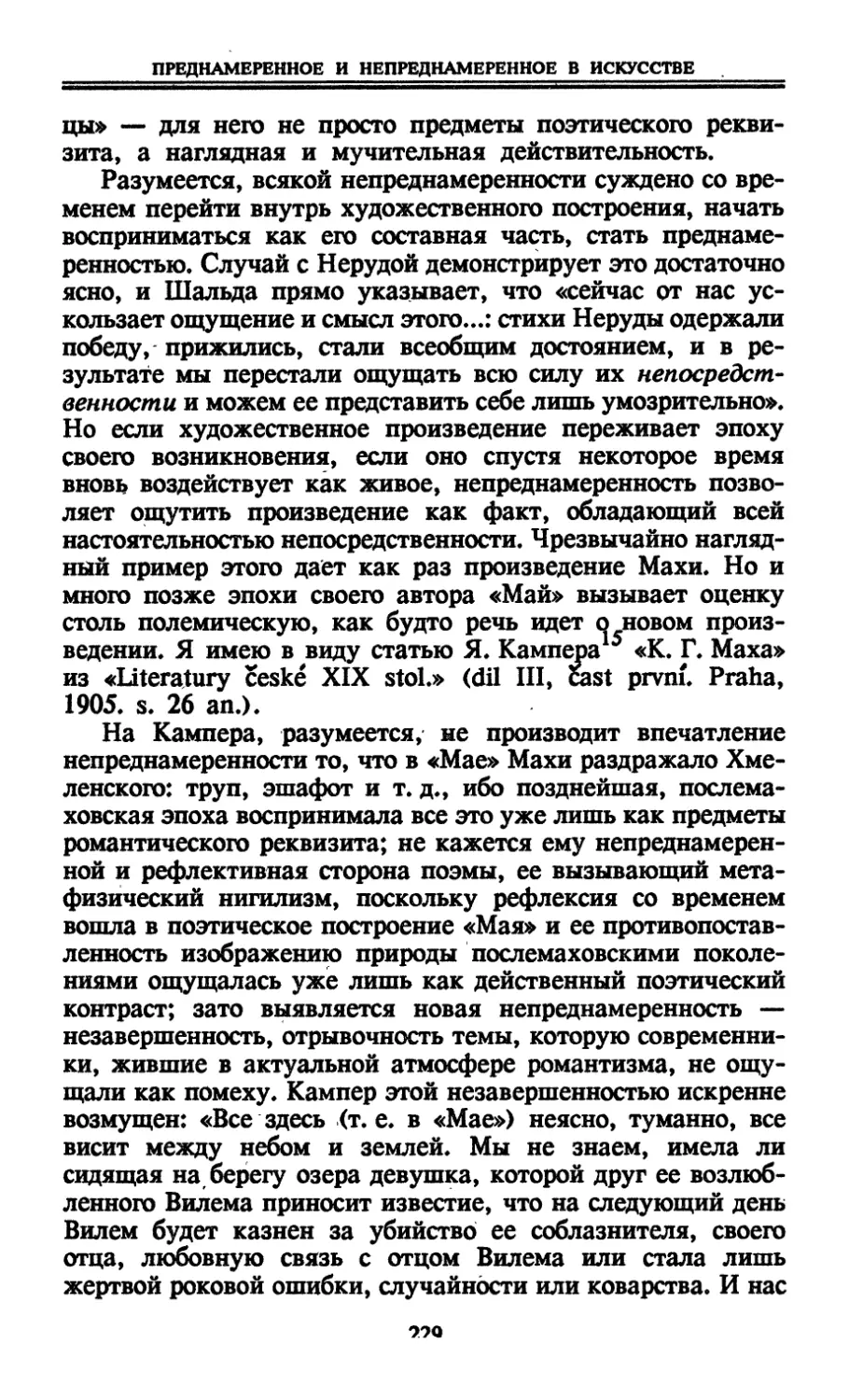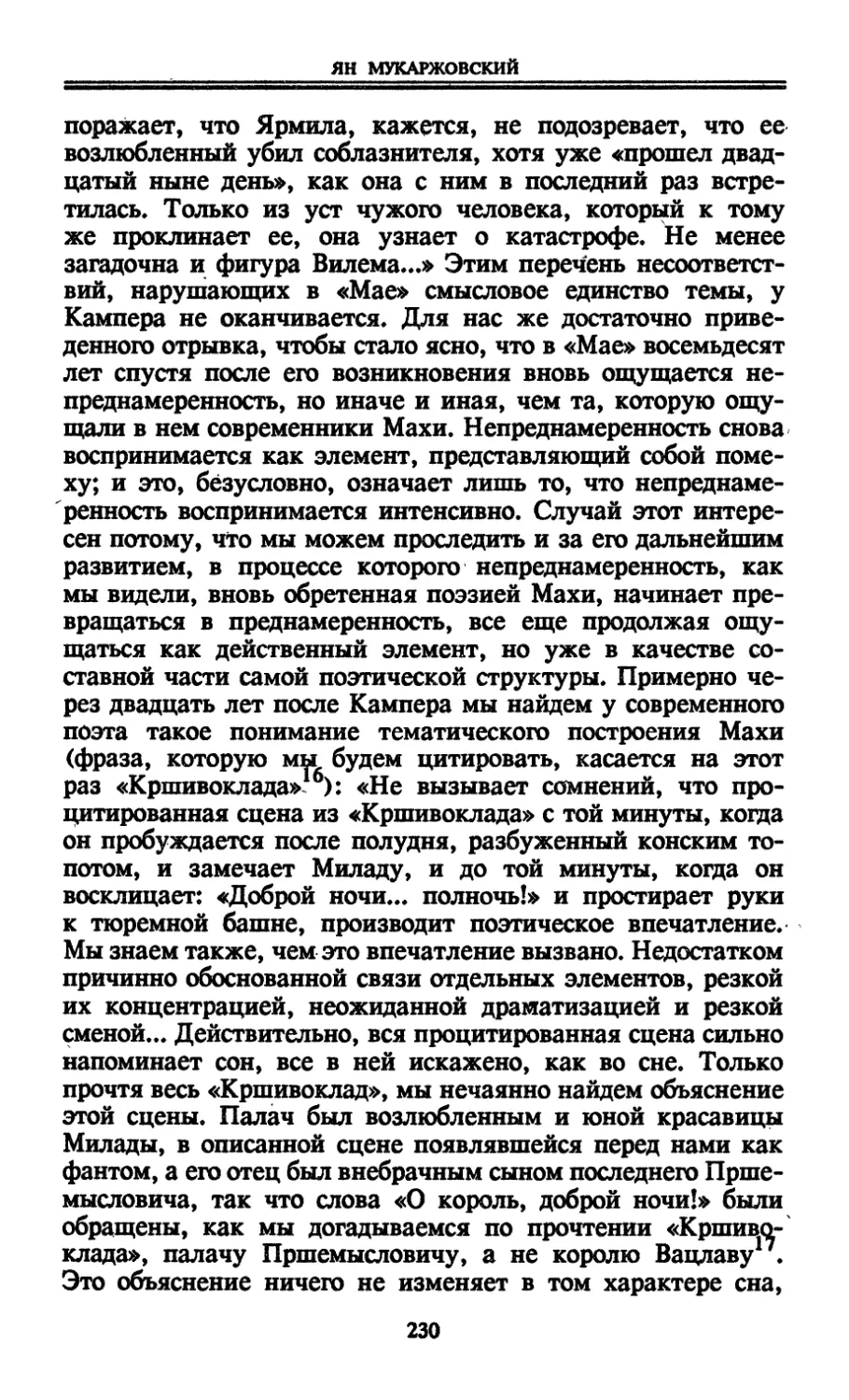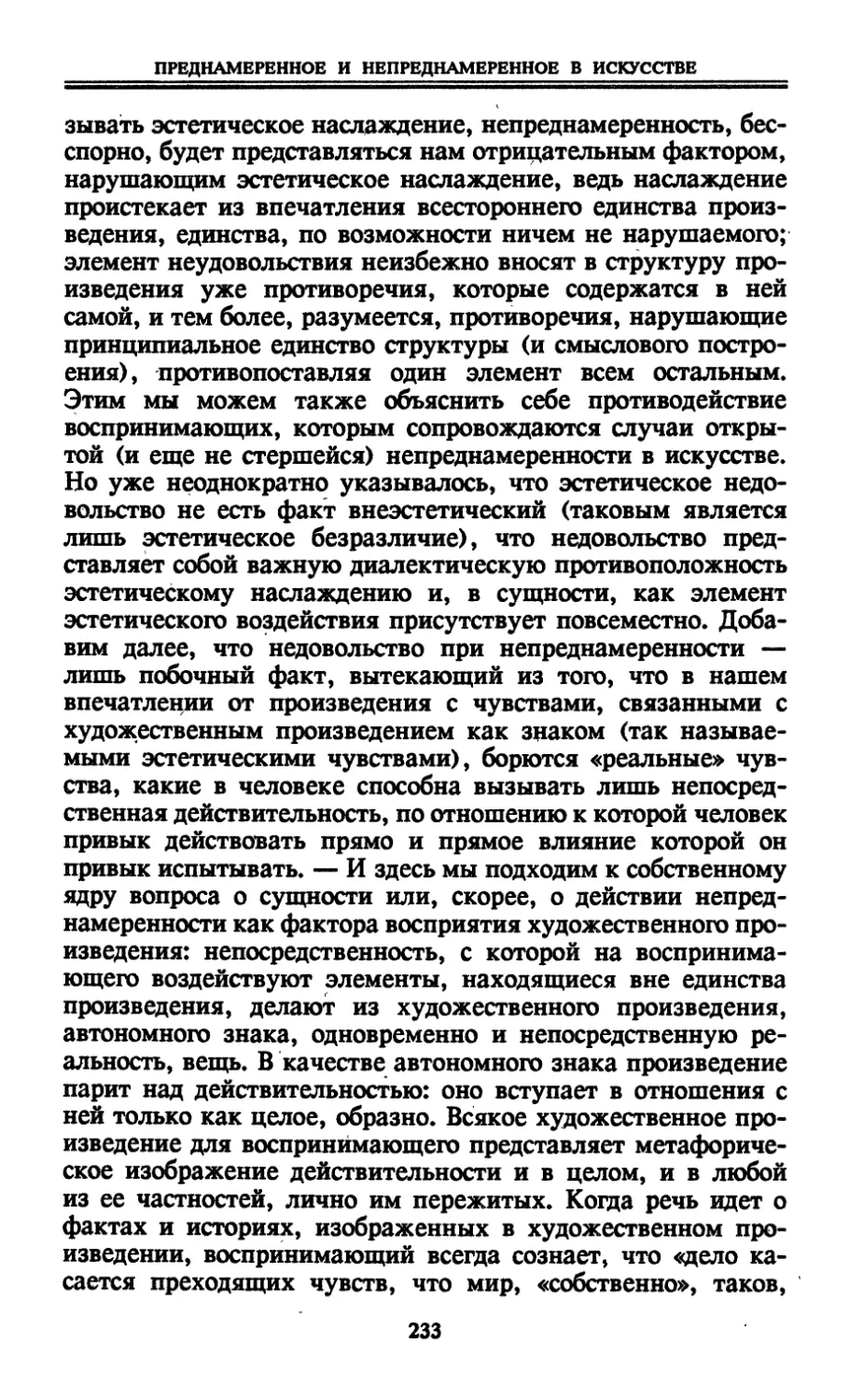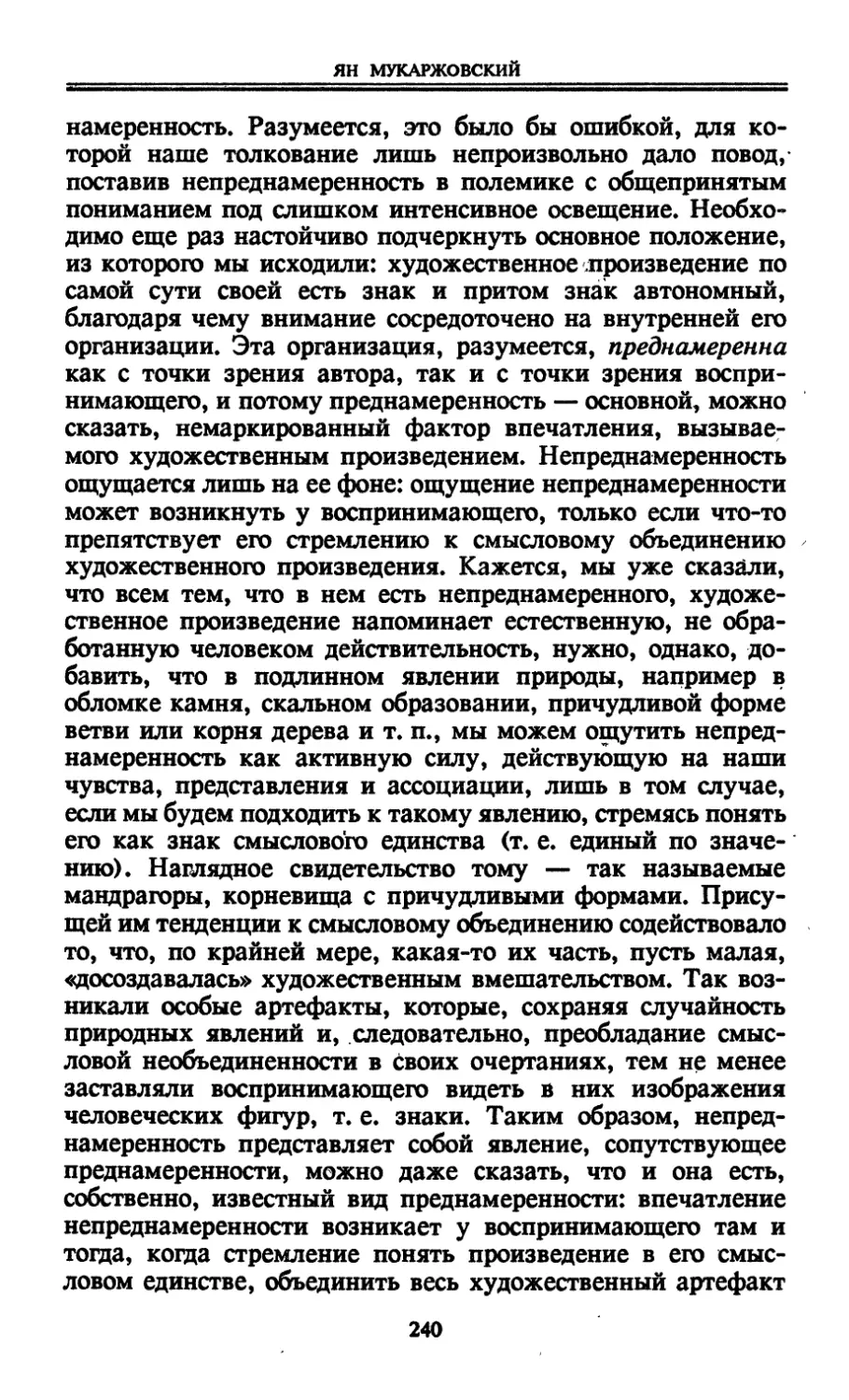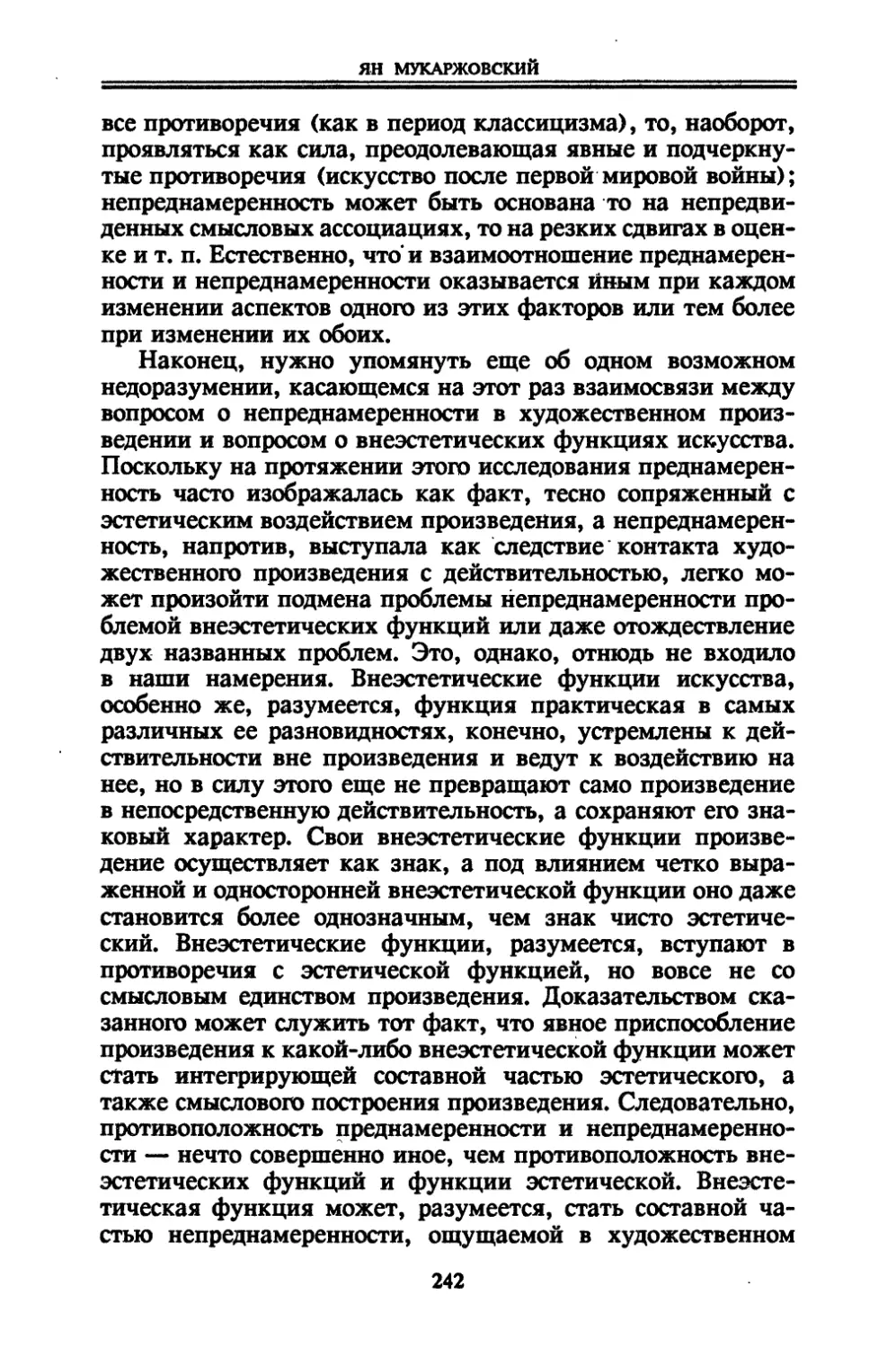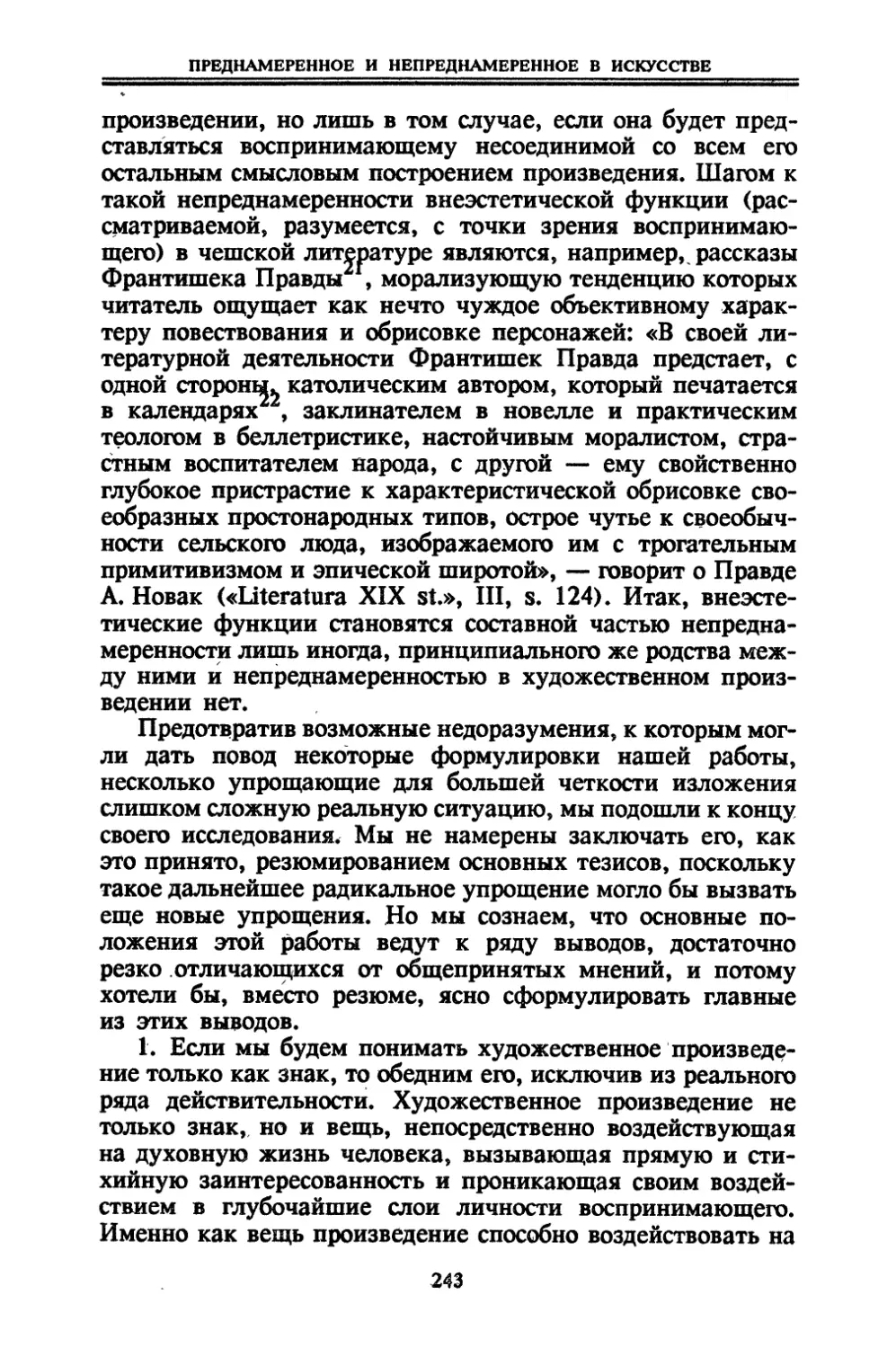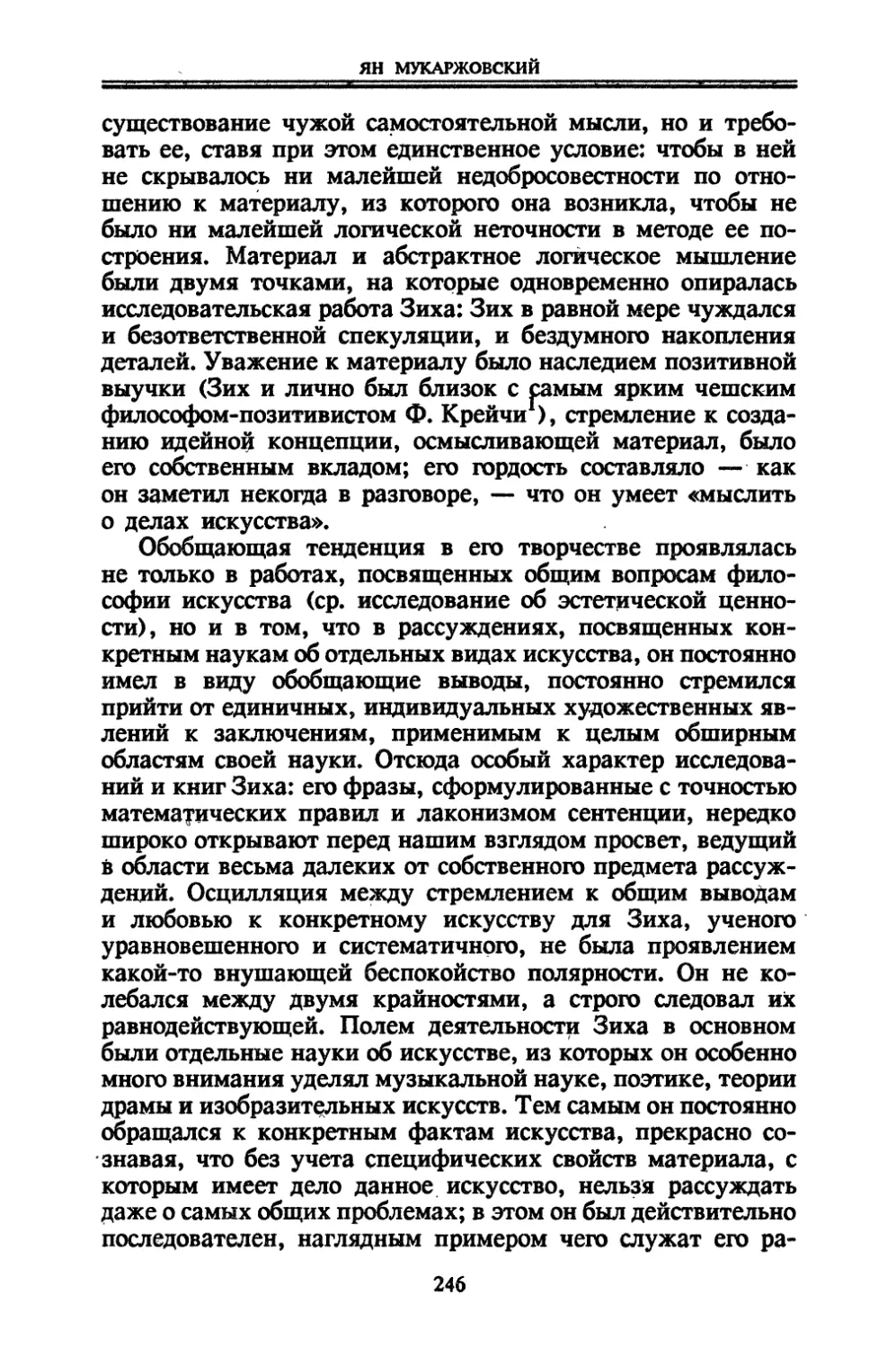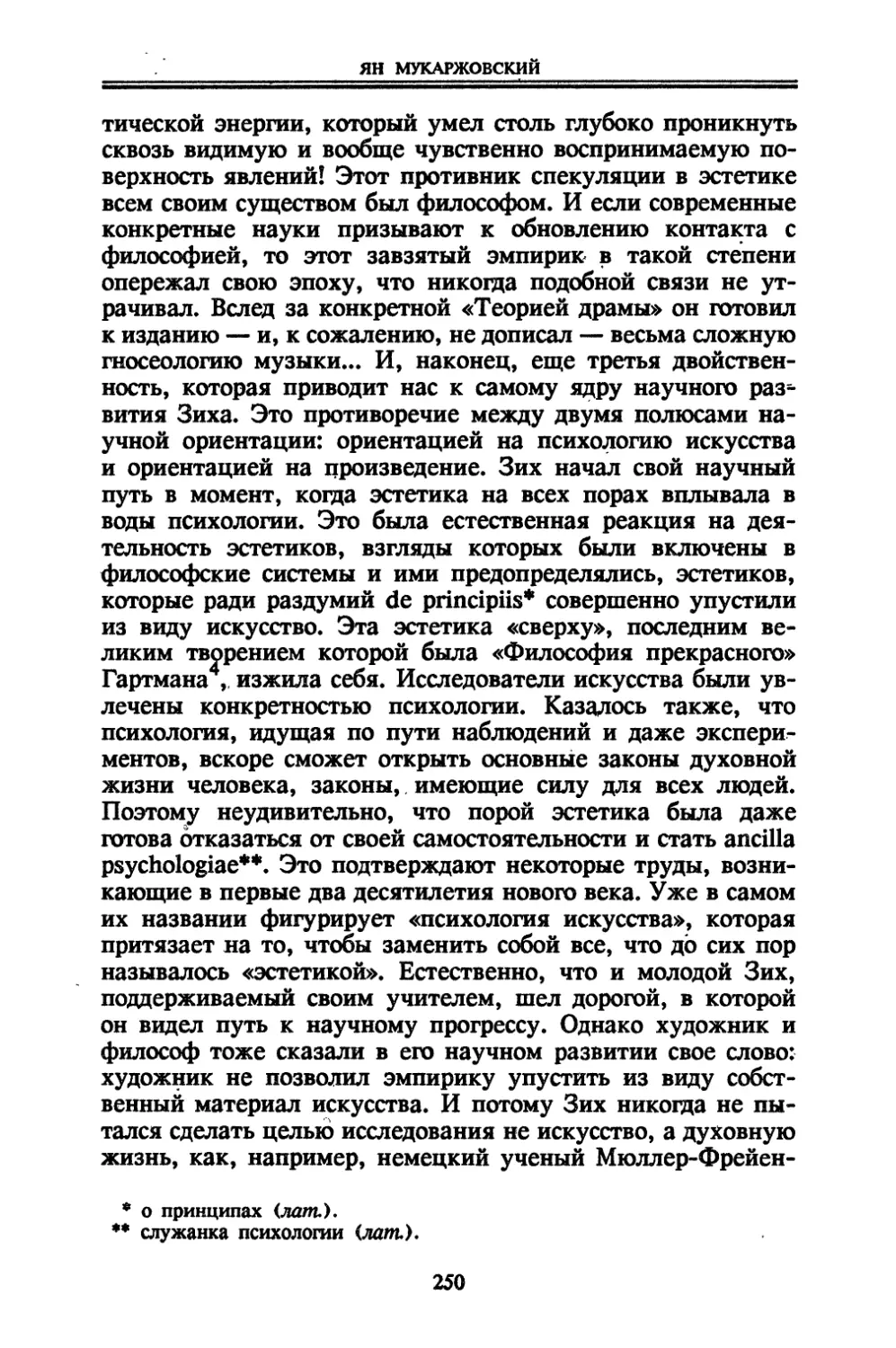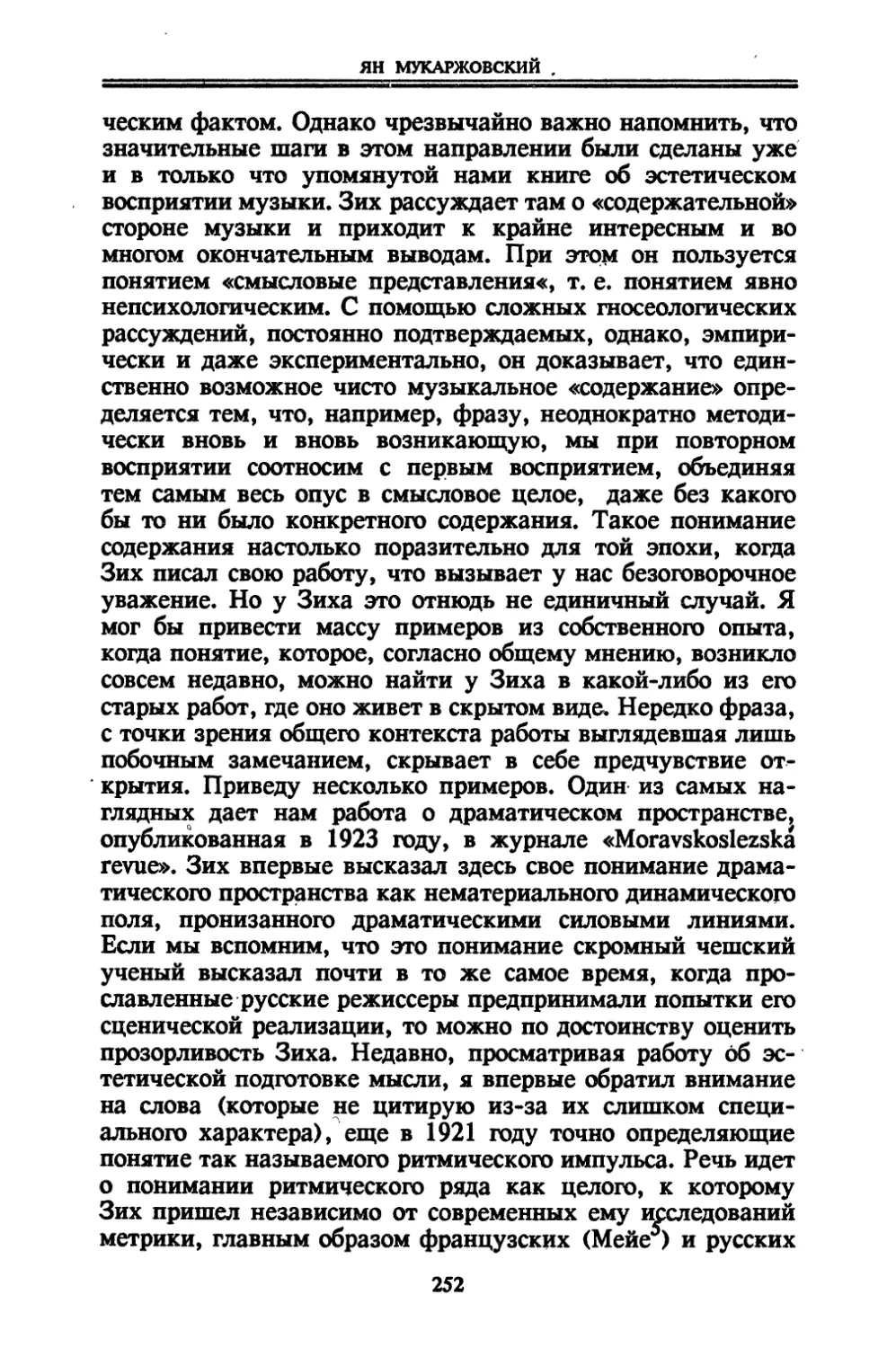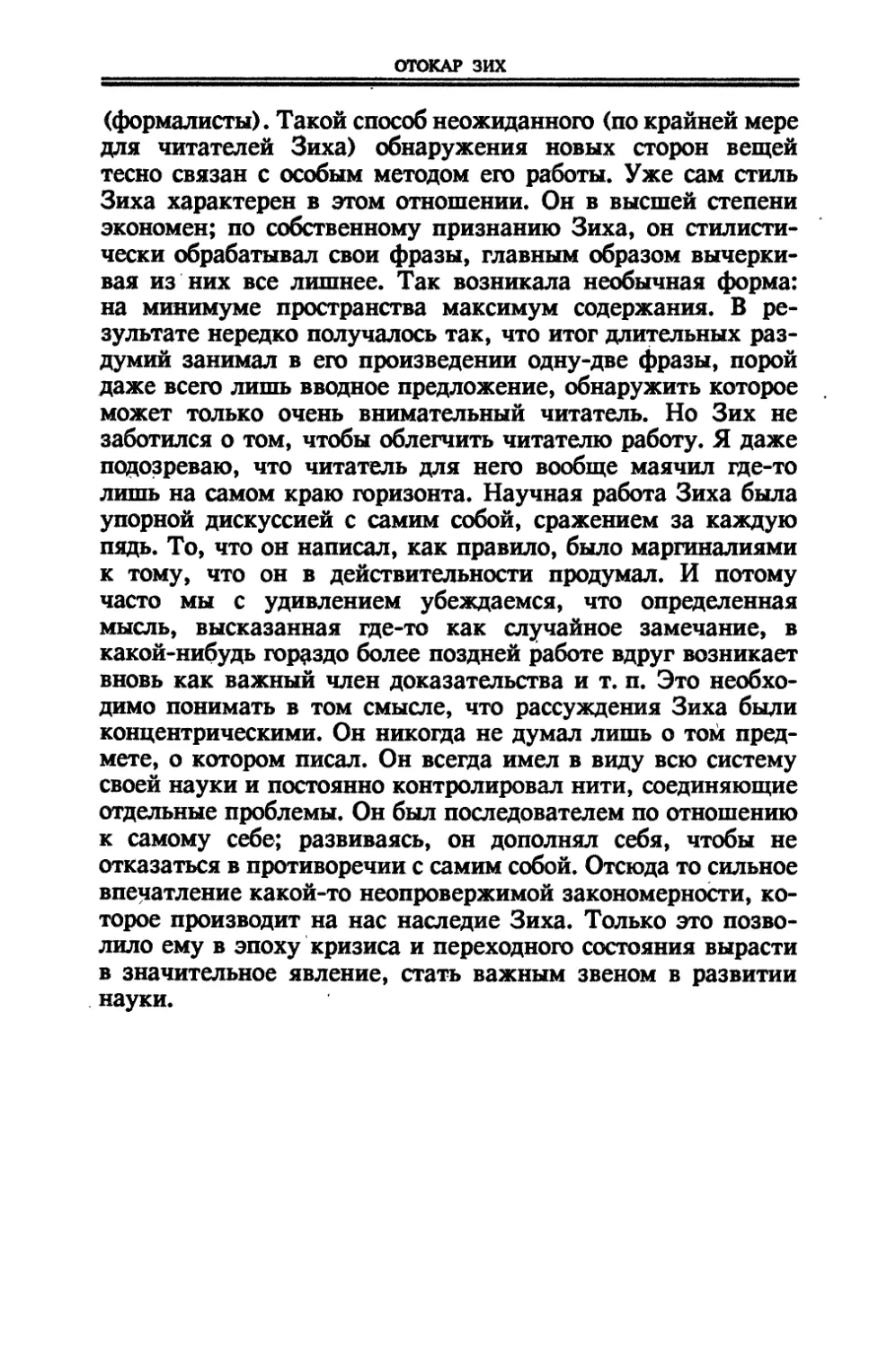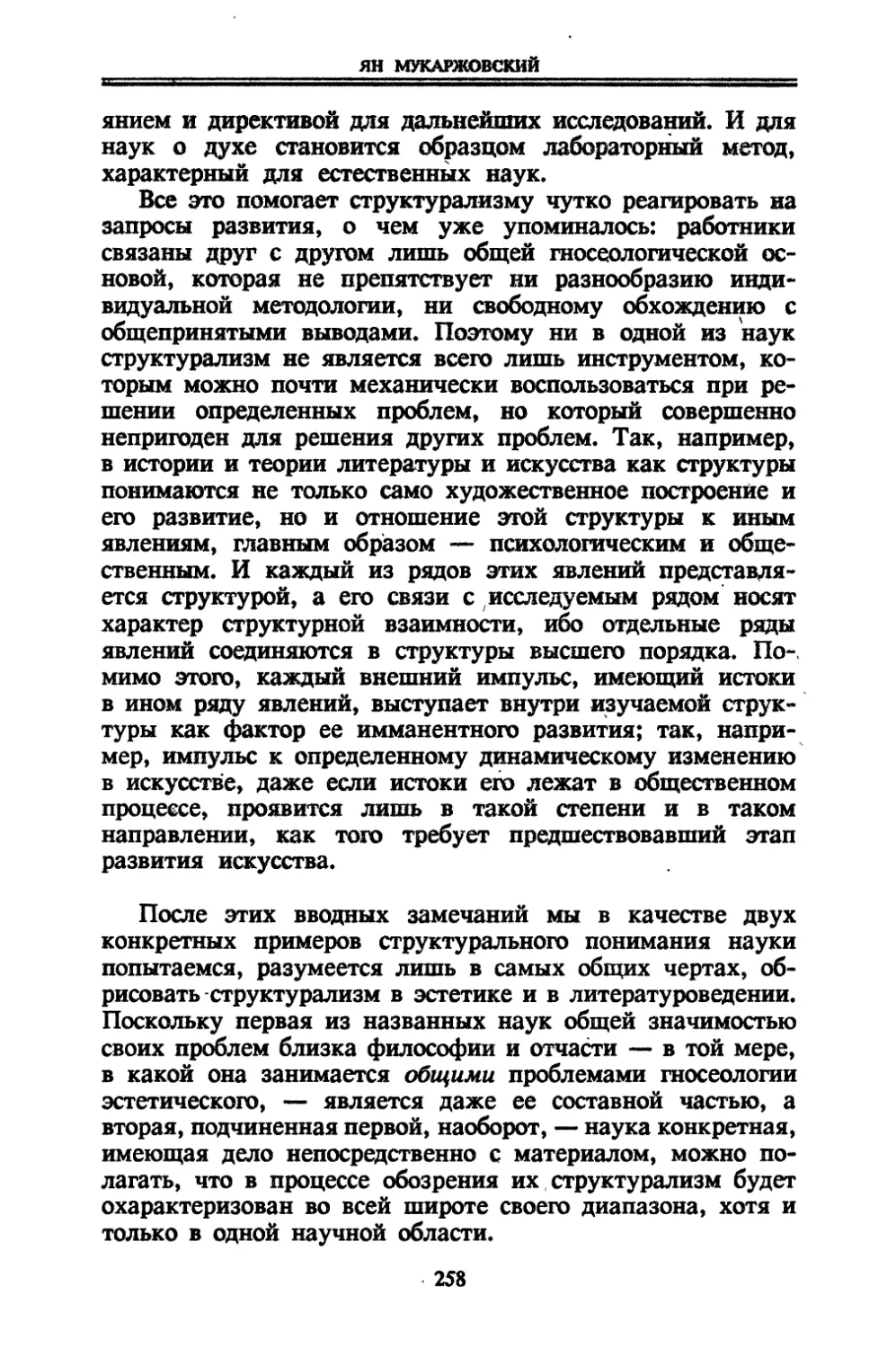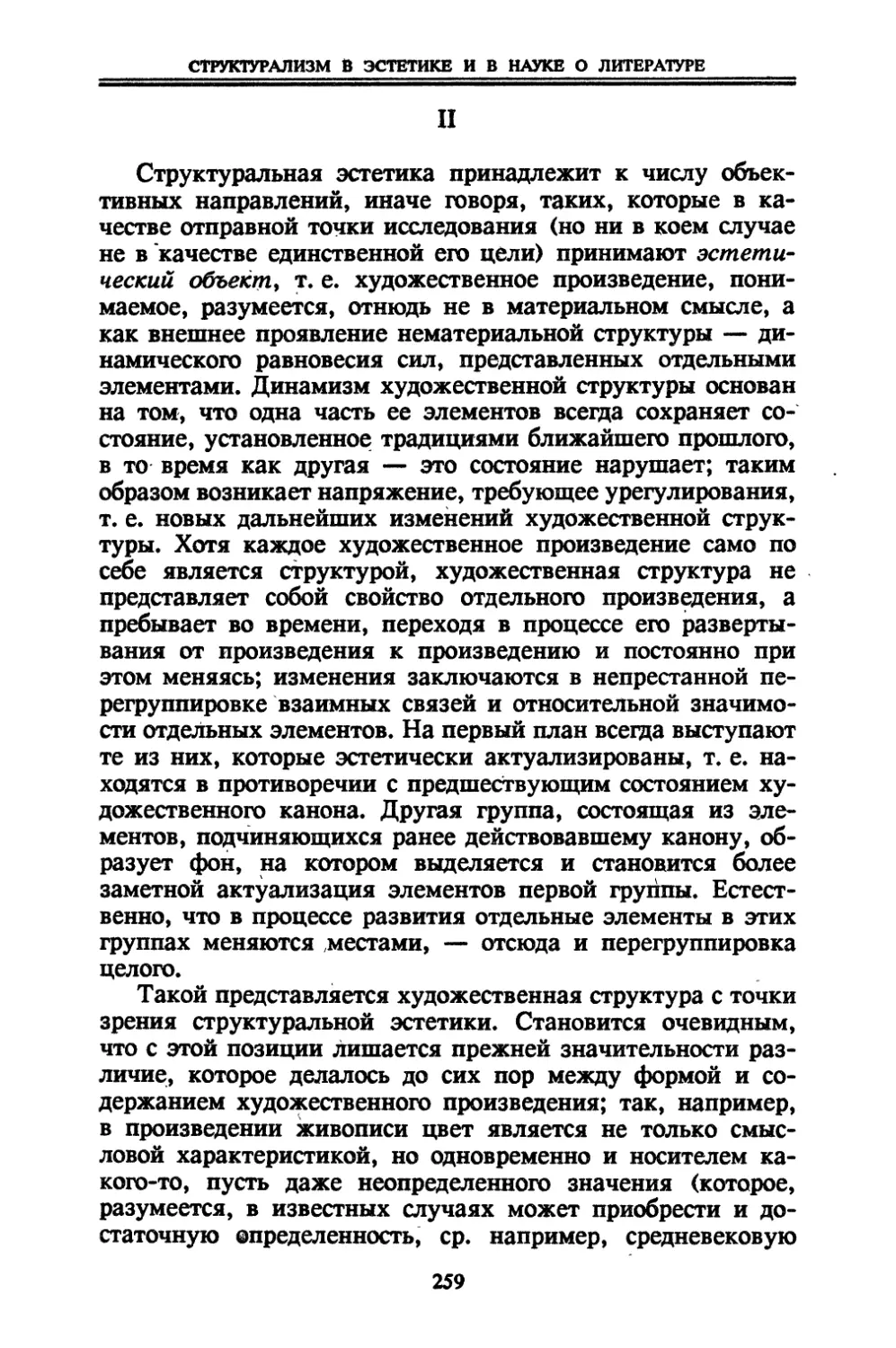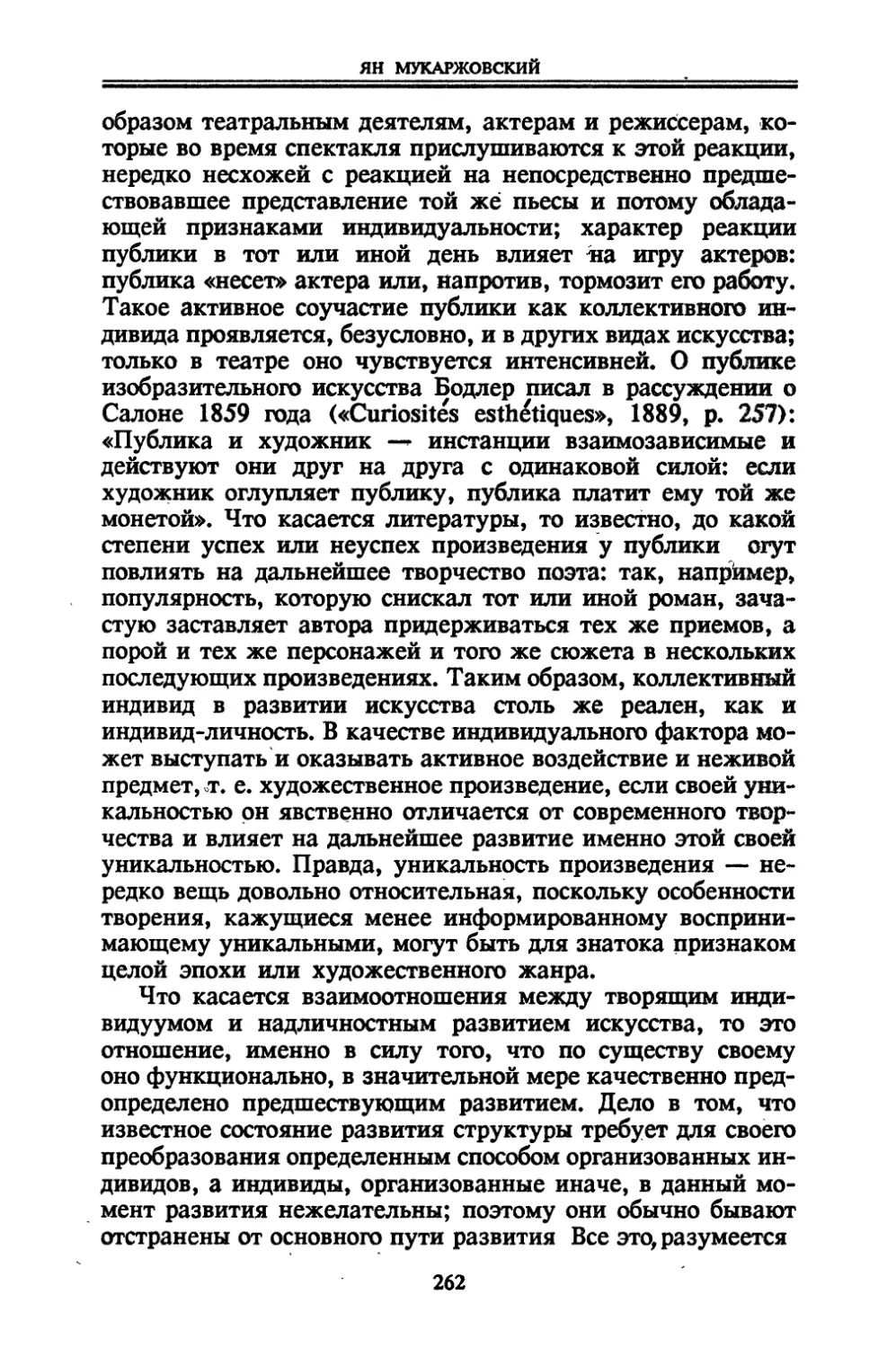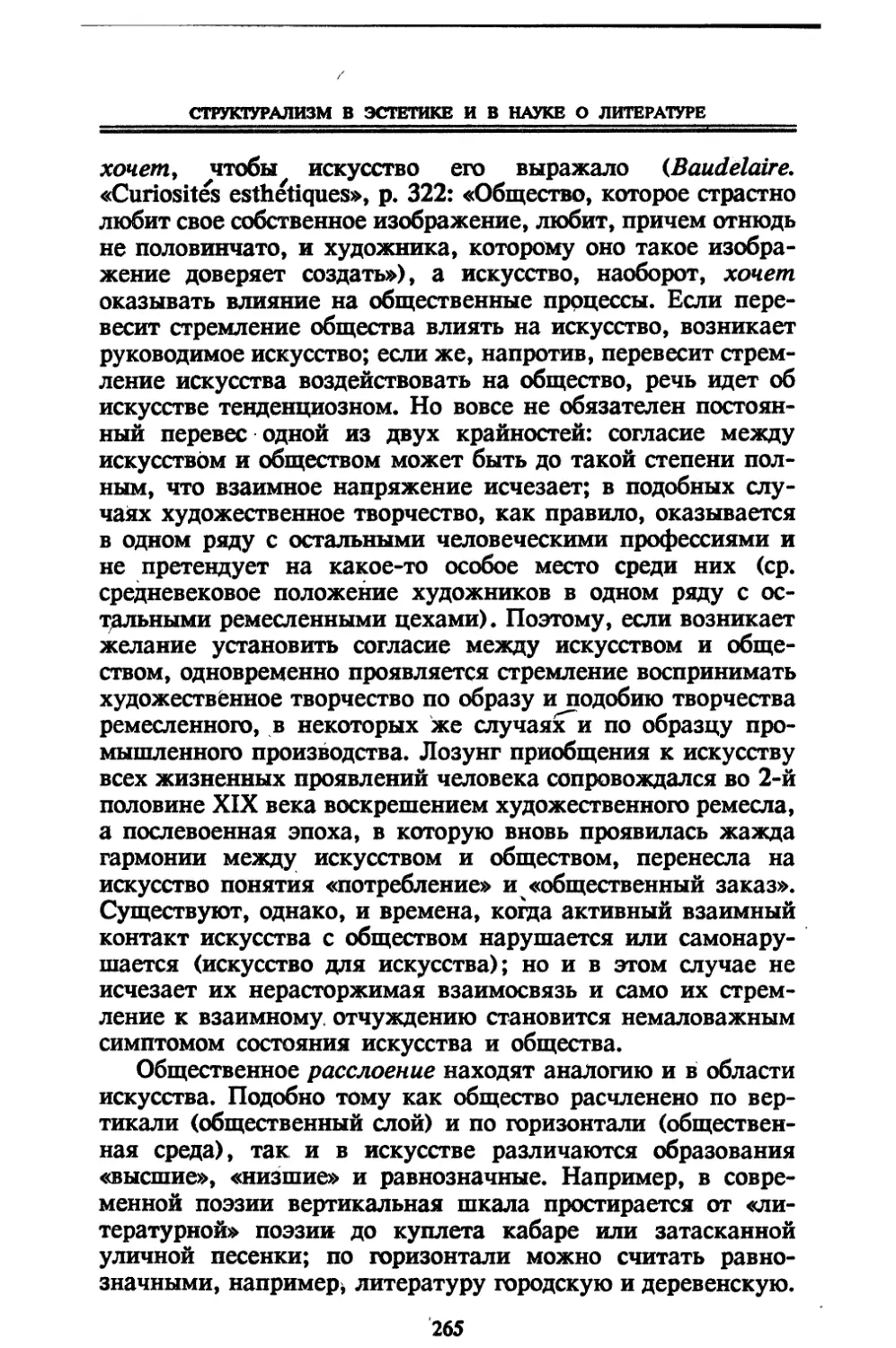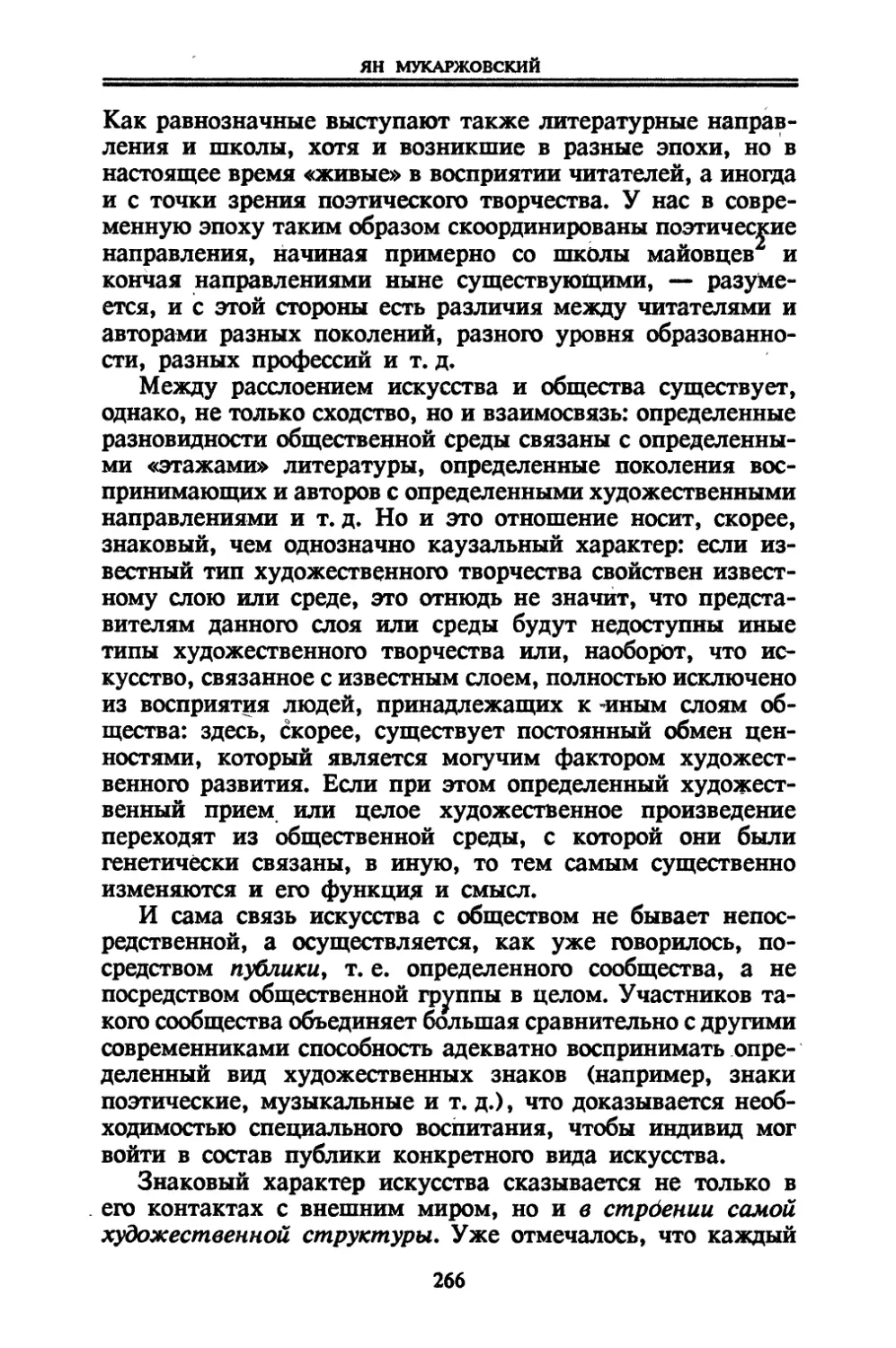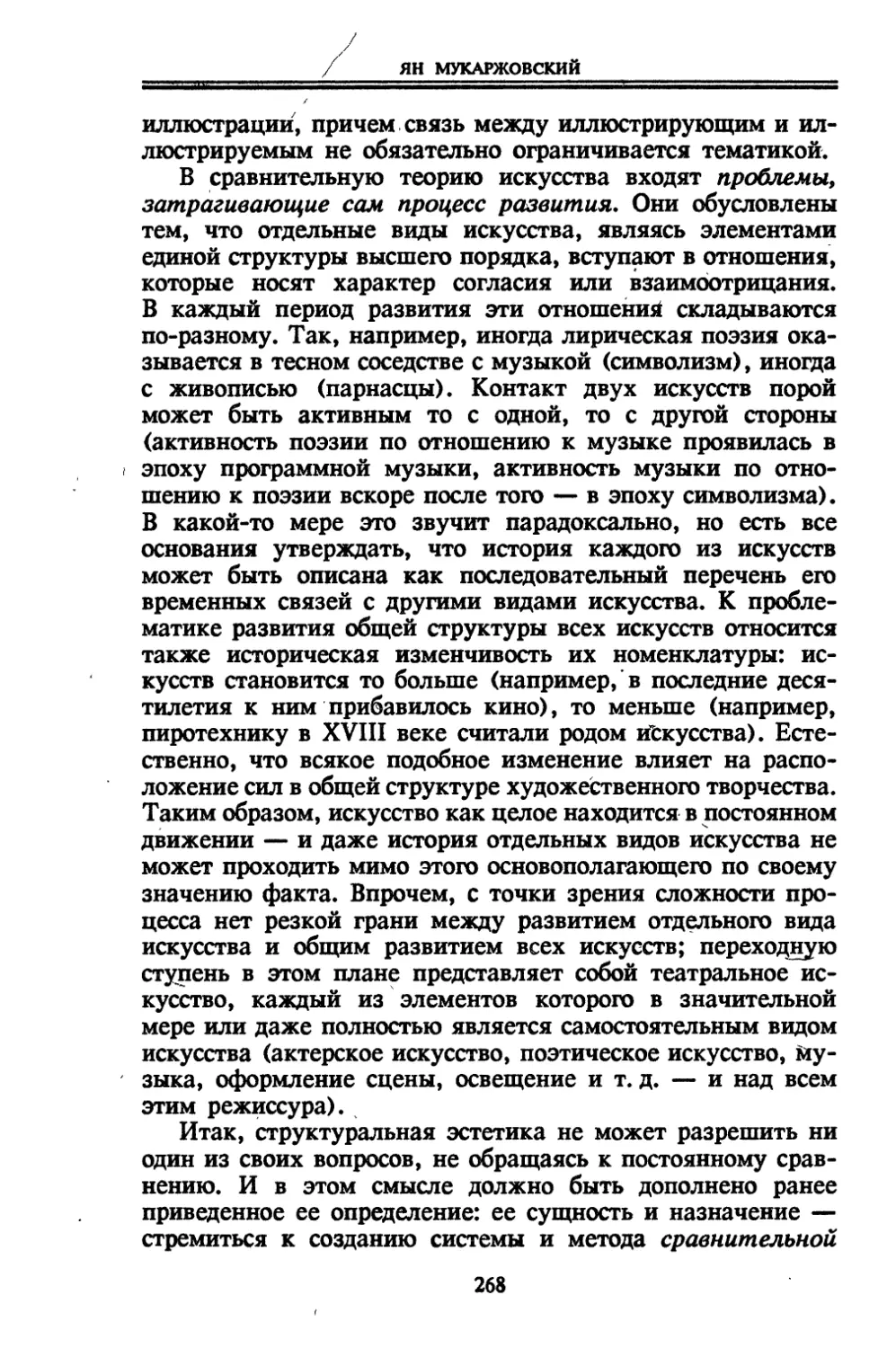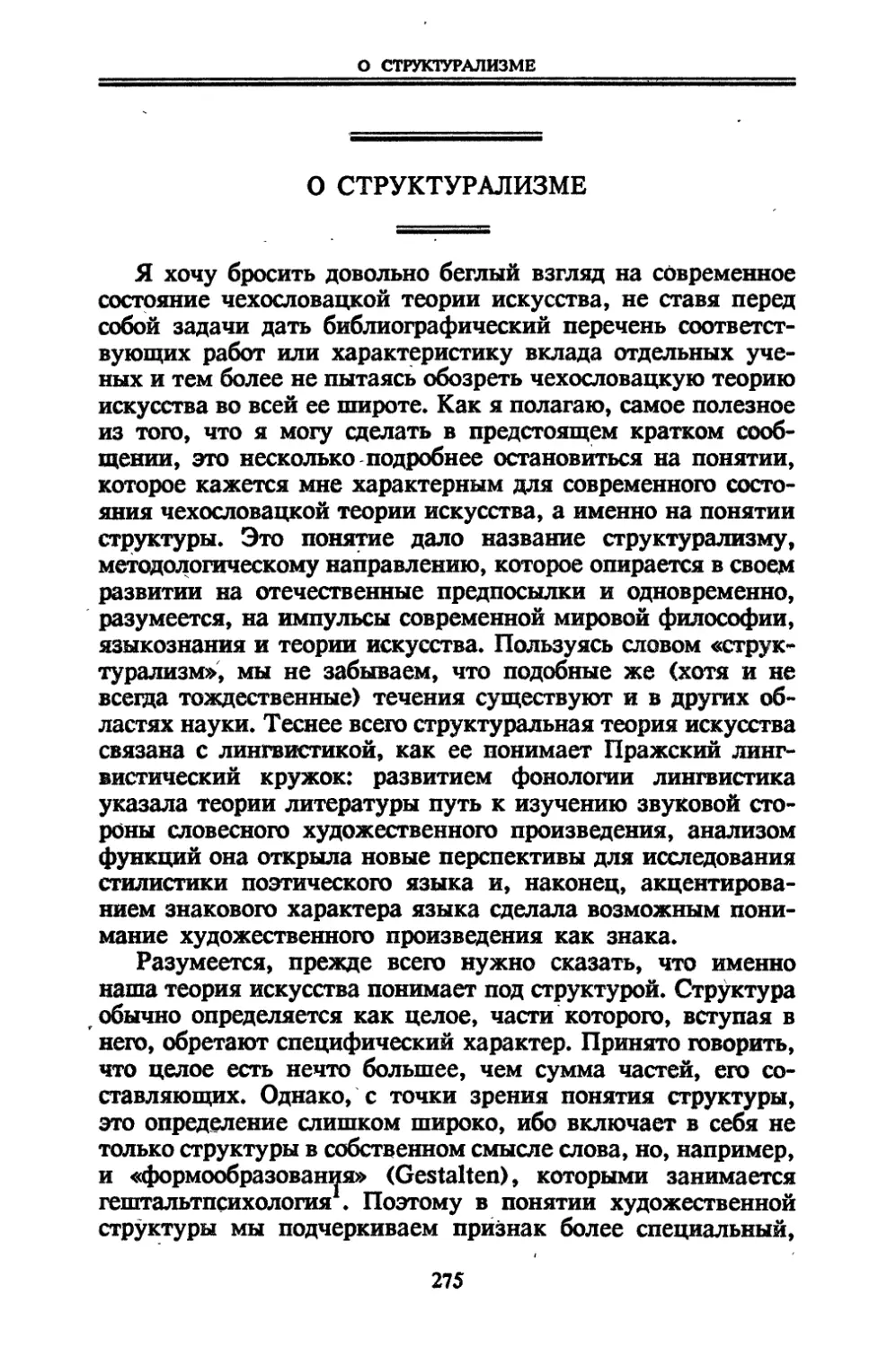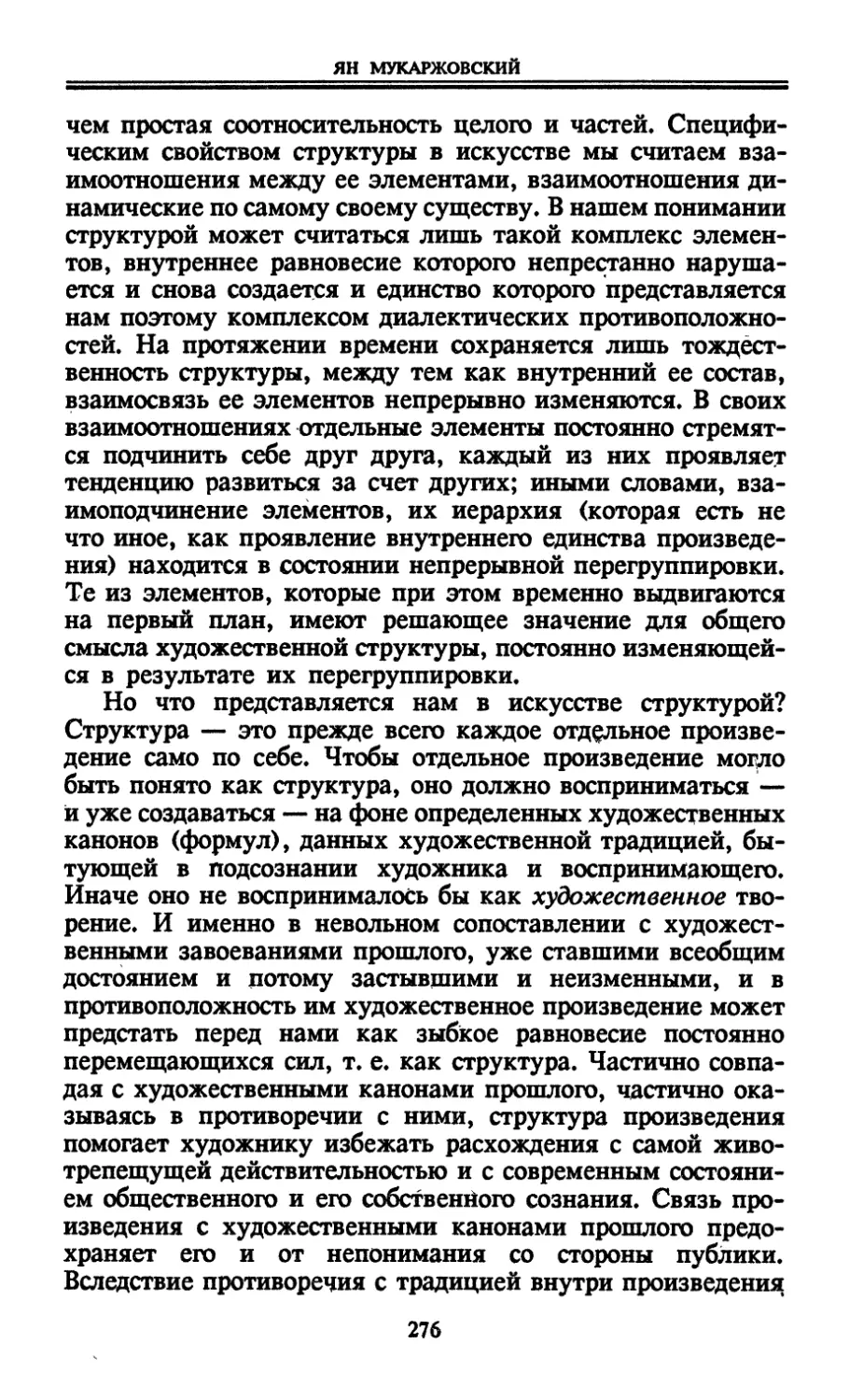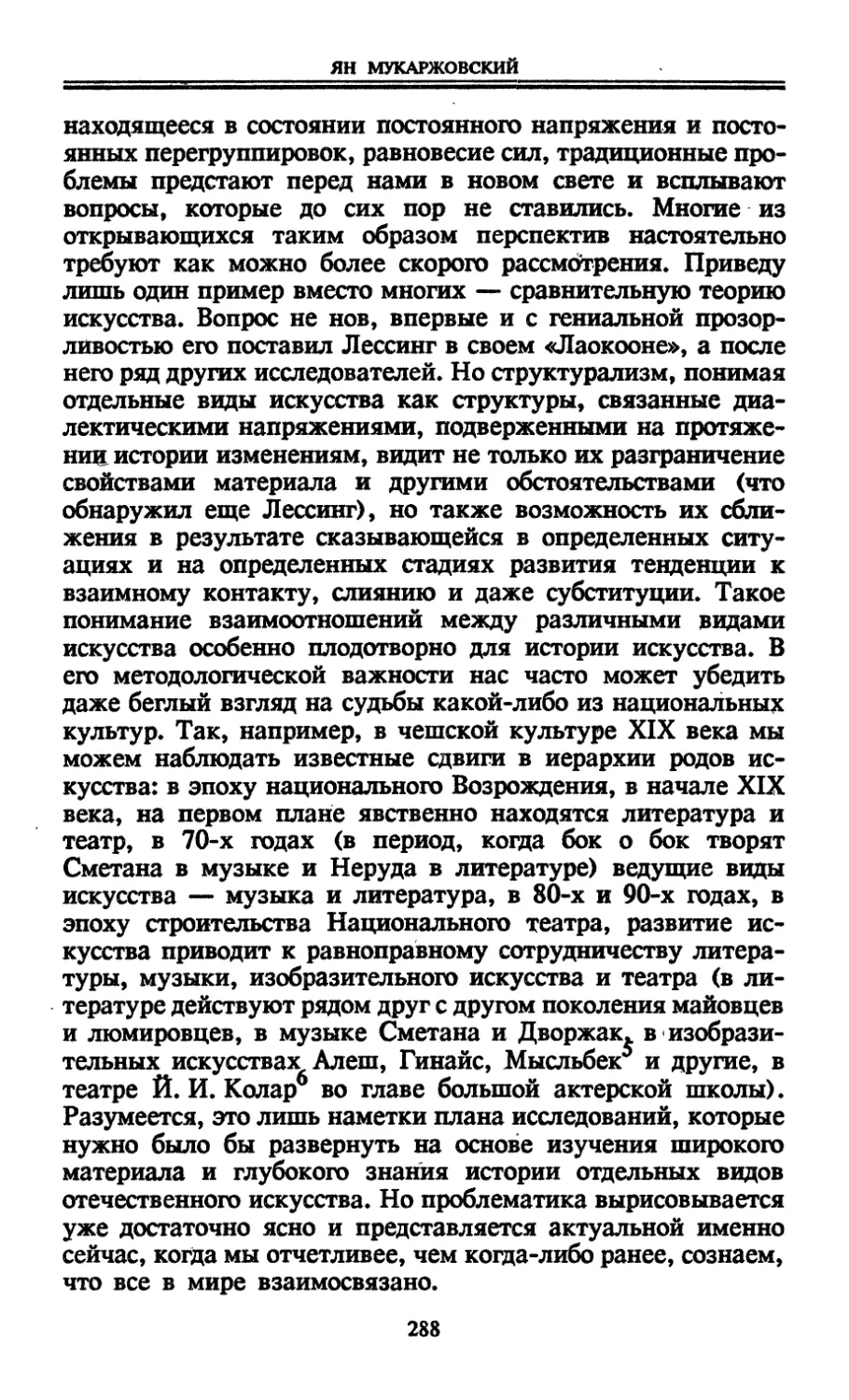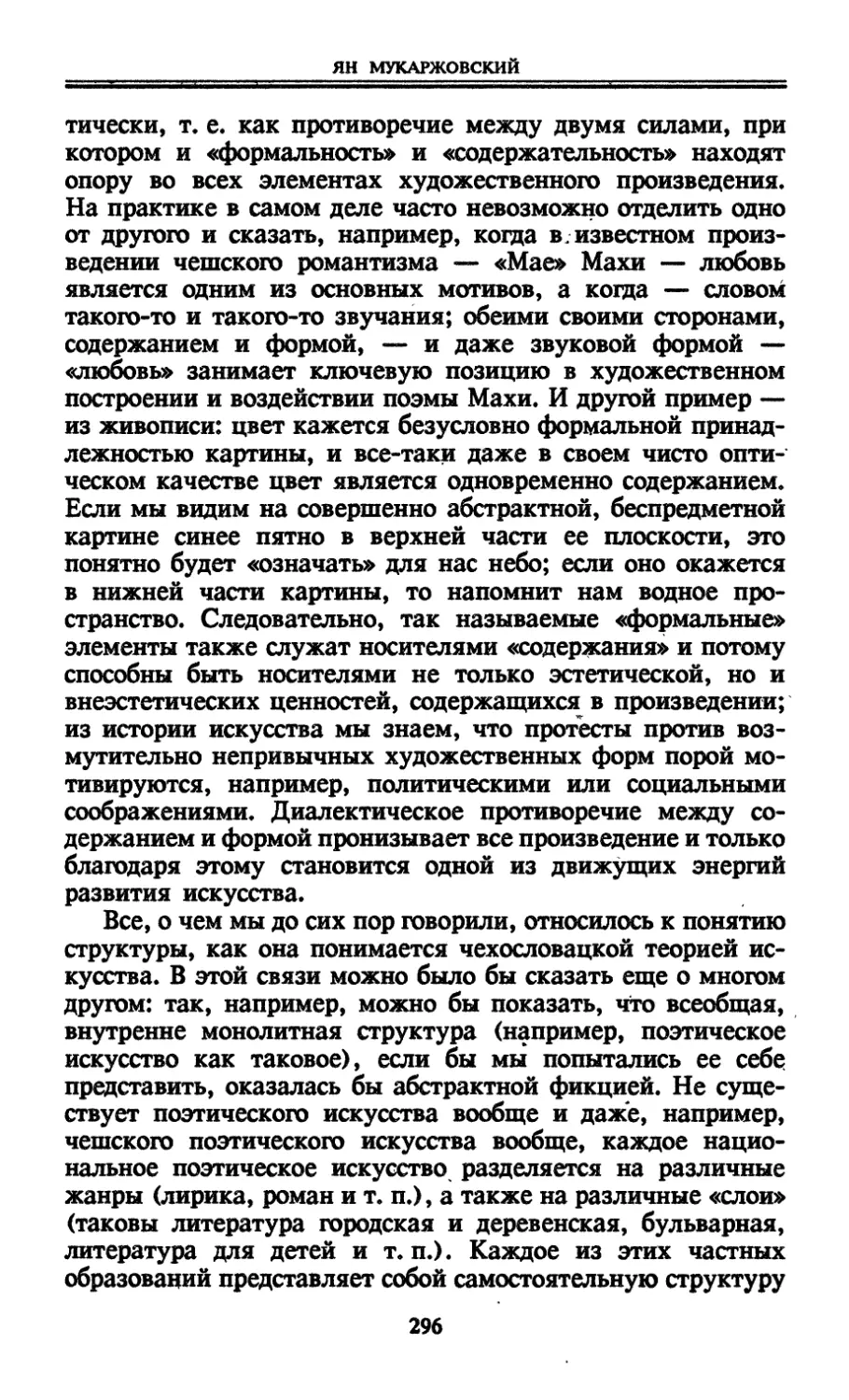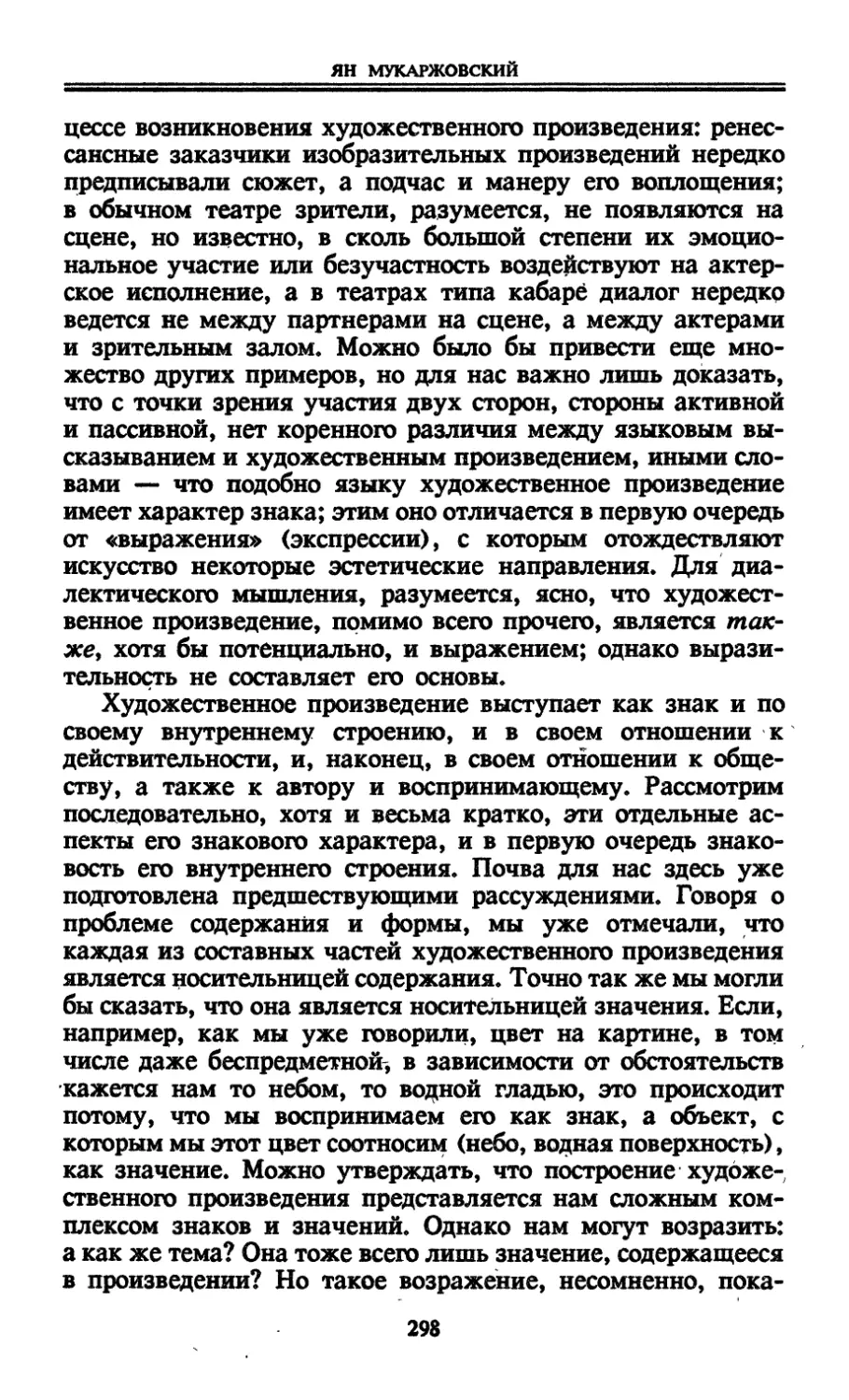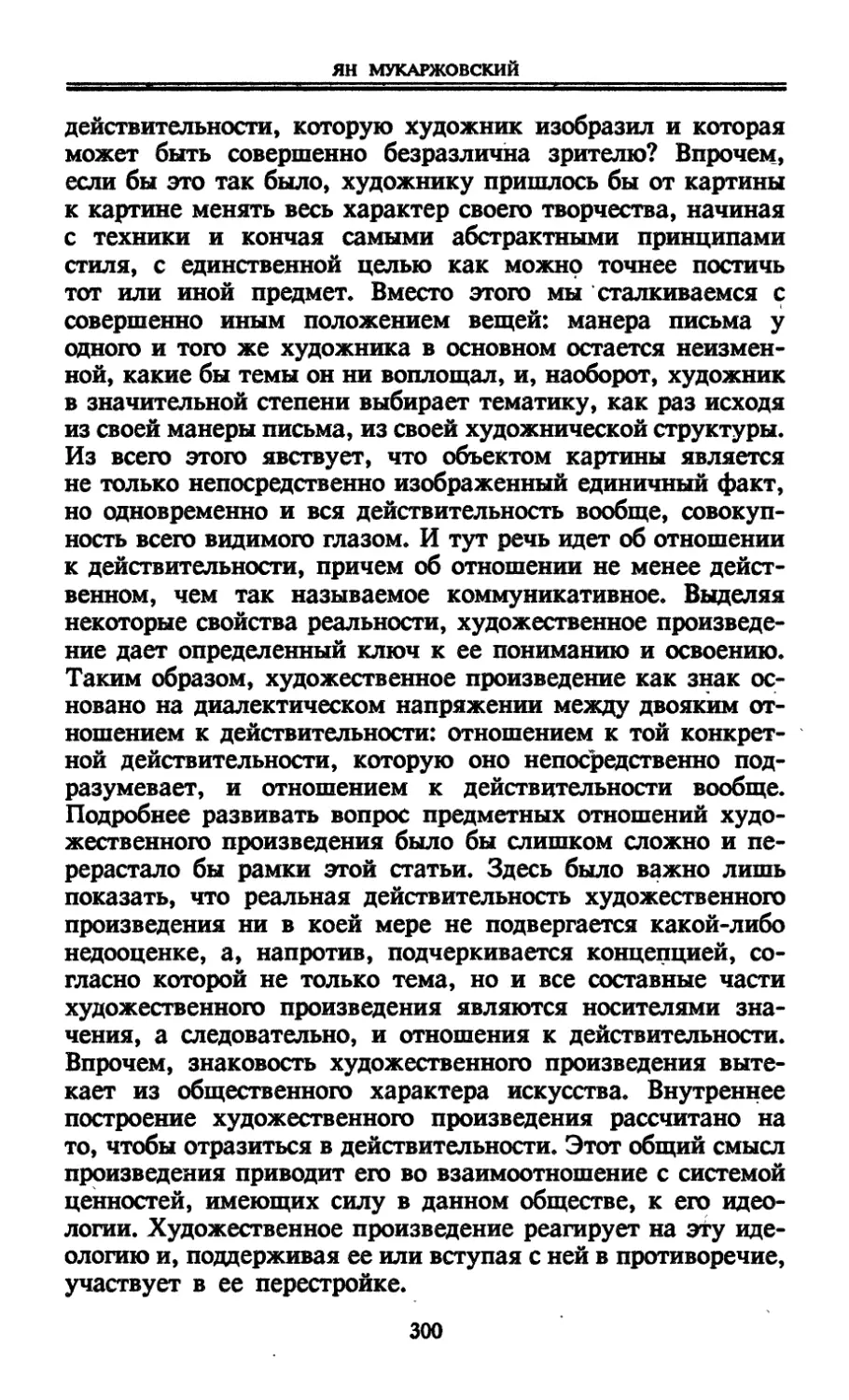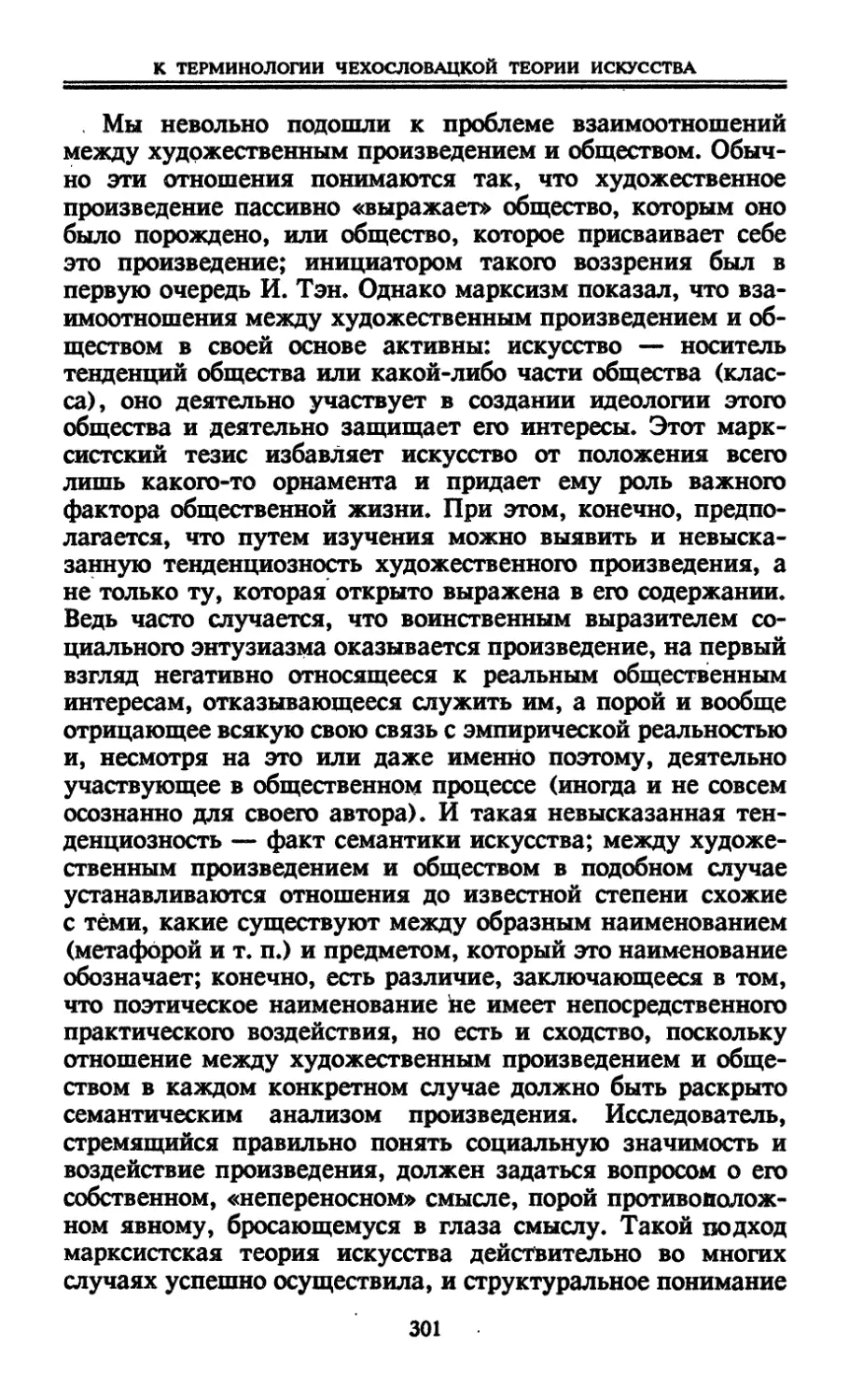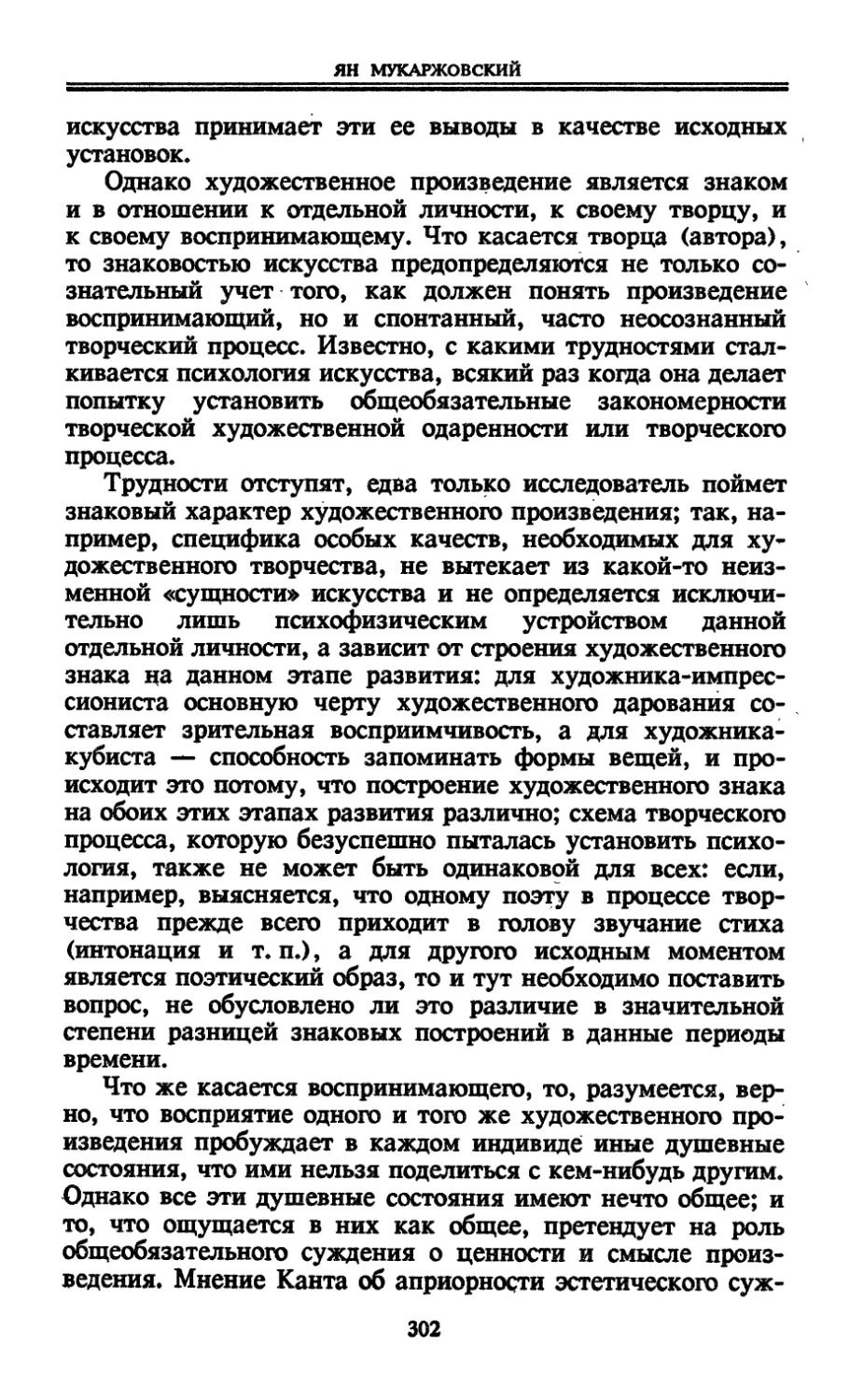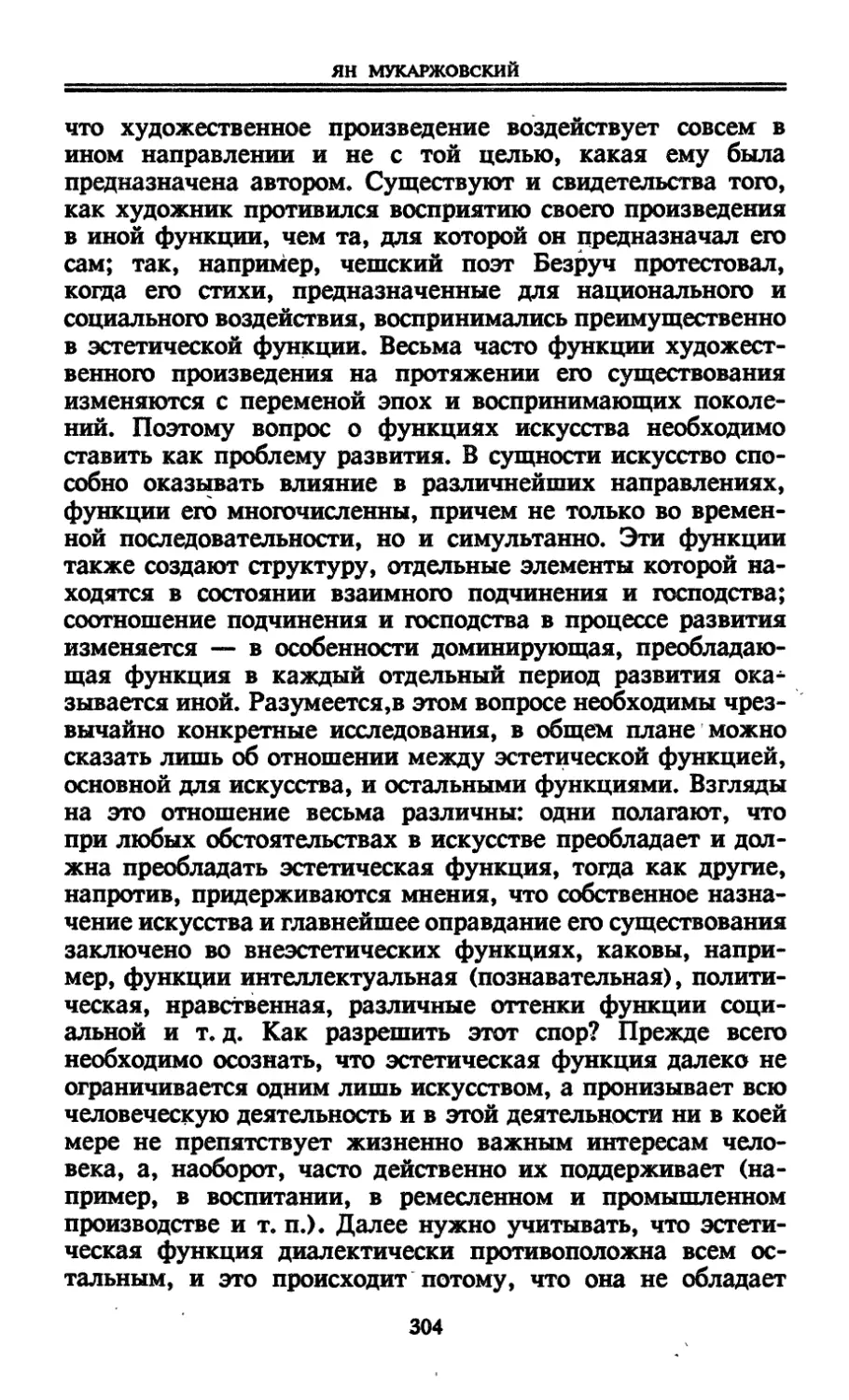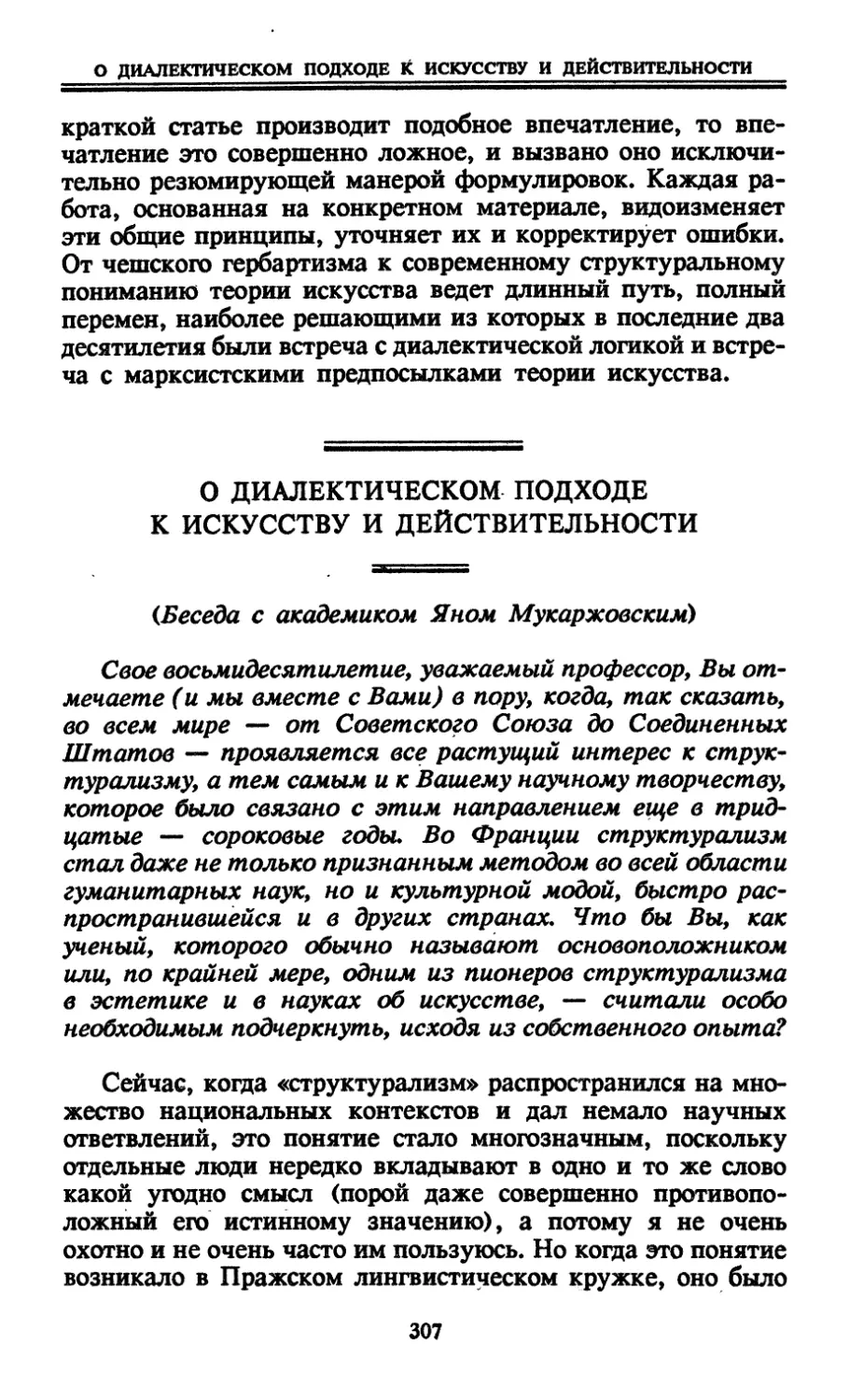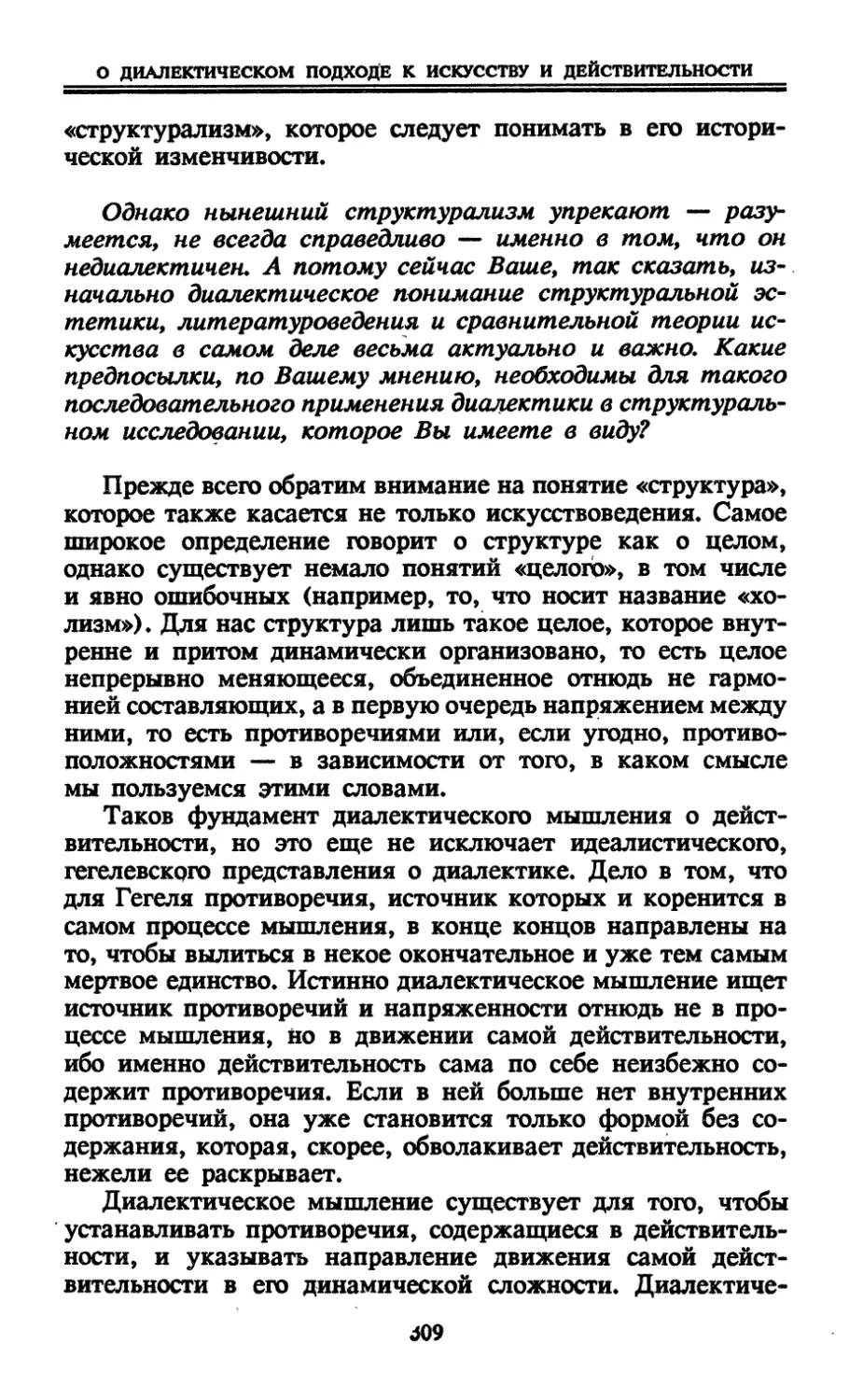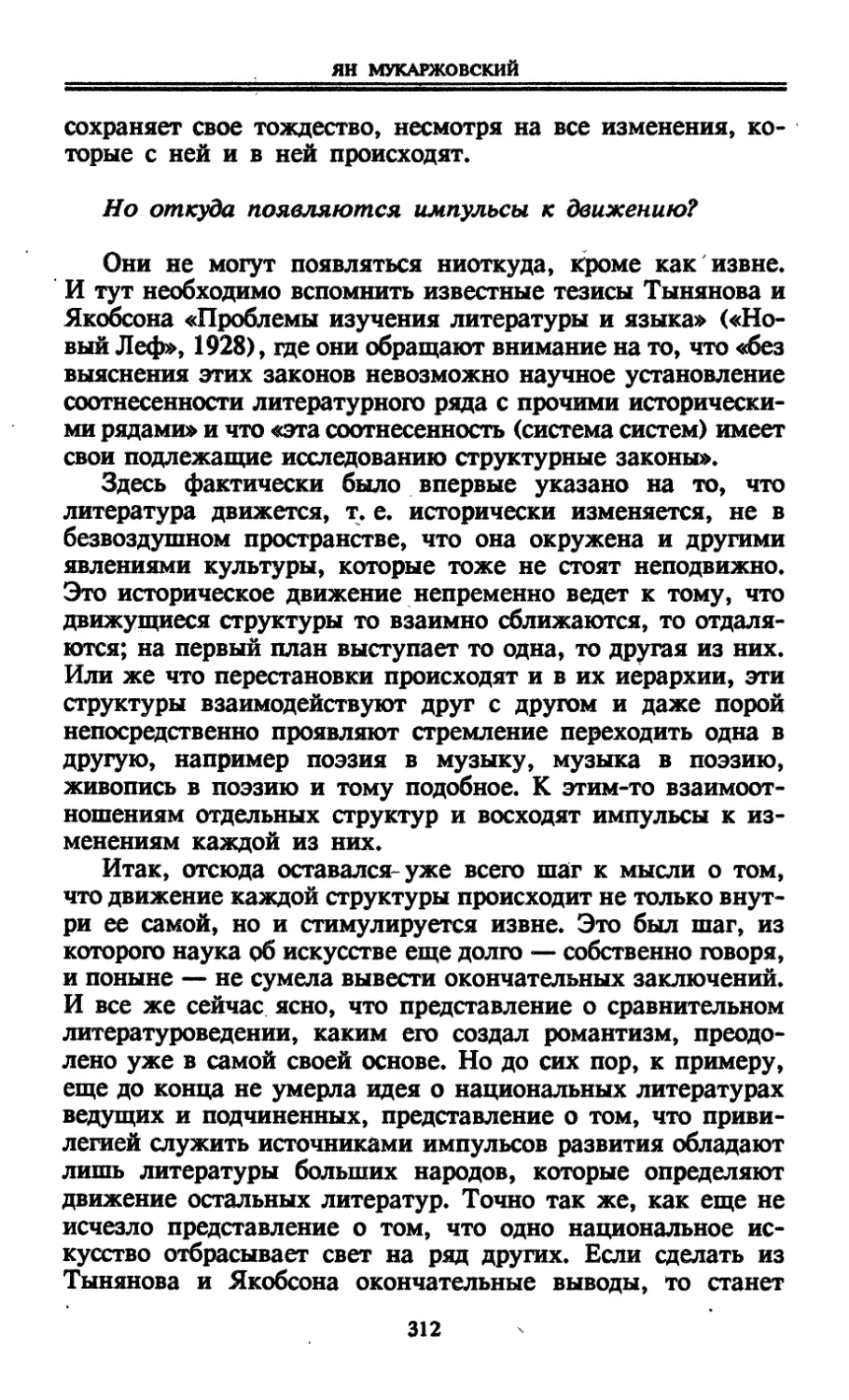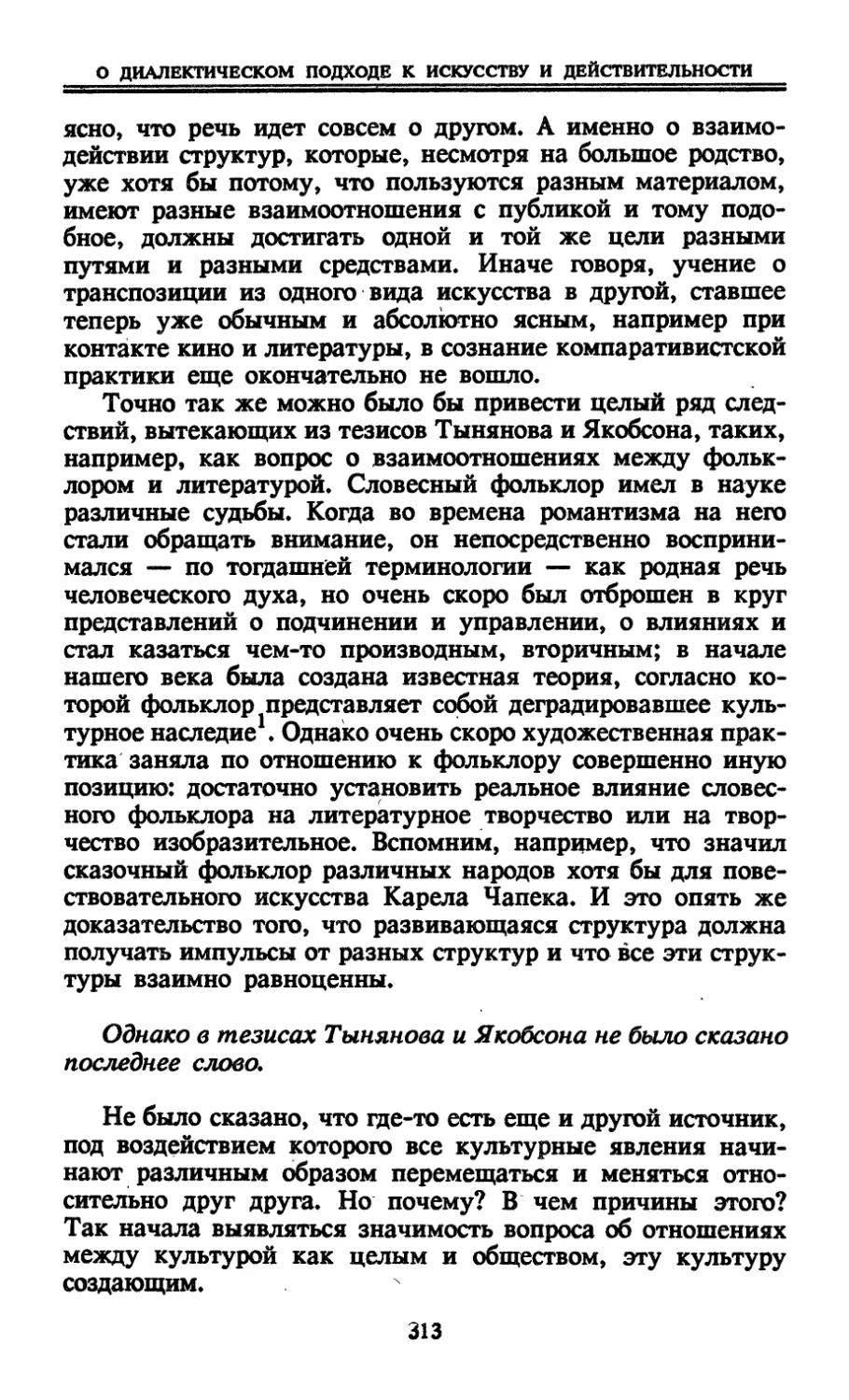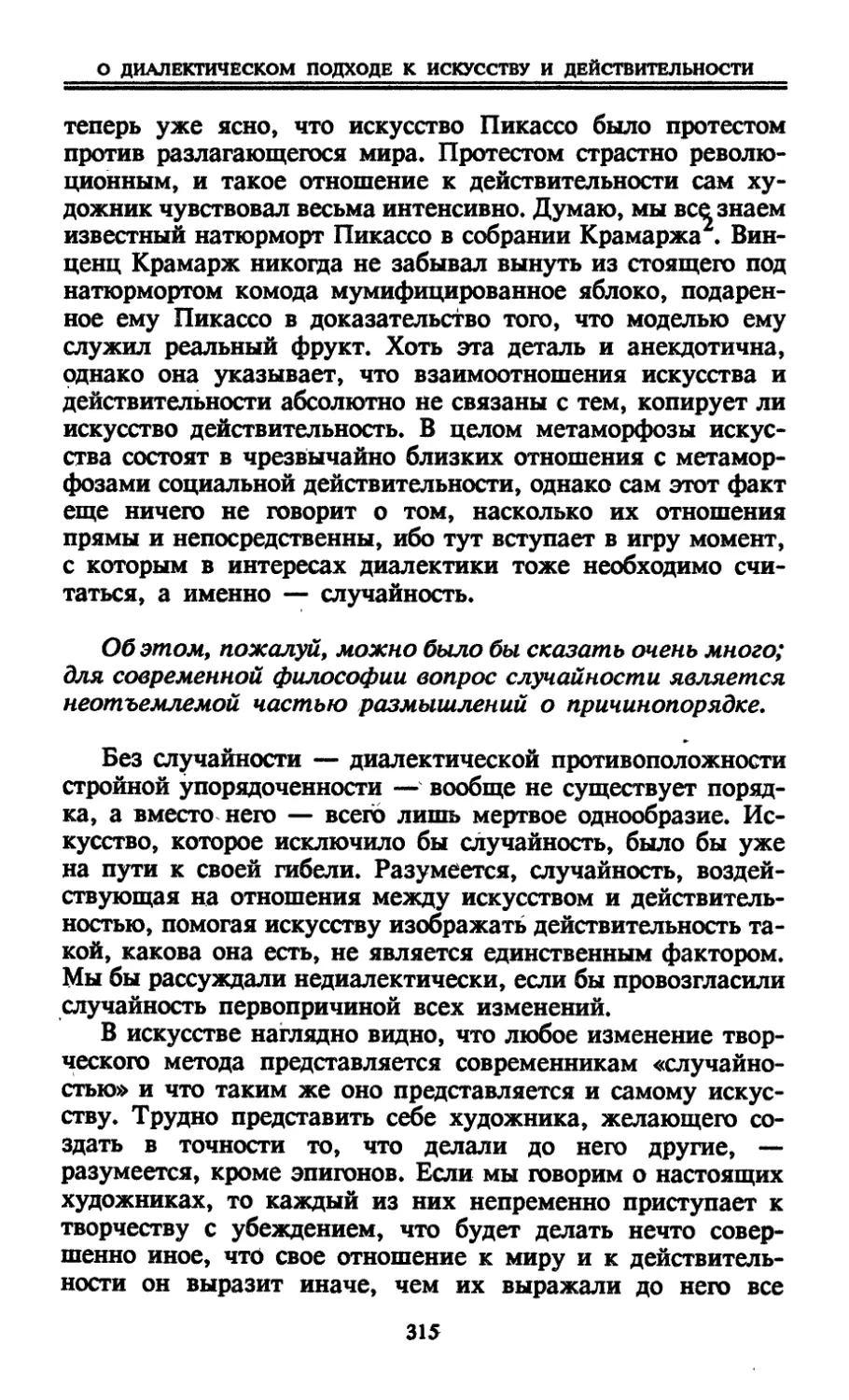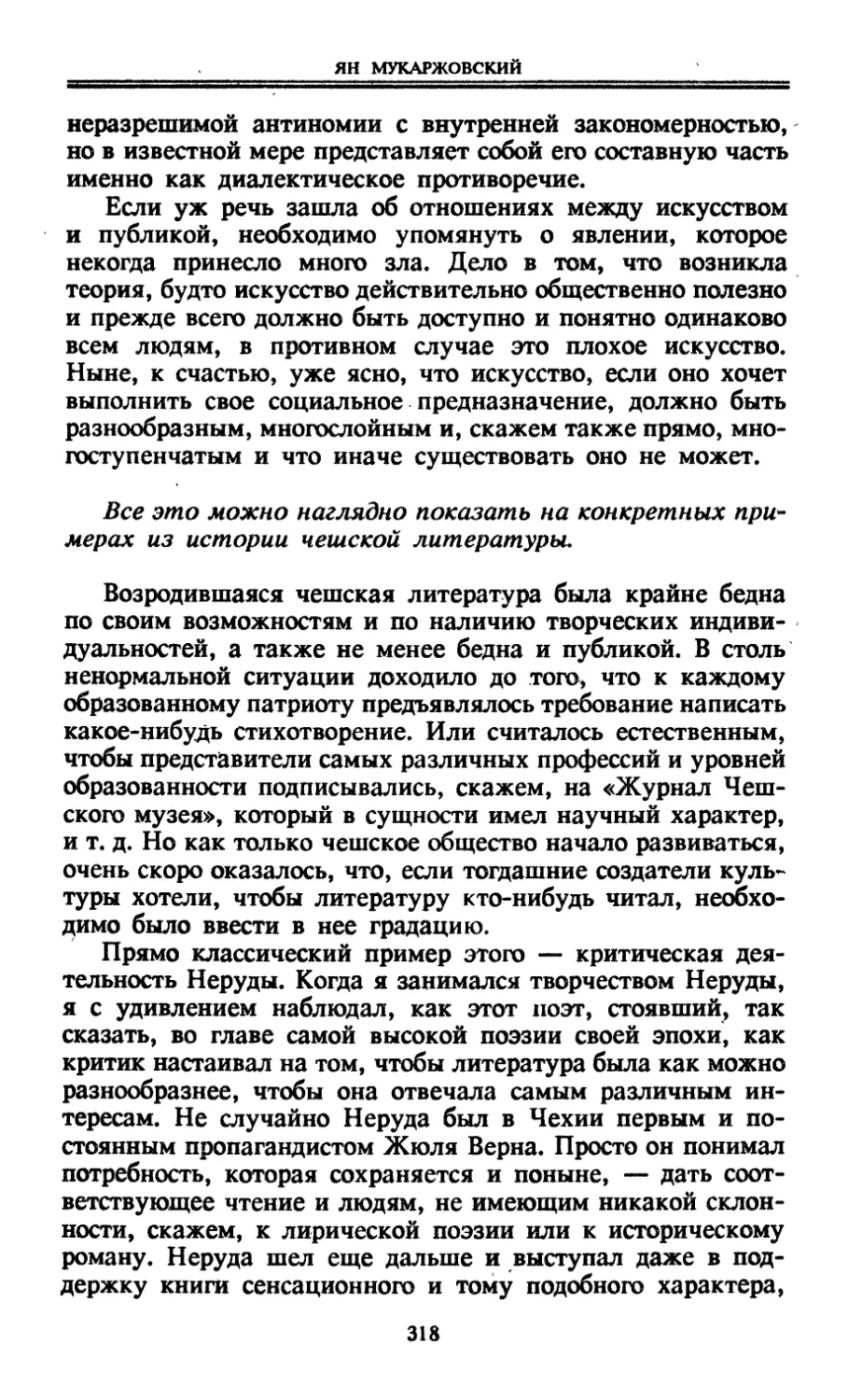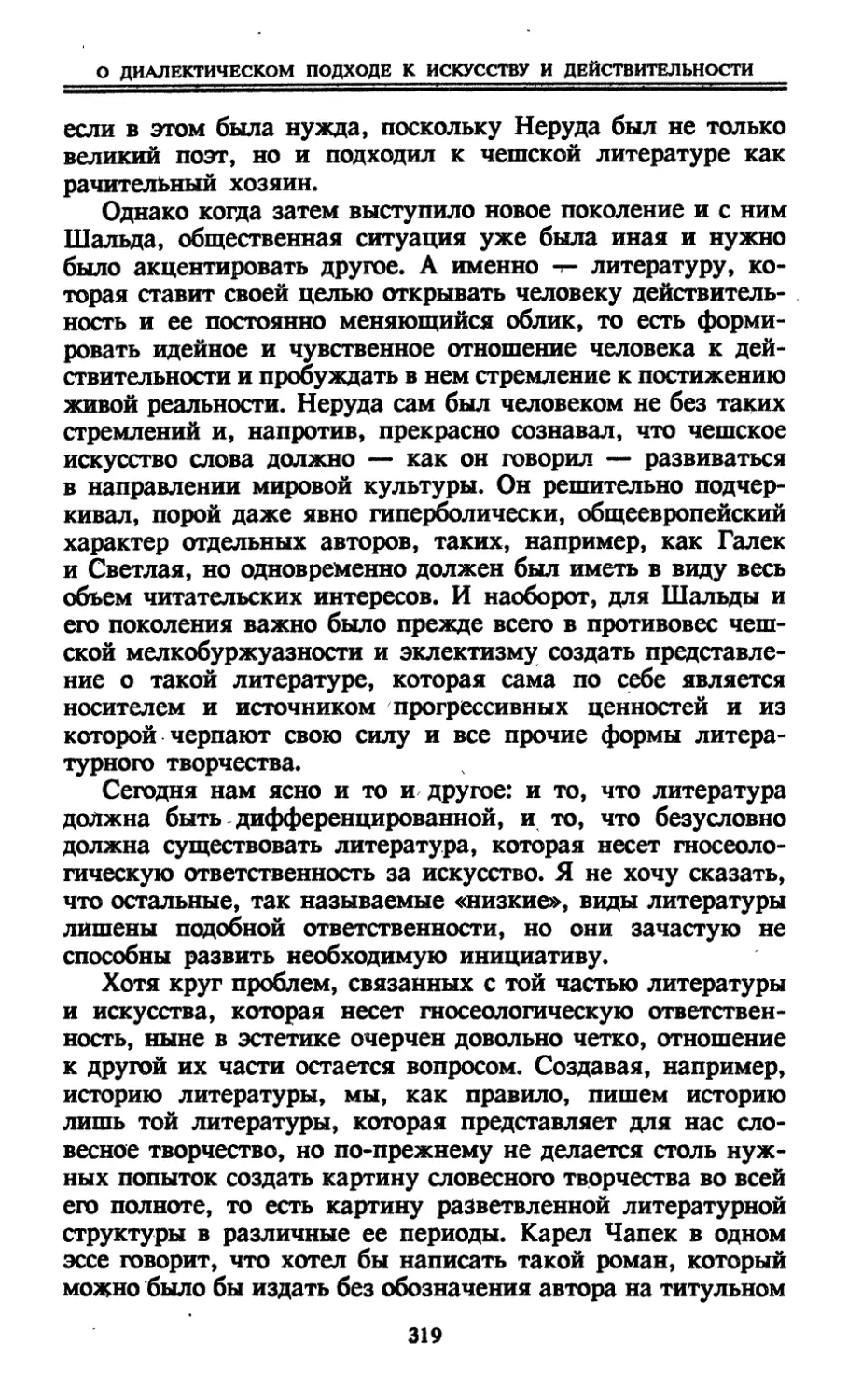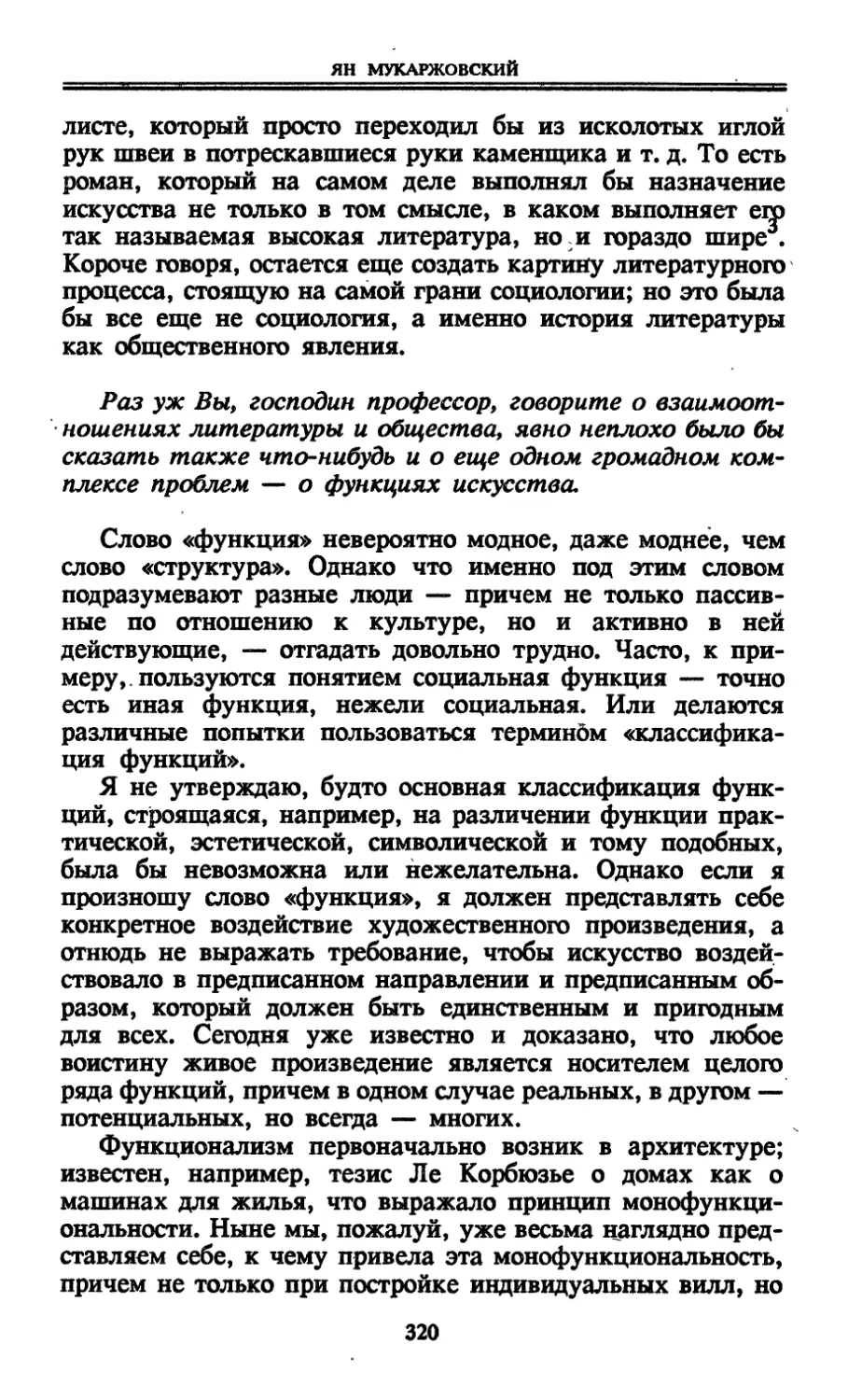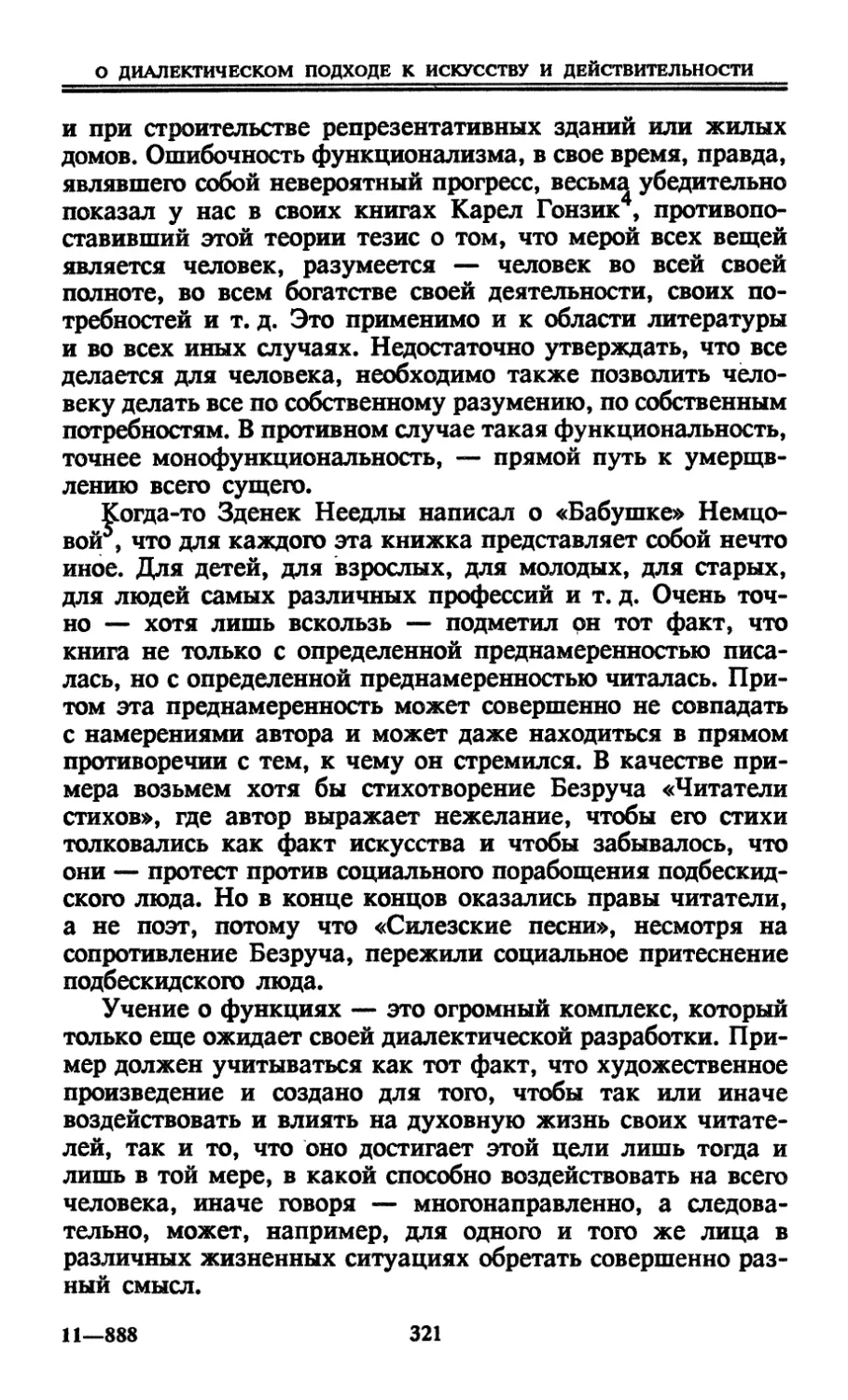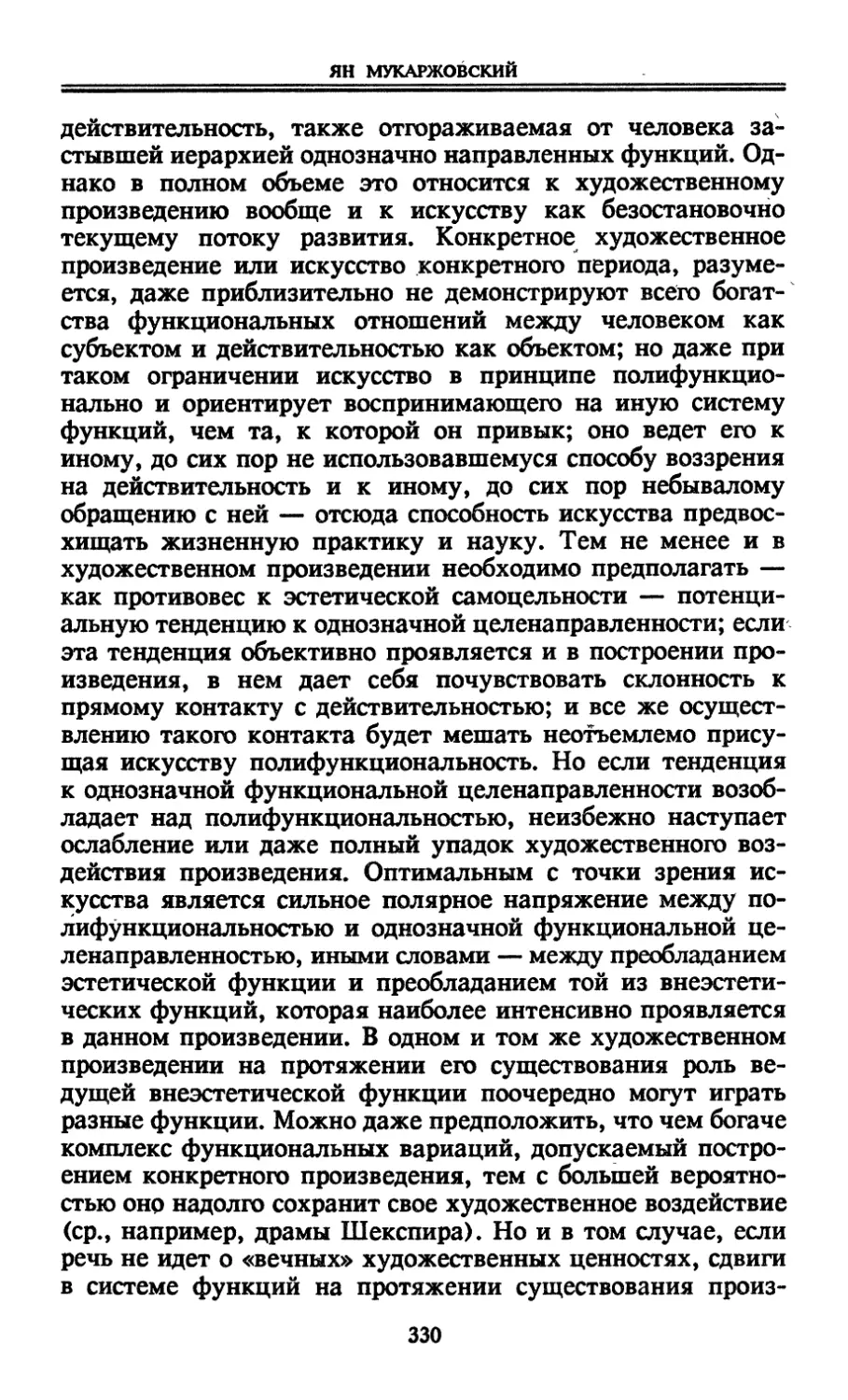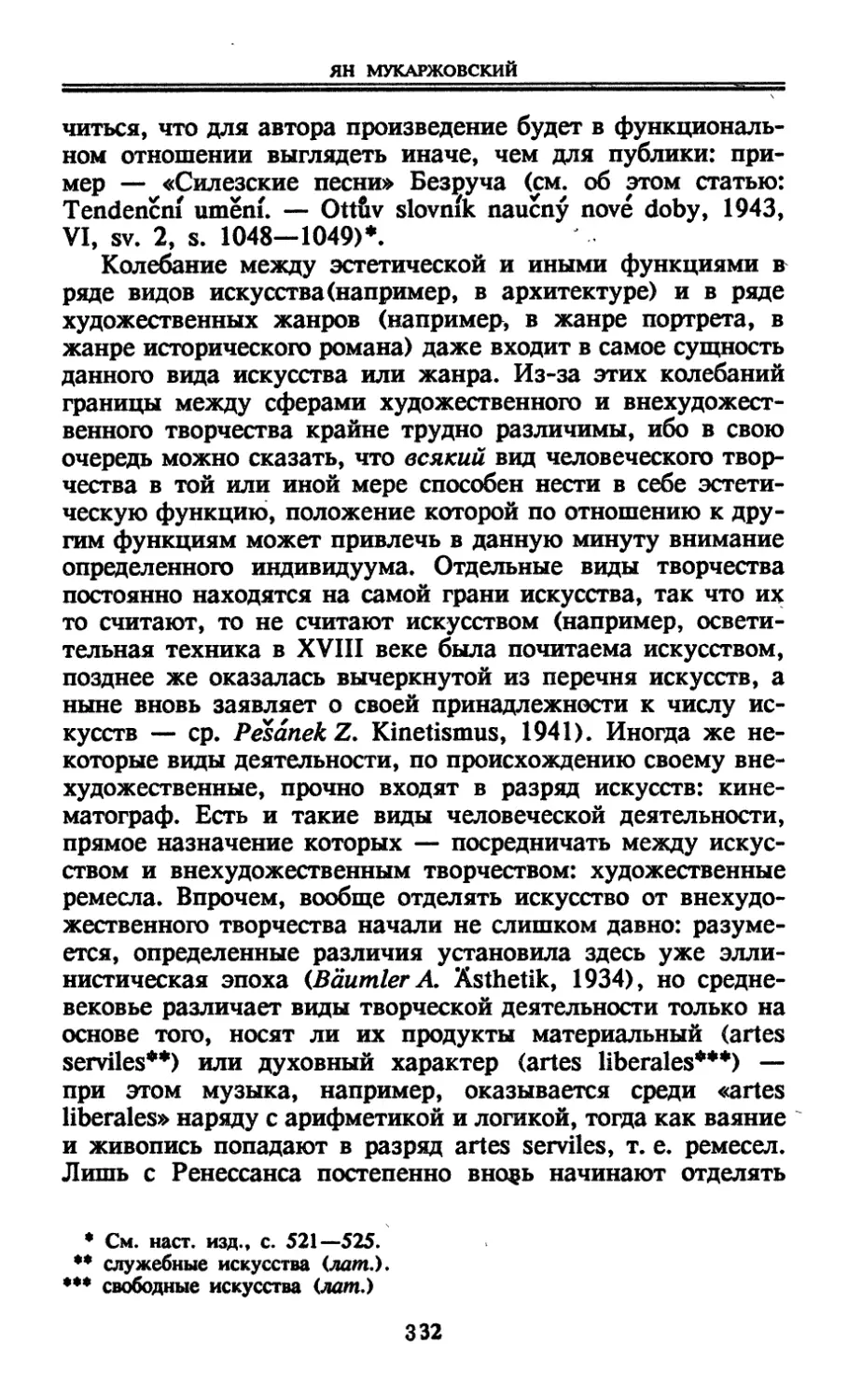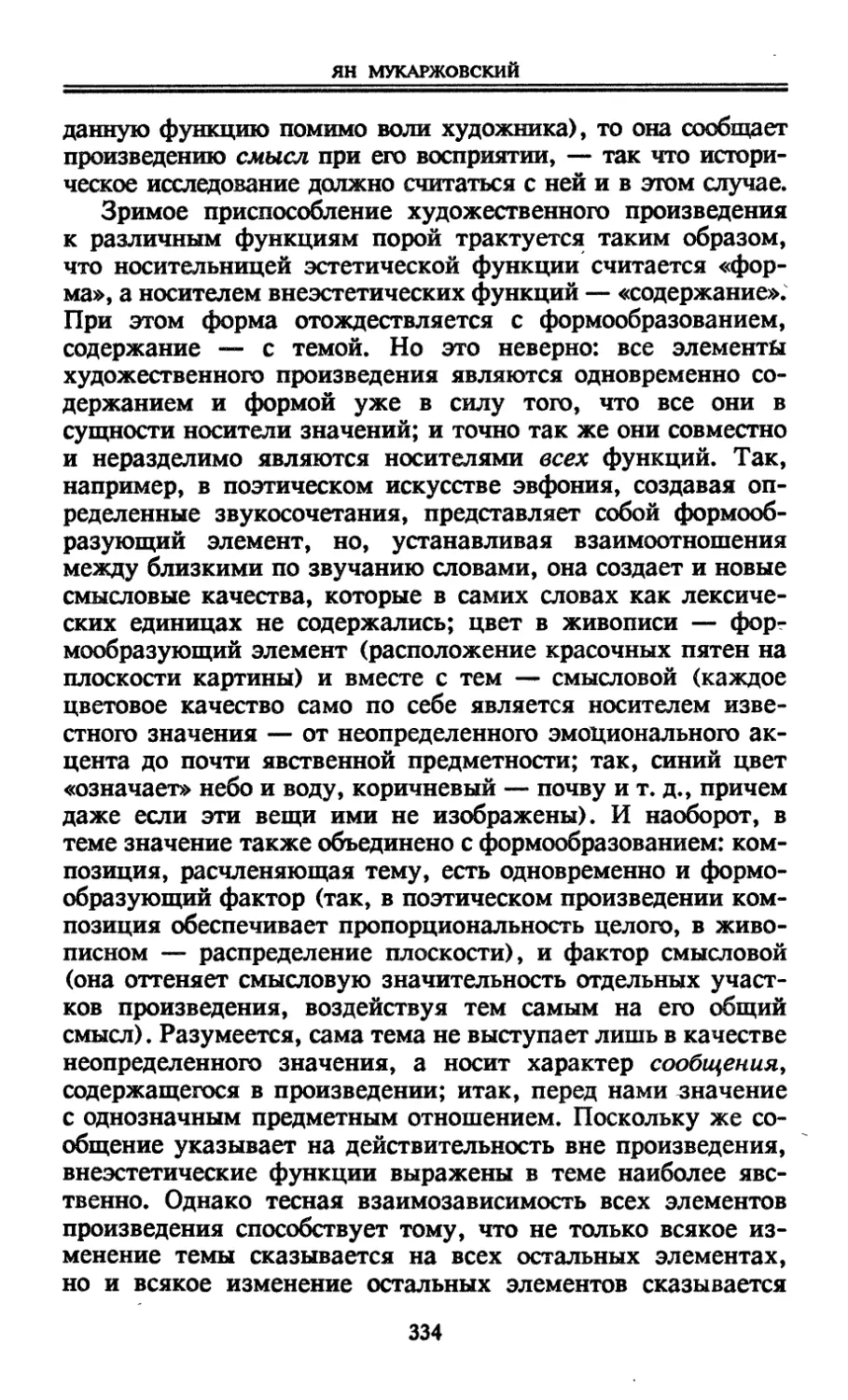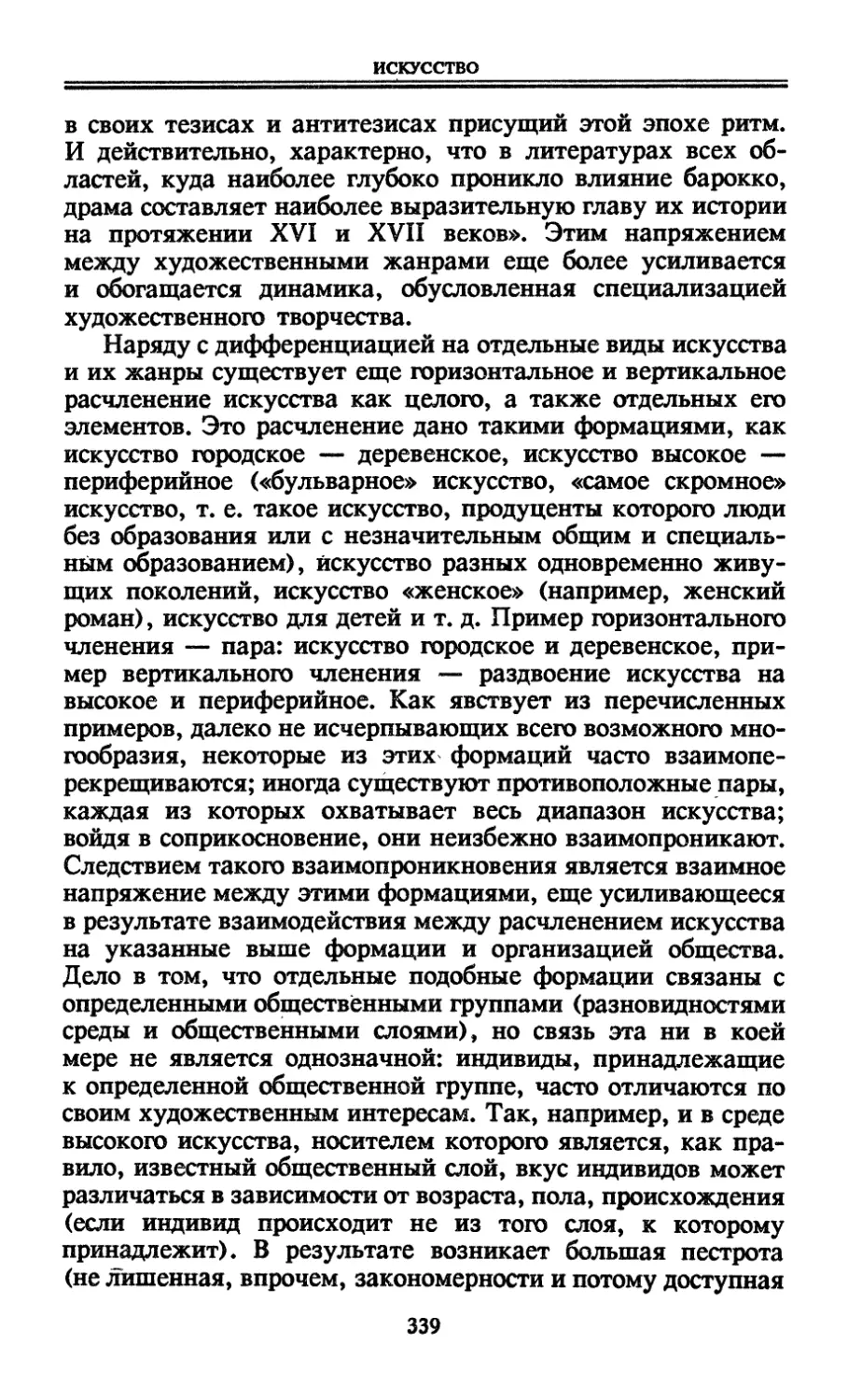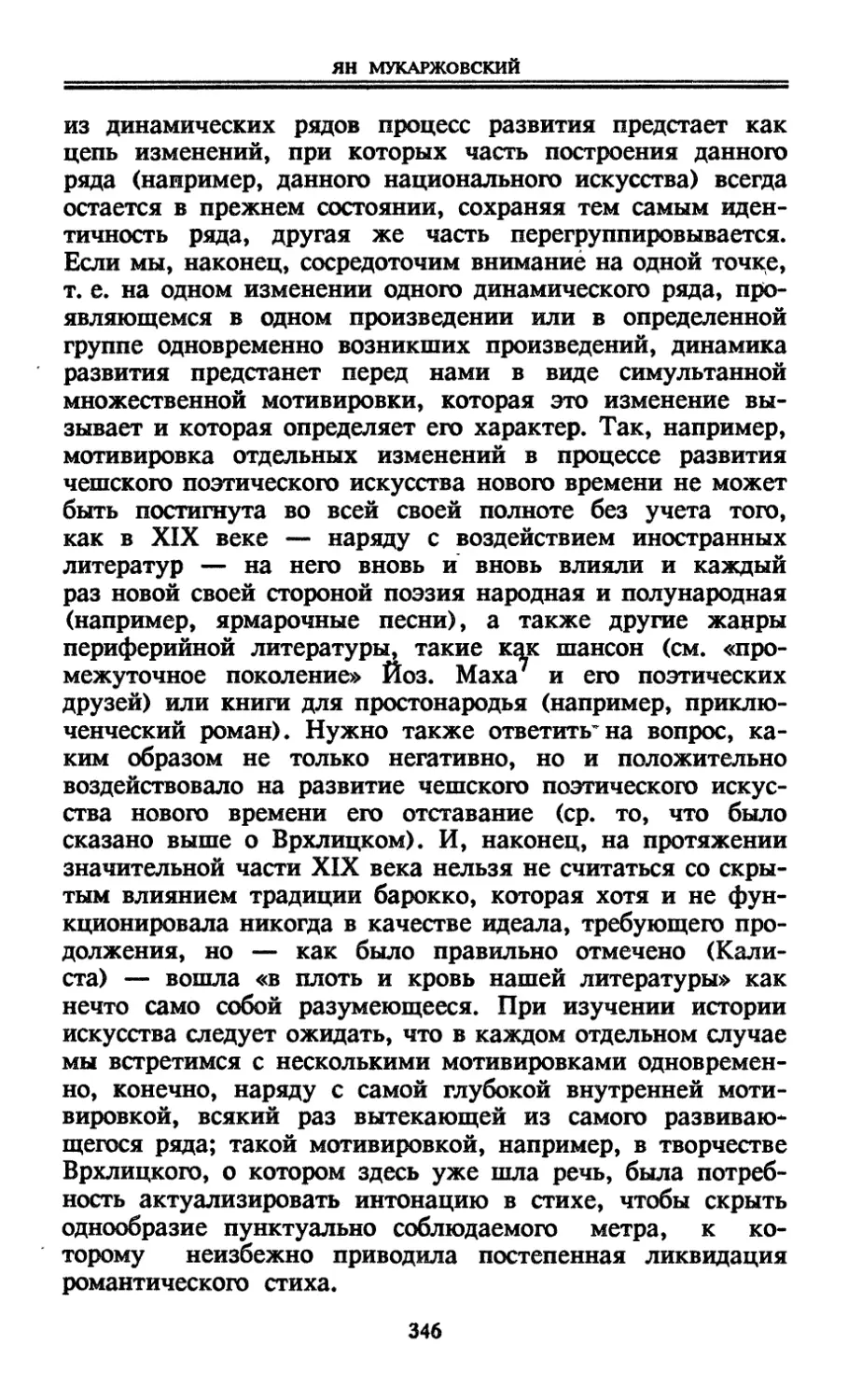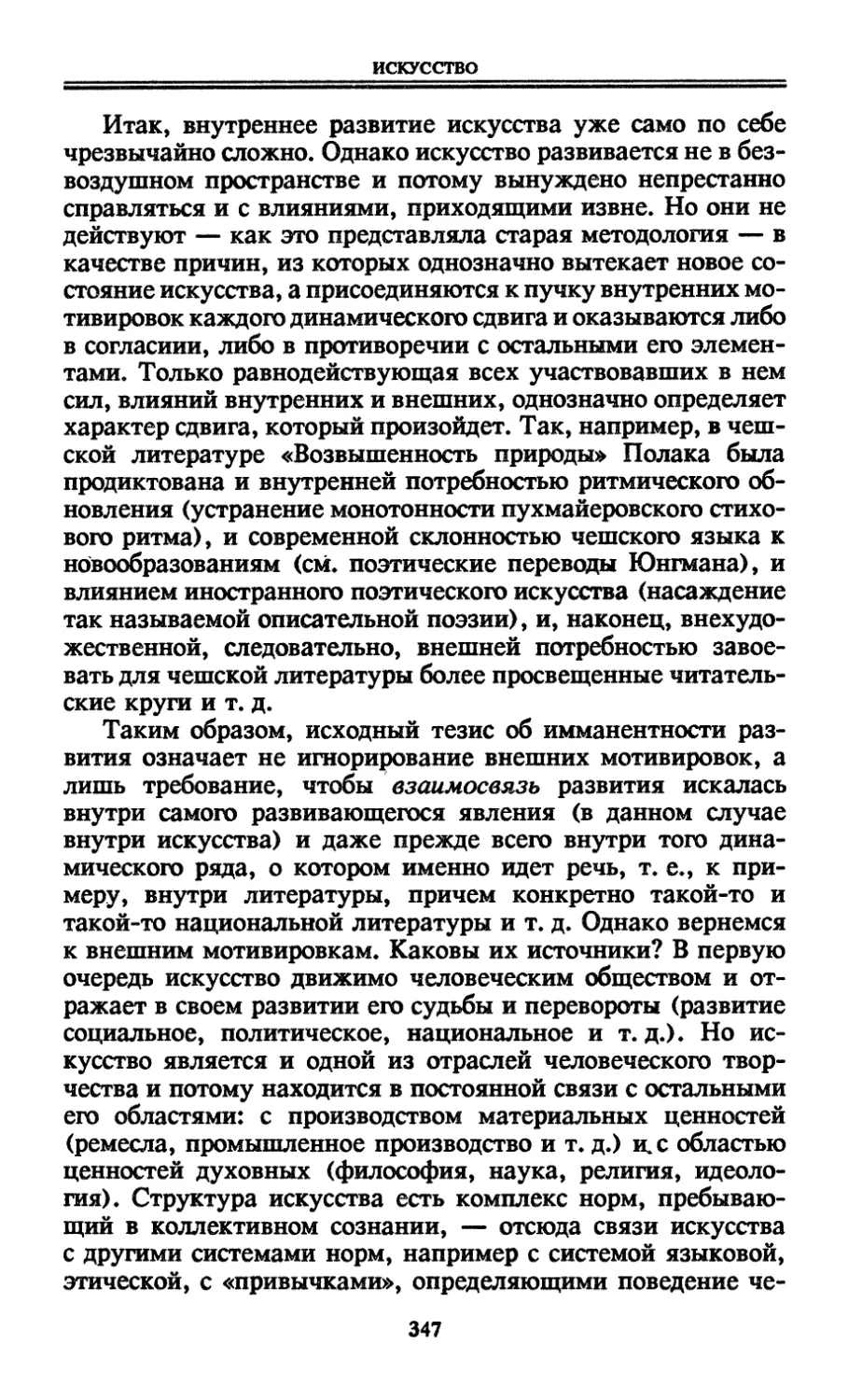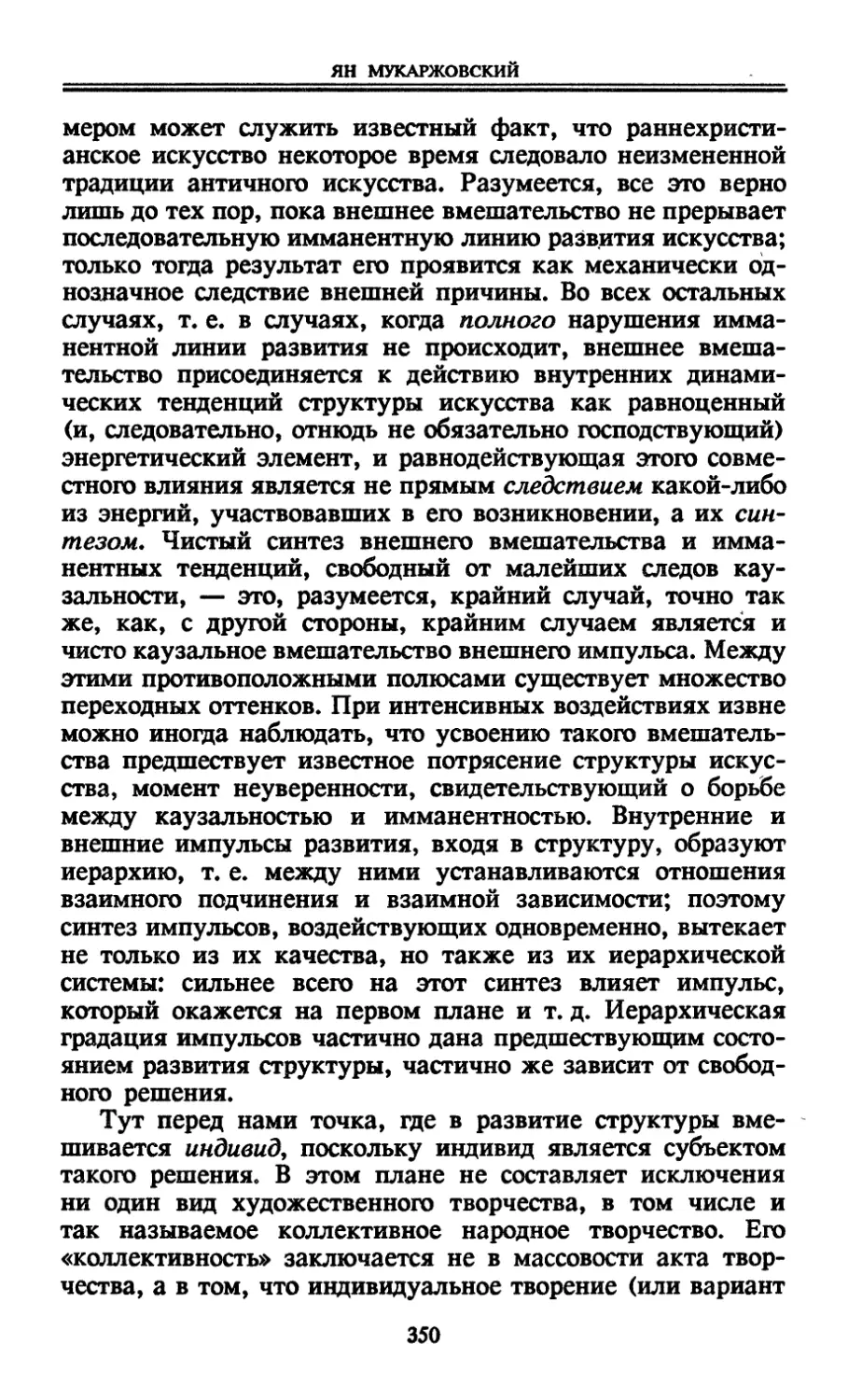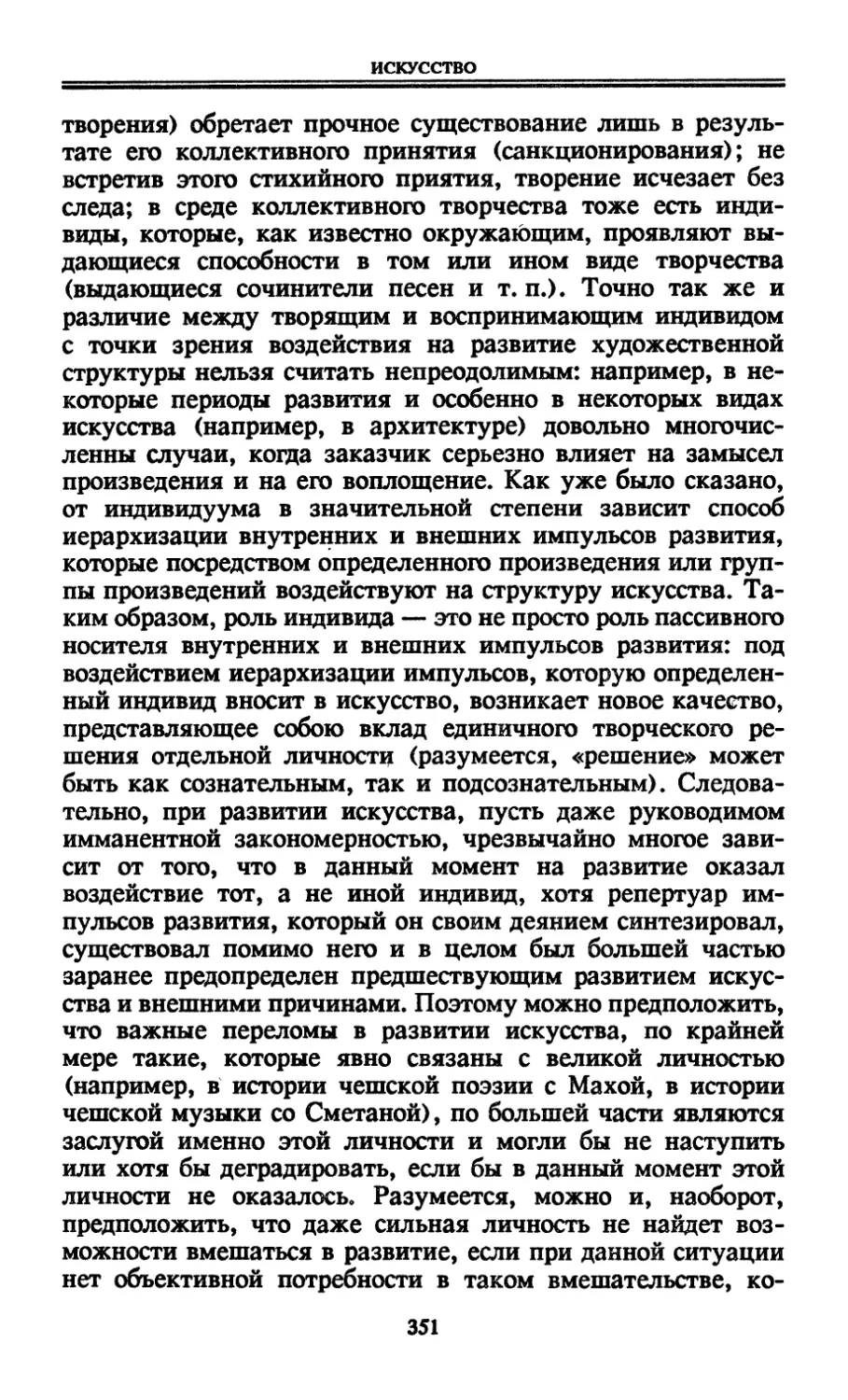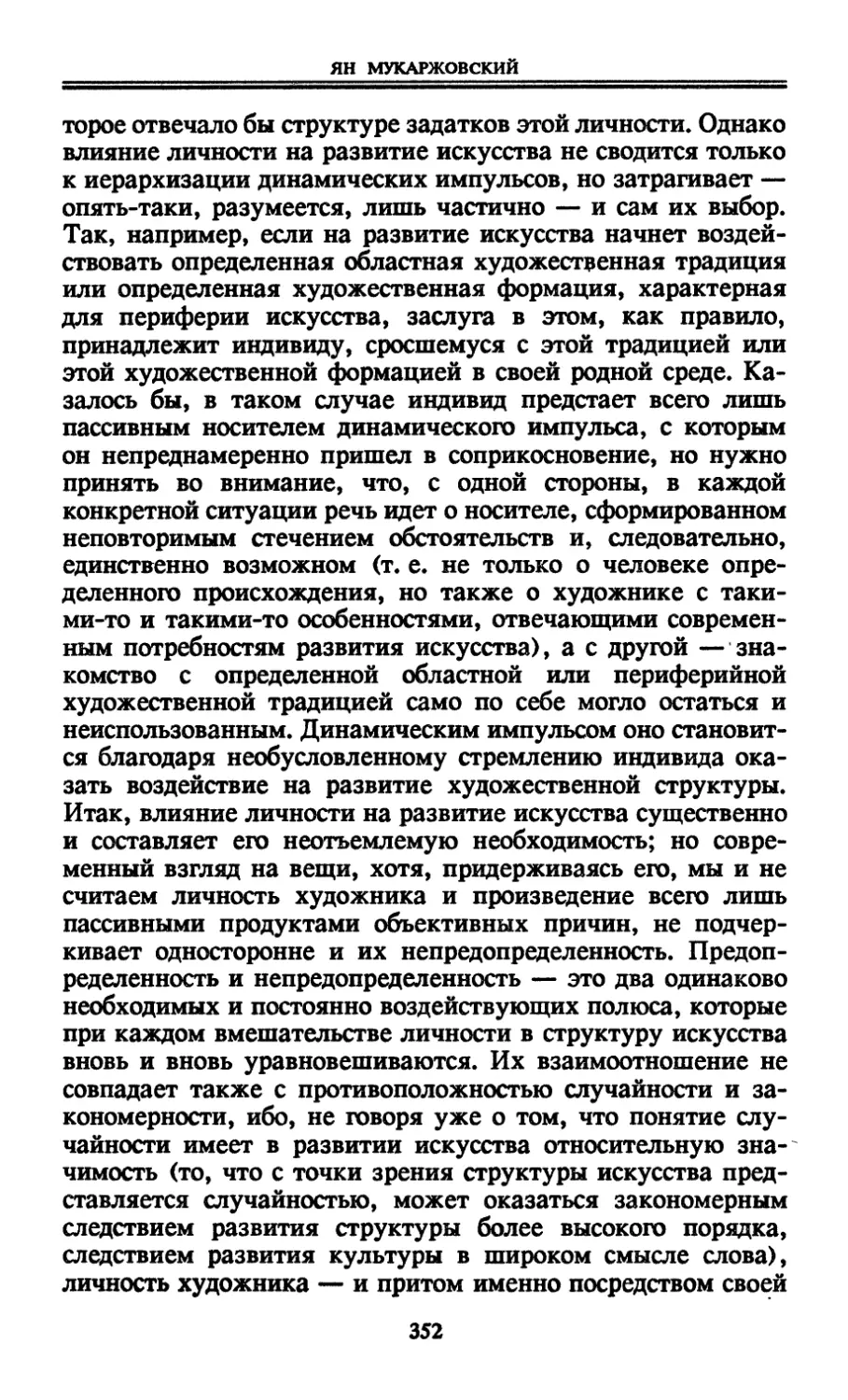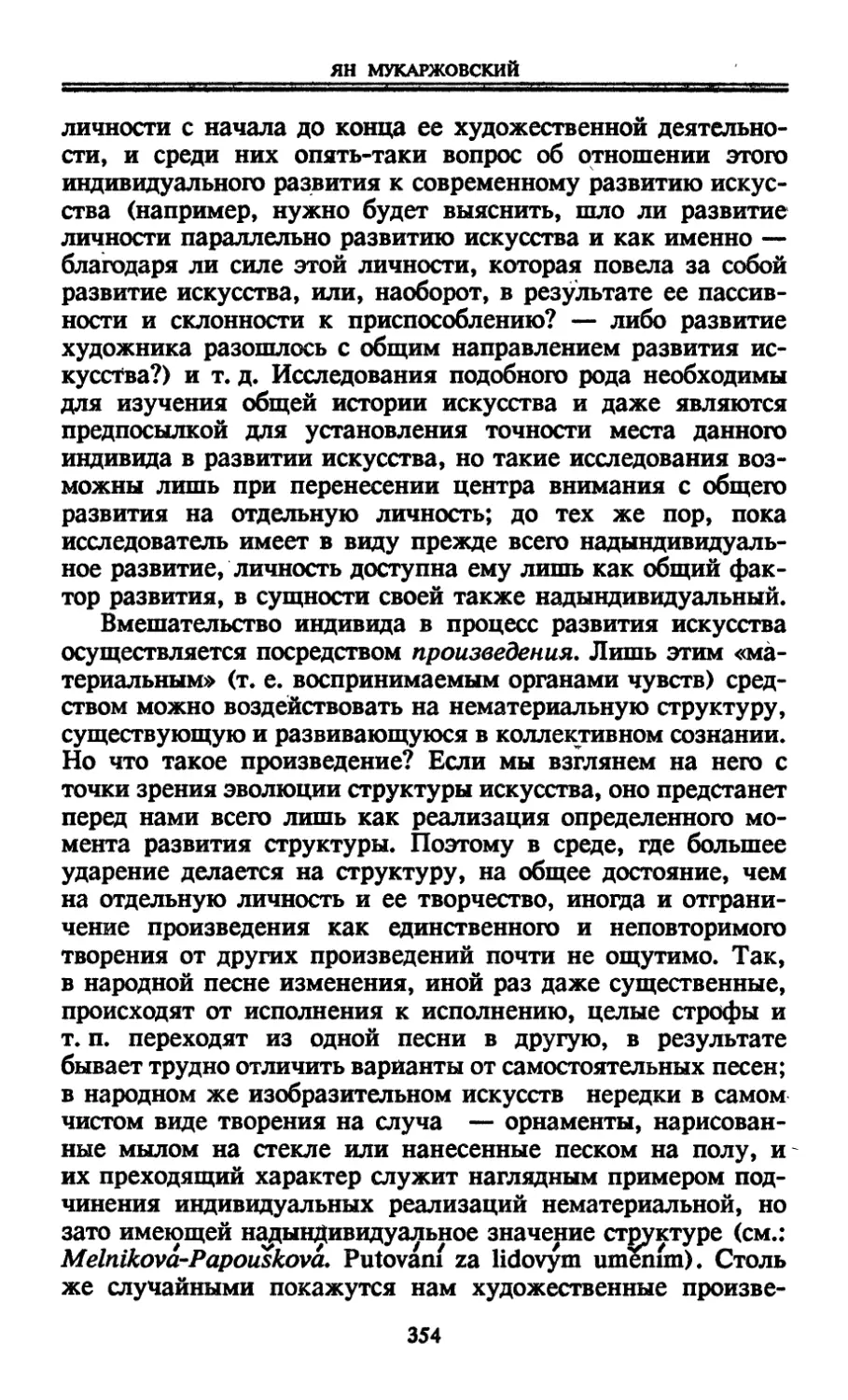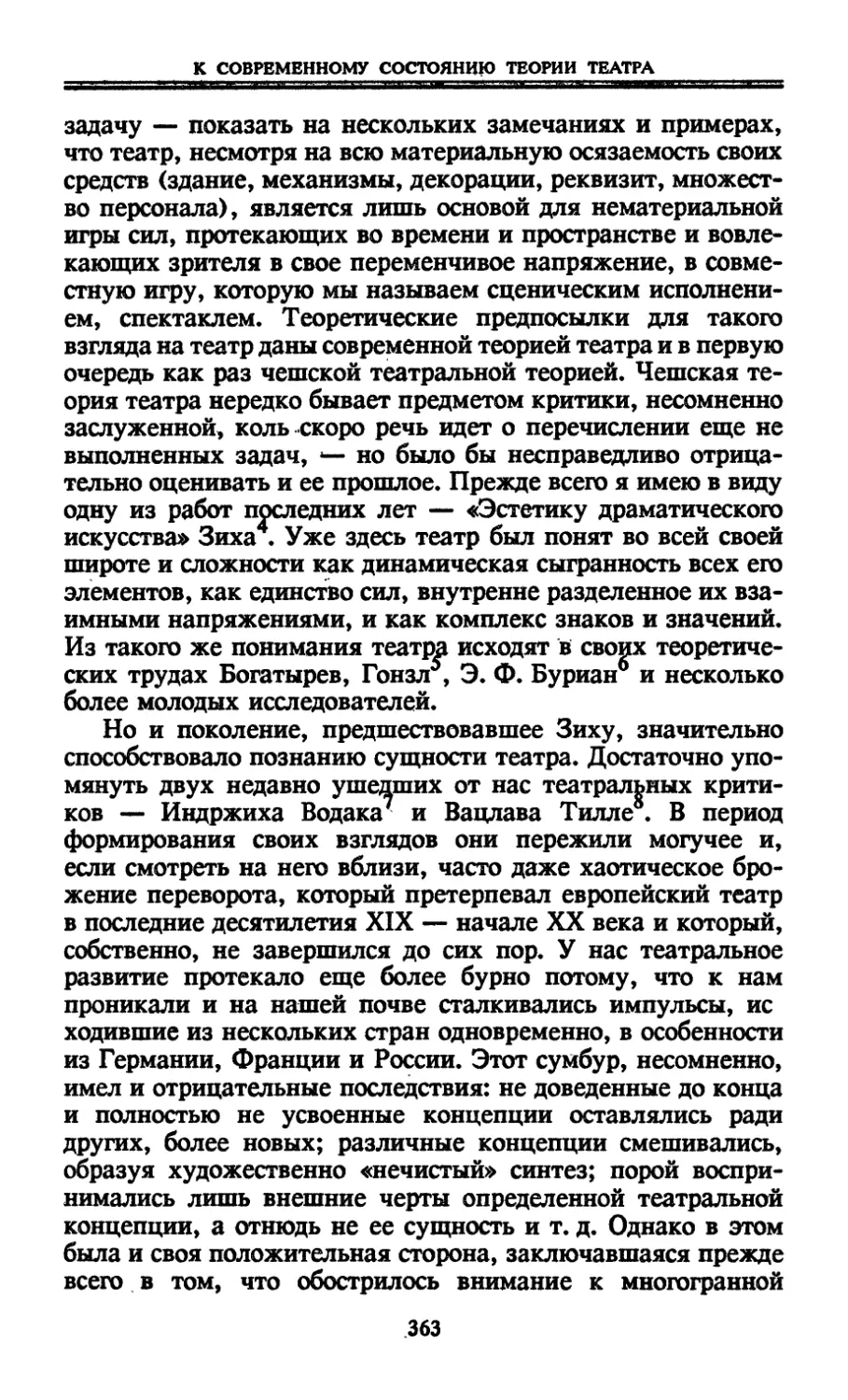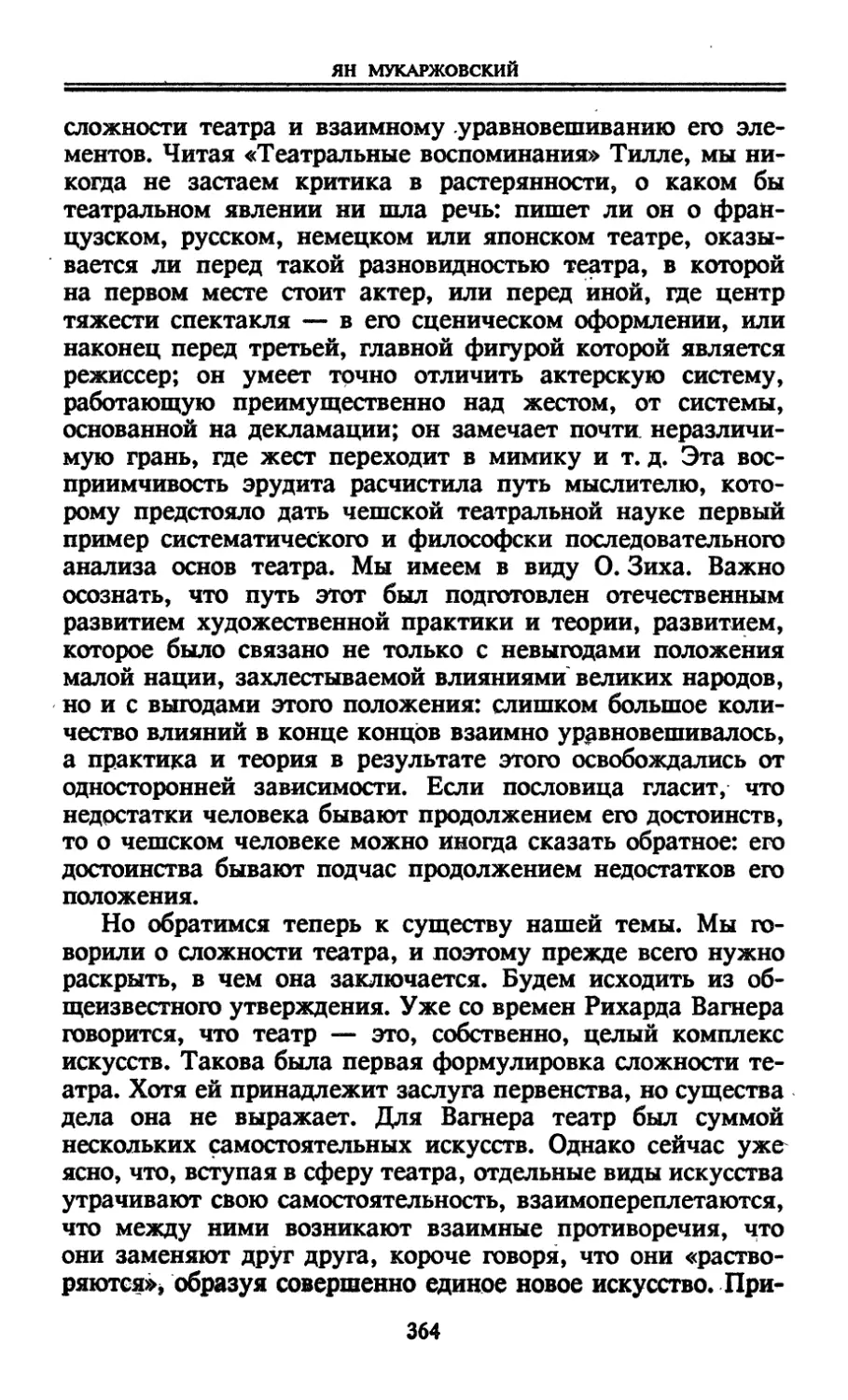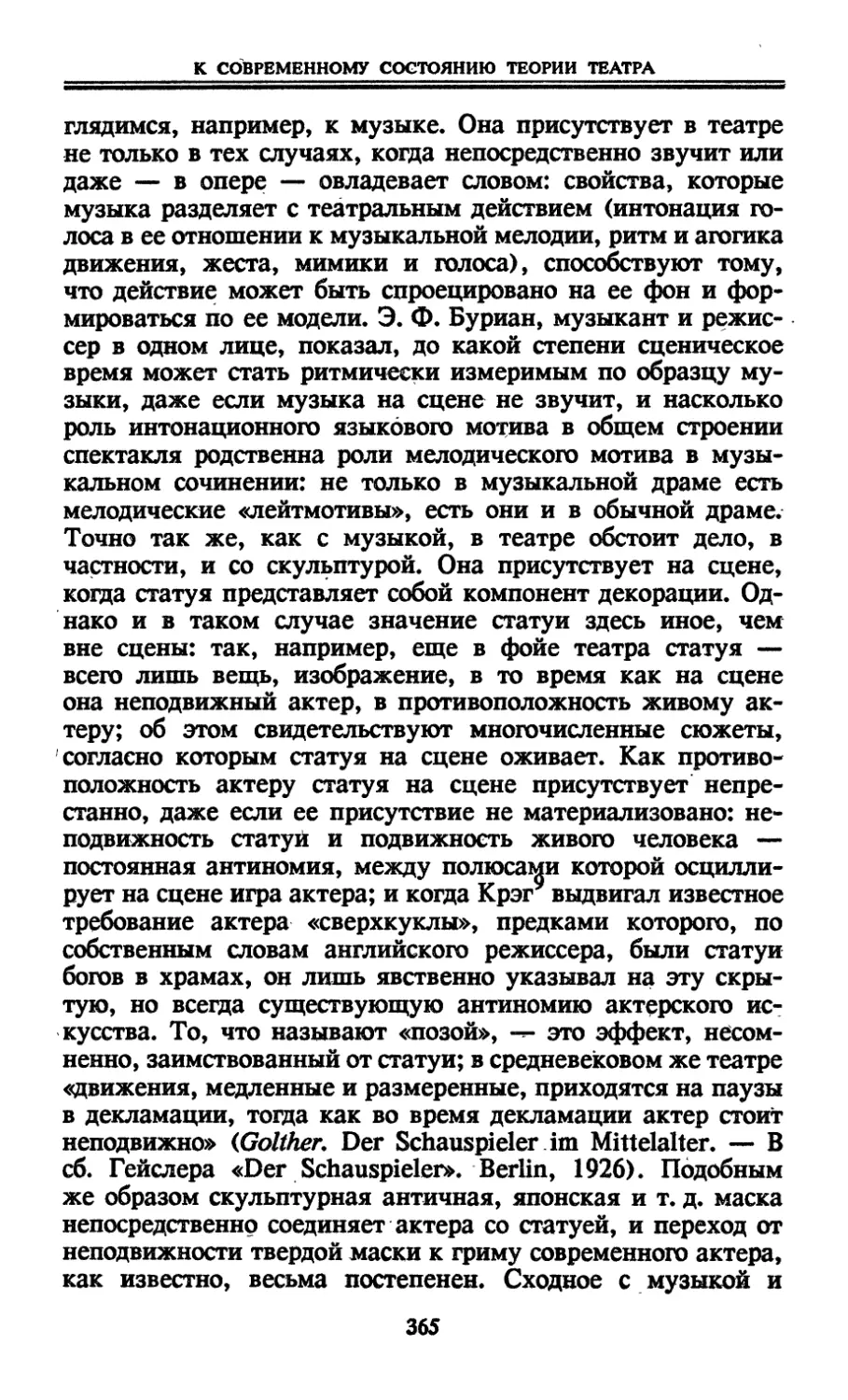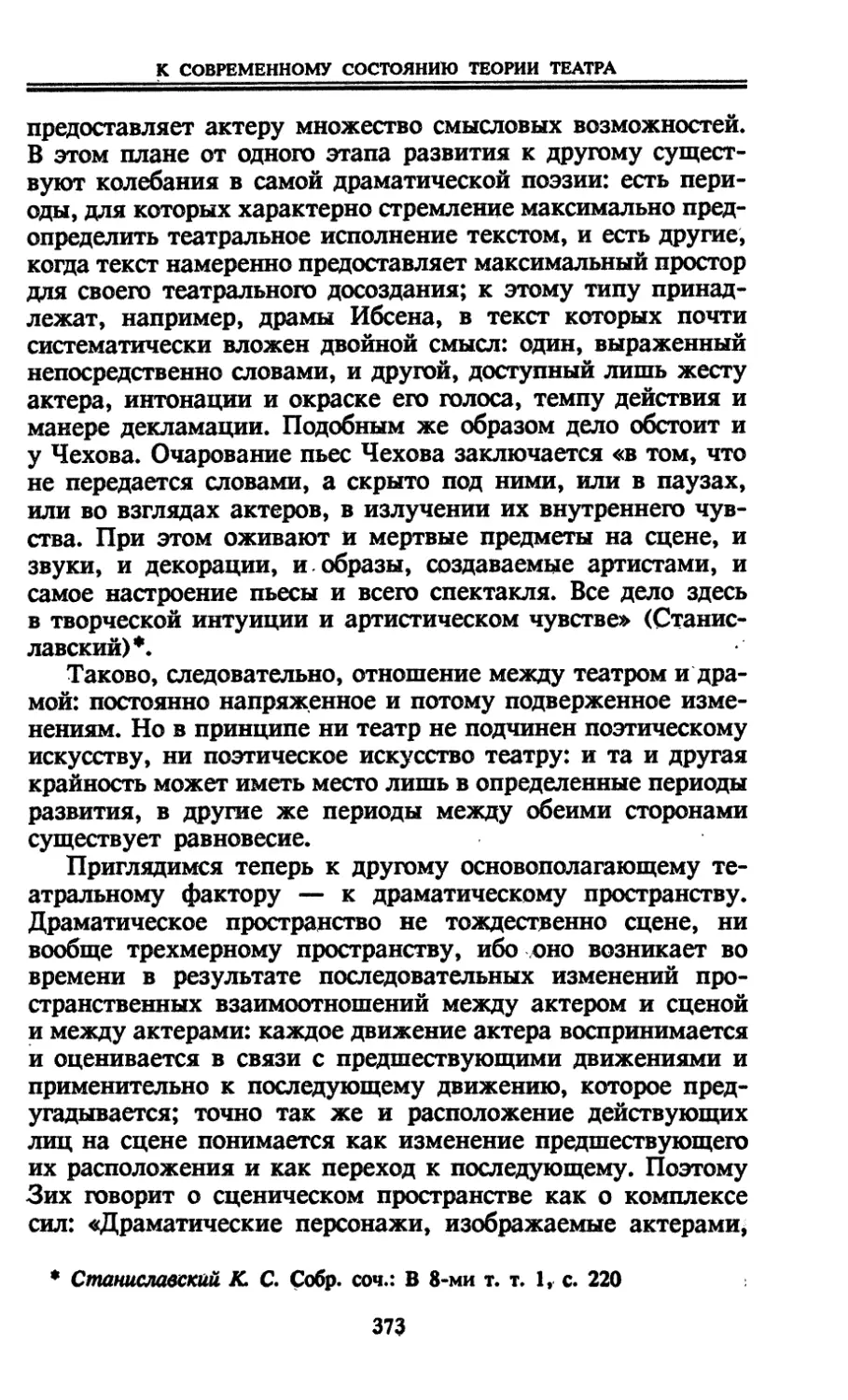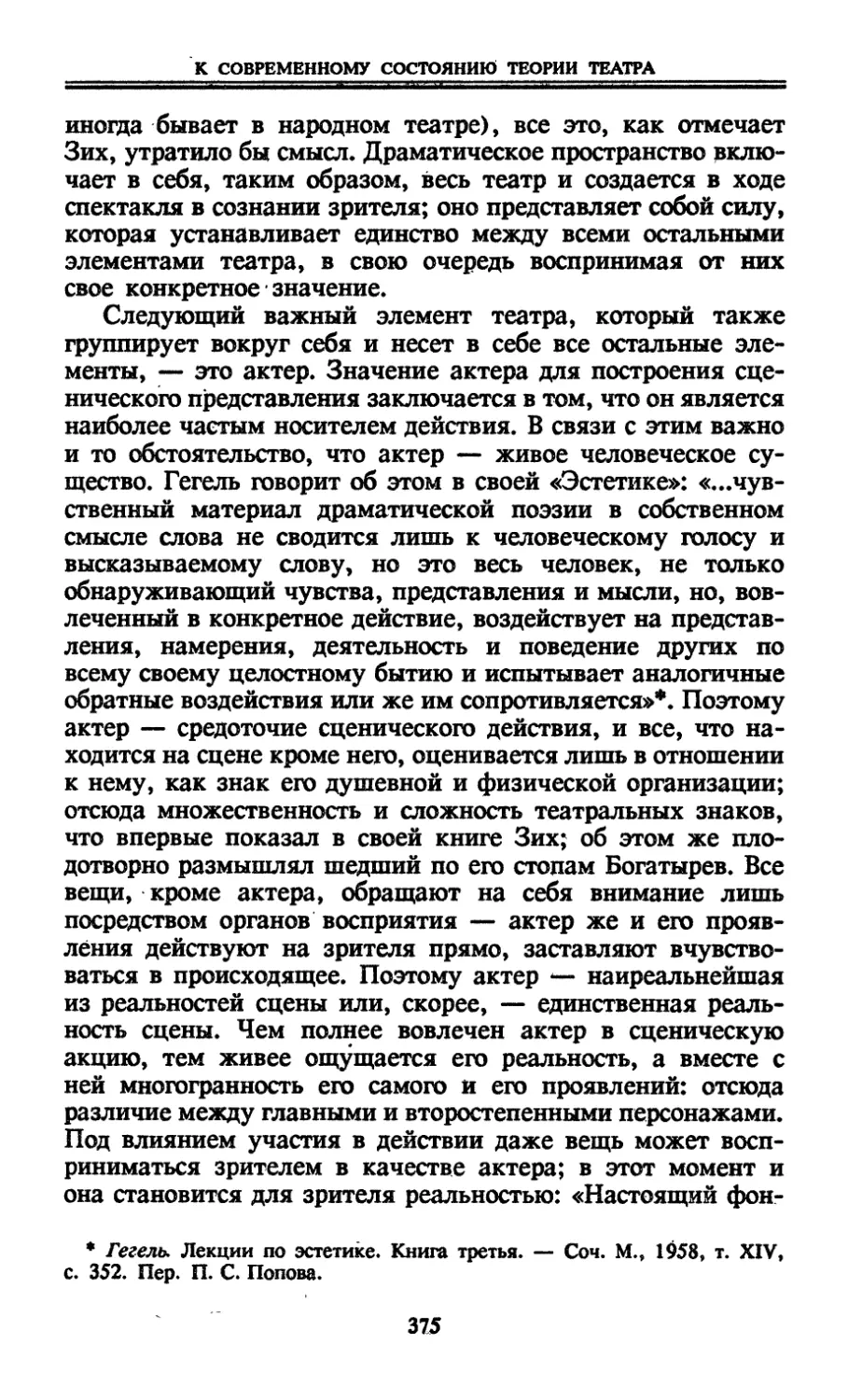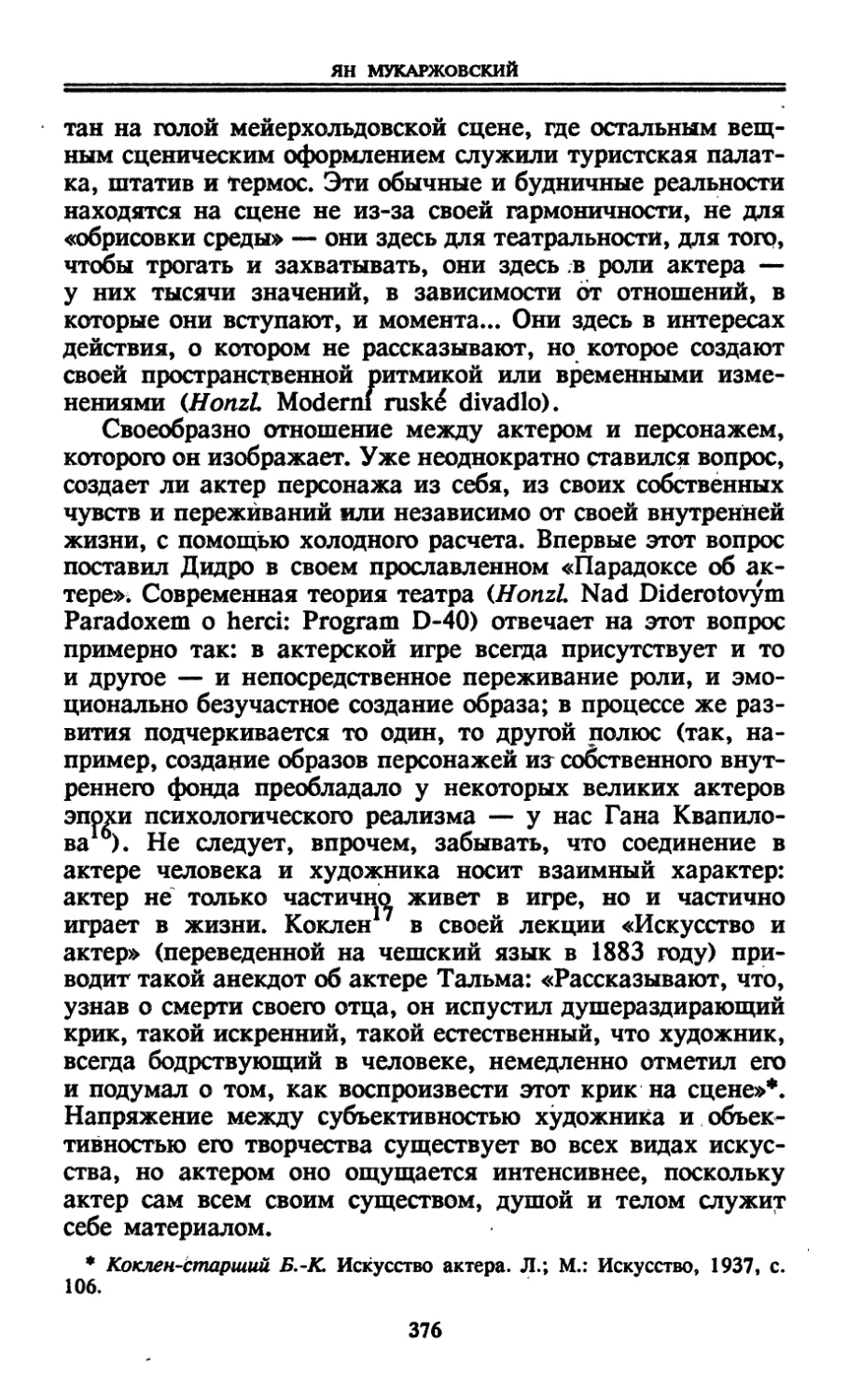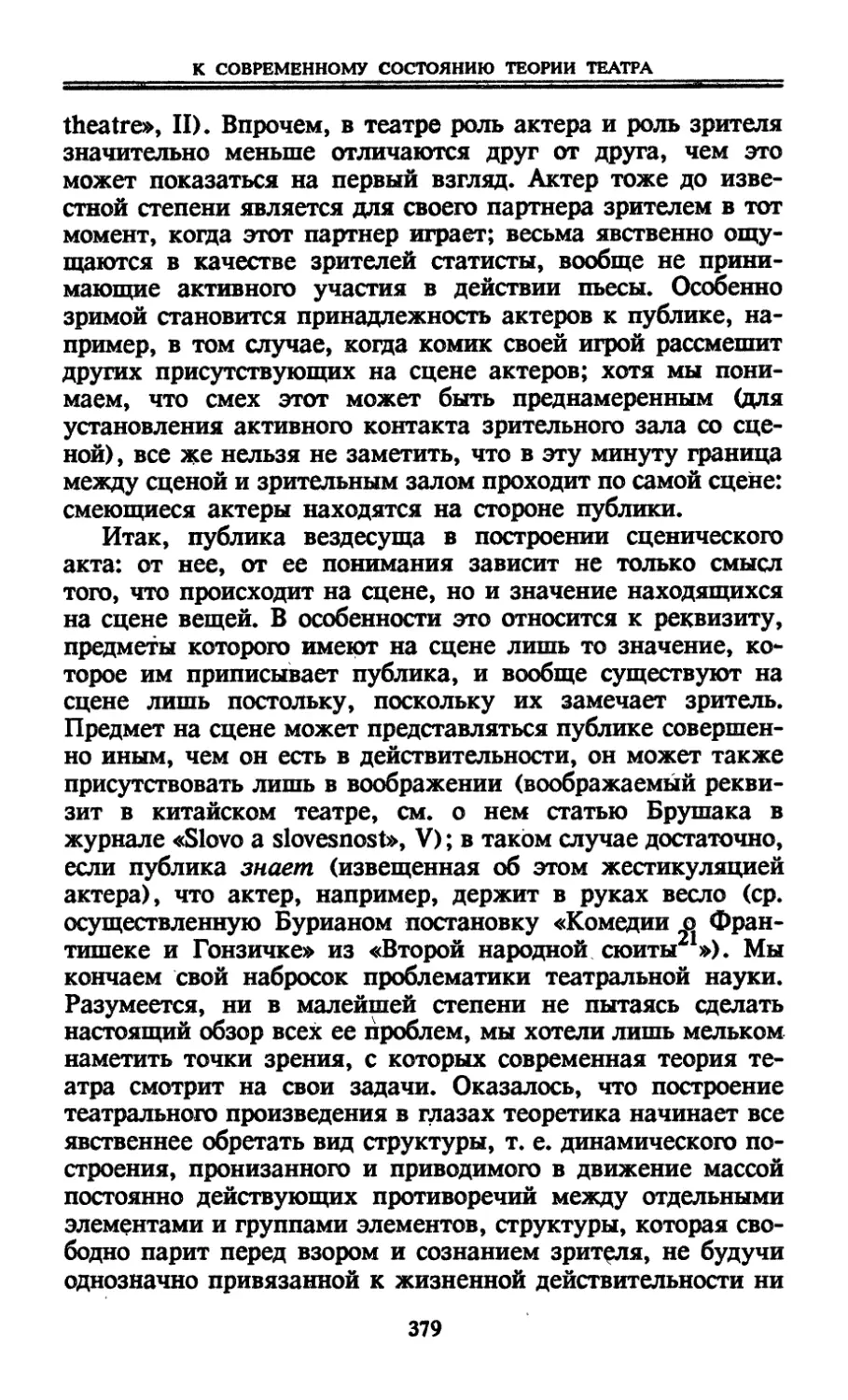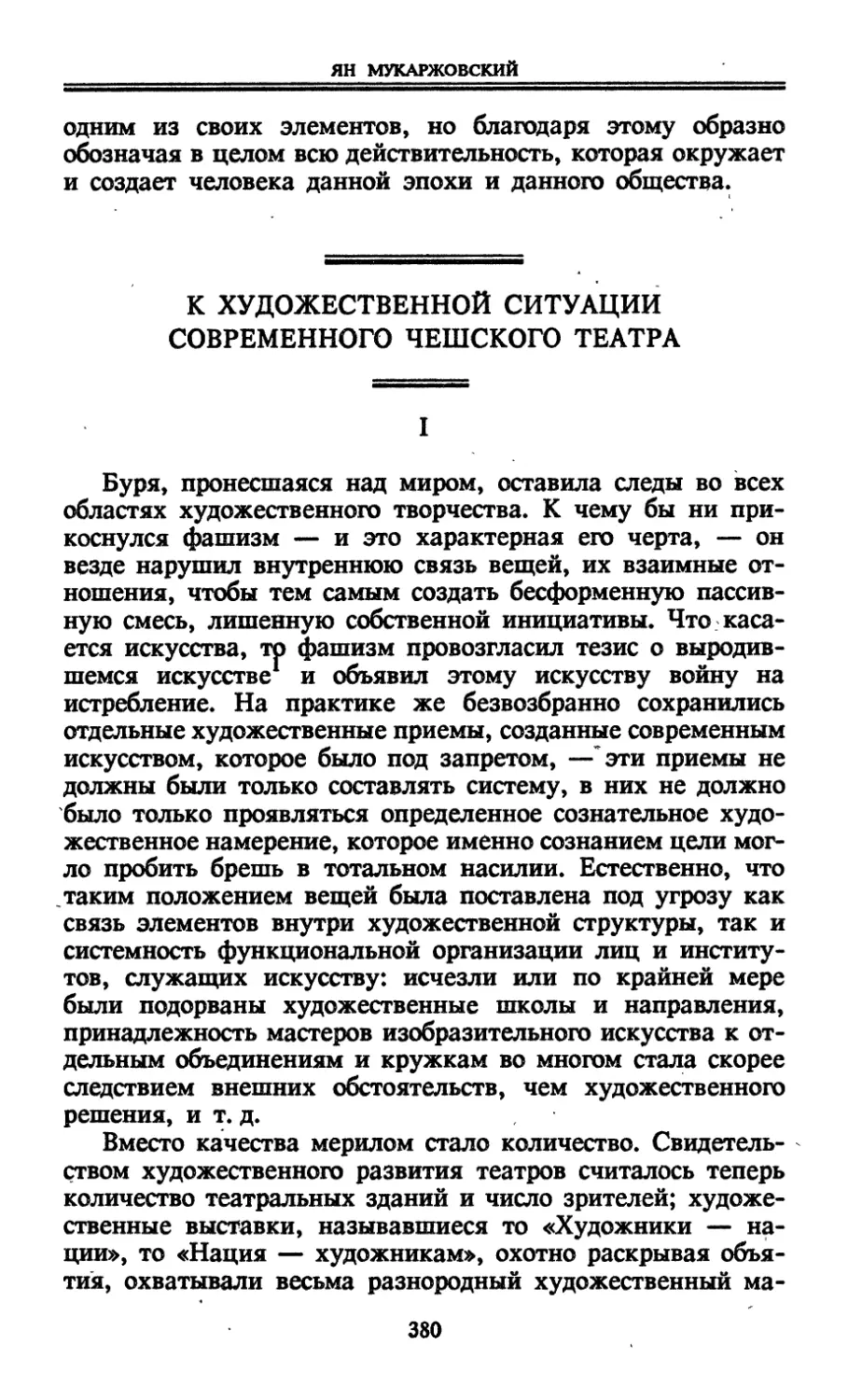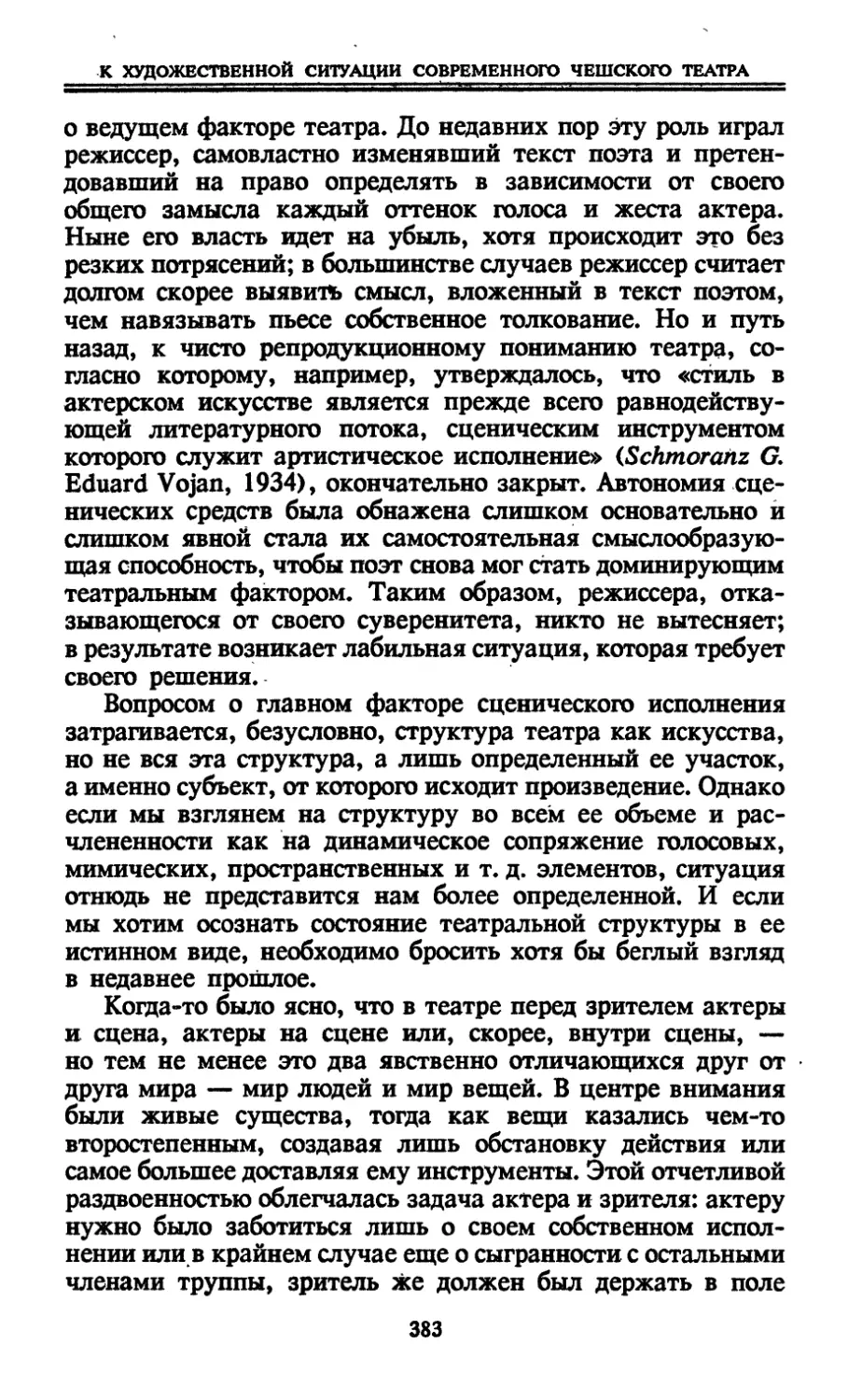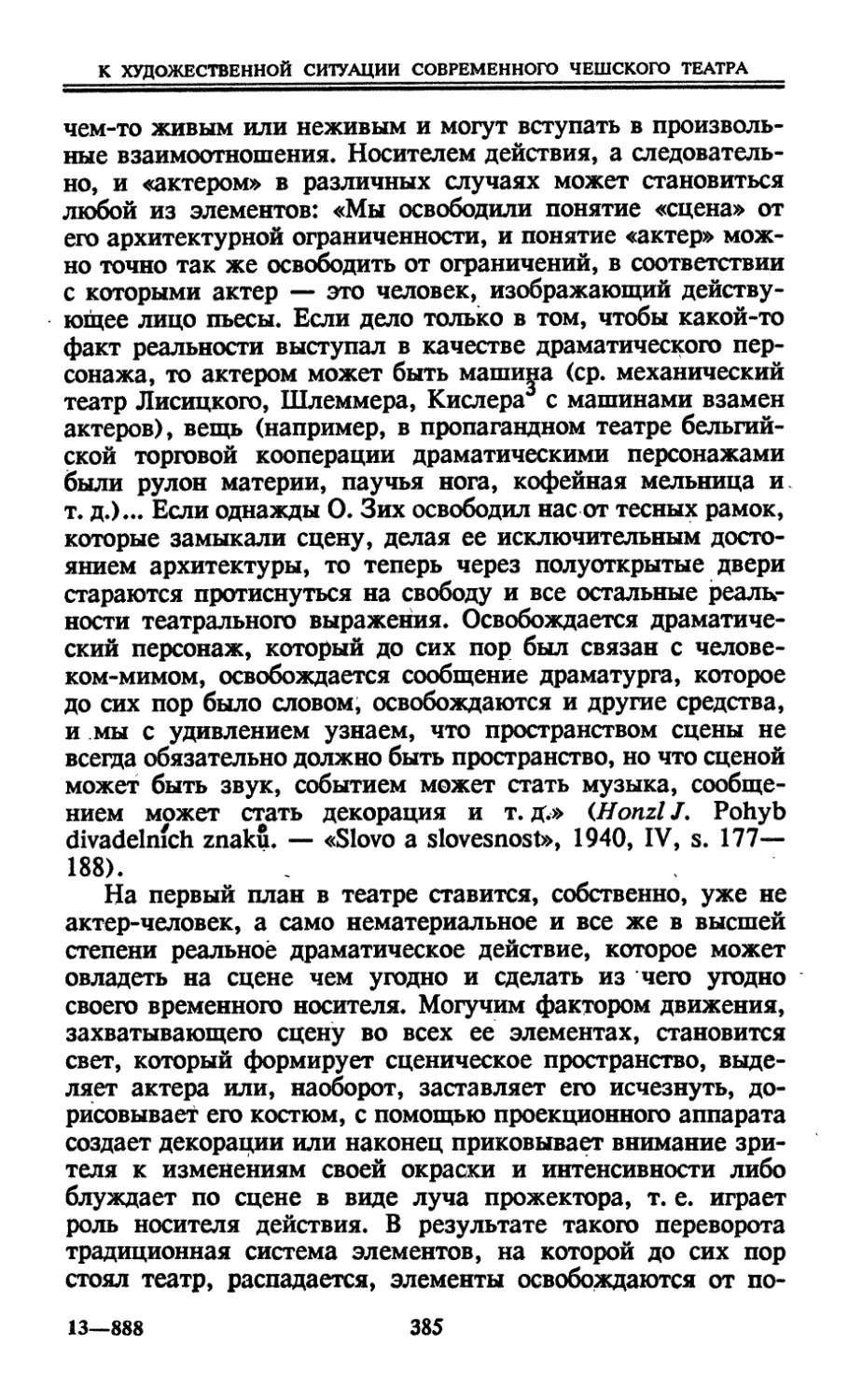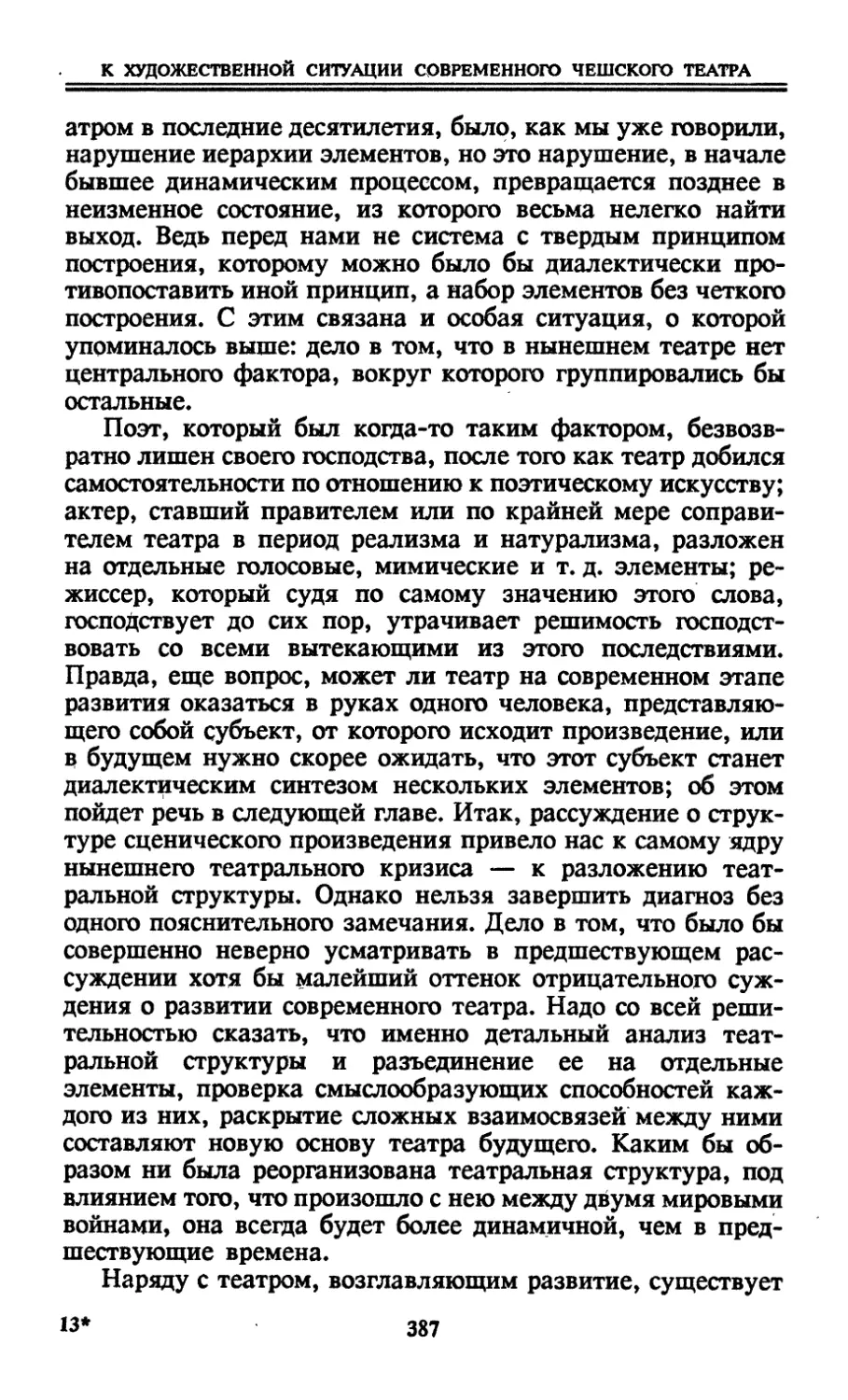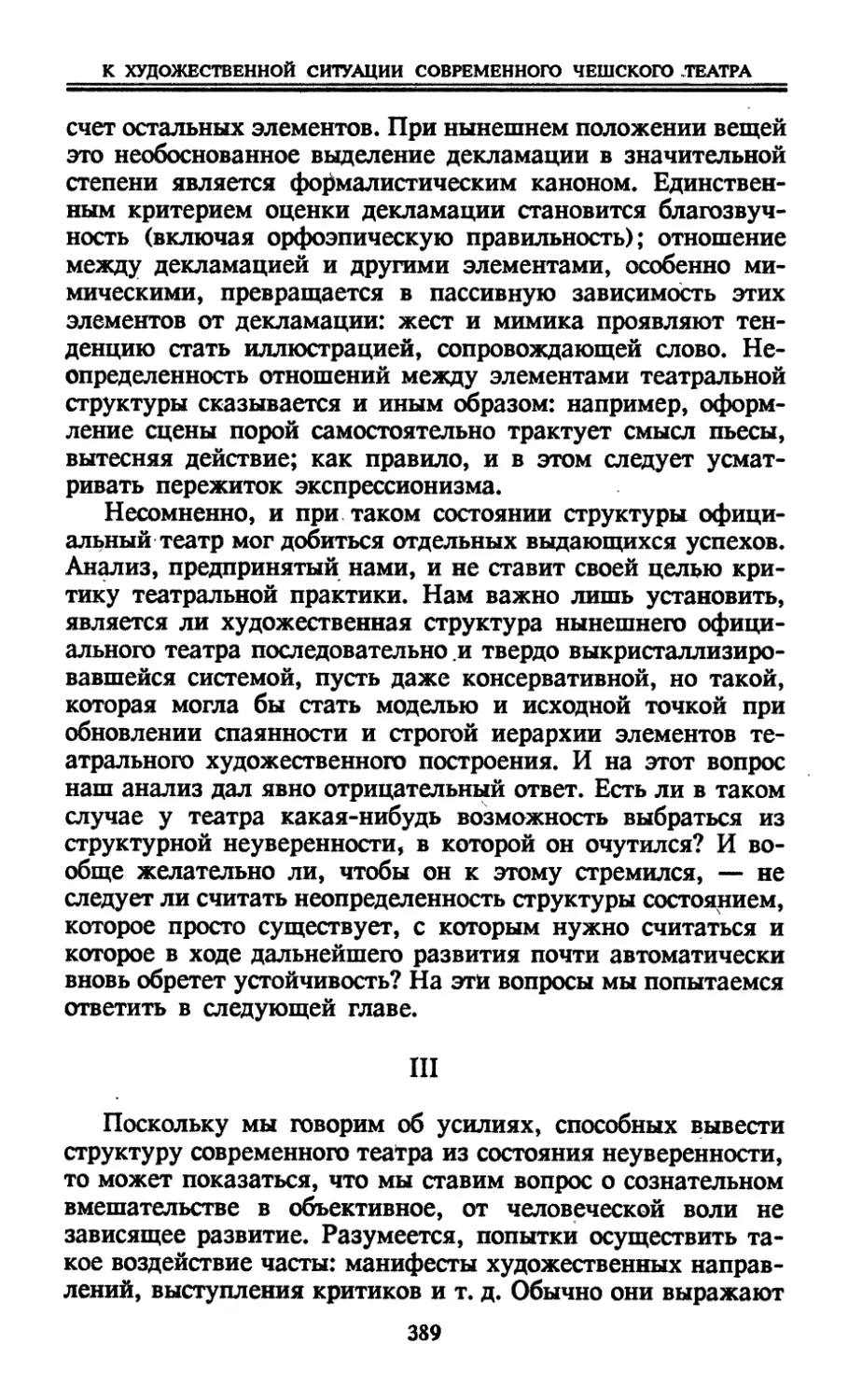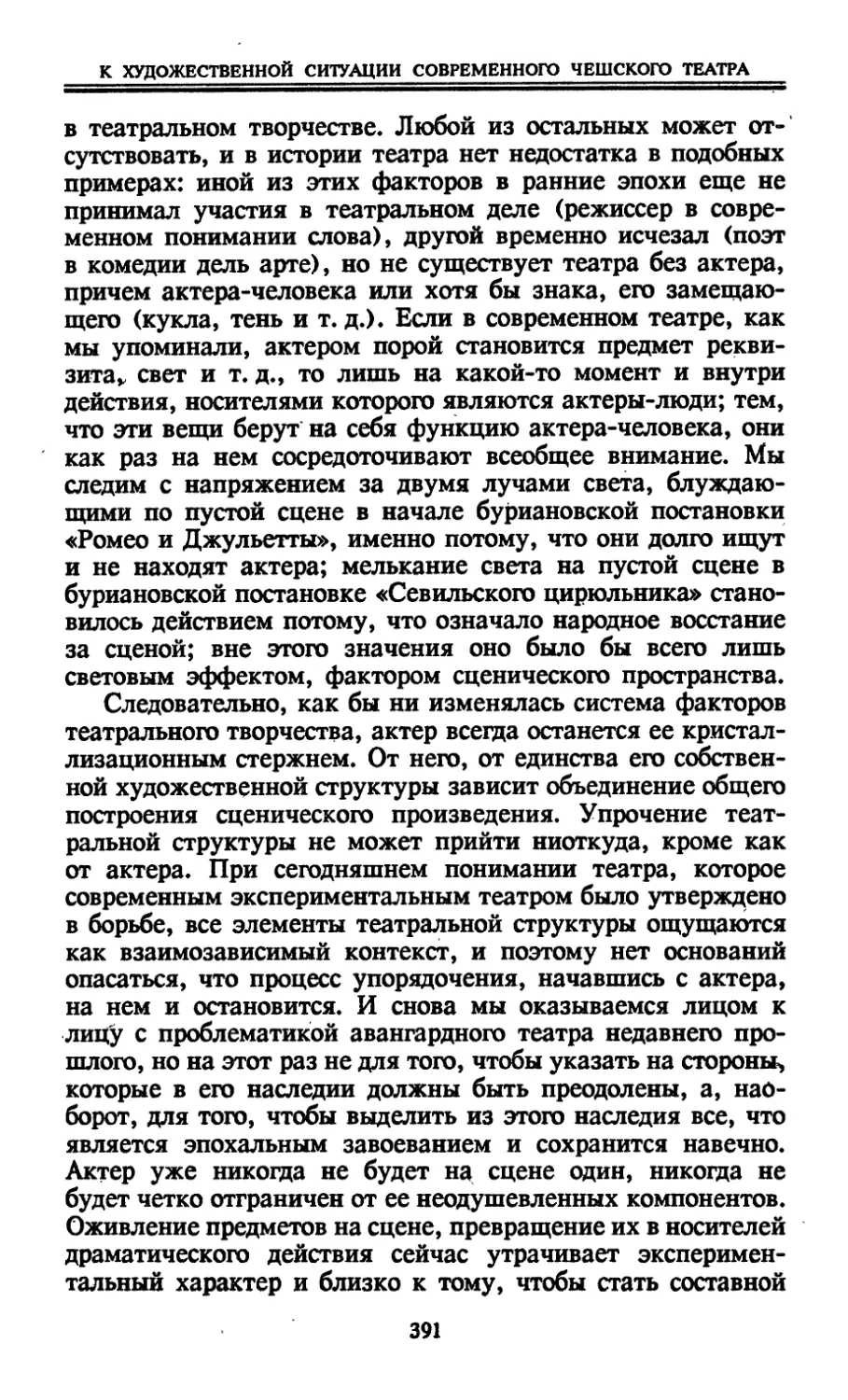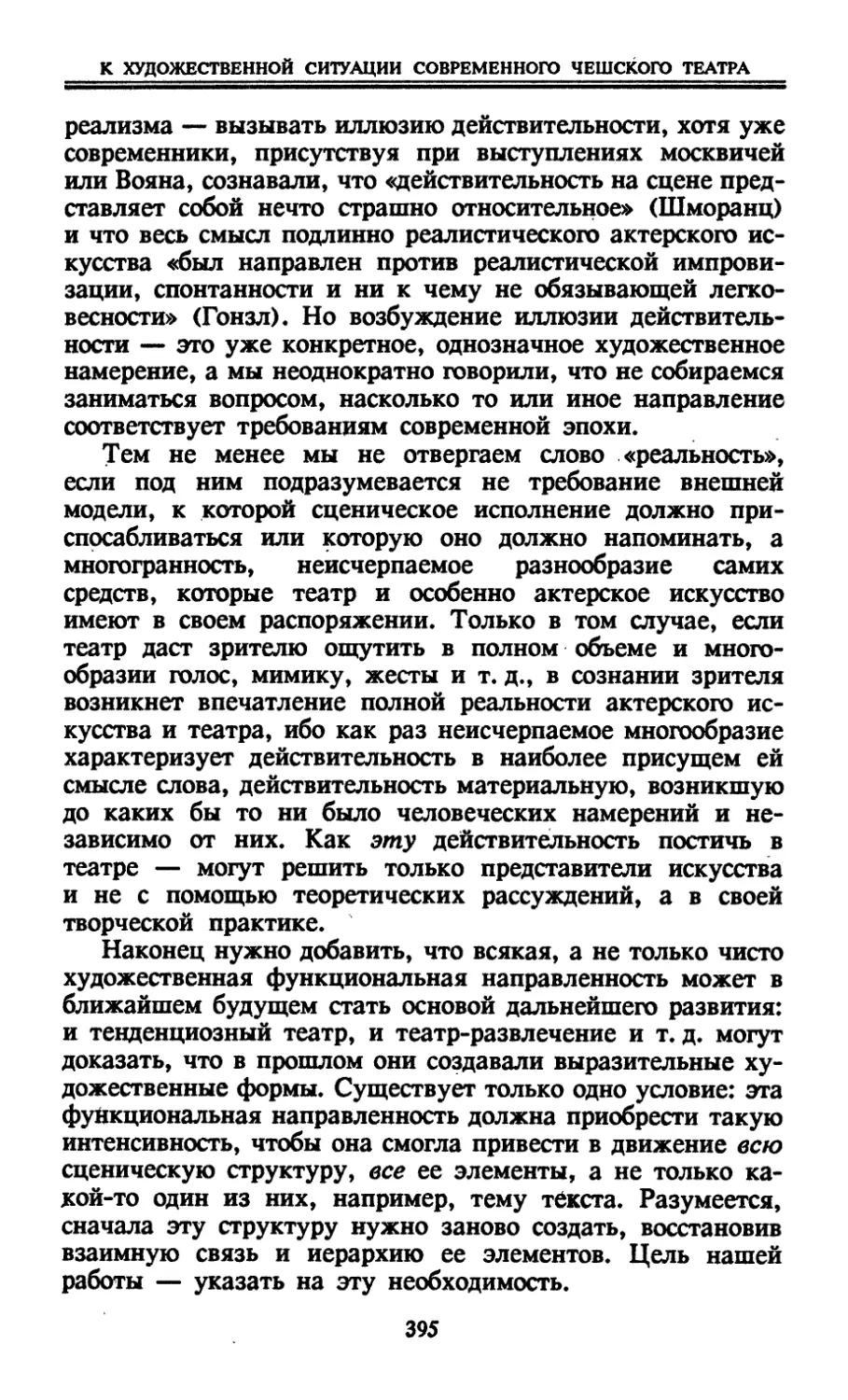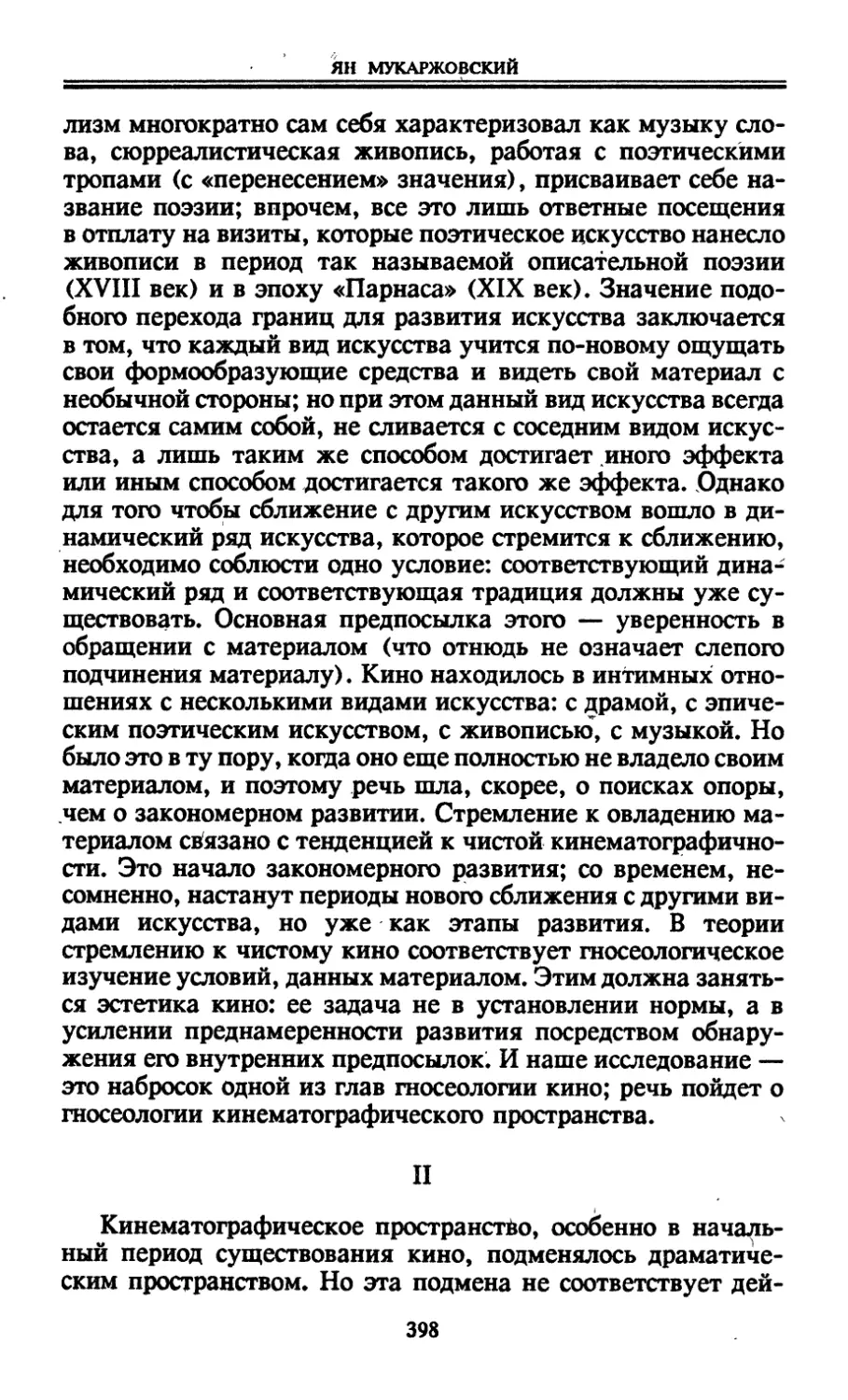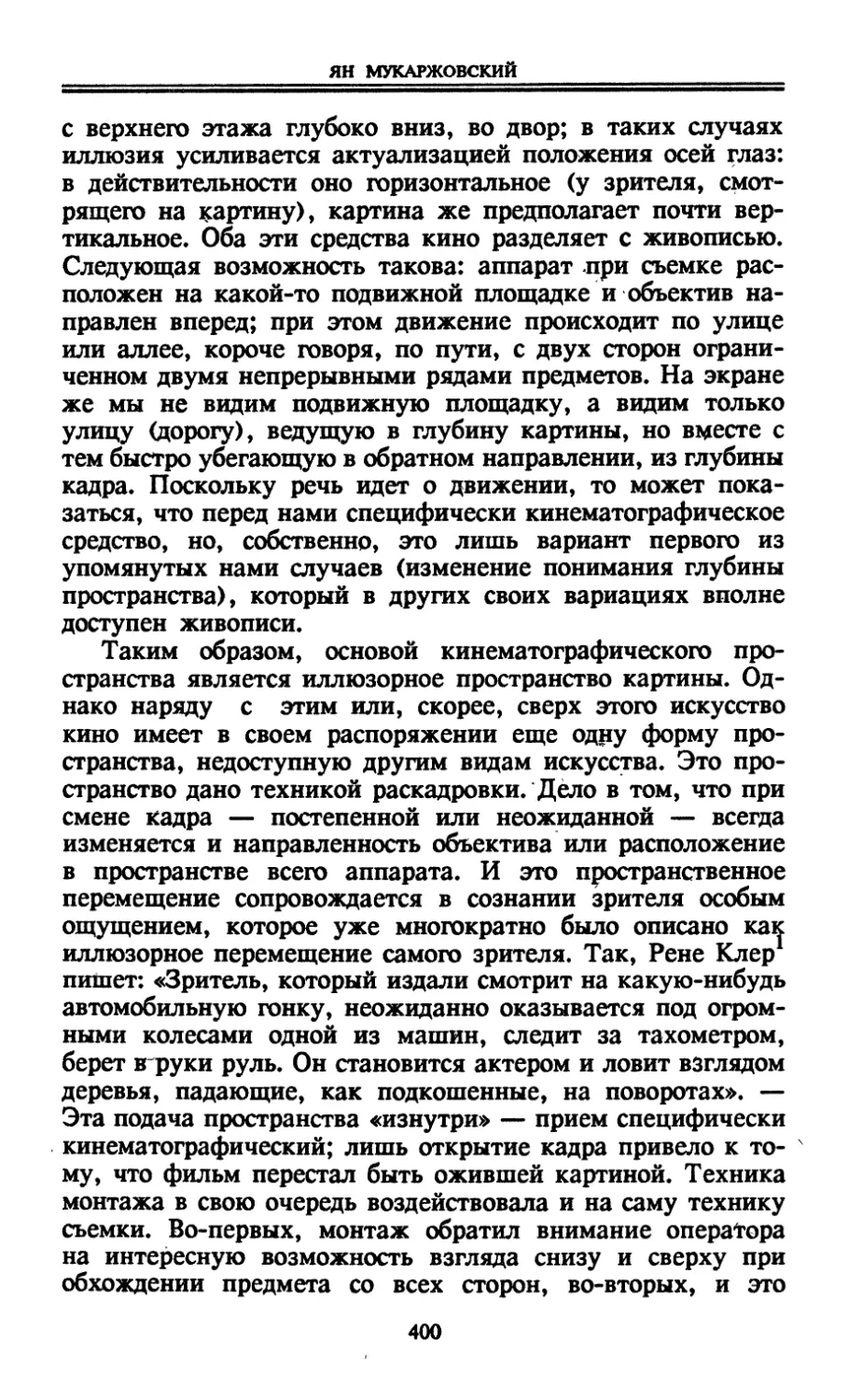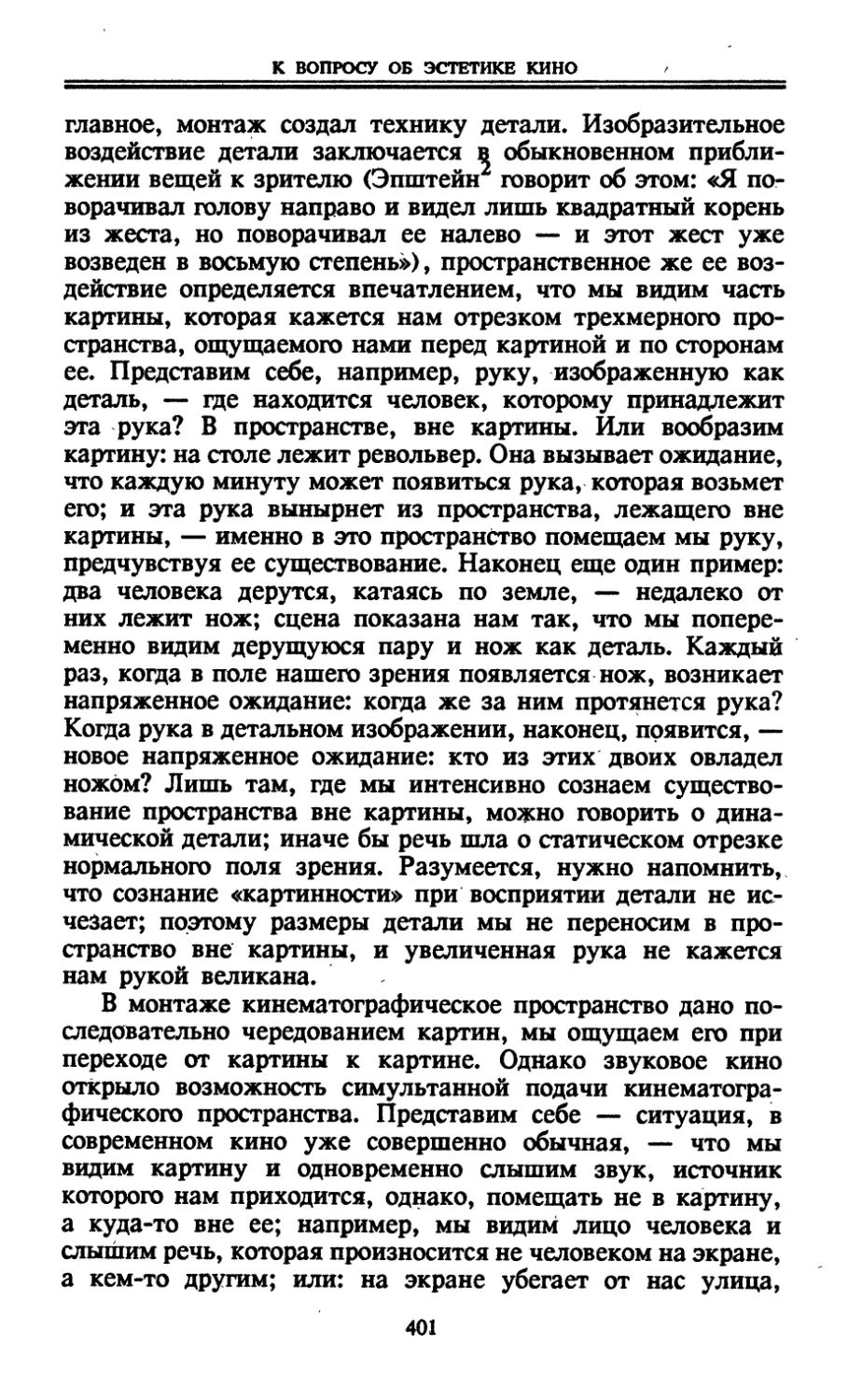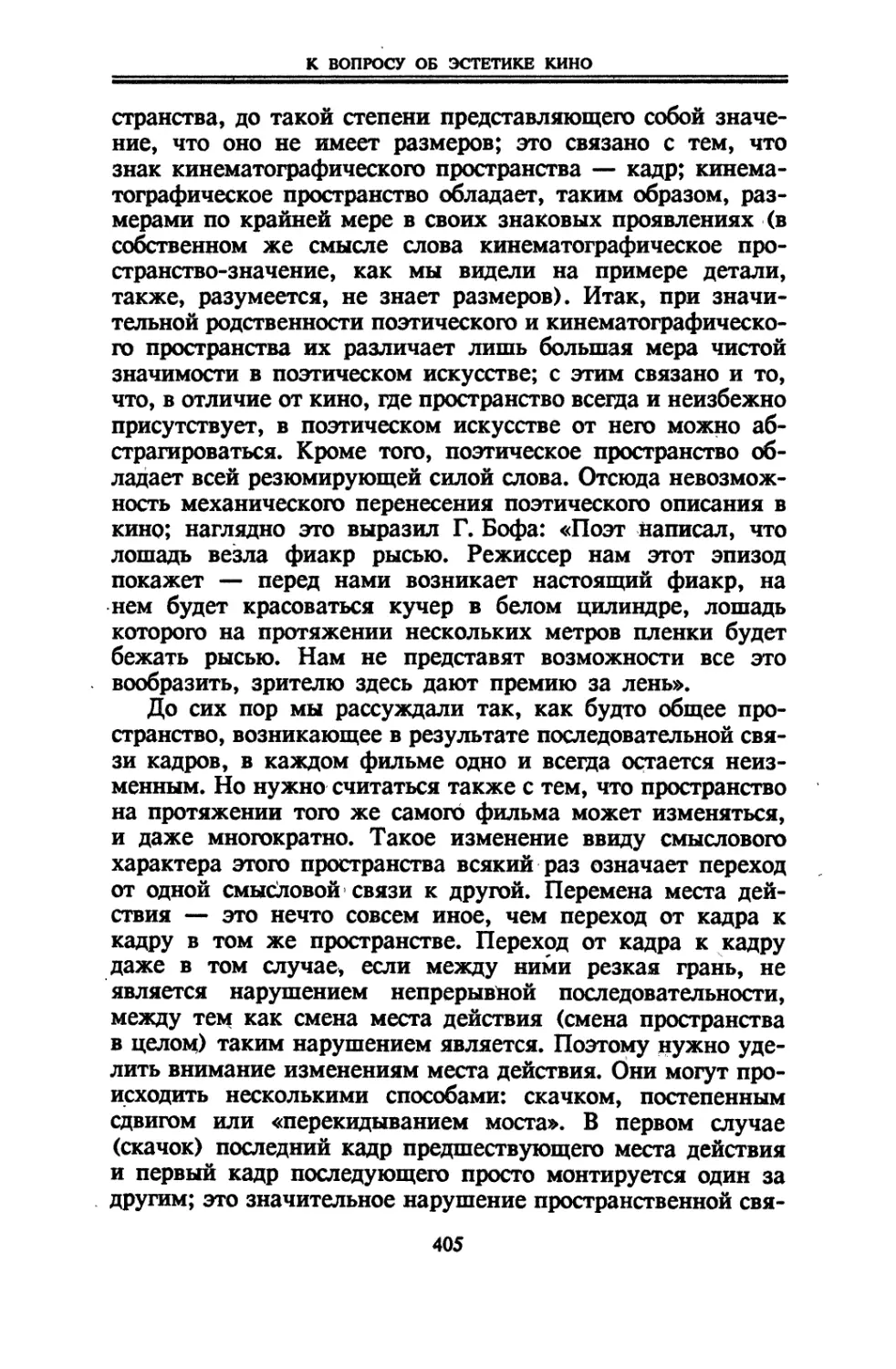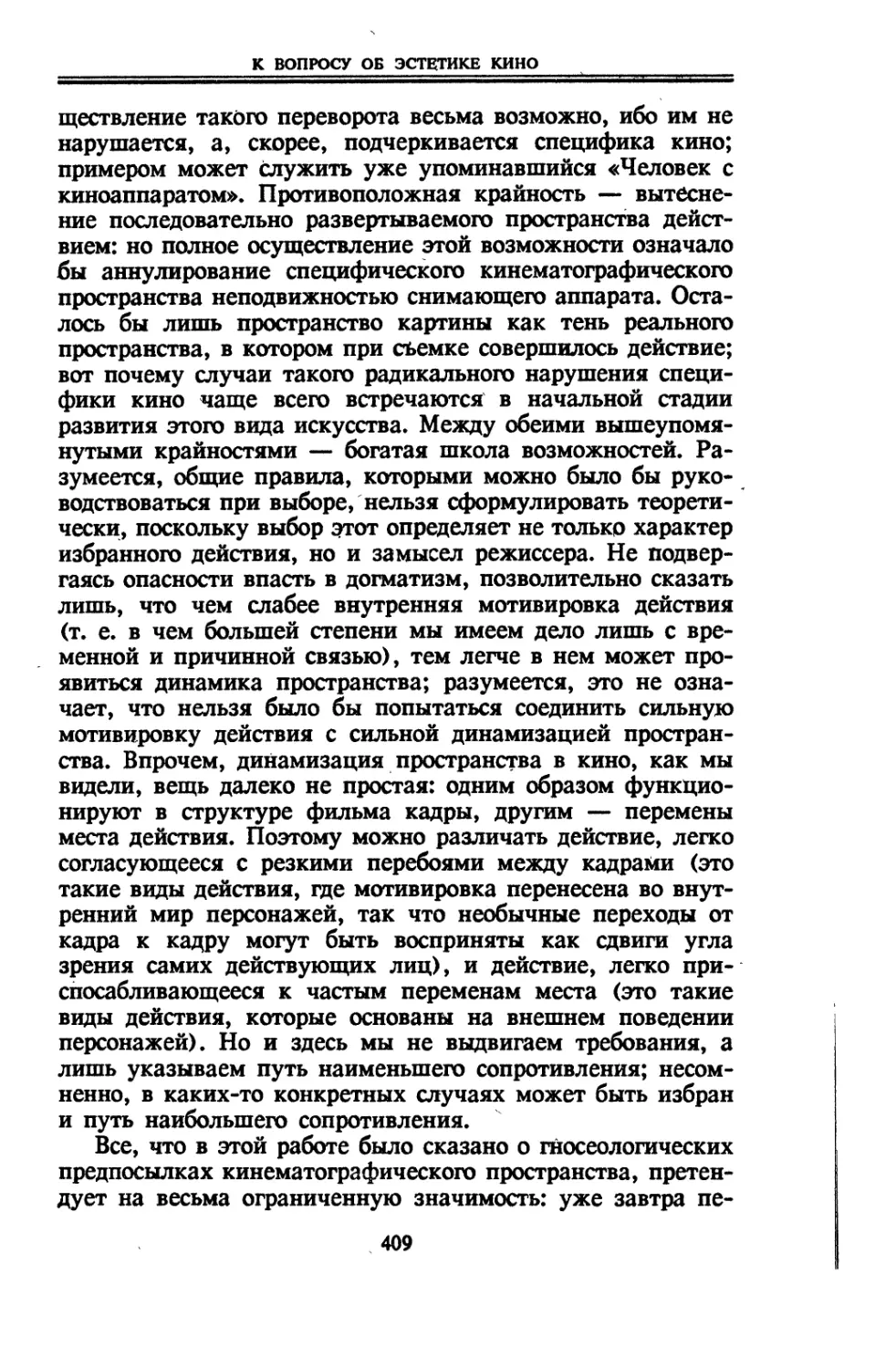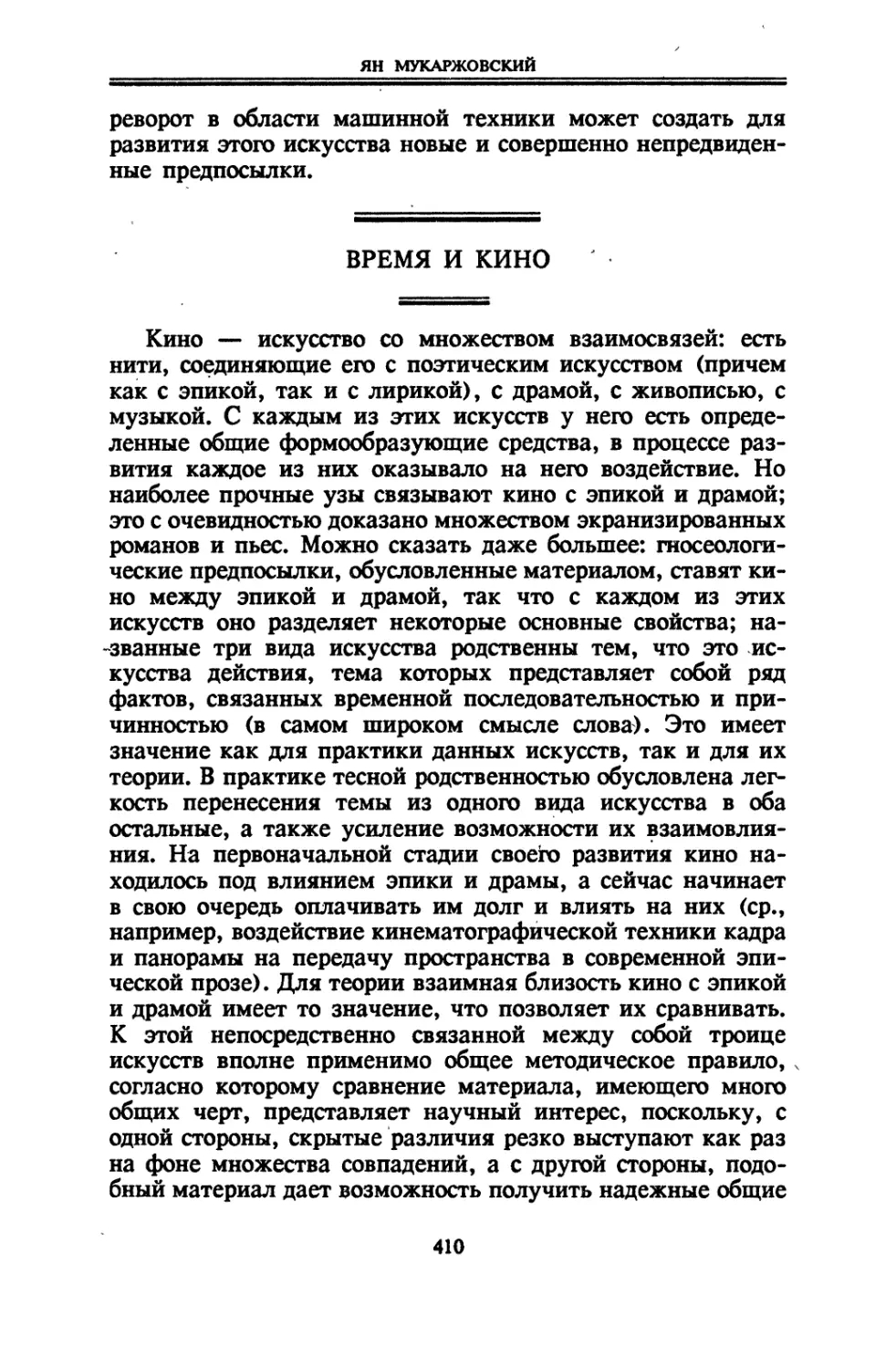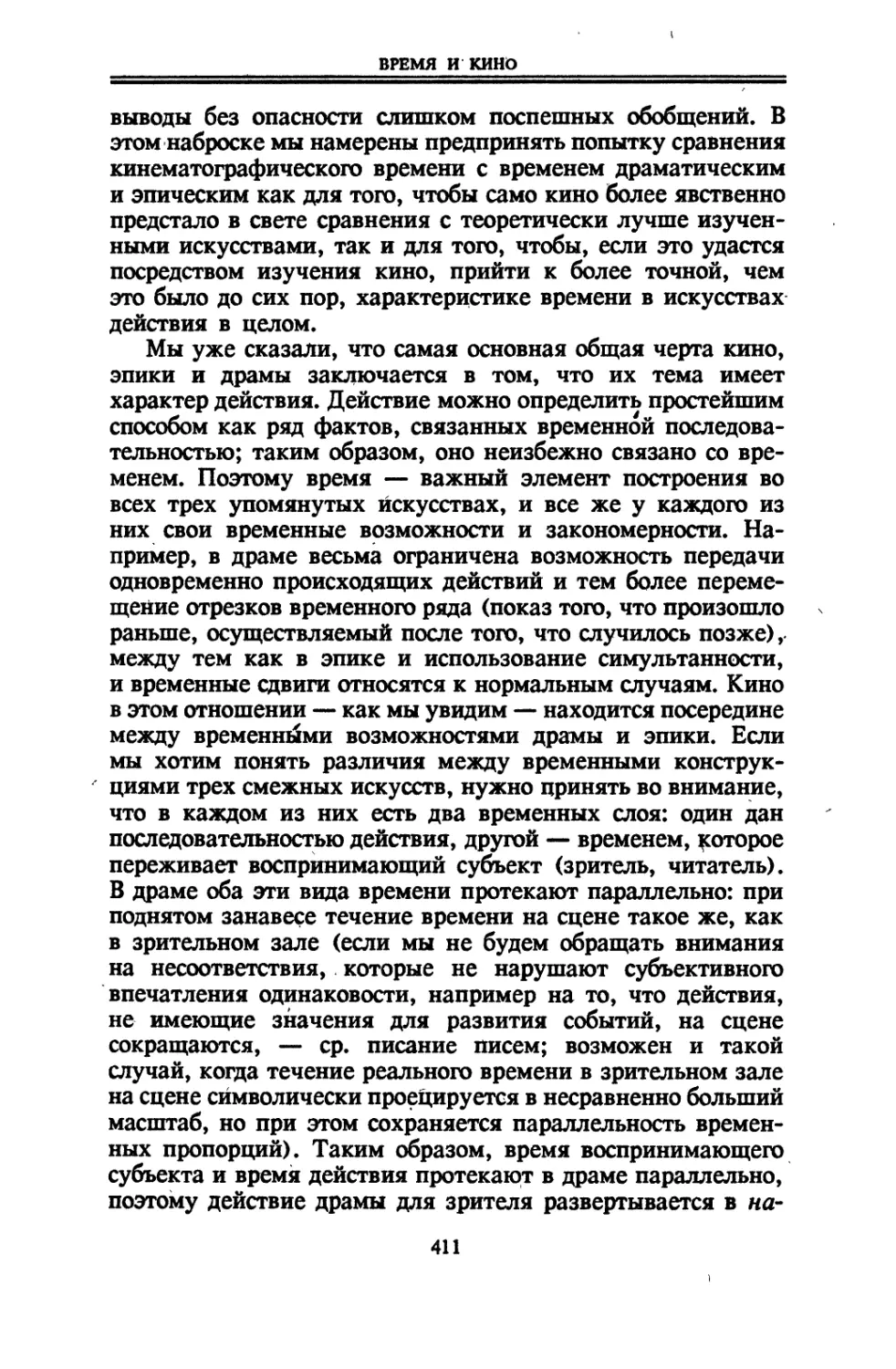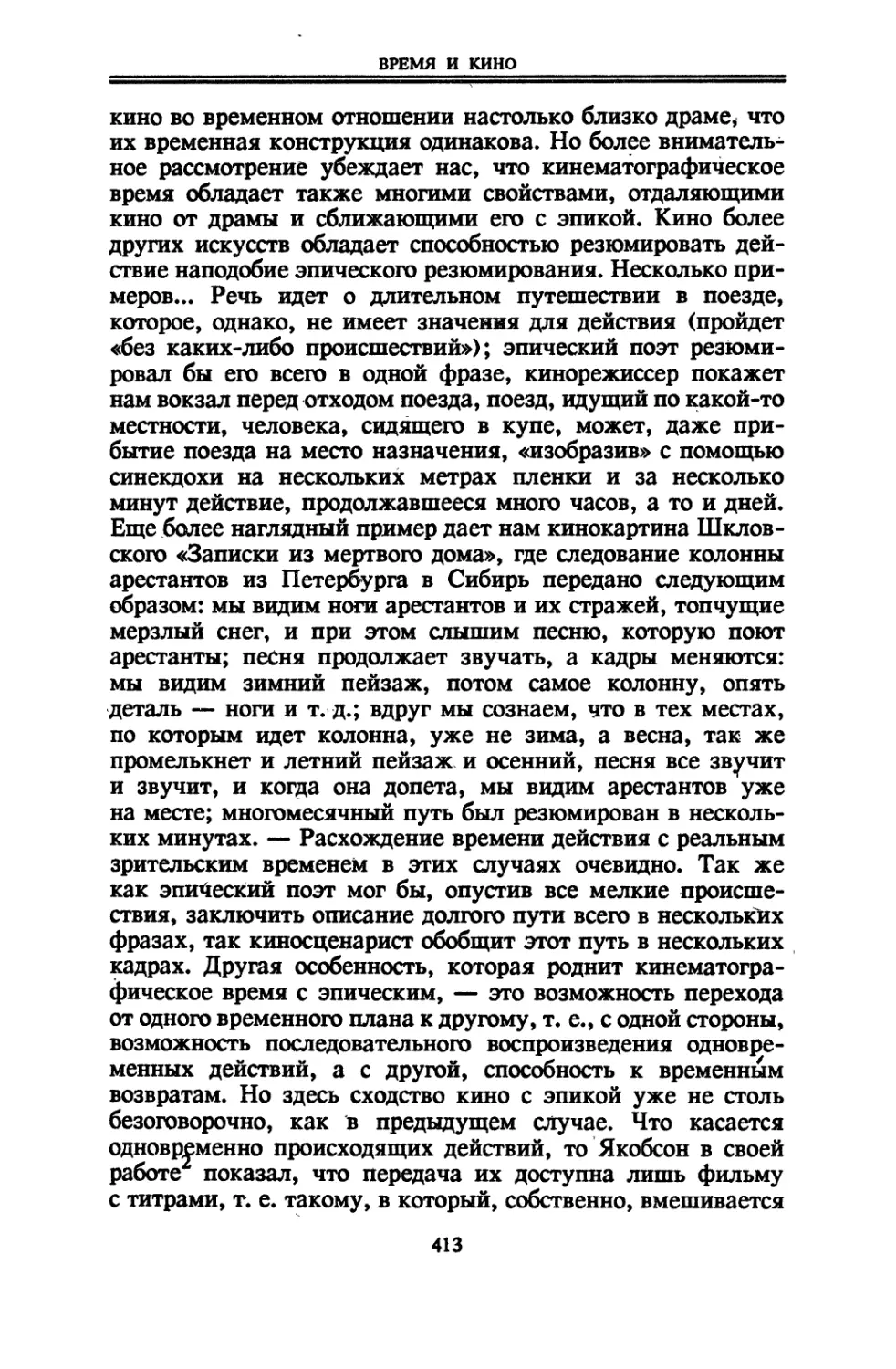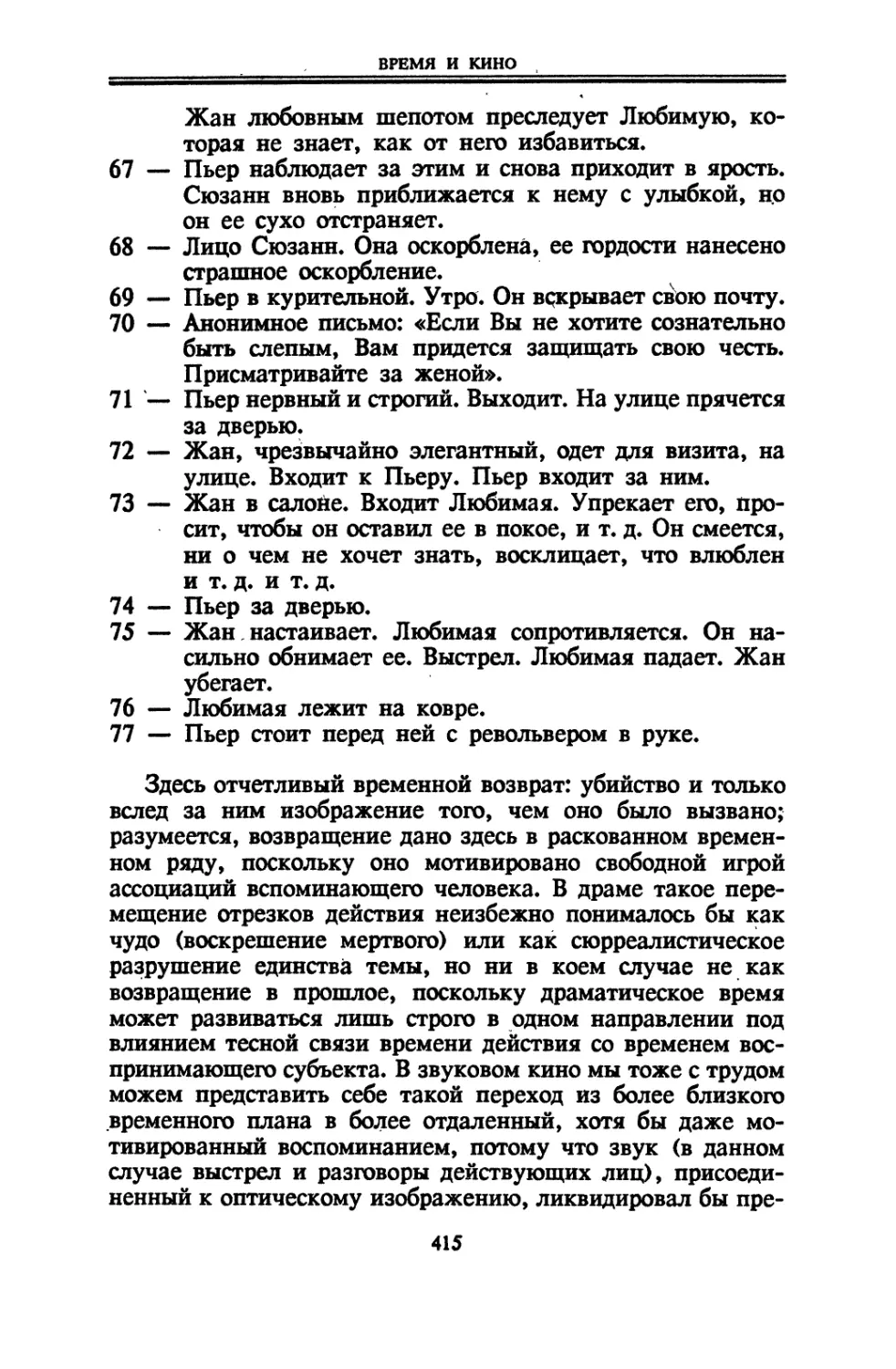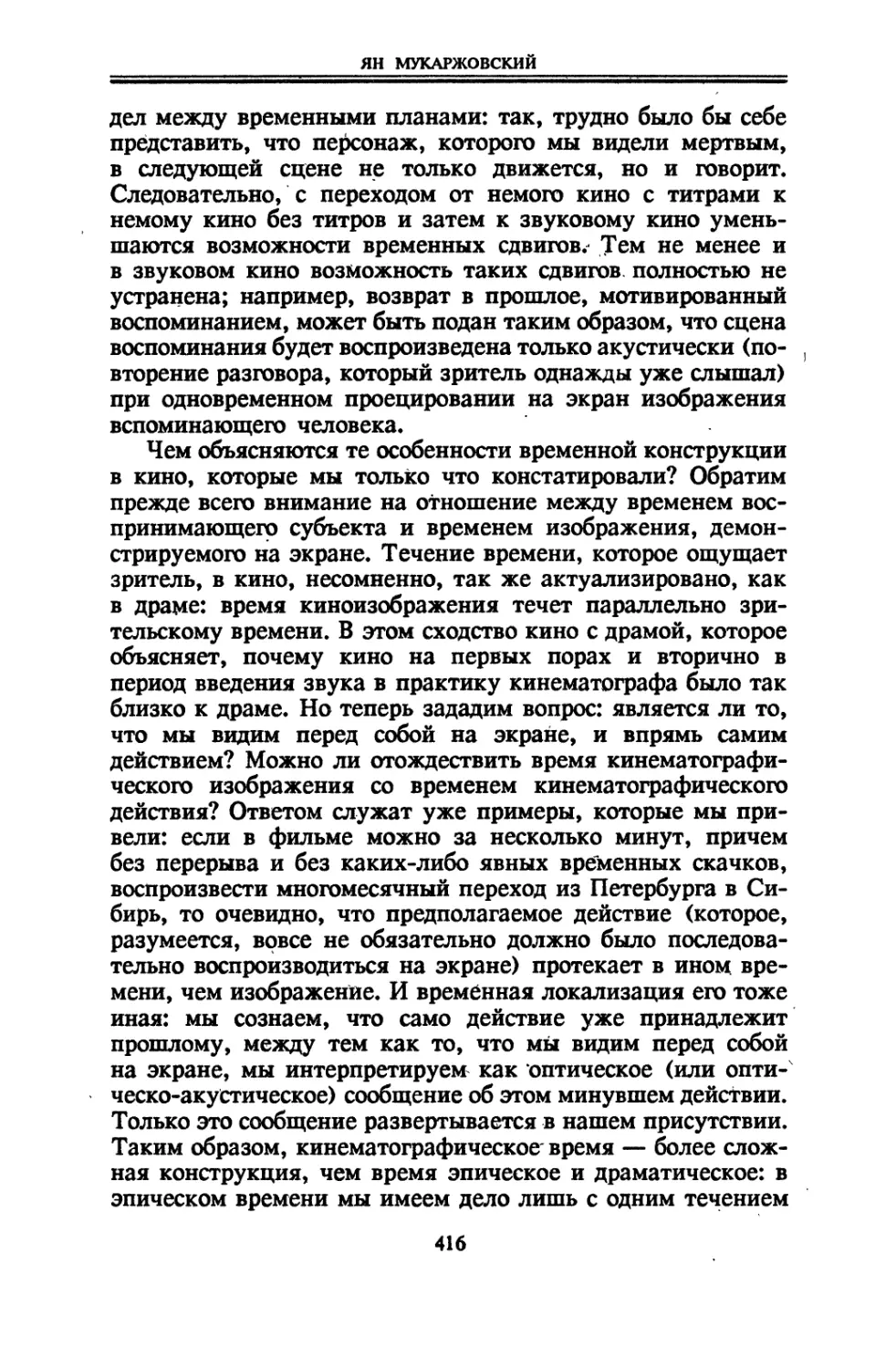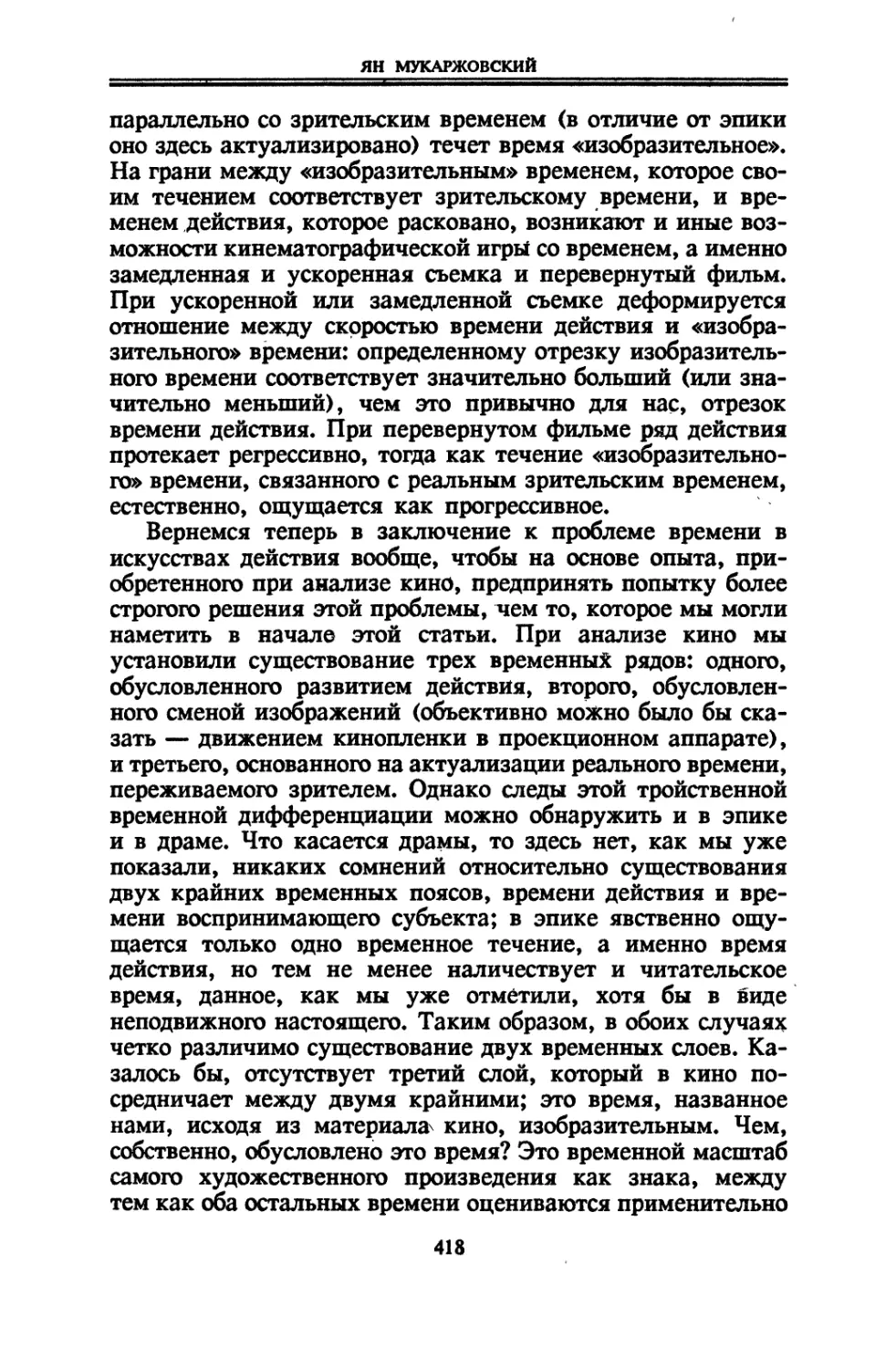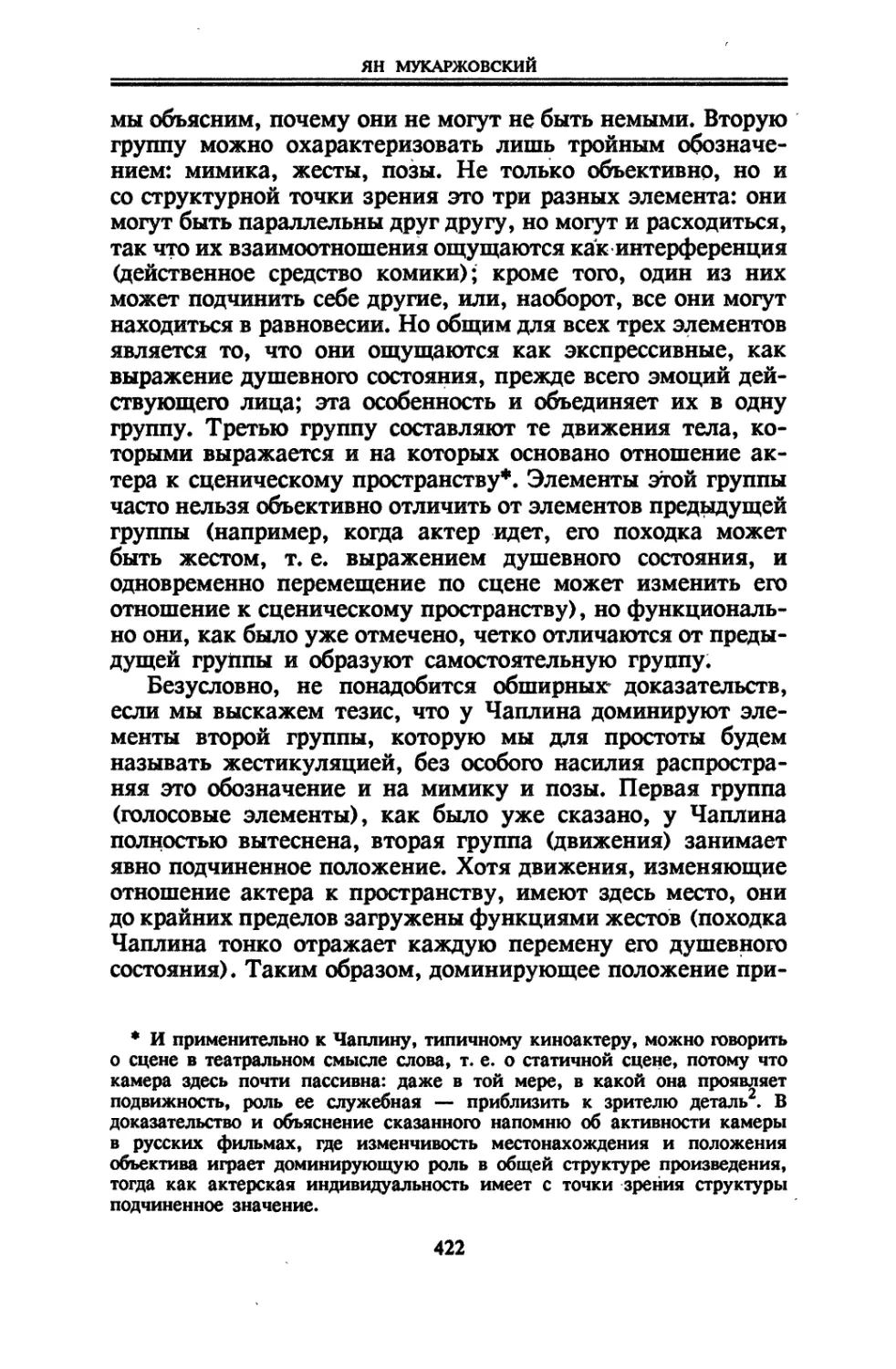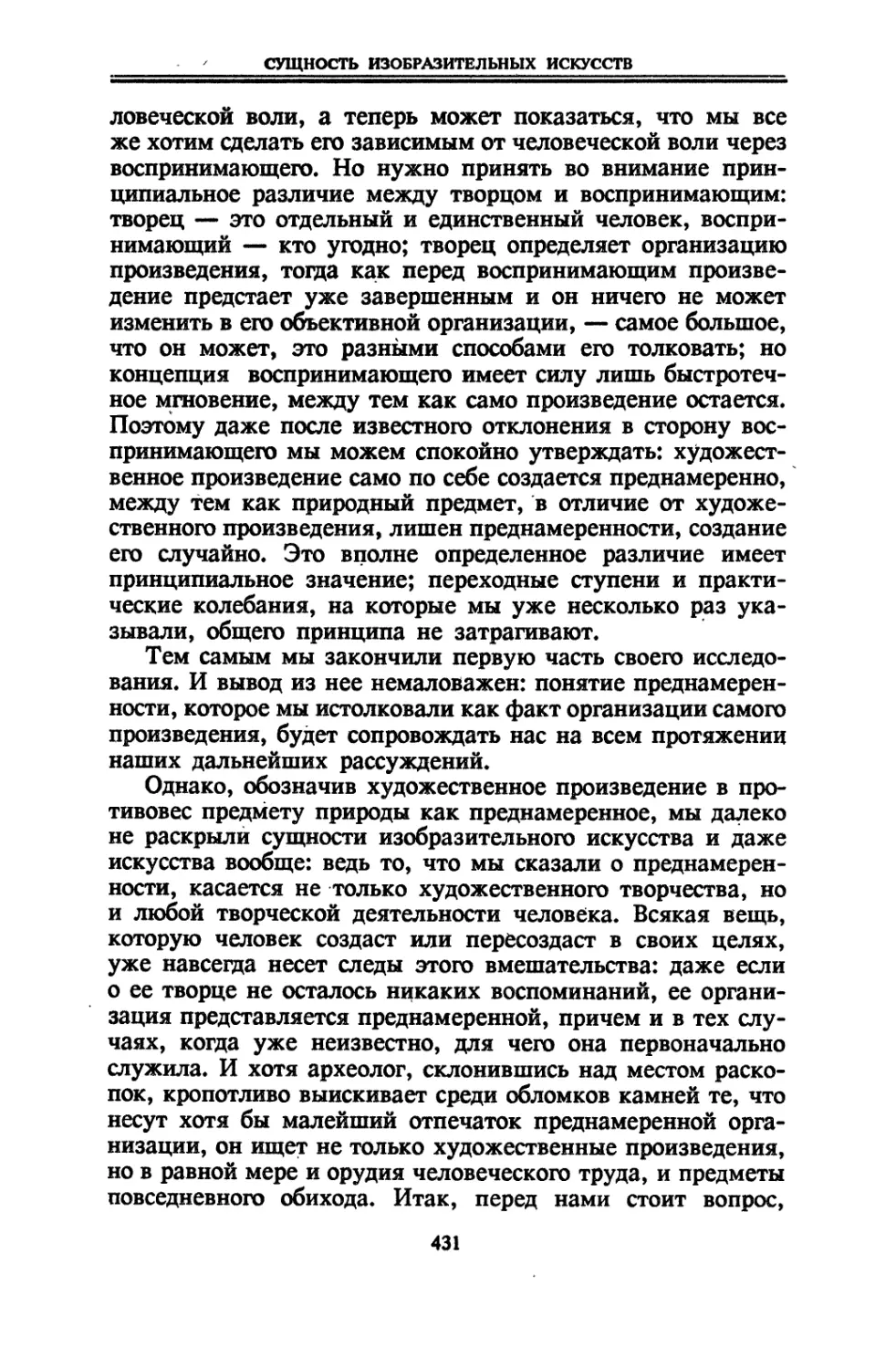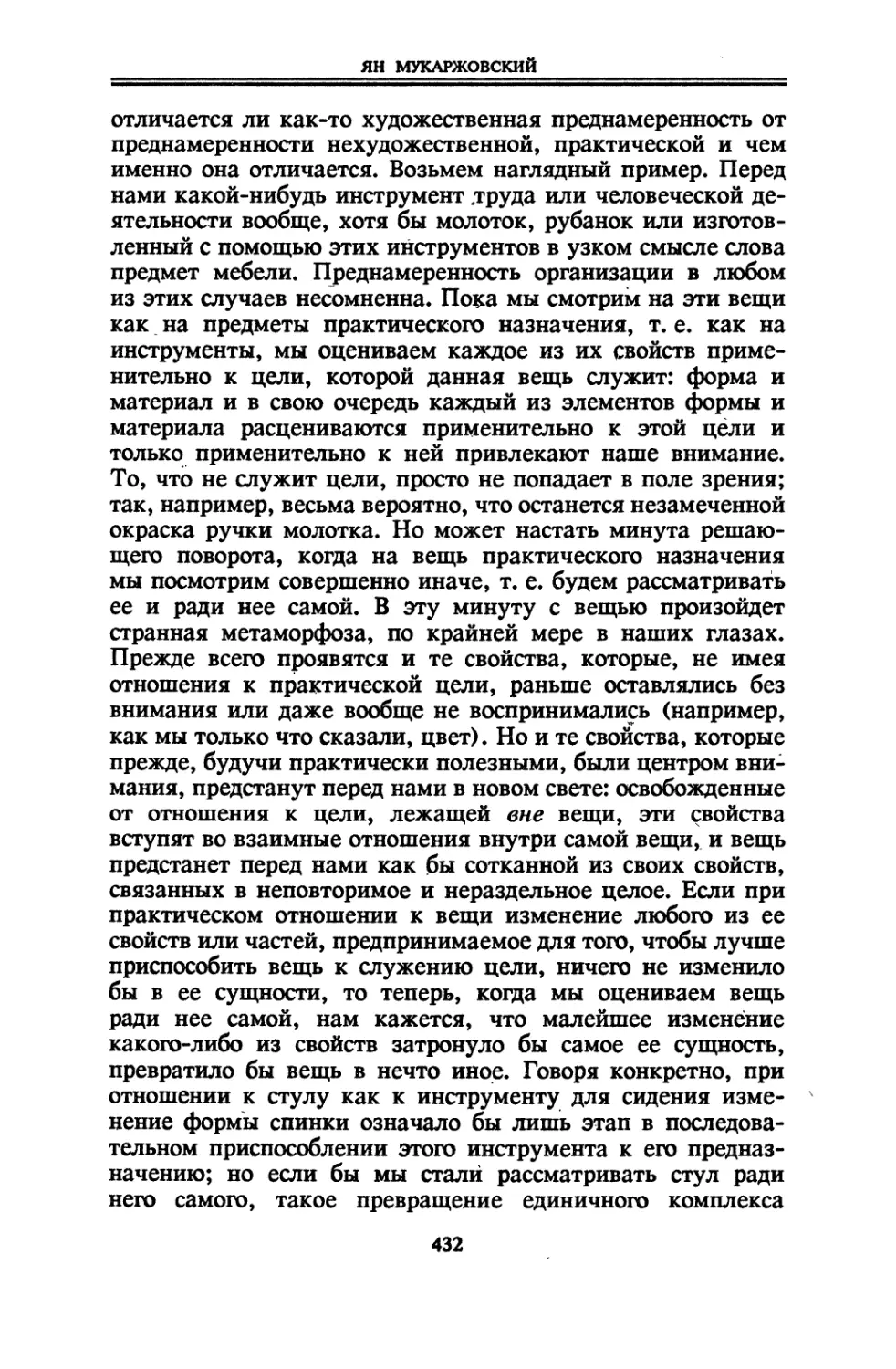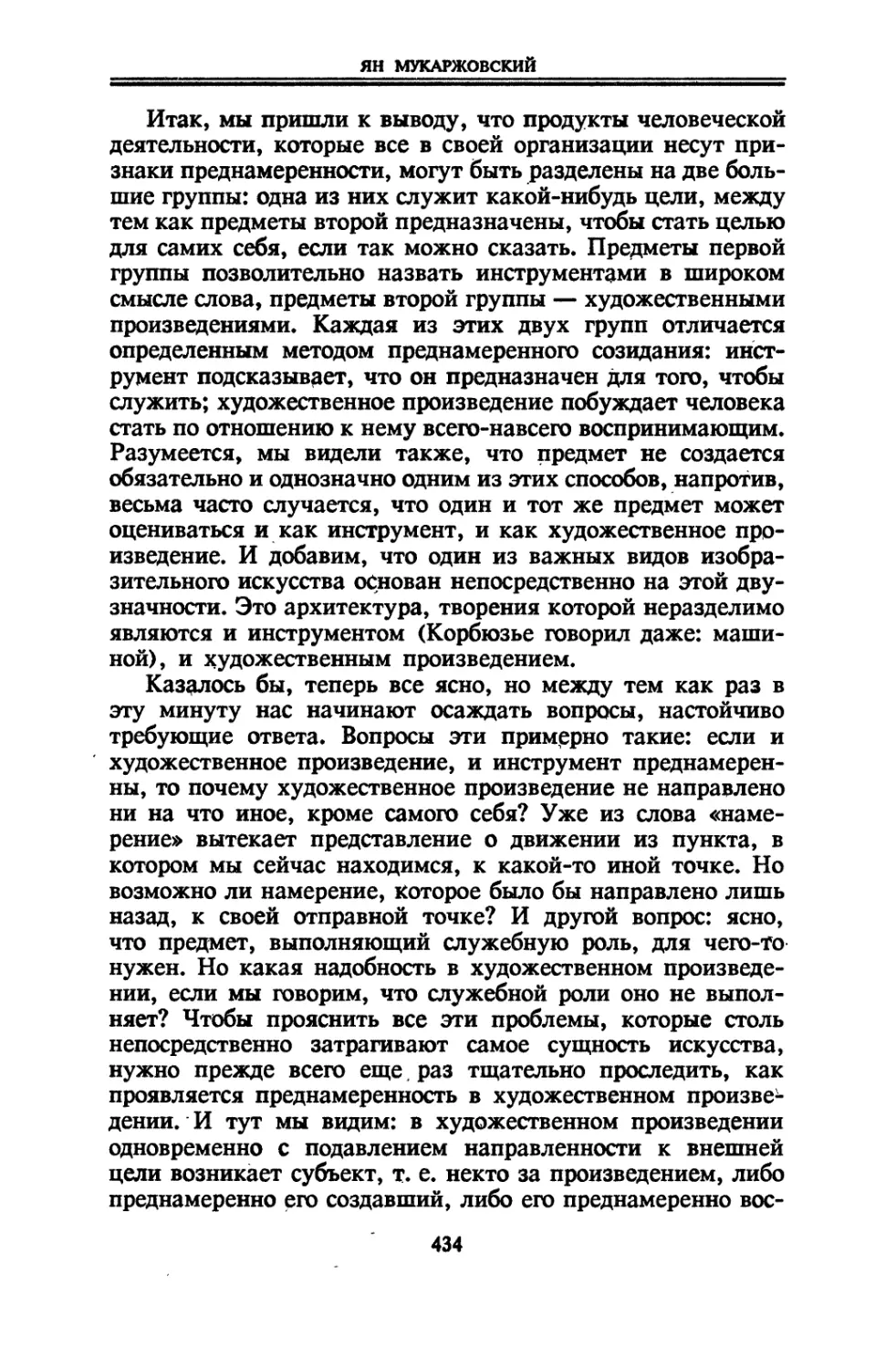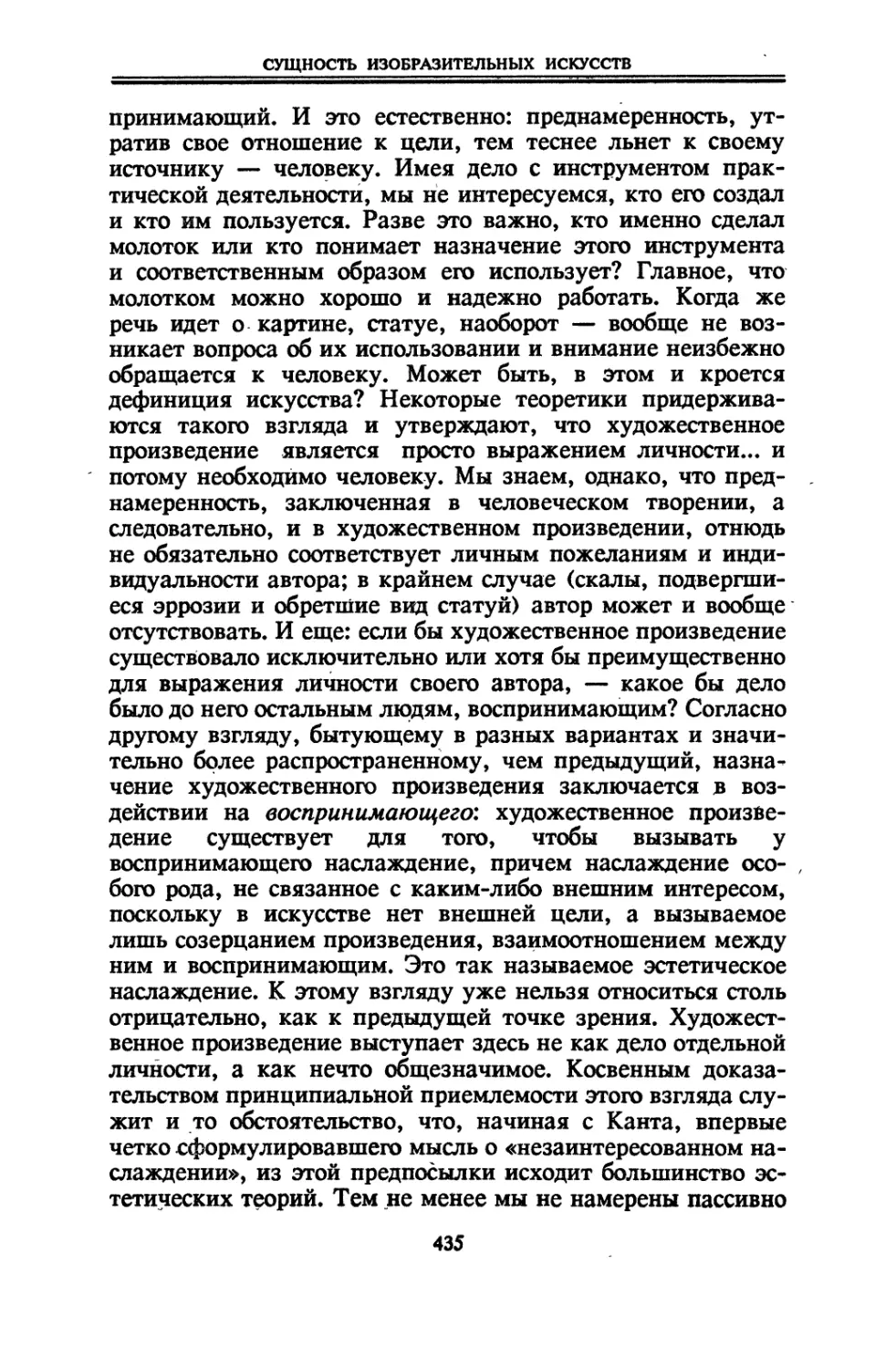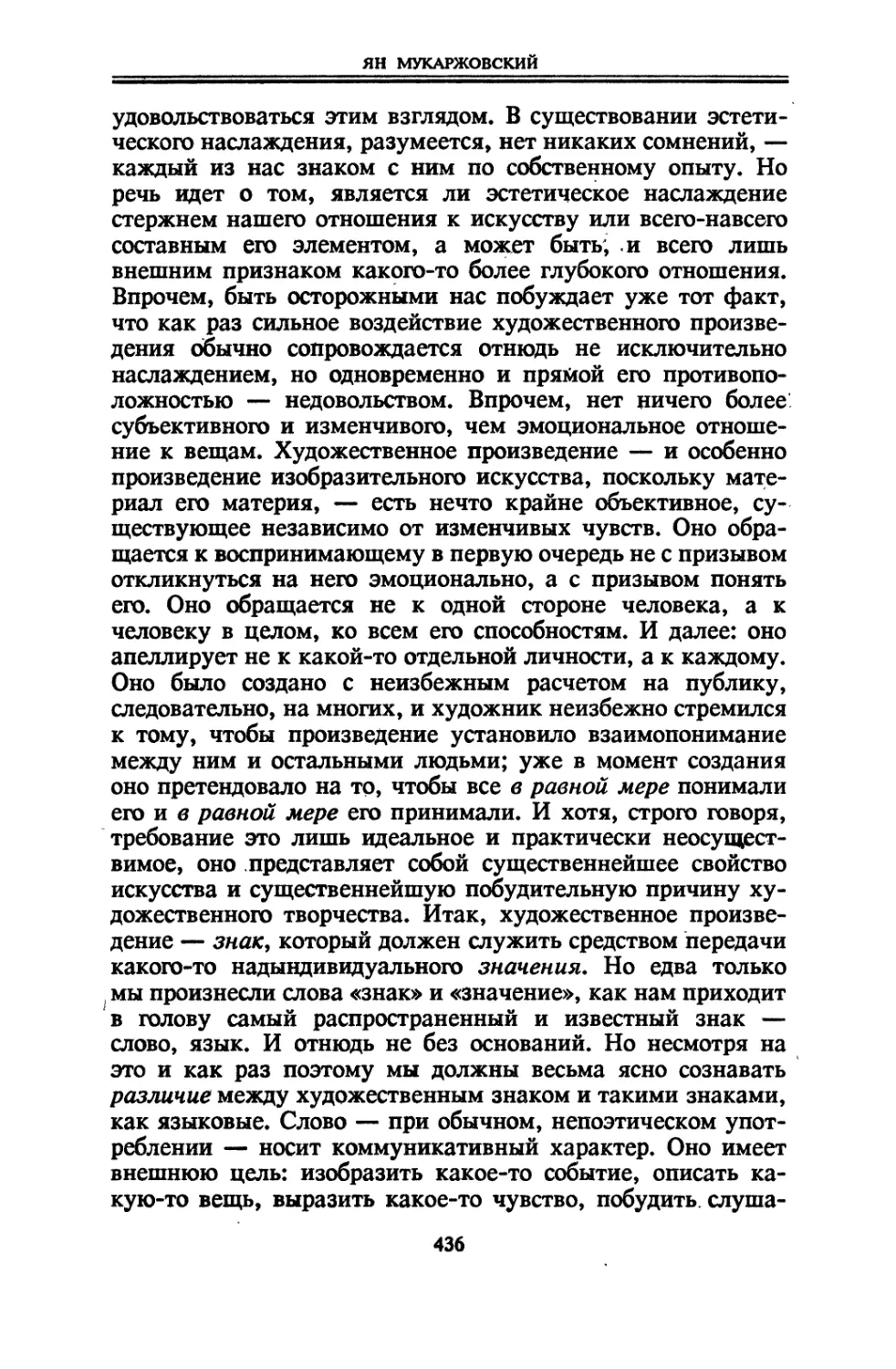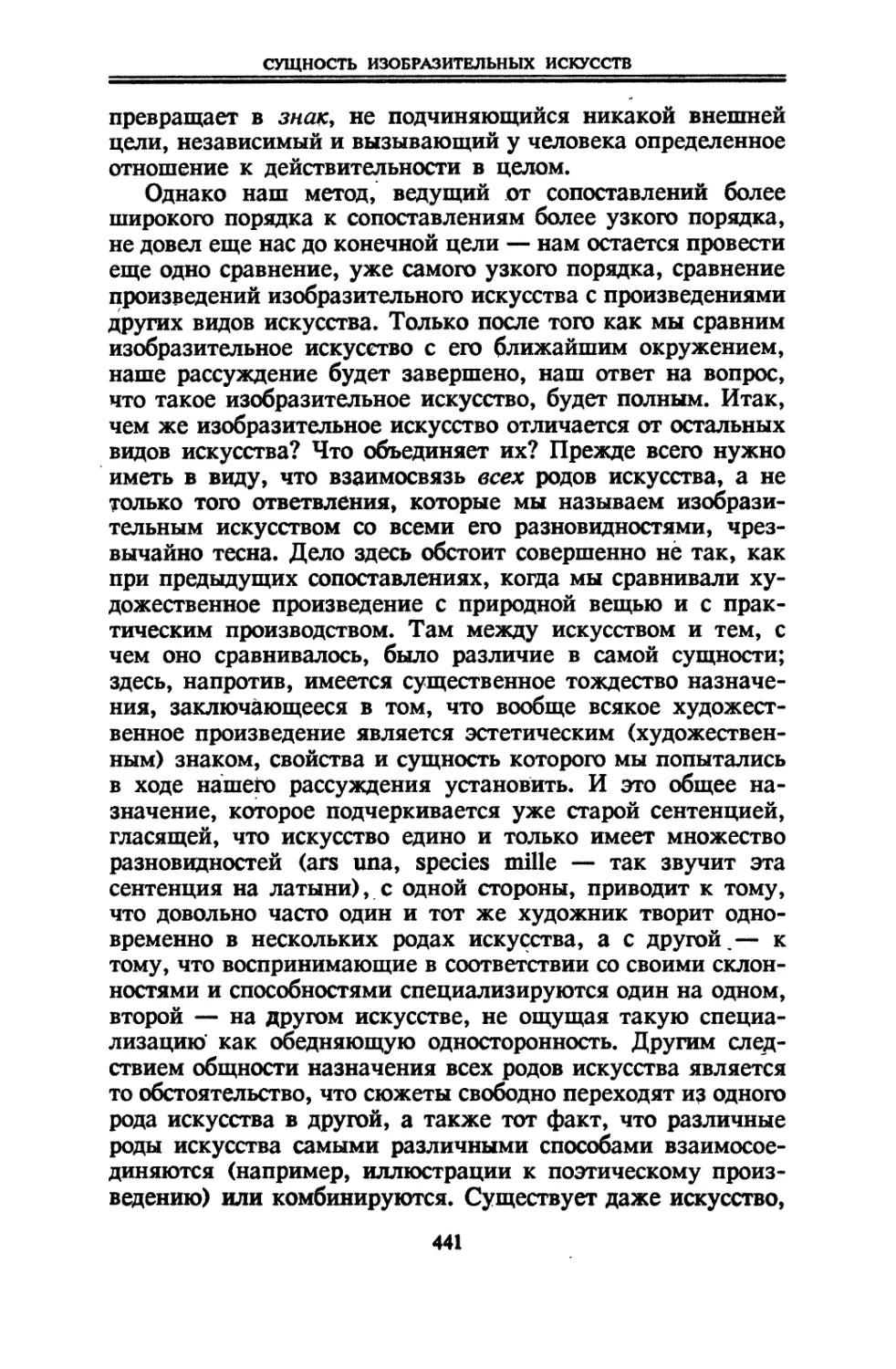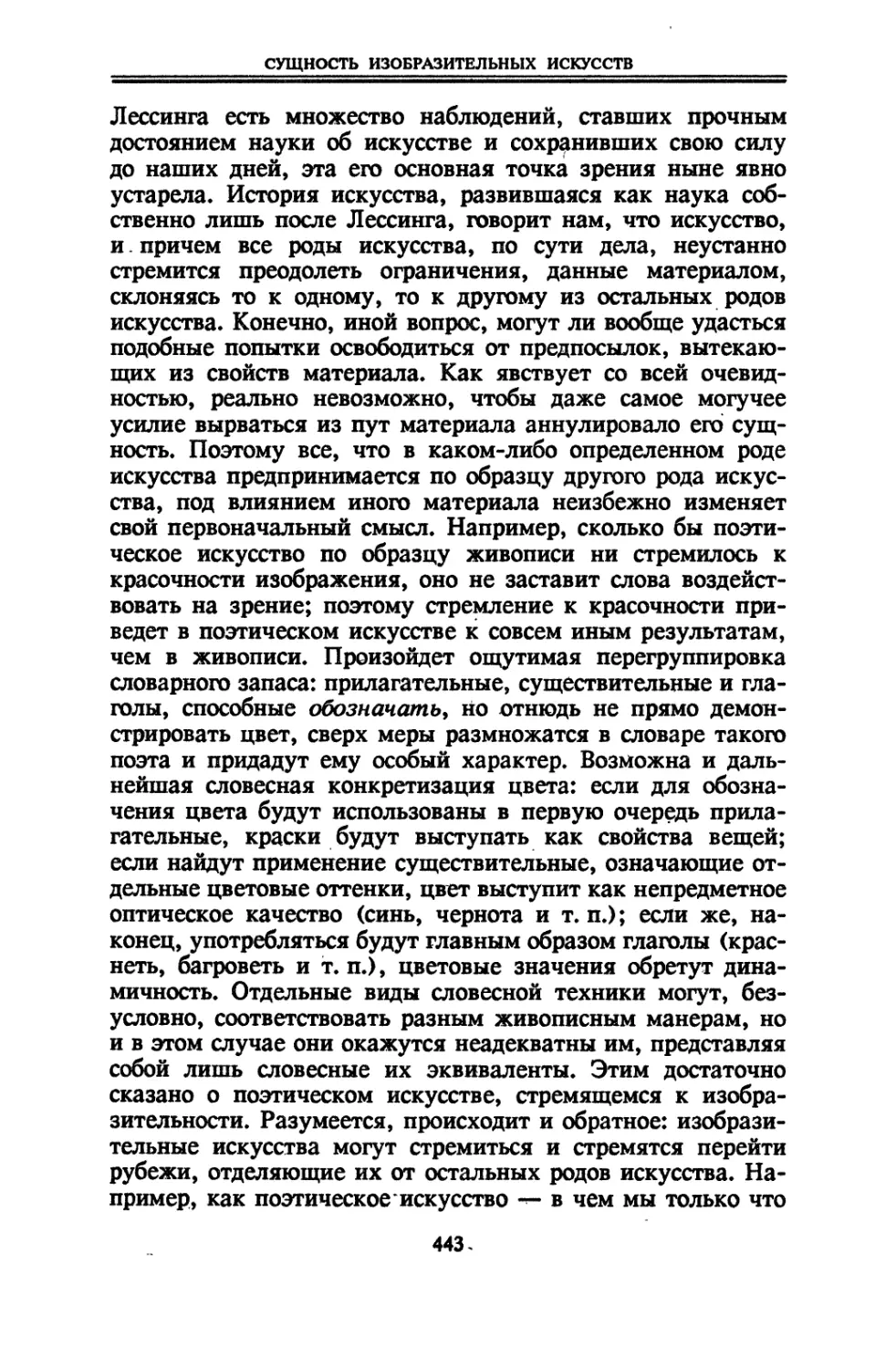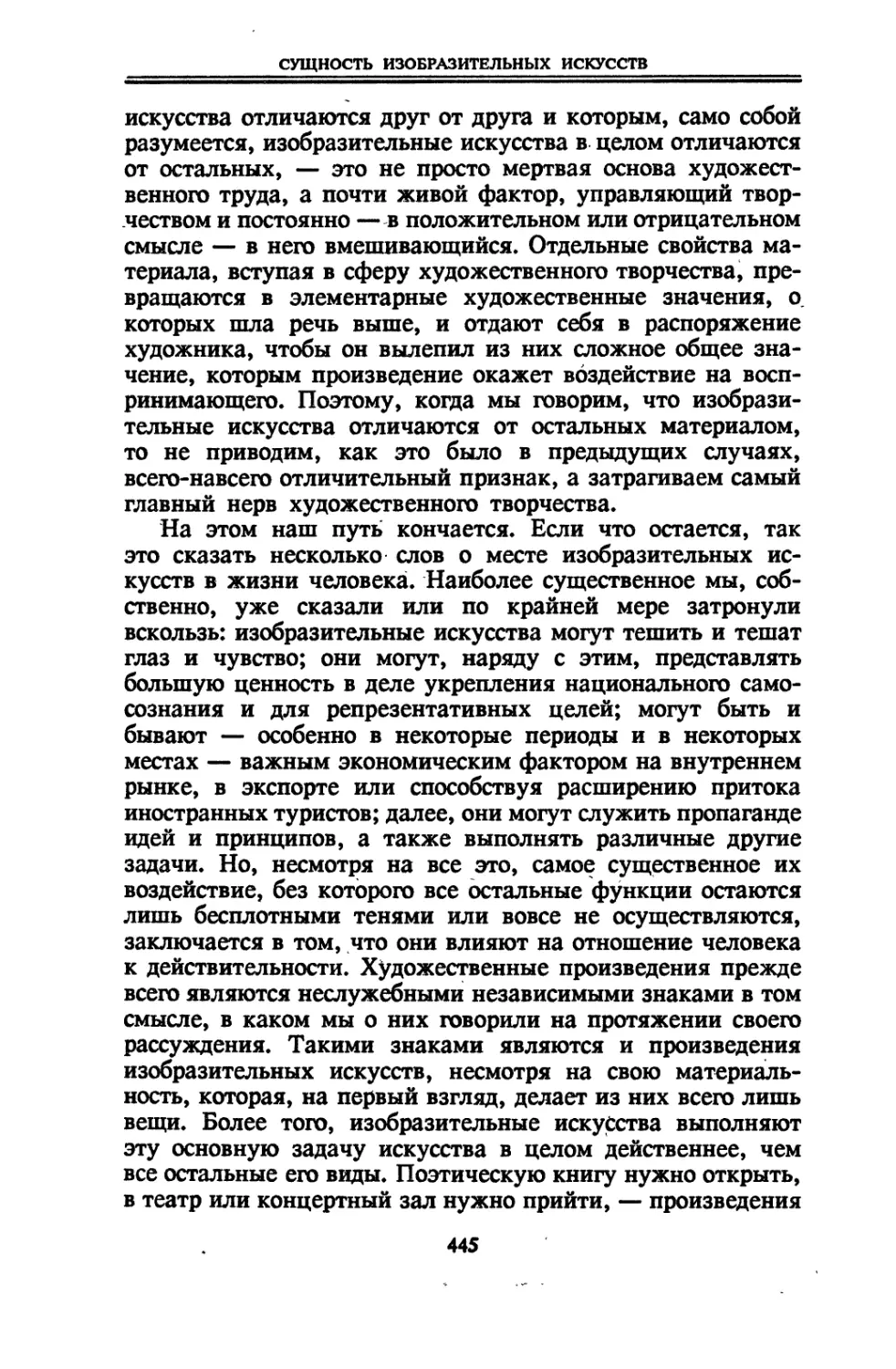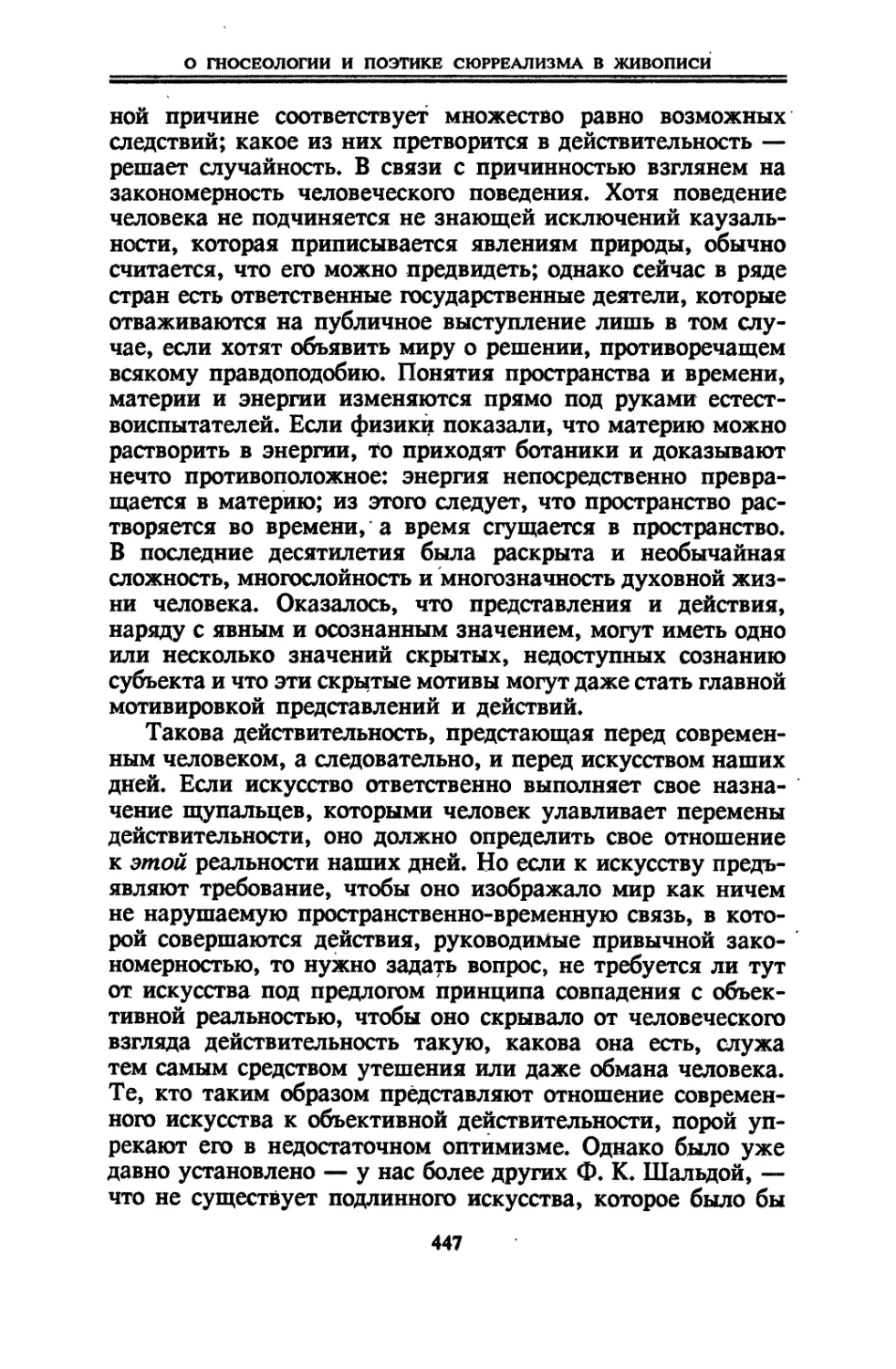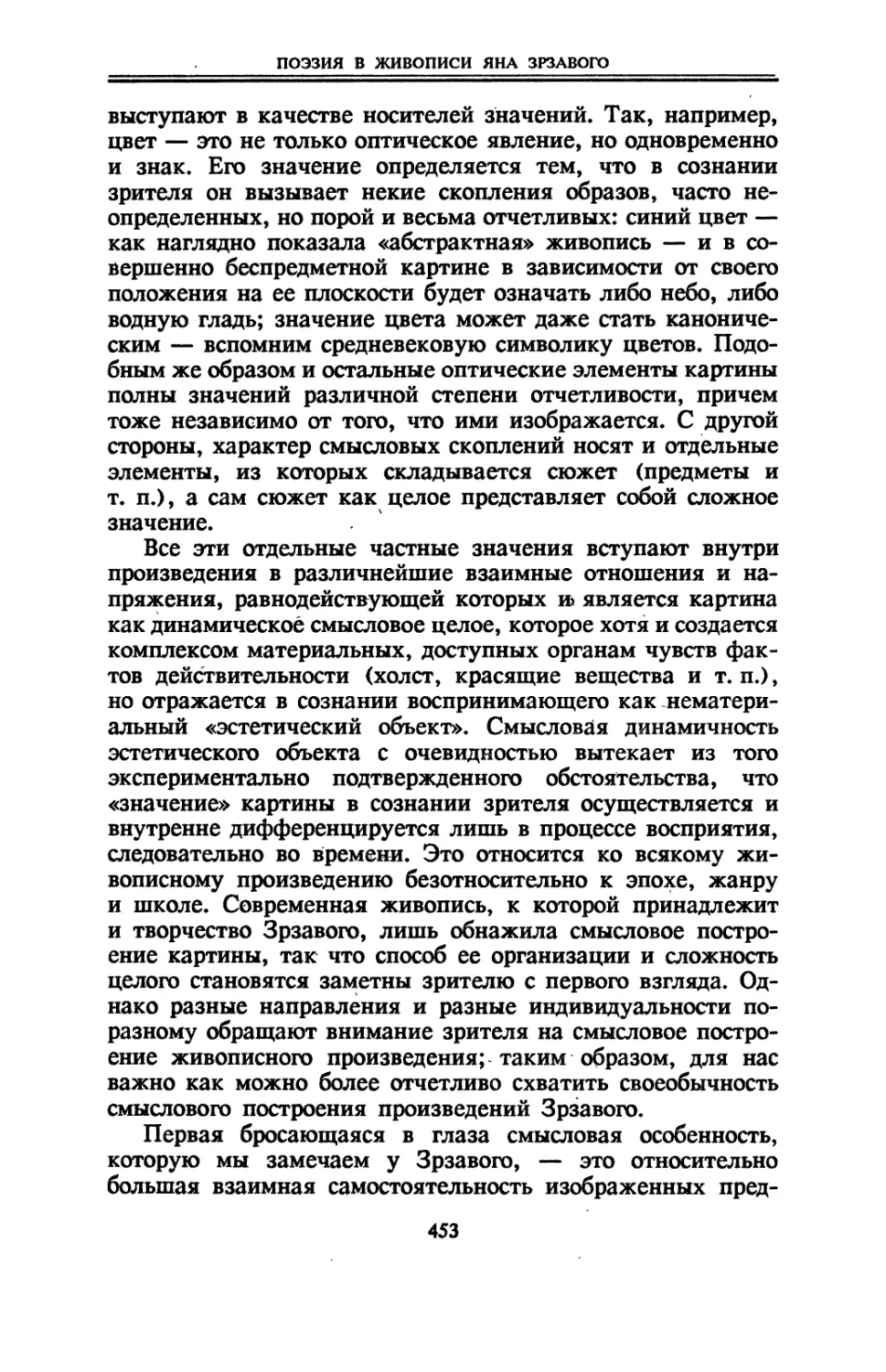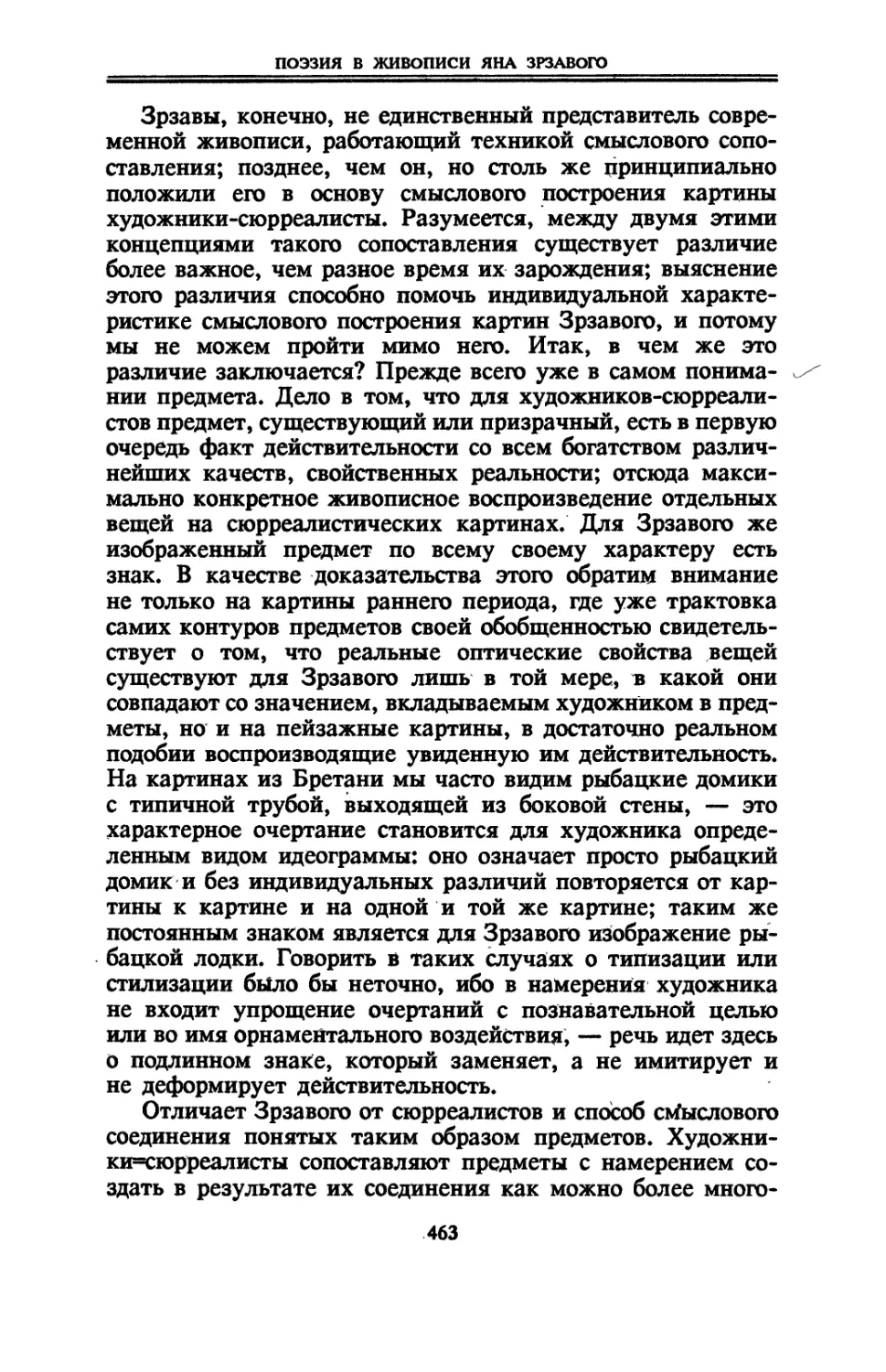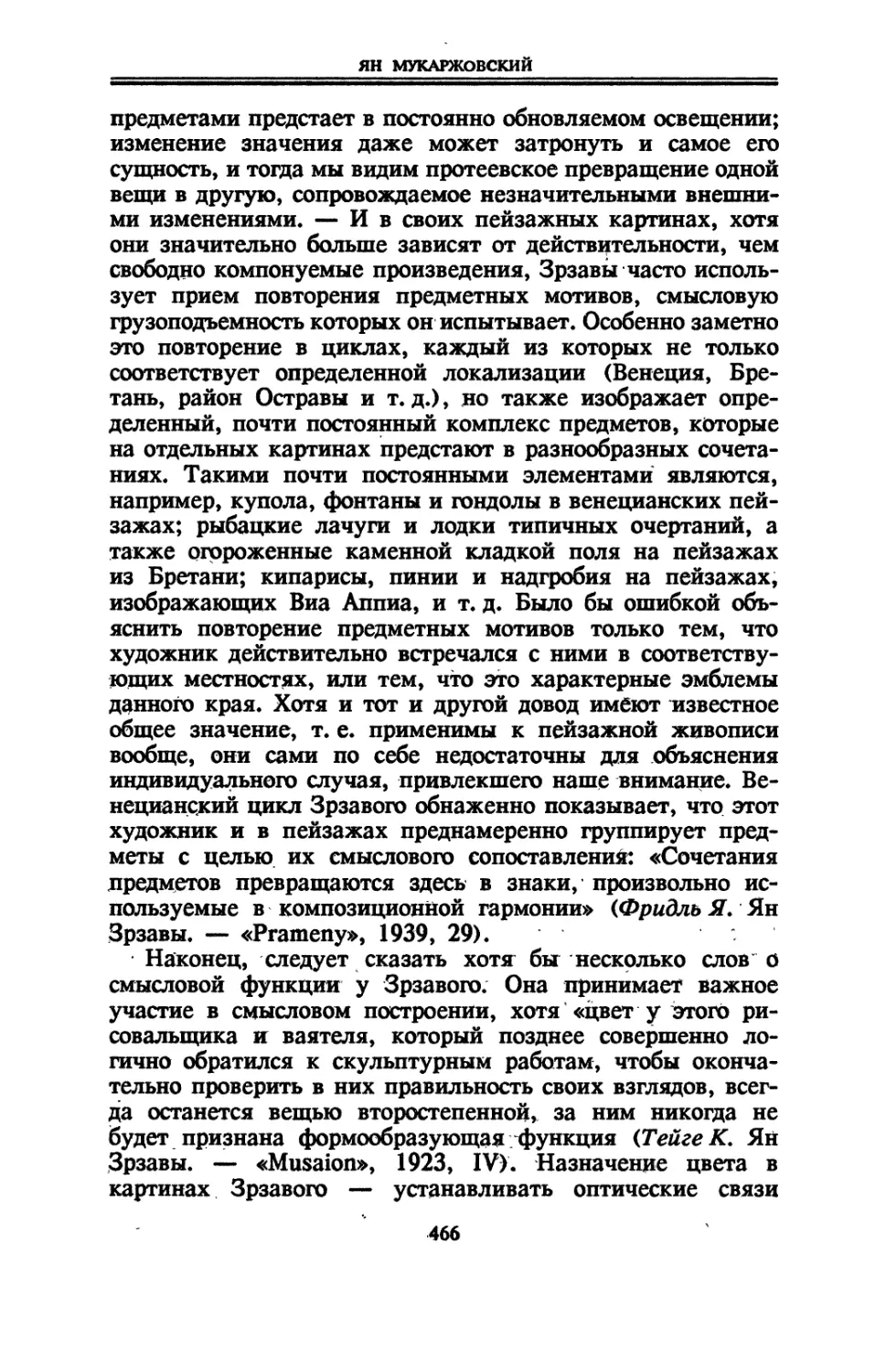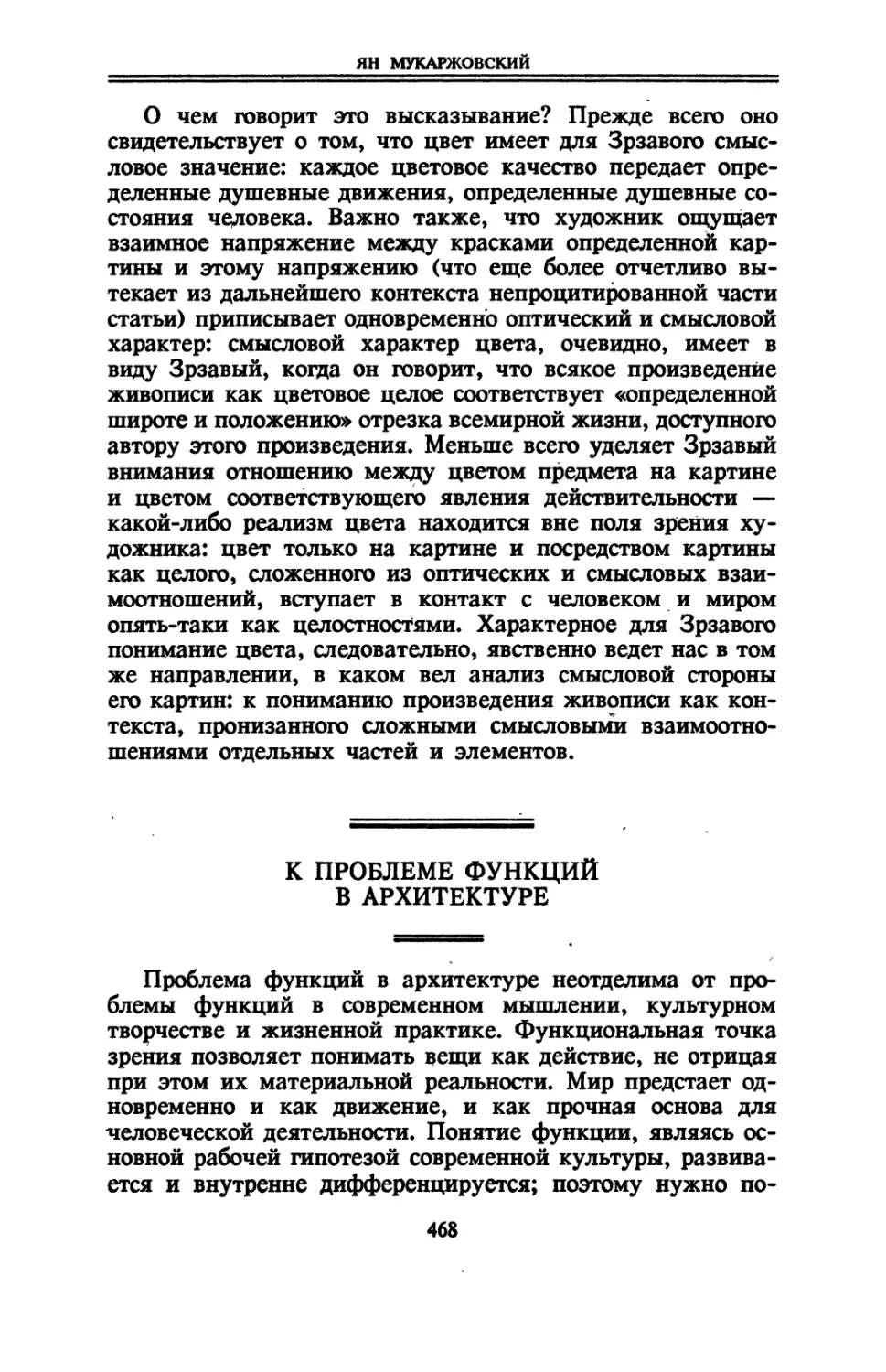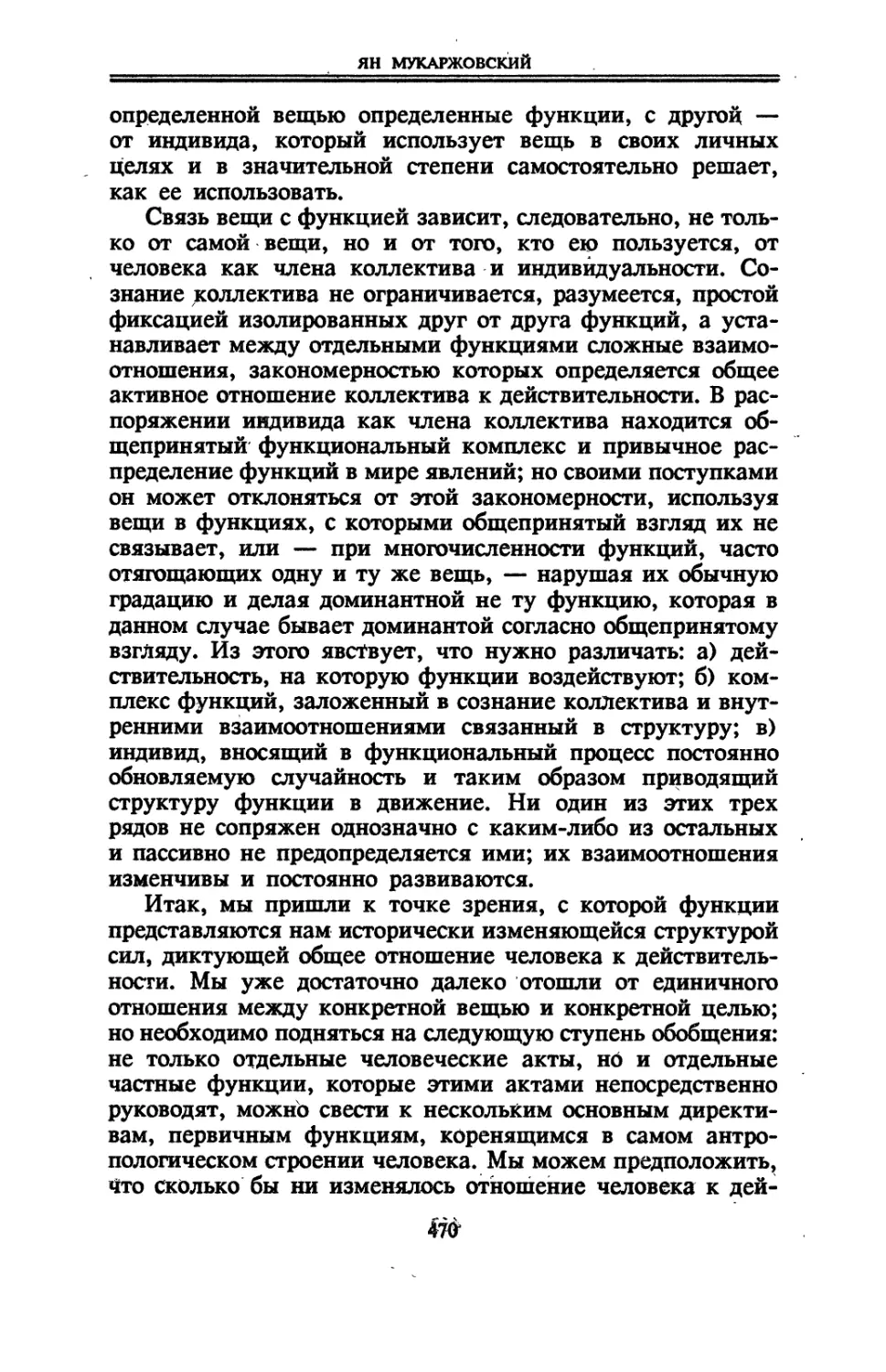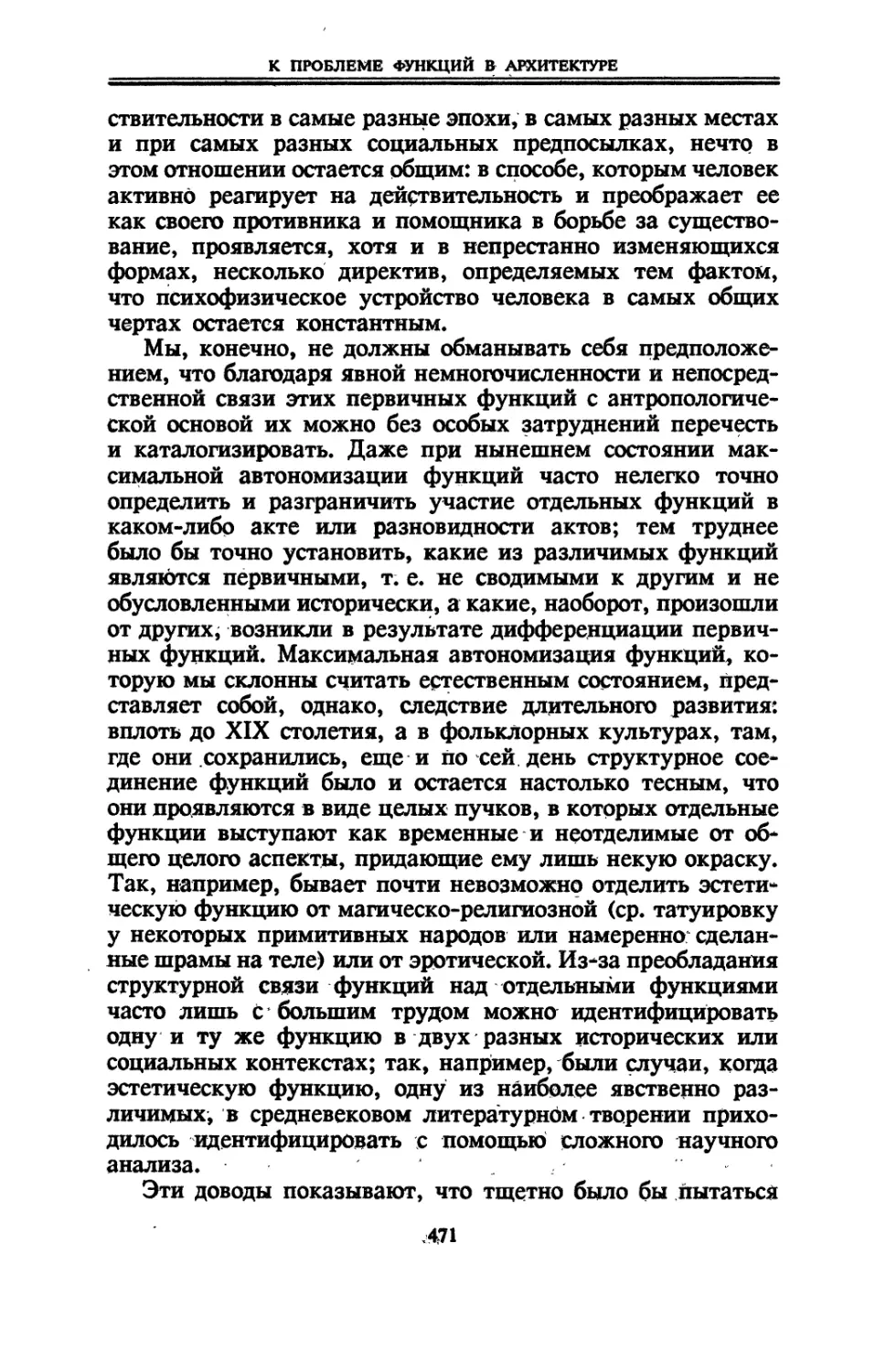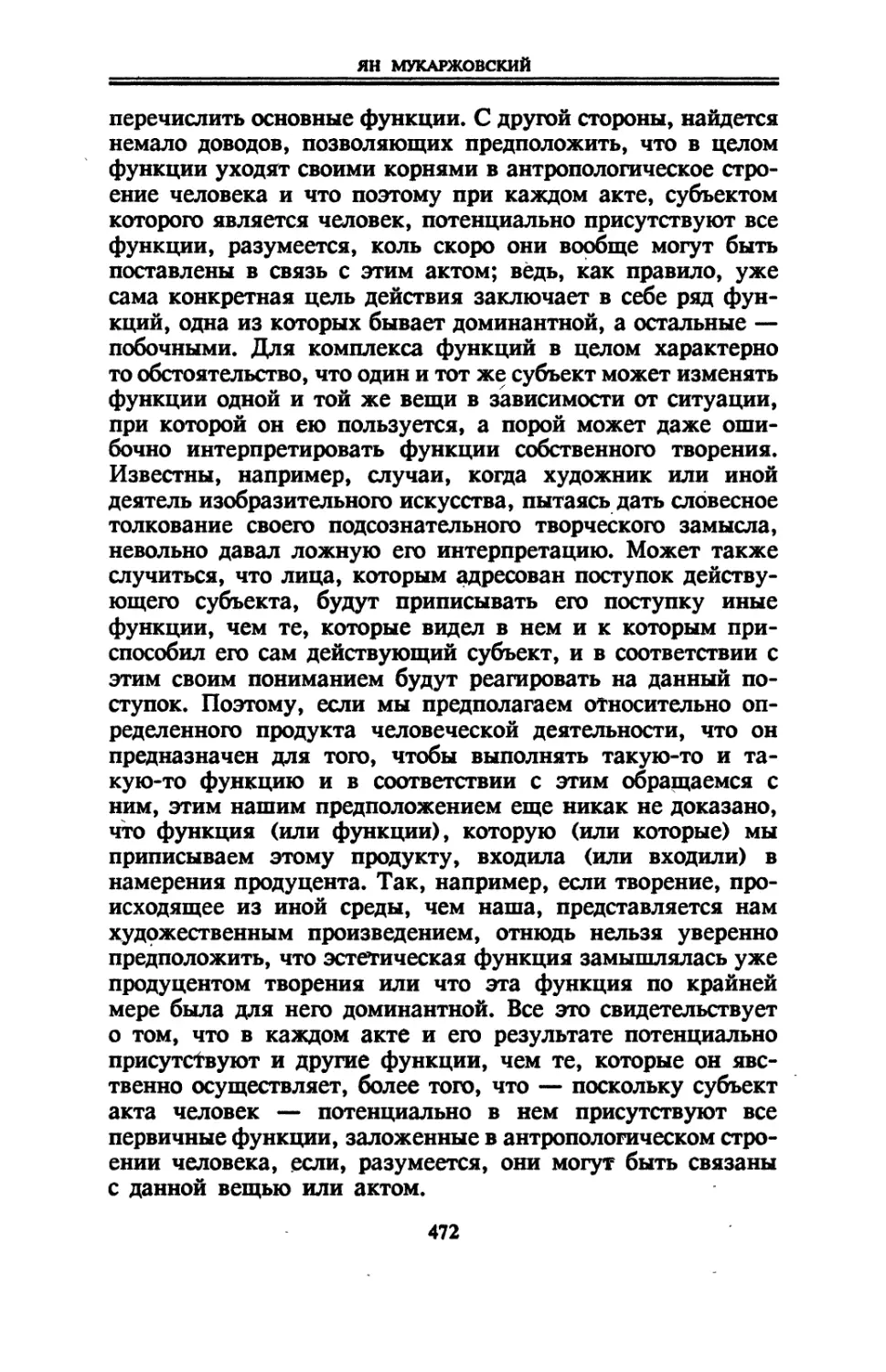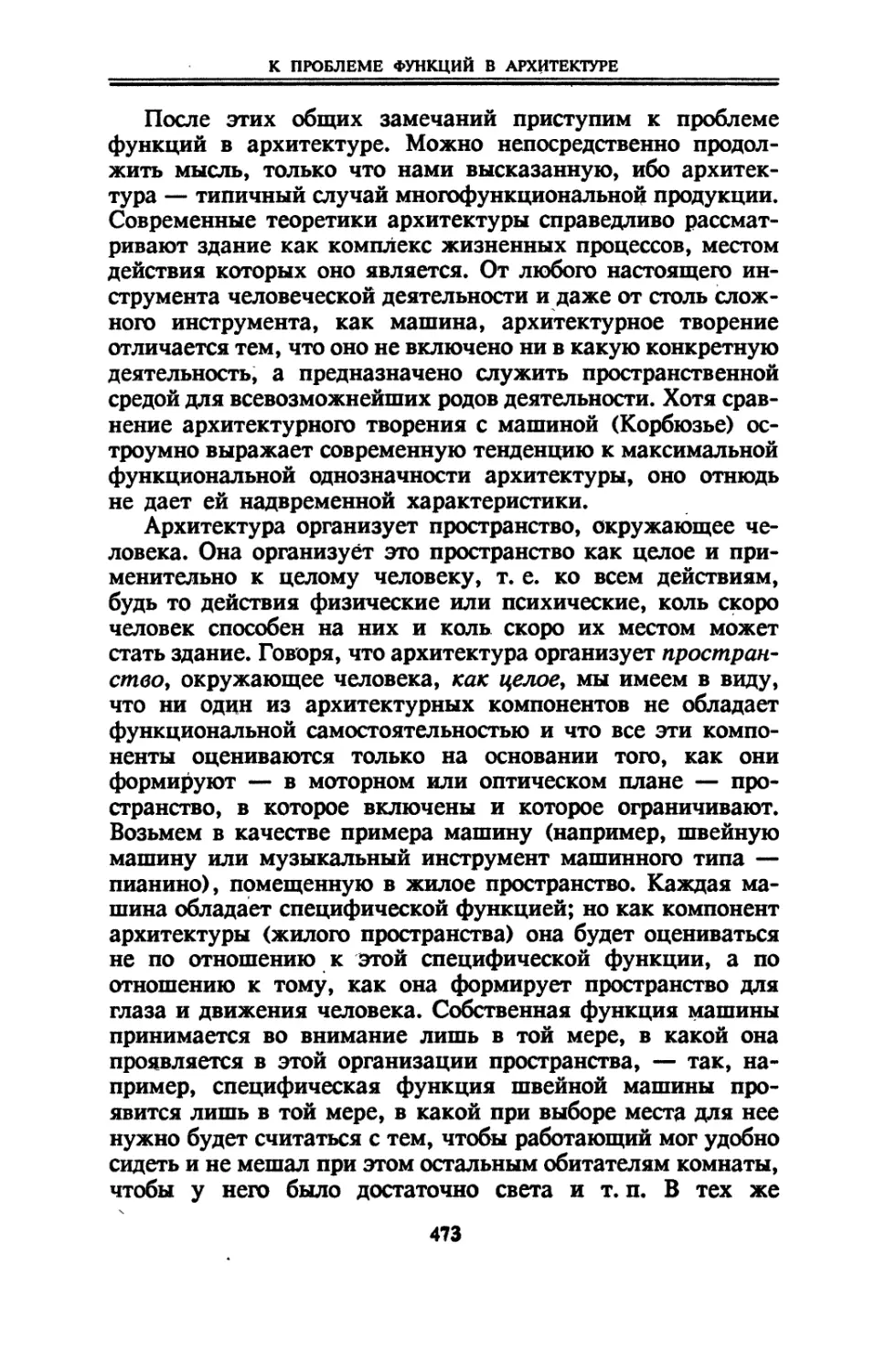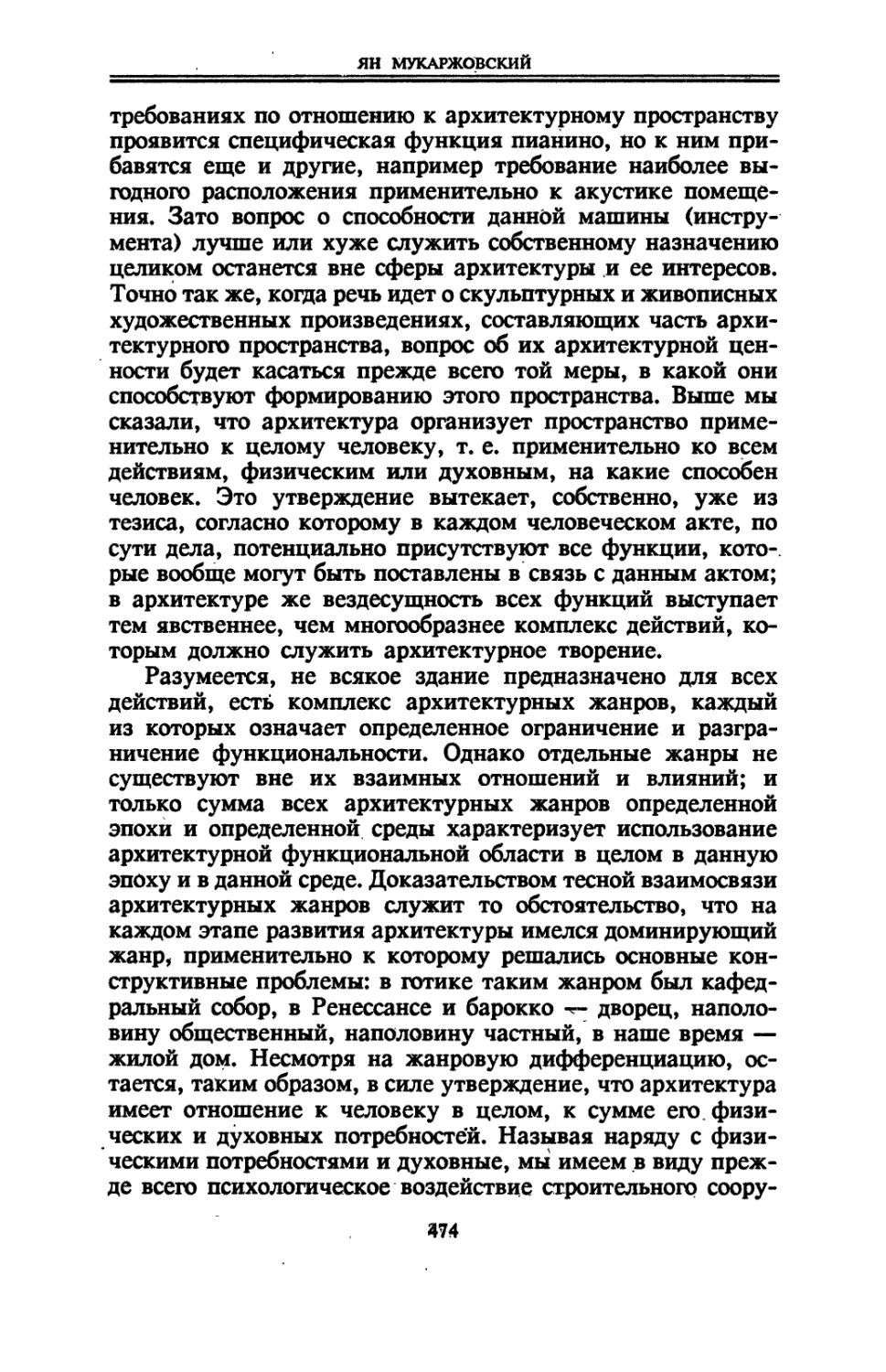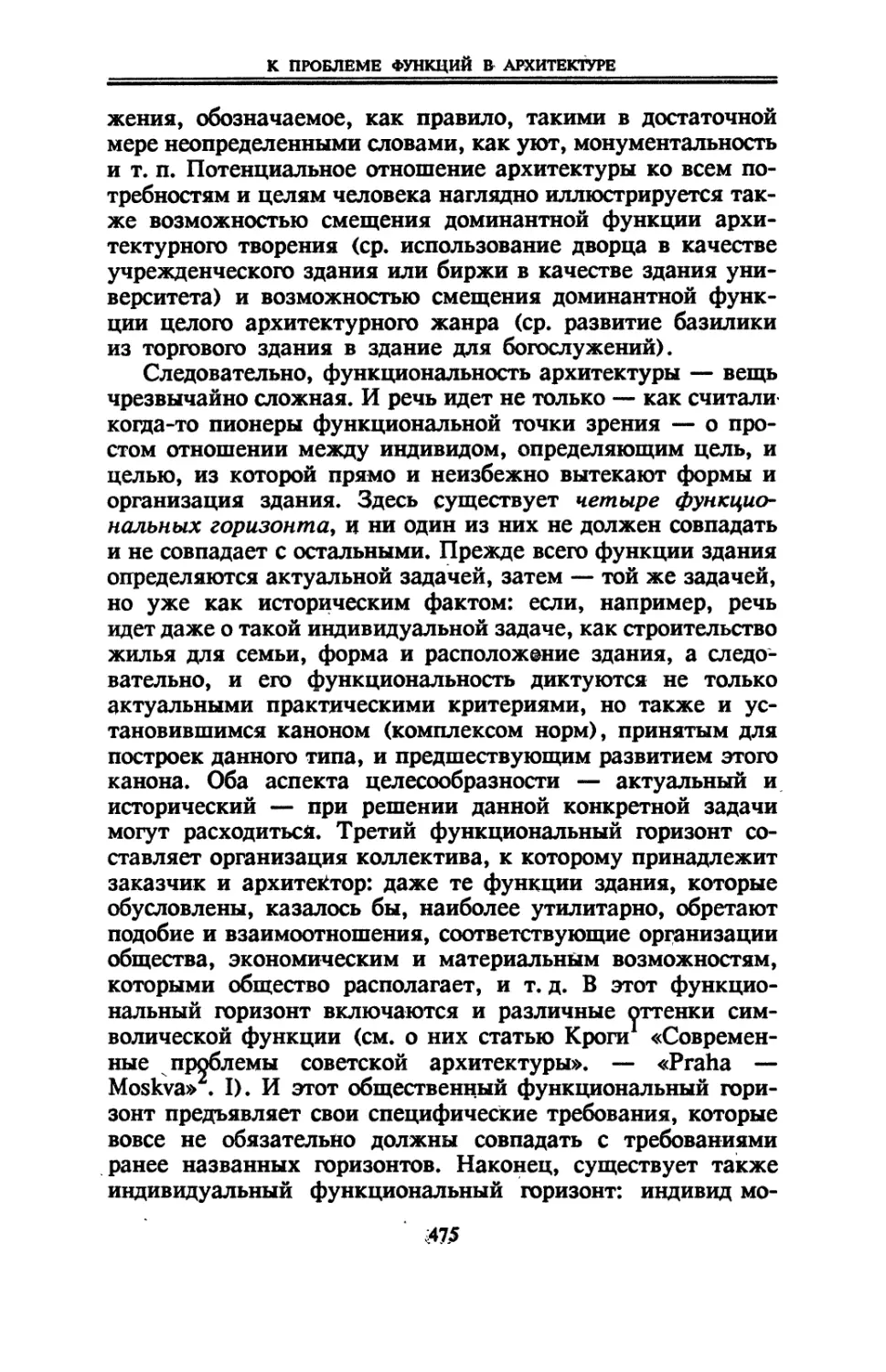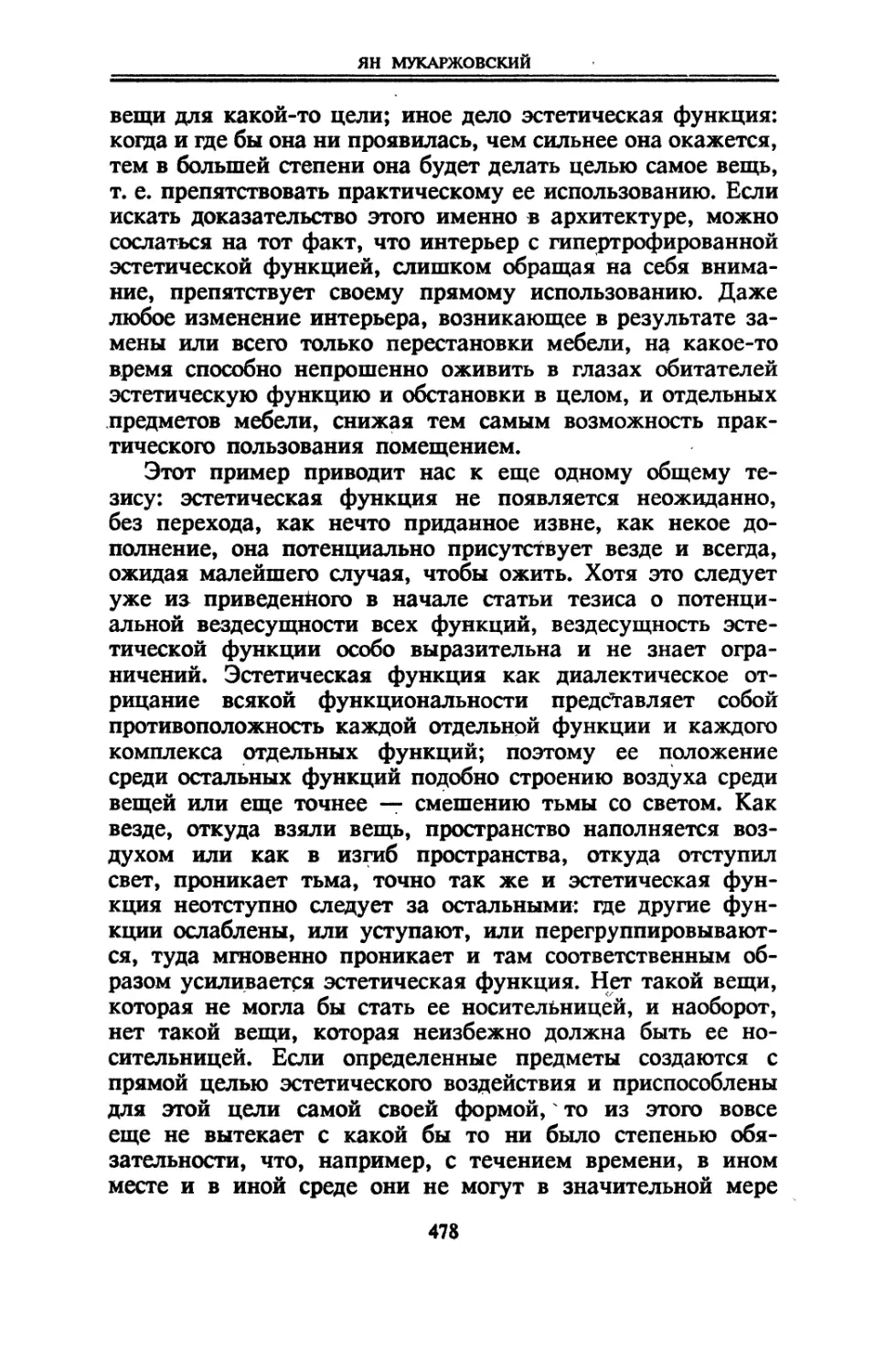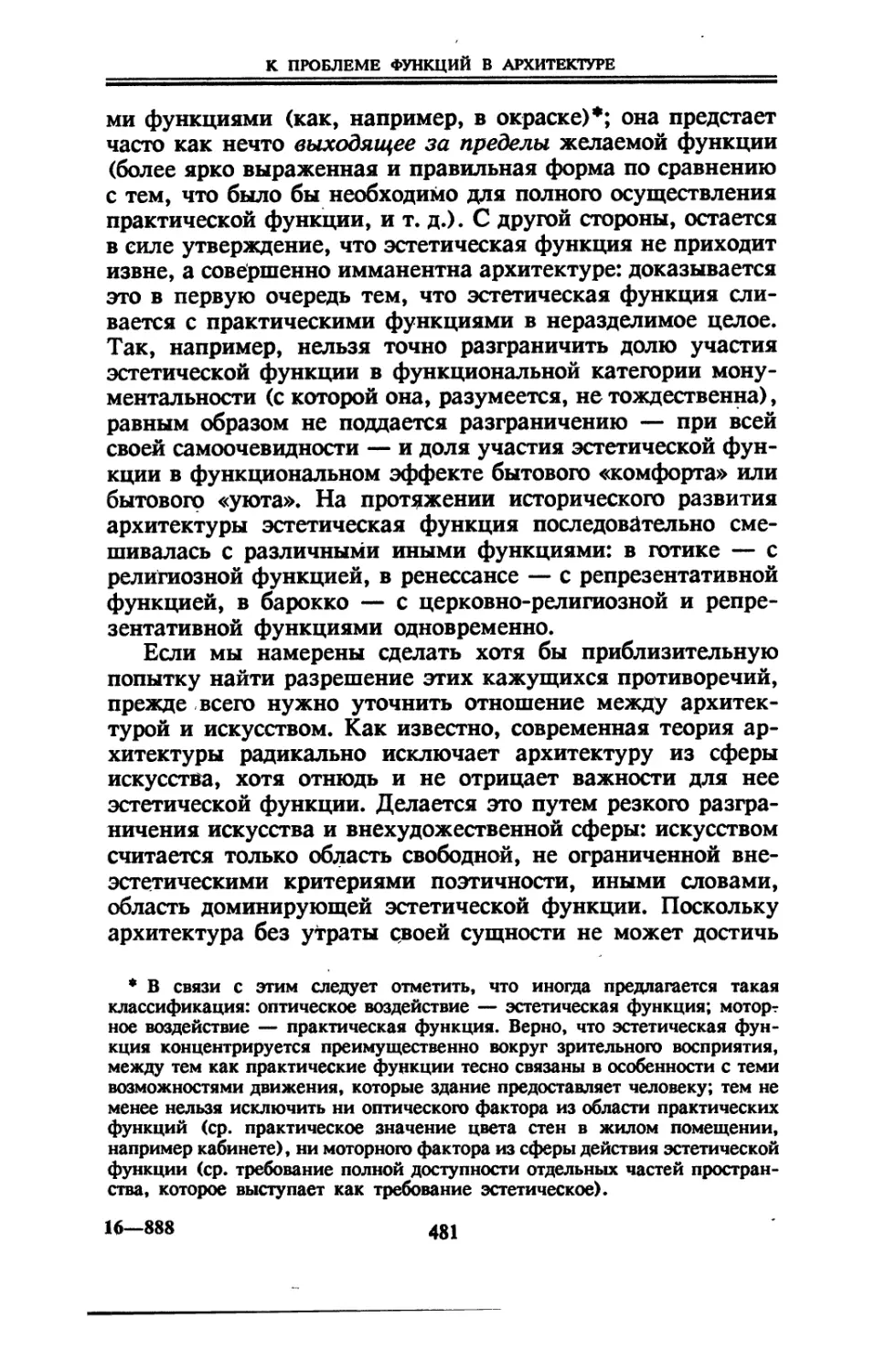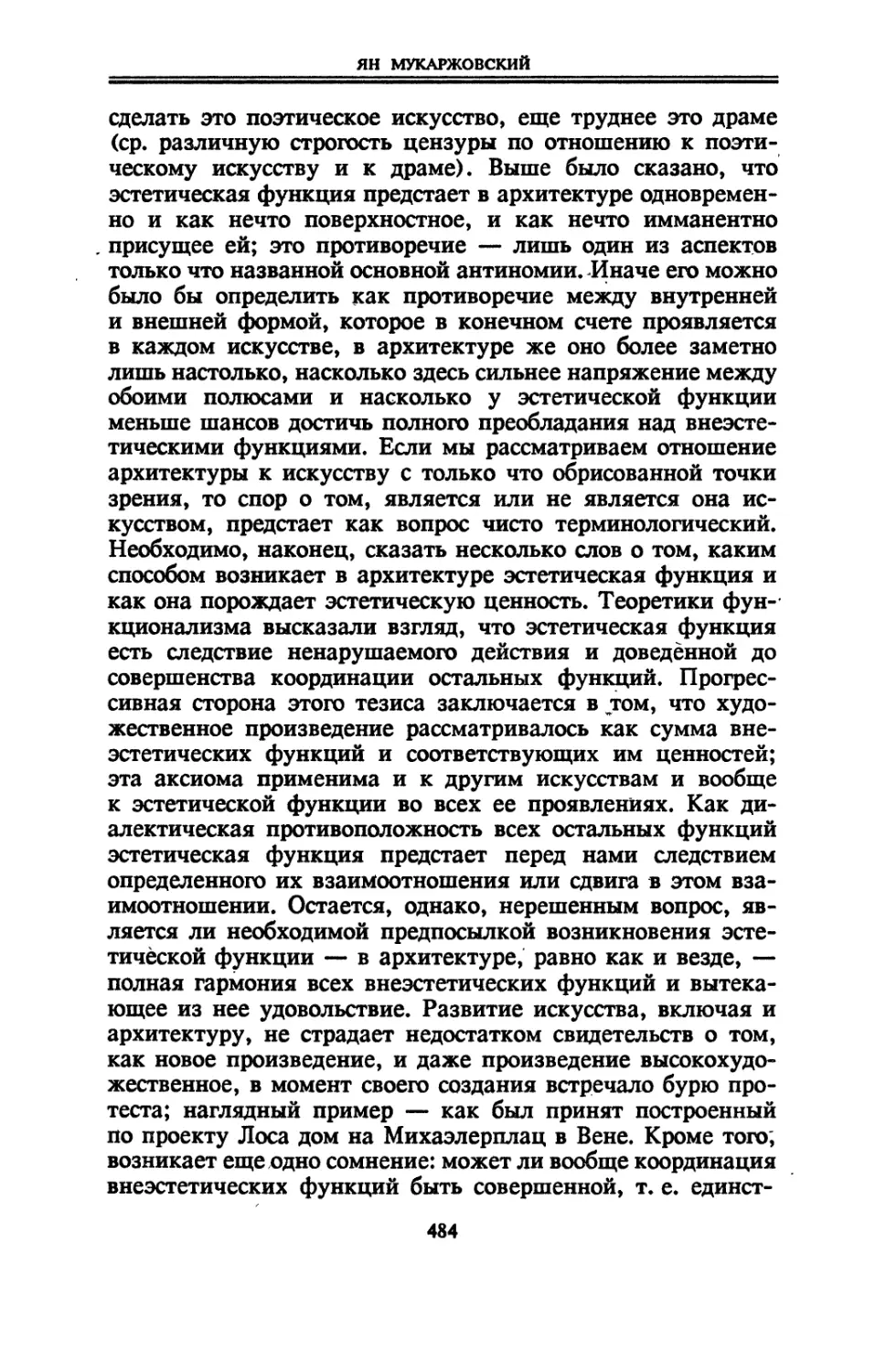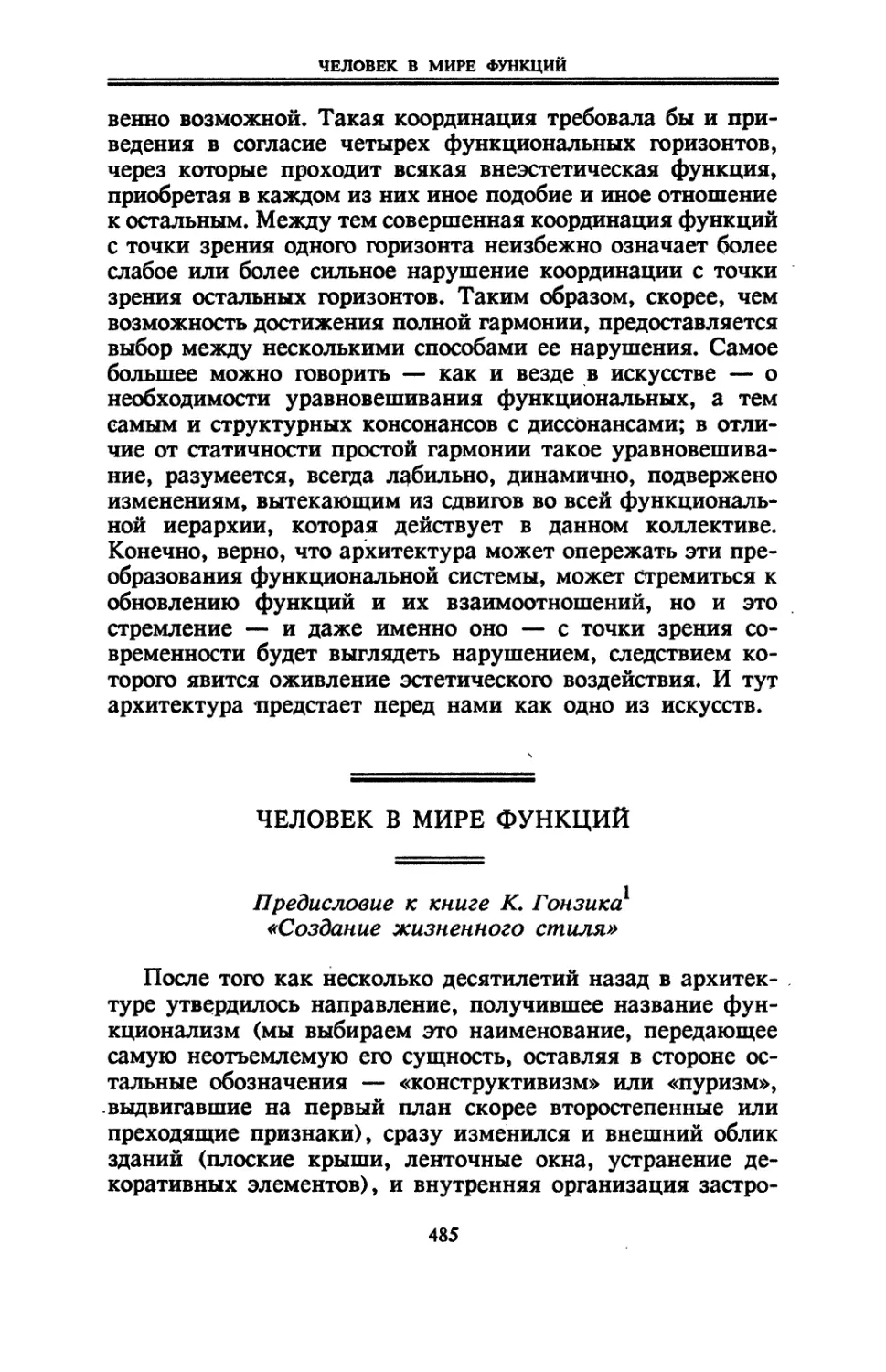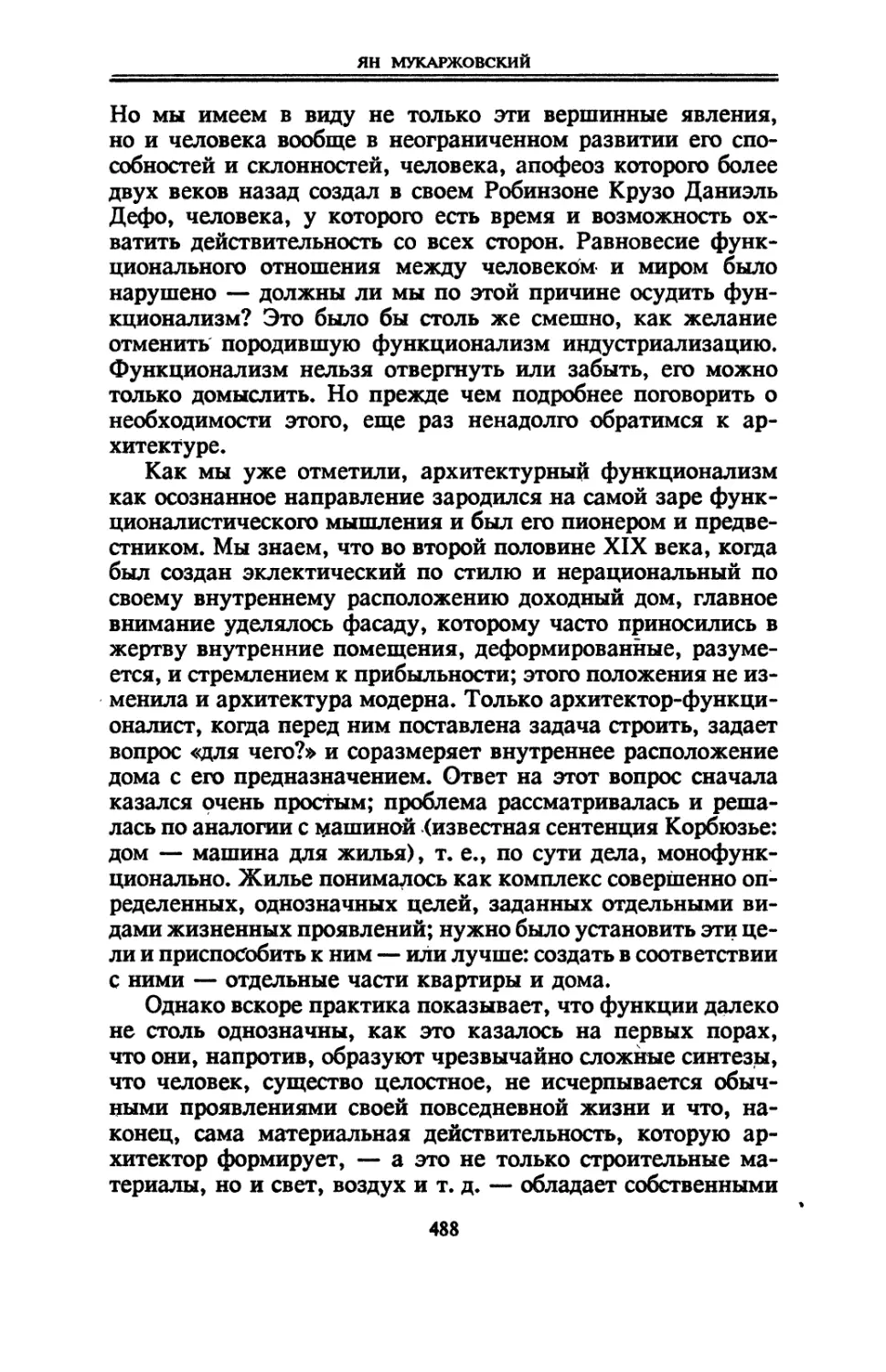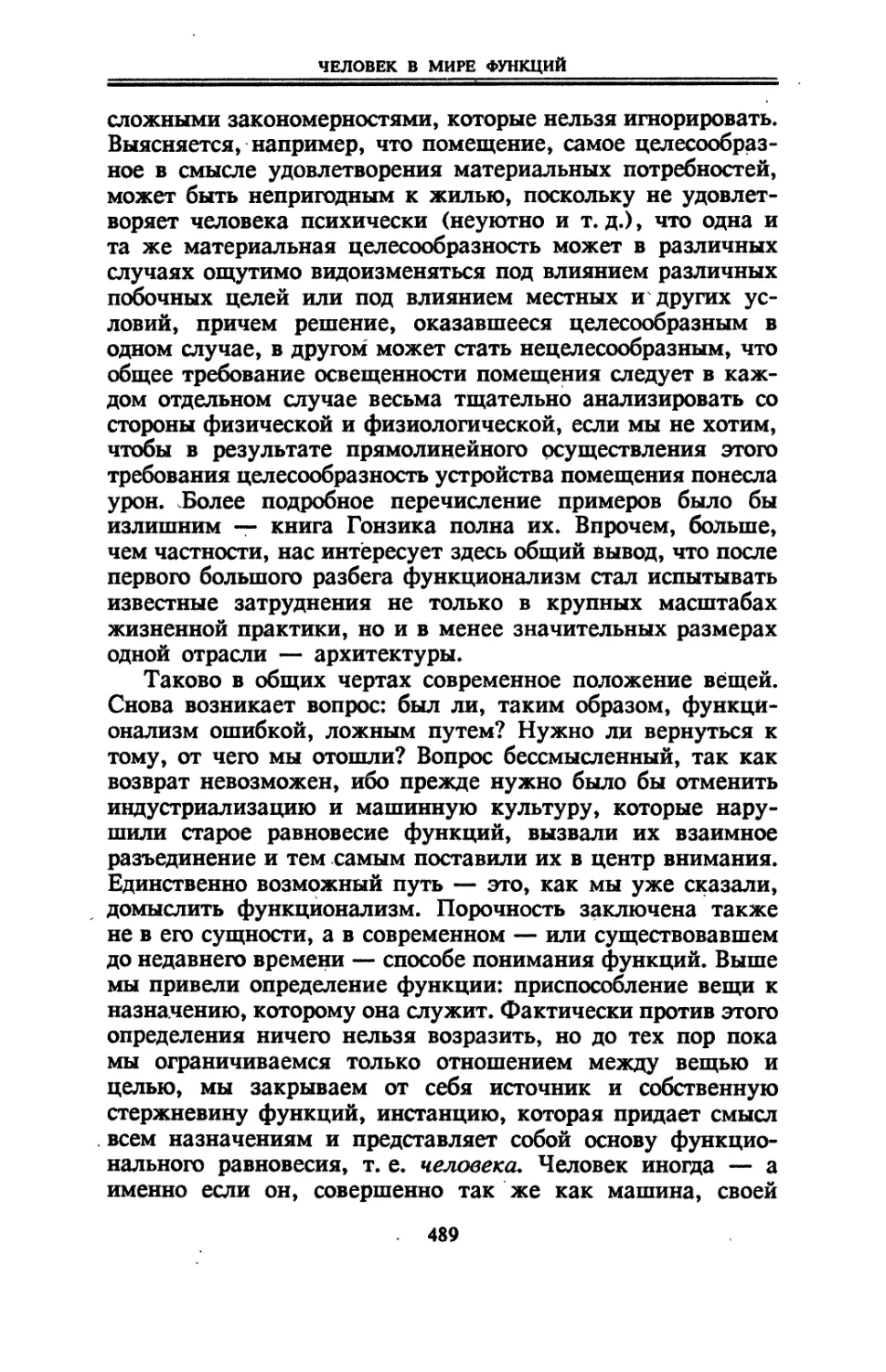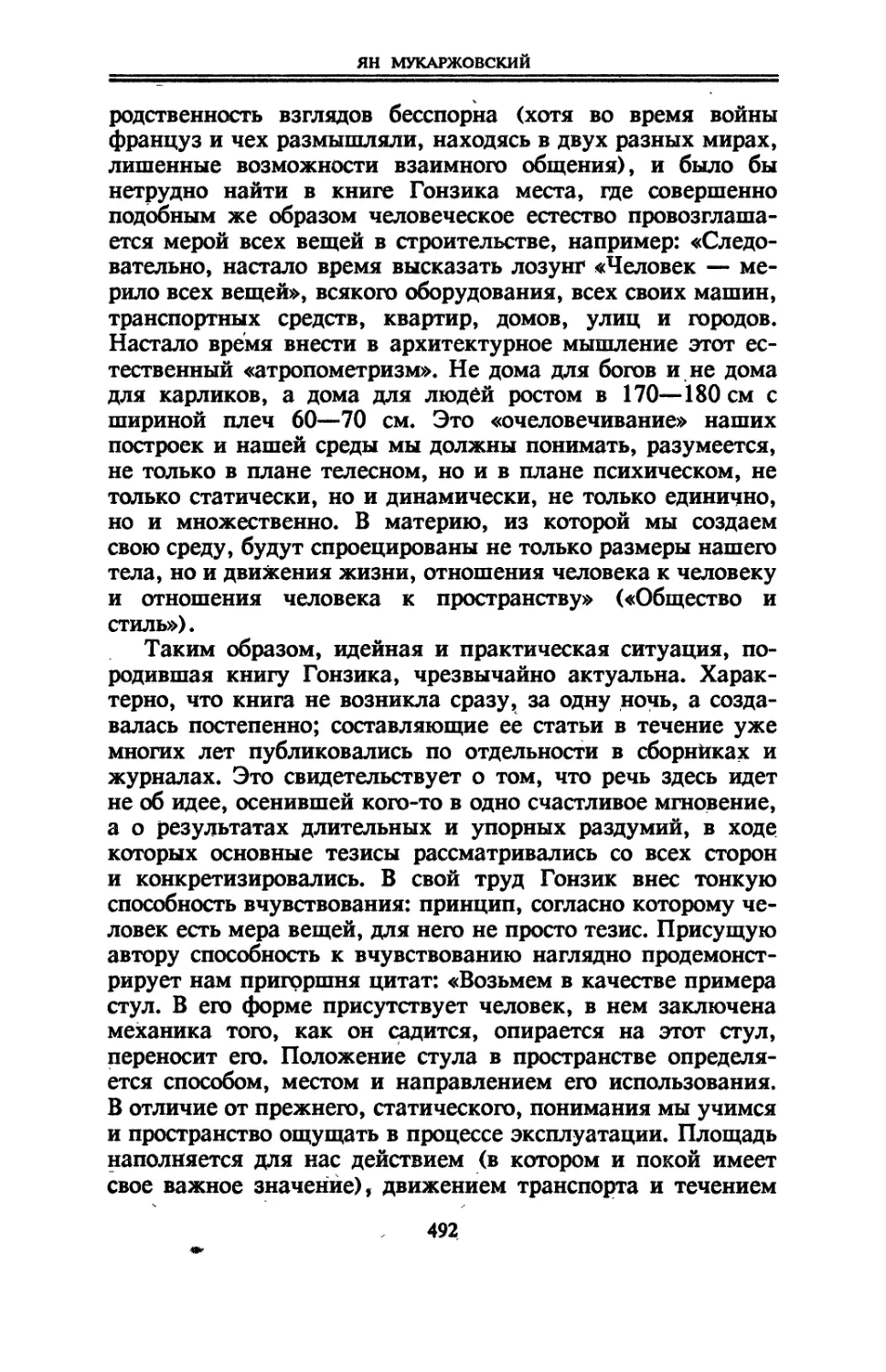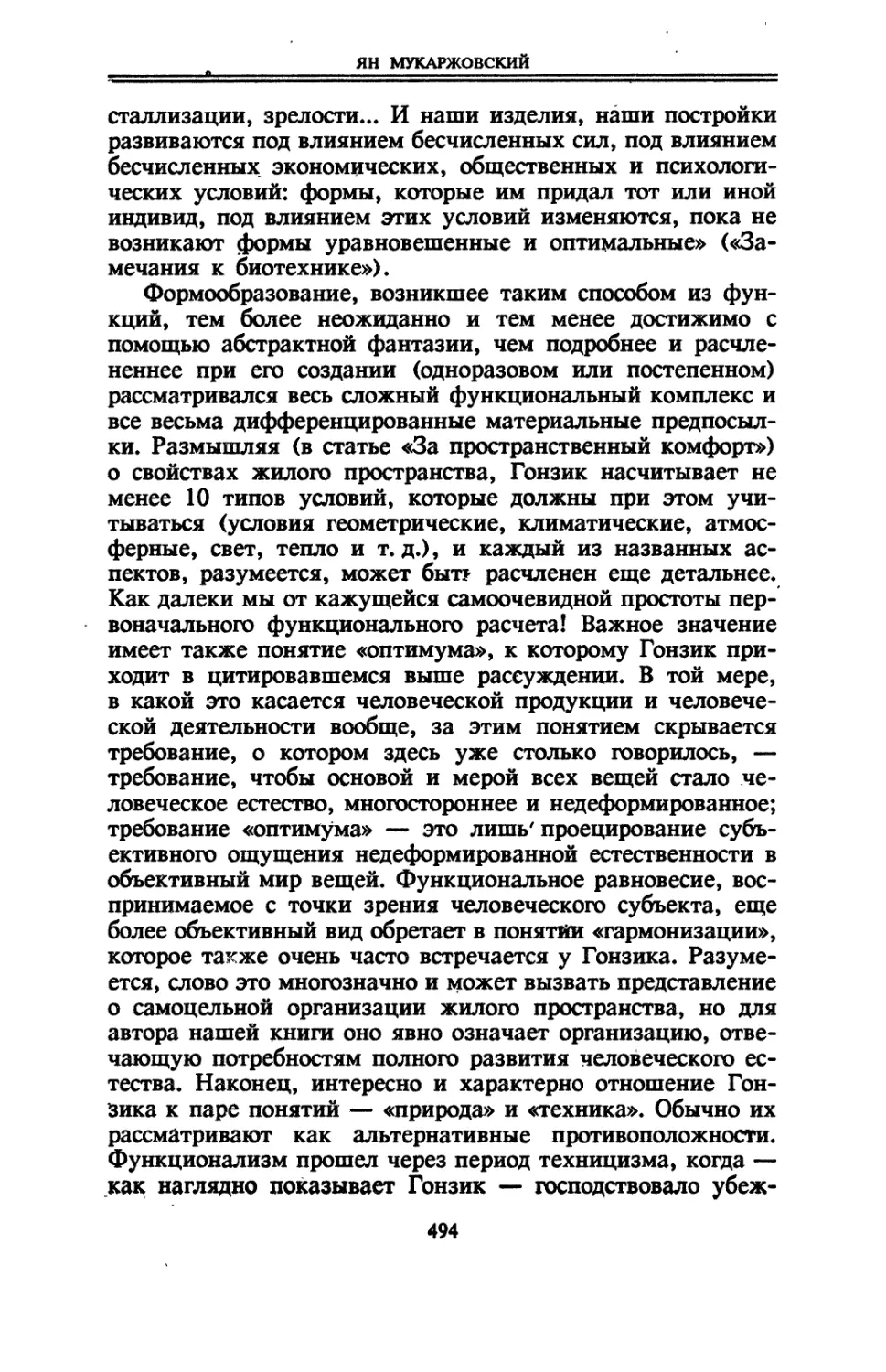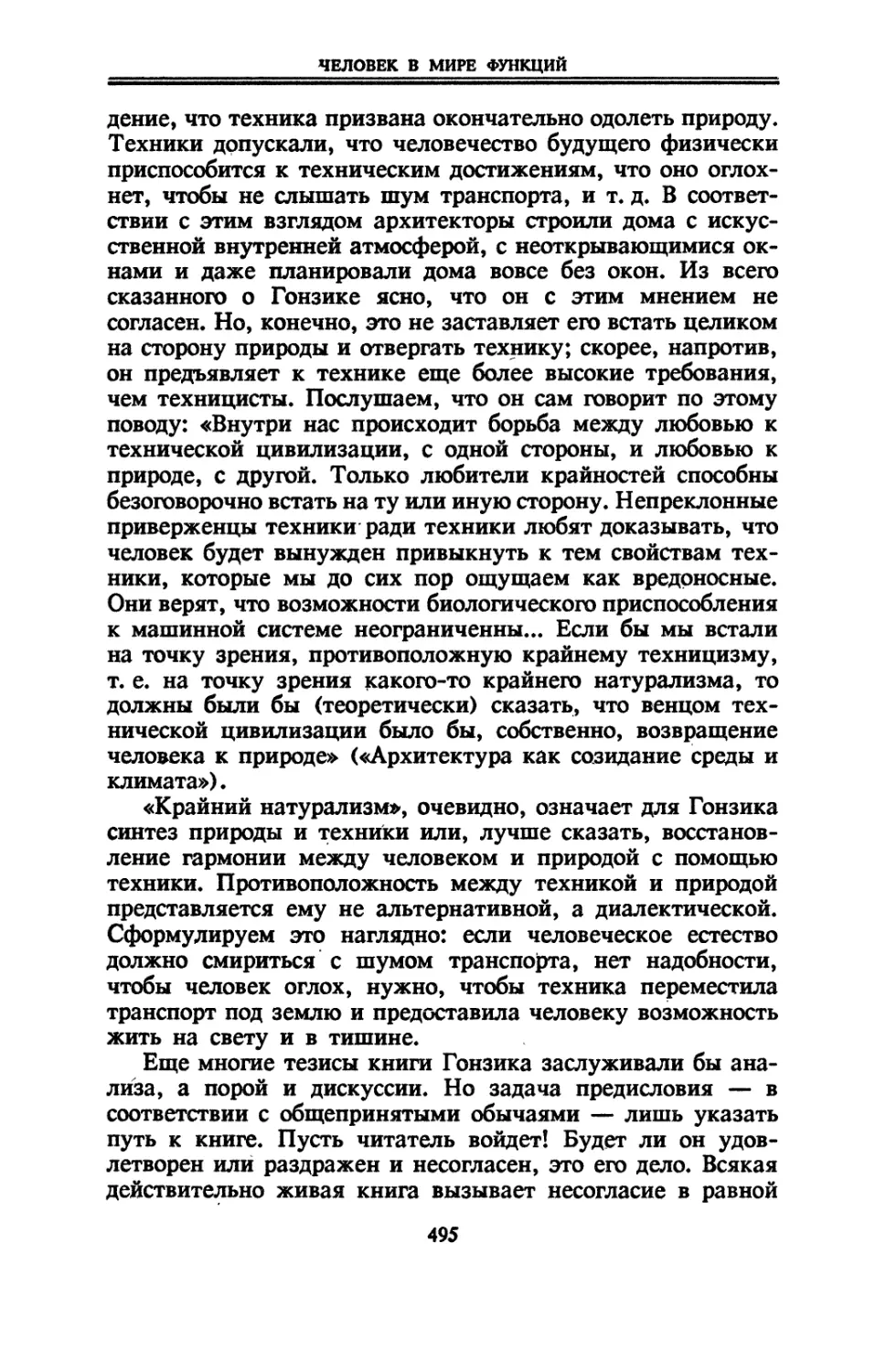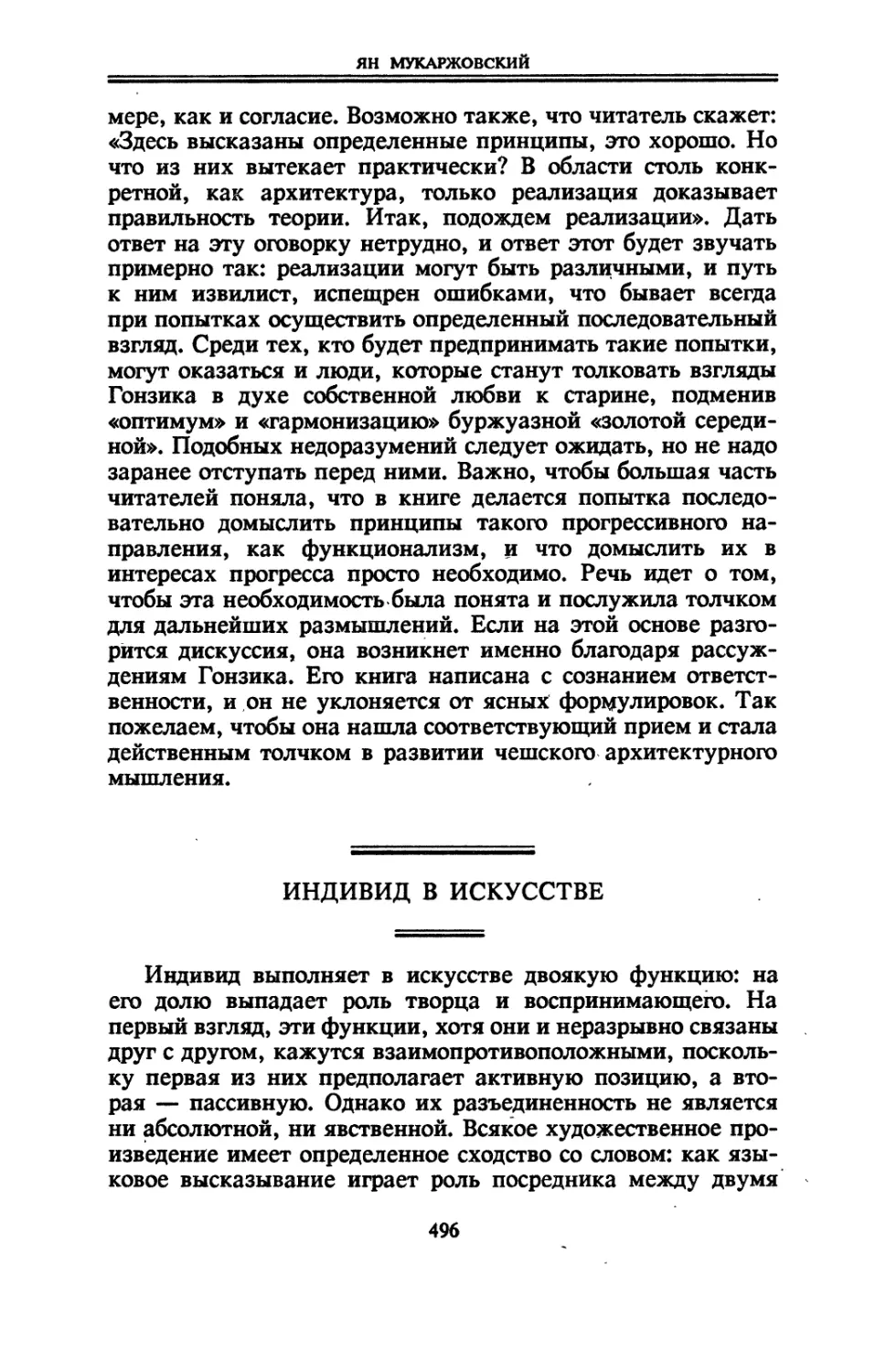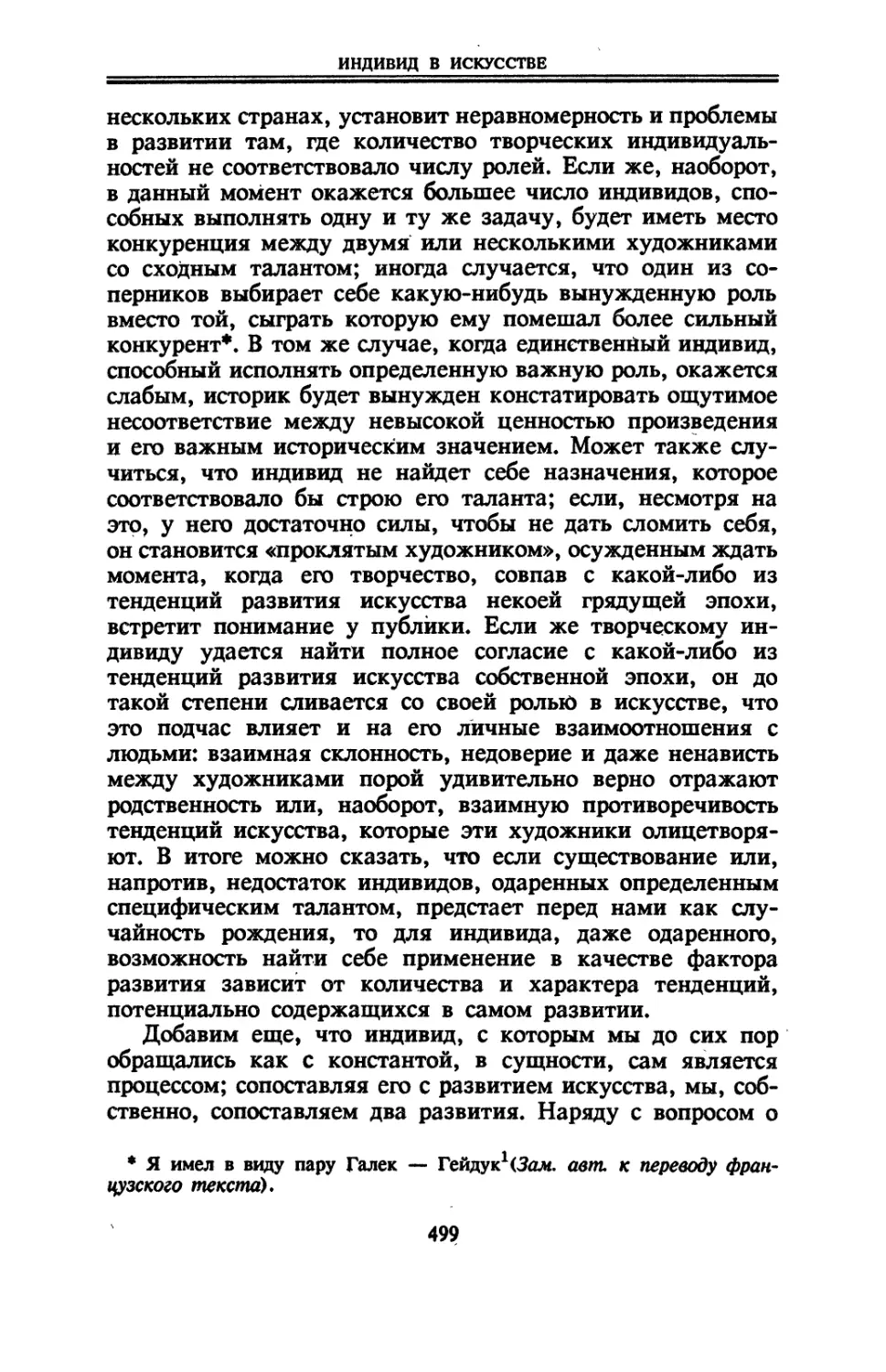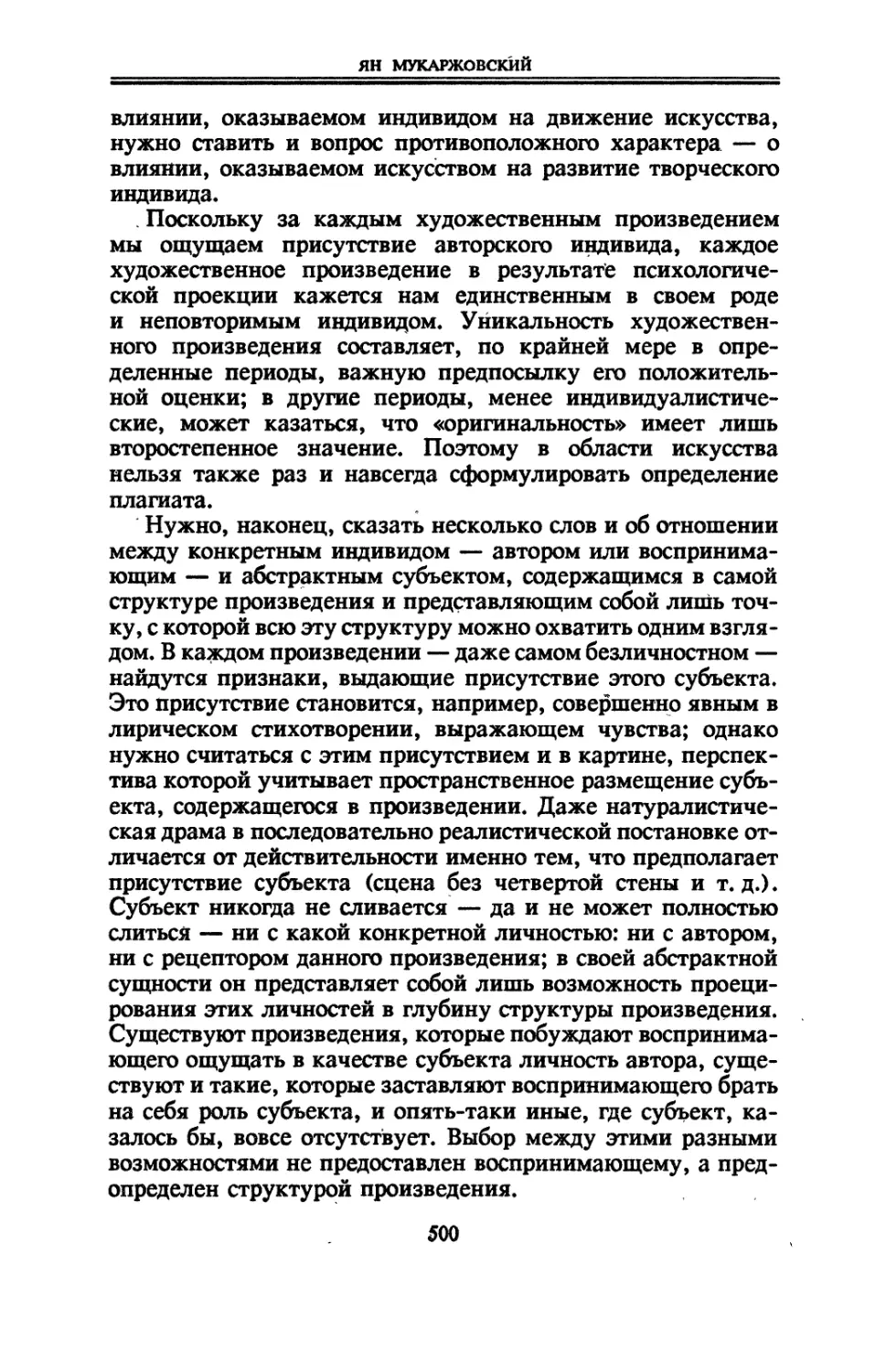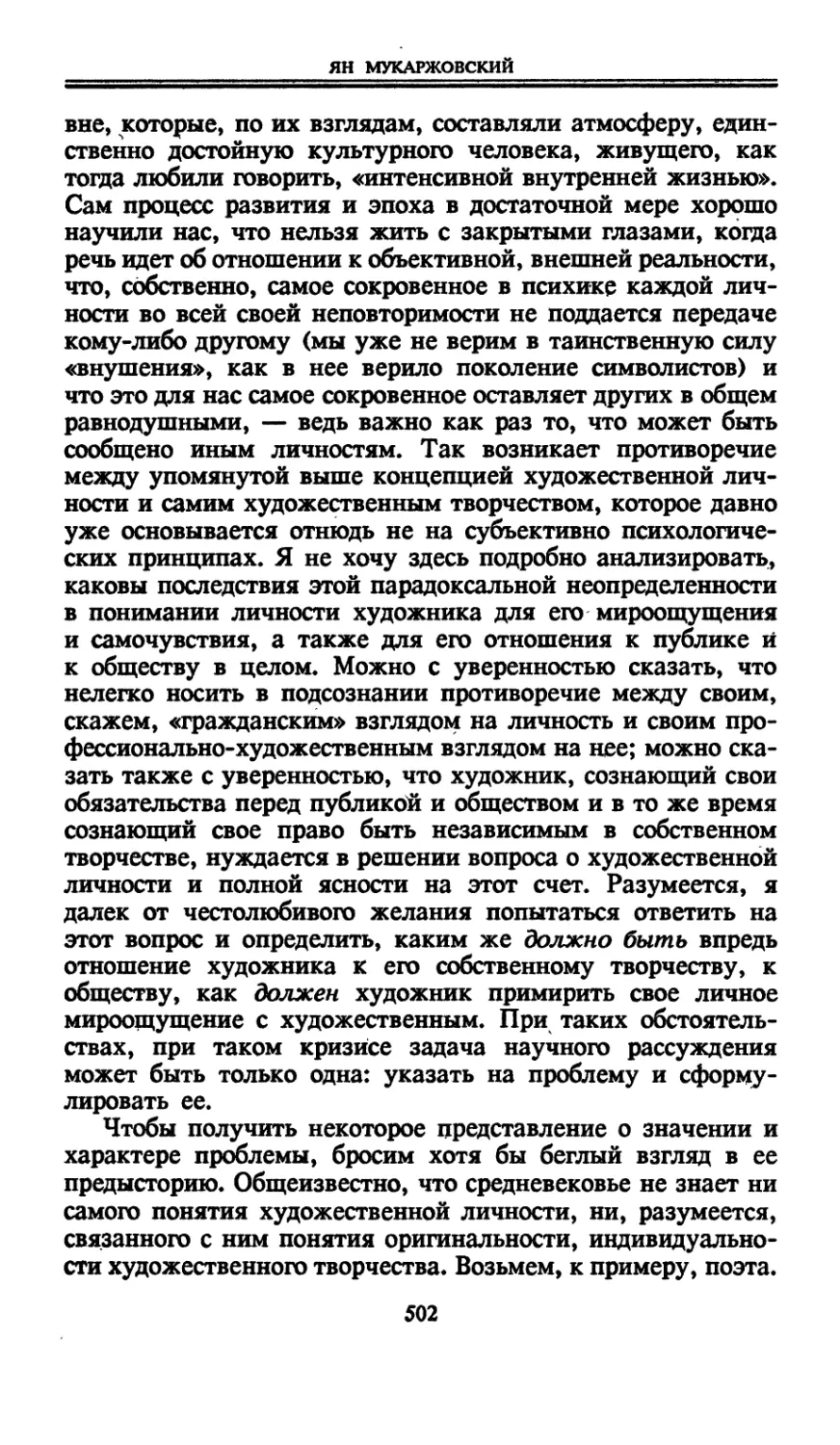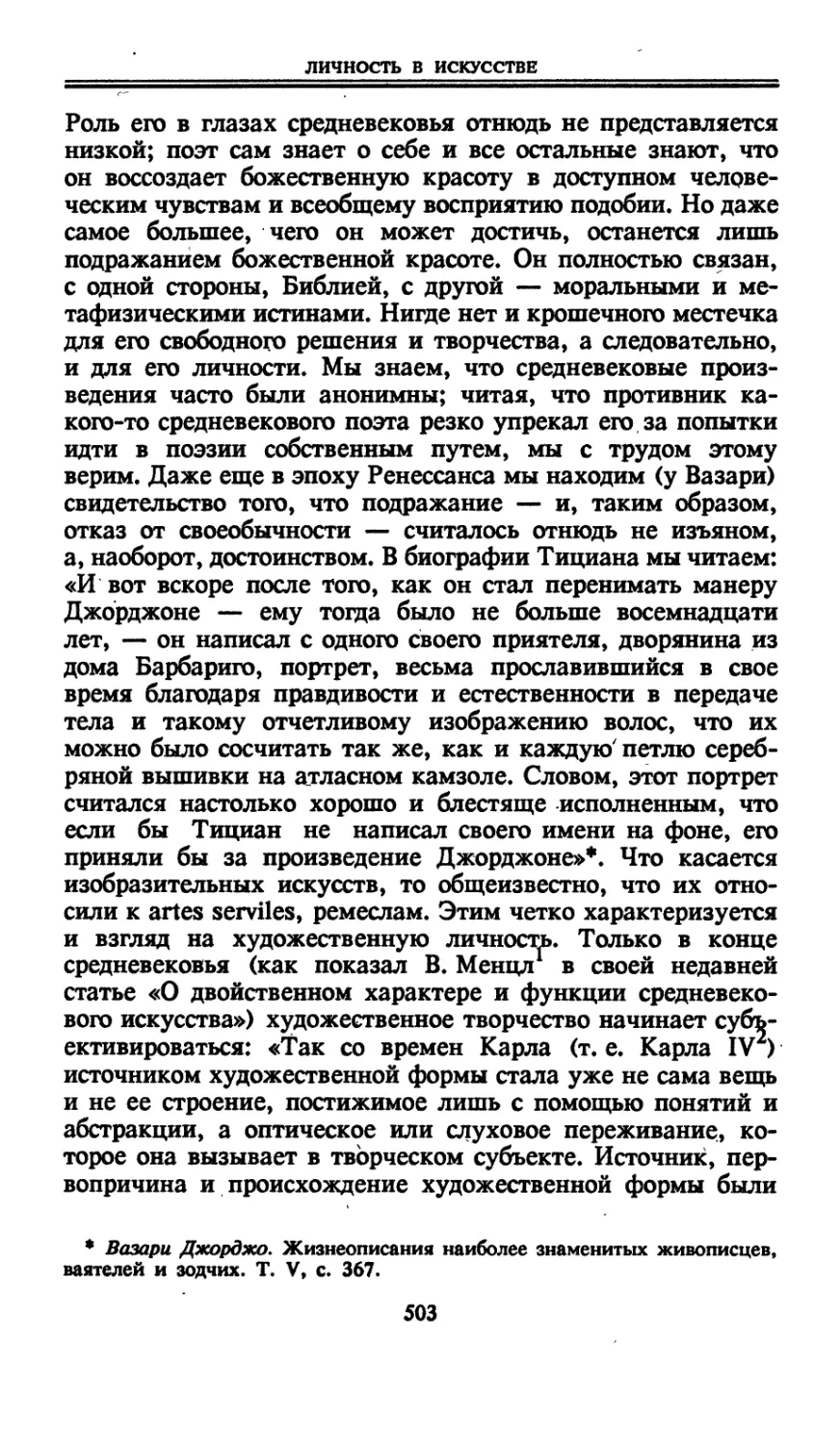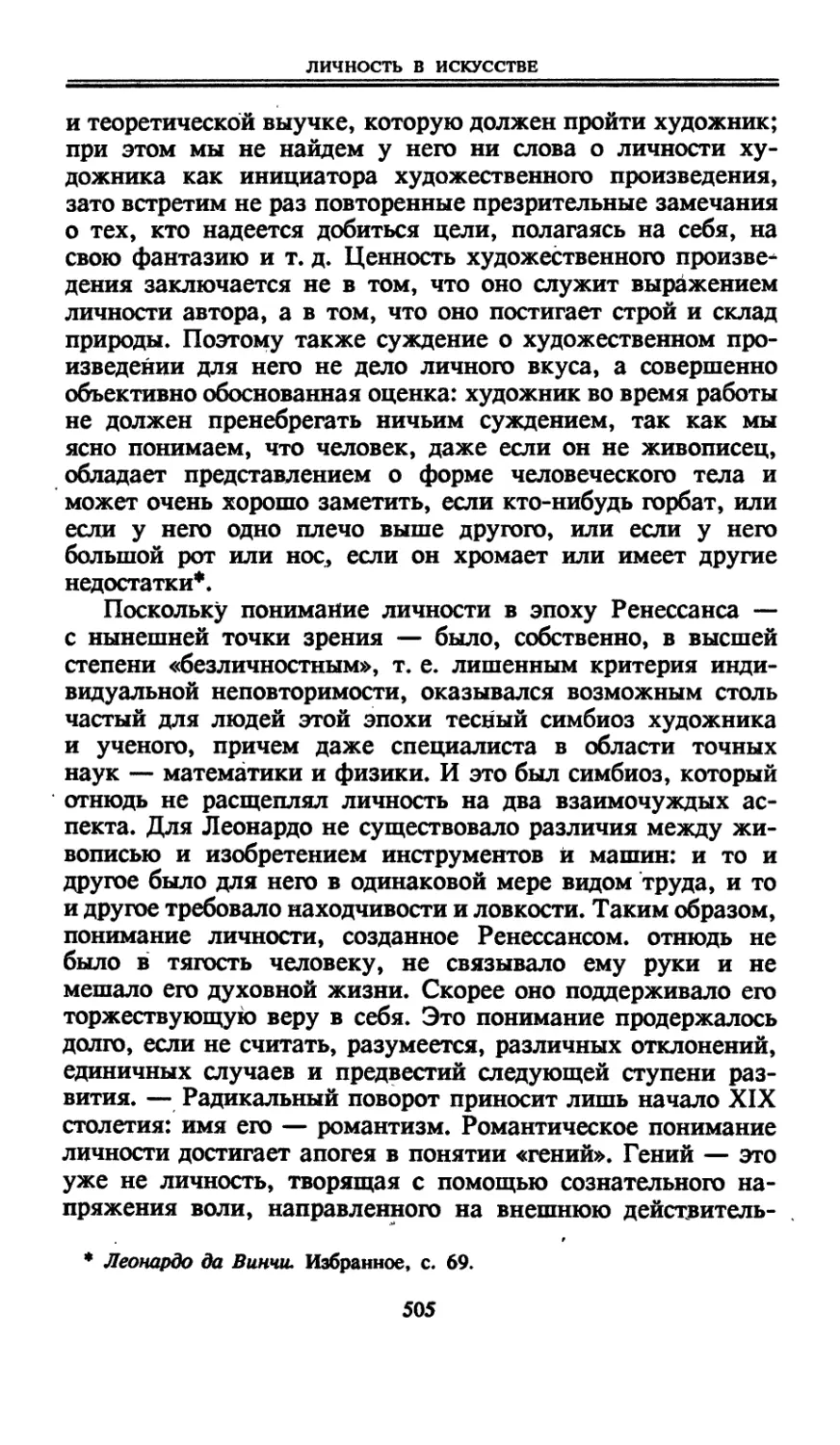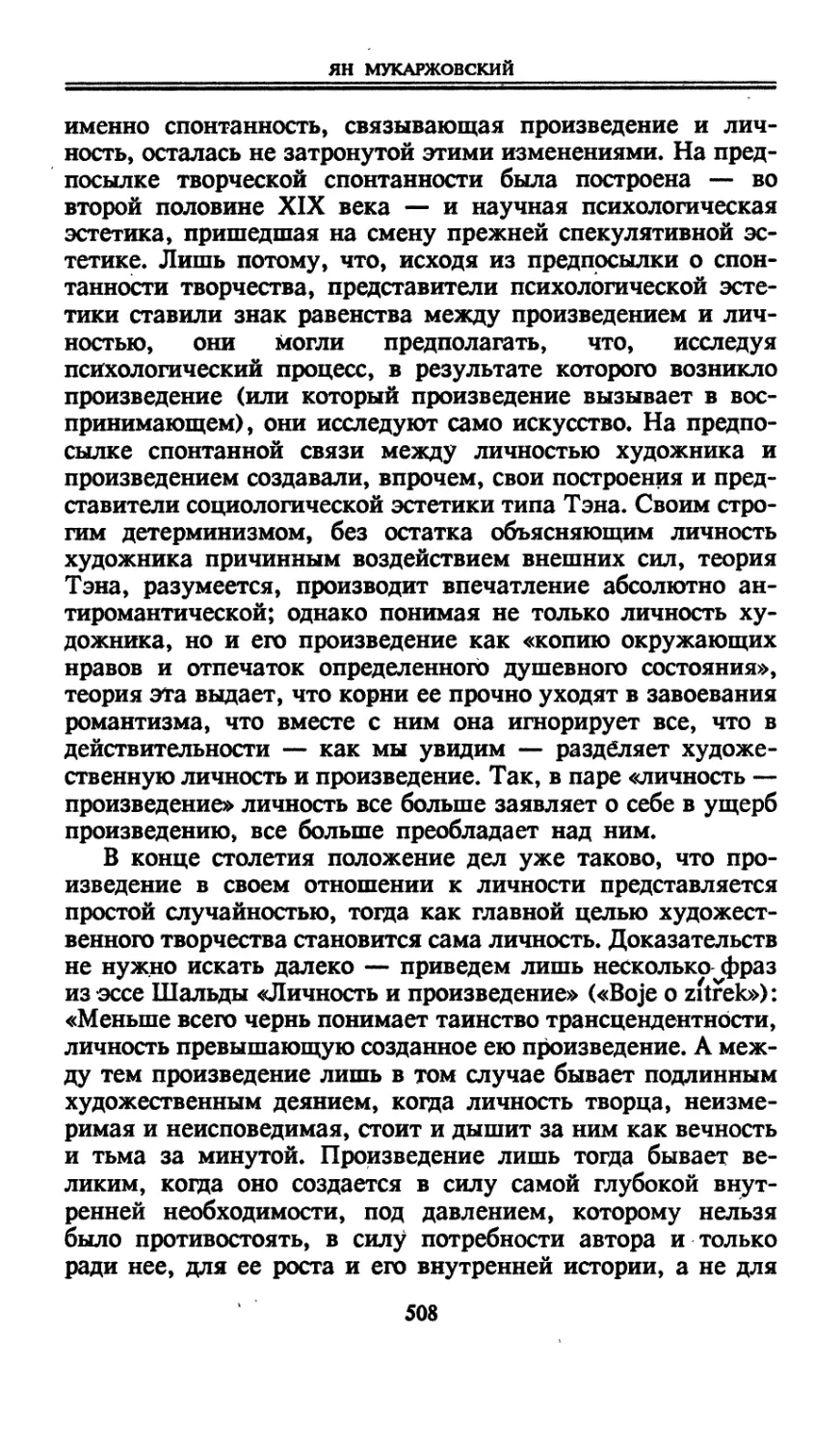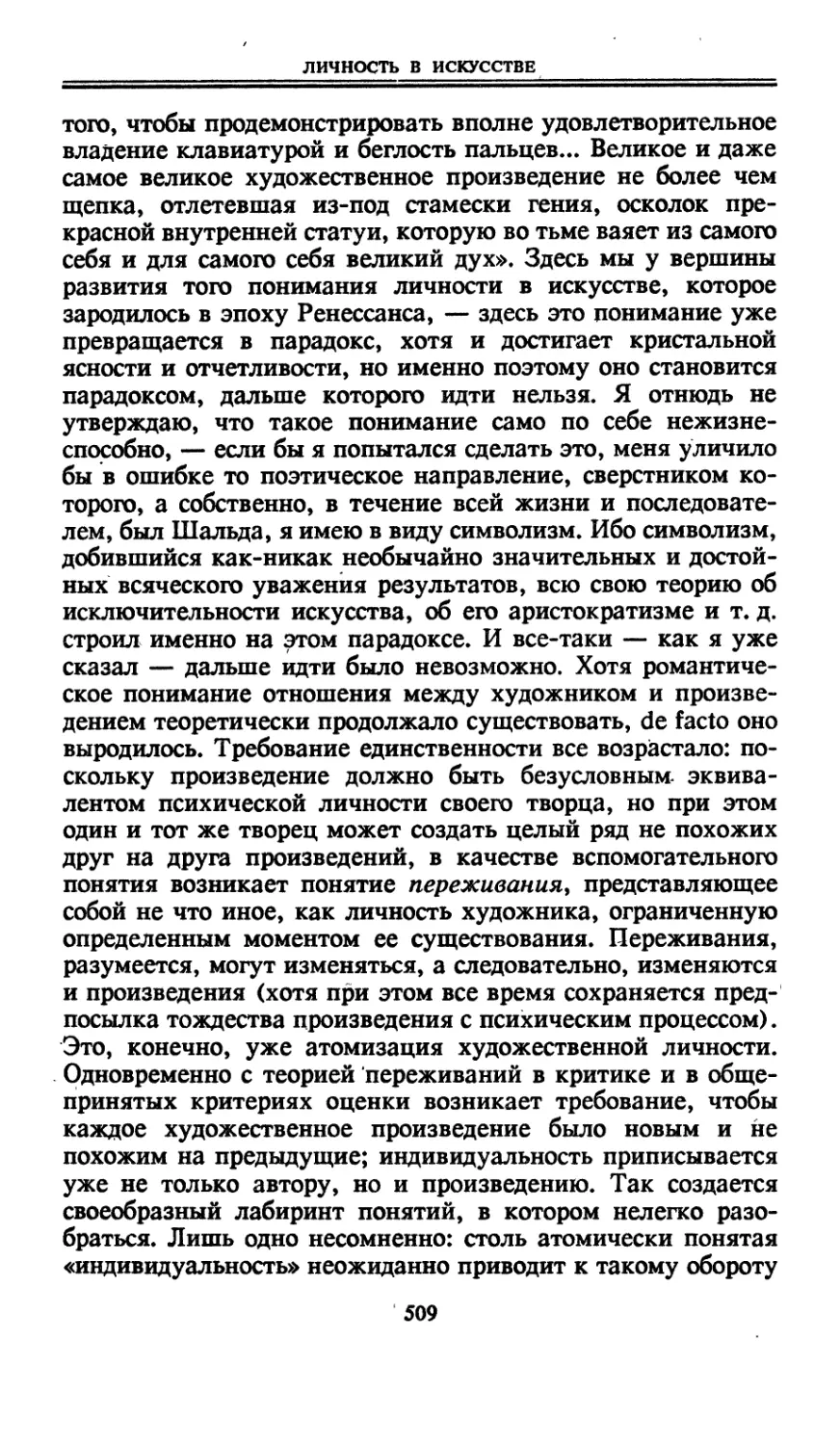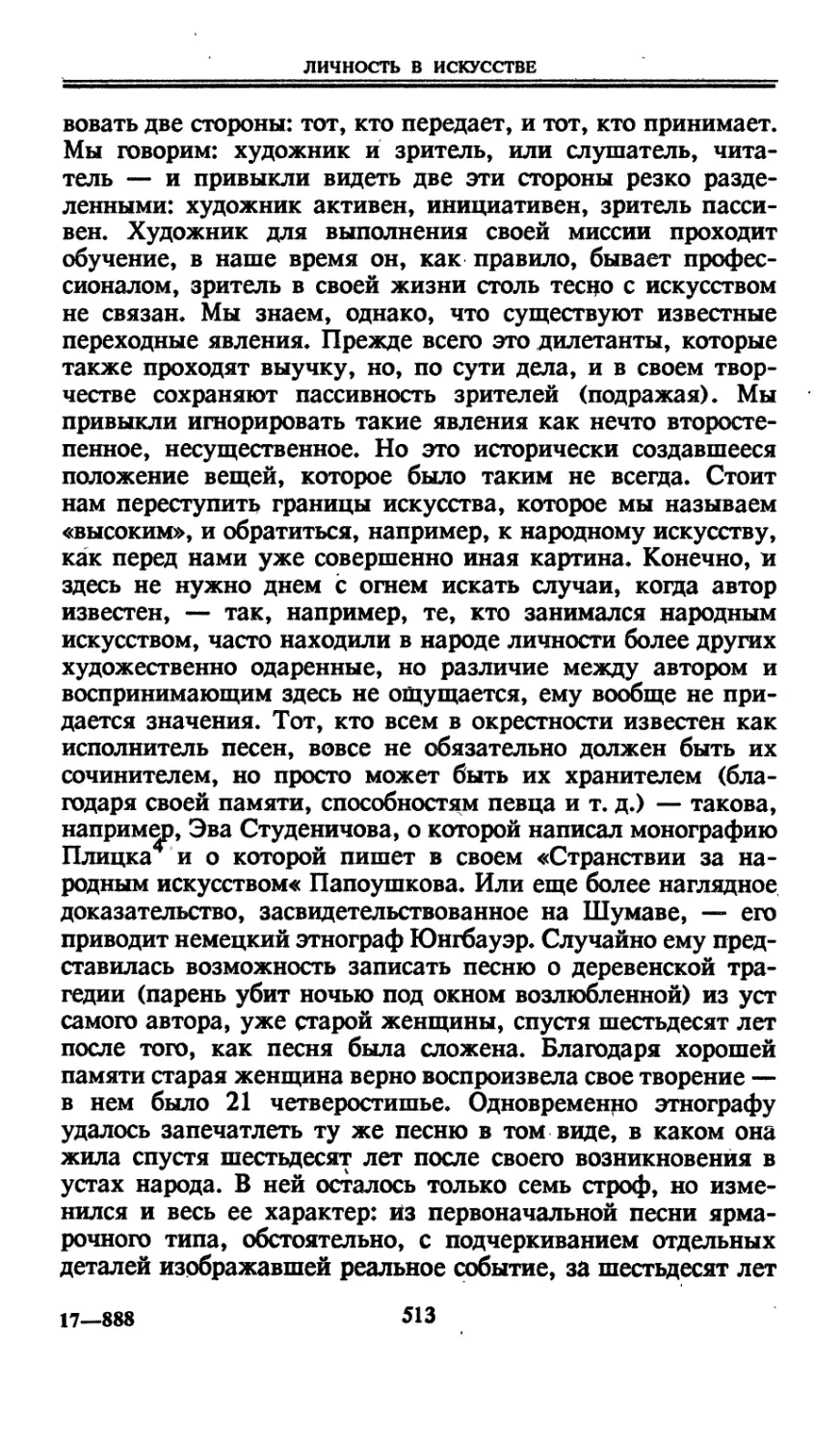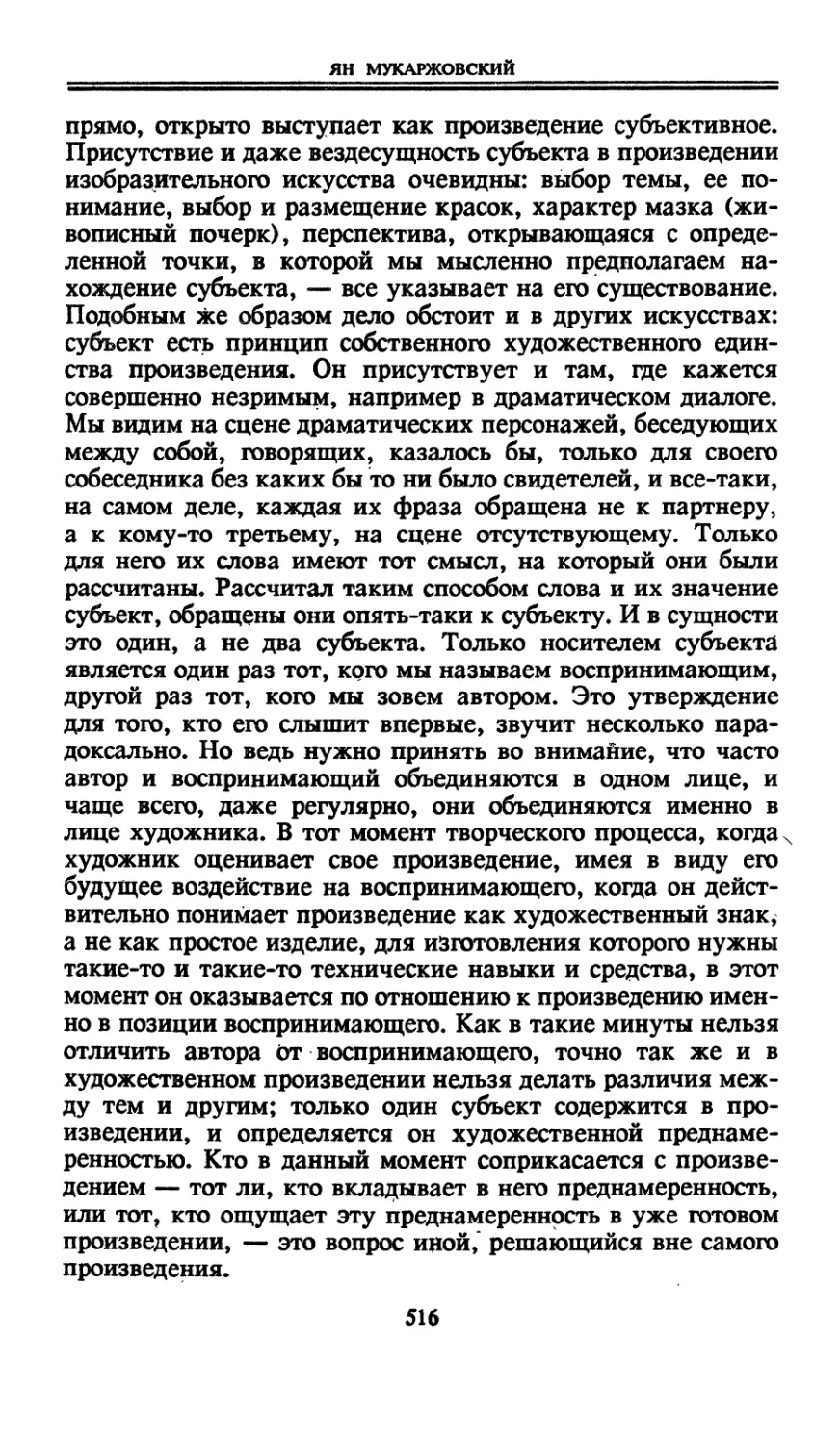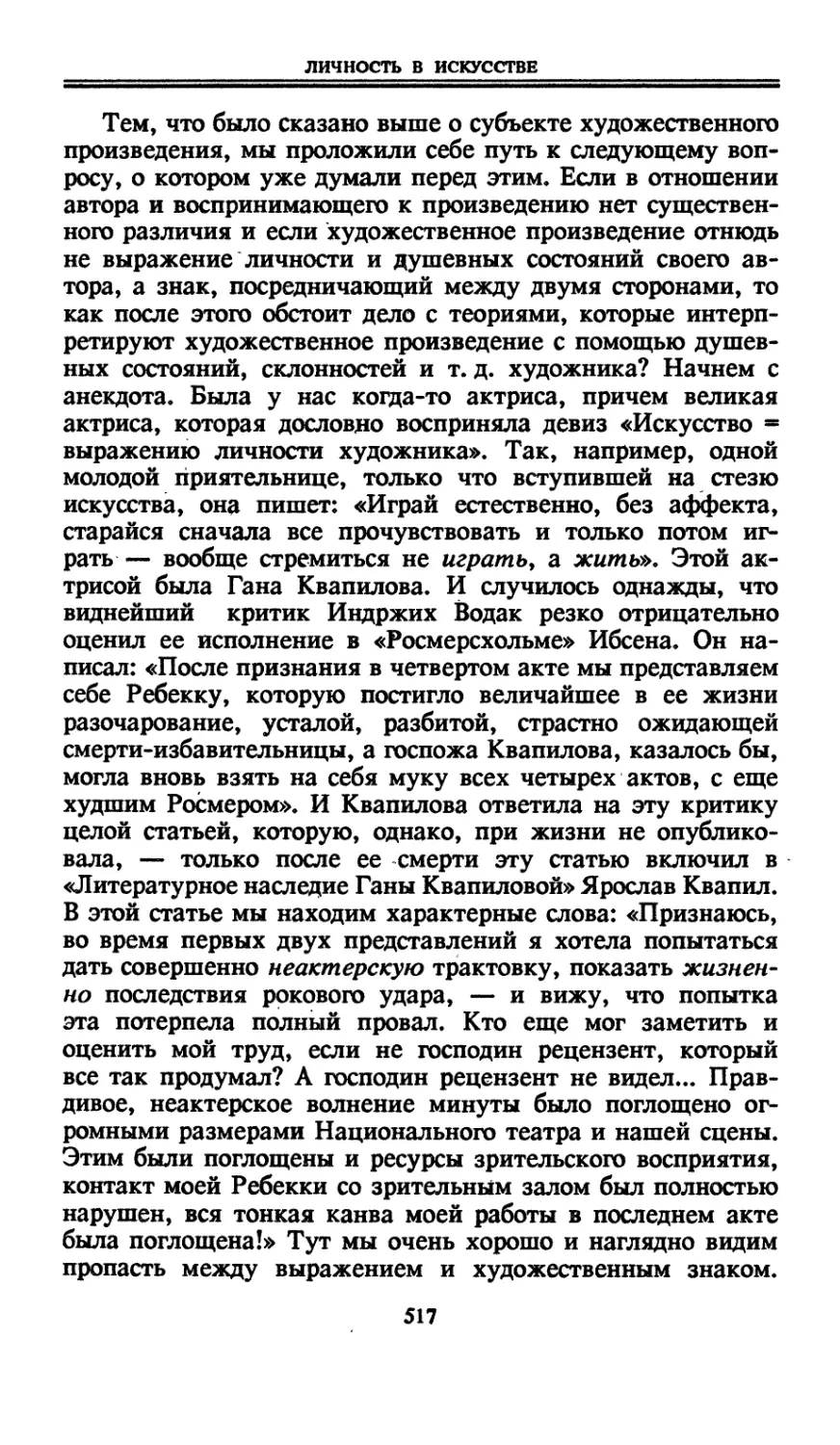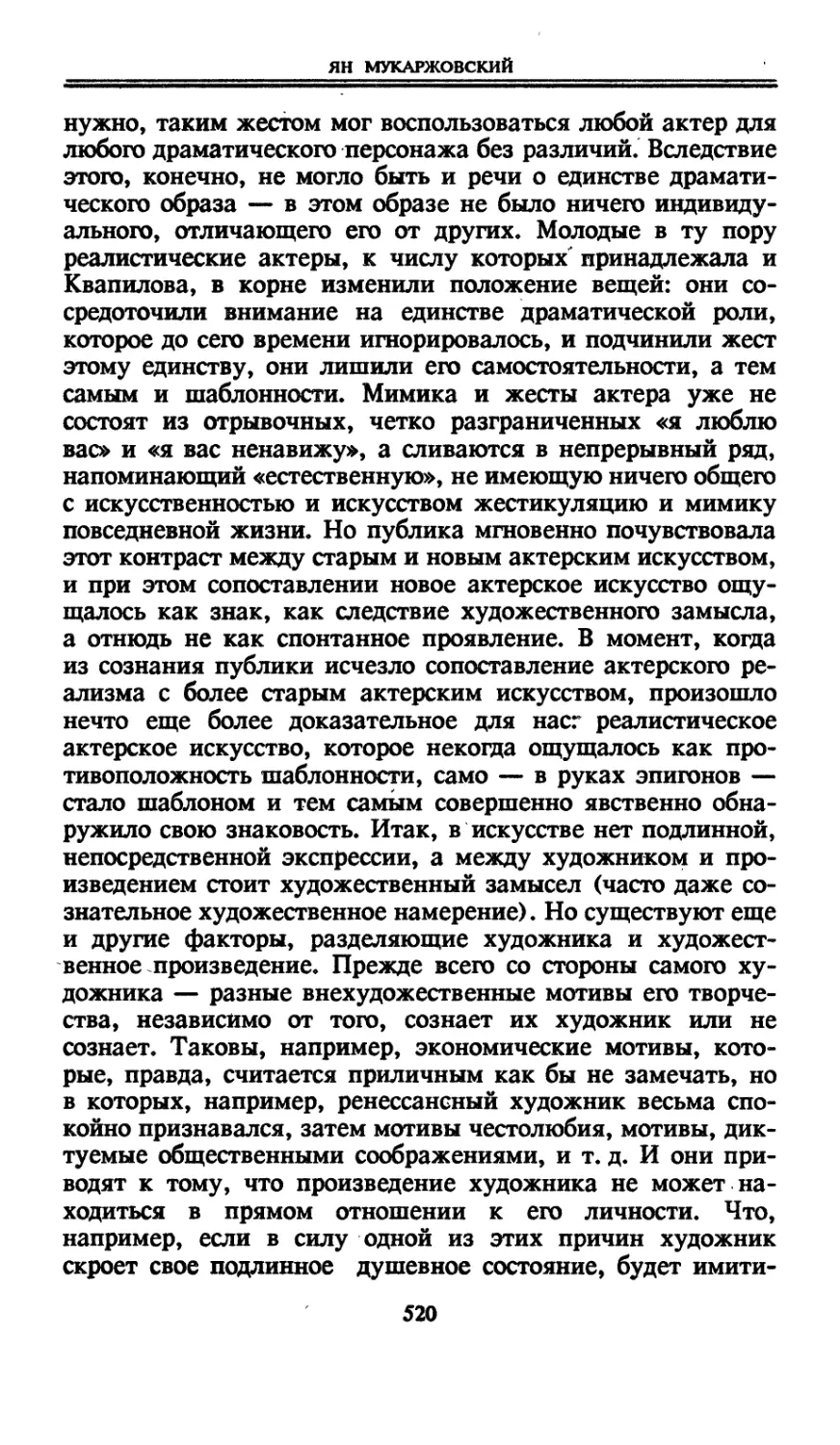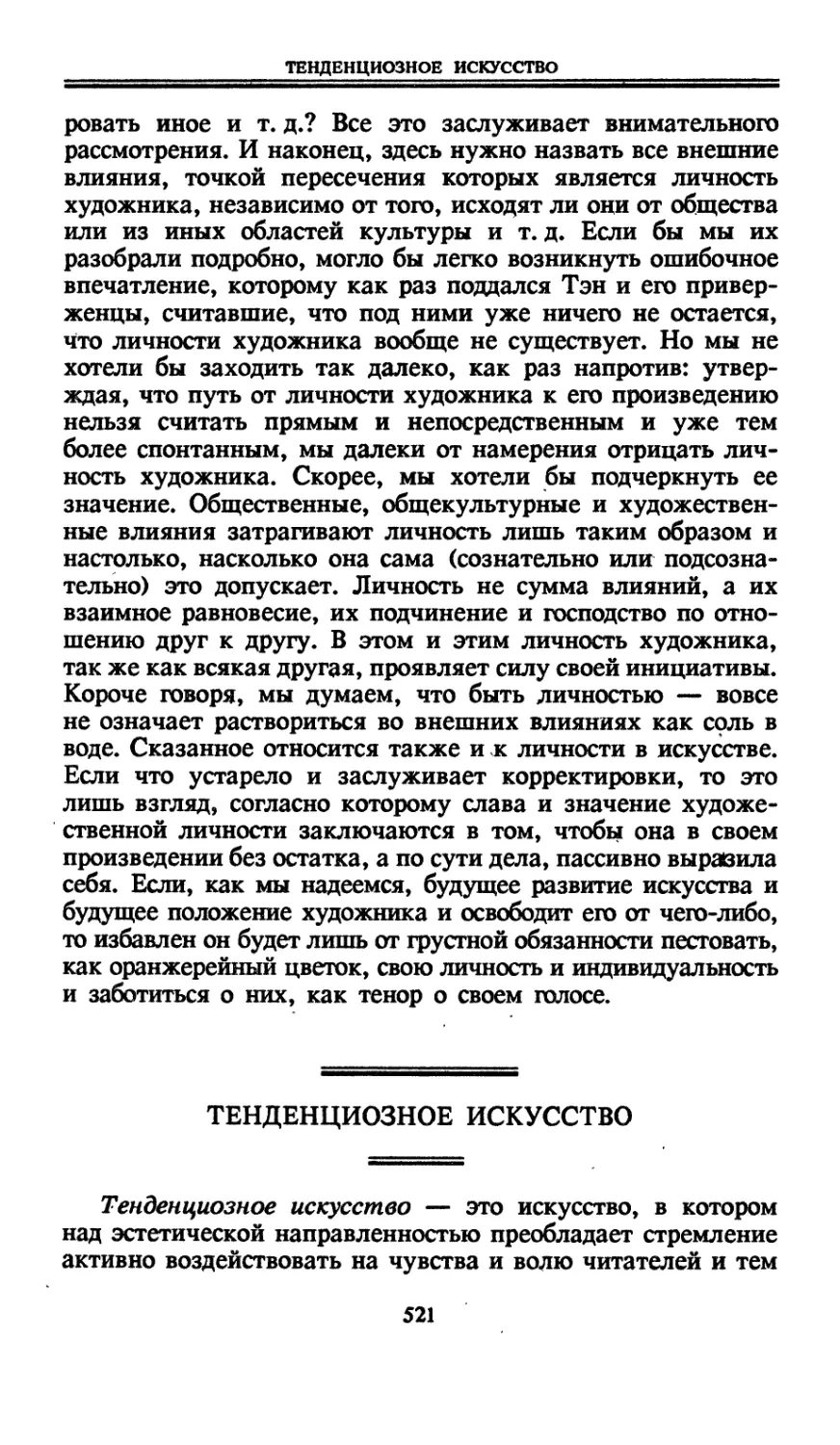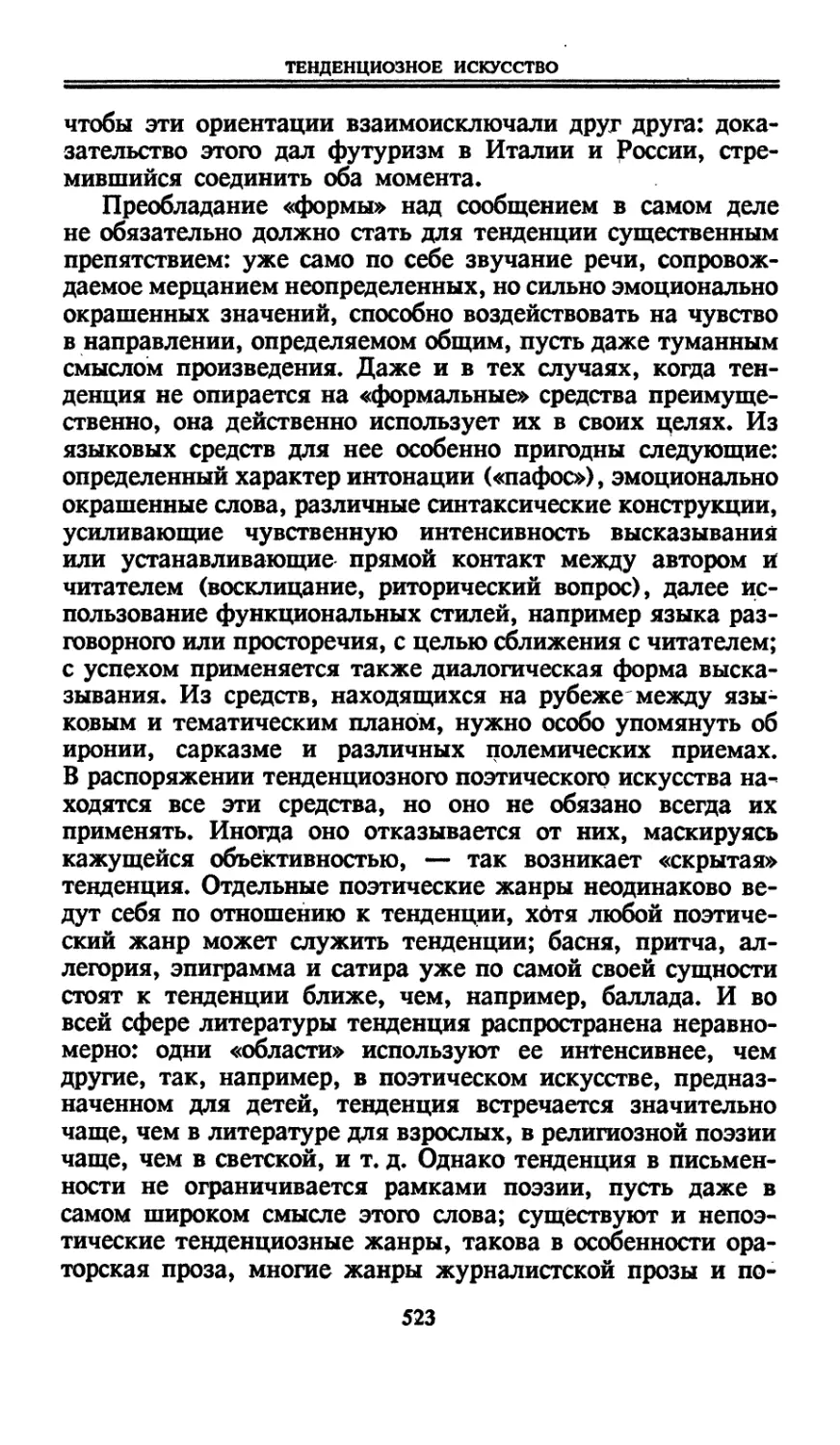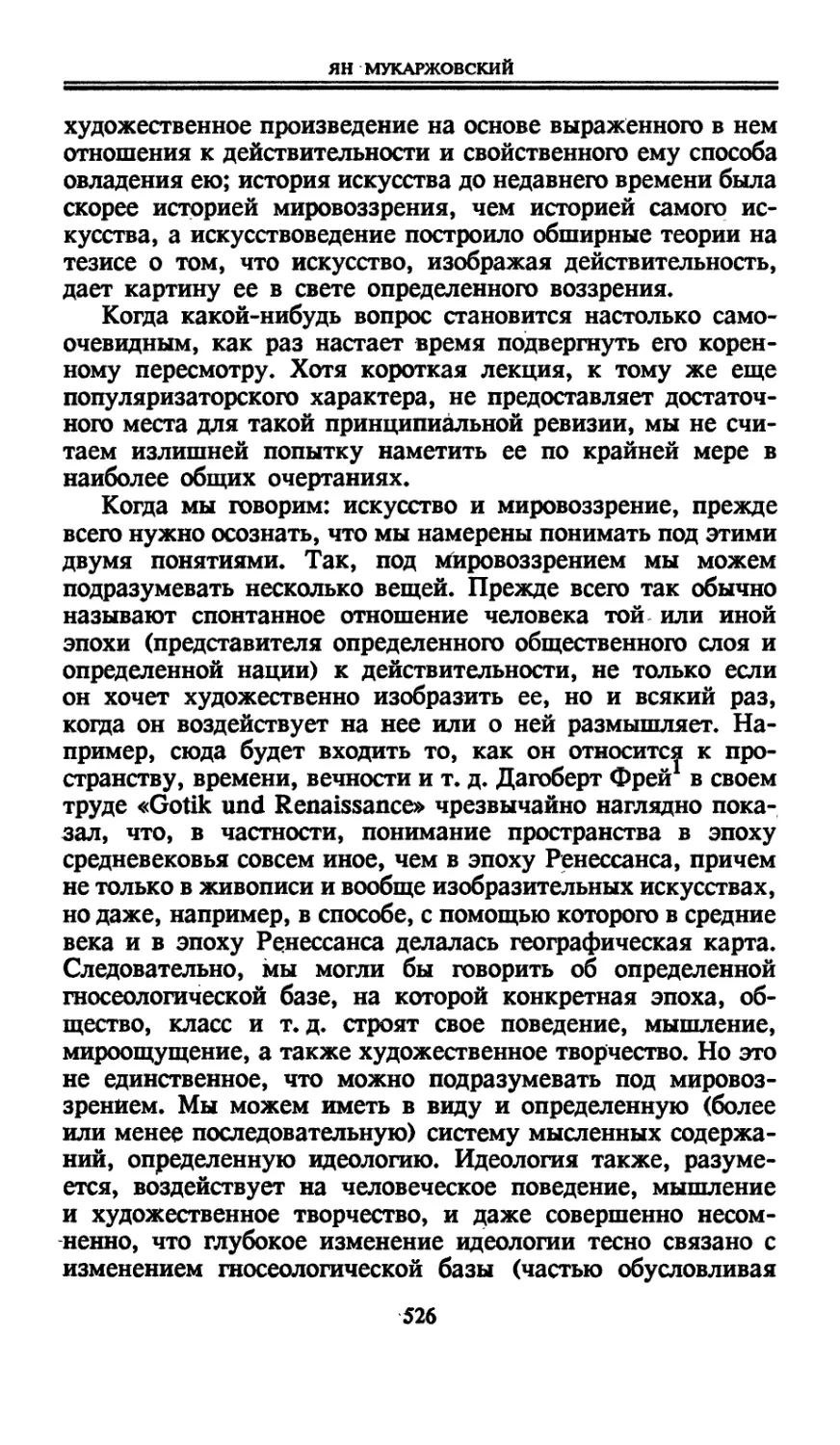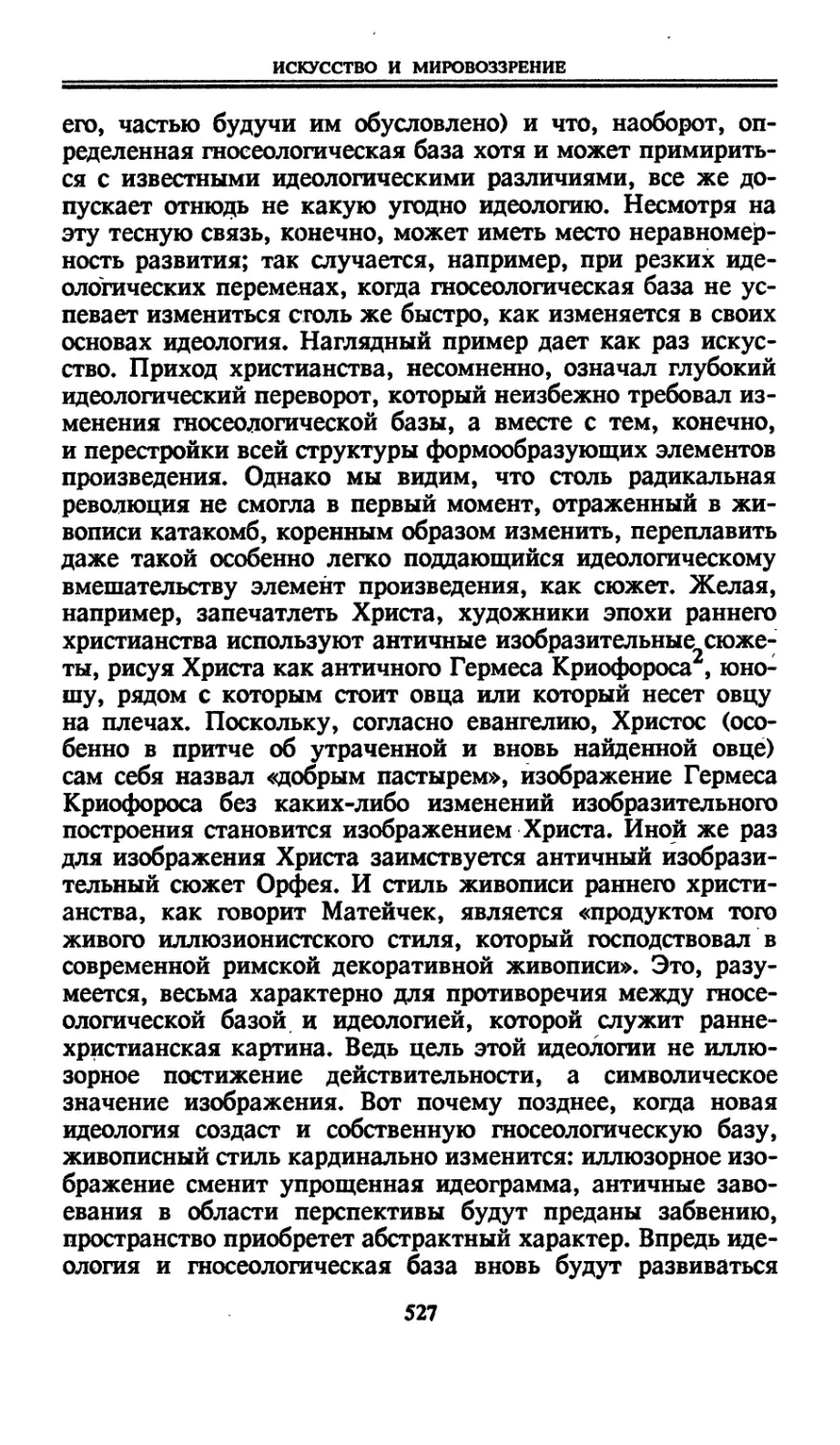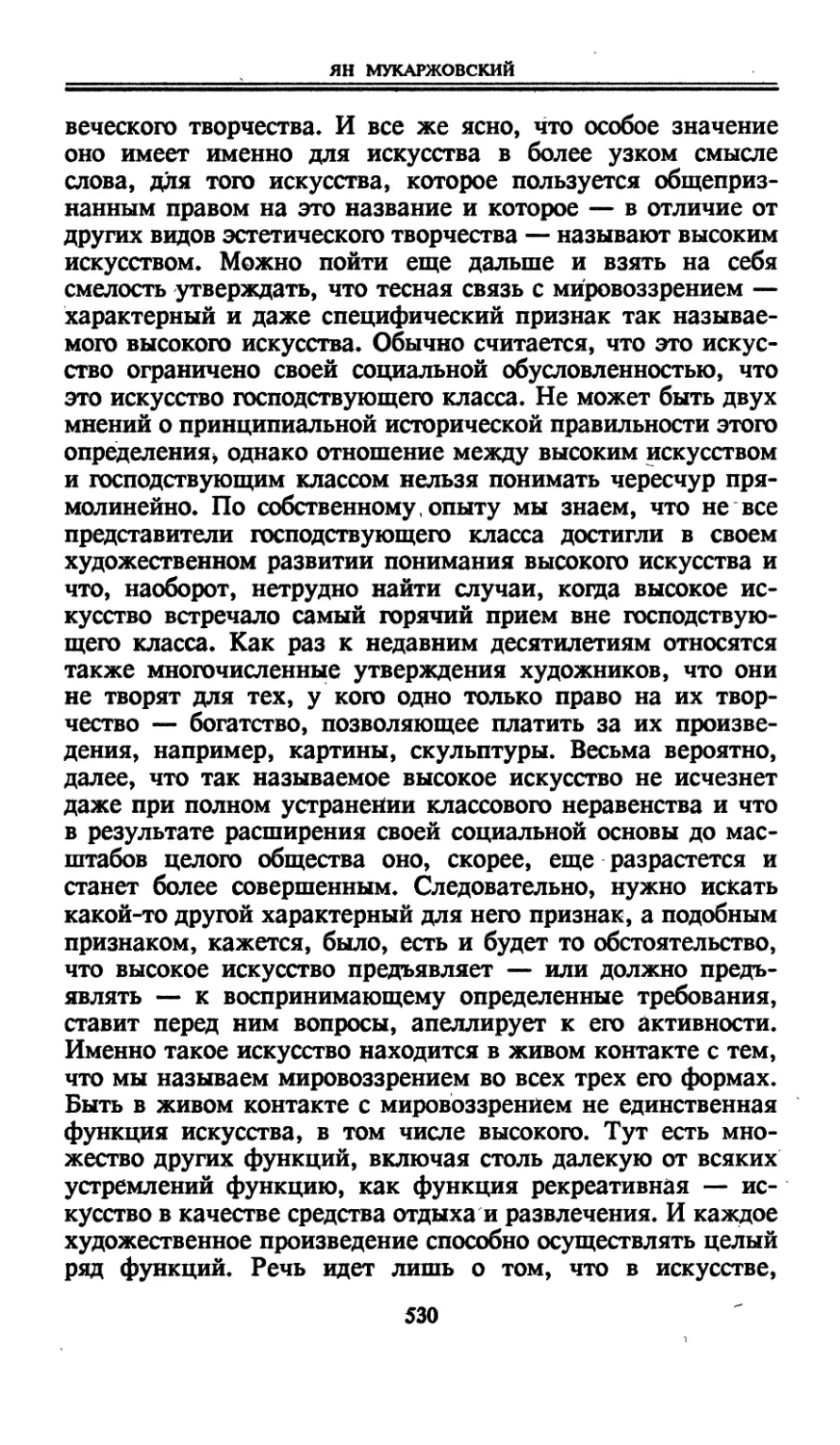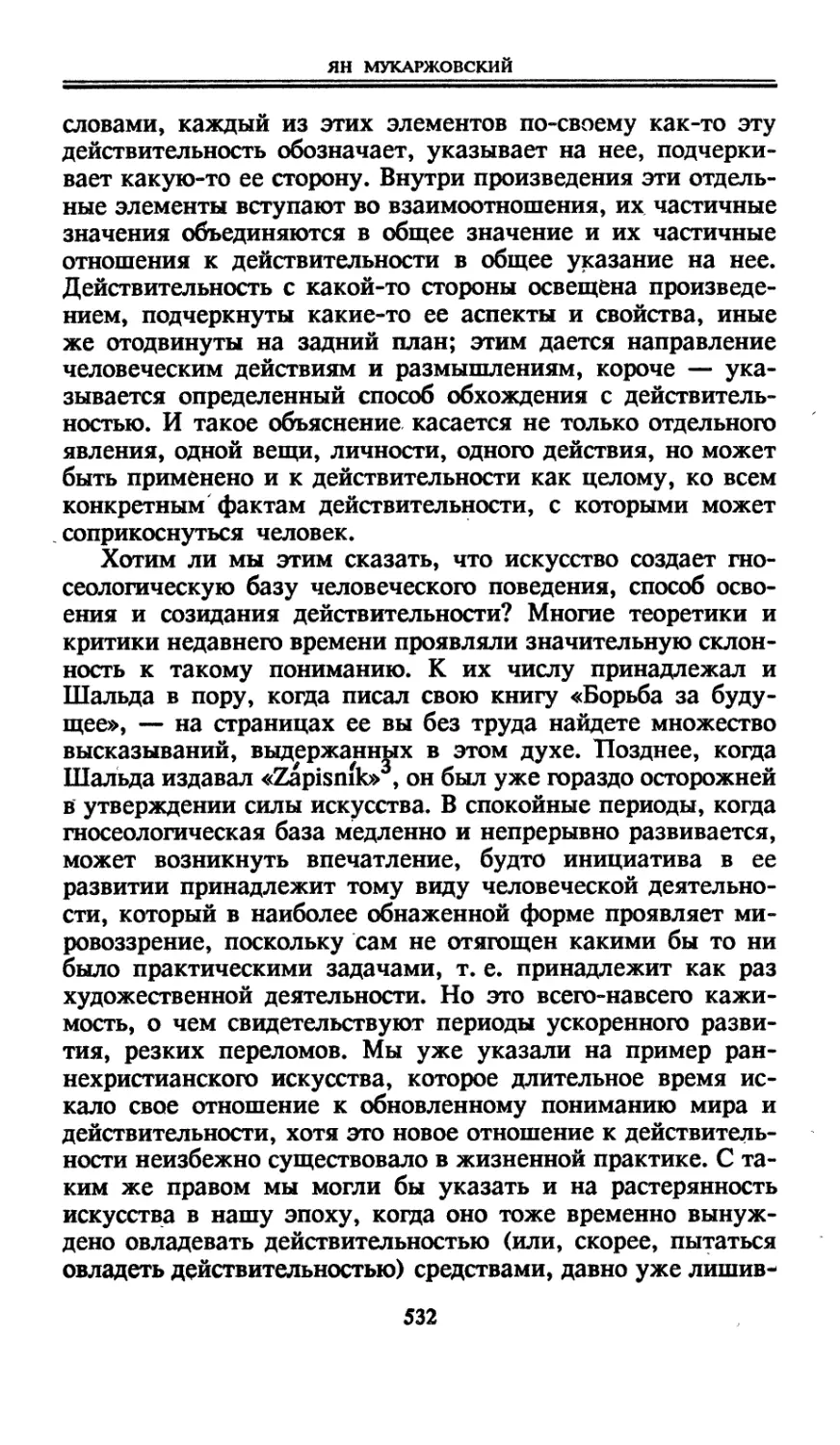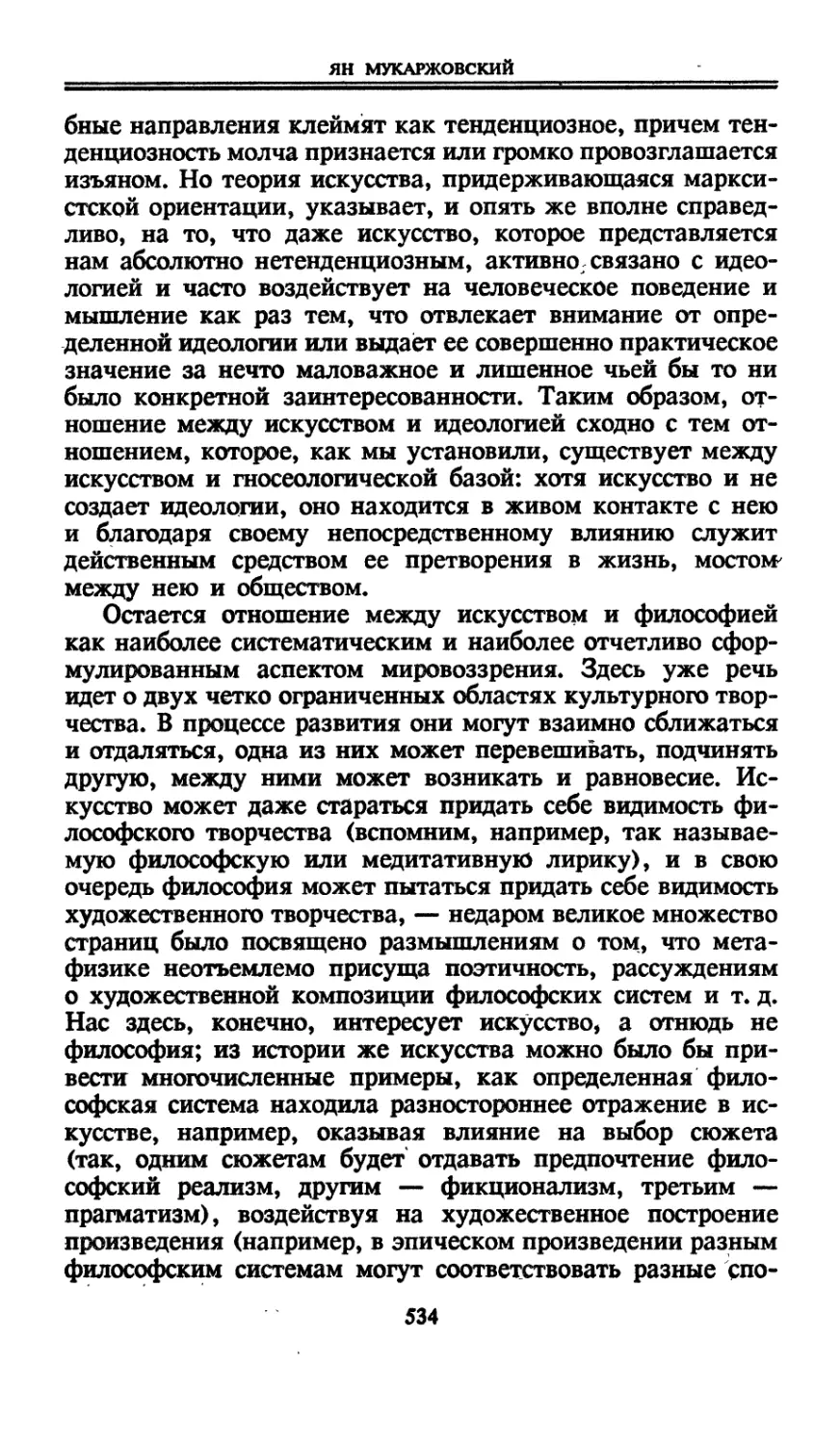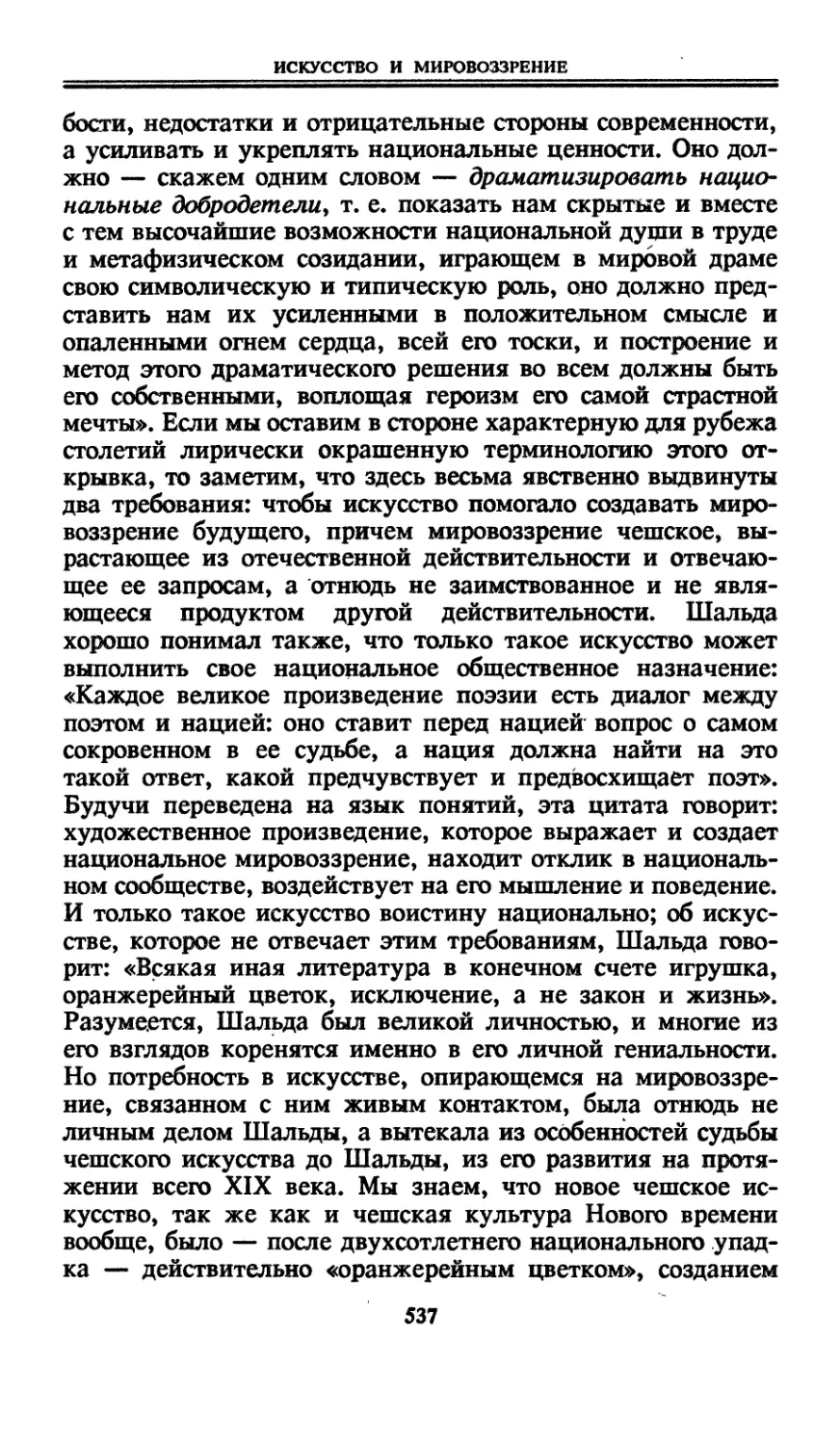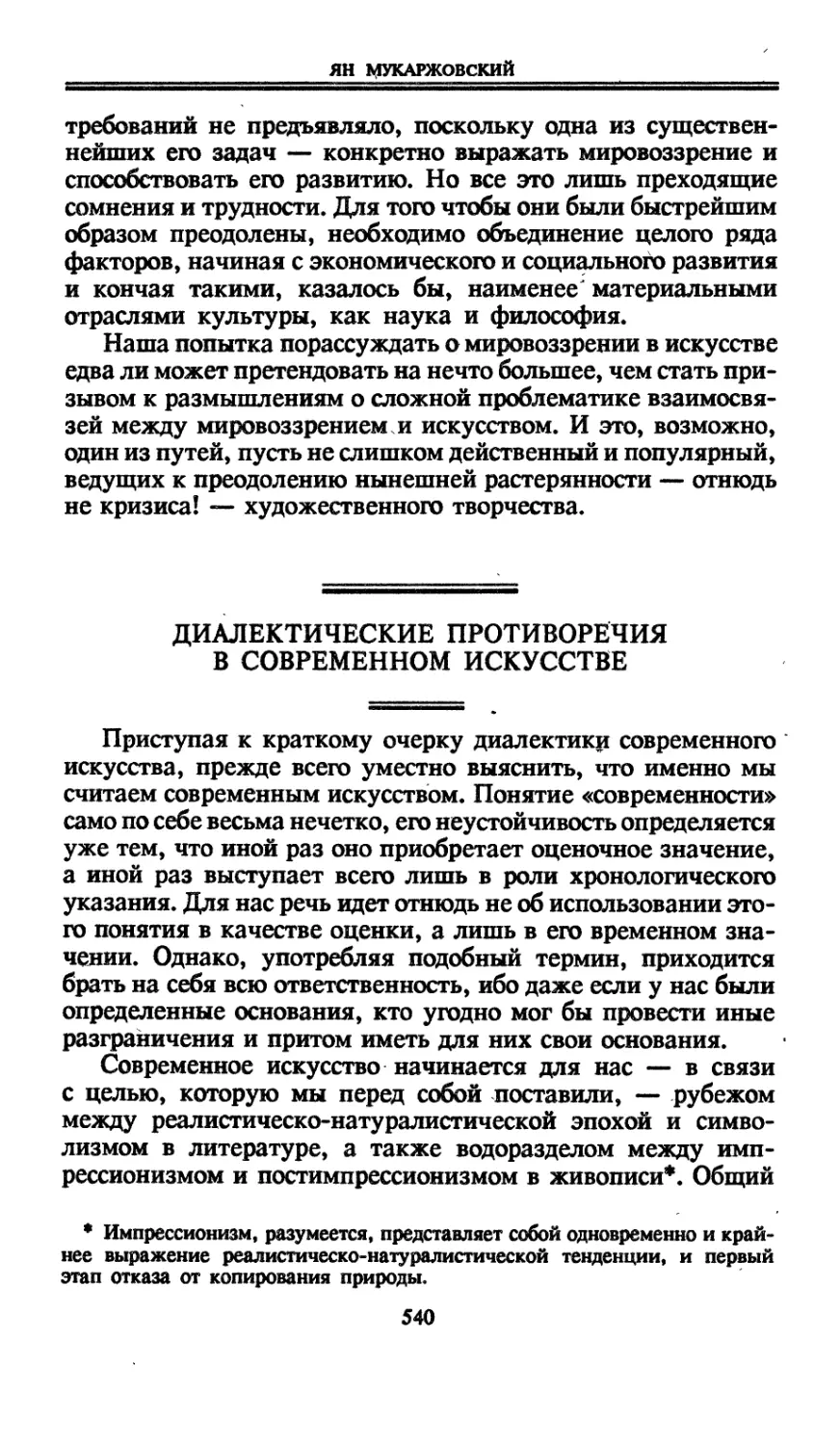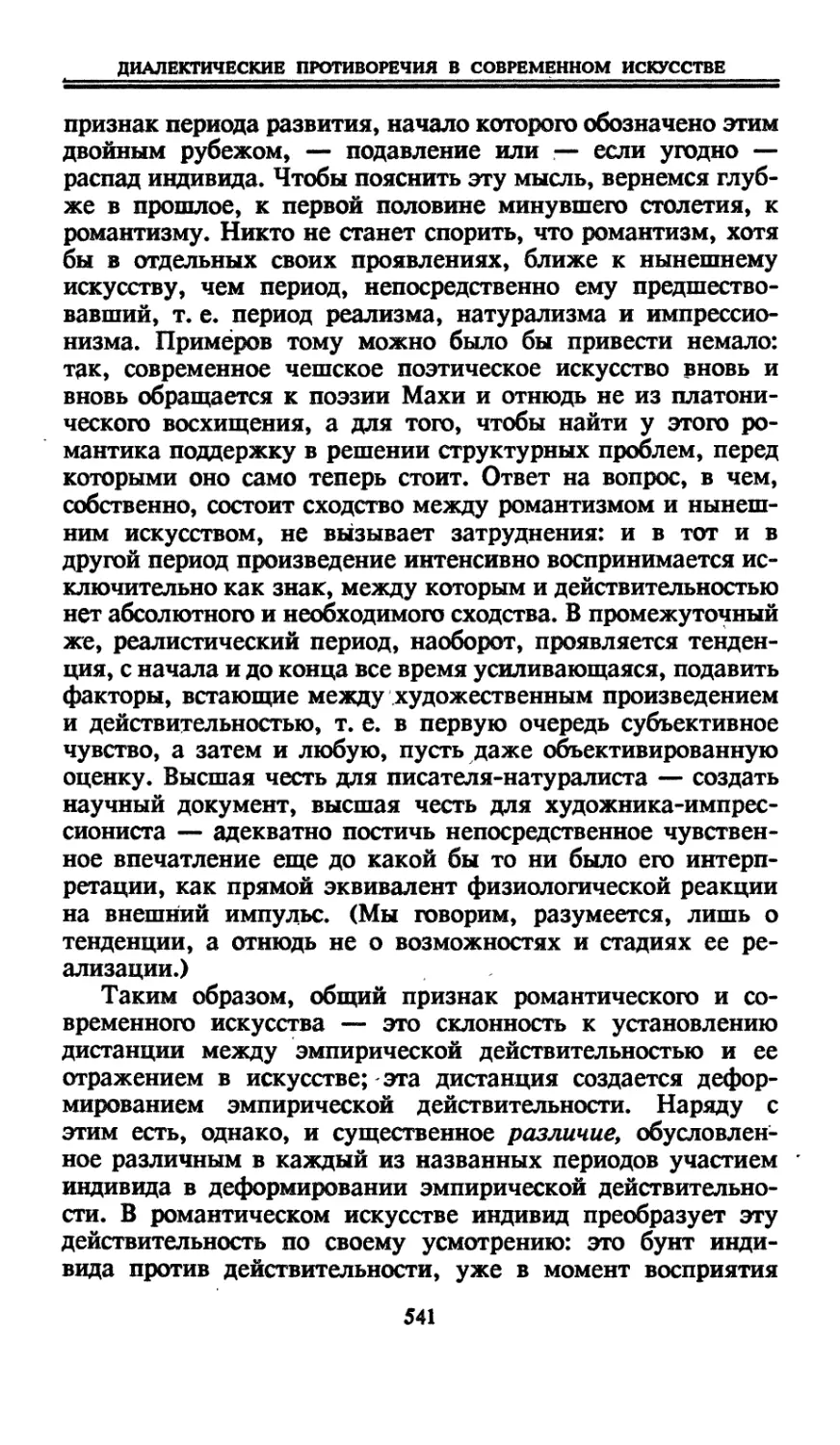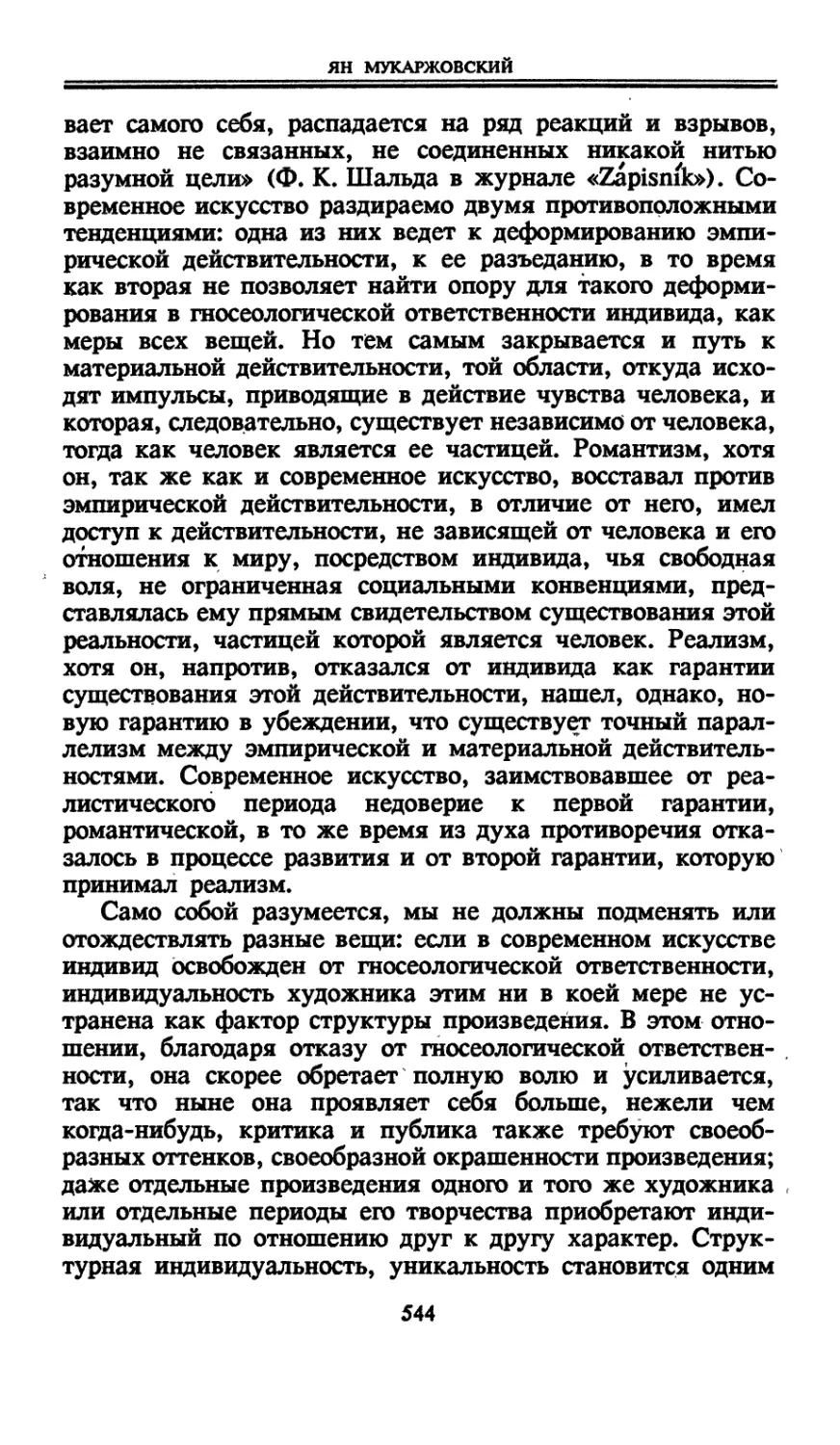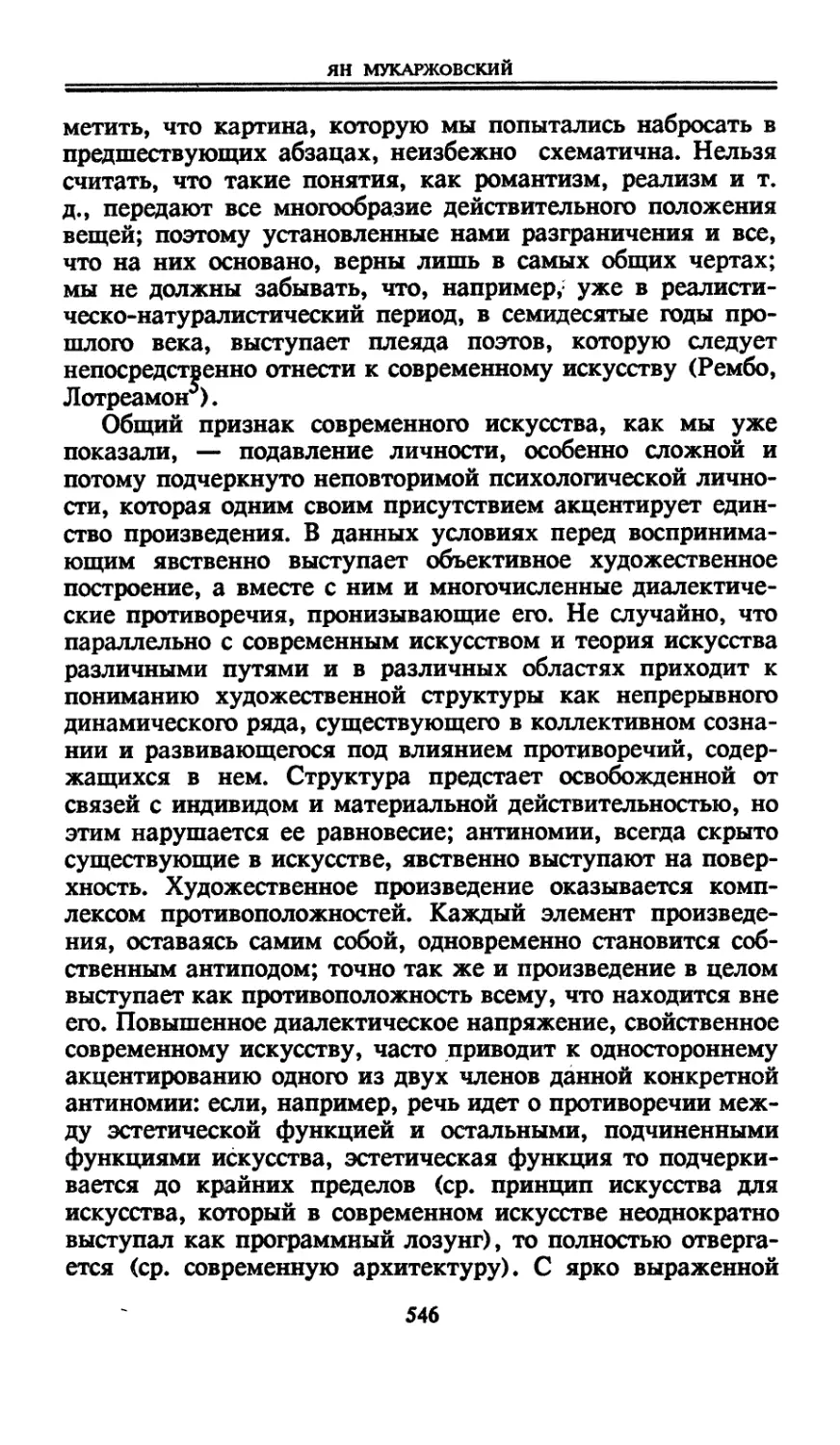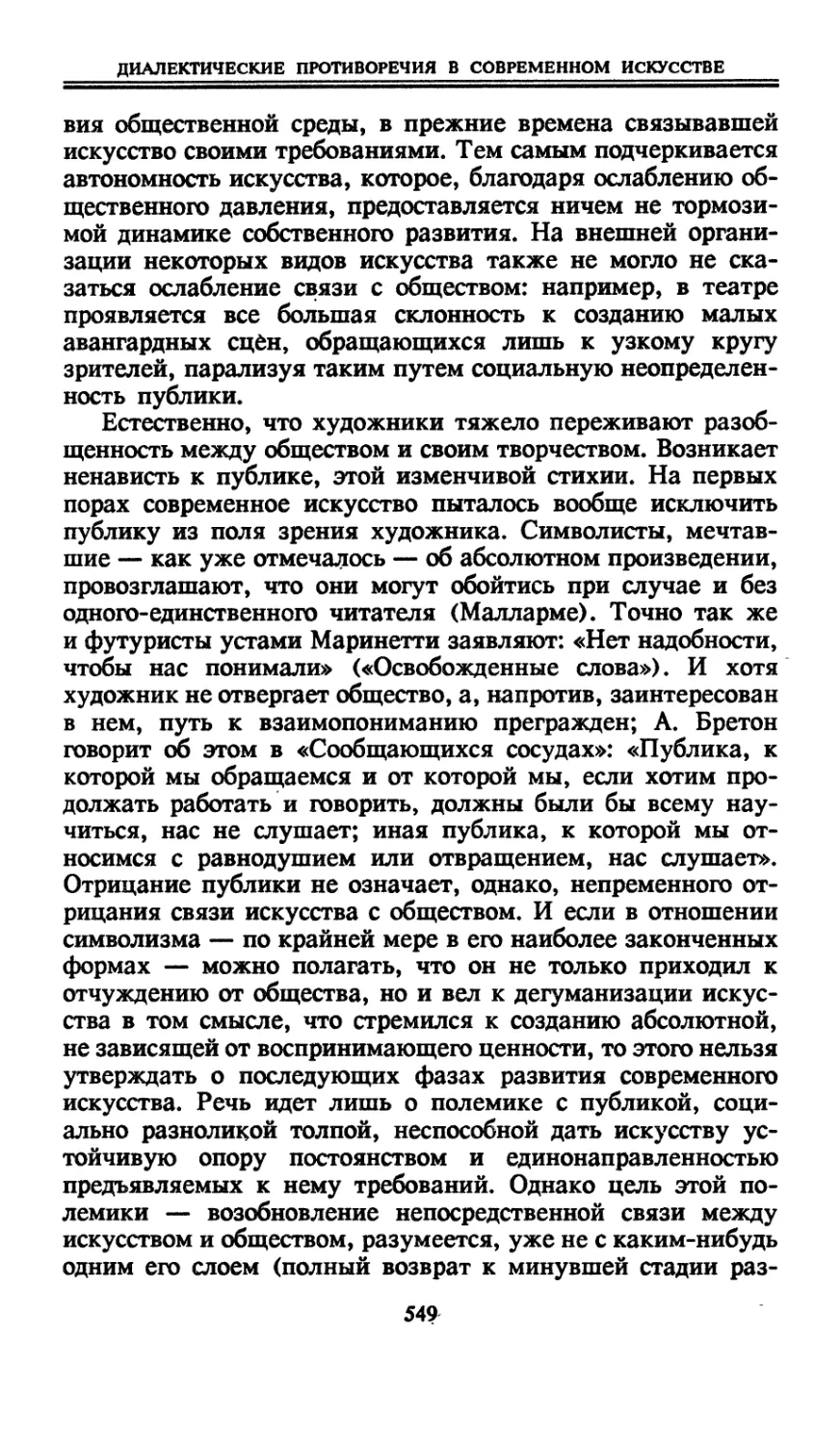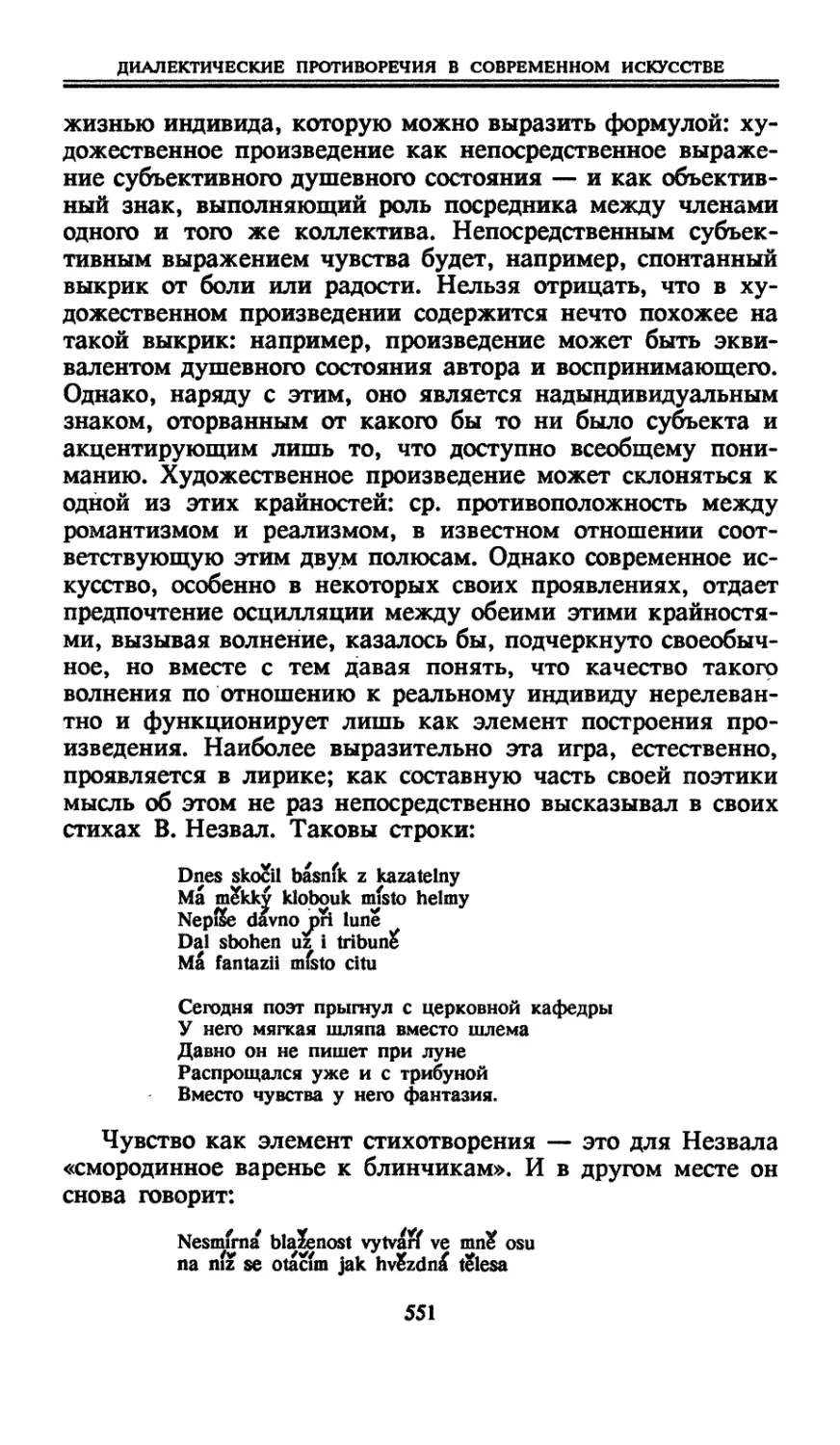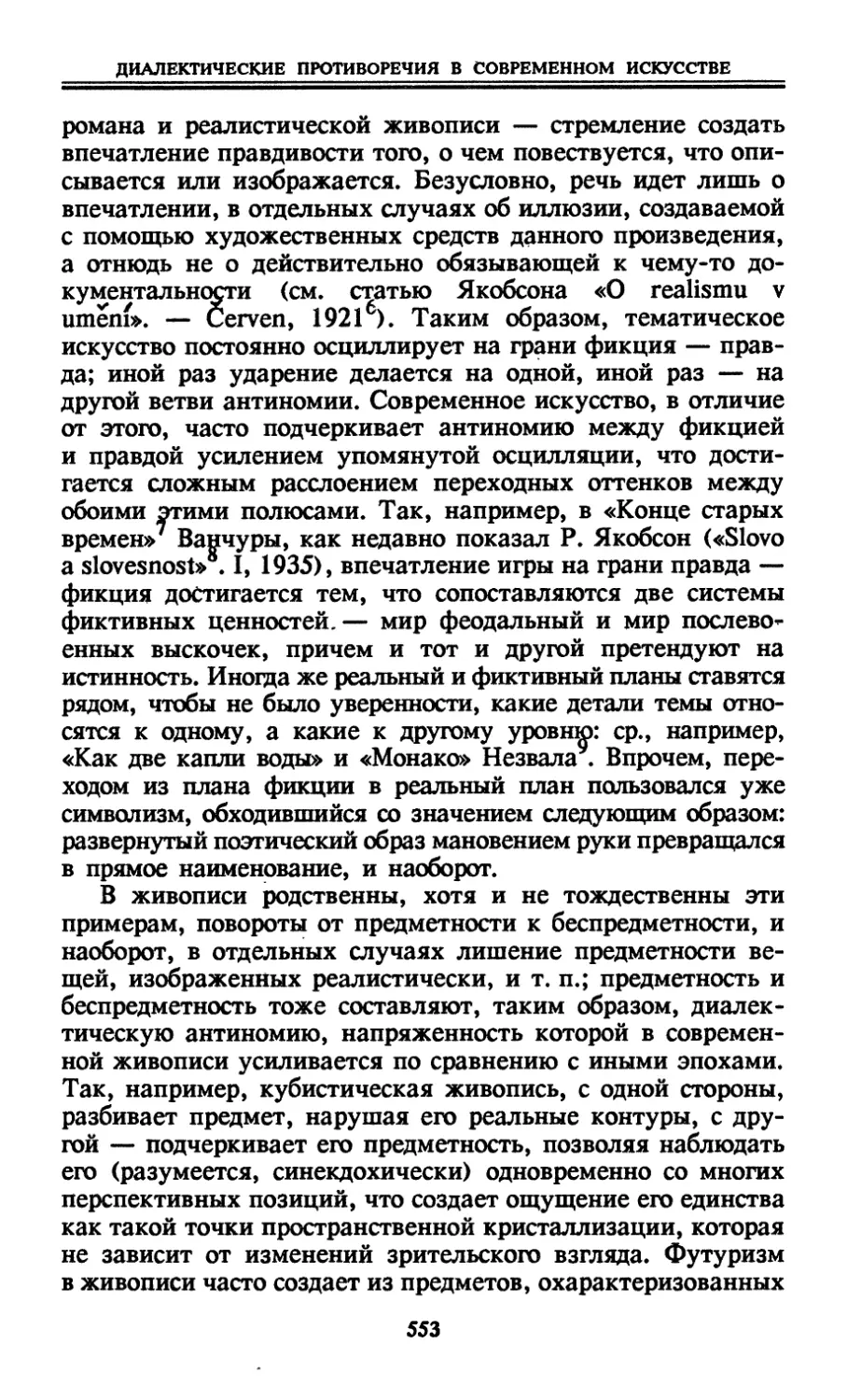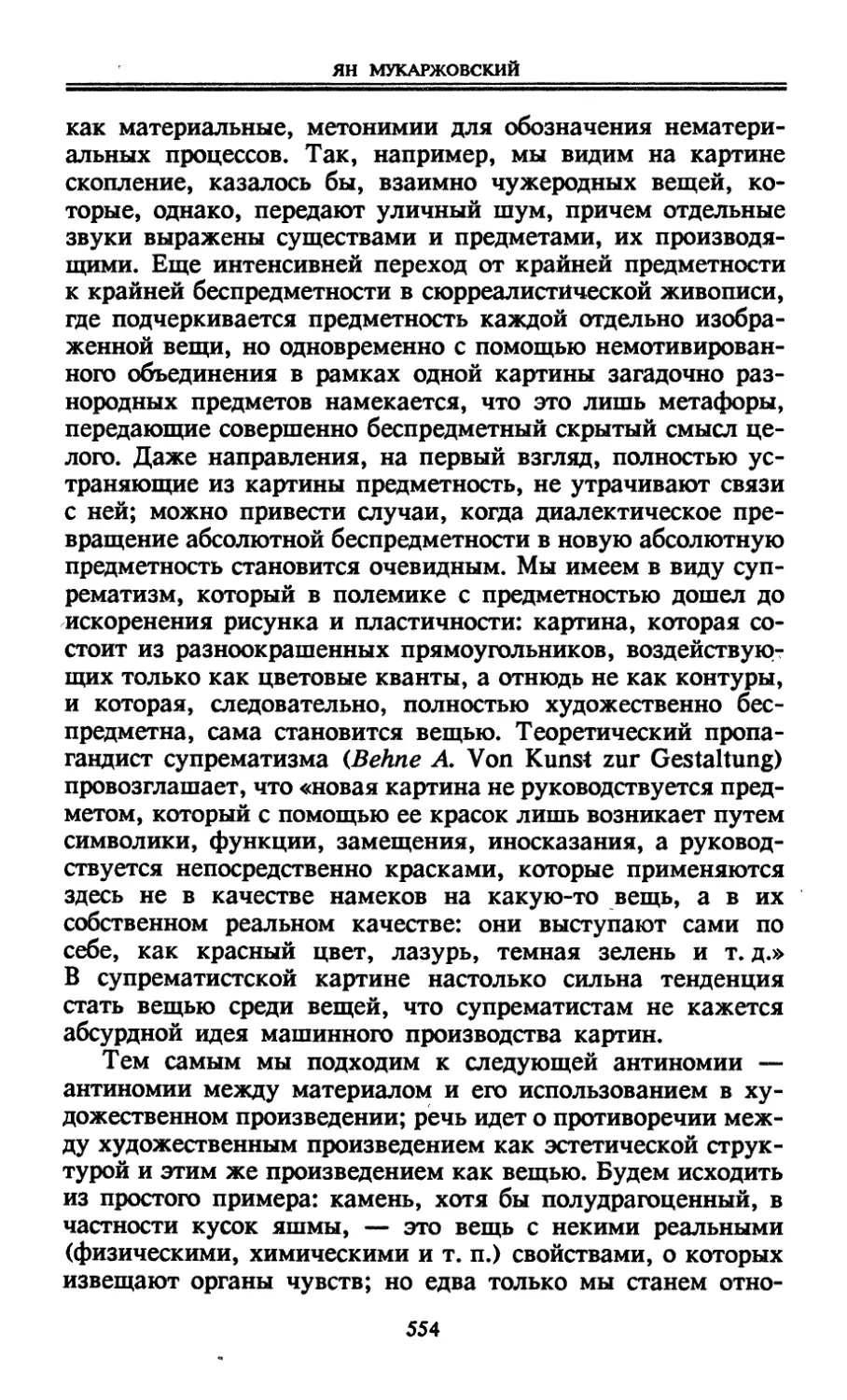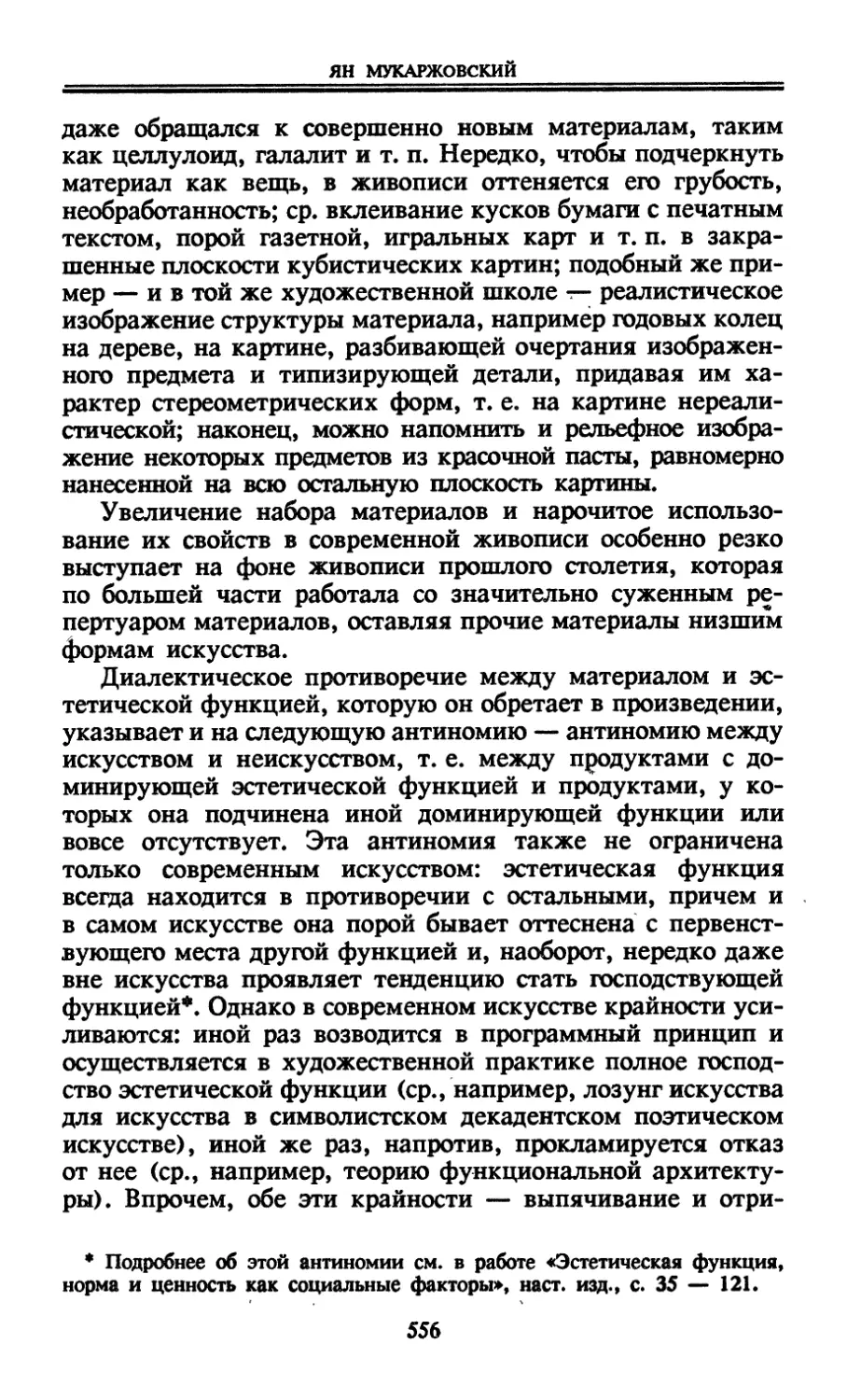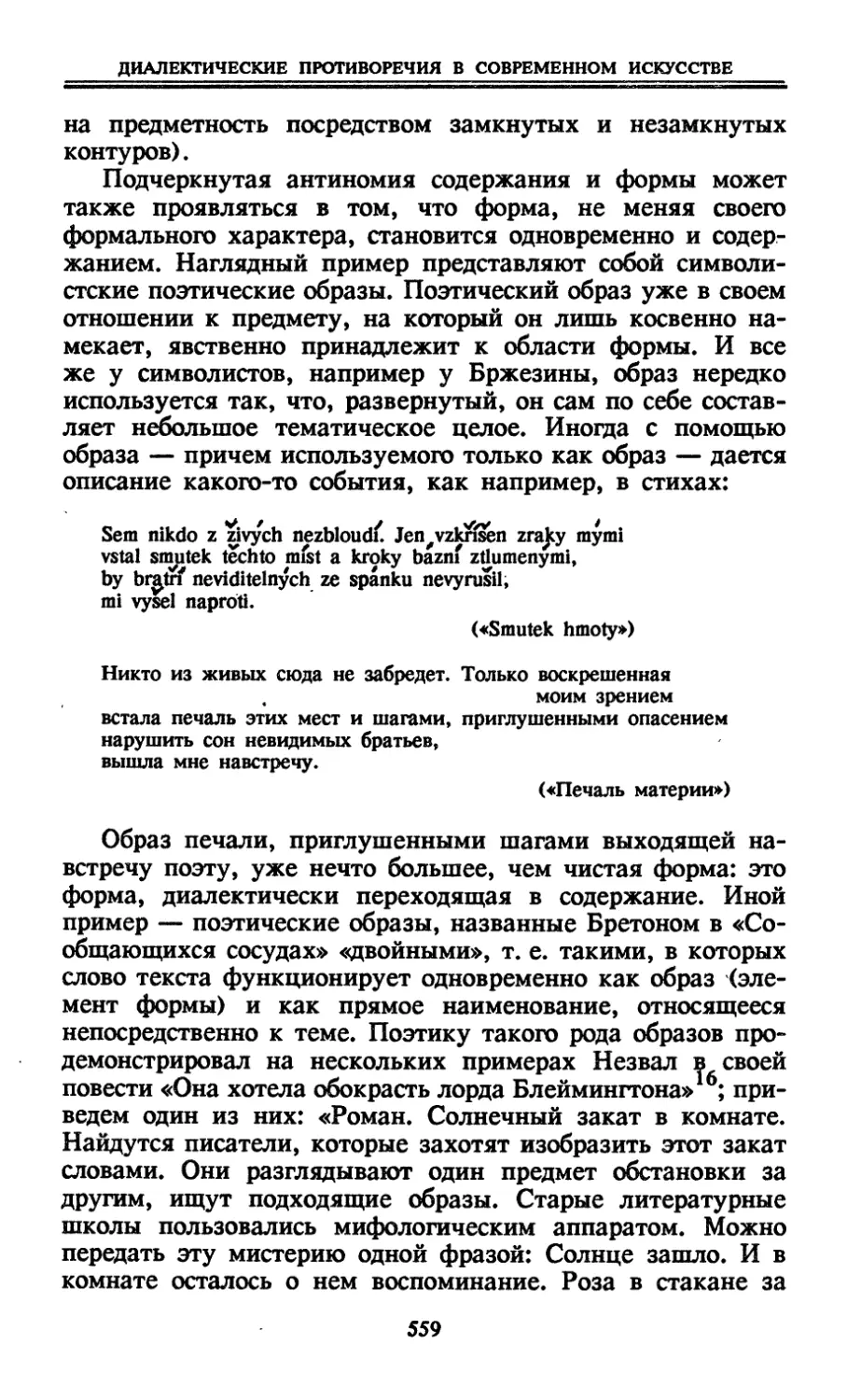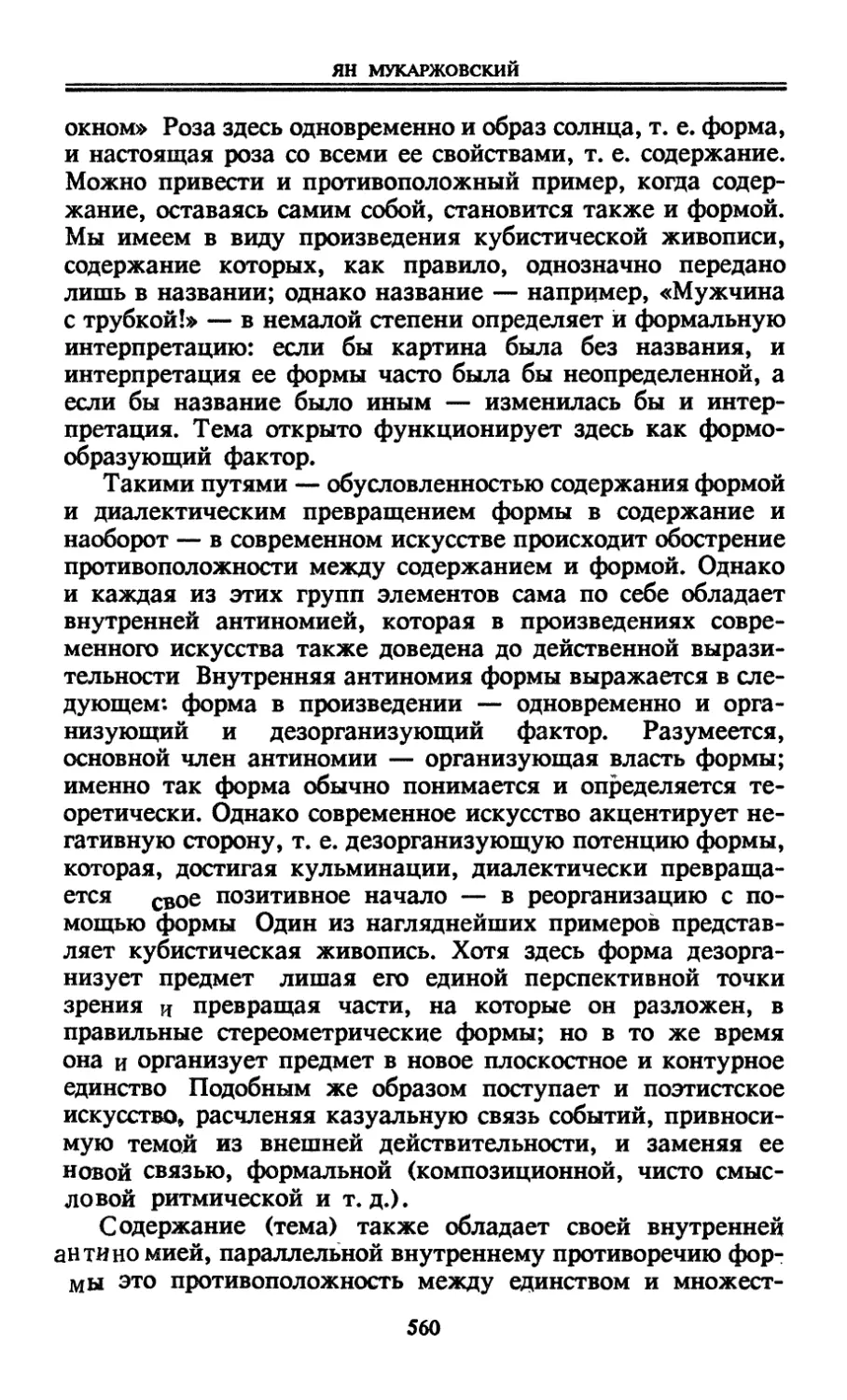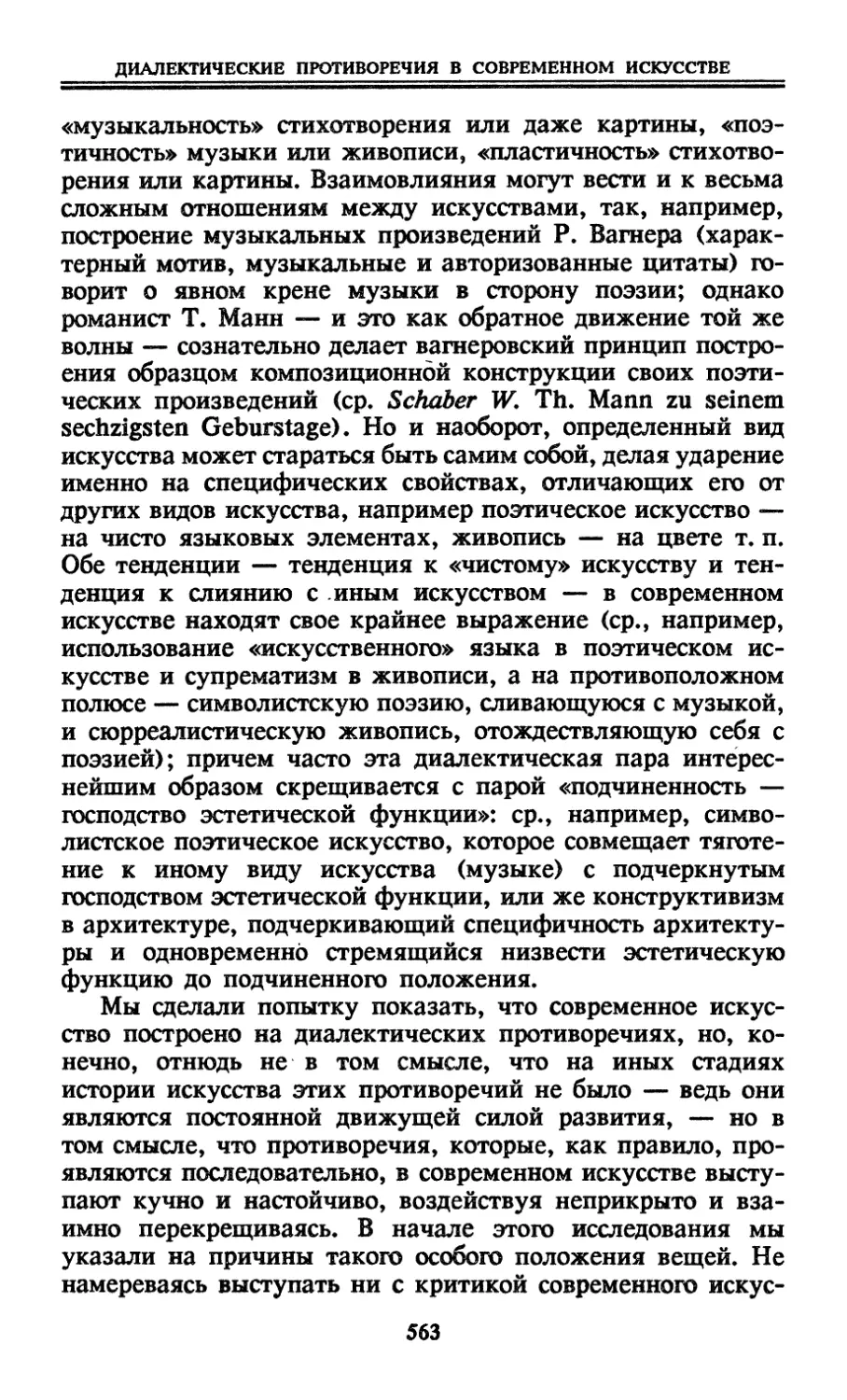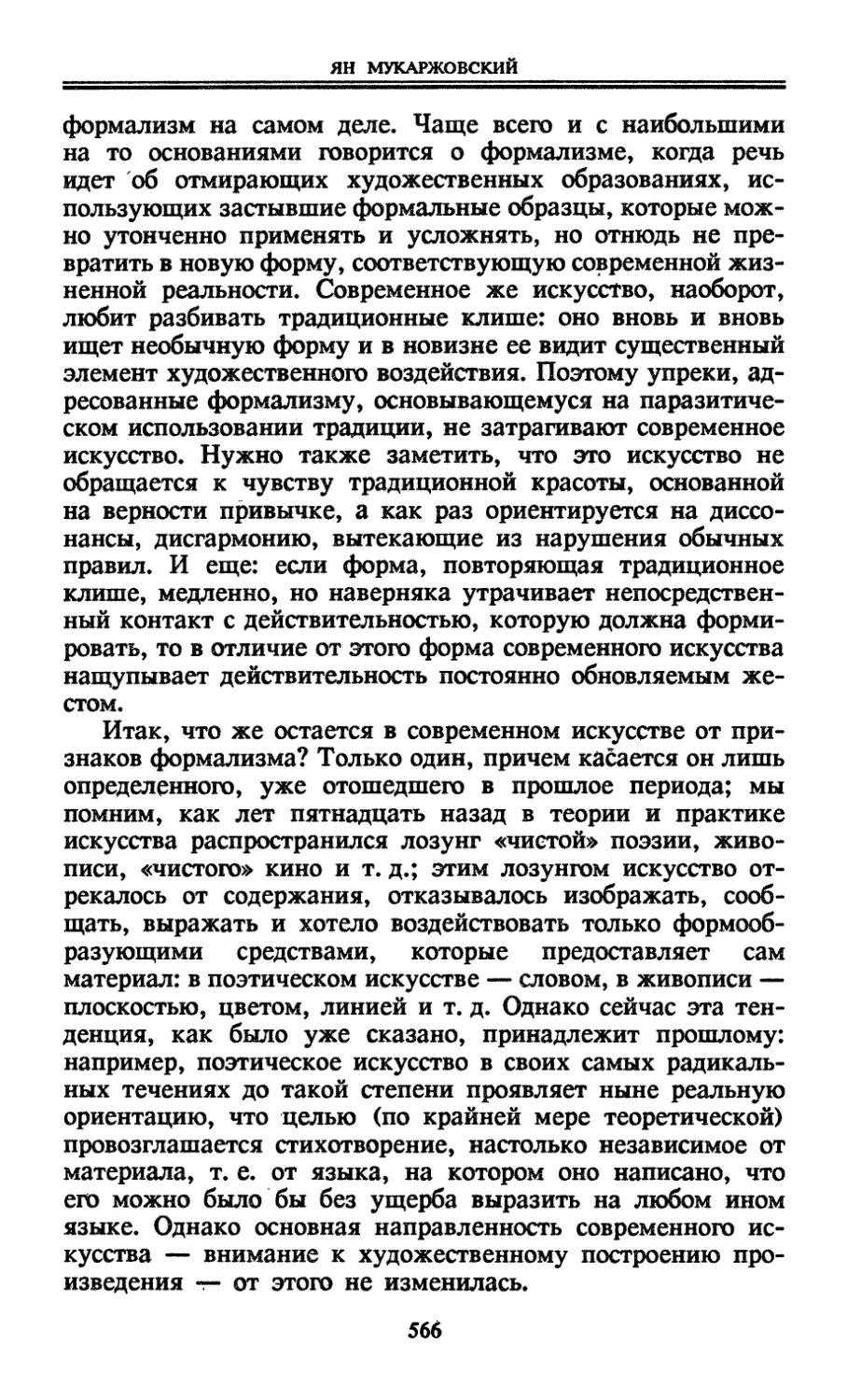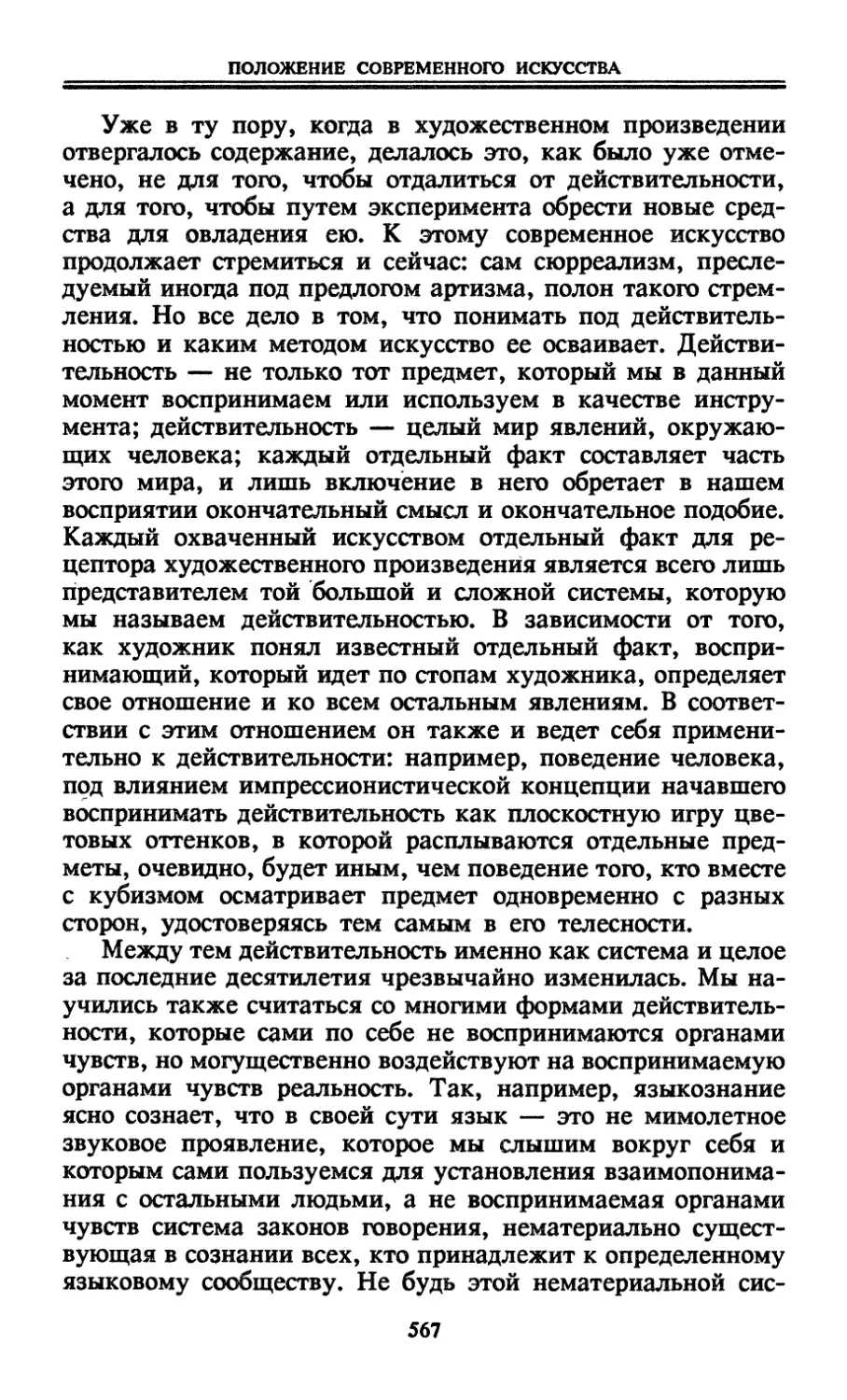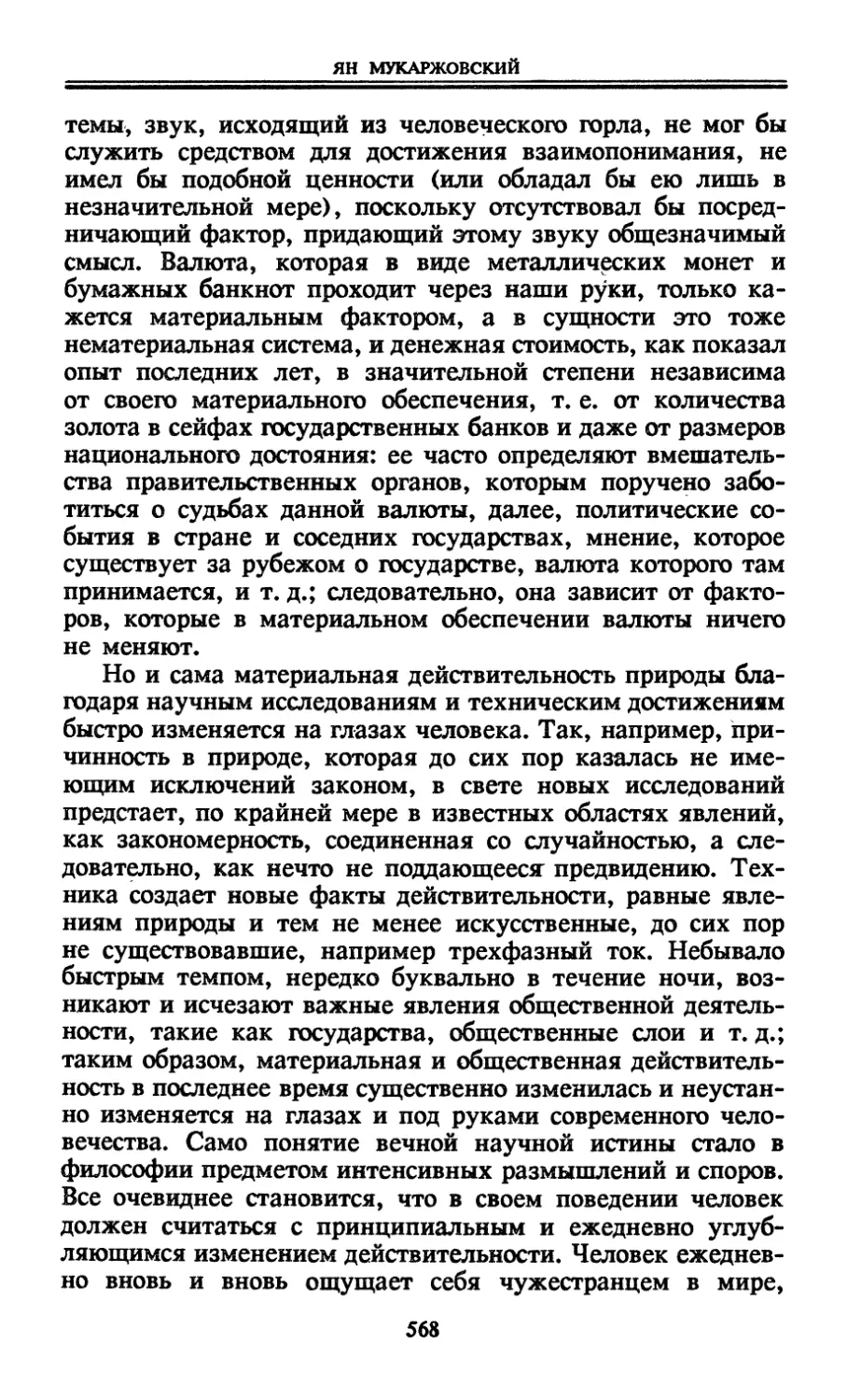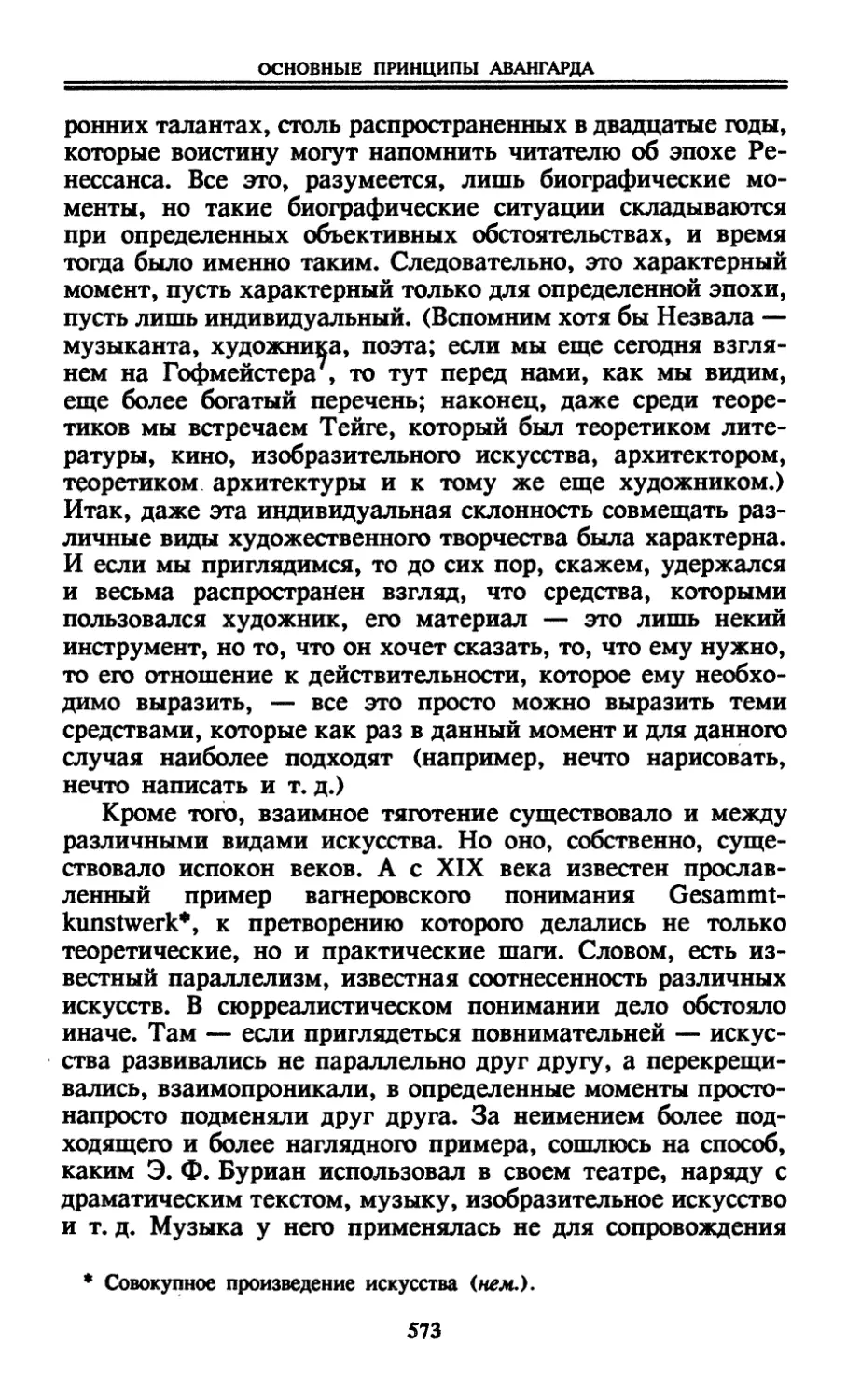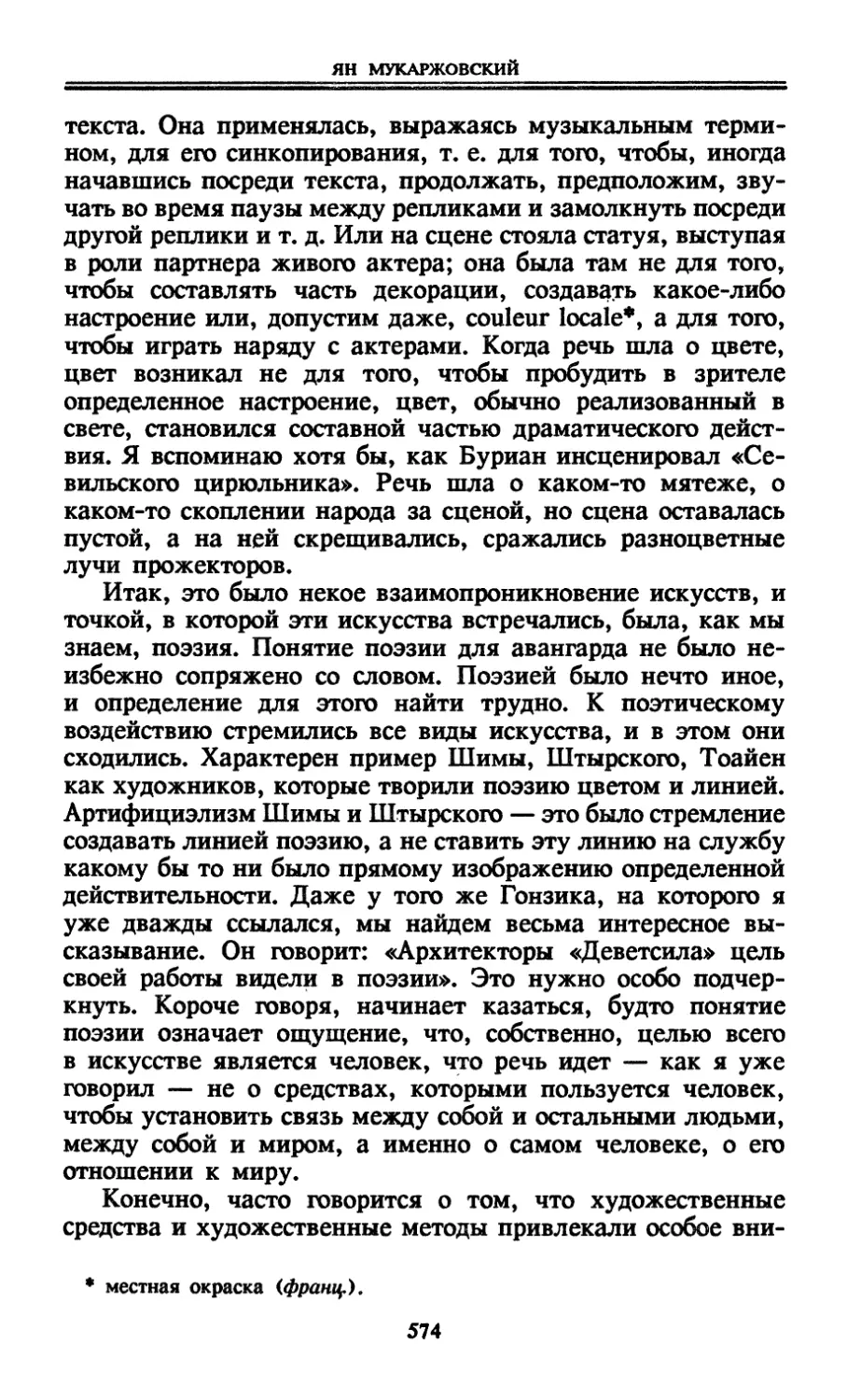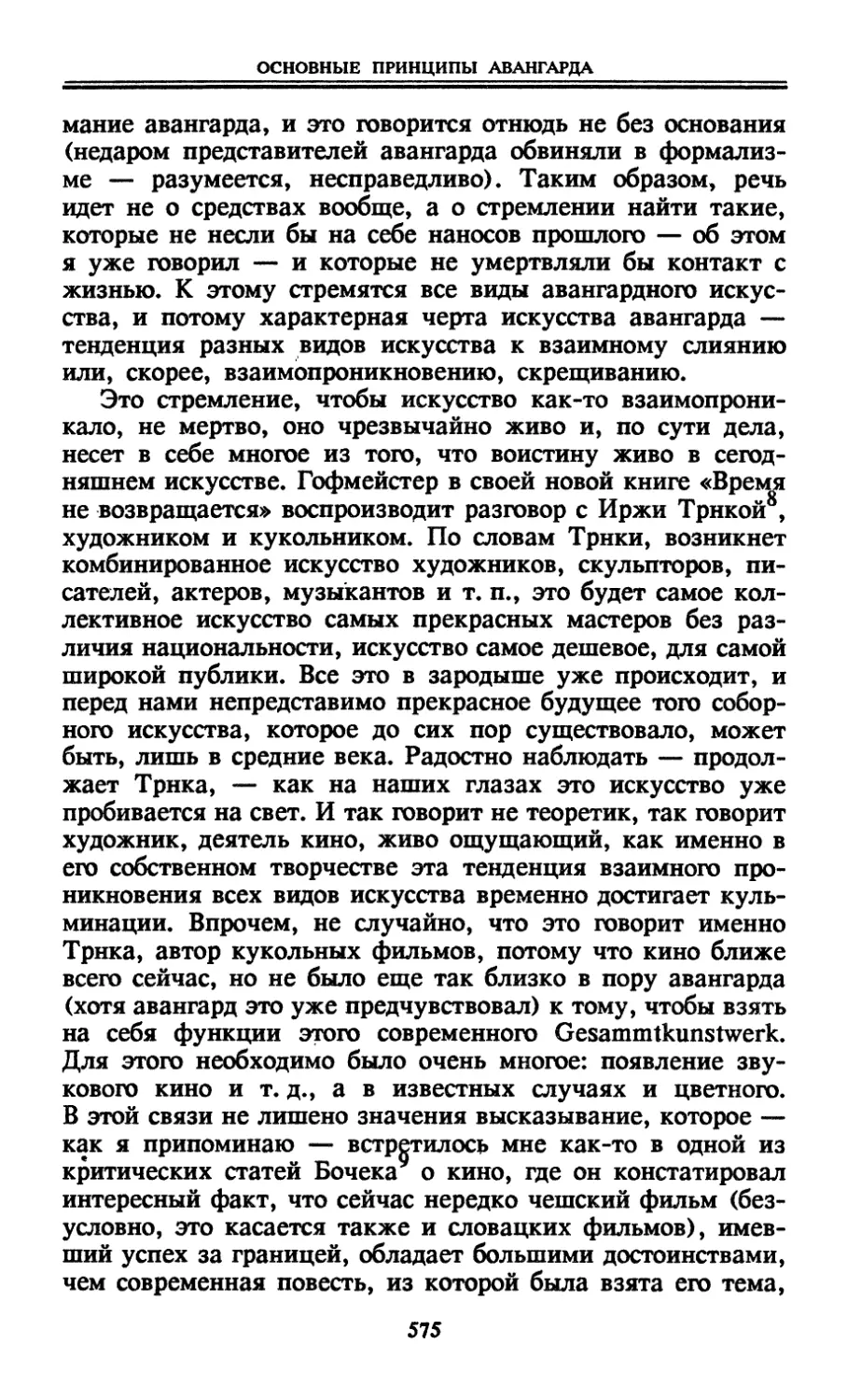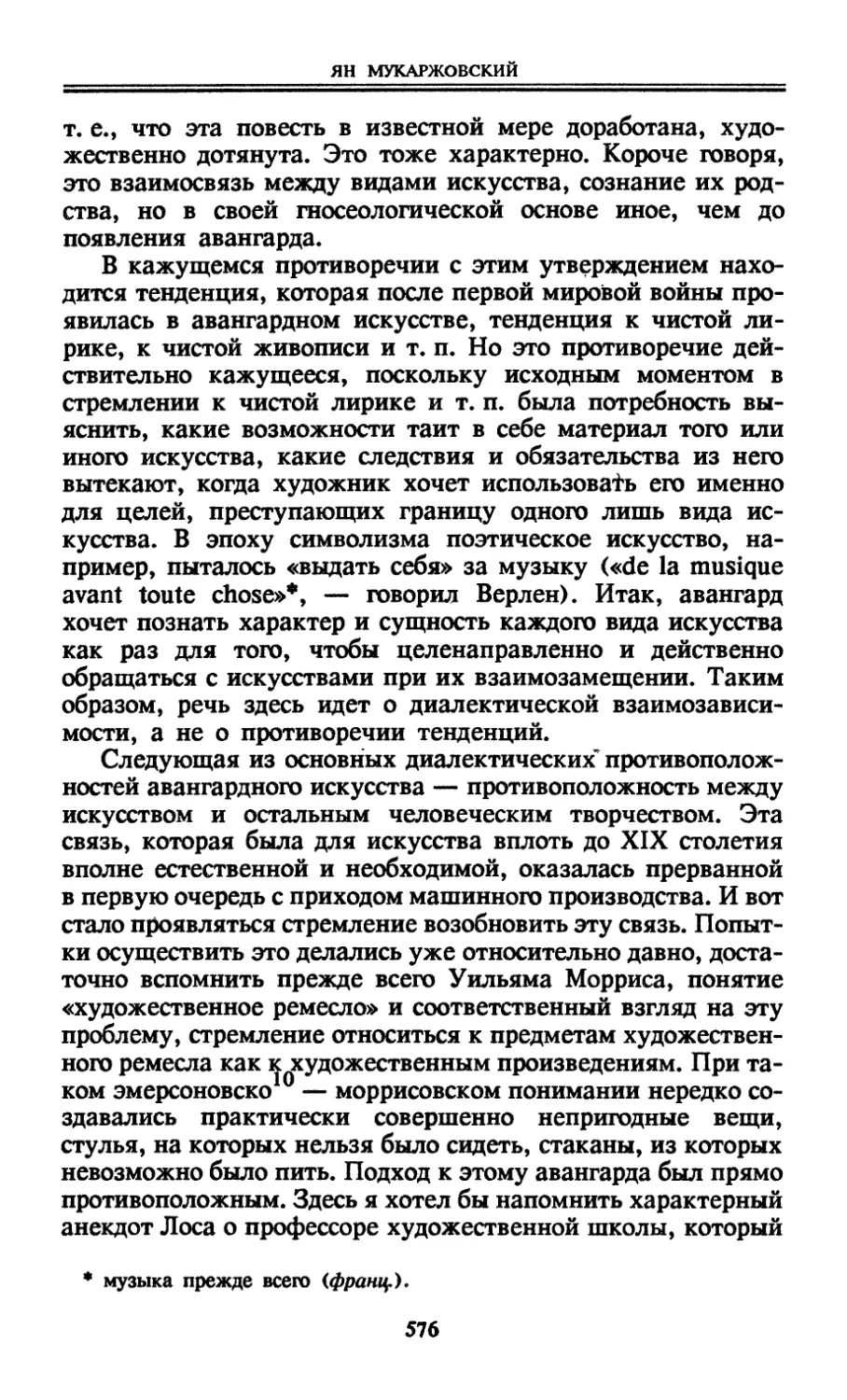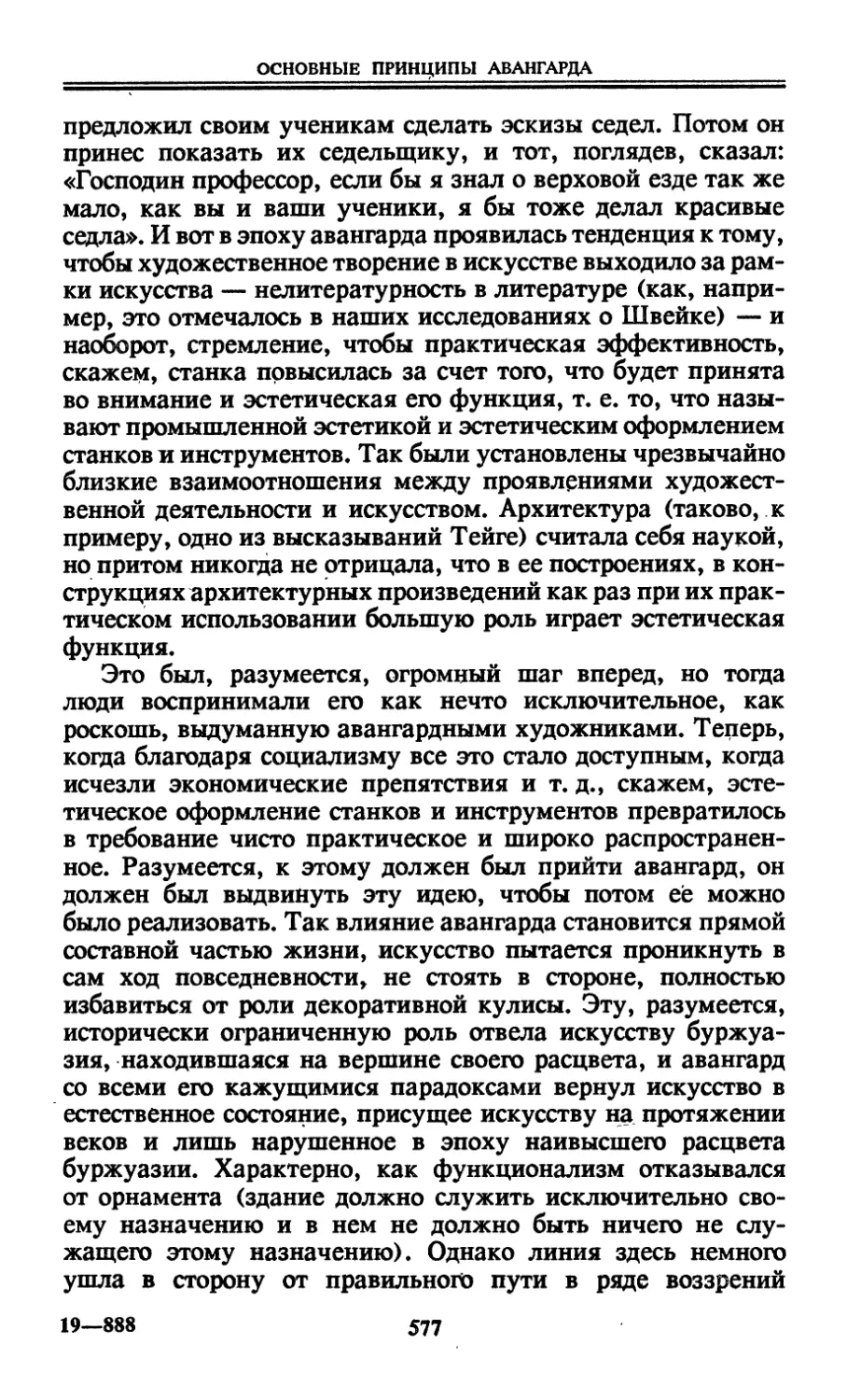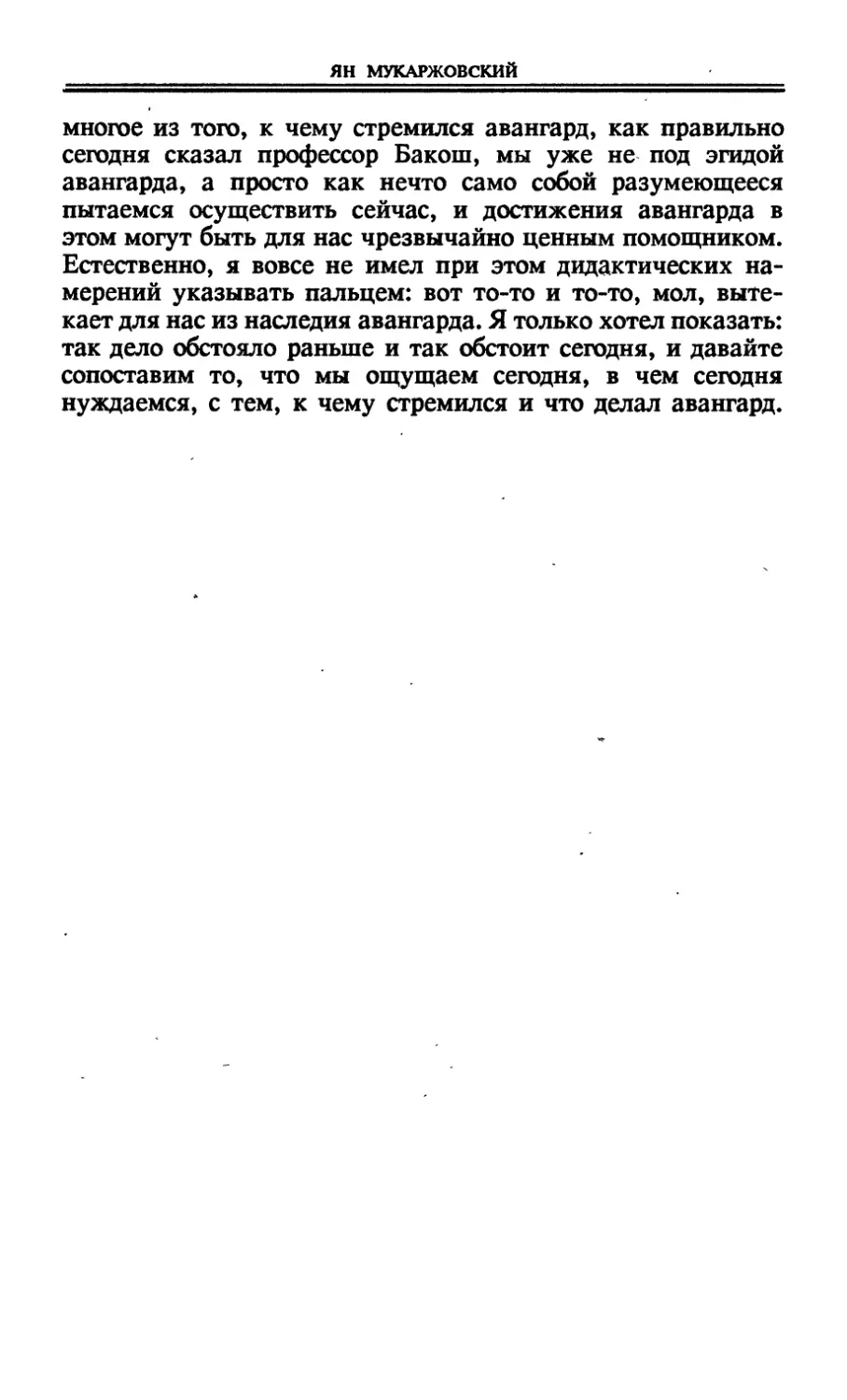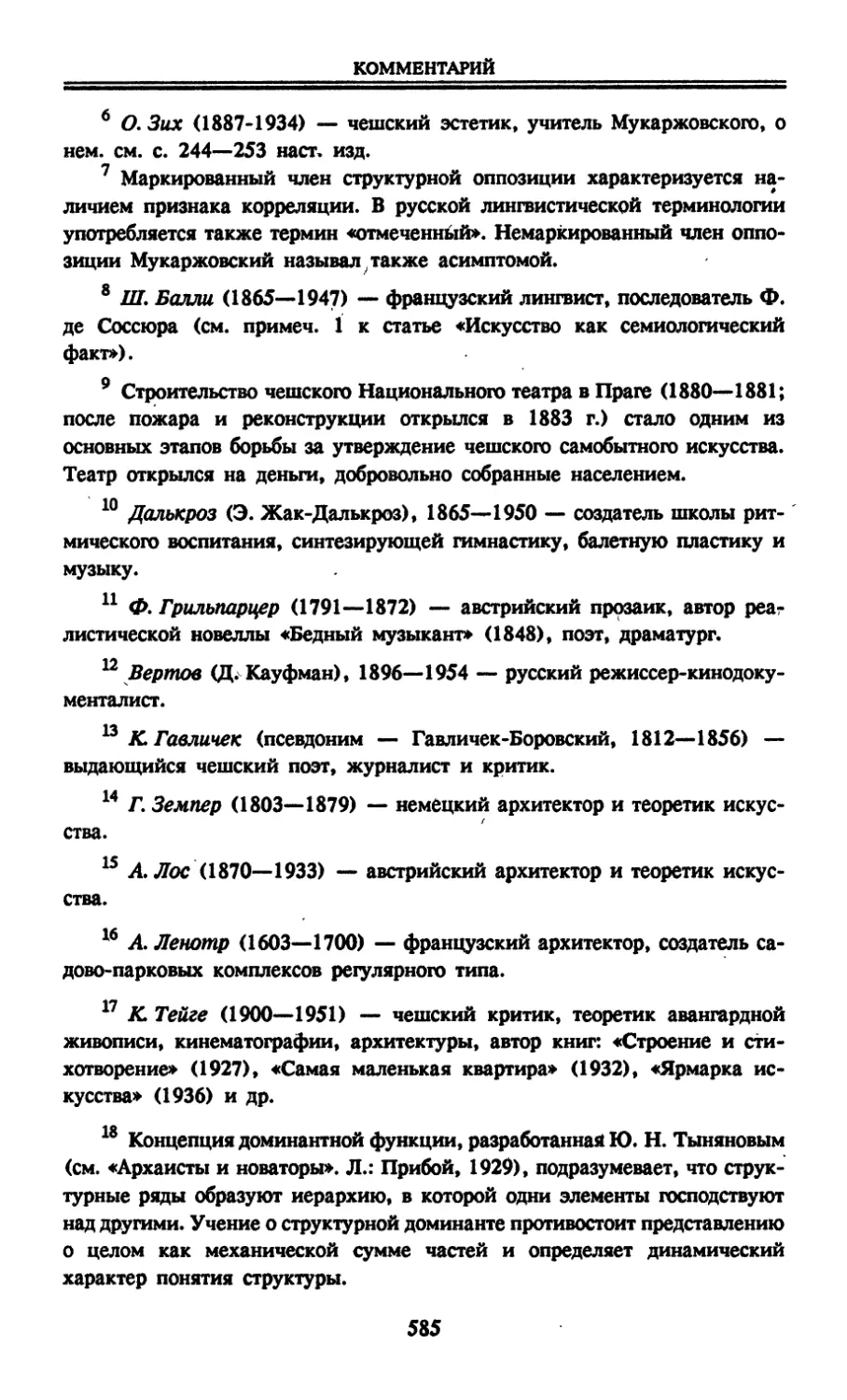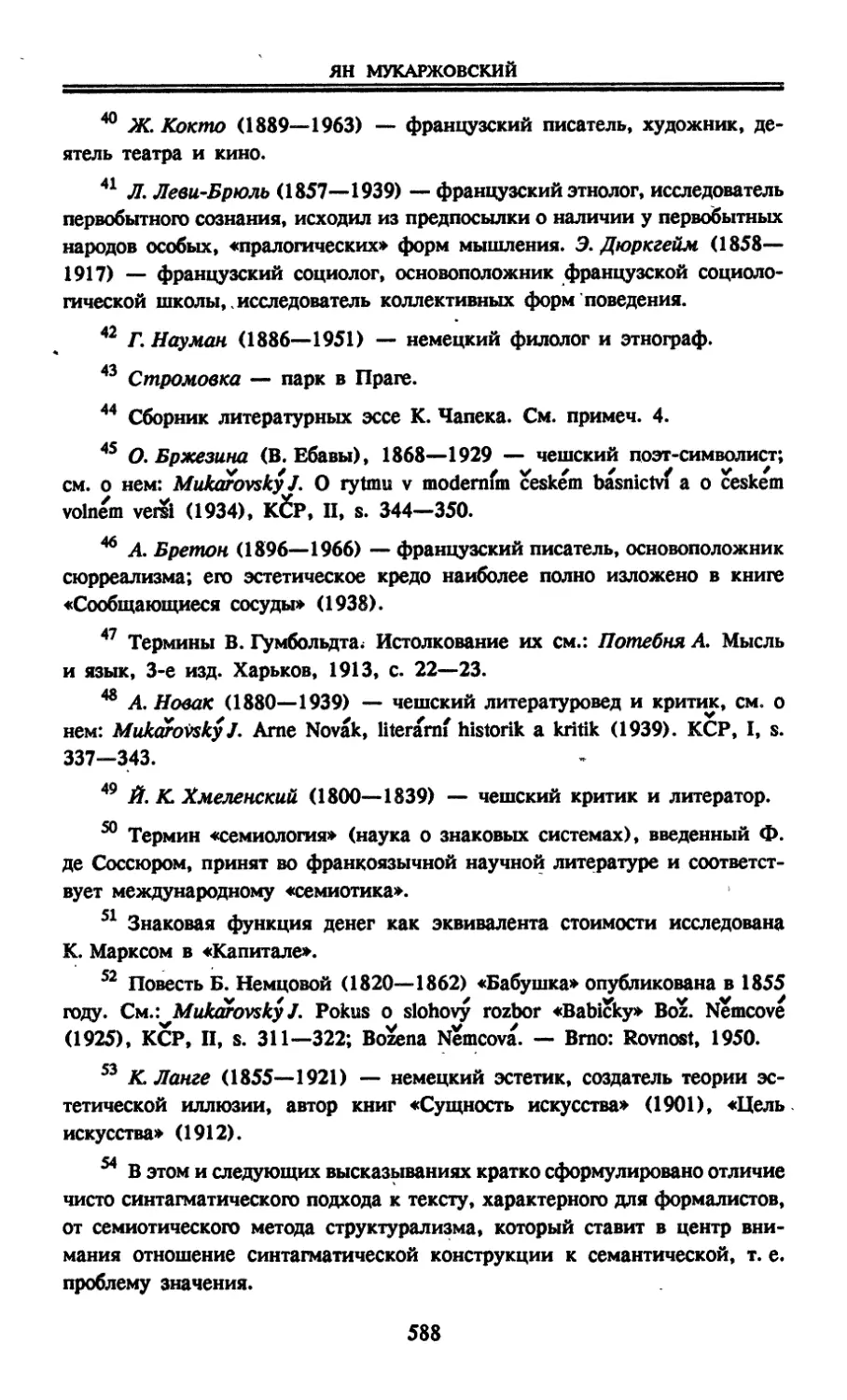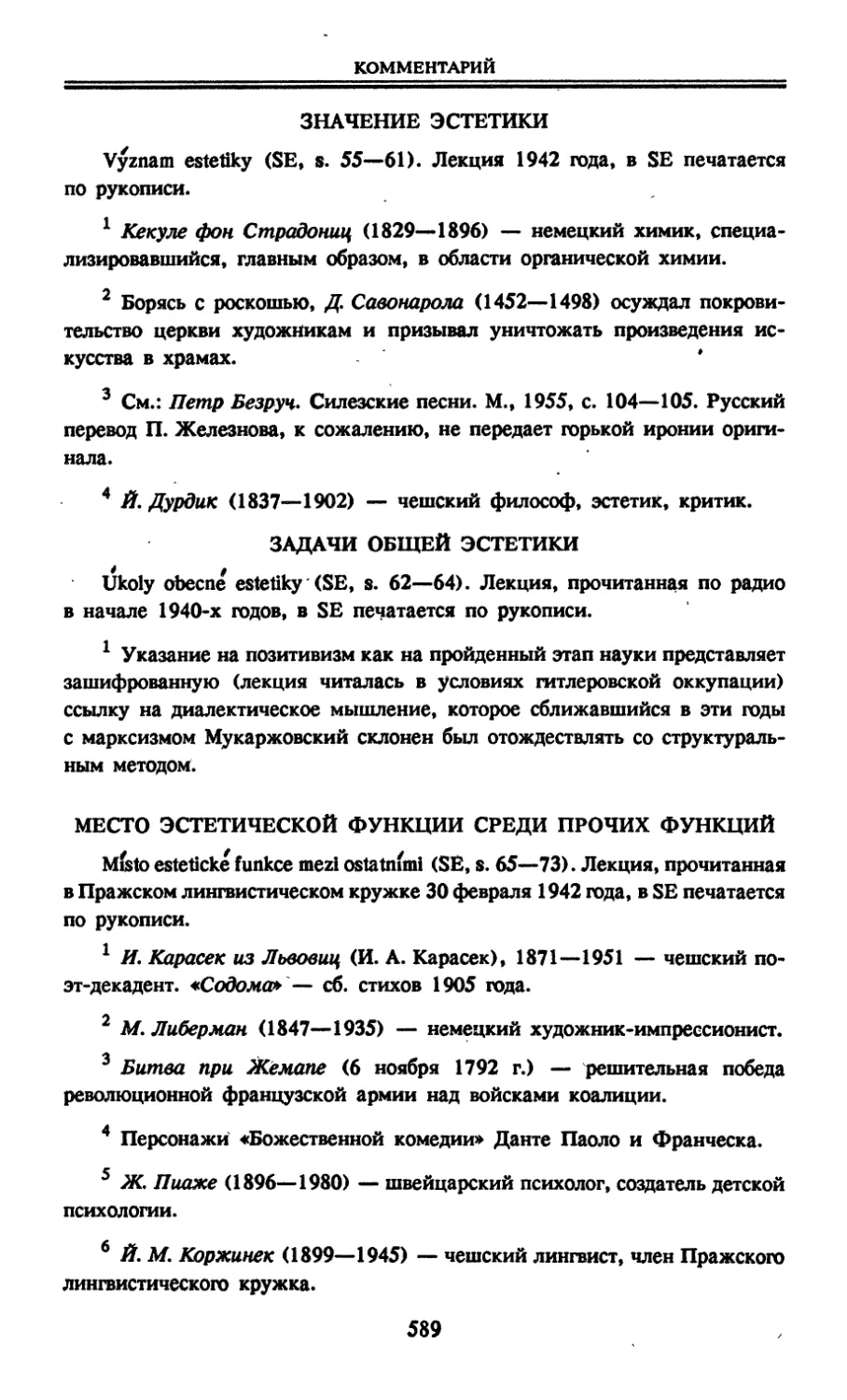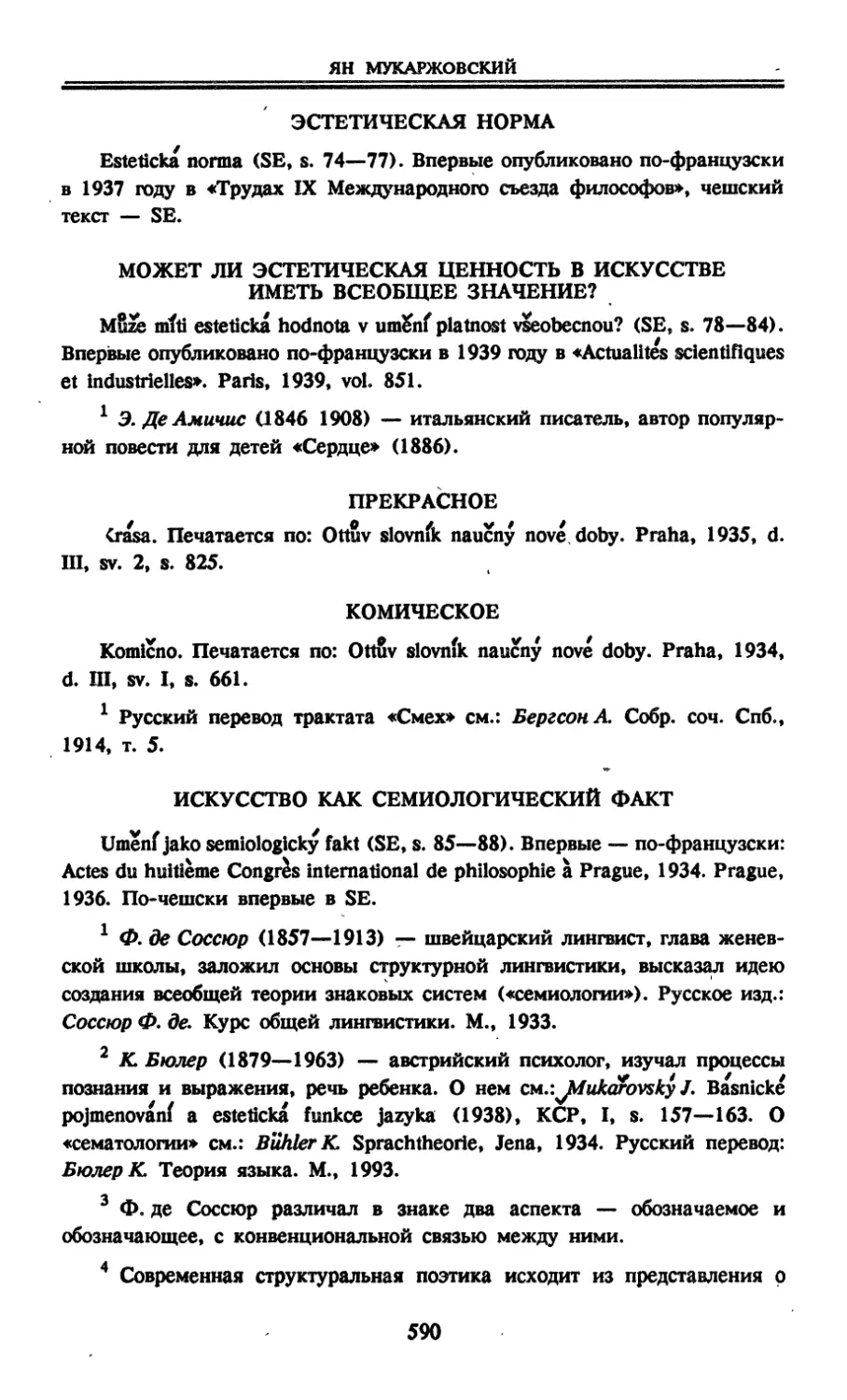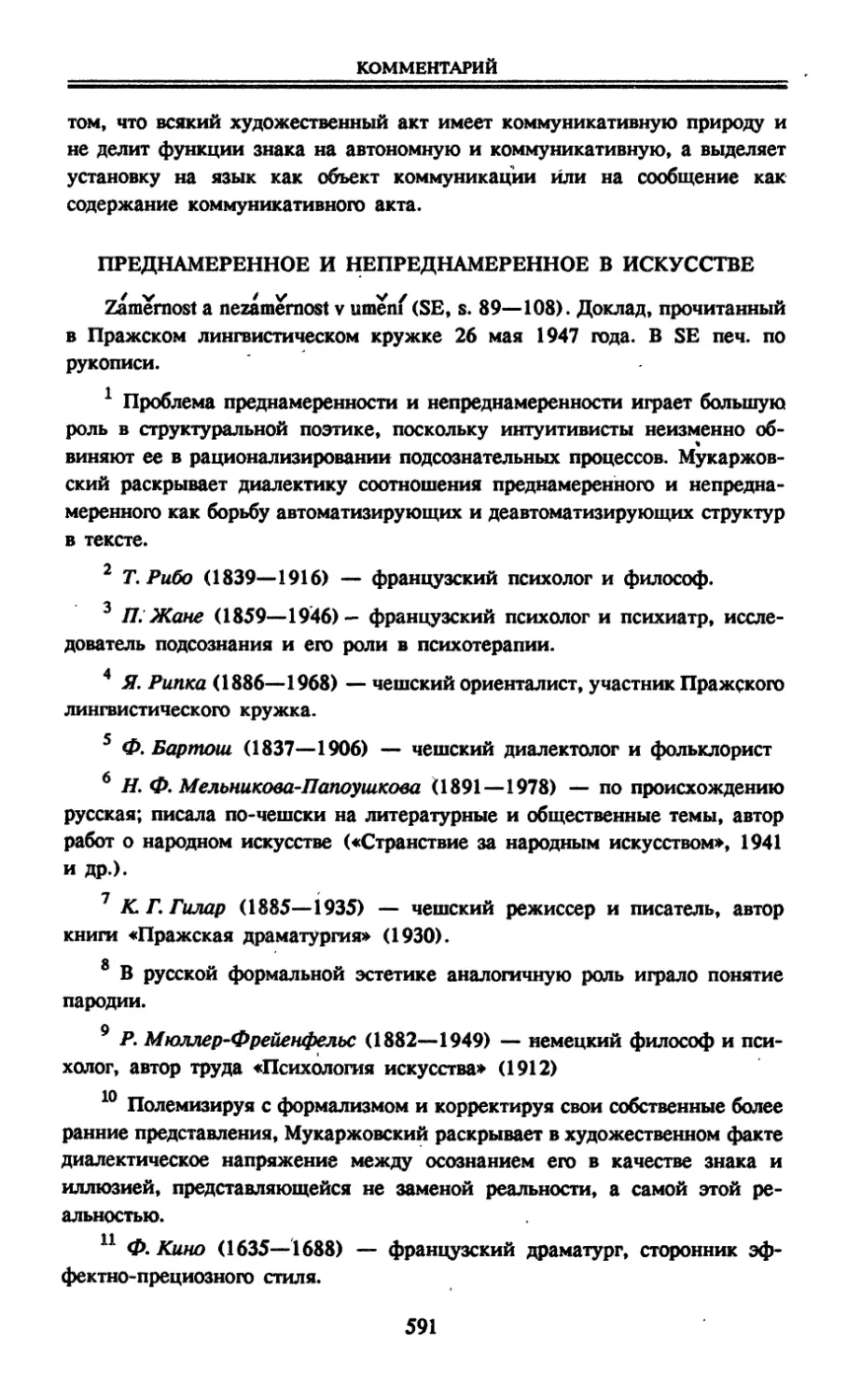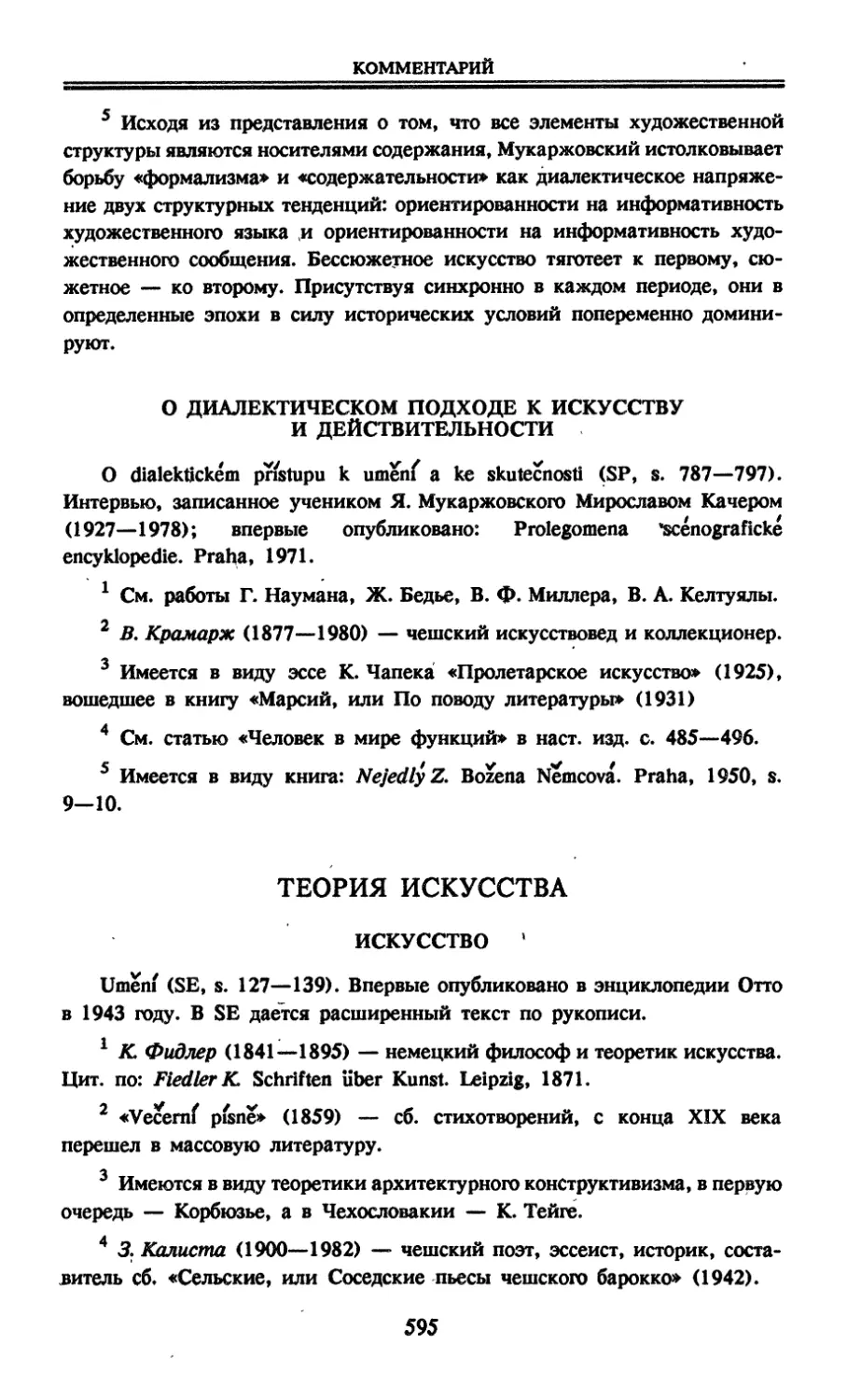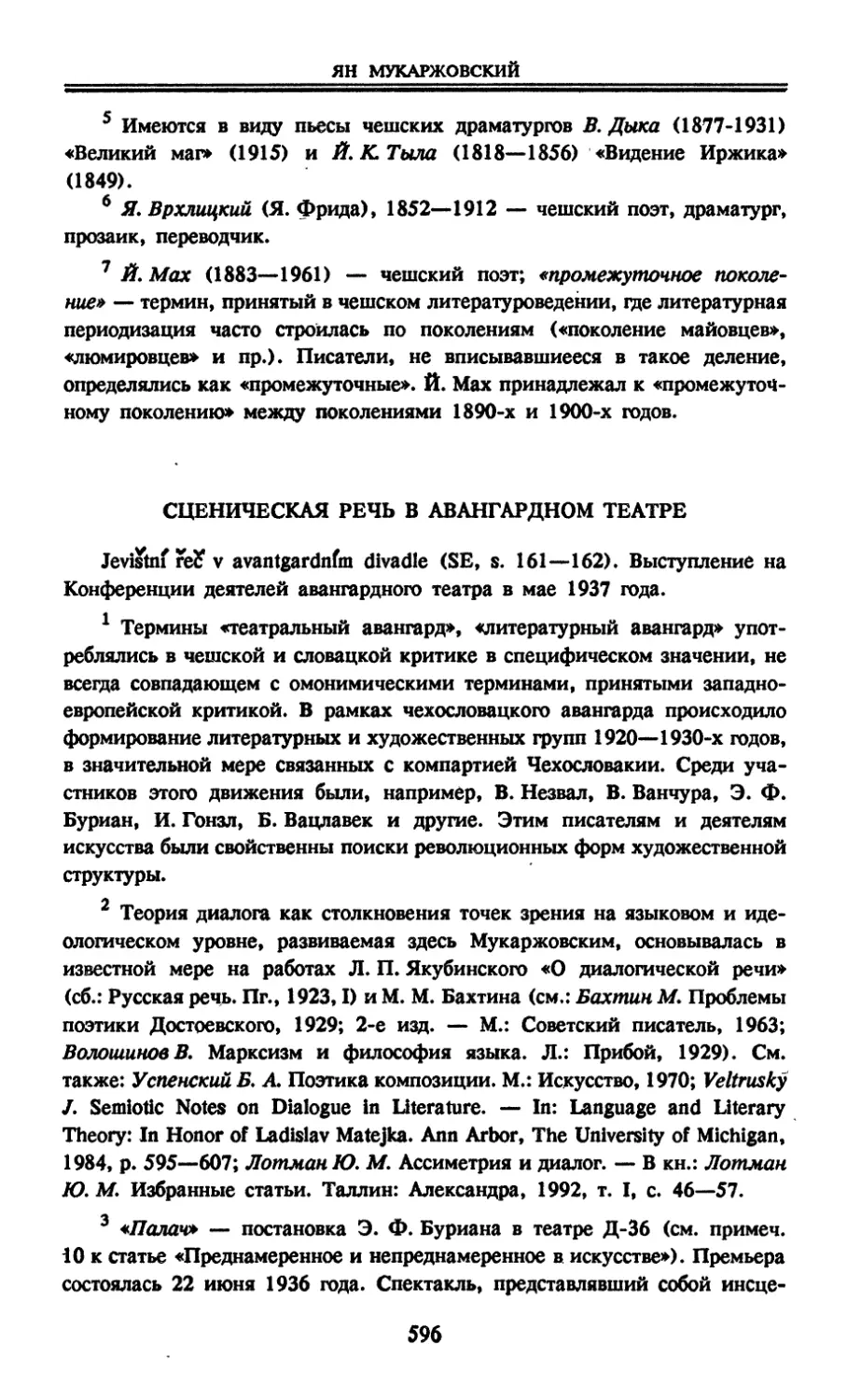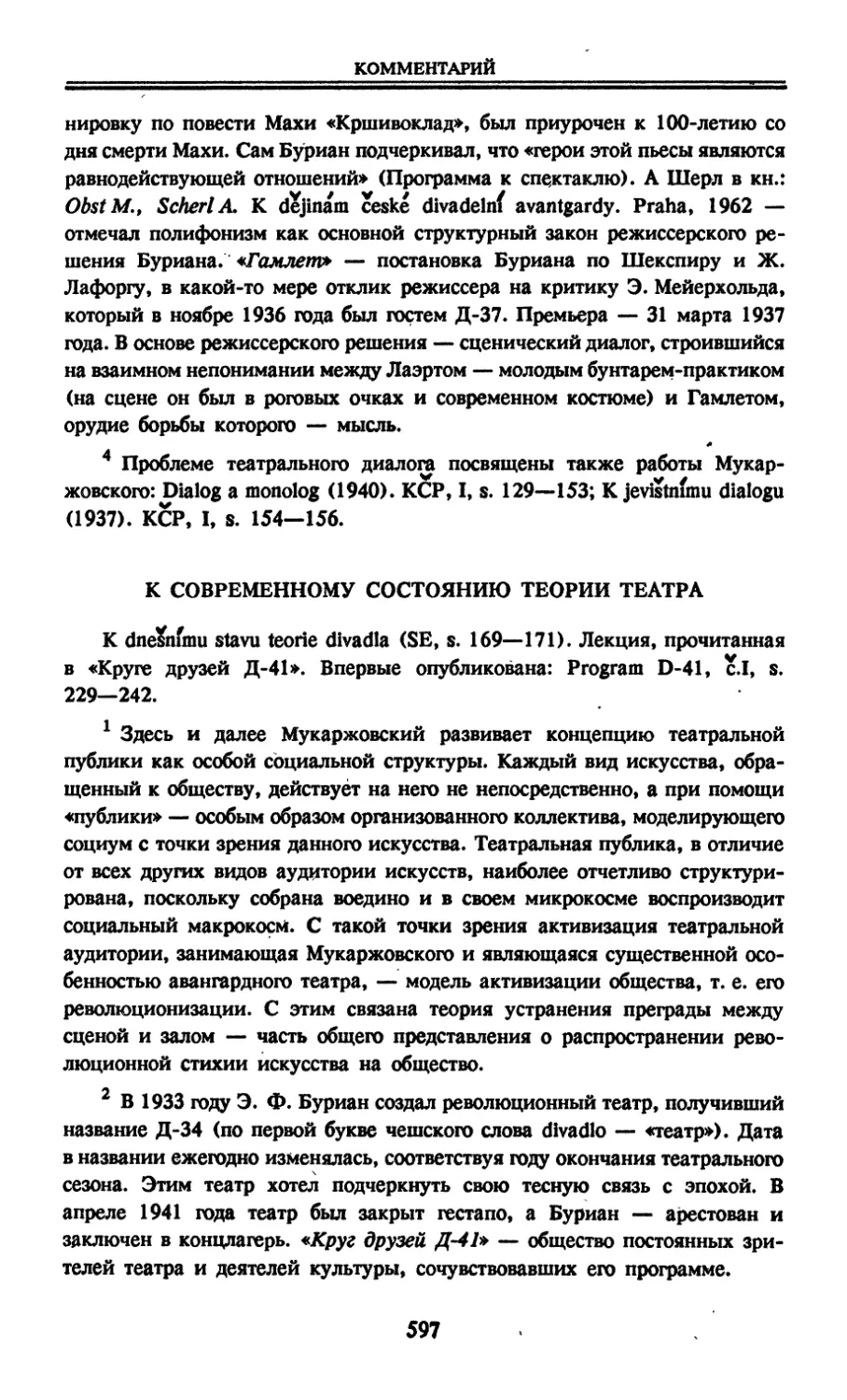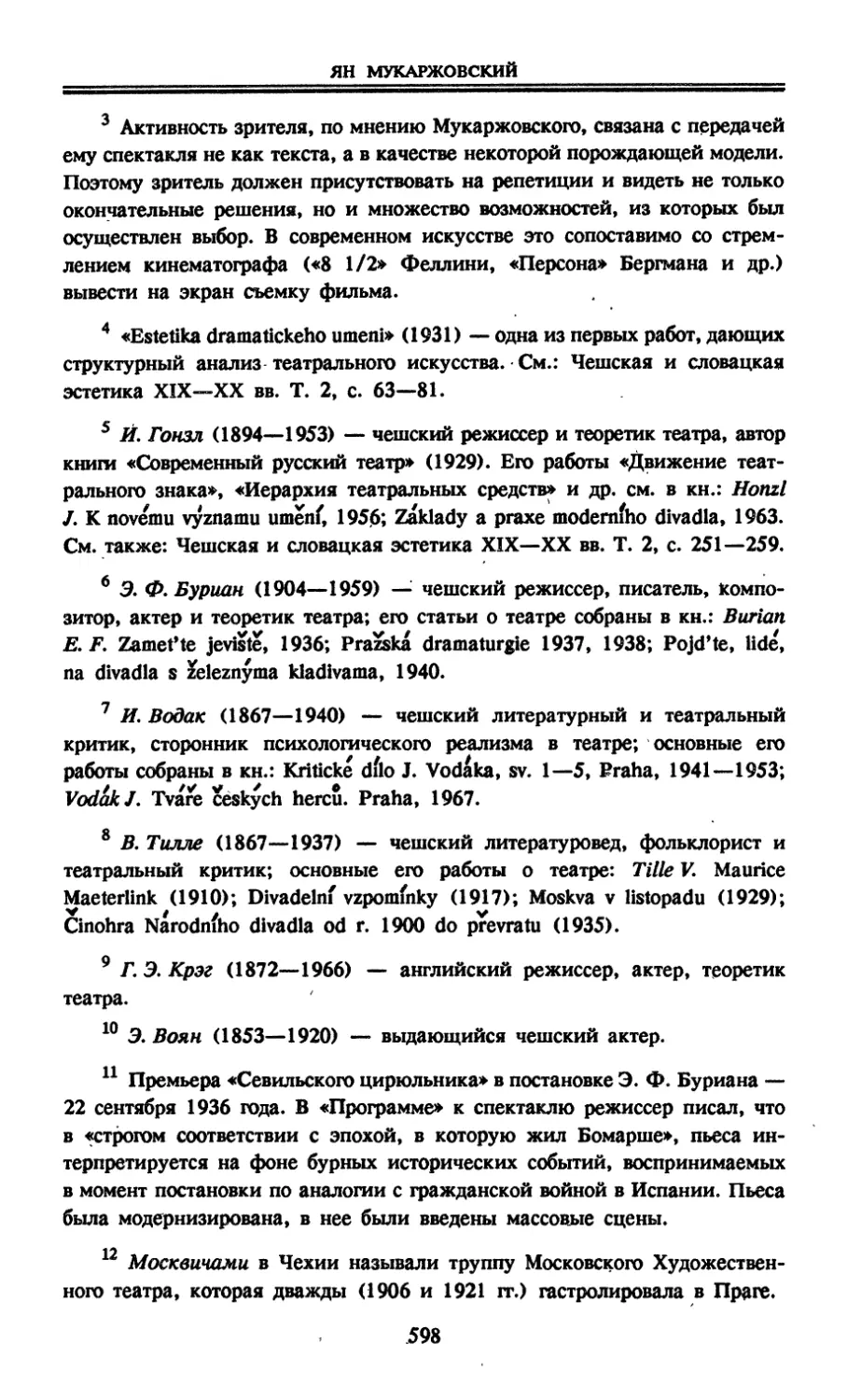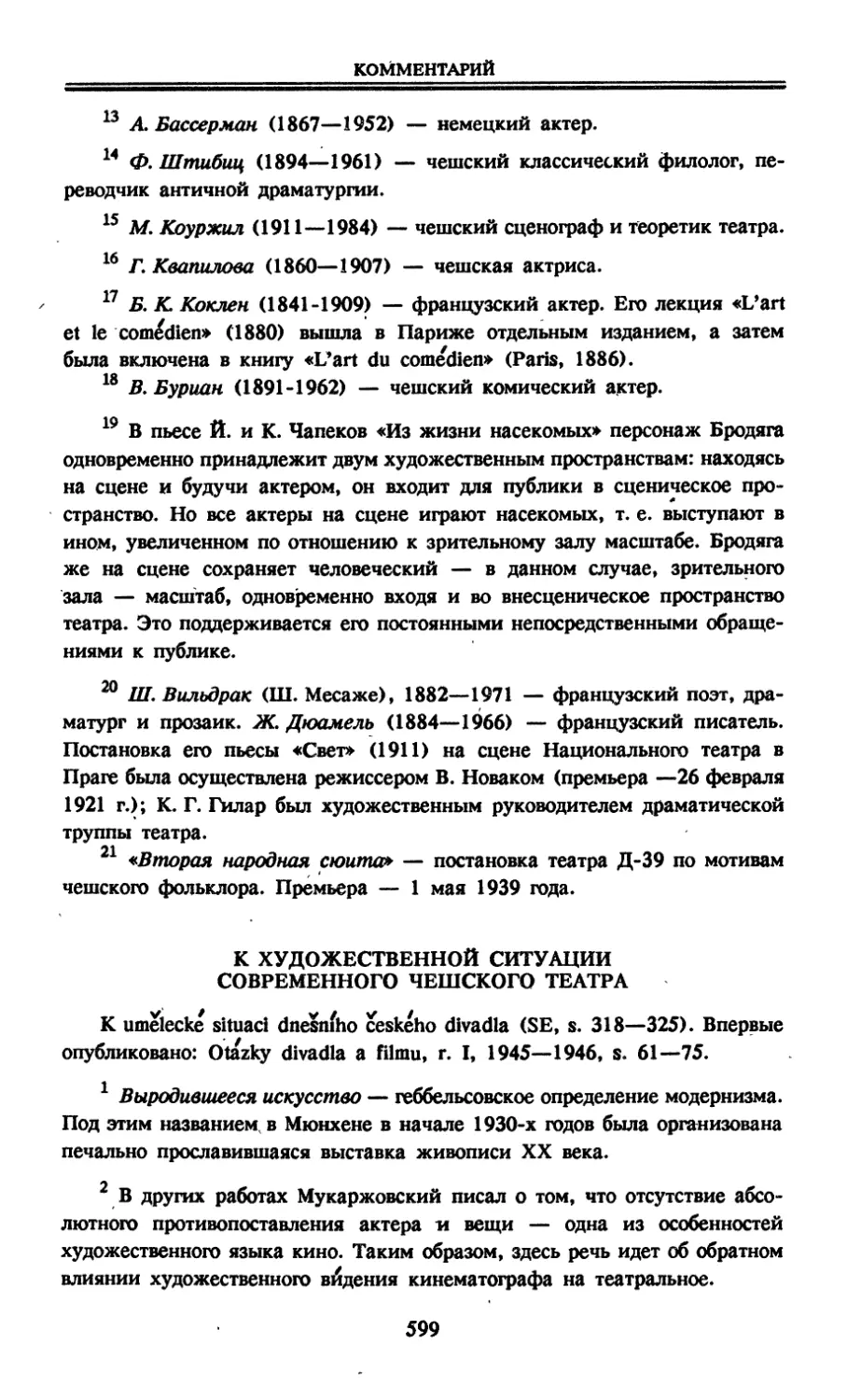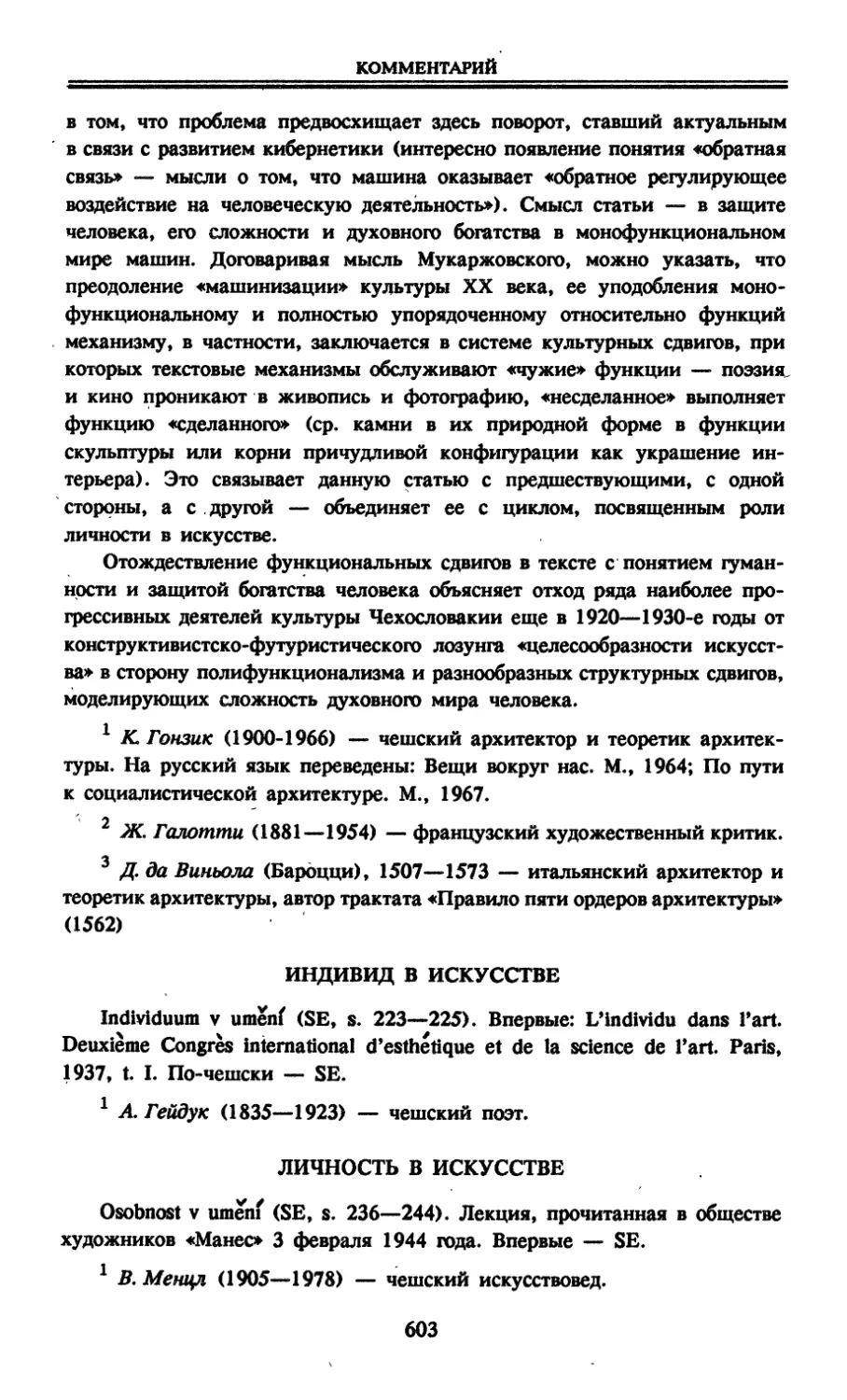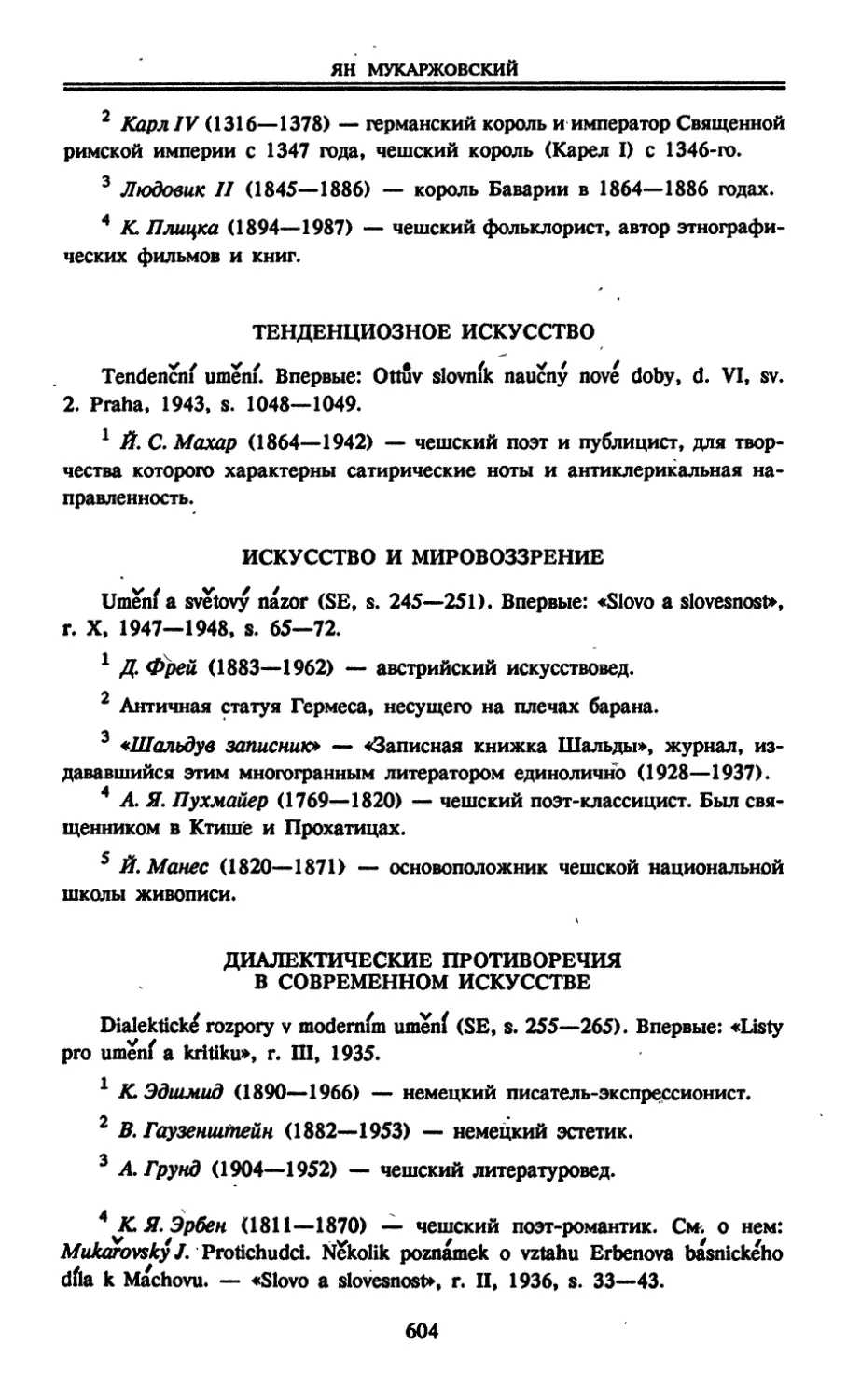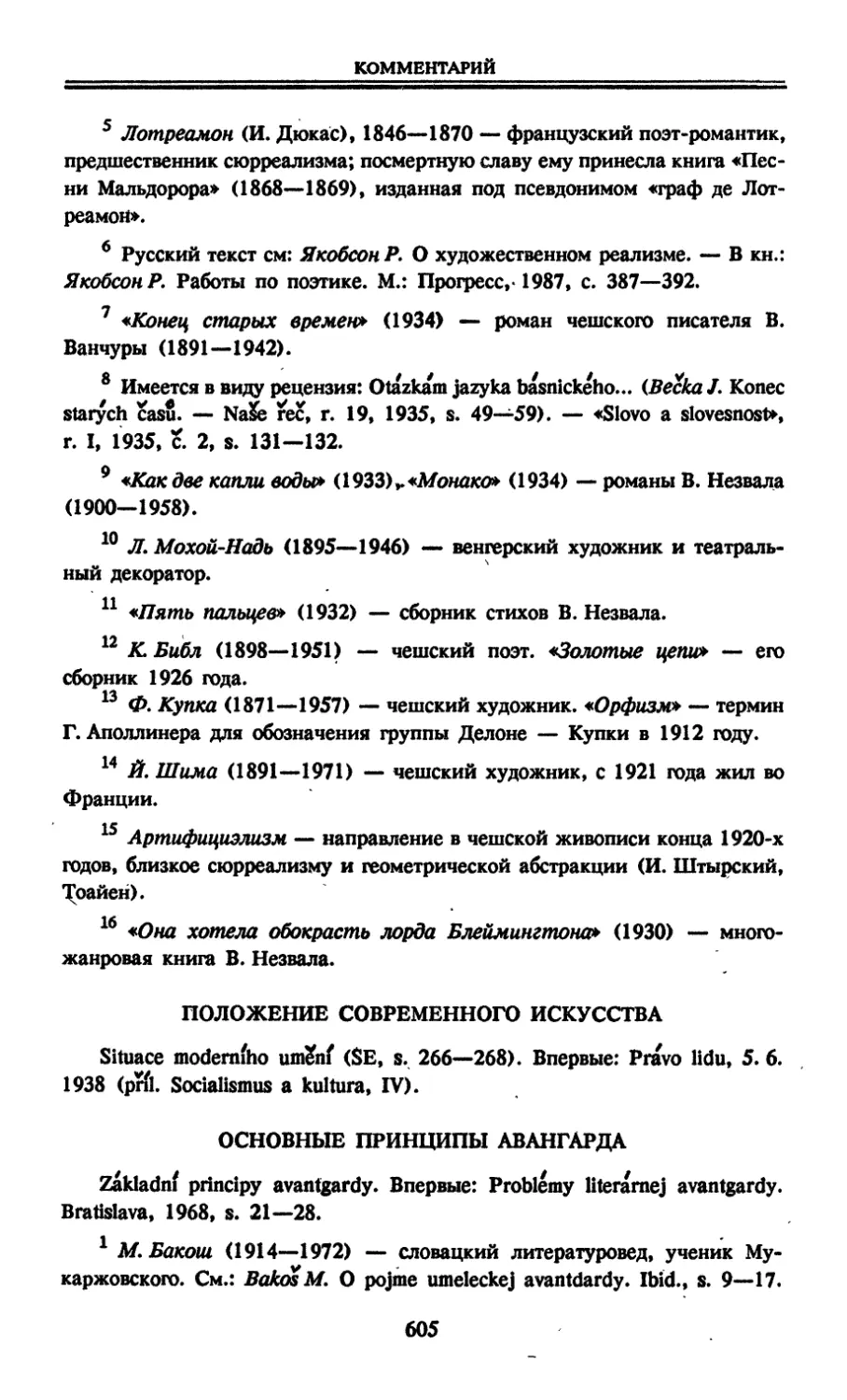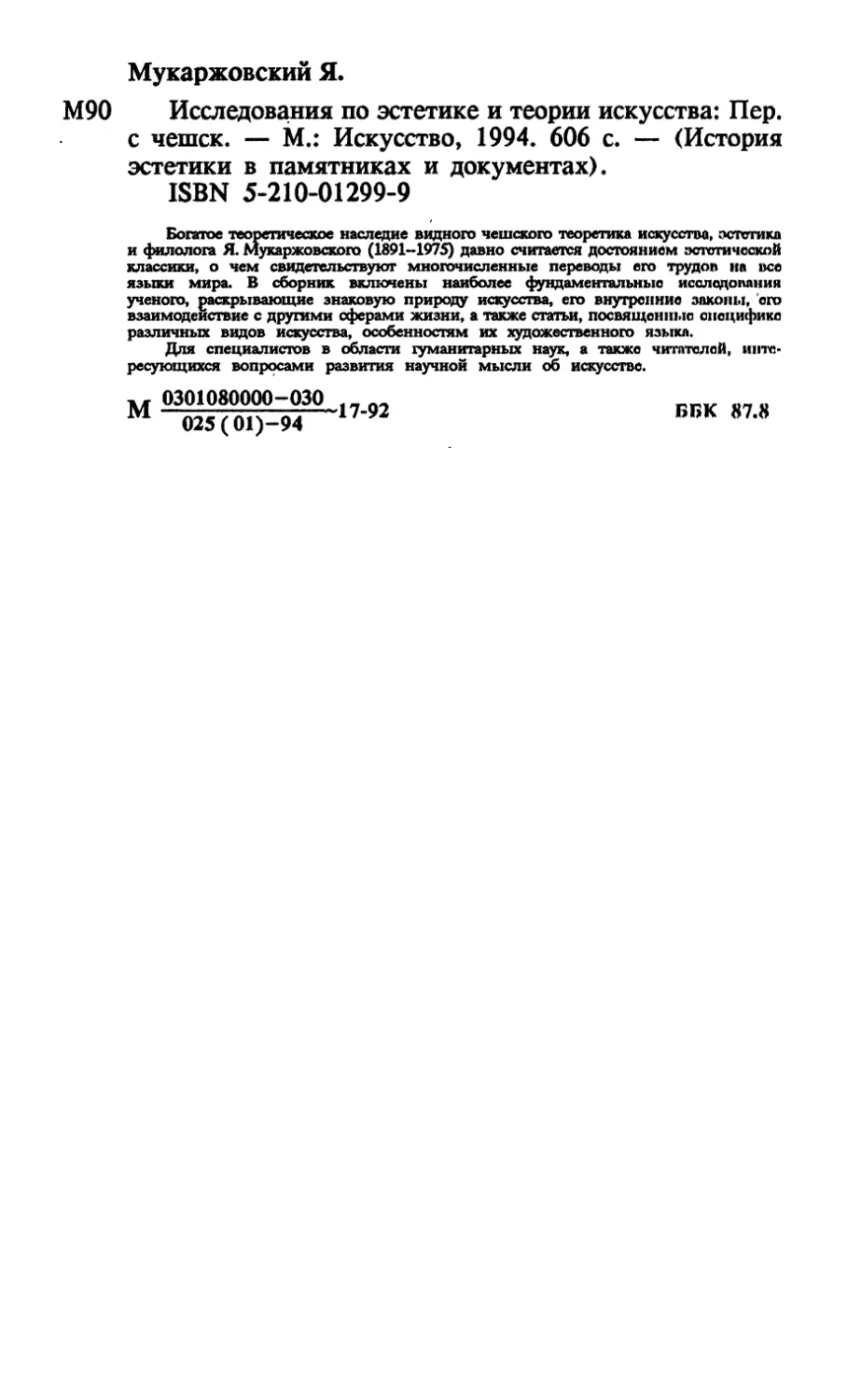Текст
о
ян
МУКАРЖОВСКИЙ
ИССЛЕДОВАНИЯ
ПО ЭСТЕТИКЕ И ТЕОРИИ
ИСКУССТВА
МОСКВА
♦ИСКУССТВО»
1994
ББК 87.8
М90
Редакционная
коллегия
Председатель
АЯ.ЗИСБ
к. м. долгов
А В. МИХАЙЛОВ
АВ. НОВИКОВ
ю. н. ПОПОВ
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР
В.П. ШЕСТАКОВ
_________Составление
| Ю.М. ЛОТМАНА |и О. М. МАЛЕВИЧА
Вступительная статья
| Ю.М.ЛОТМАНА I
Перевод с чешского
В. А КАМЕНСКОЙ
_________Комментарий
| Ю.М.ЛОТМАНА |и О. М. МАЛЕВИЧА
Книга издана
при поддержке
Международного фонда
«Культурная инициатива»
0301080000 - 030
025(01) - 94
17-92
ISBN 5-210-01299-9
© Ю. М. Лотман, В. А. Каменская,
О. М. Малевич, 1994 г.
© Издательство «Искусство», 1994 г.
СОДЕРЖАНИЕ
Ю. М. Лотман
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ - ТЕОРЕТИК ИСКУССТВА
8
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
35
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
121
ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
136
МН’ТО И I IТИЧИ’КОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
142
НИ ТИЧЕСКАЯ НОРМА
162
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ
ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
171
ПРЕКРАСНОЕ
186
КОМИЧЕСКОЕ
188
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
190
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
198
ОТОКАР ЗИХ
244
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
254
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
275
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
291
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
307
ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
ИСКУССТВО
327
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АВАНГАРДНОМ ТЕАТРЕ
356
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
360
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
380
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
396
ВРЕМЯ В КИНО
410
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
(Чаплин в «Огнях большого города*)
420
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
427
К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ
СЮРРЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСИ
446
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
451
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
468
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
(Предисловие к книге’ К. Гонзика «Создание жизненного стиля*)
485
ИНДИВИД В ИСКУССТВЕ
496
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
501
ТЕНДЕНЦИОЗНОЕ ИСКУССТВО
521
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
525
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
540
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
564
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
570
КОММЕНТАРИЙ
581
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ —
ТЕОРЕТИК ИСКУССТВА
Разнообразное и. богатое теоретиче-
ское наследие Яна Мукаржовского (1891—1975), автора статей и моно-
графий по общей теории искусства, теории литературы, поэтике кино,
театра, изобразительных искусств, известно у нас далеко не достаточно.
Малое число переводов затрудняет знакомство с научным творчеством этого
выдающегося теоретика искусства. Между тем сочинения Яна Мукаржов-
ского давно уже перестали быть собственностью только чешской науки и
справедливо считаются достоянием международной эстетической классики.
Начав как деятель прогрессивного крыла молодой чехословацкой науки и
критики 1920-х годов, Мукаржовский прошел сложный и богатый внут-
ренний путь.
Творчество ученого, деятеля науки и участника художественной жизни
своего народа и своей эпохи, жившего в бурные и трагические годы середины
XX века, не могло быть ровным и безоблачным. Сам он, его научные идеи,
его ученики не раз подвергались проработочной «критике» и гонениям. Му-
каржовский также переживал взлеты и сомнения, годы исключительной на-
учной активности и застоя. Однако сейчас, перечитывая сочинения Мукар-
жовского, мы прежде всего поражаемся их научной злободневности, акту-
альности для искусствоведа и эстетика наших дней.
Став всемирно признанным классиком эстетической мысли, Мукар-
жовский не перешел в архив науки. Его сочинения не относятся к тем,
которые современный теоретик листает, изучая «историю вопроса», чтобы
потом спокойно отложить в сторону и больше уже к ним не обращаться.
Труды Мукаржовского не только сохранили научную актуальность, чита-
ются как современные, злободневные исследования, но даже не утратили
и того провоцирующего полемику, вызывающего на спор характера, ко-
торый лучше всего отделяет сегодняшний день науки от ее истории.
♦ ♦ ♦
Ян Мукаржовский родился 11 ноября 1891 года на юге Чехии, в городе
Писеке.. В 1911 году он поступил в Пражский университет, где специа-
8
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
лизировался, в области сравнительного языкознания»и чешской филологии.
С 1929 года преподавал эстетику в Карловом университете в Праге,
совмещая затем эту работу с должностью профессора эстетики в Братис-
лавском университете. В послевоенной Чехословакии Мукаржовский —
ректор Карлова университета в Праге, с 1952 года — академик вновь
организованной Чехословацкой Академии наук, в 1951—1962 годах —
директор Института чешской литературы.
В науку Я. Мукаржовский вошел своими статьями 1930—1940-х годов,
которые и представлены в настоящем издании.
Истоки эстетической концепции Я. Мукаржовского характеризуются,
с одной стороны, широким учетом достижений общеевропейской искус-
ствоведческой мысли, с другой — органической связью с национальной
традицией чешской науки и — шире — культуры.
Общеевропейская научная мысль повлияла на формирование теорети-
ческой позиции Мукаржовского в основном в трех своих проявлениях.
Во-первых, это воздействие немецкой классической философии, в особен-
ности — Гегеля. Именно со. школой великого немецкого диалектика следует
связать постоянно присущее трудам Мукаржовского стремление раскрывать
живые взаимопереходы, казалось бы, противоположных категорий, видеть
в противоположном единое» а в единстве — борьбу разнонаправленных
тенденций. Сама категория структуры трактуется Мукаржовским как
иерархия связей, находящихся в постоянной борьбе, в ходе которой про-
тивоположности переходят друг в друга, а полюса меняются местами. Из
позднейших философов на Мукаржовского в начальный период его дея-
тельности определенное воздействие оказали Бродер Христиансен (1869—
1958) и Эдмунд Гуссерль (1859—1938).
Во-вторых, — женевская лингвистическая школа. Научная концепция
Фердинанда де Соссюра (1857—1913) скоро была осознана значительно
шире, чем теория построения лингвистики как специальной дисциплины,
изучающей языки, на которых говорят люди. Противопоставление языка
(системы) и речи (текста), требование разграничить синхронию и диа-
и|юнию заложили основы структурного метода, а концепция знака и
необычайно глубокая мысль о необходимости создания общей теории зна-
mnimx систем (Соссюр назвал эту будущую науку семиологией — термином,
который до недавнего времени господствовал во франкоязычной научной
иитсратуре) стали фундаментом современной семиотики. Весь комплекс
них идей оказал на Мукаржовского глубокое воздействие.
В-третьих, — русское литературоведение 1920-х годов, и в первую
ичо]>сдь труды В. Б. Шкловского, Ю. Н. Тынянова, Б. М. Эйхенбаума,
I» II. Томашевского, а также работы одновременно связанных и с Москов-
«кпм лингвистическим кружком, и с чехословацкой наукой Н. С. Трубец-
кой», Р. О. Якобсона и П. Г. Богатырева. Так, 7 февраля 1928 года Му-
ифжовский на заседании Пражского лингвистического кружка прочел
9
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
представленный (на французском языке) доклад Б. В. Томашевского «Но-
вая русская школа в историко-литературных исследованиях», который в
дальнейшем был опубликован по-чешски. В тот же период (1927—1929)
в Чехословакии издается ряд работ советских литературоведов, примыкав-
ших к ОПОЯЗу. Воздействие их на раннее творчество Мукаржовского
представляется очевидным.
Однако определяющей для Мукаржовского была связь с чешской наци-
ональной культурной и научной традицией. Интерес к теории поэтического
языка издавна составлял специфику чешского литературоведения и эстети-
ки. Позже, в 1940 году, в статье «Структурная наука о литературе» Мукар-
жовский писал: «Точно так же создатель современной чешской критики
Ф. К. Шальда в анализе наиболее значительных поэтических явлений ос-
новывался на разборе присущих им средств поэтического выражения.. Ис-
следователи чешской метрики, особенно наиболее последовательный из них
Й. Краль, всегда ощущали интенсивную связь поэтического ритма с языком.
Один из крупнейших чешских языковедов Й. Зубатый в обширном иссле-
довании занимался поэтическим языком латышских и литовских народных
песен. В последние десятилетия внесли свою инициативу в изучение поэ-
тического языка и некоторые историки литературы, особенно (перед миро-
вой войной) Арне Новак. Таким образом, почва была подготовлена, когда в
послевоенную эпоху в Пражском лингвистическом кружке получило разви-
тие структуральное изучение литературы, также исходившее из поэтиче-
ского языка, но не ограничивавшееся им, а применявшее лингвистические
методы ко всей проблематике литературной науки»*.
Однако, несмотря на органичность связи с национальной научной
традицией, Пражский лингвистический кружок представлял собой каче-
ственно новый этап в развитии 1уманитарных наук, этап, имеющий не
только национальное, но и международное значение.
В Пражский лингвистический кружок Мукаржовский был введен в
1926 году Воиславом Гавранеком и оставался активным сотрудником его
на всем протяжении существования этого объединения. Несомненное воз-
действие на формирование взглядов Мукаржовского оказали его связи с
левыми литературными и художественными течениями 1920—1930-х годов,
с широким кругом деятелей искусства, напряженно искавших художест-
венный язык, адекватный запросам и проблематике искусства XX века.
Связи с «Деветсилом», «Освобожденным театром», «Д-34», влияние идей
Карела Тейге, личные дружеские отношения с Владиславом Ванчурой,
Витезславом Незвалом, Индржихом Гонзлом, Э. Ф. Бурианом, Иваном
Ольбрахтом, Карелом Чапеком, связи — через Р. О. Якобсона — «Девет-
сила» с ЛЕФом и Маяковским оказали большое влияние на формирование
эстетической доктрины Мукаржовского.
♦ Ottuv slovmk nau&iy nove doby, d.VI, sv. 1, s. 458 — 459.
10
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
♦ ♦ ♦
Деятели Пражского лингвистического кружка называли свой метод
функционально-структуральным. Действительно, в оснойу их научной ме-
тодики были положены понятия структуры и функции.
Понятие структуры основывалось на идеях женевской школы. В языке
выделялось несколько противоположных аспектов, из которых нас сейчас
в первую очередь интересуют два: антитеза синхронии и диахронии, с
одной стороны, и структуры как системы абстрактных отношений и ее
реализации в конкретном языковом материале — с другой. Поскольку
Мукаржовский распространил структурные методы на изучение искусства,
имеет смысл остановиться на этих принципах подробнее.
Борясь с младограмматиками, которые сводили изучение языка к
исследованию его истории, а саму эту историю представляли как филиацию
изменений отдельных, не связанных между собой признаков, структурная
лингвистика постулировала два раздельных подхода к языку. Синхрон-
ный — первичен. Анализ начинается с выделения структурно организо-
ванных синхронных срезов языка. Синхронный срез — внутренне орга-
низованное целое. При этом соотношение элементов и целого понимается
не как механическая сумма, а в единстве. «Структура складывается из
индивидуальных явлений как высшее единство (целое), обладающее та-
кими интегральными свойствами, которые чужды его отдельным частям;
структура — это не просто совокупность, сумма составляющих ее частей.
Явления, образующие структуру, не есть части целого, поддающегося
делению; находясь в тесной взаимосвязи, эти явления представляют собой
io, чем они являются, лишь в силу своего вхождения в иерархически
упорядоченное целое»*.
Деятели Пражского кружка — и это будет особенно существенно для
Мукаржовского — подчеркивали, что синхрония не означает неподвижность,
статику. Внутренние связи мо!ут иметь характер динамических напряже-
ний. Показательно, что эту мысль Р. О. Якобсон иллюстрировал на примере
из области искусства. Он писал: «Было бы серьезной ошибкой утверждать,
что «синхрония» и «статика» — синонимы. Статический срез — фикция;
:ло лишь вспомогательный научный прием, а не специфический способ су-
ществования. Мы можем рассматривать восприятие фильма не только ди-
ахронически, но и синхронически; однако синхронический аспект фильма
отнюдь не идентичен отдельному кадру, вырезанному из этого фильма. Вос-
приятие движения наличествует и при синхроническом аспекте фильма»**.
* HavranekB. Strukturalismus. — In: Ottuv slovnfk naucny nove doby,
cl. VI/I, s. 452.
** JakobsonR. Prinzipien der historischen Phonologic. — In: Travaux du
Cercle linguistique de Prague. 1931, vol. IV. p. 264—265.
11
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Критикуя женевскую школу за отрыв синхронии от диахронии (ис-
торического аспекта), Пражский лингвистический кружок неизменно под-
черкивал, что вторым шагом после описания синхронного состояния сис-
темы является изучение путей перехода ее в следующее состояние, т. е.
изучение истории.
Вторым функциональным принципом было выделение в объекте, ко-
торый изучается структурными методами, двух начал: инвариантной си-
стемы отношений («языка», по терминологии де Соссюра) и материали-
зованных ее вариаций («речи», по его же определению). И здесь пражская
школа пошла дальше женевской: приняв это исходное противопоставление
как основу структурного изучения языка (на нем основывалась идея уровней
описания, составляющая в настоящее время одно из наиболее фундамен-
тальных положений общей теории науки), деятели кружка всячески под-
черкивали сложный диалектический характер соотнесения этих начал.
Как мы уже отмечали, одной из существеннейших черт пражской
школы была акцентированность понятия функции. В. Скаличка писал:
«Чрезвычайно важным является понятие функции. Для нас функция при-
мерно то же, что и целеустановка. Гавранек в статье «О структурализме
в языкознании» говорит о языке, что «он постоянно и как правило выполняет
определенные цели или функции» <...> В понимании пражских лингвистов
термин «функция» употребляется тогда, когда речь идет о значении (фун-
кция слова, предложения) или о структуре смысловых единиц (функция
фонемы)»*.
Принципы, которые Пражский лингвистический кружок положил в
основу изучения языка, оказались весьма плодотворными в применении
к искусству. Мы уже говорили о том стимулирующем значении, которое
имели для Мукаржовского, как и для многих других членов кружка,
работы русских формалистов. И тем не менее было бы глубоким заблуж-
дением не видеть принципиальной разницы.
Выделив художественный текст как самостоятельный объект исследо-
вания, имеющий замкнутую в себе внутреннюю организацию, формальная
школа сделала большой шаг вперед в сравнении с тем эпигонским ака-
демическим литературоведением, мнимый историзм которого во многом
напоминал псевдоисторизм младограмматиков, а общая тенденция пози-
тивистской науки XIX века вызывала стремление видеть в объекте изучения
скопление атомарных фактов.
Всякий, кто размышлял над историей науки, конечно, обращал вни-
мание на то, что многие существенные идеи весьма по-разному оцениваются
современниками и потомством. Если бы дело здесь сводилось к тривиальным
* Скаличка В. Копенгагенский структурализм и «пражская школа». —
Цит. по кн.: Звегинцев В. А. История языкознания XIX—XX веков в очерках
и извлечениях. М., 1965, ч.2, с. 152.
12
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
размышлениям о сопротивлении, которое встречают новые научные кон-
цепции, предаваться им не имело бы никакого смысла. Интересующая
нас закономерность истории науки лежит глубже: определенные научные
представления мо1ут не только казаться, но и действительно быть неадек-
ватными объекту в одном контексте — и адекватными ему в другом. Дело
в том, что всякая новая идея в науке ведет себя, как правило, агрессивно.
Она склонна заполнять собой все пространство теории и представлять себя
как всеобъемлющую. Но такие претензии часто оказываются необоснован-
ными, а именно они, в первую очередь, и бросаются в глаза современникам.
Однако проходит время, и то, что претендовало быть моделью всего объекта,
может оказаться плодотворным аспектом другой, более сложной научной
концепции.
Аналогичной была и судьба формального направления в литературо-
ведении 1920-х годов. Выдвинув задачу имманентного рассмотрения ху-
дожественного текста как системы, организованной sui generis, формальное
направление сделало крупное открытие: оно обнаружило синтагматическую
структуру произведения и поставило вопрос об ее изучении. Однако при
этом формалисты 1920-х годов отождествили синтагматическую ось по-
строения со структурой художественного произведения как таковой, возведя
асемантизм в принцип искусства. В таком виде их концепция вызвала
возражения с самых разных сторон: со стороны символистов (Брюсов,
Вяч. Иванов) и социологов, переверзианцев и марристов. Особо надо
отметить работы М. М. Бахтина, двигавшегося к решению структурных
проблем иными, принципиально отличными от формалистов путями, а
также ученых, стоявших выше отдельных частных концепций, —
В. М. Жирмунского и Г. О. Винокура. Бели формальное направление стре-
милось, начиная с анализа атомов структуры, подняться до изучения
целостных построений (и под пером Тынянова сделало в этом направлении
значительные шаги), то Бахтина интересовала целостность искусства, не-
расчленимое на части своеобразие. Бахтин противопоставлял свои воззрения
формальному направлению, предпочитая позитивные работы непосредст-
венной полемике. Последнюю взял на себя Павел Медведев в книге, в
значительной мере написанной рукой Бахтина, но несущей на себе, однако,
следы стиля и мысли и того, чья фамилия значилась на титуле (Медведев
П. Н. Формальный метод в литературоведении. Л., 1928). Отождествление
целостности художественной структуры с ее синтагматикой, конечно, при-
водило к искажениям, и это очень скоро поняли сами опоязовцы. Пло-
дотворной могла быть только та критика формалистов, которая дополнила
бы анализ синтагматической структуры семантической, а всю целостность
художественного построения рассматривала бы как взаимное напряжение
этих двух принципов организации. Критика же, которая просто отбрасы-
вала саму проблему синтагматического анализа внутренней конструкции
текста, была шагом назад.
13
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Конструктивная критика формализма была возможна лишь на основе
методики, выработанной в результате изучения материала, для которого
синтагматический и семантический подход составляют нерасторжимые
стороны одного целого. Таким материалом, как известно, является язык.
Поэтому единственно плодотворная критика формализма, которая не от-
брасывала бы его завоеваний, требовала профессиональных лингвистиче-
ских навыков. Такой была, например, позиция Г. О. Винокура. В этом
смысле деятели Пражского лингвистического кружка находились в особо
выгодном положении.
Ддя того чтобы наша мысль стала более понятной, позволим себе
напомнить ту критику»формализма, которая была развернута в 1930-е
годы литературоведами, находившимся под влиянием методологии Н. Мар-
ра. Участникам этой группы нельзя отказать ни в таланте, ни в широте
эрудиции, ни в научном энтузиазме. И сам академик Н. Я. Марр, и такие
его сотрудники, как И. Г. Франк-Каменецкий или О. М. Фрейденберг, бы-
ли люди блестяще одаренные и энциклопедически образованные.
Метод, который, в противоположность формальному, ученые этой груп-
пы именовал^ семантическим*, основывался на реконструкции глубинйых
значений смысловой палеонтологии. Раскрывая в противоположных или
просто не связанных для современного сознания сюжетно-смысловых еди-
ницах древнее тождество, устанавливая в сюжетах отражение обрядов и
мышления архаического общества, последователи Н. Я. Марра высказали
немало глубоких научных идей. Однако исследуя семантическое отношение
элемента текста к внетекстовым (в основном — архаическим) реалиям,
марристы совершенно игнорировали значения, которые данный элемент
приобретает в отношении к целостной структуре данного же текста. Ус-
танавливая палеонтологию значения какого-либо эпизода в тексте комедии
Шекспира или трагедии Кальдерона, исследователи одновременно как бы
забывали о том значении, которое он получал в художественной архитек-
тонике данного текста. Комедия Шекспира или средневековый роман о
Тристане и Изольде собственной структуры значений как бы не имеют —
они лишь континуумы, в которых помещаются семантические реликты,
не мотивированные их контекстом, но находящие свое объяснение в глу-
бинах доисторического мышления. Возникал парадокс: отказ от анализа
формальной (синтагматической) структуры текста приводил к утрате ими
целой оси значений, хотя все это и осуществлялось под знаменем семан-
тики.
Причина здесь в другом парадоксе: новое учение о языке не было
* См.: Фрейденберг О. М, Целевая установка коллективной работы над
сюжетом Тристана и Исольды. — В кн.: Тристан и Исольда: От героини
любви феодальной Европы до богини матриархальной Афроевразии /Кол-
лективный труд Сектора семантики мифа и фольклора под ред. акад.
Н. Я. Марра. Л., 1932.
14
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
языковым учением. Отождествляя язык и мышление до степени полного
отрицания специфики этих областей, оно ликвидировало аппарат линг-
вистики, агрессивно навязывая языкознанию нелингвистические методы
(вот почему как раз в области этнографии, фольклористики и мифологии
марризм мог добиваться реальных достижений, хотя метод всегда оставался
его слабой стороной).
Пражская школа, насчитывавшая в своих рядах лингвистов мирового
класса, оказалась в значительно более выгодном положении. Именно она
сумела осуществить конструктивную критику формализма, невольно под-
твердив положение Ю. Н. Тынянова о том, чтй в сфере культуры нет более
опасных критиков, чем непосредственные преемники.
Начальный этап развития эстетической доктрины Пражского лингви-
стического кружка, как мы уже отмечали, был связан с влиянием идей
ОПОЯЗа. Воздействие это, например, отчетливо ощущается в программных
«Тезисах Пражского лингвистического кружка», опубликованных в 1929
году в «Travaux du Cercle linguistique de Prague» (vol. 1) и в материалах
к I съезду славистов. Здесь, в частности, читаем: «Организующий признак
искусства, которым последнее отличается от других семиологических
структур, — это направленность не на означаемое, а на сам знак.
Организующим признаком поэзии служит именно направленность на
словесное выражение»*. Правда, в предшествующем параграфе указыва-
лось, как на недостаток науки, на то, что «с точки зрения методологической
менее всего разработана поэтическая семантика слов, фраз и компози-
ционных единиц любого размера <...> Сам сюжет представляет семанти-
ческую композицию, а поэтому проблемы структуры сюжета не могут
быть исключены из изучения поэтического языка»**.
Именно навык исследования языка толкал чешских структуралистов
к изучению социальной функции текста. Показательно, что В. Скаличка,
критикуя Бльмслева и копенгагенскую школу за стремление оторвать
структуру языка от его социальной функции, писал: «Можно только по-
жалеть, что Ельмслев недостаточно хорошо знаком с работами Я. Мукар-
жцаского и его школы»***, т. е. ссылается на исследования по эстетике и
анализы художественного текста как на работы, в которых социальная
(семантическая и прагматическая) функция текста недвусмысленно обна-
жена.
Принципы чешского структурализма — подчеркивание сложных ди-
* Цит. по кн.: Пражский лингвистический кружок. М., 1967, с. 32.
♦* Там же, с. 31.
♦♦♦ Скаличка В. Цит. соч., с 151.
15
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
алектических отношений между конструктивными рядами текста, внут-
ренней напряженности как закона существования структуры, интерес к
семантическим связям и социальной функции художественного текста —
сложились в трудах Мукаржовского не сразу. Работы конца 1920-х годов —
наиболее существенная из них «Май» Махи. Эстетическое исследование»
(1928) — строятся под явным воздействием раннего ОПОЯЗа, В. Шклов-
ского и О. Брика. Произведение, считает Мукаржовский, распадается на
элементы различных уровней, и если уровни эти иерархически соподчи-
нены, то внутри каждого из них элементы конструктивно равноправны.
С 1931 года начинается новый период. Учитывая дальнейшее движение
науки, в особенности работы Ю. Н. Тынянова, Мукаржовский формулирует
понятие структурной доминанты. Его все более занимает структура как
диалектическое единство — научная альтернатива представлению об ис-
кусстве как механической сумме приемов («Эвфония «Экспедиций к «я»
Тэра», «Чаплин в «Огнях большого города»). Работы «Язык литературный
и язык поэтический» (1932). «Поэтическое произведение как комплекс
ценностей» (1932) и «Искусство как семиотический факт» (1934) допол-
няют понятие структуры понятием знака. Соединение структурального
подхода с семиотическим — определяющая специфическая черта работ
Мукаржовского и его школы и одновременно характерный признак чеш-
ского структурализма. Именно с этого момента формализм становится
вчерашним днем и складывается та искусствоведческая методология, ко-
торая сохраняет свою научную актуальность до сих пор.
В 1934 году следует ряд публикаций: «Возвышенность природы» По-
лака», «К чешскому переводу «Теории прозы» Шкловского», «Общие прин-
ципы и развитие нового чешского стиха». Завершением всего развития
эстетической мысли Мукаржовского после 1931 года является опублико-
вание в 1936 году классической работы «Эстетическая функция, норма и
ценность как социальные факты».
Вслед за учением о языковых функциях, составлявшим одну из основ
лингвистической теории Пражского кружка, Мукаржовский формулирует
концепцию эстетической функции.
Теория функций в том виде, как она была разработана Мукаржовским
в первой половине 1930-х годов, звучит весьма современно. Автор нашел
ту опорную точку, отправляясь от которой современная семиотика пре-
вращает себя из науки о дешифровке текстов в науку о культуре — общую
теорию порождения, хранения и функционирования информации в чело-
веческом обществе.
В. Матезиус в 1936 году указал на функции как на внешнюю по
отношению к семиотическим системам структуру, которая позволяет со-
поставить их между собой и на основе их употребления человеческим
коллективом строить общую систему культуры. «Единственно правильным
подходом к различным языкам как к вполне сравнимым системам будет
16
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
функциональная точка зрения, поскольку основные потребности выражения
и общения," единые для всего человечества, — это единственный общий
знаменатель, к которому удается привести различные языковые экспрес-
сивные и коммуникативные средства, варьирующиеся от языка к языку»*.
Непосредственный смысл цитаты — в обосновании функционального под-
хода для построения сравнительной типологии языков. Однако появившиеся
в ту же пору работы Р. О. Якобсона, Я. Мукаржовского, П. Г. Богатырева
и ряда других исследователей показали, что коллектив, культура которого
состоит из набора семиотических систем, также может быть представлен
как полиглотический и система функций, обслуживаемых этими различ-
ными типами семиозиса, является основанием для их сопоставления. Так,
в работах П. Г. Богатырева объектом функционально-семиотического ана-
лиза были народные костюмы Словакии и Моравии, различные типы
народного театра, ритуала и быта.
В тексте лекции «Задачи общей эстетики» (начало 40-х гг.) Мукар-
жовский писал: «В каждом человеческом деянии есть три стороны: прак-
тическая, теоретическая и эстетическая; иными словами — каждое чело-
веческое деяние и его последствия неизбежно и по самому своему существу
имеют три основные функции: практическую, теоретическую и эстетиче-
скую»**. Бели в первых двух предметы выступают как средства — с их
помощью достигаются практические результаты или теоретические знания,
то в последней они являются целью. Классификация эта была детализи-
рована в работе «Место эстетической функции среди прочих функций»
(1942). Мысли автора, изложенные в этой статье, можно было бы резю-
мировать в следующей таблице:
непосредственные функции знаковые функции
объек- тивные практические функции символические функции
e субъек- тивные теоретические функции эстетические функции
Предложенная автором классификация не представляется бесспорной.
Однако основная ценность разработки Мукаржовским вопроса о функциях
* Maihesius V. On Some Problems of the Systematic Analysis of Grammar. —•
In: Travaux du Cercle linguistique de Prague. 1936, vol. VI, p. 95.
♦♦ Наст^иад^г. 138.
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
была не в тех или иных конкретных классификациях, а в принципиальной
стороне его подхода к проблеме. Каждый социум характеризуется опре-
деленным набором текстов, набором потребностей и отношением текстов
к этим социальным потребностям, т. е. тем, как тексты используются в
коллективе. Напомним, что и применительно к языку функциональность
понималась как отношения языковых структур к цх употреблению. В
коллективных тезисах, представленных IV съезду славистов Б. Гавранеком,
К. Горалеком, В. Скаличкой и П. Тростом, подчеркивалось: «Представи-
тели пражской школы считали важнейшей чертой языковых систем их
функциональное назначение, практическое использование языка»*.
Представление о необязательности в системе культуры совпадения
текста и функции (например, когда поэтическая функция обслуживается
прозаическими текстами, и наоборот) особенно существенно при изучении
переходных эпох со сдвинутой системой социальных ценностей. Оно по-
лучило признание в современной типологии культуры, которая раз-
личает типы культур, ориентированные на строгое соответствие текстов
функциям (яркий пример — классицизм) и на разного рода сдвиги и
конфликты между этими системами (барокко, ряд течений в искусстве
XX века).
Принципиальным для Мукаржовского было и положение о том, что эс-
тетическая функция не есть монопольное достояние искусства. Эстетическая
функция свойственна всем видам человеческой деятельности, в сфере ис-
кусства она лишь доминирует. Такой подход хорошо^объясняет известные
факты, когда один и тот же текст в одних коллективах воспринимается как
принадлежащий искусству, а в других — нет или совершает миграцию из
области искусства в нехудожественную сферу, и наоборот. Стоит в том или
ином тексте воспринять эстетическую функцию как доминирующую (так
мы относимся теперь к древнерусскому летописанию), и этот текст стано-
вится искусством, хотя для современника вопрос решался иначе. То же са-
мое можно было бы сказать и о средневековой иконописи. Для аудитории,
к которой она была обращена, доминирующей являлась религиозная фун-
кция, и естественным — вернее, единственно возможным и обеспечивающим
восприятие — местом живописного произведения был храм или иконостас —
сакральное пространство храмового помещения. Для современного зрителя
в том же тексте может доминировать эстетическая функция. В этом случае
он перевешивает икону Рублева в музей.
Другой существенный аспект социального истолкования искусства в
работах Мукаржовского 1930-х годов — проблема нормы. Вопрос этот
разрабатывался в работе «Эстетическая функция, норма и ценность как
социальные факты» и в специальной статье «Эстетическая норма» (1937).
* Ответы на лингвистические вопросы (к IV Международному съезду
славистов). М., 1958, с. 50—51 (курсив мой. — Ю. JL).
18
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
Введение понятия нормы, представляющей третье начало по отношению
к «языку» системы и ее «речи» (в терминах Ф. де Соссюра), представляло
существенное новшество, Здесь не место оценивать значение понятия
нормы в собственно лингвистических трудах Пражского кружка. Введение
этой эстетической категории представляло большой шаг вперед в осознании
самого механизма художественного воздействия. Причем природа нормы
в лингвистике и эстетике, как обнаружилось, глубоко отлична. Общеиз-
вестно, что нарушение общеобязательных языковых правил превращает
лингвистический текст в бессмысленный и, следовательно, приводит к его
разрушению. В художественном тексте нарушение правил — один из
наиболее распространенных случаев образования новых значений и уве-
личения смысловой насыщенности текста. Обращает на себя внимание и
другой аспект проблемы: с лингвистической точки зрения нет никакой
разницы, слышим ли мы данный текст в первый раз или он давно нам
известен. Все равно собственно языковая ткань текста для человека, вла-
деющего языком, ничего нового не несет.
Иное дело художественный текст. Здесь сама его система должна
постоянно обновляться в сознании аудитории. Языковой текст не знает
понятия эпигонства, а для искусства рождение абсолютно «правильного»,
но абсолютно мертвого произведения — вопрос столь же частый в практике,
сколь загадочный в теории («правильный» здесь — соответствующий эс-
тетической теории; романтизм требовал «неправильных» текстов, и, с его
точки зрения, только неправильные тексты были «правильными», но ни
такое нарушение, ни такое соблюдение правил еще не обеспечивают
появление живого искусства).
Введение понятия нормы значительно прояснило этот сложный и
запутанный вопрос. Оно позволило увидеть в художественной конструкции
обязательное противоречие, преодоление которого требует творческого уси-
лия и сопряжено с талантом. Разработка понятия структурного напряжения
составляет одно из крупнейших завоеваний чешского структурализма. Это
вносило в понимание структуры энергетический момент. В работе «Эсте-
тическая норма» Мукаржовский указывал, что там, вде речь идет о дея-
тельности, ориентированной на норму, «ограничение, организующее эту
деятельность, само по себе также носит характер энергии»*. Следует
отметить, что в советском литературоведении в аналогичном направлении
работала мысль Ю. Н. Тынянова, для которого динамизм соотнесения
структурных, рядов и понятие доминанты также определяли интерес к
энергетическим показателям текста.
Рассматривая норму как «рейдирующий энергетический принцип»,
Мукаржовский противопоставляет статическому пониманию закономерно-
♦ Наст, изд., с. 162.
19
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стей, рейдирующих художественный текст, динамическую модель: «Нор-
ма — это, скорее, энергия, чем правило»*.
Динамический характер нормы проявляется в двусторонней обратной
связи ее с текстом: «Вследствие своего динамического характера норма
подвержена непрерывным изменениям; можно даже предположить, что
всякое применение какой бы то ни было нормы ко всякому конкретному
случаю неизбежно является в то же время изменением нормы: не только
норма оказывает влияние на формирование конкретного факта (например,
художественного произведения), но одновременно и конкретный факт вли-
яет на норму»**. Динамизм проявляется и в другом, более глубинном
свойстве искусства: художественный текст живет в одновременной проек-
ции на несколько норм, поэтому соблюдение некоторых из них оказывается
нарушением других. Сложное переплетение нарушений и выполнений
норм и структурное напряжение между различными нормирующими си-
стемами и движущимся в их семантическом поле текстом придают худо-
жественному произведению динамический, жизненный характер. Считая,
что произведение искусства предстает , «перед нами как сложное перепле-
тение норм»***, Мукаржовский указывал: «Специфический характер эс-
тетической нормы заключается в том, что она более склонна к тому, чтобы
ее нарушали, чем к тому, чтобы ее соблюдали... это, скорее, ориентиро-
вочная точка, служащая для того, чтобы дать почувствовать меру дефор-
мации художественной традиции новыми традициями». И далее: «Мно-
жественность норм, которые содержатся в художественном произведении,
предоставляет, таким образом, широкие возможности для создания того
неустойчивого равновесия, каковым является структура произведения»****.
Из приведенных цитат видно, что самое понятие структуры приобрело
у Мукаржовского динамический характер и стало инструментом гибкого
моделирования, которое единственно и может адекватно отразить столь
сложные объекты, как искусство.
Имеет смысл остановиться на одной более частной, но чрезвычайно
интересной мысли нашего автора. Исходя из тезиса о том, что эстетическая
функция присуща не только искусству, а разлита во всей деятельности
человека, он отмечает, что отношение к норме в эстетическом переживании
искусства и не-искусства различно. Бели художественный текст живет на
пересечении многих эстетических норм, то вне искусства эстетическая
функция имеет тенденцию, стабилизироваться, подчиняясь какому-либо
одному нормативу. Поэтому в сфере искусства нормы все время дискре-
дитируются, а вне его — утверждаются. Быт формирует неподвижные
♦ Наст. изд. с. 163.
♦ ♦ Там же.
♦ ♦♦ Там же, с. 166.
♦♦♦♦ Там же, с. 168.
20
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
художественные вкусы, искусство — динамические. Наблюдение это от-
личается большой глубиной. Оно раскрывает обмен эстетическими функ-
циями между искусством и не-искусством не как автоматически и бес-
конфликтно протекающий процесс, а как сложную и драматическую борь-
бу. Хорошо объясняется и революционная роль искусства, и омещанивание
оседающих в быту художественных форм. В наше время, когда проблема
«массовой культуры» приобретает все большую остроту, необходима кон-
цепция, которая объяснила бы, почему имитации, заменяющие искусство
конвейерными шаблонами, не просто неудачные произведения, а ударные
отряды борьбы с искусством.
Вместе с тем Мукаржовский подчеркнул лишь одну сторону вопроса.
Важно напомнить, что внехудожественная эстетика может играть не только
тормозящую, но и революционизирующую роль, давая материал для об-
новления языка искусства.
Рассмотрение произведения искусства как социального факта Му- "
каржовский увенчивает анализом проблемы ценности. Это развитое им
с большой оригинальностью учение имеет целью включить внутренне
самостоятельную структуру художественного произведения в общую
структуру социальной действительности. Эстетическая ценность — «про-
цесс, определяемый, с одной стороны, имманентным развитием самой
художественной структуры (ср. актуальную традицию, на фоне которой
оценивается каждое произведение), с другой — движением и сдвигами
в структуре общественного бытия»*. Применение к искусству аксиоло-
гического анализа остается актуальным и для наших дней. Отсылая
читателя к соответствующим страницам настоящего издания, отметим
лишь один аспект проблемы.
К числу наиболее сложных вопросов современного искусствоведения
относится проблема измерения художественной информации. Анализ мно-
жественности норм раскрывает каждое конкретное художественное явление
как выбор из некоторого множества возможностей, до определенного мо-
мента равноценных. Степень непредсказуемости этого выбора будет мерой
количества информации, заключенной в тексте. Хотя Мукаржовский ра-
ботал над интересующими нас трудами задолго до возникновения самой
теории информации, мысль его явно двигалась в направлении, предвос-
хищавшем будущее развитие науки. В тексте лекции «Задачи общей
эстетики» он писал: «Каждый последующий этап одновременно и необходим
и случаен — необходим постольку, поскольку он основывается на пред-
шествующем этапе, случаен — и, следовательно, непредсказуем, — потому,
что нельзя заранее предвидеть, какая из двух взаимодействующих сил
возобладает в данную минуту»**.
* Наст, изд., с. 95.
Там же., с. 137.
21
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Однако если трактовка художественного акта как исчерпания некоторой
исходной неопределенности (термин акад. А. Н. Колмогорова) ведет нас к
измерению количества информации, то вводимое Мукаржовским понятие
ценности ставит вопрос о путях оценки ее качества. Здесь исследователь
затронул вопрос, в такой мере обгоняющий его время, что и ныне наука
не имеет его решения. Тем важнее сама постановка. вопроса.
Следующий этап в теоретическом развитии Мукаржовского был связан
со стремлением проникнуть в сущность того, что составляет индивидуаль-
ность художественного текста. Работы этого периода также сохраняют
актуальность для современного читателя. Критики идей, в развитии ко-
торых Мукаржовский принимал активное участие, неоднократно выска-
зывали мысль о том, что семиотические методы применительно к искусству
не способны охватить область индивидуального своеобразия текста, а имен-
но в этом усматривалась неповторимость искусства. При этом упускалось
из виду, что природа индивидуального в искусстве и жизни глубоко
различна. Индивидуальное в жизни — это внесистемное, то, что выпадает
из общих закономерностей. Индивидуальное в искусстве возникает на
пересечении нескольких закономерностей, одновременно принадлежа не-
скольким структурам. Таким образом, то, что, с точки зрения одной
структуры, предстает как неожиданное и непредсказуемое, с позиции
другой раскрывается как закономерное и наиболее значимое. Поэтому путь
к познанию индивидуального в искусстве состоит не в отказе от включения
каждого отдельною факта в общие закономерные структуры (это путь не
к познанию искусства, а к уничтожению его коммуникативной функции),
а в умножении числа этих структур и осознании сложности, диалекти-
ческой «игры» их взаимопересечений.
Стремясь понять произведение искусства как неповторимый индиви-
дуальный факт, Мукаржовский видел в этом развитие идей предшеству-
ющего периода, а не отказ от них.
В основу подхода было положено представление о том, что индиви-
дуальное и всеобщезакономерное не только не оторваны друг от друга,
но, напротив, друг без друга невозможны и взаимно друг в друге нуждаются.
Чем отчетливее ощущает читатель общие художественные модели, на фоне
которых функционирует данный текст, тем живее его чувство индивиду-
альности и неповторимости, возникающее от восприятия произведения как
сложного сочетания выполнений и нарушений норм внеположенных тексту
художественных «языков».
Вместе с тем только возможность нарушения общих закономерностей
оживляет у аудитории чувство системности, избавляет художественные
«языки» от постоянно висящей над ними угрозы автоматизироваться в
22
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
сознании потребителей, т. е. сделаться незаметными, как бы «перестать
существовать». В отличие от языка как лингвистической системы автома-
тизация для языка искусства — смерть. Поэтому нарушение, «ошибка» в
естественном (например, русском) языке и в «языке романтизма» играют
совершенно различную роль. Язык как лингвистическое понятие может
существовать без отклонений от нормы (если естественные языки все же
существуют в постоянном конфликте между употреблением и нормой, то
искусственные языки, например язык уличной сигнализации, или мета-
языки наук не допускают не только ошибок, но и вариативности и сино-
нимии), языки искусства вне таких отклонений невозможны.
Если усвоить противоречивую соотнесенность индивидуального и все-
общего в искусстве, то не будет казаться удивительным, что интерес к
индивидуальному стимулировал у Мукаржовского появление ряда работ,
посвященных общим художественным структурам.
Так рождается, с одной стороны, цикл работ, трактующих проблему
отношения личности автора к тексту произведения, а с другой — отношения
отдельного текста к такой общей модели, как язык данного искусства.
В 1937 году на X Международном конгрессе по эстетике и искусст-
воведению Мукаржовский делает доклад «Личность в искусстве», идеи
которого были им в дальнейшем развиты в ряде статей.
Работы Мукаржовского по теории поэтического языка, написанные в
конце 1930 — начале 1940-х годов, знаменовали собой значительный шаг
вперед. Сам Мукаржовский в статье «О поэтическом языке» (1940) счел
необходимым подчеркнуть это. Оценивая работы рассматриваемого этапа
как «окончательное преодоление формализма», он писал: «Десять лет назад
па первый план наиболее заметно выступала звуковая сторона поэтической
речи; из вопросов, связанных со значением, в поле зрения были преиму-
щественно лишь проблемы лексики и ее поэтического использования.
Сейчас на первый план выдвинулись проблемы значения, даже при изу-
чении самой звуковой стороны языка, а из них в свою очередь представ-
ляется наиболее настоятельной проблема взаимоотношения смысловой
с татики и динамики и в связи с ней вопросы смыслового постро-
ения»*.
Стремление взглянуть на всю систему поэтического языка как на
сложную иерархию смысловых отношений составляет основу работы «О по-
этическом языке». Прежде всего автор определяет само понятие «поэти-
ческий язык». Он отводит определения поэтического языка как ориенти-
рованного на «красоту» (широко известны случаи нарочитой антиэстетич-
ности поэтического языка), эмоциональность (возможны внеэмоциональная
поэтическая речь и эмоциональная речь вне поэзии), «образность» (ср.
демонстративный отказ классицизма от образности в поэзии) и т. д. Един-
♦ КСР, I, s. 127.
23
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ственной основой определения поэтического языка является его функция,
«но функция — это не свойство, а только способ использования свойств
данного явления»*. Таким образом, поэтический язык — не пласт в на-
циональном языке, а способ его употребления.
Каково же это употребление?
Смысл позиции Мукаржовского в анализируемой работе можно резю-
мировать следующим образом. В естественном языке план выражения и
план содержания отчетливо разделены. Но, хотя отношение между ними
исторически конвенциально и в этом смысле условно для каждого отдель-
ного индивида, оно представляется наперед данным и не подлежащим
изменению. Поэтому сфера языкового выражения автоматизируется и,
являясь средством передачи значений, собственного значения не имеет.
Поэтический язык делает семантически насыщенной и ту область,
которая вне поэзии выступает как чисто формальная — область языкового
выражения. Поэтому раскрыть поэтическую функцию языка означает об-
наружить механизмы, за счет которых ликвидируется автоматизм соотно-
шения между содержанием и выражением и в них вносится дополнительная
свобода, делающая самый выбор того или иного их соотношения источником
новой информации. Эта свобода тем ощутимее, чем — и тут перед нами
очередной парадокс искусства — значительно более непосредственным
кажется на первый взгляд соотношение выражения и содержания в ис-
кусстве. Искусство как бы отменяет ковенциальность языковых знаков и
заменяет их иконическим принципом, подразумевающим непосредственное
«сходство» содержания и выражения. Но одновременно протекает и про-
тивоположный процесс: соотношение выражения и содержания каждый
раз предстает как акт индивидуального и сознательного выбора и, следо-
вательно, насыщается содержанием, делается средством передачи инфор-
мации. Располагая исследование по уровням языковой структуры, Мукар-
жовский показывает, как на каждом из них языковой механизм представ-
ляет в распоряжение художника некоторое множество структурно или
функционально равноценных элементов. Выбор одного из них — акт
творчества. Высказанные здесь идеи позже, когда возникла теория инфор-
мации, блестяще подтвердились и получили новую, более глубокую ин-
терпретацию.
Особый интерес представляет тот раздел статьи, в котором Мукаржов-
ский определяет понятие поэтической лексики. Выделяя в слове два ком-
муникационных аспекта — обозначение и номинацию, Мукаржевский
анализирует сущность номинативного акта в искусстве. В обычном язы-
ковом употреблении номинация — обозначение данного явления или пред-
мета данным словом —автоматизирована. Поэт вносит в это отношение
свободу. Он находится в позиции мифологического демиурга, который
♦ КСР, I, s. 80.
24
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
идет по еще не имеющему названий миру и обозначает безымянные
предметы. Сходство поддерживается здесь тем, что и в поэзии и в мифо-
логии наименование рассматривается как сотворение. Поэтическое назы-
вание есть первое называние, и именно так оно должно восприниматься
читателем. Делая акт поэтического наименования сознательным и твор-
ческим, поэт значительно более глубоко проникает в сущность мира, чем
тот, кто ограничивается раз навсегда установленной языковой системой
называния. Но индивидуальная поэтическая номинация оказывается од-
новременно и картиной мира, видимого глазами поэта. Раскрытие в
поэтической номинации пластов, принадлежащих различным историко-
культурным моделям (национальной культуре, эпохе, социальной группе,
течению в искусстве, индивидуальным данным автора), позволяет конк-*
ретно решить проблему диалектики закономерного и индивидуального в
каждом художественном тексте.
Меру значимости Мукаржовский видит в степени сдвига значения в
слове по отношению к общеязыковой норме: «Существует... возможность
искусственно актуализировать номинационный акт и даже поднять то или
иное наименование на уровень первоначального путем выбора для номи-
нации данной вещи необычного для нее слова. Здесь есть несколько
ступеней: прежде всего может быть выбрано слово, хотя и связанное с
данной вещью, но реально редко с нею соединяемое, т. е. отдаленный
синоним обычного ее обозначения; более высокая ступень оживления
номинационного акта имеет место в том случае, если для номинации взято
слово, чаще всего связываемое с другой вещью, — это образное найме- .
нование; самая высокая ступень актуализации номинационного акта —
выбор образного наименования из смысловой сферы, совершенно чуждой
обычному наименованию: тут образ поднимается уже до уровня первона-
чального наименования»*.
Высказанная Мукаржовским мысль очень глубока. Однако на ней
лежит в известной мере печать художественного опыта, наиболее близкого
и органичного чешскому теоретику. Если привлекать более широкий эс-
тетический материал, то станет очевидно, что в разных культурах наи-
большая номинационная свежесть может достигаться различными средст-
вами. В системе, которая допускает сдвиг, нереализация сдвига может
производить гораздо более сильное впечатление, чем его осуществление.
При «расшатывании» связей между словом и обозначаемым им объ-
ектом возникает возможность окказиональных поэтических значений, ко-
торые складываются в системы поэтических синонимов и поэтических
омонимов: «Поиски языкового выражения при номинации осуществляются
одновременно в двух направлениях: с одной стороны, в синонимическом
ряду (различные возможные наименования для одной и той же вещи), с
* кЕр, I, S. 111.
25
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
другой — в омонимическом ряду (различные возможные значения одного
и того же слова). Итак, при номинации язык рассматривается с точки
зрения наименованной действительности (синонимичность), а наимено-
ванная действительность — с точки зрения данной лексической системы
(омонимичность). Лексическая система и действительность всегда при
этом, если не реально, то хотя бы потенциально, противопоставляются
Друг другу и приводятся в движение как целые, ибо и синонимический
ряд, и омонимический ряд виртуально бесконечны. В идеале всякая вещь
может быть обозначена любым словом и, наоборот, любое слово может
обозначать любую вещь**.
Следует отметить, что исследование окказиональных рядов поэтиче-
ских синонимов и омонимов на фоне семантической структуры естест-
венного языка и в настоящее время представляет собой один из наиболее
» *
действенных инструментов анализа индивидуального поэтического виде-
ния мира.
Существенным аспектом модели поэтического языка, создаваемой Му-
каржовским, является антиномия статического и динамического в поэти-
ческом тексте. Обе эти тенденции одновременно присутствуют в художе-
ственном произведении, и только их взаимное напряжение создает его
«неустойчивое равновесие».
Статика поэтической конструкции сконцентрирована в слове и про-
является в тенденции воспринимать надсловесные единства (фразу, строфу,
главу, в конечном итоге — весь текст) как слово. Это та тенденция,
которую имел в виду Потебня, определяя художественный текст как боль-
шое слово. Об этом же превращении слов в слово Пастернак писал:
Что ему почет и слава,
Место в мире и молва
В миг, когда дыханьем сплава
В слово сплочены слова.**
Динамическая тенденция проявляется при соединении слов в ряды.
Минимальной единицей, находящейся на грани статики и динамики,
является пара слов. Мукаржовский отмечает сложные типы отражения
значений одного слова в другом. Здесь мы имеем дело с тем принципом,
который был на примере киноповествования тщательно изучен Ю. Тыня-
новым и С. Эйзенштейном и получил название «монтажного эффекта»^
Переходя от слова к предложению, мы преступаем границу между статикой
и динамикой значения. Динамическое значение открывает в отдельном
слове его зависимость от контекста. Если в статическом отношении целое
складывается из частей, то в динамическом оно делится на части. В первом
♦ КСР, I, s. 111.
** Пастернак Б. Стихотворения и поэмы. М.; Л., 1965, с. 384 (курсив
мой. — Ю. Л.).
26
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
случае мы восходим от слова к предложению, во втором — от предложения
к слову.
Последний параграф работы посвящен проблеме монолога и диалога.
Следует отметить, что к началу 40-х годов этот вопрос, несмотря на
новаторские работы Л. П. Якубинского, М. М. Бахтина и Е. Д. Поливанова,
был не только мало изучен, но и степень его важности осознана была
далеко не полностью. Чуткость Мукаржовского к актуальным научным
проблемам проявилась, в частности, и в том, что, говоря о различии между
монологической и диалогической речью, он в качестве отправной точки
избирает работы Волошинова, которые, как известно, на самом деле в
значительной мере принадлежали перу М. М. Бахтина. Диалог Мукаржов-
ский понимает так, как это принято и современной наукой*, — как смену
структурных точек зрения. В этом смысле утверждается, что текст может
иметь характер монолога, даже будучи формально поделен между не-
сколькими персонажами, или, напротив, являть собой диалог, несмотря
на внешнюю приписанное™ одному лицу. «Диалогичность не возникала
здесь лишь как результат драматургической переработки, последняя только
выявила эту диалогичность... В качестве примера противоположного яв-
ления, т. е. монологичности, скрытой в диалоге, можно привести некоторые
места из пьес символистов, в особенности Метерлинка, где отдельные
высказывания действующих лиц так тесно примыкают друг к другу, что,
собственно, образуют связный монологический контекст, поделенный между
несколькими партнерами»**.
* ♦ ♦
Одной из особенностей творчества Мукаржовского как ученого является
широта охвата материала, своеобразный искусствоведческий энциклопе-
дизм: теоретические работы в области эстетики и гносеологии искусства
сочетаются у него с конкретными исследованиями художественной лите-
ратуры, живописи, театра и кинематографа. Широкий диапазон исследо-
ваний в сочетании с лингвосемиотической методикой анализа делают
искусствоведческие штудии Мукаржовского не только явлением, уникаль-
ным в европейской эстетической литературе, но и придают им глубоко
современное звучание.
При изучении произведений искусства Мукаржовский сосредоточивает
свое внимание на анализе художественного языка, отделяя его от тематиче-
ского содержания произведений. При этом он отвергает как отрыв искусства
от действительности, так и нежелание видеть специфику художественного
отражения жизни. Искусство связано с действительностью сложными опос-
♦ См.: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М., 1969.
** КСР, I, s. 122.
27
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
редованными связями, которые имеют и обратную направленность: испы-
тывая воздействие действительности, искусство активно воздействует на нее.
Разработка теории знаковости в изобразительных искусствах — одна
из наиболее важных сторон концепции Мукаржовского.
Особый интерес представляют работы Мукаржовского по теории кино.
Опираясь на труды Ю. Н. Тынянова, теоретиков чешского кино, концепцию
монтажа С. Эйзенштейна и практику мирового кинематографа от Дзиги
Вертова до Чарли Чаплина, Мукаржовский закладывает теоретические
основы семиотики кино, которые и для настоящего времени имеют отнюдь
не историческое значение.
Наиболее современна разработанная Мукаржовским теория кинема-
тографического пространства и времени.
Рассматривая кинематограф как искусство, по многим линиям пере-
секающееся с театром, живописью и литературой, Мукаржовский исходит
из положения, что участвовать во взаимодействии, разного рода креоли-
зациях, оказывать или испытывать влияние может только система с офор-
мившейся и определившейся имманентной структурой. Поэтому, прежде
чем испытывать или оказывать влияние как искусство, кинематограф
должен был стать кинематографом, т. е. найти свой специфический ху-
дожественный язык.
В числе отличительных особенностей языка кинематографа Мукар-
жовский выделяет специфику моделирования времени и пространства как
«одну из глав гносеологии кино». Автор прежде всего отгораживает понятие
кинопространства от пространства театрального. Здесь теория повторяет
путь, которым прошла история кино: самоосознание специфики и выра-
ботка собственного художественного языка пришли в кинематограф через
отталкивание от наиболее близкого из ранее сформировавшихся искусств
— театра.
_ Театральное пространство отличается от кинематографического тем,
что оно трехмерно. Разница здесь не только в несоответствии трех- и
двухмерного пространства, но и в варьировании отношения к изображае-
мому объекту: в театре степень мерности объекта и изображения совпадают,
в кино мы имеем дело с переводом одной системы измерений в другую,
объемное трансформируется в плоское. В результате возникает любопытный
парадокс.
Кино воспринимается зрителем как зрелище, более непосредственно
отражающее жизнь «в присущих ей формах». «Театральность» в приме-
нении к кино звучит как синоним «искусственности». Однако, как мы
видим, кинопространство на самом деле более условно, представляя собой
перевод трехмерного мира на двухмерное пространство экрана.
По характеру проективной трансформации кино значительно ближе
к живописи. Мукаржовский указывает еще на одну линию совпадения
живописи с кино: в театре содержащиеся в пространственном континууме
28
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
актер и неживые предметы сценического антуража (декорации, реквизит)
резко разграничены по функциям. Бели рассматривать театральный спек-
такль как текст, то именами в нем в соответствии со спецификой данного
художественного языка могут быть только актеры. «Неживые» участники
спектакля выступают лишь в качестве атрибутов имен. Иное дело в жи-
вописи и кино. Здесь природа раскадровки, возможность замены фи1уры
человека деталью его тела, соотношение величины человеческих фи1ур и
границы художественного пространства приводят к тому, что именами
художественного текста — самостоятельными носителями художественных
значений — могут выступать в равной мере фигуры людей, части чело-
веческих тел и любые детали «неживого» окружения. Кстати, здесь мы
впервые сталкиваемся с тем, что сущность кинопространства оказывается
коррелятивно соотнесенной с проблематикой кадра.
Указывая на общность приемов оживления пространственной иллюзии
в кинематографе и живописи, Мукаржовский отмечает, что один «из них
заключается в диаметральном переосмыслении обычного понимания глу-
бины иллюзорного пространства: вместо того чтобы, как принято, вести
взгляд зрителя в глубину картины, его ведут из глубины картины; этим
средством щедро пользовалась, например, барочная живопись; в кино этой
цели служит, в частности, направление жеста (человек, стоящий на пе-
реднем плане кадра, наводит на публику револьвер) или направление
движения (поезд выходит как бы перпендикулярно плоскости экрана).
Другой способ усиления пространственной иллюзии — взгляд снизу или
сверху, например взгляд с верхнего этажа глубоко вниз, во двор; в таких
случаях иллюзия усиливается актуализацией положения осей глаз: в дей-
ствительности оно горизонтальное (у зрителя, смотрящего на картину),
картина же предполагает почти вертикальное. Оба эти средства кино
разделяет с живописью»*. При этом особенно интересно, что кинематограф
при решении пространственных проблем ориентируется не на реалисти-
ческую живопись XIX столетия, а на художников барокко*, стремясь дать
изображение, не умещающееся в границах, положенных ему по его соб-
ственным законам. Можно привести многочисленные примеры воздействия
на кинопространство пространственных решений как раз наиболее уда-
ленных от кинематографа эпох живописи.
Но совпадение пространственной структуры живописи и кино еще не
раскрывает специфики этого последнего. Для установления ее необходимо
остановиться на различиях.
Основу отличий в пространственной структуре кино и живописи Му-
каржовский видит в монтаже — способности кинематографа к перемене
структурной точки зрения. Изменение структуры пространства, активизи-
рующее признаки плана и ракурса, определяет то специфическое, что
♦ Наст, изд., с. 399 — 400.
29
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вносит в пространственный язык искусства кинематограф. Мукаржовский
указывает также на то, что разъединение звука и изображения создает
некоторый дополнительный пространственный континуум. Кинематогра-
фическое пространство не дано в отдельном кадре, но строится из сово-
купности кадров, как предложение из слов. «Специфически кинематогра-
фическое пространство, не являющееся ни действительным, ни иллюзор-
ным, представляет собой пространство-значение»*.«Смысловой характер
кинематографического пространства» Мукаржовский сближает с семиотич-
ностью художественного пространства в литературе. Однако и здесь автору
удается раскрыть существенные различия. Так вырисовывается — на скре-
щении различных сфер искусства — специфика кинематографа. Не менее
ярко проявляется Она и в сфере художественного времени.
В этом отношении кино, по мнению Мукаржовского, «находится по-
средине между временными возможностями драмы и эпики»**. Время в
театре развертывается параллельно и в одинаковом темпе и на сцене и в
зрительном зале. «Отсюда то свойство драматического времени, которое
Зих называет транзиторностью. Смысл этого термина в том, что в качестве
происходящего в настоящее время мы воспринимаем только тот отрезок
действия, который развертывается перед нашими глазами, между тем как
все то, что ему предшествовало, поглощено в данный момент прошлым;
настоящее же находится в постоянном движении к будущему»***. В романе
время текста вообще не соотносится с реальным временем чтения. Это
открывает широкие возможности для того, что Мукаржовский именует
«резюмированием действия». Содержание любого временного отрезка может
быть вмещено в одну фразу текста.
Киновремя обладает резко выраженной моделирующей спецификой.
Приближаясь по ряду показателей к театральному, оно обладает резюми-
рующей способностью, как в эпическом повествовании. Подобно эпике,
кино обладает способностью временного возврата. Правда, когда автор
полагает, что одновременность действия доступна лишь немому кино с
титрами (здесь он присоединяется к выводам Р. О. Якобсона), т. е. зависит
от вторжения в киноповествование слова, то читателю приходит на память
параллельный монтаж, являющийся, безусловно, кинематографическим
адекватом таких словесных выражений, как: «А в это время...» или «Пока
это происходило...» В связи с этим положение Мукаржовского, согласно
которому «с переходом от немого кино с титрами к немому кино без
титров и затем к звуковому кино уменьшаются возможности временных
сдвигов»****, кажется навеянным конкретным опытом кинематографа тех
♦ Наст, изд., с. 402 — 403.
♦ * Там же, с. 411.
♦ ♦♦Там же, с. 412.
♦ ♦♦♦ Там же, с. 416.
30
ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ
лет. Сейчас кино успешно передает, не прибегая к титрам, такие сложные
временные сдвиги, как переход к сослагательному наклонению повество-
вания и аналогичным формам нереального времени. Яркий пример тому —
новаторское в момент своего создания «Прошлым летом в Мариенбаде»
Алена Ренэ. Зато раскрытие близости киновремени временной структуре
лирики представляется глубоко плодотворным.
Мы уже отмечали, что Мукаржовский, начиная со второй половины
1930-х годов, проявлял устойчивый интерес к проблеме личности в ис-
кусстве. Это тем более существенно, что среди предрассудков, циркули-
рующих в малоосведомленной среде, существует и представление, согласно
которому структурное изучение исключает интерес к личностному началу
в искусстве. Поэтому не случайным в творческом наследии ученого вы-
глядит «Опыт структурного анализа актерской индивидуальности (Чаплин
в «Огнях большого города»)» (1931). Этот сжатый очерк тем более при-
мечателен, что объектом его оказывается такой своеобразный художник,
как Чаплин, который, казалось бы, менее всего подходил для упражнений
в структурном анализе. В Чаплине — враге монтажа и звука, упорно
сохранявшем консервативные приемы техники, ставившем в центр тонкость
актерского рисунка, — многие в 1930-х годах видели противника тех сил,
которые искали самобытность киноязыка. Чаплин и Эйзенштейн воспри-
нимались как антиподы, и, конечно, естественнее было бы считать, что
ленты Эйзенштейна или Вертова — наиболее близкий объект для учено-
го-структуралиста.
Такой взгляд может, быть продиктован лиЩь непониманием сущности
научного метода Мукаржовского и очень поверхностным представлением
о структурализме. Заметим в скобках, что противником линии Вертова —
Эйзенштейна (при всех разногласиях в этом они были едины) на замену
актера монтажом, т. е. режиссером, был и Б. М. Эйхенбаум, как об этом
свидетельствуют его интересные работы о роли актера в кино.
Стремясь раскрыть природу актерской индивидуальности, Мукаржов-
ский (здесь он опирается на работу П. Г. Богатырева) исходит из пред-
ставления о том, что личность художника — звено в коммуникационной
цепи: передающий — текст — принимающий. Индивидуальность героя
Чаплина образуется на скрещении двух жестовых языков: один — «жес-
ты-знаки» — связан с обликом Чарли — светского человека (внешне
символизируется шляпой-котелком, тросточкой, галстуком-бабочкой), дру-
гой — «жесты-экспрессии» — отнесен к Чарли-бродяге, бедняку и неу-
дачнику (внешне закреплен незабываемыми ботинками и рваной одеждой).
Совмещение этих двух типов поведения, двух жестовых языков порождает
неповторимое индивидуальное своеобразие актерской личности. Двойст-
венность, «билингвизм» образа раскрывается тем, что герою даны два
спутника: слепая девушка и пьяница миллионер, каждый из которых в
силу специфики неполноты восприятия (слепота, опьянение) «снимает»
31
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
лишь один из языковых пластов его личности. Девушка имеет дело со
светским львом, миллионер — с простодушным и эмоционально-непос-
редственным другом. Неузнавание героя протрезвевшим миллионером и
прозревшей девушкой заставляет зрителя «узнать» нерасторжимую двой-
ственность личности Чарли»
♦ ♦ ♦
Публикуемые труды Мукаржовского написаны более полувека назад.
О них можно с полным основанием сказать, что они выдержали испытание
временем. Более того, бурное развитие семиотических исследований в
60—80-х годах подтвердило плодотворность заключенных в них идей. В
настоящее время особенно остро ощущается потребность обдумать даль-
нейшие пути развития. Далеко не все надежды оправдались, но и многие
торопливые разочарования также вызывают сомнение. Надо глубоко и
хладнокровно осмыслить пройденные пути. Гегель некогда сказал: «Дви-
жение вперед есть возвращение к первооснове». В науке об искусстве
сочинения Мукаржовского — часть той первоосновы, возвращение к ко-
торой сейчас звучит по-новому актуально*.
Ю. М. Лотман
* В работе над настоящим очерком мы широко пользовались любезными
консультациями О. М. Малевича, выразить которому живейшую благодар-
ность считаем приятной обязанностью.
2—888
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ
ИСКУССТВА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ,
НОРМА И ЦЕННОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Предисловие
Трактат, который мы предла-
гаем здесь в виде книги, был уже частично опубликован в
журнале «Socialm problemy» (г. IV, 1935), где под названием
^Эстетическая функция и эстетическая норма как социаль-
ные факты» вышли две первые его главы* Последующие
дне главы — третья и четвертая — впервые выходят в этой
книге* Однако разновременность опубликования и возник-
новения отдельных частей работы не означает некой раз-
двоенности ее содержания. Понятия эстетической функции,
нормы и ценности так тесно связаны, что, по сути дела,
представляют собой лишь три разных аспекта эстетического,
поэтому рассуждение о любом из них без двух остальных
неизбежно было бы неполным. Тем не менее каждое из
этих понятий имеет свою специфическую проблематику;
ним определяется трехступенчатое построение исследова-
ния (четвертая глава носит резюмирующий характер).
Необходимо предпослать настоящей работе несколько
< лов о ее замысле. Ей предшествовал ряд исследований,
основывавшихся на конкретном материале, главным образом
литературном, но каждый раз ведущих к обобщениям; в
них постоянно доминировало стремление открыть основные
принципы построения художественного произведения. Ес-
тественно, что исходная гносеологическая точка зрения —
котя в своей сущности она не изменилась и по-прежнему
4 водится к утверждению имманентности, т. е_. внутренней
|,п<ономерности развития художественной структуры, — с
течением времени получила дальнейшее развитие. Если
вначале проявлялось тяготение к теоретическим принципам
русского формализма, последовательно защищавшего авто-
номию искусства по отношению к явлениям других дина-
мических рядов, с которыми оно соприкасается, то в даль-
нейшем становилось все яснее, что даже последовательно
проводимый постулат об имманентности развития позволяет
и, более того, требует учитывать взаимосвязь искусства с
л*
35
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
этими другими рядами. Нужно, конечно, постоянно иметь
в виду, что воздействиям извне, непрерывно стремящимся
вывести развивающийся ряд из тождественности с ним са-
мим, всегда противоборствует внутренняя инерция этого
ряда, удерживающая его идентичность; только так можно
понять развитие как закономерность. В качестве свиде-
тельств этих двух последовательных этапов можно привести
основанное на принципах формальной школы исследование
о «Мае» Махи, вышедшие в 1928 году («Price z vedeckych
ustavu filosofcke fakulty Karlovy university». XX)1, и струк-
туралистский анализ «Возвышенности Природы» Полака,
появившийся в 1934 году («Sbornik fildlogicky». III. Tndy
ceske akademie, г. X)2. Хотя первая из этих работ исходит
из признания чистой автономии поэзии, а вторая принимает
во внимание взаимосвязь литературы с другими динамиче-
скими рядами, особенно с развитием общества, этим углуб-
лением гносеологической основы ни в коей мере не постав-
лены под сомнение конкретные результаты более ранней
работы и для обоих исследований сохраняет силу тезис об
имманентности развития.
Как только этим путем было устранено предположение
о непроницаемой изолированности литературы от окружа-
ющих ее явлений, возникла необходимость уделять больше
внимания развитию сферы искусства в целом, в контексте
которой все остальные виды искусства развиваются во вза-
имодействии (так что развитие одного из них не может
быть полностью понятно без учета параллельного развития
остальных; ср., например, характерное для последних лет
влияние развития кино на развитие театра, и наоборот).
Поскольку, однако, и границы, отделяющие всю, область
искусства от внехудожественных эстетических явлений, ди-
намически изменчивы, оказалось необходимым заняться
также отношением искусства к внехудожественным эстети-
ческим понятиям. Но и вся сфера эстетических явлений,
как художественных, так и внехудожественных, не изоли-
рована от широкой области остальных явлений, в особен-
ности — от всех разновидностей и продуктов человеческой
деятельности; вследствие этого пришлось обратить внимание
и на место эстетической функции среди остальных функций,
которые могут приобретать, с точки зрения человека, раз-
личные явления, прежде всего явления культуры в самом
широком смысле слова. Только расширенный таким образом
гносеологический фон позволил вернуться к классическим,
36
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
но известное время оставшимся в тени проблемам филосо-
фии искусства, а именно к вопросу об эстетической норме
и ценности. Отправной точкой исследования, разумеется,
стал анализ эстетической функции, которая включает эс-
тетическое в число социальных явлений и одновременно
подчеркивает, благодаря своему энергетическому харак-
теру, непрерывность имманентного развития эстетической
области.
Естественно, что на подходах к настоящему исследова-
нию и при работе над ним автор часто встречался с ранее
высказанными взглядами, например с теорией школы Дее-
су ара, доведенной до конечных следствий и наиболее глу-
боко продуманной в первую очередь Э. Утицем; заслуга
этой школы в том, что, подхватив инициативу Гюйо , она
окончательно раздвинула горизонт эстетики, включив в
сферу ее интересов всю область эстетического в широком
смысле слова; неоднократно также представлялась возмож-
ность сослаться на высказывания представителей искусства,
которые, решая проблемы, близкие их собственному твор-
честву, нередко приходили к общезначимым выводам. Так,
например, весьма важны теоретические формулировки поэта
О. Уайльда, который в связи с символическим пониманием
искусства тонко ощутил его знаковый (семиологический)
характер; в качестве другого примера можно привести ин-
терес братьев Чапек к периферийному искусству4, до тех
нор игнорировавшемуся, между тем как в процессе развития
оно является постоянным спутником «высокого» искусства,
не только воспринимающим его опыт, но и в свою очередь
воздействующим на высокое искусство, так что без него
история искусства не может быть понята во всей своей
сложности. В особенности же нужно назвать два авторитета,
соединявших художественное творчество с теоретическим
изучением искусства, — Ф. К. Шальду5 и О. Зиха , научные
завоевания которых были для автора этих строк исходным
пунктом с самого начала его исследовательской работы.
В тех случаях, когда наше исследование приближается
к ранее высказанным взглядам, приведены соответствующие
цитаты и ссылки. Однако автор в первую очередь стремился
дать систематический очерк собственного понимания неко-
торых основных проблем эстетики. Поэтому не представ-
им л ось целесообразным давать по ходу изложения или си-
< тематически критику чужих взглядов: критика по ходу
изложения всегда заключает в себе опасность деформации
37
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
чужих мыслей, вырванных из первоначального контекста;
систематический же обзор работ и точек зрения, касающихся
отношения между искусством и обществом, с одной стороны,
уже неоднократно предпринимался*, а с другой — подобная
попытка в настоящей книге затуманила бы основную ее
задачу, сводящуюся к решению нескольких проблем общей
эстетики с позиций социологии, но отнюдь не к критике
методов конкретной социологии искусства, до сих пор в
значительной степени не выясненных, поскольку они ко-
леблются между казуальным и структуральным пониманием
взаимоотношений искусства и общества. Настоящая работа
представляется автору только первым этапом на пути к
дальнейшим проблемам философии искусства, прежде всего
к вопросу об участии индивида в процессе развития и к
проблематике художественного произведения как знака.
Братислава, июнь 1936 года.
I
Эстетическая функция занимает важное место в жизни
отдельных индивидов и всего общества. Хотя круг людей,
непосредственно соприкасающихся с искусством, сильно ог-
раничен, с одной стороны, относительной редкостью эсте-
тического дарования — или по крайней мере сужением его
в отдельных случаях до способности к восприятию лишь
определенных видов искусства, с другой стороны, — пре-
понами социального расслоения (ограниченная возможность
доступа к художественным произведениям и эстетическому
воспитанию у некоторых слоев общества), тем не менее
результаты воздействия искусства простираются и на людей,
не имеющих к нему прямого отношения (ср., например,
воздействие поэзии на развитие системы языка). Кроме
того, эстетическая функция имеет значительно более ши-
рокую сферу воздействия, чем только область самого ис-
кусства. Любой предмет и любой процесс (природный или
связанный с человеческой деятельностью) может стать но-
сителем эстетической функции. Это утверждение не рав-
* Ср., например: Needham Н. A. Le d&veloppement de 1’esthetique
sociologique en France et en Angleterre au XIX e siecle. Paris, 1926; Lutzeler
H. Einfiihrung in die Philosophic der Kunst. Bonn, 1934, S. 59 ff.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕЙНОСТЬ
позначно панэстетизму, ибо: 1) утверждается лишь возмож-
ность, а вовсе не обязательность всеобъемлющего воздей-
ствия эстетической функции; 2) заранее не предустановле-
но, что во всей сфере проявления эстетической функции
она будет занимать ведущее положение среди остальных
функций; 3) не может быть и речи о смешении эстетической
функции с другими функциями или о трактовке других
функций лишь как видоизменений эстетической функции.
Мы только заявляем о своей солидарности с мнением, со-
гласно которому не существует резких границ между эсте-
тической и внеэстетической областями. Не существует пред-
метов и действий, которые бы по самому своему существу
или внутренней организации вне зависимости от времени,
места и оценивающего были носителями эстетической фун-
кции, и не существует предметов и действий, которые опять-
таки по самой своей реальной природе были бы с непре-
ложностью исключены из сферы ее влияния. На первый
взгляд, этот тезис может показаться преувеличением. Желая
опровергнуть его, нетрудно привести примеры вещей и ак-
тов, как будто бы совершенно неспособных стать носителями
эстетической функции (тут можно назвать, допустим, не-,
которые основные физиологические процессы, такие, как
дыхание, или же чрезвычайно абстрактные мысленные ком-
бинации), и наоборот, привести примеры явлений, которые
всей своей конструкцией предназначены для эстетического
воздействия, — в особенности это касается произведений
искусства. Однако современное искусство, которое, начиная
с эпохи натурализма, при выборе тематики не исключает
пи одной области действительности и, начиная с кубизма
и родственных ему направлений в других видах искусства,
пс ставит никаких ограничений при выборе материала и
техники, а в равной мере и современная эстетика, настой-
чиво подчеркивающая безграничность эстетической области
(Ж. М. Гюйо, М. Дессуар и его школа и другие), достаточно
красноречиво свидетельствуют о том, что эстетическими
фактами могут стать и такие вещи, которым мы, придер-
живаясь традиционного понимания, никогда не приписали
бы эстетического воздействия. В качестве примера напомню
выс казывание Гюйо: «Глубоко дышать, чувствовать, как
кровь очищается при соприкосновении с воздухом, — разве
»го не упоительное наслаждение, которому было бы нелегко
in казать в эстетической ценности?» («Les problemes de
r^Nthetique contemporaine») или слова Дессуара: «Если мы
39
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
называем прекрасными машину, решение математической
задачи, организацию определенной общественной группы,
это нечто большее, чем простой оборот речи» («Asthetik
und allgemeine Kunstwissenschaft». Stuttgart, 1906). Можно
привести и противоположные примеры, когда художествен-
ные произведения, которые являются привилегированными
носителями эстетической функции, могут ее лишиться, и
в таком случае их уничтожают как ненужные (ср. исчез-
новение старых фресок и сграффито под новой побелкой
или штукатуркой) или используют, не учитывая их эсте-
тического предназначения (ср. превращение старых дворцов
в казармы и т. д.). Существуют, разумеется, — ив искусстве
и вне искусства — вещи, своей внутренней организацией
предназначенные для эстетического воздействия; это даже
отличительное свойство искусства. Однако активная при-
способленность к несению эстетической функции не пред-
ставляет собой реального качества предмета, хотя бы и
намеренно для этого созданного, а дает о себе знать лишь
при определенных обстоятельствах, т. е. в определенном
общественном контексте: явление, которое было привиле-
гированным носителем эстетической функции в известную
эпоху, в известной стране и т. п., может оказаться неспо-
собным нести эту функцию в другую эпоху, в другой стране
и т. д.; история искусства дает достаточно примеров того,
как первоначальная эстетическая и даже художественная
ценность определенного творения была вновь открыта лишь
в результате научных изысканий (ср., например: Трубецкой
Н. С. «Хождение» Афанасия Никитина как литературный
памятник. — Версты. Париж, 1926; или: JagoditschR. Der
Stil der altrussischen Vitae. — В сб. докладов II Междуна-
родного съезда славистов. Варшава, 1934 г.).
Итак, границы эстетической сферы не даны самой реаль-
ностью и весьма изменчивы. Это становится самоочевидным
в особенности с точки зрения субъективной оценки явлений.
В своем окружении мы знаем людей, для которых все при-
обретает эстетическую функцию, и, наоборот, мы знаем и
таких людей, для которых эстетическая функция существует
в минимальной мере; более того, мы из собственногсиопыта
знаем, что граница между эстетической и внеэстетйческой
сферой, зависящая от меры эстетической восприимчивости,
для каждого из нас изменяется с возрастом, изменением са-
мочувствия и даже с настроением минуты. Но едва мы по-
кинем точку зрения индивида и взглянем на вещи с позиций
40
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
социального контекста, окажется, что, несмотря на все ми-
молетные индивидуальные оттенки, существует весьма ста-
бильное распространение эстетической функции в мире пред-
метов и действий* Конечно, рубеж между сферой воздействия
эстетической функции и явлениями внеэстетическими и в
этом случае не будет абсолютно четким, поскольку в самом
проявлении эстетической функции есть широкая шкала гра-
даций и чрезвычайно редко можно с полной уверенностью
сделать вывод об отсутствии даже самых слабых остаточных
эстетических признаков* Однако всегда можно объективно —
на основании симптомов — установить меру проявления эс-
тетической функции в том, как мы благоустраиваем свое
жилье, одеваемся и т* п*
Но стоит только переместить нашу точку зрения во
времени или пространстве или от одной социальной фор-
мации к другой (например, от одного общественного слоя
к другому, от поколения к поколению и т.п.), как мы
увидим, что в результате этого каждый раз изменяется и
местоположение эстетической функции, а также границы
ее воздействия* Так, например, эстетическая функция пищи
во Франции явно сильнее, чем у нас; эстетическая функция
одежды в нашей городской среде проявляется у женщин в
большей степени, чем у мужчин, но это различие часто не
имеет места в среде, где носят народную одежду; эстети-
ческая функция одежды имеет различный характер и в
зависимости от типических ситуаций, возникающих в оп-
ределенном социальном контексте: так, будет значительно
ослаблена эстетическая функция рабочей одежды в сравне-
нии с одеждой праздничной* Что касается временных сдви-
гов, то можно констатировать, что, в отличие от нашего
времени, еще в XVII веке (в эпоху рококо) мужская одежда
обладала столь же сильной эстетической функцией, как и
женская; после мировой войны эстетическая функция одеж-
ды и жилья получила значительно более широкое социаль-
ное распространение и стала проявляться в гораздо большем
количестве ситуаций, чем до войны.
Таким образом, при разграничении эстетической и вне-
эстетической сфер нужно всегда помнить, что имеются в
виду отнюдь не области, строго отделенные и не связанные
друг с другом. Обе эти сферы находятся в постоянном
динамическом взаимодействии, которое можно охарактери-
зовать как диалектическую антонимию* Нельзя исследовать
состояние или развитие эстетической функции, не поставив
41
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вопрос, сколь широка (или в иных случаях — сколь узка)
область ее распространения; являются ли ее границы от-
носительно четкими или расплывчатыми; обнаруживается
ли она равномерно во всех прослойках социального кон-
текста или только в известных слоях и в известной среде —
все это применительно к определенной эпохе и определен-
ному общественному целому. Иными словами, для состояния
и развития эстетической функции характерно не только то,
ще и как она проявляется, но и то, в какой мере и при
каких обстоятельствах она отсутствует или хотя бы осла-
бевает.
Обратимся теперь к внутренней организации самой эс-
тетической сферы. Мы уже сказали, что она весьма нео-
днородна, с одной стороны, по интенсивности эстетической
функции у разных явлений, с другой стороны — по отно-
шению ее к отдельным формациям данного общественного
целого. Есть, однако, определенная грань, разделяющая всю
многообразную сферу эстетического на две основных области
в зависимости от соотносительного значения эстетической
функции среди других функций: речь идет о грани, которая
разделяет искусство и внехудожественные эстетические яв-
ления. Граница, между искусством и остальной сферой эс-
тетического и даже граница между ним и внеэстетическими
явлениями важна не только для эстетики, но и для истории
искусства, ибо ответ на этот вопрос играет решающую роль
при отборе исторического материала. Может показаться,
что художественное произведение однозначно характеризу-
ется определенной фактурой (тем, как оно сделано). В дей-
ствительности этот критерий, причем не без ограничений*,
сохраняет силу только для социального контекста, которому
оно адресовано или было адресовано первоначально. Если
же перед нами произведение, обязанное своим возникнове-
нием обществу, хронологически или пространственно от нас
удаленному, то мы не можем, руководствуясь лишь своим
собственным мнением, определить его место среди других
социальных явлений. Как уже упоминалось, часто прихо-
дится путем сложных научных изысканий устанавливать,
был ли данный предмет в соответствующем социальном
контексте художественным произведением; никогда нельзя
* Ср. историю со скульптурой Родена «I/ age d’airain», по поводу которой
первоначально высказывалось пренебрежительное мнение, что это всего-
навсего слепок с настоящего тела.
42
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НОРМА И ЦЕННОСТЬ
исключить, что первоначально функции произведения были
совершенно иными, чем те, которые мы предполагаем в
нем, исходя из нашей системы ценностей. Кроме того,
переход от искусства ко всему, что находится вне его, носит
постепенный характер и порою почти неуловим. Возьмем
в качестве примера архитектуру; она включает в себя не-
прерывный ряд строительных объектов — от зданий без
какой бы то ни было эстетической функции вплоть до
художественных памятников, и тут часто невозможно оп-
ределить грань, с которой начинается искусство. Если мы
будем говорить более точно, то эту грань, собственно, и
нельзя строго определить, даже в тех случаях, когда речь
идет о сооружениях, связанных с нашим социальным кон-
текстом; разумеется, в еще меньшей степени это возможно
сделать, если речь идет об объектах, воспринимающихся
как экзотические в результате их географической или ис-
торической удаленности от нас. Есть, наконец, еще третье
затруднение, на которое указал Э. Утиц («Grundlegung der
allgemeinen Kunstwissenschaft». Stuttgart, 1920, II, S. 5).,
говоря: «Kunstsein ist etwas ganz anderes als Kunstwert»*.
Другими словами, проблема эстетической оценки художе-
ственных произведений принципиально отличается от про-
блемы границ искусства: даже то художественное произве-
дение, которому мы, со своей точки зрения, даем отрица-
тельную оценку, относится к контексту искусства, ибо
именно применительно к этому контексту оно оценивается.
Конечно, на практике бывает очень нелегко руководство-
ваться подобным теоретическим принципом, особенно когда
речь идет о так называемом периферийном, или, как его
называл Й. Чапек, «самом скромном искусстве». Если при-
менительно к такому произведению (например, к «роману
для служанок» или к размалеванной вывеске) мы задаем
себе вопрос, функционирует ли оно как явление искусства,
то легко может случиться, что мы подменим установление
факта наличия функции оценкой.
Как явствует из всего сказанного, переход от искусства
к впсхудожественной сфере и даже к сфере вЬаеэстетической
та к трудно различим и определение их границ так сложно,
что по-настоящему точное разграничение представляется
иллюзией. Следует ли в таком случае отказаться от всяких
* Присутствие искусства — это нечто совсем иное, чем его ценность
(нем.).
43
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
попыток установить подобную границу? Несмотря ни на
что, мы слишком остро ощущаем, что различие между
искусством и сферой просто «эстетических» явлений суще-
ственно. В чем оно заключается? В том, что в искусстве
эстетическая функция является функцией доминирующей,
в то время как вне искусства она, даже если и присутствует,
занимает второстепенное положение. Можно было бы, ра-
зумеется, возразить, что нередко и в искусстве автор или
публика программно подчиняет эстетическую функцию
иной функции (ср., например, требование тенденциозности
в искусстве). Однако это возражение неубедительно: если
произведение спонтанно относится нами к сфере искусства,
выделение какой-нибудь иной функции, кроме эстетиче-
ской, мы оцениваем как полемику с самой сутью искусства
и его назначением, а не как нормальный случай. Более
того, нужно сказать, что преобладание какой-либо из вне-
эстетических функций — явление частое в истории искус-
ства; однако гегемония эстетической функции всегда восп-
ринимается как случай основной, «немаркированный», тогда
как гегемония иной функции всегда «маркирована», т. е.
выступает как нарушение нормального состояния7. Это со-
отношение между эстетической функцией и остальными
функциями искусства логически вытекает из самого харак-
тера искусства как сферы явлений cat’exochen* эстетиче-
ских**. Наконец, нужно напомнить, что предпосылка, со-
гласно которой эстетическая функция занимает преоблада-
ющее место, в полной мере имеет силу лишь при
осуществлении взаимной дифференциаций функций; суще-
ствуют, однако, такие условия среды, которые не знают
последовательного распределения функциональных сфер,
каково, например, общество средневековое или фольклор-
ное; хотя и в подобных случаях характер взаимоподчинения
* по преимуществу (греч.)
*♦ В связи с этой и несколькими предшествующими фразами следует
заметить, что от случая коллективно постулированного преобладания ка-
кой-либо внеэстетйческой функции надо отличать индивидуальные откло-
нения, обусловленные психофизическими данными индивидов: некоторые
люди читают романы исключительно ради обогащения своих знаний или
ради чувственного возбуждения, оценивают картину только как сообщение
о действительности. Разумеется, для людей такого типа художественное
произведение функционирует не как факт искусства, а либо как явление
совершенно внеэстетическое, либо как явление лишь эстетически окра-
шенное; их отношение к искусству не может считаться адекватным и
служить нормой.
44
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
функций в процессе развития может изменяться, но не в
такой мере, чтобы какая-либо из них окончательно и явно
возобладала над остальными..
Речь, следовательно, опять идет об антиномии, подобной
той, какую мы установили на рубеже эстетической и вне-
эстетической сфер: там противостояли друг другу полное
отсутствие эстетической функции и ее гегемония в иерархии
функций. Таким образом, сфера эстетического не разорвана
на две непроницаемо отделенные друг от друга области, а
представляет собой единое целое, в котором действуют две
противоположные силы, одновременно организующие и дез-
организующие это целое, т. е. поддерживающие в нем со-
стояние непрерывного движения и развития. Если мы с
этой стороны взглянем на искусство, то постоянное обнов-
ление и расширение сферы эстетических явлений предстанет
перед нами как его основная задача; подробнее об этом
будет сказано во второй главе настоящего исследования,
при анализе эстетической нормы.
Нельзя раз и навсегда установить, что является искус-
ством и что ни в коем случае таковым не является. Выше
мы привели некоторые примеры постепенного перехода от
сферы искусства к тому, что находится вне ее, и даже
колебаний между двумя этими сферами. Теперь мы попы-
таемся дать более подробный и систематический перечень
примеров, чтобы явственно выступило, сколь многократно
и многообразно проявляется именно на этой промежуточной
территории противоборство двух сил, определяющих эво-
люцию и состояние эстетической сферы.
1. Некоторые виды искусства представляют собой со-
ставную часть непрерывного ряда, в который входят также
явления внехудожественные и даже внеэстетические. В ка-
честве примера мы привели архитектуру, но в точности
такое же положение занимает и литература. В архитектуре
с эстетической функцией конкурируют практические фун-
кции (например, защита от изменений погоды и т. д.), в
литературе — коммуникативные функции. Можно назвать
целый вид языковых явлений, расположенных на рубеже
между сообщением и искусством. Это, к примеру, ораторское
искусство. Собственная цель ораторского искусства, в осо-
бенности наиболее типичных его форм, таких, как полити-
ческая или церковная элоквенция, — оказывать влияние
на убеждения слушателей, и наиболее действенное его ору-
дие — эмоциональный язык (предназначенный для выра-
45
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
жения чувств). Но поскольку эмоциональный язык — как
устойчивая составная часть языковой системы — часто по-
ставляет выразительные средства поэтическому искусству*,
ораторское искусство, особенно в некоторых своих разно-
видностях и в определенные периоды своего развития, на-
столько легко и настолько далеко проникает на территорию
искусства поэтического, что его воспринимают и оценивают
именно как искусство, и напротив, есть разновидности крас-
норечия и периоды его развития, подчеркивающие комму-
никативный характер ораторского искусства. Подобное же
колебание между особенностями поэтического искусства и
особенностями сообщения характерно и для эссе. В этой
связи можно назвать и некоторые виды поэтического ис-
кусства, самая суть которых составляет склонность к коле-
баниям между первенством эстетической и коммуникатив-
ной функций: это прежде всего дидактическая поэзия и
беллетризованные биографии. Впрочем, и грань между по-
эзией и художественной прозой в значительной мере оп-
ределяется большей степенью участия в прозе коммуника-
тивной функции, т. е. функции внеэстетической, по срав-
нению с поэзией. — Ив других видах искусства
преобладание эстетической функции не является абсолют-
ным. Драма осциллирует между искусством, и пропагандой;
история строительства чешского Национального театра9 на-
глядно показывает, что решающую роль сыграли при этом
мотивы внеэстетические, прежде всего потребности нацио-
нально-патриотической пропаганды. — Танец как искусство
тесно связан с физическим воспитанием, имеющим гигие-
ническую функцию и порой принимающим такие формы,
где физическое воспитание и танец неразличимы друг от
друга (школа Далькроза10); наряду с этим в танце, опять-
таки часто в качестве сильных конкурентов эстетической
функции, находят применение религиозная (ритуальный
танец) и эротическая функции.
Переходим к изобразительному искусству, исключая ар-
хитектуру, о которой здесь уже шла речь, т. е. к живописи
и ваянию. И тут существуют — целиком вне сферы искус-
ства — творения чисто коммуникативные, например приро-
доведческие картины и модели. Встречаются и такие случаи,
* Некоторые лингвисты, например Ш. Балли8, даже отождествляют,
разумеется ошибочно, поэтический язык с эмоциональным, игнорируя
существенное различие между высказыванием самодельным (поэзия) и
коммуникативным (воздействие на чувство).
46
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
когда эстетическая функция находит применение в роли вто-
ростепенной функции, наряду с другой, преобладающей фун-
кцией (например, карта как декоративный предмет), и есть
явления, находящиеся на самой грани искусства и внеэсте-
тической сферы (например, живописная, графическая и пла-
стическая реклама). Хотя плакат относится к внехудожест-
венной сфере, ибо основное его назначение пропагандист-
ское, тем не менее можно проследить непрерывную историю
плаката как факта изобразительного искусства.
Существует также вид живописи и ваяния, целиком
относящийся к художественной сфере, но все же по самому
своему существу колеблющийся между сообщением и са-
модельным проявлением: это портрет, который одновремен-
но представляет собой изображение личности, оцениваемое
на основе критерия правдивости, и художественное постро-
ение без обязательной соотнесенности с реальностью. Этим
портрет функционально отличается от непортретной кар-
тины, даже в том случае, если она реалистически воссоздает
внешний вид модели. Итак, мы, наконец, подошли к музыке.
Из всех видов искусства здесь в наименьшей степени про-
является прямая связь с внехудожественной сферой. Это
обусловлено особым характером материала музыки — звука,
который, будучи неизбежно воспринимаем как составная
часть звуковой системы, уже в самом себе заключает эс-
тетическую окраску; ср. известную новеллу Грильпарцера11
«Der апле Spielmann»*, герой которой приводит себя в
эстетический экстаз, все время повторяя один и тот же
звук. Тем не менее можно привести примеры, когда эсте-
тическая функция в музыке является лишь сопутствующей
функцией, а отнюдь не доминирующей: таковы, например,
мелодические сигналы (военные и т. п.), а также рекламные
выкрики нараспев (на вокзале, на улице), главная цель
которых обратить внимание на товар. Осциллирование меж-
ду преобладанием эстетической функции и преобладанием
какой-либо иной функции проявляется, например, в мар-
шевой музыке или в пении, сопровождающем работы; в
национальных и государственных, гимнах с эстетической
функцией конкурирует функция символическая, т. е. изве-
стный оттенок коммуникативной функции. Чтобы завер-
шить перечень, нужно упомянуть еще о множественности
и колеблющемся характере функций музыкального фольк-
* «Бедный музыкант* (нем.).
47
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
лора, о котором, разумеется, мы не имеем здесь возможности
говорить подробно.
2. Мы рассмотрели случаи, когда искусство переходит в
сферу явлений внехудожественных и даже внеэстетических.
Теперь настала очередь привести примеры противополож-
ного характера; дело в том, что существуют явления, по
сути своей имеющие корни вне искусства, однако прибли-
жающиеся к искусству, не становясь им во всех своих
разновидностях, каковы, например, кино, фотография, ху-
дожественное ремесло, садоводство. Нагляднее всего сбли-
жение с искусством проявляется в фильме. Некоторыми
своими сторонами кино весьма родственно ряду видов ис-
кусства, особенно эпической поэзии, драме, живописи. В
разные периоды своего развития оно действительно сбли-
жается то с одним, то с другим из них. У него есть также
предпосылки, чтобы стать самобытным искусством, которое
достигает преобладания эстетической функции лишь ему
свойственными средствами. Чаплин создает тип актерской
игры, характерной исключительно для кино и совершенно
отличной от театральной актерской игры (мимика и жес-
тикуляция, рассчитанные на восприятие с близкого рассто-
яния^, а русские режиссеры, такие, как Эйзенштейн, Вер-
тов12, Пудовкин, доводят до совершенства использование
специфического для кино пространства, третье измерение
которого дано подвижностью камеры. С другой же сторо-
ны — ив первую очередь — кино представляет собой род
индустрии; поэтому чисто коммерческие критерии опреде-
ляют предложение и спрос продукции кино в значительно
большей степени, чем это имеет место в каком-либо ином
виде искусства; поэтому также кино — как всякое про-
мышленное производство — даже помимо желания вынуж-
дено незамедлительно осваивать каждое новое усовершен-
ствование своей технической базы. В этом отношении до-
статочно сравнить сознательный отбор, который проводит
музыка в разные периоды, извлекая из запаса технически
доступных в данный момент возможностей ограниченный
репертуар инструментов соответственно своим конкретным
художественным задачам, с головокружительным темпом
внедрения звукового кино, в результате которого были лик-
видированы — ив ближайшее время явно не будут вос-
становлены — предпосылки художественного развития, за-
воеванные немым фильмом. Хотя кино постоянно обнару-
живает тенденцию к тому, чтобы стать искусством, до сих
48
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
пор нельзя сказать, что оно уже переместилось в сферу,
где эстетическая функция является де-юре доминантной.
Несколько иначе обстоит дело с фотографией. Осциллируя
на грани самоцельности и коммуникативности, она тем не
менее воспринимает такое свое положение как составную
часть собственной сущности. На первых порах фотография
расценивалась как новый вид живописной техники (ср.
эпиграмму Гавличека13 «Дагерротип»: «Живописцы изощря-
лись,/но со светом не справлялись./Видя, что в них проку
нет,/стал живописать сам свет»). Большей частью ею за-
нимались художники, использовавшие и композиционные
приемы живописи. Постепенно в руках профессиональных
фотографов она превращается в явление внеэстетическое,
чисто коммуникативное: понятия «фотография» и «картина»
становятся противоположными. Под влиянием импрессио-
низма фотография (особенно любительская) вновь сближа-
ется с живописью. В конечном счете она осознает свое
специфическое назначение быть на грани. Для осциллиру-
ющего характера фотографии типично, что на протяжении
всего ее существования главной или по крайней мере важ-
нейшей ее разновидностью был портрет, основанный, как
мы отметили выше, на том же осциллировании.
Опять же иное отношение, чем фотография, имеет к
искусству так называемое художественное ремесло. Мы под-
разумеваем явление исторически и хронологически четко
ограниченное (рубеж XIX и XX столетий), а отнюдь не
постоянное обозначение некоторых видов ремесла, например
ювелирного искусства, как это бывает принято в руковод-
ствах по истории искусства. Разумеется, ремесло, занима-
ющееся изготовлением предметов повседневного обихода, в
большинстве своих отраслей всегда имело известную эсте-
тическую окраску и даже внешне тесно сотрудничало с
искусством (цех живописцев как одна из организаций ре-
месленников). Однако этому спокойному параллелизму при-
ходит конец с возникновением так называемого художест-
венного ремесла, и между ним и искусством устанавлива-
ются совсем иные взаимоотношения: ремесло пытается
теперь перейти свои границы, превратиться в искусство. Со
стороны ремесла речь шла о попытке спасти рукодельные
промыслы, .теряющие всякий практический смысл в резуль-
тате конкуренции фабричного производства; гипертрофиро-
ванная эстетическая функция должна была возмещать ли-
шившиеся своего значения практические функции ремесла,
49
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
которые лучше осуществлялись фабричным производством.
Со стороны искусства, приветствовавшего наплыв художе-
ственного ремесла (вспомним деятельность художников-про-
ектантов) , речь шла о возобновлении контакта с материалом
в буквальном смысле слова, например с деревом, камнем,
металлом и т. д., ибо искусство (в особенности архитектура,
наиболее близкая ремеслу) в период стремительного размаха
производственной техники утратило ощущение материала:
новые виды материалов оно допускало только в качестве
заменителей, игнорируя их специфические свойства, и в
конце концов пришло к абсолютному насилию над мате-
риалом (ср. архитектуру модерна). Путь для развития ху-
дожественного ремесла теоретически был подготовлен как
раз анализом материала искусства: см. книгу Г. Земпера14
«Der Stil», опубликованную в 1860—1863 годах. Ремесло,
для которого свойства материалов (например прочность) в
силу совершенно практических причин весьма существенны,
не могло не способствовать использованию в искусстве фор-
мальных возможностей, предоставляемых материалом. Од-
нако как только ремесло полностью вступило в сферу ис-
кусства, т. е. стало производить уникальные изделия с пре-
обладающей эстетической функцией, оно лишилось своей
непосредственной практической функции:" начало изготов-
лять сосуды, из которых «жалко» было пить, мебель, которой
«жалко» было пользоваться, и т. д. Вскоре стали появляться
даже стаканы, из которых трудно было пить, и т.д. Этот
упадок практических функций ремесла прекрасно вскрывает
анекдот Лоса15 о седельщике («Trotzdem», Innsbruk, 1931,
S. 15 ff.): «Жил-был седельщик, который изготовлял без-
укоризненные в практическом отношении седла; на он хотел
изготовлять такие седла, чтобы они были еще и современ-
ными. И пошел он за советом к профессору, человеку
искусства; тот изложил ему принципы художественного
ремесла. Мастер на основе этих рекомендаций попытался
изготовить образцовое седло, но получилось у него такое
же седло, какие он изготовлял раньше. Профессор упрекнул
его в недостатке фантазии, предложил своим ученикам
сделать эскизы и сам набросал несколько. Увидев эскизы,
седельщик обрадовался и сказал профессору: «Господин про-
фессор, ежели бы я так мало смыслил в верховой езде,
свойствах кожи и своем ремесле, и у меня была бы фантазия
не хуже вашей». — Художественное ремесло было в зна-
чительной мере аномалией, но в то же время, как мы
50
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
видели, необходимым и закономерным фактом развития
эстетической сферы. Беглый взгляд, брошенный на него,
раскрыл нам новый аспект диалектического взаимоотноше-
ния между искусством и сферой внехудожественных эсте-
тических явлений.
Из перечисленных выше примеров нужно еще задер-
жаться на взаимоотношении между искусством и садовод-
ством. Садоводство, собственное назначение которого за-
ключается в выращивании растений, приближается к ис-
кусству и даже становится им в том случае, если
архитектура требует приспособления природы к строитель-
ным объектам. Поэтому мы наблюдаем особенно сильный
размах садоводства как искусства в эпоху барокко и рококо,
когда строители замков нуждались в помощи садоводов
(Ленотр1Ъ в Версале); в наше время с ролью садоводства в
первую очередь считается урбанистическая концепция, да-
ющая на основе единого плана архитектурное решение всей
площади города; см., например, созданный Ле Корбюзье
план «Ville radieuse»*, в котором «дома и небоскребы на
сваях возвращают всю землю транспорту, и более всего —
пешеходу: вся территория города превращается в парк»
(TeigeK. Nejmensf byt. Praha, 1932, s. 142).
3. Наконец упомянем еще о двух особых случаях, ко-
торые мы относим к одной категории не в силу их родст-
венности — ее между ними нет, — а в силу отличия их
от примеров, приведенных в пунктах 1 и 2. Речь идет о
религиозном культе и красоте природы (особенно пейзажа)
в их отношении к искусству. — Известно, что религиозный
культ содержит, как правило, значительную долю эстети-
ческих элементов; во многих религиях эстетизация культа
заходит так далеко, что искусство становится его интег-
ральной составной частью (см. католическое и православное
церковное искусство). Культ нередко бывает настолько про-
питан эстетической функцией, что теоретики смело про-
возглашают его искусством, особенно в периоды, когда соб-
ственно религиозная сторона культа ослаблена (ср., напри-
мер, возрождение религиозности у таких романтиков, как
Шатобриан, после господства атеизма в период Французской
революции). Однако для церкви доминирующей стороной
культа всегда является религйозная функция. Если церковь
гем не менее позволяет искусству стать интегральной со-
* «Радостный город» (франц.).
51
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ставной частью культа, делается это с условием, что оно
подчинится предписаниям, чуждым его собственной сути,
подчинится нормам, касающимся не только темы, но и
художественного построения произведения (ср., например,
синие мантии средневековых мадонн). Цель этих предпи-
саний — ставить на пути эстетической функции преграды,:
которые, однако, не должны ее подавить или низвести до
второстепенной роли, а должны лишь превратить ее в близ-
неца иной функции. Можно сказать, что в церковном ис-
кусстве (а в известной мере и во всей сфере соответству-
ющего культа) существуют одновременно две доминантные
функции1*, одна из которых, религиозна^, делает из второй,
эстетической, средство своей реализации; речь идет, таким
образом, скорее об определенной контаминации, чем об
иерархизации функций. Что касается средневекового рели-
гиозного искусства, то нужно помнить, что среда, из которой
это искусство выросло, не знала — подобно тому как этого
до сих пор не знает фольклорная среда — четкой взаимной
дифференциации отдельных функций. Второй случай, о
котором мы хотели упомянуть, — это прекрасное в пейзаже.
Природа сама по себе есть явление внехудожественное, если
к ней не прикоснулась человеческая рука, руководимая
эстетической тенденцией. Несмотря на это, пейзаж может
воздействовать как художественное произведение. Разреше-
ние этой загадки — у нас оно было намечено Гостинским
в работе «Со jest malebne?» (издание 3. Недлого , Praha,
1912), четко его сформулировал и Ш. Лало20 («Introduction
a 1’esthetique». Paris, р. 131) — простое: «В восприятии
эстетически воспитанных людей искусство отражается в
природе и сообщает ей свой блеск». Преобладание эстети-
ческой функции привнесено здесь извне.
Примеры, приведенные в предшествующих абзацах, име-
ли единственную цель — показать многообразие перехода
от искусства к сфере внехудожественных эстетических яв-
лений и к внеэстетической сфере. Как выяснилось, искусство
не является замкнутой областью; не существует ни четких
границ, ни строгих критериев, которые отличали бы искус-
ство от того, что находится за его пределами. Целые про-
фессиональные области могут стоять на грани между ис-
кусством и остальными эстетическими, а в отдельных слу-
чаях и внеэстетическими явлениями. В процессе развития
искусство неустанно изменяет сферу своего воздействия:
расширяет ее и вновь сужает. Несмотря на это — и как
52
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
раз поэтому — сохраняет полную силу полярность господ-
ства и подчиненности эстетической функции в функцио-
нальной иерархии; без этой полярности развитие эстетиче-
ской сферы лишилось бы смысла, ибо именно она определяет
динамику последовательного движения.
В качестве итога всего, что было сказано о распростра-
нении и воздействии эстетической функции, можно сделать
следующие выводы.
1. Эстетическое само по себе не является реальным
свойством вещей и не имеет прямой связи с какими-либо
их свойствами. 2. Эстетическая функция вещей не находится
и в полной власти индивида, хотя, с чисто субъективной
точки зрения, все что угодно может приобрести эстетиче-
скую функцию (или, наоборот, лишиться ее) независимо
от своего склада. 3. Стабилизация эстетической функции
является делом коллектива, эстетическая функция есть эле-
мент отношения человеческого коллектива к миру. Поэтому
определенная степень распространения эстетической функ-
ции в мире вещей всегда связана с определенным обще-
ственным целым. То, как подобное общественное целое
относится к эстетической функции, в конечном счете пред-
определяет и характер объективного созидания вещей, име-
ющих своей целью эстетическое воздействие, и субъектив-
ный эстетический взгляд на вещи. Так, например, в пери-
оды, когда коллектив склоняется, к интенсивному
использованию эстетической функции, индивиду также пре-
доставляется большая свобода в его эстетическом отношении
к вещам, активном (при их создании) или пассивном (при
их восприятии). Тенденция к расширению или сужению
эстетической сферы, будучи фактом социальным, всегда
сопровождается рядом параллельных симптомов. В этом
смысле, например, символизм в поэзии и декаданс со свой-
ственным им панэстетизмом представляют собой явления
параллельные и однозначные с художественным ремеслом
того времени, сверх всякой меры расширявшим сферу ис-
кусства; и все это — симптомы гипертрофии эстетической
функции в современном социальном контексте. Подобную
же цепь параллельных фактов можно привести и в наше
время: современная (конструктивистская) архитектура в те-
ории и на практике стремится избавиться от черт, свойст-
венных искусству, и заявляет о своем честолюбивом наме-
рении стать наукой, точнее сказать, аппликацией научных
данных, прежде всего социологических; с другой стороны,
53
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
возникает сюрреализм в поэзии и живописи, исходящий из
научных исследований области подсознательного; частично
сюда можно отнести и воздействие так называемого соци-
алистического реализма в литературе, особенно. русской,
требующего в первую очередь синтетического описания и
пропаганды нового общественного строя, Общий знамена-
тель этих весьма различных и отчасти взаимоисключающих
тенденций — полемика против «художественности», столь
подчеркивавшейся еще в недавно минувшее время, т. е.,
иными словами, реакция на абсолютное преобладание эс-
тетической функции в искусстве, реакция, сказывающаяся
в сближении искусства со сферой внеэстетических явлений.
Таким образом, сфера эстетического развивается как
целое и, кроме того, находится в постоянном взаимоотно-
шении и с теми сторонами действительности, которые в
данный момент вообще не являются носителями эстетиче-
ской функции. Такое единство и такая целостность воз-
можны лишь на основе коллективного сознания, прядущего
нити связей между вещами, которые оно делает носителями
эстетической функции, и соединяющего в единое целое
взаимоизолированные состояния индивидуального сознания.
Коллективное сознание мы не гипостасируем21 как психо-
логическую реальность* и не подразумеваем под этим сло-
вом простое суммарное обозначение комплекса элементов,
общих для отдельных индивидуальных состояний сознания.
Коллективное сознание — факт социальный; его можно
определить как местонахождение отдельных систем явлений
культуры, каковы, например, язык, религия, наука, по-
литика и т. д. Эти системы суть реальности, хотя с помощью
органов чувств их нельзя непосредственно воспринять: факт
своего существования они подтверждают тем, что оказывают
на эмпирическую действительность нормообразующее воз-
действие; так, например, отклонение от языковой системы,
бытующей в сознании коллектива, спонтанно ощущается и
оценивается как ошибка. В коллективном сознании и сфера
эстетического предстает прежде всего как система норм, о
чем будет сказано во второй главе этого исследования.
Мы не должны, однако, понимать коллективное сознание
абстрактно, т. е. безотносительно к конкретному коллекти-
ву, являющемуся его носителем. Этот конкретный коллек-
* Такую ошибочную интерпретацию может вызвать лишь не слишком
удачный термин «коллективное сознание».
54
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
тив, общественное целое, внутренне дифференцирован, за-
ключая в себе различные слои и неоднородную среду. Труд-
но представить, чтобы то, что мы называем сознанием
такого коллектива, не отражало общественной разъединен-
ности; все это, конечно, относится и к эстетической сфере.
Само искусство, хотя оно вследствие гегемонии эстетической
функции и вытекающей из этого значительной автономности
до известной степени изолировано от действительности и
изъято из прямого активного контакта с формами и тен-
денциями общественного бытия (ср. известную формулу
Канта: das interesselose Wohlgefalien*), выдвигает ряд слож-
ных социологических проблем. В еще большей мере это
характерно для внехудожественной сферы, к которой в
первую очередь приковано наше внимание. Эта сфера вклю-
чена в систему общественной морфологии и принимает
участие в общественных акциях.
Возможность установить взаимоотношение между эсте-
тической сферой и конкретным устройством и бытием об-
щественного целого представится нам в основном во второй
главе — при анализе эстетических норм. Однако несколько
замечаний о социологических аспектах самой категории
эстетического можно сделать и с точки зрения эстетической
функции.
1. Эстетическая функция может стать фактором обще-
ственной дифференциации в тех случаях, когда определен-
ная вещь (иногда акт) в одной общественной среде обладает
эстетической функцией, а в другой не обладает или когда
в одной общественной среде эстетическая функция такой
вещи проявляется в меньшей степени, чем в иной среде.
В качестве примера приведем факт, установленный П. Бо-
гатыревым22 («Germarioslavica», г. II): рождественская елка,
несущая в городах преимущественно эстетическую функ-
цию, в деревнях Восточной Словакии, куда она попала из
юродов как «девальвированная культурная ценность», иг-
рает прежде всего магическую роль.
2. Роль фактора общественного бытия эстетическая фун-
кция выполняет благодаря своим основополагающим свой-
ствам. — Главное из них Э. Утиц («Philosophic in ihren
Einzelgebieten. Xsthetik und Philosophic der Kunst», S. 614)
определил как способность изолировать предмет, затронутый
эстетической функцией. Весьма сходно с этим и определе-
* незаинтересованное наслаждение (нем.).
55
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ние, согласно которому эстетическая функция означает со-
средоточение максимального внимания на данном предмете
(Rotschild L, Basic Concepts in the Plastic Arts. — The
Journal of Philosophy, 1935, v. XXXII, № 2, p. 42). Всюду,
где в социальном бытии появляется потребность выделить
какой-нибудь акт, вещь или личность, Обратить на нее
внимание, освободить ее от нежелательных связей, эстети-
ческая функция выступает как сопровождающий фактор;
такова, например, эстетическая функция любого церемо-
ниала (включая церемониал религиозных культов), такова
эстетическая окраска празднеств. Ввиду своей изолирующей
способности эстетическая функция может стать и социально
дифференцирующим фактором, ср. повышенную чуткость
восприятия эстетической функции и более интенсивное ее
использование в верхушечных социальных слоях, стремя-
щихся отличаться от остальных слоев общества (эстетиче-
ская функция как фактор так называемой репрезентации),
а также намеренное использование эстетической функции,
чтобы подчеркнуть значение лиц, обладающих властью,
или чтобы изолировать их от остального коллектива (на-
пример, одежда самого лица, облеченного властью, либо
его прислуги, его резиденция и т. д.). Изолирующая спо-
собность эстетической функции — или, скорее, ее способ-
ность приковывать внимание к вещи или лицу — делает
ее важным спутником эротической функции; ср., например,
одежду, особенно женскую, в которой обе эти функции
порой сливаются так, что их нельзя различить.
Другое существенное свойство эстетической функции —
это наслаждение, которое она вызывает. Отсюда вытекает
ее способность облегчать акты, к которым она присоединя-
ется в качестве второстепенной функции, а в отдельных
случаях и способность усиливать удовольствие, с ними свя-
занное; ср. применение эстетической функции при воспи-
тании, еде, пользовании жильем и т. д.' — Наконец, нужно
упомянуть и о третьем, особом свойстве эстетической фун-
кции, обусловленном ее связью прежде всего с формой
вещи или акта; речь идет о ее способности замещать иные
функции, которых предмет (вещь или акт) в процессе раз-
вития лишился. С этим связана весьма частная эстетическая
окраска пережитков материальной культуры (например,
развалин, народной одежды — там, где остальные ее фун-
кции, такие, как практическая, магическая и т. д., вывет-
рились) или культуры нематериальной (например, обрядов);
56
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НОРМА И ЦЕННОСТЬ
сюда нужно отнести и следующее широко известное явление:
научные труды, которые в момент своего возникновения,
наряду с интеллектуальной функцией, обладали и эстети-
ческой функцией как функцией сопутствующей, уже ут-
ратив научную актуальность, продолжают функционировать
как явления преимущественно или исключительно эстети-
ческие; ср. «Историю» Палацкого или произведения Бюф-
фона . — Эстетическая функция, замещая остальные, по-
рою становится фактором рационального использования ре-
сурсов культуры в том смысле, что сохраняет творения
человеческих рук, а также институты, лишившиеся своей
первоначальной практической функции, для будущих вре-
мен, когда представится возможность употребить их снова,
в другой практической функции.
Таким образом, эстетическая функция — это нечто не-
сравнимо большее, чем просто пена на бурной поверхности
вещей и мира, каковой ее иногда считают. Она оказывает
существенное воздействие на жизнь общества и личности,
в известной мере формирует отношение — не только пас-
сивное, но и активное — личности и общества к реальности,
в центр которой они поставлены. В дальнейшем, как уже
было сказано, мы постараемся более подробно осветить
социальную значимость эстетических явлений; в качестве
же введения нужно было попытаться отграничить сферу
эстетического и исследовать динамику ее развития.
II
В первой главе этого исследования мы поставили перед
собой задачу показать динамичность эстетической функции
как по отношению к явлениям, которые выступают ее но-
сителями, так и по отношению к обществу, в котором эта
функция находит свое применение. Вторая глава должна
послужить подобным же доказательством применительно к
эстетической норме. Если не представляло труда продемон-
стрировать изменчивость — разумеется, выступающую как
закономерность процесса развития — эстетической функ-
ции, которая ex definitione* имеет характер энергии, то
раскрыть динамичность эстетической нормы, выступающей
в роли правила, которое претендует на неизменную пра-
вомочность, дело куда более трудное. Функция, как живая
* по определению (лат.).
51
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сила, кажется предназначенной для того, чтобы постоянно
менять размеры и направление своего русла, между тем
как норма, правило и мера по самой своей сути кажутся
неподвижными. Эстетика возникла когда-то как наука о
правилах, регулирующих чувственное восприятие (Баум-
гартен24).
На протяжении долгого времени единственно достойной
ее задачей представлялось изучение всеобщеобязательных
предпосылок красоты, которые устанавливались либо на
метафизической, либо по крайней мере на антропологиче-
ской основе; в этом втором случае эстетическая ценность
и ее мерило — эстетическая норма — воспринимались как
факты, имеющие для человека конститутивное значение,
вытекающие из самой его природы.Еще экспериментальная
эстетика, в момент, когда Фехнер25 закладывал ее основы,
исходила из аксиомы о существовании всеобщеобязательных
предпосылок прекрасного, для установления которых доста-
точно исключить, предварительно накопив эксперименталь-
ный материал, случайные отклонения индивидуального вку-
са. Как известно, дальнейшее развитие заставило экспери-
ментальную эстетику считаться с изменчивостью норм и ее
причинами. Недоверие к неограниченной обязательности
норм проявилось и в других ответвлениях, и направлениях
современной эстетики: для большинства из них стал харак-
терен либо крайний скепсис по отношению к самому су-
ществованию и правомочности таких норм, либо хотя бы
стремление ограничить сферу их действия каждый раз лишь
единственным случаем (норма, выводимая из конституции
личности художника), либо, наконец, тенденция спасти
всеобщую обязательность нормы, эмпирически выводя со-
ответствующие предписания из уже созданных произведе-
ний, почитаемых образцовыми; этому, разумеется, препят-
ствует, с одной стороны, неизбежно неполная индукция, с
другой — petitio principii*.
Мы не станем заниматься здесь критикой отдельных
теорий, а попытаемся противопоставить им всем положи-
тельное решение, основанное на доказательстве того, что
противоречие между притязаниями нормы на всеобщую
обязательность, без которых она не была бы нормой, и ее
фактической ограниченностью и изменчивостью не пред-
ставляет собой нечто бессмысленное, а может быть теоре-
* вывод из недоказанного (лат.).
58
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
тически понято и осмыслено как диалектическая антиномия,
служащая бродилом развития всей эстетической сферы. —
Основная часть нашего доказательства будет касаться от-
ношения между эстетической нормой и общественной ор-
ганизацией, ибо изменчивость нормы и ее обязательность
нс могут быть поняты и обоснованы в своей одновременности
ни с точки зрения человека как такового, ни с точки зрения
человека как индивида, а могут быть понятны только с
точки зрения человека как общественного существа. Тем
нс менее прежде, чем приступить к собственно социологи-
ческим аспектам эстетической нормы, нужно приобрести
некоторые основополагающие сведения путем гносеологи-
ческого анализа ее сущности.
Начнем с общетеоретических посылок, касающихся цен-
ности и нормы. Примем телеологическое определение цен-
ности как способности какой-либо вещи служить средством
для достижения известной цели; естественно, что установ-
ление цели и стремление достичь ее связано с определенным
субъектом и что, следовательно, в каждой оценке есть
элемент субъективности. Ее крайним проявлением будет
случай, когда кто-либо оценивает некую вещь с точки
зрения чисто индивидуальной цели; здесь оценка не может
руководствоваться никакими правилами и полностью зави-
сит от свободного решения индивида. Менее изолированным
будет акт оценки, когда ее результат тоже имеет силу
только для одного данного индивида, но касается цели,
известной этому индивиду на основе предшествующего опы-
та. Здесь есть возможность подчинить оценку определенному
правилу, вопрос об обязательности применения которого
каждый раз решает сам индивид; поэтому и здесь решение
в конечном счете зависит от свободной воли индивида.
О настоящей норме можно говорить лишь тогда, когда речь
идет об общепризнанных целях, по отношению к которым
ценность ощущается как нечто, существующее независимо
от воли индивида и его субъективных решений, иными
словами — как факт так называемого коллективного со-
знания; сюда относится, помимо иных, и эстетическая цен-
ность, определяющая меру эстетического наслаждения.
В таких условиях ценность есть стабилизированная норма,
иначе говоря, общее правило, применимое к каждому кон-
кретному случаю, ему подчиняющемуся. Индивид вправе
не согласиться с этой нормой и даже стремиться к ее
изменению, но, производя оценку, пусть даже в противо-
59
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
речии с нормой, он не может отрицать ее существование
и коллективную обязательность.
Хотя норма имеет тенденцию к обязательности, не зна-
ющей исключений, она никогда не может достичь силы
закона природы, в противном случае она стала бы законом
и утратила значение нормы. Если бы человек был не спо-
собен переступить границы абсолютного ритма, так же как
он не способен воспринять своими органами зрения инф-
ракрасные и ультрафиолетовые лучи, ритм из нормы, ко-
торая требует подчинения, но может и нарушаться, пре-
вратился бы в закон человеческой натуры, подчинение ко-
торому неизбежно и бессознательно. Дело в том, что норма,
хотя и обладает тенденцией к неограниченной силе дейст-
вия, одновременно сама себя этой тенденцией ограничивает.
Она не только может быть нарушена, но даже нетрудно
представить — и на практике это весьма часто имеет ме-
сто — параллельное существование двух или нескольких
конкурирующих между собой норм, применяемых к одним
и тем же конкретным случаям, измеряющих одну и ту же
ценность. Норма, таким образом, покоится на основопола-
гающей диалектической антиномии между действенной си-
лой, не признающей исключений, и простой регулирующей
или даже лишь ориентирующей наши оценки потенцией,
включающей в себя допустимость неподчинения ей. — Каж-
дая норма обладает этими двумя противоположными тен-
денциями, и между ними как между двумя полюсами про-
ходит все ее развитие. И все же различные типы норм
тяготеют в большей степени к одному или другому полюсу.
Различие в степени тяготения станет ясным, если мы со-
поставим, например, норму правовую, которая уже своим
обычным обозначением — «закон» — говорит о тенденции
к действию без исключений, с нормой эстетической, осо-
бенно в наиболее свойственной ей роли художественной
нормы, служащей, как правило, лишь фоном для постоян-
ных нарушений.
Тем не менее и эстетическая норма может проявлять тен-
денцию к постоянству. В самом процессе развития искусства
время от времени возникают периоды, выступающие с на-
стойчивым требованием неизменной и безоговорочной пра-
вомочности нормы. В качестве примера напомним, с одной
стороны, о поэзии французского классицизма, с другой — о
символистской поэзии. Вера в действенность нормы в клас-
сицистическую эпоху была настолько сильной, что Шаплен26
60
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
мог написать в предисловии к своему эпосу «La Pucelle»*: «К
обработке своего сюжета я приступил лишь с изрядным зна-
нием того, что было нужно.,. Речь шла всего только об ис-
пытании с целью установить, действительно ли поэтический
жанр, осуждаемый нашими прославленнейшими писателя-
ми, уже мертв или его теория, которую я достаточно хорошо
знаю, позволит мне на примере показать своим друзьям, что
и без великого воодушевления ее можно с успехом приме-
нить»**. В переводе на нашу терминологию это высказывание
свидетельствует о безоговорочной вере в силу последователь-
ного применения нормы, которое уже само по себе достаточно
для создания художественной ценности. Что касается симво-
лизма, то можно хотя бы вспомнить о страстном желании
создать «абсолютное произведение», рассчитанное на вечное
художественное воздействие вне зависимости от эпохи и сре-
ды, желании, которое было, например, очень сильным у Мал-
ларме***. Как пример тенденции эстетической нормы к аб-
солютной обязательности можно привести также взаимную
нетерпимость конкурирующих эстетических норм, проявля-
ющуюся часто в подмене эстетической нормы иной, более
авторитетной, например нормой нравственной (в пылу поле-
мики противника награждают клеймом шарлатана) или ин-
теллектуальной (противника провозглашают невеждой или
глупцом). Даже если подчеркивается право на индивидуаль-
ное эстетическое суждение, одновременно выдвигается тре-
бование ответственности за него: личный вкус составляет
часть человеческой ценности его носителя. *
Итак, антиномия неограниченной обязательности и ее от-
рицания — непрерывной изменчивости — имеет силу и в от-
ношении эстетической нормы, хотя, казалось бы, в данном
случае отрицание преобладает. И здесь, как и повсеместно,
основой является положительный признак, из которого нуж-
но исходить при анализе специфического характера эстети-
ческой нормы. Поэтому мы должны поставить вопрос, дей-
ствительно ли существуют некие эстетические принципы,
вытекающие из самой натуры человека, т. е. принципы, яв-
ляющиеся для него конститутивными, которые оправдывали
бы тенденцию эстетической нормы к превращению в закон.
* «Девственница» (франц.). /
** Цитата приведена по книге Ф. Брюнетьера «I? evolution des genres»
(Dcuxieme lecon).
*** Ср. мое’«Предисловие» к изданию «Псалмов» Главачека27 с гносео-
логической характеристикой символизма (Hlavacek К. Zalmy. Praha, 1934).
61
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Мы уже упомянули, что первоначальная концепция экспе-
риментальной эстетики оказалась несостоятельной именно в
силу стремления установить такие принципы. Различие меж-
ду нашей концепцией и первоначальной концепцией экспе-
риментальной эстетики заключается в том, что там подобные
принципы воспринимались как идеальные нормы, обеспечи-
вающие эстетическое совершенство, и вся задача сводилась
к их уточнению, между тем как для нас это всего-навсего
антропологические предпосылки тезиса о диалектической ан-
тиномичности эстетической нормы,' тезиса, равноправным
антитезисом которого является отрицание (а следовательно,
и нарушение) конститутивных принципов.
Цель эстетической функции — доставлять эстетическое
наслаждение. В первой главе уже было сказано, что любая
вещь или действие независимо от их внутренней организации
могут стать носителями эстетической функции и, следова-
тельно, доставлять эстетическое наслаждение. Существуют,
однако, известные предпосылки в объективной внутренней
организации вещи (носителя эстетической функции), кото-
рые облегчают возникновение эстетической функции. Эсте-
тическая потенция не является, конечно, внутренним каче-
ством объекта: для того чтобы объективные предпосылки мог-
ли обрести реальную силу, что-то должно соответствовать им
в конституции субъекта эстетического наслаждения. Субъ-
ективные предпосылки могут иметь обоснование как совер-
шенно индивидуальное, так и социальное и даже антрополо-
гическое, т. е. определяемые самой родовой натурой челове-
ка. И как раз эти основополагающие, антропологические
предпосылки суть те принципы, о которых мы сейчас гово-
рим. Можно назвать целый ряд таких принципов. Для тех
видов искусства, которые связаны с протяженностью во вре-
мени (Zeitkiinste), это ритм, обусловленный равномерностью
кровообращения и дыхания (важно также то обстоятельство,
что ритмичная организация труда в наибольшей мере соот-
ветствует природе человека); для пространственных видов
искусства — вертикаль, горизонталь, прямой угол, симмет-
рия, которые целиком могут быть обоснованы конституцией
и нормальным , положением человеческого тела (см.
SchmarsowA. Grundbegriffe der Kunstwissenschaft. Leipzig;
Berlin, 1905)*; для живописи — существование взаимодопол-
* См. также: Semper G. Uber die formelle Gesetzmassigkeit des Schmuckes
als Kunstsymbol. — In: Kleine Schriften. Berlin; Stuttgart, 1884, S. 326 ff.
62
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ НОРМА И ЦЕННОСТЬ
няющих пар цветов, образующих при смешении белый цвет,
некоторые другие проявления контраста красок по цвету и
его интенсивности (см., например: Seracky. Kvantitativm
urcem barevneho kontrastu na rotujfcich koutocich, Praha,
1923); для ваяния — закон постоянства центра тяжести.
Из этих принципов могут быть непосредственно выве-
дены некоторые дальнейшие, так, например, из закона сим-
метрии — основополагающее расчленение заключенного в
раму пространства точкой, находящейся на пересечении
диагоналей (абсолютная симметрия). Есть также иные прин-
ципы, которые — хотя их связь с антропологической базой
значительно менее однозначна, чем в вышеупомянутых слу-
чаях, — тем не менее нельзя игнорировать как несущест-
вующие (например, золотое сечение). Непосредственной
надстройкой над конститутивными принципами нужно счи-
тать ряд традиционных норм, которые в результате дли-
тельного употребления приобрели такую естественность, что
допускают деформирование, оставаясь при этом в подсоз-
нании как его фон (ср., например, репертуар созвучий в
музыке, построенный на октаве и, как известно, все более
обогащавшийся в процессе исторического развития). — При-
веденный выше перечень антропологических принципов ни
в коей мере не претендует на полноту. И даже если бы он
был исчерпывающим, все же можно заранее с уверенностью
сказать, что сеть этих принципов никогда бы не стала столь
всеобъемлющей и густой, чтобы содержать детальные эк-
виваленты всех возможных на практике эстетических норм.
Однако для того чтобы принять в качестве предпосылки
тезис, согласно .которому эстетическая норма как целое
имеет конститутивное обоснование, достаточно и указанных
частичных соотношений между нею и психофизической ба-
зой человека.
Возникает вопрос, как эти принципы функционируют
применительно к настоящим нормам. Предполагать, что
они сами по себе суть нормы, и притом идеальные, т. е.
такие, приближение к которым, хотя бы в рамках возмож-
ного, равнозначно эстетическому совершенству, значило бы
отрицать всю историю искусства. В процессе развития ис-
кусства эти основные принципы обычно не только не со-
блюдаются, но и, наоборот, мы видим, что периоды, ха-
рактеризующиеся стремлением к наиболее строгому их со-
блюдению, сменяются периодами, когда эти принципы
любыми возможными способами нарушаются; периоды де-.
63
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
формирования, слабого или более радикального, встреча-
ются даже чаще, и всех их огулом нельзя назвать упадоч-
ными. Характерно также, что крайне строгое соблюдение
антропологических принципов приводит к эстетической ин-
дифферентности. Строгий механический ритм, симметрия
геометрической фигуры эстетически индифферентны. Од-
нако величайшее значение конститутивных принципов за-
ключается в том, что все многообразие эстетических норм,
которое открывается нам и при синхронном (статическом)
и диахронном (учитывающем динамику времени) разрезе,
они постоянно приводят к общему знаменателю, родовому
психофизическому устройству человека, являясь спонтанно
функционирующим мерилом соответствия или противоречия
конкретных норм этому устройству. Они существуют не
для того, чтобы ограничивать изменчивость норм в процессе
развития, а для того, чтобы служить прочной основой, по
отношению к которой изменчивость только и может ощу-
щаться как нарушение правила*. Центробежная сила, т. е.
тенденция к деформированию, не могла бы проявиться,
если бы не было центростремительной силы, представленной
конститутивными принципами. Шкловский, утверждая (в
статье «Искусство как прием» из книги «О теории прозы»,
чешский перевод — 1938), что художественная деформация
означает максимальную затрату энергии, мог быть прав
только при условии, если где-то в фундаментальных осно-
вах, как скрытый клад, функционирует закон сохранения
энергии, ибо в противном случае деформация перестает
быть самой собой, т. е. отрицанием правила. А выражением
тенденции к сохранению энергии в эстетической области и
являются как раз конститутивные принципы.
В предшествующих абзацах мы попытались дать гносе-
ологическое обоснование множественности эстетических
норм (сосуществования взаимно конкурирующих норм), од-
нако остается еще дать ее генетическое толкование, т. е.
объяснить, как на практике эта множественность возникает.
Придется взглянуть на эстетическую норму как на истори-
ческий факт, исходя из ее изменчивости во времени. Эта
изменчивость представляет собой необходимое следствие ее
♦ TeigeK. Neoplasticismus a suprematismus. — Stavba a basen, 1927, s.
114: «Можно, в принципе, и в архитектуре высказаться за асимметрию,
для этого есть множество реальных оснований. Но в таком случае следует
допустить симметрию как особый случай асимметрии».
64
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
диалектического характера, о котором мы говорили выше.
Поэтому изменчивость эстетической нормы во времени —
черта, объединяющая ее с другими разновидностями норм;
всякая норма изменяется уже в результате того, что она
постоянно применяется на практике и должна приспосаб-
ливаться к новым задачам, подсказанным ею. Например,
неустанно преобразуются языковые нормы (грамматические,
лексические, стилистические). Но изменение здесь, за ис-
ключением так называемых специальных языков, речевых
образований, относящихся, собственно, к языковой патоло-
гии, настолько медленно, что его почти нельзя заметить,
и проблема языковых изменений принадлежит к числу труд-
нейших проблем лингвистики. Вследствие практического
назначения языка и вследствие того, что в своей нормальной
коммуникативной функции язык не имеет творческой на-
правленности, языковые нормы значительно более косны,
чем эстетические, но и они изменяются. Однако в процессе
применения к конкретному материалу претерпевают изме-
нения и еще более косные нормы, чем языковые, например
правовые нормы, которые уже своим названием — «зако-
ны» — говорят о тенденции к безоговорочному и всегда
одинаковому применению. Даже Энглиш28 («Teleologie jako
forma vedeckeho poznani». Praha, 1930), стремящийся строго
различить простое дедуцирующее «нормативное» мышление
и оценивающее «телеологическое» мышление, считает, что
«интерпретация per analogiam*», неизбежная при решении
казусов, которые законодатель, формулируя закон, непос-
редственно не предусмотрел, но которые встречаются в
юридической практике, «является, по сути дела, вовсе не
интерпретацией, а нормообразующей деятельностью, и пра-
вовые кодексы содержат поэтому особые установления, да-
ющие полномочия для такой интерпретации, в чем не было
бы необходимости, если бы речь действительно шла об
интерпретации существующих норм».
В свою очередь и эстетические нормы преобразуются в
процессе применения. Если правовые нормы, пока речь не
идет о создании нового законодательства, изменяются в
весьма узких рамках, а языковые нормы изменяются хотя
и действенно, но незаметно, то изменение эстетических
норм происходит в весьма широком диапазоне и совершенно
явственно. Разумеется, изменение нормы не сказывается с
* по аналогии (лат.).
Л 888
65
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
одинаковой силой во всех областях эстетической сферы;
наиболее заметно оно в искусстве, где нарушение эстети-
ческой нормы представляет собой одно из главных средств
воздействия. — Здесь мы уже на пороге теории развития
художественных явлений; проблематика ее широка и сложна
ввиду взаимозависимости отдельных проблем. Мы не можем
пускаться в подробное и систематическое изложение этого
вопроса (подобного рода опыт, читатель найдет в нашей
работе «Polakova Vznesenost pnrody». Praha, 1934), тем не
менее, учитывая, все, чему мы предполагаем посвятить свое
внимание в дальнейшем контексте этого исследования, нуж-
но сказать несколько слов о том, как преобразуется эсте-
тическая норма в искусстве и как из одной нормы возникает
несколько.
Художественное произведение — это всегда неадекватное
применение эстетической нормы, причем тот, кто применяет
норму, нарушает предшествующее ее состояние не в силу
какой-то непроизвольной необходимости, а сознательно и,
как правило, весьма ощутимо. Норма нарушается тут не-
престанно. Нужно, разумеется, иметь в виду, что, исследуя
эстетическую норму в плане ее развития, мы будем упот-
реблять слово «нарушение» в ином смысле, чем мы исполь-
зовали его выше, когда речь шла о несоблюдении эстети-
ческих принципов; здесь мы будем подразумевать под ним
соотношение между нормой, предшествующей во времени,
и отличающейся от нее только что формирующейся новой
нормой. Нарушение конститутивных принципов конкретной
нормой и нарушение старой нормы вновь возникающей
нормой — две разные вещи. В процессе развития даже
может случиться, что норма, совпадающая с соответствую-
щим конститутивным принципом (например, поэтический
ритм, точно придерживающийся метрической схемы), будет
ощущаться как сильное нарушение прежней нормы, если
такому нарушению предшествовал период заметной дефор-
мации данного принципа (ср. афоризм одного из русских
теоретиков поэтического искусства относительно того, что
мы можем услышать тишину, если ей предшествовал грохот
стрельбы). — История искусства, если мы рассматриваем
ее с точки зрения эстетической нормы, предстает перед
нами как история мятежей против господствующих норм.
Отсюда вытекает особое свойство живого искусства: в том
впечатлении, которое оно производит на нас, эстетическое
удовольствие смешано с неудовольствием. Это свойство мет-
66
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
ко охарактеризовал Ф. К. Шальда в статье «Новая красота,
ее происхождение и характер»: «Впечатление, которое оно
(живое художественное произведение) производит на нас,
это скорее ощущение чего-то жесткого и строгого... чем
элегантного и приглаженного, чего-то резко отличающегося
от банальности и приятного благополучия общепринятой
манеры художественного выражения... Рафинированным
знатокам и дилетантам любой подлинно творческий худож-
ник в начале своего пути кажется сырым, о его искусстве
говорится как о чем-то интересном, редкостном, но твор-
чество его решительно не ценится как образец хорошего
вкуса и красоты» («Boje о zftrek). Выражение «хороший
вкус», употребленное здесь Шальдой, непроизвольно напо-
минает об одном из самых радикальных нарушений эсте-
тической нормы, допустимых в искусстве, — о нарушении
нормы с помощью сознательно используемой безвкусицы.
Что такое безвкусица? Это далеко не все, что не сов-
падает с эстетической нормой данного момента развития.
Более широким понятием, чем «безвкусица», является по-
нятие «безобразное»; обычное отклонение от эстетической
нормы мы воспринимаем как нечто безобразное. О безвку-
сице мы говорим только в том случае, если оцениваем
такой вышедший из рук человеческих предмет, в котором
заметно чье-то стремление соблюсти определенную эстети-
ческую норму и одновременно сказывается неспособность
к этому; явления природы могут быть безобразны, но отнюдь
не безвкусны, кроме редких исключений, когда явление
природы напоминает нам нечто созданное человеком. Не-
удовольствие, вызываемое безвкусным предметом, основано,
следовательно, не только на ощущении несоответствия эс-
тетической норме, это неудовольствие усиливается еще от-
вращением к беспомощности автора. Дело в том, что без-
вкусица — это наиболее резкая антитеза искусству, которое
уже своим названием означает способность полностью до-
биться осуществления намеченного замысла*. И все же
искусство йногда использует безвкусицу в собственных це-
лях. Наглядным примером может служить сюрреалистиче-
ское изобразительное искусство, нередко использующее —
в качестве объектов изображения и в качестве составной
части живописного или пластического монтажа — продукты
* Чешское слово umenf («искусство») образовано от глагола «уметь» (ср.
русское — «умелец») (прим, перев.).
л* 67
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
эпохи самого большого падения вкуса (конец XIX века):
фабричные имитации искусства и художественного ремесла,
гравюры из иллюстрированных журналов и т. д. Тем самым
радикальнейшим образом нарушается норма «высокого» ис-
кусства и дерзко вызывается эстетическое неудовольствие
как компонент художественного воздействия. Хотя в другие
периоды и другими направлениями эстетическое неудоволь-
ствие не подчеркивается столь нарочито, это почти посто-
янный элемент живого искусства. — Если бы мы теперь
задались вопросом, почему искусство, привилегированное
эстетическое явление, может вызвать неудовольствие, не
переставая быть искусством, мы должны были бы ответить
себе, что эстетическое удовольствие именно в тех случаях,
когда оно, как это имеет место в искусстве, должно достигать
максимальной интенсивности, нуждается в эстетическом не-
удовольствии как в своей диалектической противоположно-
сти. При самом большом нарушении нормы удовольствие
является преобладающим ощущением в искусстве, а неу-
довольствие — средством его интенсификации; не случайно
именно эстетика сюрреализма носит программно-гедонисти-
ческий характер. Художественная ценность неделима; даже
элементы, вызывающие неудовольствие, в произведении как
едином целом становятся положительными факторами, но
только в этом едином целом; вне произведения и его струк-
туры они были бы отрицательными ценностями.
Итак, художественное произведение всегда в какой-то,
а часто и весьма значительной мере нарушает эстетическую
норму, действующую в данный момент развития. Но и в
самых крайних случаях оно должно в то же время придер-
живаться этой нормы: история искусства *знает даже пери-
оды, когда соблюдение нормы явственно преобладало над
нарушением. Однако всегда в художественном произведении
есть нечто, соединяющее его с прошлым, и нечто, направ-
ленное в будущее. Обычно эти задачи распределены между
разными группами элементов: одни поддерживают норму,
другие ее расшатывают. В момент, когда художественное
произведение впервые предстает перед глазами публики,
может случиться, что в нем на первый план выступит лишь
то, чем оно отличается от прошлого; однако позднее и в
этих случаях становится очевидной связь с предшествующим
этапом развития. «Завтрак на траве» Мане, выставленный
впервые, вызвал протест как произведение, отличающееся
революционным новаторством. Только в процессе поздней-
68
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. НОРМА И ЦЕННОСТЬ
шего изучения явственно выступила сильная зависимость
Мане от его предшественника Курбе как в композиции,
так и в способе обращения с краской (см. например, под-
робный анализ у Дери в его книге «Die Malerei im XIX.
Jahrhundert». Berlin, 1920). Но и при положительной оценке
нового художественного явления может случиться, что на-
рушение прежней нормы будет производить настолько силь-
ное впечатление, что совпадения с нею в первую минуту
останутся незамеченными; на^примере Безруча это показал,
в частности, М. Гисек29 («Tri kapitoly о Petru Bezrucovi».
Brno, 1934).
Живое художественное произведение всегда осциллирует
между прежним и будущим состоянием эстетической нормы:
настоящее, под углом зрения которого мы воспринимаем
произведение, ощущается как напряжение между предше-
ствовавшей нормой и ее нарушением, предназначенным
стать составной частью будущей нормы. В качестве чрез-
вычайно наглядного примера можно привести импрессио-
нистическую живопись. Одна из типичных и основных норм
импрессионизма — тенденция к воссозданию непосредст-
венного чувственного впечатления, не искаженного какой-
либо интеллектуальной или эмоциональной интерпрета-
цией; в этом смысле импрессионизм — коррелят натура-
лизма в поэтическом искусстве. Но вместе с тем в
импрессионизме уже в самого начала дремлет и в дальней-
шем все настойчивее проявляется прямо противоположная
тенденция — тенденция к нарушению реальной координа-
ции чувственных данных, информирующих нас об изобра-
жаемом предмете; в этом плане импрессионизм, особенно
поздний, становится уже, по существу, спутником поэти-
ческого символизма. Переход от одной из двух взаимноп-
ротивоположных тенденций к другой, с живописной точки
зрения, оказывается возможным при аннулировании линей-
ного контура, а следовательно, и линейной перспективы,
гак же как и при замене контура игрой красочных пятен
па плоскости. И обе эти противоположные тенденции фи-
гурируют в истории под общим названием: импрессионизм.
II истории искусства это постоянное явление: любой этап
развития не соответствует полностью норме, воспринятой
от предыдущего этапа, и, нарушая ее, создает новую норму.
Творение, которое целиком отвечало бы принятой норме,
i тало бы унифицированным, повторимым; к этой границе
приближаются лишь произведения эпигонов, между тем как
69
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сильное художественное творение неповторимо^ и структура
его, как было выше отмечено, неделима именно ввиду
эстетической разнородности элементов, которые она объе-
диняет. Однако со временем^ стирается ощущение противо-
речий, которые структура до сих пор почти насильственно
уравновешивала: произведение действительно становится
единым, а также прекрасным, т. е. способным доставлять
ничем не нарушаемое эстетическое наслаждение. Правильно
писал Ф. К. Шальда, что «красоту создает лишь перспектива
удаления» («Новая красота, ее происхождение и харак-
тер». — «Boje о zitrek»). Структура становится разложимой
на отдельные детальные нормы, которые могут быть без
ущерба применены и вне сферы структуры, их породившей,
и даже вообще вне сферы искусства. Каждый раз, когда
этот процесс завершается, этап развития искусства, до тех
пор актуальный, становится составной частью исторического
арсенала, а нормы, созданные им, постепенно пронизывают
всю широкую сферу эстетического либо как единый комп-
лекс (канон), либо как одиночные его осколки (мелкие
группы норм или отдельные детальные нормы). Все, что
мы сказали здесь о процессе образования норм, в полной
мере касается лишь одной формы искусства, того искусства,
которое мы за неимением лучшего термина называем «вы-
соким». Носителем этого искусства (с ограничениями, ко-
торые будут указаны ниже) бывает господствующий обще-
ственный слой. Высокое искусство — источник эстетических
норм и их обновления; наряду с ним существуют и другие
формы искусства (например, искусство салонное, бульвар-
ное, народное и т. д.), но, как правило, они воспринимают
от него уже созданную норму. Конечно, кроме всех разно-
видностей искусства, существуют, как уже указывалось в
первой главе, внехудожественные эстетические явления.
И встает вопрос, каким образом эстетические нормы, со-
зданные высоким искусством, проникают в эту область.
Здесь уместно будет напомнить об отмеченной уже в
первой главе постепенности перехода от искусства к ос-
тальным эстетическим явлениям. Прав Ф. Полан30
(«Mensonge de 1’art». Paris, 1907), говоря, что «виды высо-
кого искусства, такие, как живопись и ваяние, одновременно
являются, по-своему, и видами «декоративного» искусства:
назначение картины или скульптуры — украшать зал, са-
лон, фасад, фонтан». К этой цитате следует добавить, что
к декоративному искусству Полан относит «такой род про-
70
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
изводительной деятельности, которая сводится к обработке
материала, придающей ему полезную форму, или ограни-
чивается украшением материала»; таким образом, декора-
тивные виды искусства, в понимании Подана и вообще во
французском понимании, не являются уже видами подлин-
ного искусства, а относятся к художественному ремеслу, т. е.
к разряду эстетических явлений, стоящих вне искусства.
Полан указывает, что декоративная функция, а также фун-
кция практическая могут до неразличимости слить искусство
с областью остальных эстетических явлений. Еще более
наглядный пример приводит О. Гостинский: «Если Мы от-
носим к архитектуре портал с декоративными дверьми, то
что дает нам основание ставить на более низкую ступень
дело рук, может быть, того же самого рабочего, какой-ни-
будь великолепный шкаф или другой предмет обстановки?»
(«О vyznamu prumyslu umeleckeho». Praha, 1887). Здесь
намечен один из естественных мостов между искусством и
остальной областью эстетического; есть, разумеется, и мно-
жество других путей, по которым нормы непосредственно
перемещаются из сферы нормообразующего высокого ис-
кусства во внехудожественную сферу.
Приведем хотя бы еще один пример — влияние теат-
рального жеста на жесты, относящиеся к области так на-
зываемого хорошего тона. Как известно, «хороший тон» в
обществе — факт* имеющий сильную эстетическую окраску
(Dessoir М. Asthetik und allgemeine Kunstwissenschaft), но
доминирующая его функция — иная: облегчение и регули-
рование общественных отношений между членами коллек-
тива.
Речь идет, таким образом, о внехудожественном эсте-
тическом факте, и это относится к жестам в широком
смысле слова, включая мимику и языковые явления, осо-
бенно интонацию и артикуляцию. На долю эстетической
функции падает здесь важная задача — приглушать пер-
воначальную спонтанную экспрессивность жеста и превра-
щать жест-реакцию в жест-знак. Однако вместе с тем мы
наблюдаем интересное явление: общественные жесты отли-
чаются друг от друга не только у разных народов (хотя бы
даже речь шла о народах приблизительно одинаковой куль-
туры и об одних и тех же общественных слоях внутри них),
но и у одного народа в разные эпохи его развития, причем
отличаются весьма радикально. Для того чтобы установить
этот факт, достаточно взглянуть на произведения живописи
71
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
и графики, в особенности на гравюры и фотографии отно-
сительно недавнего времени — сороковых-пятидесятых го-
дов прошлого века. Самые банальные жесты и позы (на-
пример, когда человек просто спокойно стоит) в их изо-
бражении кажутся нам чрезмерно патетичными: люди
заметно выставляют вперед ногу, которая не несет тяжести
тела, руками выражают возбуждение, не соответствующее
ситуации, и т. д. Итак, общественная жестикуляция под-
вержена изменениям. Каков же источник ее развития? По-
добно тому как чувственное восприятие, особенно зритель-
ное и слуховое, развивается под воздействием искусства
(живопись и ваяние позволяют нам всегда заново ощущать
акт восприятия цвета и форм, музыка — акт восприятия
звуков), подобно тому как поэтическое искусство неустанно
обновляет в нас ощущение речи как творческого отношения
к языку, так и жестикуляция находится под соответству-
ющим воздействием определенного вида искусства, которое
ее постоянно обновляет: это актерское искусство — с давних
времен театральное, а с недавних пор связанное также и
с фильмом. Для актера жест — художественный факт с
доминирующей эстетической функцией. Тем самым жест,
изъятый из контекста социальных отношений, приобретает
повышенную способность к изменениям.. И новая норма,
возникающая в результате такого изменения, возвращается
с подмостков в зал. Влияние актерского искусства на жест
было давно известно педагогам, и это привело их к исполь-
зованию актерского дилетантизма в качестве воспитатель-
ного средства (ср. школьную драму эпохи гуманизма). В на-
ше время это влияние весьма заметно в жизненной прак-
тике, главным образом благодаря воздействию кино: на
наших глазах оно за несколько лет сказалось прежде всего
на поведении женщин, более склонных к подражанию, чем
мужчины, охватив всю систему жестикуляции от походки
и до мельчайших движений, таких, например, как манера
открывать пудреницу или игра мускулами лица.
Новые эстетические нормы непосредственно из искус-
ства проникают в повседневную жизнь независимо от того,
служит ли ее сценой мастерская ремесленника или салон.
Во внехудожественной сфере они приобретают при этом
многим, большее значение, чем в породившем их ис-
кусстве, поскольку они функционируют здесь уже как
настоящие мерила ценности, а не только как фон для
нарушений.
72
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА ИЦЕННОСТЬ
Но и такое применение норм не является полностью
автоматическим, ибо и в данном случае норма подвергается
воздействию разных сил, например моды. Мода по своей
сути не есть факт преимущественно эстетический, скорее
это явление экономики; Г. Г. Шауэр31 определяет ее как
«исключительный спрос, которым в течение известного вре-
мени пользуется на рынке какое-нибудь изделие», а немец-
кий политэконом В. Зомбарт32 посвятил экономической сто-
роне моды целое исследование («Wirtschaft und Mode»). При
этом, однако, в числе других функций моды (социальной,
иногда политической, а когда речь идет о моде в одежде,
и эротической) эстетическая фуцкция остается одной из
самых важных. На эстетическую норму мода оказывает
нивелирующее влияние, устраняя многообразную конкурен-
цию параллельных норм в пользу одной нормы: после ми-
ровой войны параллельно с интенсивным воздействием моды
происходит — по крайней мере у нас — процесс постепен-
ного устранения различий между городской и деревенской
одеждой и между одеждой старого и молодого поколений.
С другой стороны, нивелирование компенсируется быстрой
сменой норм, вызываемых модой; нет необходимости при-
водить здесь примеры, ибо для того, чтобы найти их в
избытке, достаточно перелистать несколько годовых комп-
лектов какого-нибудь журнала мод. Собственные владения
моды — это внехудожественные эстетические явления, но
иногда она проникает и на территорию искусства, особенно
в некоторых побочных его ответвлениях, например в са-
лонном или бульварном искусстве, воздействуя прежде всего
на потребление; см. популярность картин с определенными
сюжетами, выступающих как составная часть стандартной
обстановки жилья (например, натюрмортов с цветами и т.
д.); случается даже, что составной частью обычной мебли-
ровки жилья становятся некоторые конкретные произведе-
ния, так, например; несколько лет назад в квартирах можно
было постоянно видеть на стенах «распятого» Макса*33.
♦ См. также статью Г. Г. Шауэра «Мода в литературе», где на примере
одной из тем поэтического искусства — темы супружеской неверности —
он интересно показывает, что литературная мода отличается от обычной
моды инертностью и что мода как фактор поэтического творчества может
помешать непосредственному контакту между литературной и театральной
тематикой и реальным состоянием общества. Статья впервые была опуб-
ликована в газете «Моравские листы» (1890), а затем перепечатана в его
«Сочинениях» (Spisy Н. G. Schauera. Praha, 1917).
73
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Выше мы сказали, что источник рождения эстетических
норм — высокое искусство и что из него они проникают в
другие области эстетической сферы. Но эта смена норм
происходит не так просто и равномерно, как смена волн,
набегающих на морское побережье, когда очередная волна
приближается только после того, как предыдущая уже раз-
билась о берег. Нормы, закрепившиеся в какой-либо области
эстетической сферы и в какой-либо среде, могут просуще-
ствовать очень долго; новые нормы наслаиваются на них,
и создается положение, при котором великое множество
параллельных эстетических норм сосуществует и конку-
рирует между собой. Бывают случаи, особенно в фольклоре,
когда эстетические нормы сохраняются целые столетия. На-
пример, общеизвестен факт, что «образцы архитектурных
форм [чешские] крестьяне находили в принципах позднего
Ренессанса и барокко, образцами белья, одежды и ее ук-
рашения для них служили формы городского и господского
платья разных периодов моды с начала XVI столетия, со-
ответствующими образцами декоративного орнамента в рос-
писи, резьбе, вышивке и покраске были орнаментальная
живопись и резьба позднего Ренессанса и барокко»
(«Ceskoslovenska vlastiveda». Praha, 1935, VIII, s. 201). Что
касается словацкой народной вышивки, то В. Пражак до-
казал («Bratislava», VII, s. 251 а п.), что «словацкий сельский
люд еще в XIX и XX веках украшал свои вышивки ренес-
сансным орнаментом, занесенным в Словакию господской
модой XVI и XVII столетий». В качестве примера стихов,
находящихся на грани между фольклором и поэзией как
искусством, можно привести относящиеся к тридцатым и
сороковым годам XIX века надписи на кладбище в Альб-
рехтицах близ г. Писек, сохраняющие вместе с силлабиче-
ской системой стихосложения всю поэтику барочной поэзии
XVII и XVIII веков, как об этом свидетельствует, например,
сравнение искусства гончара с актом божьего творения —
типичная тема не только барочной, но и всей средневековой
поэзии — или натуралистическое описание разлагающегося
от болезни тела в следующих строках:
Z^noh schromelych neprestalo shnile maso padati,
Az v nich bylo zretedlne hole^kosti vidSti,
Oblicej jf strupovina skoro cely potahla,
К rozmno&nf jejf b'dy i slepota pfitahla.
С ног охромевших отваливалось сгнившее мясо,
Пока явственно не стали видны белые кости,
74
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА. И ЦЕННОСТЬ
Лицо ее почти все покрылось струпьями,
В довершенье ее несчастья еще и слепота приплелась*.
Достаточно сравнить с этим отрывком описания из по-
длинных барочных текстов, например, ту цитату из «Песни
о смерти» Кониаша, которую приводит Я. Влчек34 («Dejiny
ceske literatury», II, 1, s. 56), чтобы стало ясно, что альб-
рехтицкие надписи действительно представляют собой пе-
режиток барочного поэтического канона в период, когда
возникал и печатался «Май» Махи, величайшее произве-
дение чешского романтизма. — В первых двух приведенных
нами примерах (чешский и словацкий фольклор) долговеч-
ность нормы объясняется тем, что эстетическая норма и
функция включены в свойственную фольклору (см. об этом
ниже) строгую систему всевозможных других норм и фун-
кций, в третьем же случае (кладбищенские надписи) объ-
яснение, очевидно, следует искать в косности поэтического
жанра — религиозной поэзии, которая в период возникно-
вения надписей была уже архаичной.
Мы привели из царства эстетических норм примеры на
самом деле бросающихся в глаза пережитков; такие случаи
относительно редки и возможны лишь при особых условиях.
Однако само по себе сосуществование норм разного «воз-
раста» для эстетической сферы в порядке вещей, и подобного
рода нормы часто находятся в непосредственном соседстве.
Так, например, если мы взглянем на современную чешскую
поэзию, то увидим в ней, кроме структуры, которую, грубо
говоря, можно назвать послевоенной (разумеется, учитывая,
что она опять-таки представляет собой конгломерат не-
скольких различных канонов, частично уже окаменевших),
и канон символистский, и канон люмировский, а кое-где
на периферии, например в стихах для юношества, даже
майовский канон35, т. е. одновременно четыре комплекса
норм.
Подобным же образом и в других видах искусства мы
могли бы в настоящее время обнаружить несколько канонов,
например в живописи, несомненно, все каноны от импрес-
сионизма до сюрреализма. Еще более убедительную карти-
ну, чем творческая практика в том или ином виде искусства,
дала бы статистика. Сосуществование разных норм имеет
место и вне искусства: так, например, общеизвестен факт,
* Датировка и цитата приводятся по публикации: RoSec R. Stare napisy
на nihrobnfch kaplicldch na hrbitove v Albrechticlch. Picek.
75
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
что предметы — носители эстетической функции (мебель,
одежда и т. д.) — в производстве и торговле различаются
не только по своему материалу и способу изготовления, но
и по тому, на какой вкус они рассчитаны.
Итак, в каждом коллективе существует одновременно
ряд различных эстетических канонов*. Мы знаем о них не
только на основе объективного опыта, о чем свидетельствуют
приведенные примеры, но и на основе субъективного опыта.
Подобно тому как каждый из нас способен использовать в
речи несколько различных образований одного и того же
языка, например, несколько социальных диалектов, нам
субъективно понятен целый ряд эстетических канонов —
ср. названные нами примеры из области поэзии, — хотя,
как правило, лишь один из них полностью адекватен нам
и составляет часть нашего личного вкуса. — Однако сосу-
ществование нескольких различных канонов в одном и том
же коллективе отнюдь не отличается спокойствием: каждый
из них проявляет тенденцию стать единственным, вытеснив
остальные; это вытекает из стремления эстетической нормы
к абсолютной обязательности, о чем шла речь выше. Осо-
бенно сильно проявляется агрессивность более молодых ка-
нонов по отношению к более старым. Разумеется, тем, что
эти каноны взаимоисключают друг друга, вся сфера иск-
лючительного постоянно приводится в движение. Со вза-
имной нетерпимостью различных канонов связано и то об-
стоятельство, на которое обращает наше внимание Ж. Тард
(«Les lois de 1’imitation». Paris, 1895, p. 375): эстетические
нормы, так же как и нравственные, часто имеют негативный
характер, т. е. формулируются как запреты.
Различные эстетические каноны, как мы показали, от-
личаются друг от друга своим «возрастом». Однако это
различие не только временное, но и качественное, ибо чем
* Ср. высказывание О. Гостинского в брошюре «О socializaci umenf».
Praha, 1903: «В народе — и тут нет отличия от слоев более состоятельных
и интеллигентных — господствует отнюдь не какой-либо единый вкус, а,
наоборот, величайшее вкусовое многообразие, и, следовательно, отношение
народа к искусству нельзя определить одной всеобъемлющей формулой;
достаточно только взглянуть на репертуар театров, на беллетристику, ко-
торую читают широчайшие круги, на торговлю картинами и картинками,
чтобы убедиться в несостоятельности такого доктринерства. В этой пестрой
смеси не только проявляется богатая шкала от самого дурного к самому
лучшему, но многочисленные исторические слои лежат друг на друге, и
то, что сейчас нравится разным людям, представляет в среднем художе-
ственное развитие на протяжении столетия с лишком».
76
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
старше канон, тем легче его понять, тем меньше он пред-
ставляет трудностей для усвоения. Поэтому можно говорить
о настоящей иерархии эстетических канонов, вершиной ко-
торой является самый молодой канон, применяемый наи-
менее механически и меньше других связанный с иными
разновидностями норм; чем ниже находится канон, тем он
старше, с тем большей механичностью он применяется и
тем сильнее заклинен между другими разновидностями норм
(об отношении эстетической нормы к другим нормам будет
сказано ниже). Напрашивается вывод, что иерархия эсте-
тических канонов находится в прямом отношении к иерар-
хии общественных слоев: самая молодая норма, занимающая
вершину, казалось бы, соответствует самому высокому об-
щественному слою и точно так же последующая градация
обеих иерархий параллельна, так что все более низким
слоям соответствуют все более старые каноны. В самых
грубых очертаниях как фундаментальная схема эта мысль
не лишена оснований, однако ее нельзя понимать догмати-
чески как закономерный прообраз действительности.
Прежде всего нельзя забывать, что для взаимоотношения
между общественной морфологией и эстетической нормой
важно не только членение общества на слои, т. е. верти-
кальное членение, но и членение горизонтальное, в соот-
ветствии, например, с различиями возраста, пола, профес-
сии*. Здесь могут проявиться все виды горизонтального
членения: например, принадлежность к различным поколе-
ниям может иметь следствием то обстоятельство, что пред-
ставители одного общественного слоя будут обладать раз-
личным вкусом и, наоборот, представители разных слоев,
принадлежащие к одному поколению, могут обладать сход-
ным вкусом. Естественно, что различия между вкусом по-
колений становятся очагом большинства эстетических ре-
волюций, в результате которых приобретают силу новые
каноны или происходит перемещение канона из одной со-
циальной среды в другую. Весьма обычное явление — раз-
личие между вкусом мужчин и женщин; при этом может
случиться, что иногда эстетическое влияние женщин носит
консервативный характер по сравнению с влиянием мужчин
(так, например, обстоит дело в фольклорной среде), а иной
* Разумеется, различия возраста и пола по своему происхождению
имеют биологический характер, но в обществе они приобретают характер
социальный; так, например, вопрос о принадлежности к тому или иному
поколению в социальном смысле не всегда решается физическим возрастом.
77
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
раз, наоборот, женщины являются носительницами прогрес-
сивного вкуса, — ср. исследование Л. Шюкинга о семье как
факторе, воздействовавшем на эволюцию вкуса в англий-
ской литературе XVIII века, исследование, где показывается,
как участие женщин способствовало возникновению сенти-
ментального романа (основываюсь на русском переводе этой
работы в кн.: «Социология литературного вкуса».
Л., 1928). — Не является, однако, безусловной и связь
между наиболее «молодым» вкусом и высшим слоем. Так,
например, в довоенной Австрии и особенно в довоенной
России ведущим общественным слоем была аристократия,
а носителем высокого искусства, диктовавшего обновление
эстетической нормы, был буржуазный слой.
При всем том связь между эстетической и общественной
иерархией неоспорима. Каждый общественный слой, а часто
и та или иная среда (например, деревня — город) обладает
собственным эстетическим каноном, являющимся одним из
самых характерных отличий этого слоя или среды. Если,
например, индивид переходит из более низкого слоя в более
высокий, он, как правило, стремится прежде всего обрести
хотя бы внешние признаки вкуса того слоя, к которому он
хочет приобщиться (изменение одежды, жилья, манеры по-
ведения и т. д. с эстетической стороны). Поскольку, однако,
изменение подлинного личного вкуса — дело крайне не-
легкое, этот спонтанный вкус, часто, впрочем, утаиваемый,
представляет собой один из самых надежных критериев,
позволяющих определить первоначальную общественную
принадлежность человека. — Всякий раз, когда в опреде-
ленном коллективе проявляется тенденция к перегруппи-
ровке в общественной иерархии, эта тенденция тем или
иным образом отражается и в иерархии вкусов. Так, на-
пример, в последние десятилетия XIX века интенсивное
развитие социалистических устремлений, направленных на
ликвидацию классового неравенства, сопровождалось раз-
витием художественного ремесла, организацией народных
театров, заботой о художественном воспитании масс, и все
это представляло собой целую программу действий. В первой
главе этой работы мы указали на тесную зависимость между
развитием машинной индустрии и оживлением художест-
венного ремесла, но тут существовала и связь с тенденциями
общественного развития, причем связь эта ощущалась со-
вершенно явственно. Еще инициатор движения за эстети-
ческую культуру Д. Рескин расценивал свои усилия как
78
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
попытку исправить общество (подъем общественной морали
и т. д.), его последователи У. Моррис и У. Крейн, уже при-
держивались социалистических убеждений. На II конгрессе
по художественному воспитанию Ст. Ветцольд произнес
речь, в которой мы находим слова: «Нация представляет
собой общество, и в своей духовной жизни она так раз-
дроблена и разделена, что отдельные ее слои едва понимают
друг друга». И, мечтая о новом объединении общества,
оратор возлагал большие надежды на художественное вос-
питание*. Даже такие пропагандисты художественного вос-
питания, которые не стоят на социалистической точке зре-
ния, склоняются к мнению, что искусство и эстетическая
культура в целом должны служить средством, цементиру-
ющим общество. Лангбен , автор труда «Rembrandt als
Erzieher», подобным путем хочет создать из немецкого кре-
стьянства, буржуазии и дворянства eine Adelspartei im
hoheren Sinne**. Рука об руку с попытками устранить или
хотя бы ослабить общественную иерархизацию идет, таким
образом, стремление к выравниванию вкуса, причем к вы-
равниванию на возможно более высоком уровне: самая мо-
лодая и, следовательно, самая высокая норма становится
нормой для всех***. Свое продолжение этот общественный
и одновременно эстетический процесс получает в начале
русской революций, когда художественный авангард соеди-
няется с авангардом социальным. Однако в позднейший
период социальных преобразований в России проявляется
стремление найти эстетический эквивалент бесклассового
общества путем выравнивания вкуса на среднем уровне;
симптомы этого стремления можно видеть, например, в
социалистическом реализме в литературе, представляющем
собой возврат к мало освеженному клише реалистического
романа, т. е. к канону более старому, уже в значительной
степени девальвированному, и в компромиссном классициз-
ме в архитектуре. Дело в том, что соотношение между
общественной организацией и сферой эстетических норм не
* Эта цитата и последующая (из Лангбена) взяты из сочинения: Richter
J. Die Entwicklung des kimsttheorischen Gedankens. Leipzig, 1909.
** партию благородных в высоком смысле слова (нем.)
♦♦♦В этой связи можно напомнить, что Л. Н. Толстой в трактате «Что
такое искусство?», и тоже с установкой на общественную эгализацию,
наоборот, требовал унификации эстетического канона путем устранения
как раз вершины эстетической иерархии, провозглашая необходимость
всеобщего приятия канона народного искусства.
79
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
является чем-то окаменевшим и однозначным, и потому
нельзя прямолинейно утверждать, будто определенной со-
циальной тенденции, например стремлению к выравнива-
нию классовых различий, всегда и везде соответствует по-
добная же реакция в эстетической сфере: иной раз пред-
принимается попытка выровнять каноны на самом высоком
уровне, иной же раз речь идет об общеобязательном при-
нятии среднего уровня, наконец, в третьем случае предла-
гается (см. сноску о Толстом) сделать обязательным самый
низкий — с точки зрения архаичности нормы — уровень.
Связь между общественной организацией и развитием
эстетической нормы, как явствует из всего сказанного, не-
опровержима, и схема взаимного параллелизма обеих иерар-
хий также не лишена оснований; она ведет к ошибкам
лишь в том случае, когда понимается как автоматическая
неизбежность, а не как основа для различных вариантов
развития. Старея и застывая, эстетические нормы обычно
опускаются и по лестнице общественной иерархии. Разу-
меется, процесс этот сложен, ибо ни один из общественных
слоев — под влиянием горизонтального членения — не
является внутренне гомогенной средой, и поэтому в каждом
слое, как правило» можно обнаружить несколько эстетиче-
ских канонов. Уже, например, сфера господствующего об-
щественного слоя чаще всего не совпадает целиком со сферой
действия самой молодой эстетической нормы, даже если
этот слой в самом деле служит источником данной эстети-
ческой нормы. Носители самой молодой эстетической нормы
(как творческие индивидуальности, так и публика) могут
быть представителями молодежи, находящейся в оппози-
ции — часто не только эстетической — к старшему поко-
лению, действительно господствующему и служащему об-
разцом для низших слоев. Иногда носителями авангардной
нормы бывают индивиды, соприкоснувшиеся с господству-
ющим слоем не в силу своего происхождения, а лишь в
результате воспитания и принадлежащие к низшим слоям,
таковы, например, в чешской поэзии Маха или несколько
десятилетий спустя Неруда и Галек*37. В обоих случаях —
идет ли речь о протестующей молодежи или представителях
* К вопросу о связи поэзии Махи с социальным происхождением поэта
см. нашу статью «PnspSyek k dneSm problematice basnick&io zjevu
Machova». — Listy pro umenf a kritiku, VI. — «Кладбищенские цветы»
содержат множество доказательств того, как происхождение Неруды, вы-
шедшего из низших социальных слоев, проявилось в качестве компонента
80
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
другого слоя — первоначально в самом господствующем
слое возникает сопротивление новой норме, и, только когда
это сопротивление ослабеет, новая норма в самом деле
может стать нормой господствующего слоя. Мы могли бы
перебрать так один за другим и остальные слои, рассмат-
ривая их в плане распространения эстетических канонов.
Везде обнаружилось бы множество осложнений. Едва ли
нам удалось бы когда-нибудь столкнуться с таким случаем,
чтобы связь между определенным эстетическим каноном и
определенной общественной группой была настолько тесной,
что этот канон был бы единственным в данной среде или,
наоборот, не выходил бы за пределы данной общественной
группы. Пример такого эстетического канона, выходящего
за границы породившей его среды, приведен в статье Р.
Якобсона и П. Богатырева «Die Folklore als eine besondere
Form des Schaffens» (In: Donum natalicium Schrijnen, 1929)38;
в русских образованных кругах XVI и XVII столетий сосу-
ществовали и высокая литература, и литературный фоль-
клор, непосредственным очагом распространения которого
была деревня. Но, несмотря на все эти сложности, схема,
согласно которой устаревающая эстетическая норма опу-
скается по ступеням эстетической и общественной иерархии,
сохраняет силу.
Однако в результате этой деградации норма не обесце-
нивается в полном смысле слова и бесповоротно, поскольку,
как правило, речь идет не о пассивном восприятии канона
более низким слоем, а о его активном преобразовании в
соответствии с эстетической традицией данной среды и всем
комплексом различных норм, в ней действующих. Часто
случается также, что канон, опустившийся до самого низа
и оказавшийся на периферии искусства и общества, нео-
жиданно бывает поднят на самый верх, в центр эстетиче-
ского развития и становится — разумеется, в измененном
аспекте — опять «молодой» и актуальной нормой. Особенно
часто это происходит в современном искусстве; примеры
приведены в статье «Диалектические противоречия в со-
также возмущение, которое вызвала эта книга. Интересные детали сви-
детельствующие лишь о запоздалом и постепенном срастании поэта с
господствующим слоем, содержит его переписка со Светлой39, опублико-
ванная А. Чермаковой-Слуковой (Praha, 1912); Неруда упрекает Светлую,
происходившую из буржуазной пражской семьи, что она ведет себя по
отношению к нему как hofdama, сама Светлая характеризовала себя как
♦гувернантка* поэта.
81
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
временном искусстве» («Listy pro umeni a kritiku», 1935).
В этом плане можно было бы говорить о круговороте эс-
тетических норм.
Есть, однако, еще один важный пункт, о котором не
следует забывать, пытаясь создать социологию эстетиче-
ской нормы. Это соотношение между эстетической и дру-
гими нормами. До сих пор в своих рассуждениях мы
поступали таким образом, будто эстетическая норма при-
ходит в соприкосновение с коллективом самостоятельно,
независимо от ее окружения, т. е. независимо от целого
комплекса различных видов норм, признаваемых в данном
коллективе в качестве критериев всевозможнейших цен-
ностей. Этот прием был избран лишь как методическое
ограничение, с тем чтобы упростить изложение. Но в
действительности между эстетической нормой и остальны-
ми нормами нет непроходимой стены. Их взаимную бли-
зость характеризует, например, то обстоятельство, что
эстетическая норма может превратиться в другую норму,
и наоборот. Так, нравственная норма, реализованная в
романе посредством противопоставления положительного
и отрицательного героев, превращается — как составная
часть поэтической структуры — в эстетическую норму и
становится со временем полнейшим клише, которое уже
совершенно не связано с живой нравственной ценностью
и может быть воспринято даже комически. В современной
функциональной архитектуре, отвергающей какие бы то
ни было эстетические нормы, практические нормы (на-
пример, гигиенические и т. п.) одновременно становятся,
хотя это происходит даже против воли архитектора, нор-
мами эстетическими, едва только они включаются в ар-
хитектонику здания. Можно привести и противополож-
ные примеры, когда эстетические нормы превращаются
в нормы внеэстетические; так, в поэтическом произве-
дении в силу эстетических причин может возникнуть
совершенно новое языковое явление (например, опреде-
ленное изменение порядка слов, определенное лексиче-
ские образование), а потом такое явление может войти
в непоэтический, коммуникативный язык и стать со-
ставной частью коммуникативной языковой нормы. Не-
которые инверсии Малларме со временем превратились
в стилистические средства непоэтической литературной
речи, как свидетельствует высказывание поэта Кокто4и
(«Le Secret professionnel»): «Стефан Малларме оказывает
82
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
сейчас влияние на стиль ежедневной прессы, хотя жур-
налисты и не подозревают этого»*.
Тесная связь между эстетической нормой и другими
нормами, естественно, позволяет включить ее в сферу норм.
Поэтому, анализируя взаимоотношение между эстетической
нормой и общественной организацией, нельзя упускать из
виду то обстоятельство, что здесь соприкасаются не Два
изолированных явления (т. е. эстетическая норма с опре-
деленной частью коллектива), а входят во взаимодействие
две системы: царство — или лучше структура — норм и
структура общества, в котором данные нормы составляют
содержание коллективного сознания. Способ, которым эс-
тетическая норма сопряжена с остальными нормами, вклю-
чена в их общую структуру, в значительной мере опреде-
ляет, таким образом» и ее отношение к общественным груп-
пам. При изучении социологии эстетической нормы важно
поставить два вопроса: во-первых, насколько тесна ее связь
с другими нормами и, во-вторых, какое положение — под-
чиненное или главенствующее — занимает она в комплексе
всех норм. Для различной социальной среды ответы на эти
вопросы будут разными. Разберем сначала первый из этих
вопросов — насколько тесна связь эстетической нормы с
остальными нормами — ив качестве примера сопоставим
два типа нормообразующих контекстов, соответствующих
двум разным типам социальной среды: с одной стороны,
возьмем контекст, действующий в общественном слое, ко-
торый в культурном отношении играет ведущую роль и
является создателем культурных ценностей и норм, с другой
стороны, контекст, действующий в среде, являющейся но-
сительницей фольклорной культуры. Под тем углом зрения,
который нас интересует, это два в самом деле противопо-
ложных типа среды.
Среда, в которой создаются нормы, по необходимости
предоставляет относительную свободу взаимосвязям между
ними, ибо эта свобода открывает простор для интенсивного
движения отдельных норм в процессе развития. Здесь
эстетическая норма легче всего добивается автономии, изо-
лирующей ее от остальных норм. С автономией эстети-
ческой нормы в этой среде связано и право художника,
* О переходе эстетической поэтической нормы во внеэстетическую язы-
ковую норму см. также статью Р. Якобсона «Со je poesie?» («Volne smery»,
XXX, s. 238).
83
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
в значительной мере признаваемое обществом, деформи-
ровать в сфере искусства и другие нормы, помимо эсте-
тической (например, нравственные), если они функцио-
нируют как составные части художественной структуры,
т. е. эстетически; поэтому так называемое бульварное ис-
кусство — будь то поэтическое или изобразительное —
охотно использует эстетическую функцию для маскировки
других функций, нетерпимых обществом. Естественно, что
при освобождении эстетической функции от тесной связи
с остальными функциями эстетическая норма развивается
быстро и резкими скачками. И напротив, в среде, которая
является носительницей действительно нетронутой фоль-
клорной культуры (какова, например, народная среда у
нас на Подкарпатской Руси), по данным современных
этнографических исследований, авторы которых исходят
из тезисов Леви-Брюля, Дюркгейма4Г и т. д. (ср., напри-
мер, труды русского этнографа П. Богатырева, основанные
как раз на материале Подкарпатской Руси), отдельные
виды норм прочно связаны и образуют единую структуру.
В результате такого тесного их соединения эстетическая
норма в фольклорной среде значительно менее изменчива,
чем в иных типах среды, и часто удерживается без су-г
щественных изменений на протяжении столетий. Некото^
рые этнографы (школа Наумана42) даже выдвигали вслед-
ствие этого преувеличенный тезис, будто «народ не про-
изводит, а только воспроизводит». Применительно к
эстетической норме здесь правильно подмечено, что фоль-
клорная среда сама не создает свою норму, а воспринимает
ее из эстетической сферы — в первую очередь, разумеется,
из искусства господствующего класса. Поэтому народному
искусству нельзя отказать в творческом начале. Более
того, современная этнография показала, что различие меж-
ду живым фольклором и индустриализированным произ-
водством фольклорных изделий (промышленной имитацией
народного искусства) заключается как раз в том, что
индустриальная продукция схематизирована, тогда как на-
стоящее народное творчество (например, раскрашенные
пасхальные яйца, вышивки) бесконечно разнообразно и
изобилует оттенками. Однако это многообразие имеет ха-
рактер всего лишь вариантов нормы, а не нарушения ее
в процессе развития. Неподвижность эстетической нормы
в фольклоре вызвана, как уже сказано, включенностью
ее в систему: в фольклорной среде нормы так прочно
84
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
взаимно соединены, что мешают друг другу развиваться*.
Этим фольклорная среда резко отличается от иных типов
среды, особенно от той, в которой создаются культурные
нормы и ценности и о которой была речь выше. Ясно,
что это различие имеет существенное значение и для
социальной характеристики двух указанных общественных
образований и что проблема взаимосцепления разных ви-
дов норм важна и для социологии эстетической нормы.
Однако мы назвали выше еще один вопрос, важный для
социологической оценки отношения между эстетической
нормой и остальными нормами. Это вопрос о том, проявляет
ли эстетическая норма тенденцию занять господствующее
положение по отношению к другим нормам или, наоборот,
склонность играть подчиненную роль в системе норм.
И здесь мы сопоставим в качестве примера две разных
среды — опять-таки среду ведущую в культурном отноше-
нии (так же как в предыдущем примере) со средой народной,
однако на этот раз нефольклорной, а именно с городской
народной средой, выкристаллизовавшейся у нас с развитием
городов, главным образом больших, в первой половине про-
шлого века. С точки зрения связи разных видов норм обе
эти среды существенным образом не отличаются друг от
друга: в обоих типах среды связь эта значительно более
свободна, чем в фольклоре. Зато между ними есть различие
в том, какое место занимает эстетическа^ норма в общей
иерархии норм. В среде ведущей в культурном отношении —
по крайней мере, современной, известной нам по собствен-
ному опыту — эстетическая норма легко добивается гос-
подства над остальным нормами; ср. волны увлечения ис-
кусством для искусства, которые, начиная с прошлого сто-
летия, настойчиво вновь и вновь возникают в различнейших
художественных направлениях (например, во французской
литературе реалистического периода у Флобера и вскоре
после этого вновь у символистов), и параллельные волны
панэстетизма вне искусства. Речь идет, разумеется, лишь
о тенденции к господству эстетической функции, а ни в
коей мере не о реальном и постоянном господстве; время
♦ Ср. статью П. Богатырева «Pn'spSvek k struktumi etnografii» («Slovenska
miscellanea». Bratislava, 1931), где на примерах показано, что «при этно-
графических исследованиях мы сталкиваемся с фактами, имеющими не-
сколько функций, причем иногда эти разные функции столь тесно связаны
между собой, что мы не можем точно установить, какая из них в данном
случае превалирует».
85
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
от времени, наоборот, против преобладания эстетической
функции поднимается протест, который, однако, как раз
своей интенсивностью свидетельствует о силе тенденции,
вызывающей такое противодействие. В народных слоях,
напротив, над эстетической функцией и нормой, как пра-
вило, преобладают иные функции и нормы, причем и в
таких творениях» которые можно считать искусством: вы-
сшей нормой «самого скромного искусства» (термин Й. Ча-
пека) не является эстетическая норма. Сравнивая изобра-
зительное искусство подобного рода с высоким искусством,
Й. Чапек справедливо писал в статье «Художники из народа»
(«Nejskromnejsi umeni»): «Великие статуи и картины вызы-
вают в нас восхищение, суверенно выражая красоту и мощь
мира и жизни. Самое скромное искусство, о котором я хочу
говорить, тоже обращается к вам: оно хочет наглядно вам
продемонстрировать вещи полезные, нужные человеку; оно
проникнуто уважением к труду и к жизни и находит в них
закономерности и радости; оно не ставит высоких целей,
но проявляет свою скромность чисто и трогательно, а это
немалая заслуга. Оно хочет быть всего лишь посредником
между предметами повседневного обихода и человеком, но
его речь, пусть бедная и непритязательная, никогда не
бывает лишена редкостного очарования и тихой страстности,
она естественна и правдива». Здесь явственно сказано, что
в народном нефольклорном искусстве над эстетической нор-
мой и функцией преобладают иные функции и нормы,
прежде всего утилитарные («наглядно продемонстрировать
вещи полезные»), а в какой-то мере и эмоциональные («чи-
сто и трогательно»).
Наибольшего преобладания над эстетическим началом
эмоциональность достигает в народной городской лирике:
«Мария поет не о том, что ее посватал Пепичек и что года
не пройдет, как они сыграют свадьбу, а о том, что сине-
глазый Пепичек ухаживает за другой. Анна, скребя и моя
пол, заливается во весь голос не о том, что ей хочется
пойти на прогулку в Стромовку , а о том, как ее тянет
к одной только темной могиле... По сути дела, Мария
обычно вовсе не склонна к глубокой меланхолии; наоборот,
скорее можно было бы сказать, что это балаболка и хохо-
тунья. Но что поделаешь, если Мария горит желанием
вознестись в высшие сферы (и, в конце концов, разве не
самая серьезная задача поэзии и музыки — помочь ей в
этом?), она возносится в область грустных и безутешных
86
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
чувств; ничто не позволит ей почувствовать себя такой
возвышенной, как близкая перспектива лежать в гробу с
венком в волосах» (Сарек К. Pisne lidu prazkeho. — В сб.:
«Marsyas»44), Возбуждение чувств — отнюдь не как непос-
редственная реакция на действительность, а как чистая
функция произведения, т. е. исполняемой песни, домини-
рует, таким образом, в городской народной поэзии, и эмо-
циональная норма преобладает здесь над эстетической: пес-
ня имеет тем большую ценность, чем она трогательнее.
Для различия между иерархией норм в народной и высокой
поэзии характерна метаморфоза, которую претерпевает
жанр городской народной песни, едва только он проникает
в искусственную поэзию: эмоциональная норма в результате
обрисованного выше оборота дел сразу же превращается в
эстетическую (ср. нашу статью о Витезславе Галеке в жур-
нале «Slovo a slovesnost». 1935, 1). Таким образом, преоб-
ладание эстетической нормы и ее подчиненность находят
социальное соответствие в различии между общественным
слоем, являющимся прямым носителем изменений в области
культуры, и народной городской средой.
Мы рассмотрели в главных чертах социологию эстети-
ческой нормы. Оказалось, что социологический подход в
проблеме эстетической нормы не просто один из возможных
или даже второстепенных подходов. Наряду с гносеологи-
ческим аспектом он представляет собой необходимый эле-
мент исследования, поскольку такой подход позволяет под-
робно проследить диалектическое противоречие между су-
ществованием множества изменчивых эстетических норм и
претензий эстетической нормы на неизменную общеобяза-
тельность. Мы показали, далее, что эстетические нормы,
источником которых служит искусство общественного слоя,
являющегося носителем изменений в области культуры,
постоянно обновляются: при этом более «старые» нормы,
как правило, опускаются по лестнице общественной иерар-
хии, а потом, опустившись на самую низкую ступень, часто
неожиданным скачком вновь поднимаются и находят свое
место в искусстве слоя, ведущего в культурном отношении.
Разумеется, это лишь общая схема, в реальном развитии
усложняемая, с одной стороны, влиянием горизонтального
общественного членения, с другой — изменчивостью взаи-
моотношения между эстетической нормой и остальными
нормами, изменчивостью, затрагивающей степень взаимного
сцепления разного вида норм и их иерархизацию. И сама
87
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
общая схема и в еще большей степени отступления от нее
подтверждают, что эстетическую норму нужно понимать не
как априорное правило, которое с точностью измерительного
механизма определяло бы оптимальные условия эстетиче-
ского наслаждения, а как живую энергию, которая при
всем многообразии своих проявлений — и даже более того,
как раз с помощью этого многообразия — организует сферу
эстетических факторов и направляет ее развитие. С другой
стороны, хотя возможность существования всеобщей и
априорно действующей эстетической нормы оказалась ил-
люзорной, поскольку основные, антропологически обуслов-
ленные принципы ритма, симметрии и т. д., несмотря на
свое большое значение для гносеологии эстетической нормы,
не являются идеальными эстетическими нормами, стало
ясно, что эстетическая норма в самом деле существует и
воздействует и что из признания ее изменчивости никак
не вытекает отрицание ее важности или даже самого ее
существования.
III
Вслед за эстетической функцией и нормой дошла очередь
и до эстетической ценности. На первый взгляд могло бы
казаться, что проблематика эстетической ценности исчер-
пана рассуждениями об эстетической функции, силе, кото-
рая создает ценность, и об эстетической норме, правиле,
служащем ее мерилом. Но уже в двух предыдущих главах
мы показали: 1) что сфера эстетической функции шире,
чем сфера эстетической ценности в собственном смысле
слова, ибо в тех случаях, когда эстетическая функция только
сопутствует другой функции, вопрос об эстетической цен-
ности также становится лишь второстепенным при всяком
суждении о данном предмете или действии; 2) что следо-
вание норме не представляет собой необходимого условия
для наличия эстетической ценности и особенно как раз там,
где эта ценность преобладает над остальными, т. е. в ис-
кусстве. Из этого вытекает, что искусство, будучи приви-
легированной областью эстетических явлений, есть в то же
время и непосредственная сфера эстетической ценности.
Между тем как вне искусства ценность подчинена норме,
здесь норма подчинена ценности: вне искусства следование
норме синонимично ценности; в искусстве норма часто на-
рушается, лишь изредка ей следуют неукоснительно, однако
88
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
такое следование норме — средство, а не цель. Следование
норме вызывает эстетическое наслаждение; эстетическая
ценность может, вызывая наслаждение, вместе с тем в
значительной мере вызывать и неудовольствие, оставаясь
при этом неразделимым целым; ср.: Schelling F. W. J. von.
Schriften zur Philosophic der Kunst. Leipzig, 1911, S. 7: In
der wahren Kunst gibt es keine einzelne Schonheit, nur das
Ganze ist schon*. Применение эстетической нормы подчи-
няет индивидуальный случай общему правилу и касается
одной стороны предмета, его эстетической функции, которая
может и не быть доминирующей. Эстетическая оценка,
например, дает суждение о предмете во всей его сложности,
ибо все внеэстетические функции и ценности какого-либо
явления тоже воздействуют как элементы эстетической цен-
ности (ср. нашу статью «Поэтическое произведение как
комплекс ценностей». — «Jfzdm rad literatury a poesie»);
поэтому эстетическая оценка воспринимает произведение
как замкнутое целое (единство) и выступает в качестве
индивидуализирующего акта: эстетическая ценность пред-
стает в искусстве как единственная и неповторимая.
Таким образом, проблематика эстетической ценности
должна быть рассмотрена особо. Основной вопрос касается
здесь силы действия и границ эстетической оценки. Если
мы возьмем его в качестве исходной точки, то перед нами
в одинаковой степени будет открыт путь в две разные
стороны: и к исследованию изменчивости конкретного акта
оценки, и к поискам гносеологических предпосылок объек-
тивной (т. е. независимой от воспринимающего) значимости
эстетического суждения.
В первую очередь обратим внимание на изменчивость
актуальной эстетической оценки. Мы сразу же целиком
оказываемся в области социологии искусства. Прежде всего
художественное произведение ни в коей мере не является
постоянной величиной: в результате любого перемещения
во времени, пространстве или от одного типа социальной
среды к другому изменяется актуальная художественная
традиция, через призму которой воспринимается произве-
дение; под влиянием этих перемещений изменяется также
и эстетический объект, который в сознании членов данного
коллектива соответствует материальному артефакту, со-
* В истинном искусстве нет никаких отдельных красот, лишь целое
прекрасно (нем.).
89
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
зданному художником. И пусть, например, некое произве-
дение получит одинаково положительную оценку в две
отдаленные друг от друга эпохи, предметом оценки в каждом
случае будет иной эстетический объект и, следовательно,
в известном смысле слова, иное произведение. Естественно,
что при этих сдвигах эстетического объекта часто изменяется
и эстетическая ценность. В истории искусства очень часто
можно наблюдать, как некое произведение превращается
со временем из положительной ценности в отрицательную,
из высокой, исключительной ценности в посредственную
или наоборот. Очень часто встречается такая схема: нео-
жиданный взлет, потом падение и опять взлет, но нередко
уже на иную ступень эстетических, ценностей (ср. нашу
монографию «Polakova Vznesenost pnrody». — Sbornfk filol.,
6. ak. Praha, X, 1934). Некоторые художественные произ-
ведения, напротив, долгое время удерживаются на высоком
уровне: эти «вечные» ценности в поэзии таковы: например,
начиная приблизительно с Ренессанса, эпические поэмы
Гомера, в драматургии — произведения Шекспира или
Мольера, в живописи — произведения Рафаэля, Рубенса.
Хотя каждая эпоха видит такие произведения по-своему
(осязаемое, например, доказательство этого — эволюция
сценических интерпретаций пьес Шекспира), тем не менее
всякий раз или почти всякий раз они занимают самые
высокие места на шкале эстетических ценностей. Было бы,
однако, ошибкой видеть в этом неизменность. Прежде всего
весьма вероятно, что при ближайшем рассмотрении и в таких
случаях выявятся отклонения, нередко даже значительные;
во-вторых, само понятие высочайшей эстетической ценности
неоднозначно: существует различие между восприятием не-
коего произведения как ценности «живой», или «историче-
ской», или «популярной» и т. д. Постепенно сменяя эти
оттенки либо в отдельных случаях объединяя несколько по-
добных оттенков одновременно*, художественное произведе-
ние может оставаться в числе «вечных» ценностей, причем
это будет не состояние, а — точно так же как у произведений,
меняющих свое положение на шкале ценностей — процесс.
Таким образом, эстетическая ценность изменчива на
всех своих ступенях, пассивное спокойствие здесь невоз-
* Так, например, «Май» Махи сейчас, когда мы отмечаем столетнюю
годовщину смерти поэта, представляет собой примечательное наслоение,
вероятно, всех названных выше оттенков ценности.
90
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
можно: «вечные» ценности изменяются и сменяют друг
друга лишь медленнее и менее заметно, чем ценности,
стоящие на более низких ступенях эстетической иерархии.
Но и сам идеал неизменного постоянства эстетической цен-
ности, независимой от внешних влияний, не выступает
одинаково во все эпохи и при всех обстоятельствах в ка-
честве идеала высшего и единственно желательного. Более
того, наряду с искусством, создаваемым с расчетом на мак-
симальное по длительности существование и воздействие,
всегда существует искусство, уже по замыслу создателя
предназначенное быть лишь преходящей ценностью и тво-
римое на «потребу дня». В поэтическом искусстве, например,
таковы стихотворения «на случай» или частные криптадии,
создаваемые художником для самого узкого кружка друзей,
произведения актуальные, тематически зависимые от зна-
ния некоторых обстоятельств, известных лишь определенной
эпохе или только некоему ограниченному кругу. В изобра-
зительном искусстве притязания какой-либо художествен-
ной ценности на долговечность часто проявляются в выборе
материала: так, например, восковая фигура в момент воз-
никновения явно притязает на меньшую долговечность, чем
мраморная или бронзовая статуи, мозаика создается в рас-
чете на долыпую сохранность произведения и его ценности,
чем акварель, и т. д. Итак, искусство «на потребу дня»
является постоянной противоположностью «долговечного»
искусства; однако существуют периоды, когда художники
отдают предпочтение интенсивному краткому воздействию
произведения перед постепенно нарастающим постоянным
воздействием. Наглядным доказательством может служить
современное искусство. Еще в период символизма выиски-
вались ценности как можно более долговечные, независимые
от изменений вкуса и случайностей восприятия. О недося-
гаемость «абсолютного» произведения разбиваются все уси-
лия Малларме; наш Бржезина45 время от времени выска-
зывает убеждение, что можно найти «наивысшую стиховую
(т. е. метрическую) форму, столь отточенную, что уже нель-
зя будет вообще создать ничего «более совершенного» (см.
наше предисловие к подготовленному Гартлем изданию
«Псалмов» Главачека — Hlavacek KareL Zalmy. Praha, 1934,
s. 12). Сравним с этим высказывание современного пред-
ставителя искусства, А. Бретона46 («Point du jour»*. Paris,
♦ «Рассвет» (франц.).
91
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
р. 200): «Пикассо в моих глазах только потому так велик,
что он постоянно был в обороне по отношению к фактам
внешнего мира, включая и те, которые сам создал; только
потому, что эти творения он всегда считал всего лишь
моментами связи между собой и миром. Преходящесть и
эфемерность, вопреки тому, что обычно бывает радостью и
гордостью художников, привлекали его сами по себе. За
двадцать лет, которые пронеслись над всем сделанным им,
уже пожелтели обрывки газет (вклеенные в картины), чер-
ная типографская краска которых, когда-то свежая, в не-
малой степени способствовала дерзости этих великолепных
papiers colies*, созданных в 1913 году. Свет обесцветил, а
влажность местами коварно собрала в складки большие,
закрашенные синим и розовым вырезки. И это хорошо.
Поразительные гитары, склеенные из жалких дощечек, —
эти настоящие мосты случайности, всегда создаваемые за-
ново, день ото дня, над потоком пения, не выдержали
бешеного бега певца. Но все происходит так, как будто
Пикассо заранее принимал в расчет это обеднение, это
ослабление, даже распад. Как будто он сам хотел обречь
себя на поражение в борьбе, исход которой не вызывает
сомнения, но которую, несмотря ни на что, ведут против
стихии творения рук человеческих, чтобы этой уступчиво-
стью приобрести в самом процессе их уничтожения нечто
драгоценное в силу своей крайней реальности».
Итак, изменчивость эстетической ценности — это не
какое-то второстепенное свойство, вытекающее из «несо-
вершенства» художественного творчества или восприятия,
из человеческой неспособности достичь идеала, а, напротив,
свойство, относящееся к самому существу эстетической цен-
ности, которая есть процесс, а отнюдь не состояние,
energia**, а отнюдь не ergon***47. Поэтому и вне зависи-
мости от изменений во времени и пространстве эстетическая
ценность выглядит как многогранный и сложный процесс,
проявляющийся, например, в противоречивых отзывах кри-
тиков о вновь созданных произведениях, в непостоянстве
пристрастий книжного и художественного рынка и т. д.; и
в этом отношении наглядным примером служит современная
эпоха с быстрыми сменами художественных пристрастий,
♦ буквально: «склееные бумажки» (франц.) (коллажи).
♦♦ действие (грен.).
♦♦♦ дело (греч.).
92
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
что сказывается, например, в стремительном обесценивании
поэтических произведений на книжном рынке, в быстром
возникновении и падении ценностей на рынке изобрази-
тельного искусства и т. д. Все это, разумеется, лишь уско-
ренная киносъемка процессов, совершающихся в любую
эпоху. Причины этой динамики искусства, как показал
Карел Тейге в книге «Jarmark um?ni» (Praha, 1936), соци-
альные: ослабление связи между художником и потребите-
лем (заказчиком), между искусством и обществом. Однако
и в предшествующие эпохи процесс формирования эстети-
ческой ценности всегда проходил в живом контакте с ди-
намикой общественных отношений, поскольку он был пред-
определен ею и вместе с тем воздействовал на нее.
Впрочем, общество создает институты и органы, с по-
мощью которых оказывает воздействие на эстетическую
ценность, регулируя оценку художественных произведений.
Таковы, например, критика, профессиональная специали-
зация, художественное воспитание (включая в него худо-
жественное образование, а также институты, ставящие своей
целью воспитание пассивного восприятия), рынок художе-
ственных произведений со всеми средствами пропаганды и
рекламы,анкеты, выявляющие наиболее ценные произведе-
ния, художественные выставки, музеи, общественные биб-
лиотеки, конкурсы, премии, академии, часто даже цензура.
Каждый из этих институтов имеет свои специфические
задачи и может иметь иные цели помимо воздействия на
состояние и развитие эстетических оценок (например, музеи
накапливают материал для научного изучения и т. д.), и
такая иная цель часто может быть главной (например,
цензура направляет внеэстетические функции произведения
в интересах государства и господствующего общественного
и нравственного порядка); однако все они вносят свою долю
в то давление, которое оказывается на эстетическую цен-
ность, и при этом выражают определенные общественные
тенденции. Так, например, суждение критика часто интер-
претируется как поиск объективных эстетических ценно-
стей, или как проявление его личного отношения к произ-
ведению, или как популяризация новых художественных
произведений, трудно понятных для непосвященного, или
как пропаганда определенного художественного направле-
ния. Все это, несомненно, элементы всякой критической
деятельности, из которых в каждом конкретном случае
какой-то всегда преобладает, но прежде всего критик —
93
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
это выразитель взглядов или, наоборот, противник, а порой
и отщепенец определенного общественного образования
(класса, среды и т. д.). Арне Новак48 убедительно показал
в своей лекции об истории чешской критики (лекция эта
была прочитана в Пражском лингвистическом кружке в
апреле 1936 г.),), что, например, отрицательное суждение
Хмелевского , о «Мае» Махи не есть лишь случайное
проявление личной антипатии критика к произведению Ма-
хи, а вместе с тем и главным образом — в контексте
остальной критической деятельности Хмелевского и его те-
оретических воззрений на задачи критики — следствие
желания тогдашней узкой литературной среды остановить
приток непривычных эстетических ценностей, которые раз-
лагающе подействовали бы на ее вкус и идеологию; харак-
терно, что и на самом деле почти в тот же момент или
немного позднее круг читающей публики расширяется, при-
чем и в отношении ее социальной принадлежности, что
также продемонстрировал в упомянутой лекции Арне Новак.
Процесс эстетической оценки связан, таким образом, с
общественным развитием, и его изучение составляет главу
социологии искусства. Нельзя, впрочем, забывать о факте,
отмеченном уже в предыдущей главе: в определенном об-
ществе существует не один слой искусства поэтического,
живописного и т. д., а всегда несколько слоев (например,
искусство авангардное, официальное, бульварное, искусство
городских низов и т. д.) и, следовательно, несколько шкал
эстетической ценности. Каждое из этих образований живет
своей жизнью, хотя при этом они порой перекрещиваются
и взаимопроникают. Ценность, утратившая силу в каком-
нибудь из них, может, опускаясь или поднимаясь, перейти
в другое. Поскольку это расслоение соответствует, хотя и
не всегда прямо и точно, расслоению социальному, много-
слойность искусства также способствует сложному процессу
создания и пересоздания эстетических ценностей.
Наконец, нужно добавить, что коллективный характер
и коллективная обязательность эстетических оценок отра-
жаются и в индивидуальных эстетических суждениях. До-
казательства этого многочисленны: например, читатели, как
было установлено с помощью издательских анкет, при по-
купке книг чаще всего принимают решение не на основе
суждений профессиональной критики, которые им кажутся
слишком сильно окрашенными индивидуальным вкусом кри-
тиков, а на основе рекомендаций друзей, членов той же
94
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
читательской среды, к которой принадлежит покупающий (см.
Schilcking L. Die Soziologie der literarischen Geschmacksbildung.
Leipzig; Berlin, 1931, S. 51). Известей также авторитет еже-
годных читательских анкет. Коллекционеры произведений
изобразительного искусства часто выбирают то или иное
произведение лишь потому, что имя автора является пору-
чительством общепризнанной ценности; отсюда стремление
торговцев создавать такие имена-ценности (Teige К. Jannark
шпеш, s. 28 а п.) и важная роль знатоков-специалистов, в
задачу которых входит определение авторства произведений
и оценка их подлинности (Friedlander М. J. Der Kunstkenner,
Berlin, 1920).
Эстетическая ценность, таким образом, предстает перед
нами как процесс, определяемый, с одной стороны, имма-
нентным развитием самой художественной структуры (ср.
актуальную традицию, на фоне которой оценивается каждое
произведение), с другой — движением и сдвигами в струк-
туре общественного бытия. То, что художественное произ-
ведение оказывается на определенной ступени иерархии
эстетических ценностей и остается на ней, как и то, что
в иных случаях произведение меняет свое место на шкале
эстетических ценностей или даже исключается из этой шка-
лы, зависит от факторов, которые не сводятся лишь к
свойствам самого материального творения художника, хотя
только оно подлинно существует, переходит из эпохи в
эпоху, перемещается в пространстве, попадает из одной
общественной среды в другую. Здесь нельзя говорить о
релятивности, ибо для ценителя, находящегося в опреде-
ленной точке времени и пространства, включенного в оп-
ределенную социальную среду, такая-то и такая-то ценность
данного произведения представляется величиной необходи-
мой и постоянной.
Однако разрешен ли исчерпывающим образом, даже бо-
лее того — снят ли тем самым вопрос об объективности
эстетической ценности, спаянной с материальным произве-
дением? Лишается ли проблема, которая на протяжении
столетий решалась то метафизически, то ссылками на ан-
тропологическое строение человека, то, наконец, понима-
нием художественного произведения как уникального и по-
тому окончательного выражения личности, всей своей зна-
чимости и настоятельности? Существуют, несмотря на
общепризнанную изменчивость эстетической ценности, не-
которые факты, свидетельствующие о том, что этот вопрос
95
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
не утратил важности. Как объяснить, например, почему из
произведений одного и того же художественного направле-
ния и даже того же художника, т. е. из числа творений,
возникших примерно при одинаковом состоянии художест-
венной структуры и при одинаковых социальных условиях,
одни столь определенно, что это кажется почти самооче-
видным, представляются более ценными, а другие менее
ценными? Вполне очевидно также, что пропасть между
восторженно положительной и резко отрицательной оценкой
не так велика, как между обоими этими видами оценок и
равнодушием; нередко даже случается, что при оценке од-
ного и того же произведения мы одновременно сталкиваемся
с одобрением и резким отрицанием. Не может ли тот факт,
что мы сосредоточиваем наше одобрительное или неодоб-
рительное внимание на конкретном произведении, опять-
таки служить признаком наличия в этом произведении хотя
бы в некоторых случаях объективно более высокой эстети-
ческой ценности? Как далее понять — если не допускать
существования объективной эстетической ценности — то
обстоятельство, что определенное художественное произве-
дение может признаваться положительной эстетической
ценностью и такими критиками, которые в остальном от-
носятся к нему резко отрицательно, как это было, например,
с чешской критикой после выхода «Мая» Махи? История
искусства, хотя его методология стремится по возможности
свести процесс оценки к моментам, исторически объяснимым
(ср. нашу книгу «Polakova Vznesenost pnrody», s. 6 a n.),
тем не менее постоянно наталкивается на проблему цен-
ности, свойственной определенному произведению незави-
симо от его исторических аспектов; можно даже сказать,
что существование этой проблемы подтверждают именно
постоянно возобновляющиеся попытки ограничить ее вли-
яние на историческое изучение. Нужно, наконец, напом-
нить, что и всякая борьба за новую эстетическую ценность
в искусстве, так же как всякое контрнаступление против
нее, организуется во имя объективной и постоянной цен-
ности; впрочем, только признав наличие объективной эс-
тетической ценности, можно объяснить, почему «великий
художник не в силах допустить мысли, что жизнь могла
быть создана и красота оформлена иными средствами, чем
те, которые выбрал он сам» (Wilde. The Critic as Artist).
Итак, обойти проблему объективной, независимой от
внешних влияний эстетической ценности нельзя. Нужно,
96
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
однако, подготовить себе подступы к ее решению тщатель-
ным анализом понятия «объективная эстетическая цен-
ность». Для нас нет сомнения в том, что искусство, созданное
человеком и для человека, не способно создавать ценностей,
от человека независимых (что касается проявлений эсте-
тической ценности вне искусства, то в предыдущей главе
было показано, что и здесь не может быть речи об эсте-
тическом воздействии как постоянном свойстве вещей).
Путь, который, например, избрала схоластическая филосо-
фия (ср. Maritain J. Art et scolastique. Paris, 1927, p; 43
sq.) и который находит отголосок, например, еще у Уайльда,
путь, основывающийся на различии между неизменным
идеалом и его изменчивыми реализациями, может казаться
пригодным лишь в том случае, если вытекает из целостной
метафизической системы; вне ее он имеет сомнительную
цену вынужденного выхода. Если мы не хотим допускать
неподобающего смешения гносеологии с метафизикой, нам
остается обратить свою мысль — подобно тому как мы это
сделали при анализе эстетической нормы — к антрополо-
гической организации, свойственной всем людям и прояв-
ляющей себя в качестве основы неизменного отношения
между человеком и произведением, отношения, которое,
будучи спроецировано в материальном явлении, выступило
бы как объективная эстетическая ценность. Но этому пре-
пятствует то обстоятельство, что художественное произве-
дение как целое (ибо лишь целое представляет собой эс-
тетическую ценность) есть по сути своей знак, обращенный
к человеку как к члену организованного коллектива, а не
только как к антропологической константе. Правильно на-
писал об искусстве Уайльд («The Critic as Artist»): «Значение
всякого прекрасного творения в равной мере зависит и от
того, кто его создал, и от того, кто его воспринимает.
Воспринимающий даже в большей степени сообщает пре-
красному предмету тысячи его значений, делает его в наших
глазах чудом и устанавливает связь между ним и эпохой,
благодаря чему он становится неотъемлемой составной ча-
стью нашей жизни».
Таким образом, даже пытаясь установить гносеологиче-
ские возможности и предпосылки существования объектив-
ной эстетической ценности, нельзя обойти социальный ха-
рактер искусства. Разумеется, речь идет уже не об иссле-
довании отношений между конкретным художественным
произведением и конкретным коллективом, т. е. не о со-
4—888
97
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
циологии искусства, а об определенной общей закономер-
ности, характеризующей отношение между художественным
произведением как эстетической ценностью и любым кол-
лективом или любым членом какого угодно коллектива.
Результатом подобных рассуждений могут быть лишь ка-
кие-то общие контуры проблемы, получающие в каждом
конкретном случае иное наполнение и потому исключающие
всякую попытку выводить специальные критические пра-
вила. Впрочем, очевидно, что при изменчивости оценок
каждое конкретное обоснование эстетического суждения
имеет силу лишь применительно к отношению между про-
изведением и тем обществом или тем общественным обра-
зованием, с позиций которого высказывается это суждение.
С хронологически и социально ограниченной точки зрения
такая имеющая всеобщее значение эстетическая ценность
может только инстинктивно угадываться, и лишь сопостав-
лением суждений, относящихся ко многим периодам или
многим разновидностям социальной среды, мы способны
косвенным образом установить ее. Впрочем, гораздо более
важное значение, чем определение этих общих правил,
имеет принципиальный вопрос, является ли объективная
эстетическая ценность реальностью или обманчивой кажи-
мостью.Естественной отправной точкой для решения этого
вопроса нам представляется знаковый (семиологическийои)
характер искусства, о котором мы уже упоминали выше.
Прежде всего нужно коротко коснуться сущности знака
вообще. Общепринятое определение гласит: знак — это
нечто, заменяющее что-то иное и на него указывающее.
С какой целью знак используется? Самая характерная его
функция — служить средством взаимопонимания между
индивидами как членами одного и того же коллектива;
такова в особенности задача языка, наиболее развитой и
полной системы знаков. Нужно, разумеется, отметить, что
знак может иметь и другие функции, помимо коммуника-
тивной; так, например, деньги суть знаки, заменяющие
иные факты действительности в функции экономических
ценностей, их назначение не передача информации, а об-
легчение товарообмена . Тем не менее сфера коммуника-
тивных знаков безгранична: любое явление действительно-
сти может стать коммуникативным знаком. И к этой сфере
относится также искусство, хотя оно и отличается от ка-
кого-либо иного коммуникативного знака.
Стремясь установить то специфическое отличие, которое
98
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
характеризует искусство как разновидность знака, обратим
внимание прежде всего на те виды искусства, где комму-
никативная функция проявляется наиболее явственно, ибо
именно они дают возможность сравнения. Это поэтическое
искусство и живопись. Поэтическое произведение и произ-
ведение живописи, как правило, содержат сообщение; хотя
в некоторые периоды их развития коммуникативная фун-
кция бывает сведена к нулю (например, абсолютная живо-
пись, супрематизм, поэзия на искусственном языке), это
ее ослабление воспринимается отнюдь не как нормальное
состояние, а как его отрицание. В точности так же совре-
менная лингвистика говорит о «нулевом» окончании, а от-
нюдь не об отсутствии окончания в тех случаях, когда
грамматическая форма характеризуется недостатком окон-
чания по сравнению с формами, им обладающими. В само
понятие грамматической формы входит окончание, и в
само понятие живописи и поэтического искусства входит
сообщение, т. е. тема (содержание). Живопись и поэзия в
широком смысле слова — искусства тематические. Является
ли, однако, сообщение, содержащееся в поэтическом про-
изведении или произведении живописи, настоящим сооб-
щением или оно от такового чем-то отличается? И если да,
то чем? Тем, что. эстетическая функция, преобладающая
над коммуникативной, изменила саму сущность сообщения.
Хотя эпическое поэтическое произведение — точно так
же как чисто коммуникативное высказывание — будет по-
вествовать о событии, которое имело место там-то и там-то,
тогда-то и тогда-то, при тех-то и тех-то обстоятельствах,
с теми-то и теми-то участниками, однако различие будет
заключаться в том, что если мы воспринимаем определенное
высказывание как сообщение, для нас будет важно, как это
сообщение соотносится с действительностью, о которой по-
вествуется. А это значит, что слушатель, воспринимающий
высказывание, будет все время задавать себе вопрос, пусть
даже не формулируя его вслух, — в действительности ли
произошло то, о чем говорящий повествует, таковы ли были
на самом деле обстоятельства, которые он приводит. Ответ
на эти вопросы вовсе не должен быть положительным; он
вполне может сводиться к тому, что высказывание было
частично или целиком фиктивным. И слушатель попытается
догадаться или установить, какую цель преследовал при
этом говорящий. В итоге изысканий или всего-навсего до-
гадок возникнет дальнейшая модификация предметного от-
Д* ЛЛ
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ношения высказывания (т. е. его отношения к действитель-
ности): например, да, речь идет о фиктивном высказывании
с целью обмануть слушателя, сбить его с истинного пути,
т. е. речь идет о лжи; или — речь идет о фиктивном
высказывании с целью выдать вымышленное событие за
действительное, но без умысла воздействовать на поведение
слушателя, а лишь для того, чтобы испытать, насколько он
доверчив, т. е. речь идет о мистификации; или опять-таки —
речь идет о фиктивном высказывании, но не с целью об-
мануть слушателя, а с целью нарисовать перед ним иной
мир, чем тот, в котором он живет, утешить, порой напугать
несовпадением вымышленной действительности с реальной,
т. е. перед нами чистая фикция.
Но в том случае, если мы будем понимать языковое
высказывание (повествование) как поэтическое творение с
преобладающей эстетической функцией, наше отношение
к этому высказыванию сразу изменится и вся конструкция
предметного отношения высказывания обретет иной аспект.
Вопрос о том, происходило ли в действительности событие,,
о котором повествуется, теряет для слушателя (читателя)
жизненную важность; речь же о том, хотел ли и пытался
ли поэт обмануть его, вообще отпадает. Разумеется, мы ни
в коей мере не утверждаем, что вопрос о реальной основе
события, о котором рассказывается, перестал существовать.
Напротив, представит ли поэт данное событие как реальное
или фиктивное, насколько и каким образом он будет сле-
довать действительности, все это явится важным элементом
структуры поэтического произведения. В этих оттенках ме-
тода перевоплощения действительности часто заключается,
например, различие между техникой разных художествен-
ных направлений, в известном аспекте между романтизмом
и реализмом, жанров (рассказ — сказка), а внутри опре-
деленного произведения соотношение отдельных элементов
и частей (например, в историческом романе таково нередко
соотношение между личностями и событиями на переднем
плане — они бывают фиктивными — и личностями и
событиями на заднем плане — они бывают реальными).
Вопрос о реальной основе изображаемого события, когда
мы рассматриваем его с точки зрения структуры произве-
дения и способа изображения, разумеется, существенно от-
личается от вопроса о реальном коммуникативном значении
изображаемого события, как, например, его ставит по от-
ношению к произведению историк литературы. Рассматри-
100
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
вая «Бабушку» Божены Немцовой52 он может интересо-
ваться, действительно ли молодые годы писательницы со-
ответствуют развитию сюжета повести, жили ли Панклы в
самом деле на Старой Белильне и т. д. Читатель же ставит
вопрос об истинности лишь в такой форме: хотела ли пи-
сательница вообще или пусть только в какой-то мере, чтобы
это произведение было воспринято как документальный
рассказ о ее детстве? Ответ на этот вопрос, даже невыска-
занный, даже не сформулированный прямо, определит эмо-
циональную и образную атмосферу, которой в восприятии
читателя будет окутано произведение Немцовой, определит
смысловую окраску целого и деталей. «Фиктивность» поэ-
тического искусства, таким образом, нечто совершенно иное,
чем фикция коммуникативная. Все модификации предмет-
ного отношения языкового высказывания, которые сущест-
вуют в коммуникативной речи, могут играть свою роль и
в поэтическом искусстве (например, ложь). Но здесь они
играют роль элементов структуры, а отнюдь не практически
важных жизненных ценностей. Барон Мюнхгаузен, если бы
он жил на самом деле, был бы мистификатором и его
россказни воспринимались бы как ложь, но поэт, выдумав-
ший Мюнхгаузена и его вранье, не лжец, а именно поэт,
и высказывания Мюнхгаузена в его подаче — это явление
поэтическое.
И что же, лишен ли художественный знак при таком
положении вещей какого бы то ни было непосредственного
и обязательного соприкосновения с действительностью? Мо-
жет быть, искусство по отношению к действительности —
это даже нечто меньшее, чем тень, которая по крайней
мере свидетельствует о присутствии предмета, хотя бы и
невидимого зрителю? В истории эстетики можно найти на-
правления, которые на сформулированный подобным обра-
зом вопрос ответили бы утвердительно: таковы, например,
эстетическая теория К. Ланге53, интерпретирующего искус-
ство как иллюзию, или теория Ф. Полана, считающего ложь
сущностью искусства; впрочем, к такому пониманию близки
все направления, склоняющиеся к гедонизму и эстетиче-
скому субъективизму (искусство как стимулятор наслажде-
ния, искусство как суверенное созидание ранее не сущест-
вовавшей действительности).
Тем не менее подобные взгляды не соответствуют по-
длинной сущности искусства. Для того чтобы объяснить их
ошибочность, возьмем в качестве отправной точки конк-
101
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ретный пример. Представим себе читателя «Преступления
и наказания» Достоевского. Вопрос о том, имела ли место
в действительности история студента Раскольникова, как
мы показали выше, находится вне интересов читателя. И все
же читатель почувствует в романе сильный контакт с дей-
ствительностью, но отнюдь, разумеется, йе с той, о которой
роман повествует, не с событием, происшедшим в России
таких-то годов прошлого века, а с действительностью, хо-
рошо известной самому читателю, с ситуациями, которые
он сам пережил или может пережить в существующих
условиях, с чувствами и порывами, которые сопровождали
или могли сопровождать подобные ситуации, с действиями,
на которые они могли побудить самого читателя. Вокруг
романа, захватившего читателя, нагромождается не одна,
а множество действительностей; чем глубже произведение
захватило воспринимающего, тем шире область реальных
фактов, знакомых ему и жизненно важных для него, с
которыми произведение вступает в предметное отношение.
Перемена, совершившаяся с предметным отношением про-
изведения-знака, есть, таким образом, одновременно и ос-
лабление этого отношения и его усиление. Предметное от-
ношение ослаблено в том смысле, что художественное про-
изведение не указывает на действительность, которую прямо
изображает, но усилено тем, что оно как знак вступает в
непрямое (образное) отношение с реальным фактом, жиз-
ненно важным для воспринимающего, и тем самым ко всему
его универсуму как комплексу ценностей. Так произведение
приобретает способность указывать на совсем иные реальные
факты, чем те, которые оно изображает, и на системы
ценностей иные, чем та, которая его породила и на которой
оно построено.
В этом месте изложения наших взглядов нам представ-
ляется случай обратиться к тем видам искусства, которые
в отличие от искусств, имеющих «содержание», являются
атематическими, т. е. к музыке и архитектуре, и установить,
могут ли и они вступать в те многообразные предметные
отношения, которыми творения тематических видов искус-
ства отличаются от настоящих средств общения. По своей
сути музыка ничего не сообщает; с помощью таких средств,
как цитата, авторизованная цитата и т. п. (ср. Zich О.
Estetika dramatick6ho umeni. Praha, 1931, s. 277 a n.), она,
разумеется, может приближаться к сообщению, но это при-
ближение — отрицание ее собственного характера, подобно
102
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
тому как в поэтическом искусстве и живописи таким же
отрицанием было противоположное явление, т. е. тяготение
к атематичности. Но хотя музыкальное высказывание ни-
чего не сообщает, оно может интенсивно вступать в мно-
гообразное предметное отношение с обширными областями
жизненного опыта воспринимающего, а тем самым и с
ценностями, имеющими для него значение, что мы уже
отметили как черту, характерную для высказываний с пре-
обладающей эстетической функцией, говоря о тематических
видах искусства. Это многообразное и при всей своей де-
нотативной неопределенности интенсивное предметное от-
ношение музыки чрезвычайно точно описывает Оскар
Уайльд в уже несколько раз цитировавшемся нами эссе
«The Critic as Artist»: «Всякий раз, когда исполнят какое-
нибудь сочинение Шопена, у меня такое ощущение, будто
я только что плакал, сокрушаясь о никогда не совершенных
мною грехах, и грустил по поводу трагедий, которых никогда
не переживал. Мне кажется, что музыка всегда производит
такое впечатление. Она создает для человека прошлое,
которого он не знал, и наполняет это прошлое атмосферой
печалей, невыплаканных прежде. Я легко представляю себе
человека с самой будничной жизнью, который, случайно
услыша какое-нибудь удивительное сочинение, неожиданно
откроет, что его душа, сама о том не ведая, прошла через
страшные испытания и познала необычайные радости, или
дикие романтические страсти, или великое самоотречение».
Опыт, которого у нас нет, но который мы могли бы иметь,
потенциальные биографии без конкретного содержания —
так характеризует Уайльд предметное отношение музыки
к действительности; его слова представляют собой поэти-
ческое выражение многообразия и связанной с ним дено-
тативной неопределенности предметного отношения худо-
жественного произведения как знака; по той же причине
другой поэт — Поль Валери («Eupalinos»*) — вызывает
эмоцию, порождаемую «неисчерпаемой музыкой»**; музы-
♦ «Эвпалин» (лат,).
** Ср. также и еще одно место в «Эвпалине», где говорится о впечатлении
от восприятия музыки: «Разве то не была изменчивая полнота, подобная
вечному пламени, озаряющему и согревающему все твое существо не-
устанным горением воспоминаний, предчувствий, вздохов и предсказаний
и бесконечным множеством эмоциональных возбуждений без определенной
причины?» — Ср. также: Delacroix Н. Psychologic de Part. Paris, 1937, p.
210 sq. Мир музыки — это автономный мир, который стремится быть
103
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ка, полностью лишенная коммуникативной функции, еще
явственнее, чем тематические виды искусства, обнажает
специфический характер художественного знака. Итак, что
же является здесь носителем значения? Не содержание,
которого здесь нет, а формальные элементы: тональность,
мелодические и ритмические образования, тембр и т. д.
Поэтому предметное отношение к действительности здесь
в гораздо большей степени воздействует на общую нашу
позицию, чем освещает какие бы то ни было отдельные
реальные факты. И именно в этом и заключается общее
свойство искусства как знака, в данном случае лишь более
явственно раскрытое.
Как правильно подметил П. Валери в диалогическом эссе
«Эвпалин», нечто весьма подобное тому, что имеет место в
музыке, происходит и в архитектуре. Сократ так рассуждает
здесь о музыке и архитектуре: «Искусства, о которых мы го-
ворим, должны — в противоположность остальным — с по-
мощью чисел и числовых отношений порождать в нас отнюдь
не фабулу, а ту скрытую силу, которой обязаны своим воз-
никновением все фабулы». Тем не менее их нужно отличать
друг от друга, ибо архитектура, как пишет сам Валери, на-
ряду с этим «говорит», т. е. содержит сообщение, разумеется,
опять-таки совершенно иного рода, чем сообщения поэтиче-
ского искусства и живописи. Сообщение, содержащееся в ар-
хитектурном произведении, тесно связано с практической
функцией, которую это творение осуществляет; здание
«означает» то, для чего оно предназначено, т. е. действия и
отправления, которые должны совершаться на пространстве,
ограниченном и оформленном стенами. «Здесь, — говорит
здание, — собираются купцы. Здесь судят судьи. Здесь стонут
узники. Здесь кутят любовники. Эти торговые здания, суды
и тюрьмы говорят весьма явственно, если те, кто их строит,
умеют справиться со своей задачей» (Valery. «Eupalinos»). Но
сообщение, содержащееся в архитектурном произведении,
независимым от мира обыденных акустических явлений. Тем не менее он
обладает [смысловой] потенцией, ^присущей языку и амузыкальным зву-
кам... Музыка обобщает переживания, спускаясь вглубь, вплоть до рит-
мических волн, выражающих абсолютные чувства... Так возникают му-
зыкальные образования, структура которых передает очертания эмоцио-
нального волнения, охватывающего более .глубокие слои эмоциональной
жизни, чем обычные чувственные возбуждения. Этот внутренний динамизм,
схемой которого является музыка, преобразуется в соприкосновении с ней
и под ее влиянием, одновременно создавая ее из себя как свой символ и
выражение.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. НОРМА И ЦЕННОСТЬ
как правило, полностью поглощено и скрыто практической
функцией, с которой оно тесно связано: видимым оно стано-
вится только при условии, если здание имитирует иную фун-
кцию, чем та, которую оно в действительности осуществляет:
доходный дом в виде дворца, фабрика в виде замка и т. п.
Имитируемое назначение (дворец, замок) становится сооб-
щением для воспринимающего*. Но как раз потому, что во
всех остальных случаях (когда выраженное назначение сов-
падает с подлинным) сообщение почти незаметно, преобла-
дающая роль предоставлена неопределенному и многообраз-
ному предметному отношению, специфическому для худо-
жественного произведения. И здесь это отношение несут в
себе и определяют «формальные» средства. Наглядно рисует
процесс возникновения этого многообразного предметного от-
ношения опять-таки Валери в том месте уже цитировавше-
гося диалога, где Федр описывает впечатление от архитек-
турного произведения: «Никто не замечал, стоя перед мате-
рией, деликатно лишенной тяжести и, на первый взгляд,
столь простой, что его восприятие направляют к какому-то
счастливому трепету почти незаметные кривые, незначи-
тельные и всемогущие закругления и те глубокие комбина-
ции правильности и неправильности, которые художник од-
новременно создал и скрыл, сообщив им такую неодолимую
силу, что для них нельзя найти определения. Они вели вос-
принимающего, подчиняющегося их незримому присутст-
вию, от видения к видению, от глубокого молчания к шепоту
наслаждения в соответствии с тем, как он приближался и
удалялся, вновь приближался и блуждал в сфере воздействия
произведения, будучи только им управляем в своих движе-
ниях и будучи игрушкой собственного восхищения. «Я хо-
чу, — говорил этот человек из Мегары (т. е. зодчий Эвпа-
лин), — чтобы мое произведение трогало людей так, как их
трогает предмет любви».
Итак, «нетематические» виды искусства помогли нам
понять, что специфическое предметное отношение, соеди-
няющее с действительностью художественное произведение
* В этой связи нужно хотя бы мельком напомнить,, что темой в архи-
тектуре будет также.символическая функция архитектурного произведения,
проявляющаяся особенно в такие периоды развития, когда постройка,
прежде всего общественная, представляет идеологию среды, которая ее
породила и которой она служит, а иногда и ее могущество и общественный
вес; ср., например, символическую функцию средневекового замка и
собора или дворцовых построек Ренессанса и барокко.
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
как знак, может заключаться не только в содержании, но
и во всех остальных элементах. Обратимся теперь опять к
тематическим видам искусства, чтобы выяснить, могут ли
стать или даже не являются ли всегда смысловыми факто-
рами и носителями предметного отношения и «формальные
элементы» этих искусств. Рассмотрим с данной точки зрения
живопись, поскольку — благодаря заслугам функциональ-
ной лингвистики — сейчас уже совершенно очевидно, что
все элементы поэтического искусства как составные части
языковой системы, начиная со звукового состава и кончая
конструкцией предложения, являются носителями смысло-
вой энергии. В живописи ситуация иная, там, на первый
взгляд может показаться, что материал, т. е. плоскость, цве-
товое пятно, линия, представляет собой чисто оптическое
явление. Более сложные и производные элементы: перспек-
тивное и цветовое пространство, контур — и здесь явно
выступают как смысловые факторы. Но и вышеназванные
основные элементы не лишены возможности создавать пред-
метное отношение. Плоскость, ограниченная рамой, это
нечто иное, чем просто поле зрения, хотя в некоторых
случаях она может по своему содержанию соответствовать
такому полю. Ограничение рамой придает плоскости опре-
деленные смысловые свойства, и в первую очередь свойство,
благодаря которому то, что заключено в раму, является
смысловой единицей (целым). Линия расчленяет плоскость:
благодаря своему направлению и характеру она руководит
процессом зрительного восприятия и определяет не только
оптическую, но и смысловую организацию ограниченного
рамой участка. И в том случае, когда картина не нацелена
на предметность, линия легко приобретает функцию кон-
тура, хотя здесь нет изображения какого бы то ни было
предмета; в результате возникает «беспредметная» предмет-
ность как чистое значение. Смысловыми свойствами линии
воспользовались некоторые направления современной жи-
вописи, такие как абсолютная живопись (Кандинский) и
родственные ей течения. Наконец, и цветовое пятно есть
явление не только оптическое, но одновременно и смысло-
вое. Уже само качество цвета обладает широкими смысло-
выми возможностями. Известный культурно-исторический
факт — символика цветов, получившая всеобщее распро-
странение и устойчивость особенно в средние века (ср.,
например: Zibrt. Symbolika barev u starych Cechu. — Listy
z ceskych dejm kulturmch. Praha, 1891); естественно, что
1ПА
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
символика цветов оказала влияние и на живопись: «Почему
Христос на картинах всегда в синем одеянии? Потому что
глаза верующих были неустанно прикованы к желанному
небу, резиденции небесного жениха и посмертному обита-
лищу верующих» (Wohlbehr Th. Bau und Leben der bildenden
Kunst. Leipzig; Berlin, 1914). Так синий цвет стал для
христиан самым возвышенным, хотя по своему психологи-
ческому воздействию он относится к «холодным» цветам.
Но и в наше время, когда символика цветов не представляет
собой устойчивой системы и не привлекает всеобщего вни-
мания, даже в произведениях беспредметной живописи, где
цветовое значение не соотносимо с изображаемой вещью,
можно установить смысловую окраску цвета; так, например,
синий цвет в верхней части плоскости картины и в бес-
предметном произведении будет означать «небо»; синий
цвет в нижней части плоскости картины будет в смысловом
плане интерпретирован как «вода». С качеством цвета свя-
зано также отношение цвета к пространству; известно, что
«теплые» цвета в нашем восприятии выступают на передний
план, а «холодные» отступают на задний, и это имеет не
только оптическое, но и семантическое (смысловое) значе-
ние; так, например, в беспредметной живописи лишь по-
средством комбинирования двух названных групп цветов
можно создать пространство без какой-либо предметной
определенности, т. е. чистое пространство как значение.
Далее, цветовое пятно, так же как линия, создает контур;
благодаря контуру оно, разумеется, обретает предметность
даже в тех случаях, когда ни к какому предмету не отно-
сится; поэтому супрематистская живопись, которая зашла
дальше всех других направлений живописи в подавлении
какого бы то ни было содержания, в качестве формы цве-
тового пятна охотнее всего избирала квадрат или четырех-
угольник, т. е. наиболее безразличные к содержанию гео-
метрические фигуры, чтобы цветовое пятно перестало воз-
действовать своей формой и было как можно более чистой
оптической ценностью без содержательного оттенка пред-
метности. В современной живописи контурное значение цве-
тового пятна иногда подчеркивается тем, что контуры цвето-
вого пятна частично совпадают и частично расходятся с очер-
танием, данным линией. Можно было бы назвать и другие
смысловые возможности цвета; так, например, семантический
характер носит и различие между цветом как характеристикой
предмета (локальный цвет) и цветом как светом и т. д.
1ГУТ
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Итак, формальные элементы произведения живойиси,
так же как языковые элементы поэтического произведе-
ния, — это смысловые факторы: сами по себе они, разу-
меется, не связаны предметным отношением с какой-то
определенной вещью, но — подобно компонентам музы-
кального произведения — заключают в себе потенциальную
смысловую энергию, которая, излучаясь из произведения
как целого, создает определенное отношение к миру дей-
ствительности04.
Мы проанализировали знаковый (семантический) харак-
тер художественного произведения; оказалось, что искусство
тесно примыкает к области коммуникативных знаков, но
является при этом диалектическим отрицанием подлинного
сообщения. Подлинное сообщение указывает на определен-
ные конкретные факты действительности, известные тому,
кто передает знак, и об этих фактах должен быть поставлен
в известность тот, кто знак принимает. В искусстве же
факты действительности, о которых произведение непос-
редственно сообщает (если речь идет о тематическом ис-
кусстве), — это не собственные носители предметного от-
ношения, а лишь его посредники. Собственно предметное
отношение здесь многообразно и указывает на факты дей-
ствительности, которые известны воспринимающему, но не
высказаны и никак не могут быть высказаны или обозначены
в самом произведении, поскольку составляют часть интим-
ного опыта воспринимающего. Этот пучок фактов действи-
тельности может бить весьма значительным, а предметное
отношение художественного произведения к каждому из
них является непрямым, образным. Факты действительно-
сти, с которыми художественное произведение может быть
сопоставлено в сознании или подсознании воспринимающе-
го, включены в общее интеллектуальное, эмоциональное и
волевое отношение воспринимающего к действительности в
целом. Факты опыта, которые в сознании воспринимающего
всплывут и придут в движение от толчка, вызванного со-
прикосновением с художественным произведением, переда-
дут затем это движение всей картине действительности в
душе воспринимающего. Неопределенность предметного от-
ношения художественного произведения к действительности
компенсируется, таким образом, тем, что воспринимающий
индивид реагирует на произведение искусства не какими-то
частными сторонами своего «я», а всеми гранями своего
отношения к миру и действительности. Возникает вопрос:
108
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ. ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
можно ли из этого сделать вывод, что интерпретация ху-
дожественного произведения как знака является делом су-
губо индивидуальным, что она отличается от индивида к
индивиду и не поддается сравнению? Ответ на этот вопрос
был предопределен установлением знаковой природы худо-
жественного произведения, которое, следовательно, уже по
самому своему существу есть социальный факт; точно так
же и отношение индивида к действительности даже у самых
сильных личностей не является их исключительным част-
ным достоянием, а в значительной мере — у личностей
менее сильных почти полностью — определяется социаль-
ными условиями, в которых этот индивид находится. Ре-
зультат, к которому мы пришли в процессе анализа знаковой
природы художественного произведения, отнюдь не ведет
к эстетическому субъективизму: было лишь доказано, что
предметные отношения, в которые вступает художественное
произведение как знак, приводят в движение отношение
воспринимающего к действительности, а воспринимаю-
щий — существо общественное, член коллектива. Установив
это, мы подошли на шаг ближе к цели: если предметные
отношения, возникающие между художественным произве-
дением и действительностью, затрагивают отношение ин-
дивида и коллектива к действительности, то становится
очевидным, что особо важное значение приобретает для нас
вопрос о внеэстетических ценностях, содержащихся в ху-
дожественном произведении.
Художественное произведение и в том случае, когда
оно не содержит открытых или скрытых оценочных суж-
дений, насыщено ценностями. Все в нем, начиная с ма-
териала — даже самого материального (такого, например,
как камень или бронза в скульптуре) и кончая сложней-
шими тематическими образованиями, выступает в качестве
их носителя. Оценка, как мы только что отметили, при-
надлежит к самому существу специфичности художест-
венного знака: предметное отношение художественного
произведения своим многообразием затрагивает не отдель-
ные вещи, а действительность как целое и таким образом
касается общего отношения к ней со стороны восприни-
мающего. Именно воспринимающий является источником
оценок и определяет их характер. А поскольку каждый
из элементов художественного произведения — «содержа-
тельных» или «формальных» — обретает в контексте это
многообразное предметное отношение к действительности,
109
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
то все они становятся носителями внеэстетических цен-
ностей.
Ценности, имеющие в своей основе отдельные элементы
одного и того же произведения, вступают во взаимные
отношения, иногда положительные, иногда отрицательные;
тем самым они, разумеется, воздействуют друг на друга, и
* случается, что один и тот же материальный элемент в
разной связи бывает носителем совершенно различных цен-
ностей; ср: LutzelerH. Einfuhrung in die Philosophic der
Kunst. Bonn, 1934, S. 27: «Атомизм при изучении формы
художественного произведения заключается в том, что ис-
следователь, разанатомировав форму на отдельные элемен-
ты (т. е. прямые и кривые линии, линии выгнутые и вог-
нутые, четко ограниченные и расплывчатые и т. д.), каж-
дому элементу приписывает постоянный смысл (например,
светлый цвет — оптимизм, темный — пессимизм, ровная
линия — ясность и лаконизм, непосредственность и точ-
ность, разумность и целесообразность). Говоря о несостоя-
тельности такого подхода, нужно подчеркнуть, что фор-
мальные элементы могут быть полностью поняты только с
точки зрения целого и что в зависимости от своего поло-
жения внутри этого целого они приобретают совершенно
различный смысл; так, например, черный цвет среди свет-
лых тонов может производить праздничное и торжественное
впечатление, как это бывает на портретах работы Рубенса;
ровные линии могут изменять свой смысл — от выражения
почти мистического ощущения чистой ограниченности соб-
ственной сущностью до рационалистической ^ механической
протокольной записи. Равенства такого типа, как отожде-
ствление темного цвета с пессимизмом, слишком грубы для
постижения сложной внутренней жизни художественного
произведения». Итак, внеэстетические ценности, содержа-
щиеся в художественном произведении, составляют един-
ство, но, разумеется, единство динамическое, а не механи-
ческое и постоянное. Динамичность комплекса внеэстети-
ческих ценностей художественного произведения может
достичь такой степени, что она проявится в произведении
как полная противоположность двух типов оценок, напри-
мер презрительных и восхищенных; ср. монументализацию
«низких» сюжетов, обычную для реалистической живописи
XIX века («Дробильщики камня» Курбе), или использование
формальных средств героического эпоса применительно к
героям и действиям, до тех пор характерных лишь для
110
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ. НОРМА И ЦЕННОСТЬ
«низких» литературных жанров, прием, который использо-
вали в эпической поэзии романтические поэты (ср. Тынянов
Ю. Архаисты и новаторы. Л., 1929). Взаимные противоречия
внеэстетических ценностей, содержащихся в произведении,
могут быть самого различного вида и самой разной силы;
но, даже достигая максимального количества или интен-
сивности, они не нарушают единства художественного про-
изведения, поскольку это единство не имеет характера ме-
ханической суммы и дается воспринимающему как задача,
для разрешения которой нужно преодолеть противоречия,
возникающие перед ним в сложном процессе восприятия и
оценки художественного произведения.
Таким образом, внеэстетические ценности в искусстве
связаны не только с самим художественным произведением,
но и с воспринимающим. Последний, разумеется, подходит
к произведению с собственной системой ценностей, со своим
собственным отношением к действительности. Весьма не-
редко и даже как правило случается, что часть, подчас
значительная, ценностей, которые воспринимающий ощу-
щает в художественном произведении, находится в проти-
воречии с системой свойственных ему оценок. Каким об-
разом возникает это противоречие и напряжение, вытека-
ющее из него, ясно: либо художник создавал произведение
в той же общественной среде и в ту же эпоху, в какую
жил воспринимающий, и тогда противоречия между цен-
ностями, имеющими для него силу, и ценностями, содер-
жащимися в произведении, были результатом сдвига худо-
жественной структуры, к которому стремился автор произ-
ведения, либо произведение и воспринимающий относятся
к разным эпохам и разным типам общественной среды, и
тогда противоречия между внеэстетическими ценностями
неизбежны*. Следовательно, художественное произведение
* Может возникнуть вопрос, не следует ли также принимать во внимание
случаи полного совпадения или, наоборот, полного несовпадения содер-
жащихся в произведении внеэстетических ценностей с системой ценностей,
имеющих силу для воспринимающего. Что касается полного совпадения
или хотя бы приближения к нему, то такие случаи, разумеется, могут
существовать, например, в тех — как правило, низших — формах искус-
ства, которые стремятся максимально облегчить воспринимающему доступ
к произведению, устранить с его пути все препятствия. Однако и здесь
речь идет лишь о тенденции, никогда полностью не осуществляемой, ибо
и здесь определенным образом и в определенной мере проявляется несов-
падение между оценками воспринимающего и ценностями, содержащимися
в произведении; ср., например, известный факт, что читатели романов,
111
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
как комплекс внеэстетических ценностей — это не просто
некое соответствие системе ценностей, действующих в дан-
ной аудитории и обязательных для нее. Поэтому ценности,
содержащиеся в художественном произведении, и не ощу-
щаются как равные по своей обязательности ценностям,
имеющим практическое применение и выражаемым — если
дело доходит до их выражения — в чисто коммуникативных
высказываниях; наглядный пример предоставляет, в част-
ности, цензурная практика, делающая различие между
взглядами, высказанными как сообщение, и взглядами, либо
косвенно вытекающими из художественного произведения,
либо прямо в нем высказанными; в этом плане лишь крайний
ригоризм ведет к отождествлению искусства с коммуника-
тивным высказыванием.
Мы подошли в своих рассуждениях к пункту, с которого
можно обозреть взаимоотношения между эстетической цен-
ностью и остальными ценностями, содержащимися в про-
изведении, и понять подлинную его сущность. До сих пор
мы утверждали только, что в художественном произведении
эстетическая ценность преобладает над остальными. Это
утверждение с логической необходимостью вытекает из сущ?
ности искусства как привилегированной области эстетиче-
ских явлений, именно гегемонией эстетической функции и
ценности отличающейся от необозримого множества осталь-
рассчитанных на дешевый успех, охотнее всего читают книги, рисующие
иную среду и иной образ жизни, чем те, с которыми они знакомы сами.
Что касается противоположной возможности, т. е. возможности полного
несовпадения между ценностями, содержащимися в произведении, и си-
стемой ценностей, имеющих силу для воспринимающего, то тенденцию к
этой крайности можно нередко обнаружить в истории искусства, подчас
даже в нарочитом заострении (ср. сатанизм некоторых оттенков симво-
лизма, провокативно выворачивающий наизнанку всю систему ценностей:
зло представляется положительной ценностью, добро — отрицательной и
т. п.). Непреодолимая взаимная чуждость ценностей, имеющих силу для
воспринимающего, и тех ценностей, которые содержатся в произведении,
может привести к тому, что произведение утратит смысл для восприни-
мающего и не будет восприниматься и оцениваться как художественный
факт; ср., например, непонятность произведений, возникших в такой среде,
с системой ценностей которой в отношении воспринимающего к действи-
тельности нет точек соприкосновения; таково, например, отношение к
средневековому искусству в XVII и XVIII веках; сюда же нужно частично
отнести и «проклятых* поэтов и вообще деятелей искусства, которые при
жизни часто остаются совершенно незамеченными и приобретают извест-
ность лишь с того момента, когда появляется возможность хотя бы в
какой-то мере положительного соотношения между их творчеством и пре-
тендующей на признание системой ценностей.
112
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
ных явлений, в которых эстетическая функция играет фа-
культативную роль и подчинена иным функциям. Среда,
не знающая четкой дифференциации функций, как, напри-
мер, средневековое или фольклорное общества, не осознает,
разумеется, господства эстетической функции в искусстве,
но для нее не существует и понятия «искусство» в совре-
менном его понимании; ср., например, тот факт, что в
средние века изобразительные искусства включались в ма-
териальное производство в самом широком смысле слова.
Если мы утверждаем, что эстетическая функция и ценность
преобладают в художественном произведении над осталь-
ными функциями и ценностями, то мы не высказываем
этим постулат, обязательный для практического отношения
к искусству, — тут и в наше время у отдельных личностей
и даже целых коллективов может преобладать какая-либо
иная функция, — а лишь выводим теоретическое следствие
из того положения, какое искусство занимает во всей сфере
эстетических явлений в условиях законченной дифферен-
циации функций.
Однако и в этой подчеркнуто теоретической формули-
ровке по недоразумению видят «формализм» и защиту прин-
ципа «искусство для искусства»; самоцельность художест-
венного произведения, представляющая собой аспект доми-
нантного положения эстетической функции и ценности,
ошибочно смешивается с кантовской «незаинтересованно-
стью» искусства.' Для того чтобы опровергнуть эту ошибку,
нужно взглянуть на положение и характер эстетической
ценности в искусстве изнутри художественной структуры,
т. е. по направлению от внеэстетических ценностей, рассе-
янных по отдельным элементам произведения, к эстетиче-
ской ценности, придающей художественному произведению
единство. При этом мы обнаружим характерное и неожи-
данное обстоятельство. Мы сказали выше, что все элементы
художественного произведения, как содержательные, так и
формальные, являются носителями внеэстетических ценно-
стей, которые вступают внутри произведения во взаимоот-
ношения. В конце концов художественное произведение
действительно оказывается комплексом внеэстетических
ценностей и не чем иным, как именно таким комплексом.
Материальные элементы художественного артефакта и спо-
соб, каким они использованы в качестве средств формооб-
разования, выступают исключительно в качестве проводни-
ков различных видов энергии, заключенной во внеэстети-
113
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ческих ценностях. Если мы спросим в. этот момент, куда
делась эстетическая ценность, окажется, что она раствори-
лась в отдельных внеэстетических ценностях и, собственно,
есть не что иное, как суммарное наименование динамиче-
ской целостности их взаимоотношений. Таким образом, раз-
граничение между «формальным» и «содержательным» кри-
териями при изучении художественного произведения оши-
бочно. Представители русской формальной школы в эстетике
и литературной теории были правы, когда утверждали, что
все без различия элементы художественного произведения
являются составными частями формы. Нужно, однако, до-
бавить, что точно так же все без различия элементы ху-
дожественного произведения являются носителями смысла
и внеэстетических ценностей и, следовательно, составными
частями содержания. Анализ «формы» нельзя сводить лишь
к формальному анализу; с другой стороны, должно быть
ясно, что лишь вся конструкция художественного произве-
дения, а ни в коей мере не только та ее часть, которую
принято называть содержанием, вступает в активное отно-
шение с системой жизненных ценностей, управляющей че-
ловеческим поведением.
Характерное для искусства господство эстетической фун-
кции над остальными есть, таким образом, нечто совсем
иное, чем просто внешнее преобладание. Влияние эстети-
ческой ценности заключается вовсе не в том, что она по-
глощает и подавляет остальные ценности, а в том, что хотя
каждая из них в отдельности вследствие этого утрачивает
непосредственный контакт с соответствующей жизненной
ценностью, зато весь комплекс ценностей, содержащийся в
художественном произведении и образующий динамическое
целое, включается в контакт с общей системой ценностей,
представляющих собой движущие силы жизненной практики
воспринимающего коллектива. Каков же характер и какова
цель этого контакта? Прежде всего нужно иметь в виду,
что, как уже было показано, этот контакт весьма редко
бывает идиллически спокойным: как правило, ценности,
содержащиеся в художественном произведении, и во вза-
имном отношении друг к другу, и в качестве отдельных
ценностей несколько отличаются от конструкции системы
ценностей, действующих в коллективе. Так возникает вза-
имное напряжение, и в нем-то и заключается собственный
смысл и собственное воздействие искусства. Возможность
свободного изменения комплекса ценностей, управляющих
114
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
жизненной практикой коллектива, ограничена постоянной
необходимостью практического применения ценностей; пе-
ремещение отдельных членов иерархии (переоценка цен-
ностей) здесь весьма затруднено и сопровождается тяжкими
потрясениями всей жизненной практики данного коллектива
(задержка развития, ненадежность ценностей, дробление
системы, иногда даже революционные взрывы), между тем
как в художественном произведении ценности, — каждая
из которых освобождена от актуальной обязательности, хотя
в целом они не лишены потенциальной силы воздействия, —
могут без ущерба перегруппировываться и преображаться,
могут экспериментально выкристаллизовываться в новые
соединения и нарушать старые, могут приноравливаться к
социальной эволюции и новым формам данной действитель-
ности или по крайней мере изыскивать возможности такого
приспособления.
Если мы взглянем на автономию художественного про-
изведения и господство эстетической ценности и эстетиче-
ской функции с этой точки зрения, то увидим, что они не
умерщвляют связь между художественным произведением
и действительностью природы и общества, а, наоборот, по-
стоянно ее оживляют. Искусство является жизненным фак-
тором крайней важности и в те периоды развития и в тех
своих разновидностях, которые подчеркивают самоцельность
искусства и доминантное положение эстетической функции
и эстетической ценности; более того, порой как раз стадия
развития, при которой подчеркивается такая самоцельность,
может чрезвычайно интенсивно повлиять на отношение че-
ловека к действительности (см. историю «Мая» Махи, ра-
зобранную в нашем исследовании: «Pnspevek k dnesni
problematice basnickeho zjevu M^chova». — «Listy pro umeni
a kritiku», IV). Теперь можно окончательно вернуться к
вопросу, с которого мы начали, т. е. к вопросу о том, может
ли быть каким-либо образом доказано объективное значение
эстетической ценности. Мы уже отметили, что непосредст-
венный предмет актуальной эстетической оценки не «ма-
териальный» артефакт, а «эстетический объект», который
является его отражением и коррелятом в сознании воспри-
нимающего. Тем не менее объективную (т. е. независимую
и постоянную) эстетическую ценность, если она существует,
нужно искать в материальном артефакте, который только
один остается без изменений, тогда как эстетический объект
изменчив, поскольку он определяется не только организа-
115
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
цией и свойствами материального артефакта, но одновре-
менно и соответствующей стадией развития нематериальной
художественной структуры. Однако независимая эстетиче-
ская ценность, заключенная в материальном художествен-
ном артефакте, если мы даже предполагаем ее наличие, по
сравнению с актуальной ценностью эстетического объекта
имеет только потенциальный характер: материальный ху-
дожественный артефакт, таким-то и таким-то образом ор-
ганизованный, обладает способностью вне зависимости от
существующей стадии развития данной художественной
структуры вызывать в сознании воспринимающего эстети-
ческие объекты с положительной актуальной эстетической
ценностью. Следовательно, вопрос о существовании объек-
тивной эстетической ценности может быть высказан лишь
в такой форме: возможна ли подобная организация мате-
риального артефакта?
Каким образом материальный артефакт участвует в воз-
никновении эстетического объекта? Мы уже видели, что
его свойства, а порой и значение, вытекающее из сочетания
этих свойств (содержание произведения), входят в эстети-
ческий объект как носители внеэстетических ценностей,
которые в свою очередь вступают в сложные взаимоотно-
шения, положительные и отрицательные (совпадения и про-
тиворечия), так что возникает динамическое целое, удер-
живаемое в единстве совпадениями и одновременно приво-
димое в движение противоречиями.
Поэтому можно сделать вывод, что независимая ценность
художественого артефакта будет тем выше, чем больший
пучок внеэстетических ценностей сумеет привлечь к себе
артефакт и чем сильнее сумеет он динамизировать их вза-
имоотношения; все это независимо от изменения их качества
от эпохи к эпохе. Разумеется, обычно принято считать
главным критерием эстетической ценности впечатление
единства, которое оставляет произведение. Но это единство
следует понимать не статически, не как совершенную гар-
монию, а динамически, как задачу, которую ставит произ-
ведение перед воспринимающим. В этой связи уместно на-
помнить высказывание В. Шкловского: «Кривая дорога, до-
рога, на которой нога чувствует камни, дорога,
возвращающаяся назад, — дорога искусства*. Если эта за-
дача слишком легка, т. е. если в данном случае совпадения
* Шкловский В. О теории прозы. Федерация, 1929, с. 24.
116
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
преобладают над противоречиями, воздействие произведе-
ния ослабляется и быстро исчезает, поскольку не требует
от воспринимающего произведение ни сосредоточенности,
ни повторного возвращения к нему; поэтому произведения
со слабыми задатками динамичности быстро нивелируются
(автоматизируются). Если же, наоборот, обнаружение един-
ства— задача, слишком трудная для воспринимающего, т.
е. если противоречия преобладают над совпадениями, может
случиться, что воспринимающий будет не способен понять
произведение как преднамеренное построение. Однако сила
противоречий никогда не сможет постоянно мешать воздей-
ствию произведения в такой же мере, в какой этому может
мешать их недостаток: впечатление дезориентации, неспо-
собности обнаружить замысел, объединяющий произведе-
ние, даже типично для первой встречи с абсолютно непри-
вычным художественным творением. Но возможен и третий
случай, когда и совпадения и противоречия, обусловленные
построением материального художественного артефакта, ин-
тенсивны и все же удерживаются во взаимном равновесии;
это, очевидно, максимальная возможность, наиболее полно
осуществляющая постулат независимой эстетической цен-
ности.
Нельзя, однако, забывать, что, наряду с внутренним
построением художественного произведения и в тесной связи
с ним, есть еще отношение между произведением как ком-
плексом ценностей и ценностями, практически действую-
щими в коллективе, который воспринимает произведение.
Разумеется, материальный артефакт в процессе своего су-
ществования вступает в контакт со множеством разных
коллективов и множеством отличающихся друг от друга
ценностных систем. Как при этом проявляется постулат его
независимой эстетической ценности? Ясно, что и здесь про-
тиворечия играют по меньшей мере столь же значительную
роль, как и совпадения. Произведение, рассчитанное на
полное совпадение с признанными жизненными ценностями,
воспринимается как факт хотя и эстетический, но нехудо-
жественный, а просто доставляющий удовольствие (кич).
Только напряжение между внеэстетическими ценностями
произведения и жизненными ценностями коллектива дает
произведению возможность влиять на отношение человека
к действительности, и это влияние — непосредственная за-
дача искусства. Поэтому можно сказать, что независимая
художественная ценность артефакта тем выше и постояннее,
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
чем труднее произведение поддается буквальной интерпре-
тации с точки зрения общепринятой системы ценностей той
или иной эпохи либо той или иной среды. Если мы вернемся
к внутреннему построению художественного артефакта» то
будет, безусловно, нетрудно сойтись во мнении, что про-
изведения с сильными внутренними противоречиями — как
раз из-за своей расщепленности, и вытекающей из нее мно-
гозначности — представляют значительно менее подходя-
щую основу для механического применения всей системы
практически действующих ценностей, чем произведения без
внутренних противоречий или со слабыми противоречиями.
Таким образом, и здесь многогранность, разнородность и
многозначность материального артефакта выступают как
потенциально положительное эстетическое явление. Следо-
вательно, автономная эстетическая ценность художествен-
ного артефакта всесторонне зависит от напряжения, пре-
одоление которого становится задачей воспринимающего; а
это уже нечто совсем иное, чем гармоничность, часто вы-
даваемая за высшую форму совершенства и высшее совер-
шенство формы в искусстве.
Из принципов, к которым мы пришли, нельзя, разуме-
ется, выводить какие-либо конкретные правила. Совпадения
и противоречия между внеэстетическими ценностями, о
которых мы говорили, могут — при одном и том же мате-
риальном художественном артефакте — преодолеваются
воспринимающим бесконечным множеством способов, вы-
текающих из бесконечного разнообразия возможных сопри-
косновений произведения с развитием художественной
структуры и развитием общества. Это мы знали уже в тот
момент, когда выдвинули вопрос об эстетической ценности,
действительной независимо от каких бы то ни было условий.
Тем не менее ответить на этот вопрос было необходимо,
ибо лишь существование объективной эстетической ценно-
сти, которая всегда представляет собой искомое и всегда в
различнейших подобиях воплощается в творчестве, придает
смысл историческому развитию искусства: только этим мож-
но объяснить пафос бесконечно повторяющихся попыток
создать совершенное произведение, точо так же как и не-
прерывные возвраты развития к ценностям, уже созданным
(так, например, развитие драматургии нового времени про-
ходило под знаком непрерывного воздействия нескольких
постоянных ценностей, таких, как произведения Шекспира,
Мольера и т. п.). Поэтому каждая теория эстетической цен-
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
ности должна решить проблему объективной, ни от чего не
зависящей ценности даже в том случае, если эта теория
исходит из признания безграничной изменчивости актуаль-
ных оценок художественных произведений. Однако важ-
ность проблемы ни от чего не зависящей эстетической
ценности стала еще яснее при такой попытке решить ее,
которая привела нас к основополагающей задаче искусст-
ва — задаче определять и возобновлять отношение человека
к действительности как предмету его деятельности.
IV
В предыдущих трех главах этой работы мы говорили о
трех взаимозависимых понятиях — эстетической функции,
норме и ценности. В ее название мы включили слова «со-
циальные факты» отнюдь не для того, чтобы ограничить
материал, а для того, чтобы попытаться доказать, что и
абстрактный гносеологический анализ сущности и сферы
действия эстетической функции, нормы и ценности должен
исходить из социального характера трех названных явлений.
Место, которое в эстетике отводилось то метафизике, то
психологии, по праву принадлежит прежде всего социоло-
гии: гносеологическое исследование всей проблематики эс-
тетических явлений, представляющее собственную задачу
эстетики, должно исходить из предпосылки, что эстетиче-
ская функция, норма и ценность имеют силу лишь приме-
нительно к человеку и притом к человеку как существу
общественному.
Эстетическая функция — один из важных факторов че-
ловеческого поведения: любое человеческое действие может
сопровождаться ею и любая вещь может стать ее носителем.
Это не простой эпифеномен других функций, не имеющий
практического значения. Напротив, вместе с другими фун-
кциями она определяет поведение человека в реальном
мире. Так, например, она принимает участие в смещении
иерархии функций некоего предмета или явления, присо-
единяясь к новой доминирующей функции и усиливая ее,
обращая на нее всеобщее внимание, возвышай ее над ос-
тальными. В иных же случаях она заменяет исчезнувшую
функцию вещи или института, которые временно лишились
данной функции, и таким образом сохраняет их для нового
употребления и новых функций и т. д. Тем самым эстети-
ческая функция включена в общественный процесс.
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Эстетическая норма, регулятор эстетической функ-
ции, — это не окаменевшее правило, а сложный, постоянно
обновляющийся процесс. Своим расслоением на нормы более
старые и более «молодые», более низкие и более высокие
и т. д., а также изменениями этого расслоения она вклю-
чается в процесс общественного развития, то знаменуя при-
надлежность отдельной личности к определенной обществен-
ной среде, то свидетельствуя о ее переходе из одного слоя
в другой, то сопровождая сдвиги в общей структуре общества
и сигнализируя о них.
Наконец, и эстетическая ценность, находящая себе при-
менение главным образом в искусстве, где эстетическая
норма скорее нарушается, чем сохраняется, по своей сущ-
ности принадлежит к социальным явлениям. Не только
изменчивость актуальных эстетических оценок, но и по-
стоянство объективной эстетической ценности должно вы-
водиться из взаимоотношений между искусством и обще-
ством. Эстетическая ценность входит в тесное соприкосно-
вение со всеми внеэстетическими ценностями,
содержащимися в произведении, а посредством их и со всей
системой ценностей, определяющих жизненную практику
коллектива, которым произведение воспринимается. Отно-
шение эстетической ценности ко внеэстетическим характе-
ризуется тем, что эстетическая ценность преобладает над
остальными, но не нарушает их, а только объединяет в
целое. Хотя при этом она и прерывает связь каждой из
них в отдельности с соответствующей ценностью, имеющей
практическую силу, но зато делает возможным активное
влияние всего комплекса внеэстетических ценностей про-
изведения на ту общую позицию, которую отдельные лич-
ности как члены коллектива занимают по отношению к
действительности с целью ее преобразования. Посредством
эстетической ценности искусство, таким образом, прямо
воздействует на самые главные регуляторы человеческого
поведения и мышления — на чувственное и волевое отно-
шение человека к миру, отличаясь этим от науки и фило-
софии, оказывающих влияние на человека посредством мыс-
лительного процесса.
Итак, эстетическое, т. е. сфера действия эстетической
функции, нормы и ценности, охватывающая всю безгра-
ничную область человеческой деятельности, является важ-
ным и многогранным фактором жизненной практики, и
широте и значению этой сферы не сответствуют те эсте-
120
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
тические теории, которые ограничиваются каким-либо од-
ним из многочисленных аспектов эстетического, провозгла-
шая целью эстетической преднамеренности только наслаж-
дение, или эмоциональное возбуждение, или выразитель-
ность, или познание и т. д. Эстетическое, особенно в своем
высшем проявлении — искусстве, — включает в себя все
эти и еще многие другие стороны; но на долю каждой из
них выпадает лишь такая роль, какая ей принадлежит при
формировании общего отношения человека к миру.
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
Еще не так давно на вопрос^ что такое рстетика, сте-
реотипно отвечали: «наука о прекрасном». )В результате
этого многие представляли себе — а возможно, и до сих
пор представляют — ученого-эстетика как существо, пре-
тендующее на право указывать людям, что они должны
считать прекрасным, а иногда и на право указывать самим
художникам, как они должны создавать прекрасое. Ну так
вот, уже довольно давно эстетика осознала, что, предпи-
сывая правила красоты, она лишь усваивает определенный
художественный канон данной эпохи, причем чаще всего
и, можно сказать, роковым образом оказывается, что канон
этот весьма почтенного возраста. Современная эстетика не
осмеливается предписывать не только правила красоты, но
и правила вкуса: если представление о сухом педанте,
сердито поучающем художника и публику, способно вну-
шить трепет, то еще более ужасно представление об «эстете»
начала этого века, эстете, подчас прикрывающем душевную
пустоту эстетической гиперестезией. Все это (да и не только
это) не эстетика. Нам остается договориться о том, что же
входит в это понятие. Ведь если мы даже поняли, что
эстетика — вполне честная и трезвая наука, этим еще не
сказано все необходимое для нашей цели. Итак, пытаясь
дать определение эстетики, я не нахожу лучшего решения,
как назвать ее наукой об эстетической функции, ее про-
явлениях и ее носителях. Дело, конечно, в том, что именно
мы подразумеваем под несколько неясным обозначением
«эстетическая функция”. Начнем, следуя испытанному ме-
121
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тоду повествования, от Адама. Сначала мы вообще не будем
касаться эстетической функции — это понятие всплывет
лишь через некоторое время. В первую очередь выскажем
несколько замечаний о различных аспектах отношения че-
ловека к действительности, к миру, который его окружает.
Он различным образом, например, относится к действи-
тельности, когда действует практически, когда познает ее
теоретически, научно и когда воспринимает ее через призму
религии. Каждая из этих позиций, если человек встает на
нее, захватывает его целиком, овладевает всеми его спо-
собностями и определенным способом направляет их. Хотя,
как мы вскоре увидим, не исключена возможность взаимо-
проникновения, параллельного воздействия и т. д. этих раз-
ных позиций; часто бывает также, что они себя взаимо-
исключают, препятствуют друг другу, взаимонарушают свои
действия именно потому, что каждая из них требует в
данный конкретный момент иной направленности всех че-
ловеческих способностей, всей человеческой личности. Каж-
дая из этих позиций направлена на известную цель, самой
позицией намечаемую, конечно, лишь в общих контурах и
обретающую определенность только в зависимости от кон-
кретной задачи, которая в данную минуту должна быть
решена в рамках этой позиции. Так возникает богатая
шкала оттенков, особенно явственно различимая в практи-
ческой позиции. Практически, т. е. на какое-то действие,
в равной мере нацелен и ремесленник, занятый своей ра-
ботой, и коммерсант при сделке, и дипломат во время
политических переговоров. Как видно из этих примеров,
здесь существует чрезвычайно большое многообразие
средств, подходов и т. д. Для достижения цели необходима
деятельность и определенные инструменты. Об инструмен-
тах и деятельности, пригодных для достижения определен-
ной цели, мы говорим, что они способны функционировать
применительно к этой цели, что они являются носителями
той или иной функции. Инструмент деятельности — это
часто вещь постоянная, существующая и вне действия. Но
и в этом случае инструмент, приспособленный к опреде-
ленной деятельности, к достижению определенной цели,
заключает в своем устройстве знаки этой приспособленно-
сти. Таким образом, функция предстает перед нами не
только как случайный способ использования какой-либо
вещи, но и как постоянное свойство этой функции.
Перейдем теперь к эстетической функции. И для нее
122
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
источником и указателем направления служит одна из ос-
новных позиций, характеризующих отношение человека к
действительности, а именно эстетическая позиция. Каковы
характерные особенности этой позиции? Чем она отличается
от остальных позиций? Попытаемся сравнить их. Если мы
относимся к действительности практически, для нас важно
непосредственное воздействие на нее. Когда мы занимаем
практическую позицию, смысл нашей деятельности заклю-
чается в том, что своим вмешательством мы хотим каким-то
образом изменить действительность, и этому результату,
который предвидим, мы целиком подчиняем свою деятель-
ность и выбор ее инструментов. При выборе инструментов
для нас представляют ценность лишь те их свойства, которые
пригодны для достижения ожидаемого результата деятель-
ности, — остальные свойства этих инструментов нам без-
различны, более того, они для нас как бы не существуют.
Известно — и этот момент был достаточно часто использо-
ван в юмористической литературе, — что люди разных про-
фессий, имея дело с одним и тем же материалом, видят
его каждый по-своему: для лесничего лес — это раститель-
ные породы, для столяра, бондаря и колесника — это кла-
довая древесины, для охотника — место, где скрываются
звери, и наконец, если хотите, для детей — это место, где
растет малина и земляника. Практическую позицию метко
охарактеризовал философ: «Человек должен жить, а жизнь
требует, чтобы мы воспринимали вещи в зависимости от
того, какое отношение они имеют к нашим потребностям.
Жизнь заключается в деятельности. Жить означает прини-
мать от вещей лишь полезные для нас впечатления й со-
ответствующим образом реагировать на них; остальные впе-
чатления должны быть затемнены или доходить до нас лишь
смутно. Я вижу и слышу из вашего мира лишь то, что
выбирают из него мои органы чувств с целью руководства
моим поведением... Мои чувства и мое сознание предостав-
ляют мне лишь практически упрощенный образ действи-
тельности». ,
Так обстоит дело с практической позицией. Обратимся
теперь к позиции теоретической, познавательной. И в том
случае, когда мы подходим к действительности, с целью
познать ее, действительность, которая на этот раз является
материалом познания, предстает перед нами лишь с той
стороны, которую мы хотим познать. И на этот раз вещь,
которую мы делаем предметом познания, не является для
123
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
нас сама по себе целью. На основе совпадения определенных
ее свойств со свойствами других вещей происходит процесс
включения ее в определенное понятие, она становится зве-
ном более широких взаимосвязей. Цель познавательной
деятельности — установление общих закономерностей.
Итак, познавательная позиция, точно так же как практи-
ческая позиция, нацелена куда-то за действительность, ко-
торая в данную минуту у нас под руками и перед глазами.
Перейдем к религиозной позиции — или скорее магиче-
ски-религиозной, если мы хотим выразить в названии всю
широту этой области. Здесь мы уже на иной почве, чем
при практической и теоретической позициях. Дело в том,
что каждый факт действительности, вступающий в сферу
действия магически-религиозной позиции, становится своего
рода знаком, становится им сразу же, как только оказы-
вается в этой сфере. Разумеется, уже теоретическая позиция
характеризуется тем, что превращает действительность в
знак, т. е. в понятие, но здесь речь идет именно о превра-
щении, которое не предстает как нечто самоочевидное,
заранее данное, а требует познавательных усилий. При
магически-религиозной позиции факты действительности не
превращаются в знаки, а просто являются ими по самому
своему существу; поэтому они и способны действовать как
то, что они заменяют (амулет и т. п.). Это знаки-символы.
И наконец — эстетическая позиция. Вступая в ее сфе-
ру, действительность также приобретает характер знака.
Возьмем конкретный пример — хотя бы физические упраж-
нения. Пока физические упражненния понимаются в своей
практической функции (укрепление тела, тренировка лов-
кости и т.д.), деятельность, которую при их выполнении
осуществляет тело, оценивается лишь применительно к этим
результатам, как средство к их достижению. Но предполо-
жим, что добавляется или даже становится преобладающей
эстетическая точка зрения. Тотчас деятельность, осущест-
вляемая во время упражнений, приобретает ценность сама
по себе, и внимание будет обращено на все ее этапы и
подробности. Как объяснить эту перемену? И здесь дейст-
вительность, вступая в сферу эстетической позиции, ста-
новится знаком, причем, разумеется, знаком особого рода,
отличным от знака магически-религиозного. Когда речь шла
о магически-религиозном знаке, внимание, как мы видели,
было обращено не на сам знак, а на то, что стояло за ним,
на то, что он замещал, на таинственную силу или божество.
124
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
(Для этой позиции и для особенностей магически-религи-
озного знака характерно учение о пресуществлении — свой-
ства хлеба и вина сохраняются, но сущность изменяется:
хлеб и вино по своей сущности становятся телом Хри-
стовым и Христовой кровью.) При эстетическом знаке вни-
мание, наоборот, сосредоточивается на самой действитель-
ности, которая становится знаком: перед глазами воспри-
нимающего раскрывается все богатство ее свойств, а тем
самым и все богатство, вся сложность акта восприятия.
Вещь, которая становится эстетическим знаком, обнаружи-
вает, дает почувствовать человеку отношение между ним
и действительностью. Тем же способом, каким человек вос-
принимает и чувствует определенную, данную ему дейст-
вительность, к которой он как раз в этот момент подходит
с эстетической позиции, может восприниматься и ощущаться
любая действительность, весь универсум. Поэтому явление,
применительно к которому мы занимаем эстетическую по-
зицию, становится знаком и знаков sui generis*, поскольку
указывать на нечто вне самого себя — это именно свойство
знака. Эстетический знак указывает на все явления дейст-
вительности, которые человек пережил или еще может пе-
режить, на весь универсум вещей и действий. Способ ор-
ганизации предмета, оказавшегося в сфере эстетической
позиции, предмета, который стал носителем эстетической
функции, дает определенное направление взгляду на дей-
ствительность в целом. В еще большей степени это отно-
сится, разумеется, к художественному произведению, ко-
торое создается непосредственно с той целью, чтобы восп-
ринимающий занял эстетическую позицию. Как бы ни был
мал участок действительности, который оно изображает,
художественное произведение, даже в тех случаях, когда
оно — как это бывает, например, в музыкальных творени-
ях — не изображает ничего, как эстетический знак содер-
жит в себе потенциальное свойство указывать на действи-
тельность в целом, устанавливать отношение человека ко
вселенной и выражать его. Носителем эстетической функции
может быть не только искусство: любое явление, любое
действие, любой продукт человеческой деятельности может
стать для отдельного человека и для всего общества эсте-
тическим знаком.
Вот что я хотел сказать о разных позициях, вытекающих
♦ своего рода (лат.).
125
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
из различного отношения человека к действительности. Та-
ких позиций мы выделили четыре: практическую, теоре-
тическую, магически-религиозную и эстетическую. Это
основные позиции, и путем их дальнейшей дифференциа-
ции, а порой комбинирования и слияния возникают даль-
нейшие позиции. Практическая и теоретическая позиции
касаются самой действительности, которую либо прямо из-
меняют (практическая позиция), либо подготавливают воз-
можность более действенного вторжения в нее путем ее
познания (теоретическая позиция). Магически-религиозная
позиция и эстетическая позиция уже одним своим прикос-
новением к действительности превращают ее в знак. Сле-
довательно, две эти позиции и соответствующие им функции
более близки друг к другу, чем каждая из них к двум
остальным позициям, и потому они могут быть объединены
под общим обозначением знаковых функций. Тем не менее
эстетическая позиция и эстетическая функция в известном
смысле противостоят всем остальным позициям и функциям
и как бы держатся особняком. Ни одна из остальных позиций
и ни одна из остальных функций не сосредоточивается на
знаке. Прежде всего они обращают внимание на то, что
знак обозначает, на что указывает. Для практической фун-
кции знак, в той мере, в какой она его йспользует (на-
пример, знак языковой — слово), лишь инструмент каких-то
более сложных действий, для теоретической (познаватель-
ной) функции знак (понятие и выражающее его слово) —
это опять-таки средства для овладения действительностью;
для магически-религиозной функции важен не столько сим-
вол, сколько та незримая сила, которую он воплощает.
Только для эстетической функции важен сам знак, та вос-
принимаемая органами чувств вещь, которая взяла на себя
задачу нести значение, на что-то указывать. Лишь благодаря
этому эстетический знак в известной мере вознесен над
действительностью, освобожден от прямой связи с вещью,
событием и т. д., которые он изображает (действие романа,
сюжет картины как факты действительности, непосредст-
венно изображаемой в произведении), и способен обозначать
общее, ни к какому конкретному факту не привязанное
отношение человека к универсуму. Эстетическая функция
предстает, таким образом, известным противовесом, изве-
стной потивоположностью остальным функциям. Для всех
остальных функций вещи, которыми они овладевают в своих
целях, из которых делают своих носителей, свои инстру-
126
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
менты, имеют ценность лишь в той степени, в какой они
отвечают цели, достижению которой служит данная фун-
кция. Только для эстетической функции носитель функции
представляет ценность сам по себе, представляет ценность
ввиду способа, каким он создан и формируется.
С какой целью мы излагали все это, намереваясь сказать
о значении эстетики для жизни? Чтобы определить широту
сферы эстетического, являющегося предметом эстетики, и
ее место в повседневной жизни. Мы видим, что эстетическая
функция представляет собой известный противовес всем
остальным функциям, из которых в особенности практиче-
ская функция безусловно необходима для поддержания са-
мого человеческого существования. Добавим, однако, что и
эта функция нуждается в эстетической функции как в
противовесе. Мы уже цитировали слова философа о том,
что практический подход, если мы ограничимся им, обед-
няет, делает односторонним и бесконечно упрощает отно-
шение человека к действительности. И сама практическая
жизнь, и сама борьба человека за существование, вступая
в которую он сталкивается с окружающей его действитель-
ностью, в конце концов понесли бы ущерб от такого обед-
нения. Если человек вынужден постоянно вновь и вновь
вступать в борьбу с действительностью, необходимо, чтобы
он подходил к этой действительности каждый раз с новой
стороны, чтобы он вновь и вновь открывал до той поры не
использованные ее стороны и возможности. Если бы он
ограничился исключительно практическим отношением к
миру, это со всей очевидностью в конечном счете привело
бы его к полному автоматизму, к тому, что его внимание
привлекали бы лишь завоеванные и исчерпанные стороны
жизни. Только эстетическая функция позволяет человеку
выступать по отношению к универсуму в роли чужеземца,
который всегда оказывается в незнакомом крае и воспри-
нимает окружающее с непритупленным и настороженным
вниманием, всегда заново осознает себя благодаря тому,
что проецирует себя в окружающую действительность, и
познает эту действительность благодаря тому, что измеряет
ее собою. В таком же отношении к эстетической позиции
и эстетической функции находятся и остальные позиции и
функции. Нет человеческого действия и нет вещи, в которых
не нашлось бы места для эстетической функции, даже если
эти действия и вещи служат иным функциям. Из фактов,
принадлежащих области практической функции, назовем
127
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
лишь — как наиболее наглядные примеры — различные ро-
ды ремесленной деятельности и ее продукты (свою эстети-
ческую сторону имеют, например, не только типографское
или в еще большей степени ювелирное искусство, но и
ремесло портного или сапожника); всякий раз, когда в
каком-нибудь из ремесел начинает подчеркиваться эстети-
ческая сторона, следствием этого становится и совершенст-
вование технической стороны. В качестве еще некоторых
примеров применения эстетической функции в практиче-
ской. сфере возьмем физические упражнения, физическую
культуру, о чем мы уже упоминали, или поведение в об-
ществе, правила и привычки человеческого общения. При
различных формах общения важность эстетического аспекта
как помощника и сопровождающего практической функции
особенно очевидна: стирание противоречии, приобретение
симпатий, сохранение личного достоинства и другие подо-
бные потребности человеческого общения находят ценную
опору в том особом виде незаинтересованного и спокойного
наслаждения, которым сопровождается эстетическая пози-
ция. Обратимся далее в теоретической функции. Может
показаться, что весьма строго ограниченная и весьма спе-
цифичная сфера познания исключает какие-либо посторон-
ние элементы. И все же психология творчества неоднократно
подчеркивала и экспериментально доказала родственность
научной и художественной фантазии. Из множества фактов,
которые при этом называют, непосредственно явствует, что
эстетические элементы присутствуют в самом процессе на-
учного творчества. Часто приводят как пример случай с
химиком Кекуле фон Страдониц . Графическая форма хи-
мической формулы, которую он долго искал, первоначально
всплыла в его подсознании в виде орнаментальной фигуры —
свернувшейся змеи, жалящей собственное тело. Но и ре-
зультат научной работы — научное решение также иногда
носит следы эстетической функции: простое и рациональное
решение математической проблемы, наряду со своей позна-
вательной ценностью, может вызывать и эстетическое удов-
летворение. Наконец, в некоторых науках эстетическая
функция прямо становится составной частью научного по-
знания: как известно, часто выдвигался тезис, что история
находится на самом рубеже между искусством и наукой.
Рассмотрим теперь отношение между эстетической и
магически-религиозной функциями. Отношение это особо
тесное ввиду родственности обеих функций, о которой мы
128
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
уже говорили выше (обе они превращают действительность,
которой овладели, в знак, причем сразу же, мгновенно).
Нередко даже нельзя отличить одну функцию от другой:
так, например, в примитивном орнаменте они полностью
сливаются; вспомним также о тесной связи Многих культов
с изобразительными искусствами, о религиозных корнях
театра. Случается даже, что между обеими функциями
возникает конкуренция, поскольку эстетическая функция
пытается подменить собой религиозную. Отсюда резкие вы-
ступления против присутствия искусства в храмах (каким
было, например, выступление Савонаролы2); ср. также эс-
тетически мотивированную религиозность романтиков, на-
пример Шатобриана.
В последних фразах мы уже несколько раз произносили
слово «искусство», хотя нашим намерением было прежде
всего показать, насколько эстетическая позиция пронизы-
вает все действия человека и в том числе как раз действия
во внехудожественной сфере. Искусство объединяет само-
стоятельную группу явлений. Речь идет уже не о явлениях,
которые обретают эстетическую функцию лишь как функ-
цию побочную, выступающую наряду с главной, причем
порой обретают ее и случайно, а о творениях, преднамеренно
создаваемых для того, чтобы эстетическое воздействие стало
главным их назначением. Было бы, разумеется, ошибкой
предполагать, что искусство ввиду этого не входит в главу
«эстетическое и жизнь», что это нечто вроде тихого оазиса
эстетического созерцания в стороне от собственного процесса
жизни. Потребовался бы особый разговор, чтобы перечис-
лить все виды связи искусства с жизнью, все виды вмеша-
тельства искусства в течение и развитие внеэстетических
функций и все виды вторжения внеэстетических интересов
в развитие искусства. Поэтому ограничимся лишь несколь-
кими примерами. Прежде всего каждое из искусств в конце
концов каким-то образом само вливается в область прак-
тических функций, т. е. наиболее типичных проявлений
того, что мы называем «жизнью», «повседневной жизнью».
В этом плане характерно положение архитектуры. Всякое
сооружение, всякое здание, начиная с риги и кончая ка-
федральным собором, представляет собой творение зодче-
ства. Спор о том, где на этой длинной шкале начинается
искусство и прекращается творчество с преимущественно
практической ориентацией, вечно остается нерешенным.
Можно было бы даже утверждать, что постоянные колебания
5—888
129
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
от одной переходной стадии к другой выполняют роль на-
иболее сильных пружин в развитии архитектуры. Как из-
вестно, архитектура, ее теория и практика, недавно пере-
жили период, — собственно, до сих пор еще полностью не
закончившийся, — когда эстетическая функция целиком и
полностью изгонялась из архитектуры, когда целесообраз-
ность (имеется в виду практическая целесообразность) была
провозглашена единственным решающим критерием совер-
шенства строительного объекта. Однако архитектурная
практика вскоре показала, что иногда за кажущейся целе-
сообразностью скрывалось неосознанное самим архитекто-
ром стремление к эстетическому совершенству, более того —
порой случалось и так, что в законченном и введенном в
эксплуатацию здании обнаруживались отдельные недостат-
ки, которые при ближайшем рассмотрении представали как
следствие чрезмерного увлечения мнимой целесообразно-
стью во имя эстетического воздействия здания. Вскоре и
теория архитектуры начала указывать на то, что, наряду
с материальными потребностями (например, достаточным
пространством и возможностью непринужденного передви-
жения в нем), у человека, использующего здание, есть
столь же настоятельные потребности и запросы «психиче-
ского» свойства, к числу которых бесспорно относится и
потребность в эстетическом наслаждении. И в самое по-
следнее время мы становимся свидетелями того, как ху-
дожники-архитекторы — самая компетентная в этом отно-
шении инстанция — начинают думать о практической не-
обходимости и практической обоснованности орнамента, т. е.
об использовании такого элемента строительного дела, ко-
торый носит наиболее ярко выраженный эстетический ха-
рактер. Этот пример, который мы для наглядности разобрали
несколько подробнее, показывает нам явственнее, чем дру-
гие, что даже искусство, творчество, характерный признак
которого — преобладание эстетической функции над ос-
тальными, не находится вне области практической жизни.
Точно так же можно было бы показать на примере театра,
в какой степени этот вид искусства является составной
частью процесса жизни. Достаточно вспомнить, например,
историю чешского театра 1-й половины XIX века, его стрем-
ление к самостоятельности, борьбу за возникновение первой
большой чешской сцены, чтобы стало ясно, какая богатая
смесь практических интересов (например, стремление про-
будить национальное сознание, стремление воспитывать на-
130
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
цию) действовала здесь наряду с эстетическим интересом
и даже преобладала над ним. А литература? Напомню лишь
о почти анекдотических упреках Петра Безруча, причем
упреках весьма агрессивных (например, в стихотворении
«Читателю стихов» ), в адрес тех, кто хочет понимать его
стихи как творения эстетические, игнорируя выраженный
в них практически направленный протест.
Но и в том случае, если искусство остается верным
своему естественному назначению, т. е. эстетическому воз-
действию, оно не исключает себя этим из жизненного кон-
текста. Если существуют периоды, подчеркивающие ото-
рванность искусства от повседневной жизни, этот их протест
против связи искусства с жизненной практикой нужно по-
нимать как отклонение от основной линии развития, как
реакцию на противоположную крайность, когда искусство
растворяется в различных внехудожественных интересах и
видах деятельности. Между искусством и жизненной прак-
тикой, разумеется, существует постоянное напряжение, бо-
лее того — никогда не прекращающийся спор. Но именно
это напряжение делает искусство вечно живым бродилом
человеческой жизни.
Итак, мы видели, что эстетическое, эстетическая пози-
ция и эстетическая функция неустанно наполняют жизнь,
что в жизненном контексте нет места, куда не могла бы
проникнуть эстетическая функция. Эстетическое — это,
следовательно, не просто пена на поверхности жизненного
моря, не просто украшение жизни, а неотъемлемый элемент
всего жизненного процесса. Почему мы излагали все это,
когда нам нужно было говорить совсем не об эстетическом,
а об эстетике? Потому что необходимо было обрисовать
фундамент, на котором эстетика, наука об эстетической
позиции и эстетической функции, может основываться в
жизни. Именно потому, что эстетическое проявляет себя
так широко и многообразно, — а можно сказать, что в
современной жизни, придающей важное значение эстети-
ческой культуре, оно начинает находить себе применение
значительно более явственно, чем еще в недавнем про-
шлом, — оно нуждается в теоретической опоре. Мы уже
сказали, что современная эстетика не является нормативной
наукой, стремящейся решать, что прекрасно и что безоб-
разно, в чем сказывается вкус и в чем безвкусие, что
отвечает эстетическим требованиям и что им не отвечает.
Добавим к этому, что современная эстетика, рассматривая
5*
131
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
проблематику принадлежащей ей сферы без всяких пред-
рассудков, пришла даже к выводу, что в область так на-
зываемой безвкусицы или невоспитанного вкуса — часто
лишь кажущегося невоспитанным — иногда уходят своими
корнями эстетические явления самого высшего порядка.
Наученная опытом истории, эстетика созцает, что граница
между вкусом и безвкусицей порой диктуется лишь тради-
цией эпохи: народное искусство, поднятое на щит роман-
тизмом и с тех пор многократно оплодотворявшее художе-
ственное творчество, до романтизма считалось дикой пус-
тошью, не заслуживающей серьезного внимания. Вслед за
народным искусством из тьмы забвения всплыли и другие,
временно еще более презираемые территории эстетической
области, как, например, ярмарочная песня или живопись
вывесок. Когда мы стоим перед картинами Анри Руссо, мы
имеем все основания испытывать сомнения относительно
того, что в его живопись вошло из примитивного народного
творчества, а что из монументальных устремлений, великих
мастеров европейской живописи.
Итак, сейчас в меньшей степени, чем в какую-либо
иную эпоху, эстетика хотела бы и могла бы занять судейское
кресло, выходя тем самым за рамки своего естественнейшего
предназначения как науки, устанавливающей, объясняющей
и обнаруживающей закономерности эстетического процесса.
Современная эстетика сознает, что открытия в сфере эсте-
тического могут иметь своим источником только эстетически
направленное творчество, независимо от того, будет ли оно
художественным или нехудожественным. И она решительно
отвергает мысль, высказываемую иногда намеком, а порой
прямо и беззастенчиво, о том, что эстетика должна играть
роль поставщицы рецептов, по которым будут делаться
поэмы и пьесы. После всех этих оговорок следует сказать
и нечто положительное: хотя познание и не обгоняет раз-
витие и не судит, довольствуясь собственным назначени-
ем — быть именно познанием, борьбой за теоретическое
овладение действительностью, но при этом оно, порой даже
непроизвольно, всегда воздействует на практику. Вспомним,
например, о борьбе за эстетическую культуру, все настой-
чивее заявляющей о себе в эпоху, которая старается строить
все свои культурные устремления на как можно более ши-
роком социальном фундаменте: борьба за культуру речи,
культуру жилья, культуру художественного воспитания и
т. д. Как всякое, так и эстетическое воспитание требует
132
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
солидной теоретической основы. Тщетно было бы растол-
ковать кому-либо, что в его собственных интересах красиво
изъясняться, если вы не дадите своему собеседнику воз-
можности заглянуть в тонкую и сложную конструкцию
языка, если вы не научите его понимать, каким образом
отдельные его элементы несут эстетическую функцию и
каким образом эта эстетическая функция способствует не
только эстетическому совершенству, но и практической по-
лезности языкового высказывания. Существуют, однако, и
другие пути, которыми эстетика проникает в эстетическую
практику. Возьмем, например, само отношение к художе-
ственному творчеству. Разумеется, подлинно творческий
художник вряд ли, как уже было сказано, позволит кому-
нибудь вмешиваться в свое творчество. Есть, однако, иная
возможность контакта теории искусства с художественной
практикой. Когда-то — и не столь давно — она была
сформулирована одним таким художником примерно сле-
дующим образом: как только получают рациональное объ-
яснение принципы, которыми художник подсознательно ру-
ководствовался в своем творчестве, он сразу же чувствует
настойчивую потребность подняться выше, превзойти то,
что в будущем станет доступным каждому эпигону. Итак,
мы имеем в виду негативный контакт искусства с эстетикой,
но все же контакт интенсивный, и можно было бы даже
сказать, что это идеальный пример подобного контакта.
Впрочем, совсем недавно мы слышали жалобу молодого
поэтического поколения — не знаю, конечно, в достаточной-
ли мере подкрепленную сознанием собственной силы и уве-
ренности в себе, — что среди него нет теоретиков.
Разумеется, подобного рода контакты с искусством эс-
тетика разделяет с теориями отдельных видов искусства.
Резких границ здесь не существует; можно говорить о теории
поэтического искусства как об эстетике поэтического ис-
кусства. Сама эстетика как общая философия эстетического
тут выполняет, естественно, функцию соединительного зве-
на, и, как мы видели, ее интересы выходят далеко за
пределы самого искусства. Тем не менее она не может
отказаться от теснейшей связи с живым материалом. Эсте-
тические системы, охватывающие всю сферу эстетического,
часто создавались и будут создаваться преимущественно на
базе определенного вида искусства: есть эстетические сис-
темы, явственно опирающиеся на литературу, — как, на-
пример, у нас система Дурдика4, иные системы в последней
133
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
инстанции основываются на музыке — как, например, у
нас система Гостинского.
Таким образом, эстетика находится на грани множества
областей: она имеет отношение к разным сферам практи-
ческой жизни, к искусству и художественному творчеству,
к конкретным наукам об отдельных видах искусства. До-
бавим сюда еще связь — активную и пассивную — со
многими науками, собственным материалом которых не
является эстетическое, например с психологией, социоло-
гией, лингвистикой. Иногда — в какой-то период разви-
тия — эти связи могут быть столь тесны, что дажех пред-
ставляют угрозу самобытности эстетики. Подчас чудилось,
что эстетика исчезнет, поглощенная психологией, порой —
что она вот-вот растворится в социологии, порой же — у
Кроче — она, хотя и с некоторым опережением времени,
отождествлялась с лингвистикой. Но всякий раз, из каждого
такого, казалось бы, смертельного объятия она выходила
обновленной и еще более утвердившейся в своей автоном-
ности. В наше время, когда ею пройден уже значительный
путь развития, в котором — примерно с начала века —
она опирается на понятия эстетической функций и эстети-
ческого знака, эстетика стоит на позициях своей самобыт-
ности тверже, чем когда-либо до этого, и не только усваивает
опыт смежных наук, но и делится им сама. Она идет
навстречу интересам психологии, демонстрируя различие
между аутентичным документом и фактом с эстетической
направленностью, который прежде, чем им может вополь-
зоваться психология, должен быть подвергнут эстетическому
анализу, чтобы выяснилось, какую роль играет в нем до-
кументальность и какую эстетически направленная дефор-
мация действительности. А если и в наше время пишутся
работы, где художественные явления рассматриваются как
аутентичный материал, например для психиатрических ис-
следований, то виновно в этом не нынешнее состояние
эстетики. Скорее в этом виновны те, до кого все еще не
дошло это различие. Вклад эстетики в социологию заклю-
чается не только в том, что она совместно с социологией,
но несколько с иной точки зрения продумывает проблемы
взаимоотношения между искусством и обществом, но и в
том, что эстетика показала: подобно расчлененному на слои
обществу, искусство и вообще вся сфера эстетического также
расчленены на отдельные «этажи» (искусство «низкое» и
«высокое», причем расслоение продолжается и в каждой из
134
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
этих областей) и расслоение искусства имеет определенное,
хотя и далеко не прямое отношение к общественному рас-
слоению. Установление этого факта раскрыло широкий круг
проблем, разработка и обдумывание которых еще далеко
не закончены. Лингвистике современная эстетика протяги-
вает руку в вопросах эстетическго в языке и в проблематике
поэтического языка: оказывается — и те, кто хочет видеть,
видят это все более отчетливо, — что эстетика, рассмат-
ривающая язык с точки зрения эстетической функции, мо-
жет весьма отчетливо обнаруживать именно динамику язы-
ковой системы, ибо эстетическое в языке как раз с целью
обновления эстетического воздействия непрерывно пере-
группировывает строение языковой системы, выдвигая на
первый план то один, то другой элемент, и тем самым дает
возможность разглядеть многие явления и многие языковые
процессы, которые при практическом использовании языка
затенены коммуникативным назначением языкового
знака. Не забудем, наконец, об отношении завершающем
и кульминационном, отношении, связывающем эстетику с
той областью теоретического мышления, из которой она
вышла и к которой вновь и вновь возвращается, а именно
с философией. Недавно было отмечено, что эстетическая
функция составляет интегрирующую составную часть про-
цесса философского мышления, и было конкретно показано
(Шарлем Лало), что многие особенности философских си-
стем, многие связи, соединяющие компоненты их сложной
конструкции, имеют скорее эстетический, чем логический
характер. Все это касалось «формальной» стороны постро-
ения философских систем; тематически, как предмет мысли,
эстетическое также играет значительную роль в философ-
ских системах, о чем свидетельствует система Шопенгауэра,
в которой эстетическому отведена роль одного из основных
метафизических принципов: эстетическое выступает здесь
как противоположность воле, составляющей, по Шопенга-
уэру, основу всех вещей. Но каково взаимоотношение между
эстетикой и философией с точки зрения нашего времени,
бедного на всеобъемлющие философские системы? Когда
нет систем, то тем явственнее выступают на поверхность
отдельные актуальные, порой жгучие проблемы, которые
подготавливает как само своеобычное развитие философии,
так и общий процесс развития в данную эпоху. И по поводу
многих из этих проблем с собственной точки зрения и на
основе собственного материала может сказать свое слово
135
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
эстетика; так, например, отнюдь не случайно в последние
годы в поле зрения эстетики чрезвычайно настойчиво про**
биваются проблемы эстетической нормы и эстетической цен-
ности, вопрос об универсальном и вневременном характере
или, наоборот, об изменчивости эстетической ценности и
т. д. Одновременно и совершенно независимо от эстетики
те же проблемы и столь же настойчиво пробиваются и в
иные области философского мышления: в философию в
узком смысле слова, в философию языка, в философию
права и т. д. Такова, следовательно, роль эстетики в фи-
лософском мышлении и таковы возможности ее активного
вмешательства в развитие этого мышления.
ЗАДАЧИ
ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
Взаимосвязь наук и параллельность их целей в наше
время ощущаются весьма интенсивно. Причиной этого стал
методологический переворот, затронувший в последние де-
сятилетия самые основы научной работы. Фундаменталь-
нейшие научные понятия пришли в движение, в том числе
понятие причинности — наиболее общая формула взаимо-
отношений между вещами. Предшествующий, позитивист-
ский1 период научного развития проходил под знаком не
знающей исключений казуальности: согласно этому взгляду,
явления выстраиваются в бесконечную цепь причин и след-
ствий, цепь, в которой активность всегда достается причине,
а пассивность — следствию. Не только явления материаль-
ного мира, но и само культурное творчество казалось под-
чиненными этому не знающему исключений порядку. Так,
например, состояние искусства в определенную эпоху и у
определенного народа было для Тэна и его школы необхо-
димым следствием состояния общества, его взглядов и при-
вычек, которые в свою очередь ставились в зависимость от
влияния природных условий и т. д. Однако в последнее
время в противоположность этому взгляду все эенергичнее
прокладывает себе дорогу убеждение, что процесс развития
в области культуры подчинен не односторонней зависимости
одних явлений от других, а их взаимодействию: явление
136
ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
не просто пассивно подчиняется другому, а одновременно
активно воздействует на него. Если, например, искусство
отчасти развивается под давлением господствующих обще-
ственных взглядов, то своим развитием оно вместе с тем
активно воздействует на их развитие — в результате между
обеими сторонами существует постоянное напряжение, в
котором с течением времени преобладает то одна, то другая
сторона. Для наук это, разумеется, совершенно иная ра-
бочая предпосылка, чем каузальность, действие которой на
будущее ограничивается областью процессов, имеющих ме-
сто в природе, хотя и здесь ее господство понесло урон. Но
замена понятия каузальности понятием взаимозависимости
не единственный случай радикального изменения основных
понятий в науках, особенно в науках, касающихся куль-
туры. Следовало бы сказать еще хотя бы о понятиях «фун-
кция», «знак», «структура», каждое из которых по-своему
содействует тому обновлению, которое переживают в на-
стоящее время науки о культуре. Однако для нас речь идет
не об общей характеристике этого обновления, а об отра-
жении его в современном состоянии одной только науки —
эстетики. В качестве введения мы хотели лишь указать на
то обстоятельство, что взгляд современной науки на мир и
в особенности как раз на область человеческого творчества
отличается энергетичностыо: при каузальном понимании
свободная инициатива была возможна только в начале ря-
да — дальнейшая последовательность фактов была '7же ре-
зультатом механической необходимости; при современном
понимании, которое исходит из принципа взаимодействия
явлений, каждый последующий этап одновременно и необ-
ходим и случаен — необходим постольку, поскольку он
основывается на предшествующем этапе, случаен и,
следовательно, непредсказуем — потому, что нельзя заранее
предвидеть, какая из двух взаимодействующих сил возоб-
ладает в данную минуту. Ясно, что такое радикальное
изменение основной точки зрения должно было иметь важ-
ные последствия и для самого метода научной работы, и
для ее результатов.
Теперь мы подходим к вопросу, как это обновление
проявляется в современном состоянии эстетики. Для боль-
шей наглядности возьмем за исходную точку то представ-
ление, которое имеет об эстетике широкая общественность.
Эстетика до сих пор воспринимается как наука о прекрас-
ном — при этом, разумеется, вызывает известную долю
137
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
удивления, что еще поныне находятся люди, берущие на
себя ответственность предписывать другим, что нужно счи-
тать прекрасным. Ну так вот, отметим прежде всего, что
понятие прекрасного за последнее время было в эстетике
существенно ограничено и полностью утратило свое ведущее
положение. Пока эстетика строилась на понятии прекрас-
ного, красота воспринималась как нечто парящее над ве-
щами, не зависящее от каждой из них в отдельности и
лишь в далекой от совершенства форме претворенное ими
в действительность. Совершенная красота, понимаемая та-
ким образом, обитает в сфере трансцедентного, а говоря
языком Платона, — в царстве идей. Это метафизическое
понимание прекрасного впервые было поколеблено, когда
во второй половине прошлого века психологическая эстетика
сделала попытку, — частью основанную на непосредствен-
ном эксперименте, — найти фундамент и правила прекрас-
ного в человеческом естестве; она исходила из предпосылки,
что всем людям должны нравиться одни и те же вещи,
поскольку они именно люди, поскольку их зрение, слух и
т. д. устроены одинаково. Попытка эта, хотя и в высшей
степени важная для дальнейшего развития эстетики, по-
терпела крах или — лучше сказать — в корне подорвала
сама себя: исследования, которые должны были доказать
идентичность суждения о прекрасном у самых разных лю-
дей, эту идентичность опровергли. В процессе последующего
развития был сделан решительный шаг вперед: вместо по-
нятия прекрасного, дискредитированного эксперименталь-
ными исследованиями, основным понятием эстетики стало
понятие эстетического, эстетической позиции, эстетического
расположения духа. Уже слова «позиция» и «расположение
духа» подчеркивают, что эстетическое — в отличие от
метафизического понятия прекрасного — полностью коре-
нится в человеке. Оно не парит над вещами, а заключено
в отношении, которое человек обретает к вещам, созерцая
или создавая их. В каждом человеческом деянии есть три
стороны: практическая, теоретическая и эстетическая; ины-
ми словами — каждое человеческое деяние и его последствия
неизбежно и по самому своему существу имеют три основные
функции: практическую, теоретическую и эстетическую.
Практическая функция — самая главная, из нее вытекают
человеческие действия, делающие возможным само суще-
ствование человека; эта функция покоится на отношении
между действующим субъектом и вещами. Воля человека
138
ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
проецируется в мир вещей как цель действия, вещь же
представляется лишь средством для достижения цели, ин-
струментом действия. Поэтому с точки зрения практиче-
ского расположения духа мы воспринимаем только те свой-
ства вещей, которые эффективно используются для дости-
жения той или иной цели. К практической позиции
применимы остроумные слова философа: «Я вижу и слышу
из внешнего мира лишь то, что выбирают из него мои
органы чувств с целью руководства моим поведением... Мои
чувства и мое сознание представляют мне лишь практически
упрощенный образ действительности». Но и вторая из этих
трех основных позиций — позиция теоретическая — упро-
щает действительность. Хотя в отличие от практической
позиции она имеет тенденцию к самому радикальному ис-
ключению субъекта (отсюда объективность акта научного
познания), тем не менее подчеркиваются ею не отдельные
вещи сами по себе, а взаимоотношения вещей. Конечная
цель научного познания — закон (например, закон приро-
ды), который формулирует как можно более общее и не
имеющее исключений функционирование определенного от-
ношения вне связи с конкретными свойствами вещей, в
подобное отношение вступающих, и обращает внимание
только на те их свойства, которые важны для данного
отношения. Конкретная реальность вещи, разумеется, дана
лишь всем бесконечно разнообразным комплексом ее
свойств, но этот комплекс остается вне поля зрения иссле-
дователя. Вершины точности научное познание достигает в
математике, которая вообще игнориует качество отдельных
вещей и обращает внимание только на их количество. Итак,
теоретическая позиция в известном смысле еще более ра-
дикально, чем практическая, упрощает видение действи-
тельности. Третья из основных позиций — позиция эсте-
тическая, и единственно эта позиция обращает внимание
прежде всего на вещь саму по себе, на вещь как нечто
единичное, как неисчерпаемо многообразный комплекс
свойств. Вещь не воспринимается здесь ни как средство для
достижения цели, ни как простая подоснова отношений, а
воспринимается как самоцель, и потому принято говорить
о самоцельности эстетического. Из-за этой самоцельности
эстетическое порой провозглашается чем-то излишним, про-
возглашается роскошью, не связанной с основными жиз-
ненными интересами человека. Но мы уже сказали выше,
что эстетическая позиция, — так же как обе остальные, —
139
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
явно или по крайней мере потенциально присутствует в
каждом человеческом деянии, в каждом акте восприятия
или творчества. Применительно к акту творчества позво-
лительно даже утверждать, что чем меньше можно пред-
видеть его результат, тем необходимее участие эстетической
позиции, причем и в тех случаях, когда речь идет о самых
практических видах творчества, например о творчестве тех-
ническом. О практической позиции было сказано, что она
ограничивает вещь только теми ее свойствами, которые
полезны для достижения данной цели. Если же должна
быть достигнута цель новая, небывалая, — а в этом и
состоит сущность практического творчества, — должны быть
использованы новые, до сих пор остававшиеся незамечен-
ными стороны действительности, и открыть их удается как
раз с эстетической позиции и исключительно с этой позиции.
Подобным же образом можно было бы показать и необхо-
димость присутствия эстетической позиции в теоретическом,
научном творчестве. Но и такие формы практической и
теоретической деятельности, которые нельзя назвать твор-
чеством и которые представляют собой скорее повторение
привычного, иногда несут явные следы присутствия эсте-
тического. Поскольку эстетическое вездесуще, оно является
мощным жизненным фактором. Осознав щйроту эстетиче-
ской сферы, современная эстетика считает своей задачей
устанавливать наличие эстетического во всех его подобиях
и облачениях и исследовать динамику его отношения к
практической и теоретической позициям. Это означает ог-
ромное расширение сферы ее интересов и прямое ее вклю-
чение в жизненный круговорот: перед глазами эстетика
чередуются мода, физическое воспитание, формы обще-
ственного, поведения, промышленное и ремесленное произ-
водство, равно как и наука, философия, религия. Во всех
этих областях и во многих других эстетическое проявляет
себя как одна из очень существенных, хотя часто и скрытых
движущих сил. Если стремление расширить сферу интересов
эстетического познания можно назвать борьбой, то борьба
эта радостная, ибо всегда радостнее представлять науку в
виде полной суматохи строительной площадки, чем в виде
здания хотя уже и построенного, но приходящего в ветхость.
Но мы еще не закончили своего обозрения. Остается вторая
его часть, причем столь же существенная, как и первая.
Мы уже сказали, что участие отдельных основных позиций
неравномерно в разных видах человеческой деятельности.
140
ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
Есть виды человеческой деятельности с преимущественно
практической функцией, есть виды с функцией преимуще-
ственно теоретической, в-третьих, наконец, преобладает эс-
тетическая функция. Область человеческой деятельности и
ее продуктов с преобладающей эстетической функцией мы
называем искусством, и оно также, разумеется, входит в
сферу интересов эстетики. Здесь нет возможности рассмат-
ривать всю сложную проблематику искусства в свете воз-
зрений современной эстетики. Но нужно хотя бы упомянуть,
что современная эстетика сосредоточивает все свое внимание
на художественном произведении как вещи, которая пред-
назначена вызывать эстетическое отношение к миру, а от-
нюдь не на том, что окружает произведение. Познание же
произведения строится не на неуловимом душевном состо-
янии, из которого произведение возникло или которое оно
вызывает, а на объективном построении произведения, пред-
назначенном вызывать эстетическое отношение к миру в
каждом, кто способен воспринимать произведение именно
как художественное творение. Целенаправленное создание
произведения представляется современной эстетике как игра
сил, которыми произведение воздействует на человека, как
структура, где каждое реальное свойство произведения как
вещи обретает значение энергии и вступает с иными свой-
ствами в состояние взаимного напряжения: существует вза-
имное напряжение между красками картины, напряжение
между цветовым пятном и линией, ограничивающей его,
между краской и поверхностью, на которую краска нане-
сена, между цветом на картине и реальным цветом изо-
браженного предмета,
между цветом и сюжетом картины. Ни одно свойство не
исключено из этой игры; некоторые из них, разумеется,
участвуют в ней более пассивно, иные более активно, но
пассивность и активность отдельных элементов в процессе
развития меняются местами; так, например, то цвет пре-
обладает над линией (самостоятельно определяя контур),
то линия над цветом, то, наконец, цвет превращается в
линию, создавая цветовой контур, и т. д. Итак, структура
искусства всегда находится в движении. Перед эстетикой в
связи с этим возникает, разумеется, множество задач, на-
чиная с различения отдельных элементов художественного
произведения и кончая взаимным сравнением отдельных
видов искусства (поэтическое искусство, музыка и т. д.),
каждый из которых в свою очередь представляет одну из
141
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сил, составляющих структуру высшего порядка, т. е. искус-
ство в целом. Таковы при нынешнем состоянии эстетики
ее важнейшие перспективы в области искусства: эстетика
стремится стать сравнительной теорией искусства, которая
путем сопоставления разнородных художественных явлений
смогла бы открыть основные законы художественого твор-
чества и тем самым частично и законы человеческого твор-
чества вообще. И здесь, на поле искусства, мы видим со-
временную эстетику посреди задач, лишь намеченных, но
далеко не завершенных, и здесь с полным основанием можно
говорить о радостной борьбе. Какова в ней роль чешской
эстетики? Скажем одной фразой: благодаря своим предше-
ственникам, из числа которых в первую очередь не должны
быть забыты имена Гостинского, Дурдика, Шальды и Зиха,
чешская эстетика собственными силами более систематично
продумала свои современные принципы и основы, чем это
имеет место где бы то ни было.
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ
СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
Вопрос о месте эстетической функции среди прочих фун-
кций, о ее положении в общей структуре функций есть,
собственно, вопрос о роли эстетического вне искусства. Пока
мы смотрим на эстетическое с точки зрения искусства (ра-
зумеется, в современном его понимании), положение эсте-
тической функции не представляет собой проблемы: эсте-
тическая функция всегда проявляет здесь тенденцию к гос-
подству над остальными (конечно, остается еще вопрос,
какой характер имеет это господство, но этого вопроса мы
сейчас касаться не будем). Однако стоит нам выйти за
пределы сферы искусства, как начинаются трудности: с
одной стороны, мы постоянно испытываем искушение счи-
тать эстетическую функцию чем-то второстепенным, чем-то
возможным, но не обязательным: с другой стороны, эсте-
тическая функция как раз вне искусства так часто обращает
на себя наше внимание, возникает в столь разных прояв-
лениях жизни, оказываясь, например, необходимым эле-
ментом нашего жилья, одежды, поведения в обществе и
142
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
т. д., что приходится задуматься о ее роли в общем уст-
ройстве мира. Да и простой взгляд на историю эстетики
подскажет нам, что размышлениями о прекрасном (т. е.
эстетическом) как метафизическом принципе» как факторе
всеобщего миропорядка философия начала заниматься зна-
чительно ранее, чем размышлениями об эстетическом в
искусстве. Платон настолько резко отделял друг от друга
эстетическое вне искусства и эстетическое в искусстве, что
эстетическое вне искусства считал одним из трех высших
принципов бытия, между тем как искусство он почти пол-
ностью изгоняет из своего идеального государства или по
крайней мере подчиняет прямо-таки полицейскому контро-
лю, стремясь целиком поставить его на службу государст-
венному порядку. В новое время, когда эстетическое в
искусстве было признано существенным элементом эстети-
ческого, проблема эстетического вне искусства тем не менее
сохраняет свою метафизическую значимость, например в
гердеровском понятии прекрасного в природе. Еще Рескин
ставил прекрасное в природе решительно выше прекрасного
в искусстве. С упадком метафизического мышления про-
блема прекрасного в природе превращается во второстепен-
ный вопрос, ответ на который чаще всего дается в том
духе, что, мол, прекрасное в природе подчиняется прекрас-
ному в искусстве (как проекция современного художест-
венного канона в восприятии явлений природы). И даль-
нейшие размышления в этом направлении бесплодны. Но
вопрос об эстетическом вне искусства не снимается с по-
вестки дня, а, наоборот, приобретает в настоящее время
особую актуальность. Этому способствует в первую очередь
недавнее развитие искусства и его последствия. В недавнее
время, еще на нашей памяти, в искусстве был сделан ис-
ключительный упор на эстетическую функцию, а для теории
эстетическое и искусство стали почти тождественными по-
нятиями. Высвободившееся таким образом эстетическое
представлялось суверенной самоцельной игрой, от которой
к жизненной практике вели скрытые, подземные ходы. Вме-
сте с тем жизнь вне искусства весьма заметно эстетизиро-
валась: лишь в качестве примера напомним о всякого рода
торговой рекламе, в том числе светящейся, о культуре
жилья, об эстетизации физической культуры (ритмика и
т. п.). В исключительном преобладании эстетической фун-
кции искусство вскоре почувствовало причину своей изо-
лированности и вот уже несколько лет как пытается эту
143
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
изолированность разными путями преодолеть, не собираясь
при этом отказываться от завоеваний предшествующего пе-
риода. Эстетическое же вне искусства осознает само себя
и взывает к нормализации и регламентации. Так, с новой
настоятельностью встает вопрос о положении эстетической
функции среди прочих и естественно связанный с ним
вопрос об эстетическом вне искусства. Вкладом в решение
этих двух вопросов — или скорее пунктирным обозначением
такого решения (ибо речь идет лишь о наброске) — должна
явиться и данная лекция. Начнем с вопроса об эстетическом
вне искусства.
Он не является сейчас жгучим в метафизическом аспек-
те — речь идет не о том, существует или не существует в
универсуме как в целом независимое от человека (и поэтому
внеисторическое) эстетическое вне искусства, а о том, как
эстетическое проявляется в действиях и творениях человека.
Обратим пристальное внимание на возникший в результате
этого сдвиг: теперь речь идет не об исследовании проблемы,
заключено ли эстетическое в самой основе вещей, а о
выяснении, в какой мере оно связано с человеческим ес-
теством; речь идет не об эстетическом как статическом
свойстве вещей, а об эстетическом как энергетическом эле-
менте человеческого поведения. Речь в силу этого идет
также не об отношении эстетического к остальным мета-
физическим принципам, таким как истина и красота, а об
отношении его к другим мотивам и целям человеческого
поведения и творчества.
Все это означает решительный сдвиг и в методах и в
материале размышлений. Вместо понятия прекрасного в
качестве основной методологической предпосылки выступа-
ет понятие функции; вместо явлений природы как материала
выступают акты, из которых слагается человеческое пове-
дение, и результаты этих актов — творения человека. Меж-
ду природой и человеческим творчеством, в особенности
между природой и искусством, существует резкая, почти
непроходимая (кроме исключительных случаев) грань, по-
этому пока проблема эстетического вне искусства рассмат-
ривалась sub specie* прекрасного в природе, могло казаться,
что речь идет о двух отдельных мирах. Если эти миры
нужно было как-то связать, приходилось один из них под-
чинять другому: либо подчинять искусство природе, как это
* с точки зрения (лат.).
144
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
делал, например, Платон, либо, наоборот, природу искус-
ству, признаки чего мы видим уже в неоплатонизме. Ис-
кусство, подчиненное природе, — это в конечном счете
подражание природе, а оригинал совершеннее копии. Если
же, наоборот, природа подчиняется искусству, то в конце
концов это всякий раз делается в соответствии с предпо-
сылкой, что искусство придает окончательный вид природе,
совершенствует ее. Возможен еще третий подход — восп-
ринимать природу и искусство как взаимно не зависимые
и не связанные сферы. Подобные попытки в наше время
предпринимались, начиная с символизма и его теории в
поэзии, а в живописи — начиная с импрессионизма, в
котором природный мотив служит для художника лишь
поводом к творчеству. Применительно к поэтическому ис-
кусству весьма красноречиво высказывание Карасека из
Львовиц: «Нельзя забывать, что художественная и жизнен-
ная правда — две в достаточной мере разные вещи. По-
жалуй, можно сказать, что там, где право искусство, жизнь
едва ли не всегда не права и что о смысле вещей нам
говорит не реальный мир. а наша мечта» («Sodoma»1). Ср.
высказывание Либермана2 о живописи («Malirska fantazie»,
19—20): «Пучок спаржи, букет роз — достаточный материал
для мастерского произведения; уродливая или красивая де-
вушка, Аполлон или безобразный карлик — из всего можно
создать мастерское произведение, разумеется, при наличии
богатой фантазии... ценность живописи абсолютно незави-
сима от сюжета». — Этим сказано, что «красота» не за-
ключается в изображаемой действительности, а представ-
ляет собой автономное достояние самого произведения. Три
названные решения, т. е. подчиненность искусства природе,
или подчинение природы искусству, или, наконец, взаимная
независимость и отчужденность их, представляются нам на
выбор, если мы размышляем об эстетическом вне искусства,
с точки зрения «красоты» как свойства вещей.
Но если мы посмотрим на эстетическое вне искусства с
функциональной точки зрения, все будет выглядеть совер-
шенно иначе. Если в предыдущем случае обе области (т.
е. эстетическое вне искусства и эстетическое в искусстве)
были, казалось, отделены пропастью, которую предстояло
соединить каким-то мостом, то теперь эстетическое вне
искусства и эстетическое в искусстве выступают в таком
тесном взаимном контакте, что обе области бесчисленное
множество раз пересекаются, и трудность заключается ско-
145
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
рее в том, чтобы их различать, чем в том, чтобы находить
связи между ними. Ведь теперь перед глазами у нас не
отношение между природой и искусством, а взаимоотноше-
ния между разновидностями, иногда лишь аспектами одной
и той же деятельности.
Вот' каковы, следовательно, различия между подходом
традиционной эстетики к проблеме эстетического вне ис-
кусства и подходом, с помощью которого мы хотим решить
эту проблему на основе функциональной концепции. Это
изменение точки зрения имело, разумеется, свои теорети-
ческие предпосылки. Напомню прежде всего о Ж. М. Гюйо,
которому эстетика благодарна за указание на отсутствие
строгой грани между различными видами практически на-
правленной деятельности и деятельности эстетически на-
правленной. Так, в своих «Эстетических проблемах совре-
менности» Гюйо говорит, что и полезное имеет свою прелесть,
заключающуюся, с одной стороны, в интеллектуальном удов-
летворении от совпадения между создаваемыми предметами
и целью, с другой — в том, что полезное имеет свой смысл
и приятно (р. 13). далее следует упомянуть о Дессуаре и
его школе. Известно, что Дессуар в своем итоговом труде
разделил философию эстетического на две равноправные
части — на эстетику и общую науку об искусстве, что
касается эстетики, то нередко цитируется его фраза, что
можно было бы написать эстетику, ни разу не употребив
в ней слово «искусство». Таковы исторические предпосылки
того внимания, которое мы уделяем эстетическому вне ис-
кусства, а именно эстетическому как элементу человеческой
жизнедеятельности и ее результатов. Что касается самого
понятия «функция», то предпосылки тут достаточно изве-
стны: функциональная архитектура, функциональная лин-
гвистика. Впрочем, мы вскоре увидим, что как раз понятие
«функция» нужно будет пересмотреть, прежде чем мы на-
чнем им спокойно пользоваться. Если, наконец, к таким
предвестиям мне дозволено будет отнести и собственные
работы, то я бы упомянул в первую очередь кншу об
«Эстетической функции, норме и ценности»* и статью о
«Функциях в архитектуре»**, а также исследование «Об
эстетике языка» из 1-го тома «Глав из чешской поэтики».
Приступим теперь к самому вопросу об эстетической
* См. наст, изд., с. 35 — 121.
** См. наст, изд, с. 468 — 485.
146
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
функции вне искусства. С чего мы должны начать? Должны
ли мы в первую очередь попытаться перечислить все случаи,
когда эстетическая функция существует вне искусства? Сто-
ит нам только приняться за это, как мы сразу поймем
затруднительность такого предприятия. Возьмем, к примеру,
язык. Где здесь границы эстетического? Разве существуют
языковые формы, в которых эстетическое принимает уча-
стие, и другие языковые формы, где такое участие исклю-
чено? Только положительный ответ на этот вопрос позволил
бы провести границы и дать соответствующий перечень. Но
достаточно беглого взгляда, чтобы увидеть, что — кроме,
разумеется, поэтического языка — ни одна речевая форма
не сопровождается в обязательном порядке эстетической
функцией и, наоборот, — а это еще важнее — ни одна
форма самой повседневной разговорной речи принципиально
не исключает наличия эстетической функции. Точно так
же обстоит дело и со всеми остальными видами человеческой
деятельности. За примером обратимся к ремеслам. Ясно,
что, например, в ремесле золотых дел мастера эстетическая
функция более заметна, чем в ремесле пекаря или мясника;
ювелирное ремесло упоминается даже в истории искусства.
Можно ли, однако, сказать, что два остальных выше на-
званных ремесла по самой сути своей начисто лишены
эстетической функции? Это значило бы забывать о форме
изделий пекаря; даже их цвет и аромат заключают в себе
элемент эстетического воздействия, то же, хотя в иной
мере, относится и к ремеслу мясника. Короче говоря, мы
не найдем области, где эстетическая функция принципи-
ально не могла бы присутствовать; в потенции она присут-
ствует всегда и везде, может пробудиться в любой момент.
Следовательно, она не знает ограничений и нельзя сказать,
что одни области человеческой деятельности по самому
своему существу лишены ее, а другим она принципиально
свойственна. Существуют далее формы культуры (слово
«культура» мы употребляем в самом широком его значении,
имея в виду культуру материальную, цивилизацию и ду-
ховную культуру), где функции, в том числе, разумеется,
и эстетическая, почти не различимы друг от друга и при
каждом акте выступают как компактный пучок, подвер-
женный изменениям разве что в своих аспектах. Такова,
например, среда фольклорной культуры, где, вследствие
этого, нельзя выделить и отграничить от других видов де-
ятельности даже само искусство, — деятельность с преоб-
147
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ладанием эстетической функции. Но если во внехудожест-
венных областях нельзя отличить виды деятельности, ко-
торым свойственно наличие эстетической функции, от тех
видов деятельности, которым эта функция по самому ее
существу несвойственна, то верен и противоположный тезис:
в искусстве, где эстетическая функция принципиально пре-
обладает, нельзя отрицать присутствия и участия внеэсте-
тических функций. Это обстоятельство уже не раз было
предметом размышлений, на признании этого факта осно-
вана вся Kunstwissenschaft* Дессуара, и я скорее из ува-
жения к истории, чем в качестве доказательства ограничусь
тем, что процитирую лишь одно высказывание Гюйо: «Эс-
тетическое чувство наиболее остро переживают те, у кого
это чувство непосредственно переходит в действие и таким
образом находит в самом себе удовлетворение. Спартанец
ощущал всю красоту песен Тиртея лишь в том случае,
когда эти стихи звали его в бой. Добровольцы в эпоху
Революции никогда не были так увлечены «Марсельезой»,
как в тот день, когда она одним махом подняла их на
Жемапские3 вершины. Точно так же влюбленные, которые
вместе будут вчитываться в любовное стихотворение —как,
например, герои Данте4 — и одновременно будут пережи-
вать то, о чем они читают, испытывают-более глубокое
переживание и с точки зрения чисто эстетической»
(«Esteticke problemy pntomnosti», s. 27). Хотя примеры Гюйо
весьма просты и можно было бы привести множество других,
более сложных, тем не менее они хорошо иллюстрируют
взаимосвязь и взаимное переплетение в искусстве внеэсте-
тических функций с функцией эстетической.
Итак, если мы говорим, что эстетическая функция вез-
десуща, то это не панэстетизм, ибо столь же вездесущи и
остальные функции, и опять-таки не только все они как
целое повсеместно противостоят эстетической функции, но
и каждая из них в отдельности повсеместно противостоит
всем остальным. В человеческой деятельности нет участков,
которые бесповоротно и по самой своей сути были бы за-
креплены за той или иной функцией: всегда может пробу-
диться любая из функций, а не только та, которую дейст-
вующий субъект приписывает своему деянию или творению.
Как правило же, не только потенциально, но и фактически
в действии или творении присутствует несколько функций,
♦ Наука об искусстве (нем.).
148
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
причем среди них могут быть и такие, о которых действу-
ющий или творящий не думал и которые для него были
даже нежелательны. Ни одна из областей человеческого
действия или творчества не ограничивается единственной
функцией: их всегда несколько, между ними существуют
напряженности, конфликты и их разрешения; если же речь
идет о творении долговечном, то его функции могут изме-
няться с течением времени. Таким образом, мы начали с
рассуждения об эстетической функции вне искусства и
уже вскоре пришли к выводу, касающемуся всех функций
вообще. Вывод этот можно сформулировать как утверж-
дение принципиальной многофункциональности челове-
ческого поведения и принципиальной вездесущности фун-
кций.
И здесь мы подходим к пункту, где оказываемся в
противоречии с первоначальным функционализмом, прин-
ципы которого с кристаллической ясностью проявились в
функционализме архитектурном, особенно в его теории.
Архитектурный функционализм, как известно, исходит из
посылки, согласно которой здание имеет единственную,
строго ограниченную функцию, определяемую целью, с ко-
торой оно строится, — вот почему Корбюзье сравнивал
здание с машиной, типичным функционально однозначным
продуктом производства. Подобным образом понимаемый
функционализм был необычайно плодотворен как этап раз-
вития архитектуры, а в качестве полемики с предшеству-
ющим эклектическим ее периодом, склонным имитировать
в здании совсем иную цель, чем та, ради которой оно
строилось, он был и теоретически оправдан. Но все же
вскоре обнаружились его уязвимые места: здание, особенно
жилье, не может исчерпываться одной-единственной фун-
кцией, поскольку оно является местом действия человече-
ской жизни, а человеческая жизнь многогранна. Жилое
здание и каждое помещение в нем имеют одновременно
несколько функций не потому, что здание должно служить
нескольким разным целям (хотя возможен и такой случай),
а потому, что, даже служа одной цели, здание или поме-
щение должны быть построены так, чтобы удовлетворять и
такие потребности человека, которые хотя прямо и не со-
держатся в назначении здания или помещения, но необхо-
димы тому, кто ими пользуется, как раз в силу того, что
это полнокровный, многосторонний человеческий индивид.
Так и архитекторы начинают сознавать, что функциональ-
149
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ное понимание здания не равнозначно простой логической
дедукции из его назначения и представляет собой сложное
мысленное построение, в котором индуктивно учитываются
конкретные и многообразные потребности обитателя этого
здания.
Все, что было сказано о функциях в архитектуре, от-
носится и к функциям вообще: функции не должны одно-
сторонне проецироваться в объект, прежде всего нужно
считаться с субъектом как их живым источником. Пока мы
процетируем их в объект, мы всегда испытываем искушение
видеть лишь одну-единственную функцию, ибо объект, т. е.
человеческое творение, всегда наиболее явственно несет
следы приспособления к той единственной цели, во имя
которой он был создан. Но едва только мы взглянем на
функции с точки зрения субъекта, как сразу же увидим,
что каждый акт, которым человек обращается к действи-
тельности, чтобы так или иначе на нее подействовать,
одновременно и неразделимо соответствует нескольким це-
лям, отличить которые друг от друга порой не сумеет и
сам индивид, этот акт совершающий. Отсюда неуверенность
относительно мотивировки действий. Разумеется, обще-
ственное бытие непрерывно понуждает человека к ограни-
чению функциональной многосторонности/ но полностью
этот процесс никогда не завершится, пока из человека не
удастся сделать существо в биологическом отношении од-
нофункциональное, каковы, например, пчела или муравей.
Пока человек остается человеком, при каждом его начина-
нии разные функции будут неизбежно вступать во взаимное
напряжение, будут составлять взаимную иерархию, пере-
крещиваться и переплетаться.
Каковы последствия такого подхода к функциям для
понимания эстетической функции? Эстетическая функция
уже не представляется нам чем-то случайным и приданным
извне, как она представляется тем, кто смотрит на функцию
с точки зрения объекта (если этим объектом не оказывается
как раз художественное произведение). С точки зрения
субъекта и полноты его отношения к внешнему миру ясно
без каких бы то ни было рассуждений, что эстетическая
функция, как и любая иная, представляет собой необходи-
мую составную часть общей реакции субъекта на внешний
мир. С точки зрения субъекта необходимость эстетической
функции зависит не от ее направленности или ненаправ-
ленное™ на определенную цель, большую, чем данное дей-
150
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
ствие или его результат, а от того, что она каким-то образом
(позднее мы попытаемся охарактеризовать его подробнее)
дополняет функциональную многосторонность действующе-
го индивида.
Но едва мы поставили функции в зависимость от субъ-
екта и увидели их взаимосвязь, как вопрос, к разрешению
которого мы стремимся, т. е. вопрос о месте эстетической
функции среди прочих, о ее отношении к ним, уже начинает
выступать перед нами не только как вопрос об эстетической
функции, но и как вопрос о функциях вообще, об их
принципиальных взаимоотношениях. Эти отношения мы,
безусловно, не можем представлять себе как иерархию, т. е.
таким образом, чтобы определенные функции принципи-
ально преобладали над другими, а другие были подчинены
им. Подчиненность и гегемония функций имеют место лишь
в конкретных случаях, при отдельных действиях, в отдель-
ных творениях. Существуют, конечно, и более постоянные
иерархии функций, сохраняющие силу на протяжении оп-
ределенной эпохи, но и они подвержены изменениям и,
следовательно, не представляют собой принципиального яв-
ления. Как раз тот факт, что все функции потенциально
вездесущи, что каждый акт сопровождается целым сонмом
функций, приводит нас к заключению, что вопрос о прин-
ципиальных взаимоотношениях функций — это не вопрос
об их иерархии, а вопрос об их типологии, которая каждой
функции указала бы место отнюдь не выше и не ниже
остальных, а в определенном соотношении с ними.
Речь идет теперь, разумеется, о том, как прийти к такой
типологии —- с помощью индукции или с помощью дедукции.
Применение индукции предполагало бы, разумеется, мак-
симально полный перечень конкретных функций, под зна-
ком которых мы можем рассматривать действительность и
воздействовать на нее. Заранее очевидно, что при совре-
менном состоянии изучения функции подобное предприятие
было бы сизифовым трудом, и притом еще неясно, возможен
ли такой перечень без грубого нарушения непрерывной
последовательности действительного состояния. Может
быть, к цели способна привести дедукция? Но из чего
дедуцировать? Мы сказали, что источник функций — че-
ловек, их субъект. Нам бы пришлось дедуцировать их ти-
пологию из устройства человека, причем человека вообще,
а отнюдь не конкретного индивида; ведь только человек
вообще выступает в том надысторическом плане, который
151
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
нам здесь важен. Но является ли устройство человека вообще
достаточно определенным понятием, чтобы из него можно
было делать однозначные выводы? Остается единственный
путь — феноменологическое Wesensschau*, которое также
по сути дела представляет собой дедукцию, но дедукцию
из самой вещи, а отнюдь не из чего-то вне ее, т. е. в данном
случае дедукцию из сущности функции.
Итак, исходный вопрос может быть нами сформулирован
следующим образом: что такое функция с точки зрения
субъекта? Слова «с точки зрения субъекта» мы добавляем
как существенный признак на основе предшествующих рас-
суждений, показавших нам, что только с этой точки зрения
функция выступает перед нами без деформаций, во всей
своей полноте. Пока мы определяем функцию с точки зрения
объекта, она связывается в нашем восприятии с опреде-
ленной целью, которая должна быть достигнута актом или
творением, — отсюда тенденция к монофункциональному
пониманию функции. Только если мы воспринимаем фун-
кции как способы самопроявления субъекта по отношению
к внешнему миру, мы видим их без деформаций и в соот-
ветствии с реальным положением вещей мыслим полифун-
кционально. Что же такое функция с точки зрения субъекта?
Я уже произнес слова «самопроявление субъекта» — добавим
к ним слово «способ» (можно было бы сказать и «путь»
или «метод»). И получим следующее определение: «Функция
есть способ самопроявления субъекта по отношению к внеш-
нему миру». Я говорю осторожно «самопроявление субъек-
та», а не «влияние на действительность», поскольку не
всякая функция направлена на непосредственное изменение
действительности — см. функцию теоретическую.
Исходя из этого определения, мы спрашиваем далее (учи-
тывая, разумеется, что вполне естественно при феноменоло-
гическом анализе, собственный, так сказать, «интроспектив-
ный» опыт), можно ли как-то строго отделить друг от друга
все «способы самопроявления субъекта» по отношению к дей-
ствительности. Такое распознавание возможно: человек про-
являет себя по отношению к действительности либо прямо,
либо посредством иной действительности. Приведем для яс-
ности пример: прямо человек проявляет себя по отношению
к действительности, в частности, в том случае, когда преоб-
ражает ее собственными руками, чтобы тут же этим восполь-
* Усмотрение сущности (нем.).
152
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
зоваться (например, отламывает ветки, чтобы с помощью
трения их друг о друга развести огонь); он может применить
какое-то орудие, но его самопроявление по отношению к дей-
ствительности от этого не станет косвенным (в приведенном
примере отломанные ветки, которые человек трет друг о дру-
га, уже становится орудием труда). Но если человек, напри-
мер, протыкает изображение своего врага, ожидая, что таким
образом нанесет урон изображенному на картине лицу, или,
прежде чем отправиться на охоту, стреляет в изображения
животных, будучи убежден, что таким образом попадает в
этих животных еще до того, как их увидел и настиг стрелой,
то он воздействует на действительность посредством иной
действительности, т. е. косвенно. Действительность, которая
служит посредником (изображение), является здесь не ору-
дием, а знаком, причем не знаком-инструментом, а знаком
самостоятельным, равноценным действительности, которую
он заменяет. Об этой самостоятельности мы еще будем гово-
рить. Здесь достаточно указать, что самопроявляться по от-
ношению к действительности человек может двумя принци-
пиальными путями и третьего пути нет. Другими словами,
что принципиально функции делятся на непосредственные
и знаковые. Существует ли необходимость в дальнейшем рас-
членении этих двух групп? Существует, ибо она диктуется
наличием пары «субъект» — «объект»: от субъекта самопро-
явление исходит, к объекту — направлено. Если мы приме-
ним это двойственное различие к группе непосредственных
функций, то обнаружатся подгруппы практического и теоре-
тического самопроявления. В практических функциях на
первом плане объект, поскольку самопроявление субъекта
направлено здесь на преображение объекта, т. е. действитель-
ности. В теоретической функции, напротив, на первый план
выступает субъект, ибо общая и конечная ее цель — такое
проецирование действительности в сознание субъекта, при
котором единство образа основано на единстве субъекта (име-
ется в виду субъект индивидуальный, общечеловеческий) и
на фундаментальном свойстве человеческого внимания, спо-
собного сосредоточиться лишь на одной точке. Сама дейст-
вительность — объект функции — остается при этом незат-
ронутой, более того, чем последовательнее мы занимаем чи-
сто теоретическую позицию, тем неукоснительнее
проявляется стремление исключить из процесса познания ма-
лейшую возможность вторжения в познаваемую действи-
тельность — см. гарантии чистоты эксперимента.
153
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Обратимся теперь к знаковым функциям. И они сами
собой разделятся на две подгруппы, если мы взглянем на
них под двойным углом зрения, т. е. применительно к субъ-
екту и объекту. Функция, где на первом плане находится
объект у — это функция символическая. Внимание здесь
сосредоточено на действительности отношения между сим-
волизирующей вещью и символическим знаком. Либо по-
средством знака оказывается воздействие на явление дей-
ствительности, либо явление .действительности оказывает
воздействие посредством знака; и то и другое — и знак и
явление действительности, им обозначаемое, — суть объ-
екта. Эта действительность взаимоотношения между знаком
и вещью, им обозначаемой, — основной и неотъемлемый
признак символического знака: где ее нет, символ превра-
щается в аллегорию. Возьмем знак (государственный герб
и т. п.); пока между таким знаком и вещью существует
действенное взаимоотношение — например, такое, в ре-
зультате которого оскорбление знака есть оскорбление го-
сударства, — знак остается символом; когда это действие
исчезает, знак превращается в аллегорию, подобную так
называемым банальным символам (сердце — любовь,
якорь — надежда). Итак, символическая функция ставит
на первый план объект. Знаковая функция, ставящая на
первый план субъект, есть эстетическая функция. О том,
что эстетическая функция превращает в знак все, к чему
она прикоснется, я не хотел бы говорить слишком подроб-
но — сошлюсь на тезисы своего доклада на VIII философ-
ском конгрессе («L’art comme fait semiologique»*) и на тезисы
моего доклада на лингвистическом конгрессе в Копенгагене,
опубликованные по-чешски в «Главах из чешской поэтики»
под названием «Поэтическое наименование и эстетическая
функция языка». Но почему мы предполагаем, что в эсте-
тической функции на первом плане — субъект? Нет ли
здесь опасности, что мы окажемся на почве теории о чув-
ственной экспрессивности эстетического, против которой
столько раз вполне обоснованно выступали? Так вот, прежде
всего не следует забывать, что субъект, о котором мы здесь
говорим, не индивид, а человек вообще; чувственные же
реакции — можно сказать ex definitionen** относятся к
индивидуальной сфере. Во-вторых, как раз действитель-
♦ См. наст, изд., с. 190 — 198.
♦♦ по определению (лат.).
154
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
ность, которой овладевает эстетическая функция, является
знаком, т. е. фактом надындивидуального общения. Это об-
стоятельство, разумеется, еще не обязательно должно пре-
пятствовать экспрессивности, ибо — как нам известно имен-
но из языкознания — и чувство для своего выражения
пользуется знаками. Но в таком случае знаки становятся
орудием, которое служит выражению чувства, а эмоцио-
нальная функция относится к области практических фун-
кций. Эстетический знак не служит, не является орудием,
он — точно так же как символический знак — принадлежит
объекту, более того, по сути дела, представляет собой един-
ственный явственно различимый объект, будучи сам конеч-
ной целью, независимо от того, овладела ли им эстетическая
функция уже в готовом состоянии или она сама этот знак
создает. Поэтому — пока знак воспринимается эстетически
и в той мере, в какой он воспринимается эстетически, —
знак не может быть средством для выражения эмоций.
«Субъективность» эстетического знака в противовес «объ-
ективности» символического знака нужно видеть в ином.
Дело в том, что эстетический знак не воздействует на
какое-либо явление действительности, как это делает сим-
волический знак, а отражает в себе действительность как
целое (отсюда так называемая типичность в художественном
произведении, понятие, не говорящее ничего иного, кроме
того, что художественное произведение — чистейший эс-
тетический знак — на отдельном явлении демонстрирует
все остальные отдельные явления и их комплекс — дейст-
вительность). Действительность, отраженная в эстетическом
знаке как целое, объединяется в нем на основе отражения
единства субъекта. Этим объединением действительности
эстетическая функция напоминает теоретическую функцию,
от которой она, разумеется, отличается тем, что в то время
как теоретическая функция стремится к созданию суммар-
ного и объединяющего образа действительности, эстетиче-
ская функция создает единое отношение к ней. Для тео-
ретической функции, так же как для практической, непос-
редственный объект — сама познаваемая действительность,
а знак только ее орудие (так же как для практической
функции наиболее выгодным орудием будет орудие по воз-
можности функционально однозначное, так и практическая
функция стремится пользоваться однозначными знаками).
Для эстетической функции действительность — не непос-
редственный,. а опосредствованный объект; непосредствен-
155
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ным объектом (и следовательно, ни в коей мере не орудием)
является для нее эстетический знак, который проецирует
отношение субъекта, реализованное в построении знака, в
действительность как ее общий закон, не утрачивая при
этом своей самостоятельности. Эстетический знак проявляет
свою самостоятельность, всегда указывая на действитель-
ность как целое, а не на отдельные ее участки. Поэтому
его действие не может быть ограничено другим знаком; он
может только быть принят или отвергнут как целое. На-
против, знак, выполняющий теоретическую функцию (по-
нятие), всегда означает лишь определенный участок или
частичный аспект действительности; рядом с ним всегда
существуют другие знаки (понятия), которые ограничивают
его действие. Суммируем: эстетический знак — подобно
символическому знаку — знак-объект, но в отличие от
символического знака он не влияет на действительность, а
проецируется в нее.
Такова, как мы полагаем, типология функций; сущест-
вует две группы функций: функции непосредственные и
функции знаковые, и каждая из этих групп в свою очередь
делится — функции непосредственные на функции прак-
тические и функцию теоретическую, функции знаковые на
функции символическую и эстетическую. В этой формули-
ровке может броситься в глаза то обстоятельство, что о
«функциях практических» мы говорим во множественном
числе, тогда как о теоретической, символической и эстети-
ческой функциях — в единственном. Однако это соответ-
ствует действительному положению вещей: есть великое
множество оттенков практической функции; некоторые из
них имеют канонические наименования, для иных прихо-
дится подыскивать название от случая к случаю, третьи,
хотя наличие их и можно установить, вероятно, вообще не
поддаются точному определению. Другие функции таких
ярко выраженных оттенков не имеют: едва ли можно было
бы выделить различные теоретические или эстетические
функции. Ясно, почему именно практическая функция внут-
ренне так богата различиями: ведь из всех функций она
ближе всего к действительности — в отличие от знаковых
функций она устремлена к ней непосредственно, в отличие
же от теоретической функции она старается влиять на
действительность, изменять ее; поэтому в практической
функции отражается богатство и многогранность действи-
тельности, оттенки практической функции отвечают отдель-
156
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
ным классам и видам реалий, с которыми практическая
функция приходит в соприкосновение. Кроме того, на ее
внутреннее многообразие воздействует и то обстоятельство,
что практическая функция обеспечивает кардинальные ус-
ловия существования человека; поэтому практическая фун-
кция в известной мере функция cat’exochen*, функция
немаркированная: остальные функции группируются вокруг
нее, далеко не всегда ей подчиняясь, но зато они вступают
с ней в тесный контакт, и некоторые из оттенков практи-
ческой функции возникают в результате ее смешения с
иной функцией. Так, например, магическая функция —
это явная смесь практической и символической функции;
заслуживал бы также размышлений вопрос о том, до какой
степени и каким образом практическая функция вместе с
символической входит в состав эротической функции (ср.
эротическую символику).
Еще одно замечание к типологии функций. Типология,
создать которую мы пытались, построена чисто феномено-
логически и не имеет ничего общего с вопросами генезиса.
Но утверждение, что в первоначальном состоянии функции
были недифференцированы и различение их является лишь
делом высоких стадий развития, не только не противоречит,
но и полностью соответствует действительности. То обсто-
ятельство, что в нашем современном сознании функции
столь явственно различаются* несомненно представляет со-
бой параллель к развитию машинной техники, ибо только
машина, причем сложная машина, создает модель искусст-
венно препарированной однофункциональности. Поэтому
также наш типологический опыт имеет смысл лишь с точки
зрения современного человека. С точки зрения, например,
примитивного человека, отрыв практической функции от
символической был бы просто немыслим: любое действие и
любой его практический продукт одновременно и столь же
обязательно имели бы для него и символическое значение.
Применительно к генезису из нашего опыта типологии
функций вытекает лишь следствие, что ни одна из функций
не может быть сведена к другой: нельзя, например, пред-
положить, что теоретическая функция произошла от прак-
тической, как это иногда делается, — ведь по крайней мере
столь же тесно она связана и с символической функцией
(символичность всех первоначальных знаний, мифологиче-
♦ как таковая {грен.).
157
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ская космогония как первоначальная форма науки), но ее
нельзя выводить и из символической функции. Подобным
же образом обстоит дело и в остальных случаях.
Следующее замечание. Говоря о «знаковых» функ-
циях, мы назвали символическую и эстетическую фун-
кции, исключив из области знаковых функций знаки,
которыми практическая и теоретическая функция поль-
зуются в качестве орудий для достижения своих целей.
Основанием для этого кажущегося расчленения царства
знаков послужило то обстоятельство, что символические
и эстетические знаки имеют характер объектов, в то
время как на службе практической и теоретической
функций знаки имеют характер инструментов. Тем не
менее такое раздвоение царства знаков остается лишь
кажущимся: свойства, объединяющие все знаки без раз-
личия функций, слишком существенны, чтобы возможно
было подлинное раздвоение. Следует также предполо-
жить, что на стадиях неразличения или слабого разли-
чения функций и знаки были явственно многофункци-
ональны, так что, например, практический знак был
одновременно и символом. Следы такого состояния носит
и в нашей среде детская речь (слово как объект: туча
называется тучей, потому что она серая* зонтик назы-
вается зонтиком, потому что кто-нибудь может нас им
кольнуть. — Пиаже5), но и в современном языке взрос-
лых связь между служебными знаками и знаками-объ-
ектами не прервана — см. прежде всего тесную связь
между поэтической, т. е. эстетически направленной
речью, и речью непоэтической, далее стихийную сим-
воличность (следовательно, отнюдь не условную), кото-
рую может обрести языковой знак, если он близок на-
вязчивому представлению или ускользнул из-под конт-
роля индивида, употребившего данное слово. Притом
связь между знаками-объектами и знаками-инструмен-
тами имеет огромное значение для поддержания жизни
знака, особенно языкового. Если бы знак-инструмент
был предоставлен самому себе, он неизбежно прибли-
жался бы или к абсолютной однозначности, или, нао-
борот, к смысловой индифферентности, лишенности ка-
кого бы то ни было значения и тем самым обоими
путями приближался бы к автоматизации, знак превра-
тился бы в значок, хотя и строго однозначный, но при
этом окаменелый, лишенный смысловой эластичности
158
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
(см. значки математические, логические и т. д.) или де-
градировал бы в простое flatus vocis*. Лишь постоянное
потенциальное присутствие символической и эстетической
функций, с одной стороны, поддерживает сознание виру-
лентности предметного отношения (предметное отношение
как энергия, воздействующая при символе), а с другой
стороны, — сознание несвязанности знака с какой-либо
конкретной стороной действительности (см. автономность
и самоцельность эстетического знака). Иначе говоря, для
того, чтобы слово могло существовать как инструмент,
должно — и при современной дифференцированности фун-
кций — существовать слово как символ и слово как
эстетический знак. Что касается происхождения языка —
заметим мимоходом, что, как нам кажется, из нашей
типологии явствует ошибочность теорий, односторонне вы-
водящих возникновение языка из какой-либо одной фун-
кции, например из функции практической (потребность
общения) или, напротив, символической, — то и тут с
неизбежностью следует, что все функции одинаково важны
и одинаково первозданны.
В этом месте нужно, видимо, остановиться, впрочем
совсем кратко, на моем споре с коллегой Коржинеком6 о
самоцельности теоретического языка. После того что было
сказано в этой лекции, мой взгляд на данный предмет,
надеюсь, ясен: в теоретической функции знак является
инструментом, в эстетической — составной частью объекта.
Иными словами, при теоретической функции внимание со-
средоточено на действительности вне знака (поэтому знак
в теоретической функции подвержен контролю с точки
зрения соответствия этой действительности), при эстетиче-
ской функции внимание сосредоточено на самом знаке,
зеркально отражающем в себе действительность, — проверка
соответствия знака действительности здесь не имеет смысла,
потому что и знак и действительность являются объектами
и противостоят друг другу как независимые целые. Теоре-
тически функционирующий знак обретает видимость «са-
моцельности» лишь при его сопоставлении со знаком, слу-
жащим практической функции и. стремящимся воздейст-
вовать на действительность. Но это лишь весьма
относительная и даже кажущаяся самоцельность: не втор-
гаясь в действительность, теоретически функционирующий
* явление речи (лат.).
159
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
знак еще не лишается своей служебной роли. Однако мы
видим и то обстоятельство, которое привело коллегу Кор-
жинека к отождествлению «самоцельности» эстетической с
теоретической и которое само по себе находит опору в
фактическом положении вещей: я имею в виду сходство
положения теоретической функции среди непосредственных
функций и эстетической функции среди функций знако-
вых — обе на первый план выдвигают субъект, в отличие
от практической и символической функций, выдвигающих
на первый план объект. И здесь тем не менее существует
уже подчеркнутое выше различие: теоретическая функция
стремится к созданию с помощью знаков и их значений,
на долю которых при этом выпадает роль инструментов,
единого образа действительности; эстетическая функция
проецирует в действительность как объединяющий принцип
позицию, которую занимает по отношению к действитель-
ности субъект. Но эта позиция может быть спроецирована
в действительность только таким образом, что на пути к
ней объективируется в эстетическом знаке. Я думаю, из
всего сказанного ясна моя точка зрения на кажущуюся
самоцельность теоретического языка; что касается отожде-
ствления эстетической функции с функцией эмоциональной,
которое допускает Коржинек, я сформулировал свой ответ
уже в одном из предшествующих абзацев.
Теперь следует обратить внимание на взаимоотношение
отдельных функций, вытекающее из намеченной нами ти-
пологии. Мы уже подчеркивали, и, кажется, неоднократно,
что в принципиальной типологии, имеющей надвременное
значение, по нашему мнению, нет места для отношений
господства и подчиненности между отдельными ее членами.
Это, впрочем, вытекает из самих основ структурализма,
который всегда рассматривает иерархию как динамический
процесс, как постоянную перегруппировку. Никто нам, од-
нако, не мешает задаться вопросом, не содержатся ли в
типологии функций связи, т. е. взаимные отношения, вхо-
дящих в нее функций. Такие взаимоотношения не являются,
разумеется, иерархическими, но они могут в процессе раз-
вития стать рельсами иерархических сдвигов. Так вот, по-
добные взаимоотношения частично даны уже самим планом
нашей типологии; мы показали, какие свойства соединяют
пары непосредственных функций (практическая и теорети-
ческая функции) и пары знаковых функций (символическая
и эстетическая функции). Мы показали также, что опре-
160
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
деленные признаки роднят через границы этих групп вза-
имосходные функции: практическую с символической и те-
оретическую с эстетической. Остается еще задать себе воп-
рос, имеют ли какие-нибудь основания и две остающиеся
возможные связи, а именно связь практической функции с
эстетической и теоретической с символической. Фактиче-
ских связей и между членами этих пар очень много: прак-
тическая функция очень часто соединяется и даже смеши-
вается с эстетической (см., например, архитектуру или
театр), точно так же как и теоретическая с символической
(см., например, длительный симбиоз символики с познани-
ем, доживающий свой век еще в мистической философии
барокко). Зато феноменологически члены этих пар наиболее
отдалены друг от друга: практически функция ведет к пря-
мому воздействию на действительность, эстетическая — к
самоцельности акта или вещи, которыми она овладевает;
практическая функция лишает знаки, которыми она поль-
зуется, какой-либо инициативности, превращая их в как
можно более неподвижные термины или даже значки, сим-
волический знак, напротив, — сама инициативность, это
не только объект, но даже воздействующий объект. Откуда
же эти фактические связи между двумя означенными па-
рами? Дело в том, что соответствующие функции — прак-
тическая с эстетической и символическая с теоретической —
взаимосвязаны как раз своей противоположностью. Дока-
зательством этого может служить отношение между эсте-
тической и практической функциями. Они до такой степени
взаимопротивоположны, что с точки зрения эстетической
функции, если мы хотим противопоставить ее всему тому,
что вне ее, все остальные функции, включая и теоретиче-
скую, кажутся «практическими». Каковы же следствия этой
«вражды»? Всюду, где практическая функция отступает хоть
на шаг, по пятам за ней крадется ее отрицание — эстети-
ческая функция, и очень часто эти функции вступают в
спор, борясь одновременно за одну и ту же вещь или один
и тот же факт. Итак, между всеми основными функциями
существуют взаимоотношения, и проекция их типологии
насквозь пронизана этими отношениями. Вот все, что можно
сказать в общих чертах: мы должны были бы уже на
конкретном процессе развития структуры функций просле-
дить, как отдельные ассоциативные возможности функций
соединяются или сталкиваются в ходе неустанного возник-
новения и распада структуры функций. Теперь надо было
6—888
161
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
бы заняться более подробным рассмотрением отдельных
функций, в особенности же вернуться к эстетической фун-
кции, послужившей исходной точкой наших рассуждений.
Не сделав этого, мы нарушаем соразмерность общего по-
строения. Однако я надеюсь, что слушатели мне простят
это нарушение, снисходительно приняв во внимание, что
им предложен лишь набросок и что время не позволяет
продолжить лекцию. Поэтому я кончаю, в сущности, где-то
посередине, утешая себя надеждой, что хотя бы в кратком
обзоре представил вам то, что было для меня самым важ-
ным, — опыт типологии функций.
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
Прежде чем мы приступим к анализу эстетической нор-
мы, нужно дать хотя бы краткую общую характеристику
нормы. Понятие нормы неотделимо от понятия функции,
реализацию которой норма осуществляет. Поскольку такая
реализация предполагает деятельность, направленную на
определенную цель, следует допустить, что ограничение,
организующее эту деятельность, само по себе также носит
характер энергии. Одна из больших заслуг современной
лингвистики заключается в том, что она сумела отличить
норму от правила, являющегося ее кодификацией. От лин-
гвистов не ускользнул тот факт, что существуют языковые
системы, которые — как, например, большинство диалек-
тов — никогда не подвергались грамматической кодифика-
ции и все же имеют нормы, стихийно соблюдаемые язы-
ковыми коллективами, ими пользующимися, нормы, при-
нудительная сила которых не уступает силе норм в
кодифицированных языковых системах. Другим доводом,
заставившим лингвистов тщательно отличать норму от фор-
мулы, выражающей ее кодификацию, было существование
норм, противящихся какой бы то ни было кодификации; в
каждой лингвистической системе найдутся нормы, не под-
дающиеся словесному выражению, таковы, например, не-
которые стилистические нормы, авторитет которых нисколь-
ко не ослаблен этой невыразимостью. Следовательно, ко-
дификация не тождественна норме; может даже случиться,
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
что кодификация неправильна, т. е. что она не совпадает
с живой нормой.
Итак, некодифицированная норма предстала перед нами
как первоначальный аспект нормы, и поэтому она сама
напрашивается на роль отправной точки рассуждения. Но
тут возникает новая проблема — проблема кодификации.
Ибо что такое норма, если она не имеет характера правила?
Исходя из сказанного, лучше всего определить ее как ре-
гулирующий энергетической принцип. Она дает о себе знать
действующему индивиду как ограничение свободы его дей-
ствий; для индивида, производящего оценку, она является
силой, руководящей его суждением, но, разумеется, от ре-
шения индивида зависит, подчинится ли он в своем суж-
дении давлению с ее стороны. Итак, по свой сущности
норма — это, скорее, энергия, чем правило, независимо от
того, сознательно или бессознательно она применяется.
Вследствие своего динамического характера норма подвер-
жена непрерывным изменениям; можно даже предположить,
что всякое применение какой бы то ни было нормы ко
всякому конкретному случаю неизбежно является в то же
время изменением нормы: не только норма оказывает вли-
яние на формирование конкретного факта (например, ху-
дожественного произведения), но одновременно и конкрет-
ный факт неизбежно влияет на норму. Даже правовая норма,
самая устойчивая из всех остальных, подвержена измене-
ниям, вытекающим из того, что ею пользуются, — дока-
зательством чего служат частичные законодательные пол-
номочия, которые признаются за кассационными судами.
После этих предварительных замечаний попытаемся оп-
ределить специфику эстетической нормы, отличающую ее
от остальных норм. Прежде всего нужно вспомнить, что
эстетическая функция в противоположность остальным не
стремится к практической цели, а направлена на самосто-
ятельный объект, который является ее носителем, так что
этот объект становится единственной непосредственной
целью ее деятельности. Одно из следствий этого — инди-
видуализация эстетической ценности: стоит нам взглянуть
на объект как на объект чисто эстетический и соответст-
венным образом подойти к его оценке — что происходит,
когда мы имеем дело с художественными произведения-
ми, — и мы сразу же начинаем воспринимать его как
единичный факт. Прямое следствие этого — и сдвиг во
внутренней структуре ценности: в первую очередь важен
А* .
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
не результат оценки — на передний план выступает сам
акт ее. Восприятие художественного произведения, которое
в значительной мере совпадает с актом оценки, может
неограниченное число раз повторяться и в значительной
степени служит основанием для интереса, который вызывает
в нас художественное произведение. Важно прежде всего
восприятие произведения, а отнюдь не установление его
художественной ценности, которое — в отличие от данного
случая — выступает на первый план при ценностях прак-
тического характера.
Каковы же следствия индивидуализации эстетической
ценности для нормы? На первый взгляд может показаться,
что индивидуальность художественной ценности делает су-
ществование нормы невозможным. Однако есть обстоятель-
ства, которые сохраняют возможность существования нор-
мы. Прежде всего индивидуальность художественного про-
изведения не абсолютна: так же как всякая иная ценность,
и художественная ценность находится в процессе имманен-
тного развития, а отдельные произведения суть лишь реа-
лизации последовательных этапов этого развития.
Но тут еще более важно, что применение общей нормы
не препятствует принципиальной неповторимости ценности,
если совпадение нормы и оцениваемого произведения не
воспринимается как абсолютно адекватное, иными словами,
если полное соблюдение нормы не считается единственным
требованием. И действительно, история искусства убеждает
нас, что положительная ценность в искусстве отнюдь не
тождественна полному совпадению художественного произ-
ведения с нормой. Наоборот, часто бывает, что положи-
тельно оценивается радикальное нарушение традиционной
нормы. Вполне можно представить себе такой случай, когда
наслаждение от восприятия произведения, которое мы вы-
соко оцениваем, сопровождается весьма ощутимым недо-
вольством. Из истории всех родов искусства известны мно-
гочисленные произведения, опубликование которых вызвало
резкие протесты вследствие того, что недовольство даже
преобладало во впечатлении воспринимающих, но которые,
несмотря на это, с течением времени становились неоспо-
римыми ценностями. Таким образом, для эстетической
оценки характерно, что не только совпадение с нормой, но
и несовпадение с нею может привести к положительной
оценке.
В связи с этим нужно напомнить о сосуществовании и
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
взаимном переплетении нескольких систем эстетических
норм при оценке одного и того же факта. В искусстве
определенного периода, предназначенном для определенной
общественной среды, всегда можно различить одновременное
воздействие нескольких разных систем норм, постепенно
возникавших в разные, друг за другом следовавшие эпохи;
так, например, современная живопись, если мы окинем
взглядом все ее богатство и многообразие, предстанет перед
нами как конгломерат последовательно вошедших в жизнь
систем норм, начиная по крайней мере с импрессионизма
и кончая сюрреализмом. Каждая из этих систем имеет
внутри современного искусства свою область воздействия,
определяемую социальной дифференциацией публики или
внутренней дифференциацией самого искусства. Отграни-
ченность отдельных областей не является, однако, непро-
ницаемой. Художественное произведение может восприни-
маться на фоне иной системы норм, чем та, которая свой-
ственна ему, и в таком случае может оцениваться как
деформация этой иной системы; это часто происходит с
новыми произведениями, которые частично возникли на
основе традиционных законов искусства, частично же на-
ходятся в противоречии с ними. Нередко художник, чтобы
обновить традиционную систему норм, противопоставляет
ей в структуре самого произведения иную систему, взятую
из искусства периферийного, архаического, экзотического
и т. д. Такое противопоставление разнородных норм ощу-
щается, конечно, как конфликт, но как конфликт жела-
тельный, входящий в замысел произведения.
Эстетическая оценка не исключает как неадекватного
ни одного из возможных соотношений между нормой и
оцениваемым произведением, в том числе и соотношения
чисто негативного. Совершенно иначе ведут себя остальные
категории норм. Например, юридическая норма всегда тре-
бует положительного и прямого применения; одновременное
применение нескольких взаимонепримиримых норм к од-
ному и тому же казусу принципиально исключается, пусть
даже и во вред тому, кого это непосредственно затрагивает.
Применение языковой нормы, конечно, иногда колеблется
между сохранением и нарушением нормы; так происходит,
например, в эмоциональном языке, который имеет склон-
ность к нарушению норм, приближаясь тем самым к языку
поэтическому. Но эмоциональный язык не является основ-
ной и нормальной формой языка; эта роль принадлежит
. ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
коммуникативному языку, лишь деформацию которого
представляет собой язык эмоциональный, коммуникативный
же язык имеет тенденцию к сохранению нормы.
В итоге можно утверждать, что специфический характер
эстетической нормы заключается в том, чтр она более склон-
на к тому, чтобы ее нарушали, чем к тому, чтобы ее
соблюдали. В меньшей степени, чем какая-либо иная норма,
она носит характер нерушимого закона; это, скорее, ори-
ентировочная точка, служащая для того, чтобы дать почув-
ствовать меру деформации художественной традиции но-
выми тенденциями. Негативное применение, которое при
остальных категориях норм функционирует лишь как по-
бочное, нежелательное явление, сопровождающее примене-
ние позитивное, для эстетической нормы становится есте-
ственным случаем. Если мы взглянем на художественное
произведение с этой точки зрения, оно предстанет перед
нами как сложное переплетение норм. Полное внутренних
согласий и разногласий, оно представляет собой динамиче-
ское равновесие разнородных норм, примененных частично
позитивно, частично негативно, равновесие единичное и
неповторимое, хотя, с другой стороны, и участвующее,
именно благодаря своей подвижности, в непрерывном им-
манентном развитии данного вида искусства.
Какие нормы может содержать структура художествен-
ного произведения? Только ли эстетические нормы или
также иные категории норм? На этот вопрос мы попытаемся
ответить суммарным перечислением норм, которые могут
найти применение в художественном произведении.
Совсем еще на поверхности мы встречаемся с нормами,
которые вносит в произведение материал данного искусства.
Эти нормы особенно зримы в поэзии, материалом которой
является язык, уже по самому своему характеру представ-
ляющий систему норм. Языковые нормы сами по себе не
имеют ничего общего с эстетическими нормами, но способ
их использования в искусстве придает им значение эсте-
тических норм. Однако и в тех видах искусства, материал
которых вещественен и, следовательно, полностью лишен
нормативности, — таковы, например, архитектура и скуль-
птура — естественные свойства этого материала под воз-
действием способа их использования также приобретают
значение эстетических норм. Например, в развитии архи-
тектуры известны периоды, когда свойства материала под-
черкивались, и, наоборот, известны другие периоды, когда
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
они по возможности затушевывались. В любом случае нужно
признать, что естественные свойства материалов способны
выполнять функцию эстетических норм.
Следующий тип норм, с которым мы встречаемся в
художественном произведении, можно назвать «технически-
ми нормами». Этим названием мы хотим обозначить опре-
деленные навыки, окаменевшие остатки длительного раз-
вития искусства, которые уже утратили непосредственное
значение живых эстетических норм и место которых —
образно говоря — у входа в художественное произведение.
Такие каноны (например, метрические схемы в поэтическом
искусстве, традиционные музыкальные формы и т. д.) счи-
таются необходимым предметом художественного обучения.
Необходимость их соблюдения кажется самоочевидной. Од-
нако и эти правила развиваются, ибо и они подвержены
деформациям при неадекватном использовании, и в резуль-
тате этого вновь и вновь приобретают характер живых
эстетических норм. К числу таких канонов следует отнести
и закономерности жанров (поэтических, архитектурных и
т. д.) и стилей.
Третий тип норм, действующих в искусстве, — это
нормы практические (мы избираем это обозначение как
противоположное термину «эстетические нормы»); таковы,
например, нормы этические, политические, религиозные,
социальные и т. д. Они входят в произведение посредством
темы. Хотя в сущности своей они представляют собой яв-
ление чуждое для эстетической области, тем не менее они
обретают значение эстетических норм под влиянием роли,
которую играют в структуре художественного произведения;
так, например, композиция трагедии может быть построена
на конфликте между двумя этическими нормами или на
столкновении между нравственным законом и его наруши-
телем и т. д.
На четвертое и последнее место мы ставим эстетическую
традицию, т. е. нормы или, скорее, системы эстетических
норм, своим происхождением предшествовавшие произве-
дению, но введенные художником как элементы структуры.
И они становятся инструментами «художественных при-
емов», поскольку как их соблюдение, так и нарушение
может стать составной частью замысла, осуществляемого в
произведении. От предшествовавших норм эти нормы от-
личаются лишь тем, что по самой своей сути они принад-
лежат эстетической области. Может случиться, что в опре-
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
деленном художественном произведении встретятся не-
сколько эстетических традиций, относящихся к разным эпо-
хам, разным слоям искусства или к разным типам соци-
альной среды, и художественный замысел основывается как
раз на их взаимном противоречии.
Множественность норм, которые содержатся в художе-
ственном произведении, представляет, таким образом, ши-
рокие возможности для создания того неустойчивого рав-
новесия, каковым является структура произведения. Можно
также считать доказанным, что взаимоотношения между
всеми нормами, функционирующими в качестве инструмен-
тов художественных приемов, слишком сложны, дифферен-
цированы и подвержены постоянным сдвигам, чтобы поло-
жительная ценность произведения могла представляться
равнозначной полному соблюдению всех норм, проявляю-
щих себя в нем. История искусства скорее носит характер
постоянного бунта против нормы. Разумеется, в ней есть
периоды, имеющие тенденцию к максимальной гармонии и
стабильности, — их называют периодами классичности. Но
в противовес им существуют также периоды, когда искусство
стремится к максимальной лабильности структуры художе-
ственных произведений; один из таких периодов мы как
раз переживаем.
После высказанных нами утверждений возникает опас-
ность, что наше собственное оружие будет обращено против
нас: если эстетическая норма существует лишь для того,
чтобы ее почти неустанно в той или иной степени нарушали,
не лучше ли было бы вообще отвергнуть факт ее сущест-
вования? На это возражение можно было бы прежде всего
ответить, что всякая норма, в том числе даже правовая,
позволяет ощутить свое действие, а следовательно, и су-
ществование именно тогда, коща она нарушается. К тому
же нужно упомянуть обширную область, в которой на долю
эстетической функции выпадает лишь побочная роль и
которая простирается за границами искусства. Это относится
ко всему комплексу различных видов деятельности человека
и ко всеми миру вещей: любая вещь и любая деятельность
могут стать — под влиянием общественной конвенции или
проявления индивидуальной воли — постоянными или вре-
менными носителями эстетической функции, вторичной по
отношению к преобладающим практическим функциям, но
тем не менее действенной. И как раз в этой области эсте-
тическая функция приобретает значение закона. Система
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
эстетических норм, называемая вкусом, имеет здесь столь
большой авторитет, что нарушение этих норм может при-
вести того, кто их нарушил, к индивидуальной или даже
социальной дискредитаций. Но вкус находится в тесной
связи с нормами искусства: практическая жизнь неустанно
поставляет художественному творчеству свои эстетические
принципы, а художественное творчество возвращает их жиз-
ни омоложенными. Так, эстетическая норма полностью об-
ретает в практической жизни авторитет, в котором ей по-
стоянно отказывает искусство. Нужно добавить, что суще-
ствуют обширные области искусства, где авторитет
эстетической нормы в значительной мере признается; такой
областью является, например, народное искусство, в котором
из-за недостаточно отчетливого разграничения функций
преобладание эстетической функции над остальными далеко
не безусловно. И, наконец, полностью ли утратила авто-
ритетная норма свое значение для автономного искусства
в нашем современном понимании? Достаточно напомнить
о значении авторитетной нормы для подготовки к художе-
ственному творчеству. Впрочем, и само живое искусство
нуждается в ясных и четких нормах: чем точнее кодифи-
кация правил и чем неотступнее эта кодификация идет по
стопам живого искусства, тем активнее она побуждает ис-
кусство к новым завоеваниям, ибо искусство не может долго
оставаться в сферах, уже обследованных и без ограничений
доступных тем, кто пробует свои силы в художественном
творчестве.
Но, несмотря на все сказанное, требует объяснения
еще один вопрос. Эстетическая норма в нашем понимании
оказалась бесконечно изменчивой. Хотя мы попытались
сохранить ее авторитарность и при этих обстоятельствах,
мы не полностью избежали релятивизма, опасного тем,
что он ставит под угрозу признание самого факта суще-
ствования нормы; наличие имманентного развития лишь
несколько смягчает эту угрозу. Поэтому необходимо найти
константу, на которой можно было бы основать авторитет
эстетической нормы и которая благодаря своему постоян-
ству могла бы стать неизменным ядром всех ее истори-
ческих превращений. Мы полагаем, что такую константу
следует искать в антропологической организации человека,
общей для всех людей без различия времени, места и
социального положения. Существуют определенные эсте-
тические постулаты, имеющие свой непосредственный ис-
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
точник в этой организации, таков, например, постулат
ритма для временной последовательности, постулат сим-
метрии и вертикальности для расположения в простран-
стве, постулат постоянства центра тяжести для объемных
тел и т. д. Заслуживают ли эти постулаты права назы-
ваться основными эстетическими нормами? Да, если мы,
разумеется, не будем отождествлять понятие основной нор-
мы с понятием идеальной нормы, если не будем считать
абсолютное осуществление этих постулатов идеалом ху-
дожественного совершенства. Все эти «антропологически»
мотивированные постулаты, которые мы уже приводили
в качестве примеров, не только весьма часто нарушаются
в искусстве, но их полное осуществление даже делает
невозможным возникновение эстетического наслаждения:
абсолютно правильный ритм работающих машин усыпляет,
совершенная симметрия равнобедренного треугольника не
затрагивает нашего эстетического чувства. Таким образом,
антропологические постулаты не являются индивидуаль-
ными нормами, но это им ни в коей мере не мешает
выполнять важную и нужную роль основополагающей мо-
тивировки конкретных эстетических норм. Следовательно,
если приходится совершенно отказаться от предпосылки,
согласно которой существуют абсолютные эстетические
нормы, то нет никакой необходимости отвергать для об-
ласти искусства само понятие нормы и в результате этого
погружаться в безысходный релятивизм.
Резюме:
Нужно различать норму и ее кодификацию: некодифи-
цированная норма есть сила, руководящая реализацией со-
ответствующей функции. Это относится ко всем видам норм,
ибо многие нормы, сохраняющие силу и действующие, ни-
когда не кодифицируются, и есть среди них даже такие,
которые вообще не поддаются кодификации. То, что отно-
сится ко всем нормам, вдвойне справедливо по отношению
к нормам эстетическим. Дело в том, что они более дина-
мичны, чем остальные: если, как правило, норма проявляет
тенденцию к осуществлению требования, которое она вы-
двигает, то применение нормы в искусстве, являющемся
эстетической областью par excellence*, подчиняется проти-
воположной тенденции — тенденции к нарушению нормы.
Структура художественного произведения носит характер.
♦ по преимуществу (франц.).
170
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
неустойчивого равновесия разных типов норм, эстетических
и иных, которые проявляются в произведении и применя-
ются частью позитивно, частью негативно.
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
ЦЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ
ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
I
Последний философский конгресс с достаточной ясностью
показал, что философское изучение ценностей находится
сейчас в состоянии принципиальной перестройки. Челове-
чество пережило период аксиологического релятивизма, ра-
зумеется еще и сейчас не окончательно завершенный, и
стремится теперь ввести идею прочной ценности, способной
устоять как перед многообразными индивидуальными по-
зициями, так и перед изменениями коллективного образа
мысли в разных точках земли и в разные эпохи. Некоторые
философы пытаются вернуться к онтологическому решению.
В наши намерения не входит давать здесь критический
обзор таких попыток; мы предполагаем даже, что мысли-
тель, опирающийся на законченную и оригинальную мета-
физическую систему, вероятно, сможет обнаружить доселе
неизвестные аспекты этой проблемы, естественно, в том
случае, если он, оставаясь в рамках своей системы, проду-
мает проблему последовательно от начала до конца. Но
собственный наш замысел и собственная наша задача носят
иной характер, поскольку отправной точкой для нас будут
служить научно установленные факты, предоставляемые
историей искусства и литературы, и поскольку наша цель —
внести свой вклад в методологию этих наук. Мы попытаемся
подвергнуть критическому рассмотрению значение всеоб-
щеобязательной ценности для развития и изучения искус-
ства; точно так же и собственно философский вопрос об
источнике всеобщей обязательности эстетической ценности
в этом исследовании будет рассматриваться с точки зрения
истории искусства. Поскольку всякая наука стремится по
возможности остаться независимой от какой бы то ни было
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
онтологии, мы будем вынуждены предпринять попытку
прийти к чисто гносеологическому решению.
Итак, вопрос может быть сформулирован следующим
образом:
Можно ли или даже нужно ли применительно к истории
какого-либо вида искусства в качестве рабочей гиперболы
допустить существование всеобщеобязательной эстетической
ценности? Если исходить из характера истории искусства,
это вопрос отнюдь не маловажный, поскольку истории ис-
кусства приходится рассматривать свой материал как ре-
зультаты и объекты непрерывного процесса. Именно по этой
причине история искусства извлекла столько пользы из
релятивистского понимания ценностей — лишь с его по-
мощью она сумела понять последовательность структурных
изменений в художественных произведениях как непрерыв-
ную линию, характер которой определяется имманентной,
внутренней закономерностью. И все же проблема всеобще-
обязательной ценности, которая в известный момент каза-
лась окончательно снятой с повестки дня, вновь и с новой
силой встала перед историками искусства. Хотя изменения
эстетической ценности, которые констатирует историк, мо-
гут представляться ему доказательством принципиальной
относительности данной ценности и он может найти оправ-
дания для какого угодно произведения, тем не менее его
задача — начертать на основе исследований непрерывную
линию развития искусства, причем он постоянно наталки-
вается на произведения, оказывающие действенное влияние
еще длительное время после того, как они вышли из мас-
терской своего создателя. В этих произведениях всеобщео-
бязательная эстетическая ценность предстает в качестве
важного фактора, принимающего участие в определении
судеб искусства. Историк искусства, таким образом, весьма
заинтересован в разрешении проблемы всеобщей обязатель-
ности эстетической ценности. Хотя большинство создавае-
мых произведений не приобретает этого долговременного
или возобновляющегося резонанса, все же возникает впе-
чатление, что художественный творческий акт всегда со-
провождается стремлением художника добиться безогово-
рочного признания*. Хотя эта претензия, на первый взгляд,
* Даже в том случае, когда художник отвергает широкие слои публики
как некомпетентные, он тем не менее всегда будет считаться со знатоками.
И если он даже заранее примирится с тем, что его творчество встретит
1
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
кажется чем-то совершенно субъективным, она имеет боль-
шое значение для объективного развития искусства, по-
скольку лишь под влиянием этого стремления субъективные
замыслы художника воплощаются в произведении, выходя-
щем за рамки сугубо личного выражения субъективного
состояния души автора. Но отчего только меньшая часть
произведений, покидающих мастерскую художника, пере-
живает свою эпоху? Каким образом и по какому праву
воздействуют на развитие искусства те произведения, ко-
торые пережили свою эпоху? Эти вопросы также ждут
ответа, и вот вам еще одно доказательство того, что мето-
дология истории искусства и литературы не может обойти
проблемы всеобщей обязательности эстетической ценности.
Вследствие этого мы и попытаемся решить данную проблему
с методологической точки зрения.
На первый взгляд, ценности в искусстве как раз не
достает универсальности и постоянства. При своем возник-
новении произведение сплошь и рядом бывает положительно
принято лишь частью коллектива, даже в случае успеха;
существуют произведения, значение которых надолго, если
не навсегда, остается ограниченным узкой общественной
средой или даже немногочисленной группой специалистов.
С течением времени общественная значимость произведения
может расшириться или, наоборот, сузиться; если его воз-
действие расширяется, то оно может выйти за границы
национального коллектива, в котором возникло, и тогда
может даже случиться, что отзвук произведения на его
новой родине будет сильнее, чем в его подлинном отечестве;
такова, например, судьба поэзии Байрона на материке.
Короче говоря, всеобщая обязательность ценности художе-
ственного произведения применительно к географии его
распространения представляется достаточно изменчивой да-
же для тех произведений, которым сопутствовал несомнен-
ный успех. Точно так же обстоит дело и во временном
плане, ибо ценность определенного произведения никогда
не остается неизменной в течение всего периода его суще-
ствования, она возрастает и уменьшается, исчезает и по-
всеобщее непонимание, он все же будет иметь в виду идеального, хотя
бы и несуществующего зрителя или читателя. Известно выказывание по-
эта-символиста, что он довольствовался бы «даже не одним-единственным
читателем». «Не один-единственный читатель» — это все же нечто большее,
чем никакой читатель; отрицается реальное существование такой личности,
а отнюдь не идеальная возможность ее существования.
17*
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
является вновь. Даже произведения, ценность которых не-
оспорима, переживают периоды, когда они существуют лишь
в виде фантомов, когда их слава поддерживается исключи-
тельно традицией; случается также, что официальная цен-
ность какого-либо произведения сохраняется лишь благодаря
школьной программе, которая предписывает ученикам чте-
ние определенного стихотворения, анализ определенной кар-
тины и т. д. Есть произведения, которые приобрели исклю-
чительную популярность, а затем довольно скоро ее утра-
тили. И наоборот, произведения, которые при своем
возникновении почти не были замечены, могут быть «от-
крыты» спустя значительное время и приобрести позднюю,
зато прочную славу. Мало этого: не только всеобщеобяза-
тельная ценность, но и сама ее идея подвержена колебаниям;
порой ей придается большое значение (в частности, в пе-
риоды классицизма), иногда о ней мало заботятся, по край-
ней мере — приверженцы некоторых направлений; порой
вообще не проявляется интереса к постоянству всеобщей
эстетической ценности, помогающему ей одолевать время
(что было свойственно, например, итальянскому футуризму,
сторонники которого на первых порах предлагали уничто-
жить художественные музеи), подчас же отвергаются ас-
пекты, способствующие максимальному ее резонансу в про-
странственном плане и применительно к различным разно-
видностям общественной среды, и таким образом возникают
произведения, предназначенные для специалистов (симво-
лизм). Поэтому практическая сопротивляемость художест-
венного произведения напору времени зависит также от
конкретного вида искусства. Было бы, например, невозмож-
но понять развитие сценического искусства, не принимая
во внимание постоянно возобновляющегося воздействия ряда
великих произведений, таких как драмы Шекспира, комедии
Мольера и т. д. В искусстве, непосредственно соседствующем
с театром, т. е. в кино, всеобщая обязательность ценности,
напротив, ограничена распространением ее в один только
данный момент без всякого расчета на будущее. Для ре-
шения вопроса о всеобщей обязательности эстетической
ценности не лишен интереса даже тот факт, что большие
музеи, предназначенные для хранения «вечных» ценно-
стей, тем не менее доказывают непостоянство этих цен-
ностей бесконечными заменами экспонируемых произве-
дений и расположением на видных местах то одних, то
других из них.
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Можно ли и целесообразно ли после всех этих оговорок
сохранять предпосылку существования реальной всеобщей
обязательности эстетической ценности или было бы выгоднее
допустить лишь существование более или менее богатой
шкалы относительных ценностей? Если бы мы приняли эту
вторую возможность, то, несмотря ни на что, оказались бы
в противоречии с самим смыслом художественного развития.
Хотя эстетическая ценность постоянно колеблется, художе-
ственное творчество всегда сохраняет характер упрямых
поисков совершенства. Без этой черты развитие искусства
было бы потоком без определенного направления и смысла.
Мы уже сказали, что всякое художественное произведение
неизбежно создается с намерением обрести всеобщее при-
знание, и доказательством этого служит нередко отрица-
тельное отношение художников, в том числе и тех, кто
больше всего пренебрегает бессмертием, к устремлениям
своих товарищей по искусству, даже если они параллельны
их собственным усилиям.
Следовательно, всеобщеобязательная ценность сущест-
вует и оказывает весьма ощутимое воздействие, но не смы-
кается с максимальным резонансом в пространстве и вре-
мени и не связана бесповоротно с какими-то определенными
произведениями. Напротив, она носит характер живой энер-
гии, которая неизбежно должна обновляться, если хочет
сохранить свою жизнеспособность. Подвижным лучом, та-
ящим в себе открытия, она освещает прошлое искусства и
всегда обнаруживает в нем новые, доселе не известные
аспекты. Так возникает плодотворное напряжение между
прошлым и будущим искусства, и это напряжение воздей-
ствует на современную художественную деятельность. Ис-
кусство в равной мере нуждается как в следовании традиции,
так и в подчинении импульсам современного момента раз-
вития. Всеобщеобязательная ценность самим своим хара-
кетром живой энергии делает возможным синтез двух этих
противоположных необходимостей: благодаря своей измен-
чивости она обращает внимание художника как раз на тех
его предшественников, произведения которых созвучны со-
временным тенденциям. В этом и состоит значение и важ-
ность всеобщеобязательной эстетической ценности для раз-
вития искусства. Чтобы убедиться в этом, достаточно от-
бросить статическое понимание всеобщеобязательной
эстетической ценности и осознать, что и она имеет характер
вечно живой энергии.
175
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
II
До сих пор мы занимались методологическим значением
всеобщеобязательной эстетической ценности, оставляя в сто-
роне вопрос о критериях этой ценности. Теперь необходимо
приступить к решению этого вопроса, поскольку без такого
критерия и само понятие всеобщей обязательности остава-
лось бы для нас неясным и неопределенным. Скажем сна-
чала, что существует несколько равноценных критериев: 1.
всеобщеобязательной является ценность, достигшая макси-
мального распространения в пространстве, включая сюда
максимальное распространение в разных видах обществен-
ной среды; 2. ценность, успешно противостоящая напору
времени; 3. ценность, которая самоочевидна. Можно было
бы даже высказать возражение, что эти три критерия в
действительности всего лишь один критерий с тремя соот-
носительными аспектами, и это было бы в самом деле так,
если была бы осуществима идеальная всеобщая обязатель-
ность эстетической ценности; в таком случае всякая конк-
ретная всеобщеобязательная ценность имела бы силу везде
и всегда и была бы одинаково очевидной для любого ин-
дивида. Но мы уже констатировали, что всеобщеобязатель-
ная ценность подвержена колебаниям, что ее объем или ее
объект непрерывно изменяются. В результате этого непо-
стоянства три упомянутых критерия часто расходятся; так,
например, ценность, максимально распространившаяся в
пространстве, еще вовсе не обязательно сохранится с тече-
нием времени и вовсе не обязательно будет самоочевидной
и т. д. Поэтому придется исследовать каждый из критериев
универсальной эстетической ценности в отдельности. Что
касается критерия распространенности в пространстве и в
разных видах общественной среды, то он кажется наименее
убедительным. В том случае, если бы произведение, на-
шедшее весьма широкий резонанс, быстро его утратило, мы
были бы склонны скорее поверить времени, чем простран-
ству, и сказать, что действительно универсальная ценность
этого произведения невелика или вообще равняется нулю.
Но это отнюдь не значит, что критерий распространения в
реальном или общественном пространстве не представляет
интереса для истории искусства; напротив, одна из важных
задач этой науки не только изучение синхронного распро-
странения всякого отдельного художественного произведе-
ния, но также изучение общей позиции каждого периода,
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
сказывающейся в относительной распространенности опре-
деленных художественных произведений. В развитии ис-
кусства существуют эпохи, когда считается, что для всеоб-
щего признания произведения достаточно, если оно бывает
признано определенным общественным классом (в качестве
примера можно привести французскую литературу периода
больших литературных салонов XVII и XVIII веков), в
иную эпоху для успеха произведения достаточно признания
еще более немногочисленной элиты, но зато международной
(послевоенный «авангард», участники которого, представи-
тели искусства, были друг для друга одновременно и пуб-
ликой); иной раз в качестве признака всеобщности ценности
требуется признание ее всеми классами общества и всеми
разновидностями социальной среды (таковы, например, оп-
ределенные тенденции нашей эпохи, требующие максималь-
ной доступности искусства). Все эти и иные позиции, ко-
торые также возможны, сменяют друг друга на всем про-
тяжении развития искусства и характеризуют в
определенной мере каждый из этапов этого развития.
Способность преодолевать время представляется, как уже
было указано, более важным критерием всеобщей обяза-
тельности эстетической ценности, чем простое ее распро-
странение в пространстве. Можно ли подвергнуть это инс-
тинктивное ощущение большей важности временного кри-
терия критическому анализу? Мы предполагаем, что можно,
ибо только с помощью этого критерия мы способны выяснить
действительное значение произведения. Оценивая художе-
ственное произведение, мы судим не о самом материальном
продукте, а об «эстетическом объекте», являющемся его
нематериальным эквивалентом в нашем сознании и резуль-
татом взаимодействия импульсов, исходящих из самого про-
изведения, с живой эстетической традицией, представляю-
щей собой достояние коллектива. Этот эстетический пред-
мет, разумеется, подвержен изменениям, хотя постоянно
соотносится с одним и тем же материальным произведением;
изменения эстетического объекта имеют места, когда про-
изведение попадает в новую общественную среду, отличную
от той, в атмосфере которой оно возникло; однако эти
синхронные изменения эстетического предмета почти всегда
довольно незначительны по сравнению с диахронными из-
менениями, т. е. с изменениями, которые эстетический объ-
ект претерпевает во времени. Дело в том, что с течением
времени материально идентичное произведение может сме-
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
нить ряд эстетических объектов, которые будут радикально
отличаться друг от друга и соответствовать разным этапам
развития структуры данного рода искусства. Чем дольше
какое-нибудь произведение сохраняет свое эстетическое воз-
действие, с тем большей уверенностью можно сказать, что
постоянство его ценности связано не с преходящим эстети-
ческим объектом, а со способом, которым произведение
было создано в своем материальном обличье. Но это зна-
чение фактора времени для всеобщей обязательности эсте-
тической ценности не может помешать колебаниям, которым
подвержена сама оценка этого критерия: в истории искусства
можно найти моменты, когда ему придается чрезвычайно
малое значение; мы уже привели в качестве примера фу-
туризм, сторонники которого предлагали уничтожить худо-
жественные музеи, созданные для сохранения произведений,
длительное время не утрачивающих ценности.
Третий критерий всеобщей обязательности эстетической
ценности — ее самоочевидность, заключающаяся в том, что
индивид, оценивая художественное произведение, обладает
непосредственной уверенностью, что его суждение имеет
всеобщее, более широкое, чем просто индивидуальное, зна-
чение и стремится навязать эту уверенность остальным
людям как постулат. Это ощущение эстетической самооче-
видности заставило Канта приписать эстетическому сужде-
нию характер a priori*. Мы предпочитаем избегать этого
термина, поскольку эстетическое суждение, несмотря на
свою субъективную самоочевидность, как нам кажется, не
соответствует требованиям, обязательным для суждения а
priori. Такое суждение должно быть независимым от какого
бы то ни было опыта, между тем как эстетическое суждение
часто опирается на предшествующий опыт — собственный
или заимствованный. Нередко мы встречаемся с людьми,
которые сознательно основываются в своих суждениях на
авторитетах, доказательством чему служит существование
литературной и художественной критики, одна из задач
которой — руководить суждениями тех, кто мало способен
к самостоятельным оценкам. Уверенность в эстетическом
суждении очень часто приобретается благодаря специаль-
ному воспитанию, опирающемуся на признанные ценности.
Для того чтобы эстетическое суждение носило характер а
priori, нужно, чтобы оно каждый раз было независимо и
♦ до опыта (лат.).
178
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
от индивидуальных склонностей человека, его высказыва-
ющего; но легко убедиться, что все суждения одного и того
же лица, какой бы уверенностью вкуса оно ни отличалось,
образуют весьма последовательную линию, определяемую
как раз склонностями данного индивида. Самоочевидность
эстетического суждения, таким образом, лишь субъективна;
ее претензия на неограниченную обязательность — всего
только постулат, с которым индивид обращается к коллек-
тиву.
Поэтому историческая роль самоочевидности эстетиче-
ского суждения подвержена изменениям. Так, существовали
периоды, когда способность самоочевидного суждения в воп-
росах искусства приписывалась скорее заказчикам художе-
ственных произведений, чем самим представителям искус-
ства; например, Дж. Чосер просил некоего вельможу исп-
равить его стихотворения так, чтобы они соответствовали
господствующему вкусу; Микеланджело, напротив, бурно
протестовал против эстетических взглядов, которые ему
старался навязать папа. Государственный или общественный
авторитет (например, церковный) также в некоторые пе-
риоды стремится обрести монополию на немотивированную
способность самоочевидного эстетического суждения. Иногда
эта способность приписывается специалистам, иногда, нао-
борот, широким слоям общества: Мольер, читавший свои
пьесы служанке. Следовательно, критерий самоочевидности,
как и два предыдущих критерия, носит характер истори-
ческого фактора, который находится под влиянием непре-
рывного художественного процесса и в свою очередь ока-
зывает непрестанное воздействие на этот процесс. Тем не
менее критерий самоочевидности по отношению к двум
остальным критериям занимает особое, привилегированное
положение.
Критерий времени, точно так же как пространственный
критерий, имеет лишь косвенное отношение к развитию
искусства; дело в том, что они лишь доставляют образцы,
которым нужно следовать, между тем как критерий оче-
видности, наоборот, является составной частью самого акта
творчества и определяет в этом акте эстетическую позицию
художника. Находя таким путём применение в художест-
венном творчестве, этот критерий дает художнику субъек-
тивную уверенность в том, что он нашел единственно адек-
ватное и объективное решение; вот почему этот критерий
играет роль посредника между субъективным замыслом ху-
1*70
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
дожника и объективной тенденцией развития, которая и
сама проявляется в произведении, и одновременно испыты-
вает влияние с его стороны, в свою очередь оказывающее
воздействие на дальнейший ход развития.
Итак, мы выяснили, что все три критерия всеобщности
эстетической ценности стоят на почве развития и в резуль-
тате этого подвержены изменениям; ни один из них не
продемонстрировал своей независимости от исторических
изменений вкуса. И все же мы не оставили традиционной
идеи всеобщеобязательной эстетической ценности, сущест-
венно отличающейся от релятивной ценности и сохраняю-
щей, несмотря на всю свою реальную изменчивость,'иде-
альную тождественность самой себе на всем протяжении
времени. Но может ли ценность, постоянно остающаяся
идентичной самой себе, не быть онтологической ценностью?
Нельзя забывать, что в нашем понимании идентичность
имеет с начала до конца динамический характер и заклю-
чается лишь в постоянно возобновляющейся претензии на
всеобщность. Для объяснения ее нет, таким образом, нужды
обращаться к предпосылке существования неизменной цен-
ности, скорее нужно задать себе вопрос об источнике этой
претензии на всеобщую обязательность. Это и составит
предмет третьей части нашего рассуждения.
III
В качестве временной отправной точки возьмем соотне-
сенность всеобщеобязательной эстетической ценности с ма-
териальным предметом (эстетическая ценность как свойство
материального художественного произведения). Правда, эта
предпосылка уже множество раз отвергалась, она кажется
уже окончательно мертвой с той поры, когда люди осознали,
что эстетическая оценка касается не материального пред-
мета, а «эстетического объекта», возникающего в результате
взаимопроникновения импульсов, которые исходят из ма-
териального произведения, и живой эстетической традиции
данного искусства; полем этого взаимопроникновения яв-
ляется сознание оценивающего индивида. Оказалось, таким
образом, что нельзя приписывать эстетическую ценность
непосредственно материальному произведению, но это ни
в коей мере не означает, что материальное произведение
не играет большой роли в оценке самим способом своего
создания. Иначе нельзя было бы понять, почему опреде-
ли
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
ленные материальные произведения могут постоянно обре-
тать все возобновляющееся эстетическое воздействие, не-
смотря на изменения, которые эстетические объекты, соот-
ветствующие этим произведениям, претерпевают на всем
протяжении их существования и на всем пути развития
данного вида искусства. Итак, эстетическая ценность свя-
зана с материальным произведением, хотя это отношение
не есть отношение свойства к его носителю.
Какой же характер имеет это отношение? Прежде всего
вспомним, что всякое материальное произведение исходит
из рук человеческих и обращается к человеку и что, сле-
довательно, только человек может установить отношение
между материальным предметом и ценностью, направленной
на материальный эстетический объект. Устанавливается ли
это отношение отдельным человеком? И может ли быть
этим отдельным человеком любой из тех, кто воспринимает
произведение, или только тот, кто создает его? Несколько
десятилетий тому назад теоретики любили утверждать, что
ценность произведения заключается в полном соответствии
между создателем и произведением или даже в соответствии
между определенным индивидуальным душевным состояни-
ем автора и произведением. При этом забывалось, что
материальное произведение, как только оно вышло из рук
автора, становится общественным фактом, что каждый мо-
жет понимать и толковать его по-своему; индивидуально-
стью является не только автор, но в равной мере и читатель,
и зритель, а это означает, что свою личность проецируют
в произведение не только автор, но точно так же и читатель
и зритель. Существуют произведения, которые легко допу-
скают такое вторжение личности в свою внутреннюю струк-
туру, и есть произведения, которые почти не допускают
такого вторжения. Теоретику и историку искусства чрез-
вычайно интересно измерить степень прямой экспрессивно-
сти, какую допускает определенное художественное произ-
ведение, но степень эта, весьма важная для характеристики
произведения, ничего не говорит о его ценности, поскольку
художественное произведение по своей сути есть нечто боль-
шее, чем простое выражение личности автора: это прежде
всего знак, призванный служить посредником между инди-
видами, к числу которых в равной мере относятся как
творческий индивид, так и индивиды, составляющие пуб-
лику. Хотя творческий индивид ощущается как сторона, от
которой знак исходит, остальные же — как сторона, которая
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
этот знак только принимает, взаимопонимание обеих сторон
возможно лишь потому, что все индивиды, о которых идет
речь, суть члены одного и того же реального или идеального
общества, общества постоянного или возникшего по како-
му-то случаю, причем члены равноправные. В качестве
знака произведение может заключать в себе несколько раз-
ных смысловых оттенков, и в одно и то же произведение
может даже вкладываться великое множество «смыслов» —
как одновременно, так и последовательно; каждый такой
смысл соответствует определенному эстетическому объекту,
связанному с данным материальным произведением. Чем в
большей мере произведение проявит такую семантическую
способность, тем в большей степени оно будет способно
противостоять изменениям места, общественной среды и
времени, тем более всеобща его ценность.
Возникает вопрос, при каких обстоятельствах эта спо-
собность может достигнуть максимума. Человек как член
общества находится под влиянием отношения этого общества
к миру; следовательно, весьма вероятно, что пока автор и
публика художественного произведения принадлежат к од-
ному и тому же реальному обществу, произведению не
нужно будет раскрывать всей своей семантической потен-
ции, поскольку все, кто вступит в соприкосновение с ним,
будут относиться к нему примерно одинаково. Но предпо-
ложим, что общество, воспринимающее произведение, с
течением времени совершенно изменится. Это произошло
бы, например, с поэтическим произведением, которое чи-
талось бы несколько сот лет спустя после своего возникно-
вения и в совсем иной стране. Если при таких обстоятель-
ствах произведение сохранит свое семантическое значение
и свое эстетическое воздействие, мы будем иметь право
считать это гарантией его обращенности не только к лич-
ности, сформированной данным состоянием общества, но и
к тому, что в человеке есть общечеловеческого; такое про-
изведение доказывает, что оно связано с антропологической
сущностью человека. И как раз в этом состоит универсаль-
ная ценность художественного произведения, обусловленная
формальной способностью произведения функционировать
в качестве эстетически ценной вещи в самых разных видах
общественной среды, хотя сама ее ценность в этих разных
видах среды качественно различна. Впрочем, всеобщая эс-
тетическая ценность не исчерпывается одним только чисто
эстетическим воздействием произведения: произведение,
182
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
выступающее в качестве ее носителя, будет также обладать
способностью затрагивать самые глубокие слои и самые
разнообразные стороны душевной жизни личности, которая
придет в соприкосновение с этим произведением. Можно
было бы даже задать вопрос, не является ли всеобщая
эстетическая ценность в своей истинной сущности простым
показателем определенного взаимного равновесия между
многообразными ценностями, содержащимися в произ-
ведении.
Остается уже всего лишь одна проблема: можно ли бук-
вально сформулировать условия, которые должны соблю-
даться, чтобы произведение действенно затронуло то, что
свойственно человеку вообще? Несомненно, на дне всякого
человеческого действия лежит нечто, принадлежащее чело-
веку как таковому. Например, современная лингвистика
открыла несколько законов речи как таковой (langage), т.
е. человеческой способности достигать взаимопонимания с
помощью языковых знаков. Разумеется, вполне очевидно,
что язык принципиально отличается от искусства, ибо язык
предназначен для активного использования каждым, тогда
как искусство, по крайней мере в нашем современном его
понимании, активно практикуется лишь специалистами, ко-
торых мы называем представителями художеств. Это допу-
скает в искусстве значительно больше свободы и значи-
тельно меньше однообразия, чем при обычном употреблении
речи. Тем не менее уже неоднократно было констатировано,
что существуют важные черты сходства между созданиями
примитивного искусства разных стран, между творениями
искусства народного и детского; эти черты сходства, кдк
нам кажется, свидетельствуют об общей антропологической
основе, из которой берут свои истоки эти творения существ,
менее сложных, чем современный взрослый человек. В этом
отношении характерно и то обстоятельство, что в литературе
для детей определенные произведения обретают ценность,
независимую от течения времени и изменений в простран-
стве, значительно чаще, чем в литературе для взрослых:
детская литература имеет поразительно много произведе-
ний, пользующихся любовью многих поколений одновре-
менно во многих странах и различных типах социальной
среды (ср. «Робинзона Крузо» Дефо или «Сердце» Амичиса ).
Можно ли, следовательно, надеяться, что в один пре-
красный день мы дождемся предписаний, как создавать
произведения со всеобщей эстетической функцией? Изве-
183
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стно, что Фехнер, основывая экспериментальную эстетику,
надеялся найти такие абсолютные правила. Сейчас мы уже
знаем — и частично как раз благодаря дальнейшему раз-
витию экспериментальной эстетики, — что между общим
антропологическим строением человека как такового и кон-
кретной эстетической оценкой встает человек-индивид как
член и частично продукт общества, в котором он живет и
которое само находится в развитии. Мы знаем также, что
всеобщеобязательная эстетическая ценность, несмотря на
свой антропологический фон, настолько изменчива, что ре-
зультаты, уже достигнутые в процессе художественного
творчества, вследствие повторения утрачивают свою цен-
ность. Мы не хотим этим сказать, что пристальное изучение
примитивного, народного и детского искусства вместе со
сравнительным изучением более дифференцированных
форм искусства не могли бы привести к довольно детальному
познанию всеобщих принципов весьма важного значения.
Но эти принципы не будут иметь характера предписаний.
Как вышеупомянутые общие законы речи не имеют ничего
общего с нормативной грамматикой, поскольку они не могут
быть нарушаемы, так не могут стать правилами и всеобщие
законы искусства.
К своей антропологической основе искусство будет про-
биваться каждый раз заново и еще нехожеными путями.
Это не означает, что интенсивной связи конкретного про-
изведения с общечеловеческой антропологической основой
нельзя достичь; напротив, такие безоговорочные победы
происходят в искусстве довольно часто, и всякий раз, когда
такая победа одерживается, становится шедевром больше;
но, как уже было отмечено, пути от искусства к «человеку
вообще» неисчислимы, и каждый из них отвечает опреде-
ленной общественной структуре или, скорее, жизненной
позиции, этой структуре свойственной. От самого же ху-
дожественного произведения зависит, будет ли оно способно
установить активную связь с несколькими или даже многими
несходными личными позициями. Итак, мы вновь, уже в
третий раз, возвращаемся к нашей отправной точке.
Так же, как две предшествующие, и эта третья глава
привела нас к выводу, что всеобщеобязательная ценность
находится в состоянии непрестанного возникновения. Но
эта глава показала нам также, что ее изменчивость заклю-
чается во вновь возобновляющихся возвратах к определен-
ной константе, а именно к общему устройству человека.
1ЙЛ
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Не вылились ли наши усилия в результат, близкий онто-
логическому решению нашей проблемы, предполагающему
наличие всеобщеобязательной ценности как асимптомы, к
которой искусство непрестанно приближается, никогда ее
не достигая? И да и нет. Взаимные совпадения обеих точек
зрения достаточно очевидны, но между ними есть и суще-
ственные различия.
Прежде всего онтологическая эстетическая ценность не -
ограничена (вследствие чего у многих мыслителей все виды
всеобщих ценностей имеют тенденцию к слиянию) и именно
этим лишена всякого конкретного содержания, тогда как
антропологическая конституция, которую мы ставим на ее
место, обладает качественным содержанием, явственно ее
ограничивающим: прекрасное существует только для чело-
века. Онтологическая эстетическая ценность, лишенная кон-
кретного содержания, никогда не может в силу этого по-
лучить адекватное воплощение; антропологическая консти-
туция, напротив, способна к бесконечному числу
адекватных эстетических реализаций, соответствующих
многообразным качественным аспектам человеческого стро-
ения. В отличие от этого, отдельные реализации онтоло-
гически понимаемой всеобщей эстетической ценности могут
различаться лишь количественно, большим или меньшим
совершенством.
Антропологическая конституция сама по себе не содер-
жит ничего эстетического; поэтому между нею и ее эсте-
тическими реализациями существует качественное напря-
жение, и каждая реализация представляет собой новый
взгляд на основополагающее устройство человека. Именно
по этой причине всеобщеобязательная эстетическая цен-
ность, покоящаяся на общечеловеческом строении человека,
и может, несмотря на все постоянство своего субстрата,
давать импульсы к переворотам и метаморфозам в развитии
искусства.
Итак, мы не пришли к кодификации всеобщеобязатель-
ной ценности, как этого желал Фехнер. Но надеемся, что
мы достигли своей кардинальной цели — установить вза-
имоотношение между идеей всеобщеобязательной ценности
и идеей непрестанного развития искусства. В наш замысел
входила попытка набросать главу из всеобщей методологии
истории искусства и литературы. Эта наука, или, скорее,
эта группа наук, нуждается не в статических предписаниях,
а в философской директиве, позволяющей и всеобщеобяза-
135
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тельную эстетическую ценность осознать в ее историческом
аспекте — как живую энергию. Понятие всеобщей эстети-
ческой ценности нельзя упразднить, не извратив истинного
положения вещей, но у историка были бы связаны руки,
если бы ему было внушено статическое понимание универ-
сальной эстетической ценности.
Заканчивая свое рассуждение, мы отваживаемся поста-
вить еще один вопрос. Нельзя ли, разумеется после необ-
ходимых корректур, применить и к другим видам всеобще-
обязательных ценностей динамическое решение проблемы
всеобщей эстетической ценности, которое заключается в
том, что эта ценность понимается как вечно живая энергия,
находящаяся в постоянном, хотя и исторически изменяю-
щемся отношении к неизменному, общечеловеческому ус-
тройству человека?
ПРЕКРАСНОЕ
Прекрасное — абсолютное совпадение конкретного яв-
ления с соответствующей эстетической нормой. Прекрасное
не есть метафизическая идея, просвечивающая в эмпири-
ческой действительности, и не есть реальное свойство вещей,
доказательством чего служит изменение эстетической оцен-
ки одних и тех же явлений в зависимости от различия
эпохи и социальной среды. Однако в результате этого не
следует склоняться к эстетическому субъективизму. Эсте-
тические нормы существуют объективно (т. е. независимо
от субъективной воли и субъективных предрасположений
индивида) в сознании коллективов, вступая в силу всюду,
где какой-то предмет или какая-то деятельность служат
носителями эстетической функции, причем и в тех случаях,
когда эта функция не основная и подчинена иной домини-
рующей функции (например, интеллектуальной, практиче-
ской, этической, экономической и т. п.), т. е. и тогда, когда
речь идет о явлениях, стоящих вне сферы искусства. По-
скольку эстетическая функция соучаствует, хотя нередко
потенциально и скрыто, в каждом явлении (вспомним о
возможности эстетической оценки природы, человеческого
труда, игры, научного исследования, общественных конвен-
186
ПРЕКРАСНОЕ
ций, пищи, одежды и т. д.), сфера действия эстетических
норм весьма обширна. Комплекс таких норм — эстетический
канон — изменчив прежде всего потому, что подвержен
развитию, кроме того, эстетические каноны отличаются
друг от друга также у разных коллективов, изменяясь от
нации к нации, от одного общественного слоя к другому,
от одной среды к другой и т. д. Однако на определенном
этапе развития и в определенном коллективе эстетический
канон отличается прочностью и всеобщей обязательностью
(господствующий вкус), хотя обязательность его не ощу-
щается так сильно, как это происходит при действии других
норм, например, нравственных. Зато эстетические нормы
проявляют себя нагляднее, и поэтому признание опреде-
ленного эстетического канона часто бывает симптомом или
даже осознанным символом принадлежности к некоему об-
щественному образованию (вкус как фактор общественной
дифференциации). В обществах, где существует явственное
самосознание общественных слоев, существует и иерархия
эстетических канонов, соответствующих общественному
расслоению, и переход из одного слоя в другой внешне
проявляется прежде всего усвоением вкуса этого нового
слоя. В качестве свидетельства обязательности эстетического
канона будет небезынтересно напомнить, что эстетические
нормы порой переносятся на иные виды оценки, обязатель-
ность которых ощущается как императивная: при столкно-
вении двух противоположных эстетических канонов их при-
верженцы часто обвиняют друг друга отнюдь не в отсутствии
вкуса, а в недостаточной интеллигентности (интеллекту-
альная отрицательная оценка) или в нечестности (нравст-
венная отрицательная оценка); это нередко имеет место в
ходе борьбы художественных направлений. Прекрасное, сов-
падение со схематической нормой, нельзя отождествлять с
многообразной художественной ценностью. Хотя искусство
всегда воспринимается и оценивается на фоне определенного
эстетического канона, обусловленного эпохой, а иногда и
социальными критериями, но, с одной стороны, прекрасное
существует и вне искусства (например, прекрасное в при-
роде, красота человеческого тела, красота в моде, в спорте
и т. п.), с другой — совпадение с эстетическим каноном не
является необходимым условием наличия положительной
художественной ценности. Часто бывает, что о произведе-
ниях, высокая художественная ценность которых призна-
ется, нельзя сказать — особенно в период их нестершейся
187
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
новизны, — что они прекрасны. Только для некоторых
периодов развития искусства и только для некоторых его
направлений характерны поиски соответствия эстетическо-
му канону (таковы, например, периоды, получившие в ис-
тории искусства название классических), между тем как
для других периодов и других направлений характерно как
раз использование противоречия с эстетическим каноном в
целях усиления художественного воздействия. Таким обра-
зом, центр тяжести существования прекрасного как совпа-
дения с эстетическими нормами и центр тяжести самих
этих норм находится скорее вне сферы искусства, чем в
самом искусстве, хотя развитие этих норм происходит под
постоянным влиянием искусства. Участие искусства в раз-
витии эстетических норм заключается в том, что стареющие
художественные структуры, первоначально представлявшие
собой неразложимые целостные ценности, путем автомати-
зации превращаются в статические системы, отдельные эле-
менты которых могут эстетически оцениваться вне зависи-
мости от целого, в которое они включены; следовательно,
с течением времени автоматизированная структура распа-
дается на конгломерат детальных норм, каждая из которых,
будучи способна найти применение в любой обстановке,
самостоятельно проникает, в широкую сферу эстетических
оценок. Нужно, разумеется, подчеркнуть, что развитие этой
сферы не является лишь отблеском развития искусства,
поскольку, как уже хбыло отмечено, оно связано в то же
время с развитием общественных образований.
КОМИЧЕСКОЕ
Комическое — общее свойство явлений, возбуждающих
смех. Разумеется, наряду с этим существует и смех бес-
предметный, обусловленный физиологически, например из-
бытком жизненных сил, вот почему по отношению к ко-
мическому смех является лишь симптомом, а не специфи-
ческим признаком. Этот признак следует искать где-то вне
области физиологических реакций. Одни теоретики видят
его в особом душевном процессе (неожиданная разрядка
напряженного ожидания), другие — в отношении смеюще-
188
КОМИЧЕСКОЕ
гося человека к данному предмету или явлению (комическое
как пренебрежительная оценка), третьи — в обнаружении
логической ошибки (суждение, основанное на противоречии,
либо ошибочное подведение предмета или явления под оп-
ределенное понятие), четвертые — в специфической соци-
альной функции (комическое как защита общества от ав-
томатизма, мешающего ему своевременно приспосабливать-
ся к изменению обстановки и отношений). Однако ни одна
из этих теорий не объясняет все случаи комичности; поэтому
некоторые теоретики заявляют, что единой формулы здесь
найти невозможно. Разумеется, трудность проблемы коми-
ческого можно объяснить также широтой сферы его рас-
пространения (комическое в искусстве: литература, драма-
тическое искусство, кино, живопись, танец — и вне искус-
ства), обилием и разнообразием его оттенков (см., например,
репертуар литературных жанров, имеющих дело с комиз-
мом: юмористический роман и новелла, пародия, травести,
сатира, эпиграмма), множественностью его функций (оно
может быть полемикой, равно как и пропагандой, — ср.
карикатуру в живописи и графике, которая порой нападает,
порой прославляет, — может увеселять, равно как и раз-
дражать). Однако есть определенное свойство, общее для
всей сферы комического и заключающееся в том, что речь
всегда идет о противопоставлении двух смысловых связей,
в свете которых рассматривается данная реальность. Наи-
более явственно эта двойственность проявляется в словесной
остроте, поскольку значение наиболее четко выступает в
речи. Особенно характерны диалогические остроты: обычная
схема здесь сводится к тому, что высказывание одного из
лиц, в которое это лицо вкладывает совершенно опреде-
ленную смысловую связь, считая ее очевидной, другим
лицом, партнером первого, включается в другую связь, в
которой оно неожиданно приобретает иной смысл. Вот по-
чему столь часты анекдоты о детях, где два ряда смысловых
ассоциаций предопределены различием между миром взрос-
лого человека и миром ребенка, или эротические анекдоты,
где эта двойственность поддерживается легкостью, с которой
любой факт или любое высказывание, не касающееся эро-
тической области, могут быть поставлены в смысловую связь
с эротикой. Но и в других видах комичности — комизме
ситуационном и комизме характеров — смысловая двойст-
венность выступает как основной признак. Одна из наиболее
частых форм ситуационного комизма — недоразумение:
189
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
здесь смысловая двойственность, скрытая от действующих
лиц, но очевидная для читателя (зрителя), обнаруживает
себя непосредственно. Комизму характеров присуще свой-
ство, на которое обратил внимание Бергсон: комические
персонажи проявляют склонность к типичности. Типичность
вызвана здесь тем, что возникает потребность в доминиру-
ющей черте характера, благодаря которой в глазах ее но-
сителя мир получал одностороннюю, отличающуюся от нор-
мального понимания вещей окраску. Очень часто одно из
сталкивающихся понятий воспринимается нами как клише
(будь то языковое или ситуационное), недостаточно при-
способленное к данной реальности; в этих рамках можно
согласиться с основным тезисом Бергсона («Le rire»1) об
автоматизме как предпосылке комики; в целом же ясно,
что комическое, несмотря на свою богатую психологическую
и особенно социологическую проблематику (например, на
тесную связь некоторых типов комизма или определенных
комических тем с известными общественными слоями или
известной средой), в первую очередь является проблемой
науки о знаке и значении (семиологии): только с точки
зрения этой науки может быть определено его основное
свойство и дана его типология.
ИСКУССТВО
КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
Становится все яснее, что основа индивидуального со-
знания вплоть до самых глубинных ее слоев каждый раз
определяется содержанием, которое принадлежит коллек-
тивному сознанию. В результате этого проблемы знака и
значения выдвигаются все настойчивее, ибо всякое духовное
содержание, выходящее за рамки индивидуального созна-
ния, уже самой своей способностью быть сообщенным при-
обретает характер знака. Наука о знаке (семиология — по
де Соссюру , сематология — по Бюлеру2) должна быть
разработана с одинаковой детальностью во всей своей ши-
роте; как современная лингвистика (ср. исследования праж-
ской школы, т. е. Пражского лингвистического кружка) рас-
ширяет поле семантики, говоря с этой точки зрения обо
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
всех элементах лингвистической системы, в том числе даже
о звуке, точно так же и результаты лингвистической се-
мантики должны быть применены ко всем остальным рядам
знаков с различием по их специальным признакам. Суще-
ствует даже особая группа наук, более других заинтересо-
ванная в проблемах знака (так же как в проблемах струк-
туры и ценности, которые, кстати, тесно связаны с пробле-
мами знака; например, художественное произведение
является одновременно знаком, структурой и ценностью).
Это так называемые науки о духе (Geisteswissenschaften,
sciences morales). Все они имеют дело с материалом, нося-
щим более или менее ярко выраженный характер знака, и
происходит это благодаря тому, что они ведут двойственное
существование — в чувственном мире и в коллективном
сознании.
Художественное произведение нельзя идентифициро-
вать, как это делала психологическая эстетика, ни с ду-
шевным состоянием его творца, ни с одним из душевных
состояний, которые оно вызывает у субъектов, его воспри-
нимающих. Ясно, что каждое субъективное состояние со-
знания заключает в себе нечто индивидуальное и сиюми-
нутное, делающее его в целом неуловимым и не поддаю-
щимся передаче, тогда как художественное произведение
предназначено для того, чтобы посредничать между его
творцом и коллективом. Произведение — это еще и «вещь»,
представляющая его в чувственном мире и доступная вос-
приятию всех без каких бы то ни было ограничений. Но
художественное произведение не может точно так же быть
сведено и к этому произведению-вещи, поскольку в резуль-
тате перемещения во времени и пространстве такое произ-
ведение-вещь порой полностью изменяет свой вид и свою
внутреннюю структуру; такие изменения становятся осяза-
емыми, например, если мы сравниваем между собой ряд
следовавших друг за другом переводов одного и того же
поэтического произведения. Произведение-вещь функцио-
нирует, таким образом^ лишь как внешний символ (обоз-
начающее, signifiant — по терминологии Соссюра*5), кото-
рому в коллективном сознании соответствует определенное
значение (иногда мы называем его «эстетическим объек-
том»), данное тем общим в субъективных состояниях со-
знания членов некоего коллектива, что вызвано произве-
дением-вещью. В противовес этому центральному ядру, при-
надлежащему в каждом акте восприятия художественного
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
произведения коллективному сознанию, существуют, само
собой разумеется, еще и субъективные психические эле-
менты, представляющие приблизительно то же, что Фехнер
обозначал термином «ассоциативные факторы» эстетическо-
го восприятия. Эти субъективные элементы также могут
быть объективированы, но только в той мере, в какой их
общее качество или количество определены центральным
ядром, принадлежащим коллективному сознанию. Так, на-
пример, субъективное душевное состояние, сопутствующее
у любого индивида восприятию импрессионистической жи-
вописи, будет носить совершенно иной характер, чем со-
стояние, которое вызовет кубистическая живопись; что ка-
сается количественных различий, то очевидно, что сюрре-
алистическое поэтическое произведение пробудит больше
субъективных представлений и чувств, чем классическое;
сюрреалистическое стихотворение предоставляет право са-
мому читателю устанавливать почти все связи темы, тогда
как классическое стихотворение точностью выражения поч-
ти полностью исключает свободу его субъективных ассоци-
аций. Таким путем субъективные элементы психического
состояния воспринимающего субъекта, хотя бы косвенно,
посредством ядра, принадлежащего общественному созна-
нию, обретают объективно семиологический характер, по-
добный тому, какой имеют «вторичные» значения слова.
Чтобы покончить с этими несколькими общими замеча-
ниями, мы должны еще добавить, что, отвергая отождест-
вление художественного произведения с субъективным пси-
хическим состоянием, мы одновременно отрицаем и все
гедонистические эстетические теории. Ведь наслаждение,
которое вызывает художественное произведение, в лучшем
случае может получить косвенную объективизацию как
«вторичное значение», причем значение потенциальное: бы-
ло бы неправильно утверждать, что оно является необхо-
димой составной частью восприятия всякого художествен-
ного произведения; если в истории искусства существуют
периоды, когда наличествует тенденция вызывать это на-
слаждение, то существуют и другие периоды, равнодушные
к нему или даже стремящиеся вызывать противоположное
воздействие.
Согласно общепринятому определению, знак есть чув-
ственная реальность, имеющая отношение к иной реально-
сти, которую она должна вызывать. Следовательно, мы
должны поставить вопрос, какова эта другая реальность,
109
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
которую заменяет художественное произведение. Правда,
мы могли бы удовлетвориться утверждением, что художе-
ственное произведение есть автономный знак, характерный
только тем, что он служит посредником между членами
одного и того же коллектива. Но этим проблема контакта
произведения-вещи с реальностью, на которую она наце-
лена, была бы только отодвинута в сторону, но не разре-
шена; если существуют знаки, не относящиеся ни к какой
отличной от них реальности, то тем не менее знаком всегда
нечто подразумевается, и это вполне естественно, поскольку
знак должен быть понят в равной мере как тем, кто его
посылает, так и тем, кто его принимает. Только у авто-
номных знаков это «нечто» лишено явственной определен-
ности. Какова же та неопределенная реальность, на которую
нацелено художественное произведение? Это общий кон-
текст так называемых социальных явлений, например фи-
лософия, политика, религия, экономика и т. д. Вот почему
искусство более чем какое-либо иное общественное явление
способно характеризовать и представлять данную «эпоху»;
по этой же причине история искусства в течение длительного
времени отождествлялась с историей образованности в ши-
роком смысле слова и, наоборот, всеобщая история охотно
заимствует для установления собственной периодизации по-
воротные моменты истории искусства. Правда, связь опре-
деленных художественных произведений с общим контек-
стом социальных явлений представляется весьма вольной.
В качестве примера можно привести творчество так назы-
ваемых проклятых поэтов, произведения которых чужерод-
ны по отношению к современной им шкале ценностей. Но
именно по этой причине они исключаются из литературы,
и коллектив принимает их только тогда, когда в результате
развития общественного контекста они становятся способ-
ными выражать его. Мы должны добавить еще одно разъ-
яснительное замечание, чтобы предупредить возможность
какого бы то ни было недоразумения: если мы говорим,
что художественное произведение нацелено на контекст
общественных явлений, то этим мы ни в коей мере не
утверждаем, что оно неизбежно сливается с этим контекстом
таким образом, чтобы его можно было воспринимать как
прямое свидетельство или как пассивный рефлекс. Как вся-
кий знак оно может иметь к вещи, которую означает,
косвенное, например метафорическое или иное непрямое,
отношение, не переставая быть нацеленным на эту вещь.
ООО
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Из семиологического характера искусства вытекает, что
художественное произведение никогда нельзя использовать
как исторический или социологический документ без пред-
варительного установления документальной ценности этого
произведения, т. е. качества его отношения к данному кон-
тексту социальных явлений. Чтобы подытожить существен-
ные моменты вышеизложенного, мы можем сказать, что
при объективном изучении такого факта, как искусство,
необходимо рассматривать художественное произведение
как знак, состоящий из чувственного символа, созданного
художником, из «значения» (« эстетическому объекту), пре-
бывающего в коллективном сознании, и из отношения к
обозначаемой вещи, устремленного к общему контексту
общественных явлений. Второй из этих элементов содержит
саму структуру произведения.
Но проблемы семиологии искусства этим еще не исчер-
паны. Наряду с функцией автономного знака художествен-
ное произведение имеет еще иную функцию — функцию
коммуникативного4 или сообщающего знака. Так, напри-
мер, поэтическое произведение функционирует не только
как художественное произведение, но в то же время и как
«слово», выражающее состояние души, мысль, чувство и
т. д. Существуют виды искусства, где эта коммуникативная
функция чрезвычайно явственна (поэзия, живопись, скуль-
птура), в других видах искусства она замаскирована (танец)
или даже невидима (музыка, архитектура). Оставим в сто-
роне трудную проблему внутреннего наличия или даже
полного отсутствия коммуникативного элемента в музыке
и архитектуре — хотя и здесь мы склонны признать при-
сутствие рассеянного коммуникативного элемента (см. род-
ство между музыкальной мелодией и лингвистической ин-
тонацией, коммуникативная способность которой очевидна).
Обратимся к тем видам искусства, где функционирование
произведения в качестве коммуникативного знака не вы-
зывает сомнений. Это виды искусства, в которых существует
сюжет (тема, содержание) и в которых этот сюжет, на
первый взгляд, функционирует как коммуникативное зна-
чение произведения. В действительности каждый компонент
художественного произведения, включая и «самые формаль-
ные», обладает собственной коммуникативной ценностью,
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
независимой от «сюжета». Так, например, краски и линии
картины нечто означают, даже в том случае, когда отсут-
ствует какой бы то ни было сюжет — см. «абсолютную»
живопись Кандинского или произведения некоторых худож-
ников-сюрреалистов. Именно в этом виртуально семиоло-
гическом характере «формальных» элементов заключается
коммуникативная сила бессюжетного искусства, которую
мы называем рассеянной. Чтобы быть точными, мы должны,
следовательно, сказать, что в качестве значения, в том
числе и коммуникативного, функционирует вся структура
художественного произведения. Говоря попросту, сюжет
произведения играет роль кристаллизирующего стержня это-
го, значения, которое без него осталось бы неопределенным.
Художественное произведение, таким образом, имеет дво-
якое семиологическое значение — автономное и коммуни-
кативное, из' которых второе является достоянием прежде
всего сюжетных видов искусства. Поэтому мы также видим,
что в развитии этих видов искусства проявляется диалек-
тическая антиномия между функцией автономного знака и
функцией знака коммуникативного. История прозы (рома-
на, новеллы) в этом смысле содержит особенно типичные
примеры.
Но еще более тонкие и сложные проблемы возникают,
едва мы, с коммуникативной точки зрения, поставим вопрос
об отношении искусства к обозначаемой вещи. Это отно-
шение отличается от того, каким всякое явление искусства
в качестве автономного знака связано с общим контекстом
социальных феноменов, ибо в качестве коммуникативного
знака искусство направлено на определенную реальность,
например на точно выделенное событие, на определенное
лицо и т. д. В этом плане искусство подобно чисто комму-
никативным знакам; существенное различие заключается,
однако, в том, что коммуникативное отношение между
художественным произведением и обозначаемой им вещью
не имеет экзистенционального значения даже в том случае,
когда оно нечто утверждает и обосновывает. Нельзя фор-
мулировать как постулат требование документальной аутен-
тичности сюжета произведения, коль скоро мы его оцени-
ваем как художественное творение. Это не означает, что
модификации отношения к обозначаемой вещи безразличны
для художественного произведения: они функционируют
как факторы его структуры. Для понимания структуры
данного произведения очень важно знать, воспринимает ли
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
оно свой сюжет как «реальный» (порой даже — докумен-
тальный), или как «фиктивный», или же колеблется между
двумя этими полюсами. Можно было бы даже найти про-
изведения, основанные на параллелизме и взаимном урав-
новешивании двоякого отношения к реальности: одного без
экзистенциональной ценности и другого чисто коммуника-
тивного. Таковы, например, живописные или скульптурные
портреты, которые являются одновременно сообщением,
коммуникацией об изображаемом лице и художественным
произведением, лишенным экзистенциональной ценности;
в художественной литературе исторический роман и роман-
биография носят такой же двоякий характер. Модификации
отношения к реальности играют, таким образом, важную
роль в структуре всякого искусства, имеющего дело с сю-
жетом, но при теоретическом изучении этих видов искусства
никогда нельзя упускать из виду истинную сущность сю-
жета, заключающуюся в том, что он представляет собой
смысловое единство, а отнюдь не пассивную копию реаль-
ности даже в том случае, когда речь идет о «реалистическом»
или «натуралистическом» произведении. В заключение мы
хотели бы отметить, что изучение структуры художествен-
ного произведения неизбежно останется неполным, пока не
будет достаточно освещен семиологический характер искус-
ства. Без семиологической ориентации теоретик искусства
будет постоянно испытывать склонность рассматривать ху-
дожественное произведение как чисто формальную конст-
рукцию или даже как прямое отражение психических, а
иногда и физиологических склонностей автора или иной
реальности, выражаемой произведением, например идеоло-
гической, экономической, социальной или культурной си-
туации данной среды. Это приведет теоретика искусства к
тому, что он или будет говорить о развитии искусства как
о цепи формальных изменений, или целиком отвергнет
такое развитие (как это имеет место в некоторых направ-
лениях психологической эстетики), или, наконец, воспримет
его как пассивный комментарий развития, являющегося
внешним по отношению к искусству. Только семиологиче-
ская точка зрения позволяет теоретикам признать автоном-
ное существование и неотъемлемый динамизм художествен-
ной структуры, понять развитие искусства как имманентное
движение, которое, однако, Находится в постоянном диа-
лектическом отношении к развитию остальных областей
культуры.
1ОА
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
♦ ♦ ♦
Наш краткий набросок геммологического изучения ис-
кусства имел целью: 1. частично проиллюстрировать оп-
ределенную сторону дихотомии между естественными и
гуманитарными науками, которой занимается одна из сек-
ций этого конгресса; 2. подчеркнуть значение геммологи-
ческих вопросов для эстетики и для истории искусства. —
Да будет нам разрешено в заключение нашего доклада
резюмировать главные наши мысли в форме следующих
тезисов:
А. Проблема знака, наряду с проблемами структуры и
ценности, относится к числу самых существенных проблем
гуманитарных наук, имеющих дело с материалами, нося-
щими более или менее четко выраженный знаковый харак-
тер. Поэтому результаты исследования лингвистической се-
мантики должны быть применены к материалу этих наук —
особенно тех из них, чей геммологический характер наи-
более явственен, — и сами эти науки необходимо диффе-
ренцировать соответственно специфическому характеру их
материала.
Б. Художественное произведение представляет собою
знак. Его нельзя отождествить ни с индивидуальным со-
стоянием сознания его автора или какого-либо из субъ-
ектов, воспринимающих это произведение, ни с тем, что
мы называли «произведением-вещью». Оно существует как
«эстетический объект», местонахождением которого явля-
ется общественное сознание в целом. Чувственное произ-
ведение-вещь по отношению к этому нематериальному
объекту является лишь внешним символом; индивидуаль-
ные состояния сознания, вызывающие к жизни произве-
дение-вещь, представляют эстетический объект только в
том, что является общим для всех индивидуальных со-
знаний.
В. Каждое художественное произведение есть автоном-
ный знак, состоящий: 1. из «произведения-вещи», функци-
онирующего как чувственный символ; 2. из «эстетического
объекта», пребывающего в коллективном сознании и фун-
кционирующего как значение; 3. из отношения к обозна-
чаемой вещи, которое направлено не на конкретный объект,
поскольку речь идет об автономном знаке, а на общий
контекст социальных феноменов (наука, философия, рели-
гия, политика, экономика и т. д.) данной среды.
197
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Г. «Сюжетные» (тематические, содержательные) виды ис-
кусства имеют еще иную семиологическую функцию — фун-
кцию коммуникативную, сообщающую. Чувственный сим-
вол здесь остается, естественно, тот же, что и в предыдущих
случаях; значение также предопределено всем эстетическим
объектом, но среди компонентов этого объекта оно имеет пре-
имущественного носителя, функционирующего в качестве
кристаллизирующего стержня рассеянной коммуникативной
силы остальных элементов; эту роль выполняет сюжет про-
изведения. Отношение к обозначаемой вещи, как у всякого
коммуникативного знака, направлено на конкретный объект
(событие, лицо, вещь и т. д.). Следовательно, этим своим ка-
чеством художественное произведение похоже на чисто ком-
муникативный знак. Но отношение между художественным
произведением и обозначаемой вещью не имеет экзистенци-
альной ценности, что существенным образом отличает его от
чисто коммуникативных знаков. Сюжету художественного
произведения нельзя предъявлять требование документаль-
ной аутентичности, коль скоро мы оцениваем это произве-
дение как художественное творение. Это не значит, что мо-
дификации отношения к обозначаемой вещи (т. е. разные
ступени шкалы «реальность-фикция») не имеет значения для
художественного произведения: они функционируют как
факторы его структуры.
Д. Обе семиологические функции — коммуникативная
и автономная, совместно существующие в сюжетных видах
искусства, образуют одну из кардинальных диалектических
антиномий развития этих видов искусства; их двойственная
полярность проявляется в процессе развития посредством
постоянных колебаний, сказывающихся в отношении к ре-
альности.
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ
И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ
В ИСКУССТВЕ1
В сравнении со всеми иными человеческими творениями
художественное произведение кажется прямо образцом
преднамеренного творчества. Разумеется, и практическое
1 по
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
творчество преднамеренно, но при нем человек обращает
внимание лишь на те свойства изготовляемого предмета,
которые должны служить задуманной цели, игнорируя все
остальные его свойства, безразличные с точки зрения по-
ставленной цели. Особенно заметным это стало с той поры,
когда наступила резкая дифференциация функций: еще,
например, в народных орудиях труда, возникших в среде,
где функции были недифференцированы, мы замечаем вни-
мание и к «нецелесообразным» свойствам (орнаментальные
украшения с символической и эстетической функцией и
т. д.) — в современной машине или даже орудии труда
осуществляется последовательный выбор свойств, важных с
точки зрения данной цели. Тем резче выступает сейчас
различие между практическим и художественным творче-
ством, некогда (в народном творчестве — там, где таковое
существует, — и поныне) недостаточно явственное. Дело в
том, что в художественном произведении вне нашего вни-
мания не остается ни одно из свойств предмета, ни одна
из формирующих его деталей. Свое предназначение — быть
эстетическим знаком — художественное произведение осу-
ществляет как нераздельное целое. Здесь несомненно на-
ходится источник и причина того впечатления абсолютной
преднамеренности, которое производит на нас художествен-
ное произведение.
Но несмотря на это или, может быть, даже именно
благодаря этому, более внимательному наблюдателю —
еще со времен античности — бросалось в глаза, что в
художественном произведении как целом и в искусстве
вообще многое выходит за рамки преднамеренности, в
отдельных случаях преступает границы замысла. Объяс-
нение этих непреднамеренных моментов пытались найти
в художнике, в психических процессах, сопровождающих
творчество, в участии подсознания при возникновении
произведения. Явственно свидетельствует об этом извест-
ное изречение Платона, вложенное им в «Федре» в уста
Сократа: «Третий вид одержимости и неистовства — от
Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, про-
буждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в
песнопениях и других видах творчества и, украшая не-
счетное множество деяний предков, воспитывает потомков.
Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к
порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному
лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
от совершенства: творения здравомыслящих затмятся тво-
рениями неистовых»*. «Искусства», т. е. сознательной
преднамеренности, недостаточно; необходимо «неистовст-
во», участие подсознательного; более того, одно оно и
придает произведению совершенство.
Хотя средневековье, видевшее в художнике лишь под-
ражателя, копирующего красоту божественного творения
(Glunz Н. Н. Die Literarasthetik des europaischen
Mittelalters. Bochum; Langendreer, 1937, S. 216**), и про-
изводителя, подобного ремесленнику (Maritain J. Art et
scolastique. 1927, p.34***), не имело доступа к проблеме
сознательного и подсознательного в искусстве, уже в пе-
риод ренессанса мы находим упоминания об этой пробле-
ме. Так, например, в «Размышлениях о живописи» Лео-
нардо да Винчи мы читаем: «Когда произведение стоит
наравне с суждением, то это печальный знак для такого
суждения; а когда произведение превосходит суждение,
то это еще хуже, как это случается с теми, кто удив-
ляется, что сделал так хорошо...»****. Участие подсозна-
ния, а следовательно, и непреднамеренности в художест-
венном творчестве здесь, правда, осуждается, ибо ренес-
сансное искусство и его теория стремятся к
рационализации творческого процесса и искусство конку-
♦ Платон. Соч.: В 3-х т. М.: Мысль, 1970, т. 2, с. 180. Пер. А. Н.
Егунова.
*♦ «Лишь Бог есть истинный творец, творящий таким образом, что из
ничего возникает нечто. Природа в этом смысле не творит, а только
обнаруживает и развивает то, что в зародыше уже было сотворено, придает
сотворенному формы различных явлений. Человек не способен даже на
это. Он только соединяет и разъединяет то, что обнаружил готовым под
рукой, перегруппировывает всего лишь отдельные части и думает, что,
создавая таким способом новые комбинации, творит по крайней мере так
же, как природа. Но его искусство — это лишь подражание природе,
искусство неистинное, фальшивое и фальсифицирующее, подражающее
и обезьянничающее, это ars dulterina. Характерно, что средневековая эти-
мология производит название ремесленного искусства, единственного, к
которому способен человек, ars mechanica, от moechus (прелюбодей). Эта
ars moecha своей приземленностью фальсифицирует и оскверняет истинное
художественное произведение, творение Бога и природы».
«В могучей социальной структуре средневековой цивилизации ху-
дожник занимал всего лишь положение ремесленника и какое-либо анар-
хическое развитие его индивидуализма было под запретом, поскольку
естественная социальная дисциплина диктовала ему извне определенные
ограничивающие условия».
♦♦♦♦ Леонардо да Винчи. Избранное. М.: ГИХЛ, 1952, с. 68—69. Пер.
В. П. Зубова.
200
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
рирует с научным познанием*; именно поэтому важно,
что даже при господстве подобной тенденции появляется
указание на подсознательное в художественном творчестве.
Подсознание как фактор художественного творчества
занимает видное место в теории искусства, особенно с
начала XIX века. На нем основана вся теория о гении:
«Человек гениальный может действовать обдуманно, по
зрелому размышлению, по убеждению, но все это проис-
ходит лишь так, между прочим. Никакое произведение
гения не может быть усовершенствовано путем размыш-
ления и вытекающих из него следствий...» — говорит
Гете в письме Шиллеру (цит. по Вальцелю: «Grenzen der
Poesie und Unpoesie». Frankfurt am Main, 1937, S. 26**),
то же самое утверждает и Шиллер: «Бессознательное,
соединенное с разумом, создает поэта» (цит. по Вальцелю:
L.c., S. 23). С тех пор интерес к подсознательному в
художественном творчестве не исчезал. Научная психоло-
гия все отчетливее сознает роль подсознательного в ду-
ховной жизни вообще, его активность («Подсознание —
аккумулятор энергии: оно накопляет, чтобы сознание мог-
ло тратить» — Рибо2, цит. по: Dwelshauverse. L’inconscient.
Paris, 1925); по образу и подобию художественного твор-
чества устанавливается участие подсознательного в твор-
честве научном, техническом и т. д. (Рибо, Полан); воз-
никают специальные исследования, посвященные участию
подсознания в самом художественном творчестве (Behaghel.
Bewusstes und Unbewusstes im dichterischen Schaffen.
* Cp.: NohlH. Die asthetische Wirklichkeit. Frankfurt am Main, 1935, S.
26: «Ренессансная эстетика, собственно, целиком обращена к прекрасному
в природе, стремится открыть его тайну, и искусство для нее только орудие
для понимания и усовершенствования формообразующих предпосылок,
данных природой. Лишь учитывая это, мы поймем сокровеннейший смысл
ренессансного искусства; это искусство хочет понять мир и довершить его
создание в соответствии с его собственной закономерностью». S. 30: «Общий
смысл деятельности этих художников мы сможем уловить только в том
случае, если будем воспринимать ее в связи с современными ей естест-
веннонаучными представлениями; только осознав, что искусство было пред-
шественником новой науки, мы поймем непосредственный смысл этой
деятельности». S. 29: «Ренессансное искусство сопровождалось массой трак-
татов, целью которых было рациональное обоснование художественной
практики. Кто приступает к чтению этих трактатов, ожидая найти в них
прекрасные чувства и переживания, будет поражен их сухостью, серьез-
ностью и математической конкретностью».
♦♦ Гете И, В. Собр. соч.: В 13-ти т. М.: ГИХЛ, 1949, т. XIII, с. 261.
Пер. М. Вахтеровой.
201
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Leipzig, 1907), точно так же как исследуется участие
подсознания в духовной жизни вообще, особенно в струк-
туре личности (Жане3 и другие). Глубинная же психология
детально изучает подсознательные процессы в значитель-
ной мере опять-таки под углом зрения искусства; иници-
ативная активность подсознательного является для нее
принципиальной предпосылкой.
Проблема сознательного — подсознательного в искусстве
обладает, таким образом, не только старой традицией, но
и неисчерпаемой жизненностью. Этому способствует то об-
стоятельство, что проблема подсознательного имеет акту-
альное значение и для самой художественной практики:
представители искусства вынуждены вновь и вновь зада-
ваться вопросом, в какой мере они могут полагаться в своем
творчестве на подсознание. Суть дела не меняется от того,
что для различных направлений и при различных обстоя-
тельствах ответ звучит по-разному: чаша весов склоняется
то в пользу сознательного творчества (По. «Философия
творчества»*), то в пользу подсознания (ср. выше приве-
денные высказывания Гете и Шиллера).
Все, кто, начиная со времен античности, ставил вопрос
о роли подсознательного в художественном творчестве, при
этом, очевидно, часто имели в виду не только психологи-
ческий процесс творчества, но в немалой степени и непред-
намеренность, проявляющуюся в самом творении, — ср.,
например, приведенное выше высказывание Платона. Но и
то и другое — подсознательное в творчестве и непредна-
меренность в творении — казалось им тождественным.
Только современная психология пришла к выводу, что
и подсознательное обладает преднамеренностью, подготовив
тем самым предпосылки для отделения проблемы предна-
меренного — непреднамеренного от проблемы сознательно-
го — подсознательного. К подобным же результатам, впро-
чем, приходит — независимо от психологии — и современ-
ная теория искусства, которая показала, что может даже
существовать подсознательная норма, т. е. преднамерен-
ность, сконцентрированная в правиле. Мы имеем в виду
некоторые современные исследования в области метрики,
образцовым примером которых может служить работа Я.
Рипки4 «La metrique du Mutaqarib epique persan» (Travaux
* ПоЭ.А. Философия творчества. — В кн.: Эстетика американского
романтизма. М.: Искусство, 1977, с. ПО—121.
202
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
du Cercle linguistique de Prague, 1936, VI, p. 190 sq.). В этом
труде автор путем статистического анализа древнеперсид-
ского стиха с абсолютной объективностью показал, что па-
раллельно метрической основе, подчиняющейся сознатель-
ным правилам, здесь проявлялась тенденция к равномер-
ному распределению ударений и границ между словами, о
котором сами поэты не подозревали и которая вплоть до
открытия Рипки была совершенно незаметна и многим со-
временным европейским исследователям, являясь тем не
менее, как говорит автор, активным эстетическим фактором.
Дело в том, что несовпадения между метрической основой,
чрезвычайно систематичной, и внутренней тенденцией к
регулярному расположению ударений и границ между сло-
вами обеспечивали ритмическую дифференциацию стиха,
который, будь он основан исключительно на метрике, стал
бы ритмически однообразным.
О необходимости разделения вопроса о преднамеренно-
сти — непреднамеренности и психологического вопроса о
сознательном — подсознательном в художественном твор-
честве свидетельствует далее то обстоятельство, что непред-
намеренность может принять участие в создании художе-
ственного произведения и вообще без какого-либо участия
художника, сознательного или подсознательного. Так, на-
пример, сейчас, когда в творчестве скульпторов столь часты
нарочито незавершенные произведения, едва ли может воз-
никнуть спор о том, что, глядя на поврежденные античные
статуи, мы спонтанно воспринимаем эти повреждения как
элемент их эстетического воздействия: стоя перед Венерой
Милосской, мы не дополняем очертаний этой статуи шлемом
и рукой с плодом граната, как предлагает одна реконст-
рукция, или щитом, покоящимся на бедре, — по другой
реконструкции (см. о них: Springer. Handbuch der
Kunstgeschichte, I, S. 413), и вообще можно даже сказать,
что какое-либо восполнение современного состояния статуи
нарушило бы наше впечатление; тем не менее совершенные
объемные очертания скульптуры, как мы видим ее, — в
последние годы они были подчеркнуты в музее с помощью
вращающегося постамента — в значительной мере являются
результатом вмешательства внешней случайности, на ко-
торую художник не мог иметь ни малейшего влияния.
И, несмотря на то, что психология сделала очень много
для решения вопроса о сознательных и подсознательных
элементах творчества, необходимо поставить проблему пред-
203
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
намеренности и непреднамеренности в художественном
творчестве заново и вне зависимости от психологии. Подо-
бную попытку и представляет собой наша работа. Но если
мы хотим радикально освободиться от психологической точ-
ки зрения, мы должны отталкиваться не от производителя
деятельности, а от самой деятельности или еще лучше от
творений» возникших в результате ее.
Начнем с преднамеренности, временно оставив в стороне
ее противоположность — непреднамеренность, и поставим
вопрос, каким образом преднамеренность проявляется в де-
ятельности или в творении. В практических видах деятель-
ности, которые представляют собой самую нормальную фор-
му действия, преднамеренность проявляется прежде всего
в тенденции к определенной цели, которая должна быть
достигнута в результате деятельности, а также в том, что
деятельность исходит от определенного субъекта. Если речь
идет о творении, возникшем в результате деятельности, то
ее целенаправленность проявляется в определенной орга-
низации этого творения, и об участии субъекта при воз-
никновении предмета мы будем судить по организации этого
предмета. Только в том случае, когда нам известны обе
эти крайние точки, деятельность (или ее результат) обретает
в наших глазах удовлетворительную характеристику; точно
так же и оценка деятельности (или ее продукта) произво-
дится относительно двух этих точек. Разумеется, естест-
венно, что в одном случае нас будет интересовать больше
цель (вопрос: была ли деятельность достаточно целесооб-
разной применительно к данной цели?), в другом, наоборот,
субъект (вопрос: была ли цель, избранная индивидом, дей-
ствительно желательной и в каком отношении она находится
к способностям индивида?). Но все это ничего не меняет
в том принципиальном факте, что центром внимания яв-
ляется не сама деятельность (или ее продукт), а исходная
и конечная точка, т. е. две инстанции вне самой деятель-
ности (тем более вне ее продукта).
Иначе обстоит дело в художественном творчестве. Тво-
рения художника не преследуют никакой внешней цели, а
сами суть цель; это положение остается в силе и в том
случае, если мы примем во внимание, что художественное
произведение вторично, под влиянием своих эстетических
функций, всегда, однако, подчиненных эстетической фун-
кции, может приобретать отношение к различнейшим внеш-
ним целям, — ведь ни одна из этих вторичных целей не
ОЛЛ
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
достаточна для полной и однозначной характеристики на-
правленности произведения, пока мы рассматриваем его
именно как художественное творение. Отношение к субъ-
екту в искусстве также иное, менее определенное, по срав-
нению с практическими видами деятельности; в то время
как там субъектом, от которого все зависит, является ис-
ключительно и безапелляционно производитель деятельно-
сти или продукта (если мы вообще ставим вопрос об «ав-
торстве»), здесь основной субъект не производитель, а тот,
к кому художественное творение обращено, т. е. восприни-
мающий; и сам художник, коль скоро он относится к своему
творению как к творению художественному (а не как к
предмету производства), видит его и судит о нем как вос-
принимающий. Однако воспринимающий — это не какое-
нибудь определенное лицо, конкретный индивид, а кто угод-
но. Все это вытекает из того, что художественное произ-
ведение не «вещь», а знак, служащий для посредничества
между индивидами, причем знак автономный, без одно-
значного отношения к действительности; поэтому тем от-
четливее выступает его посредническая роль*. Таким об-
разом, и применительно к субъекту направленность худо-
жественного произведения не может быть охарактеризована
однозначно**.
* Ср. наши тезисы «L’artcomme fait semiologique» (наст. изд. с. 190—198)
и тезисы нашего доклада на конгрессе в Копенгагене.
♦♦ Утверждение, что художественное произведение не может быть одно-
значно охарактеризовано в отношении к своему субъекту, на первый взгляд,
может показаться парадоксальным, если мы вспомним, что существуют
целые эстетические направления — Кроче и его приверженцы, — которые
считают художественное произведение однозначным выражением личности
автора. Нельзя, однако, обобщать ощущение, характерное для определенной
эпохи и определенного отношения к искусству. Для средневековья, как
достаточно хорошо известно, автор произведения был неважен; о том, как
только в период Ренессанса рождалось ощущение авторства, сохранилось
убедительное свидетельство у Дж. Вазари в жизнеописании Микеланджело.
Вазари рассказывает о возникновении «Пьеты» Микеланджело и добавляет
к своему рассказу: «В это творение Микеланджело вложил столько любви
и трудов, что только на нем (чего он в других своих работах больше не
делал) написал он свое имя вдоль пояса, стягивающего грудь Богоматери;
вышло же это так, что однажды Микеланджело, подойдя к тому месту,
где помещена работа, увидел там большое число приезжих из Ломбардии,
весьма ее восхвалявших, и когда один из них обратился к другому с
вопросом, кто это сделал, тот ответил: «Наш миланец Гоббо». Микеланджело
молчал, но ему показалось по меньшей мере странным, что его труды
приписываются другому. Однажды ночью он заперся там со светильником,
прихватив с собой резцы, и вырезал на скульптуре свое имя» {Вазари
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Следовательно, обе крайние точки, которых в практи-
ческой деятельности достаточно для характеристики наме-
рения, породившего деятельность или ее продукт, отступают
в искусстве на второй план. На первый же план выступает
сама преднамеренность. Что же, однако, представляет пред-
Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и
зодчих. Пер. А. И. Венедиктова и А. Г. Габричевского, под ред.
А. Г. Габричевского. М.: Искусство, 1971, т. 5, с. 223). Анекдот показывает,
что еще у ренессансного художника, гордого своей работой,
непосредственным мотивом к открытому присвоению произведения было
не чувство нерасторжимого единства с ним, а ревность — только когда
произведение было приписано другому, автор решается подписать его.
Впрочем, такое же отношение, такое же безразличие к автору, как в
средние века, многим позднее мы находим в среде фольклорного искусства:
«Бели простой крестьянин видит храм, который ему импонирует, а в
храме картину, которой он восхищается, и если он слышит в исполнении
музыкантов и хора мессу, звуки которой ласкают его слух, вряд ли он
спрашивает имя архитектора, художника, композитора, он хвалит то, что,
как ему кажется, заслуживает похвалы, и в лучшем случае захочет узнать,
на чьи деньги храм был построен, кто даровал образ на алтарь, кто играет
и поет на клиросе. Точно так же он относится и к собственным песням.
Допустим, он сам слышал импровизацию и знает импровизатора,
запомнились ему и слова и напев песни, и он поет ее, быть может
способствуя ее распространению; но сама песня его и слушателей
интересует больше, чем ее автор, так что для обозначения ее скорее служит
место и край, откуда , она пришла, или какой-нибудь иной случайный и
внешний признак,z чем какое-либо собственное имя» {Hostinsky О. Ceska
svetska pfsen lidova, Praha, 1906, s. 23.) Эта цитата говорит весьма ясно:
деревенского жителя интересует не личность автора, а произведение; если
же он и обращает внимание на какое-нибудь лицо, то скорее всего не на
автора, а на кого-нибудь из воспринимающих — на того, кто заказал
постройку храма, кто даровал картину, кто играет и поет; еще более
явственно характеризует этот интерес, обращенный к воспринимающему,
или же к воспринимающему, занимающемуся репродуцированием, Фр.
Бартош5: «Народ знал лишь хороших певцов и ценил их, о поэтах он не
спрашивал. Чем больше новых песен знал какой-нибудь певец, тем больше
его уважали, но где он эти новые песни брал — этим никто не
интересовался, думали, что исполнитель слышал их от кого-то точно так
же, как они сами сейчас впервые слышат их от исполнителя» (Цит. по:
Melnikova-Papouskova N. Putovanf za lidovym umenfm. Praha, 1941, s. 169).
Совпадение средневекового отношения к автору произведения с народным
отношением наглядно свидетельствует, таким образом, о том, что тесное
соединение произведения с его автором — дело лишь известной эпохи, а
отнюдь не общераспространенное и принципиальное явление. Кроме того,
и это еще более важно, — «смысл» произведения, как мы еще увидим,
зависит далеко не от одного только автора, но в значительной мере и от
воспринимающего; те, кто на основании произведения хотят однозначно
судить о художнике, о его психическом типе, переживаниях и т. д., всегда,
как известно, находятся в опасности, что припишут художнику свою
собственную, свойственную воспринимающему интерпретацию
произведения.
206
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
намеренность «сама по себе», если она не определяется
отношением к цели и автору? Мы упомянули уже, что
художественное произведение — автономный художествен-
ный знак без однозначного предметного отношения; в ка-
честве автономного знака художественное произведение не
вступает отдельными своими частями в обязательное отно-
шение к действительности, которую оно изображает (о ко-
торой сообщает) с помощью темы, но лишь как целое может
вызвать в сознании воспринимающего отношение к любому
его переживанию или комплексу переживаний (художест-
венное произведение и «означает» жизненный опыт восп-
ринимающего, душевный мир воспринимающего). Это нуж-
но подчеркнуть в особенности как отличие от коммуника-
тивных знаков (например, языкового высказывания), где
каждая часть, каждая мельчайшая смысловая единица мо-
жет быть подтверждена фактом действительности, на ко-
торую она указывает (ср., например, научное доказатель-
ство). Поэтому в художественном произведении весьма важ-
но смысловое единство, и преднамеренность — это та сила,
которая соединяет воедино отдельные части и придает смысл
произведению. Как только воспринимающий начинает под-
ходить к определенному предмету с расположением духа,
обычным для восприятия художественного произведения, в
нем тотчас возникает стремление найти в строении произ-
ведения следы такой его организации, которая позволила
бы воспринять произведение как смысловое целое. Единство
художественного произведения, источник которого теорети-
ки искусства столько раз искали то в личности художника,
то в переживании как неповторимом контакте личности
автора с реальностью, единство, которое формалистически-
ми направлениями безуспешно толковалось как полная гар-
мония всех частей и элементов произведения (гармония,
какой на самом деле никогда не существует), в действи-
тельности может усматриваться лишь в преднамеренности,
силе, функционирующей внутри произведения и стремя-
щейся к преодолению противоречий и напряженности между
отдельными его частями и элементами, придавая тем самым
единый смысл их комплексу и ставя каждый элемент в
определенное отношение к остальным. Таким образом, пред-
намеренность представляет собою в искусстве семантиче-
скую энергию. Нужно, впрочем, заметить, что характер
силы, способствующей смысловому единству, присущ пред-
намеренности и в практических видах деятельности, однако
207
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
там он затенен направленностью на цель, а иногда отно-
шением к продуценту. Но как только мы начинаем рас-
сматривать какую-либо практическую деятельность или
предмет, возникший в ее результате, как художественный
факт, необходимость смыслового единства сразу же высту-
пит совершенно явственно (например, если предметом са-
моцельного восприятия по аналогии с танцевальным или
мимическим искусством станут рабочие движения или если
машина — как это неоднократно случалось — будет по
аналогии с ваянием рассматриваться нами в качестве про-
изведения изобразительного искусства).
И здесь мы снова сталкиваемся с вопросом о том, на-
сколько важен в искусстве воспринимающий субъект: пред-
намеренность как семантический факт доступна только та-
кому взгляду, чье отношение к произведению не затемнено
никакой практической целью. Автор, будучи создателем
произведения, неизбежно относится к нему и чисто прак-
тически. Его цель — завершение произведения, и на пути
к этому он встречается с трудностями технического харак-
тера, иногда в прямом смысле слова — с трудностями
ремесла, не имеющими ничего общего с собственно худо-
жественной преднамеренностью. Хорошо известно, что сами
представители искусства, оценивая произведения своих кол-
лег, подчас придают немалую роль умению, с каким в этих
произведениях были преодолены технические трудности, —
точка зрения, как правило совершенно чуждая тому, кто
воспринимает произведение чисто эстетически. Далее ху-
дожник может в своей работе руководствоваться и личными
мотивами практического характера (материальная заинте-
ресованность), выступающими, например, у ренессансных
художников совершенно открыто, — см. многочисленные
свидетельства такого рода у Вазари; и эти критерии засло-
няют самоцельную «чистую» преднамеренность. Правда, и
во время работы художник постоянно должен иметь в виду
художественное произведение как автономный знак, и прак-
тическая точка зрения неустанно и совершенно неразличимо
сливается с его отношением к художественному произведе-
нию как к продукту чистой преднамеренности. Но это ничего
не меняет в сути дела: важно то, что в моменты, когда он
смотрит на свое творение с точки зрения чистой предна-
меренности, стремясь (сознательно или подсознательно) со-
хранить в его организации следы этой преднамеренности,
он ведет себя как воспринимающий, и только с позиции
208
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
воспринимающего тенденция к смысловому единству про-
является во всей своей силе и незамутненной явственности.
Отнюдь не позиция автора, а позиция воспринимающего
является для понимания собственно художественного на-
значения произведения основной, «немаркированной»; по-
зиция художника — сколь парадоксальным ни кажется
такое утверждение — представляется (разумеется, с точки
зрения преднамеренности) вторичной, «маркированной».
Впрочем, применительно к произведению такое соотноше-
ние между художником и воспринимающим вовсе не лишено
подтверждений в жизненной практике, и опять-таки нужно
только (как мы уже подчеркнули в одном из подстрочных
примечаний) преодолеть в себе современный, связанный
исключительно с конкретной эпохой взгляд на вещи, ко-
торый мы ошибочно считаем общепринятым всегда и по-
всеместно. Коща, например, Вазари (в биографии Пьетро
Перуджино) стремится уяснить, почему «во Флоренции,
более чем где-либо, люди достигают совершенства во всех
искусствах и особенно в живописи», преимущественное вни-
мание он уделяет не самим художникам, как поступили
бы сейчас мы, а тому, что «там многие порицают многое,
ибо сам дух Флоренции таков, что в нем таланты рождаются
свободными по своей природе и никто, как правило, не
удовлетворяется посредственными творениями, но всегда
ценит «их ради добра и красоты больше, чем ради их
творца»*.
Соотношение между позицией воспринимающего и по-
зицией автора нельзя охарактеризовать и таким образом,
что одна из этих позиций активна, а другая пассивна.
И воспринимающий активен по отношению к произведе-
нию: осознание смыслового единства, происходящее при
восприятии, разумеется, в большей или меньшей мере
предопределено внутренней организацией произведения, но
оно не сводится к впечатлению, а носит характер усилия,
в результате которого устанавливаются отношения между
отдельными элементами воспринимаемого произведения.
Это даже усилие творческое в том смысле, что вследствие
установления между элементами и частями произведения
сложных и притом образующих некое единство отношений
возникает значение, не содержащееся ни в одном из них
* Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих. М.: Искусство, 1963, т. II, с. 616.
209
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
в отдельности и даже не вытекающее из простого их
сочетания. Итог объединяющего усилия, разумеется, в из-
вестной, а порой и в немалой степени предопределен в
процессе создания произведения, но он всегда зависит
частично и от воспринимающего, который (не важно —
сознательно или подсознательно) решает, какой из эле-
ментов произведения принять за основу' смыслового объ-
единения и какое направление дать взаимным отношениям
всех элементов. Инициатива воспринимающего, обычно
лишь в незначительной мере индивидуальная, а по боль-
шей части обусловленная такими общественными факто-
рами, как эпоха, поколение, социальная среда и т. д.,
перед разными воспринимающими (или скорее разными
группами воспринимающих) открывает возможность вкла-
дывать в одно и то же произведение различную предна-
меренность, иногда весьма отличающуюся от той, какую
вкладывал в произведение и к какой приспособлял его
сам автор: в понимании воспринимающего может не только
настать замена доминанты и перегруппировка элементов,
первоначально бывших носителями преднамеренности, но
носителями преднамеренности могут стать такие элементы,
которые первоначально были вне всякой преднамеренно-
сти. Так происходит, например, в том случае, когда на
читателя старого поэтического произведения отмершие, но
некогда общепринятые способы языкового выражения про-
изводят впечатление архаизмов, обладающих действенной
поэтической силой.
Активное участие воспринимающего в создании предна-
меренности придает ей динамический характер: как равно-
действующая от пересечения намерений зрителя с внутрен-
ней организацией произведения преднамеренность подвижна
и колеблется даже в период разового восприятия одного и
того же воспринимающего — при каждом новом восприятии;
известно, что чем живее воздействует произведение на вос-
принимающего, тем больше разных возможностей воспри-
ятия оно ему предлагает.
Но активное участие воспринимающего в формировании
преднамеренности в искусстве, может проявиться и совер-
шенно наглядно; это случается, когда воспринимающий вме-
шивается непосредственно в создание произведения. По-
добные случаи даже весьма часты. Сюда относится уже
само то обстоятельство, что в процессе творчества художник
имеет в виду публику. Иногда влияние публики сводится
210
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
к негативной преграде*, иногда же оно имеет позитивный
характер; косвенным проявлением активности зрителя при
формировании преднамеренности в искусстве служит соб-
ственно и тот случай, когда художник своим произведением
вступает в конфликт с господствующим вкусом. К числу
воспринимающих принадлежит и критик, а его роль в ху-
дожественном творчестве вполне очевидна**. Известны так-
же примеры, когда художник ради пробы еще до опубли-
кования произведения знакомит с ним лиц, которых считает
представителями своей публики (анекдот о служанке Моль-
ера). При этом, разумеется, вовсе не обязательно, чтобы
художник имел в виду ту публику, которая будет воспри-
нимать его произведение в момент опубликования, — с
этой публикой он порой находится в конфликте, обращаясь,
в противовес ей, к грядущей публике (или даже к публике,
вообще не существующей), ср. пример Стендаля («меня
будут читать около 1880 года»); но и такое представление
о публике сказывается в намерениях художника. Однако к
числу воспринимающих относится не только публика — к
ним, например, принадлежит и заказчик, а мы знаем, как
сильно и всесторонне влияли, в частности, заказчики эпохи
Ренессанса на творения, возникшие по их инициативе. Осо-
бый случай представляет народное искусство, где граница
между воспринимающим и автором часто совершенно не-
различима: так, например, в народной песне творение, как
только оно встретило коллективное одобрение, сразу же
переживает бесконечный ряд превращений; те же, кто при-
частен к этим превращениям, являются уже не авторами
в том смысле, в каком это слово принято употреблять в
высоком искусстве, а в гораздо большей степени восприни-
мающими.
Следовательно, преднамеренность в искусстве может
♦ «При всем уважении к себе художник должен считаться и с некото-
рыми предрассудками своей публики» (романист о себе; цит. по кн.:
Schucking. Soziologie der literarischen Geschmacksbildung, гл. IV. — «Лите-
ратура и публика»).
** «В заключительной части статьи «Актер и критик» («Dramaturgic»,
s. 154) сам Гилар7 признается, что испытывал прямо физиологическую
потребность одобрения: «Таковы все мы — люди театра. Нам нужно верить
и от нас нужно требовать. Тогда мы готовы на сверхчеловеческие свер-
шения. Слово недоверия и сомнения нас расстраивает и обрекает на
провал. Слово доверия окрыляет и вдохновляет. Вот с какой огромной
властью и ответственностью связано слово критика» (цит. по кн.: Rutte
М. К.Н.Hilar. Clovek a d'lo, 1936, s. 94.).
211
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
быть постигнута во всей своей полноте, только если мы
взглянем на нее с точки зрения воспринимающего. Мы не
хотим, разумеется, чтобы из этого утверждения делался
ошибочный вывод, будто мы считаем инициативу воспри-
нимающего (в буквальном смысле слова) принципиально
более важной, чем инициатива автора, или хотя бы рав-
ноценной ей. Обозначением «воспринимающий» мы харак-
теризуем известное отношение к произведению, позицию,
на которой находится и автор, пока он воспринимает свое
произведение как знак," т. е. именно как художественное
произведение, а не только как изделие. Очевидно, было бы
неправильным характеризовать активное авторское отноше-
ние к произведению как принципиально второстепенное
(хотя, конечно, в практике, как это видно на примере
народного искусства, возможен и такой случай); но необ-
ходимо было наглядно показать водораздел, отделяющий в
искусстве преднамеренность от психологии художника, от
его частной душевной жизни. А это возможно лишь тогда,
когда мы явственно осознаем, что наиболее часто воспри-
нимает художественное произведение как знак именно вос-
принимающий.
Благодаря освобождению от прямой и односторонней
связи с воспринимающим преднамеренность была депсихо-
логизирована: ее приближение к воспринимающему не де-
лает из нее психологического факта, поскольку восприни-
мающий — это не определенный индивид, а любой человек;
то, что воспринимающий вносит при восприятии в воспри-
нимаемое произведение (позитивная «психология» воспри-
нимающего), различно у разных воспринимающих и, таким
образом, остается вне произведения как объекта. Но в ре-
зультате депсихологизации преднамеренности радикально
меняется и характер проблемы, которой наше исследование
посвящено в первую очередь, т. е. проблемы непреднаме-
ренности в искусстве, а также открывается новый путь к
ее решению. Обо всем этом будет сказано в последующих
абзацах.
Прежде всего перед нами возникает вопрос, есть ли в
произведении, с точки зрения воспринимающего, вообще
нечто такое, что заслуживало бы название непреднамерен-
ности. Если воспринимающий неизбежно стремится вос-
принимать все произведения как знак, т. е. как образование,
возникшее из единого намерения и черпающее в нем един-
ство своего смысла, то может ли перед воспринимающим
212
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
раскрыться в произведении нечто такое, что было бы вне
этого намерения? И мы действительно встречаемся в теории
искусства со взглядами, пытающимися совершенно исклю-
чить из искусства непреднамеренность.
Понимание художественного произведения как чисто
преднамеренного было, что вполне естественно, особенно
близко направлениям, основывающимся на точке зрения
воспринимающего, в том числе направлениям формалисти-
ческим. В кругу формалистического понимания искусства
на протяжении примерно последнего полустолетия посте-
пенно сформировались два понятия, сводящие художествен-
ное произведение к чистой преднамеренности: это понятия
«стилизация» и «деформация». Первое из них, возникшее
в сфере изобразительного искусства, хочет видеть в искус-
стве исключительно преодоление, поглощение действитель-
ности единством формы. В теоретических , программах оно
было популярно особенно в тот период, котда постимпрес-
сионистические направления в живописи обновляли вкус к
формальному объединению изображаемых предметов и кар-
тины в целом и когда в поэтическом искусстве символизм
подобным же образом реагировал на натурализм; но понятие
стилизации проникло и в зарождавшуюся тогда научную
объективную эстетику, так, например, у нас им пользуется
О. Зих. Другое понятие — «деформация» — стало господ-
ствующим вслед за понятием «стилизация» опять-таки в
связи с развитием самого искусства, когда с целью акцен-
тирования формы стал насильственно нарушаться и ломать-
ся формообразующий канон, чтобы вследствие напряжения
между преодолеваемым и новым способом формообразова-
ния возникло ощущение динамичности формы8.
Если мы взглянем сейчас на оба эти понятия, т. е. на
понятия «стилизация» и «деформация», ретроспективно, то
поймем, что в обоих случаях речь шла в сущности о по-
пытках завуалировать неизбежное присутствие того впечат-
ления, которым художественное произведение воздействует
на нас: понятие «стилизация» хотя и молчаливо, но дейст-
венно отодвигает непреднамеренность за пределы самого
художественного произведения — в сферу его антецедентов,
в реальность изображенного предмета или в реальность
материала, использованного при работе над произведением,
и эта «реальность» в процессе творчества преодолевается,
«поглощается»; а понятие «деформация» стремится свести
непреднамеренность к спору между двумя преднамеренно-
го
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стями — преодолеваемой и актуальной. Сейчас с уверен-
ностью можно сказать, что, несмотря на свою плодотвор-
ность для решения известных проблем, эти попытки окон-
чились неудачей, ибо преднамеренность неизбежно вызы-
вает у воспринимающего впечатление артефакта, т. е.
прямой противоположности непосредственной, «естествен-
ной» действительности, между тем как живое, не ставшее
для воспринимающего автоматизированным произведение
наряду с впечатлением преднамеренности (или, скорее: не-
отделимо от него и одновременно с ним) вызывает и не-
посредственное впечатление действительности, или, ско-
рее, — как бы впечатление от действительности.
Эту неотъемлемую присущую художественному воспри-
ятию полярность преднамеренности и непреднамеренности
лучше всего объяснят нам примеры, когда в восприятии
преобладает одна или другая из этих сторон. Воспользуемся
для этого свидетельствами двух воспринимающих, из ко-
торых один воспринимает художественное произведение
преимущественно как знак, а другой взволнован им пре-
имущественно как непосредственной действительностью.
Эти свидетельства мы извлекли из сочинения Р. Мюллера-
Фрейенфельса9 «Psychologie der Kunst» (Leipzig; Berlin,
1912, s. 169 ff.)*.
О своем отношении к художественному произведению
рассказывают два театрала — случай особенно подходящий
для доказательства существования непреднамеренных эле-
ментов в восприятии и для их характеристики, ибо театр —
* Речь идет о высказываниях двух не названных по имени театральных
критиков. Автор сочинения использует их для иной цели, чем мы. Ему
важно установить три типа воспринимающих в соответствии со способом,
которым в восприятии проявляется участие зрительского «я». В результате
он выделяет следующие три типа: Extatiker, Mitspieler, Zuschauer (Экстатик,
Соучастник, Наблюдатель) {нем,}. Свидетельства, которые мы цитируем
в тексте, относятся к типам, названным Zuschauer и Mitspieler. Если бы
нам пришлось сопоставить свое понимание полярности между преднаме-
ренностью и непреднамеренностью в этой типологией Мюллера-Фрейен-
фельса, мы бы сказали, что тип «экстатика» представляет собой лишь
разновидность типа с преобладающим вниманием к знаковости художест-
венного произведения и, следовательно, является близким родственником
типа Zuschauer. Экстатик, как его изображает Мюллер-Фрейенфельс, це-
ликом «внутри» воспринимаемого творения и видит действительность, на-
сколько это возможно, лишь через его призму; даже в том случае, когда
перед ним сама действительность, он воспринимает ее под углом зрения,
определяемым этим художественным произведением (ср. цитату из Ж.
Санд, приведенную Мюллером-Фрейенфельсом).
214
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
один из тех видов искусства, которые наиболее прямо об-
ращаются к способности зрителя переживать художествен-
ное творение как непосредственную действительность. Зри-
тель, который, несмотря на это, и театр понимает как
искусство преимущественно преднамеренное, говорит у
Мюллер-Фрейенфельса: «Я сижу перед сценой как перед
картиной. Каждую минуту я сознаю, что действие, которое
я воспринимаю, не есть действительность; я не забываю ни
на мгновение, что сижу в театре. Разумеется, на какие-то
минуты я, вживаюсь в чувства и страсти изображаемых
персонажей, но это лишь материал для моего собственного
эстетического чувства. И чувство это никогда не бывает
заключено в изображаемых страстях, а остается над ними.
При этом мое суждение постоянно пребывает насторожен-
ным и ясным. Я почти никогда не даю себя захватить
действием, а если это все же порой происходит, мне это
не нравится. Люди, которые дают захватить себя любви
или страху, мне несимпатичны. Искусство начинается там,
где забываешь о «что» и остается лишь интерес к «как».» —
Совершенно противоположным образом понимает театр дру-
гой свидетель. Это дама, которая говорит так: «Я совсем
забываю, что нахожусь в театре. Мое собственное место в
обществе перестает для меня существовать. В своей душе
я ощущаю чувства действующих лиц. То неистовствую
вместе с Отелло, то трепещу вместе с Дездемоной. Иногда
мне хочется вмешаться и спасти кого-нибудь. Причем, ув-
леченная действием, я так быстро перехожу от настроения
к настроению, что не способна на зрелые размышления.
Сильнее всего я это испытываю, когда смотрю, современные
пьесы, но вспоминаю, что на представлении «Короля Лира»
я только к концу последнего действия поняла, что в страхе
крепко держусь за приятельницу».
Мюллер-Фрейенфельс считает такой способ восприятия
совершенно примитивным. В известной мере он прав, если
речь идет о столь ярко выраженном случае. Однако не
вызывает сомнения, что и в восприятии, сосредоточенном
на художественной преднамеренности, есть элементы такого
непосредственного переживания. Явственно говорит об этом
и первый из процитированных свидетелей, поскольку он
допускает, что «на какие-то минуты вживается в чувства
и страсти изображаемых персонажей» и .что даже иногда
против собственной сознательной воли «дает захватить себя
действием».
215
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Этот «захватывающий» интерес, непосредственная увле-
ченность, делающие произведение прямой составной частью
жизни зрителя (известны примеры, когда зритель настолько
увлечен, что реагирует физической акцией, — Дон-Кихот
в кукольном театре), находятся вне преднамеренности —
художественное произведение перестает быть для зрителей
автономным знаком, основанным на объединяющем замыс-
ле, перестает даже вообще быть знаком и становится «не-
преднамеренной» действительностью.
Рассмотрим более пристально эту непреднамеренность в
искусстве. Но чтобы не оставалось ничего неясного, вернемся
к основам и начнем хотя бы с беглого взгляда на то, как
непреднамеренность выглядит с точки зрения автора про-
изведения.
Выше мы уже показали, что, с авторской точки зрения,
подсознательное в способе творчества и в его результатах
вовсе не обязательно должно быть непреднамеренным. Это
относится и к другим видам авторской непреднамеренности.
Наряду с подсознательной непреднамеренностью суще-
ствует еще непреднамеренность бессознательная, происхо-
дящая от нарушений нормального течения психических про-
цессов во время творчества. Речь идет о душевной ненор-
мальности автора, временной (разного рода-опьянение) или
постоянной, как факторе творческого метода. На первый
взгляд может показаться, что такая непреднамеренность
для воспринимающего совершенно однозначна, но это было
бы ошибкой. Из истории искусства нового времени доста-
точно хорошо известно, что непривычные художественные
творения иногда рассматривались как проявления душевной
ненормальности, причем преднамеренность, с субъективной
точки зрения автора часто совершенно сознательная, ин-
терпретировалась как непреднамеренность. И наоборот, про-
изведения, порожденные совершенно бессознательной не-
преднамеренностью, могут восприниматься как преднаме-
ренные. К бессознательной непреднамеренности позво-
лительно причислить и неумение, проявляющееся в незна-
нии общепринятых технических принципов или недоста-
точном владении материалом. Например, свидетельством
такого неумения в живописи является несоблюдение прин-
ципов перспективы (отсутствие единой главной точки и т.
д.), в поэтическом искусстве — неточное соблюдение метра
и т. д.; неумением вследствие недостаточного владения ма-
териалом будет, например, несовершенное знание языка,
216
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
на котором пишет поэт. «Неумение», разумеется, понятие
весьма относительное: то, что, с точки зрения позднейшей
эпохи, представляется неумелым, современникам могло да-
же казаться техническим прогрессом. Весьма неопределенна
также непреднамеренность неумелости: чрезвычайно трудно
различить, какие из следов «неумения», проявившегося в
произведении, представляют собой результат действитель-
ной неумелости, а какие преднамеренны (излюбленный спо-
соб критической полемики против новых, непривычных на-
правлений, намеренно нарушающих принятый канон, —
обвинить их в том, что они делают это от неумения). Но
и действительное неумение может выглядеть как составная
часть замысла (примитивизм Руссо, недостаточное знание
языка у писателя-иностранца или писателя, воспитывавше-
гося на чужбине). Таким образом, и относительно бессоз-
нательной непреднамеренности, точно так же как относи-
тельно непреднамеренности подсознательной, нельзя сде-
лать общеобязательных и определенных выводов.
Следующий вид непреднамеренности, затрагивающий
процесс творчества, — это совпадение случайных внешних
моментов. Воздействие этих обстоятельств может более всего
проявиться там, где творческий процесс осуществляется при
участии материальных средств, — в театре, в различных
видах изобразительного искусства и т. п. Но и такого рода
непреднамеренность может, судя по обстоятельствам, воз-
действовать то как составная часть замысла (воспринима-
ющий узнает о ней в таком случае лишь из прямых при-
знаний самого художника), то как его нарушение.
Остается, наконец, непреднамеренность, которую мы мо-
жем назвать безличной, т. е. такие случайные вмешатель-
ства, которые изменяют облик уже завершенного произве-
дения. Выразительным примером такого рода непреднаме-
ренности является повреждение статуи, делающее из нее
торс. Выше мы уже показали, что повреждение может стать
неотъемлемым элементом впечатления, которое это произ-
ведение будет затем вызывать, и тем самым может превра-
титься в преднамеренность. И здесь, следовательно, нет
четкого критерия для разграничения преднамеренности и
непреднамеренности.
Итак, есть много путей, которыми в произведение могут
проникать элементы, независимые от сознательных наме-
рений художника. Разнообразие этих путей можно было
бы еще более обогатить, если бы мы ввели категорию
217
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
«полусознательного». Дело в том, что при сложности ду-
ховных процессов нередки случаи, когда поэт сознательно
руководствуется определенным общим намерением, но де-
тали его воплощения возникают подсознательно. Так, на-
пример, в поэтическом искусстве едва ли можно предпола-
гать, чтобы радикальное стремление к эвфонии было со
стороны поэта бессознательным, но отдельные сочетания
звуков — а вместе с тем, разумеется, и соответствующих
слов и значении — могут быть следствием подсознательных
ассоциаций.
Говоря об авторе произведения, нужно считаться с тем,
что, помимо спонтанной непреднамеренности, у него может
иметь место намеренная непреднамеренность, т. е. такие
приёмы, которые на зрителя должны воздействовать как
нарушения смыслового единства, но которые автором про-
изведения были внесены с этой целью сознательно. Тем
самым непреднамеренность, по сути дела, становится фор-
мообразующим средством. Примером могут служить наро-
чито ,незавершенные произведения в ваянии. Все перечис-
ленные нами виды и разновидности авторской непреднаме-
ренности и еще ряд других, обнаружение которых
потребовало бы более детального анализа, имеют важное
значение при изучении генезиса произведения и при ис-
следовании связи между произведением и автором. Но для
установления отношения между преднамеренностью и не-
преднамеренностью в самом искусстве они не дают никакой
прочной опоры: все, что, с точки зрения происхождения
произведения, является действительно непреднамеренным,
в самом произведении может выступать как преднамерен-
ное, й наоборот, то, что в произведении функционирует
как непреднамеренное, могло быть намеренно в него при-
внесено; к тому же еще и определить, что в произведении
является генетически преднамеренным, а что непреднаме-
ренным, порой, если отсутствуют прямые свидетельства,
бывает крайне трудно, а то и невозможно. Таким образом,
и здесь не остается ничего иного, кроме как встать на точку
зрения воспринимающего или, точнее, взглянуть на произ-
ведение со стороны воспринимающего.
Выше мы уже показали, что в каждом акте восприятия
присутствуют два момента: один дан направленностью на
то, что в произведении имеет знаковый характер, другой,
напротив, направлен на непосредственное переживание про-
изведения как факта действительности. Мы уже сказали
218
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
выше, что преднамеренность, с точки зрения воспринима-
ющего, предстает как тенденция к смысловому объединению
произведения — лишь произведение со смысловым единст-
вом представляется знаком. Все, что сопротивляется в про-
изведении этому объединению, все, что нарушает смысловое
единство, ощущается воспринимающим как непреднамерен-
ное. В процессе восприятия — как мы уже показали —
воспринимающий непрестанно колеблется между ощущени-
ем преднамеренности и непреднамеренности, иными слова-
ми, произведение представляется ему знаком (причем зна-
ком самоцельным, без однозначного отношения к действи-
тельности) и вещью одновременно. Если мы говорим, что
оно является вещью, то хотим этим дать понять, что про-
изведение под влиянием всего содержащегося в нем непред-
намеренного, в смысловом отношении необъединенного,
сходно в восприятии зрителя с фактом природы, т. е. таким
фактом, который своим строением не отвечает на вопрос
«для чего?», а оставляет решение о своем функциональном
использовании на волю человека. Именно в этом обстоя-
тельстве источник силы и непосредственности воздействия
на человека. Разумеется, человек, как правило, оставляет
факты природы без внимания, если они не затрагивают его
чувства своей загадочностью и если он не предполагает
использовать их практически. Но художественное произве-
дение пробуждает к себе внимание как раз тем, что оно
является одновременно и вещью и знаком10. Внутреннее
единство, данное преднамеренностью, вызывает определен-
ное отношение у предмета и создает прочный стержень,
вокруг которого могут группироваться ассоциативные пред-
ставления и чувства. С другой же стороны, как вещь без
смысловой направленности (такую вещь произведение пред-
ставляет собой под влиянием присущей ему непреднаме-
ренности) оно приобретает способность привлекать к себе
разнообразнейшие представления и чувства, которые могут
не иметь ничего общего с его собственным смысловым на-
полнением; так произведение оказывается способным уста-
новить интимную связь с глубоко личными переживаниями,
представлениями и чувствами любого воспринимающего, не
только воздействуя на его сознательную духовную жизнь,
но и приводя в движение силы, управляющие его подсоз-
нанием. С этого момента всякое личное отношение восп-
ринимающего к действительности — действенное или ме-
дитативное — будет под этим влиянием в большей или
219
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
меньшей степени изменено. Следовательно, художественное
произведение так сильно воздействует на человека не по-
тому, что — как гласит общепринятая формула — оно
представляет собой отпечаток личности автора, его пере-
живаний и т. д., а потому, что оно оказывает влияние на
личность воспринимающего, на его переживания и т. д.
И все это, как мы только что установили, происходит бла-
годаря тому, что в произведении заключен и ощутим эле-
мент непреднамеренности. Целиком и полностью предна-
меренное произведение, как всякий знак, было бы неиз-
бежно res nullis*, было бы всеобщим достоянием, лишенным
способности воздействовать на воспринимающего в том, что
свойственно лишь ему одному.
Кто-нибудь, разумеется, может возразить, что сущест-
вуют художественные произведения и даже целые периоды
развития, когда подчеркивалась исключительно и только
преднамеренность, и все же произведения, созданные в эти
периоды, часто надолго переживали своих авторов. Ну что
ж, наверное, редко когда искусство столь же упорно стре-
милось к преднамеренности, как в эпоху французского клас-
сицизма, поэтика которого — устами Буало — выдвигала
требование преднамеренности в форме действительно мак-
сималистской: «Нужно, чтобы (в поэтическом произведении)
все было на своем месте, чтобы начало и конец соответст-
вовали середине, чтобы отдельные части, подчиняясь утон-
ченному искусству, сочетались в едином целом, составлен-
ном из разных частей, чтобы сюжет никогда не отклонялся
от последовательности и не отыскивал слишком поодаль
блистательное словцо». А среди поэтов классицизма Расин —
один из тех, кто наиболее последовательно осуществил свой-
ственный этому движению принцип смыслового единства
творения: он неукоснительно выполняет требование един-
ства места, времени и действия, в качестве сюжета своих
трагедий выбирает кульминационный момент развития оп-
ределенной страсти, точно и всесторонне мотивирует пере-
петии действия. И все же его трагедии, если смотреть на
них глазами современников, содержат элементы, которые
выходят за рамки и разбивают круг последовательно осу-
ществленной преднамеренности, а потому не могут быть
названы иначе как непреднамеренными. Современники Ра-
сина, ощущавшие именно его творчество как совершенно
♦ нулевая вещь (лат.).
220
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
живое, настолько сильно осознавали эту преднамеренность,
что даже осуждали ее как изъян: «Кино11 их удовлетворял,
а Расин производил на них впечатление чего-то грубого.
Его Пирр, которого мы находим кокетливым, галантным и
учтивым, шокировал их своей неучтивостью, так что Расин
принужден был написать следующее разъяснение: «Сын
Ахилла не читал наших романов, и, конечно, эти герои не
были селадонами». Современники Расина находили даже
его Нерона слишком злым: он не был достаточно любезен
с Юнией. Расин вел войну, чтобы добиться права поступать
не так, как Кино, и изображать страсть во всей ее чистоте,
в тех ее кризисах, когда, прорываясь сквозь тонкую лаки-
ровку нашей цивилизации, она обнаруживается в своей
естественной грубости. Ее проявления казались слишком
резкими и оскорбляли галантный оптимизм салонов. Сент-
Эвремон , очень умный человек, находил Британика слиш-
ком мрачным — и действительно, эта пьеса не производит
успокоительного впечатления». (Lanson. Histoire de la
litterature fran^aise, 1910—1911, p. 543)*. Так пишет историк
литературы о воздействии пьес Расина на современников;
их критические высказывания, которые он цитирует, и
самозащита Расина свидетельствуют о том, что в ощущении
современников не соответствовало намерению, лежавшему
в основе этих произведений. То, что современники ощущали
этот непреднамеренный элемент как нарушение гармонии,
естественно, и, как мы еще увидим на других примерах,
при встрече с новым, живым искусством такое восприятие
представляет собой правило. Здесь же для нас важен тот
факт, что даже столь неуклонно преднамеренное художе-
ственное направление, как французский классицизм, не в
силах было устранить непреднамеренность в качестве ак-
тивного элемента художественного воздействия.
Другой пример дает нам живопись итальянского Ренес-
санса. В истории искусства мало случаев, когда преднаме-
ренность и даже сознательная преднамеренность столь же
решительно руководила бы всеми усилиями художников:
живопись кватроченто упорно стремится верно воссоздать
природу, и более всего — вызвать иллюзию пространст-
венности и объемности: борьба за перспективу и стремление
* Лансон Гюстав. История французской лйтературы/Пер. со 2-го
франц., пересмотр, и исправл. автором изд. М.; Товарищество типографии
А. И. Мамонтова, 1896, с. 685.
221
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
воссоздать анатомическое строение человеческого тела де-
лают тогдашнее искусство прямым предшественником и
передовым бойцом науки (NohL Die asthetische Wirklichkeit.
Frankfurt a.M., 1935). И все же одного из самых отважных
борцов за эти идеалы, первооткрывателя перспективной
потолочной росписи Андреа Мантенью (ср. Muther.
Geschichte der Malerei 1922, I, S. 165) его собственный
учитель Скарчионе упрекает в том, что он «подражал ан-
тичным мраморам, на которых нельзя в . совершенстве на-
учиться живописи, так как камни всегда сохраняют свой-
ственную им твердость и никогда не имеют мягкой нежности
тел и живых предметов, которые гнутся и совершают разные
движения». Вазари, который сообщает нам об этом в био-
графии Мантеньи, добавляет, что после этих упреков Ман-
тенья «принялся за изображение живых людей и ... в этом
преуспел», но тем не менее сам делает замечание о том,
что в живописных произведениях Мантеньи «видна несколь-
ко режущая манера, подчас напоминающая скорее камень,
чем живое тело»*.
Даже новейший историк живописи пишет о Мантенье,
что он, «кажется, точно с поверхности земли содрал верхний
слой. Всюду одни только эрратические глыбы... В особен-
ности любит он изображать виноград, с лозами и листьями,
который, однако, выходит у него таким же жестким и
неправдоподобным, как те имитации, которые делаются
теперь: ягоды из стекла и листья из жести. Деревья, тре-
бующие большей стилизации, кажется точно одетыми в
тяжелые железные брони. Их стальные листья, очевидно,
не шелохнутся и от бури, а их зубчатые иглистые сучья
торчат в воздухе, точно копья. Травы и цветы, растущие
на каменистой почве, такие же жесткие и кристаллические,
как окаменелые растения. Можно подумать, что они сделаны
из цинка и обрызганы купоросом и свинцовыми белилами
или только что вымазаны зеленой бронзой, отливающей
белыми стальными рефлексами»**. Картина напоминает то
скульптуру, то материалы, которые в ней даже не присут-
ствуют и не изображены: сталь, бронзу и т. д. Совершенно
очевидно, что картина выходит за границы своего знакового
воздействия и становится не знаком, а чем-то иным: от-
* Вазари Джорджо. Жизнеописания... Т. 2, с. 569.
** Мутер Р. История живописи/Пер. с нем. под ред. К. Бальмонта. Спб.;
Изд. Т-ва «Знание», 1901, I, с. 100—101. _
222
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
дельные ее части напоминают о фактах действительности,
не относящихся к смысловой области произведения, и тем
самым она обретает характер особой, призрачной вещест-
венности.
Таким образом, преднамеренность не мешает восприни-
мающему ощутить в произведении нечто выходящее за
рамки намерения, воспринимать знак одновременно как
вещь, наряду с «эстетическими» чувствами (т. е. связанными
со знаком), испытывать перед произведением и непосред-
ственные чувства, возникающие из столкновения с незна-
ковой реальностью.
Теперь, когда мы осознали, что непреднамеренность —
это явление не временное, характерное только для некото-
рых (упадочных) художественных направлений, а неотъем-
лемо присущее всякому искусству, нужно поставить вопрос,
каким образом непреднамеренность — если мы смотрим на
нее с точки зрения воспринимающего — проявляется в
художественном произведении. Хотя уже в предшествующих
абзацах мы вынуждены были кое-что сказать по этому
поводу, тема эта нуждается теперь в более систематическом
анализе.
Вернемся еще на мгновение к преднамеренности. Мы
сказали, что здесь речь идет о смысловом объединении.
Добавим для большей очевидности, что смысловое объеди-
нение это насквозь динамично; следовательно, говоря о нем,
мы не имеем в виду общее статистическое значение, которое
в эстетике традиционно называется «идеей произведения».
Мы, разумеется, не отрицаем, что некоторые художествен-
ные направления или некоторые периоды развития могут
создавать произведение так, чтобы его смысловое построение
ощущалось как иллюстрация какого-то общего принципа.
В последний раз искусство пережило такой период сразу
после войны. Я имею в виду экспрессионизм. Так, например,
театры тогда обошло несколько произведений, в которых
сцена уже была не «физическим пространством действия,
а прежде всего пространством идеи. Лестницы, подмостки
и ступени... имеют свой источник не в пространственном
чувстве, а вырастают, скорее, из потребности идеального
членения, из склонности к символической иерархии персо-
нажей... Движение и ритм становятся не только основными
средствами идейной композиции, но и основой новой ре-
жиссуры и нового актерского искусства», — говорит критик.
В это время пишутся романы-видения, в сущности пред-
223
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ставляющие собой тезисы в форме романа, и персонажи их
имеют в значительной степени аллегорический характер.
Но все это было лили» кратковременным течением, и ставить
проблему «идеи» применительно к иным формам искусства,
чем эта и ей подобные, можно лили» с известной натяжкой.
Зато вневременное значение в качестве принципа смысло-
вого объединения приобретает обобщающее семантическое
устремление, составляющее неотъемлемое свойство искус-
ства и действующее всегда, в каждом художественном про-
изведении. Мы назвали его (в исследовании «Генетика смыс-
ла в поэзии Махи» и в трактате «О поэтическом языке» —
«Главы из чешской поэтики», т. I) «семантическим жес-
том» . Это семантическое устремление является динами-
ческим по двум причинам: с одной стороны, оно создает
единство противоречий, «антиномий», на которых основано
смысловое построение произведения, с другой — оно обла-
дает протяженностью во времени, ибо восприятие всякого
произведения, в том числе и произведения изобразительного
искусства, есть акт, который, как это вполне убедительно
доказали и экспериментальные исследования, имеет вре-
менную протяженность. Другое различие между «идеей про-
изведения» и семантическим жестом заключается в том,
что идея носит явственно содержательный характер, обла-
дает определенным смысловым качеством, тогда как по
отношению к семантическому жесту различие между со-
держанием и формой не имеет существенного значения: в
процессе своего существования семантический жест напол-
няется конкретным содержанием, хотя нельзя сказать, что
это содержание вторгается извне, — оно рождается в круге
досягаемости и сфере семантического жеста, который его
тотчас при рождении и формирует. Семантический жест,
таким образом, может быть охарактеризован как конкрет-
ное, но качественно отнюдь не предопределенное семанти-
ческое устремление. Поэтому, прослеживая его в конкрет-
ном произведении, мы не можем его просто высказать,
обозначить присущим ему смысловым качеством (как это
обычно делает критика, говоря — с легким оттенком не-
произвольного комизма — о том, что, собственно, содер-
жанием произведения является, например, «крик рождения
и смерти»); мы можем только указать, каким способом под
его влиянием группируются отдельные смысловые элементы
произведения, начиная с наиболее внешней «формы» и кон-
чая целыми тематическими комплексами (абзацы, акты в
224
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
драме и т. п.). Но за семантический жест, который в про-
изведении ощутит воспринимающий, ответственны не толь-
ко поэт и внутренняя организация, внесенная им в произ-
ведение: значительная доля принадлежит здесь и воспри-
нимающему. Более детальным разбором, например
новейших анализов и критических оценок старых произве-
дений, было бы нетрудно показать, что воспринимающий
часто существенно изменяет семантический жест произве-
дения по сравнению с первоначальным намерением поэта.
В этом заключается активность зрителя, и в этом заклю-
чается также преднамеренность, увиденная его глазами,
т. е. с позиции воспринимающего.
Итак, воспринимающий вносит в художественное про-
изведение известную преднамеренность, которая хотя и
обусловливается преднамеренным построенным произведе-
ния (иначе не было бы внешнего повода, чтобы относиться
к предмету, который он воспринимает, как к эстетическому
знаку) и в значительной мере находится под влиянием
качества этого построения, но, несмотря на это, как мы
только что видели, обладает самостоятельностью и собст-
венной инициативой. С помощью этой преднамеренности
воспринимающий объединяет произведение в смысловое
единство. Все элементы произведения стараются привлечь
к себе его внимание — объединяющий смысловой жест, с
которым он приступает к восприятию произведения, про-
являет стремление включить их всех в свое единство. То
обстоятельство, что, с точки зрения автора, некоторые эле-
менты могли находиться вне преднамеренности, как уже
было показано, ни в коей мере не накладывает каких-либо
обязательств на воспринимающего (который не обязан даже
знать, как сам автор смотрит на свое произведение). Ра-
зумеется, вполне естественно, что процесс объединения не
проходит гладко: между отдельными элементами и еще
скорее между отдельными смысловыми значениями, носи-
телями которых эти элементы являются, могут выявиться
противоречия. Но и эти противоречия уравновешиваются в
преднамеренности именно потому, что — как мы заметили
выше — преднамеренность, семантический жест, представ-
ляет собой не статический, а динамический объединяющий
принцип. Таким образом, перед нами вновь возникает воп-
рос, не представляется ли воспринимающему все в произ-
ведении преднамеренным?
Ответ на этот вопрос, если нам удастся его найти, при-
8—88'8 225
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ведет нас к самому ядру непреднамеренности в искусстве.
Мы только что сказали, что преднамеренность способна
преодолеть противоречия между отдельными элементами,
так что и смысловая несогласованность может представ-
ляться преднамеренной. Допустим, например, что опреде-
ленный элемент стихотворения, например лексика, будет
производить на воспринимающего впечатление «низкой» или
даже вульгарной, тогда как тема будет восприниматься с
иным смысловым акцентом, например как лирически взвол-
нованная. Вполне возможно, что читатель сумеет найти
смысловую равнодействующую двух этих взаимно проти-
воречащих элементов (намеренно приглушенный лиризм),
но возможно также иное: например, его понимание лиризма
будет очень строгим, и равнодействующая не появится. Что
произойдет в первом и во втором случае? В первом случае,
когда воспринимающий сумеет объединить взаимно проти-
воречащие элементы в синтезе, противоречие между ними
предстанет как внутреннее противоречие (одно из внутрен-
них противоречий) данной поэтической структуры; во вто-
ром случае противоречие останется вне структуры, вуль-
гарная лексика будет расходиться не только с лирически
окрашенной темой, но и со всем построением стихотворения:
один элемент будет противопоставлен всем остальным как
целому. Этот элемент, противостоящий всем остальным,
воспринимающий станет ощущать как факт внехудожест-
венный, и ощущения, которые будут вызваны противоре-
чием этого элемента с остальными, также окажутся «вне-
художественными», т. е. связанными с произведением не
как со знаком, а как с вещью. Возможно и даже весьма
правдоподобно, что эти ощущения отнюдь не будут приятны.
Но это в данный момент неважно. Несомненно, что элемент,
который поставит себя против всех остальных, будет ощу-
щаться в данном произведении как элемент непреднаме-
ренности. Пример, который мы здесь обрисовали, не вы-
думан: мы имели в виду поэзию Неруды, особенно раннего,
о которой Ф. К. Шальда в известном эссе «Аллея грез и
размышлений, ведущая к могиле Яна Неруды» («Boje о
zitrek». 1915, s. 67) писал: «У Неруды есть строфы и строки,
которые находились в момент своего возникновения на са-
мом острие между смелым и смешным и в первую минуту
неуверенно трепыхались на бумажных весах между тем и
другим. Сейчас от нас ускользает ощущение и смысл этого,
сейчас мы с трудом ощущаем даже их дерзость: они одер-
226
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
жали победу, прижились, стали всеобщим достоянием, и в
результате мы перестали ощущать всю силу их непосред-
ственности и можем ее представить себе лишь умозритель-
но... Так, были когда-то недалеки от смешного следующие
две строфы из двух ранних стихотворений Неруды, в ко-
торых сконцентрирована типичная трагика молодой и гордой
души, томящейся в стенах пустой, ленивой, эпохи и зады-
хающейся от полноты собственной, никому не нужной и
не использованной внутренней жизни, две строфы, которые
многие из нас в свое время скандировали если не губами,
то по крайней мере сердцем:
Z uzli^ku boty couhaji
a majf podesvy silne, *
vzdyt’jsem si na ne kuzi dal
z sve pychy neuchylne.
V chladne trave, v palnych snech svych
zas se povyvil'm,
mysle, jak as rok zas Sitf
mam£ prozah&fm.
Из узелка торчат сапоги,
и подошвы у них толстые,
ведь я дал на них кожу
своей непреклонной гордости.
В холодной траве, в палящих грезах своих
вновь вываляюсь,
думая, как, вероятно, опять год жизни
понапрасну растрачу.
В словах Шальды блестяще выражено колебание между
преднамеренностью и непреднамеренностью, которое про-
является в необычном и еще не стершемся произведении:
стихи Неруды «находились в момент своего возникновения
на самом острие между смелым и смешным и в первую
минуту неуверенно трепыхались между тем и другим».
«Смело» — это ощущение преднамеренного противоречия,
проецируемого внутрь структуры, смешное имеет сврй ис-
точник в непреднамеренности: противоречие ощущается вне
структуры, как непроизвольное. Если общее отношение вос-
принимающего к произведению руководствуется стремле-
нием понять его как совершенное смысловое единство, вы-
текающее из единого замысла, это еще, следовательно, не
значит, что произведение целиком и полностью поддается
этому усилию: всегда может оказаться, что какой-нибудь
8*
227
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
элемент произведения вопреки всем усилиям воспринима-
ющего окажет им такое радикальное противодействие, что
останется целиком вне смыслового единства, образуемого
остальными элементами.
Непреднамеренность, пока она интенсивно ощущается
воспринимающим, всегда кажется глубокой трещиной, раз-
дваивающей впечатление от произведения. Весьма нагляд-
но свидетельствует об этом критическое суждение Томи-
чека14 о «Мае» Махи: «Поэт, разукрасившись пестрыми
цветами, бросился в погасший вулкан, или лучше сказать,
поэма его — лава, извергнутая из угасшего вулкана и
разлившаяся среди цветов. Цветы могут вам нравиться,
они и нравятся, но никак не нравится холодный мертвый
метеор, который был исторгнут из разодранных недр. В
нем мы не находим ничего прекрасного, оживляющего,
ничего поэтического в строгом смысле этого слова». Ме-
теор, извергнутый из вулкана, — и прекрасные цветы;
поэма и нечто противоположное поэтичности — так фор-
мулирует критик свое впечатление от того, что в произ-
ведении Махи действовало на него с опасной непосредст-
венностью, как жизненный факт, как вопрос, обращенный
к человеку, без посредства эстетической знаковости. Не-
сколько иначе выражает это противоречие в своей кри-
тической оценке Хмеленский: если Томичек относит не-
преднамеренность к рефлективной стороне поэмы Махи,
то Хмеленский видит ее в тематической стороне произ-
ведения; но ощущение раздвоенности впечатления от по-
эмы, ощущение ее радикальной расщепленности остается:
«Май» — по крайней мере меня — слишком оскорбляет,
ибо от повешенного и ангела, столь непоэтично павшего,
я с омерзением отвращаю взор. Хотя пан Маха и рассадил
вокруг прекрасные цветы, развесил красивые картины в
золоченых рамах, все-таки аромат его цветов и блеск его
картин не заслоняет зловоние и худобу болтающегося на
веревке разбойника, не укроют от нашего взора отврати-
тельное колесо пытки и виселицу, пусть даже в глубине
сцены появится сам поэт» (оба критических суждения
цит. по кн.: Wybrane spisy К. Sabiny. 1912, II, s. 88 an.).
Следовательно, и Хмеленский ощущает в «Мае» противо-
речие между художественно преднамеренными элементами
и тем, что производит нехудожественное, непосредственное
впечатление. «Зловоние и худоба болтающегося на веревке
разбойника», «отвратительное колесо пытки и висели-
228
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
цы» — для него не просто предметы поэтического рекви-
зита, а наглядная и мучительная действительность.
Разумеется, всякой непреднамеренности суждено со вре-
менем перейти внутрь художественного построения, начать
восприниматься как его составная часть, стать преднаме-
ренностью. Случай с Нерудой демонстрирует это достаточно
ясно, и Шальда прямо указывает, что «сейчас от нас ус-
кользает ощущение и смысл этого...: стихи Неруды одержали
победу, прижились, стали всеобщим достоянием, и в ре-
зультате мы перестали ощущать всю силу их непосредст-
венности и можем ее представить себе лишь умозрительно».
Но если художественное произведение переживает эпоху
своего возникновения, если оно спустя некоторое время
вновь воздействует как живое, непреднамеренность позво-
ляет ощутить произведение как факт, обладающий всей
настоятельностью непосредственности. Чрезвычайно нагляд-
ный пример этого дает как раз произведение Махи. Но и
много позже эпохи своего автора «Май» вызывает оценку
столь полемическую, как будто речь идет о новом произ-
ведении. Я имею в виду статью Я. Кампера15 «К. Г. Маха»
из «literatury ceske XIX stol.» (dil III, cast prvm. Praha,
1905. s. 26 an.).
На Кампера, разумеется, не производит впечатление
непреднамеренности то, что в «Мае» Махи раздражало Хме-
левского: труп, эшафот и т. д., ибо позднейшая, послема-
ховская эпоха воспринимала все это уже лишь как предметы
романтического реквизита; не кажется ему непреднамерен-
ной и рефлективная сторона поэмы, ее вызывающий мета-
физический нигилизм, поскольку рефлексия со временем
вошла в поэтическое построение «Мая» и ее противопостав-
ленность изображению природы послемаховскими поколе-
ниями ощущалась уже лишь как действенный поэтический
контраст; зато выявляется новая непреднамеренность —
незавершенность, отрывочность темы, которую современни-
ки, жившие в актуальной атмосфере романтизма, не ощу-
щали как помеху. Кампер этой незавершенностью искренне
возмущен: «Все здесь (т. е. в «Мае») неясно, туманно, все
висит между небом и землей. Мы не знаем, имела ли
сидящая на берегу озера девушка, которой друг ее возлюб-
ленного Вилема приносит известие, что на следующий день
Вилем будет казнен за убийство ее соблазнителя, своего
отца, любовную связь с отцом Вилема или стала лишь
жертвой роковой ошибки, случайности или коварства. И нас
770
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
поражает, что Ярмила, кажется, не подозревает, что ее
возлюбленный убил соблазнителя, хотя уже «прошел двад-
цатый ныне день», как она с ним в последний раз встре-
тилась. Только из уст чужого человека, который к тому
же проклинает ее, она узнает о катастрофе. Не менее
загадочна и фигура Вилема...» Этим перечень несоответст-
вий, нарушающих в «Мае» смысловое единство темы, у
Кампера не оканчивается. Для нас же достаточно приве-
денного отрывка, чтобы стало ясно, что в «Мае» восемьдесят
лет спустя после его возникновения вновь ощущается не-
преднамеренность, но иначе и иная, чем та, которую ощу-
щали в нем современники Махи. Непреднамеренность снова
воспринимается как элемент, представляющий собой поме-
ху; и это, безусловно, означает лишь то, что непреднаме-
ренность воспринимается интенсивно. Случай этот интере-
сен потому, что мы можем проследить и за его дальнейшим
развитием, в процессе которого непреднамеренность, как
мы видели, вновь обретенная поэзией Махи, начинает пре-
вращаться в преднамеренность, все еще продолжая ощу-
щаться как действенный элемент, но уже в качестве со-
ставной части самой поэтической структуры. Примерно че-
рез двадцать лет после Кампера мы найдем у современного
поэта такое понимание тематического построения Махи
(фраза, которую мы будем цитировать, касается на этот
раз «Кршивоклада»16): «Не вызывает сомнений, что про-
цитированная сцена из «Кршивоклада» с той минуты, когда
он пробуждается после полудня, разбуженный конским то-
потом, и замечает Миладу, и до той минуты, когда он
восклицает: «Доброй ночи... полночь!» и простирает руки
к тюремной башне, производит поэтическое впечатление.
Мы знаем также, чем это впечатление вызвано. Недостатком
причинно обоснованной связи отдельных элементов, резкой
их концентрацией, неожиданной драматизацией и резкой
сменой... Действительно, вся процитированная сцена сильно
напоминает сон, все в ней искажено, как во сне. Только
прочтя весь «Кршивоклад», мы нечаянно найдем объяснение
этой сцены. Палач был возлюбленным и юной красавицы
Милады, в описанной сцене появлявшейся перед нами как
фантом, а его отец был внебрачным сыном последнего Прше-
мысловича, так что слова «О король, доброй ночи!» были
обращены, как мы догадываемся по прочтении «Кршиво-
клада», палачу Пршемысловичу, а не королю Вацлаву17.
Это объяснение ничего не изменяет в том характере сна,
230
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
который получила интересовавшая нас сцена» точно так
же, как ничто не изменяется в структуре сна, если нам
задним числом удается установить, из каких элементов
действительности он складывался». В этом высказывании
интересно, что в положительной оценке фигурирует тот же
«недостаток причинно обоснованной связи отдельных эле-
ментов», который у Махи так раздражал Кампера, подчер-
кнута здесь и непреднамеренность этого приема, но на сей
раз она интерпретируется как результат подсознательных
процессов в психике автора.
Приведенные выше приемы позволяют нам сделать вы-
вод, что непреднамеренность, если мы смотрим на нее с
позиции воспринимающего, проявляется как ощущение раз-
двоенности впечатления, вызываемого произведением, как
ощущение, объективной основой которого является невоз-
можность смыслового объединения определенного элемента
со структурой произведения в целом. Особенно явственно
видно это на примере из поэзии Неруды, как ее (с точки
зрения воспринимающего) интерпретирует Шальда; и у Ма-
хи в интерпретации современных ему критиков мы стал-
киваемся, в сущности, с явлением подобного же рода: из-
вестные тематические элементы казались современникам
несовместимыми с другими тематическими элементами; в
позднейшем понимании творчества Махи (Кампер и т. д.)
проявляется смысловая несовместимость между высказан-
ным и невысказанным значением*. Интерпретация Неруды,
* Двойственность высказанного и невысказанного значения представляет
собою общее свойство смыслового построения не только поэтического про**
доведения, но и всякого языкового высказывания. Разумеется, участие
невысказанного значения в смысловом построении высказывания может
быть разным (так, например, научный способ выражения, как правило,
стремится к тому, чтобы свести его до минимума, между тем как в
повседневном разговоре роль невысказанного значения, наоборот, велика;
иногда даже и вне поэтического искусства невысказанное значение ис-
пользуется намеренно, например в переговорах дипломатического харак-
тера и им подобных).
Таким образом, отношение между высказанным и невысказанным
значениями бывает весьма различным: иногда невысказанное значение
почти полностью включается в контекст высказанного, иногда оно удалено
от этого контекста или создает свой собственный контекст, развивающийся
самостоятельно параллельно контексту высказанного значения и соприка-
сающийся с ним лишь в некоторых точках, которые только и могут указать
внимательному слушателю на присутствие невысказанного контекста» не
информируя, однако, о характере его развития. Поэтическое искусство
может весьма широко использовать в своих целях соотношение между
высказанным и невысказанным значением (чрезвычайно последовательно
231
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
данная Шальдой, весьма наглядно показала, как непредна-
меренность стремится превратиться в преднамеренность, как
элемент, исключенный из структуры, стремится стать ее
составной частью. Два последовательных понимания не-
преднамеренности в творчестве Махи (собственно, ее воз-
обновление в новой форме) продемонстрировали, что не-
преднамеренность, если смотреть на нее глазами восприни-
мающего, ни в коей мере не укоренена в произведении
однозначно и неизменно: с течением времени разные его
элементы могут проявиться как непреднамеренные. Из этого
следует, как мы, впрочем, неоднократно подчеркивали, что
отношение между непреднамеренностью, воспринимаемой с
точки зрения автора (идет ли речь о подлинной непредна-
меренности или о непреднамеренности, внесенной автором
в произведение специально для воспринимающего), и не-
преднамеренностью, на которую мы смотрим глазами вос-
принимающего, отношение отнюдь не прямое и не по-
стоянное, а также что внутренняя организация произведе-
ния, хотя воспринимающий всегда именно на основании ее
будет ощущать преднамеренность и непреднамеренность,
допускает в этом смысле разные понимания.
Два разных вида непреднамеренности, последовательно
ощущавшиеся в творчестве Махи разными поколениями,
показали нам, что непреднамеренность, несмотря на то,
что воспринимающий постигает ее в произведении как обус-
ловленную, объективно данную в построении произведения,
не предопределена этим построением однозначно; тем более
нельзя предполагать, чтобы то, что представлялось непред-
намеренным в произведении, было непреднамеренным и с
точки зрения современного ему поколения.
Все приведенные нами примеры непреднамеренности ка-
сались произведений, переживших эпоху своего возникно-
вения, т. е. постоянных ценностей, но в то же время мы
видели, что элементы, ощущавшиеся в них как непредна-
меренные, часто оценивались отрицательно. Следовательно,
возникает вопрос, вредит или способствует непреднамерен-
ность воздействию произведения и каково вообще ее отно-
шение к художественной ценности. Пока мы стоим на точке
зрения, согласно которой прямая задача искусства — вы-
это, например, делал символизм), но невысказанное значение может также,
как мы это видели на примере творчества Махи, действовать на воспри-
нимающего в противоположность преднамеренному высказанному значе-
нию как непреднамеренное.
232
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
зывать эстетическое наслаждение, непреднамеренность, бес-
спорно, будет представляться нам отрицательным фактором,
нарушающим эстетическое наслаждение, ведь наслаждение
проистекает из впечатления всестороннего единства произ-
ведения, единства, по возможности ничем не нарушаемого;
элемент неудовольствия неизбежно вносят в структуру про-
изведения уже противоречия, которые содержатся в ней
самой, и тем более, разумеется, противоречия, нарушающие
принципиальное единство структуры (и смыслового постро-
ения), противопоставляя один элемент всем остальным.
Этим мы можем также объяснить себе противодействие
воспринимающих, которым сопровождаются случаи откры-
той (и еще не стершейся) непреднамеренности в искусстве.
Но уже неоднократно указывалось, что эстетическое недо-
вольство не есть факт внеэстетический (таковым является
лишь эстетическое безразличие), что недовольство пред-
ставляет собой важную диалектическую противоположность
эстетическому наслаждению и, в сущности, как элемент
эстетического воздействия присутствует повсеместно. Доба-
вим далее, что недовольство при непреднамеренности —
лишь побочный факт, вытекающий из того, что в нашем
впечатлении от произведения с чувствами, связанными с
художественным произведением как знаком (так называе-
мыми эстетическими чувствами), борются «реальные» чув-
ства, какие в человеке способна вызывать лишь непосред-
ственная действительность, по отношению к которой человек
привык действовать прямо и прямое влияние которой он
привык испытывать. — И здесь мы подходим к собственному
ядру вопроса о сущности или, скорее, о действии непред-
намеренности как фактора восприятия художественного про-
изведения: непосредственность, с которой на воспринима-
ющего воздействуют элементы, находящиеся вне единства
произведения, делают из художественного произведения,
автономного знака, одновременно и непосредственную ре-
альность, вещь. В качестве автономного знака произведение
парит над действительностью: оно вступает в отношения с
ней только как целое, образно. Всякое художественное про-
изведение для воспринимающего представляет метафориче-
ское изображение действительности и в целом, и в любой
из ее частностей, лично им пережитых. Когда речь идет о
фактах и историях, изображенных в художественном про-
изведении, воспринимающий всегда сознает, что «дело ка-
сается преходящих чувств, что мир, «собственно», таков,
233
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
каким он его знает, независимо от этих переживаний, что
как бы ни было это произведение прекрасно, то, что он
переживает в художественном произведении, лишь прекрас-
ная греза и таковою останется» (Weinhandl F. Uber das
aufschliessende Symbol. Berlin, 1929, S. 17). Здесь, в этой
принципиальной «нереальности» художественного произве-
дения, — источник эстетических теорий, рассматривающих
искусство как иллюзию (К. Ланге) или ложь (Полан). Не
лишено значения, что эти теории подчеркивают как раз
знаковость и единство художественного произведения. Так,
например, Полан говорит: «Отнестись с художественной
позиции к какой-нибудь вещи... значит изолировать ее от
реального мира, переместить ее в какой-то фантастический
и фиктивный мир, игнорируя при этом молча или громог-
ласно ее реальные свойства, а также цель, для которой она
была изготовлена и ради которой, как правило, ею поль-
зуются; это значит ценить ее за красоту, а не за полезность
или правдивость... Можно с эстетической позиции относить-
ся к локомотиву. Тогда мы не будем пользоваться его
быстротой и силой для поездок по своим делам или для
того, чтобы любоваться пейзажами, а сосредоточим внима-
ние на функционировании его механизма, котлов, рычагов
и колес, его топки и угля, приглядимся к набору и взаимной
зависимости его деталей, к специфической деятельности
каждый из них, к их конвергенции и системе их располо-
жения; мы заметим целесообразное единство целого, длин-
ный и тяжелый ряд вагонов, которые тянет локомотив, и
одновременно поймем его социальную функцию...; он станет
для нас символом определенного типа человеческой циви-
лизации... Если мы будем рассматривать всю образованную
таким путем систему с ее собственной точки зрения, не
думая при этом, как использовать ее для своих нужд или
какие извлечь из нее уроки и достоверные познания, если
мы будем просто восхищаться ее внутренней гармонией и
своеобразной красотой, мы будем думать и чувствовать
художественно» (Mensonge de Г art. 1907, р. 75). — В этой
связи нужно упомянуть и о теориях, основывавших свое
понимание эстетического и искусства на чувствах. Чувство,
хотя и представляет собой весьма зримую сторону эстети-
ческой позиции, Особенно позиции воспринимающего, в то
же время как раз является самой прямой и непосредственной
реакцией человека на действительность. Поэтому при
построении теории эстетического, основанной на чувствах,
234
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
возникают трудности, вызванные необходимостью каким-то
образом примирить эстетическую «незаинтересованность»
(вытекающую именно из знакового характера художествен-
ного произведения) с пристрастием, типичным для чувства.
Делалось все это таким образом, что чувства «эстетические»
в собственном смысле слова объявлялись чувствами, свя-
занными с представлениями, в отличие от чувств «серьез-
ных» (Ernstgefiihle), связанных с действительностью: «Эс-
тетическим состоянием субъекта является, в сущности, чув-
ство (приятное или неприятное), связанное с наглядными
представлениями, причем эти представления составляют
психическую предпосылку чувства. Эстетические чувства —
это чувства, опирающиеся на представления (Vorstel-
lungsgefiihle), — говорит об этом один из ведущих ученых,
разрабатывающих психологическую эстетику, основанную
на теории чувств^ Ст. Витасек в сочинении «Grundziige
der allgemeinen Asthetik» (Leipzig, 1904, S. 181). Другие
теоретики говорят даже о «чувствах иллюзорных», или об
«иллюзиях чувств», т. е. всего лишь «представлениях о чув-
ствах», или о чувствах «понятийных» (Begriffsgefuhle)
(Lange К. Das Wesen der Kunst: Grundzuge einer
Illusionistischen Kunstlehre. Bd. I, S. 97, 103 ft); третьи
пытаются выйти из затруднения с помощью понятия «тех-
нических» чувств (т. е. чувств, связанных с художественным
построением произведения), которые они и провозглашают
собственной сущностью эстетического. Интересно наблю-
дать, как и эти теории, основывающие свое понимание
эстетического на эмоциях, подчеркивают пропасть между
художественным произведением и действительностью.
Мы цитировали взгляды представителей эстетического
иллюзионизма и эмоционализма не для того, чтобы принять
их или подвергнуть критике. Они должны были послу-
жить — при всей ныне уже совершенно явной своей одно-
сторонности — лишь доказательством мысли, что художе-
ственное произведение, коль скоро мы воспринимаем его в
качестве автономного эстетического знака, представляется
нам оторванным от прямой взаимосвязи с действительно-
стью, причем не только с внешней действительностью, но —
даже прежде всего — и с действительностью духовной жизни
воспринимающего. Отсюда «фантастический и фиктивный
мир» у Полана, Scheingefuhle* у Витасека. Этим, однако,
♦ Кажущиеся чувства (нем,).
235
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
не исчерпана вся широта искусства, вся мощь и настоя-
тельность его воздействия, что чувствуют и сами эстетики
иллюзионизма: «Даже самое идеальное и абстрактное ис-
кусство часто нарушается элементами реальными и чело-
веческими. Симфония вызывает грусть или веселье, любовь
или отчаяние. Разумеется, не в этом состоит высшее на-
звание искусства, но так проявляется человеческая приро-
да», — говорит Полан (р. 99). А в другом месте тот же
автор пишет: «Мы не можем ожидать, что искусство пре-
поднесет нам жизнь абсолютно гармонически; порой даже
в передаче искусства жизнь будет менее гармонична, чем
в реальности; но в определенные моменты именно такая
жизнь будет лучше всего отвечать подавляемым потребно-
стям, чрезвычайно живым в данную минуту» (L.C., р. ПО).
Здесь очень тонко подмечено осциллирование художествен-
ного произведения между знаковостью и «реальностью»,
между опосредованным и непосредственным его воздейст-
вием. Впрочем, нужно подробнее проанализировать эту «ре-
альность». Прежде всего ясно, что здесь речь идет не о
более или менее точном, более или менее конкретном,
«идеальном» или «реалистическом» изображении действи-
тельности, а — как уже было отмечено — об отношении
произведения к духовной жизни воспринимающего. Точно
так же ясно, что основа знакового воздействия художест-
венного произведения — его смысловое единство, основа
же его «реальности», непосредственности — то, что в ху-
дожественном произведении противится этому объединению,
иными словами, то, что в нем ощущается как непреднаме-
ренное. Только непреднамеренность способна сделать про-
изведение в глазах воспринимающего столь же загадочным,
как загадочен для него предмет, назначения которого он
не знает; только непреднамеренность своим противодейст-
вием смысловому объединению умеет пробудить активность
воспринимающего; только непреднамеренность, которая
благодаря отсутствию строгой направленности открывает
путь для самых различных ассоциаций, может при сопри-
косновении воспринимающего с произведением привести в
движение весь жизненный опыт воспринимающего, все со-
знательные и подсознательные тенденции его личности. И
в результате всего этого непреднамеренность включает ху-
дожественное произведение в круг жизненных интересов
воспринимающего, придает произведению по отношению к
воспринимающему такую настоятельность, какой не мог бы
236
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
обрести знак в чистом виде, за каждой чертой которого
воспринимающий ощущает чье-то чужое, а не свое наме-
рение. Если искусство представляется человеку всегда новым
и небывалым, то способствует этому главным образом не-
преднамеренность, ощущаемая в произведении. Разумеется,
и преднамеренность обновляется с каждым новым художе-
ственным поколением, с каждой новой творческой лично-
стью, а в известной мере и с каждым новым произведением.
Однако современная теория искусства своими исследовани-
ями достаточно определенно показала, что, несмотря на это
непрестанное обновление, воскрешение преднамеренности
в искусстве никогда не бывает совершенно неожиданным и
непредопределенным: развитие художественной структуры
образует непрерывный ряд, и каждый новый этап есть лишь
реакция на этап предшествующий, представляет собой его
частичное преобразование. В развитии непреднамеренности
нет видимой связи: она всегда возникает вновь при несов-
падении структуры с общей внутренней организацией ар-
тефакта, в данный момент являющегося носителем этой
структуры. Если новые художественные направления раз-
ного типа„подчас весьма «нереалистические», в своей борьбе
против предшествующих направлений ссылаются на то, что
они обновляют в искусстве ощущение действительности,
которого лишили искусство более старые направления и
тем самым обеднили его, то они утверждают, собственно,
что оживляют непреднамеренность, необходимую, чтобы
художественное произведение ощущалось как факт жизнен-
ного значения.
Бросается в глаза, хотя и может показаться странным,
что непреднамеренность, с помощью которой, как мы ут-
верждаем, произведение устанавливает связь с действитель-
ностью и, собственно, само становится составной частью
действительности, нередко, как видно уже из приведенных
выше примеров, оценивается отрицательно. То, что в про-
изведении воздействует на воспринимающего как сила, на-
рушающая смысловое единство произведения, подвергается
осуждению. Каким же образом тогда может непреднаме-
ренность считаться существенным элементом впечатления,
которое производит художественное произведение на вос-
принимающего? Прежде всего не следует забывать, что в
качестве нарушающего фактора непреднамеренность высту-
пает лишь с точки зрения определенного понимания искус-
ства, начавшего развиваться главным образом в XIX веке,
237
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
т.е. такого понимания, для которого смысловое единство
является главным критерием оценки художественного про-
изведения. Средневековое искусство в этом плане было
принципиально иным, точнее сказать, отношение воспри-
нимающего к нему было принципиально иным. В качестве
доказательства приведем небольшое, но характерное заме-
чание, которым в книге Виликовского19 «Проза эпохи Карла
IV» (1938, s. 256) сопровождается «Житие св. Симеона»
(рассказ из «Жития святых отцов»): «В чешском переводе
этого рассказа отсутствует подробное описание пребывания
Симеона в монастыре и мучений, которые он должен был
там переносить, чем в латинском тексте мотивировалось
его бегство из монастыря и опасения за него аббата; инте-
ресно, что ни одному из переписчиков — а, очевидно, также
и читателей — пяти древнечешских рукописей эта недо-
статочность мотивировки не мешала». Итак, речь идет о
принципиальнейшем нарушении смыслового единства, о на-
рушении единства темы (нарушения такого рода мы истол-
ковали выше как несоответствие между значением выска-
занным и значением невысказанным), и это нарушение
принимают как вещь саму собой разумеющуюся один за
другим переписчики, а вместе с ними, видимо, и читатели.
В народной поэзии нарушение смыслового единства тоже
явление обычное. Так, в народной песне очень часто со-
седствуют строфы, одна из которых какую-либо вещь или
какое-нибудь лицо прославляет, а другая говорит о них же
с насмешкой; комизм и серьезность здесь сталкивается порой
так близко и без перехода, что общая точка зрения песни
в целом вообще может остаться неясной; воспринимающему
эти резкие смысловые скачки в песне явно не мешают,
скорее, даже их неожиданность (увеличенная возможностью
постоянных импровизированных изменений песни) связы-
вает песню в момент исполнения с реальной ситуацией:
если песня адресуется исполнителем определенному при-
сутствующему лицу (таковы, например, сольные песни при
танцевальных забавах, песни, представляющие собой со-
ставную часть обрядов), неожиданное изменение оценки
может весьма действенно — в положительном или отрица-
тельном смысле — задеть эту особу. Напомним, наконец,
о пестром смешении разнородных стилистических элементов
в народном искусстве, о несоразмерности частей в изобра-
зительной манере народной живописи и скульптуры (на-
пример, несоразмерность взаимной величины и значения
238
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
отдельных частей тела и даже лица в народных живописных
изображениях и пластике) (Шоурек ). Все это действует
на воспринимающего как результат отсутствия смыслового
единства произведения, как непреднамеренность, и все это
как проявление неумелости часто осуждалось теми, кто
смотрел на фольклор с точки зрения высокого искусства.
Однако при адекватном восприятии народного искусства эта
непреднамеренность составляет интегрирующую составную
часть впечатления. Таким образом, становится очевидным,
что непреднамеренность является негативным элементом
лишь для того восприятия искусства, к которому мы при-
выкли, и притом еще, как мы ^сейчас увидим, элементом,
лишь по видимости негативным.
Дело в том, что, как явствует из приведенных выше
примеров, шла ли речь о Расине или о Махе, «ошибки», в
которых современники упрекали художников, превращают-
ся позднее в естественный элемент художественного воз-
действия произведения (едва только элемент, противопо-
ставляющий себя остальным, отказываясь вступить с ними
в единство, попадет, с точки зрения воспринимающего,
внутрь построения произведения). И, конечно, не нужно
быть особенно смелым, чтобы утверждать, что как раз
неприятие, которое интенсивно ощущаемая непреднамерен-
ность возбуждала в воспринимающем, может служить сви-
детельством живого воздействия произведения на воспри-
нимающего, свидетельством того, что оно ощущалось как
нечто более непосредственное, чем всего лишь знак. Чтобы
мы допустили это, достаточно осознать, что эстетическое
наслаждение ни в коей мере не единственный и не безус-
ловный признак эстетического, что только диалектическое
соединение наслаждения с недовольством придает полноту
художественному переживанию.
После всего сказанного может возникнуть впечатление,
что непреднамеренность (рассматриваемую, разумеется, с
точки зрения воспринимающего, а отнюдь не с точки зрения
автора) мы считаем более важной и существенной для
искусства, чем преднамеренность, что, видя в ней причину
того, почему художественное произведение воздействует на
воспринимающего с настоятельностью непосредственности,
мы хотим даже, объявить непреднамеренный элемент в том
впечатлении, которое мы получаем от художественного про-
изведения, более необходимым, чем момент смыслового объ-
единения, и, следовательно, более необходимым, чем пред-
239
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
намеренность. Разумеется, это было бы ошибкой, для ко-
торой наше толкование лишь непроизвольно дало повод,
поставив непреднамеренность в полемике с общепринятым
пониманием под слишком интенсивное освещение. Необхо-
димо еще раз настойчиво подчеркнуть основное положение,
из которого мы исходили: художественное .произведение по
самой сути своей есть знак и притом знак автономный,
благодаря чему внимание сосредоточено на внутренней его
организации. Эта организация, разумеется, преднамеренна
как с точки зрения автора, так и с точки зрения воспри-
нимающего, и потому преднамеренность — основной, можно
сказать, немаркированный фактор впечатления, вызывае-
мого художественным произведением. Непреднамеренность
ощущается лишь на ее фоне: ощущение непреднамеренности
может возникнуть у воспринимающего, только если что-то
препятствует его стремлению к смысловому объединению
художественного произведения. Кажется, мы уже сказали,
что всем тем, что в нем есть непреднамеренного, художе-
ственное произведение напоминает естественную, не обра-
ботанную человеком действительность, нужно, однако, до-
бавить, что в подлинном явлении природы, например в
обломке камня, скальном образовании, причудливой форме
ветви или корня дерева и т. п., мы можем ощутить непред-
намеренность как активную силу, действующую на наши
чувства, представления и ассоциации, лишь в том случае,
если мы будем подходить к такому явлению, стремясь понять
его как знак смыслового единства (т. е. единый по значе-
нию). Наглядное свидетельство тому — так называемые
мандрагоры, корневища с причудливыми формами. Прису-
щей им тенденции к смысловому объединению содействовало
то, что, по крайней мере, какая-то их часть, пусть малая,
«досоздавалась» художественным вмешательством. Так воз-
никали особые артефакты, которые, сохраняя случайность
природных явлений и, следовательно, преобладание смыс-
ловой необъединенности в своих очертаниях, тем не менее
заставляли воспринимающего видеть в них изображения
человеческих фигур, т. е. знаки. Таким образом, непред-
намеренность представляет собой явление, сопутствующее
преднамеренности, можно даже сказать, что и она есть,
собственно, известный вид преднамеренности: впечатление
непреднамеренности возникает у воспринимающего там и
тогда, когда стремление понять произведение в его смыс-
ловом единстве, объединить весь художественный артефакт
240
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
в единственное и единое смысловое целое терпит неудачу.
Преднамеренность и непреднамеренность, хотя они нахо-
дятся в постоянном диалектическом напряжении, в сущно-
сти представляют собой одно и то же. Механической — а
уже не диалектической — противоположностью обеих яв-
ляется семантическая индифферентность, о которой можно
говорить в том случае, если какая-либо часть или элемент
произведения безразличны для воспринимающего, если они
находятся вне сферы его стремления к достижению смыс-
лового единства*.
Более подробно осветив тесную взаимосвязь между пред-
намеренностью и непреднамеренностью в искусстве, мы ус-
транили возможное недоразумение, касающееся относитель-
ной важности каждого из двух факторов впечатления, кото-
рое вызывается художественным произведением. Следует,
разумеется, еще добавить, что именно в силу своей диалек-
тичности соотношение между участием преднамеренности и
непреднамеренности в создании этого впечатления постоянно
изменяется в процессе конкретного развития искусства и под-
вержено частым колебаниям: то больше акцентируется пред-
намеренность, то сильнее подчеркивается непреднамерен-
ность. Изложение это, конечно, весьма схематично: отноше-
ния между преднамеренностью и непреднамеренностью
могут быть чрезвычайно многообразны, ибо важно не только
количественное преобладание того или иного из этих факто-
ров, но и качественные оттенки, ими при этом приобретае-
мые. Разумеется, богатство таких оттенков, по сути дела, не-
исчерпаемо; путем более детального исследования их можно
было бы, вероятно, сгруппировать и выявить некоторые об-
щие типы. Например, преднамеренность может то акценти-
ровать максимальную беспрепятственность смыслового объ-
единения, по возможности исключающую или маскирующую
* Так, например, для зрителя картины может быть безразлична рама,
отделяющая произведение от плоскости стены, однако наряду с этим
бывают случаи, когда рама входит в круг смыслового построения произ-
ведения: эту двойственность хорошо иллюстрируют случаи, частые, на-
пример, в* голландской живописи, когда картина, написанная на доске,
имеет две рамы: одну — нарисованную и служащую составной частью
картины,, вторую, которой обрамлена плоскость картины, — изготовленную
из какого-то материала; но и «настоящая» рама, как правило, индиффе-
рентная по отношению к смысловому построению картины, может стать
ее составной частью: ср. случаи, отнюдь не редкие, когда в живописи
эпохи модерна изображение (живописное или резное) продолжается и на
раме, выходя, собственно, за плоскость картины.
241
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
все противоречия (как в период классицизма), то, наоборот,
проявляться как сила, преодолевающая явные и подчеркну-
тые противоречия (искусство после первой мировой войны);
непреднамеренность может быть основана то на непредви-
денных смысловых ассоциациях, то на резких сдвигах в оцен-
ке и т. п. Естественно, что* и взаимоотношение преднамерен-
ности и непреднамеренности оказывается иным при каждом
изменении аспектов одного из этих факторов или тем более
при изменении их обоих.
Наконец, нужно упомянуть еще об одном возможном
недоразумении, касающемся на этот раз взаимосвязи между
вопросом о непреднамеренности в художественном произ-
ведении и вопросом о внеэстетических функциях искусства.
Поскольку на протяжении этого исследования преднамерен-
ность часто изображалась как факт, тесно сопряженный с
эстетическим воздействием произведения, а непреднамерен-
ность, напротив, выступала как следствие контакта худо-
жественного произведения с действительностью, легко мо-
жет произойти подмена проблемы непреднамеренности про-
блемой внеэстетических функций или даже отождествление
двух названных проблем. Это, однако, отнюдь не входило
в наши намерения. Внеэстетические функции искусства,
особенно же, разумеется, функция практическая в самых
различных ее разновидностях, конечно, устремлены к дей-
ствительности вне произведения и ведут к воздействию на
нее, но в силу этого еще не превращают само произведение
в непосредственную действительность, а сохраняют его зна-
ковый характер. Свои внеэстетические функции произве-
дение осуществляет как знак, а под влиянием четко выра-
женной и односторонней внеэстетйческой функции оно даже
становится более однозначным, чем знак чисто эстетиче-
ский. Внеэстетические функции, разумеется, вступают в
противоречия с эстетической функцией, но вовсе не со
смысловым единством произведения. Доказательством ска-
занного может служить тот факт, что явное приспособление
произведения к какой-либо внеэстетйческой функции может
стать интегрирующей составной частью эстетического, а
также смыслового построения произведения. Следовательно,
противоположность преднамеренности и непреднамеренно-
сти — нечто совершенно иное, чем противоположность вне-
эстетических функций и функции эстетической. Внеэсте-
тическая функция может, разумеется, стать составной ча-
стью непреднамеренности, ощущаемой в художественном
242
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
произведении, но лишь в том случае, если она будет пред**
ставляться воспринимающему несоединимой со всем его
остальным смысловым построением произведения. Шагом к
такой непреднамеренности внеэстетической функции (рас-
сматриваемой, разумеется, с точки зрения воспринимаю-
щего) в чешской литературе являются, например, рассказы
Франтишека Правды21, морализующую тенденцию которых
читатель ощущает как нечто чуждое объективному харак-
теру повествования и обрисовке персонажей: «В своей ли-
тературной деятельности Франтишек Правда предстает, с
одной стороны, католическим автором, который печатается
в календарях22, заклинателем в новелле и практическим
теологом в беллетристике, настойчивым моралистом, стра-
стным воспитателем народа, с другой — ему свойственно
глубокое пристрастие к характеристической обрисовке сво-
еобразных простонародных типов, острое чутье к своеобыч-
ности сельского люда, изображаемого им с трогательным
примитивизмом и эпической широтой», — говорит о Правде
А. Новак («Literatura XIX st.», Ill, s. 124). Итак, внеэсте-
тические функции становятся составной частью непредна-
меренности лишь иногда, принципиального же родства меж-
ду ними и непреднамеренностью в художественном произ-
ведении нет.
Предотвратив возможные недоразумения, к которым мог-
ли дать повод некоторые формулировки нашей работы,
несколько упрощающие для большей четкости изложения
слишком сложную реальную ситуацию, мы подошли к концу
своего исследования. Мы не намерены заключать его, как
это принято, резюмированием основных тезисов, поскольку
такое дальнейшее радикальное упрощение могло бы вызвать
еще новые упрощения. Но мы сознаем, что основные по-
ложения этой работы ведут к ряду выводов, достаточно
резко отличающихся от общепринятых мнений, и потому
хотели бы, вместо резюме, ясно сформулировать главные
из этих выводов.
1. Если мы будем понимать художественное произведе-
ние только как знак, то обедним его, исключив из реального
ряда действительности. Художественное произведение не
только знак, но и вещь, непосредственно воздействующая
на духовную жизнь человека, вызывающая прямую и сти-
хийную заинтересованность и проникающая своим воздей-
ствием в глубочайшие слои личности воспринимающего.
Именно как вещь произведение способно воздействовать на
243
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
общечеловеческое в человеке, тогда как в своем знаковом
аспекте оно в конечном счете всегда апеллирует к тому,
что в человеке обусловлено социальными факторами и эпо-
хой. Преднамеренность дает почувствовать произведение
как знак, непреднамеренность — как вещь. Следовательно,
противоречие между преднамеренностью и непреднамерен-
ностью составляет одну из основных антиномий искусства.
Постижение одного только преднамеренного недостаточно
для понимания художественного произведения во всей его
полноте и недостаточно для понимания развития искусства,
поскольку именно в самом этом развитии граница между
преднамеренным и непреднамеренным все время переме-
щается. Понятие «деформация», коль скоро с его помощью
пытаются свести непреднамеренное к преднамеренному, за-
темняет реальное положение вещей.
2. Преднамеренность и непреднамеренность — явления
семантические, а не психологические: суть их — объеди-
нение произведения в некое значащее целое и нарушение
этого единства. Поэтому подлинный структурный анализ
художественного произведения носит семантический харак-
тер, причем семантический разбор затрагивает все компо-
ненты произведения, как «содержательные», так и «фор-
мальные». Нельзя обращать внимание только на тенденцию
к объединению отдельных элементов произведения в общем
значении; нужно видеть и противоположную тенденцию,
ведущую к нарушению смыслового единства произведения.
ОТОКАР ЗИХ
I
Профессор О. Зих был учеником О. Гостинского. Такой
выбор для него был не случайностью, а сознательным и
ответственным решением, относившимся не только к лич-
ности учителя, но и к научному учению, которое он от-
стаивал. Направление, по которому шел Гостинский, а сле-
дом за ним О. Зих (дать наиболее широкое определение
этой концепции), первейшей задачей эстетики считает по-
нимание построения художественного произведения: иссле-
244
ОТОКАР ЗИХ
дователь должен сознавать, что изучает художественное
произведение, беря за основу именно то специфическое
свойство, которое отличает искусство от других явлений.
Помимо такой общей направленности, взгляды Гостинского
имели и конкретные особенности, вытекающие, с одной
стороны, из современного ему состояния науки, с другой —
из своеобразия его личности. Из них также исходил и Зих
и многое в них принимал. Но многое, главным образом
уже в процессе собственного развития, Зих в этих исходных
посылках менял. Он, получивший из рук своего учителя
звание доцента — совсем в духе времени — по экспери-
ментальной эстетике, характерной чертой которой было
изучение внешних, чисто формальных свойств художест-
венного произведения, т. е. взаимоотношения элементов,
доступных чувственному восприятию, все более осознанно
приходил к изучению смысловой стороны искусства. Как
он все более убеждается, в художественном произведении
эстетически воздействует не только то, что доступно органам
чувств, но и то значение, которое элементы произведения
и данная их связь обретают в сознании воспринимающего
коллектива. В его «Эстетике драматического искусства»
чрезвычайно много положений именно такого характера.
Например, актер для Зиха не только сумма зрительных и
акустических представлений, но, если говорить о нем как
об элементе драматического произведения, — сложное внут-
ренне дифференцированное значение: каждый из элементов
актерской личности не только служит обычным средством
характеристики своего носителя, но и получает также особое
освещение (значение). Под влиянием общего драматическо-
го построения, в которое этот элемент включен, сценическое
пространство — это не только отрезок трехмерного про-
странства, в котором мы движемся и живем, но одновре-
менно и носитель нематериальной драматической динамики
и т.д.
Таким образом, О. Зих был не только учеником своего
учителя, но и научной индивидуальностью в полном смысле
этого слова, индивидуальностью, развивающейся законо-
мерно, без эклектических скачков и шатаний. Он не умел,
да и не хотел менять своих убеждений без предварительной
строгой проверки необходимости того, что касается не только
его собственной научной индивидуальности и ее развития,
но и его отношения к ученикам. Он был из числа тех
редкостных учителей, которые умеют не только допускать
245
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
существование чужой самостоятельной мысли, но и требо-
вать ее, ставя при этом единственное условие: чтобы в ней
не скрывалось ни малейшей недобросовестности по отно-
шению к материалу, из которого она возникла, чтобы не
было ни малейшей логической неточности в методе ее по-
строения. Материал и абстрактное логическое мышление
были двумя точками, на которые одновременно опиралась
исследовательская работа Зиха: Зих в равной мере чуждался
и безответственной спекуляции, и бездумного накопления
деталей. Уважение к материалу было наследием позитивной
выучки (Зих и лично был близок с самым ярким чешским
философом-позитивистом Ф. Крейчи1), стремление к созда-
нию идейной концепции, осмысливающей материал, было
его собственным вкладом; его гордость составляло — как
он заметил некогда в разговоре, — что он умеет «мыслить
о делах искусства».
Обобщающая тенденция в его творчестве проявлялась
не только в работах, посвященных общим вопросам фило-
софии искусства (ср. исследование об эстетической ценно-
сти), но и в том, что в рассуждениях, посвященных кон-
кретным наукам об отдельных видах искусства, он постоянно
имел в виду обобщающие выводы, постоянно стремился
прийти от единичных, индивидуальных художественных яв-
лений к заключениям, применимым к целым обширным
областям своей науки. Отсюда особый характер исследова-
ний и книг Зиха: его фразы, сформулированные с точностью
математических правил и лаконизмом сентенции, нередко
широко открывают перед нашим взглядом просвет, ведущий
в области весьма далеких от собственного предмета рассуж-
дений. Осцилляция между стремлением к общим выводам
и любовью к конкретному искусству для Зиха, ученого
уравновешенного и систематичного, не была проявлением
какой-то внушающей беспокойство полярности. Он не ко-
лебался между двумя крайностями, а строго следовал их
равнодействующей. Полем деятельности Зиха в основном
были отдельные науки об искусстве, из которых он особенно
много внимания уделял музыкальной науке, поэтике, теории
драмы и изобразительных искусств. Тем самым он постоянно
обращался к конкретным фактам искусства, прекрасно со-
знавая, что без учета специфических свойств материала, с
которым имеет дело данное искусство, нельзя рассуждать
даже о самых общих проблемах; в этом он был действительно
последователен, наглядным примером чего служат его ра-
246
ОТОКАР ЗИХ
боты о поэтическом искусстве: стремясь раскрыть сущность
поэтического ритма, Зих, математик по образованию, на-
писал статью о чешском ударении, в которой было столько
оригинальных наблюдений и надежных выводов, что ее
поныне цитируют лингвисты. Подход к художественному
материалу (слово в поэзии, высота тона, сила, окраска и
длительность звука в музыке, плоскость, линия и цветовое
пятно в живописи) и чутье к нему облегчались для Зиха
и его собственным художественным творчеством.
Тем не менее Зих был убежден, что исследованиями,
отталкивающимися от отдельных явлений и на них направ-
ленными, должны заниматься не эстетики, а историки от-
дельных искусств; он понимал, что эстетика, даже если она
покидает высокие пределы чисто абстрактного философского
мышления, остается наукой философской, и назначение
ее — прокладывать пути, по которым пойдет историческое
изучение. Поэтому эстетика, пусть даже в виде науки об
искусстве, была для него прежде всего гносеологией искус-
ства, определяющей гносеологические его рамки, данные
как жизненным предназначением искусства вообще, так и
специфическими свойствами материала, с которым каждое
из искусств имеет дело. И об этом наглядно свидетельствует
самая систематичная его книга «Эстетика драматического
искусства», где сценическое произведение феноменологиче-
ски разъединено на отдельные элементы, чем подготовлена
почва для историка драмы, который теперь сможет показать,
как состав элементов и их взаимодействие изменялись в
процессе развития. О. Зих, начавший свой научный путь
под знаком психологической эстетики, все яснее понимал,
что объективные свойства художественного произведения
не зависят от индивидуальной психологии, и все решитель-
нее становился эстетиком-структуралистом. Видеть постро-
ение художественного произведения, при чем отнюдь не
как статический орнамент (такое понимание было харак-
терно для последователей Гербарта , а с ними в известной
степени и для учителя Зиха Гостинского), а как динами-
ческое целое, полное постоянного напряжения, — вот к
чему он все более сознательно стремился (в качестве до-
казательства см. рассуждение о драматургическом простран-
стве в «Эстетике драматического искусства»).
Тезисы, которые мы попытались наметить, были для
Зиха не готовой и неизменной истиной, воспринятой от
других, а целью и итогом неустанных упорных борений.
247
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Зих развивался как ученый до последней минуты своего
творчества, и не может быть двух мнений о том, что смерть
не стала естественным завершением его деятельности, а
насильственно и болезненно прервала путь неуклонного
восхождения. Это видно и по внешней истории его работ:
если до недавнего времени труды Зиха, носили характер
осторожных экспериментальных зондирований различней-
ших областей эстетики, то в последние годы он приступил
к созданию системы, прерванному смертью на самом раннем *
этапе; трактат о драме должен был стать одним из первых
сочинений, исчерпывающих всю проблематику избранной
области. Но несмотря на это, наследие Зиха не осталось
торсом: его единство обеспечено общей направленностью на
максимальную объективность эстетического исследования,
пронизывающей каждую деталь его работы. Чешской эсте-
тике повезло, что в момент, когда во всем мире теория и
философия искусства вновь пришли в движение, нить его
развития оказалась в руках столь динамичного при всей
своей уравновешенности ученого. Сравнивая труды Зиха с
достижениями современной ему европейской науки об ис-
кусстве, мы видим, что нередко Зих собственным путем и
на свою ответственность приходил к заключениям, к кото-
рым одновременно приходили и иностранные ученые; вспом-
ним, например, его рассуждение «О поэтических типах»
(1917), имевшее для чешского литературоведения такое же
значение творческого импульса (в особенности открывае-
мыми им побочными перспективами), как для русской те-
ории литературы первые опыты формалистической школы.
II
Отакар Зих был одновременно ученым и художественно
одаренным человеком. Такое сочетание в истории чешской
науки не исключение. С самого начала ее развития в новое
время появляются имена, причем великие имена, доказы-
вающие, что наука и искусство — две области, весьма
близкие между собой и оказывающие друг другу поддержку.
Создатель современного чешского литературного языка не
мог быть только ученым. Необходимо было, чтобы строй
языка нащупывала чуткая рука поэта — и Й. Юнгман в
самом деле был и ученым и поэтом одновременно. Осно-
воположник современной чешской исторической науки Ф.
Палацкий подарил чешской историографии, этой своей но-
248
ОТОКАР ЗИХ
ворожденной крестнице, традицию великого повествователь-
ного искусства. Для Зиха в этом отношении великим при-
мером был его предшественник О. Гостинский, пробовавший
свои силы в изобразительном искусстве, музыке и поэзии.
Сказались ли как-то художественные склонности Зиха
на его научной деятельности, отразились ли в ней? Если
мы взглянем на стиль и композицию его трудов, нам по-
кажется, что это влияние ни в коей мере там не обнару-
живается.. Зих ни разу не пожертвовал ни единым словом,
точно выражающим понятие, в интересах стилистического
благозвучия. Единственным руководящим принципом ком-
позиции его работ была цепь логических построений, ко-
торой он неукоснительно придерживался. И причиной тут
было стремление Зиха строго соблюдать границу между
наукой и искусством, строго отличать научную ответствен-
ность от художественной. В доказательство можно было бы
привести и многие его высказывания. Но зато трудно в
полной мере оценить, как много дал Зих-художник Зиху-
эстетику в плане безошибочного, тонкого ощущения мате-
риала. Кроме того, — и это главное — Зих-художник уберег
Зиха-ученого от опасностей современного развития эстети-
ки* не позволил исследователю отойти от объективного
анализа художественного произведения в туманности эсте-
тики выражения. Обо всем этом мы еще будем говорить.
Но прежде я хотел бы обратить внимание на еще одну
двойственность научной индивидуальности Зиха. Мы можем
обозначить ее словами: эстетик-философ. Зих вышел из
школы, которая сделала своим основным лозунгом эмпиризм
эстетического исследования. Его учитель Гостинский в своей
любви к чистой эмпирии шел даже против последовательного
гербартизма. В некрологе на смерть Гостинского 3. Неедлы
примерно так характеризует его склонность к эмпирии: для
Гостинского не существовало эстетической ценности консо-
нанса как общего понятия, в качестве научной проблемы
для него существовала только эстетическая ценность тако-
го-то и такого-то аккорда.Точно таким же строгим эмпи-
риком на всем протяжении своей научной деятельности
оставался и автор «Эстетики драматического искусства» —
сочинения, изобилующего конкретными наблюдениями.
И все же сколько философского темперамента было в уче-
ном, который, например, сумел понять драматическое про-
странство как значащую единицу, который сумел поместить
в этом пространстве актера как динамический заряд семан
249
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тической энергии, который умел столь глубоко проникнуть
сквозь видимую и вообще чувственно воспринимаемую по-
верхность явлений! Этот противник спекуляции в эстетике
всем своим существом был философом. И если современные
конкретные науки призывают к обновлению контакта с
философией, то этот завзятый эмпирик в такой степени
опережал свою эпоху, что никогда подобной связи не ут-
рачивал. Вслед за конкретной «Теорией драмы» он готовил
к изданию — и, к сожалению, не дописал — весьма сложную
гносеологию музыки... И, наконец, еще третья двойствен-
ность, которая приводит нас к самому ядру научного раз^
вития Зиха. Это противоречие между двумя полюсами на-
учной ориентации: ориентацией на психологию искусства
и ориентацией на произведение. Зих начал свой научный
путь в момент, когда эстетика на всех порах вплывала в
воды психологии. Это была естественная реакция на дея-
тельность эстетиков, взгляды которых были включены в
философские системы и ими предопределялись, эстетиков,
которые ради раздумий de principiis* совершенно упустили
из виду искусство. Эта эстетика «сверху», последним ве-
ликим творением которой была «Философия прекрасного»
Гартмана4, изжила себя. Исследователи искусства были ув-
лечены конкретностью психологии. Казалось также, что
психология, идущая по пути наблюдений и даже экспери-
ментов, вскоре сможет открыть основные законы духовной
жизни человека, законы, имеющие силу для всех людей.
Поэтому неудивительно, что порой эстетика была даже
готова отказаться от своей самостоятельности и стать ancilla
psychologiae**. Это подтверждают некоторые труды, возни-
кающие в первые два десятилетия нового века. Уже в самом
их названии фигурирует «психология искусства», которая
притязает на то, чтобы заменить собой все, что до сих пор
называлось «эстетикой». Естественно, что и молодой Зих,
поддерживаемый своим учителем, шел дорогой, в которой
он видел путь к научному прогрессу. Однако художник и
философ тоже сказали в его научном развитии свое слово:
художник не позволил эмпирику упустить из виду собст-
венный материал искусства. И потому Зих никогда не пы-
тался сделать целью исследования не искусство, а духовную
жизнь, как, например, немецкий ученый Мюллер-Фрейен-
* о принципах (лат.).
** служанка психологии (лат.).
250
ОТОКАР ЗИХ
фельс, относительно трудов которого Зих, будучи и сам по
убеждениям психологическим эстетиком, всегда высказывал
крайнее недоверие. Философ же помогал ампирику Зиху
сохранить убеждение, что точные средства изучения, такие
как статистика или эксперимент, при исследовании искус-
ства всегда служат лишь вспомогательными пособиями, ру-
ководимыми целенаправленной мыслью, и что результаты,
к которым с их помощью приходит ученый, не являются
собственной целью исследования, а могут быть лишь ис-
пользованы для обобщающих выводов. И так получилось,
что в эпоху острого кризиса своей науки сам Зих научно
развивался без кризисов, вполне закономерно находясь все
время между двумя полюсами: эстетикой психологической
и эстетикой структуральной, которую во многих моментах
предвосхитил своими смелыми и вместе с тем максимально
осмотрительными исследованиями. Уже первый его шаг на
этом пути свидетельствовал о такой исходной позиции. В
своей большой работе о психологии музыки, относящейся
к 1910 году, Зих выбирает отнюдь не психологию художе-
ственного творца (хотя был им сам), а психологию эстети-
ческого восприятия, казалось бы, ограничивая тем самым
собственные возможности. Мы имеем в виду трактат об
эстетическом восприятии музыки. Это был важный шаг.
Именно психология художественного творчества чревата
большими опасностями, поскольку ведет к максимальному
индивидуализированию. Психология восприятия, хотя, на
первый взгляд, она и более далека от произведения, давала
возможность (разумеется, только возможность, которая от-
нюдь не равнозначна необходимости) не упустить из поля
зрения произведения его объективное построение, которое
при исследовании художественного восприятия объединяет
почти хаотическую пестроту психики воспринимающих ин-
дивидов. А затем процесс развития закономерно шел дальше,
все более приближаясь к построению художественного про-
изведения. Если мы взглянем на последний большой труд
Зиха «Эстетику драматического искусства», то будет уже
совершенно ясно, что психологические термины, как, на-
пример, «представление», лишены тут своего первоначаль-
ного психологического смысла. Представление, которое Зих
называет «образным» и которому уделяет столько внимания
в своей книге, уже не содержит в себе ничего от индиви-
дуального душевного состояния; оно стало действительно
объективным, надындивидуальным, смысловым, семиологи-
251
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ .
ческим фактом. Однако чрезвычайно важно напомнить, что
значительные шаги в этом направлении были сделаны уже
и в только что упомянутой нами книге об эстетическом
восприятии музыки. Зих рассуждает там о «содержательной»
стороне музыки и приходит к крайне интересным и во
многом окончательным выводам. При этом он пользуется
понятием «смысловые представления«, т. е. понятием явно
непсихологическим. С помощью сложных гносеологических
рассуждений, постоянно подтверждаемых, однако, эмпири-
чески и даже экспериментально, он доказывает, что един-
ственно возможное чисто музыкальное «содержание» опре-
деляется тем, что, например, фразу, неоднократно методи-
чески вновь и вновь возникающую, мы при повторном
восприятии соотносим с первым восприятием, объединяя
тем самым весь опус в смысловое целое, даже без какого
бы то ни было конкретного содержания. Такое понимание
содержания настолько поразительно для той эпохи, когда
Зих писал свою работу, что вызывает у нас безоговорочное
уважение. Но у Зиха это отнюдь не единичный случай. Я
мог бы привести массу примеров из собственного опыта,
когда понятие, которое, согласно общему мнению, возникло
совсем недавно, можно найти у Зиха в какой-либо из его
старых работ, где оно живет в скрытом виде. Нередко фраза,
с точки зрения общего контекста работы выглядевшая лишь
побочным замечанием, скрывает в себе предчувствие от-
крытия. Приведу несколько примеров. Один из самых на-
глядных дает нам работа о драматическом пространстве,
опубликованная в 1923 году, в журнале «Moravskoslezska
revue». Зих впервые высказал здесь свое понимание драма-
тического пространства как нематериального динамического
поля, пронизанного драматическими силовыми линиями.
Если мы вспомним, что это понимание скромный чешский
ученый высказал почти в то же самое время, когда про-
славленные русские режиссеры предпринимали попытки его
сценической реализации, то можно по достоинству оценить
прозорливость Зиха. Недавно, просматривая работу об эс-
тетической подготовке мысли, я впервые обратил внимание
на слова (которые не цитирую из-за их слишком специ-
ального характера), еще в 1921 году точно определяющие
понятие так называемого ритмического импульса. Речь идет
о понимании ритмического ряда как целого, к которому
Зих пришел независимо от современных ему исследований
метрики, главным образом французских (Мейе5) и русских
252
ОТОКАР ЗИХ
(формалисты). Такой способ неожиданного (по крайней мере
для читателей Зиха) обнаружения новых сторон вещей
тесно связан с особым методом его работы. Уже сам стиль
Зиха характерен в этом отношении. Он в высшей степени
экономен; по собственному признанию Зиха, он стилисти-
чески обрабатывал свои фразы, главным образом вычерки-
вая из них все лишнее. Так возникала необычная форма:
на минимуме пространства максимум содержания. В ре-
зультате нередко получалось так, что итог длительных раз-
думий занимал в его произведении одну-две фразы, порой
даже всего лишь вводное предложение, обнаружить которое
может только очень внимательный читатель. Но Зих не
заботился о том, чтобы облегчить читателю работу. Я даже
подозреваю, что читатель для него вообще маячил где-то
лишь на самом краю горизонта. Научная работа Зиха была
упорной дискуссией с самим собой, сражением за каждую
пядь. То, что он написал, как правило, было маргиналиями
к тому, что он в действительности продумал. И потому
часто мы с удивлением убеждаемся, что определенная
мысль, высказанная где-то как случайное замечание, в
какой-нибудь гораздо более поздней работе вдруг возникает
вновь как важный член доказательства и т. п. Это необхо-
димо понимать в том смысле, что рассуждения Зиха были
концентрическими. Он никогда не думал лишь о том пред-
мете, о котором писал. Он всегда имел в виду всю систему
своей науки и постоянно контролировал нити, соединяющие
отдельные проблемы. Он был последователем по отношению
к самому себе; развиваясь, он дополнял себя, чтобы не
отказаться в противоречии с самим собой. Отсюда то сильное
впечатление какой-то неопровержимой закономерности, ко-
торое производит на нас наследие Зиха. Только это позво-
лило ему в эпоху кризиса и переходного состояния вырасти
в значительное явление, стать важным звеном в развитии
науки.
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ
И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
I
Задача научного труда — поиски, описание и класси-
фикация материала, с которым имеет дело данная наука;
самая абстрактная цель научного исследования — установ-
ление общих законов, определяющих процессы, которые
происходят в исследуемой области. Эта методология, на
первый взгляд, может показаться в значительной степени
независимой от философии, и потому недавно миновавший
период позитивизма, когда именно науки считались наибо-
лее существенным элементом теоретического мышления,
делал систему наук основой, на которой философия как
синтез человеческого познания еще только должна была
создаваться. В эпоху, когда этот взгляд еще целиком со-
хранял свою жизненность, он был полезной реакцией на
воззрение предшествующей романтической эпохи, которая,
напротив, подчиняла науки философии: романтическая фи-
лософия нередко претендовала на новые научные открытия
путем дедукции из априорных посылок вне всякой опоры
на эмпирический материал. Но едва позитивизм высвободил
науку из подчинения философии и едва исчезла опасность
этой романтической односторонности, обнаружилась одно-
сторонность объективистской позиции: как нельзя науку
подчинить философии, так нельзя сделать ее и основой
философии — связь их взаимна. В сказанном ничего не
изменяет известный факт генетического порядка — то, что
отдельные науки отпочковались от философии лишь в про-
цессе исторического развития. С момента, когда каждая из
наук стала самостоятельным динамическим рядом, они хотя
и возвращаются вновь и вновь к созданным философией
онтологическим и гносеологическим предпосылкам, но в то
же время сами неустанно оказывают на нее обратное воз-
действие результатами своих исследований и развитием ме-
тодологии.
Структурализм и есть научный взгляд, который исходит
из этой непрерывной взаимозависимости науки и философии
254
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
и на ней основывается» Мы говорим «взгляд», чтобы избе-
жать терминов «теория» или «метод», первый из которых
означает устойчивый комплекс сведений, а второй столь же
законченный и неизменный комплекс рабочих правил»
Структурализм — это не то и не другое, это гносеологи-
ческая точка зрения, из которой, разумеется, вытекают
определенные рабочие правила и определенные сведения,
но которая существует независимо от тех и других и потому
способна развиваться в обоих этих планах. Сущность струк-
турализма лучше всего может быть продемонстрирована на
методе, каким он образует понятия и обращается с ними.
Дело в том, Что структурализм сознает принципиальную
внутреннюю взаимосвязь всей системы понятий той или
иной отрасли науки: каждое из понятий определяется всеми
остальными и само в свою очередь их определяет, так что
оно может быть более однозначно охарактеризовано местом,
которое занимает в данной системе понятий, чем перечнем
своего содержания, находящегося до тех пор, пока он этим
понятием оперирует, в состоянии постоянного изменения.
Только всесторонняя взаимосвязь придает отдельным поня-
тиям «смысл», выходящий за рамки простого ограничения
по содержанию. Поэтому понятие представляется структу-
рализму энергетическим средством постоянно обновляюще-
гося овладения действительностью, всегда способным к внут-
ренней перестройке и приспособлению. Прочная включен-
ность в общую систему понятий данной отрасли науки
позволяет ему претерпевать изменения, не утрачивая своей
идентичности; вот почему структурализм менее, чем ка-
кое-либо иное научное направление, склонен к поспешной
замене старых понятий новыми — для него более важно,
чтобы традиционные понятия наполнялись живым и не-
устанно обновляемым смыслом. В такой трактовке понятия
благодаря своей эластичности легко поддаются перенесению
из той научной области, где они возникли, в иную; тем
самым усиливается взаимная связь и деловая солидарность
отдельных отраслей науки.
Но что знаменует все сказанное для отношения науки
к философии? И это отношение,* с точки зрения структу-
рализма, обусловлено внутренней взаимосвязью системы
понятий и ее динамичностью, ибо названные свойства спо-
собствуют постоянному живому контакту науки с филосо-
фией посредством гносеологической позиции, на которой
система понятий покоится. Разумеется, вообще не сущест-
255
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
..... ----------------------- —" 1 в 1 И " —
вует научного метода, который не имел бы философских
предпосылок; если некоторые научные направления отка-
зываются обращать внимание на эти предпосылки, они тем
самым лишь отвергают сознательный контроль собственных
гносеологических оснований. В отличие от таких направ-
лений структурализм сознает опасность подобного образа
действий для самой надежности конкретных результатов
исследований. Однако отношение между наукой и филосо-
фией, как мы уже отмечали, не является односторонним:
результат конкретного исследования часто ведет к измене-
нию или даже принципиальному пересмотру самих гносе-
ологических предпосылок, с помощью которых он был по-
лучен, — и круг, таким образом, замыкается.
Итак, труд ученого-структуралиста сознательно и наме-
ренно ограничен двумя крайними пределами: с одной сто-
роны — философскими предпосылками, с другой — мате-
риалом. Но и материал находится в таком же отношении
к науке, как и философские ее предпосылки: это не просто
пассивный предмет изучения, но вместе с тем он и не до
такой степени подчиняет себе методологию науки, чтобы
безоговорочно определять ее, как были склонны считать
позитивисты. Здесь также действует принцип взаимного
предопределения. Новый материал обычно влечет за собой
смену методов научной его обработки. В данном случае
оказывается обоснованным и полезным перенесение науч-
ных понятий и исследовательских приемов из одной науки
в другую. И наоборот, чтобы те или иные факты могли
стать научным материалом, необходимо привести их в со-
отношение с системой понятий той или иной науки гипо-
тетическим предвосхищением результатов, ожидаемых от
изучения. Сами по себе факты, с точки зрения науки, не
однозначны, как явствует уже из того обстоятельства, что
одни и те же факты могут стать материалом нескольких
различных наук в зависимости от замысла, с каким при-
ступает к ним ученый. Значит, и материал, подобно фи-
лософским предпосылкам, находится одновременно и вне и
внутри науки.
Факты, вступающие в соприкосновение с той или иной
наукой как ее материал, оказываются, как уже отмечалось,
в сфере воздействия терминологической системы, чья внут-
ренняя динамическая сопряженность проецируется и на
материал в виде требования обнажить в процессе исследо-
вания взаимоотношения отдельных его элементов, прида-
256
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
ющие всему составу материала в целом единый смысл:
путем смыслового объединения материала наука приходит
к познанию структуры. В качестве смыслового единства
структура есть нечто большее, чем простое суммарное целое,
т. е. такое целое, которое возникает в результате обычного
соединения частей (ср.: Burkampf. Die Struktur der
Ganzheiten. 1929). Структурное целое знаменует каждую
из своих частей, и, наоборот, каждая из них знаменует
именно это, а не иное целое. Следующий существенный
признак структуры — ее энергетический и динамический
характер. Энергетичность структуры состоит в том, что
каждый из элементов имеет в общем единстве ту или иную
функцию, включающую его в структурное целое и связы-
вающую с ним; динамизм же структурного целого опреде-
ляется уже тем, что благодаря своему энергетическому
характеру эти отдельные функции и их взаимоотношения
подвергаются постоянным изменениям. Поэтому структура
как целое находится в постоянном движении, в отличие от
суммарного целого, которое при изменении нарушается.
Структурализм, главные принципы которого были здесь
в самом кратком виде изложены, вовсе не «изобретение»
тех или иных личностей, а исторически необходимый этап
в развитии современной науки. Вот почему распростра-
няется он довольно неравномерно, и отдельные науки
нередко приходят к структуралистским воззрениям неза-
висимо одна от другой на основе данных, к которым
каждая конкретная наука пришла в соответствующий мо-
мент и которые требуют переработки ее гносеологических
принципов в структуральном духе; таким образом, струк-
турализм возникает в наше время в научных областях,
подчас чрезвычайно отдаленных друг от друга и лишенных
прямой связи, — сейчас уже можно говорить о структу-
рализме в психологии, лингвистике, в общей эстетике, в
теории и истории отдельных видов искусства, в этногра-
фии, географии, социологии, биологии и, вероятно, еще
в ряде других наук. В самом процессе научного познания
структурализм также придает меньшее значение случай-
ным «открытиям», чем последовательному додумыванию
и развитию результатов, уже имеющихся в его распоря-
жении. В соответствии с этим несколько отступает на
второй план личность отдельного ученого и преимущест-
венное значение обретает сотрудничество, при котором
уже добытые результаты быстро становятся общим досто-
9—-883 ос?
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
янием и директивой для дальнейших исследований. И для
наук о духе становится образцом лабораторный метод,
характерный для естественных наук.
Все это помогает структурализму чутко реагировать на
запросы развития, о чем уже упоминалось: работники
связаны друг с другом лишь общей гносеологической ос-
новой, которая не препятствует ни разнообразию инди-
видуальной методологии, ни свободному обхождению с
общепринятыми выводами. Поэтому ни в одной из наук
структурализм не является всего лишь инструментом, ко-
торым можно почти механически воспользоваться при ре-
шении определенных проблем, но который совершенно
непригоден для решения других проблем. Так, например,
в истории и теории литературы и искусства как структуры
понимаются не только само художественное построение и
его развитие, но и отношение этой структуры к иным
явлениям, главным образом — психологическим и обще-
ственным. И каждый из рядов этих явлений представля-
ется структурой, а его связи с исследуемым рядом носят
характер структурной взаимности, ибо отдельные ряды
явлений соединяются в структуры высшего порядка. По-
мимо этого, каждый внешний импульс, имеющий истоки
в ином ряду явлений, выступает внутри изучаемой струк-
туры как фактор ее имманентного развития; так, напри-
мер, импульс к определенному динамическому изменению
в искусстве, даже если истоки его лежат в общественном
процессе, проявится лишь в такой степени и в таком
направлении, как того требует предшествовавший этап
развития искусства.
После этих вводных замечаний мы в качестве двух
конкретных примеров структурального понимания науки
попытаемся, разумеется лишь в самых общих чертах, об-
рисовать структурализм в эстетике и в литературоведении.
Поскольку первая из названных наук общей значимостью
своих проблем близка философии и отчасти — в той мере,
в какой она занимается общими проблемами гносеологии
эстетического, — является даже ее составной частью, а
вторая, подчиненная первой, наоборот, — наука конкретная,
имеющая дело непосредственно с материалом, можно по-
лагать, что в процессе обозрения их структурализм будет
охарактеризован во всей широте своего диапазона, хотя и
только в одной научной области.
258
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
II
Структуральная эстетика принадлежит к числу объек-
тивных направлений, иначе говоря, таких, которые в ка-
честве отправной точки исследования (но ни в коем случае
не в качестве единственной его цели) принимают эстети-
ческий объект, т. е. художественное произведение, пони-
маемое, разумеется, отнюдь не в материальном смысле, а
как внешнее проявление нематериальной структуры — ди-
намического равновесия сил, представленных отдельными
элементами. Динамизм художественной структуры основан
на том, что одна часть ее элементов всегда сохраняет со-
стояние, установленное традициями ближайшего прошлого,
в то время как другая — это состояние нарушает; таким
образом возникает напряжение, требующее урегулирования,
т. е. новых дальнейших изменений художественной струк-
туры. Хотя каждое художественное произведение само по
себе является структурой, художественная структура не
представляет собой свойство отдельного произведения, а
пребывает во времени, переходя в процессе его разверты-
вания от произведения к произведению и постоянно при
этом меняясь; изменения заключаются в непрестанной пе-
регруппировке взаимных связей и относительной значимо-
сти отдельных элементов. На первый план всегда выступают
те из них, которые эстетически актуализированы, т. е. на-
ходятся в противоречии с предшествующим состоянием ху-
дожественного канона. Другая группа, состоящая из эле-
ментов, подчиняющихся ранее действовавшему канону, об-
разует фон, на котором выделяется и становится более
заметной актуализация элементов первой группы. Естест-
венно, что в процессе развития отдельные элементы в этих
группах меняются местами, — отсюда и перегруппировка
целого.
Такой представляется художественная структура с точки
зрения структуральной эстетики. Становится очевидным,
что с этой позиции лишается прежней значительности раз-
личие, которое делалось до сих пор между формой и со-
держанием художественного произведения; так, например,
в произведении живописи цвет является не только смыс-
ловой характеристикой, но одновременно и носителем ка-
кого-то, пусть даже неопределенного значения (которое,
разумеется, в известных случаях может приобрести и до-
статочную определенность, ср. например, средневековую
259
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
символику цветов и ее следствия для живописи); напротив,
изображенный предмет есть не только «содержание» (т. е.
сложная смысловая единица), но и «форма», т. е. составная
часть оптической композиции картины, которая влияет как
на смысловое включение этого предмета в общую тему
картины, так и на его расположение на определенном уча-
стке живописной плоскости и т. д. Вместо парных понятий
«содержание» — «форма» все большее значение в структу-
ральной эстетике приобретает пара «материал» — «худо-
жественный прием» (т. е. способ художественного исполь-
зования свойств материала). Материал действительно входит
в произведение извне и по существу своему независим от
художественного использования: таковы красящие вещества
и грунт в живописи, камень, металл и т. д. в скульптуре
и архитектуре, личность актера в театральном и слово в
поэтическом искусстве; несколько иную роль играет в ка-
честве материала музыки звук, хотя он и представляет
собой акустическое явление и в этом смысле опять-таки
существует вне искусства, но уже вследствие неизбежной
включенности в тональную систему в самой основе тесно
связан с искусством. В отличие от материала, художест-
венный *прием неотделим от художественной структуры,
собственно, он и есть лишь проявление -ее отношения к
материалу.
Следующий характерный признак структуральной эсте-
тики — ее ориентация на знак и значение. Знаком, по-
средничающим между художником и воспринимающим, это
научное воззрение считает в первую очередь художествен-
ное произведение в целом и само по себе; отсюда — но в
ином смысле, чем у Кроче, видевшего в искусстве и языке
прямое выражение личности, — сближение эстетики с лин-
гвистикой как с наукой о самом основном виде знаков —
человеческой речи. Благодаря своему знаковому характеру
художественное произведение не соответствует полностью
ни тому психическому состоянию автора, из которого оно
возникло, ни тому состоянию, которое оно вызывает у
воспринимающего; психические состояния, с которыми оно
таким образом вступает активно или пассивно в контакт,
всегда содержат — помимо очертания данных художествен-
ных произведений — еще и элементы индивидуальные,
неповторимые и, с точки зрения объективной (т. е. над-
личностной) эстетической структуры, случайные. А то из
психического состояния автора, что мы обнаруживаем в
260
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
художественном произведении объективированным как ав-
торское «переживание», является уже смысловой единицей,
накрепко вошедшей во всю систему художественного по-
строения; только так могут быть объяснены довольно частые
случаи «предвосхищения» переживаний творчеством, т. е.
случаи, когда автор прежде художественно разработает оп-
ределенную ситуацию, а затем уже переживает ее в дей-
ствительности. «Я», субъект; который хотя и самыми раз-
личными способами, но как-то проявляет себя во всяком
искусстве и во всяком произведении, также не тождествен
какому-либо конкретному психофизическому индивиду, в
том числе и самому автору. Это лишь точка, в которой
сходятся все нити и по отношению к которой строится вся
художественная конструкция произведения, но в которую
может быть спроецирована любая личность — будь то лич-
ность воспринимающего («переживание» произведения вос-
принимающим) или автора.
Этим для структуральной эстетики определяется и путь
к решению проблемы индивидуальности в искусстве*, струк-
туральную эстетику значительно меньше интересует про-
блема генезиса авторского индивида, чем проблема функции
авторской индивидуальности как фактора художественного
процесса в целом, как фактора развития художественной
структуры. Таким фактором в свете данного понимания
является не только индивидуальность автора, но также
индивидуальность воспринимающего, часто активно вмеши-
вающегося в развитие искусства в качестве мецената, за-
казчика, критика, издателя и т. д.; даже в том случае,
когда индивидуальность воспринимающего лишь посредни-
чает между искусством и публикой, как, например, инди-
видуальность директора музея изобразительных искусств,
библиотекаря, торговца художественными предметами и т.
п., деятельность ее может до известной степени активно
влиять на развитие искусства.
Однако индивидуальным фактором является не только
отдельный индивид, но и группа личностей, например ху-
дожественная школа, поколение или даже целый опреде-
ленный коллектив, например нация, когда речь идет о ее
творческом участии в общем развитии искусства. Коллек-
тивный индивид может также состоять только из воспри-
нимающих: им становится публика, одинаково реагирующая
на художественное произведение. Подобная одинаковая ре-
акция публики известна по собственному опыту главным
261
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
образом театральным деятелям, актерам и режиссерам, ко-
торые во время спектакля прислушиваются к этой реакции,
нередко несхожей с реакцией на непосредственно предше-
ствовавшее представление той же пьесы и потому облада-
ющей признаками индивидуальности; характер реакции
публики в тот или иной день влияет на игру актеров:
публика «несет» актера или, напротив, тормозит его работу.
Такое активное соучастие публики как коллективного ин-
дивида проявляется, безусловно, и в других видах искусства;
только в театре оно чувствуется интенсивней. О публике
изобразительного искусства Бодлер писал в рассуждении о
Салоне 1859 года («Curiosites esthetiques», 1889, р. 257):
«Публика и художник — инстанции взаимозависимые и
действуют они друг на друга с одинаковой силой: если
художник оглупляет публику, публика платит ему той же
монетой». Что касается литературы, то известно, до какой
степени успех или неуспех произведения у публики огут
повлиять на дальнейшее творчество поэта: так, например,
популярность, которую снискал тот или иной роман, зача-
стую заставляет автора придерживаться тех же приемов, а
порой и тех же персонажей и того же сюжета в нескольких
последующих произведениях. Таким образом, коллективный
индивид в развитии искусства столь же реален, как и
индивид-личность. В качестве индивидуального фактора мо-
жет выступать и оказывать активное воздействие и неживой
предмет, т. е. художественное произведение, если своей уни-
кальностью он явственно отличается от современного твор-
чества и влияет на дальнейшее развитие именно этой своей
уникальностью. Правда, уникальность произведения — не-
редко вещь довольно относительная, поскольку особенности
творения, кажущиеся менее информированному восприни-
мающему уникальными, могут быть для знатока признаком
целой эпохи или художественного жанра.
Что касается взаимоотношения между творящим инди-
видуумом и надличностным развитием искусства, то это
отношение, именно в силу того, что по существу своему
оно функционально, в значительной мере качественно пред-
определено предшествующим развитием. Дело в том, что
известное состояние развития структуры требует для своего
преобразования определенным способом организованных ин-
дивидов, а индивиды, организованные иначе, в данный мо-
мент развития нежелательны; поэтому они обычно бывают
отстранены от основного пути развития Все это, разумеется
262
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
настолько сложно, что иногда — например, как раз в XIX ве-
ке — эти «проклятые» художники, казалось бы, рассеянные
поодиночке вдоль русла развития, все вместе могут соста-
вить весьма последовательную линию, не менее существен-
ную, чем главное течение, а в известном смысле и более
существенную для будущего. Следовательно, даже художе-
ственное дарование не является исключительно делом самого
индивида, а связано с функцией, которая предначертана
индивиду объективным развитием структуры. Понимание
художественного произведения как знака, именно благодаря
тому, что оно освобождает произведение от однозначной
подчиненности личности автора, открывает, таким образом,
перед эстетикой широкие горизонты в проблематике инди-
вида в искусстве.
Однако художественное произведение для структураль-
ной эстетики является знаком не. только в отношении к
индивиду, но и в отношении к обществу; а это значит,
что проблематика отношений между искусством и обще-
ством также нуждается в пересмотре. Прежде всего не-
обходимо напомнить, что развитие художественной струк-
туры непрерывно и подчинено внутренней закономерности:
художественная структура развивается сама собой, «само-
движением» — уже одно это не позволяет понимать ее
изменения в процессе развития как безоговорочные и пря-
мые следствия эволюции общества. Всякое изменение ху-
дожественной структуры, разумеется, каким-то образом
инициировано (мотивировано) извне, являясь результатом
либо непосредственного развития общества, либо развития
какой-нибудь из областей культуры (наука, экономика,
политика, язык и т.п.), которые, безусловно, так же, как
и само искусство, движимы общественным бытием; но
способ ликвидации данного внешнего импульса и направ-
ление, в котором он окажет воздействие на эволюцию
-искусства, будут вытекать из предпосылок, заключенных
в самой художественной структуре (имманентная эволю-
ция). Контакт искусства с обществом, с его организацией
и его продуктами непрерывен и, как факт и требование,
содержится уже в самом творческом акте: художник —
член общества, он входит в определенную общественную
среду (слой, сословие и т. д.) и творит неизбежно для
других, для публики, а тем самым и для общества. И если
существуют случаи, когда художник декларативно отвер-
гал публику, это было лишь потому, что он мечтал о
263
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
другой публике — или публике будущего (Стендаль), иди
публике воображаемой (символисты).
Тем не менее взаимоотношения между художником и
обществом не носят механически каузального характера и
потому нельзя утверждать, что именно таким-то и таким-то
формам общественной организации безусловно соответству-
ют такие-то и такие формы художественного творчества;
неверно также выводить из общественной организации лишь
отдельные элементы художественного произведения, причем
главным образом содержание, ибо и применительно к об-
ществу художественная структура проявляет себя как целое.
Отношение между искусством и обществом эмпирически
выглядит крайне изменчивым: так, например, мы видим в
XIX веке, как художественные направления — реализм,
натурализм, импрессионизм, символизм и т. п. — распро-
страняются по Европе, от нации к нации, хотя состояние
общественной организации у каждой из этих наций весьма
неравномерно и даже представляет различные этапы раз-
вития. Определенное общество — пусть то будет какой-либо
слой или целая нация — иной раз может «узнать» само
себя в произведении, возникшем в другой среде, подчас
вовсе чуждой данному обществу, явственнее, чем в произ-
ведениях авторов, принадлежащих этому обществу
(Hennequin Е. Les ecrivains francises. Чешек, neg. Шальды
под названием: «Spisovatel£ ve Francii zdomacneli» 1896).
Определенное состояние художественной структуры может
также пережить создавшую его эпоху и служить выраже-
нием нового общества, отличного от того, в котором оно
возникло; ср. древнехристианское искусство, пользующееся
для своих целей творческими средствами и темами антич-
ного искусства. Все это объясняется лишь тем, что по
отношению к обществу, так же как и по отношению к
индивиду, художественное произведение есть знак, который
хотя и выражает свойства и состояние общества, но не
является автоматическим следствием его состояния и орга-
низации: если бы не существовало других данных, мы не
могли бы из определенного состояния общества ни одно-
значно вывести искусство, этому обществу соответствующее,
ни, наоборот, познать общество только через искусство,
которое оно породило или признало своим.
Это, конечно, не означает, что отношения между ис-
кусством и обществом не имеют достаточно важного зна-
чения для развития и той и другой стороны: общество
264
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
хочет, чтобы искусство его выражало (Baudelaire.
«Curiosites esthetiques», р. 322: «Общество, которое страстно
любит свое собственное изображение, любит, причем отнюдь
не половинчато, и художника, которому оно такое изобра-
жение доверяет создать»), а искусство, наоборот, хочет
оказывать влияние на общественные процессы. Если пере-
весит стремление общества влиять на искусство, возникает
руководимое искусство; если же, напротив, перевесит стрем-
ление искусства воздействовать на общество, речь идет об
искусстве тенденциозном. Но вовсе не обязателен постоян-
ный перевес одной из двух крайностей: согласие между
искусством и обществом может быть до такой степени пол-
ным, что взаимное напряжение исчезает; в подобных слу-
чаях художественное творчество, как правило, оказывается
в одном ряду с остальными человеческими профессиями и
не претендует на какое-то особое место среди них (ср.
средневековое положение художников в одном ряду с ос-
тальными ремесленными цехами). Поэтому, если возникает
желание установить согласие между искусством и обще-
ством, одновременно проявляется стремление воспринимать
художественное творчество по образу и подобию творчества
ремесленного, в некоторых же случаях~и по образцу про-
мышленного производства. Лозунг приобщения к искусству
всех жизненных проявлений человека сопровождался во 2-й
половине XIX века воскрешением художественного ремесла,
а послевоенная эпоха, в которую вновь проявилась жажда
гармонии между искусством и обществом, перенесла на
искусство понятия «потребление» и «общественный заказ».
Существуют, однако, и времена, когда активный взаимный
контакт искусства с обществом нарушается или самонару-
шается (искусство для искусства); но и в этом случае не
исчезает их нерасторжимая взаимосвязь и само их стрем-
ление к взаимному, отчуждению становится немаловажным
симптомом состояния искусства и общества.
Общественное расслоение находят аналогию и в области
искусства. Подобно тому как общество расчленено по вер-
тикали (общественный слой) и по горизонтали (обществен-
ная среда), так и в искусстве различаются образования
«высшие», «низшие» и равнозначные. Например, в совре-
менной поэзии вертикальная шкала простирается от «ли-
тературной» поэзии до куплета кабаре или затасканной
уличной песенки; по горизонтали можно считать равно-
значными, например^ литературу городскую и деревенскую.
265
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Как равнозначные выступают также литературные направ-
ления и школы, хотя и возникшие в разные эпохи, но в
настоящее время «живые» в восприятии читателей, а иногда
и с точки зрения поэтического творчества. У нас в совре-
менную эпоху таким образом скоординированы поэтические
направления, начиная примерно со школы майовцев2 и
кончая направлениями ныне существующими, — разуме-
ется, и с этой стороны есть различия между читателями и
авторами разных поколений, разного уровня образованно-
сти, разных профессий и т. д.
Между расслоением искусства и общества существует,
однако, не только сходство, но и взаимосвязь: определенные
разновидности общественной среды связаны с определенны-
ми «этажами» литературы, определенные поколения вос-
принимающих и авторов с определенными художественными
направлениями и т. д. Но и это отношение носит, скорее,
знаковый, чем однозначно каузальный характер: если из-
вестный тип художественного творчества свойствен извест-
ному слою или среде, это отнюдь не значит, что предста-
вителям данного слоя или среды будут недоступны иные
типы художественного творчества или, наоборот, что ис-
кусство, связанное с известным слоем, полностью исключено
из восприятия людей, принадлежащих к иным слоям об-
щества: здесь, скорее, существует постоянный обмен цен-
ностями, который является могучим фактором художест-
венного развития. Если при этом определенный художест-
венный прием или целое художественное произведение
переходят из общественной среды, с которой они были
генетически связаны, в иную, то тем самым существенно
изменяются и его функция и смысл.
И сама связь искусства с обществом не бывает непос-
редственной, а осуществляется, как уже говорилось, по-
средством публики, т. е. определенного сообщества, а не
посредством общественной группы в целом. Участников та-
кого сообщества объединяет большая сравнительно с другими
современниками способность адекватно воспринимать опре-
деленный вид художественных знаков (например, знаки
поэтические, музыкальные и т. д.), что доказывается необ-
ходимостью специального воспитания, чтобы индивид мог
войти в состав публики конкретного вида искусства.
Знаковый характер искусства сказывается не только в
его контактах с внешним миром, но и в строении самой
художественной структуры. Уже отмечалось, что каждый
266
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
элемент художественного произведения является носителем
определенного частичного значения; сумма таких частичных
значений, объединяющихся в подразделения все более вы-
сокого порядка, и составляет художественное произведение
как сложное смысловое целое. Знаковый и смысловой ха-
рактер художественного произведения в его частях и в
целом становится наиболее явственным в так называемых
«временных» искусствах, т. е. таких, восприятие которых
протекает во времени: пока восприятие не закончено, пока
композиция произведения не присутствует в сознании вос-
принимающего как целое, воспринимающий не может с
уверенностью судить о смысле и значении отдельных частей.
Итак, все в художественном произведении и его отношении
к Окружающему представляется с точки зрения структу-
ральной эстетики знаком и значением; в этом смысле она
может считаться составной частью общей науки о знаке,
или семиологии.
Что касается материала, с которым имеет дело струк-
туральная эстетика, как, впрочем, и эстетика вообще, то
его дают все виды искусства. Комплекс всех видов искусства
образует z структуру высшего порядка. Поэтому основное
методологическое правило требует, чтобы каждая проблема,
даже касающаяся, на первый взгляд, лишь одного вида
искусства, в виде опыта рассматривалась с помощью срав-
нительного анализа и применительно к другим видам ис-
кусства; при этом очень часто выясняется, что вопрос,
казавшийся более или менее специальным, представляет
собой общехудожественный интерес. Например, поэтиче-
ский образ (метафора, метонимия, синекдоха) имеет нема-
ловажное значение и для теории иных видов искусства, в
частности для живописи и кино. Существуют, разумеется,
и проблемы, которые безусловно затрагивают все виды ис-
кусства. Таковы, например, проблемы эстетической функ-
ции, ценности, нормы, вопрос об отношении между искус-
ством и обществом, проблема знака в искусстве и т. д. Но
и эти проблемы в различных видах искусства выглядят
по-разному, и общее их решение невозможно без учета
этого разнообразия, ибо лишь такой учет выявляет все
аспекты проблемы. Есть, наконец, вопросы, непосредственно
вытекающие из взаимоотношений отдельных искусств, ка-
кова, например, проблема транспозиции темы из одного
вида искусства в другой (например, из эпической поэзии
в кино или живопись); сюда же относятся и проблемы
267
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
иллюстрации, причем связь между иллюстрирующим и ил-
люстрируемым не обязательно ограничивается тематикой.
В сравнительную теорию искусства входят проблемы,
затрагивающие сам процесс развития. Они обусловлены
тем, что отдельные виды искусства, являясь элементами
единой структуры высшего порядка, вступают в отношения,
которые носят характер согласия или взаимоотрицания.
В каждый период развития эти отношений складываются
по-разному. Так, например, иногда лирическая поэзия ока-
зывается в тесном соседстве с музыкой (символизм), иногда
с живописью (парнасцы). Контакт двух искусств порой
может быть активным то с одной, то с другой стороны
(активность поэзии по отношению к музыке проявилась в
i эпоху программной музыки, активность музыки по отно-
шению к поэзии вскоре после того — в эпоху символизма).
В какой-то мере это звучит парадоксально, но есть все
основания утверждать, что история каждого из искусств
может быть описана как последовательный перечень его
временных связей с другими видами искусства. К пробле-
матике развития общей структуры всех искусств относится
также историческая изменчивость их номенклатуры: ис-
кусств становится то больше (например, в последние деся-
тилетия к ним прибавилось кино), то меньше (например,
пиротехнику в XVIII веке считали родом искусства). Есте-
ственно, что всякое подобное изменение влияет на распо-
ложение сил в общей структуре художественного творчества.
Таким образом, искусство как целое находится в постоянном
движении — и даже история отдельных видов искусства не
может проходить мимо этого основополагающего по своему
значению факта. Впрочем, с точки зрения сложности про-
цесса нет резкой грани между развитием отдельного вида
искусства и общим развитием всех искусств; переходную
ступень в этом плане представляет собой театральное ис-
кусство, каждый из элементов которого в значительной
мере или даже полностью является самостоятельным видом
искусства (актерское искусство, поэтическое искусство, Му-
зыка, оформление сцены, освещение и т. д. — и над всем
этим режиссура).
Итак, структуральная эстетика не может разрешить ни
один из своих вопросов, не обращаясь к постоянному срав-
нению. И в этом смысле должно быть дополнено ранее
приведенное ее определение: ее сущность и назначение —
стремиться к созданию системы и метода сравнительной
268
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
семиологии искусства. Необходимо, наконец, добавить, что
интерес структуральной эстетики к сравнительному изуче-
нию не исчерпывается лишь искусством, ибо эстетическое,
являющееся одним из основных отношений человека к дей-
ствительности (наряду с отношением практическим и тео-
ретическим), потенциально присутствует в каждом виде
человеческой деятельности и потенциально содержится в
каждом человеческом творении. Для структуральной эсте-
тики из этого вытекает необходимость уделять внимание
постоянному контакту трех сфер — художественной и од-
новременно эстетической, внехудожественной и внеэстети-
ческой — и взаимному напряжению между ними, воздей-
ствующему на развитие каждой из них (ср. например,
проникновение искусства в жизненную практику в области
рекламы, одежды, спорта и т. д. и, наоборот, проникновение
жизненной практики в искусство, в частности в архитектуре
или в тенденциозной поэзии).
Хотя возникновение структуральной эстетики относится
к недавнему времени, корни ее следует искать в достаточно
далеком прошлом и самой эстетики и философии, а также,
наконец, в лингвистике как наиболее разработанной в на-
стоящую пору отрасли науки о знаке. Среди эстетических
предзнаменований этого направления на первом месте на-
зовем гербартовскую эстетику. Ее чешские приверженцы
Й. Дурдик и О. Гостинский подготовили дорогу, идя по
которой ученик Гостинского О. Зих в последних своих ра-
ботах приблизился к структуралистской концепции. Это
отечественное чешское развитие получило дополнительный
импульс и было методологически углублено вследствие кон-
такта с русским формализмом. Но оно пошло дальше в
первую очередь благодаря разработке понятия структуры
как комплекса знаков. Из современных немецких эстетиков
на первоначальное развитие структурализма оказал влияние
Б. Христиансен. К важным эстетическим предзнаменова-
ниям структуральной эстетики, вошедшим в нее как со-
ставная часть, можно отнести и многочисленные теорети-
ческие выступления представителей искусства, начиная с
символизма в поэзии, импрессионизма в живописи, функ-
ционализма в архитектуре. Философские предпосылки под-
готовила прежде всего философия Гегеля (диалектическое
понимание внутренних противоречий в структуре и самого
процесса ее развития) и замечания Гуссерля4 и Бюлера о
строении знака вообще и языкового в особенности. Из работ
269
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
по истории искусств и ее методологии стоит упомянуть
главным образом труды М. Дворжака5, раскрывающие гно-
сеологическое значение художественного построения про-
изведения изобразительного искусства. В лингвистическом
плане структуральная эстетика опирается на труды А. Мар-
ти6, В. Матезиуса7, А. Мейе, Ф. де Соссюра, как и женев-
ской школы в целом, и Й. Зубатого8. В настоящее время
развитие структуральной эстетики представляет собой яв-
ление чешской науки. Хотя частичные соответствия струк-
туральной эстетике имеются и у других народов, однако
нигде развитие их не достигло столь же последовательной
продуманности методологических основ; кроме того, в дру-
гих странах проблемы художественных структур не были
поняты как проблемы знака и значения.
111
В качестве примера специальной теории искусства, по-
нятой структуралистски, мы попытаемся обрисовать основ-
ные принципы структуральной теории литературы. По-
скольку теория литературы — это отрасль эстетики, все,
что было сказано в предыдущей главе о структуральном
изучении искусства, относится и к ней и не нуждается в
повторении. Из комплекса теорий отдельных искусств к
настоящему времени наука о литературе разработана в
структуральном смысле наиболее систематично; в ней также
нагляднее всего представлены проблемы знака и значения,
принципиально важные для эстетического структурализма
вообще. Особое значение для структуральной теории лите-
ратуры имеют вопросы художественного материала, кото-
рым в поэтизации является язык, главная из знаковых
систем, созданных человеком, система, на которой основано
отношение человека как общественного существа ко всему
окружающему его миру природы и культуры.
Поэтический язык — одно из функциональных языко-
вых образований, отличающееся от остальных тем, что
пользуется языковыми средствами в смысле эстетической
самоцельности, а отнюдь не с коммуникативной целью; но
поскольку сами средства выражения происходят в большин-
стве случаев из коммуникативного языка и поскольку опять-
таки поэтический язык оказывает на коммуникативный
язык обратное влияние, структуральное литературоведение
занимается не только поэтическим языком, но и отношением
270
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
этого языка к языку коммуникативному как ак целому и к
отдельным его функциональным аспектам, в\особенности
же к литературному языку, с развитием которого тесно
связан язык поэтический. Отсюда непосредственный контакт
структуральной науки о литературе с функциональной лин-
гвистикой, которая, собственно, только и сделала возмож-
ным возникновение структурального изучения литературы.
Поэтический язык занимает внутри структуры поэтиче-
ского произведения центральное положение, и в поэтиче-
ском языке отражаются все проблемы поэтического искус-
ства, причем не только стихотворной поэзии, но и поэти-
ческой прозы; так, например, сама история романа и
рассказа, коль скоро она предполагает охватить развитие
Этих жанров как непрерывную линию, определяемую внут-
ренней закономерностью поэтической структуры, непремен-
но должна будет взять в качестве исходной точки развитие
смыслового построения, которое, разумеется, имеет свои
корни в языке и более всего связано с предложением как
основной смысловой конструкцией и с ее развитием. Точно
так же и жанровые различия более явственно отражаются
в материале поэзии, чем в материале других видов искус-
ства; жанр здесь обнаженно предстает как сложный комп-
лекс множества различных формообразующих средств (а не
только как определенная тематическая область), и языковые
элементы играют значительную роль в этой его структуре.
С языком тесно связан также поэтический ритм, про-
блемы которого вообще не могут быть теоретически решены
без учета особенностей языка, который в данном случае
составляет основу просодии, однако взаимоотношение между
поэтическим ритмом и языковой системой не является для
структурального литературоведения столь однозначным, как
предполагала старая метрика (Й. Краль9, считавшая, что
для данного конкретного языка пригодна лишь одна про-
содия; и это отношение развивается, и видоизменяется про-
содическая основа. Внутри поэтического произведения ритм
проявляет себя таким образом, что пронизывает всю струк-
туру и овладевает всеми ее элементами, начиная со зву-
ковых и кончая сложнейшим смысловым элементом — те-
мой; исходя из этой предпосылки, литературоведение по-
нимает ритм как неотъемлемую составную часть структуры
поэтического произведения и мощного катализатора проис-
ходящих в ней изменений. И субъект художественного про-
изведения в поэзии теснее связан с материалом, чем в иных
271
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
видах искусства. Дело в том, что он может здесь быть
прямо выражен языковыми средствами (личные и притя-
жательные^местоимения первого лица, первое лицо глагола
и т. д.); трчно так же и реализация субъекта в произведении
эпическом или драматическом — «персонаж» или «фигу-
ра» — связана обычно с языком посредством своего наи-
менования, представляющего кристаллизационный стер-
жень действующего лица. В этом смысле поэтический субъ-
ект является составной частью языковой проблематики
поэтического произведения, а персонаж встает в ряд проблем
поэтического наименования, т. е. актуального применения
языкового знака как такового.
Так мы подходим к проблематике значения, которая не
ограничивается лишь значением, непосредственно выражен-
ным языковым знаком (слово, предложение), но и в случае,
когда касается смысловых единиц самого высокого порядка
(темы и ее элементов), тесно связана с языком; из вопросов
смысловой значимости в поэзии особенно важны те, которые
затрагивают наименование и контекст в их взаимополяр-
ности; когда эти вопросы будут подробно разработаны те-
орией поэтического искусства, можно будет использовать
полученные здесь выводы и для познания смыслового по-
строения в других искусствах, особенно в живописи и кино.
И для изучения философской значимости художественного
произведения в разрезе структурального литературоведения
поэтическое искусство предоставляет богатые возможности
как потому, что является искусством тематическим, так и
потому, что его материал — язык. Дело в том, что здесь
можно параллельно изучать и сопоставлять несколько спо-
собов выражения мировоззрения поэта в произведении: с
одной стороны, оно прямо высказано идейным содержанием
произведения, с другой — выявляется косвенно и образно
в его теме и, наконец, скрыто содержится в выборе й
использовании средств выражения.
Сложный облик принимают в структуральной теории
литературы вопросы методологии изучения процессов раз-
вития поэтического искусства: в теории музыки, например,
принцип имманентности (т. е. «самодвижения» структуры
в развитии) напрашивается почти сам собой в силу атема-
тичности этого вида искусства и его относительной изоли-
рованности от практических зависимостей; в живописи, ко-
торая благодаря своей принципиальной тематичности го-
раздо прочнее вклинена в общественно-культурный
272
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
контекст, изучать имманентное развитие уже куда труднее;
в теории же литературы путь к такому изучению самый
нелегкий, но именно поэтому и самый плодотворный; труд-
ность его состоит в том, что здесь к тематичности прибав-
ляется еще идейный (рефлексивный) элемент, включающий
литературу — наряду с зависимостью от общего развития
культуры — ив историю человеческого мышления. Из-за
своей сложности методология структуральной истории ли-
тературы, создание которой составляет одну из задач струк-
туральной теории литературы, до сих пор полностью не
разработана, хотя основной ее принцип уже ясен. Делались
и делаются попытки создать историю лирики, опираясь на
развитие поэтического ритма, и историю эпической прозы,
опираясь на развитие конструкции предложения; при этом
ставится цель проверить конструктивную прочность эле-
ментов, пригодных к тому, чтобы стать стержнями струк-
туральной истории литературы, т. е. таких элементов, зна-
чение которых не ограничивалось бы лишь внутренним
развитием самой поэтической структуры, но и включало
бы в структуральном смысле — т. е. как взаимодействие —
отношение между развивающейся литературой и остальны-
ми явлениями культуры.
Итак, структуральная теория литературы, стремясь к
обновлению историко-литературной методологии, не только
не хочет сужать прежней проблематики этой науки, но и
хочет охватить эту проблематику с единой и объединяющей
точки зрения самой развивающейся литературы. Специфич-
ным для структурального литературоведения является, на-
конец, и метод, с помощью которого оно рассматривает
отношение между произведением поэта и жизнью. В от-
личие от современных направлений, истолковывающих про-
изведение как прямое отражение жизни поэта, особенно
его внутренней жизни, в соответствии со своим общим
тезисом о знаковом характере художественного творения
оно сознает, что отношение между произведением поэта и
жизнью носит характер взаимосвязи, а не характер одно-
сторонней зависимости; тут даже существует известная по-
лярность в том смысле, что жизнь, воспринятая как худо-
жественный факт, является противоположным полюсом по
отношению к творчеству поэта, а произведение, воспринятое
как жизненный факт, наоборот, становится нереализован-
ным полюсом жизни поэта. — Таковы главные черты,
определяющие своеобразие структуральной науки о лите-
273
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ратуре по сравнению с другими теориями отдельных видов
искусства; те черты, которые отличают ее от иных направ-
лений литературоведения, но свойственны всей структу-
ральной эстетике в целом, уже были охарактеризованы в
разделе, посвященном этой науке.
Что касается генезиса структуральной теории литерату-
ры, то ее разработка в целостную систему характерна для
устремлений чешской науки, хотя родственные явления
можно найти также и в иных научных литературах. Корни,
из которых вырастает чешское структуральное литературо-
ведение, часто уходят в довольно далекое прошлое, особенно
коль скоро это касается как раз изучения поэтического
языка. Уже у Й. Юнгмана мы обнаруживаем осознание
специфического характера поэтического языка, и теорети-
ческий интерес к этому языку с той поры не ослабевал,
так что, например, поэтики двух чешских эстетиков, про-
шедших естественнонаучную выучку, а именно Й. Дурдика
и после него О. Зиха, ставят поэтический язык в центр
v своего интереса, хотя это и противоречит первоначальной
научной подготовке авторов. Точно так же создатель со-
временной чешской критики Ф. К. Шальда основал наиболее
значительные из своих анализов отдельных поэтических
явлений на разборе присущих им средств языкового выра-
жения. Чешская метрика, главным образом в руках самого
систематического своего пестователя Й. Краля, интенсивно
ощущает связь поэтического ритма с языком. Один из круп-
нейших чешских языковедов Й. Зубатый в обширном ис-
следовании занимался поэтическим языком латышских и
литовских народных песен. В последние десятилетия внесли
свою инициативу в изучение поэтического языка и неко-
торые историки литературы, особенно (перед первой миро-
вой войной) Арне Новак. Таким образом, почва была уже
подготовлена, когда в послевоенную эпоху в Пражском
лингвистическом кружке начало развиваться структураль-
ное изучение литературы, хотя тоже исходящее из поэти-
ческого языка, но не ограничивающееся им, а применяющее
лингвистические методы ко всей проблематике литературо-
ведения.
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
Я хочу бросить довольно беглый взгляд на современное
состояние чехословацкой теории искусства, не ставя перед
собой задачи дать библиографический перечень соответст-
вующих работ или характеристику вклада отдельных уче-
ных и тем более не пытаясь обозреть чехословацкую теорию
искусства во всей ее широте. Как я полагаю, самое полезное
из того, что я могу сделать в предстоящем кратком сооб-
щении, это несколько подробнее остановиться на понятии,
которое кажется мне характерным для современного состо-
яния чехословацкой теории искусства, а именно на понятии
структуры. Это понятие дало название структурализму,
методологическому направлению, которое опирается в своем
развитии на отечественные предпосылки и одновременно,
разумеется, на импульсы современной мировой философии,
языкознания и теории искусства. Пользуясь словом «струк-
турализм», мы не забываем, что подобные же (хотя и не
всегда тождественные) течения существуют и в других об-
ластях науки. Теснее всего структуральная теория искусства
связана с лингвистикой, как ее понимает Пражский линг-
вистический кружок: развитием фонологии лингвистика
указала теории литературы путь к изучению звуковой сто-
роны словесного художественного произведения, анализом
функций она открыла новые перспективы для исследования
стилистики поэтического языка и, наконец, акцентирова-
нием знакового характера языка сделала возможным пони-
мание художественного произведения как знака.
Разумеется, прежде всего нужно сказать, что именно
наша теория искусства понимает под структурой. Структура
обычно определяется как целое, части которого, вступая в
него, обретают специфический характер. Принято говорить,
что целое есть нечто большее, чем сумма частей, его со-
ставляющих. Однако, с точки зрения понятия структуры,
это определение слишком широко, ибо включает в себя не
только структуры в собственном смысле слова, но, например,
и «формообразования» (Gestalten), которыми занимается
гештальтпсихология1. Поэтому в понятии художественной
структуры мы подчеркиваем признак более специальный,
275
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
чем простая соотносительность целого и частей. Специфи-
ческим свойством структуры в искусстве мы считаем вза-
имоотношения между ее элементами, взаимоотношения ди-
намические по самому своему существу. В нашем понимании
структурой может считаться лишь такой комплекс элемен-
тов, внутреннее равновесие которого непрестанно наруша-
ется и снова создается и единство которого представляется
нам поэтому комплексом диалектических противоположно-
стей. На протяжении времени сохраняется лишь тождест-
венность структуры, между тем как внутренний ее состав,
взаимосвязь ее элементов непрерывно изменяются. В своих
взаимоотношениях отдельные элементы постоянно стремят-
ся подчинить себе друг друга, каждый из них проявляет
тенденцию развиться за счет других; иными словами, вза-
имоподчинение элементов, их иерархия (которая есть не
что иное, как проявление внутреннего единства произведе-
ния) находится в состоянии непрерывной перегруппировки.
Те из элементов, которые при этом временно выдвигаются
на первый план, имеют решающее значение для общего
смысла художественной структуры, постоянно изменяющей-
ся в результате их перегруппировки.
Но что представляется нам в искусстве структурой?
Структура — это прежде всего каждое отдельное произве-
дение само по себе. Чтобы отдельное произведение могло
быть понято как структура, оно должно восприниматься —
й уже создаваться — на фоне определенных художественных
канонов (формул), данных художественной традицией, бы-
тующей в подсознании художника и воспринимающего.
Иначе оно не воспринималось бы как художественное тво-
рение. И именно в невольном сопоставлении с художест-
венными завоеваниями прошлого, уже ставшими всеобщим
достоянием и потому застывшими и неизменными, и в
противоположность им художественное произведение может
предстать перед нами как зыбкое равновесие постоянно
перемещающихся сил, т. е. как структура. Частично совпа-
дая с художественными канонами прошлого, частично ока-
зываясь в противоречии с ними, структура произведения
помогает художнику избежать расхождения с самой живо-
трепещущей действительностью и с современным состояни-
ем общественного и его собственного сознания. Связь про-
изведения с художественными канонами прошлого предо-
храняет его и от непонимания со стороны публики.
Вследствие противоречия с традицией внутри произведения
276
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
становятся ощутимыми и диалектические взаимоотношения
между элементами, и их взаимное равновесие.
Но структурой является не только одиночное, отдельно
взятое художественное произведение. Мы уже убедились,
что в самой его сущности содержится указание на то, что
в искусстве предшествовало ему, и — добавим — также
на то, что будет после него; особенности структуры данного
произведения, ощутимо отличающие его от традиции, а от
нее отличается всякое своеобразное художественное произ-
ведение, всегда служат одновременно вызовом, обращенным
к творчеству будущего. Каждое художественное произведе-
ние, даже «самое оригинальное», включено, следовательно,
в непрерывный поток, протекающий во времени. Нет такого
художественного произведения, которое осталось бы вне
этого потока, хотя некоторые из них в сопоставлении с ним
кажутся совершенно неожиданными (например, «Май» Махи
в чешской литературе).
Структура художественного произведения, которое вы-
ступает как процесс и в том случае, когда наш взгляд
останавливается на единичном произведении, еще в большей
степени представляется движением, если мы взглянем на
взаимосвязи, в которые оно включено. Прежде всего кон-
кретное художественное произведение, кроме исключитель-
ных случаев, не бывает единственным произведением своего
автора. Почти всегда оно представляет собой лишь одно
звено в целой цепи его творений. Отношение автора к
действительности и его творческий метод с течением вре-
мени изменяются. А тем самым изменяется и структура его
произведений, разумеется, не без связи с изменениями на-
циональной литературы как целого, которое в свою очередь
подвержено изменению под влиянием развития обществен-
ного сознания. Однако долговременное развитие индивиду-
альной структуры творчества данного автора происходит не
в виде неожиданных скачков; непрерывность его не нару-
шается даже самыми радикальными изменениями: всегда
сохраняет силу напряжение между тем, что изменяется, и
тем, что остается без изменений; ведь автор ограничен
рамками собственной художественной индивидуальности, и
хотя Своим творчеством он постоянно пересоздает ее, но
именно поэтому не может перейти ее границы.
То, что сказано нами о творчестве отдельного художника,
относится и к развитию каждого вида искусства как целого.
И здесь элементы постоянно перегруппировываются, их
277
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
иерархия, их градация по значимости постоянно изменя-
ются. Но эта перегруппировка в художественной продукции
определенного периода происходит неравномерно и не в
одном направлении. Каждое из одновременно живущих по-
колений художников своим творчеством представляет са-
мостоятельную структуру, часто весьма отличную от ос-
тальных, и эти структуры взаимно воздействуют друг на
друга; так, например, не только предшественники влияют
на тех, кто только начинает творить, но и, наоборот, нередки
случаи, когда творчество более молодых своей структурой
оказывает воздействие на их предшественников, еще про-
должающих творить. Внутренняя диалектика определенного
вида искусства, проявляясь в нем как в целом, включает
в себя как подчиненные художественные структуры лично-
сти, поколения, направления, так и отдельные художест-
венные жанры. И, напротив, ни один из видов искусства,
выступая как самостоятельный ряд художественных явле-
ний, не остается в культуре данной нации изолированным:
рядом с литературой существуют живопись и ваяние, рядом
с ними музыка и т. д.
Каждый из видов искусства неизбежно находится в таких
отношениях с остальными, что между ними существует
постоянное напряжение. Так, например, внутри данной на-
циональной культуры отдельные виды искусства сходятся
(стремятся специфическими средствами, свойственными
каждому из них, решать задачи, характерные для других
видов искусства) или вновь расходятся. Чаще всего при
этом изменяется также иерархия отдельных видов искусства:
так, например, в эпоху барокко у нас на первом плане,
безусловно, находились музыка и изобразительные искус-
ства, в эпоху Возрождения — литература и театр, в эпоху
поколения Национального театра равномерно развиваются
литература, изобразительные искусства и музыка.
Следовательно, картина развития искусства, если мы
взглянем на нее с точки зрения самого искусства, его внут-
реннего строения, предстанет перед нами как чрезвычайно
сложный процесс. Наконец, нельзя обойти молчанием вза-
имоотношения между искусствами разных народов, напри-
мер отношения между отдельными национальными литера-
турами. Традиционное сравнительное литературоведение
привыкло считать эти отношения принципиально односто-
ронними: некоторым литературам оно с почти априорной
уверенностью приписывало способность оказывать влияние,
278
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
другие осуждало на пассивное восприятие чужих влияний.
Так поступали и историки отдельных национальных лите-
ратур, и в частности как раз чешской. Но подобный взгляд
принципиально неправилен, хотя нередко случается, что в
конкретных исторических ситуациях влияния бывают од-
носторонними. Однако и в этих случаях речь не идет о
принципиальной односторонности в том смысле, что лите-
ратура, воспринимающая влияние (или влияния), стано-
вится пассивным партнером. Может, например, случиться,
что такая литература пытается освоить ряд влияний одно-
временно. Тогда она выбирает между ними, устанавливает
их иерархию, позволяет одним преобладать над другими и
тем определяет смысл образуемого ими целого. Дело в том,
что влияния воздействуют в среде, в которую они прони-
кают, не без определенных предпосылок: они сталкиваются
с традицией данной национальной литературы и подчиня-
ются ее состоянию и потребностям. Местная художественная
и идейная традиция может также способствовать возник-
новению диалектического напряжения между влияниями;
например, в чешской литературе XIX и XX веков в неко-
торые периоды и у некоторых писателей ощутимо диалек-
тическое взаимоотношение между влиянием русской и дру-
гих славянских литератур (особенно польской) и западными
влияниями. Русское влияние и славянские влияния вообще,
едва только они начинали действовать более явственно,
всегда усиливали национальную специфичность чешской
литературы, ее своеобразие, в отличие от остальных вли-
яний, которые при всей своей полезности это своеобразие
ослабляли. Воздействие славянских влияний безусловно чув-
ствуется особенно у Гавличека, Галека, Мрштика2, Шра-
мека и т. д. Так выглядят влияния, если при их исследовании
мы исходим из диалектических, а тем самым и структу-
ральных взаимоотношений между литературами. В итоге
можно сказать, что отношение каждой национальной ли-
тературы к остальным, если рассматривать это отношение
с ее точки зрения, представляется структурой отдельных
отношений (влияний), структурой, различные части которой
йерархизированы и в процессе развития меняют свои места
в иерархии. Напротив, исследователи, принимающие в ка-
честве предпосылки принципиальную односторонность вли-
яний, если они доводят эту предпосылку до конечных след-
ствий, неизбежно создают такую картину развития лите-
ратуры, при которой она выглядит совершенно лишенной
279
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
внутренней активности и подчиняющейся случайным тол-
чкам влияний, приходящих то с одной, то с другой стороны.
Подобное понимание, как уже было сказано, не чуждо
некоторым историкам чешской литературы (особенно тем,
которые поддались комплексу «малой нации»), недалеки от
него были и историки чешского изобразительного искусства.
Великая заслуга А. Матейчека3 и его учеников заключается
в том, что своей трактовкой чешской готической живописи
они указали на пример несомненно своеобразного, целост-
ного и активного национального искусства, которое вместе
с тем испытывает одновременно несколько влияний.
Надеемся, нам удалось в предшествующих абзацах хотя
бы в общих контурах показать, что не только отдельное
художественное произведение и не только развитие каждого
из видов искусства как целого, но и взаимоотношения между
искусствами имеют характер структур и что, рассматривая
все это как структуры (т. е. как лабильное равновесие вза-
имоотношений), мы не расходимся с действительностью и
не обедняем разнообразия исследовательских возможностей,
а, напротив, указываем на их богатство.
Но пришло время обратить внимание на следующее
важное свойство художественного произведения, на то,k что
оно имеет характер знака. Художественное произведение —
как всякий знак — присущим только ему способом служит
для посредничества между двумя сторонами: творцом знака
здесь является художник, стороной, принимающей знак, —
читатель, зритель или слушатель. Однако художественное
произведение — знак в высшей степени сложный: каждый
из его элементов и каждая его часть — носители частичного
значения. Эти частичные значения образуют общий смысл
произведения. И только если общий смысл произведения
представляет собой законченное целое, художественное про-
изведение становится свидетельством об отношении его ав-
тора к действительности и призывом к воспринимающему
выработать самостоятельное отношение к действительности
как целому — отношение познавательное, чувственное и
волевое одновременно. Но прежде чем воспринимающий
постигнет общий смысл произведения, должен завершиться
процесс создания этого общего смысла. И этот процесс —
самое главное в художественном произведении. Как изве-
стно из истории искусства, в некоторые периоды художе-
ственное произведение имеет тенденцию к смысловой не-
завершенности, что, однако, не вредит его художественному
280
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
воздействию; в таких случаях смысловая незавершенность
является составной частью авторского замысла. Для худо-
жественного произведения как знака характерна и способ-
ность заключать в себе несколько смысловых значений од-
новременно, опять-таки без ущерба для воздействия про-
изведения. Множественность смысловых значений в
некоторые периоды подчеркивается (например, в период
символизма), иногда же, наоборот, на нее указывается лишь
намеком, и эта множественность превращается в скрытую
семантическую энергию. Однако принципиально она при-
сутствует всегда.
Таким образом, художественное произведение, в отличие
от других видов знаков, например языковых, акцентирует
не конечное, однозначное отношение к действительности,
а процесс, в результате которого это отношение возникает.
Разумеется, кто-нибудь может возразить, что всякий про-
цесс неизбежно протекает во времени и что, следовательно,
все сказанное выше применимо лишь к тем видам искусства,
восприятие которых совершается во временной последова-
тельности (например, к литературе, музыке, театру, кино).
Но и произведения пространственных искусств, таких как
живопись, ваяние, архитектура, предстают перед воспри-
нимающим как смысловой процесс. Так, например, в жи-
вописи даже для общей ориентировки в смысловой органи-
зации плоскости картины нужно время, не говоря уж о
том, сколько времени требует внимательное разглядывание,
диктуемое стремлением глубоко проникнуть в сокровенней-
ший смысл художественного творения. Поэтому и в живо-
писи общий смысл складывается из отдельных частичных
значений в ходе смыслообразующего процесса, протекаю-
щего во времени.
Итак, всякое художественное произведение предстает
перед воспринимающим как взаимосвязь значений, как кон-
текст. Каждый новый частичный знак, осознаваемый вос-
принимающим в процессе восприятия (т. е. каждый элемент
и каждая часть произведения, вступившая в смыслообра-
зующий процесс контекста), не только присоединяется к
частичным знакам, которые ранее проникли в сознание
воспринимающего, но также в большей или меньшей мере
изменяет смысл всего, что этому предшествовало. И нао-
борот, все предшествовавшее воздействует на значение каж-
дого вновь осознаваемого знака. Установление последова-
тельности в восприятии отдельных частей художественного
281
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
произведения в «искусствах времени» явно предоставлено
воспринимающему, но способом, который предопределил
автор; отнюдь не иначе обстоит дело и в «искусствах про-
странства». Так, например, живописец направляет внимание
воспринимающего от той точки плоскости, которую он хочет
принять за исходную, к остальным частям, плоскости и
частичным значениям, носителями которых эти участки
являются; он добивается этого путем размещения красочных
пятен, различных по качеству и интенсивности света, путем
создания и размещения контуров и объемов и т. д. И в
каждом художественном произведении основное внимание
уделяется прежде всего методу и приемам, какими создается
смысловой контекст, цель которого — помочь воспринима-
ющему сформировать свое собственное отношение к дейст-
вительности. Нужно только заметить, что слово «собствен-
ный» ни в коей мере не означает безоговорочного акцен-
тирования индивидуальной неповторимости, ибо при этом
я не упускаю из виду диалектического взаимоотношения
между индивидуальным и общественным сознанием.
Спрашивается, какие элементы художественного произ-
ведения способны быть носителями значений, принимающих
участие в создании его общего смысла. Это не праздный
вопрос, поскольку полностью еще не преодолен взгляд,
согласно которому единственными носителями смысла ху-
дожественного произведения являются элементы, традици-
онно называемые «содержательными», в отличие от «фор-
мальных». На самом же деле носителями значения, а тем
самым и факторами, участвующими в создании общего
смысла произведения, являются (как мы предполагали уже
с самого начала этой семантической главы нашего иссле-
дования) все элементы без исключения. В семантическом
процессе, который мы назвали контекстом, принимают уча-
стие все компоненты, т. е., например, в поэтическом про-
изведении в равной мере как отдельные слова, звуковые
элементы, грамматические формы, синтаксические элемен-
ты (конструкция предложений), фразеология, так и тема-
тические элементы. В живописном произведении созданию
контекста в равной мере способствуют как линия, так и
цвет, как контур, так и объем, как организация плоскости
картины, так и сюжет.
Однако смыслообразующей силой обладают и способы
использования этих элементов в художественном произве-
дении (художественные приемы), и взаимоотношения между
282
6 СТРУКТУРАЛИЗМЕ
элементами, например в поэтическом произведении отно-
шение между звуковым составом (эвфонией) и значением
слов. Эвфония может установить смысловые отношения
между словами, лишенными в тексте непосредственной
смысловой связи, может выделять слова, важные для общего
смысла стихотворения, путем многократного повторения в
тексте группы звуков, характерных для подобных слов, без
повторения самих этих слов и т. д. Элементы, на первый
взгляд индифферентные по значению, могут действенно
влиять на смысловое построение произведения. Например,
в поэтическом искусстве такую роль играет метр уже тем,
что своими паузами он расчленяет текст иногда в соответ-
ствии, иногда в противоречии с его синтаксическим члене-
нием и, разумеется, еще многими иными способами. А вот
пример из живописи: цвет — оптическое явление, по своему
внутреннему характеру лишенное знаковости (если не счи-
тать символического использования цвета). Тем не менее
как компонент живописного произведения цвет становится
знаком даже если речь идет о беспредметной живописи.
Так, например, пятно лазурно-голубого цвета, если оно
помещено в верхней части плоскости абстрактной картины,
весьма легко может стать носителем значения «небо»; в
нижней части плоскости картины оно может получить зна-
чение «водное пространство»; конечно, в обоих случаях эти
значения проявятся не во всей своей конкретности, а, скорее,
как намеки на определенные факты действительности. Когда
цвет переходит за контур, даже лишенный какой-либо пред-
метности, в абстрактной картине это может создавать впе-
чатление глубины пространства, заполненного какими-то
предметами, пусть не поддающимися конкретному обозна-
чению.
Следовательно, все элементы, традиционно называемые
формальными, в художественном произведении являются
носителями значений, частичными знаками. И наоборот,
элементы обычно называемые содержательными (тематиче-
скими), по своему характеру также суть лишь знаки, ко-
торые обретают полное значение только в контексте худо-
жественного произведения. Возьмем, к примеру, действую-
щее лицо эпического или драматического произведения.
Автор реалистического произведения будет стремиться вы-
звать у читателя (иди зрителя) иллюзию, будто речь идет
о конкретном индивиде, который где-то и когда-то суще-
ствовал. Но одновременно он неизбежно стремится и к
283
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тому, чтобы персонаж выглядел наиболее общезначимым,
чтобы у читателя (зрителя) создалось, так сказать, впечат-
ление, будто что-то от этого персонажа есть в каждом
человеке и даже в нем самом. Неразрывное сочетание кон-
кретности с обобщением есть свойство всякого искусства,
и проявляться оно может лишь благодаря тому, что худо-
жественное произведение обозначает действительность толь-
ко в комплексе всех своих элементов и частей (к числу их
относятся и отдельные персонажи) и указывает на нее также
как на целое. Таким образом, каждый отдельный персонаж
эпического произведения полностью понятен лишь в своем
отношении к остальным персонажам, к действию, к худо-
жественным приемам, использованным в произведении, и
т. д. Только великим образам мировой литературы было
дозволено выйти из контекста художественного произведе-
ния и вступить в прямое соприкосновение с действитель-
ностью; но и они не утратили двойственного характера
художественного знака — свойства представать одновре-
менно как явление обобщенное и единичное.
Отношение искусства к действительности именно в силу
его специфического знакового характера не является одно-
значным и неизменным, а отличается диалектичностью и
вследствие этого исторической изменчивостью. Искусство
обладает множеством различнейших возможностей означать
действительность как целое. На протяжении его истории
мы можем наблюдать чередование этих возможностей. Ди-
апазон тут велик: от стремления к абсолютно верному
воспроизведению всей многообразной действительности (а
также всего случайного, что содержится в этом многообра-
зии) до, казалось бы, полного разрыва между искусством
и действительностью. Но даже при самом большом отдале-
нии от действительности отношение к ней остается неотъ-
емлемым фактором структуры произведения, на котором
основывается внутренняя многогранность, способность к по-
стоянному обновлению и жизненная важность художест-
венного произведения как для воспринимающего в качестве
отдельного индивида, так и для общества в целом.
Последнее, о чем нужно сказать при характеристике
современного состояния чехословацкой науки об искусст-
ве, — это понятие функции. Понятие функции (которое
теория искусства разделяет с лингвистикой, а также, на-
пример, с фольклористикой, в области же искусства — с
архитектурой) затрагивает отношение художественного про-
284
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
изведения к воспринимающему и к обществу. Полную объ-
ективность понятие функции обретает лишь в том случае,
если под ним подразумевается многообразие целей, которым
искусство служит в жизни общества. Некоторые художест-
венные произведения уже с момента своего возникновения
вполне определенно предназначены для известного вида
общественного воздействия, и это предназначение проявля-
ется и в их структуре, например путем приспособления к
канону того художественного жанра, который этой потреб-
ности служит, а также иными путями. Однако произведение
способно осуществлять и несколько функций одновременно.
С течением времени оно может также чередовать функции.
Чаще всего такое изменение функций носит характер за-
мены доминанты системы возможных функций; замена до-
минантной функции неизбежно вызывает и сдвиг общего
смысла произведения.
Функции искусства многочисленны и разнообразны; их
способность к различным комбинациям не позволяет дать
полный их перечень и классификацию. Но одна из них
специфична для искусства, и без нее художественное про-
изведение не могло бы существовать. Это эстетическая фун-
кция. С другой стороны, ясно, что эстетическая функция,
далеко не ограничивается лишь областью искусства, а про-
низывает всю трудовую деятельность человека и все его
жизненные проявления. Она представляет собой один из
важнейших факторов, формирующих отношение человека
к действительности; дело в том, что, как будет показано
более детально, она обладает способностью препятствовать
установлению одностороннего превосходства одной функции
над всеми остальными. Вне границ искусства воздействие
ее охватывает значительно большее число индивидов и
отличается большей широтой, зато в искусстве оно более
интенсивно.
Как же эстетическая функция проявляется в искусстве?
Прежде всего нужно осознать, что в отличие от всех ос-
тальных функций (например, познавательной, политиче-
ской, воспитательной и т. д.), эстетическая функция не
ймеет никакой конкретной цели, не решает никакой прак-
тической задачи. Эстетическая функция, скорее, изымает
вещь или деятельность из практических взаимосвязей, чем
включает в какую-либо из них. В особенности это относится
к искусству. Из тезиса об этом специфическом свойстве
эстетической функции делается — иногда с положительной,
285
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
иногда с отрицательной оценкой — вывод о том, что вы-
деление эстетической функции имеет своим неизбежным
следствием отрыв искусства от жизни. Однако подобный
взгляд ошибочен. Если эстетическая функция не устремлена
ни к какой практической цели, это еще не значит, что она
препятствует контакту искусства с жизненными интересами
человека. Именно благодаря отсутствию однозначного «со-
держания» эстетическая функция становится «прозрачной»,
не относится к прочим функциям враждебно, а помогает
им. Если остальные «практические» функции, когда они
оказываются рядом и во взаимной конкуренции, стремятся
одержать друг над другом верх, проявляя тенденцию к
функциональной специализации (к монофункциональности,
чистейшим воплощением которой можно считать машину),
то искусство как раз под влиянием эстетической функции
имеет тенденцию к Максимально богатой и многогранной
полифункциональности, не препятствуя при этом обще-
ственному воздействию художественного произведения.
Проявляясь в искусстве как специфическая функция, эсте-
тическая функция помогает человеку преодолевать одно-
сторонность специализации, обедняющей не только его от-
ношение к действительности, но и возможности его реальной
деятельности. Она не мешает творческой инициативе чело-
века, а помогает ее развивать. Не случайно биографы ве-
ликих ученых, изобретателей, первооткрывателей порой об-
наруживают в них как характерную черту утонченный
интерес к искусству.
До сих пор мы рассматривали функции искусства с точки
зрения общественного целого. Но взглянем на них с точки
зрения индивида — творческого или воспринимающего. Уже
художник, хотя он и подчиняет структуру произведения
определенной функции, не исключает заранее ни одной из
остальных функций. Иначе он даже не смог бы вступить
посредством своего произведения в живой контакт с дейст-
вительностью; если бы он насильственно упростил функ-
циональное богатство произведения, он обеднил бы этим
свой подход к действительности, его инициативность. По-
этому только в том случае, если мы взглянем на функции
искусства с точки зрения индивида, функции произведения
предстанут перед нами как комплекс различных видов жи-
вой энергии, которые находятся в постоянном взаимном
напряжении и споре. Только тогда мы полностью поймем
также, что функции произведения не изолированные друг
286
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
от друга категории, а движение, постоянно изменяющее
облик произведения в глазах разных воспринимающих, раз-
ных народов, разных эпох* Это станет нам особенно ясно,
если мы посмотрим на произведение не глазами автора, а
глазами воспринимающих*
С точки зрения функций художественного произведения
индивидуализирующим фактором представляется, конечно,
не только отдельный воспринимающий, но и целые соци-
альные образования, такие как различные виды обществен-
ной среды, различные общественные слои. Как раз они в
первую очередь определяют характер сдвигов в общей струк-
туре функций*
Но нужно еще хотя бы мельком взглянуть на ту роль,
какая выпадает на долю субъекта при решении вопроса о
художественной значимости того или иного явления* Пока
мы имеем в виду лишь субъект художника, дело обстоит
просто: художник вкладывает свою субъективность в про-
изведение уже тем, что заранее приспосабливает его струк-
туру к определенной функции. Вопрос о том, должен ли
определенный предмет функционировать как художествен-
ное произведение (т. е. прежде всего эстетически), в изве-
стной мере решает и воспринимающий. Эту возможность
сознательно используют сюрреалисты при выборе и создании
таких «объектов», которые сами по себе представляются
чуждыми какой бы то ни было функциональности, в том
числе и эстетической. К субъективности воспринимающего
предъявляются при этом большие требования, чем при ху-
дожественных произведениях, созданных с нескрываемой
преднамеренностью* Но и при восприятии сюрреалистиче-
ских объектов эстетическая функция объективируется в
сознании воспринимающего уже тем, что он оценивает объ-
ект на основе сопоставления его с определенными художе-
ственными канонами, частично соблюдаемыми, частично
нарушаемыми. Восприятие сюрреалистического объекта в
качестве художественного произведения представляет собой
лишь крайнее заострение совершенно обычного явления —
ощущения свободы выбора при решении вопроса о функ-
циональности художественного произведения, а само это
ощущение — неотъемлемый фактор воздействия произве-
дения*
Мы разобрали несколько основополагающих понятий
структуральной теории искусства. Оказалось, что, как толь-
ко мы начинаем смотреть на искусство как на лабильное,
г 287
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
находящееся в состоянии постоянного напряжения и посто-
янных перегруппировок, равновесие сил, традиционные про-
блемы предстают перед нами в новом свете и всплывают
вопросы, которые до сих пор не ставились. Многие из
открывающихся таким образом перспектив настоятельно
требуют как можно более скорого рассмотрения. Приведу
лишь один пример вместо многих — сравнительную теорию
искусства. Вопрос не нов, впервые и с гениальной прозор-
ливостью его поставил Лессинг в своем «Лаокооне», а после
него ряд других исследователей. Но структурализм, понимая
отдельные виды искусства как структуры, связанные диа-
лектическими напряжениями, подверженными на протяже-
нии истории изменениям, видит не только их разграничение
свойствами материала и другими обстоятельствами (что
обнаружил еще Лессинг), но также возможность их сбли-
жения в результате сказывающейся в определенных ситу-
ациях и на определенных стадиях развития тенденции к
взаимному контакту, слиянию и даже субституции. Такое
понимание взаимоотношений между различными видами
искусства особенно плодотворно для истории искусства. В
его методологической важности нас часто может убедить
даже беглый взгляд на судьбы какой-либо из национальных
культур. Так, например, в чешской культуре XIX века мы
можем наблюдать известные сдвиги в иерархии родов ис-
кусства: в эпоху национального Возрождения, в начале XIX
века, на первом плане явственно находятся литература и
театр, в 70-х годах (в период, когда бок о бок творят
Сметана в музыке и Неруда в литературе) ведущие виды
искусства — музыка и литература, в 80-х и 90-х годах, в
эпоху строительства Национального театра, развитие ис-
кусства приводит к равноправному сотрудничеству литера-
туры, музыки, изобразительного искусства и театра (в ли-
тературе действуют рядом друг с другом поколения майовцев
и люмировцев, в музыке Сметана и Дворжак, в изобрази-
тельных искусствах Алеш, Гинайс, Мысльбек и другие, в
театре Й. И. Колар6 во главе большой актерской школы).
Разумеется, это лишь наметки плана исследований, которые
нужно было бы развернуть на основе изучения широкого
материала и глубокого знания истории отдельных видов
отечественного искусства. Но проблематика вырисовывается
уже достаточно ясно и представляется актуальной именно
сейчас, когда мы отчетливее, чем когда-либо ранее, сознаем,
что все в мире взаимосвязано.
288
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
Что касается истории отдельных видов искусства, то
нужно еще отметить, что структуральный метод бросает
новый свет и на проблему так называемых влияний и их
значения для развития различных родов искусства. Это
опять-таки очень сложный вопрос, и можно лишь в самых
общих очертаниях обрисовать современные возможности его
решения. В традиционном понимании влияние рассматри-
вается односторонне, постоянно противопоставляются сто-
рона, оказывающая влияние, и сторона, его воспринимаю-
щая, причем не учитывается, что влияние, чтобы быть
воспринятым, должно найти благоприятную почву, подго-
товленную местными условиями, определяющими, какой
характер оно приобретет и в каком направлении будет
воздействовать. В любом случае влияние не может анну-
лировать местную ситуацию, обусловленную не только пред-
шествующим развитием и современным состоянием обще-
ственного сознания. Поэтому при изучении влияний нужно
учитывать, что искусства отдельных наций встречаются на
основе взаимного равноправия отнюдь не на основе прин-
ципиальной подчиненности искусства, испытывающего вли-
яние по отношению к оказывающему влияние. К этому еще
нужно добавить: только в исключительных случаях тот или
иной вид искусства — например, литература — какой-либо
нации испытывает влияние лишь одного зарубежного на-
ционального искусства. Как правило, существует целый ряд
иноземных влияний, находящихся в определенном отноше-
нии не только к данному испытывающему воздействие извне
искусству, но и друг к другу. Так, например, чешская
литература на протяжении XIX и XX веков имела связи с
рядом иностранных литератур: с немецкой, русской, фран-
цузской, польской и, разумеется, со словацкой. Эти связи
оказывали воздействие на чешскую литературу не только
последовательно, но во многом и симультанно. И хотя
большинство из них, с точки зрения литератур, оказывав-
ших влияние, были односторонними и чешская литература
не принимала активного участия в мировом литературном
процессе (ибо после упадка, наступившего в эпоху контр-
реформации, она вынуждена была еще только дотягиваться
до уровня современных европейских литератур), тем не
менее эти влияния никак не помешали самобытному раз-
витию чешской литературы. Их было множество, и в ре-
зультате они взаимно уравновешивались, относительное их
значение с течением времени изменялось, и чешская ли-
10—888
289
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тература склонялась то к одному, то к другим, создавая
тем самым между собою и ими и между ними самими
плодотворное диалектическое напряжение. Итак, напомним
вновь, влияния не представляют собой проявления прин-
ципиального господства и подчиненности отдельных наци-
ональных культур; основной их вид — это взаимность,
вытекающая из равенства наций и равной значительности
их культур. С точки зрения каждой национальной культуры
(а следовательно, и каждого национального искусства) от-
ношения к культурам (а следовательно, и к искусствам)
других наций образуют структуру, поддерживаемую внут-
ренними диалектическими связями, которые постоянно пе-
регруппировываются под влиянием импульсов, вызванных
общественным развитием.
Мы подошли к концу размышлений об искусствовед-
ческом структурализме, но мы далеко не подошли к концу
перечня перспектив, которые структурализм открывает пе-
ред теоретическим и историческим изучением искусства.
Мы и не стремились к полноте изложения, а лишь хотели
на примере решения нескольких основных вопросов оха-
рактеризовать структурализм более конкретно, чем это
могут дать общие рассуждения. Структурализм родился и
развивается в непосредственном контакта с художествен-
ным творчеством, причем с творчеством современным.
Этот контакт не нарушается и в том случае, когда струк-
турализм — в свете современного художественного миро-
ощущения — пытается бросить взгляд на искусство про-
шлого, показать, как это искусство решало свои творческие
проблемы. Связь между искусствоведческим структурализ-
мом и современным искусством взаимна. Ведь художники
и теоретики едины в убеждении, что нынешняя эпоха
обязывает и тех и других последовательно и отважно
продумать закономерности художественного творчества в
их отношении к радикально изменяющемуся положению
человека в мире.
290
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ
ТЕОРИИ ИСКУССТВА
Статья «Структурализм в эстетике и в науке о литера-
туре», написанная в 1940 году, ставила своей целью дать
общую характеристику тогдашнего состояния структураль-
ной эстетики. С учетом нынешнего ее состояния ту же цель
преследует и данная работа*. И здесь мы не будем ни
давать перечня библиографии, ни даже излагать содержание
отдельных статей и книг, а попытаемся проанализировать
несколько основных понятий, характерных для терминоло-
гической системы современной чехословацкой теории ис-
кусства. Мы сознаем опасность подобного резюмирующего
метода изложения: он всегда заставляет абстрагироваться
от множества индивидуальных усилий и подвергает пишу-
щего риску изобразить в виде неизменного состояния то,
что в действительности представляет живой и непрекраща-
ющийся процесс, но мы все же смеем надеяться, что именно
сознание этой опасности предохранит нас хотя бы от наи-
более существенных ошибок.
Самым характерным понятием науки об искусстве стало
в последние десятилетия понятие структуры. При нынеш-
нем состоянии науки можно не опасаться, что это слово
покажется непривычным: в современных социальных на-
уках и в естествознании оно характеризует определенный
образ мышления, сменивший в процессе развития мыш-
ление позитивистское. Скорее необходимо обратить вни-
мание на то, что в трактовке чехословацкой теории ис-
кусства понятие структуры заметно отличается от неко-
торых понятий, лишь на первый взгляд сходных с ним,
и прежде всего от так называемого холизма1. Основное
отличие состоит в том, что холизм в первую очередь
подчеркивает целостность и рассматривает ограничение
как существеннейший признак целого. Внутренняя диф-
ференциация целого представляется ему следствием его
ограниченности, его «целостности» (ср.: Smuts J. С. Die
holistische Welt. Berlin, 1938). Понятие структуры, напро-
* Настоящая работа была написана как информационное сообщение
для заграницы. Отсюда некоторые особенности формулировок.
10* 291
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тив, основано на внутреннем объединении целого взаимо-
отношениями составляющих его элементов, причем не
только отношениями положительными — моментами сход-
ства и совпадениями, но и отношениями отрицательны-
ми — противоречиями и противоположностями; поэтому
понятие структуры неразделимо связано с диалектическим
способом мышления. Связи между элементами, именно в
силу своей диалектичное™, не могут быть дедуцированы
из понятия целого; целое по отношению к ним не prius*,
a posterius**, и потому обнаружение этих связей состав-
ляет не предмет абстрактной спекуляции, а предмет эм-
пирического мышления. Поэтому вторым неотъемлемым
свойством структурального мышления является гносеоло-
гический материализм2, убеждение, что дифференциро-
ванная действительность существует независимо от позна-
ющего субъекта и что взаимоотношения между элементами
структуры реальны. Традиционная максима, согласно ко-
торой целое всегда больше составляющих его частей, для
структурального понимания, с одной стороны, слишком
узка. Еще Энгельс утверждал: «Например, уже часть и
целое — это такие категории, которые становятся недо-
статочными в органической природе. Выталкивание семе-
ни — зародыш — и родившееся животное нельзя рас-
сматривать как «часть», отделяющуюся от «целого»: это
дало бы ложное толкование» (Engels. Dialektik der Natur.
Notizen)***. С другой стороны, та же максима слишком
широка для структурального понимания, ибо включает в
себя также и целые, не имеющие структурного характера
формы и образования такого рода, которыми занимается
гештальтпеихология (Gestaltpsychologie).
Поскольку отношения, поддерживающие единство струк-
туры, в своей основе диалектичны, структуре всегда присуще
движение и изменение: внутреннее равновесие элементов
неустанно нарушается и создается заново, и единство струк-
туры представляется нам как взаимное уравновешивание
энергий. То, что в структуре сохраняется от данного момента
до следующего, составляет диалектическую идентичность
ее существования; а поскольку в каждом отдельном моменте
этого процесса виртуально содержится и завершение ми-
* первоначальный (лат.).
♦♦ последующий (лат.).
♦♦♦ Маркс К., Энгельс Ф, Соч. Изд. 2-е. М.» 1961, т. 20. с. 528.
292
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
нувшего состояния и зародыш будущего, то можно сказать,
что в каждый отдельный момент структура одновременно
и является и не является самой собой. Это не означает,
однако, что в качестве диалектической противоположности
по отношению к этой постоянной изменчивости не может
быть поставлен вопрос о постоянстве того, что сохраняется.
Постоянной остается прежде всего сама совокупность эле-
ментов: неустанным изменениям подвержены взаимоотно-
шения элементов, а не сами элементы, — всякий раз, когда
в процессе развития возникает какой-либо элемент, кажу-
щийся новым, необходимо задать себе вопрос, в каком виде
или в каком неразличимом соединении с другим элементом
существовал он до сих пор. Второй аспект, под углом
зрения которого может и должен быть поставлен вопрос
о постоянстве в структуре, заключается в том, нет ли
чего-то постоянного, относительно или абсолютно, в самих
отношениях элементов, подверженных изменениям; если
речь идет об относительном постоянстве, это приведет
нас к разбивке истории развития структуры на большие
периоды, если же дело касается абсолютного постоянства,
итогом изучения будут неизменные основные законы раз-
вития.
Теперь с целью конкретизации сказанного в общем виде
зададимся вопросом, насколько общее понятие структуры
применимо к материалу, с которым имеет дело теория
искусства. Скажем заранее, что в качестве комплекса струк-
турных отношений предстает не только внутреннее строение
художественного произведения, но и многочисленные вза-
имоотношения этого строения со всем, что хотя и находится
вне произведения, но вступает с ним в соприкосновение;
так, например, структурный характер имеют отношения
произведения к автору, к произведениям других видов ис-
кусства, к иным явлениям культуры и т. д. Нужно, разу-
меется, отвергнуть представление, близкое к холистическо-
му, что структуры низшего порядка последовательно вклю-
чаются в структуры более высокого порядка и что вся эта
система структур завершена и образует высшее единство,
ничем более не обусловленное (ср.: Smuts. L. с., S. 227).
Этой схематической конструкции искусствоведческий струк-
турализм противопоставляет понимание диалектическое,
прежде всего имеющее в виду изменчивые структурные
взаимоотношения между отдельными явлениями и считаю-
щее замкнутость структуры лишь релятивной. Поэтому так-
293
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
же — в отличие от холизма — искусствоведческий струк-
турализм находит динамическую инициативу не внутри
развивающегося ряда, а во внешних динамических импуль-
сах. Автономное развитие структурализм видит лишь в том,
как подобный ряд (например, чешское поэтическое искус-
ство) диалектически приспосабливает эти внешние динами-
ческие импульсы к своему характеру и своему предшест-
вующему состоянию.
Наконец, необходимо учитывать, что коль скоро это
касается самого художественного творчества, в качестве
структуры выступает не только строение индивидуального
произведения (например, в поэтическом произведении связь
метрической схемы и отдельных языковых и тематических
элементов), но структурой будет также и, собственно, в
первую очередь, живая традиция всего данного вида искус-
ства. Весьма явственно доказывает это фольклор, где со-
храняются и представляют интерес отнюдь не индивиду-
альные творения отдельных личностей, а художественные
навыки, формулы, позволяющие создавать эти творения.
Деревенская женщина, перед большими праздниками вы-
кладывающая песком на полу своей светлицы рисунки или
разрисовывающая мылом окна, ни минуты не помышляет
о том, что плоды ее труда через мгновение будут уничто-
жены, — в ее глазах гораздо более важна постоянная
способность создавать подобные вещи заново, всякий раз,
когда это потребуется. А южнославянский гусляр, умевший,
казалось бы, удержать в памяти десятки тысяч стихов, в
действительности знал лишь свод определенных традици-
онных формул и определенных традиционных тем, из ко-
торых при каждом исполнении он творил заново . И если,
обогащенные опытом, который нам дало изучение народного
творчества, мы приглядимся к «высокому» искусству, где,
на первый взгляд, прежде всего важны индивидуальные
творения, то увидим, что и здесь непосредственное суще-
ствование искусства поддерживается отнюдь не этими тво-
рениями, а «живой традицией», достоянием всего общества,
выходящим за рамки индивидуального творчества. Самое
оригинальное художественное произведение рассчитано на
определенный характер восприятия, а оно в свою очередь
определяется как раз тем, что в развитии нового искусства
непосредственно предшествовало этому произведению. И
если произведение станет предметом общего интереса в
иную эпоху, чем та, в которую оно возникло, или в ином
294
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
обществе, оно будет казаться иным, чем казалось воспри-
нимающим, для которых было первоначально предназначе-
но. Своеобразный, сильный художник, как правило, весьма
радикально отходит от существовавшей до тех пор художе-
ственной традиции, но эти его отступления опять же очень
скоро становятся общим достоянием, составной частью ху-
дожественного сознания всего общества. Таким образом,
основу искусства составляет отнюдь не индивидуальное ху-
дожественное произведение, а комплекс художественных
навыков и норм, художественная структура, носящая над-
личностный, общественный характер. Отдельное художест-
венное произведение относится к этой надличностной струк-
туре подобно тому, как индивидуальное языковое выска-
зывание относится к языковой системе, которая также
является достоянием всех и превосходит каждого, кто в
данный момент пользуется этим языком. К сходству между
языком и искусством мы еще вернемся, когда будем говорить
о художественном произведении как знаке. Однако прежде,
чем мы это сделаем, нам нужно хотя бы кратко коснуться
вопроса, уже доставившего теории искусства немало забот,
а именно вопроса о форме и содержании.
Если бы мы приняли эту дихотомию4 за конечную ин-
станцию при анализе построения художественного произ-
ведения и художественной структуры вообще, мы тем самым
отвергли бы предпосылку, согласно которой взаимосвязаны
все элементы, все отношения, поддерживающие своими ди-
алектическими напряжениями единство произведения, и по-
средине структуры зияла бы расселина. Но нет необходи-
мости допускать ее появление. Разумеется, верно, что общее
впечатление, которое вызывает в зрителе художественное
произведение, основано на противопоставлении формы и
содержания — так, например, часто случается, что оцени-
вается формальная несхожесть двух произведений одина-
кового содержания или, наоборот, различие в содержании
двух произведений, близких по форме; среди воспринима-
ющих существуют и такие, которые прежде всего смотрят
на содержание художественного произведения, и такие, ко-
торые прежде всего обращают внимание на форму, и это
отличие исходных точек зрения может стать фактом раз-
вития искусства (эпохи художественного «формализма» и
эпохи «содержательности») . Но хотя мы допускаем все это,
отношения между содержанием и формой, как и все ос-
тальное в теории искусства, необходимо понимать диалек-
295
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тически, т. е. как противоречие между двумя силами, при
котором и «формальность» и «содержательность» находят
опору во всех элементах художественного произведения.
На практике в самом деле часто невозможно отделить одно
от другого и сказать, например, когда в, известном произ-
ведении чешского романтизма — «Мае» Махи — любовь
является одним из основных мотивов, а когда — словом
такого-то и такого-то звучания; обеими своими сторонами,
содержанием и формой, — и даже звуковой формой —
«любовь» занимает ключевую позицию в художественном
построении и воздействии поэмы Махи. И другой пример —
из живописи: цвет кажется безусловно формальной принад-
лежностью картины, и все-таки даже в своем чисто опти-
ческом качестве цвет является одновременно содержанием.
Если мы видим на совершенно абстрактной, беспредметной
картине синее пятно в верхней части ее плоскости, это
понятно будет «означать» для нас небо; если оно окажется
в нижней части картины, то напомнит нам водное про-
странство. Следовательно, так называемые «формальные»
элементы также служат носителями «содержания» и потому
способны быть носителями не только эстетической, но и
внеэстетических ценностей, содержащихся в произведении;
из истории искусства мы знаем, что протесты против воз-
мутительно непривычных художественных форм порой мо-
тивируются, например, политическими или социальными
соображениями. Диалектическое противоречие между со-
держанием и формой пронизывает все произведение и только
благодаря этому становится одной из движущих энергий
развития искусства.
Все, о чем мы до сих пор говорили, относилось к понятию
структуры, как она понимается чехословацкой теорией ис-
кусства. В этой связи можно было бы сказать еще о многом
другом: так, например, можно бы показать, что всеобщая,
внутренне монолитная структура (например, поэтическое
искусство как таковое), если бы мы попытались ее себе
представить, оказалась бы абстрактной фикцией. Не суще-
ствует поэтического искусства вообще и даже, например,
чешского поэтического искусства вообще, каждое нацио-
нальное поэтическое искусство разделяется на различные
жанры (лирика, роман и т. п.), а также на различные «слои»
(таковы литература городская и деревенская, бульварная,
литература для детей и т.п.). Каждое из этих частных
образований представляет собой самостоятельную структуру
296
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
со своими нормами, и только их комплекс создает структуру
высшего порядка, в которую эти отдельные образования
входят в качестве диалектически связанных элементов,
структуру, которую мы называем поэтическим искусством
той или иной нации. Отношения между отдельными наци-
ональными литературами носят опять же структурный ха-
рактер, так же как отношения между отдельными видами
искусства и т. д. Все это невозможно проанализировать
здесь в подробностях, хотя мы и представляем себе опасность
схематического искажения картины, набросанной столь бег-
ло; чтобы хоть отчасти избежать этой опасности, напомним
все сказанное ранее о нашем отрицательном отношении к
однолинейной иерархизации структур.
Теперь обратим внимание на другое основополагающее
понятие структуральной концепции теории искусства, а
именно на понятие знака и связанное с ним понятие зна-
чения. Выше, упоминая о сходстве между искусством и
языком, мы говорили, что позднее еще вернемся к этому
вопросу. Теперь нам представляется удобный случай. По-
добно языковому высказыванию художественное произве-
дение предназначено быть посредником между двумя сто-
ронами; когда речь идет о языковых высказываниях, эти
две стороны носят названия говорящего и слушателя, когда
речь идет о художественном произведении, — автора и
воспринимающего. Разумеется, возникает впечатление, что
основное различие здесь заключается в том, что при язы-
ковом высказывании обе эти роли взаимозаменимы, тогда
как при художественном высказывании такая замена не-
возможна. Но так только кажется. Присмотревшись к на-
родному искусству, мы в нем также увидим полную взаи-
мозаменимость ролей: в народной поэзии песня при мно-
гократном воспроизведении устами любого из членов
деревенского сообщества претерпевает бесконечные измене-
ния; в народном театре в представление когда угодно вме-
шиваются зрители, причем актеры, уже отыгравшие свою
роль или в данный момент занятые в пьесе, становятся
зрителями (ср.: Bogatyrev Р. Lidove divadlo ceske a slovenske.
Praha, 1940); во многих видах народного изобразительного
искусства вообще невозможно установить точную границу
между продуцентом и потребителем художественного тво-
рения. И если, умудренные этим опытом, мы приглядимся
к «высокому» искусству, то также во многих случаях об-
наружим весьма активную роль воспринимающего в про-
297
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
цессе возникновения художественного произведения: ренес-
сансные заказчики изобразительных произведений нередко
предписывали сюжет, а подчас и манеру его воплощения;
в обычном театре зрители, разумеется, не появляются на
сцене, но известно, в сколь большой степени их эмоцио-
нальное участие или безучастность воздействуют на актер-
ское исполнение, а в театрах типа кабаре диалог нередко
ведется не между партнерами на сцене, а между актерами
и зрительным залом» Можно было бы привести еще мно-
жество других примеров, но для нас важно лишь доказать,
что с точки зрения участия двух сторон, стороны активной
и пассивной, нет коренного различия между языковым вы-
сказыванием и художественным произведением, иными сло-
вами —- что подобно языку художественное произведение
имеет характер знака; этим оно отличается в первую очередь
от «выражения» (экспрессии), с которым отождествляют
искусство некоторые эстетические направления» Для диа-
лектического мышления, разумеется, ясно, что художест-
венное произведение, помимо всего прочего, является так-
же, хотя бы потенциально, и выражением; однако вырази-
тельность не составляет его основы»
Художественное произведение выступает как знак и по
своему внутреннему строению, и в своем отношении к
действительности, и, наконец, в своем отношении к обще-
ству, а также к автору и воспринимающему» Рассмотрим
последовательно, хотя и весьма кратко, эти отдельные ас-
пекты его знакового характера, и в первую очередь знако-
вость его внутреннего строения» Почва для нас здесь уже
подготовлена предшествующими рассуждениями» Говоря о
проблеме содержания и формы, мы уже отмечали, что
каждая из составных частей художественного произведения
является носительницей содержания» Точно так же мы могли
бы сказать, что она является носительницей значения. Если,
например, как мы уже говорили, цвет на картине, в том
числе даже беспредметной, в зависимости от обстоятельств
кажется нам то небом, то водной гладью, это происходит
потому, что мы воспринимаем его как знак, а объект, с
которым мы этот цвет соотносим (небо, водная поверхность),
как значение» Можно утверждать, что построение художе-
ственного произведения представляется нам сложным ком-
плексом знаков и значений» Однако нам могут возразить:
а как же тема? Она тоже всего лишь значение, содержащееся
в произведении? Но такое возражение, несомненно, пока-
298
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
зывает, что тот, кто его выдвигает, недооценивает самой
сущности знака — его отношения к действительности. Ос-
новным типом знака мы считаем не символ, заменяющий
«трансцендентное», а языковой знак, слово, которое не
только заменяет материальную действительность, но и дей-
ственно на нее указывает, влияя на ее восприятие и на
поведение относительно нее. Так называемое значение сло-
ва, каким мы находим его в словарном определении, на
самом деле является лишь обозначением круга предметных
отношений, которыми обладает данное слово.
Все сказанное относится и к художественному произве-
дению, хотя и в несколько ином виде. Предметное отно-
шение, о котором мы до сих пор говорили, — это комму-
никативное предметное отношение. Различие между худо-
жественным произведением и другими знаками состоит не
в том, что художественное произведение лишено коммуни-
кативных предметных отношений. В некоторых художест-
венных произведениях они выступают абсолютно явственно
(приведем в качестве примера портрет и ведуту — в жи-
вописи или исторический роман в поэтическом искусстве).
Однако и в том случае, когда, на первый взгляд, они
полностью подавлены, именно благодаря этому подавлению
они могут ощущаться чрезвычайно живо. Так, например,
известно, какое огромное значение художники-кубисты при-
давали изобразительной, т. е. коммуникативной, стороне
своих картин. Как всякий коммуникативный знак, художе-
ственное произведение указывает на нечто конкретное и
единичное, это нечто произведение подразумевает и о нем
сообщает. Возьмем, к примеру, известные картины со сто-
гами художника-импрессиониста Моне. Художник писал эти
стога несколько раз, в разное время дня и при различном
освещении. Следовательно, он хотел каждой из своих картин
сказать: так видел определенный единичный факт действи-
тельности индивид Моне в определенный неповторимый
момент. Но хотел ли он сказать только это? Такое пред-
положение весьма сомнительно, ибо как раз импрессионисты
стремились постигнуть действительность так, как ее должен
видеть каждый человек, — таков был художественный и
даже нравственный пафос их метода. Этот взгляд на жи-
вопись может быть засвидетельствован многими высказы-
ваниями импрессионистов. Можем ли мы после всего ска-
занного предполагать, что действительный объект импрес-
сионистической картины — всего лишь та конкретная сфера
299
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
действительности, которую художник изобразил и которая
может быть совершенно безразлична зрителю? Впрочем,
если бы это так было, художнику пришлось бы от картины
к картине менять весь характер своего творчества, начиная
с техники и кончая самыми абстрактными принципами
стиля, с единственной целью как можно точнее постичь
тот или иной предмет» Вместо этого мы сталкиваемся с
совершенно иным положением вещей: манера письма у
одного и того же художника в основном остается неизмен-
ной, какие бы темы он ни воплощал, и, наоборот, художник
в значительной степени выбирает тематику, как раз исходя
из своей манеры письма, из своей художнической структуры.
Из всего этого явствует, что объектом картины является
не только непосредственно изображенный единичный факт,
но одновременно и вся действительность вообще, совокуп-
ность всего видимого глазом. И тут речь идет об отношении
к действительности, причем об отношении не менее дейст-
венном, чем так называемое коммуникативное. Выделяя
некоторые свойства реальности, художественное произведе-
ние дает определенный ключ к ее пониманию и освоению.
Таким образом, художественное произведение как знак ос-
новано на диалектическом напряжении между двояким от-
ношением к действительности: отношением к той конкрет-
ной действительности, которую оно непосредственно под-
разумевает, и отношением к действительности вообще.
Подробнее развивать вопрос предметных отношений худо-
жественного произведения было бы слишком сложно и пе-
рерастало бы рамки этой статьи. Здесь было важно лишь
показать, что реальная действительность художественного
произведения ни в коей мере не подвергается какой-либо
недооценке, а, напротив, подчеркивается концепцией, со-
гласно которой не только тема, но и все составные части
художественного произведения являются носителями зна-
чения, а следовательно, и отношения к действительности.
Впрочем, знаковость художественного произведения выте-
кает из общественного характера искусства. Внутреннее
построение художественного произведения рассчитано на
то, чтобы отразиться в действительности. Этот общий смысл
произведения приводит его во взаимоотношение с системой
ценностей, имеющих силу в данном обществе, к его идео-
логии. Художественное произведение реагирует на эту иде-
ологию и, поддерживая ее или вступая с ней в противоречие,
участвует в ее перестройке.
300
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
Мы невольно подошли к проблеме взаимоотношений
между художественным произведением и обществом. Обыч-
но эти отношения понимаются так, что художественное
произведение пассивно «выражает» общество, которым оно
было порождено, или общество, которое присваивает себе
это произведение; инициатором такого воззрения был в
первую очередь И. Тэн. Однако марксизм показал, что вза-
имоотношения между художественным произведением и об-
ществом в своей основе активны: искусство — носитель
тенденций общества или какой-либо части общества (клас-
са), оно деятельно участвует в создании идеологии этого
общества и деятельно защищает его интересы. Этот марк-
систский тезис избавляет искусство от положения всего
лишь какого-то орнамента и придает ему роль важного
фактора общественной жизни. При этом, конечно, предпо-
лагается, что путем изучения можно выявить и невыска-
занную тенденциозность художественного произведения, а
не только ту, которая открыто выражена в его содержании.
Ведь часто случается, что воинственным выразителем со-
циального энтузиазма оказывается произведение, на первый
взгляд негативно относящееся к реальным общественным
интересам, отказывающееся служить им, а порой и вообще
отрицающее всякую свою связь с эмпирической реальностью
и, несмотря на это или даже именно поэтому, деятельно
участвующее в общественном процессе (иногда и не совсем
осознанно для своего автора). И такая невысказанная тен-
денциозность — факт семантики искусства; между художе-
ственным произведением и обществом в подобном случае
устанавливаются отношения до известной степени схожие
с теми, какие существуют между образным наименованием
(метафорой и т. п.) и предметом, который это наименование
обозначает; конечно, есть различие, заключающееся в том,
что поэтическое наименование не имеет непосредственного
практического воздействия, но есть и сходство, поскольку
отношение между художественным произведением и обще-
ством в каждом конкретном случае должно быть раскрыто
семантическим анализом произведения. Исследователь,
стремящийся правильно понять социальную значимость и
воздействие произведения, должен задаться вопросом о его
собственном, «непереносном» смысле, порой противополож-
ном явному, бросающемуся в глаза смыслу. Такой подход
марксистская теория искусства действительно во многих
случаях успешно осуществила, и структуральное понимание
301
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
искусства принимает эти ее выводы в качестве исходных
установок.
Однако художественное произведение является знаком
и в отношении к отдельной личности, к своему творцу, и
к своему воспринимающему. Что касается творца (автора),
то знаковостью искусства предопределяются не только со-
знательный учет того, как должен понять произведение
воспринимающий, но и спонтанный, часто неосознанный
творческий процесс. Известно, с какими трудностями стал-
кивается психология искусства, всякий раз когда она делает
попытку установить общеобязательные закономерности
творческой художественной одаренности или творческого
процесса.
Трудности отступят, едва только исследователь поймет
знаковый характер художественного произведения; так, на-
пример, специфика особых качеств, необходимых для ху-
дожественного творчества, не вытекает из какой-то неиз-
менной «сущности» искусства и не определяется исключи-
тельно лишь психофизическим устройством данной
отдельной личности, а зависит от строения художественного
знака ца данном этапе развития: для художника-импрес-
сиониста основную черту художественного дарования со-
ставляет зрительная восприимчивость, а для художника-
кубиста — способность запоминать формы вещей, и про-
исходит это потому, что построение художественного знака
на обоих этих этапах развития различно; схема творческого
процесса, которую безуспешно пыталась установить психо-
логия, также не может быть одинаковой для всех: если,
например, выясняется, что одному поэту в процессе твор-
чества прежде всего приходит в голову звучание стиха
(интонация и т.п.), а для другого исходным моментом
является поэтический образ, то и тут необходимо поставить
вопрос, не обусловлено ли это различие в значительной
степени разницей знаковых построений в данные периоды
времени.
Что же касается воспринимающего, то, разумеется, вер-
но, что восприятие одного и того же художественного про-
изведения пробуждает в каждом индивиде иные душевные
состояния, что ими нельзя поделиться с кем-нибудь другим.
Однако все эти душевные состояния имеют нечто общее; и
то, что ощущается в них как общее, претендует на роль
общеобязательного суждения о ценности и смысле произ-
ведения. Мнение Канта об априорности эстетического суж-
302
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
дения представляет собой лишь необоснованное гипостази-
рование того в основе своей социального факта, что худо-
жественное произведение ощущается как знак, обладающий
индивидуальным значением.
Знаковость художественного произведения является, та-
ким образом, необходимой предпосылкой современной те-
ории искусства; без нее не может обойтись даже, казалось
бы, столь «формальное» искусство, как музыка. Вопрос о
смысле музыкального произведения, неизбежный, если мы
хотим раскрыть и изучить социальное воздействие музыки,
разумеется, сложен, поскольку, на первый взгляд, музыка
представляется искусством чисто «формальным». Необходи-
мо чрезвычайно тщательно и в тесной связи с иными видами
искусства изучить семантическое значение каждого отдель-
ного элемента музыкальной структуры (например, смысло-
вую значимость звука, мелодии, ритма, музыкального жан-
ра, отдельных инструментов и т. д.). И в других видах
искусства семантическое исследование зачастую также при-
водит к неожиданным выводам: так, например, теории по-
этического искусства удалось в последнее время обнаружить
подчас весьма конкретные смысловые оттенки в отдельных,
казалось бы совершенно абстрактных, метрических схемах.
Семантика искусства — важная область, ожидающая под-
робного исследования.
Теперь мы переходим к последнему из тех терминов
чехословацкой теории искусства, которые мы хотим кратко
охарактеризовать (разумеется, мы не намерены утверждать
тем самым, что это полный перечень и продолжить его
невозможно). Речь идет о понятии функции. Мы не пред-
полагаем разбирать здесь это понятие во всей широте воз-
можных его применений в области теории искусства. Итак,
прежде всего нет необходимости распространяться о том, в
какой мере взаимоотношения отдельных элементов худо-
жественной структуры могут быть поняты и в качестве
функций этих элементов по отношению к целому, состоя-
щему из остальных элементов, и, следовательно, к структуре
произведения. Здесь нас будут интересовать только функции
искусства по отношению к тому, что находится вне искус-
ства. Искусство обладает различнейшими возможностями
воздействия, и художественное произведение может быть и
создаваемо с учетом определенной возможности воздейст-
вия. Всегда существует множество возможностей воздейст-
вия художественного произведения, но нередко случается,
зоз
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
что художественное произведение воздействует совсем в
ином направлении и не с той целью, какая ему была
предназначена автором» Существуют и свидетельства того,
как художник противился восприятию своего произведения
в иной функции, чем та, для которой он предназначал его
сам; так, например, чешский поэт Безруч протестовал,
когда его стихи, предназначенные для национального и
социального воздействия, воспринимались преимущественно
в эстетической функции» Весьма часто функции художест-
венного произведения на протяжении его существования
изменяются с переменой эпох и воспринимающих поколе-
ний. Поэтому вопрос о функциях искусства необходимо
ставить как проблему развития. В сущности искусство спо-
собно оказывать влияние в различнейших направлениях,
функции его многочисленны, причем не только во времен-
ной последовательности, но и симультанно. Эти функции
также создают структуру, отдельные элементы которой на-
ходятся в состоянии взаимного подчинения и господства;
соотношение подчинения и господства в процессе развития
изменяется — в особенности доминирующая, преобладаю-
щая функция в каждый отдельный период развития ока-
зывается иной. Разумеется,в этом вопросе необходимы чрез-
вычайно конкретные исследования, в общем плане можно
сказать лишь об отношении между эстетической функцией,
основной для искусства, и остальными функциями. Взгляды
на это отношение весьма различны: одни полагают, что
при любых обстоятельствах в искусстве преобладает и дол-
жна преобладать эстетическая функция, тогда как другие,
напротив, придерживаются мнения, что собственное назна-
чение искусства и главнейшее оправдание его существования
заключено во внеэстетических функциях, каковы, напри-
мер, функции интеллектуальная (познавательная), полити-
ческая, нравственная, различные оттенки функции соци-
альной и т. д. Как разрешить этот спор? Прежде всего
необходимо осознать, что эстетическая функция далеко не
ограничивается одним лишь искусством, а пронизывает всю
человеческую деятельность и в этой деятельности ни в коей
мере не препятствует жизненно важным интересам чело-
века, а, наоборот, часто действенно их поддерживает (на-
пример, в воспитании, в ремесленном и промышленном
производстве и т. п.). Далее нужно учитывать, что эстети-
ческая функция диалектически противоположна всем ос-
тальным, и это происходит потому, что она не обладает
304
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
собственной целью, к которой могла бы стремиться; поэтому
она не отвлекает человека от предмета, который является
ее носителем, а, напротив, привлекает его внимание к этому
предмету: если, например, у какого-либо инструмента или
орудия преобладает эстетическая сторона, то этот предмет —
например, что-либо из посуды или какой-то предмет до-
машней обстановки — тем самым изымается из практиче-
ского использования, перестает быть средством для дости-
жения цели и становится самому себе целью. Цель пред-
ставляет собой «содержание» всякой функции, определяет
ее качество и, как правило, дает ей название: функция
хозяйственная, политическая, познавательная и т. п. Эсте-
тическая функция не имеет такого содержания и в этом
смысле является несодержательной, формальной. Это диа-
лектическое отрицание функциональности как таковой. Все
это, однако, не мешает ей вступать в диалектические вза-
имоотношения с остальными функциями, образуя с ними
синтезы; именно по той причине, что она не имеет собст-
венных качеств, эстетическая функция чрезвычайно легко
усваивает качества иных функций, которым она сопутст-
вует. Так обстоит дело в искусстве и вне искусства. Однако
в искусстве основным, «немаркированным» полюсом анти-
номии, естественной и основной функцией, является эсте-
тическая функция, вне искусства — какая-либо из внеэсте-
тических функций. Это отнюдь не означает, что в искусстве
эстетическая функция должна быть функцией преоблада-
ющей и что, наоборот, она никогда не может преобладать
в сфере внехудожественной продукции. Случаи, когда в
искусстве преобладает одна из внеэстетических функций,
даже весьма часты, — но коль скоро художественное про-
изведение воспринимается именно как творение искусства,
конечный синтез функций окрашен эстетической функцией
в такой мере, что и преобладающая внеэстетическая фун-
кция выступает как эстетический факт, как фактор худо-
жественного построения произведения. Наоборот, в области
внехудожественной, где «немаркированной» является какая-
либо из внеэстетических функций, и эстетическая функция
неизбежно обретает «практическую» окраску, вступает на
путь прямого служения той цели, к которой направлена
преобладающая функция предмета или деятельности. Так,
например, изобразительная (коммуникативная) функция в
картине, которая была задумана как художественное про-
изведение, способом и степенью своего проявления в очень
305
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
большой степени определяет художественное построение
картины; тем самым она входит в художественное произ-
ведение как его существенная составная часть и не теряет
своего значения, даже если не может оказывать практиче-
ского воздействия (картина с совершенно незнакомым нам
пейзажем и т. п.). И наоборот, в коммуникативной картине,
назначение которой внехудожественное, например в иллю-
страции к научному руководству, эстетическая функция,
даже если она найдет себе применение, может проявиться
лишь как средство, дополняющее сообщение, содержащееся
в картине; если бы эстетическая функция здесь преобладала,
она превратила бы коммуникативные иллюстрации в худо-
жественное произведение.
Исследование функций искусства еще находится в на-
чальной стадии. К настоящему времени наиболее последо-
вательно продумана проблема функций в архитектуре, где
вопрос о назначении постройки крайне настоятелен. В те-
ории же архитектуры неоднократно высказывалось и было
доказано положение, что художественное формообразова-
ние, которое, на первый взгляд, возникает как плод эсте-
тически преднамеренного творчества, в действительности
рождается в результате приспособления данного творения
к условиям и требованиям внеэстетическим, природным или
общественным, иными словами, что именновнеэстетические
функции играют необыкновенно важную роль в развитии
художественного формообразования. Благодаря тому, что
искусство, казалось бы, вопреки своей природе, постоянно
вынуждено практически воздействовать на жизненный про-
цесс, оно обновляет свое эстетическое построение. Отноше-
ние искусства к материальной действительности и к обще-
ственному процессу раскрывается, следовательно, в свете
функций во всем своем многообразии и интимности. Наука
о функциях, наряду с наукой о семантике искусства, спо-
собна создать органическую связь между так называемой
социологией искусства и изучением художественного по-
строения, областями, которые до сих пор — в ущерб делу —
скорее проявляли склонность к взаимной изоляции.
Мы сделали попытку кратко обозреть и истолковать
некоторые основополагающие понятия чехословацкой тео-
рии искусства. Наши объяснения, внешне абстрактные, в
значительной своей части опираются на совершенно конк-
ретные исследования. Взгляды наши ни в коей мере не
носят догматического характера, — если что-то в данной
306
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
краткой статье производит подобное впечатление, то впе-
чатление это совершенно ложное, и вызвано оно исключи-
тельно резюмирующей манерой формулировок. Каждая ра-
бота, основанная на конкретном материале, видоизменяет
эти общие принципы, уточняет их и корректирует ошибки.
От чешского гербартизма к современному структуральному
пониманию теории искусства ведет длинный путь, полный
перемен, наиболее решающими из которых в последние два
десятилетия были встреча с диалектической логикой и встре-
ча с марксистскими предпосылками теории искусства.
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ
К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
(.Беседа с академиком Яном Мукаржовским)
Свое восьмидесятилетие, уважаемый профессор, Вы от-
мечаете (и мы вместе с Вами) в пору, когда, так сказать,
во всем мире — от Советского Союза до Соединенных
Штатов — проявляется все растущий интерес к струк-
турализму, а тем самым и к Вашему научному творчеству,
которое было связано с этим направлением еще в трид-
цатые — сороковые годы. Во Франции структурализм
стал даже не только признанным методом во всей области
гуманитарных наук, но и культурной модой, быстро рас-
пространившейся и в других странах. Что бы Вы, как
ученый, которого обычно называют основоположником
или, по крайней мере, одним из пионеров структурализма
в эстетике и в науках об искусстве, — считали особо
необходимым подчеркнуть, исходя из собственного опыта?
Сейчас, когда «структурализм» распространился на мно-
жество национальных контекстов и дал немало научных
ответвлений, это понятие стало многозначным, поскольку
отдельные люди нередко вкладывают в одно и то же слово
какой угодно смысл (порой даже совершенно противопо-
ложный его истинному значению), а потому я не очень
охотно и не очень часто им пользуюсь. Но когда это понятие
возникало в Пражском лингвистическом кружке, оно было
307
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
не только определенным образом ограничено материалом,
на котором базировалось, но и представляло собой, так
сказать, «боевой клич».
Жилось нам тогда не так-то просто, поскольку полити-
ческая реакция в первой республике обладала достаточно
острым чутьем, чтобы унюхать, что речь идет о небезопас-
ном призыве к самостоятельности мышления. Помнится,
один из коллег по университету сказал мне: «Неужели Вы
и впрямь считаете, будто у нас, чехов, хватит силы, что-
нибудь придумать? Это прерогатива больших народов* Нам
же остается только перенимать и подражать». И хоть коллега
был старше меня, я тогда ответил ему, что не сомневаюсь:
и у него, и у меня мозг устроен так же, как у других
людей. В другой раз профессор Зих — чью память я с
благодарностью чту — обратился ко мне как к своему
доценту: «Теперь Вам еще дают относительный покой, ибо
считают Вас занятным молодым человеком, но как только
поймут, что Вы готовы насмерть стоять за правду, вот когда
Вы натерпитесь!» И это было верное предсказание.
Я рассказываю это для того, чтобы объяснить, отчего
само название «структурализм» стало для нас боевым кли-
чем. Поистине кличем, направленным против эклектизма
в науке, против нежелания додумывать и последовательно
исправлять ошибки даже в собственном мышлении. Однако
сегодня мне представляется более важным подчеркнуть то,
что составляет самый фундамент структурализма — хотя
бы такого структурализма, какой привычен нашему пони-
манию. Ведь я считаю, что в нынешнем хаотичном, неу-
порядоченном мире именно диалектическое мышление (а
оно содержится в самой сути структурализма, ибо de facto*
структурализм для нашей науки в какой-то мере термин,
заменяющий понятие «диалектическое мышление») должно
стать как бы «неназываемой» основой не только для любой
научной работы, но и вообще для какого бы то ни было
осмысления искусства.
Мне кажется, что множество противоречий нынешнего
мира, которые подчас приводят людей в отчаянье и пред-
ставляются им непреодолимой преградой, на самом деле
могут быть разрешены с помощью подлинно диалектического
мышления; разумеется, я не говорю, что это было бы просто.
Вот что я хотел сказать в связи с самим понятием
♦ в действительности (лат.).
308
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
«структурализм», которое следует понимать в его истори-
ческой изменчивости.
Однако нынешний структурализм упрекают — разу-
меется, не всегда справедливо — именно в том, что он
недиалектичен. А потому сейчас Ваше, так сказать, из-
начально диалектическое понимание структуральной эс-
тетики, литературоведения и сравнительной теории ис-
кусства в самом деле весьма актуально и важно. Какие
предпосылки, по Вашему мнению, необходимы для такого
последовательного применения диалектики в структураль-
ном исследовании, которое Вы имеете в виду?
Прежде всего обратим внимание на понятие «структура»,
которое также касается не только искусствоведения. Самое
широкое определение говорит о структуре как о целом,
однако существует немало понятий «целого», в том числе
и явно ошибочных (например, то, что носит название «хо-
лизм»). Для нас структура лишь такое целое, которое внут-
ренне и притом динамически организовано, то есть целое
непрерывно меняющееся, объединенное отнюдь не гармо-
нией составляющих, а в первую очередь напряжением между
ними, то есть противоречиями или, если угодно, противо-
положностями — в зависимости от того, в каком смысле
мы пользуемся этими словами.
Таков фундамент диалектического мышления о дейст-
вительности, но это еще не исключает идеалистического,
гегелевского представления о диалектике. Дело в том, что
для Гегеля противоречия, источник которых и коренится в
самом процессе мышления, в конце концов направлены на
то, чтобы вылиться в некое окончательное и уже тем самым
мертвое единство. Истинно диалектическое мышление ищет
источник противоречий и напряженности отнюдь не в про-
цессе мышления, но в движении самой действительности,
ибо именно действительность сама по себе неизбежно со-
держит противоречия. Если в ней больше нет внутренних
противоречий, она уже становится только формой без со-
держания, которая, скорее, обволакивает действительность,
нежели ее раскрывает.
Диалектическое мышление существует для того, чтобы
устанавливать противоречия, содержащиеся в действитель-
ности, и указывать направление движения самой дейст-
вительности в его динамической сложности. Диалектиче-
409
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ское мышление указывает также, что противоречия, со-
держащиеся в действительности, своими взаимосвязями
эту действительность одновременно и объединяют и раз-
рушают и что действительность (например, в области
культуры), которая утрачивает внутренние противоречия,
распадается.
А потому следы гегелевского идеализма нужно видеть
и в упрямо бытующих воззрениях, будто движение может
быть лишь скачкообразным. Никогда ни одна диалектиче-
ская противоположность не существует в одиночку; любая
вещь, любое явление, любая форма действительности, любой
ряд предметов включены в бесконечное множество связей —
все соотносится со всем, как учит нас марксизм. И уже
потому невозможно, чтобы диалектическое движение про-
исходило лишь с помощью революционных переворотов.
Оно происходит постоянно, непрестанно, поскольку безоста-
новочно перегруппировываются взаимоотношения вещей,
явлений и постоянно меняется иерархия составляющих его
элементов, их взаимная организация. Именно это непре-
станное движение и создает единство движения действи-
тельности; это не парадокс, а естественная необходимость.
Тем, что я сейчас сказал, ни в коей мере не отменяются
резкие перевороты и закон перехода количества в качество;
однако необходимо подчеркнуть непрерывность диалекти-
ческого развития.
Целое, в котором перестают действовать внутренние про-
тиворечия, начинает разлагаться. За примером недалеко
ходить. Едва какое-нибудь отмирающее культурное уста-
новление или художественное направление лишаются своих
внутренних противоположностей и их составные части ока-
зываются в полном согласии, единство сразу же распадается.
Поэтому в живой структуре, которая является диалектиче-
ским целым, не может быть неизменных соотношений. Даже
такое основополагающее и примитивное соотношение, как
отношение между содержанием и формой (в искусстве и
вообще во всем), тоже представляет собой диалектическое
противоречие. И потому то, что может порой казаться
формой, в иной момент может стать содержанием, да в
конце концов все одновременно может быть и содержанием
и формой. Какое значение, например, в «Мае» Махи имеет
слово «май»? Означает ли оно содержание или форму? Это
непосредственный исходный момент тематики поэмы или
же это слово, звучание которого составляет один из основ-
310
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ных компонентов ее звукового построения, то есть постро-
ения, казалось бы, чисто формального? Оно и то и другое
одновременно*
Итак, структура пребывает в постоянном движении.
И тут мы в первую очередь сталкиваемся с гегелевским
представлением о так называемой имманентности, о са-
мопроизвольном движении.
Когда теория имманентного движения попала в поле
зрения нашего поколения — в особенности под русским
влиянием, поскольку чешская, точнее австрийская, офици-
альная философия, гербартизм, при множестве достоинств
была абсолютно статична — мы уже были зарождающимся
Лингвистическим кружком* Наши гносеологические пред-
посылки (в основном, абстрактные) были таковы: вначале
необходимо предположить существование какой-то системы
средств выражения, и вот каким-то образом случилось, что
равновесие составных частей внутри этой системы наруша-
лось, система с нарушением справляется посредством пере-
становки составных элементов, но тем самым создает новое
нарушение, требующее нового выравнивания, и так далее
до бесконечности — движение, которое началось с первым
же нарушением равновесия внутри системы, никогда уже
не прекратится.
Вскоре мы поняли, что эта идея в своем абстрактном
виде в каком-то смысле примитивна* Но именно для нас,
в Чехословакии, она имела ту преходящую выгоду, что
подчеркнула связь процессов в области культуры со време-
нем. Например, еще в «Истории чешской литературы» Влче-
ка взаимосвязь вещей возникала лишь кое-где в весьма
неопределенно понимаемом всеобщем историческом процес-
се, который представляет собой скорее фон, нежели по-
длинную реальность; тут дается полный простор методоло-
гическому эклектизму, позднее, у последователей Влчека,
еще более развившемуся*
Поэтому идея имманентного движения нам импониро-
вала, правда, довольно скоро стало выясняться — больше
в литературоведении, чем в лингвистике, — что последняя
причина движения структуры не может содержаться в самой
структуре, что понятие «структура» уже содержит идею
внутренней связи со временем* Дело в том, что вещь,
которая изменяется, — в данном случае литература —
311
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сохраняет свое тождество, несмотря на все изменения, ко-
торые с ней и в ней происходят.
Но откуда появляются импульсы к движению?
Они не могут появляться ниоткуда, кроме как извне.
И тут необходимо вспомнить известные тезисы Тынянова и
Якобсона «Проблемы изучения литературы и языка» («Но-
вый Леф», 1928), где они обращают внимание на то, что «без
выяснения этих законов невозможно научное установление
соотнесенности литературного ряда с прочими исторически-
ми рядами» и что «эта соотнесенность (система систем) имеет
свои подлежащие исследованию структурные законы».
Здесь фактически было впервые указано на то, что
литература движется, т. е. исторически изменяется, не в
безвоздушном пространстве, что она окружена и другими
явлениями культуры, которые тоже не стоят неподвижно.
Это историческое движение непременно ведет к тому, что
движущиеся структуры то взаимно сближаются, то отдаля-
ются; на первый план выступает то одна, то другая из них.
Или же что перестановки происходят и в их иерархии, эти
структуры взаимодействуют друг с другом и даже порой
непосредственно проявляют стремление переходить одна в
другую, например поэзия в музыку, музыка в поэзию,
живопись в поэзию и тому подобное. К этим-то взаимоот-
ношениям отдельных структур и восходят импульсы к из-
менениям каждой из них.
Итак, отсюда оставался-уже всего шаг к мысли о том,
что движение каждой структуры происходит не только внут-
ри ее самой, но и стимулируется извне. Это был шаг, из
которого наука об искусстве еще долго — собственно говоря,
и поныне — не сумела вывести окончательных заключений.
И все же сейчас ясно, что представление о сравнительном
литературоведении, каким его создал романтизм, преодо-
лено уже в самой своей основе. Но до сих пор, к примеру,
еще до конца не умерла идея о национальных литературах
ведущих и подчиненных, представление о том, что приви-
легией служить источниками импульсов развития обладают
лишь литературы больших народов, которые определяют
движение остальных литератур. Точно так же, как еще не
исчезло представление о том, что одно национальное ис-
кусство отбрасывает свет на ряд других. Если сделать из
Тынянова и Якобсона окончательные выводы, то станет
312
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
ясно, что речь идет совсем о другом. А именно о взаимо-
действии структур, которые, несмотря на большое родство,
уже хотя бы потому, что пользуются разным материалом,
имеют разные взаимоотношения с публикой и тому подо-
бное, должны достигать одной и той же цели разными
путями и разными средствами. Иначе говоря, учение о
транспозиции из одного вида искусства в другой, ставшее
теперь уже обычным и абсолютно ясным, например при
контакте кино и литературы, в сознание компаративистской
практики еще окончательно не вошло.
Точно так же можно было бы привести целый ряд след-
ствий, вытекающих из тезисов Тынянова и Якобсона, таких,
например, как вопрос о взаимоотношениях между фольк-
лором и литературой. Словесный фольклор имел в науке
различные судьбы. Когда во времена романтизма на него
стали обращать внимание, он непосредственно восприни-
мался — по тогдашней терминологии — как родная речь
человеческого духа, но очень скоро был отброшен в круг
представлений о подчинении и управлении, о влияниях и
стал казаться чем-то производным, вторичным; в начале
нашего века была создана известная теория, согласно ко-
торой фольклор представляет собой деградировавшее куль-
турное наследие1. Однако очень скоро художественная прак-
тика заняла по отношению к фольклору совершенно иную
позицию: достаточно установить реальное влияние словес-
ного фольклора на литературное творчество или на твор-
чество изобразительное. Вспомним, например, что значил
сказочный фольклор различных народов хотя бы для пове-
ствовательного искусства Карела Чапека. И это опять же
доказательство того, что развивающаяся структура должна
получать импульсы от разных структур и что все эти струк-
туры взаимно равноценны.
Однако в тезисах Тынянова и Якобсона не было сказано
последнее слово.
Не было сказано, что где-то есть еще и другой источник,
под воздействием которого все культурные явления начи-
нают различным образом перемещаться и меняться отно-
сительно друг друга. Но почему? В чем причины этого?
Так начала выявляться значимость вопроса об отношениях
между культурой как целым и обществом, эту культуру
создающим.
313
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Тут мы впервые сталкиваемся с известным тезисом о
прямой, непосредственной зависимости развития культуры
от движения общества, тезисом, который кое-где еще на-
стойчиво держится, хотя уже в немалой степени доказал
свои слабости. Дело в том, что если мы начнем понимать
отношение между движущейся общественной действитель-
ностью и развивающейся культурой как зеркальное отра-
жение, а, следовательно, развитие литературы и всей куль-
туры как прямую копию развития общества, то перед нами
встанут — и это еще не говоря о художественной практике —
неразрешимые вопросы. Чем объяснить хотя бы то явление,
что при общественных преобразованиях, причем таких бес-
предельно широких, как, например, переход от язычества
к христианству, для выражения совершенно новых идей и
потребностей в качестве выразительного средства долго еще
оставался художественный метод, созданный старой систе-
мой? И такие случаи повторяются довольно часто. Или
почему близящиеся общественные перевороты часто прояв-
ляются в искусстве потрясением художественных основ,
причем раньше, чем эти перевороты происходят в дейст-
вительности? Так, мы сами были свидетелями этого перед
второй мировой войной, когда искусство как чувствительный
сейсмограф уже показывало — хотя и в весьма несхожих
подобиях — близость того, что произойдет. Это в равной
мере подтверждается и творчеством Чапека, и творчеством
сюрреалистов.
Но и тут необходимо мыслить диалектически, ибо речь
идет отнюдь не об отношении между действительностью и
ее точной копией, а о диалектической взаимосвязи. И хотя
мы знаем, что искусство — явление социальное, что глухое
к потребностям общества художественное творчество не
имело бы смысла, все же, несмотря на то, что мы это знаем
и нам это совершенно ясно, не утратил значения вопрос,
как и какими способами искусство проявляет себя в качестве
социальной силы. Должно ли это его свойство всегда про-
являться в том, что искусство как-то согласуется с дейст-
вительностью, которая в данный момент существует? Или
в том, что оно стремится ее изобразить? Или искусство как
социальная сила может найти себе применение — и весьма
действенное — именно в отказе от прямого изображения
действительности?
Когда появился Пикассо со своим кубизмом, это пока-
залось значительным отклонением от действительности, но
314
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
теперь уже ясно, что искусство Пикассо было протестом
против разлагающегося мира. Протестом страстно револю-
ционным, и такое отношение к действительности сам ху-
дожник чувствовал весьма интенсивно. Думаю, мы все знаем
известный натюрморт Пикассо в собрании Крамаржа . Вин-
ценц Крамарж никогда не забывал вынуть из стоящего под
натюрмортом комода мумифицированное яблоко, подарен-
ное ему Пикассо в доказательство того, что моделью ему
служил реальный фрукт. Хоть эта деталь и анекдотична,
однако она указывает, что взаимоотношения искусства и
действительности абсолютно не связаны с тем, копирует ли
искусство действительность. В целом метаморфозы искус-
ства состоят в чрезвычайно близких отношения с метамор-
фозами социальной действительности, однако сам этот факт
еще ничего не говорит о том, насколько их отношения
прямы и непосредственны, ибо тут вступает в игру момент,
с которым в интересах диалектики тоже необходимо счи-
таться, а именно — случайность.
Об этом, пожалуй, можно было бы сказать очень много;
для современной философии вопрос случайности является
неотъемлемой частью размышлений о причинопорядке.
Без случайности — диалектической противоположности
стройной упорядоченности — вообще не существует поряд-
ка, а вместо него — всего лишь мертвое однообразие. Ис-
кусство, которое исключило бы случайность, было бы уже
на пути к своей гибели. Разумеется, случайность, воздей-
ствующая на отношения между искусством и действитель-
ностью, помогая искусству изображать действительность та-
кой, какова она есть, не является единственным фактором.
Мы бы рассуждали недиалектически, если бы провозгласили
случайность первопричиной всех изменений.
В искусстве наглядно видно, что любое изменение твор-
ческого метода представляется современникам «случайно-
стью» и что таким же оно представляется и самому искус-
ству. Трудно представить себе художника, желающего со-
здать в точности то, что делали до него другие, —
разумеется, кроме эпигонов. Если мы говорим о настоящих
художниках, то каждый из них непременно приступает к
творчеству с убеждением, что будет делать нечто совер-
шенно иное, что свое отношение к миру и к действитель-
ности он выразит иначе, чем их выражали до него все
315
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
другие. Однако если он не хочет лишиться взаимопонимания
с современниками, его искусство должно сохранять и свою
тождественность. Неизбежной противоположностью случай-
ности, представляемой индивидуальным вмешательством в
развитие искусства, является художественная традиция, то
есть тематические и формальные элементы, ставшие уже
общепринятой нормой и, как строительный материал, при-
надлежащие всем. Без них искусство просто невозможно.
Тут есть диалектическая взаимозависимость — и это, по-
жалуй, самая важная взаимозависимость для искусства —
между случайностью, приходящей извне, и внутренней за-
кономерностью искусства. Индивидуальность художника и
есть, собственно говоря, источник всех получаемых искусст-
вом импульсов, но одновременно — если речь идет о крупном
художнике — и воплощение случайности, вмешивающейся
в процесс развития. Притом — диалектическое мышление не
должно пугаться парадоксов — именно крупный художник
становится выразителем своей эпохи, носителем ее представ-
лений о мироустройстве, о действительности, о ее составля-
ющих и тому подобном. И потому именно он своим творче-
ством дает самое веское доказательство того, что искусство —
явление и фактор социальный.
Говоря о коллективности художественного творчества,
мы касаемся невероятно сложной проблематики, когда в
качестве индивидуума порой может функционировать и
коллектив. Это — чрезвычайно сложная проблематика, хотя
она и ограничивает предыдущее утверждение о значении
личности художника как самой главной случайности в раз-
витии искусства, однако не противоречит этому утвержде-
нию. Наиболее явный пример тому — фольклор. Романтики
представляли себе фольклор как анонимное народное твор-
чество, но позднее начало выясняться, что коллективность
творчества еще не исключает участия в нем личности.
Удалось найти примеры, когда, скажем, народная песня
явно создана каким-либо автором, но затем менялась от
исполнения к исполнению и так — разумеется, опять же
не без участия определенных лиц — возникали ее варианты.
Именно такие смешения воздействия личности и коллектива
обретают в фольклоре весьма многообразные формы. На-
пример, в связи с сербской юнацкой песней господствовало
всеобщее убеждение, что гусляр должен иметь необычайную
память, поскольку исполняемый им репертуар некоторые
определяли в 70—90 тысяч стихов. Но оказалось, что ему
316
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
вовсе не нужно помнить целые песни, а лишь какое-то
количество традиционных коллективных клише, мелодиче-
ских и языковых ходов, в пределах которых он каждый раз
воссоздавал песню заново. Такова одна из версий диалек-
тического отношения между творческой личностью и кол-
лективом.
Особой формой взаимосвязи между индивидом и кол-
лективом в искусстве является также отношение между
художником и его публикой.
Собственно говоря, создателем художественного произ-
ведения — причем и на самой высокой ступени — является
не только сам художник, но одновременно и публика, ко-
торая в своих требованиях к искусству, то есть в свои
представления о том, каким должно быть произведение,
как оно должно соотноситься с действительностью, высту-
пает соавтором художника. Порой мы естественно склоня-
емся к тому, чтобы понимать отношение между художником
и публикой по аналогии с отношением между профессио-
налом или специалистом и дилетантом, но такое представ-
ление ограничено во времени и в полном своем объеме не
соответствует реальному положению вещей даже сегодня,
о чем лучше всего свидетельствует существование так на-
зываемого наивного искусства.
Следовательно, отношение между художником и публи-
кой также диалектично. Это отношение, при котором порой
и ныне еще случаются переходы из одной группы в другую
и может случиться — как это было в определенный период
с довоенным авангардом, — что наиболее близкой худож-
никам публикой становятся сами художники и т. п. Притом
в основном продолжает действовать закономерность, соглас-
но которой развитие литературы и какого угодно иного
ответвления культуры — включая науку — основано на
диалектических отношениях между случайностью и внут-
ренней необходимостью. Было бы ошибкой полагать, будто
марксистская философия отрицает внутренние взаимосвязи
искусства. Известно высказывание Энгельса, что, как только
какое-либо явление становится историческим, в тот же
момент его развитие обретает внутренние взаимосвязи.
С другой стороны, безусловно, случайность, которая необ-
ходима для придания структуре динамики, если рассмат-
ривать это соотношение диалектически, не находится в
317
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
неразрешимой антиномии с внутренней закономерностью,
но в известной мере представляет собой его составную часть
именно как диалектическое противоречие.
Если уж речь зашла об отношениях между искусством
и публикой, необходимо упомянуть о явлении, которое
некогда принесло много зла. Дело в том, что возникла
теория, будто искусство действительно общественно полезно
и прежде всего должно быть доступно и понятно одинаково
всем людям, в противном случае это плохое искусство.
Ныне, к счастью, уже ясно, что искусство, если оно хочет
выполнить свое социальное предназначение, должно быть
разнообразным, многослойным и, скажем также прямо, мно-
гоступенчатым и что иначе существовать оно не может.
Все это можно наглядно показать на конкретных прай-
мерах из истории чешской литературы.
Возродившаяся чешская литература была крайне бедна
по своим возможностям и по наличию творческих индиви-
дуальностей, а также не менее бедна и публикой. В столь
ненормальной ситуации доходило до того, что к каждому
образованному патриоту предъявлялось требование написать
какое-нибудь стихотворение. Или считалось естественным,
чтобы представители самых различных профессий и уровней
образованности подписывались, скажем, на «Журнал Чеш-
ского музея», который в сущности имел научный характер,
и т. д. Но как только чешское общество начало развиваться,
очень скоро оказалось, что, если тогдашние создатели куль-
туры хотели, чтобы литературу кто-нибудь читал, необхо-
димо было ввести в нее градацию.
Прямо классический пример этого — критическая дея-
тельность Неруды. Когда я занимался творчеством Неруды,
я с удивлением наблюдал, как этот поэт, стоявший, так
сказать, во главе самой высокой поэзии своей эпохи, как
критик настаивал на том, чтобы литература была как можно
разнообразнее, чтобы она отвечала самым различным ин-
тересам. Не случайно Неруда был в Чехии первым и по-
стоянным пропагандистом Жюля Верна. Просто он понимал
потребность, которая сохраняется и поныне, — дать соот-
ветствующее чтение и людям, не имеющим никакой склон-
ности, скажем, к лирической поэзии или к историческому
роману. Неруда шел еще дальше и выступал даже в под-
держку книги сенсационного и тому подобного характера,
318
о ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
если в этом была нужда, поскольку Неруда был не только
великий поэт, но и подходил к чешской литературе как
рачительный хозяин.
Однако когда затем выступило новое поколение и с ним
Шальда, общественная ситуация уже была иная и нужно
было акцентировать другое. А именно -т- литературу, ко-
торая ставит своей целью открывать человеку действитель-
ность и ее постоянно меняющийся облик, то есть форми-
ровать идейное и чувственное отношение человека к дей-
ствительности и пробуждать в нем стремление к постижению
живой реальности. Неруда сам был человеком не без таких
стремлений и, напротив, прекрасно сознавал, что чешское
искусство слова должно — как он говорил — развиваться
в направлении мировой культуры. Он решительно подчер-
кивал, порой даже явно гиперболически, общеевропейский
характер отдельных авторов, таких, например, как Галек
и Светлая, но одновременно должен был иметь в виду весь
объем читательских интересов. И наоборот, для Шальды и
его поколения важно было прежде всего в противовес чеш-
ской мелкобуржуазности и эклектизму создать представле-
ние о такой литературе, которая сама по себе является
носителем и источником прогрессивных ценностей и из
которой черпают свою силу и все прочие формы литера-
турного творчества.
Сегодня нам ясно и то и другое: и то, что литература
должна быть дифференцированной, и то, что безусловно
должна существовать литература, которая несет гносеоло-
гическую ответственность за искусство. Я не хочу сказать,
что остальные, так называемые «низкие», виды литературы
лишены подобной ответственности, но они зачастую не
способны развить необходимую инициативу.
Хотя круг проблем, связанных с той частью литературы
и искусства, которая несет гносеологическую ответствен-
ность, ныне в эстетике очерчен довольно четко, отношение
к другой их части остается вопросом. Создавая, например,
историю литературы, мы, как правило, пишем историю
лишь той литературы, которая представляет для нас сло-
весное творчество, но по-прежнему не делается столь нуж-
ных попыток создать картину словесного творчества во всей
его полноте, то есть картину разветвленной литературной
структуры в различные ее периоды. Карел Чапек в одном
эссе говорит, что хотел бы написать такой роман, который
можно было бы издать без обозначения автора на титульном
319
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
листе, который просто переходил бы из исколотых иглой
рук швеи в потрескавшиеся руки каменщика и т. д. То есть
роман, который на самом деле выполнял бы назначение
искусства не только в том смысле, в каком выполняет его
так называемая высокая литература, но и гораздо шире .
Короче говоря, остается еще создать картину литературного
процесса, стоящую на самой грани социологии; но это была
бы все еще не социология, а именно история литературы
как общественного явления.
Раз уж Вы, господин профессор, говорите о взаимоот-
ношениях литературы и общества, явно неплохо было бы
сказать также что-нибудь и о еще одном громадном ком-
плексе проблем — о функциях искусства
Слово «функция» невероятно модное, даже моднее, чем
слово «структура». Однако что именно под этим словом
подразумевают разные люди — причем не только пассив-
ные по отношению к культуре, но и активно в ней
действующие, — отгадать довольно трудно. Часто, к при-
меру,, пользуются понятием социальная функция — точно
есть иная функция, нежели социальная. Или делаются
различные попытки пользоваться терминдм «классифика-
ция функций».
Я не утверждаю, будто основная классификация функ-
ций, строящаяся, например, на различении функции прак-
тической, эстетической, символической и тому подобных,
была бы невозможна или нежелательна. Однако если я
произношу слово «функция», я должен представлять себе
конкретное воздействие художественного произведения, а
отнюдь не выражать требование, чтобы искусство воздей-
ствовало в предписанном направлении и предписанным об-
разом, который должен быть единственным и пригодным
для всех. Сегодня уже известно и доказано, что любое
воистину живое произведение является носителем целого
ряда функций, причем в одном случае реальных, в другом —
потенциальных, но всегда — многих.
Функционализм первоначально возник в архитектуре;
известен, например, тезис Ле Корбюзье о домах как о
машинах для жилья, что выражало принцип монофункци-
ональности. Ныне мы, пожалуй, уже весьма наглядно пред-
ставляем себе, к чему привела эта монофункциональность,
причем не только при постройке индивидуальных вилл, но
320
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
и при строительстве репрезентативных зданий или жилых
домов. Ошибочность функционализма, в свое время, правда,
являвшего собой невероятный прогресс, весьма убедительно
показал у нас в своих книгах Карел Гонзик4, противопо-
ставивший этой теории тезис о том, что мерой всех вещей
является человек, разумеется — человек во всей своей
полноте, во всем богатстве своей деятельности, своих по-
требностей и т. д. Это применимо и к области литературы
и во всех иных случаях. Недостаточно утверждать, что все
делается для человека, необходимо также позволить чело-
веку делать все по собственному разумению, по собственным
потребностям. В противном случае такая функциональность,
точнее монофункциональность, — прямой путь к умерщв-
лению всего сущего.
Когда-то Зденек Неедлы написал о «Бабушке» Немцо-
вой , что для каждого эта книжка представляет собой нечто
иное. Для детей, для взрослых, для молодых, для старых,
для людей самых различных профессий и т. д. Очень точ-
но — хотя лишь вскользь — подметил он тот факт, что
книга не только с определенной преднамеренностью писа-
лась, но с определенной преднамеренностью читалась. При-
том эта преднамеренность может совершенно не совпадать
с намерениями автора и может даже находиться в прямом
противоречии с тем, к чему он стремился. В качестве при-
мера возьмем хотя бы стихотворение Безруча «Читатели
стихов», где автор выражает нежелание, чтобы его стихи
толковались как факт искусства и чтобы забывалось, что
они — протест против социального порабощения подбескид-
ского люда. Но в конце концов оказались правы читатели,
а не поэт, потому что «Силезские песни», несмотря на
сопротивление Безруча, пережили социальное притеснение
подбескидского люда.
Учение о функциях — это огромный комплекс, который
только еще ожидает своей диалектической разработки. При-
мер должен учитываться как тот факт, что художественное
произведение и создано для того, чтобы так или иначе
воздействовать и влиять на духовную жизнь своих читате-
лей, так и то, что оно достигает этой цели лишь тогда и
лишь в той мере, в какой способно воздействовать на всего
человека, иначе говоря — многонаправленно, а следова-
тельно, может, например, для одного и того же лица в
различных жизненных ситуациях обретать совершенно раз-
ный смысл.
11—888
321
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Какую проблему Вы считаете нужным упомянуть в
заключение нашей беседы?
В конце я хотел бы еще сказать несколько слов о том,
что сегодня тоже очень модно, т. е. о семиологии поэтиче-
ского творчества. Разумеется, не для того, чтобы пытаться
достичь невозможного: в нескольких фразах дать объяснение
всего, что вытекает из знакового характера художественного
произведения. Считаю, однако, необходимым сказать хотя
бы, что, исследуя общественное воздействие художествен-
ного произведения, точно так же, как и его индивидуальное
воздействие, мы должны рассматривать это произведение,
не ограничиваясь его соотнесенностью с определенной дей-
ствительностью, той, с которой оно непосредственно связано
или которую читатель мог бы за ним угадывать. Такой
ограниченностью страдало как раз вульгаризированное по-
нимание реализма. При этом я вовсе не хочу как-то дис-
кредитировать славные традиции истинного реализма, того,
который расцвел в целом ряде европейских литератур, до-
стигнув подлинно великой красоты, я говорю о таком ре-
ализме, который близоруко требовал, чтобы художественное
произведение выражало лишь ту действительность, о кото-
рой оно непосредственно говорит.
Художественное произведение — знак особого рода, ибо
царство знаков, начиная с речи, необъятно. Его специфика
зиждется на том, что посредством конкретных фактов оно
выражает отношение к миру, к действительности вообще,
хочет договориться с людьми, с читателями о том, каким
образом можно подходить к действительности, вести себя
по отношению к ней и тому подобное. Именно выяснение
знаковой природы художественного произведения ведет к
познанию его подлинно диалектического отношения к дей-
ствительности, ибо диалектическое отношение к действи-
тельности означает способность видеть противоречия, ко-
торые содержатся в самой действительности, которые никто
не выдумал и самопроизвольно в нее не вложил.
Полагать, что произведение, которое в какой-то мере
удаляется от действительности оптической, слышимой, ощу-
тимой и т. д., нарушает свою связь с действительностью,
неверно. Напротив, свою общественную задачу не выпол-
няет именно то произведение, которое лишь копирует некую
часть действительности, доступную всего нескольким лю-
дям, только определенной среде. Следовательно, и на первый
322
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
взгляд самоочевидным утверждением, что художественное
произведение, лишенное непосредственного отношения к
действительности, не имеет смысла, можно только затемнить
истинный смысл произведения.
Благодарю Вас, господин профессор, за беседу, в которой
Вы на примере литературы, собственно говоря, рассмот-
рели — если позволите такое обобщение —• именно те
проблемы, которые нужно считать важными для размыш-
лений о нынешнем состоянии искусства и культуры вообще
и в особенности о направлении, в котором культура должна
была бы двигаться вперед.
Нельзя да и не имеет смысла конкретно предписывать
какое-либо направление, но, я считаю, необходимо — и
это, наряду с искусством, также задача наук, главным
образом гуманитарных, — осознать некоторые основные
понятия и прежде всего ту истину, что без мышления
действительно диалектического, то есть, без материалисти-
ческой диалектики, считающейся с реальной действитель-
ностью, дальнейшее развитие вообще невозможно.
п*
ТЕОРИЯ
ИСКУССТВА
ИСКУССТВО
Искусство — это отрасль твор-
ческой деятельности человека, отличающаяся преобладани-
ем эстетической функции. Как всякое человеческое твор-
чество, художественный акт включает в себя два элемента:
деятельность и творение. Деятельность рассматривается в
искусстве не только с точки зрения творца (нередко вы-
сказывалось даже мнение, что главная цель художественного
произведения исчерпывается его возникновением), но и с
точки зрения воспринимающего, особенно при активном
восприятии, когда произведение становится «продуктивной
силой и учит нас определенным способом добиваться явс-
твенного и четкого понимания сущности» (К. Фидлер1)
Впрочем, сам акт восприятия художественного произведения
не бывает моментальным, а протекает во времени и даже
проходит через отдельные фазы, в том числе — как показали
экспериментальные исследования — ив изобразительных
искусствах; таким образом, и здесь акт восприятия носит
характер деятельности. Деятельность и творение в искусстве
всегда наличествуют одновременно, но отношение между
ними может быть различным, так, например, в танце и
мимическом искусстве деятельность уже сама по себе есть
творение, в иных случаях творение, надолго сохраняемое
записью, каждый раз вновь реализуется в процессе дея-
тельности (музыка), бывает, наконец, что творение пред-
лагается воспринимающему готовым, и деятельность, в ре-
зультате которой оно возникло, лишь угадывается за ним
(изобразительное искусство, поэтическое искусство); но и
в этом случае отношение между деятельностью и творением
может живо ощущаться и составлять часть воздействия,
так, например, обстоит дело, когда перед нами живописный
или поэтический набросок, поэтическая (и музыкальная)
327
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
импровизация и т. п. В сущности же отношения между
деятельностью и творением в искусстве еще более сложны,
чем в намеченной нами схеме. Преобладание эстетической
функции делает из вещи или акта, в которых она прояв-
ляется, автономный знак, освобожденный от однозначной
связи с действительностью, на которую он указывает, и с
субъектом, от которого он исходит или к которому он
устремлен (творец и воспринимающий художественного
произведения). Чистый эстетический знак, каковым явля-
ется художественное произведение, даже в том случае, когда
он нечто сообщает, не имеет значения сообщения; если он
намечает возможность практического использования (как
инструмент какой-либо деятельности и т. п.), то существует
он не для того, чтобы выполнять это кажущееся предназ-
начение; если он выражает душевное состояние (как, на-
пример, лирическое стихотворение), то без документальной
достоверности и т. д. В эстетическом знаке внимание со-
средоточено на внутреннем строении самого знака, а не
на его связи с вещами и субъектами, на которые знак
указывает или к которым он устремлен. Как эстетический
знак художественное произведение, в отличие от служебных
знаков, используемых с практической и теоретической (по-
знавательной) функциями, — знак самодовлеющий и даже
самоцельный. Но преобладание эстетической функции в
искусстве носит особый характер. Эстетическая функция
сама по себе недостаточна, чтобы придать полный смысл
создаваемому ею знаку, — в этом ей мешает как раз
недостаточная направленность на внешнюю цель, ибо имен-
но эта направленность устанавливает отношение других,
внеэстетических функций к определенным областям или
сторонам действительности, которые проецируются в сами
эти функции как их «содержание»; так, например, «содер-
жание» экономической функции — это область экономи-
ческих явлений, содержание социальной и политической
функций — определенные стороны общественного бытия.
Поэтому и в эстетический знак, каковым является худо-
жественное произведение, конкретное содержание вносят
внеэстетические функции, сообщая ему свойственную им
прямую связь с действительностью, находящейся вне знака.
Но в функциональном отношении различие между художе-
ственным произведением и другими творениями человека
заключается в том, что при внеэстетических видах деятель-
ности и их продуктах функциональная направленность в
328
ИСКУССТВО
максимальной мере однозначна: действие и вещь, возника-
ющая в результате его, «наиболее целесообразны» в том
случае, когда они лучше всего приспособлены к осуществ-
лению своего назначения; с художественным произведением
дело обстоит иначе: преобладание эстетической функции
мешает какой бы то ни было из остальных функций обрести
господствующее положение и приспособить внутреннюю ор-
ганизацию вещи, т. е. художественного произведения, к
тому, чтобы она однозначно преследовала одну-единствен-
ную цель. Сама же по себе эстетическая функция из-за
своей «формальности» (т. е. из-за отсутствия внешней цели
и вытекающего из нее содержания) не способна заслонить
какую-либо из остальных функций и тем более целый их
комплекс. Преобладание ее сводится лишь к тому, что она
служит противовесом внеэстетическим функциям, не по-
зволяя ни одной из них подавить все прочие, но зато
организует их взаимоотношения и создает напряжение меж-
ду ними, явственно подчеркивая множественность функций,
сосредоточенных в одной вещи, т. е. в данном случае — в
художественном произведении.
Не опираясь полностью ни на одну из функций, кроме
«прозрачной» эстетической функции, искусство вновь и
вновь обнаруживает полифункциональность отношения
между человеком и действительностью, а тем самым и
неисчерпаемое богатство возможностей, которые действи-
тельность открывает перед человеческой деятельностью, вос-
приятием и познанием. В этом противоположность искусства
другим видам человеческого творчества, которые хотя и
служат необходимым экзистенциональным потребностям,
однако в каждом конкретном случае одновременно лишают
человека всех возможностей действия, восприятия и позна-
ния, потенциально содержащихся в отношении между ним
и действительностью, но не желательных с точки зрения
данной конкретной цели. Таким образом, существование
искусства в его отношении к другим видам человеческой
деятельности оправдано именно тем, что искусство не пре-
следует никакой однозначной цели. В функциональном пла-
не его задача — освобождать человеческую способность к
первооткрытиям от схематизирующего влияния, которым
ее опутывает жизненная практика, вновь и вновь пробуж-
дать в человеке сознание, что он может занять по отноше-
нию к действительности столь же неисчерпаемое множество
исходных позиций для действия, сколь многогранна сама
329
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
действительность, также отгораживаемая от человека за-
стывшей иерархией однозначно направленных функций. Од-
нако в полном объеме это относится к художественному
произведению вообще и к искусству как безостановочно
текущему потоку развития. Конкретное художественное
произведение или искусство конкретного периода, разуме-
ется, даже приблизительно не демонстрируют всего богат-
ства функциональных отношений между человеком как
субъектом и действительностью как объектом; но даже при
таком ограничении искусство в принципе полифункцио-
нально и ориентирует воспринимающего на иную систему
функций, чем та, к которой он привык; оно ведет его к
иному, до сих пор не использовавшемуся способу воззрения
на действительность и к иному, до сих пор небывалому
обращению с ней — отсюда способность искусства предвос-
хищать жизненную практику и науку. Тем не менее и в
художественном произведении необходимо предполагать —
как противовес к эстетической самоцельности — потенци-
альную тенденцию к однозначной целенаправленности; если
эта тенденция объективно проявляется и в построении про-
изведения, в нем дает себя почувствовать склонность к
прямому контакту с действительностью; и все же осущест-
влению такого контакта будет мешать неотъемлемо прису-
щая искусству полифункциональность. Но если тенденция
к однозначной функциональной целенаправленности возоб-
ладает над полифункциональностью, неизбежно наступает
ослабление или даже полный упадок художественного воз-
действия произведения. Оптимальным с точки зрения ис-
кусства является сильное полярное напряжение между по-
лифункциональностью и однозначной функциональной це-
ленаправленностью, иными словами — между преобладанием
эстетической функции и преобладанием той из внеэстети-
ческих функций, которая наиболее интенсивно проявляется
в данном произведении. В одном и том же художественном
произведении на протяжении его существования роль ве-
дущей внеэстетической функции поочередно могут играть
разные функции. Можно даже предположить, что чем богаче
комплекс функциональных вариаций, допускаемый постро-
ением конкретного произведения, тем с большей вероятно-
стью оно надолго сохранит свое художественное воздействие
(ср., например, драмы Шекспира). Но и в том случае, если
речь не идет о «вечных» художественных ценностях, сдвиги
в системе функций на протяжении существования произ-
330
ИСКУССТВО
ведения — вещь совершенно обычная. Случается, например,
что произведение, которое при своем возникновении фун-
кционировало прежде всего эстетически, своим дальнейшим
воздействием обязано какой-либо из внеэстетических фун-
кций. Так, «Вечерние песни»2 Галека жили дольше и ин-
тенсивнее, чем остальная его поэзия, но уже преимущест-
венно не как эстетический факт, а в силу своей функции
эротического символа: как стихи в альбомах, как признания
в любви и т. д. И наоборот, иногда фактом преимущественно
эстетическим задним числом становится произведение, ко-
торое первоначально функционировало преимущественно
внеэстетически. Так было со многими видами словесного
народного творчества при их переходе в художественную
литературу.
Таким образом, иерархия функций в искусстве измен-
чива и на различных этапах развития претерпевает сдвиги;
каждый раз непосредственно конкурирует с эстетической
функцией иная функция. Так, например, в поэтическом
искусстве подобной конкурирующей функцией может быть
то изобразительная функция, то познавательная, то экс-
прессивная, то пропагандистская во всех ее разновидностях
(тенденция политическая, религиозная, социальная и т. д.).
Бывают также периоды, когда эстетическая функция нахо-
дится на первом плане одна, без прямой конкуренции с
какой-либо иной, внеэстетйческой функцией. Таковы, на-
пример, периоды формальных завоеваний, следовательно
подготовительные, или, наоборот, периоды пересмотра фор-
мальных открытий, сделанных на протяжении длительного
отрезка времени, следовательно, завершающие эпоху раз-
вития и подводящие итоги уже кончившейся борьбы за
решение определенной художественной проблемы, — в обо-
их случаях искусство носит «формалистический» характер.
Но по своей сути искусство всегда полифункционально и
динамично в функциональном отношении. Это свойство
проявляется как на протяжении всего его развития, так и
в отдельных художественных произведениях. Нередки слу-
чаи, когда определенное художественное произведение од-
новременно имеет несколько различных функциональных
доминант соответственно разновидностям среды, разным
слоям, поколениям и т. д. воспринимающих: «Бабушка»
Немцовой воспринимается как художественное произведе-
ние, как трактат о воспитании, как чтение для народа, как
фольклористический документ и т. д. Может также слу-
331
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
читься, что для автора произведение будет в функциональ-
ном отношении выглядеть иначе, чем для публики: при-
мер — «Силезские песни» Безруча (см. об этом статью:
Tendencm шлёт. — Ottfiv slovnik naucny nove doby, 1943,
VI, sv. 2, s. 1048—1049)*.
Колебание между эстетической и иными функциями в
ряде видов искусства (например, в архитектуре) и в ряде
художественных жанров (например, в жанре портрета, в
жанре исторического романа) даже входит в самое сущность
данного вида искусства или жанра. Из-за этих колебаний
границы между сферами художественного и внехудожест-
венного творчества крайне трудно различимы, ибо в свою
очередь можно сказать, что всякий вид человеческого твор-
чества в той или иной мере способен нести в себе эстети-
ческую функцию, положение которой по отношению к дру-
гим функциям может привлечь в данную минуту внимание
определенного индивидуума. Отдельные виды творчества
постоянно находятся на самой грани искусства, так что их
то считают, то не считают искусством (например, освети-
тельная техника в XVIII веке была почитаема искусством,
позднее же оказалась вычеркнутой из перечня искусств, а
ныне вновь заявляет о своей принадлежности к числу ис-
кусств — ср. PesanekZ. Kinetismus, 1941). Иногда же не-
которые виды деятельности, по происхождению своему вне-
художественные, прочно входят в разряд искусств: кине-
матограф. Есть и такие виды человеческой деятельности,
прямое назначение которых — посредничать между искус-
ством и внехудожественным творчеством: художественные
ремесла. Впрочем, вообще отделять искусство от внехудо-
жественного творчества начали не слишком давно: разуме-
ется, определенные различия установила здесь уже элли-
нистическая эпоха (Baumler A. Asthetik, 1934), но средне-
вековье различает виды творческой деятельности только на
основе того, носят ли их продукты материальный (artes
serviles**) или духовный характер (artes liberates***) —
при этом музыка, например, оказывается среди «artes
liberates» наряду с арифметикой и логикой, тогда как ваяние
и живопись попадают в разряд artes serviles, т. е. ремесел.
Лишь с Ренессанса постепенно вно^ь начинают отделять
♦ См. наст, изд., с. 521—525.
♦* служебные искусства (лат.).
свободные искусства (лат.)
332
ИСКУССТВО
искусство от остальных видов человеческой деятельности;
понимание же искусства как явления, обладающего собст-
венным своеобразным развитием, имеет еще более позднее
происхождение (Винкельман). Только полная дифференци-
ация функций в сознании общества могла привести к строгому
понятийному разграничению искусства от внехудожествен-
ного творчества, однако для коллективов, которые эту диф-
ференциацию не провели, понятие «искусство» не сущест-
вует и в наше время (например, для среды фольклорного
творчества, коль скоро таковая еще существует); в совре-
менной же художественной практике можно даже наблю-
дать стремление к новому слиянию с другими видами де-
ятельности, особенно в области изобразительных искусств.
Утверждение, что в искусстве эстетическая функция прин-
ципиально преобладает, следовательно, характеризует не
столько само искусство во всех его подобиях и метаморфо-
зах, сколько адекватную направленность, с которой под-
ходит к произведению тот, кто понимает его именно как
художественное произведение. Но эта субъективная направ-
ленность объективируется в истории искусства как ее ос-
новной методологический принцип: если мы хотим постиг-»
нуть имманентную, сохраняющуюся, несмотря на различ-
нейшие изменения и функциональные сдвиги,
непрерывность развития искусства, нужно изучать процесс
развития с точки зрения функции, которая в наибольшей
мере присуща искусству в том смысле, что абсолютно для
него необходима, т. е. с точки зрения эстетической функции.
Остальные функции не будут оттеснены этим на второй
план, ибо, с одной стороны, эстетическая функция, как
было уже показано, не имеет собственного «содержания»,
а с другой стороны, и внеэстетические функции отражаются
в художественном построении произведения, и как раз та-
ким способом, что зримое приспособление произведения к
любой из этих функций одновременно становится, с точки
зрения эстетической функции, художественным приемом
(например, «риторичность» в лирике представляет собой
явственно внеэстетическую функцию, но при этом, обус-
ловливая определенный характер выбора слов, построения
предложения и т. д., выступает также в качестве элемента
художественного построения стихотворения). Если внеэсте-
тическая функция зримо не проявляется в построении про-
изведения, хотя вполне ощутима при его восприятии (это
происходит когда художественное произведение обретает
ззз
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
данную функцию помимо воли художника), то она сообщает
произведению смысл при его восприятии, — так что истори-
ческое исследование должно считаться с ней и в этом случае.
Зримое приспособление художественного произведения
к различным функциям порой трактуется таким образом,
что носительницей эстетической функции считается «фор-
ма», а носителем внеэстетических функций — «содержание».
При этом форма отождествляется с формообразованием,
содержание — с темой. Но это неверно: все элементы
художественного произведения являются одновременно со-
держанием и формой уже в силу того, что все они в
сущности носители значений; и точно так же они совместно
и неразделимо являются носителями всех функций. Так,
например, в поэтическом искусстве эвфония, создавая оп-
ределенные звукосочетания, представляет собой формооб-
разующий элемент, но, устанавливая взаимоотношения
между близкими по звучанию словами, она создает и новые
смысловые качества, которые в самих словах как лексиче-
ских единицах не содержались; цвет в живописи — фор-
мообразующий элемент (расположение красочных пятен на
плоскости картины) и вместе с тем — смысловой (каждое
цветовое качество само по себе является носителем изве-
стного значения — от неопределенного эмоционального ак-
цента до почти явственной предметности; так, синий цвет
«означает» небо и воду, коричневый — почву и т. д., причем
даже если эти вещи ими не изображены). И наоборот, в
теме значение также объединено с формообразованием: ком-
позиция, расчленяющая тему, есть одновременно и формо-
образующий фактор (так, в поэтическом произведении ком-
позиция обеспечивает пропорциональность целого, в живо-
писном — распределение плоскости), и фактор смысловой
(она оттеняет смысловую значительность отдельных участ-
ков произведения, воздействуя тем самым на его общий
смысл). Разумеется, сама тема не выступает лишь в качестве
неопределенного значения, а носит характер сообщения,
содержащегося в произведении; итак, перед нами значение
с однозначным предметным отношением. Поскольку же со-
общение указывает на действительность вне произведения,
внеэстетические функции выражены в теме наиболее явс-
твенно. Однако тесная взаимозависимость всех элементов
произведения способствует тому, что не только всякое из-
менение темы сказывается на всех остальных элементах,
но и всякое изменение остальных элементов сказывается
334
ИСКУССТВО
на теме — каждый сдвиг во внеэстетических функциях
приводит, таким образом, в движение все построение про-
изведения. С другой стороны, и формообразование может
быть прямым носителем внеэстетических функций, напри-
мер в том случае, когда какой-либо прием связан психо-
логической ассоциацией с определенным явлением вне ис-
кусства, например с определенным общественным слоем
(как составная часть его художественной традиции), с оп-
ределенной идеологией (как составная часть ее символики)
и т. п. Следовательно, носителем функций выступает про-
изведение как целое; с другой стороны, и функции прояв-
ляются по отношению к произведению не по отдельности,
а также в неразрывном единстве. Существуют даже —
причем в эпоху ярко выраженной дифференциации функ-
ций — соединения внеэстетических функций с эстетиче-
ской, производящие впечатление совершенно единых фун-
кциональных аспектов; их принято обозначать традицион-
ным названием «эстетические категории» (трагическое,
комическое, возвышенное и т. д.). Различение функций,
какое было предпринято нами в предшествующем анализе,
возможно, таким образом, только при научном изучении
художественного произведения; с точки зрения теоретически
не заинтересованного воспринимающего воздействие произ-
ведения предстает как излучаемая специфическая (т. е.
именно художественная) единая энергия.
Искусство одновременно и едино и многообразно: его
единство обусловлено преобладанием эстетической направ-
ленности, общей для всех художественных проявлений, мно-
гообразие же вытекает как из различия материала, так и
из различия специальных целей отдельных отраслей худо-
жественного творчества. Так, например, отличие поэтиче-
ского искусства от изобразительного основывается на том,
что материал поэтического искусства — речь, а материал
изобразительного искусства — разные виды материи; отли-
чие же скульптуры от архитектуры определяется уже не
столько материалом, так как материал у этих искусств в
значительной степени общий, сколько различием специаль-
ных целей: архитектура позволяет эстетическая восприни-
мать ограниченное пространство, скульптура — внешний
объем. При дифференции искусств материал является ос-
новным фактором: новый материал иногда способен поло-
жить основание новому виду искусства (кино). Свойства,
которые материал привносит в отдельные виды искусства,
335
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
представляют собой непреодолимую границу для творчества.
Так, например, в поэзии не может пользоваться метрической
просодией язык, лишенный свободных, т. е. не зависящих
от ударения и иных условий, долгих гласных. Тем не менее
отдельные виды искусства на протяжении своего развития
весьма часто стремятся перейти границы, обусловленные
материалом. Происходит это всегда в тех случаях, когда
какое-либо искусство начинает проявлять тенденцию к сбли-
жению с другим: так, например, поэтическое искусство
неоднократно пыталось разными способами приблизиться к
музыке или живописи, в свою очередь музыка и живопись
в разные периоды развития искали сближения с поэтическим
искусством и т. д. В таких случаях происходит «насилие»
над материалом, т. е. имитация свойств, неестественных
для данного материала, причем, разумеется, свойства, ес-
тественные для него, не могут быть в самом деле подавлены.
Таким образом, насилие над материалом скорее подчерки-
вает границы между отдельными видами искусства, чем
затушевывает их. Но, несмотря на взаимные отличия, все
виды искусства интенсивно связаны друг с другом и раз-
виваются не только в отдельности, но и как целое. Поэтому
проблема их классификации имеет не только теоретическое
значение, к постановке ее побуждают взаимные контакты
отдельных видов искусства в реальном его развитии. По-
мехой здесь является, однако, то обстоятельство, что ни
само число отдельных видов искусства, ни принадлежность
отдельных областей творчества к искусству ни в коей мере
не представляют собой исторически неизменных величин и
даже с точки зрения состояния, характерного для данной
эпохи, они далеко не всегда отличаются достаточной опре-
деленностью. Все зависит не только от объективного поло-
жения вещей, но и от общего мнения о том, что следует
считать искусством. Так, например, в развитии современной
архитектуры был момент, когда она сама устами тех, кто
ее создавал , исключала себя из числа искусств; на другие
виды творчества, например на фотографию, с точки зрения
их принадлежности к искусству, в настоящее время суще-
ствуют разные взгляды. Таким образом, уже в силу того,
что число искусств исторически изменчиво, нельзя устано-
вить их всеобщую и постоянную классификацию; значение
всякого опыта классификации ограничено также позицией,
с которой эта классификация предпринимается, и практи-
ческой применимостью данной классификации. Наиболее
336
ИСКУССТВО
распространены следующие принципы классификации: 1.
по органу чувств (искусства зрительные, слуховые и т. д.);
2. по отношению отдельных видов искусства ко времени и
пространству (искусства временные, такие как музыка, и
поэтическое искусство; искусства пространственные, такие
как живопись, ваяние, архитектура; искусства пространст-
венно-временные, такие как театр, кино, танец); 3. по
степени коммуникативной способности (искусства темати-
ческие, такие как поэтическое искусство, живопись; искус-
ства атематические, такие как музыка, архитектура); 4. по
вещественности или невещественности материала (искусства
музические, такие как поэтическое искусство, и пластиче-
ские, такие как живопись); 5. по степени самостоятельности
или свободы творчества (искусства, творящие самостоятель-
но, такие как поэтическое искусство, и искусства репро-
дуктивные, такие как декламация, или искусства свободные,
такие как живопись, и прикладные, такие как художест-
венная промышленность). Некоторые классификации имеют
ступенчатый характер, как, например, та, что ниже всего
ставит искусства с максимумом чувственных элементов, а
выше всего искусства с максимумом элементов идейных,
выстраивая все искусства в последовательный ряд от архи-
тектуры к поэтическому искусству. Иные классификации
основываются на догадках о последовательности возникно-
вения отдельных видов искусства или о генетических груп-
пах искусств (таковы, например, в классификации Спенсера
группы: поэзия, музыка, танец — письмо, живопись, ваяние;
предполагается, что каждая из этих двух групп произошла
от общего праискусства). Но дифференциация не кончается
лишь разграничением отдельных видов искусства, а про-
должается и внутри каждого из них. Дело в том, что каждый
вид искусства подразделяется на жанры, и различие между
жанром и самостоятельным видом искусства непринципи-
ально, — есть, например, эстетики, по мнению которых
лирика и эпос суть самостоятельные виды искусства. Точно
так же некоторые из элементов определенного искусства
могут рассматриваться и как в значительной степени са-
мостоятельные разновидности искусства: актерское искус-
ство (искусство мимическое) одновременно представляет
собой и элемент театрального искусства и самобытное ис-
кусство.
Множественность возможных классификаций искусства,
которую показал наш обзор, задана тем, что каждый раз
337
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
подчеркивается иная сторона отдельных искусств, и поэтому
каждый раз в непосредственной близости друг к другу ока-
зываются иные искусства. Точно так же обстоит дело и во
временной последовательности развития. И здесь отдельные
виды искусства непрестанно перегруппировываются как эле-
менты структуры высшего порядка, т. е. искусства вообще.
И здесь при каждой перегруппировке на первый план вы-
ступают иные стороны отдельных видов искусства: так, в
момент, когда поэтическое искусство ощущается как близкое
музыке, в построении его произведений акцентируются вре-
менной (ритм) и звуковой (эвфония, в отдельных случаях —
интонация) аспекты; в момент, когда оно сближается с
живописью, на первом плане находятся главным образом
те его смысловые качества, которые соприкасаются с опти-
ческими представлениями (адъективное и глагольное выра-
жение цвета, образные наименования, стремящиеся вызвать
представление о контурах вещей, и т. д.). Разумеется, су-
ществуют и такие периоды, когда некоторые или все виды
искусства начинают проявлять радикальную тенденцию к
самобытности; это происходит, когда искусство стопроцен-
тно положительно относится к свойствам собственного ма-
териала. Общая структура искусства имеет обычно свою
доминанту, в каждую эпоху — иную; этой доминантой
бывает то из искусств, которое в данный момент представ-
ляет собой как бы образец художественного творчества и
потому воздействует на другие виды искусства. Так, в эпоху
Ренессанса на первом плане стояли изобразительные искус-
ства, в особенности архитектура, в эпоху романтизма на
первый план еще явственнее выдвинулась поэзия. Таким
образом, расчленение искусства на специальные отрасли
является одним из важнейших факторов имманентного раз-
вития как искусства в целом, так и каждого из его родов.
Нужно еще добавить, что подобно тому, как перегруппи-
ровываются отдельные виды искусства, так и внутри каж-
дого из них перегруппировываются отдельные жанры, в
особенности же основные жанровые категории: лирика, эпос
и драма. Последние временами бывают представлены рав-
номерно, временами же одна из этих категорий преобладает
над остальными и т. д. Например, 3. Калиста4 говорит об
эпохе барокко («Selske cili sousedske hry ceskeho baroka»,
1942, s. 5 a n.): «Наиболее выразительным воплощением
барокко было драматическое искусство, предоставлявшее
барочному художнику самую широкую возможность уловить
338
ИСКУССТВО
в своих тезисах и антитезисах присущий этой эпохе ритм.
И действительно, характерно, что в литературах всех об-
ластей, куда наиболее глубоко проникло влияние барокко,
драма составляет наиболее выразительную главу их истории
на протяжении XVI и XVII веков». Этим напряжением
между художественными жанрами еще более усиливается
и обогащается динамика, обусловленная специализацией
художественного творчества.
Наряду с дифференциацией на отдельные виды искусства
и их жанры существует еще горизонтальное и вертикальное
расчленение искусства как целого, а также отдельных его
элементов. Это расчленение дано такими формациями, как
искусство городское — деревенское, искусство высокое —
периферийное («бульварное» искусство, «самое скромное»
искусство, т. е. такое искусство, продуценты которого люди
без образования или с незначительным общим и специаль-
ным образованием), искусство разных одновременно живу-
щих поколений, искусство «женское» (например, женский
роман), искусство для детей и т. д. Пример горизонтального
членения — пара: искусство городское и деревенское, при-
мер вертикального членения — раздвоение искусства на
высокое и периферийное. Как явствует из перечисленных
примеров, далеко не исчерпывающих всего возможного мно-
гообразия, некоторые из этих формаций часто взаимопе-
рекрещиваются; иногда существуют противоположные пары,
каждая из которых охватывает весь диапазон искусства;
войдя в соприкосновение, они неизбежно взаимопроникают.
Следствием такого взаимопроникновения является взаимное
напряжение между этими формациями, еще усиливающееся
в результате взаимодействия между расчленением искусства
на указанные выше формации и организацией общества.
Дело в том, что отдельные подобные формации связаны с
определенными общественными группами (разновидностями
среды и общественными слоями), но связь эта ни в коей
мере не является однозначной: индивиды, принадлежащие
к определенной общественной группе, часто отличаются по
своим художественным интересам. Так, например, и в среде
высокого искусства, носителем которого является, как пра-
вило, известный общественный слой, вкус индивидов может
различаться в зависимости от возраста, пола, происхождения
(если индивид происходит не из того слоя, к которому
принадлежит). В результате возникает большая пестрота
(не лишенная, впрочем, закономерности и потому доступная
339
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
исследованию), которая способствует взаимопроникновению
отдельных художественных формаций и взаимному влиянию
их друг на друга. Посредством этого взаимопроникновения
и взаимных влияний все процессы развития в искусстве
сливаются в единый, хотя и обладающий богатым внутрен-
ним многообразием поток, так что методологически непра-
вильно изучать какую-либо из ветвей художественного твор-
чества — не исключая и высокого искусства, которое обычно
для историков искусства является привилегированным объ-
ектом изучения, — изолированно, без учета его связи с
остальными формациями, казалось бы даже второстепен-
ными. Нельзя также предоставить изучение этих второсте-
пенных формаций социологии под тем предлогом, что здесь
идет речь о простом следствии общественной организации:
отношения между отдельными общественными группами и
формациями искусства, как уже было сказано, далеко не
однозначны. К тому же у динамики, которая вносится в
развитие искусства его расчленением на вышеупомянутые
формации, есть и свое внутреннее обоснование, независимое
от общественных процессов, а именно взаимопересечение
парных формаций. Для общей же и специальной теории
искусства изучение этих формаций важно потому, что фор-
мации, считающиеся второстепенными, а порой даже иск-
лючаемые из искусства, дают гораздо более явственное
представление о некоторых неотъемлемо присущих искус-
ству свойствах, чем высокое искусство! Например, изучение
таких форм лирики, как песня народная, ярмарочная, улич-
ная, шансон и т. д., более явственно показывает функцио-
нальное многообразие лирической поэзии (а следовательно,
и ее связь с жизнью), чем изучение одной лишь высокой
лирики, в которой функциональные сдвиги значительно
приглушены.
Наконец, третий принцип внутренней дифференциации
искусства диктуется его связью с отдельными нациями и
краями; искусство, возникающее в этих областях, связано
с ними главным образом непрерывной местной традицией,
воздействующей на смысл и формирование каждого творе-
ния, которое включается в ее контекст и в линию ее раз-
вития. Значительным внешним связующим звеном является
местное происхождение тех, кто создает искусство данной
нации или края, и особенности творчества, из этой общности
происхождения вытекающие. Однако не всегда все творче-
ские индивидуальности бывают людьми местного происхож-
340
ИСКУССТВО
дения, и участие чужеродного элемента может различней-
шими способами отражаться в имманентном развитии в
зависимости от ситуации, сложившейся в тот или иной его
момент, а также от характера художественных тенденций,
носителем которых является этот чужеродный элемент, от
коллективности или индивидуальности самого этого участия
и т. д. Кроме таких общих связующих звеньев между нацией
или краем и их искусством существуют еще и некоторые
особые связи, касающиеся лишь отдельных видов искусства,
каковы, например, в литературе национальный язык или
местный диалект, доставляющие ей языковый материал, в
архитектуре — неподвижность творений и т. д. Связь ху-
дожественного творчества с нацией или краем в разные
эпохи имеет различную интенсивность (так, например, в
средние века областная локализация художественной тра-
диции, прежде всего в изобразительных искусствах, была
несравненно более могучим фактором дифференциации ис-
кусства, чем в наше время) и даже качественно отличается,
особенно в функциональном отношении (так, например,
национальное искусство может в первую очередь служить
репрезентативным целям, или быть фактором националь-
ного самосохранения, или подчеркивать своеобразную на-
циональную самобытность, или способствовать включению
национального целого в более широкий культурный кон-
текст и т. д.). Значение национального и областного искус-
ства для культуры в том, что «наше» — это связь с прошлым,
подчас скрытая: Дык — «Великий Маг», Тыл — «Видение
Иржика» . Так же как расчленение искусства в целом на
отдельные виды искусства и его дифференциация по вер-
тикалям и горизонталям, распадение искусства на нацио-
нальные и областные традиции (структуры) приводит к
влиянию этих традиций друг на друга и их взаимопроник-
новению. Внешние связи здесь образуют, например, влияния
политические, социальные (интернациональный характер
дворянского слоя, его международная солидарность), да-
лее — выучка художников, перевод и чтение иностранных
поэтических произведений, перемещение художников из
одной страны или области в другую и от народа к народу
(иногда многократное: Эль Греко, уроженец Крита, учился
живописи в Венеции, а творил в Испании), импорт произ-
ведений искусства других наций, привлекательность круп-
ных художественных центров; в новейшее время — худо-
жественные галереи, журналы и т. д. Разумеется, местная
341
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
традиция, национальная или областная, по-своему воспри-
нимает перенесенные таким образом художественные эле-
менты, придает им новый смысл, включая в свой контекст,
и преображает их по своему образу и подобию, под их
влиянием изменяясь и сама. Итак, отношение между мес-
тными и чужеродными элементами может быть различным:
различна ассимилирующая сила (Словакия), различна спо-
собность воспринимать чужие элементы (Франция). Чуже-
родное влияние часто лишь помогает более явственному
развитию тенденций, вытекающих из предшествующей ме-
стной эволюции; поэтому дифференциация искусства соот-
ветственно нациям и краям во всей своей значительности
для процесса развития раскрывается лишь взгляду, ориен-
тированному на имманентную взаимозависимость всех фак-
торов, приводящих художественную сторону в движение.
Таким образом, вся область искусства обладает весьма
сложной внутренней разветвленностью. Эта сложность еще
более увеличивается благодаря тому, что все три вышеназ-
ванных принципа деления (отдельные виды искусства —
горизонтально и вертикально расположенные по отношенйю
друг к другу формации — национальные и областные ху-
дожественные структуры) не только действуют одновремен-
но, но и взаимопроникают. Например, членение, обуслов-
ленное спецификацией художественного творчества соот-
ветственно отдельным видам искусства и художественным
жанрам, часто перекрещивается с членением на формации,
расположенные по вертикали: «В нашей литературе с начала
XVI века и до середины XVII века, которую мы называем
барочной литературой... прежде всего духовная драма дает
самую богатую продукцию, пестревшую всевозможными
формами от более или менее мелодраматичной декламации
до весьма сложных и умело сконструированных театральных
пьес. Представлена здесь и светская драма, в которой хотя
и проявляются также известные моралистические тенден-
ции, но которая все же разыгрывается в мирской среде и
руководствуется ее ритмом и законами. И оба эти ряда
опять-таки делятся в поперечном разрезе на драму ис-
кусственную par excellence*, т. е. драму, создававшуюся
людьми литературно образованными, стремящимися соблю-
сти определенные литературные нормы, и на драму народ-
ную, продукция которой по своему обилию не только пре-
* в истинном смысле слова (франц.).
342;
ИСКУССТВО
восходила продукцию иных периодов развития, но и мно-
гообразно определяла народное творчество в этой области
на протяжении последующих эпох» (предисловие автора в
книге: KalistaZ., Selske cili sousedske hry ceskeho baroka,
1942, s. 6; выделенные слова подчеркнуты при цитирова-
нии). Хотя в данном случае взаимопроникновение разных
принципов членения происходит внутри одного только вида
искусства, зато оно чрезвычайно наглядно. Но и этим вза-
имопроникновением сложность дифференциации искусства
не исчерпана. Наряду с тремя основными принципами чле-
нения, действующими постоянно, существуют еще времен-
ные разграничения, вытекающие из самого развития искус-
ства: художественные направления и школы. Они перепле-
таются в самых разнообразных комбинациях с постоянными
принципами: есть, например, такие направления и школы,
которые дробят развитие определенного национального ис-
кусства на несколько течений, и есть другие, одновременно
или последовательно затрагивающие широкие области мно-
гих национальных искусств; есть — далее — художествен-
ные направления, ограничивающиеся отдельными видами
искусства или даже отдельными жанрами внутри них, и,
наоборот, такие, которые проявляются в нескольких видах
искусства; иногда художественные направления, старея, из
сферы высокого искусства спускаются в область более низ-
ких формаций и даже попадают на самую дальнюю пери-
ферию искусства; иной же раз, наоборот, определенное
направление высокого искусства черпает импульсы из пе-
риферийного искусства и т. д.
Необходимо, однако, упомянуть еще об одном важном
факторе, который хотя и не вызывает сам по себе внут-
реннего разграничения искусства, но зато усиливает раз-
граничение, порождаемое вышеназванными принципами.
Это различие темпа развития в отдельных видах искусства,
в отдельных формациях, расположенных по вертикали и
горизонтали, у отдельных наций и т. д. Это различие спо-
собствует тому, что в каждый данный момент развития
искусства в нем наличествует целый ряд ступеней, которые,
с точки зрения развития одного динамического ряда (на-
пример, одного национального искусства), представляются
последовательными; различные последовательные этапы
развития проецируются, таким образом, в единую времен-
ную точку, и темп развития при взаимодействии отдельных
рядов из количественного фактора превращается в качест-
343
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
венный. Например, для вертикального членения искусства,
как правило, характерно запаздывание низших формаций
сравнительно с высшими; если же какая-либо из низших
формаций начинает воздействовать на высокое искусство,
нередко случается, что посредством этого влияния высокое
искусство устанавливает контакт с каким-то из предшест-
вующих этапов собственного развития (так бывает, напри-
мер, когда на высокое искусство воздействует народное
творчество, консервирующее «девальвированную» — и, ра-
зумеется, преображенную — старую традицию высокого
искусства). Таким образом, опоздание в развитии — далеко
не всегда негативный фактор, ибо, как в приведенном при-
мере, оно может инициативно способствовать дальнейшему
развитию. То же самое происходит и при соприкосновении
искусств разных народов, когда одно из них опаздывает в
своем развитии. На примере участия итальянской живописи
в преодолении готической концепции искусства это чрез-
вычайно наглядно показал Макс Дворжак в своей работе
«Новое евангелие» (чешек, пер. Печирки в книге: Umenf
jako projev ducha, 1936), где (на s. 25) говорится: «Италия
принимала незначительное участие... в создании готического
искусства; поэтому итальянское искусство — с точки зрения
готики и в эпоху ее могучего расцвета (с XI по XIV
столетие) — могло бы показаться нам недоразвитым и от-
сталым. Зато итальянцы сохранили... от древних конкретных
наук значительные остатки формальной культуры, незави-
симой от метафизических идеалов, которыми на севере было
проникнуто все». Это опоздание сделало затем возможной
деятельность Джотто, преодолевавшего в живописи готику:
«(Джотто) исходит не из (средневекового) теолого-трансце-
дентального толкования мира, а из естественной связи вещей
или, иными словами, из естественной объективной законо-
мерности, как ее позволяет познать светский опыт и чув-
ственный взгляд. [Поэтому ] Джотто в качестве неизбежной
нормы всякой живописной композиции устанавливал не
только естественную пространственную основу, но и весь
отрезок пространства, в котором размещены фигуры, т. е.
естественную пространственную связь. Это была греческая
манера, для которой основной нормой в создании картины
внешнего мира было естественное положение вещей. Зна-
чение искусства Джотто заключается в том, что он в сущ-
ности возвращается к античному отношению к внешнему
миру» (фразы порознь выбраны на с. 19—24 цит. работы;
344
ИСКУССТВО
слово «греческая» подчеркнуто нами). Запаздывание в раз-
витии одного из национальных искусств европейского кон-
текста сделало возможным могучий перелом в истории всей
живописи опять-таки благодаря тому, что оно установило
связь между давно минувшим этапом развития и современ-
ными его тенденциями. Не только для взаимодействия раз-
личных динамических рядов искусства, но и для самого
запаздывающего ряда опоздание в развитии может иметь
положительные последствия: оригинальное поэтическое по-
строение творчества К. Г. Махи усваивало уже избитые сти-
листические и образные клише романтизма, которым он
придавал новую художественную действенность необычным
способом их объединения в контексте (см. наше исследова-
ние «Генетика смысла в поэзии Махи» в сборнике «Torzo
a tajemstvf Machova dila», 1938). Иногда в национальном
искусстве, которое запоздало сравнительно с другими, в
самом процессе ликвидации отставания возникают выдаю-
щиеся явления, представляющие собой, по сути дела, синтез
нескольких этапов развития. Так, в чешской поэзии твор-
чество Я. Врхлицкого6 соответствует одновременно и ро-
мантизму и «Парнасу» — частично в этом заключается
источник его могучего размаха. И такие случаи, как твор-
чество Махи и Врхлицкого, хотя они имеют место внутри
одного динамического ряда, а не при взаимном соприкос-
новении нескольких динамических рядов, нужно считать
следствием относительного запаздывания этого ряда срав-
нительно с другими параллельными рядами; следовательно,
и к ним применимо утверждение, что темп развития, всту-
пая в контакт с расчленением искусства, превращается из
количественного явления в динамическое качество.
II
Как явствует из предшествующих размышлений, внут-
реннее строение сферы искусства как в целом, так и в
отдельных ее элементах представляет собой не состояние,
а непрерывно развивающийся процесс. Если мы взглянем
на этот процесс с точки зрения искусства вообще, то
прежде всего отчетливо выступят взаимовлияния, взаимо-
проникания и последующие расхождения отдельных эле-
ментов (динамических рядов), т. е. отдельных видов ис-
кусства, формаций, расположенных по вертикали и гори-
зонтали, ит.д. С более узкой точки зрения какого-либо
345
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
из динамических рядов процесс развития предстает как
цепь изменений, при которых часть построения данного
ряда (например, данного национального искусства) всегда
остается в прежнем состоянии, сохраняя тем самым иден-
тичность ряда, другая же часть перегруппировывается.
Если мы, наконец, сосредоточим внимание на одной точке,
т. е. на одном изменении одного динамического ряда, про-
являющемся в одном произведении или в определенной
группе одновременно возникших произведений, динамика
развития предстанет перед нами в виде симультанной
множественной мотивировки, которая это изменение вы-
зывает и которая определяет его характер. Так, например,
мотивировка отдельных изменений в процессе развития
чешского поэтического искусства нового времени не может
быть постигнута во всей своей полноте без учета того,
как в XIX веке — наряду с воздействием иностранных
литератур — на него вновь и вновь влияли и каждый
раз новой своей стороной поэзия народная и полународная
(например, ярмарочные песни), а также другие жанры
периферийной литературы, такие как шансон (см. «про-
межуточное поколение» Йоз. Маха7 и его поэтических
друзей) или книги для простонародья (например, приклю-
ченческий роман). Нужно также ответить на вопрос, ка-
ким образом не только негативно, но и положительно
воздействовало на развитие чешского поэтического искус-
ства нового времени его отставание (ср. то, что было
сказано выше о Врхлицком). И, наконец, на протяжении
значительной части XIX века нельзя не считаться со скры-
тым влиянием традиции барокко, которая хотя и не фун-
кционировала никогда в качестве идеала, требующего про-
должения, но — как было правильно отмечено (Кали-
ста) — вошла «в плоть и кровь нашей литературы» как
нечто само собой разумеющееся. При изучении истории
искусства следует ожидать, что в каждом отдельном случае
мы встретимся с несколькими мотивировками одновремен-
но, конечно, наряду с самой глубокой внутренней моти-
вировкой, всякий раз вытекающей из самого развиваю-
щегося ряда; такой мотивировкой, например, в творчестве
Врхлицкого, о котором здесь уже шла речь, была потреб-
ность актуализировать интонацию в стихе, чтобы скрыть
однообразие пунктуально соблюдаемого метра, к ко-
торому неизбежно приводила постепенная ликвидация
романтического стиха.
346
ИСКУССТВО
Итак, внутреннее развитие искусства уже само по себе
чрезвычайно сложно. Однако искусство развивается не в без-
воздушном пространстве и потому вынуждено непрестанно
справляться и с влияниями, приходящими извне. Но они не
действуют — как это представляла старая методология — в
качестве причин, из которых однозначно вытекает новое со-
стояние искусства, а присоединяются к пучку внутренних мо-
тивировок каждого динамического сдвига и оказываются либо
в согласиии, либо в противоречии с остальными его элемен-
тами. Только равнодействующая всех участвовавших в нем
сил, влияний внутренних и внешних, однозначно определяет
характер сдвига, который произойдет. Так, например, в чеш-
ской литературе «Возвышенность природы» Полака была
продиктована и внутренней потребностью ритмического об-
новления (устранение монотонности пухмайеровского стихо-
вого ритма), и современной склонностью чешского языка к
новообразованиям (см. поэтические переводы Юнгмана), и
влиянием иностранного поэтического искусства (насаждение
так называемой описательной поэзии), и, наконец, внехудо-
жественной, следовательно, внешней потребностью завое-
вать для чешской литературы более просвещенные читатель-
ские круги и т. д.
Таким образом, исходный тезис об имманентности раз-
вития означает не игнорирование внешних мотивировок, а
лишь требование, чтобы взаимосвязь развития искалась
внутри самого развивающегося явления (в данном случае
внутри искусства) и даже прежде всего внутри того дина-
мического ряда, о котором именно идет речь, т. е., к при-
меру, внутри литературы, причем конкретно такой-то и
такой-то национальной литературы и т. д. Однако вернемся
к внешним мотивировкам. Каковы их источники? В первую
очередь искусство движимо человеческим обществом и от-
ражает в своем развитии его судьбы и перевороты (развитие
социальное, политическое, национальное и т. д.). Но ис-
кусство является и одной из отраслей человеческого твор-
чества и потому находится в постоянной связи с остальными
его областями: с производством материальных ценностей
(ремесла, промышленное производство и т. д.) кс областью
ценностей духовных (философия, наука, религия, идеоло-
гия). Структура искусства есть комплекс норм, пребываю-
щий в коллективном сознании, — отсюда связи искусства
с другими системами норм, например с системой языковой,
этической, с «привычками», определяющими поведение че-
347
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ловека (навыки человеческого общения, правила жизненной
практики и т. д.). Имея в лице человека общего инициатора
и носителя, причем это человек определенной эпохи, на-
родности, общества, человек с определенным отношением
к действительности, все вышеназванные области, в том
числе и искусство, отличаются известной параллельностью
развития. Это обстоятельство особенно подчеркивается, ког-
да отношение отдельных областей культуры (в самом ши-
роком смысле слова) к человеку и друг к другу объясняется
строго причинно; от такой интерпретации уже всего только
шаг к мнению, что искусство определенной эпохи может
однозначно выводиться, например, из состояния общества,
из общего «духа эпохи», из ее мировоззрения и т. п. и что,
наоборот, по искусству определенной эпохи можно непос-
редственно судить о состоянии общества, о его мировозз-
рении и т. д. Но как раз на примере искусства явственно
видно, что ни отношения между культурой и человеком,
ни взаимоотношения между отдельными областями куль-
туры не являются однозначными. Дело в том, что произ-
ведение может стать характерным не только для общества,
нации и т. д., в которых оно возникло, но и для общества,
нации и т. д., которые его приняли готовым, хотя органи-
зация такого воспринимающего общества и его отношение
к действительности отличаются от организации и гносео-
логической позиции общества, которое создало это произ-
ведение первоначально (Эннекен). Отнюдь не с абсолютной
параллельностью протекает и развитие отдельных отраслей
культуры. Мы уже показали, что темп развития всех рядов
искусства не бывает одинаковым. Это относится и к культуре
в целом: ступень развития, которой на данном этапе до-
стигла одна ее область, может стать доступной для других
ее областей лишь на каком-либо из последующих этапов
и т. д. Поэтому современная школа исследователей отдает
предпочтение тезису об автономности развития отдельных
областей и сосредоточивает внимание скорее на их актив-
ных взаимных связях, чем на пассивной параллельности
их развития.
Итак, развитие искусства совершается в ходе его посто-
янных контактов с другими сферами человеческой жизни
и человеческой деятельности; как уже было сказано, эти
контакты проявляются в нем в виде внешних импульсов.
Они воздействуют на развитие искусства двояким способом:
либо косвенно, как носители внутренних динамических им-
348
ИСКУССТВО
пульсов, либо непосредственно; внешние динамические воз-
действия, следовательно, не отделены от внутренних им-
пульсов, от имманентности развития четкой границей, а
частично переплетаются с ними. В первом случае, т. е.
когда гетерономное (внешнее) воздействие переплетается с
имманентностью развития, это внешнее вмешательство сво-
дится лишь к инициативе, тогда как качественная сторона
динамического сдвига, вызываемого таким импульсом, ос-
тается внутренним делом самого искусства. Так происходит,
например, если вследствие медленного общественного раз-
вития или непредвиденного переворота на первый план
выдвигается слой, который до тех пор был подчиненным,
но тем не менее имел собственную художественную тра-
дицию: эта традиция занимает место прежнего официаль-
ного искусства, вытеснив его с ключевых позиций или
слившись с ним и образовав динамический синтез; внешний
импульс вызывает, таким образом, имманентное движение,
в результате которого совершается перегруппировка верти-
кального членения данного вида искусства. Непосредствен-
ное воздействие внешнего импульса имеет место, например,
когда определенное понимание действительности, основан-
ное на результатах научных исследований, дает толчок к
изменению гносеологического базиса структуры искусства,
а тем самым и к ее перегруппировке; другой случай не-
посредственного внешнего вмешательства мы наблюдаем,
когда художественному творчеству предписываются нормы,
возникшие в иной области, например нормы религиозного
происхождения в эпоху средневековья. Но и такие непос-
редственные внешние воздействия, по крайней мере впос-
ледствии, применительно к дальнейшему развитию искус-
ства превращаются во внутренние динамические импульсы.
Например, внехудожественные нормы, вступая в область
искусства, становятся элементами его внутренних динами-
ческих противоречий и тем самым образуют, сливаясь с
имманентными тенденциями его развития, такие синтети-
ческие единства, которые воздействуют на дальнейшее раз-
витие уже как чисто имманентные силы. Так всякое след-
ствие внешнего вмешательства поглощается динамикой им-
манентного развития; иногда можно наблюдать, что
имманентное развитие неспособно впитать внешнее воздей-
ствие, даже сильный внешний импульс не ведет к каким-
либо немедленным следствиям и проявляется лишь после
того, как имманентное развитие сможет его усвоить; при-
349
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
мером может служить известный факт, что раннехристи-
анское искусство некоторое время следовало неизмененной
традиции античного искусства. Разумеется, все это верно
лишь до тех пор, пока внешнее вмешательство не прерывает
последовательную имманентную линию развития искусства;
только тогда результат его проявится как механически од-
нозначное следствие внешней причины. Во всех остальных
случаях, т. е. в случаях, когда полного нарушения имма-
нентной линии развития не происходит, внешнее вмеша-
тельство присоединяется к действию внутренних динами-
ческих тенденций структуры искусства как равноценный
(и, следовательно, отнюдь не обязательно господствующий)
энергетический элемент, и равнодействующая этого совме-
стного влияния является не прямым следствием какой-либо
из энергий, участвовавших в его возникновении, а их син-
тезом. Чистый синтез внешнего вмешательства и имма-
нентных тенденций, свободный от малейших следов кау-
зальности, — это, разумеется, крайний случай, точно так
же, как, с другой стороны, крайним случаем является и
чисто каузальное вмешательство внешнего импульса. Между
этими противоположными полюсами существует множество
переходных оттенков. При интенсивных воздействиях извне
можно иногда наблюдать, что усвоению такого вмешатель-
ства предшествует известное потрясение структуры искус-
ства, момент неуверенности, свидетельствующий о борьбе
между каузальностью и имманентностью. Внутренние и
внешние импульсы развития, входя в структуру, образуют
иерархию, т. е. между ними устанавливаются отношения
взаимного подчинения и взаимной зависимости; поэтому
синтез импульсов, воздействующих одновременно, вытекает
не только из их качества, но также из их иерархической
системы: сильнее всего на этот синтез влияет импульс,
который окажется на первом плане и т. д. Иерархическая
градация импульсов частично дана предшествующим состо-
янием развития структуры, частично же зависит от свобод-
ного решения.
Тут перед нами точка, где в развитие структуры вме-
шивается индивид, поскольку индивид является субъектом
такого решения. В этом плане не составляет исключения
ни один вид художественного творчества, в том числе и
так называемое коллективное народное творчество. Его
«коллективность» заключается не в массовости акта твор-
чества, а в том, что индивидуальное творение (или вариант
350
ИСКУССТВО
творения) обретает прочное существование лишь в резуль-
тате его коллективного принятия (санкционирования); не
встретив этого стихийного приятия, творение исчезает без
следа; в среде коллективного творчества тоже есть инди-
виды, которые, как известно окружающим, проявляют вы-
дающиеся способности в том или ином виде творчества
(выдающиеся сочинители песен и т. п.). Точно так же и
различие между творящим и воспринимающим индивидом
с точки зрения воздействия на развитие художественной
структуры нельзя считать непреодолимым: например, в не-
которые периоды развития и особенно в некоторых видах
искусства (например, в архитектуре) довольно многочис-
ленны случаи, когда заказчик серьезно влияет на замысел
произведения и на его воплощение. Как уже было сказано,
от индивидуума в значительной степени зависит способ
иерархизации внутренних и внешних импульсов развития,
которые посредством определенного произведения или груп-
пы произведений воздействуют на структуру искусства. Та-
ким образом, роль индивида — это не просто роль пассивного
носителя внутренних и внешних импульсов развития: под
воздействием иерархизации импульсов, которую определен-
ный индивид вносит в искусство, возникает новое качество,
представляющее собою вклад единичного творческого ре-
шения отдельной личности (разумеется, «решение» может
быть как сознательным, так и подсознательным). Следова-
тельно, при развитии искусства, пусть даже руководимом
имманентной закономерностью, чрезвычайно многое зави-
сит от того, что в данный момент на развитие оказал
воздействие тот, а не иной индивид, хотя репертуар им-
пульсов развития, который он своим деянием синтезировал,
существовал помимо него и в целом был большей частью
заранее предопределен предшествующим развитием искус-
ства и внешними причинами. Поэтому можно предположить,
что важные переломы в развитии искусства, по крайней
мере такие, которые явно связаны с великой личностью
(например, в истории чешской поэзии с Махой, в истории
чешской музыки со Сметаной), по большей части являются
заслугой именно этой личности и могли бы не наступить
или хотя бы деградировать, если бы в данный момент этой
личности не оказалось. Разумеется, можно и, наоборот,
предположить, что даже сильная личность не найдет воз-
можности вмешаться в развитие, если при данной ситуации
нет объективной потребности в таком вмешательстве, ко-
351
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
торое отвечало бы структуре задатков этой личности. Однако
влияние личности на развитие искусства не сводится только
к иерархизации динамических импульсов, но затрагивает —
опять-таки, разумеется, лишь частично — и сам их выбор.
Так, например, если на развитие искусства начнет воздей-
ствовать определенная областная художественная традиция
или определенная художественная формация, характерная
для периферии искусства, заслуга в этом, как правило,
принадлежит индивиду, сросшемуся с этой традицией или
этой художественной формацией в своей родной среде. Ка-
залось бы, в таком случае индивид предстает всего лишь
пассивным носителем динамического импульса, с которым
он непреднамеренно пришел в соприкосновение, но нужно
принять во внимание, что, с одной стороны, в каждой
конкретной ситуации речь идет о носителе, сформированном
неповторимым стечением обстоятельств и, следовательно,
единственно возможном (т. е. не только о человеке опре-
деленного происхождения, но также о художнике с таки-
ми-то и такими-то особенностями, отвечающими современ-
ным потребностям развития искусства), а с другой — зна-
комство с определенной областной или периферийной
художественной традицией само по себе могло остаться и
неиспользованным. Динамическим импульсом оно становит-
ся благодаря необусловленному стремлению индивида ока-
зать воздействие на развитие художественной структуры.
Итак, влияние личности на развитие искусства существенно
и составляет его неотъемлемую необходимость; но совре-
менный взгляд на вещи, хотя, придерживаясь его, мы и не
считаем личность художника и произведение всего лишь
пассивными продуктами объективных причин, не подчер-
кивает односторонне и их непредопределенность. Предоп-
ределенность и непредопределенность — это два одинаково
необходимых и постоянно воздействующих полюса, которые
при каждом вмешательстве личности в структуру искусства
вновь и вновь уравновешиваются. Их взаимоотношение не
совпадает также с противоположностью случайности и за-
кономерности, ибо, не говоря уже о том, что понятие слу-
чайности имеет в развитии искусства относительную зна-
чимость (то, что с точки зрения структуры искусства пред-
ставляется случайностью, может оказаться закономерным
следствием развития структуры более высокого порядка,
следствием развития культуры в широком смысле слова),
личность художника — и притом именно посредством своей
352
ИСКУССТВО
неповторимости — всегда представляет и человека вообще,
его основополагающую физическую и психическую органи-
зацию. Как раз элементы творчества, изъятые из истори-
ческой обусловленности ввиду своего индивидуального ха-
рактера и неповторимости, уходят корнями в общую сущ-
ность человечества, которая остается неизменной, ибо
находится вне достижимости влияний, определяющих ди-
намические аспекты культуры в целом и отдельных ее
областей. Таким образом, посредством вмешательства лич-
ности вновь и вновь восстанавливается контакт между че-
ловеком вообще и искусством.
Если встать на точку зрения непрерывного развития
искусства, то индивид предстанет перед нами, разумеется,
как общий и постоянный фактор, осуществляющий свое
влияние непрестанно, через самых различных конкретных
индивидов, каждый из которых хотя и воздействует на
развитие соответственно своей неповторимости, но тем не
менее как член ряда, протянувшегося во времени и парал-
лельного множеству других рядов. Индивиды в этом ряду
отличаются друг от друга как качеством своих воздействий
на развитие, так и их интенсивностью, вмешиваясь в ис-
торический процесс соответственно мере своей непредоп-
ределенности и соответственно мере податливости, какую
по отношению к их воздействиям проявляет структура ис-
кусства. Несмотря на то, что различия в интенсивности
вмешательства, т. е. различия по глубине и широте воздей-
ствия, которое определенные индивиды оказывают на раз-
витие структуры искусства, характерны для них самих, с
точки зрения общего развития даже могучее индивидуальное
вмешательство представляет собой лишь один из способов
осуществления динамических изменений; столь же могучее
воздействие могут оказать иные обстоятельства или мно-
жество слабых индивидуальных вмешательств, если они
становятся массовым явлением или длительное время дей-
ствуют в одном направлении. Таким образом, с точки зрения
индивидуального развития речь идет не о той или иной
личности, а об отношении, которое на данном этапе раз-
вития вообще существует между структурой искусства и
индивидуальным фактором развития. Средоточием научного
интереса может, разумеется, стать и всякая отдельная лич-
ность сама по себе, и тогда в поле зрения исследователя
окажется иная проблематика: вопросы, касающиеся струк-
туры искусства, далее — вопросы, затрагивающие развитие
12—888
353
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
личности с начала до конца ее художественной деятельно-
сти, и среди них опять-таки вопрос об отношении этого
индивидуального развития к современному развитию искус-
ства (например, нужно будет выяснить, шло ли развитие
личности параллельно развитию искусства и как именно —
благодаря ли силе этой личности, которая повела за собой
развитие искусства, или, наоборот, в результате ее пассив-
ности и склонности к приспособлению? — либо развитие
художника разошлось с общим направлением развития ис-
кусства?) и т. д. Исследования подобного рода необходимы
для изучения общей истории искусства и даже являются
предпосылкой для установления точности места данного
индивида в развитии искусства, но такие исследования воз-
можны лишь при перенесении центра внимания с общего
развития на отдельную личность; до тех же пор, пока
исследователь имеет в виду прежде всего надындивидуаль-
ное развитие, личность доступна ему лишь как общий фак-
тор развития, в сущности своей также надындивидуальный.
Вмешательство индивида в процесс развития искусства
осуществляется посредством произведения. Лишь этим «ма-
териальным» (т. е. воспринимаемым органами чувств) сред-
ством можно воздействовать на нематериальную структуру,
существующую и развивающуюся в коллективном сознании.
Но что такое произведение? Если мы взглянем на него с
точки зрения эволюции структуры искусства, оно предстанет
перед нами всего лишь как реализация определенного мо-
мента развития структуры. Поэтому в среде, где большее
ударение делается на структуру, на общее достояние, чем
на отдельную личность и ее творчество, иногда и отграни-
чение произведения как единственного и неповторимого
творения от других произведений почти не ощутимо. Так,
в народной песне изменения, иной раз даже существенные,
происходят от исполнения к исполнению, целые строфы и
т. п. переходят из одной песни в другую, в результате
бывает трудно отличить варианты от самостоятельных песен;
в народном же изобразительном искусств нередки в самом
чистом виде творения на случа — орнаменты, нарисован-
ные мылом на стекле или нанесенные песком на полу, и
их преходящий характер служит наглядным примером под-
чинения индивидуальных реализаций нематериальной, но
зато имеющей надындивидуальное значение структуре (см.:
Melnikova-Papouskova. Putovam za lidovym umenim). Столь
же случайными покажутся нам художественные произве-
354
ИСКУССТВО
дения, если мы будем рассматривать их в связи с другими
произведениями, возникшими в том же временном, а иногда
и местном контексте. В таком случае они представляются
нам всего лишь более или менее выразительными образцами
определенных типов искусства (например, определенного
художественного направления, определенной художествен-
ной школы, определенной областной традиции и т. п); по-
добный взгляд на вещи можно наглядно проиллюстрировать,
в частности, на примере средневековых скульптур, тради-
ционным способом трактующих каноническую и, следова-
тельно, от индивидуального выбора не зависящую тему (тип
«прекрасной мадонны» и т.п.). Но этот и подобные ему
случаи представляют собой лишь разительные проявления
той типизирующей тенденции, которая, правда, иногда и
скрыто, присутствует и действует при всяком художествен-
ном акте. Под ее воздействием произведения группируются
и в художественные жанры. Но в совершенно ином виде,
чем в двух предшествующих случаях, художественное про-
изведение предстанет перед нами, если мы взглянем на
него с точки зрения его собственного предназначения, т. е.
как на самодовлеющий эстетический знак, служащий для
того, чтобы внушить воспринимающему определенный спо-
соб понимания и переживания действительности, выраже-
нием которой этот знак сделал автор. Сразу же проявится
уникальность произведения: в момент восприятия произве-
дение вытеснит из поля зрения воспринимающего все, что
находится вне его, и предстанет как общеобязательная,
исчерпывающая интерпретация действительности в целом,
увиденной с определенной позиции, которую нельзя заме-
нить какой-либо иной. Но при этом воздействовать на вос-
принимающего будет не «материальное» произведение, а
нематериальный эстетический объект, возникший в созна-
нии воспринимающего путем проецирования «материально-
го» произведения на фон современного состояния развития
структуры искусства: совпадения произведения с этим со-
стоянием и его отклонения от этого состояния ощущаются
воспринимающим как неповторимые черты произведения.
Если изменится динамическое состояние структуры, на фоне
которой воспринимается произведение, изменится и эсте-
тический объект. Одно и то же «материальное» произведе-
ние, пережив сверстников автора, на протяжении своего
дальнейшего воздействия сменит целый ряд эстетических
объектов. Их может быть одновременно несколько уже в
12*
355
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
момент возникновения этого произведения, если в сопри-
косновение с ним вступают воспринимающие, принадлежа-
щие к разным поколениям, к различной общественной среде
и т. д. Смена эстетических объектов одного и того же про-
изведения служит, следовательно, связующим звеном между
статической неподвижностью произведения как единичного
творения и бесконечной изменчивостью структуры искус-
ства. Однако представление о множественности эстетиче-
ских объектов, связанных с произведением, является уже
следствием и симптомом теоретического отношения к ис-
кусству. При стихийном восприятии и переживании эсте-
тический объект, временно связанный с произведением,
понимается тоже как неизменная величина; произведение
представляется неповторимым, постоянно и неизменно дей-
ствующим знаком, включающим в свое значение всю дей-
ствительность, — знаком, в который может быть спроеци-
рована и в котором может быть объединена любая челове-
ческая личность — как автор, так и каждый из
воспринимающих. Отсюда требование неограниченного при-
знания «вечных» ценностей в искусстве. В момент адекват-
ного восприятия одно-единственное произведение именно
благодаря своей уникальности исчерпывает, таким образом,
для воспринимающего весь объем и все содержание понятия
«искусство».
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АВАНГАРДНОМ ТЕАТРЕ
Авангардный1 театр уже сейчас перестает и даже пере-
стал быть каким-то диким побегом на стволе официального
театра, скоропреходящим исключением, не имеющим соб-
ственного последовательного развития и представляющим
собой ряд экспериментов, каждый из которых, едва выпол-
нив свою задачу, растворяется в официальном театре. Как
раз нынешний конгресс авангардных театров свидетельст-
вует о стремлении консолидировать авангардный театр как
самостоятельное художественное формирование, как фор-
мирование постоянное и закономерное, с собственной ис-
торической непрерывностью. Если сейчас авангардный театр
обращается к разнообразным старым и долго пренебрегав-
356
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АВАНГАРДНОМ ТЕАТРЕ
шимся театральным формам, если он открывает целые за-
бытые театральные области, то причина этого не в чем
ином, как в поисках традиций, в стремлении установить
связь с прошлым. На конгрессе было уже сказано, что если
авангардный театр выступает против фальсификаторов тра-
диции, то лишь для того, чтобы сделать возможным пра-
вильное ее понимание. Итак, авангардный театр обладает
собственным характером, собственной самобытностью и спе-
цифическими задачами, которые он может выполнить лишь
при условии, что станет постоянным формированием. Одна
из важнейших проблем современного театра в целом —
контакт сцены с публикой. И как раз у авангардного театра,
где отношения между публикой и сценой совершенно иные,
чем в официальном театре, наиболее счастливые предпо-
сылки для решения этой проблемы. Если в большом театре
постоянный состав публики обеспечен лишь механически —
абонементной системой, то в авангардном театре существует
общность интересов между сценой и зрительным залом
(общие интересы поколения, интересы идеологические, ху-
дожественные). Именно известная исключительность аван-
гардного театра создает подходящую среду для включения
театрального искусства в жизнь общества. Следовательно,
авангардный театр начинает выступать как совершенно
своеобразное формирование с собственными задачами. Ка-
кая бы проблема ни возникала, авангардный театр должен
решать ее теоретически и практически применительно к
этой своеобычности. Все это я хотел сказать в качестве
введения и частично в качестве оправдания за то, что
выбрал сугубо специальную тему.
Я имею в виду сценическую речь, положение которой
в структуре авангардного сценического произведения вновь
обрело значительную сложность и интерес для современного
театра не потому, чтр сценическая речь поставлена во главу
всего театрального процесса, а наоборот, потому^ что язык
поставлен на один уровень с остальными элементами, ока-
завшись в прямом диалектическом напряжении с каждым
из них. В каноне реалистического театра языковой элемент
был связан только с драматическим персонажем, средством
характеристики которого речь служила наравне с жестом
и мимикой; в каноне экспрессионистического театра язы-
ковой элемент, напротив, сам проявил стремление выдви-
нуться на первый план, сделав из остальных элементов
всего лишь фон для себя. Так вот, сейчас дело не в том и
357
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
не в другом: все элементы театра освободились от взаимного
подчинения и зависимости, ни один из них не подчиняет
себе другие, ни один не подчиняется им, и напряжения
между ними могут свободно проявляться. В спектакле од-
новременно осуществляется несколько композиционных
схем, каждая из которых имеет собственную внутреннюю
спаянность и связь. Речь, жест, движение, свет, музыка,
кино — все эти элементы вместе и каждый из них сам по
себе приобретают значение композиционных принципов;
обусловленные ими композиционные схемы могут то сов-
падать, то расходиться, могут перекрещиваться и разви-
ваться параллельно. Ни один из элементов не связан с
другим неразделимо, как два близнеца. Все они могут ус-
танавливать между собой в высшей степени преходящие и
изменчивые отношения. Здесь нет также ни форм, ни со-
держания: каждый элемент — при своей независимости от
остальных — является одновременно и содержанием и фор-
мой. Споры между противниками и приверженцами фор-
мализма применительно к новому театру лишаются смысла.
Точно так же противоположность между служебностью и
независимостью театра образует в новом театре синтез: чем
больше театр сосредоточен в самом себе, в своей внутренней
сложности и в овладении ею, тем скорее он способен стать
прообразом и образцом нового устройства действительности.
Он служит именно благодаря тому, что остается самим
собой.
Что из всего этого следует для сценической речи? Было
бы слишком сложной и трудно выполнимой задачей попы-
таться развить здесь на основе предпосылок нового театра
целую теорию сценической речи; разрешите поэтому огра-
ничиться самыми краткими наметками. Сценическое язы-
ковое высказывание — это диалог, т. е. речь, непрестанно
прерываемая, перескакивающая от персонажа к персонажу,
вновь и вновь возникающая из внеязыковой ситуации. В тех
местах, где языковое высказывание в диалоге прерывается,
сценическая речь и вступает на сцене в контакт с осталь-
ными элементами сценического произведения. Но при этом
в упорядоченном течении диалога постоянно возобновляется
прочная смысловая связь между тем, что предшествовало,
и тем, что следует далее. Вызов и реплика, вопрос и ответ
тесно связаны друг с другом и непрестанно восстанавливают
прерванную нить. В новом театре, где — как было уже
сказано — каждый элемент неустанно удерживает свою
358
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АВАНГАРДНОМ ТЕАТРЕ
внутреннюю спаянность и независимость от остальных эле-
ментов, максимально акцентируется именно непрерывность
диалога. Сейчас идеалом диалога не является диалог, на-
прямик спешащий к известной цели, к кульминации, к
которой его уносит действие. Освобожденный, внутренне
непрерывный диалог в каждый момент закончен и неза-
кончен, он переступает границы спектакля, потенциально
продолжаясь до бесконечности2. Концовки «Палача» и «Гам-
лета» — или, скорее, то, как они прозвучали3, — явственно
обнаружили это свойство нового сценического диалога. От
построенного таким образом диалога ведет прямой путь в
жизненную реальность зрителя: он не уходит из театра с
сознанием, что присутствовал при каком-то действе, до
которого ему больше нет никакого дела. Диалог продолжа-
ется в нем самом. В построенном таким образом диалоге
особое положение занимает, разумеется, и звуковая сторона,
столь важная для актерского искусства. Не существует по-
стоянного довода в пользу сближения освобожденного диа-
лога с практической речью, так же как нет императивного
довода для того, чтобы он постоянно и строго от нее уда-
лялся. Обе крайности и все тончайшие переходы и оттенки
между двумя этими полюсами при сохранении внутренней
диалогической напряженности, о которой мы говорили, на-
ходятся в распоряжении создателя спектакля. В сыгранности
и контрастности игры актеров, равно как и в речи одного
актера, эти крайности и переходы между ними могут тесно
и непосредственно соприкасаться. Благодаря этому между
практической и сценической речью поддерживается посто-
янное и прочное напряжение, при котором практическая,
несценическая речь играет роль мерила взаимных откло-
нений и сближений между ними. Если мы именно так
понимаем задачи сценического произношения, лишается
смысла спор о том, является ли существенным требованием
сценической речи деформация или реалистическая верность
канону практической речи. И то и другое — деформация
и «естественность» — законные средства сценического ма-
стера; единственное, чего нужно избегать, — это стилиза-
ции, строгого орнаментализма, педантично придерживаю-
щегося одного-единственного принципа. И наконец позволю
себе заметить с целью разъяснения: если в освобожденном
диалоге сценическая речь вышеупомянутым образом раско-
вана в смысловом и звуковом отношении, это ни в коей
мере не означает анархии, а, напротив, свидетельствует о
359
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стремлении к порядку, разумеется более сложному и ди-
намичному, чем имевший место ранее. Не подлежит со-
мнению, что все содержащиеся в языке возможности — все
оттенки диалектальной, арготической речи, все патологи-
ческие несовершенства ее — все это становится инструмен-
том, которым могут и должны воспользоваться режиссер и
актер. Но как раз эта чрезвычайная сложность требует как
от актера, так и от зрителя абсолютной уверенности в
оценке этих различных возможностей и средств, уверенно-
сти в иерархической градации языковых оттенков, слоев и
диалектов. Некогда мечтой деятелей театра был сценический
языковый стандарт, особенно у нас, где его еще не выра-
ботали. Под сценическим стандартом произношения разу-
мелось, а порой и до сих пор разумеется, некое законода-
тельство: такое-то произношение правомерно, такое-то не-
допустимо. Ну так вот, сейчас, как мне кажется, начинает
вырисовываться иное понимание стандарта: на сцене дозво-
лено говорить любым способом при единственном условии,
что актер и зритель будут иметь точное представление о
социальном, языковом и художественном значении каждого
способа речи, что они сумеют точно определить место,
которое каждая языковая форма занимает в едином целом
национального языка. Сценический стандарт из факта язы-
кового законодательства превращается в вопрос художест-
венной и языковой культуры4.
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ
ТЕОРИИ ТЕАТРА
Установление активной связи между зрителем и сце-
ной — одна из важнейших и различными способами раз-
решаемых проблем современного театра. Решение ее, есте-
ственно, в значительной степени находится в руках самого
театра, его режиссера и актеров. Эти деятели уже неодно-
кратно пытались каким-нибудь образом «втянуть» зрителя
в игру И пришли к результатам, интересным и ценным в
художественном отношении, но большей частью малодей-
ственным в том плане, о котором шла речь. Разумеется, в
театре существует и другая сторона — зрительный зал и
360
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
сидящие в нем зрители, т. е. как раз те, чья активность
должна быть пробуждена. Размышляли и о них, но чаще
всего не как о конкретном сообществе людей, посещающих
такой-то и такой-то театр, а как о представителях обще-
ственного целого, и вопрос сводился к взаимоотношениям
между театром и обществом. Достаточно известны глубо-
комысленные, но практически малоплодотворные рассуж-
дения о том, что необходимой предпосылкой интенсивного
контакта и полного взаимопонимания между театром и
обществом является спонтанное единство мировоззрения,
религиозного и нравственного чувства; примеры: Древняя
Греция, средневековье и т. д. Однако в театре (особенно
современном) сидит не все общество той или иной эпохи,
той или иной нации, а публика, т. е. сообщество, в соци-
альном плане часто во многих отношениях весьма разно-
родное (мы имеем в виду не только общественные слои,
но и сословия, возраст и т. д.), зато объединенное воспри-
имчивостью к театральному искусству. Публика всегда яв-
ляется посредником между искусством и обществом в це-
лом1. Точно так же и поэтическое искусство, живопись,
музыка и другие виды искусства нуждаются в публике, т.
е. в комплексе личностей с врожденной или приобретенной
способностью вступать в эстетическое отношение именно с
тем материалом, с каким имеет дело данное искусство.
(Понимание каждого определенного вида материала доступ-
но отнюдь не всем, и редко индивид, даже самый воспри-
имчивый в эстетическом смысле, способен в равной мере
составлять частицу публики всех видов искусства: воспри-
имчивость к эстетическому воздействию слова вовсе не
обязательно связана с восприимчивостью к художественному
воздействию цвета, звука и т. д.) Но «театральная публика»
вообще — понятие еще слишком широкое и относительно
абстрактное: каждый театр и особенно театр с четко выра-
женным художественным направлением имеет собственную
публику, которая знает художественный облик этого театра,
следит за игрой актера от пьесы к пьесе, от роли к роли
и т. д. И это обстоятельство — важная предпосылка актив-
ного отношения публики к театру. Именно здесь пролегает
наиболее удобная дорога, по которой можно «втянуть зри-
теля в игру». От художественных устремлений режиссера
зависит, хочет ли он устранить материальную преграду
между сценой и зрительным залом; но даже если эта пре-
града сохраняется, отношение между театром и зрителем
361
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
отличается двусторонней активностью при условии, что пуб-
лика охотно и во всех деталях воспринимает художествен-
ные условности, на которых театр и как раз данный театр
основывает свое воздействие. Только в таком случае можно
ожидать, что реакция публики на сценическое действие
сама по себе тоже станет активной силой, которая молча,
но действенно войдет в игру актеров. Достаточно хорошо
известна чуткая реакция артистов на то, как их понимает
зритель, на то настроение, которое царит в притихшем
зале.
Поэтому хорошим начинанием, облегчающим путь пуб-
лики к театру, представляется попытка Круга друзей Д-412
приблизить к зрителю основы театра с помощью цикла
лекций, большую часть которых прочтут сами члены Д-41.
В спектакле художественный замысел может быть только
воплощен, а отнюдь не изложен прямо, весь труд, служащий
претворению замысла на сцене, скрыт от зрителя, а между
тем знания об этом труде могли бы существенно облегчить
публике понимание театра. Сам спектакль представляет
собой уже слишком монолитное целое, и нелегко проникнуть
в его построение, увидеть его изнутри. Во время спектакля
кажется совершенно естественным, что то или иное слово
текста произносится определенным образом, сопровождается
определенным жестом, что его воздействие определенным
образом проявляется в мимике, жестах и движениях ос-
тальных актеров и т. д. Но на репетициях зритель мог бы
увидеть, что соединение слова с жестом и т. д. — это
следствие намеренного выбора из множества различных воз-
можностей, что ни один из элементов театра автоматически
не вытекает из другого элемента, что театральное испол-
нение — весьма сложная коцсгрукция, таящая в себе опас-
ность постоянных изменений3. Если зритель будет осведом-
лен о рождении представления теми, кто ежедневно при-
нимает активное участие в театральном труде, он и сам
сумеет найти для себя место в спектакле, который лишь
внешне ограничен сценой, а в действительности всегда за-
полняет собой весь театр.
Организаторы этого цикла сочли целесообразным вклю-
чить в него и краткую беседу о теории театра. Разумеется,
здесь не может быть даже весьма приближенного система-
тического изложения всей ее проблематики, да это и не
нужно.
Мы ставим здесь перед собой только одну теоретическую
362
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
задачу — показать на нескольких замечаниях и примерах,
что театр, несмотря на всю материальную осязаемость своих
средств (здание, механизмы, декорации, реквизит, множест-
во персонала), является лишь основой для нематериальной
игры сил, протекающих во времени и пространстве и вовле-
кающих зрителя в свое переменчивое напряжение, в совме-
стную игру, которую мы называем сценическим исполнени-
ем, спектаклем. Теоретические предпосылки для такого
взгляда на театр даны современной теорией театра и в первую
очередь как раз чешской театральной теорией. Чешская те-
ория театра нередко бывает предметом критики, несомненно
заслуженной, коль скоро речь идет о перечислении еще не
выполненных задач, но было бы несправедливо отрица-
тельно оценивать и ее прошлое. Прежде всего я имею в виду
одну из работ последних лет — «Эстетику драматического
искусства» Зиха4. Уже здесь театр был понят во всей своей
широте и сложности как динамическая сыгранность всех его
элементов, как единство сил, внутренне разделенное их вза-
имными напряжениями, и как комплекс знаков и значений.
Из такого же понимания театра исходят в своих теоретиче-
ских трудах Богатырев, Гонзл , Э. Ф. Буриан6 и несколько
более молодых исследователей.
Но и поколение, предшествовавшее Зиху, значительно
способствовало познанию сущности театра. Достаточно упо-
мянуть двух недавно ушедших от нас театральных крити-
ков — Индржиха Водака7 и Вацлава Тилле8. В период
формирования своих взглядов они пережили могучее и,
если смотреть на него вблизи, часто даже хаотическое бро-
жение переворота, который претерпевал европейский театр
в последние десятилетия XIX — начале XX века и который,
собственно, не завершился до сих пор. У нас театральное
развитие протекало еще более бурно потому, что к нам
проникали и на нашей почве сталкивались импульсы, ис
ходившие из нескольких стран одновременно, в особенности
из Германии, Франции и России. Этот сумбур, несомненно,
имел и отрицательные последствия: не доведенные до конца
и полностью не усвоенные концепции оставлялись ради
других, более новых; различные концепции смешивались,
образуя художественно «нечистый» синтез; порой воспри-
нимались лишь внешние черты определенной театральной
концепции, а отнюдь не ее сущность и т. д. Однако в этом
была и своя положительная сторона, заключавшаяся прежде
всего в том, что обострилось внимание к многогранной
363
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сложности театра и взаимному уравновешиванию его эле-
ментов. Читая «Театральные воспоминания» Тилле, мы ни-
когда не застаем критика в растерянности, о каком бы
театральном явлении ни шла речь: пишет ли он о фран-
цузском, русском, немецком или японском театре, оказы-
вается ли перед такой разновидностью театра, в которой
на первом месте стоит актер, или перед иной, где центр
тяжести спектакля — в его сценическом оформлении, или
наконец перед третьей, главной фигурой которой является
режиссер; он умеет точно отличить актерскую систему,
работающую преимущественно над жестом, от системы,
основанной на декламации; он замечает почти неразличи-
мую грань, где жест переходит в мимику и т. д. Эта вос-
приимчивость эрудита расчистила путь мыслителю, кото-
рому предстояло дать чешской театральной науке первый
пример систематического и философски последовательного
анализа основ театра. Мы имеем в виду О. Зиха. Важно
осознать, что путь этот был подготовлен отечественным
развитием художественной практики и теории, развитием,
которое было связано не только с невыгодами положения
малой нации, захлестываемой влияниями великих народов,
но и с выгодами этого положения: слишком большое коли-
чество влияний в конце концов взаимно уравновешивалось,
а практика и теория в результате этого освобождались от
односторонней зависимости. Если пословица гласит, что
недостатки человека бывают продолжением его достоинств,
то о чешском человеке можно иногда сказать обратное: его
достоинства бывают подчас продолжением недостатков его
положения.
Но обратимся теперь к существу нашей темы. Мы го-
ворили о сложности театра, и поэтому прежде всего нужно
раскрыть, в чем она заключается. Будем исходить из об-
щеизвестного утверждения. Уже со времен Рихарда Вагнера
говорится, что театр — это, собственно, целый комплекс
искусств. Такова была первая формулировка сложности те-
атра. Хотя ей принадлежит заслуга первенства, но существа
дела она не выражает. Для Вагнера театр был суммой
нескольких самостоятельных искусств. Однако сейчас уже
ясно, что, вступая в сферу театра, отдельные виды искусства
утрачивают свою самостоятельность, взаимопереплетаются,
что между ними возникают взаимные противоречия, что
они заменяют друг друга, короче говоря, что они «раство-
ряются»^ образуя совершенно единое новое искусство. При-
364
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
глядимся, например, к музыке. Она присутствует в театре
не только в тех случаях, когда непосредственно звучит или
даже — в опере — овладевает словом: свойства, которые
музыка разделяет с театральным действием (интонация го-
лоса в ее отношении к музыкальной мелодии, ритм и агогика
движения, жеста, мимики и голоса), способствуют тому,
что действие может быть спроецировано на ее фон и фор-
мироваться по ее модели. Э. Ф. Буриан, музыкант и режис-
сер в одном лице, показал, до какой степени сценическое
время может стать ритмически измеримым по образцу му-
зыки, даже если музыка на сцене не звучит, и насколько
роль интонационного языкового мотива в общем строении
спектакля родственна роли мелодического мотива в музы-
кальном сочинении: не только в музыкальной драме есть
мелодические «лейтмотивы», есть они и в обычной драме.
Точно так же, как с музыкой, в театре обстоит дело, в
частности, и со скульптурой. Она присутствует на сцене,
когда статуя представляет собой компонент декорации. Од-
нако и в таком случае значение статуи здесь иное, чем
вне сцены: так, например, еще в фойе театра статуя —
всего лишь вещь, изображение, в то время как на сцене
она неподвижный актер, в противоположность живому ак-
теру; об этом свидетельствуют многочисленные сюжеты,
согласно которым статуя на сцене оживает. Как противо-
положность актеру статуя на сцене присутствует непре-
станно, даже если ее присутствие не материализовано: не-
подвижность статуй и подвижность живого человека —
постоянная антиномия, между полюсами которой осцилли-
рует на сцене игра актера; и когда Крэг9 выдвигал известное
требование актера «сверхкуклы», предками которого, по
собственным словам английского режиссера, были статуи
богов в храмах, он лишь явственно указывал на эту скры-
тую, но всегда существующую антиномию актерского ис-
кусства. То, что называют «позой», это эффект, несом-
ненно, заимствованный от статуи; в средневековом же театре
«движения, медленные и размеренные, приходятся на паузы
в декламации, тогда как во время декламации актер стоит
неподвижно» (Golther. Der Schauspieler im Mittelalter. — В
сб. Гейслера «Der Schauspieler». Berlin, 1926). Подобным
же образом скульптурная античная, японская и т. д. маска
непосредственно соединяет актера со статуей, и переход от
неподвижности твердой маски к гриму современного актера,
как известно, весьма постепенен. Сходное с музыкой и
365
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
скульптурой положение занимают в театре и остальные
искусства, идет ли речь о поэтическом искусстве, живописи,
архитектуре, танце или кино: каждое из них в потенции
постоянно присутствует в театре, но одновременно каждое
из них, соприкасаясь с театром, лишается самостоятельности
и существенно изменяется. Разумеется, наряду с ними есть
еще вид искусства, который неразрывно связан с театром, —
это актерское искусство, и есть художественная деятель-
ность, борющаяся за единство всех элементов театра, —
это режиссура; наличие двух этих художественных элемен-
тов наиболее явственно характеризует театр как самостоя-
тельное и единое художественное формирование.
Но перечислением видов искусства, участвующих в по-
строении сценической речи, сложность театра далеко не
исчерпана: каждый из этих элементов распадается на вто-
ростепенные элементы, в свою очередь внутренне разъеди-
няющиеся на более частные элементы. Так, элементами
актерского искусства являются голос, мимика, жестикуля-
ция, движение, костюм и т. д. Каждый из них сам по себе
сложен, например, элементами голоса будут артикуляция
звуков, высота голоса и ее изменения, тембр, интенсивность
выдоха, темп. Но и здесь мы еще не исчерпали всех воз-
можностей. Отдельные голосовые элементы поддаются даль-
нейшей дифференциации. Возьмем, к примеру, тембр: каж-
дый человек обладает своеобразной окраской голоса, состав-
ляющей часть его физического облика, — по тембру голоса
говорящий может быть узнан, даже если слушающий его
не видит; однако, наряду с этим, существуют также окраски
голоса, соответствующие различным душевным настроениям
(«гневно», «радостно», «иронически» и т. п.), не зависящие
в своем значении от индивидуального тембра. Оба типа
языковой окраски могут быть художественно использованы:
индивидуальный голосовой тембр отдельных актеров, заня-
тых в определенной пьесе, может стать важным фактором
при режиссерской «инструментовке» сценического исполне-
ния; временная окраска голоса, выражающая душевное со-
стояние, принимается в художественный расчет либо уже
в самом драматическом тексте (ремарки поэта, обилие из-
менений и столкновений чувств в диалоге), либо в актерском
исполнении (ср. богатую шкалу тембров, которую на ней-
тральном авторском тексте демонстрировал Воян10. — См.
свидетельство Тилле в «Театральных воспоминаниях»). Та-
ким образом, театр включает в себя не только большое
366
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
количество различных элементов, но и богатую их диффе-
ренциацию. Однако может ли какой-нибудь из этих эле-
ментов быть провозглашен основным, совершенно необхо-
димым для театра? Следует ответить, что ни один из них
не может быть назван таким элементом, если мы не рас-
сматриваем театр лишь с точки зрения определенного ху-
дожественного направления, а видим в нем явление непре-
рывно изменяющееся. На отдельных этапах развития театра
и у отдельных направлений некоторые элементы, разуме-
ется, преобладают: доминантой театра бывает то поэтиче-
ский текст, то актер, то режиссер или даже оформление
сцены, а встречаются случаи еще более сложные, например
театр, где преобладает режиссер, выдвигающий на первый
план актера (Станиславский). Подобным же образом дело
обстоит и применительно к более частным моментам: в
актерском исполнении преобладают (в зависимости от эпо-
хи, школы и т. д.) то мимические, то голосовые элементы
и т. д.; и даже в самом голосе преимущественно акценти-
руется то артикуляция, то интонация и т. д. Все это крайне
изменчиво, и в процессе развития ведущее положение по-
переменно занимают все элементы поочередно, но ни одному
из них не удается сохранить свое господство постоянно.
Возможность такой изменчивости обусловлена тем, что —
как было уже сказано — ни один из элементов не является
для театра основным и неотъемлемым. Не является неотъ-
емлемым поэтический текст, потому что существуют теат-
ральные формы с диалогом в значительной степени имп-
ровизированным (например, комедия дель арте и некоторые
виды народного театра) или вообще без слов (пантомима).
И сам актер, носитель драматического действия, по крайней
мере временно может отсутствовать на сцене — его роль
выполняет другой элемент, например, свет (в осуществлен-
ной Бурианом постановке «Севильского цирюльника» свет
в соединении с грохотом бури своим мерцанием и измене-
нием окраски изображал народное восстание11, якобы про-
исходившее за сценой, — сама сцена была пуста), или даже
пустая, неподвижная сцена, которая как раз своей пустотой
может выражать решающий перелом в действии (этими
«сценическими паузами» любили пользоваться москвичи12)»
Подобного рода случаи, конечно, редки, но их достаточно
для доказательства того, что ни с одним из своих элементов
театр не связан неразрывно и что, следовательно, свобода
их перегруппировок неисчерпаема.
367
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Отдельные элементы театра также не связаны между
собой неизменными и заранее предусмотренными отноше-
ниями, как это иногда может показаться, если мы станем
на точку зрения какого-либо застывшего канона; не суще-
ствует двух элементов, пусть самых родственных друг другу,
связь которых нельзя было бы привести ,в движение. Ка-
жется, например, что жест, мимика и речь неизбежно па-
раллельны. — Однако москвичи продемонстрировали, что
в театре может быть художественно использовано как раз
их несоответствие друг другу. Послушаем, что об этом
говорит Тилле в статье о постановке «Дяди Вани»: «Русский
режиссер воспользовался почерпнутым из жизни опытом,
говорящим, что жесты, выражения лиц и действия людей
не являются логическим следствием произносимого слова,
точно так же как слова не являются следствием внешних
движений, но что и то и другое иногда симметрично, иногда
несимметрично проистекает из внутренней жизни, что и то
и другое вызвано скрытой движущей силой, заключающей-
ся, с одной стороны, в характерах действующих лиц, оп-
ределяющих ее либо своей волей, либо своей необузданной
энергией, с другой стороны, — в тех внешних влияниях,
которые диктуют поведение людей помимо их воли, а часто
и помимо их сознания». Таким образом, голос и жест ра-
зошлись в целях художественного воздействия. Тем, что
москвичи — в отличие от более старого канона — разъ-
единили их, они оказали влияние не только на дальнейшее
развитие театра, но и на внетеатральную жизнь своей пуб-
лики. Зритель, прочувствовавший сценическую систему мо-
сквичей, впоследствии зорче воспринимал себя и окружа-
ющих: жест для него был уже не только пассивным сопро-
вождением голоса, но и самостоятельным симптомом
душевного состояния, порой более непосредственным, чем
выражение его голосом. В различнейших своих вариациях
театр воздействует на зрителя постоянно в одном и том же
направлении: каждый раз вновь и с новых сторон он рас-
крывает перед ним многостороннюю взаимную зависимость
видимых форм поведения.
Для теории театра из этого вытекает важное требование:
сделать понимание театра как комплекса нематериальных
отношений своим методом и целью. Перечень элементов
сам по себе не более чем мертвый список. И собственная
(внутренняя) история театра представляет собой не что
иное, как последовательность изменения взаимоотношений
368
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
между элементами. Ни один из периодов развития театра
не может (теоретически) считаться совершенным воплоще-
нием самой сущности театра; не является подобным воп-
лощением и какая-либо из отдельных форм театра, как-то:
театр той или иной нации, театр народный, примитивный,
детское театральное творчество и т. д. Чем богаче и раз-
нообразнее материал, имеющийся в распоряжении исследо-
вателя, тем легче он может распознать отдельные элементы
и их отношения в общем построении сценического произ-
ведения. Ведь не всегда просто различить даже отдельные
элементы, настолько тесна связь, которая может возникать
между ними. Например, бывает почти невозможно отличить
движение актера от жеста (походка, которая является и
движением и жестом одновременно) или костюм актера от
его физического облика и т. п.
Отдельные элементы могут также и заменять друг друга:
так, подробные словесные описания заменяли декорации,
отсутствовавшие на шекспировской сцене, свет способен
составлять часть костюма актера (если свет окрашивает
костюм). Взаимным замещением элементов режиссеры часто
пользуются как техническим средством: Станиславский
(«Моя жизнь в искусстве») рассказывает, что режиссер мо-
жет «облегчить» задачу актера декорацией, например мас-
кируя слабое актерское исполнение броским оформлением
сцены.
Итак, изменчивая цепь нематериальных отношений, на-
ходящихся в процессе постоянных перегруппировок, состав-
ляет сущность театра. На ней основано не только развитие,
ведущее от эпохи к эпохе, от режиссера к режиссеру, от
одной актерской школы к другой, но и каждое сценическое
исполнение в отдельности. И внутри его различные эле-
менты сталкиваются и уравновешиваются в непрерывном
напряжении, протекающем во времени. В этот поток вре-
мени включается все: не только движущееся действие, но
и кажущаяся неподвижной йауза. Существуют режиссерские
и актерские системы, основанные на использовании пауз
как динамического элемента. О немецком актере А. Вас-
сермане13 его биограф говорит {Bab Julius. A. Bassermann.
Leipzig, 1909): «Из четвертого акта «Валленштейна» Шил-
лера Вассерман играет только сцену въезда в Хеб. Он
удивительно передает здесь рассеянность сильного духом
человека, мощь которого угасает. Он говорит с бургомистром
и все еще сохраняет княжескую осанку, осанку благосклонно
369
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
слушающего властителя. Но при этом он подозрительно
рассеян. То и дело он как бы отключается. В разговоре
возникают длительные паузы. Для достижения этой худо-
жественной цели Вассерман радикально сократил шилле-
ровский текст». Целью Вассермана, несомненно, было уси-
ление драматического напряжения — средством послужили
паузы, т. е. всего лишь длящееся время: нематериальное
время как русло нематериального действия. Все, что есть
на сцене, — лишь материальная основа сценического дей-
ствия, собственными героями которого являются постоянно
сменяющие друг друга и переплетающиеся акции и реакции.
Каждый сдвиг во взаимоотношениях элементов — это од-
новременно и реакция на то, что предшествовало ему, и
акция применительно к тому, что последует. Носителями
акций и реакций являются не только актеры, но и сцена
в целом. Как и все в театре, в постоянном движении
находится и граница между актером и неодушевленным
предметом: в момент крайней напряженности «деятелем»
скорее становится нацеленный на противника револьвер,
чем актер, держащий его в руке; декорации тоже могут
стать актерами, между тем как актер, наоборот, может
стать декорацией (ср. Veltrusky J. Clovek a predmet па
jeviSti. — «Slovo a slovesnost», VI). Из смены акций и ре-
акций рождается постоянно возобновляемое и восстанавли-
ваемое напряжение, которое не тождественно непрерывно
нарастающему напряжению действия (коллизия, кризис,
перипетии, катастрофа), имеющему место лишь в некоторых
жанрах и лишь на некоторых этапах развития театра. На-
пряжение, вытекающее из действия, предполагает действие,
причем действие единое, — но существуют многочисленные
драматические формы, не знающие единства действия (на-
пример, средневековая драма, ревю) или даже действия в
собственном смысле слова (ср., например, не связанные
друг с другом сцены, путем последующего соединения ко-
торых возникли античный мим или средневековая духовная
драма).
Уяснив для себя сущность театра, попытаемся проверить
и проиллюстрировать только что высказанные утверждения
анализом нескольких его элементов. Присмотримся в пер-
вую очередь к драматическому тексту. Были периоды, когда
считалось, что театр существует только для того, чтобы
репродуцировать произведение драматического поэта (ср.,
например, французский театр XIX века, где автор, как
370
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
правило, сам ставил свое произведение); иной раз, наоборот,
преобладал взгляд, что драма — всего лишь текст для
театрального исполнения, а отнюдь не самобытное поэти-
ческое произведение (ср., например, мнение, высказанное
Зихом в «Эстетике драматического искусства»). Но оба эти
понимания суть лишь проявления взглядов на театр, огра-
ниченных рамками определенной эпохи и определенной
художественной системы. Если же мы посмотрим на драму
без пристрастия, продиктованного духом времени, то неиз-
бежно увидим, что это одновременно и поэтический жанр,
однородный с лирикой и эпикой и равноправный с ними,
и один из элементов театра; разумеется, по своей художе-
ственной направленности драма может склоняться то к од-
ному, то к другому полюсу. Развитие поэтического искусства
без драмы, поэтической диалогической формы, было бы
немыслимым, и точно так же немыслимо развитие драмы
вне ее связи с поэтическим искусством: драма непрестанно
питается истоками лирики и эпики и.в свою очередь ока-
зывает влияние на эти соседние формы. Что касается от-
ношения драмы к театру, то необходимо помнить, что театр,
нуждаясь для своих целей в слове, может обратиться к
любой из основных поэтических форм. И он это делает на
практике: так, средневековые плачи (плачи Девы Марии),
лирические по своему характеру, предназначались для те-
атрализованного исполнения; эпическое поэтическое искус-
ство вступает в контакт с театром, например, посредством
драматизаций романов и т. д. Если же театр чаще обраща-
ется к драме, чем к лирике и эпике, то лишь потому, что
драма есть поэтическое искусство диалога, а диалог — это
акция, выраженная речью: в театре реплики диалога обре-
тают характер цепи акций и реакций.
Становясь составной частью театра, драма приобретает
иную функцию и иной характер по сравнению с тем, чем
она была, пока воспринималась как поэтическое произве-
дение: одна и та же драма Шекспира представляет собой
одно, когда мы ее читаем, и нечто совсем иное, когда ее
ставят на сцене (например, описания, которые, как было
уже сказано, становятся на сцене словом-декорацией, при
чтении функционируют как лирические партии произведе-
ния). Разумеется, в этом плане между пьесами существуют
значительные различия: есть драматические произведения,
которые с трудом поддаются сценическому воплощению
(так называемые пьесы для чтения), и есть такие, которые
371
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
почти не живут вне сцены (Тилле о «Сирано де Бержераке»
Ростана: «Такие пьесы, как пьеса Ростана, скорее схожи с
хорошо скроенными текстами опер и зрелищных представ-
лений, в которых автор лишь предоставляет занятым в
пьесе артистам возможность проявить свое искусство»). Во
всяком случае, между драматической поэмой и театром
существует напряжение: чрезвычайно редко драма бывает
поставлена без драматургической переработки, и выражение
«сценическая редакция», как правило, всего лишь эвфемизм,
маскирующий напряжение между театром и поэтическим
искусством. «Воплощая» драму на сцене, актер и режиссер
свободно решают (порой и вопреки воле драматурга), какие
стороны поэтического произведения они выделят, какие —
оставят в тени; от воли актера зависит затем, как он будет
обращаться со «скрытым смыслом» текста, т. е. с тем, что
не может быть непосредственно высказано в диалоге, но
тем не менее составляет неотъемлемую часть драмы. Поэт
владеет лишь написанным словом, актер же богатым арсе-
налом средств голосовых, мимических и т. д. Он просто-на-
просто не может воспроизвести лишь содержание текста:
на сцене мы всегда видим целого человека, а не только то,
что из него показывает нам поэт. Наглядно раскрыл на-
пряжение между драматическим произведением и сценой
Станиславской в той главе своего труда, которая названа
«Когда играешь злого, — ищи, где он добрый». Он говорит
там: «Смотря из залы, я ясно понимал ошибки актеров и
стал их объяснять товарищам».
«Пойми, — говорил я одному из них, — ты играешь
нытика, все время ноешь и, по-видимому, только о том и
заботишься, чтобы он, сохрани бог, не вышел у тебя не
нытиком. Но чего же об этом беспокоиться, когда сам автор,
более чем нужно, об этом уже позаботился? В результате
ты все время красишь одной краской. А ведь черная краска
только тогда станет по-настоящему черной, когда для контр-
аста хотя бы кое-где пущена белая. Вот и ты впусти в роль
чуть-чуть белой краски в разных переливах и сочетаниях
с другими тонами радуги. Будет контраст, разнообразие и
правда. Поэтому, когда ты играешь нытика, — ищи, где
он веселый, бодрый»*. Но не всегда, разумеется, речь идет
о дополнении текста прямым его контрастом: часто текст
♦ Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8-ми т. M.: Искусство, 1954, т.
1, с. 121—122.
372
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
предоставляет актеру множество смысловых возможностей.
В этом плане от одного этапа развития к другому сущест-
вуют колебания в самой драматической поэзии: есть пери-
оды, для которых характерно стремление максимально пред-
определить театральное исполнение текстом, и есть другие,
когда текст намеренно предоставляет максимальный простор
для своего театрального досоздания; к этому типу принад-
лежат, например, драмы Ибсена, в текст которых почти
систематически вложен двойной смысл: один, выраженный
непосредственно словами, и другой, доступный лишь жесту
актера, интонации и окраске его голоса, темпу действия и
манере декламации. Подобным же образом дело обстоит и
у Чехова. Очарование пьес Чехова заключается «в том, что
не передается словами, а скрыто под ними, или в паузах,
или во взглядах актеров, в излучении их внутреннего чув-
ства. При этом оживают и мертвые предметы на сцене, и
звуки, и декорации, и. образы, создаваемые артистами, и
самое настроение пьесы и всего спектакля. Все дело здесь
в творческой интуиции и артистическом чувстве» (Станис-
лавский)*.
Таково, следовательно, отношение между театром и дра-
мой: постоянно напряженное и потому подверженное изме-
нениям. Но в принципе ни театр не подчинен поэтическому
искусству, ни поэтическое искусство театру: и та и другая
крайность может иметь место лишь в определенные периоды
развития, в другие же периоды между обеими сторонами
существует равновесие.
Приглядимся теперь к другому основополагающему те-
атральному фактору — к драматическому пространству.
Драматическое пространство не тождественно сцене, ни
вообще трехмерному пространству, ибо оно возникает во
времени в результате последовательных изменений про-
странственных взаимоотношений между актером и сценой
и между актерами: каждое движение актера воспринимается
и оценивается в связи с предшествующими движениями и
применительно к последующему движению, которое пред-
угадывается; точно так же и расположение действующих
лиц на сцене понимается как изменение предшествующего
их расположения и как переход к последующему. Поэтому
Зих говорит о сценическом пространстве как о комплексе
сил: «Драматические персонажи, изображаемые актерами,
* Станиславский К. С. Собр. соч.: В 8-ми т. т. 1, с. 220
373
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
являются некими средоточиями сил разной интенсивности
соответственно значению персонажей в данной драматиче-
ской ситуации; драматические соотношения между ними,
обусловленные этой ситуацией, представляют собой некие
силовые линии, возникающие между персонажами и вновь
разъединяющиеся. Драматическая же сцена, наполненная
сетью этих силовых линий и моторными путями, ими со-
зданными, есть некое силовое поле, изменяющееся по форме
и по силе отдельных элементов» («Estetika dramatickeho
umem»). Ввиду своей энергичности драматическое простран-
ство может во все стороны выходить за границы сцены; так
возникает явление, получившее название воображаемой
сцены, о которой у нас писали К. Пражакова и Ф. Штибиц 4
(действия за, над либо даже под сценой). На воображаемую
сцену может быть временно перенесено даже главное дей-
ствие, и театр в различные периоды своего развития раз-
нообразно использует многогранные возможности вообра-
жаемой сцены: иногда он обращается к воображаемой сцене
по чисто техническим причинам (на воображаемую сцену
переносится действие, которое на обычной сцене было бы
трудно реализовать, например состязания, большие сборища
людей и т. п.), иногда к этому побуждает традиция (на-
пример, во французской классицистической трагедии на
воображаемую сцену переносились кровавые эпизоды),
иногда, наконец, художественные доводы (усиление напря-
женности и т. п.). Отличительной чертой драматического
пространства, характерной для той или иной эпохи, как
раз и служит относительная частота использования вооб-
ражаемой сцены или даже полный отказ от нее.
Однако драматическое пространство выходит за рамки
сцены еще и иным способом, имеющим более принципи-
альное значение, чем воображаемая сцена: оно включает в
себя и сцену и зрительный зал. Уже Зих отмечал, что
«действия, исходящие из динамического поля драматиче-
ского пространства, переносятся в зрительный зал. в пуб-
лику». Современная же теория театра (см. Kouril-Burian.
Divadlo prace, 1938), с точки зрения драматического про-
странства, понимает сцену и зрительный зал как единое
целое. Но и в том случае, когда сцена отделена от зри-
тельного зала рампой, она не существует независимо от
него: пребывание актера на авансцене, в глубине сцены,
справа, слева определяется с позиции сидящего перед сценой
зрителя; если бы зрители окружали сцену (как, например,
374
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
иногда бывает в народном театре), все это, как отмечает
Зих, утратило бы смысл. Драматическое пространство вклю-
чает в себя, таким образом, весь театр и создается в ходе
спектакля в сознании зрителя; оно представляет собой силу,
которая устанавливает единство между всеми остальными
элементами театра, в свою очередь воспринимая от них
свое конкретное значение.
Следующий важный элемент театра, который также
группирует вокруг себя и несет в себе все остальные эле-
менты, — это актер. Значение актера для построения сце-
нического представления заключается в том, что он является
наиболее частым носителем действия. В связи с этим важно
и то обстоятельство, что актер — живое человеческое су-
щество. Гегель говорит об этом в своей «Эстетике»: «...чув-
ственный материал драматической поэзии в собственном
смысле слова не сводится лишь к человеческому голосу и
высказываемому слову, но это весь человек, не только
обнаруживающий чувства, представления и мысли, но, вов-
леченный в конкретное действие, воздействует на представ-
ления, намерения, деятельность и поведение других по
всему своему целостному бытию и испытывает аналогичные
обратные воздействия или же им сопротивляется»*. Поэтому
актер — средоточие сценического действия, и все, что на-
ходится на сцене кроме него, оценивается лишь в отношении
к нему, как знак его душевной и физической организации;
отсюда множественность и сложность театральных знаков,
что впервые показал в своей книге Зих; об этом же пло-
дотворно размышлял шедший по его стопам Богатырев. Все
вещи, кроме актера, обращают на себя внимание лишь
посредством органов восприятия — актер же и его прояв-
ления действуют на зрителя прямо, заставляют вчувство-
ваться в происходящее. Поэтому актер — наиреальнейшая
из реальностей сцены или, скорее, — единственная реаль-
ность сцены. Чем полнее вовлечен актер в сценическую
акцию, тем живее ощущается его реальность, а вместе с
ней многогранность его самого и его проявлений: отсюда
различие между главными и второстепенными персонажами.
Под влиянием участия в действии даже вещь может восп-
риниматься зрителем в качестве актера; в этот момент и
она становится для зрителя реальностью: «Настоящий фон-
* Гегель, Лекции по эстетике. Книга третья. — Соч. M., 1958, т. XIV,
с. 352. Пер. П. С. Попова.
375
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тан на голой мейерхольдовской сцене, где остальным вещ-
ным сценическим оформлением служили туристская палат-
ка, штатив и термос. Эти обычные и будничные реальности
находятся на сцене не из-за своей гармоничности, не для
«обрисовки среды» — они здесь для театральности, для того,
чтобы трогать и захватывать, они здесь в роли актера —
у них тысячи значений, в зависимости от отношений, в
которые они вступают, и момента... Они здесь в интересах
действия, о котором не рассказывают, но которое создают
своей пространственной ритмикой или временными изме-
нениями (HonzL Moderni rusk£ divadlo).
Своеобразно отношение между актером и персонажем,
которого он изображает. Уже неоднократно ставился вопрос,
создает ли актер персонажа из себя, из своих собственных
чувств и переживаний или независимо от своей внутренней
жизни, с помощью холодного расчета. Впервые этот вопрос
поставил Дидро в своем прославленном «Парадоксе об ак-
тере». Современная теория театра (HonzL Nad Diderotovym
Paradoxem о herci: Program D-40) отвечает на этот вопрос
примерно так: в актерской игре всегда присутствует и то
и другое — и непосредственное переживание роли, и эмо-
ционально безучастное создание образа; в процессе же раз-
вития подчеркивается то один, то другой полюс (так, на-
пример, создание образов персонажей иэ собственного внут-
реннего фонда преобладало у некоторых великих актеров
эпохи психологического реализма — у нас Гана Квапило-
ва16). Не следует, впрочем, забывать, что соединение в
актере человека и художника носит взаимный характер:
актер не только частично живет в игре, но и частично
играет в жизни. Коклен 7 в своей лекции «Искусство и
актер» (переведенной на чешский язык в 1883 году) при-
водит такой анекдот об актере Тальма: «Рассказывают, что,
узнав о смерти своего отца, он испустил душераздирающий
крик, такой искренний, такой естественный, что художник,
всегда бодрствующий в человеке, немедленно отметил его
и подумал о том, как воспроизвести этот крик на сцене»*.
Напряжение между субъективностью художника и объек-
тивностью его творчества существует во всех видах искус-
ства, но актером оно ощущается интенсивнее, поскольку
актер сам всем своим существом, душой и телом служит
себе материалом.
♦ Коклен-старший Б.-К, Искусство актера. Л.; М.: Искусство, 1937, с.
106.
376
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
Тем не менее связь между жизнью актера й его худо-
жественным творением в определенной пьесе не является
чем-то непосредственным: между ними находится проме-
жуточный слой, складывающийся из устойчивого набора
формообразующих средств, который представляет собой по-
стоянный признак данного актера и переходит из роли в
роль. Для публики эти устойчивые формообразующие сред-
ства неразрывно связаны с реальной личностью актера: по
ним она узнает актера в новой роли, они эмоционально
приближают к ней актера или отдаляют, на их фоне она
оценивает отдельные выступления актера. Напряжение
между отдельным исполнением и постоянным набором фор-
мообразующих средств приобретает вместе с тем и значение
фактора художественного построения актерского искусства
как такового: существуют периоды, разновидности театра
и актерские личности, у которых преобладает то, что в
творчестве актера является постоянным, — иной же раз
акцентируется именно резкое различие отдельных ролей.
Особенно часто постоянная актерская личность преобладает
над дифференцированностью ролей у комиков — вспомним,
например, Власту Буриана . Комическое актерское искус-
ство в своей тенденции к канонизации актерского испол-
нения идет, впрочем, еще дальше, создавая типы, незасимые
от личности того или иного исполнителя: Пульчинелла,
Баяццо, Арлекин, Гансвурст, Кашпарек и т. п. Противоре-
чием и напряжением между актерской личностью и отдель-
ным исполнением далеко не исчерпан, разумеется, перечень
напряжений, которыми окружен на сцене актер, как, впро-
чем, и все, что входит в построение сценического акта.
Можно было бы перечислить еще множество антиномий
актерского искусства, в особенности если бы мы от актера
как индивидуума перешли к актерскому ансамблю и от
одного драматического персонажа ко всему комплексу пер-
сонажей, участвующих в определенном сценическом ак-
те.
Следующий основной фактор театра — публика: ей, так
же как драматическому пространству и актеру, принадлежит
в театре резюмирующая роль в том смысле, что все про-
исходящее в театре так или иначе адресовано публике.
Когда актеры говорят на сцене, то различие между их
разговором и разговором в обыденной жизни заключается
в том, что при сценическом диалоге учитывается воздействие
на молчаливого партнера (иногда к нему даже обращаются),
377
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
который слушает этот разговор за рампой; на этого партнера
рассчитана и реакция действующих лиц на высказывания
говорящего. Зачастую диалог ведется так, что публика по-
нимает его иначе, чем один из персонажей; публика может
также знать о ситуации и больше и меньше, чем в данную
минуту знают действующие лица. Все это наглядно демон-
стрирует участие публики в сценическом действии. Сцени-
ческое действие оказывает влияние на публику, но и пуб-
лика влияет на сценическое действие, хотя, как правило,
это влияние сводится к тому, что ощущаемое актерами
восприятие публики, ее настроение и т. д. помогает или
мешает им играть. Но встречаются случаи, когда участие
публики становится явным, так бывает иногда в народном
театре (когда актер вступает в прямой разговор с публи-
кой — см. об этом: Bogatyrev. Lidove divadlo ceske a slovenske.
Praha, 1940) или в комических импровизациях (когда, на-
пример, актер трактует смех публики как положительный
или отрицательный ответ на свои слова и ссылается на этот
ответ в своем дальнейшем разговоре с партнером: «Вот
видите, что о вас думает публика» и т. п.).
И театр постоянно проявляет стремление сделать участие
зрителя в сценическом акте как можно более прямым; с
этой целью, например, актера помещают среди зрителей,
заставляют выходить на сцену прямо из зрительного зала
или иногда определенному действующему лицу доверяют
функцию посредника между сценой и зрительным залом
(бродяга в пьесе братьев Чапек «Из жизни насекомых»)19.
Но и в том случае, когда театр не обращается к зрителю
столь непосредственно, он стремится вовлечь его в действие.
Весьма поучительный пример этого приводит поэт Вильдрак,
рассказывая о пьесе Дюамеля «Lumiere»*20 в постановке
Гилара: «Вы, конечно, помните сцену, где слепой Бернар,
стоя во время заката у открытого окна с видом на горное
озеро, поэтически рисует красоту зрелища, которого не
видит и никогда не видел. Так вот, в пражском Нацио-
нальном театре, когда слепец приближается к окну, ранее
освещенный пейзаж погружается в полную тьму и перед
этим темным фоном, подчеркнутым ярким освещением
оконной рамы, слепец произносит свой монолог. Зрителя
побуждают перенестись на место говорящего — и зритель
превращается перед этим окном в слепца» («Choses de
♦ «Свет* (франц.).
378
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
theatre», II). Впрочем, в театре роль актера и роль зрителя
значительно меньше отличаются друг от друга, чем это
может показаться на первый взгляд. Актер тоже до изве-
стной степени является для своего партнера зрителем в тот
момент, когда этот партнер играет; весьма явственно ощу-
щаются в качестве зрителей статисты, вообще не прини-
мающие активного участия в действии пьесы. Особенно
зримой становится принадлежность актеров к публике, на-
пример, в том случае, когда комик своей игрой рассмешит
других присутствующих на сцене актеров; хотя мы пони-
маем, что смех этот может быть преднамеренным (для
установления активного контакта зрительного зала со сце-
ной), все же нельзя не заметить, что в эту минуту граница
между сценой и зрительным залом проходит по самой сцене:
смеющиеся актеры находятся на стороне публики.
Итак, публика вездесуща в построении сценического
акта: от нее, от ее понимания зависит не только смысл
того, что происходит на сцене, но и значение находящихся
на сцене вещей. В особенности это относится к реквизиту,
предметы которого имеют на сцене лишь то значение, ко-
торое им приписывает публика, и вообще существуют на
сцене лишь постольку, поскольку их замечает зритель.
Предмет на сцене может представляться публике совершен-
но иным, чем он есть в действительности, он может также
присутствовать лишь в воображении (воображаемый рекви-
зит в китайском театре, см. о нем статью Брушака в
журнале «Slovo a slovesnost», V); в таком случае достаточно,
если публика знает (извещенная об этом жестикуляцией
актера), что актер, например, держит в руках весло (ср.
осуществленную Бурианом постановку «Комедии о Фран-
тишеке и Гонзичке» из «Второй народной сюиты21»). Мы
кончаем свой набросок проблематики театральной науки.
Разумеется, ни в малейшей степени не пытаясь сделать
настоящий обзор всех ее проблем, мы хотели лишь мельком
наметить точки зрения, с которых современная теория те-
атра смотрит на свои задачи. Оказалось, что построение
театрального произведения в глазах теоретика начинает все
явственнее обретать вид структуры, т. е. динамического по-
строения, пронизанного и приводимого в движение массой
постоянно действующих противоречий между отдельными
элементами и группами элементов, структуры, которая сво-
бодно парит перед взором и сознанием зрителя, не будучи
однозначно привязанной к жизненной действительности ни
379
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
одним из своих элементов, но благодаря этому образно
обозначая в целом всю действительность, которая окружает
и создает человека данной эпохи и данного общества.
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
I
Буря, пронесшаяся над миром, оставила следы во всех
областях художественного творчества. К чему бы ни при-
коснулся фашизм — и это характерная его черта, — он
везде нарушил внутреннюю связь вещей, их взаимные от-
ношения, чтобы тем самым создать бесформенную пассив-
ную смесь, лишенную собственной инициативы. Что каса-
ется искусства, то фашизм провозгласил тезис о выродив-
шемся искусстве1 и объявил этому искусству войну на
истребление. На практике же безвозбранно сохранились
отдельные художественные приемы, созданные современным
искусством, которое было под запретом, — эти приемы не
должны были только составлять систему, в них не должно
было только проявляться определенное сознательное худо-
жественное намерение, которое именно сознанием цели мог-
ло пробить брешь в тотальном насилии. Естественно, что
таким положением вещей была поставлена под угрозу как
связь элементов внутри художественной структуры, так и
системность функциональной организации лиц и институ-
тов, служащих искусству: исчезли или по крайней мере
были подорваны художественные школы и направления,
принадлежность мастеров изобразительного искусства к от-
дельным объединениям и кружкам во многом стала скорее
следствием внешних обстоятельств, чем художественного
решения, и т. д.
Вместо качества мерилом стало количество. Свидетель-
ством художественного развития театров считалось теперь
количество театральных зданий и число зрителей; художе-
ственные выставки, называвшиеся то «Художники — на-
ции», то «Нация — художникам», охотно раскрывая объя-
тия, охватывали весьма разнородный художественный ма-
380
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
териал, зато были способны заполнить им одновременно
великое множество выставочных залов; выходили целые
сонмы лирических книжек, но часто читателю достаточно
было прочесть одно стихотворение, чтобы вполне ясно пред-
ставить себе десять других очередных сборников, и т. д.
В период оккупации с благодарностью принималось каждое
художественное выступление, ибо иерархия функций пре-
терпела сдвиг, и главной задачей, которую выполняло ис-
кусство, стала задача утешителя и дарителя забвения, в
нормальное время — одна из последних.
Едва только с оккупацией было покончено, возникла
потребность возобновления внутренней и внешней упоря-
доченности в вопросах искусства и стала явной растерян-
ность, в которую фашизм вверг искусство и сопровождающие
его явления. Велики требования, предъявляемые к искусству
именно в настоящий момент. Формирование нового отно-
шения между человеком и действительностью и между об-
ществом и культурным творчеством, создание нового отно-
шения между индивидом и обществом и в связи с этим
нового понимания человеческой личности — вот наиболее
настоятельные из этих задач. Однако выполнить их может
лишь искусство, которое обладает не только известной сно-
ровкой (в ней при существующем положении вещей не
испытывается недостатка, ибо она сохранилась в качестве
наследия от периода художественных экспериментов), но и
способностью применять эту сноровку для достижения оп-
ределенной цели систематически и с точным сознанием
значения каждого художественного приема и его отношения
к общему замыслу произведения; искусство, которое видит
художественные проблемы и непреклонно в их решении.
Только искусство, которое поступает таким образом, может
достигнуть существенно новых результатов, важных по сво-
ему воздействию и за пределами его собственной области,
преображающих вид и смысл вещей и человеческих взаи-
моотношений. Многого, разумеется, может достигнуть без
чьего-либо сознательного вмешательства само спонтанное
развитие; так, например, вступление молодого поколения
с какой-то новой художественной тенденцией могло бы
сразу создать целую сеть схождений и противоречий между
активно творящими художниками вообще, а значит, и меж-
ду теми из них, кто не принадлежит к этому поколению,
воскресив тем самым требование неукоснительно додумы-
вать и довершать художественные начинания прошлого.
381
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Было бы, однако, ошибкой ожидать, что решение нынешних
трудностей явится автоматическим следствием развития.
Необходимо вновь и вновь пытаться предугадать это раз-
витие теоретически, хотя заранее можно сказать, что всякое
подобное теоретическое рассуждение уже ближайшими со-
бытиями будет уличено во лжи. Но и в таком случае оно
не было бы полностью излишним, ибо главная задача всех
перспективных рассуждений — обращать внимание на на-
сущные вопросы, а не читать наставления необозримому
многообразию действительности. Таково скромное назначе-
ние и этой нашей статьи. Поскольку каждый вид искусства
имеет, конечно, свои специфические свойства, данные ма-
териалом, с которым он имеет дело, и свои особые потреб-
ности, вытекающие из его современного состояния, то пред-
метом нашего исследования будет только один вид искус-
ства, а именно — театр; но возможно, что выводы, к
которым мы придем, окажутся — после соответствующих
коррекций — хотя бы частично применимы и к нынешней
ситуации в других видах искусства.
II
В каком состоянии находится нынешний театр, особенно
чешский, с точки зрения дифференциации театральной жиз-
ни и применительно к художественной структуре сцениче-
ского произведения? Что касается дифференциации, то в
нынешнее время едва ли можно говорить о ярко выраженных
направлениях; тот факт, что явственно выделяется несколь-
ко не слишком сильных личностей, скорее подкрепляет
наше утверждение, чем опровергает его, ибо личность го-
ворит лишь за себя. Разумеется, это море, в целом одно-
образное, все же имеет два берега: с одной стороны —
официальность, с другой — то, что называлось авангар-
дом, — но это лишь пережиток сложных напряжений, при-
водивших некогда в движение театральный процесс. Впро-
чем, граница между нынешней официальностью и авангар-
дом мало заметна: иногда различие заключается лишь в
том, из какого запаса сценических приемов черпается ма-
териал и насколько последовательно, хотя и это различие
исчезает.
Структура сценического произведения также находится
в слабо выраженном состоянии. Внешним проявлением не-
определенности положения служит неуверенность в вопросе
382
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
о ведущем факторе театра. До недавних пор эту роль играл
режиссер, самовластно изменявший текст поэта и претен-
довавший на право определять в зависимости от своего
общего замысла каждый оттенок голоса и жеста актера.
Ныне его власть идет на убыль, хотя происходит это без
резких потрясений; в большинстве случаев режиссер считает
долгом скорее выявить смысл, вложенный в текст поэтом,
чем навязывать пьесе собственное толкование. Но и путь
назад, к чисто репродукционному пониманию театра, со-
гласно которому, например, утверждалось, что «стиль в
актерском искусстве является прежде всего равнодейству-
ющей литературного потока, сценическим инструментом
которого служит артистическое исполнение» (Schmoranz G.
Eduard Vojan, 1934), окончательно закрыт. Автономия сце-
нических средств была обнажена слишком основательно й
слишком явной стала их самостоятельная смыслообразую-
щая способность, чтобы поэт снова мог стать доминирующим
театральным фактором. Таким образом, режиссера, отка-
зывающегося от своего суверенитета, никто не вытесняет;
в результате возникает лабильная ситуация, которая требует
своего решения.
Вопросом о главном факторе сценического исполнения
затрагивается, безусловно, структура театра как искусства,
но не вся эта структура, а лишь определенный ее участок,
а именно субъект, от которого исходит произведение. Однако
если мы взглянем на структуру во всем ее объеме и рас-
члененности как на динамическое сопряжение голосовых,
мимических, пространственных и т. д. элементов, ситуация
отнюдь не представится нам более определенной. И если
мы хотим осознать состояние театральной структуры в ее
истинном виде, необходимо бросить хотя бы беглый взгляд
в недавнее прошлое.
Когда-то было ясно, что в театре перед зрителем актеры
и сцена, актеры на сцене или, скорее, внутри сцены, —
но тем не менее это два явственно отличающихся друг от
друга мира — мир людей и мир вещей. В центре внимания
были живые существа, тогда как вещи казались чем-то
второстепенным, создавая лишь обстановку действия или
самое большее доставляя ему инструменты. Этой отчетливой
раздвоенностью облегчалась задача актера и зрителя: актеру
нужно было заботиться лишь о своем собственном испол-
нении или в крайнем случае еще о сыгранности с остальными
членами труппы, зритель же должен был держать в поле
383
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
зрения лишь актеров, которые передвигались по сцене, и
при этом главным образом протагонистов. Такое положение
сохранялось на протяжении более чем двух третей XIX века.
Первый шаг, поколебавший его, сделал импрессионистиче-
ский театр, заставив сценическое оформление передавать
«настроение» и тем самым соучаствовать в определении
смысла действия; сцена сблизилась с актером. Еще более
тесное соединение этих двух миров состоялось на стилизо-
ванной сцене, где была предпринята попытка сделать из
актера непосредственный компонент сцены, придать чело-
веческому телу геометрические очертания, характерные для
неодушевленных предметов, ограничить его подвижность и
т. д.'Но и тогда еще на сцене не произошло взаимопроник-
новения сферы живых существ и сферы вещей2. Оно могло
наступить лишь после того, как образ актера и сцена рас-
пались на отдельные элементы, так что противопоставлялись
уже не живой актер и неживая сцена, а, например, голос
и свет, причем оказалось, что каждый из этих элементов
способен к дальнейшей дифференциации, не только теоре-
тической, но и практической.
В экспрессионистическом театре эта раскованность
структуры явственно начинает проявляться чрезмерным и,
с точки зрения темы, немотивированным выпячиванием
некоторых частных элементов. Так, например, в чешской
экспрессионистической декламации подчеркивалась интен-
сивность голоса (ср. замечание Гонзла в работе «Слово на
сцене и в кино»: «Интенсивность голоса и ее изменения
для гиларовского экспрессионизма не служат мерилом эмо-
циональной взволнованности, — они, скорее, помогают свя-
зывать диалог. Гилар компонует его как соединение дина-
мических контрастов, благодаря которым персонажи при-
обретают большую пластичность»). По мере развития этого
процесса элементы, до сих пор, казалось бы, неразрывно
связанные, отделяются друг от друга: например, высказы-
вание, принадлежащее определенному драматическому пер-
сонажу, зритель слышит не из уст актера, а читает на
заднике, куда оно спроецировано, между тем как соответ-
ствующее движение делает актер. Отдельные компоненты
театра освобождаются, вырываются из привычных связей,
и естественно, что при таком положении вещей оконча-
тельно разрушается преграда между живыми существами и
неживыми предметами: предмет и существо разъединяются
на отдельные элементы, которые сами по себе не являются
384
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
чем-то живым или неживым и могут вступать в произволь-
ные взаимоотношения. Носителем действия, а следователь-
но, и «актером» в различных случаях может становиться
любой из элементов: «Мы освободили понятие «сцена» от
его архитектурной ограниченности, и понятие «актер» мож-
но точно так же освободить от ограничений, в соответствии
с которыми актер — это человек, изображающий действу-
ющее лицо пьесы. Если дело только в том, чтобы какой-то
факт реальности выступал в качестве драматического пер-
сонажа, то актером может быть машина (ср. механический
театр Лисицкого, Шлеммера, Кислера3 с машинами взамен
актеров), вещь (например, в пропагандном театре бельгий-
ской торговой кооперации драматическими персонажами
были рулон материи, паучья нога, кофейная мельница и.
т. д.)... Если однажды О. Зих освободил нас от тесных рамок,
которые замыкали сцену, делая ее исключительным досто-
янием архитектуры, то теперь через полуоткрытые двери
стараются протиснуться на свободу и все остальные реаль-
ности театрального выражения. Освобождается драматиче-
ский персонаж, который до сих пор был связан с челове-
ком-мимом, освобождается сообщение драматурга, которое
до сих пор было словом, освобождаются и другие средства,
и мы с удивлением узнаем, что пространством сцены не
всегда обязательно должно быть пространство, но что сценой
может быть звук, событием может стать музыка, сообще-
нием может стать декорация и т. д.» (Honzl J. Pohyb
divadelmch znaku. — «Slovo a slovesnost», 1940, IV, s. 177—
188).
На первый план в театре ставится, собственно, уже не
актер-человек, а само нематериальное и все же в высшей
степени реальное драматическое действие, которое может
овладеть на сцене чем угодно и сделать из чего угодно
своего временного носителя. Могучим фактором движения,
захватывающего сцену во всех ее элементах, становится
свет, который формирует сценическое пространство, выде-
ляет актера или, наоборот, заставляет его исчезнуть, до-
рисовывает его костюм, с помощью проекционного аппарата
создает декорации или наконец приковывает внимание зри-
теля к изменениям своей окраски и интенсивности либо
блуждает по сцене в виде луча прожектора, т. е. играет
роль носителя действия. В результате такого переворота
традиционная система элементов, на которой до сих пор
стоял театр, распадается, элементы освобождаются от по-
13—888 385
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стоянных отношений взаимного подчинения и взаимной
зависимости и становятся принципиально равноценными и
параллельными. В любой момент любой из них может быть
поставлен над остальными и вновь мановением руки ото-
двинут на второй план. Неожиданность следует за неожи-
данностью; режиссерская находка — какая-нибудь деталь —
становится для зрителя во многом более важной, чем общая
линия спектакля. Аристотелевская теория единого напря-
жения, соразмерно возрастающего к кульминации и после
нее резко падающего, уступает место совершенно иной кон-
цепции: спектакль превращается в непрерывную цепь ча-
стичных напряжений, каждое из которых получает само-
стоятельное разрешение и не устанавливает связи с сосед-
ними. Господство режиссера достигает апогея, в его руках
безграничная власть над всем, что находится и что совер-
шается на сцене. Актер в его глазах стоит не выше, чем
сценический предмет, ибо режиссер сам решает, кто или
что в данный момент станет носителем сценического дей-
ствия и кто или что будет в этом действии пассивным
объектом. А поскольку и отдельные элементы актерского
исполнения стали независимыми друг от друга, режиссер
получил суверенное право принимать решение о каждой
вибрации голоса актера, о каждом оттенке жеста, о малей-
шем движении. Ведь уже не от понимания^ актером драма-
тической роли зависит теперь использование именно в та-
ком-то месте пьесы именно такой окраски голоса, такой
интонации, такого ритмического мотива, такого жеста и т.
д. Это решает целостное сочетание всего, что в данную
минуту находится на сцене, и подобным сочетанием всех
элементов может распоряжаться лишь режиссер, который
один определяет сложную мотивировку именно такого их
сочетания. Если на протяжении своего развития театр ког-
да-нибудь в самом деле был домом чудес, то именно в э^от
момент. Однако такая театральная динамика целиком со-
храняет жизненность и полна движения лишь относительно
короткий период времени; вскоре неожиданность неизбежно
превращается в привычку и теряет силу воздействия. Едва
только зритель утратит убежденность, что он присутствует,
при чем-то небывалом и невероятном, как неожиданное
становится ожидаемым, и единственной подлинной неожи-
данностью для зрителя было бы отсутствие в спектакле
ставшей уже привычной неожиданности.
Следствием переворота, пережитого, таким образом, те-
386
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
атром в последние десятилетия, было, как мы уже говорили,
нарушение иерархии элементов, но это нарушение, в начале
бывшее динамическим процессом, превращается позднее в
неизменное состояние, из которого весьма нелегко найти
выход. Ведь перед нами не система с твердым принципом
построения, которому можно было бы диалектически про-
тивопоставить иной принцип, а набор элементов без четкого
построения. С этим связана и особая ситуация, о которой
упоминалось выше: дело в том, что в нынешнем театре нет
центрального фактора, вокруг которого группировались бы
остальные.
Поэт, который был когда-то таким фактором, безвозв-
ратно лишен своего господства, после того как театр добился
самостоятельности по отношению к поэтическому искусству;
актер, ставший правителем или по крайней мере соправи-
телем театра в период реализма и натурализма, разложен
на отдельные голосовые, мимические и т. д. элементы; ре-
жиссер, который судя по самому значению этого слова,
господствует до сих пор, утрачивает решимость господст-
вовать со всеми вытекающими из этого последствиями.
Правда, еще вопрос, может ли театр на современном этапе
развития оказаться в руках одного человека, представляю-
щего собой субъект, от которого исходит произведение, или
в будущем нужно скорее ожидать, что этот субъект станет
диалектическим синтезом нескольких элементов; об этом
пойдет речь в следующей главе. Итак, рассуждение о струк-
туре сценического произведения привело нас к самому ядру
нынешнего театрального кризиса — к разложению теат-
ральной структуры. Однако нельзя завершить диагноз без
одного пояснительного замечания. Дело в том, что было бы
совершенно неверно усматривать в предшествующем рас-
суждении хотя бы малейший оттенок отрицательного суж-
дения о развитии современного театра. Надо со всей реши-
тельностью сказать, что именно детальный анализ теат-
ральной структуры и разъединение ее на отдельные
элементы, проверка смыслообразующих способностей каж-
дого из них, раскрытие сложных взаимосвязей между ними
составляют новую основу театра будущего. Каким бы об-
разом ни была реорганизована театральная структура, под
влиянием того, что произошло с нею между двумя мировыми
войнами, она всегда будет более динамичной, чем в пред-
шествующие времена.
Наряду с театром, возглавляющим развитие, существует
13*
387
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
еще одно театральное формирование, о котором в наших
рассуждениях упоминалось лишь вскользь, но которое тем
не менее в нынешней ситуации играет столь значительную
роль, что без выяснения ее наш диагноз этой ситуации
остановился бы на полпути. Это театр, который принято
называть официальным. Мы указали до сих пор лишь на
то, что граница между ним и авангардным театром не
слишком резка — по крайней мере у нас. Мы знаем, что
во время первой мировой войны и сразу же после нее
заслугой Гилара официальный театр на какой-то период
оказался в самом центре круговорота развития. И хотя
вскоре средоточие авангарда в собственном смысле слова
переместилось, контакт официального театра с авангардным
не прекратился, по крайней мере в смысле подражания.
Так официальный , театр нарушил принцип последователь-
ной традиционности, который принято связывать с самим
его понятием. Официальный театр оставил традиционную
художественную основу, которую чешский театр создавал
шаг за шагом, начиная с Временного театра4, где — как
показал Ян Бартош5 — ее фундамент заложил Й. И. Колар,
затем эта традиция продолжалась и достигла вершины в
Национальном театре Вояна и Квапила . И вот традиция,
которая в своих величайших представителях Й. И. Коларе
и Эд. Вояне стремилась к строгой чистоте стиля (см. в этом
плане о Коларе в кн. Яна Бартоша «Prozatimm divadlo а
jeho cinohra», s. 109 a n., о Вояне в работе И. Гонзла «Slovo
па jevisti a ve filmu» из кн. «Slava a bida divadel», s. 185),
была теперь вытеснена эклектизмом. Неизбежное следствие
эклектизма, разумеется, — склонность к клише, к устой-
чивым декламаторским, мимическим и т. д. формулам; со-
здается техника ловкого соединения разнородных художе-
ственных приемов. Возникает и неуверенность относительно
центрального фактора театра: вплоть до конца эпохи Вояна
эта функция явственно принадлежала актеру; при совре-
менном положении дел об актере нельзя сказать, что он
решительно отодвинут на задний план, но нельзя сказать
и что он отчетливо выдвинут на передний план. Прочно
спаянной иерархии нет и в построении драматического пер-
сонажа. По-видимому, в качестве наследия экспрессионизма
официальный театр сохранил значительный акцент на де-
кламации, разумеется, без вызывающих экспрессионисти-
ческих деформаций, которые давали художественное обос-
нование этому насильственному выделению декламации за
388
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
счет остальных элементов. При нынешнем положении вещей
это необоснованное выделение декламации в значительной
степени является формалистическим каноном. Единствен-
ным критерием оценки декламации становится благозвуч-
ность (включая орфоэпическую правильность); отношение
между декламацией и другими элементами, особенно ми-
мическими, превращается в пассивную зависимость этих
элементов от декламации: жест и мимика проявляют тен-
денцию стать иллюстрацией, сопровождающей слово. Не-
определенность отношений между элементами театральной
структуры сказывается и иным образом: например, оформ-
ление сцены порой самостоятельно трактует смысл пьесы,
вытесняя действие; как правило, и в этом следует усмат-
ривать пережиток экспрессионизма.
Несомненно, и при таком состоянии структуры офици-
альный театр мог добиться отдельных выдающихся успехов.
Анализ, предпринятый нами, и не ставит своей целью кри-
тику театральной практики. Нам важно лишь установить,
является ли художественная структура нынешнего офици-
ального театра последовательно и твердо выкристаллизиро-
вавшейся системой, пусть даже консервативной, но такой,
которая могла бы стать моделью и исходной точкой при
обновлении спаянности и строгой иерархии элементов те-
атрального художественного построения. И на этот вопрос
наш анализ дал явно отрицательный ответ. Есть ли в таком
случае у театра какая-нибудь возможность выбраться из
структурной неуверенности, в которой он очутился? И во-
обще желательно ли, чтобы он к этому стремился, — не
следует ли считать неопределенность структуры состоянием,
которое просто существует, с которым нужно считаться и
которое в ходе дальнейшего развития почти автоматически
вновь обретет устойчивость? На эти вопросы мы попытаемся
ответить в следующей главе.
III
Поскольку мы говорим об усилиях, способных вывести
структуру современного театра из состояния неуверенности,
то может показаться, что мы ставим вопрос о сознательном
вмешательстве в объективное, от человеческой воли не
зависящее развитие. Разумеется, попытки осуществить та-
кое воздействие часты: манифесты художественных направ-
лений, выступления критиков и т. д. Обычно они выражают
389
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тенденции развития, в зародыше содержащиеся в самой
развивающейся структуре. Объектом, на который направ-
лены подобные усилия, или объектом спора нескольких
различных тенденций является курс, по которому должно
пойти в будущем развитие структуры. Нередко такая по-
пытка под давлением объективного развития обретает смысл
весьма далекий от первоначальных намерений, ее вызвав-
ших; и это тоже показывает, насколько динамика развития
сильнее индивидуальной воли. Но в нашем случае речь
идет не о конкретном курсе будущего развития театра, а
следовательно, и не о вмешательстве в строение структуры.
Ясно, что в ближайшем будущем интенсивнее, чем кохда-
либо, на развитие театра — помимо его внутренней зако-
номерности — будет воздействовать развитие общества и
всех остальных отраслей культуры, но пытаться предугадать
направление и силу этих вмешательств — предприятие
безрассудное. Важно лишь, чтобы как раз в период этих
решающих влияний структура театра составляла подлинное
целое, способное реагировать на потребности времени всеми
своими элементами одновременно, а не только некоторыми
из них, например своей словесной стороной.
Предшествующие главы показали, что структура ны-
нешнего театра в значительной степени расшаталась и,
таким образом, мало подготовлена к выполнению задач,
которые именно сейчас ждут ее. Что необходимо для исп-
равления положения — в достаточной мере ясно. На первом
месте стоит здесь проблема центрального театрального фак-
тора. Разумеется, интересно, останется ли им еще в бли-
жайшем будущем режиссер или его место займет какой-либо
иной фактор — как свидетельствует история театра, ни
одну из кандидатур нельзя заранее исключить, ибо в эпоху
барокко был и такой момент, когда ведущую роль в теат-
ральной структуре играл художник (ср. предисловие Коур-
жила к книге Фюртенбаха «Prospectiva». Praha, 1944), но
этот вопрос непосредственным образом нас не касается; мы
уже отметили выше, что место одного-единственного веду-
щего фактора в будущем может занять диалектическое
напряжение между всеми факторами, представляющими со-
бой элементы творческого субъекта театрального произве-
дения. Однако не вызывает сомнений, что актер — неза-
висимо от того, занимает ли он ведущее или подчиненно^,
или, наконец, равное остальным положение, — есть самый
важный, самый неотъемлемый из факторов, участвующих
390
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
в театральном творчестве. Любой из остальных может от-'
сутствовать, и в истории театра нет недостатка в подобных
примерах: иной из этих факторов в ранние эпохи еще не
принимал участия в театральном деле (режиссер в совре-
менном понимании слова), другой временно исчезал (поэт
в комедии дель арте), но не существует театра без актера,
причем актера-человека или хотя бы знака, его замещаю-
щего (кукла, тень и т. д.). Если в современном театре, как
мы упоминали, актером порой становится предмет рекви-
зита* свет и т. д., то лишь на какой-то момент и внутри
действия, носителями которого являются актеры-люди; тем,
что эти вещи берут на себя функцию актера-человека, они
как раз на нем сосредоточивают всеобщее внимание. Мы
следим с напряжением за двумя лучами света, блуждаю-
щими по пустой сцене в начале буриановской постановки
«Ромео и Джульетты», именно потому, что они долго ищут
и не находят актера; мелькание света на пустой сцене в
буриановской постановке «Севильского цирюльника» стано-
вилось действием потому, что означало народное восстание
за сценой; вне этого значения оно было бы всего лишь
световым эффектом, фактором сценического пространства.
Следовательно, как бы ни изменялась система факторов
театрального творчества, актер всегда останется ее кристал-
лизационным стержнем. От него, от единства его собствен-
ной художественной структуры зависит объединение общего
построения сценического произведения. Упрочение теат-
ральной структуры не может прийти ниоткуда, кроме как
от актера. При сегодняшнем понимании театра, которое
современным экспериментальным театром было утверждено
в борьбе, все элементы театральной структуры ощущаются
как взаимозависимый контекст, и поэтому нет оснований
опасаться, что процесс упорядочения, начавшись с актера,
на нем и остановится. И снова мы оказываемся лицом к
лицу с проблематикой авангардного театра недавнего про-
шлого, но на этот раз не для того, чтобы указать на стороны,
которые в его наследии должны быть преодолены, а, нао-
борот, для того, чтобы выделить из этого наследия все, что
является эпохальным завоеванием и сохранится навечно.
Актер уже никогда не будет на сцене один, никогда не
будет четко отграничен от ее неодушевленных компонентов.
Оживление предметов на сцене, превращение их в носителей
драматического действия сейчас утрачивает эксперимен-
тальный характер и близко к тому, чтобы стать составной
391
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
частью театрального канона, постоянного запаса техниче-
ских театральных приемов. Если личность актера вновь
будет единой, это неизбежно отразится на самых отдаленных
от него элементах сценического построения, особенно когда
зритель — современный человек, член чрезвычайно сложно
организованной цивилизации, который в жизненной прак-
тике на каждом шагу встречается с действенной связью
весьма отдаленных друг от друга явлений. Что касается
положения актера среди остальных факторов театра, речь
о чем уже шла выше, то нужно еще напомнить, что актер,
занимающий центральное место среди элементов, присут-
ствующих на сцене, в значительной мере занимает цент-
ральное положение и относительно этих остальных факто-
ров. Завладев властью над театром, поэт низводит актера
до роли репродуцирующего исполнителя, режиссер делает
из него свой инструмент, художник превращает его в со-
ставную часть сцены. Сам же актер, напротив, даже будучи
поставлен на первое место, в равной мере будет опираться
на всех остальных, не лишая ни оного из них активного
участия в построении произведения. Так, в особенности
режиссер для современного актера является необходимым
олицетворением связей, пронизывающих сцену вместе со
всем, что на ней есть. Существует, впрочем, независимо
от тех или иных кратковременных течений,"определенный
тип режиссера, которого обычно называют «актерским ре-
жиссером»; под этим обозначением подразумевается не ре-
жиссер, предварительно прошедший актерскую выучку, а
такой режиссер, который при решении своих специфических
задач исходит из актеров, побуждая их выдать из самих
себя и по-своему все, что они могут. Не представляет ли,
собственно, такой вариант наименее случайное решение
полярной противоположности между актером и режиссером?
В предшествующей главе мы стремились показать, что
в недавнем прошлом именно актер расплачивался за раз-
витие театра: авангардный театр разложил его на отдельные
элементы, официальный — превратил в набор клише. И все
же необходимо, чтобы актер вновь ощутил себя как нечто
единое и чтобы так же ощущал его и зритель. Нужно,
например, чтобы вновь была восстановлена взаимная связь
между жестом и словом. Говоря о «взаимной связи», мы
отнюдь не имеем в виду необходимость слаженности. Выше
мы уже указывали, что как раз автоматическая и ненару-
шаемая гармония слова с жестом производит впечатление
392
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
недостаточной взаимной связи. Это происходит потому,
что автоматически сохраняемое соединение, при котором
никак не подчеркивается самостоятельность соединяемых
элементов, ощущается как неделимый слиток, а не как
единство нескольких отличающихся друг от друга вещей.
Следовательно, там, где зритель не ощущает принцип един-
ства как силу, удерживающую во взаимной связи разно-
родные вещи, не возникнет ощущение единства, точно так
же как не возникнет оно и там, где элементы постоянно
и последовательно расходятся. Для того чтобы равнодейст-
вующей было объединение, ощущаемое как процесс, а не
как мертвый факт, необходимо и то и другое — и проти-
воречие и гармония. Раз уж мы говорим о жесте и слове,
приведем в качестве наглядного примера художественную
систему Станиславского. Известно — и это с поразительной
способностью проникновения в суть вещей описал Тилле в
своем этюде о Станиславском в «Театральных воспомина-
ниях», — как Станиславский «воспользовался почерпнутым
из жизни опытом, говорящим, что жесты, выражения лиц
и действия людей не являются логическим следствием про-
износимого слова, точно так же как слова не являются
следствием внешних движений», иначе говоря, как Станис-
лавский сумел художественно использовать некоординиро-
ванность жеста, мимики и слова.
Во-вторых, для решения нынешнего кризисного состоя-
ния театра необходимо воспользоваться богатой многосто-
ронностью отдельных элементов культуры. Едва ли можно
отрицать, хотя это редко констатировалось открыто, тот
факт, что, начиная с экспрессионизма, театр, и авангард-
ный, и официальный, стал упрощать актерские средства:
голос, жест, движение актера на сцене понимаются как
определенные единства, и намеренная их деформация до-
стигается тем, что какая-либо из сторон игры нединамически
заостряется до крайности, причем это заострение сохраня-
ется на протяжении всего данного сценического исполнения.
Отсюда характерная для театра наших дней склонность к
карикатуре, отсюда и пристрастие к голосовому и мимиче-
скому шаржированию, впрочем, тесно связанному с кари-
катурой. Явная невыгода здесь заключается в том, что
голосовая или мимическая «маска», требуя от голоса или
мускулов постоянного одностороннего напряжения, мешает
попеременному использованию разных голосовых или ми-
мических элементов и их комбинированию. Если, например,
393
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
будет односторонне подчеркнута окраска голоса, то этим
актер лишается возможности гибко варьировать интонацию,
и наоборот. Подробный анализ этого явления был бы поу-
чителен, но мы хотели здесь лишь указать, что, каким бы
путем в дальнейшем ни пошло развитие, необходимо заново
пересмотреть с точки зрения художников и публики весь
репертуар возможностей, имеющихся в распоряжении ак-
терского искусства. Вам нужен конкретный пример? Вы-
слушаем отрывок из работы об Эд. Вояне: «Воян от сцены
к сцене открывал свой голос, словно поднимал перед ним
бесчисленные занавесы или вуали, скрывавшие его, вновь
и вновь обнаруживал неведомые краски и степени интен-
сивности... Он точно распределял свой шепот и громкую
речь, а в двух или трех местах пьесы выявлял все ресурсы
своего голоса, усиливая его до крика» (Honzl. Slovo па jevisti
a ve filmu. — Slava a bida divadel, s. 185). Здесь на конк-
ретном примере четко сформулировано как раз то, что мы
имеем в виду: суверенное владение богатством голосовых
элементов. Тут мы, собственно, возвращаемся к тому, что
сказали минуту назад, выдвинув в качестве главного условия
реконструкции театральной структуры требование восста-
новить динамическую взаимосвязь элементов. Дело в том,
что, если мы имеем в виду взаимосвязь-как процесс, а
не как статическое состояние, мы неизбежно придем к
требованию, чтобы комплекс объединяемых элементов был
как можно более тонко дифференцирован, ибо именно
таким образом стремление к удержанию равновесия в нем
обретает способность усиленного художественного воздей-
ствия.
Мы уже подчеркивали, что не ставим своей целью про-
пагандировать какое-либо художественное направление, а
хотим лишь указать на необходимые предпосылки любого
дальнейшего развития. Примеры, которые мы привели (в
одном случае — система Станиславского, в другом — Эд.
Воян), могут, однако, склонить к мнению, что мы имеем
в виду восстановление сценического реализма. Но это оши-
бочное впечатление. Реализм, получивший сценическое за-
вершение на рубеже между XIX и XX столетиями, был,
как всякая историческая форма, возможен лишь при опре-
деленных конкретных художественных, культурных и об-
щественных условиях и, следовательно, неповторим^ По-
пытка возобновить его неизбежно привела бы к эпигонству,
явлению маложелательному и малоплодотворному. Задача
394
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
реализма — вызывать иллюзию действительности, хотя уже
современники, присутствуя при выступлениях москвичей
или Вояна, сознавали, что «действительность на сцене пред-
ставляет собой нечто страшно относительное» (Шморанц)
и что весь смысл подлинно реалистического актерского ис-
кусства «был направлен против реалистической импрови-
зации, спонтанности и ни к чему не обязывающей легко-
весности» (Гонзл). Но возбуждение иллюзии действитель-
ности — это уже конкретное, однозначное художественное
намерение, а мы неоднократно говорили, что не собираемся
заниматься вопросом, насколько то или иное направление
соответствует требованиям современной эпохи.
Тем не менее мы не отвергаем слово «реальность»,
если под ним подразумевается не требование внешней
модели, к которой сценическое исполнение должно при-
спосабливаться или которую оно должно напоминать, а
многогранность, неисчерпаемое разнообразие самих
средств, которые театр и особенно актерское искусство
имеют в своем распоряжении. Только в том случае, если
театр даст зрителю ощутить в полном объеме и много-
образии голос, мимику, жесты и т. д., в сознании зрителя
возникнет впечатление полной реальности актерского ис-
кусства и театра, ибо как раз неисчерпаемое многообразие
характеризует действительность в наиболее присущем ей
смысле слова, действительность материальную, возникшую
до каких бы то ни было человеческих намерений и не-
зависимо от них. Как эту действительность постичь в
театре — могут решить только представители искусства
и не с помощью теоретических рассуждений, а в своей
творческой практике.
Наконец нужно добавить, что всякая, а не только чисто
художественная функциональная направленность может в
ближайшем будущем стать основой дальнейшего развития:
и тенденциозный театр, и театр-развлечение и т. д. могут
доказать, что в прошлом они создавали выразительные ху-
дожественные формы. Существует только одно условие: эта
функциональная направленность должна приобрести такую
интенсивность, чтобы она смогла привести в движение всю
сценическую структуру, все ее элементы, а не только ка-
кой-то один из них, например, тему текста. Разумеется,
сначала эту структуру нужно заново создать, восстановив
взаимную связь и иерархию ее элементов. Цель нашей
работы — указать на эту необходимость.
395
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
К ВОПРОСУ
ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
I
Сейчас уже не нужно, как это было всего несколько лет
назад, начинать исследование об эстетике кино с доказа-
тельства, что кино — искусство. Но вопрос об отношении
между эстетикой и кино до сих пор не утратил актуальности,
ибо развитие этого молодого искусства все еще постоянно
будоражат изменения технической («машинной») базы и
оно значительно сильнее, чем традиционны^ виды искусства,
испытывает потребность в норме, на которую можно было
бы опереться как в положительном смысле (придерживаясь
ее), так и в отрицательном (нарушая ее). Работники кино
поставлены в невыгодное положение, поскольку перед ними
слишком широкие и недифференцированные возможности.
В искусствах со старой традицией под рукой всегда целый
ряд средств, которые в результате длительного развития
обрели определенные устойчивые формы и значение канона.
Так, сравнительное изучение сюжетов показало, что в по-
этическом искусстве, собственно, нет новых тем: развитие
почти каждой темы можно проследить на протяжении целых
тысячелетий. В. Шкловский в «Теории прозы» приводит в
качестве примера рассказ Мопассана «Возвращение», кото-
рый построен на переработке древней темы «муж на свадьбе
жены» и рассчитан на читателя, знакомого с этой темой
из иных источников. Подобным же образом в поэтическом
искусстве обстоит дело, например, с метрической основой:
всякое поэтическое искусство имеет определенный репер-
туар традиционных схем стиха, которые в результате мно-
голетнего употребленйя обрели устойчивую ритмическую
(а не только метрическую) организацию и смысловую ок-
раску, обусловленные влиянием поэтических жанров, в ко-
торых эти схемы использовались. Да и сами поэтические
жанры можно охарактеризовать как всего лишь нормиро-
ванные комплексы определенных формообразующих
средств. Всем этим, разумеется, вовсе не сказано, что ху-
дожник не может варьировать традиционные нормы и ка-
396
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
ноны; наоборот, они нарушаются очень часто (например,
современная теория поэтических жанров основывается на
сознании того, что развитие жанров заключается в посто-
янном нарушении жанровой нормы), и эти нарушения ощу-
щаются как намеренный художественный прием.
Кажущееся ограничение, таким образом, является в сущ-
ности обогащением художественных возможностей — кино
же до недавнего времени почти не имело, да и до сих пор
имеет мало действительно отчетливых норм и канонов. По-
этому работники кино ищут норму. Но если произнесено сло-
во «норма», в голову сразу же приходит мысль об эстетике,
которая считалась, а иногда и поныне считается нормативной
наукой. Однако нельзя требовать от современной эстетики,
отказавшейся от метафизического понятия «прекрасное», в
какую бы форму оно ни было облечено, и рассматривающей
художественную структуру как факт развития, чтобы она
проявляла честолюбивое желание определять^ что должно и
что не должно быть. Норма может быть лишь продуктом раз-
вития самого искусства, окаменевшим оттиском динамиче-
ского процесса. Если эстетика не может быть логикой искус-
ства, выносящей решение о правильности и неправильности,
то все же она может быть чем-то иным — его гносеологией.
Дело в том, что всякое искусство обладает определенными
основополагающими возможностями, заданными характером
материала и способом, с помощью которого искусство овла-
девает этим материалом. Эти возможности в то же время рав-
нозначны ограничениям, но не нормативным, в том смысле,
какой придавали им, например, Лессинг и Земпер, считав-
шие, что искусство не имеет права преступать свои границы,
а фактическим, ибо определенное искусство не перестанет
быть самим собой даже в том случае, если оно разольется по
территории другого искусства. Si duo faciunt idem, non est
idem*. И поэтому, например, убыстряющееся движение в ки-
но мы воспринимаем как деформацию временной деятельно-
сти, между тем как в театре мы ощущали бы ускорение же?
стикуляции актера как деформацию актерской личности, ибо
драматическое время и время в кино гносеологически раз-
личны.
Переход границ между искусствами — явление в истории
искусства весьма нередкое; в частности, поэтический симво-
* Если двое делают одно и то же, то это уже не есть одно и то же
(лат.).
397
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
лизм многократно сам себя характеризовал как музыку сло-
ва, сюрреалистическая живопись, работая с поэтическими
тропами (с «перенесением» значения), присваивает себе на-
звание поэзии; впрочем, все это лишь ответные посещения
в отплату на визиты, которые поэтическое искусство нанесло
живописи в период так называемой описательной поэзии
(XVIII век) и в эпоху «Парнаса» (XIX век). Значение подо-
бного перехода границ для развития искусства заключается
в том, что каждый вид искусства учится по-новому ощущать
свои формообразующие средства и видеть свой материал с
необычной стороны; но при этом данный вид искусства всегда
остается самим собой, не сливается с соседним видом искус-
ства, а лишь таким же способом достигает иного эффекта
или иным способом достигается такого же эффекта. Однако
для того чтобы сближение с другим искусством вошло в ди-
намический ряд искусства, которое стремится к сближению,
необходимо соблюсти одно условие: соответствующий дина-
мический ряд и соответствующая традиция должны уже су-
ществовать. Основная предпосылка этого — уверенность в
обращении с материалом (что отнюдь не означает слепого
подчинения материалу). Кино находилось в интимных отно-
шениях с несколькими видами искусства: с драмой, с эпиче-
ским поэтическим искусством, с живописью, с музыкой. Но
было это в ту пору, когда оно еще полностью не владело своим
материалом, и поэтому речь шла, скорее, о поисках опоры,
чем о закономерном развитии. Стремление к овладению ма-
териалом связано с тенденцией к чистой кинематографично-
сти. Это начало закономерного развития; со временем, не-
сомненно, настанут периоды нового сближения с другими ви-
дами искусства, но уже как этапы развития. В теории
стремлению к чистому кино соответствует гносеологическое
изучение условий, данных материалом. Этим должна занять-
ся эстетика кино: ее задача не в установлении нормы, а в
усилении преднамеренности развития посредством обнару-
жения его внутренних предпосылок. И наше исследование —
это набросок одной из глав гносеологии кино; речь пойдет о
гносеологии кинематографического пространства.
II
Кинематографическое пространство, особенно в началь-
ный период существования кино, подменялось драматиче-
ским пространством. Но эта подмена не соответствует дей-
398
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
ствительности даже в том случае, если бы аппарат, не
меняя места, как этого требует характер театрального про-
странства (Zich. Estetika dramatickeho umeni), просто фо-
тографировал все происходящее на театральной сцене. Те-
атральное пространство трехмерно, и движутся в нем трех-
мерные люди. Этого уже нельзя сказать о кино, в котором
также имеется возможность движения, но движение это
спроецировано на двухмерную плоскость и в иллюзорное
пространство. И отношение актера к пространству в кино,
как было уже неоднократно констатировано, совершенно
иное, чем в театре. Театральный актер - живая и единая
личность, четко отделенная от неживого окружения (сцена
и ее наполнение), между тем как на экране последователь-
ные изображения актера (в отдельных случаях лишь час-
тичные) представляют собой всего-навсего компоненты об-
щего проецируемого изображения, точно так же, как, на-
пример, в живописи. Поэтому русские теоретики кино ввели
для актера кино наименование «натурщик», т. е. модель, в
котором передано его положение, аналогичное живописной
модели. (В кинематографической практике существуют, ра-
зумеется, оттенки: актерская индивидуальность может в
фильме подчеркиваться или, наоборот, подавляться, ср. раз-
личие между фильмами Чаплина и русскими фильмами.)
Каково же отношение между кинематографическим про-
странством и иллюзорным пространством в живописи? Ясно,
что такое пространство действительно существует в кино и
достигается всеми средствами живописной иллюзорности
(мы оставляем здесь без внимания более глубокие осново-
полагающие различия между перспективой как формообра-
зующим средством живописи и перспективой в фотографии).
Эта иллюзорность может быть значительно усилена неко-
торыми средствами, но большей частью эти средства до-
ступны и живописи. Одно из них заключается в диамет-
ральном переосмыслении обычного понимания глубины ил-
люзррного пространства: вместо того чтобы, как принято,
вести взгляд зрителя в глубину картины, его ведут из
глубины картины; этим средством щедро пользовалась, на-
пример, барочная живопись; в кино этой цели служит, в
частности, направление жеста (человек, стоящий на переднем
плане кадра, наводит на публику револьвер) или направо
ление движения (поезд выходит как бы перпендикулярно
плоскости экрана). Другой способ усиления пространствен-
ной иллюзии — взгляд снизу или сверху, например взгляд
399
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
с верхнего этажа глубоко вниз, во двор; в таких случаях
иллюзия усиливается актуализацией положения осей глаз:
в действительности оно горизонтальное (у зрителя, смот-
рящего на картину), картина же предполагает почти вер-
тикальное. Оба эти средства кино разделяет с живописью.
Следующая возможность такова: аппарат при съемке рас-
положен на какой-то подвижной площадке и объектив на-
правлен вперед; при этом движение происходит по улице
или аллее, короче говоря, по пути, с двух сторон ограни-
ченном двумя непрерывными рядами предметов. На экране
же мы не видим подвижную площадку, а видим только
улицу (дорогу), ведущую в глубину картины, но вместе с
тем быстро убегающую в обратном направлении, из глубины
кадра. Поскольку речь идет о движении, то может пока-
заться, что перед нами специфически кинематографическое
средство, но, собственно, это лишь вариант первого из
упомянутых нами случаев (изменение понимания глубины
пространства), который в других своих вариациях вполне
доступен живописи.
Таким образом, основой кинематографического про-
странства является иллюзорное пространство картины. Од-
нако наряду с этим или, скорее, сверх этого искусство
кино имеет в своем распоряжении еще одну форму про-
странства, недоступную другим видам искусства. Это про-
странство дано техникой раскадровки. Дело в том, что при
смене кадра — постепенной или неожиданной — всегда
изменяется и направленность объектива или расположение
в пространстве всего аппарата. И это пространственное
перемещение сопровождается в сознании зрителя особым
ощущением, которое уже многократно было описано как
иллюзорное перемещение самого зрителя. Так, Рене Клер1
пишет: «Зритель, который издали смотрит на какую-нибудь
автомобильную гонку, неожиданно оказывается под огром-
ными колесами одной из машин, следит за тахометром,
берет в руки руль. Он становится актером и ловит взглядом
деревья, падающие, как подкошенные, на поворотах». —
Эта подача пространства «изнутри» — прием специфически
кинематографический; лишь открытие кадра привело к то-
му, что фильм перестал быть ожившей картиной. Техника
монтажа в свою очередь воздействовала и на саму технику
съемки. Во-первых, монтаж обратил внимание оператора
на интересную возможность взгляда снизу и сверху при
обхождении предмета со всех сторон, во-вторых, и это
400
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
главное, монтаж создал технику детали. Изобразительное
воздействие детали заключается в обыкновенном прибли-
жении вещей к зрителю (Эпштейн2 говорит об этом: «Я по-
ворачивал голову направо и видел лишь квадратный корень
из жеста, но поворачивал ее налево — и этот жест уже
возведен в восьмую степень»), пространственное же ее воз-
действие определяется впечатлением, что мы видим часть
картины, которая кажется нам отрезком трехмерного про-
странства, ощущаемого нами перед картиной и по сторонам
ее. Представим себе, например, руку, изображенную как
деталь, — где находится человек, которому принадлежит
эта рука? В пространстве, вне картины. Или вообразим
картину: на столе лежит револьвер. Она вызывает ожидание,
что каждую минуту может появиться рука, которая возьмет
его; и эта рука вынырнет из пространства, лежащего вне
картины, — именно в это пространство помещаем мы руку,
предчувствуя ее существование. Наконец еще один пример:
два человека дерутся, катаясь по земле, — недалеко от
них лежит нож; сцена показана нам так, что мы попере-
менно видим дерущуюся пару и нож как деталь. Каждый
раз, когда в поле нашего зрения появляется нож, возникает
напряженное ожидание: когда же за ним протянется рука?
Когда рука в детальном изображении, наконец, появится, —
новое напряженное ожидание: кто из этих двоих овладел
ножом? Лишь там, где мы интенсивно сознаем существо-
вание пространства вне картины, можно говорить о дина-
мической детали; иначе бы речь шла о статическом отрезке
нормального поля зрения. Разумеется, нужно напомнить,
что сознание «картинности» при восприятии детали не ис-
чезает; поэтому размеры детали мы не переносим в про-
странство вне картины, и увеличенная рука не кажется
нам рукой великана.
В монтаже кинематографическое пространство дано по-
следовательно чередованием картин, мы ощущаем его при
переходе от картины к картине. Однако звуковое кино
открыло возможность симультанной подачи кинематогра-
фического пространства. Представим себе — ситуация, в
современном кино уже совершенно обычная, — что мы
видим картину и одновременно слышим звук, источник
которого нам приходится, однако, помещать не в картину,
а куда-то вне ее; например, мы видим лицо человека и
слышим речь, которая произносится не человеком на экране,
а кем-то другим; или: на экране убегает от нас улица,
401
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
которую мы видим с движущегося транспортного средства,
остающегося, однако, скрытым/и при этом слышим топот
лошадей, впряженных в повозку, и т. д. Так возникает
ощущение пространства «между» изображением и звуком.
Пришло время задать вопрос о сущности этого специ-
фического кинематографического пространства и его отно-
шении к пространству в живописной картине. Мы назвали
три средства, которыми это кинематографическое простран-
ство создается: изменение кадра, деталь, нахождение звука
вне изображения. Оттолкнемся от того из них, который
является основным, без которого кинематографическое про-
странство вообще не существует, — от кадра. Представим
себе какую угодно сцену, разыгрывающуюся в определенном
пространстве (например, в каком-нибудь помещении). Это
пространство вовсе не обязательно должно быть изображено
целиком, представление о нем может быть нам дано лишь
намеками, последовательностью частичных кадров. Мы и в
этом случае будем чувствовать его единство, иными слова-
ми — ощущать отдельные иллюзорные изображения про-
странства, последовательно возникающие на плоскости эк-
рана как изображения отдельных участков единого трех-
мерного пространства. Что дает нам это ощущение общего
единства пространства? Чтобы ответить на этот вопрос,
вспомним о таком смысловом целом, как предложение в
языке. Предложение складывается из слов, ни одно из
которых не содержит его общего смысла. Он открывается
нам полностью, лишь когда мы выслушаем предложение до
конца. Тем не менее уже в ту минуту, когда мы слышим
первое слово, мы оцениваем его значение применительно
к потенциальному смыслу предложения, составной частью
которого оно станет. Смысл, значение всего предложения,
таким образом, не содержите^ ни в одном из его слов, но
присутствует потенциально в сознании говорящего и слу-
шающего при каждом из этих слов от первого до последнего.
Причем от начала до конца предложения мы можем про-
следить постепенное развитие его смысла. Все это можно
повторить и применительно к кинематографическому про-
странству: оно полностью не дается ни одним из изобра-
жений, но каждое изображение сопровождается сознанием
единства общего пространства, и представление об этом
пространстве обретает определенность в последовательной
смене изображений. Можно поэтому предположить, что спе-
цифически кинематографическое пространство, не являю-
402
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
щееся ни действительным, ни иллюзорным, представляет
собой пространство-значение. Иллюзорные пространствен-
ные отрезки, демонстрируемые последовательными изобра-
жениями, суть его частичные знаки, сумма которых «оз-
начает» пространство в целом. Смысловой характер кине-
матографического пространства можно, впрочем, про-
иллюстрировать и конкретным примером. Тынянов в работе
о поэтике кино3 приводит два таких кадра: 1. луг, по
которому пробегает стадо свиней, 2. тот же луг, истоптан-
ный, но уже без стада, по нему проходит человек. Тынянов
видит здесь пример кинематографического сравнения: че-
ловек — свинья. Если мы представим себе обе эти сцены
в одном кадре (чем будет устранено вмешательство специ-
фического кинематографического пространства), то обнару-
жим, что сознание смысловой связи между двумя этими
сценами уступит место сознанию их простой временной
последовательности. Кинематографическое пространство
функционирует, следовательно, только при смене кадра,
причем как смысловой фактор. Далее известна смысловая
энергия детали, одного из средств, создающих кинематог-
рафическое пространство. Ж. Эпштейн говорит об этом:
«Вторая сила кинематографа — это его анимизм. В театре
неподвижная вещь, например револьвер, — только предмет
реквизита. Но кино обладает возможностью увеличения.
Браунинг, медленно вытаскиваемый рукой из приоткрытого
ящика стола... вдруг оживает. Становится символом тысячи
возможностей». — Эта многозначность детали обусловлена
как раз тем, что пространство, куда револьвер будет нацелен
и выстрелит, в момент демонстрации детали является пред-
чувствуемым пространством-значением, именно и скрыва-
ющим «тысячу возможностей».
В силу своего смыслового характера кинематографиче-
ское пространство значительно ближе пространству в поэ-
тическом искусстве, чем театральному пространству. И в
поэтическом искусстве пространство — это значение; да и
чем иным оно может быть, если передано словом? Многие
эпические фразы без изменения своей конструкции могут
быть транскрибированы в кинематографическое простран-
ство. Возьмем в качестве примера такую фразу: «Сначала
их движения нарочито замедлены, потом они быстро обни-
маются, резко выхватывают ножи и с поднятым оружием
бросаются вперед». Эта фраза с характерным для нее на-
стоящим временем глагола могла бы служить в романе
403
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
выражением напряженного момента действия; на самом
деле она взята из киносценария Деллюка4 «Испанский праз-
дник» и раскадрована следующим образом:
кадр 174 — Договорились. Сначала их движения наро-
чито замедлены, потом они быстро обнимаются, резко вы-
хватывают
кадр 175 — ножи
кадр 176 — и с поднятым оружием бросаются вперед...
Нужно также напомнить, что эпическое поэтическое
искусство имеет в своем распоряжении и отнюдь не только
с недавнего времени некоторые средства изображения про-
странства, сходные со средствами киноискусства, в особен-
ности деталь и панораму (плавный переход от кадра к
кадру). В доказательство приведу несколько традиционных
стилистических клише: «Мой взгляд опустился на...» «Я
остановил свой взгляд на ...» — детали; «X. окинул взглядом
комнату: справа от дверей стояла этажерка, рядом с ней
шкаф...» — панорама; «Тут стояли двое и оживленно раз-
говаривали, там еще целая группа людей, которые..., в
другом месте несколько человек куда-то спешили...» —
быстрая смена кадра. Для показа близости поэтической и
кинематографической трактовки пространства поучительно
сравнение кино с иллюстрацией. Напоминаю одно обстоя-
тельство: определенные направления в искусстве иллюст-
рации, имеющие пристрастие к маргиналиям в тексте, очень
часто прибегают к детали. Так поступает, например, ил-
люстратор Чеха Олива. Когда в тексте Чеха говорится о
том, что пан Броучек5 чиркал спичку за спичкой, на полях
рядом с набором появляется иллюстрация — приоткрытый
коробок, из которого выпало несколько спичек. Это деталь,
но не совсем такая, как в фильме, поскольку отсутствует
стандартная рамка; дело в том, что настоящая кинематог-
рафическая деталь занимает на экране такое же простран-
ство, как, например, сцена, снятая общим планом; поэтому
об эквивалентности иллюстрации с фильмом (за исключе-
нием движения) можно было бы говорить лишь в том случае,
если бы все иллюстрации данного произведения — как
детали, так и развернутые изображения — занимали це-
ликом всю страницу. Олива же, наоборот, последовательно
избегает какого-либо пространственного мерила своих ил-
люстраций, и его рисунки без рамок заходят выступами в
текст и расплываются по плоскости страницы. Как раз в
этом его техника отражает особенности поэтического про-
404
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
странства, до такой степени представляющего собой значе-
ние, что оно не имеет размеров; это связано с тем, что
знак кинематографического пространства — кадр; кинема-
тографическое пространство обладает, таким образом, раз-
мерами по крайней мере в своих знаковых проявлениях (в
собственном же смысле слова кинематографическое про-
странство-значение, как мы видели на примере детали,
также, разумеется, не знает размеров). Итак, при значи-
тельной родственности поэтического и кинематографическо-
го пространства их различает лишь большая мера чистой
значимости в поэтическом искусстве; с этим связано и то,
что, в отличие от кино, где пространство всегда и неизбежно
присутствует, в поэтическом искусстве от него можно аб-
страгироваться. Кроме того, поэтическое пространство об-
ладает всей резюмирующей силой слова. Отсюда невозмож-
ность механического перенесения поэтического описания в
кино; наглядно это выразил Г. Бофа: «Поэт написал, что
лошадь веяла фиакр рысью. Режиссер нам этот эпизод
покажет — перед нами возникает настоящий фиакр, на
нем будет красоваться кучер в белом цилиндре, лошадь
которого на протяжении нескольких метров пленки будет
бежать рысью. Нам не представят возможности все это
вообразить, зрителю здесь дают премию за лень».
До сих пор мы рассуждали так, как будто общее про-
странство, возникающее в результате последовательной свя-
зи кадров, в каждом фильме одно и всегда остается неиз-
менным. Но нужно считаться также с тем, что пространство
на протяжении того же самого фильма может изменяться,
и даже многократно. Такое изменение ввиду смыслового
характера этого пространства всякий раз означает переход
от одной смысловой связи к другой. Перемена места дей-
ствия — это нечто совсем иное, чем переход от кадра к
кадру в том же пространстве. Переход от кадра к кадру
даже в том случае, если между ними резкая грань, не
является нарушением непрерывной последовательности,
между тем как смена места действия (смена пространства
в целом) таким нарушением является. Поэтому нужно уде-
лить внимание изменениям места действия. Они могут про-
исходить несколькими способами: скачком, постепенным
сдвигом или «перекидыванием моста». В первом случае
(скачок) последний кадр предшествующего места действия
и первый кадр последующего просто монтируется один за
другим; это значительное нарушение пространственной свя-
405
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
зи, крайним следствием которого бывает полная дезориен-
тация; поэтому естественно, что этот вид перехода отягчен
значением (семантизирован); так, он может означать силь-
ное резюмирование действия. Во втором случае (сдвиг)
между обоими местами действия будет вложено постепенное
затемнение и потом вновь будет дано полное освещение
или последний кадр первого места действия будет вмонти-
рован в начальный кадр второго места действия. Каждый
из этих приемов имеет свое специфическое значение: за-
темнение может означать, например, что следующие друг
за другом сцены разделяет время; когда кадры перемежа-
ются, это может означать, в частности, сон, видение, вос-
поминание; разумеется, и в том и в другом случае суще-
ствуют иные значения. Наконец, в третьем случае («пере-
кидывание моста») переход осуществляется каким-либо
чисто смысловым способом, например при помощи кинема-
тографической метафоры (движение, изображенное в одном
месте действия, повторяется с иным значением в следующем
месте действия; допустим, мы видим, как мальчики под-
брасывают в воздух своего любимого вожака, — потом
перемена места действия... и совершенно аналогичное дви-
жение, но это уже выбрасывают выкопанную землю) или
при помощи анаколуфа («нарушения связи»: жест постового,
означающий «путь открыт», — потом перемена места дей-
ствия... мы видим, как ползет вверх, словно бы по знаку,
данному постовым, железная штора магазина). Нужно еще
добавить, что звуковое кино увеличило число возможностей
перехода: во-первых, оно создало предпосылки для новых
вариантов перехода с помощью «перекидывания моста»
(звук, фигурирующий в каком-то месте действия, повторя-
ется в другом месте действия с иным значением); во-вторых,
оно позволяет осуществлять соединение мест действия с
помощью речи (в одной сцене намекается на то, что дей-
ствующие лица пойдут в театр, в следующей же сцене,
даваемой без оптического перехода, мы видим театральный
зал). Каждый из названных нами способов перехода имеет
свой особый характер, каждый используется в различных
конкретных случаях в соответствии со смыслом структурых
данного кинематографического произведения. В целом мож-
но сказать только, что чем больше кино приближается к
собственной сущности, тем более последовательно основны-
ми способами перехода становятся постепенный сдвиг или
«перекидывание моста». Изобретение же звукового кино
406
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
послужило началом нового этапа: пока кино имело дело с
титрами, между ними всегда был возможен переход скачком,
поэтому он не ощущался как нечто исключительное и в
тех местах, где титров не было; с тех пор как титры исчезли,
ощущение непрерывности пространства усилилось. Теперь
даже переход от одного места действия к другому не изъят
из общего характера кинематографической) пространства:
последовательное развитие проявляет при нем тенденцию
к непрерывности.
Последовательность кинематографического пространст-
ва, идет ли речь о смене кадра или места действия, разу-
меется, не сводится автоматически к плавному течению,
наоборот — динамику развития пространства создает на-
пряжение, возникающее при этих изменениях. Дело в том,
что в подобных местах фильма от зрителя требуется опре-
деленное усилие, чтобы понять пространственно-смысловую
связь между двумя соседними картинами. Мера этого на-
пряжения изменяется от случая к случаю, но может до-
стигнуть такой интенсивности, что сама по себе способна
стать носительницей динамики целого фильма, особенно
если в нем будут использованы частые переходы от одного
места действия к другому, которые более динамичны и
резче бросаются в глаза, чем переходы между кадрами.
В качестве примера фильма, построенного на этом специ-
фически кинематографическом напряжении, назовем фильм
Вертова «Человек с киноаппаратом»6, где тема почти пол-
ностью приглушена и может быть выражена в одном-един-
ственном титре: городские улицы днем.
Но это исключительный случай. Обычно тема в фильме
есть, причем тема, раскрывающаяся в действии. Если мы
зададим вопрос о сущности этой темы, то увидим, так же
как было с кинематографическим пространством, что речь
здесь идет об определенном значении: хотя «модели» кино —
конкретные люди и объективно существующие вещи (актеры
и декорации), тем не менее само действие было кем-то
(сценаристом) предусмотрено и при съемке и монтаже скон-
струировано (режиссером) так, чтобы зрители определенным
образом понимали и толковали его. Эти обстоятельства
превращают действие в значение. Сходство кинематогра-
фического действия с кинематографическим пространством-
значением простирается, однако, еще дальше: и кинематог-
рафическое действие (так же как эпическое действие) есть
значение, осуществляемое последовательно, иными слова-
407
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ми — действие дано не только качеством мотивов, но и их
последовательностью; если изменится последовательность
мотивов, тем самым изменится и действие. В доказательство
процитирую заметку из газеты:
«Это было несколько лет тому назад в Швеции. Цензура
тогда запретила демонстрацию... русского фильма «Броне-
носец «Потемкин». Как известно, фильм начинается сценой,
рисующей плохое обращение с матросами, после чего не-
довольные должны быть расстреляны, но матросы подни-
мают бунт, и на корабле начинается восстание. Бои идут
и в городе. Одесса 1905 года! Появляется флотилия военных
кораблей, но позволяет восставшим уплыть. Это действие
фильма показалось цензуре слишком революционным, и
тогда компания, эксплуатировавшая фильм, вновь предста-
вила его в цензуру. Ни в изображении, ни в титрах ничего
не изменилось. Фильм был лишь перемонтирован, и после-
довательность сцен стала другой. И вот — результат. Пе-
реработанный таким образом фильм начинается с середины.
Восстанием! (Т. е. после сцены прерванной казни.) — Одесса
1905 года! Появляется русская флотилия, чем первоначально
кончался фильм, но сразу вслед за этим демонстрируется
первая часть фильма: после бунта матросы выстроены в
ряд, связаны и на них направлены дула винтовок. Фильм
кончается!»
Если действие есть значение и к тому же значение,
раскрывающееся последовательно, в фильме, имеющем сю-
жетное действие, окажутся два последовательных смысло-
вых ряда, развертывающихся одновременно, но отнюдь не
параллельно на всем его протяжении: пространство и дей-
ствие. Взаимное их отношение ощутимо независимо от того,
принимает ли его во внимание режиссер или не принимает.
Если с этим взаимоотношением обращаются как с ценно-
стью, художественное использование его подчинено в каж-
дом конкретном случае структуре данного фильма. Обоб-
щенно можно сказать лишь следующее: из этих двух смыс-
ловых рядов в качестве основного ощущается действие,
между тем как последовательно развертываемое простран-
ство выступает как дифференцирующий фактор. Это связано
с тем, что в конечном счете пространство предопределяется
действием; мы, однако, вовсе не хотим сказать, что такая
иерархия не может быть нарушена подчинением действия
пространству, мы говорим лишь, что подобное нарушение
ощущается как преднамеренная деформация. Полное осу-
408
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
ществление такого переворота весьма возможно, ибо им не
нарушается, а, скорее, подчеркивается специфика кино;
примером может служить уже упоминавшийся «Человек с
киноаппаратом». Противоположная крайность — вытесне-
ние последовательно развертываемого пространства дейст-
вием: но полное осуществление этой возможности означало
бы аннулирование специфического кинематографического
пространства неподвижностью снимающего аппарата. Оста-
лось бы лишь пространство картины как тень реального
пространства, в котором при съемке совершилось действие;
вот почему случаи такого радикального нарушения специ-
фики кино чаще всего встречаются в начальной стадии
развития этого вида искусства. Между обеими вышеупомя-
нутыми крайностями — богатая школа возможностей. Ра-
зумеется, общие правила, которыми можно было бы руко-
водствоваться при выборе, нельзя сформулировать теорети-
чески, поскольку выбор этот определяет не только характер
избранного действия, но и замысел режиссера. Не подвер-
гаясь опасности впасть в догматизм, позволительно сказать
лишь, что чем слабее внутренняя мотивировка действия
(т. е. в чем большей степени мы имеем дело лишь с вре-
менной и причинной связью), тем легче в нем может про-
явиться динамика пространства; разумеется, это не озна-
чает, что нельзя было бы попытаться соединить сильную
мотивировку действия с сильной динамизацией простран-
ства. Впрочем, динамизация пространства в кино, как мы
видели, вещь далеко не простая: одним образом функцио-
нируют в структуре фильма кадры, другим — перемены
места действия. Поэтому можно различать действие, легко
согласующееся с резкими перебоями между кадрами (это
такие виды действия, где мотивировка перенесена во внут-
ренний мир персонажей, так что необычные переходы от
кадра к кадру могут быть восприняты как сдвиги угла
зрения самих действующих лиц), и действие, легко при-
спосабливающееся к частым переменам места (это такие
виды действия, которые основаны на внешнем поведении
персонажей). Но и здесь мы не выдвигаем требования, а
лишь указываем путь наименьшего сопротивления; несом-
ненно, в каких-то конкретных случаях может быть избран
и путь наибольшего сопротивления.
Все, что в этой работе было сказано о гносеологических
предпосылках кинематографического пространства, претен-
дует на весьма ограниченную значимость: уже завтра пе-
409
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
реворот в области машинной техники может создать для
развития этого искусства новые и совершенно непредвиден-
ные предпосылки.
ВРЕМЯ И КИНО
Кино — искусство со множеством взаимосвязей: есть
нити, соединяющие его с поэтическим искусством (причем
как с эпикой, так и с лирикой), с драмой, с живописью, с
музыкой. С каждым из этих искусств у него есть опреде-
ленные общие формообразующие средства, в процессе раз-
вития каждое из них оказывало на него воздействие. Но
наиболее прочные узы связывают кино с эпикой и драмой;
это с очевидностью доказано множеством экранизированных
романов и пьес. Можно сказать даже большее: гносеологи-
ческие предпосылки, обусловленные материалом, ставят ки-
но между эпикой и драмой, так что с каждом из этих
искусств оно разделяет некоторые основные свойства; на-
званные три вида искусства родственны тем, что это ис-
кусства действия, тема которых представляет собой ряд
фактов, связанных временной последовательностью и при-
чинностью (в самом широком смысле слова). Это имеет
значение как для практики данных искусств, так и для их
теории. В практике тесной родственностью обусловлена лег-
кость перенесения темы из одного вида искусства в оба
остальные, а также усиление возможности их взаимовлия-
ния. На первоначальной стадии своего развития кино на-
ходилось под влиянием эпики и драмы, а сейчас начинает
в свою очередь оплачивать им долг и влиять на них (ср.,
например, воздействие кинематографической техники кадра
и панорамы на передачу пространства в современной эпи-
ческой прозе). Для теории взаимная близость кино с эпикой
и драмой имеет то значение, что позволяет их сравнивать.
К этой непосредственно связанной между собой троице
искусств вполне применимо общее методическое правило, ч
согласно которому сравнение материала, имеющего много
общих черт, представляет научный интерес, поскольку, с
одной стороны, скрытые различия резко выступают как раз
на фоне множества совпадений, а с другой стороны, подо-
бный материал дает возможность получить надежные общие
410
ВРЕМЯ И КИНО
выводы без опасности слишком поспешных обобщений. В
этом наброске мы намерены предпринять попытку сравнения
кинематографического времени с временем драматическим
и эпическим как для того, чтобы само кино более явственно
предстало в свете сравнения с теоретически лучше изучен-
ными искусствами, так и для того, чтобы, если это удастся
посредством изучения кино, прийти к более точной, чем
это было до сих пор, характеристике времени в искусствах
действия в целом.
Мы уже сказали, что самая основная общая черта кино,
эпики и драмы заключается в том, что их тема имеет
характер действия. Действие можно определить простейшим
способом как ряд фактов, связанных временной последова-
тельностью; таким образом, оно неизбежно связано со вре-
менем. Поэтому время — важный элемент построения во
всех трех упомянутых искусствах, и все же у каждого из
них свои временные возможности и закономерности. На-
пример, в драме весьма ограничена возможность передачи
одновременно происходящих действий и тем более переме-
щение отрезков временного ряда (показ того, что произошло
раньше, осуществляемый после того, что случилось позже),
между тем как в эпике и использование симультанности,
и временные сдвиги относятся к нормальным случаям. Кино
в этом отношении — как мы увидим — находится посередине
между временными возможностями драмы и эпики. Если
мы хотим понять различия между временными конструк-
циями трех смежных искусств, нужно принять во внимание,
что в каждом из них есть два временных слоя: один дан
последовательностью действия, другой — временем, которое
переживает воспринимающий субъект (зритель, читатель).
В драме оба эти вида времени протекают параллельно: при
поднятом занавесе течение времени на сцене такое же, как
в зрительном зале (если мы не будем обращать внимания
на несоответствия, которые не нарушают субъективного
впечатления одинаковости, например на то, что действия,
не имеющие значения для развития событий, на сцене
сокращаются, — ср. писание писем; возможен и такой
случай, когда течение реального времени в зрительном зале
на сцене символически проецируется в несравненно больший
масштаб, но при этом сохраняется параллельность времен-
ных пропорций). Таким образом, время воспринимающего
субъекта и время действия протекают в драме параллельно,
поэтому действие драмы для зрителя развертывается в на-
411
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
стоящем времени, причем и в том случае, если тема драмы
локализирована по времени в прошлом (историческая дра-
ма). Отсюда то свойство драматического времени, которое
Зих называет транзиторностью. Смысл этого термина в том,
что в качестве происходящего в настоящее время мы вос-
принимаем только тот отрезок действия, который развер-
тывается перед нашими глазами, между тем как все то,
что ему предшествовало, поглощено в данный момент про-
шлым; настоящее же находится в постоянном движении к
будущему. Противопоставим теперь драме эпику. И здесь,
разумеется, действие дано как временной ряд. Но отношение
времени действия к тому течению времени, которое пере-
живает воспринимающий субъект (читатель), тут совсем
иное, или — точнее сказать — такого отношения между
ними не существует. Если в драме течение времени действия
настолько связано со зрительским течением времени, что
продолжительность пьесы ограничена нормальной способ-
ностью зрителя сохранять сосредоточенность внимания, то
в эпике не имеет никакого значения, много ли времени мы
проведем за чтением, читаем ли мы, например, роман
неотрывно или с перерывами, неделю или два часа. Время,
в котором развертывается действие, совершенно оторвано
от реального времени, в котором живет читатель. Временная
локализация воспринимающего субъекта в эпике ощущается
как неопределенное настоящее, не заключающее в себе
никакого течения времени, и это настоящее отличается от
имеющего длительность прошедшего времени, в котором
развертывается действие. Отрывом времени действия от ре-
ального читательского времени в эпике создается — теоре-
тически беспредельная — возможность резюмирования дей-
ствия. Действие, охватывающее многие годы, которое при
драматическом показе, несмотря на большие временные
пропуски между отдельными актами, потребовало бы целого
вечера, в эпике может быть сконцентрировано в одной
фразе; ср., например, фразу из «Сверкающих глубин»1
братьев Чапек: «Какой-то богатый господин женился на
прекрасной молодой девушке, которая, однако, вскоре умер-
ла и оставила ему маленькую дочурку Гелену» («Между
двумя поцелуями»).
Если мы поставим киноискусство рядом с типами вре-
менной конструкции, какие представляют драма и эпика,
то увидим, что здесь имеет место опять-таки иное исполь-
зование времени. На первый взгляд может показаться, что
412
ВРЕМЯ И КИНО
кино во временном отношении настолько близко драме, что
их временная конструкция одинакова. Но более вниматель-
ное рассмотрение убеждает нас, что кинематографическое
время обладает также многими свойствами, отдаляющими
кино от драмы и сближающими его с эпикой. Кино более
других искусств обладает способностью резюмировать дей-
ствие наподобие эпического резюмирования. Несколько при-
меров... Речь идет о длительном путешествии в поезде,
которое, однако, не имеет значения для действия (пройдет
«без каких-либо происшествий»); эпический поэт резюми-
ровал бы его всего в одной фразе, кинорежиссер покажет
нам вокзал перед отходом поезда, поезд, идущий по какой-то
местности, человека, сидящего в купе, может, даже при-
бытие поезда на место назначения, «изобразив» с помощью
синекдохи на нескольких метрах пленки и за несколько
минут действие, продолжавшееся много часов, а то и дней.
Еще более наглядный пример дает нам кинокартина Шклов-
ского «Записки из мертвого дома», где следование колонны
арестантов из Петербурга в Сибирь передано следующим
образом: мы видим ноги арестантов и их стражей, топчущие
мерзлый снег, и при этом слышим песню, которую поют
арестанты; песня продолжает звучать, а кадры меняются:
мы видим зимний пейзаж, потом самое колонну, опять
деталь — ноги и т. д.; вдруг мы сознаем, что в тех местах,
по которым идет колонна, уже не зима, а весна, так же
промелькнет и летний пейзаж и осенний, песня все звучит
и звучит, и когда она допета, мы видим арестантов уже
на месте; многомесячный путь был резюмирован в несколь-
ких минутах. — Расхождение времени действия с реальным
зрительским временем в этих случаях очевидно. Так же
как эпический поэт мог бы, опустив все мелкие происше-
ствия, заключить описание долгого пути всего в нескольких
фразах, так киносценарист обобщит этот путь в нескольких
кадрах. Другая особенность, которая роднит кинематогра-
фическое время с эпическим, — это возможность перехода
от одного временного плана к другому, т. е., с одной стороны,
возможность последовательного воспроизведения одновре-
менных действий, а с другой, способность к временным
возвратам. Но здесь сходство кино с эпикой уже не столь
безоговорочно, как в предыдущем случае. Что касается
одновременно происходящих действий, то Якобсон в своей
работе2 показал, что передача их доступна лишь фильму
с титрами, т. е. такому, в который, собственно, вмешивается
413
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
эпичность (словесная передача действия), поскольку титр
типа «а тем временем...», присоединяющий к одному дей-
ствию воспроизведение другого действия, одновременно с
ним происходившего, является эпическим средством. Точно
так же и возможности временного возврата в кино более
ограничены, чем в эпике, хотя и не настолько невозможны,
как в драме. В качестве примера приведем отрывок из
сценария Деллюка «Тишина».
52 — Сосредоточенное лицо Пьера; он вспоминает.
53 — Мы видим Пьера, стоящего посередине комнаты, из-
дали. Он углублен в воспоминания. Они медленно
проходят перед ним; но для нас изображения сме-
няются одно за другим очень быстро.
54 — Его Любимая в вечернем туалете, посередине кадра,
падает вперед.
55 — Дым.
56 — Револьвер.
57 — Любимая распростерта на ковре.
58 — Пьер стоит перед ней.
Отбрасывает револьвер.
59 — Пьер наклоняется и приподнимает Любимую.
60 — Появляется прислуга. Пьер инстинктивно отступает.
61 — Лицо Пьера после убийства.
62 — Лицо Пьера, вспоминающего эту сцёну.
63 — Появляется Пьер того времени, он в своем кабинете.
Пишет. Любимая садится на ручку кожаного кресла
и нежно его целует. Входит гость. Это Жан. Молодой
элегантный мужчина. Любимая, разгневанная, ухо-
дит. Жан с напряженным вниманием провожает ее
глазами. Пьер наблюдает за всем этим. Он обеспо-
коен.
64 — Обед.
Сюзанн рядом с Пьером, возбужденно обращается к
нему, когда ей это позволяют обстоятельства. Жан
рядом с Любимой, настойчиво ухаживает за ней.
Смущение Любимой, которая вынуждена оставаться
любезной. Пьер обеспокоенно наблюдает за ней.
65 — В тот же вечер в салоне.
Сюзанн прельщает Пьера (который уже не думает
о своей ревности).
Но Пьер осторожен или верен. Он элегантно укло-
няется.
66 — Другой уголок комнаты.
414
ВРЕМЯ И КИНО
Жан любовным шепотом преследует Любимую, ко-
торая не знает, как от него избавиться.
67 — Пьер наблюдает за этим и снова приходит в ярость.
Сюзанн вновь приближается к нему с улыбкой, но
он ее сухо отстраняет.
68 — Лицо Сюзанн. Она оскорблена, ее гордости нанесено
страшное оскорбление.
69 — Пьер в курительной. Утро. Он вскрывает свою почту.
70 — Анонимное письмо: «Если Вы не хотите сознательно
быть слепым, Вам придется защищать свою честь.
Присматривайте за женой».
71 — Пьер нервный и строгий. Выходит. На улице прячется
за дверью.
72 — Жан, чрезвычайно элегантный, одет для визита, на
улице. Входит к Пьеру. Пьер входит за ним.
73 — Жан в салойе. Входит Любимая. Упрекает его, про-
сит, чтобы он оставил ее в покое, и т. д. Он смеется,
ни о чем не хочет знать, восклицает, что влюблен
и т. д. и т. д.
74 — Пьер за дверью.
75 — Жан настаивает. Любимая сопротивляется. Он на-
сильно обнимает ее. Выстрел. Любимая падает. Жан
убегает.
76 — Любимая лежит на ковре.
77 — Пьер стоит перед ней с револьвером в руке.
Здесь отчетливый временной возврат: убийство и только
вслед за ним изображение того, чем оно было вызвано;
разумеется, возвращение дано здесь в раскованном времен-
ном ряду, поскольку оно мотивировано свободной игрой
ассоциаций вспоминающего человека. В драме такое пере-
мещение отрезков действия неизбежно понималось бы как
чудо (воскрешение мертвого) или как сюрреалистическое
разрушение единства темы, но ни в коем случае не как
возвращение в прошлое, поскольку драматическое время
может развиваться лишь строго в одном направлении под
влиянием тесной связи времени действия со временем вос-
принимающего субъекта. В звуковом кино мы тоже с трудом
можем представить себе такой переход из более близкого
временного плана в более отдаленный, хотя бы даже мо-
тивированный воспоминанием, потому что звук (в данном
случае выстрел и разговоры действующих лиц), присоеди-
ненный к оптическому изображению, ликвидировал бы пре-
415
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
дел между временными планами: так, трудно было бы себе
представить, что персонаж, которого мы видели мертвым,
в следующей сцене не только движется, но и говорит.
Следовательно, с переходом от немого кино с титрами к
немому кино без титров и затем к звуковому кино умень-
шаются возможности временных сдвигов^ Тем не менее и
в звуковом кино возможность таких сдвигов полностью не
устранена; например, возврат в прошлое, мотивированный
воспоминанием, может быть подан таким образом, что сцена
воспоминания будет воспроизведена только акустически (по-
вторение разговора, который зритель однажды уже слышал)
при одновременном проецировании на экран изображения
вспоминающего человека.
Чем объясняются те особенности временной конструкции
в кино, которые мы только что констатировали? Обратим
прежде всего внимание на отношение между временем вос-
принимающего субъекта и временем изображения, демон-
стрируемого на экране. Течение времени, которое ощущает
зритель, в кино, несомненно, так же актуализировано, как
в драме: время киноизображения течет параллельно зри-
тельскому времени. В этом сходство кино с драмой, которое
объясняет, почему кино на первых порах и вторично в
период введения звука в практику кинематографа было так
близко к драме. Но теперь зададим вопрос: является ли то,
что мы видим перед собой на экране, и впрямь самим
действием? Можно ли отождествить время кинематографи-
ческого изображения со временем кинематографического
действия? Ответом служат уже примеры, которые мы при-
вели: если в фильме можно за несколько минут, причем
без перерыва и без каких-либо явных временных скачков,
воспроизвести многомесячный переход из Петербурга в Си-
бирь, то очевидно, что предполагаемое действие (которое,
разумеется, вовсе не обязательно должно было последова-
тельно воспроизводиться на экране) протекает в ином вре-
мени, чем изображение. И временная локализация его тоже
иная: мы сознаем, что само действие уже принадлежит
прошлому, между тем как то, что мы видим перед собой
на экране, мы интерпретируем как оптическое (или опти-
ческо-акустическое) сообщение об этом минувшем действии.
Только это сообщение развертывается в нашем присутствии.
Таким образом, кинематографическое время — более слож-
ная конструкция, чем время эпическое и драматическое: в
эпическом времени мы имеем дело лишь с одним течением
416
ВРЕМЯ И КИНО
времени (с развитием действия), в драматическом време-
ни — с двойным течением времени (течение действия и
течение зрительского времени, причем оба ряда неизбежно
параллельны), между тем как в кино — три потока времени:
действие, протекающее в прошлом, «изобразительное» вре-
мя, протекающее в настоящий момент, и, наконец, время
воспринимающего субъекта, параллельное предыдущему
временному ряду. Благодаря этой сложной конструкции
кино обретает богатые возможности для временной диффе-
ренциации. Использование ощущения времени, свойствен-
ного самому зрителю, сообщает кино жизненность, подоб-
ную жизненности драматического действия (соприсутст-
вие), но при этом ряд «изобразительного» времени,
отделяющий действие от зрителя, предотвращает автома-
тическое соединение развертывающегося действия с реаль-
ным временем, в котором живет зритель, в результате чего,
так же как в эпике, возникает возможность свободной игры
со временем действия. Примеры мы уже привели. Добавим
еще только один, касающийся остановки течения действия
в кино. Известно, что в эпике наряду с мотивами, соеди-
ненными динамически (т. е. связанными временной после-
довательностью), существуют и мотивы, сгруппированные
статически, иначе говоря — наряду с повествованием во
временной последовательности эпика обладает возможно-
стью неподвижного (с точки зрения времени) описания.
В своей работе о поэтике кино Ю. Тынянов показывает,
что и в кино есть описания, исключенные из временной
последовательности действия. Описательной ролью Тынянов
наделяет деталь; он приводит сцену, где должны быть опи-
саны казаки, отправляющиеся в набег; делается это с по-
мощью деталей их вооружения и т. п. В эту минуту время
остановилось. Тынянов обобщает это наблюдение, перенося
его на роль деталей вообще, и утверждает, что деталь
изъята из течения времени; но можно было бы привести и
примеры деталей, весьма интенсивно включенных во вре-
менной ряд. Неправильная генерализация не означает, од-
нако, что замечание Тынянова о приведенном выше случае
несостоятельно: здесь действительно речь идет об остановке
течения времени, о кинематографическом описании, воз-
можность которого обусловлена тем, что течение изобрази-
тельного времени служит посредником между временем зри-
теля и временем действия. Время действия может остано-
виться потому, что и в момент его неподвижности
14—888
417
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
параллельно со зрительским временем (в отличие от эпики
оно здесь актуализировано) течет время «изобразительное».
На грани между «изобразительным» временем, которое сво-
им течением соответствует зрительскому времени, и вре-
менем действия, которое расковано, возникают и иные воз-
можности кинематографической игры со временем, а именно
замедленная и ускоренная съемка и перевернутый фильм.
При ускоренной или замедленной съемке деформируется
отношение между скоростью времени действия и «изобра-
зительного» времени: определенному отрезку изобразитель-
ного времени соответствует значительно больший (или зна-
чительно меньший), чем это привычно для нас, отрезок
времени действия. При перевернутом фильме ряд действия
протекает регрессивно, тогда как течение «изобразительно-
го» времени, связанного с реальным зрительским временем,
естественно, ощущается как прогрессивное.
Вернемся теперь в заключение к проблеме времени в
искусствах действия вообще, чтобы на основе опыта, при-
обретенного при анализе кино, предпринять попытку более
строгого решения этой проблемы, чем то, которое мы могли
наметить в начале этой статьи. При анализе кино мы
установили существование трех временных рядов: одного,
обусловленного развитием действия, второго, обусловлен-
ного сменой изображений (объективно можно было бы ска-
зать — движением кинопленки в проекционном аппарате),
и третьего, основанного на актуализации реального времени,
переживаемого зрителем. Однако следы этой тройственной
временной дифференциации можно обнаружить и в эпике
и в драме. Что касается драмы, то здесь нет, как мы уже
показали, никаких сомнений относительно существования
двух крайних временных поясов, времени действия и вре-
мени воспринимающего субъекта; в эпике явственно ощу-
щается только одно временное течение, а именно время
действия, но тем не менее наличествует и читательское
время, данное, как мы уже отметили, хотя бы в виде
неподвижного настоящего. Таким образом, в обоих случаях
четко различимо существование двух временных слоев. Ка-
залось бы, отсутствует третий слой, который в кино по-
средничает между двумя крайними; это время, названное
нами, исходя из материала^ кино, изобразительным. Чем,
собственно, обусловлено это время? Это временной масштаб
самого художественного произведения как знака, между
тем как оба остальных времени оцениваются применительно
418
ВРЕМЯ И КИНО
к тому, что находится вне самого произведения: время
действия относится к течению «действительного» события,
составляющего содержание (действие) произведения, время
воспринимающего субъекта, как мы уже несколько раз от-
мечали, представляет собой всего лишь проекцию реального
времени зрителя или читателя во временную конструкцию
произведения. Но если «изобразительное» время, которое
более обобщенно мы могли бы назвать «знаковым», соот-
ветствует временному масштабу произведения, то очевидно,
что предпосылки его присутствуют и в эпике и в драме,
где каждое творение также развивается во времени. И в
самом деле, если мы приглядимся теперь к эпике и драме,
то увидим, что временная длительность самого произведения
и здесь определенным образом отражается в его временной
конструкции, а именно в так называемом темпе. Этим
термином в эпической прозе обозначается динамика пове-
ствования на отдельных его отрезках, в драме же — общая
динамика сценического творения (определяемая режиссе-
ром). Разумеется, в обоих случаях темп воспринимается
нами в значительно большей степени как качество, чем
как измеримое количество времени; но кино, где временной
масштаб произведения основывается на механически рав-
номерном движении аппарата, количественное начало про-
является и в знаковом времени, и это время явственно
выступает как составная часть временного построения. Итак,
приняв как необходимую гносеологическую предпосылку
существование трех временных слоев во всех искусствах
действия, мы можем сказать, что кино — это искусство,
где все три слоя проявляются равномерно, тогда как в эпике
на первый план выступает слой времени действия, а в
драме — слой воспринимающего субъекта (слой времени
действия с ним связан лишь пассивно). Если мы — не
только ради симметрии — задали бы теперь вопрос, а
существует ли и такое искусство, где на первом плане стоит
само знаковое время, нам пришлось бы обратиться к лирике,
где мы обнаружили бы полное вытеснение времени восп-
ринимающего субъекта (настоящее без признаков течения
времени) и времени действия (мотивы в лирике не соеди-
нены временной последовательностью). Доказательством
полноправной роли знакового времени в лирике служит то
значение, которое приобретает здесь ритм — явление, свя-
занное со знаковым временем, ибо само это время с помощью
ритма становится измеримой величиной.
14*
419
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
(Чаплин в «Огнях большого города»)
Концепция художественного произведения как структу-
ры, т. е. как системы элементов эстетики актуализирован-
ных и образующих сложную иерархию, объединенную пре-
обладанием одного элемента над остальными, приобрела
ныне право на жительство в теории нескольких видов ис-
кусства. Теоретикам и историкам музыки и изобразитель-
ного искусства уже ясно, что, если речь идет об анализе
определенного произведения или даже об истории данного
искусства, структурный анализ нельзя подменять психоло-
гией личности художника, а историю развития данного
искусства — историей культуры или даже только идеологии.
Многое из этого ясно и в теории литературы, хотя отнюдь
не везде и не всем. Тем не менее использование метода
структурного анализа применительно к актерскому искус-
ству достаточно рискованно, особенно если речь идет о
киноактере, который своим гражданским именем перекры-
вает свою сценическую манеру и к тому же еще через все
роли проходит в одинаковой типической маске. Теоретик,
который попытается оторвать маску от человека и изучать
структурную организацию актерской индивидуальности без-
относительно к психике и этическому пафосу актера, под-
вергается опасности прослыть возмутительным циником,
отказывающим художнику в человеческой ценности. Хотя
в свою защиту и для наглядного объяснения он может
сослаться на недавний фотомонтаж в «Прагер Прессе», где
умное лицо седеющего человека соседствовало с простодуш-
ной физиономией черноволосого юнца в котелке... Разуме-
ется, структурный анализ актерской индивидуальности, кро-
ме невыгод, имеет и одну небольшую выгоду: в драмати-
ческом искусстве сейчас в большей мере, чем в других
видах искусства, общепринято допускать равноценность да-
же совершенно различных эстетических канонов (Гамлет
Квапила и Гилара, Вояна и Когоута1 в исторической пер-
спективе оценивается без возвеличения одних за счет дру-
420
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
гих). Поэтому, быть может, и эта работа не заслужит
обвинений в недостатке вкуса к оценочным суждениям.
Прежде всего нужно обратить внимание на то, что струк-
тура актерской индивидуальности — лишь частичная струк-
тура, обретающая однозначность только в общей структуре
сценического произведения. Здесь она оказывается в' центре
многочисленных отношений: например, актер и сценическое
пространство, актер и драматический текст, актер и осталь-
ные актеры. Приглядимся только к одному из этих отно-
шений — к иерархии действующих лиц в сценическом
произведении. В зависимости от времени и среды, частично
и в зависимости от драматического текста, эта иерархия
бывает различной. Иногда, хотя актеры и образуют струк-
турно связанное целое, никто из них не занимает домини-
рующего положения, не является средоточием всех отно-
шений между действующими лицами произведения; иногда
же одно или несколько действующих лиц образуют такое
средоточие, доминирующее над остальными персонажами,
которые, казалось бы, присутствуют на сцене с единственной
целью создавать фон, аккомпанемент для доминирующего
действующего лица (или доминирующих действующих лиц);
иногда, наконец, все действующие лица находятся рядом
друг с другом на одном и том же уровне и вне структурных
зависимостей (отношения между ними образуют лишь ор-
наментальную композицию). Иными словами, в разные пе-
риоды и в разной среде задачи и права театральной режис-
суры оцениваются по-разному. Чаплин явно принадлежит
ко второй категории: Чаплин — стержень, вокруг которого
группируются остальные персонажи, ради которого они су-
ществуют. Они выступают из тени ровно настолько, на-
сколько это нужно доминирующему персонажу. Это утвер-
ждение будет развито и подкреплено доказательствами не-
сколько позднее.
Обратим теперь наше внимание на внутреннюю струк-
туру самой актерской игры. Элементы этой структуры мно-
гочисленны и разнообразны; тем не менее их можно под-
разделить на три четко отличающиеся друг от друга группы.
Прежде всего это комплекс голосовых элементов. Он весьма
сложен (высота голоса и мелодическая вибрации, сила и
окраска голоса, темп и т.д.), но это в данном случае не
имеет для нас значения. Дело в том, что картины Чаплина —
«пантомимы» (этим названием сам Чаплин оттеняет разницу
между своим последним фильмом и звуковым кино); позднее
421
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
мы объясним, почему они не могут не быть немыми. Вторую
группу можно охарактеризовать лишь тройным обозначе-
нием: мимика, жесты, позы. Не только объективно, но и
со структурной точки зрения это три разных элемента: они
могут быть параллельны друг другу, но могут и расходиться,
так что их взаимоотношения ощущаются как интерференция
(действенное средство комики); кроме того, один из них
может подчинить себе другие, или, наоборот, все они могут
находиться в равновесии. Но общим для всех трех элементов
является то, что они ощущаются как экспрессивные, как
выражение душевного состояния, прежде всего эмоций дей-
ствующего лица; эта особенность и объединяет их в одну
группу. Третью группу составляют те движения тела, ко-
торыми выражается и на которых основано отношение ак-
тера к сценическому пространству*. Элементы этой группы
часто нельзя объективно отличить от элементов предыдущей
группы (например, когда актер идет, его походка может
быть жестом, т. е. выражением душевного состояния, и
одновременно перемещение по сцене может изменить его
отношение к сценическому пространству), но функциональ-
но они, как было уже отмечено, четко отличаются от преды-
дущей группы и образуют самостоятельную группу.
Безусловно, не понадобится обширных доказательств,
если мы выскажем тезис, что у Чаплина доминируют эле-
менты второй группы, которую мы для простоты будем
называть жестикуляцией, без особого насилия распростра-
няя это обозначение и на мимику и позы. Первая группа
(голосовые элементы), как было уже сказано, у Чаплина
полностью вытеснена, вторая группа (движения) занимает
явно подчиненное положение. Хотя движения, изменяющие
отношение актера к пространству, имеют здесь место, они
до крайних пределов загружены функциями жестов (походка
Чаплина тонко отражает каждую перемену его душевного
состояния). Таким образом, доминирующее положение при-
* И применительно к Чаплину, типичному киноактеру, можно говорить
о сцене в театральном смысле слова, т. е. о статичной сцене, потому что
камера здесь почти пассивна: даже в той мере, в какой она проявляет
подвижность, роль ее служебная — приблизить к зрителю деталь2. В
доказательство и объяснение сказанного напомню об активности камеры
в русских фильмах, где изменчивость местонахождения и положения
объектива играет доминирующую роль в общей структуре произведения,
тогда как актерская индивидуальность имеет с точки зрения структуры
подчиненное значение.
422
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
надлежит жестам (экспрессивным элементам), составляю-
щим непрерывный ряд, полный интерференций и неожи-
данных пуант, ряд, на котором основана не только динамика
игры Чаплина, но и вся динамика фильма в целом. Жесты
Чаплина не подчинены ни одному другому элементу и,
наоборот, подчиняют себе все остальные элементы; этим
чаплиновская манера игры явственно отличается от при-
вычного и нормального исполнения. Обычно жестикуляция,
даже если актер подчеркивает ее и вносит в нее различные
нюансы, служит слову, или движению, или, наконец, дей-
ствию; она выступает в качестве пассивного ряда, перипетии
которого мотивированы иными рядами. А у Чаплина? Слово,
которое в наибольшей степени способно влиять на жести-
куляцию, должно быть полностью вытеснено, раз жесты
претендуют на роль доминирующего элемента. Всякое от-
четливое слово в фильме Чаплина было бы каким-то пятном:
оно опрокидывало бы всю иерархию элементов. Поэтому
не говорят ни сам Чаплин, ни другие действующие лица.
Типична в этом отношении вступительная сцена картины —
открытие памятника, где слово явственно заменено звуками,
у которых лишь общие со словом интонации и окраска3.
Что касается движения в сценическом пространстве, я уже
сказал, что оно отягчено функцией жестов и, собственно,
представляет собой жесты; кроме того, фигура Чаплина-ак-
тера чрезвычайно малоподвижна (ее неподвижность еще
более подчеркивается органическим дефектом ног). А теперь
о действии... Действие лишено какой бы то ни было соб-
ственной динамики: это всего лишь ряд случаев, связанных
слабой нитью; его функция — быть субстратом динамиче-
ской линии жестов; грани между отдельными случаями
служат лишь для того, чтобы создавать паузы в линии
жестов и делать ее путем такого членения более заметной.
Выражением атомизации действия является и его незакон-
ченность: фильм Чаплина завершается не сюжетной кон-
цовкой, а жестом-пуантом, причем жестом Чаплина (взгляд
и улыбка). Разумеется, это относится лишь к европейскому
варианту, но характерно, что такой способ завершения
произведения вообще возможен.
Теперь, поскольку мы выдвигаем в качестве доминанты
актерской индивидуальности Чаплина линию жестов, нужно
определить характер этой линии. Негативно можно сказать,
что ни один из трех элементов (мимика, жестикуляция в
узком смысле слова, позы) не преобладает над остальными
423
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
и все они проявляются равномерно. Позитивное определение
самой сущности этой линии таково: динамика ее основы-
вается на интерференции (одновременной или последова-
тельной) двух видов жестов: жестов-знаков и жестов-экс-
прессий. Здесь необходимо вставить краткое рассуждение о
функции жестов в целом. Уже было сказано, что в сущности
эта функция у всех жестов экспрессивная. Но экспрессив-
ность имеет свои оттенки: она может быть непосредственной
и индивидуальной, но может также обрести надындивиду-
альное значение. В таком случае жест становится общепо-
нятным (вообще или в определенной среде) и канонизиро-
ванным знаком. Таковы, например, ритуальные жесты (ти-
пичный пример: жесты религиозных культов) и в
особенности жесты человеческого общения. Жесты челове-
ческого общения — это знаки, которые канонически —
совершенно так же как слова — передают определенные
эмоции или душевные состояния, например сердечное уча-
стие, готовность что-то сделать, чувство уважения и т. д.
При этом никогда нельзя поручиться, что душевное состо-
яние человека, прибегающего к жесту, соответствует ду-
шевному настроению, знаком которого данный жест явля-
ется. Вот почему все Альцесты4 мира так негодуют по поводу
неискренности общественных условностей. Индивидуальную
экспрессивность жеста человеческого общения можно с на-
дежностью распознать, если только этот жест непроизвольно
сопровождается каким-нибудь оттенком, изменяющим его
канонический характер. Может статься, что индивидуальное
душевное движение совпадает с душевным состоянием, зна-
ком которого является данный жест; в этом случае жест-знак
будет утрирован, выходя за границы своей канонической
интенсивности (слишком низкий наклон тела, слишком ши-
рокая улыбка и т. п.). Но может произойти и противопо-
ложное: индивидуальное душевное состояние будет не сов-
падать с настроением, которое должен симулировать жест-
знак. В таком случае будет иметь место интерференция
либо последовательная, т. е. такая, в результате которой
будет нарушена координация развивающегося во времени
ряда жестов (неожиданное вторжение непроизвольного ин-
дивидуально-экспрессивного жеста в ряд жестов-знаков),
либо симультанная, т. е. такая, при которой, например,
жест-знак, данный мимикой лица, будет в то же самое
время опровергаться противоположной жестикуляцией рук,
вызванной индивидуальной экспрессией, или наоборот. Для
424
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Чаплина типична интерференция общественных жестов-
знаков с жестами индивидуально-экспрессивными. В игре
Чаплина все подчеркивает и заостряет эту интерференцию,
даже его своеобразная маска: разорванный фрак, перчатки
без пальцев, но тросточка и черный котелок. Однако за-
острению интерференции жестов прежде всего служит об-
щественный парадокс, заключенный в самой чаплиновской
теме: нищий со светскими замашками. Этим дана основа
интерференции: интегрирующий эмоциональный признак
светских жестов — ощущение самоуверенности и высоко-
мерного пренебрежения к нижестоящим, между тем как
экспрессивные жесты Чаплина-нищего группируются вокруг
комплекса ощущений собственной неполноценности. В его
игре переплетаются в постоянных катахрезах жесты двух
названных планов; характеризовать каждое из этих пере-
плетений в отдельности — означало бы представить беско-
нечный ряд словесных парафраз отдельных моментов его
игры. Это производило бы однообразное впечатление и было
бы малодоказательным. Значительно более интересно другое
обстоятельство: этот двойственный характер жестов отра-
жается и в расстановке побочных персонажей фильма Чап-
лина. Таких персонажей два: слепая продавщица цветов и
пьяный миллионер. Все остальные, кроме них, почти (ста-
рушка) или полностью (все прочие) обречены на роль ста-
тистов. Каждый из двух побочных персонажей приспособлен
к тому, чтобы воспринимать лишь один план, один из
интерферирующих рядов чаплинских жестов; у девушки
это одностороннее восприятие мотивировано слепотою, у
миллионера — опьянением. Девушка воспринимает только
светские жесты-знаки; деформированное представление, ко-
торое она создает о Чаплине, примечательным образом
реализовано в конце фильма: в цветочный магазин девушки,
уже зрячей, приходит купить цветы человек, безликий
светский хлыщ; уход его комментируется титром: «Я думала,
что это был он». Все сцены, где Чаплин встречается с
девушкой (герои фильма всегда оказываются наедине друг
с другом, чтобы присутствие третьего, зрячего, персонажа
не могло нарушить иллюзию героини), основаны на поляр-
ной осцилляции между двумя планами чаплиновских жес-
тов: жестами светскими и индивидуально-экспрессивными.
Едва в этих сценах Чаплин приближается к девушке, на-
чинают преобладать светские жесты, но как только он хотя
бы на шаг от нее отдаляется, всякий раз неожиданно берут
425
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
верх экспрессивные жесты. Это особенно заметно в сцене,
где Чаплин приносит девушке подарки и попеременно дви-
жется от стола, где лежит пакет с подарками, к стулу, на
котором сидит девушка. Неожиданные изменения жестику-
ляции, переход от одного плана к другому выглядят здесь
почти как пуант в эпиграмме. В этой связи мы поймем
также, почему фильм Чаплина не может иметь обычный
happy end*. Счастливый конец означал бы полное отрицание
драматической противоположности между двумя планами
жестов, на которой основана вся игра, ибо эта противопо-
ложность отсутствовала бы в финале. Если бы фильм за-
канчивался браком нищего и девушки, все произведение в
обратной перспективе представилось бы ничтожным, по-
скольку его драматический конфликт был бы обесценен.
Теперь об отношении между нищим и миллионером.
И миллионеру, как было сказано, доступен лишь один из
двух интерферирующих рядов жестов, а именно жесты ин-
дивидуально-экспрессивные. Для того чтобы эта деформация
видения была возможна, нужно, разумеется, чтобы милли-
онер был пьян. Едва он трезвеет, как начинает подобно
всем остальным людям видеть комическую интерференцию
обоих рядов жестов Чаплина и относиться к нему с таким
же пренебрежением. Если у девушки деформация воспри-
ятия (способность воспринимать лишь один ряд жестов)
постоянна и разрешение наступает лишь в конце картины,
у миллионера чередуются состояния деформированного и
нормального видения. Этим, несомненно, определена и
иерархия обоих побочных персонажей: девушка больше вы-
ступает на первый план, потому что постоянная деформация
восприятия предоставляет более широкую и прочную основу
интерференции жестов обоих планов, чем время от времени
прерываемое опьянение миллионера. Но миллионер необ-
ходим как противоположность девушки. С момента первой
встречи с Чаплином, когда нищий своими экспрессивными
жестами слагает перед миллионером патетический гимн
красоте жизни («А завтра опять взойдет солнце»), их вза-
имоотношения полны дружеских излияний: из объятий в
объятия. И мы от структурного анализа актерской индиви-
дуальности совершенно незаметно перешли, таким образом,
к структуре всего фильма — новое доказательство того, до
какой степени интерференция жестов двух планов является
* счастливый конец (англ.)
426
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
стержнем чаплиновской картины. На этом мы кончаем,
поскольку все существенное, вероятно, уже сказано. В за-
ключение — все-таки! — позволим себе произнести не-
сколько оценочных слов. Что в игре Чаплина вызывает
восхищение зрителя, так это огромный разрыв между ин-
тенсивностью эффекта, которого он добивается, и простотой
его формообразующих средств. В качестве доминанты струк-
туры своего исполнения Чаплин выбирает элемент, который
обычно (и в кино) занимает служебное положение: жесты
в широком смысле слова (мимика, собственно жестикуля-
ция, позы). И такой хрупкой, обладающей малой грузо-
подъемностью доминанте он умеет подчинить не только
структуру своего собственного актерского облика, но и
структуру всего кинопроизведения. Это предполагает почти
невероятную экономию во всех остальных элементах. Если
бы хоть один из них выступил немного заметнее, лишь
чуть больше обратил бы на себя внимание, сразу обрушилась
бы вся постройка. Структура актерского искусства Чаплина
похожа на объемную фигуру, покоящуюся на самой острой
из своих граней и все же находящуюся в совершеннейшем
равновесии. Отсюда иллюзия нематериальности: чистая ли-
рика жестов, лишенных зависимости от материального суб-
страта.
СУЩНОСТЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Поставлен вопрос: что такое изобразительные искусст-
ва? — и ответ на него, как на первый взгляд кажется,
должен иметь отправной точкой или определение изобра-
зительных искусств, или перечисление их, а еще лучше и
то и другое одновременно. Однако если бы мы предприняли
такую попытку, то сразу же встретились бы с трудностями.
В частности, наиболее точное, по нашему мнению, опре-
деление, утверждающее, что изобразительными мы назы-
ваем такие виды искусства, материал которых — неживая
материя, которые имеют дело с пространством и не при-
нимают во внимание время, — определение, отчетливо
отграничивающее изобразительные искусства от поэтиче-
427
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ского искусства и музыки, театра и танца, может вызвать
возражение, что, мол, садовая архитектура имеет дело с
живым материалом или что искусство освещения, заявля-
ющее о своей принадлежности к изобразительным искусст-
вам, явно представляет собой не только пространственное,
но и временное искусство. И даже теоретик традиционных
и самых характерных изобразительных искусств мог бы
возразить, что ощущение времени проявляется в изобрази-
тельных искусствах везде, где речь идет об изображении
движения, и что даже к реальному времени зрителя изо-
бразительное искусство предъявляет свои требования: на-
пример, в архитектуре в тех случаях, когда формы по-
стройки или ее окружения принуждают зрителя в опреде-
ленной последовательности обходить ее, прежде чем он в
нее войдет, или в определенном порядке осматривать внут-
ренние помещения. Дело в том, что такими средствами
архитектор определяет время и последовательность воспри-
ятия зрителем отдельных аспектов постройки или отдельных
ее частей. Много возражений возникло бы и в том случае,
если бы общую характеристику изобразительных искусств
мы попробовали начать с их перечня: весьма мало согласия
не только в вопросе о том, что следует причислять к изо-
бразительному искусству (например, является ли искусст-
вом фотография), но и в том, как классифицировать ис-
кусства уже традиционные. Есть, скажем, теоретики, счи-
тающие орнаментальное искусство самостоятельным
искусством, наряду с живописью и скульптурой; предста-
вители некоторых направлений теории архитектуры, тесно
связанных с практикой, как известно, принципиально за-
являют, что архитектура не искусство. Эти и подобные им
трудности встретили бы нас, таким образом, если бы мы
при характеристике изобразительных искусств попытались
отталкиваться от определения и перечисления. Разумеется,
все эти трудности отнюдь нельзя считать непреодолимыми,
но последовательное их устранение заслонило бы и сделало
неясной собственную нашу задачу — проникнуть в сущ-
ность изобразительных искусств.
Поэтому мы изберем противоположный путь. Не станем
предварительно строить почти никаких гипотез, полагаясь
на то, что в ходе рассуждений мы сами выведем все необ-
ходимые основания. Начнем со сравнения. Первая остановка
на нашем пути. А именно сравним произведения изобра-
зительного искусства с предметом, взятым из природы.
428
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Представим себе рядом друг С другом статую и каменную
глыбу, причем той же породы камня, из которого сделана
статуя. Здесь, бесспорно, много совпадений и даже больше,
чем это кажется на первый взгляд: статуя тоже когда-то
была глыбой, и нередко скульптор вдохновляется самой
формой глыбы, а порой и завершенная скульптура в чем-то
воспроизводит очертания глыбы, из которой она была из-
ваяна. И наоборот, если статуя сделана из мягкого материала
(например, из песчаника) и если она будет подвергаться
атмосферным влияниям, со временем она все больше будет
обретать подобие глыбы. Можно идти еще дальше: самая
древняя скульптура — скульптура доисторического прими-
тивного человека — в своей первоначальной форме пред-
ставляла собой не что иное, как простую неотделанную и
необработанную глыбу. Послушаем, что говорит об этом
специалист {Busse К. Я.1 I, s. 233): «Уже освобождение
глыбы от тесной связи с земной поверхностью означает
первое ее уподобление человеку, человеческому телу; если
же глыба после этого была поставлена отвесно, то этим ей
придается и вертикальное положение человеческой фигуры
с характерной точкой опоры, в которой фигура человека
соприкасается с землей». Таким образом, очевидно, что
черты сходства между глыбой и статуей действительно мно-
гочисленны и грань между ними совершенно неразличима.
Тем не менее различие между художественным произведе-
нием и природным предметом столь значительно, что их
отождествление даже только в определенных крайних слу-
чаях представляется нам чем-то парадоксальным. Вы ска-
жете: ясно, почему художественное произведение есть про-
дукт человеческой руки и человеческой воли, тогда как
природный предмет имеет форму, являющуюся продуктом
естественных сил — эррозии, трения и т. д. Но будьте
осторожны, тут не все так просто: и природный предмет
может воздействовать на зрителя как произведение чело-
веческих рук — известны скалы, которые подобны скуль-
птурам, но форма которых возникла в результате эррозии.
Итак, отличие художественного произведения от природного
предмета определяется не тем, как оно возникло, не тем,
что в его создании принимали участие человеческая рука
и человеческая воля, а лишь организацией самого предмета.
Если организация предмета воздействует на нас так, что
за ним мы предполагаем или, скорее, ощущаем какой-ни-
будь субъект, то этот предмет уже не воспринимается нами
429
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
как природный; природным предмет представляется нам
только при условии, что его организация производит на
нас впечатление механического следствия естественных сил.
Значит, кого-то, какой-то неопределенный субъект мы за
художественным произведением ощущаем, но конкретный
человек-творец и его намерения нам недоступны, а часто
и неизвестны, в крайнем же случае, как мы видели, их
может и вовсе не быть. Скажем более четко: художественное
произведение отличается от природного предмета не тем,
что имеет творца, который его сделал, а тем, что оно
кажется нам сделанным, причем благодаря тому, что его
организация выдает определенную единую направленность.
Поэтому мы говорим, что художественное произведение
само по себе, независимо от чего-либо находящегося вне
его, а следовательно, и независимо от какой бы то ни было
реальной личности, является преднамеренным, выдает пред-
намеренность. К этому мы добавим мелкое, но важное
ограничивающее замечание, вопрос о том, воспринимается
ли определенный предмет в определенный момент опреде-
ленным воспринимающим как преднамеренный или как
непреднамеренный, решается инозда не только его органи-
зацией, но и отношением к ней воспринимающего. Так,
Леонардо да Винчи советовал молодым художникам: «Рас-
сматривай стены, запачканные разными пятнами, или камни
из разной смеси. Если тебе нужно изобрести какую-нибудь
местность, ты сможешь там увидеть подобие различных
пейзажей, самым различным образом украшенных горами,
реками, скалами, деревьями, обширными равнинами, доли-
нами и холмами; кроме того, ты можешь там увидеть разные
битвы, быстрые движения странных фигур, выражения лиц,
одежды и бесконечно много таких вещей, которые ты смо-
жешь свести к цельной и хорошей форме... Так неясными
предметами ум побуждается к новым изобретениям»*. Ины-
ми словами, он советовал им воспринимать случайно воз-
никшие пятна и линии на стене как преднамеренные на-
броски картин. Предшествующими рассуждениями мы от-
далили художественное произведение от человека-гтворца,
а этим замечанием неожиданно приближаем его к человеку
воспринимающему. Мы затратили много усилий для дока-
зательства того, что создание, формирование произведения
изобразительного искусства не обязательно зависит от че-
♦ Леонардо да Винчи. Избранное, с. 88—89.
430
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
ловеческой воли, а теперь может показаться, что мы все
же хотим сделать его зависимым от человеческой воли через
воспринимающего. Но нужно принять во внимание прин-
ципиальное различие между творцом и воспринимающим:
творец — это отдельный и единственный человек, воспри-
нимающий — кто угодно; творец определяет организацию
произведения, тогда как перед воспринимающим произве-
дение предстает уже завершенным и он ничего не может
изменить в его объективной организации, — самое большое,
что он может, это разными способами его толковать; но
концепция воспринимающего имеет силу лишь быстротеч-
ное мгновение, между тем как само произведение остается.
Поэтому даже после известного отклонения в сторону вос-
принимающего мы можем спокойно утверждать: художест-
венное произведение само по себе создается преднамеренно,
между тем как природный предмет, в отличие от художе-
ственного произведения, лишен преднамеренности, создание
его случайно. Это вполне определенное различие имеет
принципиальное значение; переходные ступени и практи-
ческие колебания, на которые мы уже несколько раз ука-
зывали, общего принципа не затрагивают.
Тем самым мы закончили первую часть своего исследо-
вания. И вывод из нее немаловажен: понятие преднамерен-
ности, которое мы истолковали как факт организации самого
произведения, будет сопровождать нас на всем протяжении
наших дальнейших рассуждений.
Однако, обозначив художественное произведение в про-
тивовес предмету природы как преднамеренное, мы далеко
не раскрыли сущности изобразительного искусства и даже
искусства вообще: ведь то, что мы сказали о преднамерен-
ности, касается не только художественного творчества, но
и любой творческой деятельности человека. Всякая вещь,
которую человек создаст или пересоздаст в своих целях,
уже навсегда несет следы этого вмешательства: даже если
о ее творце не осталось никаких воспоминаний, ее органи-
зация представляется преднамеренной, причем и в тех слу-
чаях, когда уже неизвестно, для чего она первоначально
служила. И хотя археолог, склонившись над местом раско-
пок, кропотливо выискивает среди обломков камней те, что
несут хотя бы малейший отпечаток преднамеренной орга-
низации, он ищет не только художественные произведения,
но в равной мере и орудия человеческого труда, и предметы
повседневного обихода. Итак, перед нами стоит вопрос,
431
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
отличается ли как-то художественная преднамеренность от
преднамеренности нехудожественной, практической и чем
именно она отличается. Возьмем наглядный пример. Перед
нами какой-нибудь инструмент .труда или человеческой де-
ятельности вообще, хотя бы молоток, рубанок или изготов-
ленный с помощью этих инструментов в узком смысле слова
предмет мебели. Преднамеренность организации в любом
из этих случаев несомненна. Пока мы смотрим на эти вещи
как на предметы практического назначения, т. е. как на
инструменты, мы оцениваем каждое из их свойств приме-
нительно к цели, которой данная вещь служит: форма и
материал и в свою очередь каждый из элементов формы и
материала расцениваются применительно к этой цели и
только применительно к ней привлекают наше внимание.
То, что не служит цели, просто не попадает в поле зрения;
так, например, весьма вероятно, что останется незамеченной
окраска ручки молотка. Но может настать минута решаю-
щего поворота, когда на вещь практического назначения
мы посмотрим совершенно иначе, т. е. будем рассматривать
ее и ради нее самой. В эту минуту с вещью произойдет
странная метаморфоза, по крайней мере в наших глазах.
Прежде всего проявятся и те свойства, которые, не имея
отношения к практической цели, раньше оставлялись без
внимания или даже вообще не воспринимались (например,
как мы только что сказали, цвет). Но и те свойства, которые
прежде, будучи практически полезными, были центром вни-
мания, предстанут перед нами в новом свете: освобожденные
от отношения к цели, лежащей вне вещи, эти свойства
вступят во взаимные отношения внутри самой вещи, и вещь
предстанет перед нами как бы сотканной из своих свойств,
связанных в неповторимое и нераздельное целое. Если при
практическом отношении к вещи изменение любого из ее
свойств или частей, предпринимаемое для того, чтобы лучше
приспособить вещь к служению цели, ничего не изменило
бы в ее сущности, то теперь, когда мы оцениваем вещь
ради нее самой, нам кажется, что малейшее изменение
какого-либо из свойств затронуло бы самое ее сущность,
превратило бы вещь в нечто иное. Говоря конкретно, при
отношении к стулу как к инструменту для сидения изме-
нение формы спинки означало бы лишь этап в последова-
тельном приспособлении этого инструмента к его предназ-
начению; но если бы мы стали рассматривать стул ради
него самого, такое превращение единичного комплекса
432
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
свойств в другой, опять-таки единичный, комплекс свойств
означало бы изменение самой сущности вещи. В первом
случае мы воспринимали бы стул как инструмент, который
может производиться в неограниченном количестве экзем-
пляров, во втором — как неповторимое художественное
произведение, которое может быть скопировано, но отнюдь
не размножено. С уникальностью и, разумеется, также с
изъятием из ряда себе подобных вещи, которую мы восп-
риняли как художественное произведение, связано и стрем-
ление изъять ее из практического использования, даже если
она к этому приспособлена и пригодна.
Следовательно, нам удалось провести совершенно четкую
грань между художественным произведением и практиче-
ским творением. Мы сделали это на примере вещей, которые
без какого-либо изменения своей организации могут быть
восприняты тем или иным образом, — такие вещи нетрудно
найти, ибо почти всякий практический инструмент,может
быть (по крайней мере в тот момент, когда мы рассматри-
ваем его, не используя) воспринят безотносительно к цели,
которой он обычно служит, сам по себе и ради самого себя.
Наверное, каждый из нас испытал минуты подобного ху-
дожественного интереса к вещам практического назначения,
скажем перед новым инструментом, предметом мебели и т.
п., которые еще не были для нас связаны с представлением
о практическом применении. Но, разумеется, и предмет
практического назначения, если он должен привлечь вни-
мание воспринимающего к себе самому, к своей организа-
ции, чаще всего бывает особым образом оформлен. Мы
имеем в виду изделия так называемой художественной про-
мышленности, которые иногда уже заранее бывают пред-
назначены не для того, чтобы ими пользовались, а для
того, чтобы они были художественными произведениями «в
виде» практически полезных предметов, например гравиро-
ванные стеклянные бокалы, фаянсовые миски с пластиче-
скими украшениям и т. д. Если же речь идет о художест-
венных произведениях в собственном смысле слова, в час-
тности о картинах или статуях, то тут уже совершенно
ясно, что отношение к вещи не предоставлено на произвол
зрителя, а само произведение своей организацией прямо
побуждает зрителя сосредоточить внимание на нем самом,
на комплексе его свойств и внутреннем устройстве этого
комплекса и не искать за произведением какую-то внешнюю
цель, которой оно служило бы.
433
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Итак, мы пришли к выводу, что продукты человеческой
деятельности, которые все в своей организации несут при-
знаки преднамеренности, могут быть разделены на две боль-
шие группы: одна из них служит какой-нибудь цели, между
тем как предметы второй предназначены, чтобы стать целью
для самих себя, если так можно сказать. Предметы первой
группы позволительно назвать инструментами в широком
смысле слова, предметы второй группы — художественными
произведениями. Каждая из этих двух групп отличается
определенным методом преднамеренного созидания: инст-
румент подсказывает, что он предназначен для того, чтобы
служить; художественное произведение побуждает человека
стать по отношению к нему всего-навсего воспринимающим.
Разумеется, мы видели также, что предмет не создается
обязательно и однозначно одним из этих способов, напротив,
весьма часто случается, что один и тот же предмет может
оцениваться и как инструмент, и как художественное про-
изведение. И добавим, что один из важных видов изобра-
зительного искусства основан непосредственно на этой дву-
значности. Это архитектура, творения которой неразделимо
являются и инструментом (Корбюзье говорил даже: маши-
ной), и художественным произведением.
Казалось бы, теперь все ясно, но между тем как раз в
эту минуту нас начинают осаждать вопросы, настойчиво
требующие ответа. Вопросы эти примерно такие: если и
художественное произведение, и инструмент преднамерен-
ны, то почему художественное произведение не направлено
ни на что иное, кроме самого себя? Уже из слова «наме-
рение» вытекает представление о движении из пункта, в
котором мы сейчас находимся, к какой-то иной точке. Но
возможно ли намерение, которое было бы направлено лишь
назад, к своей отправной точке? И другой вопрос: ясно,
что предмет, выполняющий служебную роль, для чего-то
нужен. Но какая надобность в художественном произведе-
нии, если мы говорим, что служебной роли оно не выпол-
няет? Чтобы прояснить все эти проблемы, которые столь
непосредственно затрагивают самое сущность искусства,
нужно прежде всего еще, раз тщательно проследить, как
проявляется преднамеренность в художественном произве-
дении. И тут мы видим: в художественном произведении
одновременно с подавлением направленности к внешней
цели возникает субъект, т. е. некто за произведением, либо
преднамеренно его создавший, либо его преднамеренно вос-
434
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
принимающий. И это естественно: преднамеренность, ут-
ратив свое отношение к цели, тем теснее льнет к своему
источнику — человеку. Имея дело с инструментом прак-
тической деятельности, мы не интересуемся, кто его создал
и кто им пользуется. Разве это важно, кто именно сделал
молоток или кто понимает назначение этого инструмента
и соответственным образом его использует? Главное, что
молотком можно хорошо и надежно работать. Когда же
речь идет о картине, статуе, наоборот — вообще не воз-
никает вопроса об их использовании и внимание неизбежно
обращается к человеку. Может быть, в этом и кроется
дефиниция искусства? Некоторые теоретики придержива-
ются такого взгляда и утверждают, что художественное
произведение является просто выражением личности... и
потому необходимо человеку. Мы знаем, однако, что пред-
намеренность, заключенная в человеческом творении, а
следовательно, и в художественном произведении, отнюдь
не обязательно соответствует личным пожеланиям и инди-
видуальности автора; в крайнем случае (скалы, подвергши-
еся эррозии и обретшие вид статуй) автор может и вообще
отсутствовать. И еще: если бы художественное произведение
существовало исключительно или хотя бы преимущественно
для выражения личности своего автора, — какое бы дело
было до него остальным людям, воспринимающим? Согласно
другому взгляду, бытующему в разных вариантах и значи-
тельно более распространенному, чем предыдущий, назна-
чение художественного произведения заключается в воз-
действии на воспринимающего: художественное произве-
дение существует для того, чтобы вызывать у
воспринимающего наслаждение, причем наслаждение осо-
бого рода, не связанное с каким-либо внешним интересом,
поскольку в искусстве нет внешней цели, а вызываемое
лишь созерцанием произведения, взаимоотношением между
ним и воспринимающим. Это так называемое эстетическое
наслаждение. К этому взгляду уже нельзя относиться столь
отрицательно, как к предыдущей точке зрения. Художест-
венное произведение выступает здесь не как дело отдельной
личности, а как нечто общезначимое. Косвенным доказа-
тельством принципиальной приемлемости этого взгляда слу-
жит и то обстоятельство, что, начиная с Канта, впервые
четко сформулировавшего мысль о «незаинтересованном на-
слаждении», из этой предпосылки исходит большинство эс-
тетических теорий. Тем не менее мы не намерены пассивно
435
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
удовольствоваться этим взглядом. В существовании эстети-
ческого наслаждения, разумеется, нет никаких сомнений, —
каждый из нас знаком с ним по собственному опыту. Но
речь идет о том, является ли эстетическое наслаждение
стержнем нашего отношения к искусству или всего-навсего
составным его элементом, а может быть; и всего лишь
внешним признаком какого-то более глубокого отношения.
Впрочем, быть осторожными нас побуждает уже тот факт,
что как раз сильное воздействие художественного произве-
дения обычно сопровождается отнюдь не исключительно
наслаждением, но одновременно и прямой его противопо-
ложностью — недовольством. Впрочем, нет ничего более
субъективного и изменчивого, чем эмоциональное отноше-
ние к вещам. Художественное произведение — и особенно
произведение изобразительного искусства, поскольку мате-
риал его материя, — есть нечто крайне объективное, су-
ществующее независимо от изменчивых чувств. Оно обра-
щается к воспринимающему в первую очередь не с призывом
откликнуться на него эмоционально, а с призывом понять
его. Оно обращается не к одной стороне человека, а к
человеку в целом, ко всем его способностям. И далее: оно
апеллирует не к какой-то отдельной личности, а к каждому.
Оно было создано с неизбежным расчетом на публику,
следовательно, на многих, и художник неизбежно стремился
к тому, чтобы произведение установило взаимопонимание
между ним и остальными людьми; уже в момент создания
оно претендовало на то, чтобы все в равной мере понимали
его и в равной мере его принимали. И хотя, строго говоря,
требование это лишь идеальное и практически неосущест-
вимое, оно представляет собой существеннейшее свойство
искусства и существеннейшую побудительную причину ху-
дожественного творчества. Итак, художественное произве-
дение — знак, который должен служить средством передачи
какого-то надындивидуального значения. Но едва только
} мы произнесли слова «знак» и «значение», как нам приходит
в голову самый распространенный и известный знак —
слово, язык. И отнюдь не без оснований. Но несмотря на
это и как раз поэтому мы должны весьма ясно сознавать
различие между художественным знаком и такими знаками,
как языковые. Слово — при обычном, непоэтическом упот-
реблении — носит коммуникативный характер. Оно имеет
внешнюю цель: изобразить какое-то событие, описать ка-
кую-то вещь, выразить какое-то чувство, побудить, слуша-
436
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
теля к какому-то действию и т. п., — однако все это выходит
за пределы самого слова, все это где-то вне языкового
выражения. Вот почему язык — знак-инструмент, служа-
щий внешней цели. Творение изобразительного искусства,
в частности картина, разумеется, также может стремиться
нечто сообщить и, следовательно, стать знаком-инструмен-
том. Например, изображение в иллюстрированном ценнике
служит цели сообщить о товаре то, чего нельзя было об-
рисовать словами, является сопровождением и равноправ-
ным дополнением словесного сообщения. И картина, заду-
манная как художественное произведение, обычно нечто
нам сообщает, причем часто очень точно, например портрет
определенного лица или изображение определенной мест-
ности (так называемая ведута). Тем не менее значение
художественного произведения именно как художественного
произведения не заключается в сообщении. Художественное
произведение, как мы уже сказали, не направлено на что
бы то ни было, находящееся вне его, не имеет никакой
внешней цели. Сообщать же можно только о чем-то, на-
ходящемся вне самого знака. Художественный знак, в от-
личие от коммуникативного, неслужебен, т. е. не является
инструментом. Он устанавливает взаимопонимание между
людьми не применительно к вещам, хотя они в произведении
изображены, а применительно к определенному отношению
к вещам, применительно к определенному отношению че-
ловека ко всей действительности, которая его окружает, а
не только к той, которая в данном случае изображена. Но
это отношение произведение не сообщает — потому собст-
венно художественное «содержание» произведения и не под-
дается словесному выражению, — а вызывает непосредст-
венно у самого воспринимающего. «Содержанием» произ-
ведения мы называем это отношение только по той причине,
что оно дано в произведении объективно, его организацией,
а значит — доступно каждому и всегда. Но чем это отно-
шение предопределено в произведении? Лучшим ответом
послужат нам наметки конкретного разбора произведения.
Представим себе картину, что-либо изображающую, — тема
сейчас не имеет для нас значения. Мы увидим на картине
прежде всего плоскость, ограниченную рамой, а на этой
плоскости цветовые пятна и линии. Насколько простыми
кажутся эти элементы и насколько сложно взаимодействие
значений в реальности! Дело в том, что каждый из этих
элементов сам по себе и в связи с остальными в разных
437
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
планах выступает носителем значения и смыслообразующим
фактором независимо от того, что с его помощью и с
помощью остальных элементов изображено. Здесь нет воз-
можности, да и надобности давать подробный смысловой
анализ всех элементов картины. Достаточно небольшого
примера. Обратим внимание на цветовое пятно и пока
только на одно из тех, которые мы видим на картине. Оно
является носителем значения само по себе: красное пятно
воздействует на воспринимающего иначе, чем синее или
зеленое; оно вызывает иные ассоциации, чувства, моторные
реакции и т. д. Это собственное, ниоткуда не заимствованное
значение цвета порой может быть настолько сильным, что
почти достигает предметности: синяя краска может произ-
водить явственное впечатление неба или воды и в тех
случаях, когда она была использована исключительно в
своем цветовом качестве, а не для изображения данных
реалий. Но, наряду с этим «собственным» значением, цвет
играет роль смыслового фактора и по отношению к плоскости
картины: одно и то же цветовое пятно, если оно находится
в центре этой плоскости, в глазах воспринимающего будет
сопровождаться иным смысловым оттенком, чем если бы
оно было сдвинуто, например, по диагонали к какому-либо
из углов или перпендикулярно к какой-либо из сторон
четырехугольника картины — вверх, вниз, вправо или вле-
во. Эти различные смысловые оттенки, которые при разном
расположении цветового пятна на плоскости картины, с
одной стороны, воздействуют на значение самого цвета, а
с другой — оказывают влияние на «смысл» плоскости кар-
тины, разумеется, лишь с трудом и весьма ^неточно можно
передать словами. Цветовое пятно посредине плоскости кар-
тины, судя по обстоятельствам, может означать что-то вроде
покоя, уравновешенности или устойчивости, неподвижности
и т. д.; если оно сдвинуто отвесно вверх, то может произвести
впечатление приподнятости, спокойного вознесения кверху;
сдвинутое по диагонали в угол, оно означало бы, возможно,
резкое движение, столкновение, утрату равновесия, взрыв
и т. д. Конечно, я привожу все эти возможности с настой-
чивой оговоркой, что, во-первых, слова выражают значения,
о которых идет речь, весьма грубо и приблизительно и что,
во-вторых, при различных иных обстоятельствах одно и то
же положение цветового пятна на ограниченной плоскости
может изменять свое значение, даже переходя в собственную
противоположность. Так, цветное пятно, хотя и помещенное
438
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
перпендикулярно над центром картины, но углом своим
выступающее вниз, вероятно, будет вызывать скорее пред-
ставление о падении, чем о* подъеме. — Но этим мы еще
не исчерпали всех значений, носителем которых в картине
может быть цветовое пятно. Важно еще, кай оно соотно-
сится с другими цветовыми пятнами картины и с цветом
окружающей картину плоскости. Если, скажем, красное
пятно расположено на синем фоне, оно не только опти-
чески, но и в смысловом отношении будет выглядеть
иначе, чем то же пятно на зеленом фоне. Возникающие
таким путем смысловые оттенки можно, разумеется, толь-
ко ощущать, но нельзя выразить словесно. Однако вспом-
ним, что, например, красное пятно на зеленом фоне может
— без фигуральной проработки — производить впечатле-
ние цветка на лугу, а это, безусловно, уже крайний
случай' приобретения предметности значением, первона-
чально совершенно беспредметным. Далее, цветовое пятно
приобретает еще иные смысловые оттенки, если мы будем
рассматривать его с точки зрения того, что оно изображает.
Напомню лишь о широко известном факте, что само ка-
чество цвета может создавать в картине передний и задний
план: цвета, которые мы называем. «теплыми», такие,
например, как красный, имеют тенденцию выступать на
первый план, ближе к зрителю, между тем как «холодные»
цвета (например, синий) отступают на задний план. Эти
свойства цветов художник тоже может различным образом
использовать в смысловом построении картины. Наконец,
существует еще отношение цвета к предметной стороне
изображенных вещей. Если краска заполняет собой основ-
ную часть контура вещи, она обретает тесную связь с ее
предметным обликом, становится ее свойством, локальным
цветом; чем меньшую часть очертания изображаемой вещи
она занимает, тем легче приобретает значение света,
цветового валера; и здесь возможны разнообразные виды
весьма сложной смысловой игры, но попытка проследить
за нею завела бы нас слишком далеко. Мы не будем
также пускаться в рассмотрение дальнейших компонентов
картины, в перечисление их смысловых метаморфоз и
оттенков. Нам необходимо было лишь показать,
насколько сложным смысловым построением является кар-
тина, если мы рассматриваем ее как художественное про-
изведение, как художественный, а не коммуникативный
знак. Из простых средств изображения, не имеющих соб-
439
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ственного значения, все эти отдельные компоненты картины
превращаются в самостоятельные смысловые единицы, со-
вместно определяющие ее значение как целого. И это общее
значение картины, возникающее в результате сложного вза-
имодействия, обладает способностью непосредственно вы-
зывать у воспринимающего определенное отношение, при-
менимое к любому факту действительности, в соприкосно-
вение с которым он придет. Таким образом, художественное
произведение отнюдь не своей темой, а именно своим ху-
дожественным, словесно не передаваемым значением влияет
на то, как воспринимающий, в самом деле прочувствовав-
ший произведение, станет в будущем смотреть на действи-
тельность и вести себя по отношению к ней. И как раз в
этом заключается собственное назначение искусства, в том
числе всех видов изобразительного искусства, и не только
их, а всех родов искусства вообще. Разумеется, мы проде-
монстрировали и обосновали это свое утверждение лишь на
примере живописи, но было бы вовсе не трудно продемон-
стрировать его и на примере других видов изобразительного
искусства. Напомню лишь вскользь: в архитектуре, искус-
стве, которое колеблется между служением внешней цели
и художественной знаковостью, можно наблюдать весьма
характерное явление, заключающееся в том, что как раз
постройки, в которых смысловые элементьГ (такие, как
способность производить впечатление чего-то возвышенного,
величественность, значения, связанные с религией, и т. д.)
выступают на первый план (т. е. дворцы, общественные
здания, церкви и т. д.), легче и явственнее обретают ху-
дожественный характер, чем постройки, в которых смыс-
ловая сторона уступает служению внешней цели (такие
чисто практические строения, как фабричные, хозяйствен-
ные здания и т. п.).
Теперь попытаемся резюмировать вторую часть своего
рассуждения. Если в первой части мы показали различие
между произведением изобразительного искусства и при-
родным предметом, то во второй части мы интересовались
различием между произведением изобразительного искус-
ства и остальными продуктами человеческой деятельности.
Мы пришли к выводу, что произведение изобразительного
искусства принципиально отличается от других продуктов
человеческой деятельности тем, что если из последних пред-
намеренность делает вещи, служащие определенным це-
лям, то художественное произведение преднамеренность
440
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
превращает в знак, не подчиняющийся никакой внешней
цели, независимый и вызывающий у человека определенное
отношение к действительности в целом.
Однако наш метод, ведущий от сопоставлений более
широкого порядка к сопоставлениям более узкого порядка,
не довел еще нас до конечной цели — нам остается провести
еще одно сравнение, уже самого узкого порядка, сравнение
произведений изобразительного искусства с произведениями
других видов искусства. Только после того как мы сравним
изобразительное искусство с его ближайшим окружением,
наше рассуждение будет завершено, наш ответ на вопрос,
что такое изобразительное искусство, будет полным. Итак,
чем же изобразительное искусство отличается от остальных
видов искусства? Что объединяет их? Прежде всего нужно
иметь в виду, что взаимосвязь всех родов искусства, а не
только того ответвления, которые мы называем изобрази-
тельным искусством со всеми его разновидностями, чрез-
вычайно тесна. Дело здесь обстоит совершенно не так, как
при предыдущих сопоставлениях, когда мы сравнивали ху-
дожественное произведение с природной вещью и с прак-
тическим производством. Там между искусством и тем, с
чем оно сравнивалось, было различие в самой сущности;
здесь, напротив, имеется существенное тождество назначе-
ния, заключающееся в том, что вообще всякое художест-
венное произведение является эстетическим (художествен-
ным) знаком, свойства и сущность которого мы попытались
в ходе нашего рассуждения установить. И это общее на-
значение, которое подчеркивается уже старой сентенцией,
гласящей, что искусство едино и только имеет множество
разновидностей (ars una, species mille — так звучит эта
сентенция на латыни), с одной стороны, приводит к тому,
что довольно часто один и тот же художник творит одно-
временно в нескольких родах искусства, а с другой.— к
тому, что воспринимающие в соответствии со своими склон-
ностями и способностями специализируются один на одном,
второй — на другом искусстве, не ощущая такую специа-
лизацию как обедняющую односторонность. Другим след-
ствием общности назначения всех родов искусства является
то обстоятельство, что сюжеты свободно переходят из одного
рода искусства в другой, а также тот факт, что различные
роды искусства самыми различными способами взаимосое-
диняются (например, иллюстрации к поэтическому произ-
ведению) или комбинируются. Существует даже искусство,
441
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
которое, по самому своему характеру, представляет собой
комбинацию нескольких искусств, — это театр. Тем не
менее каждое искусство имеет нечто, явственно отличающее
его от других, — свой материал. В этом отношении и
различные виды изобразительного искусства резкой гранью
отделены от других искусств и в то же время весьма тесно
связаны между собой: их материал — и причем именно
только их материал — материя неживая, неподвижная и
относительно малоизменчивая. Вещественность материала
изобразительных искусств наглядно выступит, например,
при сравнении с музыкой, безжизненность, например, при
сравнении с танцем, малая изменчивость, например, при
сравнении с поэтическим искусством, материал которого —
слово — не только относительно быстро изменяется в про-
цессе развития, но и при переходе от одного воспринима-
ющего к другому может подвергаться небольшим смысловым
сдвигам. Не будем здесь задерживаться на перечислении и
объяснении частичных отклонений от указанных качеств
материала Изобразительного искусства, отклонений, кото-
рые мы можем обнаружить в отдельных случаях, лежащих
где-то на периферии. Попытаемся лучше показать, как этот
вещественный, неживой и малоизменчивый материал воз-
действует на искусство, основой которого он-является. Это
старая проблема. Самое известное толкование ее, сочинение
Лессинга «Лаокоон», датировано 1766 годом. Лессинг, ра-
ционалист, рассматривающий вместе со своей эпохой про-
блемы искусства под углом зрения нормы, которая не была,
однако, застывшим правилом, и в решении данной проблемы
исходил из понятия о должном, а не просто констатировал
существующее положение вещей. Поэтому он доказывал в
своем сочинении, что живопись и ваяние, искусства изо-
бразительные, должны не так подходить к своим сюжетам
и не так обращаться с ними, как поэзия, искусство музи-
ческое. Например, картина может представить зрителю сра-
зу общий вид вещи, между тем как поэтическое искусство
должно обрисовать ту же вещь по частям, постепенно, во
времени: в поэтическом искусстве состояние превращается
в действие. И, наоборот, живопись, разумеется, не может
передать действие иначе как состоянием. Для Лессинга это
не просто установление фактов, но одновременно и наказ;
он считает, что искусства, ограниченные характером свой-
ственных им материалов, не должны пытаться преступать
определенные таким образом границы. Хотя в сочинении
442
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Лессинга есть множество наблюдений, ставших прочным
достоянием науки об искусстве и сохранивших свою силу
до наших дней, эта его основная точка зрения ныне явно
устарела. История искусства, развившаяся как наука соб-
ственно лишь после Лессинга, говорит нам, что искусство,
и. причем все роды искусства, по сути дела, неустанно
стремится преодолеть ограничения, данные материалом,
склоняясь то к одному, то к другому из остальных родов
искусства. Конечно, иной вопрос, могут ли вообще удасться
подобные попытки освободиться от предпосылок, вытекаю-
щих из свойств материала. Как явствует со всей очевид-
ностью, реально невозможно, чтобы даже самое могучее
усилие вырваться из пут материала аннулировало его сущ-
ность. Поэтому все, что в каком-либо определенном роде
искусства предпринимается по образцу другого рода искус-
ства, под влиянием иного материала неизбежно изменяет
свой первоначальный смысл. Например, сколько бы поэти-
ческое искусство по образцу живописи ни стремилось к
красочности изображения, оно не заставит слова воздейст-
вовать на зрение; поэтому стремление к красочности при-
ведет в поэтическом искусстве к совсем иным результатам,
чем в живописи. Произойдет ощутимая перегруппировка
словарного запаса: прилагательные, существительные и гла-
голы, способные обозначать, но отнюдь не прямо демон-
стрировать цвет, сверх меры размножатся в словаре такого
поэта и придадут ему особый характер. Возможна и даль-
нейшая словесная конкретизация цвета: если для обозна-
чения цвета будут использованы в первую очередь прила-
гательные, краски будут выступать как свойства вещей;
если найдут применение существительные, означающие от-
дельные цветовые оттенки, цвет выступит как непредметное
оптическое качество (синь, чернота и т.п.); если же, на-
конец, употребляться будут главным образом глаголы (крас-
неть, багроветь и т.п.), цветовые значения обретут дина-
мичность. Отдельные виды словесной техники могут, без-
условно, соответствовать разным живописным манерам, но
и в этом случае они окажутся неадекватны им, представляя
собой лишь словесные их эквиваленты. Этим достаточно
сказано о поэтическом искусстве, стремящемся к изобра-
зительности. Разумеется, происходит и обратное: изобрази-
тельные искусства могут стремиться и стремятся перейти
рубежи, отделяющие их от остальных родов искусства. На-
пример, как поэтическое искусство — в чем мы только что
443 ~
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
убедились — порой пытается конкурировать с живописью,
точно так же и живопись может стараться конкурировать
с поэтическим искусством. Это бывает хотя бы когда жи-
вопись — как это случилось примерно в середине прошлого
столетия, в канун утверждения реализма, — стремится
воспроизводить анекдотические сюжеты. Иной возможный
путь будет заключаться в том, что живописью завладеет
стремление воплощать образные наименования (метафоры,
метонимии, синекдохи), являющиеся привилегией поэтиче-
ского слова, — не так уж много лет назад мы видели в
Праге выставку живописи, носившую характерное название
«Поэзия» и представлявшую картины именно такого рода.
Впрочем, и столь трезвая родственница живописи, как фо-
тография, в наше время то и дело пользуется синекдохой,
показывая нам часть предмета вместо целого. Однако жи-
вопись может почувствовать также влечение к беспредмет-
ной (или, скорее, бессюжетной) музыке и вдохновляться
ее ритмами; мы все знаем образцы бессюжетной живописи,
в которых совершенно открыто демонстрировалось это че-
столюбивое стремление. Следовательно, материал в искус-
стве — в том числе и в изобразительных искусствах —
существует не для того, чтобы строго блюсти границы между
отдельными видами искусства, а для того/чтобы своими
ограничивающими и регулирующими свойствами побуждать
фантазию художника к плодотворному протесту, но, ко-
нечно, и согласию. Чрезвычайно часто материал — и это
проявляется особенно наглядно как раз в изобразительных
искусствах — идет художнику навстречу, и произведение
вырастает из материала. Мы уже указали на случаи, когда
форма каменной глыбы заранее предопределяла форму ста-
туи, возникшей из этой глыбы. Многое решает не только
форма, но и другие свойства материала: твердость или
мягкость камня по сравнению с ковкостью металла, мер-
цание мрамора, блеск металла, податливость дерева — все
это не только свойства материала, но и творческие воз-
можности для скульптора. В истории искусства нередки
случаи, когда о какой-нибудь старой статуе историки ис-
кусства могли с определенностью сказать, что это копия
утраченного оригинала, выполненного в ином материале;
влияние материала на первоначальное формирование про-
изведения было столь значительным, что его нельзя было
затушевать при позднейшем воссоздании в ином материале.
Итак, вполне очевидно, что материал, которым отдельные
444
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
искусства отличаются друг от друга и которым, само собой
разумеется, изобразительные искусства в целом отличаются
от остальных, — это не просто мертвая основа художест-
венного труда, а почти живой фактор, управляющий твор-
чеством и постоянно — в положительном или отрицательном
смысле — в него вмешивающийся. Отдельные свойства ма-
териала, вступая в сферу художественного творчества, пре-
вращаются в элементарные художественные значения, о
которых шла речь выше, и отдают себя в распоряжение
художника, чтобы он вылепил из них сложное общее зна-
чение, которым произведение окажет воздействие на восп-
ринимающего. Поэтому, когда мы говорим, что изобрази-
тельные искусства отличаются от остальных материалом,
то не приводим, как это было в предыдущих случаях,
всего-навсего отличительный признак, а затрагиваем самый
главный нерв художественного творчества.
На этом наш путь кончается. Если что остается, так
это сказать несколько слов о месте изобразительных ис-
кусств в жизни человека. Наиболее существенное мы, соб-
ственно, уже сказали или по крайней мере затронули
вскользь: изобразительные искусства могут тешить и тешат
глаз и чувство; они могут, наряду с этим, представлять
большую ценность в деле укрепления национального само-
сознания и для репрезентативных целей; могут быть и
бывают — особенно в некоторые периоды и в некоторых
местах — важным экономическим фактором на внутреннем
рынке, в экспорте или способствуя расширению притока
иностранных туристов; далее, они могут служить пропаганде
идей и принципов, а также выполнять различные другие
задачи. Но, несмотря на все это, самое существенное их
воздействие, без которого все остальные функции остаются
лишь бесплотными тенями или вовсе не осуществляются,
заключается в том, что они влияют на отношение человека
к действительности. Художественные произведения прежде
всего являются неслужебными независимыми знаками в том
смысле, в каком мы о них говорили на протяжении своего
рассуждения. Такими знаками являются и произведения
изобразительных искусств, несмотря на свою материаль-
ность, которая, на первый взгляд, делает из них всего лишь
вещи. Более того, изобразительные искусства выполняют
эту основную задачу искусства в целом действеннее, чем
все остальные его виды. Поэтическую книгу нужно открыть,
в театр или концертный зал нужно прийти, — произведения
445
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
же изобразительного искусства мы встречаем на улицах,
видим их, поглядев на стену, под их прямым или косвенным
влиянием находятся большей частью инструменты, которы-
ми мы пользуемся для самых обычных повседневных работ.
(Столь могущественное влияние побуждает, разумеется, и
к осторожности в выборе и оценке, — но здесь начинается
уже иная глава, которой в этом цикле будет посвящена
самостоятельная лекция.)
К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ
СЮРРЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСИ
Дамы и господа!
В наши дни от искусства часто и категорическим образом
требуется, чтобы оно соответствовало объективной дейст-
вительности. Это требование правомерно, если имеется в
виду, что назначение искусства подразумевает нечто более
высокое, чем просто наслаждение. Но все дело в том, какова
современная действительность, причем именно «объектив-
ная» действительность, существующая и воздействующая
независимо от субъективных представлений и субъективных
желаний. Возьмем, к примеру, уже самое грань между
действительностью и вымыслом, фикцией: мы видим сейчас,
как некоторые важные представители международной по-
литики ежедневно домогаются, чтобы за их словесными
утверждениями признавалась большая мера реальности, чем
за показаниями очевидцев, фотографическими документами
и т. п. Такая позиция — не только опасность для мира, но
и симптом особого гносеологического сдвига: знак (в данном
случае языковое высказывание), назначение которого лишь
замещать действительность, стремится ее подменить. Подо-
бными же изменениями и сдвигами оказались затронуты
такие основные понятия, служащие организации нашего
понимания действительности, как, например, понятия при-
чинности, пространства и времени, материи и энергии. Фи-
зика, классическая сфера самой последовательной причин-
ности, в известных областях явлений начинает признавать
существование такой формы каузальности, при которой од-
446
О ГНОСЕОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ СЮРРЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСИ
ной причине соответствует множество равно возможных
следствий; какое из них претворится в действительность —
решает случайность. В связи с причинностью взглянем на
закономерность человеческого поведения. Хотя поведение
человека не подчиняется не знающей исключений каузаль-
ности, которая приписывается явлениям природы, обычно
считается, что его можно предвидеть; однако сейчас в ряде
стран есть ответственные государственные деятели, которые
отваживаются на публичное выступление лишь в том слу-
чае, если хотят объявить миру о решении, противоречащем
всякому правдоподобию. Понятия пространства и времени,
материи и энергии изменяются прямо под руками естест-
воиспытателей. Если физики показали, что материю можно
растворить в энергии, то приходят ботаники и доказывают
нечто противоположное: энергия непосредственно превра-
щается в материю; из этого следует, что пространство рас-
творяется во времени, а время сгущается в пространство.
В последние десятилетия была раскрыта и необычайная
сложность, многослойность и многозначность духовной жиз-
ни человека. Оказалось, что представления и действия,
наряду с явным и осознанным значением, могут иметь одно
или несколько значений скрытых, недоступных сознанию
субъекта и что эти скрытые мотивы могут даже стать главной
мотивировкой представлений и действий.
Такова действительность, предстающая перед современ-
ным человеком, а следовательно, и перед искусством наших
дней. Если искусство ответственно выполняет свое назна-
чение щупальцев, которыми человек улавливает перемены
действительности, оно должно определить свое отношение
к этой реальности наших дней. Но если к искусству предъ-
являют требование, чтобы оно изображало мир как ничем
не нарушаемую пространственно-временную связь, в кото-
рой совершаются действия, руководимые привычной зако-
номерностью, то нужно задать вопрос, не требуется ли тут
от искусства под предлогом принципа совпадения с объек-
тивной реальностью, чтобы оно скрывало от человеческого
взгляда действительность такую, какова она есть, служа
тем самым средством утешения или даже обмана человека.
Те, кто таким образом представляют отношение современ-
ного искусства к объективной действительности, порой уп-
рекают его в недостаточном оптимизме. Однако было уже
давно установлено — у нас более других Ф. К. Шальдой, —
что не существует подлинного искусства, которое было бы
447
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
пессимистическим, ибо всякое созидание новых ценностей
основано на вере в их применение в будущем; тем не менее
этот творческий оптимизм очень часто выражается и вы-
ражался в минувшие эпохи и негативным путем. Те, кто
предъявляет требование оптимизма, должны были бы по-
думать, не является ли оно для них синонимом страха перед
действительностью, какова она есть на самом деле.
Пусть дамы и господа извинят меня за несколько общих
рассуждений, без которых нельзя было обойтись, стоя перед
картинами Штырского и Тоайен . Мир, в который нас
вводят эти полотна и рисунки, на первый взгляд кажется
странным. Мы видим здесь головы без тел, но не мертвые,
а живущие таинственной жизнью, одежды, своей формой
облекающие объемы фигур, которые по всем правилам ве-
роятности должны были их заполнять, но вместо этого
вызывающе демонстрирующие свою пустоту. Мы видим
здесь лицо, одновременно представляющее собой сожжен-
ную книгу. Видим перевернутый ящик с несколькими сто-
ящими на нем кеглями; взамен дна ящика нам открывается
непосредственный вид на бесконечную водную гладь, слу-
жащую им фоном; на этой глади отражается лицо человека,
склонившегося над ней, но невидимого на картине, лицо
такое большое, словно эта бесконечная гладь всего лишь
неприметное зеркало. На другой картине мы видим колоны
с драпировкой, которая одновременно представляет собой
стебли, листья и цветы растений; еще на одной картине —
истекающую кровью стену, кружевное жабо, приобретаю-
щее очертания совы, и т. д. Но и это еще не все: и про-
странство, в котором предстают перед нами эти вещи, имеет
особые свойства. Вещь может в одно и то же время и
покоиться и возноситься. Взглянем, например, на картину
Штырского «Вдовы на дорогах», где своеобразные объекты,
напоминающие, как было уже сказано, одновременно цветы
и драпировку, колонны и стебли, возносятся и вместе с тем
покоятся; но покоятся они, как показывают контуры остро
срезанных верхних оконечностей, в направлении, обратном
земному притяжению, снизу вверх. Подобному же преоб-
ражению подвергается и соотносительная величина пред-
метов: на одной из картин Тоайен изображены головы,
торчащие в пустом пространстве как холмы; на другой мы
видим карту, занимающую половину высоты горы.
И еще: изображенные здесь предметы — вещи это или
существа? Невинная поэтическая забава, излюбленная
448
О ГНОСЕОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ СЮРРЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСИ
школьными руководствами по поэтике и называемая в них
персонификацией («розовоперстая заря»), предстает тут как
загадочная и мрачная сила. Она недосказывает смысл оли-
цетворения, но таинственно на него намекает; она пульси-
рует в двух направлениях на пути между существами и
вещами, давая почувствовать в вещах существа, и наоборот.
Что они такое — эти «фантомы пустыни» на рисунках
Тоайен: живые существа или призраки? или скульптурные
торсы? Наименование «торс» приводит нас к новому моменту
сходства живописи с поэзией. Уже кубизм показал живо-
писные возможности поэтического тропа, который называ-
ется синекдохой и определяется обычно как замещение
целого частью. Кубизм воспользовался синекдохой, разло-
жив предмет на мелкие отрезки, передающие то взгляд на
него спереди, то взгляд со сторон, то взгляд сзади или
воспроизводящие поверхность материала, из которого изо-
браженный предмет был сделан; все эти частичные аспекты
кубистическая живопись располагала рядом на плоскости
картины. Сюрреализм открывает живописную и одновре-
менно поэтическую красоту торса, который тоже является
частью, замещающей целое; но смысл этого замещения
здесь иной, чем в кубизме. Предмет, который изображен
искалеченным, намекает тем самым, что он изъят из прак-
тического употребления. И тут мы приближаемся к самому
средоточию сюрреалистического смыслового построения. По-
ка вещь служит инструментом определенной деятельности,
пока существо включено в сеть определенных практических
интересов, до тех пор и то и другое — и существо и вещь —
кажутся нам весьма понятными и несложными. Но едва
только вещь и существо лишатся однозначности практиче-
ского употребления, едва только перестает быть ясным, для
чего вещь служит и каким образом существо будет реаги-
ровать на наши действия, как простейшие вещи и существа
превращаются в загадки, в фантомы. Вместе с тем они
становятся для нас действительностью в самом характерном
для этого слова смысле, действительностью многоразмерной
и многозначной, действительностью из живой и из мертвой
материи одновременно. Если мы смотрим на вещь или на
существо не под углом зрения единственного их назначения,
а с точки зрения всех видов деятельности, на которые это
существо способно и инструментом которых эта вещь может
служить, они предстанут перед нами во всем своем богатстве
и во всех своих не поддающихся предвидению свойствах.
15—888
449
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
И пространство, окружающее существо или вещь, не
овладевает ими, уже не поглощает их, а концентрируется
вокруг них, притягивается ими. Дело в том, что вещь,
абсолютно освобожденная от однозначной роли в сфере
практических отношений, освобожденная настолько абсо-
лютно, как это может быть лишь во сне, и к пространству
имеет н еопределенное и непредопределенное отношение:
нет иных «наверху» и «внизу», «впереди» и «позади», кроме
тех, какие она сама определит своим движением. В минуту
же спокойствия вещь держит под угрозой все пространство,
ибо она полна различнейших возможностей и свойств, ко-
торые, будучи преобразованными в действие, могут про-
явиться в пространстве движением в любом направлении.
И хотя предмет написан на холсте, он не расплывается по
плоскости, а существует сам по себе, сосредоточен сам в
себе, все равно как если бы он был материальным. Картина
проявляет величайшее усилие превратиться в самое дейст-
вительность, которую она изображает; зато изображенная
вещь стремится стать в поэтическом смысле слова образом
других вещей, всех тех вещей, которые она как-нибудь
напоминает либо своими свойствами, либо внешним под-
обием, либо временными и пространственными ассоциаци-
ями. Она становится символом, который одновременно яв-
ляется и самостоятельной реальностью, и образом всего
сущего. Взаимосвязи отдельных частей действительности в
мире символов даны наблюдателю как задача. Следователь-
но, если сейчас человеку важно восстановить единство уни-
версума, который является местом его жизни и деятельно-
сти, он не должен пугаться этой задачи. Ужас, который
охватывает человека перед вырвавшимися на свободу ве-
щами, может быть преодолен лишь теми, кто не закрывает
глаз.
Сюрреализм как направление в живописи очень близок
поэтическому искусству. Это естественно, ибо сюрреализм
как в живописи, так и в поэтическом искусстве обращает
внимание не на знак, а на вещь, им подразумеваемую;
сама вещь, а не знак, принимает на себя роль символа,
замещающего другие вещи. При таком положении поэзия
и живопись становятся в большей мере, чем когда бы то
ни было, сестрами, поскольку качественное различие между
знаками, которыми они пользуются — в одном случае
словом, в другом цветом и линией — отступает на второй
план. Тесная связь подобной живописи с поэзией, разуме-
450
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
ется, часто дает повод для негативной критики; на худож
ников падает подозрение, что они поэтизируют красками,
поскольку не умеют красками творить. Однако этот упрек
уже не нов: на первых порах технической неумелостью
попрекали и такое чисто живописное направление, как
импрессионизм. Создание новой техники всякий раз и во
всяком искусстве кажется ошибкой, неумелостью с точки
зрения предшествующей техники. И каждая новая задача,
которую ставит перед собой определенное искусство, требует
обновления техники: например, подчинение пространства
вещам, которое мы констатировали в живописном творче-
стве Штырского и Тоайен, несомненно, не обойдется без
технических поисков и преобразования техники. Разумеет-
ся, новая техника известное время, пока она не станет
доступной подражанию, будет скрытой от взора и понимания
зрителя. Но не всякий зритель обладает прозорливой тер-
пимостью старого музыканта, который, если верить анек-
доту, сказал Моцарту о его сочинении: «Масса ошибок, но
прекрасно!». О том, в какой мере именно авторы этой
выставки уделяют внимание чисто живописной стороне дела,
свидетельствует то обстоятельство, что при весьма значи-
тельном сходстве, даже тождественности гносеологического
отношения к реальности различие между этими двумя ярко
выраженными индивидуальностями проявляется как раз в
разной живописной технике; достаточно сравнить склон-
ность Тоайен к приглушенным краскам с пристрастием
Штырского к ярким, так же как сливающиеся переходы
между соседними цветовыми пятнами у Тоайен контрасти-
руют с более отчётливым линейным разграничением их на
картинах Штырского. Таким образом, дамы и господа, и с
чисто живописной стороны картины выставки требуют от
вас восприимчивости и внимания.
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ
ЯНА ЗРЗАВОГО
Перёд картинами Яна Зрзавого , вероятно, было бы
вполне уместным задать себе вопрос, какая особенность
спаивает творчество этого художника в законченное целое.
15*
451
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Ответ на этот вопрос отнюдь не самоочевиден, ибо манера
письма менялась у Зрзавого часто: то у него (в ранних
работах) гладкая живопись, резкие линейные контуры, то
(в картинах из Бретани), наоборот, явственно виден мазок
и применяется цветовное пятно; между этими двумя пери-
одами встречаются и картины, где освобожденные волны
цвета беспрепятственно разливаются по холсту, игнорируя
преграды, создаваемые линиями очертаний («Собор святого
Марка ночью»), а в других картинах сам цвет становится
линией — предмет динамически построен из цветовых линий
(«Виа Аппиа»). Несмотря на это разнообразие живописных
приемов, сколько-нибудь искушенный воспринимающий мо-
жет с первого взгляда отличить картины Зрзавого от про-
изведений других художников. Итак, что же позволяет это
сделать, чем каждая из картин выдает своего автора?
Ответим пока без доказательств, что этим общим зна-
менателем является определенная специфическая индиви-
дуально нюансированная поэтичность, если хотите — ли-
ризм. Но прежде всего нужно договориться, что мы вообще
намерены подразумевать под поэтичностью в живописи.
Иногда ее ищут в эмоциональной окраске, которую излучает
картина. Наименее живописен прием, при котором эмоци-
ональная окраска задана сюжетом картины (идилличность,
истома и т.п.); в данном случае с полным основанием
говорят о «литературной» живописи. Но эмоциональность
может таиться и в самой эпической стороне живописного
холста: так, «лирически» может воздействовать цвет (су-
женная цветовая гамма, мягкие переходы, приглушенные
краски) и линия (мягкая волнистость и т. п.). Лиричность
такого рода носит, разумеется, уже чисто живописный ха-
рактер. Следы ее было бы нетрудно отыскать и у Зрзавого.
Но и такой лиризм не составляет сущности явления, которое
мы имели в виду, когда в связи с творчеством этого ху-
дожника употребили слово «поэзия».
Дело в том, что недавнее развитие живописи принесло
новое понимание поэтичности картины. Под нею подразу-
мевается уже не воздействие на чувство, а смысловые от-
ношения, которые пронизывают картину и делают ее внут-
реннее построение сходным с построением лирического сти-
хотворения. В сущности речь здесь идет лишь об
акцентировании свойства, неотъемлемо присущего каждому
живописному произведению вообще. Все элементы живо-
писного произведения, а не только сюжет нечто означают,
452
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
выступают в качестве носителей значений. Так, например,
цвет — это не только оптическое явление, но одновременно
и знак. Его значение определяется тем, что в сознании
зрителя он вызывает некие скопления образов, часто не-
определенных, но порой и весьма отчетливых: синий цвет —
как наглядно показала «абстрактная» живопись — ив со-
вершенно беспредметной картине в зависимости от своего
положения на ее плоскости будет означать либо небо, либо
водную гладь; значение цвета может даже стать канониче-
ским — вспомним средневековую символику цветов. Подо-
бным же образом и остальные оптические элементы картины
полны значений различной степени отчетливости, причем
тоже независимо от того, что ими изображается. С другой
стороны, характер смысловых скоплений носят и отдельные
элементы, из которых складывается сюжет (предметы и
т. п.), а сам сюжет как целое представляет собой сложное
значение.
Все эти отдельные частные значения вступают внутри
произведения в различнейшие взаимные отношения и на-
пряжения, равнодействующей которых и> является картина
как динамическое смысловое целое, которое хотя и создается
комплексом материальных, доступных органам чувств фак-
тов действительности (холст, красящие вещества и т. п.),
но отражается в сознании воспринимающего как нематери-
альный «эстетический объект». Смысловая динамичность
эстетического объекта с очевидностью вытекает из того
экспериментально подтвержденного обстоятельства, что
«значение» картины в сознании зрителя осуществляется и
внутренне дифференцируется лишь в процессе восприятия,
следовательно во времени. Это относится ко всякому жи-
вописному произведению безотносительно к эпохе, жанру
и школе. Современная живопись, к которой принадлежит
и творчество Зрзавого, лишь обнажила смысловое постро-
ение картины, так что способ ее организации и сложность
целого становятся заметны зрителю с первого взгляда. Од-
нако разные направления и разные индивидуальности по-
разному обращают внимание зрителя на смысловое постро-
ение живописного произведения; таким образом, для нас
важно как можно более отчетливо схватить своеобычность
смыслового построения произведений Зрзавого.
Первая бросающаяся в глаза смысловая особенность,
которую мы замечаем у Зрзавого, — это относительно
большая взаимная самостоятельность изображенных пред-
453
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
мегов*; конечно, она сопровождается и оптической изоля-
цией отдельных изображенных вещей. Обратим внимание
на картину «Долина грусти», в которой сам художник видит
начало своего самостоятельного творчества и ключ кинему
(ср. статью «Ян Зрзавы о своем творчестве». — «Zivot»,
XIII, s. 40). В изобразительном плане эта картина отлича-
ется от творений первого периода его зрелости прежде всего
тем, что в ней отсутствуют четкие очертания — она создана
из цвета. И все же предметы весьма явственно отделены
здесь друг от друга уже тем, что редко рассеяны по плоскости
картины. Это женщина с павлиньим пером, дорога, три
стоящих в отдалении друг от друга дерева, холм с костелом,
деревня, конусообразные горы на заднем плане; каждый из
этих предметов сам по себе представляет целое — даже
горы, хотя они и близки друг от друга, не образуют горного
массива, а расступаются в виде отдельных острых вершин.
Такое пристрастие к небольшому числу четко отделенных
друг от друга предметов, изображенных на плоскости кар-
тины, Зрзавы сохранил и в позднейшее время. В цитиро-
вавшейся уже статье о своем творчестве художник говорит
о типе пейзажа, который он старается отыскать для своих
картин: «Я ищу землю, как можно менее измененную рукой
человека, такую, какой ее сотворил Бог, и чем более она
заброшена, тем лучше». Свою любовь к корабликам на
морской глади он тоже объясняет их одиночеством: «Они
качаются на воде словно между двумя огромными пустыми
зеркалами неба и моря, не ведая, какой из этих стихий
принадлежат, и кажутся единственными живыми сущест-
вами в неизмеримости пространства». Вспомним в связи с
этим, как часто Зрзавый оставляет в одиночестве посреди
неба, пустого и бесконечного, какое-нибудь из небесных
тел, иной раз верхушку дерева, петушок флюгера на кон-
чике крыши или флаг на вершине мачты. Вещь лицом к
лицу с беспредметной бесконечностью — это уже одно из
смысловых отношений, с которыми мы встречаемся в жи-
вописи Зрзавого.
Небольшое число предметов на картине делает возмож-
ным их взаимное смысловое (и, разумеется, формообразо-
вательное) сопоставление. Картина слагается из предметов;
это относится и к пейзажу Зрзавого, который был назван
* Под «предметом» мы подразумеваем отдельно изображенную вещь как
составную часть и простейший элемент сюжета картины.
454
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
«компонованным». Однако речь идет о чем-то большем, чем
просто композиция в формальном смысле слова; проблема,
которой занят художник, — это установление смысловых
отношений между изображенными предметами, притом вся-
кий раз отношений уникальных, ввиду своей сложности
применимых лишь в данном случае. Именно они оживляют
произведение. Зрзавый сам говорит: «Произведение, если
это подлинно художественное творение, — не мертвая вещь,
а местопребывание, некий аккумулятор психической силы,
излучающейся из него, — почти живое существо. И как
таковое оно и рождается. Минута вдохновения — это как
раз час его рождения. Неважно, когда оно осуществлено
художником, — это может совершиться спустя год и даже
спустя много лет. А минута зачатия? Она наступает, когда
мы в экстазе постигаем вещь и зрим самое душу ее материи...
Когда мы поддаемся волшебству движений, кружению их
света и красок... Мы редко знаем этот час, ибо в упоении
его не замечаем» («О себе». — «Cerven», I, s. 60). Характерно
прежде всего то, что, по собственным словам художника,
в центре его интереса «вещь», т. е. отдельно изображенный
предмет, а отнюдь не сюжет картины в целом. Но еще
более важно признание, что картина рождается раньше,
чем она написана, что она созревает уже в момент своего
зачатия. Когда приходит этот миг рождения? В тот момент,
когда художник осознает как целое смысловые отношения
определенных предметов. Безусловно, это не сказано в ци-
тате прямо, но неизбежно вытекает из того, что одноразовое
оптическое впечатление даже в течение многих лет может
оставаться зафиксированным в сознании художника. Имп-
рессионисты, стремившиеся отразить действительно чистое
зрительное впечатление без смысловой интерпретации, дол-
жны были поступать совершенно противоположным образом:
писать сразу же, на месте. Лишь смысловое целое, объек-
тивированное и закрепленное своим семантическим постро-
ением, может пережить минуту своего возникновения, хотя
оно настолько связано со зрительными впечатлениями, что
его воспроизведение может быть только оптическим.
Приступим к более подробному раскрытию тезиса и
начнем с вопроса, что такое для Зрзавого «предмет»? По-
скольку в ранний период своего творчества Зрзавый писал
большей частью фигуративные картины, вдумаемся сначала
в его понимание человеческого телосложения. Художник
сам отчетливо показал, как он смотрит на человеческое
455
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
тело. Я имею в виду то место уже цитировавшейся статьи
«О себе», где речь идет о впечатлениях от варьете: «Сияет
свет, сверкают шелковые трико, их яркие краски пылают
и звучат, как гром тарелок циркового оркестра. На открытом
пространстве колеблются и трепещут напряженные тела,
трещат суставы. Ноги, крепко прильнувшие друг к другу
ступнями, двигаются, как пружинистые рычаги, вверх и
вниз, опускаются под тяжестью и вновь выпрямляются.
Руки, настороженно раскинутые в опасном пространстве,
уравновешивают каждый наклон тела, трепещут, плывут,
беспрестанно вздрагивают как крылья бабочки-однодневки
или стрекозы». Мы ясно видим: ноги и руки для Зрзавого —
субъекты действия, деятельность каждой конечности пони-
мается как проявление собственной инициативы. Отдельные
части тела представляются художнику самостоятельными
предметами. Чтобы проверить этот вывод, присмотримся
к его картинам. На картине, которая называется «Раз-
мышление», мы видим различную трактовку отдельных ча-
стей одного и того же лица; нос лишь очерчен линией,
между тем как рот и глаза выполнены цветом. Ясно и
почему так сделано: закрытые глаза и строго сомкнутый
рот означают размышление. Даже если бы сюжет картины
не был указан в ее названии, эти признаки, преднамеренно
подчеркнутые средствами живописи, выразили бы его. Нос
к сюжету не имеет отношения, и поэтому живописное изо-
бражение его беднее на один элемент, а именно — цвет.
Разумеется, это различие возможно лишь вследствие того,
что каждая часть лица понимается как самостоятельный
предмет-знак.
Нечто сходное есть и в картине «Горе»: и здесь рот и
глаза выступают явственнее, чем нос, но в центре внимания
здесь рот, отличающийся от остальных частей лица почти
натуралистической пластичностью. Это различие тоже обос-
новано сюжетом: болезненно опущенные уголки рта выра-
жают горе настойчиво и совершенно однозначно. На картине
«Ангел» мы видим женское лицо с двумя парами глаз и к
тому же еще с удвоейной дугой бровей над верхней из двух
пар; эти удвоения могут быть объяснены лишь тем, что
здесь каждая из названных частей лица была понята как
самостоятельный предмет-знак: художник дал понять, что
он пишет не оптическое впечатление от целого, а, скорее,
само целое как комплекс знаков. Интересное соответствие
этому приему мы находим в языке, важнейшей из знаковых
456
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
систем, созданных человеком. Удвоение словесного знака в
языке настолько обычно, что языкознание имеет для этого
явления установившийся термин «редупликация»; слова
«ciry-cary» (каракули)*, «knzem — krazem» (вдоль и попе-
рек) показывают, что именно подразумевается под этим
обозначением. Можно сравнить с этим приемом и стили-
стический повтор определенного слова, эпизеуксис («Ночь,
ночь, черная ночь»). Очевидно, что назначение редуплика-
ции и эпизеуксиса смысловое: чаще всего ими достигается
усиление значения. Небезынтересно, что и в самой живо-
писи Зрзавого мы найдем удвоение предмета в явно семан-
тической функции, т. е. как схему построения сюжета кар-
тины. Я имею в виду картину «Близнецы», где дважды
повторяется одно и то же лицо, причем побочными при-
знаками дается почувствовать, что один из близнецов муж-
чина, а другой женщина; этот контраст, имеющий характер
пуанта, еще сильнее подчеркивает тождественность обоих
изображений. Здесь, конечно, речь идет об изображении
персонажей как отдельных целых — хотя ни в коей мере
не об изображении целых фигур, а на картине «Ангел»
удваиваются лишь части одного и того же тела — глаза и
брови; Однако и для такого приема можно подыскать про-
ясняющие суть дела аналогии. Мы найдем их даже в самой
области изобразительного искусства. Достаточно вспомнить
многоголовые и многорукие живописные и скульптурные
изображения индийских божеств (Шива). Тут тоже умно-
жаются части одного и того же тела и опять-таки со смыс-
ловой целью: тем самым передается могущество, мудрость,
достоинство богов. Языковые и художественные соответст-
вия идут, таким образом, в одном направлении: удвоение
или умножение определенного знака, в данном случае мно-
гократное изображение какой-либо части тела, дает смыс-
ловой эффект, который можно было бы наиболее обобщенно
охарактеризовать как усиление значения. Поэтому и у Зрза-
вого удвоение глаз и бровей нужно считать смысловым
явлением; образно можно было бы говорить о эпизеуксисе
в живописи. Следовательно, этот случай, казалось бы, пред-
ставляющий собой исключение, весьма наглядно продемон-
стрировал нам самостоятельность и знаковый характер пред-
мета в творчестве Зрзавого. Остановимся еще в качестве
* Здесь и далее в подобных случаях перевод чешских примеров в тексте
сделан мною (прим. перев.).
457
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
последнего примера на картине «Милосердный самаритя-
нин». Мы видим на ней одетую сидящую фигуру, на лоно
которой склонила голову другая фигура — неодетая; левая
рука неодетой фигуры покоится на коленях сидящей фи-
гуры, оптически отделяя ее ногу от корпуса. Контур стоящей
на коленях фигуры обрисован непрерывной кривой, пред-
определяющей размер ноги сидящей фигуры: эта нога на-
рисована в ином, меньшем масштабе, чем выпрямленный
корпус. Деформация, очевидно, продиктована соображени-
ями изобразительного порядка, но при этом у зрителя воз-
никает ощущение предметной самостоятельности отдельных
частей тела.
Так обстоит дело с фигуративными картинами Зрзавого,
где значительное ослабление пространственных взаимосвя-
зей предметов, разумеется, способствует тому, что они об-
ретают самостоятельность по отношению друг к другу.
В пейзажах пространственные связи не ослаблены; поэтому
возникает вопрос, сохраняют ли предметы и здесь тенден-
цию к самостоятельности. Чрезвычайно наглядное доказа-
тельство присутствия этой тенденции — обращение Зрзавого
с геологическим обликом изображаемого края: отдельные,
складки местности — возвышенности, углубления и т. д. —
в трактовке Зрзавого становятся самостоятельными пред-
метами, которые на картине пристраиваются друг к другу
или громоздятся друг на друга. Порой отдельные образова-
ния поверхности становятся настолько самостоятельными,
что создается иллюзия живых существ; так, на картине
«Плуманаш» побережье, погружающееся в водную гладь,
обретает подобие какого-то фантастического дельфина. «Ка-
меноломня», запечатленная на картине 1922 рода, предстает
отнюдь не как негативное изображение, не как отверстие,
проделанное в холме, а как предмет, стоящий в одном ряду
с окружающими изгибами местности, над которыми он даже
доминирует, выделяясь среди них темным цветом.
Следовательно, тенденцию придавать самостоятельность
отдельным предметам можно считать действительно суще-
ственной чертой всего творчества Зрзавого. Но мы еще не
завершили цепь доказательств: приобретение предметами
самостоятельности — это лишь предпосылка для смысловых
сопоставлений, и теперь все заключается в том, чтобы
попытаться описать и определить способы осуществления
этих смысловых конфронтаций. Вернемся еще раз в картине
«Каменоломня», на которую мы сослались в предыдущем
458
с
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
абзаце. На переднем плане мы видим реку с тремя валунами
посередине, а над рекой тяжелую массу холма с камено-
ломней. Валуны и каменоломня — это одна и та же материя;
тем резче бросается в глаза контраст между незначитель-
ными размерами валунов (на картине мы глядим на них
сверху, и потому они кажутся еще меньше) и давящей
мощью холма и каменоломни. Так мы открываем для себя
очень заметное и очень частое у Зрзавого смысловое отно-
шение — отношение между большим и неприметным. Про-
тивоположность маленьких одиночных предметов нагро-
мождению больших Зрзавы использует, например, и в
картинах из Бретани, где на заднем плане вырисовыва-
ются на цветной плоскости моря неприметные паруса
рыбачьих лодок, контрастирующие с предметами на пе-
реднем плане картины.
Интересный и в смысловом отношении уже более слож-
ный случай — картина «Вдова». На переднем плане здесь
фигура скорбящей женщины, на заднем, где-то на неоп-
ределенной, но значительной высоте, возносится готиче-
ское окно, небольшое, но монументальное по своей ар-
хитектурной форме; его присутствие на картине характе-
ризует место действия — говорит нам, что мы в костеле.
Плоскость, в которой помещено окно, конкретно неоха-
рактеризована и даже не указано ее пространственное
расположение, — можно лишь догадаться, что это стена
костела. Ослабление пространственных отношений позво-
ляет резче выступить смысловым отношениям. Предмет,
который на картине находится ближе всего к окну, —
это шляпа на голове вдовы. Изображен ее вид сверху,
хотя фигуру женщины мы видим скорее снизу; шляпа
благодаря этому выделяется. Да и на картине она занимает
значительно больше места, чем готическое окно. Так воз-
никает уже отмеченный выше контраст между малым и
большим предметом. Все осложняется, однако, тем, что
взаимоотношение между ними прямо противоположно ре-
альному: огромное окно предстает на картине непримет-
ным пятнышком, тогда как шляпа, игрушка из тюля и
проволоки, обретает монументальность, свойственную в
реальной действительности вечным творениям зодчества.
Речь, таким образом, идет о коренной переоценке цен-
ностей, и отношение между чем-то большим и чем-то
незначительным, по своему происхождению лишь коли-
чественное, в результате ее приобретает конкретную ка-
459
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
чественную окраску*. Тем самым оно вклинивается в об-
щее смысловое построение картины, становится его основ-
ным компонентом. Нам будет небезынтересно осознать,
что художник актуализирует здесь весьма традиционное
и обладающее почтенным возрастом соотношение между
человеческой фигурой и фоном, на который она спрое-
цирована. Это соотношение часто встречается в фигура-
тивной живописи: архитектурный или пейзажный фон,
нечто постоянное и неизменное, нередко выглядит на та-
ких картинах чем-то побочным и случайным, тогда как
человеческая фигура, уже сама по себе представляющая
нечто преходящее и к тому же еще случайно располо-
женная на данном фоне, в восприятии зрителя оказывается
больше, важнее и реальнее, чем неопределенный, при-
зрачный фон. Вспомним, например, Монну Лизу с архей-
ским пейзажем. А ведь как раз Леонардо да Винчи —
мастер, вызывающий восхищение Зрзавого.
Итак, от отношения между малым и большим предметом
мы пришли к сопоставлению конкретных значений. Разу-
меется, мы должны смириться с тем, что сопоставления
такого рода почти не поддаются словесной формулировке:
конкретное значение, вытекающее из оптических знаков,
полностью может быть выражено только изображением.
Приведем в качестве примера картину «Натюрморт с птич-
кой». Когда мы слышим слово «натюрморт», мы привыкли
представлять себе угол помещения, плоскость стола, при-
лавок, где навалена пестрая смесь разноцветных вещей:
цветы, рыбы, битая дичь или птица, овощи — все это с
целью нагромождения красок и форм. «Чистый натюрморт
♦ Нужно подчеркнуть, что мы имеем в виду первый вариант картины —
пастель 1917 года, репродуцированную в монографии «Ян Зрзавы»
(«Musaion», 1923, IV), где моменты, о которых здесь идет речь, более
явственны, чем на позднейшей, написанной маслом картине 1924 года.
Дело в том, что на заднем плане этой картины дополнительно появился
какой-то намек на готические своды, который указывает на дистанцию
между передним и задним планом и конкретно характеризует задний план.
Очертания окна тут до известной степени расплываются в окружающем
пространстве — опять-таки в отличие от пастели, где окно было от него
резко отграничено. Наконец, окно здесь не имеет видимых глазу пере-
плетений, подчеркивающих в пастели его предметность и монументаль-
ность. Эти различия, причину которых, очевидно, следует приписать из-
менению живописной техники (масло вместо пастели), приводят к тому,
что смысловое противопоставление окна и шляпы во втором варианте
картины не выступает с такой силой внушения, как в первом, хотя и во
втором варианте ему отведена важная роль в смысловом построении картины.
460
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
возможен только при условии, если весь мир превратится
в иллюзорное видение из красочных пятен», — говорит о
натюрморте теоретик искусства (Виппер. Проблема натюр-
морта. — Zeitschrift fur Xsthetik, XXV). Ну так вот, в
отличие от традиционного понимания, декорацией натюр-
морта у Зрзавого служит широкое пространство: скалы, на
дальнем плане — горы, на небе месяц, перерезанный тучей,
птичка, по виду — какой-то мелкой певчей породы, сидит
на скале, по склонам которой цветут ландыши. Таков здесь
набор предметов; они не нагромождены, а относительно
редко разбросаны по плоскости картины и при этом не
расплываются также в красочные пятна: каждый предмет
остается сам по себе и сам собою. То, чем картина гово-
рит, — это их взаимные смысловые отношения; однако
высказать эти отношения нельзя они могут быть црнятны
только зрением. Если бы мы сказали «весенняя ночь», это
было бы одновременно и много и мало. Даже лирическое
стихотворение не могло бы извлечь из перечисленных мо-
тивов то общее значение, которое внушает картина. Слово
«ландыши» не вызывает представления о цветах со стеблями
толстыми, как стволы пальм, и более высокими, чем утес, —
но таковы цветы на картине, и высота их выступает при
сопоставлении с остальными изображенными предметами
как смысловой фактор. Слово не сумеет также приблизить
космический фантом месяца к крошечным существам и
былинам земли, поставить его на один уровень с ними и
путем сопоставления связать все это в единое значение.
Чем более конкретны, следовательно, взаимоотношения изо-
браженных предметов, тем труднее перевести картину на
язык слов, но тем более похожа она своим смысловым
построением на лирическое стихотворение. Отношение меж-
ду поэзией и живописью раскрывается перед нами как нечто
чрезвычайно реальное и вместе с тем чрезвычайно сложное.
Воздержимся от дальнейшего перечисления примеров.
Тем не менее мы хотели бы еще обратить внимание читателя
на то, что и пейзажи Зрзавого, причем и те из них, в
которых он стремится к верной передаче увиденной дейст-
вительности, построены на принципе смыслового сопостав-
ления. Так, например, картина «Могилы на Виа Аппиа»
слагается из отчетливо различимых предметов: дорога, ки-
парисы, пинии, надгробия; но смысловое отношение этих
элементов не может быть передано их простым словесным
перечнем —’ для понимания его необходимо, чтобы мы
461
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
видели, что три надгробия и один из кипарисов, располо-
женные по обеим сторонам плоскости картины, составляют
передний ее план, что второй план заполнен группой ки-
парисов, а третий двумя надгробиями и группой пиний,
далее, что дорога ведет от центра картины в ее левый угол,
и т. п. Только после этого мы можем понять общий смысл
картины, который нельзя передать словами, и который до-
ступен лишь зрительному восприятию.
Необходимо, наконец, отметить, что сюжет картины в
смысле раскрытия какого-то действия может возникнуть у
Зрзавого как вторичное следствие смыслового сопоставления
изображенных предметов. Дело в том, что в «эпических»
картинах действие, как правило, подчиняет себе предметы,
которые его реализуют: персонажи выступают носителями
действия, вещи — его реквизитом, оптические средства
живописи (цвет, форма и т. д.) также в большей или мень-
шей мере лишаются самостоятельности, поступая на службу
сюжету, перешагивающему рамки своего видимого изобра-
жения. Нечто совершенно иное мы видим на картине Зрза-
вого «Луна». Кроме деревьев по обеим сторонам плоскости
картины и гор на заднем плане на ней изображена женская
фигура, стоящая на коленях и протягивающая к земле
руки, а на земле среди скал — расцветающие ландыши.
Каждый из этих предметов сохраняет свою «живописную и
смысловую самостоятельность, и картина может быть понята
как простое их соединение. И все же более внимательный
зритель заметит, что из взаимного сопоставления предметов
как вторичное явление вырастает действие: свет луны та-
инственной силой заставляет расти и расцветать цветы. Но
и это действие передается оптическим комплексом предме-
тов: луна выступает как фон для головы женской фигуры,
которая обретает значение мифологической персонифика-
ции луны; руки фигуры нереалистически прямо протянуты
к цветам, и Цветы поднимаются из земли в том же на-
клонном направлении, продолжением которого предстают
руки, — так зрителю внушается сознание действенного
взаимоотношения между руками и цветами, хотя они и не
соприкасаются. Картина рождает действие из самой себя,
из своего оптического и смыслового построения, и создавший
ее современный художник обновляет давний живой интерес
к эпическому сюжету, не отказываясь от завоеваний имп-
рессионистической живописи, которая перенесла центр вни-
мания с сюжета на оптическую сторону произведения.
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
Зрзавы, конечно, не единственный представитель совре-
менной живописи, работающий техникой смыслового сопо-
ставления; позднее, чем он, но столь же принципиально
положили его в основу смыслового построения картины
художники-сюрреалисты. Разумеется, между двумя этими
концепциями такого сопоставления существует различие
более важное, чем разное время их зарождения; выяснение
этого различия способно помочь индивидуальной характе-
ристике смыслового построения картин Зрзавого, и потому
мы не можем пройти мимо него. Итак, в чем же это
различие заключается? Прежде всего уже в самом понима- <
нии предмета. Дело в том, что для художников-сюрреали-
стов предмет, существующий или призрачный, есть в первую
очередь факт действительности со всем богатством различ-
нейших качеств, свойственных реальности; отсюда макси-
мально конкретное живописное воспроизведение отдельных
вещей на сюрреалистических картинах. Для Зрзавого же
изображенный предмет по всему своему характеру есть
знак. В качестве доказательства этого обратим внимание
не только на картины раннего периода, где уже трактовка
самих контуров предметов своей обобщенностью свидетель-
ствует о том, что реальные оптические свойства вещей
существуют для Зрзавого лишь в той мере, в какой они
совпадают со значением, вкладываемым художником в пред-
меты, но и на пейзажные картины, в достаточно реальном
подобии воспроизводящие увиденную им действительность.
На картинах из Бретани мы часто видим рыбацкие домики
с типичной трубой, выходящей из боковой стены, — это
характерное очертание становится для художника опреде-
ленным видом идеограммы: оно означает просто рыбацкий
домик и без индивидуальных различий повторяется от кар-
тины к картине и на одной и той же картине; таким же
постоянным знаком является для Зрзавого изображение ры-
бацкой лодки. Говорить в таких случаях о типизации или
стилизации было бы неточно, ибо в намерения художника
не входит упрощение очертаний с познавательной целью
или во имя орнаментального воздействия, — речь идет здесь
о подлинном знаке, который заменяет, а не имитирует и
не деформирует действительность.
Отличает Зрзавого от сюрреалистов и способ смыслового
соединения понятых таким образом предметов. Художни-
ки=сюрреалисты сопоставляют предметы с намерением со-
здать в результате их соединения как можно более много-
463
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
значный комплекс; воспринимающему дается понять, что
все смысловые связи между предметами, поставленными
рядом друг с другом на плоскости картины, сколь различны
они бы ни были, имеют одинаковое право на существование.
Именно ощущение неуверенности, которое вследствие этого
возникает, должно быть художественно использовано. В
этом и причина натуралистического воспроизведения предме-
тов, о котором упоминалось: предмет, вызывающий на кар-
тине впечатление факта действительности, под влиянием
многообразия своих свойств способен вступать во взаимо-
отношения с различнейшими иными вещами. В отличие от
этого, Зрзавый стремится к вполне определенному, одно-
значному смысловому сопоставлению. Наглядное доказа-
тельство этого — картина «Луна», анализ которой был дан
выше: однозначность сопоставления изображенных предме-
тов выступает здесь так четко, что картина рождает даже
связную схему действия.
Сопоставление предметов, идет ли оно во многих или в
одном направлении, вносит в каждый из сопоставляемых
предметов определенное значение, которого первоначально
в нем не было или которое по крайней мере явственно в
нем не проступало; так открывается новая, до сих пор
остававшаяся невидимой сторона предмета. Не удивительно
поэтому, что художник испытывает желание вновь и вновь
на разных картинах повторять предмет, приковавший его
внимание, включать этот предмет в разные живописные
сюжеты, в разные цветовые связи, предоставлять ему на
плоскости картины все новые места, сопоставлять его каж-
дый раз с иными предметами или менять его положение в
комплексах, уже однажды созданных. С этой временной, а
то и постоянной «одержимостью» определенными предме-
тами мы встречаемся у Зрзавого так же, как у сюрреалистов;
можно даже утверждать, что при сколько-нибудь подробном
изучении мы нашли бы более или менее сильные следы ее
во всякой живописи, ибо в конце концов любое художест-
венное направление, даже наирадикальнейшее, не может
сделать ничего большего, чем только подчеркнуть и этим
обнажить определенные свойства или стороны, заключенные
в самой основе данного искусства и потому присущие всем
его творениям.
У Зрзавого мы весьма отчетливо и ясно видим, как
предметные мотивы перекочевывают из одной картины в
другую. Так, например, луну на небе мы найдем на картинах
464
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
«Христос», «Диана», «Луна», «Клеопатра», «Натюрморт с
птичкой»» Конусообразные горы на заднем плане изобра-
жены на картинах «Долина грусти», «Спящий мальчик»,
«Меланхолия I», «Луна», «Натюрморт с' птичкой»; на кар-
тине «Проповедь» у гор пирамидальные очертания, и то же
самое мы видим на картине «Клеопатра», — но здесь под
влиянием сюжета горы, не изменяя существенно своих очер-
таний, превратились в египетские пирамиды. Очень часто
встречающийся предмет — пальмы на заднем плане (кар-
тины «Христос», «Посещение ангела», «Последняя вечеря»,
«Диана», «Магдалина», «Милосердный самаритянин», «Кле-
опатра»). Мотив пальмы тоже различным образом преоб-
ражается. Так, на картине «Посещение ангела» мы находим
на ризе ангела орнаментальный мотив пальм, совершенно
подобных формам пальм на заднем плане. Еще более ра-
дикально изменение этого мотива на картине «Дама в ложе»:
по сторонам на заднем плане здесь видны два изображения,
очень похожие на пальмы, как их пишет Зрзавы, — но
это шесты с прикрепленными к ним драпри, складки ко-
торых представляют собой как бы кроны пальмовых деревь-
ев. Но и там, где пальмы остаются пальмами, от картины
к картине меняется их роль в смысловом построении, а тем
самым порой и само их подобие. Такое изменение наглядно
продемонстрирует сравнение картин «Христос II» и «Диана».
На заднем плане первой по обеим сторонам ее плоскости
высятся пальмы, уходящие прямо в небо; этим подчерки-
вается вертикальность, проявляющаяся во всей изобрази-
тельной концепции фигуры Христа (продолговатое лицо,
складки одежды, пальцы поднятых рук), — вертикальность
здесь, разумеется, элемент не только оптический, но и
смысловой: мистическая устремленность ввысь. На картине
«Диана», наоборот, стволы трех пальм, сгруппированных
сбоку на заднем плане, изогнуты в кривую линию, они
продолжают так кривую вскинутых рук и лежащего тела;
в смысловом отношении пальмы образуют переход между
женской фигурой (Дианой), лежащей в закрытом помеще-
нии, и небом с луной; так же как и в картине «Луна»,
сюжет возникает здесь в результате смыслового сопостав-
ления предметов.
Доказательства можно было бы еще умножить, но и те,
которые были приведены, говорят достаточно явственно:
многократно повторенный на разных картинах предмет под
влиянием все новых и новых сопоставлений с другими
465
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
предметами предстает в постоянно обновляемом освещении;
изменение значения даже может затронуть и самое его
сущность, и тогда мы видим протеевское превращение одной
вещи в другую, сопровождаемое незначительными внешни-
ми изменениями. — Ив своих пейзажных картинах, хотя
они значительно больше зависят от действительности, чем
свободно компонуемые произведения, Зрзавы часто исполь-
зует прием повторения предметных мотивов, смысловую
грузоподъемность которых он испытывает. Особенно заметно
это повторение в циклах, каждый из которых не только
соответствует определенной локализации (Венеция, Бре-
тань, район Остравы и т. д.), но также изображает опре-
деленный, почти постоянный комплекс предметов, которые
на отдельных картинах предстают в разнообразных сочета-
ниях. Такими почти постоянными элементами являются,
например, купола, фонтаны и гондолы в венецианских пей-
зажах; рыбацкие лачуги и лодки типичных очертаний, а
также огороженные каменной кладкой поля на пейзажах
из Бретани; кипарисы, пинии и надгробия на пейзажах,
изображающих Виа Аппиа, и т. д. Было бы ошибкой объ-
яснить повторение предметных мотивов только тем, что
художник действительно встречался с ними в соответству-
ющих местностях, или тем, что это характерные эмблемы
данного края. Хотя и тот и другой довод имеют известное
общее значение, т. е. применимы к пейзажной живописи
вообще, они сами по себе недостаточны для объяснения
индивидуального случая, привлекшего наше внимание. Ве-
нецианский цикл Зрзавого обнаженно показывает, что этот
художник и в пейзажах преднамеренно группирует пред-
меты с целью их смыслового сопоставлений: «Сочетания
предметов превращаются здесь в знаки, произвольно ис-
пользуемые в композиционной гармонии» (ФридльЯ. Ян
Зрзавы. — «Ргашепу», 1939, 29).
Наконец, следует сказать хотя бы несколько слов о
смысловой функции у Зрзавого. Она принимает важное
участие в смысловом построении, хотя «цвет у этого ри-
совальщика и ваятеля, который позднее совершенно ло-
гично обратился к скульптурным работам, чтобы оконча-
тельно проверить в них правильность своих взглядов, всег-
да останется вещью второстепенной, за ним никогда не
будет признана формообразующая функция (ТейгеК. Ян
Зрзавы. — «Musaion», 1923, IV). Назначение цвета в
картинах Зрзавого — устанавливать оптические связи
466
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
между предметами, которые должны быть сопоставлены в
смысловом отношении, или в отдельных случаях создавать
среду, которая должна служить посредником между пред-
метами: вода, небо. Бывает и так, что непредметный цвет
сам по себе становится одним из аспектов смыслового
сопоставления. Это происходит, когда изолированный
предмет (небесное тело, флаг, крона пальмы, лодка) оди-
ноко вырисовывается, на фоне пустого неба или водной
поверхности; именно это отсутствие поблизости какого-
либо иного предмета, подчеркнутое окружающей широкой
одноцветной плоскостью, «означает», как уже было отме-
чено, нечто такое, что грубо можно было бы выразить
словом «бесконечность».
Для смысловой функции цвета у Зрзавого характерно,
что сам художник понимает цвет не как простое оптическое
качество, а как точку пересечения целого пучка сложных
взаимоотношений: «Все взаимосвязано, и цвет взаимосвязан
со светом и тьмой, с теплом и холодом, пространством и
временем, а каким-то образом и с материей. Он взаимо-
связан с чувствами человека, с любовью, с гневом, ужасом
и радостью, страстью и спокойствием — со всеми душевными
состояниями человека и всей жизнью вселенной... Есть
единственный цвет, працвет, цвет абсолютный: черное и
белое, и все остальные (промежуточные) цвета заключены
в нем. Есть единственный цвет — чернь и белизна: между
ними нет различия по существу, а есть лишь различие в
полярности... Остальные цветовые явления существуют
лишь в диапазоне между этими двумя полюсами и как
секторы пространства между ними. Красочность — это про-
цесс, совершающийся между двумя полюсами працвета,
напряжение между их двойственной полярностью... Карти-
на, которая стала бы правдивым выражением совершенной
гармонии всей вселенной, должна была бы содержать равное,
количество черного и белого или равное количество про-
межуточных цветов, так чтобы в смеси они дали черное и
белое (серый цвет, который при разложении дал бы равное
количество черноты и белизны). Возникновение такой кар-
тины малоправдоподобно, ибо мы не постигаем жизни всей
вселенной, мы чувствуем и понимаем лишь отдельные более
или менее широкие ее отрезки, определенные мгновения,
определенные состояния жизни. Широте и положению этого
отрезка соответствуют краски наших картин» («Цвет». —
«Volne smery», 1921, XXI).
467
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
О чем говорит это высказывание? Прежде всего оно
свидетельствует о том, что цвет имеет для Зрзавого смыс-
ловое значение: каждое цветовое качество передает опре-
деленные душевные движения, определенные душевные со-
стояния человека. Важно также, что художник ощущает
взаимное напряжение между красками определенной кар-
тины и этому напряжению (что еще более отчетливо вы-
текает из дальнейшего контекста непроцитированной части
статьи) приписывает одновременно оптический и смысловой
характер: смысловой характер цвета, очевидно, имеет в
виду Зрзавый, когда он говорит, что всякое произведение
живописи как цветовое целое соответствует «определенной
широте и положению» отрезка всемирной жизни, доступного
автору этого произведения. Меньше всего уделяет Зрзавый
внимания отношению между цветом предмета на картине
и цветом соответствующего явления действительности —
какой-либо реализм цвета находится вне поля зрения ху-
дожника: цвет только на картине и посредством картины
как целого, сложенного из оптических и смысловых взаи-
моотношений, вступает в контакт с человеком и миром
опять-таки как целостностями. Характерное для Зрзавого
понимание цвета, следовательно, явственно ведет нас в том
же направлении, в каком вел анализ смысловой стороны
его картин: к пониманию произведения живописи как кон-
текста, пронизанного сложными смысловыми взаимоотно-
шениями отдельных частей и элементов.
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ
В АРХИТЕКТУРЕ
Проблема функций в архитектуре неотделима от про-
блемы функций в современном мышлении, культурном
творчестве и жизненной практике. Функциональная точка
зрения позволяет понимать вещи как действие, не отрицая
при этом их материальной реальности. Мир предстает од-
новременно и как движение, и как прочная основа для
человеческой деятельности. Понятие функции, являясь ос-
новной рабочей гипотезой современной культуры, развива-
ется и внутренне дифференцируется; поэтому нужно по-
468
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
стоянно держать в поле зрения и подвергать пересмотру
его признаки. Каковы же они? Что мы хотим оказать,
упоминая о функции какой-либо вещи?
Прежде всего понятие функции означает, что мы при-
выкли пользоваться вещью, которая является ее носителем,
для такой-то и такой-то цели; привычность, многократное
использование — необходимая предпосылка функции; к
единичному и уникальному использованию вещи, это обоз-
начение не подходит. Но даже субъективная, ограничения
отдельным индивидом привычка к определенному исполь-
зованию данной вещи не создает еще функции в собственном
смысле слова. Необходима социальная согласованность в
понимании цели, достижению которой эта вещь может слу-
жить в качестве инструмента: определенный способ исполь-
зования этой вещи должен быть спонтанно понятен каждому
члену данного коллектива. Отсюда вытекает родственность
(однако далеко не тождественность) проблемы функции с
проблематикой знака: свою функцию вещь не только вы-
полняет, но также и обозначает. Если, например, речь идет
о вещи, воспринимаемой органами чувств, уже ее чувст-
венное восприятие определяется знанием назначения этой
вещи, от чего подчас зависят как очертания воспринимаемой
вещи, так и включение ее в пространство. Например, ручка
инструмента — если мы сознаем, чему она служит, — при
восприятии вещи, независимо от своего действительного
положения в данную минуту, будет трактоваться как та
составная часть предмета, которая обычно находится к нам
ближе всего и от которой мы поэтому исходим при восп-
риятии его контуров. Если же мы не сумеем при восприятии
эту ручку идентифицировать, она будет представляться нам
случайным выступом, нелогично нарушающим единство
очертаний, и сами очертания предмета не будут удовлет-
ворять нас из-за своей многозначности.
Но вещь не связана неразделимо с какой-либо одной
функцией, более того — почти все существующие вещи -
служат целому комплексу функций. Каждый акт, при ко-
тором используется вещь, может одновременно преследовать
несколько целей; можно также использовать вещь для иной
цели и с иной функцией, чем это обычно принято и даже
вопреки тому предназначению, к которому приспособил ее
производитель; наконец, с течением времени вещь может
изменять свою привычную функцию. Все это зависит, с
одной стороны, ^от коллектива, привыкшего связывать с
469
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
определенной вещью определенные функции, с другой —
от индивида, который использует вещь в своих личных
целях и в значительной степени самостоятельно решает,
как ее использовать.
Связь вещи с функцией зависит, следовательно, не толь-
ко от самой вещи, но и от того, кто ею пользуется, от
человека как члена коллектива и индивидуальности. Со-
знание коллектива не ограничивается, разумеется, простой
фиксацией изолированных друг от друга функций, а уста-
навливает между отдельными функциями сложные взаимо-
отношения, закономерностью которых определяется общее
активное отношение коллектива к действительности. В рас-
поряжении индивида как члена коллектива находится об-
щепринятый функциональный комплекс и привычное рас-
пределение функций в мире явлений; но своими поступками
он может отклоняться от этой закономерности, используя
вещи в функциях, с которыми общепринятый взгляд их не
связывает, или — при многочисленности функций, часто
отягощающих одну и ту же вещь, — нарушая их обычную
градацию и делая доминантной не ту функцию, которая в
данном случае бывает доминантой согласно общепринятому
взгляду. Из этого явствует, что нужно различать: а) дей-
ствительность, на которую функции воздействуют; б) ком-
плекс функций, заложенный в сознание коллектива и внут-
ренними взаимоотношениями связанный в структуру; в)
индивид, вносящий в функциональный процесс постоянно
обновляемую случайность и таким образом приводящий
структуру функции в движение. Ни один из этих трех
рядов не сопряжен однозначно с каким-либо из остальных
и пассивно не предопределяется ими; их взаимоотношения
изменчивы и постоянно развиваются.
Итак, мы пришли к точке зрения, с которой функции
представляются нам исторически изменяющейся структурой
сил, диктующей общее отношение человека к действитель-
ности. Мы уже достаточно далеко отошли от единичного
отношения между конкретной вещью и конкретной целью;
но необходимо подняться на следующую ступень обобщения:
не только отдельные человеческие акты, нб и отдельные
частные функции, которые этими актами непосредственно
руководят, можно свести к нескольким основным директи-
вам, первичным функциям, коренящимся в самом антро-
пологическом строении человека. Мы можем предположить,
что сколько бы ни изменялось отношение человека к дей-
4#
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
ствительности в самые разные эпохи, в самых разных местах
и при самых разных социальных предпосылках, нечто в
этом отношении остается общим: в способе, которым человек
активно реагирует на действительность и преображает ее
как своего противника и помощника в борьбе за существо-
вание, проявляется, хотя и в непрестанно изменяющихся
формах, несколько директив, определяемых тем фактом,
что психофизическое устройство человека в самых общих
чертах остается константным.
Мы, конечно, не должны обманывать себя предположе-
нием, что благодаря явной немногочисленности и непосред-
ственной связи этих первичных функций с антропологиче-
ской основой их можно без особых затруднений перечесть
и каталогизировать. Даже при нынешнем состоянии мак-
симальной автономизации функций часто нелегко точно
определить и разграничить участие отдельных функций в
каком-либо акте или разновидности актов; тем труднее
было бы точно установить, какие из различимых функций
являются первичными, т. е. не сводимыми к другим и не
обусловленными исторически, а какие, наоборот, произошли
от других, возникли в результате дифференциации первич-
ных функций. Максимальная автономизация функций, ко-
торую мы склонны считать естественным состоянием, пред-
ставляет собой, однако, следствие длительного развития:
вплоть до XIX столетия, а в фольклорных культурах, там,
где они сохранились, еще и по сей день структурное сое-
динение функций было и остается настолько тесным, что
они проявляются в виде целых пучков, в которых отдельные
функции выступают как временные и неотделимые от об-
щего целого аспекты, придающие ему лишь некую окраску.
Так, например, бывает почти невозможно отделить эстети-
ческую функцию от магическо-религиозной (ср. татуировку
у некоторых примитивных народов или намеренно сделан-
ные шрамы на теле) или от эротической. Из-за преобладания
структурной связи функций над отдельными функциями
часто лишь с большим трудом можно идентифицировать
одну и ту же функцию в двух разных исторических или
социальных контекстах; так, например, были случаи, когда
эстетическую функцию, одну из наиболее явственно раз-
личимых, в средневековом литературном творении прихо-
дилось идентифицировать с помощью сложного научного
анализа.
Эти доводы показывают, что тщетно было бы пытаться
,471
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
перечислить основные функции. С другой стороны, найдется
немало доводов, позволяющих предположить, что в целом
функции уходят своими корнями в антропологическое стро-
ение человека и что поэтому при каждом акте, субъектом
которого является человек, потенциально присутствуют все
функции, разумеется, коль скоро они вообще могут быть
поставлены в связь с этим актом; ведь, как правило, уже
сама конкретная цель действия заключает в себе ряд фун-
кций, одна из которых бывает доминантной, а остальные —
побочными. Для комплекса функций в целом характерно
то обстоятельство, что один и тот же субъект может изменять
функции одной и той же вещи в зависимости от ситуации,
при которой он ею пользуется, а порой может даже оши-
бочно интерпретировать функции собственного творения.
Известны, например, случаи, когда художник или иной
деятель изобразительного искусства, пытаясь дать словесное
толкование своего подсознательного творческого замысла,
невольно давал ложную его интерпретацию. Может также
случиться, что лица, которым адресован поступок действу-
ющего субъекта, будут приписывать его поступку иные
функции, чем те, которые видел в нем и к которым при-
способил его сам действующий субъект, и в соответствии с
этим своим пониманием будут реагировать на данный по-
ступок. Поэтому, если мы предполагаем относительно оп-
ределенного продукта человеческой деятельности, что он
предназначен для того, чтобы выполнять такую-то и та-
кую-то функцию и в соответствии с этим обращаемся с
ним, этим нашим предположением еще никак не доказано,
что функция (или функции), которую (или которые) мы
приписываем этому продукту, входила (или входили) в
намерения продуцента. Так, например, если творение, про-
исходящее из иной среды, чем наша, представляется нам
художественным произведением, отнюдь нельзя уверенно
предположить, что эстетическая функция замышлялась уже
продуцентом творения или что эта функция по крайней
мере была для него доминантной. Все это свидетельствует
о том, что в каждом акте и его результате потенциально
присутствуют и другие функции, чем те, которые он явс-
твенно осуществляет, более того, что — поскольку субъект
акта человек — потенциально в нем присутствуют все
первичные функции, заложенные в антропологическом стро-
ении человека, если, разумеется, они могут быть связаны
с данной вещью или актом.
472
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
После этих общих замечаний приступим к проблеме
функций в архитектуре. Можно непосредственно продол-
жить мысль, только что нами высказанную, ибо архитек-
тура — типичный случай многофункциональной продукции.
Современные теоретики архитектуры справедливо рассмат-
ривают здание как комплекс жизненных процессов, местом
действия которых оно является. От любого настоящего ин-
струмента человеческой деятельности и даже от столь слож-
ного инструмента, как машина, архитектурное творение
отличается тем, что оно не включено ни в какую конкретную
деятельность, а предназначено служить пространственной
средой для всевозможнейших родов деятельности. Хотя срав-
нение архитектурного творения с машиной (Корбюзье) ос-
троумно выражает современную тенденцию к максимальной
функциональной однозначности архитектуры, оно отнюдь
не дает ей надвременной характеристики.
Архитектура организует пространство, окружающее че-
ловека. Она организует это пространство как целое и при-
менительно к целому человеку, т. е. ко всем действиям,
будь то действия физические или психические, коль скоро
человек способен на них и коль скоро их местом может
стать здание. Говоря, что архитектура организует простран-
ство, окружающее человека, как целое, мы имеем в виду,
что ни один из архитектурных компонентов не обладает
функциональной самостоятельностью и что все эти компо-
ненты оцениваются только на основании того, как они
формируют — в моторном или оптическом плане — про-
странство, в которое включены и которое ограничивают.
Возьмем в качестве примера машину (например, швейную
машину или музыкальный инструмент машинного типа —
пианино), помещенную в жилое пространство. Каждая ма-
шина обладает специфической функцией; но как компонент
архитектуры (жилого пространства) она будет оцениваться
не по отношению к этой специфической функции, а по
отношению к тому, как она формирует пространство для
глаза и движения человека. Собственная функция машины
принимается во внимание лишь в той мере, в какой она
проявляется в этой организации пространства, — так, на-
пример, специфическая функция швейной машины про-
явится лишь в той мере, в какой при выборе места для нее
нужно будет считаться с тем, чтобы работающий мог удобно
сидеть и не мешал при этом остальным обитателям комнаты,
чтобы у него было достаточно света и т. п. В тех же
473
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
требованиях по отношению к архитектурному пространству
проявится специфическая функция пианино, но к ним при-
бавятся еще и другие, например требование наиболее вы-
годного расположения применительно к акустике помеще-
ния. Зато вопрос о способности данной машины (инстру-
мента) лучше или хуже служить собственному назначению
целиком останется вне сферы архитектуры и ее интересов.
Точно так же, когда речь идет о скульптурных и живописных
художественных произведениях, составляющих часть архи-
тектурного пространства, вопрос об их архитектурной цен-
ности будет касаться прежде всего той меры, в какой они
способствуют формированию этого пространства. Выше мы
сказали, что архитектура организует пространство приме-
нительно к целому человеку, т. е. применительно ко всем
действиям, физическим или духовным, на какие способен
человек. Это утверждение вытекает, собственно, уже из
тезиса, согласно которому в каждом человеческом акте, по
сути дела, потенциально присутствуют все функции, кото-
рые вообще могут быть поставлены в связь с данным актом;
в архитектуре же вездесущность всех функций выступает
тем явственнее, чем многообразнее комплекс действий, ко-
торым должно служить архитектурное творение.
Разумеется, не всякое здание предназначено для всех
действий, есть комплекс архитектурных жанров, каждый
из которых означает определенное ограничение и разгра-
ничение функциональности. Однако отдельные жанры не
существуют вне их взаимных отношений и влияний; и
только сумма всех архитектурных жанров определенной
эпохи и определенной среды характеризует использование
архитектурной функциональной области в целом в данную
эпоху и в данной среде. Доказательством тесной взаимосвязи
архитектурных жанров служит то обстоятельство, что на
каждом этапе развития архитектуры имелся доминирующий
жанр, применительно к которому решались основные кон-
структивные проблемы: в готике таким жанром был кафед-
ральный собор, в Ренессансе и барокко дворец, наполо-
вину общественный, наполовину частный, в наше время —
жилой дом. Несмотря на жанровую дифференциацию, ос-
тается, таким образом, в силе утверждение, что архитектура
имеет отношение к человеку в целом, к сумме его физи-
ческих и духовных потребностей. Называя наряду с физи-
ческими потребностями и духовные, мы имеем в виду преж-
де всего психологическое воздействие строительного соору-
474
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
жения, обозначаемое, как правило, такими в достаточной
мере неопределенными словами, как уют, монументальность
и т. п. Потенциальное отношение архитектуры ко всем по-
требностям и целям человека наглядно иллюстрируется так-
же возможностью смещения доминантной функции архи-
тектурного творения (ср. использование дворца в качестве
учрежденческого здания или биржи в качестве здания уни-
верситета) и возможностью смещения доминантной функ-
ции целого архитектурного жанра (ср. развитие базилики
из торгового здания в здание для богослужений).
Следовательно, функциональность архитектуры — вещь
чрезвычайно сложная. И речь идет не только — как считали
коща-то пионеры функциональной точки зрения — о про-
стом отношении между индивидом, определяющим цель, и
целью, из которой прямо и неизбежно вытекают формы и
организация здания. Здесь существует четыре функцио-
нальных горизонта, и ни один из них не должен совпадать
и не совпадает с остальными. Прежде всего функции здания
определяются актуальной задачей, затем — той же задачей,
но уже как историческим фактом: если, например, речь
идет даже о такой индивидуальной задаче, как строительство
жилья для семьи, форма и расположение здания, а следо-
вательно, и его функциональность диктуются не только
актуальными практическими критериями, но также и ус-
тановившимся каноном (комплексом норм), принятым для
построек данного типа, и предшествующим развитием этого
канона. Оба аспекта целесообразности — актуальный и
исторический — при решении данной конкретной задачи
могут расходиться. Третий функциональный горизонт со-
ставляет организация коллектива, к которому принадлежит
заказчик и архитектор: даже те функции здания, которые
обусловлены, казалось бы, наиболее утилитарно, обретают
подобие и взаимоотношения, соответствующие организации
общества, экономическим и материальным возможностям,
которыми общество располагает, и т. д. В этот функцио-
нальный горизонт включаются и различные оттенки сим-
волической функции (см. о них статью Кроги «Современ-
ные проблемы советской архитектуры». — «Praha —
Moskva»42. I). И этот общественный функциональный гори-
зонт предъявляет свои специфические требования, которые
вовсе не обязательно должны совпадать с требованиями
ранее названных горизонтов. Наконец, существует также
индивидуальный функциональный горизонт: индивид мо-
А75
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
жег — и это вполне очевидно — отклоняться от всего, что
установлено нормами предшествующих горизонтов, может
различным образом комбинировать их противоречивые тре-
бования и т. д. Кроме того, мы не должны забывать, что
в любом функциональном плане, наряду со стремлением
строго соблюдать принцип функциональности, может про-
являться и тенденция к более или менее радикальному его
нарушению и что нарушение прежних функциональных
норм может даже означать первый новый шаг в развитии
самих функций, а тем самым и в развитии архитектуры.
И такое нарушение функциональности исходит обычно от
принимающего соответствующее решение индивида — за-
казчика или архитектора.
Только что названные нами четыре функциональных
горизонта, безусловно, не тождественны друг другу и даже
не обязательно параллельны, а скорее — наоборот. Но они
находятся в постоянных взаимоотношениях, причем иерар-
хических; это значит, что, как правило, один из них за-
нимает главенствующее положение; однако в процессе раз-
вития эта доминанта, конечно, меняется. Так, в современной
архитектуре сначала, как уже было сказано, наибольшее
внимание уделялось горизонту актуальной задачи, позднее,
на протяжении последних лет, еще и горизонту социальной
функциональности. Эклектическая архитектура восьмиде-
сятых и девяностых годов главным образом акцентировала
горизонт строительной задачи как исторического факта, т.
е. архитектурный жанр. Доказательством этого служит то
обстоятельство, что нередко (например, при строительстве
доходных домов) имитировался иной архитектурный жанр,
чем это имело место на самом деле: доходный дом членением
своего фасада изображал дворец. Этап развития, непосред-
ственно следовавший за этим, стиль модерн в архитектуре,
выдвинул на первый план горизонт индивидуальной фун-
кциональности: наказ времени гласил — удовлетворить ин-
дивидуальные потребности, приспособить здание даже к
фиктивным функциям, которые индивид приписывает ему,
хотя бы и за счет действительного его назначения; отсюда
лирические излишества в архитектуре этого периода.
Анализ функций в архитектуре привел нас, таким об-
разом, к выводу, что архитектура всегда, во всех своих
обличиях, обращается к человеку в целом, ко всем эле-
ментам его существования, начиная со всеобщей антропо-
логической основы и кончая индивидуальностью, детерми-
476
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
нированной как в общественном плане, так и собственной
неповторимостью. Помимо того, архитектура в функцио-
нальном отношении предопределена й своей имманентной
историей. Здесь нет функциональной однозначности: всякая
отдельная функция и их взаимоотношения предстают в
ином аспекте, если они спроецированы в какой-то другой
из четырех названных выше горизонтов. Следовательно,
задача архитектурной мысли заключается не только в ди-
агностике отдельных функций, но и в рациональном кон-
троле и во взаимном уравновешивании отдельных горизон-
тов, в которых эти функции отражаются. Пользуясь эпи-
тетом «рациональный», мы отнюдь не хотим исключить ни
момент иррациональности, интуитивного и активного пред-
чувствия и предугадывания, ни постоянное давление не-
предвиденных обстоятельств, исходящее из горизонта ин-
дивидуальной функциональности. Игнорирование и подав-
ление требований этого горизонта могло бы на практике
привести к петрификации развития. Всякое использование
человеческого творения, идет ли речь о материальном или
нематериальном предмете, является в известной мере «зло-
употреблением», т. е. изменением его функции. Поэтому и
в архитектуре вопрос о том, как и в какой степени можно
и даже нужно выйти за рамки данного назначения здания
или произвести сдвиг в мере участия отдельных функцио-
нальных горизонтов, — это вопрос неизбежный, сколько
бы он, на наш взгляд, ни нарушал долженствующего по-
рядка. С этим связан также вопрос о побочных, часто
имеющихся лишь в потенции функциональных возможно-
стях архитектурного творения, т. е. таких, которые не вхо-
дят в данное практическое намерение, но звучат как верхние
тона в психологическом воздействии здания, а порой даже
и при его активном использовании; и эти возможности
нельзя без ущерба игнорировать и тормозить, если мы не
хотим превратить их в потенциальное зло. Переходим к
сложной и жгучей проблеме эстетической функции в ар-
хитектуре. В этой связи необходимо будет сказать и об
отношении между архитектурой и искусством. Что касается
места эстетической функции среди остальных, нужно, не
распространяясь на эту тему подробно, напомнить хотя бы,
что эстетическая функция, где бы и в каком соседстве она
ни появилась, есть диалектическое отрицание функциональ-
ности. В конце концов любая функция, кроме эстетической,
может проявиться лишь там, где речь идет об использовании
477
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вещи для какой-то цели; иное дело эстетическая функция:
коща и где бы она ни проявилась, чем сильнее она окажется,
тем в большей степени она будет делать целью самое вещь,
т. е. препятствовать практическому ее использованию. Если
искать доказательство этого именно в архитектуре, можно
сослаться на тот факт, что интерьер с гипертрофированной
эстетической функцией, слишком обращая на себя внима-
ние, препятствует своему прямому использованию. Даже
любое изменение интерьера, возникающее в результате за-
мены или всего только перестановки мебели, на какое-то
время способно непрошенно оживить в глазах обитателей
эстетическую функцию и обстановки в целом, и отдельных
предметов мебели, снижая тем самым возможность прак-
тического пользования помещением.
Этот пример приводит нас к еще одному общему те-
зису: эстетическая функция не появляется неожиданно,
без перехода, как нечто приданное извне, как некое до-
полнение, она потенциально присутствует везде и всегда,
ожидая малейшего случая, чтобы ожить. Хотя это следует
уже из приведенного в начале статьи тезиса о потенци-
альной вездесущности всех функций, вездесущность эсте-
тической функции особо выразительна и не знает огра-
ничений. Эстетическая функция как диалектическое от-
рицание всякой функциональности представляет собой
противоположность каждой отдельной функции и каждого
комплекса отдельных функций; поэтому ее положение
среди остальных функций подобно строению воздуха среди
вещей или еще точнее — смешению тьмы со светом. Как
везде, откуда взяли вещь, пространство наполняется воз-
духом или как в изгиб пространства, откуда отступил
свет, проникает тьма, точно так же и эстетическая фун-
кция неотступно следует за остальными: где другие фун-
кции ослаблены, или уступают, или перегруппировывают-
ся, туда мгновенно проникает и там соответственным об-
разом усиливается эстетическая функция. Нет такой вещи,
которая не могла бы стать ее носительницей, и наоборот,
нет такой вещи, которая неизбежно должна быть ее но-
сительницей. Если определенные предметы создаются с
прямой целью эстетического воздействия и приспособлены
для этой цели самой своей формой,' то из этого вовсе
еще не вытекает с какой бы то ни было степенью обя-
зательности, что, например, с течением времени, в ином
месте и в иной среде они не могут в значительной мере
478
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
или полностью лишиться этой функции. Итак, эстетиче-
ская функция появляется и исчезает, не будучи неизменно
связанной с какой бы то ни было вещью. Любя занимать
место, освобождаемое всеми остальными функциями, она
часто обнаруживается там, где вещь, а порой и немате-
риальное явление, как, например, определенный порядок,
утрачивает практические функции, ср. красоту развалин
и т. д.* Но поскольку эстетическая функция находится в
одинаковом отношении ко всем функциям, будучи их
противоположностью, она вполне годна для того, чтобы
при совершающихся в процессе развития сдвигах служить
мостом от прежнего расслоения функций к будущему, и,
следовательно, бывает, в противоположность предшеству-
ющему случаю, фактором развития и показателем пере-
мен. Даже если речь идет о перегруппировке, конечной
целью которой является установление господства практи-
ческих функций, для облегчения перехода временную
власть порой захватывает эстетическая функция. Так, на-
пример, у ван де Велде3, наиболее значительного пред-
ставителя архитектуры модерна, появляются первые при-
знаки функционализма, но с эстетической окраской: он
говорит о красоте машины как в высшей степени целе-
сообразного творения, о красоте динамической линии и
т. д. Обе формы воздействия эстетической функции —
* Способность заменять исчезнувшие функции в известной степени свой-
ственна всем знаковым функциям, т. е. функциям, которые превращают
вещь в знак, — ср., например, символическую функцию, которая — часто
параллельно с эстетической — овладевает вещами (институтами), изъя-
тыми из практического употребления. Эстетическая функция — одна из
знаковых функций, ибо вещь, являющаяся ее носительницей, становится
ipso facto (уже самим этим фактом — лат., прим, перев.) знаком, хотя,
разумеется, знаком особого рода; знаковый характер эстетической функции
вскрывает искусство, предназначенное для того, чтобы служить посредни-
ком между двумя сторонами — художником и воспринимающим — на
основе канона, созданного непосредственно предшествовавшим этапом раз-
вития художественной структуры. Однако способность заменять исчезнув-
шую функцию у эстетической функции еще более сильна, чем у остальных
знаковых функций, ибо эстетическая функция есть и диалектическое
отрицание самой знаковости (ср. перевоплощение коммуникативной фун-
кции в поэтическом или живописном произведении). Поэтому эстетическая
функция может заменять и отмершую иную знаковую функцию; так,
например, она способна поддерживать жизнь определенного обряда, хотя
собственное его назначение забыто, — ср. такой пережиток фольклора в
наших краях, как сожжение колдуний4. Может, конечно, случиться, что
вещь полностью утратит все функции и даже знаковые, в том числе и
эстетическую; тогда уже, разумеется, ее ничто не спасет от гибели.
479
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
помогающая консервации и облегчающая перемену — с
необходимостью вытекают из ее сущности. Нужно, нако-
нец, отметить, что существует область явлений, где эс-
тетическая функция преобладает над остальными или по
крайней мере имеет тенденцию к этому: такую область
представляет собой искусство. Ни один из видов искусства
не отделен непроходимой стеной от остального мира яв-
лений: между искусством и внехудожественной и даже
внеэстетической сферой существуют незаметные переходы
и постоянное взаимопроникновение.
После этих общих замечаний, в которых мы ограничи-
лись самыми основными и необходимыми тезисами, обра-
тимся к частной проблеме эстетической функции в архи-
тектуре. Положение ее здесь особое и может быть лучше
всего выражено несколькими противопоставлениями. 1. Эс-
тетическая функция может найти применение в любом виде
архитектуры, начиная со зданий столь практического на-
значения, как зернохранилище, склад или фабричная по-
стройка; в некоторых видах зодчества она бывает даже
необходимым элементом общего воздействия, например при
монументальном строительстве; архитектура в своем раз-
витии тесно связана с теми искусствами, которые называ-
ются изобразительными, разделяя с ними, например, про-
блему пространства и др. С другой стороны, вообще не
существует четкой грани между строениями с эстетической
функцией и без оной, архитектура непосредственно связана
с ремесленной деятельностью, в том числе и лишенной
каких бы то ни было эстетических намерений, и с про-
мышленным производством. В архитектуре — в отличие от
других искусств — эстетическая функция не может преоб-
ладать или по крайней мере достичь предела возможностей
в этом направлении: практические функции здесь никогда
не могут быть настолько подчинены эстетической, чтобы
здание производило впечатление эстетически автономного
творения. Если бы это произошло, то — в соответствии с
правильной формулировкой К. Тейге — архитектура ipso
facto превратилась бы в скульптуру, стала бы ощущаться
и оцениваться как скульптура. — 2. Эстетическая функция
выглядит в архитектуре как нечто приданное извне, при-
входящее: она любит обосновываться на поверхности здания
(ср. орнамент; провозглашалось даже, что архитектура на-
чинается там, где кончается конструкция), часто находит
применение в элементах, менее отягощенных практйчески-
480
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
ми функциями (как, например, в окраске)*; она предстает
часто как нечто выходящее за пределы желаемой функции
(более ярко выраженная и правильная форма по сравнению
с тем, что было бы необходимо для полного осуществления
практической функции, и т. д.). С другой стороны, остается
в силе утверждение, что эстетическая функция не приходит
извне, а совершенно имманентна архитектуре: доказывается
это в первую очередь тем, что эстетическая функция сли-
вается с практическими функциями в неразделимое целое.
Так, например, нельзя точно разграничить долю участия
эстетической функции в функциональной категории мону-
ментальности (с которой она, разумеется, не тождественна),
равным образом не поддается разграничению — при всей
своей самоочевидности — и доля участия эстетической фун-
кции в функциональном эффекте бытового «комфорта» или
бытового «уюта». На протяжении исторического развития
архитектуры эстетическая функция последовательно сме-
шивалась с различными иными функциями: в готике — с
религиозной функцией, в ренессансе — с репрезентативной
функцией, в барокко — с церковно-религиозной и репре-
зентативной функциями одновременно.
Если мы намерены сделать хотя бы приблизительную
попытку найти разрешение этих кажущихся противоречий,
прежде всего нужно уточнить отношение между архитек-
турой и искусством. Как известно, современная теория ар-
хитектуры радикально исключает архитектуру из сферы
искусства, хотя отнюдь и не отрицает важности для нее
эстетической функции. Делается это путем резкого разгра-
ничения искусства и внехудожественной сферы: искусством
считается только область свободной, не ограниченной вне-
эстетическими критериями поэтичности, иными словами,
область доминирующей эстетической функции. Поскольку
архитектура без утраты своей сущности не может достичь
♦ В связи с этим следует отметить, что иногда предлагается такая
классификация: оптическое воздействие — эстетическая функция; мотор-г
ное воздействие — практическая функция. Верно, что эстетическая фун-
кция концентрируется преимущественно вокруг зрительного восприятия,
между тем как практические функции тесно связаны в особенности с теми
возможностями движения, которые здание предоставляет человеку; тем не
менее нельзя исключить ни оптического фактора из области практических
функций (ср. практическое значение цвета стен в жилом помещении,
например кабинете), ни моторного фактора из сферы действия эстетической
функции (ср. требование полной доступности отдельных частей простран-
ства, которое выступает как требование эстетическое).
16—888
481
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
доминирования эстетической функции, исключение архи-
тектуры из числа искусства — логическое следствие при-
веденного выше взгляда на сущность искусства. Источник
этого взгляда — тенденция, которая временно завладела
художественной теорией и практикой где-то в начале про-
шлого десятилетия (тенденция к так называемому «чистому»
искусству), а отнюдь не надвременной принцип. Нельзя,
разумеется, отрицать, что разрыв между архитектурой и
остальными искусствами существует — в том смысле, что
остальные искусства воздействуют лишь на область духов-
ной культуры, тогда как архитектура одновременно и на
область духовной, и на область материальной культуры.
Но, с другой стороны, нельзя игнорировать обстоятельства,
которые сближают ее с остальными искусствами. Если мы
взглянем на искусство во всей его временной, пространст-
венной и социальной широте, выяснится, что тенденция к
господству эстетической функции над прочими ни в одном
виде искусства не перестает быть именно тенденцией, ко-
торая даже в самых крайних случаях остается не полностью
осуществленной. Окажется далее, что все виды искусства
без какого-либо насильственного разрыва вливаются в об-
ласть бесспорного преобладания внеэстетических функций,
а следовательно, в область внеэстетическую. Так, например,
нет резкой грани между поэтическим произведением и эс-
тетически окрашенным коммуникативным языковым выска-
зыванием; то же можно сказать о живописи — ср. плакат —
и даже о музыке, которая в ряде своих разновидностей,
таких как музыка маршевая, танцевальная, музыка, пред-
назначенная для того, чтобы вызывать эмоциональное воз-
буждение и, т. д., демонстрирует явную конкуренцию эс-
тетической функции со внеэстетическими. Историческое
развитие всякого искусства сопровождается постоянной сме-
ной приливов и отливов внеэстетических функций, и даже
в эстетически наиболее чистом художественном творении
эти функции не устраняются, а лишь преобразуются, ли-
шаясь индивидуального практического воздействия и всту-
пая в контакт с жизненной практикой только посредством
художественной структуры в целом. Благодаря непрерыв-
ному контакту со внеэстетической сферой и даже прямому
слиянию с ней, искусство воздействует на состояние и сме-
щения функций и ценностей в сфере жизненной практики;
лишь этим обстоятельством можно объяснить тот факт, что
искусство, имеющее, как правило, узкий круг потре-
482
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
бителей, затрагивает самые глубокие основы жизненной
практики.
В архитектуре, так же как и в других искусствах, про-
исходит постоянная борьба между подчиненностью и гос-
подством эстетической ценности с тем лишь различием, что
в архитектуре у эстетической функции отсутствует возмож-
ность даже сколько-нибудь приблизиться к осуществлению
господства. Зато контакт архитектуры со внеэстетйческой
областью необычайно тесен не только потому, что внутри
самой архитектуры творения без какой-либо эстетической
преднамеренности соприкасаются с творениями, несущими
большую эстетическую нагрузку, но и потому, что архи-
тектура непосредственно связана с ремесленным и фабрич-
ным производством. Таким образом, отличие архитектуры
от остальных искусств является в то же время и звеном,
связывающим ее с ними: именно на долю архитектуры, в
отличие от других искусств, столь глубоко вклинившейся
в область материальной культуры, в большей степени, чем
на их долю, выпала роль моста, по которому завоевания
искусства переходят прямо в жизненную практику. Архи-
тектура служит посредницей не только для собственных
достижений, но и для достижений других искусств, особенно
наиболее близких к ней — живописи и скульптуры, с
которыми она имеет некоторые общие или по крайней мере
сходные проблемы формообразования, например проблемы
пространства, света, цвета и т. д.* Итак, архитектура, не-
смотря на свое исключительное положение, роковым обра-
зом связана с искусством. Главная ее диалектическая ан-
номия в основе своей присуща каждому виду искусства; ее
можно определить как непрестанный и всякий раз заново
решаемый спор между тенденцией к преобладанию эстети-
ческой функции над остальными и тенденцией к преобла-
данию остальных функций над эстетической. Если архи-
тектура не может достичь действительного доминирования
эстетической функции, то и у других искусств предел,
которого они могут достичь в этом направлении, не везде
одинаково высок: чрезвычайно легко и в очень полном
объеме может добиться господства эстетической функции
музыка, с большим трудом и меньшей полнотой может
♦ Интересно, что Гегель помещает архитектуру среди искусства на
«самую низкую ступень»: она доминирует у него в первой из трех эпох
художественного развития, в символический период.
16*
483
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сделать это поэтическое искусство, еще труднее это драме
(ср. различную строгость цензуры по отношению к поэти-
ческому искусству и к драме). Выше было сказано, что
эстетическая функция предстает в архитектуре одновремен-
но и как нечто поверхностное, и как нечто имманентно
присущее ей; это противоречие — лишь один из аспектов
только что названной основной антиномии. Иначе его можно
было бы определить как противоречие между внутренней
и внешней формой, которое в конечном счете проявляется
в каждом искусстве, в архитектуре же оно более заметно
лишь настолько, насколько здесь сильнее напряжение между
обоими полюсами и насколько у эстетической функции
меньше шансов достичь полного преобладания над внеэсте-
тическими функциями. Если мы рассматриваем отношение
архитектуры к искусству с только что обрисованной точки
зрения, то спор о том, является или не является она ис-
кусством, предстает как вопрос чисто терминологический.
Необходимо, наконец, сказать несколько слов о том, каким
способом возникает в архитектуре эстетическая функция и
как она порождает эстетическую ценность. Теоретики фун-
кционализма высказали взгляд, что эстетическая функция
есть следствие ненарушаемого действия и доведённой до
совершенства координации остальных функций. Прогрес-
сивная сторона этого тезиса заключается в том, что худо-
жественное произведение рассматривалось как сумма вне-
эстетических функций и соответствующих им ценностей;
эта аксиома применима и к другим искусствам и вообще
к эстетической функции во всех ее проявлениях. Как ди-
алектическая противоположность всех остальных функций
эстетическая функция предстает перед нами следствием
определенного их взаимоотношения или сдвига в этом вза-
имоотношении. Остается, однако, нерешенным вопрос, яв-
ляется ли необходимой предпосылкой возникновения эсте-
тической функции — в архитектуре, равно как и везде, —
полная гармония всех внеэстетических функций и вытека-
ющее из нее удовольствие. Развитие искусства, включая и
архитектуру, не страдает недостатком свидетельств о том,
как новое произведение, и даже произведение высокохудо-
жественное, в момент своего создания встречало бурю про-
теста; наглядный пример — как был принят построенный
по проекту Лоса дом на Михаэлерплац в Вене. Кроме того;
возникает еще одно сомнение: может ли вообще координация
внеэстетических функций быть совершенной, т. е. единст-
484
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
венно возможной. Такая координация требовала бы и при-
ведения в согласие четырех функциональных горизонтов,
через которые проходит всякая внеэстетическая функция,
приобретая в каждом из них иное подобие и иное отношение
к остальным. Между тем совершенная координация функций
с точки зрения одного горизонта неизбежно означает более
слабое или более сильное нарушение координации с точки
зрения остальных горизонтов. Таким образом, скорее, чем
возможность достижения полной гармонии, предоставляется
выбор между несколькими способами ее нарушения. Самое
большее можно говорить — как и везде в искусстве — о
необходимости уравновешивания функциональных, а тем
самым и структурных консонансов с диссонансами; в отли-
чие от статичности простой гармонии такое уравновешива-
ние, разумеется, всегда лабильно, динамично, подвержено
изменениям, вытекающим из сдвигов во всей функциональ-
ной иерархии, которая действует в данном коллективе.
Конечно, верно, что архитектура может опережать эти пре-
образования функциональной системы, может стремиться к
обновлению функций и их взаимоотношений, но и это
стремление — и даже именно оно — с точки зрения со-
временности будет выглядеть нарушением, следствием ко-
торого явится оживление эстетического воздействия. И тут
архитектура предстает перед нами как одно из искусств.
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
Предисловие к книге К. Гонзика1
«Создание жизненного стиля»
После того как несколько десятилетий назад в архитек-
туре утвердилось направление, получившее название фун-
кционализм (мы выбираем это наименование, передающее
самую неотъемлемую его сущность, оставляя в стороне ос-
тальные обозначения — «конструктивизм» или «пуризм»,
выдвигавшие на первый план скорее второстепенные или
преходящие признаки), сразу изменился и внешний облик
зданий (плоские крыши, ленточные окна, устранение де-
коративных элементов), и внутренняя организация застро-
485
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
енного пространства. Но эти внешние признаки служат
лишь проявлением кардинальной перемены в архитектурном
мышлении, перемены; более долговечной, чем преходящее
архитектурное направление, и затрагивающей более зна-
чительные вещи, чем одно лишь архитектурное мышление.
В тот момент, когда архитектура начала склоняться к фун-
кциональному мышлению, она стала провозвестницей но-
вого, отвечающего запросам современности отношения че-
ловека к человеческому творчеству и даже к миру в целом.
Следовательно, размышляя о функционализме, мы спокойно
можем оставить в стороне все преходящие сомнения новой
архитектуры, пусть то были сомнения преимущественно
теоретического характера (например, является ли архитек-
тура искусством) или чисто практические (выгодность или
невыгодность ленточных окон и т. д.).
Более настоятельным представляется вопрос, в чем, по
сути дела, заключается главное, собственное ядро функци-
оналистического мышления. Прежде всего мы должны ска-
зать, что функционализм — это типичный способ мышления
машинной эпохи. Не слишком далеко от нас время, когда
человек функционально творил, но еще не мыслил функ-
ционалистически, поскольку в этом не нуждался. При каж-
дом своем акте он реагировал на действительность всем
своим существом, всеми своими свойствами и потребностя-
ми, а также реагировал на все стороны, все свойства дей-
ствительности, в соприкосновение и в борьбу с которой
вступал. Но пришла индустриализация и с ней машина.
Машина овладевает действительностью очень точно и очень
целесообразно, гораздо точнее и целесообразнее, чем это
мог бы сделать представитель ручного труда. Но машина
замкнута в целесообразности, как в панцире: она может
служить только одной цели и производить только такие
вещи, для изготовления которых она была придумана и
соответствующим образом приспособлена. Машина и стала
моделью монофункционального существа, которое могло бы
служить только одной, четко ограниченной цели и было бы
к этому приспособлено всей своей внутренней и внешней
организацией, будучи в то же время не нужным ни в каком
ином случае. И человек, творец и хозяин машины, при-
спосабливается к этой модели частью спонтанно, вследствие
подражания, а частично и под прямым давлением машины,
которая, коль скоро она пущена в ход, оказывает обратное
регулирующее воздействие на человеческую деятельность,
486
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
> принуждает и человека ограничиться только одним видом
деятельности, собственно, лишь какой-то частной опера-
цией, которую он именно в результате этого ограничения
выполняет безукоризненно и почти (или даже совершенно)
механически. Под прямым или косвенным влиянием маши-
ны человек функционально специализируется и учится так-
же теоретически различать отдельные функции. Он уясняет
себе понятие функции: чем совершеннее приспособление
вещи к цели, которой она служит, тем точнее эта цель
может быть достигнута. Вещи и люди начинают выступать
как носители функций, их взаимные различия и совпадения
начинают рассматриваться как функциональные различия
и совпадения. Понятие функции проникает и в науки о
культуре; так, например, возникает функциональная лин-
гвистика, воспринимающая язык как инструмент выраже-
ния, а отдельные речевые образования (например, язык
разговорный, литературный) как следствия приспособления
языка к отдельным частным аспектам выражения. Функ-
циональная концепция проникает и в искусство; каждое из
искусств начинает заботиться о своей специфической фун-
кции, чтобы как можно точнее приспособить к ней свои
творения. Возникает стремление создать «чистую» поэзию,
«чистую» живопись, «чистый» фильм и т. д. — Функцио-
нализм — явный или подспудный, но тем не менее дейст-
венный — в последние десятилетия перед второй мировой
войной охватывает всю сферу человеческого творчества и
мышления. Нелегко ответить на вопрос, пользу или вред
принес человечеству функционализм в* своем первоначаль-
ном виде. Когда мы думаем о великих теоретических и
практических достижениях, толчок к которым дало функ-
циональное мышление, мы готовы видеть в нем великий
этап в истории человеческого развития, — но нам становится
грустно, когда мы вспоминаем о человеке, лишенном былой
полноты своего естества, уподобленном колесику в машине,
которое утрачивает всякий смысл, если его изъять из целого,
где оно объединено с соседними колесиками. Самая совер-
шенная организация материальных условий жизни, самый
высокий общий жизненный уровень не способны возместить
человеку ту былую возможность полного развития всех
своих способностей, которая в эпоху Ренессанса дала цвет
человечества — образцовые примеры художников, бывших
одновременно скульпторами, архитекторами, поэтами, а
также анатомами, физиками, инженерами, дипломатами.
487
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Но мы имеем в виду не только эти вершинные явления,
но и человека вообще в неограниченном развитии его спо-
собностей и склонностей, человека, апофеоз которого более
двух веков назад создал в своем Робинзоне Крузо Даниэль
Дефо, человека, у которого есть время и возможность ох-
ватить действительность со всех сторон. Равновесие функ-
ционального отношения между человеком и миром было
нарушено — должны ли мы по этой причине осудить фун-
кционализм? Это было бы столь же смешно, как желание
отменить породившую функционализм индустриализацию.
Функционализм нельзя отвергнуть или забыть, его можно
только домыслить. Но прежде чем подробнее поговорить о
необходимости этого, еще раз ненадолго обратимся к ар-
хитектуре.
Как мы уже отметили, архитектурный функционализм
как осознанное направление зародился на самой заре функ-
ционалистического мышления и был его пионером и предве-
стником. Мы знаем, что во второй половине XIX века, когда
был создан эклектический по стилю и нерациональный по
своему внутреннему расположению доходный дом, главное
внимание уделялось фасаду, которому часто приносились в
жертву внутренние помещения, деформированные, разуме-
ется, и стремлением к прибыльности; этого положения не из-
менила и архитектура модерна. Только архитектор-функци-
оналист, когда перед ним поставлена задача строить, задает
вопрос «для чего?» и соразмеряет внутреннее расположение
дома с его предназначением. Ответ на этот вопрос сначала
казался очень простым; проблема рассматривалась и реша-
лась по аналогии с машиной (известная сентенция Корбюзье:
дом — машина для жилья), т. е., по сути дела, монофунк-
ционально. Жилье понималось как комплекс совершенно оп-
ределенных, однозначных целей, заданных отдельными ви-
дами жизненных проявлений; нужно было установить эти це-
ли и приспособить к ним — или лучше: создать в соответствии
с ними — отдельные части квартиры и дома.
Однако вскоре практика показывает, что функции далеко
не столь однозначны, как это казалось на первых порах,
что они, напротив, образуют чрезвычайно сложные синтезы,
что человек, существо целостное, не исчерпывается обыч-
ными проявлениями своей повседневной жизни и что, на-
конец, сама материальная действительность, которую ар-
хитектор формирует, — а это не только строительные ма-
териалы, но и свет, воздух и т. д. — обладает собственными
488
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
сложными закономерностями, которые нельзя игнорировать.
Выясняется, например, что помещение, самое целесообраз-
ное в смысле удовлетворения материальных потребностей,
может быть непригодным к жилью, поскольку не удовлет-
воряет человека психически (неуютно и т. д.), что одна и
та же материальная целесообразность может в различных
случаях ощутимо видоизменяться под влиянием различных
побочных целей или под влиянием местных и других ус-
ловий, причем решение, оказавшееся целесообразным в
одном случае, в другом может стать нецелесообразным, что
общее требование освещенности помещения следует в каж-
дом отдельном случае весьма тщательно анализировать со
стороны физической и физиологической, если мы не хотим,
чтобы в результате прямолинейного осуществления этого
требования целесообразность устройства помещения понесла
урон. Более подробное перечисление примеров было бы
излишним — книга Гонзика полна их. Впрочем, больше,
чем частности, нас интересует здесь общий вывод, что после
первого большого разбега функционализм стал испытывать
известные затруднения не только в крупных масштабах
жизненной практики, но и в менее значительных размерах
одной отрасли — архитектуры.
Таково в общих чертах современное положение вещей.
Снова возникает вопрос: был ли, таким образом, функци-
онализм ошибкой, ложным путем? Нужно ли вернуться к
тому, от чего мы отошли? Вопрос бессмысленный, так как
возврат невозможен, ибо прежде нужно было бы отменить
индустриализацию и машинную культуру, которые нару-
шили старое равновесие функций, вызвали их взаимное
разъединение и тем самым поставили их в центр внимания.
Единственно возможный путь — это, как мы уже сказали,
домыслить функционализм. Порочность заключена также
не в его сущности, а в современном — или существовавшем
до недавнего времени — способе понимания функций. Выше
мы привели определение функции: приспособление вещи к
назначению, которому она служит. Фактически против этого
определения ничего нельзя возразить, но до тех пор пока
мы ограничиваемся только отношением между вещью и
целью, мы закрываем от себя источник и собственную
стержневину функций, инстанцию, которая придает смысл
всем назначениям и представляет собой основу функцио-
нального равновесия, т. е. человека. Человек иногда — а
именно если он, совершенно так же как машина, своей
489
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
деятельностью служит достижению определенной цели —
является носителем функций, в иных же случаях, когда
для достижения определенных целей человек пользуется
вещью или другими людьми, он становится инициатором
функций, но всегда он субъект действия, который определяет
цели, назначения, а следовательно, и функции или по
крайней мере влияет на них. Однако мы еще не добрались
до корня вопроса. Если мы говорим, что человек определяет
функции, то может показаться, будто функции зависят
лишь от сознательной воли, а следовательно, и произвола
человека. Но дело обстоит иначе: функции связаны с че-
ловеком не поверхностно, а заложены в самом его естестве.
Итак, решающий фактор — человеческое естество, а отнюдь
не случайная человеческая воля. Для своего душевного и
телесного равновесия человеку необходимо различными спо-
собами проявлять себя («функционировать») по отношению
к действительности природы и общества. Разумеется, всегда,
при любом состоянии общества, существуют разные формы
необходимости противоположного характера, ограничиваю-
щие функциональную свободу человека. Но существует так-
же и некое надлежащее состояние, т. е. равновесие между
необходимостью и свободой, которое позволяет человеку с
пользой для общественного целого выполнять определенную
задачу и в то же время психически и физически не страдать
от ограничения своей функциональной свободы. Это рав-
новесие когда-то поддерживалось инстинктивно, и человек,
не имея понятия о функции, легко овладевал нагроможде-
ниями, скрещениями и противоположными напряжениями
различных функций. Машинная цивилизация, как мы по-
казали, нарушила функциональное равновесие, но нельзя
утверждать, что она сделала это роковым образом и поло-
жения уже нельзя исправить. И книга, для которой написано
это предисловие, на многих страницах, как раз наглядно
показывает, что техника, если она раскроет все свои воз-
можности и будет применять их в согласии с человеческим
естеством, может вернуть человеку необходимую меру фун-
кциональной свободы.
Для такого исправления, разумеется, прежде всего не-
обходимо принципиальное изменение точки зрения. Только
если мы начнем рассматривать каждую из функций с точки
зрения человека и человеческого естества, они освободятся
от взаимоизоляции, предстанут силами взаимозависимыми
и взаимосоотнесенными в определенной градации. Тенден-
490
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
ция к монофункциональности в искусстве (так называемом
«чистом») окажется тогда лишь чертой определенного этапа
развития, а отнюдь не постоянным идеалом; в жизненной
практике в тех случаях, когда в качестве носителя функций
выступает человек (вследствие своего рода деятельности и
т. д.), однофункциональность предстанет как явление по-
просту вредное, деформирующее человека физически и ду-
ховно. На первый план выдвинется необходимость считаться
с могогранностью человека и с бесконечным конкретным
многообразием материальной действительности, на которую
направлены его действия. Наука уже длительное время
осознает эту связь функций с человеком и их взаимные
структурные отношения; например, можно указать на труды
советского этнографа П. Г. Богатырева «Pnspevek к
strukturalni etnografii» («Miscellanea». Bratislava, 1931), «Kroj
jako znak* Funkcm a strukturalni pojeti v narodopise» («Slovo
a slovesnost», 1936, II), «Funkcie kroja na Moravskom
Slovensku» (1937).
Такая же ситуация сложилась и в архитектуре. Здесь,
может быть даже более настоятельно, чем где-либо, ощу-
щается, что первоначальный функционализм нужно домыс-
лить в плане учета множественности и разнообразия фун-
кций и применительно к человеку. И это ощущение испы-
тывают все. Во втором номере журнала «Kvart» (г. IV, 1946)
опубликован разговор Ж. Галотти2 с Ле Корбюзье под на-
званием «Облик завтрашней Европы», и в нем есть такие
слова: «Я всегда любил красивые вещи минувших эпох.
Именно они научили меня архитектуре, они же раскрыли
мне ложность академического учения и положений Виньо-
лы3. В ранней молодости я изъездил Италию, Балканы,
Царьград, Восток... Посмотрите, у меня еще сохранились
записные книжки, в которых я зарисовал жилища монахов...
Все эти старые вещи имеют «человеческий масштаб». В Ма-
рокко туземные города так скучены и низки, что все тут
находится на расстоянии слышимости человеческого голоса
и почти на расстоянии вытянутой руки; человек живет
здесь как в одном доме, в одной семье». Так говорит Ле
Корбюзье. У нас настоятельную потребность домыслить фун-
кционализм сознают несколько архитекторов, и до настоя-
щего времени наиболее значительным проявлением подо-
бных устремлений является книга архитектора К. Гонзика.
Не знаю, подписался ли бы Гонзик под только что проци-
тированной фразой Ле Корбюзье в полном ее виде, но
491
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
родственность взглядов бесспорна (хотя во время войны
француз и чех размышляли, находясь в двух разных мирах,
лишенные возможности взаимного общения), и было бы
нетрудно найти в книге Гонзика места, где совершенно
подобным же образом человеческое естество провозглаша-
ется мерой всех вещей в строительстве, например: «Следо-
вательно, настало время высказать лозунг «Человек — ме-
рило всех вещей», всякого оборудования, всех своих машин,
транспортных средств, квартир, домов, улиц и городов.
Настало время внести в архитектурное мышление этот ес-
тественный «атропометризм». Не дома для богов и не дома
для карликов, а дома для людей ростом в 170—180 см с
шириной плеч 60—70 см. Это «очеловечивание» наших
построек и нашей среды мы должны понимать, разумеется,
не только в плане телесном, но и в плане психическом, не
только статически, но и динамически, не только единично,
но и множественно. В материю, из которой мы создаем
свою среду, будут спроецированы не только размеры нашего
тела, но и движения жизни, отношения человека к человеку
и отношения человека к пространству» («Общество и
стиль»).
Таким образом, идейная и практическая ситуация, по-
родившая книгу Гонзика, чрезвычайно актуальна. Харак-
терно, что книга не возникла сразу, за одну ночь, а созда-
валась постепенно; составляющие ее статьи в течение уже
многих лет публиковались по отдельности в сборниках и
журналах. Это свидетельствует о том, что речь здесь идет
не об идее, осенившей кого-то в одно счастливое мгновение,
а о результатах длительных и упорных раздумий, в ходе
которых основные тезисы рассматривались со всех сторон
и конкретизировались. В свой труд Гонзик внес тонкую
способность вчувствования: принцип, согласно которому че-
ловек есть мера вещей, для него не просто тезис. Присущую
автору способность к вчувствованию наглядно продемонст-
рирует нам пригоршня цитат: «Возьмем в качестве примера
стул. В его форме присутствует человек, в нем заключена
механика того, как он садится, опирается на этот стул,
переносит его. Положение стула в пространстве определя-
ется способом, местом и направлением его использования.
В отличие от прежнего, статического, понимания мы учимся
и пространство ощущать в процессе эксплуатации. Площадь
наполняется для нас действием (в котором и покой имеет
свое важное значение), движением транспорта и течением
492
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
толпы. Из этой эксплуатации площади логически вытекает
и ее форма. Эксплуатационное ощущение, несомненно, тес-
но связано с ощущением динамическим и энергетическим,
столь характерным для нашего века» {«Вещи в эксплуата-
ции»). Или еще другое место из той же статьи: «Считалось,
что собственно изобразительная и творческая деятельность
начинается лишь в тот момент, когда мы покидаем поле
целесообразности и предоставляем слово свободной, абст-
рактной фантазии. Но забывали при этом, что фантазия
бывает нескольких родов, что наряду с фантазией абстрак-
тной существует фантазия эксплуатационная, биодинами-
ческая, которая также принимает участие в изобразитель-
ном воздействии, поскольку определяет основные очертания
форм. В действительности осуществление полезного назна-.
чения — особенно в эксплуатационном смысле — дело
очень сложное и еще более трудное потому, что многие
вещи, которые мы считаем целесообразными, как только
их испытывают в эксплуатации, таковыми не оказываются.
Значит, в этих случаях эксплуатационная целесообразность
была понята примитивно, схематически, без воображения.
Осуществление раскрыло несостоятельность намерения.
Итак, можно сказать, что целесообразность — это не только
дело рассудка или, как говорилось, рационализма, но и
дело совершенно особой интуиции и фантазии». Поэтому
форма полезных предметов и построек представляется Гон-
зику не мертвой окаменелостью, наследием минувших веков
или следствием эстетического расчета, а еще раскаленным,
но уже уравновешенным продуктом функциональных энер-
гий. Формы, создаваемые человеком, не возникают иначе,
чем формы, которые творит природа: «Материя, и неживая
и живая, перемещается, растет под влиянием всевозмож-
ных — явных и скрытых — сил, чтобы в результате этого
процесса организоваться и установиться в каких-то регу-
лярных и закономерных формах... Она достигает наконец
покоя, когда все силы, воздействовавшие изнутри и извне,
образуют систему, в которой они уравновешиваются. Как
только это равновесие достигнуто, материя перестает быть
бесформенной и обретает характерную, регулярную и за-
кономерную форму: силовые линии, кристаллы, цветы, ор-
ганизмы — это силовые формообразования. Форма есть,
собственно, вид равновесия. Таким образом, верно, что
вещь находится в движении, но столь же всеобщее правило
определяет это движение: поиски покоя, гармонии, кри-
493
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
сталлизации, зрелости... И наши изделия, наши постройки
развиваются под влиянием бесчисленных сил, под влиянием
бесчисленных экономических, общественных и психологи-
ческих условий: формы, которые им придал тот или иной
индивид, под влиянием этих условий изменяются, пока не
возникают формы уравновешенные и оптимальные» («За-
мечания к биотехнике»).
Формообразование, возникшее таким способом из фун-
кций, тем более неожиданно и тем менее достижимо с
помощью абстрактной фантазии, чем подробнее и расчле-
неннее при его создании (одноразовом или постепенном)
рассматривался весь сложный функциональный комплекс и
все весьма дифференцированные материальные предпосыл-
ки. Размышляя (в статье «За пространственный комфорт»)
о свойствах жилого пространства, Гонзик насчитывает не
менее 10 типов условий, которые должны при этом учи-
тываться (условия геометрические, климатические, атмос-
ферные, свет, тепло и т. д.), и каждый из названных ас-
пектов, разумеется, может быть расчленен еще детальнее.
Как далеки мы от кажущейся самоочевидной простоты пер-
воначального функционального расчета! Важное значение
имеет также понятие «оптимума», к которому Гонзик при-
ходит в цитировавшемся выше рассуждении. В той мере,
в какой это касается человеческой продукции и человече-
ской деятельности вообще, за этим понятием скрывается
требование, о котором здесь уже столько говорилось, —
требование, чтобы основой и мерой всех вещей стало че-
ловеческое естество, многостороннее и недеформированное;
требование «оптимума» — это лишь'проецирование субъ-
ективного ощущения недеформированной естественности в
объективный мир вещей. Функциональное равновесие, вос-
принимаемое с точки зрения человеческого субъекта, еще
более объективный вид обретает в понятии «гармонизации»,
которое также очень часто встречается у Гонзика. Разуме-
ется, слово это многозначно и может вызвать представление
о самодельной организации жилого пространства, но для
автора нашей книги оно явно означает организацию, отве-
чающую потребностям полного развития человеческого ес-
тества. Наконец, интересно и характерно отношение Гон-
зика к паре понятий — «природа» и «техника». Обычно их
рассматривают как альтернативные противоположности.
Функционализм прошел через период техницизма, когда —
как наглядно показывает Гонзик — господствовало убеж-
494
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ
дение, что техника призвана окончательно одолеть природу.
Техники допускали, что человечество будущего физически
приспособится к техническим достижениям, что оно оглох-
нет, чтобы не слышать шум транспорта, и т. д. В соответ-
ствии с этим взглядом архитекторы строили дома с искус-
ственной внутренней атмосферой, с неоткрывающимися ок-
нами и даже планировали дома вовсе без окон. Из всего
сказанного о Гонзике ясно, что он с этим мнением не
согласен. Но, конечно, это не заставляет его встать целиком
на сторону природы и отвергать технику; скорее, напротив,
он предъявляет к технике еще более высокие требования,
чем техницисты. Послушаем, что он сам говорит по этому
поводу: «Внутри нас происходит борьба между любовью к
технической цивилизации, с одной стороны, и любовью к
природе, с другой. Только любители крайностей способны
безоговорочно встать на ту или иную сторону. Непреклонные
приверженцы техники ради техники любят доказывать, что
человек будет вынужден привыкнуть к тем свойствам тех-
ники, которые мы до сих пор ощущаем как вредоносные.
Они верят, что возможности биологического приспособления
к машинной системе неограниченны... Если бы мы встали
на точку зрения, противоположную крайнему техницизму,
т. е. на точку зрения какого-то крайнего натурализма, то
должны были бы (теоретически) сказать, что венцом тех-
нической цивилизации было бы, собственно, возвращение
человека к природе» («Архитектура как созидание среды и
климата»).
«Крайний натурализм», очевидно, означает для Гонзика
синтез природы и техники или, лучше сказать, восстанов-
ление гармонии между человеком и природой с помощью
техники. Противоположность между техникой и природой
представляется ему не альтернативной, а диалектической.
Сформулируем это наглядно: если человеческое естество
должно смириться с шумом транспорта, нет надобности,
чтобы человек оглох, нужно, чтобы техника переместила
транспорт под землю и предоставила человеку возможность
жить на свету и в тишине.
Еще многие тезисы книги Гонзика заслуживали бы ана-
лиза, а порой и дискуссии. Но задача предисловия — в
соответствии с общепринятыми обычаями — лишь указать
путь к книге. Пусть читатель войдет! Будет ли он удов-
летворен или раздражен и несогласен, это его дело. Всякая
действительно живая книга вызывает несогласие в равной
495
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
мере, как и согласие. Возможно также, что читатель скажет:
«Здесь высказаны определенные принципы, это хорошо. Но
что из них вытекает практически? В области столь конк-
ретной, как архитектура, только реализация доказывает
правильность теории. Итак, подождем реализации». Дать
ответ на эту оговорку нетрудно, и ответ этот будет звучать
примерно так: реализации могут быть различными, и путь
к ним извилист, испещрен ошибками, что бывает всегда
при попытках осуществить определенный последовательный
взгляд. Среди тех, кто будет предпринимать такие попытки,
могут оказаться и люди, которые станут толковать взгляды
Гонзика в духе собственной любви к старине, подменив
«оптимум» и «гармонизацию» буржуазной «золотой середи-
ной». Подобных недоразумений следует ожидать, но не надо
заранее отступать перед ними. Важно, чтобы большая часть
читателей поняла, что в книге делается попытка последо-
вательно домыслить принципы такого прогрессивного на-
правления, как функционализм, и что домыслить их в
интересах прогресса просто необходимо. Речь идет о том,
чтобы эта необходимость была понята и послужила толчком
для дальнейших размышлений. Если на этой основе разго-
рится дискуссия, она возникнет именно благодаря рассуж-
дениям Гонзика. Его книга написана с сознанием ответст-
венности, и он не уклоняется от ясных формулировок. Так
пожелаем, чтобы она нашла соответствующий прием и стала
действенным толчком в развитии чешского архитектурного
мышления.
ИНДИВИД В ИСКУССТВЕ
Индивид выполняет в искусстве двоякую функцию: на
его долю выпадает роль творца и воспринимающего. На
первый взгляд, эти функции, хотя они и неразрывно связаны
друг с другом, кажутся взаимопротивоположными, посколь-
ку первая из них предполагает активную позицию, а вто-
рая — пассивную. Однако их разъединенность не является
ни абсолютной, ни явственной. Всякое художественное про-
изведение имеет определенное сходство со словом: как язы-
ковое высказывание играет роль посредника между двумя
496
ИНДИВИД В ИСКУССТВЕ
индивидами, один из которых говорит, а другой — слушает,
так и художественное произведение предназначается своим
автором, чтобы служить установлению взаимопонимания
между воспринимающими индивидами. Роль автора языко-
вого высказывания и роль воспринимающего отнюдь нельзя
считать неизменными. Активная роль говорящего субъекта
выпадает, как правило, попеременно на долю каждого из
обоих участников разговора, и слушающий индивид прин-
ципиально не лишен возможности взять слово. Притом
самый основной вид языкового высказывания — диалог. В
искусстве ситуация лишь кажется иной: возьмем в качестве
примера среду, создающую народное искусство, где любой
субъект потенциально является творцом и воспринимаю-
щим. И если мы взглянем с этой точки зрения на «высокое»
искусство, то и там обнаружим — ив настоящее время, и
особенно на протяжении его истории —- следы, подчас весьма
явственные, такого же положения вещей: и здесь «пассив-
ный» индивид отнюдь не лишен влияния на формирование
искусства, в особенности если это меценат или заказчик,
заранее предъявляющий свои требования.
Во всех своих обличьях искусство имеет много сходного
с непрерывным диалогом, участниками которого, с одной
стороны, являются все, кто в хронологической последова-
тельности создает художественные произведения, с. другой
же стороны, все, кто эти произведения воспринимает. Обе
стороны зависят одна от другой; поэтому расцвет искусства
в какой-либо стране и выступление целой группы творче-
ских талантов всегда предполагает высокий уровень эсте-
тической культуры, уровень, который может быть создан
предшествующим импортом иностранных художественных
произведений и, следовательно, представлять собой скорее
факт восприятия, чем факт творчества (ср. импорт италь-
янского изобразительного искусства, предшествовавший рас-
цвету французской живописи в эпоху Ренессанса). Воспри-
нимающие, бесспорно, представляют собой коллектив, а в
этой статье наше внимание обращено к индивиду, но этот
коллектив, который мы называем публикой, вступает в
соприкосновение с искусством исключительно посредством
индивидов, из которых он складывается, и к тому же эти
индивиды именно своей индивидуальности обязаны большей
или меньшей относительной способностью воспринимать
произведения того вида искусства, о котором в данном
случае идет речь. Таким образом, между творящим инди-
497
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
видом и индивидом воспринимающим даже там, где их
роли, говоря практически, нельзя назвать взаимозамени-
мыми, постоянно существует определенная взаимность,
обусловленная потенциальной тождественностью.
Следующая сторона проблемы индивидуальности в ис-
кусстве дана отношением между индивидом и объективным
развитием искусства. Это развитие, которое является авто-
номным, подчинено имманентной закономерности, источник
которой — свойственное каждой развивающейся структуре
стремление сохранить внутреннюю тождественность. Но
чтобы это стремление осуществлялось, необходима и про-
тивоположная тенденция, ведущая к нарушению тождества
структуры. Иными словами, чтобы вызвать движение, им-
манентная закономерность нуждается в своей необходимой
противоположности — случайности, всегда приходящей из-
вне. И роль этой случайности берет на себя именно индивид,
прежде всего тем, что становится носителем разных внешних
влияний (социальных, идеологических), представляющих
собой толчки, которые сотрясают структуру искусства. Но
даже если бы мы абстрагировались от всех объективных
внешних влияний, остается еще как абсолютно единичная
случайность индивид сам по себе. Следовательно, проблему
внешних влияний можно в конечном счете понять как
антиномию между непрерывной линией имманентного раз-
вития и бесконечным рядом новых творческих индивиду-
альностей, каждая из которых своим напором заставляет
изогнуться линию автономного развития, но никогда не в
состоянии ее прорвать.
Реальное развитие, разумеется, значительно более слож- •
но, чем эта схема, и индивид не так независим от развития,
на которое он влияет, как это могло бы показаться на
первый взгляд. Сама возможность его вмешательства, хотя
она выглядит чистой случайностью, связана с объективным
развитием. На каждом этапе этого развития существуют
зародыши нескольких разных возможностей движения впе-
ред, несколько задач, которые могут разделить между собой
творческие индивидуальности будущего поколения. И может
случиться, что группа индивидуальностей, которая окажется
в распоряжении этого поколения, будет меньше или больше
того числа ролей, для которых нужно найти исполнителей,
или что на определенную важную роль у нового поколения
будет лишь слабый претендент. В таком случае историк
искусства, сравнивая параллельное развитие искусства в
498
ИНДИВИД В ИСКУССТВЕ
нескольких странах, установит неравномерность и проблемы
в развитии там, где количество творческих индивидуаль-
ностей не соответствовало числу ролей. Если же, наоборот,
в данный момент окажется большее число индивидов, спо-
собных выполнять одну и ту же задачу, будет иметь место
конкуренция между двумя или несколькими художниками
со сходным талантом; иногда случается, что один из со-
перников выбирает себе какую-нибудь вынужденную роль
вместо той, сыграть которую ему помешал более сильный
конкурент*. В том же случае, когда единственный индивид,
способный исполнять определенную важную роль, окажется
слабым, историк будет вынужден констатировать ощутимое
несоответствие между невысокой ценностью произведения
и его важным историческим значением. Может также слу-
читься, что индивид не найдет себе назначения, которое
соответствовало бы строю его таланта; если, несмотря на
это, у него достаточно силы, чтобы не дать сломить себя,
он становится «проклятым художником», осужденным ждать
момента, когда его творчество, совпав с какой-либо из
тенденций развития искусства некоей грядущей эпохи,
встретит понимание у публики. Если же творческому ин-
дивиду удается найти полное согласие с какой-либо из
тенденций развития искусства собственной эпохи, он до
такой степени сливается со своей ролью в искусстве, что
это подчас влияет и на его личные взаимоотношения с
людьми: взаимная склонность, недоверие и даже ненависть
между художниками порой удивительно верно отражают
родственность или, наоборот, взаимную противоречивость
тенденций искусства, которые эти художники олицетворя-
ют. В итоге можно сказать, что если существование или,
напротив, недостаток индивидов, одаренных определенным
специфическим талантом, предстает перед нами как слу-
чайность рождения, то для индивида, даже одаренного,
возможность найти себе применение в качестве фактора
развития зависит от количества и характера тенденций,
потенциально содержащихся в самом развитии.
Добавим еще, что индивид, с которым мы до сих пор
обращались как с константой, в сущности, сам является
процессом; сопоставляя его с развитием искусства, мы, соб-
ственно, сопоставляем два развития. Наряду с вопросом о
♦ Я имел в виду пару Галек — Гейдук^Зоде. авт, к переводу фран-
цузского текста).
49?
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
влиянии, оказываемом индивидом на движение искусства,
нужно ставить и вопрос противоположного характера — о
влиянии, оказываемом искусством на развитие творческого
индивида.
. Поскольку за каждым художественным произведением
мы ощущаем присутствие авторского индивида, каждое
художественное произведение в результате психологиче-
ской проекции кажется нам единственным в своем роде
и неповторимым индивидом. Уникальность художествен-
ного произведения составляет, по крайней мере в опре-
деленные периоды, важную предпосылку его положитель-
ной оценки; в другие периоды, менее индивидуалистиче-
ские, может казаться, что «оригинальность» имеет лишь
второстепенное значение. Поэтому в области искусства
нельзя также раз и навсегда сформулировать определение
плагиата.
Нужно, наконец, сказать несколько слов и об отношении
между конкретным индивидом — автором или воспринима-
ющим — и абстрактным субъектом, содержащимся в самой
структуре произведения и представляющим собой лишь точ-
ку, с которой всю эту структуру можно охватить одним взгля-
дом. В каждом произведении — даже самом безличностном —
найдутся признаки, выдающие присутствие этого субъекта.
Это присутствие становится, например, совершенно явным в
лирическом стихотворении, выражающем чувства; однако
нужно считаться с этим присутствием и в картине, перспек-
тива которой учитывает пространственное размещение субъ-
екта, содержащегося в произведении. Даже натуралистиче-
ская драма в последовательно реалистической постановке от-
личается от действительности именно тем, что предполагает
присутствие субъекта (сцена без четвертой стены и т. д.).
Субъект никогда не сливается — да и не может полностью
слиться — ни с какой конкретной личностью: ни с автором,
ни с рецептором данного произведения; в своей абстрактной
сущности он представляет собой лишь возможность проеци-
рования этих личностей в глубину структуры произведения.
Существуют произведения, которые побуждают воспринима-
ющего ощущать в качестве субъекта личность автора, суще-
ствуют и такие, которые заставляют воспринимающего брать
на себя роль субъекта, и опять-таки иные, где субъект, ка-
залось бы, вовсе отсутствует. Выбор между этими разными
возможностями не предоставлен воспринимающему, а пред-
определен структурой произведения.
500
ЛИЧНОСТЬ В. ИСКУССТВЕ
Если в художественном произведении (эпическом, дра-
матическом или даже живописном) изображены один или
несколько персонажей, эти персонажи ощущаются как оли-
цетворение субъекта или, когда их несколько, как вопло-
щение его внутренних конфликтов; поэтому воспринимаю-
щий испытывает побуждение отождествить с этими персо-
нажами самого себя или автора. И здесь отождествление
является скорее проецированием, чем воплощением. По-
длинный смысл изображенного лица следует искать не за
пределами области искусства, а в самом искусстве. Каждый
из персонажей, изображенных в художественном произве-
дении, благодаря способу, которым он изображен, стано-
вится реализацией определенного традиционного типа «ге-
роя»; даже в том случае, если — под влиянием исторической
ситуации или гениальности художника — искусству удается
создать действительно единственную в своем роде личность
(например, Дон Кихота, Гамлета, Фауста в поэтическом
искусстве и драме; Аполлона, Христа и т. д. в изобрази-
тельном искусстве), впоследствии эта личность именно бла-
годаря своей уникальности обретает значение и функцию
типа.
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
Мы сейчас, по правде говоря, находимся в несколько
парадоксальной ситуации. Критик, едва он всерьез задума-
ется над произведением, будет стремиться установить, в
какой мере художник воплотил в нем свои переживания,
выразил свою личность, раскрыл самое сокровенное в своей
психике. Художник, если ему задан вопрос, касающийся
его произведений, чувствует себя обязанным рассказать о
подсознательных элементах своего творчества, о своей эмо-
циональной жизни и т. д., будучи абсолютно уверен в цен-
ности личности и общезначимости малейшего ее трепетания.
Но при этом мы все явственно ощущаем, что миновала
эпоха наших отцов, когда субъективность преобладала над
объективностью, когда, например, в литературе, да и в
жизни, люди могли позволить себе роскошь говорить о
чисто внутренних страданиях, никак не обусловленных из-
501
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вне, которые, по их взглядам, составляли атмосферу, един-
ственно достойную культурного человека, живущего, как
тогда любили говорить, «интенсивной внутренней жизнью».
Сам процесс развития и эпоха в достаточной мере хорошо
научили нас, что нельзя жить с закрытыми глазами, когда
речь идет об отношении к объективной, внешней реальности,
что, собственно, самое сокровенное в психике каждой лич-
ности во всей своей неповторимости не поддается передаче
кому-либо другому (мы уже не верим в таинственную силу
«внушения», как в нее верило поколение символистов) и
что это для нас самое сокровенное оставляет других в общем
равнодушными, — ведь важно как раз то, что может быть
сообщено иным личностям. Так возникает противоречие
между упомянутой выше концепцией художественной лич-
ности и самим художественным творчеством, которое давно
уже основывается отнюдь не на субъективно психологиче-
ских принципах. Я не хочу здесь подробно анализировать,
каковы последствия этой парадоксальной неопределенности
в понимании личности художника для его мироощущения
и самочувствия, а также для его отношения к публике и
к обществу в целом. Можно с уверенностью сказать, что
нелегко носить в подсознании противоречие между своим,
скажем, «гражданским» взглядом на личность и своим про-
фессионально-художественным взглядом на нее; можно ска-
зать также с уверенностью, что художник, сознающий свои
обязательства перед публикой и обществом и в то же время
сознающий свое право быть независимым в собственном
творчестве, нуждается в решении вопроса о художественной
личности и полной ясности на этот счет. Разумеется, я
далек от честолюбивого желания попытаться ответить на
этот вопрос и определить, каким же должно быть впредь
отношение художника к его собственному творчеству, к
обществу, как должен художник примирить свое личное
мироощущение с художественным. При таких обстоятель-
ствах, при таком кризисе задача научного рассуждения
может быть только одна: указать на проблему и сформу-
лировать ее.
Чтобы получить некоторое представление о значении и
характере проблемы, бросим хотя бы беглый взгляд в ее
предысторию. Общеизвестно, что средневековье не знает ни
самого понятия художественной личности, ни, разумеется,
связанного с ним понятия оригинальности, индивидуально-
сти художественного творчества. Возьмем, к примеру, поэта.
502
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
Роль его в глазах средневековья отнюдь не представляется
низкой; поэт сам знает о себе и все остальные знают, что
он воссоздает божественную красоту в доступном челове-
ческим чувствам и всеобщему восприятию подобии. Но даже
самое большее, чего он может достичь, останется лишь
подражанием божественной красоте. Он полностью связан,
с одной стороны, Библией, с другой — моральными и ме-
тафизическими истинами. Нигде нет и крошечного местечка
для его свободного решения и творчества, а следовательно,
и для его личности. Мы знаем, что средневековые произ-
ведения часто были анонимны; читая, что противник ка-
кого-то средневекового поэта резко упрекал его за попытки
идти в поэзии собственным путем, мы с трудом этому
верим. Даже еще в эпоху Ренессанса мы находим (у Вазари)
свидетельство того, что подражание — и, таким образом,
отказ от своеобычности — считалось отнюдь не изъяном,
а, наоборот, достоинством. В биографии Тициана мы читаем:
«И вот вскоре после того, как он стал перенимать манеру
Джорджоне — ему тогда было не больше восемнадцати
лет, — он написал с одного своего приятеля, дворянина из
дома Барбариго, портрет, весьма прославившийся в свое
время благодаря правдивости и естественности в передаче
тела и такому отчетливому изображению волос, что их
можно было сосчитать так же, как и каждую7 петлю сереб-
ряной вышивки на атласном камзоле. Словом, этот портрет
считался настолько хорошо и блестяще исполненным, что
если бы Тициан не написал своего имени на фоне, его
приняли бы за произведение Джорджоне»*. Что касается
изобразительных искусств, то общеизвестно, что их отно-
сили к artes serviles, ремеслам. Этим четко характеризуется
и взгляд на художественную личность. Только в конце
средневековья (как показал В. Менцл1 в своей недавней
статье «О двойственном характере и функции средневеко-
вого искусства») художественное творчество начинает субъ-
ективироваться: «Так со времен Карла (т. е. Карла IV2)
источником художественной формы стала уже не сама вещь
и не ее строение, постижимое лишь с помощью понятий и
абстракции, а оптическое или слуховое переживание, ко-
торое она вызывает в творческом субъекте. Источник, пер-
вопричина и происхождение художественной формы были
* Вазари Джорджо. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев,
ваятелей и зодчих. Т. У, с. 367.
503
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
перенесены с создаваемой вещи, с объекта на творческий
субъект». Разумеется, мы не должны представлять субъек-
тивность, о которой говорит здесь историк искусства, как
современную субъективность: она заключается только в том,
что художник перестает быть подражателем, старающимся
передать нематериальную божественную красоту, перевести
ее на несовершенный человеческий язык; зато для него
сразу же возникает новое ограничение — ограничение стро-
ением действительности, которую он изображает. Это стро-
ение становится для художника «красотой», следовательно,
обязательной нормой. Все это, несомненно, относится и к
Ренессансу: мы знаем, сколько усилий уделяют ренессанс-
ные художники познанию перспективы, причем перспекти-
вы объективной, а не субъективно-оптической (возникно-
вение из этих усилий начертательной геометрии), далее —
сколько усилий они уделяют изучению анатомии и т. д.
Итак, субъективизм, берущий свое начало в средневековье
и достигающий кульминации в эпоху Ренессанса, с нашей
точки зрения, можно было бы, собственно, назвать, скорее,
объективизмом. Подобным же образом мы не должны отож-
дествлять и ренессансное понимание художественной лич-
ности с нашим нынешним пониманием. Правда, мы видим,
как растет самосознание художника, видим, например, как
Микеланджело, уже на самой вершине Ренессанса, защи-
щает свое превосходство и независимость художника не
только от всего окружения, но и от папы (приведенное у
Вазари известное высказывание, обращенное к художнику
и ювелиру Францио: «У меня такие же обязательства перед
папой, который дал мне бронзу (т.е. бронзу на статую,
причем речь идет о скульптурном портрете самого папы),
какие у вас перед торговцем, продающим вам краски»). Но
при всем этом понимание личности, в отличие от нынеш-
него, было — можно сказать, — скорее, количественным.
Художник, разумеется, ценит свой труд, сознает, что другой
не сумел бы сделать лучше, чем он, или даже так, как он,
испытывает чувство ревности к сопернику и т. д. Короче
говоря, он осознает свою личность как силу. Но ему и не
приснится считать произведение продуктом своей личности,
ее свойств, склонностей. Об этом он не думает и даже не
знает соответствующих психологических понятий. Цроиз-
ведение для него — продукт сознательной воли, искусности.
Мы знаем, например, какое значение придает Леонардо да
Винчи в своих «Размышлениях о живописи» практической
504
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
и теоретической выучке, которую должен пройти художник;
при этом мы не найдем у него ни слова о личности ху-
дожника как инициатора художественного произведения,
зато встретим не раз повторенные презрительные замечания
о тех, кто надеется добиться цели, полагаясь на себя, на
свою фантазию и т. д. Ценность художественного произве-
дения заключается не в том, что оно служит выражением
личности автора, а в том, что оно постигает строй и склад
природы. Поэтому также суждение о художественном про-
изведении для него не дело личного вкуса, а совершенно
объективно обоснованная оценка: художник во время работы
не должен пренебрегать ничьим суждением, так как мы
ясно понимаем, что человек, даже если он не живописец,
обладает представлением о форме человеческого тела и
может очень хорошо заметить, если кто-нибудь горбат, или
если у него одно плечо выше другого, или если у него
большой рот или нос, если он хромает или имеет другие
недостатки*.
Поскольку понимание личности в эпоху Ренессанса —
с нынешней точки зрения — было, собственно, в высшей
степени «безличностным», т. е. лишенным критерия инди-
видуальной неповторимости, оказывался возможным столь
частый для людей этой эпохи тесный симбиоз художника
и ученого, причем даже специалиста в области точных
наук — математики и физики. И это был симбиоз, который
отнюдь не расщеплял личность на два взаимочуждых ас-
пекта. Для Леонардо не существовало различия между жи-
вописью и изобретением инструментов й машин: и то и
другое было для него в одинаковой мере видом труда, и то
и другое требовало находчивости и ловкости. Таким образом,
понимание личности, созданное Ренессансом, отнюдь не
было в тягость человеку, не связывало ему руки и не
мешало его духовной жизни. Скорее оно поддерживало его
торжествующую веру в себя. Это понимание продержалось
долго, если не считать, разумеется, различных отклонений,
единичных случаев и предвестий следующей ступени раз-
вития. — Радикальный поворот приносит лишь начало XIX
столетия: имя его — романтизм. Романтическое понимание
личности достигает апогея в понятии «гений». Гений — это
уже не личность, творящая с помощью сознательного на-
пряжения воли, направленного на внешнюю действитель-
* Леонардо да Винчи, Избранное, с. 69.
505
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ность, которую он познает или преобразует. Гений — это
творческая стихия, спонтанность. Он столь же стихиен, как
силы природы, которым он родной брат. Он творит не
потому, что хочет, а потому, что должен. Собственно, даже
творит не он, а в нем творится (Es dichtet in mir* — лозунг
романтического художника). Спонтанность, конечно, сразу
изменяет отношение между художником и его произведе-
нием, между художником и действительностью, наконец,
между художником и остальными людьми, а также изменяет
отношение художника к самому себе. Произведение нео-
жиданно предстает перед нами как действительное выра-
жение личности художника, как «материализованная» ре-
плика его душевного строя: это столь же непроизвольный
продукт, как жемчужина в раковине жемчужницы. Худож-
ник ищет строй уже не в природе, которую он воспринимает
органами чувств, а в самом себе, — ведь он сам сила
природы, и поэтому картина природы, такая, какой он
ощущает ее в своей душе и воплощает в своем произведении,
более верна, чем механическое воспроизведение свиде-
тельств органов чувств. Человек, и в особенности, разуме-
ется, художественно одаренный человек, начинает ощущать
напряжение и противоречие между собой и действительно-
стью. «Дух человеческий и природа, бывшие одним и тем
же, с течением времени распались. Природа идет вечным,
мирным, законным своим путем, между тем как человек
стер все следы, которые ведут к ней, утратив тем самым
свою первоначальную гармонию и сущность», — говорит
об этом Маха. Какая разница по сравнению со взглядом
ренессансного человека, для которого как раз этот строй
природы был основой всякого творчества! В эпоху роман-
тизма отношение между художником и остальными людьми
изменяется в том смысле, что художник чувствует себя
единственным в своем роде и потому иным, чем остальные
люди, оторванным от них независимо от того, считает ли
он это своим преимуществом или проклятием; романтиче-
ский художник уже не повторил бы вслед за Леонардо
фразу о том, что во время работы нужно прислушиваться
к суждению каждого, поскольку каждый человек — и не-
художник — знает природу; для романтика художник яв-
ляется художником именно потому, что видит действитель-
ность иначе, чем остальные, собственным, присущим лишь
* Поэзия слагается во мне (нем.).
506
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
ему одному способом. Наконец, отношение к самому себе
изменяется таким образом, что романтический художник,
открыв себя, свою индивидуальность, сосредоточивает вни-
мание прежде всего на собственном внутреннем мире, а
отнюдь не на том, что происходит вокруг него. Может быть,
Маха еще мог бы понять совет Леонардо: «Тот мастер,
который убедил бы себя, что он может хранить в себе все
формы и явления природы, показался бы мне, конечно,
украшенным великим невежеством, ибо явлений природы
бесконечно много и память наша не обладает такой вме-
стимостью, чтобы все их охватить. Поэтому ты, живописец,
смотри...»*. Но Леонардо наверняка бы уже не понял слов
Махи: «Мне кажется порой, что я гляжу сам в себя и вижу
только огромную пустоту; истинный хаос вздымается перед
взором моим, сливаясь затем в серую тучу. Эта туча тяготит
меня, как свинец. Я чувствую, что за нею что-то скрыто,
но не знаю что». Такого направления взгляда, вовнутрь, в
эпоху Леонардо попросту еще не существовало, не было
еще изобретено. Однако после краткой характеристики ро-
мантизма, которую мы только что попытались дать, не
следует предполагать, что романтизм означал по сравнению
с ренессансной самоуверенностью какой-то упадок,' какую-
то убыль сил. Убеждение в силе личности, в том, что мы,
говоря об эпохе Ренессанса, назвали количественной сто-
роной личности, и в романтическом человеке и художнике
осталось ненадломленным. Только в сфере романтического
мышления могло возникнуть понятие художественного
творчества в особенном смысле слова, — только ощутив
свою независимость от строя внешней действительности и
ощутив самого себя законодателем строя, предстающего в
произведении, художник мог почувствовать себя творцом,
создателем целой вселенной, сводом законов которой явля-
ется его творчество. Ренессансное и романтическое пони-
мание художественной личности резко отделены друг от
друга, но здесь нет разрыва взаимосвязей. Впрочем, роман-
тическое понимание личности оказалось достаточно прочной
основой для того, чтобы без существенных изменений до
настоящего времени все еще определять отношение худож-
ника к произведению и к миру, который его окружает.
Хотя в процессе развития наблюдались различные мета-
морфозы, но основная черта романтической концепции, а
* Леонардо да Винчи. Избранное, с. 64.
507
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
именно спонтанность, связывающая произведение и лич-
ность, осталась не затронутой этими изменениями. На пред-
посылке творческой спонтанности была построена — во
второй половине XIX века — и научная психологическая
эстетика, пришедшая на смену прежней спекулятивной эс-
тетике. Лишь потому, что, исходя из предпосылки о спон-
танности творчества, представители психологической эсте-
тики ставили знак равенства между произведением и лич-
ностью, они могли предполагать, что, исследуя
психологический процесс, в результате которого возникло
произведение (или который произведение вызывает в вос-
принимающем), они исследуют само искусство. На предпо-
сылке спонтанной связи между личностью художника и
произведением создавали, впрочем, свои построения и пред-
ставители социологической эстетики типа Тэна. Своим стро-
гим детерминизмом, без остатка объясняющим личность
художника причинным воздействием внешних сил, теория
Тэна, разумеется, производит впечатление абсолютно ан-
тиромантической; однако понимая не только личность ху-
дожника, но и его произведение как «копию окружающих
нравов и отпечаток определенного душевного состояния»,
теория эта выдает, что корни ее прочно уходят в завоевания
романтизма, что вместе с ним она игнорирует все, что в
действительности — как мы увидим — разделяет художе-
ственную личность и произведение. Так, в паре «личность —
произведение» личность все больше заявляет о себе в ущерб
произведению, все больше преобладает над ним.
В конце столетия положение дел уже таково, что про-
изведение в своем отношении к личности представляется
простой случайностью, тогда как главной целью художест-
венного творчества становится сама личность. Доказательств
не нужно искать далеко — приведем лишь несколько фраз
из эссе Шальды «Личность и произведение» («Boje о zitrek»):
«Меньше всего чернь понимает таинство трансцендентности,
личность превышающую созданное ею произведение. А меж-
ду тем произведение лишь в том случае бывает подлинным
художественным деянием, когда личность творца, неизме-
римая и неисповедимая, стоит и дышит за ним как вечность
и тьма за минутой. Произведение лишь тогда бывает ве-
ликим, когда оно создается в силу самой глубокой внут-
ренней необходимости, под давлением, которому нельзя
было противостоять, в силу потребности автора и только
ради нее, для ее роста и его внутренней истории, а не для
508
личность В ИСКУССТВЕ
того, чтобы продемонстрировать вполне удовлетворительное
владение клавиатурой и беглость пальцев... Великое и даже
самое великое художественное произведение не более чем
щепка, отлетевшая из-под стамески гения, осколок пре-
красной внутренней статуи, которую во тьме ваяет из самого
себя и для самого себя великий дух». Здесь мы у вершины
развития того понимания личности в искусстве, которое
зародилось в эпоху Ренессанса, — здесь это понимание уже
превращается в парадокс, хотя и достигает кристальной
ясности и отчетливости, но именно поэтому оно становится
парадоксом, дальше которого идти нельзя. Я отнюдь не
утверждаю, что такое понимание само по себе нежизне-
способно, — если бы я попытался сделать это, меня уличило
бы в ошибке то поэтическое направление, сверстником ко-
торого, а собственно, в течение всей жизни и последовате-
лем, был Шальда, я имею в виду символизм. Ибо символизм,
добившийся как-никак необычайно значительных и достой-
ных всяческого уважения результатов, всю свою теорию об
исключительности искусства, об его аристократизме и т. д.
строил именно на этом парадоксе. И все-таки — как я уже
сказал — дальше идти было невозможно. Хотя романтиче-
ское понимание отношения между художником и произве-
дением теоретически продолжало существовать, de facto оно
выродилось. Требование единственности все возрастало: по-
скольку произведение должно быть безусловным эквива-
лентом психической личности своего творца, но при этом
один и тот же творец может создать целый ряд не похожих
друг на друга произведений, в качестве вспомогательного
понятия возникает понятие переживания^ представляющее
собой не что иное, как личность художника, ограниченную
определенным моментом ее существования. Переживания,
разумеется, могут изменяться, а следовательно, изменяются
и произведения (хотя при этом все время сохраняется пред-
посылка тождества произведения с психическим процессом).
Это, конечно, уже атомизация художественной личности.
Одновременно с теорией переживаний в критике и в обще-
принятых критериях оценки возникает требование, чтобы
каждое художественное произведение было новым и не
похожим на предыдущие; индивидуальность приписывается
уже не только автору, но и произведению. Так создается
своеобразный лабиринт понятий, в котором нелегко разо-
браться. Лишь одно несомненно: столь атомически понятая
«индивидуальность» неожиданно приводит к такому обороту
509
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
дела, что становится аргументом для эклектиков и подра-
жателей, — ибо кто же может чаще, чем подражатель,
обновлять свою «индивидуальность», изменять ее от про-
изведения к произведению? Естественно, при такой нераз-
берихе возникает усталость от чрезмерно разросшейся лич-
ности. Признаки этой усталости различны, и даже весьма
многообразны именно потому, что речь идет скорее об
ощущении негативного протеста, чем о сознательном стрем-
лении к иной концепции. Вот один из этих признаков:
пристрастие к «самому скромному искусству», полународ-
ному и анонимному, где личности не придается никакого
значения. Другой такой признак — по крайней мере тео-
ретическое и программное стремление к тому, чтобы ху-
дожник исчез в толпе остальных, чтобы художниками стали
все люди. Еще один такой признак — попытки включить
художественную деятельность в число иных человеческих
профессий, не отягощенных своеобразием: художник при-
равнивается к ремесленнику или же к рабочему, более того,
время от времени он сам стремится зачислить себя в ре-
месленники или рабочие. Следующий признак: недавно мы
были свидетелями художественного направления, которое
хотя и чрезвычайно настаивало как раз на автоматическом
совпадении произведения с психическим состоянием, но при
этом подчеркивало в своих заявлениях, что оно ищет не
те психические состояния, которые отличаются индивиду-
альностью и неповторимостью, а такие, которые общечело-
вечны и потому не связаны неизбежно с какой-либо лич-
ностью. Наконец, наряду с признаками, проявившимися в
художественной жизни, следует, вероятно, назвать и па-
раллельное явление в научном развитии: психологическая
эстетика уступила место эстетике объективистской, которая
все более настойчиво утверждает, что связь между лично-
стью художника и произведением многозначна и носит кос-
венный характер, а следовательно, отнюдь не является про-
сто спонтанной.
Таково нынешнее положение дел. На этом мы кончаем
исторический обзор проблемы личности в искусстве. Он
показал нам, что самосознание художественной личности,
пришедшее на рубеже средневековья и Нового времени,
последовательно переживало разные превращения, ни одно
из которых не означало возврата к предшествовавшему
состоянию, когда личность в искусстве находилась просто
вне поля зрения (хотя, разумеется, неизбежно существовала
510’
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
и оказывала свое воздействие). И сейчас было бы, вероятно,
неосмотрительно предполагать, что в результате кризиса,
о котором мы только что говорили, художественная личность
совершенно отступит на второй план и произойдет возвра-
щение к идиллическим временам строителей кафедральных
соборов, когда авторству просто не придавалось значения,
а если и придавалось, то к автору относились с ничуть не
большим уважением, чем к ремесленнику, выполняющему
свою работу. Я особо подчеркиваю это, чтобы не могло
возникнуть впечатления, будто я склоняюсь к подобному
взгляду любителей старины, который не лишен привержен-
цев. Я убежден, что, котда само общество и само искусство
создадут новое понимание личности в искусстве, потребность
в котором сейчас ощущается, но еще не удовлетворена, это
будет, как и всегда в процессе развития, понимание, осно-
ванное на предпосылках, данных только что миновавшим
этапом, но придающее этим предпосылкам новый смысл.
Подготовлять рождение такого нового понимания можно
по-разному, и не исключено, что многое из того, что про-
исходит в искусстве и других областях культуры, уже ус-
тремлено к новому пониманию художественной личности,
хотя в данный момент мы этого и не замечаем. Причем у
науки, как было уже сказано, может быть только одна
задача — указать на существование проблемы и попытаться
ее сформулировать.
Мы и попытаемся теперь это сделать. Но с самого начала
нашего рассуждения мы должны абстрагироваться от всего,
что является временным, исторически обусловленным, и
постараться обнажить самое неизменную сущность предме-
та. Именно для того мы и предпослали этому рассуждению
исторический обзор различных пониманий личности в ис-
кусстве, чтобы демаскировать все исторически обусловлен-
ное как временное. И если мы говорим теперь: личность в
искусстве, то не думаем о том, как ее понимал Ренессанс,
не имеем в виду романтическую или символистскую кон-
цепцию. Все это именно лишь концепции, нас же интересует
реальность личности в искусстве, независимая от какого
бы то ни было понимания, реальность, неизбежно сущест-
вовавшая и в средневековом искусстве, которое не знало
художественной личности, и до сих пор существующая в
народном искусстве и в искусстве примитивных народов,
которые ее также не знают. Мы имеем в виду лишь само
художественное произведение и факт, что произведение
511
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
обязано кому-то своим происхождением, ибо только этим
оно отличается от предмета природы. Автор до такой степени
необходим, что мы автоматически ощущали бы его и за
предметом природы, если бы тот благодаря своей случайной
конфигурации производил на нас впечатление художест-
венного произведения. Почему автор создал художественное
произведение? Разумеется, ответы на этот вопрос могут
быть самыми различными, но одно будет общим для всех
этих ответов: создавая произведение, художник думал о
других людях и для них свое произведение создавал. Ибо
в противном случае то, что он создавал, не было бы для
него тем, что мы называем художественным произведением,
это было бы уже чем-то совсем иным. Приведем такой
наглядный пример: актер не играет и не может играть для
себя (игра действительно 4для себя» была бы для него либо
вообще невозможна, либо по крайней мере до такой степени
тягостна, что нервировала бы его: об актерах безумного
баварского короля Людовика , которые должны были играть
для одного только короля, рассказывают, что, играя, они с
нетерпением ожидали, когда зашевелится портьера коро-
левской ложи, а это значило — король в театре; не будучи
уверены в этом, они играли в невыносимом душевном со-
стоянии). Разумеется, можно привести пример, когда «иг-
рают» действительно только для себя и в зрителе не только
не нуждаются, но и отвергают его, — так играют дети, но
поведение ребенка — это как раз нечто совсем иное, чем
искусство, это игра. На примере театра мы старались лишь
наглядно показать свойство, характерное для искусства во-
обще: искусство создается для других, для слушателей,
зрителей, одним словом — для воспринимающего. Если же
в определенные эпохи — я имею в виду как раз период
символизма — необходимость слушателя, зрителя отрица-
лась, то это было лишь программным требованием, — если
бы мы пригляделись к реальному положению вещей, то
увидели бы, что за высказываниями сторонников этого тре-
бования можно расслышать утверждение необходимости вос-
принимающего: то они отвергают широкую публику, но
обращаются к узкому кругу «избранных душ», то хотели
бы иметь публику будущего или публику идеальную, ко-
торой хотя и не существует в действительности, но которая
живет в их представлениях в процессе творчества и воз-
действует на него, и т. д. Итак, при создании художест-
венного произведения всегда неизбежно должны присутст-
512
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
вовать две стороны: тот, кто передает, и тот, кто принимает.
Мы говорим: художник и зритель, или слушатель, чита-
тель — и привыкли видеть две эти стороны резко разде-
ленными: художник активен, инициативен, зритель пасси-
вен. Художник для выполнения своей миссии проходит
обучение, в наше время он, как правило, бывает профес-
сионалом, зритель в своей жизни столь тесцо с искусством
не связан. Мы знаем, однако, что существуют известные
переходные явления. Прежде всего это дилетанты, которые
также проходят выучку, но, по сути дела, и в своем твор-
честве сохраняют пассивность зрителей (подражая). Мы
привыкли игнорировать такие явления как нечто второсте-
пенное, несущественное. Но это исторически создавшееся
положение вещей, которое было таким не всегда. Стоит
нам переступить границы искусства, которое мы называем
«высоким», и обратиться, например, к народному искусству,
как перед нами уже совершенно иная картина. Конечно, и
здесь не нужно днем с огнем искать случаи, когда автор
известен, — так, например, те, кто занимался народным
искусством, часто находили в народе личности более других
художественно одаренные, но различие между автором и
воспринимающим здесь не ощущается, ему вообще не при-
дается значения. Тот, кто всем в окрестности известен как
исполнитель песен, вовсе не обязательно должен быть их
сочинителем, но просто может быть их хранителем (бла-
годаря своей памяти, способностям певца и т. д.) — такова,
например, Эва Студеничова, о которой написал монографию
Плицка* и о которой пишет в своем «Странствии за на-
родным искусством« Папоушкова. Или еще более наглядное
доказательство, засвидетельствованное на Шумаве, — его
приводит немецкий этнограф Юнгбауэр. Случайно ему пред-
ставилась возможность записать песню о деревенской тра-
гедии (парень убит ночью под окном возлюбленной) из уст
самого автора, уже старой женщины, спустя шестьдесят лет
после того, как песня была сложена. Благодаря хорошей
памяти старая женщина верно воспроизвела свое творение —
в нем было 21 четверостишье. Одновременно этнографу
удалось запечатлеть ту же песню в том виде, в каком она
жила спустя шестьдесят лет после своего возникновения в
устах народа. В ней осталось только семь строф, но изме-
нился и весь ее характер: из первоначальной песни ярма-
рочного типа, обстоятельно, с подчеркиванием отдельных
деталей изображавшей реальное событие, за шестьдесят лет
17—888 513
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
получилась чрезвычайно лаконичная и действительно креп-
ко построенная баллада. Исчезнувшие на протяжении лет
строфы, разумеется, забылись, но это забывание явно было
не просто механическим, а и художественно преднамерен-
ным. Кто тут, собственно, автор? Очевидно, авторство пе-
реходит из рук в руки: воспринимающий через минуту
может стать автором, и наоборот. То же происходит и в
некоторых формах народного изобразительного искусства,
например при раскраске пасхальных яиц или росписи стен
дома и его помещений в Моравской Словакии. Хотя каждое
из таких произведений имеет своего автора (крестьянина
или крестьянку) и некоторые из крестьян явно более ода-
рены, чем другие, авторов в нашем смысле слова не суще-
ствует — и здесь грань между автором и обычным зрителем
совершенно стерта. Или, наконец, народный театр: этно-
графы многократно устанавливали, что почти нет границы
между актером и зрителем, — актер, закончивший играть
свою роль или временно не занятый в представлении, сме-
шивается с толпой, а любой человек из толпы, если ему
захочется, может стать участником представления. В итоге
можно сказать: всегда, разумеется, существуют две сторо-
ны — художник и воспринимающий, но эти стороны не
отделены друг от друга какой-либо, четкой границей; как
в разговоре тот, кто в данную минуту говорит, в любую
ближайшую минуту может стать слушателем, точно так же
и в искусстве. И если бы мы захотели совершить подробные
экскурсы в историю разных искусств, мы часто встречались
бы с примерами того, как уже во времена, когда между
автором и воспринимающим делалось различие, роли их
многократно взаимопереплетались. Таков, например, и слу-
чай со старым английским поэтом Чосером, просившим
своего благородного покровителя по собственному усмотре-
нию исправить его произведение, ибо оно должно было
соответствовать взглядам дворянской среды, к которой сам
поэт не принадлежал. Примером такого переплетения в
изобразительном искусстве может служить роль, которую
играли просвещенные ренессансные заказчики, предлагав-
шие художникам сюжеты и т. п. Мы принципиально при-
равняли отношение между художником и воспринимающим
к отношению между говорящим и слушателем; это сравне-
ние, однако, применимо не только к ним, но и к художе-
ственному произведению. Языковое высказывание может
переходить от говорящего к слушателю потому, что оно
514
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
является знаком, в равной мере понятным и говорящему
и слушателю. Говорящий, высказываясь, уже заранее счи-
тается с тем, как слушатель будет понимать его, форму-
лирует свою мысль применительно к слушателю. В точности
то же самое происходит и при создании художественного
произведения. И оно предназначено для того, чтобы восп-
ринимающий понимал его так же, как автор; автор в про-
цессе творчества помнит о воспринимающем, считается с
ним, а воспринимающий в свою очередь воспринимает про-
изведение как авторское проявление и чувствует за ним
автора. Поэтому ошибочны теории, пытающиеся свести ху-
дожественное произведение всего лишь к выражению чувств
и душевных порывов автора. Таким образом, мы неожиданно
пришли к взгляду, резко отличающемуся от привычных
воззрений на художественную личность. Для нас автор уже
не связан неразрывно с произведением, а зритель у^ке не
кажется нам простой случайностью, не имеющей к произ-
ведению существенного отношения, напротив, мы знаем
теперь, что отношения автора и зрителя к произведению
существенно не различаются, что это просто всего лишь
две стороны, посредником между которым служит произ-
ведение, в силу своей способности посредничать и являю-
щееся знаком, а отнюдь не выражением.
Из осознания этого факта нужно будет сделать даль-
нейшие выводы. Но прежде чем мы перейдем к ним, уделим
минуту внимания возможному возражению. Ведь нам могут
сказать, что есть все-таки существенное различие между
словом и художественным произведением. Слово — раз-
менная монета, общее достояние; в слове, взятом самом по
себе, каким мы его, например, находим в словаре, нельзя
обнаружить следов определенной личности, а в художест-
венном произведении мы их находим. Так вот, тут нам
нужно договориться: конечно же, за художественным про-
изведением, в отличие от слова, мы ощущаем личность;
мы уже сказали, что этим оно и отличается от предмета
природы. Мы ощущаем его как «сделанное», как предна-
меренное. А преднамеренность требует наличия субъекта,
от которого она исходит, который является ее источником;
таким образом, художественное произведение предполагает
существование человека. Следовательно, субъект дан не вне
художественного произведения, а в нем самом. Он является
составной частью художественного произведения, причем
не только в тех случаях, когда художественное произведение
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
прямо, открыто выступает как произведение субъективное.
Присутствие и даже вездесущность субъекта в произведении
изобразительного искусства очевидны: выбор темы, ее по-
нимание, выбор и размещение красок, характер мазка (жи-
вописный почерк), перспектива, открывающаяся с опреде-
ленной точки, в которой мы мысленно предполагаем на-
хождение субъекта, — все указывает на его существование.
Подобным же образом дело обстоит и в других искусствах:
субъект есть принцип собственного художественного един-
ства произведения. Он присутствует и там, где кажется
совершенно незримым, например в драматическом диалоге.
Мы видим на сцене драматических персонажей, беседующих
между собой, говорящих, казалось бы, только для своего
собеседника без каких бы то ни было свидетелей, и все-таки,
на самом деле, каждая их фраза обращена не к партнеру,
а к кому-то третьему, на сцене отсутствующему. Только
для него их слова имеют тот смысл, на который они были
рассчитаны. Рассчитал таким способом слова и их значение
субъект, обращены они опять-таки к субъекту. И в сущности
это один, а не два субъекта. Только носителем субъекта
является один раз тот, кого мы называем воспринимающим,
другой раз тот, кого мы зовем автором. Это утверждение
для того, кто его слышит впервые, звучит несколько пара-
доксально. Но ведь нужно принять во внимание, что часто
автор и воспринимающий объединяются в одном лице, и
чаще всего, даже регулярно, они объединяются именно в
лице художника. В тот момент творческого процесса, когда
художник оценивает свое произведение, имея в виду его
будущее воздействие на воспринимающего, когда он дейст-
вительно понимает произведение как художественный знак,
а не как простое изделие, для изготовления которого нужны
такие-то и такие-то технические навыки и средства, в этот
момент он оказывается по отношению к произведению имен-
но в позиции воспринимающего. Как в такие минуты нельзя
отличить автора от воспринимающего, точно так же и в
художественном произведении нельзя делать различия меж-
ду тем и другим; только один субъект содержится в про-
изведении, и определяется он художественной преднаме-
ренностью. Кто в данный момент соприкасается с произве-
дением — тот ли, кто вкладывает в него преднамеренность,
или тот, кто ощущает эту преднамеренность в уже готовом
произведении, — это вопрос иной, решающийся вне самого
произведения.
516
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
Тем, что было сказано выше о субъекте художественного
произведения, мы проложили себе путь к следующему воп-
росу, о котором уже думали перед этим* Если в отношении
автора и воспринимающего к произведению нет существен-
ного различия и если художественное произведение отнюдь
не выражение личности и душевных состояний своего ав-
тора, а знак, посредничающий между двумя сторонами, то
как после этого обстоит дело с теориями, которые интерп-
ретируют художественное произведение с помощью душев-
ных состояний, склонностей и т. д. художника? Начнем с
анекдота* Была у нас когда-то актриса, причем великая
актриса, которая дословно восприняла девиз «Искусство «
выражению личности художника». Так, например, одной
молодой приятельнице, только что вступившей на стезю
искусства, она пишет: «Играй естественно, без аффекта,
старайся сначала все прочувствовать и только потом иг-
рать — вообще стремиться не играть, а жить». Этой ак-
трисой была Гана Квапилова. И случилось однажды, что
виднейший критик Индржих Водак резко отрицательно
оценил ее исполнение в «Росмерсхольме» Ибсена* Он на-
писал: «После признания в четвертом акте мы представляем
себе Ребекку, которую постигло величайшее в ее жизни
разочарование, усталой, разбитой, страстно ожидающей
смерти-избавительницы, а госпожа Квапилова, казалось бы,
могла вновь взять на себя муку всех четырех актов, с еще
худшим Росмером»* И Квапилова ответила на эту критику
целой статьей, которую, однако, при жизни не опублико-
вала, — только после ее смерти эту статью включил в
«Литературное наследие Ганы Квапиловой» Ярослав Квапил.
В этой статье мы находим характерные слова: «Признаюсь,
во время первых двух представлений я хотела попытаться
дать совершенно неактерскую трактовку, показать жизнен-
но последствия рокового удара, — и вижу, что попытка
эта потерпела полный провал. Кто еще мог заметить и
оценить мой труд, если не господин рецензент, который
все так продумал? А господин рецензент не видел... Прав-
дивое, неактерское волнение минуты было поглощено ог-
ромными размерами Национального театра и нашей сцены.
Этим были поглощены и ресурсы зрительского восприятия,
контакт моей Ребекки со зрительным залом был полностью
нарушен, вся тонкая канва моей работы в последнем акте
была поглощена!» Тут мы очень хорошо и наглядно видим
пропасть между выражением и художественным знаком.
517
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Актриса, ориентировавшаяся на выражение, прямое и не-
посредственное выражение душевного состояния, забыла о
том, что художественное произведение есть знак, адресо-
ванный зрителю и служащий посредником между худож-
ником и зрителем; она осталась в плену взгляда, согласно
которому художественное произведение (в данном случае
создаваемый ею драматический персонаж) связано с автором
спонтанно, непроизвольно» Это забвение истинного поло-
жения вещей отомстило ей за себя: критик, и притом зоркий
критик, не заметил той непосредственности переживания,
которую актриса хотела вложить в свою игру, наоборот —
он обвинил актрису в недостаточной прочувствованное™
исполнения. Впрочем, противоречие между непосредствен-
ным выражением и знаком было для Квапиловой основным
трагическим противоречием всего ее художественного твор-
чества. Еще в одном месте «Литературного наследия» мы
находим характерное упоминание о нем. «Я вижу, что моя
Таня была слишком интимной. Последний акт совершенно
уничтожит меня физически и духовно. Можете ли поверить,
что с этого момента датируются мои лихорадки? А к публике
я ее не приблизила! Мне хочется знать, в чем я ошибалась;
не скажете ли мне этого Вы?» — спрашивала она в своем
письме критика.
Надеюсь, эти цитаты совершенно наглядно продемонст-
рировали главную, более того — самую главную для нас
вещь: то, что между художником и произведением не су-
ществует прямой связи, что романтический тезис о спон-
танности, непроизвольности художественного творчества
практически и теоретически устарел (хотя в пору своего
наиболее широкого распространения он был художественно
плодотворен) и что сейчас он более чем близок к падению.
Между художником и его произведением стоит много вещей.
Пришло время вновь уделить внимание активности, со-
знательной или подсознательной, результатом которой яв-
ляется произведение, активности, которая, как мы видели,
была совершенно ясна ренессансному художнику, а также
ренессансной теории искусства (например, Леонардо). Ра-
зумеется, вполне очевидно, что активность художника, бла-
годаря которой отношение между ним и произведением не
может быть понято как произвольное, сегодня будет выгля-
деть значительно сложнее, чем это казалось людям эпохи
Ренессанса. Прежде всего нашему взгляду представится мно-
жество фактов, с которыми художник встречается, на ко-
518
личность В ИСКУССТВЕ
торые наталкивается и которые преодолевает на пути к
своему произведению. В первую очередь, ближе всего к
произведению, мы увидим то, что принято называть живой
художественной традицией. Создание произведения невоз-
можно без известных предпосылок. Уже вследствие того,
что автор намерен создать именно художественное произ-
ведение, он соприкасается с прежним пониманием художе-
ственного произведения и вообще искусства, с предшеству-
ющими художественными приемами, т. е. методами, с по-
мощью которых до сих пор обращались и обращаются с
отдельными элементами художественного произведения. Да-
же если речь будет идти о художнике-революционере, име-
ющем достаточно решимости и силы, чтобы радикально
изменить состояние искусства, которое он застал, ему не
удастся сделать ничего большего, как именно изменить это
состояние, дать почувствовать воспринимающему, что он,
художник, изменил существовавшее ранее положение ве-
щей, а тем самым как раз и ввести это прежнее состояние
искусства в свое произведение, сделав его фоном, на котором
произведение будет восприниматься как новое и небывалое.
И эти традиционные художественные приемы заранее ис-
ключают в произведении всякую возможность непосредст-
венного выражения личности художника. Душевное состо-
яние художника, насколько оно вообще может войти в
произведение, уже заранее ими объективировано, оторвано
от своего источника, превращено в знак. Чтобы стало ясно,
что мы имеем в виду, обратимся еще раз к случаю с Ганой
Квапиловой. Мы видели, что она стремилась дать зрителю —
в качестве художественного произведения — наиболее точ-
ное выражение своего душевного состояния. Мы видели,
что иногда в этих попытках она терпела неудачу, но не
вызывает сомнения, что значительно чаще ей это действи-
тельно удавалось. Согласно собственному субъективному
ощущению актриса в эти минуты действительно жила на
сцене. Но так ли воспринимала ее исполнение и публика?
Вспомним, какое состояние актерского искусства застало,
придя на сцену, поколение представителей сценического
реализма, к которому принадлежала Г. Квапилова. То было
актерское искусство, основанное на мимических и декла-
мационных клише. Слова «я люблю вас» всегда сопровож-
дались определенным привычным жестом; иным, разумеет-
ся, но столь же привычным жестом сопровождались слова
«я вас ненавижу» и т. д. В тот момент, когда это было
519
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
нужно, таким жестом мог воспользоваться любой актер для
любого драматического персонажа без различий. Вследствие
этого, конечно, не могло быть и речи о единстве драмати-
ческого образа — в этом образе не было ничего индивиду-
ального, отличающего его от других. Молодые в ту пору
реалистические актеры, к числу которых принадлежала и
Квапилова, в корне изменили положение вещей: они со-
средоточили внимание на единстве драматической роли,
которое до сего времени игнорировалось, и подчинили жест
этому единству, они лишили его самостоятельности, а тем
самым и шаблонности. Мимика и жесты актера уже не
состоят из отрывочных, четко разграниченных «я люблю
вас» и «я вас ненавижу», а сливаются в непрерывный ряд,
напоминающий «естественную», не имеющую ничего общего
с искусственностью и искусством жестикуляцию и мимику
повседневной жизни. Но публика мгновенно почувствовала
этот контраст между старым и новым актерским искусством,
и при этом сопоставлении новое актерское искусство ощу-
щалось как знак, как следствие художественного замысла,
а отнюдь не как спонтанное проявление. В момент, когда
из сознания публики исчезло сопоставление актерского ре-
ализма с более старым актерским искусством, произошло
нечто еще более доказательное для насг реалистическое
актерское искусство, которое некогда ощущалось как про-
тивоположность шаблонности, само — в руках эпигонов —
стало шаблоном и тем самым совершенно явственно обна-
ружило свою знаковость. Итак, в искусстве нет подлинной,
непосредственной экспрессии, а между художником и про-
изведением стоит художественный замысел (часто даже со-
знательное художественное намерение). Но существуют еще
и другие факторы, разделяющие художника и художест-
венное произведение. Прежде всего со стороны самого ху-
дожника — разные внехудожественные мотивы его творче-
ства, независимо от того, сознает их художник или не
сознает. Таковы, например, экономические мотивы, кото-
рые, правда, считается приличным как бы не замечать, но
в которых, например, ренессансный художник весьма спо-
койно признавался, затем мотивы честолюбия, мотивы, дик-
туемые общественными соображениями, и т. д. И они при-
водят к тому, что произведение художника не может на-
ходиться в прямом отношении к его личности. Что,
например, если в силу одной из этих причин художник
скроет свое подлинное душевное состояние, будет имити-
520
ТЕНДЕНЦИОЗНОЕ ИСКУССТВО
ровать иное и т. д.? Все это заслуживает внимательного
рассмотрения. И наконец, здесь нужно назвать все внешние
влияния, точкой пересечения которых является личность
художника, независимо от того, исходят ли они от общества
или из иных областей культуры и т. д. Если бы мы их
разобрали подробно, могло бы легко возникнуть ошибочное
впечатление, которому как раз поддался Тэн и его привер-
женцы, считавшие, что под ними уже ничего не остается,
что личности художника вообще не существует. Но мы не
хотели бы заходить так далеко, как раз напротив: утвер-
ждая, что путь от личности художника к его произведению
нельзя считать прямым и непосредственным и уже тем
более спонтанным, мы далеки от намерения отрицать лич-
ность художника. Скорее, мы хотели бы подчеркнуть ее
значение. Общественные, общекультурные и художествен-
ные влияния затрагивают личность лишь таким образом и
настолько, насколько она сама (сознательно или подсозна-
тельно) это допускает. Личность не сумма влияний, а их
взаимное равновесие, их подчинение и господство по отно-
шению друг к другу. В этом и этим личность художника,
так же как всякая другая, проявляет силу своей инициативы.
Короче говоря, мы думаем, что быть личностью — вовсе
не означает раствориться во внешних влияниях как срль в
воде. Сказанное относится также и к личности в искусстве.
Если что устарело и заслуживает корректировки, то это
лишь взгляд, согласно которому слава и значение художе-
ственной личности заключаются в том, чтобы она в своем
произведении без остатка, а по сути дела, пассивно выразила
себя. Если, как мы надеемся, будущее развитие искусства и
будущее положение художника и освободит его от чего-либо,
то избавлен он будет лишь от грустной обязанности пестовать,
как оранжерейный цветок, свою личность и индивидуальность
и заботиться о них, как тенор о своем голосе.
ТЕНДЕНЦИОЗНОЕ ИСКУССТВО
Тенденциозное искусство — это искусство, в котором
над эстетической направленностью преобладает стремление
активно воздействовать на чувства и волю читателей и тем
521
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
самым и на их поведение. Чаще всего термин «тенденция»
используется применительно к поэтическому искусству.
•Тенденционную поэзию следует отличать от дидактической,
в которой также акцентируется внеэстетическое воздействие
произведения, но в смысле воздействия на познавательные
способности читателя, на его интеллект. .Тенденциозное
поэтическое искусство, оказывающее влияние на изменчи-
вую ориентацию чувствований и желаний человека, так же
как всякое иное тенденциозное искусство, неотделимо от
актуальности.
Тенденциозность часто отождествляется с преобладанием
«содержательных», т. е. коммуникативных, моментов над
«формальными», т. е. эстетическими, и потому противопо-
ставляется так называемому искусству для искусства. Эта
полярность действительно выступает в истории европейского
поэтического искусства, особенно поэтического искусства
XIX и XX веков, как характерная черта развития в том
смысле, что за поэтическим течением с художественной
направленностью часто следовало течение, склоняющееся
к тенденциозности, или наоборот; так, например, художе-
ственно направленный ранний романтизм в европейских
литературах XIX века сменился поздним романтизмом трид-
цатых — пятидесятых годов (во французской литературе
Жорж Санд и др., в немецкой — «Молодая Германия»),
подчеркивающим утилитарность поэтического высказыва-
ния. Поэтические направления, существующие параллель-
но, также иногда отличаются друг от друга своим проти-
воположным отношением к паре: тенденция — художест-
венная точка зрения; ср., например, в чешской поэзии 90-х
годов прошлого века взаимоотношения между махаровским1
«реализмом» и бржезиновским символизмом. Тем не менее
полярность тенденции и «формы» не единственное проти-
воречие, определяющее развитие тенденциозного поэтиче-
ского искусства. Наряду с данным противоречием сущест-
вует и напряжение между этим родом литературы и ди-
дактическим поэтическим искусством в самом широком
смысле слова: натурализм XIX столетия, открыто провозг-
ласивший намерение создать «естествознание человека», от-
вергал не только художественную направленность, но и
какую бы то ни было тенденцию вообще. С другой стороны,
противоречие между тенденциозно-коммуникативной и
«формально»-художественной ориентацией не настолько
глубоко затрагивает самую суть тенденциозного искусства,
522
ТЕНДЕНЦИОЗНОЕ ИСКУССТВО
чтобы эти ориентации взаимоисключали друг друга: дока-
зательство этого дал футуризм в Италии и России, стре-
мившийся соединить оба момента.
Преобладание «формы» над сообщением в самом деле
не обязательно должно стать для тенденции существенным
препятствием: уже само по себе звучание речи, сопровож-
даемое мерцанием неопределенных, но сильно эмоционально
окрашенных значений, способно воздействовать на чувство
в направлении, определяемом общим, пусть даже туманным
смыслом произведения. Даже и в тех случаях, когда тен-
денция не опирается на «формальные» средства преимуще-
ственно, она действенно использует их в своих целях. Из
языковых средств для нее особенно пригодны следующие:
определенный характер интонации («пафос»), эмоционально
окрашенные слова, различные синтаксические конструкции,
усиливающие чувственную интенсивность высказывания
или устанавливающие прямой контакт между автором и
читателем (восклицание, риторический вопрос), далее ис-
пользование функциональных стилей, например языка раз-
говорного или просторечия, с целью сближения с читателем;
с успехом применяется также диалогическая форма выска-
зывания. Из средств, находящихся на рубеже* между язы-
ковым и тематическим планом, нужно особо упомянуть об
иронии, сарказме и различных полемических приемах.
В распоряжении тенденциозного поэтического искусства на-
ходятся все эти средства, но оно не обязано всегда их
применять. Иногда оно отказывается от них, маскируясь
кажущейся объективностью, — так возникает «скрытая»
тенденция. Отдельные поэтические жанры неодинаково ве-
дут себя по отношению к тенденции, хотя любой поэтиче-
ский жанр может служить тенденции; басня, притча, ал-
легория, эпиграмма и сатира уже по самой своей сущности
стоят к тенденции ближе, чем, например, баллада. И во
всей сфере литературы тенденция распространена неравно-
мерно: одни «области» используют ее интенсивнее, чем
другие, так, например, в поэтическом искусстве, предназ-
наченном для детей, тенденция встречается значительно
чаще, чем в литературе для взрослых, в религиозной поэзии
чаще, чем в светской, и т. д. Однако тенденция в письмен-
ности не ограничивается рамками поэзии, пусть даже в
самом широком смысле этого слова; существуют и непоэ-
тические тенденциозные жанры, такова в особенности ора-
торская проза, многие жанры журналистской прозы и по-
523
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
лемика; когда в прозаическом и стихотворном поэтическом
искусстве начинает преобладать склонность к тенденции,
одновременно наблюдается проникновение в него журнали-
стских или ораторских приемов. Наряду с поэтическим
искусством тенденция находит применение и в других видах
искусства, особенно в театре, кино, живописи. Спектакль
и фильм, адресованные собравшейся публике и непосред-
ственно воздействующие на коллективную психику, связаны
с тенденцией почти неразрывно; иногда публика находит
тенденцию и в нетенденциозных пьесах — отсюда различие
между степенью строгости театральной и литературной цен-
зуры. Особенно кино ввиду своей склонности к тенденци-
озности служит действенным средством пропаганды. В жи-
вописи тенденция находит применение тем легче, чем ближе
к идеограмме способ живописного выражения; поэтому ри-
сунок чаще бывает тенденциозным, чем живописное полот-
но. Среди жанров живописи открыто тенденциозный харак-
тер имеет карикатура, затем плакат. Из остальных видов
искусства для тенденции доступны лишь ваяние и мими-
ческий танец; однако ваяние отдаляется от нее благодаря
своему пристрастию к монументальности, которая находится
в противоречии с актуальностью; относительно легко под-
чиняется интересам тенденции малогабаритная скульптура,
в особенности та, которая находится на рубеже между
искусством и художественным ремеслом. Музыке и архи-
тектуре прямая тенденция не свойственна в силу атема-
тичности этих видов искусства: значение, которое они вы-
ражают, слишком неопределенно, чтобы посредством его
можно было воздействовать на убеждения воспринимающе-
го. Но вокальная музыка может обрести огромную пропа-
гандистскую действенность вследствие своей способности
окрашивать слово чувством. Впрочем, тенденции служит и
чистая музыка, если та или иная мелодия станет условным
символом и средством пропаганды определенной мысли,
определенного общественного движения, и т. п. Тенденция
внешне проявляется лишь при воздействии художественного
произведения на публику, но, как правило, она заключена
уже в самом произведении не только как содержательный
элемент, но и как составная часть художественного постро-
ения; иногда произведение только имитирует тенденцию с
целью усиления художественного воздействия. Поэтому и
склонность к тенденции в известные периоды развития, и
отход от нее в другие периоды отражаются на состоянии
524
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
художественной структуры: так, усиливающаяся тенденци-
озность сопровождается широким использованием художе-
ственных приемов, ей благоприятствующих. Художествен-
ного воздействия тенденция, включенная в конструкцию
произведения, не лишается даже тогда, когда с течением
времени она утрачивает свое актуальное значение. Этим
мы можем объяснить тот факт, что многие тенденциозные
произведения без урона переживают актуальные внеэсте-
тические импульсы, которые вызвали их к жизни. Таковы,
например, стихи Гавличека или карикатуры Домье. Худо-
жественное построение и содержащаяся в нем тенденция
вытекают из замысла автора, но каким будет реальное
воздействие произведения — решает публика, порой вкла-
дывающая тенденцию, которую настоятельно требует эпоха,
в произведение, задуманное автором как нетенденциозное;
это может иметь место и когда речь идет о старом произ-
ведении, и когда речь идет о произведении современном
(ср. то, что было сказано о театре). Нет недостатка и в
таких примерах, когда тенденциозное произведение бывало
воспринимаемо обществом как творение чисто художест-
венное. Вспомним, например, протест Безруча в стихотво-
рениях «Читателю стихов» и «Успех» против эстетического
понимания тенденциозных «Силезских песен». Тенденция —
наиболее зримый показатель неразделимой взаимосвязи ис-
кусства с обществом и непреходящего взаимного напряже-
ния между ними; поэтому она является предметом изучения
в равной мере и социологии искусства, и его теории. Соц-
иология искусства должна, например, ответить на вопрос,
почему определенная эпоха нуждается в тенденциозном
искусстве, из какой общественной среды исходит опреде-
ленная тенденция, какой среде она адресована, как прояв-
ляется она во всем обществе и т. п.
ИСКУССТВО
И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Вопрос об отношении между мировоззрением и искус-
ством кажется нам в высшей степени самим собой разуме-
ющимся и даже простым. Критика научила нас оценивать
525
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
художественное произведение на основе выраженного в нем
отношения к действительности и свойственного ему способа
овладения ею; история искусства до недавнего времени была
скорее историей мировоззрения, чем историей самого ис-
кусства, а искусствоведение построило обширные теории на
тезисе о том, что искусство, изображая действительность,
дает картину ее в свете определенного воззрения.
Когда какой-нибудь вопрос становится настолько само-
очевидным, как раз настает время подвергнуть его корен-
ному пересмотру. Хотя короткая лекция, к тому же еще
популяризаторского характера, не предоставляет достаточ-
ного места для такой принципиальной ревизии, мы не счи-
таем излишней попытку наметить ее по крайней мере в
наиболее общих очертаниях.
Когда мы говорим: искусство и мировоззрение, прежде
всего нужно осознать, что мы намерены понимать под этими
двумя понятиями. Так, под мировоззрением мы можем
подразумевать несколько вещей. Прежде всего так обычно
называют спонтанное отношение человека той или иной
эпохи (представителя определенного общественного слоя и
определенной нации) к действительности, не только если
он хочет художественно изобразить ее, но и всякий раз,
кшда он воздействует на нее или о ней размышляет. На-
пример, сюда будет входить то, как он относится к про-
странству, времени, вечности и т. д. Дагоберт Фрей1 в своем
труде «Gotik und Renaissance» чрезвычайно наглядно пока-
зал, что, в частности, понимание пространства в эпоху
средневековья совсем иное, чем в эпоху Ренессанса, причем
не только в живописи и вообще изобразительных искусствах,
но даже, например, в способе, с помощью которого в средние
века и в эпоху Ренессанса делалась географическая карта.
Следовательно, мы могли бы говорить об определенной
гносеологической базе, на которой конкретная эпоха, об-
щество, класс и т. д. строят свое поведение, мышление,
мироощущение, а также художественное творчество. Но это
не единственное, что можно подразумевать под мировоз-
зрением. Мы можем иметь в виду и определенную (более
или менее последовательную) систему мысленных содержа-
ний, определенную идеологию. Идеология также, разуме-
ется, воздействует на человеческое поведение, мышление
и художественное творчество, и даже совершенно несом-
ненно, что глубокое изменение идеологии тесно связано с
изменением гносеологической базы (частью обусловливая
526
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
его, частью будучи им обусловлено) и что, наоборот, оп-
ределенная гносеологическая база хотя и может примирить-
ся с известными идеологическими различиями, все же до-
пускает отнюдь не какую угодно идеологию. Несмотря на
эту тесную связь, конечно, может иметь место неравномер-
ность развития; так случается, например, при резких иде-
ологических переменах, когда гносеологическая база не ус-
певает измениться столь же быстро, как изменяется в своих
основах идеология. Наглядный пример дает как раз искус-
ство. Приход христианства, несомненно, означал глубокий
идеологический переворот, который неизбежно требовал из-
менения гносеологической базы, а вместе с тем, конечно,
и перестройки всей структуры формообразующих элементов
произведения. Однако мы видим, что столь радикальная
революция не смогла в первый момент, отраженный в жи-
вописи катакомб, коренным образом изменить, переплавить
даже такой особенно легко поддающийся идеологическому
вмешательству элемент произведения, как сюжет. Желая,
например, запечатлеть Христа, художники эпохи раннего
христианства используют античные изобразительные сюже-
ты, рисуя Христа как античного Гермеса Криофороса , юно-
шу, рядом с которым стоит овца или который несет овцу
на плечах. Поскольку, согласно евангелию, Христос (осо-
бенно в притче об утраченной и вновь найденной овце)
сам себя назвал «добрым пастырем», изображение Гермеса
Криофороса без каких-либо изменений изобразительного
построения становится изображением Христа. Иной же раз
для изображения Христа заимствуется античный изобрази-
тельный сюжет Орфея. И стиль живописи раннего христи-
анства, как говорит Матейчек, является «продуктом того
живого иллюзионистского стиля, который господствовал в
современной римской декоративной живописи». Это, разу-
меется, весьма характерно для противоречия между гносе-
ологической базой и идеологией, которой служит ранне-
христианская картина. Ведь цель этой идеологии не иллю-
зорное постижение действительности, а символическое
значение изображения. Вот почему позднее, когда новая
идеология создаст и собственную гносеологическую базу,
живописный стиль кардинально изменится: иллюзорное изо-
бражение сменит упрощенная идеограмма, античные заво-
евания в области перспективы будут преданы забвению,
пространство приобретет абстрактный характер. Впредь иде-
ология и гносеологическая база вновь будут развиваться
527
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
параллельно. Но момент, когда между ними настало вре-
менное расхождение (в раннехристианском искусстве), слу-
жит для нас поучительным примером: он показывает, что
при всей своей взаимозависимости гносеологическая база и
идеология суть два самостоятельных явления, хотя, как пра-
вило, их объединяют под одним названием «мировоззрение».
Но применительно к искусству мы можем понимать под
мировоззрением и нечто третье — определенную философ-
скую систему. Между идеологией и философской системой
нет резкой грани. В особенности применительно к искусству
порой бывает нелегко сказать, где кончается одно и начи-
нается другое. Даже рубеж между системой философских
воззрений и гносеологической базой именно в искусстве
бывает неопределенным. В результате возникают споры,
является или не является произведение определенного ху-
дожника выражением однозначного и систематизированного
мировоззрения. Систему философских взглядов можно пы-
таться обнаружить в художественном произведении двояким
способом: либо ставя вопрос о степени близости художест-
венного произведения известной философской системе, су-
ществующей вне произведения как результат философской
спекуляции, либо исследуя «философию», содержащуюся в
самом произведении и выраженную только им (так может
ставиться вопрос о философии Бржезины или Махи). Оба
эти способа могут, конечно, взаимопереплетаться, но тем
не менее они настолько отличаются друг от друга, что
можно говорить о большей надежности, большей научной
доказательности первого из них по сравнению со вторым.
Дело в том, что, если мы выясним отношение художест-
венного произведения к определенной философской системе
(например, отношение поэтического наследия Бржезины к
философской системе Шопенгауэра, отношение поэтическо-
го наследия Бржезины к романтической философии или
отношение Чапека — к философии прагматизма), мы имеем
перед собой два разных материала, поддающихся проверке,
и сравниваем их. Если же мы хотим обнаружить «филосо-
фию» определенного художественного произведения, взятого
самого по себе, то имеем перед собой только это произве-
дение, которое и стараемся перевести на язык понятий.
Легко понять, что при таком «переводе» существует посто-
янная опасность субъективной трактовки. Недаром был пу-
щен в ход афоризм о том, что размышления относительно
так называемой философии определенных поэтических про-
528
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
изведений, как правило, представляют собой толкование
философии самого исследователя, иллюстрируемой цитата-
ми из разбираемого поэта.
Итак, мы осознали сложность понятия «мировоззрение»
в его отношении к искусству. Мы увидели, что под этим
словом можно понимать три различные вещи, каждую из
которых в отдельности можно изучать в ее отношении к
художественному творчеству. Мы не стремимся, разумеется,
подчеркивать существенные различия между этими тремя
направлениями исследований; напротив, мы уже обращали
внимание слушателей на тот факт, что гносеологическая
база и идеология порой могут сливаться до полной нераз-
личимости; что касается философской системы, то, как
вполне очевидно, различие между нею и мировоззрением
как идеологией заключается порой лишь в более строгой
систематичности и более четких формулировках, присущих
тому, что мы называем философской системой. Поэтому
было бы нецелесообразно эти три вида изучения искусства
(гносеологическое, идеологическое и философское) резко
отделять друг от друга, особенно при изучении художест-
венного развития. .Ведь может статься, что в тех метамор-
фозах, которые искусство переживает в процессе своего
развития, на первый план будет выступать то одна, то
другая, то третья из сторон, являющихся, собственно, лишь
разными аспектами более общезначимого отношения между
искусством и мировоззрением. Поэтому и мы в своих даль-
нейших рассуждениях не будем делать между ними резких
различий.
Мы удостоверились в сущности понятия «мировоззрение»
и проанализировали его применительно к искусству. Но
нужно еще — с точки зрения нашей темы — подвергнуть
хотя бы беглой критике и само понятие «искусство». Для
современной теории искусства это понятие отнюдь не од-
нозначно. Внимание теоретика привлекает как висящая в
галерее картина, так и народная роспись на стекле или
рекламный плакат, как лирическое стихотворение признан-
ного поэта, так и детская считалка или рифмованная ли-
стовка. Каждое из этих творений на свой манер нечто
говорит о многостороннем процессе человеческого творче-
ства. Равноценны ли все эти виды художественного твор-
чества и в плане отношения между искусством и мировоз-
зрением? Спору нет, вопрос о мировоззрении может быть
с успехом поставлен применительно к любому виду чело-
529
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
веческого творчества. И все же ясно, что особое значение
оно имеет именно для искусства в более узком смысле
слова, для того искусства, которое пользуется общеприз-
нанным правом на это название и которое — в отличие от
других видов эстетического творчества — называют высоким
искусством. Можно пойти еще дальше и взять на себя
смелость утверждать, что тесная связь с мировоззрением —
характерный и даже специфический признак так называе-
мого высокого искусства. Обычно считается, что это искус-
ство ограничено своей социальной обусловленностью, что
это искусство господствующего класса. Не может быть двух
мнений о принципиальной исторической правильности этого
определения^ однако отношение между высоким искусством
и господствующим классом нельзя понимать чересчур пря-
молинейно. По собственному, опыту мы знаем, что не все
представители господствующего класса достигли в своем
художественном развитии понимания высокого искусства и
что, наоборот, нетрудно найти случаи, когда высокое ис-
кусство встречало самый горячий прием вне господствую-
щего класса. Как раз к недавним десятилетиям относятся
также многочисленные утверждения художников, что они
не творят для тех, у кого одно только право на их твор-
чество — богатство, позволяющее платить за их произве-
дения, например, картины, скульптуры. Весьма вероятно,
далее, что так называемое высокое искусство не исчезнет
даже при полном устранении классового неравенства и что
в результате расширения своей социальной основы до мас-
штабов целого общества оно, скорее, еще разрастется и
станет более совершенным. Следовательно, нужно искать
какой-то другой характерный для него признак, а подобным
признаком, кажется, было, есть и будет то обстоятельство,
что высокое искусство предъявляет — или должно предъ-
являть — к воспринимающему определенные требования,
ставит перед ним вопросы, апеллирует к его активности.
Именно такое искусство находится в живом контакте с тем,
что мы называем мировоззрением во всех трех его формах.
Быть в живом контакте с мировоззрением не единственная
функция искусства, в том числе высокого. Тут есть мно-
жество других функций, включая столь далекую от всяких
устремлений функцию, как функция рекреативная — ис-
кусство в качестве средства отдыха и развлечения. И каждое
художественное произведение способно осуществлять целый
ряд функций. Речь идет лишь о том, что в искусстве,
530
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
условно называемом высоким, живой контакт с мировозз-
рением является характерной, всегда наличествующей фун-
кцией. Впрочем, это весьма убедительно продемонстрирует
нам и критика, и как раз чешская критика в своих высших
проявлениях. Мы имеем в виду прежде всего Ф. К. Шальду.
Жизненной задачей Шальды, целью всех его критических
выступлений было стремление акклиматизировать, узако-
нить в Чехии и в чешском художественном движении по-
нятие искусства, действительно высокого в подлинном смыс-
ле слова, и добиться реального утверждения такого искус-
ства. Причем у него и мысли не было об искусстве для
искусства; величие искусства он видел именно в его слу-
жебное™. Но это было, как он любил говорить, служение
«духу». Иными словами, он призывал искусство служить
посредством контакта с мировоззрением. Когда мы читаем
его критические статьи и эссе, бросается в глаза, насколько
упорно старался он за каждым произведением и его худо-
жественными приемами нащупать отношение автора к дей-
ствительности, его ответ на основные вопросы человеческой
жизни. Таким образом, Шальда — хрестоматийный пример
того, что само понятие высокого искусства содержит как
существеннейший свой признак связь художественного твор-
чества с мировоззрением.
Теперь, после того как мы подвергли пересмотру и кри-
тике оба понятия, подсказанных нашей темой (при этом
невольно мы в известной мере проникли и в самое тему),
зададим себе вопрос, который, постоянно возникал за всеми
нашими предыдущими рассуждениями и который настоя-
тельно требует ответа: каково же то отношение между
искусством и мировоззрением, о котором мы до сих пор
все время говорили, избегая более непосредственного его
определения? Начнем с отношения между искусством и
тем, что мы назвали гносеологической основой. Художест-
венное произведение — это построение, слагающееся из
множества элементов. Например, в живописном произведе-
нии элементы таковы: плоскость, линия, цветовое пятно;
от этих элементов зависят, далее, контур, объем, простран-
ство и, наконец, на самой высшей ступени сложности —
вещь, место действия, действие. Ни один из этих элементов,
даже такой простой, как линия и цветовое пятно, не яв-
ляется лишь фактом чувственного восприятия. Каждый из
них одновременно находится в каком-то отношении к дей-
ствительности, подразумеваемой данной картиной. Иными
531
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
словами, каждый из этих элементов по-своему как-то эту
действительность обозначает, указывает на нее, подчерки-
вает какую-то ее сторону. Внутри произведения эти отдель-
ные элементы вступают во взаимоотношения, их частичные
значения объединяются в общее значение и их частичные
отношения к действительности в общее указание на нее.
Действительность с какой-то стороны освещена произведе-
нием, подчеркнуты какие-то ее аспекты и свойства, иные
же отодвинуты на задний план; этим дается направление
человеческим действиям и размышлениям, короче — ука-
зывается определенный способ обхождения с действитель-
ностью. И такое объяснение касается не только отдельного
явления, одной вещи, личности, одного действия, но может
быть применено и к действительности как целому, ко всем
конкретным фактам действительности, с которыми может
соприкоснуться человек.
Хотим ли мы этим сказать, что искусство создает гно-
сеологическую базу человеческого поведения, способ осво-
ения и созидания действительности? Многие теоретики и
критики недавнего времени проявляли значительную склон-
ность к такому пониманию. К их числу принадлежал и
Шальда в пору, когда писал свою книгу «Борьба за буду-
щее», — на страницах ее вы без труда найдете множество
высказываний, выдержанных в этом духе. Позднее, когда
Шальда издавал «Zapisnfk» , он был уже гораздо осторожней
в утверждении силы искусства. В спокойные периоды, когда
гносеологическая база медленно и непрерывно развивается,
может возникнуть впечатление, будто инициатива в ее
развитии принадлежит тому виду человеческой деятельно-
сти, который в наиболее обнаженной форме проявляет ми-
ровоззрение, поскольку сам не отягощен какими бы то ни
было практическими задачами, т. е. принадлежит как раз
художественной деятельности. Но это всего-навсего кажи-
мость, о чем свидетельствуют периоды ускоренного разви-
тия, резких переломов. Мы уже указали на пример ран-
нехристианского искусства, которое длительное время ис-
кало свое отношение к обновленному пониманию мира и
действительности, хотя это новое отношение к действитель-
ности неизбежно существовало в жизненной практике. С та-
ким же правом мы могли бы указать и на растерянность
искусства в нашу эпоху, когда оно тоже временно вынуж-
дено овладевать действительностью (или, скорее, пытаться
овладеть действительностью) средствами, давно уже лишив-
532
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
шимися своей непосредственной и жизненной гносеологи-
ческой действенности. Все мы, например, чувствуем, что
роман как жанр, который воспринимает человека лишь в
качестве отдельной личности, частного существа, который
стержнем отношения человека к действительности делает
его сугубо личные ощущения и порывы, уже отжил; тем
не менее традиционный выбор сюжетов и традиционный
запас художественных приемов толкают перо романописца
все в том же направлении. Таким образом, искусство не
является безоговорочным творцом гносеологической базы,
инициатором ее движения; действительная инициатива на-
ходится отнюдь не здесь, а непосредственно в значительно
более важных областях человеческого поведения. Марксизм
правильно указывает на производственный процесс как на
последнюю и основополагающую инстанцию; лишь один
производственный процесс, служащий защите самого суще-
ствования человека и человечества, своими изменениями и
переворотами оказывает действительно инициативное дав-
ление на отношение человека к действительности. Разуме-
ется, мы не считаем и марксизм не считает, что искусство
пассивно. Так же, как всякая иная область культуры, ис-
кусство развивается не только под давлением извне, но и
в силу собственной потребности, оказывая этим своим раз-
витием обратное влияние на все остальные отрасли куль-
туры, а тем самым и на отношение человека к действи-
тельности, на характер направленных на нее действий
человека. Следовательно, отношение искусства к гносеоло-
гической базе одновременно и пассивное и активное; пас-
сивное в том смысле, что искусство зависит от изменений
гносеологической базы, связанных с развитием производст-
венного процесса, активное же в том смысле, что своим
развитием искусство (наряду с другими областями челове-
ческого творчества) подготавливает эти изменения и влияет
на их характер.
Теперь мы переходим к идеологии, к комплексам кон-
кретных, поддающихся передаче идей и взглядов. Здесь
инициатива искусства подчеркивается значительно меньше,
более того, существуют, как известно, многочисленные те-
ории и художественные программы, которые завляют о
полной незаинтересованности искусства во взглядах прак-
тического порядка. Искусство, стремящееся пропагандиро-
вать определенные воззрения, ставящее своей целью прямое
воздействие на человеческое мышление и поведение, подо-
533
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
бные направления клеймят как тенденциозное, причем тен-
денциозность молча признается или громко провозглашается
изъяном. Но теория искусства, придерживающаяся маркси-
стской ориентации, указывает, и опять же вполне справед-
ливо, на то, что даже искусство, которое представляется
нам абсолютно нетенденциозным, активно связано с идео-
логией и часто воздействует на человеческое поведение и
мышление как раз тем, что отвлекает внимание от опре-
деленной идеологии или выдает ее совершенно практическое
значение за нечто маловажное и лишенное чьей бы то ни
было конкретной заинтересованности. Таким образом, от-
ношение между искусством и идеологией сходно с тем от-
ношением, которое, как мы установили, существует между
искусством и гносеологической базой: хотя искусство и не
создает идеологии, оно находится в живом контакте с нею
и благодаря своему непосредственному влиянию служит
действенным средством ее претворения в жизнь, мостом-
между нею и обществом.
Остается отношение между искусством и философией
как наиболее систематическим и наиболее отчетливо сфор-
мулированным аспектом мировоззрения. Здесь уже речь
идет о двух четко ограниченных областях культурного твор-
чества. В процессе развития они могут взаимно сближаться
и отдаляться, одна из них может перевешивать, подчинять
другую, между ними может возникать и равновесие. Ис-
кусство может даже стараться придать себе видимость фи-
лософского творчества (вспомним, например, так называе-
мую философскую или медитативную лирику), и в свою
очередь философия может пытаться придать себе видимость
художественного творчества, — недаром великое множество
страниц было посвящено размышлениям о том, что мета-
физике неотъемлемо присуща поэтичность, рассуждениям
о художественной композиции философских систем и т. д.
Нас здесь, конечно, интересует искусство, а отнюдь не
философия; из истории же искусства можно было бы при-
вести многочисленные примеры, как определенная фило-
софская система находила разностороннее отражение в ис-
кусстве, например, оказывая влияние на выбор сюжета
(так, одним сюжетам будет отдавать предпочтение фило-
софский реализм, другим — фикционализм, третьим —
прагматизм), воздействуя на художественное построение
произведения (например, в эпическом произведении разным
философским системам могут соответствовать разные спо-
534
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
собы и средства повествования) и т. д. Но всегда речь идет
о том, чтобы, стремясь найти близость между художест-
венным произведением и определенным философским взгля-
дом, мы, с одной стороны, искали следы его присутствия
во всех элементах художественного построения произведе-
ния, а не только, например, в прямых философских вы-
сказываниях, какие мы порой находим преимущественно в
поэтических произведениях, с другой же стороны, чтобы
мы не вносили в эти поиски собственный субъективный
произвол, как иногда происходит преимущественно опять-
таки при «философских» разборах поэтических произведе-
ний.
Итак, контакт между мировоззрением во всех трех его
аспектах и искусством чрезвычайно тесен. Мировоззрение,
независимо от того, проявляется ли оно как гносеологиче-
ская база, как идеология или, наконец, как философская
система, существует не только вне художественного произ-
ведения как нечто им выражаемое, но и становится непос-
редственным принципом его художественного построения,
воздействует на взаимоотношения его элементов и на общее
значение художественного знака, каковым является произ-
ведение. Таким образом, оно является элементом художе-
ственного произведения, но элементом особого рода, кото-
рый одновременно находится и внутри и вне его, элементом,
который служит весьма действенным связующим звеном
прежде всего между искусством и всей широкой сферой
человеческой культуры и отдельными ее слагаемыми —
наукой, политикой и т. д., а также между искусством и
всеми отраслями материального производства. Вся сфера
искусства в своем понимании действительности испытывает
влияние мировоззрения и реагирует на него и как целое,
и своими отдельными элементами. Многие кажущиеся вза-
имные влияния, например, взаимосвязи между искусством
и наукой, определяются, собственно, общностью мировозз-
рения, создающего фон, на котором развиваются обе эти
области культуры. И если в известный период развития
господствующим, более важным, чем другие, становится
один элемент культуры (например, искусство, наука и т. д.),
а в другой период на передний план выступает иной элемент,
то и эти сдвиги в значительной мере объясняются развитием
мировоззрения. Но и мировоззрение, как мы уже пытались
показать, не парит, как облако, над землей и прочно вклю-
чено, с одной стороны, в жизнь общества, с другой — в
535
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
развитие производственного процесса. Поэтому оно нахо-
дится в постоянном движении, участвует во внутренних
напряжениях, возникающих в ходе общественного развития
и в результате взаимоотношений отдельных слоев, классов
и т. д. Оно служит (в форме идеологии) и средством борьбы
между классами и слоями. И наконец, оно, как мы уже
показали, прочно связано с производственным процессом
как самым непосредственным проявлением единоборства че-
ловека с материальной действительностью. В применении
к искусству это означает, что мировоззрение связывает его
с питательной почвой общественной и. материальной дей-
ствительности, что с помощью и через посредство мировоз-
зрения искусство прямо, без каких-либо четких границ
вливается в остальную культурную деятельность и в чело-
веческую жизнь во всем ее объеме. Мы говорим это, разу-
меется, не для того, чтобы преумалить действенность ос-
тальных функций искусства по сравнению с мировоззрен-
ческой: и тем, что искусство является, например, формой
познания, средством развлечения, репрезентации, воспита-
ния и т. д., оно прямо воздействует на жизнь общества; и
сама эстетическая функция, свойственная любому искусству
и играющая в нем первостепенную роль, также оказывает
важное общественное воздействие (подробно анализировать
которое, конечно, было бы здесь неуместно). Но при этом,
однако, остается в силе все, что мы сказали выше: контакт
с мировоззрением — это функция, характерная для искус-
ства, называемого высоким, и, таким образом, последствия,
вытекающие из этого контакта, крайне важны именно для
высокого искусства.
Наконец нужно обратить внимание на ту особую важ-
ность, какую имеет вопрос об отношении между мировоз-
зрением и искусством как раз для чешского художественного
творчества. Уже выше, анализируя понятие высокого ис-
кусства и упомянув при этом имя Ф. К. Шальды, мы ска-
зали, что Шальда всю жизнь стремился акклиматизировать
и узаконить у нас искусство, имеющее к мировоззрению
живое, ответственное и — добавим — органичное отноше-
ние. На этом требовании Шальда построил все свое пони-
мание национального искусства: «Первый признак и, более
того, сама сущность и сам смысл истинно национального
искусства — это, как всегда было, есть и должно быть, его
положительный характер, а сие означает, что оно должно
не описывать и тем самым повторять и приумножать сла-
536
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
бости, недостатки и отрицательные стороны современности,
а усиливать и укреплять национальные ценности. Оно дол-
жно — скажем одним словом — драматизировать нацио-
нальные добродетели, т. е. показать нам скрытые и вместе
с тем высочайшие возможности национальной души в труде
и метафизическом созидании, играющем в мировой драме
свою символическую и типическую роль, оно должно пред-
ставить нам их усиленными в положительном смысле и
опаленными огнем сердца, всей его тоски, и построение и
метод этого драматического решения во всем должны быть
его собственными, воплощая героизм его самой страстной
мечты». Если мы оставим в стороне характерную для рубежа
столетий лирически окрашенную терминологию этого от-
крывка, то заметим, что здесь весьма явственно выдвинуты
два требования: чтобы искусство помогало создавать миро-
воззрение будущего, причем мировоззрение чешское, вы-
растающее из отечественной действительности и отвечаю-
щее ее запросам, а отнюдь не заимствованное и не явля-
ющееся продуктом другой действительности. Шальда
хорошо понимал также, что только такое искусство может
выполнить свое национальное общественное назначение:
«Каждое великое произведение поэзии есть диалог между
поэтом и нацией: оно ставит перед нацией вопрос о самом
сокровенном в ее судьбе, а нация должна найти на это
такой ответ, какой предчувствует и предвосхищает поэт».
Будучи переведена на язык понятий, эта цитата говорит:
художественное произведение, которое выражает и создает
национальное мировоззрение, находит отклик в националь-
ном сообществе, воздействует на его мышление и поведение.
И только такое искусство воистину национально; об искус-
стве, которое не отвечает этим требованиям, Шальда гово-
рит: «Всякая иная литература в конечном счете игрушка,
оранжерейный цветок, исключение, а не закон и жизнь».
Разумеется, Шальда был великой личностью, и многие из
его взглядов коренятся именно в его личной гениальности.
Но потребность в искусстве, опирающемся на мировоззре-
ние, связанном с ним живым контактом, была отнюдь не
личным делом Шальды, а вытекала из особенностей судьбы
чешского искусства до Шальды, из его развития на протя-
жении всего XIX века. Мы знаем, что новое чешское ис-
кусство, так же как и чешская культура Нового времени
вообще, было — после двухсотлетнего национального упад-
ка — действительно «оранжерейным цветком», созданием
537
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
в достаточной мере искусственным, оторванным от жизни
и ее потребностей. Об Антонине Пухмайере4, вожде первой
чешской поэтической школы Нового времени, Ярослав
Влчек пишет: «В «Ночлеге Лады» Пухмайер прославляет
всесильную богиню любви:
Если ты любви чурался,
пусть к тебе придет любовь,
если лаской наслаждался,
наслаждайся вновь и вновь!
Так стихотворствовал ктишский и прахатицкий капел-
лан, человек и священник безупречного образа жизни, стро-
гого воздержания, который, даже по свидетельству самых
интимных друзей, всегда «был умерен во всем, только ра-
боте даже слишком предан и усидчивым литературным
трудом, собственно, подорвал свое здоровье». Трудно пред-
ставить себе большее расхождение между действительными
жизненными взглядами поэта и теми взглядами, которые
вытекают из процитированных Влчеком строк. Это было
роковой особенностью всех видов чешского искусства в эпоху
Возрождения, и прошло немало времени, прежде чем Маха
превратил в подлинный «диалог поэта с нацией» чешскую
поэзию, Сметана — чешскую музыку, Манес0 — чешскую
живопись и т. д. Но и после этого процесс погружения
высокого искусства в истинно чешскую стихию не был
завершен, а в шестидесятые годы, когда во главе нацио-
нальной жизни оказалась молодая буржуазия, начавшая
поспешно «догонять Европу», приобрел новую и особенно
настоятельную актуальность. Шальда, которого поддержи-
вал художественный взлет, сделал очень много для завер-
шения этого процесса. Когда после первой мировой войны
чешское искусство, частыми переводами из чешской лите-
ратуры в особенности, начало проникать за рубеж, это
свидетельствовало, что у нас, наконец, возник неподдельный
и своеобычный контакт между искусством и мировоззрени-
ем, ибо только такая национальная литература и только
такое национальное искусство, которые посредством неза-
имствованного мировоззрения прямо прорываются в дейст-
вительность, могут привлечь к себе внимание и за пределами
территории, где они родились. Тем не менее процесс этот
не был завершен, да и не все еще виды искусства достигли
столь же живого контакта с живым мировоззрением, какого
достигла литература. Поэтому проблема отношения между
мировоззрением и искусством остается для нас по-прежнему
538
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
актуальной, не говоря уже о том, что в условиях совре-
менного глубокого преобразования всего общества она ста-
вится в повестку дня настойчиво и повсеместно.
Сейчас искусство — отнюдь не только у нас — находится
в довольно парадоксальной ситуации. Оно нуждается в ин-
тенсивном контакте с обществом; оно уже по горло сыто
одиночеством, в которое вверг его либерализм, оно зады-
хается в ущелье, куда невольно оказалось вытесненным за
последние десятилетия, когда художник, собственно, пере-
ставал работать хотя бы для той ограниченной части об-
щества, каким был господствующий класс, и работал уже
только с согласия и ради согласия своих художественных
коллег; перед последней войной авангард был, по сути дела,
искусством, создаваемым художниками для художников,
поэтами для живописцев, скульпторов, музыкантов и т. д.
и, в свою очередь, живописцами для поэтов, музыкантов
и т. д. Все это время искусство просто жаждало обрести
нечто такое, что оно могло бы сказать всем; доказательством
этого служат революционные политические и социальные
убеждения большинства действительно выдающихся худож-
ников. В данный момент с этим противоестественным по-
ложением в искусстве безвозвратно покончено. Искусство
хочет вступить в столь же интенсивный контакт с обще-
ством, в каком оно находилось во все великие эпохи своего
расцвета. Однако связующее звено между обществом и ис-
кусством — мировоззрение — переживает период бурного
развития, оно не обрело еще достаточно четких очертаний,
чтобы стать исходной точкой для нового творчества. Отсюда
парадоксальные явления переходной поры: страстная защита
свободы искусства, которой никто не угрожает, с другой
стороны, трудности, проистекающие от излишней свободы,
мешающей в работе: слишком большой репертуар средств
и художественных приемов, богатство унаследованных спо-
собов художественного выражения, которое скорее дезори-
ентирует, чем помогает. Другая характерная черта — не-
допонимание основных условий, необходимых для развития
искусства: отвергается — и совершенно правильно — ис-
кусство для небольшого числа избранных, но при этом
иногда забывается, что всякое действительно большое ис-
кусство предъявляет воспринимающему значительные тре-
бования, для удовлетворения которых нужны эмоциональ-
ные и даже интеллектуальные усилия, и что никогда не
было действительно великого искусства, которое бы этих
539
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
требований не предъявляло, поскольку одна из существен-
нейших его задач — конкретно выражать мировоззрение и
способствовать его развитию. Но все это лишь преходящие
сомнения и трудности. Для того чтобы они были быстрейшим
образом преодолены, необходимо объединение целого ряда
факторов, начиная с экономического и социального развития
и кончая такими, казалось бы, наименее материальными
отраслями культуры, как наука и философия.
Наша попытка порассуждать о мировоззрении в искусстве
едва ли может претендовать на нечто большее, чем стать при-
зывом к размышлениям о сложной проблематике взаимосвя-
зей между мировоззрением, и искусством. И это, возможно,
один из путей, пусть не слишком действенный и популярный,
ведущих к преодолению нынешней растерянности — отнюдь
не кризиса! — художественного творчества.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Приступая к краткому очерку диалектики современного
искусства, прежде всего уместно выяснить, что именно мы
считаем современным искусством. Понятие «современности»
само по себе весьма нечетко, его неустойчивость определяется
уже тем, что иной раз оно приобретает оценочное значение,
а иной раз выступает всего лишь в роли хронологического
указания. Для нас речь идет отнюдь не об использовании это-
го понятия в качестве оценки, а лишь в его временном зна-
чении. Однако, употребляя подобный термин, приходится
брать на себя всю ответственность, ибо даже если у нас были
определенные основания, кто угодно мог бы провести иные
разграничения и притом иметь для них свои основания.
Современное искусство начинается для нас — в связи
с целью, которую мы перед собой поставили, — рубежом
между реалистическо-натуралистической эпохой и симво-
лизмом в литературе, а также водоразделом между имп-
рессионизмом и постимпрессионизмом в живописи*. Общий
* Импрессионизм, разумеется, представляет собой одновременно и край-
нее выражение реалистическо-натуралистической тенденции, и первый
этап отказа от копирования природы.
540
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
признак периода развития, начало которого обозначено этим
двойным рубежом, — подавление или — если угодно —
распад индивида. Чтобы пояснить эту мысль, вернемся глуб-
же в прошлое, к первой половине минувшего столетия, к
романтизму. Никто не станет спорить, что романтизм, хотя
бы в отдельных своих проявлениях, ближе к нынешнему
искусству, чем период, непосредственно ему предшество-
вавший, т. е. период реализма, натурализма и импрессио-
низма. Примеров тому можно было бы привести немало:
так, современное чешское поэтическое искусство вновь и
вновь обращается к поэзии Махи и отнюдь не из платони-
ческого восхищения, а для того, чтобы найти у этого ро-
мантика поддержку в решении структурных проблем, перед
которыми оно само теперь стоит. Ответ на вопрос, в чем,
собственно, состоит сходство между романтизмом и нынеш-
ним искусством, не вызывает затруднения: и в тот и в
другой период произведение интенсивно воспринимается ис-
ключительно как знак, между которым и действительностью
нет абсолютного и необходимого сходства. В промежуточный
же, реалистический период, наоборот, проявляется тенден-
ция, с начала и до конца все время усиливающаяся, подавить
факторы, встающие между художественным произведением
и действительностью, т. е. в первую очередь субъективное
чувство, а затем и любую, пусть даже объективированную
оценку. Высшая честь для писателя-натуралиста — создать
научный документ, высшая честь для художника-импрес-
сиониста — адекватно постичь непосредственное чувствен-
ное впечатление еще до какой бы то ни было его интерп-
ретации, как прямой эквивалент физиологической реакции
на внешний импульс. (Мы говорим, разумеется, лишь о
тенденции, а отнюдь не о возможностях и стадиях ее ре-
ализации.)
Таким образом, общий признак романтического и со-
временного искусства — это склонность к установлению
дистанции между эмпирической действительностью и ее
отражением в искусстве; эта дистанция создается дефор-
мированием эмпирической действительности. Наряду с
этим есть, однако, и существенное различие, обусловлен-
ное различным в каждый из названных периодов участием
индивида в деформировании эмпирической действительно-
сти. В романтическом искусстве индивид преобразует эту
действительность по своему усмотрению: это бунт инди-
вида против действительности, уже в момент восприятия
541
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
подчиняющейся социальным конвенциям. При этом не
играет решающей роли, чувствует ли себя в данном случае
индивид достаточно сильным, чтобы взять на себя такую
ответственность (титанизм), или же он не в силах ее
вынести (мировая скорбь, вертерианство). С этой ответ-
ственностью индивида связана повышенная эмоциональ-
ность, ср», например, лиризации эпики в так называемой
байронической поэтической повести. В эпоху, которую мы
назвали современной, ситуация в этом отношении иная,
в чем особенно наглядно убеждает нас поэтическое ис-
кусство. В реалистическо-импрессионистический период
индивид в функции опорной точки гносеологической до-
стоверности был подавлен: единственная роль, которую
ему оставляет Золя в известном изречении «1а nature vue
a travers un temperament»*, — это привнесение совершенно
второстепенной окраски в трактуемую действительность.
В момент, когда процесс развития вызывает в качестве
естественной противоположности к этому периоду доку-
ментальной достоверности новое проявление тенденции к
деформации, больше нет индивида, способного взять на
себя ответственность за нарушение социальной конвенции,
которой эмпирическая действительность пронизана уже в
момент чувственного восприятия. Символизм — поэтиче-
ское направление, стоящее на пороге этого периода, —
наглядно подтверждает высказанную мысль своим стрем-
лением к крайней объективации художественного выра-
жения, а именно стремлением к созданию «абсолютного»
произведения, максимально отдаленного от эмпирической
действительности, основы, на которой скорее всего схо-
дятся люди одной эпохи и одного социального круга, но,
несмотря на это — и даже как раз поэтому, — претен-
дующего на роль неизменной ценности, признаваемой все-
ми людьми без различия времени, места и социальной
среды.
В своем стремлении к объективации символизм заходит
так далеко, что грузом ее подавляет творческие способ-
ности поэта. Символистский эксперимент, приводящий в
своих конечных следствиях к полному отчаяния девизу
Малларме «Одним броском игральных костей не уничто-
жить случайности» (т. е. никогда не удастся создать аб-
солютного, не зависимого от человека произведения), на-
* «Природа, преломленная через темперамент» {франц.).
542
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
глядно демонстрирует horror individui*, в который впал
символизм, и возникшую из этого безысходность ситуации.
Никогда впоследствии современное искусство уже не до-
ходило до формулировок, столь резко заостренных против
индивида, однако это подавление индивида как носителя
ответственности за деформацию остается общей чертой
всех фаз художественного развития, вплоть до нынешних
времен. Так, например, футуризм прямо провозглашает
устами своего вдохновителя Маринетти, что «в литературе
должно быть уничтожено «я»; дадаизм, несмотря на свое
стремление полностью разрушить эмпирическую действи-
тельность, искореняет одновременно какую бы то ни было
личную ответственность индивида настолько последова-
тельно, что целиком отдает право решения во власть
случая**. Можно было бы привести в качестве возражения
экспрессионизм, искусство, основанное на чувстве, причем
даже формированном. Однако мы бы ответили, что своим
характером и своим крушением экспрессионизм доказывает
как раз нечто совершенно противоположное. «Безмерное
чувство» (das masslose Gefuhl — Эдшмид1), под углом
зрения которого это художественное направление рассмат-
ривает действительность, ведет прямо-таки к онтологиче-
ской объективации; высшая честь для экспрессионизма —
создавать искусство как метафизику. И именно невоз-
можность такой объективации послужила причиной кру-
шения, так что В. Гаузенштейн , полемизируя с экс-
прессионизмом, мог написать: «Невольно начинаешь по-
лагать, что экспрессионизм не только далек от
объективации мира, но и представляет собой самый
крайний эксцесс субъективности из всех, какие когда-
либо существовали». Таким образом, и экспрессионизм
стремится к объективации и терпит крушение, столк-
нувшись с ее невозможностью.
Естественно, что при таком положении вещей нельзя
говорить о гносеологической ответственности индивида; дело
даже доходит до полного его распада: «Старое понимание
личности под угрозой. И какая там личность, когда все
движется, все течет, когда всюду — нарушение последова-
тельности, деструкция, в результате чего человек утрачи-
* боязнь личности (лат.).
*♦ Дадаистское обезличивание носит, разумеется, иной характер, чем
символистское: символисты исключают случайность во имя необходимости;
дадаисты — необходимость во имя случайности.
543
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вает самого себя, распадается на ряд реакций и взрывов,
взаимно не связанных, не соединенных никакой нитью
разумной цели» (Ф. К. Шальда в журнале «Zapismk»). Со-
временное искусство раздираемо двумя противоположными
тенденциями: одна из них ведет к деформированию эмпи-
рической действительности, к ее разъеданию, в то время
как вторая не позволяет найти опору для такого деформи-
рования в гносеологической ответственности индивида, как
меры всех вещей. Но тем самым закрывается и путь к
материальной действительности, той области, откуда исхо-
дят импульсы, приводящие в действие чувства человека, и
которая, следовательно, существует независимо от человека,
тогда как человек является ее частицей. Романтизм, хотя
он, так же как и современное искусство, восставал против
эмпирической действительности, в отличие от него, имел
доступ к действительности, не зависящей от человека и его
отношения к миру, посредством индивида, чья свободная
воля, не ограниченная социальными конвенциями, пред-
ставлялась ему прямым свидетельством существования этой
реальности, частицей которой является человек. Реализм,
хотя он, напротив, отказался от индивида как гарантии
существования этой действительности, нашел, однако, но-
вую гарантию в убеждении, что существует точный парал-
лелизм между эмпирической и материальной действитель-
ностями. Современное искусство, заимствовавшее от реа-
листического периода недоверие к первой гарантии,
романтической, в то же время из духа противоречия отка-
залось в процессе развития и от второй гарантии, которую
принимал реализм.
Само собой разумеется, мы не должны подменять или
отождествлять разные вещи: если в современном искусстве
индивид освобожден от гносеологической ответственности,
индивидуальность художника этим ни в коей мере не ус-
транена как фактор структуры произведения. В этом отно-
шении, благодаря отказу от гносеологической ответствен-
ности, она скорее обретает полную волю и усиливается,
так что ныне она проявляет себя больше, нежели чем
когда-нибудь, критика и публика также требуют своеоб-
разных оттенков, своеобразной окрашенности произведения;
даже отдельные произведения одного и того же художника
или отдельные периоды его творчества приобретают инди-
видуальный по отношению друг к другу характер. Струк-
турная индивидуальность, уникальность становится одним
544
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМИСКУССТВЕ
из важных критериев ценности произведения*. Необходимо
добавить, что в последние годы все более широко заявляет
о себе художественное направление, ставящее своей задачей
возвращение индивиду функции опорной при сопри-
косновении искусства с материальной действительностью
Это сюрреализм. Своим деформирующим отношением к
эмпирической действительности он включается в динами-
ческий цикл современного искусства; особенно заметны в
нем следы дадаизма. Однако в гносеологическом плане для
него характерно стремление восстановить контакт с мате-
риальной действительностью, причем — с помощь ю лично-
сти. Но сюрреализм не предпринимает попыток реконстру-
ировать свойственный романтизму психологический тип ин-
дивида, гносеологическое значение которого покоилось на
осознанной воле, а обращается к биологической личности.
Для сюрреалистов личность — естественное явление; отсюда
стремление насколько возможно проникнуть художест-
венном творчестве к тем слоям духовной жизни, которые
кажутся особо близкими биологической основе, т. е. раз-
личным проявлениям психического автоматизма, сну и т.
п. С помощью биологического индивида, освобожденного от
социальных отношений, сюрреалисты намерены обрести не-
посредственный контакт с материальной действительностью,
которая должна быть заново открыта для человека. И далее.,
если личность носителя романтического индивида была
крайне резко отделена от всех остальных людей, то сюр-
реалисты полагают, что биологический индивид, несмотря
на типологическое многообразие, обусловленное личными
задатками каждого человека, все же содержит в себе вполне
достаточно черт, делающих возможным всеобщее, надын-
дивидуальное взаимопонимание. Эти различия между ро-
мантизмом и сюрреализмом не могут, однако, воспрепят-
ствовать установлению аналогий. Так, например, интерес
сюрреализма ко сну тесно соприкасается с ^алогичным
интересом романтического искусства: из чешских романти-
ков записывал свои сны и поэтически использовал их не
один только Маха, но, как показали материалы, недавно
опубликованные Грундом , и Эрбен4. Наконец нужно от-
* Ср. Ф. К. Шальда, введение к книге «Душа и творчество»; «Истинная
оценка не может заключаться ни в чем ином, кроме как в доказательстве
уникальности изучаемого явления, его неповторимого трагического твор
ческого драматизма».
18—888
545
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
метить, что картина, которую мы попытались набросать в
предшествующих абзацах, неизбежно схематична. Нельзя
считать, что такие понятия, как романтизм, реализм и т.
д., передают все многообразие действительного положения
вещей; поэтому установленные нами разграничения и все,
что на них основано, верны лишь в самых общих чертах;
мы не должны забывать, что, например, уже в реалисти-
ческо-натуралистический период, в семидесятые годы про-
шлого века, выступает плеяда поэтов, которую следует
непосредственно отнести к современному искусству (Рембо,
Лотреамон5).
Общий признак современного искусства, как мы уже
показали, — подавление личности, особенно сложной и
потому подчеркнуто неповторимой психологической лично-
сти, которая одним своим присутствием акцентирует един-
ство произведения. В данных условиях перед воспринима-
ющим явственно выступает объективное художественное
построение, а вместе с ним и многочисленные диалектиче-
ские противоречия, пронизывающие его. Не случайно, что
параллельно с современным искусством и теория искусства
различными путями и в различных областях приходит к
пониманию художественной структуры как непрерывного
динамического ряда, существующего в коллективном созна-
нии и развивающегося под влиянием противоречий, содер-
жащихся в нем. Структура предстает освобожденной от
связей с индивидом и материальной действительностью, но
этим нарушается ее равновесие; антиномии, всегда скрыто
существующие в искусстве, явственно выступают на повер-
хность. Художественное произведение оказывается комп-
лексом противоположностей. Каждый элемент произведе-
ния, оставаясь самим собой, одновременно становится соб-
ственным антиподом; точно так же и произведение в целом
выступает как противоположность всему, что находится вне
его. Повышенное диалектическое напряжение, свойственное
современному искусству, часто приводит к одностороннему
акцентированию одного из двух членов данной конкретной
антиномии: если, например, речь идет о противоречии меж-
ду эстетической функцией и остальными, подчиненными
функциями искусства, эстетическая функция то подчерки-
вается до крайних пределов (ср. принцип искусства для
искусства, который в современном искусстве неоднократно
выступал как программный лозунг), то полностью отверга-
ется (ср. современную архитектуру). С ярко выраженной
546
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
антиномичностью связана склонность доходить до самых
границ возможного (ср. пристрастие к эксперименту); так,
например, когда речь заходит об освобождении живописи
от неживописных средств, дело заканчивается супрематиз-
мом и неопластицизмом, устраняющими из картины не
только предметность, но и какую бы то ни было пластич-
ность, какие бы то ни было следы рисунка, в конце концов
даже раму, с тем только, чтобы цвет оставался единственным
элементом, на котором основана картина; точно так же
стремление к «чистой» поэзии привело в своих конечных
следствиях к отрицанию всех элементов поэтического ис-
кусства, кроме звуков и звукосочетаний (Стихи на «искус-
ственном языке»). Необходимо, разумеется, отметить, что
порой бывают случаи, когда повышенная диалектичность
достигается в современном искусстве не подчеркиванием
одного из членов антиномии, а наоборот, интенсивной ос-
цилляцией между обоими ее членами; примеры будут при-
ведены при рассмотрении пар «правдивость — фиктивность
темы» и «субъективная экспрессивность — знаковая объек-
тивность художественного произведения».
Начнем с диалектического противоречия между искус-
ством и обществом. Ни в одну из эпох и ни в одном из
искусств отношения между этими двумя областями не были
столь прямыми и спокойными, чтобы искусство без остатка
выражало некий «дух эпохи». Это не так хотя бы потому,
что общество само по себе уже расслоено и никогда не
выходит из состояния напряженности между отдельными
своими элементами, которые постоянно взаимоперемеща-
ются. В эту напряженность, в это движение включено также
искусство, обычно связанное с определенным общественным
слоем, который является его носителем; при этом может
случиться, что носителями разных искусств и даже различ-
ных видов одного искусства в данную эпоху и в данном
обществе будут разные слои. Однако в нынешнюю эпоху
достигло кульминации состояние, которое подготавливалось
уже на протяжении всего минувшего столетия: искусство
лишилось прочной социальной основы, даваемой связью с
определенным слоем. Не существует более однозначных
отношений между художником и заказчиком; художник
нередко творит свои произведения для заказчика неизвест-
ного и социально неопределенного, так, например, живо-
писцы и скульпторы работают большей частью для выставок,
где произведение становится предметом свободного спроса,
18*
547
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
или доверяют продажу своих творений торговцам, которые
подчас не руководствуются современным вкусом, спекули-
руют с вероятным вкусом будущего. Связующим звеном
между искусством и обществом вместо заказчика, представ-
лявшего по отношению к художнику интересы четко опре-
деленной социальной среды, все более настойчиво стано-
вится публика, социально разнородное и неопределенное
скопление индивидов. Симптомом и мерилом отчужденности
между искусством и обществом, начиная с минувшего сто-
летия, становится развитие художественной критики, в осо-
бенности журнальной и газетной. Критик стоит между пуб-
ликой и искусством как посредник, его влияние затрагивает
обе стороны, однако основная его позиция полемична и по
отношению к художнику, и по отношению к публике: воп-
реки воле обоих он проводит свои требования и более всего
предпочитает чувствовать себя самим собой, не связывая
. себя никакими обязательствами (ср. Ф. К. Шальда. «Кри-
тика пафосом и вдохновением» в книге «Борьба за буду-
щее»). Характерно и то обстоятельство, что влияние критика
тем сильнее, чем разнородней и случайней скопление ин-
дивидов, составляющих публику; так, например, театраль-
ная критика, как известно, всегда оказывает более непос-
редственное влияние и представляет большую опасность,
чем литературная критика, поскольку театральная публика,
часто меняющаяся от одного представления какой-либо пье-
сы к другому, гораздо менее солидарна и постоянна в своем
составе, чем относительно стабилизированная и потому вер-
ная однажды полюбившимся авторам литературная публика.
И во всей сфере современного искусства мы наблюдаем
значительную дистанцию между ним и социальной органи-
зацией. Между искусством и обществом стоит публика, в
свою очередь между публикой и искусством — критика; и
ни критика, ни публика не играют роли пассивного, прочно
связующего элемента, а, напротив, несут в себе беспокой-
ство: публика — ввиду своей социальной неоднородности
и изменчивости, критика — в силу своей обоюдоострой
полемической направленности. Поэтому не было бы пре-
увеличением сказать, что искусство в современном мире
лишилось общественных корней. Одно из бросающихся в
глаза последствий этого ненормального положения — ус-
коренный темп развития. Школы и направления быстро
сменяют друг друга, и контрасты между ними значительны;
причина этого — освобождение от замедляющего воздейст-
548
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
вия общественной среды, в прежние времена связывавшей
искусство своими требованиями. Тем самым подчеркивается
автономность искусства, которое, благодаря ослаблению об-
щественного давления, предоставляется ничем не тормози-
мой динамике собственного развития. На внешней органи-
зации некоторых видов искусства также не могло не ска-
заться ослабление связи с обществом: например, в театре
проявляется все большая склонность к созданию малых
авангардных сцен, обращающихся лишь к узкому кругу
зрителей, парализуя таким путем социальную неопределен-
ность публики.
Естественно, что художники тяжело переживают разоб-
щенность между обществом и своим творчеством. Возникает
ненависть к публике, этой изменчивой стихии. На первых
порах современное искусство пыталось вообще исключить
публику из поля зрения художника. Символисты, мечтав-
шие — как уже отмечалось — об абсолютном произведении,
провозглашают, что они могут обойтись при случае и без
одного-единственного читателя (Малларме). Точно так же
и футуристы устами Маринетти заявляют: «Нет надобности,
чтобы нас понимали» («Освобожденные слова»). И хотя
художник не отвергает общество, а, напротив, заинтересован
в нем, путь к взаимопониманию прегражден; А. Бретон
говорит об этом в «Сообщающихся сосудах»: «Публика, к
которой мы обращаемся и от которой мы, если хотим про-
должать работать и говорить, должны были бы всему нау-
читься, нас не слушает; иная публика, к которой мы от-
носимся с равнодушием или отвращением, нас слушает».
Отрицание публики не означает, однако, непременного от-
рицания связи искусства с обществом. И если в отношении
символизма — по крайней мере в его наиболее законченных
формах — можно полагать, что он не только приходил к
отчуждению от общества, но и вел к дегуманизации искус-
ства в том смысле, что стремился к созданию абсолютной,
не зависящей от воспринимающего ценности, то этого нельзя
утверждать о последующих фазах развития современного
искусства. Речь идет лишь о полемике с публикой, соци-
ально разноликой толпой, неспособной дать искусству ус-
тойчивую опору постоянством и единонаправленностью
предъявляемых к нему требований. Однако цель этой по-
лемики — возобновление непосредственной связи между
искусством и обществом, разумеется, уже не с каким-нибудь
одним его слоем (полный возврат к минувшей стадии раз-
549
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
вития и здесь, как в любом ином развитии, невозможен),
а в целом со всей социальной организацией, конечно, го-
могенной. Об этой тенденции, помимо прочего, свидетель-
ствуют постоянно в разных вариантах повторяемые выска-
зывания современных художников о том, что в обществе
будущего искусство станет ненужным, поскольку все люди
будут художниками. Если отвлечься от неосуществимого в
этой идее уже в силу того, что отдельные лица наделены
эстетическим даром в разной мере и различных его прояв-
лениях, ничто не мешает нам толковать подобные выска-
зывания как выражение стремления реально включить ху-
дожественное творчество в жизнь общества как целого*.
Диалектическое противоречие между искусством и об-
ществом, которое всегда бывает одним из могущественней-
ших факторов в истории развития искусства и немаловаж-
ным фактором в историческом развитии общества, в совре-
менном искусстве — как явствует из всего сказанного —
достигает большого напряжения в результате взаимного
отчуждения обеих этих областей, но одновременно чрезвы-
чайно акцентируется обоюдной потребностью в новом вза-
имном сближении. Нужно еще только добавить, что такое
небывалое отношение между двумя этими областями дей-
ственно проявляется и в структуре художественных произ-
ведений. В качестве доказательства напомним о сильной
тенденции к исключительности, которая в современном ис-
кусстве подчас выступает как фактор художественного по-
строения; ср. различные способы утаивания части темы или
затемнения смысла словесного выражения в поэтическом
искусстве, усложнение и затруднение всего процесса восп-
риятия картины в живописи т. п. Все эти многообразные
средства параллельны стремлению ограничить публику, о
котором шла речь выше.
Вслед за противоречием между искусством и коллекти-
вом на очереди антиномия между искусством и психической
* Для этой тенденции симптоматично также особое положение кино,
самого молодого из искусств, наиболее точно отвечающего поэтому по-
требностям эпохи, среди остальных видов современного искусства: тогда
как иные виды искусства — в особенности, как уже отмечалось, театр,
стоящий к кино ближе всех других искусств, — стремятся ограничить
разнородность публики, кино, наоборот, старается охватить как можно
более широкие социальные слои. В кино чаще, чем в любом ином виде
искусства, встречаются такие явления, как Чаплин, одинаково соответст-
вующие всем уровням вкуса.
550
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
жизнью индивида, которую можно выразить формулой: ху-
дожественное произведение как непосредственное выраже-
ние субъективного душевного состояния — и как объектив-
ный знак, выполняющий роль посредника между членами
одного и того же коллектива. Непосредственным субъек-
тивным выражением чувства будет, например, спонтанный
выкрик от боли или радости. Нельзя отрицать, что в ху-
дожественном произведении содержится нечто похожее на
такой выкрик: например, произведение может быть экви-
валентом душевного состояния автора и воспринимающего.
Однако, наряду с этим, оно является надындивидуальным
знаком, оторванным от какого бы то ни было субъекта и
акцентирующим лишь то, что доступно всеобщему пони-
манию. Художественное произведение может склоняться к
одной из этих крайностей: ср. противоположность между
романтизмом и реализмом, в известном отношении соот-
ветствующую этим двум полюсам. Однако современное ис-
кусство, особенно в некоторых своих проявлениях, отдает
предпочтение осцилляции между обеими этими крайностя-
ми, вызывая волнение, казалось бы, подчеркнуто своеобыч-
ное, но вместе с тем давая понять, что качество такого
волнения по отношению к реальному индивиду нерелеван-
тно и функционирует лишь как элемент построения про-
изведения. Наиболее выразительно эта игра, естественно,
проявляется в лирике; как составную часть своей поэтики
мысль об этом не раз непосредственно высказывал в своих
стихах В. Незвал. Таковы строки:
Dues skocil basmk z kazatelny
Ma mSkky klobouk misto helmy
NepKe davno pn lune
Dal sbohen uz i tribun£
Ma fantazii mfsto citu
Сегодня поэт прыгнул с церковной кафедры
У него мягкая шляпа вместо шлема
Давно он не пишет при луне
Распрощался уже и с трибуной
Вместо чувства у него фантазия.
Чувство как элемент стихотворения — это для Незвала
«смородинное варенье к блинчикам». И в другом месте он
снова говорит:
Nesmfma bla&nost vytvarf ve mnM osu
na niz se otacim jak hv£zdn£ telesa
551
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Houpam se па tisinach houpam se na patosu
dobyvim na vine svateW nebesa
Безграничное блаженство создает во мне ось
на которой я вращаюсь как звездные тела
Качаюсь на перекатах тишины качаюсь на пафосе
завоевываю на волне праздничные небеса
Нельзя более зримо поэтически высказать антиномию:
пафос как выражение непосредственного волнения и пафос
как игра, целиком включенная в структуру объективного
знака, вне сферы которого она утрачивает значение. Однако
и в этом случае само собой разумеется, что для критики,
ориентирующейся на однолинейно экспрессивную лирику,
такая «игра поэта с чувством» представляется цинизмом.
Другая антиномия, основанная на семиологическом
(“знаковом) характере искусства, — это противоположность
между художественным произведением как знаком авто-
номным и коммуникативным. В особенности это касается
тех видов искусства, которые имеют дело с явственно вы-
раженной темой (содержанием), каковы живопись (конечно,
станковая, а не орнаментальная) и поэтическое искусство.
Тема — всегда до известной степени сообщение о действи-
тельности; тем не менее, называя произведение тематиче-
ского искусства автономным знаком, мы имеем в виду
следующие его особенности: его содержание не настолько
связано с какими-то конкретными фактами действительно-
сти, чтобы ставить по отношению к ним вопрос о правди-
вости или неправдивости как вопрос, от которого сущест-
венным образом зависит ценность произведения; так, на-
пример, от романа, если мы воспринимаем и оцениваем его
как художественное произведение, мы не требуем, чтобы
событие, о котором он повествует, соответствовало какому-
либо действительному факту, локализованному в какой-ли-
бо реальной точке пространства и времени, хотя такое
требование было бы вполне естественным и уместным по
отношению к какому угодно иному — коммуникативному
языковому высказыванию. Разумеется, и в этом плане ис-
кусство необходимо понимать диалектически, ибо при всей
автономности в поэтическом или живописном произведении
всегда потенциально содержится сообщение. Однако, с точки
зрения самого искусства, сообщение, содержащееся в про-
изведении, функционирует в нем лишь как элемент худо-
жественного построения. Так, например, характерная черта
552
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
романа и реалистической живописи — стремление создать
впечатление правдивости того, о чем повествуется, что опи-
сывается или изображается. Безусловно, речь идет лишь о
впечатлении, в отдельных случаях об иллюзии, создаваемой
с помощью художественных средств данного произведения,
а отнюдь не о действительно обязывающей к чему-то до-
кументальности (см. статью Якобсона «О realismu v
шлет». — Cerven, 19216). Таким образом, тематическое
искусство постоянно осциллирует на грани фикция — прав-
да; иной раз ударение делается на одной, иной раз — на
другой ветви антиномии. Современное искусство, в отличие
от этого, часто подчеркивает антиномию между фикцией
и правдой усилением упомянутой осцилляции, что дости-
гается сложным расслоением переходных оттенков между
обоими этими полюсами. Так, например, в «Конце старых
времен»7 Ванчуры, как недавно показал Р. Якобсон («Slovo
a slovesnost» . I, 1935), впечатление игры на грани правда —
фикция достигается тем, что сопоставляются две системы
фиктивных ценностей.— мир феодальный и мир послево-
енных выскочек, причем и тот и другой претендуют на
истинность. Иногда же реальный и фиктивный планы ставятся
рядом, чтобы не было уверенности, какие детали темы отно-
сятся к одному, а какие к другому уровню: ср., например,
«Как две капли воды» и «Монако» Незвала . Впрочем, пере-
ходом из плана фикции в реальный план пользовался уже
символизм, обходившийся со значением следующим образом:
развернутый поэтический образ мановением руки превращался
в прямое наименование, и наоборот.
В живописи родственны, хотя и не тождественны эти
примерам, повороты от предметности к беспредметности, и
наоборот, в отдельных случаях лишение предметности ве-
щей, изображенных реалистически, и т. п.; предметность и
беспредметность тоже составляют, таким образом, диалек-
тическую антиномию, напряженность которой в современ-
ной живописи усиливается по сравнению с иными эпохами.
Так, например, кубистическая живопись, с одной стороны,
разбивает предмет, нарушая его реальные контуры, с дру-
гой — подчеркивает его предметность, позволяя наблюдать
его (разумеется, синекдохически) одновременно со многих
перспективных позиций, что создает ощущение его единства
как такой точки пространственной кристаллизации, которая
не зависит от изменений зрительского взгляда. Футуризм
в живописи часто создает из предметов, охарактеризованных
553
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
как материальные, метонимии для обозначения нематери-
альных процессов. Так, например, мы видим на картине
скопление, казалось бы, взаимно чужеродных вещей, ко-
торые, однако, передают уличный шум, причем отдельные
звуки выражены существами и предметами, их производя-
щими. Еще интенсивней переход от крайней предметности
к крайней беспредметности в сюрреалистической живописи,
где подчеркивается предметность каждой отдельно изобра-
женной вещи, но одновременно с помощью немотивирован-
ного объединения в рамках одной картины загадочно раз-
нородных предметов намекается, что это лишь метафоры,
передающие совершенно беспредметный скрытый смысл це-
лого. Даже направления, на первый взгляд, полностью ус-
траняющие из картины предметность, не утрачивают связи
с ней; можно привести случаи, когда диалектическое пре-
вращение абсолютной беспредметности в новую абсолютную
предметность становится очевидным. Мы имеем в виду суп-
рематизм, который в полемике с предметностью дошел до
искоренения рисунка и пластичности: картина, которая со-
стоит из разноокрашенных прямоугольников, воздействую-
щих только как цветовые кванты, а отнюдь не как контуры,
и которая, следовательно, полностью художественно бес-
предметна, сама становится вещью. Теоретический пропа-
гандист супрематизма (Behne Л. Von Kunst zur Gestaltung)
провозглашает, что «новая картина не руководствуется пред-
метом, который с помощью ее красок лишь возникает путем
символики, функции, замещения, иносказания, а руковод-
ствуется непосредственно красками, которые применяются
здесь не в качестве намеков на какую-то вещь, а в их
собственном реальном качестве: они выступают сами по
себе, как красный цвет, лазурь, темная зелень и т. д.»
В супрематистской картине настолько сильна тенденция
стать вещью среди вещей, что супрематистам не кажется
абсурдной идея машинного производства картин.
Тем самым мы подходим к следующей антиномии —
антиномии между материалом и его использованием в ху-
дожественном произведении; речь идет о противоречии меж-
ду художественным произведением как эстетической струк-
турой и этим же произведением как вещью. Будем исходить
из простого примера: камень, хотя бы полудрагоценный, в
частности кусок яшмы, — это вещь с некими реальными
(физическими, химическими и т. п.) свойствами, о которых
извещают органы чувств; но едва только мы станем отно-
554
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
ситься к нему эстетически, произойдет перемена: каждое
из его свойств — сохраняя свое реальное значение — будет
одновременно в своем отношении к остальным, как состав-
ная часть комплекса этих свойств, фактором эстетического
состояния (Verbal ten), которое этот комплекс в целом вы-
зывает у наблюдателя. Художественное произведение также
одновременно представляет собой и вещь, и эстетическое
построение: носителем вещественных свойств и в нем яв-
ляется материал; применительно же к эстетическому воз-
действию эти свойства становятся элементами художест-
венной структуры*. Поэтому материал имеет немалое зна-
чение для построения художественного творения: мраморная
статуя и в художественном, а не только реальном отношении
есть нечто иное, чем та же статуя из металла.
Специфические свойства каждого материала могут быть
использованы в художественном произведении либо поло-
жительно, т. е. таким образом, что они принимаются в
расчет при обработке материала, либо отрицательно, т. е.
таким образом, что их насильственно преобразуют. И в том
и в другом случае материал функционирует как составная
часть структуры произведения. Современное искусство и
здесь, как и в других своих проявлениях, отличается уси-
лением диалектичности: оно подчеркивает сырую вещест-
венность материала, оставляя ему достаточно своеобычно-
сти, чтобы он мог противостоять художественной структуре,
несмотря на свою включенность в нее. Для всего нынешнего
изобразительного искусства типично пристрастие к необыч-
ным, иногда совершенно новым материалам, которые уже
благодаря одному этому обращают внимание на свои спе-
цифические свойства и на свою вещественность. Если ос-
тавить в стороне архитектуру, где применение новых ма-
териалов может быть хотя бы частично объяснено размахом
промышленного производства и торговли, представляющих
в этом плане необычайно богатый выбор, можно привести
в качестве примера из области живописи картины Мохоя-
Надя1 °, который использовал как основу стеклянные зер-
кала или металлические пластины, не полностью покрытые
красками, вместо масляных красок порой применял лаки и
* Говоря здесь о материале, мы прежде всего имеем в виду материал
изобразительного искусства, ибо материал поэтического искусства —
язык — представляет собой случай, значительно более сложный, будучи
еще до использования в произведении не только материальным фактом
(воспринимаемым слухом), но в первую очередь знаком.
555
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
даже обращался к совершенно новым материалам, таким
как целлулоид, галалит и т. п. Нередко, чтобы подчеркнуть
материал как вещь, в живописи оттеняется его грубость,
необработанность; ср. вклеивание кусков бумаги с печатным
текстом, порой газетной, игральных карт и т. п. в закра-
шенные плоскости кубистических картин; подобный же при-
мер — ив той же художественной школе -- реалистическое
изображение структуры материала, например годовых колец
на дереве, на картине, разбивающей очертания изображен-
ного предмета и типизирующей детали, придавая им ха-
рактер стереометрических форм, т. е. на картине нереали-
стической; наконец, можно напомнить и рельефное изобра-
жение некоторых предметов из красочной пасты, равномерно
нанесенной на всю остальную плоскость картины.
Увеличение набора материалов и нарочитое использо-
вание их свойств в современной живописи особенно резко
выступает на фоне живописи прошлого столетия, которая
по большей части работала со значительно суженным ре-
пертуаром материалов, оставляя прочие материалы низшим
формам искусства.
Диалектическое противоречие между материалом и эс-
тетической функцией, которую он обретает в произведении,
указывает и на следующую антиномию — антиномию между
искусством и неискусством, т. е. между продуктами с до-
минирующей эстетической функцией и продуктами, у ко-
торых она подчинена иной доминирующей функции или
вовсе отсутствует. Эта антиномия также не ограничена
только современным искусством: эстетическая функция
всегда находится в противоречии с остальными, причем и
в самом искусстве она порой бывает оттеснена с первенст-
вующего места другой функцией и, наоборот, нередко даже
вне искусства проявляет тенденцию стать господствующей
функцией*. Однако в современном искусстве крайности уси-
ливаются: иной раз возводится в программный принцип и
осуществляется в художественной практике полное господ-
ство эстетической функции (ср., например, лозунг искусства
для искусства в символистском декадентском поэтическом
искусстве), иной же раз, напротив, прокламируется отказ
от нее (ср., например, теорию функциональной архитекту-
ры). Впрочем, обе эти крайности — выпячивание и отри-
* Подробнее об этой антиномии см. в работе «Эстетическая функция,
норма и ценность как социальные факторы», наст, изд., с. 35 — 121.
556
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
цание эстетической функции — неожиданно переходят в
собственную противоположность: полное исключение всех
остальных функций, кроме эстетической, приводит к. тому,
что эстетическая функция превращается в иную функцию,
например в нравственную («То, что раздражает имеющего
вкус человека при виде распутства, — это его бесформен-
ность и неумеренность», Бодлер) или интеллектуальную
(«Познание красоты мира — цель наших усилий», Брже-
зина); и наоборот, полное отрицание эстетической функции
становится в функциональной архитектуре средством эсте-
тического воздействия (максимальная целесообразность =
максимум эстетической ценности). К свидетельствам под-
черкнутого акцентирования противоположности между ис-
кусством и иными продуктами человеческой деятельности
необходимо причислить и проявляющуюся в современном
искусстве тенденцию к созданию таких продуктов творче-
ства, которые хотя когда-то и где-то функционировали или
функционируют в качестве фактов искусства, однако в
среде, для которой творит художник, не соответствуют эс-
тетическому канону искусства и вступают с ним в проти-
воречие; ср., например, тяготение современной скульптуры
к негритянской пластике или склонность к «периферийным»
жанрам в поэтическом искусстве (см. статьи из «Марсия»
Чапека или предисловие Незвала к «Пяти пальцам»11 и
некоторые характерные явления в художественной практике
обоих поэтов) и в живописи (ср. книгу Й. Чапека о «Самом
скромном искусстве» и картины А. Руссо). Но поскольку
такие контакты «высокого» искусства с «примитивным» или
«низким» означают также и внесение чужеродного эстети-
ческого канона в художественную структуру произведения,
мы упомянем о них подробнее, когда речь пойдет об ан-
тиномии между «красотой» и ее отрицанием. Для взаимо-
отношений между искусством и неискусством характерен
далее интенсивный интерес современного искусства к ма-
шинной технике (поэзия, воспевающая успехи цивилиза-
ции, сближение машинного производства с изобразительным
искусством, подчеркнутое вмешательство техники как эс-
тетического фактора в кино и фотографии) . Аналогично с
противоположностью между искусством и неискусством су-
ществуют до известной меры и взаимные противоположно-
сти между отдельными видами искусства. Но так как речь
здесь идет не о контакте искусства с внеэстетйческой об-
ластью, мы будем говорить об этом позднее.
557
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Антиномия между искусством и неискусством обратила
наше внимание на эстетическую функцию, составляющую
основу искусства. Поэтому мы рассмотрим теперь внутрен-
ние антиномии самой эстетической функции, т. е. проти-
воречия, которые возникают в произведении между эле-
ментами, функционирующими в качестве эстетических фак-
торов. Первая из них — это антиномия, называемая (как
раз не совсем точно) противоположностью формы и содер-
жания. Взаимоотношение между этими двумя пучками эле-
ментов, на которые расщепляется художественное произве-
дение (коль скоро, разумеется, речь идет о тематическом
искусстве), может быть определено различными способами.
Воспользуемся дефиницией хотя и не совсем исчерпываю-
щей, однако для наших целей выражающей самую суть
дела: содержательные элементы в художественном произ-
ведении — это те элементы, которые, как правило, пред-
ставляются обусловливающими; формальные элементы —
это те элементы, которые выступают как обусловленные.
В действительности же содержание, конечно, всегда одно-
временно и обусловливает и обусловлено, форма — также,
ибо именно напряжение между обусловливанием и обус-
ловленностью составляет основу диалектического противо-
речия между содержанием и формой. Современное искусство
усиливает это напряжение и подчеркнуто выдвигает анти-
номию «содержание — форма», перемещая в ней центр
тяжести на поп А, т. е. акцентируя обусловливание формой.
Так, например, современное поэтическое искусство часто
позволяет содержанию возникать из формы, выводя тему
из языковых элементов, ср. некоторые лирические стихи
Незвала, где единственную (хотя, конечно, переменчивую)
связующую нить темы дает смысловая цепочка рифм, или
стихи из сборника Библа «Золотыми цепями»12, где тема-
тическая последовательность открыто переложена на эвфо-
нические фигуры. Наиболее яркое выражение этой тенден-
ции в изобразительном искусстве — определенная разно-
видность экспрессионистической живописи, так называемая
абсолютная живопись Кандинского, а также орфизм Куп-
ки , некоторые картины Й. Шимы14 и артифициэлизм15,
Штырского и Тоайен, где рудиментарная тематизация (на-
пример, пространство, очертания) неопределенным образом
внушается расположением цветов (например, теплые
цвета, выступающие на передний план, и холодные —
отступающие вглубь), линией (ср. неопределенные намеки
558
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
на предметность посредством замкнутых и незамкнутых
контуров).
Подчеркнутая антиномия содержания и формы может
также проявляться в том, что форма, не меняя своего
формального характера, становится одновременно и содер-
жанием. Наглядный пример представляют собой символи-
стские поэтические образы. Поэтический образ уже в своем
отношении к предмету, на который он лишь косвенно на-
мекает, явственно принадлежит к области формы. И все
же у символистов, например у Бржезины, образ нередко
используется так, что, развернутый, он сам по себе состав-
ляет небольшое тематическое целое. Иногда с помощью
образа — причем используемого только как образ — дается
описание какого-то события, как например, в стихах:
Sem nikdo z zjvych nezbloudf. Jen^vzknsen zrajcy mymi
vstal smutek techto mfst a kroky baznf zthimenymi,
by br^tn* neviditelnych ze spanku nevyrusil,
mi vysel naproti.
(«Smutek hmoty*)
Никто из живых сюда не забредет. Только воскрешенная
моим зрением
встала печаль этих мест и шагами, приглушенными опасением
нарушить сон невидимых братьев,
вышла мне навстречу.
(«Печаль материи»)
Образ печали, приглушенными шагами выходящей на-
встречу поэту, уже нечто большее, чем чистая форма: это
форма, диалектически переходящая в содержание. Иной
пример — поэтические образы, названные Бретоном в «Со-
общающихся сосудах» «двойными», т. е. такими, в которых
слово текста функционирует одновременно как образ (эле-
мент формы) и как прямое наименование, относящееся
непосредственно к теме. Поэтику такого рода образов про-
демонстрировал на нескольких примерах Незвал в своей
повести «Она хотела обокрасть лорда Блеймингтона» , при-
ведем один из них: «Роман. Солнечный закат в комнате.
Найдутся писатели, которые захотят изобразить этот закат
словами. Они разглядывают один предмет обстановки за
другим, ищут подходящие образы. Старые литературные
школы пользовались мифологическим аппаратом. Можно
передать эту мистерию одной фразой: Солнце зашло. И в
комнате осталось о нем воспоминание. Роза в стакане за
559
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
окном» Роза здесь одновременно и образ солнца, т. е. форма,
и настоящая роза со всеми ее свойствами, т. е. содержание.
Можно привести и противоположный пример, когда содер-
жание, оставаясь самим собой, становится также и формой.
Мы имеем в виду произведения кубистической живописи,
содержание которых, как правило, однозначно передано
лишь в названии; однако название — например, «Мужчина
с трубкой!» — в немалой степени определяет и формальную
интерпретацию: если бы картина была без названия, и
интерпретация ее формы часто была бы неопределенной, а
если бы название было иным — изменилась бы и интер-
претация. Тема открыто функционирует здесь как формо-
образующий фактор.
Такими путями — обусловленностью содержания формой
и диалектическим превращением формы в содержание и
наоборот — в современном искусстве происходит обострение
противоположности между содержанием и формой. Однако
и каждая из этих групп элементов сама по себе обладает
внутренней антиномией, которая в произведениях совре-
менного искусства также доведена до действенной вырази-
тельности Внутренняя антиномия формы выражается в сле-
дующем: форма в произведении — одновременно и орга-
низующий и дезорганизующий фактор. Разумеется,
основной член антиномии — организующая власть формы;
именно так форма обычно понимается и определяется те-
оретически. Однако современное искусство акцентирует не-
гативную сторону, т. е. дезорганизующую потенцию формы,
которая, достигая кульминации, диалектически превраща-
ется свОе позитивное начало — в реорганизацию с по-
мощью формы Один из нагляднейших примеров представ-
ляет кубистическая живопись. Хотя здесь форма дезорга-
низует предмет лишая его единой перспективной точки
зрения и превращая части, на которые он разложен, в
правильные стереометрические формы; но в то же время
она и организует предмет в новое плоскостное и контурное
единство Подобным же образом поступает и поэтистское
искусство, расчленяя казуальную связь событий, привноси-
мую темой из внешней действительности, и заменяя ее
новой связью, формальной (композиционной, чисто смыс-
ловой ритмической и т. д.).
Содержание (тема) также обладает своей внутренней
ан тино мией, параллельной внутреннему противоречию фор-
мы это противоположность между единством и множест-
560
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
венностью. Содержание художественного произведения —
это ex definitione смысловое целое; но одновременно оно
представляет собой множественность, будучи расчленяемо
на подчиненные единицы, смысловые взаимоотношения ко-
торых и нарушают и подчеркивают единство целого. Так,
например, при нормальной конструкции эпического дейст-
вия возникает напряжение в результате неожиданной по-
следовательности событий, объединение которых в смысло-
вое единство поначалу казалось невозможным; только раз-
вязка цементирует тему, задним числом связывая все ее
части единым смыслом. Современное искусство часто уси-
ливает диалектическую антиномию между последователь-
ностью и непоследовательностью темы, преподнося тему до
такой степени непоследовательно, что каждая из частей
сохраняет самостоятельное предметное отношение (т. е. от-
ношение к реальности, предполагаемой за произведением,
собственно — за темой). Дальше всего заходит по этому
пути сюрреализм, составляя тему в поэтическом искусстве
из совершенно разнородных фактов, в живописи — из
предметов, не объединенных ничем, кроме общей рамы;
даже объединение посредством формы (например с помощью
композиции или ритма) здесь не отвергается; зато подчер-
кивается документальность каждого из фактов, приводимых
в поэтическом произведении, или вещественность каждого
из предметов, изображенных в произведении живописи,
чтобы тем сильнее воздействовала на зрителей их взаимо-
разъединенность. Объединение фактов и разрозненных ве-
щей в смысловое целое предоставляется зрителю или чи-
тателю в качестве задачи. Так подчеркивается внутренняя
антиномия темы.
Мы могли бы в нисходящем порядке перебрать так всю
структуру, вплоть до отдельных элементов, и обнажить
антиномии, которыми она пронизана до самого основания,
но изложение потребовало бы подробного анализа, специ-
ального для каждого отдельного вида искусства, на что
здесь нет места. И все же нельзя обойти молчанием одну
из важнейших антиномий, а именно противоположность
красоты и ее отрицания. Мы имеем в виду не традиционную
проблему эстетики «безобразного», а то, что художественное
произведение, главным образом именно в период первой
своей свежести, вызывает не только эстетическое наслаж-
дение, но и сильные элементы недовольства, так как пре-
ступает канонизированные эстетические нормы. Современ-
561
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ное искусство любит усиливать чувство нарушения тради-
ции, что, однако, означает не столько подавление эстети-
ческой нормы, сколько ее обнажение и заострение: чем
сильнее должно быть подчеркнуто нарушение закономер-
ности, тем сильнее должна ощущаться сама эта закономер-
ность. Поэтому искусство одновременно охотно прибегает
к скрещиванию норм. Это происходит следующим образом:
господствующему канону норм (=вкуса) противопоставля-
ется другой канон, также уже сложившийся в систему и
выработавший собственный однозначный идеал красоты,
действующий, однако, где-то за пределами области совре-
менного «официального» искусства. Примеры были приве-
дены выше, когда мы говорили о противоположности между
искусством и не-искусством. Вместо отрицания одного ком-
плекса норм (канона) возникает осцилляция между двумя
комплексами, причем обычно внутри структуры, что дости-
гается путем подчинения какой-то группы элементов одному
канону, а другой группы — иному (например, в поэтическом
искусстве конструкция предложения противостоит выбору
слов и т. п.); разумеется, противоречие может возникнуть
также и вне структуры, если произведение, полностью ос-
нованное на чужеродном каноне, включено в контекст офи-
циального искусства, канон которого составляет затем фон
при восприятии произведения.
И наконец, последняя антиномия, о которой необходимо
сказать несколько слов, — это взаимное противоречие между
отдельными видами искусства, иначе говоря, противоречие
между искусством, ориентированным на другой вид искус-
ства, и так называемым «чистым» искусством (т. е. «чистой»
поэзией, живописью и т. д.). Каждый из видов искусства
может искать путей к иным искусствам, акцентируя общие
для них элементы (например, тема объединяет поэтическое
искусство, драму, живопись, кино; ритм и звуковые цен-
ности сближают поэтическое искусство с музыкой; распре-
деление светотени, объем, контур присущи живописи, ва-
янию и кино), или же пытается своими специфическими
средствами конкурировать со специфическими средствами
другого вида искусства (ср., например, стремление поэти-
ческого искусства конкурировать с визуальными возможно-
стями живописи, стремление кино конкурировать с драмой
и драмы с кино и т.п.). О взаимоотношениях между от-
дельными видами искусства свидетельствуют и обычные
метафорические клише, используемые критикой, такие как
562
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
«музыкальность» стихотворения или даже картины, «поэ-
тичность» музыки или живописи, «пластичность» стихотво-
рения или картины. Взаимовлияния могут вести и к весьма
сложным отношениям между искусствами, так, например,
построение музыкальных произведений Р. Вагнера (харак-
терный мотив, музыкальные и авторизованные цитаты) го-
ворит о явном крене музыки в сторону поэзии; однако
романист Т. Манн — и это как обратное движение той же
волны — сознательно делает вагнеровский принцип постро-
ения образцом композиционной конструкции своих поэти-
ческих произведений (ср. Schaber W. Th. Mann zu seinem
sechzigsten Geburstage). Но и наоборот, определенный вид
искусства может стараться быть самим собой, делая ударение
именно на специфических свойствах, отличающих его от
других видов искусства, например поэтическое искусство —
на чисто языковых элементах, живопись — на цвете т. п.
Обе тенденции — тенденция к «чистому» искусству и тен-
денция к слиянию с иным искусством — в современном
искусстве находят свое крайнее выражение (ср., например,
использование «искусственного» языка в поэтическом ис-
кусстве и супрематизм в живописи, а на противоположном
полюсе — символистскую поэзию, сливающуюся с музыкой,
и сюрреалистическую живопись, отождествляющую себя с
поэзией); причем часто эта диалектическая пара интерес-
нейшим образом скрещивается с парой «подчиненность —
господство эстетической функции»: ср., например, симво-
листское поэтическое искусство, которое совмещает тяготе-
ние к иному виду искусства (музыке) с подчеркнутым
господством эстетической функции, или же конструктивизм
в архитектуре, подчеркивающий специфичность архитекту-
ры и одновременно стремящийся низвести эстетическую
функцию до подчиненного положения.
Мы сделали попытку показать, что современное искус-
ство построено на диалектических противоречиях, но, ко-
нечно, отнюдь не в том смысле, что на иных стадиях
истории искусства этих противоречий не было — ведь они
являются постоянной движущей силой развития, — но в
том смысле, что противоречия, которые, как правило, про-
являются последовательно, в современном искусстве высту-
пают кучно и настойчиво, воздействуя неприкрыто и вза-
имно перекрещиваясь. В начале этого исследования мы
указали на причины такого особого положения вещей. Не
намереваясь выступать ни с критикой современного искус-
563
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ства, ни с его апологией, мы пытались лишь дать его
гносеологическую характеристику. Современное искусство
очень часто характеризуют как проявление кризиса нынеш-
ней культуры и нынешнего общества. Такая характеристика
оправдана лишь постольку, поскольку она не выражает
неприязни к какому бы то ни было живому искусству, и
лишь в том случае, если она сопровождается сознанием
того, как много попыток реконструировать мир ценностей
делается именно в современном искусстве и как сильно
проявляется в его кажущемся хаосе стремление к стройной
системе, разумеется — динамической.
ПОЛОЖЕНИЕ
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Задачи искусства многочисленны. Если кто-нибудь утвер-
ждает, что назначение искусства — вызывать эстетическое
наслаждение, ему нельзя возразить. Но не ошибается и тот,
кто приписывает искусству способность укреплять солидар-
ность между людьми, стирать грани, разделяющие друг от
друга на основе иных, например политических, интересов от-
дельных индивидов и целые общества. Если бы мы хотели
утверждать, что искусство призвано выражать характер и об-
раз мысли определенного коллектива, то и тут мы могли бы
подкрепить свою точку зрения многочисленными примерами
из истории искусства; нашли бы мы и свидетельства того,
что в некоторые периоды и в некоторых местах искусство
выражало экономическую или политическую мощь общества
либо общественного класса, которые были его носителями.
Нельзя также отрицать, что искусство, хотя бы отчасти, иг-
рает и познавательную, научную роль: борьба, которую жи-
вопись вела за передачу пространства на плоскости, породила
даже целую науку — начертательную геометрию. На протя-
жении многих веков человечество наблюдало тесный контакт
искусства с религиозным культом; сейчас мы порой видим,
как искусство служит пропаганде — торговой и политиче-
ской. Если бы мы внимательно присмотрелись к отдельным
видам искусства, у каждого из них мы могли бы назвать еще
и другие, лишь им свойственные задачи.
564
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
На протяжении своего развития искусство, выступая то
в одной, то в другой из этих ролей, испробовало их все, и
можно даже утверждать, что в каждом художественном
произведении наличествует — порой явно, порой скрыто —
потенциальное множество таких назначений. Одно и то же
произведение в разное время или даже одновременно может
служить разным задачам в зависимости от замысла худож-
ника или даже от требований, с которыми подходят к
произведению зритель либо читатель. Случается также, что
в одно и то же время и в одном и том же обществе
существует рядом несколько разновидностей одного и того
же рода искусства, каждая из которых служит какой-либо
одной из перечисленных задач. Следовательно, нельзя ска-
зать, какие задачи должно выполнять искусство вообще: и
если мы хотим их точно установить, нам каждый раз нужно
иметь в виду определенную, локализированную с точки
зрения уровня развития, места и социальных условий форму
искусства. Если мы знакомы с ситуацией такого художест-
венного формирования (направления, школы и т. д.), разу-
меется, можно выяснить, для какого назначения подходит
его художественное построение, а порой и требовать, чтобы
это формирование выполняло свою задачу последовательно
и действенно.
Так мы подходим к собственной теме этой статьи, к
размышлению о ситуации и задачах современного искусства.
Конечно, «современное искусство» — понятие довольно
сложное, поскольку оно определяется не только эпохой, но
и характерной нацеленностью художественных устремле-
ний. В хронологическом плане период современного искус-
ства может быть датирован, начиная с импрессионизма в
живописи, с символизма в поэтическом искусстве и т. д.,
художественные же устремления определяют границы внут-
ри этого периода: если мы примем во внимание художест-
венное творчество во всей его широте — от «высокого»
искусства вплоть до искусства периферийного, — мы увидим
множество явлений, которые не имеют, а порой и не хотят
иметь ничего общего с современным искусством, хотя сов-
падают с ним по времени. Характерный признак современ-
ных художественных устремлений в искусстве — интерес
к тому, как художественное произведение сделано, к сред-
ствам художественного воздействия.
Этот интерес обычно определяют как «формализм» со-
временного искусства. Однако нужно осознать, что такое
565
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
формализм на самом деле. Чаще всего и с наибольшими
на то основаниями говорится о формализме, когда речь
идет об отмирающих художественных образованиях, ис-
пользующих застывшие формальные образцы, которые мож-
но утонченно применять и усложнять, но отнюдь не пре-
вратить в новую форму, соответствующую современной жиз-
ненной реальности. Современное же искусство, наоборот,
любит разбивать традиционные клише: оно вновь и вновь
ищет необычную форму и в новизне ее видит существенный
элемент художественного воздействия. Поэтому упреки, ад-
ресованные формализму, основывающемуся на паразитиче-
ском использовании традиции, не затрагивают современное
искусство. Нужно также заметить, что это искусство не
обращается к чувству традиционной красоты, основанной
на верности привычке, а как раз ориентируется на диссо-
нансы, дисгармонию, вытекающие из нарушения обычных
правил. И еще: если форма, повторяющая традиционное
клише, медленно, но наверняка утрачивает непосредствен-
ный контакт с действительностью, которую должна форми-
ровать, то в отличие от этого форма современного искусства
нащупывает действительность постоянно обновляемым же-
стом.
Итак, что же остается в современном искусстве от при-
знаков формализма? Только один, причем касается он лишь
определенного, уже отошедшего в прошлое периода; мы
помним, как лет пятнадцать назад в теории и практике
искусства распространился лозунг «чистой» поэзии, живо-
писи, «чистого» кино и т. д.; этим лозунгом искусство от-
рекалось от содержания, отказывалось изображать, сооб-
щать, выражать и хотело воздействовать только формооб-
разующими средствами, которые предоставляет сам
материал: в поэтическом искусстве — словом, в живописи —
плоскостью, цветом, линией и т. д. Однако сейчас эта тен-
денция, как было уже сказано, принадлежит прошлому:
например, поэтическое искусство в своих самых радикаль-
ных течениях до такой степени проявляет ныне реальную
ориентацию, что целью (по крайней мере теоретической)
провозглашается стихотворение, настолько независимое от
материала, т. е. от языка, на котором оно написано, что
его можно было бы без ущерба выразить на любом ином
языке. Однако основная направленность современного ис-
кусства — внимание к художественному построению про-
изведения — от этого не изменилась.
566
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Уже в ту пору, когда в художественном произведении
отвергалось содержание, делалось это, как было уже отме-
чено, не для того, чтобы отдалиться от действительности,
а для того, чтобы путем эксперимента обрести новые сред-
ства для овладения ею. К этому современное искусство
продолжает стремиться и сейчас: сам сюрреализм, пресле-
дуемый иногда под предлогом артизма, полон такого стрем-
ления. Но все дело в том, что понимать под действитель-
ностью и каким методом искусство ее осваивает. Действи-
тельность — не только тот предмет, который мы в данный
момент воспринимаем или используем в качестве инстру-
мента; действительность — целый мир явлений, окружаю-
щих человека; каждый отдельный факт составляет часть
этого мира, и лишь включение в него обретает в нашем
восприятии окончательный смысл и окончательное подобие.
Каждый охваченный искусством отдельный факт для ре-
цептора художественного произведения является всего лишь
представителем той большой и сложной системы, которую
мы называем действительностью. В зависимости от того,
как художник понял известный отдельный факт, воспри-
нимающий, который идет по стопам художника, определяет
свое отношение и ко всем остальным явлениям. В соответ-
ствии с этим отношением он также и ведет себя примени-
тельно к действительности: например, поведение человека,
под влиянием импрессионистической концепции начавшего
воспринимать действительность как плоскостную игру цве-
товых оттенков, в которой расплываются отдельные пред-
меты, очевидно, будет иным, чем поведение того, кто вместе
с кубизмом осматривает предмет одновременно с разных
сторон, удостоверяясь тем самым в его телесности.
Между тем действительность именно как система и целое
за последние десятилетия чрезвычайно изменилась. Мы на-
учились также считаться со многими формами действитель-
ности, которые сами по себе не воспринимаются органами
чувств, но могущественно воздействуют на воспринимаемую
органами чувств реальность. Так, например, языкознание
ясно сознает, что в своей сути язык — это не мимолетное
звуковое проявление, которое мы слышим вокруг себя и
которым сами пользуемся для установления взаимопонима-
ния с остальными людьми, а не воспринимаемая органами
чувств система законов говорения, нематериально сущест-
вующая в сознании всех, кто принадлежит к определенному
языковому сообществу. Не будь этой нематериальной сис-
567
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
темы, звук, исходящий из человеческого горла, не мог бы
служить средством для достижения взаимопонимания, не
имел бы подобной ценности (или обладал бы ею лишь в
незначительной мере), поскольку отсутствовал бы посред-
ничающий фактор, придающий этому звуку общезначимый
смысл. Валюта, которая в виде металлических монет и
бумажных банкнот проходит через наши руки, только ка-
жется материальным фактором, а в сущности это тоже
нематериальная система, и денежная стоимость, как показал
опыт последних лет, в значительной степени независима
от своего материального обеспечения, т. е. от количества
золота в сейфах государственных банков и даже от размеров
национального достояния: ее часто определяют вмешатель-
ства правительственных органов, которым поручено забо-
титься о судьбах данной валюты, далее, политические со-
бытия в стране и соседних государствах, мнение, которое
существует за рубежом о государстве, валюта которого там
принимается, и т. д.; следовательно, она зависит от факто-
ров, которые в материальном обеспечении валюты ничего
не меняют.
Но и сама материальная действительность природы бла-
годаря научным исследованиям и техническим достижениям
быстро изменяется на глазах человека. Так, например, при-
чинность в природе, которая до сих пор казалась не име-
ющим исключений законом, в свете новых исследований
предстает, по крайней мере в известных областях явлений,
как закономерность, соединенная со случайностью, а сле-
довательно, как нечто не поддающееся предвидению. Тех-
ника создает новые факты действительности, равные явле-
ниям природы и тем не менее искусственные, до сих пор
не существовавшие, например трехфазный ток. Небывало
быстрым темпом, нередко буквально в течение ночи, воз-
никают и исчезают важные явления общественной деятель-
ности, такие как государства, общественные слои и т. д.;
таким образом, материальная и общественная действитель-
ность в последнее время существенно изменилась и неустан-
но изменяется на глазах и под руками современного чело-
вечества. Само понятие вечной научной истины стало в
философии предметом интенсивных размышлений и споров.
Все очевиднее становится, что в своем поведении человек
должен считаться с принципиальным и ежедневно углуб-
ляющимся изменением действительности. Человек ежеднев-
но вновь и вновь ощущает себя чужестранцем в мире,
568
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
который его окружает и по отношению к которому он
должен действовать: вещи, в прошлом простейшие, утра-
чивают свою самоочевидность.
Одна из важнейших задач искусства — находить путь
к действительности, указывать человеку объединяющую
точку зрения, с которой можно осмотреть действительность
и понять пронизывающие ее связи. Искусство, которое мы
называем современным, принимает на себя именно эту
функцию и с ее позиции хочет и должно быть оцениваемо.
Оно не претендует на уравновешенную и вечную красоту,
не хочет выражать лирический настрой автора, не склонно
к выполнению репрезентативных задач. Оно обращается к
человеку как к существу, трепещущему перед загадкой, и
как к завоевателю действительности; поэтому оно не может
производить впечатления уравновешенного спокойствия и
быть легкодоступным: именно беспокойством, бурным раз-
витием, неустанно возобновляемым зондированием стреми-
тельно изменяющейся действительности современное искус-
ство наиболее действенно выполняет свою задачу.
Поэтому оно заслуживает того, чтобы его работе не
мешало непонимание. Конечно, оно не может — как и
всякое воинствующее искусство — ожидать всеобщего со-
гласия. Совершенно естественно также, что рядом с ним
живут иные формы искусства, осуществляющие иные фун-
кции, удовлетворяющие иные общественные потребности,
иные требования, предъявляемые к искусству. Взаимное
сосуществование всех столь отличающихся друг от друга
формирований искусства, несмотря на все напряжения, воз-
никающие между ними, подчинено определенному порядку:
мы ежедневно видим, как остальные художественные об-
разования воспринимают, хотя часто и в измененной форме,
завоевания современного искусства, и наоборот, известно,
сколь многими импульсами развитие этого искусства обязано
именно другим художественным образованиям, начиная с
наиболее близких к нему и кончая такой часто презираемой
периферией искусства, как ярмарочная песня, лубок, жи-
вопись торговых вывесок и т. д. Речь идет, однако, о том,
чтобы и та часть художников и публики, которая подчер-
кивает иные задачи искусства, чем зондирование самых
глубоких подземных лабиринтов действительности, созна-
вала историческую необходимость и общезначимость уст-
ремлений современного искусства.
569
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
АВАНГАРДА
В своем выступлении я ограничусь тем в авангарде, что
мне особенно врезалось в память, что мне было близко.
А это определенные основные принципы — разумеется, во
мне говорит теоретик, — которые остались после авангарда,
которые он выработал, ввел в обиход и которые еще и
сегодня не утратили своего значения. К этому я, безусловно,
хотел бы добавить — поскольку речь идет о точке зрения
если не субъективной, то по крайней мере все же как-то
связанной с моим жизненным опытом, — что, говоря об
авангарде, я прежде всего имею в виду авангардное искус-
ство, как оно проявлялось и развивалось у нас, и при этом
в эпоху, когда оно находилось — как сказал товарищ про-
фессор Бакош1 — уже в непосредственной связи с послед-
ствиями Октябрьской революции и с борьбой за социализм
у нас. Конечно, я не предполагаю, чтобы из-за этого могла
как-то существенно пострадать известная всеобщая ценность
моих утверждений просто потому, что авангардные течения,
как движения истинно международные, имели в своих ос-
новах столько общего, что с учетом видоизменений, обус-
ловленных различием национальных традиций, их основные
принципы оставались в целом сходными.
Прежде всего я хотел бы обратить внимание на то, что
наш авангард — и, думаю, это касается в известной мере
авангарда любой страны — не был изолирован, что он был
как-то связан со всем, что тогда делалось в искусстве, в
культуре вообще и даже во всей общественной жизни. Тогда,
например, были наиболее близки авангарду писатели, ко-
торых мы не причисляем прямо к авангарду, но которые,
несмотря на это, тесно к нему примыкали, писатели и
художники (хотя бы братья Чапек, но и не только они; из
них же главным образом Йозеф, который, как известно, в
своем «Лелио»2 был весьма близок к «Песням Мальдорора»
Лотреамона), однако близки авангарду, опять-таки больше
всего из политических соображений, а также и лично Оль-
брахт и Майерова, Пуйманова и Гора*3 и др. Это не был
авангард только противопоставленный кому-то, а это был
570
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
авангард в союзе со всем прогрессивным художественным
творчеством против тех, кто был близок к аграрной партии,
католицизму и т. д. Такая атмосфера далека от идиллии,
поскольку авангард никогда и нигде не мог быть идилли-
чески спокойным, авангард рос в атмосфере, мы бы сказали,
известного взаимопонимания между всеми прогрессивными
писателями, причем, естественно, я не прохожу мимо хотя
бы таких чрезвычайно острых противоречий, которые воз-
никали иногда, скажем, между Карелом Чапеком и аван-
гардом. Но это не были противоречия, которые касались
бы всей широты, всего диапазона художественного фронта.
Карел Чапек был одновременно и объектом критики аван-
гарда, и вместе с тем был с ним (и сам со своей стороны
и со стороны другой) в весьма близких отношениях. Это
необходимо учитывать, чтобы видеть авангард как законо-
мерную составную часть тогдашнего культурного и, можно
сказать, общенационального процесса.
Авангард, естественно, нашел свое место главным обра-
зом там, где он, как, скажем, дадаизм, в свой начальный
период развивался вне остального контекста, и чешский
авангард порой определял подобным образом сам себя —
очевидно, вы вспоминаете слова первого поэтистского ма-
нифеста (обозревая отечественную традицию, мы не нашли
в ней ничего, кроме, пожалуй, нескольких волшебских
метафор «Мая» Махи). И тем не менее — угодно это
кому-либо или не угодно — с нынешней точки зрения
авангард представляет собой весьма закономерную состав-
ную часть развития нашей культуры.
Но это уже, можно сказать, одно из основных диалек-
тических противоречий, а отнюдь не внутреннее противо-
речие авангарда: с одной стороны, включенность в отече-
ственную культурную традицию, с другой — стремление
чем-то отличаться от нее, не внешне, а так, чтобы сохранить
незамутненный посторонними прикосновениями взгляд на
вопросы. В этом и таится корень объединения художников
в группы: сначала «Деветсил» , затем — сюрреалитическая
группа. Короче говоря, это одно из основных диалектических
противоречий авангарда, без понимания которого мы едва
ли смогли бы понять его значение. Из чего вытекает это
стремление отличаться — ясно. Мир уже тогда, между
двумя войнами (да, собственно, уже и перед первой мировой
войной), начал так меняться и в результате общественных
столкновений и тенденций, и в результате развития тех-
571
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ники, что все настойчивее требовалось, а ныне уже нужно,
как говорится, кричать громким криком, чтобы человек
увидел действительность такой, какова она есть в настоящий
момент, чтобы он не позволял возводить между собой и
действительностью нечто, являющееся частью прошлого,
какие-нибудь, скажем, каноны, какие-то традиционные
формулы, которые хотя и приносят известную пользу во
времена нормального течения истории, но во времена таких
резких переворотов становятся прямой опасностью, потому
что как тени встают между человеком и действительностью.
И вот сюрреалисты, которые чем дальше тем яснее (да,
собственно, уже с самого начала достаточно ясно) понимали,
что первая предпосылка любого творчества и в особенности
художественного — избавиться от какого бы то ни было
наноса прошлого, прежде всего стали негативно относиться
ко всем художественным традициям, которые скорее уво-
дили от современности, чем приближали к ней. Отсюда
стремление избавиться от канонов, стремление найти в
обломках философии и художественных направлений фор-
мулы повседневной жизни, найти не новые формы, которые
опять ограничивали бы свободу человека, а под ними, под
этими обломками действительность, найти почву для жизни.
Поэтому в момент своего возникновения авангард отмечен
решимостью идти до самого конца, идти до конца во всем,
во взглядах, в формулировках, нигде не оставлять клочка,
где, скажем, могли бы угнездиться какие-то старые традиции.
Теперь обратим внимание на следующую основную осо-
бенность авангарда, а именно на взаимоотношение между
отдельными видами искусства. Ныне мемуарная литература
дает нам достаточно свидетельств о том, как, собственно,
обстояло дело со взаимосвязью отдельных художественных
отраслей. Цитирую архитектора Гонзика, но можно было
бы процитировать и, например, «Были и было» Лангера5
(поскольку все это касалось уже чапековского поколения,
того поколения, которое на первых порах сгруппировалось
вокруг «Умелецкого месичника»6). Итак, уже после окон-
чания политехнического института, — говорит Гонзик, —
его соученики пробовали свои силы в разнообразных ре-
меслах, во всех видах мастерства уже потому, что им
необходимо было зарабатывать на жизнь, или потому, что
они просто были мечтателями, и вот они рисовали, пели,
писали стихи, играли в театриках и кабаре. А в другом
месте Гонзик рассказывает различные истории о многосто-
572
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
ронних талантах, столь распространенных в двадцатые годы,
которые воистину могут напомнить читателю об эпохе Ре-
нессанса. Все это, разумеется, лишь биографические мо-
менты, но такие биографические ситуации складываются
при определенных объективных обстоятельствах, и время
тогда было именно таким. Следовательно, это характерный
момент, пусть характерный только для определенной эпохи,
пусть лишь индивидуальный. (Вспомним хотя бы Незвала —
музыканта, художника, поэта; если мы еще сегодня взгля-
нем на Гофмейстера7, то тут перед нами, как мы видим,
еще более богатый перечень; наконец, даже среди теоре-
тиков мы встречаем Тейге, который был теоретиком лите-
ратуры, кино, изобразительного искусства, архитектором,
теоретиком архитектуры и к тому же еще художником.)
Итак, даже эта индивидуальная склонность совмещать раз-
личные виды художественного творчества была характерна.
И если мы приглядимся, то до сих пор, скажем, удержался
и весьма распространен взгляд, что средства, которыми
пользовался художник, его материал — это лишь некий
инструмент, но то, что он хочет сказать, то, что ему нужно,
то его отношение к действительности, которое ему необхо-
димо выразить, — все это просто можно выразить теми
средствами, которые как раз в данный момент и для данного
случая наиболее подходят (например, нечто нарисовать,
нечто написать и т. д.)
Кроме того, взаимное тяготение существовало и между
различными видами искусства. Но оно, собственно, суще-
ствовало испокон веков. А с XIX века известен прослав-
ленный пример вагнеровского понимания Gesammt-
kunstwerk*, к претворению которого делались не только
теоретические, но и практические шаги. Словом, есть из-
вестный параллелизм, известная соотнесенность различных
искусств. В сюрреалистическом понимании дело обстояло
иначе. Там — если приглядеться повнимательней — искус-
ства развивались не параллельно друг другу, а перекрещи-
вались, взаимопроникали, в определенные моменты просто-
напросто подменяли друг друга. За неимением более под-
ходящего и более наглядного примера, сошлюсь на способ,
каким Э. Ф. Буриан использовал в своем театре, наряду с
драматическим текстом, музыку, изобразительное искусство
и т. д. Музыка у него применялась не для сопровождения
♦ Совокупное произведение искусства {нем.).
513
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
текста. Она применялась, выражаясь музыкальным терми-
ном, для его синкопирования, т. е. для того, чтобы, иногда
начавшись посреди текста, продолжать, предположим, зву-
чать во время паузы между репликами и замолкнуть посреди
другой реплики и т. д. Или на сцене стояла статуя, выступая
в роли партнера живого актера; она была там не для того,
чтобы составлять часть декорации, создавать какое-либо
настроение или, допустим даже, couleur locale*, а для того,
чтобы играть наряду с актерами. Когда речь шла о цвете,
цвет возникал не для того, чтобы пробудить в зрителе
определенное настроение, цвет, обычно реализованный в
свете, становился составной частью драматического дейст-
вия. Я вспоминаю хотя бы, как Буриан инсценировал «Се-
вильского цирюльника». Речь шла о каком-то мятеже, о
каком-то скоплении народа за сценой, но сцена оставалась
пустой, а на ней скрещивались, сражались разноцветные
лучи прожекторов.
Итак, это было некое взаимопроникновение искусств, и
точкой, в которой эти искусства встречались, была, как мы
знаем, поэзия. Понятие поэзии для авангарда не было не-
избежно сопряжено со словом. Поэзией было нечто иное,
и определение для этого найти трудно. К поэтическому
воздействию стремились все виды искусства, и в этом они
сходились. Характерен пример Шимы, Штырского, Тоайен
как художников, которые творили поэзию цветом и линией.
Артифициэлизм Шимы и Штырского — это было стремление
создавать линией поэзию, а не ставить эту линию на службу
какому бы то ни было прямому изображению определенной
действительности. Даже у того же Гонзика, на которого я
уже дважды ссылался, мы найдем весьма интересное вы-
сказывание. Он говорит: «Архитекторы «Деветсила» цель
своей работы видели в поэзии». Это нужно особо подчер-
кнуть. Короче говоря, начинает казаться, будто понятие
поэзии означает ощущение, что, собственно, целью всего
в искусстве является человек, что речь идет — как я уже
говорил — не о средствах, которыми пользуется человек,
чтобы установить связь между собой и остальными людьми,
между собой и миром, а именно о самом человеке, о его
отношении к миру.
Конечно, часто говорится о том, что художественные
средства и художественные методы привлекали особое вни-
♦ местная окраска (франц.).
574
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
мание авангарда, и это говорится отнюдь не без основания
(недаром представителей авангарда обвиняли в формализ-
ме — разумеется, несправедливо). Таким образом, речь
идет не о средствах вообще, а о стремлении найти такие,
которые не несли бы на себе наносов прошлого — об этом
я уже говорил — и которые не умертвляли бы контакт с
жизнью. К этому стремятся все виды авангардного искус-
ства, и потому характерная черта искусства авангарда —
тенденция разных видов искусства к взаимному слиянию
или, скорее, взаимопроникновению, скрещиванию.
Это стремление, чтобы искусство как-то взаимопрони-
кало, не мертво, оно чрезвычайно живо и, по сути дела,
несет в себе многое из того, что воистину живо в сегод-
няшнем искусстве. Гофмейстер в своей новой книге «Время
не возвращается» воспроизводит разговор с Иржи Трнкой ,
художником и кукольником. По словам Трнки, возникнет
комбинированное искусство художников, скульпторов, пи-
сателей, актеров, музыкантов и т. п., это будет самое кол-
лективное искусство самых прекрасных мастеров без раз-
личия национальности, искусство самое дешевое, для самой
широкой публики. Все это в зародыше уже происходит, и
перед нами непредставимо прекрасное будущее того собор-
ного искусства, которое до сих пор существовало, может
быть, лишь в средние века. Радостно наблюдать — продол-
жает Трнка, — как на наших глазах это искусство уже
пробивается на свет. И так говорит не теоретик, так говорит
художник, деятель кино, живо ощущающий, как именно в
его собственном творчестве эта тенденция взаимного про-
никновения всех видов искусства временно достигает куль-
минации. Впрочем, не случайно, что это говорит именно
Трнка, автор кукольных фильмов, потому что кино ближе
всего сейчас, но не было еще так близко в пору авангарда
(хотя авангард это уже предчувствовал) к тому, чтобы взять
на себя функции этого современного Gesammtkunstwerk.
Для этого необходимо было очень многое: появление зву-
кового кино и т. д., а в известных случаях и цветного.
В этой связи не лишено значения высказывание, которое —
как я припоминаю — встретилось мне как-то в одной из
критических статей Бочека9 о кино, где он констатировал
интересный факт, что сейчас нередко чешский фильм (без-
условно, это касается также и словацких фильмов), имев-
ший успех за границей, обладает большими достоинствами,
чем современная повесть, из которой была взята его тема,
575
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
т. е., что эта повесть в известной мере доработана, худо-
жественно дотянута. Это тоже характерно. Короче говоря,
это взаимосвязь между видами искусства, сознание их род-
ства, но в своей гносеологической основе иное, чем до
появления авангарда.
В кажущемся противоречии с этим утверждением нахо-
дится тенденция, которая после первой мировой войны про-
явилась в авангардном искусстве, тенденция к чистой ли-
рике, к чистой живописи и т. п. Но это противоречие дей-
ствительно кажущееся, поскольку исходным моментом в
стремлении к чистой лирике и т. п. была потребность вы-
яснить, какие возможности таит в себе материал того или
иного искусства, какие следствия и обязательства из него
вытекают, когда художник хочет использовать его именно
для целей, преступающих границу одного лишь вида ис-
кусства. В эпоху символизма поэтическое искусство, на-
пример, пыталось «выдать себя» за музыку («de la musique
avant toute chose»*, — говорил Верлен). Итак, авангард
хочет познать характер и сущность каждого вида искусства
как раз для того, чтобы целенаправленно и действенно
обращаться с искусствами при их взаимозамещении. Таким
образом, речь здесь идет о диалектической взаимозависи-
мости, а не о противоречии тенденций.
Следующая из основных диалектических противополож-
ностей авангардного искусства — противоположность между
искусством и остальным человеческим творчеством. Эта
связь, которая была для искусства вплоть до XIX столетия
вполне естественной и необходимой, оказалась прерванной
в первую очередь с приходом машинного производства. И вот
стало проявляться стремление возобновить эту связь. Попыт-
ки осуществить это делались уже относительно давно, доста-
точно вспомнить прежде всего Уильяма Морриса, понятие
«художественное ремесло» и соответственный взгляд на эту
проблему, стремление относиться к предметам художествен-
ного ремесла как к художественным произведениям. При та-
ком эмерсоновско1и — моррисовском понимании нередко со-
здавались практически совершенно непригодные вещи,
стулья, на которых нельзя было сидеть, стаканы, из которых
невозможно было пить. Подход к этому авангарда был прямо
противоположным. Здесь я хотел бы напомнить характерный
анекдот Лоса о профессоре художественной школы, который
* музыка прежде всего (франц.).
576
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
предложил своим ученикам сделать эскизы седел. Потом он
принес показать их седельщику, и тот, поглядев, сказал:
«Господин профессор, если бы я знал о верховой езде так же
мало, как вы и ваши ученики, я бы тоже делал красивые
седла». И вот в эпоху авангарда проявилась тенденция к тому,
чтобы художественное творение в искусстве выходило за рам-
ки искусства — нелитературность в литературе (как, напри-
мер, это отмечалось в наших исследованиях о Швейке) — и
наоборот, стремление, чтобы практическая эффективность,
скажем, станка повысилась за счет того, что будет принята
во внимание и эстетическая его функция, т. е. то, что назы-
вают промышленной эстетикой и эстетическим оформлением
станков и инструментов. Так были установлены чрезвычайно
близкие взаимоотношения между проявлениями художест-
венной деятельности и искусством. Архитектура (таково, к
примеру, одно из высказываний Тейге) считала себя наукой,
но притом никогда не отрицала, что в ее построениях, в кон-
струкциях архитектурных произведений как раз при их прак-
тическом использовании большую роль играет эстетическая
функция.
Это был, разумеется, огромный шаг вперед, но тогда
люди воспринимали его как нечто исключительное, как
роскошь, выдуманную авангардными художниками. Теперь,
когда благодаря социализму все это стало доступным, когда
исчезли экономические препятствия и т. д., скажем, эсте-
тическое оформление станков и инструментов превратилось
в требование чисто практическое и широко распространен-
ное. Разумеется, к этому должен был прийти авангард, он
должен был выдвинуть эту идею, чтобы потом её можно
было реализовать. Так влияние авангарда становится прямой
составной частью жизни, искусство пытается проникнуть в
сам ход повседневности, не стоять в стороне, полностью
избавиться от роли декоративной кулисы. Эту, разумеется,
исторически ограниченную роль отвела искусству буржуа-
зия, находившаяся на вершине своего расцвета, и авангард
со всеми его кажущимися парадоксами вернул искусство в
естественное состояние, присущее искусству на протяжении
веков и лишь нарушенное в эпоху наивысшего расцвета
буржуазии. Характерно, как функционализм отказывался
от орнамента (здание должно служить исключительно сво-
ему назначению и в нем не должно быть ничего не слу-
жащего этому назначению). Однако линия здесь немного
ушла в сторону от правильного пути в ряде воззрений
19—888 577
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
i
безусловно великого творца Ле Корбюзье. Дело в том, что
эта функциональность вдруг превратилась в некую искус-
ственно препарированную монофункциональность искусства
(«дом — это машина для жилья», — говорил Корбюзье),
став помехой для действительной функциональности искус-
ства. Необходимо было сделать следующий шаг к человеку,
и его снова сделал авангард, у нас главным образом Гонзик,
когда он начал соотносить все архитектурное творчество в
самом широком смысле слова с человеком, для которого
это творчество существует, когда он, решая проблему жилья,
начал думать не только о здании, но и обо всех жизненных
потребностях человека, обо всей его жизненной среде. Свер-
стник Гонзика архитектор Ладислав Жак11, собственно,
первый у нас развил эту мысль. Назвав свою книгу «Жилая
местность», он отнес к человеку не только здание, но и
всю среду, в которой он живет, а значит, и местность. Ну
так вот, все это было большим шагом вперед, и этот шаг
сделан, вопреки первоначальным взглядам на авангард,
внутри авангарда, в процессе его развития. Так архитектура,
собственно, приходит к нынешнему своему состоянию. Идеи,
казавшиеся первооткрытиями (как это было в случае с
Гонзиком), теперь стали уже почти анонимными требова-
ниями архитектуры. Мы на практике убедились, какие воз-
можности это открывает перед архитектурой, но также и
какие задачи перед ней выдвигает. Сейчас это, конечно,
заслуга коренного изменения жизни всего общества. Но
архитектурному функционализму, т. е. стремлению к тому,
чтобы искусство непосредственно проникало в жизнь, при-
надлежит заслуга создания предпосылок, из которых могла
исходить нынешняя архитектура. Да и в остальных видах
искусства существовало это стремление к связи искусства
с жизнью. Я взял как пример архитектуру, поскольку этот
пример наиболее нагляден, но тот же процесс, правда в
формах подчас менее заметных, происходит и в других
видах искусства. Например, нельзя не видеть воздействия
поэзии. Доказательством того, что для нынешней молодежи
особенно поэзия становится составной частью жизни, а не
просто чтением, служит, например, огромное число членов
Клуба друзей поэзии, и если мы видим, что нынешняя
молодежь в прямом смысле слова включает в свою жизнь,
с одной стороны, наследие авангарда, а с другой — самое
современное искусство, тоже связанное с авангардом, то
все это не случайность.
578
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
Однако перед нами встает сложный вопрос о взглядах
авангарда на содержание и форму, вопрос о его мнимом
формализме, на который я натолкнулся уже ранее. Так
вот, прошу не считать, что я уклоняюсь от этого вопроса,
если скажу по этому поводу очень мало. Причиной тому
недостаток времени, хотя до сих пор я говорил довольно
долго. Поэтому позвольте мне скорее назвать, чем разъяс-
нить основные положения. Тем, что авангард своей худо-
жественной практикой и теорией открыл новое значение
всех элементов художественного произведения, он не умень-
шил связь художественного произведения „с действительно-
стью, не урезал ее, а, скорее, наоборот, лишь обратил
всеобщее внимание на то, что связь искусства с действи-
тельностью находится в постоянном движении, поскольку
она носит диалектический характер, и что именно это по-
зволяет искусству поддерживать подлинный контакт с дей-
ствительностью, позволяет постоянно обновлять этот кон-
такт и не разрушать его, как сделали это последние побеги
буржуазного искусства, деградировавшие и оказавшиеся на
положении кулис. Когда авангардисты, скажем в театре,
да и в остальных видах искусства, сражались с этими
обломками буржуазного искусства, именно они выступали
с обвинением буржуазного искусства в формализме, при-
глушающем жизненность произведения.
Теперь следовало бы углубиться в самый сложный вопрос
и, я бы сказал, в известной мере самый актуальный вопрос
семантики художественного произведения, в проблему зна-
чения и смысла. Но этот вопрос, если вы позволите, я
полностью обойду молчанием именно из-за его сложности.
Можно было бы поставить еще множество вопросов по
поводу авангарда, еще весьма многое можно было бы от-
крыть и в нашем теперешнем отношении к искусству. Та-
ково, например, отношение между случайностью и необхо-
димостью, которое для авангарда было чрезвычайно акту-
ально на протяжении всего его существования, не только
в сюрреализме, и которое ныне — как известно — вновь
обретает чрезвычайную жизненность и актуальность безот-
носительно к авангарду. Это отношение просто актуально.
Или хотя бы вопрос о связи между теорией и практикой,
поставленный авангардом, и многие другие.
Итак, что я хотел сказать этим выступлением? Реши-
тельно я не стремился к апологии авангарда, поскольку в
этом, думаю, нет нужды. Нц я хотел показать, что очень
19*
579
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
многое из того, к чему стремился авангард, как правильно
сегодня сказал профессор Бакош, мы уже не под эгидой
авангарда, а просто как нечто само собой разумеющееся
пытаемся осуществить сейчас, и достижения авангарда в
этом могут быть для нас чрезвычайно ценным помощником.
Естественно, я вовсе не имел при этом дидактических на-
мерений указывать пальцем: вот то-то и то-то, мол, выте-
кает для нас из наследия авангарда. Я только хотел показать:
так дело обстояло раньше и так обстоит сегодня, и давайте
сопоставим то, что мы ощущаем сегодня, в чем сегодня
нуждаемся, с тем, к чему стремился и что делал авангард.
КОММЕНТАРИЙ
Настоящее издание имеет целью познакомить читателя с научным
наследием выдающегося чешского теоретика искусства Яна Мукаржовского
(1891—1975). В таком объеме наследие Мукаржовского предлагается по-
русски впервые. До сих пор, несмотря на широкий интерес к фигуре
Мукаржовского, у нас печатались лишь отдельные его работы.
Составители стремились дать читателю наиболее полное представление
о научном наследии Мукаржовского — теоретика искусства. Поэтому
статьи, вызванные привходящими обстоятельствами, в сборник не вклю-
чены. Наиболее полно представлены статьи эстетического и теоретического
плана. При этом учитывалась и общая весомость той или иной работы в
научном наследии автора, и степень доступности ее русскому читателю.
Работы Я. Мукаржовского опубликованы по-чешски в следующих ос-
новных сборниках: Mukarovsky Jan, Kapitoly z ceske poetiky. Praha:
Melantrich, 1941, d. I—III; 2-е изд. — Praha: Svoboda, 1948; Studie z
estetiky, Praha: Odeon, 1966; Cestami poetiky a estetiky, Praha: Ceskoslovensky
spisovatel, 1971; Studie z poetiky, Praha: Odeon, 1982.
Ряд существенных статей в эти книги не вошел. Составители, стремясь
к полноте и представительности предлагаемого издания, а также учитывая,
что русский и чешский читатели находятся в разном положении, не могли
ограничиться выбором, данным в перечисленных выше сборниках, хотя и
опирались на них.
В чешских изданиях, составленных самими Мукаржовским и его уче-
никами, сложилась определенная традиция расположения материала: ра-
боты распределяются по проблемным разделам, внутри которых материал
располагается не хронологически, а в соответствии с логикой научной
концепции. Составители сочли целесообразным сохранить такое располо-
жение. Отказ от хронологического принцйпа тем более оправдан, что
ранние работы (до 1931 г.) в сборник не включены как имеющие скорее
исторический интерес, статьи 1950—•1960-х годов в основном посвящены
историко-литературным проблемам, а в пределах 1930—1940-х годов на
учная позиция Мукаржовского отличается исключительной монолитностью.
В тех же случаях, когда представлялось целесообразным вводить статьи
последних лет, они даются в конце соответствующих разделов.
583
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
Переводы выполнены по второму изданию «Kapitol z £eske poetiky*
(Praha, 1948 — в дальнейшем — KCP), поскольку первое было подцен-
зурным, а также по книгам «Studie z estetiky» (Praha, 1966, — в даль-
нейшем — SE) и «Studie z poetiky» (Praha, 1982 — в дальнейшем — SP).
ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИКИ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ, НОРМА И ЦЕННОСТЬ
КАК СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТЫ
Esteticka funkce, norma a hodnota jako socialm fakty (Praha: Borovy,
1936). (SE, s. 17—54).
1 Поэма чешского романтика Карела Гинека Махи (1810—1836) «Май»
рассматривается Мукаржовским в следующих работах: Machuv Maj (1928),
KCP, III, s. 7—201; Dflo К. H. Machy jako torso a tajemstvf (1936), KCP,
III, s. 231—237; Prispevek k dnesni problematice basnickeho zjevu Machova
(1936), KCP, III, s. 205—230; Genetika smyslu v Machove poesii (1938),
KCP, III, s. 239—310.
2 Матей Милоша Здирад Полак (1788-1856) — поэт чешского пред-
романтизма. Поэма «Возвышенность природы» опубликована в 1819 году.
Исследование Мукаржовского Polakova Vznesenost pnrody. Pokus о rozbor
a vuvojove zarad&if basnicke struktury (1934), KCP, II, s. 91—196 — первый
опыт конкретного применения структуральных методов анализа.
3 М. Дессуар (1867—1947) — немецкий эстетик и психолог, автор
труда «Эстетика и всеобщая теория искусства» (1906); Э. Упищ (1883—
1956) — немецкий философ и эстетик, вместе с М. Дессуаром выступал
' за разделение эстетики и всеобщей теории искусства, понимаемой как
учение о художественных формах; в 1933 году эмигрировал в Чехосло-
вакию; Ж. М. Гюйо (1854—1888) — французский эстетик и философ,
сторонник социобиологического подхода к искусству, автор работ «Эсте-
тические проблемы современности» (1884), «Искусство с социологической
точки зрения» (1889) и др.
4 Имеются в виду книги: CapekJ. NejskromnejSf шпеш, 1920; Malo о
mnohem, 1923; CapekK. Marsyas cili Na okraj literatury, 1931.
5 Ф. К Шальда (1867—1937) — выдающийся чешский критик и пи-
сатель, автор книг «Сражения за завтрашний день» (1905), «Душа и
подвиг творчества» (1913) и др. О нем см.: Mukarovsky J. Dve studie о
Saldovi. SP, s. 290—318. Ф. К. Шальда представлен в кн.: Чешская и
словацкая эстетика XIX—XX вв. М.: Искусство. 1985. т. 1, с. 200—221.
584
КОММЕНТАРИЙ
6 О. Зих (1887-1934) — чешский эстетик, учитель Мукаржовского, о
нем. см. с. 244—253 наст. изд.
7 Маркированный член структурной оппозиции характеризуется на-
личием признака корреляции. В русской лингвистической терминологии
употребляется также термин «отмеченной». Немаркированный член оппо-
зиции Мукаржовский называл также асимптомой.
8 Ш. Балли (1865—1947) — французский лингвист, последователь Ф.
де Соссюра (см. примем. 1 к статье «Искусство как семиологический
факт»).
9 Строительство чешского Национального театра в Праге (1880—1881;
после пожара и реконструкции открылся в 1883 г.) стало одним из
основных этапов борьбы за утверждение чешского самобытного искусства.
Театр открылся на деньги, добровольно собранные населением.
10 Далькроз (Э. Жак-Далькроз), 1865—1950 — создатель школы рит-
мического воспитания, синтезирующей гимнастику, балетную пластику и
музыку.
11 Ф. Грильпарцер (1791—1872) — австрийский прозаик, автор pear
диетической новеллы «Бедный музыкант» (1848), поэт, драматург.
12 Вертов (Д. Кауфман), 1896—1954 — русский режиссер-кинодоку-
менталист.
13 К.Гавличек (псевдоним — Гавличек-Боровский, 1812—1856) —
выдающийся чешский поэт, журналист и критик.
14 Г. Земпер (1803—1879) — немецкий архитектор и теоретик искус-
ства.
15 Л. Лос (1870—1933) — австрийский архитектор и теоретик искус-
ства.
16 А. Ленотр (1603—1700) — французский архитектор, создатель са-
дово-парковых комплексов регулярного типа.
17 К. Тейге (1900—1951) — чешский критик, теоретик авангардной
живописи, кинематографии, архитектуры, автор книг: «Строение и сти-
хотворение» (1927), «Самая маленькая квартира» (1932), «Ярмарка ис-
кусства» (1936) и др.
18 Концепция доминантной функции, разработанная Ю. Н. Тыняновым
(см. «Архаисты и новаторы». Л.: Прибой, 1929), подразумевает, что струк-
турные ряды образуют иерархию, в которой одни элементы господствуют
над другими. Учение о структурной доминанте противостоит представлению
о целом как механической сумме частей и определяет динамический
характер понятия структуры.
585
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
19 О. Гостинский (1847—1910) — чешский эстетик и критик, автор
работ: «О значении художественной промышленности» (1887), «О соци-
ализации искусства» (1903), «Чешская светская народная песня» (1906),
«Что есть живописное» (1912) и др. См. о нем в статье Мукаржовского
о Зихе (с. 244—253 наст. изд.). 3. Неедлы (1878—1962) — чешский
историк, музыковед, литературовед, политик; ученик О. Гостинского, из-
давший ряд его трудов.
20 Ш.Лало (1877—1953) —французский эстетик, автор работ «Вве-
дение в эстетику» (1912), «Искусство и общественная жизнь» (1921) и
др.
21 Гипостасис — рассмотрение свойств явлений как самостоятельных
сущностей.
22 77. Г. Богатырев (1893—1971) — фольклорист, этнограф и театро-
вед, один из основателей Московского лингвистического кружка и участник
Пражского лингвистического кружка. Автор основополагающих работ по
структуре национального костюма и народного театра. См.: Богаты-
рев П. Г Вопросы теории народного искусства: М.: Искусство, 1971.
23 Ф. Палацкий (1798—1876) — чешский историк и эстетик. Его
многотомная «История чешского народа» (1836—1867) — одновременно
научное исследование и памятник художественной прозы. «Естественная
история» Ж, Бюффона (Y1W1—1778) — фундаментальное сочинение ес-
тественнонаучного характера, в XVIII веке считалось образцом прозаиче-
ского стиля.
24 А. Г Баумгартен (1714—1762) — немецкий философ, выделил
эстетику как самостоятельную научную дисциплину и ввел в научный
оборот сам термин «эстетика».
25 Г. Т. Фехнер (1801—1887) — немецкий философ, основатель экс-
периментальной эстетики.
26 Ж, Шаплен (1595—1674) — французский писатель эпохи класси-
цизма.
27 К. Главачек (1874—1898) — чешский поэт-символист. Ему посвя-
щена также статья Мукаржовского «Poesie Karla Hlavacka» (1941). КСР,
II, s. 209—218. Указанное предисловие см.: КСР, II, s. 219—234.
28 IC Энглиш (1880—1961) — чешский экономист и философ, автор
книги «Телеология как форма научного познания» (1930).
29 77. Безруч (В. Вашек), 1867—1958 — чешский поэт, автор стихо-
творного сборника «Силезские песни» (1909). См. рецензию Мукаржовского
на кн.: Rektorisova К. Bezrucuv vens, 1935. — Roztnsteny Bezrucuv vers. —
«Slovo a slovesenost», 1935, r. I, s. 234—238. Af. Гисек (1885—1957) —
586
КОММЕНТАРИЙ
чешский литературовед, автор книг «Литературная Моравия в 1849—
1885 гг.» (1911), «Три главы о П. Безруче» (1934) и др.
30 Ф. Полан (1856—1931) — французский эстетик, автор книги «Ложь
искусства» (1907).
31 Г. Г. Шауэр (1862—1892) — чешский критик.
32 В. Зомбарт (1863—1941) — немецкий экономист и социолог;
33 Картина Г. К, Макса (1840—1915), чешско-немецкого художника,
широко репродуцировалась в начале XX века и сделалась характерным
знаком мещанского интерьера.
34 А. Кониаш, (1691—1760) — монах-иезуит эпохи контрреформации,
печально прославился уничтожением памятников чешской 1уситской куль-
туры. Я. Влчек (1860—1930) — видный чешский литературовед, автор
«Истории чешской литературы» (1893—1921).
35 Люмировский канон — комплекс поэтических норм, созданный
чешскими поэтами 1870—1880-х годов, группировавшимися вокруг жур-
нала «Люмир». До начала 1890-х годов составлял господствующую норму
в чешской поэзии. Майовский канон — комплекс поэтических норм,
присущих поэтам, объединившимся в альманахе «Май» (1858—1862); был
сменен люмировским каноном (см.: Mukarovsky J. Pnspevek k estetice
£eskeho verse. Praha, 1923; Obecne zasady a vyvoj novoceskeho verse (1934)
SP, s. 365—438).
36 Д. Рескин (1819—1900) — английский теоретик искусства, осново-
положник прерафаэлизма. Его критика буржуазного общества была связана
с идеализацией средневеково-цеховой культуры, в которой он видел со-'
циалистические тенденции. Ученик Рескина У. Моррис (1834—1896), поэт
и художник, стал активным деятелем социалистического движения, к
которому примыкал и художник-иллюстратор, мастер прикладного искус-
ства У. Крейн (1845—1915). С. Ветцольд (1849—1904) — немецкий пи-
сатель. Ю. Лангбен (1851—1907) — немецкий писатель, автор изданного
анонимно философско-политического памфлета «Рембрандт как воспита-
тель» (1890).
37 Я. Неруда (1834—1891), В. Галек (1835—1874) — крупнейшие чеш-
ские поэты 1860—1870-х годов. См.: Mukarovsky Г Nekolik poznamek k
otazce umelecke formy. Studie nerudovska. — Ceska literature, 1955, c. 3, s
1—18; vftezslav Halek (1935), KCP, П, s. 177—198.
38 Русский текст: Фольклор как особая форма творчества. — В кн.
Богатырев П. Г Вопросы теории народного искусства, с. 369—383.
39 К Светлая (Й. Ротова), 1830—1899 — чешская писательница, ин-
тимный друг Неруды.
587
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
40 Ж. Кокто (1889—1963) — французский писатель, художник, де-
ятель театра и кино.
41 Л. Леви-Брюль (1857—1939) — французский этнолог, исследователь
первобытного сознания, исходил из предпосылки о наличии у первобытных
народов особых, «пралогических» форм мышления. Э. Дюркгейм (1858—
1917) — французский социолог, основоположник французской социоло-
гической школы, , исследователь коллективных форм поведения.
42 Г, Науман (1886—1951) — немецкий филолог и этнограф.
43 Стромовка — парк в Праге.
44 Сборник литературных эссе К. Чапека. См. примеч. 4.
45 О. Бржезина (В. Ебавы), 1868—1929 — чешский поэт-символист;
см. о нем: Mukarovsky J. О rytmu v modemfm ceskem basnictvf a о ceskem
volnem versi (1934), кёр, II, s. 344—350.
46 А. Бретон (1896—1966) — французский писатель, основоположник
сюрреализма; его эстетическое кредо наиболее полно изложено в книге
«Сообщающиеся сосуды» (1938).
47 Термины В. Гумбольдта; Истолкование их см.: Потебня А. Мысль
и язык, 3-е изд. Харьков, 1913, с. 22—23.
48 А. Новак (1880—1939) — чешский литературовед и критик, см. о
нем: Mukarovsky J. Arne Novak, literarm historik a kritik (1939). KCP, I, s.
337—343.
49 Й. К Хмеленский (1800—1839) — чешский критик и литератор.
50 Термин «семиология» (наука о знаковых системах), введенный Ф.
де Соссюром, принят во франкоязычной научной литературе и соответст-
вует международному «семиотика».
51 Знаковая функция денег как эквивалента стоимости исследована
К. Марксом в «Капитале».
52 Повесть Б. Немцовой (1820—1862) «Бабушка» опубликована в 1855
году. См.: Mukarovsky J. Pokus о slohovy rozbor «Babicky» Boz. Nemcove
(1925), KCP, II, s. 311—322; Bozena Nemcova. — Brno: Rovnost, 1950.
53 КЛанге (1855—1921) — немецкий эстетик, создатель теории эс-
тетической иллюзии, автор книг «Сущность искусства» (1901), «Цель
искусства» (1912).
54 В этом и следующих высказываниях кратко сформулировано отличие
чисто синтагматического подхода к тексту, характерного для формалистов,
от семиотического метода структурализма, который ставит в центр вни-
мания отношение синтагматической конструкции к семантической, т. е.
проблему значения.
588
КОММЕНТАРИЙ
ЗНАЧЕНИЕ ЭСТЕТИКИ
Vyznam estetiky (SE, s. 55—61). Лекция 1942 года, в SE печатается
по рукописи.
1 Кекуле фон Страдониц (1829—1896) — немецкий химик, специа-
лизировавшийся, главным образом, в области органической химии.
2 Борясь с роскошью, Д Савонарола (1452—1498) осуждал покрови-
тельство церкви художникам и призывал уничтожать произведения ис-
кусства в храмах. *
3 См.: Петр Безруч. Силезские песни. М., 1955, с. 104—105. Русский
перевод П. Железнова, к сожалению, не передает горькой иронии ориги-
нала.
4 Й. Дурдик (1837—1902) — чешский философ, эстетик, критик.
ЗАДАЧИ ОБЩЕЙ ЭСТЕТИКИ
Ukoly obecne estetiky (SE, s. 62—64). Лекция, прочитанная по радио
в начале 1940-х годов, в SE печатается по рукописи.
1 Указание на позитивизм как на пройденный этап науки представляет
зашифрованную (лекция читалась в условиях гитлеровской оккупации)
ссылку на диалектическое мышление, которое сближавшийся в эти годы
с марксизмом Мукаржовский склонен был отождествлять со структураль-
ным методом.
МЕСТО ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ СРЕДИ ПРОЧИХ ФУНКЦИЙ
Misto esteticke funkce mezi ostatnimi (SE, s. 65—73). Лекция, прочитанная
в Пражском лингвистическом кружке 30 февраля 1942 года, в SE печатается
по рукописи.
1 И. Карасек из Львовиц (И. А. Карасек), 1871—1951 — чешский по-
эт-декадент. «Содома*— сб. стихов 1905 года.
2 М. Либерман (1847—1935) — немецкий художник-импрессионист.
3 Битва при Жемапе (6 ноября 1792 г.) — решительная победа
революционной французской армии над войсками коалиции.
4 Персонажи «Божественной комедии» Данте Паоло и Франческа.
5 Ж. Пиаже (1896—1980) — швейцарский психолог, создатель детской
психологии.
6 Й. М. Коржинек (1899—1945) — чешский лингвист, член Пражского
лингвистического кружка.
589
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ НОРМА
Esteticka norma (SE, s. 74—77). Впервые опубликовано по-французски
в 1937 году в «Трудах IX Международного съезда философов», чешский
текст — SE.
МОЖЕТ ЛИ ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ
ИМЕТЬ ВСЕОБЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ?
Muze mfti esteticka hodnota v uin&f platnost vseobecnou? (SE, s. 78—84).
Впервые опубликовано по-французски в 1939 году в «Actualites scientifiques
et industrielles». Paris, 1939, vol. 851.
1 Э.ДеАмичис (1846 1908) — итальянский писатель, автор популяр-
ной повести для детей «Сердце» (1886).
ПРЕКРАСНОЕ
Crasa. Печатается по: Ottuv slovnfk naucny novedoby. Praha, 1935, d.
Ill, sv. 2, s. 825.
КОМИЧЕСКОЕ
Komicno. Печатается no: Ottuv slovnfk naucny nove doby. Praha, 1934,
d. Ill, sv. I, s. 661.
1 Русский перевод трактата «Смех» см.: Бергсон А, Собр. соч. Спб.,
1914, т. 5.
ИСКУССТВО КАК СЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКТ
Umenf jako semiologicky fakt (SE, s. 85—88). Впервые — по-французски:
Actes du huitieme Congr£s international de philosophie a Prague, 1934. Prague,
1936. По-чешски впервые в SE.
1 Ф. de Соссюр (Л851—1913) — швейцарский лингвист, глава женев-
ской школы, заложил основы структурной лингвистики, высказал идею
создания всеобщей теории знаковых систем («семиологии»). Русское изд.:
Соссюр Ф. де. Курс общей лингвистики. М., 1933.
2 X Бюлер (1879—1963) — австрийский психолог, изучал процессы
познания и выражения, речь ребенка. О нем см.:JMukafovsky J. Basnicke
pojmenovanf a esteticka funkce jazyka (1938), KCP, I, s. 157—163. О
«сематологии» см.: Buhler К Sprachtheorie, Jena, 1934. Русский перевод:
Бюлер К, Теория языка. М., 1993.
3 Ф. де Соссюр различал в знаке два аспекта — обозначаемое и
обозначающее, с конвенциональной связью между ними.
4 Современная структуральная поэтика исходит из представления о
590
КОММЕНТАРИЙ
том, что всякий художественный акт имеет коммуникативную природу и
не делит функции знака на автономную и коммуникативную, а выделяет
установку на язык как объект коммуникации или на сообщение как
содержание коммуникативного акта.
ПРЕДНАМЕРЕННОЕ И НЕПРЕДНАМЕРЕННОЕ В ИСКУССТВЕ
Zamemost a nezamemost v umenf (SE, s. 89—108). Доклад, прочитанный
в Пражском лингвистическом кружке 26 мая 1947 года. В SE печ. по
рукописи.
1 Проблема преднамеренности и непреднамеренности играет большую
роль в структуральной поэтике, поскольку интуитивисты неизменно об-
виняют ее в рационализировании подсознательных процессов. Мукаржов-
ский раскрывает диалектику соотношения преднамеренного и непредна-
меренного как борьбу автоматизирующих и деавтоматизирующих структур
в тексте.
2 Т. Рибо (1839—1916) — французский психолог и философ.
3 П. Жане (1859—1946)— французский психолог и психиатр, иссле-
дователь подсознания и его роли в психотерапии.
4 Я. Рипка (1886—1968) — чешский ориенталист, участник Пражского
лингвистического кружка.
5 Ф. Бартош (1837—1906) — чешский диалектолог и фольклорист
6 Н. Ф, Мельникова-Папоушкова (1891—1978) — по происхождению
русская; писала по-чешски на литературные и общественные темы, автор
работ о народном искусстве («Странствие за народным искусством», 1941
и др.).
7 К. Г. Гилар (1885—1935) — чешский режиссер и писатель, автор
книги «Пражская драматургия» (1930).
8 В русской формальной эстетике аналогичную роль играло понятие
пародии.
9 Р. Мюллер-Фрейенфельс (1882—1949) — немецкий философ и пси-
холог, автор труда «Психология искусства» (1912)
10 Полемизируя с формализмом и корректируя свои собственные более
ранние представления, Мукаржовский раскрывает в художественном факте
диалектическое напряжение между осознанием его в качестве знака и
иллюзией, представляющейся не заменой реальности, а самой этой ре-
альностью.
11 Ф. Кино (1635—1688) — французский драматург, сторонник эф-
фектно-прециозного стиля.
591
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
12 Ж. де Сент-Эвремон (1616—1703) — французский писатель.
13 Понятие семантического жеста, выдвинутое Л. П. Якубинским
и Е. Д. Поливановым, разрабатывалось в 1920-е годы рядом авторов, в
особенности Б. М. Эйхенбаумом. Современную оценку проблемы см.:
JankovicM. Nesamozrejmost smyslu. Praha, 1992; Idem.M. Dilo jako deni
smyslu. Praha, 1992; SvatonV. Vztak pojmu struktura a semanticke gesto v
historicke poetice. — Slavia, 1990, с. 1, s. 28—34. Другие высказывания
Мукаржовского о семантическом жесте см.: КСР, I, s. 78—128, кёр, II,
s. 374—400, кёр, III, s. 239—310.
14 Я. С. Томичек (1806—1866) — чешский критик.
15 Я. Кампер (1871—1911) — чешский писатель и журналист.
16 «Кршивоклад» (1834) — историческая новелла Махи из задуманного
им цикла «Палач».
17 Пршемысловичи — чешская княжеская и королевская династия
X—XIV веков. Последний Пршемыслович — Вацлав Ш (1283—1306), в
1301—1305 годах король Венгрии, в 1305—1306 годах король Чехии и
Польши.
18 С. Витасек (1870—1915) — немецкий психолог и эстетик, автор
труда «Основные черты общей эстетики» (1904).
19 Я. Виликовский (1904—1946) — чешский литературовед, автор ан-
тологии «Проза времен Карла IV» (1938).
20 X Шоурек (1909—1950) — чешский художник и теоретик изобра-
зительного искусства, автор книги «Народное искусство в Чехии и Моравии»
(1942).
21 Ф. Правда (В. Глинка), 1817—1904 — один из создателей чешской
моралистической новеллы, описывающей жизнь деревни.
22 Календари — здесь сборники текстов для народного чтения.
ОТАКАР ЗИХ
Otakar Zich (SE, s. 328—332). Статья составлена из двух самостоя-
тельных частей. Первая опубликована в 1934 году, вторая напечатана в
SE по рукописи.
1 Ф. Крейчи (1858—1934) — чешский психолог и философ-позитивист.
2 И. Ф. Гербарт (1776—1841) — немецкий философ, психолог, пе-
дагог; основатель формальной эстетики.
3 Й. Юнгман (1773—1847) — филолог и литератор, один из осново-
положников чешской эстетики, особое значение придавал вопросам поэ-
592
КОММЕНТАРИЙ
тического языка. См.: JungmannJ. Slovesnost aneb Sbirka pnkladu s kratkym
pojednanim о slohu (1820).
4 Я Гартман (1842—1906) — немецкий философ и эстетик.
5 А. Мейе (1866—1936) — французский лингвист.
СТРУКТУРАЛИЗМ В ЭСТЕТИКЕ
И В НАУКЕ О ЛИТЕРАТУРЕ
Strukturalismus^v estetice a ve vede о literature (KCP, I s. 13—28). Первая
публикация — KCP.
1 Э.Эннекен (1858-1888) — французский эстетик и художественный
критик, создатель «этнопсихологии», понимающей художественное произ-
ведение как знак, который служит выражением духа индивида, нации или
эпохи. Концепция эта развита им в книгах «Научная критика» (1888),
«Писатели, обретшие родину во Франции» (1889), «Несколько французских
писателей» (1890). Оказал значительное воздействие на Ф. К. Шальду.
2 Майовцы — см. примеч. 35 к работе «Эстетическая функция, норма
и ценность как социальные факты».
3 Б. Христиансен (1869—1958) — датско-немецкий философ и эсте-
тик. См.: Христиансен Б. Философия искусства. Спб.: Шиповник, 1911.
4 Э. Гуссерль (1859—1938) — немецкий философ, основоположник
феноменологии как особого философского направления.
5 М. Дворжак (1874—1921) — австрийский историк искусства, глав-
ный труд — «Идеализм и натурализм в готической скульптуре и живописи»
(1918).
6 А. Марти (1847—1914) — немецкий философ, занимавшийся про-
блемами психологии речи.
7 В. Матезиус (1882—1945) — чешский лингвист, основатель Праж-
ского лингвистического кружка (см. о нем: Vilem Mathesius (1932, 1947).
SP, s. 319—324).
8 Й Зубатый (1855—1931) — чешский лйнгвист-индолог, специалист
в области сравнительного языкознания, занимался метрикой балтийских
народов, учитель Мукаржовского.
9 Й Краль (1853—1917) — чешский стиховед. О нем см.: Mukarovsky
J. Poznamky ke Kralove Prosodii ceske. — «Casopis pro modemf filologii»,
1925, s. 7—13, 118—124; Josef Kral a dnesni stav ceske metriky a prosodie
(1939). — KCP, I, s. 286—302.
593
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
О СТРУКТУРАЛИЗМЕ
О strukturalismu (SE, s. 109—116). Лекция, прочитанная в Париже в
1946 г. По-чешски впервые — SE.
1 Гештальтпсихология — направление в психологической науке, воз-
никшее в 1920-е годы в Германии; исходило из структурной целостности
психических процессов (М. Вертхеймер, В. Келер, К. Коффка). О значении
гештальтпсихологии см.: Выготский Л. С. Избранные психологические ис-
следования. М., 1956.
2 В. Мрштик (1863—1912) — чешский писатель и критик, пропаган-
дист идей Белинского и Добролюбова, а также художественных произве-
дений русских писателей-реалистов XIX века. О нем см.: Parolek R. Vilem
Mrstik a ruska literature. Praha, 1964. Ф. Шрамек (1877—1952) — чешский
писатель.
3 А. Матейчек (1889—1950) — чешский историк изобразительного
искусства.
4 Подробней об этом см.: Мукаржовский Я. О современных задачах
исследования межлитературных отношений. — В кн.: Чешско-русские и
словацко-русские литературные отношения. М.: Наука, 1968, с. 9—14.
5 М. Алеш, (1852—1913) — чешский художник, основоположник на-
циональной реалистической школы в живописи и графике. В. Гинайс
(1854—1925) — чешский художник. Й. В. Мысльбек (1848—1922) —
чешский скульптор, представитель монументального реализма.
6 Й. И. Колар (1812—1896) — чешский актер и драматург.
К ТЕРМИНОЛОГИИ ЧЕХОСЛОВАЦКОЙ ТЕОРИИ ИСКУССТВА
К pojmoslovf ceskoslovenske teorie umeni (SE, s. 117—123). Первая
публикация — по-польски в 1947 году. Первое чешское изд. — КСР.
1 Философское учение, разрабатывающее идею целостности; исходит
из гегемонии целостности и ее активности.
2 В данной статье проясняются философские принципы, которые не
могли быть отчетливо заявлены в работах, написанных в условиях гитле-
ровской оккупации.
3 Это положение подтверждается современными представлениями о
наличии в памяти индивида не готовых текстов, а свернутых программ и
правил порождения.
4 Структурная оппозиция бинарного типа. Рассмотрение структуры в
качестве иерархии бинарных оппозиций — один из методических приемов
структурного анализа.
594
КОММЕНТАРИЙ
5 Исходя из представления о том, что все элементы художественной
структуры являются носителями содержания, Мукаржовский истолковывает
борьбу «формализма» и «содержательности» как диалектическое напряже-
ние двух структурных тенденций: ориентированности на информативность
художественного языка и ориентированности на информативность худо-
жественного сообщения. Бессюжетное искусство тяготеет к первому, сю-
жетное — ко второму. Присутствуя синхронно в каждом периоде, они в
определенные эпохи в силу исторических условий попеременно домини-
руют.
О ДИАЛЕКТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ К ИСКУССТВУ
И ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
О dialektickem pnstupu k umenf a ke skutecnosti (SP, s. 787—797).
Интервью, записанное учеником Я. Мукаржовского Мирославом Качером
(1927—1978); впервые опубликовано: Prolegomena *scenograficke
encyklopedie. Praha, 1971.
1 См. работы Г. Наумана, Ж. Бедье, В. ф. Миллера, В. А. Келтуялы.
2 В. Крамарж (1877—1980) — чешский искусствовед и коллекционер.
3 Имеется в виду эссе К. Чапека «Пролетарское искусство» (1925),
вошедшее в книгу «Марсий, или По поводу литературы» (1931)
4 См. статью «Человек в мире функций» в наст. изд. с. 485—496.
5 Имеется в виду книга: NejedlyZ. Bozena Nemcova. Praha, 1950, s.
9-10.
ТЕОРИЯ ИСКУССТВА
ИСКУССТВО 1
Umeni (SE, s. 127—139). Впервые опубликовано в энциклопедии Отто
в 1943 году. В SE дается расширенный текст по рукописи.
1 К Фидлер (1841—1895) — немецкий философ и теоретик искусства.
Цит. по: Fiedler К. Schriften uber Kunst. Leipzig, 1871.
2 «Vecemf p'sne» (1859) — сб. стихотворений, с конца XIX века
перешел в массовую литературу.
3 Имеются в виду теоретики архитектурного конструктивизма, в первую
очередь — Корбюзье, а в Чехословакии — К. Тейге.
4 3. Калиста (1900—1982) — чешский поэт, эссеист, историк, соста-
витель сб. «Сельские, или Соседские пьесы чешского барокко» (1942).
595
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
5 Имеются в виду пьесы чешских драматургов В. Дыка (1877-1931)
«Великий маг» (1915) и Й. К. Тыла (1818—1856) «Видение Иржика»
(1849).
6 Я» Врхлицкий (Я. Фрида), 1852—1912 — чешский поэт, драматург,
прозаик, переводчик.
7 Й. Мах (1883—1961) — чешский поэт; «промежуточное поколе-
ние» — термин, принятый в чешском литературоведении, где литературная
периодизация часто строилась по поколениям («поколение майовцев»,
«люмировцев» и пр.). Писатели, не вписывавшиееся в такое деление,
определялись как «промежуточные». Й. Мах принадлежал к «промежуточ-
ному поколению» между поколениями 1890-х и 1900-х годов.
СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ В АВАНГАРДНОМ ТЕАТРЕ
Jevistni reJf v avantgardnfm divadie (SE, s. 161—162). Выступление на
Конференции деятелей авангардного театра в мае 1937 года.
1 Термины «театральный авангард», «литературный авангард» упот-
реблялись в чешской и словацкой критике в специфическом значении, не
всегда совпадающем с омонимическими терминами, принятыми западно-
европейской критикой. В рамках чехословацкого авангарда происходило
формирование литературных и художественных групп 1920—1930-х годов,
в значительной мере связанных с компартией Чехословакии. Среди уча-
стников этого движения были, например, В. Незвал, В. Ванчура, Э. Ф.
Буриан, И. Гонзл, Б. Вацлавек и другие. Этим писателям и деятелям
искусства были свойственны поиски революционных форм художественной
структуры.
2 Теория диалога как столкновения точек зрения на языковом и иде-
ологическом уровне, развиваемая здесь Мукаржовским, основывалась в
известной мере на работах Л. П. Якубинского «О диалогической речи»
(сб.: Русская речь. Пг., 1923,1) и М. М. Бахтина (см.: Бахтин М. Проблемы
поэтики Достоевского, 1929; 2-е изд. — М.: Советский писатель, 1963;
ВолоишновВ. Марксизм и философия языка. Л.: Прибой, 1929). См.
также: Успенский Б. А. Поэтика композиции. М.: Искусство, 1970; Veltrusky
J. Semiotic Notes on Dialogue in Literature. — In: Language and Literary
Theory: In Honor of Ladislav Matejka. Ann Arbor, The University of Michigan,
1984, p. 595—607; Лотман Ю. M. Ассиметрия и диалог. — В кн.: Лотман
Ю. М. Избранные статьи. Таллин: Александра, 1992, т. I, с. 46—57.
3 «Палач» — постановка Э. Ф. Буриана в театре Д-36 (см. примеч.
10 к статье «Преднамеренное и непреднамеренное в искусстве»). Премьера
состоялась 22 июня 1936 года. Спектакль, представлявший собой инсце-
596
КОММЕНТАРИЙ
нировку по повести Махи «Кршивоклад», был приурочен к 100-летию со
дня смерти Махи. Сам Буриан подчеркивал, что «герои этой пьесы являются
равнодействующей отношений» (Программа к спектаклю). А Шерл в кн.:
ObstM., ScherlA. К dejinam ceske divadelnf avantgardy. Praha, 1962 —
отмечал полифонизм как основной структурный закон режиссерского ре-
шения Буриана. «Гамлет» — постановка Буриана по Шекспиру и Ж.
Лафоргу, в какой-то мере отклик режиссера на критику Э. Мейерхольда,
который в ноябре 1936 года был гостем Д-37. Премьера — 31 марта 1937
года. В основе режиссерского решения — сценический диалог, строившийся
на взаимном непонимании между Лаэртом — молодым бунтарем-практиком
(на сцене он был в роговых очках и современном костюме) и Гамлетом,
орудие борьбы которого — мысль.
4 Проблеме театрального диалога посвящены также работы Мукар-
жовского: Dialog a monolog (1940). KCP, I, s. 129—153; К jevistnimu dialogu
(1937). KCP, I, s. 154—156.
К СОВРЕМЕННОМУ СОСТОЯНИЮ ТЕОРИИ ТЕАТРА
К dneWmu stavu teorie divadla (SE, s. 169—171). Лекция, прочитанная
в «Круге друзей Д-41». Впервые опубликована: Program D-41, c.I, s.
229—242.
1 Здесь и далее Мукаржовский развивает концепцию театральной
публики как особой социальной структуры. Каждый вид искусства, обра-
щенный к обществу, действует на него не непосредственно, а при помощи
«публики» — особым образом организованного коллектива, моделирующего
социум с точки зрения данного искусства. Театральная публика, в отличие
от всех других видов аудитории искусств, наиболее отчетливо структури-
рована, поскольку собрана воедино и в своем микрокосме воспроизводит
социальный макрокосм. С такой точки зрения активизация театральной
аудитории, занимающая Мукаржовского и являющаяся существенной осо-
бенностью авангардного театра, — модель активизации общества, т. е. его
революционизации. С этим связана теория устранения преграды между
сценой и залом — часть общего представления о распространении рево-
люционной стихии искусства на общество.
2 В 1933 году Э. Ф. Буриан создал революционный театр, получивший
название Д-34 (по первой букве чешского слова divadlo — «театр»). Дата
в названии ежегодно изменялась, соответствуя году окончания театрального
сезона. Этим театр хотел подчеркнуть свою тесную связь с эпохой. В
апреле 1941 года театр был закрыт гестапо, а Буриан — арестован и
заключен в концлагерь. «Круг друзей Д-41* — общество постоянных зри-
телей театра и деятелей культуры, сочувствовавших его программе.
597
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
3 Активность зрителя, по мнению Мукаржовского, связана с передачей
ему спектакля не как текста, а в качестве некоторой порождающей модели.
Поэтому зритель должен присутствовать на репетиции и видеть не только
окончательные решения, но и множество возможностей, из которых был
осуществлен выбор. В современном искусстве это сопоставимо со стрем-
лением кинематографа («8 1/2» Феллини, «Персона» Бергмана и др.)
вывести на экран съемку фильма.
4 «Estetika dramatickeho umeni» (1931) — одна из первых работ, дающих
структурный анализ театрального искусства. См.: Чешская и словацкая
эстетика XIX—XX вв. Т. 2, с. 63—81.
5 И. Гонзл (1894—1953) — чешский режиссер и теоретик театра, автор
книги «Современный русский театр» (1929). Его работы «Движение теат-
рального знака», «Иерархия театральных средств» и др. см. в кн.: Honzl
J. К novemu vyznamu umenf, 1956; Zaklady a praxe modemiho divadla, 1963.
См. также: Чешская и словацкая эстетика XIX—XX вв. Т. 2, с. 251—259.
6 3. Ф. Буриан (1904—1959) — чешский режиссер, писатель, компо-
зитор, актер и теоретик театра; его статьи о театре собраны в кн.: Burian
Е. F. Zamet’te jeviste, 1936; Prazska dramaturgic 1937, 1938; Pojd’te, lide,
na divadla s zeleznyma kladivama, 1940.
7 И. Водак (1867—1940) — чешский литературный и театральный
критик, сторонник психологического реализма в театре; основные его
работы собраны в кн.: Kriticke dilo J. Vodaka, sv. 1—5, Praha, 1941—1953;
VodakJ. Tvare ceskych hercu. Praha, 1967.
8 В. Тилле (1867—1937) — чешский литературовед, фольклорист и
театральный критик; основные его работы о театре: Title V. Maurice
Maeteriink (1910); Divadelm vzpominky (1917); Moskva v listopadu (1929);
Cinohra Narodniho divadla od r. 1900 do prevratu (1935).
9 Г.Э.Крэг (1872—1966) — английский режиссер, актер, теоретик
театра.
10 3. Воян (1853—1920) — выдающийся чешский актер.
11 Премьера «Севильского цирюльника» в постановке Э. Ф. Буриана —
22 сентября 1936 года. В «Программе» к спектаклю режиссер писал, что
в «строгом соответствии с эпохой, в которую жил Бомарше», пьеса ин-
терпретируется на фоне бурных исторических событий, воспринимаемых
в момент постановки по аналогии с гражданской войной в Испании. Пьеса
была модернизирована, в нее были введены массовые сцены.
12 Москвичами в Чехии называли труппу Московского Художествен-
ного театра, которая дважды (1906 и 1921 гг.) гастролировала в Праге.
598
КОММЕНТАРИЙ
13 А. Вассерман (1867—1952) — немецкий актер.
14 Ф. Штибиц (1894—1961) — чешский классический филолог, пе-
реводчик античной драматургии.
15 М. Коуржил (1911—1984) — чешский сценограф и теоретик театра.
16 Г. Квапилова (1860—1907) — чешская актриса.
17 Б, К. Коклен (1841-1909) — французский актер. Его лекция «L’art
et le comedien» (1880) вышла в Париже отдельным изданием, а затем
была включена в книгу «Part du comedien» (Paris, 1886).
18 В. Буриан (1891-1962) — чешский комический актер.
19 В пьесе Й. и К. Чапеков «Из жизни насекомых» персонаж Бродяга
одновременно принадлежит двум художественным пространствам: находясь
на сцене и будучи актером, он входит для публики в сценическое про-
странство. Но все актеры на сцене играют насекомых, т. е. выступают в
ином, увеличенном по отношению к зрительному залу масштабе. Бродяга
же на сцене сохраняет человеческий — в данном случае, зрительного
зала — масштаб, одновременно входя и во внесценическое пространство
театра. Это поддерживается его постоянными непосредственными обраще-
ниями к публике.
20 Ш. Вильдрак (Ш. Месаже), 1882—1971 — французский поэт, дра-
матург и прозаик. Ж. Дюамель (1884—1966) — французский писатель.
Постановка его пьесы «Свет» (1911) на сцене Национального театра в
Праге была осуществлена режиссером В. Новаком (премьера —26 февраля
1921 г.); К. Г. Гилар был художественным руководителем драматической
труппы театра.
21 «Вторая народная сюита» — постановка театра Д-39 по мотивам
чешского фольклора. Премьера — 1 мая 1939 года.
К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ СИТУАЦИИ
СОВРЕМЕННОГО ЧЕШСКОГО ТЕАТРА
К umelecke situaci dnesniho ceskeho divadla (SE, s. 318—325). Впервые
опубликовано: Otazky divadla a filmu, r. I, 1945—1946, s. 61—75.
1 Выродившееся искусство — геббельсовское определение модернизма.
Под этим названием в Мюнхене в начале 1930-х годов была организована
печально прославившаяся выставка живописи XX века.
2 В других работах Мукаржовский писал о том, что отсутствие абсо-
лютного противопоставления актера и вещи — одна из особенностей
художественного языка кино. Таким образом, здесь речь идет об обратном
влиянии художественного ведения кинематографа на театральное.
599
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
3 Эль Лисицкий (Л. М. Лисицкий), 1890—1941 — русский архитектор
и художник, в 1921—1925 годах жил в Германии и Швейцарии, был
членом голландской группы «Стиль», оказал воздействие на западное аван-
гардное искусство. О. Шлеммер (1888—1943) — немецкий сценограф и
театральный теоретик, в 1920—1929 годах директор «Баухауса» в Веймаре.
Ф. Кислер (1890—1965) — австрийский архитектор и художник, с 1926
года жил в США.
4 Театр 1860-х годов в Праге, в котором ставились спектакли на
чешском языке до открытия Национального театра.
5 Я. Бартош, (1893—1946) — чешский эссеист, драматург, театровед,
автор книги «Временный театр и его драматическая труппа» (1937).*
6 Я.Квапил (1868—1950) — чешский поэт, драматург, режиссер.
К ВОПРОСУ ОБ ЭСТЕТИКЕ КИНО
К estetice filmu (SE, s. 172—178). Впервые опубликовано: Listy pro
umem a kritiku, r. I, 1933, s. 100—108.
1 P. Клер (1898—1981) — французский кинорежиссер.
2 Ж. Эпштейн (1897—1953) — французский теоретик авангардного
кинематографа.
3 Статья Ю. Н. Тынянова «Об основах кино» опубликована в сб. «По-
этика кино» (М.;Л., 1927).
4 Л. Деллюк (1890—1924) — французский режиссер, сценарист и
кинокритик. В 1919 году режиссер Ж. Дюлак (1882—1942) поставила по
его сценарию фильм «Испанский праздник».
5 С. Чех (1846—1908) — чешский писатель. Пан Броучек — персонаж
его сатирических повестей «Правдивое описание путешествия пана Бро-
учека на Луну» (1888) и «Новое эпохальное путешествие пана Броучека,
на этот раз в XV столетие» (1888). В. Олива (1861—1928) — чешский
художник-иллюстратор.
6 Фильм «Человек с киноаппаратом» снят Д. Вертовым в 1929 году.
ВРЕМЯ В КИНО
Cas ve filmu (SE, s. 179—183). Статья предназначалась для невышед-
шего сборника о кино. Впервые — SE.
1 «Сверкающие глубины и другие новеллы* (1916) — сборник рассказов
братьев Чапек.
600
КОММЕНТАРИЙ
2 Имеется в виду статья Р. О. Якобсона «Упадок фильма?» Uakobson
R. Upadek filmu? — Listy proumenf a kritiku. 1933, 1, s. 45—49. Английский
перевод: JakobsonR. Selected Writings, III, p. 732—739).
ОПЫТ СТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
АКТЕРСКОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ
Pokus о struktumf rozbor hereckeho zjevu (Chaplin ve Svetlech velkomesta)
(SE, s. 184—187). Впервые опубликовано в газете «Literarm noviny» (г. V,
1931, с. 10).
1 «Гамлет» в постановках режиссеров Квапила и Гилара и в исполнении
актеров Э. Вояна и Э. Когоута (1889—1976).
2 Режиссерскому почерку Чаплина свойствен малый удельный вес
монтажа, что связано с тенденцией к неподвижности камеры. В отличие
от Эйзенштейна с его доминирующей ролью режиссера, для Чаплина
характерна художественная доминанта актерской игры в общей структуре
киноязыка.
3 Чаплин и в обстановке победы звукового кино продолжал снимать
немые фильмы. В сцене с открытием памятника он впервые дал своему
персонажу (оратору) звучащий текст, но это была воспроизведенная на
магнитофон и пущенная с повышенной скоростью запись, так что зритель
не мог разобрать значения слов.
4 Альцест — главный герой комедии Ж. Б. Мольера «Мизантроп»
(1666), обличитель светского лицемерия.
СУЩНОСТЬ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Podstata vytvamych umem (SE, s. 188—195). Лекция, прочитанная в
Институте национального воспитания 26 января 1944 года. Впервые —
SE.
1 К. Г. Буссе (1889—?) — немецкий искусствовед и археолог, автор
труда «Маньеризм и стиль барокко» (1911).
К ВОПРОСУ О ГНОСЕОЛОГИИ И ПОЭТИКЕ
СЮРРЕАЛИЗМА В ЖИВОПИСИ
К noetice a poetice surrealismu v malfrstvf (SE, s. 309—311). Лекция,
прочитанная при открытии выставки Штырского и Тоайен в Праге и
Братиславе в 1938 году. Впервые: Slovenske smery umelecke a kriticke, г.
V, 1938, с. 6—8, s. 226—230.
601
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
1 И, Штырский (1899—1942) — чешский художник. Тоайен (М. Чер-
минова), 1902—1980 — чешская художница.
ПОЭЗИЯ В ЖИВОПИСИ ЯНА ЗРЗАВОГО
Poezie v malirskem dfle Jana Zrzaveho (SE, s. 296—303). Впервые: Dilo
Jana Zrzaveho. 1906—1940. Praha, 1941, s. 66—74.
В ^статье Мукаржовского ставится проблема соотношения и взаимовли-
яния словесного и иконического знаков, которая имеет большое значение
и как теоретическая проблема семиотики, и как практический вопрос
развития искусства. Ср. проникновение словесного принципа в язык кино
(монтаж С. Эйзенштейна, при котором слова ведут себя как иконические
знаки, а кинофотографии как слова). Анализ Мукаржовского позволяет
поставить вопрос об использовании в современной живописи специфиче-
ских средств киновыразительности (например, комбинированных съемок
и монтажа).
1 Я. Зрзавы (1890—1977) — чешский живописец, график и иллюст-
ратор. О нем см.: Dvorak F. Jan Zrzavy. Praha, 1965; LamacM. Jan Zrzavy.
Praha, 1980.
К ПРОБЛЕМЕ ФУНКЦИЙ В АРХИТЕКТУРЕ
К problemu funkci v architekture (SE, s. 196—203). Впервые: «Stavba»,
г. XIX, 1937—1938, s. 5—12.
1 И. Крога (1893—1974) — чешский архитектор и теоретик архитек-
туры.
2 Журнал, в 1930-е годы — орган Общества друзей СССР.
3 X. ван де Велде (1863—1957) — бельгийский архитектор.
4 Карнавальный обряд.
ЧЕЛОВЕК В МИРЕ ФУНКЦИЙ ,
Clovek ve svete funkci (SE, s. 204—208). Предисловие к книге К.
Гонзика «Создание жизненного стиля» (HonzlkK. Tvorba zivotnfho slohu.
Praha: V. Petr, 1946).
Статья Мукаржовского посвящена одной из существеннейших для куль-
туры XX века проблем: «человек и машина», частным аспектом которой
было уподобление человека монофункциональному устройству (машине).
Ср.: «R. U. R.» К. Чапека, «Новые времена» Ч. Чаплина. Особенность статьи
602
КОММЕНТАРИЙ
в том, что проблема предвосхищает здесь поворот, ставший актуальным
в связи с развитием кибернетики (интересно появление понятия «обратная
связь» — мысли о том, что машина оказывает «обратное регулирующее
воздействие на человеческую деятельность»). Смысл статьи — в защите
человека, его сложности и духовного богатства в монофункциональном
мире машин. Договаривая мысль Мукаржовского, можно указать, что
преодоление «машинизации» культуры XX века, ее уподобления моно-
функциональному и полностью упорядоченному относительно функций
механизму, в частности, заключается в системе культурных сдвигов, при
которых текстовые механизмы обслуживают «чужие» функции — поэзия
и кино проникают в живопись и фотографию, «несделанное» выполняет
функцию «сделанного» (ср. камни в их природной форме в функции
скульптуры или корни причудливой конфшурации как украшение ин-
терьера). Это связывает данную статью с предшествующими, с одной
стороны, а с . другой — объединяет ее с циклом, посвященным роли
личности в искусстве.
Отождествление функциональных сдвигов в тексте с понятием гуман-
ности и защитой богатства человека объясняет отход ряда наиболее про-
грессивных деятелей культуры Чехословакии еще в 1920—1930-е годы от
конструктивистско-футуристического лозунга «целесообразности искусст-
ва» в сторону полифункционализма и разнообразных структурных сдвигов,
моделирующих сложность духовного мира человека.
1 К. Гонзик (1900-1966) — чешский архитектор и теоретик архитек-
туры. На русский язык переведены: Вещи вокруг нас. М., 1964; По пути
к социалистической архитектуре. М., 1967.
‘ 2
Ж. Галотти (1881—1954) — французский художественный критик.
3 Д. да Виньола (Бароцци), 1507—1573 — итальянский архитектор и
теоретик архитектуры, автор трактата «Правило пяти ордеров архитектуры»
(1562)
ИНДИВИД В ИСКУССТВЕ
Individuum v umenf (SE, s. 223—225). Впервые: L’individu dans Fart.
Deuxieme Congres international d’esthetique et de la science de Fart. Paris,
1937, t. I. По-чешски — SE.
1 А. Гейдук (1835—1923) — чешский поэт.
ЛИЧНОСТЬ В ИСКУССТВЕ
Osobnost v umenf (SE, s. 236—244). Лекция, прочитанная в обществе
художников «Манес» 3 февраля 1944 года. Впервые — SE.
1 В. Менцл (1905—1978) — чешский искусствовед.
603
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
2 Карл IV (1316—1378) — германский король и император Священной
римской империи с 1347 года, чешский король (Карел I) с 1346-го.
3 Людовик II (1845—1886) — король Баварии в 1864—1886 годах.
4 К Плицка (1894—1987) — чешский фольклорист, автор этнографи-
ческих фильмов и книг.
ТЕНДЕНЦИОЗНОЕ ИСКУССТВО
Tendencnf umem. Впервые: Ottuv slovnik naucny nove doby, d. VI, sv.
2. Praha, 1943, s. 1048—1049.
1 Й. С. Махар (1864—1942) — чешский поэт и публицист, для твор-
чества которого характерны сатирические ноты и антиклерикальная на-
правленность.
ИСКУССТВО И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Umenf a svetovy nazor (SE, s. 245—251). Впервые: «Slovo a slovesnost»,
г. X, 1947—1948, s. 65—72.
1 Д. Фрей (1883—1962) — австрийский искусствовед.
2 Античная статуя Гермеса, несущего на плечах барана.
3 «Шалъдув запасник» — «Записная книжка Шальды», журнал, из-
дававшийся этим многогранным литератором единолично (1928—1937).
4 А. Я. Пухмайер (1769—1820) — чешский поэт-классицист. Был свя-
щенником в Ктише и Прохатицах.
5 Й. Манес (1820—1871) — основоположник чешской национальной
школы живописи.
ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ
Dialekticke rozpory v modemfm umenf (SE, s. 255—265). Впервые: «Listy
pro umenf a kritiku», r. Ill, 1935.
1 К Эдшмид (1890—1966) — немецкий писатель-экспрессионист.
2 В. Гаузенттейн (1882—1953) — немецкий эстетик.
3 А. Грунд (1904—1952) — чешский литературовед.
4 КЯ.Эрбен (1811—1870) — чешский поэт-романтик. См. о нем:
Mukarovsky J. Protichudci. Nekolik poznamek о vztahu Erbenova basnickeho
dfla k Machovu. — «Slovo a slovesnost*, г. II, 1936, s. 33—43.
604
КОММЕНТАРИЙ
5 Лотреамон (И. Дюкас), 1846—1870 — французский поэт-романтик,
предшественник сюрреализма; посмертную славу ему принесла книга «Пес-
ни Мальдорора» (1868—1869), изданная под псевдонимом «граф де Лот-
реамон».
6 Русский текст см: Якобсон Р. О художественном реализме. — В кн.:
Якобсон Р. Работы по поэтике. М.: Прогресс,-1987, с. 387—392.
7 «Конец старых времен» (1934) — роман чешского писателя В.
Ванчуры (1891—1942).
8 Имеется в виду рецензия: Otazkam jazyka basnickeho... {Веска J. Konec
starych casu. — Na& rec, r. 19, 1935, s. 49—59). — «Slovo a slovesnost»,
r. I, 1935, c. 2, s. 131—132.
9 «Как две капли воды» (1933)„«Монако» (1934) — романы В. Незвала
(1900—1958).
10 Л. Мохой-Надь (1895—1946) — венгерский художник и театраль-
ный декоратор.
11 «Пять пальцев» (1932) — сборник стихов В. Незвала.
12 К Библ (1898—1951) — чешский поэт. «Золотые цепи» — его
сборник 1926 года.
13 Ф. Купка (1871—1957) — чешский художник. «Орфизм» — термин
Г. Аполлинера для обозначения группы Делоне — Купки в 1912 году.
14 Й. Шима (1891—1971) — чешский художник, с 1921 года жил во
Франции.
15 Артифициэлизм — направление в чешской живописи конца 1920-х
годов, близкое сюрреализму и геометрической абстракции (И. Штырский,
Тоайен).
16 «Она хотела обокрасть лорда Блеймингтона» (1930) — много-
жанровая книга В. Незвала.
ПОЛОЖЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Situace modemiho um?niz (SE, s. 266-268). Впервые: Pravo lidu, 5. 6.
1938 (prfl. Socialismus a kultura, IV).
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АВАНГАРДА
Zakladnf principy avantgardy. Впервые: Problemy literamej avantgardy.
Bratislava, 1968, s. 21—28.
1 М.Бакош. (1914—1972) — словацкий литературовед, ученик Му-
каржовского. См.: Bakos М. О pojme umeleckej avantdardy. Ibid., s. 9—17.
605
ЯН МУКАРЖОВСКИЙ
2 «Лелио» (1917) — сборник рассказов Й. Чапека.
3 И. Ольбрахт (К. Земан), 1882—1952, М. Майерова (1882—1967),
М. Пуйманова (1893—1958), Й. Гора (1891—1945) — чешские писатели
левой ориентации, стоявшие в стороне от авангардных течений. * ’
4 Объединение чешских коммунистически настроенных писателей и
деятелей искусства в 1920-е годы.
5 Ф. Лангер (1888—1965) — чешский писатель. «Были и было»
(1963) — книга его мемуаров.
6 Чешский художественный журнал начала 1910-х годов.
7 А. Гофмейстер (1902—1973) — чешский художник, мастер шаржа,
карикатуры, коллажа; прозаик, поэт, драматург, публицист. «Время не
возвращается» (1965) — книга его мемуаров.
8 И. Трнка (1912—1969),— чешский художник и режиссер, автор
рисованных и кукольных фильмов.
9 Я. Бочек (род. в 1932 г.) — чешский киновед, кинорежиссер и
прозаик.
10 Р. У. Эмерсон (1803—1882) — американский философ и писатель.
11 Л. Жак (1900—1973) — чешский архитектор.
Мукаржовский Я.
М90 Исследования по эстетике и теории искусства: Пер.
с чешек. — М.: Искусство, 1994. 606 с. — (История
эстетики в памятниках и документах).
ISBN 5-210-01299-9
Богатое теоретическое наследие видного чешского теоретика искусства, эстетика
и филолога Я. Мукаржовского (1891-1975) давно считается достоянием оотетической
классики, о чем свидетельствуют многочисленные переводы его трудов на все
языки мира. В сборник включены наиболее фундаментальные исследования
ученого, раскрывающие знаковую природу искусства, его внутренние законы, его
взаимодействие с другими сферами жизни, а также статьи, посвященные специфике
различных видов искусства, особенностям их художественного языка.
Для специалистов в области гуманитарных наук, а также читателей, инте-
ресующихся вопросами развития научной мысли об искусство.
м 0301080000-030 я_я
М 025 ( 01)—94 17‘92 Б,5к 87Л
ян
МУКАРЖОВСКИЙ
ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ
' Редактор
В. С. Походаев
Художник
В. М. Мельников
Художественный редактор
Я. В. Балашов
Технический редактор
Я. Г. Карпушкина
Корректор
Евстратова Ю. А.
ЛР № 10157 от 03.01.1992 г.
Сдано в набор 16.02.94. Подп. в печ. 17.05.94. Формат издания 84x108/32.
Бумага книжно-журнальная. Гарнитура тайме. Печать высокая. Усл. печ. л. 31,92.
Усл. кр.отт. 31,92. Изд. №17694. Тираж 10000. Заказ 888. Издательство «Ис-
кусство», 103009 Москва, Собиновский пер., 3.
АООТ «Ярославский полиграфкомбинат» 150049, г. Ярославль, ул. Свободы, 97.