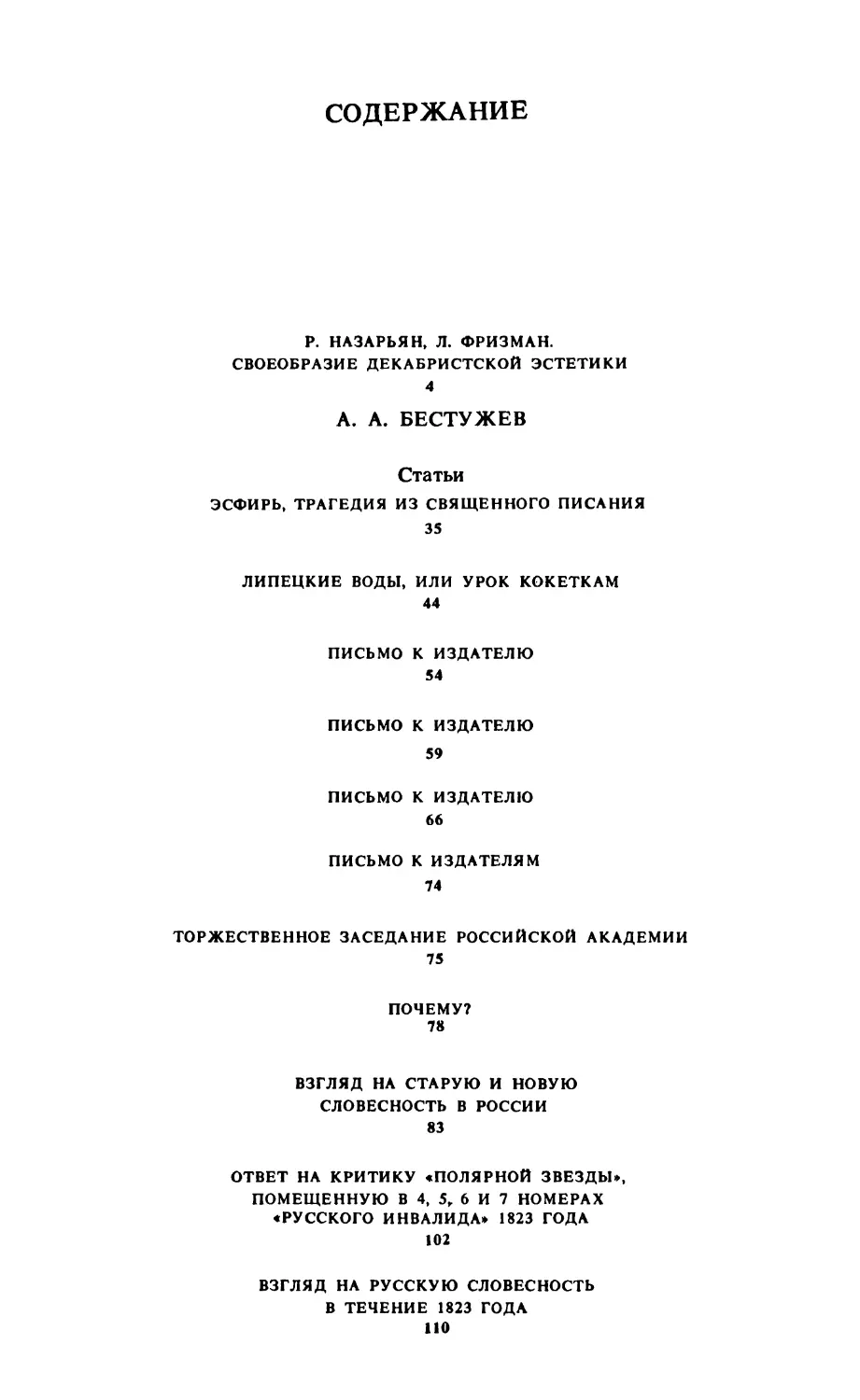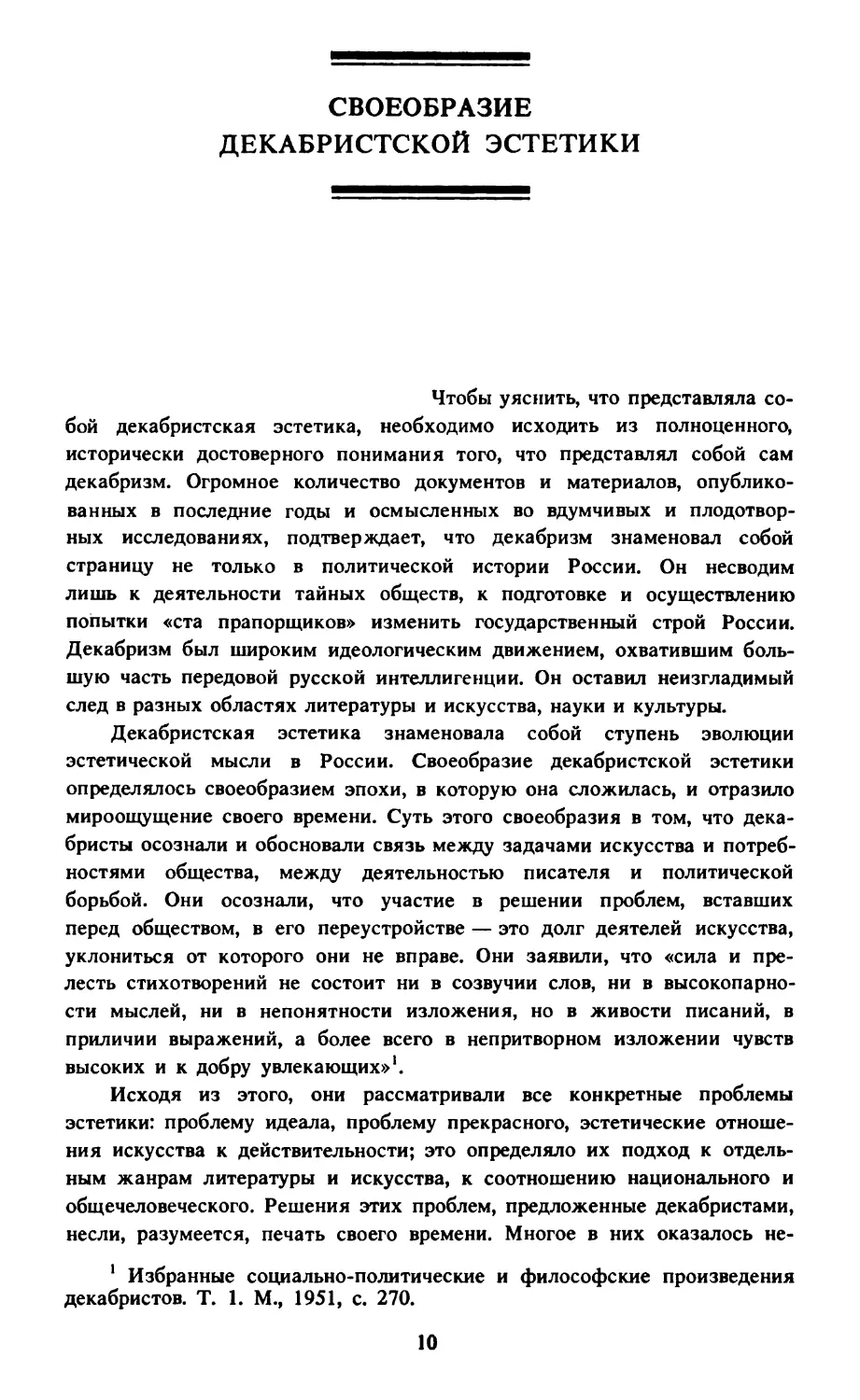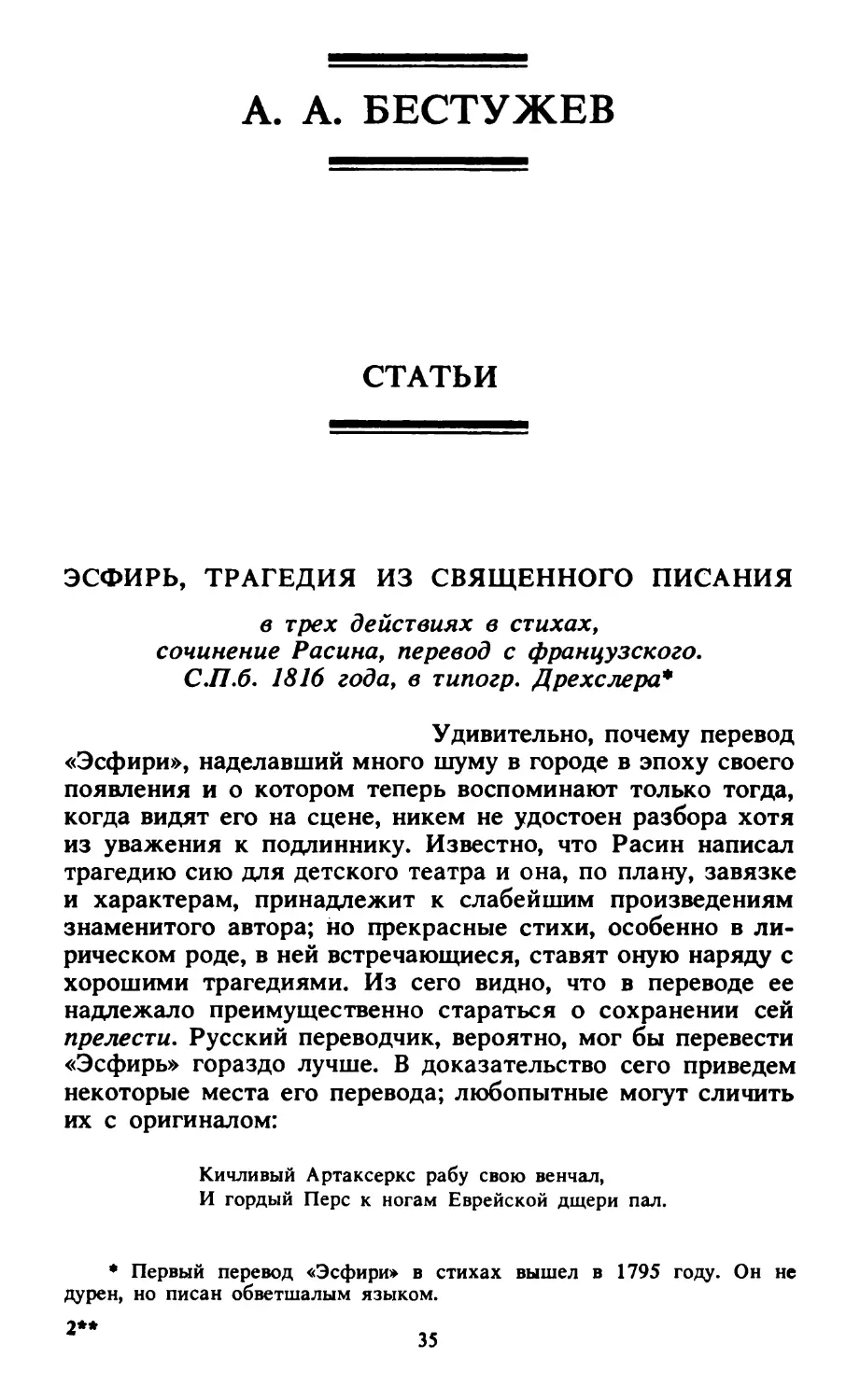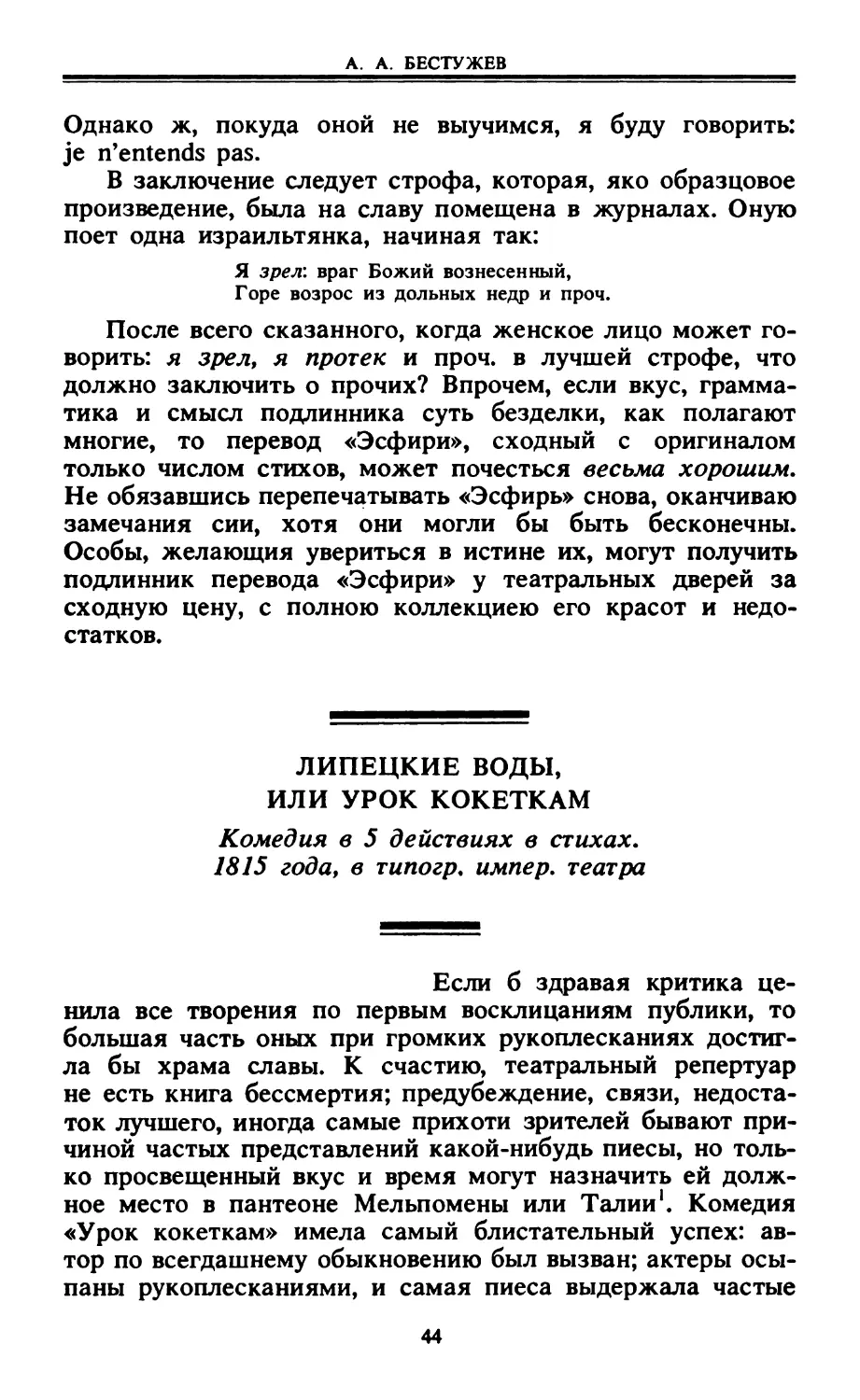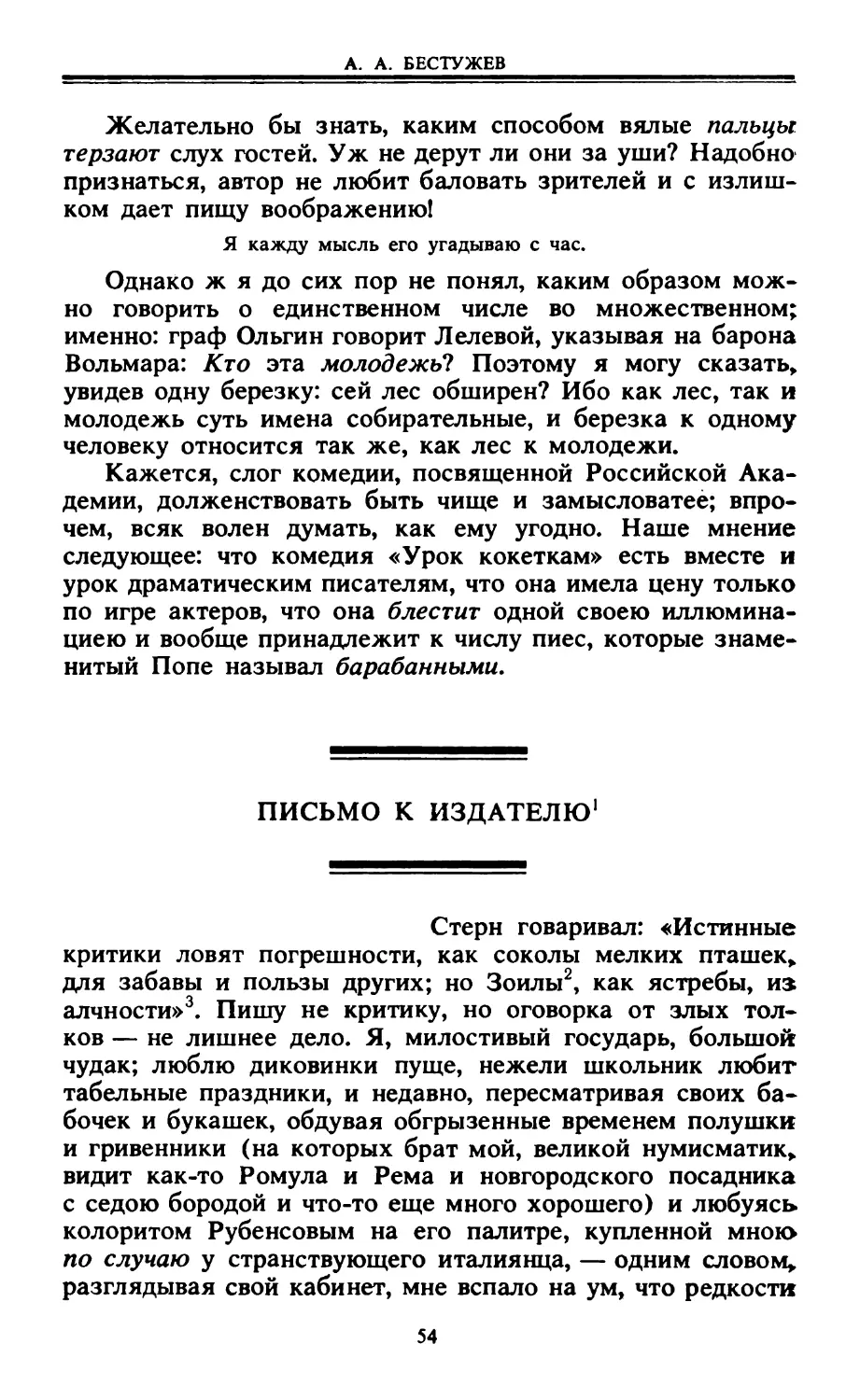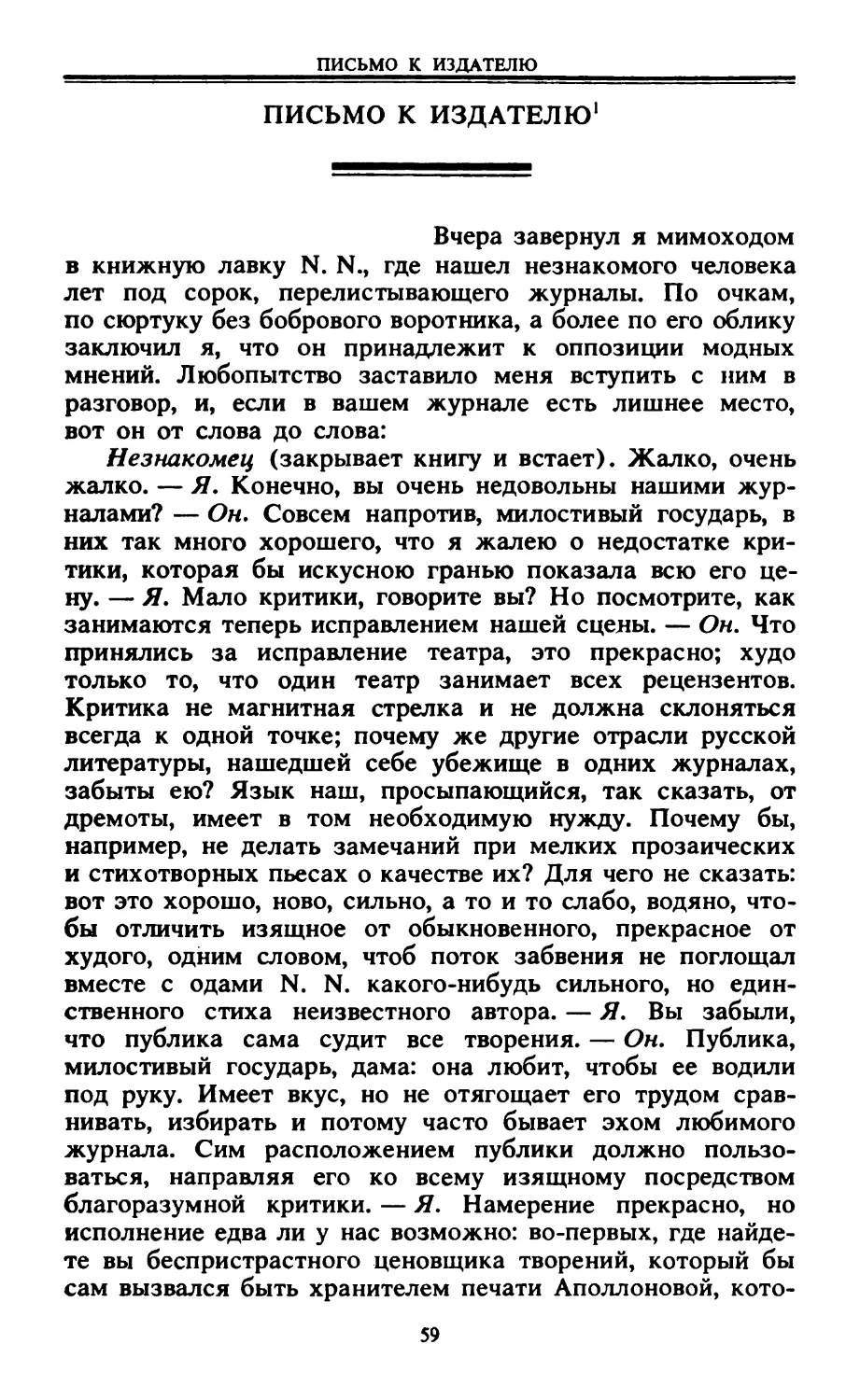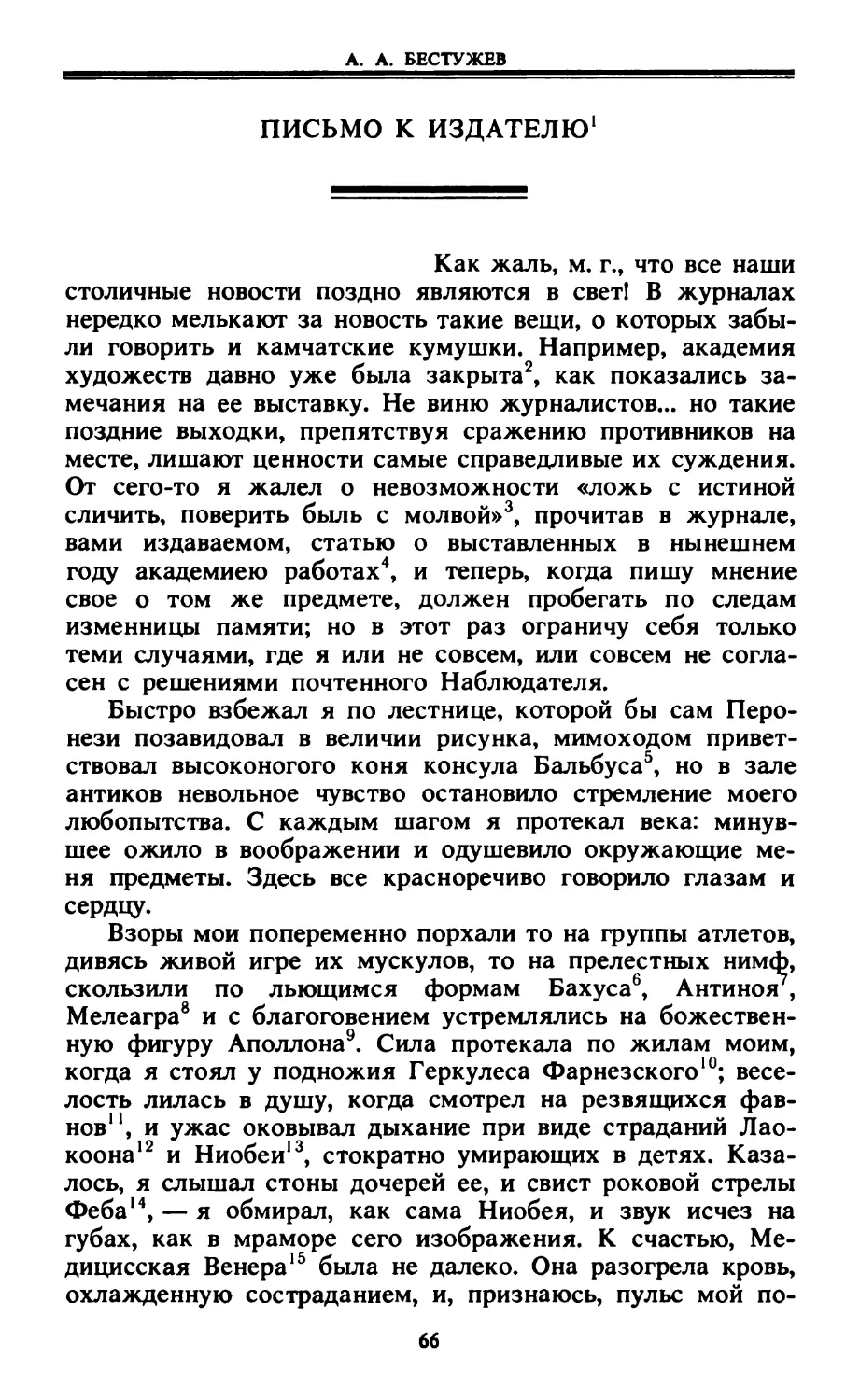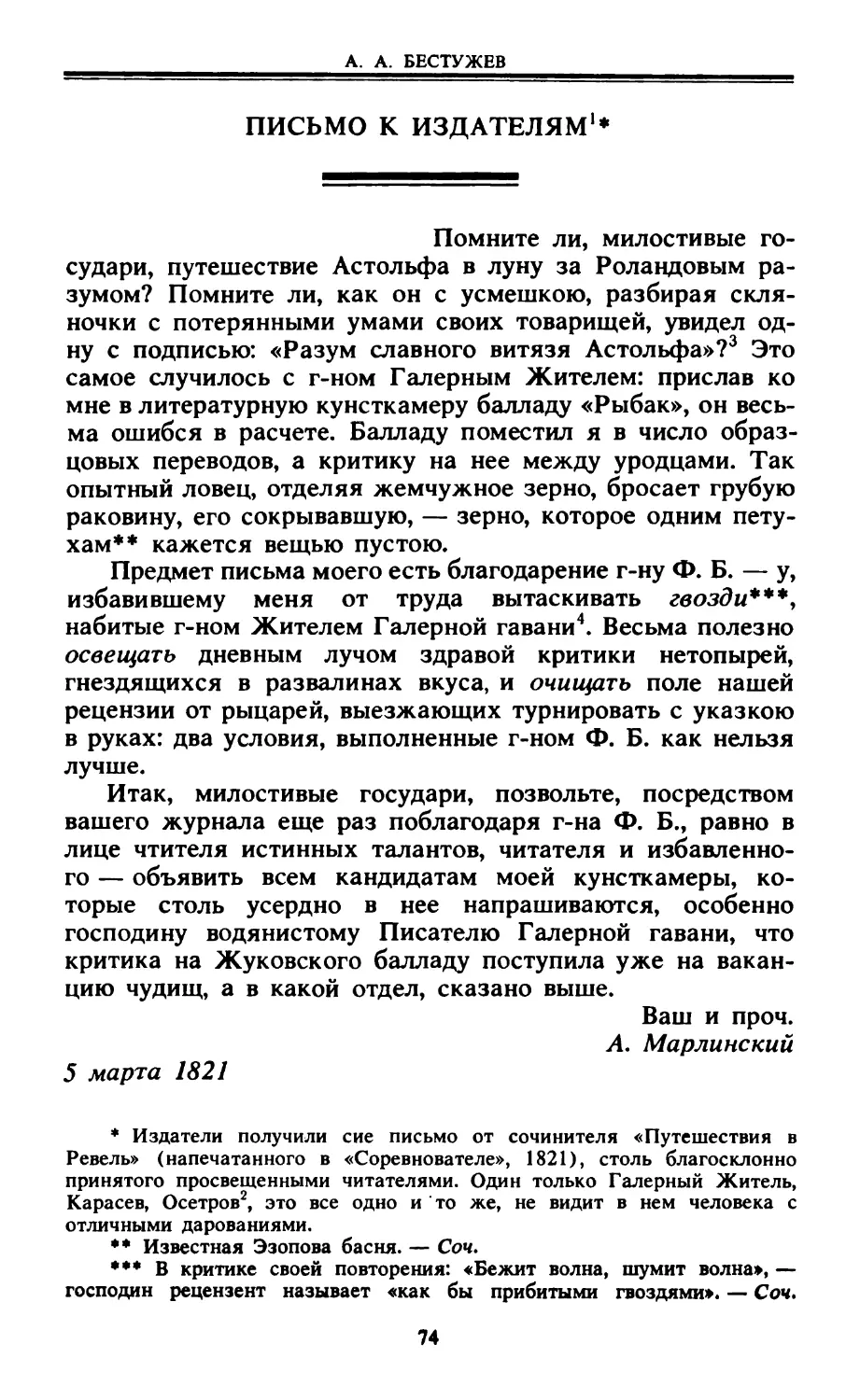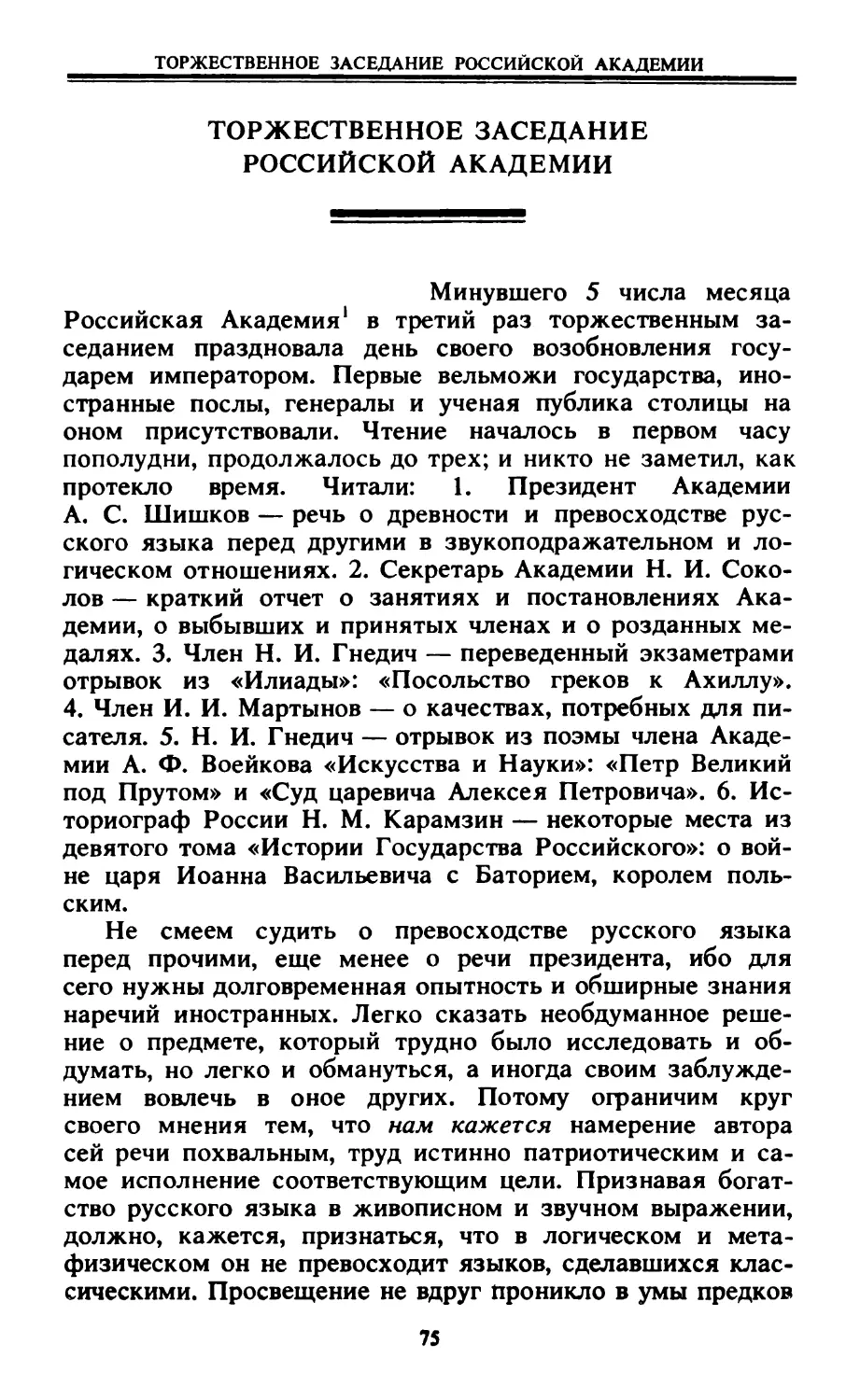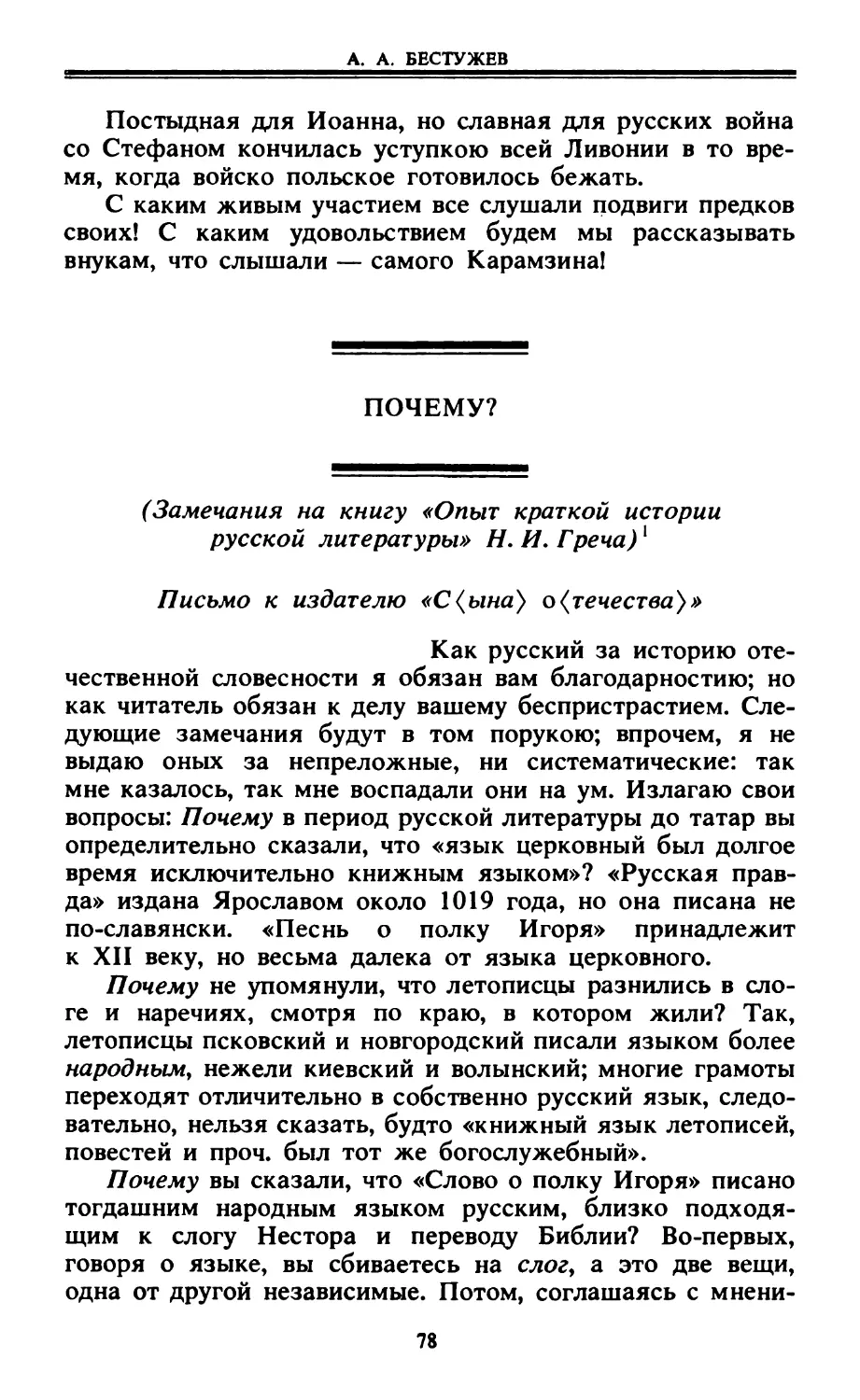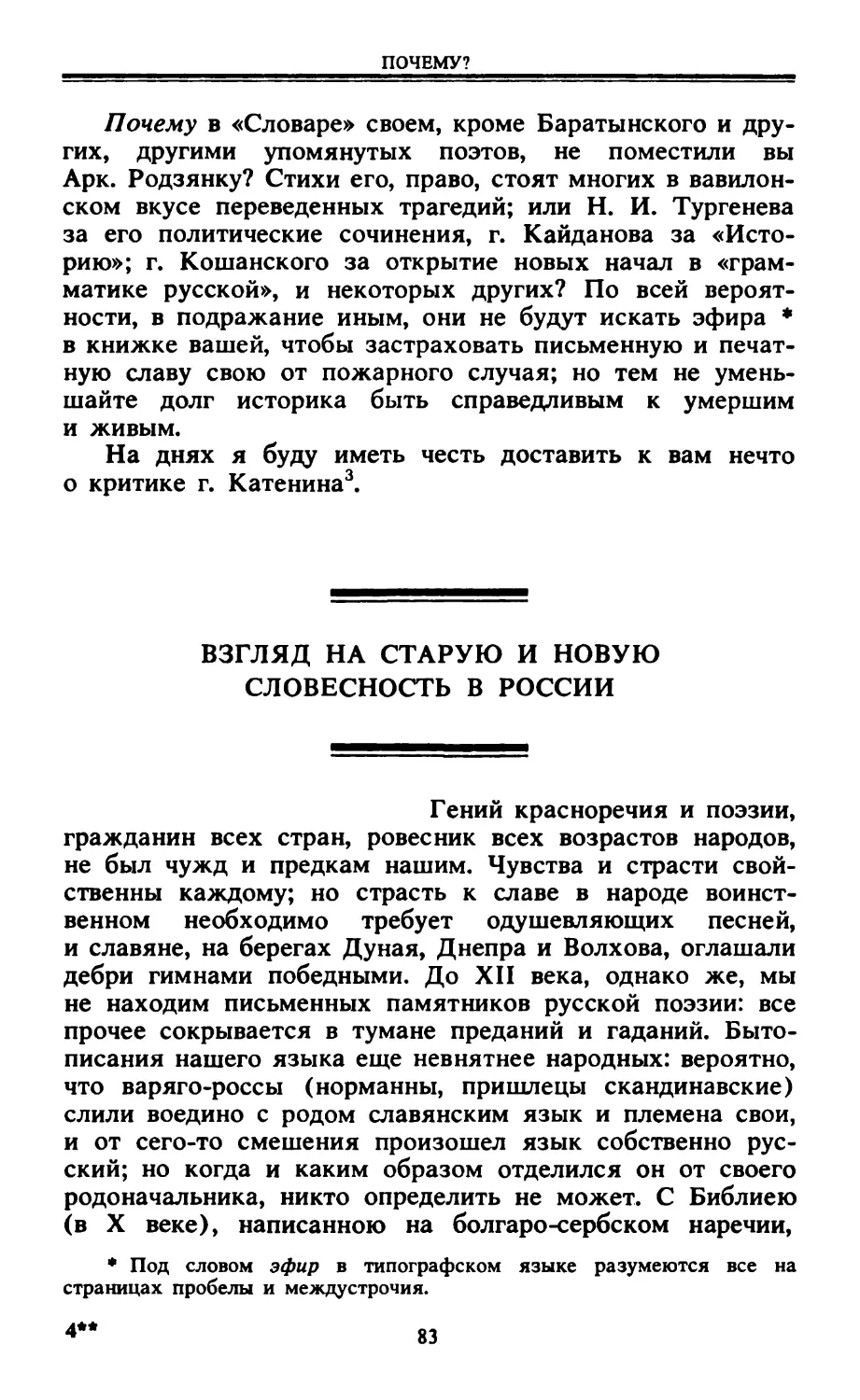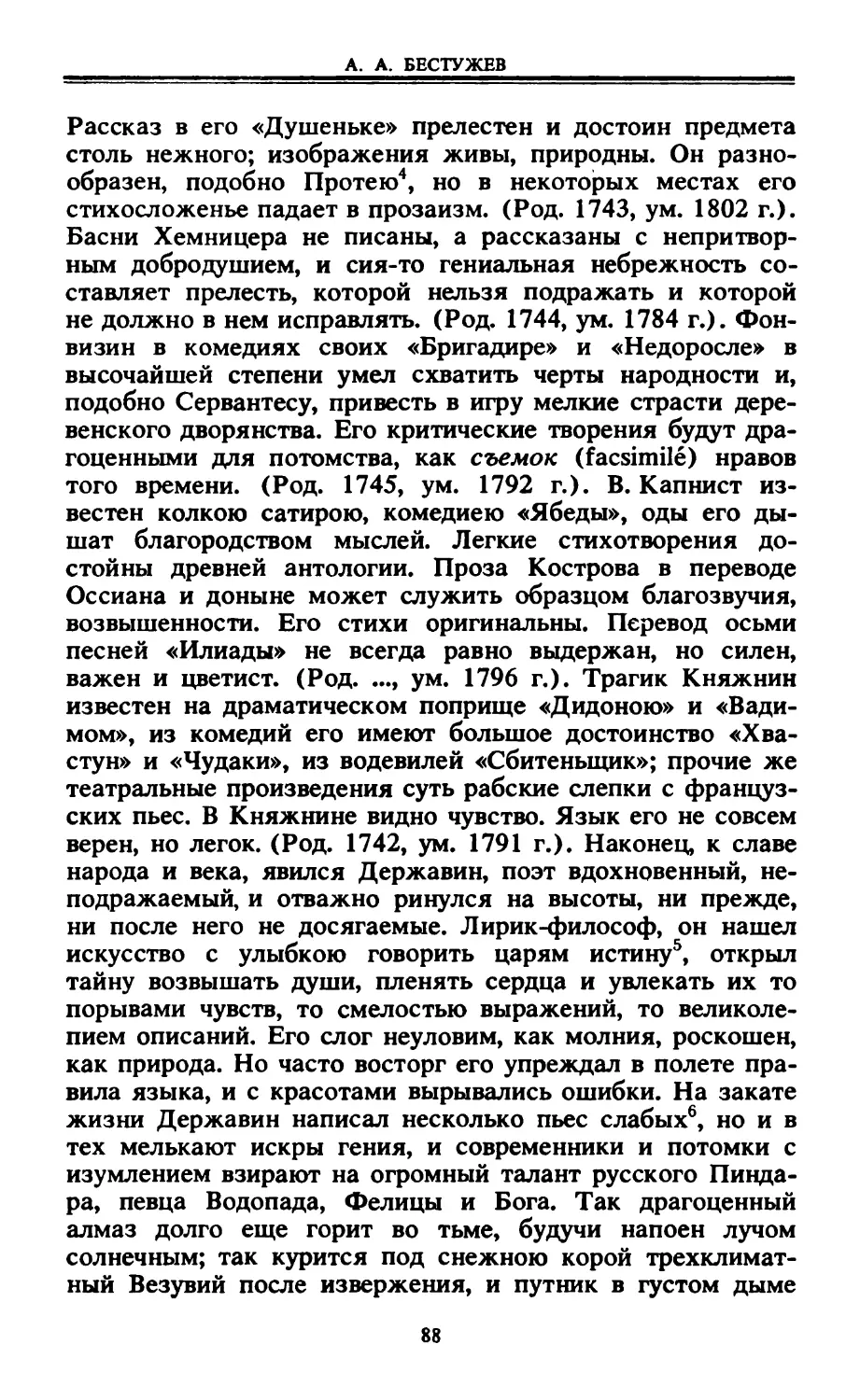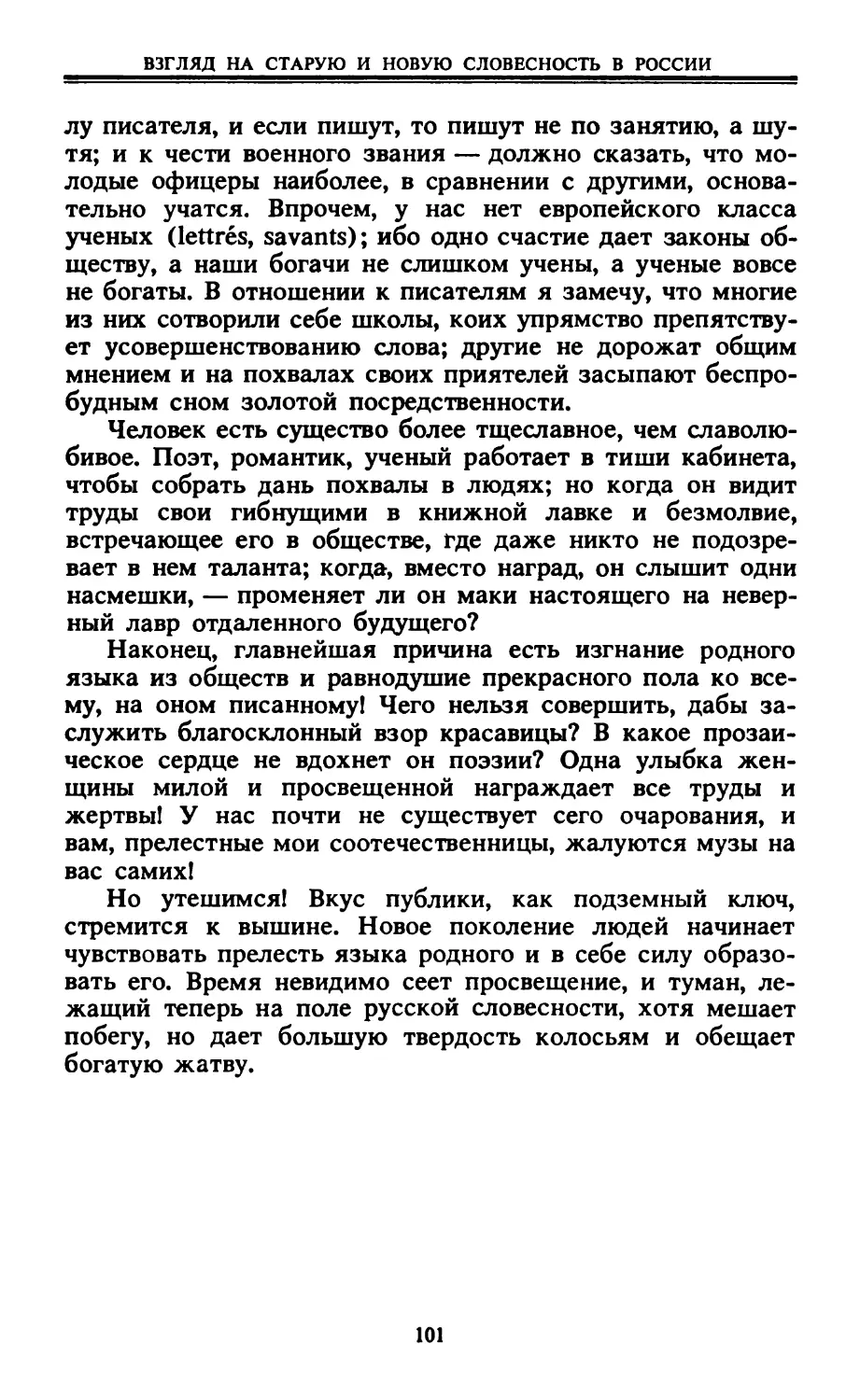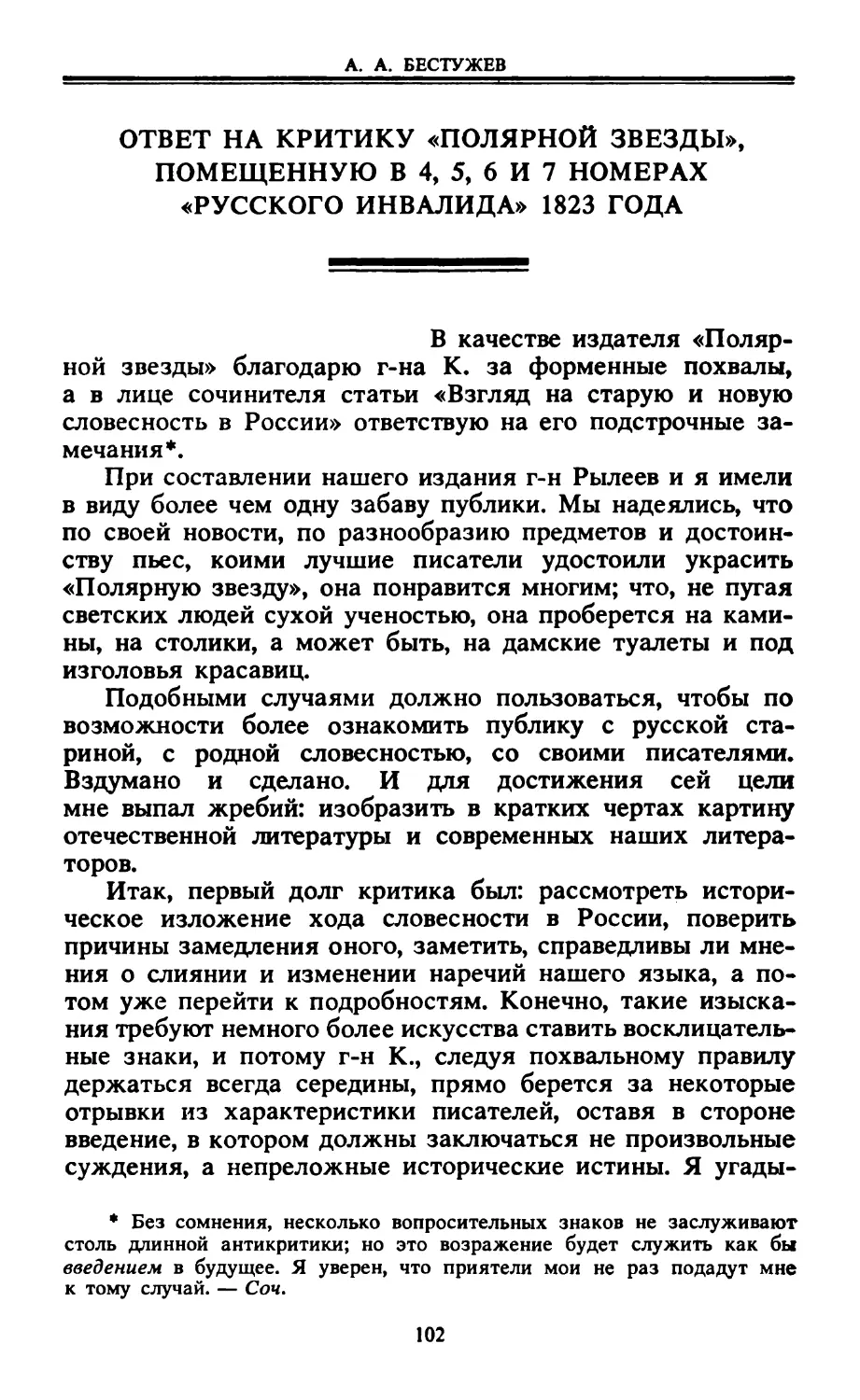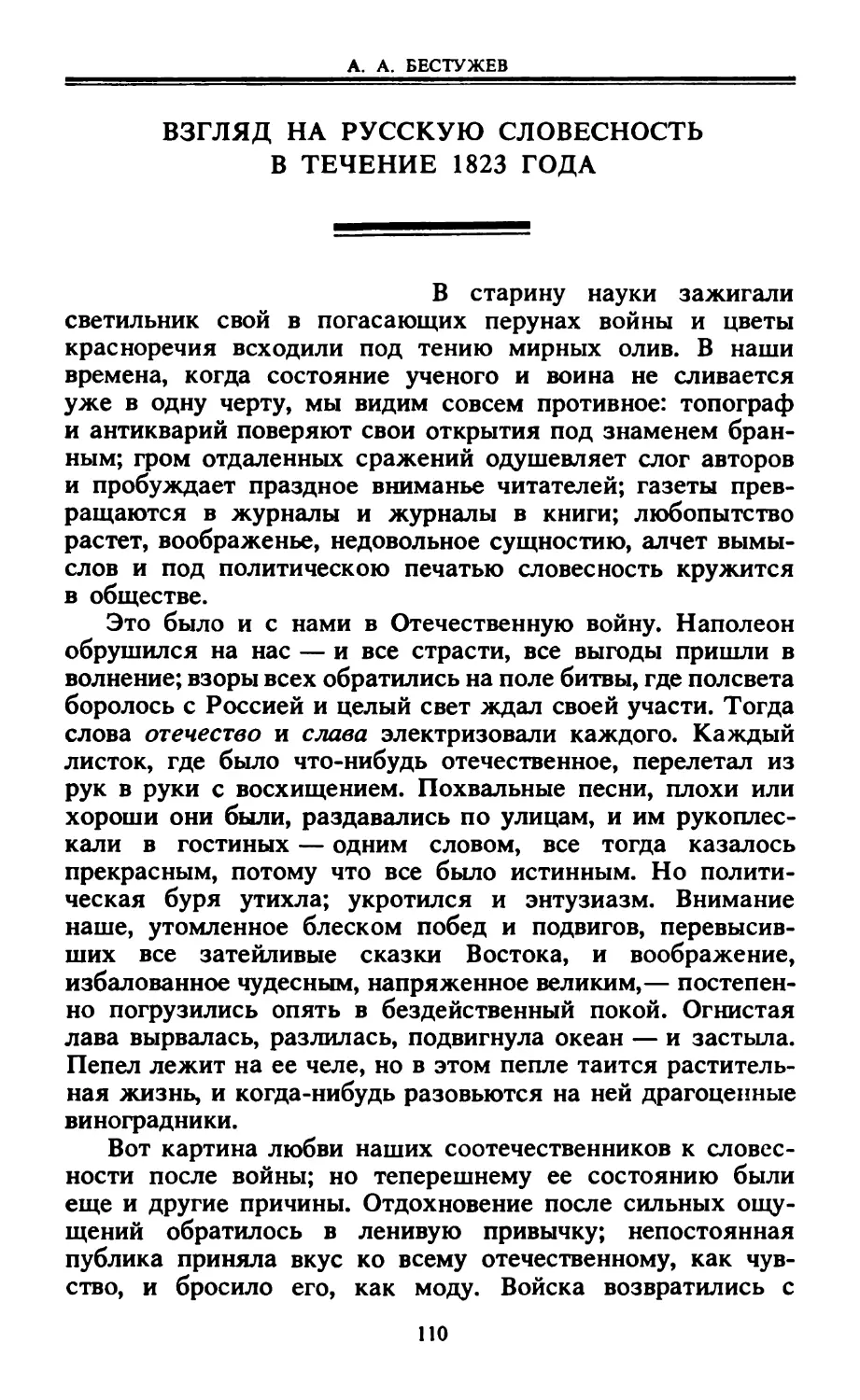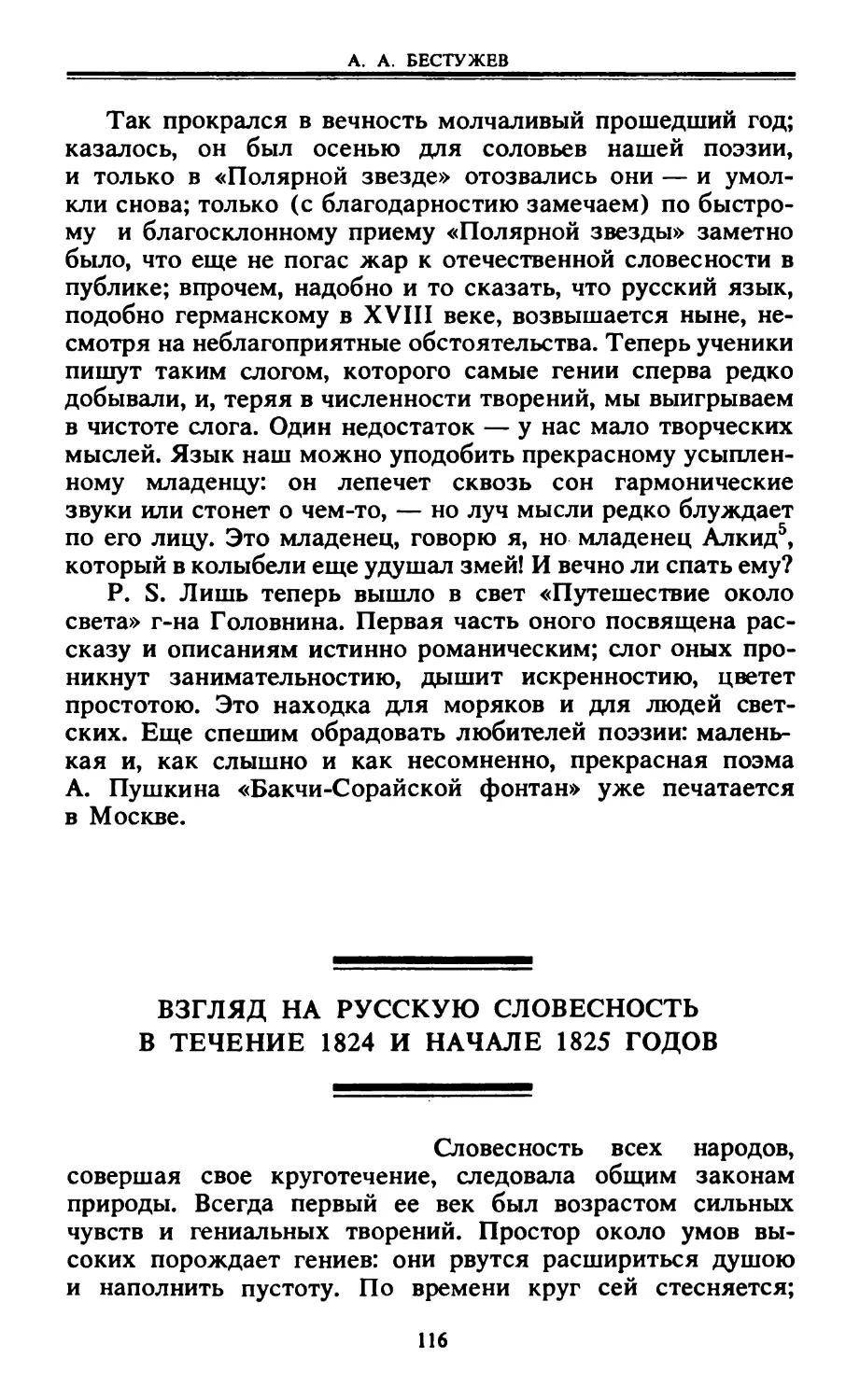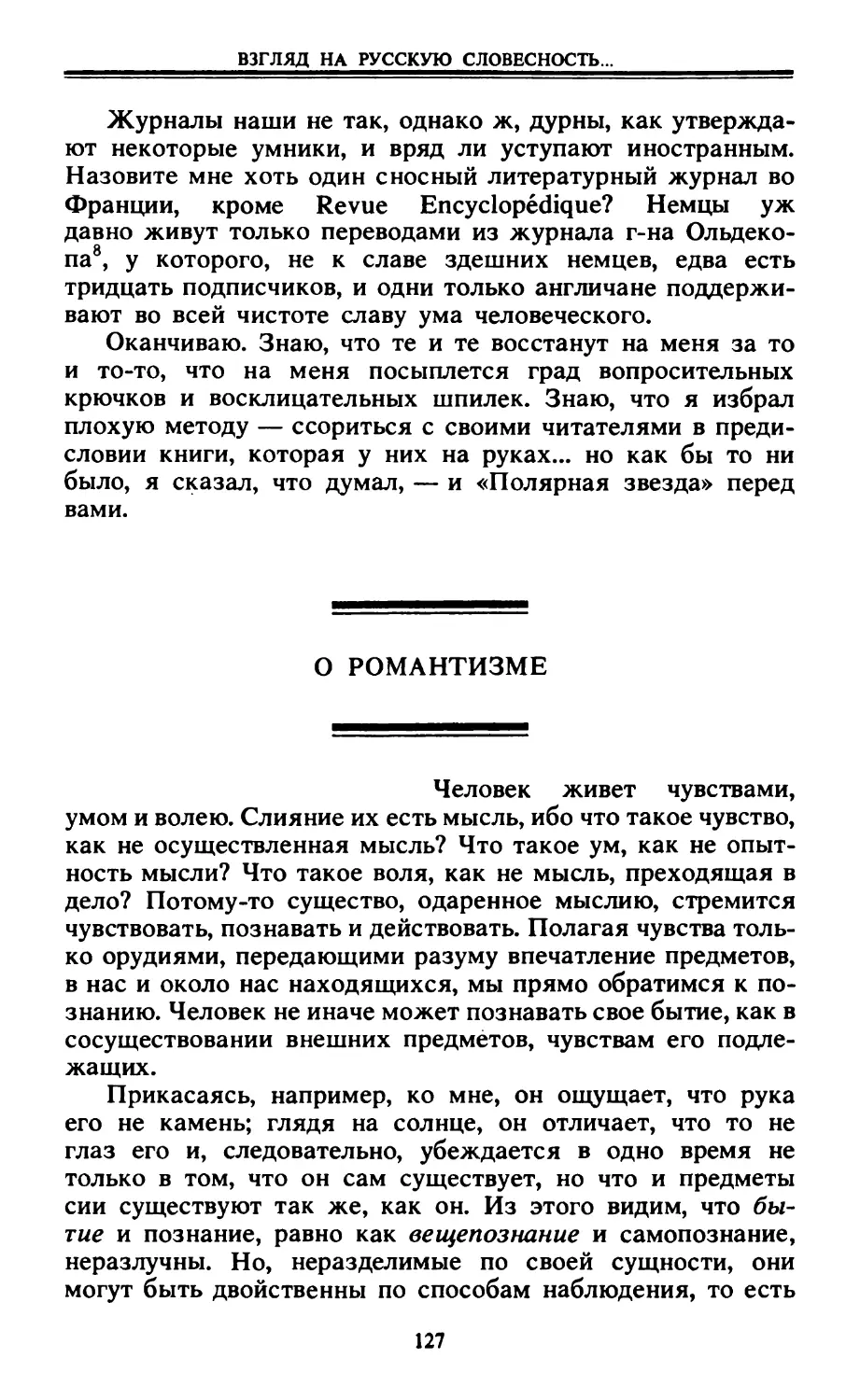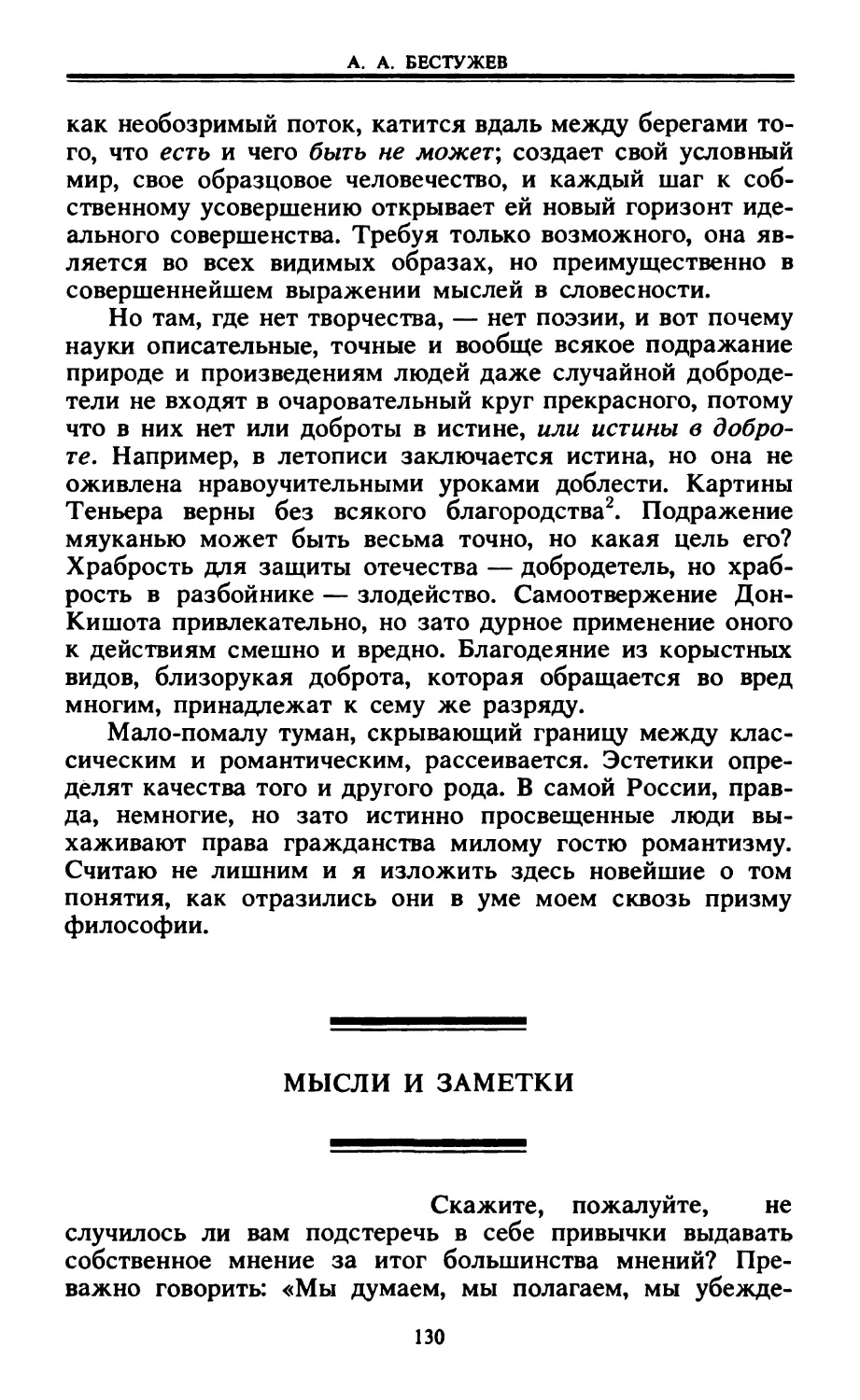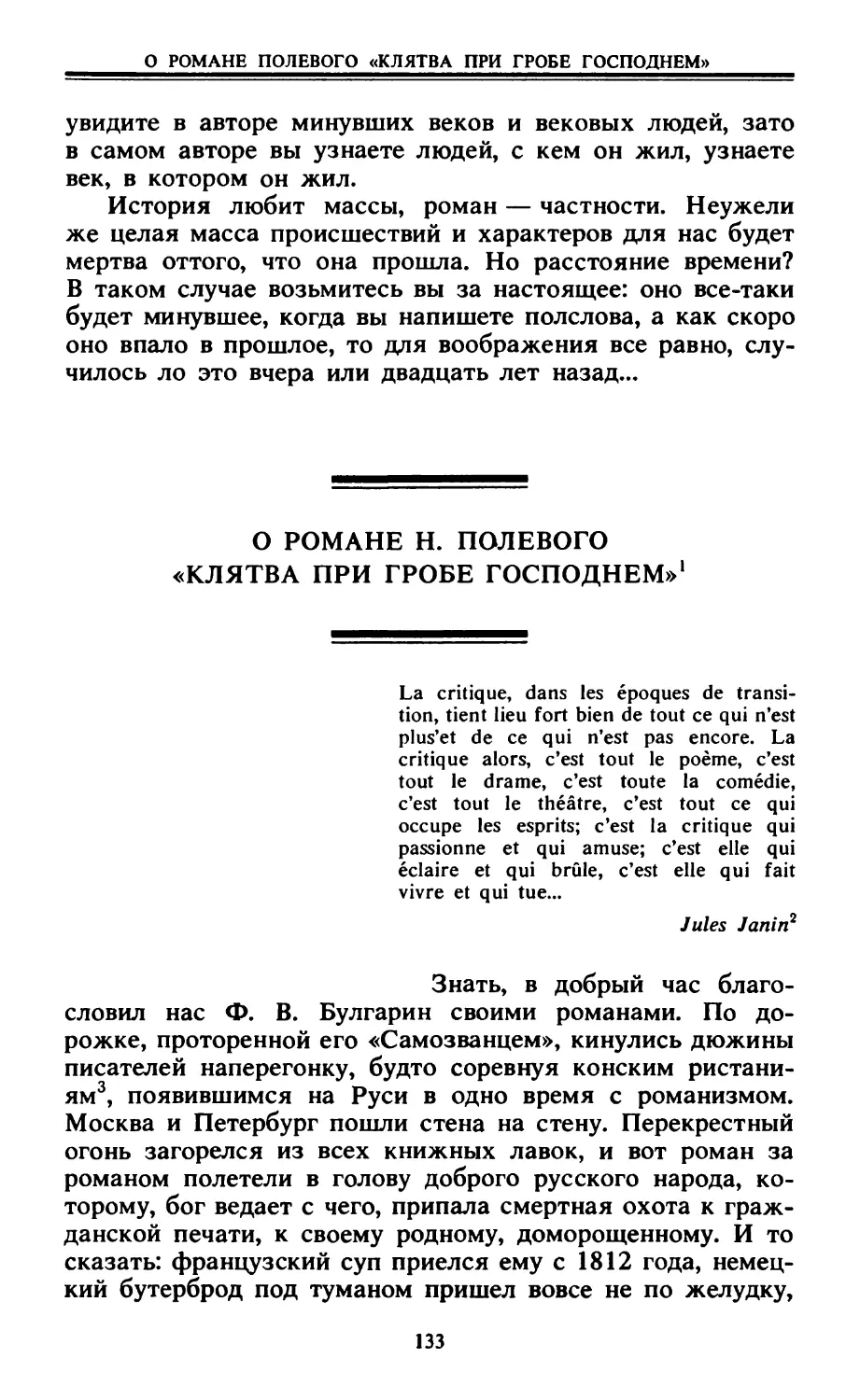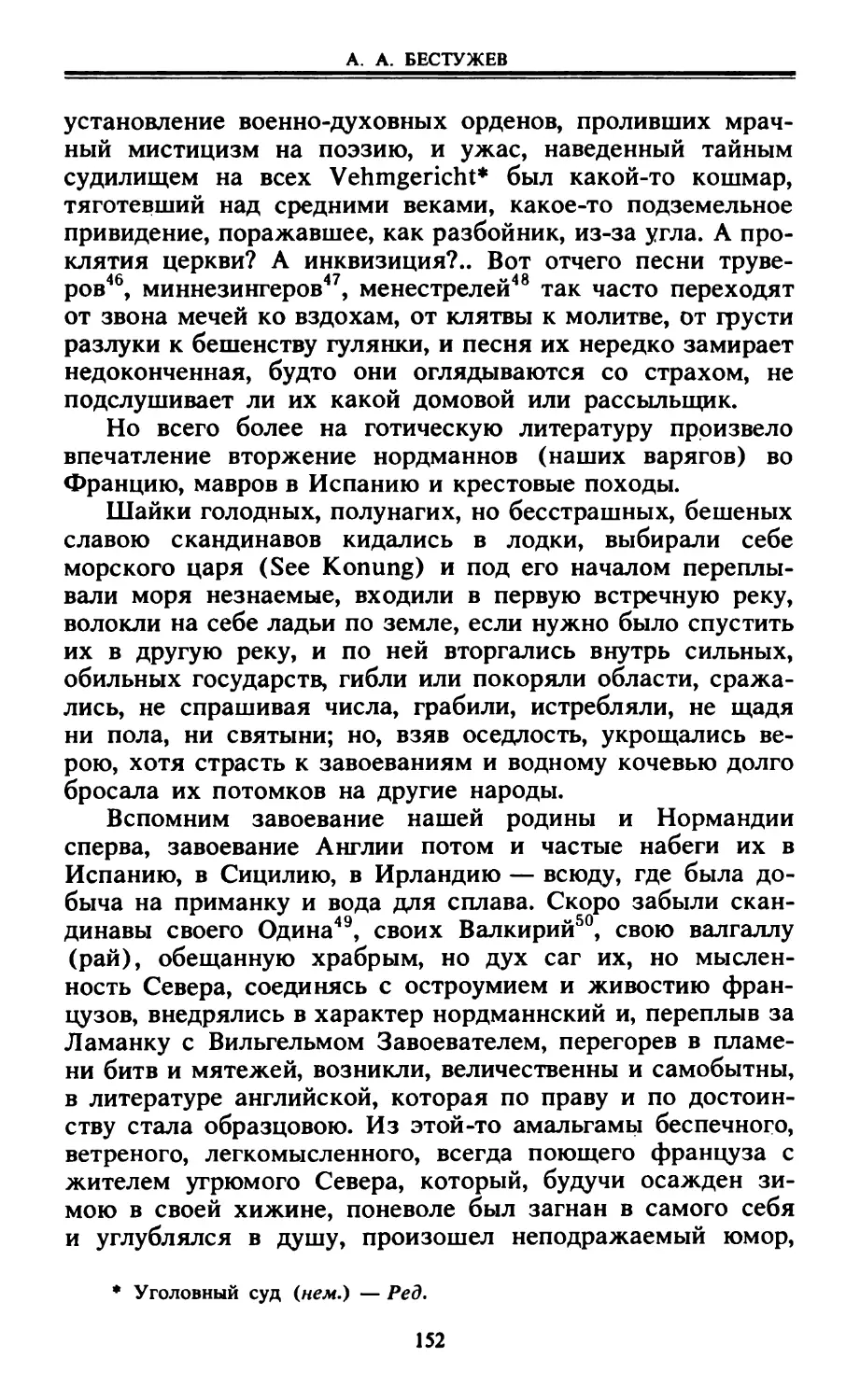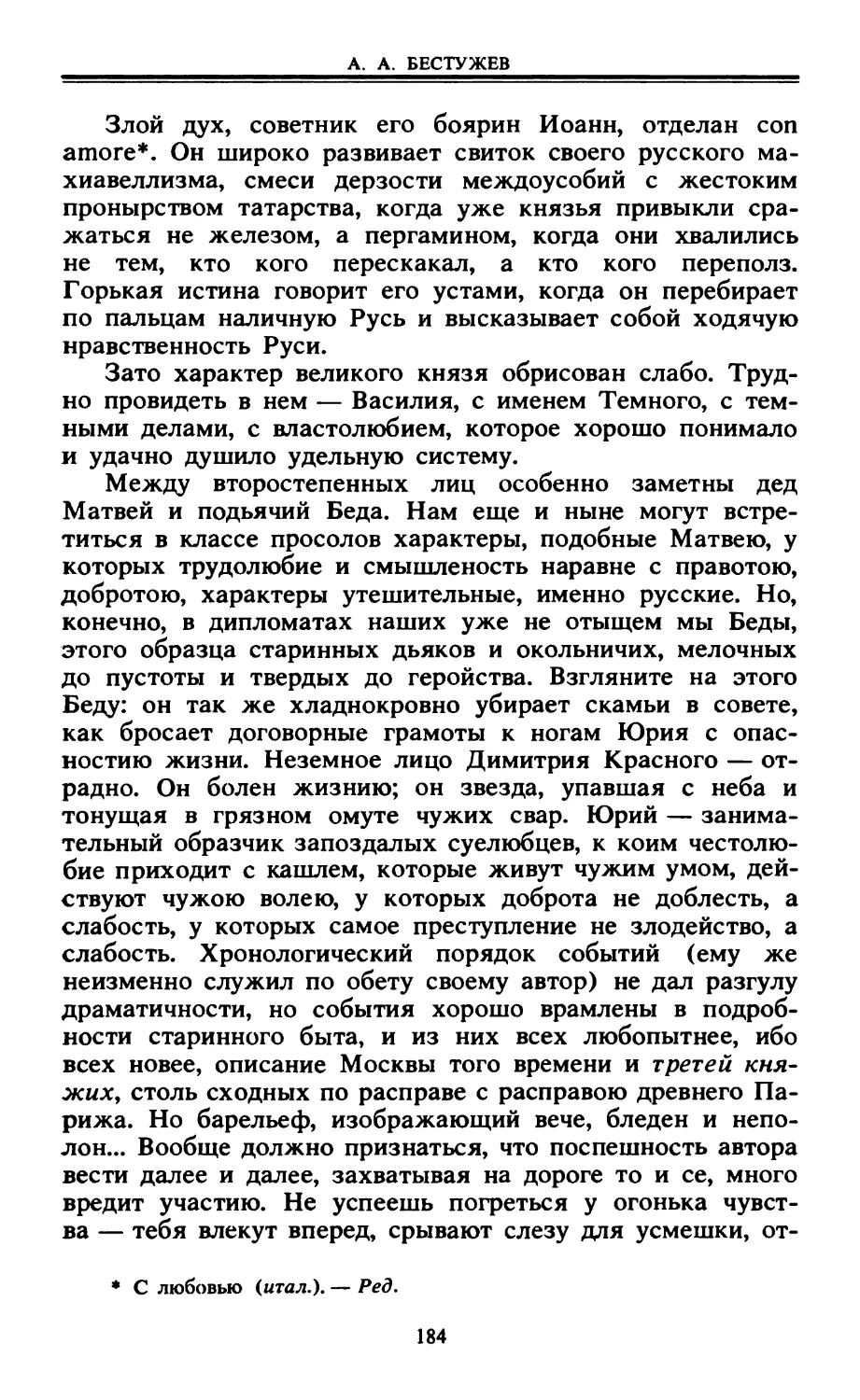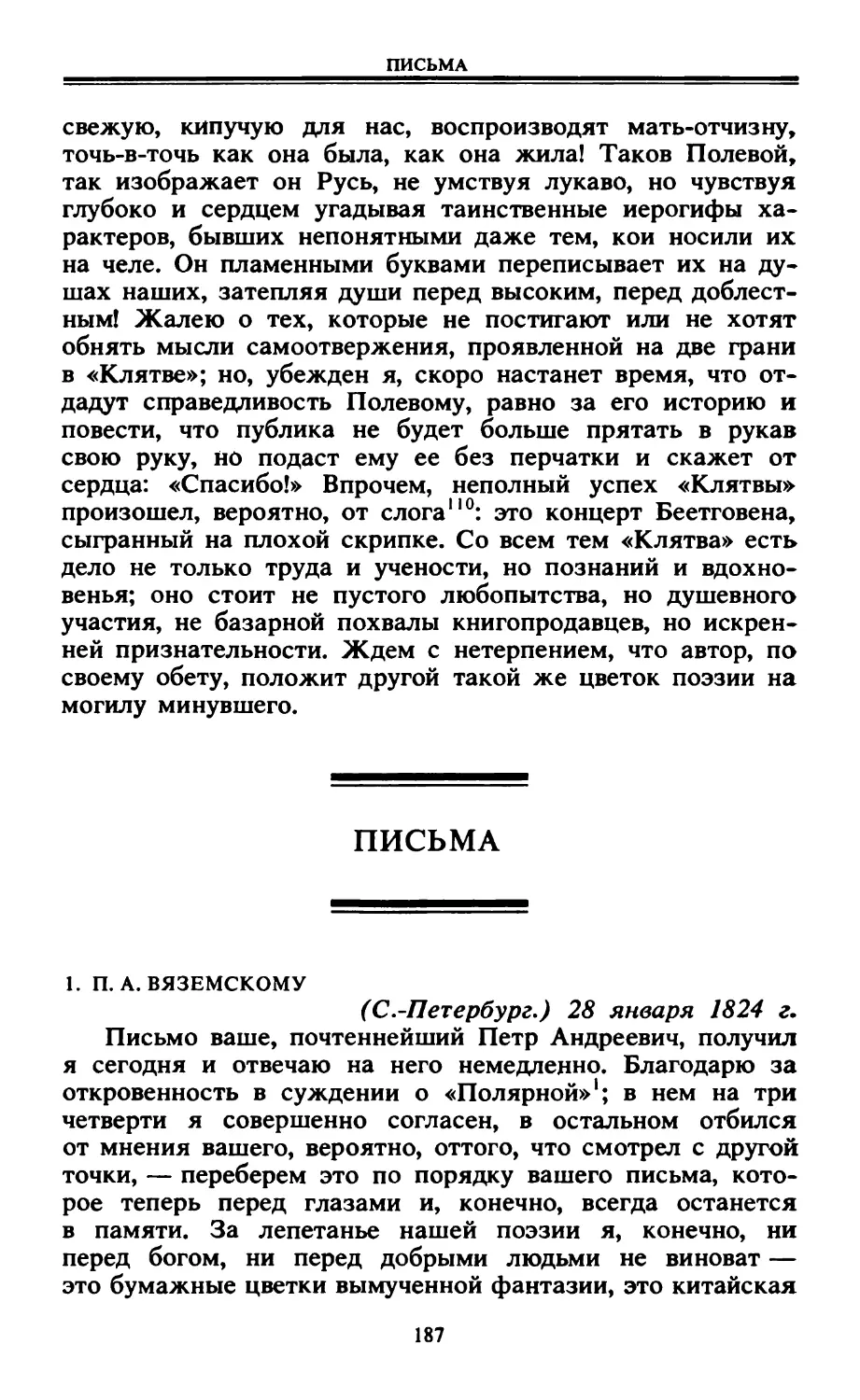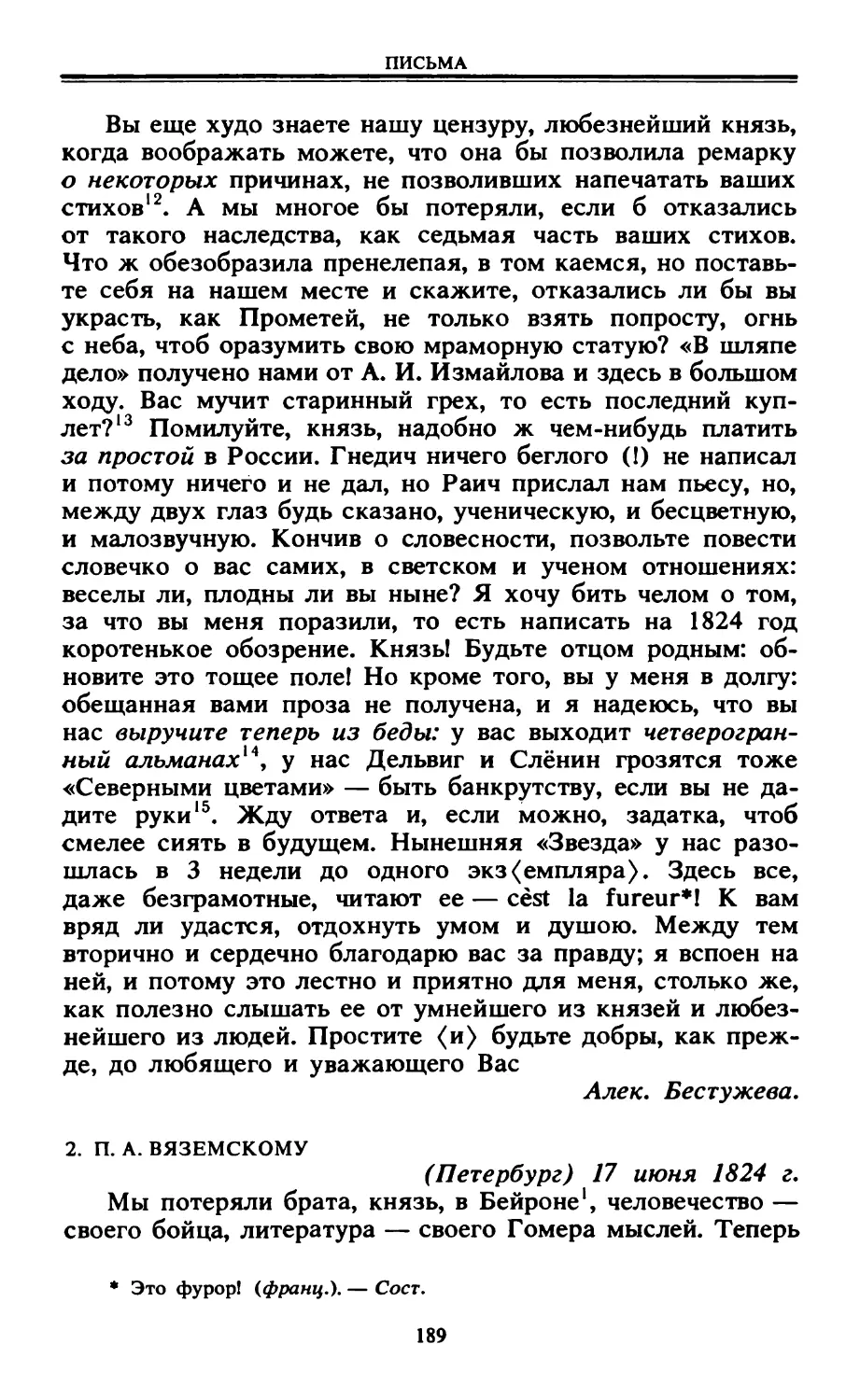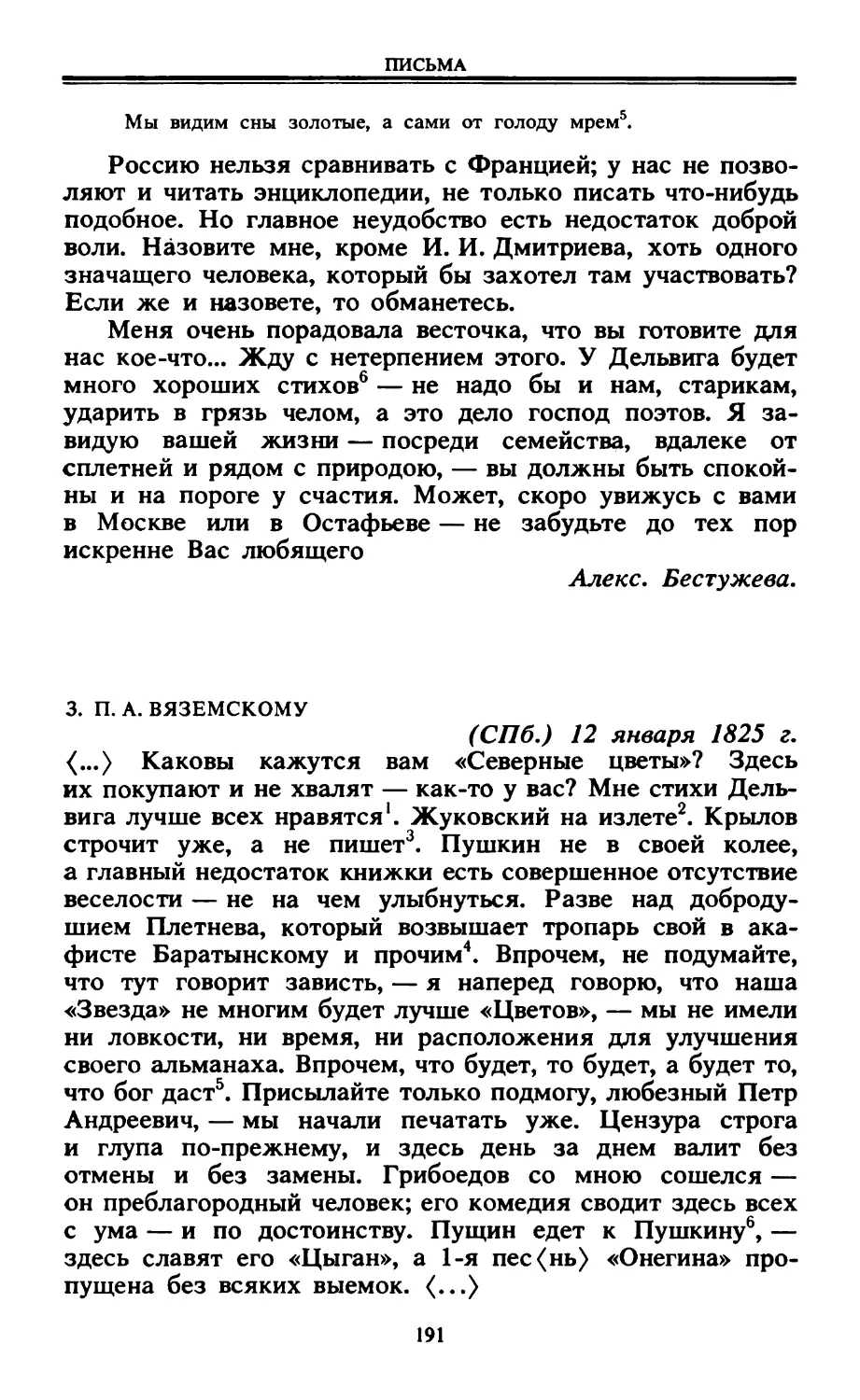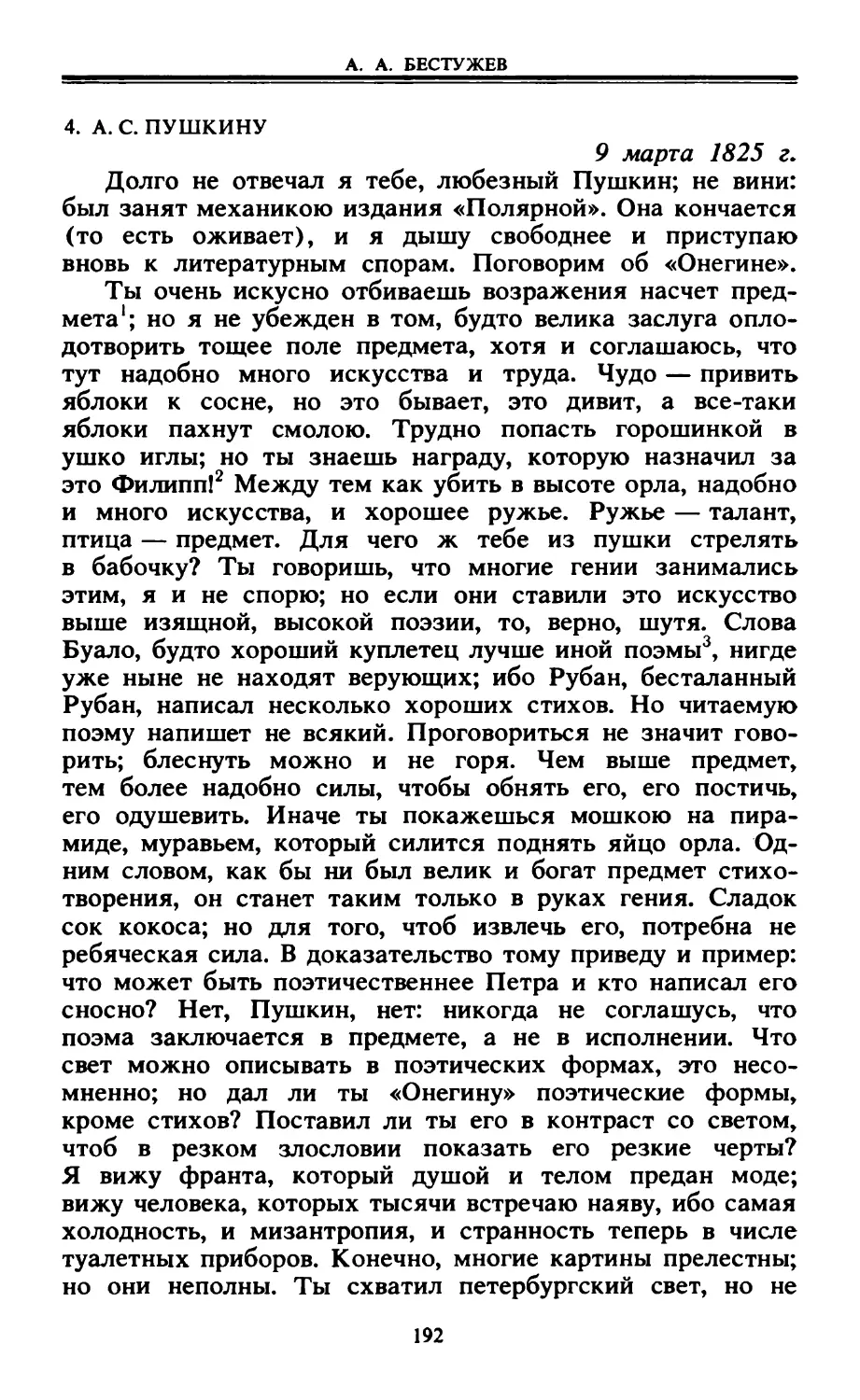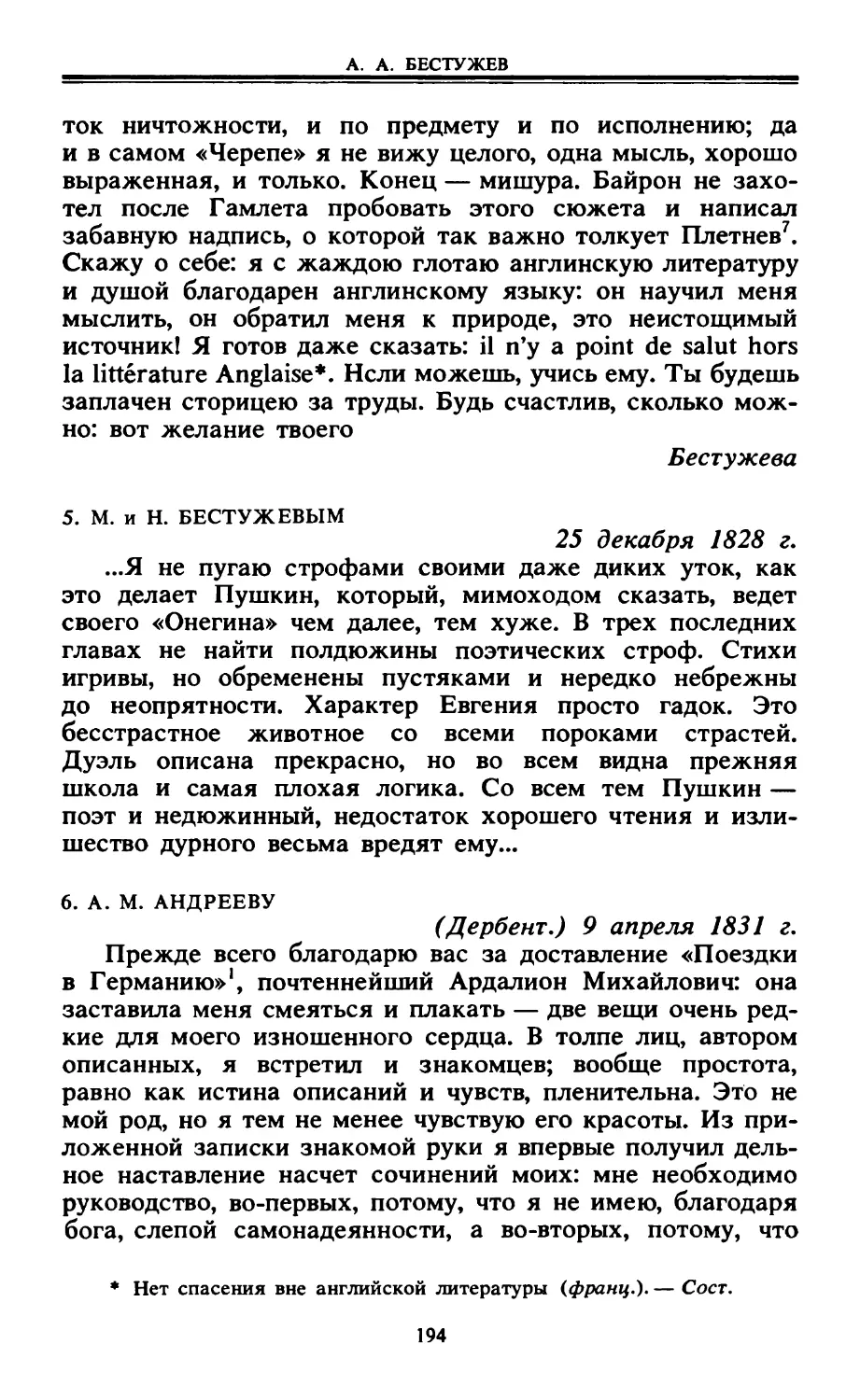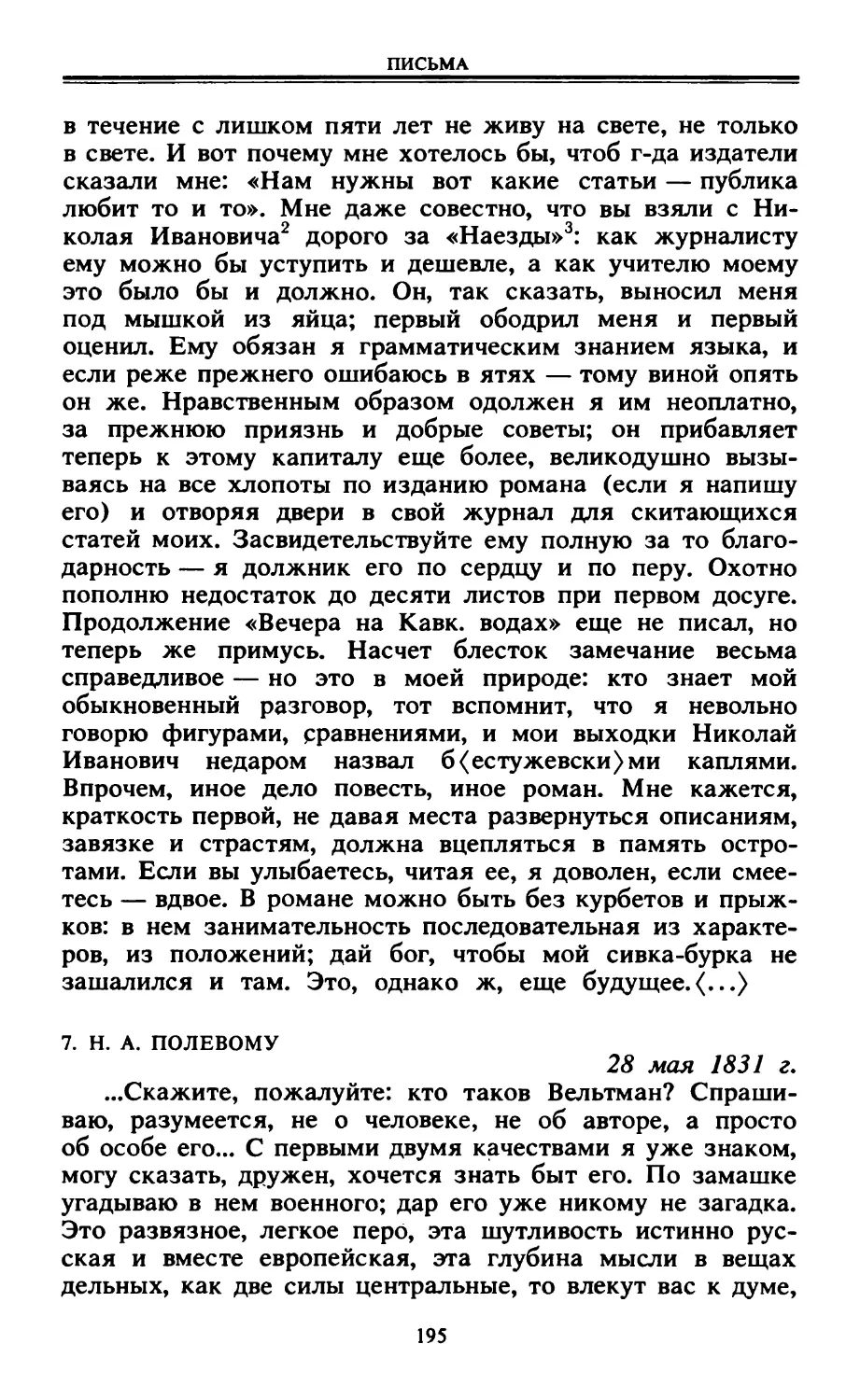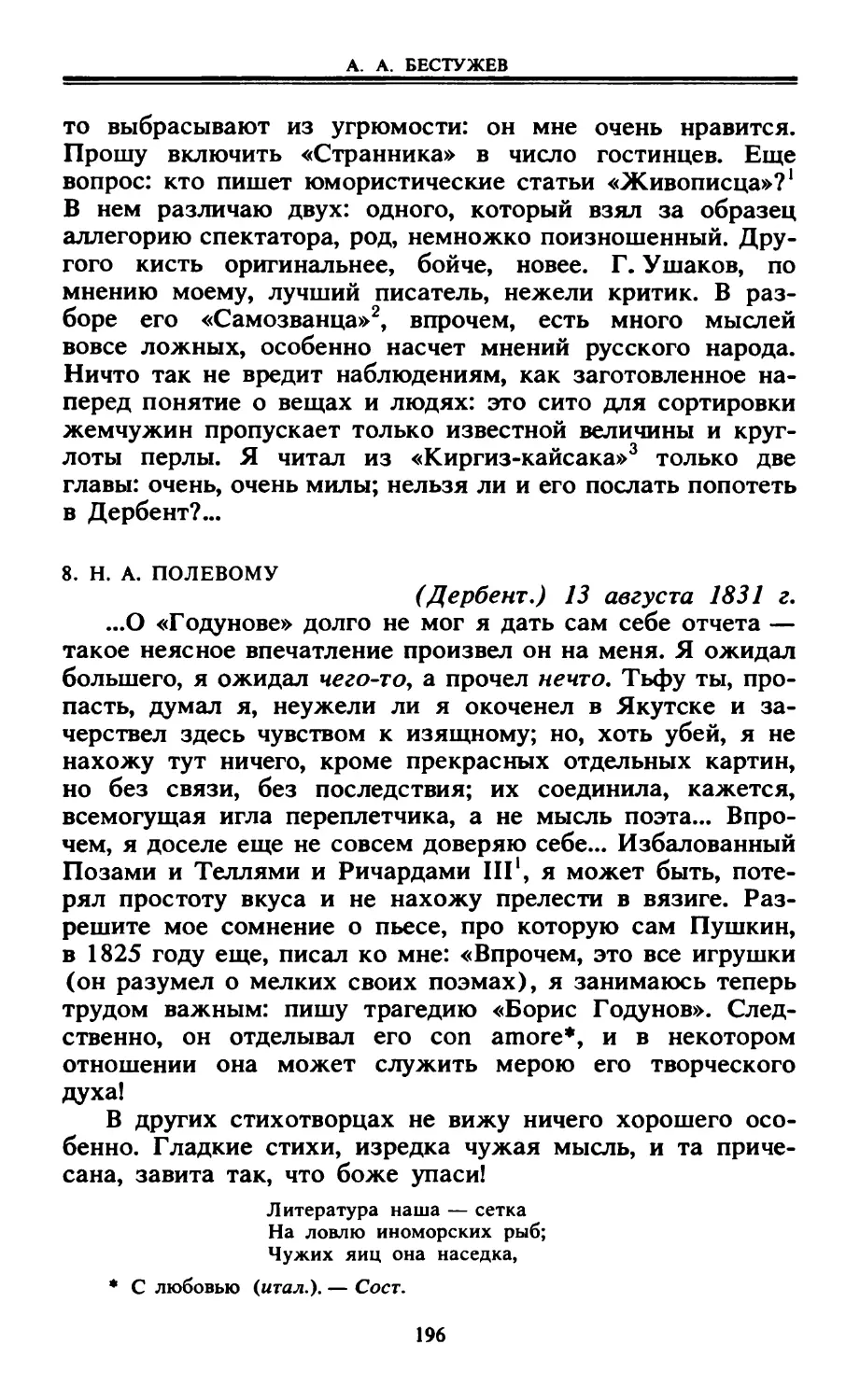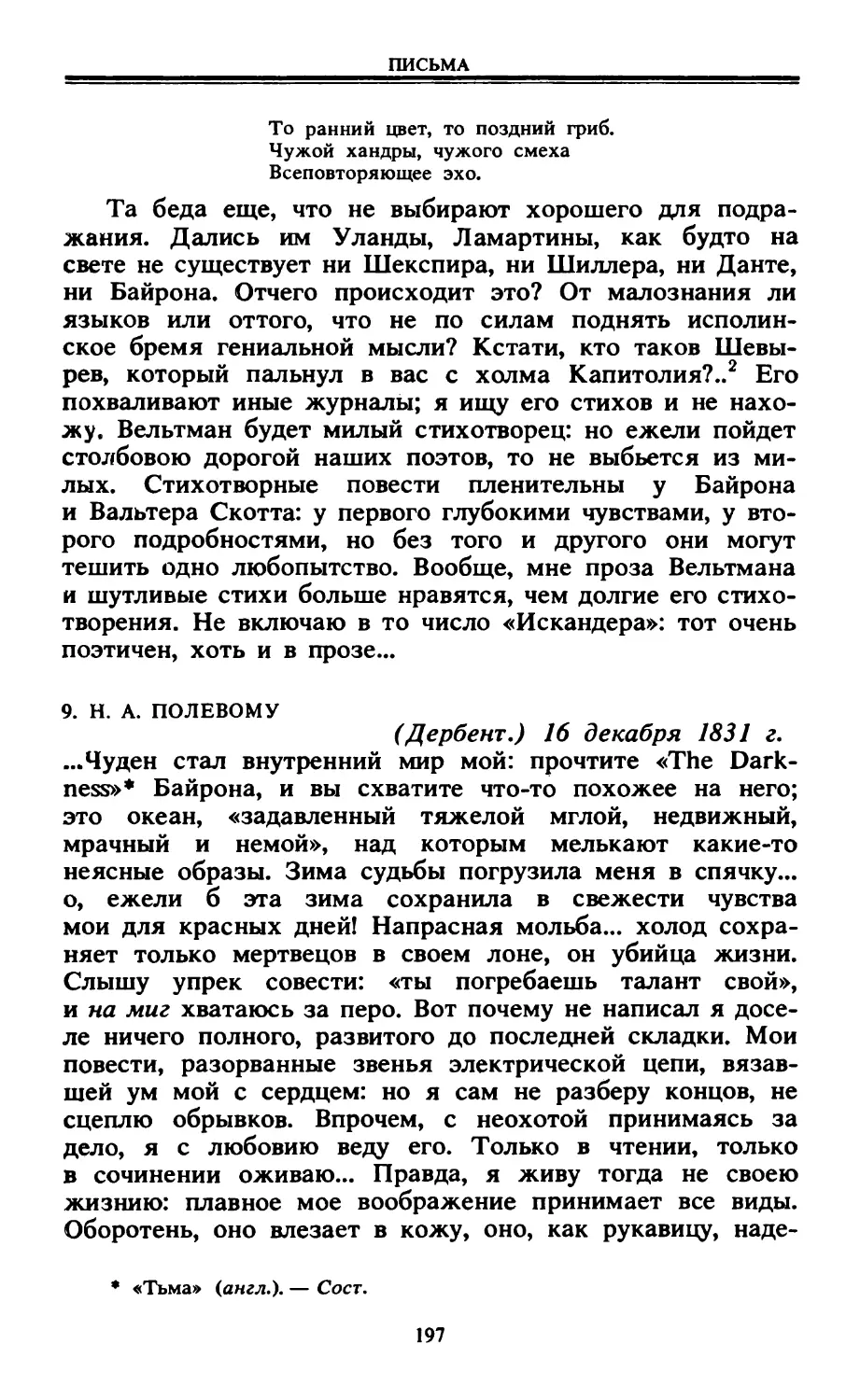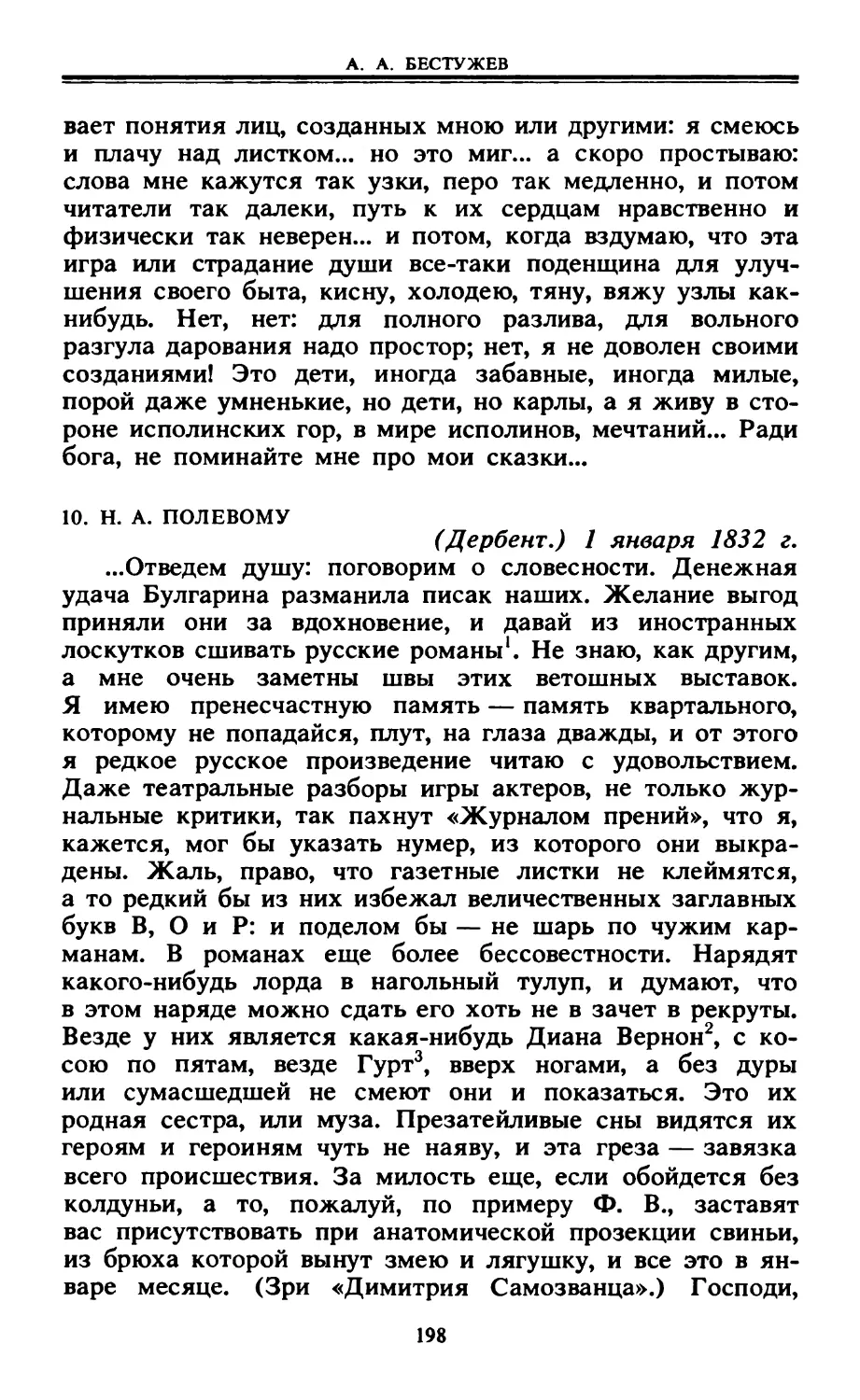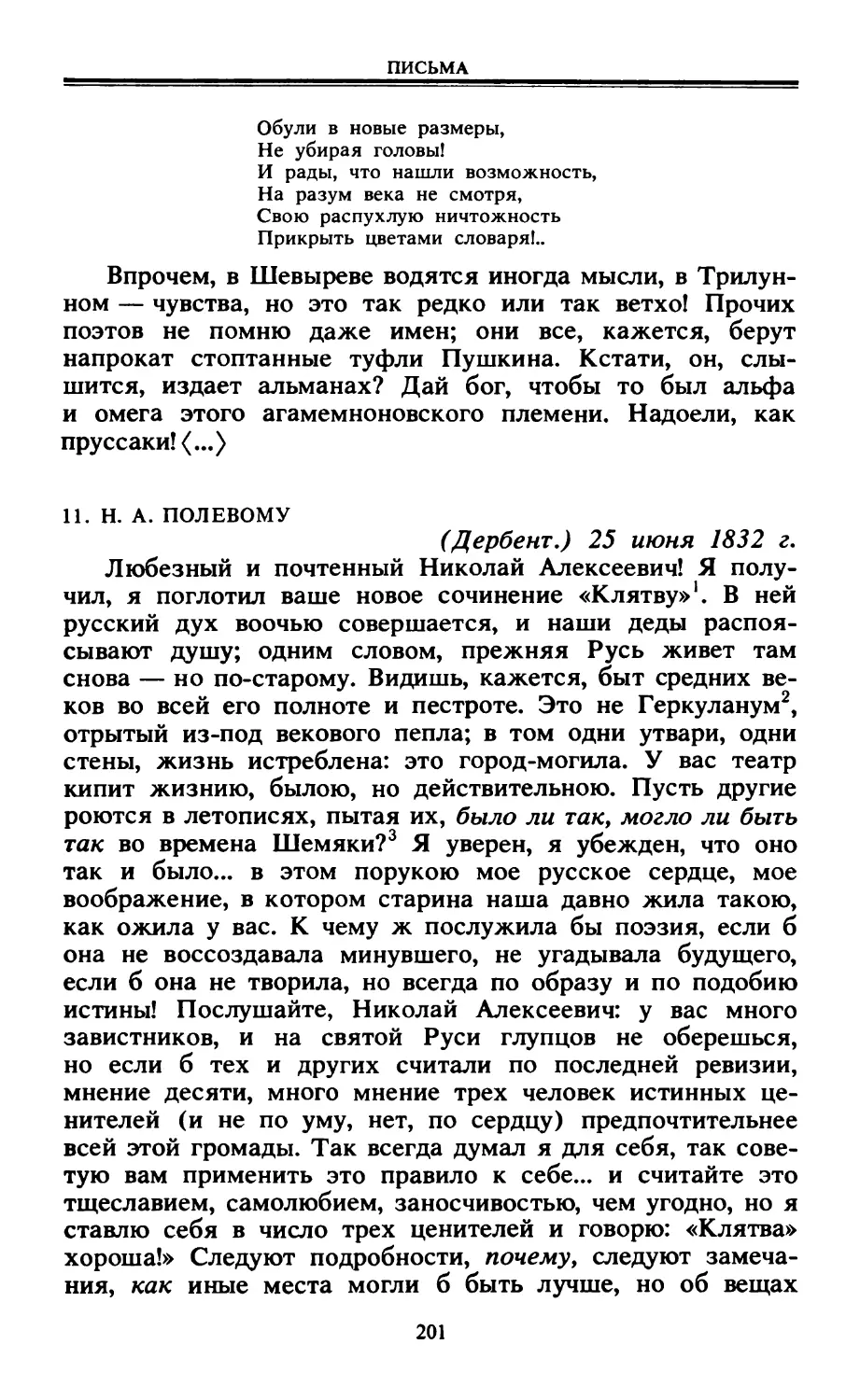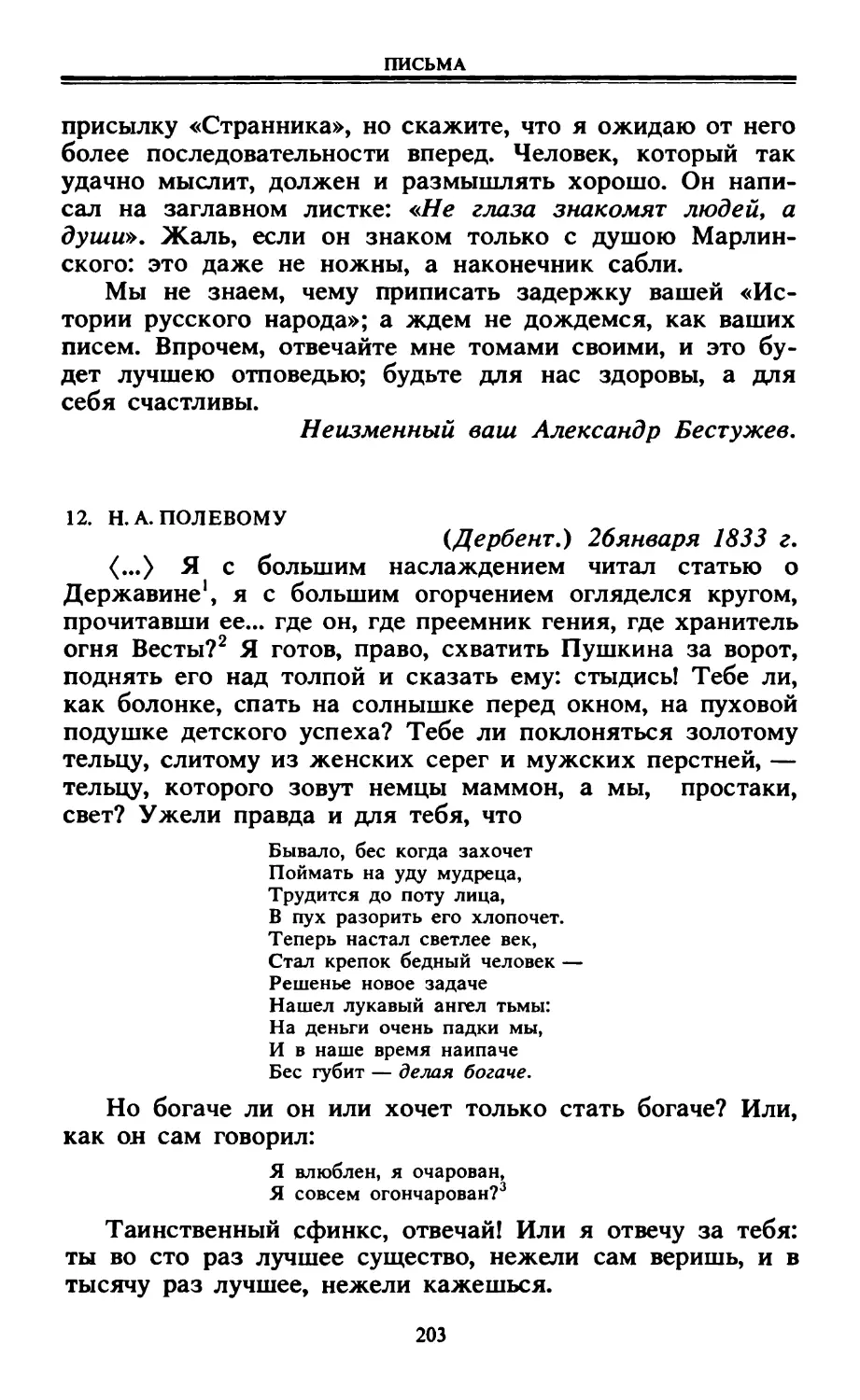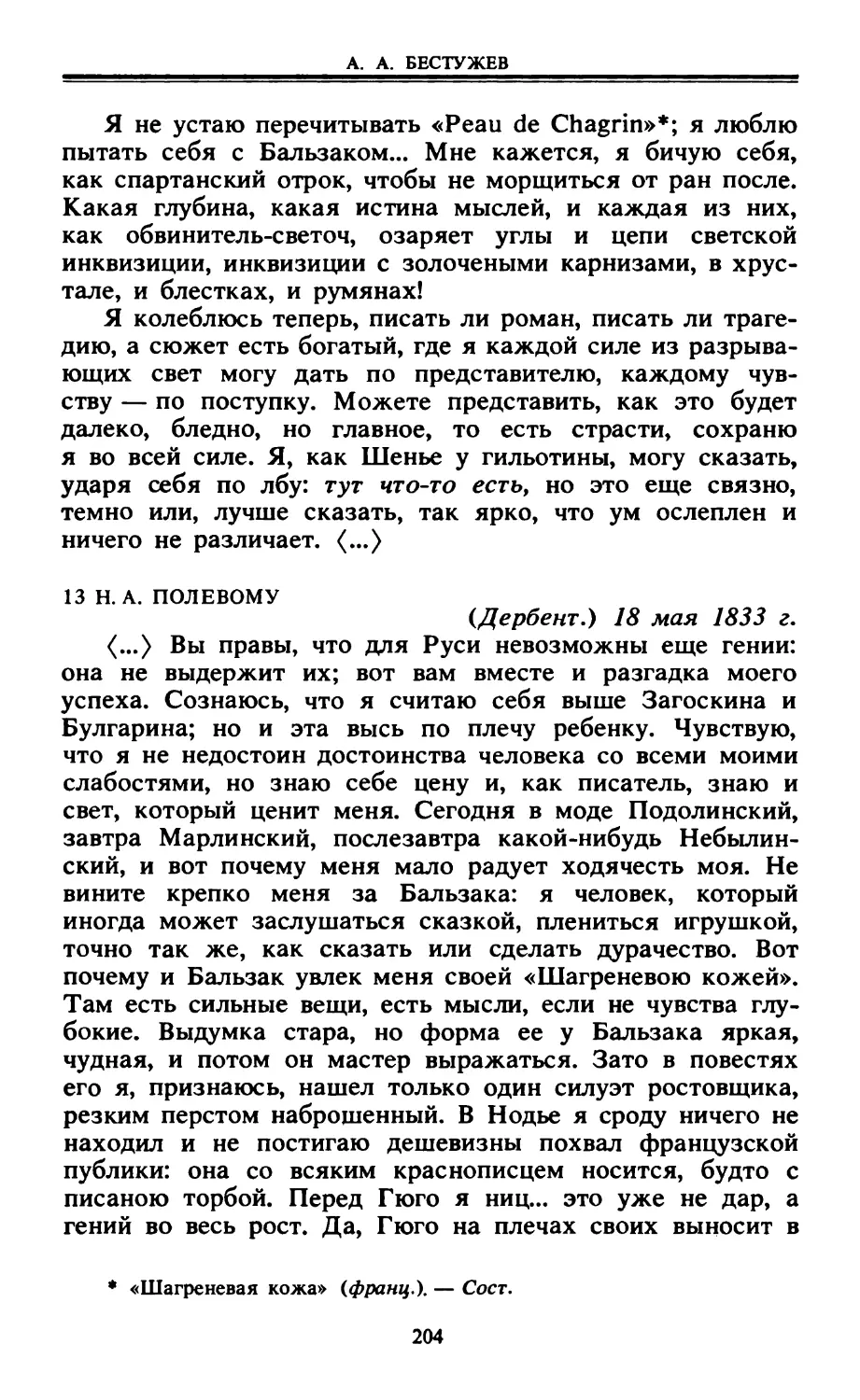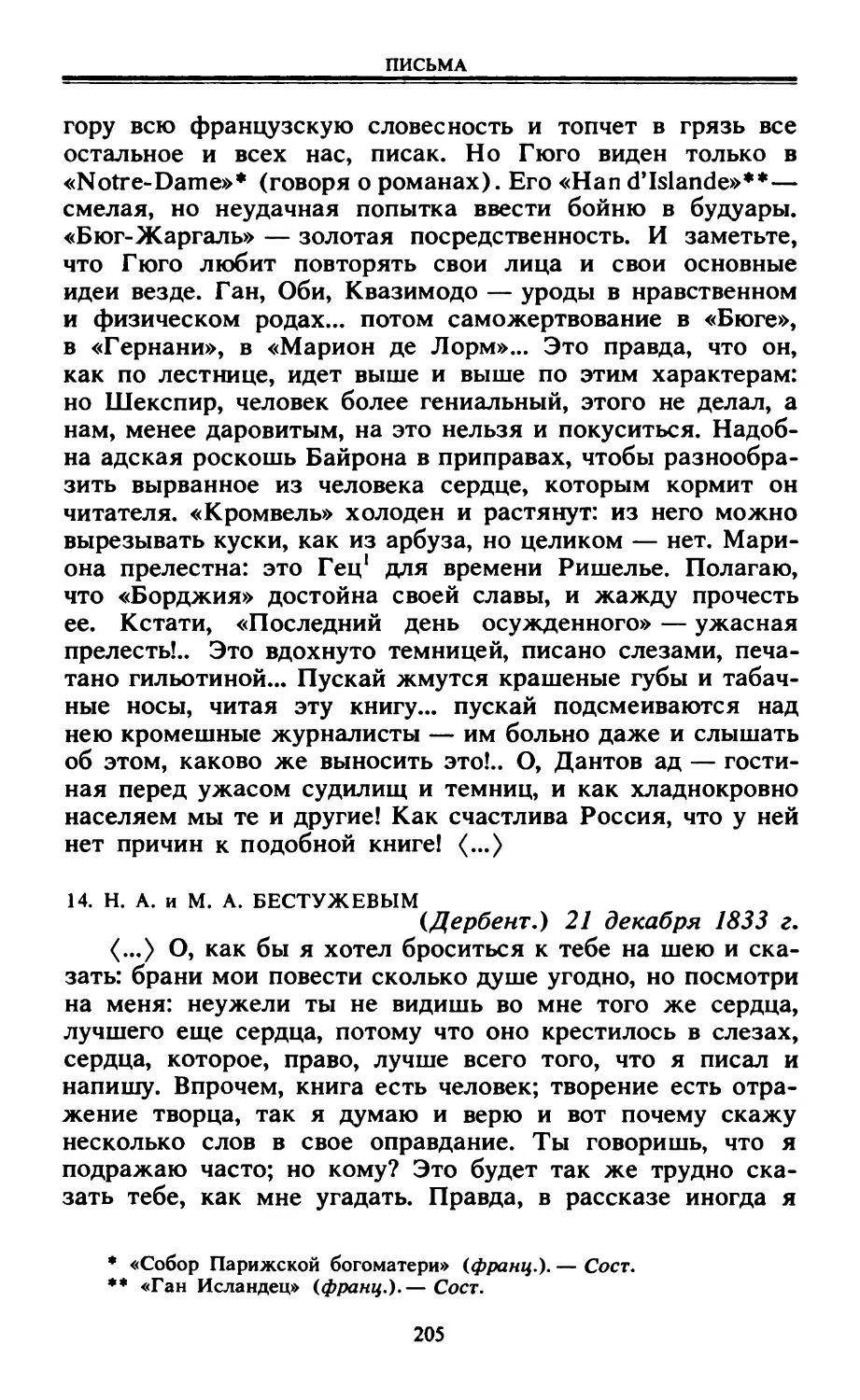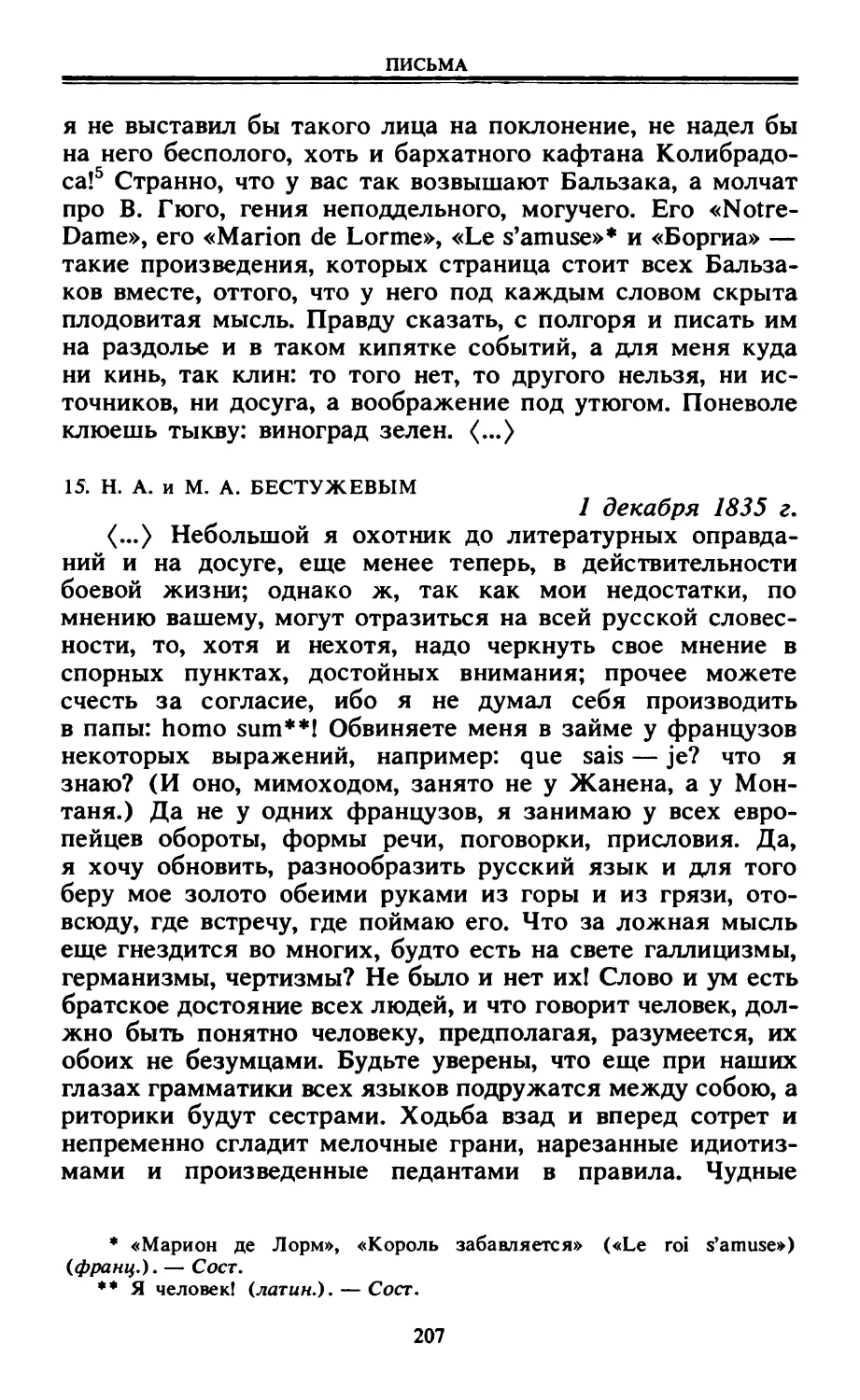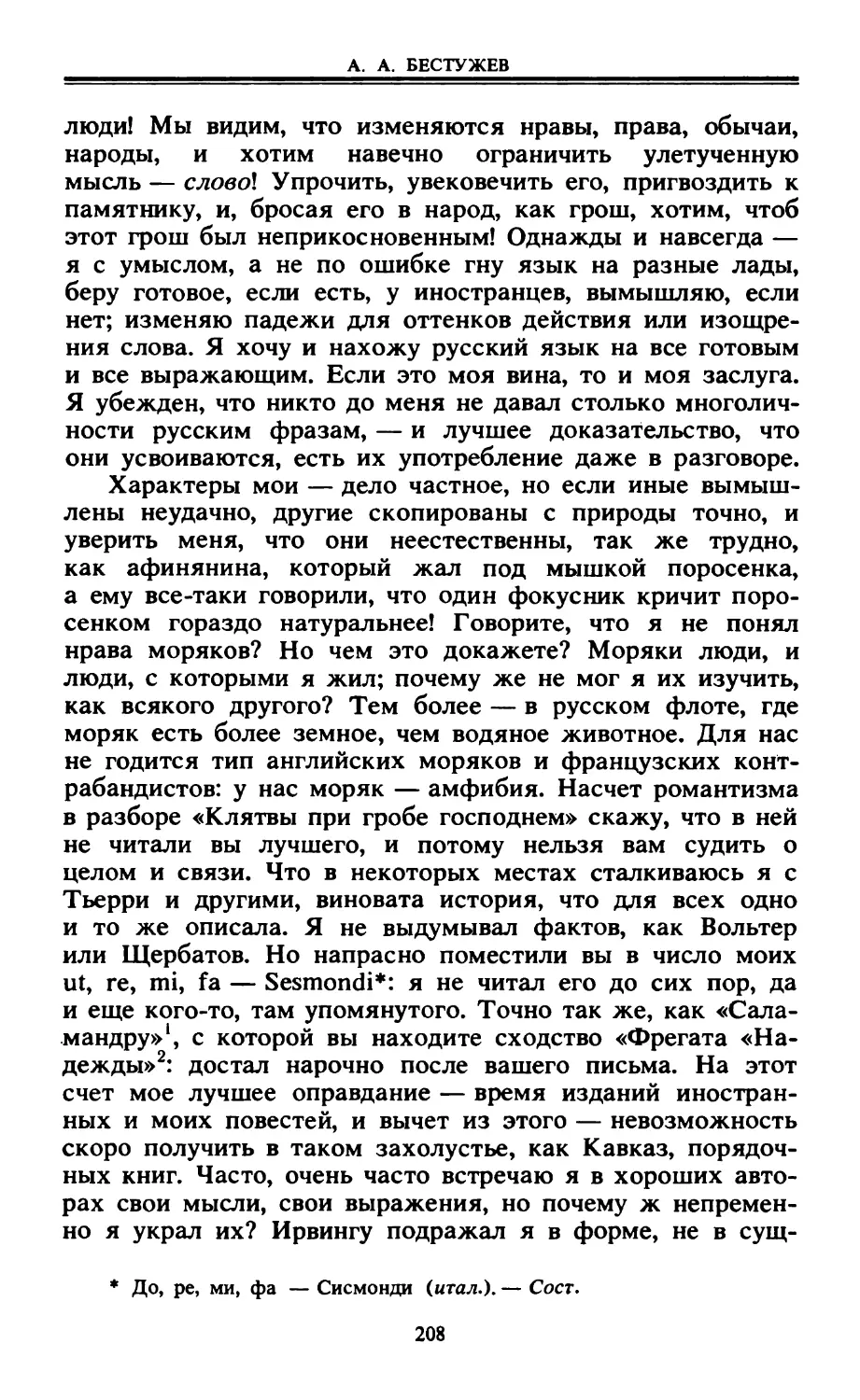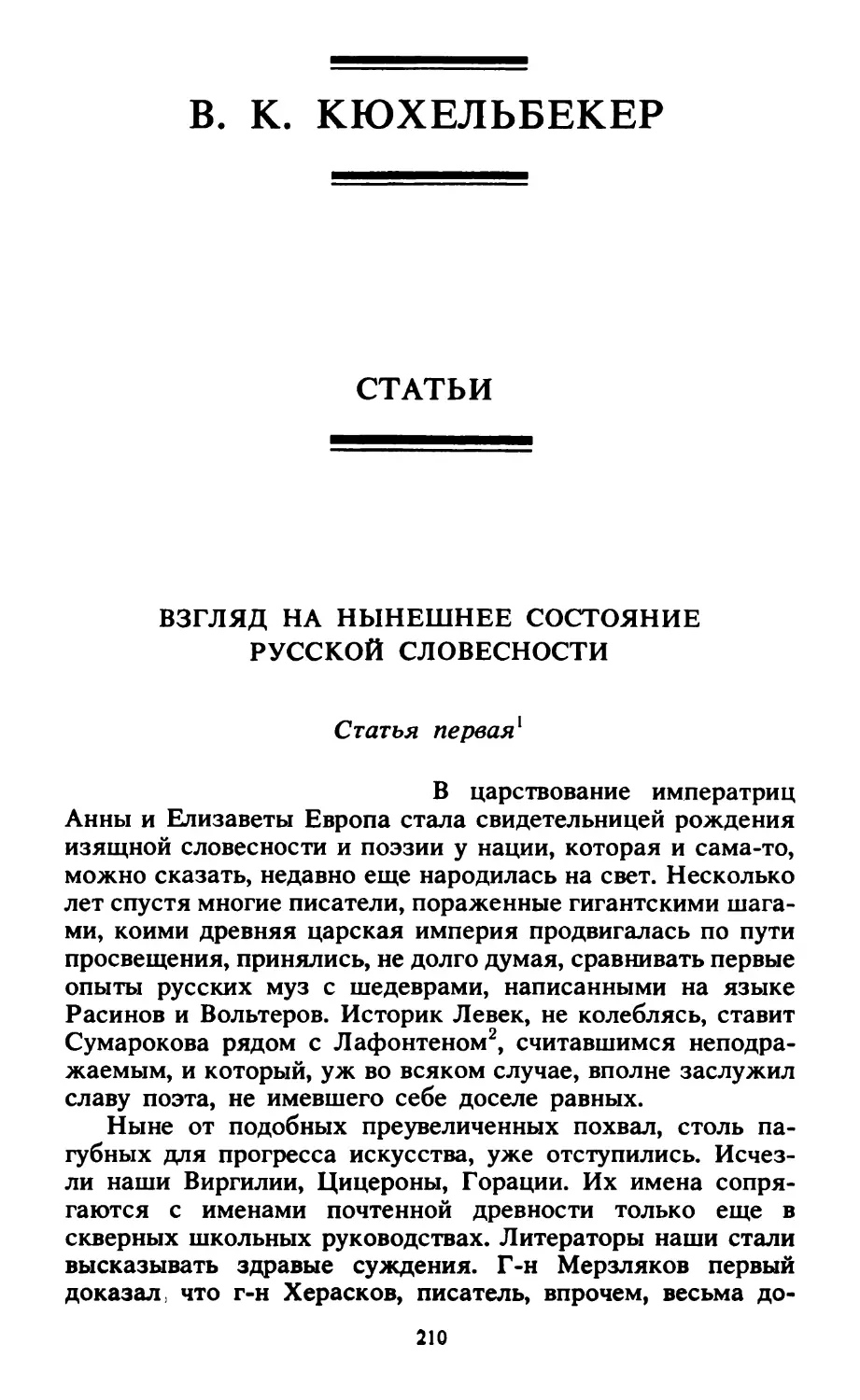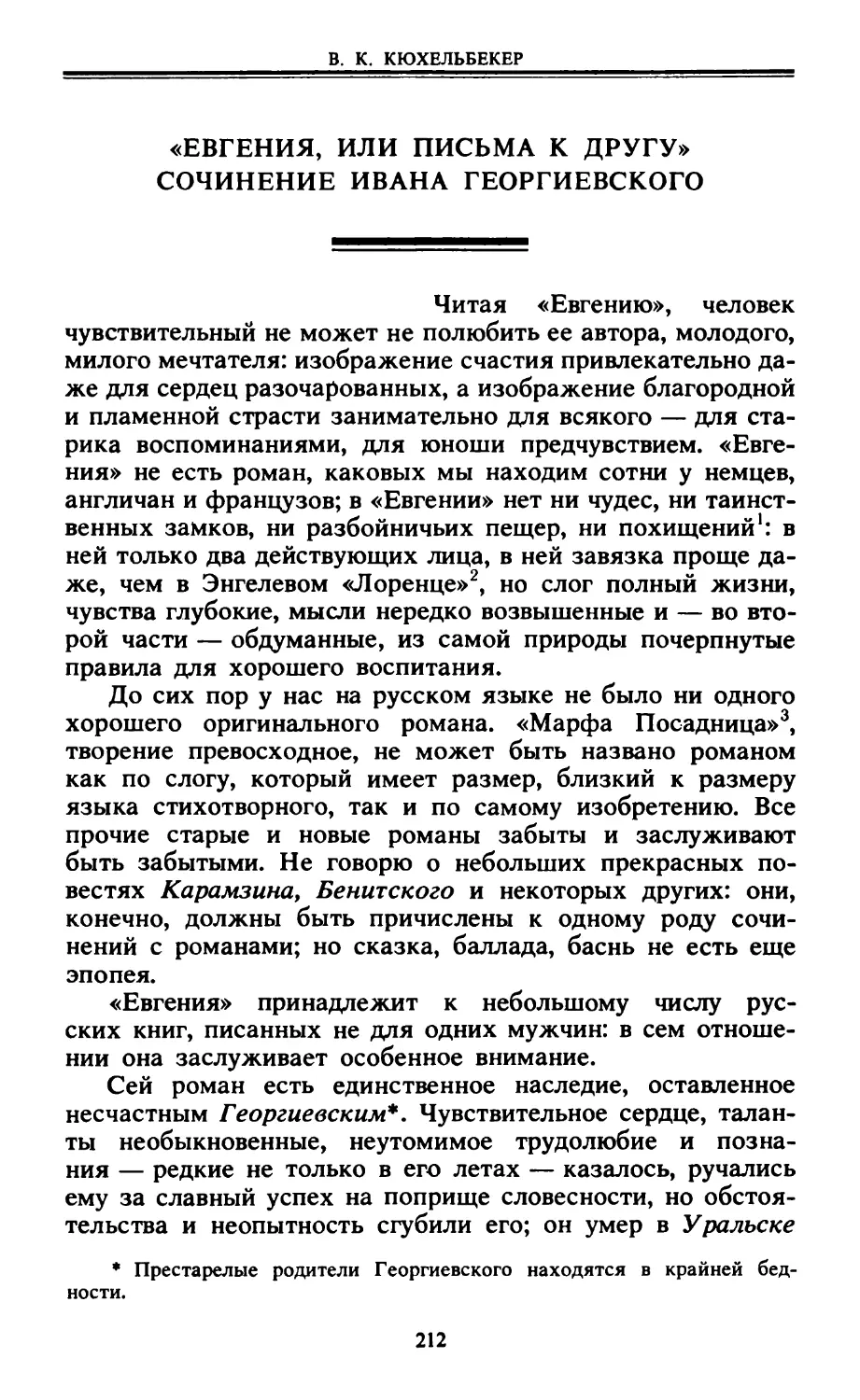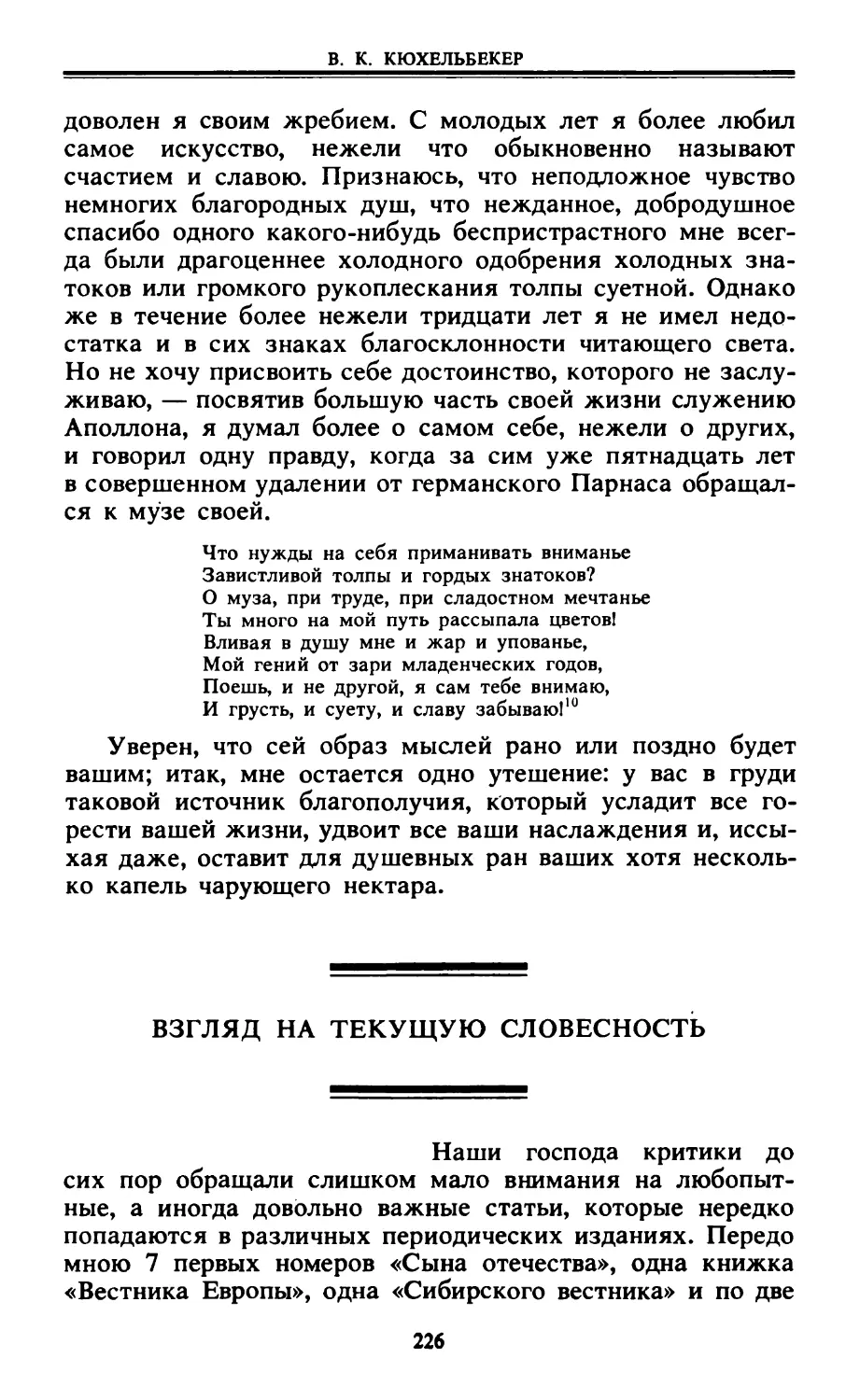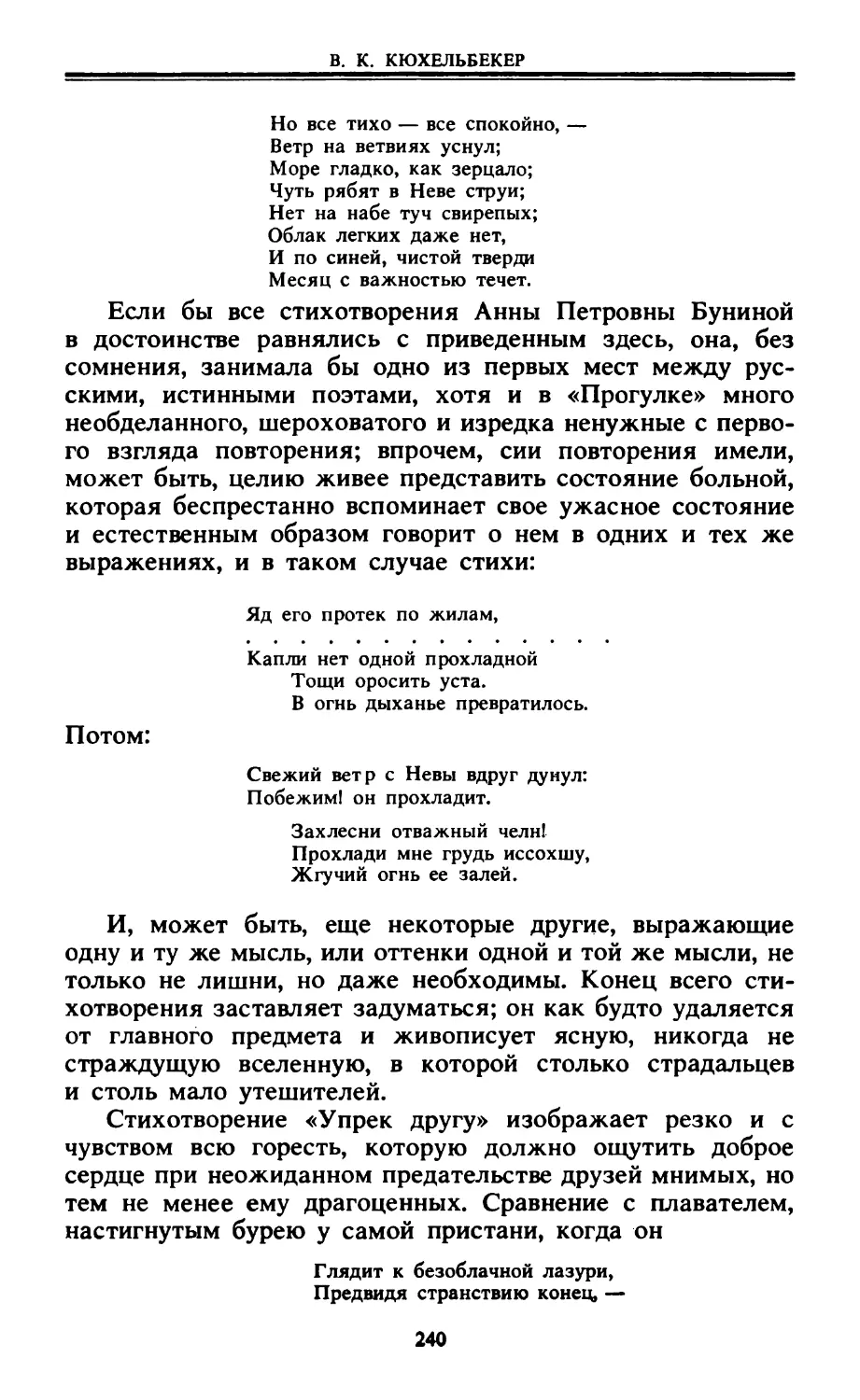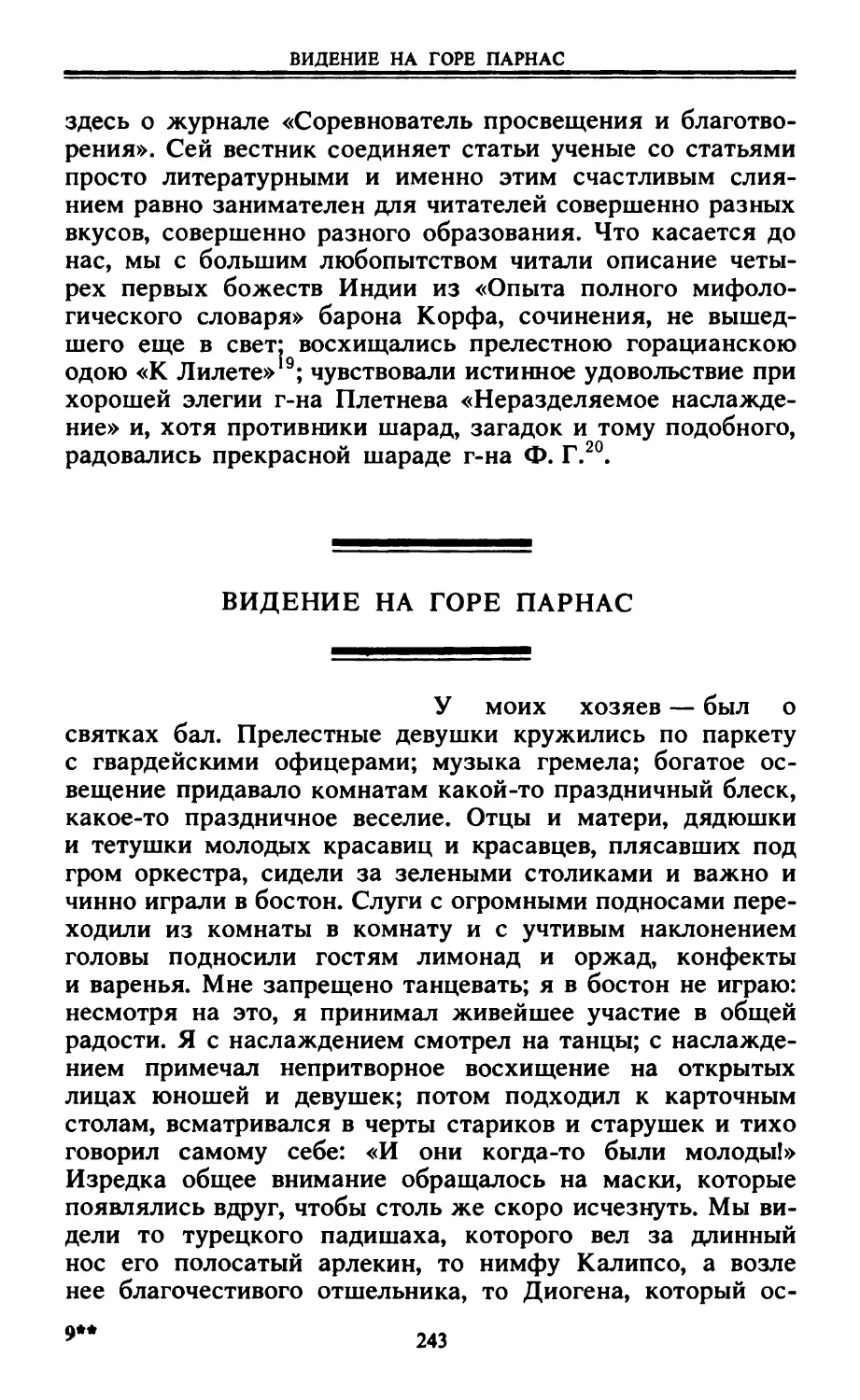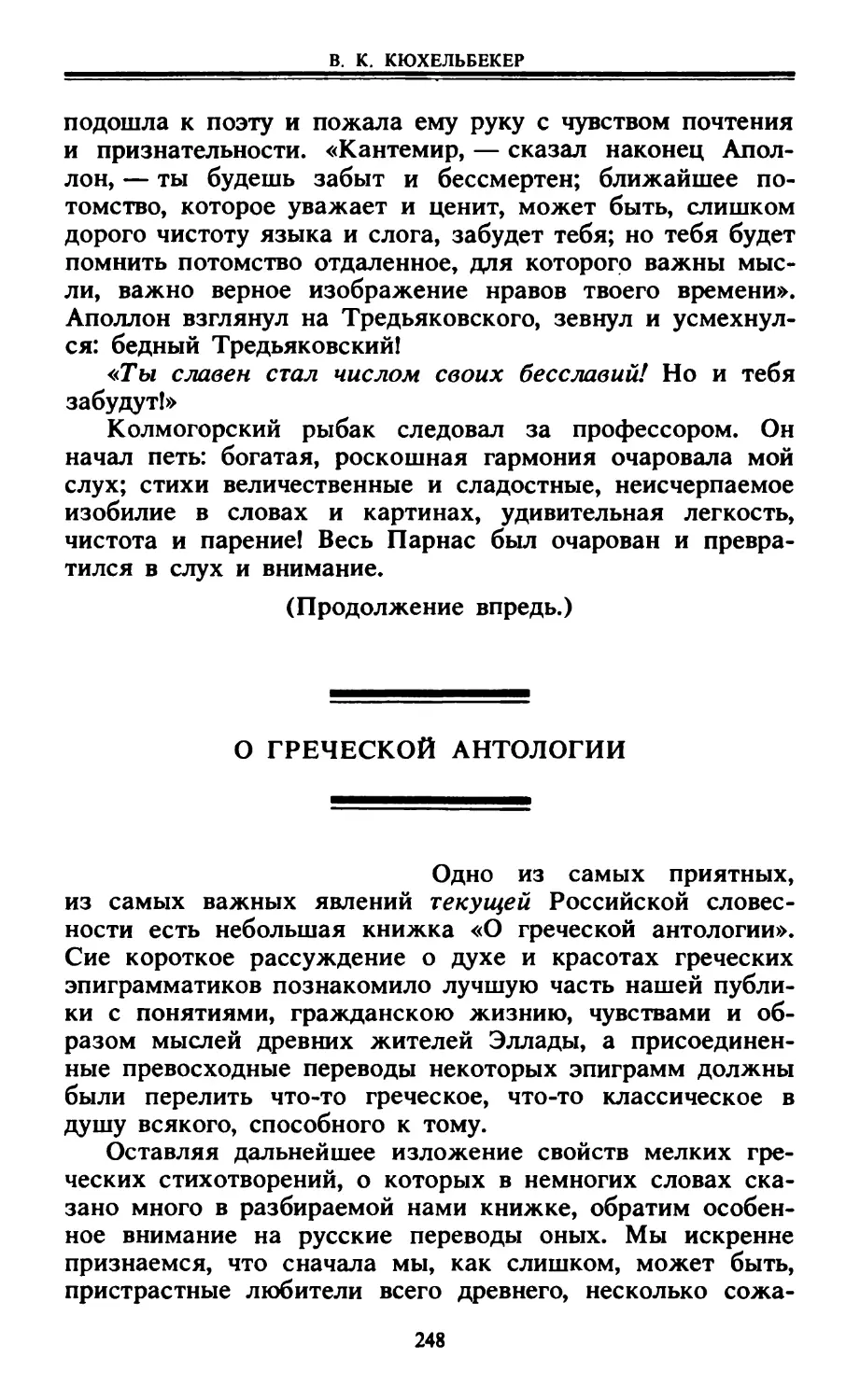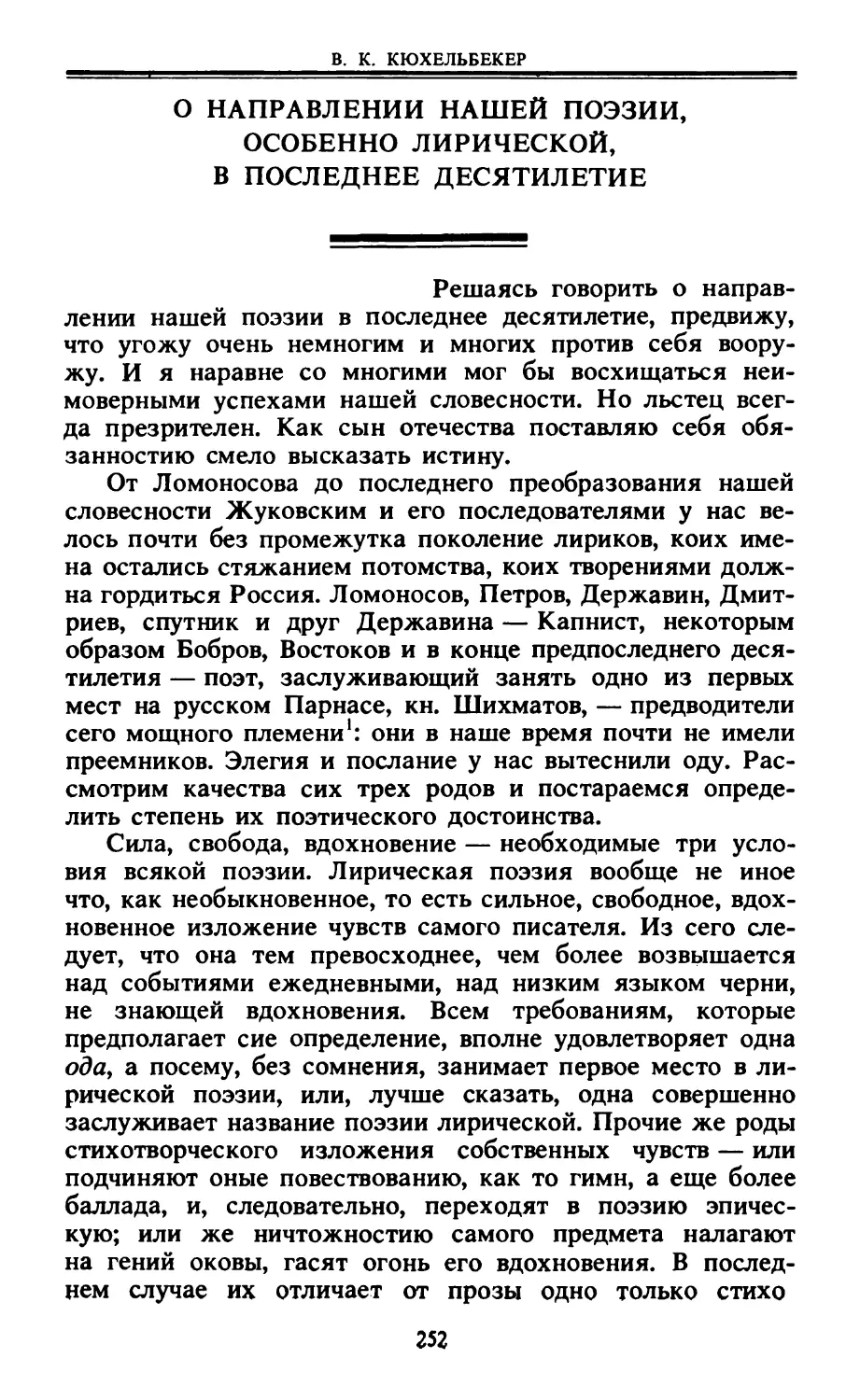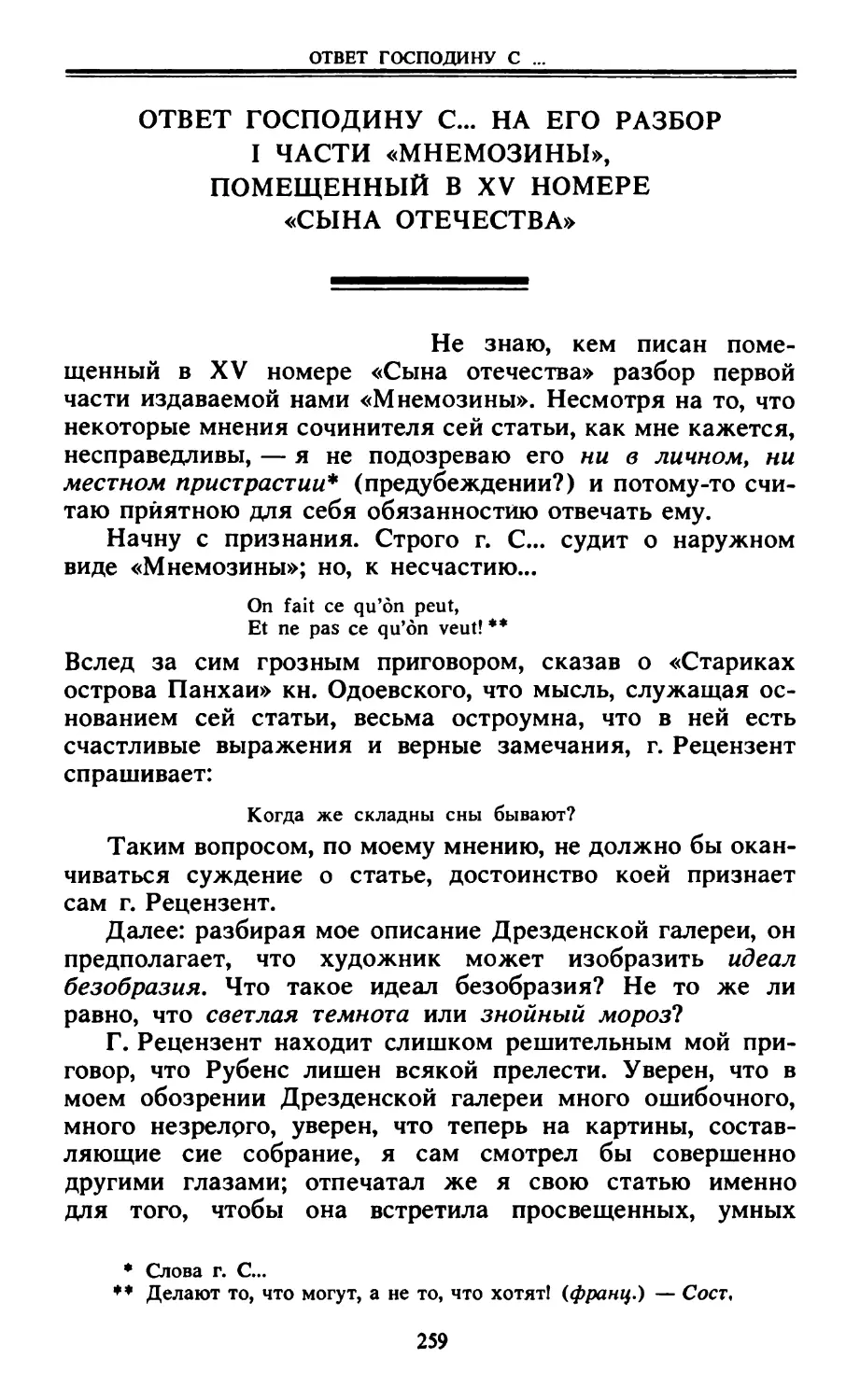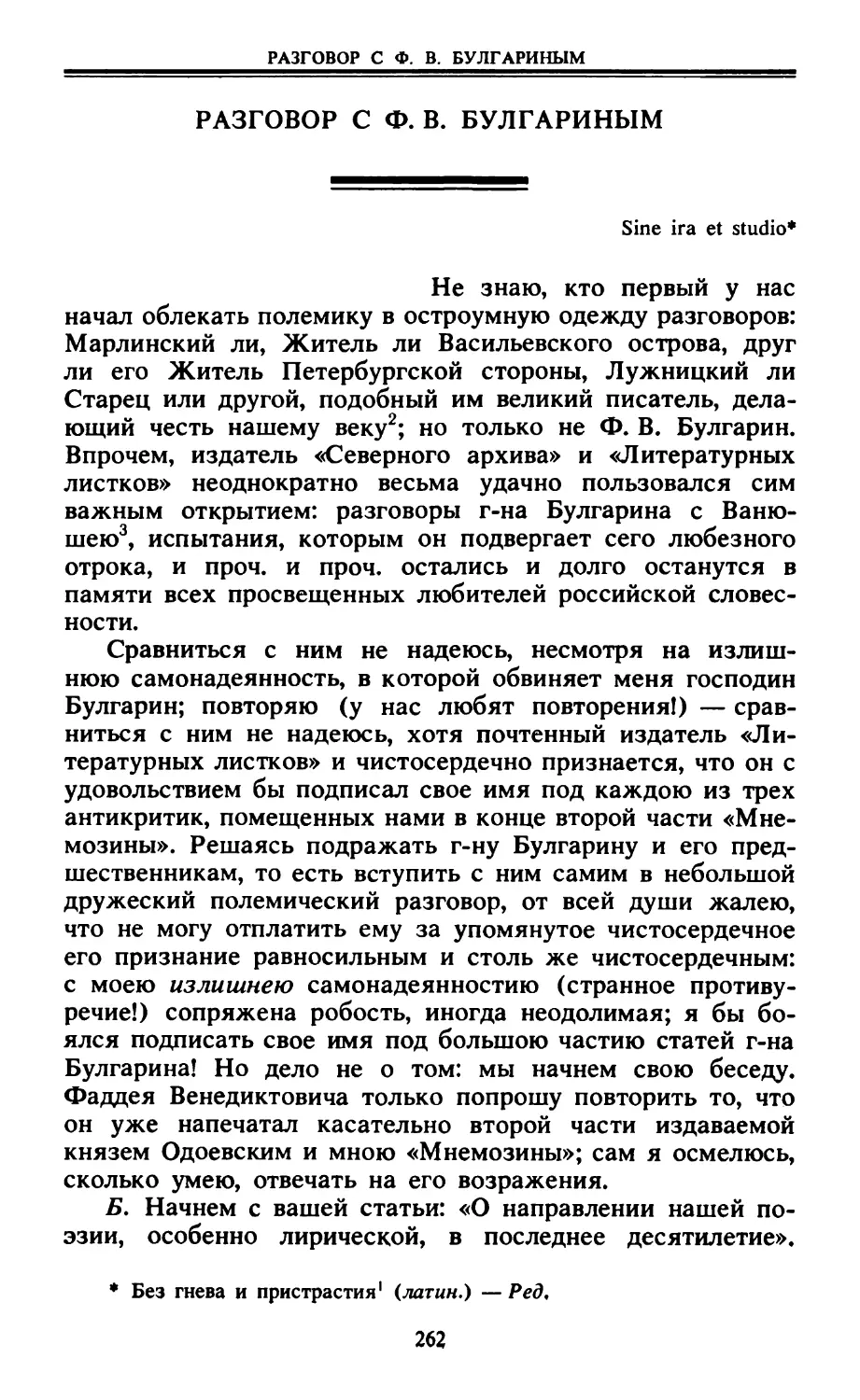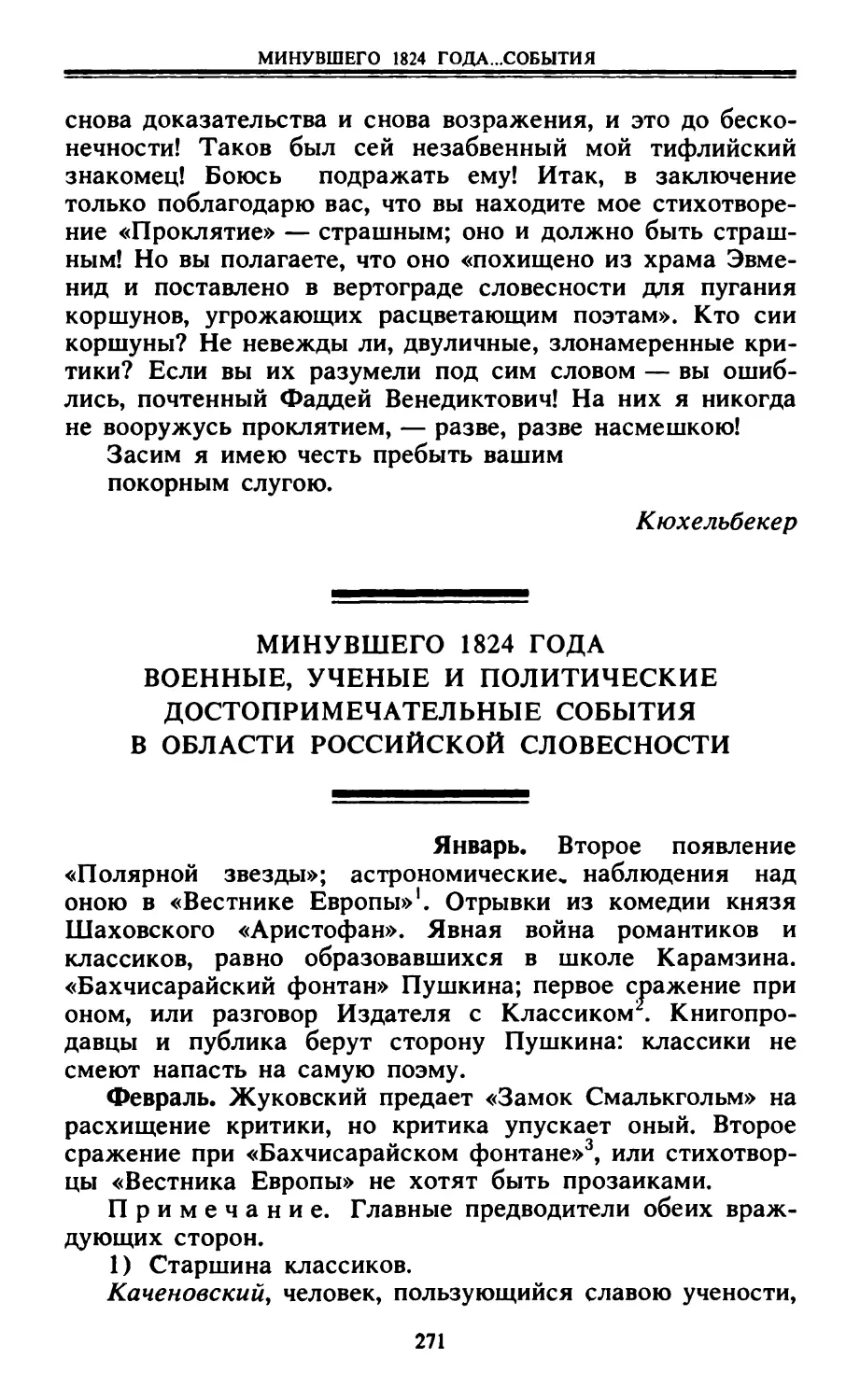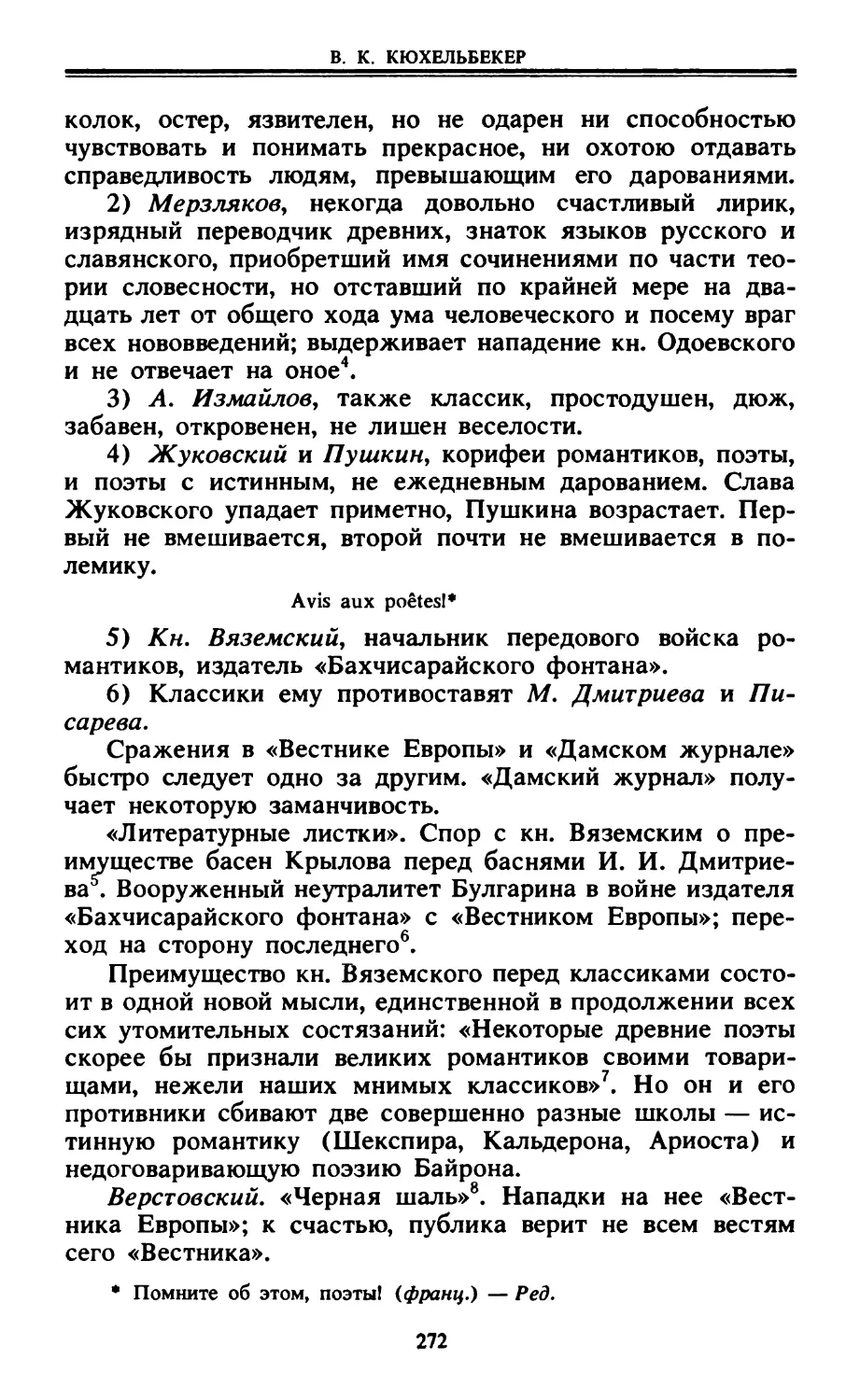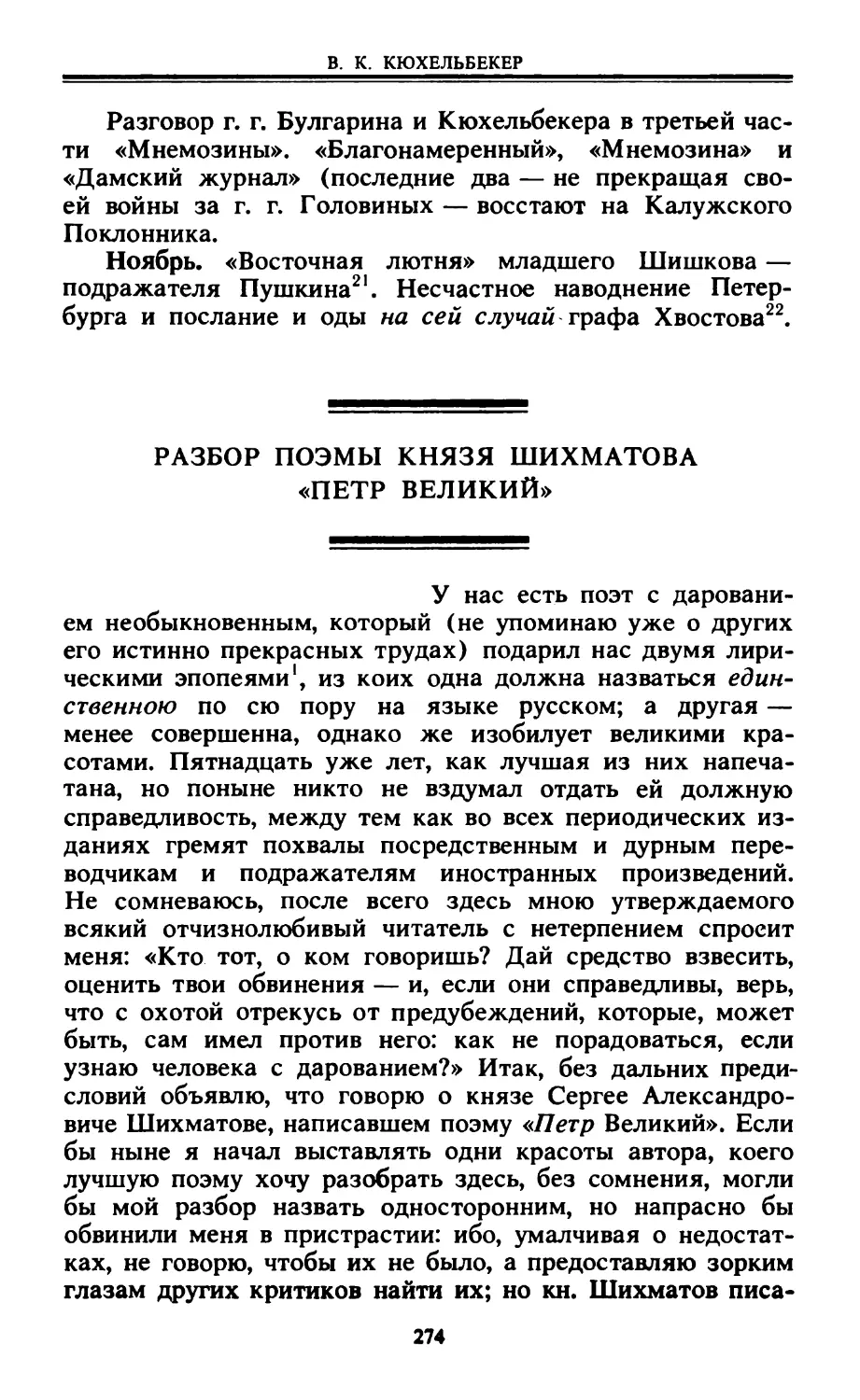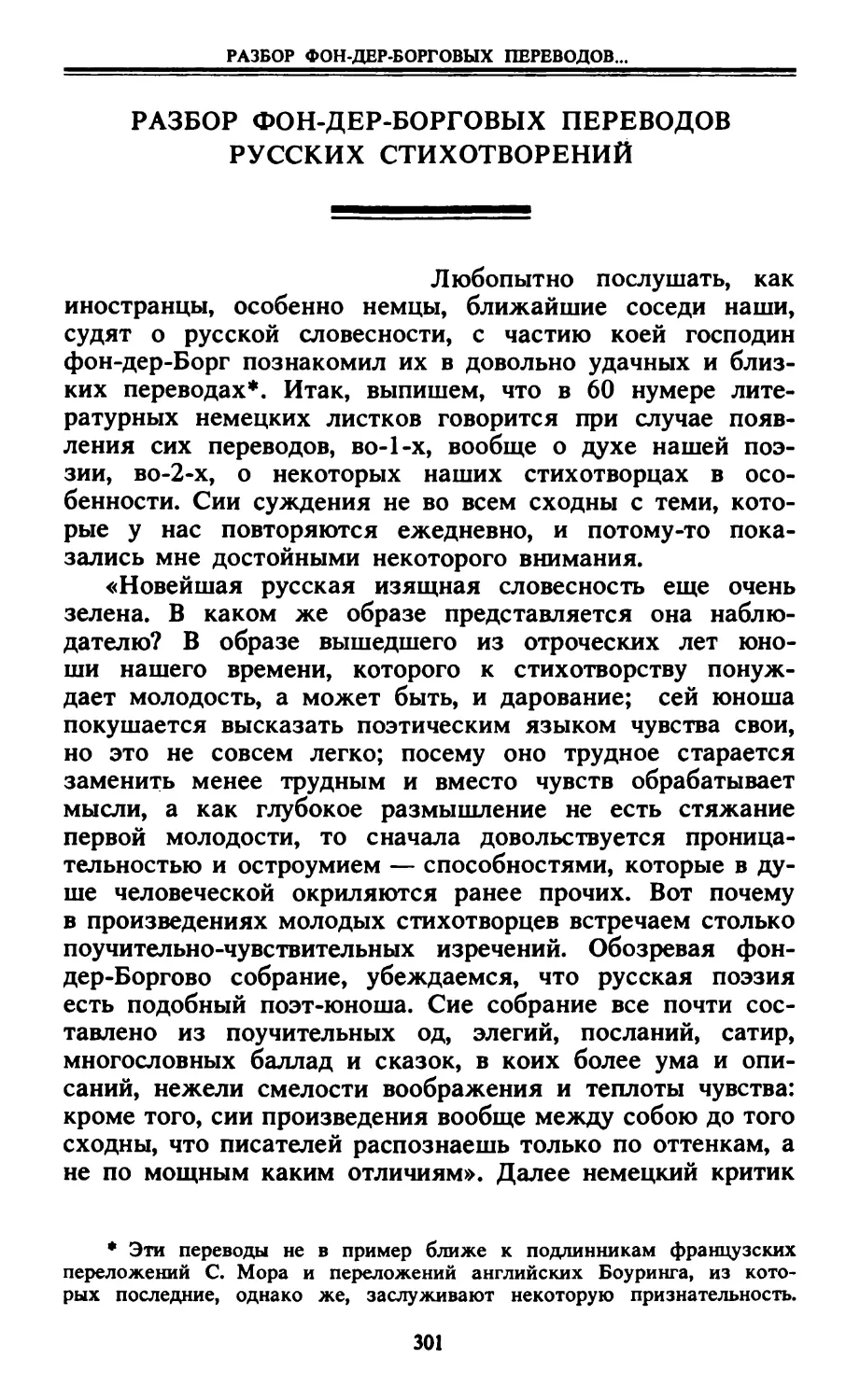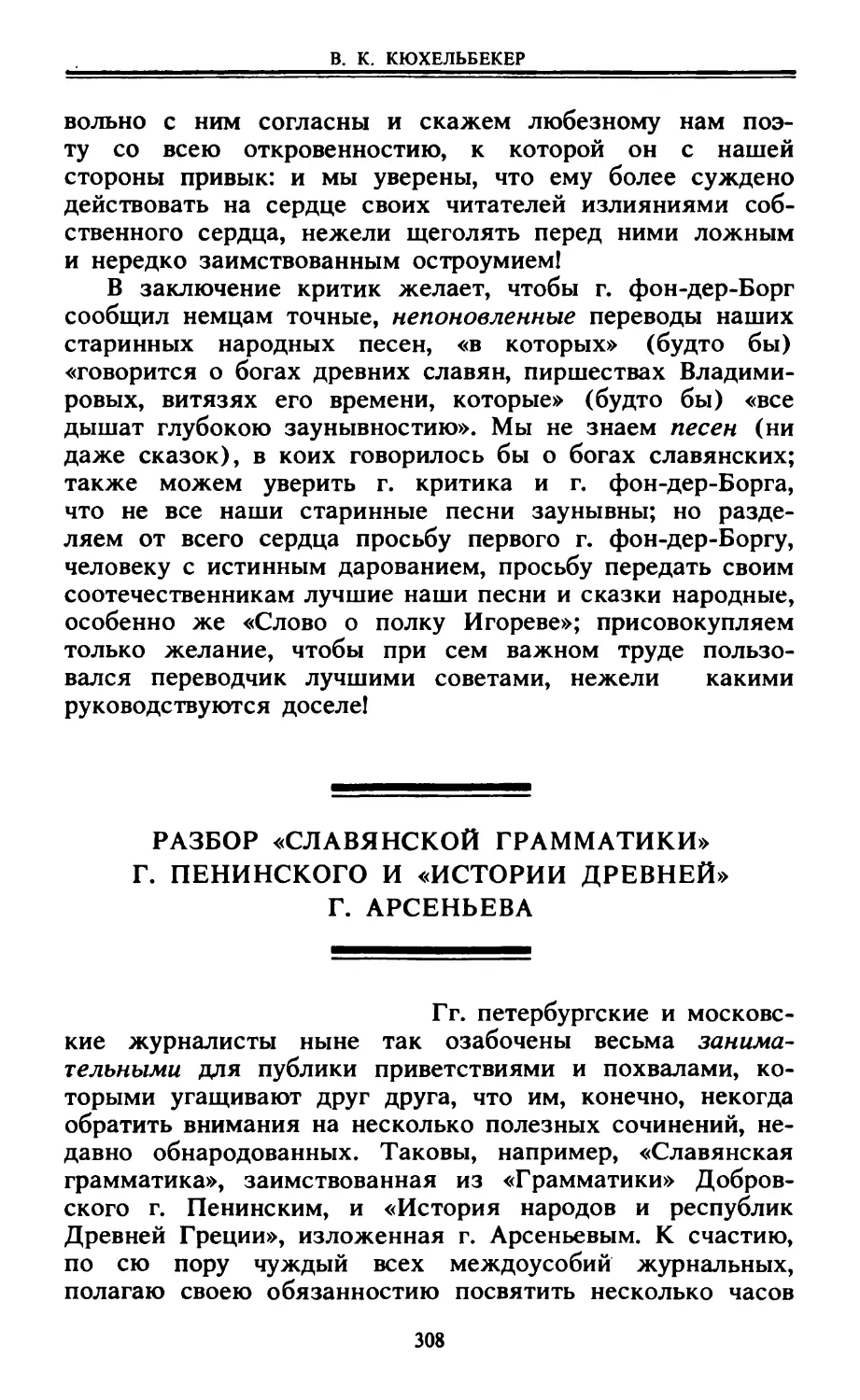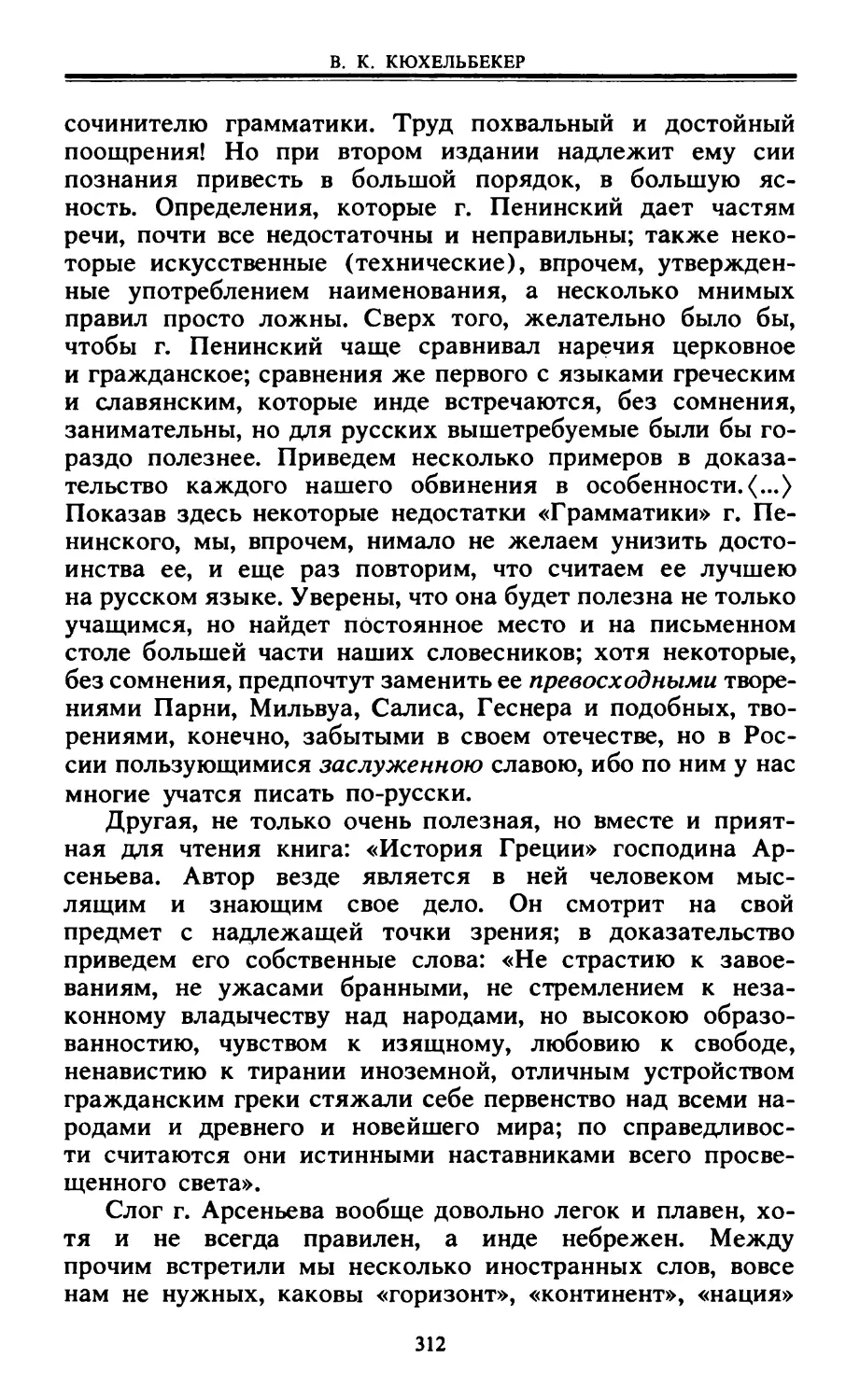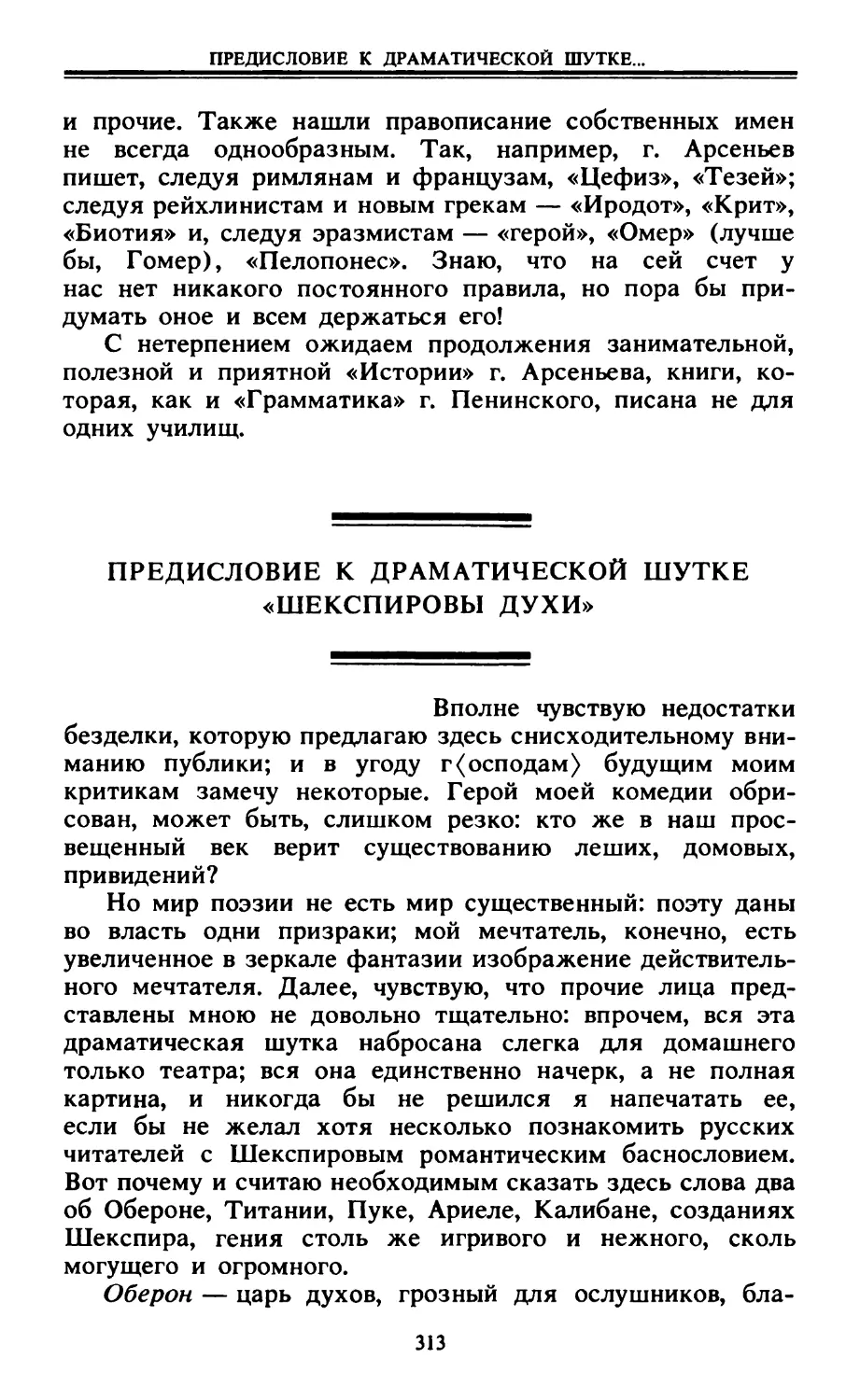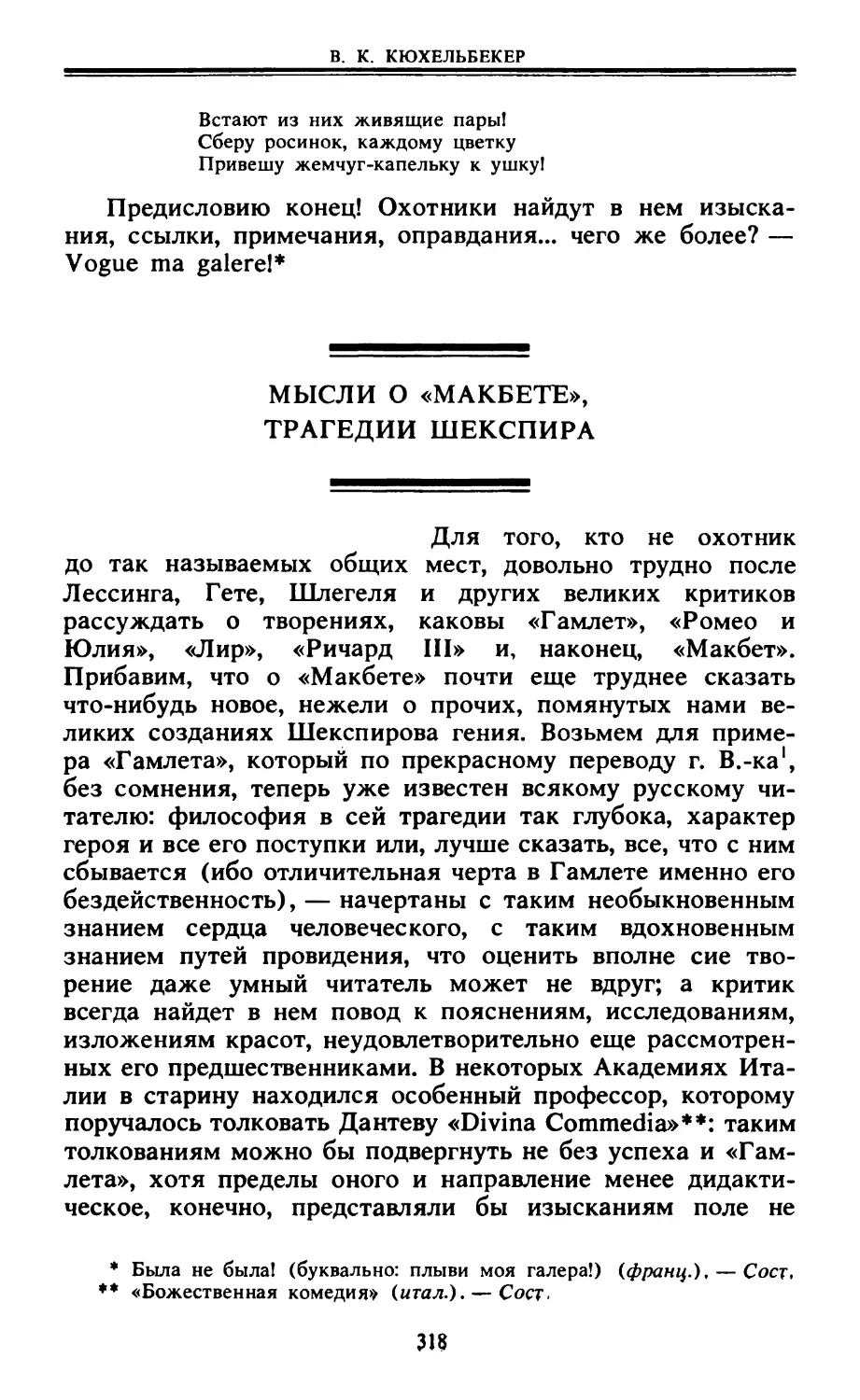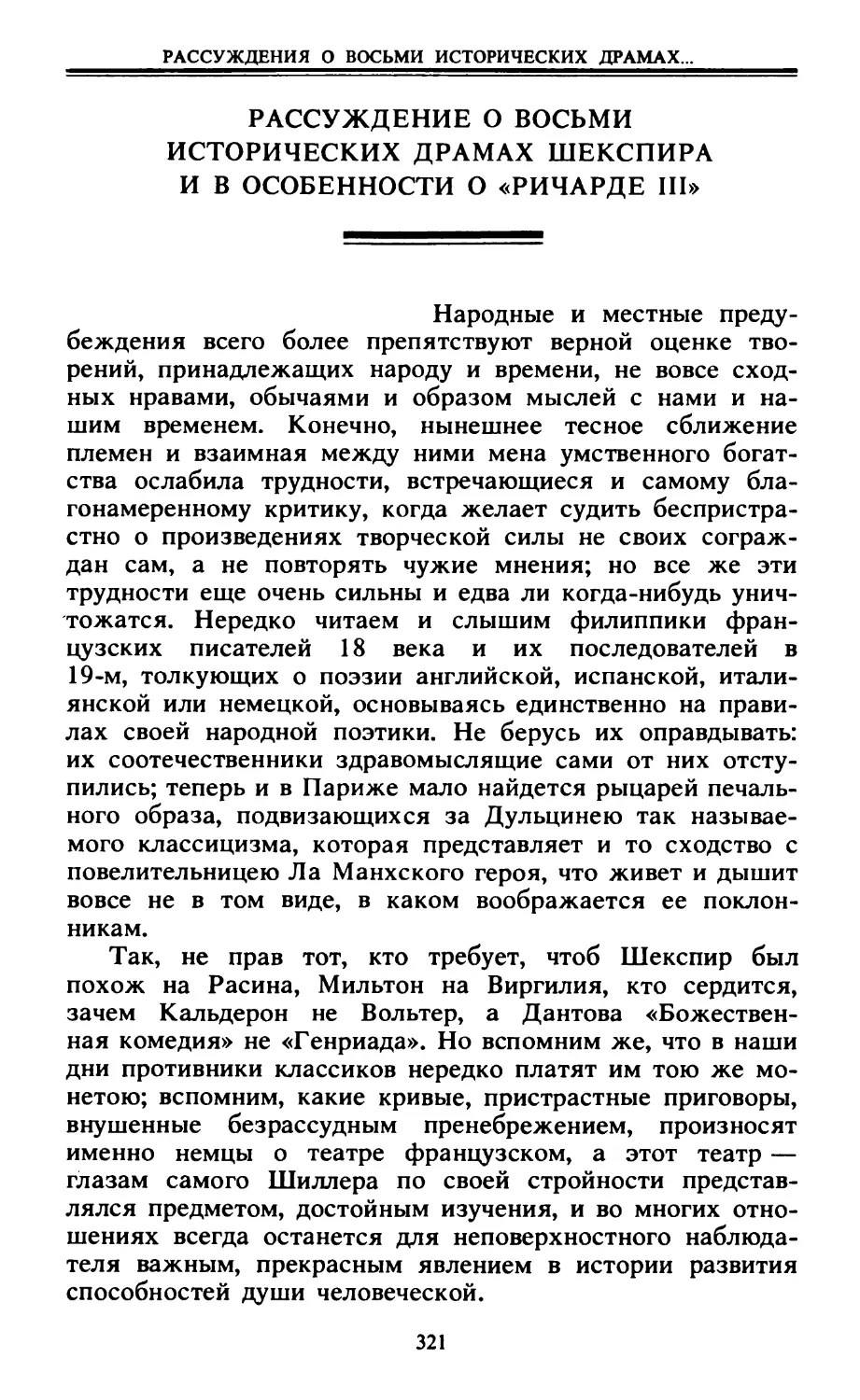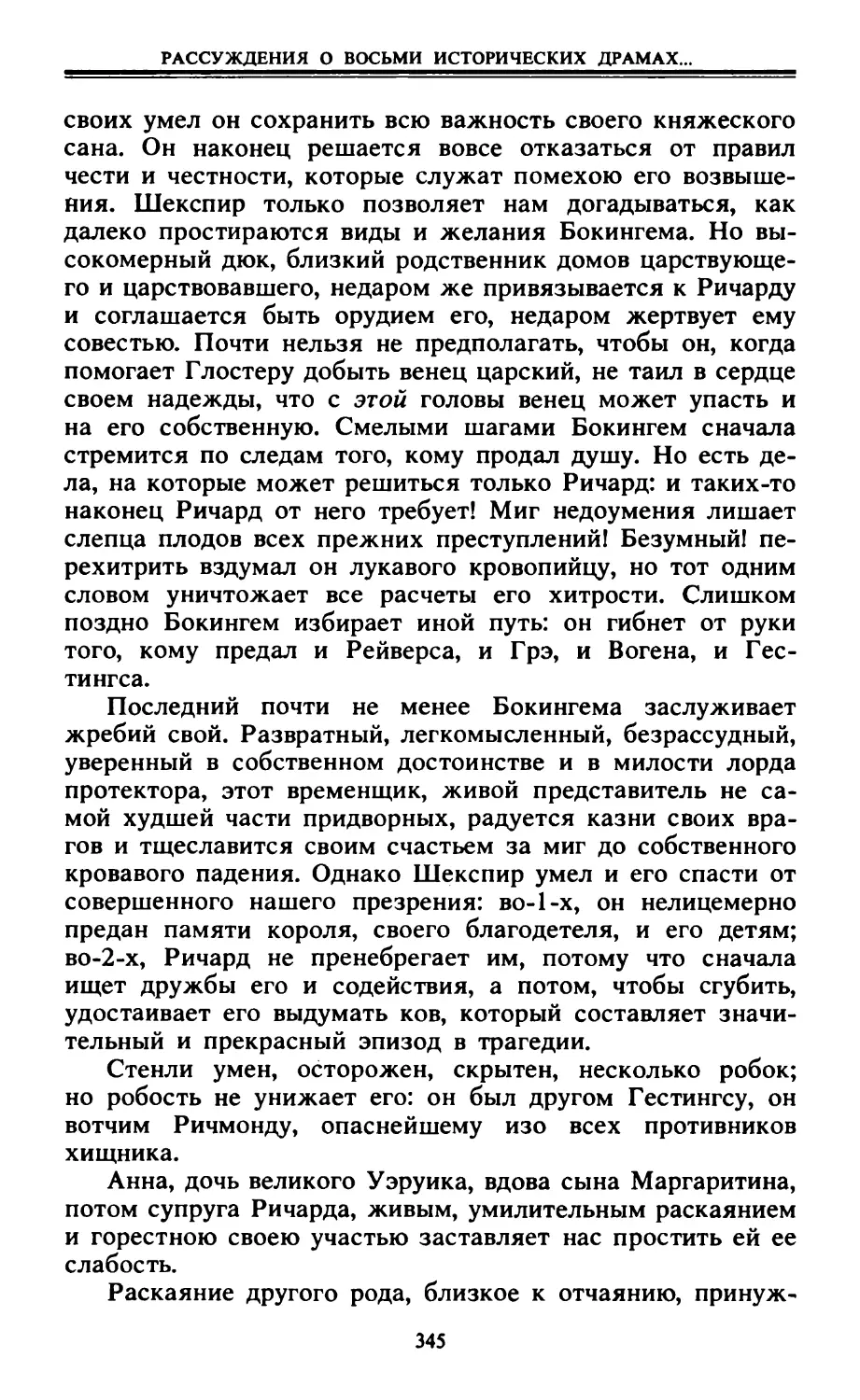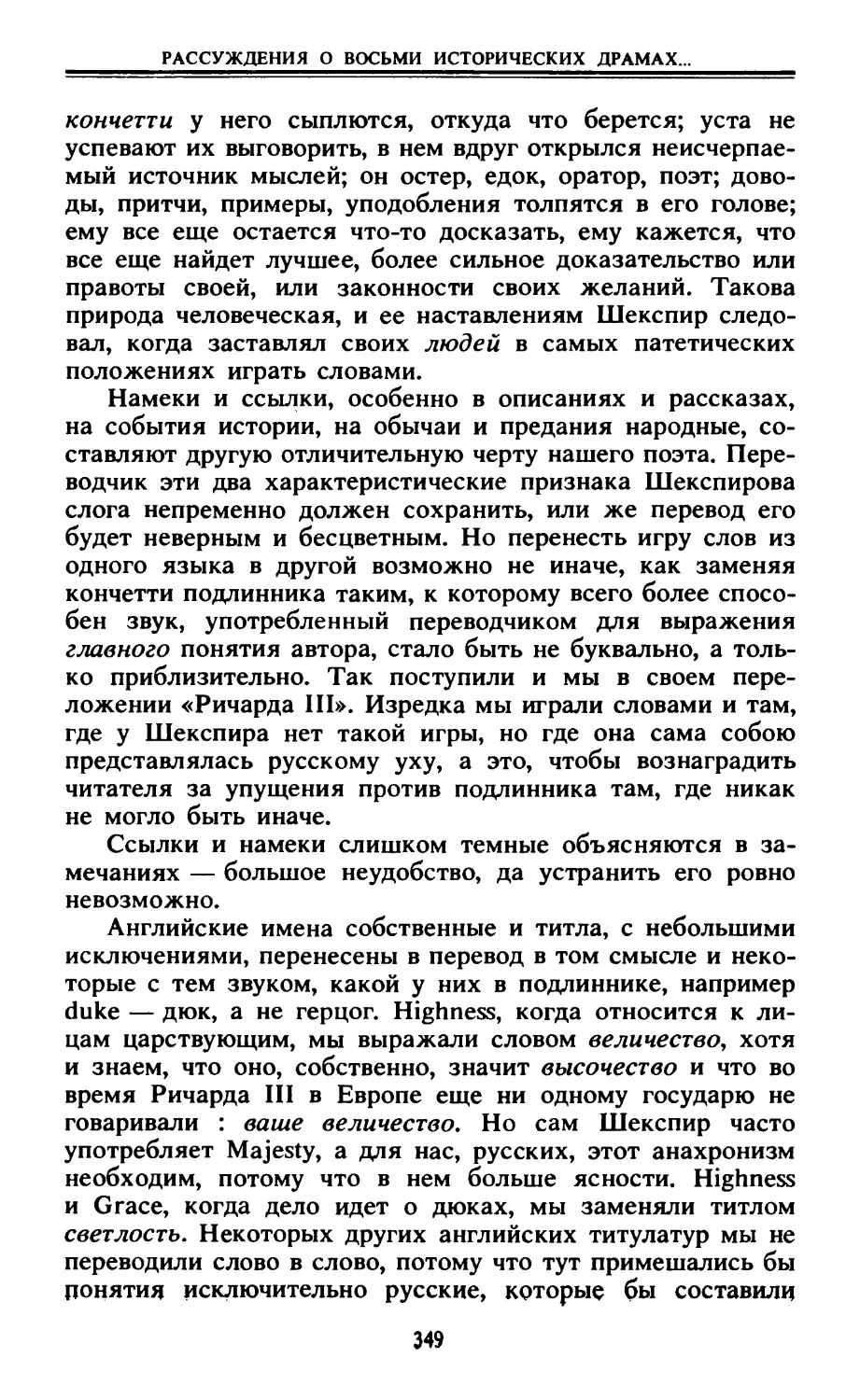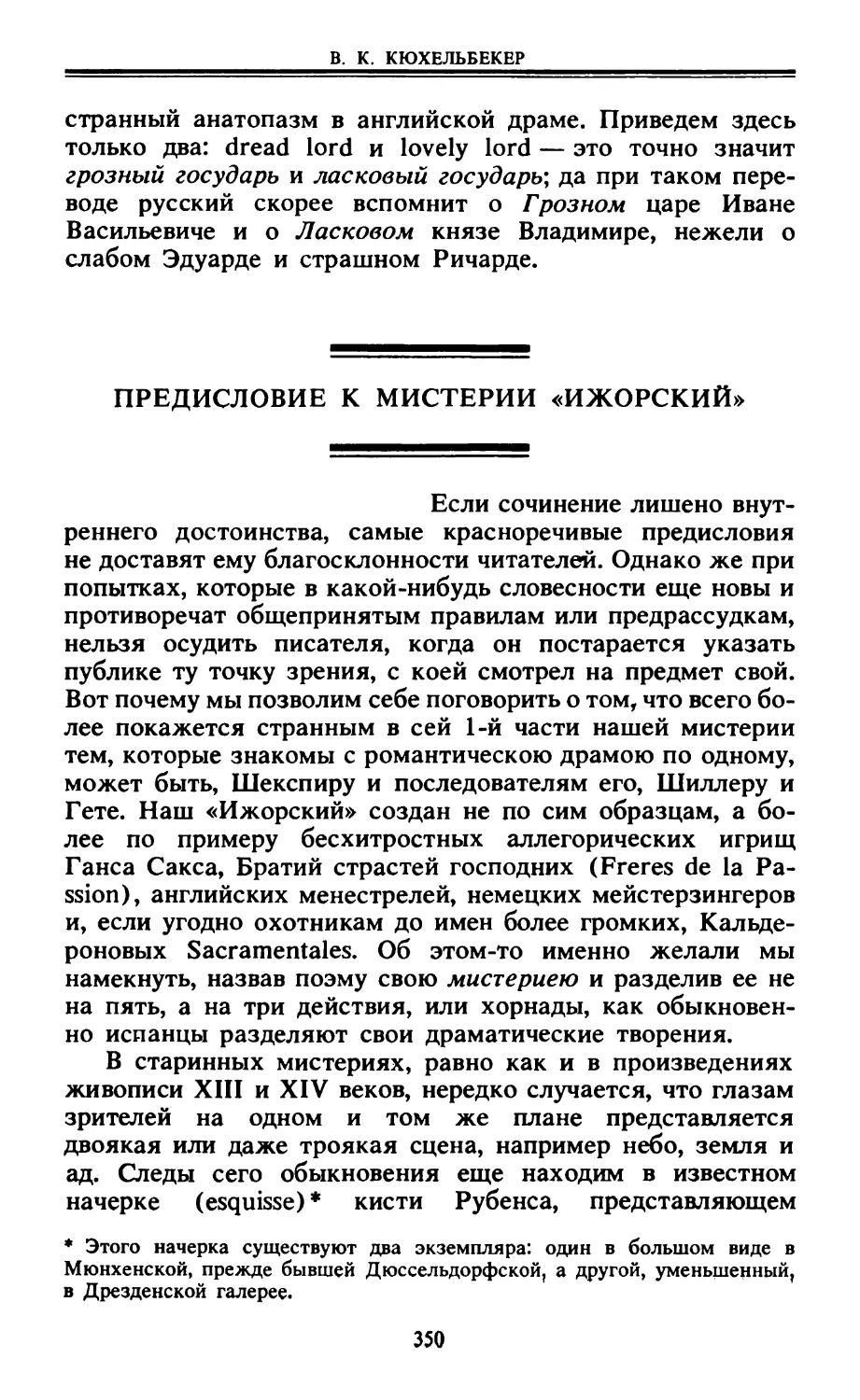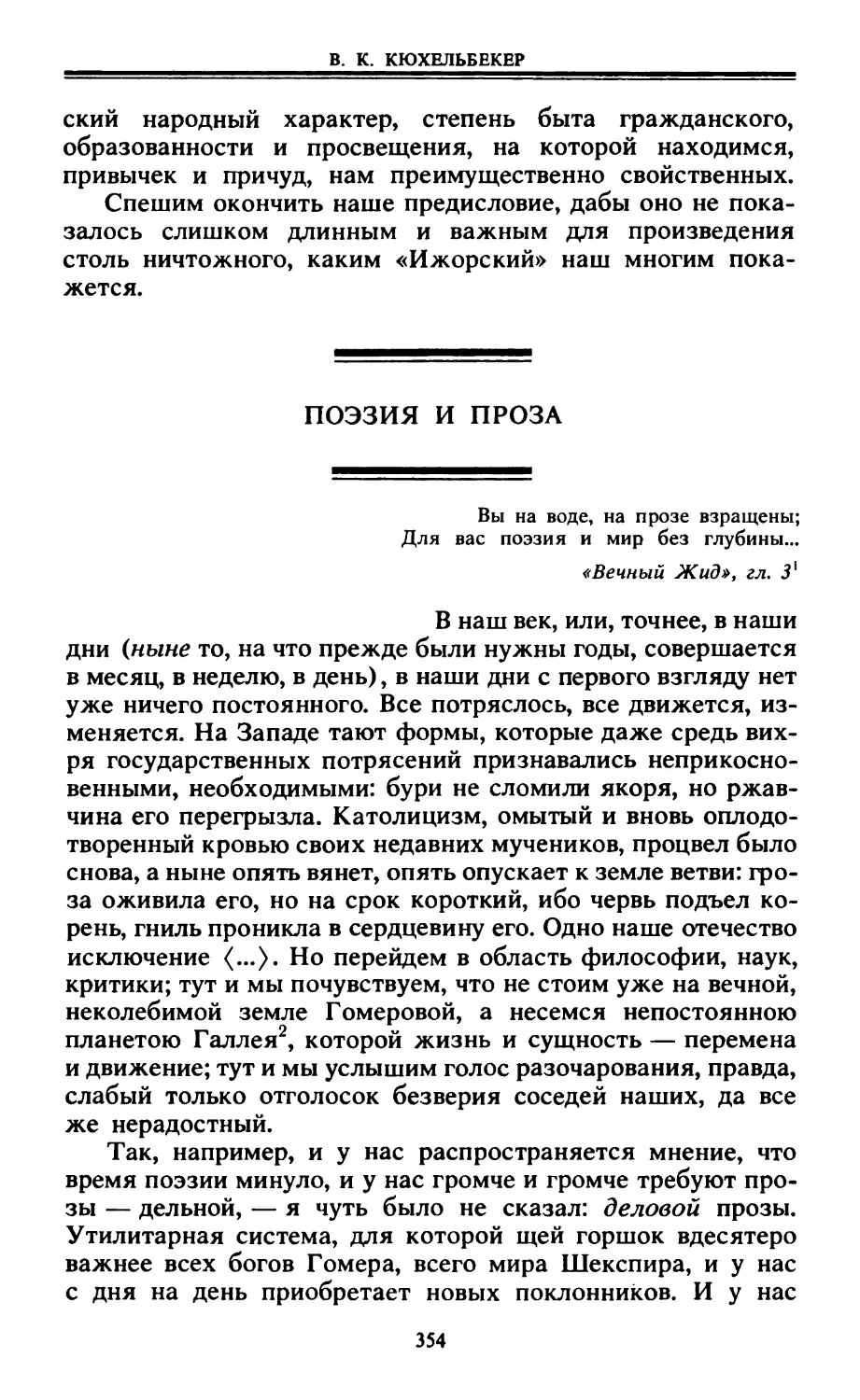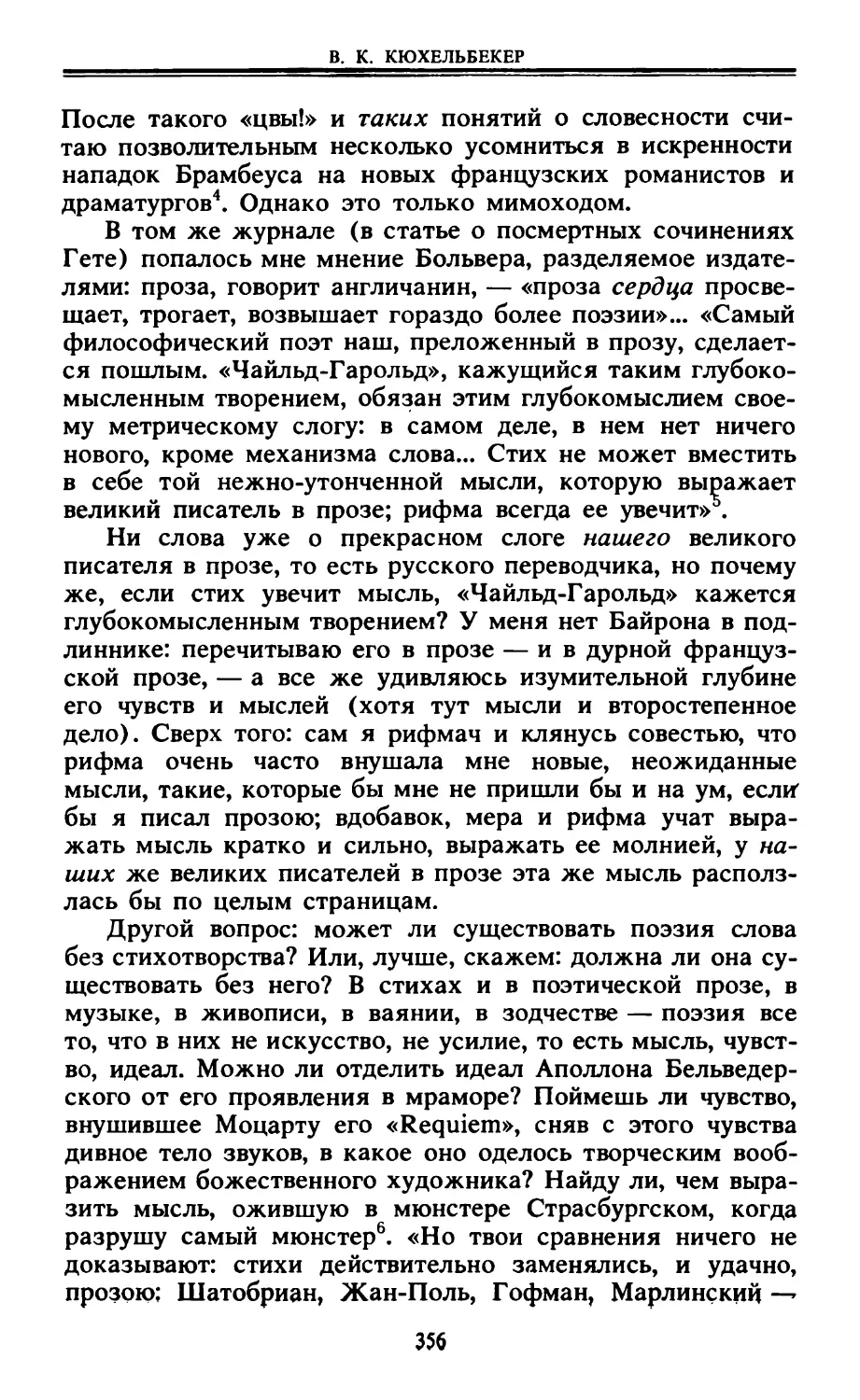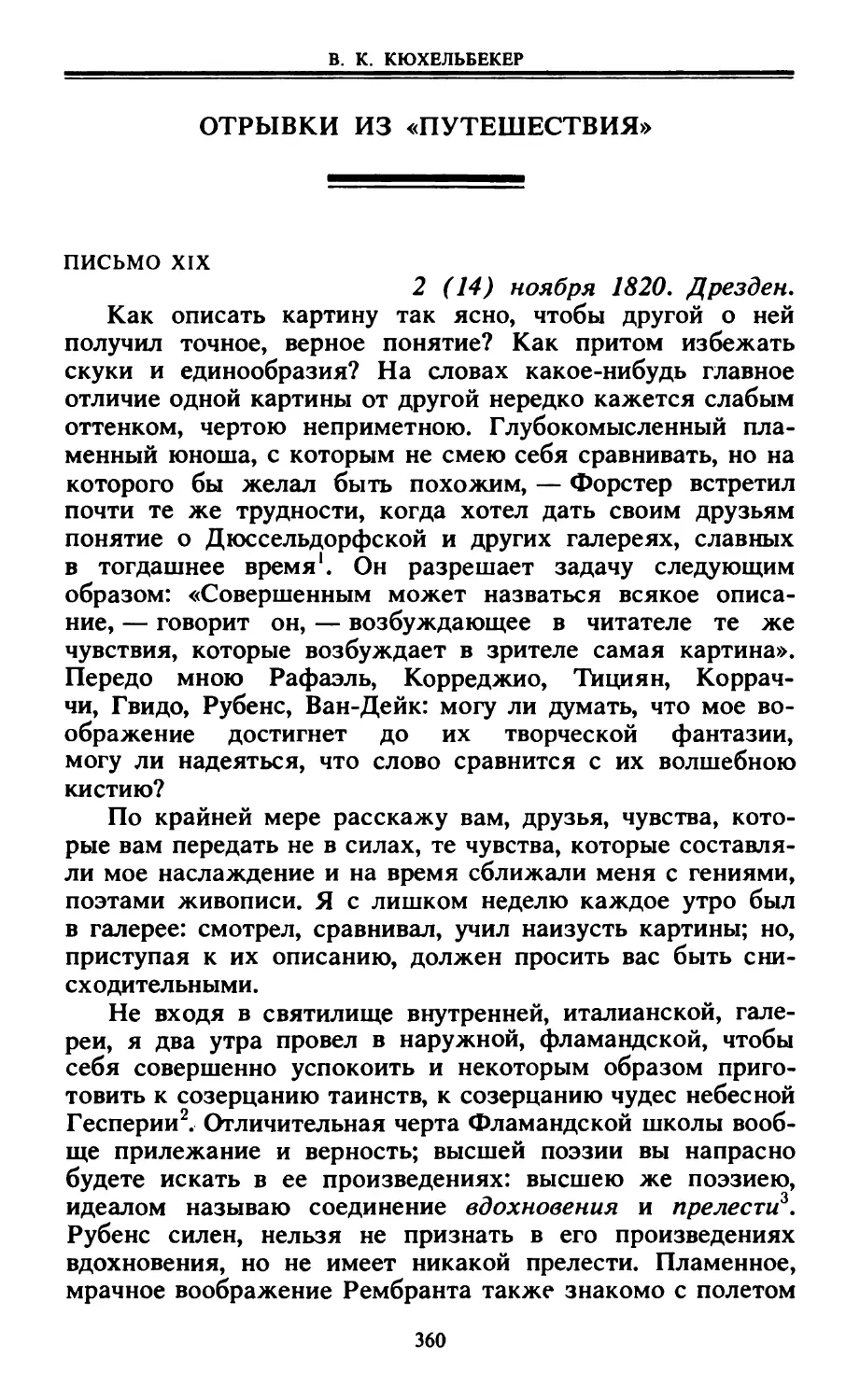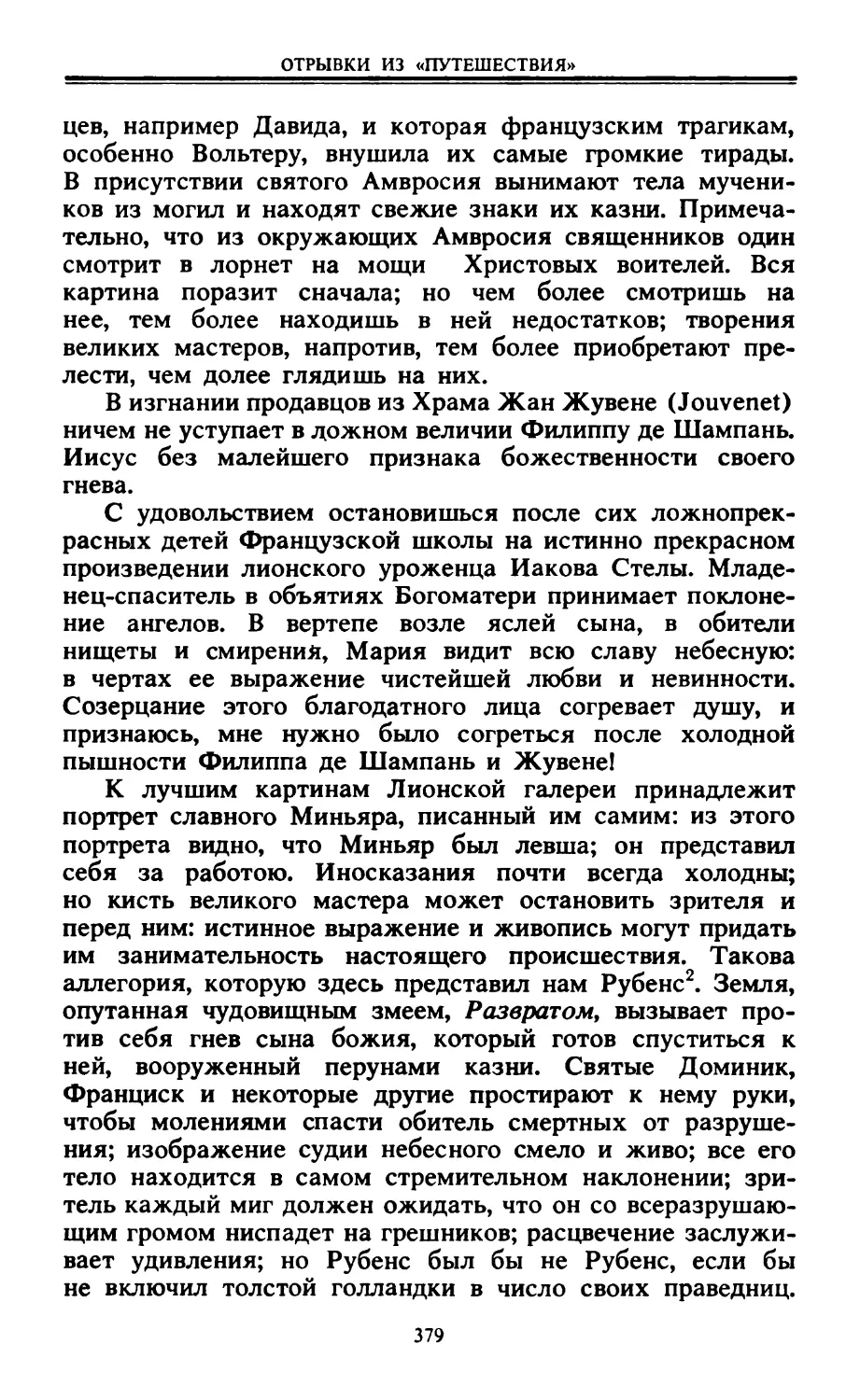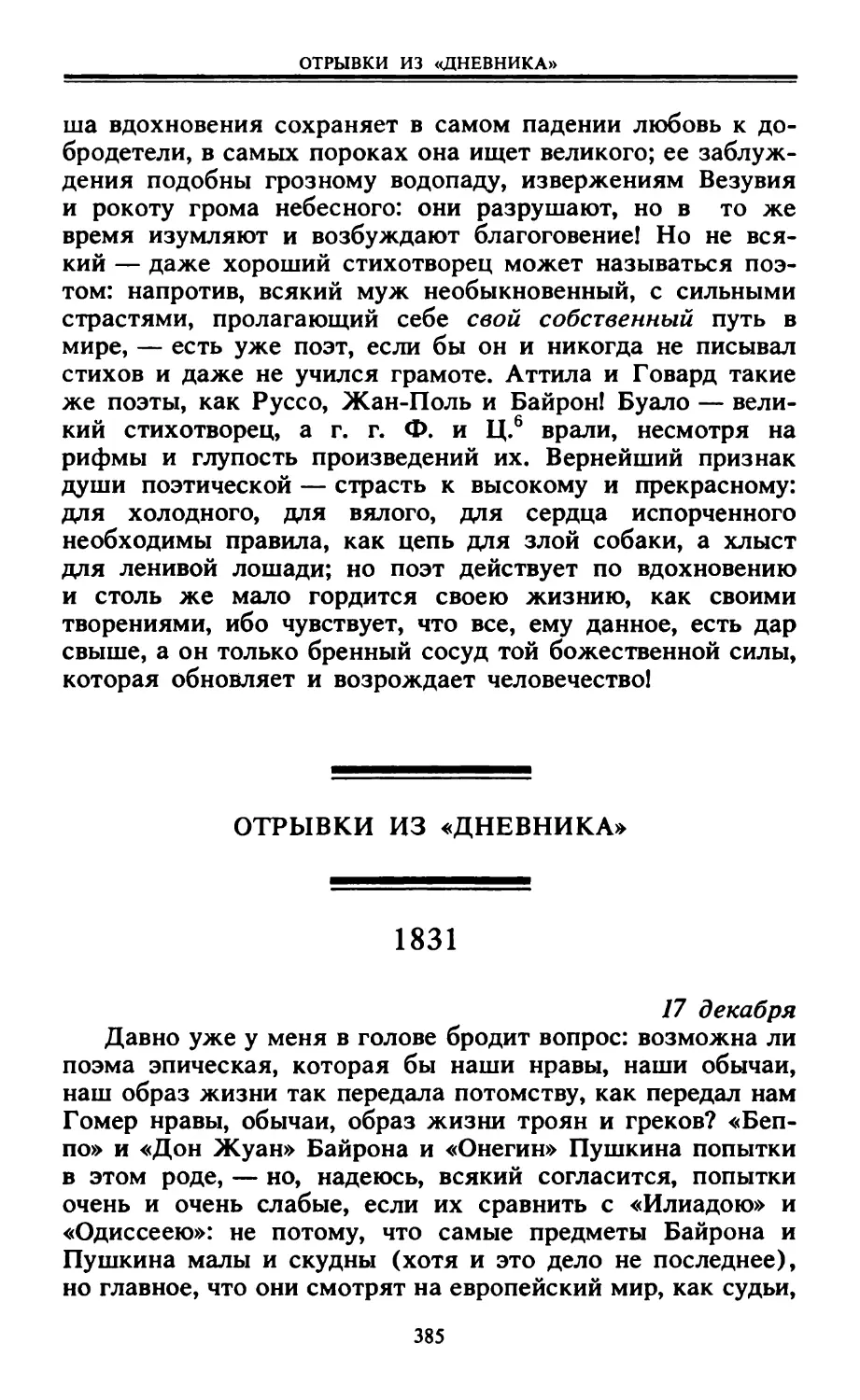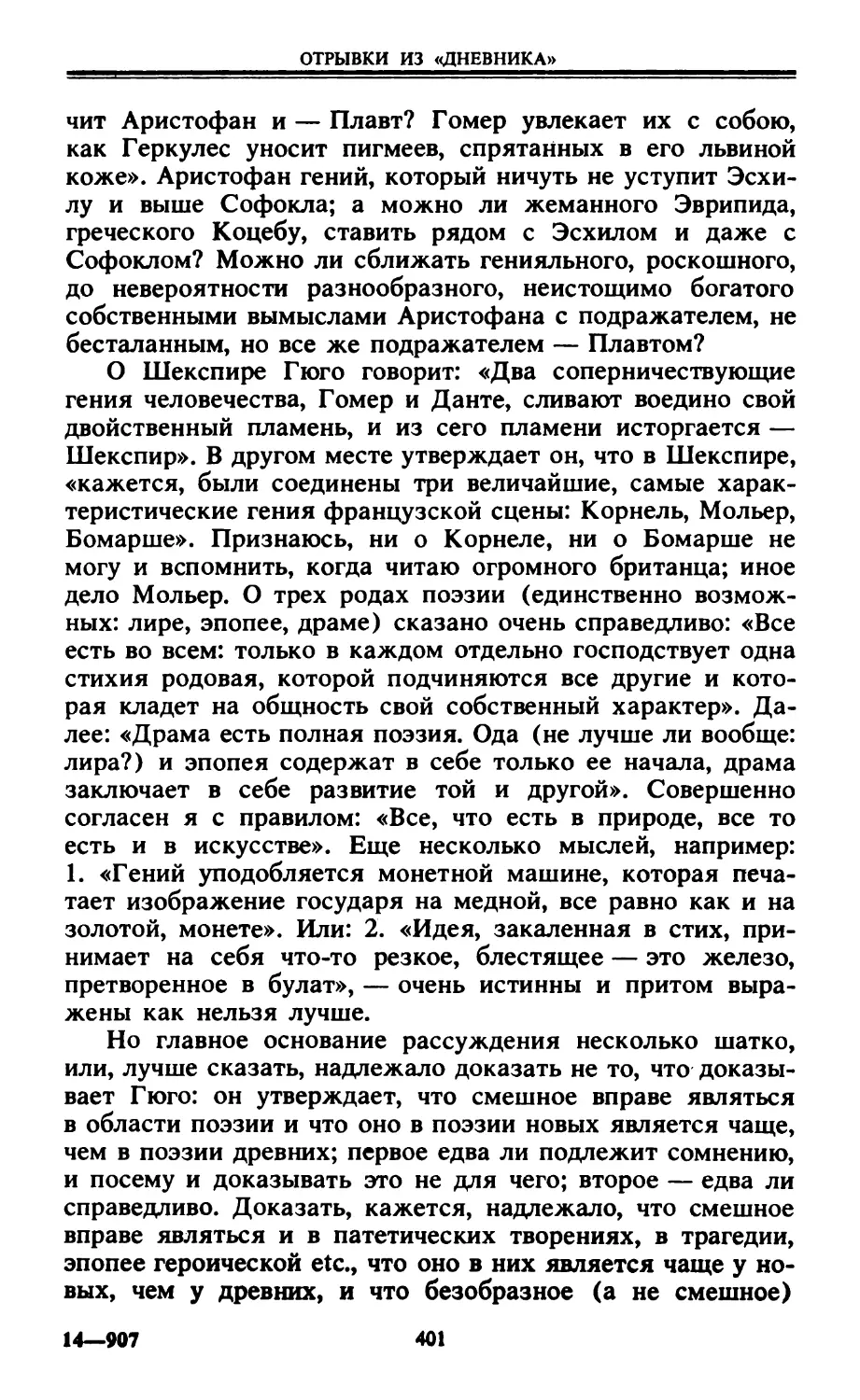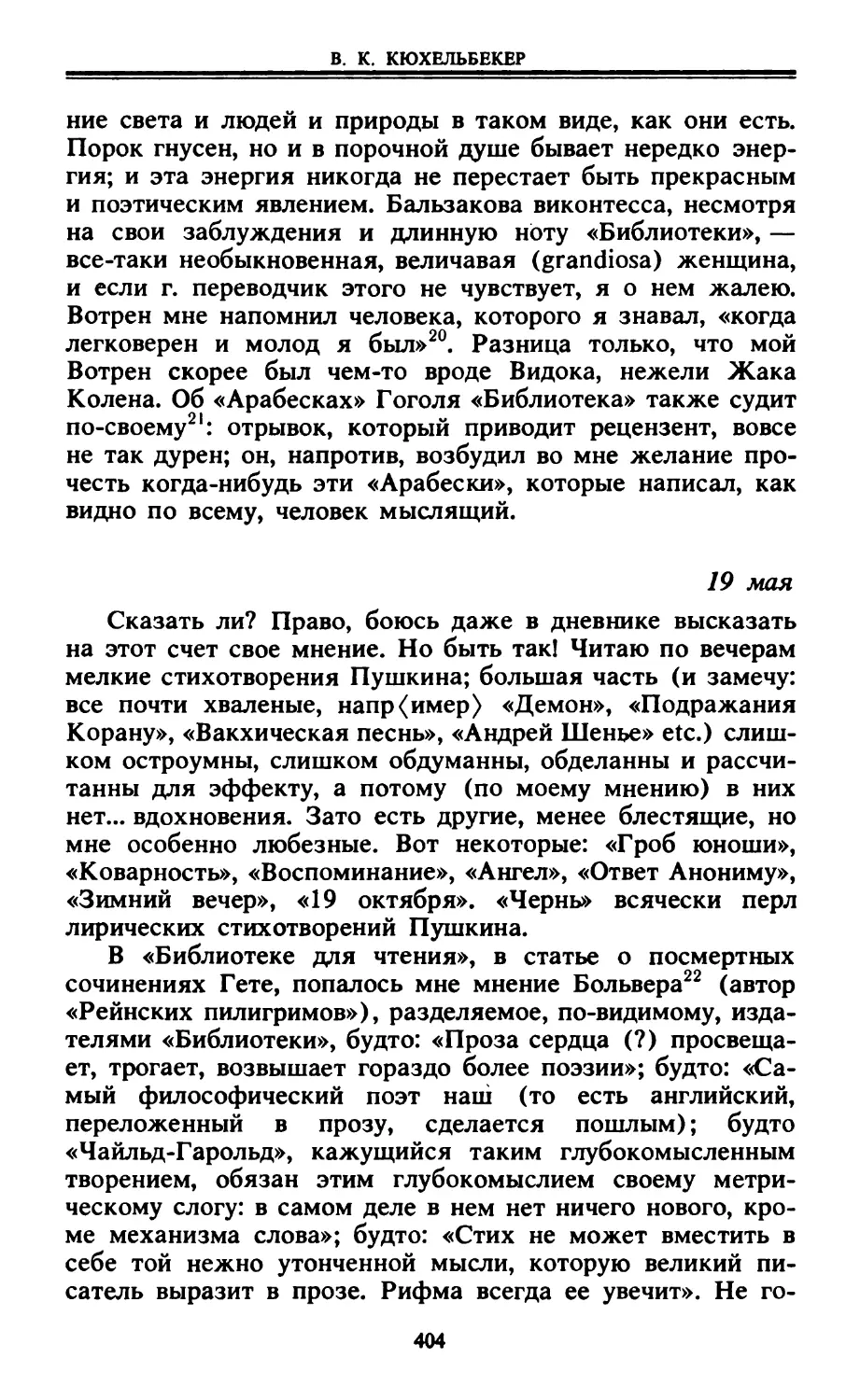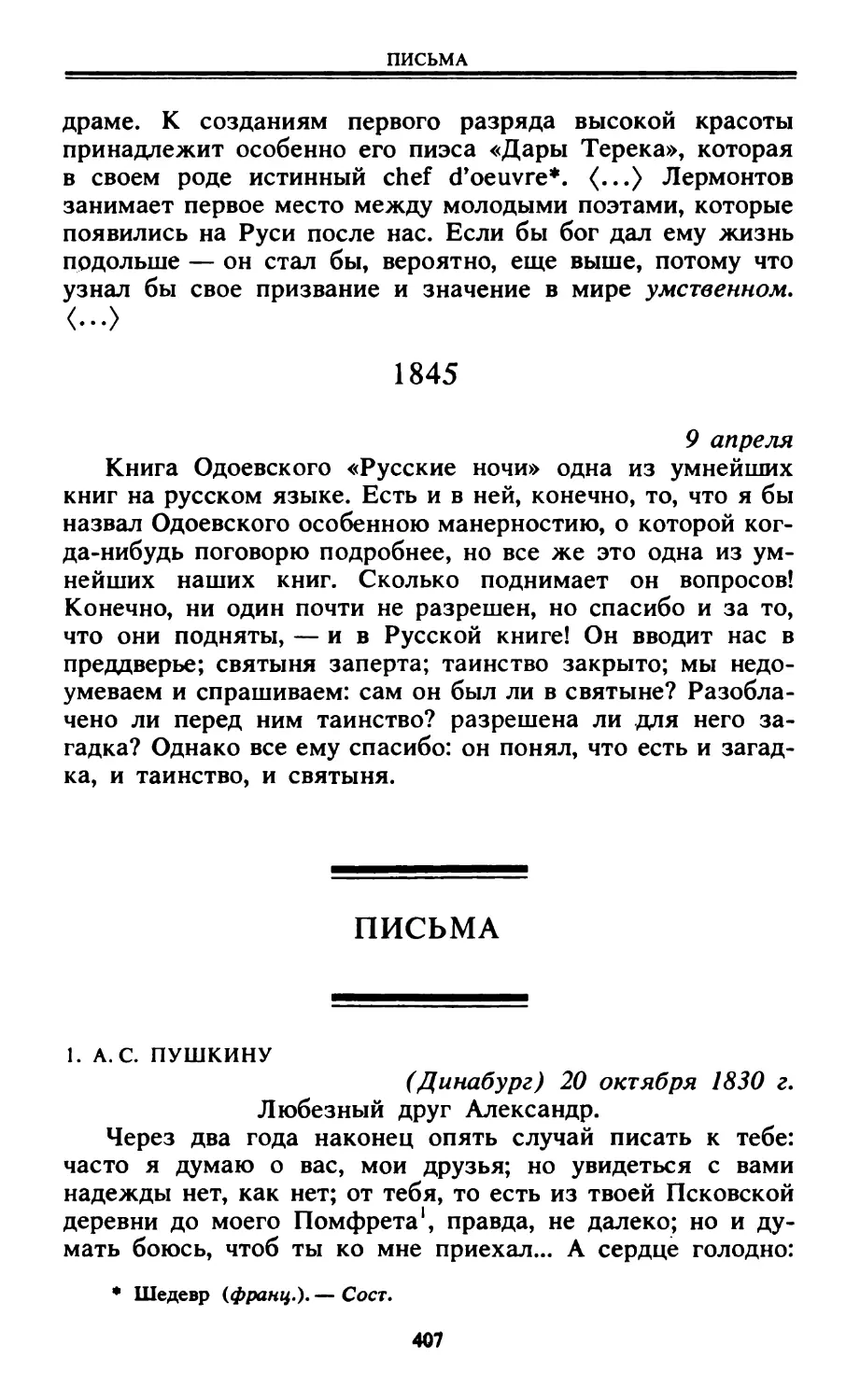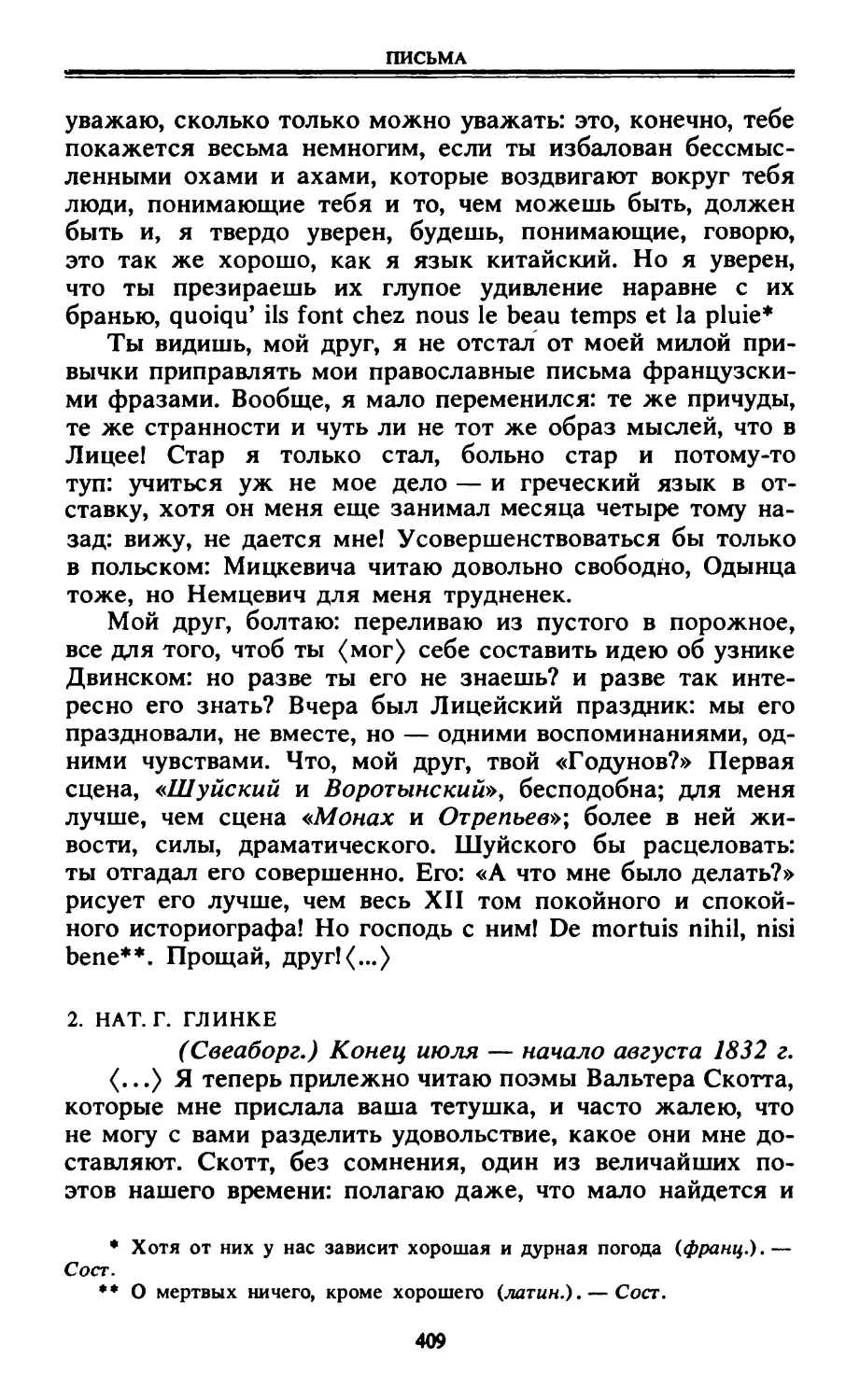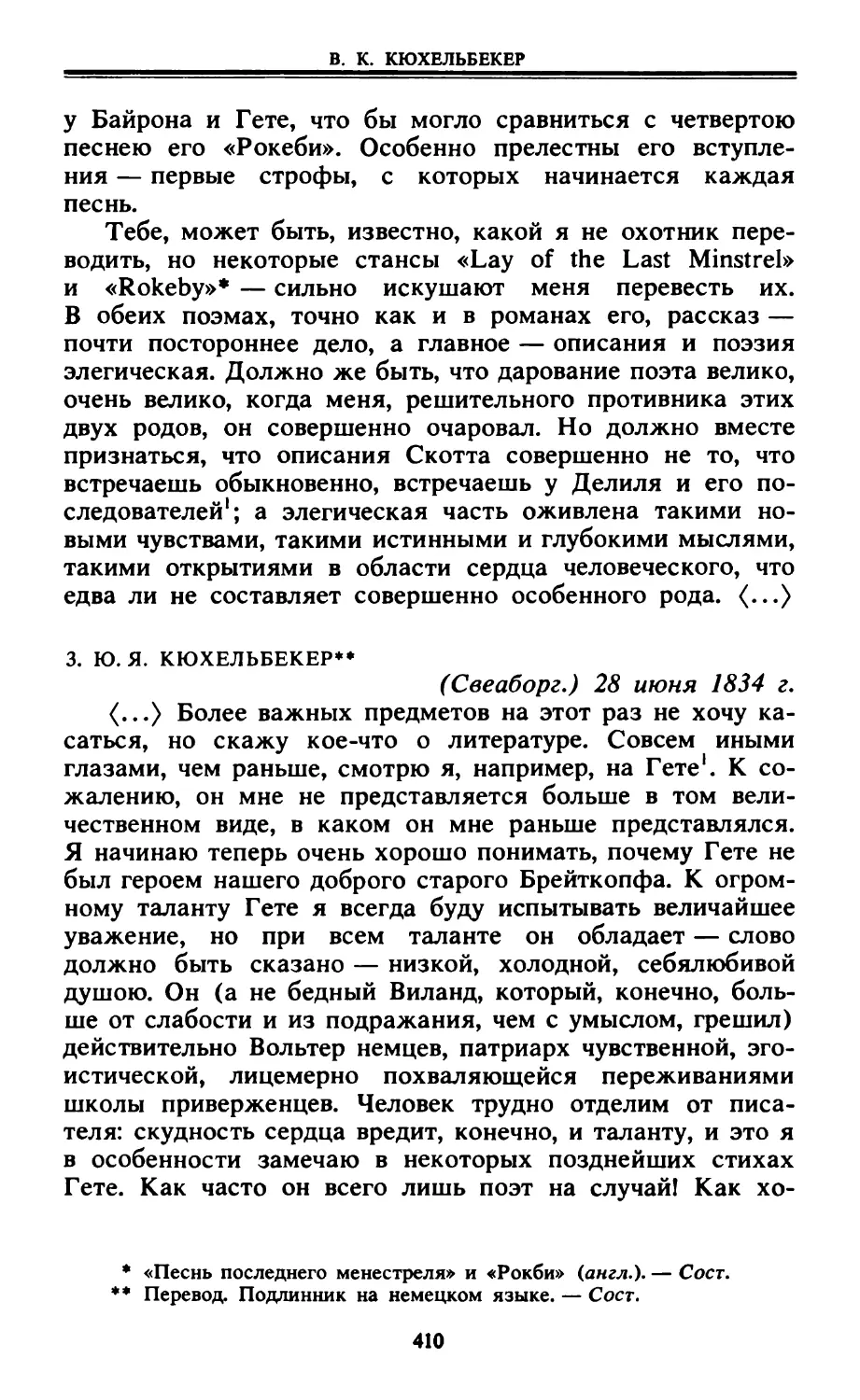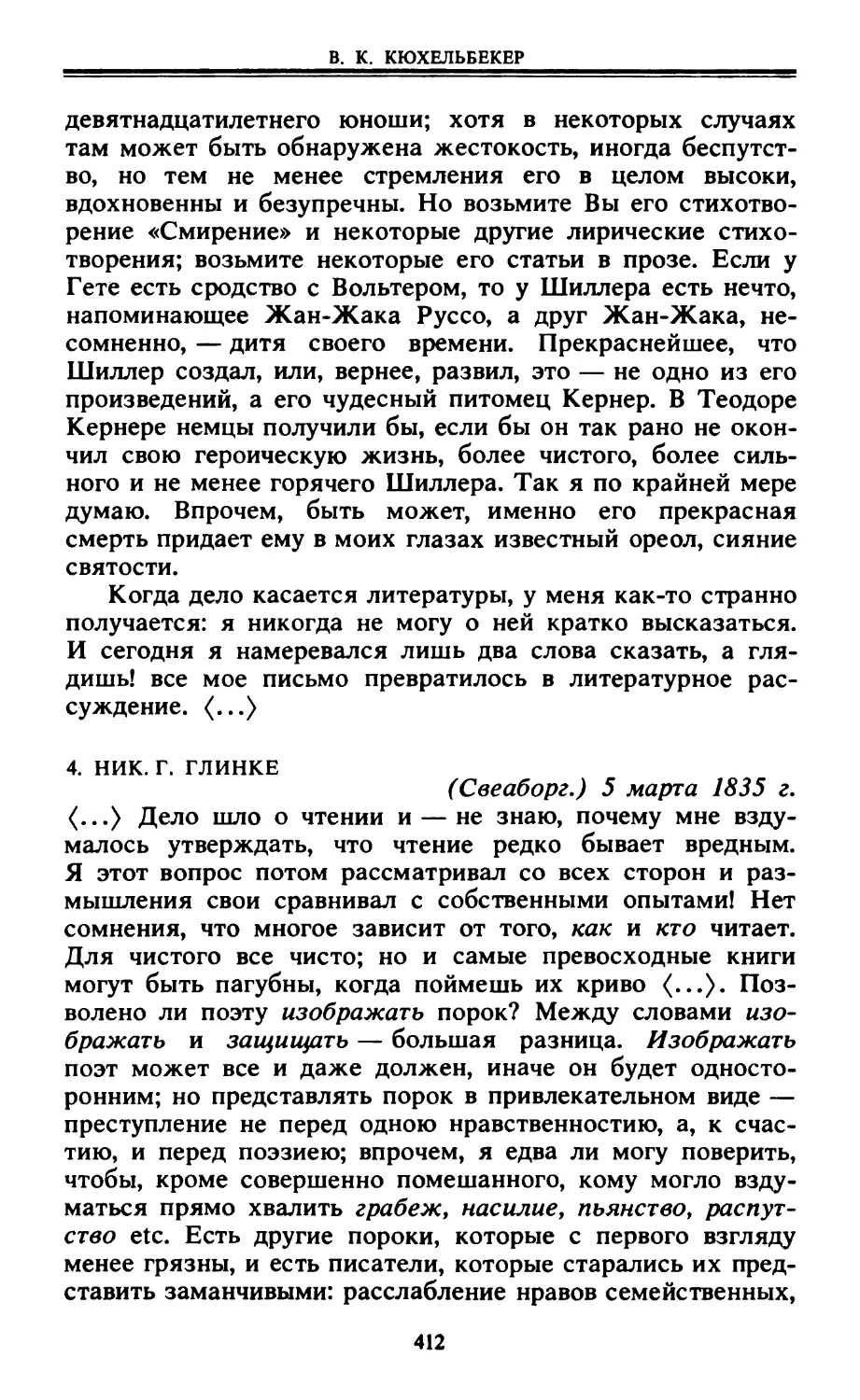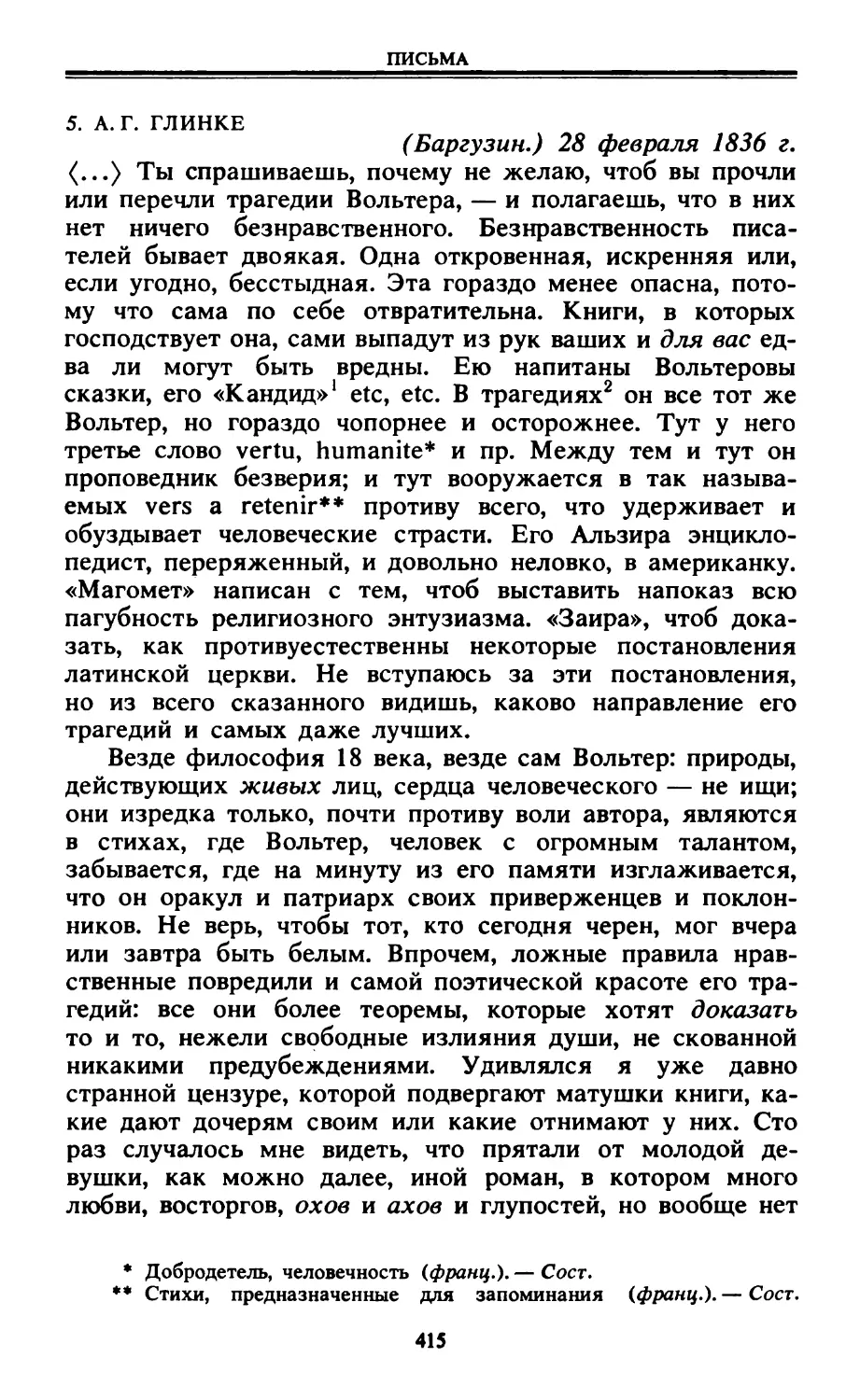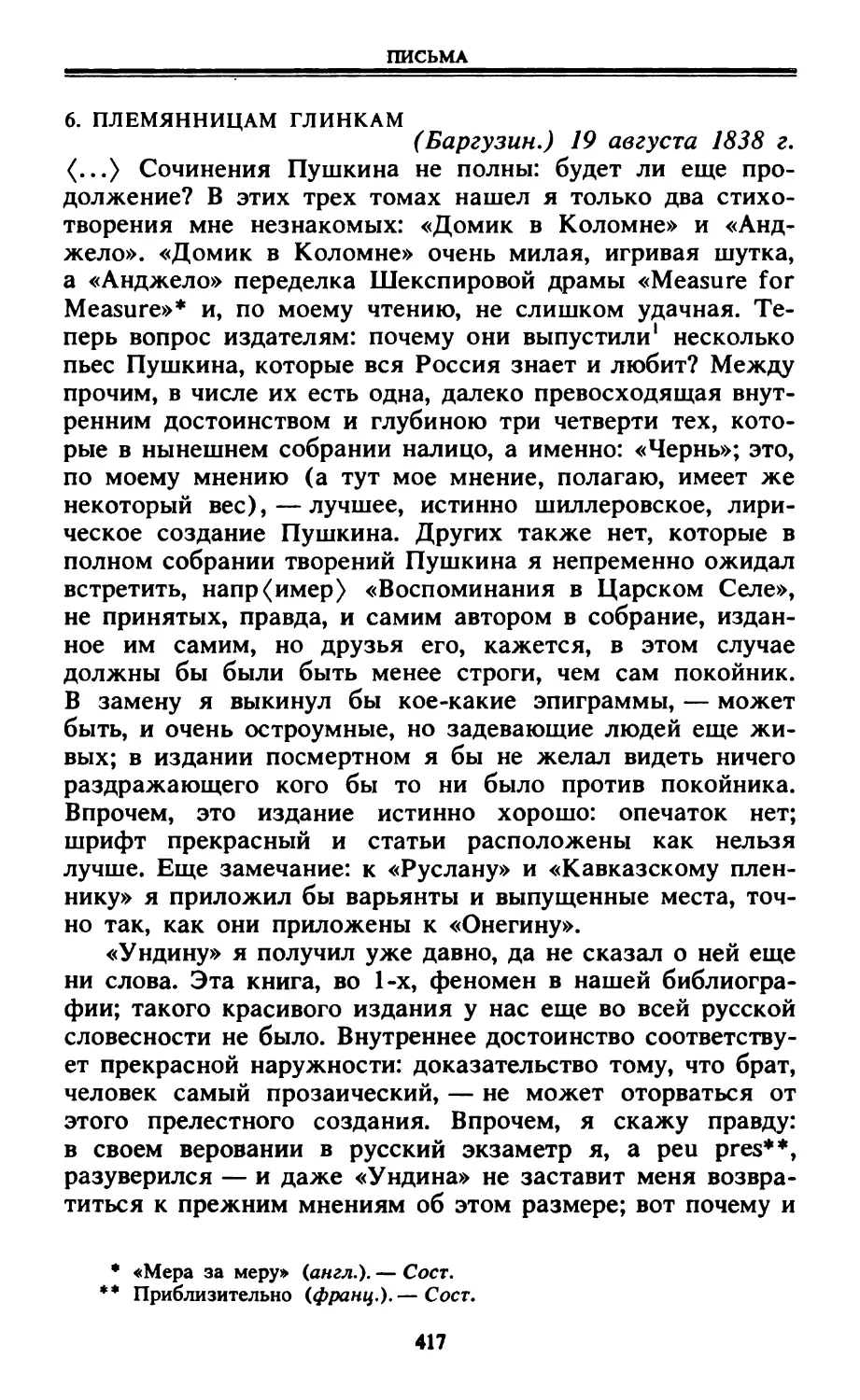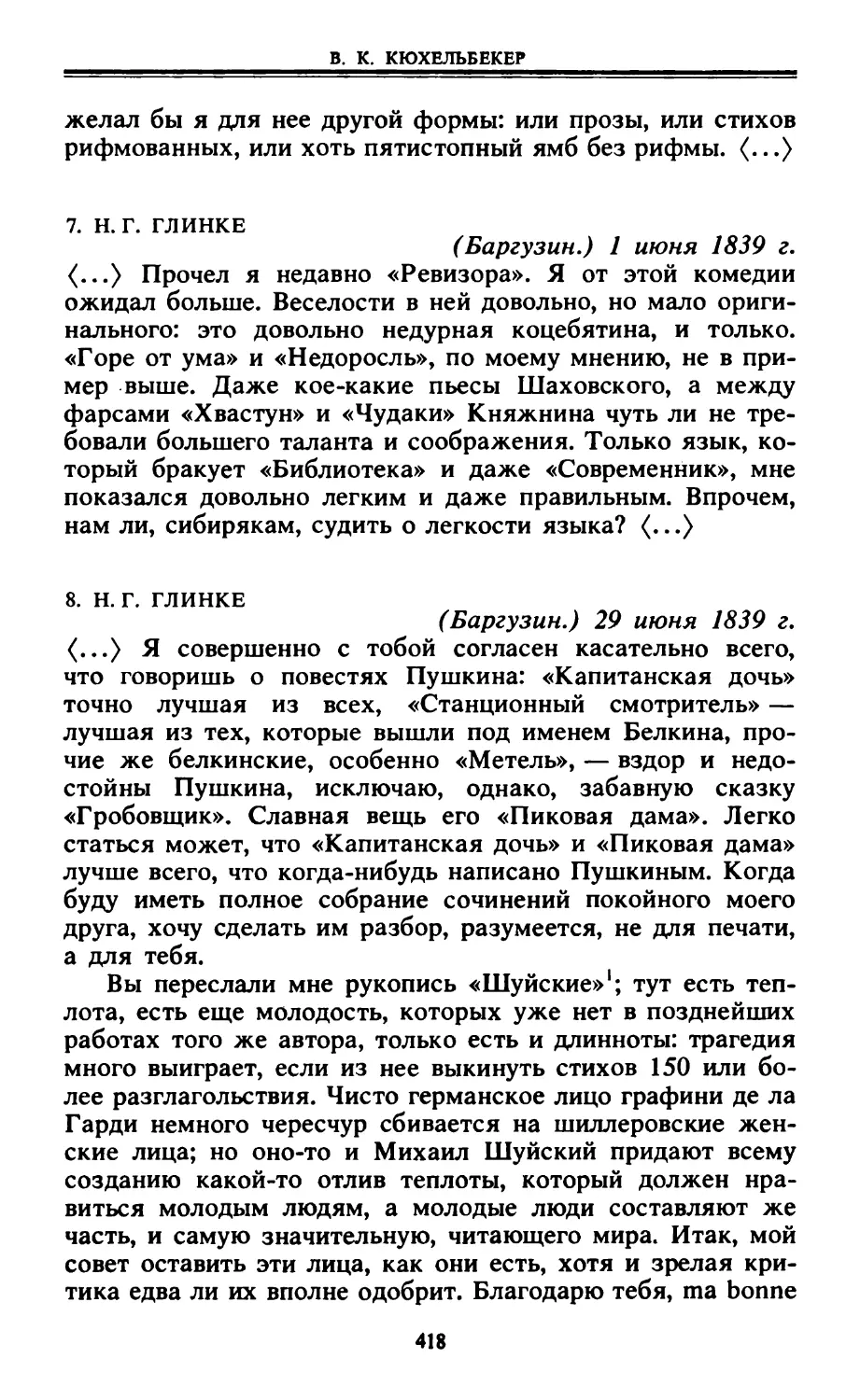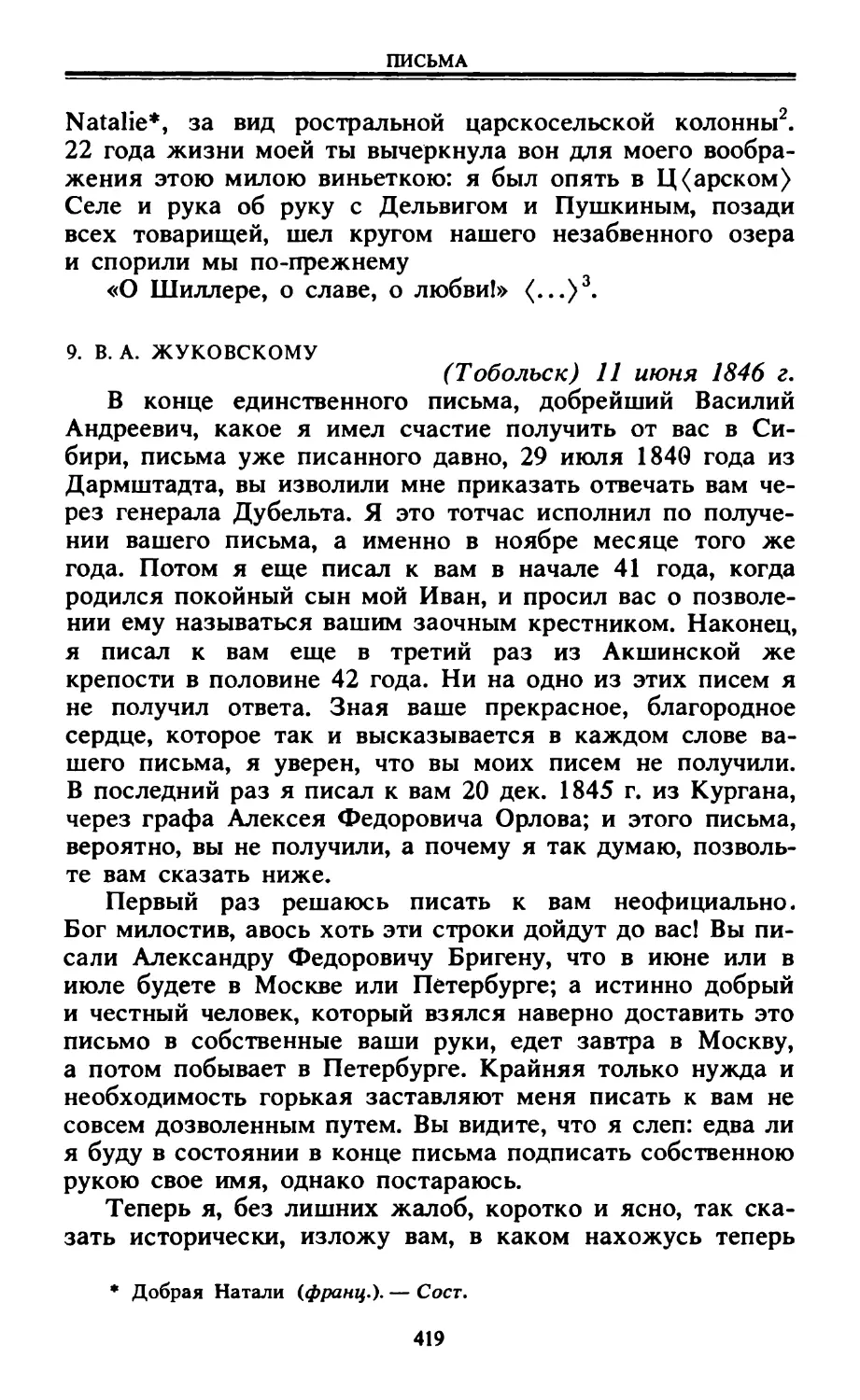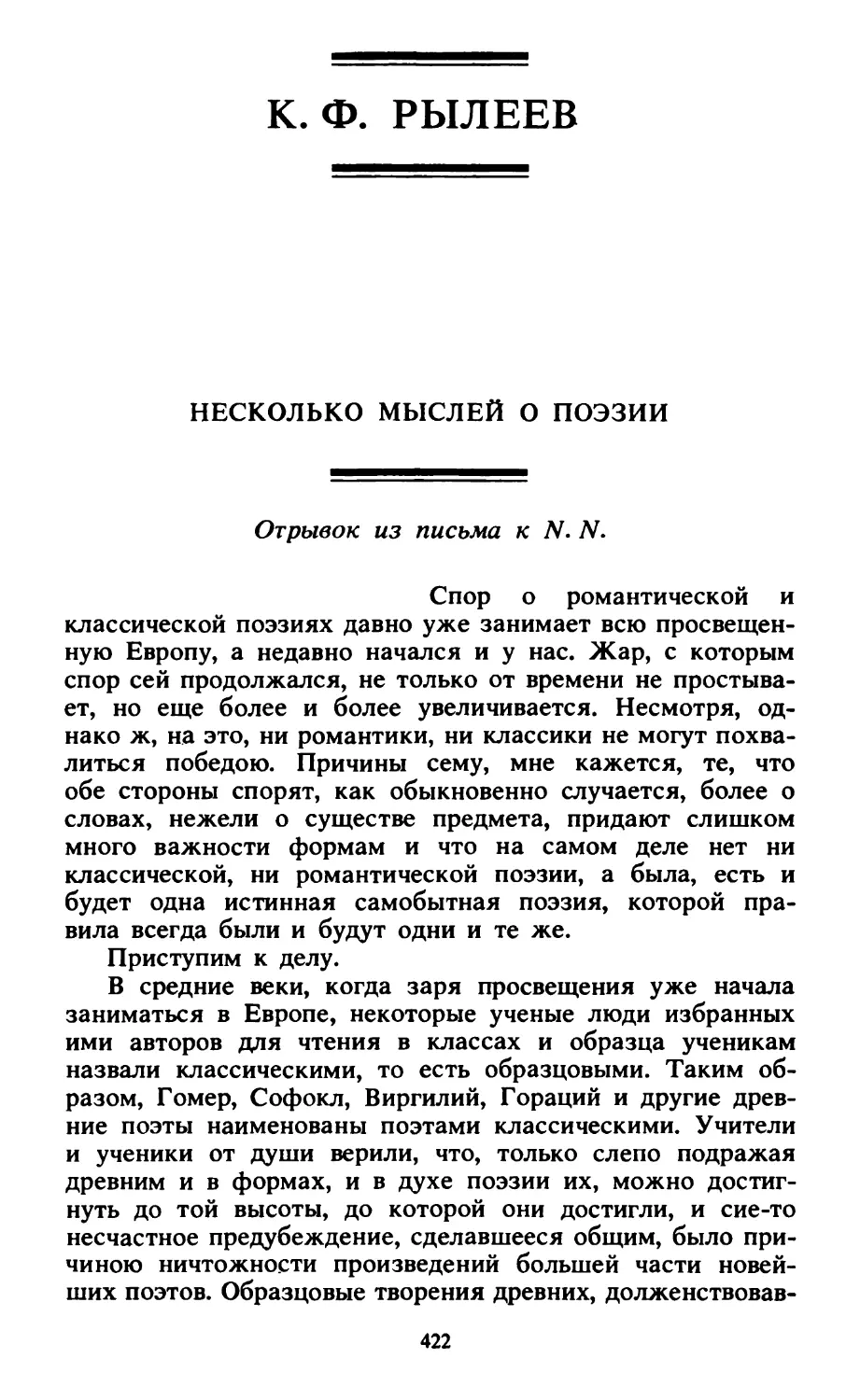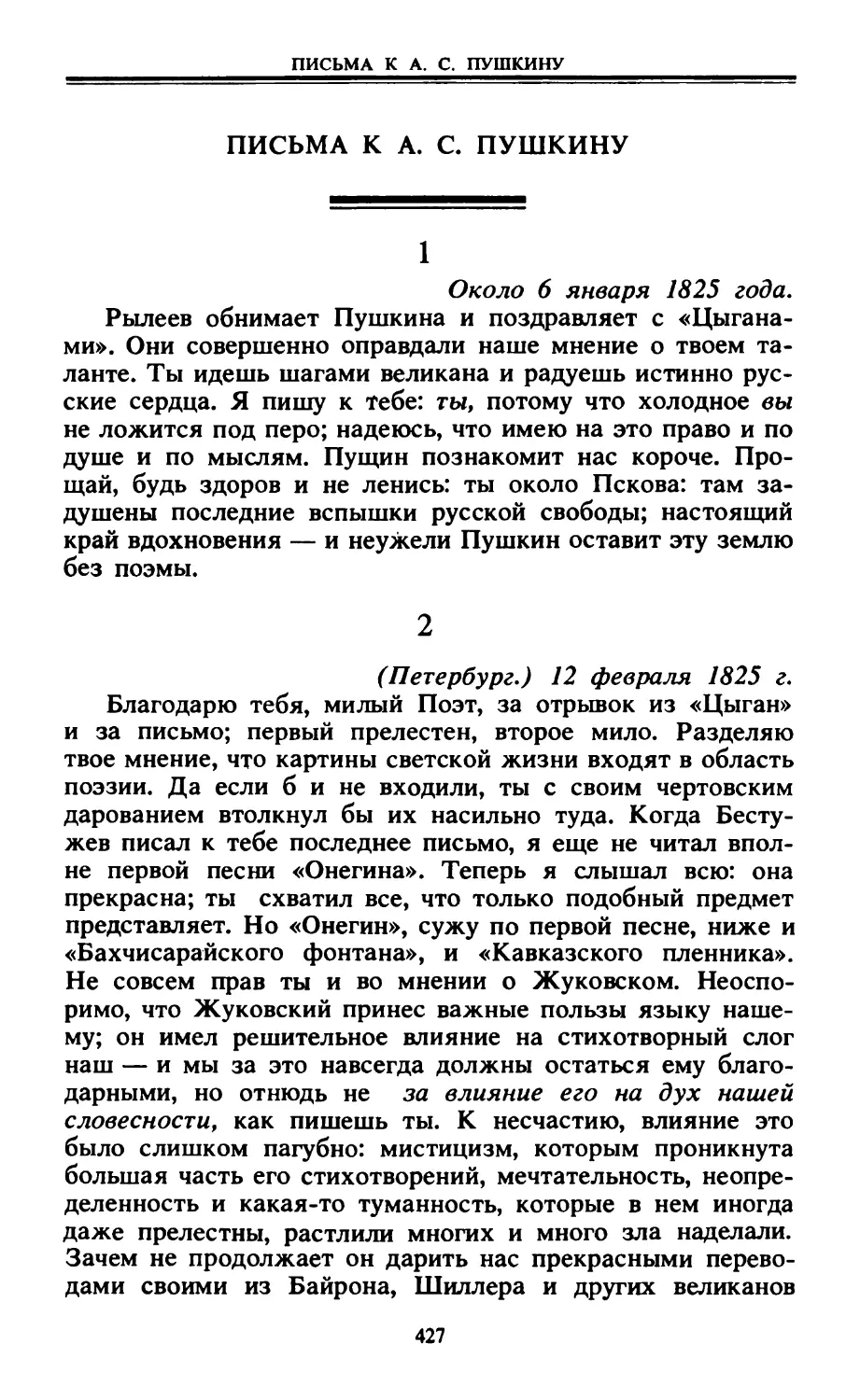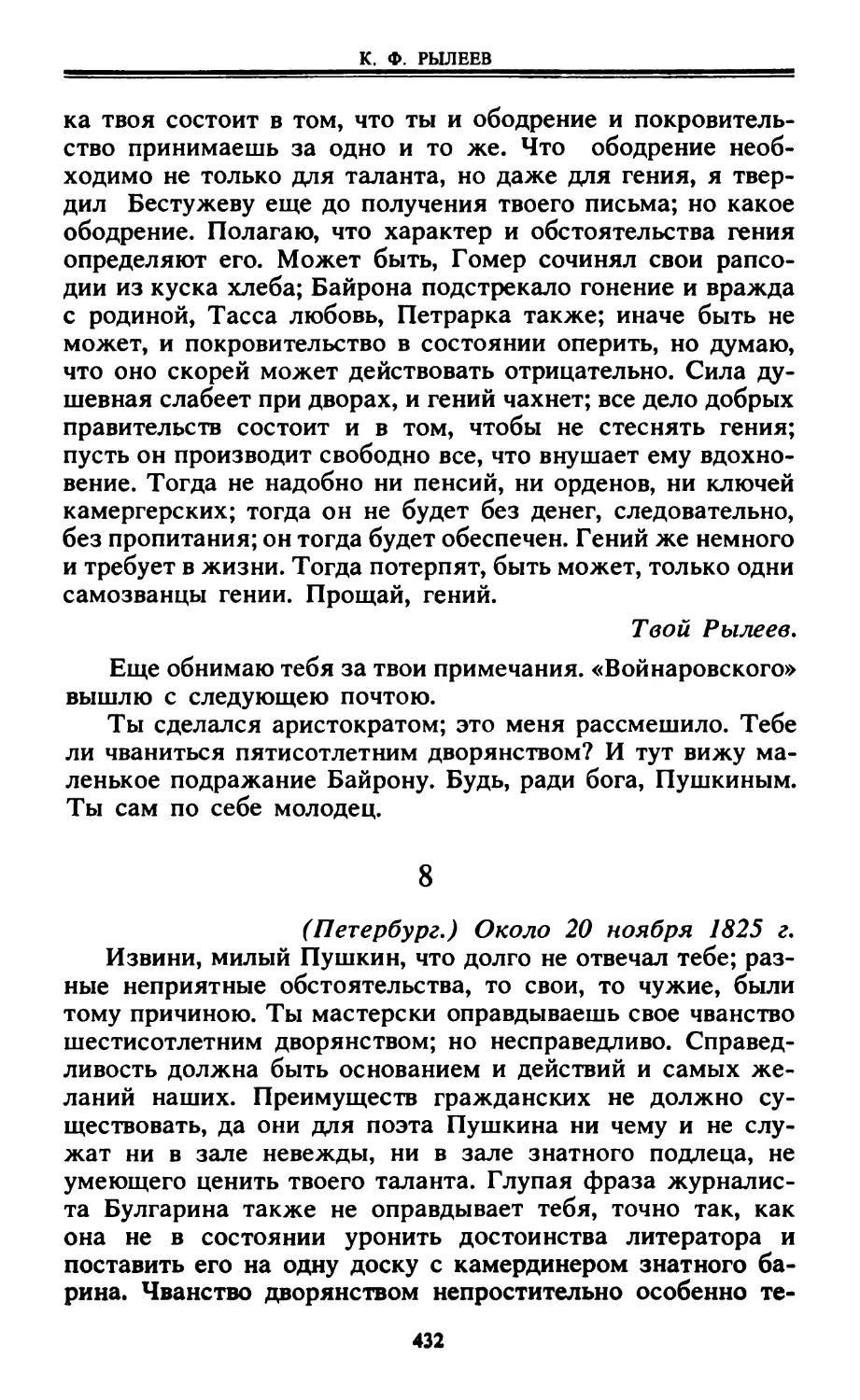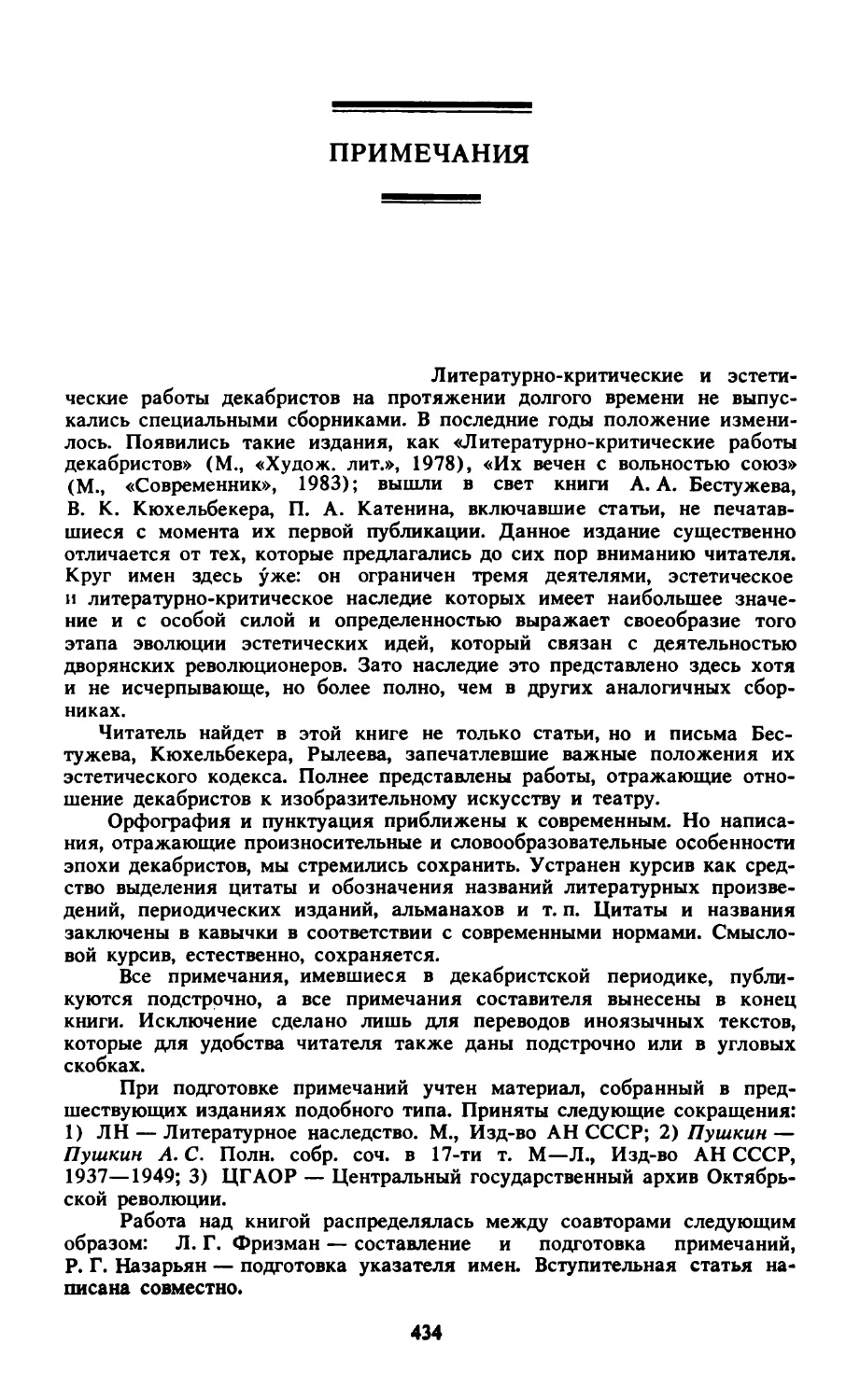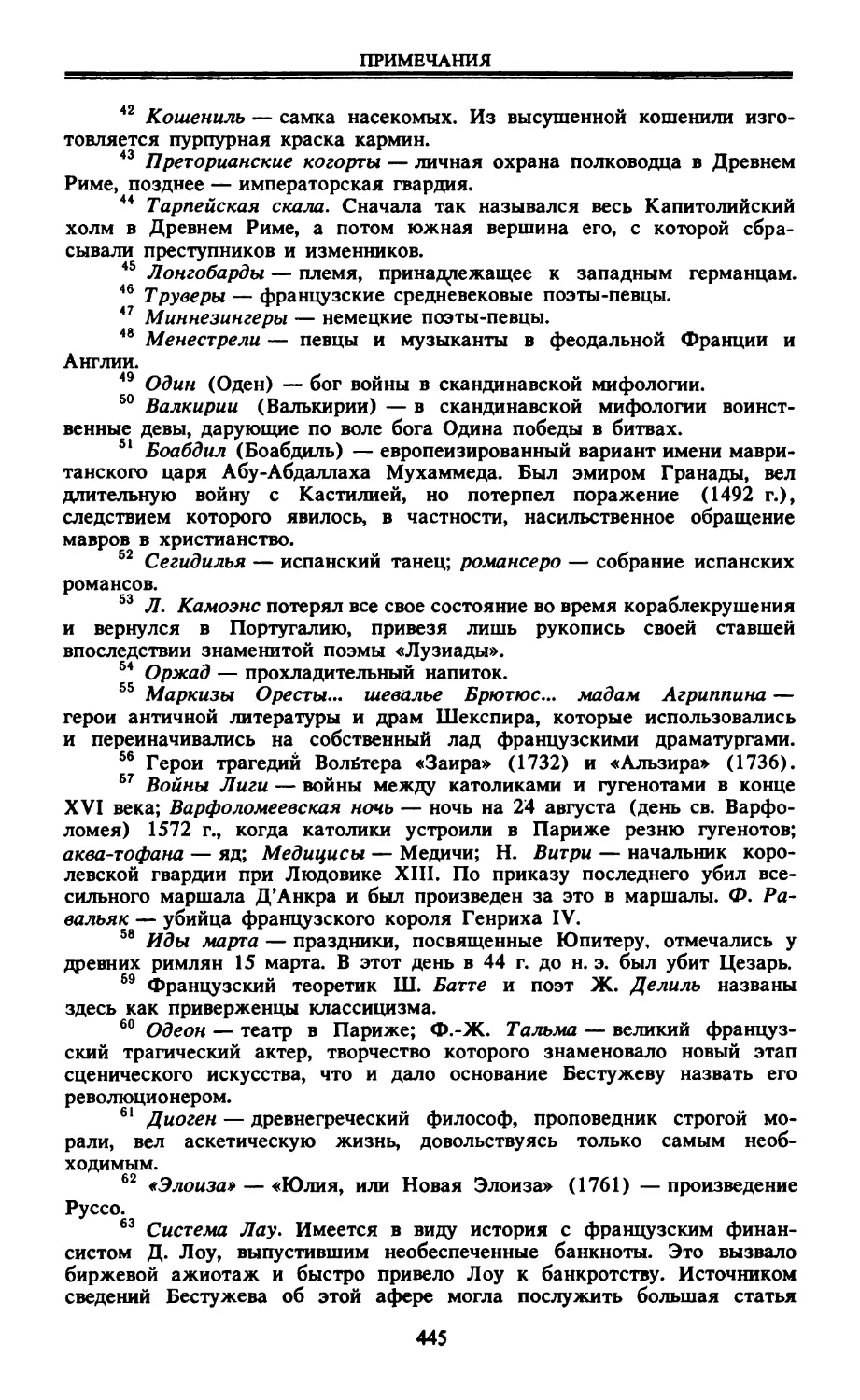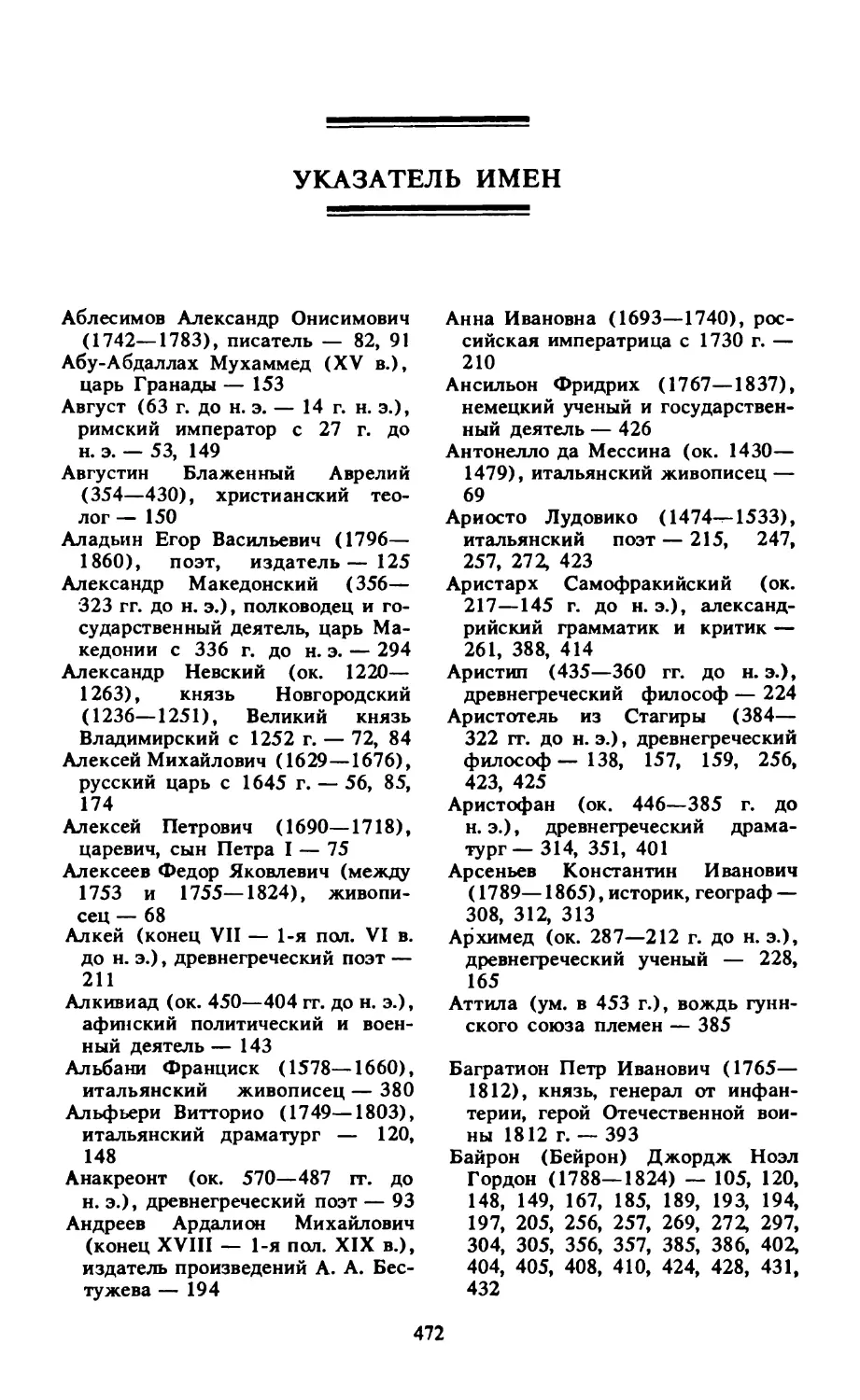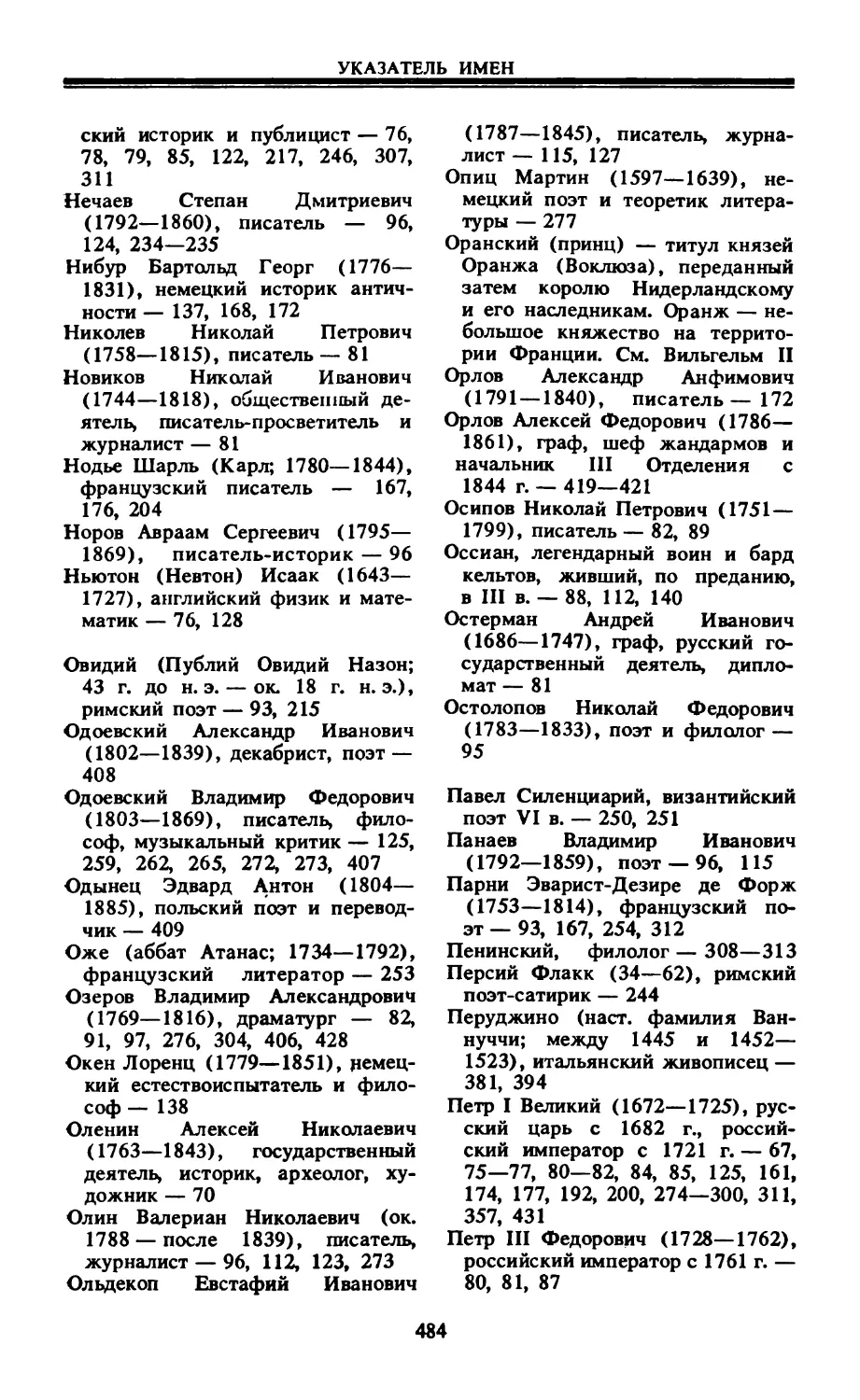Текст
ИСТОРИЯ
ЭСТЕТИКИ
В ПАМЯТНИКАХ
И ДОКУМЕНТАХ
ДЕКАБРИСТЫ
ЭСТЕТИКА
И
КРИТИКА
МОСКВА
«ИСКУССТВО»
1991
ББК 87.8
Д 28
Редакционная
коллегия
Председатель
а. я. зись
к. м. долгов
A. В. МИХАЙЛОВ
И. С. НАРСКИЙ
А. В. НОВИКОВ
ю. н. ПОПОВ
B. П. ШЕСТАКОВ
Г. М. ФРИДЛЕНДЕР
Составление и примечания
Л. Г. ФРИЗМАНА
Подготовка текстов
и вступительная статья
Р. Г. НАЗАРЬЯНА
и Л. Г. ФРИЗМАНА
0301080000-60
Д 13-91
025(01)-91
TSBN 5-210-02459-8 © Издательство «Искусство», 1991 г.
© Скан и обработка: glarus63
СОДЕРЖАНИЕ
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН.
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
4
А. А. БЕСТУЖЕВ
Статьи
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
35
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
44
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
54
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
59
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
66
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЯМ
74
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
75
ПОЧЕМУ?
78
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ
СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
83
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»,
ПОМЕЩЕННУЮ В 4, 5, 6 И 7 НОМЕРАХ
«РУССКОГО ИНВАЛИДА* 1823 ГОДА
102
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА
НО
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ
116
О РОМАНТИЗМЕ
127
МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ
130
О РОМАНЕ Н. ПОЛЕВОГО
«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ*
133
Письма
1. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ.
28 января 1824 г.
187
2. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ.
17 июня 1824 г.
189
3. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ.
12 января 1825 г.
191
4. А. С. ПУШКИНУ.
9 марта 1825 г.
192
5. М. и Н. БЕСТУЖЕВЫМ.
25 декабря 1828 г.
194
6. А. М. АНДРЕЕВУ.
9 апреля 1831 г.
194
7. Н. А. ПОЛЕВОМУ.
28 мая 1831 г.
195
8. H.A. ПОЛЕВОМУ.
13 августа 1831 г.
196
9. H.A. ПОЛЕВОМУ.
16 декабря 1831 г.
197
10. H.A. ПОЛЕВОМУ.
1 января 1832 г.
198
11. H. A. ПОЛЕВОМУ.
25 июня 1832 г.
201
12. H.A. ПОЛЕВОМУ.
26 января 1833 г.
203
13. H.A. ПОЛЕВОМУ.
18 мая 1833 г.
204
14. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ.
21 декабря 1833 г.
205
15. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ.
1 декабря 1835 г.
207
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Статьи
ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
210
«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМО К ДРУГУ*.
СОЧИНЕНИЕ ИВАНА ГЕОРГИЕВСКОГО
212
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
(ИЗ ВИЛАНДА)
213
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
226
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
243
О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ
248
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ,
ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ,
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
252
ОТВЕТ ГОСПОДИНУ С... НА ЕГО РАЗБОР
I ЧАСТИ «МНЕМОЗИНЫ*
259
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
262
МИНУВШЕГО, 1824 ГОДА ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ
И ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
271
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
274
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ
РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
301
РАЗБОР «СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ» Г. ЛЕНИНСКОГО
И «ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ» Г. АРСЕНЬЕВА
308
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ
«ШЕКСПИРОВЫ ДУХИ»
313
МЫСЛИ О «МАКБЕТЕ», ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА
318
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ ШЕКСПИРА,
В ОСОБЕННОСТИ О «РИЧАРДЕ III»
321
ПРЕДИСЛОВИЕ К МИСТЕРИИ «ИЖОРСКИЙ»
350
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
354
ПИСЬМО К К.О.С<АВИЧЕВСКОМУ)
358
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ*
360
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
385
Письма
1. A.C. ПУШКИНУ.
20 октября 1830 г.
407
2. HAT. Г. ГЛИНКЕ.
Конец июля — начало августа 1832 г.
409
3. Ю. Я. КЮХЕЛЬБЕКЕР.
28 июня 1834 г.
410
4. НИК. Г. ГЛИНКЕ.
5 марта 1835 г.
412
5. А. Г. ГЛИНКЕ.
28 февраля 1836 г.
415
6. ПЛЕМЯННИЦАМ ГЛИНКАМ.
19 августа 1839 г.
417
7. Н. Г. ГЛИНКЕ.
I июня 1839 г.
418
8. Н. Г. ГЛИНКЕ.
29 июня 1839 г.
418
9. В. А. ЖУКОВСКОМУ.
II июня 1846 г.
419
К. Ф. РЫЛЕЕВ
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
422
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
427
ПРИМЕЧАНИЯ
434
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
472
СВОЕОБРАЗИЕ
ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Чтобы уяснить, что представляла со¬
бой декабристская эстетика, необходимо исходить из полноценного,
исторически достоверного понимания того, что представлял собой сам
декабризм. Огромное количество документов и материалов, опублико¬
ванных в последние годы и осмысленных во вдумчивых и плодотвор¬
ных исследованиях, подтверждает, что декабризм знаменовал собой
страницу не только в политической истории России. Он несводим
лишь к деятельности тайных обществ, к подготовке и осуществлению
попытки «ста прапорщиков» изменить государственный строй России.
Декабризм был широким идеологическим движением, охватившим боль¬
шую часть передовой русской интеллигенции. Он оставил неизгладимый
след в разных областях литературы и искусства, науки и культуры.
Декабристская эстетика знаменовала собой ступень эволюции
эстетической мысли в России. Своеобразие декабристской эстетики
определялось своеобразием эпохи, в которую она сложилась, и отразило
мироощущение своего времени. Суть этого своеобразия в том, что дека¬
бристы осознали и обосновали связь между задачами искусства и потреб¬
ностями общества, между деятельностью писателя и политической
борьбой. Они осознали, что участие в решении проблем, вставших
перед обществом, в его переустройстве — это долг деятелей искусства,
уклониться от которого они не вправе. Они заявили, что «сила и пре¬
лесть стихотворений не состоит ни в созвучии слов, ни в высокопарно¬
сти мыслей, ни в непонятности изложения, но в живости писаний, в
приличии выражений, а более всего в непритворном изложении чувств
высоких и к добру увлекающих»1.
Исходя из этого, они рассматривали все конкретные проблемы
эстетики: проблему идеала, проблему прекрасного, эстетические отноше¬
ния искусства к действительности; это определяло их подход к отдель¬
ным жанрам литературы и искусства, к соотношению национального и
общечеловеческого. Решения этих проблем, предложенные декабристами,
несли, разумеется, печать своего времени. Многое в них оказалось не¬
1 Избранные социально-политические и философские произведения
декабристов. Т. 1. М., 1951, с. 270.
10
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
приемлемым для последующих поколений и подверглось пересмотру.
Но любые новые установки выдвигались с учетом того, что было сделано
декабристами, с использованием их наследия, в полемике с ним.
Декабристская эстетика создавалась людьми, часть которых не
входила в тайные общества, не разделяла их намерений. Она, как и
декабризм в целом, имела и центр, и периферию. Эта книга дает пред¬
ставление о декабристской эстетике, базирующееся на работах и пись¬
мах трех ее крупнейших представителей, выразивших ее сущность и ее
своеобразие с наибольшей определенностью. Это Александр Бестужев,
Вильгельм Кюхельбекер и Кондратий Рылеев.
I
Первые произведения Александра Бестужева появились на страницах
русских журналов в 1818—1819 годах и сразу вызвали как заинтересо¬
ванное внимание читателей, так и придирчивую неприязнь цензуры.
Перевод из книги баварского посланника в Петербурге де Брея, где
было выражено отрицательное отношение к крепостному праву, подвергся
цензурным искажениям, а вторая его половина, обещанная читателям,
вовсе не появилась в печати. Тогда же Петербургский цензурный коми¬
тет, не без оснований сомневавшийся в политической благонадежности
Бестужева, не разрешил ему издание журнала «Зимцерла».
Лишь через четыре с лишним года Бестужеву удалось стать издате¬
лем собственного печатного органа. К этому времени многочисленные
стихи и переводы, беллетристика и критические статьи сделали его имя
известным каждому образованному человеку в России. Легендарный
альманах «Полярная звезда», выпускавшийся Бестужевым и Рылеевым,
стал главным литературным спутником декабристского движения, а в
глазах последующих поколений — своеобразным символом декабризма.
Трудно переоценить роль, которую сыграл Бестужев в день 14 Декаб¬
ря. Момент, когда он вывел на Сенатскую площадь Московский полк,
стал началом восстания. Лишь значительно позднее к нему присоедини¬
лись гренадеры и морской экипаж. Если бы не Бестужев, то прибывше¬
му подкреплению некого было бы подкреплять.
Записка, созданная им в каземате Петропавловской крепости,
«Об историческом ходе свободомыслия в России», содержащая проду¬
манный анализ причин и задач дворянской революции, справедливо
считается одним из основных программных документов декабризма.
Он напомнил августейшему палачу о многом: о том, как в дни смертель¬
ной опасности, нависшей над Россией в 1812 году, «народ русский
впервые ощутил свою силу, тогда-то пробудилось во всех сердцах
чувство независимости, сперва политической, а впоследствии и народ¬
ной», о том, как стал позднее гаснуть «луч надежды», как «люди, видев-
U
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
шие худое или желавшие лучшего от множества шпионов, принуждены
стали разговаривать скрытно», о том, что «в казне, в судах, в комиссари¬
атах, у губернаторов, у генерал-губернаторов — везде, где замешался
интерес, кто мог, тот грабил, кто не смел, тот крал», что «везде честные
люди страдали, а ябедники и плуты радовались», о том, как «воспламе¬
ненные таким положением России» декабристы решились «произвести
переворот»2.
Четыре года спустя, томясь в якутской ссылке, Бестужев задумал
колоссальное предприятие — один, собственными силами, возродить
«Полярную звезду», написав для альманаха и стихи, и прозу, и критику.
Разумеется, надежды Бестужева найти издателя для такой книги говорят
лишь о том, как плохо он себе представлял меру враждебности и оже¬
сточения, с которыми царизм преследовал декабристов, всеми мерами пре¬
пятствуя проникновению их произведений в печать. Задуманный альма¬
нах не состоялся, но статья «Рассуждение о романтизме», которой Бес¬
тужев хотел его открыть, была написана. Вероятно, это исходная
точка масштабных размышлений Бестужева о романтизме как итоге раз¬
вития мирового искусства, итоге, к которому оно продвигалось на про¬
тяжении веков. Нужен был лишь повод, чтобы эти размышления сли¬
лись в единое целое. Таким поводом стал выход романа Н. А. Полевого
«Клятва при гробе господнем». Статья, созданная Бестужевым в 1832 го¬
ду, лишь в незначительной степени была рецензией на этот роман.
В действительности это масштабное критическое и историко-литературное
полотно запечатлело итоги эволюции пятнадцатилетнего творчества
Бестужева как эстетика и критика.
Через несколько месяцев после того, как завершилось печатание в
«Московском телеграфе» последней статьи Бестужева, произошло собы¬
тие, которое даже в его тяжелой жизни оказалось из самых тяжелых.
«Неумолимая судьба не престала меня преследовать, — писал он об
этом брату, — у меня случилось важное несчастие»3. Жертвой несчастно¬
го случая стала близкая ему девушка, девятнадцатилетняя Ольга Не-
стерцова. Враги писателя стали распускать слухи, что Бестужев убил
Ольгу из ревности. Судебное следствие велось грубо и пристрастно.
Это жестоко ранило Бестужева и надолго оставило болезненный след в
его душе.
Он погиб 7 июня 1837 года, зарубленный горцами, которые напали
на небольшой русский отряд, высадившийся на мысе Адлер. Один из
офицеров, постоянно общавшийся с ним в его последние дни, утверждал,
2 Избранные социально-политические и философские произведения
декабристов. Т. 1, с. 491—496.
3 «Отечественные записки», 1860, май, с, 161,
12
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
что «Марлинекий предчувствовал свою участь»4. Никогда прежде не
помышлявший о смерти, он утром этого дня оставил завещание. Оно
кончалось словами: «Прошу благословения у матери, целую родных,
всем добрым людям привет русского»5.
Бестужев дебютировал как поэт, переводчик и публицист, но
наибольшее внимание привлекли к себе его литературно-критические
статьи. Откликаясь спустя двадцать лет на выход «Полного собрания
сочинений А. Марлинского», Белинский выразил удивление, что в него
«не внесены истинно полемические статьи, рассеянные по книжкам
«Сына отечества» двадцатых годов и крайне интересные как факты
интереснейшего времени нашей литературы». «Эти полемические статейки
Марлинского были его журнальными схватками с тогдашними литера¬
турными староверами и отличаются верностью взгляда на предметы,
остроумием и живостью»6.
В этих статьях Бестужев выступает как убежденный и принци¬
пиальный сторонник определенной литературной платформы, выступает
с позиций карамзинизма. Характерна, в частности, его рецензия на
комедию Шаховского «Липецкие воды, или Урок кокеткам», где в образе
«балладника Фиалкина» был выведен Жуковский, что вызвало негодова¬
ние арзамасцев. Хотя «Липецкие воды» были поставлены в 1815 году,
статья Бестужева, написанная четырьмя годами позднее, явилась наибо¬
лее принципиальным ответом, последовавшим из лагеря, который подверг¬
ся нападению Шаховского.
Но главной мишенью бестужевской критики в 1819—1820 годах
был Катенин. Здесь уже речь шла не об обмене полемическими ударами
(насмешка Шаховского над Жуковским и ответный критический залп
Бестужева), а о принципиальном столкновении двух перспективных
эстетических систем. Не старовер-беседчик противостоял на этот раз
Бестужеву, а крупный художник и мыслитель, который сам был, по
пушкинскому определению, «один из первых апостолов романтизма»7,
но которому самые основы романтической эстетики виделись иными и
который шел к их утверждению иными путями.
Этот собственный путь был заявлен Катениным, когда он написал
балладу «Ольга» — перевод «Леноры» Бюргера, которая ранее была
переведена Жуковским под названием «Людмила». «Неверному и прелест¬
ному подражанию Жуковского, — скажет впоследствии Пушкин, — Кате¬
нин противопоставил «энергическую красоту» «первобытного создания».
«Но сия простота и даже грубость выражений, сия «сволочь», заменив¬
4 Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2-х т.
Т. 2. М., 1980, с. 181.
5 Там же, с. 383.
6 Белинский В. Г. Полн. собр. сбч., т. 4. М., 1954, с. 30.
7 Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11, М., 1949, с. 220,
13
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
шая «воздушную цепь теней», сия виселица вместо сельских картин,
озаренных летнею луною, неприятно поразили непривычных читателей,
и Гнедич взялся высказать их мнения в статье, коей несправедливость
обличена была Грибоедовым»8.
Бестужев, спустя три года после полемики, о которой идет речь,
включился в нее или, точнее сказать, вдохнул в нее новую жизнь, реши¬
тельно приняв сторону Гнедича. Показательно, что статьи Бестужева о
произведениях Катенина отнюдь не были спорадическими откликами
критика на новинки, появившиеся в печати или на сцене. «Эсфирь» в
переводе Катенина появилась в 1816 году, а рецензия Бестужева — тремя
годами позднее. Критик словно компенсировал упущенное: он выразил
удивление, что этот перевод «никем не удостоен разбора», и обрушил на
него град язвительных упреков, усмотрев в нем «почти беспрерывное
сцепление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а чаще всего
против языка, не говоря уже о требованиях поэзии и гармонии».
С другой стороны, «Письмо к издателю» с критикой катенинской
«Песни о первом сражении русских с татарами при реке Калке, под
предводительством князя Галицкого, Мстислава Мстиславича Храбро¬
го» появилась сразу — через полтора месяца после опубликования
«Песни»: случай подвернулся, и Бестужев его не упустил. Не подлежит
сомнению: в давних ли, в последних ли публикациях Бестужев искал
противника, чтобы всей силой своего таланта его дискредитировать и
низвергнуть.
Кюхельбекер, находясь уже в крепости и перечитывая бестужевские
статьи, осудил их пристрастность и односторонность. В разборе «Эсфири»
он усмотрел «образец привязчивости, ложного остроумия и — неве¬
жества», нападки на «Мстислава» расценил как «большей частью
несправедливые». И действительно, глядя на полемику Бестужева с Ка¬
тениным с высоты сегодняшнего дня, нельзя не видеть того значения,
которое имело языковое новаторство Катенина для обогащения поэтиче¬
ской речи. «Подходя к этому вопросу исторически, мы должны признать,
что в свое время борьба Катенина, Кюхельбекера, Гнедича не только за
«просторечие», но и за обогащение языка церковнославянизмами была
плодотворной»9.
Но нельзя оспорить и другое: как талантливо, как мастерски, как
изобретательно выискивал Бестужев в произведениях Катенина уязвимые
места, как умело он их препарировал, чтобы создать у читателя впечатле¬
ние, что Катенин только и занимался тем, что пренебрегал языковыми
нормами, культивировал безвкусицу, искажал в переводах мысль
8 Пушкин А. С., т. 11, с. 220—221.
9 Ермакова-Битнер Г. В. П. А. Катенин.—В кн.: Кцтениц /7. Л,
Избр. произв. М.-Л., 1905, с, 26.
14
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
оригинала. Готовый признать справедливым и одно, и другое, и третье
замечание критика, читатель переставал замечать, как его рекрутируют
в одну литературную «партию», лишая возможности справедливо оце¬
нить резоны и значение деятельности другой.
«...Во всяком случае, — отмечал Н. И. Мордовченко, — успех
статьи (Бестужева об «Эсфири». — P. X., Л. Ф.), равно как и статья о
Шаховском, был несомненен»10. Сам Бестужев сообщал своей приятель¬
нице С. В. Савицкой, «что весь Петербург был столько же доволен этим
бескровным Мамаевым побоищем, как победою над турками»11.
Молодой Бестужев сказал свое слово не только в литературной, но
и в художественной критике. В 1820 году он напечатал в «Сыне отече¬
ства» «Письмо к издателю», в котором продолжил обсуждение выставки
в Академии художеств, начатое незадолго до этого Н. И. Гнедичем.
Хотя в начале статьи Бестужев уведомил читателей, что ограничится
рассмотрением отдельных случаев, где он «или не совсем, или совсем не
согласен с решениями почтенного наблюдателя», то есть Гнедича, в
действительности он аргументировал иную и внутренне цельную искус¬
ствоведческую концепцию, которая базировалась на эстетических осно¬
вах романтизма. Расхождения в подходе Бестужева и Гнедича к отдель¬
ным картинам оказались очень показательны.
Гнедич отмечает талант О. Игнациуса и Г. Гиппиуса, но порицает
в их картинах подражание «дурной» школе А. Дюрера и Л. Кранаха.
Бестужев тоже видит в них «последователей старинной немецкой школы»,
но не это вызывает его протест. В их полотнах он не находит жизни,
зато обнаруживает несоответствие формы и содержания, неумение выра¬
зить идею. «Картины, — считает Бестужев, — суть письмена природы:
они должны быть понятны всякому», но физиономии, изображенное
Игнациусом, холодны, глаза не выражают душу, в чертах нет благород¬
ства. Даже разделяя оценки Гнедича, данные работам академических
живописцев А. Егорова и В. Шебуева, Бестужев подходит к ним с други¬
ми критериями. Ему, романтику, импонируют выраженные в рисунке
чувства, живая жизнь, сочность колорита. И, разглядывая картину
Егорова «Истязание Спасителя», Бестужев замечает, что «кровь сквозит
и переливается под кожею и жизнь слилась с кисти художника, чтобы
воодушевить полотно».
Именно это «одушевление» видит декабрист и в скульптуре Галь-
берга («бюст дышит»), и в рисунках Воробьева («живые портреты с
природы»), Доу («дух Шекспира пролил особенную жизнь на все его про¬
изведения»). И, напротив, удаление от жизни, естественности не прости¬
10 Мордовченко Н. И. Русская критика первой четверти XIX века.
М.-Л., 1959, с. 316.
11 Памяти декабристов. Т. 1. Л., 1926, с. 19.
15
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
тельны. Похвалив -портреты Оленина и Бутковского, писанные А. Вар-
неком, Бестужев (как и Гнедич) осуждает картины этого же художника,
исполненные «грёзовской манерою», где весьма заметно стремление отли¬
читься «чудесностью колорита». «Искусство блистает в каждой черте, но
искусство, удалившееся от природы».
Бестужев пытается усмотреть черты романтизма и в полотнах
художников доромантической эпохи. Он не жалеет похвал для произведе¬
ний, в которых усматривает стремление выразить национальную само¬
бытность, эмоциональное напряжение. Статья Гнедича не удовлетворяет
его потому же, почему позднее она не удовлетворяла Кюхельбекера,
писавшего в «Дневнике»: «...Гнедич обращает более внимания на
побочные, нежели существенные принадлежности картин и портретов,
им критикуемых: у него главное — костюм, колорит, рисовка, а о вдохно¬
вении, об идеале — ни слова!»
Заслуживает внимания и такое расхождение двух критиков: Гнедич
с явным неудовольствием видит на выставке в Академии художеств
«задыхающихся от тесноты» матросов, извозчиков и женщин в лохмотьях;
декабрист Бестужев ратует за приближение искусства к народу, считая,
что «картины должны быть понятны каждому». Демократические чувства
его проявились и в суждениях о пейзажах Теньера, художника, «отверг¬
нутого» большинством современников Бестужева. Напомнив в своей
статье о приказании французского короля вынести из своей картинной
галереи картины Теньера с изображением крестьянских праздников, де¬
кабрист восклицает: «Не верю величию души твоей, гордый Людовик XIV,
когда ты мог презирать полезнейший класс народа!»
Помимо крупных и привлекших к себе внимание статей Бестужев
опубликовал в конце 1810-х и начале 1820-х годов много переводных
(или мнимо переводных) фрагментов, из которых стоит остановиться
на небольшом этюде, названном «О публике»12. Написан он шутливо¬
иронически, но проблема, о которой рассуждает критик, очень серьезна
и остается предметом его размышлений на протяжении всего его после¬
дующего творческого пути. «...Наши авторы, — говорит Бестужев, —
беспрестанно толкуют о публике, всегда ссылаются на суждения публи¬
ки, издают свои творения на публику»13, между тем «никто не знает, что
такое публика и по каким законам составляются ее решения». «...Я почти
думаю, что публика есть существо, живущее только в нашем воображе¬
нии и которым нас пугают точно так, как ребят привидениями»14,—
продолжает Бестужев, но на самом деле он так, конечно, не думает.
Его тревожит, что участники любой беседы считают себя вправе утвер¬
12 «Благонамеренный», 1820, ч. 12, № 21, с. 166—171.
13 Там же, с. 166.
14 Там же, с. 167—168.
16
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
ждать свое мнение от имени публики, и он ищет путей отделить ее
«истинное суждение» от мнимых. Спустя десять лет Бестужев вновь, и
по-новому, заговорит об этом в своих «Мыслях и заметках».
С появлением альманаха «Полярная звезда», каждый выпуск кото¬
рого открывался обзором Бестужева15, в биографии критика началась
новая глава. В обширном ряду обзоров, появившихся в русской печати
в первые десятилетия XIX века, обзорам Бестужева принадлежит
особое место. Хотя в количественном отношении основное место в них
занимали характеристики отдельных авторов и произведений и многие из
этих характеристик были чрезвычайно лаконичны, а порой чисто инфор¬
мационны, главное в бестужевских обзорах — это их концептуальность.
Каждый из них развивал и аргументировал определенную идею. Именно
эта их особенность делала каждый обзор Бестужева неким прообразом
передовой статьи, каждый из них носил программный характер.
Эта особенность бестужевских обзоров прослеживается особенно
ясно, если сравнить их с обзором П. А. Плетнева «Письмо к графине
С. И. С. о русских поэтах», замысел которого возник, очевидно, под
прямым влиянием Бестужева и который открывал альманах «Северные
цветы на 1825 год». Фиаско, которое потерпел Плетнев, было связано не
только с конкретными оценками отдельных поэтов, но и с тем, что ничто
их не скрепляло, ничто за ними не стояло, ничего, кроме них, в статье
не было.
Обзоры Бестужева, напротив, важны не отдельными оценками от¬
дельных литературных фактов, а идеей, которая в каждом из обзоров
отчетливо проведена и может быть прослежена. Такая идея, основной
стержень первого обзора, «Взгляд на старую и новую словесность в
России», — народность. Начав с утверждения, что «гений красноречия
и поэзии... не был чужд и предкам нашим», критик перечисляет «препоны,
замедлявшие ход просвещения и успехи словесности в России». В Петров¬
скую эпоху «вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век
галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь только начинает
язык наш отрясать с себя пыль древности, гремушки чуждых ему наре¬
чий». «Небрежение русских о всем отечественном» немало способствовало
тому, что в России произведены лишь «немногие цветы словесности».
Говоря о значении «Слова о полку Игореве», Бестужев подчеркивает,
что автор поэмы «вдохнул русскую боевую душу в язык юный», что
«дух народа дышит в каждой строке», что читать «Слово» должно, чтобы
в нем «найти черты русского народа и тем дать настоящую физиогномию
языку». Прославляя Ломоносова, который «собирал, отыскивал в прахе
15 В «Полярной звезде на 1824 год» обзору Бестужева предшест¬
вовало несколько поэтических фрагментов под общим заголовком
«Изъяснение картинок».
17
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
старины материалы для русского слова», Бестужев вместе с тем укоряет
его в «единообразии», которое «он занял у своих учителей, немцев».
Исчисляя «заслуги Екатерины», критик напоминает, что она «писала
русские стихи», собственным примером вливая жар соревнования в под¬
данных. Самой восторженной оценки удостоен в обзоре Фонвизин,
который «в высочайшей степени умел схватить черты народности».
Под тем же углом зрения расцениваются и другие деятели отече¬
ственной культуры: Карамзин, который «отбросил чуждую пестроту в
словах, в словосочинении и дал ему народное лицо», «цветущим слогом
сделал решительный переворот в русском языке на лучшее»; Крылов,
более других давший «народности языку», проявивший «знание языка и
нравов русских»; Пушкин, которому «и в первой юности дался... клад
русского языка, открылись чары поэзии». Статья завершается упованием
на то, что «новое поколение людей начинает чувствовать прелесть
языка родного и в себе силу образовать его» и что это «обещает богатую
жатву».
Второй бестужевский обзор, появившийся в «Полярной звезде на
1824 год», развивает положения предыдущего, обогащая их, однако, но¬
вым понятием, которое оказывается в центре внимания автора. Это —
политика: «...под политическою печатью словесность кружится в обще¬
стве». Общественный подъем, вызванный нашествием Наполеона и мно¬
гообразно выразивший себя в литературе, характеризуется Бестужевым
как «политическая буря». Она «утихла» — и наступило «совершенное
оцепенение словесности».
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»
в известном смысле синтезировал идеи двух предыдущих статей. Уясняя,
почему у нас «нет литературы», Бестужев вновь напоминает о том, что
«мы воспитаны иноземцами», что «мы всосали с молоком безнародность
и удивление только к чужому», а свое знаем плохо и «еще не сделали
комментария на лириков и баснописцев, которыми истинно можем
гордиться». Отчетливо, резче, чем когда-либо, проявились в обзоре поли¬
тические позиции Бестужева. Ум, «не занятый политикою», неизбежно
разменивается на мелочи, «хватается за все, что попадется», кидается
«в кумовство и пересуды». Ведь политика, как пишет Бестужев Вязем¬
скому тогда же, в 1824 году, это «наука прав, людей и народов, это
великое, неизменное мерило твоего и моего, это священный пламенник
правды во мраке невежества и в темнице самовластия!!» Критик задается
вопросом: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов литературных?»
Пределышу ответ многих, что от недостатка ободрения». Это был ответ не
кого другого, как самого Бестужева, который годом ранее писал: «Так
гаснет лампада без течения воздуха, так заглушается дарование без
ободрений!» Теперь же критик утверждает, что отсутствие ободрения —
это благо: «его нет, и слава богу!»
18
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Здесь нет противоречия. Дело в том, что в контексте третьего
обзора демонстративный отказ Бестужева от «ободряемой» литературы
приобретал определенный политический смысл. «Неободряемая» литера¬
тура — это литература оппозиционная. С гневом и горечью критик
говорит, что свет «допускает в свой круг не иначе, как с условием носить
на себе клеймо подобного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру
божества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!!» Подлинному
поэту в нем, разумеется, места нет. «Римлянин Альфиери», «неизмери¬
мый Байрон» и другие властители дум разных эпох и народов, вызываю¬
щие восхищение Бестужева, «гордо сбросили с себя золотые цепи форту¬
ны, презрели всеми заманками большого света — зато целый свет под
ними и вечный день славы их наследие!!»
Эти мысли Бестужева и даже сами примеры судеб страдавших от
«неободрения» гениев отчетливо перекликаются с аналогичными сужде¬
ниями Кюхельбекера, красной нитью проходящими сквозь его стихи
о поэте и поэзии. Обращаясь к «сынам огня и вдохновенья», он вос¬
клицал:
Земная жизнь была для вас
Полна и скорбей, и отравы;
Вы в дальний храм безвестной славы
Тернистою дорогой шли,
Вы с жадностию в гроб легли,
Но ныне смолкло вероломство:
Пред вами падает во прах
Благоговейное потомство...
Все это было близко Бестужеву и в 1825 году, и семью годами
позднее, когда в статье о романе Н. А. Полевого «Клятва при гробе
господнем» он создал вдохновенный апофеоз «страдальцам мира»:
«Камоэнс, Торквато, Дант, Альфиери, Шенье, Байрон и вы, все избранни¬
ки небес! мир налагал на вас терновый венец, облекал в багряницу и
посмеянием плевал в лицо; бил палками — и называл царями! Но разве
не настало время, когда потомство принесло мирру к гробнице вашей
и нашло ее пустою, и некто светозарный указал на небо... Там награда
наша!»
Из оценок отдельных писателей и произведений особый интерес,
естественно, представляет то, что говорит Бестужев о Пушкине. Для
поэмы «Цыганы» критик не жалеет самых безудержных восторгов:
«...это произведение далеко оставило за собой все, что он (Пушкин. —
Р. Я., Л. Ф.) писал прежде. В нем-το гений его, откинув всякое подра¬
жание, восстал в первородной красоте и простоте величественной».
Рядом с такими выражениями весьма сдержанными выглядели оценки
«Евгения Онегина»: первая глава романа «есть заманчивая, одушевлен¬
19
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
ная картина неодушевленного нашего света. Везде, где говорит чувство,
везде, где мечта уносит поэта из прозы описываемого общества, стихи
загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу». Здесь претензии
критика к роману выражены завуалированно и приглушенно, но в письме
Бестужева к Пушкину от 9 марта 1825 года они звучат резче и опреде¬
леннее: «Конечно, многие картины прелестны; но они не полны. Ты схва¬
тил петербургский свет, но не проник в него». А затем с каждым годом
и каждой главой отрицательное отношение к роману будет нарастать.
И в 1828 году Бестужев заявит братьям, что Пушкин «ведет своего
«Онегина» чем далее, тем хуже. В трех последних главах не найти и
полдюжины поэтических строф. Стихи игривы, но обременены пустяками
и нередко небрежны до неопрятности. Характер Евгения просто гадок»
и т. п.
Не принял он и «Бориса Годунова»: «...хоть убей, я не нахожу тут
ничего, кроме прекрасных отдельных картин, но без связи, без послед¬
ствия; их соединила, кажется, всемогущая игла переплетчика, а не мысль
поэта». Нельзя совершить большую ошибку, чем расценить подобные
высказывания как проявление ретроградного мышления или эстетической
глухоты. Бестужев видел, безошибочно ощущал, что путь Пушкина все
более расходится с его собственным, и остро реагировал на это. Именно
тогда, когда завершалась эволюция Пушкина к реализму, Бестужев
глубже и обстоятельнее, чем когда-либо, разрабатывает теорию роман¬
тизма, который видится ему единственно достойным знаменем современ¬
ной литературы. Он буквально ухватился за роман Н. А. Полевого
«Клятва при гробе господнем», потому что увидел возможность развер¬
нуть в связи с его разбором свою концепцию романтизма.
«Надобно сказать однажды навсегда, — говорит Бестужев, — что под
именем романтизма разумею я стремление бесконечного духа человече¬
ского выразиться в конечных формах. А потому я считаю его ровесником
душе человеческой...». Само по себе это определение достаточно три¬
виально, но Бестужев делает от него значительный шаг вперед: он наме¬
чает исторический подход к романтизму. Первостепенное значение имеет
высказанная им мысль, что романтизм — это «потребность века», нашего
века: «Мы живем в веке романтизма».
«Для нас... необходим фонарь истории», — заявляет он далее, и дей¬
ствительно все его рассмотреть эволюции романтического миросозер¬
цания в значительной степени освещено светом этого «фонаря». Он про¬
зорливо отмечает вехи формирования, утверждения и движения романти¬
ческих идей. Он акцентирует роль Карамзина как человека, которому
было дано «внушить в русских романтическую мечтательность» и
«заставить их полюбить родную историю». Карамзин предвещал собой
«двойственное направление века» — века, который прежде был определен
Бестужевым как «романтическо-исторический»,
20
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Если Карамзин предвещал век романтизма, то «пересадить роман¬
тизм в девственную почву русской словесности» довелось Жуковскому.
Именно Жуковский, а вслед за ним Пушкин сделали романтизм массо¬
вым, «увлекли в свою колею тысячи». Показательно, что победа роман¬
тизма, по Бестужеву, — это ответ на требования времени: «Нас выручило
время... Мы не приняли романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас,
как татары, так что никто не знал, не видел, откуда взялись они...
Поэт в наш век не может не быть романтиком». С этим убеждением
Бестужев пришел когда-то в литературу, когда подверг беспощадным
критическим нападениям Шаховского и Катенина, исходя из него, он
спорил с Пушкиным, с этим убеждением он ушел из жизни.
II
Трудно найти среди декабристов человека такой тяжелой, трагиче¬
ской судьбы, как судьба Кюхельбекера. Многие годы его окружала
пелена непонимания и недооценок. Еще в юности он «был предметом
постоянных и неотступных насмешек целого Лицея за свои странности,
неловкости и часто уморительную оригинальность»16. Кюхельбекер
вступил в тайное общество лишь за несколько дней до восстания, что
дало повод говорить о нем как о «случайном декабристе». 14 декабря,
находясь на Сенатской площади, Кюхельбекер проявил исключительную
энергию и мужество. Он пытался стрелять в великого князя Михаила
Павловича. Лишь то, что пистолет дал осечку, спасло князя от пули, а
декабриста от виселицы.
Когда восстание было разгромлено, Кюхельбекер не стал беспомощ¬
но ждать ареста, он пытался бежать за границу. И это ему едва не
удалось. Он добрался до Варшавы, но там был схвачен и в кандалах
доставлен в Петербург.
Энергичные, принципиальные, бескомпромиссные литературно-кри¬
тические выступления Кюхельбекера нередко шокировали современников
и навлекали на их автора град полемических ударов. Но Пушкин, кото¬
рому тоже случалось посмеиваться над своим долговязым лицейским
товарищем, высоко ценил его талант и называл его «атлетом... сильным
и опытным»17. Грибоедов в Кюхельбекере «угадал натуру недюжинную»18.
А Баратынский сравнивал его с Руссо, усматривал в нем «ту же востор¬
женную любовь к правде, к добру, к прекрасному, которой он все готов
16 Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 287.
17 Пушкин А. С. Полн. собр. соч., т. 11. М.—Л., 1949, с. 41.
18 Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 281,
21
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
принести на жертву», и предсказывал, что рано или поздно он «очень будет
заметен между нашими писателями»19.
Никто из декабристов-литераторов не может сравниться с Кюхель¬
бекером в многогранности своего таланта, в обилии тех сфер творческой
деятельности, в которых он себя проявил. Он был поэтом и прозаиком,
драматургом и переводчиком, критиком и эстетиком. Он анализировал
творчество писателей и художников, русских и зарубежных, современни¬
ков и деятелей предшествующих эпох. Определяя значение писем Кю¬
хельбекера, написанных им во время поездки по Европе и составивших
книгу «Путешествие», современный исследователь с полным основанием
видит его прежде всего «в том аналитическом характере суждений и
оценок, который выводит эту публикацию из жанра литературных этюдов
по искусству в жанр художественной критики. Кроме того, «Письма»
Кюхельбекера — самая объемная работа по искусству, написанная кем-
либо из декабристов»20.
Верховный уголовный суд отнес Кюхельбекера к первому разряду
«преступников» и приговорил его к отсечению головы. Николай I заменил
смертную казнь вечной каторгой. Преследуемый мстительным вниманием
царя, поэт провел в заключении и в ссылке в общей сложности двадцать
лет. Память современников сохранила для нас портрет Кюхельбекера-
узника: «Как ясный месяц блестит среди бесчисленного множества туск¬
лых звезд, так и его благородное, бледное, исхудалое лицо с выразитель¬
ными чертами выделялось сиянием духовной красоты среди огромной
толпы преступников, одетых, как и он, в серый «мундир» отверженных.
Сильное и закаленное сердце, должно быть, билось в его груди, если уста,
этот верный передатчик наших чувств, никогда ни перед кем не произне¬
сли ни слова жалобы на столь суровую долю»21.
Именно в застенке и на поселении Кюхельбекер создал большую
часть своего творческого наследия. Именно там был написан его потря¬
сающий «Дневник», этот «журнал, писавшийся одним человеком»
(Ю. Н. Тынянов), произведение, по многообразию анализируемого
материала, по широте литературно-эстетической и нравственной пробле¬
матики не имеющее аналогов в русской литературе, по крайней мере
до появления «Былого и дум». Но как сравнивать эти две книги! Герцен
писал «Былое и думы» в теплом лондонском кабинете, к его услугам была
библиотека Британского музея, он переписывался со всей просвещенной
Европой. А «Дневник» Кюхельбекера создавался в застенке, куда лишь
19 Баратынский Е. А. Стихотворения. Поэмы. Проза. Письма. М.,
1951, с. 477.
20 Куник А. Р. Изобразительное искусство в системе декабристской
эстетики. — В кн.: Декабристы и русская культура. JL, 1975, с. 272.
21 Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2,
с. 304—305.
22
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
изредка проникала случайная книга, старый номер журнала. Многое в
«Дневнике» разбирается по памяти. Но сколько проникновенных наблю¬
дений, глубоких сопоставлений, тонких оценок делает при этом отрезан¬
ный от мира узник!
Годы заключения и ссылки окончательно подорвали и без того не
богатырское здоровье Кюхельбекера. Он заболел чахоткой, а незадолго
до смерти ослеп. 3 сентября 1846 года был составлен «всеподданнейший
доклад» шефа жандармов А. Ф. Орлова, сообщавшего, что «государ¬
ственный преступник Вильгельм Кюхельбекер 11 числа августа умер».
На полях доклада сохранилась помета: «Его величество изволил
читать»22.
Первым литературно-критическим выступлением Кюхельбекера была
небольшая статья «Взгляд на нынешнее состояние русской словесности»,
опубликованная на французском языке в петербургской газете «Le
Conservateur impartial». Она сразу привлекла к себе внимание и в русском
переводе была перепечатана «Вестником Европы». Представлявшая собой
обозрение современного состояния литературы статья Кюхельбекера была
вместе с тем совершенно не похожа на аналогичные работы его предше¬
ственников, А. Ф. Мерзлякова или Н. И. Греча, пространные, стремив¬
шиеся охватить обширный фактический материал, упоминавшие массу
имен и произведений. Обзор Кюхельбекера — это, скорее, проблемная
статья, сосредоточенная на одном, главном, с точки зрения автора, во¬
просе. Обращаясь к литературе XVIII века, он заявляет, что русская
словесность за несколько десятилетий совершила гигантский скачок в
своем развитии. Теперь уже не хвалят за подражательность, за по¬
хожесть творений русских муз на произведения Расина, Вольтера и
Лафонтена: «Ныне оставлены мнения столь высокопарные, столь вредные
успехам искусства. Наши Вергилии, наши Цицероны, наши Горации
исчезли; имена их идут рядом с почтенной древностью только в дурных
школьных книгах».
Усилиями Радищева, Нарежного и Востокова, продолжает свою
мысль автор обозрения, было положено начало подлино русской
самобытной словесности. Русский читатель впервые обратил внимание на
немецкую и английскую поэзию. И ныне, завершает свой обзор Кюхель¬
бекер, есть люди, продолжающие развивать прогрессивные тенденции,
способствующие становлению самобытности русской литературы. Это
Гнедич и Жуковский. И если первый из них перевел гекзаметром
гомеровскую «Илиаду», то «Жуковский не только переменяет внешнюю
форму нашей поэзии, но даже дает ей совершенно другие свойства.
Принявши образцами своими великих гениев, в недавние времена просла¬
22 Литературное наследство, т. 59. Декабристы-литераторы. Кн. 1.
М., 1954, с. 475.
23
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
вивших Германию, он дал... германический дух русскому языку бли¬
жайший к нашему национальному духу, как тот, свободному и незави¬
симому».
Работа Кюхельбекера запечатлела текущий момент развития отече¬
ственной словесности и явилась важным этапом в развитии русской тео-
ретико-литературной мысли. Сущность этого этапа Кюхельбекер обнару¬
живает не в новом содержании поэтических произведений и не в новых
поэтических формах, а в изменении самой системы русского стихосло¬
жения, его механизма. «Только тогда, когда были открыты новые воз¬
можности русского стиха, поэтического языка, только тогда возникли
предпосылки для новой «перемены» в русской поэзии, которая и была на¬
чата творчеством Жуковского».
Обозрение Кюхельбекера вызвало резкую реакцию со стороны
литературных староверов. Особенно оскорбленным почувствовал себя
А. Ф. Мерзляков, едва оправившийся после полемики, разгоревшейся
вокруг «Россияды» Хераскова. Статья Кюхельбекера нанесла ему новый
удар: хотя в ней и содержались похвалы Мерзлякову, но совсем не те,
которые ему хотелось бы услышать. Пренебрежительно отозвавшись
о столпах русского классицизма, Кюхельбекер изобразил Мерзлякова
своим союзником, и это вызвало болезненную реакцию последнего,
проявившуюся в злых нападках как на самого Кюхельбекера, так и на
новые веяния в литературе и на произведения романтиков.
Второе обозрение Кюхельбекера, появившееся в 1820 году в «Нев¬
ском зрителе», дало ему гораздо больше возможностей развить и аргу¬
ментировать свои взгляды в сравнении с вынужденно лаконичной газет¬
ной статьей. Он подверг анализу обширный круг произведений,
напечатанных в «Вестнике Европы», «Сыне отечества», «Благонамерен¬
ном» и других русских журналах. Как и Бестужев, он ощутил необхо¬
димость обстоятельно рассмотреть катенинскую «Песнь о первом сраже¬
нии русских с татарами на реке Калке...», но оценил ее иначе. Он
находит в этом произведении и удачи, и просчеты, объясняя первые
«истинным талантом» Катенина, а вторые тем, что «в сочинениях его
недостает вкуса». Главное же достоинство «Песни», по Кюхельбекеру,
в том, что она представляет собой «единственную, хотя еще несовер¬
шенную в своем роде, попытку сблизить наше нерусское стихотворство
с богатою поэзию русских народных песен, сказок и преданий — с
поэзиею русских нравов и обычаев».
Вторую часть обозрения Кюхельбекер посвятил творчеству Анны Бу¬
ниной, стихи которой, также несвободные от многочисленных недостат¬
ков, были, по мнению критика, ознаменованы самобытностью, неподра-
жательностью, независимостью от достижений ее современников: «Г-жа
Бунина шла своим путем и образовала свой талант, не пользуясь творе¬
ниями других талантов».
24
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
«Взгляд на текущую словесность» запечатлел восторженное отно¬
шение Кюхельбекера к Жуковскому. Поэт, высоко оцененный уже в пер¬
вом обозрении за то, что «дал германический дух русскому языку»,
прямо назван теперь «корифеем русских поэтов нашего поколения»,
а его произведения — «творениями гения, которые бы должны быть пред¬
метом народной гордости». Кюхельбекер возмущается заметкой В. Кара-
зина о переводе Жуковского из Овидия, где отмечена лишь плавность
стихов основоположника русского романтизма. Говорит ли Кюхельбекер
о Катенине или Буниной, бегло упоминаемый при этом Жуковский — это
образец поэтического совершенства, своего рода эталон, который Кюхель¬
бекер постоянно имеет в виду, оценивая достоинства других поэтов.
Пройдет четыре года, и именно Кюхельбекер выступит с острой
критикой Жуковского и поэтов его школы. Причины, вызвавшие эти
выступления, объясняются не эволюцией собственных позиций критика
или по крайней мере не только ею, но коренятся в особенностях поли¬
тической ситуации в канун 14 декабря. Чем ближе был час решающей
схватки с царизмом, чем явственнее диктовало время необходимость
размежевания и поляризации общественных сил, тем откровеннее и резче
высказывали декабристы неудовлетворенность позицией и поэзией
Жуковского. Но если Рылеев и Бестужев предпочитали делать это
все-таки в письмах, если обзоры, помещенные в «Полярной звезде»,
выражали эту неудовлетворенность намеками, в туманных и обтекаемых
выражениях (как это сделал, например, Бестужев, напомнив Жуковскому,
давшему «многим из своих творений германский колорит, сходящий
иногда в мистику», что он «вдохновенный певец 1812 года, который
дышит огнем боев»), то Кюхельбекер выступил с такой прямотой и
резкостью, которые дали ему основания характеризовать свои статьи
как «военные действия... против элегических стихотворцев и эпистоликов»,
то есть Жуковского и поэтов его школы.
В привлекшей к себе всеобщее внимание и вызвавшей ожесточенные
споры статье «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в
последнее десятилетие» Кюхельбекер заявил, что «последнее преобразо¬
вание нашей словесности Жуковским и его последователями» имело отри¬
цательные последствия для русской поэзии. Оно привело к засилию «на
русском Парнасе» «мутных, ничего не определяющих, изнеженных, бес¬
цветных произведений», где «картины везде одни и те же», а «чувство
уныния поглотило все прочие».
В статье «О направлении нашей поэзии» правомерно видеть своеоб¬
разный манифест, с наибольшей полнотой и четкостью отразивший
суть тех позиций, которые Кюхельбекер отстаивал в 1824—1825 годах.
Но к этой статье примыкает и ряд других, где развиваются, уточняются
и получают дополнительную аргументацию ее положения. Это и «Разго¬
вор с Булгариным», и обзор «Минувшего 1824 года военные, ученые и
25
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
политические достопримечательные события в области российской сло¬
весности», и «Разбор фон-дер-Борговых переводов русских стихотворе¬
ний», и обширная статья, посвященная «лирическому песнопению»
С. А. Ширинского-Шихматова «Петр Великий».
Фон дер Борг, переводчик русских поэтов на немецкий язык, был
подвергнут Кюхельбекером критике за «выбор подлинников чрезвычай¬
но односторонний», за предпочтение, отданное произведениям, которые
«одобряются известною школою», то есть школой Жуковского,
предпочтение, приведшее к «изобилию водяной, вялой, описательной
лжепоэзии». Конечно, Кюхельбекера беспокоил не столько выбор,
сделанный фон дер Боргом, сколько состояние современной русской
поэзии, в которой «с одной стороны, слишком много описательного, с
другой — слишком мало простоты», где чувство заглушено «правилами
французской поэтики, сплошь составленными из приличий, жеманства
и принуждения».
«Известной школе», влияние которой столь пагубно для современной
поэзии, «посредственным и дурным переводчикам и подражателям ино¬
странных произведений», которым «гремят похвалы» «во всех периодиче¬
ских изданиях», Кюхельбекер противопоставил поэму С. А. Ширинского-
Шихматова «Петр Великий». «Известная школа» «ограничивает область
слога одними словами и грамматическими оборотами», не понимая, что
слог в поэзии только тогда может быть назван «хорошим, когда он
будет ознаменован истинным вдохновением и по сему самому мощен,
живописен, разителен». Усмотрев образец такого слога в поэме Ших-
матова, Кюхельбекер счел это произведение достойным такого же внима¬
ния современников, как «все лучшие оды Ломоносова, большая часть
превосходных от Державина, все трагедии Озерова, лучшие лирические,
элегические, эпико-лирические создания Жуковского, наконец, все (по
сю пору) поэмы Пушкина».
Особенный энтузиазм вызвала у Кюхельбекера четвертая песнь
«Петра Великого»: «...она лучшая во всей поэме, лучшее, что князь
Шихматов когда-либо создал; и если бы все его творение было равного
с нею достоинства, он, скажем смело, оставил бы позади Ломоносова,
занял бы между нами место не низшее завоеванного в другом роде
Державиным, величайшим поныне русским поэтом; но и теперь она дает
ему право на степень очень близкую к занимаемой ими». Впрочем, и
другие части поэмы немногим уступают четвертой песни, «многочислен¬
ные извлечения» из поэмы, приводимые Кюхельбекером, по его словам,
«далеко не исчерпали всей сокровищницы красот нашего писателя. Он
привел нас в затруднение редкое, но тем более для нас приятное; пере¬
читывая одно место, мы вспоминали о другом, недоумевали, не знали,
которое предпочесть; вот бесспорное доказательство истинного дарова¬
ния!»
26
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
Статьи Кюхельбекера 1824 и 1825 годов вызвали серьезные возра¬
жения Пушкина. Отметив, что они «написаны человеком ученым и
умным», он решительно заявил, что «многие из суждений его ошибочны
во всех отношениях»23. «...Кн. Шихматов, — писал Пушкин Кюхельбеке¬
ру, — несмотря на твой разбор и смотря на твой разбор, — бездушный,
холодный, надутый, скучный пустомеля»24.
Кюхельбекер, однако, позиции свои не изменил. Восемь лет спустя,
находясь в заключении, он перечитал статьи о Шихматове и фон дер Бор¬
ге и записал в «Дневнике»: «...ныне я почти совершенно тех мыслей, но
выразился бы несколько помягче». По-прежнему он видит в «Петре Вели¬
ком» «множество бесподобных стихов» и ставит автора этой поэмы в один
ряд с Пушкиным, притом ему-το, Кюхельбекеру, Шихматов ближе
Пушкина: «...мы, кажется, шли с 1820 года совершенно различными
дорогами, он (Пушкин. — Р. Я., JI. Ф.) всегда выдавал себя (искренно
или нет — это иное дело!) за приверженца школы так называемых
очистителей языка, а я вот уже 12 лет служу в дружине славян под
знаменами Шишкова, Катенина, Грибоедова, Шихматова».
В первой половине 1820-х годов Кюхельбекер выступил не только
как литературный, но и как художественный критик. Отрывки из «Путе¬
шествия» и литературно-критические статьи, хотя и рассматривают
разные явления литературы и искусства, во многом помогают лучше по¬
нять друг друга, поскольку они базируются на единой эстетической
программе. Искусствоведческие работы Кюхельбекера дают четкое пред¬
ставление о том, как решалась им проблема идеала. Идеал он усматривает
в «соединении вдохновения и прелести» и с этим мерилом подходит
к каждой из разбираемых картин. Отмечая вдохновение у Рембрандта
и Рубенса, он отказывает им в «прелести» изображения, так как для
него духовная красота человека несовместима с внешним безобразием.
Подобной гармонии внутреннего и внешнего, по его мнению, нет в
полотнах названных мастеров: Рембрандт слишком «вещественный», а
Рубенса не посещали Грации, потому-то «его женщины тучны и отвра¬
тительны; его Венеры — голые голландские мещанки; его боги — переоде¬
тые купцы, матросы и школьники». Не импонирует Кюхельбекеру и
Тенирс (Теньер): он «всегда однообразный и отвратительный... у него
везде пьяные мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые
пляски, карты и вино». Кюхельбекер осуждает бытовизм, приземленность
голландской и фламандской живописи XVII века. Высокое и обыденное
несовместимы, и потому, как справедливо отмечает современный исследо¬
ватель, «все, что приближается к обыкновенной жизни, прозе, лишено
прелести. Все, что носит поверхностно блестящий характер, но не освеще¬
23 Пушкин A.C. т. И, с. 41.
24 Там же, т. 13, с. 248.
27
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
но внутренним огнем — вдохновением, лишено права называться истинно
прекрасным»25.
Кюхельбекер (и в этом он был не одинок) высоко оценивал
творчество Рафаэля, считая его вершиной мировой живописи. В творче¬
стве этого художника, «поэта живописи», критик увидел свой идеал,
«соединение вдохновения и прелести». Именно творчество Рафаэля
становится для Кюхельбекера эталоном высокого искусства, ибо, как
сказано в одном из писем декабриста, вкусивший небесную пищу чув¬
ствует отвращение от пищи земной.
В эстетической теории Кюхельбекера ощущается преодоление мето¬
дов классического анализа, норм эстетики классицизма. Произведения
живописи Кюхельбекер анализирует как литератор, проявляя редкую
способность передавать словом содержание картин. Заслугой его является
и то, что он, по существу, первый русский художественный критик,
взглянувший на историю живописи как на непрерывный процесс, уви¬
девший в нем периоды подъема и падений. Отнюдь не безгрешный в
суждениях, Кюхельбекер отчетливо запечатлел в своих работах по искус¬
ству позицию декабриста-литератора, убежденного романтика, деятеля,
для которого эстетический идеал сопряжен с идеалом общественным.
Проблемы искусства заняли значительное место и в «Дневнике»
Кюхельбекера. Не следует упускать из виду, что «Дневник» — это не
только собрание многообразных оценок десятков деятелей и произведе¬
ний литературы и искусства как России, так и Европы. Высказывания,
содержащиеся в «Дневнике», как бы бросают отсвет на всю предшеству¬
ющую деятельность Кюхельбекера как эстетика и литературного критика.
Иногда Кюхельбекер прямо пересматривает, переоценивает высказанные
им в прошлом точки зрения. Иногда, сопоставляя то, что говорилось им
в начале и в конце творческой биографии, мы получаем возможность
глубже понять и те и другие. Взять, к примеру, отношение Кюхельбекера
к Жуковскому. И в заключении, и в ссылке он постоянно читает и
перечитывает стихи Жуковского и размышляет над ними. Совокупность
разрозненных, частных оценок отдельных произведений Жуковского
свидетельствуют о том, что у Кюхельбекера сложилось новое, более глу¬
бокое и разностороннее понимание Жуковского, которым сменились и
юношеская восторженность конца 1810-х годов, и неоправданная агрес¬
сивность середины 1820-х.
Перечитав в 1832 году свою первую статью, «Взгляд на нынешнее
состояние русской словесности», Кюхельбекер заметил: «...нахожу, что в
мыслях своих я мало переменился». И это говорилось о статье, содер¬
жавшей чрезвычайно высокую оценку Жуковского, от которой критик
25 Куник А. Р. Изобразительное искусство в системе декабристской
эстетики. — В кн.: Декабристы и русская культура, с. 670.
28
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
вскоре решительно отступил! Кюхельбекер не обходит молчанием то, что
не удовлетворяет его· в творчестве Жуковского: «Светлану» он ставит
ниже баллады Катенина «Наташа», корит стихотворения, которые написа¬
ны «большею частию на один и тот же тон — уныло-таинственный».
Но гораздо больше видит он в Жуковском такого, что вызывает у него
слова восхищения и читательской признательности. «Овсяный кисель»
он называет «образцом истинной простоты», в котором ему «все пока¬
залось прелестным». Об «Отчете о Луне»: «...в этой мозаике есть и чистое
золото». «Переделка «Батрахомиомахии» в своем роде прелесть», «Царь Бе¬
рендей» очень и очень хорош», «Перчатка» — образцовый перевод...»
За несколько месяцев до смерти Кюхельбекер обратился к Жуковскому
с письмом, в котором просил спасти его творчество от забвения и гибели,
обратился как к «другу и старшему брату по Поэзии», «наставнику и
первому руководителю на поприще Поэзии».
Не менее показателен материал для раздумий, который дают содер¬
жащиеся в «Дневнике» оценки Катенина. Отношение Кюхельбекера к
Катенину остается отношением к единомышленнику, которого он не раз
берет под защиту от нападок литературных недругов. Он решительно
причисляет Катенина к «людям, в таланте которых одна глупость
может сомневаться». Вместе с тем Кюхельбекер становится несравненно
требовательнее к Катенину, жестче и бестрепетнее фиксирует его
недостатки. «Перечитывая сегодня обе баллады Катенина, находящиеся
в «Сыне отечества», я восхищался многими прекрасными стихами,
однако же не мог не признаться, что они, особенно «Певец», местами
обезображены нестерпимыми небрежностями». Хотя Катенина Кюхельбе¬
кер всегда считал деятелем одного с собой лагеря, а Пушкина — нет, у
него хватает объективности для такого, например, проникновенного су¬
ждения: «А что ни говори, любезный братец Павел Александрович, ты,
конечно, человек с большим дарованием, но все не Пушкин, ты поэт-
художник, он поэт-человек; твое искусство холодно — у него душа поэти¬
ческая».
Но особенно решителен пересмотр, которому подверглось в «Дневни¬
ке» отношение Кюхельбекера к Гете и Шиллеру. В «Разговоре с Булга¬
риным» критик решительно отстаивал основания, на которых считал
Шиллера «недозревшим» и «противополагал» ему Гете. Теперь он напо¬
минает о прошлых оценках для того, чтобы заменить их новыми.
«Царствование Гете кончилось над моею душою... мне невозможно опять
пасть ниц перед своим бывшим идеалом, как то падал я в 1824 году и
как то заставил пасть со мною всю Россию». «Искренне признаюсь, что
в статье, которую я когда-то тиснул в третьей части «Мнемозины»,
говорю о Шиллере много лишнего: он как жрец высокого и прекрасного
истинно заслуживает благоговения всякого, в ком способность чувство¬
вать и постигать высокое и прекрасное не вовсе еще погасла». Восхи¬
29
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
щаясь стихотворением Пушкина «Чернь», Кюхельбекер называет его
«лучшим, истинно шиллеровским, лирическим созданием Пушкина».
Шиллер и Гете были для него олицетворением двух начал: к первому
влекла героическая патетика, ко второму — широта охвата жизни и спо¬
собность к ее объективному и всестороннему изображению. В разные
периоды Кюхельбекер был склонен к предпочтению того или другого.
Но хотя в 30-е годы происходит своеобразная реабилитация Шиллера,
оценка его становится не восторженной, но взвешенной, а заодно пере¬
сматривается и отношение к другому былому кумиру — Рафаэлю. «Очень
справедливо Менцель сравнивает Шиллера с Рафаэлем, — замечает уз¬
ник, — оба они поэты красоты, поэты идеала. Но как школа Рафаэля
произвела длинный ряд художников совершенно бесхарактерных, так
точно и Шиллерова может произвести их, и не в одной Германии».
Проблемой, которая чрезвычайно занимала Кюхельбекера в 30-х
годах, которую он затрагивал и в «Дневнике», и в статьях, и в письмах,
была проблема соотношения поэзии и нравственности. С присущей
ему страстностью и бескомпромиссностью он подчеркивал, что «художе¬
ственное создание не есть феорема эфики, а изображение света и людей
и природы в таком виде, как они есть», что «цель поэзии не нравоучение,
а сама поэзии». Вопрос о том, какие картины «позволены» поэту,
«разрешается только самою поэзиею, а не нравоучением; ибо теория,
которая свободное искусство покоряет чему-нибудь постороннему, вместе
уничтожает самое искусство. Если картина такова, что смущает нас,
что возбуждает в нас скотскую похоть, — будь уверен, что тут и самая
поэзия улетела...». И далее: «Поэзия возвышает душу, отвлекает ее от
мелких хлопот, попечений, суеты ежедневной жизни, переселяет ее в
мир красоты, покоя, картин и звуков и тем самым омывает, облагора¬
живает ее — вот польза поэзии...» Это лишь малая толика многих выска¬
зываний Кюхельбекера по этому вопросу. Все они продолжают и допол¬
няют друг друга. Все они направлены в конечном счете на то, чтобы от¬
стоять независимость поэзии, защитить ее от попыток утилитарного
использования. Они органичны для того культа поэзии, которому
Кюхельбекер служил истово, как, может быть, никто другой.
III
А. В. Никитенко, известный цензор, полвека находившийся в
центре литературной жизни России и лично знавший едва ли не всех
русских писателей, бывших его современниками, писал: «Я не знавал дру¬
гого человека, который обладал бы такой притягательной силой, как
Рылеев. Среднего роста, хорошо сложенный, с умным, серьезным лицом,
он с первого взгляда вселял в вас как бы предчувствие того обаяния,
которому вы неизбежно должны были подчиниться при более близком
30
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
знакомстве. Стоило улыбке озарить его лицо, а вам самим поглубже
заглянуть в его удивительные глаза, чтобы всем сердцем, безвозвратно
отдаться ему. В минуты сильного волнения или поэтического возбуждения
глаза эти горели и точно искрились. Становилось жутко: столько было в
них сосредоточенной силы и огня»26.
Рылеев был руководителем Северного общества и инициатором вос¬
стания на Сенатской площади. Он убеждал колеблющихся, настаивал на
необходимости решительных действий. Перед Следственной комиссией он
бестрепетно признал себя «главнейшим виновником происшестия 14 де¬
кабря». Литературное творчество Рылеева было прямым продолжением
его революционной деятельности, и лишь как ее органическая часть оно
может быть понято и оценено по достоинству. Как критик он выступил
лишь однажды — со статьей «Несколько мыслей о поэзии», которая,
благодаря взвешенности ее концепции и продуманности аргументации,
позволяет судить о том, как много мог бы сделать Рылеев и в этой
сфере своей деятельности. Он оставил массу недописанных вещей и не¬
воплощенных замыслов. Его кипучая деятельность была пресечена
13 июля 1826 года, когда палач набросил петлю на его шею.
Кроме статьи «Несколько мыслей о поэзии» мы располагаем еще
одним источником, содержащим важные данные для характеристики
литературно-эстетической программы Рылеева, — это его письма к Пуш¬
кину. Переписка Пушкина с Рылеевым длилась считанные месяцы, но
была весьма интенсивной и охватывала широкий круг вопросов: обсужда¬
лись и актуальные события литературной жизни, и произведения как
Рылеева и Пушкина, так и других писателей, многое другое. Но одна
мысль проходит через нее красной нитью, точнее, проходит через письма
Рылеева, ибо именно для него эта мысль имела первостепенное значение.
Это гражданская функция поэзии, место литературы в общественной
жизни.
Первое из известных нам писем Рылеева к Пушкину кончалось
многозначительным и показательным призывом: «Прощай, будь здоров
и не ленись: ты около Пскова: там задушены последние вспышки русской
свободы; настоящий край вдохновения — и неужели Пушкин оставит
эту землю без поэмы». А в последнем, написанном лишь за месяц до
восстания на Сенатской площади, те же пожелания сконцентрированы
в лаконичной формуле: «Будь Поэт и Гражданин».
Когда Рылеев говорит о вдохновении, он вкладывает в это слово
специфический смысл. Вдохновение — это в известной степени синоним
вольнолюбия, беззаветного служения свободе. Именно поэтому он добива¬
ется, чтобы Пушкин «не оправдывал софизмов Воейковых: им только до¬
зволительно ставить искусство выше вдохновения». Это слова из письма
26 Писатели-декабристы в воспоминаниях современников, т. 2, с. 43.
31
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
Рылеева от 10 марта 1825 года, а днем раньше те же мысли втолковывал
Пушкину и Бестужев. «Стоит ли вырезать изображения из яблочного
семечка, подобно браминам индейским?.. — восклицал он и заявлял, что
отдает «преимущество тому, что колеблет душу, что ее возвышает, что
трогает русское сердце...».
Эта установка побуждала Рылеева отвергать пушкинскую критику
его «Дум». Пушкин критиковал «искусство», Рылеев отстаивал ведущую
роль «вдохновения» и высказывал убеждение, что его думы «могут быть
полезны не для одних детей». Он был «более доволен» «Исповедью На-
ливайки», чем «Смертью Чигиринского старосты», потому что сопоставлял
их полезность и в «Исповеди» усматривал «гораздо более дельного».
А во влиянии Жуковского на дух русской словесности Рылеев «дельного»
не усматривал и даже наоборот. Несмотря на то, что Жуковский принес
важные пользы языку нашему», это влияние «было слишком пагубно:
мистицизм, которым проникнута большая часть его стихотворений, меч¬
тательность, неопределенность и какая-то туманность, которые в нем
иногда даже прелестны, растлили многих и много зла наделали».
Показателен и характерен для Рылеева и тот контекст, в котором
он упоминает «вдохновение» в письме к Пушкину, написанном в первой
половине июня 1825 года. Покровительство, утверждает он вслед за Бе¬
стужевым, отрицательно действует на гений: «сила душевная слабеет при
дворах, и гений чахнет; все дело добрых правительств состоит в том, что¬
бы не стеснять гения; пусть он производит свободно все, что внушает ему
вдохновение». Влияние верхов и «вдохновение», таким образом, противо¬
стоят друг другу.
Статья Рылеева «Несколько мыслей о поэзии» имеет, как известно,
подзаголовок «Отрывок из письма NN». Существует предположение,
что это «письмо» обращено к Пушкину. Если это так, то оно оказалось
последним словом в диалоге двух поэтов. Рылеев начинает статью с от¬
каза участвовать в распрях сторонников классицизма и романтизма: обе
стороны, утверждает он, спорят о словах, а не о существе предмета,
ибо «на самом деле нет ни классической, ни романтической поэзии, а
была, есть и будет одна истинная самобытная поэзия, которой правила
всегда были и будут одни и те же». Однако, если видеть не только то,
что декларируется автором, но вдуматься в характер приводимых им
аргументов, то становится ясно и то, что Рылеев выступает, по существу,
в поддержку принципов романтической эстетики, и то, что он видит
историческую изменчивость правил «истинной поэзии». Он отвергает
ориентацию на античность как на вневременной и вненациональный
образец, якобы гарантирующий художественное совершенство. Думать,
что «слепо подражая древним и в формах, и в духе поэзии их, можно
достигнуть до той высоты, до которой они достигли», — «несчастное
предубеждение», которое «было причиною ничтожности произведений
32
СВОЕОБРАЗИЕ ДЕКАБРИСТСКОЙ ЭСТЕТИКИ
большей части новейших поэтов». В действительности цель подлинной
поэзии состоит в том, чтобы, сбросив «вериги чужих мнений», устремить¬
ся «к собственному идеалу».
Ориентации на античные образцы Рылеев противопоставляет «изу¬
чение духа времени, просвещения века, гражданственности и местности
страны того события, которое поэт желал представить в своем сочине¬
нии». Он требует, чтобы «формы» определялись «предметами творений».
Вместо разделения поэзии на классическую и романтическую Рылеев
предлагает разделить ее на древнюю и новую («это будет основатель¬
нее», — говорит он). И дело здесь, конечно, не в словах, а в том, что
стоит за ними: в установке — пусть не всегда последовательной и не
до конца выдержанной — установке на историзм, на то, что поэзия
«различается только по существу и формам, которые в разных веках
приданы ей духом времени, степенью просвещения и местностию той
страны, где она появлялась».
«Три единства греческой драмы» оправданы в глазах Рылеева,
потому что они «не изобретены нарочно древними поэтами, а были
естественным последствием существа предметов и творений». Они не мо¬
гут быть «непременным законом» для поэзии нового времени, ориентиро¬
ванной на «поприще более обширное», но могут оказаться уместны,
если того потребует характер изображаемого события. Мы освобождаем¬
ся «от вериг, наложенных на поэзию Аристотелем», но «свобода сия,
точно как наша гражданская свобода, налагает на нас обязанности,
труднейшие тех, которые требовали от древних три единства».
Исполнить обязанности, наложенные на нас «нашей гражданской
свободой», — в этом для Рылеева было главное. И он не хотел, чтобы
они оказались затемнены чем-нибудь другим. Потому он отвергал
«суетное желание сделать определение» поэзии, призывал «оставить бес¬
полезный спор о романтизме и классицизме» и «употребить все усилия
осуществить в своих писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных
истин». Нельзя не услышать в этом призыве требования к литературе
исполнить свой долг перед обществом, свой гражданский долг.
* * *
Внимание декабристов привлекли к себе многие вопросы литератур¬
ной и художественной критики и эстетики. Они характеризовали
писателей и художников разных стран и эпох, внесли ощутимый вклад
в разработку ряда важнейших положений теории искусства. Но главным
предметом их размышлений были две взаимосвязанные проблемы —
проблема романтизма и проблема народности. Решения этих проблем, ко¬
торые были ими предложены, имели как сильные, так и слабые стороны
и не должны ни идеализироваться, ни недооцениваться. Но следует
2—907
33
Р. НАЗАРЬЯН, Л. ФРИЗМАН
помнить, что их подход к этим проблемам был именно их подходом, он
был специфичен и неповторим, он существенно отличался от того, что
писали одновременно с ними о том же другие деятели русской культуры,
отнюдь не уступавшие им ни в таланте, ни в кругозоре, ни в силе анали¬
тической мысли, такие, например, как Полевой, Веневитинов, Киреевский,
не говоря уже о Пушкине.
Обращаясь к литературным и эстетическим проблемам, декабристы
оставались декабристами, и их деятельность в области критики и эстети¬
ки была органически связана с их политической деятельностью, была
продолжением ее в иной сфере. Так, декабристский романтизм это было
искусство, выражающее «дух времени», того времени, которое вынуждало
«умы клокотать». Это было искусство, пригодное для решения агитацион¬
ных задач, для воспитания современников в духе вольнолюбия и патрио¬
тизма, для воплощения в литературно-художественных произведениях
идей, распространение которых привело бы к политическому переустрой¬
ству в стране и к «общему благу».
Так же подходили декабристы и к проблеме народности. Проблема
эта занимала в то время всех, всеобщим был интерес к фольклору, к
культуре и быту Древней Руси, к результатам археологических исследо¬
ваний. Но шишковисты апеллировали к народности для обоснования
своих идей об особом пути развития России, о ее исконном несходстве
со странами Запада, карамзинисты считали, что своеобразие русского
общественно-бытового уклада совместимо с институтами, сформировав¬
шимися в Европе, и отечественная народность выразится в своеобразии
форм, которые даст перенос на русскую почву ценностей, созданных
интеллектуальным миром Запада.
Декабристы же, говоря о народности, обращали преимущественное
внимание на исконное, по их мнению, вольнолюбие русского народа и
его готовность противостоять как иноземным, так и отечественным угне¬
тателям. Они считали, что готовность к борьбе за переустройство
России имеет исторические, исконно народные корни, и их обращение к
этим корням всегда одушевлялось и корректировалось пониманием совре¬
менной социальной ситуации. Не одна лишь словесность, но и литератур¬
но-художественная критика и теория «кружились», по убеждению дека¬
бристов, «под политической печатью». Это и было глубинной подосновой
своеобразия декабристской эстетики.
Р. Назаръяну Л. Фризман
A. A. БЕСТУЖЕВ
СТАТЬИ
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
в трех действиях в стихах,
сочинение Расина, перевод с французского.
С.П.б. 1816 года, в типогр. Дрехслера*
Удивительно, почему перевод
«Эсфири», наделавший много шуму в городе в эпоху своего
появления и о котором теперь воспоминают только тогда,
когда видят его на сцене, никем не удостоен разбора хотя
из уважения к подлиннику. Известно, что Расин написал
трагедию сию для детского театра и она, по плану, завязке
и характерам, принадлежит к слабейшим произведениям
знаменитого автора; но прекрасные стихи, особенно в ли¬
рическом роде, в ней встречающиеся, ставят оную наряду с
хорошими трагедиями. Из сего видно, что в переводе ее
надлежало преимущественно стараться о сохранении сей
прелести. Русский переводчик, вероятно, мог бы перевести
«Эсфирь» гораздо лучше. В доказательство сего приведем
некоторые места его перевода; любопытные могут сличить
их с оригиналом:
Кичливый Артаксеркс рабу свою венчал,
И гордый Перс к ногам Еврейской дщери пал.
* Первый перевод «Эсфири» в стихах вышел в 1795 году. Он не
дурен, но писан обветшалым языком.
2**
35
A. A. БЕСТУЖЕВ
Или:
А я гнушаясь лжи и лесть оставя им,
Молилась Господу и плакала пред ним.
Или:
Скучая почестьми, сама себя ищу,
К стопам Предвечнаго с мольбою повергаюсь,
И смертных суетных забвеньем наслаждаюсь,
Брега священны Иордана!
Любимы Господом поля!
Наследье древня Ханаана,
Чудес обильная земля!
Высоки холмы, тучны долы,
Издайте гласы и глаголы:
Навек ли мы отчуждены
Драгие отчие страны?
Или:
Да пред лицом твоим восстать бы не могли,
Подобны пылию и праху,
Взмятенну вихрем от земли.
Или:
Падите ниц... Так подданных к примеру
Царь чтит достоинство и награждает Веру —
Или:
Нет мира грешному; вотще за ним он мчится;
Изгнанный им покой к нему не возвратится.
Злодей гоним извне врагов своих мечом,
Злой совести внутри терзаем он бичом. —
Или:
Упреков жалобных не терпит слух Царей.
Или:
Пучины бурныя разгневанных морей
Не так опасны нам, как лживый двор Царей.
Или:
И в бегстве не найдут спасенья,
И мраз и глад им путь препнет,
И Ангел Божий, Ангел мщенья
Мечем бегущих поженет.
(Сей строфы нет в подлиннике.)
Или:
Напрасно смертию закона глас грозил,
В ней сердце серой возгорело;
Она на смерть дерзнула смело,
Рекла, и Бог благословил.
36
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Свлеките с выи узы плена
И со главы стряхните прах;
Взыграйте, Яковли колена,
Воспойте Господу в псалмах;
Отверзш вам путь: бегите вскоре
Чрез горы, реки, степь и море;
Стекитесь все в единый лик,
Взнесите все до неба клик:
Господь велик!
В сих и еще некоторых, впрочем, весьма немногих,
удачно переведенных стихах и хорах заключаются красо¬
ты перевода; все остальное есть почти беспрерывное сцеп¬
ление непростительных ошибок против вкуса, смысла, а
чаще всего против языка, не говоря уже о требованиях
поэзии и гармонии. Здесь прилагаем немногие образчики
таинственного наречия господина переводчика. Например,
Элиза в 1 явл., 1 д. говорит следующее:
Оплакав ложну весть о смерти я твоей.
Но об вестях не плачут, а оплакивают кого-нибудь по
вестям, ложным или справедливым, как случится. Напри¬
мер, если бы сказали: «Эсфирь» дурно переведена», то мы
сожалели бы о самой вещи, а отнюдь не о рассказах.
...Жила отчуждена от общества людей,
Вероятно, не зверей. Если сказано: от общества, то
смысл полон, и потому не должно прибавлять людей; ибо
одни человеки живут в обществе; звери бегают стадами,
птицы летают станицами и так далее. У нас говорится:
общество людей ученых, самолюбивых и проч., но без при¬
лагательного имени речение общество людей никогда не
употребляется.
...И слез твоих предмет сидящим на престоле.
Не по-русски. Слезы могут иметь предмета, но при-
чина их существовать должна. Предмет относится только
к понятиям отвлеченным, причина большею частию к дей¬
ствиям физическим, и потому говорят: предмет любвщ но
предмет слез — галлицизм.
В следующем стихе нет полного смысла:
С престола и одца казнил ее изгнаньем.
У Расина:
La chassa de son trône, ainsi que de son lit.
A в переводе выходит, что Артаксеркс в одно время
37
A. A. БЕСТУЖЕВ
с престола и с одра сам казнил Астинь! Чудно, казнить
изгнанием еще чуднее: казнями зовутся у нас мучения,
пытки, самая смерть, но изгнание есть не более, как снис¬
ходительное наказание.
Метафоры:
Красой обресть венец...
Или:
На слабых сих руках их вольность основали,
Так хитро сплетены, что нам, слабым смертным, ка¬
жутся непонятными. Недаром пишут, что стихи наречие
богов! Однако ж это еще не все; выражение:
Трудила помощь рук, в искусстве ухищренных,
высучено так тонко, что ни один французский жеман¬
ный остроумец не выдумал бы чего-либо тонее. Трудить
помощь в искусстве ухищренных рук\ неподражаемо! И
мы еще говорим, будто у нас нет конфетных билетцев!
...Цвет, расхищенный судьбой.
И не по-русски, и не с французского.
Как скромного стыда их полон взор и стан\
Стан, полный стыда! Новое открытие в физиологии!
Очень жаль, что качество сие не дошло до нас; оно было
бы забавным феноменом; особенно если б простерлось на
вещи: тогда б многие листы краснелись, нося на себе неле¬
пости!
Мои к земле пригнутся длани,
Прилипнешь, язык, к моей гортани,
И потреблюся от живых.
Вот поэзия! Вот восторг! Правду сказать, что во всей
строфе нет смыслу; но зато картины, зато благородные
выражения! Не дурно и это:
Сойди, как некогда сходил ты зрящу морю\
Легче написать такой стих, нежели понять его; как
кажется, переводчик хотел сказать; отверзтому морю, но
зрящему! непостижимо.
Прилежный слух вперил сих повестей по чтенье.
Поэтому, когда у слуха и зрения одинаковые свойства,
можно сказать: развесил глаза'? Признаюсь, услышав на
сцене слова сии, я зажмурил уши.
38
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Колена клонят все пред славою моей.
Или:
Я Персов зрю почтеньем пораженных.
Итак, слава ходит по улицам? Такие чародейства не¬
слыханны и разве бывают в одних трагедиях, и то пере¬
водных. Поражаться можно только страстями, внезапно
действующими, но почтение, во-первых, не есть страсть,
а чувствование, во-вторых, возрождается постепенно, и
потому говорить таким образом несообразно с логикою.
Впрочем, древние, как видно, не смотрели на логику и да¬
же с птицами заключали контракты, что видно из стиха:
Весь род иль ястребам обещан снедью в поле.
Или:
Зальются кровию здесь целые народы.
Точно так, как заливаются уксусом или маслом —
двусмыслие самое невыгодное!
...Казни их буйные шатанья.
Неужели господин переводчик хотел сказать; киченье?
Неужели: efforts значит шатанье? В обоих случаях он не
прав. Если же произвел существительное от глагола,
употребленного в псалме: Всякую шаташося языцы и проч.,
то, видно, он не знает славянского языка, ибо в сем смыс*
ле шаташася значит: заблуждаться, блуждать, а вовсе не
мятежствовать. Но по-русски слово: шатанье употребляет¬
ся в самом низком слоге.
Сгуби несчастных сих; добро же их наградой.
Кому, смею спросить? У Расина ясно сказано:
Va, perds les malhereux, leur dépouille est a toi.
Но русской переводчик из «Эсфири» сделал сфинкса;
надобно быть Эдипом, чтобы разгадывать его шарады.
Читая перевод, кажется, видишь себя в маскараде; в
нем все поет и пляшет: израильтянки лепечущим языком
хвалят господа, воздвигают плач и проливают стесненныя
рыдания; все вещи олицетворены и прогуливаются. Напри¬
мер, Артаксеркс говорит Аману:
ПриближьсЯу твердый щит Престола моего!
И щит с низкими поклонами приближается. В оригина¬
ле употреблено слово: appui, которое принимается францу¬
39
A. A. БЕСТУЖЕВ
зами всегда в фигуральном смысле. Но господин перевод¬
чик хотел украсить Расина; у него даже животом славят
всевышнего.
Уста мои, сердце и весь мой живот
Подателя благ мне, да Господа славит.
Трудно поверить, что еврейские девы были чревове¬
щательницами; но в переносном смысле принять сего нель¬
зя, ибо поющая израильтянка исчисляет здесь свои члены.
В подлиннике:
Que ma bouche et mon coeur, et tout ce que suis.
Предоставляю судить другим, должно ли было перево¬
дить таким образом.
Ты ухо Царское, рука его и око.
Всем известно, в каком смысле употребляется слово:
ухо. Говорят: он ухо парень, ухорские кони и проч., а по¬
тому, дабы не ссориться с вкусом, должно б было избе¬
гать подобных выражений и не искажать смысла ориги¬
нала, где сказано:
Ne possédez — vous son oreille et son coeur?
Евреи, их же зришь претящими очьми,
Презреньем чтишь людей, и вся готовишь злая.
Загадка на загадке; что значит: претящие очи? У Ра¬
сина о них не сказано ни слова, и так отгадка будет —
в следующем нумере. Презреньем, повторяю, чтить, т.е.
почитать, невозможно; презрение и уважение, как два по¬
люса, никогда не сойдутся; после этого можно будет ска¬
зать: казнить счастием!
...Слепыми зришь очьми.
Чудо! Если б какой-нибудь злой дух оборвал со всех
экземпляров сей трагедии заглавные листки, то трудно
было б угадать, комедия ли она или опера, сделанная в
подражание «Оборотням»1, где один поэт говорит:
Закрыл мои глаза и с быстротой взирал
На то, что предо мной невидимо являлось.
Подъял уже весы для казни твоея.
Не лучше ли безмен? ибо весами казнить нельзя, а
можно (метафорически) взвешивать преступления, дабы
по оным определять наказания. Продавцы обвешивают
покупщиков на ложных весах, но их за сие казнят не ве¬
сами.
40
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
...Твой глас медоточивый!
Не знаю, давно ли голос получил привилегию быть
медоточивым; прежде сего одни уста имели это право.
Говорится: Златоуст; но Златогласом называть кого-нибудь
и странно и нелепо.
Мимоходом должно заметить, что какофония есть не
последнее качество сего перевода: скачущие стихи, натяну-
тыя рифмы, новоскованные слова не слишком ласкают
слух читателей, например:
Пришла; сокрыла же отчизну и рожденье.
Или:
...Скрыв вшествие в сей дом
Сама сидящая я.
Или:
Внемля я
Или:
Страх смерти злой, твой дух колеблет уж теперь.
Простой набор слов не упущен в переводе, дабы прив¬
лечь хоть шумом зрителей:
Ужасным неким сном сей ночью пораженный,
Царь тяжкою тоской скорбит обремененный.
Или:
Всю ночь он простонал, порывно вопиющий.
И фигура повторения не была забыта.
Например:
...Смирит смиреньем,
...Отмстит отмщеньем,
...Претя прещеньем... и проч.
Один только очищенный вкус не удостоился быть со¬
трудником господина переводчика. У него самая неупотре¬
бительная, заржавевшая славянщизна перемешана весьма
неосторожно с простейшими русскими словами. После вы¬
ражений: возвративый, облегчивый, летяй, Веньяминлих,
отвращу же лице, бо, сице, се не б — встречаем: у дверей,
страшно стало, обвешанного, целые три дни, никого, инде,
воспятил, кормильца моего, воня, гадов и тому подобныя
низости, недостойныя языка трагедии. Равномерно и в
следующих стихах немного найдем прелестей:
...Изорвем по кускам.
41
A. A. БЕСТУЖЕВ
Или:
Режуш младенцев...
Признаться, они и взрослым режут уши.
Или:
...Богам честь блудну воздала.
От света блазнаго... или блазныя зеницы.
И здесь нега твоя уткнется в трупы мертвы.
Или:
Кто честная в женах, труждалася тобой?
Бесполезно, кажется, разбирать сии стихи. Всяк видит,
всяк чувствует, сколь они безвкусны и неблагопристойны.
Кто не скажет, прочитавши нашу «Эсфирь», что она есть
пародия «Эсфири» Расиновой?
Стихов:
Пред ним ниц падшие враги
Полижут перст его ноги
нет в подлиннике; но можно ли было выпустить такия
замысловатые, бесценныя картины! Они венчают весь пе¬
ревод. Воображение поражается новостию зрелища (ка¬
ким образом, до этого нет дела), слух пленен красотой
выражения — один вкус страждет, но вкус, как и лавро¬
вые листья, теперь нужен в одних кушаньях.
Выражения: ценней, искомая, в дар себе взыщи —
неприличны высокому слогу. Первое употребляется только
в политической экономии, второе — в математике, а по¬
следнее в одних приказах.
Наконец, следуя порядку господина переводчика, мы
примемся за грамматику, которую он сам, как кажется,
считал последним делом. Не останавливаюсь на новоизоб¬
ретенных словах, каковы: стуженье (вместо: стужание, от
глагола стужать)у присущее, преступок, воградил и тому
подобных и на том, что прилагательные стоят иногда вмес¬
то причастий, как, например:
Когда торжественным врагам (вм. торжествующим).
Или:
Сколь заблужденный Царь опасен, сестры, вам!
Где и кем заблужденный? Иной подумает в лесу, ка-
ким-нибудь лешим. Все сии ошибки ничтожны перед сле¬
дующими :
И даже потупить очей (вм. очи) пренебрегаешь.
42
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ
Или:
В нем (вм. у него) очи гневныя сверкали.
Или:
До солнцева (вм. до солнечнаго) восхода.
Или:
...Жизнь...
Не крови ль достоишь ты, коей (вм. от коей) рождена.
Или:
Успел он каждый раз взор стражи ослепить.
И русский мог написать это! Если Мардохей был там
несколько раз, то для чего не сказать в прошедшем мно¬
гократном времени: успевал, ослеплять? — Но тогда б не
вышло рифмы! — А, извините мою недогадливость!
Был род израилев по всей лицу земли,
Их буйны племена во множестве цвели...
О, просвещение! Кто б поверил за двадцать лет пред
сим, что можно говорить: по всей лицу и после имени
существительнаго в единственном числе ставить местоиме¬
ние во множественном?
...Созиждил...
Пощадите! Сжальтесь хоть над бедным славянским
языком; сами татары так не колесовали его.
Сей Бог, всевластвуй землей и небесами.
Неправильно. Глагол средний властвовать требует всегда
предлога над; говорят: владеть народом, страстьми, но
властвовать над смертными, над стихиями и проч.
Так Царь творит неметь гортань клеветника!
Нестерпимый, непростительный галлицизм! Скоро ста¬
нут говорить на театре (чего Боже сохрани!) сделай по¬
дать мой меч! Скоро будуарный язык со всей своею пест¬
ротою переселится на сцену!
Мардохей. Царь! Бог да сохранит тебя на многи лета9
Но смерть Еврей близка, без скораго завета...
Артаке. Внушаю речь.
А я протираю глаза, перебираю все двусмысленные
глаголы, но никак не нахожу смысла. Наконец прибегаю
к Расину. У него сказано: je t’entends. Поэтому внимать
и внушать все равно? Благодарим за новую грамматику.
43
A. A. БЕСТУЖЕВ
Однако ж, покуда оной не выучимся, я буду говорить:
je n’entends pas.
В заключение следует строфа, которая, яко образцовое
произведение, была на славу помещена в журналах. Оную
поет одна израильтянка, начиная так:
Я зрел: враг Божий вознесенный,
Горе возрос из дольных недр и проч.
После всего сказанного, когда женское лицо может го¬
ворить: я зрел, я протек и проч. в лучшей строфе, что
должно заключить о прочих? Впрочем, если вкус, грамма¬
тика и смысл подлинника суть безделки, как полагают
многие, то перевод «Эсфири», сходный с оригиналом
только числом стихов, может почесться весьма хорошим.
Не обязавшись перепечатывать «Эсфирь» снова, оканчиваю
замечания сии, хотя они могли бы быть бесконечны.
Особы, желающия увериться в истине их, могут получить
подлинник перевода «Эсфири» у театральных дверей за
сходную цену, с полною коллекциею его красот и недо¬
статков.
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ,
ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
Комедия в 5 действиях в стихах.
1815 года, в типогр. импер. театра
Если б здравая критика це¬
нила все творения по первым восклицаниям публики, то
большая часть оных при громких рукоплесканиях достиг¬
ла бы храма славы. К счастию, театральный репертуар
не есть книга бессмертия; предубеждение, связи, недоста¬
ток лучшего, иногда самые прихоти зрителей бывают при¬
чиной частых представлений какой-нибудь пиесы, но толь¬
ко просвещенный вкус и время могут назначить ей долж¬
ное место в пантеоне Мельпомены или Талии1. Комедия
«Урок кокеткам» имела самый блистательный успех: ав¬
тор по всегдашнему обыкновению был вызван; актеры осы¬
паны рукоплесканиями, и самая пиеса выдержала частые
44
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
представления, но, как я говорил уже, не всегда можно
доверять мнениям публики, и сие излишнее пристрастие
не было доказательством превосходства комедии. Не мно¬
гие трудили себя замечаниями на оную и то частным об¬
разом; другие или не хотели, или не умели сего делать и,
как водится, восхищались, кричали «браво» кстати и не
кстати, а в междудействиях провозглашали ее чудом и на
сей раз, кажется, не совсем ошиблись. Взглянем на ход
сей комедии: может быть, мы уверимся в истине сего вы¬
ражения.
Театром действия избраны «Липецкие воды» — поле
обширное для комика! Первое действие начинается, по
старинному обыкновению, прологом, в коем новоприезже¬
му князю Холмскому Семен, смотритель над банями,
бывший его слуга, рассказывает все, что хочет высказать
автор, — это еще не новое. Две сестры сего Холмского:
одна — родная, именем Олинька, хотя уже и не малютка,
скромная Агнеса, другая — двоюродная, графиня Лелева,
ремеслом кокетка, состоянием вдова — лечатся здесь, бог
знает от чего! Тетка Холмского и Олинька, княжна Холм-
ская, болтливая московская барыня, для счету персонажей,
присутствует на Липецких водах. Друг Холмского, полков¬
ник Пронский, есть веретено, около коего опутаны все узлы
комедии. Он влюблен, в кого? — неизвестно. Графиня его
заманивает и обольщает. Олинька нравится ему своею
молчаливостию, терпением — ив этом-то состоит завязка.
Три сумасброда: один подагрический барон Вольмар, дру¬
гой отставной хват Угаров, третий миндальный стихотвор
Фиалкин, которые, как выпускные куклы, выходят в пау¬
зах скучать зрителям разными нелепостями, суть обожатели
графини, с которыми она амурится вдруг без зазрения со¬
вести. Саша, смышленая горничная, на манер субреток,
путает интриги в пользу Олиньки, обманывая графиню
и мешая ей во всех предприятиях; она пружина всего.
Первыя три действия проходят в рассказах, обниманиях
и пересудах между родственниками, в кокетстве графини и
перебранке ее любовников. Тетушка бранится, Холмский
и Олинька молчат, Пронский в нерешимости. В 4-м дей¬
ствии приезжает граф Ольгин, бывший временщик Леле-
вой, износившийся камергер и остроумец нынешнего све¬
та; как будто какой гений принудил его из Петербурга
для развязки отправиться в Липецк! Обманутый в надеж¬
дах своих холодным приемом графини, играющей пред
45
A. A. БЕСТУЖЕВ
Пронским ролю Эйлалии, Ольгин говорит ей множество
грубостей, намекая о связи с ним и прежней ее жизни и
оставляет графиню в обмороке. Притворным раскаянием
хочет она исторгуть у Пронского признание в любви и,
для поправления долгов, выйти за него замуж. Незваная
тетушка и Саша препятствуют успеху. Хитрая графиня,
после прогулки со своею свитою, чтоб заставить молчать
Ольгина, льстит ему и назначает свидание в одиннадцать
часов ночи. Надобно знать, что еще во втором действии
хилый барон велит приготовить Семену для празднования
рождения своей любезной иллюминацию, не знаю по како¬
му обычаю, накануне; плошки должны быть зажжены при
первых звуках музыки. Угаров для той же причины, с цы¬
ганами и Стешкойу хочет дать графине серенаду. Поэт с
гитарой в руках сбирается пропеть новую поздравитель¬
ную балладу, и Саша нарочно назначает им один и тот
же час. Наконец граф и графиня выходят на сцену, просят
друг у друга извинения, потом принимаются пересужать
весь свет, не щадя никого из действующих лиц сей коме¬
дии; Пронский, которого принудили подслушивать разго¬
вор сей, узнает мнение о нем графини. Графиня любезни¬
чает, Ольгин волочится, и в то самое время, как становит¬
ся пред ней на колени, Фиалкин бренчит на гитаре и театр
освещается иллюминациею, зажженною по ошибке. Уга¬
ров прилетает на лихих, княжна выбегает*, думая, что сде¬
лался пожар. Дело объясняется — берег! берег! Развязка
на сцене — графиню все упрекают; она бранит всех и ухо¬
дит. Князь Холмский говорит: утро вечера мудренее и
отправляется спать. Ольгин советует Пронскому жениться
на Олиньке — Пронский в нерешительности идет с ним до¬
думывать, на ком жениться, а Саша выходит замуж за
Семена, заключая спектакль прелестным нравоучением:
Что правда быть должна всегда пред кривдой права,
И что кокетствовать добра нимало нет\
Занавес опускается и — пиеса окончена.
Вот содержание «Липецких вод», известных более по
эпиграммам, на них писанным, нежели по собственному
их достоинству. В них не находим мы ни большой вероят¬
ности в стечении обстоятельств, ни новости в плане, ни
* Заметим: совсем одетая и через пять секунд по освещении, хотя
она давно уже легла спать. То же самое, разумеется, и о князе Холмском,
46
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
нечаянности в развязке. С первого действия зрителю уже
известно, чем кончится комедия.
Действующие лица приходят и уходят или совсем без
причины, или по столь незначительным причинам, что во
всем видна рука автора, управляющего проволокою их Ки¬
тайских теней. Междудействия условно приняты для озна¬
чения какого-либо происшествия или времени, протекше¬
го в сии несколько минут, в этой пиесе сделаны, кажется,
только для того, чтоб дать отдыхать актерам и зрителям.
Неизвестно также, почему она разделена на пять актов.
Не говоря уже о том, что графиня, хотя неудачно, спи¬
сана с Прелесты в «Мизантропе», заметим, что вся развяз¬
ка взята из сей же Мольеровой комедии, с одною разни¬
цею: там объяснение происходит чрез письма, а здесь на
словах. Надобно еще сказать, что площадка, на которой,
для сохранения единства места, происходят все чудеса, не¬
годна к любовным изъяснениям и свиданиям; ибо сверх
того, что окна двух домов обращены на нее — аллея
сада отделяется от оной одною решеткою, а потому баро¬
ну Вольмару неприлично было становиться днем перед
графиней на колена. Княжне Холмской и другим странно
выходить на площадку, высказывать свои роли, а графине,
столь осторожной кокетке, непростительно назначать такое
место для рандеву. Одной предусмотрительности автора
обязана графиня тем, что никто из зажигальщиков пло¬
шек, музыкантов и слуг не попался ей навстречу или не
был ею услышан. Одним словом, план «Липецких вод»
мог быть забавен по предмету, но сделался весьма сух
по расположению и, не имея новости, стал скучным.
Теперь приступим к краткому разбору характеров, ес¬
ли они найдутся в сей комедии.
Искусство драматического писателя состоит не только
в умении сплетать вероятности и выдумывать пышные
титулы, но в умении избирать разительные характеры, ис¬
кусно употреблять контрасты в оных для вернейшаго
достижения нравственной цели, а более всего сохранять
единство в изображении главных лиц, дабы внимание
зрителей не разделялось одинаково на прочия вспомощест¬
вующие роли. В пренебрежении сих правил состоит глав¬
ной недостаток «Липецких вод»: контрасты характеров
неравносильны. Автор, давши полную волю кокетке, не
доставил случая добренькой Олиньке нравиться зрителям
каким-нибудь великодушным поступком. Одна служанка
47
A. A. БЕСТУЖЕВ
рекомендует ее всем и каждому: прекрасное средство хва¬
лить кого-нибудь! При этом невольно вспоминаешь слова
известного сатирика:
К благопристойности пустую бросить веру,
Нам девок на театр выводят для примеру!
В самом деле Саша, которая ворочает всем, умнее про¬
чих. Между Олинькой и Лелевой нет никакой параллели.
Первую терпят из одной жалости, но выгода всегда оста¬
ется на стороне последней. Множество посторонних лиц
развлекают внимание зрителя. Однообразность их требова¬
ний утомляет его. Характер графини, если кокетство мож¬
но назвать характером, мало соответствует цели автора:
вместо женщины ловкой, воспитанной, привыкшей к луч¬
шему обращению, мы видим весьма обыкновенную кокет¬
ку, без остроумия, без предусмотрительности, не умеющую
скрывать ни видов, ни хитростей своих*, которая желает
пленить по выгодным расчетам Пронского и при его гла¬
зах амурится с другими, которая столь мало имеет само¬
любия, что тщеславится обожателем своим Угаровым,
глупым купчишкою, — словом, недостатков коей один
только Пронский, жалкая копия русских патриотов, не мо¬
жет заметить**. Она изъясняется языком прихожих, и
трудно угадать, горничная ли Саша или графиня Лелева
говорит благороднее или, лучше сказать, неблагороднее.
Например, вот слова Саши:
Как приторно... давно ль ты записался
В сантиментальный цех\
Или:
Графиня же вздыхать изволит на заказ.
Впрочем, она иногда изъясняется, как доктор филосо¬
фии, например:
Вы б могли
Вздыхательной толпы надменно божество
Очеловечить вмиг.
* (Явл. 8, д. 5). Когда она читает Левека и сама показывает Прон-
скому, что это история, а не роман; потом очень грубо выспрашивает о
любви его к Олиньке (с. 76 и явл. 7, д. 4), когда графиня говорит на¬
счет Олиньки нелепую иронию.
** (Явл. 2, д. 4). Сцена свидания ее с графом Ольгиным вовсе не
натуральна. Можно ль было ей не предвидеть, что старый любовник
рассердится за столь сухой прием?
48
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
Или:
Ну! в филантропии вы очень далеки;
Вам смело можно быть профессором морали и пр.
А вот слова остроумной графини:
...Придраться ко всему.
...Явятся болезни на заказ
...Без памяти люблю.
Или:
...Отчаяньем морила.
...Не можно утерпеть.
Или:
...Для уморы, морить тоской.
...Ага, сударь, так вы...
Или:
Какой дурацкой сон!
Или:
А Пронский с Олинькой так чопорны, так сладки.
И так жеманятся, что приторно смотреть...
И слушать! Что бы подумал какой-нибудь иностранец,
знающий русский язык, о наречии лучшего нашего круга,
если б стал судить о нем по наречию сей комедии? Что
бы заключил о прочих сословиях, когда графы и князья
изъясняются здесь таким образом? Не знаю, кому могут
нравиться сии, так сказать, высевки остроумия, которыми
блестит самозванно-острая Лелева. Например:
Все эта тетушка Профессорша тоски.
Или:
Все хвалят в ней глаза...
Как фонари без свеч...
Или:
...Лице бело и красно,
И точно Херувим на вербе восковой.
Или:
Другия ж, напротив, свободно обращенье
Со всеми без чинов, вертлявость, резкий тон
Хватизмом назвали.
Что за варварское слово хватизм!
Притом в устах прелестницы! Сей испорченный аристо-
49
A. A. БЕСТУЖЕВ
фанизм неприличен русскому языку. Во всей роли графи¬
ни, можно сказать, только один счастливый комический
оборот, именно когда уже все открыто, старая княжна
выговаривает ей и оканчивает монолог свой стихами:
Как больше нравиться не будет никому,
Что станешь делать ты тогда? Сказки!
Графиня.
Браниться,
И это, тетушка, у вас же перейму.
Ответ сей прекрасен, но он и единствен. Что касается до
Олиньки, то мы будем столь же скромны, как она сама,
ибо нрав ее узнать очень трудно. Саша говорит, будто она
патриотка, но как Олинька не упоминает о любви к оте¬
честву ни слова, что ж можем сказать мы, не присутство¬
вавшие при сотворении сей пиесы? Она постоянна, может
быть, потому, что за нею никто не волочится, и скромна
потому, что с нею никто не заговаривает. В роли ее нет
ни одного замечательного слова, и вообще она не вселяет
к себе никакого соучастия. Пронский — человек вовсе бес¬
характерный. Он один на Липецких водах болен — должно
думать головою: размышляет, раздумывает и — ни на что
не решается; он легковерен, как пятилетний ребенок, —
горяч и холоден вместе. Одним словом, сей герой комедии
весьма похож на Простакова в «Недоросле». Очень зани¬
мательна сцена (явл. 4, д. 1) свидания Пронского с ста¬
ринным другом его, Холмским, после долговременной раз¬
луки. Он приходит, видит князя, и вместо восторгов мы
слышим:
Вы ль это Князь? мы вас не ожидали.
Так холодно, как будто бы ему не хотелось его
видеть: в сей сцене не видно познания сердца человечес¬
кого. Князь Холмский есть лицо совершенно лишнее в
комедии. Резонер без резонов, выведенный на сцену для
того, чтоб сказать несколько нескладных и несправедли¬
вых комплиментов и форменных похвал русской молоде¬
жи (явл. 3, д. 3) и (явл. 5, д. 4). Он, друг Пронского,
видит его готового обесчестить себя браком с графиней,
молчит для того только, что Олинька ему сестра; как
будто бы он не мог исполнить долг дружбы, остерегши
Пронского и не сватая за него сестры своей! Роль княжны
Холмской, равно посторонняя ходу пиесы, не знаю почему,
выработана con amore и с большим тщанием, нежели все
50
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
другие. Надобно сказать, что она довольно существенна и
забавна, хотя и не остроумна. Сцена, в которой княжна
выходит, задыхаясь, на площадку и, браня весь Липецк,
просит воды, притом простой воды (явл. 2, д. 2), не
нова, но принадлежит к числу лучших в сей комедии. Гра¬
фу Ольгину как человеку хорошего тона несвойственно
в присутствии других говорить столь едкие грубости Ле-
левой и как опытному волоките непростительно не заме¬
тить обмана графини, в скором переходе ее от презрения
к снисхождению. Неизвестно, почему прокричали его про¬
чие лица остроумцем: граф является, и мы видим, по
пословице: славны бубны за горами, очень и очень посред¬
ственного волокиту; впрочем, может быть, он весьма
забавен — за кулисами. Барон Вольмар, 70-летний подагри¬
ческий Селадон, один из стаи обожателей графини, ску¬
чает ей и зрителям ветхими своими приветствиями. Он
нужен здесь для иллюминации. Им забавна только одна
сцена (д. 3, явл. 5), когда, после изъяснения с графиней,
он хочет встать с коленей, увидя входящего Угарова, и
не может; восклицание: ах, нога! самое комическое.
Лицо Угарова ненужное и ненатуральное. Невероятно,
чтоб сын богатого откупщика, который в военной службе
дослужился до поручика, положим, хотя в один год, мог
быть таким пошлым дураком, который не видит, когда
над ним смеются в глаза; конечно, ума прибавить никто
не в состоянии, но изъясняться языком сидельцев из свеч¬
ных лавок, его б, наверное, отучили. Как бы то ни было,
наречие комедии хоть не должно быть напыщено, однако
ж и не должно унижаться до наречия лубочных театров, а
словами Угарова оправдываются стихи:
Теперь в Комедиях не нужно острых слов:
Чтобы смешить — пусти на сцену дураков!
Здесь прилагаем некоторые образцы его выражений:
На этом мы стоим. — Наш грех!
Наш брат весь налицо и весь к услугам вашим.
Чтоб лопнул я с тоски,
оскорбляющие слух зрителей, не привыкших к подобным
остротам.
Очень жаль, что ныне вошло в обыкновение нападать
не на пороки, а на слабости людския — слабости более
полезные, нежели вредные, и для того, чтоб заставить
некоторых смеяться сардонским смехом, омочать перо в
51
A. A. БЕСТУЖЕВ
желчь и часто из зависти обижать личность людей по
своим дарованиям известных! К счастию, тучи подобных
комедий не могут затмить истинного таланта — и Фиал-
кин, который с гитарой за плечьми прогуливается в мно¬
гочисленном собрании, играет перед зрителями столь же
жалкую, как и неестественную ролю. Вздохи, которые он
отпускает залпом, давно вышли из моды: ему можно б
было плакать об одной комедии. О Саше можно сказать
только то, что она самая дерзкая девчонка: насмехается
в глаза генералу над его теткой, смеется при ней над ней
самою, судит и рядит обо всем, когда ее не спрашивают,
и, наконец, почти бранится с графиней. Семен, как и все
Семены, обыкновенный лакей. Вот действующие лица ко¬
медии, которой рукоплескали, которую так часто хвалили и
видели, потому что некогда — читали.
Слог сей пиесы шероховат и прерывист; течение не¬
плавно, стихосложение сходствует с самою беззвучною про¬
зою. Автор простер вольность стихотворства до того, что
некоторые стихи вовсе не имеют рифмы, например стиху
(стр. 130) послушай-ко, со мною повстречалось, я не на¬
шел сочетания даже на обертке, а другие составлены
чересчур вольно, например: тузами — дамы, ремиз — по-
лились, спуску — муку у и тому подобные. Множество меж¬
дометий, союзов и предлогов, вклеенных по натяжке в
каждый стих, несносно: одних так в сей комедии 109,
не считая а, да, но и хоть, коими унизаны все страницы.
Надобно вполголоса заметить, что излишняя плодовитость
фраз, вполголоса произносимых, скучна для зрителей и
58 в сторону можно бы также отбросить в сторону. Мы
видим, что в хороших комедиях их употребляют весьма
бережно. Если б я не страшился наскучить читателям
выпискою многих непонятных стихов, то попросил бы на
оные изъяснения; теперь упомяну об одном из них. Саша
описывает Угарова:
...Он своей сам бодрости не рад.
Грамматика в сей пиесе, кажется, играет роль без ре¬
чей. Например, действующие лица говорят: Что ж так
(вместо столь) ужасного, за что (вместо к чему, от чего)
такой восторг* и проч.
* Что дерзким быть со мной себя считают (вместо: считаешь)
вправе.
52
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
Или:
Чем царствовать в толпе сердец, плененных мною.
Вдруг две ошибки — одна против словосочинения, ибо
должно сказать над толпою. Говорится: Август царствовал
в Риме, Карл XII в Швеции, но когда дело идет о живых
существах, тогда говорят: над войсками, над людями и
проч. Вторая против всех эстетических правил: Толпа
сердец — все равно что толпа желудков.
Или:
Княжна мила ему, Графиня обольщает.
Ему обольщает — бесподобно! Право, ныне грамматика
ведь лишняя. К чему теперь знать, что все последующие
местоимению имена и глаголы должны требовать одного
падежа?
Или:
Ну! Ангел на лице, а в сердце черт сидит.
Осмеливают спросить автора, каким образом этот ангел
уселся на лице графини? По-русски говорится: она ангел
лицом, но из лица Лелевой делать столь чудесную маску,
право, очень жалко.
Или:
Служитель верной неге\
Полно, не неги ли? ибо говорят: чей или чего служи¬
тель в родительном, а не в дательном падеже. Я бы счел
сие типографической ошибкой, коими изобильно иллю¬
минованы стихи сей комедии; но разуверился, увидев, что
выше стоит рифма на ночлеге, для коей и перекованы
падежи.
Или:
...Осмелюсь ли спросить
О вожделении здоровья?
Вожделение значит то же самое, что: желание и хоте¬
ние; а потому я впервые, надеюсь и впоследние, вижу
столь чудесное выражение. Пишут: такой-то прибыл туда-
то в вожделенном (т. е. в желаемом) здравии; но только
в одних «Липецких водах» спрашивают о желании здо¬
ровья.
Или:
...Где голоса нескладны
И пальцы вялые хозяйских дочерей
Без милосердия терзают слух гостей.
53
A. A. БЕСТУЖЕВ
Желательно бы знать, каким способом вялые пальцы
терзают слух гостей. Уж не дерут ли они за уши? Надобно
признаться, автор не любит баловать зрителей и с излиш¬
ком дает пищу воображению!
Я кажду мысль его угадываю с час.
Однако ж я до сих пор не понял, каким образом мож¬
но говорить о единственном числе во множественном;
именно: граф Ольгин говорит Лелевой, указывая на барона
Вольмара: Кто эта молодежь? Поэтому я могу сказать,
увидев одну березку: сей лес обширен? Ибо как лес, так и
молодежь суть имена собирательные, и березка к одному
человеку относится так же, как лес к молодежи.
Кажется, слог комедии, посвященной Российской Ака¬
демии, долженствовать быть чище и замысловатее; впро¬
чем, всяк волен думать, как ему угодно. Наше мнение
следующее: что комедия «Урок кокеткам» есть вместе и
урок драматическим писателям, что она имела цену только
по игре актеров, что она блестит одной своею иллюмина-
циею и вообще принадлежит к числу пиес, которые знаме¬
нитый Попе называл барабанными.
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ1
Стерн говаривал: «Истинные
критики ловят погрешности, как соколы мелких пташек,
для забавы и пользы других; но Зоилы2, как ястребы, из
алчности»3. Пишу не критику, но оговорка от злых тол¬
ков — не лишнее дело. Я, милостивый государь, большой
чудак; люблю диковинки пуще, нежели школьник любит
табельные праздники, и недавно, пересматривая своих ба¬
бочек и букашек, обдувая обгрызенные временем полушки
и гривенники (на которых брат мой, великой нумисматик,
видит как-то Ромула и Рема и новгородского посадника
с седою бородой и что-то еще много хорошего) и любуясь
колоритом Рубенсовым на его палитре, купленной мною
по случаю у странствующего италиянца, — одним словом,
разглядывая свой кабинет, мне вспало на ум, что редкости
54
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
ныне стали очень нередки. У кого нет теперь древних руко¬
писей, посвященных в оныя из расходных тетрадей бабуш¬
киных, или новых антиков из небывалых развалин, или
геркуланских горшков с фарфорового завода? Рафаель и
Тениер, судя по оригиналам, коими хвалятся наши знатоки,
ничего не писали, кроме карикатур, достойных украшать
чайные ящики, и, если верить любителям древностей, Юлий
Цезарь был страстный охотник до виргинского табаку, пото¬
му что один из них показывал мне и курительную его трубку,
а другой уверял, что у него мраморная Мемнонова4 голова,
будто бы инкогнито увезенная из Ливии знакомым ему
джентлементом!! Вслед за губительною мыслию о возмож¬
ности доказать ложность и моих чудесностей родилась не
менее странная, но более оригинальная мысль, взамену
тленного моего кабинета, собрать литературную кунстка-
меру — ив этом-то предприятии, милостивый государь,
прошу совета от вашей опытности. Конечно, хорошее готово
уже для меня в образцовых творениях; но из худого-то,
которого так много, что можно им вымостить московскую
дорогу, хочется выбрать только редкое и чудесное. Вот уж
с неделю сижу я над системою расположения моего буду¬
щего кабинета; ищу, сравниваю, переставляю; но до сих пор
в кипах уродцев и выродков нашего века, с рифмами и без
них, начиная от червей до верблюдов русского слова, не
нашел должной классификации. Присоветуйте, господин
издатель, предпочесть ли мне Линнееву или Бюффонову для
сего методу и какой порядок употребить лучше в расста¬
новке искусственных заморских редкостей, как, например:
татарских и вандальских фраз, хитро обточенных неж¬
ностей, гордианских мыслей, философических пузырей, ока¬
менелых сравнений и, словом, всех заметных калек здравого
смысла. О! если вы увидите, сколько у меня собрано пры¬
гающих пауков, кувшинов, вздергивающих нос, ужей, пре¬
клоняющих колена, голубей и уток с зубами, пробок,
говорящих громко, глазок, коим нет конца, кровожадных
мухоморов, учтивых африканских львов, еров, шагающих с
палицею, и проч. и проч., то, наверное, сочините мне по¬
хвальное слово. Теперь же, если у вас станет терпения,
предлагаю один образчик моей коллекции. Это «Сон Гофо-
лии» (Songe d’Athalie), открытый мною сегодня в «Вестнике
Европы» ноября месяца 1815 года. Начало переведено
сносно, хотя вовсе без гармонии, например:
Свершила, что свершить чла должностью своею.
55
A. A. БЕСТУЖЕВ
Какофония и обветшалое выражение: чла — вот перлы
сего стиха. В следующих читаем:
Спокойный Иордан не зрит к брегам своим
Аравлян хищников, Филистимлян надменных,
Как прежде в дни Царей корыстью привлеченных.
Настоящее немецкое словосочинение! Здесь за каждым
существительным должно гоняться, как за зайцем. Эти и
шесть следующих стихов составят особое в моей кунст¬
камере отделение, под названием поэтический Casse-tête.
Царь Сирский чествует Царицей и сестрой.
Чествовать! — неподделанной антик; жаль только, что
сей Эпименид глаголов поздно проснулся. Он годился бы
еще на придворном театре царя Алексея Михайловича; но
теперь — милости просим на полку.
(сон)... Снедающую дух тоску по мне питает.
Дух снедать или, по-нашему, есть даже и фигуральными
зубами невозможно, ибо он не облечен веществом — притом
же в подлиннике сказано сердце:
Entretient dans mon coeur un chagrin qui le ronge.
Далее:
Пред очи матерь мне Иезавель предстала,
Она, как в смертный день, богатством риз блистала.
В какой смертный день? и чьей смерти? Г. переводчик не
удостоил сказать нам. Станется, это домашняя тайна.
Тот ложный даже цвет ланиты покрывал,
Случалось коим ей, уж старостью тягчимой,
Изглаживать годов позор неизгладимой.
Правосудные боги! неужели это столь известные Расино-
вы стихи, которые меня еще девятилетнего заставляли
учить наизусть:
Même ell avait encor cet éclat emprunte,
Dont elle eut soin de peindre et d’orner son visage,
Pour reparer des ans l’irrépartable outrage.
Есть ли тут: случалось? Есть ли совершенно лишнее вы¬
ражение: уж старостью тягчимой, ослабляющее силу
следующего стиха? Из какого неведомого словаря госпо¬
дин переводчик взял, будто outrage можно перевести словом
позор? Не говорю уже, что оно противоречит и смыслу, и
природе. По этой логике постыдно дожить до старости:
позор годов будет ее уделом. Далее Иезавель грозит
56
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
дочери — и признаться сказать, сама Пифия с оракульскаго
треножника не могла б выдумать ничего двусмысленнее
второго стиха:
Еврейский Бог готов сгубить тебя теперь;
В руках его тебя жалею я несчастну.
То есть: будучи в руках его, жалею тебя или: жалею,
что ты в руках его? Не осмеливаюсь решить сей анаграммы
без соизволения господина переводчика, но думаю, что ей
не место в трагедии. В оригинале просто сказано:
Je te plains de tomber dans ses mains redoutables.
Но чтобы бог хотел сгубить ее — ни слова. Теперь
советую приготовиться к следующим стихам; принять с пол¬
дюжины гофманских капель5, вооружиться терпением и
читать:
Но безобразну смесь лишь обрела со страхом
И плоти и костей, покрытых гнусным прахом,
Точился кровью труп от пят и до власов,
И спорилась о нем несытых стая псов.
Сколько тут рассыпано чувств и красот! Оригинальных
выражений, каковы: гнусный прах и труп, точащийся от
пят и до власов — вы не найдете у Расина с Диогеновым
фонарем; зато какая в них сила и приятность! Право, если б
эти стихи не были смешны, они были бы ужасны. Слава
богу! Гофолия, увидя отрока, отдыхает от страха и гово¬
рит:
(...) но между тем как я
И скромный вид его, дивяся, созерцала,
Почула острый нож я вдруг в груди моей,
Который весь по кисть вонзил в меня злодей!
Вот что называется склад лучше песни: острый нож я
вдруг в груди... Точно батальной огонь! Что за слово:
почула? Ей-ей, не приложу ума — верно, какой-нибудь ру¬
нический гиероглиф!6 Есть русский глагол: чуять, но он в
прошедшем времени 3-го лица имеет: почуял, почуяла, а не
почула, да и то говорится про собак. Почему нож
предпочтительнее меча — не знаю, хотя тремя строчками
ниже нож сей превращается в меч. Выражение: вонзить
по кисть едва ли позволительно в сказках, не только что в
трагедии — и, верно, сохранит честь быть единственным.
Далее:
Но одержимая толь злым вспоминовеньем.
57
A. A. БЕСТУЖЕВ
Бьюсь об заклад, что сей стих обронен из «Телемахи-
ды»7! Бессмертный творец ее, который был одержим сти-
хобесием не менее наших поэтов, верно, подаст апелля¬
цию — и вряд ли проиграет.
Вонзающего меч в глубь сердца моего.
Глубь сердца! Как это величественно, как живописно!
Мне кажется, я вижу Иоасов меч плавающим в океане
сердца, которое он потрошит!
Сей ужас наконец сносить уж я устала.
Сколько ужей в одном стишке!
Сей Бог, возмнила я, прельщен ценой даров,
Кто б ни был, менее он будет мне суров.
Вместо совершенного причастия: прельщен должно
стоять: будет прельщен; а вместо: кто б ни был — каков бы
ни был, потому что у Расина сказано: quelqu’il soit, а не
qui que ce soit. Да и Гофолии странно было б говорить
о боге евреев: кто б он ни был — ибо творец чем иным
быть не может. Мне суров — ошибка; надо сказать: ко
мне.
Вот чем устрашена осталась здесь на час,
Да вопрошу о сем обоих вместе вас.
Что предвещает мне, Мофан, мой сон чудесной?
К.
Прелестная наивность на час; почему ж не на минуту?
Потом прыжок от простенького: на час к славянскому:
да вопрошу неподражаем — но Делиль сказал, и я ему
верю:
Les contradictions ne sont pas les contrastes.
Что вы думаете, милостивый государь, об этом чудес¬
ном сне или бреде? Кажется, без греха можно поместить
его в отдел анахронизмов русской словесности, и я надеюсь,
он не испортит моей кунсткамеры, на которую, без сомне¬
ния, возопиют велиим гласом все родственники собранных в
нее антиков. Но лишь помогите мне, господин издатель,
разобраться с диковинками — я напечатаю каталог их и тог¬
да, подражая врагам древних египтян, вооружавшихся
против сих последних чесноком и кошками, буду ратовать
с толпою писак — собственным их оружием.
19 марта 1820
А. Марлинский
58
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ1
Вчера завернул я мимоходом
в книжную лавку N. N., где нашел незнакомого человека
лет под сорок, перелистывающего журналы. По очкам,
по сюртуку без бобрового воротника, а более по его облику
заключил я, что он принадлежит к оппозиции модных
мнений. Любопытство заставило меня вступить с ним в
разговор, и, если в вашем журнале есть лишнее место,
вот он от слова до слова:
Незнакомец (закрывает книгу и встает). Жалко, очень
жалко. — Я. Конечно, вы очень недовольны нашими жур¬
налами? — Он. Совсем напротив, милостивый государь, в
них так много хорошего, что я жалею о недостатке кри¬
тики, которая бы искусною гранью показала всю его це¬
ну. — Я. Мало критики, говорите вы? Но посмотрите, как
занимаются теперь исправлением нашей сцены. — Он. Что
принялись за исправление театра, это прекрасно; худо
только то, что один театр занимает всех рецензентов.
Критика не магнитная стрелка и не должна склоняться
всегда к одной точке; почему же другие отрасли русской
литературы, нашедшей себе убежище в одних журналах,
забыты ею? Язык наш, просыпающийся, так сказать, от
дремоты, имеет в том необходимую нужду. Почему бы,
например, не делать замечаний при мелких прозаических
и стихотворных пьесах о качестве их? Для чего не сказать:
вот это хорошо, ново, сильно, а то и то слабо, водяно, что¬
бы отличить изящное от обыкновенного, прекрасное от
худого, одним словом, чтоб поток забвения не поглощал
вместе с одами N. N. какого-нибудь сильного, но един¬
ственного стиха неизвестного автора. — Я. Вы забыли,
что публика сама судит все творения. — Он. Публика,
милостивый государь, дама: она любит, чтобы ее водили
под руку. Имеет вкус, но не отягощает его трудом срав¬
нивать, избирать и потому часто бывает эхом любимого
журнала. Сим расположением публики должно пользо¬
ваться, направляя его ко всему изящному посредством
благоразумной критики. — Я. Намерение прекрасно, но
исполнение едва ли у нас возможно: во-первых, где найде¬
те вы беспристрастного ценовщика творений, который бы
сам вызвался быть хранителем печати Аполлоновой, кото¬
59
A. A. БЕСТУЖЕВ
рый бы не увлекался духом времени, или партий, или
обстоятельств личных? Настоящее поколение колеблет ве¬
сы истины — потомству предлежит установить их. Притом
источники, из коих журналисты черпают материалы, ис¬
сякнут, коль скоро лишатся права неприкосновенности,
да и стоит ли каждый выветрившийся сонет, каждая над¬
пись... — Он. Милостивый государь! Я не говорю, что
всякую безделку должно рассматривать в микроскоп
критики. Журнальный балласт не может быть контра¬
бандой; но пусть разбор сей издается обществом людей
сведущих (в подражание некоторым заграничным журна¬
лам); пусть, чтобы научить нас, оно сперва нам понра¬
вится, пусть совесть и рассудок будут его президента¬
ми — и вы увидите, какое благотворное действие про¬
изведет оно на образование нашего вкуса, увидите, что
весы истины и без гири столетий могут склониться на
правую сторону. В круг действия критики входили бы
сочинения, достойные разбора или по самому изяществу
их, или по важности описываемого предмета, или, наконец,
по временной их ценности в мнении публики. Ко второму
классу принадлежит пьеса, которой чтение пред вами
окончил. Это «Песнь о первом сражении русских с тата¬
рами при реке Калке, под предводительством князя Галиц-
кого, Мстислава Мстиславича Храброго»2. Предмет оной
истинно достоин мастерской кисти, ибо не одни триумфы
принадлежат эпопее. Посмотрим, если вам угодно, каково
господин автор выполнил описание сего гибельного, но
не бесславного дела. Вы читали ее?.. — Я. Уже раза два.
Кажется, она помещена была в первой книжке 1820 года
журнала «Сын отечества». — Он. Точно так, милостивый
государь. Чтобы сказать свое мнение о целом, разберем
сперва части: в заглавии сказано о первом сражении рус¬
ских с татарами при реке Калке. В начальных словах
уже знаменитая неправда. Первое сражение предков на¬
ших с войсками Чингисхана было при Днепре, и русские
в нем одержали верх; поражение же русских при Калке
последовало десять дней спустя, и около четырехсот
верст далее первого дела. Описание сражения начина¬
ется концом его. Русские бегут; первые три строфы пре¬
красны. Особенно эта:
Не по морю синему,
При громе и молниях,
Ладьи белокрылые
60
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
На камни подводные
Волнами наносятся
и пр.
Далее описывается поле сражения — более дурно, нежели
хорошо: ни одного удачного сравнения, ни одной новой
мысли. Там
Сквозь груды тел
Проходу нет.
(Он поморщился, читая сей стих.)
Их пращи дождь,
Мечи огонь.
Чьи же это их! За границею точки ближе всего стоит
существительное имя тела, потом груды, к которым бы по
грамматике могло относиться это местоимение. Полки же
врагов отброшены ровно за шесть стихов и за две точки,
а такие salto mortale в степенном нашем языке непозволи¬
тельны. Что до пращей, говорено было не однажды, они
летать по воздуху не могут, да и не должны, точно так
же, как наши пушки и мортиры. Из пращей метали ка¬
менья, но сами они всегда оставались в руке.
...На тьму татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли.
Два последние стиха картинны. Потом в равнине, как на
декорации, является холм высокий (хотя по природе ве¬
щей в степях холмы не растут), — на холме, как водится,
ракитов куст, а под кустом витязь одинокий, а у витязя
...Стрелами пуст
Облегчал колчан тяжелый.
Скажите, можно ли говорить, а тем менее писать таким
образом?.. Правда, немцы говорят: gefühllos*, — французы
употребляют выражение vide de sens**, и то, заметьте, в от¬
влеченностях; но по-русски: пуст ума, пуст чувств —
сущая нелепица, ибо одно понятие отрицает другое. Стре¬
лами пуст все равно, что пустотою полон. Второй стих рас¬
тянут и украшен небывалым глаголом, — облегчать, глагол
* Бесчувственный {нем.). — Ред.
* Лишенное смысла {франц.) — Ред.
61
A. A. БЕСТУЖЕВ
действительный. Облегчал, прошедшее неопределенное его
время, но в возвратном виде он употребляется не иначе,
как с местоимением «ся», то есть облегчиться. Один выра¬
жает действие вещи на другую, другой, напротив, — воз¬
вращение действия на себя самого, и потому: облегчал
вместо облегчился ошибочно и непонятно. — Я: Вы суди¬
те слишком строго все мелочи. — Он. Что ж делать, мило¬
стивый государь! Для сохранения побегов расцветающего
дерева языка нашего надобно очищать их от гусениц;
и подобные ошибки, верьте мне, — не безделицы.
Решето стал щит дебелый,
Меч — зубчатая пила.
Глагол стану, когда он употребляется в значении
сделаюсь, принимает все свойства сего возвратного глаго¬
ла и потому требует безысключительно падежа творитель¬
ного; следовательно, нельзя сказать: сделаюсь что, но чем?
Или: стал решето, пила, но решетом, пилой. Не ведаю,
откуда господа стихотворцы вырыли право подобных воль¬
ностей. Пусть бы они увечили так свои мечты, но грам¬
матика есть общее именье.
...Жаждой и прахом уста засыхают.
Что хорошо, то хорошо: коротко и натурально.
...Стелют, молотят снопы там из глав.
Снопы из глав неприятно ни уху, ни воображению, и
видно, что поставлено для рифмы: Мстислав. В песне о
походе Игоря на половцев, откуда господин автор сей
песни многим попользовался, картина сия гораздо полнее.
«На Нелизе снопы стелют головами, молотят чепи хара-
лужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела».
У Мстислава сердце рвется надвое, ибо он от бессилия
не может идти в бой, любопытство мучит его узнать,
...Здоров ли верный меч?
Не уморился ли
Там долго кровью течь?
Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь
и пр.
Что хотел этим сказать господин автор или князь
Галицкий, — известно, конечно, не нам. Кровью течь —
не по-русски. Истечь кровью — другое дело; но в мечах и
62
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
того не бывает. Железо может точить кровь ударами, од¬
нако ж течение сродно одним жидкостям.
Нет срама мертвому,
Кто смог костями лечь.
Для чего ослаблять прекрасную речь: «ляжем костьми
зде, мертвии бо срама не имут» — несообразными с целию
выражениями?3 Могущества не нужно много, чтобы уме¬
реть: для этого довольно доброй воли. Не думаю, чтобы
Святослав считал себя ритором, но вряд ли бы он согла¬
сился променять свою прозу на эти стихи. Впрочем, три
следующих искупают прошедшие:
И, три раза вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.
В них есть чувство, есть природа, одним словом, они
прекрасны. Слово вспыхнув употреблено очень кстати.
Жаль только, что «кровавые руки» вместо «окровавлен¬
ных» не говорилось, да и не должно говориться. Далее:
И, трижды истекши рудою обильной,
Тяжелые латы подвинуть бессильной,
Упал.
Трижды упал — непростительно. Прошедшее совер¬
шенное не может в себе вмещать многих раз; следо¬
вательно, должно б было сказать: упадал, точно так же
как и вставал. Про руду нечего и говорить: слово это нигде,
кроме ветхих лечебников и цирюлиничьих вывесок, не
употреблялось. — Я. Милостивый государь! Может быть,
автор хотел приближиться рассказом к наречию того
времени. — Он. Тем хуже для нас, когда живые говорят
языком мертвых; притом не все то хорошо теперь, что
было таким прежде, а лирическое творение не должно
быть Милютиною лавкою4, где ананасы и устрицы лежат
на одной полке. — Я. Comparaison n’est pas raison*; поз¬
вольте заметить, что, увлекаясь примером некоторых на¬
ших рецензентов, вы иногда более забавляетесь, нежели
доказываете. — Он. Вспомните, что я не пишу рецензии
и потому не подлежу ее законам; впрочем, вы, господа
читатели, странные люди: браните критиков за насмеш¬
ливый тон и не читаете критик, если в них недостает
аттической соли. Мое же мнение таково, что острота в
Сравнение — не доказательство (франц.).— Ред.
63
A. A. БЕСТУЖЕВ
критике необходима, как лигатура в. монете. Теперь об¬
ратимся к песне. Мстислав, изнемогши от ран, упадает
без чувств, автор об нем сетует; обстоятельства, кажется,
требуют медленного размера; ничего не бывало: стихи
поскакали на перекладных —
Смертной омрак,
Сну подобный,
Силу князя
Оковал и пр.
Музыка без поэзии бездушна, но поэзия без музыки —
скучна, и как бы стихотворец ни настраивал разум слуша¬
теля — плакать по плясовым размерам невозможно. Далее
Даниил, зять Мстислава, бежит с поля сражения:
Он с преломленным в пахе копьем
Быстро мчится ретивым конем...
Почему ж не в персях, как сказано в летописце? «Дани¬
илу бодену бывшу в перси не чуяще раны младеньства
ради»5. И что за пиитическое место — пах! Притом пере¬
ломленное копье, право, не заноза.
Молодец, веселясь на бою,
Позабыл, знать, и рану свою,
Кто сей юноша славы и сил?
Безрассудно веселиться тому, кто видит гибель своего
войска и смерть, следящую его самого. Храбрый Даниил
в начале битвы врезался в средину татар, смял их ряды,
но, увлеченный робкими половцами, уступил множеству —
и дал хребет. Что тут забавного? Юноша славы — выраже¬
ние, противуречащее смыслу. У нас говорят: питомец, сын
славы и проч. Но юность, в коей предполагается нео¬
пытность, употребляется в отрицательном виде; например,
он молод, юн в философии; тот-то ребенок в стихотвор¬
стве. Следовательно, здесь юноша значит одно и то же, что
недоросль, — эпитет не слишком лестный! Князь смел, го¬
ворит господин автор, не дрогнул бы он, хоть привиделся
бы ему рогатый бес; но, увидя полумертвого тестя, он
чуть-чуть не застонал навзрыд (!), как будто жалость
имеет какое-нибудь отношение к бесстрашию! Вот уже
Даниил перекидывает Мстислава поперек седла, как че¬
модан и, скачет к реке.
Что ты, князь? ведь не поле река,
Ты удал, да вода глубока.
Сомнительно, чтобы можно было писать глубокая вода,
64
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
вместо река. Если же допустить это, должно допустить
и высоту всех жидкостей.
Однако ж, милостивый государь, пора и нам спастись
вместе с князьями. У берега их ждут с ладьею,
Но Даниил прикрикнул на детей...
...Моя (рана) нешто, и после заживет.
К чему тут но? Для чего он прикрикнул? Бог весть.
Мстислав очнулся и жалеет о своей безрассудности. Стро¬
ки две есть... не дурные, только инде стечение шипящих
букв: как, например, на вящшее лишь зло, или слова —
нечто, разбитье, гордившиесь и тому подобные не слишком
их красят. Гекзаметрический куплет заключает песнь.
Князья выходят на берег и в благодарных слезах молят
бога — за что? за свое разбитие, — точка и заключение. —
Я. Теперь скажите свое. — Он. Сперва скажите вы мне,
милостивый государь, как должно назвать это сочинение?
Если это поэма, где возвышенный язык поэзии, где пи¬
итические вымыслы (исключая рогатого беса)? Если ж
это реляция, где истина событий? Господин автор обещал
описать сражение и написал только бегство русских. Мсти¬
слав Галицкий, не быв ранен, переехал через реку прежде
всех и, следовательно, не имел нужды в спасении Дани¬
иловом. Прочие князья и богатыри забыты. Великодушный
Мстислав Немый, славный витязь Александр Попович,
оруженосец его Тороп, вооружение татар, вид их, дотоле
незнакомый русским, и множество других обстоятельств
могли бы служить для поэта Грановитою палатою пред¬
метов; но об них ни слова. Гордый, бестрепетный Мсти¬
слав Киевский, который, не участвовав в битве, не хотел
делить позора бегущих и, с мечом в руке ожидая славной
смерти, нашел изменническую гибель, — не удостоен вос¬
поминанием: словом, пьеса сия, написанная без цели, на¬
чала и конца, без красок того времени и без цветов (не
скажу: грибов) настоящей литературы, в которой размеры
играют главную ролю, — поневоле заставляет повторить
известные слова: что труднее об ней сказать свое мнение,
нежели ее сочинить. И я, милостивый государь (сказал он,
раскланиваясь), при каждом подобном нашествии на рус¬
ский Парнас буду кричать, как гусь капитолийский, чтоб
разбудить Манлиев и Дециев6.
Прав он или виноват — рассудите сами.
Ваш покорный слуга и проч.
Февраля 19.1820 А Б'
3—907
65
A. A. БЕСТУЖЕВ
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ1
Как жаль, м. г., что все наши
столичные новости поздно являются в свет! В журналах
нередко мелькают за новость такие вещи, о которых забы¬
ли говорить и камчатские кумушки. Например, академия
художеств давно уже была закрыта2, как показались за¬
мечания на ее выставку. Не виню журналистов... но такие
поздние выходки, препятствуя сражению противников на
месте, лишают ценности самые справедливые их суждения.
От сего-то я жалел о невозможности «ложь с истиной
сличить, поверить быль с молвой»3, прочитав в журнале,
вами издаваемом, статью о выставленных в нынешнем
году академиею работах4, и теперь, когда пишу мнение
свое о том же предмете, должен пробегать по следам
изменницы памяти; но в этот раз ограничу себя только
теми случаями, где я или не совсем, или совсем не согла¬
сен с решениями почтенного Наблюдателя.
Быстро взбежал я по лестнице, которой бы сам Перо-
нези позавидовал в величии рисунка, мимоходом привет¬
ствовал высоконогого коня консула Бальбуса5, но в зале
антиков невольное чувство остановило стремление моего
любопытства. С каждым шагом я протекал века: минув¬
шее ожило в воображении и одушевило окружающие ме¬
ня предметы. Здесь все красноречиво говорило глазам и
сердцу.
Взоры мои попеременно порхали то на группы атлетов,
дивясь живой игре их мускулов, то на прелестных нимф,
скользили по льющимся формам Бахуса6, Антиноя ,
Мелеагра8 и с благоговением устремлялись на божествен¬
ную фигуру Аполлона9. Сила протекала по жилам моим,
когда я стоял у подножия Геркулеса Фарнезского10; весе¬
лость лилась в душу, когда смотрел на резвящихся фав¬
нов11, и ужас оковывал дыхание при виде страданий Лао-
коона12 и Ниобеи13, стократно умирающих в детях. Каза¬
лось, я слышал стоны дочерей ее, и свист роковой стрелы
Феба14, — я обмирал, как сама Ниобея, и звук исчез на
губах, как в мраморе сего изображения. К счастью, Ме-
дицисская Венера15 была не далеко. Она разогрела кровь,
охлажденную состраданием, и, признаюсь, пульс мой по¬
66
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
шел вдвое скорее прежнего; страшась, однако же, Пигма-
лионова приключения16, я оторвал от нее взоры и, покло¬
нясь земляку своему, скифу, с совершенно русскою физи-
ономиею, спешил далее.
Как ни хвалил г. Замечатель выдумку поставить об¬
ломанную модель перевозки камня под монумент Петра
Великого противу статуи Наполеона, она ничтожностию
своею делает плохой контраст и безобразит комнату17.
Гораздо бы лучше было поместить тут грудной бюст
Просветителя России, стоящий в другой зале, а не сию
модель, ибо Петр велик не тем, что ему в подножие при¬
везли тяжелый камень. Обратимся к выставкам.
Первый взгляд любопытства принесен был мною в дар
ваянию. Полюбовавшись эскизом коня, ведомого невольни¬
ком*, профессора Демута, я остановился перед Улиссом18,
готовящимся убивать женихов Пенелопы, трудов ученика
Токарева. Где жизнь? Где порыв страсти, волнующей
героя? — спросил я у самого себя. Где сила, необходи¬
мая для согбения лука? Ибо положение (не говорю, дви¬
жение) рук показывает, что он натягивает тетиву. Лицо
распаленного гневом супруга разглажено рукою художни¬
ка, вероятно, для придания ему форменного очертания;
в движении, в повороте тела нет силы, но все оно вырази¬
тельнее головы. Подобные контрасты происходят (как я
имел случай заметить) у художников, работающих к сроч¬
ному времени, от привычки отделку начинать всегда с
туловища, не полагая головы за важную часть и остав¬
ляя ее вчерне до последней проходки. Срок налета¬
ет как снег — и вот причина, отчего случаются Герку¬
лесы с головами фавнов и фигуры с разноцветными ли¬
цами.
Бюст, присланный из Рима г. Гальбергом, доказывает
равно его вкус и дарование. Какая легкость видна в каж¬
дом давлении руки, как счастливо брошены эти волосы;
глядите подолее — и вам покажется, что бюст дышит.
Дай бог, чтобы питомец севера усовершенствовался под
светлым небом Италии, в стенах прежнего Рима — Рима,
который г. Замечатель пожаловал отечеством древних вая¬
* Г. Замечатель назвал его всадником, но как это название исклю¬
чительно принадлежит только людям, сидящим на лошади, я не смел
последовать его примеру.
3*
67
A. A. БЕСТУЖЕВ
телей, хотя ни Скопас, ни Фидиас, ни Пракситель не име¬
ли патентов на римское гражданство*.
Пожимая плечами, обращался я от одной картины к
другой и смеялся усилию гг. пейзажистов поймать приро¬
ду в золотые рамки: она не всем дается, как Вернету
или Вуверману; но рисунки г. Щедрина, хотя не столь
удачные, как прежде, далеко оставили за собой все прочие,
и не без основания можно надеяться в нем увидеть рус¬
ского Рюйсдаля.
Виды Крестовского острова и Кремля, вопреки мнению
г. Замечателя, суть живые потреты с натуры. На Крем¬
ле углы выходят и впадают, тени легли сами, а не нарисо¬
ваны, и взор, скользя по неприметным ступеням посте¬
пенности, сливается с синею далью. Еще замечу: г. Во¬
робьев, который писал сии виды, никогда не был пей¬
зажистом, никогда не выставлял прежде пейзажей, как
говорит г. Замечатель об академии. Притом, будучи пер¬
спективным архитектором, он не столь строго должен
быть судим за зелень, которая занимает в сем случае
второе место. Что же касается до кремлевского вида
от Москворецкого моста, писанного профессором Алек¬
сеевым, — он мало ответствовал ожиданию любителей
перспективы. Главная ошибка состоит в том, что планы не
отделяются один от другого; дальняя часть стены весьма
темна, и от этого Кремль, кажется, взбирается на мост.
Оконечности написаны небрежною кистью, и суконные
облака тонут в мутном, тяжелом воздухе: так ли писали
небо Клод Лоррен, Вандермейер?
В эстампах Рембаха видно, что изящный вкус изострил
резец его: рисунок верен, округлости четки. Мне особенно
понравились деревенские политики, которые, кажется,
спорят уже о процессе королевы английской. Смотря на сих
добрых людей, я воскликнул: «Не верю величию души
твоей, гордый Лудовик XIV, когда ты мог презирать полез¬
нейший класс народа!»**
Хороший стиль в работе Рембаха тем более удивите¬
* О невежестве римлян касательно художеств во время республики
доказывает следующий анекдот: Марцелл по взятии Сиракуз отправил
многие работы Фидиаса в свое отечество как добычу. «Если вы разобьете
сии статуи, — говорил он корабельщикам, с которыми отсылал их, — то
обязаны будете сделать точно такие же».
** Известно, что он велел вынести из своей картинной галереи все
Теньеровы пейзажи, где представлены были сельские праздники.
68
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
лен, что британцы не далеко ушли в искусствах, в коих
расчеты и паровая машина не могут быть участниками;
но менее всего в гравировании. Точками насыпанная ту¬
шевка походит на их родные туманы, и, кроме работ
Фалкейзена, мне не случалось видеть хороших английских
эстампов.
Граверные работы славного Уткина столь известны, что
бесполезно повторять о них. Только портрет Суворова,
мне кажется, слишком светел. Плоды, писанные г. Галлер-
Фионом, неподражаемы. Они — чудо оптики и искусства.
Камей, резанный г. Доброхотовым на сердолике внутрь,
изображающий Меркурия с Парисом, заслуживает внима¬
ние как произведение безграничного терпения и опытной
руки.
Гений творит, вкус образует: взгляните на медальер¬
ные работы графа Толстого, и вы уверитесь, до какой
степени может возвыситься сей гений, предводимый тон¬
ким, образованным вкусом; уверитесь, что можно быть по¬
этом, не стихотворствуя. И подле сих-το произведений,
славных для художества, драгоценных для русского,
в углу под стеклянным колпаком таилась маленькая во¬
сковая кукла, впрочем, довольно пристойно одетая в ко¬
ленкоровый фрак и с лорнетом на глазу. Ежели ее
поставили для сравнения, как мы далеко ушли от древних
в ваянии, то самое лучшее для сего намерения место есть
галерея антиков. Там сия конфетная статуя сделала б
прекрасный контраст с Аполлоном Бельведерским.
Теперь дошла очередь и до портретов, — к сожалению,
многих числом, а не достоинством. Бросив беглый взгляд
на влажные лица, писанные г. Станкевичем, пожелав
успеха дочери г. Дурнова и мягкости колорита девице
Гомион, я остановился перед историческим (historié)
портретом ректора академии, знаменитого Мартоса. Сход¬
ство в лице, приятная рефлекция света, смелая драпиров¬
ка и выбранная отделка приносят честь искусной кисти
г. Антонелли. Вглядываясь, можно заметить, однако же,
что он слишком резкие положил блики, слишком пробе¬
лил колорит тела, отчего оно потеряло сквозность (tran¬
sparent) нижних красок, его оживляющих; морщины лба
проведены будто по линейке, левая щека излишне воз¬
вышается над правою... и, несмотря на все это, в целом
есть что-то прекрасное, которое ручается за вкус худож¬
ника.
69
A. A. БЕСТУЖЕВ
Портретные работы г. Ромбауера никогда не будут кар¬
тинами, ибо одно сходство заключает в себе весь итог их
достоинства. Колорит его черств, жесток, в тенях нет при¬
роды. Лица плоски, как на китайской живописи, и, кажет¬
ся, прильнули к холсту, чтоб не упасть; кисти рук написа¬
ны грязно и неправильно. Сравните потом цену и достоин¬
ства портретов академика Яковлева с этими, и вы, не га¬
дая, скажете, который из них иностранец.
Портрет г. Всеволжского на коне, писанный иностран¬
ным артистом Дезарно, очень хорош. Видите ли, как лег¬
ко брошена фигура всадника, как гордо ступает красивый
конь? Художник счастливо схватил движение ног его и тем
дал удачную игру мускулам. Только левая передняя нога, на
которой лежит перевес корпуса, как-то онемела: нет выра¬
жения в костях и напряжения в жилах. Кавалерист заме¬
тил бы еще, что при таком ходе лошади голова должна
быть повыше, а сама лошадь, для сохранения равновесия,
более на заду; но это прихоти. В миньятюрах г. Эстер-
рейха видна терпеливая, нежная кисть, тщательная отра¬
ботка и свежесть красок; но мало прелести (graci) в ри¬
сунке*.
В портретах, писанных г. Варником грезовского мане¬
рою, заметна, как справедливо сказал г. Замечатель,
страсть его отличаться чудесностию колорита. Искусство
блистает в каждой черте, но искусство, удалившееся от
природы. Сетчатая тушевка, туманный желтый колорит те¬
ла, хотя с прекрасным освещением, бросается в глаза
только издали, но приближением, как декорация, теряешь
очарование, и шероховатость отделки помрачает достоин¬
ства картины. В счет сих портретов нейдут, однако ж,
изображения президента академии А. Н. Оленина и
Г. Бутковского, которые отработаны с большим стара¬
нием.
Меткая, вольная кисть г. Дова, несмотря на погреш¬
ности против освещения и небрежность в отделке, сходной
с подмалевкою, всегда останется в его портретах доказа¬
тельством живописного гения, который, пленяя смелостию,
заставляет забывать о его ошибках. Огненными чертами
умеет он ловить под карандаш характерическое разнооб¬
разие в лицах. Что-то эфирное видно в актрисе Онил...
* Г. Свиньин в журнале своем19, не ведаю почему, назвал Г. Эстер-
рейха иноземцем: он такой же иноземец, как фон Визин и Хемницер*
70
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
Кажется, дух Шекспира (в драме которого г. Дов изобра¬
зил ее), пролил особенную жизнь на все его произведения.
Должно заметить, однако же, что в некоторых портретах,
им писанных, недостает круглоты, что сильно противоре¬
чит с резкими тенями.
«Вот Тасс, вот Элеонора», — сказали мне, показывая
на работу г. Игнациуса20, и вопрошающие, изумленные
взоры мои повторили: это Тасс, это Элеонора? Картины
суть письмена природы: они должны быть понятны вся¬
кому; но кто узнает в этом снежном лице пламенного
певца Иерусалима? В этой холодной женской физиогно-
мии идеальную Элеонору? В глазах их нет души, в чер¬
тах благородства. Притом костюм, в который г. художник
облачил Торквата и его возлюбленную, совершенно гар¬
монирует с лицами, и трудно угадать: фигуры ли писаны
для платья или платье для фигур? Одно только не под¬
лежит сомнению, что в них напрасно искать правильности
рисунка или теплоты и мягкости в колорите, например,
рисуя нос, глаза и губы в полпрофиля, он оставляет
сокращенную щеку в полной круглоте ее, в чем бы непро¬
стительно ошибаться и ученику. Старик и девочка, его же
трудов, могут стать в параллели с Тассом: у первого на
лице хитрая кисть художника провела вдоль и поперек
такое множество глубоких черт, что оное можно счесть за
ландкарту Голландии.
Портреты г. Игнациуса и Гиппиуса, писанные сим
последним, доказывают, что оба они образовались в одной
школе. Тот же почерк кисти, та же туманность в красках
и даже одинаковый костюм с Торкватом, который, кажет¬
ся, собрался на маскерад или на студентский праздник
германских патриотов. Пожелаем лучших успехов гг. по¬
следователям старинной немецкой школы и, пробежав
взорами длинный единообразный фронт портретов, отдох¬
нем на картинах: уже время!
Начнем (faute de mieux*) с раздачи вина и хлеба, пи¬
санной г. Фреми, хотя она есть не что иное, как эскиз,
и потому не может быть строго судима. Группы изломан¬
ных человеческих фигур, широкая, но безотчетная кисть и
богатая суриком палитра — вот все, что можно сказать о
ней.
Улисс, претерпевший кораблекрушение перед Навзика-
* За неимением лучшего {франц.) — Ред*
71
A. A. БЕСТУЖЕВ
ей21, прошлогодняя работа Карла Брюлло, показывает бо¬
гатство воображения в изображении, но малую опытность
в исполнении. Единство сюжета не сохранено приближе¬
нием к первому плану (тоже слишком широкому) подруг
царевны и реки. На Улисса брошена тень от Навзикаи, а
она стоит сзади; зато Нарцисс22 его прекрасен в полной
силе слова. Художник избрал самое рисовальное положе¬
ние: посмотрите, как пристально любуется Нарцисс своею
красотою; он едва дышит, он внимает ей; левою рукою,
мнится, отводит он легкое дуновение ветерка, который бы
мог смутить зеркало потока, над коим небрежно склонился
всем телом. Художник весьма замысловато скрыл лицо
его, ибо для изображения идеальной прелести Нарцисса
едва ли бы довлело живой кисти Апеллеса. Жаль только,
что правая нога не совсем кругла и не сохраняет
в колорите общего тона с целым, будучи желтее корпуса.
Левый бок в абрисе своем мог бы иметь более игры, по¬
елику согнут в дугу; но со всем тем талант и вкус молодого
артиста заметны в каждой черте. Глядя на его работу,
я думал сам в себе: «Сколько Нарциссов есть у нас пред
глазами, особенно в литературе, — и нет Левкада23 их
самолюбию!»
Обратимся к работам профессорским. В образе Алек¬
сандра Невского я не узнал прежней решительной кисти
Шебуева24. Тон картины слишком тепел и светел, краски
тают, и, если не ошибаюсь, тело надмеру вытянуто (lan¬
ce). Но оружие и все околичности выработаны рукою
верного историка и опытного артиста, несмотря на радуж¬
ную манеру Ванлоо, тут заметную. Еще слово: шлем героя,
подле него лежащий, вдвое шире его головы.
Что скажу я о Иоанне Крестителе г. Егорова25? Какая
сочность в красках, какая природа в колорите, в рисунке,
в округлении теней! Кровь сквозит и переливается под
кожею, и жизнь слилась с кисти художника, чтоб оду¬
шевить полотно! Может быть, в картине есть недостатки,
но я их не видел, и г. Замечатель недаром назвал ее жем¬
чужиной нынешней выставки! Слава и честь русскому
Доминикину26!
Изречение utile dulci* есть весьма нужное правило
всегда и везде, особенно в искусствах; но, видно, г. Заме¬
чатель забыл его, ничего не упоминая об архитекторских
* Приятное с полезным (латин.) — Ред.
72
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
планах, в академии выставленных. Их было немного: луч¬
ший — профессора Мельникова, прожектированный для
церкви старообрядцев. Она прекрасна, но смешение про-
тивуположностей мешает гармонии целого.
За сим следует загородный дом воспитанника акаде¬
мии Тона, заметный равно по легкому вкусу и приятной,
чистой отделке. Ворота в горе, его же работы, соединяют
в себе простоту с привлекательностию, и вообще, дарова¬
ние его обещает большие успехи. Дом греческого вель¬
можи, Александра Брюлло, очень не дурен, но рисунок
слишком переходит в новый стиль; и по роскоши, с какою
художник рассыпал украшения, заметно, что это из пер¬
вых его прозведений. Церковь для города Кинешмы,
г. Ефимова, будучи обречена сущности, и в скромной
одежде сохраняет достоинство новейшей архитектуры.
Вот и все выставки.
Полюбовавшись прекрасною, легкою чугунною лестни¬
цею, освещенною греческим куполом, барельефами, ее
окружающими, особенно Мартоса и Прокофьева, и тремя
фигурами, писанными аль фреско, из коих Минерва
г. Иванова мне понравилась более других, в жарком тоне
г. Бессоновым написанных, я вышел из академии...
Не злословие и не страсть противоречить весьма спра¬
ведливым замечаниям на академию, напечатанным в ва¬
шем журнале, заставили меня написать сии строки: но
мысль быть полезным художеству чем-нибудь — хотя сво¬
ими ошибками, ибо в кругу искусств не монополия, но
стечение мнений совершенствует познания человеческие.
А — ръ Б — ж — въ
Октября 18.1820
A. A. БЕСТУЖЕВ
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЯМ'*
Помните ли, милостивые го¬
судари, путешествие Астольфа в луну за Роландовым ра¬
зумом? Помните ли, как он с усмешкою, разбирая скля¬
ночки с потерянными умами своих товарищей, увидел од¬
ну с подписью: «Разум славного витязя Астольфа»?3 Это
самое случилось с г-ном Галерным Жителем: прислав ко
мне в литературную кунсткамеру балладу «Рыбак», он весь¬
ма ошибся в расчете. Балладу поместил я в число образ¬
цовых переводов, а критику на нее между уродцами. Так
опытный ловец, отделяя жемчужное зерно, бросает грубую
раковину, его сокрывавшую, — зерно, которое одним пету¬
хам** кажется вещью пустою.
Предмет письма моего есть благодарение г-ну Ф. Б. — у,
избавившему меня от труда вытаскивать гвозди***,
набитые г-ном Жителем Галерной гавани4. Весьма полезно
освещать дневным лучом здравой критики нетопырей,
гнездящихся в развалинах вкуса, и очищать поле нашей
рецензии от рыцарей, выезжающих турнировать с указкою
в руках: два условия, выполненные г-ном Ф. Б. как нельзя
лучше.
Итак, милостивые государи, позвольте, посредством
вашего журнала еще раз поблагодаря г-на Ф. Б., равно в
лице чтителя истинных талантов, читателя и избавленно¬
го — объявить всем кандидатам моей кунсткамеры, ко¬
торые столь усердно в нее напрашиваются, особенно
господину водянистому Писателю Галерной гавани, что
критика на Жуковского балладу поступила уже на вакан-
цию чудищ, а в какой отдел, сказано выше.
Ваш и проч.
А. Марлинский
5 марта 1821
* Издатели получили сие письмо от сочинителя «Путешествия в
Ревель» (напечатанного в «Соревнователе», 1821), столь благосклонно
принятого просвещенными читателями. Один только Галерный Житель,
Карасев, Осетров2, это все одно и то же, не видит в нем человека с
отличными дарованиями.
** Известная Эзопова басня. — Соч.
*** В критике своей повторения: «Бежит волна, шумит волна», —
господин рецензент называет «как бы прибитыми гвоздями». — Соч.
74
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
Минувшего 5 числа месяца
Российская Академия1 в третий раз торжественным за¬
седанием праздновала день своего возобновления госу¬
дарем императором. Первые вельможи государства, ино¬
странные послы, генералы и ученая публика столицы на
оном присутствовали. Чтение началось в первом часу
пополудни, продолжалось до трех; и никто не заметил, как
протекло время. Читали: 1. Президент Академии
А. С. Шишков — речь о древности и превосходстве рус¬
ского языка перед другими в звукоподражательном и ло¬
гическом отношениях. 2. Секретарь Академии Н. И. Соко¬
лов — краткий отчет о занятиях и постановлениях Ака¬
демии, о выбывших и принятых членах и о розданных ме¬
далях. 3. Член Н. И. Гнедич — переведенный экзаметрами
отрывок из «Илиады»: «Посольство греков к Ахиллу».
4. Член И. И. Мартынов — о качествах, потребных для пи¬
сателя. 5. Н. И. Гнедич — отрывок из поэмы члена Акаде¬
мии А. Ф. Воейкова «Искусства и Науки»: «Петр Великий
под Прутом» и «Суд царевича Алексея Петровича». 6. Ис¬
ториограф России H. М. Карамзин — некоторые места из
девятого тома «Истории Государства Российского»: о вой¬
не царя Иоанна Васильевича с Баторием, королем поль¬
ским.
Не смеем судить о превосходстве русского языка
перед прочими, еще менее о речи президента, ибо для
сего нужны долговременная опытность и обширные знания
наречий иностранных. Легко сказать необдуманное реше¬
ние о предмете, который трудно было исследовать и об¬
думать, но легко и обмануться, а иногда своим заблужде¬
нием вовлечь в оное других. Потому ограничим круг
своего мнения тем, что нам кажется намерение автора
сей речи похвальным, труд истинно патриотическим и са¬
мое исполнение соответствующим цели. Признавая богат¬
ство русского языка в живописном и звучном выражении,
должно, кажется, признаться, что в логическом и мета¬
физическом он не превосходит языков, сделавшихся клас¬
сическими. Просвещение не вдруг проникло в умы предков
75
A. A. БЕСТУЖЕВ
наших, но, в природе вещей, мало-помалу развило новые
идеи, которые требовали новых знаков для выражения, ибо
нельзя ни назвать, ни пожелать того, о чем не имеем ни
малейшего понятия. Науки изобрели знаки сии (или имена),
а утонченные системы наук раздробили лестницу номен¬
клатуры на мелкие ступени, ведущие разум к совершен¬
ству. Русские, подобно всем, переходили через поле не¬
вежества к рубежу образованности, и язык наш, всегда
верный истолкователь понятий и нравов народа, шел
всегда наравне с ними: гремел в песнях Боянов2, принял
на себя аттицизм от переводов религиозных книг, падал
перед татарами, парил с Ломоносовым, пресмыкался перед
Тредьяковским, изумлял в Державине, расцветал под пе¬
ром Карамзина; но можно ли найти в летописи Несторо¬
вой термины физические или философские? — Не было у
нас Невтонов, Лейбницев, ни Бюффонов, зато нет и языка
философского, нет номенклатуры ученой.
Г-н Гнедич, бесспорно, заслуживает признательность
современников и дань похвалы от потомства за верную
передачу в стихах своих красот Омера. У нас еще слишком
мало ценят подобные труды и скорее читают изувеченные
переводы на французском, нежели на отечественном язы¬
ке, в котором греки — истинные греки, а не вертопрахи
парижские. Экзаметр пугает некоторых: но можно ли в
иной одежде списать верно «Илиаду»? — втиснуть речи
героев, сокрушителей Трои, героев, ее защитников, в
вялый александрийский стих и оковать в нем крылатого
гения Омерова? Публика была справедлива, и всеобщее
одобрение следовало за прочтением прений Ахиллесовых
с послами Агамемнона. Надобно сознаться, что греки
в самом ребячестве гражданства были уже Алкидами3
поэзии.
Г-н Мартынов в статье своей весьма удачно развил
идею, конечно, не новую, но тем не менее заниматель¬
ную: следовать за будущим писателем от колыбели до
славы его и предполагать для контраста в других про¬
тивные добрым качества и примеры.
Какое сердце не бьется восторгом при имени великого
Петра, какой русский не трепетал при чтении эпизода
г-на Воейкова об указе его, писанном из среды враждеб¬
ной, окружавшей русскую армию? Автор прекрасно изло¬
жил истинно царское повеление: Сенату не слушать соб¬
ственных его приказаний, если он будет вынужден турками
76
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
повелеть противное выгодам и чести России. Далее суд
над непокорным царевичем исполнил сердца ужасом и
удивлением: отец, отвергнув скиптр, стоит перед лицом
Сената и в лице России требует правосудия. Государь для
спасения отчизны забывает родство и со слезами на гла¬
зах, как человек, отвергает лицеприятие, как бог. Синклит
просит помилования виновному. «Будь отцом», — говорил
он. «Отцом Отечеству!» — воскликнул Петр: это слово бы¬
ло приговором. Иные говорят, что сей эпизод украшает
поэму «Искусства и Науки», но будто вставлен туда без
нужды. Впрочем, поэма дидактическая не подлежит стро¬
гим правилам поэм эпических. Притом, где не видно сле¬
дов Петровых и где имя его может казаться лишним?
Избрание Стефана Батория на престол Литвы, качества
сего великого воина-государя и мысль его сокрушить цар¬
ство Московское служили началом чтения знаменитого ис¬
ториографа нашего. Далее он описал бегство русских под
Псковом, произведенное робостью недостойных воевод
Иоанновых, тайно уехавших из стана. Подвиг пушкарей
московских поразил всех — они не захотели пережить
стыда, быть пленниками и повесились все до одного на
пушках своих, коих не могли увезти. Секретарь Батория
сохранил сию черту, достойную Лакедемона, и мы, рус¬
ские, из уст Карамзина4 впервые узнали о таком геройстве
русских. Тиранство Иоанна, взятие Полоцка, осада Пскова
и все неудачи, скрепившие грозное правление Грозного,
описаны слогом Тацита, русского патриота, духом беспри¬
страстного историка. Недоверчивость Иоанна была всему
виною. «Русские не изменили царю, но царь изменил
им! — пишет Карамзин, — не верил опытным боярам,
потому что их боялся, и воеводы, запечатленные стыдом
бегства, снова приняли власть над войсками под Полоц¬
ком». «Где твоя сила? (писал к Иоанну Курбский по взя¬
тии оного). В могилах бояр, тобою замученных! Где твои
завоевания? В руках Стефана, между тем как ты скры¬
ваешься за лесами или бежишь, никем не гонимый, кро¬
ме своей совести». Беспримерное мужество псковитян, ка¬
жется, перелилось в перо историка и одушевило его.
Баторий на выгодных условиях предлагает им сдаться.
«Мы не жиды, — отвечали осажденные, — не предаем ни
чести, ни совести своей: делай, что хочешь, мы сделаем,
что должны!»*
* Ежели не слова, то мысли сохранены в точности.
77
A. A. БЕСТУЖЕВ
Постыдная для Иоанна, но славная для русских война
со Стефаном кончилась уступкою всей Ливонии в то вре¬
мя, когда войско польское готовилось бежать.
С каким живым участием все слушали подвиги предков
своих! С каким удовольствием будем мы рассказывать
внукам, что слышали — самого Карамзина!
ПОЧЕМУ?
(Замечания на книгу «Опыт краткой истории
русской литературы» Н. И. Греча)1
Письмо к издателю «С(ына) отечества)»
Как русский за историю оте¬
чественной словесности я обязан вам благодарностию; но
как читатель обязан к делу вашему беспристрастием. Сле¬
дующие замечания будут в том порукою; впрочем, я не
выдаю оных за непреложные, ни систематические: так
мне казалось, так мне воспадали они на ум. Излагаю свои
вопросы: Почему в период русской литературы до татар вы
определительно сказали, что «язык церковный был долгое
время исключительно книжным языком»? «Русская прав¬
да» издана Ярославом около 1019 года, но она писана не
по-славянски. «Песнь о полку Игоря» принадлежит
к XII веку, но весьма далека от языка церковного.
Почему не упомянули, что летописцы разнились в сло¬
ге и наречиях, смотря по краю, в котором жили? Так,
летописцы псковский и новгородский писали языком более
народным, нежели киевский и волынский; многие грамоты
переходят отличительно в собственно русский язык, следо¬
вательно, нельзя сказать, будто «книжный язык летописей,
повестей и проч. был тот же богослужебный».
Почему вы сказали, что «Слово о полку Игоря» писано
тогдашним народным языком русским, близко подходя¬
щим к слогу Нестора и переводу Библии? Во-первых,
говоря о языке, вы сбиваетесь на слог, а это две вещи,
одна от другой независимые. Потом, соглашаясь с мнени¬
78
ПОЧЕМУ?
ем, что «Слово» сие писано по-русски*, не сознаюсь, чтобы
народный язык был когда-либо книжным, еще менее биб¬
лейским, ибо все доказывает противное**. Следовательно,
близкого между ними сходства существовать не могло.
Нестор и многие другие духовные летописцы, каждый
по уменью своему, писали на мораво-славянском языке,
то есть на библейском; но в «Слове о полку Игоря» язык
и слог совершенно отличны от церковного и, скорее, походят
на язык и слог Новгородской летописи издалека, а ближе
«Русской правде», судя по особому выражению. Конечно, вы
можете оправдаться дельфийскою двусмысленностию свое¬
го периода, можете сказать, что в «Песне о полку Игоря» три
четверти слов славянских. В таком случае и Красицкого
«Мышеида»2 сходствует с Нестеровою летописью, потому
что русский и польский языки происходят от одного
корня.
Почему представляете мнение о творениях Бояна как
бы сомнительным, когда певец Игоря приводит слова его
в оригинале: «Тяжко ти головы кроме плечю: зло ми телу
кроме головы»? И в другом месте: «Ни хытру, ни горазду,
ни птицю горазду, суду Божия не минути».
Почему вы называете белорусским наречием язык
Скорины, Семеона Полоцкого, Исканникия Галятовского,
Лазаря Барановича и других духовных писателей, обра¬
зовавшихся под влиянием Польши?
На ком основываясь, заключаете, что такое наречие
существовало, ибо ни один из антиквариев наших о том
не намекает? Имея некоторые сведения в языке польском
и в наречии, употребительном теперь на Белой Руси и в
Литве у простого народа, признаюсь, я не нахожу сход¬
ства между сим последним и вами белорусским называе¬
мым. Сличив одновременные и разновременные творения
помянутых писателей, мы найдем, что язык их есть смесь
польских выражений и слов с русскими, более или менее
неправильными, смотря по степени знания авторов в языке
русском, на котором они писать мыслили, выражаясь
* H. М. Карамзин в «Истории Гос(ударства) Росс(йиского)» умол¬
чал, каким языком писано «Слово о полку Игоря», но ученый антиква¬
рий наш г. Каченовский ясно говорит о различии языка, коим оно
писано, от церковного. См. «Взгляд на российское византийство в
XVIII веке».
** Письма Стефана Батория к Грозному в 1581 году писаны та¬
ким же наречием «варварским», — пишет H. М. Карамзин, — ни рус¬
ским, ни польским».
79
A. A. БЕСТУЖЕВ
этим исковерканным языком. Одинаковые слова у одних
выражбны по-польски, у других по-русски; склонения
и спряжения не имеют постоянного правила, церковный
язык перемешан — вот что называли сии писатели языком
русским, а вы белорусским именуете. Собственное же
белорусское наречие, несмотря на польское господство,
до сих пор сохранило свою оригинальность и более под¬
ходит к языку летописи, чем к приводимому вами в при¬
мер. Ученые греко-российского исповедания в южной Рос¬
сии, воспитанные поляками, не слыша настоящего нашего
языка, поневоле писали сим испорченным и произвольным
наречием; говорю: произвольным, ибо, по мере сближения
своего с Русью, по мере уменьшения влияния польской
словесности на их слово, они писали ближайшим к рус¬
скому языком. Св. Димитрий, митрополит Ростовский, Ан¬
тоний Радзивилловский, Стефан Яворский служат тому
доказательством.
У самого Феофана заметна великая разница между
первыми и последними его речами, ибо с каждым днем
он короче знакомился с языком нашим. Отчего сии быст¬
рые изменения мнимого белорусского наречия? Языки
народов не теряют столь скоро характерность свою!
Теперь спрашиваем: можно ли назвать областным на¬
речием разногласный язык нескольких ученых? Если да!
то и педантский латинизм Рима в средних веках имеет
не меньше права называться итальянским, а судебный
язык от Петра Великого до Петра III — ингерманландским
наречием.
Почему? говоря об искусстве старобытных россиян,
об Академии художеств, даже упоминая некоторых ху¬
дожников, вы не назвали знаменитейших в прошлом и
настоящем временах, каковы Мартос, Егоров, Кипренский,
Толстой и другие. Для чего бы не сказать, что русские
литейщики Хайлов и Екимов первые успели отливать
целиком громады из меди? Кажется, науки и искусства
тесно между собою связаны.
Почему? упоминая о сухопутном кадетском корпусе,
не сказать, что в нем образовался театр наш; что Сумаро¬
ков, Волков, Дмитревский и Ефимьев там воспитывались,
а Княжнин был учителем? Почему не заметить, что Мос¬
ковскому университету обязана Россия лучшими своими
писателями, каковы: Карамзин, Муравьев, Мерзляков, Жу¬
ковский, Гнедич и Милонов.
80
ПОЧЕМУ?
Почему? не украшены биографии известнейших авто¬
ров анекдотами. Их легко бы можно было собрать из книг
или изустно и тем очертать характер каждого. Согласен,
что подобные характеристики не будут полны; тем они
драгоценнее, что источники их малочисленны — тем
скорее должно пользоваться известным. Для чего, напри¬
мер, не открыть соперничества Тредиаковского с Ломоно¬
совым на лирическом поприще, а сего с Сумароковым —
на театральном? Для чего не сказать о мнении их совре¬
менников на счет их творений*.
Почему не описать добродушия Хемницера в париж¬
ском театре или анекдот о Николевой «Сорене» с великою
Екатериною?**.
Почему канцлер Остерман и Дмитрий Волков не поме¬
щены в числе людей, имевших влияние на русское слово?
Первый со времен Петра Великого ввел неочищенный язык,
испещренный латинскими речениями, в судебный и дипло¬
матический слог; а последний вывел его из употребления
манифестами, в царствование Петра III им писанными.
Почему? о И. И. Шувалове сказано не вполне? Меце¬
наты всегда и везде заслуживают особое внимание. О графе
Андрее Петровиче Шувалове, друге Лагарпа и Вольтера,
вовсе умолчено, несмотря на славное его «Послание
к Ниноне», приписанное французами Фернейскому поэту,
и другие мелкие стихотворения.
О графе П. В. Завадовском упомянуто слегка, между
тем как его старанием расцвели у нас умы, науки
и поэзия.
* Для образчика привожу слова Новикова о А. П. Сумарокове в
«Опыте его словаря о российских писателях»: «Различных родов про¬
заическими и стихотворными сочинениями приобрел он себе бессмерт¬
ную славу не только от России, но и от чужестранных академий и
славнейших европейских писателей. И хотя первый он из россиян начал
писать трагедии, но столько успел в оных, что заслужил название север¬
ного Расина. Его эклоги равняются знающими людьми с Вергилиевыми,
а подчас еще остались неподражаемы, а притчи его почитаются «со¬
кровищем российского Парнаса», и в сем роде далеко превосходит он
Федра и де ла Фонтеня!» О заблуждение!
** Губернатор московский граф Я. А. Брюс нашел некоторые места
в сей трагедии, относящиеся до тиранства, оскорбительными величе¬
ству, запретил трагедию играть и послал ее к императрице. Ответ
Екатерины был достоин ее: «Удивляюсь, граф Яков Александрович, что
вы остановили представление трагедии, как видно, принятой с удоволь¬
ствием публикою. Смысл стихов, вами замеченных, никакого не имеет от¬
ношения к вашей государыне. Автор восстал против самовластия ти¬
ранов, а Екатерину называет матерью!»
4—907
81
A. A. БЕСТУЖЕВ
Почему называя малоизвестных людей на поле наук
точных, вы забыли флота капитан-командора П. Я. Гама¬
лею, которым должна гордиться Россия и который, если
бы даже не был законодателем нашего мореплавания,
будет жить как писатель по кратости и красоте слога.
Почему, перебирая незначительных путешественников, не
вспомнили адмирала Нагаева, которого географические
карты с благоговением уважаются флотскими офицерами,
несмотря на столетнюю древность и многих последова¬
телей?
Почему не сказано ни слова о рукописных сочинениях
многих авторов? Неужели одно печатное есть принадлеж¬
ность истории? После Тредиаковского остались многие
любопытные рассуждения касательно отечественной грам¬
матики; после Озерова перевод Грессетова «Сиднея», после
Княжнина начало поэмы «Петр Великий» и два действия
трагедии «Пожарский». По смерти Милонова не окончен¬
ная им поэма о сотворении мира утратилась, но автор
«Опыта» знал о ней и потому мог бы уведомить публику,
дабы, при невозможности спасти ее от потопления в Лете,
воспрепятствовать, по крайней мере, литературным корса¬
рам, в силу берегового права, расхитить оной обломки.
Почему? пропущено в росписи творение преосвящен¬
ного Евгения «Историческое и географическое описание
Воронежской губернии», напечатанное в Воронеже
в 1792 году, из которого г. Щекатов немало заимствовал,
составляя свой географический словарь?
В сочинениях Аблесимова не упомянуты басни, издан¬
ные им в 1780 году.
Почему? пропустили вы издателя «Сибирского вестни¬
ка» г. Спасского, ознакомившего нас с зауральскою при¬
родою; г. Берха, оказавшего важные услуги сибирской
истории и критической морской географии; Шиповского —
едва ли не первого переводчика языком человеческим;
Осипова — творца «Вывороченной наизнанку Энеиды»;
Котляревского — единственного писателя на малороссий¬
ском наречии; Сковороду — славного украинского Диоге¬
на, сочинителя многих народных песен*.
* Захожие слепцы поют песни его по всей Малороссии — и не
скучают слушателям. Одна из них начинается:
«Всякая имеет свой ум голова,
Всякому городу нравы и приава!»
82
ПОЧЕМУ?
Почему в «Словаре» своем, кроме Баратынского и дру¬
гих, другими упомянутых поэтов, не поместили вы
Арк. Родзянку? Стихи его, право, стоят многих в вавилон¬
ском вкусе переведенных трагедий; или Н. И. Тургенева
за его политические сочинения, г. Кайданова за «Исто¬
рию»; г. Кошанского за открытие новых начал в «грам¬
матике русской», и некоторых других? По всей вероят¬
ности, в подражание иным, они не будут искать эфира *
в книжке вашей, чтобы застраховать письменную и печат¬
ную славу свою от пожарного случая; но тем не умень¬
шайте долг историка быть справедливым к умершим
и живым.
На днях я буду иметь честь доставить к вам нечто
о критике г. Катенина3.
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ
СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
Гений красноречия и поэзии,
гражданин всех стран, ровесник всех возрастов народов,
не был чужд и предкам нашим. Чувства и страсти свой¬
ственны каждому; но страсть к славе в народе воинст¬
венном необходимо требует одушевляющих песней,
и славяне, на берегах Дуная, Днепра и Волхова, оглашали
дебри гимнами победными. До XII века, однако же, мы
не находим письменных памятников русской поэзии: все
прочее сокрывается в тумане преданий и гаданий. Быто¬
писания нашего языка еще невнятнее народных: вероятно,
что варяго-россы (норманны, пришлецы скандинавские)
слили воедино с родом славянским язык и племена свои,
и от сего-то смешения произошел язык собственно рус¬
ский; но когда и каким образом отделился он от своего
родоначальника, никто определить не может. С Библиею
(в X веке), написанною на болгаро-сербском наречии,
* Под словом эфир в типографском языке разумеются все на
страницах пробелы и междустрочия.
4**
83
A. A. БЕСТУЖЕВ
славянизм наследовал от греков красоты, прихоти, оборо¬
ты, словосложность и словосочинение эллинские. Перевод¬
чики священных книг и последующие летописцы, люди
духовного звания, желая возвыситься слогом, писали или
думали писать языком церковным — и от того испестрили
славянский отечественными и местными выражениями
и формами, вовсе ему несвойственными. Между тем язык
русский обживался в обществе и постепенно терял свою
первобытную дикость, хотя редко был письменным и ни¬
когда книжным. Владычество татар впечатлело в нем едва
заметные следы, но духовные писатели XVI и XVII столе¬
тий, воспитанные в пределах Польши, немало исказили
русское слово испорченными славено-польскими выраже¬
ниями. От времен Петра Великого, с учеными терминами,
вкралась к нам страсть к германизму и латинизму. Век
галлицизмов настал в царствование Елисаветы, и теперь
только начинает язык наш отрясать с себя пыль древ¬
ности и гремушки чуждых ему наречий. Нынешнее состоя¬
ние оного увидим мы впоследствии; теперь мысленно про¬
бежим политические препоны, замедлявшие ход просвеще¬
ния и успехи словесности в России.
Новообращенные россияне, истребляя все носившее на
себе отпечаток язычества, нанесли первый удар древней
словесности. Скоро минул для поэзии красный век Влади¬
миров, и на его могиле возникли междоусобия: Русь
не могла отдохнуть под кроткою властию Ярославов
и Мономахов, ибо удельные князья непрестанно ковали
крамолы друг на друга, накликали половцев, угров, черных
клобуков и воевали с ними против братий своих. Разорен¬
ное отечество вековало на бранях противу домашних вра¬
гов или на страже от набегов соседних; наконец гроза
разразилась над ним, и гордый могол, на пепелище рус¬
ской свободы, разбил странственную свою палатку.
Все, что может истребить огонь, меч и невежество,
гибло. Как враны, воцарилось племя Батыево над пусты¬
нями и кладбищами. Варварство заградило страхом свет
с Запада и Востока. В монастырях только и в вольном
Новегороде тлелись искры просвещения; зато лишь нищета
и невежество ручались за безопасность прочих. Мало-
помалу оправлялась Россия от бед, опершись на меч
Невского и Донского; оживала в княжении Калиты и Ва¬
силия (Димитриевича) ; но иноземное просвещение упало
вместе с Новгородом и его торговлею. Иоанн Грозный
84
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
призвал на Русь науки и искусства; мудрый и несчастный
Годунов ревностно им покровительствовал; но ужасы меж¬
дуцарствия, злодеяния самозванцев, вероломство Польши
и расхищения от шведов задушили семена, посеянные
его рукою. Алексей образовал искусство ратное и полити¬
ческими сношениями несколько приготовил россиян
к важной перемене; но до благотворного царствования
Петра науки были только делом, а не системою.
Итак, подивимся ли, что хладный климат России про¬
извел немногие цветы словесности! Пожары, войны и вре¬
мя истребили остальное. Небрежение русских о всем оте¬
чественном немало тому способствовало.
В летописях, до нас дошедших, первое место занимает
Несторова1. Они писаны хронически, слогом простым, не
кудрявым, но более или менее ознаменованным славяниз¬
мом. В летописях Псковской и Новогородской встречают¬
ся места трогательные, исполненные рассуждений справед¬
ливых, а не одни случаи. В Несторовой видны искренность
и здравомыслие. Русская правда2 — слепок с судебных за¬
конов скандинавских — и еще немногие грамоты и завеща¬
ния княжеские писаны языком грубым, но кратким и силь¬
ным. Народные песни изменены преданием и едва ли древ¬
нее трехсот лет. Русский поет за трудом и на досуге, в
печали и в радости, и многие песни его отличаются све-
жестию чувств, сердечною теплотою, нежностью оборотов;
но беды отечества и туманное его небо проливают на них
какое-то уныние, и вообще в них редко встречаются пыл¬
кие страсти и обилие мыслей.
Возвышенные песнопения старины русской исчезли,
как звук разбитой лиры; одно имя соловья Бояна отгря-
нуло в потомстве, но его творения канули в бездну веков,
и от всей поэзии древней сохранилась для нас только одна
поэма о походе Игоря, князя Северского, на половцев.
Там находим мы незаимствованные красоты, иную приро¬
ду, отменный круг действия. Безыменный певец вдохнул
русскую боевую душу в язык юный, но и самою çTpaH-
ностию привлекательный; он украсил его цветами мечты,
вымыслом народной мифологии, разительными сравнения¬
ми и чувствами глубокими. Непреклонный, славолюбивый
дух народа дышит в каждой строке. Драгоценная поэма
сия, принадлежащая к XII веку, писана мерною прозою
и языком, вероятно, южно-русским. Кажется, время
сохранило ее, чтобы сильнее дать чувствовать потерю
85
A. A. БЕСТУЖЕВ
остального! В песне о битве Донской3 (XV века) нет того
огня, той силы в очертании лиц, той самородной, прелести,
которые отличают песнь о походе Игоря. Впрочем, рассказ
оной плавен и затейлив, и ее должно читать наравне со
всеми древностями нашего слова, дабы в них найти черты
русского народа и тем дать настоящую физиогномию
языку.
Одним шагом переступаем расстояние пяти столетий:
новая эпоха в красноречии настает от Феофана, в стихо¬
творстве от Кантемира. Первый (род. 1681, ум. 1736 г.),
одаренный умом обширным, утонченным, двигал полити¬
ческие пружины государства, сердцами слушателей и чита¬
телей. Красноречие его убедительно: он говорит чувствам
и от чувства; но язык Феофана неправилен, изломан, ис¬
пещрен польским и славянским. Остроумный Кантемир
(род. 1708, ум. 1744 г.), хотя неуспешно ввел француз¬
ский, вялый силлабический размер, хотя писал слогом
неровным, жестким, хотя дружил нас с европейскими мыс¬
лями на языке народном, еще не обработанном, — но как
философ, как верный живописец нравов и обычаев века
будет жить славою в дальнем потомстве!
Подобно северному сиянию с берегов Ледовитого моря
гений Ломоносова (род. 1711, ум. 1765 г.) озарил полночь.
Он пробился сквозь препоны обстоятельств, учился и на¬
учал, собирал, отыскивал в прахе старины материалы для
русского слова, созидал, творил — и целым веком двинул
вперед словесность нашу. Русский язык обязан ему прави¬
лами, стихотворство и красноречие — формами, тот и дру¬
гие — образцами. Дряхлевший слог наш оюнел под пером
Ломоносова. Правда, он занял у своих учителей, немцев,
какое-то единообразие в расположении и обилие в рас¬
сказе; но величие мыслей и роскошь картин искупают
сии малые пятна в таланте поэта, создавшего язык лири¬
ческий.
В то время как юный Ломоносов парил лебедем, без¬
дарный Тредьяковский (род. 1703, ум. 1769 г.) пресмы¬
кался, как муравей, разгадывал механизм, приличный рус¬
скому стопосложению, и оставил в себе пример трудолю¬
бия и безвкусия. Смехотворными стихами своими, в отри¬
цательном смысле, он преподал важный урок последую¬
щим писателям. Сумароков, современник и соперник Ло¬
моносова, был отцом нашего театра. Он писал во всех
родах; но теперь прежние венки его вянут и облетают:
86
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
неумолимое потомство отказывает ему в славе образцо¬
вого писателя.
В русских трагедиях подражание французским, совер¬
шенное отсутствие местности, бесхарактерность лиц, хо¬
лодность страстей и сложность плана — суть всегдашние
его пороки. Простота его басен, идиллий надута, весе¬
лость комедий принужденна, и вообще, редкие черты
чувств и красоты воображения скрыты в тяжком, терновом
слоге. (Род. 1718, ум. 1777 г.). Поповский, первый после
Ломоносова, писал чистою прозою. Перевод «Опыта о че¬
ловеке» Попа заслуживает внимания. (Род. 1730,
ум. 1760 г.).
Медленною стопою двигалась вперед словесность:
учреждение семинарий, Московского университета (1755),
кадетских корпусов (1732, 1762), призвание иноземных
ученых разливали просвещение; но им занят был один
только ум: воображение еще дремало. Писатели, даже са¬
мые посредственные, были редки. Критика и соперничест¬
во не очищали языка, не придавали ему блеску и живости.
С Петра III слог деловой стал очищаться от латинской
примеси. Наконец настало золотое время для словесности
и ученых. Великая Екатерина II словом и делом ободряла
просвещение: размножила училища, основала Академию
Российскую (1783) и тем же пером, коим решала судьбы
государств, писала русские стихи, собственным примером
вливая жар соревнования в подданных. Заслуги Екатери¬
ны для просвещения отечества неисчислимы. Все лучшие
наши писатели возникли или образовались под ее влады¬
чеством.
Лирик Петров исполнен ярких мыслей, пламенных,
смелых оборотов, быстро набросанных картин; но у
него поэзия мыслей, а не стихов. Язык его разрывчат,
шероховат и не всегда справедлив. (Род. 1736, ум. 1799 г.).
Херасков, стихотворец эпический, по своему времени пи¬
сал плавными стихами, хотя кудряво и пространно. Мно¬
гие отрывки из поэм «Владимира» и «Россияды» картинны,
великолепны, изобилуют местностями; из «Искателей
счастия» обрисованы с приятным разнообразием. Никто
из русских писателей не произвел более Хераскова во всех
родах. Жаль только, что ему недоставало краткости и
оригинальности. (Род. 1733, ум. 1807 г.). Богданович, поэт
милый и добродушный, первый написал у нас стихотвор¬
ную сказку, слогом легким, сердечным, замысловатым.
87
A. A. БЕСТУЖЕВ
Рассказ в его «Душеньке» прелестен и достоин предмета
столь нежного; изображения живы, природны. Он разно¬
образен, подобно Протею4, но в некоторых местах его
стихосложенье падает в прозаизм. (Род. 1743, ум. 1802 г.).
Басни Хемницера не писаны, а рассказаны с непритвор¬
ным добродушием, и сия-το гениальная небрежность со¬
ставляет прелесть, которой нельзя подражать и которой
не должно в нем исправлять. (Род. 1744, ум. 1784 г.). Фон¬
визин в комедиях своих «Бригадире» и «Недоросле» в
высочайшей степени умел схватить черты народности и,
подобно Сервантесу, привесть в игру мелкие страсти дере¬
венского дворянства. Его критические творения будут дра¬
гоценными для потомства, как съемок (facsimilé) нравов
того времени. (Род. 1745, ум. 1792 г.). В. Капнист из¬
вестен колкою сатирою, комедиею «Ябеды», оды его ды¬
шат благородством мыслей. Легкие стихотворения до¬
стойны древней антологии. Проза Кострова в переводе
Оссиана и доныне может служить образцом благозвучия,
возвышенности. Его стихи оригинальны. Перевод осьми
песней «Илиады» не всегда равно выдержан, но силен,
важен и цветист. (Род. ..., ум. 1796 г.). Трагик Княжнин
известен на драматическом поприще «Дидоною» и «Вади¬
мом», из комедий его имеют большое достоинство «Хва¬
стун» и «Чудаки», из водевилей «Сбитеньщик»; прочие же
театральные произведения суть рабские слепки с француз¬
ских пьес. В Княжнине видно чувство. Язык его не совсем
верен, но легок. (Род. 1742, ум. 1791 г.). Наконец, к славе
народа и века, явился Державин, поэт вдохновенный, не¬
подражаемый, и отважно ринулся на высоты, ни прежде,
ни после него не досягаемые. Лирик-философ, он нашел
искусство с улыбкою говорить царям истину5, открыл
тайну возвышать души, пленять сердца и увлекать их то
порывами чувств, то смелостью выражений, то великоле¬
пием описаний. Его слог неуловим, как молния, роскошен,
как природа. Но часто восторг его упреждал в полете пра¬
вила языка, и с красотами вырывались ошибки. На закате
жизни Державин написал несколько пьес слабых6, но и в
тех мелькают искры гения, и современники и потомки с
изумлением взирают на огромный талант русского Пинда¬
ра, певца Водопада, Фелицы и Бога. Так драгоценный
алмаз долго еще горит во тьме, будучи напоен лучом
солнечным; так курится под снежною корой трехклимат-
ный Везувий после извержения, и путник в густом дыме
88
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
его видит предтечу новой бури! (Род. 1743, ум. 1816 г.).
Рядом с ним, в роде легкой поэзии, возник Дмитриев
и обратил на себя внимание всех. Игривым слогом, остро¬
тою ума и чистотою отделки он снискал себе имя образ¬
цового поэта и заохотил русских к отечественному стихо¬
творству. Милая, разборчивая муза его, изъясняясь язы¬
ком лучших обществ, нашла друзей даже в кругу светских
женщин и своим влиянием на все сословия принесла
важную пользу словесности. Летучий рассказ его повестей
пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна;
равно как поэт и баснописец Дмитриев украсился венком
Лафонтена и первый у нас создал легкий разговор басен¬
ный. Оригинальный переводчик с французского, он пере¬
дал нашему плавному языку всю заманчивость, всю игру,
все виды первого. (Род. 1760 г.).
Между тем как Державин изумлял своими одами, как
Дмитриев привлекал живым чувством в песнях, картин¬
ностью в оригинальных произведениях — блеснул Карам¬
зин на горизонте прозы, подобно радуге после потопа.
Он преобразовал книжный язык русский, звучный, бога¬
тый, сильный в сущности, но уже отягчалый в руках
бесталанных писателей и невежд-переводчиков. Он двинул
счастливою новизною ржавые колеса его механизма, от¬
бросил чуждую пестроту в словах, в словосочинении и дал
ему народное лицо. Время рассудит Карамзина как исто¬
рика7; но долг правды и благодарности современников
венчает сего красноречивого писателя, который своим пре¬
лестным, цветущим слогом сделал решительный переворот
в русском языке на лучшее. Легкие стихотворения Карам¬
зина ознаменованы чувством: они извлекают невольный
вздох из сердца девственного и слезу из тех, которые все
испытали. (Род. 1765 г.).
В шутовском роде (burlesque) известны у нас Майков
и Осипов. Первый (род. 1725, ум. 1778 г.) оскорбил обра¬
зованный вкус своею поэмою «Елисей». Второй, в «Энеиде»
наизнанку, довольно забавен и оригинален. Ее же на мало-
российское наречие с большою удачею переложил Котля-
ревский. Нелединский-Мелецкий познакомил нежными
своими песнями прекрасных наших соотечественниц с род¬
ным языком, который так нежно ласкает слух и так сладо¬
стно проникает сердце. (Род. 1751 г.). Ему удачно после¬
довал граф Салтыков. Бобров изобилен сильными мыслями
и резкими изображениями. В «Херсониде» встречаются
89
A. A. БЕСТУЖЕВ
оригинальные красоты, но слог его нередко напыщен и па¬
дение стоп тяжело (Ум. 1810 г.). Князь Долгорукий отли¬
чен свободным рассказом и непринужденною веселостию.
Несмотря на частые стихотворные вольности, его «Авось»,
«Камин», «К соседу» и «Завещание» всегда будут читаемы
за русское их выражение. (Род. 1764 г.). Граф Хвостов,
трудолюбивый стихотворец наш, писал в различных родах,
и в нем нередко встречаются новые мысли. Одами своими
заслужил он недвусмысленную славу, и публика уже оце¬
нила все пиитические его произведения. (Род. 1757 г.).
Муравьев (род. 1757, ум. 1807 г.) писал мужественною,
чистою, Подшивалов (род. 1765, ум. 1813 г.) безыскусст¬
венною прозою. Слог обоих имеет тем большее достоинст¬
во, что они, писав в одно время с Карамзиным, соучаство¬
вали в преобразовании слога. Макаров острыми крити¬
ками своими оказал значительную услугу словесности.
(Род. 1765, ум. 1804 г.). Востоков первый показал опыт
над гибкостию русского языка для всех стихотворных
размеров. Унылая поэзия его дышит философиею и глу¬
боким чувством. (Род. 1781 г.). Марин славен острыми
сатирами и забавными пародиями. (Ум. 1813 г.). Князь
Горчаков превзошел его колкостию, правдою и народ¬
ностью своих сатир; к сожалению, их не много. (Род.
1762 г.). Пнин с дарованием соединял высокие чувства
поэта. Слог его особенно чист. (Род. 1733, ум. 1805 г.).
М. Кайсаров сделал себе имя переводом Стерна, Мартынов
(род. 1771 г.) переводил Дюпати, Руссо и некоторых гре¬
ческих классиков — труд немаловажный с нашим упрямым
языком для прозы общежительной. Князь Шаликов писал
нежною прозою. Он обилен мелкими стихотворными со¬
чинениями. Его муза игрива, но нарумянена. Панкратий
Сумароков отличен развязною шутливостью в стихах
своих, не всегда гладких, но всегда замысловатых. «Слепой
Эрот» доказывает, что сибирские морозы не охладили
забавного его воображения. Баснописец Александр Измай¬
лов рисует природу, как Теньер. Рассказ его плавен, есте¬
ствен; подробности оного заставляют смеяться самому
действию. Он избрал для предмета сказок низший класс
общества и со временем будет иметь в своем роде боль¬
шую цену, как верный историк сего класса народа.
(Род. 1779 г.). Беницкий написал только три сказки, зато
образцовою прозою. Из них «На другой день, или Завт¬
ра», — будет на всех языках оригинальною, ибо кипит
90
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
мыслями. Смерть рано похитила его у русской словесно¬
сти! (Род. 1780, ум. 1809 г.). Шишков — писатель прозаи¬
ческий. Начатки его ознаменованы легкостью слога. Без¬
делки, написанные им для детей, могут служить образцами
в сем роде. Впоследствии, когда слезливые полурусские
иеремиады наводнили нашу словесность, он сильно и спра¬
ведливо восстал противу сей новизны в полемической
книге «О старом и новом слоге». Теперь он тщательно
занимается родословною русских наречий и речений и до¬
водами о превосходстве языка славянского над нынешним
русским. (Род. 1754 г.). Стихи Шатрова полны резких
мыслей и чувств, но слог псалмов его устарел. Князь
Шихматов имеет созерцательный дух и плавность в эле¬
гических стихотворениях. Впрочем, его поэзия сумрачна.
Судовщиков с большою легкостью и правдою обрисовал
свою комедию в стихах «Неслыханное диво, или Честный
секретарь». Ефимьев довольно удачно изобразил в стихо¬
творной же комедии преступника от игры. (Ум. 1804 г.)·
Аблесимов известен своим старинным национальным воде¬
вилем «Мельник». (Ум. 1784 г.). Крюковской написал
трагедию «Пожарской», в которой более патриотизма,
нежели истины. В ней, однако же, есть возвышенные
места в отношении к чувствам и характерам. (Род. 1781,
ум. 1811 г.). Наконец, на поприще трагическом, Озеров
далеко оставил за собою своих предшественников. Им
обладали чувства глубокие и воображение пламенное —
творцы великих людей или могущих поэтов. Из пяти
трагедий, им написанных, «Эдип» берет безусловное пер¬
венство над прочими истинною выразительностью характе¬
ров и благородством разговора. «Фингал» одушевлен осси-
ановскою поэзиею; «Донской» изобилует счастливыми
стихами, игрою страстей, народностию и картинами; но
характер героя пьесы унижен. Прозаизмы редки в Озеро¬
ве, и александрийские его стихи звучны и важны.
(Род. 1770, ум. 1816 г.).
Теперь приступаю к характеристике особ, прославив¬
шихся или появившихся в течение последнего пятнадцати¬
летия. В ней найдут мои читатели и поэтов, составляющих
созвездие Северной Лиры, и писателей, кои, сверкнув,
исчезали подобно кометам, даже и тех, которых имена
мелькают воздушными огнями в эфемерных журналах.
91
A. A. БЕСТУЖЕВ
Тесные рамы сего обзора не позволяют мне упомянуть
о писателях, занимающихся предметами учеными и пото¬
му не прямо действующих на словесность.
И. Крылов возвел русскую басню в оригинально-клас¬
сическое достоинство. Невозможно дать большего просто¬
душия рассказу, большей народности языку, большей ося¬
заемости нравоучению. В каждом его стихе виден русский
здравый ум. Он похож природою описаний на Лафонтена,
но имеет свой особый характер: его каждая басня — сати¬
ра, тем сильнейшая, что она коротка и рассказана с видом
простодушия. Читая стихи его, не замечаешь даже, что
они стопованы, — и это-то есть верх искусства. Жаль, что
Крылов подарил театр только тремя комедиями8. По свое¬
му знанию языка и нравов русских, по неистощимой
своей веселости и остроумию он мог бы дать ей черты
народные. (Род. 1768 г.).
С Жуковского и Батюшкова начинается новая школа
нашей поэзии. Оба они постигли тайну величественного,
гармонического языка русского; оба покинули старинное
право ломать смысл, рубить слова для меры и низать
полубога’гые рифмы. Кто не увлекался мечтательною
поэзиею Жуковского, чарующего столь сладостными
звуками? Есть время в жизни, в которое избыток неизъ¬
яснимых чувств волнует грудь нашу; душа жаждет из¬
литься и не находит вещественных знаков для выражения:
в стихах Жуковского, будто сквозь сон, мы как знакомцев
встречаем олицетворенными свои призраки, воскресшим
былое. Намагниченное железо клонится к безвестному по¬
люсу, — его воображение — к таинственному идеалу чего-
то прекрасного, но неосязаемого, и сия отвлеченность про¬
ливает на все его произведения особенную привлекатель¬
ность. Душа читателя потрясается чувством унылым, но
невыразимо приятным. Так долетают до сердца неясные
звуки Эоловой арфы, колеблемой вздохами ветра.
Многие переводы Жуковского лучше своих подлин¬
ников, ибо в них благозвучие и гибкость языка укра¬
шают верность выражения. Никто лучше его не мог облечь
в одежду светлого, чистого языка разноплеменных писате¬
лей; он передает все черты их со всею свежестию красок
портрета, не только с бесцветной точностью силуэтною.
Он изобилен, разнообразен, неподражаем в описаниях.
У него природа видна не в картине, а в зеркале. Можно
заметить только, что он дал многим из своих творений
92
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
германский колорит, сходящий иногда в мистику, и вообще
наклонность к чудесному; но что значат сии бездельные
недостатки во вдохновенном певце 1812 года, который
дышит огнем боев, в певце Луны, Людмилы и прелестной,
как радость, Светланы? Переводная проза Жуковского
примерна. Оригинальная повесть его «Марьина роща»
стоит наряду с «Марфою Посадницею» Карамзина. (Род.
1783 г.).
Поэзия Батюшкова подобна резвому водомету, который
то ниспадает мерно, то плещется с ветерком. Как в брыз¬
гах оного переломляются лучи солнца, так сверкают в ней
мысли новые, разнообразные. Соперник Анакреона и Пар¬
ни, он славит наслаждения жизни. Томная нега и страст¬
ное упоение любви попеременно одушевляют его и, как
электричество, сообщаются душе читателя. Неодолимое
волшебство гармонии, игривость слога и выбор счастливых
выражений довершают его победу. Сами грации натирали
краски, эстетический вкус водил пером его; одним словом,
Батюшков остался бы образцовым поэтом без укора,
если б даже написал одного «Умирающего Тасса».
(Род. 1787 г.).
Александр Пушкин вместе с двумя предыдущими сос¬
тавляет наш поэтический триумвират. Еще в младенчестве
он изумил мужеством своего слога, и в первой юности
дался ему клад русского языка, открылись чары поэзии.
Новый Прометей, он похитил небесный огонь и, обладая
оным, своенравно играет сердцами. Каждая пьеса его
ознаменована оригинальностию; после чтения каждой
остается что-нибудь в памяти или в чувстве. Мысли Пуш¬
кина остры, смелы, огнисты; язык светел и правилен. Не
говорю уже о благозвучии стихов — это музыка; не упо¬
минаю о плавности их — по русскому выражению, они
катятся по бархату жемчугом! Две поэмы сего юного
поэта, «Руслан и Людмила» и «Кавказский пленник»,
исполнены чудесных, девственных красот: особенно послед¬
няя, писанная в виду седовласого Кавказа и на могиле
Овидиевой, блистает роскошью воображения и всею жиз-
нию местных красот природы. Неровность некоторых ха¬
рактеров и погрешности в плане суть его недостатки —
общие всем пылким поэтам, увлекаемым порывами вообра¬
жения. (Род. 1799 г.).
Остроумный князь Вяземский щедро сыплет сравнения
и насмешки. Почти каждый стих его может служить
93
A. A. БЕСТУЖЕВ
пословицею, ибо каждый заключает в себе мысль. Он
творит новые, облагораживает народные слова и любит
блистать неожиданностью выражений. Имея взгляд беглый
и соображательный, он верно ценит произведения разума,
научает шутками и одевает свои суждения приманчивою
светскостию и блестками ума просвещенного. Многие из
мелких его сочинений сверкают чувством, все скреплены
печатью таланта, несмотря на неровное инде падение зву¬
ков и длину периодов в прозе. Его упрекают в расточи¬
тельности острот, не оставляющих даже теней в картине,
но это происходит не от желания блистать умом, но от
избытка оного. (Род. 1792 г.).
В Гнедиче виден дух творческий и душа воспламеняе¬
мая, доступная всему высокому. Напитанный древними
классиками, он сообщил слогу своему ненапыщенную важ¬
ность. Поэма его «Рождение Гомера» цветет красотами
неба Эллады. В его элегиях отзывается чувство необыкно¬
венно глубокое, и самый язык в оных отработан с боль¬
шею тщательностию. Ему обязаны мы счастливым появле¬
нием народной идиллии. Он усыновляет греческий гекза¬
метр русскому вселичному языку, и Гомер является у нас
в собственной одежде, а не в путах тесного утомительного
александрийского размера. (Род. 1784 г.).
В сочинениях Ф. Глинки отсвечивается ясная его душа.
Стихи сего поэта благоухают нравственностию; что-то
невещественно-прекрасное чудится сквозь полупрозрачный
покров его поэзии и, сливаясь с собственною нашею меч¬
тою, невольно к себе привлекает. Он владеет языком
чувств, как Вяземский языком мыслей. Проза его про¬
ста, благозвучна и округленна, хотя несколько плодовита.
«Письма русского офицера» написаны пером патриота-во-
ина. Стихотворения Глинки видимо усовершаются в отно¬
шении к механизму и обдуманности. В заключение ска¬
жем, что он принадлежит к числу писателей, которых
биография служила бы лучшим предисловием и коммента¬
рием для их творений. (Род. 1787 г.).
Амазонская муза Давыдова говорит откровенным наре¬
чием воинов, любит беседы вокруг пламени бивуака и с
улыбкою рыщет по полю смерти. Слог партизана-поэта
быстр, картинен, внезапен. Пламень любви рыцарской и
прямодушная веселость попеременно оживляют оный.
Иногда он бывает нерадив к отделке; но время ли
наезднику заниматься убором? В нежном роде — «Дого¬
94
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
вор с невестою» и несколько элегий; в гусарском — залет¬
ные послания и зачашные песни его останутся навсегда
образцами. (Род. 1784 г.).
Баратынский по гармонии стихов и меткому употребле¬
нию языка может стать наряду с Пушкиным. Он нравится
новостью оборотов; его мысли не величественны, но очень
милы. «Пиры» Баратынского игривы и забавны. Во многих
безделках виден развивающийся дар; некоторые из них
похищены, кажется, из альбома Граций. Милонов, поэт
сильный в сатирах и чувствительный в элегиях. В его
стихах слышится голос тоски неизлечимой. Слог Милоно¬
ва неуклончив, сжат и решителен; но стихосложение иног¬
да отрывисто. (Род. 1792, ум. 1821 г.). Воейков прелестен
в своих сатирических посланиях, нередко живописен в
«Садах» Дели ля, силен в некоторых эпизодах поэмы »Ис¬
кусства и науки». Впрочем, он поэт, вдохновенный умом,
а не воображением. Язык его не довольно высок для пред¬
мета, и течение стихов временем бывает затруднено длин¬
ными речениями. (Род. 1783 г.).
Рылеев, сочинитель дум или гимнов исторических, про¬
бил новую тропу в русском стихотворстве, избрав целию
возбуждать доблести сограждан подвигами предков. Долг
скромности заставляет меня умолчать о достоинстве его
произведений. (Род. 1795 г.). Притчи Остолопова ориги¬
нальны резкостию и правдою нравоучений; сатиры его едки
и портретны. Он оказал большую услугу словесности из¬
данием словаря поэзии9. (Род. 1782 г.). Родзянка, беспеч¬
ный певец красоты и забавы: он пишет не много, но легко
и приятно.
Мерзляков подарил публику занимательными разбора¬
ми и характеристикою наших лучших писателей10.
В оных, без сухости, без педантства, показав твердое
знание языка, умел он оттенить каждого с верностью и
разновидностию. Песни Мерзлякова дышат чувством: пе¬
реводы «Науки о стихотворстве», Виргилиевых «Эклог» и
еще некоторые — примеры. Но должно признаться, что его
стихосложение небрежно и утонченный вкус не всегда
водил пером автора. (Род. 1778 г.). В. Пушкин отличен
вежливым, тонким вкусом, рассказом природным и плав-
ностию, которые украшают мелкие его произведения.
(Род. 1770 г.). Плетнев удачно пошел по следам Мерзля¬
кова в характеристике поэтов11. В мечтательной поэзии
он подражатель Жуковского. Знание родного языка и осо¬
95
A. A. БЕСТУЖЕВ
бенная гладкость стихов составляют отличительные его
достоинства; неопределенность цели и бледность колори¬
та — недостатки. Его стихотворения можно уподобить
гармонике. В частности, у Плетнева встречаются пьесы —
игрушки стихотворства, украшенные всеми цветами фанта¬
зии. В романтическом роде лучшее его произведение —
элегия «Миних».
Дельвиг — одарен талантом вымысла; но, пристрастясь к
германскому эмпиризму и древним формам, нередко вдает¬
ся в отвлеченность. В безделках его видна ненарумяненная
природа. Идиллии Панаева довольно естественны, очень
миловидны; но они прививной плод в России. Рассказ его
нежен, плавен, но язык не всегда правилен. (Род. 1792 г.).
Александр Крылов имеет редкое достоинство переливать
иноземные красоты в русские, не изменяя мыслям под¬
линника. Муза его подражательная, но стихи очаровывают
своею звучностию. Полуразвернувшиеся розы стихотворе¬
ний Михаила Дмитриева обещают в нем образованного по¬
эта, с душою огненною. Переводы Раича Виргилиевых
«Георгик» достойны венка хвалы за близость к оригиналу
и за верный, звонкий язык. Олин удачно перевел некото¬
рые горацианские оды. В его элегиях есть истина и новые
мысли. Филимонов вложил много ума и чувствительности
в свои произведения: он успешно переводил Горация.
Межаков в безделках своих разбросал цветки светской
философии с стихотворною легкостию. Козлов, поэт-слепец,
пишет мило и трогательно. Иванчин-Писарев обилен
картинами и словами. Сверх означенных здесь можно с
похвалою упомянуть об Александре Писареве, Маздорфе,
Норове и Нечаеве.
В стихотворениях Анны Буниной и Анны Волковой —
двух женщин-поэтов — рассеяно много чувствительности и
меланхолии, но механизм оных недовольно легок. Однако
же «Падение фаэтона» первой из них разнообразно красо¬
тами вымысла. Еще некоторые из соотечественниц наших
бросали иногда блестки поэзии в разных журналах, и
хотя пол авторов можно было угадать без подписи их
имен, но мы должны быть признательны за подобное
снисхождение, мы должны радоваться, что наши красави¬
цы занимаются языком русским, который в их устах по¬
лучает новую жизнь, новую прелесть. Они одни умеют
избрать средину между школьным и слишком обыкно¬
венным тоном, смягчить и одушевить каждое выражение.
96
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
Тогда появится у нас слог разговорный, слог благород¬
ной комедии, чего до сих пор не было на сцене, ибо он
не слышен в гостиных.
Для трагедии ни один из живых европейских языков
не может быть склоннее русского: отсутствие членов и
умолчание глаголов вспомогательных творят его плавным,
разнообразным и вместе сжатым. Высокость речений сла¬
вянских, важность и богатство звуков придают ему все
мужество, необходимое для выражения страстей нежных
или суровых. Со всем тем у нас не существует народной
трагедии и, кроме Озерова, не было трагиков; но и тот,
покорствуя временности, заковал своего гения в академи¬
ческие формы и в рифмованные стихи. Князь Шаховской
заслуживает благодарность публики, ибо один поддержи¬
вает клонящуюся к разрушению сцену — то переводными,
то передельными драмами и водевилями. Он сочинил тра¬
гедию «Дебору», переложил «Абуфара», но настоящее дело
его есть комедия. В ней видны легкость и острота, но
мало оригинального. Поспешность, с которою пишет он
для сцены, опереживает отделку стихов и правила
языка. Из фарсов лучшие суть «Два соседа» и «Полубар-
ские затеи», ибо в них схвачены черты народные; из
комедий благородных «Своя семья» и «Какаду». Разговор¬
ный язык его развязен, текущ, но недовольно высок для
хорошего общества, и нередко поблеклая мишура заемных
острот портит слог его. Кокошкин прелестно и верно пере¬
вел «Мизантропа»; Грибоедов весьма удачно переделал с
французского комедию «Молодые супруги» (Le secret du
ménage) ; стихи его живы; хороший их тон ручается за вкус
его, и вообще, в нем видно большое дарование для театра.
Лобанов передал Расинову «Ифигению» с неотступною
верностию и чувством оригинала. Он скоро подарит публи¬
ку «Федрою».
Любители театра желают для обогащения оного ино¬
земными классическими произведениями, чтобы у нас бы¬
ло более подобных ему переводчиков. Тщательная его
отделка — заметим мимоходом — иногда замедляет по¬
рывы страстей пылких. Висковатов написал трагедию
«Ксения и Темир», которой ход довольно правдоподобен,
ибо основан на вымысле. Страсти высказаны стихами
звучными, но они многоречивы, и действие связно. «Гам¬
лет» явился на русской сцене его старанием. В комедиях
Загоскина разговор естествен, некоторые лица и многие
97
A. A. БЕСТУЖЕВ
мысли оригинальны, но планы их не новы. Хмельницкому
обязаны мы самыми беглыми стихами в роде комическом.
Как нельзя лучше перевел он «Говоруна» Буасси; переде¬
лал «Воздушные замки» Колен д’Арлевиля и передал нам
несколько водевилей. В нем мало своего; зато в подража¬
нии нет надутости. Жандр, с товарищами, перевел с фран¬
цузского несколько трагедий и одну комедию, от чего мно¬
горучные переводы сии получили пестроту в слоге; траги¬
ческие стихи его гладки, нередко сильны и часто заржав¬
лены старинными выражениями. Катенин, переводчик
«Сида», «Эсфири», Грессетовой комедии «Le méchant»*
и двух четвертых действий в трагедиях «Гораций» и «Ме¬
дея»; сочинитель баллад, критик и антикритик и лири¬
ческих стихов. Борис Федоров писал много для сцены, но
мало по вкусу публики. Однако ж в отрывках его «Юлия
Цезаря» виден дар к трагедии. Имена прочих авторов и
переводчиков пьес случайных известны только по бенефис¬
ным афишам и, вероятно, не переживут их в потомстве!
Оставив за собою бесплодное поле русского театра,
бросим взор на степь русской прозы. Назвав Жуковского
и Батюшкова, которые писали столь же мало, сколь пре¬
лестно, невольно останавливаешься, дивясь безлюдью сей
стороны, — что доказывает младенчество просвещения.
Гремушка занимает детей прежде циркуля: стихи, как
лесть слуху, сносны даже самые посредственные; но слог
прозы требует не только знания грамматики языка, но и
грамматики разума, разнообразия в падении, в округлении
периодов, и не терпит повторений. От сего-то у нас такое
множество стихотворцев (не говорю, поэтов) и почти во¬
все нет прозаиков, и как первых можно укорить блед-
ностию мыслей, так последних погрешностями противу
языка. К сему присоединилась еще односторонность, про¬
исшедшая от употребления одного французского и перево¬
дов с сего языка. Обладая неразработанными сокровища¬
ми слова, мы, подобно первобытным американцам, меняем
золото оного на блестящие заморские безделки.
Обратимся к прозаикам. Резким пером Каченовского
владеет язык чистый и важный. Редко кто знает правила
оного основательнее сего писателя. Исторические и крити¬
ческие статьи его дельны, умны и замысловаты. Слог
переводов Вл. Измайлова цветист и правилен, подобно
* «Злоязычный» {франц.) —Ред.12
98
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
переводному слогу Каченовского. Оба они утвердили свои¬
ми игривыми переводами знакомство публики нашей с
иноземными писателями. Броневский, автор записок мор¬
ского офицера, изобразил, будто в панораме, берега
Средиземного моря. Он привлекает внимание разнообра¬
зием предметов, слогом цветущим, быстротою рассказа
о водных и земных сражениях и пылкостью, с которой
передает нам геройские подвиги неприятелей, друзей и сы¬
нов России. Он счастливо избег недостатка многого
множества путешественников, утомляющих подробностя¬
ми. Он занимателен всем и нигде не скучен: жаль только,
что язык его неправилен.
Греч соединяет в себе остроту и тонкость разума с от¬
личным знанием языка. На пламени его критической лам¬
пы не один литературный трутень опалил свои крылья.
Русское слово обязано ему новыми грамматическими нача¬
лами, которые скрывались доселе в хаосе прежник грам¬
матик, и он первый проложил дорогу будущим историкам
отечественной словесности, издав опыт истории оной. Греч
не много писал собственно для литературы, но в письмах
его «Путешествия по Франции и Германии» заметны наб¬
людательный взор и едкость сатирическая, но в рассказе
пробивается нетерпенье. Булгарин, литератор польский,
пишет на языке нашем с особенною занимательностию.
Он глядит на предметы с совершенно новой стороны, изла¬
гает мысли свои с какою-то военною искренностию и
правдою, без пестроты, без игры слов. Обладая вкусом
разборчивым и оригинальным, который не увлекается даже
пылкою молодостью чувств, поражая незаимстаованными
формами слога, он, конечно, станет в ряд светских наших
писателей. Его «Записки об Испании» и другие журналь¬
ные статьи будут всегда с удовольствием читаться не
только русскими, но и всеми европейцами. Головнин опи¬
сал свое пребывание в плену японском так искренно, так
естественно, что ему нельзя не верить. Прямой, неровный
слог его — отличительная черта мореходцев — имеет боль¬
шое достоинство и в своем кругу занимает первое место
после слога Пл. Гамалеи, который самые сухие науки
оживляет своим красноречием. Свиньин, сочинитель живо¬
писного «Путешествия по Америке» и многих журнальных
статей, пишет обо всем русском, достойном внимания
патриотов. Его слог небрежен, но выразителен. В «Пись¬
мах схимника», сочинении Ф. Львова, нередко вспыхивают
99
A. A. БЕСТУЖЕВ
сердечные чувства с искрами поэзии; там много речений,
но мало новости в слоге. В статьях Н. Кутузова видны
цель и дух благородной души; но слог несколько пышен
для избранных им предметов. Критики Сомова колки и не
всегда справедливы. П. Яковлев обещает многое в роде
Жуй; слог его оригинален, отрывист; приноровления остры
и забавны. Кюхельбекер одарен летучим воображением и
мечтательностию. В «Европейских письмах» его встреча¬
ются картины удачные и новые. Нарежный в «Славянских
вечерах» своих разбросал дикие цветы северной поэзии.
Впрочем, проза его слишком мерна и однозвучна. Он напи¬
сал два романа, где много портретов и новых мыслей.
Дм. Княжевич пишет мило, умно и правильно — три вещи,
довольно редкие на Руси: его отечественные синонимы
очень занимательны. Меныпенина перевод «Писем о хи¬
мии» заслуживает внимания равно в прозаическом, как и
в стихотворном отношениях; он светел, игрив, верен ориги¬
налу и правилам нашего слова.
Сим заключаю ряд прозаиков; ибо другие безыменные
или ожидающие имен писатели, по малости или по бесха¬
рактерности их творений, не произвели никакого влияния
на словесность.
В сей картине, мною начертанной, читатели увидят,
в каком бедном отношении находится число оригинальных
писателей к числу пишущих, а число дельных произведений
к количеству оных. Рассмотрим тому причины.
Во-первых: необъятность империи, препятствуя сосре¬
доточению мнений, замедляет образование вкуса публики.
Университеты, гимназии, лицеи, институты и училища,
умноженные благотворным монархом и поддерживаемые
щедротами короны, разливают свет наук, но составляют
самую малую часть в отношении к многолюдству России.
Недостаток хороших учителей, дороговизна выписных и
вдвое того отечественных книг и малое число журналов,
сих призм литературы, не позволяют проницать просвеще¬
нию в уезды, а в столицах содержать детей не каждый
в состоянии. Феодальная умонаклонность многих дворян
усугубляет сии препоны. Одни рубят гордиев узел наук
мечом презрения, другие не хотят ученьем мучить детей
своих и для сего оставляют невозделанными их умы, как
нередко поля из пристрастия к псовой охоте. В столицах
рассеяние и страсть к мелочам занимают юношей; никто
не посвящает себя безвыгодному и бессребренному ремес¬
100
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
лу писателя, и если пишут, то пишут не по занятию, а шу¬
тя; и к чести военного звания — должно сказать, что мо¬
лодые офицеры наиболее, в сравнении с другими, основа¬
тельно учатся. Впрочем, у нас нет европейского класса
ученых (lettrés, savants) ; ибо одно счастие дает законы об¬
ществу, а наши богачи не слишком учены, а ученые вовсе
не богаты. В отношении к писателям я замечу, что многие
из них сотворили себе школы, коих упрямство препятству¬
ет усовершенствованию слова; другие не дорожат общим
мнением и на похвалах своих приятелей засыпают беспро¬
будным сном золотой посредственности.
Человек есть существо более тщеславное, чем славолю¬
бивое. Поэт, романтик, ученый работает в тиши кабинета,
чтобы собрать дань похвалы в людях; но когда он видит
труды свои гибнущими в книжной лавке и безмолвие,
встречающее его в обществе, где даже никто не подозре¬
вает в нем таланта; когда, вместо наград, он слышит одни
насмешки, — променяет ли он маки настоящего на невер¬
ный лавр отдаленного будущего?
Наконец, главнейшая причина есть изгнание родного
языка из обществ и равнодушие прекрасного пола ко все¬
му, на оном писанному! Чего нельзя совершить, дабы за¬
служить благосклонный взор красавицы? В какое прозаи¬
ческое сердце не вдохнет он поэзии? Одна улыбка жен¬
щины милой и просвещенной награждает все труды и
жертвы! У нас почти не существует сего очарования, и
вам, прелестные мои соотечественницы, жалуются музы на
вас самих!
Но утешимся! Вкус публики, как подземный ключ,
стремится к вышине. Новое поколение людей начинает
чувствовать прелесть языка родного и в себе силу образо¬
вать его. Время невидимо сеет просвещение, и туман, ле¬
жащий теперь на поле русской словесности, хотя мешает
побегу, но дает большую твердость колосьям и обещает
богатую жатву.
101
A. A. БЕСТУЖЕВ
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»,
ПОМЕЩЕННУЮ В 4, 5, 6 И 7 НОМЕРАХ
«РУССКОГО ИНВАЛИДА» 1823 ГОДА
В качестве издателя «Поляр¬
ной звезды» благодарю г-на К. за форменные похвалы,
а в лице сочинителя статьи «Взгляд на старую и новую
словесность в России» ответствую на его подстрочные за¬
мечания*.
При составлении нашего издания г-н Рылеев и я имели
в виду более чем одну забаву публики. Мы надеялись, что
по своей новости, по разнообразию предметов и достоин¬
ству пьес, коими лучшие писатели удостоили украсить
«Полярную звезду», она понравится многим; что, не пугая
светских людей сухой ученостью, она проберется на ками¬
ны, на столики, а может быть, на дамские туалеты и под
изголовья красавиц.
Подобными случаями должно пользоваться, чтобы по
возможности более ознакомить публику с русской ста¬
риной, с родной словесностью, со своими писателями.
Вздумано и сделано. И для достижения сей цели
мне выпал жребий: изобразить в кратких чертах картину
отечественной литературы и современных наших литера¬
торов.
Итак, первый долг критика был: рассмотреть истори¬
ческое изложение хода словесности в России, поверить
причины замедления оного, заметить, справедливы ли мне¬
ния о слиянии и изменении наречий нашего языка, а по¬
том уже перейти к подробностям. Конечно, такие изыска¬
ния требуют немного более искусства ставить восклицатель¬
ные знаки, и потому г-н К., следуя похвальному правилу
держаться всегда середины, прямо берется за некоторые
отрывки из характеристики писателей, оставя в стороне
введение, в котором должны заключаться не произвольные
суждения, а непреложные исторические истины. Я угады-
♦ Без сомнения, несколько вопросительных знаков не заслуживают
столь длинной антикритики; но это возражение будет служить как бы
введением в будущее. Я уверен, что приятели мои не раз подадут мне
к тому случай. — Соч.
102
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
ваю первую вину и этого и других обвинений, а потому
спешу объясниться.
Зная, что ни один из заслуженных писателей наших не
захочет предать себя на мелочную критику, на пересуды,
на жертву авторского самолюбия, я сам решился написать
краткую характеристику молодых современных литерато¬
ров. Не связанный никакими отношениями, не принадлежа
ни к одной партии, я мог высказать все, что слышал, мыс¬
лил и чувствовал. Принимаясь за это, я знал, однако, ка¬
кую грозу на себя накликаю. Я предвидел, что старожилы
на меня возопиют за неслыханную дерзость: в моих летах
рассуждать вслух; что многие восстанут, зачем я поместил
молодых литераторов, о которых они в адрес-календаре не
нашли ни слова, что иные будут шептать за себя и кри¬
чать за других о несправедливости, о непризнательности
к их талантам; что некоторые умники*, пожимая плечами,
будут говорить: «...Да кто же тот шалун, кто смел без
нашего и плана и совета всю важность поддержать столь
трудного сюжета?»
Так и сбылось: толки о «Полярной звезде» не переста¬
ют, а самолюбие не дремлет, но печатным ответом на этот
раз обязан я только на печатные замечания г-на К.
Почтенный критик мой после приветов, обыкновенно
рассыпаемых господами критиками, чтобы ускользить
своей жертве дорогу для падения, начинает по титуле, —
признанием, что обозрение словесности ему не нравится.
«В пьесе такого рода, — говорит он, — желали бы мы, что¬
бы не только многое, но и все было справедливо и основа¬
тельно». Все — великая вещь, милостивый государь; по
такому строгому счету какой всеобъемлющий гений, какой
и классический писатель не окажется банкротом? И как
требуете вы от одного человека, чтобы он обо всем судил
безошибочно, когда целые миллионы людей часто заблуж¬
* Для читателей, не знающих тайн нашего Парнаса, не лишним
считаю объяснить об этом классе литературных советников. Они
всегда собираются написать что-то чрезвычайное — и пишут только
визитные билеты. Многие, по какому-то паническому преданию, зовут
их людьми с тонким вкусом, который, однако, оказывается едва ли не в
одних завтраках. Впрочем, их нельзя винить в том, что их талант испа¬
ряется словесно: одному препятствуют важные занятия, для другого язык
русский кажется слишком тесен и дик по великолепным его идеям; тре¬
тий говорит, что здесь не для кого писать дельное; у четвертого Наполеон
при взятии Москвы сжег десть белой бумаги, на которую готовилась
излиться новая горацианская наука о стихотворстве и т. д.
103
A. A. БЕСТУЖЕВ
даются в одном и том же мнении? Правда, я прислуши¬
вался к общему мнению, судил, поверял; но со всем тем
мои частные суждения и выбор не выдавал за непремен¬
ные, и мое слово — не закон.
(Ориг(инал)) «И. Крылов возвел русскую басню в
оригинально-классическое достоинство». ( «И нвал ид» )
«А Дмитриев? Разве басни его не имеют классического
достоинства?» — «К чему это Парисово яблоко?» — спро¬
шу я в свою очередь; ибо если бы господин критик потру¬
дился прочесть не просто классическое, а оригинально¬
классическое, то меня избавил бы от трех лишних строчек,
а себя от нарекания за превращение смысла.
(Ориг<инал)) «С Жуковского и Батюшкова начинает¬
ся новая школа нашей поэзии».— («Инвал(ид)») «Что
разумеет автор под новою школою? Если романтическую,
то разве он не знает, что сия последняя имеет по крайней
мере столь же многих противников, как и защитников
между нашими литераторами? Далее: думали ль Ж. и Б.
быть основателями новой школы, одинаковым ли шли к
сему путем? — и проч.».
Все эти вопросы нейдут к делу. Для чего прицеплено
замечание о противниках школы романтической? И поче¬
му г-н К. вздумал, что я под Ж. и Б. разумею основателей
оной? Не полагает ли он, что романизм и романтизм одно
и то же? Конечно, Жуковский принадлежит к школе ро¬
мантической, но более как переводчик, нежели как автор;
что же до Батюшкова, то в романтическом роде у него
написаны только три пьесы: «Переход через Рейн», «Плен¬
ный» и «Замок в Швеции». Впрочем, вероятно, что ни Б.
ни Ж. не думали быть основателями школы, но, к счастью
русского языка и гармонии, ими были и суть.
(Оригин(ал)) «Оба они покинули старинное право ло¬
мать смысл, рубить слова для меры и низать полубогатые
рифмы». — («Инвалид») «Как? Разве Богданович, Хем-
ницер, Дмитриев, Карамзин, Нелединский и прочие были
только низатели рифм?»
Из чего же следует эти дилемма, и потом, к какой
стати соединять в одну графу Дмитриева с Богдановичем?
Дмитриев в такой же степени отличен отработкою стихов,
как Богданович их небрежностью; и рубленые слова, и
полубогатые рифмы у последнего не редки.
(Оригинал) «Он (Жуковский) дал многим из своих
творений германский колорит, сходящий иногда в мисти-
104
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
#су».— («Инв(алид)) «Что значит колорит, сходящий в
мистику? В таком случае можно будет сказать о Рафаэле,
что его колорит восходит к идеалу».
Что дельно, то дельно. Мистический колорит никуда
не годится, и самая поспешность, с которою писана сия
статья, не извиняет в проглядке такой ошибки. Призна¬
юсь, что если б я сам писал на себя критику, то этим
колоритом нарисовал бы презабавную карикатуру. Впро¬
чем, сравнение г-на К. вовсе не удачно. И прежде и после
можно сказать, что колорит восходит к идеалу, ибо каж¬
дая вещь, приближаясь к возможному своему совершенст¬
ву, приближается к своему идеалу; тем более колорит как
принадлежность изящного искусства.
(Оригин(ал)) «Оригинальная повесть его «Марьина
роща» стоит наряду с «Марфой Посадницей» Карамзи¬
на». — («Инвал(ид)») «Как можно сравнивать обе сии по¬
вести, писанные в совершенно разных* родах? Опять лю¬
безная привычка к анаграмме:1 я не сравнивал, но поста¬
вил их в ряд, потому что в отношении к гармонической
прозе обе сии пьесы у нас единственны. Да и разные вещи
всегда сравнивать можно, ибо сравнение не есть уподоб¬
ление.
Потом г-н К., желая блеснуть газетною ученостью, го¬
ворит: «Автор наш* хотел, может быть, подражать англи¬
чанам, кои составили свой пиитический триумвират из
В. Скотта, Бейрона и Томаса Мура. Но он, конечно, зна¬
ет, что многие были недовольны выбором последнего и
желали заменить его «Соутеем». Я знаю, что англичане
почти единогласно делают из сих писателей кадриль, а не
триумвират; иногда же и квинтет, прибавляя к ним Камп-
беля. — («Инвалид») «Вообще, составление сих триумви¬
ратов столь же произвольно**, как и бесполезно: ибо в
литературе нет ни триумвиратов, ни диктаторов». А, право,
очень жаль, что в этой республике нет никакой расправы.
У меня, правду сказать, давно вертится в голове пре-
удивительный проект о составлении литературного цеха.
Там школы взаимного обучения, пошлины на ввозные сло¬
ва, эмбарго за глупости, штраф за дурные стихи, ответ¬
ственность за литературную кражу!., и проч. Oh са ira, са
ira!*** Нужно ли отвечать на вопрос, почему я.Пушкина
* Что делать, попался! — Восклицание сон.
** Зачем же спорить о вкусах? — Соч.
Это пойдет на лад!2 {франц.) — Ред.
105
A. A. БЕСТУЖЕВ
поместил в триумвират, хотя он начал писать гораздо
позже Жуковского и Батюшкова? Поэзия не нумерация,
где за тысячами стоят сотни, потом десятки, а потом еди¬
ницы. В этом случае г-н К. может винить не меня, а при¬
роду, которая сотворила Пушкина поэтом, несмотря на
число лет. Уважаю вполне всеми признанный талант князя
Вяземского; но, зная благородство его мыслей и чувств, не
колеблюсь сказать, что отдаю первенство Пушкину.
(«Инвал(ид)») «Что значит девственные красоты?»
Чтобы растолковать эту фразу, стоит только вникнуть в
смысл тех слов, из коих она составлена.
(Оригин(ал)) «Рылеев, сочинитель дум или гимнов ис¬
торических, избрал целию возбуждать доблести сограждан
подвигами предков». — («Инвалид») «Дулш не есть исто¬
рический гимн и не всегда служит к прославлению
предков. Гимны суть похвальные, торжественные песни, а
в думах излагаются уединенные размышления историчес¬
ких лиц, тайные их намерения, борения противоположных
страстей, угрызения совести и нередко такие чувства, кои
не имеют в себе ничего ни торжественного, ни похвально¬
го. Дума есть особливый род поэзии, взятый из польской
литературы и который требует еще своей теории».
Во всей это теории, которой никто от г-на К. не требовал,
не нахожу и тени правдоподобия. Во-первых, г-н К. смешал
сказанное мною о думе с тем, что сказано о Рылееве; а
Рылеев, могу уверить, совсем не дума и не гимн. Во-вто¬
рых, вопреки г-ну К., гимны в Греции, равно как истори¬
ческие думы в Польше*, введены были с одинаковой це¬
лию, то есть для пения. В-третьих, дума не всегда есть
размышление исторического лица, но более воспоминание
автора о каком-либо историческом происшествии или лице
и нередко олицетворенный об оных рассказ. Лучшие думы
Немцевича в том порукою. Далее, в польской словесности
дума не составляет особого рода: поляки сливают ее с эле-
гиею**. Но как у нас введена дума Рылеевым, то, по его
♦ Думы суть общее достояние племен славянских. Русские песни о
Владимире, о Добрыне и других богатырях, о взятии Казани; у мало¬
россиян о Мазепе, о Хмельницом, о Сайгадашном; у богемцев вся Кра-
ледворская рукопись3; да и сама песнь о походе Игоря не есть ли ду¬
ма? — Соч.
** Смотри: рассуждение Бродзинского об элегии в «Pamietnik
warszawski, roku 1822, N 5, na karcie 44. — Соч.
106
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
словам и самым произведениям*, думу поместить, долж¬
но в разряд чистой романтической поэзии. Впрочем, она
составляет средину между героидою и гимном.
(«Инвалид») «Мы не знаем, следовал ли автор какому-
либо известному порядку при исчислении современных
стихотворцев. Но нам кажется, что во всяком случае над¬
лежало бы ему поставить Мерзлякова гораздо выше». На
этот вопрос отвечаю: никакому порядку я не следовал, по¬
тому что Пантеон не рота и ранжировать поэтов — значи¬
ло был повторять анекдот капрала, который тесаком выров¬
нял органы под рост.
(Оригин(ал)) «В. Пушкин отличен... рассказом при-
родным». — («Инвалид») «Надлежало бы сказать: нату¬
ральным, естественным; ибо слово «природный» принима¬
ется у нас совсем в другом смысле». В каком же? — смею
спросить. У нас говорится: он природный дворянин,
природный ум, хотя первое значит урожденный, а второе
естественный, — занятый от природы или данный приро¬
дою: точно в таком же значении, как употреблено у меня
в отношении к рассказу и для избежания повторений.
(«Инвалид») «Не думаем, чтобы Плетнев в разборах
своих шел по следам Мерзлякова». Вы согласитесь, ми¬
лостивый государь, что Плетнев и Мерзляков шли столбо¬
вой дорогой критики, а кто идет после, тот идет по сле¬
дам своего предшественника, хотя бы он шел скорее или
тише.
Что такое эмпиризм в философии, известно каждому,
а как поэзия должна быть отраслью философии, то и ей не
чуждо сие применение. Касательно же древних форм я не
виноват. По логической связи они должны стоять выше
эмпиризма. Выражение: «ненарумяненная природа» г-на К.
называет «нарумяненною прозою». Soit!** Но лучше румя¬
нить прозу, чем краснеть за нее. На вопрос: для чего не ска¬
зать как-нибудь иначе — существует один ответ: потому что
это сказано так\
Теперь я должен сделать маленькое отступление, чтоб
подобрать косвенные замечания. Смею уверить, что «от¬
влеченность» — слово не новое и давно обносилось в обще¬
стве. «Он дал многим из своих творений наклонность
к чудесному». Это и не ново и не чудесно. Разве не гово-
* Не по одному Глинскому, из которого г-н К. почерпнул свое
определение.
** Пусть так! {франц.) — Ред.
107
A. A. БЕСТУЖЕВ
рим мы: наклонность к миру, к войне, к вражде и проче¬
му? Далее, почему не употребить слово светскость, если
оно понятно выражает мысль? Почему не сказать вселич-
ный (omniforme), когда есть слова: двуличный, безлич¬
ный? Притчи портретны, когда они заключают в себе пор¬
треты — или, как портретный живописец, изображают
их. Наконец, слово залетные занял у самого Д. В. Давы¬
дова из собственной его биографии.
Этим заключено поражение обозрения; зато все выстре¬
лы словесной артиллерии устремляются на меня. Г-н К.,
следуя, по его выражению, «печальному долгу критики»*,
находит, что недостатки моего слога происходят от излиш¬
ней выисканности и от страсти (?) изъяснять мысли
свои новым, оригинальным или необыкновенным образом.
В неологизме укоряют меня очень многие, но если бы эти
господа посудили, что я должен был избегать своих повто¬
рений и встречи с русскими и чужеземными писателями
характеристик, что я разрабатывал тощее, однообразное
поле и потому редко писал по вдохновению, одним словом,
чтобы быть прочтену, я был принужден писать коротко,
ново и странно, — то, конечно, простили бы мне многое.
Впрочем, я весьма далек от авторского самолюбия, —
очень вижу свои ошибки и с благодарностью принимаю
дельные советы.
Потом г-н К., повторяя фразу Греча, сказанную на¬
счет моей «Поездки в Ревель**, говорит: «Мы надеялись,
что светильник здравого вкуса предохранит г-на Бестуже¬
ва от сей погрешности, в которую вовлекла его пылкость
молодости; но добрые наши*** желания и благоприятные
сии надежды остались доныне еще не исполненными».
* Не понимаю, почему долг критики г-н К. называет печальным?
Неужели она всегда осуждает, всегда хоронит? Неужели каждую должно
начинать словами: «С прискорбием извещаем...» Или г-н К. вместе с
Эпаминондом считает сон подобием смерти?4 Но как бы то ни было, если
критика г-на К. будет мне эпитафиею,
«То я буду в виде тени,
В час полуночных видений,
С сатирическим пером,
С смехом в ваш являться дом»5. — Соч.
** Вот она. «Это шалости резвого студента, который обещает быть
отличным профессором».
*** Позвольте узнать, чьи? Того ли, кто говорит о «Полярной
звезде», или того, кто говорит о «Северной»? Ибо на одной странице
трижды перемешаны сии названия. — Соч.
108
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
То есть г-н К. хотел, чтобы я в один год был произведен
в профессоры! Ах! Милостивый государь, разве не знаете
вы, сколько степеней должно пройти от студента до экс¬
траординарного профессора! Притом нет худа без добра:
и мне как студенту хочется еще поучиться. Например, сию
минуту открываю я через вас, что пылкость молодости
вовлекает в грамматические погрешности! И в самом деле:
что более таких сухих вещей может способствовать воспла¬
менению! От молодости, однако ж, я торжественно обещаю
исправиться.
Наконец выписываю решительный аттестат моему обоз¬
рению. Вот он: «Кто не предвидит вместе с нами, что сей
взгляд на старую и новую словесность в России испугает
многих пестротою слога и неясностью выражений, а других
введет в заблуждение своими характеристиками и сравне¬
ниями, нередко остроумными, но столь же часто несправед¬
ливыми». Решение без доказательств, ибо г-н Критик не
выставил ни одного ложного сравнения. Что в заблуждение
мог я ввести некоторых, то неоспоримо вижу на г-не К.,
но я ли в том виноват? Далее, Греча осуждали, зачем он
не характеризовал писателей в своем «Опыте истории»6;
я сделал это, и меня бранят за рассуждения, —
прошу угодить! Впрочем, напишите лучше, и я первый буду
хлопать в ладоши; но до тех пор позвольте мне гордиться,
что я, как умел, сказал более правды, чем те, которые мог¬
ли сказать ее лучше — и молчали.
Не удостоив других статей «Полярной звезды» разбо¬
ром, вот все, что сказал г-н К. о моем обозрении
словесности русской, вот все ошибки, вот все его жертвы!
Жаль только, что гораздо важнейшие погрешности ускольз¬
нули от наблюдательного взора г-на Критика. Например, он
не заметил, что я не упомянул о знаменитых наших
проповедниках и духовном красноречии; он не заметил,
что я пропустил многих и из светских писателей, как-то:
С. Глинку, П. Кутузова, Нахимова, Глебова, Мансурова.
А разве там он? Там. — Ну, братец, виноват:
Слона-то я и не приметил*.
«Любопытный». Басня И. А. Крылова.
109
A. A. БЕСТУЖЕВ
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА
В старину науки зажигали
светильник свой в погасающих перунах войны и цветы
красноречия всходили под тению мирных олив. В наши
времена, когда состояние ученого и воина не сливается
уже в одну черту, мы видим совсем противное: топограф
и антикварий поверяют свои открытия под знаменем бран¬
ным; гром отдаленных сражений одушевляет слог авторов
и пробуждает праздное вниманье читателей; газеты прев¬
ращаются в журналы и журналы в книги; любопытство
растет, воображенье, недовольное сущностию, алчет вымы¬
слов и под политическою печатью словесность кружится
в обществе.
Это было и с нами в Отечественную войну. Наполеон
обрушился на нас — и все страсти, все выгоды пришли в
волнение; взоры всех обратились на поле битвы, где полсвета
боролось с Россией и целый свет ждал своей участи. Тогда
слова отечество и слава электризовали каждого. Каждый
листок, где было что-нибудь отечественное, перелетал из
рук в руки с восхищением. Похвальные песни, плохи или
хороши они были, раздавались по улицам, и им рукоплес¬
кали в гостиных — одним словом, все тогда казалось
прекрасным, потому что все было истинным. Но полити¬
ческая буря утихла; укротился и энтузиазм. Внимание
наше, утомленное блеском побед и подвигов, перевысив-
ших все затейливые сказки Востока, и воображение,
избалованное чудесным, напряженное великим,— постепен¬
но погрузились опять в бездейственный покой. Огнистая
лава вырвалась, разлилась, подвигнула океан — и застыла.
Пепел лежит на ее челе, но в этом пепле таится раститель¬
ная жизнь, и когда-нибудь разовьются на ней драгоценные
виноградники.
Вот картина любви наших соотечественников к словес¬
ности после войны; но теперешнему ее состоянию были
еще и другие причины. Отдохновение после сильных ощу¬
щений обратилось в ленивую привычку; непостоянная
публика приняла вкус ко всему отечественному, как чув¬
ство, и бросило его, как моду. Войска возвратились с
но
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
лаврами на челе, но с французскими фразами на устах,
и затаившаяся страсть к галлицизмам захватила вдруг
все состояния сильней, чем когда-либо. Следствием этого
было совершенное охлаждение лучшей части общества к
родному языку и поэтам, начинавшим возникать в это
время, — и, наконец, совершенное оцепенение словесности
в прошедшем году. Так гаснет лампада без течения
воздуха, так заглушается дарованье без ободрений! О про¬
чих причинах, замедливших ход словесности, мы скажем в
свое время.
Приступаю к делу.
Ни один еще год не был беднее оригинальными
произведениями прошедшего 1823-го. За исключением книг,
до точных наук относящихся, вся наша словесность заклю¬
чалась в журнальных, притом весьма немногих, статьях.
Лишь печатные промышленники тискали вторым и третьим
изданием сонники и разбойничьи романы для домашнего
обихода в провинциях. Порой появлялись порядочные и
сомнительные переводы прекрасных романов Вальтера Скот¬
та, но ни одно из сих творений не вынесло имя переводчи¬
ка на поверхность сонной Леты1, во-первых, потому, что
пора славы за прозаические переводы уже миновала, а во-
вторых, и слог их слишком небрежен.
Из оригинальных книг вышли в свет истекшего года:
«Новейшие известия о Кавказе» С. Броневского и «Путе¬
шествие по Тавриде» Муравьева-Апостола. Обе сии книги
во всех отношениях заслуживают внимание европейцев
и особенную благодарность русских. Точность исторических
изысканий, новость сведений географических и чистота сло¬
га венчают их похвалою археологов и литераторов и вооб¬
ще делают их необходимыми книгами для ученого
и светского человека. Г-н Булгарин в своих «Записках о
Испании», как очевидец, описал живо и завлекательно
многие случаи народной войны испанцев с французами,
обычаи первых и панораму благословенной стороны вторых.
Рассказ его свеж и разнообразен, изложение быстро и
выбор предметов нов. Г-н Мерзляков издал «Краткое на¬
чертание изящной словесности», весьма полезное для уча¬
щихся и учащих, где он удачно подражал Эшенбургу2.
Слог его облечен убеждением, силою и красотою. Сочине¬
ние г-на Бутурлина «О нашествии Наполеона на Россию»
и книжечка графа Ростопчина «Правда о пожаре Москвы»
только по именам сочинителей приналежат к русской сло¬
111
A. A. БЕСТУЖЕВ
весности, потому что писаны по-французски; что же каса¬
ется до слога переводов их, он неровен и полон галлициз¬
мов. В числе книг полемических заметны: примечания г-на
Грамматина на «Слово о полку Игореве», в котором он
разрешил многие сомнительные места; но тон самоуверен¬
ности не всегда доказывает, что его доказательства бес¬
спорны. Г-н Греч издал опыт новой русской грамматики
под именем «Корректурных листов», где развертывает со¬
вершенно новые и ближайшие к природе русского языка
начала. К. Калайдович, почтенный археолог наш, посвя¬
тивший себя старине русской, напечатал статью «Археоло¬
гические изыскания в Рязанской губернии», где виден зор¬
кий взгляд знатока и опытность ученого. «Новое детское
чтение» С. Глинки по слогу и цели своей имеет большое
достоинство, и его же «Краткая Русская история» достой¬
на быть ручною книжкою в семействах. Сим заключается
книжная фаланга.
Маленькая поэма «Оскар и Альтос» г-на Олина и пе¬
ревод «Воспоминаний» Легуве г-на Глебова были единст¬
венными отдельными стихотворениями. Содержание первой
взято из Оссиана; в ней беглые стихи, несколько удач¬
ных картин, искры чувства — и только. Достоинство же
другой заключается в верности перевода и плавности сти¬
хосложения.
Говоря о театре, трудно решить: актеры, авторы или пуб¬
лика были виною упадка оного? Вероятно, что все в свою
очередь; но то уже бесспорно, что никогда театр и сцена
не были пустее. Не считая пьес, которые не читаются и не
играются, одни старинные оперы забавили праздничных
зрителей, а драмы и переводные водевили продовольство¬
вали публику в течение недели. Из числа последних —
князя Шаховского берут безусловное первенство над про¬
чими. «Деревенский философ», комедия г-на Загоскина,
развертывает забавные черты наших баричей, доказывая
комический дар автора. «Сафо», лирическая трагедия г-на
Сушкова, имеет только один недостаток: именно, что герои¬
ня пьесы топится в четвертом, а не в первом акте. В «Персее»
г-на Ростовцова есть сильные стихи, удачные сцены, счаст¬
ливые мысли — и недостаток действия. Две последние
трагедии и не были представлены, и только прекрасный
перевод «Федры» г-ном Лобановым одушевил умирающую
сцену. В ней жар чувств, и прелесть стихов, и краткость
выражений переданы точно и плавно. Публика увенчала
112
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
переводчика рукоплесканиями, а критика заслуженною
похвалою.
Чтения публичные в литературных обществах, возбуж¬
дая соревнования между молодыми писателями, развивают
и в публике вкус к родной словесности. Нередко те, кото¬
рые приезжают туда, чтобы других посмотреть или пока¬
зать себя, возвращаются домой с новыми понятиями и с
полезнейшею охотою. По обычаю, Императорская Россий¬
ская Академия имела свое годичное торжественное заседа¬
ние, и там знаменитый историограф наш, H. М. Карамзин,
растрогал слушателей отрывком своим из 10-го тома «Ист¬
ории) Гос(ударства) Росс(ийского)» о убийстве ца¬
ревича Димитрия. Что сказать о совершенстве слога, о
силе чувств! Сии качества от столь прекрасного начала
идут все выше и выше, как орел, устремляющийся с вер¬
шины гор в небо. Г-н Жуковский читал прекрасный отры¬
вок из переводимой им «Энеиды» и князь Шаховской —
отрывок из высокой комедии своей «Аристофан». Обще¬
ство соревнователей благотворения и просвещения имело
тоже одно публичное заседание, где разнообразие предме¬
тов шло наравне с занимательностию их и любопытством
слушателей. Между прочими достойными пьесами отлича¬
лась трогательная сцена из Шиллеровой «Иоанны д’Арк»
Жуковского и «Послание к Державину» г-на Туманского;
оно обличает талант молодого певца. В прозе: Греча и
князя Вяземского отрывки из жизни И. И. Дмитриева.
Общество при Московском университете собиралось для
публичных заседаний ежемесячно; труды оного напечата¬
ны.
Должно сознаться, что литературные журналы всей Ев¬
ропы при нынешней естественной умонаклонности к по¬
литике — весьма незначительны, и в этом отношении рус¬
ские нередко берут над ними преимущество. Из периоди¬
ческих изданий отличаются у нас полезными изысканиями,
до отечественных древностей и языка относящимися, «Тру¬
ды общества при Московском университете». В каждой час¬
ти оных всегда есть много дельного. В сочинениях и
переводах, издаваемых Российскою Академиею, заключа¬
лись переводы с старых и новых языков, критики и этимоло¬
гии слов русских.
«Модный журнал» (издатель г-н Шаликов, в Москве)
пленял читателей чужою любезностию, невинными крити¬
ками, довольно нелюбопытными письмами и милыми стиш¬
5—907
113
A. A. БЕСТУЖЕВ
ками. «Журнал художеств» (изд. г-н Григорович, в С.-Пе-
тербурге), достойный благодарности по цели и похвалы по
исполнению, составлялся из прекраснейших критических,
теоретических и описательных статей, до изящных худо¬
жеств касающихся, написанных с чувством знатока и язы¬
ком опытного художника. Его еще мало у нас оценили.
«Сибирский вестник» (изд. г-н Спасский, в С.-Петербурге)
содержал в себе весьма любопытные известия о Сибири,
которая менее известна нам самим, чем земля эскимосов.
«Инвалид» (изд. г-н Воейков, в С.-Петербурге) принадлежит
к словесности только своими прибавлениями, в коих если
он был беднее других прозою, зато богатее всех хорошими
стихами. Стихотворения г-на Языкова, некоторые пьесы
г-на Плетнева, князя Вяземского, Жуковского, прелестное
«Послание к Гнедичу» Баратынского и «Невское кладбище»
самого издателя украсили оный. «Благонамеренный» (изд.
г-н Измайлов, в С.-Петербурге) забавен для своего круга.
«Журнал общества соревнователей просвещения и благотво¬
рения» (в С.-Петербурге), издаваемый с столь священною
целью, нередко заключал в себе достойные его листки. Меж¬
ду прочими: «О древних посольствах в Россию» г-на Кор-
ниловича, «О романтизме» г-на Сомова и «Разбор русских
писателей» князя Цертелева достойны внимания. «Оте¬
чественные записки» (изд. г-н Свиньин, в С.-Петербурге)
хотя не всегда с историческою точностию, но всегда с
патриотическим жаром хранили и передавали черты народ¬
ного нрава, частных дел и замечательных событий. «Вестник
Европы» (изд. г-н Каченовский, в Москве), патриарх
русских журналов, правда, далеко отстал в поэзии от пе¬
тербургских периодических изданий, но по части прозаи¬
ческой шел обыкновенным своим твердым шагом3. В нем
в прозе заметны статьи: г-на Гусева — «О метафизиках
немецких» и «О русском языке» — неизвестного; по стихо¬
творениям: отрывок из комедии «Лукавин» г-на Писарева
и его же «Пир мудрецов». «Северный архив» (в С.-Петер¬
бурге), издатель оного г-н Булгарин, с фонарем археоло¬
гии спускался в не разработанные еще рудники
нашей старины и сбиранием важных материалов ока¬
зал большую услугу русской истории. Все новейшие
путешествия, наши и чужестранные, являлись там первые.
Там же критика Леллевеля на «Историю Государства Рос¬
сийского» была приятным и редким феноменом в областях
словесности; беспристрастие, здравый ум и глубокая уче¬
114
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
ность составляют ее достоинство. «Прибавления к Северно¬
му архиву» г-на Булгарина же оживляют на берегах Невы
парижского пустынника4. Живой, забавный слог и новость
мыслей готовят в них для публики занимательное чтение,
а оригиналы столицы и нравы здешнего света — неисчер¬
паемые источники для его сатирического пера. «Сын оте¬
чества» (изд. г-н Греч, в С.-Петербурге), неизменный по¬
борник чистоты языка, по привычке заключал в себе мно¬
го дельных статистических статей и очень хороших стихо¬
творений. В числе критик (мимоходом, весьма плодовитых)
особенно замысловаты: «Письма на Кавказ» самого издате¬
ля. В произведениях поэзии заметны: «Василек», прекрас¬
ная басня И. А. Крылова; «Путешественник» Жуковского;
«Последний бард» Мансурова; «Май» Туманского, отрывок
из «Освобожденного Иерусалима» Раича и некоторые дру¬
гие. «Прибавления к «Сыну отечества» (изд. г.г. Княжевичи,
в С.-Петербурге) отличаются прекрасным выбором повестей
и чистым, плавным языком. Между немногих оригинальных
пьес носит отпечаток народности «Иван Костин» г-на Пана¬
ева; прочие переведены с разных языков. Вообще же, во
всех почти журналах число оригинальных произведений к
числу переводов относилось как два к десяти, а пропорция
чисто литературных статей к ученым была едва ли не тоще;
это печально.
Мало-помалу Европа сквозь тусклые переводы начинает
распознавать нашу словесность. В прошлом году почти
все повести из «Полярной звезды» были переданы на
немецкий язык в журнале г-на Ольдекопа и повторились
в других заграничных журналах. Г-н Линде перевел на
польский все статьи, до истории русской литературы каса¬
ющиеся, и приложил при переводе книги о том же предме¬
те г-на Греча, наконец, г-н Сен-Мор, по следам Боуринга*
Борха** и Гетце***, примерных переводчиков-поэтов, издал
ныне на французском языке «Русскую антологию»; но опыт
его был равно неудачен как перевод и как сочинение:
в копии нет и следов национальности образца. Русские цве¬
ты потеряли там не только запах, но даже и самый цвет
свой.
* «Russian Anthology» («Русская антология» (англ.)).
** «Poëtische Erzeugnisse der Russen» ^(«Поэтические произведения
русских» (нем.))
*** «Stimmen des Russischen Volks» («Голоса русского народа»
(нем.) ).
5**
115
A. A. БЕСТУЖЕВ
Так прокрался в вечность молчаливый прошедший год;
казалось, он был осенью для соловьев нашей поэзии,
и только в «Полярной звезде» отозвались они — и умол¬
кли снова; только (с благодарностию замечаем) по быстро¬
му и благосклонному приему «Полярной звезды» заметно
было, что еще не погас жар к отечественной словесности в
публике; впрочем, надобно и то сказать, что русский язык,
подобно германскому в XVIII веке, возвышается ныне, не¬
смотря на неблагоприятные обстоятельства. Теперь ученики
пишут таким слогом, которого самые гении сперва редко
добывали, и, теряя в численности творений, мы выигрываем
в чистоте слога. Один недостаток — у нас мало творческих
мыслей. Язык наш можно уподобить прекрасному усыплен¬
ному младенцу: он лепечет сквозь сон гармонические
звуки или стонет о чем-то, — но луч мысли редко блуждает
по его лицу. Это младенец, говорю я, но младенец Алкид5,
который в колыбели еще удушал змей! И вечно ли спать ему?
P. S. Лишь теперь вышло в свет «Путешествие около
света» г-на Головнина. Первая часть оного посвящена рас¬
сказу и описаниям истинно романическим; слог оных про¬
никнут занимательностию, дышит искренностию, цветет
простотою. Это находка для моряков и для людей свет¬
ских. Еще спешим обрадовать любителей поэзии: малень¬
кая и, как слышно и как несомненно, прекрасная поэма
А. Пушкина «Бакчи-Сорайской фонтан» уже печатается
в Москве.
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ
Словесность всех народов,
совершая свое круготечение, следовала общим законам
природы. Всегда первый ее век был возрастом сильных
чувств и гениальных творений. Простор около умов вы¬
соких порождает гениев: они рвутся расшириться душою
и наполнить пустоту. По времени круг сей стесняется;
116
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
столбовая дорога и полуизмятые венки не прельщают их.
Жажда нового ищет нечерпанных источников, и гении
смело кидаются в обход мимо толпы в поиске новой
земли мира нравственного и вещественного; пробивают
свои стези; творят небо, землю и ад родником вдохнове¬
ний; печатлеют на веках свое имя, на одноземцах свой
характер, озаряют обоих своей славою и все человечество
своим умом!
За сим веком творения и полноты следует век посред¬
ственности, удивления и отчета. Песенники последовали
за лириками, комедия вставала за трагедиею, но история,
критика и сатира были всегда младшими ветвями сло¬
весности. Так было везде, кроме России; ибо у нас век
разбора предыдет веку творения; у нас есть критика и нет
литературы, мы пресытились, не вкушая, мы в ребячестве
стали брюзгливыми стариками! Постараемся разгадать при¬
чины столь странного явления.
Первая заключается в том, что мы воспитаны инозем¬
цами. Мы всосали с молоком безнародность и удивление
только к чужому.
Измеряя свои произведения исполинскою мерою чужих
гениев, нам свысока видится своя малость еще меньшею,
и это чувство, не согретое народною гордостию, вместо
того чтобы возбудить рвение и сотворить то, чего у нас
нет, старается унизить даже и то, что есть.
К довершению несчастия мы выросли на одной фран¬
цузской литературе, вовсе не сходной с нравом русского
народа, ни с духом русского языка. Застав ее, после
блестящих произведений, в поре полемических сплетней и
приняв за образец бездушных умников века Людовика XV,
мы и сами принялись толковать обо всем вкривь и вкось.
Говорят: чтобы все выразить, надобно все чувствовать;
но разве не надобно всего чувствовать, чтобы все пони¬
мать? А мы слишком бесстрастны, слишком ленивы и не
довольно просвещены, чтобы и в чужих авторах видеть
все высокое, оценить все великое. Мы выбираем себе
авторов по плечу; восхищаемся д’Арленкурами, критикуем
Лафаров и Делилев, и заметьте: перебранив все, что у
нас было вздорного, мы еще не сделали комментария на
лириков и баснописцев, которыми истинно можем гор¬
диться.
Сказав о первых причинах, упомяну и о главнейшей:
теперь мы начинаем чувствовать и мыслить — но ощупью.
117
A. A. БЕСТУЖЕВ
Жизнь необходимо требует движения, а развивающийся
ум дела; он хочет шевелиться, когда не может летать, но,
не занятый политикою — весьма естественно, что деятель¬
ность его хватается за все, что попадется, а как источни¬
ки нашего ума очень мелки для занятий важнейших,
мудрено ли, что он кинулся в кумовство и пересуды! Я го¬
ворю не об одной словесности: все наши общества за¬
ражены тою же болезнию. Мы, как дети, которые испы¬
тывают первую свою силу над игрушками, ломая их и лю¬
бопытно разглядывая, что внутри.
Теперь спрашивается: полезна или нет периодическая
критика? Джеффери говорит, что «она полезна для перио-
одической критики»1. Мы не можем похвалиться и этим
качеством: наша критика недалеко ушла в основательности
и приличии. Она ударилась в сатиру, в частности и более
в забаву, чем в пользу. Словом, я думаю, наша полемика
полезнее для журналистов, нежели для журналов, потому
что критик, антикритик и перекритик мы видим много,
а дельных критиков мало; но между тем листы наполняют¬
ся, и публика, зевая над статьями, вовсе для ней не зани¬
мательными, должна разбирать по складам надгробия без¬
вестных людей. Справедливо ли, однако ж, так мало забо¬
титься о пользе современников, когда подобным критикам
так мало надежды дожить до потомства?
Мне могут возразить, что это делается не для настав¬
ления неисправимых, а для предупреждения молодых
писателей. Но скажите мне, кто ставит охранный маяк
в луже? Кто будет читать глупости для того, чтобы не пи¬
сать их?
Говоря это, я не разумею, однако ж, о критике, кото¬
рая аналитически вообще занимается установкою правил
языка, открывает литературные злоупотребления, разлага¬
ет историю и, словом, везде, во всем отличает истинное от
ложного. Там, где самохвальство, взаимная похвальба и
незаслуженные брани дошли до крайней степени, там кри¬
тика необходима для разрушения заговоренных броней
какой-то мнимой славы и самонадеянности, для обличения
самозванцев-литераторов. Желательно только, чтобы кри¬
тика сия отвергла все личности, все частности, все рас¬
четные виды, чтобы она не корпела над запятыми, а имела
бы взор более общий, правила более стихийные. Лица и
случайности проходят, но народ и стихия остаются вечно.
Из вопроса, почему у нас много критики, необходимо
118
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
следует другой: «Отчего у нас нет гениев и мало талантов
литературных?» Предслышу ответ многих, что от недос¬
татка ободрения! Так, его нет, и слава богу! Ободрение
может оперить только обыкновенные дарования: огонь
очага требует хворосту и мехов, чтобы разгореться, —
но когда молния просила людской помощи, чтобы вспых¬
нуть и реять в небе! Гомер, нищенствуя, пел свои бес¬
смертные песни; Шекспир под лубочным навесом возве¬
личил трагедию; Мольер из платы смешил толпу; Торквато
из сумасшедшего дома шагнул в Капитолий2, даже Воль¬
тер лучшую свою поэму написал углем на стенах Басти¬
лии3. Гении всех веков и народов, я вызываю вас! Я вижу
в бледности изможденных гонением или недостатком лиц
ваших — рассвет бессмертия! Скорбь есть зародыш мыс¬
лей, уединение их горнило. Порох на воздухе дает только
вспышки, но сжатый в железе он рвется выстрелом и дви¬
жет и рушит громады... и в этом отношении к свету мы
находимся в самом благоприятном случае. Уважение или,
по крайней мере, внимание к уму, которое ставило у нас
богатство и породу на одну с ним доску, наконец, к радости
сих последних, исчезло. Богатство и связи безраздельно
захватили все внимание толпы, — но тут в проигрыше, ко¬
нечно, не таланты! Иногда корыстные ласки меценатов
балуют перо автора; иногда недостает собственной реши¬
мости вырваться из бисерных сетей света — но теперь
свет с презрением отверг его дары или допускает в свой
круг не иначе, как с условием носить на себе клеймо по¬
добного, отрадного ему ничтожества; скрывать искру бо¬
жества, как пятно, стыдиться доблести, как порока!! Уеди¬
нение зовет его, душа просит природы; богатое нечерпан-
ное лоно старины и мощного, свежего языка перед ним
расступается: вот стихия поэта, вот колыбель гения!
Однако же такие чувства могут зародиться только в
душах, куда заранее брошены были семена учения и раз¬
мышленья, только в людях, увлеченных случайным рассея¬
нием, у которых есть к чему воротиться. Но таково ли
наше воспитание? Мы учимся припеваючи и от того на¬
всегда теряем способность и охоту к дельным, к долгим
занятиям. При самых счастливых дарованиях мы едва
имеем время на лету схватить отдельные мысли; но свя¬
зывать, располагать, обдумывать расположенное не было у
нас ни в случае, ни в привычке. У нас юноша с учебного
гулянья спешит на бал; а едва придет истинный возраст
119
A. A. БЕСТУЖЕВ
ума и учения, он уже в службе, уж он деловой — и вот все
его умственные и жизненные силы убиты в цвету ранним
напряжением, и он целый век остается гордым учеником,
от того, что учеником в свое время не был. Сколько лю¬
дей, которые бы могли прославить делом или словом свое
отечество, гибнут, дремля душой в вихре модного ничто¬
жества, мелькают по земле, как пролетная тень облака.
Да и что в прозаическом нашем быту, на безлюдье силь¬
ных характеров может разбудить душу? Что заставит себя
почувствовать? Наша жизнь — бестенная китайская живо¬
пись; наш свет — гроб повапленный!4
Так ли жили, так ли изучались просветители народов?
Нет! В тишине затворничества зрели их думы. Терновою
стезею лишений пробивались они к совершенству. Конеч¬
но, слава не всегда летит об руку с гением; часто совре¬
менники гнали, не понимая их, но звезда будущей славы
согревала рвение и озаряла для них мрак минувшего, ко¬
торое вопрошали они, дабы разгадать современное и нау¬
чить потомство. Правда, и они прошли через свет, и они
имели страсти людей: зато имели и взор наблюдателей.
Они выкупили свои проступки упроченною опытностию
и глубоким познанием сердца человеческого. Не общество
увлекло их, но они повлекли за собой общества. Римля¬
нин Альфиери, неизмеримый Байрон, гордо сбросили с себя
золотые цепи фортуны, презрели всеми заманками боль¬
шого света — зато целый свет под ними и вечный день
славы их наследие!!
Но кроме пороков воспитания, кроме затейливого одно¬
образия жизни нашей, кроме многосторонности и безли¬
чия самого учения (quand même)*, которое во все меша¬
ется, все смешивает и ничего не извлекает, — нас одолела
страсть к подражанию. Было время, что мы невпопад
вздыхали по-стерновски, потом любезничали по-француз-
ски, теперь залетели в тридевятую даль по-немецки.
Когда же попадем мы в свою колею? Когда будем писать
прямо по-русски? Бог весть! До сих пор, по крайней ме¬
ре, наша муза остается невестою-невидимкою. Конечно,
можно утешиться тем, что мало потери, так или сяк пишут
сотни чужестранных и междоусобных подражателей; но
я говорю для людей с талантом, которые позволяют себя
водить на помочах. Оглядываясь назад, можно век назади
* Во что бы то ни стало (франц.). — Ред.
120
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
остаться, ибо время с каждой минутой разводит нас с
образцами. Притом все образцовые дарования носят на
себе отпечаток не только народа, но века и места, где
жили они, следовательно, подражать им рабски в дру¬
гих обстоятельствах — невозможно и неуместно. Творения
знаменитых писателей должны быть только мерою досто¬
инства наших творений. Так чужое высокое понятие порож¬
дает в душе истинного поэта неведомые дотоле понятия.
Так, по словам астрономов, из обломков сшибающихся
комет образуются иные, прекраснейшие миры!
Я мог бы яснее и подробнее исследовать сказанные
причины; я бы должен был присовокупить к ним и раннее
убаюкивание талантов излишними похвалами или чрезмер¬
ным самолюбием; но уже время, оставив причины, взгля¬
нуть на произведения.
Прошедший год утешил нас за безмолвие 1823-го.
H. М. Карамзин выдал в свет X и XI томы «Истории Го¬
сударства Российского». Не входя, по краткости сего объе¬
ма, в рассмотрение исторического их достоинства, смело
можно сказать, что в литературном отношении мы нашли
в них клад. Там видим мы свежесть и силу слога, заман¬
чивость рассказа и разнообразие в складе и звучности
оборотов языка, столь послушного под рукою истинного
дарования. Сими двумя томами началась и заключилась,
однако ж, изящная проза 1824 года. Да и вообще, до сих
пор творения почтенного нашего историографа возвы¬
шаются, подобно пирамидам, на степи русской прозы, из¬
редка оживляемой летучими журнальными бедуинами или
тяжелодвижущимися караванами переводов. Из ориги¬
нальных книг появились только повести г-на Нарежного.
Они имели б в себе много характеристического и забав¬
ного, если бы в их рассказе было поболее приличия и от¬
делки, а в происшествиях поменее запутанности и чудес.
В роде описательном путешествие Е. Тимковского чрез
Монголию в Китай (в 1820 и 21 годах) по новости све¬
дений, по занимательности предметов и по ясной простоте
слога, несомненно, есть книга европейского достоинства.
Из переводов заслуживают внимания: записки полковника
Вутье о войне греков, переданные со всею силою, со всею
военною искренностию г-ном Сомовым, к которым при¬
ложил он введение, полное жизни и замечаний спра¬
ведливых. История греческих происшествий из Раффенеля
Метаксою, поясненная сим последним, «Добродушный»,
121
A. A. БЕСТУЖЕВ
очень игриво переведенный г-ном Дешаплетом, третья
часть «Лондонского пустынника» его же и «Жизнь Али-
паши Янинского» г-ном Строевым. К сему же числу при¬
надлежит и книжечка «Искусство жить» — извлеченное
из многих новейших философов и оправленное в собствен¬
ные мысли извлекателя, г-на Филимонова. Появилось так¬
же несколько переводов романов Вальтера Скотта, но ни
один прямо с подлинника и редкие прямо по-русски.
История древней словесности сделала важную наход¬
ку в издании Иоанна Экзарха Болгарского, современника
Мефодиева. К чести нашего века надобно сказать, что
русские стали ревностнее заниматься археологиею и, кри¬
тикою историческою, сими основными камнями истории.
Книга сия отыскана и объяснена г-ном Калайдовичем5,
неутомимым изыскателем русской старины, а издана в
свет иждивением графа Η. П. Румянцова, сего почтенного
вельможи, который один изо всей нашей знати не щадит
ни трудов, ни издержек для приобретения и издания книг,
родной истории полезных. Таким же образом напечатан
и «Белорусский архив», приведенный в порядок г-ном
Григоровичем. Общество истории и древностей русских
издало вторую часть записок и трудов своих; появи¬
лось еще пятнадцать листов летописи Нестора по Лав¬
рентьевскому списку6, приготовленных профессором Тим-
ковским.
Стихотворениями, как и всегда, протекшие пятнадцать
месяцев изобиловали более, чем прозою. В. А. Жуковский
издал в полноте рассеянные по журналам свои сочинения.
Между новыми достойно красуется перевод Шиллеровой
«Девы Орлеанской», перевод, каких от души должно же¬
лать для словесности нашей, чтобы ознакомить ее с насто¬
ящими чертами иноземных классиков. Пушкин подарил
нас поэмою «Бахчисарайский фонтан»; похвалы ей и кри¬
тики на нее уже так истерлись от беспрестанного обра¬
щения, что мне остается только сказать: она пленительна
и своенравна, как красавица Юга. Первая глава стихотвор¬
ного его романа «Онегин», недавно появившаяся, есть
заманчивая, одушевленная картина неодушевленного на¬
шего света. Везде, где говорит чувство, везде, где мечта
уносит поэта из прозы описываемого общества, — стихи
загораются поэтическим жаром и звучней текут в душу.
Особенно разговор с книгопродавцем вместо предисловия
(это счастливое подражание Гете) кипит благородными
122
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
порывами человека, чувствующего себя человеком7. Бла¬
жен, говорит там в негодовании поэт:
Блажен, кто про себя таил
Души высокие созданья
И от людей, как от могил,
Не ждал за чувства воздаянья!
И плод сих чувств есть рукописная его поэма «Цыгане».
Если можно говорить о том, что не принадлежит еще печа¬
ти, хотя принадлежит словесности, то это произведение
далеко оставило за собой все, что он писал прежде. В нем-
то гений его, откинув всякое подражание, восстал в перво¬
родной красоте и простоте величественной. В нем-το свер¬
кают молнийные очерки вольной жизни, и глубоких стра¬
стей, и усталого ума в борьбе с дикою природою. И все
это — выраженное на деле, а не на словах, видимое не из
витиеватых рассуждений, а из речей безыскусственных.
Куда не достигнет отныне Пушкин с этой высокой точки
опоры? И. А. Крылов порадовал нас новыми прекрасными
баснями; некоторые из них были напечатаны в повре¬
менных изданиях, и скоро сии плоды вдохновения, числом
до тридцати, покажутся в полном собрании. Н. И. Гнедич
недавно издал сильный и верный свой перевод (с новогре¬
ческого языка) «Песен клефтов», с приложением весьма
любопытного предисловия. Сходство их с старинными на¬
шими песнями разительно. На днях выйдет в свет поэма
И. И. Козлова «Чернец»; судя по известным мне отрыв¬
кам, она исполнена трогательных изображений, и в ней
теплятся нежные страсти. Рылеев издал свои «Думы» и
новую поэму «Войнаровский», скромность заграждает мне
уста на похвалу в сей последней высоких чувств и рази¬
тельных картин украинской и сибирской природы. «Ночи
на гробах» князя С. Шихматова в облаке отвлеченных
понятий заключают многие красоты пиитические, подобно
искрам золота, вкрапленным в темный гранит. Ничего не
скажу о балладах и романсах г-на Покровского, потому
что ничего лестного о них сказать не могу; похвалю в
«Восточной лютне» г-на Шишкова-второго звонкость сти¬
хов и плавность языка для того, чтобы похвалить в ней
что-нибудь. Впрочем, в авторе порою проглядывает дар
к поэзии, но вечно в веригах подражания. Наконец, упо¬
минаю о стихотворении г-на Олина «Кальфон» для того,
что сей набор рифм и слов называется поэмою. Присое¬
123
A. A. БЕСТУЖЕВ
динив к сему несколько приятных безделок в журналах,
разбросанных Н. Языковым, И. И. Козловым, Писаревым,
Нечаевым... я подвел уже весь итог нашей поэзии.
Русский театр в прошедшем году обеднел оригинальны¬
ми пьесами. Замысловатый князь Шаховской очень удач¬
но, однако ж, вывел на сцену Вольтера-юношу и Вольтера-
старика в дилогии своей «Ты и вы» и переделал для сцены
эпизод Финна из поэмы Пушкина «Людмила и Руслан».
В Москве тоже давали, как говорят, хороший перевод
«Школы стариков» (Делавиня) г-на Кокошкина и еще
кой-какие водевили и драмы, о коих по слухам судить не
можно; а здесь некоторые драмы обязаны были успехом
своим сильной игре г-жи Семеновой и Каратыгина. Я бы
сказал что-нибудь о печатной, но не игранной комедии
г-на Федорова «Громилов», если бы мне удалось дочесть
ее. К числу театральных предствлений принадлежит и
«Торжество муз», пролог г-на М. Дмитриева на открытие
большого Московского театра. В нем, хотя форма и очень
устарела, есть счастливые стихи и светлые мысли. Но все
это выкупила рукописная комедия г-на Грибоедова «Горе
от ума», феномен, какого не видали мы от времен «Не¬
доросля». Толпа характеров, обрисованных смело и резко;
живая картина московских нравов, душа в чувствованиях,
ум и остроумие в речах, невиданная доселе беглость и
природа разговорного русского языка в стихах. Все это
завлекает, поражает, приковывает внимание. Человек с
сердцем не прочтет ее, не смеявшись, не тронувшись до
слез. Люди, привычные даже забавляться по французской
систематике или оскорбленные зеркальностию сцен, го¬
ворят, что в ней нет завязки, что автор не по правилам
нравится, — но пусть они говорят, что им угодно: пред¬
рассудки рассеются, и будущее оценит достойно сию коме¬
дию и поставит ее в число первых творений народных.
Удача альманахов показывает нетерпеливую наклон¬
ность времени не только мало писать, но и читать мало.
Теперь ходячая наша словесность сделалась карманною.
Пример «Полярной звезды» породил множество подража¬
ний; в 1824 году началось «Мнемозиною», которая если
не по объему и содержанию, то по объявлению издателей
принадлежит к дружине альманахов. Страсть писать тео¬
рии, опровергаемые самими авторами на практике, есть
одна из примет нашего века, и она заглавными буквами
читается в «Мнемозине». Впрочем, за исключением дикта¬
124
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
торского тона и опрометчивости в суждениях, в г-не Одо¬
евском видны ум и начитанность. Сцены из трагедии
«Аргивяне» и пьеса «На смерть Бейрона» г-на Кюхельбеке¬
ра имеют большое достоинство. На 1825 год театральный
альманах, «Русская талия» (издатель г-н Булгарин), меж¬
ду многими хорошими отрывками заключает в себе третье
действие комедии «Горе от ума», которое берет безуслов¬
ное преимущество над другими. Потом отрывок из траге¬
дии «Венцеслав» Ротру, счастливо переделанный Жандром,
и сцены из комедий «Нерешительный» г-на Хмельницкого
и «Ворожея» кн. Шаховского. Кроме этого, книжка сия
оживлена очень дельною статьею г-на Греча о русском те¬
атре и характеристическими выходками самого издателя.
«Русская старина», изданная г.г. Корниловичем и Сухо-
руковым. Из них первый описал век и быт Петра Великого,
а другой — нравы и обычаи поэтического своего народа —
казаков. Оба рассказа любопытны, живы, занимательны.
Сердце радуется, видя, как проза и поэзия скидывают
свое безличие и обращаются к родным, старинным источ¬
никам. «Невский альманах» (изд. г-н Аладьин) — нелест¬
ный попутчик для других альманахов. Наконец, «Северные
цветы», собранные бароном Дельвигом, блистают всею
яркостию красок поэтической радуги, всеми именами ста¬
рейшин нашего Парнаса. Хотя стихотворная ее часть го¬
раздо богаче прозаической, но и в этой особенно занима¬
тельна статья г-на Дашкова «Афонская гора» и некоторые
места в «Письмах из Италии». Мне кажется, что г-н
Плетнев не совсем прав, расточая в обозрении полною
рукою похвалы всем и уверяя некоторых поэтов, что они
не умрут потому только, что они живы, — но у всякого
свой вес слов, у каждого свое мнение. Из стихотворений
прелестны наиболее: Пушкина дума «Олег» и «Демон»,
«Русские песни» Дельвига и «Череп» Баратынского. Один
только упрек сделаю я в отношении к цели альмана¬
хов: «Северные цветы» можно прочесть, не улыбнувшись.
Журналы по-прежнему шли своим чередом, то есть
все кружились по одной дороге: ибо у нас нет разделения
работы, мнений и предметов. «Инвалид» наполнял свои
листки и «Новости литературы» лежалою прозою и перепе¬
чатанными стихами. Заметим, что с некоторого времени
закралась к издателям некоторых журналов привычка
помещать чужие произведения без спросу и пользоваться
чужими трудами безответно. «Вестник Европы» толковал о
125
A. A. БЕСТУЖЕВ
старине и заржавленным циркулем измерял новое. Подоб¬
но прочим журналам, он, особенно в прошлом году, изо¬
биловал критическою перебранкою; критика на предисло¬
вие к «Бахчисарайскому фонтану», с ее последствиями, до¬
стойна порицания если не по предмету, то по изложе¬
нию. Подобная личность вредит словесности, оправдывая
неуважение многих к словесникам. Этого мало: кто-то
русский напечатал в Париже злую выходку на многих на¬
ших литераторов и перед глазами целой Европы, не могши
показать достоинств, обнажил, может быть, мнимые их
недостатки и свое пристрастие. Другой там же защищал
далеких обиженных хотя не вовсе справедливо, но весьма
благородно, и полемическая наша междоусобица загоре¬
лась на чужой земле. 1825 год ознаменовался преобразова¬
нием некоторых старых журналов и появлением новых.
У нас недоставало газеты для насущных новостей, кото¬
рая соединяла бы в себе политические и литературные
вести: г. г. Греч и Булгарин дали нам ее — это «Северная
пчела». Разнообразием содержания, быстротою сообщения
новизны, черезденным выходом и самою формою она впо¬
лне удовлетворяет цели. Каждое состояние, каждый возраст
находит там что-нибудь по себе. Между многими любо¬
пытными и хорошими статьями заметил я «О романах»
г-на Сомова и «Нравы» Булгарина. Жаль, что г-н Булгарин
не имеет времени отделывать свои произведения. В них
даже что-то есть недосказанное; но с его наблюдательным
взором, с его забавным сгибом ума он мог бы достичь
прочнейшей славы. «Северный архив» и «Сын отечества»
приняли в свой состав повести; этот вавилонизм не очень
понравится ученым, но публика любит такое смешение.
За чистоту языка всех трех журналов обязаны мы
г-ну Гречу — ибо он заведывает грамматическою поли-
циею. В Петербурге на сей год издается вновь журнал
«Библиографические листки» г-ном Кеппеном. Это необ¬
ходимый указатель источников всего писанного о России.
В Москве явился двухнедельный журнал «Телеграф», изд.
г-ном Полевым. Он заключает в себе все; извещает и
судит обо всем, начиная от бесконечно малых в математи¬
ке до петушьих гребешков в соусе или до бантиков на
новомодных башмачках. Неровный слог, самоуверенность
в суждениях, резкий тон в приговорах, везде охота учить
и частое пристрастие — вот знаки сего «Телеграфа», а
смелым владеет бог — его девиз.
126
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ...
Журналы наши не так, однако ж, дурны, как утвержда¬
ют некоторые умники, и вряд ли уступают иностранным.
Назовите мне хоть один сносный литературный журнал во
Франции, кроме Revue Encyclopédique? Немцы уж
давно живут только переводами из журнала г-на Ольдеко-
па8, у которого, не к славе здешних немцев, едва есть
тридцать подписчиков, и одни только англичане поддержи¬
вают во всей чистоте славу ума человеческого.
Оканчиваю. Знаю, что те и те восстанут на меня за то
и то-то, что на меня посыплется град вопросительных
крючков и восклицательных шпилек. Знаю, что я избрал
плохую методу — ссориться с своими читателями в преди¬
словии книги, которая у них на руках... но как бы то ни
было, я сказал, что думал, — и «Полярная звезда» перед
вами.
О РОМАНТИЗМЕ
Человек живет чувствами,
умом и волею. Слияние их есть мысль, ибо что такое чувство,
как не осуществленная мысль? Что такое ум, как не опыт¬
ность мысли? Что такое воля, как не мысль, преходящая в
дело? Потому-то существо, одаренное мыслию, стремится
чувствовать, познавать и действовать. Полагая чувства толь¬
ко орудиями, передающими разуму впечатление предметов,
в нас и около нас находящихся, мы прямо обратимся к по¬
знанию. Человек не иначе может познавать свое бытие, как в
сосуществовании внешних предметов, чувствам его подле¬
жащих.
Прикасаясь, например, ко мне, он ощущает, что рука
его не камень; глядя на солнце, он отличает, что то не
глаз его и, следовательно, убеждается в одно время не
только в том, что он сам существует, но что и предметы
сии существуют так же, как он. Из этого видим, что бы¬
тие и познание, равно как вещепознание и самопознание,
неразлучны. Но, неразделимые по своей сущности, они
могут быть двойственны по способам наблюдения, то есть
127
A. A. БЕСТУЖЕВ
человек может созерцать природу или из себя на внешние
предметы, или обратно — от внешних предметов на себя.
В первом случае он более объемлет окрестную природу;
во втором — более углубляется в свою собственную. Цель
и свойство каждого наблюдения есть истина; но и к поз¬
нанию истины есть два средства. Первое, весьма ограни¬
ченное, — опыт, другое, беспредельное, воображение. Опыт
постигает вещи, каковы они суть или какими быть должны,
воображение творит их в себе, каковы они быть могут,
и потому условие первого необходимость, границы его
мир — но условия второго возможность, и оно беспре¬
дельно, как сама вселенная. Так, руководимый соотно¬
шениями и опытом, Архимед, купаясь, постиг тайну удель¬
ного веса твердых тел; так Невтон по сверканию воды
предсказал ее горючесть, так Колумб, наблюдая течение
моря, угадал бытие Нового Света. Все уступило пред¬
приимчивости естествоиспытателей. Земля, вода, огонь
и ветер, пары и молния заплатили дань их воле, на все
наложили они цепи общественных мыслей своих, то есть
орудий, ими изобретенных. Но творческое воображение
далеко опередило опыт, не имея никаких данных. Оно об¬
лекло речи одеждой письма, оно вообразило математи¬
ческую точку, постигло делимость бесконечно малых, из¬
влекло общие законы даже из отвлеченностей изящного,
убедилось в беспредельности миров за границею зрения и
бессмертии духа, непостижимого чувствам. Одним словом,
воображение, или, лучше сказать, мысль, от чувств неза¬
висимая, бесконечна, ибо равно невозможно определить,
как далека она от ничтожества и от совершенства, к кото¬
рому стремится.
До сих пор мы говорили только о самобытности мыс¬
ли в человеке. До сих пор ее умозрения могли сущест¬
вовать, не проявляясь. Теперь обратимся к обнаруженной
воле, то есть действию, душа которого есть доброта, ибо
для чего иного, как не для достижения собственного или
общего блага, покидает человек покой бездействия? Самое
избежание вреда и удовольствие суть уже блага.
Правда, собственное невежество, предрассудки, воспи¬
тание и дурные примеры высших совращают не только
людей, но целые народы с пути добродетели, не понимая
того, что пороки, сколько б они лестны ни были, разру¬
шают здоровье и покой. Это личное благо каждого осно¬
вано на непременном благе общем, что высочайшая поли¬
128
О РОМАНТИЗМЕ
тика есть правота, что возмездие за добро и зло и самое
счастие находятся не вне, а внутри нас самих. Люди ко-
рыствуют, коварствуют, угнетают, мстят во имя бога, за¬
конов, которых не понимают они! Но даже и сии заблуж¬
дения доказывают враждебное стремление души челове¬
ческой к взаимному благу, то есть доброте. Итак, действие
или проявление мыслей может выразиться в разных видах
или формах. Все равно, будет ли оно облечено словами
или музыкою, краскою, или движениями, или деяниями.
Но все образы вещественные заключаются в известном
пространстве. Все явления происходят в известном вре¬
мени. Следственно, они ограничены, они конечны. Всегда
ли же беспредельная мысль может вместиться в извест¬
ные пределы выражения? Конечно, нет. При этом пред¬
ставляются три случая: или выражение превзойдет мысль,
и тогда следствием того будет смешная надутость, пыш¬
ность оболочки, которая еще явнее выкажет нищету идеи,
или мысль найдет равносильное себе выражение, и тогда
чем совершеннее будет союз их, тем прекраснее, тем ощу¬
тительнее окажется достоинство обеих. Простота и един-
ство суть отличительные качества подобного выражения.
Вид этот я назову отражательностию, потому что он, как в
зеркале, передает мысль производителя во всей полноте и
со всеми ее оттенками, или, наконец, мысль огромностию
своею превысит объем выражения, в которое теснится, и
тогда она или должна расторгнуть форму, как порох ору¬
дие, или разлиться, как преполненный кубок, или вмес¬
титься во многие виды, подобно соку древесному, раз¬
лагающемуся в корень и кору, в стебли и листья, то раз¬
витому цветом, то зреющему в плоде. Неясность и много¬
сторонность должны быть необходимыми спутниками
такого слияния бесконечного с конечными, утонченного
с грубым. Назовем его идеальностью, потому что идея или
мысль превышает здесь свое выражение. Вот начало клас¬
сицизма и романтизма1.
Цель наблюдения, сказали мы, есть истина, а душа
действия — доброта. Прибавим, что совершенное слияние
той и другой есть изящное, или поэзия (здесь я беру по¬
эзию не как науку, но как идею), неотъемлемым качеством
которой должно быть изобретение, творчество. Поэзия,
объемля всю природу, не подражает ей, но только ее сред¬
ствами облекает идеалы своего оригинального, творческого
духа. Покорная общему закону естества — движению, она,
129
A. A. БЕСТУЖЕВ
как необозримый поток, катится вдаль между берегами то¬
го, что есть и чего быть не может; создает свой условный
мир, свое образцовое человечество, и каждый шаг к соб¬
ственному усовершению открывает ей новый горизонт иде¬
ального совершенства. Требуя только возможного, она яв¬
ляется во всех видимых образах, но преимущественно в
совершеннейшем выражении мыслей в словесности.
Но там, где нет творчества, — нет поэзии, и вот почему
науки описательные, точные и вообще всякое подражание
природе и произведениям людей даже случайной доброде¬
тели не входят в очаровательный круг прекрасного, потому
что в них нет или доброты в истине, или истины в добро¬
те. Например, в летописи заключается истина, но она не
оживлена нравоучительными уроками доблести. Картины
Теньера верны без всякого благородства2. Подражение
мяуканью может быть весьма точно, но какая цель его?
Храбрость для защиты отечества — добродетель, но храб¬
рость в разбойнике — злодейство. Самоотвержение Дон-
Кишота привлекательно, но зато дурное применение оного
к действиям смешно и вредно. Благодеяние из корыстных
видов, близорукая доброта, которая обращается во вред
многим, принадлежат к сему же разряду.
Мало-помалу туман, скрывающий границу между клас¬
сическим и романтическим, рассеивается. Эстетики опре¬
делят качества того и другого рода. В самой России, прав¬
да, немногие, но зато истинно просвещенные люди вы¬
хаживают права гражданства милому гостю романтизму.
Считаю не лишним и я изложить здесь новейшие о том
понятия, как отразились они в уме моем сквозь призму
философии.
МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ
Скажите, пожалуйте, не
случилось ли вам подстеречь в себе привычки выдавать
собственное мнение за итог большинства мнений? Пре¬
важно говорить: «Мы думаем, мы полагаем, мы убежде¬
130
МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ
ны», — когда вы не спрашивали ни одной живой души, как
она думает или в чем она убеждена! Впрочем, не знаю, как
вы, а я, грешный человек, в старину частенько ставил
мычащее местоимение «мы» в замену «я». И сперва мне
казалось, что я делал это из учтивости, из общежития,
для того чтобы мнение мое не показалось резким, чтобы
меня не назвали выскочкою, для того что в моих летах
не должно сметь
Свое суждение иметь1.
Но теперь, когда мои собственные побуждения изверились
мне чуть ли не так же, как побуждения других людей,
когда я позвал их на суд, на смотр сердца, сорвал все
пелены, все венцы и саваны со всего того, что лелеял я в
юности, чем пленялся в жизни, что погребал в забвении,
я нашел, что с этим пашпортом проживала во мне с неза¬
памятных времен стародавняя страстишка властвовать
мнениями или действиями двуногих собратий моих. А в
самом деле, произнося «мы», не производил ли я себя в
знаменатели многих цифр, в представители многих лиц?
Не хотел ли я, выдавая себя за целую дружину, запугать
робких, удержать сильных и озадачить толпу, которая веч¬
но бежит за добрыми людьми, — а куда и зачем? В этом
ее дело сторона! «Мы» для нее великое дело! Поманите ее
только долею в вашей выдумке, и она не пожалеет ни
боков, ни кулаков, хотя, измявши каждого из этой толпы
в руках, как шапку, вы можете сказать, как Людовик XI:
«Я бы сжег ее, если бы она знала мои мысли!»
Но, скажут мне, «мы» не предполагает ни множества,
ни большинства: «мы» значит «наша семья», «наш кру¬
жок» — не более. Говоря «мы», разумеем нераздельное
только мнение нескольких избранных, известных нам лю¬
дей. В самом деле? Гм! Я не советую, однако ж, звать
этих избранников к рукоприкладству этого нераздельного
мнения! Правда, они воюют с вами под одним знаменем,
читают одно «credo», но на втором параграфе выйдет у
вас разногласие, не третьем спор, на четвертом противуре-
чие, там — того и гляди, что дойдет до святых волосов!
«Мы» все равно что партнеры виста: действуют, кажется,
заодно, а того и смотри, что один другого или перекозы-
рит, или утопит. Стало быть, тот, кто говорит «мы», или
сам обманут, или других обмануть норовит. Это предпола¬
гает или труса, который швыряет из-за плетня или хва¬
A. A. БЕСТУЖЕВ
стуна, который идет в бой с соломенными солдатиками.
Терпеть я не могу это журнальное предание, эту mistress
nobody*, это бесполое, безличное существо, какую-то тень,
везде и нигде не уловимую, которая, однако ж, ловит, ко¬
лет вас, подставляет вам ногу, щиплет за усы. То ли дело,
когда какой-нибудь удалец отделяется от рядов, выходит
на середину, охорашивается от шапки до сапогов и бога¬
тырским голосом говорит: «Вот что я сдумал, сгадал, лю¬
ди добрые! Любо вам — вы согласитесь, хотите — нет! Во¬
ля ваша и вера ваша; не хочу чужих перекликать, не хочу
и своим уступать; вот оно не купленное, не краденое —
я не шел, да нашел его, мне бог дал! И пусть меня
после того расстреляют горохом эпиграммы или утопят в
пресной воде критики».
Господин К. строит свое верование на острие шутки.
Исторический роман называет он...2
Но это верование и эта шутка вовсе не нова, ново
только примечание. Точно то же и точно так же говорили
о смешении трагедии с комедиею в драме, но драма,
несмотря на это, живет себе и проживет еще веки, по¬
смеиваясь сквозь слезы. А в доказательство, что она не
ублюдок, не туман, она дает потомство, которое не пре¬
кратится до тех пор, покуда у гениев будет душа, а у
зрителей человеческие сердца. Я полагаю даже, что ка¬
мень, брошенный в исторический роман, летит не в бровь,
а в самый глаз и драме исторической, потому что тот и
другая, по мне, есть двуличный Янус — одна и та же
мысль, выраженная двояким образом: тут лишь действием,
там действием и описанием. Роман есть та же драма с тою
только разницею, что кулисы заменяют в нем описа¬
нием.
С другой стороны, самая история не что иное, как ро¬
ман. Человеческие страсти и пристрастия всегда переина¬
чивали истину. Один историк всему верит, другой не ве¬
рит ничему. Тот обманывает с умыслом, этот обманывался
ненароком. Из этого выходит, что события или разноглас-
ны, или сомнительны, или вовсе ложны. Бросьте же в печ¬
ку события! Давно сказано: «The proper shady of man¬
kind is man»**, — ищите человека в истории, и если не
* Миссис никто {англ.) — Ред.
** Истинно загадочное в человечестве — это человек {англ.) — Ред.
132
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
увидите в авторе минувших веков и вековых людей, зато
в самом авторе вы узнаете людей, с кем он жил, узнаете
век, в котором он жил.
История любит массы, роман — частности. Неужели
же целая масса происшествий и характеров для нас будет
мертва оттого, что она прошла. Но расстояние времени?
В таком случае возьмитесь вы за настоящее: оно все-таки
будет минувшее, когда вы напишете полслова, а как скоро
оно впало в прошлое, то для воображения все равно, слу¬
чилось ло это вчера или двадцать лет назад...
О РОМАНЕ Н. ПОЛЕВОГО
«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»1
La critique, dans les époques de transi¬
tion, tient lieu fort bien de tout ce qui n’est
plus’et de ce qui n’est pas encore. La
critique alors, c’est tout le poème, c’est
tout le drame, c’est toute la comédie,
c’est tout le théâtre, c’est tout ce qui
occupe les esprits; c’est la critique qui
passionne et qui amuse; c’est elle qui
éclaire et qui brûle, c’est elle qui fait
vivre et qui tue...
Jules Janin2
Знать, в добрый час благо¬
словил нас Ф. В. Булгарин своими романами. По до¬
рожке, проторенной его «Самозванцем», кинулись дюжины
писателей наперегонку, будто соревнуя конским ристани¬
ям3, появившимся на Руси в одно время с романизмом.
Москва и Петербург пошли стена на стену. Перекрестный
огонь загорелся из всех книжных лавок, и вот роман за
романом полетели в голову доброго русского народа, ко¬
торому, бог ведает с чего, припала смертная охота к граж¬
данской печати, к своему родному, доморощенному. И то
сказать: французский суп приелся ему с 1812 года, немец¬
кий бутерброд под туманом пришел вовсе не по желудку,
133
A. A. БЕСТУЖЕВ
в английском ростбифе, говорит он, чересчур много крови
да перцу, даже ячменный хлеб Вальтера Скотта набил
оскомину, — одним словом, переводы со всех возможных
языков надоели землякам пуще ненастного лета. Стихо¬
творцы, правда, не переставали стрекотать во всех углах,
но стихов никто не стал слушать, когда все стали их
писать. Наконец рассеянный ропот слился в общий крик:
«Прозы, прозы! Воды, простой воды!»
На святой Руси по сочинителей не клич кликать: стоит
крякнуть да денежкой брякнуть, так набежит, наползет их
полторы тьмы с потемками. Так и сталось. Чернильные
тучи взошли от поля и от моря: закричали гуси, ощипан¬
ные без милосердия, и запищали гусиные перья со все-
усердием. Прежние наши романисты, забытой памяти Фе¬
дор Эмин, Нарежный, Марья Извекова, Александр Из¬
майлов, скромненько начинали с какого-нибудь «Никанора,
несчастного дворянина», с «Евгения, или Пагубные след¬
ствия дурного воспитания», с русского «Жилблаза»,
который не чуждался ни чарки, ни палки4. Тогда вороны
не летали в хоромы!.. Добрые, простые времена! Но мы на¬
шли, что протота хуже воровства. Острые локти наши,
которые тоже любят простор, проглянули из тесных рука¬
вов Митрофанушкина кафтана... иной бы сказал, что у нас
выросли крылья, — так бойко начали мы метаться вдаль
и в воздух. История сделалась страстью Европы, и мы
сунули нос в историю; а русский ни с мечом, ни с калачом
шутить не любит. Подавай ему героя охвата в три, ростом
с Ивана Великого5 и с таким славным именем, что нато¬
щак и не выговорить. Искромсали Карамзина в лоскутки;
доскреблись и до архивной пыли; обобрали кругом изуст¬
ное предание; не завалялась даже за печкой никакая сказ¬
ка, ни присказка. Мало нам истории, принялись мы и за
мораль. «Нравоописательных ли, нравственно ли сатири¬
ческих, сатирико-исторических ли романов? Милости про¬
сим! Кто купит?» О, наверно уж не я! В осьмую долю
листа, в восьмнадцатую долю смысла, хоть торцовую
мостовую мости. И надобно сказать, что все они с отлич¬
ным поведением: порокам у них нет повадки; колют не
в бровь, а прямо в глаз, не то что у иностранцев: на
щипок нравоучения не возьмешь... У нас, батюшка, его не
продают, будто краденое из-под огонь; у нас оно облупле¬
но, словно луковка: кушай да локтем слезы вытирай. А уж
про склад и говорить нечего! В полдюжины лет нажили
134
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ)
мы не одну дюжину романов, подснежных, подовых6 рома¬
нов, романов, в которых есть и русский квас, и русский
хмель; есть прибаутки и пословицы, от которых не отка¬
зался бы ни один десятский; есть и лубочные картинки
нашего быта, раскрашенные матушкой грязью; есть в них
все, кроме русского духа, все, кроме русского народа! Со
всем тем почтеннейшая толпа земляков моих верит, что
она покупает мумию русской старины во французской
обвертке, с готическими виньетками, с картинками, ре¬
занными в Вене; верит, что эти романы — ее предки или
современники; верит с тупоумием старика или с просто-
умием ребенка и целуется с этими куклами-самоделка-
ми; покупает не накупится; читает не нахвалится. Книго¬
продавцы из бельэтажа собственного дома поглядывают
на бульвар и напевают: «Велик бог Израилев!» Добрейшие
люди! А господа сочинители, возвратясь с какого-нибудь
жирного новоселья1, и гордо развязывая гордиевы узлы
густо накрахмаленного галстуха, и с улыбкою трепля свою
шавку, говорят ей: «Гафиз, друг мой, знаешь ли ты, что я
русский Вальтер Скотт!» Заметьте, я сказал: накрахмален¬
ный галстух; это недаром, милостивые государи! Это пред¬
полагает чистый галстух; а чистый галстух предполагает,
что владелец его посещает хорошее общество, а хорошее
общество требует прежде блестящих сапогов, чем блестя¬
щего дарования, следственно, сочинитель наш должен
ездить, по крайней мере в гости, в экипаже. Надеюсь,
вы теперь меня понимаете! На моей еще памяти иные
истинные таланты носили черные галстухи и в праздник;
ходили — увы! — даже не в резинных галошах по слякоти
и — что греха таить? — кланялись в пояс пустым каретам.
Слава богу, слава нашему времени, скажу и я вместе с ва¬
ми, которое за чернила платит шампанским и обращает в
ассигнации листки тетрадей. Я не буду неблагодарен ни
к правительству, которое ободряет и ограждает умствен¬
ные труды, ни к публике, начинающей ценить нераздельно
с сочинением и сочинителя; но я не буду и льстить нашим
романописцам. Подумав беспристрастно, я скажу свое
мнение откровенно; по крайней мере ручаюсь за последнее.
Я думаю, что, несмотря на многочисленность наших ро¬
манов, несмотря на запрос на романы, едва ль не пре¬
вышающий готовность составлять их, несмотря на ободре¬
ние властей, мы бедны, едва ль не нищи оригинальными
произведениями сего рода.
135
A. A. БЕСТУЖЕВ
Отчего ЭТО?
Признаться, на такой вопрос так же трудно отвечать,
как на тот, почему у Касьяна черные глаза, когда у матери
и отца они голубые? Или почему огурец зелен, а смороди¬
на красна, хоть они растут на одном и том же солнце? На
нет и суда нет; та беда, что и на есть не подберем мы
причины: зачем она так, а не иначе?
Но пересеем повнимательнее то, о чем говорил я шутя,
и, быть может, мы найдем разгадку если не посредствен¬
ности наших романов исторических, то успеху истори¬
ческих романов. В этот раз я не трону даже мягким кон¬
цом пера нравственно-сатирических романов: пускай себе
шляются по сельским ярмаркам или почиют в мире и в
пыли. В утешение господ сочинителей их признаюсь, что
прочесть иных не имел я случая, других не стало терпения
дочесть, а многих, очень многих я вовсе читать не стану,
хотя бы за этот подвиг избрали меня в почетные члены
Сен-Домингской академии. Это дело решенное.
Мы живем в веке романтизма.
Есть люди, есть куча людей, которые воображают, что
романтизм в отношении к читателям мода, в отношении
к сочинителям причуда, а вовсе не потребность века, не
жажда ума народного, не зов души человеческой. По их
мнению, он износится и забудется, как перстеньки с хло-
риновой известью от холеры, будет брошен как ленты а
la giraffe, как перчатки â la Rossini иль d’une altra
bestia*, что, наконец, он минует продут. Другие прости¬
рают староверство до неверия, до безусловного отрицания
бытия романтизма. «Все, что есть, то было; все, что было,
то будет; ничто не ново под луною!»8 Согласен!.. Луна
есть светило ночное, а ночью все кошки серы; но, ради
бога, господа, осмотритесь хорошенько: нет ли чего нового
под солнцем? Знаете ли вы, милостивые государи, что
утверждать подобные вещи в наше время есть только ге¬
роизм глупости — ничего более. Может ли сомнение в
истине уничтожить самую истину, неужели романтизм,
заключенный в природе человека и столь резко проявлен¬
ный на самом деле, перестанет быть, оттого что его читают
не понимая или пишут о нем не думая?
Мы живем в веке романтизма, сказал я: это во-первых.
Мы живем в веке историческом; потом в веке истори¬
* Другое животное {франц. и итал.) — Ред.
136
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
ческом по превосходству. История была всегда, сверша¬
лась всегда. Но она ходила сперва неслышно, будто кошка,
подкрадывалась невзначай, как тать. Она буянила и пре¬
жде, разбивала царства, ничтожила народы, бросала геро¬
ев в прах, выводила в князи из грязи; но народы после
тяжкого похмелья забывали вчерашние кровавые попойки,
и скоро история оборачивалась сказкою. Теперь иное. Те¬
перь история не в одном деле, но и в памяти, в уме, на
сердце у народов. Мы ее видим, слышим, осязаем ежеми¬
нутно; она проницает в нас всеми чувствами. Она толкает
нас локтями на прогулке, втирается между вами и дамой
вашей в котильон. «Барин, барин! — кричит вам гостино¬
дворский сиделец. — Купите шапку-эриванку». — «Не при¬
кажете ли скроить вам сюртук по-варшавски?» — спраши¬
вает портной . Скачет лошадь — это Веллингтон. Взгля¬
дываете на вывеску — Кутузов манит вас в гостиницу,
возбуждая вместе народную гордость и аппетит. Берете
щепотку табаку — он куплен с молотка после Карла X.
Запечатываете письмо — сургуч императора Франца.
Вонзаете вилку в сладкий пирог, и — его имя Наполеон!..
Дайте гривну, и вам покажут за гривну злосчастие веков,
Клитемнестру и Шенье, убийство Генриха IV и Ватерлоо,
Березину и Св. Елену, потоп петербургский и землетрясе¬
ние Лиссабона — и что я знаю!.. Разменяйте белую бу¬
мажку10, — и вы будете кушать славу, слушать славу, ку¬
рить славу, утираться славой, топтать ее подошвами. Да-с,
история теперь превращается во все, что вам угодно, хотя
бы вам было это вовсе не угодно. Она верна, как Обриева
собака11; она воровка, как сорока-воровка; она смела, как
русский солдат; она бесстыдна, как блинница12; она точ¬
на, как Брегетовы часы; она причудлива, как знатная ба¬
рыня. Она то герой, то скоморох; она Нибур и Видок13
через строчку, она весь народ, она история, наша история,
созданная нами, для нас живущая. Мы обвенчались с ней
волей и неволею, и нет развода. История — половина на¬
ша, во всей тяжести этого слова.
Вот ключ двойственного направления современной сло¬
весности: романтическо-исторического. Надобно сказать
однажды навсегда, что под именем романтизма разумею я
стремление бесконечного духа человеческого выразиться в
конечных формах. А потому я считаю его ровесником ду¬
ше человеческой... А потому я думаю, что по духу и сущ¬
ности есть только две литературы: это литература до
137
A. A. БЕСТУЖЕВ
христианства и литература со времен христианства. Я на¬
звал бы первую литературой судьбы, вторую — литерату¬
рой воли. В первой преобладают чувства и вещественные
образы; во второй царствует душа, побеждают мысли.
Первая — лобное место, где рок — палач, человек —
жертва; вторая — поле битвы, на коем сражаются страсти
с волею, над коим порой мелькает тень руки провидения.
Ничтожные случайности дали древней литературе имя
классической, а новой имя романтической, - столь же
справедливо, как Новый Свет окрестили Америкой, хотя
открыл его Коломб14. Мы отбросим в сторону имена, мы,
которые видели столько полновесных имен, придавивших
тщедушных своих владельцев, как гробовая плита, мы,
которые слышали столько простонародных имен, ставших
торжественною песнею народов! Какое нам дело, что слеп¬
ца Омири и щеголя Виргилия засадили в классах под
розгу Аристотеля; какое нам дело, что романские трубаду¬
ры, таскаясь по свету, разнесли повсюду свои сказки и
припевы; какое нам дело: классы ли, Романия ли дали имя
двум словесностям!..15 Нам нужен конь, а не попона.
Возьмемся же за первобытную словесность, начнем с
яиц Леды16, — и почему, в самом деле, не так? Разве эту
фигуру не считают началом мира и человека? Я надеюсь,
что вы читали Лукреция и Окена? Я надеюсь, что вы уже
держали экзамен в асессоры!
Не помню, кто первый сказал, что первобытная поэзия
всех народов была гимн. По крайней мере это мнение при¬
няло чекан Виктора Гюго. Мнение, правда, блестящее, но
ни на чем не основанное. «Человек, изумленный, поражен¬
ный чудесами природы, великолепием мира, необходимо
должен был славить творца или творение. Удивление его
излилось гармоническою песнею: то был гимн!»17 Итак, че¬
ловек пел по нотам прежде, чем говорил; итак, первая пес¬
ня его была благодарность или торжество! Хорошо сказа¬
но! Жаль только, что этот первенец-певчий вовсе не сходен
ни с вероятностию, ни с сущностию. Первенцы мира
слишком озабочены были сначала тем, чтобы себе заве¬
рить бедное существование, ночь за день, день за ночь!
Лишенные всякой защиты и оружия от природы, они
должны были сражаться с непогодами, с землею, со зве¬
рями, и, когда развернулось в них немножко ума, привыч¬
ка, наверно, убила уже удивление к чудесам природы. Тор¬
жествовать ему было еще менее причины — ему, бедняге,
138
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
пущенному в лес без шерсти от слепней, от холода, без
клыков слона, без когтей тигра, без глаз рыси, чтобы
увидеть издали добычу, без крыльев орла, чтобы достичь
ее. Очень сомневаюсь я, чтобы ему приходило на ум петь
соловьем, умирая с голода. Что же касается до гимна бла¬
годарности, то мне хочется и плакать и смеяться: плакать
за праотцев, смеяться с господами систематиками, кото¬
рые порой мистифируют нас себе на потеху. Вы забыли,
конечно, что тогда не было еще ни mr. Буту, ни Бретигама,
чтобы одеть и обуть странника, не было трехэтажных го¬
стиниц для ночлега, не было зонтиков и отводов, не было
двухствольных ружьев с пистонами, не было карет на
рессорах. Греки, правда, проскакавши в колесницах олим¬
пийских, распевали гимны, но слава заменяла им рессоры.
Зачем же, скажите мне, не поете их вы, баловни XIX века,
вы, у которых есть и слава и рессоры? Скажите же или
пропойте мне это! Чудной народ! Хотят заставить петь гим¬
ны дикаря, который учился говорить у шакалов, и молчат са¬
ми, слышав столько раз мамзель Зонтаг!18 Притом я не
знаю еще, признаете ли вы Индию люлькою человеческого
рода (это мнение убаюкало многих) или с Ласепедом по¬
лагаете четыре первобытные племени19; или, наконец, по¬
мирив, схватив за волосы обе эти системы (миротвор¬
ство — точка сумасшествия нашего времени), вы думаете,
что Атлас, Гималаия, Кавказ и Кордильеры, как добрые
кони, на хребтах своих развезли из Индии племя челове¬
ков, что полутигр готтентот, полуорел черкес и полусемга
лопарь родные братья? Но пусть наша первая, наша об¬
щая отчизна Индия; съездимте ж в Индию волей и нево¬
лей: видно, не миновать нам Индии. Господа физиологи
могут там изучить холеру в оригинале, господа археоло¬
ги — увериться, что (по зодчеству своему) церковь Васи¬
лия Блаженного родная внучка такому-то или такому-то
пагоду в Балбеке, а господа поэты — доучиться санскрит¬
скому языку, который похож на русский, словно две капли
чернил, языку, на котором они сделали такие блестящие
попытки. Правда, что мы не понимаем их, но вольно ж нам
не знать по-санскритски. Прогуляемся ж в Индию, госпо¬
да, хоть для того, чтобы узнать, стоит ли там петь гимны!
Пароход «Джон Булль»2 уж давно курится у набереж¬
ной... Слышите ль, звонят в, третий раз!.. Едем.
И вот мы плывем не только вверх по течению Гангеса,
но и вверх по течению веков. Покуда не бросили еще сход¬
139
A. A. БЕСТУЖЕВ
ня на берег, я скажу вам, что по-моему, первобытная по¬
эзия народов непременно зависит от климата. Так у кафра,
палимого зноем, и у чукчи, дрожащего от мороза, у
обоих, которым голодная смерть грозит ежедневно, первая
поэзия, как первая религия, есть заклинание. Он через
колдуна, через шамана старается умилостивить злых духов
или сковать их клятвами. Напротив, у скандинава, у кав¬
казского горца, у араба, людей столько же гордых, как
бедных, столько же свободных, как бесстрашных, у коих
все зависит от самого себя, которые ничего в мире не зна¬
ют выше собственных сил и отваги, поэзия есть песня са-
мохваления. Прочтите вы саги, Оссиана, моаллаки21; по¬
слушайте песен аварца или черкеса: это вечная вариация
местоимений я или мы; а «мы» значило у них «мой род»,
«моя деревня», «моя дружина». Грек уже горд народною
славою: у него отечество не одно свое селение; силы его
в равновесии с силами природы; небо у него самое благо¬
растворенное, и он, вдохновенный им, поет гимн — песню
благодарности богам, песню торжества собственного. Но
Египет, сожженный, закопченный солнцем Египет, кото¬
рый произведен и живет только милостыней Нила, или эта
Индия — оба края, столь богатые драгоценностями и за¬
разами всех родов, где жизнь качается на острие гибели...
Скажите, мог ли там человек, запуганный природою, на¬
чать поэзию песнею благодарности или торжества? Конеч¬
но, нет. Скорей всего, она была молитва, ибо индиец бо¬
готворит все и всего хочет, ибо все манит его, и хочет с
жадностию, ибо завтра для него не существует. В Индии
природа — мать и мачеха вместе для младенца человека.
Молоко великанских ее сосцов смешано с отравою; ее мед
опьяняет, как вино romodendron; благоухание цэетов ее
убивает мгновенно, как manzenilla22; она душит человека
то избытком сил, то избытком даров своих. Он чувствует
пред ней свое бессилие, свою ничтожность и ползает пе¬
ред судьбою, видя суетность расчетов и залогов на буду¬
щее; он приносит жертвы Ариману23, злому началу, нарав¬
не с жизнедавцем Сивою24; он молится вещественным си¬
лам природы, нередко изуродованным через нелепый
символизм отвлеченных качеств ее. Вот почему в много-
божной Индии все носит на себе отпечаток религиозный,
все, от песен до политического быта, ибо поэзия и вера,
вера и власть там одно. Свидетели: «Магабхарата» и
«Рамяйяна», две огромные поэмы индийцев. Что такое они,
140
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
как не последняя битва падшей веры и государства Ма-
гаде25 с победительною верою и властию Будды? Это
страшные грезы страшной действительности: это смешение
самых чистых, первозданных чувств с самыми неестест¬
венными вымыслами; это благоуханная вязь цветов, пере¬
витая жемчугом и алмазами, плавающая в потоке крови.
Там убедитесь вы, что индиец может только роскошно
мечтать, а не мыслить. Его герои — звери или волшебники;
его боги — чудовища, его вера — угроза. Со всем тем, как
ни грубы его верования, как ни бездвижны его касты, как
ни причудливы его воображения, вы легко заметите в них
попытку души вырваться из тесных цепей тела, из-под
гнета существенности, из плена природы и нагуляться
в новом, самозданном мире, отведать иной жизни, пожить
с фантастическими существами. Это романтизм по ин¬
стинкту — не по выбору.
Но для чего нам распространяться* о восточной словес¬
ности? Она неизвестна была древним, она чуть-чуть из¬
вестна нам и потому не имела никакого влияния ни на
классическую, ни на романтическую словесность. Заметим
только, что фатализм, злобный, неумолимый фатализм
Индии, смягчается у персов, поклонников огня, до мысли
о благом промысле. Он молится уже не идолу, но недося¬
гаемому солнцу, живителю мира; бездействует, но уже бо¬
лее из лени, чем из безнадежности. Увидим, как яростен
и силен этот фатализм, ринутый из своего покоя огнем
Мугаммеда, когда он дал обет арабам своим: мечом и ку-
раном завоевать свет и рай. Между тем как поэтическая
религия ислама, подобно лаве, растекается по Востоку и
зажигает его, сладкозвучный Фердуси плавит в радугу
предания Персии и связывает ею истину с вымыслами.
Говорю о «Шах-наме» (повесть царей), для которой хан¬
жа персиянин до сих пор забывает свои четки, низкий
корыстолюбец персиянин останавливает на воздухе руку,
не досчитав своих туменов26; для которой сластолюбивый
лентяй персиянин открывает отяжелевшие от опиума веки,
покидает незапертым гарем и спешит послушать «Шах-
наме» от площадного певца. Он слушает, и улыбается, и
гордо гладит бороду. Мил гуляка Гафиз, трогателен муд¬
рец Саади, но Фердуси — о, это водопад Державина!
Сколько раз уносился я одной музыкой стихов его в то
время, когда какой-нибудь мулла морозил мысль бессмыс¬
ленным переводом!
141
A. A. БЕСТУЖЕВ
И вот мы в Греции, в Греции, стороне богов, подобных
людям, в стране богоподобных мужей! Я уверен, что этот
salto mortale* не удивит вас: разве не учились вы прыгать
в манеже? Что касается до меня, вы сами видите, что
я вольтижирую на коньке своем не хуже Франкони-
сына27.
Вторая, несомненная степень поэзии есть эпопея, то
есть народные предания о старине, одетые в шумиху бас¬
ни. Да, история всех племен всегда начинается баснею,
точно так же, как история всех народов должна заклю¬
чаться нагою летописью, если верить, что род человеков
совершенствуется. При истоке вы везде находите поэму в
истории, равно как историю в сагах. Новички народы,
точь-в-точь дворяне из разночинцев, всегда хотят облаго¬
родить своих предков, закрыть пестрыми гербами пре¬
жнюю вывеску, заставить расти свой родословный пень-
гнилушку из облаков. Родоначальники их вечно или герои,
или боги. Афинец ведет род свой от Феба; камчадал счи¬
тает своим праотцем кита — это живительное солнце бы¬
тия его. Кроме того, первобытные народы младенчески ве¬
рят всему, что льстит их самолюбию. Любо им, чтобы их
боги ссорились меж собою за их запечные ссоры, чтобы
они якшались с ними запанибрата; без чуда нельзя было
поколотить их ни в одной схватке, нельзя было ступить
шагу без содействия чародеев, ибо вера в чудесное превра¬
щала для них сверхъестественное в естественное, творила
невозможное обыкновенным.
Туманы и вдали увеличивают предметы, дают им за¬
тейливые образы. То же самое и с историческими истина¬
ми сквозь пыльный туман древности, между тем как нравы
и климаты дают обликам сих преданий разные харак¬
теры.
Грецию избрало, кажется, провидение проявить мысль,
до какой высоты изящества доступен был древний мир,
средою коего она была. Как ранний морской цветок, она
возникла из океана невежества, быстро созрела семенами
всего прекрасного, в науках, в художествах, в нравствен¬
ности, в политике, в поэзии всего этого... бросила свое
благоухание и семена ветрам — и увяла, увяла прежде,
чем кровавые волны поглотили ее. Светлое небо Эллады
отражалось не только в водах Эгейского моря, но и в ду¬
* Головокружительный прыжок (итал.) — Ред.
142
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
шах, в нравах, гармоническом языке греков. Восточная по¬
эзия — чувственность и греза, греческая — вся чувство
верное, пылкое чувство, которое рвалось из груди на про¬
стор, точно так же как сам грек всю жизнь проводил на
воздухе, на раздолье. Выходец из Азии, он принес в своей
котомке лишь самые легкие поверья и сказки детства; он
бросил на месте прежних сторуких крокодилоглавых, пти¬
цеглавых, треглавых идолов; он забыл <ся?) дорогою Ари-
мана, он научился в скитаньях своих своевольничать; он
окреп, он стал деятелен, он стал забияка, он стал крикун,
он стал настоящим греком. И, право, если б между раз¬
гульными богами Олимпа не замешалась грозная ’Anâgkë
Судьба, от которой сами боги трепетали, как осиновый
лист, вы бы не узнали в гинецее 8 — гарема, в Пирее —
базара, в Алкивиаде — потомка какого-нибудь из героев
«Магабхараты». Главное в том, что душа грека изливалась
вся наружу: он жаждал битв и песен, он пел природу
и битвы, и выражение их у грека было в совершенном
соответствии с предметом; выражение его отличалось осо¬
бенною гармоническою точностию и, так сказать, отражае¬
мостью, зеркальностию. Вот отчего вся поэзия греческая,
в стихах ли, в мраморе ли, в меди ли она проявлялась,
ознаменовала недоступною для нас и пленительною для
всех красотою. Никто лучше не выражал чувственной при¬
роды, ибо нигде нет природы лучше греческой. Но не один
голый перевод с природы, не слепое, безжизненное подра¬
жание жизни находим мы в поэзии греков. В произведе¬
ниях искусств мы находим идеал вещественно-прекрасно-
го, то есть тысячи рассеянных красот, гениально слитых
воедино, красот, может, никогда не виданных, но угадан¬
ных душою. В драмах, в одах сверкают уже мысли, замет¬
но уже стремление к высокой, но неясной цели. Впослед¬
ствии философы высказали то, о чем намекали поэты.
Романтизм оперялся понемногу; однако столько веков
протекло между Омиром и Платоном.
Омир?!.
Когда вы произносите это священное, освященное ве¬
ками имя, кажется, вся Эллада восстанет из праха огром¬
ным призраком!.. Кажется, видишь гиганта Атласа, кото¬
рый выносит на плечах своих весь древний мир из ночи
забвения. Скажите, чего нет в «Илиаде» и «Одиссее»?
Феогония, родословие всей Греции, землеописание полу¬
мира, история, анатомия, все, что знал в те поры гуртом
143
A. A. БЕСТУЖЕВ
род человеческий, все там, и это все — самая ничтожная,
незаметная частица в сравнении с величием поэзии, с
роскошью образов! Никто не знал, где началась колыбель
этого гения; никто не знает, где его могила. Он явился
в мир, исчез из мира и до того изумил всех, что начали
не без причины сомневаться в его существовании, по
крайней мере, в целости поэм, ему приписанных, трудов,
едва ль доступных одному человеку.
Пускай, впрочем, будет Омир загадкою, заданною нам
древностию; пускай имя его есть собирательное имя всех
поэтов, до него живших; пускай «Илиада» есть перечень
тысячи рапсодий, сшитых искусною рукою. Дело в том,
что под его именем известные эпопеи стали типом, образ¬
цом тысячи других эпопей, начиная с «Энеиды» до какой-
то русской иды, или ады, или оидыу в которой затеряны
следующие стихи:
Меж тем как Феодор звонил в колокола.
(Его любимая охота в том была)29.
Я думаю, каждый народ имел свои эпопеи, в каком бы
лице они ни проявлялись: но имел в возраст юношества —
не иначе. Юность все чувствует и всему верит; юность про¬
стодушна, как ребенок, и смела, как муж. Вот почему так
неудачны были все попытки во времена разума создать
или повторить народную эпопею. Большого промаха дал
Торквато, замешав языческих богов в свою великолепную
поэму, поэму христианскую в полной мере30; но еще за¬
бавнее Вольтер, заставивший действовать отвлеченные по¬
нятия в лицах, в своей надутой «Ганриаде», этой выношен¬
ной до нитки аллегории, которой рукоплескал XVIII век
до мозолей, зевая под шляпою, и над которою мы даже
не зеваем, оттого что спим31.
Видя, что народ не верит уже сказкам, эпопея переки¬
дывается в драму. Она отрубает от истории какое-нибудь
частное происшествие и переливает его в свою огромную
форму; выхватывает их толпы царей несколько имен, отме¬
ченных природою или молвою, и путает их в невидимые цепи
судьбы, бросает им молнию роковых страстей в грудь,
растит эти страсти до великанских размеров, заставляет
совершать страшные злодейства, и потом, неумолимый
судья, она бичует преступника змеями фурий, рассекает
его огненным мечом своим пополам и показывает его серд¬
це наголо зрителям, безмолвным от ужаса, — сердце,
144
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
на котором вы видите еще зубы совести, которое плачет
кровью, которое трепещется от мучений. Такова была тра¬
гедия древних, трагедия Эсхила, Софокла и Эврипида.
Оттого ли, что она для большей свободы избирала героев,
уже удаленных во мрак старины, или покорна была влия¬
нию наружности, только всегда она выводит на сцену цар¬
ствования злосчастия, как будто человек не имел в себе
довольно величий. Не так понимали природу Шекспир,
Шиллер, Виктор Гюго, — и менее ль занимателен их пад¬
ший ангел-человек, их человек-мещанин, родня богов
Атридов?32
Напротив, комедия принадлежала собственно народу,
ибо она изображала народ в домашнем быту, нараспашку,
народ вольный, однако ж, народ царя наизнанку, народ,
который, зашивая дыры на тунике, толковал, как разбить
Ксеркса или Югурту . Оттого комедия у греков и римлян
имела всегда политическую цель: она колола, смеша, она
была прихожею Пирея34 или Форума, битвой застрельщи¬
ков, в которой партии пытали или добивали друг друга.
Мы видели и увидим, что новая трагедия, или, лучше ска¬
зать, новая драма, которая, как жизнь наша, смеется и
плачет на одном часу, вырывает своим деревянным кинжа¬
лом из могил еще не остылые трупы героев, не дожидаясь,
чтоб давность увлекла их на исторический выстрел: она
судит их у гроба, подобно египтянам, или, что и того злее,
терзает их заживо, будто бы она, как орел, не может есть
ничего, кроме животрепящего мяса. Да, рано застает нас
потомство, жестокое, неумолимое потомство! Застает врас¬
плох, подслушивает или угадывает нашу исповедь — и не
дает разрешения; бросает горсть земли в очи покойника —
и не молвит обычного мир с тобою\ Нет... оно шевелит,
оно вытаскивает, как шакал, на свет кости, бросает на ве¬
тер пепел, клеймит самую гробницу насмешкой или пре¬
зрением или с проклятием ломает ее вдребезги!
Наконец, за драмою возникает роман и потом идет об
руку с драмою, — роман, который есть не что иное, как
поэма и драма, лиризм, и философия, и вся поэзия в тыся¬
че граней своих, все свой век на обе корки. Древние не
знали романа, ибо роман есть разложение души, история
сердца, а им некогда было заниматься подобным анали¬
зом; они так были заняты физическою и политическою
деятельностию, что нравственные отвлеченности мало име¬
ли у них места; кроме того, где, скажите, они являлись
6—907
145
A. A. БЕСТУЖЕВ
развитые не диссертациями, а приключениями? Жизнь
была сама по себе, а ученость сама по себе... Я по крайней
мере не знаю ни одного романа, завещанного нам древ-
ностию, ни одного, кроме ее историй. Роман, каковы «Гар-
гантюа» и «Дон-Кихот», — дети нового порядка вещей, на¬
следники средних веков. О нас, мильонщиках в этом отно¬
шении, речь впереди.
Между тем важный перелом мира вещественного от
мира духовного тихо готовился в Элладе и в Риме, уже
источенных пороками... Мраморные боги шатались, но
стояли еще; зато их треножники были холодны без жертв,
сердца язычников холодны без веры. Давно уже Сократ
толковал об единстве бога — и выпил цикуту, осужденный
за безбожие. Но эта чаша смерти стала заздравной чашей
нового учения, которое проникло даже в сердце прита-
нов — убийц Сократа35. Школа неоплатоников36 разраста¬
лась, развивалась далее и далее, — она была для земли,
раздавленной деспотизмом, прелюдией небесною! Души,
томимые пустотою, чего-то ждали, чего-то жаждали, — и
свершилось...
Древний мир пал.
Но он пал, сражаясь, пал после долгой битвы, и стрелы
его глубоко остались в теле нового ратоборца. Долго-дол¬
го потом в поэзии, в художествах, в обычаях отзывались
поверья язычества, равно готического и эллинского. У бес¬
смертного Данте Виргилий, come persona accorta*, про¬
вожает поэта по всем закоулкам христианского ада. В ка¬
толических соборах кариатиды-сатиры, кряхтя, поддержи¬
вают хоры или корчатся от святой воды в крашениях
кропильницы. Языческие обряды остались доселе не толь¬
ко в играх народных, но слились иные с обрядами веры.
Зачем ходить далеко: вспомним постриги и поминки,
вспомним игрища Ярилы37 и колядования о святках, се¬
мик38 и проч., и проч., и проч. Я уж не говорю, или я еще
не говорю, о нашествии на Русь грецкого вкуса, который
заставил нашего Ивана Горюна заиграть на свирелке Да¬
фниса и Меналка39, наслал в наши песенники купидонов
и нимф и расплодил по всем городам пародии римских
* Как лицо благоразумное (итал.) — Ред.
146
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
и греческих зданий. Приторный вкус, несообразный ни с
характером, ни с климатом нашим!
Но забудем ли, что Греция, умирая, оказала важную
услугу новому миру: сладкозвучный, величественный язык
Омира раздался в этот раз голосом с небес — то было
Евангелие; обет новой, прекрасной жизни, высказанный
наречием старины; то была песня лебедя — то был завет
старца на одре кончины.
Сперва гонимая, терзаемая скитальница, христианская
вера восторжествовала наконец благочестием первых хри¬
стиан; и не мечом войны, не топором казни покорила
она души полумира, нет, но убеждением слова, но истиною
правил Евангелия. Из подземных пещер она овладела зем¬
лею и соединила землю с небом. Боги языческие были
порочны, как люди, апостолы чисты, как ангелы. Язычник
унизил божество до себя, христианин вознес человека до
бога. Философия была верою немногих мудрецов, а
христианская вера стала философиею целых народов,
практическою мудростью, не только законом, но и настав¬
ницею совести. Вникните в сущность Евангелия, прочтите
его даже просто как книгу — и вы убедитесь, что оно есть
высокая романтическая поэма, тем драгоценнейшая, что
каждая страница его — действительность, что каждое сло¬
во его священно примером и запечатлено кровью спасите¬
ля мира. Да, я смело утверждаю, что Евангелие было пер¬
вообразом новой словесности, первым рассадником идеа¬
лизма. Оно заключало в себе все, что сказалось и сверши¬
лось потом и доселе. Каких стихий новой поэзии нет в
благовестии, в этом завете неба земле, в завете бога с
человеком? Не стройно ли сохранено в нем одно единст¬
венно возможное природе — единство цели? Не проникну¬
то ль оно насквозь одною смелою, пылкою, священною
мыслию побратать все народы любовью, обратить любовь
в веру, возвысить и усовершить людей верою в бога,
который сам себя назвал любовь, который завещал пла¬
тить добром за зло, любить врагов своих, не осуждать
проступившегося; который произнес: «Месть мне!», и по-
дивными пророчествами Иудеи ; и потом многозначность
и непроницаемость речей евангелистов, когда они бренны¬
ми устами поведают вдохновение божества; и все, даже до
форм оного, объемлющих вместе историю и драму; до сло¬
ва, в котором рассказ перемешан с разговором; до языка,
том дивность, таинственность
Иисусовых, слитых с
6**
147
A. A. БЕСТУЖЕВ
поражающего восточною яркостию оборотов и подобий,
краткостью и силой выражений — все там ново, все там
юно. Нов совершенно и театр, избранный для действия. Не
только на площадях, не в одних палатах и храмах являет¬
ся спаситель, но в пустыне, на торжище, в толпах простого
народа, в кругу детей и прокаженных, на свадьбе, на по¬
гребении, на месте казни. Он беседует с мытарями, он
спасает блудницу; он с двенадцатью рыбарями бросает
живые семена слова в души простолюдинов. И с какою
драматическою занимательностью близится кровавая раз¬
вязка этой умилительной, ужасной трагедии! Друг прода¬
ет его врагам за серебро, предает на муки поцелуем. Лю¬
бимый ученик отрицает его... Робкий судия шепчет: «Он
невинен», — и дарит его злобной черни, в которой боль¬
шинство — сановники-иудеи. И вот спаситель мира гибнет
позорною казнию, распятый между двумя разбойниками,
молясь за своих злодеев! О, кто ни разу не плакал горьки¬
ми слезами над Евангелием, тот, конечно, не испытал сам
несчастия и не уважал его в других, тот не стоит и отрады,
проливаемой в души этою святынею. Какой несчастливец
не подымал из праха головы, подумав: «И он страдал».
Как утешительно, трогательно следить борение божествен¬
ного духа с земными скорбями, на которые осужден был
Христос телом. «Лазарь, брат наш, умер!» — восклицает
он и горько плачет. Кровавый пот орошает чело его, когда
он молится. «Да мимо идет чаша сия — отравленная чаша
судьбы!» Он падает, изнемогая под крестом, он жаждет,
пригвожденный на кресте, — и ему на острие копья пода¬
ют уксус... Это страшно и отрадно вместе. Страшно пото¬
му, что в этом символе мы видим свет, каков он был
всегда, действительную жизнь, какова она доныне. Тут нет
ни награды добродетели, ни казни пороку; напротив, тут
самые высокие чувства попраны пятами, святая истина за¬
кована в железо; чистейшая добродетель ведет на Голгофу.
Но утешьтесь, тени страдальцев мира, — разве не для вас
слова: «Блаженны изгнанные правды ради...» Камоэнс, Тор¬
квато, Дант, Альфиери, Шенье, Байрон и вы, все избран¬
ники небес! мир налагал на вас терновый венец, облекал
в багряницу и посмеянием плевал в лицо; бил палками —
и называл царями! Но разве не настало время, когда по¬
томство принесло мирру к гробнице вашей и нашло ее
пустою, и некто светозарный указал на небо...
Там награда наша!
148
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
Не извиняюсь, распространившись так о Евангелии,
пред теми, у которых привычка очерствила сердце к кра¬
сотам его; ни пред теми, которые его исповедуют языком
фарисеев и целуют устами Иуды, — мне необходимо нуж¬
но было указать на стихи, которые разовьются потом в нра¬
вах, обличался в переворотах, проявятся в отшельничестве,
ö крестовых походах, в войне реформы, в «Освобожденном
Иерусалиме», в «Аде», в «Вертере», в «Чайльде-Гароль-
де», в «Notre Dame de Paris»*. Я сказал и повторяю, что
Евангелие стало знамением новой словесности, как святой
крест стал знамением нового мира; что оно было первою
песнею, действием той огромной поэмы или драмы, кото¬
рой история не досказала до сих пор.
Для нас, однако ж, необходим фонарь истории, чтобы
во мраке средних веков разглядеть между развалин тро¬
пинки, по которым романтизм вторгался в Европу с раз¬
ных сторон и наконец укоренился в ней, овладел ею.
Странное дело: Востоку суждено было искони высылать в
другие концы мира, с индиго41, с кошенилью 42 и пря¬
ностями, свои поверья и верования, свои символы и сказ¬
ки; но Северу предлежало очистить их от грубой коры,
переплавить, одухотворить, идеализировать. Восток прове¬
щал их в каком-то магнетическом сне, бессвязно, безот¬
четно; Север возрастил их в теплице анализа, — ибо Вос¬
ток есть воображение, а Север — разум. Я не приглашаю
с собой ни старичков наших в плисовых сапогах от подаг¬
ры, ни молодежи с одышкою от танцев. Пойдут со мной
одни охотники побродить, — но, ради бога, ни костылей,
ни помочей!
Предпоследний римлянин умер с Катоном, послед¬
ний — с Тацитом. Преторианские когорты43 продавали уже
скипетр Августа с молотка, и бездарные тираны, один за
другим, а иногда вместе по двое, входили на престол, что¬
бы удивить с высоты этой тарпейской скалы44 целый свет
своим развратом и насилием. Но Рим стоил таких цезарей,
когда мог ползать пред ними, лизать их стопы... Со всем
тем имя Рим все еще пугало этих царей старинным ду¬
хом мятежей. Оно упрекало их прежнею славою, прежни¬
ми доблестями, настоящим позором обеих, и Константин
перенес столицу в Византию. Рим переехал в Грецию,
но переехал только в титуле императора; он не привез на
* «Соборе Парижской богоматери» (франц.) — Ред.
149
A. A. БЕСТУЖЕВ
берега Босфора ни пепла, ни духа предков. Римскому орлу
приклеили еще голову, позабыв, что варвары подрезали
ему крылья. Коварство заменило силу, семейные сплетни и
расколы заняли изнеженный двор Византии, между тем
как европейские, и азиатские, и африканские дикари на¬
пирали на границу империи, вторгались в ее сердце, пус¬
кали на жертву меч, раскатывали головней города. Какой
словесности можно было ожидать при таком дворе, в та¬
ком выродившемся народе? Надутая лесть для знатного
класса, щепетильная схоластика и богословские сплетни в
школах — вот что, подобно репейнику, цвело там, где
красовались прежде Тиртей, Сафо, Демосфен. Правда, Ио¬
анн Златоуст, святой Августин, Григорий Назианзин, Си-
незий — в Риме, в Киринее, в Афинах, в Птолемаиде —
развивали во всем блеске и чистоте учение духовной жиз¬
ни, воплощали христианский мистицизм или, лучше ска¬
зать, романтизм в нравы, но сила их пленительного, убе¬
дительного красноречия прошла с ними вместе; века и
волны варваров протекли между их кликом и отголоском.
Рим пал жертвой мести за насилие; Греция пала жертвой
зависти и бессилия. Вся деятельность жизни сосредоточи¬
лась на Западе: там лишь, за развалины власти римской,
бились кочевые народы, потоками крови смывали друг
друга с лица земли или отбрасывали, загоняли куда глаза
глядят; но в хаотическом мраке и буре средних веков гото¬
вился новый порядок гражданственности и нравствен¬
ности. Народы-завоеватели стали станом посреди побеж¬
денных, разделили их вместе с землей промеж себя, как
добычу, сохранив и в мире на случай похода военное чино¬
началие. Вся Европа обросла тогда замками феодальных
баронов, между которыми раскрошилась власть прежних
царей. Многие из готических и славянских народов уп¬
равлялись сходками (meeting, Wehrmaney, сейм), большая
часть — князьями (König, prince, suzerain, Herzog, earle,
comte), избранными в вожди, в начальники то на время
похода, то на время мира, иногда для того и другого
вместе. До поры оседлости, можно сказать, одна война бы¬
ла религией западных варваров, и потому христианская
вера быстро разлилась между ними, равнодушными к ста¬
рому, жадными к блестящим новостям. Лонгобард45, на¬
рядившись в римскую тогу, захотел и молиться в римской
базилике. Для победителей вера сия была роскошь, отли¬
чие, для побежденных — услада. Первым она давала час¬
150
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
тые предлоги к завоеваниям, вторым — надежду на свобо¬
ду, на облегчение по духу евангельского братства. По¬
среди этого брожения, волнования, сокрушения народов
возникло неведомое варварам сословие духовенства, сосло¬
вие, независимое от дворян десятиною с народа, защи¬
щенное от народа святостию своего сана. Непрестанно и
беспредельно возрастающая власть его, власть, которой
представителем был папа, доказала свету силу слова над
совестию, победу духа над грубою силою. Пользуясь суе¬
вериями невежества, католическое духовенство (уже давно
отделенное от восточной церкви) не без битв, но без славы
захватило царство всего мира, проповедуя «царство не от
мира сего». Крест стал рукоятью меча; тиара задавила
короны, и монастыри — эти надземные гробы — устреми¬
ли к нему колокольни свои, сложенные из разрушенных
замков. Со всем тем эпоха была самая драматическая, по¬
этическая: жизнь не текла, а кипела в этот век набожности
и любви, век рыцарства и разбоев. Охотничьи рога греме¬
ли в лесу без устали. Вдали роптало аббатство вечерню
звоном колоколов. Турниры сманивали воедино красоту и
отвагу. Странствующие рыцари ломали копья на всех пере¬
крестках. Барон на барона ходил войной вопреки своему
сюзерену. Зато странник смело стучался в калитку фео¬
дального владельца, садился за нижний конец его стола
и платил за гостеприимство рассказом. Бродячий певец
был необходимое лицо и на похоронах. Он выпивал чару
(эта прелюдия сохранилась очень набожно между певца¬
ми) и пел, бренча на арфе; пел романсы про битвы и
подвиги предков, про дивные приключения паладинов, про
чародеев-завистников, про похищенных красавиц, про ис¬
кушения святых угодников, которые выручали несчастных
из когтей беса или из-под колес судьбы. Но больше всего
они пели про славу и любовь, ибо все тогда любили славу
и славили любовь. Христианство вывело женщин из-за ре¬
шеток и покрывал и поставило их наравне с мужчинами.
Рыцарство возвысило их над собою и природою, сделало
из них идолов, обожало их, чуть не обожествило их.
Обеты, испытания и постоянства, едва вероятные нам,
были тогда обыкновеннее хлеба насущного. Этот духовный
союз душ, это неизменное стремление к предмету своей
страсти, это чудное свойство — во всей природе чувствовать
одно, видеть одно — не есть ли практический роман¬
тизм, романтизм на деле? Прибавьте ко всему этому
151
A. A. БЕСТУЖЕВ
установление военно-духовных орденов, проливших мрач¬
ный мистицизм на поэзию, и ужас, наведенный тайным
судилищем на всех Vehmgericht* был какой-то кошмар,
тяготевший над средними веками, какое-то подземельное
привидение, поражавшее, как разбойник, из-за угла. А про¬
клятия церкви? А инквизиция?.. Вот отчего песни труве¬
ров46, миннезингеров47, менестрелей48 так часто переходят
от звона мечей ко вздохам, от клятвы к молитве, от грусти
разлуки к бешенству гулянки, и песня их нередко замирает
недоконченная, будто они оглядываются со страхом, не
подслушивает ли их какой домовой или рассылыцик.
Но всего более на готическую литературу произвело
впечатление вторжение нордманнов (наших варягов) во
Францию, мавров в Испанию и крестовые походы.
Шайки голодных, полунагих, но бесстрашных, бешеных
славою скандинавов кидались в лодки, выбирали себе
морского царя (See Konung) и под его началом переплы¬
вали моря незнаемые, входили в первую встречную реку,
волокли на себе ладьи по земле, если нужно было спустить
их в другую реку, и по ней вторгались внутрь сильных,
обильных государств, гибли или покоряли области, сража¬
лись, не спрашивая числа, грабили, истребляли, не щадя
ни пола, ни святыни; но, взяв оседлость, укрощались ве¬
рою, хотя страсть к завоеваниям и водному кочевью долго
бросала их потомков на другие народы.
Вспомним завоевание нашей родины и Нормандии
сперва, завоевание Англии потом и частые набеги их в
Испанию, в Сицилию, в Ирландию — всюду, где была до¬
быча на приманку и вода для сплава. Скоро забыли скан¬
динавы своего Одина49, своих Валкирий50, свою валгаллу
(рай), обещанную храбрым, но дух саг их, но мыслен-
ность Севера, соединясь с остроумием и живостию фран¬
цузов, внедрялись в характер нордманнский и, переплыв за
Ламанку с Вильгельмом Завоевателем, перегорев в пламе¬
ни битв и мятежей, возникли, величественны и самобытны,
в литературе английской, которая по праву и по достоин¬
ству стала образцовою. Из этой-то амальгамы беспечного,
ветреного, легкомысленного, всегда поющего француза с
жителем угрюмого Севера, который, будучи осажден зи¬
мою в своей хижине, поневоле был загнан в самого себя
и углублялся в душу, произошел неподражаемый юмор,
* Уголовный суд (нем.) — Ред.
152
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
отличающий век наш. Стоики величались тем, что прези¬
рали страданье и смерть, — юмор делает лучше без всякой
хвастливости: он смеется в промежутках страданий и шу¬
тит над смертию, играет с петлей, нередко рискует самою
душой для острого словца. Мы воротимся к нему, ког¬
да станем говорить о стихиях романтической словес¬
ности.
Нужда выжила скандинавов из отчизны, а безумие от¬
ваги, жадность к славе влекли их к опасностям и завоева¬
ниям. Мавры были двинуты вдохновением Мугаммеда.
С кликом: «Бисмалла! Бисмалла (во имя божие)!» — во¬
рвались они в Испанию и принесли с собой Восток, во
всей изящности поэзии, архитектуры и наездничества; но,
по несчастию, просвещение халифов было не звезда, а ра¬
кета: оно изумило, пленило всех — и погасло в неразгони-
мой туче испанского невежества. Но если с падением Боаб-
дила университеты Пиренейского полуострова век от ве¬
ка погрязали глубже в болото вздорной схоластики, зато
роскошь выражений, зато новость стиля чудно привились
к европейскому романтизму, и утонченное рыцарство,
вместе с сегидиллами и романсерами52, вместе с витыми
столбами, с кружевнопрорезными башенками, со стрельча¬
тыми окнами, разлилось по всему лицу Европы.
Трудно постичь, как могли мавры-мусульмане возвы¬
ситься до такой степени чистоты в понятиях уважения
к женщинам и рыцарской чести, в чем они стали указкою
для европейцев! Впрочем, они, запирая жен своих под за¬
мок, тем не менее охочи были поволочиться за христианка¬
ми, хотя бы то была чужая жена или невеста, и так же
охотно давали серенады под окном своей Дильфериб (обо¬
льстительница сердец), как ломали копья на груди сопер¬
ников по славе или по любви. Бросая символический букет
на грудь своей любезной, мавр изъяснялся и в речи цвета¬
ми, подобиями, гиперболами. Он ввел в моду узорочья,
блестки, благовония, насечку, и скоро их калейдоскопи¬
ческая пестрота отразилась на всей поэзии Юга и Запада,
а крестовые походы сделали ее еще более общею. То была
радуга Индустана, блеснувшая в облаках Европы.
Крестовые походы были умилительное, величественное
событие. На зов бедного пустынника короли покинули
свои короны, дворяне за оружие заложили или продали
поместья, богачи роздали имения бедным или монастырям,
и целые поколения, не зная дороги, не заготовив хлеба,
153
A. A. БЕСТУЖЕВ
ринулись куда-то, восторженные духом набожности и него¬
дования, отбивать у неверных гроб господень. Стар и мал
теснилися в первый ряд на битву, восклицая: «Так хочет
бог!» И трижды обрушивалась так Европа на Азию, подоб¬
но ледяной лавине, для того чтобы растаять под жгучим
солнцем Палестины. Храбрые крестоносцы погибли все,
потеряли все, и то, что завоевали, и то, что оставили дома.
Но дело судеб божиих минуло недаром. Огромен был по¬
двиг, следствия неисчислимы. Крестовые походы дали сред¬
ства усилиться королям во время отсутствия непослушных
баронов, сплавить воедино мелкие народцы, округлить,
устроить понемножку свои королевства. Единовластие и
соединение (последствия его) бывали всегда благодетель¬
ны во времена междоусобий. Крестовые походы пресытили
духовенство окладами, возгордили его властию, проистек¬
шею из религиозного направления умов, — и все это на
пагубу себе. Разврат, лукавство, кичение, злоупотребление
исповеди и разрешений, самое богатство духовенства про¬
будили в сердцах многих народов глухое чувство нетерпе¬
ния к деспотизму совести, чувство зависти к церковным
поместьям, вырощенным потом их... То было предтечею
лютеранства, которое впоследствии раскололо на полы всю
Европу после тяжких войн и кровавых явлений. Кроме
того, не одни мощи и раковинки принес инвалид-крестоно¬
сец на родину с берегов Иордана, о нет: из тяжких похо¬
дов своих он принес семена веротерпимости. Науки раз¬
двинулись опытным познанием света. Словесность разбо¬
гатела восточными сказками, столь причудливыми, столь
замысловатыми! В них-το впервые простолюдины стали
играть роли наравне с визирями и ханами, и дворяне в
первый раз сознались вниманием своим, что и народ мо¬
жет быть очень занимателен — народ, который у себя во¬
дили они в ошейниках, будто гончих, и ценили часто ниже
гончих. Но и европейские простолюдины (им далеко еще
было до имени народа), не имевшие никаких прав, имели
свои обычаи, свои забавы, свою поэзию. Составляя часть
глыбы земли по закону, по природе они составляли часть
человечества, и хоть ползком, но подвигались вперед; жи¬
ли как вещь, но, как живая вещь, любили, ненавидели.
Мало дошло до нас старинных песен черни европейской
в первобытном виде (за исключением Британии и нашей
Руси, где народ составлял массу), но мы можем угадать
простонародное происхождение многих баллад в вычурных
154
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
стихах певцов, которые занимали основу, нередко и самые
выражения, у изустных преданий черни. Сказки зато, эта
картина, это facsimilé ума старины, быта старины, жи¬
вые еще доселе в устах простонародья, лежат бездонным
рудником для родной поэзии. Божественная поэзия! Ангел-
утешитель старины! Ты являлась везде, где только
нужно было отереть слезу или дать сладость улыбке. Ты
одушевляла на добро и славу князей гуслями певцов; ты
заставляла прыгать бедняг под липою гудком бродячего
слепца; ты убаюкивала чудесною сказкою раба на пепле
хижины, сожженной в двадцатый раз междоусобием. Ты
смешила голодных солдат своими прибаутками; ты броса¬
ла символы свои во все обряды важных случаев жизни;
засыпала радужным песком крючковатое маранье (grimoi¬
re) приговоров. Ты населяла даже запечье и подполье
резвыми жильцами, давала голос бутылке шинкаря, пес¬
ню — оковам узника, блеск — топору казни. Ты была вез¬
де, украшала все; ты вила струны свои то из цепочки
паникадила, то из тетивы, то из удавки. Простой народ
почти всегда сохранял эту поэзию, но мы к ней только что
возвращаемся; и слава богу! Лучше потолкаться у гор на
масленице, чем зевать в обществе греческих богов или с
портретами своих напудренных предков.
Между тем как дробные и большие владельцы тормо¬
шили друг друга, между тем как святые войны укликали
их за тридевять земель, возникала и крепла в Европе со¬
вершенно незнаемая в древности стихия гражданствен¬
ности — стихия, которая впоследствии поглотила все про¬
чие, — я говорю о мещанстве, bourgeoisie. Купцы и ремес¬
ленники, обыкновенные жильцы городков, желая собствен¬
ного суда и расправы, покупали право на оные у своего
владельца деньгами или услугами, а иногда, чувствуя себя
в силе, возмущались просто, прибегали под защиту какого-
нибудь соседнего владельца или епископа и дрались на¬
смерть с теми, которые хотели по праву или по прихоти
покорить их вновь; лукавили, ползали в бессилии и мя-
тежничали опять до тех пор, пока сила какого-нибудь ко¬
роля Не уничтожала их дотла или сила обстоятельств не
отстаивала до поздних времен. Случалось, что одна только
часть города получала или брала право общины, отделя¬
лась стеной и нередко вела войну с соседями. Случалось,
что сами короли производили деревни в слободы и города
в общины для населения их после язвы или разорения от
155
A. A. БЕСТУЖЕВ
врагов. Как бы то ни было, но эти коммюни (communes) не
походили ни на Рим, ни на Спарту, где город был государ¬
ство, ни на Лондон и Париж, где город — столица госу¬
дарства, ни даже на Тир, на Карфаген, на наш Новгород,
которые владели областями, имели отдельный полити¬
ческий быт; это были просто города, иногда с неограни¬
ченным самоуправством внутри и часто без выгона за сте¬
ною. Но в стенах всех городов вообще, и вольных в осо¬
бенности, кипело бодрое, смышленое народонаселение,
которое породило так называемое среднее сословие. Не
имея пяди земли, оно завладело силами и произведениями
природы, наняло труды человека, отдало внаем свои способ¬
ности. Оно дало купцов, ремесленников, художников, уче¬
ных, надело рясу священника, парик адвоката и судьи, на¬
хлобучило шапку профессора, переоделось в пеструю куртку
странствующего комедианта; но всего важнее: оно да¬
ло жизнь писателям всех родов, поэтам всех величин, авто¬
рам по нужде и по наряду, по ошибке и по вдохновению.
В них замечательно для нас то, что, родясь в эпоху мяте¬
жей и распрей, в сословии мещан, в сословии, понимаю¬
щем себе цену и между тем униженном, презираемом
аристократиею, которая в те блаженные времена считала
все позволенным себе в отношении к нижним слоям обще¬
ства, — авторы воспитали в своей касте и сохранили в сво¬
их сочинениях какую-то насмешливую досаду на вельмож
и на дворян. Они сторицею отплатили им равно за на¬
смешки и подачки, гораздо обиднейшие насмешек. Не мог¬
ши ступить за китайскую стену благородства, которую
сторожили могилы по крайней мере двенадцати поколений
(quartieri), авторы бросали чрез нее стрелы сатиры, ко¬
медии или эпиграммы, толковали сельской и городской
черни об обязанностях господ, а между тем дух времени
работал событиями лучше, нежели все они вместе. Изобре¬
тение пороха и книгопечатания добило старинное дворян¬
ство. Первое ядро, прожужжавшее в рядах рыцарей, ска¬
зало им: «Опасность равна для вас и для вассалов ва¬
ших». Первый печатный лист был уже прокламация
победы просвещенных разночинцев над невеждами дворян¬
чиками. Латы распались в прах. Ковы и семейные тайны
знатных стали достоянием каждого. Дух зашевелился вез¬
де: он рвался на простор, оттого что телу пришлось черес¬
чур тесно. Открыли Новый Свет; новый волкан потряс
Европу, утомленную папизмом, Войны протестантов на
156
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
поле и на кафедре проявили духовность христианской рели¬
гии во всей ее чистоте, а переводами на народные языки
книг священного писания она впервые стала знакома на¬
роду. С этих пор пророческий мистицизм, восточная
роскошь описаний, иносказания и торжественность языка
завледели всею поэзиею: мир Библии ожил под кистью
Рафаэля, под пером Мильтона, отразился во всем и везде.
Можно сказать: с той поры не преставала явная борьба
двух начал политических, принявших на себя сперва
краску религиозного фанатизма, а потом литературной
исключительности. Реформаты отвергли католичество, от¬
того что оно впало в вещественность и вмешалось не в свои
дела, захватив чужое добро. Мы сбрасываем с себя клас¬
сицизм, как истлевшую одежду мертвеца, в которую хоте¬
ли нарядить нас. И ничего нет справедливее: дуб — пре¬
красное дерево, слова нет; но дубовый пень — плохая
защита от солнца. Зачем же вы привязываете детей к гни¬
лушке, когда они могут найти прохладу под кудрявою бе¬
резкою? Для живых надо живое.
Со всем тем эпоха возрождения наук и художеств не
понимала таких полновесных истин и, восхищенная наход¬
кою знаменитых произведений древности, уверила себя,
что они безусловный образец изящного и что, кроме их,
нет изящного. Затем она принялась подражать до упаду
грекам, а пуще того римлянам, которые сами передразни¬
вали греков. Притом латинский язык был наречением ве¬
ры и чрез духовных, служивших за секретарей, стал наре¬
чием прагматики; он же был и ходячею монетою всех учи¬
лищ. Ученый не смел говорить иначе, как по-латыни, а
писать и подавно, хоть от его вандало-римского языка Ци¬
церон и в могиле зарылся бы вглубь сажени на три. Так
было везде для ученого класса, или, яснее сказать, для
педантов; но даровитые умы срывались со смычка, на ко¬
торый их спаривала с Аристотелем свинцовая схоластика,
и пробивали новые тропы в области прекрасного. Одна
Франция, имевшая столь обширное влияние на всю Евро¬
пу и в особенности на словесность нашу, Франция живая,
Франция вертляная, Франция, у которой всякий вкус за¬
горается страстью, — постриглась в монахини и заживо за¬
муровала свой ум в гробовые плиты классицизма. В то
время как Италия владела уже Дантаном, одним из самых
творческих, оригинальных гениев земли; когда Кальдерон
населил испанскую сцену драмами, полными огня и про¬
157
A. A. БЕСТУЖЕВ
стоты; когда Камоэнс выплыл на доске с разбитого кораб¬
ля, держа над головою свои «Лузитан»5 ; когда Англия,
в мятеже волн и междоусобий, закалила дух Шекспира,
великого Шекспира, который был сама поэзия, весь вооб¬
раженье... эолическая поэзия Севера, глубокомысленное
воображение Севера... в то время, говорю, Франция наби¬
вала колодки на дар Корнеля и рассыропливала Расина
водой Тибра с оржадом54 пополам. Пускай бы еще она изо¬
бражала древний мир, каков он был в самом деле, — но она
не знала его, еще менее понимала. Французы нарумянили
старушку древность красным-красно, облепили ее мушка¬
ми, затянули в китовые усы, научили танцевать менуэт,
приседать по смычку. Бедняжка запиналась на каждом ша¬
гу своими высокими каблучками, путалась в хвосте платья,
заикалась цезурами сверх положения, была смешна до жа¬
лости, скучна как нельзя более. Но зрителей и читателей
схватывали судороги восторга от маркизов Орестов, от
шевалье Брютюс, от мадам Агриппины , лиц очень почтен¬
ных, впрочем, и весьма исторических притом, которые по¬
сменно говорили проповеди александрийскими стихами и
обеими горстьми кидали пудрой, блестками и афоризмами,
до того приношенными, что они не годились даже на эпи¬
графы. Да одних ли древних переварили французы в своем
соусе? Досталось всем сестрам по серьгам. И дикая амери¬
канка, и турецкий султан, и китайский мандарин, и ры¬
царь средних веков — все поголовно рассыпались конфета¬
ми приветствий, и все на одну стать.
Зажмурьте глаза — и вы не узнаете, кто говорит:
Оросман или Альзира56, китайская сирота или камер-юн-
кер Людовика XIV. Малютку природу, которая имела
неисправимое несчастие — быть не дворянкою, по пригово¬
ру Академии выгнали за заставу, как потаскушку. А здра¬
вый смысл, точно бедный проситель, с трепетом держался
за ручку дверей, между тем как швейцар-классик пав-
линился перед ним своею ливреею и преважно говорил
ему: «Приди завтра!» И так долго не пришло это завтра,
а все оттого, что французы нашли божий свет слишком
площадным для себя, живой разговор слишком просто¬
народным и вздумали украшать природу, облагородить,
установить язык! И стали нелепы оттого, что чересчур
умничали.
Чудное дело: французы, столь охочие посмеяться и по¬
шалить рсегда, столь развратные при Людовике XV и да¬
158
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО « КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
лее, словно вместо епитимьи становились важны, входя в
театр, стыдились услышать на сцене про румяны и слово
обед изъясняли перифразами, как неприличность! Фран¬
цузы, столь пылкие, столь безрассудные в страстях, восхи¬
щались морожеными, подкрашенными страстями, не имев¬
шими в себе не только правды, но даже и правдоподобия!
Французы, у которых так недавно были войны Лиги, Вар¬
фоломеевская ночь, аква-тофана и хрустальные кинжалы
Медицисов, пистолет Витри и нож Равальяка57, у кото¬
рых резали прохожих на улицах среди белого дня и разби¬
вали ворота ночью запросто, — на театре боялись брызги
крови, капли яду, прятали все катастрофы за кулисы, и
вестник обыкновенно выходил рапортовать о них барабан¬
ными стихами. Мало этого: не смея драться перед зрите¬
лями, французские герои не смели ни поесть, ни вздрем¬
нуть, ни побраниться перед ними*, — котурны поднимали
их до облаков. Кроме того, Аристотелева пиитика, растол¬
кованная по-свойски, хватала вас за ворот у входа и реве¬
ла: «Три единства или смерть! Признавайтесь: исповедуе¬
те ль вы три единства?!» И, разумеется, вы крестились
и говорили: «Да разве я, как гриб, вырос под сосною!
Разве я не сидел на школьной лавке!» И вот вас впускали
в театр; и вот вам заказывали накрепко сморкаться и
кашлять; и вот вам говорили: «Эта запачканная зана¬
веска— храм эвменид или дворец тирана (имярек), дей¬
ствие не продолжится более суток (скомканных в четыре
часа, не исключая и междудействий) ; а всего покойнее, что
оно не укатится далеко, и будьте вы хоть подагрик, все-
таки догоните его, не задыхаясь». Жалкие мудрецы! И они
еще уверяли, что вероятность соблюдена у них строго...
Как будто без помощи воображения можно забыться в их
сидне-театре более, чем в английском театре-самолете, не
скованном никакими условиями, никакими приличиями,
объемлющем все пути, всю жизнь человека! Неужто легче
поверить, что заговорщики приходят толковать об идах
марта58 в переднюю Цезаря, чем колдованью трех ведьм на
поляне? Ужели воображение, как извозчик, нанимается
только на день и боится перейти через улицу, чтоб не по¬
лучить насморка? Ужели оно лучше поймет напыщенный,
* Что вытерпел Корнель, позволив в своем «Сиде» пощечину... Воль-
терова Мариамна упала оттого, что какой-то шалун закричал при отрав¬
лении: «La reine boit!» («Королева пъет\» (франц.) ).
159
A. A. БЕСТУЖЕВ
чопорный, условный язык, которым не говорила ни одна
живая душа, нежели обычное между людьми наречие?
Как ни противуестественно все это, но все это сохрани¬
лось в целости до 1820 года. Франция побыла республи¬
кою, побыла империею; революция перекипятила ее до
млада в кровавом котле своем, но старик-театр остался тем
же стариком. Ломая алтари, Франция не тронула точеных
ходулей классицизма; она отрекалась от веры и осталась
верна преданиям Батте, стихам Делиля59, так что когда
русский казак сел на даровое место в Одеоне в 1814 году,
он зевал от тех же длинных, длинных монологов, от кото¬
рых зевать изволил и Людовик XIV, с тою только разни¬
цею, что революционер Тальма осмелился не петь, а гово¬
рить стихи, проглатывать цезуры и ходить по-человечески,
а не гусиным шагом60.
Но не вся литература французская катилась по теат¬
ральной колее. Смерть Людовика XIV выпустила на волю
умы и нравы. Придворное волокитство превратилось в
разврат, ханжество — в вольнодумство. Материализм за¬
кабалил философию. Рабле, проницательный ловец слабо¬
стей общества, и Монтань, глубочайший исследователь сла¬
бостей человека, оба романтики первой степени, — были за¬
быты. Мольер и Лафонтен, два гения, которые посреди
всеобщего лицемерства и ползанья умели сохранить ис¬
кренность и смели говорить правду, — пошли за бесцен.
Вольтер, с дружиною энциклопедистов, овладел всем вни¬
манием Европы, Вольтер, который был трибуном своего
века, представителем своего народа. Гордый ползун, льстец
и насмешник вместе, скептик по рождению и остроумец
по ремеслу, он первый своими сказками научил воль¬
нодумство наезднической стрельбе насмешками. Вольтер
был Диоген XVIII века61, но Диоген-неженка, Диоген с
ключом на кармане, Диоген, который не только смеялся
над людьми и богами, но льстил богу и людям.
Как ни велика была, однако ж, власть Вольтера, даже
у нас, где иные до сих пор считают его, жалкого болтуна,
величайшим философом, Вольтер не опередил своего века.
Своевольный, оригинальный в родах сочинений, им со¬
зданных, он от души копировал в «Ганриаде» древнюю
эпопею, смеялся над мужиком Шекспиром и, не веря ниче¬
му, набожно веровал в предания французского театра.
Можно судить, что он был по плечу своим современникам,
когда Академия избрала его в свои члены — за «Орлеан¬
160
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
скую деву», поэму, пятнающую век свой! И Франция руко¬
плескала этой поэме, в которой он волочил по грязи священ¬
ное имя Иоанны д’Арк и отдавал посмеянию чистейшую
славу ее предков!
Но романтизм имел представителя и в эту пору ве¬
щественности: то был независимый чудак Руссо. До него,
около него в поэзии ученые не видали ничего выше греков
и римлян, — идеал совершенства был у них назади. За уто¬
пией рылись они в земле, а не в небе. Напротив, блестя¬
щий сон Руссо, увлекательный парадокс Руссо, отверг не
только все обычаи общества, но извратил и самую природу
человека: создал своего человека, выдумал свое общество.
Правда, подобно Платону, он заблудился в облаках, он не
достиг истины, главного условия поэзии; но он искал ее,
он первый, хотя и в бреду, сказал, что мир может быть
улучшен иначе, как есть, иначе, как было. Дон-Кихот уто¬
пии, он ошибся в приложении; но начала его были верны.
Поэт без рифм, мыслитель без педантства, он оставил зве¬
но между материализмом века и духовностию веков.
Но современники не могли постичь в Руссо борения
двух этих сил, не умели оценить его искренности: они за¬
слушивались только гармонии его красноречия, выписыва¬
ли страницы из «Элоизы»62 в свои billets doux* — и от¬
правлялись в маленький домик, на свидание с какой-ни-
будь маленькой маркизою. Откупщики доживали тогда
остальные миллионы, аристократия — последний кредит
свой, но все звенело, все прыгало: деньги и люди; система
Лау изображала золото, которого уже не было63, титу¬
лы — достоинства, которые исчезли; литература стала ме¬
лочна, как люди, бесстыдна, как люди. Кребильон-сын64
и подражатели Грекура65 (я беру только фланговых) бы¬
ли достойными историками этой поры холодного, жеманно¬
го разврата, с насмешкою на устах, с носом на ветер, с
грудями напоказ... Не наше дело исследовать грозу, вско¬
лебавшую всю Европу до дна и надолго; но долг наш
заметить, что в последние годы перед революцией нача¬
лось переселение мнений, и центром его была Франция,
а проводником его — французский язык.
Материальная Европа хлынула в Россию, когда Петр
Великий сломал стену, их делившую; но веку Петра неко¬
гда было заниматься словесностию: его поэзия проявлялась
* Любовные записки (франц.). — Ред.
161
A. A. БЕСТУЖЕВ
в подвигах, не в словах. Долгое бездействие пало на Русь
с кончиною его кипучей деятельности, а в час досуга рус¬
ский барин любил чужестранные сказки; он искони отли¬
чался необыкновенною уступчивостию своих нравов, нео¬
быкновенною приемлемостию чужих. Он пил кумыс с ха¬
нами Золотой Орды; он носил контуш66 при Самозванце.
За* бороду, правда, он спорил долго, будто б она приросла
у него к сердцу; но раз в мундире — он грудью полез
в немцы. При Елисавете французские нравы сменили
обычаи Бирона, — русский барин не остался и тут назади,
так что в царствование Екатерины смешение языков гаскон-
ского с нижегородским не было уже диковинкою. С тех-то
пор привыкли мы жить парижскими обносками и объедка¬
ми, не разбирая старого от нового, хорошего от худого.
С тех-то пор французская литература завалила матушку
Русь своими обломками и своими потомками. С приторною
французскою кухнею въехали к нам и герои французского
стряпанья. Бульон (не граф Бульон) и галантин выставле¬
ны были на одном паспорте с Нарцессом и Клелиею, рагу
и фрикасе нагрянули об руку с Полифонтом и Нероном
тиранами желудка и терпения в четырех лицах. Зефиры
и Адонисы, Оронты и Селимены, сахарные голубки и ро¬
зовые барашки переложены были чепчиками и робронами.
Мраморная челядь Олимпа, оборвыши со всей Италии, за¬
мыкали шествие. Но пусть бы уж вытерпели мы одну ску¬
ку от настоящих и переделанных на русские нравы Крис-
пинов, Валеров67, от злодеев и наперсников, которые при¬
ходятся ко всем лицам, как винты Систербецкого завода68
ко всем гайкам. Пускай бы уж осуждены мы были слушать
ухорезную французскую музыку, питаться соусами-мик-
стурами, слоняться по стриженным в виде грибов аллеям
Ленотра69, любоваться пестрядинными картинами Ван-
лоо70. Так нет, Франция XVIII века наводнила нас песня¬
ми, гравюрами и книгами, постыдными для человечества,
гибельными для юношества выдумками, охлаждающими
сердца к доблестям старины, лишающими собственного
уважения. Эти-то отвратительные подстрекания убивали в
цвету лучшие надежды России, ставя целью бытия живот¬
ные наслаждения, внушая неверие или, что еще хуже, рав¬
нодушие ко всему благородному в человеке, ко всему свя¬
щенному на земле!..
Краснея как русский, упоминаю (вспоминать я, слава
богу, не могу) про эту эпоху графинек и князьков, мушек
162
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
и фижм, привозных романчиков в двенадцатую долю и
связей на три часа, не имевших извинением ни любви, ни
пылу, ничего, кроме моды, — связей, не посыпанных даже
блестками французского остроумия! — эпоху, в которую
городское дворянство наше так же усердно старалось выка¬
зывать свою безнравственность, как в другое время ее пря¬
чут, в которую продажность гуляла везде без укора или
скрывалась без труда!! Довольно, и через край, золотили
мы прошлый век свой — время наперекор нам съедает
эту сусальную позолоту... Старички ахают, заводя слово
о тогдашних весельях, о дешевизне, о легкости жить
и служить! Надо знать (не к тому будь сказано): каково
отозвалось это деткам? Они выплачивают долги их и апте¬
ке и ломбарду за их безрасчетную роскошь на именье, на
здоровье, на самую доброту. Эмигранты отдарили нас за
гостеприимство не одною своею ничтожностию и безгра¬
мотными гувернерами, но профилями своими, но и пудами
сублимату, но и душегубными книжонками, с которых пе¬
реводы таятся доныне в углах наших уездных библиоте¬
чек, на соблазн внукам. Кто, однако ж, выследил пути
провидения, кто? Может быть, оно нарочно дает грязному
ручью пробраздить девственную землю, чтобы в его ложе
бросить по весне многоводную реку просвещения!..
И не одна мода была причиною пристрастия русских
к французской литературе, но и потребность. По моде я
могу пить лимонад вместо квасу, но жажда тем не менее
существует во мне, независимо от подражания или при¬
вычки. Жажда чтения пробудилась и в русских с начатком
просвещения; а из какого источника могли они скорей все¬
го утолить ее, как не из самого подручного? Свое не было
еще создано или таилось забыто! Англия для нас лежала
тогда на дне моря-океана, Германия была еще неметчиною
(то есть бессловесною) не для одних нас, древность пела
Лазаря в одних семинариях, и Тредьяковский отпугнул
русских надолго от гекзаметров и древних своими попыт¬
ками. Ломоносова, правда, хвалили все... и никто не чи¬
тал!.. Публика экспликовала свою десперацию7\ что ей
нечего читать. Аттенция72, с которой она приняла Курга¬
нова письмовник73, ободрила писак на дальнейшие подви¬
ги, и вот Скюдери обновилась для нас в Федоре Эмине,
Реньяр назвался Княжниным74, трагедия завыла Сумаро¬
ковым, эпопея отпела себя в Хераскове. И вдруг из этого
моря миндального молока возник огнедышащий Державин
163
A. A. БЕСТУЖЕВ
и взбросил до звезд медь и пламя русского слова. Само¬
родный великан этот пошел в бой поэзии по безднам, на¬
двинул огнепернатый шлем, схватив на бедро луч солнца,
раздавливая хребты гор пятою, кидая башни за облака.
Философ-поэт, он первый положил камень русского роман¬
тизма не только по духу, но и по дерзости образов, по
новости форм. Прочтите его «Ласточку», его оду «Бог»,
его оду «К счастию», его «Фелицу», «Вельможу», «Водо¬
пад» — и вы назовете их романтическими поэмами. Его
восторг сплавлен всегда с грустною мечтательностию.
Но едва ли успех Державина заключался в его таланте.
Все поклонялись ему, потому что он был любимец Екате¬
рины, потому что он был тайный советник. Все подражали
ему, потому что полагали с Парнаса махнуть в следующий
класс, получить перстенек или приборец на нижнем конце
вельможи или хоть позволение потолкаться в его прихо¬
жей... Все читали Державина — очень немногие понимали.
Публике нужна была словесность для домашнего обихо¬
да... И вот Богданович промолвился очень мило своею «Ду¬
шенькою». И вот Фонвизин замеденил для потомства лица
своих современников-провинциалов. И вот явился Дмитри¬
ев с легким стихом, с летучим рассказом, с наречием лучшего
общества, кое-где с прозеленью народности. Но почти весь
он состоял из переводов. Наконец, блеснул образователь
нашей прозы Карамзин. Судьба дала ему две почти не¬
совместные для других выгоды: внушить в русских роман¬
тическую мечтательность и потом заставить их полюбить
родную историю; возбудить страсть к самым положитель¬
ным изысканиям, как будто предвещая собой двойственное
направление века, которому предшел он. Гравировка нача¬
лась у нас лубочными картинками Спасского моста75, зна¬
комство с немецкою словесностию — драмами Коцебу.
Мещанство их не испугало нас (династия Атридов не
крепко въелась в наши нравы). Понравилось нам и по¬
смеяться сквозь слезу, — это так близко к природе. Тогда
Коцебу и Жанлис уже начали вводить в моду ложную
чувствительность, аханье над пустяками, слезы участия
для слабостей любви, именно для слабостей, — огня страс¬
тей, яду страстей они не знали. Карамзин привез из-за
границы полный запас сердечности, и его «Бедная Лиза»,
его чувствительное путешествие, в котором он так неудач¬
но подражал Стерну, вскружили всем головы. Все завздыха¬
ли до обморока; все кинулись ронять алмазные слезы на
164
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
ландыши, над горшком палевого молока, топиться в луже.
Все заговорили о матери-природе, — они, которые видели
природу только спросонка из окна кареты — и слова чув¬
ствительность, несчастная любовь стали шиболетом76, ло¬
зунгом для входа во все общества.
Вопреки этому безвременному расслащенному верте-
ризму, занятому по передаче от немцев, XIX век взошел
не розовою зарею, а заревом пожаров; но Русь еще дрема¬
ла, русская словесность еще пережевывала Мармонтеля и
мадам Жанлис. Один только самобытный, неподражаемый
Крылов обновлял повременно и ум и язык русский во всей
их народности. Только у него были они свежи собствен¬
ным румянцем, удалы собственными силами. Он первый
показал нам их без пыли древности, без французской
фольги, без немецкого венка из незабудок. Мужички его —
природные русские мужики; зверьки его с неподкрашен-
ною остью . Счастливцы мы: Крылов и XIX век были на¬
шими крестными отцами! Первый научил нас говорить
по-русски, второй — мыслить по-европейски. Тогда Дер¬
жавин уже дотлевал между новыми развалинами любите¬
лей русского слова. Дмитриев молчал уже; Карамзин еще
писал только свою «Историю». Один Крылов был достой¬
ным представителем словесности нашей.
Между тем Европа проживала века в немногие годы.
Русь везде простирала меч свой между деспотизмом Напо¬
леона и правами народов, которым грозил он; сражалась
за них... всегда благородно. Купчиха Англия стреляла
чугуном, и золотом, и пасквилями в великана, который
обещал согнать ее с земного шара. Только Германия, уле¬
тев из житейской жизни, углубясь в умозрительные тонко¬
сти, прислушивалась к гармонии сфер и, подобно Архиме¬
ду, не слыхала, что враги берут приступом ее священные
твердыни. Англия давно имела свою огромную оригиналь¬
ную поэзию, но она жила с нею посреди волн и туманов,
одиноко, как отшельник, счастливый миром дивных мечта¬
ний, в груди его совершающихся. Мир этот долго жил без
отголоска в нашем мире, покуда гений Шиллера не угадал
его девственной прелести и не усвоил немецкой словеснос¬
ти романтизма Шекспирова во всей величавой его просто¬
те. Пред ним, за ним, рядом с ним закипела словесность,
история, философия, критика новыми, смелыми, плодот¬
ворными идеями, объяснившими человечество, раздвинув¬
шими ум человека уже не бедным опытом, как прежде,
165
A. A. БЕСТУЖЕВ
но пытливостию воображения. Тогда же блеснул и Гете,
который собрал в себе ярким светилом все лучи просвеще¬
ния Германии, который воплотил, олицетворил в себе
Германию, мечтательную, полуземную Германию, вечно
колеблющуюся между картофелем и звездами, Германию,
которой половина в пыли феодализма, а другая — в обла¬
ках отвлеченности*, Германию, простодушную до смеха и
ученую до слез, Германию всеобъемлющую, вселюбящую,
всезнающую, все, начиная с фиглярств Изидина храма до
замыслов Розенкрейцеров, от символизма «Зенд-Авесты»
до магнетизма земли78.
Все, что создали гении германские для памяти, для
умозрения, для воображения, совместилось в Гете. Все яр¬
кое в мире отразилось в его творениях, все... кроме чувств
патриотизма, — и этим-то всего более осуществил он в се¬
бе Германию, которая вынула из человека душу и рас¬
сматривала ее отдельно от народной жизни, анатомирова¬
ла законы природы без отношения их к человеку. Фауст
есть фокус гения Гете, точно так же, как сам он был фо¬
кусом просвещения и духа германского.
Но Германия, истощенная умственным усилием ее ге¬
ниев по всем отраслям точного и прекрасного, гениев, ко¬
торые каким-то чудом взошли дружными созвездиями
вдруг на горизонте прошлого полустолетия, упала в дремо¬
ту и, воротясь из всемирного облета, уселась за частности,
за быт запечный, нарядилась в alte deutsche Tracht*, за¬
играла на гудке сельскую песню, зафилософствовала на
старый лад с Гегелем, затянула с Уландом про что-то и
нечто, превратилась в лепет засыпающего. В эту-то эпоху
застал ее Жуковский и, плененный чистою мечтатель-
ностию Шиллера и легендами немецкой старины, пере¬
садил романтизм в девственную почву русской словеснос¬
ти. Но он пересадил только один цветок его, один из не¬
объятной его природы. Еще Русь отзывалась грустными
напевами Жуковского, еще перед очами нашими носились
туманные образы его поэзии, еще сердце теплилось его не¬
земною любовью, его отрадными надеждами замогильны¬
ми, когда блеснул Александр Пушкин, резвый, дерзкий
Пушкин, почти ровесник своему веку и вполне родной
своему народу. Овладев языком, овладеваем страстями до
глубины души, он скоро мог сказать вниманию публики:
* Древненемецкие одежды (нем.) — Ред.
166
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
«Мое!» Сначала причудливый, как Потемкин, он бросает
жемчуг свой в каждого встречного и поперечного; но, за¬
платив дань Лафару и Парни, раскланявшись с Дон-Жуа-
ном, Пушкин сбросил долой плащ Байрона и в последних
творениях явился горд и самобытен. Но я не раскинусь в
обзоре ни о Державине, ни о Жуковском, ни о Пушкине;
да и зачем бы я стал пересказывать то, что так дельно,
так беспристрастно, так увлекательно высказано в «Те¬
леграфе», журнале, которым должна гордиться Россия,
который один стоит за нее на страже против староверства,
один для нее на ловле европейского просвещения!
Впрочем, имея целию заметить, какое влияние произво¬
дила действительность на поэзию и как высказывались века
поэтами, я не поставлю Державина на одну доску с Жу¬
ковским и Пушкиным, потому что первый изумил всех,
подобно комете, но исчез в пучине воздуха без следа; а
два последние были двигателями нашей словесности и за¬
таврили своим духом целые табуны подражателей. Народ¬
ность Державина ускользнула от его близоруких современ¬
ников точно так же, как незаметно протекла чистота язы¬
ка Ломоносова прежде, и Державин, несмотря на ливень
торжественных од, умер без наследников, даже без подра¬
жателей.
Жуковский и Пушкин, напротив, при жизни своей
увлекли в свою колею тысячи, но увлекли нечаянно, не¬
умышленно, так сказать гусаром*. Тьма бездарных и полу-
дарных крадунов певца Минваны79 сделались вялыми пев¬
цами увялой души, утомительными певцами томности, бли¬
зорукими певцами дали. И потом собачий вой их баллад,
страшных одною нелепостию, их бесы, пахнущие кренде¬
лями, а не серою, их разбойники, взятые напрокат у
Нодье, надоели всем и всякому не хуже нынешней гомео¬
патической и холерной полемики. С другой стороны, гяу-
ризм и донжуанизм, выкраденный из карманов Пушкина,
разменянный на полушки, разбитый в дробь, полетел изо
всех рук. Житья не стало от толстощекой безнадежности,
от самоубийств шампанскими пробками, от злодеев с би¬
ноклями, в перчатках glacés**; не стало житья от по¬
хмельных студентов, воспевающих сальных гетер Фонар¬
* Бильярдное выражение. Когда безрасчетным ударом игрок поло¬
жит в лузу шар, в который не метил, это называется — гусар. —
Примечание для прекрасного пола.
** Лайковых (франц.).— Ред.
167
A. A. БЕСТУЖЕВ
ного переулка. Но как бы то ни было, мы перестали играть
в жмурки с мраморными статуями, и роковое слово — ро¬
мантизм:! — было произнесено. Оно раздалось выстрелом.
Надо было видеть, как встрепенулся тогда старикашка-
классицизм от дремы на своей кафедре, источенной чер¬
вями. «К перу! к перу!» — возопиял он гласом велиим и,
наточив указку, потащился в бой с романтиками. Должно
признаться, что бескровный бой этот был очень смешон.
Старики не постигали древних; молодежь толковала о но¬
вых писателях понаслышке. Одни задыхались под ржавы¬
ми латами, другие не умели владеть своим духовым
ружьем.
Стыдно, право, упоминать, что писали те и другие в
обвинение друг друга! Но молодежь между тем понемнож¬
ку училась, кой-что вычитала, — а старички наши только
упирались; конец можно было предвидеть: фарфоровый
Голиаф80 брякнулся оземь.
И весь... ща там образ напечатал81.
Романтизм победил, идеализм победил, — и где ж было
воевать пудре с порохом? Но не будем самолюбивы. Не
наши силы, не наши познания были виною такой побе¬
ды — далеко нет! Нас выручило время, единственный в
свете старик без предрассудков, старик, который вечно ба¬
лует молодежь и шалит с нею заодно. Мы не приняли
романтизма, но он взял нас с боя, завоевал нас, как тата¬
ры, так, что никто не знал, не видел, откуда взялись они.
Он скитается между нами, этот вечный жид; он уже
строит свои фантастические замки, а мы все спорим, су¬
ществует ли он на свете, и, вероятно, не ранее поверим,
что он получил русское гражданство и княжество, как про¬
читав это в «Гамбургском корреспонденте».
Вместе с появлением у нас германской мечтательности
и английского сплина еще пожаловал на святую Русь
нежданный, но милый гость: я говорю об историческом
романе. Гений Вальтера Скотта угадал домашний быт и
вседневный ум рыцарских времен, точно так же как Гиб¬
бон постиг их быт политический, как Нибур выкопал Рим
царей из-под тройной лавы консульства, императорства и
папства82. Да, Вальтер Скотт спрыснул их живой водой
своего творческого воображения, дунул им в ноздри, ска¬
зал: «живите», — и они ожили, с румянцем на щеках, с
биением действительности в груди. Это не выходцы из
168
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
могил с прахом тления на теме, не тень Саула в общем
смертном мундире, то есть в саване; напротив, это живые
люди, с их мелкими страстишками, с их поверьями, с их
обычаями, с любимыми их приговорками. Он распахнул
перед нами старину, но не ее подвинул к нам, а нас пере¬
нес в нее, заставил нас любить, драться, буянить, пить,
трусить вместе с своими героями и за своих героев. Конеч¬
но, в таможенном значении слова, Вальтер Скотт не ро¬
мантик по предмету, но он романтик по изложению, по
формам, по стерновскому духу анализа всех движений
души, всех поступков воли. Он не говорит, как идеалист:
почему? Но он говорит потому и потому-то. Самая точка
воззрения на старину доказывает, что он поэт, — этого
довольно. Поэт в наш век не может не быть романтиком.
Континентальная система83, запиравшая Европу от
Англии, рухнула вместе с Наполеоном и в литературном
отношении. По закону равновесия гидростатики, англий¬
ская и немецкая мысленность пролились во Францию, как
скоро опал вихорь, мешавший им прийти в уровень. Бурун
от этого тройственного борения был страшный, потому что
под именем романтизма и классицизма там сражались по¬
литические и религиозные партии. Сила, соединенная с
убеждением, решила бой там; в этом наше дело сторона;
но забудем ли, что мадам Сталь первая ввела в гостиную
Франции германскую музу, а Вальтер Скотт заманил
французов в знакомство с Шекспиром, разлакомил их сво¬
ими досказками к истории и внушил Баранту его роман¬
тическую летопись84. Одним словом и наконец, Вальтер
Скотт решил наклонность века к историческим подроб¬
ностям, создал исторический роман, который стал теперь
потребностию всего читающего мира, от стен Москвы до
Вашингтона, от кабинета вельможи до прилавка мелочного
торгаша.
И вы думаете, что это сделалось людьми и вдруг?
Montaigne eût dit: «Que sais-je?», et
Rabelais: «Peut-être».
V. Hugo**5.
Я не скажу ни того, ни другого, потому что я думаю
иначе, потому что я верю в то, что обдумал...
Изысканность европейская, оседлав газ и пар, искрес¬
тив облака и океаны, открыла новые миры и в области
* Монтень сказал: «Что знаю я?», а Рабле «Может быть». — В. Гюго.
169
A. A. БЕСТУЖЕВ
мысления, и в пыли забвения. Чем далее пронзал взор ее
туман будущего, тем вернее, тем глубже мог он проницать
и в минувшее. Зрение расширяется во все стороны: это
закон природы. Нибелунги, благодаря кропотливости,
освободились из подземелья Сен-Гальского монастыря86.
Обновилась «Эдда»87 скандинавов; нашелся «Артус» и
другие карловингские поэмы89. Гебер открыл индийскую
«Илиаду» , а Карей, Шези, Козегартен, Вильсон растол¬
ковали ее. Мы, русские, выкопали свою прелестную жем¬
чужину — «Песнь о полку Игореве»... Мог ли же русский
свежий народ быть чужд этого движения? Мог ли он не
подумать об истории, он, который так славно, так беско¬
рыстно работал для истории? Карамзин заохотил нас к
преданиям нашей старины; археологические попытки со¬
брали кой-какие элементы для романа. Исторические по¬
вести Марлинского, в которых он, сбросив путы книжного
языка, заговорил живым русским наречием, служили
дверьми в хоромы полного романа... Любопытство было
напряжено тем сильнее, что Пушкин только дразнил его
главами «Онегина», что на театре не было ничего, кроме
битых-перебитых водевилей с французского, только из
учтивости называемых двусмысленными. И вот выискался
наконец человек, который решился прыгнуть в разверстую
пасть крокодила — публики. Это был Булгарин.
Господин Булгарин исполнил этот подвиг так же удачно,
как смело. Зависть, возбужденная его «Дмитрием Само¬
званцем», доказала, что в нем были достоинства; но ска¬
жем правду: в нем он подарил нас европейским — не рус¬
ским романом. Труд его, конечно, заслуживает одобрение
современников, но едва ль врежется в память потомства,
оттого что автор не постиг духа русского народа, не догля¬
дел того, что не народ, а вельможи подкопали трон Году¬
нова, что не любовь к Рюриковичам, а зависть бояр
к власти недавнего товарища была причиной успехов Ди¬
митрия. Не Русь, а газетную Россию изобразил нам он.
Мастер в живописи подробностей, естественный в тенье-
ровских сценах91, он натянут там, где дело идет на чувства,
на сильные вспышки страстей. Характер Годунова очернен,
характер самозванца не выдержан, а государственные лю¬
ди его чересчур просты и трусливы: им ли быть советника¬
ми или врагами царей, главами заговорщиков, виновника¬
ми переворотов! Потом, он слишком романизировал по¬
хождения своего героя и прибег к чудесному, очень уже
170
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
изношенному, заставив колдунью пророчить Годунову
самым пошлым образом над змеями и .жабами, которых
(между нами будет сказано) не найти в марте месяце ни
за какие деньги. В «Петре Выжигине» историческая часть
вовсе чахотна. Уверять, что Наполеон пошел в Россию,
обманутый Коленкуром, будто его примут с отверстыми
объятиями, можно было в 1812 году, не позже; да и тогда
этим слухам верили только на гостином дворе. В подобном
тоне писаны почти все портретные сцены с Наполеоном,
а Наполеон занимает в «Выжигине» более места, чем са¬
мый герой повести. Русских едва видно, и то они теряются
в возгласах или падают в карикатуру. Впрочем, ошибоч¬
ные в целом, романы Булгарина в частностях носят
отпечаток даровитого юмора, и многие из лиц его обра¬
тились в пословицу. Мы обязаны ему благодарностию за
пробуждение в русских охоты к родным историческим
романам. Он первый прошел по скользкому льду; мудрено
ль, что стезя его излучиста? Теперь ступайте!..
Призыв не остался напрасен. Явился Загоскин и с
первой попытки догнал Булгарина, хотя он далеко не
оправдал заносчивых титулов своих романов: «Милослав-
ский, или Русские в 1612 году», «Рославлев, или Русские в
1812 году»! Неужели три-четыре черты составить могут
картину? Неужели пара помещиков, да пары две офицеров,
да один уголок траншеи под Данцигом могут дать полное
понятие о русских, о войне громового 1812 года? Помилуй
бог! В истине мелких характеров и быта Руси он превзо¬
шел автора «Самозванца», нисколько — во взгляде на со¬
бытия. Притом чужеземная поделка не спряталась у него
под игривостью русского языка. Его Юрий — метампсихо-
за92 Вальтер-Скоттова Веверлея. Его поп-партизан —
испанский Эмпечинадо93, его Зарядьев — капитан из рома¬
нов Купера; даже героиня любви «Рославлева» вспенена
из двух стихов трагедии «Освобожденная Москва»:
Она жила и жизнь окончила для Вьянка:
Да тако всякая погибнет россиянка!94
Словом, нет в нем ничего необыкновенного, порази¬
тельного, но умилительного много, но забавного много, и
вы не увидите, как дочитались до конца, и вы досадуете,
зачем так скоро пресекает ваше он удовольствие.
Потом романы «Дочь купца Жолобова» и «Камчадал¬
ка» г-на Калашникова, столь богатые картинными описа¬
ниями Сибири. Потом «Стрельцы» и «Черный ящик» г-на
171
A. A. БЕСТУЖЕВ
Масальского, столь драгоценные по материалам, объяс¬
няющим любопытнейшую эпоху нашей истории, доказали,
сколь бессильно самое дарование, убитое подражанием.
Один только сочинитель «Последнего Новика»95, несмотря
на прыгучий слог свой и на двойную путаницу завязки,
умел стать самобытным, умел избежать укора за вербовку
подробностей исторических, оживив их горячею игрою
характеров. Впрочем, не смею судить о целом, не читав
последней части «Последнего Новика». Умалчиваю о сбор¬
нике всякой всячины, выданном под заглавием «Шемяка» ,
и других подобных ему романах; из них отрывки вещуют,
каковы они выльются; но я рад, что всякий герой находит
себя у нас по писалыцику и всякий писалыцик публику
по себе. Пускай читают хоть Александра Орлова97 — это
все-таки лучше, нежели злословить, бездельничать или пе¬
реметывать карты.
Между тем как Пушкин воздвигал пирамиду в пустыне
нашей поэзии (я говорю об его «Годунове»), Н. Полевой,
который с таким пылким самоотвержением посвятил себя
правде и пользе русского просвещения, который так смело
и неутомимо наезжал на заповедные имена, на заветные
наши ничтожества в печатном мире и сводил не на шапоч¬
ное знакомство, а на приязнь с европейцами, — Полевой
издал три тома своей «Истории русского народа». То уже
не был златопернатый рассказ Карамзина, но повествова¬
ние, пернатое светлыми идеями. Не из толпы й не с при¬
ходской колокольни смотрел он на торжественный ход ве¬
ков, но с выси гор. Взор его проникал в сердце народов,
обнимал все ристалище человечества. Он вызывал на не-
умытный суд недостойных из толпы прославленных и об¬
рывал с них незаслуженное сияние луч по лучу; зато с
горячностью прозелита сдувал он черную пыль клеветы
с чела праведников, брошенную на них пристрастием со¬
временников или ошибками позднейших историков. Напут¬
ствуемый Барантом, Тьерри, Нибуром, Савиньи, он доры¬
вался смыслу не в словах, а в событиях, решал не по
замыслам, а по следствиям — словом, подарил нас начат¬
ками истории, достойной своего века. Эта-то самая совре¬
менность, с ее забиячливою походкою, с ее подозрительною
ощупью, с ее отрывистою речью, кинулась в глаза нашей
посредственности, не золотой, даже не золоченой посред¬
ственности, которая не только не успевала за временем,
да и не думала равняться ему хоть в затылок. Все зашеве¬
172
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
лилось. Университетский колокольчик приударил в набат.
Зашипели кислые щи пузырные, и все, которых задевал
Полевой своею искренностию, расходились на француз¬
ских дрожжах. Зело русские и полунерусские подали друг
другу руки и, припав за имя Карамзина, начали швырять¬
ся побранками. Полевой отвечал новыми услугами за но¬
вые насмешки. Ему вспало на ум: досказать русскую ис¬
торию — повестью, ознакомить нас с домашним бытом
предков наших без прикрас, так сказать, показать подбой
княжеской мантии, распоясать крестьянина, растворить ум
и сердце русского народа и застать там причину событий в
едва заметном зерне. Он избрал слова Вите: «Это не
театральная пьеса, это исторические события, представ¬
ленные под формою драмы, но без требования на дра¬
му»98, — своим девизом. Вследствие этого он написал
сперва повесть «Симеон Кирдяпу» и теперь «Клятву при
гробе господнем», русскую быль XV века.
Мысль была счастливая. Элементов (не скажу материа¬
лов) для воплощения этой мысли — множество, вопреки
мнению многих грамотеев наших, будто создание истори¬
ческого романа, или живопись исторических сцен, на Руси
невозможны. О, конечно, невозможны, если палитрой ва¬
шей будут одни харатейные и полууставные грамоты, если
вы не омочите кисти в сердце русское, если вы не умеете
зажечь взором вашим мертвые буквы, если ухо ваше не
может подслушать вздоха старины и по этому вздоху
угадать страсть ее!! Мы видели, как всякое событие давало
свою особенную грань и характерам и словесностям на¬
родов; ужели ж мы одни даром прожили века? Ужели ро¬
ковые перевороты над нами таяли, как вешние снега, бес¬
следно? Или князья наши не имеют для нас никакой за¬
нимательности оттого, что они читали «Отче наш», а не
«Pater noster»?99 оттого, что жили в деревянных дворцах, а
не в плитных замках? Или крестьяне наши были животнее
европейских рабов, робче их, беднее их? Я думаю, вовсе
напротив. Русь была отчуждена от Европы, не от челове¬
чества, и оно при подобных европейских обстоятельствах
выражалось подобными же переворотами. За исключением
крестовых походов и реформации, чего у нас не было, что
было в Европе? А сверх того, характеры князей и народа
долженствовали у нас быть ярче, самобытнее, решитель¬
нее, потому что человек на Руси боролся с природою более
жестокою, со врагами более ужасными, чем где-либо. Дву¬
173
A. A. БЕСТУЖЕВ
личный Янус, Русь глядела вдруг на Азию и Европу; быт
ее составлял звено между оседлою деятельностью Запада
и бродячею ленью Востока. Оттого какое разнообразие
влияний и отношений! Варяги на ладьях покоряют ее.
Печенеги, половцы, черные клобуки зубрят 100 ее границы.
Грозой налетает на Русь Царьград и завоевывает в Корсу-
ни христианскую веру. Вольный Новгород опоясывается
хребтом Урала и бьется с божьими дворянами в Лифлян-
дии, напирает на свейцев за Невою, режется с литовцами,
везет свои товары в города Ганзы. И потом битвы меж¬
доусобий, и потом губительное нашествие татар, и душная
ночь их власти, в мраке коей спело единодержавие... И по¬
том войны с шумными поляками, с дикими литовцами,
Иоанн Грозный, попытка обратить нас в католичество,
мятежи самозванцев, и мудрый Алексей, и необъятный
Петр! Да, это море-океан!.. Море, еще не езженное, не¬
изведанное и тем более занимательное, оригинальное.
Вглядитесь в черты князей наших, сперва исполинские,
потом лишь удалые, потом уже коварные, и скажите, чем
хуже они героев Вальтера Скотта или Виктора Гюго для
романа? У них, как везде, был свой махиавеллизм для
силы и для бессилия, были свои ковы и оковы, и яд под
ногтем, и нож под полою. У них были свои льстецы-преда-
тели, свои вельможи-дядьки, свои жены царь-бабы, свои
братья-каины. Про них звучали струны певцов, про них
звонили колокола монастырей. И они гордились поро¬
дою, как электоры на священную империю , а на охоте
с соколами, на звериной травле, конечно, были удалее лю¬
бого барина, потому что такого раздолья для скачки, та¬
кого приволья на дичь, как на Руси, и во сне не видали
европейские паладины. И они пировали не менее шумно
и весело, чем вожди кланов, и они лазили через тын к
боярыням. Как французские сеньоры, имели свои моды,
свое остроумие, свой особый язык. Суровость зим, без¬
дорожье и даль давали средства удельным князьям не
покорничать великому, воевать соседних и сгонять друг
друга с отня стола. Беспрестанные стычки с кочевыми
наездниками и войны междоусобий закаливали их нравы
опасностями, давали храбрость, а храбрость разжигала
честолюбие. Они жаждали битв для славы, славы для
власти. Далее, какой богатый источник для романиста —
местничество бояр и дворян, которые сперва могли пере¬
ходить от одного князя к другому без предосуждения,
174
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
их мелкие ссоры, их могучее влияние! За ними двор и дво¬
рня, гридни и наемные дружины княжие. Да и черный
народ наш (кроме рабов), — смерды, людины, крестьяне,
местичи, — без сомнения, долженствовал быть гораздо
смышленее сервов средних веков. Они не составляли части
земли: они имели свои сходки, они ходили на войну с
князьями, чего не было в Европе. Притом борьба с приро¬
дою и с враждебными обстоятельствами необходимо раз¬
вивала их физические и нравственные силы. Принужден¬
ный делать для себя все, начиная от лаптя до шлема, от
горшка до колеса, русак становился изобретателен и само¬
надеян. Оставленный собственным силам в глуши лесов,
в болотах, в сугробах снега, он стал отважен и находчив.
Неуверенный, что завтра принадлежит ему, он сделался
ленив и беззаботен. Но он не был низок, ибо не терпел
унижения наравне с вассалами Европы.
Ни рвы, ни башни не делили их между собою. Жалобы
селянина доступны были боярину, и быт боярина, простой
почти столько же, как быт селянина, не давал повода пер¬
вому презирать последнего, ни последнему ненавидеть пер¬
вого. Правда, войны сметали их раз по пяти на веку... Зато
они сами, в набегах с князем своим, вымещали на врагах
то, что терпели дома, участвуя в грабежах и в дележе.
Толки: «Мы сбили, мы решили», — утешали их в неудаче,
и бедняги эти крепко засыпали голодные, свернувшись
в бараний рог на пепле и на морозе, но убаюканные на¬
деждою на добычу, на клады, на какое-нибудь чудо, —
а русский верил чудесам, любил чудесное наравне с смеш¬
ным, потому что первое золотило ему будущее, второе
подслащало настоящее. Каждый перекресток имел тогда
свою легенду, каждый пруд — своего духа, каждый лес —
разбойника, каждая деревня — колдуна, каждый базар —
сказочника. Чудесное бегало тогда по улицам босиком,
приезжало из-за моря гостем, стучалось под окном посо¬
хом паломника. Оно совершалось наяву и во сне... Могу¬
чие народы набегали и исчезали, не оставив даже своего
имени ветру степному. Славные князья бродили между
чернью, нищими или тлели в тюрьме без очей. Ничтож¬
ные бояре правили судьбами княжений, простые чернецы
становились владыками. Мудрено ли ж, что добрые предки
наши жадно слушали о том, как черт попался в рукомой¬
ник, о блаженных макарийских островах, о странах при-
гишпанских, где народ — немцы и торгуют райскими пти¬
175
A. A. БЕСТУЖЕВ
цами, о людях с собачьим рылом или с рыбьим хвостом,
об оленях с финиковым деревом между рогов... Этногра¬
фия, география, история — все тогда было сказка, а сказ¬
ка значила повесть, потому что правда тогда была близнец
выдумке. Находились люди, у которых на памяти Полкан-
богатырь дрался с Добрынею, а у Пересвета, не то на
крестинах, не то на поминках, ели они кашу. А мертвецы,
а привидения, а знахари, а ведьмы наши? Ведьмы, кото¬
рых жгли тогда так же равнодушно, как теперь фейервер¬
ки! А домовые и лешие, вовсе не родня гамадриадам, точа¬
щим кровь под секирою, или дивам-получеловекам — нет,
они воздушны, невещественны, проказливы, как Пук и
Ариель Шекспира, как Трильби Нодье102. Да и что за бо¬
гатое, оригинальное лицо сам черт наш! Он не Демон, не
Ариман, не Шайтан, даже не Мефистофель — он просто
бес, без всяких претензий на величие. Он гораздо добрее
всех их. Он большой балагур, он отчаянный резвец и по¬
рой бывает проще пошехонца, так что лукавцы надувают
лукавого во всех сказках, хоть, правду сказать, я думаю,
они немножко хвастают. Берите ж, ловите за крылья все
причуды, все поверья старины и пустите их роем около
лиц, вами избранных, как роились они прежде. Предрас¬
судки — прелесть старины, как прелесть нашего века —
фантазия. Предрассудки кипятили старину, как нас кипя¬
тит рассудок; пустите ж их работать, будто они сейчас
выскочили из экзамена на доктора философии. Мало вам
беса, мало вам страхов, так вот смешное (утеха нашей
старины и рычаг новой словесности) вертится перед вами
на одной ножке скоморохом и заводит бесконечную сказку
свою от Сивки от Бурки, от курицы-иноходицы, от поро-
сенка-наступника. Казак Луганский103 показал, как зани¬
мательны могут быть эти простые цветки русского остро¬
умия, свитые искусною рукою. Но Вельтман, чародей
Вельтман, который выкупал русскую старину в романтиз¬
ме, доказал, до какой обаятельной прелести может до-
цвесть русская сказка, спрыснутая мыслию104. Да, песня и
сказка — душа русского народа: он веселится и горюет с
песнею, засыпает под говор сказки. У князей были Баяны,
У раны, Митусы, у черни — Кирши Даниловы, сказочники,
слепцы, скоморохи, певцы, которые умели и растрогать
и рассмешить до слез, все величать и все пародировать.
Умели уколоть шуткою и князя, и боярина, и попа...
Отличительная черта русского простолюдина, что он ни¬
176
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
когда не был изувером и не смешивал веры с служителями
веры; благоговел пред ризою, но не пред рясою, и редкая
смешная сказка или песня обходится у нас без попа или
чернеца. Еще есть у нас стихия, драгоценная для истори¬
ческого романа: это дураки и шуты. С тех пор как нагую
правду выгнали из дворца за бесстыдство, она прикинулась
баснею и шуткою... спряталась под ослиное седло, захрю¬
кала, запела кукареку, покатилась колесом, заломила на¬
бекрень дурацкую шапку и стала ввертывать свои укоры
между хохота и ударов хлопушки. Заметьте, что басня и
шутовство всегда проявлялись в Азии: их отчизна Азия,
их спутник — феодализм, и будьте уверены, что не случай
породил шута, а необходимость. Шут был кривой провод¬
ник мнений народа ко власти и нередко проводник право¬
судия от власти к народу. Обличитель пороков, пересмеш¬
ник недостатков, он не щадил ни гостей, ни хозяина
и бичевал их намеками, не боясь бичеванья ремнями...
Одним словом, шут-простолюдин, приближенный к князю,
был что-то похожее на народного трибуна в карикатуре.
Рассказы, которые ходят в народе про Балакирева, шута
Петра Великого, порукой, что можно создавать из подоб¬
ного лица.
Мало вам и этого — пред вами любовь предков ваших.
Как ни изношены у нас сердца, но запрос на любовь еще
велик... и посмейтесь, пожалуйста, тому грамотею в глаза,
который скажет вам, что в старину мужчины видели
женщин только за налоем, что про любовь тогда не было
и в помине. Видно, эти господа никогда не заглядывали в
сердце человеческое; забыли они, что любовь есть не поня¬
тие, а чувство, свойственное всем векам и народам. Спору
нет, она в старину была не так жеманна и мечтательна, но
тем не менее нежна и страстна. Спору нет, предки наши
женились через свах, не видя невест; но разве мы не же¬
нимся, не глядя на них, из расчетов и для приданого, как
всегда бывало; а между тем любовь идет своим чередом.
Говорят, знать наша запирала жен и дочерей, особенно со
времен татарства; но неужели вы думаете, что замки, и
стены, и кинжалы держат любовников даже у мусульман!
Сказка! Тем паче у нас, у которых гостеприимный нрав
и самая постройка домов тому противятся. Переберите на¬
ши песни и сказки — и вы убедитесь в том.
Вот вам и вся лестница духовной иерархии, миротвор¬
ная, редко честолюбивая сверху, невежественная и часто
7—907
177
A. A. БЕСТУЖЕВ
забавная снизу. Клирошане и причетники, бельцы и мо¬
настырские крестьяне, все со своим чванством, причудами,
правами, в беспрестанном столкновении с мирянами: толпа
своеличная даже до нищих, кликуш и юродивых, со¬
ставлявших непременный штат каждой церкви! Юродивые
занимали то же место между судьбой и народом, как шуты
между владельцами и народом. Божьи люди эти были об¬
лечены неприкосновенностию; их темные речи принима¬
лись за угрозы, за пророчества свыше. Вот вам и самосуд-
вече о Новгороде, и примерный суд его с присяжными,
с объездным и судьями, с поединками, с русскою прав¬
дою — «поле», которого до сих пор никто не тронул. Вот
вам лобное место пред Кремлем, с его правежом, с гости-
нодворством. Садитесь на лихую тройку и проезжайте по
святой Руси: у ворот каждого города старина встретит
вас с хлебом и солью, с приветливым словом, напоит вас
медом и брагою, смоет, спарит долой все ваши заморские
притиранья и ударит челом в напутье каким-нибудь преда¬
нием, былью, песенкой. До сих пор вы видели только раз¬
носчиков, говорили только с извозчиками; теперь увидите
бодрый, свежий, разноязычный, судя по областям, на¬
род — народ, который мало изменился со времен Свято¬
слава, ибо татары и поляки мало имели дела с простолю¬
динами. Купцы торговали с ними, бояре ползали перед ни¬
ми — народ только резался с ними или бегал от них и,
заплатив раз в год черную дань сборщику, после не видал
его в глаза*. В свою очередь, он редко видывал и бар
своих, всегда собранных около князей или царя, и оттого
до сих пор сохранил свою поступь, поговорку, свой
обычай, облик, свой оригинальный характер, которого ос¬
нование — авось, свою безрасчетную предприимчивость,
свое простовидное лукавство, свою страсть ко хмелю и к
драке, свой язык, столь живописный, богатый, ломкий;
словом, это народ, у которого каждое слово завитком и
последняя копейка ребром... Но где мне исчислить все
девственные ключи, которые таятся доселе в кряже рус¬
ском! Стоит гению топнуть, и они брызнут, обильны, иск¬
рометны. Смешно и указывать ему: бери вот отсюда, сделай
то-то; он сам найдет, что ему надобно; он не пойдет справ¬
* Почти все татарские слова, оставшиеся в нашем языке, приве¬
зены на вьюке и не касаются до коренного быта, например фата (фита),
серьги (сергиляр), кушак (культа), изъян (зиан), магарыч, тамга.
Военные термины заняли мы прежде у азиатских кочевых племен.
178
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
ляться с риторикою и пиитикою... Словесность не наука,
словесность искусство105, ибо она творит, а не производит;
а творчеству, а воображению закон не писан и никогда
не напишется. Изящное всегда будет правильным. Вот по¬
чему нелепы попытки научить писателей писать; вот по¬
чему для словесности полезна лишь одна критика, ибо
цель ее не поправлять автора, а приготовить читателя це¬
нить его творение. Она не учит серинеткою106 соловья петь,
не учит молнию летать, как бумажный змей, а дергает
рассеянного охотника за полу и говорит ему: «Послушай,
погляди, как это прекрасно!» Она судит не как судья, по
книге, а как присяжный, по совести, положив руку на
сердце, и, даже ошибаясь, приучает вас судить прямо. Так
и не более скажу я свое мнение о были Н. Полевого; не
более, как так. Прочь от меня эта самозванная, щепетиль¬
ная критика, которая до сих пор пропитывается у вас ка¬
выками и недоглядками, которая с холодом бесчувствия
смотрит на изящное и щупает его, как евнух, покупающий
невольницу на базаре. Была б у нее мягкая кожа, была бы
в ней указанная мера, а до ума, до души, до выражения
лица что ему за дело! Misère! И они хвалятся мизером, они
выигрывают на него!107
Господин Полевой схватил для своей картины тот мо¬
мент, когда Русь стала подымать голову из двухвекового
рабства. Сквозь туман, но блестит уже над ней звезда
единодержавия. Выход в Орду еще платится, но власть
сидит уже не на ковре ханов. Удельная гидра еще грызет¬
ся с царством, но это последние ее попытки. Действие на¬
чинается в деревне, невдалеке от Москвы, куда тянутся
обозы, спеша к масленице и к свадьбе молодого великого
князя Василия Васильевича Темного, который сел на кня¬
жение вопреки правам дяди своего Юрия Дмитриевича,
уступившего первенство меньшому брату, Василию, но
только брату по воле, племяннику по неволе, ибо на Руси
искони велось (по праву, не всегда на деле), чтобы пре¬
стол наследовать братьям, а не детям. Вот узел драмы,
хоть он вяжется и развивается в ней иначе и не вдруг. В избу,
в которой расположились обозники, приезжает, под видом
купца, крамольный боярин Иоанн. Он бежит из Москвы,
обиженный отказом великого князя жениться на его доче¬
ри, на которой честолюбивый старик сосватал было его.
Выезжая с ночлега, сани его сталкиваются с санями кня¬
зей Василия Косого и Дмитрия Шемяки, детей Юрия, ко¬
7**
179
A. A. БЕСТУЖЕВ
торые скачут на свадьбу, в гости к великому князю. После
ссоры в потемках путники узнают друг друга, и тут-то,
вопреки укоров Шемяки, начинается ков обиженного чес¬
толюбия в лице Иоанна, обиженного властолюбия в ли¬
це Косого. Боярин подстрекает пылкого князя и негодова¬
нием и надеждою. У него в кармане важные бумаги, у него
в голове умные советы, у него в груди месть Василию, ко¬
торый обязан престолом лишь его проискам у хана, —
и все это он везет с повинною к Юрию, которого заставил
недавно вести под уздцы коня отрока-племянника. Они
расстаются, один готовый на измену, другой — на мятеж.
Шемяка упрекает брата, что он слушает советов крамоль¬
ника. Тот отвечает, что он обманул его притворным внима¬
нием, что он только выведывал старика.
«— Ты обманул его? Но разве обман не есть уже
грех? — говорит Шемяка.
— Отмолюсь! — смеясь отвечал Косой, отряхнув шап¬
ку свою. — Пойдем, пора».
Какая резкая черта — ив отношении к лицу Косого,
и в отношении к понятиям времени!
В Москве уже подозревают Юрьевичей, и в то время,
когда Косой подбивает удалых из князей себе в помощни¬
ки, дума бояр, которой хозяйничает мать великого князя,
С офья Витовтовна, литвянка родом, безрассудная са-
мовластница духом, решает схватить и заключить в оковы
Косого и Шемяку при выходе с брачного пира. Венчанье
кончено, новобрачные удалились из-за стола, и хмель, это
единственное лето русских, расцвечает все характеры, рас¬
плавляет тайны. Нетерпеливая Софья привязывается к
Юрьевичам. Косой колет ее не в бровь, а прямо в глаз,
намекнув, что Василий — незаконный сын ее; она забы¬
вается до того, что срывает своими руками с него меч и
укоряет, будто золотой пояс его — краденый. Неистовая
суматоха эта чуть не переходит в битву. Князья разъезжа¬
ются, мятеж вспыхивает. Юрий идет с войском на Моск¬
ву; двор бежит. И снова племянник выгоняет дядю, и сно¬
ва хилый, слабодушный старик, опершись о мечи смелых
сыновей своих, завладевает Москвою, ссылает племянника
на удел. Но в последний раз Кремль распахнулся перед
ним гробом. В тот самый день, когда брат его Константин
умирает в миру, приняв схиму, умирает и Юрий (оба
остальные отрасли Донского), умирает на руках Шемяки.
Покорный сын, Шемяка вскрывает духовную отца в совете
180
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ)
бояр, в отсутствие брата, но в ней никто не назван вели¬
ким князем. Великодушный Шемяка провозглашает снова
Темного, Косой беснуется, укоряет брата и уезжает искать
себе сторонников, чтобы отбить престол у Василия. Шемя¬
ка удаляется в удел свой Галич, как бы в довод того, что
он не искал благодарности, что он исполнил подвиг само¬
отвержения, уважая права наследства. Заехав в гости к
князю Заозерскому, в глушь северных лесов, он влюбляет¬
ся в дочь его, сватается и едет в Москву звать великого
князя к себе на свадьбу. Но подозрительный, неблагодар¬
ный Василий, воображая, что он заодно с Косым, велит
схватить его на дороге обманом и заключить в тюрьму;
потом вдруг переменяет политику, чтобы вернее погубить
легковерного: мирится с ним, улещает его и дает ему пья¬
ный, распутный, непокорный отряд — выживать из Тулы
хана Махмета. Униженный, оклеветанный, обвиненный
своими подчиненными в измене, Шемяка узнает, что брату
его Василию выкололи глаза по приказу Темного, что его
самого готовятся схватить для казни... Это опрокидывает
его душу: он бежит в Новгород, где вече, всегдашняя под¬
пора изгнанных князей, наряжает ему войска воевать
Москву. Тогда испуганный Василий присылает к брату
инока Зиновия, чтобы склонить его на примирение, чтоб
выпросить у него мир на всей его воле. Убежденный, тро¬
нутый им, Шемяка уступает: он не хочет кровопролития
и прощает кровную обиду. Тесть и невеста его, доселе
пленные в Москве, объемлют его в Новегороде, — там он
празднует свою свадьбу и едет в Галич. Были конец.
Вот главные события этой были; но автор понял, что
как ни точны будь исторические сцены, они падут бездуш¬
ны без игры характеров; как ни резки будь характеры, они
не тронут читателя, если не оживятся какою-нибудь вели¬
кою мыслию, — и вдунул в них самую поэтическую. Он
обвил пружину действия вкруг таинственной особы гудоч¬
ника, который является везде, говорит всеми языками, все
знает, всех выведывает, всех подстрекает. То он пешеход
на дороге, то он паломник в монастыре, то он гудочник
и сказочник перед боярами, то почтенный гражданин в
Новегороде. Открывается нам из беседы его с архиманд¬
ритом Симонова монастыря, его прежнего товарища, что
он дал обет умирающему князю своему стараться восста¬
новить суздальское княжение и отдать оное детям его.
У гроба господня, в Иерусалиме, обрекает он себя страш¬
181
A. A. БЕСТУЖЕВ
ною клятвою исполнить обет свой. С тех пор клятва стано¬
вится его жизнию, его судьбою. Пусть двадцать раз разле¬
таются прахом его замыслы, пусть изменяют ему
князья — он неутомим, не уклоним. Он ищет новых дей¬
ствователей, заключает с ними договор восстановить Суз¬
даль, подтвердить Новгороду, его отчизне, прежние льго¬
ты и с новым жаром пускается в битвы и в ковы. Какая
высокая романтическая мысль была изобразить человека,
отдавшего в жертву все радости жизни, все честолюбие
света, даже надежду за гробом — преданности! Стремясь
к цели, он топчет и людей и совесть, обманывает, лицеме¬
рит, похищает документы, рассылает ложные приказы,
восставляет брата на брата... но он выкупает все это жар¬
кою, бескорыстною любовью к пользам детей своего госу¬
даря. Он возбуждает участие, как вольный мученик, пре¬
давшийся уничижению и опасностям всех родов, не стра¬
шась ни смерти, ни казни. Вспомнив, что ему, как нового-
родцу, не мудрено было враждовать против Москвы, вы
простите его. Вы будете уважать его за неподдельную, за
непоколебимую твердость и если не полюбите его, то
будете сострадать с ним в тяжкой и напрасной борьбе, им
предпринятой, — напрасной, ибо он замыслил побороть
время, подъемля из ничтожества разбитый им порядок
уделов; тяжкой, ибо сам видит тщету своих дум и козней.
Некоторые журналисты упрекают автора, зачем он заста¬
вил гудочника говорить книжным слогом в рассказе де¬
душке Матвею о политическом быте Руси, особенно об
Иерусалиме. Но знают ли эти господа, что для святыни
и для учености у нас до сих пор между священниками,
семинаристами и набожными людьми ведется особый,
книжный язык? Мы должны писать, как говорим, но
в старину грамотеи любили говорить, как писали. Прочти¬
те разговор гудочника с Ворфоломеем и последний с Ше-
мякою, и, если он не разогреет у вас сердца и если вы
и тогда в состоянии будете ловить кавыки, — ступайте пи¬
лить сандал или ноги, но, ради бога, не беритесь судить
поэзии.
Другая властительная мысль автора (если не ошиба¬
юсь) была та, чтоб оправдать Шемяку, запятнанного в
народе худо понятою пословицею 108, очерненного истори¬
ками на поруку переведенных летописей. С благородным
жаром защитник Мстислава Удалого вырывает Шемяку из
челюстей клеветы. Но он не изображает его идеалом. Его
182
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО «КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
Шемяка — юноша с откровенным, прямым сердцем, с ки¬
пучею душою, с искренним желанием добра своему оте¬
честву; но обстоятельства вонзают в него когти именно
с этих сторон и насильно увлекают в козни и мятежи
брата.
Он готов на мир и дружбу со врагами, но он горд, как
русский князь, он покорен отцу, он любит брата. Свой
своему за неволю друг, говорит пословица, — вот разгадка
его действий сначала, но потом самоотвержение его запе¬
чатлено не религиозною печатью, как у гудочника, не
клятва облегла его душу, не чужое мнение движет его, —
напротив, он идет наперекор всем оттого, что оно бьет
прямо из сердца... Его проступки принадлежат веку, его
доблести — человеку. Как он спокоен в беде, как незанос¬
чив при успехе! Как умилителен он во вдохновенной
беседе с Исидором, увлеченный пророческими мечтами
этого грека; как грустно-глубокомыслен при пострижении
князя Константина; как велик, возглашая врага своего ве¬
ликим князем, поправ, на обломках, надежды Косого, все
личные выгоды, все семейные замыслы!.. Как недостижимо
великодушен он, прощая Василию, когда новогородские
дружины рвутся уже мстить за его обманы и обиды!
Напрасно думают, будто бы такие эксцентрические, мечта¬
тельные характеры были невозможны в средних веках.
Вспомним, что духовные книги были единственным чтени¬
ем лучшей молодежи; а духовные книги отторгают от зем¬
ли, проповедуют самоотвержение, ставят правду всего пре¬
выше. Не могли разве эти семена неба прозябнуть в серд¬
це, более других чистом? Притом исповедь необходимо
приучала людей мыслящих или глубоким чувством одарен¬
ных заране допрашивать душу свою для мировой с богом,
рыть в ней, следить ее, судить ее и смотреть на предметы
духовным образом. В противоположность добросклонного
Шемяки вторгается в очи Василий Косой, с его беззавет¬
ным честолюбием, с его безрассудною отвагою, с его ад¬
скими страстями. Косой есть настоящий тип наших кня¬
зей, действователей во время смут, каких-нибудь Ольгови-
чей, например, у коих сердца были закалены в буести.
Порой душит его, крамолы, битвы ему воздух. Однако,
несмотря на его запальчивость, которая доходит до того,
что он собственной рукою убивает отчего любимца бояри¬
на Морозова, невольное внимание ложится на читателя с
его призраками, будто холодная тень с вражеской башни.
183
A. A. БЕСТУЖЕВ
Злой дух, советник его боярин Иоанн, отделан con
amore*. Он широко развивает свиток своего русского ма-
хиавеллизма, смеси дерзости междоусобий с жестоким
пронырством татарства, когда уже князья привыкли сра¬
жаться не железом, а пергамином, когда они хвалились
не тем, кто кого перескакал, а кто кого переполз.
Горькая истина говорит его устами, когда он перебирает
по пальцам наличную Русь и высказывает собой ходячую
нравственность Руси.
Зато характер великого князя обрисован слабо. Труд¬
но провидеть в нем — Василия, с именем Темного, с тем¬
ными делами, с властолюбием, которое хорошо понимало
и удачно душило удельную систему.
Между второстепенных лиц особенно заметны дед
Матвей и подьячий Беда. Нам еще и ныне могут встре¬
титься в классе просолов характеры, подобные Матвею, у
которых трудолюбие и смышленость наравне с правотою,
добротою, характеры утешительные, именно русские. Но,
конечно, в дипломатах наших уже не отыщем мы Беды,
этого образца старинных дьяков и окольничих, мелочных
до пустоты и твердых до геройства. Взгляните на этого
Беду: он так же хладнокровно убирает скамьи в совете,
как бросает договорные грамоты к ногам Юрия с опас-
ностию жизни. Неземное лицо Димитрия Красного — от¬
радно. Он болен жизнию; он звезда, упавшая с неба и
тонущая в грязном омуте чужих свар. Юрий — занима¬
тельный образчик запоздалых суелюбцев, к коим честолю¬
бие приходит с кашлем, которые живут чужим умом, дей¬
ствуют чужою волею, у которых доброта не доблесть, а
слабость, у которых самое преступление не злодейство, а
слабость. Хронологический порядок событий (ему же
неизменно служил по обету своему автор) не дал разгулу
драматичности, но события хорошо врамлены в подроб¬
ности старинного быта, и из них всех любопытнее, ибо
всех новее, описание Москвы того времени и третей кня¬
жих, столь сходных по расправе с расправою древнего Па¬
рижа. Но барельеф, изображающий вече, бледен и непо¬
лон... Вообще должно признаться, что поспешность автора
вести далее и далее, захватывая на дороге то и се, много
вредит участию. Не успеешь погреться у огонька чувст¬
ва — тебя влекут вперед, срывают слезу для усмешки, от¬
* С любовью (итал.). — Ред.
184
О РОМАНЕ ПОЛЕВОГО « КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
водят от окна для картинки. Будьте, господа сочинители
исторических романов, поскупей на подробности житей¬
ского быта и — всего более — не волочите их на аркане в
ремонт свой. Пусть они будут попутчики, а не колодники
ваши, и если уже необходимо обставить сцену декорация¬
ми, то распишите их цветами слога. Новы предметы —
сделайте их оригинальными. Стары они — обновите их
мыслями, оборотите их незатасканною стороною, взгляни¬
те на них с неотоптанной точки и поверьте, что всякий
горшок тогда найдет свою поэзию... Свидетели тому Гоф¬
ман, Вашингтон Ирвинг, Бальзак, Жанен, Гюго, Цшокке.
Несноснее всего мне писаки, заставляющие нас целиком
глотать самые пустые разговоры самых ничтожных лиц,
равно в шинке жида и в гостиной знатного барина; и все
для того, чтоб сказать: «Это с природы!» Помилуйте, гос¬
пода! Разве простота пошлость? Разве для того бежим мы
в ваши альманахи от прозы общества, чтобы встретить в
них ту же скуку? Природа! После этого тот, кто хорошо
хрюкает поросенком, величайший из виртуозов, и фельд¬
шер, снявший алебастровую маску с Наполеона, первый
ваятель!!! Искусство не рабски передразнивает природу,
а создает свое из ее материалов. Неоспоримо, связочные
сцены необходимы: это примечания, поясняющие текст; но
выкупите же их замысловатостию своею, если нельзя дать
ее предметам и лицам. Да и кто говорит, что этого
нельзя? Дайте нам не условный мир, но избранный мир.
Пусть ваш пастух будет Гурт, ваш капрал Трим 109, ваш
ветреник Дон-Жуан, — но все это в русском теле, в русском
духе. Наши Иваны Гуртовичи, наши Кремневы Тримовичи,
наши Лидины Жуановичи приторны. Пусть всякий
сверчок знает свой шесток; пусть не залетают настоящие
мысли в минувшее и старина говорит языком ей приличным,
но не мертвым. Так же смешно влагать неологизмы в уста
ее, как и прежнее наречие, потому что первых не поняли
бы тогда, второго не поймут теперь. В этом отношении
язык разбираемой нами были очень неровен. То он не
выдержан по лицам, то по времени. Слог порою
тяжел и запутан, и лишь там, где говорят возвышенные
чувства, разгорается он до красноречия. Такова беседа
с Исидором, таково последнее свидание с гудочником.
Я вырву два маленькие клочка, хорошо выражающие
гнев и любовь Шемяки. От него послы великого князя
требуют, чтобы он воевал против родного брата, — он
185
A. A. БЕСТУЖЕВ
выходит из терпения: «Открыто, прямо говорил и де¬
лал я, — еще ль не убежден в этом князь великий?
Зачем же хитрить со мною? Или вы почитаете меня
за такого олуха царя небесного, что я не замечу хлеба в
печи и стану ее топить? Или вы хотите, чтобы я, отдавши
все великому князю, своими руками принес голову родно¬
го брата и кровью его запил дружбу с Москвой, позор
мой и унижение!»
Предчувствую, что при слове олух наши чопорные кри¬
тики вонзят по крайней мере три восклицательные знака,
как будто три отбитых бунчука! Никто не помешает им
остриться; но я скажу по сердечному убеждению, что от¬
рывок сей вместе силен и естественен. Гнев, как буря, воз-
метающая со дна морей грязь и янтарь, выбрасывает из
человека самые низкие выражения и самые высокие чувст¬
ва. Так живописал гнев Омир, так Шекспир. Еще: Шемя-
ке кажется, что кн. Заозерский не отдает ему Софии.
«Знаю, — говорит он, — что она достойна венца велико¬
княжеского: требуй его, скажи, ты увидишь — я готов
и его добывать.
— Душа добрая, душа пылкая, юноша по сердцу мое¬
му! обдумал ли ты все это?
— Я не в состоянии ни о чем думать. Знаю только,
что если ты не отдашь ее за меня, то я сейчас еду, и не
в Углич мой, но в Москву, на битву, в бой, за брата,
против брата: кто первый начнет, тот будет мой
товарищ».
Как часто, роясь в летописях, историки тратят до по¬
следней лепты свой ум и красноречие, чтобы найти причи¬
ну какого-нибудь странного события, безрасчетного под¬
вига! А он произошел от мгновенной прихоти какого-ни¬
будь князя, оттого, что ему худо спалось или давно
грезилось, или просто потому, что ему хотелось показать
свое удальство, разгулять себя, забыть себя в битве. Это
настоящий характер русских князей, влюбленных в славу
или в деву.
Кончаю нехотя. Замечу при конце, что мы стоим на
брани с жизнию, что мы должны завоевать равно свое
будущее и свое минувшее, и не обязаны ли мы потому
благодарностию тем людям, которые бесплатно, с усилия¬
ми, источающими жизнь, отрывают родную сторону из-
под снегов равнодушия, из праха забвенья и облекают
предков наших в жизнь, давно погибшую для них и столь
186
ПИСЬМА
свежую, кипучую для нас, воспроизводят мать-отчизну,
точь-в-точь как она была, как она жила! Таков Полевой,
так изображает он Русь, не умствуя лукаво, но чувствуя
глубоко и сердцем угадывая таинственные иерогифы ха¬
рактеров, бывших непонятными даже тем, кои носили их
на челе. Он пламенными буквами переписывает их на ду¬
шах наших, затепляя души перед высоким, перед доблест¬
ным! Жалею о тех, которые не постигают или не хотят
обнять мысли самоотвержения, проявленной на две грани
в «Клятве»; но, убежден я, скоро настанет время, что от¬
дадут справедливость Полевому, равно за его историю и
повести, что публика не будет больше прятать в рукав
свою руку, но подаст ему ее без перчатки и скажет от
сердца: «Спасибо!» Впрочем, неполный успех «Клятвы»
произошел, вероятно, от слога110: это концерт Беетговена,
сыгранный на плохой скрипке. Со всем тем «Клятва» есть
дело не только труда и учености, но познаний и вдохно¬
венья; оно стоит не пустого любопытства, но душевного
участия, не базарной похвалы книгопродавцев, но искрен¬
ней признательности. Ждем с нетерпением, что автор, по
своему обету, положит другой такой же цветок поэзии на
могилу минувшего.
ПИСЬМА
1. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
(С.-Петербург.) 28 января 1824 г.
Письмо ваше, почтеннейший Петр Андреевич, получил
я сегодня и отвечаю на него немедленно. Благодарю за
откровенность в суждении о «Полярной»1; в нем на три
четверти я совершенно согласен, в остальном отбился
от мнения вашего, вероятно, оттого, что смотрел с другой
точки, — переберем это по порядку вашего письма, кото¬
рое теперь перед глазами и, конечно, всегда останется
в памяти. За лепетанье нашей поэзии я, конечно, ни
перед богом, ни перед добрыми людьми не виноват —
это бумажные цветки вымученной фантазии, это китайская
187
A. A. БЕСТУЖЕВ
живопись, в которой хороши одни лишь краски. Цензура
обрезала наши червонцы, а многие медали и вовсе выбро¬
сила вон — поневоле довольствуешься бряцающею медью·
Зато, если в наших пьесах не было отличных, в них (кроме
Родзянкиных) не было зато и вовсе дурных и, говоря
Башуцкого словами, они все, право, чистоплотны. «Посла¬
ния к Людмилу»2 я не хвалил, о «Дер(евенском) фило¬
софе»3 отозвался двусмысленно, тем более о его авторе.
Комический дар не есть еще дар к комедии: впрочем,
вы угадываете, не читав его. В «Лукавине»4 я виноват без
всякого лукавства. Писарева стоило бы отделать путем 3â
его шашни: переводит пьесу с скверного французского
перевода, выпускает лучшие сцены и смеет еще «Школу
злословия»5 выдать за свое сочинение! Это чересчур по-
гостинодворски. За немца моего немного заступлюсь , ибо
знаю и чувствую в природе человеческой подобные стра¬
сти, а писал это по внушению сердца и не в подражание
Шиллеру, след(ственно), оно не могло меня увлечь вне
природы — век, мною взятый, представлял тому тысячные
примеры, и я могу подкрепить это историческими дово¬
дами. О брате — не судья7, но в Жуковском8 нахожу
не сцены, а декорации. Пушкин виден у нас как в облом¬
ках зеркала — он поскупился на сей раз; однако ж ода
Баратынского9, князь, на счастие, право, стоит взгляда;
даже Дельвиг оперился в полярное путешествие, и, конеч¬
но, редкие из альманахов французских были так богаты
хорошенькими безделицами, как наш, хотя я согласен,
что они бесцветны перед взором ума.
Насчет Каченовского — если вы меня укоряете в при¬
страстии, то и мне кажется, что вы от него не совсем
изъяты10; об этом уже был у нас и спор у любезнейшего
Федора Ивановича : я в нем нахожу кой-какие литера¬
турные заслуги — вы не признаете вовсе никакого досто¬
инства. Радикальность реже обыкновенного, а потому,
думаю, и случайность справедливости вероятнее упадет
на мою сторону. Впрочем, если бы я и уверился в против¬
ном, то быстрый скачок от прошлогодней хвалы к укорам
не показался ли бы странным? Зато другие мнения, конеч¬
но, не имели влияния на мой суд, — я не боюсь никому
говорить правды и не жертвую своей совестию в угоду
благодетелей, которых, слава богу, у меня и нет; но как
бы не грех мне был, напр(имер), если бы убил я Сергея
Глинку?..
188
ПИСЬМА
Вы еще худо знаете нашу цензуру, любезнейший князь,
когда воображать можете, что она бы позволила ремарку
о некоторых причинах, не позволивших напечатать ваших
стихов12. А мы многое бы потеряли, если б отказались
от такого наследства, как седьмая часть ваших стихов.
Что ж обезобразила пренелепая, в том каемся, но поставь¬
те себя на нашем месте и скажите, отказались ли бы вы
украсть, как Прометей, не только взять попросту, огнь
с неба, чтоб оразумить свою мраморную статую? «В шляпе
дело» получено нами от А. И. Измайлова и здесь в большом
ходу. Вас мучит старинный грех, то есть последний куп¬
лет?13 Помилуйте, князь, надобно ж чем-нибудь платить
за простой в России. Гнедич ничего беглого (!) не написал
и потому ничего и не дал, но Раич прислал нам пьесу, но,
между двух глаз будь сказано, ученическую, и бесцветную,
и малозвучную. Кончив о словесности, позвольте повести
словечко о вас самих, в светском и ученом отношениях:
веселы ли, плодны ли вы ныне? Я хочу бить челом о том,
за что вы меня поразили, то есть написать на 1824 год
коротенькое обозрение. Князь! Будьте отцом родным: об¬
новите это тощее поле! Но кроме того, вы у меня в долгу:
обещанная вами проза не получена, и я надеюсь, что вы
нас выручите теперь из беды: у вас выходит четверогран-
ный альманах14, у нас Дельвиг и Слёнин грозятся тоже
«Северными цветами» — быть банкрутству, если вы не да¬
дите руки15. Жду ответа и, если можно, задатка, чтоб
смелее сиять в будущем. Нынешняя «Звезда» у нас разо¬
шлась в 3 недели до одного экз(емпляра). Здесь все,
даже безграмотные, читают ее — cèst la fureur*! К вам
вряд ли удастся, отдохнуть умом и душою. Между тем
вторично и сердечно благодарю вас за правду; я вспоен на
ней, и потому это лестно и приятно для меня, столько же,
как полезно слышать ее от умнейшего из князей и любез¬
нейшего из людей. Простите (и) будьте добры, как преж¬
де, до любящего и уважающего Вас
Алек. Бестужева.
2. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
(Петербург) 17 июня 1824 г.
Мы потеряли брата, князь, в Бейроне1, человечество —
своего бойца, литература — своего Гомера мыслей. Теперь
* Это фурор! (франц.). — Сосг.
189
A. A. БЕСТУЖЕВ
можно воскликнуть словами библии: куда сокрылся ты,
лучезарный Люцифер! «Смерть сорвала с неба эту златую
звезду», и какое-то отчаянное эхо его падения отозвалось
в сердцах у всех людей благомыслящих. Я не мог, я не
хотел верить этому, ожидал, что это журнальная смерть,
что это расчетливая выдумка газетчиков, но это была прав¬
да, ужасная правда. Он умер, но какая завидная смерть...
он умер для Греции, если не за греков, которые в кровавой
купели смыли с себя прежний позор. Он завещал чело¬
вечеству великие истины, в изумляющем дарованье своем,
а в благородстве своего духа пример для возвышенных
поэтов. И этого-то исполина гнала клевета, и зависть
изгнала из отечества, и обе отравили родимый воздух;
история причислит его к числу тех немногих людей, кото¬
рые не увлекались пристрастием к своему, но действовали
для пользы всего рода человеческого.
Вы спрашиваете меня, почтеннейший Петр Андреевич,
для чего я не пишу в журналы, но я до сих пор совсем
не имею времени, скача беспрестанно по дорогам для
обозрения, так что мне не удается попасть на проселочную
дорогу словесности. Притом теперь уже не поздно ли
вновь начинать войну; критики опадают, как листья, но
дерево живет веки, и, конечно, все выходки М. Дмитриева
с товарищи и вкладчики столь же мало замарали извест¬
ность вашу, как Прадоны славу Вольтера2. Безыменные
брани доказали публике и характер и вздорность человека,
который не стоит имени, которое на него надето и, как видно,
кажется ему хомутом, ибо он снимает его, чтобы набры-
каться в своем виде. Ей-богу, досадно, что эти господа
из критики сделали ослиную челюсть и воображают, что
они Сампсоны3. Мысль ваша, любезный князь, о составле¬
нии общества для издания книг4 принадлежит к мечтам
поэта, а не к прозаической истине нашего быту; она
делает честь вашему сердцу — но, князь, может быть,
только оно одно из ваших друзей и товарищей не устарело
в холоде самолюбия и не иссохло от расчетов. Оглянитесь
кругом себя и кого найдете вы помощниками радушными?
Одни могут, но не захотят, а другие при всем желании
не могут, ибо тут нужны деньги и деньги. На расход же
надеяться нечего — в этой главе вы всегда ошибались,
князь, воображая, что у нас в самом деле читаются и рас¬
ходятся книги. Притом не забудьте также, какими глазами
будут смотреть на это цензоры и министры. Нет, нет.
190
ПИСЬМА
Мы видим сны золотые, а сами от голоду мрем5.
Россию нельзя сравнивать с Францией; у нас не позво¬
ляют и читать энциклопедии, не только писать что-нибудь
подобное. Но главное неудобство есть недостаток доброй
воли. Назовите мне, кроме И. И. Дмитриева, хоть одного
значащего человека, который бы захотел там участвовать?
Если же и назовете, то обманетесь.
Меня очень порадовала весточка, что вы готовите для
нас кое-что... Жду с нетерпением этого. У Дельвига будет
много хороших стихов6 — не надо бы и нам, старикам,
ударить в грязь челом, а это дело господ поэтов. Я за¬
видую вашей жизни — посреди семейства, вдалеке от
сплетней и рядом с природою, — вы должны быть спокой¬
ны и на пороге у счастия. Может, скоро увижусь с вами
в Москве или в Остафьеве — не забудьте до тех пор
искренне Вас любящего
Алекс. Бестужева.
3. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
(СПб.) 12 января 1825 г.
(...) Каковы кажутся вам «Северные цветы»? Здесь
их покупают и не хвалят — как-то у вас? Мне стихи Дель¬
вига лучше всех нравятся1. Жуковский на излете2. Крылов
строчит уже, а не пишет3. Пушкин не в своей колее,
а главный недостаток книжки есть совершенное отсутствие
веселости — не на чем улыбнуться. Разве над доброду¬
шием Плетнева, который возвышает тропарь свой в ака¬
фисте Баратынскому и прочим4. Впрочем, не подумайте,
что тут говорит зависть, — я наперед говорю, что наша
«Звезда» не многим будет лучше «Цветов», — мы не имели
ни ловкости, ни время, ни расположения для улучшения
своего альманаха. Впрочем, что будет, то будет, а будет то,
что бог даст5. Присылайте только подмогу, любезный Петр
Андреевич, — мы начали печатать уже. Цензура строга
и глупа по-прежнему, и здесь день за днем валит без
отмены и без замены. Грибоедов со мною сошелся —
он преблагородный человек; его комедия сводит здесь всех
с ума — и по достоинству. Пущин едет к Пушкину6, —
здесь славят его «Цыган», а 1-я пес<нь) «Онегина» про¬
пущена без всяких выемок. (...)
191
A. A. БЕСТУЖЕВ
4. A. C. ПУШКИНУ
9 марта 1825 г.
Долго не отвечал я тебе, любезный Пушкин; не вини:
был занят механикою издания «Полярной». Она кончается
(то есть оживает), и я дышу свободнее и приступаю
вновь к литературным спорам. Поговорим об «Онегине».
Ты очень искусно отбиваешь возражения насчет пред¬
мета1; но я не убежден в том, будто велика заслуга опло¬
дотворить тощее поле предмета, хотя и соглашаюсь, что
тут надобно много искусства и труда. Чудо — привить
яблоки к сосне, но это бывает, это дивит, а все-таки
яблоки пахнут смолою. Трудно попасть горошинкой в
ушко иглы; но ты знаешь награду, которую назначил за
это Филипп!2 Между тем как убить в высоте орла, надобно
и много искусства, и хорошее ружье. Ружье — талант,
птица — предмет. Для чего ж тебе из пушки стрелять
в бабочку? Ты говоришь, что многие гении занимались
этим, я и не спорю; но если они ставили это искусство
выше изящной, высокой поэзии, то, верно, шутя. Слова
Буало, будто хороший куплетец лучше иной поэмы3, нигде
уже ныне не находят верующих; ибо Рубан, бесталанный
Рубан, написал несколько хороших стихов. Но читаемую
поэму напишет не всякий. Проговориться не значит гово¬
рить; блеснуть можно и не горя. Чем выше предмет,
тем более надобно силы, чтобы обнять его, его постичь,
его одушевить. Иначе ты покажешься мошкою на пира¬
миде, муравьем, который силится поднять яйцо орла. Од¬
ним словом, как бы ни был велик и богат предмет стихо¬
творения, он станет таким только в руках гения. Сладок
сок кокоса; но для того, чтоб извлечь его, потребна не
ребяческая сила. В доказательство тому приведу и пример:
что может быть поэтичественнее Петра и кто написал его
сносно? Нет, Пушкин, нет: никогда не соглашусь, что
поэма заключается в предмете, а не в исполнении. Что
свет можно описывать в поэтических формах, это несо¬
мненно; но дал ли ты «Онегину» поэтические формы,
кроме стихов? Поставил ли ты его в контраст со светом,
чтоб в резком злословии показать его резкие черты?
Я вижу франта, который душой и телом предан моде;
вижу человека, которых тысячи встречаю наяву, ибо самая
холодность, и мизантропия, и странность теперь в числе
туалетных приборов. Конечно, многие картины прелестны;
но они неполны. Ты схватил петербургский свет, но не
192
ПИСЬМА
проник в него. Прочти Байрона; он, не знавши нашего
Петербурга, описал его схоже, там, где касалось до глубо¬
кого познания людей4. У него даже притворное пусто¬
словие скрывает в себе замечания философские, а про
сатиру и говорить нечего. Я не знаю человека, который
бы лучше его, портретнее его очеркивал характеры, схва¬
тывал в них новые проблески страстей и страстишек.
И как зла и как свежа его сатира! Не думай, однако ж,
что мне не нравится твой «Онегин»; напротив. Вся меч¬
тательная часть прелестна, но в этой части я не вижу
уже Онегина, а только тебя. Не отсоветоваю даже писать
в этом роде, ибо он должен нравиться массе публики;
но желал бы только, чтоб ты разуверился в превосход¬
стве его над другими. Впрочем, мое мнение не аксиома;
но я невольно отдаю преимущество тому, что колеблет
душу, что ее возвышает, что трогает русское сердце;
а мало ли таких предметов, и они ждут тебя! Стоит ли
вырезывать изображения из яблочного семечка, подобно
браминам индийским, когда у тебя в руке резец Пракси¬
теля? Страсти и время не возвращаются, и мы не вечны!!!
Озираясь назад, вижу мое письмо, испещренное сравне¬
ниями. Извини эту глинкинскую страсть, которая порой
мне припадает. Извини мою искренность; я солдат и гово¬
рю прямо, в ком вижу прямое дарование. Ты великий
льстец насчет Рылеева и также справедлив, сравнивая
себя с Баратынским в элегиях, как говоря, что бросишь
писать от первого поэм. Унижение паче гордости. Я, на¬
против, скажу, что, кроме поэм, тебе ничего писать не
должно. Только избави боже от эпопеи. Это богатый
памятник словесности, но надгробный. Мы не греки и не
римляне, и для нас другие сказки надобныъ.
О здешних новостях словесных и бессловесных не
многое можно сказать. Они очень не длинны по объему,
но весьма по скуке. Скажу только, что Козлов написал
«Чернеца» и, говорят, недурно. У него есть искры чувства,
но ливрея поэзии на нем еще не обносилась, и не дай
бог судить о Байроне по его переводам: это лорд в Жуков¬
ского пудре. Н. Языков точно имеет весь запас поэзии,
чувство и охоту учиться, но пребывание его на родине
немного дало полету воображению. Пьесы в «П. 3.» только
что отзываются прежними его произведениями6. Что же
касается до Бар(атынско)го, то я перестал веровать в его
талант. Он исфранцузился вовсе. Его «Едда» есть отпеча¬
193
A. A. БЕСТУЖЕВ
ток ничтожности, и по предмету и по исполнению; да
и в самом «Черепе» я не вижу целого, одна мысль, хорошо
выраженная, и только. Конец — мишура. Байрон не захо¬
тел после Гамлета пробовать этого сюжета и написал
забавную надпись, о которой так важно толкует Плетнев7.
Скажу о себе: я с жаждою глотаю англинскую литературу
и душой благодарен английскому языку: он научил меня
мыслить, он обратил меня к природе, это неистощимый
источник! Я готов даже сказать: il n’y a point de salut hors
la littérature Anglaise*. Нели можешь, учись ему. Ты будешь
заплачен сторицею за труды. Будь счастлив, сколько мож¬
но: вот желание твоего
Бестужева
5. М. и Н. БЕСТУЖЕВЫМ
25 декабря 1828 г.
...Я не пугаю строфами своими даже диких уток, как
это делает Пушкин, который, мимоходом сказать, ведет
своего «Онегина» чем далее, тем хуже. В трех последних
главах не найти полдюжины поэтических строф. Стихи
игривы, но обременены пустяками и нередко небрежны
до неопрятности. Характер Евгения просто гадок. Это
бесстрастное животное со всеми пороками страстей.
Дуэль описана прекрасно, но во всем видна прежняя
школа и самая плохая логика. Со всем тем Пушкин —
поэт и недюжинный, недостаток хорошего чтения и изли¬
шество дурного весьма вредят ему...
6. А. М. АНДРЕЕВУ
(Дербент.) 9 апреля 1831 г.
Прежде всего благодарю вас за доставление «Поездки
в Германию»1, почтеннейший Ардалион Михайлович: она
заставила меня смеяться и плакать — две вещи очень ред¬
кие для моего изношенного сердца. В толпе лиц, автором
описанных, я встретил и знакомцев; вообще простота,
равно как истина описаний и чувств, пленительна. Это не
мой род, но я тем не менее чувствую его красоты. Из при¬
ложенной записки знакомой руки я впервые получил дель¬
ное наставление насчет сочинений моих: мне необходимо
руководство, во-первых, потому, что я не имею, благодаря
бога, слепой самонадеянности, а во-вторых, потому, что
* Нет спасения вне английской литературы (франц.). — Сост.
194
ПИСЬМА
в течение с лишком пяти лет не живу на свете, не только
в свете. И вот почему мне хотелось бы, чтоб г-да издатели
сказали мне: «Нам нужны вот какие статьи — публика
любит то и то». Мне даже совестно, что вы взяли с Ни¬
колая Ивановича2 дорого за «Наезды»3: как журналисту
ему можно бы уступить и дешевле, а как учителю моему
это было бы и должно. Он, так сказать, выносил меня
под мышкой из яйца; первый ободрил меня и первый
оценил. Ему обязан я грамматическим знанием языка, и
если реже прежнего ошибаюсь в ятях — тому виной опять
он же. Нравственным образом одолжен я им неоплатно,
за прежнюю приязнь и добрые советы; он прибавляет
теперь к этому капиталу еще более, великодушно вызы¬
ваясь на все хлопоты по изданию романа (если я напишу
его) и отворяя двери в свой журнал для скитающихся
статей моих. Засвидетельствуйте ему полную за то благо¬
дарность — я должник его по сердцу и по перу. Охотно
пополню недостаток до десяти листов при первом досуге.
Продолжение «Вечера на Кавк. водах» еще не писал, но
теперь же примусь. Насчет блесток замечание весьма
справедливое — но это в моей природе: кто знает мой
обыкновенный разговор, тот вспомнит, что я невольно
говорю фигурами, сравнениями, и мои выходки Николай
Иванович недаром назвал б(естужевски)ми каплями.
Впрочем, иное дело повесть, иное роман. Мне кажется,
краткость первой, не давая места развернуться описаниям,
завязке и страстям, должна вцепляться в память остро¬
тами. Если вы улыбаетесь, читая ее, я доволен, если смее¬
тесь — вдвое. В романе можно быть без курбетов и прыж¬
ков: в нем занимательность последовательная из характе¬
ров, из положений; дай бог, чтобы мой сивка-бурка не
зашали лея и там. Это, однако ж, еще будущее.<...)
7. Н. А. ПОЛЕВОМУ
28 мая 1831 г.
...Скажите, пожалуйте: кто таков Вельтман? Спраши¬
ваю, разумеется, не о человеке, не об авторе, а просто
об особе его... С первыми двумя качествами я уже знаком,
могу сказать, дружен, хочется знать быт его. По замашке
угадываю в нем военного; дар его уже никому не загадка.
Это развязное, легкое перо, эта шутливость истинно рус¬
ская и вместе европейская, эта глубина мысли в вещах
дельных, как две силы центральные, то влекут вас к думе,
195
A. A. БЕСТУЖЕВ
то выбрасывают из угрюмости: он мне очень нравится.
Прошу включить «Странника» в число гостинцев. Еще
вопрос: кто пишет юмористические статьи «Живописца»?1
В нем различаю двух: одного, который взял за образец
аллегорию спектатора, род, немножко поизношенный. Дру¬
гого кисть оригинальнее, бойче, новее. Г. Ушаков, по
мнению моему, лучший писатель, нежели критик. В раз¬
боре его «Самозванца»2, впрочем, есть много мыслей
вовсе ложных, особенно насчет мнений русского народа.
Ничто так не вредит наблюдениям, как заготовленное на¬
перед понятие о вещах и людях: это сито для сортировки
жемчужин пропускает только известной величины и круг¬
лоты перлы. Я читал из «Киргиз-кайсака»3 только две
главы: очень, очень милы; нельзя ли и его послать попотеть
в Дербент?...
8. Н. А. ПОЛЕВОМУ
(Дербент.) 13 августа 1831 г.
...О «Годунове» долго не мог я дать сам себе отчета —
такое неясное впечатление произвел он на меня. Я ожидал
большего, я ожидал чего-то, а прочел нечто. Тьфу ты, про¬
пасть, думал я, неужели ли я окоченел в Якутске и за¬
черствел здесь чувством к изящному; но, хоть убей, я не
нахожу тут ничего, кроме прекрасных отдельных картин,
но без связи, без последствия; их соединила, кажется,
всемогущая игла переплетчика, а не мысль поэта... Впро¬
чем, я доселе еще не совсем доверяю себе... Избалованный
Позами и Теллями и Ричардами III1, я может быть, поте¬
рял простоту вкуса и не нахожу прелести в вязиге. Раз¬
решите мое сомнение о пьесе, про которую сам Пушкин,
в 1825 году еще, писал ко мне: «Впрочем, это все игрушки
(он разумел о мелких своих поэмах), я занимаюсь теперь
трудом важным: пишу трагедию «Борис Годунов». След¬
ственно, он отделывал его con amore*, и в некотором
отношении она может служить мерою его творческого
духа!
В других стихотворцах не вижу ничего хорошего осо¬
бенно. Гладкие стихи, изредка чужая мысль, и та приче¬
сана, завита так, что боже упаси!
Литература наша — сетка
На ловлю иноморских рыб;
Чужих яиц она наседка,
* С любовью (итал.). — Сост.
196
ПИСЬМА
То ранний цвет, то поздний гриб.
Чужой хандры, чужого смеха
Всеповторяющее эхо.
Та беда еще, что не выбирают хорошего для подра¬
жания. Дались им Уланды, Ламартины, как будто на
свете не существует ни Шекспира, ни Шиллера, ни Данте,
ни Байрона. Отчего происходит это? От малознания ли
языков или оттого, что не по силам поднять исполин¬
ское бремя гениальной мысли? Кстати, кто таков Шевы-
рев, который пальнул в вас с холма Капитолия?..2 Его
похваливают иные журналы; я ищу его стихов и не нахо¬
жу. Вельтман будет милый стихотворец: но ежели пойдет
столбовою дорогой наших поэтов, то не выбьется из ми¬
лых. Стихотворные повести пленительны у Байрона
и Вальтера Скотта: у первого глубокими чувствами, у вто¬
рого подробностями, но без того и другого они могут
тешить одно любопытство. Вообще, мне проза Вельтмана
и шутливые стихи больше нравятся, чем долгие его стихо¬
творения. Не включаю в то число «Искандера»: тот очень
поэтичен, хоть и в прозе...
9. Н. А. ПОЛЕВОМУ
(Дербент.) 16 декабря 1831 г.
...Чуден стал внутренний мир мой: прочтите «The Dark¬
ness»* Байрона, и вы схватите что-то похожее на него;
это океан, «задавленный тяжелой мглой, недвижный,
мрачный и немой», над которым мелькают какие-то
неясные образы. Зима судьбы погрузила меня в спячку...
о, ежели б эта зима сохранила в свежести чувства
мои для красных дней! Напрасная мольба... холод сохра¬
няет только мертвецов в своем лоне, он убийца жизни.
Слышу упрек совести: «ты погребаешь талант свой»,
и на миг хватаюсь за перо. Вот почему не написал я досе¬
ле ничего полного, развитого до последней складки. Мои
повести, разорванные звенья электрической цепи, вязав¬
шей ум мой с сердцем: но я сам не разберу концов, не
сцеплю обрывков. Впрочем, с неохотой принимаясь за
дело, я с любовию веду его. Только в чтении, только
в сочинении оживаю... Правда, я живу тогда не своею
жизнию: плавное мое воображение принимает все виды.
Оборотень, оно влезает в кожу, оно, как рукавицу, наде¬
* «Тьма» (<англ.). — Сост.
197
A. A. БЕСТУЖЕВ
вает понятия лиц, созданных мною или другими: я смеюсь
и плачу над листком... но это миг... а скоро простываю:
слова мне кажутся так узки, перо так медленно, и потом
читатели так далеки, путь к их сердцам нравственно и
физически так неверен... и потом, когда вздумаю, что эта
игра или страдание души все-таки поденщина для улуч¬
шения своего быта, кисну, холодею, тяну, вяжу узлы как-
нибудь. Нет, нет: для полного разлива, для вольного
разгула дарования надо простор; нет, я не доволен своими
созданиями! Это дети, иногда забавные, иногда милые,
порой даже умненькие, но дети, но карлы, а я живу в сто¬
роне исполинских гор, в мире исполинов, мечтаний... Ради
бога, не поминайте мне про мои сказки...
10. Н. А. ПОЛЕВОМУ
(Дербент.) 1 января 1832 г.
...Отведем душу: поговорим о словесности. Денежная
удача Булгарина разманила писак наших. Желание выгод
приняли они за вдохновение, и давай из иностранных
лоскутков сшивать русские романы1. Не знаю, как другим,
а мне очень заметны швы этих ветошных выставок.
Я имею пренесчастную память — память квартального,
которому не попадайся, плут, на глаза дважды, и от этого
я редкое русское произведение читаю с удовольствием.
Даже театральные разборы игры актеров, не только жур¬
нальные критики, так пахнут «Журналом прений», что я,
кажется, мог бы указать нумер, из которого они выкра¬
дены. Жаль, право, что газетные листки не клеймятся,
а то редкий бы из них избежал величественных заглавных
букв В, О и Р: и поделом бы — не шарь по чужим кар¬
манам. В романах еще более бессовестности. Нарядят
какого-нибудь лорда в нагольный тулуп, и думают, что
в этом наряде можно сдать его хоть не в зачет в рекруты.
Везде у них является какая-нибудь Диана Вернон2, с ко¬
сою по пятам, везде Гурт3, вверх ногами, а без дуры
или сумасшедшей не смеют они и показаться. Это их
родная сестра, или муза. Презатейливые сны видятся их
героям и героиням чуть не наяву, и эта греза — завязка
всего происшествия. За милость еще, если обойдется без
колдуньи, а то, пожалуй, по примеру Ф. В., заставят
вас присутствовать при анатомической прозекции свиньи,
из брюха которой вынут змею и лягушку, и все это в ян¬
варе месяце. (Зри «Димитрия Самозванца».) Господи,
198
ПИСЬМА
твоя воля! Да неужели на святой Руси не найдем мы
ни одной оригинальной дуры, ни одной ведьмы, за которой
бы тащился не шлейф, а хвост, самородный, киевский?..
Нет, господа, как вы хотите, а голландской селедке не
след являться с квашеною капустой, русскую ворону не
скроют перья попугаев американских, и английский фрак
волочится у вас самих по пятам. На беду нашу, вы не
успеете даже читать живую грамоту оригиналов, и русский
Наш отзывается у вас как N французский4. Не говорю
уже о доблъю Шекспира, о Кальдероновском caraho, о не-
позвалям поляков, а из италиянского мира поэзии вы до¬
стойны знать только: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate!*5
Я говорю это более в отношении смысла, в отношении
характера народного, чем познания языка. Да и кто у нас
пишет? Или жители гостиных, которые раз в год прислу¬
шиваются к языку народа в балаганах и рады-рады, что
выудят какое-нибудь пошлое выражение, с которым носят¬
ся, словно с писаною торбой. Это у них родимое пят¬
нышко на маске. Весь прочий язык — сметана с разных
горшков: что-то кисло-сладкое, плавающее в сыворотке
бездарности, и все это посыпано свинцовым сахаром лич¬
ности или солодковым корнем лести: прекрасное лекарство
от кашля, не от скуки. Или такие люди, которым, конечно,
нечего лазить в карман за харчевными выражениями, зато
напрасен и труд дать этим речам занимательность. Чтоб
узнать добрый, смышленый народ наш, надо жизнь пожить
с ним, надо его языком заставить его разговориться...
быть с ним в розхмель на престольном празднике, ездить
с ним в лес на медведя, в озеро за рыбой, тянуться
с ним в обозе, драться вместе стена на стену. А солдат
наш? Какое оригинальное существо, какое святое суще¬
ство и какой чудный, дикий зверь с этим вместе! Как
многогранна его деятельность, но как отличны его понятия
от тех, под которыми по форме привыкли его рисовать.
Этот газетный мундир вовсе ему не впору... Солдат наш
не Трим6, не гренадер Старой гвардии, но и не Храбров
драм Федорова, не то, как описывают его старинные песни,
всего менее певун Федора Глинки. Кто видел солдат толь¬
ко на разводе, тот их не знает; кто видел их с фухтелем7
в руке, тот их и не узнает никогда, хоть бы век прослужил
с ними. Надо спать с ними на одной доске в карауле,
* Оставь надежду, всяк сюда входящий! (итал.). — Сост.
199
A. A. БЕСТУЖЕВ
лежать в морозную ночь в секрете, идти грудь с грудью
на завал, на батарею, лежать под пулями в траншее, под
перевязкой в лазарете; да, безделица: ко всему этому надо
генияльный взор, чтобы отличить перлы в кучах всякого
хламу, и потом дар, чтобы снизать из этих перл ожерелье!
О, сколько раз проклинал я бесплодное мое воображение
за то, что из стольких материалов, под рукою моей рас¬
сыпанных, не мог я состроить ничего доселе! Дай бог, что¬
бы время починило дырявые мои карманы, а то все зани¬
мательное высыпается из них, словно орехи у школьника.
Я был так счастлив (или, пожалуй, так несчастлив), что
вблизи разглядел народ наш, и, кажется, многое угадал
в нем; вопрос: удастся ли мне когда-нибудь извлечь из
этих дробей знаменателя?.. Хочу и сомневаюсь.
Но мы бродим по сторонам. Зерно верхних строк упало
из № 18 «Телеграфа». «Стрельцы»!8 Гм! Эпоха великих
характеров: это великаны старинной Руси, которые отстаи¬
вают не одни свои бороды в борьбе с великаном нового
века. Это бой насмерть. Стрельцы! Громкое имя, привле¬
кательное не для одних книгопродавцев. Пусть не срав¬
нивают их с янычарами: это старее пудры. Напротив,
в них замерла последняя народность. С Петра солдат уже
перестал быть человеком; мундир и кафтан разлучились
надолго. Эра, более значащая в домашнем быту России,
чем в политических весах, в которые Великий бросил ог¬
ромный меч свой. Ничего не вижу из отрывков журналь¬
ных. Конечно, роман нельзя составить по двум позвонкам,
подобно костяку какого-нибудь мамонта, но птицу можно
узнать не только по полету, да и по перелету. «Украденная
невеста»! Ба, ба, ба! Да это «I promessi Sposi»*9: та же
канва, те же bravi, только с окладистыми бородами а 1а
Iliuschka**! Ну, с богом: «проваливай, дядюшка!» Надо бы
подарить сережки и сестрице, нашей поэзии (она же,
бедняжка, право, дура бессережная), да та беда, что для
ее испанских титулов — С.Шевырев, Е. Кугушев, Е. Три-
лунный ets, ets, ets., нет у меня места: это совершенно
«Крысий архипелаг» нелепостей в море пустозвучия. Как
читаешь раздирающие жизнь (а нередко и ухо) их сти¬
хотворения, так и хочется сказать:
Печальной музы кавалеры!
Признайтесь: только стопы вы
* «Обрученные» (итал.). — Сост.
** Под Илюшку (франц.). — Сост.
200
ПИСЬМА
Обули в новые размеры,
Не убирая головы!
И рады, что нашли возможность,
На разум века не смотря,
Свою распухлую ничтожность
Прикрыть цветами словаря!..
Впрочем, в Шевыреве водятся иногда мысли, в Трилун-
ном — чувства, но это так редко или так ветхо! Прочих
поэтов не помню даже имен; они все, кажется, берут
напрокат стоптанные туфли Пушкина. Кстати, он, слы¬
шится, издает альманах? Дай бог, чтобы то был альфа
и омега этого агамемноновского племени. Надоели, как
пруссаки! (...)
11. Н. А. ПОЛЕВОМУ
(Дербент.) 25 июня 1832 г.
Любезный и почтенный Николай Алексеевич! Я полу¬
чил, я поглотил ваше новое сочинение «Клятву»1. В ней
русский дух воочью совершается, и наши деды распоя¬
сывают душу; одним словом, прежняя Русь живет там
снова — но по-старому. Видишь, кажется, быт средних ве¬
ков во всей его полноте и пестроте. Это не Геркуланум2,
отрытый из-под векового пепла; в том одни утвари, одни
стены, жизнь истреблена: это город-могила. У вас театр
кипит жизнию, былою, но действительною. Пусть другие
роются в летописях, пытая их, было ли так, могло ли быть
так во времена Шемяки?3 Я уверен, я убежден, что оно
так и было... в этом порукою мое русское сердце, мое
воображение, в котором старина наша давно жила такою,
как ожила у вас. К чему ж послужила бы поэзия, если б
она не воссоздавала минувшего, не угадывала будущего,
если б она не творила, но всегда по образу и по подобию
истины! Послушайте, Николай Алексеевич: у вас много
завистников, и на святой Руси глупцов не оберешься,
но если б тех и других считали по последней ревизии,
мнение десяти, много мнение трех человек истинных це¬
нителей (и не по уму, нет, по сердцу) предпочтительнее
всей этой громады. Так всегда думал я для себя, так сове¬
тую вам применить это правило к себе... и считайте это
тщеславием, самолюбием, заносчивостью, чем угодно, но я
ставлю себя в число трех ценителей и говорю: «Клятва»
хороша!» Следуют подробности, почему, следуют замеча¬
ния, как иные места могли б быть лучше, но об вещах
201
A. A. БЕСТУЖЕВ
столь новых не напишешь на розовом листочке. Я бы же¬
лал прочесть это произведение при вас, вслух и остано¬
виться на каждом выражении, которое разногласит с со¬
седями (а это инде встречается); я бы сказал: в этом
положении язык такого-то лица должен быть возвышен¬
нее, ибо каково бы ни было состояние человека, крити¬
ческие минуты, сильные страсти надмевают душу и наре¬
чие; это говорю я не из книг, а по собственному опыту:
я сам бывал в подобных случаях, я сотни раз наблюдал
в такие минуты других, особенно людей, одаренных силь¬
ными характерами. Гомер и Шекспир, два сердцеведца,
постигли эту тайну в высшей степени, и у обоих вы най¬
дете, что самые высокие выражения душ, обуреваемых
страстью, перемешаны с самыми низкими словами, с уко¬
рами, с бранью площадною: это чистая природа! Это —
бунтующее море, которое извергает на берег и янтарь, и
грязную пену. Страсть не умеет ходить на ходулях: на
них взмощается расчет: но, с другой стороны, мнение,
будто простые люди могли не иначе выражаться как
поденщики за работой, ошибочно. Простые люди не про¬
стаки, и, право, в ссорах наших мужиков мне случалось
находить более поэзии в бранях, чем в поэмах наших сти¬
хотворцев. Русский слова не скажет без фигур, без срав¬
нений; дело в том, что сила их скрыта в выражении: на¬
добно раскусить скорлупу. Впрочем, когда кончите быль
эту, то есть когда мы ее кончим, я поговорю о ней по¬
просторнее; теперь еще не видно общности, а роман не
полип. Вот что имеет подобное свойство, так это главы
Вельтманова «Странника». Идея брошена, кажется, от¬
дельно, отрезана от прежних и прочих, но вглядитесь, от¬
дельная жизнь начинает в ней биться, целое образуется,
неровности округлены. Его надобно читать пристально,
и очень жаль, что он скрывает часто новые мысли в
хрустальные обломочки и в мишурные блестки. Притом
эта ариостовская манера вводить и выводить в главы и
из них — чересчур стара. Tours de passe — passe* могут
в свою очередь забавлять на раз, а он их повторяет черес¬
чур часто. Впрочем, все это дядя Тоби и Тристрам, не
связанные, по несчастию (как у Стерна), никаким харак¬
тером.
Поблагодарите Вельтмана и за сочинение, и за
* Фокусы (франц.). — Сост.
202
ПИСЬМА
присылку «Странника», но скажите, что я ожидаю от него
более последовательности вперед. Человек, который так
удачно мыслит, должен и размышлять хорошо. Он напи¬
сал на заглавном листке: «Не глаза знакомят людей, а
души». Жаль, если он знаком только с душою Марлин-
ского: это даже не ножны, а наконечник сабли.
Мы не знаем, чему приписать задержку вашей «Ис¬
тории русского народа»; а ждем не дождемся, как ваших
писем. Впрочем, отвечайте мне томами своими, и это бу¬
дет лучшею отповедью; будьте для нас здоровы, а для
себя счастливы.
Неизменный ваш Александр Бестужев.
12. H.A. ПОЛЕВОМУ
(Дербент.) 26января 1833 г.
(...) Я с большим наслаждением читал статью о
Державине1, я с большим огорчением огляделся кругом,
прочитавши ее... где он, где преемник гения, где хранитель
огня Весты?2 Я готов, право, схватить Пушкина за ворот,
поднять его над толпой и сказать ему: стыдись! Тебе ли,
как болонке, спать на солнышке перед окном, на пуховой
подушке детского успеха? Тебе ли поклоняться золотому
тельцу, слитому из женских серег и мужских перстней, —
тельцу, которого зовут немцы маммон, а мы, простаки,
свет? Ужели правда и для тебя, что
Бывало, бес когда захочет
Поймать на уду мудреца,
Трудится до поту лица,
В пух разорить его хлопочет.
Теперь настал светлее век,
Стал крепок бедный человек —
Решенье новое задаче
Нашел лукавый ангел тьмы:
На деньги очень падки мы,
И в наше время наипаче
Бес губит — делая богаче.
Но богаче ли он или хочет только стать богаче? Или,
как он сам говорил:
Я влюблен, я очарован,
Я совсем огончарован?3
Таинственный сфинкс, отвечай! Или я отвечу за тебя:
ты во сто раз лучшее существо, нежели сам веришь, и в
тысячу раз лучшее, нежели кажешься.
203
A. A. БЕСТУЖЕВ
Я не устаю перечитывать «Peau de Chagrin»*; я люблю
пытать себя с Бальзаком... Мне кажется, я бичую себя,
как спартанский отрок, чтобы не морщиться от ран после.
Какая глубина, какая истина мыслей, и каждая из них,
как обвинитель-светоч, озаряет углы и цепи светской
инквизиции, инквизиции с золочеными карнизами, в хрус¬
тале, и блестках, и румянах!
Я колеблюсь теперь, писать ли роман, писать ли траге¬
дию, а сюжет есть богатый, где я каждой силе из разрыва¬
ющих свет могу дать по представителю, каждому чув¬
ству — по поступку. Можете представить, как это будет
далеко, бледно, но главное, то есть страсти, сохраню
я во всей силе. Я, как Шенье у гильотины, могу сказать,
ударя себя по лбу: тут что-то есть, но это еще связно,
темно или, лучше сказать, так ярко, что ум ослеплен и
ничего не различает. (...)
13 H.A. ПОЛЕВОМУ
{Дербент.) 18 мая 1833 г.
(...) Вы правы, что для Руси невозможны еще гении:
она не выдержит их; вот вам вместе и разгадка моего
успеха. Сознаюсь, что я считаю себя выше Загоскина и
Булгарина; но и эта высь по плечу ребенку. Чувствую,
что я не недостоин достоинства человека со всеми моими
слабостями, но знаю себе цену и, как писатель, знаю и
свет, который ценит меня. Сегодня в моде Подолинский,
завтра Марлинский, послезавтра какой-нибудь Небылин-
ский, и вот почему меня мало радует ходячесть моя. Не
вините крепко меня за Бальзака: я человек, который
иногда может заслушаться сказкой, плениться игрушкой,
точно так же, как сказать или сделать дурачество. Вот
почему и Бальзак увлек меня своей «Шагреневою кожей».
Там есть сильные вещи, есть мысли, если не чувства глу¬
бокие. Выдумка стара, но форма ее у Бальзака яркая,
чудная, и потом он мастер выражаться. Зато в повестях
его я, признаюсь, нашел только один силуэт ростовщика,
резким перстом наброшенный. В Нодье я сроду ничего не
находил и не постигаю дешевизны похвал французской
публики: она со всяким краснописцем носится, будто с
писаною торбой. Перед Гюго я ниц... это уже не дар, а
гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит в
* «Шагреневая кожа» (франц.). — Сост.
204
ПИСЬМА
гору всю французскую словесность и топчет в грязь все
остальное и всех нас, писак. Но Гюго виден только в
«Notre-Dame»* (говоря о романах). Его «Han d’Islande»**—
смелая, но неудачная попытка ввести бойню в будуары.
«Бюг-Жаргаль» — золотая посредственность. И заметьте,
что Гюго любит повторять свои лица и свои основные
идеи везде. Ган, Оби, Квазимодо — уроды в нравственном
и физическом родах... потом саможертвование в «Бюге»,
в «Гернани», в «Марион де Лорм»... Это правда, что он,
как по лестнице, идет выше и выше по этим характерам:
но Шекспир, человек более гениальный, этого не делал, а
нам, менее даровитым, на это нельзя и покуситься. Надоб¬
на адская роскошь Байрона в приправах, чтобы разнообра¬
зить вырванное из человека сердце, которым кормит он
читателя. «Кромвель» холоден и растянут: из него можно
вырезывать куски, как из арбуза, но целиком — нет. Мари¬
она прелестна: это Гец1 для времени Ришелье. Полагаю,
что «Борджия» достойна своей славы, и жажду прочесть
ее. Кстати, «Последний день осужденного» — ужасная
прелесть!.. Это вдохнуто темницей, писано слезами, печа¬
тано гильотиной... Пускай жмутся крашеные губы и табач¬
ные носы, читая эту книгу... пускай подсмеиваются над
нею кромешные журналисты — им больно даже и слышать
об этом, каково же выносить это!.. О, Дантов ад — гости¬
ная перед ужасом судилищ и темниц, и как хладнокровно
населяем мы те и другие! Как счастлива Россия, что у ней
нет причин к подобной книге! (...)
14. Н. А. и м. А. БЕСТУЖЕВЫМ
(Дербент.) 21 декабря 1833 г.
(...) О, как бы я хотел броситься к тебе на шею и ска¬
зать: брани мои повести сколько душе угодно, но посмотри
на меня: неужели ты не видишь во мне того же сердца,
лучшего еще сердца, потому что оно крестилось в слезах,
сердца, которое, право, лучше всего того, что я писал и
напишу. Впрочем, книга есть человек; творение есть отра¬
жение творца, так я думаю и верю и вот почему скажу
несколько слов в свое оправдание. Ты говоришь, что я
подражаю часто; но кому? Это будет так же трудно ска¬
зать тебе, как мне угадать. Правда, в рассказе иногда я
* «Собор Парижской богоматери» (франц.). — Сост.
** «Ган Исландец» (франц.).— Сост.
205
A. A. БЕСТУЖЕВ
подражал и тому и другому, точно так же, как подража¬
ешь иногда голосу и походке любимого человека, с кото¬
рым живешь; но голос не есть слово, походка не есть
поведение. Я схватывал почерк, никогда слог. Доказатель¬
ство тому, что слог мой самобытен и нов, — это неуменье
подделаться под него народцев, которые так охочи писать
и так неспособны писать. Пусть найдут еще в моих пове¬
стях хоть одно укрывающееся лицо из-за границы, пусть!
Неужели мой Саарвайерзен1 выкраден откуда-нибудь?
Если да, так это с портретов Вандейка, не более. Все
авторы, словно стакнувшись, задрямили рисовать голланд¬
цев флегмою; я, напротив, выставил его горячим, но рас¬
четливым сыном огня и болота: это летучая рыбка. Глав¬
ное, любезный мой Никола, ты упускаешь из вида целое,
прилепляясь к частностям. Неужели, например, в ботани¬
ческой лекции, как называешь ты разговор Белозора2,
не угадал мысли: как любовь все предметы переплавляет
в свое существо и в самой сухой соломинке находит
себе сладкую пищу. Иные главы, по-видимому, вставлены
у меня вовсе сверх комплекту, как, например, разговор
Кокорина с лекарем3, но кто знает: не желал ли я возбу¬
дить внимание читателей нетерпением? Это тоже тайна ис¬
кусства. Кроме того, мои повести могут быть историей
моих мыслей, ибо я положил себе за правило не удержи¬
вать руки; и вот, если разберете мою медицину, то найдете,
может быть, более дельных насмешек над модными мнени¬
ями медиков, чем ожидали. Так и во многом другом*.
У Бальзака много хорошего, но учиться у него я не
буду. Разбери глубже, и ты увидишь, что он более блестящ,
чем ясен. Кроме того, что он пересаливает олицетворе¬
ние кстати и не кстати и часто одно и то же в разных
соусах; кроме того, что он торопится за золотыми ябло¬
ками Аталанты4, он слишком разъединяет страсти своих
лиц: эта исключительность не в природе. Так, лучшее из
его лиц, госпожа Жюль, и ухом не ведет, что за нее давят,
режут и отравляют людей. Естественно ли это? Неужели
совесть ее чиста или спокойна от любви к мужу или отто¬
го, что она убивает не своими руками! Будь уверен, что
♦Что же касается до блесток, ими вышит мой ум; стряхнуть их —
значило бы перестать носить свой костюм, быть не собою. Таков я в
обществе и всегда, таков и на бумаге; ужели ты меня не знаешь? Я не
притворяюсь, не ищу острот — это живой я.
206
ПИСЬМА
я не выставил бы такого лица на поклонение, не надел бы
на него бесполого, хоть и бархатного кафтана Колибрадо-
са!5 Странно, что у вас так возвышают Бальзака, а молчат
про В. Гюго, гения неподдельного, могучего. Его «Notre-
Dame», его «Marion de Lorme», «Le s’amuse»* и «Боргиа» —
такие произведения, которых страница стоит всех Бальза¬
ков вместе, оттого, что у него под каждым словом скрыта
плодовитая мысль. Правду сказать, с полгоря и писать им
на раздолье и в таком кипятке событий, а для меня куда
ни кинь, так клин: то того нет, то другого нельзя, ни ис¬
точников, ни досуга, а воображение под утюгом. Поневоле
клюешь тыкву: виноград зелен. (...)
15. Н. А. и м. А. БЕСТУЖЕВЫМ
1 декабря 1835 г.
(...) Небольшой я охотник до литературных оправда¬
ний и на досуге, еще менее теперь, в действительности
боевой жизни; однако ж, так как мои недостатки, по
мнению вашему, могут отразиться на всей русской словес¬
ности, то, хотя и нехотя, надо черкнуть свое мнение в
спорных пунктах, достойных внимания; прочее можете
счесть за согласие, ибо я не думал себя производить
в папы: homo sum**! Обвиняете меня в займе у французов
некоторых выражений, например: que sais — je? что я
знаю? (И оно, мимоходом, занято не у Жанена, а у Мон-
таня.) Да не у одних французов, я занимаю у всех евро¬
пейцев обороты, формы речи, поговорки, присловия. Да,
я хочу обновить, разнообразить русский язык и для того
беру мое золото обеими руками из горы и из грязи, ото¬
всюду, где встречу, где поймаю его. Что за ложная мысль
еще гнездится во многих, будто есть на свете галлицизмы,
германизмы, чертизмы? Не было и нет их! Слово и ум есть
братское достояние всех людей, и что говорит человек, дол¬
жно быть понятно человеку, предполагая, разумеется, их
обоих не безумцами. Будьте уверены, что еще при наших
глазах грамматики всех языков подружатся между собою, а
риторики будут сестрами. Ходьба взад и вперед сотрет и
непременно сгладит мелочные грани, нарезанные идиотиз¬
мами и произведенные педантами в правила. Чудные
* «Марион де Лорм», «Король забавляется» («Le roi s’amuse»)
(франц.). — Сост.
** Я человек! (латин.). — Сост.
207
A. A. БЕСТУЖЕВ
люди! Мы видим, что изменяются нравы, права, обычаи,
народы, и хотим навечно ограничить улетученную
мысль — слово\ Упрочить, увековечить его, пригвоздить к
памятнику, и, бросая его в народ, как грош, хотим, чтоб
этот грош был неприкосновенным! Однажды и навсегда —
я с умыслом, а не по ошибке гну язык на разные лады,
беру готовое, если есть, у иностранцев, вымышляю, если
нет; изменяю падежи для оттенков действия или изощре¬
ния слова. Я хочу и нахожу русский язык на все готовым
и все выражающим. Если это моя вина, то и моя заслуга.
Я убежден, что никто до меня не давал столько многолич-
ности русским фразам, — и лучшее доказательство, что
они усвоиваются, есть их употребление даже в разговоре.
Характеры мои — дело частное, но если иные вымыш¬
лены неудачно, другие скопированы с природы точно, и
уверить меня, что они неестественны, так же трудно,
как афинянина, который жал под мышкой поросенка,
а ему все-таки говорили, что один фокусник кричит поро¬
сенком гораздо натуральнее! Говорите, что я не понял
нрава моряков? Но чем это докажете? Моряки люди, и
люди, с которыми я жил; почему же не мог я их изучить,
как всякого другого? Тем более — в русском флоте, где
моряк есть более земное, чем водяное животное. Для нас
не годится тип английских моряков и французских конт¬
рабандистов: у нас моряк — амфибия. Насчет романтизма
в разборе «Клятвы при гробе господнем» скажу, что в ней
не читали вы лучшего, и потому нельзя вам судить о
целом и связи. Что в некоторых местах сталкиваюсь я с
Тьерри и другими, виновата история, что для всех одно
и то же описала. Я не выдумывал фактов, как Вольтер
или Щербатов. Но напрасно поместили вы в число моих
ut, re, mi, fa — Sesmondi*: я не читал его до сих пор, да
и еще кого-то, там упомянутого. Точно так же, как «Сала¬
мандру»1, с которой вы находите сходство «Фрегата «На¬
дежды»2: достал нарочно после вашего письма. На этот
счет мое лучшее оправдание — время изданий иностран¬
ных и моих повестей, и вычет из этого — невозможность
скоро получить в таком захолустье, как Кавказ, порядоч¬
ных книг. Часто, очень часто встречаю я в хороших авто¬
рах свои мысли, свои выражения, но почему ж непремен¬
но я украл их? Ирвингу подражал я в форме, не в сущ¬
* До, ре, ми, фа — Сисмонди (итал.). — Сост.
208
ПИСЬМА
ности; но и сам Ирвинг занял олицетворение вещей у По¬
па, Поп у Ботлера, Шекспир у Езопа. То, что врожденно
народу, есть только припоминок, а не изобретение, повто¬
рение, а не подражание. Я начну с пословицы: горшок
котлу попрекает, а оба черны, и выведу целый полк дока¬
зательств, что олицетворение в смешном виде велось иско¬
ни и слилось с русскою природой; за что ж одни англи¬
чане будут владеть им? В любом авторе я найду сто мест,
взятых целиком у других; другой может найти столько же;
а это не мешает им быть оригинальными, потому что они
иначе смотрели на вещи. Все читают одинаково: и остави
нам долги наша, яко же и мы оставляем должником на¬
шим, но спроси каждого, что он под этим разумеет? И не
найдешь двух толков похожих. Так и в словесности. Но
полно о словесности. Выражая у нас мечтательную жизнь,
ее нельзя судить действительностью: это бы значило нака¬
зывать человека за его проступки во сне. (...)
8—907
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
СТАТЬИ
ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Статья первая1
В царствование императриц
Анны и Елизаветы Европа стала свидетельницей рождения
изящной словесности и поэзии у нации, которая и сама-то,
можно сказать, недавно еще народилась на свет. Несколько
лет спустя многие писатели, пораженные гигантскими шага¬
ми, коими древняя царская империя продвигалась по пути
просвещения, принялись, не долго думая, сравнивать первые
опыты русских муз с шедеврами, написанными на языке
Расинов и Вольтеров. Историк Левек, не колеблясь, ставит
Сумарокова рядом с Лафонтеном2, считавшимся неподра¬
жаемым, и который, уж во всяком случае, вполне заслужил
славу поэта, не имевшего себе доселе равных.
Ныне от подобных преувеличенных похвал, столь па¬
губных для прогресса искусства, уже отступились. Исчез¬
ли наши Виргилии, Цицероны, Горации. Их имена сопря¬
гаются с именами почтенной древности только еще в
скверных школьных руководствах. Литераторы наши стали
высказывать здравые суждения. Г-н Мерзляков первый
доказал, что г-н Херасков, писатель, впрочем, весьма до¬
210
ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
стойный, менее всего является вторым Гомером3 и самая
лучшая из его поэм не выдерживает сравнения даже с
«Генриадой»4. В подобный момент не бесполезно бросить
беглый взгляд на нынешнее состояние русской словеснос¬
ти и дать об оном представление иностранным читателям.
Мы ограничимся здесь поэзией: не так давно она претерпе¬
ла некий переворот, на который стоило бы обратить вни¬
мание литературного мира.
Несмотря на попытки Радищева, Нарежного и некото¬
рых других, попытки, кои со временем, быть может, еще
будут оценены, вплоть до начала XIX столетия существо¬
вала в нашей поэзии литературная школа, которая цели¬
ком основывалась на правилах французской литературы.
Стихами здесь почитали лишь те, что имеют рифму; не
признавали иных образцов, кроме тех, кои в качестве оных
допускает Лагарп; упорно не желали замечать существова¬
ния великих поэтов у немцев и англичан. Тиранство суж¬
дений сей школы до того доходило, что никто почти не
решался писать стихи иным размером, кроме ямбиче¬
ского5.
В 1802 году г-н Востоков опубликовал свои «Опыты
лирической поэзии», которые поразили и, можно сказать,
озадачили публику. В сборнике этом несколько Горацие-
вых од переведены были строфою подлинника; пользовал¬
ся он также сапфической стопой, алкеевым6 и элегическим
стихом; он восторженно отзывался о немецкой литературе;
все это были предметы, доселе у нас неизвестные и к коим
относились с пренебрежением.
Но вскоре — этого уже невозможно не заметить —
появилось два человека, которые стараются претворить в
жизнь то, что у Востокова было всего лишь еще попыткой.
Гнедич ввел у нас героический стих древних. Сие новшест¬
во сделает его «Илиаду» достопамятной эпохой в истории
нашей словесности и будет являть собой победу хорошего
вкуса над предубеждением и ложными понятиями7. С дру¬
гой стороны, Жуковский не только преображает внешнюю
форму нашей поэзии, но и меняет саму природу ее. Взяв
себе за образец великих гениев, которые за последнее
время прославили Германию, он, пользуясь выражением
одного из молодых наших пиитов, сообщил русскому язы¬
ку некий германический дух8, весьма родственный нацио¬
нальному нашему духу, столь же, как и он, независимому
и свободному.
8**
211
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМА К ДРУГУ»
СОЧИНЕНИЕ ИВАНА ГЕОРГИЕВСКОГО
Читая «Евгению», человек
чувствительный не может не полюбить ее автора, молодого,
милого мечтателя: изображение счастия привлекательно да¬
же для сердец разочарованных, а изображение благородной
и пламенной страсти занимательно для всякого — для ста¬
рика воспоминаниями, для юноши предчувствием. «Евге¬
ния» не есть роман, каковых мы находим сотни у немцев,
англичан и французов; в «Евгении» нет ни чудес, ни таинст¬
венных замков, ни разбойничьих пещер, ни похищений1: в
ней только два действующих лица, в ней завязка проще да¬
же, чем в Энгелевом «Лоренце»2, но слог полный жизни,
чувства глубокие, мысли нередко возвышенные и — во вто¬
рой части — обдуманные, из самой природы почерпнутые
правила для хорошего воспитания.
До сих пор у нас на русском языке не было ни одного
хорошего оригинального романа. «Марфа Посадница»3,
творение превосходное, не может быть названо романом
как по слогу, который имеет размер, близкий к размеру
языка стихотворного, так и по самому изобретению. Все
прочие старые и новые романы забыты и заслуживают
быть забытыми. Не говорю о небольших прекрасных по¬
вестях Карамзина, Бенитского и некоторых других: они,
конечно, должны быть причислены к одному роду сочи¬
нений с романами; но сказка, баллада, баснь не есть еще
эпопея.
«Евгения» принадлежит к небольшому числу рус¬
ских книг, писанных не для одних мужчин: в сем отноше¬
нии она заслуживает особенное внимание.
Сей роман есть единственное наследие, оставленное
несчастным Георгиевским*. Чувствительное сердце, талан¬
ты необыкновенные, неутомимое трудолюбие и позна¬
ния — редкие не только в его летах — казалось, ручались
ему за славный успех на поприще словесности, но обстоя¬
тельства и неопытность сгубили его; он умер в Уральске
* Престарелые родители Георгиевского находятся в крайней бед¬
ности.
212
«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМА К ДРУГУ»...
на 25 году от рождения. Больно сказать, что Георгиевский
не первая и не последняя жертва судьбы, что он не первый
и не последний юноша,
Чей Гений строгою нуждою умерщвлен4.
Искренне сожалея о нем, с тем вместе почитаю священ¬
ною обязанностию благодарить от лица всех добрых —
тех почтенных мужей, которых имен не выставляю здесь,
чтобы не оскорбить их скромности, которые приняли жи¬
вое и деятельное участие в горестном положении бедного
молодого человека, облегчили страдания, прояснили по¬
следние дни печального: Георгиевский умер, зная об их
благородных усилиях5.
Федор Николаевич Глинка, писатель, который столь дос¬
тойным образом пользуется общим уважением русской
публики, принял на себя труд издать «Евгению» — ссы¬
лаюсь на его объявление о сей книге, напечатанное в
24 № «Сына отечества»*
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
(Из Виланда)
Так, любезный друг: никому
не избежать своего жребия! Ежели лавровый венок
и темная келия Тасса, ежели нищенский конец и слава
Камоэнса1 должны быть и вашим уделом — я ли, слабый
смертный, переменю уставы Провидения?
Знаю вас и вижу, что быть поэтом, кажется, назначе¬
но вам самой судьбою. Чувства до того раздражитель¬
ные, что при легчайшем дыхании природы приводят в
тихий трепет всю вашу душу, как будто арфу Эолову,
* Подписка на книгу «Евгения, или Письма к другу», печатаемую
в пользу семейства покойного сочинителя, принимается в библиотеке
для чтения В. А. Плавилыцикова у Синего моста в доме г-жи Ивановой,
в книжной его лавке в доме г. Балабина под № 28 и у братьев Слени-
ных в доме Кусовникова у Казанского моста, и в Гостином дворе под
№ 53.
213
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
и, подобно эху, повторяют каждое впечатление, но чем
далее, тем лучше и сладостней, пока не исчезнет оно
мало-помалу; память, которая не утрачивает ничего, но
вместе перетворяет все данное ей в те звучные начала,
из коих вызывает фантазия новые волшебные свои со¬
здания; воображение, которое невольно дает идеальный
образ всякому особенному предмету, дарует опреде¬
ленный вид всему отвлеченному и, не примечая того,
всегда поставляет вместо знака самую вещь или ее
близкое подобие словом; воображение, которое одаря¬
ет телом все духовное и очищает, облагораживает,
превращает в душу все телесное; в самом еще младен¬
честве любовь постоянная ко всему чудесному, изящно¬
му и высокому как в мире физическом, так и в нравст¬
венном; душа теплая, воспламеняющаяся от всякого,
даже самого малейшего, прикосновения, душа, которая,
будучи вся любовь, чувство и участие, не может в при¬
роде представить себе ничего холодного и мертвого,
ибо всегда готова сообщить от собственного богатства
жизнь, ощущения и страсти всему окружающему;
сердце, которое при всяком благородном поступке
сильнее забьется, а при всяком малодушном и бесчув¬
ственном содрогнется с отвращением; сверх того, при
врожденной ясности и беззаботности характера, неодо¬
лимая наклонность к размышлению и к исследованию
самого себяу неодолимое влечение предаваться мечта¬
ниям и бродить в мире умственном; при самой весе¬
лой людкости и живой нежности в разделении удоволь¬
ствий и огорчений других, любовь к уединению, к
безмолвию лесов, ко всему, что питает тишину внутрен¬
нюю, разрешает оковы души и, освобождая ее от
рассеяния, животворя сокровенную деятельность, об¬
легчает ее парение.
Без сомнения, если все сие не предвещает гряду¬
щего поэта, если не довольно всего этого, чтоб уверить
молодого человека, что сами музы наслали на него сие
прелестное неистовство, сие состояние восторгов, от
коего он столь же мало в состоянии освободить себя,
как и Кумейская Сибилла...2 Будьте спокойны, милый
друг: признаю и уважаю неизгладимые черты, которы¬
ми сама природа ознаменовала вас и велела вам быть
жрецом вдохновения! Чтобы исступление муз было пре¬
красно в своих действиях, необходимо одно только, по
214
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
словам Платоновым: «Душа, воспламеняемая им, долж¬
на быть нежна и ничем не подкрашена!» Или я очень
ошибаюсь, или вы оправдаете теорию нашего фило¬
софа.
Конечно, страсть к какому-нибудь искусству не всег¬
да бывает порукою способности; однако же все почти
великие виртуозы, поэты, живописцы, обнаруживали в
своей молодости непобедимую склонность к тому, в
чем впоследствии соделались образцами и законодате¬
лями: на вас, милый друг, вижу, кажется, и сию печать
избрания.
«Не могу вспомнить, — говорите вы, — не могу
вспомнить времени, в которое бы не был поэтом. Врож¬
денная способность чувствовать музыку стихов, сладо¬
страстие, в котором утопал, читая вслух отрывки из луч¬
ших писателей, места, обработанные и мелодические,
охота перечитывать другие, в коих, даже пробегая их
только глазами, казалось, слышу, как будто бы отголо¬
сок пения муз, — все сие у меня предшествовало вся¬
кому учению, и таким образом я писал стихи и соблю¬
дал все почти правила прежде, нежели имел какое-
нибудь теоретическое понятие о просодии, падении
стоп, поэтической полноте, звукоподражательной гар¬
монии и подобном. С любовью к поэтам у меня с само¬
го детства могла сравниться одна легкость, с коею по¬
нимал я их, один восторг, в коем исчезал, останавлива¬
ясь на прекрасных стихах и предаваясь по целым часам
видениям, которые рождали они в душе моей. За моим
Виргилием, за Галлером, Мильтоном и пятью первыми
песнями Клопштоковой «Мессияды» я забывал игры и
сон, весь свет и самого себя. Хотя и я, подобно Овидию,
Ариосту, Тассу, Марино и другим славным стихотвор¬
цам, с самого младенчества находил в своих воспита¬
телях сильное сопротивление моим склонностям, однако
же природа одолела все их усилия; ничем, ни кроткими,
ни строгими средствами, не могли изгнать гения или
(если хотите) демона, обладавшего мною. Ежели я и
переставал писать стихи, мои наставники, враги моей
музы, мало выигрывали. Все понятия и сведения, кото¬
рыми старались обогатить меня, или входили в одно
ухо и вылетали из другого, или превращались в матери¬
ал для поэзии. Все, чем бы ни занимался я: метафизика,
мораль, науки естественные, науки политические — все
215
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
в уме моем принимало вид или эпопеи, или драмы.
Учитель с важностию и таинственностию пророка начнет
объяснять мне Лейбницову монадологию3, а я между
тем думаю, как бы описать рождение Венеры из пены
волн морских, или вижу, как у меня перед глазами
оживляется Пигмалионова Элиза, или восхищаюсь вы¬
соким понятием, которое дает Орфеева Космогония4
о начале всего, и вижу, как любовь своей волшебною
силою, подобно лире Амфионовой5, зиждет вселен¬
ную!»
Что скажу вам на столь сильные доказательства?
Кажется слышу свою собственную историю: и со мною
все сие было тому тридцать пять лет, и если, несмотря
на то, я хотел бы удержать вас по сию сторону опасного
Рубикона, на берегах коего находитесь, верьте, что не
сомнение в ваших дарованиях заставляет меня желать
сего!
Даже первые ваши произведения, о которых судите вы
с такою осторожностию, подают о вас надежды самые
блистательные, и тем более, что при необыкновенных да¬
рованиях и при предварительных упражнениях, важных и
продолжительных, вы столь мало еще довольны собою.
Чего не ожидать от юноши, который, не будучи в состоя¬
нии уверять себя, что ему воздают одно только должное,
нередко столько же обижается всякою похвалою, сколько
бы иной не обиделся самим заслуженным порицанием! Не
знаю вернейших признаков истинного таланта, как не сию
трудность удовлетворить самому себе, как не беспрестан¬
ное стремление вперед, сие благородное презрение ко все¬
му, чем уже владеешь, в сравнении с тем, что еще можешь
приобрести, сие тонкое расположение чувствовать красоты
других и собственные недостатки: свойства, которые вы
столь часто обнаруживали и которыми столь редко владе¬
ют стихотворцы молодые и старые!
Вы удивитесь, любезный, но именно уверенность, что
матерь-природа точно из вас хотела образовать поэта и
что вы, предавшись своей склонности, во всех отношениях
будете поэтом и, следственно, вовсе не способными ни к
какому другому образцу жизни, сия самая уверенность
принуждает меня трепетать за вас. Добрая матерь думала
обо всем, но забыла, к несчастию, одно, — что для пользы
вашей должно было посоветоваться и с фортуною. Поэты
не могут питаться одними благоуханиями цветов: тот, кто
216
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
повелевает всеми духами и гениями, кому стоит только
махнуть пером и перед ним пир великолепнейший, ближе
других к голодной смерти, если только благодетельная
фея не заменит того, чего ни природа, ни музы, ни сам
он не в состоянии дать ему.
Вы будете всегда и везде поэтом во всех возможных
обстоятельствах и случаях, во всех своих упражнениях,
во всех радостях и горестях своего земного течения; всег¬
да будете мыслить, чувствовать, говорить и поступать, как
мыслит, чувствует, говорит и поступает только поэт; даже
если в течение десяти лет не напишете вы ни одного сти¬
ха, все, что бы вы в сие время ни видели и ни слышали,
все, на что бы ни покушались и чего бы ни испытали,
все для вас поэзия или впоследствии будет поэзиею; и по
прошествии сего периода жизни вашей, по-видимому, по¬
терянного для муз и вдохновения, вы в душе своей увиди¬
те столько начатков стихотворений всякого рода, что не
успели бы обработать их, достигнув даже Несторова или
Бодмерова* долголетия.
Но вместе вы будете впадать в такие заблуждения, в
которые может впадать только поэт; с самым счастливым
умом, с самым лучшим сердцем вы беспрестанно будете
являться в ложном свете глазам людей, вечно будете слы¬
шать жалобы и упреки, а вредить будете только одним
себе, и, как бы ни желали и ни старались вы, никого не
уверите, что вы существо доброе и незлобное, на вас не
перестанут смотреть как на чудака, к образу мыслей, к
образу жизни которого невозможно примениться, как на
человека, коего ум и сердечная доброта подлежат большо¬
му сомнению. Все сие набрасывает самую неприятную тень
на жизнь того, кто одарен сим чудным талантом, которо¬
му вместе удивляются и завидуют, которого в то же время
и ласкают и ненавидят, гонят и презирают, но который
* Бодмер, немецкий писатель, достигнувший глубокой старости,
друг и благодетель юного Виланда и многих других современных моло¬
дых авторов. Достойно примечания, что творец «Нового Амадиса»,
«Оберона», «Идриса и Зениды» и других романтических поэм, прекрас¬
ных, но не всегда благопристойных, в доме Бодмера отличался перед
своими сверстниками стыдливостью и целомудрием; что, напротив,
Серафимский, как называл его Бодмер, Клопшток, которого вызвал
сей почтенный старик к себе в Швейцарию и к которому в его отсутствие
питал уважение, близкое к обожанию, едва ли не разочаровал своего
добродушного почитателя слишком пламенною привязанностью к зем¬
ным прелестям швейцарских девушек. — Прим. neрев.6.
217
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
дает столь дивные преимущества перед людьми обыкно¬
венными, одаряет столь волшебною властию над их вооб¬
ражением и доставляет столь сладостные средства для
собственного утешения.
Подобно всем рожденным для тихого наслаждения
природою и для жизни в самом себе, вы вечно будете
стараться, как бы пройти по земле скромною, незаметною
стезею; но ненавистная известность, которой никак не из¬
бежите, навек отравит ваше спокойствие и прольет на все
бытие ваше множество неприятностей, ничтожных, но тем
более мучительных; они отнимут у вас и последнюю бед¬
ную отраду, отраду заблуждения: вы узнаете, что за все
наслаждения, доставленные вами свету, вам и не думают
отплачивать любовию!
Ваша страсть к музам во многом похожа на взаимную
страсть двух пастушеских сердец: они, вместо всего при¬
даного, дарят друг другу несметным сокровищем нежнос¬
ти и в сладостной надежде, что любовь вечно будет кор¬
мить и поить их, не думают о заботах и нуждах житейских.
Пламенный любовник совершенно уверен, что крытая со¬
ломою хижина, которую разделит с милою, лучше всех на
свете мраморных палат и волшебных замков. Он утопает
в океане восторгов, и для прочности счастия его нужна
безделица—очарование вечное.
Но, к сожалению, наступают часы, дни, месяцы, может
быть, целые годы, когда фантазия, лишенная творческой
силы своей, предает нас неприятному чувству настоящего
или по своей обманчивости увеличивает зло, нас угнетаю¬
щее, — в той же мере, в которой в счастливые мгновения
увеличивала наши наслаждения. Однако же положим да¬
же, что можно бы и не просыпаться самому из сих грез,
обвораживающих нас, по манию фантазии. Нас окружают
со всех сторон люди добрые, которые не рассеять нашего
заблуждения почтут за смертный грех, которые не пере¬
станут толкать нас, пока не разбудят; с вами случится то
же, что с известным коринфским гражданином: счастли¬
вец, сидя перед пустою сценою, видел великолепнейшие
представления, но родственники не уставали лечить его и
наконец вылечили.
Довольно одного этого, чтобы оправдать все, чего ни
опасаюсь, когда гляжу на путь, который вы готовы из¬
брать себе. Истинный поэт к свету почти в том же отноше¬
нии, в каковом находился бы владеющий философским
218
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
камнем. И тот и другой, быть может, нашли бы средства
наслаждаться счастием, но могут ли надеяться, что утаят
свое сокровище? Они должны быть уверены, что сыщут
довольно способов наказать их за все преимущества, кои¬
ми пользуются исключительно перед прочими честными
людьми.
Впрочем, милый друг, если будущее благополучие ваше
мне кажется подверженным столь многим опасностям, —
лакомства и вина, червонцы, почести и знаки отличия, без
сомнения, то, о чем думают всего менее. Нельзя знать,
случится и вам наслаждаться сими суетными удовольст¬
виями. Гораций обедал, когда только вздумается, за сто¬
лом римских вельмож; живал, когда только захочет, в
Меценатовом дворце или в роскошном его Тибуре и даже
имел собственный свой сабиниум7, — словом, он не знал
других неприятностей, кроме неразлучных с несчастием
быть первым лириком Рима.
Но неприятности сии, которыми осыпали его и писате¬
ли и публика, однажды до того вывели его из терпения,
что, несмотря на всю любовь свою к музам, он в минуту
досады произнес против них ужаснейшее богохуление.
«Хочу быть проклятым, — говорит он, — если не же¬
лаю лучше проспать весь свой век, нежели писать
стихи!»
Прочтите, как описывает сей любезный поэт, который
вместе был и гений, и человек ученый, и тонкий знаток
света, прочтите, как описывает он в своих посланиях* сти¬
хотворческое житие-бытие; прочтите, если хотите, и то,
что прибавил его новейший комментатор**, понимавший,
кажется, своего автора лучше и живее многих, и сие по
очень простой причине: потому что имел с ним почти одну
и ту же участь. Не худо, когда уже на что решаешься,
знать все то, чего можешь ожидать; не худо наперед рас¬
числить, могут ли сбыться или нет надежды твои. Нечто
более суетной хвалы, нечто более ничтожной известности,
любовь моих сограждан, любовь тех, для коих пишу и
стараюсь, наградит меня за все труды мои — вот сладчай¬
шая, может быть, между всеми мечтами, которые живят
и окрыляют поэта-юношу при начатии поприща, конца
коего дано достигнуть столь немногим из тысячей.
* Например, в 19 к Меценату и в 22 во второй книге к Юлию Флору.
** Сам Виланд.
219
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Любезный друг! Не ласкайте себя напрасным ожида¬
нием. Минуты одобрения и мгновенные порывы восторга
должны составлять верх ожиданий ваших. Почитайте себя
с избытком награжденным, когда благоволим позволить
вам увеселять нас. Как скоро же заметим, что вы ищете
хвалы нашей, мы станем смотреть на вас, как на всех дру¬
гих забавников, какого бы рода они ни были, и с той
поры — сердитесь или нет, — ас той поры вы стоите для
нас на одной доске с фокусниками, танцовщиками и фи¬
глярами. Все ваши старания, чтобы достигнуть высшей
степени совершенства в глазах наших, непременная ваша
обязанность, и горе вам, ежели когда перестанете пре¬
восходить самих себя или вздумаете успокоиться на своих
лаврах!
Вы согласитесь, что это не слишком одобрительно. Но
я вам не сказал всего еще: ваше положение в отношении
к публике в самом деле гораздо еще невыгоднее. Об искус¬
стве балансера, по крайней мере, всякий может судить до¬
вольно справедливо, он чудесит, и всякий более или менее
в состоянии вообразить, сколько должен был употребить
трудов и усилий, чтобы дойти до той степени совершенст¬
ва, на которой его видим. С стихотворцем совершенно про¬
тивное: между тысячью читателей едва ли найдется один,
имеющий ясное и точное понятие о всех трудностях искус¬
ства и о том, что должно почитать венцом его. Обыкновен¬
ный читатель, обыкновенный слушатель, конечно, чувству¬
ет, возбуждают ли его любопытство или наводят ли на
него зевоту; но сим он и ограничивается. А как произведе¬
ние и очень посредственное, и очень небрежно написанное
может возбуждать любопытство не менее творения образ¬
цового, — вы должны быть уверены, как скоро ваше сочи¬
нение утратит прелесть новизны, оно для толпы утратит
и большую часть своей привлекательности, и всякий
самый пустой роман, который бы имел сие достоинство,
то есть был бы новым, в котором бы находилось хотя
несколько острых слов, хотя несколько неожиданных по¬
ложений, хотя одно трогательное место, хотя одно сладо¬
страстное изображение, овладеет, не сомневайтесь нима¬
ло, овладеет всем вниманием публики и заставит, по край¬
ней мере на время, забыть и вас, и ваше сочинение, и
если бы даже при нем помогали вам все девять муз и все
три грации.
Стремление к какому-нибудь идеальному совершенству
220
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
не доставит вам того, что, по своим понятиям, по живому
чувству всего, что исполнили вы, почитаете просто за дань
строгой справедливости. Вы сей дани никогда не получите
не потому, чтобы не желали быть к вам справедливыми, но
потому, что не имеют и понятия о сведениях, необходи¬
мых для этого.
Если при всех прочих существенных свойствах хороше¬
го стихотворения поэтическое произведение имеет еще то
качество, которое предполагает Гораций, когда говорит,
что стихи должны заключать в себе одно округленное и
полное целое*, если оно с величайшей обработанностью
сопрягает величайшую легкость, если в нем язык всегда
чист, падение стоп всегда музыкально, рифма во всяком
случае на своем месте и без принуждения, все как будто
разом вылито, как будто бы создано одним дуновением и
нет нигде следов ни труда, ни усилия, — мы не должны
сомневаться, что таковое творение стоило творцу своему
(как бы, впрочем, ни был велик талант его) неизъяснимых
трудов, неизъяснимых усилий и терпения. Но не надей¬
тесь, если вам удастся когда создать что-либо подобное, не
надейтесь на признательность ваших читателей за все, в
чем превзойдете их требования! «Мы довольствовались бы
и меньшим!» — скажут вам, и ежедневная опытность дока¬
зывает, сколь сие справедливо. Во мнении толпы будут
даже вредить вашему сочинению легкость, обработанность
и полнота, которые вам стоили столь многого и которые,
может быть, и оценит редкий знаток со всем надлежащим
хладнокровием. «О, вы, верно, играючи, пишете стихи
свои!» Вот комплимент, который услышите вы всего чаще.
А как привыкли соразмерять почтение к произведению ис¬
кусства с очевидными трудностями, в нем побежденными,
к вам начнут показывать пренебрежение за то именно до¬
стоинство, которое одно доставит вам ваше собственное
уважение. Может статься, вас и в самом деле станут чи¬
тать с большим удовольствием, нежели ваших сверстни¬
ков; но, полагая, что вам ничего не стоят пьесы ваши, от
вас будут требовать нового, и не пересмотрев уже написан¬
ного.
Все сие столь естественно, столь обыкновенно, мой ми¬
лый друг, столь давно и столь общепринято между всеми
народами, что было бы даже смешно, когда бы вздумал
* Totum teres atque rotondum.
221
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
кто на то жаловаться. Но тем не менее нельзя сказать,
чтобы было оно слишком приятно. Придет время, и вы
впадете, может быть, в искушение, не завидовать ли
счастию всякого доброго крестьянина, который, имея не
более нужного в домашнем ума природного, в поте лица
своего ест хлеб свой насущный и тихими наслаждениями
жизни безвестной, но мирно изливающейся в море минут
и столетий, чрез меру вознагражден за лишение сомни¬
тельного преимущества быть известным по имени десяти
тысячам, из коих, не зная ни жизни его, ни характера,
каждый присваивает себе право судить о его недостатках
и достоинствах.
Никогда бы не кончил я, если бы хотел исчислить все
неприятности, ожидающие вас на стезе, которую избирае¬
те. Не сомневаюсь, что большая часть без того уже
по слуху известна вам. Но не забудьте принять в рассуж¬
дение также и всю раздражительность, всю болезненную
чувствительность, которые неразлучны с природою истин¬
ного поэта. Тысячи вещей, тысячи случаев сами по себе
ничтожны и ничего не значащи, но исполнят горестию ва¬
шу жизнь: для нервной системы, для воображения, для
сердца поэта они будут тяжкими страданиями. Довольно
одного злого, одного полоумного суждения, одного глупого
взгляда, когда будете читать место, которое бы должно
поразить ударом электрическим; довольно одного бессмыс¬
ленного вопроса, и вы сделаетесь нечувствительными к об¬
щему единодушному одобрению остальной части ваших
слушателей.
Ни слова уже о том, как станут обращаться с вами
писатели, знатоки, рецензенты, судьи парнасские и проч.
и проч. Уверен, что вы в рассуждении сих господ будете
держаться Горациева правила, то есть будете обращать на
них как можно менее внимания!* Но ожидайте и судьбы
его: втайне станут читать вас с удовольствием, в лице осы¬
пать ласками, но в обществе при всяком случае подарят
критическим пожатием плеч или двусмысленною улыбкою,
и вы вправе будете хвалиться необыкновенным счастием,
если воздумают быть снисходительными и не скажут о вас
* Non ego ventosae plebis suffragia venor...
Non ego nobilium scriptorum auditor et ultor,
Grammaticas ambire tribus et pulpita dignor.
Epist. 198.
222
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
ни слова. Редкий рядовой одними своими талантами и за¬
слугами достигал степени маршала, но где найти автора,
который бы не держался ни одной партии, не образовал
последователей, не прибегал к покровительству парнасских
законодателей своего времени, не принимал под свое соб¬
ственное никого из новичков в словесной республике, гото¬
вых при всяком случае лягаться и грызться за своего бла¬
годетеля, где найти автора, который бы при всем том не
был прикрываем щитом золотой посредственности и через
одни собственные свои достоинства приобрел мирное стя¬
жание известности и уважения между современниками?
В свете, конечно, бывают иногда самые странные вещи,
и нельзя знать, кто-нибудь один достигнет же и сей
вожделенной цели: но кто ж из них может сказать,
что ему именно на роду написано быть сим избран¬
ником?
Вообще, ежели далекая и решительная слава и сопря¬
женные с нею выгоды составляют предмет желаний ваших,
вы заранее готовьтесь встретить на своем пути все воз¬
можные препятствия и не думайте негодовать, когда под
конец увидите, что вас предупредят люди, которые вместо
того чтобы устремиться по предназначенной стезе, пере¬
скочат через все ограды и с счастливою дерзостию захва¬
тят венок, коего бы никак не похитили в ристании пра¬
вильном.
Беру в вас живейшее участие; вижу вас на пути, кото¬
рый, по всем вероятностям, ведет не ко храму благополу¬
чия, но при всем том слишком сам люблю искусство, кото¬
рому при столь неоспоримых дарованиях хотите посвятить
себя, чтобы некоторым образом не раскаиваться, что пред¬
ставил вам все сопряженные с ним неприятности. И как не
предвидеть возражения, коими можете вмиг опровергнуть
все мною сказанное? Но я и не хочу испугать вас: хочу
только, чтобы прежде нежели пуститесь в дорогу, которая
является вам в столь привлекательном виде, вы рассмотре¬
ли все опасности, все горести, встречающиеся на ней.
Во время Горация поэзия случайным образом подавала
иногда средства к улучшению своего состояния. Бедность,
как сам признается, заставила его писать стихи. В наш
век, кажется, совершенно противное: путь чрез Геликон9
у нас обыкновенно ведет прямо в объятия той одетой в
лохмотья богини, от которой бежал Гораций. Вы доживе¬
те, может статься, другого, лучшего времени; но во всяком
223
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
случае будьте готовы ко всему — даже к худшему. Вы не
имеете большого расположения к Аристиповой филосо¬
фии: для вас это счастие, ибо вы ни за какие выгоды не
станете кадить земным богам и раздавателям их милостей;
узнайте самих себя, узнайте, в состоянии ли вы, на лоне
музы вашей, быть счастливыми, если б даже пришлось на
одних картофелях и одной ключевой воде.
Когда же, любезный друг, вы, по зрелом размышлении,
останетесь при своем намерении, я требую от вас одного:
не жалуйтесь никогда в своей жизни ни на зависть своих
соперников, ни на равнодушие знатоков, ни на неблагодар¬
ность публики. Нет ничего в то же время и несправедливее
и безрассуднее, как плакать о том, что все на свете так,
как оно есть и было, и что мир, вместо того чтобы обра¬
щаться вокруг нас, уносит нас самих, как ничтожную
былинку, в своем вечном течении и даже не примечает
того.
Начиная с первого до последнего, люди, окружающие
нас, столь заняты самими собою и угнетены собственным
жизненным бременем, столь много принуждены думать
о планах и нуждах своих и столь развлекаемых собствен¬
ными страстями и наклонностями и мгновенными внуше¬
ниями своего доброго или злого гения, что вовсе не дол¬
жно удивляться, если они мало заботятся о нас, и, несмо¬
тря на то, всякий, кому бы ни помогли вы в крайности,
кому бы ни сделали удовольствия вовремя, кстати и по
его желанию, искренно станет благодарить вас. Но нельзя
ли требовать признательности за то, о чем и не думали
просить вас, в чем не чувствуют никакой необходимости?
И ужели будете вы вправе негодовать, если обойдутся с
вами холодно, когда вздумаете насильно сделать кого сво¬
им слушателем! Как вы хотите, чтоб обращали такое же
внимание, как мы, на то искусство, которому отдаем свою
жизнь и в котором, напротив, они, может быть, никогда и
нигде не почувствуют потребности? Позволено ли даже
предполагать, чтоб имели они столь же опытный слух для
стихотворной музыки, столь же разборчивую любовь к
прелестям поэтической живописи?
По самой природе вещей простой любитель много теря¬
ет в произведениях вкуса, искусства и остроумия; но из
сего не следует, что публика несправедлива к великим
писателям и образцовым творениям их; посмотрите, каким
образом иногда принимает она самые даже посредствен¬
224
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
ные порождения; пусть будут они написаны без всякой об¬
работки и без малейшего старания, читатели довольны,
когда только найдут что-нибудь заманчивого! Они ищут
наслаждения, ищут пищи для своего любопытства и столь
любят разнообразие, что автор должен быть совершенно
вял и дурен, ежели ему вовсе не удается быть замеченным,
быть (хотя на время) отличенным от толпы своих свер¬
стников. В самом легком роде, в котором нет ничего поэ¬
тического, кроме рифмы и живости слога, писатель может
обратить на себя внимание своих соотечественников: для
сего ему нужно одно только остроумие, необходимы одни
только вдохновения мгновенной веселости.
Итак, милый друг, употребите только с своей стороны
все силы и способности, вам данные. Заслужите всеобщее
одобрение, и вам не откажут в нем. Возвысьтесь над тол¬
пою; не довольствуйтесь целию обыкновенных усилий;
обогатите словесность такими произведениями, которые
привлекали бы не одно мгновенное внимание, но могли бы
овладеть всею душою читателя, приводили бы в движение
все его органы, согревали, очаровывали, пленяли бы
беспрерывным обаянием воображение, питали бы душу
и доставляли бы сердцу сладостное наслаждение своею
жизнию нравственною, своими лучшими чувствованиями;
возбудите участие в радостях и горестях ближнего, возбу¬
дите удивление ко всему благородному, изящному, высоко¬
му в природе человеческой и будьте уверены, что будут
к вам признательны, если только сами не перестанете быть
справедливыми в требованиях на благодарность общую.
Не горькая опытность заставила говорить меня: мои сове¬
ты были не жалобы. Во всех возможных обстоятельствах
мы, наверно, встретим какие-нибудь страдания или дей¬
ствительные, или воображаемые, проистекающие из самой
природы или сотворенные именно нами: конечно, в первую
минуту самая даже малейшая боль, неожиданная, может
вынудить крик из груди всякого; но кто же станет рыдать
и плакать, когда носит зло общее, неизбежное и по сему
самому многое? Quisque suos patimur manes*. Вы видите:
мне не нужно было вспомнить о собственном своем горе,
чтобы рассуждать о том, что испытывали литераторы
во всякое время и у всех народов.
Вы знаете, мой милый друг, сколь во всех отношениях
* Каждый терпит своих покойников (лаг.). — Ред.
225
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
доволен я своим жребием. С молодых лет я более любил
самое искусство, нежели что обыкновенно называют
счастием и славою. Признаюсь, что неподложное чувство
немногих благородных душ, что нежданное, добродушное
спасибо одного какого-нибудь беспристрастного мне всег¬
да были драгоценнее холодного одобрения холодных зна¬
токов или громкого рукоплескания толпы суетной. Однако
же в течение более нежели тридцати лет я не имел недо¬
статка и в сих знаках благосклонности читающего света.
Но не хочу присвоить себе достоинство, которого не заслу¬
живаю, — посвятив большую часть своей жизни служению
Аполлона, я думал более о самом себе, нежели о других,
и говорил одну правду, когда за сим уже пятнадцать лет
в совершенном удалении от германского Парнаса обращал¬
ся к музе своей.
Что нужды на себя приманивать вниманье
Завистливой толпы и гордых знатоков?
О муза, при труде, при сладостном мечтанье
Ты много на мой путь рассыпала цветов!
Вливая в душу мне и жар и упованье,
Мой гений от зари младенческих годов,
Поешь, и не другой, я сам тебе внимаю,
И грусть, и суету, и славу забываю!10
Уверен, что сей образ мыслей рано или поздно будет
вашим; итак, мне остается одно утешение: у вас в груди
таковой источник благополучия, который усладит все го¬
рести вашей жизни, удвоит все ваши наслаждения и, иссы¬
хая даже, оставит для душевных ран ваших хотя несколь¬
ко капель чарующего нектара.
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
Наши господа критики до
сих пор обращали слишком мало внимания на любопыт¬
ные, а иногда довольно важные статьи, которые нередко
попадаются в различных периодических изданиях. Передо
мною 7 первых номеров «Сына отечества», одна книжка
«Вестника Европы», одна «Сибирского вестника» и по две
226
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
книжки «Духа журналов» и «Благонамеренного»; в них
много такого, что должно бы обратить на себя внимание
всякого любителя словесности. Как, например, не удив¬
ляться, как не досадовать, когда какой-то малороссиянин
на стр. 95 говорит нам о плавных стихах — кого же?
Жуковского. Неужель господин В. К. в одном из превос¬
ходнейших стихотворений корифея русских поэтов нашего
поколения находил одну только плавность?1 Вот как
1820 года хвалят и ценят творения гения, которые бы
должны быть предметом народной гордости и сладострас¬
тием душ высоких и чувствительных.
Но оставим все это и разберем несколько примеча¬
тельных стихотворений, отпечатанных в «Сыне отечества»
1820 года.
В первом номере «Песнь о первом сражении русских
с татарами на реке Калке под предводительством князя
Галицкого Мстислава Мстиславовича Храброго». Сочине¬
ние г-на Катенина2.
Если б я был из числа записных неприятелей поэта, я
бы мог сказать, что в самом заглавии есть уже погреш¬
ность в расположении слов: под предводительством и
проч. по близости относится к словам: с татарами; итак,
князь Галицкий был предводителем татар! Но придирать¬
ся к таким безделицам прилично вам,
Обильные творцы бесплодных примечаний,
Уставщики кавык, всех строчных препинаний3.
«Господин Катенин имеет истинный талант! — сказал
я, когда в первый раз прочел его Софокла4, — как жаль,
что в сочинениях его недостает вкуса, что он не имеет
друзей, которые говорили бы ему правду, — или как жаль,
что он не верит их советам!» В сем мнении меня еще более
подтверждает его новое произведение. Начало превосход¬
но, достойно лучших наших писателей! Я не могу отказать
себе в удовольствии переписать его:
Не белые лебеди
Стрелами охотников
Рассыпаны в стороны,
Стремглав по поднебесью,
Испуганы, мечутся,
Не по морю синему
При громе и молниях
Ладьи белокрылые
На камни подводные
Волнами наносятся.
227
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Среди поля чистого
Бежит православная
Рать русская храбрая
От силы несчетные
Татар победителей.
Как ток реки,
Как холмов цепь,
Врагов полки
Покрыли степь.
От тучи стрел
Затмился свет;
Сквозь груды тел
Прохода нет.
Их пращи дождь,
Мечи огонь;
Не может взгляд
Окинуть всех.
На тьмы татар
Бойцы легли,
И крови пар
Встает с земли.
Стихи не Жуковского, не Батюшкова, — но стихи, кото¬
рые бы принесли честь и тому и другому. Приведем еще
два, которые показывают талант Катенина:
Решето стал щит [к несчастию] дебелый.
Меч — зубчатая пила!
После таких стихов мы читаем:
Не понаведаться ль,
Здоров ли верный меч?
Уж не устал ли он
Главы поганых сечь?
Но уморился ли
Так долго кровью течь?
Коли в нем проку нет,
Так не на что беречь;
Свались на прах за ним
И голова со плеч!
Нет срама мертвому,
Кто смог костями лечь.
Читатель, может быть, не поверит, что сие и прежнее
писано одним и тем же поэтом, что оно находится в одном
и том же стихотворении:
«Меч уморился кровью течь», — что это значит? Или
меч может быть ранен? «Коли в нем проку нет, так не на
228
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
что беречь». Я, кажется, слышу не князя Мстислава, но
самого низкого простолюдина. «Нет срама мертвому, кто
смог костями лечь». Мысль превосходная, но не г-на Кате¬
нина5: как же она выражена? Но что Катенин имеет ис¬
тинный талант, видно даже из дурных приведенных здесь
стихов; и в них есть два стиха — жестких, конечно, — но
превосходных по силе и чувству.
Свались на прах за ним
И голова со плеч!
Следует еще прекрасное место:
И три раза, вспыхнув желанием славы,
С земли он, опершись на руки кровавы,
Вставал.
Оно сильно, живописно, ужасно! Самый размер заслужи¬
вает внимание по удивительному искусству, с которым он
приноровлен к мыслям. И непосредственно после таких
стихов мы читаем:
И трижды, истекши рудою обильной,
[истекши рудою!]
Тяжелые латы подвигнуть бессильной,
Упал.
Читаем:
Или звери
Плотоядны
Кровь полижут
Честных ран?
Какое положительное безвкусие! Далее мы видим, что
князь Даниил прикрикнул на детей.
Мы бы могли выписать еще много мест, которые дока¬
зывают наше мнение, что г-н Катенин к своему истинному
дарованию не присоединяет вкуса. Но мы лучше приведем
отрывок, в котором поэт, живописав дикими красками
Данта, исполнил нас ужаса, а потом, когда мы хотели рас¬
смотреть его хладнокровнее, оставил в недоумении, удив¬
ляться ли ему или, — но пусть читатель сам посудит:
Вздохи тяжелые грудь воздымают;
Пот, с кровью смешанный, каплет с главы;
Жаждой и прахом уста засыхают; [превосходно!]
На ноги сил нет подняться с травы.
Издали внемлет он ратному шуму:
Стелют, молотят снопы там из глав.
229
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
В стихотворении Катенина мы находим сочетание
нескольких родов размеров: новизна на русском языке, о
которой осмелимся здесь предложить наше мнение.
Не говоря о силлабическом размере, который когда-то
употреблялся в нашей поэзии, но по справедливости остав¬
лен, у нас могут существовать размеры трех родов: 1-е —
размер наших народных песен и сказок, коего теорию так
хорошо и ясно изложил г-н Востоков в своем «Опыте о
русском стихосложении»6, 2-е — размер, заимствованный
Ломоносовым у немцев, основанный на ударении слов
или на стопах и на том созвучии в конце стихов, кото¬
рый мы привыкли называть рифмою; 3-е — сей же раз¬
мер, но без рифм, подражание количественному размеру
древних.
Каждый из сих трех размеров имеет, можно сказать,
особенный слог, слог такого рода поэзии, коему он при¬
надлежал первоначально. Смешивать сии три слога почти
все равно, что говорить — по примеру наших бывших мод¬
ников — лепетом, составленным из слов русских и фран¬
цузских, а сверх того вмешивать выражения греческие и
латинские. Употребление же различных размеров одного и
того же рода не только позволительно, но, как нам ка¬
жется, должно послужить к обогащению языка и словес¬
ности.
Господин Катенин, к сожалению, соединил все три ро¬
да возможных стихосложений; не оттого ли произошли
шаткость и пестрота его слога?
Впрочем, публика и поэты должны быть благодарны
г-ну Катенину за единственную, хотя еще и несовершен¬
ную в своем роде попытку сблизить наше нерусское
стихотворство с богатою поэзиею русских народных песен,
сказок и преданий — с поэзией русских нравов и обычаев.
В третьем номере стихотворения: «К моей родине» г-на
Плетнева и «Два певца» какого-то К. О сем последнем мы
не скажем ни слова; оно очень посредственно. Г-н Плетнев
долгое время был слишком близким подражателем Батюш¬
кова и Жуковского; но в его последних двух стихотворени¬
ях (в элегии, о которой здесь говорим, и в другой, отпеча¬
танной в «Соревнователе», 12 книжке 1819 года, под на¬
званием «Победа») мы с удовольствием приметили усилие,
верную поруку за дарование, усилие выйти из толпы под¬
ражателей. Кто желает в этом увериться, пусть сравнит
прежние стихотворения г-на Плетнева с его последними.
230
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
Мы приведем здесь несколько стихов, по которым чита¬
тель нашего «Зрителя» может без сравнения составить се¬
бе понятие о степени и роде поэтического таланта
г-на Плетнева.
Забуду в песнях я тебя, родимый край,
О колыбель младенчества златая,
Немой моей мечты прибежище и рай [прекрасно!],
Страна безвестная, но мне драгая;
Тебя, пустынное село в глухих лесах,
Где, с жизнию обнявшись молодою [превосходно!],
Я в первый раз смотрел, что светит в небесах,
Что веет так над зыбкою водою?
Могилы вкруг него [вкруг храма], обросшие травой,
Не ровными лежащие рядами,
Куда ребенком я ходил искать весной
Могилу ту, меж серыми крестами [оборот прозаический],
Где мой лежит отец... младенца своего,
Меня лишь на заре моей лобзавший;
Где с тайным трепетом я призывал его
И милой тени ждал, ее не знавши?
Забуду ль вас, о мирные луга,
Вас, низки хижины, к потоку с двух холмов,
Лицом к лицу неправильно сходящи [ново],
И зыбкий ветхий мост, и клади меж брегов,
И темный лес, кругом села шумящий?
Г-н Плетнев только должен обратить большее внимание
на точность и стихотворность выражений и оборотов, дол¬
жен приучить себя писать со тщанием, и мы уверены, что
он со временем принесет честь русской словесности. Как,
например, неприятно между хорошими его стихами чи¬
тать следующее:
Прикрытые [луга] со всех сторон елями,
И обращенные под нивы берега,
И вас, поля, усеяны камнями;
Или:
Забуду ли тебя, о Теблежский ручей;
Катящийся в брегах своих пологих
И призывающий к себе струей своей
В жары стада вдруг с двух полей отлогих.
В четвертом номере превосходные два стихотворения,
одно («Послание к Т...» с подписью: Варшава7); другое
(«Отчет Фон-Визина») вовсе без подписи. Мы можем по¬
231
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ручиться читателю, что оба стихотворения одного и того
же поэта; мы бы его назвали, но он сам того не сделал.
Впрочем, что нужды: назовем Жуковского, назовем Ба¬
тюшкова, и каждый произнесет имя поэта. Загадки всяко¬
го рода ныне очень в моде: мы надеемся, что наша столь
же легка, как известная французская: Je me nomme cha¬
peau; on me met sur la lête: Divine grosse bête!*
Мы не выписываем ни одного стиха из сих превосход¬
ных двух пиес, чтоб не прийти в искушение выписать их
от начала до конца: а за это рассердится «Сын отече¬
ства».
Между прозаическими статьями первых пяти книжек
«Сына отечества» первое место занимают: «Путешествие
вокруг света» флота капитана Головнина и «Письмо о рус¬
ском синтаксисе». Когда мы услышали, что в «Сыне оте¬
чества» будут появляться время от времени описания пера
г-на Головнина, мы обрадовались и приготовились читать
статьи занимательные, написанные без всех пустых укра¬
шений, восторгов и восклицаний, — мы не ошиблись.
Письмо г-на Кошанского содержит в себе много ново¬
го, смелого и вместе справедливого: но, впрочем, нам ка¬
жется, он не довольно ясно доказал, что глаголы: требо¬
вать, помогать, управлять, рассуждать, — суть глаголы
действительные. Наше мнение, что те только глаголы мо¬
гут называться действительными, которые имеют настоя¬
щее действительное причастие и в то же время управля¬
ют падежами или винительным, или родительным. Тре¬
буемый, я требуем, можно сказать: но помогаемый, я по¬
могаем, рассуждаемый, я рассуждаем будет против языка
и против логики. Единственное исключение из сего прави¬
ла составляют действительные глаголы: есть и пить и, ка¬
жется, именно потому, что никто еще о себе не успел ска¬
зать: меня едят, меня пьют!
Что же касается до споров за худых актеров француз¬
ских и русских, которыми с некоторого времени изобилует
«Сын отечества», они и смешны и скучны8. Нас несрав¬
ненно более заняло описание подвигов волка, который бы¬
ло вздумал объявить войну нам, петербургским жителям9.
* Меня называют шляпою; меня надевают на голову: святая прос¬
тота! (франц.)
Эту загадку один мой знакомый перевел следующим образом:
«Меня ты с головы пред Клитом не снимай;
Я шляпою зовусь: Пьянюшкин, отгадай».
232
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
Впрочем, последняя статья сего рода в шестом номере
«Сына отечества» заслуживает внимание за то именно, что
господин издатель согласился ее отпечатать. В ней нахо¬
дятся две выходки против самого его: благородное в сем
случае беспристрастие г-на Греча заслуживает подража¬
ния10.
Наконец, в седьмом номере мы с признательностью
прочли весьма лестный отзыв господина издателя о нашем
журнале: свидетельствуем ему нашу благодарность.
В первой книжке «Вестника Европы» мы прочли отры¬
вок из третьей песни поучительной поэмы: «Искусства и
науки» Воейкова.
Прежде чем скажем наше мнение о стихотворении, да
будет нам позволено сказать два слова вообще о поэзии
дидактической или поучительной. Многие ли читают пре¬
восходный «Опыт о человеке» («Essay of man»)11, превос¬
ходные речи в стихах Вольтера (discours en vers)? Кто
известнее, чьи творения чаще переводят: эпика (рассказ¬
чика) Гомера или дидактика (учителя) Гезиода? Поуче¬
ния всегда скучны и неприятны, особенно же, когда нам
наперед, с обидною для нас важностию и высокопар-
ностию педагога, говорят: «Слушайте! Я хочу учить вас!»
Наставления — лекарства; публика — избалованный ребе¬
нок, который не считает себя больным, но большой охот¬
ник лакомиться. Если захотим заставить его принять ле¬
карство — обманем его, скажем, что принесли ему гости¬
нец от Аполлона, балладу, песнь, драму, — и он без по¬
дозрения проглотит поучение! Это, впрочем, и не ново:
«Музарион» Виланда при первом взгляде — легкая, забав¬
ная сказка, а между тем не что иное, как полный курс
сократической философии; «Нафан» Лессинга для обыкно¬
венного читателя просто драма, в которой представлена
мудрость и великодушие иудейского старца, а для чело¬
века мыслящего и чувствительного «Нафан» — полная тео¬
рия всех доказательств необходимости и прелести истин¬
ной, христианской терпимости. Шиллерова «Прогулка»
(«Spaziergang») для некоторых превосходное описание
прогулки, для других святый, вдохновенный урок, взятый
из биографии человечества, данный всем временам и наро¬
дам: будьте умеренны, будьте близки к природе!
Поэма г-на Воейкова в сем отношении не имеет ника¬
кого сходства с творениями, о коих мы упомянули: она
принадлежит к одному разряду с поэмою Лукреция12, с
233
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
поэмою о религии младшего Расина13, с посланием Ломо¬
носова о пользе стекла. Рассмотрим стихи:
Нам любопытство, ум и волю дал творец,
Который сотворил людей на тот конец.
Чтобы к духовному стремились совершенству.
Мы сими свойствами владеем по наследству,
И искра божества пылает не вотще!
Какая проза без жизни гармонии! Далее: мы находим, что
душа завернута в густой и темной оболочке, как цвет, до
времени себя таящий в почке, это стихи не Сумарокова!
Но если бы весь отрывок был написан таким образом, мы
и не осмелились бы, говоря о нем, скучать нашему читате¬
лю: вот место, которое показывает поэта:
Единый человек умеет улучшать,
Разнообразить все и все преображать;
От самого себя умеет отделяться
И наблюдать себя; прекрасным наслаждаться,
К добру и истине в душе благоговеть;
В прошедшем обитать, грядущим овладеть,
К нам настоящее приковывать мгновенье
И размышлением умножить наслажденье;
На пользу опытность и случай обращать
И опыты свои векам передавать.
Слог г-на Воейкова вообще чрезвычайно неровен: ино¬
гда превосходен по силе и смелости выражений, оборо¬
тов, иногда ниже посредственного по прозаизмам, впро¬
чем, нередко неизбежным в дидактическом роде, по гру¬
бости и шероховатости звуков и небрежного стихосло¬
жения.
Что касается до прозы первой книжки «Вестника Ев¬
ропы», мы можем сказать, что с любопытством, но не с
удовольствием прочли мы перевод из путешествия Ио¬
сифа Сенковского14.
Мысли, которые в начале 1820 года заступили места
переводных повестей, помещаемых обыкновенно «Вестника
Европы» в прозе под статьею «Изящная словесность»,
отчасти новы, хороши, остроумны; отчасти же стары,
обыкновенны и даже вовсе несправедливы, например:
Хорошего человека скоро узнать можно,
дурного — никогда.
Мы счастливы — только лишь счастием других.
Кто способен ненавидеть, тот не может любить.
Впрочем, мы должны отдать справедливость г-ну Не¬
чаеву; его мысли не принадлежат к числу тех мыслей без
234
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
мыслей, которые иногда попадаются под названием:
мысли, замечания и характеры и т. п.
«Сибирский вестник» — издание, которое во всех от¬
ношениях должно быть для всякого русского важно и за¬
нимательно, — выходит ныне уже третий год; искренно
желаем ему дальнейшего успеха и долговечности. Мы
уверены, что «Сибирский вестник» для ума здоровая и
сочная пища, а для памяти богатый источник положитель¬
ных сведений, без коих, по нашему мнению, не можно
иметь никакого права на название человека образован¬
ного и просвещенного; первая книжка «Сибирского вестни¬
ка» содержит следующие статьи: 1. Извлечение из опи¬
сания экспедиции, бывшей в киргизскую степь в 1816 году.
2. Взгляд на северную Сибирь. 3. Киргиз-Кайсаки боль¬
шой, средней и малой Орды. 4. Сравнение замерзания
и вскрытия рек Невы и Оби. Чрезвычайно жалеем,
что пределы нашего издания не позволяют нам разобрать
подробно одно или несколько из сих описаний. Здесь
только следует начало второй статьи, чтобы представить
читателю хотя что-нибудь в пример слога «Сибирского
вестника». «Природа везде прекрасна; она прекрасна и в
самых ужасах своих. Обратите взор на северный край
Сибири, вообще почитаемый гробом жизни: где земля в
оковах вечного хлада; растения лишены цвета и органи¬
ческой силы и где человек, в отношении к нравст¬
венному бытию и удобствам общественной жизни, оста¬
ется в первоначальном младенческом состоянии, — вы
увидите, что и там природа имеет свои красоты — че¬
ловек свои удовольствия».
«С каким удивлением встретите вы, в известную чет¬
верть года, беспрерывный день под полярным кругом и
солнце вместо захождения, переменяющее только свой об¬
раз и сияние? Или ночь, освещаемую луною и блеском
воздушных явлений, изображающих на снежных коврах
зимы разноцветную игру преломляющихся лучей. Какая
кисть представит то тусклое, то яркое блистание северных
сияний*, которые в неподражаемых видах живопису¬
ют северный небосклон или дугообразными протяжени¬
ями, или быстродвижущимися столпами, часто сопровож¬
даемыми шумом и свистом в беспредельности воздуха,
* (Не лучше ли: блистание северных сияний то тусклое, то яркое, —
чтобы избегнуть двусмыслия?)
235
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
и которые освещают мрачное царство долговременной
зимней ночи?»15
«Дух журналов» или собрание всего, что есть луч¬
шего и любопытнейшего во всех других журналах по
части истории, политики, законодательства, правосу¬
дия, государственного хозяйства, литературы, разных ис¬
кусств, сельского домоводства и проч. «Дух журналов» —
хорошее издание, в состав коего особенно входят нау¬
ки политические и исторические. Сей вестник отлича¬
ется благородным беспристрастием и важностию статей
дельных и полезных.
«Благонамеренный» журнал, издаваемый А. Измайло¬
вым с эпиграфом:
On fait ce qu’ on peut
Et non pas ce qu’ on veut*, —
не значит: взявшись за гуж, не говори, что не дюж. Но,
впрочем, господин издатель напрасно обижает самого се¬
бя, у него даже помещены стихотворения таких родов,
каких еще не было в российском стихотворстве, а
именно: омонимы, что значит тождесловы, или соимен¬
ники, и поэтические анекдоты (иначе не умеем назвать
сего рода, который, вероятно, также найдет многих себе
подражателей), поэтические анекдоты о пьяницах**.
Кроме того, у господина издателя много корреспонден¬
тов, путешествующих в иностранных землях и сообщаю¬
щих ему весьма интересные газетные новости.
Во втором номере «Благонамеренного» несколько сти¬
хотворений хотя и не в новом роде, но с подписью «Вар¬
шава»16. Чтобы не показаться в глазах наших читателей
слепыми панегириками «Благонамеренного», мы скажем
искренно, что стихотворение «Трудная задача» кажется
* Делай что можешь, а не то, что хочешь (франц.). — Ред.
** Чтобы распространить круг литературных сведений наших чи¬
тателей, мы считаем приятною для себя обязанностию поместить здесь
сие стихотворение, по скромности названное сказкою:
«Филат жене своей с похмелья побожился,
Что пуншу в рот он не возьмет;
Посмотришь — ввечеру чуть жив домой идет.
«Бессовестный! Опять напился!
Где был?»
— У свата Емельяна.
«Пунш пил?»
— Нет!., водки выпил три стакана».
236
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
нам достоинством во многом ниже прочих с тою же под¬
писью.
«Послание к Е. А. Б...вой» — легкая, прелестная безде¬
лица, напоминающая нам хорошие французские послания
в сем роде17. Вот место, которое нас пленило своим dulce
et facetum*:
И признаюсь, я часто в восхищеньи
Вас представлял читающих тайком
Мои стихи в безмолвном умиленьи,
И жадно ждал, когда своим певцом
Счастливого меня вы назовете.
В заключение приведем еще четырестишие, подписанное:
«Томск»18.
Мудрец! на свете сем, меж глупыми и злыми,
Чем занят ты, я знать хочу!
— В большой больнице сей я слезы лью с больными,
А с дураками хохочу!
(продолжение)
С удовольствием извещаем наших читателей о выходе
в свет первой части сочинений г-жи Буниной. Стихотворе¬
ния ее заслуживают во многих отношениях внимание пуб¬
лики: г-жа Бунина — женщина-поэт, явление редкое в на¬
шем отечестве, и сверх того поэт с дарованием, поэт- непо-
дражатель. Подробный разбор лучших ее стихотворений
принес бы словесности, по нашему мнению, истинную, су¬
щественную пользу: жалеем, что пределы нашего издания
не позволяют долго останавливаться на одном предмете.
Первая часть сочинений г-жи Буниной содержит стихо¬
творения лирические. Более прочих подействовали на нас
следующие: «Майская прогулка болящей», «Упрек другу»,
«Весна», «Юному Полуксу», «На разлуку», «Отречение».
Противоположность которою уже Жуковский так
счастливо воспользовался в своем «Громобое», противопо¬
ложность цветущей, прелестной природы и растерзанного
сердца человеческого употреблена с большим искусством.
В «Прогулке» г-жи Буниной стихи то мрачные и ужас¬
ные, то трогательные, живописные и задумчивые переме¬
няются в сем прелестном произведении, стесняют душу,
исполняют ее жалости и содрогания и противу воли извле¬
* Приятным и забавным (.латин.). — Ред.
237
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
кают слезы. Что же касается до слога, он не есть слог
новейшей поэзии, очищенной трудами Дмитриева, Жуков¬
ского, Батюшкова, г-жа Бунина шла своим путем и обра¬
зовала свой талант, не пользуясь творениями других та¬
лантов.
Ад в душе моей гнездится;
Этна ссохшу грудь палит; [иссохшая, а не ссохшая
грудь]
Жадный змий, виясь вкруг сердца,
Кровь кипучую сосет.
Тщетно слабыми перстами
Рву чудовище... нет сил!
Яд его протек по жилам:
Боже мира! запрети!
Где целенье изнемогшей?
Где отрада? — где покой?
Нет, не льсти себя мечтою:
Ток целения иссяк.
Капли нет одной прохладной,
Тощи оросить уста! [«тощие уста» нельзя сказать]
В огнь дыханье превратилось;
В остру стрелу каждый вздох;
Все глубоки вскрылись язвы, —
Боль их ум во мне мрачит,
Где ты, смерть? — Изнемогаю...
Дом, как тартар, стал постыл!
Мне ль ты, солнце, улыбнулось?
Мне ль сулишь отраду, май!
Травка! для меня ль ты стелешь
Благовонный свой ковер?
Может быть, мне там и лучше...
Побежим под сень древес.
Но в груди огонь не гаснет,
Сердце тот же змий сосет;
Тот же яд течет по жилам:
Ад мой там — где я ступлю.
Нет врача омыть мне раны:
Нет руки стереть слезы;
Нет устен для утешенья,
Персей нет — приникнуть где;
Все странятся, — убегают:
Я одна... О, горе мне!
238
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
Несмотря на некоторые неровности, — какая сильная,
живая поэзия! Здесь не мечтательное несчастие унылого
юноши, который в существенном мире не нашел того, что
может дышать в одном мире фантазии, здесь говорит нес¬
частие истинное голосом боли, голосом отчаяния. Далее
к страдалице подходит нищий старец,
Ветр власы его взвевает,
Белые, как первый снег!
По его ланитам впалым,
Из померкнувших очей,
Чрез глубокие морщины
Токи слезные текут;
Он получает от нее подаяние и восклицает:
Боже щедрый! благодатный!
Ниспошли ей свою благость,
Все мольбы ее внемли!
Старец! ты хулы изрыгнул!
Трепещи! ударит гром!..
Бог отверг меня, несчастну!
Око совратил с меня [отвратил от меня],
Не щедроты и не благость, —
Тяготеет зло на мне.
[Щедроты и благость не могут тяготеть.]
Тщетно веете, зефиры!
Тщетно, соловей, поешь!
Тщетно с запада златого,
Солнце, мещешь кроткий луч
И, Петрополь позлащая,
Всю природу веселишь!
Чужды для меня веселья!
Не делю я с вами их!
Солнце не ко мне сияет [не для меня],
Я не дочь природы сей.
Свежий ветр с Невы вдруг дунул:
Побежим! он прохладит.
Дай мне челн, угрюмый кормчий!
К ветрам в лик свой путь направь.
Воды! хлыньте дружно с моря!
Вздуйтесь, синие бугры!
Зыбь на зыби налегая,
Захлестни отважный челн!
Прохлади мне грудь иссохшу,
Жгучий огнь ее залей.
Туча! упади громами!
Хлябь разверзись, — поглоти...
239
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Но все тихо — все спокойно, —
Ветр на ветвиях уснул;
Море гладко, как зерцало;
Чуть рябят в Неве струи;
Нет на набе туч свирепых;
Облак легких даже нет,
И по синей, чистой тверди
Месяц с важностью течет.
Если бы все стихотворения Анны Петровны Буниной
в достоинстве равнялись с приведенным здесь, она, без
сомнения, занимала бы одно из первых мест между рус¬
скими, истинными поэтами, хотя и в «Прогулке» много
необделанного, шероховатого и изредка ненужные с перво¬
го взгляда повторения; впрочем, сии повторения имели,
может быть, целию живее представить состояние больной,
которая беспрестанно вспоминает свое ужасное состояние
и естественным образом говорит о нем в одних и тех же
выражениях, и в таком случае стихи:
Яд его протек по жилам,
Капли нет одной прохладной
Тощи оросить уста.
В огнь дыханье превратилось.
Потом:
Свежий ветр с Невы вдруг дунул:
Побежим! он прохладит.
Захлесни отважный челн!
Прохлади мне грудь иссохшу,
Жгучий огнь ее залей.
И, может быть, еще некоторые другие, выражающие
одну и ту же мысль, или оттенки одной и той же мысли, не
только не лишни, но даже необходимы. Конец всего сти¬
хотворения заставляет задуматься; он как будто удаляется
от главного предмета и живописует ясную, никогда не
страждущую вселенную, в которой столько страдальцев
и столь мало утешителей.
Стихотворение «Упрек другу» изображает резко и с
чувством всю горесть, которую должно ощутить доброе
сердце при неожиданном предательстве друзей мнимых, но
тем не менее ему драгоценных. Сравнение с плавателем,
настигнутым бурею у самой пристани, когда он
Глядит к безоблачной лазури,
Предвидя странствию конец, —
240
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
превосходно, но не везде равно хорошо выражено. Вот
несколько стихов для примера. Пловец говорит:
Давно ль доверчивые взоры
Вперял я в светлы небеса,
И их безоблачна краса
Сулила радости мне скоры!
Увы! не грома ждал,
Когда их созерцал!
Пловец, днесь жалобам не время!
Таков несчастных всех удел!
Двойное шлет им промысл бремя
И двое изощряет стрел.
У недругов едины в воле [во власти]
Другие, к сокращенью дней,
Летят к нам от друзей
И сердце поражают боле!
Живое, но более мрачное воображение составляет от¬
личительное достоинство хороших стихотворений г-жи Бу¬
ниной. В одном из них мы находим после богатого описа¬
ния весны, после стиха превосходного по простоте и чув¬
ству:
О, сколь обилен мир красою! —
ужасное изображение злодея, который не может и не до¬
стоин восхищаться прелестями природы:
Чей мрачный вид — чьи грозны очи
В душе сокрытой кажут ад?
Как тать, таится под скалами!
Власы его свились с кустами;
Чело покрыл смертельный хлад.
* * *
То узник воли самонравной,
Что самый рок осилить мнил;
Но, в бой вступая с ним неравной,
Сильнейшей воле уступил.
Не столь бросаем челн волнами,
Колико он борим страстями!
От ярости в нем глас дрожит;
Как угль разженный, блещут взоры;
Как вихри, мчатся мысли скоры,
И каждая друг друга тмит.
Он чужд всего, не зрит, не внемлет;
Лишь рок продерзостно клянет.
Скорбь мысли ум его объемлет;
Грудь скрытый пламень жжет.
Как Этна лаву извергает,
9—907
241
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
«Почто — почто, — он говорит, —
Сей стройной чин природы
Текущи не глотают годы!
Почто сей лепый мир стоит!
♦ * *
Почто не упадут светила!
Увы! луч солнца не погас,
И вечна ночь земли не скрыла».
Героида к «Юному Поллуксу» отличается от всех прочих
произведений г-жи Буниной обработанностию и точностию
слога, но, впрочем, в ней не менее силы и живости, неже¬
ли в стихотворениях, о коих мы говорили. Сими красотами
тем больше наслаждаемся, что они являются в полном
свете, ибо не помрачены ошибками слога и погрешностями
против языка. Мы приведем здесь из нее только две стро¬
фы: место не позволяет нам рассмотреть все достоинства
сего прекрасного произведения.
Поллукс! я не зову тебя!
Ужасен вид моей темницы:
Сюда и даже луч денницы
Не проникал согреть меня,
От хлада стынет кровь! не верь! мой ум блуждает:
Увы! здесь пламя протекает,
* * *
Где я? чья видится мне тень?
Прелестна, с русыми власами,
Одета легкими парами,
Светла, как майский день, —
С улыбкой нежною мне руку простирает;
Как ангел, с кротостью вещает.
Следуют слова небесного посетителя. Превосходный
вымысел! несчастную приходит утешать та,
Которая беды со мной делила
И ах! покой одна вкусила.
Отдав должную справедливость г-же Буниной, нам
остается желать, чтобы при втором издании были исправ¬
лены, буде можно, недостатки, которые здесь были заме¬
чены.
Прибавление. Сказав наше мнение во втором номере
«Невского зрителя» о некоторых периодических изданиях,
выходящих в России, считаем обязанностью упомянуть
242
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
здесь о журнале «Соревнователь просвещения и благотво¬
рения». Сей вестник соединяет статьи ученые со статьями
просто литературными и именно этим счастливым слия¬
нием равно занимателен для читателей совершенно разных
вкусов, совершенно разного образования. Что касается до
нас, мы с большим любопытством читали описание четы¬
рех первых божеств Индии из «Опыта полного мифоло¬
гического словаря» барона Корфа, сочинения, не вышед¬
шего еще в свет: восхищались прелестною горацианскою
одою «К Лилете» ; чувствовали истинное удовольствие при
хорошей элегии г-на Плетнева «Неразделяемое наслажде¬
ние» и, хотя противники шарад, загадок и тому подобного,
радовались прекрасной шараде г-на Ф. Г.20.
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
У моих хозяев — был о
святках бал. Прелестные девушки кружились по паркету
с гвардейскими офицерами; музыка гремела; богатое ос¬
вещение придавало комнатам какой-то праздничный блеск,
какое-то праздничное веселие. Отцы и матери, дядюшки
и тетушки молодых красавиц и красавцев, плясавших под
гром оркестра, сидели за зелеными столиками и важно и
чинно играли в бостон. Слуги с огромными подносами пере¬
ходили из комнаты в комнату и с учтивым наклонением
головы подносили гостям лимонад и оржад, конфекты
и варенья. Мне запрещено танцевать; я в бостон не играю:
несмотря на это, я принимал живейшее участие в общей
радости. Я с наслаждением смотрел на танцы; с наслажде¬
нием примечал непритворное восхищение на открытых
лицах юношей и девушек; потом подходил к карточным
столам, всматривался в черты стариков и старушек и тихо
говорил самому себе: «И они когда-то были молоды!»
Изредка общее внимание обращалось на маски, которые
появлялись вдруг, чтобы столь же скоро исчезнуть. Мы ви¬
дели то турецкого падишаха, которого вел за длинный
нос его полосатый арлекин, то нимфу Калипсо, а возле
нее благочестивого отшельника, то Диогена, который ос¬
9**
243
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
танавливался перед всякою дамою и гасил из учтивости
фонарь свой. Все окружали их; все хотели узнать, кто
они; все говорили: «Это тот и тот! это такая-то!», — и все,
вероятно, ошибались. Мое внимание особенно обратила на
себя одна маска. Она была составлена из нарядов всех
почти времен и народов: голова, например, была украшена
огромным французским париком времен Людовика XIV;
над париком возвышался германский барет; лицом маска
походила на доброго русского крестьянина и отличалась
окладистою, черною как смоль бородою, которая, к не-
счастию, падала не на красную или синюю рубашку, но
на рыцарский круглый воротник из века трубадуров; ан¬
глийский новомодный фрак был расстегнут нараспашку;
польские шаровары находились в странном противоречии с
греческим котурном и римскою тогою, придававшими
целому нечто чудовищное. На груди привидения было
написано: «Русская словесность». Маска то пела нежные
и печальные стихи, то хохотала, то бранилась, то плакала,
то подходила к дамам и шаркала не хуже французского
танцмейстера; то вдруг начинала рассказывать сказку
про Бову Королевича; то, приняв на себя вид строгий и
неумолимый, заикаясь, повторяла меланхолические нраво¬
учения Ювенала и Персия; то, начав нескладным славя¬
но-варяжским слогом рассказывать небылицы и были о
русских героях и царях, внезапно становилась красноре¬
чивою, увлекательною, величественною в своем рассказе:
казалось, слушаешь не Тацита, не Юма, не Мюллера,
но мужа, равного им, потому что он не хотел быть ими.
Тогда собирались вкруг маски молодые и старые, удивля¬
лись благородным чертам и досадовали на шутовской
наряд ее. Наконец незнакомец встал, таинственно погро¬
зил мне пальцем и скрылся. Я еще несколько времени
пробыл в обществе; но было полночь, я начал чувствовать
усталость и ушел к себе, чтобы в объятиях Морфея под¬
крепить себя для нового рассеяния.
Как бы ни устал, я никогда не могу тотчас заснуть:
чтобы приготовить себя к ночным видениям и грезам,
я обыкновенно, лежа в постели, что-нибудь читаю. В этот
вечер нашел я на моем столе известные Меркелевы письма
о немецкой словесности. Я раскрыл их наудачу и мне
попалось видение, в котором, как уверяет автор, он оки¬
нул одним взглядом состояние всей тогдашней герман¬
ской литературы. За чтением у меня мало-помалу смы¬
244
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
кались глаза, мысли мои мешались, свеча догорала; я по¬
гасил ее и уступил влечению сна. Не знаю, что на меня
сильнее подействовало, маска ли или чтение; но я во сне
видел что-то такое, составленное из того и другого. Меди¬
ки, может быть, заметят, что это не свидетельствует о
слишком хорошем здоровьи: ибо одни только больные, по
их мнению, видят во сне то, что с ними случилось днем.
Я не стану спорить с сими господами; а только могу уве¬
рить вас, любезный читатель, что я проснулся на другое
утро весел и здоров, и теперь расскажу вам, если только
вспомню, все, что мне привиделось. Желаю, чтоб мое сно¬
видение, если вы мучимы бессонницею, имело бы на вас
такое же благотворное действие, как на меня иногда и
днем имеют сновидения многих наших молодых поэтов
и прозаиков.
«Я увидел себя на огромной горе, взглянул и приметил,
что она вся бумажная. С нее стекали ручьи чернильные.
Она была вся обсажена густым лесом: странный вид
листьев заставил меня подойти к одному дереву и я уви¬
дел, что каждый лист его образовывал своею наружностию
букву «А». Это меня удивило; но вскоре я приметил, что
каждое дерево покрыто было листом совершенным подра¬
жанием какому-нибудь одному знаку российского алфа¬
вита. Вокруг же всех тех деревьев, которых листья обри¬
совывали согласную букву, обвивалось растение, принад¬
лежащее к роду прозябений-тунеядцев: оно занимало
очень много места и ни к чему не служило: листья его
совершенно были похожи на наше <<k»·
Я углубился в гущину леса, набрел на старый разва¬
лившийся сарай и увидел над воротами большими золоты¬
ми буквами надпись: «Храм древности». Здесь меня встре¬
тил какой-то старик, который вызвался быть моим чичеро¬
не. Поблагодарив его, я пошел за ним.
«Прежде чем покажу вам наши редкости, я познакомлю
вас со здешними гениями-хранителями», — сказал он
мне с благоговением, которое показалось мне, не знаю по¬
чему, притворным. Мы вошли на холм, превращенный с
довольно большим вкусом в Олимп древних. Изваяния
всех почти богов греческих и римских украшали пригорок:
они были работы искусной и старательной; но, к несчас-
тию, ни в одном не заметил я того величия, той прелести,
той простоты, которым удивляемся в немногих дошед¬
ших до нас памятниках эллинского резца; на всех статуях
245
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
было что-то новейшее, что-то принужденное. Тем более
удивило меня почтение, с которым мой старик преклонял
колена перед каждою; тем смешнее стало мне, когда он
вдруг в самых пышных стихах, в самой надутой прозе
начал с ними разговаривать. Заметив мое недоумение,
он сказал с величайшим хладнокровием: «Не правда ли,
видя восторг9 в котором нахожусь, вы не сомневаетесь, что
все эти боги живы, что я верю их жизни и всемогущест¬
ву?» Вдруг выскочил из-за куста леший; он мне точно
показался живым, и по испугу, который пробежал по
моим членам, заключил я, что рассказы моих покойных
нянюшек на меня действовали и действуют гораздо силь¬
нее красных слов и высокопарности моего чичероне: ня¬
нюшки сами верили тому, чему хотели заставить меня
верить.
Мы вошли в дом: старик начал мне показывать свои
редкости. Первое место между ними занимал огромный
сундук; я очень любопытствовал узнать, что в нем такое.
Старик отворил его — и я увидел множество старых пис¬
чих перьев. «Что это?» — «Это? Это лиры — и по большей
части золотые. Слышите ли, как они поют?» — сказал
старик и показал мне на кипы бумаг, которые лежали
в углу комнаты. После того я счел старика сумасшедшим,
а как не слишком люблю быть с сумасшедшими, то оп¬
рометью выбежал из сарая-храма. Чичероне кричал вслед
за мною: «Что вы бежите! Меня зовут «это принято».
Я покажу вам еще много вещей занимательных, огляни¬
тесь: вот щиты и шлемы новейших героев; вот пули, ко¬
торые разжалованы в стрелы! С вами желают познако¬
миться Иваны, Петры, Васильи, произведенные в Дионы,
Дафнисы, Эрасты! Взгляните по крайней мере на Фекл,
на Татьян, переименованных в Дориды, Аглаи, Темиры,
в Хариты, в Венеры...» Слова его исчезли в пространствах
воздуха.
Я вышел из лесу и очутился на высоте Парнаса. Апол¬
лон судил русских писателей:
Первый мне представился Нестор. Величественный
в своей простоте, он, казалось, и не думал о самом себе
и пошел в храм бессмертия, разговаривая с Гомером и
с добрым Геродотом. За Нестором следовала толпа мона-
хов-летописцев: Аполлон на них взглядывал, и их образы,
разливаясь по воздуху, исчезали; Клио, не забывая про¬
исшествий, которые они рассказывали, забывала имена их.
246
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
Кто-то пасмурный и дикий, росту исполинского, с ру¬
сыми, распущенными по ветру волосами, с бородой вскло¬
коченною, стоял перед Аполлоном; в левой руке его покои¬
лись русские гусли, правая прыгала по струнам: он пел,
и голос его подобился то щекоту соловья, то завыванию
бури; Аполлон взглянул на него и спросил Клио об его
имени. Оссиан подошел к незнакомцу и надел на него
сосновый венок. «Слово о полку Игоря» было отнесено
в храм славы и бессмертия.
Я увидел козака Киршу Данилова. Он без всякого пре¬
дисловия начал рассказывать Аполлону про Соловья Бу-
димировича, про гостя Терентьища, про Дурня Бабина,
про Садка, про князя Владимира и богатырей. Сын Латоны
долго слушал и наконец, чтобы отвязаться от рассказчика,
прогнал его — куда же? Туда, где он сидит между Бюр¬
гером и Шехерезадою, где Ариост и творец «Одиссеи»
иногда вслушиваются в его болтание; но я заметил, что
некоторые господа наши модные писатели пожимали пле¬
чами и говорили: «Аполлон состарился! У него вкус ис¬
портился!»
За Даниловым толпа малороссийских семинаристов
начала осаждать судилище Аполлона: они говорили каким-
то языком, который был не русский, не церковный, не
польский, но чудовищная смесь всех трех. То, что называ¬
ли они стихами, было самая худая проза с рифмами; то,
что называли ученостию, — соединение самого грубого
невежества и самого глупого педантизма. Бог поэзии кив¬
нул головою насмешнику Мому, — Мом понял Аполлона,
взял метлу и начал обметывать от этого сора Парнас: бо¬
гиня забвения защитила несчастных от дальнейших обид
насмешника. Но некоторые знакомые мне лица бледнели
от досады и от страха, потому что Мом грозил и им своим
орудием; а сверх того забвение не хотело сжалиться над
ними.
Когда толпа рассеялась, мы увидели князя Кантемира
и Феофана Прокоповича. Они заговорили, и сын Латоны
наморщился (он не дослышал, ему показалось, что эти
двое из прежних сарматов) ; но Кантемир, к счастию,
не испугался и смело продолжал в своей грубой рифмо¬
ванной прозе смеяться самым живым, самым острым об¬
разом над всем достойным посмеяния, над ханжеством
и спесью, над глупостию злых и злобою глупых. Аполлон
слушал и заслушался; Мом хохотал до упаду, а Минерва
247
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
подошла к поэту и пожала ему руку с чувством почтения
и признательности. «Кантемир, — сказал наконец Апол¬
лон, — ты будешь забыт и бессмертен; ближайшее по¬
томство, которое уважает и ценит, может быть, слишком
дорого чистоту языка и слога, забудет тебя; но тебя будет
помнить потомство отдаленное, для которого важны мыс¬
ли, важно верное изображение нравов твоего времени».
Аполлон взглянул на Тредьяковского, зевнул и усмехнул¬
ся: бедный Тредьяковский!
«Ты славен стал числом своих бесславий! Но и тебя
забудут!»
Колмогорский рыбак следовал за профессором. Он
начал петь: богатая, роскошная гармония очаровала мой
слух; стихи величественные и сладостные, неисчерпаемое
изобилие в словах и картинах, удивительная легкость,
чистота и парение! Весь Парнас был очарован и превра¬
тился в слух и внимание.
(Продолжение впредь.)
О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ
Одно из самых приятных,
из самых важных явлений текущей Российской словес¬
ности есть небольшая книжка «О греческой антологии».
Сие короткое рассуждение о духе и красотах греческих
эпиграмматиков познакомило лучшую часть нашей публи¬
ки с понятиями, гражданскою жизнию, чувствами и об¬
разом мыслей древних жителей Эллады, а присоединен¬
ные превосходные переводы некоторых эпиграмм должны
были перелить что-то греческое, что-то классическое в
душу всякого, способного к тому.
Оставляя дальнейшее изложение свойств мелких гре¬
ческих стихотворений, о которых в немногих словах ска¬
зано много в разбираемой нами книжке, обратим особен¬
ное внимание на русские переводы оных. Мы искренне
признаемся, что сначала мы, как слишком, может быть,
пристрастные любители всего древнего, несколько сожа¬
248
О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ
лели, что в переводах не сохранены размеры подлинника;
но вскоре прелестные, исполненные гармонии ямбы заста¬
вили нас совершенно забыть о сем недостатке. Не знаем,
кто из наших поэтов скрыл свое имя в сих переводах под
скромным названием беспечного провинциала: но, судя по
наслаждению, которое чувствуешь, читая его стихи, по
сладостной мелодии каждого из них, особенно по удиви¬
тельному искусству в образовании и сохранении пиитиче¬
ского периода, высочайшего совершенства в просодии —
совершенства, тайны для некоторых лучших поэтов, впол¬
не постигнутого только двумя из них: Батюшковым и мо¬
лодым певцом Руслана, мы колеблемся, кого из обоих
благодарить за подарок, сделанный русской словесности
пересадкою сих душистых, прекрасных греческих цветов
в русскую землю; признаемся, однако же, что с нашей
стороны, по некоторым приметам, в коих не можем отдать
отчета, мы склонны приписать сии переводы Батюшкову —
многие стихи живо напоминают его образ выражаться
(sa maniéré). Кто, например, в следующем стихотворении
не узнает творца «Моих Пенатов»:
В Лаисе нравится улыбка на устах,
Ее пленительны для сердца разговоры;
Но мне милей ее потупленные взоры
И слезы горести внезапной на очах.
Я в сумерки, вчера, одушевленный страстью,
У ног ее любви все клятвы повторял
И с поцелуем к сладострастью
На ложе роскоши тихонько увлекал...
Я таял, и Лаиса млела...
Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей!
Смущенный, я прижал ее к груди моей.
«Что сделалось, скажи, что сделалось с тобою?»
— Спокойся, ничего, бессмертными клянусь,
Я мысли ю была встревожена одною:
Вы все обманчивы, и я... тебя страшусь.
«В этой эпиграмме, — говорит Издатель, — узнаем мы
нравы народа, привыкшего возвышать цену наслаждений
искусным смешением впечатлений противоположных. Греки
давали иногда наслаждению томный вид меланхолии;
статую смерти они редко ставили посреди пиршеств и чаш
веселия».
Мы остановимся на некоторых стихах перевода:
Я таял, и Лаиса млела —
один стих, но который ручается за музыкальный слух
249
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
поэта; он тает, он исполняет негой душу и невольно про¬
ливает томность в голос и произношение читателя. Бы¬
строта и порыв следующих двух стихов:
Но вдруг уныла, побледнела,
И слезы градом из очей! —
в прекрасной противоположности к нему.
Истинный дифирамбический восторг, который окрыля¬
ет просодию следующего отрывка, заставляет нас при¬
числить его к стихотворениям лирическим:
Свершилось: Никагор и пламенный Эрот
За чашей Вакховой Аглаю победили...
О радость! здесь они сей пояс разрешили,
Стыдливости девической оплот.
Вы видите: кругом рассеяны небрежно
Одежды пышные надменной красоты;
Покровы легкие из дымки белоснежной,
И обувь стройная, и свежие цветы:
Здесь все развалины роскошного убора,
Свидетели любви и счастья Никагора!
Живая прекрасная ода, исполненная самого пылкого
лиризма, о коем и понятия не имеют господа сочинители
од самых торжественных, которые бывают — иная в две¬
сти строф!
Сей же самый восторг, сия же самая истинно пиити¬
ческая жизнь господствуют в другой оде, в коей поэт уте¬
шает постарелую красавицу в утрате дней юности. В конце
он говорит:
...Владычица любви,
Ты страсть вдохнешь и в мертвый камень;
И в осень дней твоих не погасает пламень,
Текущий с жизнию в крови.
Исполинская сила выражений, особенно в последних
двух стихах!
Для разнообразия мы выпишем эпиграмму, в которой
дышит глубокое чувство новейшей элегии, соединенное
с тою живостию, с тою полнотою, которыми руководству¬
ются самые даже унылые произведения греков. Сие слия
ние составляет характер поэзии эпиграмматика Павла,
характер поэзии итальянцев и питомца их, Батюшкова.
Увы! глаза, потухшие в слезах,
Ланиты, впалые от долгого страданья,
Родят в тебе не чувство состраданья,
Жестокую улыбку на устах...
Вот горькие плоды любови страстной,
250
О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ
Плоды ужасные мучений без отрад,
Плоды любви, достойные наград,
Не участи, для сердца столь ужасной!..
Увы! как молния внезапная с небес,
В нас страсти жизнь младую пожирают
И в жертву безотрадных слез,
Коварные, навеки покидают,
Но ты, прелестная, которой мне любовь
Всего — и юности, и счастия — дороже,
Склонись, жестокая, и я... воскресну вновь
Как был или еще бодрее и моложе.
Издатель заключает свои выписки эпиграммою, кото¬
рую почитает лучшим произведением Павла. Мы совер¬
шенно разделяем его мнение и не можем отказаться от
удовольствия украсить ею разбор наш.
Изнемогает жизнь в груди моей остылой;
Конец борению; увы! всему конец.
Киприда и Эрот, мучители сердец!
Услышьте голос мой последний и унылой.
Я вяну и еще мучения терплю;
Полмертвый, но сгораю.
Я вяну: но еще так пламенно люблю
И без надежды умираю!
Так жертву обхватив кругом,
На алтаре огонь бледнеет, умирает
И, вспыхнув ярче пред концом,
На пепле погасает.
Мы с некоторым пристрастием, с некоторою сла-
бостию любим сие стихотворение, сей прелестнейший цве¬
ток греческой Антологии. В нем нет ни одного пятна; он
в своем роде столь же совершен, сколь совершен Аппо-
лон Бельведерский в своем. В двенадцати стихах соедине¬
ны все почти достоинства пиитические.
О французских переводах1 мы не осмеливаемся судить,
потому что не полагаемся на свое знание языка и поэзии
французов; однако же кажется, что в них менее живописи,
сжатости и парения, нежели в переводах русских.
Вот что мы чувствовали, чем восхищались в сих пре¬
восходных отрывках! Теперь позволим себе попросить у
г. Издателя объяснения следующей надгробной надписи,
которую нашел он на оберточном листе изданной им
рукописи и которой мы, признаемся, не понимаем:
С отвагой на челе и с пламенем в крови
Я плыл — но с бурей вдруг предстала смерть
ужасна:
О юный плаватель, сколь жизнь твоя прекрасна!
Вверяйся челноку! плыви!2
251
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ,
ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ,
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Решаясь говорить о направ¬
лении нашей поэзии в последнее десятилетие, предвижу,
что угожу очень немногим и многих против себя воору¬
жу. И я наравне со многими мог бы восхищаться неи¬
моверными успехами нашей словесности. Но льстец всег¬
да презрителен. Как сын отечества поставляю себя обя-
занностию смело высказать истину.
От Ломоносова до последнего преобразования нашей
словесности Жуковским и его последователями у нас ве¬
лось почти без промежутка поколение лириков, коих име¬
на остались стяжанием потомства, коих творениями долж¬
на гордиться Россия. Ломоносов, Петров, Державин, Дмит¬
риев, спутник и друг Державина — Капнист, некоторым
образом Бобров, Востоков и в конце предпоследнего деся¬
тилетия — поэт, заслуживающий занять одно из первых
мест на русском Парнасе, кн. Шихматов, — предводители
сего мощного племени1: они в наше время почти не имели
преемников. Элегия и послание у нас вытеснили оду. Рас¬
смотрим качества сих трех родов и постараемся опреде¬
лить степень их поэтического достоинства.
Сила, свобода, вдохновение — необходимые три усло¬
вия всякой поэзии. Лирическая поэзия вообще не иное
что, как необыкновенное, то есть сильное, свободное, вдох¬
новенное изложение чувств самого писателя. Из сего сле¬
дует, что она тем превосходнее, чем более возвышается
над событиями ежедневными, над низким языком черни,
не знающей вдохновения. Всем требованиям, которые
предполагает сие определение, вполне удовлетворяет одна
ода, а посему, без сомнения, занимает первое место в ли¬
рической поэзии, или, лучше сказать, одна совершенно
заслуживает название поэзии лирической. Прочие же роды
стихотворческого изложения собственных чувств — или
подчиняют оные повествованию, как то гимн, а еще более
баллада, и, следовательно, переходят в поэзию эпичес¬
кую; или же ничтожностию самого предмета налагают
на гений оковы, гасят огонь его вдохновения. В послед¬
нем случае их отличает от прозы одно только стихо
252
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ...
сложение, ибо прелестью и благозвучием — достоинства¬
ми, которыми они по необходимости ограничиваются, —
наравне с ними может обладать и красноречие. Ода,
увлекаясь предметами высокими, передавая векам подвиги
героев и славу отечества, воспаряя к престолу неизре¬
ченного и пророчествуя пред благоговеющим народом,
парит, гремит, блещет, порабощает слух и душу читателя.
Сверх того в оде поэт бескорыстен; он не ничтожным
событиям собственной жизни радуется, не об их сетует;
он вещает правду и суд промысла, торжествует о вели¬
чии родимого края, мещет перуны в сопостатов, блажит
праведника, клянет изверга.
В элегии — новейшей и древней — стихотворец говорит
об самом себе, об своих скорбях и наслаждениях. Эле¬
гия почти никогда не окрыляется, не ликует: она должна
быть тиха, плавна, обдумана; должна, говорю, ибо кто
слишком восторженно радуется собственному счастию —
смешон; печаль же неистовая не есть поэзия, а бе¬
шенство. Удел элегии — умеренность, посредственность
(Горациева aurea mediocritas*)**.
Son enthousiasme paisible
N’a point ces tragiques fureurs;
De sa veine féconde et pure
Coulent avec nombre et mesure
Des ruisseaux de lait et de miel,
Et ce pusillanime Icare
Trahi par l’aile de Pindare
Ne retombe jamais du ciel!5.
Она только тогда занимательна, когда, подобно ни¬
щему, ей удается (сколь жалкое предназначение!) вымо¬
лить, выплакать участие или когда свежестью, игривою
пестротою цветов, которыми осыпает предмет свой, на миг
приводит в забвение ничтожность его. Последнему требо¬
ванию менее или более удовлетворяют элегии древних
и элегии Гётевы, названные им Римскими; но наши
* Золотая середина Спатин.). — Ред.
** Вольтер сказал, что все роды сочинений хороши, кроме скучного;
он не сказал, что все равно хороши2. Но Буало, верховный, непреложный
законодатель в глазах толпы русских и французских Сен-Моров и
Ожеров? объявил:
«Un sonnet sans défaut vaut seul un long poème!»4
Есть, однако же, варвары, в глазах коих одна отважность предпринять
создание эпопеи взвешивает уже всевозможные сонеты, триолеты,
шарады и — может быть, баллады. — Соч,
253
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Греи6 почти* вовсе не искушались в сем светлом, полу¬
денном роде поэзии.
Послание у нас или та же элегия, только в самом не¬
выгодном для ней облачении, или сатирическая замашка,
каковы сатиры остряков прозаической памяти Горация,
Буало и Попа, или просто письмо в стихах. Трудно
не скучать, когда Иван и Сидор напевают нам о своих
несчастиях; еще труднее не заснуть, перечитывая, как они
иногда в трехстах трехстопных стихах друг другу рас¬
сказывают, что — слава богу! — здоровы и страх как жа¬
леют, что так давно не видались! Уже легче, если, по
крайней мере, ретивый писец, вместо того чтоб начать
Милостивый государь ΝΝ, —
воскликнет:
чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец! —
а потом ограничится объявлением, что читает Дюмарсе,
учится азбуке и логике, никогда не пишет ни семо, ни
овамо и желает быть ясным!7 Душе легче, — говорю, —
если он вдобавок не снабдит нас подробным описанием
своей кладовой и библиотеки8 и швабских гусей9 и рус¬
ских уток своего приятеля.
Теперь спрашивается: выиграли ли мы, променяв оду
на элегию и послание?
Жуковский первый у нас стал подражать новейшим
немцам, преимущественно Шиллеру. Современно ему Ба¬
тюшков взял себе в образец двух пигмеев французской
словесности — Парни и Мильвуа. Жуковский и Батюш¬
ков на время стали корифеями наших стихотворцев и
особенно той школы, которую ныне выдают нам за ро¬
мантическую.
Но что такое поэзия романтическая?
Она родилась в Провансе и воспитала Данта, который
дал ей жизнь, силу и смелость, отважно сверг с себя иго
рабского подражания римлянам, которые сами были
единственно подражателями греков, и решился бороться с
ними10. Впоследствии в Европе всякую поэзию свободную,
народную стали называть романтическою. Существует ли в
сем смысле романтическая поэзия между немцами?
* Барон Дельвиг написал несколько стихотворений, из которых,
сколько помню, можно получить довольно верное понятие о духе древ¬
ней элегии. Впрочем, не знаю, отпечатаны они или нет. — Соч.
254
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ...
Исключая Гете, и то только в некоторых, немногих его
творениях, они всегда и во всяком случае были ученика¬
ми французов, римлян, греков, англичан, наконец, итали-
янцев, испанцев. Что же отголосок их произведений?
Что же наша романтика?
Не будем, однако же, несправедливы. При совершен¬
ном неведении древних языков, которое отличает, к сты¬
ду нашему, всех почти русских писателей, имеющих неко¬
торые дарования, без сомнения, знание немецкой сло¬
весности для нас не без пользы. Так, например, влиянию
оной обязаны мы, что теперь пишем не одними алек-
сандринами и четырехстопными ямбическими и хореичес¬
кими стихами.
Изучением природы, силою, избытком и разнообрази¬
ем чувств, картин, языка и мыслей, народностию своих
творений великие поэты Греции, Востока и Британии не¬
изгладимо врезали имена свои на скрижалях бессмертия.
Ужели смеем надеяться, что сравнимся с ними по пути,
по которому идем теперь? Переводчиков никто, кроме на¬
ших дюжинных переводчиков, не переводит. Подражатель
не знает вдохновения: он говорит не из глубины собст¬
венной души, а принуждает себя пересказать чужие поня¬
тия и ощущения. Сила? Где найдем ее в большей части
своих мутных, ничего не определяющих, изнеженных,
бесцветных произведений? У нас все мечта и призрак, все
мнится, и кажется, и чудится, все только будто бы, как
бы, нечто, что-то. Богатство и разнообразие? — Прочитав
любую элегию Жуковского, Пушкина или Баратынского,
знаешь все. Чувств у нас уже давно нет: чувство уны¬
ния поглотило все прочие. Все мы взапуски тоскуем
о своей погибшей молодости; до бесконечности жуем и пе¬
режевываем эту тоску и наперерыв щеголяем своим мало¬
душием в периодических изданиях*. Если бы сия грусть
* Да не подумают, однако же, что не признаю ничего поэтиче¬
ского в сем сетовании об утрате лучшего времени жизни человеческой —
юности, сулящей столько наслаждений, ласкающей душу столь слад¬
кими надеждами. Одно, два стихотворения, ознаменованные притом
печатью вдохновения, проистекшие от сей печали, должны возбудить
живое сочувствие, особенно в юношах, — ибо кто, молодой человек, не
вспомнит, что при первом огорчении мысль о ранней кончине, о
потере всех надежд представилась его душе, утешила и умилила его?
Но что сказать о словесности, которая вся почти основана на сей
одной мысли? — Соч.
255
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
не была просто реторическою фигурою, иной, судя по
нашим Чайльд-Гарольдам, едва вышедшим из пелен, мог
бы подумать, что у нас на Руси поэты уже рождаются
стариками. Картины везде одни и те же: луна, кото¬
рая — разумеется — уныла и бледна, скалы и дубравы,
где их никогда не бывало, лес, за которым сто раз пред¬
ставляют заходящее солнце, вечерняя заря; изредка длин¬
ные тени и привидения, что-то невидимое, что-то неведо¬
мое, пошлые иносказания, бледные, безвкусные олицетво¬
рения Труда, Неги, Покоя, Веселия, Печали, Лени писа¬
теля и Скуки читателя; в особенности же — туман: тума¬
ны над водами, туманы над бором, туманы над полями,
туман в голове сочинителя.
Из слова же русского, богатого и мощного, силятся
извлечь небольшой, благопристойный, приторный, искус¬
ственно тощий, приспособленный для немногих11 язык, un
petit jargon de coterie*. Без пощады изгоняют из него все
речения и обороты славянские и обогащают его архит¬
равами, колоннами, баронами, траурами, германизмами,
галлицизмами и барбаризмами. В самой прозе стараются
заменить причастия и деепричастия бесконечными местои¬
мениями и союзами12. О мыслях и говорить нечего. Пе¬
чатью народности ознаменованы какие-нибудь восемь¬
десят стихов в «Светлане» и в «Послании к Воейкову»
Жуковского, некоторые мелкие стихотворения Катенина,
два или три места в «Руслане и Людмиле» Пушкина.
Свобода, изобретение и новость составляют главные
преимущества романтической поэзии перед так называе¬
мою классическою позднейших европейцев. Родоначаль¬
ники сей мнимой классической поэзии более римляне, не¬
жели греки. Она изобилует стихотворцами — не поэтами,
которые в словесности то же, что бельцы** в мире фи¬
зическом. Во Франции сие вялое племя долго господ¬
ствовало: лучшие, истинные поэты сей земли, например
Расин, Корнель, Мольер, несмотря на свое внутреннее
омерзение, должны были угождать им, подчинять себя их
условным правилам, одеваться в их тяжелые кафтаны,
носить их огромные парики и нередко жертвовать безоб¬
разным идолам, которых они называли вкусом, Аристоте¬
лем, природою, поклоняясь под сими именами одному же¬
* Маленький кружковый жаргон (франц.) — Ред.
** Белец, или альбинос, — белый негр.
256
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ...
манству, приличию, посредственности. Тогда ничтожные
расхитители древних сокровищ частым, холодным повто¬
рением умели оподлить лучшие изображения, обороты, ук¬
рашения оных: шлем и латы алкидовы подавляли карлов,
не только не умеющих в них устремляться в бой и пора¬
жать сердца и души, но лишенных под их бременем
жизни, движения, дыхания. Не те ж ли повторения наши:
младости и радости, уныния и сладострастия и те безы¬
мянные, отжившие для всего брюзги, которые — даже
у самого Байрона («Child Harold»), надеюсь, — далеко не
стоят не только Ахилла Гомерова, нижё Ариостова Ро¬
ланда, ни Тассова Танкреда, ни славного Сервантесова
Витязя печального образа, — которые слабы и недорисо-
ваны в «Пленнике» и в элегиях Пушкина, несносны, смеш¬
ны под пером его переписчиков? Будем благодарны Жу¬
ковскому, что он освободил нас из-под ига французс¬
кой словесности и от управления нами по законам Ла-
Гарпова «Лицея» и Баттёева «Курса»13, но не позволим
ни ему, ни кому другому, если бы он владел и вдеся¬
теро большим перед ним дарованием, наложить на нас
оковы немецкого или английского владычества!
Всего лучше иметь поэзию народную. Но Расином
Франция отчасти обязана Еврипиду и Софоклу? — Че¬
ловек с талантом, подвизаясь на пути своих великих
предшественников, иногда открывает области новых кра¬
сот и вдохновений, укрывшиеся от взоров сих исполинов,
его наставников. Итак, если уже подражать, не худо знать:
кто из иностранных писателей прямо достоин подража¬
ния? Между тем наши живые каталоги, коих взгляды, раз¬
боры, рассуждения беспрестанно встречаешь в «Сыне оте¬
чества», «Соревнователе просвещения и благотворения»,
«Благонамеренном» и «Вестнике Европы», обыкновенно
ставят на одну доску: словесности греческую и — латин¬
скую, английскую и — немецкую; великого Гете и —недо¬
зревшего Шиллера; исполина между исполинами Гомера
и ученика его Виргилия; роскошного, громкого Пиндара
и — прозаического стихотворителя Горация; достойного
наследника древних трагиков Расина и — Вольтера, кото¬
рый чужд был истинной поэзии; огромного Шекспира
и — однообразного Байрона! Было время, когда у нас сле¬
по припадали перед каждым французом, римлянином или
греком, освященных приговором Ла-Гарпова «Лицея». Ны¬
не благоговеют перед всяким немцем или англичани¬
257
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ном, как скоро он переведен на французский язык: ибо
французы и по сю пору не перестали быть нашими
законодавцами; мы осмелились заглядывать в творения со¬
седей их единственно потому, что они стали читать их.
При основательнейших познаниях и большем, нежели
теперь, трудолюбии наших писателей Россия по самому
своему географическому положению могла бы присвоить
себе все сокровища ума Европы и Азии. Фердоуси,
Гафис, Саади, Джами ждут русских читателей.
Но недовольно — повторяю — присвоить себе сокрови¬
ща иноплеменников: да создастся для славы России по¬
эзия истинно русская; да будет святая Русь не только
в гражданском, но и в нравственном мире первою держа¬
вою во вселенной! Вера праотцев, нравы отечественные,
летописи, песни и сказания народные — лучшие, чистей¬
шие, вернейшие источники для нашей словесности.
Станем надеяться, что наконец наши писатели, из коих
особенно некоторые молодые одарены прямым талантом,
сбросят с себя поносные цепи немецкие и захотят быть
русскими. Здесь особенно имею в виду А. Пушкина, ко¬
торого три поэмы, особенно первая, подают великие на¬
дежды. Я не обинулся смело сказать свое мнение насчет
и его недостатков; несмотря на то, уверен, что он пред¬
почтет оное громким похвалам господина издателя «Север¬
ного архива» . Публике мало нужды, что я друг Пуш¬
кина, но сия дружба дает мне право думать, что он, равно
как и Баратынский, достойный его товарищ, — не усом¬
нятся, что никто в России более меня не порадуется их
успехам!
Сеидам15 же, которые непременно везде, где только мо¬
гут, провозгласят меня зоилом и завистником, буду отве¬
чать только тогда, когда найду их нападки вредными для
драгоценной сердцу моему отечественной словесности. Оп¬
ровержения благонамеренных, просвещенных противников
приму с благодарностию; прошу их переслать оные для
помещения в «Мнемозину» и наперед объявляю всем и
каждому, что любимейшее свое мнение охотно променяю
на лучшее. Истина для меня дороже всего на свете!
258
ОТВЕТ ГОСПОДИНУ с
ОТВЕТ ГОСПОДИНУ С... НА ЕГО РАЗБОР
I ЧАСТИ «МНЕМОЗИНЫ»,
ПОМЕЩЕННЫЙ В XV НОМЕРЕ
«СЫНА ОТЕЧЕСТВА»
Не знаю, кем писан поме¬
щенный в XV номере «Сына отечества» разбор первой
части издаваемой нами «Мнемозины». Несмотря на то, что
некоторые мнения сочинителя сей статьи, как мне кажется,
несправедливы, — я не подозреваю его ни в личном, ни
местном пристрастии* (предубеждении?) и потому-то счи¬
таю приятною для себя обязанностйю отвечать ему.
Начну с признания. Строго г. С... судит о наружном
виде «Мнемозины»; но, к несчастию...
On fait ce qu’on peut,
Et ne pas ce qu’on veut! **
Вслед за сим грозным приговором, сказав о «Стариках
острова Панхаи» кн. Одоевского, что мысль, служащая ос¬
нованием сей статьи, весьма остроумна, что в ней есть
счастливые выражения и верные замечания, г. Рецензент
спрашивает:
Когда же складны сны бывают?
Таким вопросом, по моему мнению, не должно бы окан¬
чиваться суждение о статье, достоинство коей признает
сам г. Рецензент.
Далее: разбирая мое описание Дрезденской галереи, он
предполагает, что художник может изобразить идеал
безобразия. Что такое идеал безобразия? Не то же ли
равно, что светлая темнота или знойный мороз?
Г. Рецензент находит слишком решительным мой при¬
говор, что Рубенс лишен всякой прелести. Уверен, что в
моем обозрении Дрезденской галереи много ошибочного,
много незрелрго, уверен, что теперь на картины, состав¬
ляющие сие собрание, я сам смотрел бы совершенно
другими глазами; отпечатал же я свою статью именно
для того, чтобы она встретила просвещенных, умных
* Слова г. С...
** Делают то, что могут, а не то, что хотят! (франц.) — Сост,
259
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
противников и чтобы тем обратила внимание наших лите¬
раторов и путешественников на феорию изящных искусств
вообще и живописи в особенности. Но дабы убедить
меня в том, что и Рубенс может быть прелестным, гос¬
подину Рецензенту, кажется, надлежало бы привесть дру¬
гие доказательства, а не указать мне на так называемую
«Историю Марии де Медичи» — ряд сухих, холодных ино¬
сказательных картин, находящихся в Луврской галерее,
произведений, достойных примечания — по одной своей
огромности2.
Г. Рецензент спрашивает, где я нашел, что краски Рем-
бранта мутны, и уверяет, что в некоторых портретах,
находящихся в Санкт-Петербургской Эрмитажной галерее,
он, то есть Рембрант, блистает всею (?) свежестью, не¬
смотря на расстояние веков (?), которые не могли его по-
темнить в своем полете (?). Галерею Дрезденскую помню
лучше Санкт-Петербургской Эрмитажной, ибо по моем
возвращении из-за границы не удалось мне вновь посе¬
тить сию последнюю. Итак, быть может, г. Рецензент прав;
но он забывает, что говорю о Дрездене, не о Санкт-Петер-
бурге; об исторических картинках, а не о лиценачертаниях
(лиценачертания — с позволения г. Рецензента).
Долг платежом красен; на вопросы г. Рецензента ос¬
мелюсь и я предложить ему вопросы: где г. Рецензент
нашел, что нахожу больше прелести в картинах Альберта
Дюрера и Луки Кранаха, нежели во всех произведениях
Фламандской школы?
В отношении к искусству, прелести, обделке говорю
(на стр. 78 «Мнем(озины)»), что лучшее мною виденное
произведение старинной Немецкой школы, «Мадонна»
Гольбейна, может выдержать сравнение с картинами луч¬
шего времени Нидерландской школы: где же тут предпоч¬
тение? Что же касается до поэзии, до души, это иное дело!
Чувства, теплоту и вдохновение — истинные, главные дос¬
тоинства прямой поэзии — я точно в самых безобразных
созданиях Луки Кранаха и Альберта Дюрера встречал
чаще, нежели в большей части выглаженных, вычищенных
порождениях Фламандской кисти.
Г. Рецензент недоволен моим слогом; странно было бы
отвечать: вы ошибаетесь, г. Рецензент, слог мой хорош!
Итак, ограничиваюсь только объявлением, что в 1-ю часть
нашего издания вкралось без нашей вины множество опе¬
чаток. Это нас, конечно, не оправдывает и не может оп¬
260
ОТВЕТ ГОСПОДИНУ с
равдать в глазах наших читателей, которым наши обсто¬
ятельства неизвестны и которым до них нет никакой
нужды. Сверх того, г. Булгарин говорит, что на счет опе¬
чаток можно отнести многое3: и точно смешно бы было
назвать опечатками все погрешности, встречающиеся в на¬
шей «Мнемозине». Впрочем, не сомневаюсь, что благона¬
меренный (в истинном смысле сего слова) Рецензент мой,
поместивший свою критику в «Сыне отечества», поверит
мне, что раковидная вместо раковинная, полеты вместо
портреты, сынове вместо сыны точно и не что иное, как
опечатки.
Наконец, я должен извиниться перед своими читате¬
лями, что в своем отчете на Разбор господина С... столько
говорю о самом себе: сам почтенный мой Рецензент подал
мне к тому повод, ибо распространяется всего более об
моих статьях.
Еще упомяну, что господин С..., говоря об отрывках из
прекрасной комедии князя Шаховского, спрашивает, для
чего в оных встречаются слова, трудные для выговора и
для понятия, например нелжеветные уста? Нелжеветный —
слово, по моему мнению, весьма понятное, приятное слуху,
а для выговора нимало не затруднительное.
В заключение благодарю господина С... за его Разбор,
строгий, но умный, беспристрастный, писанный со всем
благородством, долженствующим отличать истинного лите¬
ратора от Аристарха вроде тех, из которых один в «Лите¬
ратурных прибавлениях к Русскому инвалиду» также раз¬
бирал «Мнемозину» или, лучше сказать, всячески силился
исковеркать, изуродовать и обругать ее4. Впрочем, я не
решусь для забавы доброхотной публики унизить себя пе¬
ребранкою с господином В. Кто бы он ни был: явное его
недоброжелательство и без того за меня вооружается!
261
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
Sine ira et studio*
Не знаю, кто первый у нас
начал облекать полемику в остроумную одежду разговоров:
Марлинский ли, Житель ли Васильевского острова, друг
ли его Житель Петербургской стороны, Лужницкий ли
Старец или другой, подобный им великий писатель, дела¬
ющий честь нашему веку2; но только не Ф. В. Булгарин.
Впрочем, издатель «Северного архива» и «Литературных
листков» неоднократно весьма удачно пользовался сим
важным открытием: разговоры г-на Булгарина с Ваню¬
шею3, испытания, которым он подвергает сего любезного
отрока, и проч. и проч. остались и долго останутся в
памяти всех просвещенных любителей российской словес¬
ности.
Сравниться с ним не надеюсь, несмотря на излиш¬
нюю самонадеянность, в которой обвиняет меня господин
Булгарин; повторяю (у нас любят повторения!) — срав¬
ниться с ним не надеюсь, хотя почтенный издатель «Ли¬
тературных листков» и чистосердечно признается, что он с
удовольствием бы подписал свое имя под каждою из трех
антикритик, помещенных нами в конце второй части «Мне-
мозины». Решаясь подражать г-ну Булгарину и его пред¬
шественникам, то есть вступить с ним самим в небольшой
дружеский полемический разговор, от всей души жалею,
что не могу отплатить ему за упомянутое чистосердечное
его признание равносильным и столь же чистосердечным:
с моею излишнею самонадеянностию (странное противу-
речие!) сопряжена робость, иногда неодолимая; я бы бо¬
ялся подписать свое имя под большою частию статей г-на
Булгарина! Но дело не о том: мы начнем свою беседу.
Фаддея Венедиктовича только попрошу повторить то, что
он уже напечатал касательно второй части издаваемой
князем Одоевским и мною «Мнемозины»; сам я осмелюсь,
сколько умею, отвечать на его возражения.
Б. Начнем с вашей статьи: «О направлении нашей по¬
эзии, особенно лирической, в последнее десятилетие».
* Без гнева и пристрастия1 (латин.) — Ред,
262
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
Ваше требование, чтобы все наши поэты сделались лири¬
ками и воспевали славу народную, походит на желание
Месмера намагнетизировать солнце, чтобы в лучах оного
разлить магнетизм по целой вселенной4.
Я. Сравнение чрезвычайно умное и острое — но com¬
paraison n’est pas raison*, Фаддей Венедиктович! Где и когда
требовал я, чтобы все наши поэты превратились в ли¬
риков? Не в добрый час вы на меня клеплете: знаю на
Руси сотни две — если не три — поэтов — все они великие
писатели (по крайней мере в своем кругу); все они делают
честь нашему веку (по крайней мере сами в том твердо
уверены); Фаддей Венедиктович, что, если все, все они
вздумают быть Пиндарами? Куда прикажете деться?
Я только сетую, что элегия и послание совершенно
согнали с русского Парнаса оду; в оде признаю высший
род поэзии, нежели в элегии и послании, и доказываю свое
мнение, а не толкую, как то вам угодно было сказать на
семьдесят четвертой странице пятнадцатого номера «Лите¬
ратурных) листков». Итак, поставляю себе обязанностию
вам объявить, что мне никогда в голову не приходило
предпочесть эпической или драматической поэзии ни оду,
ни вообще поэзию лирическую, к которой, впрочем, скажу
мимоходом (ибо сие известие, кажется, не дошло еще до
вашего сведения), принадлежит и элегия, принадлежит
иногда даже послание. Благоговею перед английскою сло-
весностию, вовсе не богатою одами. Знаю также, что ге¬
нию все возможно, элегия Гетева «Euphrosyne»** исполнена
высоких лирических красот и местами становится истин¬
ною одою. Взамену иногда оды никак не различишь от
самого хладнокровного, трезвого послания: но для того,
быть может, нужно, чтоб она была переведена с Горациева
подлинника г-ном Бороздною5***.
Б. Кстати, о трезвых одах! Вы Горация назвали проза¬
ическим стихотворителем!
Я. Горацию — противуположил я Пиндара, о котором
сам Гораций говорит:
«Кто покусится бороться с Пиндаром, Юлий, дерзает
горе на восковых крылиях помощию Дедала! Он достоин
наречь своим именем сткляное море! Сбегая с горы, по¬
* Сравнение не доказательство (франц.). — Ред.
** <«Эфросина»>.
*** См. № 15 «Литератур(ных) листков», с. 72.
263
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
добно потоку, который превыше известных брегов пита¬
ется дождями, огромный Пиндар кипит и изливается в ве¬
щаниях высоких!»* Впрочем, соглашаюсь с вами, что
мой приговор Горацию, если не подтвержу его доказа¬
тельствами, чрезвычайно опрометчив, скажу более — сме¬
шон и безрассуден; ибо без сильных доказательств смеш¬
но и безрассудно восставать противу славы писателя, ос¬
вященного вековым уважением. Итак, я берусь из самых
(лучших даже) од Горация вывесть причины, убеждающие
меня в том, что он почти никогда не был поэтом истинно
восторженным. А как прикажете назвать стихотворца, ког¬
да он чужд истинного вдохновения?
Но теперь вопрос: какие оды Горация лучшие? Если
назову одни, вы вправе назвать другие: их всего восемьде¬
сят семь, не считая тринадцати эподов и гимна Аполлону
и Диане (об сатирах и посланиях и говорить нечего!).
Наш спор не скоро бы кончился. Разговаривая с вами в
самом деле, я бы вас попросил указать мне на те оды, ко¬
торые вы считаете лучшими, и тотчас приступил бы к их
разбору. Но разговор наш только и единственно остро¬
умная выдумка для большего увеселения** почтенной пуб¬
лики и выдумка сверх того не очень новая. Слушайте же:
несмотря на свою самонадеянность, чистосердечно и все¬
народно признаюсь, что у меня нет ни малейшей способ¬
ности к сочинению тех легких, но приятных, заниматель¬
ных безделок (не извиняюсь в сем выражении, ибо уверен,
что и вы их ничем иным не считаете) — безделок, вроде
тех, которыми во Франции, а еще более в России Жуй7
приобрел известность. Вашу эфемериду «Фасон, или Мод¬
ная лавка»8 читал я в «Полярной звезде» с непритворным
удовольствием. Сердечно бы я обрадовался всякой подоб¬
ной вашей статье: милую петербургскую гостью наша
«Мнемозина» приняла бы, как радушная москвичка, —
с благодарностию. А я (чем богат, тем и рад!) сообщил бы
вам для «Литературных листков» или для «Северного ар¬
* «Pindarum quisquis studet aemulari
Jule, ceratis ope Daedalea
Nititur pennis, vitreo daturus
Nomina ponto.
Monte decurrens velut amnis imbres
Quem super notas aluere ripas
Fervet, immensusque ruit profundo
Pindarus ore»6.
** Что если для большей тоски и скуки? Увы! — Соч.
264
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
хива» статью о Горации — при разборе од, которые вы мне
сами назначите. Как вы об этом думаете?
Б. Вы назвали Виргилия — учеником!
Я. Точно так; да только чьим? Гомеровым. Сделайте
одолжение, почтенный Фаддей Венедиктович, не хвалитесь
своею дипломатической точностию* при выписках из
«Мнемозины», когда в столь важном случае вы умалчива¬
ете об имени Гомера, чьим учеником, без сомнения, был
Виргилий, хотя он и великий человек (в истинном значе¬
нии сего слова), хотя он царь латинских стихотворцев.
Б. Шиллера вы назвали недозревшим.
Я. Шиллером! И во всей германской словесности пред¬
почел ему одного Гете! Все это, между прочим, показыва¬
ет, что у нас различное мерило величия. Но Шиллер не
ежедневное явление в мире словесности: живо чувствую,
что я должен изложить причины, заставившие меня его
назвать недозревшим. Возьмите же терпение, почтенный
Ф. В., выслушайте меня!
Какие недостатки сопряжены с авторскими даровани¬
ями, не достигшими еще зрелости? Вкус незрелых плодов
едок: теории подобных им писателей исполнены резких
предрассудков и резкой односторонности; произведения
же изображают по большей части их личный образ мыс¬
лей, их собственный характер, их собственные, слишком
еще пылкие страсти. Посему-то в драме они столь редко
могут присвоить себе лицо представляемого ими героя.
Кислота их винограда еще не послащена ни постоянным
действием божественного солнца, ни кроткою влажностию
осеннего воздуха, то есть их буйное я еще не побеждено
влиянием вдохновения, часто возвращающегося, и опыт-
ностию, уравновешивающею душевные стихии. Ибо соки
плода находятся в беспрерывном брожении до самого дос¬
тижения зрелости: а в несозревшем писателе нет того
спокойствия и равновесия сил и дарований, которые столь
* Ею хвалился г-н Булгарин, переписывая в № 5 «Литературных
листков» заглавие «Мнемозины» следующим образом: «Мнемозина.
Собрание сочинений в стихах и прозе. Издаваемая кн. Вл. Одоевским
и В. Кюхельбекером». Несмотря на сие, г-н Булгарин иногда счастливо
заменяет запятые точками. Не у господина ли Воейкова перенял он это
искусство?9 Но господин Воейков по крайней мере не хвалится своею
дипломатическою точностию! Фаддей Венедиктович, к чему такая fides
punica? (Пуническая верность, в данном случае — вероломство
(латин.)) Впрочем, вы не ограничивайтесь одними знаками препи¬
нания! — Соч.
265
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
необходимы совершенному художнику. Неспелые плоды
зелены; их издали не различишь от листьев: несозревший
писатель может принесть честь своему времени и своему
народу, но он сливается с ними, исчезает в них и с ними.
Спелое только яблоко сияет багрянцем из среды дерева;
зрелый только ум, не переставая быть ревностным сыном
отечества, истинным сыном своего века, возвышается
над заблуждениями своих современников и ближних; он
англичанин, немец, русский, но вместе гражданин всех
времен, дитя всех столетий. Наконец, семя зрелого только
плода произрастит другое плодоносное дерево; возмужа¬
лый только гений в состоянии преобразить свой век и
страну свою; он только родит и в других народах гениев,
своих учеников, но не рабских подражателей.
Возвратимся к Шиллеру.
Шиллерова поэтика не без предрассудков; предубеж¬
дения его противу великих французских трагиков извест¬
ны, известны, надеюсь, и вам, господин издатель «Север¬
ного архива», вам, человеку, довольно знакомому с немец¬
кою словесностию.
Драматург Шиллер в младшем Графе Море, в Дон-
Карлосе и Маркизе де Поза, в Максе, в лицах, которые
изобразил с самою большею родительскою (сочинитель¬
скою) нежностию (con amore), представляет себя, одного
себя, только по чувствам и образу мыслей, бывших его
собственными в разных эпохах его жизни.
Шиллер перескакивал от поэзии к истории, от истории
к поэзии, от трагедии Шекспировой к Дидеротовой драме
и Гоцциевым маскам, от прозы к стихам и, наконец, от
новейших к древним, не с внутренним сознанием собствен¬
ных сил — стяжанием мужа, но с беспокойством юноши.
В доказательство приведу только его «Тридцатилетнюю
войну» и «Освобождение Нидерландов», исполненные
блестков, противуположностей, витиеватости, вовсе не ис¬
торических; его «Марию Стуарт», которая не есть ни исто¬
рия, ни трагедия; его «Коварство и любовь», где Шекспир
и Дидерот, ужас и проза, ходули и низость нередко встре¬
чаются на одной и той же странице; реторические тирады,
где ожидаешь поэзии сердца, тирады, которые иногда по¬
падаются даже в «Валленштейне», в лучшем Шиллеровом
творении; наконец, его «Мессинскую невесту», в которой
он вдруг «Иокасту» Еврипидову, хор и роковое предопре¬
деление греков переносит в средние века, в лоно Христо¬
266
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
вой церкви, в Сицилию, покорную северным завоевателям.
Шиллер почти никогда не перестает быть европейцем,
немцем XVIII столетия; а если где и подражает древ¬
ним — то не у места и некстати: Кассандра* его — живая
немка. В так называемых балладах: «Ивиковы журавли»**,
«Порука», «Кольцо Поликратово», «Торжество» («Das Si¬
egesfest»); в переводе второй и четвертой песни «Энеиды»
он заставляет музу древней Эллады и Авзонии распевать
оттавы-римы, стансы и куплеты на италиянскую стать,
а сверх того краски греческой местности и нравов гре¬
ческих разводит северною водою, многословием и в пер¬
вых четырех описаниями, едва ли не Делилевскими. В « Ко¬
локоле» («Die Glocke», творении — скажем мимоходом, —
изобилующем превосходными стихами, но рожденном не
вдохновением, а, подобно мозаику, по прозаическому пред¬
начертанию слепленном из частей совершенно разнород¬
ных) — в «Колоколе», напротив, князь теней, Айдес греков
является с тем, чтоб похитить с земли немецкую ме¬
щанку***. Далее, в «Дон-Карлосе» характеры Филиппа,
Позы и Карлоса составлены по немецкому же образцу;
они никогда не могли существовать ни на престоле, ни
близ оного, а еще менее под небом полуденным. «Иоанна
д’Арк» в конце третьего и в начале четвертого действия
своею невозможною и непоэтическою любовью к Лионелю
возмутит всякого просвещенного читателя. В лирических
стихотворениях Шиллера господствует одна мысль или,
лучше сказать, одно чувство — предпочтение духовного
(идеального) мира существенному, земному: чувство, без
сомнения, высокое, истинно лирическое; но им ли одним
должна ограничиться поэзия? Односторонное, не показы¬
вает ли оно теорию односторонную же? Сие чувство лет
десять повторяется во всех почти произведениях русского
Парнаса писателями, отголосками Жуковского, Шилле-
рова отголоска; но, как возмужалый только гений может
иметь учеников, состязающихся с ним, а не рабски ему
* Переведена Жуковским.
** Также переведены Жуковским.
*** Ach! die Gattin ist’s die Teure!
Ach! es ist die treue Mutter,
Die der schwarze Fürst der Schatten
Wegfürt aus dem Arm des Gatten!
Denn sie wohnt im Schattenlande!10 И проч.
267
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
подражающих, вы мне позвольте, милостивый государь,
усомниться в истинном достоинстве и прочном бессмертии
сей германо-русской школы.
Конечно, Шиллер усовершенствовался бы и созрел,
если бы жизнь его продлилась долее: «Валленштейн» и
«Вильгельм Телль» уже являют мощного, счастливого со¬
перника Шекспирова, соперника, который, может быть,
воссел бы рядом с сим единодержавным властителем
романтической Мельпомены. «Валленштейнов стан» в сво¬
ем роде произведение образцовое и уже не являет ни од¬
ного из вышеупомянутых недостатков; но, к несчастию,
одна ласточка без подруг своих только предвещает, а не
составляет еще весны.
Итак, почтенный и любезный Ф. В., сами решите, прав
ли я или не прав, когда называю Шиллера несозревшим,
противополагая ему Гете?
Гете, во-первых, не имеет Шиллеровых предрассудков:
ибо, рассуждая с французами и о французах (как-то:
в своих отметках о французских классиках, в разборе
Дидеротова сочинения о живописи11, в примечаниях к из¬
данной и переведенной им книге Дидерота — «Племянник
Рамо»), — не помнит, что он немец, старается познако¬
миться, помириться с образом мыслей французов, сих
природных своих противников, проникнуть во все причины,
заставляющие их думать так, а не иначе.
Во-вторых. Он всегда забывает себя, а живет и дышит
в одних своих героях. В чем могут убедить каждого его
Гец, Тасс, Фауст и даже Вертер.
В-третьих. Он всегда знает, чего ищет, к чему стре¬
мится.
В-четвертых. С дивною легкостью Гете переносится из
века в век, из одной части света в другую. В «Фаусте»
и «Геце» он ударом волшебного жезла воскрешает XV век
и Германию императоров Сигисмунда и Максимилиана;
в «Германе и Доротее», в «Вильгельме Мейстере» мы ви¬
дим наших современников и современников отцов наших,
немцев столетий XIX и XVIII всех возрастов, званий и
состояний; в «Римских элегиях», в «Венециянских эпи¬
граммах», в путевых отметках об Италии встречаем попе¬
ременно современника Тибуллова, товарища Рафаэля и
Бенвенута Челини, умного немецкого ученого и наблюда¬
теля; в «Ифигении» он грек; древний тевтон в «Вальпур¬
гиевой ночи»; поклонник Брамы и Маоде 12 в «Баядере»;
268
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
в «Диване», сколько возможно европейцу, никогда не бы¬
вавшему в Азии, — персиянин.
Б. Байрон, по вашему мнению, — однообразен!
Я. Когда благороднейшие сердца и лучшие умы всей
Европы скорбят о преждевременной смерти сего великого
мужа, мне, признаюсь, больно казаться его противником!
Если бы подозревал, что его блистательное поприще кон¬
чится так скоро, я воздержался бы от суждения о нем,
справедливого, но неуместного среди общей печали. Но,
к несчастию, сказанное сказано. Так! Байрон однообразен,
и доказать сие однообразие нетрудно.
Он живописец нравственных ужасов, опустошенных
душ и сердец раздавленных: живописец душевного ада;
наследник Данта, живописец ада вещественного. И тот и
другой однообразны: «Чистилище» Дантово — слабое по¬
вторение его «Тартара»; «Гяур», «Корсер», «Лара», «Ман¬
фред», «Чайльд-Гарольд» Байрона — повторения одного и
того же страшного лица, отъемлющего своим присутстви¬
ем дыхание, убивающего и сострадание и скорбь, обли¬
вающего зрителя стужею ужаса. Но непомерна глубина
мрака, в который сходит Байрон бестрепетный, неустраши¬
мый! Не смею уравнить его Шекспиру, знавшему все: и ад
и рай, и небо и землю, — Шекспиру, который один во всех
веках и народах воздвигся равный Гомеру, который, по¬
добно Гомеру, есть вселенная картин, чувств, мыслей и
знаний, неисчерпаемо глубок и до бесконечности разно¬
образен, мощен и нежен, силен и сладостен, грозен и пле¬
нителен! Не уравню Байрона Шекспиру; но Байрон об руку
с Эсхилом, Дантом, Мильтоном, Державиным, Шилле¬
ром — и прибавлю, с Тиртеем, Фемистоклом и Леонидом
перейдет, без сомнения, в дальнейшее потомство.
Б. Поверят ли вам читатели в означении степени да¬
рований поэтов, когда вы поставляете барона Дельвига
выше Жуковского, Пушкина и Батюшкова, сих великих
писателей, делающих честь нашему веку?
Я. Ив праве бы были не поверить, если бы я в самом
деле вздумал отдать Дельвигу преимущество перед Пуш¬
киным и даже Жуковским: но, к несчастию, это (как и
многое другое) только вам привиделось! Впрочем, Ф. В.,
не нам с вами составлять парнасскую табель о рангах!
Скажу вам только, что великий писатель, делающий честь
своему веку, — великое слово! Пушкин, без сомнения, пре¬
восходит большую часть русских, современных ему стихо¬
269
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
творцев: но между лилипутами немудрено казаться вели¬
каном! Он, я уверен, не захочет сим ограничиться. Барона
Дельвига ему ничуть не предпочитаю: первый Дельвиг от¬
клонил бы от себя такое предпочтение, ибо лучше нас
знает, что написав несколько стихотворений, из которых
можно получить довольно верное понятие о древней эле¬
гии, еще не получаешь права стать выше творца «Руслана
и Людмилы», романтической поэмы, в которой, при всех
ее недостатках, более творческого воображения, нежели во
всей остальной современной русской словесности; творца
«Кавказского пленника», написанного самыми сладостны¬
ми стихами, представляющего некоторые превосходные
описания, вливающего в душу — особенно при первом чте¬
нии — живое сетование; наконец, творца «Бахчисарайского
фонтана», коего драматическое начало свидетельствует,
что Пушкин шагнул вперед и не обманет надежд истин¬
ных друзей своих!
Ваш «Северный архив», ваши «Литературные листки»
читаю иногда с удовольствием: в них довольно занима¬
тельного, довольно даже полезного, иногда нечто похожее
на желание быть или, по крайней мере, казаться беспри¬
страстным; положим, что я вздумал бы назвать вас луч¬
шим русским журналистом, — что бы вы сами сказали,
милостивый государь, если бы из того кто вывел заключе¬
ние: «Кюхельбекер ставит Булгарина выше Пушкина или
Жуковского»?
Прервем, однако же, наш довольно длинный разговор,
в котором, опасаясь вложить вам в уста то, что вы, может
быть, не признали бы своим, по необходимости заставляю
вас повторять уже известное господам читателям «Литера¬
турных листков». В мою бытность в Грузии я знавал неко¬
торого молодого человека, избавлявшего своих собеседни¬
ков от труда растворять рот при монологах, которые про¬
износил в их присутствии, ибо сей любезный юноша, при¬
надлежащий, между прочим, также к нашим тремстам ве¬
ликим поэтам, делающим честь своему веку, обыкновенно
вступал в спор с своим безмолвным слушателем вот каким
образом: «Я утверждаю, — говорил он, например, — что
снег бел; вы, может быть, скажете, что он черен; но я,
чтобы опровергнуть ваше мнение, приведу вам следующие
доказательства», потом следовали сии доказательства —
неоспоримые; потом опять возражения со стороны не¬
счастного его товарища, и не думающего возражать; потом
270
МИНУВШЕГО 1824 ГОДА...СОБЫТИЯ
снова доказательства и снова возражения, и это до беско¬
нечности! Таков был сей незабвенный мой тифлийский
знакомец! Боюсь подражать ему! Итак, в заключение
только поблагодарю вас, что вы находите мое стихотворе¬
ние «Проклятие» — страшным; оно и должно быть страш¬
ным! Но вы полагаете, что оно «похищено из храма Эвме¬
нид и поставлено в вертограде словесности для пугания
коршунов, угрожающих расцветающим поэтам». Кто сии
коршуны? Не невежды ли, двуличные, злонамеренные кри¬
тики? Если вы их разумели под сим словом — вы ошиб¬
лись, почтенный Фаддей Венедиктович! На них я никогда
не вооружусь проклятием, — разве, разве насмешкою!
Засим я имею честь пребыть вашим
покорным слугою.
Кюхельбекер
МИНУВШЕГО 1824 ГОДА
ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ
В ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Январь. Второе появление
«Полярной звезды»; астрономические* наблюдения над
оною в «Вестнике Европы»1. Отрывки из комедии князя
Шаховского «Аристофан». Явная война романтиков и
классиков, равно образовавшихся в школе Карамзина.
«Бахчисарайский фонтан» Пушкина; первое сражение при
оном, или разговор Издателя с Классиком . Книгопро¬
давцы и публика берут сторону Пушкина: классики не
смеют напасть на самую поэму.
Февраль. Жуковский предает «Замок Смалькгольм» на
расхищение критики, но критика упускает оный. Второе
сражение при «Бахчисарайском фонтане»3, или стихотвор¬
цы «Вестника Европы» не хотят быть прозаиками.
Примечание. Главные предводители обеих враж¬
дующих сторон.
1 ) Старшина классиков.
Каченовский, человек, пользующийся славою учености,
271
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
колок, остер, язвителен, но не одарен ни способностью
чувствовать и понимать прекрасное, ни охотою отдавать
справедливость людям, превышающим его дарованиями.
2) Мерзляков, некогда довольно счастливый лирик,
изрядный переводчик древних, знаток языков русского и
славянского, приобретший имя сочинениями по части тео¬
рии словесности, но отставший по крайней мере на два¬
дцать лет от общего хода ума человеческого и посему враг
всех нововведений; выдерживает нападение кн. Одоевского
и не отвечает на оное4.
3) А. Измайлову также классик, простодушен, дюж,
забавен, откровенен, не лишен веселости.
4) Жуковский и Пушкин, корифеи романтиков, поэты,
и поэты с истинным, не ежедневным дарованием. Слава
Жуковского упадает приметно, Пушкина возрастает. Пер¬
вый не вмешивается, второй почти не вмешивается в по¬
лемику.
Avis aux poètes!*
5) Кн. Вяземский, начальник передового войска ро¬
мантиков, издатель «Бахчисарайского фонтана».
6) Классики ему противоставят М. Дмитриева и Пи¬
сарева.
Сражения в «Вестнике Европы» и «Дамском журнале»
быстро следует одно за другим. «Дамский журнал» полу¬
чает некоторую заманчивость.
«Литературные листки». Спор с кн. Вяземским о пре¬
имуществе басен Крылова перед баснями И. И. Дмитрие¬
ва . Вооруженный неутралитет Булгарина в войне издателя
«Бахчисарайского фонтана» с «Вестником Европы»; пере¬
ход на сторону последнего6.
Преимущество кн. Вяземского перед классиками состо¬
ит в одной новой мысли, единственной в продолжении всех
сих утомительных состязаний: «Некоторые древние поэты
скорее бы признали великих романтиков своими товари¬
щами, нежели наших мнимых классиков»7. Но он и его
противники сбивают две совершенно разные школы — ис¬
тинную романтику (Шекспира, Кальдерона, Ариоста) и
недоговаривающую поэзию Байрона.
Верстовский. «Черная шаль»8. Нападки на нее «Вест¬
ника Европы»; к счастью, публика верит не всем вестям
сего «Вестника».
* Помните об этом, поэты! (франц.) — Ред.
272
МИНУВШЕГО 1824 ГОДА...СОБЫТИЯ
Март* «Мнемозина», первая часть.
Кюхельбекер передается славянофилам9.
Строгая критика, которой подвергается г. г. С., В.10 и
Булгариным обвертка «Мнемозины».
Междуусобия продолжаются.
Апрель. Жуковский издает третьим тиснением свои
стихотворения: Шиллерова «Иоанна д’Арк». Первая ро¬
мантическая трагедия в стихах на русском языке.
Май. «Учитель и ученик», водевиль Писарева, или зло¬
употребление имени великого человека (Шеллинга) в нич¬
тожном произведении11. Война за г. г. Головиных, или пе¬
реливка из пустого в порожнее12.
Июнь. Парнасские каникулы. Поэма Олина: «Альтос»13.
Июль. Вторая часть «Мнемозины». Совершенное пора¬
жение и приведение в безмолвие кн. Одоевским г. г. В. и
Воейкова14. Афоризмы кн. Одоевского, или намерение са¬
мое благородное и высокое, но!..
«Елладий» — повесть его же, или лица, могущие су¬
ществовать в одном воображении молодого человека.
Пролог к «Аргивянам», трагедии с хорами, и первые
военные действия Кюхельбекера против элегических сти¬
хотворцев и эпистоликов, — впрочем, он отнюдь не соеди¬
няется с господами классиками.
Август. Булгарин заставляет говорить «Мнемозину»
нелепости, о которых она и не думала, несмотря на то,
он отчасти разделяет мнения оной15.
Германо-россы и русские французы прекращают свои
междуусобицы, чтоб не (?) соединиться им противу сла¬
вян, равно имеющих своих классиков и романтиков:
Шишков и Шихматов могут быть причислены к первым;
Катенин, Г...16, Шаховской и Кюхельбекер ко вторым.
Сентябрь. Война за «Герцогство Косельское», или Кас¬
сельское, и за опечатки г. г. Булгарина и Феодорова17.
Благонамеренный Чертополохов18.
Октябрь. Булгарин, бывший издатель «Варшавского
свистка», настоящий — «Северного архива» и «Литера¬
турных листков, утонул (см. «Лит(ературные) лйст<ки)»)
с тем, чтобы через несколько сот лет у чукчей издавать
журнал «Патриот»19.
Нападательный и оборонительный союз Греча и тени
Булгарина, или два издателя трех журналов, вследствие
сего их скромность и благоразумие в отношении к своему
Калужскому Поклоннику20.
10—907
273
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Разговор г. г. Булгарина и Кюхельбекера в третьей час¬
ти «Мнемозины». «Благонамеренный», «Мнемозина» и
«Дамский журнал» (последние два — не прекращая сво¬
ей войны за г. г. Головиных — восстают на Калужского
Поклонника.
Ноябрь. «Восточная лютня» младшего Шишкова —
подражателя Пушкина21. Несчастное наводнение Петер¬
бурга и послание и оды на сей случай графа Хвостова22.
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
У нас есть поэт с даровани¬
ем необыкновенным, который (не упоминаю уже о других
его истинно прекрасных трудах) подарил нас двумя лири¬
ческими эпопеями1, из коих одна должна назваться един-
ственною по сю пору на языке русском; а другая —
менее совершенна, однако же изобилует великими кра¬
сотами. Пятнадцать уже лет, как лучшая из них напеча¬
тана, но поныне никто не вздумал отдать ей должную
справедливость, между тем как во всех периодических из¬
даниях гремят похвалы посредственным и дурным пере¬
водчикам и подражателям иностранных произведений.
Не сомневаюсь, после всего здесь мною утверждаемого
всякий отчизнолюбивый читатель с нетерпением спросит
меня: «Кто тот, о ком говоришь? Дай средство взвесить,
оценить твои обвинения — и, если они справедливы, верь,
что с охотой отрекусь от предубеждений, которые, может
быть, сам имел против него: как не порадоваться, если
узнаю человека с дарованием?» Итак, без дальних преди¬
словий объявлю, что говорю о князе Сергее Александро¬
виче Шихматове, написавшем поэму «Петр Великий». Если
бы ныне я начал выставлять одни красоты автора, коего
лучшую поэму хочу разобрать здесь, без сомнения, могли
бы мой разбор назвать односторонним, но напрасно бы
обвинили меня в пристрастии: ибо, умалчивая о недостат¬
ках, не говорю, чтобы их не было, а предоставляю зорким
глазам других критиков найти их; но кн. Шихматов писа-
274
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
тель, коего творения могут выдержать строгую критику:
посему будут говорить как о достоинствах, так и о недо¬
статках его.
Князь Шихматов воспевает всю жизнь преобразовате¬
ля России, с восшествия на престол до самой кончины его.
Защитники правил французской поэтики осудят самое
такое предприятие, «ибо, — скажут они, — Гомер передал
нам один только год войны Троянской; Виргилий, Тасс,
Камоэнс, Вольтер, даже Мильтон и Клопшток ограничи¬
лись почти тем же временем! Эпопея должна иметь свое
единство; каждая должна славить не более одного велико¬
го мирового события». Но Шекспир в своей драматиче¬
ской эпопее, превосходящей все произведения Гомеровых
подражателей и едва ли уступающей «Илиаде», в творении,
начинающемся с Ричарда II и заключающемся смертию
Ричарда III, обнял целых два века2; но Фердоуси в своей
«Книге царств» («Ша-Наме») представляет нам тысяче¬
летия — и единство, несмотря на то, ими сохранено!
Шекспир воскрешает пред нашими дивящимися взорами
грозную борьбу домов Ленкестра и Йорка, преступления
враждующих и вековую казнь их, кровавое их искупление
ужасным Глостером, истребителем и побежденных и по¬
бедителей; наконец, с его падением, умилостивление Эвме¬
ниды, бичевавшей Англию, и примирение роз алой и бе¬
лой*, сочетавшихся в особе Генриха VII, который не
участвовал в злодеяниях кровных своих. Подобным обра¬
зом, но по огромнейшему еще предначертанию Фердоуси
поет роковую брань Ирана и Турана** и конечное слияние
их в племени Рустмидов. Посему, противоставляя приме¬
рам примеры, гению и последовавшим оному талантам
других самостоятельных гениев, видим, что правило, огра¬
ничивающее временное поприще Эпопеи годом, столь же
произвольно, сколь произвольно и поверхностно другое
известное правило, определяющее трагическому событию
для развития и совершения не более одних суток. Из сего
следует, что и князь Шихматов, славя преобразование
России, для коей нужна, необходима была вся жизнь
Петра Великого, в своей поэме соблюл эпическое единст¬
во, но только в высшем, не школьном значении сего слова.
Мы бы желали оправдать его и в отступлении от обык¬
* Йоркский дом выбрал себе гербом белую, а Ленкестерский алую
розу. Генрих VII происходил от обоих домов.
** Персиян и турок.
10**
275
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
новенного (рассказного) способа изложения избранного
им происшествия, но в этом встречаем более трудностей.
Он употребил способ эпико-лирический, который может
быть двоякий: во-1-х, присвоенный испанским романсом,
английскою балладою и некоторыми поэмами Байрона,
способ, принимающий время минувшее за настоящее и
говорящий о событиях в отношении к чувствам поэта,
присутствующего душою при их постепенном появлении,
поражаемого ими, так сказать, в то самое мгновение,
когда вещает об них; во-2-х, встречающийся нам в гречес¬
ких гимнах, в коих время минувшее остается минувшим,
а события и с ними чувства поэта излагаются во славу
главного лица, для возбуждения к нему в внимающем на¬
роде благодарности, удивления, благоговения. Оба сии спо¬
соба представляют большие невыгоды в повествованиях
сложных и продолжительных: в 1-м случае поэт сам,
сердцем и воображением, состраждет, содействует своему
герою и тем лишается спокойствия, бесстрастия, которое
требуется для ясного изложения подробностей; во 2-м он,
сверх того, должен предположить необыкновенную, не¬
устающую силу души и участия в своих слушателях: но
кто обыкновенный читатель выдержит гимн в четыре ты¬
сячи стихов? Поэма же князя Шихматова не что иное.
Он свое лирико-эпическое творение создал по образцу
не «Илиады» Гомеровой, а похвальных од Ломоносова.
Между тем если примем в рассуждение, что уже и
сия попытка проложить новую дорогу в области поэзии
показывает смелую мощную душу; что, может быть, во
всей российской словесности нет произведения, которое
бы представляло столько отдельных красот, что все луч¬
шие оды Ломоносова, большая часть превосходных од
Державина, все трагедии Озерова, лучшие лирические, эле¬
гические, эпико-лирические создания Жуковского, нако¬
нец, все (по сю пору) поэмы Пушкина прекрасны, подоб¬
но поэме Шихматова, только по частям, по подробностям,
по стихам и строфам, а почти всегда ошибочны по изобре¬
тению и в целом не выдержанны; если, говорю, примем
в рассуждение, что, несмотря на таковые недостатки, об¬
щие всем почти лучшим произведениям русской поэтиче¬
ской словесности, упомянутые творения у нас по спра¬
ведливости пользуются доброю славою, нельзя не согла¬
ситься, что несправедливо бы было поэме князя Шихма¬
това отказать в равном с ними внимании.
276
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Итак, нам остается единственно доказать, что «Петр
Великий», лирическое песнопение нашего поэта, действи¬
тельно изобилует первостепенными красотами если и не
изобретения, по крайней мере слога, но не того, что у нас
некоторая известная школа обыкновенно называет сло¬
гом3. Сия школа ограничивает область слога одними сло¬
вами и грамматическими оборотами; хорошим же слогом
честит она всякий составленный из небольшого количест¬
ва известных ее последователям слов и оборотов новей¬
ших, нередко даже противных духу того языка, которым
писали Ломоносов, Костров, Державин; честит его хоро¬
шим, как бы, впрочем, он ни был вял и бессилен. Мы,
напротив, в поэзии слог назовем тогда только хорошим,
когда он будет ознаменован истинным вдохновением и по
сему самому мощен, живописен, разителен; а в красноре¬
чии, когда будет истинно увлекателен; что же касается
до слов, употребляемых писателем, мы не станем разли¬
чать, новые ли они или древние, гражданские ли или цер¬
ковные, но в точности ли выражают мысль автора и
употреблены ли кстати: в сих последних двух достоинст¬
вах, а не в другом чем полагаем мы грамматическую чис¬
тоту всякого слога. Не употреблять в оде, в поэме, в вы¬
сокой лирической или даже описательной поэзии славян¬
ских выражений считаем столь же странным, как употреб¬
лять оные в комедии, в легком послании, в песенке или
в прозаической по содержанию и духу повести, хотя бы
она и была в стихах и даже писана лирическими стро¬
фами. Если же кто из наших судей парнасских подвер¬
гнет опале неизвестное ему слово, употребленное писате¬
лем, приобретшим долговременными трудами и изыска¬
ниями глубокие познания в языке отечественном, мы со
всею возможною скромностию и вежливостию посоветуем
сему отважному законодателю сперва поучиться русской
грамоте, а потом уже судить, рядить, рассуждать, как и о
чем угодно*. Но возвратимся к нашему поэту.
Жизнь Петра всем русским известна или по крайней
* В наше время, заметим мимоходом, в наше время, когда нам
беспрестанно приводят в пример и образец немцев, мудрено, что никто
из русских их последователей не обратил внимания на ход их словес¬
ности. Она была бессильна, вяла, водяна, безвкусна под пером писа¬
телей, чуждавшихся обветшалого слога Опица, Лютера, миннезенге-
ров, а возмужала, приняла образ самобытный, окрылилась, когда Гер-
дер, Гете, Шиллер, Тик снова воскресили язык прадедов своих.
277
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
мере должна быть всем известна: князь Шихматов строго
следовал в своем песнопении хронологическому порядку
оной; но на некоторых частях, более поэтических, оста¬
навливался долее. Таковы, без сомнения, борьбы Петра
с внутренними и внешними злодеями России; поэт в изоб¬
ражении их блестит всею возможною живостию огня,
вдохновения, ужаса. Приведем несколько примеров —
в первой песне Стрелецкий бунт:
Средь мира восшумел гром ратный,
По стогнам вопль, и стон, и крик:
Кипит мятеж — и скоп развратный
В чертоги царские проник.
Стрельцы, снедаясь злобы ядом,
Ругают святость алтарей;
По храминам своих царей,
Как волки алчны, рыщут стадом;
О буйства наглыя толпы,
Невинны пред людьми и Богом,
По смерть недвижны в долге строгом.
Падут отечества столпы.
Злодеи, хищностью влекомы,
Москву разбоем полнят вдруг;
Разграбив торжища и домы,
Терзают верных царству слуг;
Гордятся плеском низкой лести,
Хвалой татей и винопийц;
Играют копия убийц
Живыми жертвами их мести.
Прелыценна блесками венца,
Душа сим полчищам железным,
София, оком зрит бесслезным
Беды россиян без конца.
Трикраты нощь завесой черной
Скрывала зрелища злодейств;
Но не смирялся бунт злосердной,
И страх витал среди семейств.
Пролив собратий кровь рекою,
Умалив град своей алчбой,
Губители, хвалясь собой,
Склонились наконец к покою.
Умолкла злоба во врагах,
Достигнув силы беспредельной.
Так океан, по буре зельной,
Недвижим дремлет в берегах.
Жене надменной, хищной, льстивой
Вверяют власть свою стрельцы;
Составив праздник нечестивой,
Рабы царям дают венцы;
278
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
И руки, полны крови чистой,
Как бы ругаясь божеством,
Подъемлют к небу с торжеством:
Согромождают столп кремнистой,
Бессмертный подвигов их вид;
Страдальцев, избиенных ими,
Злословят клятвами своими
И режут на меди свой стыд.
Здесь, для не занимающихся чтением древних книг,
заметим, что слово скоп то же, что скопище, но короче,
сильнее и выразительнее; а зелъный, от слова зело, очень,
то же, что великий. Распространяться же о достоинствах
сего отрывка не считаем нужным: он довольно красноре¬
чиво говорит сам за себя беспристрастному читателю, а
пристрастного не убедят никакие доказательства. Заметим
только четыре стиха, на которых отдыхает воображение,
пораженное грозною картиною междоусобия:
Умолкла злоба во врагах,
Достигнув силы беспредельной.
Так океан, по буре зельной,
Недвижим дремлет в берегах.
Далее, в 1 же песни, поход на Азов:
На брань сыны полнощи сильны
Несутся дружно, как валы.
Спешат по манию Петрову,
Как быстрые орлы, легки,
Несут спасение Азову
От тяжкой варваров руки.
Стремятся, верою согреты,
Поправ луну, возвысить крест;
Весь мрак с весенних оных мест,
Разрушив тартара наветы,
Разгнав божественным лучом:
Агарян гордых, дерзновенных,
Коварством, злобой вдохновенных,
Карать перуном и мечом.
Пред ними Петр, и вождь и воин,
Первейший в бедствах и трудах,
Сердцами обладать достоин,
Летит — и силой на водах,
Еще младенческой, незрелой,
Разит противных крепкий флот.
Надежду града и оплот;
И в лаврах сей победы смелой,
Для Россов первой искони,
Течет на тьмы врагов слиянных,
279
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Презорством*, зверством обуянных,
На стрелы, острия, огни.
Неверны, не стерпев удара
Российских мстительных десниц,
Страшилища земного шара,
Подобно стаду робких птиц
Теснятся, скопище несчетно,
Укрыться в твердости оград,
Но там напрасно ждут отрад;
От россов застеняться тщетно!
Пронзает праведный их гнев
От скал сложенные громады,
Как пламя, попаляет грады
Он рек — взвилися бранны громы,
Рыкают в дебрях и в горах,
Твердыни, капища и домы
От молний сыплются во прах,
Дымится пепл на месте зданий,
По стогнам страх, и огнь, и мгла,
На град погибель налегла,
Трясется он от оснований
И распадается вокруг;
Меж пламенных его обломков,
Снедая в праотцах потомков,
Гнездится глад
Разят — и стены разгромленны
Поверглися к его ногам.
Противники, склоняя выи,
Покорством ищут тишины;
Рога надменныя луны
Поникли пред орлом России:
В ее Азове потекли
Часы блаженства и покоя;
Се первый шаг Петра героя,
Предвестник сильного земли!
В 3 и 4 песни брань со Швециею; поэт олицетворяет
войну:
Грядет исчадие подземной
И страх творения всего!
Чело скрывает в туче темной
И буря шествие его.
Одежда — мгла и мраки нощи;
Дыханье — яда полный дым;
И свет стезям его, пожары,
• Презорство — то же, что пренебрежение к кому, надменность.
280
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
И вся земля, став местом лобным,
Взывает с трепетом: «Война!»
Мы выпустили некоторые излишества из сего изобра¬
жения; но несмотря на то, оно, конечно, не чета нашим
модным олицетворениям, нередко поражающим нас вол¬
шебною помощию одной прописной буквы!!4
От диких стран, зиме подвластных,
Плодоносящих камни, льды,
Приятствам жизни непричастных,
На россов двинулись беды.
Вандалы, готы кровоядны,
Воскресли в правнуках своих;
Так с воплем стаи вранов хищных
Летят от скал своих беспищных
На поле сытное битвы.
Отдавая на жертву критике областное смоленское уда¬
рение битва вместо битва, заметим превосходное сравне¬
ние неприятелей России с вранами.
Но
Уже светает день Самсонов,
День страшный северным царям,
День скорби, ужасов и стонов!
Лиется утро по горам
Лучом мерцающим, багровым.
Содрогнулись и твердь и дол
Предчувствием грядущих зол
И смертных жребием суровым.
На грозы скорыя битвы,
На двух воителей полночи
Европа утверждает очи
И все венчанные главы.
С двух стран, как тучи громометны,
Как две железные стены,
Теснятся строи неисчетны!
И Петр, уставив россов к бою,
Да внедрит твердость в их сердца,
К стопам всещедрого творца
Припал с теплейшею мольбою...
Молитва царя-героя исполнена превосходных стихов
и высокого вдохновения; с трудом отказываем себе в на¬
слаждении выписать ее; но мы приведем еще другую его
молитву и, сверх того, истинно боимся переписать боль¬
шую часть всей поэмы. Потом Петр
281
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Всю рать, от края и до края,
Бодрит присутствием своим,
И, взором храбрых озаряя,
По сердцу их вещает им:
Друзья, сподвижники Петровы,
России кровные сыны,
Щиты ее против войны,
Перуны на врагов Громовы!
Приспел судьбы России час;
Она, трепещущая плена,
Прибегла под сии знамена
И ждет спасения от вас.
Враги надменные гордыней
Терзать Россию притекли,
Ругаться нашею святыней,
Взять память нашу от земли.
За целость веры и отчизны
Пойдем, сразимся — с нами Бог!
На сем превосходном стихе, по нашему мнению,
поэту должно было остановиться; в том, что следует, ко¬
нечно, много прекрасного, например:
Отцы взывают к вам о мести,
И мучеников сих мольбы,
Сих жертв постыдные измены,
Как твердые, высоки стены,
Пред нами станут в час борьбы!
Или:
Не раз уже сии колоссы (шведы)
Пред вами падали во прах?
Падут и днесь: вы те же россы!
Или:
Здесь ляжем мы костьми
И освятим свои могилы!
Но и в поэзии необходима умеренность, необходимо
умение ограничить себя, пожертвовать целому подробно¬
стями даже прекрасными, остановиться вовремя. Князь
Шихматов не всегда обладает сим искусством; однако же
да не подумают некоторые наши стихотворители, что их
скудость предпочитаю такому излишеству: излишество —
хотя порок, но порок, если позволено сказать, прекрас¬
ный; исправить его легко — одним почерком пера; а чем
исправить совершенную, неисцельную бедность воображе¬
ния, чувств и мыслей?
282
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Петр умолк:
Но сонмы ратоборны
Еще, еще вперяют слух!
И —
...Отчизны рок суровый
Возник пред мысленный их взор:
Явились вышнего жилища
Добычи вражеских огней,
Или стоялища коней,
Или сынов своих кладбища,
Где жертв таинственных жрецы
Лежат кровавы, сами жертвы;
Поля, дубравы, холмы мертвы,
На нивах терны и волчцы.
Клубящийся волнами пламень,
Снедающ россов жизнь и труд,
Младенцы ринуты о камень
И девы преданы на студ;
И готы, гордые успехом,
Смотря на слезный, страшный вид
Своих ругательств и обид,
Казалось, разливались смехом.
Сей вид бестрепетных потряс
И жаром храбрости стократной
Возжег их грудь на подвиг ратной.
Третия песнь приготовила нас к зрелищу если не вели¬
чайшего, по крайней мере блистательнейшего подвига
Петра, к зрелищу Полтавской битвы; поэт готовится к
выспреннему полету; он восклицает:
Где, где возьму я гласы громны
Воспеть Полтавского Петра?
Наше нетерпение доведено до высочайшей степени —
и великолепная, превосходная четвертая песнь вполне удо¬
влетворяет напряженному ожиданию нашему: она лучшая
во всей поэме, лучшее, что князь Шихматов когда-либо
создал; и если бы все его творение было равного с нею
достоинства, он, скажем смело, оставил бы позади себя
Ломоносова, занял бы между нами место не низшее за¬
воеванного в другом роде Державиным, величайшим по¬
ныне русским поэтом; но и теперь она дает ему право на
степень очень близкую к занимаемой ими! Пусть прочтет
всякий истинный русский, любящий отечество и славу
отечества, хотя сию четвертую песнь с начала до конца
и рассудит нас с теми, на которых душою негодуем за их
ослепление5, за упорство, с коим отказывают одному из
283
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
могущественнейших наших поэтов в удивлении, в справед¬
ливости — кто бы поверил? — в самом чтении!! Не выпишу
из ней ни одного отрывка, я бы должен был переписать
ее с первого до последнего стиха; не говорю также, чтобы
в ней не было пятен: но можно ли вспомнить о пятнах
сих; можно ли, читая сию четвертую песнь, не увлечься
неослабным, с строфы на строфу возрастающим востор¬
гом поэта? Признаюсь, и охотно признаюсь — я не в силах
выискивать грубый звук, обветшалое слово, неточное вы¬
ражение, слабый стих там, где вижу и слышу поэта, и
поэта истинного; и пусть, если угодно, смеются надо мною
насмешники: эта невозможность служит мне порукою,
что и во мне какая-то искра огня поэтического:
Μεγεί τό δείογ όογλίβ πβρογ φρεγί*6.
Кн. Шихматов умел придать каждой своей битве неч¬
то новое: итак, его воображение не только сильно, оно не
лишено и богатства — качества довольно редкого даже
между поэтами с дарованием! Впрочем, он достоин похва¬
лы не в одних изображениях ужасов войны: в описаниях
природы он светел, силен, нов и точен.
Привесть примеры оных представляем себе в следую¬
щей книжке «Сына отечества».
В 1 песни, после воззвания** к славившим Петра сво¬
им предшественникам, которых по скромности ставит го¬
раздо выше себя (к несчастию, об них, исключая Ломо¬
носова, и упоминать нечего), поэт представляет нам рос¬
кошную картину утра в южных странах.
Путник в прозрачную летнюю ночь оживил себя отды¬
хом близ цветущей рощи,
Где в неге дремлет тишина,
Стрясает тонкий сон с очес,
Грядет под сень густых древес,
И там, спокойством огражденный,
Воссев на древний мшистый пень,
* И в рабстве не изменит дар божественный (греч. Пер. С.Апта).
** В строфе, следующей непосредственно за оным, заметили мы
стих, исполненный глубокого чувства:
«Не терпит сердце немоты!» —
стих, которым бы должны руководствоваться все пишущие. Говори
в печати перед лицом стольких тебе незнакомых только тогда, когда
твое сердце не терпит немоты, и ты облагородишь звание писателя;
твое авторство уже не будет ремеслом; твои слова, ознаменованные
вдохновением, будут живы, увлекательны, истинны.
284
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Он ждет с желанием сердечным
Царя планетам быстротечным,
Который воскрешает день.
Как зимний дым, белеют мраки,
И утро с розовым лицом,
Гоня зловидные призраки,
Блистая златом, багрецом,
Дыша живительной прохладой,
Белит и горы и поля.
Сребром усыпана земля,
Всеместной полнится отрадой;
Настал приятный первый шум,
Преторглась цепь нощного плена,
И путник, преклонив колена,
Вперил к востоку взор и ум.
Се солнце, искра славы бога,
Из бездн исходит, как жених
Младый от брачного чертога,
Лиет, раститель благ земных,
Потоками свой свет державный.
Поверх смеющихся долин;
И радуясь, как исполин,
Вступает смело в путь преславный;
Вотще претят ему пары...
Оно и в них своим всеплодным лучом готовит дары
человеку и течет, исполненное
...красы и мира!
Пред ним затмилася луна,
Померкли все светила мира,
Лишь им вселенная полна;
Его сияньем пораженной,
В убийствах цепенеет лев,
Бежит, смирив свой ярый гнев,
Рушитель тишины блаженной
Сокрыться в тощие скалы;
Змии, шипя, ползут в пещеры;
И путник, полн восторгом веры,
Отцу времен поет хвалы.
В сем прекрасном отрывке нас особенно поразила чер¬
та, схваченная с природы:
Настал приятный первый шум!
Всякий странствовавший, верно, испытал, сколь в са¬
мом деле приятен этот первый шум после трудного, без¬
молвного путешествия ночью! Приноровление же всего
изображения к герою и к самому поэту придает оному
новую высокую прелесть:
Так я, зря духом восхищенным
285
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Петра Великого восток,
Паду пред солнцем сим священным!
Сии три стиха вдруг сливают в одно целое уподобление
и уподобляемое, главный предмет всей поэмы и отступле¬
ние. Это прекрасное преддверие, ведущее прямо в вели¬
колепное здание.
Вторая песнь равномерно начинается с описания, объ¬
ясняющего то, что певец намеревается в ней поведать
своим слушателям, то есть внутреннее образование России
Петром Великим.
Таковый прием для нас после первой песни, конечно,
уже не нов; он даже придает ходу поэмы некоторое одно¬
образие; но веселый съемок со страны, одаренной всеми
благами земными, нежит воображение живым начерком,
светлыми красками. Итак, взглянем на сей отрывок от¬
дельно, забудем, что он есть часть целого. Автор указывает
нам на богатую, роскошную пустыню, на злачные поля,
орошенные обильною влагою, тучные равнины, которые не
лишены приятства.
Но без труда искусных рук
Бесплоден их пребудет тук,
Богатств не израстит их недро;
И путник с высоты горы,
Измерив их усталым оком,
Жалеет, что во сне глубоком
Лежат благих небес дары.
Меж тем едва к ним
...свой ум небесный
И силу крепких мышц своих
Приложит царь земли словесный.
Уже лицо равнин нагих
Цветет красою разновидной.
Растут дубравы насажденны,
Холмов присолнечных венцы.
Густою тенью услажденны,
Поют воздушные певцы;
И Гласы песней их созвучных,
Угодных самой тишине,
Виются к выспренней стране;
На пажитях зеленых, тучных
Стада доилиц общих, крав,
Волов, орателей прилежных,
Овец рунистых, белоснежных
286
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Пасутся сочностию трав.
Катясь с высот в долины злачны,
Лобзая пестрые луга,
Звенят источники прозрачны;
Извив змиями берега,
Теряются в своем Дедале7.
Озера, зыблясь меж древес,
Сугубят красоту небес
В кристальном чистых струй зерцале.
По сводам тенистых пещер,
Убежищ летния прохлады,
Кипят сребристы водопады,
И бег их твердость камней стер!
Утеха взору и гортани,
Висят червленые плоды,
Приятные приносят дани
За легкие о них труды.
Заря, восстав с одра востока,
На землю одождив жемчуг,
Сретает чуждое порока
Блаженство сельское вокруг...
И солнце, с запада златя
Вечерних облаков ометы,
Зрит долу счастие и мир,
И странники...
Текут на сей природы пир!
В творениях поэта всегда, нередко даже без его на то
согласия, отражается он сам, отсвечиваются его собствен¬
ный образ мыслей, его чувства, опыты, наклонности, лю¬
бые занятия. Так, например, многие места в одах Ломоно¬
сова являют его истинным сыном Севера, воспитанным
на брегу Ледовитого океана, умом, который в младенче¬
стве поражался грозными, дивными огнями и призраками
полуночного неба; другие доказывают его знакомство с
естественными науками, особенно с химиею. Петров сме¬
лою, мощною кистью оживляет пред нами коня8 — и, как
известно, был страстный любитель сего благородного жи¬
вотного. В Мильтоне легко найти подробности, которые
только слепец мог описать, как он их описал. Во многих
и недраматических сочинениях Гетевых виден драматиче¬
ский поэт, даже директор театра, знающий все тайны ли-
цедействия, знающий самые мелочи, от коих зависит успех
представления. Если бы мы и не ведали, что князь Ших¬
матов служит во флоте, мы, прочитав его удачные изобра¬
287
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
жения моря, кораблей, пристани, бури, морского сраже¬
ния, догадались бы, что он должен быть знаком с океаном.
Во второй песни он указывает нам на Петрово учили¬
ще, богатую Голландию:
Он (т. е. Петр) зрит — трудами согражденный
На блатах велелепный град,
Стомя протоков отрожденный*,
Цветущий красотой, как сад.
Пристанище пловцов несметных
И торжище всея земли.
Сыны щедроты — корабли —
В оградах мира безнаветных,
Бесстрашно слыша шумный ветр,
Не убегая бури мрачной,
Стоят, как зимний лес прозрачной,
От стен до дальнего обзора,
Где с бездной смежны небеса,
Белеют радостно для взора
Волнисты, снежны паруса,
И весла возметают воды.
Туда, по воле человека,
Корнисты, севера сыны,
Надменны долготою века,
Стеклись с кремнистой вышины;
И там, искусством искривленны,
Да с бурею воюют вновь,
Как братья, коих связь любовь —
Железом связаны — скрепленны,
(Не дух ли жизни оным дан?)
Согромождаются в громады:
Пред ними потрясутся грады!
Смирится ярый океан!
Там Петр, славнейший из владельцев,
(Единствен ввек пример такой!)
Труждался в сонме древодельцев
Своей державною рукой,
Не скипетр обращал — секиру;
Но частый стук секиры сей
Раздался по вселенной всей!
Потом поэт переносится в Россию; уже в первой песни
он нам явил своего героя на водах Яузы, в челноке, кото¬
рый очень удачно называет зерном и корнем грозных фло¬
тов, дедом ужасных в море мощных внуков; он и там уже
сказал, что Петр,
* Произведенный, иногда и вновь рожденный, возобновленный.
288
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Великих начинаний полн,
Уже стесняется рекою
И порывается в моря!
Во 2-й же песни славит построение первого русского ко¬
рабля, который возник, как властительный (претящий)
исполин,
Как огнедышаща гора,
В которой спеет ужас спящий,
Возник и, презирая брег,
В разлив зыбей простер свой бег!
Женет (гонит) их пред собой стеною
И след его — кипящий ров!
При звуках радостных, громовых,
На брань от пристани спеша,
Вступает в царство волн суровых:
Дуб — тело, ветр — его душа!
Хребет его — в утробе бездны,
Высоки щеглы — в небесах;
Летит на легких парусах,
Отвергнув весла бесполезны.
Летит — на гордость мещет пламень,
Носящ велики имена,
Твое, неломкий веры камень,
На коем церковь создана;
Твое, сосуд Христу избранный,
Который выше всех чудес
Парил до третиих небес!
Корабль наречен во имя св. Петра и Павла. Князь Ших¬
матов воспользовался сим обстоятельством, как бы в по¬
добном случае воспользовался им Кальдерон*; он обра¬
щается к ним, к первоверховным в апостолах, он у них
испрашивает благословения сему делу руки Петровой, да
снова смелые подвижники господни, Петр и Павел,
* С Кальдероном князь Шихматов вообще имеет сходство реши¬
тельное: в обоих встречаем одинакую, строгую, нерастленную светским
умничаньем приверженность к вере своих праотцев; в обоих одинаков
знание таинств религии и обрядов церковных, душа обоих напитана чте¬
нием Священного Писания и Св. Отец; цветущий слог и того и другого
представляет одинакий отпечаток восточной роскоши; краски их пла¬
менны; мысли утонченны; иносказания, олицетворения, уподобления в их
творениях во множестве. Оба они, подобно поэтам Азии, любят играть
словами, и напрасно бы сию последнюю наклонность назвали пороком;
она иногда происходит от обилия мыслей, от избытка чувств, а не от
холодного только остроумия: есть различие между игрою словами,
попадающеюся в Шекспире, Кальдероне, Гафисе, и тою же игрою,
когда уподобляют ее вялый Дорат или бездушный Марини.
289
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Карают дерзостных и злых!
Теперь, для противоположности, представим своим чита¬
телям две картины ужасов морских — сражения и потом
бури: обе взяты из шестой песни:
Ряды воинственных громад,
Рукой российской сочлененных,
Подвиглись средь зыбей надменных,
Пловущий, стройный, страшный град!
Холмами растекались волны
Пред смелым шествием его.
Твердыни, местью готам полны,
Злодеям севера всего,
В пространном резких волн разливе
Текут — и шумные бразды
В пучине сланой (соленой) их следы!
И понт подобен зрится ниве.
Криле свои расширив ветр,
Летит по высоте воздушной
И дышит силою послушной,
Куда войной стремится Петр.
Но флоты российский и шведский встретились:
Отверзлись жерла громометны,
Ревут по воздуху всему;
Сверкают молнии несчетны,
В непроницаемом дыму,
Что вверх клубится облаками,
Волнами идет по волнам,
Раздался гул по глубинам:
Прольется в море кровь реками!
Оружием смертей и ран
Взаимно ратуют громады,
И с визгом ядр летящих грады
Посыпались с обеих стран!
Отъемлют полдень солнцелучной
От зрения густые мглы;
Мертвеет слух от брани звучной;
Робея, падают валы
От частых пагубы ударов;
На части рушатся суда,
И стонут воздух и вода;
Багреет небо от пожаров,
Сих грозных светочей вражды;
И огнь свирепствует на море.
Корабли:
То грязнут в глубине, как камень,
То гибнут, зыблясь по волнам;
Сквозь дым столпами блещет пламень,
Крутится к выспренним странам.
290
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Проникнув искрою одной
В их темны, жупельны утробы,
До самых облак мещет вдруг
Курящиеся их обломки,
И мрак разносится вокруг!
И вот:
Уже покрылся влажный дол
Развалинами готской силы,
Помостами кровавых тел!
Вот неприятельский адмиральский корабль:
Всех готских кораблей стена,
Столп крепости всего их флота,
Достойный имени Слона,
Сквозится молнией Петровой:
Своих бесчленных трупов полн,
Как труп, колеблется средь волн;
Но, движим дерзостью суровой,
Петра мечтающей сотерть,
Гремит — напрасны громы бранны!
Уже в его отверсты раны
Втекают с шумом страх и смерть!
Петр победил; он течет обратно, увенчанный славою; но
Внезапу с шумом дхнул дух бурный,
Расторгнул тысящу оков:
Бугры густые облаков
Затмили ясный свод лазурный;
Сошла безвременная ночь
На воды страждущи, ревущи;
Как горы, грозны и высоки
Восходят волны до небес;
Меж ними пропасти глубоки
Зияют зрению очес;
И бурей корабли боримы,
То вдруг висят на вышине,
То вдруг сокрылись в глубине
И долу влаются (колеблются) незримы.
И вихрь ужасный быстротой,
Сорвав с валов крутых вершины,
Поверх гористыя пучины
Разносит пылию густой.
Покрытый пеною кипящей,
Клубами белыми, как снег,
От бездны, твердь* его разящей,
Трепещет, воет твердый брег!
* Здесь весьма удачно, вместо слов твердость или крепость.
291
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Тягчится воздух темнотою;
Лишь молний смертоносный луч
Сверкает из чреватых туч;
Над всею моря широтою
Являет пагубы позор;
Удар сугубится ударом,
И небо зрится в гневе яром;
Все страх, смятение, раздор!
Из мрачной глубины полночи
Не блещут более огни,
Лишь тьма мрачит пловущих очи,
Лишь ветры ратуют одни,
Мчат россов к смерти неизбежной;
И близ уже шумят валы,
Биясь об острые скалы,
На коих крутизне мятежной
Витает гибель кораблей,
И там рукой немилосердой
Стирает в прах состав их твердой.
Сия, шестая, песнь одна из лучших во всей поэме: в ней
изображен, между прочим, также поход Петра на Персию.
Что наш автор говорит о бедствиях, побежденных рос¬
сами в сей стране, столь гибельной для питомцев зимы,
для племен хладной полуночи?
Тускнеет солнце в полдень знойной,
Как сталь, калится горний свод;
От суши мертвенно покойной,
От дремлющих Каспийских вод
Несутся грозы облаками
И ратный начинают спор
Поверх крутых Кавказских гор,
Венчанных вечными снегами;
И молний быстротечный луч,
Гонимый бурным, громным треском,
Народы устрашая блеском,
Свирепствует от туч до туч.
Как пещь, дыхает небо жаром,
И небу огненны пески
Противодышат знойным паром,
И чувство жажды и тоски
Снедает жизнью одаренных.
Из тлеющих подземных недр
Исходит смертоносный ветр.
Сей ветер, говорит поэт, подобен тирану, который велит,
да всякий, к кому ни обратится,
Со страхом припадает долу;
Противных грозному глаголу
Мертвит дхновением своим.
292
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
Едва свое священно око
Сомкнет изнеможенный день
И ляжет по полям широко
Нощная тишина и тень:
Уже из мрачных логовищей
Бегут гиена, тигр и лев,
Немолчный испуская рев,
Алкают пресытиться пищей;
Далече разливают страх!
Сгорая жаждой кровопийства,
Творят бесчисленны убийства
В лесах, в долинах, на горах.
Или из туч черно-багровых
Вихрь хищный, исторгаясь вдруг,
Сопутник бурь, как смерть, суровых,
Со свистом вьется вкруг и вкруг,
Полетом возметает бурным
Пески, как волны, к облакам,
Грозит кончиною рекам
И тьмою небесам лазурным;
Смесив и дол и высоту,
Равняет горы и долины,
Кладет во прах градов вершины,
На все наводит пустоту!
Или, от блат и безд тлетворных
Возникнув, гладный лютый мор
Во мгле туманов злорастворных
Летит — и с ним смертей собор.
Или... но как исчислить словом,
Сколь гибельна сия земля?
Где небо пламенным покровом,
Железны кажутся поля?
Где гнусные, смертельны гады
Плодятся всюду без числа,
Которых изощренны яды,
Как молнии палящий луч,
Мгновенно проницают в жилы,
Смущают мысли, чувства, силы
И жизни иссушают ключ!
Князь Шихматов в сем отрывке живописал глазам нашим
знойный Иран со всеми его ужасами, с самумом*, чудо¬
вищами, незапными бурями, чумою, живописал, как будто
бы сам долгое время жил на Востоке — в соседстве Му-
ганской степи, сего отечества змей и гадов, где они точно
плодятся без числа, где, как уверяет Квинт Курций и как
* Самум — название пагубного юго-западного ветра, веющего из
песчаных Аравийских степей.
293
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
поныне народное предание повествует, — Александр
(Ша-Искандер) обратился вспять, воспященный в своем
шествии несметным множеством пресмыкающихся. Вдох¬
новение заменило поэту опыт и наблюдения: он душою
перенесся в Персию, и ни один путешественник не описал
бы точнее опасностей, ожидающих там путешественника!
В час восторга, когда устремлены все мысли, все чувства
песнопевца на один и тот же предмет: в нем возникают,
оживают, становятся ясными темнейшие воспоминания о
том, что хочет изобразить, все, некогда об оном слышан¬
ное и, казалось, давно забытое, воскресает не только в
памяти, воскресает для взоров его; собственное творче¬
ское воображение поэта мгновенно дополняет пропущен¬
ное, может быть, рассказчиком, и вдруг в стихах его
явится список полный, верный с того, что он никогда не
видал очами телесными!*
Приведенные нами по сю пору примеры все почти в
роде описательном, живописном, но да не подумают, что
наш поэт искусен и силен в нем одном.
Чувство в стихах его говорит почти столь же красно¬
речиво. В нем пламенна любовь к отечеству; пламенна
вера во Всевышнего. Заглянем в 7-ю песнь; послушаем
молящегося за Россию Петра!
...на воды и на сушу
Простерся скипетр тишины:
Петра божественную душу
Небесны присеняет сны;
Молчит Петрополь усыпленный,
И спит творение вокруг.
Представь — что Петр воспрянул вдруг,
Живою верой обновленный,
И в сей безмолвный нощи час,
Ничем в душе не возмущенный,
Прещедрым богом восхищенный,
Вознес к нему сердечный глас:
* Итак, скажут наши баловни-гении, охотники хватать одни верш¬
ки или даже пребывать в неведении всего, что немного далее Нарвской и
Московской заставы: «Мы правы, к чему учиться? Нам вдохновение
заменяет знания! — Поэт...
Не учась учен, как придет в восхищенье!»9
Извините, мм. гг., истинное вдохновение не может родиться, по край¬
ней мере не может продлиться, без богатого запаса живых знаний, то
есть понятий о предметах занимательных; восторг опирается, так ска¬
зать, об них для дальнейшего полета: мысль одна подобна вспышке
одной, но одна вспышка не засветит еще пламени!
294
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
«С высот твоих, зиждитель сущих!
Сквозь сонмы пламенных духов,
Твое величество поющих,
Тобой созданных до веков
В степени твоему престолу,
Сквозь мирияды мирияд
Миров, объемлющих твой град,
Приникни долу, долу, долу,
На персть взывающу к тебе
Из глубины твоих творений,
Не премолчи* моих хвалений,
Внемли, внемли моей мольбе!
Тебя дела твои достойны!
Одним любви своей лучем
Из тьмы извлек ты солнцы стройны,
Повесил землю на ничем,
Сапфирным осенил навесом
И оный чудно обложил
Ужасным множеством светил;
Числом и мерою и весом
Устроил звездные огни
И всех их назвал именами;
И все, вращался над нами,
Тебя поведают они!
Велик пространством непонятным
Сей мир, мир славы и красы;
Но пред тобою необъятным,
Как капля утренней росы,
С высот сходящая на землю!
К тебе, к премудрости твоей,
Я силы все души моей
Со страхом, с трепетом подъемлю:
Но гибнут силы все в тебе!
Конец поставлен всей природе,
И всю ее разрушит смерть!
Померкнет блеск на горнем своде;
Как риза, обветшает твердь,
Погибнут с шумом небеса,
И ты свиешь их, как одежду;
Миры растают, как мечты;
Престав от быстрого полета,
Исчезнут времена и лета:
Единый пребываешь ты!
На что ни обращаю очи,
Во всем сретаешь ты меня:
Тебя я чту в сей звездной ночи,
Тебя в лучах златого дня,
* Не презри.
295
D. K. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Тебя и в буре и в зефире,
Тебя в войнах и в кротком мире,
И в дивной царств земных судьбе;
Тебя я зрю во всей вселенной,
Тебя я чувствую в себе.
После нескольких строф, содержащих мысли и чувст¬
ва, которые должны бы быть общими всем беседующим с
богом, поэт заставляет Петра прибегнуть к господу с моль¬
бой о ниспослании себе мудрости и сил — для управления
Россиею.
Увы! горька державства сладость;
Царей земных великость — сон,
Ты мне веселие и радость;
Да не отступит твой закон
От сердца моего вовеки:
И там да слышу я всегда,
Что паствы моея стада
Не токмо те же человеки,
Но паче братия моя;
Что я всеобщий их служитель,
Что ты, о крепкий Вседержитель,
И мне и оным судия!
Соделай манием всемощным,
Да я в суде не знаю лиц,
Да буду помощь беспомощным,
Отрада сирых и вдовиц,
Благим — прибежище надежно,
И злым чадолюбиво строг.
Да не обрящется несчастный
Во всем владении моем!
Поели мне свыше смысл пространный,
И дух мой в силу облеки,
Ничтожить козни злобы бранной,
Сражать противные полки,
Спасать Россию от наветов,
Над всеми царствами вознесть,
Разрушить дерзость, зависть, лесть...
Над всем же сим взываю слезно,
С рабом твоим не вниди в суд!»
Скончал моление устами,
Не кончил в глубине души.
Чувство не велеречиво: для него довольно и одного
слова! Таково глагол бысть в 4 песни в следующей строфе
(Петр после Полтавской битвы говорит о Карле XII):
296
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
«Рек враг, кипящий злым наветом:
Под солнцем власть моя крепка!
Пойду — и будет над полсветом
Моя господствовать рука;
Цепями прикую Россию
К престола моего стопам
И дам покой моим стопам,
Возлегши ими ей на выю!»
Но бог:
Велел от выспреннего свода:
Да будет в севере свобода!
И север восклицает: быстъ\
В рассказе о Мазепиной измене (в 3 песни) поэт, обра¬
щаясь к предателю, восклицает:
И зверь срамляется угрызть
Питающу его десницу —
А ты! сокройся жив в гробницу!
Здесь умолчание сильнее всего, что бы можно было ска¬
зать. В этом же рассказе другие два стиха заставляют
невольно задуматься:
Но, ах! сердца людей коварных,
Как бездны моря, глубоки!
Далее, там же:
Где молнии твои дремали,
О небо! где коснил твой гром,
Когда отступник день печали
Простер, как тучу, над Петром?
Это самое пылкое изражение живейшего участия, которое
поэт переливает и в слушателей.
О Мазепе князь Шихматов вообще говорит в стихах
самых сильных, самых грозных! Итак, хотя в первой поло¬
вине нашего разбора мы было и отказались от выписок
из четвертой песни сей поэмы, однако же здесь уступаем
неодолимому для нас желанию поделиться с нашими чита¬
телями отрывком, которого ужаснее и в самом Бейроне
не знаем! Мы хотим уничтожить упорное, долговременное
предубеждение и, как справедливо заметил нам один наш
приятель, даже не вправе отказаться добровольно от
средств самых действительных к достижению своей цели!
Мазепа,
Злодейства ужасом гоним,
Бежит — и чает, что над ним
Возжечься молнии готовы
297
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
И, мстительным огнем паля,
Истнят рушителя законы;
И что его, как Авирона,
Поглотит гневная земля!
Избег далече, небрегомый,
Как вран, витая по горам;
Но совестью своей жегомый,
Безмерен чувствуя свой срам,
Гнетомый злобой неисходной,
Едва свободный воздохнуть,
Невольно прерывает путь.
Как туча на скале неплодной,
Сидел он мрачен и угрюм;
И мысли черные постыдны,
Как в терние спешат ехидны,
Спешат в его нечистый ум.
Как угль — в нем сердце потемненно;
Проникнул трепет в тук костей
И в глубину души мятежной;
Он весь дрожит, как легкий лист;
И в слух его, как вихрей свист,
Шумит глас мести неизбежной;
И кровь им преданных на смерть
Стремится на него, как море:
Не смеет он, погрязший в горе,
Воззреть с надеждою на твердь.
Язвится светом благодатным,
Как аспид, кроется во мгле,
Носящий ужас на челе,
Клянет себя и всю природу;
В очах его густеет ночь.
Но злодей взревел
От бездны сердца своего,
И жизнь оставила его!
И певец вопиет вслед отлетающей его душе: «Смертию
казнь твоя еще не кончилась».
Познает позднее потомство,
Как жизнь, отечество любя,
Твое пред оным вероломство
И клятвой проклянет тебя.
Воссетует твоя отчизна,
Что в ней приял ты бытие;
И имя гнусное твое
Злодеям будет укоризна.
Изменник слову божества,
Изменник долгу человека,
298
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА...
От рода в род и род до века
Ты будешь срамом естества!
Се враны, привлеченны смрадом,
Разносят плоть его в когтях;
И гады, дышащие ядом,
Гнездятся грудами в костях.
Из недр, из устия вертепа,
Шипят трижальные змии,
И всем шипения сии
Вещают: здесь гниет Мазепа!
Не зреют век красы весны
Вокруг сей дебри многобедной,
И путник трепетной и бледной
Бежит далече сей страны!
Здесь оканчиваем свои довольно многочисленные из¬
влечения, которые, однако же, далеко не исчерпали всей
сокровищницы красот нашего писателя. Он привел нас в
затруднение редкое, но тем более для нас приятное: пере¬
читывая одно место, мы вспоминали о другом, недоумева¬
ли, не знали, которое предпочесть: вот бессомненное дока¬
зательство истинного дарования!
Скажем теперь слова два о достоинстве целого тво¬
рения. Мы уже видели, что в оном мало эпического: но
оно, без сомнения, дает князю Шихматову право на одно
из первых мест между нашими лириками и поэтами-жи-
вописцами. Лучшие песни сей поэмы, состоящей из 8-ми,
по нашему мнению, 1, 4 и 6; самые слабые 5 и 8; но 2, 3
и 7 содержат в себе много прекрасного; в особенности
просим наших читателей прочесть в конце второй описа¬
ние введения Петром наук и художеств в Россию, описа¬
ние, принадлежащее роду весьма неблагодарному, то есть
поэзии поучительной: наш поэт умел вдохнуть и в сей
отрывок жизнь, движение, заманчивость! Далее, в 3 песни
пусть взглянут на изображение жестокой зимы 1708 года,
зимы, которая, по словам поэта, на что ни дхнет, окаме-
нит\ пред которою враги России валятся, каменные трупы!
Сравнивая язык князя Шихматова с языком других
наших стихотворцев, находим, что оный всех ближе под¬
ходит к языку Ломоносова, но новее, ибо представляет
гораздо менее усечений, небрежностей и так называемых
поэтических вольностей: ударение на предпоследнем слоге
вместо последнего, в страдательных женских и множест¬
венного числа причастиях на на и ны, енна и енны
вместо ны к на — единственная неправильность, которую
299
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
себе наш автор позволял постоянно, и то по образцу своих
самых строгих предшественников Хераскова, Кострова,
Ломоносова. Слог поэмы «Петр Великий» нигде не пред¬
ставляет пестроты, которую встречаем и в лучших сочи¬
нениях Сумарокова, Петрова и даже Державина; нигде
слова и обороты славянские не перемешаны в оной с низ¬
кими простонародными, как то весьма часто случается
у помянутых писателей.
После Ломоносова и Кострова никто счастливее князя
Шихматова не умел слить в одно целое наречие церков¬
ное и гражданское: переливы неприметны; славянские
речения почти всегда употреблены с большою осторож¬
ностью и разборчивостию; в последние 25 лет, конечно,
мы отвыкли от некоторых, но в этом напрасно кто взду¬
мал бы винить нашего автора!
Итак, слог (не во гнев ненавистникам нашего древ¬
него отечественного слова!) везде выдержанный, язык
богатый, стройное строгое стихосложение, множество
прекрасных живых картин, парение, редко слабеющее,
избыток сильных непритворных чувств — вот, по нашему
мнению, достоинства поэмы Шихматова! Главнейший не¬
достаток (от коего происходят и все прочие, как, на¬
пр <имер) слишком поверхностное начерчение действую¬
щих лиц, даже самого Петра, слишком быстрые переходы
от одного события к другому и, хотя не часто, однако же
иногда, особенно в 5 и 8 песнях, приметная усталость)
есть, как уже упомянуто, самый избранный автором спо¬
соб изложения. Напрасно также искали бы в его творении
чудесного и вымысла в целом*. От них поэт должен был
отказаться по самому свойству воспеваемого им предмета.
При всем том будем благодарны творцу поэмы «Петр
Великий» за труд, доселе у нас единственный, ибо ни
«Владимир», ни «Россияда» Хераскова, ни даже начало
Ломоносовой «Петрияды» не выдержат сравнения с оным.
У нас, конечно, нет еще истинной народной эпопеи; но
лирико-эпическое песнопение князя Шихматова и по по¬
явлении оной не утратит цены своей, а ныне обязанность
всякого русского знать и помнить творение, каких у нас
немного! Наша словесность весьма еще не богата: пре¬
красным же не должен пренебрегать даже тот, кому дано
превосходное!
* В подробностях мы находим изобретение в рассказах о бегстве
и смерти Мазепы и об единоборстве Петра с Карлом.
300
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ...
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ
РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Любопытно послушать, как
иностранцы, особенно немцы, ближайшие соседи наши,
судят о русской словесности, с частию коей господин
фон-дер-Борг познакомил их в довольно удачных и близ¬
ких переводах*. Итак, выпишем, что в 60 нумере лите¬
ратурных немецких листков говорится при случае появ¬
ления сих переводов, во-1-х, вообще о духе нашей поэ¬
зии, ВО-2-Х, о некоторых наших стихотворцах в осо¬
бенности. Сии суждения не во всем сходны с теми, кото¬
рые у нас повторяются ежедневно, и потому-то пока¬
зались мне достойными некоторого внимания.
«Новейшая русская изящная словесность еще очень
зелена. В каком же образе представляется она наблю¬
дателю? В образе вышедшего из отроческих лет юно¬
ши нашего времени, которого к стихотворству понуж¬
дает молодость, а может быть, и дарование; сей юноша
покушается высказать поэтическим языком чувства свои,
но это не совсем легко; посему оно трудное старается
заменить менее трудным и вместо чувств обрабатывает
мысли, а как глубокое размышление не есть стяжание
первой молодости, то сначала довольствуется проница¬
тельностью и остроумием — способностями, которые в ду¬
ше человеческой окриляются ранее прочих. Вот почему
в произведениях молодых стихотворцев встречаем столько
поучительно-чувствительных изречений. Обозревая фон-
дер-Боргово собрание, убеждаемся, что русская поэзия
есть подобный поэт-юноша. Сие собрание все почти сос¬
тавлено из поучительных од, элегий, посланий, сатир,
многословных баллад и сказок, в коих более ума и опи¬
саний, нежели смелости воображения и теплоты чувства:
кроме того, сии произведения вообще между собою до того
сходны, что писателей распознаешь только по оттенкам, а
не по мощным каким отличиям». Далее немецкий критик
* Эти переводы не в пример ближе к подлинникам французских
переложений С. Мора и переложений английских Боуринга, из кото¬
рых последние, однако же, заслуживают некоторую признательность.
301
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
предупреждает возражение, которое бы могли ему сделать
насчет этого последнего упрека: «Сходство сие, — говорит
он, — напрасно бы кто вздумал приписать самому ф. д.
Боргу: он, кажется, переводил добросовестно и, сверх того,
везде оказывается человеком искусным, знающим».
Согласны! Согласны также в том, что много ис¬
тинного в строгом приговоре критика. Но ужели не вме¬
нить в вину г. переводчику выбор подлинников, чрез¬
вычайно односторонний? Выбор, по-видимому, только та¬
ких произведений, таких писателей, которые у нас, за
исключением всех с ними несходствующих, одобря¬
ются известною школою? Именно советам школы сей,
ее, говорю, советам и мнениям, которыми переводчик
явно руководствовался при составлении своего собрания,
должны мы приписать изобилие водяной, вялой описа¬
тельной лжепоэзии, коею преисполнены фон-дер-Борговы
переложения. Так! наша словесность молода: но и у нас
были и есть поэты (хотя их и немного) с вооб¬
ражением неробким, с слогом немногословным, не разве¬
денным водою благозвучных, пустых эпитетов. Не говорю
уже о Державине! Но таков, например, в некото¬
рых легких своих стихотворениях Катенин, которого бал¬
лады «Мстислав», «Убийца», «Наташа», «Леший» еще
только попытки, однако же (да не рассердятся наши
весьма хладнокровные, весьма осторожные, весьма не
романтические самозванцы-романтики!) про сю пору одни,
может быть, во всей нашей словесности принадлежат поэ¬
зии романтической. Таков был некогда Бобров — поэт,
который при счастливейших обстоятельствах был бы, мо¬
жет быть, украшением русского слова, который и в том
виде, в каком нам является в своих угрюмых, незрелых,
конечно, созданиях, ознаменован некоторым диким ве¬
личием. Такова, наконец, госпожа Бунина, которой «Про¬
гулка болящей» есть произведение, исполненное живой
глубокой скорби. Немецкий критик, прочитав оную, согла¬
сился бы, что и у нас иногда говорит сильное
чувство, незаменное ни модными словами, ни описа¬
ниями, ни остроумием.
Из «Собрания образцовых сочинений в стихах»1 пе¬
реводчик (см. 1-ю часть его переводов, 2-й мы вовсе
не знаем и, стало, о ней и не судим) извлек про¬
изведения самые вычищенные, самые выглаженные, а по-
сему-то одно с другим столь сходные! Где же на рус¬
302
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ...
ском — как, например, в Державине или Петрове —
и были какие неровности, он их тщательно выправил и тем
лишил, конечно, недостатков, но недостатков, иногда не¬
разлучных с красотами, одному Державину, одному Пет¬
рову свойственными!
Вот почему при всей верности, при всем истинном
достоинстве переводов г. фон-дер-Борга они еще однооб¬
разнее своих подлинников, вот почему ни по тем, ни
по другим нельзя и не должно заключать о совершен¬
ном будто бы однообразии всей нашей поэзии!
«Другое еще сходство представляется в сих стихот¬
ворениях вообще с произведениями молодой музы: в боль¬
шей части их нет жизни самобытной; подобно юноше,
который, хотя бы и наделен был дарованиями, дер¬
жится, иногда и сам не зная того, признанных уже
образцов, сии стихотворения все почти суть подражания
чужой, а именно французской словесности, а некоторые,
преимущественно позднейшие, подражания и немецкой.
Господин фон-дер-Борг в двух довольно толстых книж¬
ках предлагает нам примеры, взятые из сочинений 26-ти
стихотворцев, родившихся между 1711 и 1799 годами и,
следовательно, почти совершенно исполняющих минувшее
столетие. Все они без исключения испытали решитель¬
ное на себе действие французской классической словес¬
ности века Людовика XIV, даже касательно наружного
образа произведений своих; переводчик передал нам оный
без всякого изменения. Многие из сих стихотворений
писаны александринами; оды — французским малоизме-
няющимся элегическим размером*; басни же, совершенно
в роде басен Лафонтеновых, — стихами вольными. Позд¬
нейшие русские стихотворцы, конечно, обнаруживают не¬
которое знакомство с словесностию немецкою, но, кажет¬
ся, знают ее преимущественно в том виде, в котором
(она) находилась под многоразличным иноплеменным
влиянием, с половины прошедшего века до появления
Гете. Сей же последний, по причине поучительного
направления русской словесности, по-видимому, почти не
встретил в оной отголосков песням своим».
Критик не говорит здесь об удачных и неудач¬
* Какой это особенный элегический французский размер? Мы его не
знаем. В одах же наших господствовала (и то нёкогда) десятистишная —
каждый стих в четыре стопы — ямбическая строфа, вовсе не элеги¬
ческая.
303
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ных подражаниях отдельным стихотворениям Гетевым:
они у нас, конечно, найдутся! Он говорит о произведе¬
ниях, созданных нами не по известному какому образцу
Гете, а в духе его, с его свободою. Примеры, может
быть, лучше объяснят мысль сию. Итак, положим, что ни
в одной трагедии Озерова нет подражания ни одной в осо¬
бенности трагедии Вольтеровой*; но в них красоты и не¬
достатки одни и те же. «Эдип» и «Димитрий», «Фингал»
и «Поликсена» изобретены и обработаны в духе Вольте¬
ра — как бы, вероятно, сам Вольтер изобрел и обработал
их. Далее, в «Кавказском пленнике» и «Бахчисарайском
фонтане» встречаем мы кроме некоторых явных, довольно
близких подражаний «Чайлд-Гарольду» и «Абидосской не¬
весте» несколько, хотя и немного, мест, которые как будто
вылились из пера самого Бейрона. Вот что наш критик
называет отголосками. Признаемся, что и мы не помним
в нашей словесности таких отголосков творениям Гете.
Критик, похваляя фон-дер-Борга за его известия о жиз¬
ни русских писателей, выписывает из него некоторые
занимательные, но в России всем известные приключения
Ломоносова2 и продолжает:
«Переводчик уверяет, что Ломоносов совершенно знал
язык немецкий, читал того времени немецких стихот¬
ворцев и решился подражать им. Нам, напротив, ка¬
жется, что он более писал по образцам французским,
нежели немецким, хотя, может быть, и имел в виду не¬
которых германцев, особенно Геллерта и других, ко¬
торые с 1740 года уже стали приобретать известность.
(См. «Утреннее размышление о божием величии».) Но
пусть послушают строфу, с которой все собрание начина¬
ется».
Следует перевод первой строфы подражания Иову3, до¬
вольно близкий, однако же не совершенно равносильный**.
Критик затем восклицает:
«Здесь одежда и выражение, без сомнения, французские,
и невольно вспомнишь Жан-Батиста Руссо или Ла-
Мотта! В «Вечернем размышлении» мы находим более
* Чего, однако же, нельзя сказать о «Димитрии Донском»,
торый, без сомнения, подражание «Танкреду».
** Так, например, стих Durchdöhnt er mit dem Wort die Luft (Он
словом заставил стонать воздух) — не то, что:
«Словами небо колебал».
304
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ...
германского, находим что-то похожее на слог и мысли
Г аллера».
(Следуют три строфы из сего «Размышления».)
«Оба (и Галлер, и Ломоносов) иногда в стихотво¬
рениях своих являются естествоиспытателями; но пере¬
водчик прав, когда, в отношении к другим, называет
Ломоносова высоким; для большей части его преемников
недоступны и его сила, и полнота мыслей; он, правда,
не слишком богат чувствами, но почти все прочие на
сей счет еще его беднее».
Здесь осмелимся спросить: справедлив ли сей столь
решительный приговор, составленный по двум, трем, много
четырем или пяти, и (как уже замечено) не всегда
лучшим, стихотворениям каждого писателя, удостоившего¬
ся перевода господина фон-дер-Борга и суждений госпо¬
дина критика? — приговор, составленный по немногим со¬
чинениям некоторых только наших писателей и, несмотря
на то, простертый на всю словесность русскую?
Уверен, что беспристрастные немцы оного не признают
без дальнейшего исследования; мы же да воспользуемся
тем, что есть справедливого в сих замечаниях. Так! в на¬
шем стихотворстве, с одной стороны, слишком много опи¬
сательного, с другой — слишком мало простоты, слишком
много умничанья и поучения. Дадим волю чувству, кото¬
рого мы не лишены, но которого стыдимся благодаря
привитым нам правилам французской поэтики, сплошь
составленным из приличий, жеманства и принуждения,
правилам, господствующим еще более в образе мыслей и
предрассудках наших светских юношей, нежели даже
в книгах учебных. У нас люди светские и поныне рабо¬
лепствуют перед сими чужеязычными законами, вопреки
романтическому лепетанию, коим с некоторого времени
бьют в уши встречному и поперечному, ибо теперь,
конечно, быть или по крайней мере казаться роман¬
тиком — обязанность всякого любезника*. Да решатся на¬
* Но что же зато и романтизм всех их, пишущих и непишущих? Он
обыкновенно останавливается на Л а Мартине, на французском переводе
Бейрона, на романах Вальтера Скотта; некоторые только когда-то и
как-то заглядывали в мелкие стихотворения Шиллера и даже знают, что
Гете написал «Фауста»; одни смельчаки поговаривают иногда о Шекспи¬
ре, грозятся прочесть его и охотно бранят Расина, ибо не в силах ему
простить, что лет за 5, буде желали прослыть людьми с умом и со вкусом,
буде желали участвовать в светских прениях о словесности, непременно
должны были знать наизусть тирады две-три из его «Федры» или
«Гофолии».
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ши поэты не украшать чувств своих, и чувства выр¬
вутся из души их столь же сильными, нежными, живыми,
пламенными, какими вырывались иногда из богатой души
Державина! Но послушаем, что далее говорит наш критик.
«Легкостью, дарованием музыкальным и лирическим,
кажется, всех более наделен Ипполит Федорович Бог¬
данович, который, будучи секретарем при посольстве в
Дрездене, может быть, приобрел некоторое германское
образование. Песенка его «Минуло мне пятнадцать лет!»
прелестна с первого стиха до последнего и выдержит
сравнение с самыми счастливыми безделками, которые
мы (то есть немцы) можем предъявить в сем роде!»
Каковы же здесь суждения господина глубокомыс¬
ленного немецкого судьи-словесника? По одной милой,
но ничтожной безделке он Богдановичу, перед всеми
русскими писателями, приписывает самое большее, не
только музыкальное, но и лирическое дарование! Ка¬
ково его немецкое тщеславие! Всем, что у нас есть
хорошего, обязаны мы господам немцам! И после того
немцы же упрекают французов в надменности!
«Всех ближе к французам Сумарокой (т. е. Сумаро¬
ков), Княжнин, Крылов, басни коего писаны совер¬
шенно по Лафонтенову образцу».
Что это значит? И те и другие писаны стихами
вольными. Это так. Но ужели в произведении поэтичес¬
ком нет ничего важнее стихосложения? Крылов по духу
и слогу басен своих самый народный из всех наших
писателей; в них едва ли есть что-нибудь лафонтенов-
ского и ровно ничего нет нерусского.
«Стихотворные произведения славного российского
прозаика Карамзина заражены вялою несколько сентимен-
тальностию. Переводчик выхваляет нам истинно русское
остроумие фон-Визина; сомневаемся, однако же, чтобы чи¬
татель согласился с ним, прочитав переложенный им раз¬
говор фон-Визина»4 (ссылка на 273 стр. второй части
собрания).
Не знаем, какой это разговор; но не думаем, что¬
бы он был взят из «Недоросля», а то, надеемся,
господин критик уверился бы в справедливости похвал
переводчика фон-Визину.
«Иван Иванович Дмитриев, без сомнения, самый
счастливый преемник по легкости — Богдановича, а по
богатству мыслей и величию Ломоносова. Всем его сти¬
306
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ...
хотворениям предпочитаем два: «Освобождение Москвы» и
«Ермака». Но инде и у него слишком много слов, а
местами заметна французская высокопарность (см.
«К Волге»)».
Радуемся, что критик отдает полную и должную
справедливость почтенному Нестору стихотворцев на¬
ших; но как, говоря о преемниках Ломоносова, забыл
он Державина, первого русского лирика, гения, кото¬
рого одного мы смело можем противопоставить лири¬
ческим поэтам всех времен и народов? Но мы сами за¬
бываем, что для г. критика первый наш лирик — кто
бы тому поверил? — Богданович! что, может быть, он и
не подозревает существования торжественных од Ломо¬
носова, которые отдельными, рассеянными в них красо¬
тами не только взвешивают, но далеко превосходят из¬
вестные критику оды поучительные; что он не только
здесь, но вовсе не упомянул о Державине; не упомянул
также о Пушкине, которого имя в 1825 году, кажется,
могло бы, должно бы быть уже известным всякому
судящему о русской словесности!
«В романсах и балладах русские стихотворцы редко
возвышались над данными для оных правилами Сульцера
и над сочинениями в сем роде Шибелера и других
немецких писателей XVIII столетия. Доказательством
сему могут послужить «Светлана» и «Двенадцать спящих
дев» Жуковского. Переводчик говорит, что слог Жу¬
ковского смел, краток, мощен; но таковым по крайней
мере нельзя назвать слог последнего произведения. Лучше
«Певец во стане русских воинов» и «Теон и Эсхин» его
же; здесь встречаем немного более жизни и в способе
изложения — некоторое сходство с балладами Шиллера,
коего творения, как уверяет переводчик, Жуковский
хорошо знает. Но самое благодетельное действие Шиллер
и вообще немецкая словесность оказали на младшем изо
всех здесь исчисленных стихотворцев — кн. Вяземском,
который, вопреки переводчику, отличается более чувством,
нежели (как уверяет нас г. ф.-д.-Борг) остротою и умом
проницательным. Стихи его «К друзьям» и еще более
«К N. N. на смерть сына» подтверждают наше мнение»
(выписка из последнего стихотворения).
Хотя здесь немецкий критик, по своему обыкновению
суждение свое основывает на двух небольших произве¬
дениях кн. Вяземского, однако же на сей раз мы до¬
11**
307
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
вольно с ним согласны и скажем любезному нам поэ¬
ту со всею откровенностию, к которой он с нашей
стороны привык: и мы уверены, что ему более суждено
действовать на сердце своих читателей излияниями соб¬
ственного сердца, нежели щеголять перед ними ложным
и нередко заимствованным остроумием!
В заключение критик желает, чтобы г. фон-дер-Борг
сообщил немцам точные, непоновленные переводы наших
старинных народных песен, «в которых» (будто бы)
«говорится о богах древних славян, пиршествах Владими¬
ровых, витязях его времени, которые» (будто бы) «все
дышат глубокою заунывностию». Мы не знаем песен (ни
даже сказок), в коих говорилось бы о богах славянских;
также можем уверить г. критика и г. фон-дер-Борга,
что не все наши старинные песни заунывны; но разде¬
ляем от всего сердца просьбу первого г. фон-дер-Боргу,
человеку с истинным дарованием, просьбу передать своим
соотечественникам лучшие наши песни и сказки народные,
особенно же «Слово о полку Игореве»; присовокупляем
только желание, чтобы при сем важном труде пользо¬
вался переводчик лучшими советами, нежели какими
руководствуются доселе!
РАЗБОР «СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ»
Г. ПЕНИНСКОГО И «ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ»
Г. АРСЕНЬЕВА
Гг. петербургские и московс¬
кие журналисты ныне так озабочены весьма занима¬
тельными для публики приветствиями и похвалами, ко¬
торыми угащивают друг друга, что им, конечно, некогда
обратить внимания на несколько полезных сочинений, не¬
давно обнародованных. Таковы, например, «Славянская
грамматика», заимствованная из «Грамматики» Добров-
ского г. Пенинским, и «История народов и республик
Древней Греции», изложенная г. Арсеньевым. К счастию,
по сю пору чуждый всех междоусобий журнальных,
полагаю своею обязанностию посвятить несколько часов
308
РАЗБОР «СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ» Г. ЛЕНИНСКОГО...
разбору сих двух книг: мне не служат и никогда не
послужат извинением в подобных опущениях никакие на
меня нападки, ибо я положил себя непременным пра¬
вилом — отвечать на оные только в случаях, когда того
от меня потребует польза отечественной словесности, а
эти случаи весьма редки.
«Грамматика» г. Пенинского, как то уже самое
ее заглавие, а далее и предисловие, показывают, есть
сокращение «Грамматики» знаменитого Добровского, по¬
полнение некоторыми правилами правописания и слово¬
сочинения, взятыми из «Грамматики» Мелетия Смотриц-
кого. У нас по сю пору не было хорошего руководства к
изучению языка славянского, языка, без коего мы никогда
не узнаем основательно ближайшей оного отрасли, своего
отечественного. Г. Пенинский некоторым образом заменил
сей недостаток и посему заслуживает полную нашу благо¬
дарность. Надеюсь, что в скором времени потребуют вто¬
рого издания его общеполезного труда, и в сем ожида¬
нии сделаю г. издателю несколько благонамеренных заме¬
чаний, которых, может быть, не оставит он без вся¬
кого внимания и употребит себе в пользу.
Жалею чрезвычайно, что не имею перед глазами
«Грамматики» Добровского: любопытно бы было сравнить
подлинник с сокращением. За неимением первого, огра¬
ничусь кратким разбором последнего.
В предисловии г. Пенинского, хотя написанным нес¬
колько витиевато, много дельного. Так, например, он
говорит о Ломоносове: «Изменяя окончания слов церков¬
ного языка, подобно употребляемым в общенародном
(и правильнее, и яснее, и короче, конечно, было бы: из¬
меняя слова церковного языка по общенародным окон¬
чаниям.— В. К), он сблизил их навсегда и уничтожил
то различие, которое до него существовало между ими
(ними. — В. К.), оказываясь в неприятной смеси чистых
славянских слов с простыми разговорами...» Далее об
языке славянском вообще и об обязанности всякого
русского учиться оному: «Славянский язык есть неотъем¬
лемая, важнейшая часть нашего отечественного слова, луч¬
шее достояние его, сокровищница, всегда отверстая к его
обогащению. При всем том мы еще весьма поверхностно
занимаемся сим языком, весьма мало в сравнении с
пользою, которая проистекает от него для нашей словес¬
ности. Похвально учиться разным иностранным языкам,
309
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
но знать основательно славянский мы обязаны для усо¬
вершенствования своего собственного, слава коего нераз¬
лучна со славою отечества. Мы учимся многому из одного
простого любопытства: почему хоть в сем отношении не
узнать подробнее языка, равного в достоинстве гре¬
ческому и латинскому, хотя бы он не был собствен¬
ным языком нашим, языком наших знаменитых предков,
памятником их славы и единственным нашим наследием».
Как не согласиться здесь с мнением почтенного из¬
дателя? Как не пожелать, чтобы слова его подейство¬
вали на умы и души наших юных соотечественников, чтоб
наконец
...истребил господь нечистый этот дух
Пустого, рабского, слепого подражанья
всему чужому — в нравах и обычаях, в словесности и язы¬
ке, дух подражания, который нас удаляет от всего оте¬
чественного, в силу которого многие даже наши писатели
пренебрегают языком славянским, гордятся сим пренебре¬
жением и пишут по-русски так, как будто бы они были
немцы или французы.
Но г. Пенинский уверяет, будто бы с воцарения в Рос¬
сии христианской веры на славянском языке «не преста¬
вали витийствовать отцы православной церкви нашей; го¬
судари писать законы, наставления и договоры; певцы —
прославлять подвиги современных героев; и бытописате¬
ли — передавать потомству достопамятные происшествия».
Потом будто бы «книги церковные служили образцом
для писателей и даже правилом лучшей беседы не в уеди¬
ненных токмо обителях, но и в избраннейших общест¬
вах света\» Все сие было бы чрезвычайно хорошо,
полезно, приятно, желательно; но едва ли когда было
точно так, как представляет г. Пенинский! Всем, напро¬
тив, известно, что число св. отец, писавших по-славянски,
очень невелико*; что уложения, грамоты, договоры вели¬
ких князей и потом даже царей наших писаны языком
далеким от прекрасного языка священного писания, ко¬
* Бессмертные творения вселенских учителей: св. Василия Великого,
Григория Богослова и Иоанна Златоустого, так как и многих других свя¬
тых отцов, переведены на славянский язык с греческого: без сомнения,
сии священные писатели были все отцы православной церкви, то есть
греко-восточной, следственно и греко-российской; но г. Пенинский,
кажется, разумел только отцов православной церкви российской; он
говорит: «нашей».
310
РАЗБОР «СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ» Г. ПЕНИНСКОГО...
торому одному должны мы приписать название славян¬
ского, если не захотим играть словами; что певцов (сти¬
хотворцев) славянских мы вовсе не знаем; что, наконец,
одни наши летописцы (назовем их, если угодно, быто¬
писателями), одни, может быть, писали не переставая, от
преподобного Нестора до преобразования России Петром
Великим. Правилом же лучшей беседы избраннейших об¬
ществ света книги церковные, к сожалению, едва ли
когда были: по крайней мере с самого образования сих
так называемых избраннейших обществ света любимым
языком их стал французский. Понимаем благородное по¬
буждение, заставившее г. Пенинского говорить с некото¬
рым увеличением об области письмен славянских: он к
ним хотел заохотить наших юных соотечественников! Но
таковое средство недействительно; полагаю, лучше было бы
просто сказать: «Всякому русскому стыдно не знать язы¬
ка своих предков, ибо без него он никогда вполне не
узнает языка русского». В подобную ошибку г. Пенин-
ский впал, когда сказал о Ломоносове: «Он убедил
нас своими классическими произведениями во всех родах
слога, что истинное красноречие не может существовать
без церковных книг». Проза Ломоносова вообще, особен¬
но же в похвальных речах, не должна и никогда не
может служить классическим образцом для последовате¬
лей именно потому, что образована не в духе сла¬
вянского языка священного писания, а в духе языков
немецкого и латинского и по примеру Цицерона, бес¬
конечного в своих периодах. Но, довольно о предисло¬
вии!
О «Грамматике» же г. Пенинского вообще скажем, что
она, без сомнения, лучшая (чтобы не сказать един¬
ственная) славянская, в России изданная: она по мно¬
жеству основательных, полезных сведений и правил, в
ней заключающихся, заслуживает всяческое уважение; но,
к несчастию, сии правила не приведены в одно твердое соза-
конение (систему), нигде не представляются проистека¬
ющими от начал общих и посему нередко с первого
взгляда кажутся произвольными, одно другое уничтожа¬
ющими, словом, г. Пенинский на свой предмет смотрел
не с высоты, не многообъемлющим взором умствующего,
глубокомысленного знатока, а глазами трудолюбивого, но
безотчетного наблюдателя; он тщательно обогащался лю-
бословными (филологическими) познаниями, нужными
311
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
сочинителю грамматики. Труд похвальный и достойный
поощрения! Но при втором издании надлежит ему сии
познания привесть в большой порядок, в большую яс¬
ность. Определения, которые г. Пенинский дает частям
речи, почти все недостаточны и неправильны; также неко¬
торые искусственные (технические), впрочем, утвержден¬
ные употреблением наименования, а несколько мнимых
правил просто ложны. Сверх того, желательно было бы,
чтобы г. Пенинский чаще сравнивал наречия церковное
и гражданское; сравнения же первого с языками греческим
и славянским, которые инде встречаются, без сомнения,
занимательны, но для русских вышетребуемые были бы го¬
раздо полезнее. Приведем несколько примеров в доказа¬
тельство каждого нашего обвинения в особенности.(...)
Показав здесь некоторые недостатки «Грамматики» г. Пе-
нинского, мы, впрочем, нимало не желаем унизить досто¬
инства ее, и еще раз повторим, что считаем ее лучшею
на русском языке. Уверены, что она будет полезна не только
учащимся, но найдет постоянное место и на письменном
столе большей части наших словесников; хотя некоторые,
без сомнения, предпочтут заменить ее превосходными творе¬
ниями Парни, Мильвуа, Салиса, Геснера и подобных, тво¬
рениями, конечно, забытыми в своем отечестве, но в Рос¬
сии пользующимися заслуженною славою, ибо по ним у нас
многие учатся писать по-русски.
Другая, не только очень полезная, но вместе и прият¬
ная для чтения книга: «История Греции» господина Ар¬
сеньева. Автор везде является в ней человеком мыс¬
лящим и знающим свое дело. Он смотрит на свой
предмет с надлежащей точки зрения; в доказательство
приведем его собственные слова: «Не страстию к завое¬
ваниям, не ужасами бранными, не стремлением к неза¬
конному владычеству над народами, но высокою образо-
ванностию, чувством к изящному, любовию к свободе,
ненавистию к тирании иноземной, отличным устройством
гражданским греки стяжали себе первенство над всеми на¬
родами и древнего и новейшего мира; по справедливос¬
ти считаются они истинными наставниками всего просве¬
щенного света».
Слог г. Арсеньева вообще довольно легок и плавен, хо¬
тя и не всегда правилен, а инде небрежен. Между
прочим встретили мы несколько иностранных слов, вовсе
нам не нужных, каковы «горизонт», «континент», «нация»
312
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ...
и прочие. Также нашли правописание собственных имен
не всегда однообразным. Так, например, г. Арсеньев
пишет, следуя римлянам и французам, «Цефиз», «Тезей»;
следуя рейхлинистам и новым грекам — «Иродот», «Крит»,
«Биотия» и, следуя эразмистам — «герой», «Омер» (лучше
бы, Гомер), «Пелопонес». Знаю, что на сей счет у
нас нет никакого постоянного правила, но пора бы при¬
думать оное и всем держаться его!
С нетерпением ожидаем продолжения занимательной,
полезной и приятной «Истории» г. Арсеньева, книги, ко¬
торая, как и «Грамматика» г. Пенинского, писана не для
одних училищ.
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ
«ШЕКСПИРОВЫ ДУХИ»
Вполне чувствую недостатки
безделки, которую предлагаю здесь снисходительному вни¬
манию публики; и в угоду г(осподам) будущим моим
критикам замечу некоторые. Герой моей комедии обри¬
сован, может быть, слишком резко: кто же в наш прос¬
вещенный век верит существованию леших, домовых,
привидений?
Но мир поэзии не есть мир существенный: поэту даны
во власть одни призраки; мой мечтатель, конечно, есть
увеличенное в зеркале фантазии изображение действитель¬
ного мечтателя. Далее, чувствую, что прочие лица пред¬
ставлены мною не довольно тщательно: впрочем, вся эта
драматическая шутка набросана слегка для домашнего
только театра; вся она единственно начерк, а не полная
картина, и никогда бы не решился я напечатать ее,
если бы не желал хотя несколько познакомить русских
читателей с Шекспировым романтическим баснословием.
Вот почему и считаю необходимым сказать здесь слова два
об Обероне, Титании, Пуке, Ариеле, Калибане, созданиях
Шекспира, гения столь же игривого и нежного, сколь
могущего и огромного.
Оберон, — царь духов, грозный для ослушников, бла¬
313
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
гостный и щедрый для любимцев своих, в своем семейном
быту не всегда счастливый: легионы сильфов и фей ему
повинуются, но подчас раздор разлучает его с его рев¬
нивою, своенравною супругою — Титаниею; и тогда поло¬
вина подданных следует за нею. Оба взяты мною из
прелестной комедии «Сон среди летней ночи» («Midsum¬
mer Night’s Dream»), в коей английский Эсхил1 явля¬
ется соперником Аристофана, причудливого творца «Об¬
лаков», «Лягушек», «Птиц». Насчет наружности Оберона
и Титании в Шекспире не найдем ничего определенного;
я осмелился вообразить Оберона прекрасным отроком, а
Титанию величавою, прелестною женою с виду лет за
двадцать: сии две черты, как и некоторые другие, до¬
бавлены мною из Виланда2.
О Пуке, сем Меркурии нашего крохотного Зевса,
один сильф в «Средилетнем сне» говорит следующее:
«Ты тот хитрый, затейливый дух, который порой ловит,
дразнит в деревне девушек! ты тайком выпиваешь из
кувшина молоко; по твоей милости пиво перебраживает,
и с досадою хозяйка, пахтая масло, выбивается из сил.
Нередко путника заводишь в глушь и провожаешь с хо¬
хотом. Но если кто тебе приветно поклонится, помо¬
гаешь тому и шлешь ему удачу!» Пук отвечает: «Так
точно: нередко шуткам моим смеется Оберон! Ржанием
кобылицы маню за собою жеребца. Иногда спрячусь в
стакан старушки и, когда поднесет его ко рту, оболью
ее пивом. Иногда обернусь подножною скамейкою; рас¬
сказчица, повествуя своим кумушкам небылицы, захочет
на мне успокоить ноги свои, — ускользну: она сядет на¬
земь; крик, кашель! кругом крепятся, держатся и вдруг
захохочут!3 В другом месте он про себя говорит: «Вкруг
земли обтяну пояс в четырежды десять минут!»
Ариеля и Калибана я перенес в свою драму из другого,
менее превосходного творения Шекспира — «Буря» («The
Tempest»). С ними я поступил несколько свободнее. Ари¬
ель и Пук — два сильфа, довольно сходные в моих под¬
линниках: они оба резвы, оба проворы и затейники; но
Ариель в «Буре» величественнее, эфирнее. Посему считал
я себя вправе держаться преимущественно сих послед¬
них двух свойств его; а прочие для разнообразия при¬
дал, хотя и не исключительно, его товарищу.
Калибан же у меня, по образцу Шекспира, противо¬
положен Ариелю: один из них весь поэзия, другой совер¬
314
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ...
шенная проза; точно как в «Буре» один совершенно бес¬
телесен, совершенный эфир, а другой весь земля или, луч¬
ше сказать, — ожившая глыба, гад, как будто ошибкою
одаренный словом и некоторым подобием человека. Из
сего, конечно, следует, что мой Калибан только занял
имя у Калибана, раба волшебника Просперо4; но, при¬
знаюсь, мне стало жаль доброго Флора Карпыча; не хоте¬
лось переодеть его в существо, без сомнения не в пример
более поэтическое, а между тем по самой природе поэ¬
тических достоинств, ему присвоенных, слишком тяжкое
для домашней сцены, для актеров, которых большая часть
предполагается детьми.
Романтическая мифология*, особенно сказания о
стихийных (элементарных) духах, еще мало разработана:
тем не менее она заслуживает внимания поэтов, ибо ближе
к европейским народным преданиям, повериям, обычаям,
чем богатое, веселое, но чуждое нам греческое басно¬
словие.
Стихийные духи перешли в сказки Западной Европы
частью от испанских мавров, частью из вымыслов гности¬
ков и суеверий народов Востока. Между немцами Па-
рацельс и Яков Бемен, а между французами граф
Габалис6 покушались на них основать особенное уче¬
ние: последний их называет сильфами (обитающими воз¬
дух), ондинами (жителями воды), саламандрами (насе¬
ляющими огонь), гномами (кроющимися под землею) и
говорит: «Неизмеримое пространство между небом и землею
служит селищем не одним птицам и несекомым, но су¬
ществам гораздо благороднейшим; бездна морская питает
не одних китов и тюленей; глубина земли создана не для
одних кротов, а ужели огонь, превосходящий качест¬
вами и землю, и воду, и воздух, лишен обитателей?»
В заключение надеюсь, что читатели не без удоволь¬
ствия прочтут взятые мною, с некоторыми переменами, из
сочинений Маттисона изображения сих четырех родов
духов:
* К ней причисляю и те остатки римской (не греческой), которые
в устах простолюдинов Западной Европы сохранились не из книг, но в
преданиях. Таков, например, Амур провансалов и трубадуров их; таковы
астрологические Юпитер (не Зевс), Марс, Венера и пр. — Jupin (Юпи¬
тер) рассказчиков fabliaux (фаблио) и, может быть, даже Камоэнсов^
Ренера5,
315
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
СИЛЬФЫ
Быстрее зефира,
Быстрее лучей
От звездных огней,
Созданья эфира,
Вдыханы в эфир, —
Вратами Авроры
Их стройные хоры
Помчалися в мир!
Для крылышек бремя
От розы листок;
Снесет мотылек
Их целое племя!
Поют соловьем;
Незримы волхвом,
Влетают к девице,
Плененной в темнице
Таинственным сном.
ондины
На сводах лазурных,
Весь облит огнем,
В пучинах безбурных
Златой стоит дом.
Там видятся девы!
Средь лунных ночей
Их песен напевы
Живят рыбарей;
Их сладостный голос
Играет душой!
Сидят над скалой:
Зеленый свой волос
Лилейной рукой
Вьют в локоны, чешут,
Взор путника тешат
Волшебной красой!
САЛАМАНДРЫ
Народ несонливый
Витает в огне:
То змейкой игривой
Вверх мчатся к луне,
То с неба летят
Звездою падущей
В пылающий ад;
Горит ими жгущий
Любовника взгляд!
Подвижной свечою
Над мертвой водою
Блестят плясуны;
316
ПРЕДИСЛОВИЕ К ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ...
С дороги детину
Манят шалуны
В болото и тину!
гномы
Смешны, неуклюжи,
Не рослы, но дюжи, —
Из тьмы вылезают
Безвестным путем;
Их лица сияют
Багровым огнем!
Их руки как грабли,*
Их ноги как сабли,
Жар угля их взгляд!
Кривляясь, кряхтят,
Свистят, скалят зубы;
Укутаны в шубы
Из крысьих мехов;
Объятые мглою,
Клевреты кротов
Живут под землею!
Каковы забрты и занятия духов, особенно сильфов, мы
можем усмотреть из ответа Пуку одного из них, слуги
Титании (см. «Midsummer Night’s Dream» начало
2-го действия):
ПУК
Поведай, дух, куда несешься ты?
СИЛЬФ
Над долом, выше гор,
Чрез рощи, чрез кусты,
Чрез терны, чрез забор,
Насквозь огня, насквозь воды,
В миг облетаю все страны,
Проворнее, чем шар луны!
Царице фей служу:
Для плясок их луга рощу!
Ее обстал веснянок двор:
На их златом плаще встречает брызги взор...
Рубины то, духов дары!
* Сие последнее изображение напоминает подобное в сказке «Жил-
был Дурень»:
«Заглянет в подполье: Глаза что часы,
В подпольи черти! Усы что вилы;
Востроголовы, В карты играют,
Руки что грабли, Костью мешают,
Груды переводят!»
317
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Встают из них живящие пары!
Сберу росинок, каждому цветку
Привешу жемчуг-капельку к ушку!
Предисловию конец! Охотники найдут в нем изыска¬
ния, ссылки, примечания, оправдания... чего же более? —
Vogue ma galere!*
МЫСЛИ О «МАКБЕТЕ»,
ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА
Для того, кто не охотник
до так называемых общих мест, довольно трудно после
Лессинга, Гете, Шлегеля и других великих критиков
рассуждать о творениях, каковы «Гамлет», «Ромео и
Юлия», «Лир», «Ричард III» и, наконец, «Макбет».
Прибавим, что о «Макбете» почти еще труднее сказать
что-нибудь новое, нежели о прочих, помянутых нами ве¬
ликих созданиях Шекспирова гения. Возьмем для приме¬
ра «Гамлета», который по прекрасному переводу г. В.-ка1,
без сомнения, теперь уже известен всякому русскому чи¬
тателю: философия в сей трагедии так глубока, характер
героя и все его поступки или, лучше сказать, все, что с ним
сбывается (ибо отличительная черта в Гамлете именно его
бездейственность), — начертаны с таким необыкновенным
знанием сердца человеческого, с таким вдохновенным
знанием путей провидения, что оценить вполне сие тво¬
рение даже умный читатель может не вдруг; а критик
всегда найдет в нем повод к пояснениям, исследованиям,
изложениям красот, неудовлетворительно еще рассмотрен¬
ных его предшественниками. В некоторых Академиях Ита¬
лии в старину находился особенный профессор, которому
поручалось толковать Дантеву «Divina Commedia»**: таким
толкованиям можно бы подвергнуть не без успеха и «Гам¬
лета», хотя пределы оного и направление менее дидакти¬
ческое, конечно, представляли бы изысканиям поле не
* Была не была! (буквально: плыви моя галера!) (франц.). — Сост.
** «Божественная комедия» (итал.). — Сост.
31$
МЫСЛИ О «МАКБЕТЕ», ТРАГЕДИИ ШЕКСПИРА
столь обширное. «Макбет» же, напротив, поразит с самого
начала всякого: красоты его большею частию таковы, что
и простолюдин и ученый, и прозаик и поэт, и свобод¬
ный романтик и даже подобострастный поклонник преж¬
ней французской школы должны их признать, сколь бы
тому не противились их предрассудки, должны их почув¬
ствовать, хотя, конечно, и не в равной степени, с живостию
не одинаково. Естественно, что подобная поэма легче мо¬
жет быть понята, нежели «Гамлет», писанный, можно
сказать, только для известного круга читателей; естест¬
венно, что над оною скорее истощится критика. Сим не¬
мало не думаем унизить достоинство «Макбета», вековое,
неколебимое. Если в «Гамлете» — в чем нет сомнения —
более глубокомыслия; в «Макбете» не в пример более си¬
лы, движения, возвышенности. В «Гамлете» Шекспир
является преимущественно философом: в «Макбете» он
первый, величайший (может быть) поэт романтический.
Но окончим сравнение: сравнения, параллели завле¬
кают в общие места, а их-το избегать мы были намерены.
Не станем также говорить о чертах в последней траге¬
дии, подобных которым довольно было бы и одной, дабы
обессмертить имя другого писателя; таковы, например,
первая встреча Макбета и Банко с вещими сестрами,
монолог Макбета перед первым своим злодеянием, раз¬
говор его с женою после оного, явление Банковой тени,
Макдуф, узнающий о гибели своего дома, леди Макбет
в припадке лунатизма: все сии черты известны, можно
сказать, целому свету и так превосходны, высокое их
достоинство так очевидно, что всякая похвала, всякое
пояснение тут были бы совершенно излишними. Нам оста¬
ется только обратить внимание на немногие места, кото¬
рые при первом чтении произвели в нас ощущение
неприятное, но красоту, необходимость которых признать
мы нашлись принужденными по размышлении зрелейшем.
Мест сих не более трех: во-первых, монолог и небла¬
гопристойные шутки привратника тотчас по убиении коро¬
ля; потом чопорный разговор лордов, не знающих еще о
смерти Дункана: наконец, в 4-м действии неуместный,
ни с чем, по-видимому, не связанный приход английского
врача, прерывающий беседу Макдуфа с Малькольмом.
«К чему, — так думали мы, — после предшествовавших
ужасов сии шутки грубого, пьяного привратника, шутки
ничуть не остроумные? Не охладят ли они читателя?»
319
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Читателя? Но драматическое творение создается более для
зрителей, нежели для читателей. Вообразим, что мы в
театре: Макбет и его жена поспешно вышли, послышав
стук; последние слова Макбета были:
Проснись от стука, Дункан, о проснись!
Сцена не переменяется: она та же, свидетельница
величайших ужасов, мелькнувших перед очами нашими;
стук, пробудитель страха в душе убийцы и злодейки жены
его, продолжается. Между тем является привратник, ни¬
чего не знающий, ничего не подозревающий, вполовину
еще одержимый сном и винными парами; он хладнокровно
острится, шутит, говорит нелепости. Зритель невольно
вздрагивает: шутки привратника рассмешат разве того, кто
не видал, не слыхал ничего из всего, что мы видели,
что мы слышали, при чем мы присутствовали. Нас, напро¬
тив, они приведут в больший еще трепет: тленность,
ничтожество всего, и величайшего земного, стеснит сердца
наши. Привратник предстанет нам представителем вообще
черни, не знающей, не постигающей хода таинственного
рока, слепой и готовой упиться низкими наслаждениями
даже под ударами судеб, которые грозят всему миру
превращением.
Следующий за сим разговор придворных представляет
подобную картину. Все в этом разговоре гладко, веж¬
ливо, пошло и ежедневно: между тем стена, одна стена
отделяет их от неслыханного, чудовищного!
Наконец помянутый приход врача и все, что говорит
он о чудесных даяниях неба королю Эдуарду, истинно
шекспировски возвещает Малькольму помощь божию, по¬
мощь сверхъестественную: ибо сей-το святый король, сей
угодник господа ополчится за него.
320
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
РАССУЖДЕНИЕ О ВОСЬМИ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ ШЕКСПИРА
И В ОСОБЕННОСТИ О «РИЧАРДЕ III»
Народные и местные преду¬
беждения всего более препятствуют верной оценке тво¬
рений, принадлежащих народу и времени, не вовсе сход¬
ных нравами, обычаями и образом мыслей с нами и на¬
шим временем. Конечно, нынешнее тесное сближение
племен и взаимная между ними мена умственного богат¬
ства ослабила трудности, встречающиеся и самому бла¬
гонамеренному критику, когда желает судить беспристра¬
стно о произведениях творческой силы не своих сограж¬
дан сам, а не повторять чужие мнения; но все же эти
трудности еще очень сильны и едва ли когда-нибудь унич¬
тожатся. Нередко читаем и слышим филиппики фран¬
цузских писателей 18 века и их последователей в
19-м, толкующих о поэзии английской, испанской, итали-
янской или немецкой, основываясь единственно на прави¬
лах своей народной поэтики. Не берусь их оправдывать:
их соотечественники здравомыслящие сами от них отсту¬
пились; теперь и в Париже мало найдется рыцарей печаль¬
ного образа, подвизающихся за Дульцинею так называе¬
мого классицизма, которая представляет и то сходство с
повелительницею JIa Манхского героя, что живет и дышит
вовсе не в том виде, в каком воображается ее поклон¬
никам.
Так, не прав тот, кто требует, чтоб Шекспир был
похож на Расина, Мильтон на Виргилия, кто сердится,
зачем Кальдерон не Вольтер, а Дантова «Божествен¬
ная комедия» не «Генриада». Но вспомним же, что в наши
дни противники классиков нередко платят им тою же мо¬
нетою; вспомним, какие кривые, пристрастные приговоры,
внушенные безрассудным пренебрежением, произносят
именно немцы о театре французском, а этот театр —
глазам самого Шиллера по своей стройности представ¬
лялся предметом, достойным изучения, и во многих отно¬
шениях всегда останется для неповерхностного наблюда¬
теля важным, прекрасным явлением в истории развития
способностей души человеческой.
321
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Приведенные нами примеры ошибочных суждений и
классиков и романтиков пусть послужат мерилом тех по¬
мех, какие встретятся русскому критику, когда решится
говорить о том самом Шекспире, которого величие фран¬
цузы признали так поздно. Между французами и англи¬
чанами много несходного; но не гораздо ли еще больше
между теми и другими и русскими? Мы от племен Запад¬
ной Европы разнствуем и происхождением, и религиею,
и ходом истории, и преданиями, и духом языка, и народ¬
ным характером гораздо более, чем все они между собою.
Конечно, предрассудки мнимо классические, заимствован¬
ные нами от французов, у нас не коренные, а привитые.
Это точно преимущество; должно же, однако, признаться,
что француз без школьных предрассудков (а таких ныне
довольно) необходимо почувствует живее, чем русский,
красоты английского писателя, основанные на обычаях,
свойствах языка, преданиях и пр., и у французов, и у
англичан между собою родственных, а нам вовсе чуждых.
У Шекспира особенно часто увидишь намеки обо всем
этом, намеки, которых русский не поймет без объясни¬
тельных замечаний. Впрочем, ум и сердце человечес¬
кие существенно одинаковы. Вот почему и в созданиях
гения должны быть, независимо ни от каких условий,
красоты, доступные всякому, кто только не лишен ума,
чувства и воображения. Итак, после всего сказанного ино¬
странцами, да будет позволено и русскому сказать русским
несколько слов о великой исторической поэме Шекспира,
которой начало — свержение с престола Ричарда II,
а конец — примирение двух роз, алой и белой, в лице
Генри Ричмонда и Елисаветы Иорк. Рассмотрим поэму
в отношениях общих, чисто человеческих; только в раз¬
боре Ричарда III, восьмой и последней ее части, слегка
коснемся особенностей слога Шекспирова: это необходимо,
чтобы показать читателям всего Шекспира и с настоя¬
щей точки зрения, вдобавок, чтоб оправдать переводчи¬
ка в выборе средств, какими старался он разрешить за¬
дачу самую трудную изо всех, какие только представ¬
лялись ему при труде его, — пересадку в наш язык при¬
чуд гения огромного, но и чрезвычайно своенравного, да
еще и англичанина XVII века.
«Ричард II», две части «Генри IV», «Генри V», три час¬
ти «Генри VI» и «Ричард III» составляют, как мы уже
упомянули, одно целое, и это целое в высочайшей сте¬
322
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
пени соединяет в себе единство, разнообразие и строй¬
ность; а в величии, силе, религиозной таинственности и
поэтической ясности, с какой наконец разгадана таинст¬
венность, уступают ему даже превосходнейшие трагедии
древних. Ближе всех к Шекспиру подходит тут Эсхилл
в своей славной трилогии («Агамемнон», «Евмениды» и
«Коэфоры»); с ним сравниться не могли ни Софокл, ни
Еврипид, которые обрабатывали потом то же предание1.
И у Эсхилла, и у Шекспира преступления отомщаются
преступлениями же; и у Эсхилла, и у Шекспира очи¬
щенные напоследок примиряются с разгневанным небом:
но у того одно лицо, один мститель; у другого целое
царственное племя, целый народ преступников, жертв и
мстителей. Вот основная мысль поэмы Шекспира, и она
сливает в одно огромное, прекрасное тело ряд историче¬
ских драм; но каждой из них дан свой отдельный смысл,
своя самобытная жизнь, — существование, не зависящее
от связи с целым; каждая будто член полипа, который,
отрезанный, будет новым, живым, совершенным полипом.
Сверх того, каждой присвоен характер, отличный от ха¬
рактера прочих... Кто не почувствует благоговения к уму,
создавшему подобное творение?
В гармонии Шекспир не менее чудесен: у него нет ни¬
чего забытого, нет ничего излишнего; все члены его поэмы
в прекрасной между собой соразмерности; все стихии,
какими только драматург вправе пользоваться, — ужас,
жалость, юмор, смех, сатира, живопись, вымысл, чудесное,
история, истина — все употреблены в дело, и кстати, у
места, впору; ни одна другой не противоречит, каждая
умножает силу и действие каждой и всех; все они и
цель и средство к достижению высшей цели, и цели высо¬
чайшей: совершенно удовлетворительного окончания всей
поэмы.
Предметом первой драмы служит завязка всей поэмы,
то есть падение Ричарда II и его насильственная смерть.
Предлогом крамолы, погубляющей несчастного государя,
служит изгнание Генри Болингброка Дюка оф Герфорд за
его вызов на поединок Мобрэ Дюка оф Норфольк, кото¬
рого Герфорд обвиняет в убийстве Фомы Глостерского,
родного дяди короля, умерщвенного в Кале с тайного
согласия самого Ричарда. Тут без сомнения первое лицо
этот Герфорд, двоюродный брат Ричарда, отважный, ум¬
323
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ный, тонкий злодей, мощный и величавый вопреки всем
своим преступлениям. Ему противопоставлен царственный
юноша, легкомысленный, сластолюбивый, неозабоченный
своими священными обязанностями, но вместе нежно
любимый прекрасною супругою, монарх законный, сын
знаменитого Черного Принца, внук великого Эдуарда III,
извиняемый вдобавок неопытностию, худыми примерами,
лестию придворных и пагубными внушениями неверных
советников. Подобный, по непреложному закону природы,
притягивает подобного; оба они окружены людьми, на
них похожими: об руку Герфорда Болингброка стоит наг¬
лый мятежник небогромительный Нортюмберленд и люди,
хотя низшие по размерам, однако схожие с ним по нраву
и намерениям; товарищи Ричарда: Иорк, старик слабоум¬
ный, Омерль, ничтожный, бессовестный царедворец, Уиль-
чир, Грин, Бюши, взяточники, пиявицы, высасывающие
кровь Отечества; единственный человек, который проник
душу Герфорда, этого Кромвеля под шишаком рыцарским,
единственный, который бы был в состоянии бороться с
ним, — Норфольк, устранен с самого начала: король из¬
гнал его, пожертвовал им Герфорду. Не забудем здесь
еще одного характера, родоначальника дома Ленкестерско-
го, отца Болингброкова, дяди Ричарду, брата и друга
Черному Принцу, — Джона оф Гонт: он сходит со сцены
при самом открытии великой трагедии; мы его видим поч¬
ти только при последнем издыхании, но его пророческие
сетования такой пролог ко всему ряду этих историчес¬
ких драм, какого нет ни перед каким творением других
драматургов. Впрочем, всякий и не пророк прорек бы
падение такого государя в таких обстоятельствах с та¬
кими друзьями и с такими противниками. Но вот он па¬
дает от коварства и дерзости своего ближайшего родствен¬
ника, от клятвопреступного содействия Нортюмберленда,
от неслыханной всеобщей измены всех своих подданных...
Его участь ужасна: у кого не навернутся на глаза слезы,
когда он сам своими руками вручает венец хищнику,
когда Нортюмберленд при всем парламенте нудит его про¬
честь вслух исчисление всего, в чем обвиняют его, когда
он судорожным голосом отчаяния восклицает:
Враг, не терзай: еще я не в аду!2
Монолог Ричарда в Помфретской темнице заступает
здесь место хора, посредника у греческих трагиков между
324
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
зрелищем и зрителем, и производит на душу то же дейст¬
вие, какое бы произвел священный, очистительный гимн,
воспетый самою жертвою перед закланием. Наконец,
геройская смерть страдальца мирит нас с памятью злопо¬
лучного: все его слабости забыты; мы только видим в
нем помазанника господня, потомка славных предков,
погубленного мятежом и предательством.
В трагедии «Ричард II» все важно и великолепно: в
ней Мельпомена почти нигде не пользуется помощью
Талии3, чтобы поразить нас силою противоположностей;
царица ужаса и жалости, вопреки обыкновениям Шекспи¬
ра, здесь господствует почти исключительно; (вот почему
и назвали мы эту первую часть исполинской поэмы вели¬
чайшего из поэтов — трагедией, словом, которое напомнит
нам сходство с образцами древних, хотя и очень знаем,
что оно недавно подверглось опале законодателей нашей
литературы, очень заботливых, скажем мимоходом, о сло¬
вах, но не слишком хлопочущих о деле)*.
Обе части «Генри IV» совершенно в ином роде: первая
из них творение в высочайшей степени разнообразное
и по силе изображения едва ли уступит «Ричарду И».
Пророчество несчастного короля сбылось: вражда воз¬
горелась между хищником и его надменным сообщником.
Евменида уже проснулась4: она приближается воздать
должное и обрызганному кровию колену Ленкестерскому,
и крамольному дому Перси, и всему, всему преступному
народу, изменившему помазаннику, предавшему его в руки,
из которых ему не было и не могло быть спасения.
Но медленно шествие мстительницы: внуку и правнуку она
кровию заплатит за кровь, пролитую праотцем; его карает
она бурями душевными, заговорами, бунтами и чьими же?
Его прежних помощников в деле предательства и убий¬
ства! Его терзают беспрерывные подозрения, и эти подо¬
зрения простираются на собственного его сына, наследни¬
ка похищенного трона. В обеих частях «Генри IV» мы
предчувствуем ужасное для племени Джона Гонтского:
но в настоящем гибель падает на одних Перси. Первая
половина оканчивается смертию юного Готспера (Hotspur),
сына Нортюмберлендова, и потому некоторыми издателя¬
ми и названа его именем; если, однако же, драма должна
носить имя главного в ней лица, справедливее бы было
* Текст, заключенный в скобки, в рукописи вычеркнут. — Сост.
325
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
назвать обе части «Гарри Монмут», потому что он, наслед¬
ник короля Генри IV, занимает тут первое место. Этот
характер давно оценен всею Европою: он один из прек¬
раснейших, созданных когда-нибудь поэзиею. Шекспир в
изображении шалостей молодого князя и комических лиц,
которыми окружает его, является юмористом первым,
единственным; юмористом, говорю, а не комиком, ибо сам
Гарри — лицо отнюдь не комическое. Напротив, нельзя
не почувствовать к нему соболезнования: при таком отце
такой юноша поневоле должен был отыскивать ничтож¬
ности, по необходимости должен был предаваться обще¬
ству и проказам, недостойным его. Чтоб ярче выставить
и оттенить живее перед глазами зрителя своего любимца,
поэт противопоставляет ему три характера, каждый высо¬
кого поэтического достоинства: первый — молодой Перси,
сын Нортюмберленда, стяжал воинскою доблестию славу
и бессмертие в таких летах, когда тёза и сверстник его
Гарри исключительно предавался буйству и распутству;
Перси заносчив, пылок, храбр до безрассудности, дышит
одной войною и наяву и во сне видит одни сражения и
собирает лавры на главу свою, чтоб их в один день, в одно
мгновение отдать сопернику, которого презирает, потому
что высоких его качеств не понимает. Второй — Фальстаф,
старый негодяй, трус, пьяница, хвастун, лжец бесстыдный,
смешной и наружностию, и беспутством, и тщеславием,
однако он наделен неистощимым запасом остроты и при¬
родного ума, хотя и не слишком дальновидного, так,
например, в разгульном наследнике престола, которому
служит забавой и посмешищем, и не подозревает будущего
великого государя, считает себя ему необходимым и даже
пренебрегает им, и это естественно: Фальстафу Гарри
должен казаться пустым мальчишкою, годным только к
тому, чтоб его обирать, втянуть в разврат и пользоваться
его слабостями. Третий — Иоанн Ленкестерский, по-види-
мому, любимый сын короля и во всех отношениях его
достойный: молодой человек добропорядочного, как гово¬
рится, поведения, холодный, молчаливый, коварный, ни в
чем не сходный с своим откровенным, великодушным
братом, кроме храбрости. Характерами отличаются эти две
части Шекспирова творения; кроме здесь замеченных тут
много еще других превосходных: сам король, тот же
скрытный, тонкий лицемер, каким был, когда звался только
Болингброком, но растерзанный угрызениями, размучен¬
326
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
ный беспрестанными подозрениями, лишенный от упадка
сил, и душевных и телесных, той величавости, которая
подчас заставляла забывать его злодеяния; Нортюмбер-
ленд, не прежний небогромительный титан, но старик,
впадающий постепенно в совершенное слабоумие, так что
им жена управляет и невестка кроваво над ним издевается
(ив этом-то, кажется, немалая доля кары, определенной
ему за преступления); Уорсестер, бездушный, макиавел-
ловский политик; У эн Глиндуэр, вождь уэльсов, неукроти¬
мый воин, поэт, волшебник, обманщик, верующий в собст¬
венные обманы, воспитанный при дворе английском, пере¬
нявший вежливость, язык, науки народа, более просвещен¬
ного, но только для того, чтобы слегка прикрыть ими
природную необузданную дикость; наконец, бесподобная
харчевница мистрис Квикли, Бердольф, Ним, Пистоль,
товарищи Фальстафа, каждый с своим собственным лицом,
отличным от своеобразной физиономии прочих, и почтен¬
ный судья Шало, прототип тех совершенно ничтожных
людей, которые силятся уверить других, что по крайней
мере в молодости были молодцами хоть куда. Впрочем,
в «Генри IV» нет той высокой трагической заниматель¬
ности, какую находим в «Ричарде II».
«Генри V», самое английское, самое патриотическое
изо всех сочинений Шекспира, составляет, так сказать,
эпизод, впрочем, необходимый в поэме. Что Евменида
блюдет преступное племя, видим единственно во втором
акте этой героической драмы, где король-витязь перед
самою отправкою для завоевания Франции открывает
заговор, угрожавший его жизни. Далее все смело, свеже,
живо, как самый предмет эпизода: битвы, лагерные сцены,
противоположность нравов английских и французских,
славный бой при Азенкуре, покорение Франции, мир, брак
завоевателя с Екатериной, дочерью Карла VI, и душа
всего — Генри V, храбрейший воин, любезнейший госу¬
дарь, полководец опытный, муж великий, исполненный
глубокого чувства, отважный, веселый, но не без примеси
задумчивости, столь свойственной мудрому, особенно на
престоле, особенно перед мгновениями, которые решают
судьбу царей и царств.
Мы уже сказали, что этот эпизод необходим: читатель
не вынес бы беспрерывных потрясений; сверх того, в нем
доблести сына несколько заставляют забыть преступления
327
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
отца, без чего горестный жребий внука и правнука произ¬
вел бы менее сильное действие на нашу душу.
Первая часть «Генри VI» в этом ряду прекрасных
картин великого живописца считается слабейшею. Есть
даже критики, которые утверждают, что это драма не
Шекспирова5, но с ними трудно согласиться, несмотря на
некоторые в ней особенности слога: во-1-х, она слишком
тесно связана с предыдущими и следующими за нею;
ВО-2-Х, без нее происхождение двух враждующих сторон,
роз алой и белой, осталось бы необъясненным, а главное,
хотя она, точно, по достоинству и уступает прочим частям
Шекспировой поэмы, однако в ней столько еще красот
первого разряда, что трудно вообразить, как остался
безвестным автор ее, тем более что из известных совре¬
менников Шекспира сомнительно, чтобы даже Бен-Джон¬
сон, лучший из них и по роду, и по степени своего
таланта, был в силах написать подобное творение; не гово¬
ря уже, что ни Бен-Джонсон, ни другой кто не скрыл бы
своего имени перед созданием, которым бы мог по спра¬
ведливости гордиться.
Драма открывается похоронами Генри V и оканчивает¬
ся согласием его сына на брак с Маргаритою, дочерью
Рене, безземельного короля обеих Сицилий и Иерусалима,
которую сватает ему маркиз оф Суффольк. Этот брак
прекращает военные действия англичан, победы и пораже¬
ния их во Франции, которые, по-видимому, составляют
главный предмет драмы; но только по-видимому, ибо в
отношении к целой поэме главный ее предмет — проис¬
хождение двух политических расколов, роз алой и белой,
возникающих посреди беспокойств царствования короля-
младенца и распрей честолюбивых опекунов и родствен¬
ников. Нельзя здесь не удивляться Шекспиру, который
умел придать занимательность младенцу на троне: несмот¬
ря на многообразие происшествий, в которых Генри вовсе
не действует, беспрестанно за него страшишься, все отно¬
сишь к нему одному, везде о нем жалеешь; он главное
лицо драмы, хотя менее всех говорит, даже менее всех
является на сцене. Тут Шекспир, если смею произнесть
свое мнение, превзошел самого Гомера: в «Илиаде» в
продолжение бездействия Ахилла случается, что иногда
вовсе о нем забываешь. В первой части «Генри VI» самое
отсутствие таких лиц, к которым мы могли бы сильно
привязаться, превращается в достоинство: нет сомнения,
328
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
что герой, подобный Гектору или Готсперу самого Шекс¬
пира, совершенно бы затмил или, лучше сказать, уничто¬
жил в нашем воображении царственного отрока, который
только как сын славного отца и возбуждает наше участие.
Зато некоторые побочные лица от времени до времени
заставляют нас заглядываться; таковы узник Мортимер и
особенно отец и сын Тальботы: сцена перед сражением,
где погибают оба они, потом сетования раненного на¬
смерть старика над трупом убитого юноши и кончина
самого его — отрывок, равный лучшим местам в лучших
созданиях Шекспирова гения.
Вторая часть «Генри VI» оканчивается первым пораже¬
нием Ленкестерского дома, а третья совершенным тор¬
жеством дома Йоркского. Грехи Гарри Герфорда взыска¬
ны в третьем и четвертом колене; преступления ужасные
наказаны новыми, еще более ужасными; истреблено все
племя Иоанна Гонта, все, кроме одной, отдаленной отрас¬
ли, пересаженной в землю изгнания; за кровь, пролитую
в Помфрете, пролилась кровь — столь же благородная,
вдобавок чистая, беспорочная — юноши-героя, предатель¬
ски зарезанного при Токсбери, святая кровь его отца,
монарха благочестивого и милосердного, растерзанного в
Туэре чудовищем, которое также носит имя Ричарда, как
будто чтоб напомнить, за чью гибель бог-каратель
развязал ему руки, и в шести страшных побоищах кровь
многих тысяч англичан англичанами: вот роковая ката¬
строфа, к которой читатель приготовлен в четырех пред¬
шествующих драмах, которой ожидает и боится!
Разберем каждую из этих двух трагедий порознь и под¬
робнее прежних: это необходимо для удовлетворительного
суждения о «Ричарде III», на них основанном.
Примечательнейшие лица во 2-й части «Генри VI»:
он, правитель государства Юмфри Глостерский, кардинал
Бофорд, Иорк, Суффольк, бунтовщик Джон Кед, отец и
сын Невили, наконец, королева Маргарита и жена лорда
протектора — все они написаны искусною, мощною ки-
стию. Генри совестлив, набожен, добр, слаб, праведник
среди двора развратного, среди народа, созревшего для
кар как за грехи предков, так и собственные. Правителю,
несколько вопреки свидетельству истории, поэт придал
высокое достоинство нравственное: он честен, благороден,
любит Отечество, верен своему порфироносному питомцу,
пылок еще в самой старости, но уже умеет преодолевать
329
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
себя, умеет, хотя и не всегда, обуздывать свои страсти.
Все прочие более или менее люди порочные, управляемые
личными выгодами, забывающие для личных видов пользу
государя и Англии: всех их хуже свирепый Бофорд,
буйный, строптивый прелат, мерзостный представитель
разврата современной гиерархии Запада, снедаемый жаж¬
дою власти и ненавистью к своему совместнику Глостеру.
В 1-м действии заговор королевы, Бофорда и Суффоль-
ка противу правителя. Маргарита оскорблена властию
самого лорда протектора, заносчивостию его супруги и,
может быть, огорчением, которое он слишком живо
выказал за уступку Франции Анжу и Мена вследствие
свадебного договора короля с нею, дочерью безземельного
Рене. Прибытием ее ко двору и чтением договора начи¬
нается драма. Бофорд надеется заступить место Глостера.
Суффольк тайный любовник Маргариты. К их крамоле
пристает и Иорк, уповая, что по свержении правителя
настанут в государстве беспорядки: он намерен ими во¬
спользоваться и при их помощи свести дом Ленкестерский
с престола, который называет своею собственностию. Им
увлечены Невили, по-видимому искренне убежденные в
законности его права. Сначала гибнет Элеонора, княгиня
Глостер: впрочем, она и не заслуживает лучшей участи;
затем падает и сам несчастный протектор: его лишают
сана, потом обременяют изветами в преступлениях, ничем
не доказанных, берут под стражу и, наконец, удавливают;
убийцы подосланы Суффольком и Бофордом. Народ уз¬
нает об этом злодеянии и берется за оружие, возмущен¬
ный Невилями, действующими сообразно выгодам Иорка,
который между тем отбыл в поход в Ирландию и по падении
Глостера уже не считает нужным помогать королеве
и ее сообщникам. Король, разделяя негодование граж¬
дан, с решительностью, почерпнутою не из слабого свое¬
го характера, но из правил чистой нравственности,
на мгновение выходит из-под опеки королевы и, несмотря
на ее слезы и укоризны, изгоняет душегубца Суффолька.
Кардинал умирает, снедаемый угрызениями совести. В на¬
чале четвертого действия погибает и Суффольк, схвачен¬
ный морскими разбойниками. Между тем коварный Иорк
уже приготовил все свои пружины. Подосланный им
злодей низкого звания — некто Кед — выдает себя за
потомка Мортимера, которому следовало бы быть королем,
вместо Герфорда, по завещанию Ричарда Помфретского
330
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
и по происхождению от Лайенеля Клеренсского, третьего
сына Эдуарда Великого, а ведь Иоанн Гонт только четвер¬
тый его сын: сам Иорк на этом же обстоятельстве
основывает свои притязания. Мортимер, о котором поми¬
наем здесь, у Шекспира является в 1 и 2 частях «Ген¬
ри IV»: там права его служат предлогом крамоле Нортюм-
берленда; тут мы его видим уже узником, стариком, и он
умирает перед нами в Туэре. Кед возмущает графство
Кент; подобно нашему Пугачеву, неистовствует противу
дворянства и всех людей порядочных и вторгается в
столицу; но счастие изменяет ему: чернь, усовещенная
Бокингемом и стариком Клиффордом, готовится выдать
его; он спасается бегством и умирает от руки Александра
Ейдена, кентского помещика. Гроза прошла, но за нею
настает гораздо ужаснейшая. Иорк был уверен в конечной
неудаче самозванца, выслал же он его, чтоб испытать
расположение народа, — и народ оказался готовым следо¬
вать за любым крамольником. Едва милосердый король
успел простить бунтовщиков, упавших к стопам его с
веревками на шеях, — и вот уже слышит, что Иорк поки¬
нул Ирландию, пристал к берегам Англии и близится
с сильною ратью: предлогом мятежу его служит требова¬
ние, чтобы Генри заточил Соммерсета, основателя раскола
алой розы, личного врага Иоркова. Генри соглашается,
и, по-видимому довольный, Иорк приходит в стан Ленке-
стерский. Но Соммерсет, вопреки воли государя, является
глазам своего гордого противника. Тут Иорк снимает с
себя личину и уже без обиняков говорит, что Генри
недостоин престола, что сам он законный государь Англии.
Соммерсет хочет взять его под стражу: Невили, Селисбери
и Уэруик передаются ему и его выручают. Следует первое
сражение ленкестерцев при Сент-Альбане.
Таково содержание трагедии, в которой особенно пре¬
восходно изображены нравы, обычаи, легкомыслие прос¬
того народа, в которой, может быть, лучше всех обрисо¬
вано лицо Кеда, начертанное первейшим из юмористов,
глубоким знатоком сердца человеческого: в том, как Иорк
перед своим отбытием в Ирландию описывает его, виден
один из величайших поэтов-живописцев. Сам Иорк, хит¬
рый, не обузданный в своих строптивых замыслах, но при¬
нужденный скрывать их, представлен глазам нашим
кистью столь же искусною. Против него стоит Маргарита,
жестокая, порочная, но твердая и решительная в час опас¬
331
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ности. Королю, несмотря на его слабость, всякий должен
от души соболезновать: характер и его везде выдержан с
большою верностью. Вообще, никто другой не пишет так
людей живых, истинных, как Шекспир: это не марионеты,
нет, они дышат, страждут и действуют перед нами, как в
мире, как в природе, всегда разнообразно и вместе всегда
по непреложным законам, данным роду человеческому:
генияльный создатель их никогда и нигде (не) изменяет
главной идее своей об их склонностях и способностях,
добродетелях и пороках — страстях, которые обладают
ими. Вдобавок у него везде постепенность как в изло¬
жении каждого характера, так и в силе, с какою одно
и то же качество проявляется в различных лицах: везде
гармония, везде точность, везде оттенки и противополож¬
ности. И в этом именно редком искусстве Шекспир осо¬
бенно высок в трагедии, о которой здесь говорим, хотя не¬
которые действователи, например королева, и являются
еще в большем блеске в последней части «Генри VI» и в
«Ричарде III», а другие (Ричард, Уэруик, младший Клиф¬
форд) только в них получают свое полное развитие. Па¬
тетических сцен в разобранном нами творении множество:
например, прощание лорда протектора с Элеонорою, взя¬
тие его под стражу, сетование короля о его смерти, лорд
Сэ, схваченный бунтующею чернью; в другом роде, не
умилительном, а ужасном, — смерть кардинала.
Третья часть открывается в Лондоне в доме парламен¬
та, занятом приверженцами Иорка. Уэруик, возноситель и
громитель королей, как называет его поэт, заставляет
Иорка сесть на престол разбитого Ленкестера; но вдруг
Ленкестер входит и с ним преданные ему, начинается спор:
Уэстмурленд, Нортюмберленд, Клиффорд (младший), с
одной стороны, с другой — Уэруик уже готовы решить
распрю мечом и силою. Только сам мягкосердый госу¬
дарь пугается кровопролития и, увлеченный как собствен¬
ными сомнениями, так и словами графа Экзетера, кото¬
рый, хотя и держится его стороны, но ясно говорит, что
притязания мятежника законны, предупреждает разъя¬
ренных противников признанием Иорка наследником прес¬
тола в ущерб собственному сыну. Бунтовщики довольны и
удаляются; входит королева и, осыпав супруга упреками,
объявляет, что никак не согласится пожертвовать правами
принца Уэльского; она уходит и увлекает за собой Нор-
тюмберленда, Уэстмурленда, Клиффорда; несчастному
332
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
Генри остается только один и то весьма сомнительный
друг Экзетер. Затем поэт переносит нас в замок Иорка
Сендль-Кестль, в круг его семейства и знакомит нас бли¬
же с его сыновьями Эдуардом и Ричардом. Тишина наста¬
ла только на мгновение: в душах отца и детей уже кипят
новые преступные замыслы, междуусобие только дремлет
и проснулось бы, если бы даже не королева его разбуди¬
ла. Этот раз она подняла чудовище и напала врасплох
на Иорка, который мысленно уже снова простер руку к
венцу короля Генри, но на деле еще не изготовился к вос¬
станию. Сражение. Неистовый Клиффорд поклялся мстить
и мстит за смерть отца, убитого Иорком при Сент-Аль-
бане, и не милует никого: младенец Ротленд, меньшой сын
его злодея, попал в его страшные руки — и напрасны все
стоны, слезы и вопли бедного дитяти; ужасный закалы¬
вает невинного, беззащитного — это только предисловие к
позорищу еще более зверскому. Иорковцы разбиты:
злополучный вождь их схвачен неумолимою королевой
и черным Клиффордом. Мститель за отца готов изрубить
его, но королева удерживает уже поднятую руку своего
товарища. В трепет приводит неукротимый муж, доведен¬
ный до бешенства жаждою крови; да что такое значит он
перед женщиной, которая забыла стыд и пол свой — и не¬
навидит? Злоба такой женщины — ад. Счастлив бы был
Иорк, если бы пал под мечом Клиффорда; но его привя¬
зывают к дереву: Маргарита надевает на него бумажную
корону, бесовски над ним ругается, доводит наконец до
вопля мужчину, воина, героя — и что же? «Стыдись! утри
слезы! — говорит она ему, — вот тебе платок, напоенный
кровью твоего Ротленда!» После всего этого для горького
страдальца палач Клиффорд уже ангел-избавитель и удар
меча, который отделяет голову его от туловища, — единст¬
венное неоцененное благодеяние. Во втором действии Эду¬
ард и Ричард узнают о смерти и от Уэруика о вторичном
поражении своих приверженцев, которыми предводитель¬
ствовал сам Уэруик; но не теряют бодрости: Эдуарда воз-
носитель государей провозглашает королем, и соединенные
их рати готовы двинуться к Лондону. Их останавливает
королева: она успела освободить мужа из-под опеки своих
и его злодеев. Бесполезные переговоры. Упорное сражение
под Феррибриджем: ленкестерцы разбиты наголову, Клиф¬
форд убит, король бежит в Шотландию, Маргарита во
Францию; с другой стороны, туда же за нею отправляется
333
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
и Уэруик, чтоб высватать Эдуарду Бону, сестру короля
Людовика XI. В третьем действии Генри переходит за ру¬
беж, чтобы, как сам говорит, «хоть украдкой взглянуть
на дорогое отечество», и попадает в руки двум ловчим,
подданным Эдуарда, ибо уже вся Англия присягнула по¬
бедителю. Следует разговор между влюбчивым Эдуардом и
прекрасною челобитчицею, Елисаветой Уудвиль, вдовою ры¬
царя Джона Грэ, который пал при Сент-Альбане за дом
Ленкестерский. Конец этого разговора тот, что Елисавета,
уже не чаявшая получить обратно от монаршего велико¬
душия отобранные в казну поместья своего мужа, полу¬
чает вдруг второго супруга в особе самого Эдуарда и с
тем венец Британии. Этот случай служит Ричарду пово¬
дом к монологу, который снимает для нас завесу с его
злодейских замыслов и являет нам изверга во всей его
гнусной наготе.
Вот мы во Франции и знакомимся с коварным Людо¬
виком. При его дворе встречаемся с Маргаритой: сначала
он оказывает ей благорасположение, но является Уэруик,
преклоняет его на свою сторону и готов возвратиться в
Англию с вестью, что король французский согласен вы¬
дать сестру за Эдуарда. Вдруг все переменяется: полу¬
чают уведомление о браке Эдуарда с леди Грэ: Людовик
оскорблен, Бона обижена, Уэруик поруган, и кем? челове¬
ком, которому он дал престол Англии. Гордый Невиль
уже не посол неблагодарного; он стал его жесточайшим
врагом, мирится с Маргаритой, выдает младшую дочь свою
за ее сына, берет войско от короля французского и плы¬
вет в Англию, чтобы сбросить легкомысленного государя с
того самого трона, на который возвел его. Четвертое дей¬
ствие: неудовольствие и ропот при дворе и в семействе
Эдуарда; Соммерсет, Пемброк, Стаффорд, Монтегю, брат
Уэруика, даже Джорж Клеренс, родной брат самого Эду¬
арда, но вместе женатый на старшей дочери Уэруика, по¬
кидает Лондон и передаются ленкестерцам. Вскоре потом
они нападают врасплох на стан беззаботного сластолюбца,
берут его в полон и отдают под надзор архиепископа
Йоркского из рода Невилей: и вот освобожденный Генри
опять называется королем Англии. Но не надолго: Эдуарда
выручает Ричард — и новая гроза готова разразиться над
тружеником Генри. Последние бледные лучи заходящего
благоденствия освещают скорбное чело того, кому за
кроткость, благочестие, младенческую невинность посреди
334
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
всеобщего беззакония господь определил иной венец, а не
венец земного владычества. Он восходит из темницы снова
на трон, а первое чувство, им изъявляемое, — благодар¬
ность к человеколюбию своего тюремщика! Его поздрав¬
ляют, ему льстят, превозносят его добродетели: но он в ду¬
ше уже простился с преходящею славою мира сего, не
верит уже возврату своего счастия и назначает Уэруика
правителем. Вдруг он видит возле Соммерсета прекрасного
отрока: «Кто он?» Ему отвечают, что это юный граф Рич¬
монд (внук Екатерины, матери самого Генри, и второго ее
мужа Тюдора, предводителя гелов или уэльсцев от крови
древних королей британских, которому Генри V, отняв у
него последний остаток наследия предков, в замену дал
английское графское достоинство). Тут монарх, испытан¬
ный несчастиями, благочестивый, добродетельный, ощуща¬
ет в груди своей дух предведения, кладет руку на главу
Ричмонда и пророчит, что отрок предопределен к велико¬
му, что он будет целителем страждущего Отечества.
Сцена переменяется: Эдуард возвратился с войском
бургундским, хитростию берет родовой город своего семей¬
ства и затем вновь провозглашен королем от своих рат¬
ников. С быстротой и деятельностью, свойственною и
сластолюбцам, если только раз одолеют лень свою, летит
он в Лондон: он уже там, он уже вновь схватил беззащит¬
ного Ленкестера, а Уэруик, Клеренс, Монтегю, Оксфорд,
едва только узнали, что он прибыл в Англию, и выступили
из столицы, надеясь одним ударом уничтожить его.
Пятое действие. Уэруик в Ковентри ждет подкрепле¬
ния товарищей; но к стенам крепости подходят не они, а
Эдуард, говорит, что Генри уже у него в руках, и требует
сдачи. Предложение отвергнуто. Вот один за другим по¬
доспевают с войском Оксфорд, Монтегю, Соммерсет, на¬
конец, Клеренс, но последний передается брату. Битва при
Барнете. Белая роза торжествует, громитель и возноситель
королей — Уэруик — убит. Между тем Маргарита прибыла
из Франции с новою сильною ратью. Победитель идет ей
навстречу; при Токсбери они сшибаются, и вконец поги¬
бают все надежды ленкестерцев; Маргарита и сын ее взя¬
ты, их силы уничтожены. Приводят пленников к Эдуарду:
юный князь, которого поэт уже и прежде немногими рез¬
кими чертами изобразил достойным славных предков, бла¬
городною гордостью является выше своего несчастия.
Раздраженные его смелостью и укоризнами, дети Иорка
335
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
умерщвляют героя-юношу перед глазами матери. Первый
удар наносит чудовище Ричард и готов заколоть и Марга¬
риту над трупом ее прекрасного сына: его едва успевают
удержать братья. Старший даже изъявляет раскаяние в
убийстве принца: оно у него не обдуманное злодейство,
как у Ричарда, но плод мгновенного гнева.
Ричард спешит в Туэр, чтоб совершить дело еще ужас¬
нейшее. Клеренс извещает брата о его замысле; Эдуард
со всею беспечностью человека, не рожденного жестоким,
но по легкомыслию способного принять участие в величай¬
ших преступлениях, и не думает предупредить гибель уз-
ника-короля и только говорит о душегубце: «Когда что
вздумает, он тороплив»; а между тем — и давно ли? —
упрекал себя за смерть королевича. Вместе с кровавым
Глостером (Ричард получил это зловещее титло после
сражения при Феррибридже) входим мы в темницу Лен-
кестера, и тот при одном взгляде на убийцу уже знает,
какой его ожидает жребий. Следует насильственная
смерть праведника, внука того Генри Герфорда, что точно
так сгубил своего законного государя: Ричард отомстил
за Ричарда; грехи основателя Ленкестерского (до)ма взы¬
сканы (?) в)* третьем и четвертом колене, и стерся с
лица земли род, которому было предопределено кровью
исчезнуть, потому что путем крови приобрел владычество.
В последнем явлении новый король Эдуард IV на верху
счастия, в кругу своего семейства: он тешит себя суетны¬
ми надеждами, мечтает о спокойствии и беспрерывных
наслаждениях, шутит, любезничает; но мы знаем, что счас¬
тие его куплено делами ужасными, но мы видим, что об
руку его стоит демон Ричард: мы уверены, что Немезида
проснется и для них обоих.
Эта драма, и независимо от связи с целой поэмой, одна
из превосходнейших Шекспира и едва ли по внутреннему
достоинству уступает в чем и «Макбету», и «Ричарду III».
Смерти Иорка никто не прочтет без живейшего соболезно¬
вания, без содрогания и благовейного ужаса перед тою
тайною, всевидящею силою, что карает не одни дела не¬
честивые, но и намерения: Иорк перед самым тем, как
возвещают ему, что Маргарита идет на него, прельщен¬
ный духом искусителем в образе злодея Ричарда, готов
был вторично нарушить присягу свою Ленкестеру. О высо¬
* Рукопись повреждена; текст восстановлен по смыслу. — Сост.
336
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
кой красоте многих других сцен всякий, не вовсе лишен¬
ный воображения, догадается даже по нашему краткому
изложению. Пишем не книгу, а предисловие: вот почему
и не говорим о каждой из них особенно. Только непро¬
стительно погрешили бы мы перед своими читателями, не
сказав ни слова об одном эпизоде, который сам по себе
составляет небольшую, но удивительную поэму: по истин¬
но изумительному слиянию силы, живописности, просто¬
ты, величия, ужаса, высокой степени драматической вер¬
ности, лирического парения и музыкальной стройности мы
ни у Шекспира, ни у другого какого поэта ничего не знаем,
что бы могли сравнить с этим отрывком; каждое из исчис¬
ленных здесь достоинств, конечно, встречается и у него
самого в других созданиях, и у других писателей по¬
рознь — нередко резче и поразительнее; но раз еще: по
крайней мере, мы не знаем ни на одном языке ни в каком
другом творении подобного соединения, подобного гармо¬
нического сочетания в единое органическое тело качеств,
из которых некоторые с первого взгляду казались бы даже
противными одно другому. По действию на душу читате¬
ля всех ближе та сцена в Сервантесовой «Нуманции»,
когда, чтоб спасти невесту от голодной смерти, жених, уже
и сам ослабленный изнурением, бросается в римский стан,
разит направо и налево, схватывает в одной ставке хлеб,
летит назад с добычею и умирает у ног любовницы, по¬
крытый бесчисленными ранами.
Возвратимся к Шекспиру и поэме его. Перед сраже¬
нием при Феррибридже Генри вотще старался всеми сила¬
ми предупредить битву, которой не одобряет ни кроткая
его душа, ни правдивое сердце, помнящее обещания, дан¬
ные Иорку; слабый Ленкестер привык предпочитать волю
властолюбивой супруги собственной, привык к тому, чтоб
управляли им; но на мгно(ве)ние он даже совершенно
теряет терпение, напоминает же (стокосерд (?) ному Клиф-
ф(орду)* свое царское достоинство и настаивает, чтоб
не препятствовали его переговорам с Эдуардом. Подобный
пример твердости государя, в других случаях столь нере¬
шительного, твердости, даруемой не силою характера, а
добродетели, мы уже видели в предшествующей трагедии.
Всякий, кто только хоть несколько знает человека не с
одной его дурной стороны, принесет здесь справедливую
* Рукопись повреждена; текст восстановлен по смыслу. — Сост.
12—907
337
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
хвалу и писателю, умевшему самой слабости придать не¬
которую величавость, и мудрецу-христианину, постигшему
все могущество чувств, основанных на вечной истине.
К несчастию, усилия миролюбивого короля остаются бес¬
плодными: кровавое решение спора настало, и тому, кто
служит предлогом спора, не позволяют даже разделить
труды и опасность своих воинов. Он один, в стороне, близ
поля сражения: какие же чувства исполняют душу венце¬
носного труженика? Не успеха оружию своих тиранов-
защитников желает он, а только смерти, буде то угодно
господу; отселе переход очень естествен к другой мысли,
именно: как бы был счастлив, если бы родился просто¬
людином, напр(имер) хоть пастухом, который, быть может,
в день мира с того самого холма, где сидит злополучный
государь, пасет свое стадо. С наслаждением страдалец
предается этой мечте и дорисовывает ее во всех подроб¬
ностях. Вдруг его думы прерывает ратник: он вынес сюда
тело убитого им противника с тем, чтоб без помехи обо¬
брать его и сам говорит, что, быть может, еще до наступ¬
ления ночи точно так отдаст и жизнь, и добычу счастли¬
вому победителю; вот он поднимает наличник мертвого, и
что же? мертвый — отец его! Ленкестер не пришел еще в
себя от оцепенения, которое обуяло его при этом плачев¬
ном зрелище, только что присоединил свой вопль к воплю
отцеубийцы, растерзанного отчаянием, как является дру¬
гой воин: и он сразил неприятеля, и он сюда же принес
тело, чтоб на досуге сорвать с него все, что только того стоит,
и... перед ним сын, любезный сердцу его сын, которого он
сам, сам убил! Тут соединяются плач и рыдания отцеубий¬
цы и сыноубийцы злополучного короля, которого страда¬
ния еще вдвое живее, потому что его сердцу нанесены с
сугубой силой удары, поразившие их, а их преступления
невольные, но тем не менее ужасные, представляют его
воображению множество других, ему неизвестных, но,
может быть, столь же ужасных. В сетовании бедного Ген¬
ри и делителей его скорби все просто, все истинно, везде
голос самой природы — все сильно, но между тем все уме¬
ряемо искусством, стройностью, музыкальным расположе¬
нием периодов и стихов; без чего зритель, едва ли бы не
изнемог под исполинским могуществом основной мысли
чудесного эпизода, которому, если только что созданное
смертным может именоваться совершенным, принадлежит,
по нашему мнению, ближайшее право на это название.
338
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ..,
О характерах драмы не станем распространяться. Из
изложения хода ее не трудно извлечь понятие о их заман¬
чивости. Повторим только, что уже сказали о них и других
действующих лицах 2-й части «Генри VI»: они везде живы
и с величайшею точностью выдержанны. Прибавим, что
они до возможности разнообразны: и это для поэта было
не последнею задачею, потому что, кроме самого Генри и
его сына, все лица действуют, движимые двумя только
страстями — жаждою мщения и властолюбием. Главных
пружин только две, но сколь они различны: в изнежен¬
ном, непостоянном Эдуарде и в свирепом Клиффорде;
в слабом вероломном Клеренсе и в грозной Маргарите,
которая только ими и дышит, да еще единственным
третьим чувством — любовью материнскою; наконец, в
гордом, неукротимом Уэруике и в бесчеловечном, холод¬
ном, коварном злодее Ричарде, в котором личное мще¬
ние только прикрывает беспредельное желание власти, ко¬
торому власть служит только средством к насыщению
бешеной ненависти ко всему роду человеческому, а
род человеческий он ненавидит, потому что он и те¬
лом урод, что самолюбие его встречает везде оскорбле¬
ния, что природа обделила его, поступила с ним, как ма¬
чеха!
Мы дошли напоследок до кровавой трагедии, оканчи¬
вающей всю великую поэму Шекспира, — до «Ричар¬
да III». Заметим, что А. В. Шлегель причисляет сюда же
еще две части короля Иоанна и «Генри VIII»6: но Иоанн,
который, по словам немецкого критика, служит, так ска¬
зать, прологом целому творению, не имеет, по нашему
мнению, никакого отношения к поэме, если только не при¬
нять, что вся она без внутренней органической жизни,
без художнического единства просто ряд картин истори¬
ческих, не связанных между собой ничем, ниже нитью
хронологической последовательности (потому что между
событиями царствований Иоанна Безземельного и Ричарда
второго ровно целых два столетия); а драма «Ген¬
ри VIII» хотя изредка и напоминает среди самой своей
тишины и величавости те бури, которые предшествовали и
утвердили настоящее спокойствие, но эти отголоски так
слабы, что и ее не можем считать продолжением поэмы,
совершенно и удовлетворительно конченной монологом
Ричмонда после победы над Ричардом III.
Мы перевели «Ричарда III», наше рассуждение не что
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
иное, как предисловие к нашему переводу: вот дочему и
полагаем излишним начертать ход этой драмы. Она одно
из тех творений Шекспира, которые преимущественно
пользуются громкою славой. Но должно согласиться, что
по изображению ей мало в чем уступят те, которые мы
только что рассмотрели, особенно 1-я часть «Генри IV»
и 3-я «Генри VI». Зато в изображении характеров она,
без сомнения, занимает первое место не только между
ними, но чуть ли не между всеми созданиями величайшего
из христианских поэтов. Ближе всех тут подходит к ней
«Генри IV», только в нем лица самые примечательные и в
поэтическом смысле лучшие — принц Гарри, Фальстаф,
даже Перси, — более принадлежат музе комической, по
крайней мере юморической. Согласимся еще, что Лир,
Макбет, Цесарь, Отелло представляют нам каждый не¬
сколько лиц, равных самым высшим в «Ричарде третьем».
Но в каком другом творении поэт собрал такое множество
самых трагических характеров, созданных самою исполин¬
скою фантазиею, оживленных самым могущим вдохнове¬
нием, расцвеченных широкою, искусною, сильною кистью,
при разительнейших противоположностях света и мрака,
отделанных притом чертами самыми тонкими, непренебре¬
гающими и малейшими мелочами? Когда раз поймешь и
полюбишь Шекспира, почти невозможно говорить о нем
иначе, как в превосходной степени; * оборот, свойст¬
венный слогу мальчиков, школьников: но кто же из нас не
становится мальчиком, школьником, когда подойдет бли¬
же, чтобы всмотреться в лицо этого великана? Если бы мы
желали принять на себя вид хладнокровия и зрелой муд¬
рости, рассуждая о нем, мы сказали бы, что, к сожалению,
некоторые сцены «Ричарда третьего» представляют недо¬
статки довольно важные, такие, каких нет в других исто¬
рических драмах нашего автора. И оно точно так; да о
недостатках ли думать, когда потрясена душа наша до
основания, когда не можем опомниться от ударов, которые
один за одним поражают ее?
На первом плане Ричард и Маргарита. Признаюсь, при
п ервом моем знакомстве с Шекспиром, я осмеливался
сомневаться в истине некоторых черт, какими поэт изобра¬
зил своего северного Нерона. Мне казалось, что и вели¬
* В рукописи стерто одно слово. — Сост.
340
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
чайший изверг не сказал бы о себе: «I will prove a villain*;
невольно при этом месте вспомнил я сумароковского
Димитрия Самозванца, который говорит также что-то по¬
хожее . Но, вникнув внимательнее в нрав Ричарда, которо¬
го отличительную черту составляет склонность к сарказмам,
столь свойственная людям, как он, обиженным приро¬
дою, — я почувствовал, что эти слова: «Мерзавцем быть
хочу» — в его устах отнюдь не обмолвка автора, а крик
растерзанного сердца.
I will prove a villain
And hate the idle pleasures of these days**8, —
говорит Ричард, горбатый, безобразный, хромой, убежден¬
ный в том, что не для него наслаждения мира и любви, не
для него утехи других смертных, что одни раздоры и бит¬
вы могут ему заменить то, в чем ему отказано навеки,
одни, потому что только в них он может явить единствен¬
ные свои достоинства — ум и храбрость; он произносит
приведенные нами слова с горьким, судорожным смехом
отчаяния, которое желает скрыть под личину презре¬
ния, — и этот ужасный смех должен дополнить значение
того, что слышим. Здесь собственно только продолжение
того другого монолога, о коем мы упомянули в разборе
3-й части «Генри VI»: тогда уже Ричард доказывал самому
себе, что один только венец царский может прикрыть все
его природные недостатки и что должно схватить этот
венец во что бы то ни было, ничего не щадя, ничего не жалея.
Мы остановились на страшной исповеди Ричарда затем,
что она объясняет нам чудовищное явление, какое он сос¬
тавляет в нравственном мире, и что в ней находим источ¬
ник соболезнования, без которого невозможно бы нам
было принять участие в судьбе мучителя: только потому,
что он вместе и страдалец, возбуждает он в нас не одно
омерзение, не один ужас, подобный тому, с каким бы мы
смотрели на дела духа падшего; человек только человеку
сочувствует, а что и страшный Ричард — человек, мы
узнаем по его внутренним терзаниям. Вот почему поэт и
не довольствуется намеками о них в этом первом моноло¬
ге: он посреди самых ужасных дел Ричарда в течение всей
трагедии везде напоминает нам, что и этот злодей нена¬
* «Я хочу стать подлецом» (англ.). — Сост.
** «Я хочу стать подлецом и ненавижу праздные услады этих
дней» (англ.). (Д. 1, сц. 1, ст. 30—31). — Сост.
341
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
вистный, этот кровожадный душегубец хотя человек мер¬
зостный, достойный проклятия, а все человек. Именно те
сарказмы, о которых мы уже говорили, изобличают муки
его души, обуреваемой, растерзанной страстями. Этот
хохот встречается тем чаще, чем становится менее дейст¬
вительным. Прибавим опрометчивость, забывчивость, даже
припадки умственного затмения в некоторых местах чет¬
вертого действия — плод не одних опасений, подозрений,
свирепого нрава, а и угрызений совести; потом уныние,
скупое на слово, глухое, тяжелое, не покидающее его ни
на миг в 5 действии до самой развязки, где оно уступает
последней грозной вспышке бешеной храбрости; наконец,
совершенное, хотя и непродолжительное, безумие после
зловещего сна, когда ему являются тени всех им зарезан¬
ных, безумие, которого следы, впрочем, еще заметны в
последней его речи своим ратникам: все это его сближает
с нами, с прочими слабыми смертными. Только он человек
необыкновенный: адские терзания души его, правда, расст¬
роили его ум, однако последний плод этого мощного ума
тот мастерский план сражения, которому удивляется
опытный полководец Норфольк. Так! великий поэт успел
в исполинском подвиге; он напоследок заставил жалость
взять перевес в сердцах наших над ужасом, который
возбуждает его страшный, ненавистный герой; он успел
еще в большем: он придал ему способности неежеднев¬
ные: остроту, проницательность, глубокомыслие и, сверх
всего, самую блистательную храбрость — качества, достой¬
ные уважения всегда и во всяком случае. Удивительно
искусство, с каким Шекспир обработал характер своего
Ричарда: Маргарита создана тем вдохновением, которое
выше всякого искусства. Она та же и уже не та, чем была
прежде. Лишенная венца, молодости, красоты, супруга,
сына, по собственным ее словам, она уже не мать, ни же¬
на, ни царица. Дух ее растерзан, но не пал: нет, в самых
страданьях почерпнула она твердость ожесточения и силу
отчаяния; властолюбие ее и с самою надеждою на власть
не исчезло, высокомерие тоже: она побеждена, а победите¬
ли в ее глазах те же рабы, те же подлые изменники и бун¬
товщики, какими считала их до своего низложения; пла¬
менною ненавистью она ненавидит их, но почти столь же
презирает: contumelia non fregit eam, sed erexit*.
* Поношение не сломило ее, но возвысило (латин.). — Сост.
342
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ..
Одно-единственное чувство осталось в ней — ничем не
утолимая жажда: если уж не самой отомстить злодеям, по
крайней мере роскошствовать, упиваясь позорищем кар,
которые им предсказывает, которые неминуемо настигнут
их, которые ускорить и назвать на них она силится адски¬
ми заклятиями. И вот они настают, эти грозные кары; их,
посланниц гнева небесного, развенчанная царица приветст¬
вует с неистовым восторгом беснующейся менады, с гор¬
дым торжеством пифии, коей прорицания оправданы судь¬
бою. Подобно созданию древнего могущественного ваяте¬
ля, простого, презревшего мелочную отделку, стоит она,
Немезида-Ниобея, посреди прочих лиц Шекспировой тра¬
гедии: это классический истукан, выходец из Эллады, пере¬
селенец из века, давно минувшего, современник и Евменид,
и Эсхила, и Фидия, посреди гелереи живописных образов,
переданных холсту мрачными красками Рембрандта, но и
старательною, верною природе кистью Ван-Дейка, с дикою
смелостью Сальватора Розы, но вместе с вдохновенным
изяществом Рафаэля. С Маргаритою в «Ричарде III» мож¬
но сравнить одну Эсхиллову Кассандру: только Маргарита
еще ужаснее. В лице самого Ричарда поэт сверхъестест¬
венным почти искусством умел смягчить омерзение
жалостью и удивлением; точно так в Маргарите он успел
ужасом притупить болезненную живость сострадания к не¬
слыханным ее злополучиям. Зато сострадание поражает
нас тем сильнее, чем реже предаемся ему. Чье сердце не
заноет, когда эта надменная царица, Эринния неумолимая,
исступленная пророчица, это существо, которое самыми
бедствиями, кажется, стало недоступным для земных бед¬
ствий, со всею нежностью скорбящей матери вспоминает о
своем погибшем сыне; или, когда, забыв и сан свой, и гор¬
дость, говорит Бокингему:
0 princely Buckingham!
1 kiss the hand*,
потому что он не участвовал в кровавых оскорблениях,
нанесенных ее дому прочими? Но вот черта, без которой
Маргарита не была бы совершенно женщиной: она более
всех ненавидит Елисавету, а между тем Елисавета менее
других против нее виновата, зато королева, соперница,
похитившая ее место.
* «О царственный Бекингем! Целую твою руку» (д. 1, сц. 3, ст. 281)
(англ.). — Сост.
343
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Маргарите, в которой жажда мщения воспламеняется
неиссякаемою скорбию по милых утраченных, поэт проти-
вуставил двух матерей же, под конец, быть может, еще
злополучнейших, потому что в их груди не пышет этот
могущий пламень, каким снедается, но вместе и живится и
поддерживается вдова последнего Ленкестера. Восьмиде¬
сятилетняя дючесса Иорк одна из них: родоначальница,
доилица, жертва всех страданий семейства своего, она же¬
лает смерти, чтоб отдохнуть наконец от зрелища убийств
беспрерывных, беспрестанных; она мета, избранная судь¬
бою, и не проходит мимо ее ни один удар, на чью бы ни
падал голову в ее потомстве. Благоговеешь перед
нею за все ею испытанное, за ее глубокую печаль по
погибших чадах и внуках... за священный гнев, с каким
наконец предает проклятию своего последнего сына, кро¬
вавого братоубийцу. Он, несчастный, один не чувствует
этого невольного благоговения, от которого сама Маргари¬
та не в силах совершенно защитить себя. С свирепым
торжеством удовлетворенной ненависти неистовая короле¬
ва исчисляет страдалице все ее утраты; дючесса отвечает
ей болезненным голосом смиренного упрека, что никогда
не радовалась несчастьям Маргариты: и вот неумолимая
Маргарита едва не извиняется перед нею! Вторая из
этих матерей — королева Елисавета Грэ. Чтоб избегнуть
единообразия, поэт присвоил Елисавете кое-какие слабос¬
ти чисто женские, а дючессе кое-какие наклонности дрях¬
лости: та несколько тщеславна, другая немного говорлива;
но эти схваченные с природы черты ничуть не унижают
их, а вселяют тем большее к ним участие, что доказывают
их немощь.
Король Эдуард добродушен, но слаб, сластолюбив,
обессилен распутством, суеверен, опрометчив: он вотще
надеется на кончину блаженную после жизни греховной,
вотще хочет примирить между собой злобствующих своих
вельмож и родственников, вотще желает по себе оставить
в наследство сыну мир и спокойствие и сходит в гроб,
растерзанный насильственною смертью своего брата Кле-
ренса, предчувствуя неминуемую казнь своему роду за это
тяжкое преступление, которое напрасно силится с души
своей свалить на души своих неверных наперсников.
Бокингем, честолюбивый, коварный, быть может, долго
был предан дому Ленкестерскому, но в начале трагедии
уже переметчик; впрочем, и при дворе бывших врагов
344
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
своих умел он сохранить всю важность своего княжеского
сана. Он наконец решается вовсе отказаться от правил
чести и честности, которые служат помехою его возвыше¬
ния. Шекспир только позволяет нам догадываться, как
далеко простираются виды и желания Бокингема. Но вы¬
сокомерный дюк, близкий родственник домов царствующе¬
го и царствовавшего, недаром же привязывается к Ричарду
и соглашается быть орудием его, недаром жертвует ему
совестью. Почти нельзя не предполагать, чтобы он, когда
помогает Глостеру добыть венец царский, не таил в сердце
своем надежды, что с этой головы венец может упасть и
на его собственную. Смелыми шагами Бокингем сначала
стремится по следам того, кому продал душу. Но есть де¬
ла, на которые может решиться только Ричард: и таких-то
наконец Ричард от него требует! Миг недоумения лишает
слепца плодов всех прежних преступлений! Безумный! пе¬
рехитрить вздумал он лукавого кровопийцу, но тот одним
словом уничтожает все расчеты его хитрости. Слишком
поздно Бокингем избирает иной путь: он гибнет от руки
того, кому предал и Рейверса, и Грэ, и Вогена, и Гес-
тингса.
Последний почти не менее Бокингема заслуживает
жребий свой. Развратный, легкомысленный, безрассудный,
уверенный в собственном достоинстве и в милости лорда
протектора, этот временщик, живой представитель не са¬
мой худшей части придворных, радуется казни своих вра¬
гов и тщеславится своим счастьем за миг до собственного
кровавого падения. Однако Шекспир умел и его спасти от
совершенного нашего презрения: во-1-х, он нелицемерно
предан памяти короля, своего благодетеля, и его детям;
ВО-2-Х, Ричард не пренебрегает им, потому что сначала
ищет дружбы его и содействия, а потом, чтобы сгубить,
удостаивает его выдумать ков, который составляет значи¬
тельный и прекрасный эпизод в трагедии.
Стенли умен, осторожен, скрытен, несколько робок;
но робость не унижает его: он был другом Гестингсу, он
вотчим Ричмонду, опаснейшему изо всех противников
хищника.
Анна, дочь великого Уэруика, вдова сына Маргаритина,
потом супруга Ричарда, живым, умилительным раскаянием
и горестною своею участью заставляет нас простить ей ее
слабость.
Раскаяние другого рода, близкое к отчаянию, принуж¬
345
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
дает нас оплакать страшную судьбу бедного Клеренса
(poor Clarence), тяжкого грешника, но и тяжко же нака¬
занного. Его сновидение в Туэре превосходнейший образец
поэтической живописи, мрачной и таинственной.
Таковы главные лица в трагедии «Ричард III». Но поэт
и каждое второстепенное умел отличить от других, иногда
одною искусною чертою. Младенцы королевичи, сыновья
Эдуарда IV, прелестные дети: старший уже теперь славо¬
любив, по своим летам не без сведений, важен, величав и
наделен скорбною дальновидностию, он чувствует, что от
такого попечителя, каков Глостер, нельзя ожидать ничего
доброго; второй резов, умен, насмешлив, живчик, выдум¬
щик. Ричмонд решителен, храбр, великодушен, осторо¬
жен и не слишком велеречив. Кардинал добр, обещает
более, чем может исполнить, боязлив, слаб, уступчив. Рей¬
вере более дядя наследника, чем брат Елисаветы; муж
государственный, он менее заботится, по смерти короля,
своего зятя, утешить сестру, чем обеспечить особу и прес¬
тол племянника. Сыновья королевы от первого Брака,
Грэ и Дорсет, не похожи друг на друга: первый в дядю,
впрочем, пылче, потому что моложе, и с ним вместе несет
голову свою на плаху; второй, любимец матери в вотчима,
и свойствами к ним подходит, ветрен, суетен, нескромен:
Ричард смеется над ним, презирает и забывает раздавить
его. Даже Кетисби, Ратклиф, Ловель, низкие помощники
мучителя, оттенены один от другого: Кетисби учтив, гладок,
как змея, насмешлив, как гиена, перед своим господином
холоп безмолвный и трепетный; Ратклиф груб и с несчаст¬
ными жесток, вкрался в доверенность тирана, вытеснил из
нее Кетисби; он, вероятно, наушник, по кр(айней) мере
Ричард несколько раз расспрашивает его о том, что вель¬
можи говорят, что думают; при всем том хищник оказы¬
вает ему что-то похожее на уважение и даже однажды
вопросом обнаруживает, что может и опасаться его; Ло¬
вель происхождения знатного, но обоих их ничтожнее,
зато родственник его принимает участие в бунте Бокинге-
ма. Самые убийцы Клеренса различны между собою: один
из них закоренелый злодей, в другом остались еще, как
сам говорит, кое-какие дрожди совести; примечательно,
что поэт безнравственные рассуждения влагает особенно в
уста последнему: он еще нуждается в них; его товарищ
и без них обойдется. Живые люди и трое граждан, что
толкуют о смерти короля Эдуарда и обо всем, чего надеят-
346
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
ся и боятся: каждый с своим характером, не на одинако¬
вой степени просвещения, не с одинакою дальновидностью.
Не в Лабрюеровских антитезах, остроумных, но мерт¬
вых, нет в подобных портретах настоящих людей, которые
дышат и движутся, должно почерпать познание сердца
человеческого.
Мы принесли дань удивления творению, которое пре¬
имущественно назовем трагедией характеров. Заметим те¬
перь то, что, по нашему мнению, могло бы быть иначе.
В 1-м действии похороны; над гробом свекра, зарезанного
Ричардом, сетует Анна Уэруик, проклинает убийцу, убийцу
вместе и ее мужа; вдруг тот, кого клянет, стоит перед нею
и нагло останавливает погребальное шествие. Такое бес¬
стыдство совершенно выводит из себя сироту, и без того
против него раздраженную: она сыплет на него самые
кровавые, самые ужасные ругательства. Глостер выслуши¬
вает все хладнокровно: его замыслам нужно, чтоб вышла
за него вдова бывшего наследника престола. Лицемер
падает на колени, приписывает свои злодеяния безумию
страсти к ней, говорит, что не может жить без нее, подает
ей меч, просит смерти. Мог ли даже Ричард избрать такую
минуту для такого объяснения? Но положим; по крайней
мере после ответа Анны, что желает его гибели, да не
хочет быть палачом, кажется, лучше бы было, несмотря
на все неудобства закулисных действий, поспешно удалить
ее из наших глаз и перенесть за кулисы ее слабость и
легковерие, которых возможность, если вспомнить всю из¬
воротливость Глостера, очень понимаешь, но только не в
это мгновение. Монолог Ричарда после удачи прекрасен,
но вместе служит лучшею критикою на эту сцену. Всего
хуже, что она почти совершенно сходна с тою, в 4 дейст¬
вии, в которой тот же Ричард, умертвив и Анну, и младен¬
цев, сынов Елисаветиных, после продолжительной и, прав¬
ду сказать, истинно поэтической борьбы исторгает у коро¬
левы согласие на брак с ее дочерью. К счастию из того,
что следует, догадываемся, что согласие только притвор¬
ное. Трудно оправдать Шекспира в изображении этих двух
встреч, которых окончание возмутительно, чтоб не сказать,
неестественно. В славном появлении теней в поэтическом
смысле все превосходно: язык простой и вместе величавый,
каждый звук навевает на нас трепет и ручается за при¬
сутствие бесплотных; в механизме стихов, медленном и
суровом, слышишь что-то неземное, будто пение Эоловой
347
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
арфы. Но на театре едва ли удобно представить в одно и
то же время три сцены: два враждебных стана и фантас¬
тическую область духов и теней; впрочем, тут все зависит
от степени таланта декоратора и благоразумия в требова¬
ниях публики.
Теперь несколько слов о слоге Шекспира. Игра слов
(concetti) — главная особенность его диалога, особенно
там, где преобладает страсть. Французы когда-то любили
эту фигуру, потом вздумали гнать ее единогласно и во
всяком случае. Немцы, предшественники братьев Шлеге-
лей, даже в то время, когда уже начинали иметь свое мне¬
ние, тут или соглашались с французами, или по крайней
мере отмалчивались. Такая всеобщая опала оборота, осно¬
ванного, как и все прочие, на природе ума человеческого,
несколько похожа на остервенение, с каким у нас Брам-
беус и братья преследуют невинные, иногда необходимые
сей и оный9. Бутервек, например не находит довольно
сильных выражений, чтоб нападать на кончетти: он их
называет и порчею вкуса, и неестественностию, и удале¬
нием от истины. (Смотри его Историю испанской поэзии
первых десятилетий 17-го века.10) Самые Шлегели, хотя
и смотрят на это украшение другими глазами, хотя и
дерзают хвалить многих писателей, у которых оно часто
встречается, довольствуются изложением своего мнения,
а не подкрепляют его никакими доказательствами. Са¬
мая благовидная причина, по каким критики отвергают
игру слов в изображении чувств и страстей, — хладно¬
кровие, будто бы непременно нужное для сравнения и
противуставления понятий разнородных, выраженных одни¬
ми и теми же звуками. Справедливо ли это предположение?
Душа не тело: она не состоит из отдельных членов, из кото¬
рых один действует без участия других; ум, остроумие, глу¬
бокомыслие, воображение, сердце — только видоизменения,
а не части духовного человека. Всякая мысль вместе и
картина или образ и ощущение; всякий образ есть в то же
время и ощущение и мысль, и нет ощущения, которое
бы не было и мыслию, и образом. Тронешь сердце и тут
же приведешь в движение и ум, и фантазию, короче, всю
душу.
Как же выключить из языка страстей слова и оборо¬
ты, вдохновенные воображением, внушенные остроумием?
Вслушаемся в речь человека, увлеченного гневом, огорче¬
нием, любовью: он вдруг умнеет; сравнения, гиперболы,
348
РАССУЖДЕНИЯ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ ДРАМАХ...
кончетти у него сыплются, откуда что берется; уста не
успевают их выговорить, в нем вдруг открылся неисчерпае¬
мый источник мыслей; он остер, едок, оратор, поэт; дово¬
ды, притчи, примеры, уподобления толпятся в его голове;
ему все еще остается что-то досказать, ему кажется, что
все еще найдет лучшее, более сильное доказательство или
правоты своей, или законности своих желаний. Такова
природа человеческая, и ее наставлениям Шекспир следо¬
вал, когда заставлял своих людей в самых патетических
положениях играть словами.
Намеки и ссылки, особенно в описаниях и рассказах,
на события истории, на обычаи и предания народные, со¬
ставляют другую отличительную черту нашего поэта. Пере¬
водчик эти два характеристические признака Шекспирова
слога непременно должен сохранить, или же перевод его
будет неверным и бесцветным. Но перенесть игру слов из
одного языка в другой возможно не иначе, как заменяя
кончетти подлинника таким, к которому всего более спосо¬
бен звук, употребленный переводчиком для выражения
главного понятия автора, стало быть не буквально, а толь¬
ко приблизительно. Так поступили и мы в своем пере¬
ложении «Ричарда III». Изредка мы играли словами и там,
где у Шекспира нет такой игры, но где она сама собою
представлялась русскому уху, а это, чтобы вознаградить
читателя за упущения против подлинника там, где никак
не могло быть иначе.
Ссылки и намеки слишком темные объясняются в за¬
мечаниях — большое неудобство, да устранить его ровно
невозможно.
Английские имена собственные и титла, с небольшими
исключениями, перенесены в перевод в том смысле и неко¬
торые с тем звуком, какой у них в подлиннике, например
duke — дюк, а не герцог. Highness, когда относится к ли¬
цам царствующим, мы выражали словом величество, хотя
и знаем, что оно, собственно, значит высочество и что во
время Ричарда III в Европе еще ни одному государю не
говаривали : ваше величество. Но сам Шекспир часто
употребляет Majesty, а для нас, русских, этот анахронизм
необходим, потому что в нем больше ясности. Highness
и Grace, когда дело идет о дюках, мы заменяли титлом
светлость. Некоторых других английских титулатур мы не
переводили слово в слово, потому что тут примешались бы
понятия исключительно русские, которые бы составили
349
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
странный анатопазм в английской драме. Приведем здесь
только два: dread lord и lovely lord — это точно значит
грозный государь и ласковый государь; да при таком пере¬
воде русский скорее вспомнит о Грозном царе Иване
Васильевиче и о Ласковом князе Владимире, нежели о
слабом Эдуарде и страшном Ричарде.
ПРЕДИСЛОВИЕ К МИСТЕРИИ «ИЖОРСКИЙ»
Если сочинение лишено внут¬
реннего достоинства, самые красноречивые предисловия
не доставят ему благосклонности читателей. Однако же при
попытках, которые в какой-нибудь словесности еще новы и
противоречат общепринятым правилам или предрассудкам,
нельзя осудить писателя, когда он постарается указать
публике ту точку зрения, с коей смотрел на предмет свой.
Вот почему мы позволим себе поговорить о том, что всего бо¬
лее покажется странным в сей 1-й части нашей мистерии
тем, которые знакомы с романтическою драмою по одному,
может быть, Шекспиру и последователям его, Шиллеру и
Гете. Наш «Ижорский» создан не по сим образцам, а бо¬
лее по примеру бесхитростных аллегорических игрищ
Ганса Сакса, Братий страстей господних (Freres de la Pa¬
ssion), английских менестрелей, немецких мейстерзингеров
и, если угодно охотникам до имен более громких, Кальде¬
роновых Sacramentales. Об этом-то именно желали мы
намекнуть, назвав поэму свою мистериею и разделив ее не
на пять, а на три действия, или хорнады, как обыкновен¬
но испанцы разделяют свои драматические творения.
В старинных мистериях, равно как и в произведениях
живописи XIII и XIV веков, нередко случается, что глазам
зрителей на одном и том же плане представляется
двоякая или даже троякая сцена, например небо, земля и
ад. Следы сего обыкновения еще находим в известном
начерке (esquisse) * кисти Рубенса, представляющем
* Этого начерка существуют два экземпляра: один в большом виде в
Мюнхенской, прежде бывшей Дюссельдорфской, а другой, уменьшенный,
в Дрезденской галерее.
350
ПРЕДИСЛОВИЕ К МИСТЕРИИ «ИЖОРСКИЙ»
Страшный суд1, и в славном Рафаелевом Преображении2.
И мы подобную вольность позволили себе и, что всего
хуже, — при самом начале, то есть в 1-м явлении нашей
мистерии. Признаемся, мы тем хотели несколько озада¬
чить гг. защитников трех единств: человека, который до
того мог забыть главнейшие сценические законы, без сом¬
нения, они не удостоят классической критики, а пожав
плечами... станут читать далее единственно для того, чтобы
отыскать новые причины к пожиманию плечами. Впрочем,
чего же и ожидать порядочного от произведения, в кото¬
ром действуют кикиморы, шишиморы, русалки и проч.
Заметим, однако же, для любителей литературы клас¬
сической, что она оказала свое могущественное влияние и
на нас грешных. В Аристофановых хорах и даже в моно¬
логах и диалогах действующих лиц его комедий много
выходок, в которых он прямо говорит публике, в которых
найдутся насмешки и над современными ему писателями и
героев над самими собою и даже над искусством драмати¬
ческим. За оные выходки его весьма справедливо осуждал
некто профессор элоквенции при афинском университете:
«Они-де, — говорил сей преострый муж, достойный многих
хвал, — она-де разрушают сценическое очарование и напо¬
минают почтенным афинским гражданам, присутствующим
при лицедействиях, что перед ними не Бакхус, не Демос,
не облака и не лягушки, а Карп, Сидор, крашеный холст
и статисты. В противном же случае его превосходи¬
тельство г. Архонт, их высокородия господа пританы и
прочие точно были бы уверены, что видят самого Бакхуса,
самого Демоса и проч. probandum erat и в чем уповательно
никто не сомневается...» Мы не из числа неверующих. Но,
как уж нам верно суждено было судьбою собрать вкупе
и соединить все ошибки и промахи наших предшествен¬
ников, мы обрадовались сей погрешности невежи Аристо¬
фана и ею воспользовались.
Но оставим г. профессора элоквенции и его собратию;
обратимся к любезным нашим читателям. Ныне при об¬
щем движении в литературах всех языков европейских,
при движении, которое обнадеживает всякого, следующего
мыслию за ходом века своего, что большая народность,
большая живость, большая соответственность современ¬
ным понятиям будут плодами оного, ныне, кажется, мож¬
но было бы воскресить и мистерии, род драматической
поэзии, по нашему мнению, не заслуживающий совершен¬
351
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ного забвения. Шекспир, без сомнения, величайший из
романтиков; но Сервантес, Лопе де Вега, Кальдерон,
Морето, самый Ганс Сакс — мужи, которые имеют неоспо¬
римые, великие права на тщательное изучение стихотвор¬
цев нашего поколения. Есть истины, или забытые, или
слишком мало еще оцененные, истины, которые весьма
бы желательно представить в разительном виде не только
уму, но, так сказать, самым очам людей мыслящих; а сего
достигнуть иначе нельзя, как посредством формы драмати¬
ческой. Вот чего желали первые сочинители мистерий; вот к
чему стремились и мы при сочинении «Ижорского». Одна
главная мысль господствует в нашей драме: эта мысль уже
изложена в сей первой части, а во второй будет развита еще
более.
Недоумение читателей насчет этой основной мыс¬
ли — вот единственная критика, к которой мы были бы
чувствительны. Высказать здесь мысль сию было бы лиш¬
ним: ибо если сами читатели ее не отгадают, мы труд свой
должны считать неудавшимся.
Нам остается еще отвечать на возражение, которое
нам, вероятно, сделали бы критики другой школы, совер¬
шенно противной той, о коей выше намекали. «Цель поэ¬
зии сама поэзия», — скажут они по словам Шлегеля:
«Итак, не значит ли унижать сие высокое искусство, когда
употребишь его средством для доказательства какой-ни-
будь отдельной, частной истины; когда, так сказать, раз¬
жалуешь Поэзию в служанки Нравоучения?» — Без всяко¬
го сомнения. Но есть в нравоучении, как и во всех других
науках, истины поэтические. Почему же не разработать,
не развить их поэтически? Почему же не создать из них
нового, поэтического мира? Во всей вселенной — гармо¬
ния: нет предмета отвлеченного, которому бы не соответст¬
вовал чувственный; нет духа, который бы не отражался в
каком-нибудь теле; нет мысли, которая бы не проявлялась
в образе поэтическом. Найти сей образ не значит покорить
его мысли; представить его зрителям так, чтобы они уразу¬
мели, чему он соответствует, не значит употребить его
единственно средством к достижению цели непоэтической.
Его унизишь только тогда, когда он будет служить одним
украшением, одною одеждою к прикрытию наготы сухой
истины, как, например, в поэзии дидактической. Скажем
более: без главной, основной мысли (идеи), все соединяю¬
щей, все связывающей, все оживляющей, поэма, какая бы
352
ПРЕДИСЛОВИЕ К МИСТЕРИИ «ИЖОРСКИЙ»
ни была, — тело без души, которого удел безобразие и
разрушение.
Объяснившись, во-первых, насчет разряда поэтических
произведений, к которому желаем, чтобы причислили на¬
шего «Ижорского», и, во-вторых, насчет того, к чему стре¬
мились мы в сей мистерии, не излишним считаем сказать
несколько слов о способе изложения, коего держались мы,
и о характере употребленных нами существ мифологиче¬
ских.
По предначертанию нашему, поступки самого героя и
окружающих его лиц, равно и все случающееся с ним, слу¬
жит единственно к раскрытию его наклонностей. Посему
самому большая часть сих действий и событий происходит
за сценою; зрителям же гораздо чаще представляются
перемены, произведенные ими в Ижорском, нежели сами
они. Мистерия «Ижорский» в этом отношении составляет
совершенно противоположный полюс Шекспировым коме¬
диям и комедиям испанцев (Comedias de сара у espada);
там по происшествиям догадываешься о чувствах лиц дей¬
ствующих, здесь чувства Ижорского поясняют происшест¬
вия и пророчат его действия. По лирическому духу, пре¬
обладающему как в мистериях, так и вообще во всех других
родах драматической поэзии, близких к первоначальным
стадиям оной, мы по необходимости и в своей драме,
составленной по образцу их, должны были отказаться
от разительных действий и событий перед самыми глазами
зрителей.
Мифологических существ, составляющих в нашей дра¬
ме чудесное или, по словам Вальтера Скотта, волшебное*,
много3; но мы, воспользовавшись ими, хотели указать на
богатство, которое поэту представляет романтическая ми¬
фология вообще, а русская в особенности. В драме, ко¬
торой действие происходит в XIX столетии, мы употреби¬
ли их не без иронического намерения. Какое это намере¬
ние, надеемся, легко увидит всякий, наблюдавший с не¬
которым вниманием век наш. Большей части сих мифоло¬
гических пружин мы старались присвоить нечто народное,
русское. Таким же образом мы поступили и с ямщиком,
колдуном и семейством крестьянина Богдана. Лица высше¬
го круга — европейцы; однако же и в их образе мыслей,
поступках и словах найдутся оттенки, обозначающие рус¬
* См. «Сын отечества» на 1829, № 0.
353
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ский народный характер, степень быта гражданского,
образованности и просвещения, на которой находимся,
привычек и причуд, нам преимущественно свойственных.
Спешим окончить наше предисловие, дабы оно не пока¬
залось слишком длинным и важным для произведения
столь ничтожного, каким «Ижорский» наш многим пока¬
жется.
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Вы на воде, на прозе взращены;
Для вас поэзия и мир без глубины...
«Вечный Жид»t гл. 3х
В наш век, или, точнее, в наши
дни (ныне то, на что прежде были нужны годы, совершается
в месяц, в неделю, в день), в наши дни с первого взгляду нет
уже ничего постоянного. Все потряслось, все движется, из¬
меняется. На Западе тают формы, которые даже средь вих¬
ря государственных потрясений признавались неприкосно¬
венными, необходимыми: бури не сломили якоря, но ржав¬
чина его перегрызла. Католицизм, омытый и вновь оплодо¬
творенный кровью своих недавних мучеников, процвел было
снова, а ныне опять вянет, опять опускает к земле ветви: гро¬
за оживила его, но на срок короткий, ибо червь подъел ко¬
рень, гниль проникла в сердцевину его. Одно наше отечество
исключение Но перейдем в область философии, наук,
критики; тут и мы почувствуем, что не стоим уже на вечной,
неколебимой земле Гомеровой, а несемся непостоянною
планетою Галлея2, которой жизнь и сущность — перемена
и движение; тут и мы услышим голос разочарования, правда,
слабый только отголосок безверия соседей наших, да все
же нерадостный.
Так, например, и у нас распространяется мнение, что
время поэзии минуло, и у нас громче и громче требуют про¬
зы — дельной, — я чуть было не сказал: деловой прозы.
Утилитарная система, для которой щей горшок вдесятеро
важнее всех богов Гомера, всего мира Шекспира, и у нас
с дня на день приобретает новых поклонников. И у нас
354
ПОЭЗИЯ и ПРОЗА
занятия словесностию перестают считать призванием (voca¬
tion), священством, трудом бескорыстным и чистым, вели¬
ким, возвышенным. Лет пятнадцать назад молодой человек,
начиная свое литературное поприще, бился не из многого:
если журналист удостоивал принять его статейку о том, дру¬
гом, третьем, его стишки, конечно, еще слабые, его перевод
с французского или немецкого — юноша был доволен; он
был совершенно счастлив, когда вдобавок редактор в корот¬
ком замечании отзывался о нем с похвалою покровителя,
как о таланте, подающем хорошие надежды. Тогда еще ред¬
ко брали плату за сотрудничество писатели даже опытные;
корыстолюбием оживлялись одни почти хозяева (и то не
все) наших немногих повременных изданий, — порою, ко¬
нечно, взиравшие на тщеславную, но великодушную моло¬
дежь с улыбкою покровительства и сожаления; они одни,
быть может, издевались над явлением, которого они не
способны были понять, но которое истинно было прекрасно.
Ныне едва ли найдут повод к подобным насмешкам: народ
поумнел; ныне и восемнадцатилетний стихотворец очень
хорошо знает цену деньгам и продает свои элегии.
Еще хуже: и у нас хотят превратить литераторов не
в ремесленников (это было бы еще сносно), нет — в гае¬
ров, ломающихся в угоду и для развеселения толпы бес¬
смысленной. И у нас писатель даровитый, учености редкой,
любимый публикою, писатель, при других понятиях дос¬
тойный бы быть ее вождем и наставником, не постыдился
подписать имя, конечно, вымышленное, но уже всем изве¬
стное, под словами, которых, признаюсь, я никак бы не
ожидал от человека, не чуждого иногда истинного вдох¬
новения. «Стихотворения, — говорит барон Брамбеус, —
стихотворения, то есть поэмы в стихах, и поэмы в прозе,
то есть романы, повести, рассказы, всякого рода сатири¬
ческие и описательные (?) творения, назначенные к мимо¬
летному услаждению образованного человека, — вот об¬
ласть словесности и настоящие ее границы»3.
Что до меня, я бы лучше согласился быть сапожни¬
ком, чем трудиться в этих границах и для этой цели. Да¬
лее, видим, что светский разговор для барона — прототип
изящности и что публика, по его мнению, состоит из жал¬
ких существ, которые ни рыба, ни мясо, ни мужчины, ни
женщины. «Увы! — восклицает он в конце своего разгла¬
гольствия, — кто из нас не знает, что в числе наших
нравственных истин есть много оптических обманов?»
355
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
После такого «цвы!» и таких понятий о словесности счи¬
таю позволительным несколько усомниться в искренности
нападок Брамбеуса на новых французских романистов и
драматургов4. Однако это только мимоходом.
В том же журнале (в статье о посмертных сочинениях
Гете) попалось мне мнение Больвера, разделяемое издате¬
лями: проза, говорит англичанин, — «проза сердца просве¬
щает, трогает, возвышает гораздо более поэзии»... «Самый
философический поэт наш, преложенный в прозу, сделает¬
ся пошлым. «Чайльд-Гарольд», кажущийся таким глубоко¬
мысленным творением, обязан этим глубокомыслием свое¬
му метрическому слогу: в самом деле, в нем нет ничего
нового, кроме механизма слова... Стих не может вместить
в себе той нежно-утонченной мысли, которую выражает
великий писатель в прозе; рифма всегда ее увечит» .
Ни слова уже о прекрасном слоге нашего великого
писателя в прозе, то есть русского переводчика, но почему
же, если стих увечит мысль, «Чайльд-Гарольд» кажется
глубокомысленным творением? У меня нет Байрона в под¬
линнике: перечитываю его в прозе — ив дурной француз¬
ской прозе, — а все же удивляюсь изумительной глубине
его чувств и мыслей (хотя тут мысли и второстепенное
дело). Сверх того: сам я рифмач и клянусь совестью, что
рифма очень часто внушала мне новые, неожиданные
мысли, такие, которые бы мне не пришли бы и на ум, если'
бы я писал прозою; вдобавок, мера и рифма учат выра¬
жать мысль кратко и сильно, выражать ее молнией, у на¬
ших же великих писателей в прозе эта же мысль располз¬
лась бы по целым страницам.
Другой вопрос: может ли существовать поэзия слова
без стихотворства? Или, лучше, скажем: должна ли она су¬
ществовать без него? В стихах и в поэтической прозе, в
музыке, в живописи, в ваянии, в зодчестве — поэзия все
то, что в них не искусство, не усилие, то есть мысль, чувст¬
во, идеал. Можно ли отделить идеал Аполлона Бельведер-
ского от его проявления в мраморе? Поймешь ли чувство,
внушившее Моцарту его «Requiem», сняв с этого чувства
дивное тело звуков, в какое оно оделось творческим вооб¬
ражением божественного художника? Найду ли, чем выра¬
зить мысль, ожившую в мюнстере Страсбургском, когда
разрушу самый мюнстер6. «Но твои сравнения ничего не
доказывают: стихи действительно заменялись, и удачно,
прозою; Шатобриан, Жан-Поль, Гофман, Марлинский
356
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
поэты же, хотя и не стихотворцы; даже и то, что сам ты
сказал выше про перевод Байрона в прозе, говорит против
тебя». Но и медь употребляют же вместо мрамора; однако,
когда Фальконет хотел выразить не одну общую мысль
величия, как в Петре, а целый ряд мыслей, полную, осо¬
бенную физиогномию, он предпочел мрамор и создал
своего Амура7. В своем «Преображении» Мюллер достиг
всей высоты совершенства, до какой только может дойти
гравер, а между тем сошел с ума, потому что слишком
живо чувствовал, как слабо его оттиски передают бес¬
смертное творение Рафаэля, — и это помешательство, при¬
знаю искренно, в глазах моих приносит Мюллеру более
чести, чем всего его произведения8. И Шатобриан и Жан-
Поль, Гофман и Марлинский ужели потеряли бы что, если
б их высокие мысли, живые, глубокие ощущения, новые,
неожиданные картины выразились в стихах мощных, по¬
разили воображение, врезались в память с тою краткостью
и силой, которых у них (что ни говори) нет, которые
даются только стихом? «Но кто станет читать длинный
роман в стихах, волшебную сказку, очерки вроде очерков
Марлинского?» — «Онегин» — роман в стихах, не корот¬
кий, да и по своему содержанию гораздо менее способный
к стихотворным формам, нежели «Атала», а его читают же,
и едва ли не больше «Аталы»9. Кто не знает наизусть вол¬
шебных сказок и баллад Гете? А что же очерки Марлин¬
ского, если не подражание подобным очеркам в поэмах
Байрона?
Еще одно: ужели самые формы, в которые Шатобриан,
Жан-Поль, Марлинский облекают то, что у них истинно
поэзия, могут назваться прозою? Что общего между дики¬
ми, гармоническими напевами «Аталы» и обыкновенным
хорошим разговорным языком французов? Полиметры10,
которыми Жан-Поль расцвечивает все свои творения, уже¬
ли не стихи? Гофман и Марлинский несколько ближе к
языку ежедневному, но и у них те места, которыми они
хотят потрясти нервы читателя, требуют, чтоб произнесли
их вслух, чтоб поняли их музыку; итак, и в них пение,
а где пение, там и стихи.
Так1 раз и навсегда: язык печали
И вдохновения — язык тех дум
Таинственных, которых полон ум, —
Мне кажется, от посторонней силы
Заемлет на мгновенье мощь и крылы,
357
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Чтобы постичь и высказать предмет,
Для коего названья в прозе нет, —
Язык тех дум не есть язык газет.
«Сирота», гл. З11.
«Да не смущаются же сердца ваши». Поэзия не уми¬
рает и не умрет; не умрет и искусство, без которого поэзия
на земле не нашла бы средств и стихий к проявлению.
ПИСЬМО К КОНСТАНТИНУ) О(СИПОВИЧУ)
С(АВИЧЕВСКОМУ)1
вместо посвящения и предисловия
к драматической сказке «Иван,
купецкий сын»
(...) Предисловие обыкно¬
венно оправдание, посильное ограждение себя от обвине¬
ний, которые предчувствует дурная совесть автора.
Тащиться ли и мне по этой давно изъезженной колее?
Если мой «Купецкий сын» никуда не годен, его не спасут
от заслуженного забвения ни самое превосходное преди¬
словие, ни даже самые благосклонные отзывы критики.
Если же в нем есть самобытная жизнь, его не убьют
никакие, ни даже самые едкие суждения. Вместо того
чтобы оправдывать себя, не лучше ли самому исповедать
свои ошибки и промахи? К ним, однако же, не могу
причислить главную идею: она, быть может, преувеличена,
да что же мне делать, если она так, а не иначе поразила
мое воображение, если принудила меня осуществить ее
именно так, а не иначе? В развитии, в подробностях
скорее соглашусь признать недосмотры, например хоть в
том, что Андана слишком скоро могла усомниться в Була¬
те и слишком поздно уверилась в низости и скаредности
своего почтенного сожителя. Правда, и тут я бы мог
кое-что сказать в ее извинение; но еще раз: не желаю
себя оправдывать.
Ж
ПИСЬМО К К<ОНСТАНТИНУ> 0<СИП0ВИЧУ> С<АВИЧЕСВСКОМУ>
Охотно признаюсь и в том, что в моем Imbroglio*
много такого, без чего бы можно обойтись, например Ин¬
термедии; что вдобавок и в самых составных его стихиях
слишком много разнородного и что они потому никак не
произведут стройного, классического целого. Возможно ли
в самом деле спаять в одно: сатиру и элегию, рассказ
и драму, комедию и трагедию, лирическую поэзию и сказ¬
ку, идеал и гротеск, смех и ужас, энтузиазм и житейскую
прозу, и — ожидать от всего этого гармонии? Далее, не
спорю, что в самой прихоти, с которою я так часто
переменял метры, есть что-то похожее на шарлатанство;
и сам вижу (и это всего хуже), что в моей сказке-драме
все, чего ни спросишь, да только почти нет драматического
движения!
На моем месте, а другой, столь же смело и откровенно,
быть может, сознался бы во всем этом: только, кажется,
у редкого не следовало бы за тем с полдюжины но и
однако, а тут неоспоримые доказательства, что он совер¬
шенно прав и что критики врут, если его бранят за такие
salti mortali** и непростительные опущения. Я воздержусь
от всех подоббных красноречивых доводов и выходок, кото¬
рые ровно ни к чему не ведут. К чему же, ради бога, печатаю
этот хаос и чего же хорошего от него ожидаю? На это,
любезный К. О., предоставляю за меня отвечать тому из
моих критиков, у которого на то достает ума-разума и
доброй воли; а сомневаться, чтобы между русскими ре¬
цензентами мог найтись такой не близорукий и честный
человек, значило бы нанесть смертельную обиду тому
почтенному сословию, которое так беспристрастно, тонко и
глубокомысленно оценило «Горе от ума» Грибоедова,
«Полтаву» Пушкина, «Гротески» Гоголя и «Сердце и дум¬
ку» Вельтмана2.
* Запутанном произведении (итал.). — Сост.
** Сальто-мортале (итал.). — Сост.
359
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
ПИСЬМО XIX
2 (14) ноября 1820. Дрезден.
Как описать картину так ясно, чтобы другой о ней
получил точное, верное понятие? Как притом избежать
скуки и единообразия? На словах какое-нибудь главное
отличие одной картины от другой нередко кажется слабым
оттенком, чертою неприметною. Глубокомысленный пла¬
менный юноша, с которым не смею себя сравнивать, но на
которого бы желал быть похожим, — Форстер встретил
почти те же трудности, когда хотел дать своим друзьям
понятие о Дюссельдорфской и других галереях, славных
в тогдашнее время1. Он разрешает задачу следующим
образом: «Совершенным может назваться всякое описа¬
ние, — говорит он, — возбуждающее в читателе те же
чувствия, которые возбуждает в зрителе самая картина».
Передо мною Рафаэль, Корреджио, Тициян, Коррач-
чи, Гвидо, Рубенс, Ван-Дейк: могу ли думать, что мое во¬
ображение достигнет до их творческой фантазии,
могу ли надеяться, что слово сравнится с их волшебною
кисти ю?
По крайней мере расскажу вам, друзья, чувства, кото¬
рые вам передать не в силах, те чувства, которые составля¬
ли мое наслаждение и на время сближали меня с гениями,
поэтами живописи. Я с лишком неделю каждое утро был
в галерее: смотрел, сравнивал, учил наизусть картины; но,
приступая к их описанию, должен просить вас быть сни¬
сходительными.
Не входя в святилище внутренней, италианской, гале¬
реи, я два утра провел в наружной, фламандской, чтобы
себя совершенно успокоить и некоторым образом приго¬
товить к созерцанию таинств, к созерцанию чудес небесной
Гесперии2. Отличительная черта Фламандской школы вооб¬
ще прилежание и верность; высшей поэзии вы напрасно
будете искать в ее произведениях: высшею же поэзиею,
идеалом называю соединение вдохновения и прелести3.
Рубенс силен, нельзя не признать в его произведениях
вдохновения, но не имеет никакой прелести. Пламенное,
мрачное воображение Рембранта также знакомо с полетом
360
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
поэзии, но в нем восторг мутен, как мутны краски его;
душа его не устоялась; в ней отражается идеал, но в
искаженном виде, как будто бы в возмущенном, волную¬
щемся потоке. Ван-дер-Верф прилежен, тщателен, его
изображения миловидны; но он не возвышается до красот
высшего рода, то есть до соединения прелести и вдохнове¬
ния. В поэзии слова есть род, приближающийся к
земной, обыкновенной жизни, к прозе изображений и
чувств; писатели, посвятившие себя этому роду, бывают
стихотворцами, но не поэтами; между ними есть таланты,
но нет гениев. Они обыкновенно слишком славны между
современниками, но умирают в течение веков; таковы были
Боало, Поп, Фонтенель, Виланд и почти все предшество¬
вавшие сему последнему и жившие в его молодости немец¬
кие стихотворцы. Есть другой разряд писателей — одарен¬
ный пылкостию и дерзостию воображения, но лишенный
той чистоты и нежности, того чувства, которые необходи¬
мы, чтобы украсить создание творческого гения прелестью,
одним из главных условий бессмертия. Если в стихотвор-
цах-прозаиках слишком много слов, воды и старания, в
творениях поэтов без вкуса истинный огонь почти гаснет
в дыму; их пламя трещит, а не греет, сверкает, а не светит
и нередко вдруг потухает, потому что они не считают
нужным питать его прилежанием, образцами, критикою.
В их произведениях есть черты разительные, но почти ни¬
когда нет прекрасного целого: самое бессмертие отлич¬
нейших между ними похоже на бессмертие славного
Гераклова туловища4. Природа в своих ранообразных
явлениях везде одинакова; и между живописцами суще¬
ствуют художники этих двух родов; они составляют так
называемую Нидерландскую школу, которая имеет боль¬
шие достоинства, но, как мы видели, почти никогда не
возвышается до того идеала, о коем упоминали выше.
Первое место по общему мнению и по самой строгой
справедливости занимает между нидерландскими живо¬
писцами славный Рубенс. Смелость, сила, роскошь вообра¬
жения, разительное сходство и верность в портретах,
необыкновенная живость красок — вот его главные досто¬
инства; но грации не посещали Рубенса: его женщины
тучны и отвратительны; его Венеры — голые голландские
мещанки; его боги — переодетые купцы, матросы и школь¬
ники. Ни слова здесь о некоторых превосходных лице-
начертаниях работы Рубенса: их должно видеть и восхи¬
361
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
щаться ими; описать их может только Лабрюер или Ла-
фатер; приступим к его вымыслам.
Особенно поразили меня следующие: Геркулес в сооб¬
ществе Вакханта и Фавна; пьяный, он лишился своей
силы, он идет опираясь на них, он шатается5. Задача
трудная! Как представить полубога в унижении, но необ¬
ходимо с печатаю, с остатками прежнего величия? Рубенс
не затруднился ее разрешением: он, кажется, имел в виду
в своей картине Фарнезского, или покоящегося, Герку¬
леса6. Но где же спокойствие, где же тишина, истинный
признак силы, — характер сего превосходного творения
древности? Скажут: «Эта тишина должна была исчезнуть
в пьяном Геркулесе» — не вижу необходимости! Представь
его лицо веселым, ясным, смеющимся; но к чему разру¬
шить гармонию его огромных размеров? Исполинские его
члены, кажется, готовы отделиться от тела, туловище об¬
ременено мускулами, но лишено энергии. Одним словом:
по моему мнению, Геркулеса можно было представить
в веселом забвении от даров Вакховых, но не в скотском
унижении. Рубенс здесь изобразил не Геркулеса, а плот¬
ника, дикаря или другого мощного сына земли, обессилен¬
ного грубым упоением.
В своей львиной охоте7 Рубенс резкими, ужасными
чертами представил борьбу человеческой дерзости с от¬
чаянным бешенством царя зверей. Напрасно спешите вы
на помощь к несчастному товарищу, храбрые витязи! Конь
тотчас сбросит его, а лев сзади с грозным напряжением
уже держит его в своих убийственных объятиях. Вот
смотрите: здесь другой уже сделался жертвою другого,
гневного льва, которому негр, его соотечественник, готовит
верную смерть; он скоро ляжет возле сего убитого тигра.
Вся картина исполнена силы, движения, дерзости и сжи¬
мает сердце судорожным трепетом: она, по мне, одна из
лучших Рубенсовой кисти; но можно ли назвать наслажде¬
нием чувство, с которым смотришь на нее?
С удовольствием перехожу от этих ужасов к картине
в истинно древнем вкусе, которую можно бы назвать
идиллиею, вроде идиллий Феокритовых. Старый сатир8
выжимает виноградный сок в чашу, которую держит дру¬
гой, маленький; позади их стоит еще третий, молодой
сатир с гроздием в руке: лица их чудесны, особенно
последнего, который — одушевленное лакомство; в ногах у
них покоится тигрица с своими маленькими. Краски
362
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
самые живые, смелость кисти совершенно достойна Ру¬
бенса: он здесь превосходен, потому что не имел нужды в
красивом идеале.
В своей славной картине, известной под названием
«Quos ego!»*9, Рубенс доказал, что, если ему и навсегда
осталось чуждым прелестное, он мог постигнуть и создать
нечто высокое. Точно таким я воображал себе Нептуна,
когда читал Виргилия, когда видел, как он одним словом
успокаивает море и укрощает буйных слуг Эоловых. Сей
гневный, но в самом гневе величественный исполин, точно
бог, точно Кронион пучин, брат царя богов: его власы
летят, его лицо в движении, но стан спокоен и тих, будто
утес посреди валов, и он легко скользит в раковинной
колеснице по поверхности вод, которые улегаются под его
мощными конями. Мастерскою кистию изображены вет¬
ры: неопределенные, мутные краски, черты и очерки
острые, но в то же время сливающиеся с облаками,
длинные одежды: все это придает им что-то воздушное,
нетелесное!
В Дрезденской галерее находится начерк Рубенсова
«Страшного суда»: самая картина в Мюнхене. Здесь-то
гений Рубенса является во всей своей огромности. Особен¬
но поразили меня воскресающие: сон смерти отягчает еще
вежды некоторых, они преодолевают его с усилием; дру¬
гие, вставая от одра могилы, дивятся божией славе; тре¬
тий, кажется, уже предчувствуют суд его. Форстер, описы¬
вая Дюссельдорфскую галерею, где по перенесении в
Мюнхен находилась и эта картина, справедливо замечает,
что воображению трудно представить себе соединенными
на одном холсте обитель смерти и воскресения — землю,
место суда и блаженства — небо и, наконец, ад — жилище
мучения и что посему в этой картине нет единства.
Как бы то ни было, она не без больших красот в подроб¬
ностях и мне особенно дорога, потому что некоторые ее
части живо напоминают «Сошествие теней», бессмертное
произведение нашего Толстого10.
Кроме упомянутых картин Рубенса их около двадцати
в Дрезденской галерее: они не одинакого достоинства.
Остановившись довольно долго на Рубенсе, я некоторым
образом освободил себя от необходимости подробно ис¬
числить все достоинства и недостатки его славного учени¬
* «Вот я вас!» (латин.). — Сост.
363
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ка Ван-Дейка, который соединяет в своих немногих
исторических картинах в уменьшенном виде все красоты
и все пороки своего учителя, а в лиценачертаниях, которые
почти одни составляют здешние его произведения, пре¬
восходит Рубенса по тщательной обделке.
И Рембрантовой кисти здесь несколько картин и порт¬
ретов. Между его произведениями нет ни одного вовсе
без достоинства; но мрачные его краски, его неверная
рисовка, его мутное воображение оставляют по себе одно
туманное воспоминание. Впрочем, нет правила без исклю¬
чения: его «Жертвоприношение Моной» живо у меня перед
глазами и нескоро изгладится из моей памяти. Моноя с
женою на коленях перед горящим костром: ангел госпо¬
день в белой одежде исчезает за оным и к молящимся
обратился спиною. Рост его выше человеческого, черты
туманны, длинная одежда как будто сливается с дымом
костра. На лице Моноиной жены царствует тихое, трепет¬
ное благоговение: руки ее сжались несколько повыше
колен, голова приклонилась к груди, все положение тела
показывает радость и тот священный ужас, который наво¬
дит явление сверхъестественное. Освещение всей картины
волшебно: багровый блеск мрачного пламени как будто
оттеняет снежное сияние ангела.
Лучшая картина Ван-дер-Верфова здесь — изгнание
Агари из дома Авраамова: я не иначе могу об ней вспом¬
нить, как о происшествии, мною виденном. Авраам прово¬
дил до дверей Агарь, закрывающую лицо рукою; ее пре¬
красные льняные волосы распущены: она держит за руку
маленького Измаила, который, оборотясь, с болезненным
чувством смотрит на своего брата Исаака; все тело его
сильно наклонено в сторону; на лице резкими чертами
написана та привязанность к Исааку, которую так часто
чувствуют подчиненные несчастные к неблагодарным сча¬
стливцам. Маленький Исаак ухватился за платье отца и
смотрит на брата; приметным образом любовь к доброму
умному Измаилу, услаждавшему, может быть, их общие
забавы своими затеями, своим воображением, борется в
молодой душе его с наставлениями хитрой матери и с
отчуждением, поселяющимся нередко в сердце детей к
тем, кто перестает жить с ними под одною кровлею.
Авраам ласковым сожалением в последние минуты рас¬
ставания желает загладить свою жестокость, но не смеет
обнаружить всех чувств своих: Сара, стоя у дверей с
364
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
едва приметною, коварною, самодовольною усмешкою,
замечает малейшие его движения.
Превосходны фламандцы в представлении сцен из
обыкновенной сельской и хозяйственной жизни. Они со¬
здали в этом отношении к живописи род, который можно
сравнить единственно с идиллиями в новейших нравах
Фосса и некоторых других немецких писателей.
Как, например, не остановиться перед этою лакомою
девушкою! Она растворила окно; в одной руке у ней
горящая свеча, освещающая чудным образом лицо ее и
зеленую занавесь; другую протянула она за окно, чтобы
сорвать кисть спелого, светлого винограда. Далее, как
терпеливо добрая старушка связывает нитку, которая
оборвалась у ней! Ей глаза несколько изменяют, у ней
дрожат руки, ее губы сжались, ей уже нелегко найти и
связать концы при свете лампы. Эти две картины Герарда
Дау".
Наслаждайся своим превосходным созданием, новый
Пракситель! освещай его тем светом, при котором, может
быть, в час уединенного размышления, в час вдохновения
блеснула в тебе творческая мысль вызвать из камня Вене¬
ру, соперницу вышедшей из пены морской: белый мрамор
алеет при алом сиянии свечи, будто бы согревается,
будто бы оживает. Галатея, кажется, потупила глаза. Пиг¬
малион пожирает ее взорами. Здесь ученик Герарда —
Шалькен превзошел своего учителя12.
Гавриил Метсю (Metsu) в трех различных картинах13
представил почти один и тот же предмет, но с какими от¬
личительными оттенками! Под открытым небом продают
и покупают съестное. Здесь торгуются две женщины;
одна из них держит в руке зайца и к нему приценивается.
Они обе спокойны, и на лицах их нет большого движе¬
ния. Тут молодая кухарка очень бы желала купить поде¬
шевле кусок баранины: она уже запрятала его в свой ко¬
роб, но упрямый продавец, сидя прехладнокровно на бочке
и даже не глядя на нее из-под огромной шляпы, не согла¬
шается на предлагаемую цену, продолжает курить трубку
и, кажется, ворчит сквозь зубы: «Как угодно! а я не отсту¬
плюсь от своего слова!» Наконец, там старик, на чьем лице
написаны все свойства проворного купца, обеими руками
приподнял живого петуха, выхваляет его и, запросив сна¬
чала непомерно много, вдруг прерывает пригожую хозяйку,
которая, качая головою, удивляется его бесстыдству и уже
365
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
хотела его усовещевать, — предлагает ей петуха по край¬
ней цене и, кажется, говорит, что сам остается в убытке.
Все три идиллии списаны с природы: дичина, куры, зелень,
коробы лежат передо мною в самом деле; чем более гляжу,
тем более забываюсь.
К лучшим изображениям, выражающим душевные дви¬
жения, принадлежит большая картина Фердинанда Бола,
известная под названием Уриева письма14. На лице царя
Давида, вручающего с зеленого престола Урии роковое
письмо, с чудесною живостию борется беспокойство с же¬
ланием, чтобы Урия не заметил оного. Пониже царя сидит
его секретарь или министр, устремляющий глаза на обоих:
я уверен, он знает, что такое в письме; если бы и не сви¬
детельствовала знания его стоящая перед ним чернилица,
если бы он и не держал пера, — боязливое ожидание и
преступная таинственность, сжимающие рот его и припод¬
нимающие подбородок, могли бы служить доказатель¬
ством, что он был поверенным, орудием, а может быть,
и советником царя при его злом умысле.
Квентин Мессис15, сын антверпенского мещанина, один
из искуснейших кузнецов своего отечественного города,
влюбился в дочь некоторого тамошнего живописца. Отец
решительно отказал ему в руке ее, потому что не хотел
выдать ее ни за кого, кроме живописца же. Мессис, вос¬
пламененный любовию, променивает молот на кисть, на¬
ковальню на палитру и вскоре превосходит своего тестя.
В Дрезденской галерее видел я одно из его лучших про¬
изведений. За столом сидит ростовщик: перед ним раскры¬
тая книга приходов и расходов и кучи золота; возле стоит
человек, который желает его убедить в чем-то. Но пос¬
мотрите на лицо жреца Плутуса: он с неколебимым му¬
жеством пожимает плечами; ничто не в состоянии смяг¬
чить его, ничто не может его тронуть! Неподалеку дочь
его торгуется с разносчиком.
В наружной галерее кроме исторических картин и пор¬
третов Фламандской школы есть некоторые картины школ
Немецкой и новейшей Италианской.
Семейство базельского бургомистра Иакова Мейера,
работы Ивана Гольбейна, может назваться произведением
превосходным и выдержит сравнение с картинами лучшего
времени школ Нидерландов и Италии. По мне, это лучшая
изо всех мною виденных старинных немецких. Мейер
и его семья стоят на коленях перед Богоматерью16. Изобра¬
366
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
жение царицы небесной величественно, прекрасно: она в бе¬
лой, сияющей одежде с венцом на главе и с младенцем спа¬
сителем на руках; на лице ее владычествует кроткая,
теплая любовь к бедным, но столь драгоценным ей земным
ее братьям; это лицо достойно кисти того, кому, кажется,
сама Божественная являлась, достойно кисти Рафаэля!*
Благоговение преображает черты Мейера и жены его; они
в черной древней германской одежде. Рисовка их стана,
рук, платья верна и тщательна, но несколько жестка и
боязлива. Прелестен голый мальчик, который прислоняет¬
ся к молодому человеку, сыну Мейера. В одном только
изображении Гольбейн принес жертву своему веку: в
длинной богатой белой одежде, одна из дочерей Мейера
обезображивает несколько целое: тело ее чахоточно, лицо
некрасиво, рисовка очерка жестка и угловата.
Дрезденская галерея богата прелестными видами кисти
Рюйсдаля, Клод-Лоррена, Дитриха, Бергема, Ван-дер-
Нира. Меня особенно привлекали сколки Рюйсдаля; я не
мог наглядеться на его славную ловлю17; редкий лес, сквозь
него проглядывает палевый свет утреннего солнца и отра¬
жается в реке; деревья освещены волшебным образом; их
призраки полосят воду, куда спасается олень от пресле¬
дующих его всадников. Но к чему описывать виды, про¬
изведения живописи: они меня очаровывали, потому что
напоминали мне природу; теперь же передо мною сама
она, божественная! Скоро минет осень, скоро пройдет
зима, и она в своем вешнем одеянии примет меня в свои
объятия, — может быть, под небом благословенного Про¬
ванса!
Ни слова также о славных картинах Теньера, Вувер-
мана, Розы-ди-Тиволи, Снейдерса, которых здесь довольно
большое число: вы, друзья, их знаете, хотя и не видели.
Теньер, всегда однообразный и отвратительный, в Дрезде¬
не тот же, что в С.-Петербурге: у него везде пьяные
мужики, растрепанные солдаты, толстые бабы, грубые
пляски, карты и вино. Вуверман неутомим в представлении
дыма, пальбы, беспорядка, белых лошадей, желтых кафта¬
нов и голубых перевязей. Роза-ди-Тиволи, или, правильнее,
Филипп Роз, в двадцати картинах представляет одно и
то же: темно-синий воздух, коров и горы, горы, коров и
* Прекрасно описано у Тика (Phantasien) явление во сне божией
матери Рафаэлю. Мы постараемся сообщить сие описание нашим чита¬
телям (издатели).
367
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
темно-синий воздух. Снейдерсовы изображения животных
и растений превосходны, но, видевши одно, можно сказать:
я видел все.
письмо XX
6 (18) ноября. Дрезден.
В последние часы нашей бытности в Дрездене я бесе¬
дую с вами, мои милые! Надеюсь, что мне удастся
описать вам еще хотя часть внутренней галереи: я ей при¬
нес большие жертвы, не успел видеть ни славного зеленого
свода, где, как у нас в московской Грановитой палате,
хранится царская утварь — венец, скипетр, алмазы Элек-
торов и королей Саксонских, ни собрания древностей, ни
оружейной палаты, которая, говорят, важна и заниматель¬
на. Каждое почти утро был я в галерее, смотрел и учился;
чувствую, что влияние картин на мое воображение было
благодетельно: призраки и мечты, которые являлись душе
моей, тревожили ее, но исчезали в туманах, когда устрем¬
лял на них взоры; эти призраки носятся теперь передо
мною, как прежде, но, кажется, получили более ясности,
более определенности.
Наконец вижу самое тебя, труженица, чудное создание
Баттониевой кисти!1 я любил тебя, восхищался тобою
и в слабых списках и подражаниях: здесь ты сама передо
мною! взгляните на шелк ее бледно-золотых волос, которые
падают на светлую шею и благоуханное лоно! Взгляните
на розовые персты, на руки, сжатые с чувством глубоким,
истинным, трогательным, на свежие пурпуровые уста, на
прелестную складь (драпировку) ее голубого одеяния!
Здесь чистое выражение раскаяния, скорби, задумчивости
во всех чертах! Магдалина, простершись в уединенной
пещере, оплакивает свои заблуждения: отказываясь от
них, она переносит в свое святилище то же сердце, кото¬
рое было, может быть, причиною ее падения, но и в самом
падении возвышало ее над толпой тех, коих добродетель —
одна мертвая холодность. Отец любви ее принял с мило¬
сердием!
Мила, очень мила головка девушки, которая стоит на
коленях перед умирающей Лукрецией в картине Францис¬
ка Молы. С красноречивым отчаянием она смотрит на ту,
которая уже не будет ей сестрою, другом, наставницей; с
страстным, судорожным чувством она ломает руки: к та¬
кой печали и к такой привязанности способны одни жен¬
368
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
щины, зато только и им так к лицу горесть! Признаюсь,
это смуглое личико с своими живыми полуденными глаз¬
ками, с своими каштановыми волосами, которые прелест¬
ным беспорядком округляют все ее очерки, несколько раз
удерживало меня перед довольно посредственным, впрочем,
произведением.
Заметим мимоходом смелое наклонение тела спасите-
лева и смелое падение одежды его в «Вознесении» Бас-
тиана Рикчи2; в самом деле здесь что-то сверхъестествен¬
ное, парящее — и остановимся перед изображением Аф¬
родиты и ее сына3 кисти сладостного Гвида Рени!
ПИСЬМО XXIV
13 (25) ноября.
...Мы подошли теперь к произведению великого Кор-
реджио1. Четыре раза Корреджио переменял свое мнение
о том, что почитал обязанностью, свойствами, достоин¬
ствами великого художника, и каждый раз более прибли¬
жался к совершенству*. Шиллер представляет нам подоб¬
ный пример в драматическом искусстве.
Да научимся из истории сих великих мужей жертво¬
вать своими любезнейшими правилами, привычками и мне¬
ниями тому, что принуждены будем признать лучшим;
не будем никогда противиться своему внутреннему
убеждению по упрямству и самолюбию и предпочтем
всему истину и совершенство. Корреджио учился постепен¬
но у Бианки и Андрея Монтеньи, двух художников
старинной Италианской школы, имеющей свои достоин¬
ства, но жестокой и лишенной всякой прелести**. Будучи
еще молодым человеком, он чувствовал недостатки своих
наставников и решился проложить себе дорогу собствен¬
* « Как облака на небе,
Так мысли в нас меняют легкий образ:
Мы любим и чрез час мы ненавидим;
Что славим днесь, заутра проклинаем!»
«Аргивяне»2, д. 3, явл. 3
Если бы меня ныне, в 1824 году, спросили, считаю ли по сю пору каждую
перемену в образе мыслей Корреджио новым шагом к совершенству,
меня привели бы в большое недоумение! Мимоходом только замечу, что
через 9 месяцев, в мою вторую бытность в Дрездене, св. Франциск по
величественной простоте целого казался мне творением гораздо высшего
разряда, нежели св. Георгий.
Замеч(ание) авт(ора).
** И в рассуждении ее я во многом стал иначе думать.
Замеч(ание) авт(ора).
13—907
369
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ную: он начал замечать размеры человеческого тела,
начал просто глазами и без руководителя учиться остио-
логии и анатомии и наблюдать краски и тени в самой
природе. Таким образом составил Корреджио себе свой
первый род, имеющий гораздо более правильности и точ¬
ности, нежели картины его предшественников, но в то же
время не лишенный теплоты — вдохновения и чувстви¬
тельности, которые дышат в самых даже безобразных
произведениях школ старинной Италианской и старинной
Германской. Его святой Франциск дает нам полное поня¬
тие о всех достоинствах и недостатках сего первого
периода его самобытной эстетической жизни. Содержание
картины следующее: Богоматерь сидит на высоком престо¬
ле и держит на коленях младенца-спасителя; благословля¬
ющий взор ее покоится на святом Франциске, и десница
простерта над его головою; сам праведник в одежде осно¬
ванного им духовного чина преклонил колена перед цари¬
цею небесною и весь погрузился в самого себя; позади
Франциска мы видим св. Антония Падуйского с книгою и
лилеею в руках; по другой стороне впереди стоит св. Иоанн
Креститель: он, кажется, смотрит на нас и указывает нам
на того, чьим был предтечею и кому уготовил путь в своем
земном странствовании. Возле него св. Екатерина с паль¬
мовою ветвию, окруженная орудиями своей смерти. На
подножии престола изображены некоторые события Вет¬
хого Завета. Все сии образы величественны, смелы; впро¬
чем, кроме самого Франциска, они не имеют той легкости,
которую замечаем в произведениях современных, но Кор¬
реджио тогда еще вовсе были неизвестны творения
римских художников. Несмотря на жесткость, богатый
вымысл и строгая важность всей картины вселяют благо¬
говение в зрителя.
Корреджио, будучи еще учеником Бианки и Андрея
Монтеньи, не знал, но предчувствовал уже ту прелесть,
которая столь пленительна в творениях четвертого его воз¬
раста. Решившись идти собственным путем, быть творцом,
а не подражателем, Корреджио недолго обращал все свое
внимание только на усовершенствование живописи, цар¬
ствующей в его родине; он вдруг устремился искать новых
красот, тревоживших его душу в смутных видениях. Тог¬
да уже он видел небесных дев, Харит, хотя туман еще и
скрывал от него их таинства, хотя их появление, для него
новое, восхитительное, и заставило его забыть на время
370
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
строгость и величие, коих они страшатся только по-видимо¬
му, но, собственно, едва ли не всего более любят украшать
своими свежими цветами.
Таким образом произошел второй период Корреджиева
искусства. В нем художник еще только ловит Грацию,
нередко слишком страстно, и потому иногда выпускает ее
из рук своих. К произведениям сего времени жизни
Корреджиевой принадлежит его святой Георгий. Располо¬
жение сей картины чрезвычайно сходствует с предыдущею:
мы снова видим на высоком престоле святую Деву с
ее божественным сыном; перед нею стоит победоносный
воитель господень, от коего вся картина заимствует свое
название: он прикрыт светлым панцирем и держит в
правой руке копье; левая нога его попирает сраженного
дракона. Перед ним четверо голых детей играют его мечом
и шлемом. За ним стоит св. Петр Мученик. С другой сто¬
роны являются св. Иоанн Креститель и св. Геминиян; пос¬
ледний готовится вручить Богоматери образец построенной
им в Модене церкви, которую подносит улыбающийся
мальчик. Голова святой Девы была бы неподражаемо пре¬
лестна для простой смертной; но красота царицы небесной
должна быть величественнее. Святой Георгий превосходен
и смелостию своих очерков живо напоминает изображения
мужей великого Корраччи. Мальчик, держащий над своею
головою Моденскую церковь, соединяет в себе все, что
Корреджио тогда разумел под прелестным, и в самом деле
заслуживает по своей милой, приветливой улыбке, чтоб мы
его отличили от прочих четырех детских изображений, на
чьих не слишком правильных лицах эта самая улыбка
близко подходит к кривлянию. Впрочем, прежняя Корред¬
жиева жестокость здесь уже в гораздо уменьшенной сте¬
пени и только несколько видна в положении тела и в дви¬
жениях рук, не слишком свободных. Если бы Корреджио
продолжал писать в этом роде, может быть, он впал бы в
театральную принужденность, с коею познакомили нас
италианские и французские живописцы веков XVII и
XVIII, и удалился бы навсегда от истинной прелести, не¬
разлучной с простотою.
Но Корреджио был гений; но Корреджио около сего
времени узнал Микеля Анджело и творения римской жи¬
вописи. Он возвратился к простоте своего первого периода
и удержал все истинно превосходное второго; кроме того,
научился такому расцвечению, к которому подходят цветы
13**
371
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
редкого живописца позднейшего времени; к сему третьему
периоду Корреджиевой жизни принадлежит его славная
картина «Святая ночь». Когда мы в первый раз навестили
галерею, А. Л. подозвал меня к ней и несколько раз пов¬
торил: «На колена! На колена!» И в самом деле, освещение
меня так поразило, что я готов пасть на колена. Содержа¬
ние этого известнейшего Корреджиева творения — по¬
клонение пастырей. Свет исходит от самого младенца
Иисуса; солома под ним как будто превратилась в связку
лучей солнечных; блеск его преображает черты матери, ко¬
торая лицом склонилась на ясли, а с другой стороны ос¬
лепляет трех пастухов, пришедших обожать дивного мла¬
денца; но не только они, и облако, ниспустившееся с ангела¬
ми в смиренную обитель спасителя, и сии ангелы сами — все
вокруг заемлет сияние от него, от отца света. Позади
виден в мраке св. Иосиф, занятый кормом осла, и еще
далее вне вертепа несколько пастухов при стаде: очерки
их оттеняются от темно-синего воздуха; край небосклона
белеет, а слабый рассвет едва только рождается. Чем
долее смотришь, тем более забываешься, тем более сердце
готово верить сверхъестественному!
Но рассмотрим порознь каждое действующее лицо сего
чудного представления: пастухи, пришедшие обожать спа¬
сителя, могут быть отец, сын и мать. Сия последняя,
слабая женщина, поражена священным ужасом и с трепе¬
том, заслоняя лицо руками, отступает назад. Сын, не пос¬
тигающий совершенно всего, не чувствует боязни матери,
но любопытство не допускает до его души того благогове¬
ния, которое бы его исполнило, если бы знал, что здесь
совершается; он обращается с вопросом к отцу: этот
вопрос видишь во всех чертах, во всем положении его
тела. Старик, который столько же превышает своих това¬
рищей душою, сколько превосходит их величественным
ростом, стоит к зрителю боком и склонился на посох:
все черты его, хотя видны только вразрез, выражают
тихую, глубокую задумчивость; судьба, кажется, разобла¬
чается перед взором сего мудрого пастыря. Темнота не
позволяет распознать лица Иосифа; но наклонение его
тела показывает, что и его занимают великие мысли.
Черты ангелов являются радость и благоговение.
Что мне сказать о тебе, святая матерь? Какое чувство
исполняет в сие дивное мгновение твою божественную
душу? Всмотритесь в нее; она вполне матерь, она вся лю¬
372
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
бовь. Неувядаемая святость расцветает на сих бледных
ланитах и веждах, которые ослабели от страдания, но его
не заметили! В выражении лица неисчерпаемый источник
самоотвержения, любви и смирения! К чему после того
черты и размеры, которые бы были строже и правильнее
и более подходили к красоте лиц греческих? Можно ли
после того заметить, что и в этом чудесном произведении
художник изредка впадает в недостатки своего второго
периода, что чувство, может быть, слишком резко говорит
на лице жены пастыря, что ангелы тяжелы, ноги их длин¬
ны и их движения могли бы быть свободнее?
Прекрасная Магдалина Корреджиева принадлежит к
сему же третьему его периоду, но уже составляет переход
к четвертому. Несмотря на простоту всего вымысла, в этой
картине приметно, что Корреджио уже более уверен в се¬
бе, что он уже знает истинную Грацию и потому смелее
может следовать ее вдохновениям. Подобно Баттониевой
Магдалине, Корреджиева в уединении занята размышлени¬
ем. И та и другая в голубой одежде; но Баттониева писана
почти вразрез, а Корреджиева к нам обращена лицом! Ло¬
коны сей последней мягкостью и нежностью превосходят
даже локоны Баттониевой.
Наконец мы перед последнею картиною Корреджио.
Она называется св. Севастияном и по своему вымыслу на¬
поминает первую и вторую из находящихся здесь картин
художника. И здесь св. Дева благословляет ратника за
слово божие, но св. Севастиян не в мирной одежде свя¬
щенника, не в блестящих доспехах воина: он привязан к
дереву и готов принять смерть мученическую; небесная,
младенческая радость на лице святого юноши! прелестное
видение исполнило всю его душу, и он, кроме него, ничего,
ничего не видит. Впереди на коленях св. Геминиян в
священническом облачении, он указывает на мученика.
Возле него опять мальчик с Моденскою церковью. С пра¬
вой стороны представлена смерть святого Роха. На небе
по обеим сторонам Богоматери преклоняют колена два
младенца; а трое других, из коих один верхом на облаке,
кружатся в невинной резвости, подав друг другу руки. Мы
имеем уже понятие о выражении, о характере св. Севас-
тиана. Св. Геминиян почтенный старец: в чертах его живое
благочестие. Но всего милее, всего прелестнее дети, ок¬
ружающие царицу небесную, особенно двое первых.
С каким чистым чувством они простерли к ней свои ма¬
373
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ленькие руки; сколь несказанно просты и невинны их ли¬
чики, которых никогда не искажали ни страсти, ни вина,
ни печали, которые знали одну любовь и радость! Как
прелестно падают с чела вперед их длинные каштановые
локоны! Как мило склонились головки их! Здесь все: сво¬
бода, легкость, правильность, воображение, чувство! Сами
Грации водили кистию Корреджио, когда писал он этих
божественных младенцев. Надеюсь, что не слишком долго
останавливался на произведениях Корреджиевых: история
успехов и заблуждений великого художника с примерами
из его собственных творений показалась мне заниматель¬
ною и удобною развить некоторые истины, важные в фе-
ории изящных искусств и поэзии, входящие в состав всех
их.
Теперь станем продолжать свою эстетическую про¬
гулку.
Перед нами великолепное торжество Бахуса3; рисунок
оного — руки Рафаэля и находится ныне в Англии,
картина же писана художником Бенвенуто Гарофило,
прозванным Тизио. Здесь каждое изображение должно
быть предметом внимательного, глубокого изучения для
молодого художника; но превосходнейшее изо всех —
пьяный Силен, которого фавны и сатиры держат надо
львом. Блаженное расслабление, которое разлито по его
членам, приводит в отчаяние всякого описателя.
Теперь мы стоим у преддверия святая святых: друзья!
вы видите Мадонну ди Сан-Систо, дивное создание Рафаэ¬
ля! Вы смотрите, и на лицах ваших что-то похожее на
ропот неудовлетворенного ожидания; вас удерживает изъ¬
явить неудовольствие одно опасение показаться людьми
без вкуса.
Утешьтесь: может быть, то же было со всеми, взглянув¬
шими в первый раз на сие простое и при всей своей
простоте божественное творение! Признаемся, что его рас-
цвечение слабо, что оно гораздо живее не только во всех
произведениях Корреджио, Тицияна, Гвида, Корраччи,
но и в картинах многих второстепенных художников.
Вымысл Рафаэлевой картины прост: но неужели в нем нет
ничего необыкновенного? Богоматерь спускается на облаке
со своим божественным младенцем; святая Варвара и один
из патриархов римской церкви стоят по обеим сторонам
на коленях. Два покоящихся внизу ангела, которые видны
только по грудь, обратили взоры вверх, к небесной Матери.
374
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
Зеленая занавесь поднята с обеих сторон, и все небо сос¬
тавлено из бесчисленного множества голов херувимских:
каждая их сих последних образцова, каждая из сих носит
на себе печать совершенства! Но тайный трепет прокрался
в душу мою! Передо мною видение — неземное: небесная
чистота, вечное, божеское спокойствие на челе младенца
и Девы; они исполнили меня ужаса: могу ли смотреть на
них я, раб земных страстей и желаний? Что же? Кротость,
чудная кротость на устах Матери приковала мои взоры: я
не в силах расстаться с сим явлением, если бы и гром
небесный готов был истребить меня, недостойного! Пос¬
мотрите, она все преображает вокруг себя! с младенческим
благоговением взирает на нее сей священный старец,
сложивший перед нею тиару! Глубокомысленно, с высоким
чувством устремляет к ней свои прекрасные очи сей
ангел-младенец, опершийся на одну руку; внимательно и
тихо смотрит даже товарищ его, который, кажется, только
что перестал кружиться по воздуху: он вдруг увидел Бо¬
жественную и невольно забылся в ее лицезрении! Свя¬
тая Варвара, отблеск чистоты и кротости небесной царицы,
стоит перед нею с потупленными взорами и в тишине
сердца принимает влияние ее благодати. Мысли и мечты,
которые озаряли и грели мою душу, когда глядел на сию
единственную Богоматерь, я описать ныне уже не в сос¬
тоянии; но я чувствовал себя лучшим всякий раз, когда
возвращался от нее домой! Много видел я изображений
чистых дев, нежно любящих матерей; в глазах их веру,
вдохновение и ту скорбь, которой я готов был сказать:
ты неизреченна! Мне говорили: они представляют Мадон¬
ну; но она одна и явилась Рафаэлю!
«Кто однажды вкусит небесное, — говорит один из св.
отец, — тот уже чувствует отвращение от земной пищи».
Но то же самое вдохновение, которое исполнило Рафаэля,
ниспускалось в душу и других художников, хотя было и
слабее, хотя и отражалось в них не по всей чистоте
первобытной. Станем его отыскивать и порадуемся, где
найдем следы его!
В св. Матфее Аннибала Корраччи сильная кисть
художника смело представила образец величественного
мужа: положение его поднятой вверх головы превосходно;
он скрижаль свою держит свободно и восторженно.
Не менее прекрасен в своем роде св. Иоанн Креститель,
стоящий по другую сторону престола Богоматери и указы-
375
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
вающий на младенца-спасителя: все его тело говорит, и
кажется, слышу слова его: «Се агнец божий!» Св. Фран¬
циск, лобзающий ногу спасителя, несколько слабее, хотя
его голова хороша, расцвечение и склад одежды совер¬
шенны; но не смотрите, особенно после Богоматери Ра¬
фаэлевой, на эту Мадонну и на младенца ее: в них ничего
нет высокого4. Корраччи не часто постигал красоту, хотя
редкий подобно ему владел силою и смелостию.
Вот два изображения по пояс Карла Дольче5, при¬
надлежащего к лучшим живописцам XVII столетия: он
менее других удалился от простоты средней Италианской
школы. Здесь дочь Ирода и св. Цецилия, его работы; в обеих
расцвечение гораздо темнее его обыкновенного, рисовка
гораздо свободнее и естественнее. Особенно прелестна
Цецилия: ее опущенные длинные ресницы придают ей что-
то таинственное, неизъяснимое; лицо чрезвычайно нежно и
писано с большим старанием (con amore)*, а губы так
душисты, мягки и алы, что разлучаешься с ними только
поневоле, только для того, чтобы остановиться на перстах
ее чудных рук, которые, кажется, единственно для того и
созданы, дабы вызывать из клавишей звуки волшебные; под
густыми каштановыми локонами мы видим высокое, мыс¬
лящее чело, которому столь же знакомо вдохновение,
сколь знакомо чувство душе, разливающейся по всем чер¬
там ее.
Вот картина, которая имеет и непременно должна
иметь большое достоинство для живописца; но поэта, ста¬
рающегося отыскать в произведении художеств идеал, она
оставляет равнодушным. Говорю о картине Джюлия Ро¬
мано, известной под названием Марии с ванною6: молодая
мать моет своего ребенка; другой, побольше, стоит на сто¬
ле возле ванны и приливает воду; все фигуры в некотором
отношении превосходны: они правильны, свободны, мягки,
красивы. Но где здесь св. Дева, Иисус, Иоанн? Где и тень
того, что требуешь от их изображения? Картины такого
рода похожи несколько на стихотворения, писанные для
одних стихотворцев, то есть такие, из которых поэт может
учиться слогу и гармонии, которые представляют его во¬
ображению свежие, новые краски, смелые, необыкновенные
обороты, но в которых нет богатых, глубоких мыслей и
общей для всех занимательности.
♦ С любовью (итал.). — Сост.
376
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
Заглянем на минуту в галерею пастелей и остановимся
только перед прелестным Амуром Рафаэля Менгса7, а
потом посмотрим, не получим ли из всего нами виденного
таких общих следствий, которые бы просветили нас в рас¬
суждении феории изящных художеств и матери их поэзии.
Какие картины должны быть признаны лучшими, образцо¬
выми в большом множестве разных родов, художников,
земель и времен, нами рассмотренных? Без сомнения, те,
которые, удовлетворив главным требованиям искусства, в
то же время удовлетворяют вкусу и потребностям души
лучшей части зрителей, то есть одаренных чувством,
воображением, рассудительностию и постигающих вдохно¬
вение; другими словами — те, которые в большем совер¬
шенстве соединяют чувство, воображение, обдуманность и
плод вдохновения — идеал с правильностию и красотою
рисовки, анатомии, размеров, перспективы и свежестью
красок, те, которые в большем совершенстве соединяют
поэзию с искусством. Нидерланды по большей части
знали одно искусство, а художники старинных школ
Италианской и Немецкой одну поэзию, и она, именно по¬
тому, что была только поэзия, не могла у них возвыситься
до идеала: одни лучшие живописцы лучшего времени
Италии постигали и чувствовали совершенство, и никто
более Рафаэля. В словесности точно таким образом: мож¬
но разделить писателей на поэтов и слогоискусников,
к которым последним причислим и тех стихотворцев,
коих единственное достоинство хороший слог и гармония;
в Англии много поэтов, но мало стилистов; Франция
изобилует стилистами и едва ли может назвать нам
двух или трех истинных поэтов; Гомер соединяет в себе
поэзию с искусством писать в той же степени, в которой
Рафаэль поэзию и искусство изображать.
ПИСЬМО XXXII
15 (27) декабря. Авиньон.
...Лионский музеум, в котором я был два раза, доставил
мне большое наслаждение. Здесь в большом множестве
древностей важен огромный мозаик, представляющий при¬
мерное морское сражение и служивший, вероятно, помос¬
том в летнем доме или в бане какого-нибудь богатого
лугдунского гражданина1. Из произведений новейших за¬
няли меня особенно Персей и Андромеда из алого мрамора
работы ваятеля Шинара: смелость, легкость, прелесть всех
377
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
частей тела Персеева достойны Торвальдсена, достойны
древних; на лице его дышит нежнейшая заботливость; он,
оборотясь, смотрит на Андромеду, которую, спасенную,
но полумертвую от ужаса, несет на руках. Как жаль,
если справедливо, что Шинар, довольный приобретенным
богатством, перестал трудиться для славы и бессмертия!
Картин в Лионском музеуме немного, но некоторые
важны для любителя. Филипп де Шампань, хотя собствен¬
но родом из Брюсселя (фламанец), может служить нам
примером всех достоинств и недостатков большей части
исторических живописцев Французской школы. Его рисов¬
ка верна, расцвечение свежо; правила анатомии везде соб¬
людены; складь одежды тщательна и вместе свободна; в
его лицах есть что-то красивое — в них все черты, вся
наружность, все, если смею сказать, телесное идеала, но
нет и тени той высокой прелести, которая одна утончен¬
ную земную природу возвышает до истинного идеала; вы¬
ражение его лиц разительно, но по большей части ложно
и принужденно, и потому его лучшие произведения полу¬
чают что-то похожее на кривляние. Филипп де Шампань
заимствовал все свое искусство у лучших италианских
художников; но он не был Промефеем: он не мог похитить
их вдохновения. В Лионе его лучшее произведение —
известная «Святая вечерь», в которой, как говорит преда¬
ние, изобразил он в виде апостолов своих друзей — пор-
рояльских отшельников. Признаюсь, что я готов верить это¬
му сказанию; по крайней мере нет сомнения, что все
лица в этой вечере — портреты. В сем отношении эта
картина Филиппа де Шампань принадлежит к одному
разряду с прекрасною грешницею работы Пиомбо,
виденною мною в Берлине; но Пиомбо несравненно пре¬
восходит французского художника даже и в этом, не столь
трудном роде. Примечательнейшее из лиц последнего —
Иуда.
Кроме «Вечери» здесь еще несколько картин работы
Филиппа де Шампань: мы заметим открытие мощей —
святых Гервазия и Протазия. Целое в том роде, который
италианцы называют грандиозным, но здесь особенно ра¬
зительно ложное выражение на всех лицах и во всех тело¬
движениях. Вымысл отвратителен; мы видим здесь в про¬
изведении французского художника XVII столетия ту
склонность к изображению ужасов, убийств и крови, ко¬
торая господствует и в работах их позднейших живопис¬
378
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
цев, например Давида, и которая французским трагикам,
особенно Вольтеру, внушила их самые громкие тирады.
В присутствии святого Амвросия вынимают тела мучени¬
ков из могил и находят свежие знаки их казни. Примеча¬
тельно, что из окружающих Амвросия священников один
смотрит в лорнет на мощи Христовых воителей. Вся
картина поразит сначала; но чем более смотришь на
нее, тем более находишь в ней недостатков; творения
великих мастеров, напротив, тем более приобретают пре¬
лести, чем долее глядишь на них.
В изгнании продавцов из Храма Жан Жувене (Jouvenet)
ничем не уступает в дожном величии Филиппу де Шампань.
Иисус без малейшего признака божественности своего
гнева.
С удовольствием остановишься после сих ложнопрек¬
расных детей Французской школы на истинно прекрасном
произведении лионского уроженца Иакова Стелы. Младе¬
нец-спаситель в объятиях Богоматери принимает поклоне¬
ние ангелов. В вертепе возле яслей сына, в обители
нищеты и смирения, Мария видит всю славу небесную:
в чертах ее выражение чистейшей любви и невинности.
Созерцание этого благодатного лица согревает душу, и
признаюсь, мне нужно было согреться после холодной
пышности Филиппа де Шампань и Жувене!
К лучшим картинам Лионской галереи принадлежит
портрет славного Миньяра, писанный им самим: из этого
портрета видно, что Миньяр был левша; он представил
себя за работою. Иносказания почти всегда холодны;
но кисть великого мастера может остановить зрителя и
перед ним: истинное выражение и живопись могут придать
им занимательность настоящего происшествия. Такова
аллегория, которую здесь представил нам Рубенс2. Земля,
опутанная чудовищным змеем, Развратом, вызывает про¬
тив себя гнев сына божия, который готов спуститься к
ней, вооруженный перунами казни. Святые Доминик,
Франциск и некоторые другие простирают к нему руки,
чтобы молениями спасти обитель смертных от разруше¬
ния; изображение судии небесного смело и живо; все его
тело находится в самом стремительном наклонении; зри¬
тель каждый миг должен ожидать, что он со всеразрушаю-
щим громом ниспадет на грешников; расцвечение заслужи¬
вает удивления; но Рубенс был бы не Рубенс, если бы
не включил толстой голландки в число своих праведниц.
379
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Одна из его лучших мною виденных картин — «Покло¬
нение волхвов»: оно служит украшением Лионской гале¬
реи. Рубенс не есть живописец Грации; но мальчик, кото¬
рый здесь между двумя волхвами, так мил, так прелестен,
его голубые глаза так живы и в то же время исполнены
такой доброты, что, кажется, сама Грация водила хотя раз
рукою живописца силы. Но самая трудная задача картины
разрешена в изображении царя эфиопского: в этой голове
Рубенс показал себя истинно великим художником. Он
безобразным чертам и смуглому цвету эфиопского лица
придал столько благочестия и душевной теплоты, что за¬
бываешь его наружную отвратительность и с удоволь¬
ствием останавливаешься на выражении.
Кисти Ван дер Мейдена здесь — города Лиль и Кале;
последний сколок не без достоинства: перед городом
проходит конница, дождь начинает накрапывать; ветер
поднимается и волнует верхи дерев; беспокойство рас¬
пространяется между лошадьми: они встают на дыбы, ма¬
шут гривами и предчувствуют непогоду.
В Дрездене я видел две картины Франциска Альбани,
живописца прекрасных детей и пригожих женщин; но, не
знаю почему, они тогда на меня не сильно подействовали.
Нет сомнения, что Дрезденская галерея чрезвычайно
худо расположена и темна; кроме того, в ней столько
превосходного, что, надеюсь, мои читатели мне простят,
если, говоря о Рафаэле, Корреджио, Рубенсе, забыл я
упомянуть о двух маленьких картинах Альбана, которые,
кроме того, показались мне произведениями посредствен¬
ными. В замену в Лионском музее два Альбана, на кото¬
рых я не мог наглядеться. Один представляет крещение,
другой Иоанна Предтечу, проповедующего в пустыне.
Христос и его креститель окружены ангелами; над Иису¬
сом парит в виде голубя дух святой; живописные берега
Иордана представляют превосходно округленное целое.
Теперь взгляните на спасителя: какая нежность и гармо¬
ния в этом теле, какое смирение на этом лице! Взгляните
на ангела, подающего ему полотенце: можно ли вообразить
себе совершеннейшее соединение чистоты и прелести?
Глядя на него, я просил прощения у Альбана, что в
Дрездене осмелился подумать: он не стоит своей славы!
Иоанн возвещает пришествие спасителя мира: старцы
и дети, мужчины и женщины внимают его таинственному
слову. Некоторые сидят рядом на возвышении; другие
380
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
слушают его стоя; третии расположились внизу на благо¬
уханной, свежей траве. Между последними молодая жен¬
щина с грудным младенцем: ее глаза, облик, уста — все
прелестно. Неподалеку от ней мы видим старика, который
стоит здесь, чтобы представить красоту совершенно друго¬
го рода: прекрасная мать с своим младенцем представляет
нам жизнь, старец — бессмертие.
Ужасный Эспаньелетто меня заставил содрогнуться:
он представил тело св. Франциска Ассиеского таким,
каким оно долгое время виделось в церкви, посвященной
ему папою Григорием IX, то есть стоящим в углублении
стены с отверстыми, обращенными к небу глазами.
Признаюсь, я давно не видел ничего, возмутившего меня
до такой степени.
Далее Перуджино, учитель Рафаэля, изобразил двух
своих хранителей — святых Иакова и Григория, и я уви¬
дел на их лицах столько души, столько теплоты и благо¬
честия, что от всего сердца полюбил их и охотно забыл
неверную рисовку художника.
Но лучшая его картина изо всех мною виденных и,
как уверял меня мой чичероне, умный француз, побывав¬
ший в Италии и Германии, изо всех им писанных —
«Вознесение». Лица апостолов в самом деле неподражаемо
выразительны, свежесть цветов чудесна; но и в этом во
многих отношениях образцовом произведении Перуджино
заплатил дань своему веку: он окружил спасителя какою-то
радугою, которая, не имея ни малейшей воздушности,
кажется, противится его парению. На лице Богоматери,
стоящей впереди апостолов, что-то такое утешенное,
уверенное, торжествующее, любящее, чему нет названия,
что можно чувствовать и написать, но о чем едва ли мож¬
но в словах передать понятие. Перуджинова Мадонна,
как говорят, служила образцом к славной Рафаэлевой
святой Цецилии, находящейся ныне в Флоренции.
Но хотите ли вы видеть истинное вознесение на небо?
Посмотрите на этот легкий, парящий эфирный образ
пресвятой Девы работы Гвидо Рени3. Вот, без сомнения,
лучшее украшение Лионской галереи. Трудно, я готов
сказать — невозможно, вообразить себе большей гармонии
во всех частях, нежнейшего расцвечения и большей лег¬
кости; выражение истинно и чисто; Божественная вся уже
принадлежит небу; земные страдания ее исчезли, и в душу
ее нисходит блаженство вечное.(...)
381
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ПИСЬМО XLIII
31/19 января 1821
С того времени, как мы живем вдвоем, я познакомился
гораздо короче с нашим молодым художником*; с дня на
день нахожу в нем более и более расположения ко всему
прекрасному и высокому. Один из наших спутников оста¬
вил мне здесь свою небольшую библиотеку немецких клас¬
сиков: наш живописец еще очень мало читал; стараюсь его
несколько познакомить с отечественною его словесностию.
Иногда вечером мы читаем вместе или сильного, страстно¬
го Бюргера, или божественного мечтателя Шиллера, или
милого певца Гельти; нередко книга упадает у меня из рук
и неприметно начинается у нас разговор о природе, о по¬
эзии, о сердце человеческом. Эти вечера, мой Д...1, меня
всякий раз переносят в наш родимый Лицей, в наш фехто¬
вальный зал, где мы с тобою читали тех же самых поэтов
и нередко с непонятным каким-то трепетом углублялись в
те же таинства красоты и гармонии, страстей и страдания,
наслаждения и чувствительности! Может быть, мой друг, и
ты вспомнишь лета нашей беспечности и ее радости,
когда сообщу тебе содержание нашего вчерашнего разго¬
вора.
Мой юноша признался мне, что некогда при имени по¬
эта представлял себе полубога без слабостей и пороков.
Ныне, читая их жизнь, он видит, что по большей части их
душа была возмущаема страстями, что они нередко писали
иначе, нежели жили: это противоречие его мучит; он готов
счесть их лицемерами! Что отвечать ему на его сомнения?
Ужели, кроме дарования, ничто не возвышает великого
певца над толпою? Поэт — принимаю это слово в самом
высоком значении — всегда говорит то, что чувствует: ис¬
кренность — первое условие вдохновения. Итак, в то мгно¬
вение, когда он учит времена и народы и разгадывает тай¬
ны провидения, он точно есть полубог, без слабостей, без
пороков, без всего земного. Но самая способность к вдох¬
новениям предполагает пламенную душу, ибо только пла¬
мя может воспылать к небу! Что же есть пища сего пламе¬
ни? Великие страсти. Они молчат, они исчезают, когда орел
летит к солнцу; но потом голод гонит его с высоты, он
падает на добычу и вонзает в ее бока когти; ужели за то
вы уподобите орла ворону? Есть сильные или холодные
* Живописцем, которого А. Л. Нарышкин взял с собой из Дрездена.
382
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
души, которые могут на всю жизнь сковать свои страсти:
но они не знают вдохновения! Курций2 был пылкий юно¬
ша; я уверен, что он не чуждался даров Венериных и Вак-
ховых! Педант в своем кабинете и глупый мещанин в хар¬
чевне судят о великих полководцах и говорят с видом
решительным: «Наполеон здесь сделал ошибку непрости¬
тельную; Суворов должен был предпринять такое-то дви¬
жение; Кутузов забыл то, опустил другое, не успел совер¬
шить третье!» Потом наши мудрецы смотрят кругом себя
и, кажется, ожидают, чтобы все почтенные слушатели за¬
кричали в один голос: «О! В сравнении с вами, милости¬
вые государи, Наполеон и Суворов школьники!» То же
с поэтами: им завидуют и в то же время желают показать
презрение к их дарованию. Но чернь не способна даже
к заблуждениям душ великих. Люди, странные, непонят¬
ные создания! Вы гоните и ненавидите ваших благодете¬
лей: наслаждайтесь их гением; идите по пути, который вам
указывают, и помните, что они живут среди пороков и
развращения, живут между вами, что душа их способнее
вашей принимать впечатления и легче увлекается власти¬
тельной минутою. Почему брызжет жаба яд на смиренного
светляка? Он блестит, ибо блестеть и жить для него одно
и то же: он и не думал гордиться перед нею блеском
своим! И если бы вы знали, враги дарования, если бы
вы знали, какою ценою оно покупается! Поэт некоторым
образом перестает быть человеком: для него уже нет зем¬
ного счастия. Он постигнул высшее сладострастие, и нас¬
лаждения мира никогда не заменят ему порывов вдохнове¬
ния, столь редких и оставляющих по себе пустоту столь
ужасную! Он блуждает по земле, как изгнанник, ищет и
никогда не находит успокоения. Узы семейственной жизни
для него милы, но тягостны; он понимает тихое счастие,
но не способен к нему. В одних бурях, в борьбе с неумоли¬
мою судьбою взор его проясняется и грудь дышит свобод¬
нее: жизнь и движение — вот его стихия! Он с радостию
погибнет средь общего разрушения под гулом грома и при
зареве пожаров, но не в состоянии без ропота доживать
свой век среди мелких страстей и сплетней, в толпе на¬
божных Ксантипп3, глупых остряков и тех презрительных
юношей, которые, будучи заранее посвящены во все та¬
инства притворства и благопристойности, развратны до
гнусной отвратительности, но умеют скрыть свое распут¬
ство от глаз света и пользуются особенною милостию мо¬
383
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
лодых и старых раздавательниц доброго имени. Поэт
предпочитает страдание вялому, мертвому спокойствию.
Итак, простите ему, если он не всегда стоик, если, желая
чем-нибудь наполнить душу, желая дать хотя какой-нибудь
предмет своему внутреннему волнению, он иногда разделя¬
ет с вами ваши нечистые наслаждения и в своей беспеч¬
ности забывает осторожность, которая прикрывает ваши
заблуждения непроницаемою завесою!
Страстный, пламенный, чувствительный юноша решил¬
ся быть поэтом: удивитесь, по крайней мере, его отваж¬
ности! Он прочел опыты тех своих предшественников, ко¬
торых смерть скосила несозревших или которым страсти,
судьба и люди оборвали наконец крылия. Он бродил
между их творениями; между сими дикими развалинами
пышного, недостроенного храма. Может быть, они были
бы бессмертны, если бы было слабее пламя, пылавшее в их
персях! Он знает все это, знает, что его ожидают труды
алкидовы4, клевета, гонения, бедность, предательство, не¬
нависть, — ненависть самых друзей его и покровителей,
ибо он не исполнит их требований и уничтожит все расче¬
ты и надежды их! Умри он с голоду, пожмут плечми и
скажут: мы это предвидели! и пусть благодарят их все
поэты времен настоящего, минувшего и будущего, если не
прибавят: ничто же ему!!! Юноша-гений знает все это — и
решается быть поэтом.
В обществе живописец говорит: «Я живописец»; купец:
«Я купец»; и бестолковый барин: «Я князь такой-то!» — и
притом надувает подзобок, нос возносит к небесам и не
замечает смиренных поклонов своих ласкателей! Скажи
поэт: «Я поэт», — и со всех сторон подымется громкий хо¬
хот. «Почему?» — спросил я однажды двух моих знако¬
мых; они оба утверждали, что свет совершенно прав, но
долго не могли доказать, почему он прав. Бившись с чет¬
верть часа, наконец один из них сказал вполголоса: «C’est
comme qui dirait je suis vertueux!»*
Мы замолчали. Не знаю, чувствовал ли мой приятель
всю силу, весь вес своего золотого изречения!
«Поэзия есть добродетель!» — говорит и Жуковский5;
но чернь вправе не поверить поэту Жуковскому. В устах
же человека вовсе непоэтического это: «comme qui dirait»
неоцененно! Повторим же: поэзия есть добродетель, и ду¬
* Это как если бы кто-то сказал, что я добродетелен (франц.). — Ред.
384
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
ша вдохновения сохраняет в самом падении любовь к до¬
бродетели, в самых пороках она ищет великого; ее заблуж¬
дения подобны грозному водопаду, извержениям Везувия
и рокоту грома небесного: они разрушают, но в то же
время изумляют и возбуждают благоговение! Но не вся¬
кий — даже хороший стихотворец может называться поэ¬
том: напротив, всякий муж необыкновенный, с сильными
страстями, пролагающий себе свой собственный путь в
мире, — есть уже поэт, если бы он и никогда не писывал
стихов и даже не учился грамоте. Аттила и Говард такие
же поэты, как Руссо, Жан-Поль и Байрон! Буало — вели¬
кий стихотворец, а г. г. Ф. и Ц.6 врали, несмотря на
рифмы и глупость произведений их. Вернейший признак
души поэтической — страсть к высокому и прекрасному:
для холодного, для вялого, для сердца испорченного
необходимы правила, как цепь для злой собаки, а хлыст
для ленивой лошади; но поэт действует по вдохновению
и столь же мало гордится своею жизнию, как своими
творениями, ибо чувствует, что все, ему данное, есть дар
свыше, а он только бренный сосуд той божественной силы,
которая обновляет и возрождает человечество!
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
1831
17 декабря
Давно уже у меня в голове бродит вопрос: возможна ли
поэма эпическая, которая бы наши нравы, наши обычаи,
наш образ жизни так передала потомству, как передал нам
Гомер нравы, обычаи, образ жизни троян и греков? «Беп-
по» и «Дон Жуан» Байрона и «Онегин» Пушкина попытки
в этом роде, — но, надеюсь, всякий согласится, попытки
очень и очень слабые, если их сравнить с «Илиадою» и
«Одиссеею»: не потому, что самые предметы Байрона и
Пушкина малы и скудны (хотя и это дело не последнее),
но главное, что они смотрят на европейский мир, как судьи,
385
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
как сатирики, как поэты-описатели; личность их нас бес¬
престанно разочаровывает — мы не можем обжиться с их
героями, не можем забыться. Тысячелетия разделяют ме¬
ня с Гомером, а не могу не любить его, хотя он и всегда
за сценою, не могу не восхищаться свежестью картин его,
верностию, истиною каждой малейшей даже черты, кото¬
рою он рисует мне быт древних героев, которою вызывает
их из гроба и живых ставит перед глаза мои; ювеналов-
ские, напротив, выходки Байрона и Пушкина заставляют
меня презирать и ненавидеть мир, ими изображаемый, а
удивляться только тому, как они решились воспевать то,
что им казалось столь низким, столь ничтожным и гряз¬
ным. Нет, Гомер нашего времени — если он только возмо¬
жен — должен идти иною дорогою. (...)
18 декабря
(...) Пользу изящных искусств Шиллер полагает не в
мнимом нашем улучшении, которого многие от них требу¬
ют, но в освобождении человека как из-под ига чувствен¬
ности, так и из-под приневоливания мыслящей силы, в
слиянии сих двух борющихся между собою стихий и в
восстановлении тем возможности самовольного избрания
или того, к чему влекут нас ощущения, или того, чего хо¬
тят от нас законы ума; главною же выгодою изящного вос¬
питания находит он устранение препятствий, удерживаю¬
щих человека исполнить предписания своего высшего пред¬
назначения. Но красота перестает быть красотою, как
скоро душе дает определенное направление, и потому-то
так нелепы все поучительные и назидательные выродки
поэзии. (...)
1832
26 января
Не знаю, удастся ли мне ясно выразить мысль, которая
с некоторого времени носится в голове моей и мне кажет¬
ся довольно основательною. По Шеллингу, искусство есть
не что иное, как Природа, действующая посредством
(durch das Medium) человека1. Итак, всякое произведение
искусства должно быть вместе с произведением природы
вообще, природы человека в частности, природы творящего
художника в особенности: оно должно быть зарождено
386
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
в душе того, кто производит, должно быть необходимым
следствием его способностей, наклонностей, личности;
должно соответствовать потребностям его века и отечества
(времени и местности, составляющих в совокупности част¬
ное проявление человечества); наконец, должно быть ос¬
новано на мировых непременных законах творческой силы
и творимого естества. Истину сего правила относительно
к моему лицу я испытал в течение всей моей поэтической
жизни: чем хладнокровнее, чем точнее мои планы были
обдуманы, тем менее они мне удавались; напротив, всякий
раз, когда я следовал голосу мысли, зародившейся в глуби¬
не моего Я, поразившей меня незапно, когда сообразовал¬
ся с теми мгновенными вдохновениями, которые навевались
на меня обстоятельствами, и только не терял из виду глав¬
ной меты своей, — тогда успех неожиданный и непредви¬
денный увенчивал труд мой.
8 февраля
Что такое humour? Понятия не совершенно ясные все¬
го лучше определяются отрицаниями; итак: humour не
есть просто насмешливость, не есть одно остроумие, не
есть vis comica* без всякой примеси; humour не выражает¬
ся исключительно ни прямою сатирою, ни ирониею; на¬
смешник, остряк, комик холодны, их обязанность, ремесло
их — устраняться, избегать чувства; сатирик-саркастик
ограничивается чувством гнева, негодования. Юморист,
напротив, доступен для всех возможных чувств; но он не
раб их: не они им, он ими властвует, он играет ими, — вот
чем он с другой стороны отличается от элегика и лирика,
совершенно увлекаемых, порабощаемых чувством; юморист
забавляется чувствами и даже над чувствами, но не так,
как чернь забавляется над теми, над которыми с грубою
и для самой себя неприятной надменностию воображает
превосходство свое; но как добрый старик забавляется
детьми или как иногда в дружеском кругу трунишь над
небольшою слабостию приятеля, которого любишь и ува¬
жаешь. Юморист вовсе не пугается мгновенного порыва;
напротив, он охотно за ним следует, только не теряет из
глаз своей над ним власти, своей самобытности, личной
свободы. Humour может входить во все роды поэзии: са¬
мая трагедия не исключает его; он даже может служить
* Комическая жилка (латин.). — С ост.
387
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
началом, стихиею трагической басни; в доказательство
приведу Гетева «Фауста» и столь худо понятого нашими
критиками «Ижорского»: «Ижорский» весь основан на
юморе; автор смотрит и на героя своего, и на событие,
которое изображает, и на самые средства, которыми оное
изображает (чего никак не вобьешь в премудрые головы
наших Аристархов), как на игру, и только смысл игры сей
для него истинно важен; вот отчего во всей этой мистерии
от первого стиха до последнего господствует равнодушие
к самому искусству и условным законам его: поэт не боит¬
ся разочаровать читателя, потому что не хотел и не думал
его очаровывать; анахронизм его чудесного (махинации)
(Maschinerie), в котором упрекнул его какой-то критик
«С(ына) от(ечества)», основан именно на том же юморе,
на коем основан и весь план поэмы, и каждая сцена в
особенности.
18 марта
Прочел разбор Полевого «Опыта науки изящного»
Галича2; разбор вообще очень хорош, и книга должна быть
прекрасною: и критик, и автор основываются на Шеллин-
говом учении. В одном случае я не согласен с Полевым,
нападающим на Галича за то, что сей назвал вкус — умом
(разумеется, относительно к искусствам), а не волею; ко¬
нечно, вкус не соответствует полной идее, которую наши
новейшие мыслители означают словом — ум> но еще менее
воле: воля творит, производит, есть причина действий мыс¬
лящего существа; вкус же не деятелен — отрицателен. Он,
подобно совести, есть только формула соединения воли
и разума, и такое соединение, где именно перевес находит¬
ся с минусом к первому и ко второй с плюсом, и по сему
может, кажется, назваться совестию изящного, эстетиче¬
скою совестию. Это название вместе послужит к обозначе¬
нию общего вкуса (вкуса в идее) и частного (в явлении):
общий везде одинаков, как везде одинакова общая (в идее)
совесть. Непременный, всеобщий закон совести есть отри¬
цание: «Не делай ничего такого, что признаешь противным
благу». Непременный всеобщий закон вкуса подобным
образом есть отрицание: «Не твори ничего такого, что
признаешь противным лепоте». Слово же признаешь будет
фактором (производителем) всех различий и оттенок част¬
ных совестей и вкусов (в явлении): эти различия зависят
388
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
от степени способности частных лиц постигать идею блага
или лепоты в большем или меньшем совершенстве.
25 апреля
Вчера я забыл отметить, что ничего нельзя вообразить
прекраснее и трогательнее свидания Одиссея с Лаертом
в 23-й книге «Одиссеи». Это место можно бы привесть в
доказательство того, что и древним была известна поэзия,
изображающая чувства, хотя они (то есть греки, а не рим¬
ляне) и не знали поэзии, рассуждающей о чувствах (пос¬
ледняя, без сомнения, принадлежность позднейшего вре¬
мени). (...)
6 июля
Вчера я мучился хандрой — сегодня на душе легче: я
даже несколько и занимался — переводил «Ричарда III».
Сцена, которую предстоит мне перевесть*, напоминает
своим симметрическим расположением известную в «Ген¬
ри VI» между королем и двумя воинами, из коих один убил
сына, а другой отца своего. Без сомнения, идея сей послед¬
ней велика и выполнение мощно, но симметрия, которая
в таком случае более прилична музыке, нежели поэзии,
несколько ослабляет действие сей сцены на читателя, во
второй же она совершенно оперная.
7 июля
Гораздо труднее переводить то, что в Шекспире не
выдержит суда строгой критики (хотя и многое можно
бы сказать в оправдание таких мест), нежели то, что в нем
истинно превосходно: так, напр(имер), я в одно утро пе¬
ревел несравненное сновидение Кларенса, а оперная сцена,
о которой говорил я вчера, несмотря на то, что — благо¬
даря Аполлона — довольно коротка, у меня еще не совсем
кончена. Верх, же трудностей Шекспировы concetti**: вы¬
пустить их нельзя — без них Шекспир не Шекспир, а
между тем тут иногда бьешься над одним словом час, два
и более. Не могу не сберечь для памяти имени Георга То¬
маса, английского солдата, сделавшегося царем в Индии
(о нем в «Вестнике» в 9 книге в 9 №). Этот предмет может
мне когда-нибудь пригодиться для повести или романа.
·* Во 2-м действии между королевой, герцогиней Йоркской и
детьми Кларенса.
** Игра слов (итал.). — Сост.
389
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
8 июля
«Марфа Посадница», которой я более десяти лет не
читал, несмотря на кое-какие несообразности, без сомне¬
ния, одно из лучших произведений Карамзина. Так я всег¬
да думал и теперь думаю, прочитав эту повесть в «Вестни¬
ке». Последняя часть истинно хороша. Жаль только, что в
ней так мало истинно народного, истинно русского. (...)
16 июля
Достопримечательное явление в литературе — сочине¬
ние индейца Мирзы-Талеба-Хана «О свободе азиатских
женщин» (см. В(естник) Е(вропы), часть 11): оно напи¬
сано совершенно по-европейски и очень умно, несмотря
на то, даже из этой статьи все-таки видно, что женщины
азиатские невольницы, хотя подчас и бывают тиранками,
и что европейские свободнее их. К хорошим сочинениям
Карамзина принадлежит «Чувствительный и Холодный»,
хотя Холодный иногда не выдержан, а иногда несколько
карикатурен: впрочем, карикатура в большей или меньшей
степени почти всегда бывает неразлучна с подобною лаб-
рюеровскою игрою ума. Жаль в эстетическом смысле, что
Карамзин не продолжал своего «Героя нашего времени»
(он его); в этом отрывке истинный талант, несмотря на то,
что есть места переслащенные. В нравственном же смысле,
напротив, может быть, очень хорошо, что нет продолже¬
ния. «Вадим» Жуковского (в прозе, а не 2-я часть «Две¬
надцати спящих дев») — ученическое произведение3, но
спасибо Жуковскому, что он тут в введении вспомнил
столь рано отцветшего Андрея Тургенева, которого я ни¬
когда не знавал, но память которого была мне всегда — не
знаю почему — любезна.
31 июля
Прочел 5 и 6 песни «The Lay of the Last Minstrel»**
В последней «Баллада», которую на свадьбу леди Марга¬
риты поет Гарольд, чрезвычайно хороша. После всего хо¬
рошего, что я сказал о поэме Скотта, простят мне, если
искренне признаюсь, что Мур мне более нравится: между
поэзией Скотта и Мура почти то же различие, какое меж¬
ду гористою частию Шотландии и цветущими долами
* «Песнь последнего менестреля» (англ.). — С ост.
390
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
Кашемира: путешествовать по горам, над пропастями и
ревущими водопадами, под навесом живописных, страш¬
ных утесов, в виду океана, то в облаках, то над облака¬
ми — дело прекрасное! Но жить (как ни хвали прелесть
ужасов) — жить все-таки лучше в Кашемире.
1 августа
Поэма Вальтера Скотта, как в достоинствах, так и
недостатках, похожа на его романы. Подробности чрез¬
вычайно хороши, но — il faut trancher le mot* — целое не
удовлетворяет меня: заметно, что рассказ, вымысл (le fab¬
le**) для поэта последнее дело и, так сказать, только при¬
дирки для выставки описаний, картин и чувств поэтических.
Сегодня я наслаждался единственным драматическим
произведением Скотта — «Halidon Hill»***; это только на-
черк, но начерк превосходный. Сцена примирения Сюинто-
на и Гордона удивительна. Единственный недостаток,
поразивший меня, несколько длинные любовные рассуж¬
дения молодого Гордона во время сражения. (...)
3 августа
Из всех творений Вальтера Скотта, мне известных, не
знаю ничего превосходнее чудесной четвертой песни его
«Rokeby»****: тут столько красот, что сердце тает и голова
кружится. Во-первых, смерть верного слуги О’Ниля; потом
детские лета Редмонда и Матильды; наконец, ужасный
эпизод смерти жены несчастного Рокеби: каждый из этих
отрывков мог бы обессмертить поэта — хотя бы он и ни¬
чего, кроме того, не написал. Я сегодня роскошствовал:
сколько наслаждений доставляет поэзия! Если бы Скотт
знал, как я его люблю, как ему удивляюсь, какое счастье
он доставляет поэту же (да! поэту же, ибо то, что я чув¬
ствовал, читая эту дивную четвертую песнь, может чув¬
ствовать только поэт), — какое счастие доставил он узни¬
ку, разделенному с ним морями, — я уверен, что это было
бы ему приятно.
* Скажем прямо (франц.)*— Сост.
** Вымысел (франц.).— Сост.
*** «Хэлидон-Хилл» (англ.).— Сост.
**** «Рокби» (англ.).— Сост.
391
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
6 августа
Разбор сочинений Вальтера Скотта писал человек с
умом и со вкусом, но английская физиономия критика
везде видна: немецкой, шлегелъской глубины нигде нет;
некоторые данные (как ныне изволят выражаться наши
г(оспода) журналисты) вовсе не справедливы — на¬
пр (имер): будто бы в «Генри VIII» Шекспира нет чудесно¬
го; а сон или видение Катерины Арагонской в сцене, что
в замке Кимбольтон? Но если бы даже это и было так,
неужто из того следует, что чудесное должно исключить
из всякого романа, трагедии, поэмы, из всякого творения,
которого действующие лица — люди нашего времени?
С этим только бы тогда можно было согласиться, если бы
в наше время уже совсем не верили чудесному; я же, когда
еще жил в свете, нашел совершенно противное: я почти
никого не знаю, кто бы не верил чудесному, сверхъестест¬
венному, даже нелепому. Впрочем, не распространяюсь —
ибо я сам и не раз впадал в мнимую ошибку Скотта. Не
хочу, чтобы сказали: «Vous êtes orfèvre, m-r Jauss»*4.
7 августа
Прочел две первые песни «Властителя островов» («The
Lord of the Isles»): кажется, мнение критика справедливо,
что это из слабых произведений Скотта, особенно первая
песнь довольно скучна; во второй более движения и жиз¬
ни — но ей далеко до «Lay of the Last Minstrel»**, a (no
моему мнению) еще дальше до «Рокеби»: нигде нет стихов,
которые бы за душу хватали, стихов, каких в «Рокеби»
множество. Однако же появление аббата и весь эпизод,
где он действует, хороши. Главный недостаток Вальтера,
как здесь, так и в двух первых поэмах, мною читанных, —
характеры. Ни к одному из них нельзя привязаться: все
они — исключая злодея Бертрама в «Рокеби» — недори-
сованы.
Вчера прочел я маленькую лирическую пиэсу Скотта —
«Прощание с Музой»: некоторые стихи тут писаны как
будто от моего лица; если не переведу ее, так по крайней
мере напишу ей подражание5.
* «Вы же ювелир, г-н Жос!» (франц.). — Сост.
** «Песнь последнего менестреля» (англ.).— Сост.
392
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
1 сентября
(...) Сравнивал я подражание Жуковского и Скотта
известной балладе Бюргера, но их почти сравнивать нель¬
зя. Если забыть Бюргера и Скотта, так Жуковского «Люд¬
мила» хороша, несмотря на многое, в чем бы можно было
ее упрекнуть; но еще раз — сравнивать никак не должно
«Людмилу» с «Ленорою» Бюргера и с «Геленою» Скотта.
Что касается до последней, я в некоторых местах, особен¬
но где изображается скачка мертвеца с любовницей, готов
ее предпочесть даже немецкому подлиннику. (...)
27 октября
В «Певце во стане русских воинов» есть точно прекрас¬
ные строфы; но не распространить, а сократить его должно
было: именно выкинуть все приторные сладости о любви,
о младенческих играх, о поэтах, что тут ни к селу, ни к
городу. Лучшие места: Платов и смерть Багратиона; хоро¬
шо также, что говорится о Кутайсове, хотя оно и не совсем
у места.
1833
17 января
Перечитывая сегодня поутру начало третьей песни сво¬
ей поэмы, я заметил в механизме стихов и в слоге что-то
пушкинское. Люблю и уважаю прекрасный талант Пушки¬
на: но, признаться, мне бы не хотелось быть в числе его
подражателей. Впрочем, никак не могу понять, отчего это
сходство могло произойти: мы, кажется, шли с 1820 года
совершенно различными дорогами, он всегда выдавал себя
(искренно ли или нет — это иное дело!) за приверженца
школы так называемых очистителей языка, а я вот уже
12 лет служу в дружине славян под знаменами Шишкова,
Катенина, Грибоедова, Шихматова. Чуть ли не стихи че¬
тырехстопные сбили меня: их столько на пушкинскую
стать, что невольно заговоришь языком, который он и
легион его последователей присвоили этому размеру.
23 января
«Гарольд» Скотта, хотя ничуть не лучшее из созданий
его, кажется, всех менее потеряет в переводе. Особенно
тут милы оба женские лица — Мелитиль и Эйвира; послед¬
393
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
няя принадлежит даже к самым удачным характерам по¬
этического мира: это Джюлия Шекспировых «Gentlemen
of Verona»*, но идеализированная, героическая. Жаль толь¬
ко, что сам Гарольд слишком уж медвежеват, даже иногда
просто карикатурен: занимательным он только становится
под конец. Вся поэма вообще имеет довольно мало глуби¬
ны, особенно если ее сравнить с «Рокеби» или с «Девою
озера»; но зато она до чрезвычайности жива и бойка и
полна самого смелого воображения. К прочим поэмам
Скотта она почти в том же отношении, в каком «Руслан и
Людмила» к позднейшим произведениям Пушкина.
31 января
В «Вестнике» извлечение из сочинения Катрмера де
Кенси: «Histoire de la vie et des ouvrages de Raphael» **6^
Она начинается с следующей фразы: «До него живопись
была не иное что, как холодное и бездушное представле¬
ние природы». Что может быть несправедливее этих слов?
Душою-то именно, чувством, тем, что немцы называют
empfindlich***, и отличаются живописцы старинных школ
италианской и немецкой! И Рафаэль в моих глазах един¬
ственно потому так и велик, что сумел сохранить невин¬
ность, простоту, выразительность, сердечность своего учи¬
теля — Перруджио, художника истинно превосходного, а
в то же время приобресть или, лучше сказать, создать
небывалые до него легкость, изящество, свободу — и все
эти качества одухотворить восторгом поэтическим. Зато
замечания о замедлениях, какие ныне художнику (и поэ¬
ту) полагают требования распространившихся везде и обо
всем поверхностных сведений, очень и очень справедливы.
7 февраля
Нападки М. Дмитриева и его клевретов на «Горе от
ума»7 совершенно показывают степень их просвещения,
познаний и понятий. Степень эта истинно незавидная. Но
пусть они в этом не виноваты: есть, однако же, в их стать¬
ях такие вещи, за которые их можно бы обвинить перед
таким судом, которого никакой писатель, с талантом ли
или без таланта, с обширными сведениями или нет, не
* «Дворян веронских» (англ.). — С ост.
** «История жизни и творений Рафаэля» (франц.). — Сост.
*** Чувствительный (нем.). — Сост.
394
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
должен терять из виду, — говорю о Суде Чести. Преда¬
тельские похвалы удачным портретам в комедии Грибое¬
дова — грех гораздо тягчайший, чем их придирки и умни¬
чанья. Очень понимаю, что они хотели сказать, но знаю
(и знать это я очень могу, потому что Грибоедов писал
«Горе от ума» почти при мне, по крайней мере мне первому
читал каждое отдельное явление непосредственно после
того, как оно было написано), знаю, что поэт никогда не
был намерен писать подобные портреты: его прекрасная
душа была выше таких мелочей. Впрочем, qui se sent ga¬
leux qu’il se gratte*. Завтра напишу несколько замечаний
об этой комедии: она, конечно, имеет недостатки (все
человеческое подвержено этому жребию), однако же вов¬
се не те, какие г. Дмитриев изволит в ней видеть, и, вопре¬
ки своим недостаткам, она чуть ли не останется лучшим
цветком нашей поэзии от Ломоносова до известного мне
времени.
8 февраля
«Нет действия в «Горе от ума», — говорят гг. Дмитриев,
Белугин8 и братия. Не стану утверждать, что это неспра¬
ведливо, хотя и нетрудно было бы доказать, что в этой
комедии гораздо более действия или движения, чем в
большей части тех комедий, которых вся занимательность
основана на завязке. В «Горе от ума» точно вся завязка
состоит в противоположности Чацкого прочим лицам; тут
точно нет никаких намерений, которых одни желают до¬
стигнуть, которым другие противятся, нет борьбы выгод,
нет того, что в драматургии называется интригою. Дан
Чацкий, даны прочие характеры, они сведены вместе, и
показано, какова непременно должна быть встреча этих
антиподов, — и только. Это очень просто; но в сей-то
именно простоте новость, смелость, величие того поэти¬
ческого соображения, которого не поняли ни противники
Грибоедова, ни его неловкие защитники. Другой упрек
касается неправильностей, небрежностей слога Грибоедо¬
ва, и он столь же мало основателен. Ни слова уже о том,
что не гг. Писаревым, Дмитриевым и подобным молодцам
было говорить о неправильностях, потому что у них едва
* Кто чувствует, что запаршивел, то и чешется! (франц.). Пословица,
означающая: кто знает, что виноват, тот и признается; равнозначна рус¬
ской: «Знает кошка, чье мясо съела!»
395
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ли где найдется и 20 стихов сряду без самых грубых оши¬
бок грамматических, логических, рифмических, словом,
каких угодно. Но что такое неправильности слога Грибое¬
дова (кроме некоторых, и то очень редких, исключений)?
С одной стороны, опущения союзов, сокращения, подразу¬
мевания, с другой — плеоназмы, словом, именно то, чем
разговорный язык отличается от книжного. Не Дмитриеву,
не Писареву, — но Шаховскому и Хмельницкому (за их
хорошо написанные сцены), но автору 1-й главы «Онеги¬
на»* Грибоедов мог бы сказать то же, что какому-то
философу, давнему переселенцу, но все же не афинянину,
сказала афинская торговка: «Вы иностранцы». А поче¬
му? — «Вы говорите слишком правильно; у вас нет тех
мнимых неправильностей, тех оборотов и выражений, без
которых живой разговорный язык не может обойтись, но
о которых молчат ваши Грамматики и Риторики».
18 апреля
В Шекспире удивительно соединение веселости и важ¬
ности, смеха и скорби: в этом-то соединении, кажется,
и должно искать главный отличительный признак юмора,
и посему-то Шекспир, без сомнения, первый юморист,
юморист, с которым ни один другой сравниться не может.
Кроме «Taming of the Shrew»** у него нет комедии, пи¬
санной для одного смеха: в каждой из прочих есть места
патетические, а в «Much Ado About Nothing»*** решительно
не знаешь, в чем поэт более достоин удивления, — в смеш¬
ных ли сценах или в тех, которые прямо хватают за сердце.
25 июня
Читаю «Генри VIII» Шекспира. Признаюсь искренне,
что изо всех произведений Шекспира это кажется мне
если не самым слабейшим, по крайней мере самым скуч¬
ным. Даже уродливый «Тит Андроник», которого я недав¬
но прочел, мне более по нутру: в «Андронике» Шекспир
беснуется, а в «Генри VIII» дремлет. Но в его бесновании
часто виден творец «Макбета» и «Лира»; напротив, его
дремота, в которой, конечно, нет ничего чудовищного, и
* Впоследствии Пушкин очень хорошо понял тайну языка Грибое¬
дова и ею воспользовался. — В. К.
** «Укрощение строптивой» (англ.). — Сост.
*** «Много шума из ничего» (англ.).— Сост.
396
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
читателя почти погружает в дремоту. Истинно занимателен
только сам Генри — и то более для англичан времени
Якова I, нежели для нас. Впрочем, не дурно бы было на¬
шего Петра изобразить в подобной картине, но с большею
живостию.
26 июня
Вчера я судил слишком строго о «Генри VIII»: эта пие-
са, конечно, холодна, потому что она не что иное, как
галерея картин, почти ничем не связанных между собою;
в ней нет единства интереса, без которого в драме не так
легко обойтись, как без единства действия, места и време¬
ни. Однако же разговор (le dialogue) везде необычайно
хорош и жив; лица королевы Екатерины и Кардинала воз¬
буждают участие, и даже довольно сильное (несмотря на
вчерашнюю мою отметку).
3 июля
Наконец нашел я в «Сыне отечества» прелестную бал¬
ладу Катенина «Наташа». Она, по моему мнению, принад¬
лежит к лучшим на нашем языке. Есть, конечно, и в ней
небольшие небрежности, но за каждую небрежность в
«Наташе» готов я указать на такую же или даже большую
в хваленых наших балладах, не исключая и «Светланы».
Подражание Гетеву «Der Sänger»*9 мне менее нравится.
Одно из лучших «Писем в Нижний Новгород» — три¬
надцатое, особенно окончание10.
7 июля
Перечитывая сегодня обе баллады Катенина, находя¬
щиеся в «Сыне отечества», я восхищался в них многими
прекрасными стихами, однако же не мог не признаться,
что они, особенно «Певец», местами обезображены не¬
стерпимыми небрежностями. Отчего это? Катенин человек
с талантом, сверх того, знаток, и тонкий знаток, русского
языка — никто с большим вкусом не судит о произведе¬
ниях других; но его губят самолюбие, упрямство и лень.
* «Певец» (нем.). — Сост.
397
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
1834
23 января
«Взгляд на состояние русской словесности» Плаксина
в «Сыне отечества» на 1829 год11 —статья не без досто¬
инства: в ней есть мысли новые, справедливые, резкие, но
нет ничего целого, нет ничего удовлетворительного, много
постороннего и много диковинок. К последним, между
прочим, принадлежит начало, в котором сказано, будто бы
«в последней половине минувшего столетия язык наш
обогатился превосходными творениями в многих родах
поэзии и немногих (спасибо по крайней мере за сей пос¬
ледний эпитет!) прозы, но в большей части самых генияль-
ных произведений сего времени видно стремление подра¬
жать древним или новейшим классическим писателям».
Если последнее справедливо (чего и не отрицаю), — где
превосходство и генияльность? И сверх того, где же (не¬
зависимо от всякого если) множество превосходных,
генияльных поэтических творений в словесности нашей
с 1750 по 1800 год? Замечание о помехах усовершенство¬
ванию нашей литературы, особенно об обстоятельстве, что
все наши писатели занимались ею только в часы досуга,
очень справедливо. Потом следует похвала двум талантам-
преобразователям, то есть Карамзину и Дмитриеву, и апо-
теоза Жуковского, — «у него и у его немногих последо¬
вателей» находит Плаксин «в самых подражаниях, даже
в самых ближайших переводах более особенности, нежели
в произведениях предшественников его». А Державин?
(Далее следует) длинный, вовсе к делу не идущий эпизод
о классиках и романтиках; впрочем, тут довольно зани¬
мательны различные определения романтизма; кроме того,
в этом отступлении есть истинно хорошие мысли (их вы¬
пишу завтра)12. Вслед за тем литераторы делятся на раз¬
ряды: в числе этих разрядов есть разряд тайных литерато¬
ров — это диво дивное! Потом исчисляются проповедники
и оценены вообще (несмотря на злоупотребление слов
много, множество, много творений, много писателей) до¬
вольно справедливо: забыт только Неофит, которого не
должно бы было забыть. Потом опять скачок к руковод¬
ствам: о них сказано справедливо, что они «чему-то учат,
а едва ли чему-нибудь научают». Новый скачок приводит
нас к журналам; наконец общие рассуждения, довольно,
398
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
впрочем, справедливые, но упавшие как будто с неба, о
причинах, замедляющих успехи нашей словесности. Пере¬
ход к поэзии: второй акафист Жуковскому, словцо о Ба¬
тюшкове, слова два полусправедливых о Пушкине и Бара¬
тынском и несколько точек после двух-трех надутых фраз,
вот и все. Вся лекция состоит из salto mortale*: в ней автор
мечется во все стороны; говорит много и о многом и обо
всем очень поверхностно: системы, целого вовсе нет, но
есть мысли, и мысли искупают многое — pour employer
le mot favorit de Monsieur**.
8 февраля
Статью почтенного Влад(имира) Карловича) Брим-
мера «Об истинном и ложном романтизме» , каюсь, я было
начал читать с мыслию, что кое-где случится мне и посме¬
яться насчет своего бывшего товарища по Обществу люби¬
телей наук и художеств; но я нашел, что эта статья дельная
и предельная, хотя я и не во всем согласен с автором. Вот
замечание очень справедливое: «Кто не испытал, что тво¬
рения Петрарки заставляют читателя погрузиться в самого
себя, исследовать свое сердце, разобрать свои идеи etc.
Случается ли это при чтении Гомера или Софокла? Гомер,
кажется, так занимает внимание наше беспрестанным
описанием битв и характерами своих героев, что нам не
остается времени подумать о себе. Софокл заставляет нас
трепетать перед неизбежным роком, и мы напрасно жела¬
ем хотя когда-нибудь войти в святилище сердца». Замечу,
впрочем, что о Софокле я должен по необходимости пове¬
рить Бриммеру на слово, ибо вот уже десять лет как не
заглядывал в творения сего трагика. Метафизика сердца,
отвлеченные понятия, раздробление чувств и мыслей, по
мнению автора, составляют характер романтизма, и пото¬
му-то он и Расина, и Вольтера, и Виланда, и Тасса считает
романтиками. За эти две мысли, показывающие человека
точно мыслящего, хотя вторую и можно бы подвергнуть
точнейшему исследованию, охотно прощаю Бриммеру его
высокое мнение о Виланде etc., его нападки на Шлегелей,
Тика и шелленгистов: нельзя же требовать, чтоб все мыс¬
лили одинаким образом; благо и то, когда по крайней мере
хоть мыслят, а не просто повторяют чужое.
* Сальто-мортале (итал.).— Сост.
** Употребляя излюбленное выражение «месье» (франц.). — Сост.
399
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
5 апреля
(...) Писать роман, повесть, стихотворение единствен¬
но с тем, чтобы ими доказать какую-нибудь нравственную
истину, без сомнения, не должно. Но иногда нравственная
истина есть уже сама по себе и мысль поэтическая: в таком
случае развитие поэтизма (поэтической стороны) оной —
предприятие, достойное усилий таланта. К разряду таких
истин принадлежит служащая основою повести Бенжа-
мена де Констан: Адольф без любви, единственно для
удовлетворения своему тщеславию, предпринимает соблаз¬
нить Элеонору; между тем худо понимает и себя, и ее,
успевает, но становится ее жертвою, рабом, тираном, убий¬
цею. Вообще, в этой повести богатый запас мыслей —
много познания сердца человеческого, много тонкого,
сильного, даже глубокого в частностях; смею, однако, ду¬
мать, что она являлась бы в виде более поэтическом, если
бы на нее еще яснее падал свет из той области, где господ¬
ствует та тайная, грозная сила-воздаятельница, в которую
примерами ужасными, доказательствами разительными,
неодолимыми учит нас веровать не одна религия, но неред¬
ко события народные и жизнь лиц частных. Поэтической
стороною этой общей истины в повести «Адольф» именно
то, что тут погубленная Элеонора противу собственной
воли становится Эвменидою-мстительницею для своего
губителя. Но чтобы вполне проявить поэзию этой мысли,
нужно бы было происшествие более трагическое, даже
несколько таинственное... В отдельных мыслях и замеча¬
ниях, которые выпишу, заметно что-то сталевское; в них
видно, как много необыкновенная женщина, бывшая для
белокурого Бенжамена чем-то вроде Адольфовой Элеоно¬
ры, споспешествовала обогащению его познаниями, иде¬
ями, наблюдениями и опытами, подчас, статься может,
довольно горькими. (...)
27 мая
В «Телеграфе» прочел я вчера примечательное рассуж¬
дение Виктора Гюго о поэзии1 . Не согласен я, будто бы
стихия смешного так мало проявляется в поэзии древних,
как то утверждает Гюго. Напрасно говорит он: «Подле
гомеровских (я уверен, что в подлиннике: homériques;
это — скажу мимоходом — не значит гомеровские, а гоме¬
рические) великанов Эсхила, Софокла, Эврипида что зна¬
400
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
чит Аристофан и — Плавт? Г омер увлекает их с собою,
как Геркулес уносит пигмеев, спрятанных в его львиной
коже». Аристофан гений, который ничуть не уступит Эсхи¬
лу и выше Софокла; а можно ли жеманного Эврипида,
греческого Коцебу, ставить рядом с Эсхилом и даже с
Софоклом? Можно ли сближать генияльного, роскошного,
до невероятности разнообразного, неистощимо богатого
собственными вымыслами Аристофана с подражателем, не
бесталанным, но все же подражателем — Плавтом?
О Шекспире Гюго говорит: «Два соперничествующие
гения человечества, Гомер и Данте, сливают воедино свой
двойственный пламень, и из сего пламени исторгается —
Шекспир». В другом месте утверждает он, что в Шекспире,
«кажется, были соединены три величайшие, самые харак¬
теристические гения французской сцены: Корнель, Мольер,
Бомарше». Признаюсь, ни о Корнеле, ни о Бомарше не
могу и вспомнить, когда читаю огромного британца; иное
дело Мольер. О трех родах поэзии (единственно возмож¬
ных: лире, эпопее, драме) сказано очень справедливо: «Все
есть во всем: только в каждом отдельно господствует одна
стихия родовая, которой подчиняются все другие и кото¬
рая кладет на общность свой собственный характер». Да¬
лее: «Драма есть полная поэзия. Ода (не лучше ли вообще:
лира?) и эпопея содержат в себе только ее начала, драма
заключает в себе развитие той и другой». Совершенно
согласен я с правилом: «Все, что есть в природе, все то
есть и в искусстве». Еще несколько мыслей, например:
1. «Гений уподобляется монетной машине, которая печа¬
тает изображение государя на медной, все равно как и на
золотой, монете». Или: 2. «Идея, закаленная в стих, при¬
нимает на себя что-то резкое, блестящее — это железо,
претворенное в булат», — очень истинны и притом выра¬
жены как нельзя лучше.
Но главное основание рассуждения несколько шатко,
или, лучше сказать, надлежало доказать не то, что доказы¬
вает Гюго: он утверждает, что смешное вправе являться
в области поэзии и что оно в поэзии новых является чаще,
чем в поэзии древних; первое едва ли подлежит сомнению,
и посему и доказывать это не для чего; второе — едва ли
справедливо. Доказать, кажется, надлежало, что смешное
вправе являться и в патетических творениях, в трагедии,
эпопее героической etc., что оно в них является чаще у но¬
вых, чем у древних, и что безобразное (а не смешное)
14—907
401
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
вправе требовать поэтического изображения, ибо составля¬
ет контраст, тень, диссонанс прекрасного, сторону, необхо¬
димую для полной художественной гармонии.
25 июля
Пишу о Бальзаке, потому что после его прелестной
повести «Г-жа Фирмиани» не могу тотчас заняться чем-
нибудь другим15. Это в своем роде chef d’oeuvre*; тут все:
и таинственность, и заманчивость, и юмор, и высокая, уми¬
лительная истина; я влюблен в эту Фирмиани! Как бы я
желал своему Николаю встретить в жизни подобную жен¬
щину! И как хорош сам Бальзак! Что за разнообразный,
прекрасный талант! Признаюсь, я бы желал узнать его
покороче. Булгарина письмо о русской литературе16 — само
по себе разумеется, что тут нет даже Полевого, — однако,
несмотря на многое и многое фальстафское, есть же кое-
что, по крайней мере что-то похожее на несколько шутов¬
скую, порою почти бесстыдную искренность; сверх того,
отголосок нынешних требований если и не людей, мысля¬
щих ясно, отчетливо, самостоятельно, все же людей, хотя
чувствующих порою силу прекрасного, способных порою
быть увлеченными вдохновением поэта... Современность
им нужна? Но что такое современность? Их современность
уж не будет современностью 20-го столетия, а Шекспир
и рапсоды — вечные современники всех столетий. Что
такое современность нынешняя? Ответ у Булгарина ко¬
роткий и ясный: презрение к человечеству! И вся она тут?
И это не одна сторона нашей современности? и нет еще
другой, более светлой? Впрочем, судить Булгарина слиш¬
ком строго, право, совестно. Спасибо ему и за доброе
намерение да за одну неоспоримую истину, им сказанную:
«Есть и будет множество подражателей Пушкина — но не
будет следствия Пушкина, как он сам есть следствие Бай¬
рона». Разумеется, если он ограничится быть только след¬
ствием. Но в хваленом «Демоне» Пушкина нет самобытной
жизни — он не проистек из глубины души поэта, а был
написан потому, что должно же было написать что-нибудь
в этом роде. Вот вам и современность и ее требования!
И этого-то «Демона» г. Булгарин ставит выше «Полтавы»,
выше «Цыган», выше прекрасных сцен в «Годунове»!
Не слушай, друг Пушкин, ни тех, ни других, ни журна-
• Шедевр (франц.). — Сост.
402
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
листов, готовых кадить тебе и ругать тебя, как велит им
их выгода, — ни близоруких друзей твоих! Слушайся вдох¬
новения — и от тебя не уйдет ни современность, ни бес¬
смертие!
Упрекает Булгарин, между прочим, друзей Пушкина
за то, что они хотели сделать из него только артиста,
живописца и музыканта, — говорит, что «писатель без
мыслей, без великих философических и нравственных ис¬
тин, без сильных ощущений — есть просто гударь, хотя
бы» и пр. Но без сильных ощущений и мыслей можно ли
быть музыкантом, можно ли быть живописцем? А что
Булгарин разумеет под великими нравственными истинами,
мы знаем! Его величие не слишком-то велико, а, кажется,
ему нужна дидактика в новом платье, от которой да сохра¬
нит нас бог!
31 октября
Греча повесть «Отсталое»17 — престранная вещь: не
понимаю, почему ему необходимы были такие великолеп¬
ные сборы, чтоб рассказать самый пошлый вздор. Тут
истинно гора родила мышь. Известие о посмертных сочи¬
нениях Гете18 очень занимательно, особенно по выпискам
из последнего тома его «Dichtung und Wahrheit»*. Я сошелся
в мыслях с Гете: и я лучшие свои произведения, на¬
пр (имер)«Ижорского», считаю более произведением при¬
роды, нежели искусства, произведением, если угодно, моей
природы, произрастанием моей почвы, но собственно не
делом произвола, не следствием холодно обдуманного
предначертания и отчетливого труда.
1835
26 марта
После обеда прочел окончание повести Бальзака «Ста¬
рик Горио» и внутренно бесился на бессмысленные при¬
мечания г-на переводчика19; но они более чем бессмыслен¬
ны — они кривы и злонамеренны. Супружеская верность
и чистота нравов мне, верно, не менее, чем ему, драгоценны
и святы, но лицемерие и ханжество мне несносны; худо¬
жественное создание не есть феорема эфики, а изображе¬
* «Поэзия и правда» (нем.).— Сост.
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ние света и людей и природы в таком виде, как они есть.
Порок гнусен, но и в порочной душе бывает нередко энер¬
гия; и эта энергия никогда не перестает быть прекрасным
и поэтическим явлением. Бальзакова виконтесса, несмотря
на свои заблуждения и длинную ноту «Библиотеки», —
все-таки необыкновенная, величавая (grandiosa) женщина,
и если г. переводчик этого не чувствует, я о нем жалею.
Вотрен мне напомнил человека, которого я знавал, «когда
легковерен и молод я был»20. Разница только, что мой
Вотрен скорее был чем-то вроде Видока, нежели Жака
Колена. Об «Арабесках» Гоголя «Библиотека» также судит
по-своему21: отрывок, который приводит рецензент, вовсе
не так дурен; он, напротив, возбудил во мне желание про¬
честь когда-нибудь эти «Арабески», которые написал, как
видно по всему, человек мыслящий.
19 мая
Сказать ли? Право, боюсь даже в дневнике высказать
на этот счет свое мнение. Но быть так! Читаю по вечерам
мелкие стихотворения Пушкина; большая часть (и замечу:
все почти хваленые, напр(имер) «Демон», «Подражания
Корану», «Вакхическая песнь», «Андрей Шенье» etc.) слиш¬
ком остроумны, слишком обдуманны, обделанны и рассчи-
танны для эффекту, а потому (по моему мнению) в них
нет... вдохновения. Зато есть другие, менее блестящие, но
мне особенно любезные. Вот некоторые: «Гроб юноши»,
«Коварность», «Воспоминание», «Ангел», «Ответ Анониму»,
«Зимний вечер», «19 октября». «Чернь» всячески перл
лирических стихотворений Пушкина.
В «Библиотеке для чтения», в статье о посмертных
сочинениях Гете, попалось мне мнение Больвера22 (автор
«Рейнских пилигримов»), разделяемое, по-видимому, изда¬
телями «Библиотеки», будто: «Проза сердца (?) просвеща¬
ет, трогает, возвышает гораздо более поэзии»; будто: «Са¬
мый философический поэт наш (то есть английский,
переложенный в прозу, сделается пошлым) ; будто
«Чайльд-Гарольд», кажущийся таким глубокомысленным
творением, обязан этим глубокомыслием своему метри¬
ческому слогу: в самом деле в нем нет ничего нового, кро¬
ме механизма слова»; будто: «Стих не может вместить в
себе той нежно утонченной мысли, которую великий пи¬
сатель выразит в прозе. Рифма всегда ее увечит». Не го¬
404
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
воря уже ни слова о прекрасном слоге нашего великого
писателя в прозе, то есть русского переводчика, замечу,
что Байрона на днях, за неимением подлинника, пере¬
чел именно в прозе, и в дурной французской прозе, —
а все-таки удивлялся дивной глубине его чувств и мыслей
(хотя тут мысли — дело второстепенное). Сверх того, сам
я рифмач и клянусь совестью, что рифма очень часто вну¬
шала мне новые, неожиданные мысли, такие, которые бы
мне никоим образом не пришли бы на ум, если бы я писал
прозою; да мера и рифма вдобавок учат кратко и сильно
выражать мысли, выражать ее молниею: у наших великих
писателей в прозе эта же мысль расползается по целым
страницам.
4 июня
Повесть «Фрегат Надежда» из лучших сочинений Мар¬
линского. Особенно она мне потому нравится, что тут
автор не так расточителен на «бестужевские капли» ,
их тут мало и везде кстати. Единственный недостаток это¬
го прелестного творения — морские варваризмы, без ко¬
торых мы, профаны, очень и очень могли бы обойтись.
Марлинский — человек высокого таланта: дай бог ему обс¬
тоятельств благоприятных! У нас мало людей, которые
могли бы поспорить с ним о первенстве. Пушкин, он и
Кукольник — надежда и подпора нашей словесности; бли¬
жайший к ним — Сенковский, потом Баратынский.
1840
21 октября
Наконец привелось мне в дневнике говорить не о Ко¬
цебу, не о Шписсе, не о Поль-де-Коке, а о Жуковском, ко¬
торого 4-е издание24 попалось мне в первый раз в руки в
1840 г. В «Леноре» есть превосходные строфы; она, без
сомнения, выше и «Людмилы», и «Ольги» Катенина; есть
кое-какие и слабые места — но в мире нет ничего совер¬
шенного. Переделка «Батрахомиомахии» в своем роде пре¬
лесть, особенно спасибо поэту, что он так удачно восполь¬
зовался русскою сказкою в лицах «Как мыши кота погре¬
бают». «Сказка о спящей царевне» мне кажется несколько
слабее пушкинских хореических сказок. Зато «Царь Бе¬
рендей» очень и очень хорош; из нового это после «Кота
405
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Мурлыки» самое лучшее. «Перчатка» — образцовый пере¬
вод, хотя, кажется, размер подлинника и не соблюден.
Даже анекдот — «Неожиданное свидание» — рассказан
умилительно прекрасно. «Две были и еще одна» (с алле-
манского) не без большого достоинства, однако, по-моему,
уступают старому моему знакомцу «Красному Карбун¬
кулу». Жуковский едва ли не примирил меня опять с экза¬
метром, впрочем, все же не до такой степени, чтоб я сам
стал когда-нибудь опять им писать или даже одобрил его
экзаметрических переводов «Фридолина» и «Сражения
с Змеем» Шиллера, в которых рифма и романтический
размер не одни украшения, а нечто такое, с чем душа моя
свыклась с самого младенчества. Жена à propos de* царе¬
виче Белая Шубка говорит, что белые мыши в Баргузине
не редкость.
1841
3 марта
Вчера прочел я «Безумную» Козлова25 и «Дебору» Ша¬
ховского26. «Дебору», кажется, я и прежде читал: она в
ложном роде; впрочем, и Озерова хваленые когда-то траге¬
дии в том же ложном классическом, в котором рамки до
того тесны, что ни одного характера порядочно развить не¬
возможно и где поневоле все лица друг в друга стреляют
антитезами, потому что им ровно нечего другого делать.
Но об этом когда-нибудь после.
1844
11 апреля
(...) Опять перечитывал Лермонтова и совершенно
убедился, что этот человек как нельзя более ошибался в
роде данного ему таланта (...) То направление одного, то
слог другого, то coupe de vers** третьего показывают, что
он горячился весьма хладнокровно. (...) Но Лермонтов
точно человек с большим талантом, где вовсе того не
подозревает: в стихотворениях, которых предметом не
внутренний мир человека, а мир внешний, да еще в своей
* К слову о (франц.). — Сост.
** Версификация (франц.).— Сост.
406
ПИСЬМА
драме. К созданиям первого разряда высокой красоты
принадлежит особенно его пиэса «Дары Терека», которая
в своем роде истинный chef d’oeuvre*. (...) Лермонтов
занимает первое место между молодыми поэтами, которые
появились на Руси после нас. Если бы бог дал ему жизнь
подольше — он стал бы, вероятно, еще выше, потому что
узнал бы свое призвание и значение в мире умственном.
(...)
1845
9 апреля
Книга Одоевского «Русские ночи» одна из умнейших
книг на русском языке. Есть и в ней, конечно, то, что я бы
назвал Одоевского особенною манерностию, о которой ког-
да-нибудь поговорю подробнее, но все же это одна из ум¬
нейших наших книг. Сколько поднимает он вопросов!
Конечно, ни один почти не разрешен, но спасибо и за то,
что они подняты, — ив Русской книге! Он вводит нас в
преддверье; святыня заперта; таинство закрыто; мы недо¬
умеваем и спрашиваем: сам он был ли в святыне? Разобла¬
чено ли перед ним таинство? разрешена ли для него за¬
гадка? Однако все ему спасибо: он понял, что есть и загад¬
ка, и таинство, и святыня.
ПИСЬМА
1. A.C. ПУШКИНУ
(Динабург) 20 октября 1830 г.
Любезный друг Александр.
Через два года наконец опять случай писать к тебе:
часто я думаю о вас, мои друзья; но увидеться с вами
надежды нет, как нет; от тебя, то есть из твоей Псковской
деревни до моего Помфрета1, правда, не далеко; но и ду¬
мать боюсь, чтоб ты ко мне приехал... А сердце голодно:
* Шедевр (франц.). — Сост.
407
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
хотелось бы хоть взглянуть на тебя! Помнишь ли наше
свидание2 в роде чрезвычайно романтическом: мою боро¬
ду? Фризовую шинель? Медвежью шапку? Как ты через
семь с половиною лет мог узнать меня в таком костюме! —
вот чего не постигаю!
Я слышал, друг, что ты женишься: правда ли? Если
она стоит тебя, рад: но скажи ей или попроси, чтоб добрые
люди ей сказали, что ты быть молодым лордом Байроном
не намерен, да сверх того и слишком для таких похожде¬
ний стар. Стар? Да, любезный, поговаривают уже о ста¬
рости и нашей: волос у меня уже крепко с русого сбива¬
ется на серо-немецкий; год, два, и Амигдал процветет на
главе моей3. Между тем я, новый Камоэнс4, творю, тво¬
рю — хоть не Лузиады — а ангелыцины и дьявольщины,
которым конца нет. Мой черный демон отразился в
«Ижорском»: светлый — в произведении, которое назвать
боюсь; но, по моему мнению, оно и оригинальное, и лучше
«Ижорского» даже в чисто светском отношении5. К тому
же терцины, размер божественного Данте, — слог, в кото¬
ром я старался исчерпать все, что могу назвать моим
познанием русского языка, — и частная, личная исповедь
всего того, что меня в пять лет моего заточения волно¬
вало, утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с
самим собою. Это все вещи, которые в «Ижорском» не
могли иметь места: там же, может быть, годятся. Сделай
друг, милость, напиши мне: удался ли мой «Ижорский»
или нет? У меня нет здесь судей: Манасеин уехал, да и
судить-то ему не под стать, Шишков мог бы, да также
уехал: а в бытность свою здесь слишком был измучен
всем тем, что деялось с ним. Напиши, говорю, разуме¬
ется, не по почте: а отдашь моим, авось они через год,
через два или десять найдут случай мне переслать. Для
меня время не существует: через десять лет или завтра
для меня à peu près* все равно. Кто это у вас печатает
пьесы, очень мне близкие по тому, что в них говорится,
хотя бы я немного иначе все это сказал? — Не Александр
ли 0.{доевский)1 мой и Исандера6 питомец? Знал ли ты
Исандера? Нет?
Престранное дело письма: хочется тьму сказать, а не
скажешь ничего. Главное дело вот в чем: что я тебя не
только люблю, как всегда любил: но за твою «Полтаву»
• Примерно (франц.). — Сост.
408
ПИСЬМА
уважаю, сколько только можно уважать: это, конечно, тебе
покажется весьма немногим, если ты избалован бессмыс¬
ленными охами и ахами, которые воздвигают вокруг тебя
люди, понимающие тебя и то, чем можешь быть, должен
быть и, я твердо уверен, будешь, понимающие, говорю,
это так же хорошо, как я язык китайский. Но я уверен,
что ты презираешь их глупое удивление наравне с их
бранью, quoiqu’ ils font chez nous le beau temps et la pluie*
Ты видишь, мой друг, я не отстал от моей милой при¬
вычки приправлять мои православные письма французски¬
ми фразами. Вообще, я мало переменился: те же причуды,
те же странности и чуть ли не тот же образ мыслей, что в
Лицее! Стар я только стал, больно стар и потому-то
туп: учиться уж не мое дело — и греческий язык в от¬
ставку, хотя он меня еще занимал месяца четыре тому на¬
зад: вижу, не дается мне! Усовершенствоваться бы только
в польском: Мицкевича читаю довольно свободно, Одынца
тоже, но Немцевич для меня трудненек.
Мой друг, болтаю: переливаю из пустого в порожное,
все для того, чтоб ты (мог) себе составить идею об узнике
Двинском: но разве ты его не знаешь? и разве так инте¬
ресно его знать? Вчера был Лицейский праздник: мы его
праздновали, не вместе, но — одними воспоминаниями, од¬
ними чувствами. Что, мой друг, твой «Годунов?» Первая
сцена, «Шуйский и Воротынский», бесподобна; для меня
лучше, чем сцена «Монах и Отрепьев»; более в ней жи¬
вости, силы, драматического. Шуйского бы расцеловать:
ты отгадал его совершенно. Его: «А что мне было делать?»
рисует его лучше, чем весь XII том покойного и спокой¬
ного историографа! Но господь с ним! De mortuis nihil, nisi
bene**. Прощай, друг!(...)
2. HAT. Г. ГЛИНКЕ
(Свеаборг.) Конец июля — начало августа 1832 г.
(...) Я теперь прилежно читаю поэмы Вальтера Скотта,
которые мне прислала ваша тетушка, и часто жалею, что
не могу с вами разделить удовольствие, какое они мне до¬
ставляют. Скотт, без сомнения, один из величайших по¬
этов нашего времени: полагаю даже, что мало найдется и
* Хотя от них у нас зависит хорошая и дурная погода (франц.). —
Сост.
** О мертвых ничего, кроме хорошего (латин.). — Сост.
409
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
у Байрона и Гете, что бы могло сравниться с четвертою
песнею его «Рокеби». Особенно прелестны его вступле¬
ния — первые строфы, с которых начинается каждая
песнь.
Тебе, может быть, известно, какой я не охотник пере¬
водить, но некоторые стансы «Lay of the Last Minstrel»
и «Rokeby»* — сильно искушают меня перевесть их.
В обеих поэмах, точно как и в романах его, рассказ —
почти постороннее дело, а главное — описания и поэзия
элегическая. Должно же быть, что дарование поэта велико,
очень велико, когда меня, решительного противника этих
двух родов, он совершенно очаровал. Но должно вместе
признаться, что описания Скотта совершенно не то, что
встречаешь обыкновенно, встречаешь у Делиля и его по¬
следователей1; а элегическая часть оживлена такими но¬
выми чувствами, такими истинными и глубокими мыслями,
такими открытиями в области сердца человеческого, что
едва ли не составляет совершенно особенного рода. (...)
3. Ю. Я. КЮХЕЛЬБЕКЕР**
(Свеаборг.) 28 июня 1834 г.
(...) Более важных предметов на этот раз не хочу ка¬
саться, но скажу кое-что о литературе. Совсем иными
глазами, чем раньше, смотрю я, например, на Гете1. К со¬
жалению, он мне не представляется больше в том вели¬
чественном виде, в каком он мне раньше представлялся.
Я начинаю теперь очень хорошо понимать, почему Гете не
был героем нашего доброго старого Брейткопфа. К огром¬
ному таланту Гете я всегда буду испытывать величайшее
уважение, но при всем таланте он обладает — слово
должно быть сказано — низкой, холодной, себялюбивой
душою. Он (а не бедный Виланд, который, конечно, боль¬
ше от слабости и из подражания, чем с умыслом, грешил)
действительно Вольтер немцев, патриарх чувственной, эго¬
истической, лицемерно похваляющейся переживаниями
школы приверженцев. Человек трудно отделим от писа¬
теля: скудность сердца вредит, конечно, и таланту, и это я
в особенности замечаю в некоторых позднейших стихах
Гете. Как часто он всего лишь поэт на случай! Как хо¬
* «Песнь последнего менестреля» и «Рокби» (англ.). — Сост.
** Перевод. Подлинник на немецком языке. — Сост.
410
ПИСЬМА
лодны, принужденны и бессодержательны его карлсбад-
ские пьесы. Его «Эпименид»! Его «Побочная дочь» и т. д.
Давно уже я все это почувствовал, но не решался вы¬
сказать. Сознаюсь Вам откровенно, что понадобилась по¬
сторонняя помощь, чтобы окончательно сорвать повязку с
моих глаз. Рецензия или, скорее, статья о Шиллере и Гете
одного молодого немецкого писателя по имени Менцель
выполнила это. Перевод этой статьи, прочитанный мною в
одном из наших журналов2, сначала меня раздосадовал;
в моем дневнике я многое из нее оспаривал. Но под конец
я все-таки увидел, что, в общем, Менцель, пожалуй, прав.
Только ему следовало бы из уважения к 80-летнему старцу
бережнее выражаться. Говорят, что как эта статья, так и
некоторые более ранние произвели сильнейшее впечатле¬
ние на немецкую публику, и, если наши журналисты не
ошибаются, с исполинской репутацией Гете в Германии
покончено. Мне все-таки больно, что Гете пережил паде¬
ние своей славы (Менцель писал в тридцатом или трид¬
цать первом году, а Гете умер лишь в следующем). Я его
знал, и он мне желал добра, был ко мне благосклонным.
Но справедливость прежде всего! Впрочем, я убежден, что
со временем опять это пересмотрят: в эстетическом, к со¬
жалению, не вполне нравственном отношении, его «Вер-
тер», его «Гец фон Берлихинген», его «Эгмонт», его «Ифи-
гения», его «Вильгельм Мейстер» (а именно четыре первые
тома, но не продолжение) и, превыше всех остальных ве¬
щей, его несравненный «Фауст» — стихи бессмертного до¬
стоинства. Другие, меньшие им мало уступают: его бал¬
лада, его чудесно-нежная, исполненная воображения и
чувства «Эфрозина», его «Герман и Доротея», пожалуй,
мало имеют соперников в немецкой литературе. Велика
все-таки разница между Гете и Вольтером: Гете — поэт,
Вольтер — нет. Многое надобно приписать веку: последнее
десятилетие восемнадцатого века и начало нашего были
дерзким временем безверия, осмеивавшим все святое, и
Менцель вполне прав, что Гете не был губителем и соблаз¬
нителем своего времени, а сыном его. Поэтому-то я и
уверен, что там он будет снисходительнее судим, нежели
теперь здесь его судят его сородичи. О Шиллере Менцель
говорит как энтузиаст, но, к сожалению, я не могу быть
вполне одного мнения с ним. И Шиллер не вышел совер¬
шенно чистым из-под губительных влияний своего вре¬
мени. Я не говорю о его «Разбойниках». Это произведение
411
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
девятнадцатилетнего юноши; хотя в некоторых случаях
там может быть обнаружена жестокость, иногда беспутст¬
во, но тем не менее стремления его в целом высоки,
вдохновенны и безупречны. Но возьмите Вы его стихотво¬
рение «Смирение» и некоторые другие лирические стихо¬
творения; возьмите некоторые его статьи в прозе. Если у
Гете есть сродство с Вольтером, то у Шиллера есть нечто,
напоминающее Жан-Жака Руссо, а друг Жан-Жака, не¬
сомненно, — дитя своего времени. Прекраснейшее, что
Шиллер создал, или, вернее, развил, это — не одно из его
произведений, а его чудесный питомец Кернер. В Теодоре
Кернере немцы получили бы, если бы он так рано не окон¬
чил свою героическую жизнь, более чистого, более силь¬
ного и не менее горячего Шиллера. Так я по крайней мере
думаю. Впрочем, быть может, именно его прекрасная
смерть придает ему в моих глазах известный ореол, сияние
святости.
Когда дело касается литературы, у меня как-то странно
получается: я никогда не могу о ней кратко высказаться.
И сегодня я намеревался лишь два слова сказать, а гля¬
дишь! все мое письмо превратилось в литературное рас¬
суждение. (...)
4. НИК. Г. ГЛИНКЕ
(Свеаборг.) 5 марта 1835 г.
(...) Дело шло о чтении и — не знаю, почему мне взду¬
малось утверждать, что чтение редко бывает вредным.
Я этот вопрос потом рассматривал со всех сторон и раз¬
мышления свои сравнивал с собственными опытами! Нет
сомнения, что многое зависит от того, как и кто читает.
Для чистого все чисто; но и самые превосходные книги
могут быть пагубны, когда поймешь их криво (...). Поз¬
волено ли поэту изображать порок? Между словами изо¬
бражать и защищать — большая разница. Изображать
поэт может все и даже должен, иначе он будет односто¬
ронним; но представлять порок в привлекательном виде —
преступление не перед одною нравственностию, а, к счас¬
тию, и перед поэзиею; впрочем, я едва ли могу поверить,
чтобы, кроме совершенно помешанного, кому могло взду¬
маться прямо хвалить грабеж, насилие, пьянство, распут¬
ство etc. Есть другие пороки, которые с первого взгляду
менее грязны, и есть писатели, которые старались их пред¬
ставить заманчивыми: расслабление нравов семейственных,
412
ПИСЬМА
которые, впрочем, тоже распутство, да только более тон¬
кое, безверие, эгоизм нашли, например, защитника в Ко¬
цебу. Но поэт ли Коцебу? Мне кажется, что унижение
души, необходимо нужное, чтобы найти эту мерзость пре¬
красною, совершенно несовместимо с вдохновением, до¬
ступным, по-моему, только для души высокой или по
кр(айней) мере влюбленной в высокое.
Перейдем к частностям. Позволены ли поэту картины
сладострастные? Этот вопрос довольно сложен: не забудь,
что он разрешается только самою поэзиею, а не нраво¬
учением; ибо теория, которая свободное искусство покоря¬
ет чему-нибудь постороннему, вместе уничтожает самое
искусство. Если картина такова, что смущает нас, что
возбуждает в нас скотскую похоть, — будь уверен, что тут
и самая поэзия улетела: дело поэзии одухотворять вещест¬
венную природу, а не подавлять дух веществом. Впрочем,
нередко виноват не поэт, а сам читатель: его воображение
уже грязно, — вот почему оно марает картину поэта. Не
смешон ли вопрос: благопристойная ли нагота в Венере
Медицейской? и что скажешь о ханже или фавне, который
вздумает разбить дивный истукан, дабы он не соблазнял
его? Те же нагие истуканы — большая часть сладостраст¬
ных картин древних. Гомер, например, говорит о любви
Гелены и Александра так же бесстрастно и спокойно,
как о щите Ахиллеса; он говорит о ней, потому что
того требует его повесть, а не думает любоваться этою
картиною, не мешкает на ней, не старается возбудить в
слушателе — в его время еще читателей не было — вожде¬
ление. Иное дело новые; например, Виланд; для него сла¬
дострастная сцена — находка; он до гадости медлит на са¬
мых мелочах, на самых неблагопристойных подробностях.
Но повторяю, поэт ли Виланд?
Впрочем, сладострастные картины и древних не сове¬
тую читать никому, кто к ним не приступит с намерениями
и с душой художника. Другая крайность — антипоэти-
ческая — представлять, напр(имер), в драме, в романе ли¬
цо порочное совершенным дьяволом, променять долг жи¬
вописца на роль проповедника (говорю роль, ибо для
поэта проповедовать — только роль, сверх того, роль не в
его характере); разумеется, что и тут поэзию убивают на¬
повал, а вместе с нею и истину, потому что человеческих
дьяволов нет, не было и никогда не будет. Представляй,
художник, природу, какова она есть; не хвали порочною,
413
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
но не лишай его и того, что в нем не порок, что в нем
прекрасно. Мщение самое адское и страшное чудовище, но
в душе мстительной есть энергия, совершенно не зави¬
сящая от самой мстительности, хотя мстительность и при¬
вита к ней; не лишай же Маргериты de Valois* этой
энергии; будь она фурия, но фурия мощная. Нравст¬
венность — самое святое дело; но что бы ты сказал о
портном, который, не сшив тебе в срок мундира, стал бы
говорить тебе: «Николай Григорьевич, не горячитесь,
вспыльчивость — порок». Не так ли ты бы отвечал ему:
«Представь моему духовнику читать мне поучения; твое
дело — игла, нитки, ножницы». Тот же портной — поэт;
его дело — изображать, а не учить. Но польза поэзии?
Польза, друг мой, великое слово, если только понять,
как должно, это слово. Часто поэт полезнее всякого
проповедника: не могу поверить, чтобы тот легко стал
мерзавцем, кто раз полюбил наслаждения, какие дает нам
поэзия, — разумеется, истинная. Поэзия возвышает душу,
отвлекает ее от мелких хлопот, попечений, суеты еже¬
дневной жизни, переселяет ее в мир красоты, покоя, кар¬
тин и звуков и тем самым омывает, облагораживает ее —
вот польза поэзии; другой не знаю и не постигаю. Может
ли существовать нравоучительная или религиозная поэзия?
О первой скажу решительно: нет; где учение — там уже
нет поэзии. Поэзия религиозная совсем не то: если она
невольное излияние чувств, если кто обращается к богу,
говорит об истинах религии, потому что иначе не мо¬
жет, — он, без сомнения, — поэт, и в самом высоком зна¬
чении этого слова. Но очинить перо, разложить бумагу и
сказать самому себе: «Напишу-ка я поэму дидактическую,
в которой поражу всех противников католической церк¬
ви», — в нравственном отношении очень похвально, но
вместе очень и не поэтически; а это-то и сделал Louis
Racine**. А это-то и забывают очень часто наши Арис¬
тархи1. Впрочем, бог с ними, с Аристархами: мне их не
судить и не переспорить. Судья им тот же Шиллер, на
которого они так часто ссылаются; надеюсь, что Шиллера
никто не обвинит в намерениях противунравственных;
между тем он сильно в своих полемических сочинениях
восстает на нравоучительную теорию в поэзии. (...)
* Де Валуа (франц.). — Сост.
** Луи Расин (франц.). — Сост.
414
ПИСЬМА
5. А. Г. ГЛИНКЕ
(Баргузин.) 28 февраля 1836 г.
(...) Ты спрашиваешь, почему не желаю, чтоб вы прочли
или перечли трагедии Вольтера, — и полагаешь, что в них
нет ничего безнравственного. Безнравственность писа¬
телей бывает двоякая. Одна откровенная, искренняя или,
если угодно, бесстыдная. Эта гораздо менее опасна, пото¬
му что сама по себе отвратительна. Книги, в которых
господствует она, сами выпадут из рук ваших и для вас ед¬
ва ли могут быть вредны. Ею напитаны Вольтеровы
сказки, его «Кандид»1 etc, etc. В трагедиях2 он все тот же
Вольтер, но гораздо чопорнее и осторожнее. Тут у него
третье слово vertu, humanité* и пр. Между тем и тут он
проповедник безверия; и тут вооружается в так называ¬
емых vers a retenir** противу всего, что удерживает и
обуздывает человеческие страсти. Его Альзира энцикло¬
педист, переряженный, и довольно неловко, в американку.
«Магомет» написан с тем, чтоб выставить напоказ всю
пагубность религиозного энтузиазма. «Заира», чтоб дока¬
зать, как противуестественны некоторые постановления
латинской церкви. Не вступаюсь за эти постановления,
но из всего сказанного видишь, каково направление его
трагедий и самых даже лучших.
Везде философия 18 века, везде сам Вольтер: природы,
действующих живых лиц, сердца человеческого — не ищи;
они изредка только, почти противу воли автора, являются
в стихах, где Вольтер, человек с огромным талантом,
забывается, где на минуту из его памяти изглаживается,
что он оракул и патриарх своих приверженцев и поклон¬
ников. Не верь, чтобы тот, кто сегодня черен, мог вчера
или завтра быть белым. Впрочем, ложные правила нрав¬
ственные повредили и самой поэтической красоте его тра¬
гедий: все они более теоремы, которые хотят доказать
то и то, нежели свободные излияния души, не скованной
никакими предубеждениями. Удивлялся я уже давно
странной цензуре, которой подвергают матушки книги, ка¬
кие дают дочерям своим или какие отнимают у них. Сто
раз случалось мне видеть, что прятали от молодой де¬
вушки, как можно далее, иной роман, в котором много
любви, восторгов, охов и ахов и глупостей, но вообще нет
* Добродетель, человечность (франц.). — Сост.
** Стихи, предназначенные для запоминания (франц.). — Сост.
415
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ничего худого, ничего ложного и вредного. «Il ne faut pas
monter la tête à une petite fille»*, — говаривали они. Очень
хорошо. Но отчего же вы им позволяете и даже приказы¬
ваете читать и твердить наизусть «Заиру», «Андромаху»,
«Федру»?3 Разве тут нет любви, да еще какая любовь?
И разве одна любовь вредна сердцу девушки, сердцу
человеческому? Питать страсти, конечно, не должно; но я
испытал и видал часто, что ложные правила гораздо
опаснее сильных страстей. Энтузиазма у вас в свете боятся
и стыдятся пуще порока. Я согласен, что энтузиаст редко
бывает счастлив, то есть что у вас называют быть счаст¬
ливым. Но ужели нет большего несчастия для человека то¬
го, что свет называет несчастием? Разочарование, эгоизм,
омертвение души — ужели ничего не значат?
Не удивляюсь, что Шамфоров «Мустафа»4 тебе не при¬
шел по нутру. Искренно скажу, что кроме Расина и Корне¬
лева «Сида» — все французские, классические трагедии я
читал и плакал, да только не потому, чтоб они очень
сильно шевелили меня, — а что должно было их прочесть.
Что сказать тебе о Жан-Поле? Не спорю,, что есть у него
местами кое-что и не совершенно согласное с хорошим
вкусом. Но Жан-Поль6 (человек, а не автор) душа высо¬
кая, прекрасная; он обожает все то, что в природе и
в человеке божественно, и потому едва ли может быть
для вас вредным, особенно если будете его читать под ру¬
ководством вашей маменьки. Вдобавок не забудьте, что
Жан-Поль писал не для одних девушек и женщин. Иное,
что с первого взгляду несколько возмутит вкус и чувство
молодые, нежные, — нужно нашему брату старику, кото¬
рого нервы уже успели притупиться и подают голос только
при сильном потрясении. Должно еще признаться, что во¬
обще немецкие остроты почти всегда несколько натя¬
нуты, — а, к несчастию, Рихтер там, где хочет остриться,
самый немецкий немец. Зато возьми места, где он часто
Поэт, где увлечен потоком картин, чувств и видений!
Заметь еще, что иное в связи очень хорошо, а в виде
отрывка теряет более половины своей силы и значения.
В хрестоматии, которая у вас, иное прямо приписано Жан-
Полю, что сам он только пересказывает, как толмач своих
героинь и героев. (...)
* Не надо кружить голову маленькой девочке (франц.). — Сост.
416
ПИСЬМА
6. ПЛЕМЯННИЦАМ ГЛИНКАМ
(Баргузин.) 19 августа 1838 г.
(...) Сочинения Пушкина не полны: будет ли еще про¬
должение? В этих трех томах нашел я только два стихо¬
творения мне незнакомых: «Домик в Коломне» и «Анд¬
жело». «Домик в Коломне» очень милая, игривая шутка,
а «Анджело» переделка Шекспировой драмы «Measure for
Measure»* и, по моему чтению, не слишком удачная. Те¬
перь вопрос издателям: почему они выпустили1 несколько
пьес Пушкина, которые вся Россия знает и любит? Между
прочим, в числе их есть одна, далеко превосходящая внут¬
ренним достоинством и глубиною три четверти тех, кото¬
рые в нынешнем собрании налицо, а именно: «Чернь»; это,
по моему мнению (а тут мое мнение, полагаю, имеет же
некоторый вес), — лучшее, истинно шиллеровское, лири¬
ческое создание Пушкина. Других также нет, которые в
полном собрании творений Пушкина я непременно ожидал
встретить, напр(имер) «Воспоминания в Царском Селе»,
не принятых, правда, и самим автором в собрание, издан¬
ное им самим, но друзья его, кажется, в этом случае
должны бы были быть менее строги, чем сам покойник.
В замену я выкинул бы кое-какие эпиграммы, — может
быть, и очень остроумные, но задевающие людей еще жи¬
вых; в издании посмертном я бы не желал видеть ничего
раздражающего кого бы то ни было против покойника.
Впрочем, это издание истинно хорошо: опечаток нет;
шрифт прекрасный и статьи расположены как нельзя
лучше. Еще замечание: к «Руслану» и «Кавказскому плен¬
нику» я приложил бы варьянты и выпущенные места, точ¬
но так, как они приложены к «Онегину».
«Ундину» я получил уже давно, да не сказал о ней еще
ни слова. Эта книга, во 1-х, феномен в нашей библиогра¬
фии; такого красивого издания у нас еще во всей русской
словесности не было. Внутреннее достоинство соответству¬
ет прекрасной наружности: доказательство тому, что брат,
человек самый прозаический, — не может оторваться от
этого прелестного создания. Впрочем, я скажу правду:
в своем веровании в русский экзаметр я, a peu pres**,
разуверился — и даже «Ундина» не заставит меня возвра¬
титься к прежним мнениям об этом размере; вот почему и
* «Мера за меру» (англ.). — Сост.
** Приблизительно (франц.).— Сост.
417
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
желал бы я для нее другой формы: или прозы, или стихов
рифмованных, или хоть пятистопный ямб без рифмы. (...)
7. Н. Г. ГЛИНКЕ
(Баргузин.) 1 июня 1839 г.
(...) Прочел я недавно «Ревизора». Я от этой комедии
ожидал больше. Веселости в ней довольно, но мало ориги¬
нального: это довольно недурная коцебятина, и только.
«Горе от ума» и «Недоросль», по моему мнению, не в при¬
мер выше. Даже кое-какие пьесы Шаховского, а между
фарсами «Хвастун» и «Чудаки» Княжнина чуть ли не тре¬
бовали большего таланта и соображения. Только язык, ко¬
торый бракует «Библиотека» и даже «Современник», мне
показался довольно легким и даже правильным. Впрочем,
нам ли, сибирякам, судить о легкости языка? (...)
8. н. г. ГЛИНКЕ
(Баргузин.) 29 июня 1839 г.
(...) Я совершенно с тобой согласен касательно всего,
что говоришь о повестях Пушкина: «Капитанская дочь»
точно лучшая из всех, «Станционный смотритель» —
лучшая из тех, которые вышли под именем Белкина, про¬
чие же белкинские, особенно «Метель», — вздор и недо¬
стойны Пушкина, исключаю, однако, забавную сказку
«Гробовщик». Славная вещь его «Пиковая дама». Легко
статься может, что «Капитанская дочь» и «Пиковая дама»
лучше всего, что когда-нибудь написано Пушкиным. Когда
буду иметь полное собрание сочинений покойного моего
друга, хочу сделать им разбор, разумеется, не для печати,
а для тебя.
Вы переслали мне рукопись «Шуйские»1; тут есть теп¬
лота, есть еще молодость, которых уже нет в позднейших
работах того же автора, только есть и длинноты: трагедия
много выиграет, если из нее выкинуть стихов 150 или бо¬
лее разглагольствия. Чисто германское лицо графини де ла
Гарди немного чересчур сбивается на шиллеровские жен¬
ские лица; но оно-то и Михаил Шуйский придают всему
созданию какой-то отлив теплоты, который должен нра¬
виться молодым людям, а молодые люди составляют же
часть, и самую значительную, читающего мира. Итак, мой
совет оставить эти лица, как они есть, хотя и зрелая кри¬
тика едва ли их вполне одобрит. Благодарю тебя, ma bonne
418
ПИСЬМА
Natalie*, за вид ростральной царскосельской колонны2.
22 года жизни моей ты вычеркнула вон для моего вообра¬
жения этою милою виньеткою: я был опять в Ц(арском)
Селе и рука об руку с Дельвигом и Пушкиным, позади
всех товарищей, шел кругом нашего незабвенного озера
и спорили мы по-прежнему
«О Шиллере, о славе, о любви!» <...)3.
9. В. А. ЖУКОВСКОМУ
(Тобольск) 11 июня 1846 г.
В конце единственного письма, добрейший Василий
Андреевич, какое я имел счастие получить от вас в Си¬
бири, письма уже писанного давно, 29 июля 184Θ года из
Дармштадта, вы изволили мне приказать отвечать вам че¬
рез генерала Дубельта. Я это тотчас исполнил по получе¬
нии вашего письма, а именно в ноябре месяце того же
года. Потом я еще писал к вам в начале 41 года, когда
родился покойный сын мой Иван, и просил вас о позволе¬
нии ему называться вашим заочным крестником. Наконец,
я писал к вам еще в третий раз из Акшинской же
крепости в половине 42 года. Ни на одно из этих писем я
не получил ответа. Зная ваше прекрасное, благородное
сердце, которое так и высказывается в каждом слове ва¬
шего письма, я уверен, что вы моих писем не получили.
В последний раз я писал к вам 20 дек. 1845 г. из Кургана,
через графа Алексея Федоровича Орлова; и этого письма,
вероятно, вы не получили, а почему я так думаю, позволь¬
те вам сказать ниже.
Первый раз решаюсь писать к вам неофициально.
Бог милостив, авось хоть эти строки дойдут до вас! Вы пи¬
сали Александру Федоровичу Бригену, что в июне или в
июле будете в Москве или Петербурге; а истинно добрый
и честный человек, который взялся наверно доставить это
письмо в собственные ваши руки, едет завтра в Москву,
а потом побывает в Петербурге. Крайняя только нужда и
необходимость горькая заставляют меня писать к вам не
совсем дозволенным путем. Вы видите, что я слеп: едва ли
я буду в состоянии в конце письма подписать собственною
рукою свое имя, однако постараюсь.
Теперь я, без лишних жалоб, коротко и ясно, так ска¬
зать исторически, изложу вам, в каком нахожусь теперь
* Добрая Натали (франц.). — Сост.
419
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
положении. Из дому, с сорокового года, то есть с того вре¬
мени, как истощилась выручка от распродажи моего
«Ижорского», я получаю постоянно 650 рублей ежегодно,
тремя присылками в разное время. В Акше это было очень
и очень достаточно, потому что со стороны, а именно от
моего ученика и учениц, я получал 800 рублей, а с про¬
дажи хлеба, хотя и не всякий год, 500 р. и более. В Акше
климат прекрасной; азиатские товары довольно дешевы,
зато европейские, самые простые, например мыло, чудо¬
вищно дороги. Однако я бы никогда не стал перепраши¬
ваться из Акши в Курган, если бы не лишился вдруг и
отчасти самым ужасным образом лучшей части моих до¬
ходов: незабвенный мой Пронюшка Истомин упал с каб¬
риолета и размозжил себе голову; а вслед за тем семейство
Разгильдеевых выехало из Акши в Кяхту. В 43-м и 44-м
годах вдобавок сделался неурожай, в 43-м я не выходил с
серпом в поле: все дотла выжгло; в 44-м не воротил я и
своих семян. После отбытия Разгильдеевых каждая книга
стала в Акше каким-то неслыханным явлением, какой-то
кометою: ее завозил разрозненную, растрепанную и за¬
саленную какой-нибудь пьяный заседатель. Выпросишь ее
хоть на ночь и читаешь прошлогоднюю перебранку гг. Бул¬
гарина и Полевого. В 45-м году мне разрешили переехать
в Курган. В Кургане много хорошего: климат прекрасный,
все очень дешево, есть люди, есть книги, но доходов ровно
никаких и вдобавок я и слеп. Здесь, в Тобольске, лечусь и
доедаю так сказать mes economies d’Akcha*. Предвидя со¬
вершенную нищету себе и своему семейству, я в третий ме¬
сяц своей болезни, а именно, как я вам сказал — 20 де¬
кабря прошлого года, обратился с письмом к графу Орлову
(при письме было письмо и к вам, с полным списком
моих сочинений); писанное графу Орлову было таково,
что, кажется, и камень от него бы тронулся. Оно, вы отга¬
даете, заключало две просьбы: во-первых, чтобы сам граф
благоволил войти представлением об разрешении печатать
мне свои стихи и прозу, или, по крайней мере, напечатать
хоть третью часть «Ижорского», которого две первые части
еще в 35 году государь император изволил приказать
напечатать в III отделении собственной своей канцелярии.
Вторая просьба состояла в том, чтоб сделал милость граф
Алексей Федорович и непременно доставил вам, моему
* Мои акшинские сбережения (франц.). — Сост.
420
ПИСЬМА
благородному другу, строки, где говорю от души к душе,
и к душе Жуковского. Граф отказал мне в первой просьбе,
полагаю, он не исполнил и второй. Отказ его заключается
в следующих словах: «В 1840 году граф A. X. Бенкендорф
входил с представлением о разрешении Кюхельбекеру
печатать безименно его сочинения и переводы и получил
ответ, что еще не время. Вот почему граф А. Ф. Орлов
не осмелился войти представлением о том же предмете».
Но с 40-го года прошло шесть лет; из сильного и бодрого
мужчины я стал хилым, изнуренным лихорадкою и чахо¬
точным кашлем стариком, слепцом, которого насилу ноги
носят. Когда же настанет это время? Мои дни сочтены:
ужели пущу по миру мою добрую жену и милых детей?
Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобре¬
тает право говорить без больших церемоний: я чувствую,
знаю, я убежден совершенно, точно так же, как убежден в
своем существовании, что Россия не десятками может про¬
тивопоставить европейцам писателей, равных мне по вооб¬
ражению, по творческой силе, по учености и разнообразию
сочинений. Простите мне, добрейший мой наставник и
первый руководитель на поприще поэзии, эту мою гордую
выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если поду¬
маешь, что все, все мною созданное вместе со мною погиб¬
нет как звук пустой, как ничтожный отголосок! Спасите,
мой друг и старший брат по поэзии, теперь покуда хоть
третью часть «Ижорского»: откройте мне средство доста¬
вить вам ее, вместе с выправленным экземпляром первых
двух отделений. Faites en sil est possible une seconde edition,
qui seule aura sens complet; ce n’est que la troisième partie
qui le donne a l’ouvrage, qui sans cela reste un monstre*. По¬
том вступите, если возможно, в сношение с генералом
В. А. Глинкою, начальником Уральского хребта, моим луч¬
шим, испытанным в счастии и несчастии другом. Вы вдво¬
ем придумаете, что можно будет еще сделать; я на вас со¬
вершенно полагаюсь, как на одного из благороднейших, из
самых добродушных людей, каких я знавал, как на поэта,
как на Жуковского. Удастся, слава богу; не удастся, вы не
виноваты: воля божия!
Целую вас.
Вильгельм
* Сделайте, если возможно, второе их издание, которое одно будет
иметь полный смысл, получаемый сочинением лишь с третьею частью,
без коей оно чудовищно (франц.). — Сост.
421
К. Ф. РЫЛЕЕВ
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
Отрывок из письма к Ν. N.
Спор о романтической и
классической поэзиях давно уже занимает всю просвещен¬
ную Европу, а недавно начался и у нас. Жар, с которым
спор сей продолжался, не только от времени не простыва¬
ет, но еще более и более увеличивается. Несмотря, од¬
нако ж, на это, ни романтики, ни классики не могут похва¬
литься победою. Причины сему, мне кажется, те, что
обе стороны спорят, как обыкновенно случается, более о
словах, нежели о существе предмета, придают слишком
много важности формам и что на самом деле нет ни
классической, ни романтической поэзии, а была, есть и
будет одна истинная самобытная поэзия, которой пра¬
вила всегда были и будут одни и те же.
Приступим к делу.
В средние веки, когда заря просвещения уже начала
заниматься в Европе, некоторые ученые люди избранных
ими авторов для чтения в классах и образца ученикам
назвали классическими, то есть образцовыми. Таким об¬
разом, Гомер, Софокл, Виргилий, Гораций и другие древ¬
ние поэты наименованы поэтами классическими. Учители
и ученики от души верили, что, только слепо подражая
древним и в формах, и в духе поэзии их, можно достиг¬
нуть до той высоты, до которой они достигли, и сие-то
несчастное предубеждение, сделавшееся общим, было при¬
чиною ничтожности произведений большей части новей¬
ших поэтов. Образцовые творения древних, долженствовав¬
422
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
шие служить только поощрением для поэтов нашего вре¬
мени, заменяли у них самые идеалы поэзии. Подража¬
тели никогда не могли сравниться с образцами, и, кроме
того, они сами лишали себя сил своих и оригинальности,
а если и производили что-либо превосходное, то, так ска¬
зать, случайно и всегда почти только тогда, когда пред¬
меты творений их взяты были из древней истории и пре¬
имущественно из греческой, ибо тут подражание древнему
заменяло изучение духа времени, просвещения века, граж¬
данственности и местности страны того события, которое
поэт желал представить в своем сочинении. Вот почему
«Меропа», «Эсфирь», «Митридат» и некоторые другие тво¬
рения Расина, Корнеля и Вольтера — превосходны. Вот
почему все творения сих же или других писателей, пред¬
меты творений которых почерпнуты из новейшей исто¬
рии, а вылиты в формы древней драмы, почти всегда
далеки совершенства.
Наименование классиками без различия многих древ¬
них поэтов неодинакового достоинства принесло ощути¬
тельный вред новейшей поэзии и поныне служит одной из
главнейших причин сбивчивости понятий наших о поэзии
вообще, о поэтах в особенности. Мы часто ставим на одну
доску поэта оригинального с подражателем: Гомера с Вир-
гилием, Эсхила с Вольтером. Опутав себя веригами чужих
мнений и обескрылив подражанием гения поэзии, мы влек¬
лись к той цели, которую указывала нам ферула Аристо¬
теля и бездарных его последователей. Одна только необы¬
чайная сила гения изредка прокладывала себе новый путь
и, облетая цель, указанную педантами, рвалась к собствен¬
ному идеалу. Когда же явилось несколько таких поэтов,
которые, следуя внушению своего гения, не подражая ни
духу, ни формам древней поэзии, подарили Европу своими
оригинальными произведениями, тогда потребовалось
классическую поэзию отличить от новейшей, и немцы
назвали сию последнюю поэзию романтическою, вместо
того чтобы назвать просто новою поэзиею. Дант, Тасс,
Шекспир, Ариост, Кальдерон, Шиллер, Гете — наимено¬
ваны романтиками. К сему прибавить должно, что самое
название «романтический» взято из того наречия, на кото¬
ром явились первые оригинальные произведения труба¬
дуров. Сии певцы не подражали и не могли подражать
древним, ибо тогда уже от смешения с разными варвар¬
скими языками язык греческий был искажен, латинский
423
Κ. Φ. РЫЛЕЕВ
разветвился, и литература обоих сделалась мертвою для
народов Европы.
Таким образом, поэзиею романтическою назвали поэ¬
зию оригинальную, самобытную, а в этом смысле Гомер,
Эсхил, Пиндар, словом, все лучшие греческие поэты —
романтики, равно как и превосходнейшие произведения
новейших поэтов, написанные по правилам древних, но
предметы коих взяты не из древней истории, суть произве¬
дения романтические, хотя ни тех, ни других и не призна¬
ют таковыми. Из всего вышесказанного не выходит ли, что
ни романтической, ни классической поэзии не существует?
Истинная поэзия в существе своем всегда была одна и та
же, равно как и правила оной. Она различается только по
существу и формам, которые в разных веках приданы ей
духом времени, степенью просвещения и местностию той
страны, где она появлялась.
Вообще можно разделить поэзию на древнюю и новую.
Это будет основательнее. Наша поэзия более содержатель¬
ная, нежели вещественная: вот почему у нас более мыслей,
у древних более картин; у нас более общего, у них част¬
ностей. Новая поэзия имеет еще свои подразделения,
смотря по понятиям и духу веков, в коих появлялись ее
гении. Таковы «Divina comedia»* Данта, чародейство в по¬
эме Тасса, Мильтон, Клопшток с своими высокими религи¬
озными понятиями и, наконец, в наше время поэмы и тра¬
гедии Шиллера, Гете и особенно Байрона, в коих живо¬
писуются страсти людей, их сокровенные побуждения, веч¬
ная борьба страстей с тайным стремлением к чему-то вы¬
сокому, к чему-то бесконечному.
Я сказал выше, что формам поэзии вообще придают
слишком много важности. Это также важная причина
сбивчивости понятий нашего времени о поэзии вообще. Те,
которые почитают себя классиками, требуют слепого под¬
ражания древним и утверждают, что всякое отступление
от форм их есть непростительная ошибка. Например, три
единства в сочинении драматическом у них есть непремен¬
ный закон, нарушение коего ничем не может быть оправ¬
дано. Романтики, напротив, отвергая сие условие, как стес¬
няющее свободу гения, полагают достаточным для драмы
единство цели. Романтики в этом случае имеют некоторое
основание. Формы древней драмы, точно как формы древ¬
♦ («Божественная комедия»). — Сост.
424
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
них республик, нам не впору. Для Афин, для Спарты и
других республик древнего мира чистое народоправление
было удобно, ибо в оном все граждане без изъятия могли
участвовать. И сия форма правления их не нарочно была
выдумана, не насильно введена, а проистекла из природы
вещей, была необходимостью того положения, в каком на¬
ходились тогда гражданские общества. Точно таким же
образом три единства греческой драмы в тех творениях,
где оные встречаются, не изобретены нарочно древними
поэтами, а были естественным последствием существа
предметов их творений. Все почти деяния происходили
тогда в одном городе или в одном месте; это самое опре¬
деляло и быстроту, и единство действия.
Многолюдность и неизмеримость государств новых,
степень просвещения народов, дух времени, словом, все
физические и нравственные обстоятельства нового мира
определяют и в политике, и в поэзии поприще более об¬
ширное. В драме три единства уже не должны и не могут
быть для нас непременным законом, ибо театром деяний
наших служит не один город, а все государство, и по боль¬
шей части так, что в одном месте бывает начало деяния,
в другом продолжение, а в третьем видят конец его. Я не
хочу этим сказать, что мы вовсе должны изгнать три един¬
ства из драм своих. Когда событие, которое поэт хочет
представить в своем творении, без всяких усилий влива¬
ется в формы древней драмы, то разумеется, что и три
единства не только тогда не лишнее, но иногда даже необ¬
ходимое условие.
Нарочно только не надобно искажать исторического
события для соблюдения трех единств, ибо в сем случае
всякая вероятность нарушается. В таком быту наших
гражданских обществ нам остается полная свобода, смот¬
ря по свойству предмета, соблюдать триединства или до¬
вольствоваться одним, то есть единством происшествия
или цели. Это освобождает нас от вериг, наложенных на
поэзию Аристотелем. Заметим, однако ж, что свобода сия,
точно как наша гражданская свобода, налагает на нас
обязанности труднейшие тех, которых требовали от древ¬
них три единства. Труднее соединить в одно целое разные
происшествия так, чтобы они гармонировали в стремлении
к цели и составляли совершенную драму, нежели писать
драму с соблюдением трех единств, разумеется, с пред¬
метами, равномерно благодарными.
425
Κ. Φ. РЫЛЕЕВ
Много также вредит поэзии суетное желание сделать
определение оной, и мне кажется, что те справедливы, ко¬
торые утверждают, что поэзии вообще не должно опреде¬
лять. По крайней мере, по сю пору никто еще не опре¬
делил ее удовлетворительным образом: все определения
были или частные, относящиеся до поэзии какого-нибудь
века, какого-нибудь народа или поэта, или общие со всеми
словесными науками, как Ансильоново*.
Идеал поэзии, как идеал всех других предметов, кото¬
рые дух человеческий стремится обнять, бесконечен и
недостижим, а потому и определение поэзии невозможно,
да мне кажется и бесполезно. Если б было можно опре¬
делить, что такое поэзия, то можно б было достигнуть и до
высочайшего оной, а когда бы в каком-нибудь веке дос¬
тигли до него, то что бы тогда осталось грядущим поко¬
лениям? Куда бы девалось perpetuum mobile?
Великие труды и превосходные творения некоторых
древних и новых поэтов должны внушать в нас уважение
к ним, но отнюдь не благоговение, ибо это противно
законам чистейшей нравственности, унижает достоинство
человека и вместе с тем вселяет в него какой-то страх,
препятствующий приблизиться к превозносимому поэту и
даже видеть в нем недостатки. Итак, будем почитать высо¬
ко поэзию, а не жрецов ее и, оставив бесполезный спор о
романтизме и классицизме, будем стараться уничтожить
дух рабского подражания и, обратясь к источнику истин¬
ной поэзии, употребим все усилия осуществить в своих
писаниях идеалы высоких чувств, мыслей и вечных истин,
всегда близко к человеку и всегда не довольно ему извест¬
ных.
* По мнению Ансильона, «поэзия есть сила выражать идеи посредством
слова, или свободная сила представлять, помощью языка, бесконечное
под формами конечными и определенными, которые бы в гармонической
деятельности своей говорили чувствам, воображению и суждению»1.
Но сие определение идет и к философии, идет и ко всем человеческим
знаниям, которые выражаются словом. Многие также (см. «Вестник
Европы», 1825, № 17, с. 26), соображаясь с учением новой философии
немецкой, говорят, что сущность романтической (по-нашему — старин¬
ной) поэзии состоит в стремлении души к совершенному, ей самой
неизвестному, но для нее необходимому стремлению, которое владеет
всяким чувством истинных поэтов сего рода . Но не в этом ли состоит
сущность и философия всех изящных наук?
426
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
1
Около 6 января 1825 года.
Рылеев обнимает Пушкина и поздравляет с «Цыгана¬
ми». Они совершенно оправдали наше мнение о твоем та¬
ланте. Ты идешь шагами великана и радуешь истинно рус¬
ские сердца. Я пишу к тебе: ты, потому что холодное вы
не ложится под перо; надеюсь, что имею на это право и по
душе и по мыслям. Пущин познакомит нас короче. Про¬
щай, будь здоров и не ленись: ты около Пскова: там за¬
душены последние вспышки русской свободы; настоящий
край вдохновения — и неужели Пушкин оставит эту землю
без поэмы.
2
(Петербург.) 12 февраля 1825 г.
Благодарю тебя, милый Поэт, за отрывок из «Цыган»
и за письмо; первый прелестен, второе мило. Разделяю
твое мнение, что картины светской жизни входят в область
поэзии. Да если б и не входили, ты с своим чертовским
дарованием втолкнул бы их насильно туда. Когда Бесту¬
жев писал к тебе последнее письмо, я еще не читал впол¬
не первой песни «Онегина». Теперь я слышал всю: она
прекрасна; ты схватил все, что только подобный предмет
представляет. Но «Онегин», сужу по первой песне, ниже и
«Бахчисарайского фонтана», и «Кавказского пленника».
Не совсем прав ты и во мнении о Жуковском. Неоспо¬
римо, что Жуковский принес важные пользы языку наше¬
му; он имел решительное влияние на стихотворный слог
наш — и мы за это навсегда должны остаться ему благо¬
дарными, но отнюдь не за влияние его на дух нашей
словесности, как пишешь ты. К несчастию, влияние это
было слишком пагубно: мистицизм, которым проникнута
большая часть его стихотворений, мечтательность, неопре¬
деленность и какая-то туманность, которые в нем иногда
даже прелестны, растлили многих и много зла наделали.
Зачем не продолжает он дарить нас прекрасными перево¬
дами своими из Байрона, Шиллера и других великанов
427
Κ. Φ. РЫЛЕЕВ
чужеземных. Это более может упрочить славу его. С тво¬
ими мыслями о Батюшкове я совершенно согласен: он
точно заслуживает уважения и по таланту, и по несчастию.
Очень рад, что «Войнаровский» понравился тебе. В этом
же роде я начал «Наливайку» и составляю план для
«Хмельницкого». Последнего хочу сделать в 6 песнях: ина¬
че не все выскажешь. Сейчас получено Бестужевым пос¬
леднее письмо твое. Хорошо делаешь, что хочешь поспе¬
шить изданием «Цыган»; все шумят об ней, и все ее ждут
с нетерпением. Прощай, чародей.
Рылеев.
3
(Петербург.) 10 марта 1825 г.
Не знаю, что будет «Онегин» далее: быть может, в
следующих песнях он будет одного достоинства с «Дон
Жуаном». Чем дальше в лес, тем больше дров; но те¬
перь он ниже «Бахчисарайского фонтана» и «Кавказского
пленника». Я готов спорить об этом до второго при¬
шествия.
Мнение Байрона, тобою приведенное, несправедливо.
Поэт, описавший колоду карт лучше, нежели другой де¬
ревья, не всегда выше своего соперника. У каждого свой
дар, своя Муза. Майкова «Елисей» прекрасен; но был ли
бы он таким у Державина, не думаю, несмотря на пре¬
восходства таланта его перед талантом Майкова. Держави¬
на «Мириамна» никуда не годится. Следует ли из того, что
он ниже Озерова?
Не согласен и на то, что «Онегин» выше «Бахчисарай¬
ского фонтана» и «Кавказского пленника» как творение
искусства. Сделай милость, не оправдывай софизмов Воей¬
ковых: им только дозволительно ставить искусство выше
вдохновения. Ты на себя клеплешь и взводишь бог знает
что.
Думаю, что ты получил уже из Москвы «Войнаров-
ского». По некоторым местам ты догадаешься, что он не¬
сколько ощипан. Делать нечего. Суди, но не кляни. Знаю,
что ты не жалуешь мои «Думы», несмотря на то я просил
Пущина и их переслать тебе. Чувствую сам, что некоторые
так слабы, что не следовало бы их и печатать в полном
собрании. Но зато убежден душевно, что Ермак, Матвеев,
428
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
Волынской, Годунов и им подобные хороши и могут быть
полезны не для одних детей. «Полярная звезда» выйдет на
будущей неделе. Кажется, она будет лучше двух первых.
Уверен заранее, что тебе понравится первая половина
взгляда Бестужева на словесность нашу. Он в первый раз
судит так основательно и так глубокомысленно. Скоро ли
ты начнешь печатать «Цыган»?
Рылеев.
Чуть не забыл о конце твоего письма. Ты великий
льстец: вот все, что я могу сказать тебе на твое мнение
о моих поэмах. Ты завсегда останешься моим учителем в
языке стихотворном. Что Дельвиг? Не у тебя ли он? Здесь
говорят, что он опасно заболел.
4
(Петербург.) 25 марта 1825 г.
Спешим доставить тебе «Звезду». Уверены, что она
понравится Пушкину, и заранее радуемся этому. Она здесь
всем пришла по сердцу. Это хоть не совсем хороший знак;
но уверены, что в ней есть довольно и таких пьес, которых
похвалить не откажутся и истинные ценители произведе¬
ний нашего Парнаса. Мы много одолжены нашим добрым
поэтам и прозаикам за доставленные пьесы, но как благо¬
дарить тебя, милый поэт, за твои бесценные подарки на¬
шей «Звезде»? От «Цыган» все без ума, «Разбойникам»,
хотя и давнишним знакомцам, также чрезвычайно обрадо¬
вались. Теперь для «Звездочки» стыдимся и просить у те¬
бя что-нибудь; так ты наделил нас. На последнее письмо
я еще не получал от тебя ответа. Уж не сердишься ли за
откровенность мою? Это, кажется, тебе не впору; ты выше
этого. Что Дельвиг? По слухам, он должен быть у тебя.
Радуюсь его выздоровлению и свиданию вашему. С нетер¬
пением жду его, чтоб выслушать его мнение об осталь¬
ных песнях твоего «Онегина». Не пишешь ли ты еще чего?
Что твои записки? Чем ты занимаешься в праздное вре¬
мя? Мы с Бестужевым намереваемся летом проведать те¬
бя: будет ли это кстати? Вот тебе несколько вопросов, на
которые буду ожидать ответа.
Твой Рылеев.
429
Κ. Φ. РЫЛЕЕВ
5
(Петербург,) Конец апреля 1825 г.
Письмо твое Бестужев получил, но не успел отвечать:
его услали в Москву провожать принца Оранского. Может
быть, он напишет тебе оттуда. Здесь слышно, что Дельвиг
уже у тебя: правда ли? В субботу был я у Плетнева с Кю¬
хельбекером и с братом твоим. Лев прочитал нам несколько
новых твоих стихотворений. Они прелестны; особенно от¬
рывки из Алкорана. Страшный суд ужасен! Стихи
«И брат от брата побежит,
И сын от матери отпрянет»
превосходны. После прочитаны были твои «Цыгане». Мо¬
жешь себе представить, что делалось с Кюхельбекером.
Что за прелестный человек этот Кюхельбекер. Как он лю¬
бит тебя! Как он молод и свеж! — «Цыган» слышал я чет¬
вертый раз и всегда с новым, с живейшим наслаждением.
Я подыскивался, чтоб привязаться к чему-нибудь, и нашел,
что характер Алеко несколько унижен. Зачем водит он
медведя и сбирает вольную дань? Не лучше ли б было
сделать его кузнецом. Ты видишь, что я придираюсь, а
знаешь почему и зачем? Потому, что сужу поэму Алек¬
сандра Пушкина, затем, что желаю от него совершенства.
Насчет слога, кроме небрежного начала мне не нравится
слово: рек. Кажется, оно несвойственно поэме; оно при¬
надлежит исключительно лирическому слогу. Вот все, что
я придумал. Ах, если бы ты ко мне был так же строг; как
бы я был благодарен тебе. Прощай, обнимаю тебя, а ты
обними Дельвига. (Почему) не пишешь ни слова о «По¬
лярной Звезде»? (Понравился) ли «Наливайко»? Прощай,
<...) милая сирена.
Твой Рылеев.
6
(Петербург.) 12 мая 1825 г.
Дельвиг пересказал мне замечания твои о «Думах»
и «Войнаровском». Хочется поспорить, особливо о послед¬
нем, но удерживаюсь до поры: жду мнения твоего на пись¬
ме и жду с нетерпением. Ты ни слова не говоришь о «Ис¬
поведи Наливайки», а я ею гораздо более доволен, нежели
«Смертью Чигиринского старосты», которая так тебе пон¬
430
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
равилась. В «Исповеди» мысли, чувства, истины, словом,
гораздо более дельного, чем в описании удальства Нали-
вайки, хотя, наоборот, в удальстве более дела. Ты прав,
опасаясь, что «Звездочка» отнимет у меня много времени.
Петербург тошен для меня; он студит вдохновение: душа
рвется в степи; там ей просторнее, там только могу я сде¬
лать что-либо достойное века нашего, но как бы назло же¬
лезные обстоятельства приковывают меня к Петербургу.
Ты обещаешь также поспорить с Бестужевым за обозре¬
ние; обещал прислать свое опровержение на Байрона и
Бовля — и, верно, все это отложишь в длинный ящик.
Слышал от Дельвига и о следующих песнях «Онегина»,
но по изустным рассказам судить не могу. Как велик Бай¬
рон в следующих песнях «Дон Жуана»! Сколько порази¬
тельных идей, какие чувства, какие краски! Тут Байрон
вознесся до невероятной степени: он стал тут и выше по¬
роков, и выше добродетелей. Пушкин, ты приобрел уже в
России пальму первенства: один Державин только еще бо¬
рется с тобою, но еще два, много три года усилий, и ты
опередишь его: тебя ждет завидное поприще: ты можешь
быть нашим Байроном, но ради бога, ради Христа, ради
твоего любезного Магомета не подражай ему. Твое огром¬
ное дарование, твоя пылкая душа могут вознести тебя до
Байрона, оставив Пушкиным. Если б ты знал, как я люблю,
как я ценю твое дарование. Прощай, чудотворец.
Рылеев.
7
(Петербург.) Первая половина июня 1825 г.
Благодарю тебя, милый чародей, за твои прямодушные
замечания на «Войнаровского». Ты во многом прав совер¬
шенно: особенно говоря о Миллере. Он точно истукан.
Это важная ошибка: она вовлекла меня и в другие. Вло¬
жив в него верноподданнические филиппики за нашего Ве¬
ликого Петра, я бы не имел надобности прибегать к хит¬
ростям и говорить за Войнаровского для Бирюкова. Впро¬
чем, поправлять не намерен; это ужасно несносно для такого
лентяя, как я, лучше написать что-нибудь новое. О «Ду¬
мах» я уже сказал тебе свое мнение. Бестужев собирается
отвечать тебе, и, правда, ему есть об чем поспорить с тобой
касательно мнений твоих об его обозрении. Главная ошиб¬
431
Κ. Φ. РЫЛЕЕВ
ка твоя состоит в том, что ты и ободрение и покровитель¬
ство принимаешь за одно и то же. Что ободрение необ¬
ходимо не только для таланта, но даже для гения, я твер¬
дил Бестужеву еще до получения твоего письма; но какое
ободрение. Полагаю, что характер и обстоятельства гения
определяют его. Может быть, Гомер сочинял свои рапсо¬
дии из куска хлеба; Байрона подстрекало гонение и вражда
с родиной, Тасса любовь, Петрарка также; иначе быть не
может, и покровительство в состоянии оперить, но думаю,
что оно скорей может действовать отрицательно. Сила ду¬
шевная слабеет при дворах, и гений чахнет; все дело добрых
правительств состоит и в том, чтобы не стеснять гения;
пусть он производит свободно все, что внушает ему вдохно¬
вение. Тогда не надобно ни пенсий, ни орденов, ни ключей
камергерских; тогда он не будет без денег, следовательно,
без пропитания; он тогда будет обеспечен. Гений же немного
и требует в жизни. Тогда потерпят, быть может, только одни
самозванцы гении. Прощай, гений.
Твой Рылеев.
Еще обнимаю тебя за твои примечания. «Войнаровского»
вышлю с следующею почтою.
Ты сделался аристократом; это меня рассмешило. Тебе
ли чваниться пятисотлетним дворянством? И тут вижу ма¬
ленькое подражание Байрону. Будь, ради бога, Пушкиным.
Ты сам по себе молодец.
8
(Петербург,) Около 20 ноября 1825 г.
Извини, милый Пушкин, что долго не отвечал тебе; раз¬
ные неприятные обстоятельства, то свои, то чужие, были
тому причиною. Ты мастерски оправдываешь свое чванство
шестисотлетним дворянством; но несправедливо. Справед¬
ливость должна быть основанием и действий и самых же¬
ланий наших. Преимуществ гражданских не должно су¬
ществовать, да они для поэта Пушкина ни чему и не слу¬
жат ни в зале невежды, ни в зале знатного подлеца, не
умеющего ценить твоего таланта. Глупая фраза журналис¬
та Булгарина также не оправдывает тебя, точно так, как
она не в состоянии уронить достоинства литератора и
поставить его на одну доску с камердинером знатного ба¬
рина. Чванство дворянством непростительно особенно те¬
432
ПИСЬМА К А. С. ПУШКИНУ
бе. На тебя устремлены глаза России; тебя любят, тебе
верят, тебе подражают. Будь поэт и гражданин.
Мы опять собираемся с «Полярною». Она будет по¬
следняя; так по крайней мере мы решились. Желаем рас¬
проститься с публикою хорошо и потому просим тебя по¬
дарить нас чем-нибудь подобным твоему последнему нам
подарку.
Тут об тебе бог весть какие слухи: успокой друзей сво¬
их хотя несколькими строчками. Прощай, будь здрав и
благоденствуй.
Твой Рылеев.
На днях будет напечатана в «С<ыне> О(течества)»
моя статья о Поэзии; желаю узнать об ней твои мысли.
15—907
ПРИМЕЧАНИЯ
Литературно-критические и эстети¬
ческие работы декабристов на протяжении долгого времени не выпус¬
кались специальными сборниками. В последние годы положение измени¬
лось. Появились такие издания, как «Литературно-критические работы
декабристов» (М., «Худож. лит.», 1978), «Их вечен с вольностью союз»
(М., «Современник», 1983); вышли в свет книги A.A. Бестужева,
В. К. Кюхельбекера, П. А. Катенина, включавшие статьи, не печатав¬
шиеся с момента их первой публикации. Данное издание существенно
отличается от тех, которые предлагались до сих пор вниманию читателя.
Круг имен здесь уже: он ограничен тремя деятелями, эстетическое
и литературно-критическое наследие которых имеет наибольшее значе¬
ние и с особой силой и определенностью выражает своеобразие того
этапа эволюции эстетических идей, который связан с деятельностью
дворянских революционеров. Зато наследие это представлено здесь хотя
и не исчерпывающе, но более полно, чем в других аналогичных сбор¬
никах.
Читатель найдет в этой книге не только статьи, но и письма Бес¬
тужева, Кюхельбекера, Рылеева, запечатлевшие важные положения их
эстетического кодекса. Полнее представлены работы, отражающие отно¬
шение декабристов к изобразительному искусству и театру.
Орфография и пунктуация приближены к современным. Но написа¬
ния, отражающие произносительные и словообразовательные особенности
эпохи декабристов, мы стремились сохранить. Устранен курсив как сред¬
ство выделения цитаты и обозначения названий литературных произве¬
дений, периодических изданий, альманахов и т. п. Цитаты и названия
заключены в кавычки в соответствии с современными нормами. Смысло¬
вой курсив, естественно, сохраняется.
Все примечания, имевшиеся в декабристской периодике, публи¬
куются подстрочно, а все примечания составителя вынесены в конец
книги. Исключение сделано лишь для переводов иноязычных текстов,
которые для удобства читателя также даны подстрочно или в угловых
скобках.
При подготовке примечаний учтен материал, собранный в пред¬
шествующих изданиях подобного типа. Приняты следующие сокращения:
1) ЛН — Литературное наследство. М., Изд-во АН СССР; 2) Пушкин —
Пушкин А. С. Полн. собр. соч. в 17-ти т. М—Л., Изд-во АН СССР,
1937—1949; 3) ЦГАОР — Центральный государственный архив Октябрь¬
ской революции.
Работа над книгой распределялась между соавторами следующим
образом: Л. Г. Фризман — составление и подготовка примечаний,
Р. Г. Назарьян — подготовка указателя имен. Вступительная статья на¬
писана совместно.
434
ПРИМЕЧАНИЯ
А. А. БЕСТУЖЕВ
СТАТЬИ
ЭСФИРЬ, ТРАГЕДИЯ ИЗ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ...
Впервые — Сын отечества, 1819, ч. 51, № 3, с. 107—124.
1 «Оборотни, или Споры до слез, а об заклад не бейся». Комическая
опера, переведенная с французского* П. Н. Кобяковым. Ставилась в
Москве и Петербурге с 1808 г.
ЛИПЕЦКИЕ ВОДЫ, ИЛИ УРОК КОКЕТКАМ
Впервые — Сын отечества, 1819, ч. 51, № 6, с. 252—273, с поме¬
той: «Петергоф, 1819».
1 Мельпомена — муза трагедии. Талия — муза комедии (греч.
миф.).
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
Впервые — Благонамеренный, 1820, 9, № 6, с. 398—408.
1 Адресовано А. Е. Измайлову.
2 Зоил — древнегреческий ритор. Нападки на Гомера сделали его
имя нарицательным для обозначения мелочной недоброжелательной
критики.
3 Источник этой цитаты установить не удалось.
4 Мемнон — один из героев Троянской войны. Его именем греки на¬
зывали статую египетского фараона Аменхотена III.
5 Гофманские капли — популярное лекарство (смесь очищенного
серного эфира с винным спиртом или этиловым алкоголем), названо
по имени немецкого врача Фридриха Гофмана (1660—1742).
6 Рунические гиероглифы — древние германские письмена.
7 «Телемахида» (1766) — поэма В. К. Тредиаковского, перевод
романа Ф. Фенелона «Приключения Телемака».
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
Впервые — Сын отечества, 1820, ч. 60, № 12, с. 244—257, с под¬
писью «А. Б.» и пометой: «Февраля 19, 1820».
1 Адресовано основателю и издателю «Сына отечества» Н. И. Гречу.
2 Стихотворение П. А. Катенина, появившееся в «Сыне отечества»,
1820, № 1. В оценке этого стихотворения Бестужев резко разошелся с
Кюхельбекером (см. его статью «Взгляд на текущую словесность», наст,
изд., с. 227 и след.).
3 Ср. замечание по тому же поводу в той же статье Кюхельбекера
(см. наст, изд., с. 229).
4 Милютина лавка — гастрономический магазин в Петербурге.
5 Цитируется отрывок из «Воскресенской летописи», приведенный в
«Истории Государства Российского» H. М. Карамзина (т. III, Спб.,
1816, с. 454).
15**
435
ПРИМЕЧАНИЯ
6 Имеется в виду известная легенда, по которой гуси спасли Рим от
нашествия галлов, разбудив своим криком ночную стражу, охранявшую
капитолий (крепость).
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЮ
Впервые — Сын отечества, 1820, ч. 65, № 44, с. 157—172 с под¬
писью «А—ръ Б—ж—въ» и пометой: «Октября 18, 1820».
1 Адресовано, как и предыдущее письмо, Н. И. Гречу.
2 Академия художеств была основана в 1757 г., первоначально при
Московском университете, в 1763 г. преобразована в самостоятельное уч¬
реждение. Упоминаемое Бестужевым закрытие Академии длилось пять
лет и было связано с финансовыми трудностями и продолжительным
ремонтом ее помещений. Подробнее об этом см.: Оленин А. Н. Краткие
исторические сведения о состоянии императорской академии художеств.
Спб., 1829. Выставка в Академии художеств была открыта с 1 по 15 сен¬
тября 1820 г.
3 Источник этой цитаты установить не удалось.
4 Имеется в виду статья «Академия художеств» (Сын отечества,
1820, ч. 64, № 38, с. 205—226; № 39, с. 255—277; № 40, с. 299—316).
5 Бальбус — Гай Аттилий Бальбус был римским консулом в
245—235 гг. до н. э.
6 Бахус, Дионис — бог растительности, покровитель виноградарства
и виноделия.
7 Антиной — предводитель женихов, побуждавших к браку Пене¬
лопу, убит Одиссеем.
Мелеагр — герой этолийских сказаний, участник похода арго¬
навтов.
9 Аполлон — один из главных богов олимпийской религии, изобра¬
женный в многочисленных мифах.
10 Геркулес Фарнезский. Геракл — греческий народный герой, его
подвиги воспеты в многочисленных мифах. Статуя Г. Фарнезе изобра¬
жает Геракла могучим мужем, отдыхающим после подвига.
11 Фавны. Фавн — римский бог лесов и полей, покровитель стад и
пастухов. Фавна — женская ипостась Фавна.
12 Лаокоон — греческий герой, жрец Аполлона, упоминающийся в
гомеровских сказаниях о Троянской войне. Боги, предрешившие гибель
Трои, послали двух огромных змей, удушивших Лаокоона и двух его
сыновей.
13 Ниобея — героиня греческих мифов, олицетворение печали и
страдания.
14 Феб — Аполлон, поразивший стрелами сыновей Ниобеи.
15 Венера Медицисская — одно из наиболее знаменитых изобра¬
жений Венеры (Афродиты), копия работы Праксителя, созданная в Риме
в I в. до н. э.
16 Пигмалионово приключение — миф о Пигмалионе, царе Кипра,
легендарном скульпторе, который влюбился в созданную им статую.
17 Суждения, с которыми полемизирует Бестужев, высказаны в
статье «Академия художеств» (Сын отечества, 1820, ч. 64, № 38, с. 218
и след.).
18 Улисс — Одиссей.
19 П. П. Свиньин был издателем журнала «Отечественные записки».
Эстеррейх был упомянут в числе иностранцев в опубликованной этим
436
ПРИМЕЧАНИЯ
журналом неподписанной статье «Открытие Академии художеств и чрез¬
вычайное оной собрание» (1820, № 6, октябрь, с. 282).
20 Имеется в виду картина О. Ф. Игнациуса «Принцесса д’Эсте
и Тасс» (1817).
21 Имеется в виду эпизод, описанный в шестой книге «Одиссеи».
22 Нарцисс — прекрасный юноша, по греческому мифу, увидев в
реке свое изображение, влюбился в него и умер от любви.
23 Левкад. Скала Левкада была местом самоубийства знаменитой
древнегреческой поэтессы Сафо (VI в. до н. э.), по преданию покон¬
чившей с собой из-за неразделенной любви к юноше Фаону.
24 Имеется в виду образ «Святой князь Александр Невский» работы
В. К. Шебуева в иконостасе домовой церкви Академии художеств.
25 Имеется в виду картина А. Е. Егорова «Богоматерь с младенцем
и Иоанном Крестителем».
26 Доминикин — имеется в виду итальянский художник Домени-
кино Цампиери.
ПИСЬМО К ИЗДАТЕЛЯМ
Впервые — Сын отечества, 1821, ч. 68, № 13, с. 263—265. Напи¬
сано в ответ на статью О. М. Сомова «Письмо к г-ну Марлинскому».
1 Адресовано издателям «Сына отечества» Н. И. Гречу и А. Ф. Во¬
ейкову.
Псевдонимы О. М. Сомова.
3 Бестужев упоминает эпизод из поэмы Л. Ариосто «Неистовый
Роланд».
4 Речь идет о статье Ф. В. Булгарина «Ответ на письмо к г-ну
Марлинскому, писанное Жителем Галерной гавани» (Сын отечества,
1821, ч. 68, № 9, с. 61—73).
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ
Впервые — Соревнователь просвещения и благотворения, 1821,
ч. 13, с. 305—311.
1 Академия Российская — научный центр по изучению русского
языка и словесности в Петербурге. Существовала с 1783 по 1841 г., затем
была преобразована во 2-е Отделение Академии наук, а позднее в Отде¬
ление русского языка и словесности.
2 Боян — песнотворец XI—XII вв., слагавший песни славы в честь
подвигов русских князей. В «Слове о полку Игореве» назван «вещим»
и «соловьем старого времени». Его имя стало нарицательным для обо¬
значения поэта.
3 Алкид — Геракл.
4 H. М. Карамзин. Бестужев перечисляет события, описанные в
IX томе «Истории Государства Российского».
ПОЧЕМУ?
Впервые — Сын отечества, 1882, ч. 77, № 18, с. 158—168 с
подп. «А. Б.».
1 «Опыт краткой истории русской литературы» Н. И. Греча
(1822) —первая книга по истории литературы в России. Несмотря на
437
ПРИМЕЧАНИЯ
многочисленные недостатки и пробелы, она заняла заметное место в
процессе становления литературоведческой мысли.
2 Имеется в виду поэма польского писателя Игнатия Красицкого
«Myszeis» (1778).
3 Статья, упоминаемая Бестужевым, в печати не появилась, оче¬
видно, из-за высылки Катенина из Петербурга.
ВЗГЛЯД НА СТАРУЮ И НОВУЮ СЛОВЕСНОСТЬ В РОССИИ
Впервые — Полярная звезда на 1823 год, с. 11—29. Статья вызвала
критические замечания Пушкина, высказанные им в письме к Бестужеву.
В частности, он писал: «Как можно в статье о русской словесности
забыть Радищева? Кого же мы будем помнить? Это умолчание непро¬
стительно ни тебе, ни Гречу — а от тебя его не ожидал» (см.: Пушкин,
т. 13, с. 64).
1 Имеется в виду «Повесть временных лет» — летописный свод,
составленный в начале XII в., по преданию, Нестором-летописцем,
монахом Киево-Печерского монастыря.
2 Русская правда — первый древнерусский законодательный сбор¬
ник, составленный из указов великих князей Ярослава и его сыновей
Изяслава, Святослава, Всеволода и Владимира Мономаха. В течение
нескольких столетий этим сводом руководствовались в судебных делах.
Первое печатное издание появилось в 1767 г.
3 Песня о битве Донской — «Задонщина», памятник русской лите¬
ратуры конца XIV века.
4 Протей — по греческой мифологии, старец, обладавший способ¬
ностью принимать любой облик.
5 Вольный пересказ строки из стихотворения Державина «Па¬
мятник».
6 ...несколько пьес слабых. Имеются в виду пьесы Державина
«Добрыня», «Пожарский», «Ирод и Мариамна», «Евпраксия» и др.,
написанные в начале XIX в.
7 Время рассудит Карамзина как историка... Отклик на полемику
вокруг «Истории Государства Российского», которая вызвала к себе
критическое отношение у многих декабристов.
8 Речь идет о комедиях «Модная лавка», «Урок дочкам» и «Илья-
богатырь» (все написаны в 1807 г.).
9 Имеется в виду «Словарь древней и новой поэзии» (ч. 1—3, 1821)
Η. Ф. Остолопова.
10 А. Ф. Мерзляков написал «Краткое начертание изящной словес¬
ности» (ч. 1—2. М., 1822).
11 По-видимому, имеется в виду деятельность П. А. Плетнева как
рецензента.
12 Комедия Грессе несколько раз переводилась на русский язык.
Катенин перевел ее под названием «Сплетни» (1821).
ОТВЕТ НА КРИТИКУ «ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗДЫ»
Впервые — Сын отечества, 1823, ч. 83, № 4, с. 174—190, с поме¬
той — «20 января».
Написано в ответ на рецензию К. (В. И. Козлова) «Полярная
звезда, карманная книжка на 1823 год». — Русский инвалид, 1823,
№ 4, 5, 6, 7 (6, 8, 9, 10 января).
438
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Анаграмма — перестановка букв в слове для образования другого
слова. Здесь имеется в виду подмена Козловым одного слова («наря¬
ду») — другим («сравнивать»), искажающим мысль Бестужева.
2 Припев песенки санкюлотов времен Французской революции
1789—1794 гг.
3 Краледворская рукопись — сборник чешских песен, проникнутых
национально-патриотическим духом. Создан чешским филологом и поэ¬
том В. Ганкой и опубликован им в 1819 г. под видом якобы найденной
им старинной рукописи. Во времена Бестужева ее подлинность не бра¬
лась под сомнение.
4 Эпаминонд — древнегреческий полководец и политический дея¬
тель, прославившийся победами при Левктрах и Мантинее. Однако,
судя по контексту, Бестужев имеет в виду Эпименида, критского жреца,
который, по преданию, проспал в зачарованной пещере пятьдесят семь
лет.
5 Бестужев пародирует стихи из элегии Батюшкова «Привиде-
» (из Парни):
«В час полуночных явлений
Я не стану в виде тени
То внезапу, то тишком
С воплем в твой являться дом».
6 Имеется в виду книга Н. И. Греча «Опыт краткой истории рус¬
ской литературы» (1822).
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1823 ГОДА
Впервые — Полярная звезда на 1824 год, с. 265—.271.
1 Лета — река в загробном мире, символ забвения.
2 Бестужев, очевидно, считал книгу А. Ф. Мерзлякова «Краткое
начертание теории изящной словесности» (1822) подражанием труду
немецкого критика И. И. Эшенбурга «Handbuch der klassischen Lite¬
ratur» (1783).
3 Эта часть статьи вызвала полемику между Бестужевым и Вязем¬
ским. Последний возражал против благожелательной оценки «Вестника
Европы», занимавшего ретроградные позиции в литературной и общест¬
венной жизни. Позднее и Бестужев подверг этот журнал резкой критике
(см. наст, изд., с. 125—126).
4 Парижским пустынником Бестужев называет Булгарина, который
до переезда в Россию служил в армии Наполеона и жил в Париже.
Алкид — одно из имен Геракла, бесстрашного героя греческой
мифологии, смело вступающего в бой с грозными силами природы, с
чудовищами, разбойниками, великанами и т. д.
ВЗГЛЯД НА РУССКУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
В ТЕЧЕНИЕ 1824 И НАЧАЛЕ 1825 ГОДОВ
Впервые — Полярная звезда на 1825 год, с. 488—499. Статья была
высоко оценена в передовых кругах, в частности Рылеевым (см. ЛН,
т. 59, с. 145; Рылеев К. Ф. Полн. собр. соч. М.—Л., Academia, 1934,
с. 489), однако вызвала ряд возражений и критических замечаний Пуш¬
кина, который, например, в своем письме к автору не согласился с
439
ПРИМЕЧАНИЯ
утверждением Бестужева, что у нас «есть критика, а нет литературы».
«Где же ты это нашел? —г спрашивал Пушкин. — Именно критики у нас
и недостает». Характеризуя далее современную литературу, поэт отме¬
чает: «Нет, фразу твою скажем наоборот: литература кое-какая у нас
есть, а критики... нет». Возражает он Бестужеву и по другим вопросам
(см.: Пушкин, т. 18, с. 177—180).
1 Цитируется работа английского критика Ф. Джеффери.
2 С 1577 г. Тассо периодически страдал манией преследования.
В 1579 г. после второго приступа помешательства он был помещен в
психиатрический госпиталь. Перед смертью ему был присужден лавро¬
вый венок.
3 Имеется в виду «Генриада» (1728) — поэма, начатая Вольтером
в Бастилии.
4 Гроб повапленный (от «вапъ» — «краска») — определение дур¬
ного человека, прикидывающегося хорошим: от евангельского сравнения
лицемеров с «гробами повапленными, которые красивы снаружи, а
внутри полны мертвых костей и всякой мерзости».
5 Иоанн Экзарх Болгарский — средневековый писатель конца IX —
начала X в. Один из создателей литературного староболгарского языка.
Бестужев имеет в виду появление книги К. Ф. Калайдовича «Иоанн
Эксарх Болгарский» (М., 1824), включавшей приложение, которое
знакомило читателей с трудами Иоанна.
6 Лаврентьевский список содержит полный текст «Повести вре¬
менных лет» в наиболее исправной редакции. Список получил свое на¬
звание по имени переписчика монаха Лаврентия, который в 1377 г. снял
копию со списка начала XIV в.
7 «Разговор книгопродавца с поэтом» (1824) впервые появился в
печати как предисловие к первой главе «Евгения Онегина». Говоря о
счастливом подражении Гете, Бестужев, скорее всего, имеет в виду
«Театральное вступление» (конец 1790-х гг.) к «Фаусту», в котором Гете,
в диспуте между директором театра, поэтом и комическим актером,
раскрывает различное отношение к искусству.
8 «Sankt-Peterburgische Zeitschrift». Выходил в России.
о РОМАНТИЗМЕ
Впервые — Новогодник. Собрание сочинений в прозе и стихах
современных русских писателей, изд. Н. Кукольником. Спб., 1839,
с. 337—341. Подписано: «А. Марлинский». В 1951 году С. Я. Штрайх
опубликовал этот фрагмент в первом томе «Избранных социально-
политических и философских произведений декабристов» (М., Полит¬
издат, 1951, с. 481—484) по автографу, сохранившемуся в ЦГАОР и
датируемому им 1826 годом, ошибочно указав на свою публикацию как
на первую. В редакции «Новогодника» был отброшен последний абзац
(предпоследний абзац заканчивается отточием), а текст отличался от
публикации Штрайха несколькими мелкими поправками. Поскольку
источник публикации, которым располагал Н. Кукольник, нам неизвес¬
тен, предпочтение следует отдать редакции автографа. Лишь в двух мес¬
тах мы вносим по тексту «Новогодника» исправления, устраняющие
явные грамматические неувязки, вероятнее всего, описки Бестужева.
М. К. Азадовский еще в 1954 году указал на ошибочность дати¬
ровки, предложенной С. Я. Штрайхом, «так как весь 1826 год Бесту¬
жев провел в заключении: сначала в Петропавловской и Шлиссель-
440
ПРИМЕЧАНИЯ
бургской крепостях, а затем в форте Слава» (ЛН, т. 59, с. 770), и обо¬
снованно датировал фрагмент концом февраля — началом марта
1829 года (там же, с. 724).
1 Интересно сопоставить эту классификацию с той, которая со¬
держалась в переводной статье Бестужева «О духе поэзии XIX века»
(1825). В ней критик развивал глубоко романтическую идею, что под¬
линный источник творений искусства — в душе их творца. Нашлись
люди, с осуждением писал тогда Бестужев, которые «схватились за
предметы наружные, описали преточно их приметы и вид» — вот
«явился род описательный. Что сказать об этом подобии поэзии, об этом
безжизненном призраке, где природа, столь подробно описанная, ли¬
шена лучшей своей прелести, которая идет от души? Об этом поддельном
роде, исполненном сухости, где сочинитель... рассматривает цветок,
деревцо, птичку из одного удовольствия описать их». Этому «подобию
поэзии» противопоставлено подлинное искусство, которое «в сердце
человеческом» находит «неисчерпаемый источник красот, вечный пред¬
мет песней поэтических». Теперь же отношение Бестужева к «отражатель-
ности» ощутимо изменилось. Он считает ее законным и по-своему нужным
видом искусства, хотя и не отводит ей главенствующей роли, которая
принадлежит «идеальности».
2 В эстетике начала XIX в. голландская бытовая живопись XVII в.
рассматривалась как искусство «низменное» и противопоставлялась
«высокому», классическому искусству Италии XVI—XVII вв. Отсюда и
отношение Бестужева к Теньеру (правильно Д. Тенирс-младший),
крупному фламандскому живописцу XVII в., создателю бытовых сцен,
религиозных картин, трактованных в жанровом духе, портретов и т. д.
МЫСЛИ И ЗАМЕТКИ
Впервые — Литературно-критические работы декабристов. М., «Ху-
дож. лит.», 1978, с. 82—84. Автограф находится в ЦГАОР (ф. 109,
1 экспедиция, ед. 61, ч. 53, л. 88—91 об.), среди рукописей других
произведений Бестужева, не разрешенных к печати Л. В. Дубельтом
(см. там же, л. 149).
Материал датируется предположительно концом 1820-х — началом
1830-х годов, так как именно в этот период нарастает интерес Бестужева
к затронутым здесь проблемам, в частности к специфике исторического
романа, к соотношению истории и современности. И по содержанию,
и по стилю «Мысли и заметки» перекликаются со статьей «О романе
Н. Полевого «Клятва при гробе господнем».
1 Цитируется «Горе от ума» А. С. Грибоедова (д. 3, явл. 3). Репли¬
ка Молчалина.
2 Сюда, по-видимому, должно было быть вписано определение
исторического романа, принадлежащего К. и вызвавшее полемические
замечания Бестужева. Однако поиски этого определения остались без¬
результатны. Неизвестно, и кто скрывается под криптонимом «К»: старый
ли оппонент* Бестужева П. А. Катенин, завоевавший шумную извест¬
ность Н. В. Кукольник или кто-либо другой. Можно лишь предполагать,
что К. был как-то связан с исторической драмой, и этим объясняется
полемический выпад Бестужева, заметившего, что «камень, брошенный
в исторический роман, летит не в бровь, а в самый глаз и драме истори¬
ческой».
441
ПРИМЕЧАНИЯ
О РОМАНЕ Н. ПОЛЕВОГО
«КЛЯТВА ПРИ ГРОБЕ ГОСПОДНЕМ»
Впервые — Московский телеграф, 1833, № 15, с. 399—420; № 16,
с. 541—555; № 17, с. 85—107; №18, с. 216—244, за подписью
«Александр Марлинский», с пометой: «Дагестан, 1833» (Бестужев был
в это время в ссылке на Кавказе).
Статья подверглась цензурным искажениям. Как писал Бестужев
Булгарину, «о ней нельзя судить по скелету, обглоданному цензурой.
Половина ее осталась на ножницах, и вышла чепуха. Самые высокие
по чувству места, где я доказывал, что Евангелие есть тип романтизма, —
уничтожены» (Русская старина, 1900, № 1, с. 403). Бестужев пред¬
принял попытку напечатать изъятый цензурой фрагмент статьи «О ро¬
мане Н. Полевого...» в качестве отдельной работы, озаглавленной им
«О христианской религии». Застрявшая в бумагах III Отделения, эта
работа была разыскана и опубликована Н. Котляревским в 1907 году.
Однако и эта находка не позволяла получить полноценное представление
о статье Бестужева «О романе Н. Полевого...». Это стало возможно лишь
после того, как М. И. Гиллельсон обнаружил в фондах отдела пись¬
менных источников Государственного Исторического музея список
статьи, находившейся в московской цензуре. Свод искажений, которым
подверглась статья при печатании, содержится в сообщении М. И. Гил-
лельсона «А. А. Бестужев и московская цензура» (Русская литература,
1967, № 4, с. 106—108). Впервые подлинный текст статьи Бестужева
опубликован в сборнике: Литературно-критические работы декабристов,
с. 84—196.
Статья «О романе Н. Полевого...» встретила критическую оценку
Белинского, хотя некоторые ее положения были им одобрены. «...Вместе
с этими мыслями, незрелыми, поверхностными и ложными, при этой
неострой шутливости, при этих вычурных фразах, при этом явном при¬
страстии к приятельскому изделию, — писал он, — сколько в этой статье
светлых мыслей, верных заметок, сколько страниц и мест, горящих, сия¬
ющих, блещущих живым, увлекательным красноречием, резкими, много¬
значительными, хотя и краткими очерками, бриллиантовым языком. Сколь¬
ко истинного остроумия, неподдельной игривости ума!» (Белинский В. Г.
Полн. собр. соч., т. IV, с. 32).
1 Полное название романа: «Клятва при гробе господнем. Русская
быль XV века» (ч. I—IV, М., 1832).
2 Цитируется Жюль Жанен: «Критика в переходные эпохи заме¬
няет, чего уже больше не существует, что еще не родилось. Тем самым
критика — это вся поэзия, это вся драма, это вся комедия, это весь
театр, это все, что занимает умы; именно критика наполняет страстью
и забавляет; именно она просвещает и зажигает, именно она дает жизнь
и убивает...» (франц.).
3 Ристания — состязания в беге, скачках.
4 «Несчастный Никанор, или Приключения российского дворянина
Г.» (1775)—роман неизвестного автора. «Евгений, или Пагубные по¬
следствия дурного воспитания и сообщества» (1799—1801)—роман
А. Е. Измайлова. Русский Жилблаз — роман В. Т. Нарежного «Россий¬
ский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистя¬
кова» (1814).
5 Иван Великий — столпообразный храм-колокольня в Москов¬
ском Кремле (свыше 80 м высоты). «Иван» — указание на святого
442
ПРИМЕЧАНИЯ
(Иван Лествичник), которому посвящалась церковь, а «Великий» на
высоту сооружения.
Подовый —испеченный внутри русской печи.
7 Намек на историю возникновения альманаха «Новоселье».
19 февраля 1832 г. книжный магазин А. С мир дина переехал на Нев¬
ский проспект. Собравшиеся по этому поводу литераторы подарили
Смирдину по произведению. Таким образом был создан альманах,
имевший небывалый успех.
8 Слегка перефразированное изречение из Экклезиаста (гл. 1, 9).
9 Намек на недавние исторические события: взятие Эривани во
время русско-«иранской войны 1826—1828 гг. и взятие Варшавы, кото¬
рым завершилось Польское восстание 1830—1831 гг.
10 Белая бумажка — двадцать пять рублей.
11 В популярной историко-романтической мелодраме французского
писателя Жильберта Пиксерикура «Обриева собака, или Лес при Бонди»
главный герой Обри Мондидье имел необычайно преданную собаку.
12 Блинницы — то есть продавщицы блинов, нередко беззастен¬
чиво торговали и собой, чем и объясняется сравнение, к которому прибег
Бестужев.
13 Э-Ф. Видок — французский сыщик, авантюрист с темным прош¬
лым, автор известных мемуаров, частично печатавшихся в России («За¬
писки Вйдока»). Бестужев противопоставляет этот крайне сомнительный
исторический документ трудам Б. Нибура, которого в России высоко
ценили и даже называли «первым историком нашего времени» (Москов¬
ский телеграф, 1832, ч, 43, № 1, с. 151).
14 Американский континент был назван по имени итальянского
мореплавателя Америго Веспуччи.
15 То есть классицизму и романтизму.
16 С яиц Леды — буквально: с самого начала, с далеких времен.
О происхождении этого выражения см. примеч. Ю. В. Манна (Белин¬
ский В. Г. Собр. соч., т. 1. М., «Худож. лит.», 1976, с. 632). В «Литера¬
турных мечтаниях» Белинский, прямо не называя Бестужева, иронизи¬
рует по поводу его стремления подходить к рассматриваемому вопросу
издалека: «Начну мое обозрение с начала всех начал — с яиц Леды, —
дабы показать вам, какое влияние имели на русскую литературу создание
мифа, грехопадение первого человека, потом Греция, Рим, великое
переселение народов...» (там же, с. 53).
17 Эта мысль была выражена В. Гюго в предисловии к драме
«Кромвель» (1827).
18 Г. Зонтаг — немецкая певица, в 1830—1837 гг. выступала в
России и пользовалась большим успехом.
19 Б.-Ж.-Э. Ласепед — французский биолог, автор книги «His¬
toire naturelle de l’homme» («Естественная история человека»), в кото¬
рой он и говорит о четырех первобытных племенах.
20 Джон Булль — ироническое прозвище англичан.
21 Моаллака — стихотворение, входящее в цикл поэтических про¬
изведений, объединенных в сборник «Муаллакат», в литературе доис¬
ламской Аравии.
22 Манценила — тропическое растение.
23 Ариман — согласно древнеперсидским представлениям, божество
смерти, глава адских демонов, олицетворение зла и лжи. Христианские
писатели отождествляли Аримана с сатаной.
24 Сива (Шива) — один из богов брахманизма и индуизма.
443
ПРИМЕЧАНИЯ
2ЪМагаде (Магадев) — прозвище одного из трех главных индий¬
ских богов — Шивы; два другие — Брама (Брахма) и Вишну.
26 Тумен (туман) — иранская золотая монета.
27 Франкони — семья французских цирковых артистов и предпри¬
нимателей, владельцев крупнейшего в Европе «Олимпийского цирка»
в Париже. Говоря о Франкони-сынеу Бестужев имеет в виду Адольфа
Франкони, наездника, владевшего «Олимпийским цирком» с 1827
по 1834 г.
28 Гинецей (или гинекей) — отделение для женщий в домах древ¬
них греков.
Источник этой цитаты установить не удалось.
30 Имеется в виду поэма Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим»
(1580), которая действительно была некоторым компромиссом между хри¬
стианскими идеями и литературными традициями виргилиевского эпоса.
31 Ср. эту характеристику с высокой оценкой «Генриады» в статье
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов»
(см. наст, изд., с. 119). Вообще, обращает на себя внимание то, что
характеристика многих литературных явлений у Бестужева становится в
начале 30-х годов более критической. В этой связи показательно его
письмо к Н. А. Полевому от 29 января 1831 г., где он так отзывался о
своих статьях в «Полярной звезде»: «Многое говорил я смело, но там,
где еще сомневался, старина подсказывала на ухо похвалы вместо
заслуженных насмешек, душа роптала, но языком новым, и я не всегда
понимал ее: уста, еще влажные французским молоком, лепетали заучен¬
ные песни» (Русский вестник, 1861, № 3, с. 289—290).
32 Атриды — по греческой мифологии, дети микенского царя Атрея:
Агамемнон и Me не лай. Говоря о человеке-мещанине, родиче богов
Атридову Бестужев хочет подчеркнуть, что с конца XVIII в. вместо богов
и царственных особ героями произведений стали просто люди, граж¬
дане (мещане).
33 Ксеркс (V в. до н. э.) — персидский царь; Югурта (II в. до
н. э.) — нумидийский царь.
34 Пирей — греческий порт, созданный Фемистоклом. У Бестужева,
видимо, этот порт ассоциируется с шумной плебейской средой, подгу¬
лявшими матросами. Именно в таком смысле упоминал этот порт в
своих комедиях Аристофан.
35 Сократ — древнегреческий философ. Свое учение преподавал на
улицах и площадях. Был обвинен софистами в безбожии и совращении
молодежи. Осужденный на смерть, выпил предложенный ему яд.
36 Школа неоплатоников — идеалистическое направление в антич¬
ной философии III—VI веков, оказавшее значительное влияние на
европейскую и восточную философию.
37 Ярило — летний праздник у древних славян в честь солнца
и огня.
38 Семик — старинный весенний обрядовый праздник, зеленый
четверг (отмечался в седьмой четверг после пасхи). Сопровождался
плетением венков из березовых веток, песнями и играми.
39 Дафнис и Меналк — условно-поэтические имена героев идил¬
лической лирики XVI—XVII вв.
40 Имеются в виду тексты ветхозаветных пророков, особенно
Исайи, говорившие о наступлении царства добра и всеобщего мира
(например, «Исайя», гл. 2, стихи с 1 по 5).
41 Индиго — растение, из которого изготовлялась краска того же
названия.
444
ПРИМЕЧАНИЯ
42 Кошениль — самка насекомых. Из высушенной кошенили изго¬
товляется пурпурная краска кармин.
43 Преторианские когорты — личная охрана полководца в Древнем
Риме, позднее — императорская гвардия.
44 Тарпейская скала. Сначала так назывался весь Капитолийский
холм в Древнем Риме, а потом южная вершина его, с которой сбра¬
сывали преступников и изменников.
45 Лонгобарды — племя, принадлежащее к западным германцам.
46 Труверы — французские средневековые поэты-певцы.
47 Миннезингеры — немецкие поэты-певцы.
48 Менестрели — певцы и музыканты в феодальной Франции и
Англии.
49 Один (Оден) — бог войны в скандинавской мифологии.
50 Валкирии (Валькирии) — в скандинавской мифологии воинст¬
венные девы, дарующие по воле бога Одина победы в битвах.
51 Боабдил (Боабдиль) — европеизированный вариант имени маври¬
танского царя Абу-Абдаллаха Мухаммеда. Был эмиром Гранады, вел
длительную войну с Кастилией, но потерпел поражение (1492 г.),
следствием которого явилось, в частности, насильственное обращение
мавров в христианство.
62 Сегидилья — испанский танец; романсеро — собрание испанских
романсов.
53 Л. Камоэнс потерял все свое состояние во время кораблекрушения
и вернулся в Португалию, привезя лишь рукопись своей ставшей
впоследствии знаменитой поэмы «Лузиады».
54 Оржад — прохладительный напиток.
55 Маркизы Оресты.., шевалье Брютюс... мадам Агриппина —
герои античной литературы и драм Шекспира, которые использовались
и переиначивались на собственный лад французскими драматургами.
56 Герои трагедий Вольтера «Заира» (1732) и «Альзира» (1736).
57 Войны Лиги — войны между католиками и гугенотами в конце
XVI века; Варфоломеевская ночь — ночь на 24 августа (день св. Варфо¬
ломея) 1572 г., когда католики устроили в Париже резню гугенотов;
аква-то фана — яд; Медицисы — Медичи; Н. Витри — начальник коро¬
левской гвардии при Людовике XIII. По приказу последнего убил все¬
сильного маршала Д’Анкра и был произведен за это в маршалы. Ф. Ра-
вальяк — убийца французского короля Генриха IV.
58 Иды марта — праздники, посвященные Юпитеру, отмечались у
древних римлян 15 марта. В этот день в 44 г. до н. э. был убит Цезарь.
69 Французский теоретик Ш. Батте и поэт Ж. Делиль названы
здесь как приверженцы классицизма.
60 Одеон — театр в Париже; Ф.-Ж. Тальма — великий француз¬
ский трагический актер, творчество которого знаменовало новый этап
сценического искусства, что и дало основание Бестужеву назвать его
революционером.
61 Диоген — древнегреческий философ, проповедник строгой мо¬
рали, вел аскетическую жизнь, довольствуясь только самым необ¬
ходимым.
62 «Элоиза» — «Юлия, или Новая Элоиза» (1761) — произведение
Руссо.
63 Система Лау. Имеется в виду история с французским финан¬
систом Д. JIoy, выпустившим необеспеченные банкноты. Это вызвало
биржевой ажиотаж и быстро привело Лоу к банкротству. Источником
сведений Бестужева об этой афере могла послужить большая статья
445
ПРИМЕЧАНИЯ
А. Тьера «Жизнь и финансовая система JIay», появившаяся в «Мос¬
ковском телеграфе» (1831, № 7 и 8).
64 Кребильон-сын (К-П.-Ж, Кребийон) — французский писа¬
тель, в произведениях которого изображен быт и нравы современного ему
Парижа.
65 Ж. -Б. Грекур — французский поэт.
66 Старинный кафтан у поляков и украинцев.
67 Криспин, Валер — традиционные имена персонажей французских
комедий эпохи классицизма и Просвещения.
68 Систербецк — другое название Сестрорецка; здесь находился
известный оружейный завод.
69 Ленотр (А. Нотр) — французский декоратор садов и парков.
70 Ванлоо — фамилия нескольких французских художников. Боль¬
шинство их картин находится во Франции. Некоторые — в Эрмитаже.
71 Экспликовала свою десперацию — объясняла свое отчаяние
(от франц. expliquer и désespoir).
2 Аттенция — внимание (от франц. attention). С помощью этих
иронических неологизмов Бестужев высмеивает «пристрастие русских
к французской литературе», о котором говорилось выше.
73 Я. Г. Курганов — писатель, автор знаменитого «Письмовника»
(1769), учебника русского языка, бывшего настольной книгой в XVIII
и начале XIX в.
74 Имеется в виду, что Ф. А. Эмин подражал французской пи¬
сательнице, автору популярных в свое время романов — М. Скюдери, а
Я. Б. Княжнин — французскому драматургу Ж.-Ф. Ренъяру.
75 В лавках на мосту перед Спасскими воротами Московского
Кремля продавались лубочные картинки.
76 Шиболет — характерный признак, типичная особенность чего-
либо.
77 Ость — длинный волос меха.
78 Изида (Исида) — богиня Древнего Египта, покровительница
плодородия, материнства, богиня жизни и здоровья. Культ Изиды рас¬
пространился и на греко-римский мир. Говоря о фиглярстве Изидина
храма, Бестужев, скорее всего, имеет в виду, что празднества в честь
этой богини носили характер мистерий. Розенкрейцеры — члены тайного
религиозного общества XVII в., стремившиеся к усовершенствованию
церковных обрядов в Германии. «Зенд-Авеста» — священная книга
древних иранцев.
79 Певец Минваны — Жуковский (см. его балладу «Эолова арфа»).
80 Голиаф — библейский великан, побежденный юным Давидом.
81 Цитируется строка из поэмы В. И. Майкова «Елисей, или
Раздраженный Вакх» (1771). «И весь седалища в нем образ напечатал»
(песнь пятая).
82 Э. Гиббон — английский историк-просветитель. Его «История
упадка и разрушения Римской империи» содержит подробное изложе¬
ние политической истории Римской империи. Б.-Г. Нибур — немецкий
историк античности. Основной труд — «Римская история». Нибур по¬
лагал, что у древних римлян существовал свой эпос, но он не был запи¬
сан и не сохранился, однако песни исторического содержания в
измененном виде составили основу сказаний о древнейшем Риме.
83 Континентальная блокада — экономическая политика, прово¬
дившаяся Наполеоном по отношению к Великобритании. Торговля с ней
запрещалась, прекращался доступ во французские порты всех судов из
Англии и европейских стран, покоренных Наполеоном. Блокада
446
ПРИМЕЧАНИЯ
(1806—1814) была одной из попыток Франции добиться успеха в
десятилетней войне с Великобританией.
84 А. Барант — французский историк и государственный деятель.
Романтической летописью Бестужев называет труд Баранта «История
бургундских герцогов из Дома Валуа» (1824—1826).
85 Цитируется драма В. Гюго «Марион Делорм» (1831), д. IV,
сц. 8.
86 Нибелунги... освободились из подземелья Сен-Гальского мона¬
стыря. Имеется в виду местонахождение одной из основных рукописей,
содержащих источники текста «Песни о Нибелунгах», т. н. Сант-Галлен-
ской рукописи (середина XIII века).
«Эдда» — сборник древнеисландских песен.
8 Артус. Здесь имеется в виду Артур, воспетый в одноименном
романе, а также во многих других произведениях средневековой ли¬
тературы.
89 Карловингские поэмы — цикл французских эпических поэм
о Карле Великом.
90 Гебер открыл индийскую «Илиаду». Р. Гебер — английский
епископ, долго живший в Индии и написавший книгу о ней.
91 Д. Теньер-младший (правильнее Тенирс) — выдающийся фла¬
мандский живописец XVII в., полотна которого отличаются виртуозной
тонкостью и тщательностью.
92 Метампсихоза — здесь: подражание.
93 Веверлей — герой одноименного романа Вальтера Скотта.
Эмпечинадо — Хуан Мартин Диас (прозвище Эль Эмпесинадо), испан¬
ский патриот, один из организаторов партизанской войны против
Наполеона 1808—1814 гг., генерал, участник революции 1820—1823 гг.
После ее поражения казнен по приказу Фердинанда VII.
94 Неточная цитата из трагедии М. М. Хераскова «Освобожденная
Москва» (1798) (д. 5, явл. 8).
95 'Имеется в виду И. И. Лажечников.
96 Имеется в виду роман П. Свиньина «Шемякин суд, или По¬
следнее междоусобие удельных князей», 4 части. М., 1832.
97 Александр Орлов — московский литератор, автор низкопробных,
малохудожественных произведений.
Л. Вите — французский драматург. Цитируется его произведение
«Лига, исторические сцены» (1827—1829).
Латинский текст «Отче наш».
100 Черные клобуки — кочевые племена тюркского происхождения,
жившие на южных границах России. Зубрят — здесь: нарушают.
101 Электор — средневековый титул курфюрста, имевшего право
голоса при выборе германского императора.
102 Персонажи пьес Шекспира «Сон в летнюю ночь» (1596) и
«Буря» (1612) и пьесы Ш. Нодье «Трильби».
103 Псевдоним В. И. Даля.
104 Имеется в виду роман-путешествие А. Ф. Вельтмана «Стран¬
ник» (1831—1832).
105 Здесь Бестужев, по-видимому, полемизирует с мнением Бара¬
тынского, предлагавшего видеть в литературе «науку, подобную другим
наукам» (см. его предисловие к отдельному изданию поэмы «Налож¬
ница» 1831).
106 Серинетка — маленький орган (от франц. serinette).
107 Игра слов: «Misère» — несчастье (франц.). Мизер — карточный
термин, обозначает прием, сулящий крупный выигрыш.
447
ПРИМЕЧАНИЯ
108 Имеется в виду пословица: «Шемякин суд» — то есть суд
несправедливый.
109 Герои романов В. Скотта «Айвенго» (1820) и JI. Стерна
«Жизнь и мнения Тристрама Шенди» (1760—1767).
110 Вскоре Бестужев отказался от этого мнения. 9 ноября 1833 г.
он писал К. А. Полевому: «Какой я бездушник был, когда сказал, что
слог был виной неуспеха «Клятвы», слог! Нет, черствые души чи¬
тателей...»
ПИСЬМА
1. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Впервые — JIH, 1956, т. 60, кн. 1, с. 212—214.
1 Написано в ответ на письмо П. А. Вяземского А. А. Бестужеву
от 20 января 1824 г., где содержались критические замечания об аль¬
манахе «Полярная звезда на 1824 год».
2 «Послание к Людмилу» (1823) — стихотворение М. Н. Загоскина.
3 «Деревенский философ» (1823) — водевиль М. Н. Загоскина.
4 «Лукавит (1823) — комедия А. И. Писарева.
5 «Школа злословия» (1777) — комедия Р. Шеридана.
6 Имеется в виду повесть А. А. Бестужева «Замок Нейгаузен»
(1823).
7 Имеется в виду очерк Н. А. Бестужева «Об удовольствиях на
море» (1823).
8 Имеется в виду отрывок из «Орлеанской девы» Ф. Шиллера в
переводе В. А. Жуковского.
9 Имеется в виду стихотворение Е. А. Баратынского «Истина»
(1823).
10 Вяземский в письме от 20 января 1824 г. укорял Бестужева
за одобрительный отзыв о «Вестнике Европы». Бестужев, очевидно,
счел отношение Вяземского к этому журналу предвзятым и чрезмерно
уничижительным.
11 Федор Иванович — Ф. И. Толстой («Американец») —граф,
участник Отечественной войны, авантюрист и бреттер, поддерживавший
дружеские отношения со многими писателями.
12 Речь идет о стихотворении Вяземского «Петербург», вторая
часть которого, содержащая призыв к Александру I дать русскому
народу свободу, не была напечатана по Цензурным соображениям.
Последний куплет стихотворения Вяземского «В шляпе дело»
(1823) восхвалял Александра I как победителя Наполеона.
14 Четве рог ранный альманах — «Мнемозина» В. К. Кюхельбекера и
В. Ф. Одоевского, объявленная сначала как издание в четырех частях.
15 Намерение Дельвига издавать альманах «Северные цветы»
вызывало серьезное беспокойство Бестужева. Как писал «Сын оте¬
чества», этот альманах «вступает в непосредственное соперничество с
«Полярной звездою» (1825, № 1, с. 111).
2. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
Впервые — JIH, 1956, т. 60, кн. 1, с. 219—220.
1 Байрон скончался 19 апреля 1824 г. в Миссолунгах. Известие о
448
ПРИМЕЧАНИЯ
его смерти пришло в Петербург в конце мая и потрясло русских
вольнодумцев. В числе поэтов, посвятивших ему горестные и возвышенные
стихи, были Рылеев, Кюхельбекер, Веневитинов. Пушкин откликнулся
на него в стихотворении «К морю».
2 Предисловие Вяземского к «Бахчисарайскому фонтану» вызвало
ответную статью М. А. Дмитриева «Второй разговор между классиком и
издателем «Бахчисарайского фонтана» (Вестник Европы, 1824, N9 5,
с. 47—62), после чего обе стороны обменялись еще несколькими полеми¬
ческими ударами.
3 Бестужев имеет в виду библейское предание, повествующее о
том, что Самсон побил филистимлян ослиной челюстью (Книга судей,
гл. 15).
4 Этот замысел Вяземского не был осуществлен.
5 Источник этой цитаты установить не удалось.
6 Имеются в виду стихи, предназначенные для опубликования в
«Северных цветах на 1825 год».
3. П. А. ВЯЗЕМСКОМУ
1 Стихи Дельвига — «Романс», «Песня», «Русские песни», «Ку¬
пальницы».
2 Жуковский напечатал в «Северных цветах на 1825 год» стихо¬
творения: «Привидение», «Таинственный посетитель», «Ночь», «Мотылек
и цветы».
3 Бестужев имеет в виду басни Крылова «Муха и пчела», «Богач
и поэт», «Прихожанин», «Лев состарившийся», «Три поцелуя», «Лисица
и осел».
4 «Акафистом Плетнева» Бестужев называет его статью «Письмо к
графине С.И.С. о русских поэтах», в которой была предпринята по¬
пытка нарисовать идиллическую картину расцвета современной поэзии.
О Баратынском он, в частности, писал: «Соединяя в стихах своих истину
чувств с удивительной точностию мыслей, он показал опыты прямо
классической поэзии. Состав его стихотворений, правильность и пре¬
лесть языка, ход мыслей и сила движений сердца выше всякой критики»
(Северные цветы на 1825 год, с. 65—66). Пушкин, который сам высоко
ценил Баратынского, тем не менее солидаризировался с Бестужевым в
отрицательной оценке «Письма» Плетнева, которое охарактеризовал как
«ералашь». «Брат Плетнев! — писал он. — Не пиши добрых критик!
Будь зубаст и бойся приторности» (Пушкин, т. XIII, с. 154).
5 «Что будет, то будет, а будет то, что бог даст» — слова Богдана
Хмельницкого, взятые Бестужевым как эпиграф к VII главе его повести
«Ревельский турнир» (Полярная звезда на 1825 год, с. 96).
6 Пущин приехал в Михайловское днем ранее—И января
1825 г.
4. А. С. ПУШКИНУ
Впервые — Русский архив, 1881, № 1, с. 425—427.
1 Очевидно, имеются в виду мысли, высказанные Пушкиным в
письме к Рылееву от 25 января 1825 г.
2 Имеется в виду эпизод, упоминаемый Квинтилианом в «Воспи¬
тании оратора» (II, 20, 3): «Есть также и пустая игра в искусство: в ней
нет ни добра, ни зла, какие есть в искусстве, а только его труды, да и те
449
ПРИМЕЧАНИЯ
праздные, — как у того человека, который издали, подряд и без про¬
маха насаживал горошины на игольное острие: говорят, будто Алек¬
сандр, увидев это, велел подарить ему меру гороха, ибо впрямь только
такой награды и стоила его работа». Перенос с Александра на Филиппа
и замена острия ушком иглы — ошибки памяти либо следствие недосто¬
верности каких-то передаточных звеньев между Квинтилианом и Бе¬
стужевым.
3 Пересказ строки из «Поэтического искусства» Буало: «Без¬
упречный сонет один стоит длинной поэмы».
4 Байрон описывает Петербург в поэме «Дон Жуан».
5 Перефразированные строки из сказки Карамзина «Илья Муро¬
мец» (1795).
6 Имеются в виду стихотворения Языкова «Родина», «К***» и
отрывок из повести «Разбойники».
7 Имеется в виду статья П. А. Плетнева «Письмо к графине С.И.С.
о русских поэтах» (Северные цветы на 1825 г.). Эта статья вызвала
резкую критику и со стороны Пушкина.
5. М. и Н. БЕСТУЖЕВЫМ
Впервые — Русский вестник, 1870, т. 87, № 5, с. 248—249.
6. А. М. АНДРЕЕВУ
Впервые — Русский архив, 1869, № 3, стб. 606—608.
1 «Поездка в Германию» (1836) — роман Н. И. Греча. Отрывки
из него печатались в начале 1830-х гг. в «Северной пчеле».
2 Николай Иванович — Н. И. Греч.
3 «Наезды» (1831) —повесть A.A. Бестужева.
7. Н. А. ПОЛЕВОМУ
Впервые— Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 299.
1 Имеется в виду «Новый живописец общества и литературы»,
выходивший в 1830—1833 гг. как приложение к «Московскому теле¬
графу».
2 Имеется в виду рецензия В. А. Ушакова «Димитрий Самозванец,
исторический роман, соч. Фаддея Булгарина» (Московский телеграф,
ч. XXXII, № 6, с. 193—237).
3 «Киргиз-кайсак» — повесть В. А. Ушакова (1830).
8. Н. А. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 304—305.
1 Персонажи пьес Шиллера и Шекспира.
2 Имеется в виду стихотворение С. П. Шевырева «Послание к
А. С. Пушкину», присланное из Рима и опубликованное в альманахе
«Денница» (М., 1831), где поэт говорит, что Русь «вдруг лужею всплыла в
«Истории не русского народа», то есть в труде Н. А. Полевого «История
русского народа», выходившем с 1829 г. Полевой ответил на послание
Шевырева пародийным стихотворением «Рим» (Московский телеграф,
1832, № 7, с. 129—130).
450
ПРИМЕЧАНИЯ
9. H.A. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 310—311.
10. H.A. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 318—320.
1 О том же Бестужев писал и в статье «О романе Н. Полевого
«Клятва при гробе господнем»: «Знать, в добрый час благословил нас
Ф. В. Булгарин своими романами. По дорожке, проторенной его «Само¬
званцем», кинулись дюжины писателей наперегонку...» (см. наст, изд.,
с. 133).
2 Персонаж романа В. Скотта «Роб Рой» (1818).
3 Гурт — персонаж романа В. Скотта «Айвенго» ( 1820).
4 Пересказ 6 стиха XXXIII строфы второй главы «Евгения
Онегина».
5 Надпись на вратах «Ада» «Божественной комедии» Данте
(«Ад», песнь 3-я).
6 Персонаж романа Л. Стерна «Жизнь и мнения Тристрама Шен-
ди, джентльмена» (1760—1767).
7 Фухтель — плоская сторона сабли.
8 Имеется в виду «Отрывок из исторического романа «Стрельцы»,
ч. 1, главы 3-я и 4-я» К. Масальского (Московский телеграф, 1831,
ч. 41, № 18, с. 175—195).
9 «Обрученные» — исторический роман А. Мандзони (Манцони)
(т. 1—3, 1825—1827, рус. пер. 1833).
И. Н. А. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 3, с. 328—329.
1 Роман Н. А. Полевого «Клятва при гробе господнем» (см. о
нем наст, изд., с. 173 и след.).
2 Геркуланум — римский город, разрушенный и засыпанный пеплом
при извержении Везувия в 79 г. н. э.
3 То есть в XV веке (время жизни галицкого князя Димитрия
Шемяки).
12. Н. А. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 4, с. 429—430.
1 Статья о Державине. Имеется в виду статья Н. А. Полевого
«Державин и его творения» (Московский телеграф, 1832, № 15, 16, 18).
2 Веста — римское божество домашнего очага и огня, иносказатель¬
но — хранительница традиций.
3 Неточно цитируется экспромт, принадлежащий Л. С. Пушкину.
Поскольку Пушкин охотно повторял его от первого лица, у многих
современников, в том числе и у Бестужева, сложилось впечатление,
что автором двустишия был сам поэт (см. об этом: ЛН, т. 58, с. 94—95).
13. H.A. ПОЛЕВОМУ
Впервые — Русский вестник, 1861, т. 32, № 4, с. 439—443.
1 Гец — герой драмы Гете «Гец фон Берлихинген» (1773).
451
ПРИМЕЧАНИЯ
14. Н. А. и M. A. БЕСТУЖЕВЫМ
Впервые — Русский вестник, 1870, № 7, с. 63—66.
1 Саарвайзен — герой повести А. Марлинского «Лейтенант Бело¬
зор» (1831).
2 Белозор — герой одноименной повести А. Марлинского.
3 Разговор Кокорина с лекарем — эпизод повести А. Марлинского
«Фрегат Надежда» (1832).
4 Аталанта — героиня древнегреческих мифов, заставлявшая своих
женихов состязаться с ней в беге. Того, кого ей удавалось настичь, она
убивала копьем. Гиппомен с помощью Афродиты перехитрил Аталанту:
он ронял на бегу золотые яблоки, и, поднимая их, она отстала.
5 Г-жа Жюль, Колибрадос — герои произведения Бальзака «Исто¬
рия тринадцати», печатавшегося в «Телескопе» (1833, № 9—12) под
заглавием «Одна из тринадцати».
15. Н. А. и М. А. БЕСТУЖЕВЫМ
Впервые — Русский вестник, 1870, № 7, с. 63—66.
1 «Саламандра» — роман Э. Сю ( 1832).
2 «Фрегат Надежда» — повесть А. Марлинского.
В. К. КЮХЕЛЬБЕКЕР
ВЗГЛЯД НА НЫНЕШНЕЕ СОСТОЯНИЕ
РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ
Впервые—Le Conservateur impartial, 1817, № 66, 25(IX), (7.X),
p. 380. Авторство Кюхельбекера устанавливается по его дневниковой
записи от 7 ноября 1832 года. (См.: Кюхельбекер В. К. Дневник. Л.,
«Прибой», 1929, с. 79). Перевод статьи был опубликован в «Вестнике
Европы» (1817, № 17—18). Так как этот старый перевод не вполне
удовлетворяет современным требованиям, статья публикуется в переводе,
выполненном А. Л. Андрес.
1 Статья опубликована с пометкой: «Article I-er communiqué
(«Статья 1-я, сообщено»): «сообщено» — принятая тогда форма подза¬
головка, который применялся преимущественно при публикации аноним¬
ных материалов.
2 П. Левек — французский историк, автор книги «История Рос¬
сии». В ней, в частности, высказана следующая мысль: «Всегда изящный,
он (Сумароков) подвизался во всех жанрах. Если в трагедии он не стоит
наравне с Расином, ошибкам которого уж очень подражал, если он
уступает Мольеру в комедии и Буало в сатире, в литературе всех времен
и народов можно противопоставить его басням только басни Лафонтена»
(Levesque P. Histoire de Russe, T. 5, Hamburg et Brunswick, 1800, p. 148—
149).
3 Об этом идет речь в статье А. Ф. Мерзлякова «Россияда. Письма
к другу», публиковавшейся в журнале «Амфион» в 1815 г.
4 «Генриада» — поэма Вольтера (1728).
5 Это место статьи вызвало нападки А. Ф. Мерзлякова (см. его
«Письмо из Сибири», напечатанное под псевдонимом «Неизвестный», в
452
ПРИМЕЧАНИЯ
журнале «Труды общества любителей российской словесности», 1818,
ч. XI, с. 52—70).
6 Четырехстрочная строфа, выработанная древнегреческим поэтом
Алкеем.
7 Первый гекзаметрический перевод Гнедича из «Илиады» появился
в печати в 1813 г. и вызвал оживленную полемику.
8 Современники не знали, кто молодой пиит, о котором говорится
в статье. См.: В.С(оц)ъ. Нечто против статьи под названием «Взгляд на
нынешнее состояние русской словесности» (Вестник Европы, 1817,
ч. 96, № 23—24, с. 202). Скорее всего, имеется в виду Дельвиг, еще в
лицее увлекшийся как Жуковским, так и немецкими поэтами: Клоп-
штоком, Шиллером, Гельти (см. об этом в статье Пушкина «Дельвиг»,
т. XI, с. 273). Мысль, упоминаемая Кюхельбекером, была, по-видимо¬
му, высказана устно.
«ЕВГЕНИЯ, ИЛИ ПИСЬМА К ДРУГУ»
Впервые — Благонамеренный, 1818, № 6, с. 370—372. Рецензия
на кн.: Георгиевский Иван. Евгения, или Письма к другу, ч. I—II.
Спб., 1818.
1 Перечисляются атрибуты т. н. готического романа, или «романа
ужасов», распространенного в западноевропейской и американской
литературе второй половины XVIII и начала XIX в. и изобиловавшего
изображением страшных и сверхъестественных явлений.
2 Имеется в виду семейно-бытовой роман И. Я. Энгеля «Лоренц
Штарк» (1801).
3 Повесть H. М. Карамзина (1803).
4 Цитируется элегия В. А. Жуковского «Сельское кладбище»
(1802).
Кюхельбекер имеет в виду Е. А. Энгельгардта и П. А. Плетнева,
содействовавших изданию романа И. Георгиевского.
письмо к МОЛОДОМУ ПОЭТУ
Впервые — Сын отечества, 1819, ч. 57, № 45, с. 193—216, № 46,
с. 262—269. В списке произведений Кюхельбекера, отобранных им для
собрания своих сочинений, «Письмо к молодому поэту с подзаг. «Пере¬
делка из Виланда» включено в раздел «Критика и эстетика» (а не в раз¬
дел «Переводы»). См.: Кюхельбекер В. К. Дневник: Материалы к истории
русской литературы и общественной жизни 10—40 годов XIX века. Л.,
Прибой, 1929, с. 314.
Оригинал (первое из трех писем Виланда к молодому поэту) был
опубликован в журнале «Der Deutsche Merkur», 1782, № 8 и позднее
неоднократно переиздавался с небольшой авторской правкой. Переводя
письмо, Кюхельбекер исключил те его части, которые были обращены
к немецкому читателю, и в значительной степени очистил текст от выра¬
жений, которые обличали в Виланде воспитанника рационалистического
века.
1 Т. Тассо провел много лет в заключении, Л. Камоэнс умер в
бедности.
2 Сибиллами (или сивиллами) назывались в Древней Греции стран¬
ствующие пророчицы. Сивилла, к которой обращались за предсказаниями,
453
ПРИМЕЧАНИЯ
должна была ждать, пока на нее найдет вдохновение. Считалось, что
лишь в состоянии экстаза, истерии ей открывается будущее.
3 Философское учение, разработанное немецким философом
Г. Лейбницем, по которому пространство и время есть лишь обозна¬
чение существования извечного ряда простейших неделимых (монад).
Здесь — синоним научной абстракции.
4 Космогония — наука о происхождении небесных тел и систем.
Орфеева космогония — символ неисчерпаемой мудрости, заложенной в
искусстве.
5 Амфион — сын Зевса, обладавший божественным даром игры на
кифаре.
6 Словно мимоходом оброненная в этом примечании мысль о том,
как меняется поэт, если его требует «к священной жертве Аполлон»,
станет одной из основных, когда Кюхельбекер будет писать «Отрывок из
путешествия по полуденной Франции». Но там речь пойдет уже не о Бод¬
лере, не о Клопштоке, а о поэте вообще, о свойствах его натуры.
Именно там Кюхельбекер вновь и наиболее определенно ответит на
вопрос, почему поэты «нередко писали иначе, нежели жили» (См. наст,
изд., с. 382 и след.).
7 Сабиниум — имение Горация, находившееся в области Сабинян,
северо-восточнее Рима.
0 Цитируется «Послание 19 («К Меценату»)» Горация: «Я не охо¬
чусь совсем за успехом у ветреной черни... Слушатель я и поборник
писателей славных; считаю Школы словесников все обходить для себя
недостойным» (Перевод Н. Гинцбурга).
9 Гора в Греции, обитель муз, символ поэтического вдохновения.
10 Цитируется поэма Виланда «Идрис и Ценида» (песнь II).
ВЗГЛЯД НА ТЕКУЩУЮ СЛОВЕСНОСТЬ
Впервые— Невский зритель, 1820, № 2, ч. I, с. 106—126 и (Про¬
должение) № 3, с. 78—89.
1 Имеется в виду статья В. К(арамзина) «Еще отрывок из дневной
записки украинца» (Сын отечества, 1820, ч. 59, № 2, с. 93—96). Выра¬
жение «плавные стихи» использовано в ней для характеристики перевода
из книги XI «Метаморфоз» Овидия, напечатанного в «Известиях Рос¬
сийской академии» (1820, кн. 8) под заголовком «Цеикс и Гальциона.
Отрывок из Овидиевых Превращений».
2 Ср. разбор произведения А. А. Бестужевым (см. наст, изд., с. 60).
3 Цитируется стихотворение И. И. Дмитриева «Послание от ан¬
глийского стихотворца Попа к доктору Арбутноту» (1798).
4 Имеется в виду стихотворение Катенина «Софокл» (публикова¬
лось в «Вестнике Европы», 1818, № 14 и «Сыне отечества», 1818, № 34).
5 Кюхельбекер .намекает на сходство цитированных стихов с
известными словами Святослава («Повесть временных лет»): «...не
посрамим Русской земли, но ляжем костями, мертвым не стыдно».
(Перевод С. М. Соловьева.)
6 «Опыт о русском стихосложении» A. X. Востокова впервые
публиковался в 1812 г., а в 1817-м вышел отдельным изданием.
7 Речь идет о стихотворениях Вяземского «Послание к Тургеневу
с пирогом» и «Ответ Фонвизина». В 1819—1821 гг. Вяземский служил в
Варшаве.
8 Кюхельбекер говорит о затянувшейся полемике, материалы кото¬
454
ПРИМЕЧАНИЯ
рой публиковались «Сыном отечества» в рубрике «Русский театр», в
частности: Р. З(отов). «Замечания на замечания» (1820, № 4). «Ответ
на замечания Г.Р.З.» (1820, № 5, с. 227—231). В. Кл-новъ. «Письмо к
издателю». (1820, № 6, с. 269—278).
9 Имеется в виду происшествие в Петербурге 25 декабря 1819 г.
Оно описано в «Сыне отечества» (1820, ч. 59, № 2, с. 91—92).
10 Имеется в виду отклик, появившийся в «Сыне отечества» (1820,
ч. 60, № 7, с. 40—41).
11 Философская поэма английского писателя А. Попа.
12 Поэма Лукреция Кара «О природе вещей».
13 Луи Расин — французский писатель, автор поэмы «Религия»
(1746). сын великого драматурга.
1 Имеется в виду статья «Отрывок из Путешествия Иосифа
Сенковского» (Вестник Европы, 1820, № 1, с. 19—33).
15 Цитируется анонимная статья «Взгляд на северную Сибирь»
(Сибирский вестник, 1820, ч. 9, с. 1—2 отдельной пагинации).
16 Речь идет о стихах Вяземского «Устав столовый (Подражание
Пиндару)», «Трудная задача», «Княжнин и Фон-Визин» и «Эпиграмма»
(«Стихов моих давно ты слышать хочешь...»).
17 Стихотворение A.A. Дельвига «Е. А. Б(оровко)вой (Благо¬
намеренный, 1820, № 2, с. 118—119).
18 Под псевдонимом «Томск» печатался лицейский товарищ Дель¬
вига А. Д. Илличевский.
19 Имеется в виду стихотворение А. А. Дельвига «К Лилете».
20 Ф. Г. — псевдоним Ф. Н. Глинки.
ВИДЕНИЕ НА ГОРЕ ПАРНАС
Впервые — Невский зритель, 1820, № 3, с. 46—56. Авторство
Кюхельбекера установлено Р. Г. Назарьяном. Известия АН СССР. Серия
литературы и языка, 1990, № 3.
О ГРЕЧЕСКОЙ АНТОЛОГИИ
Впервые — Сын отечества, 1820, ч. 62. № 23, с. 145—151. Рецен¬
зия на брошюру «О греческой антологии» (Спб., 1820), написанную
С. С. Уваровым. Стихи переведены К. Н. Батюшковым.
1 Имеются в виду французские переводы греческих эпиграмм,
выполненные Уваровым.
2 Эпиграмма Феодорида в вольном переводе Батюшкова.
О НАПРАВЛЕНИИ НАШЕЙ ПОЭЗИИ,
ОСОБЕННО ЛИРИЧЕСКОЙ,
В ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ
Впервые — Мнемозина, 1824, ч. II, М., с. 29—44.
Позднее Кюхельбекер охарактеризовал эту статью как свои «пер¬
вые военные действия... против элегических стихотворцев и эпистоликов»
(см. наст, изд., с. 273). Статья вызвала оживленную полемику, в которой
приняли участие Ф. Булгарин, В. Ушаков, А. Воейков, П. Яковлев и
другие. Материалы этой полемики собраны в книге: Сакулин П. Н.
Из истории русского идеализма. Князь В. Ф. Одоевский. Т. 1. Ч. 1. М.,
1913, с. 249 и след. Ее анализ см. в статье Ю. Н. Тынянова «Архаисты
455
ПРИМЕЧАНИЯ
и новаторы» (в его кн.: Пушкин и его современники. М., «Наука», 1968,
с. 23—121). Критические отзывы о современных поэтах Кюхельбекер
пояснил в примечании к статье «Письмо в Москву к В. К. Кюхельбекеру»
В. Ф. Одоевского: «Здесь кстати считаю заметить, что статья моя
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее
десятилетие», где откровенно, и, может быть, слишком откровенно,
говорю свое мнение о сочинениях Жуковского, Пушкина и Баратын¬
ского (они все трое друзья мои), — есть знак моего непритворного к
ним уважения; ибо в моих глазах строгого разбора стоят сочинения
одних людей с талантом; касательно их только заблуждений критика
должна просвещать читателей, потому что ошибки Прадонов и Тредья-
ковских всякому в глаза кидаются» (см.: Мнемозина, 1824, ч. II, с. 184).
См. об этом также статью «Разговор с Булгариным» (наст, изд., с. 262—
271).
1 Ср. восторженную статью Кюхельбекера о поэме С. А. Ширин-
ского-Шихматова «Петр Великий» (см. наст, изд., с. 274—300).
2 Цитата из предисловия Вольтера к его пьесе «Блудный сын».
Пушкин позднее писал: «Tous les genres sont bons, excepte l’ennuyeux»
(«Все жанры хороши, кроме скучного») (франц.). Хорошо было ска¬
зать это в первый раз, но как можно повторять столь великую истину?
Эта шутка Вольтера служит основанием поверхностной критике литера¬
турных скептиков, но скептицизм во всяком случае есть только первый
шаг умствования. Впрочем, некто заметил, что и Вольтер не сказал
également bons («одинаково хороши») (франц.) (т. II, с. 54). Таким
образом, упоминаемый здесь некто — скорее всего, Кюхельбекер.
3 Н.-Ф. Дюпре де Сен-Мор, А. Оже — французские литераторы,
приверженцы классицизма.
4 Приводится афоризм Буало из «Поэтического искусства»:
«Безупречный сонет один стоит длинной поэмы».
5 Цитируется ода Ламартина «Энтузиазм»: «Его мирный восторг
далек от трагических неистовств, из его плодотворного и чистого порыва
проистекают, ритмично и размеренно, ручьи млека и меда, и этот мало¬
душный Икар, которому изменило крыло Пиндара, никогда не падает с
неба». (Перевод Вл. Орлова.)
6 Многочисленные подражатели английского поэта Т. Грея, автора
получившей широкую известность «Элегии, написанной на сельском
кладбище» (1751). Во второй части «Мнемозины» Кюхельбекер опубли¬
ковал этюд «Земля безглавцев», где, в частности, говорится: «Племя
аркадийских Греев и Тибуллов особенно велико; они составляют особен¬
ный легион. Между тем элегии одного несколько трудно отличить от
элегий другого: они все твердят одно и то же, все грустят и тоскуют...» (см.
с. 149).
7 Имеется в виду послание В. Л. Пушкина «К В. А. Жуковско¬
му» — одно из наиболее запальчивых выступлений карамзинской группы
против шишковистов. Сочувствовавший шишковистам Кюхельбекер в
своей статье иронически пересказывает стихи В. Л. Пушкина:
«Скажи, любезный друг, какая прибыль в том,
Что часто я тружусь день целый над стихом?
Что Кондильяка я и Дюмарсе читаю,
Что логике учусь и ясным быть желаю?..
Не ставлю я нигде ни семо, ни овамо...»
Стихи:
«...чувствительный певец,
Тебе (и мне) определен бессмертия венец!»
456
ПРИМЕЧАНИЯ
представляют собой, как установил Р. Г. Назарьян, пародию на послание
Д. И. Хвостова «К А. А. Писареву...» и другие стихотворения того же
автора (См. его «Послания в стихах». Спб., 1814).
8 Имеются в виду стихотворения Батюшкова «Мои Пенаты»
(1811—1812), Пушкина «Городок К***» (1815), Вяземского «Библио¬
тека» (1817).
9 «Швабский гусь» упоминается в послании Жуковского «К Батюш¬
кову» (1811).
10 Эти мысли Кюхельбекера вызваны, по-видимому, теорией
французского историка Ж.-Ш. Сисмонди, исследовавшего генезис
романтической поэзии (См. Sismondi /. C. L. De la littérature du
midi de 1’ Europe, t. 1, Paris, 1813, p. 342—343).
11 Намек на название сборника В. А. Жуковского «Для немно¬
гих» (1818).
12 Эти проблемы подробнее обсуждались Кюхельбекером в его
парижской лекции (1821). См.: JIH, т. 59, с. 366—380.
13 «Лицей, или Курс древней и новой литературы» (1799—1805) —
многотомный труд французского теоретика классицизма Ж.-Ф. Лагарпа.
«Курс литературы» (1750) — работа французского теоретика классициз¬
ма Ш. Батте.
14 Имеется в виду Ф. В. Булгарин.
15 Сеиды — в данном случае фанатические приверженцы какого-
либо учения, крайние догматики.
ответ господину с...
Впервые — Мнемозина, 1824, ч. II, с. 159—164. Ответ на рецензию
О. М. Сомова, помещенную в «Сыне отечества», 1824, ч. 93, № 15,
с. 31—37.
1 Цитируется «Эпиграмма» И. И. Дмитриева («За что Ликаста
осуждают») (1782).
2 Имеются в виду 24 картины аллегорически-исторического
содержания, написанные Рубенсом в 1622—1623 гг.
3 Имеется в виду замечание Булгарина в его рецензии на «Мнемо-
зину» (Литературные листки, 1824, март, № 5, с. 192—193).
4 «Аристархом» Кюхельбекер иронически называет А. Ф. Воейкова,
напечатавшего резко отрицательный отзыв о «Мнемозине» (Новости
литературы, 1824, кн. VIII, № 14).
РАЗГОВОР С Ф. В. БУЛГАРИНЫМ
Впервые — Мнемозина, 1824, ч. III, с. 157—177.
«Разговор» написан в ответ на критику, которой Ф. В. Булгарин
подверг статью Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно
лирической, в последнее десятилетие» (см. наст, изд., с. 252—258) в
«Литературных листках», 1824, № 15. Появление «Разговора...» вызвало
очередной ответ Булгарина (Литературные листки, 1824, № 21—22. ч. IV),
написанный в чрезвычайно озлобленном тоне.
1 Тацит говорит в «Анналах» (кн. 1,1), что таким образом будет
вести свое повествование.
457
ПРИМЕЧАНИЯ
2 Марлинский — псевдоним А. А. Бестужева, Житель Васильевского
острова — псевдоним Н. А. Цертелева, Лужницкий Старец — псевдоним
М. Т. Каченовского. Говоря о Жителе Петербургской стороны, Кюхель¬
бекер, по-видимому, имеет в виду шутливый персонаж статьи П. А. Вязем¬
ского «Вместо предисловия к «Бахчисарайскому фонтану», разговор
между издателем и классиком с Выборгской стороны или с Васильев¬
ского острова».
3 По определению самого Булгарина, Ванюша — «лицо вымышлен¬
ное», с которым он вел разговоры на литературные темы (см.: Лите¬
ратурные листки, 1824, № 21—22, ч. IV, с. 111 —112).
4 Ф. Месмер — австрийский врач, выдвинувший антинаучную меди¬
цинскую теорию, согласно которой планеты посредством особой магнит¬
ной силы действуют на организм человека. Несостоятельность этой
теории была установлена еще в 1774 г., и ко времени написания статьи
Кюхельбекера месмеризм стал синонимом шарлатанства.
5 И. П. Бороздна — русский поэт и переводчик. Имеется в виду
перевод 4-й оды Горация из книги I — «К Сестию».
6 См.: Гораций, 2-я ода IV книги.
7 См. примеч. 12, с. 344.
8 Эфемериды **— буквально: поденки крылатых насекомых из отдела
древнекрылатых. Они не питаются и живут очень недолго. В переносном
смысле: скоропроходящее, однодневка. «Фасон, или Модная лавка».
Имеется в виду произведение Булгарина «Модная лавка, или Что значат
фасон?» (1823).
9 Полемическая острота этого вопроса усиливалась взаимной
неприязнью Булгарина и Воейкова, которая была хорошо известна
современникам.
10 Цитируется «Песнь о колоколе» Ф. Шиллера:
«То жену, то мать — властитель
Царства мертвых вырывает
Из семейственного круга,
Из молящих рук супруга.
Обитает в царстве тени
Нежно любящая мать».
(Пер. Вс. Рождественского.)
11 Имеется в виду «Опыт о живописи» Дидро. Гете разбирает
эту работу.
12 Брама — высшее существо у индусов. Маоде (правильнее
Магадев) — божество в индусской мифологии.
МИНУВШЕГО 1824 ГОДА ВОЕННЫЕ, УЧЕНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОБЫТИЯ...
Впервые — Литературные портфели. Статьи, заметки и неизданные
материалы по новой русской литературе из собрания Пушкинского дома.
1. Время Пушкина, Пг., «Атеней», 1923, с. 72—75. (Публикация
Б. В. Томашевского.)
Датируется Томашевским декабрем 1824 года. Возможно, материал
предназначался для части IV «Мнемозины».
1 Имеется в виду насмешка «Вестника Европы» над виньеткой
«Полярной звезды» (сочетание звезды с лирой). В статье говорилось:
458
ПРИМЕЧАНИЯ
«Звезда в Лире, именем Вега, есть действительно первой величины, но
между ею и «Полярной звездою» расстояние весьма велико» (1823, № 2,
ч. 126, с. 134).
2 Имеется в виду статья П. А. Вяземского «Вместо предисловия к
«Бахчисарайскому фонтану», разговор между издателем и классиком
с Выборгской стороны или с Васильевского острова».
3 Статья Вяземского вызвала ответное выступление М. А. Дмит¬
риева «Второй разговор между классиком и издателем Бахчисарай¬
ского фонтана» (Вестник Европы, 1824, март № 5, с. 47—62) и после¬
дующую энергичную полемику.
4 Имеется в виду критика, которой В. Ф. Одоевский подверг книгу
A. Ф. Мерзлякова «Краткое начертание теории изящной словесности»
(1822). См.: Мнемозина, 1824, ч. I, с. 62—67.
5 Имеется в виду статья Булгарина в «Литературных листках»
(1824, январь, № 2, с. 61—63), в которой говорилось о народности
басен Крылова и их превосходстве над баснями И. И. Дмитриева.
6 В статье «Маленький разговор о новостях литературы» (Литера¬
турные листки, 1824, апрель, № 8, с. 322—323) Булгарин выступил на
стороне М. А. Дмитриева против Вяземского и его единомышленников.
7 Подразумевается следующее место из упоминавшейся статьи
П. А. Вяземского:
«Классик. Уж вы, кажется, хотите в свою вольницу романтиков
завербовать и древних классиков. Того смотри, что и Гомер и Виргилий
были романтики.
Издатель. Назовите их, как хотите: но нет сомнения, что
Гомер, Гораций, Эсхил имеют гораздо более сродства и соотношений с
главами романтической школы, чем с своими холодными, рабскими
последователями, кои силятся быть греками и римлянами задним чис¬
лом».
8 Имеется в виду кантата А. Н. Верстовского на слова Пушкина.
Нападки на это произведение появились в «Вестнике Европы» (1824,
№ 1, с. 69—72).
9 Кюхельбекер подразумевает свое сближение с позицией Кате¬
нина и Грибоедова. Слово славянофил в языке 1810—1820-х гг. не имело
того политического и мировоззренческого значения, которое оно приоб¬
рело в позднейшую эпоху, и было ближе к буквальному значению слова:
«любитель, ценитель славянского». Ср. речь Н. И. Тургенева при вступ¬
лении в «Арзамас», где он иронически называет «Беседу любителей
русского слова» «ословием славянофилов».
10 То есть О. М. Сомовым и А. Ф. Воейковым, опубликовавшими
критические отзывы о «Мнемозине» в «Сыне отечества» и «Новостях
литературы».
11 «Учитель и ученик, или В чужом пиру похмелье» — опера-
водевиль, переведенная с французского А. И. Писаревым, где фигури¬
рует комический персонаж, носящий имя Шеллинг.
12 Намек на полемику журналистов-однофамильцев Головиных,
которые выступали один в «Мнемозине», а другой в «Дамском журнале».
13 Поэма В. Н. Олина «Оскар и Альтос» (1823).
14 Имеется в виду статья В. Ф. Одоевского «Письмо в Москву к
B. К. Кюхельбекеру» (Мнемозина, 1824, ч. II, с. 165—183).
15 Подразумевается рецензия Булгарина на вторую часть «Мне¬
мозины» (Литературные листки, 1824, № 15). Именно в ответ на эту
рецензию Кюхельбекер написал свой «Разговор с Булгариным» (см.
наст, изд., с. 262—271).
459
ПРИМЕЧАНИЯ
16 Вероятно, Грибоедов.
17 Речь идет об ошибке, допущенной в «Литературных листках», и
ее исправлении.
1 Чертополохов — герой повести П. Яковлева «Несчастия от слез
и вздохов», которая в 1824—1825 гг. публиковалась в журнале «Благо¬
намеренный».
19 Кюхельбекер высмеивает беспринципность и ренегатство Бул¬
гарина, не раз проявлявшего готовность ревностно отстаивать различ¬
ные, даже противоположные позиции.
20 Два издателя трех журналов — Булгарин — издатель «Северного
архива» и «Литературных листков», а Греч — «Сына отечества». Калуж¬
ский поклонник — рецензент, критиковавший «Мнемозину» в письме,
подписанном псевдонимом «Калужский корреспондент» (псевдоним
С. Д. Полторацкого).
21 Речь идет о сборнике стихов А. Шишкова «Восточная лютня»
(1824).
22 Имеется в виду «Послание к NN о наводнении Петрополя,
бывшего 1824 года 7 ноября» Хвостова. Позднее об этом произведении
иронически отозвался Пушкин в «Медном всаднике».
РАЗБОР ПОЭМЫ КНЯЗЯ ШИХМАТОВА
«ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
Впервые — Сын отечества, 1825, ч. 102, № 15, с. 257—276; № 16,
с. 357—386. Высокая оценка Кюхельбекером творчества С. А. Шихма¬
това вызывала решительные возражения современников, в частности
Пушкина. «...Князь Шихматов, — писал он автору рецензии, — несмотря
на твой разбор и смотря на твой разбор, бездушный, холодный, наду¬
тый, скучный пустомеля...» (Пушкин, т. XIII, с. 248).
1 Имеются в виду поэмы С. А. Шихматова «Пожарский, Минин,
Гермоген, или Спасенная Россия. Лирическая поэма в трех песнях»
(1807) и «Петр Великий. Лирическое песнопение в осьми песнях» (1810).
2 «Драматической эпопеей» Шекспира Кюхельбекер называл его
пьесы «Ричард II», «Генрих IV», «Генрих V», «Генрих VI» и «Ричард III»,
рассматривая их как единое целое. См. его «Рассуждение о восьми
исторических драмах Шекспира...» (наст, изд., с. 321—350).
3 Говоря об «известной школе», Кюхельбекер намекал на школу
Карамзина, выделявшего «приятность слога» как основной признак
современной литературы (Карамзин H. М. Избр. соч. в 2-х т., т. 2,
М.—Л., 1964, с. 162).
4 «Модные олицетворения», которые Кюхельбекер считал харак¬
терным признаком поэтов школы Жуковского и критиковал их в
статье «О направлении нашей поэзии...» (наст, изд., с. 252—258).
5 Кюхельбекер «негодовал» за «ослепление» своих современников:
Батюшкова; Вяземского, Пушкина и других, высмеивавших Шихматова
в злых эпиграммах.
6 Эсхил. Агамемнон, ст. 1068.
7 Дедал (греч. миф.) — строитель лабиринта, отец Икара. Здесь:
лабиринт.
8 Очевидно, имеется в виду ода В. П. Петрова «На карусель»
(1782).
9 Цитируется сатира И. И. Дмитриева «Чужой толк» (1794).
460
ПРИМЕЧАНИЯ
РАЗБОР ФОН-ДЕР-БОРГОВЫХ ПЕРЕВОДОВ
РУССКИХ СТИХОТВОРЕНИЙ
Впервые — Сын отечества, 1825, ч. 103, № 17, с. 68—83.
Рецензия на антологию: Poetische Erzeugnisse der Russen.
Ein Versuch von Karl Friedrich von der Borg. Bd. 1.
Dorpat, 1820, Bd. 2 Riga-Dorpat, 1823.
Критическое отношение Кюхельбекера к сборнику в значительной
степени определялось, по-видимому, тем предпочтением, которое отда¬
валось в нем поэтам школы Жуковского. Как известно, в середине
1820-х гг. Кюхельбекер вел с ней ожесточенную полемику.
1 Имеется в виду выпущенное А. Ф. Воейковым, В. А. Жуковским
и А. И. Тургеневым «Собрание образцовых русских сочинений и переводов
в стихах. Изданное Обществом любителей отечественной словесности»
(ч. 1—6. Спб., 1815—1817).
2 Речь идет о детских годах Ломоносова, обстоятельствах его
появления в Москве, о его поездке в Германию.
3 Имеется в виду стихотворение Ломоносова «Ода, выбранная
из Иова».
4 Имеется в виду стихотворение Фонвизина «Послание к слугам
моим Шумилову, Ваньке и Петрушке».
РАЗБОР «СЛАВЯНСКОЙ ГРАММАТИКИ* Г. ПЕНИНСКОГО
и «ИСТОРИИ ДРЕВНЕЙ* Г. АРСЕНЬЕВА
Впервые — Благонамеренный, 1825, ч. 31, № 37—38, 335—350.
Публикуется с незначительными сокращениями. Опущены, в частности,
некоторые замечания Кюхельбекера, по вопросам правописания и лингви¬
стической терминологии.
ПРЕДИСЛОВИЕ к ДРАМАТИЧЕСКОЙ ШУТКЕ
«ШЕКСПИРОВЫ ДУХИ*
Впервые — Кюхельбекер В. К. Шекспировы духи. Спб., 1825,
1 Английский Эсхил — Шекспир.
2 Оберон и Титания — герои комедии Шекспира «Сон в летнюю
ночь» (1596) и поэмы Виланда «Оберон» (1780).
3 Цитируется комедия Шекспира «Сон в летнюю ночь» (д. III,
явл. 1).
4 Просперо — герой драмы Шекспира «Буря» (1612).
5 Венера Камоэнса — действующее лицо поэмы «Лузиады» (1572).
6 Граф Габалис — персонаж сочинений аббата Виллара, в которых
в шутливой форме излагалось учение каннибалистов.
МЫСЛИ О МАКБЕТЕ
Впервые — Литературная газета, 1830, 31 января, № 7.
Авторство Кюхельбекера установлено Ю. Д. Левиным. См.:
Левин Ю. Д. В. Кюхельбекер — автор «Мыслей о Макбете». — Русская
литература, 1961, № 4, с. 191 —192.
1 Прекрасный перевод Г. В-ка — имеется в виду перевод «Гамлета»
на русский язык, выполненный М. П. Вронченко в 1828 г.
461
ПРИМЕЧАНИЯ
РАССУЖДЕНИЕ О ВОСЬМИ ИСТОРИЧЕСКИХ
ДРАМАХ ШЕКСПИРА
Впервые — Международные связи русской литературы. Сборник
статей. М.—Л., Изд-во АН СССР, 1963, с. 288—314. Публикация
Ю. Д. Левина по беловому автографу, находящемуся в Рукописном
отделе Государственной библиотеки им. В. И. Ленина. Датируется
1 октября — 3 ноября 1832 г.
1 Имеются в виду трагедии «Электра» Софокла, «Электра» и
«Орест» Еврипида.
2 Цитируется трагедия «Ричард II».
3 Мельпомена — муза трагедии в греческой мифологии. Талия —
муза комедии в греческой мифологии.
4 Евменида — Эвминиды или Эриннии — богини мщения в древне¬
греческой мифологии.
5 Имеются в виду труды английского шекспириста Э. Мэлона,
отрицавшего авторство Шекспира «по отношению к первой части
«Генриха VI».
6 См.: Schlegel A. W. Über dramatische Kunst und Literatur. Tl. 2,
Abt. 2. Heidelberg, 1811, S. 188—189.
7 Имеются в виду саморазоблачительные тирады Димитрия Само¬
званца в одноименной трагедии А. П. Сумарокова (1771).
8 Цитируется трагедия «Ричард III» (д. I, сц. 1).
9 Кюхельбекер имеет в виду нападки О. И. Сенковского, выступав¬
шего под псевдонимом «Барон Брамбеус», на употребление место¬
имений «сей», «оный» и т. п. Позднее он посвятил им статью «Резолюция
на челобитную сего, оного, такового, коего... по делу об изгнании якобы
оных без суда и следствия из русского языка» («Библиотека для чтения»
1835, т. VIII, отд. VI, с. 26—34). Эта статья вызвала полемику, в кото¬
рой участвовали Пушкин и Гоголь.
10 Немецкий философ и историк литературы Фридрих Бутервек
критиковал вычурность испанской поэзии начала XVII века в книге
«Geschichte der Poesie Beredsamkeit seit Ende des dreizehnten Jahrhunderts,
Bd. 3, Geschichte der spanischen Poesie und Beredsamkeit». Göttingen,
1804.
ПРЕДИСЛОВИЕ К МИСТЕРИИ «ИЖОРСКИЙ»
Впервые — Кюхельбекер В. К. Ижорский. Мистерия. Спб., 1835,
с. V—X.
1 «Страшный суд» — картина Рубенса, два варианта ее создава¬
лись ок. 1615—1616 и ок. 1618—1620 гг.
2 «Преображение» — картина Рафаэля, создавалась в последние го¬
ды жизни художника и осталась незавершенной.
3 Кюхельбекер ссылается на статью В. Скотта «О чудесном в
романе» (Сын отечества, 1829, т. VII, № 44, с. 229—245; № 45,
с. 289—309; № 46, с. 355—365).
ПОЭЗИЯ И ПРОЗА
Впервые — ЛН, т. 59, с. 391—394, по автографу, находящемуся
в ЦГАОР.
Статья предназначалась для опубликования в «Современнике»,
462
ПРИМЕЧАНИЯ
и на первой странице автографа имеется надпись рукой Кюхельбекера:
«В журнал Александра Сергеевича Пушкина». Датируется приблизи¬
тельно сроком с конца мая 1835 по июль 1836 года (дневниковые
записи Кюхельбекера от 3 апреля и 22 мая 1835 г. были с незначитель¬
ными изменениями включены в статью, а в самом начале августа
1836 г. он отправил ее Пушкину). Статья была задержана III Отделе¬
нием на основании распоряжения A. X. Бенкендорфа. (Подробнее об
этом см.: ЛН, т. 59, с. 382.) Она представляет собой отклик Кюхель¬
бекера на споры вокруг так называемого «торгового направления» в
литературе, главным представителем которого была «Библиотека для
чтения», издававшаяся с 1834 года А. Ф. Смирдиным под фактической
редакцией О. И. Сенковского. В этой статье отразилось дальнейшее раз¬
витие тех взглядов Кюхельбекера на поэзию, которые он отстаивал в
молодости в таких работах, как «Письмо к молодому поэту» и
«Отрывок из Путешествия по полуденной Франции».
1 Цитируется поэма Кюхельбекера «Агасфер, или Вечный Жид».
2 Планета Галлея — очень яркая комета, движущаяся по эллипти¬
ческой орбите с периодическими возвращениями к солнцу. Закономер¬
ность ее движения была установлена в 1682 г. английским астрономом
Э. Галлеем (правильнее — Галли).
3 Барон Брамбеус — псевдоним О. И. Сенковского. Цитируется
его статья «Брамбеус и юная словесность» (Библиотека для чтения,
1834, т. III, с. 33—60). Говоря, что имя Брамбеус уже всем известно,
Кюхельбекер, видимо, намекает на то, что так звали героя одного
лубочного произведения. Однако действительное происхождение псев¬
донима Сенковского неясно и вызывало разные версии. См. об этом:
Каверин В. А. Барон Брамбеус. М., «Наука», 1966, с. 140 и след.
4 Этот абзац был записан в дневнике Кюхельбекера 3 апреля
1835 г., где имел следующее продолжение: «...искренно сказать, мне
кажется, что он (Брамбеус) просто на них клеплет или не понимает
их».
5 Имеется в виду статья «Гете в посмертных его сочинениях»
(Библиотека для чтения, 1834, т. 6), представлявшая собою перевод из
«Foreign Quarterly Review» и снабженная примечанием, в котором
О. И. Сенковский выражал свое согласие с мнением английского жур¬
нала. Больвер — английский романист и критик Бульвер-Литтон. Цити¬
руется его книга «Рейнские пилигримы» (1834).
6 Мюнстер — в переводе с немецкого: кафедральный собор. Страс¬
бургский собор, о котором упоминает Кюхельбекер, — выдающийся
памятник средневековой архитектуры.
7 Имеется в виду одна из ранних работ Э. Фальконе.
8 Кюхельбекер ошибочно упоминает здесь «Преображение*, так как
главной работой немецкого гравера И.-Ф. Мюллера была «Сикстинская
мадонна» Рафаэля. Неудовлетворенность этой работой привела ее автора
к душевному заболеванию.
9 Роман Ф. Шатобриана.
10 «Полиметры» — произведение немецкого писателя И.-П. Рихтера
(Жан-Поля), написанное ритмической прозой. Отрывок из него под
заглавием «Многомеры» был напечатан Кюхельбекером в первой части
«Мнемозины».
11 Цитируется поэма Кюхельбекера (1833).
463
ПРИМЕЧАНИЯ
ПИСЬМО К К. О. С(АВИЧЕВСКОМУ)
Впервые — Кюхельбекер В. К. Собр. соч. в 2-х т., т. 1. Л., Сов.
писатель, 1939, с. 478—480.
1 Савичевский Константин Осипович — ссыльный польский револю¬
ционер, друг В. К. Кюхельбекера.
2 Иронический отклик на критику, которой подвергались в 1830-х
годах перечисленные Кюхельбекером произведения. Возможно, име¬
ются в виду «Письмо о русской литературе» Ф. В. Булгарина, статьи
Белинского о «Горе от ума» Грибоедова и книге А. Ф. Вельтмана
«Сердце и думки», рецензия О. И. Сенковского на «Арабески» Гоголя.
ОТРЫВКИ ИЗ «ПУТЕШЕСТВИЯ»
«Путешествие» создавалось в 1820—1821 гг. во время поездки
Кюхельбекера по Европе. Отдельное издание книги не состоялось,
отрывки из нее печатались в журналах в 1824—1825 гг. Особое зна¬
чение Кюхельбекер придавал тем из них, где были запечатлены его раз¬
мышления о Дрезденской галерее. В так называемом «литературном
завещании», продиктованном им 3 марта 1846 г., говорится: «Путешест¬
вие. Пересмотреть и напечатать по усмотрению, кроме Дрезденской
галереи, которую прошу издать» (Тынянов Ю. Я. В. Кюхельбекер
(По новым материалам). — Литературный современник, 1938, № 10,
с. 220). «Описание Дрезденской галереи», «напечатанное в «Мнемозине»,
а теперь исправленное», упоминается в числе сочинений, отправленных
Кюхельбекером Жуковскому (Кюхельбекер В. К. Дневник. Л., 1929,
с. 314).
ПИСЬМО XIX
Впервые — Мнемозина. М., 1824, ч. 1, с. 61—80.
1 Кюхельбекер ссылается на книгу: Forster G. Ansichten von Nider-
rhein, Brabant, Flandren, Holland, England und Frankreich in April, Mai
und Junius 1790, Th. 1, Berlin, 1790.
2 Гесперия — древнее название Италии.
3 Соиздатель «Мнемозины» В. Ф. Одоевский сопроводил это место
статьи обширным примечанием, в котором полемизировал с определением
идеала, предложенным Кюхельбекером (Мнемозина, ч. 1, с. 62—67).
4 Имеется в виду т. н. «Бельведерский торс» — статуя Геракла
без головы, рук и ног, работы Аполлония, сына Нестора (I в. до н.э.).
5 Картина «Пьяный Геркулес, уводимый нимфой и сатиром».
6 Статуя Геракла работы Лисиппа.
7 Картина «Охота на львов».
8 Картина «Сатир, выжимающий виноградный сок, и тигрица».
9 Картина «Нептун, усмиряющий волны», написанная на сюжет
«Энеиды» Вергилия. В качестве ее названия Кюхельбекер приводит
слова из первой песни этой поэмы.
10 Барельеф Ф. П. Толстого «Меркурий ведет тени убитых же¬
нихов в ад».
11 Имеются в виду картины «Девушка в окне со свечой, срываю¬
щая виноград» и «Старушка, потерявшая нитку».
12 Речь идет о картине ученика Герарда Доу — Шалькена Гот¬
фрида — «Молодой человек с сережками, освещающий женский бюст».
464
ПРИМЕЧАНИЯ
13 Картины «Старая торговка дичью», «Торговка птицей», «Торго¬
вец птицей».
14 Имеется в виду картина «Давид, передающий Урии письмо»,
написанная не Ф. Болем, а другим учеником Рембрандта, Г. Флинком
(1615—1660).
15 Картина «Антверпенские сборщики податей».
16 Речь идет о картине Ганса Гольбейна Младшего (1497—1593)
«Мадонна бургомистра Майера».
17 Речь идет о картине Якоба ван Рюйсдаля (1628—1682) «Охота».
письмо XX
Впервые — Мнемозина. М., 1824, ч. I, с. 81—83.
1 Картина П. Баттони «Кающаяся Магдалина».
2 Картина С. Риччи «Вознесение Христа».
3 Картина Г. Рени «Покоящаяся Венера с Амуром».
ПИСЬМО XXIV
Впервые — Мнемозина. М., 1824, ч. I, с. 92—110.
1 Речь далее идет о картинах А. Корреджо «Мадонна со св. Фран¬
циском», «Мадонна со св. Георгием», «Святая ночь», «Мадонна со св.
Себастьяном» и приписываемой Корреджо картине «Кающаяся Магда¬
лина лежит под скалой и читает».
2 «Аргивяне» (1822—1823) —трагедия Кюхельбекера.
3 Имеется в виду картина Б.-Т. да Гарофило (1481 —1559)
«Вакханалия».
4 Картина «Мадонна на престоле».
5 Картины «Дочь Ирода с головой Крестителя на блюде» и
«Св. Цецилия у органа».
6 Картина «Мадонна с тазом».
7 Картина «Амур, точащий стрелу».
ПИСЬМО XXXII
Впервые — Мнемозина. М., 1824, ч. III, с. 45—57.
1 Лагдун — древнее название Лиона.
2 Речь идет о картинах «Дева Мария усмиряет гнев Христа» и
«Поклонение волхвов».
3 Картина «Успение».
ПИСЬМО XLIII
Впервые — Мнемозина. М., 1824, ч. IV, с. 66—74 под загл.: «Отры¬
вок из путешествия по полуденной Франции. Марсель».
1 Мой Д.., — по-видимому, Дельвиг.
2 Курций — римский юноша, бросившийся в 362 г. до н. э. в про¬
пасть, чтобы смягчить гнев богов. Его имя стало нарицательным для
обозначения человека, который жертвует собой ради общего блага.
3 Ксантиппа — жена Сократа, имя которой стало нарицательным
для обозначения злой, сварливой женщины.
4 Алкид (или Геракл) — герой греческой мифологии, совершивший
множество подвигов. Труды алкидовы — тяжелейшие труды.
16—907
465
ПРИМЕЧАНИЯ
5 «Поэзия есть добродетель» — цитата из послания В. А. Жуков¬
ского «К кн. Вяземскому и В. Л. Пушкину» (1814).
6 Ф. и Ц. — вероятно, Б. М. Федоров и Н. А. Цертелев, ретроград¬
ные литераторы, выступавшие против поэтов пушкинского круга.
ОТРЫВКИ ИЗ «ДНЕВНИКА»
Впервые отрывки из «Дневника» публиковались в 1875—1891 гг.
в «Русской старине». Отдельное издание —Кюхельбекер В. К. Дневник.
Материалы к истории русской литературной и общественной жизни
10—40 годов XIX века. Л., 1929. Полная публикация по автографам
и спискам — Кюхельбекер В. К. Путешествие. Дневник. Статьи. Изд.
подготовили Н. В. Королева, В. Д. Рак (Л., «Наука», 1979, с. 64—433).
1 Имеется в виду идея, что искусство — это универсальное выра¬
жение божества в природе. Она развита Шеллингом в его «Философии
искусства» (1802—1803).
2 Имеется в виду статья Н. А. Полевого, опубликованная в
«Московском телеграфе» (1826, ч. 8, № 6—8, ч. 9, № 9).
3 Повесть В. А. Жуковского «Вадим Новгородский» (1803).
4 Цитируется комедия Ж.-Б. Мольера «Любовь-целительница»
(д. 1, сц. 1).
5 Возможно, Кюхельбекер воплотил в жизнь это намерение, напи¬
сав во второй половине 1832 г. стихи «Измена вдохновения» и «Возврат
вдохновения».
6 Имеется в виду статья А. К. Катрмера-де-Кенси «О жизни и
творениях Рафаэля» (Вестник Европы, 1824, № 17, с. 32—40).
7 Имеется в виду статья М. Дмитриева «Замечания на суждения
«Телеграфа» (Вестник Европы, 1825, № 6, с. 109—123), направленная
против Н. А. Полевого, высоко оценившего отрывок из комедии А. С. Гри¬
боедова «Горе от ума», напечатанный в «Русской Талии» (Московский
телеграф, 1825, ч. 1, № 2, с. 3). Эта статья привлекла к себе внимание
и вызвала оживленную полемику.
8 Пилад Белугин — псевдоним А. И. Писарева.
9 *Наташа» Катенина была опубликована в «Сыне отечества»,
1815, ч. 21, № 13, с. 16—18. Подражание Гетеву «Der Sänger» — бал¬
лада Катенина «Певец» (там же, № 16, с. 138—140).
10 Тринадцатое письмо опубликовано в «Сыне отечества», 1815,
ч. 19, № 6, с. 217—228.
11 Статья В. Т. Плаксина была опубликована в «Сыне отечества»,
1829, ч. 6(128), № 34, с. 17—33; № 35, с. 82—95.
12 В. Т. Плаксин приводит разные определения романтизма (см.:
Сын отечества, 1829, ч. 6(128), № 34, с. 20—21), но поскольку записи,
сделанные Кюхельбекером в последующие дни, до нас не дошли, не
представляется возможным установить, какие из мыслей статьи он счи¬
тал «истинно хорошими».
13 Статья В. К. Бриммера была опубликована в «Сыне отечества»,
1830, ч. 10(132), № 9, с. 168—184.
14 Статья В. Гюго «О поэзии древних и новых народов» была опу¬
бликована в «Московском телеграфе», 1832, ч. 47, № 19, с. 297—331;
№ 20: с. 435—471.
Повесть «Г-жа Фирмиани» была опубликована в «Сыне оте¬
чества», 1833, ч. 33(155), № 1, с. 3—35.
16 Имеется в виду статья Ф. В. Булгарина «Письма о русской
литературе»; «Письмо I к В. А. Ушакову, в Москву» (Сын отечества,
466
ПРИМЕЧАНИЯ
1833, ч. 33(155), № 1, с. 45—52; «Письмо II. О характере и достоинстве
поэзии А. С. Пушкина» (там же, № 6, с. 309—326). Далее Кюхельбекер
полемизирует с оценками Булгарина, содержащимися в «Письме II».
17 «Отсталое. Будущая повесть» Н. И. Греча была опубликована
в «Библиотеке для чтения», 1834, т. 6, отд. 1, с. 110—136.
18 Имеется в виду статья «Гете в посмертных его сочинениях».
Из «Foreign Quarterly Reviw» (Библиотека для чтения, 1834, т. 6,
отд. 2, с. 65—77).
19 Кюхельбекер имеет в виду примечания, которыми О. И. Сен-
ковский сопроводил перевод «Старика Горио».
20 По предположению Ю. Н. Тынянова, человеком, которого имеет
в виду Кюхельбекер, был поляк Осип Юлиан Викентьевич Горский.
21 Имеется в виду рецензия О. И. Сенковского «Арабески». Разные
сочинения Н. Гоголя. Спб., 1835, 2 части (Библиотека для чтения, 1835,
т. 9, отд. 6, с. 8—14).
22 Больвер — Э. Г. Бульвер-Литтон.
23 «Бестужевские капли» — лекарство по рецептуре А. П. Бестуже¬
ва-Рюмина: раствор железа в смеси спирта с эфиром. Это выражение
для характеристики произведений А. А, Бестужева-Марлинского ис¬
пользовал Н. И. Греч.
24 Четвертое издание «Стихотворений» В. А. Жуковского (т. 1—9)
было выпущено в 1835—1837 гг.
25 «Безумная. Русская повесть в стихах. Соч. Ивана Козлова».
Спб., 1830.
26 «Дебора, или Торжество веры. Подражание «Гофолии» Ра¬
сина» A.A. Шаховского. Спб., 1811.
ПИСЬМА
1. А. С. ПУШКИНУ
Впервые— Русский архив, 1881, кн. 1, с. 137—139.
1 Помфрет — замок в Англии, упоминаемый в исторической хро¬
нике Шекспира «Ричард II» (д. V, сц. I) (1595). Кюхельбекер называет
так место своего заключения — Динабургскую крепость.
2 Наше свидание... Пушкин так описал эту встречу, происшед¬
шую 14 октября 1827 г.: «Один из арестантов стоял, опершись у колонны.
К нему подошел высокий бледный и худой молодой человек с черною
бородою, в фризовой шинеле... Он с живостию на меня взглянул. Я не¬
вольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я
узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы
нас растащили (Пушкин, т. 12, с. 307).
3 Амигдал процветает на главе моей. Амигдал — миндаль. Воз¬
можно, Кюхельбекер перефразирует библейскую формулу «зацветет
миндаль» (Экклезиаст, гл. 12, ст. 5).
4 Камоэнс неоднократно упоминается Кюхельбекером как поэт,
шедший к славе путем страданий и лишений.
5 Возможно, Кюхельбекер имеет в виду свою поэму «Давид».
в Исандером Кюхельбекер называл Грибоедова.
16**
467
ПРИМЕЧАНИЯ
2. Нат. Г. ГЛИНКЕ
Впервые — JIH, 1956, т. 59, с. 411.
1 Отрицательное отношение к Делилю Кюхельбекер высказывал
и ранее (см., например, «Разговор с Булгариным»).
3. Ю. Я. КЮХЕЛЬБЕКЕР
Впервые — JÏH, 1956, т. 59, с. 426—428.
1 В 1820-х гг. Кюхельбекер был восторженным поклонником Гете
и активно пропагандировал его творчество, в частности в статьях
«О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее деся¬
тилетие» и «Разговор с Булгариным». В годы заключения его отношение
к Гете существенно меняется. Данное письмо запечатлело один из пер¬
вых симптомов этих изменений. Позднее Кюхельбекер прямо заявил,
что «царствование Гете» над его душой «кончилось».
2 Статью В. Менцеля о Шиллере и Гете Кюхельбекер прочел в
«Сыне отечества» 13 июня 1834 г.
4. Ник. г. ГЛИНКЕ
Впервые — ЛН, 1956, т. 59, с. 455—456.
1 Аристархи — здесь: критики, по имени александрийского грам¬
матика Аристарха.
5. А. Г. ГЛИНКЕ
Впервые — Декабристы и их время. Материалы и сообщения.
М.—Л., Изд-во АН СССР, 1951, с. 61—62, Автограф. — ПД.
1 «Кандид, или Оптимизм» (1759) — философский роман Вольтера.
2 Речь идет о трагедиях Вольтера «Альзира» (1736), «Магомет-про-
рок, или Фанатизм» (1741), «Заира» (1732).
3 «Андромаха» (1667) и «Федра» (1677) — трагедии Расина.
4 «Мустафа и Зеанжир» (1776) — трагедия Шамфора.
5 «Сид» (1636) — трагедия Корнеля.
6 Жан-Поль — литературный псевдоним И. П. Рихтера.
6. ПЛЕМЯННИЦАМ ГЛИНКАМ
Впервые — Декабристы. Летописи Государственного Литературного
музея. Кн. 3. М., 1938, с. 174—175.
1 Выпустили — здесь: не включили в издание.
7. н. г. ГЛИНКЕ
Впервые — Декабристы и их время, с. 75.
8. н. г. ГЛИНКЕ
Впервые — Декабристы. Летописи Государственного Литературного
музея, с. 181 —182.
1 Возможно, имеется в виду историческая драма Кюхельбекера
«Падение дома Шуйских», оставшаяся ненапечатанной.
468
ПРИМЕЧАНИЯ
2 Имеется в виду колонна, установленная в царскосельском парке
Екатериной II в память победы над турками в сражении при Чесме
(1770). Ростральные колонны, сооружавшиеся в честь побед на море,
украшались рострами, то есть носами побежденных кораблей.
3 Строка из стихотворения Пушкина «19 октября», обращенная к
Кюхельбекеру.
9. В. А. ЖУКОВСКОМУ
Впервые — Русский архив, 1872, с. 1004—1008.
К. Ф. РЫЛЕЕВ
НЕСКОЛЬКО МЫСЛЕЙ О ПОЭЗИИ
Впервые — Сын отечества, 1825, № 22, ч. 104, с. 145—154.
В статье Рылеев рассматривает вопросы, которые затрагивались
в его переписке с Пушкиным. Существует предположение, что статья
обращена к Пушкину и что именно в этом смысл ее подзаголовка —
«Отрывок из письма к N.N.».
1 Цитируется книга Ж.-П.-Ф. А не ил ьо на, прусского министра, члена
Академии наук и королевского историографа: «Естетические рассужде¬
ния». Спб., 1813, с. 134.
2 Эти мысли высказаны в статье H. Р... на (Н. Рожалина(?))
«Нечто о споре по поводу Онегина» (Вестник Европы, 1825, № 17,
с. 23—34).
ПИСЬМА К ПУШКИНУ
Впервые — Полярная звезда на 1861 год, с. 33—37. Автографы —
ПД.
1
1 Письмо было доставлено в Михайловское ссыльному Пушкину
И. И. Пущиным. Поясняя своеобразие его содержания и тональности,
Ю. Г. Оксман с основанием указывал, что «писанное в третьем лице,
без обращения и подписи, оно более походило на какой-то конспира¬
тивный мандат, чем на письмо обычного типа. Рылеев обращался к
Пушкину не просто как собрат по перу, единомышленник и почитатель
великого поэта, к тому же и едва знакомый с ним лично, а как вождь
тайной организации, имеющий тем самым право рекомендовать Пушкину
определенную линию политического и литературного поведения («наше
мнение о твоем таланте», «радуешь истинно русские сердца», «неужели
Пушкин оставит эту землю без поэмы» и пр.). Многозначительная стро¬
ка: «Пущин познакомит нас короче» не оставляет никаких сомнений в
том, что именно Пущин должен был информировать Пушкина как о
самом существовании тайного общества, так и о роли в нем Рылеева и
Бестужева. Без этой дополнительной устной информации самая тональ¬
ность письма Рылеева к Пушкину была бы исключительно бестактной и
469
ПРИМЕЧАНИЯ
претенциозной (Рылеев К. Ф. Стихотворения, статьи, очерки, доклад¬
ные записки, письма. М., Гослитиздат, 1956, с. 392).
2 Рылеев был знаком с поэмой Пушкина по отрывкам, читанным
ему Л. С. Пушкиным.
2
1 «Отрывок из Цыган» (первые 93 стиха поэмы) был передан
Пушкиным Рылееву через Пущина Для «Полярной звезды на 1825 год».
2 Рылеев имеет в виду письмо от 25 января 1825 г., где Пушкин
полемизировал с мнением Бестужева о первой главе «Евгения Онегина»
и о творчестве Жуковского.
3 Имеется в виду неизлечимая психическая болезнь, поразившая
Батюшкова зимой 1821/22 г.
4 Имеется в виду письмо Пушкина к Бестужеву от конца января
1825 г. о «Горе от ума».
3
1 Письмо написано в ответ на не дошедшее до нас письмо Пуш¬
кина, возражавшего против оценки Рылеевым и Бестужевым первой
главы «Евгения Онегина». Продолжением этой полемики явилось письмо
Пушкина к Бестужеву от 24 марта 1825 г. (Пушкин, т. XIII, с. 155—156).
2 В письме от 24 марта 1825 г. Пушкин ответил на это сопостав¬
ление: «Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав, все-таки ты
смотришь на Онегина не с той точки, все-таки он лучшее произведение
мое. Ты сравниваешь первую главу с Дон Жуаном. — Никто более меня
rte уважает Дон Жуана... но в нем ничего нет общего с Онегиным»
(Пушкин, т. XIII, с. 155).
3 Поэма Рылеева «Войнаровский», выпущенная в 1825 г. отдельным
изданием, подверглась цензурным искажениям.
4 Отношение Пушкина к думам с наибольшей полнотой и обстоя¬
тельностью было выражено в его письме к Рылееву во второй половине
1825 г. (Пушкин, т. XIII, с. 175—176).
J В письме к Бестужеву от 24 марта 1825 г. Пушкин так отозвался
на эти слова: «Очень знаю, что я его учитель в стихотворном языке —
но он идет своею дорогою (Пушкин, т. XIII, с. 155).
6 Речь идет о болезни Дельвига, задержавшей его приезд в
Михайловское до середины апреля 1825 г.
4
1 Имеется в виду «Полярная звезда на 1825 год».
2 Опубликованная в «Полярной звезде» поэма Пушкина «Братья-
разбойники» задолго до этого распространялась в списках.
3 «Звездочка» — альманах, который Бестужев и Рылеев готовили в
1825 г. и который остался недопечатанным из-за событий 14 декабря.
5
1 Цитируется третье стихотворение из цикла Пушкина «Подража¬
ния Корану».
470
ПРИМЕЧАНИЯ
2 Для характеристики Кюхельбекера Рылеев использует слова из
поэмы Пушкина «Цыганы».
3 Это замечание Рылеева запомнилось Пушкину, и он позднее
полемизировал с ним в «Опровержениях на критики» (см.: Пушкин,
т. XI, с. 153).
6
1 Речь идет об устных замечаниях Пушкина, которые были пере¬
даны Рылееву Дельвигом после его возвращения в Петербург из Ми¬
хайловского.
2 Это обещание содержалось в письме Пушкина к Бестужеву от
24 марта 1825 г.: «И Bowles, и Byron в своем споре заврались; у меня
есть на то очень дельное опровержение. Хочешь перешлю?» (Пушкин,
т. XIII, с. 155). Спор между Байроном и Боульсом велся по вопросу о
том, что предпочтительнее: изображение явлений природы или тленных
человеческих вещей. «Опровержение», упоминаемое Пушкиным, до нас
не дошло.
7
1 По воспоминаниям Н. А. Бестужева, «когда Рылеев напечатал
«Войнаровского» и послал Пушкину экземпляр, прося сказать о нем
свое мнение, Пушкин прислал ему назад со сделанными на полях
замечаниями...» (Писатели-декабристы в воспоминаниях современников.
В 2-х т. T. II. М., «Худож. лит.», 1980, с. 77). Письмо Рылеева написано
после знакомства с этими замечаниями Пушкина.
2 Имеется в виду письмо Рылеева к Пушкину от 10 марта
1825 года.
3 Рылеев имеет в виду «мнения» Пушкина о статье Бестужева
«Взгляд на русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 гг.»,
высказанные в его письме к Бестужеву от конца мая — начала июня
1825 г.
4 Ответ на слова Пушкина: «У нас писатели взяты из высшего
класса общества — аристократическая гордость сливается у них с автор¬
ским самолюбием» и след. (Пушкин, т. XIII, с. 179).
8
1 Письмо Пушкина, на которое отвечает Рылеев, до нас не дошло.
В его черновом наброске говорится: «Мне досадно, что Рылеев меня не
понимает — в чем дело» (Пушкин, т. XIII, с. 408).
2 Эти намерения Рылеева и Бестужева, как известно, не были
осуществлены из-за поражения восстания декабристов.
3 Имеется в виду отрывок из третьей главы «Евгения Онегина»
(Ночной разговор Татьяны с няней).
4 Имеется в виду статья «Несколько мыслей о поэзии».
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аблесимов Александр Онисимович
(1742—1783), писатель — 82, 91
Абу-Абдаллах Мухаммед (XV в.),
царь Гранады — 153
Август (63 г. до н. э. — 14 г. н. э.),
римский император с 27 г. до
н. э. — 53, 149
Августин Блаженный Аврелий
(354—430), христианский тео¬
лог — 150
Аладьин Егор Васильевич (1796—
1860), поэт, издатель— 125
Александр Македонский (356—
323 гг. до н. э.), полководец и го¬
сударственный деятель, царь Ма¬
кедонии с 336 г. до н. э. — 294
Александр Невский (ок. 1220—
1263), князь Новгородский
(1236—1251), Великий князь
Владимирский с 1252 г. — 72, 84
Алексей Михайлович (1629—1676),
русский царь с 1645 г. — 56, 85,
174
Алексей Петрович (1690—1718),
царевич, сын Петра I — 75
Алексеев Федор Яковлевич (между
1753 и 1755—1824), живопи¬
сец — 68
Алкей (конец VII — 1-я пол. VI в.
до н. э.), древнегреческий поэт —
211
Алкивиад (ок. 450—404 гг. до н. э.),
афинский политический и воен¬
ный деятель — 143
Альбани Франциск (1578—1660),
итальянский живописец — 380
Альфьери Витторио (1749—1803),
итальянский драматург — 120,
148
Анакреонт (ок. 570—487 гг. до
н. э.), древнегреческий поэт — 93
Андреев Ар дали он Михайлович
(конец XVIII — 1-я пол. XIX в.),
издатель произведений А. А. Бес¬
тужева — 194
Анна Ивановна (1693—1740), рос¬
сийская императрица с 1730 г. —
210
Ансильон Фридрих (1767—1837),
немецкий ученый и государствен¬
ный деятель — 426
Антонелло да Мессина (ок. 1430—
1479), итальянский живописец —
69
Ариосто Лудовико (1474-^-1533),
итальянский поэт — 215, 247,
257, 272, 423
Аристарх Самофракийский (ок.
217—145 г. до н.э.), александ¬
рийский грамматик и критик —
261, 388, 414
Аристип (435—360 гг. до н. э.),
древнегреческий философ — 224
Аристотель из Стагиры (384—
322 гг. до н. э.), древнегреческий
философ— 138, 157, 159, 256,
423, 425
Аристофан (ок. 446—385 г. до
н. э.), древнегреческий драма¬
тург— 314, 351, 401
Арсеньев Константин Иванович
(1789—1865), историк, географ —
308, 312, 313
Архимед (ок. 287—212 г. до н.э.),
древнегреческий ученый — 228,
165
Аттила (ум. в 453 г.), вождь гунн¬
ского союза племен — 385
Багратион Петр Иванович (1765—
1812), князь, генерал от инфан¬
терии, герой Отечественной вои¬
ны 1812 г. — 393
Байрон (Бейрон) Джордж Ноэл
Гордон (1788—1824) — 105, 120,
148, 149, 167, 185, 189, 193, 194,
197, 205, 256, 257, 269, 272, 297,
304, 305, 356, 357, 385, 386, 402,
404, 405, 408, 410, 424, 428, 431,
432
472
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Балабин, домовладелец — 213
Балакирев Иван Алексеевич
(1699—1763), шут Петра I и Ан¬
ны Ивановны — 177
Бальзак Оноре де (1799—1850) —
185, 204, 206, 207, 402—404
Баранович Лазарь (ок. 1620—
1693), украинский религиозный
и политический деятель, писа¬
тель — 79
Барант Амабль-Гийом-Проспер де
Брюжьер де (1782—1866), фран¬
цузский историк и посол в Рос¬
сии — 169, 172
Баратынский (Боратынский) Евге¬
ний Абрамович (1800—1844),
поэт — 83, 95, 114, 125, 188, 191,
193, 194, 255, 258, 399, 405
Барон Брамбеус — см. Сенков-
ский О. И.
Батлер (Ботлер) Сэмюэл (1612—
1680), английский поэт-сати¬
рик — 209
Баттё Шарль (1713—1780), фран¬
цузский философ и эстетик —
160, 257
Баторий Стефан (1533—1586),
польский король с 1576 г., пол¬
ководец — 75, 77, 79
Баттони Помпео (1708—1787),
итальянский живописец — 368,
373
Батый (Бату) Саин-хан (1208—
1255), монгольский хан, основа¬
тель Золотой орды (1243) — 84
Батюшков Константин Николаевич
(1787—1855), поэт — 91, 93, 98,
104, 106, 228, 230, 232, 238, 249,
250, 254, 269, 399, 428
Башуцкий Александр Павлович
(1801—1876), писатель, журна¬
лист — 188
Белугин — см. Писарев А. И.
Бенитцкий Александр Петрович
(1780—1809), писатель—90, 212
Бенкендорф Александр Христофо¬
рович (1781 или 1783—1844),
шеф жандармов при Николае I —
421
Бергем Н. — 367
Берх Василий Николаевич (1781—
1834), историк флота и геог¬
раф — 82
Бессонов Степан Артемьевич
(1776—1847), художник — 73
Бестужев (псевдоним Марлинский)
Александр Александрович
(1797—1837), — 35—209, 262,
356, 357, 405, 427—432
Бестужев Михаил Александрович
(1800—1871), декабрист, млад¬
ший брат Марлинского — 194,
205, 207
Бестужев Николай Александрович
(1791—1855), декабрист, стар¬
ший брат Марлинского— 188,
194, 204, 205—208
Бетховен Людвиг ван (1770—
1827) — 187
Бианки-Феррари Франческо де
(1460—1510), итальянский ху¬
дожник — 369, 370
Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772),
курляндский дворянин, русский
государственный деятель, фаво¬
рит императрицы Анны Иванов¬
ны — 162
Бирюков (Бируков) Александр Сте¬
панович (1772—1844), цензор—
431
Боабдил — см. Абу-Абдаллах Му¬
хаммед
Бобров Семен Сергеевич (1763
или 1765—1810), поэт — 89, 252,
302
Бовль — см. Боульс У.
Богданович Ипполит Федорович
(1744—1803), поэт — 87, 88, 104,
306, 307
Бодмер Иоганн Якоб (1698—1783),
швейцарский критик и поэт —
217
Боль Фердинанд (1616—1680),
голландский живописец — 366
Бомарше Пьер-Огюстен Карон де
(1732—1799), французский дра¬
матург — 401
Борг (Борх) Карл Фридрих фон
дер (1794—1840), немецкий пе¬
реводчик— 115, 301—308
Бороздна Иван Петрович (1803—
1888), поэт — 263
Боульс Уильям (1762—1850), анг¬
лийский поэт — 431
Боуринг Джон (1792—1872), анг¬
лийский государственный дея-
473
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
тель, путешественник и писа¬
тель — 115, 301
Брегет Луи-Авраам (1747—1823),
французский часовщик—137
Брейткопф Б. Т. (Федор Иванович;
1749—1820), педагог, семья ко¬
торого была весьма близка с Кю¬
хельбекерами — 410
Бретигам — 139
Бригген Александр Федорович фон
дер (1795—1859), декабрист —
419
Бриммер Владимир Карлович (1-я
пол. XIX в.), литератор и журна¬
лист — 399
Бродзинский Казимеж (1791 —
1835), польский поэт и критик —
106
Броневский Владимир Богданович
(1784—1830), писатель, мемуа¬
рист — 99
Броневский Семен Михайлович
(1764—1830), чиновник, этно¬
граф — 111
Брюллов Александр Павлович
(1798—1877), архитектор—73
Брюллов Карл Павлович (1799—
1852), живописец — 72
Брюс Яков Александрович (1742—
1791), граф, командующий вой¬
сками г. Москвы с 1781 по
1786 г. — 81
Буало (Боало) (Буало-Депрео)
Никола (1636—1711), француз¬
ский поэт, теоретик классициз¬
ма — 192, 253, 254, 361, 385
Буасси Луи (1694—1758), фран¬
цузский драматург — 98
Булвер-Литтон (Больвер) Эдуард
Джордж (1803—1873), англий¬
ский писатель — 356, 404
Булгарин Фаддей Венедиктович
(1789—1859), журналист, писа¬
тель — 74, 99, 111, 114, 115, 125,
133, 170, 171, 196, 198, 204, 258,
261—273, 402, 403, 433
Бульон Рбберт (XVII в.), маршал
Франции — 162
Бунина Анна Петровна (1774—
1828), поэтесса — 96, 237—242,
302
Бутервек Фридрих (1766—1828),
немецкий философ и историк ли¬
тературы — 348
Бутковский Густав Яковлевич (1-я
половина XIX в.), живописец —
70
Буту — 139
Бутурлин Дмитрий Петрович
(1790—1849), военный критик —
111
Бюргер Готфрид Август (1747—
1794), немецкий поэт — 382, 393,
405
Бюффон Жорж-Луи Леклерк де
(1707—1788), французский есте¬
ствоиспытатель — 55, 76
Ван Дейк (Вандейк) Антонис
(1599—1641), фламандский жи¬
вописец — 206, 343, 360, 363
Ван-дер-Верф Андриан ( 1659—
1722), голландский живописец—
361, 364
Ван-дер-Мейден Адам Франс
(1632—1690), фламандский жи¬
вописец — 68, 380
Ван-дер-Нейер (Вандернейер)
(Нир) — см. Нейер Э.
В анлоо, семья французских худож¬
ников (XVIII в.) — 162
Варнек (Варник) Александр Гри¬
горьевич (1782—1843), живопи¬
сец — 70
Василий I Дмитриевич (1371—
1425), Великий князь Москов¬
ский с 1389 г. — 84
Василий II Васильевич Темный
(1415—1462), Великий князь
Московский с 1425 г., сын Васи¬
лия I — 179
Василий Великий (ок. 330—379),
церковный деятель — 310
Василий Юрьевич Косой (?—1448),
удельный князь Звенигородский,
внук Дмитрия Донского — 179—
181
Вега Карпьо Лопе Феликс де
(1562—1635), испанский драма¬
тург — 352
Веллингтон (Уэллингтон) — Артур
Уэсли (1769—1852), английский
полководец и государственный
деятель — 137
Вельтман Александр Фомич
(1800—1870), писатель — 176,
195—197, 202, 203, 359
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Вернет (Верне) Клод-Жозеф
(1714—1789), французский жи¬
вописец — 68
Верстовский Алексей Николаевич
(1799—1862), композитор и те¬
атральный деятель — 272
Видок Эжен-Франсуа (1775—
1857), французский сыщик —
137
Виланд Кристоф Мартин (1733—
1813), немецкий писатель —
213—226, 233, 361, 399, 410, 413
Вильгельм I Завоеватель (1027—
1087), герцог Нормандии, с
1066 г. английский король — 152
Вильгельм II, Фредерик Георг JIo-
довейк (1792—1849), король Ни¬
дерландов с 1840 г. — 430
Вильсон Горас Гайман (1785—
1860), английский индолог — 170
Виргилий (Вергилий) Публий Ма¬
рон (70—19 гг. до н. э.), римский
поэт — 81, 95, 96, 138, 146, 210,
215, 257, 265, 275, 321, 363, 422,
423
Висковатов Степан Иванович
(1786—1831), драматург—97
Вите Луи (1802—1873), француз¬
ский драматург— 173
Витри Никола (1581 —1644), фран¬
цузский политический деятель —
159
Владимир Всеволодович Мономах
(1053—1125), Великий князь
Киевский — 84
Владимир Святославич (ум. в
1015), князь Киевский с 980 г. —
84, 106, 350
Воейков Александр Федорович
(1779—1839), поэт, журналист —
75, 76, 95, 114, 233, 234, 256, 265,
273, 428
Волков Дмитрий Васильевич
(1718—1785), государственный
деятель — 81
Волков Федор Григорьевич (1729—
1763), актер и театральный дея¬
тель — 80
Волкова Анна Алексеевна (1781 —
1834), поэтесса — 96
Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (наст,
имя и фамилия Мари-Франсуа
Аруэ; 1694—1778) — 81, 119, 124,
144, 158, 160, 190, 208, 210, 233,
253, 257, 275, 304, 321, 379, 399,
410—412, 415, 416, 423
Воробьев Максим Никифорович
(1787—1855), живописец—68
Востоков (наст, фамилия Остенек)
Александр Христофорович
(1781 —1864), поэт и филолог —
90, 211, 230, 252
Вронченко Михаил Павлович
(1802—1855), генерал-майор,
геодезист, переводчик — 318
Всеволжский Александр Всеволо¬
дович (1793—1864), придворный
деятель — 70
Вуверман Филипс (1619—1668),
голландский художник — 68, 367
Вутье, полковник, участник войны
греков за независимость в 1820-е
гг., мемуарист — 121
Вяземский Петр Андреевич (1792—
1878), поэт и критик — 94, 106,
113, 114, 187, 189—191, 231, 232,
262, 271, 272, 307
Галич Александр Иванович (1783—
1848), философ — 388
Галлей (Халли) Эдмунд (1656—
1742), английский астроном —
354
Галлер Альбрехт фон (1708—
1777), швейцарский поэт и есте¬
ствоиспытатель — 215, 305
Галлер-Фионе Гавриил (Габриэль)
Иванович (1798—1854), немец¬
кий живописец — 69
Гальберг Самуил Иванович (1787—
1839), скульптор — 67
Галятовский Иоанникий
(?—1688), украинский литера¬
турный и церковный деятель —
79
Гамалея Платон Яковлевич
(1766 —1818), моряк, ученый, пе¬
дагог — 82, 99
Гафиз — см. Хафиз
Г арофило Бенвенуто Тизи да
(1481—1559), итальянский живо¬
писец — 371
Гебер Р., английский епископ, ин¬
долог — 170
Гегель Георг Вильгельм Фридрих
475
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(1770—1831), немецкий фило¬
соф — 166
Геллерт Христиан Фюрхтеготг
(1715—1769), немецкий писа¬
тель-моралист — 304
Гельти (Хёльти) Людвиг Христоф
Генрих (1748—1776), немецкий
поэт — 382
Генрих IV (1366?—1413), англий¬
ский король с 1399 г. — 137
Генрих V (1387—1422), англий¬
ский король с 1413 г. — 327
Генрих VII (1457—1509), англий¬
ский король с 1485 г. — 275
Георгиевский Иван Сергеевич
(1793—1818), поэт и писатель —
212, 213
Гер дер Иоганн Готфрид (1744—
1803), немецкий философ и пи¬
сатель — 277
Геродот (между 490 и 480 —
ок. 425 г. до н. э.), древнегрече¬
ский историк — 246
Гесиод (VIII—VII вв. до н.э.),
древнегреческий поэт — 233
Геснер Саломон (1730—1788),
швейцарский поэт и художник —
312
Гете Иоганн Вольфганг (1749—
1832) — 122, 149, 165, 166, 254,
255, 257, 263, 265, 268, 277, 287,
303—305, 318, 350, 356, 357, 388,
397, 403, 404, 410—412, 423, 424
Гетце Пьер Отто (1793—1880),
немецкий ученый, собиратель
фольклора — 115
Гиббон Эдуард (1737—1794), анг¬
лийский историк — 168
Гиппиус Густав Адольф (1792—
1856), немецкий живописец и ли¬
тограф — 71
Глебов Дмитрий Петрович (1789—
1843), поэт, переводчик—109,
112
Глинка Александра Григорьевна
(1816—?), племянница В. К. Кю¬
хельбекера — 417
Глинка Владимир Андреевич
(1790—1862), генерал, сенатор,
родственник В. К. Кюхельбеке¬
ра — 421
Глинка Наталья Григорьевна (нач.
1810—1864), племянница
В. К. Кюхельбекера — 417—419
Глинка Николай Григорьевич
(1810—1839), офицер, племян¬
ник В. К. Кюхельбекера — 402,
412—414
Глинка Сергей Николаевич (1775
или 1776—1847), писатель —
109, 188
Глинка Федор Николаевич (1786—
1880), поэт, публицист — 94, 112,
199, 213, 243
Глинский — 107
Гнедич Николай Иванович (1784—
1833), поэт, переводчик — 66—68,
70, 72, 75, 76, 80, 93, 114, 123, 189,
211
Говард Джон (ум. в 1485), спод¬
вижник английского короля Ри¬
чарда III — 385
Гоголь Николай Васильевич
(1809—1852) — 359, 404, 418
Годунов Борис Федорович (1552—
1605), русский царь с 1598 г. —
85, 170, 171
Головины (нач. XIX в), журнали¬
сты-однофамильцы — 273, 274
Головнин Василий Михайлович
(1776—1831), мореплаватель, ви¬
це-адмирал— 99, 116, 232
Гольбейн Младший Ганс (1497—
1543), немецкий живописец —
260, 366, 367
Гомер (Омир, Омер) — 76, 94, 119,
138, 143, 144, 147, 186, 189, 202,
210, 211, 233, 246, 247, 257, 265,
269, 275, 276, 313, 354, 377, 385,
386, 389, 399, 401, 413, 422—424,
432
Гораций (полное имя Квинт Гора¬
ций Флакк; 65—8 гг. до н. э.),
римский поэт — 96, 210, 211, 219,
221—223, 253, 254, 257, 263—265,
422
Г орчаков Дмитрий Петрович
(1758—1824), поэт — 90
Гофман Эрнст Теодор Амадей
(1776—1822), немецкий писа¬
тель, композитор, музыкальный
критик — 185, 356, 357
Гоцци Карло (1720—1806), италь¬
янский драматург— 216
Грамматин Николай Федорович
(1786—1827), филолог, поэт —
112
476
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Грей Томас (1716—1771), англий¬
ский поэт — 254
Грекур Жан Батист де (1683—
1743), французский поэт— 161
Грессе (Грессет) Жан-Батист-Луи
(1709—1777), французский
поэт — 82, 97, 98
Греч Николай Иванович (1787—
1867), журналист, писатель, фи¬
лолог — 78—83, 99, 108, 109, 112,
113, 115, 125, 126, 184, 195, 233,
273, 403
Грибоедов Александр Сергеевич
(1795—1829) — 97, 124, 125, 191,
359, 393—396, 408, 418
Григорий IX (ок. 1145—1241),
римский папа с 1227 г. — 381
Григорий Назианзин (ок. 330 —
ок. 390 г.), греческий писатель,
богослов и философ — 150, 310
Григорович Василий Иванович
(1792—1865), искусствовед —
114
Григорович Иван Иванович (1792—
1852), археограф, историк— 122
Гусев А., сотрудник «Вестника Ев¬
ропы» — 114
Гюго Виктор-Мари (1802—1885),
французский писатель — 138,
145, 149, 169, 174, 185, 204, 205,
207, 400, 401
Давыдов Денис Васильевич (1784—
1839), поэт, герой Отечественной
войны 1812 г. — 94, 108
Даль Владимир Иванович (1801—
1872), писатель, лексикограф —
176
Даниил Романович Галицкий
(1201—1264), князь Галицкий
и Волынский — 64
Данте (Дант) Алигьери (1265—
1321) — 146, 148, 149, 157, 197,
199, 205, 254, 269, 318, 321, 401,
408, 423, 424
Дарленкур Шарль-Виктор-Прево
(1789—1856), французский пи¬
сатель — 117
Дашков Дмитрий Васильевич
(1784— 1839), государственный
деятель, литератор— 125
Дезарно Август Осипович (Огюст-
Жозеф, старший; 1788—1840),
французский живописец и гра¬
фик — 70
Делавинь Казимир-Жан-Франсуа
(1793—1843), французский
поэт — 124
Делйль Жак (1738—1813), фран¬
цузский поэт и переводчик — 58,
95, 117, 160, 267, 410
Дельвиг Антон Антонович (1798—
1831), поэт — 96, 125, 188, 189,
191, 237, 243, 254, 269, 270, 382,
419, 429—431
Демосфен (ок. 384—322 г. до н. э.),
древнегреческий оратор — 150
Державин Г аврила Романович
(1743—1816), поэт— 76, 88, 89,
141, 163—165, 167, 203, 252, 269,
276, 277, 283, 300, 302, 303, 306,
307, 396, 428, 431
Деций (IV в. до н.э.), древнерим¬
ский государственный и военный
деятель, консул — 65
Дешаплет Самуил Самуилович
(ум. в 1834), переводчик— 121,
122
Джами Абдурахман Нураддин ибн
Ахмад (1414—1492), персидский
и таджикский писатель — 258
Джеффери Френсис (1773—1850),
английский критик — 118
Диас Хуан Мартин, Эль Эмпечина-
до (1775—1850), испанский по¬
литический и военный деятель —
171
Дидро Дени (1713—1784), фран¬
цузский философ и писатель —
266, 268
Диоген Синопский (ок. 404—323 г.
до н. э.), древнегреческий фило¬
соф — 160, 243
Дитрих (Дитрици) Христиан-
Вильгельм-Эрнст (1712—1774),
немецкий живописец и гравер —
367
Дмитревский Иван Афанасьевич
(1734—1821), актер, режиссер,
педагог — 80
Дмитриев Иван Иванович (1760—
1837), поэт— 89, 104, 113, 164,
165, 191, 238, 252, 272, 306, 307,
398
Дмитриев Михаил Александрович
(1796—1866), писатель и кри¬
477
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
тик — 96, 124, 199, 272, 394—
396
Дмитрий Иванович Донской
(1350—1389), Великий князь
Владимирский и Московский —
84, 180
Дмитрий Иванович (1582—1591),
царевич, сын Ивана IV Гроз¬
ного — 113
Дмитрий Ростовский (светское
имя Даниил Саввич Туптало,
1651—1709), церковный деятель
и писатель — 80
Дмитрий Юрьевич Шемяка
(1420—1453), князь Галича-Ко-
стромского, внук Дмитрия Дон¬
ского—179—183, 185, 186, 201
Добровский Йозеф (1753—1829),
чешский и русский филолог, один
из основателей славистики — 309
Доброхотов Петр Егорович (1786
или 1788—1831), резчик по кам¬
ню — 69
Долгорукий Иван Михайлович
(1764—1823), поэт — 90
Дольчи Карло (1616—1686), италь¬
янский живописец — 376
Доменикино (Доменико Цампьери;
1581—1641), итальянский живо¬
писец — 72
Дорат Клод Жозеф (1734—1780),
французский писатель — 289
Доу (Дау, Дов) Джордж Эдуард
(Егор Филиппович; 1781 —1829),
английский живописец — 70, 71,
365
Дрехслер, владелец типографии —
35
Дубельт (Дупельт) Леонтий Ва¬
сильевич (1792—1862), управля¬
ющий III Отделением — 419
Дурнова (Дурново) Мария Трофи¬
мовна (1798—?), живописец —
69
Дюмарсе Сезар (1676—1756),
французский филолог — 254
Дюпати Шарль-Маргерит (1746—
1788), французский математик
и статистик — 90
Дюпре см. Сен-Мор
Дюрер Альбрехт (1471—1528), не¬
мецкий живописец и график —
260
Евгений преосвященный (в миру
Болховитинов Евфимий Алексее¬
вич; 1767—1837), митрополит
Киевский, историк, филолог — 82
Еврипид (Эврипид) (ок. 480 или
484—406 г. до н. э.), древнегре¬
ческий драматург — 145, 257, 266,
323, 400, 401
Егоров Алексей Егорович (1776—
1851), живописец и рисоваль¬
щик — 72
Екатерина II Алексеевна (1729—
1796), российская императрица
с 1762 г.— 81, 87, 162, 164
Екимов (Якимов) Василий Петро¬
вич (1758—1837), литейный мас¬
тер Академии художеств — 80
Елизавета Петровна (1709—1761),
российская императрица с
1741 г. — 162, 210
Ефимов, архитектор — 73
Ефимьев Дмитрий Владимирович
(1768—1804), драматург — 80,
91
Жандр Андрей Андреевич (1789—
1873), драматург, переводчик —
98, 125
Жанен Жюль-Габриэль (1804—
1874), французский писатель и
критик — 133, 185, 207
Жанлис Мадлен-Фелиситэ Дюпре
де Сент-Обен (1746—1830),
французская писательница —
164, 165
Жанна (Иоанна) д’Арк (1412—
1431), народная героиня Фран¬
ции — 161
Жан-Поль (наст, имя Иоганн
Пауль Фридрих Рихтер; 1763—
1825), немецкий писатель— 356,
357, 415
Жувене Жан (1644—1717), фран¬
цузский живописец — 379
Жуй де Виктор Жозеф (наст, имя
Этьен; 1764—1846), французский
писатель — 100, 264
Жуковский Василий Андреевич
(1783—1852), поэт— 74, 80, 91,
93, 95, 98, 104, 106, 113—115,
122, 166, 167, 188, 191, 193, 211,
213, 227, 228, 230, 232, 237, 238,
252, 254, 255, 257—267, 269—271,
478
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
276, 384, 390, 393, 397—399, 405,
406, 417, 419—421, 427
Завадовский Петр Васильевич
(1739—1812), государственный
деятель, граф — 81
Загоскин Михаил Николаевич
(1789—1852), писатель — 97,
112, 171, 188, 204
Зонтаг Генриетта (наст, имя и фа¬
милия Гертруда Вальпургис Зон-
нтаг; 1806—1854), немецкая пе¬
вица — 139
Иван (Иоанн) IV Васильевич
Грозный (1530—1584), первый
русский царь (с 1547 г.) — 75,
77—79, 84, 174, 350
Иванов Андрей Иванович (ок.
1776—1848), живописец—73
Иванова, домовладелица — 213
Иванчин-Писарев Николай Дмит¬
риевич (ок. 1795—1849), поэт и
историк — 96
Игнациус Отто Фридрих (1794—
1824), немецкий художник—71
Игорь Святославич (1150—1202),
князь Новгород-Северский с
1178 г., князь Черниговский
с 1199 г. — 62, 78, 79, 85, 86, 106
Извекова (по мужу Бедряга) Ма¬
рия Евграфовна (1794—1830),
писательница — 134
Измайлов Александр Ефимович
(1779—1831), писатель, журна¬
лист — 90, 134, 189, 236, 272
Измайлов Владимир Васильевич
(1773—1830), писатель, журна¬
лист — 98, 114
Илличевский Алексей Демьянович
(1798—1837), поэт — 237
Иоанн Безземельный (1167—1216),
английский король с 1199 г. — 339
Иоанн Златоуст (между 344 и
354—407 г.), константинополь¬
ский патриарх, церковный идео¬
лог — 150, 310
Иоанн, Экзарх Болгарский (X в.),
церковный деятель и писатель —
122
Ирвинг Уошингтон (1783—1859),
американский писатель — 185,
208, 209
Истомин Пронюшка (нач. 1830-х —
1842), сын акшинского казачьего
атамана, ученик В. К. Кюхельбе¬
кера — 420
Кайданов Иван Кузьмич (1782—
1845), историк, профессор Цар¬
скосельского лицея (1811—
1841) — 83
Кайсаров Михаил Сергеевич
( 1780— 1825), переводчик — 90
Калайдович Константин Федорович
(1792—1832), историк-архео¬
граф— 112, 122
Калашников Иван Тимофеевич
(1797—1863), писатель, этно¬
граф — 171
Калита Иван (7—1340), князь
Московский, Великий князь Вла¬
димирский — 84
Кальдерон де ла Барка Педро
(1600—1681), испанский поэт и
драматург— 157, 199, 272, 289,
321, 350, 352, 423
Камоэнс, Камоинш Луиш ди (1524
или 1525—1580), португальский
поэт— 148, 158, 213, 275, 315,
408
Кампбель (Кемп бель) Томас
(1777—1844), английский поэт —
105
Кантемир Антиох Дмитриевич
(1708—1744), писатель — 86,
247, 248
Капнист Василий Васильевич
(1758—1823), писатель — 88, 252
Каразин Василий Назарович
(1773—1826), общественный дея¬
тель, просветитель — 227
Карамзин Николай Михайлович
(1766—1826), писатель, исто¬
рик — 75—80, 89, 90, 93, 104, 105,
113, 115, 121, 134, 164, 165, 170,
172, 173, 212, 271, 306, 390, 398,
409
Каратыгин Василий Андреевич
(1802—1853), актер — 124
Карей Уильям (1761—1834), анг¬
лийский индолог — 170
Карл VI Безумный (1368—1422),
французский король с 1380 г. —
327
Карл X (1757—1836), француз-
479
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ский король в 1824—1830 гг. —
137
Карл XII (1682—1718), шведский
король с 1697 г. — 53, 296, 300
Карраччи Аннибале (1560—1609),
итальянский живописец — 360,
374, 375
Катенин Павел Александрович
(1792—1853), писатель, перевод¬
чик, критик — 35—44, 55—58, 83,
98, 227—230, 256, 302, 393, 396,
405
Катон Марк Порций Младший
(ок. 96—46 г. до н.э.), римский
политический деятель — 149
Катрмер-де-Кенси Антуан Кризо-
стом (1755—1849), французский
писатель и искусствовед — 394
Каченовский Михаил Трофимович
(1775—1842), историк, литера¬
турный критик— 79, 98, 99, 114,
188, 271
Квинт Курций Руф (I в. н.э.),
римский историк — 293
Кеппен Петр Иванович (1793—
1864), энтограф, историк — 126
Кернер Карл Теодор (1791—1813),
немецкий поэт и драматург — 412
Кипренский Орест Адамович
(1782—1836), живописец и рисо¬
вальщик — 80
Кирша Данилов, Кирилл Данило¬
вич (XVIII в.), предполагаемый
составитель первого сборника рус¬
ских былин — 247
Клопшток Фридрих Готлиб (1724—
1803), немецкий поэт — 215, 217,
275, 424
Княжевич Дмитрий Максимович
(1788—1844), писатель, историк,
журналист — 100, 115
Княжнин Яков Борисович (1742—
1791), драматург, поэт — 80, 82,
88, 163, 306, 418
Козегартен Иоганн Готфрид Люд¬
виг (1792—1860), немецкий ори¬
енталист и историк — 170
Козлов Василий Иванович (1793—
1825), писатель, журналист —
102—109, 406
Козлов Иван Иванович (1779—
1840), поэт, переводчик — 96, 123,
124, 193
Кокошкин Федор Федорович
(1773—1838), драматург и теат¬
ральный деятель — 97, 124
Колен д’Арлевилль Жан-Франсуа
(1755—1838), французский дра¬
матург — 98
Коленкур Арман-Огюстен-Луи
(1773—1827), французский дип¬
ломат — 171
Колумб Христофор (1451—1506),
мореплаватель, по происхожде¬
нию генуэзец— 128, 138
Констан де Ребек Бенжамен Анри
(1767—1830), французский пи¬
сатель и политический деятель —
400
Константин Великий, Флавий Вале¬
рий (ок. 285—337), римский
император с 306 г. — 149
Константин Дмитриевич, князь,
впоследствии (с 1434 г.) монах,
сын Дмитрия Донского— 183
Корнель Пьер (1606—1684), фран¬
цузский драматург— 158, 159,
256, 401, 415, 423
Корнилович Александр Осипович
(1800— 1834), декабрист, лите¬
ратор, историк — 114, 125
Корреджо (наст, имя Антонио Ал¬
легри ; ок. 1489—1534), итальян¬
ский живописец — 369, 374, 380
Корф Федор Федорович (1803—
1853), писатель— 243
Костров Ер мил Иванович (сер.
1750-х гт. — 1796), поэт и пере¬
водчик — 88, 277, 300
Котляревский Иван Петрович
(1769—1838), украинский писа¬
тель — 82, 89
Коцебу Август Фридрих Ферди¬
нанд фон (1761—1819), немецкий
драматург— 164, 401, 405, 413,
418
Кошанский Николай Федорович
(1783—1831), профессор русской
и латинской словесности — 83,
232
Кранах Старший Лукас (1472—
1553), немецкий живописец и гра¬
фик — 260
Красицкий Игнацы (1735—1801),
польский писатель — 79
Кребийон Клод-Проспер Жолио
480
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(1707—ПИ) у французский писа¬
тель — 161
Крылов Александр Абрамович
(1798—1829), поэт — 96
Крылов Иван Андреевич (1768 или
1769—1844) — 91, 104, 109, 115,
123, 165, 191, 306
Крюковский Матвей Васильевич
(1781 —1811), драматург—91
Ксантиппа (V в. до н.э.), жена
Сократа — 383
Ксеркс (?—465 г. до н. э.), персид¬
ский царь с 486 г. до н. э.—145
Кугушев E., писатель — 200
Кукольник Нестор Васильевич
(1809—1868), писатель — 405
Купер Джеймс Фенимор (1789—
1851), американский писатель —
171
Курганов Николай Гаврилович
(1725?—1796), просветитель, пе¬
дагог, издатель— 163
Кусовников, домовладелец—213
Кутайсов Павел Иванович (1780—
1840), член конторы Санкт-Петер¬
бургских императорских теат¬
ров — 393
Кутузов, Голенищев-Кутузов Ми¬
хаил Илларионович (1745—
1813), полководец, генерал-
фельдмаршал— 137, 383
Кутузов Николай Иванович (ум.
в 1849), писатель, журналист, ис¬
торик — 100
Кутузов П., писатель — 109
Кюхельбекер Вильгельм Карлович
(1797—1846) — 100, 125, 210—
421, 430
Кюхельбекер Иван Вильгельмович
(1840—1842), сын В. К. Кюхель¬
бекера — 419
Кюхельбекер (урожд. фон Ломен)
Юстина Яковлевна (1757—1841),
мать В. К. и М. К. Кюхельбеке¬
ров — 410—412
Лабрюйер Жан де (1645—1696),
французский писатель-афорист —
347, 362
Лагарп (Ла-Гарп) Жан-Франсуа
(1739—1803), французский писа¬
тель, критик — 81, 211, 257
Лажечников Иван Иванович
(1792—1869), писатель— 172.
Ламартин (Ла Мартин) Альфонс-
Мари-Луиде (1791—1869), фран¬
цузский поэт, публицист, полити¬
ческий деятель— 197, 305
Ла-Мотт (Удар де Ламот Антуан;
(1672—1731), французский писа¬
тель — 304
Ласепед Бернар-Жермен-Этьен де
Ла В иль (1756—1825), француз¬
ский зоолог — 139
Лафар Шарль-Огюст де (1644—
1712), французский поэт— 117,
167
Лафатер Иоганн Каспар (1741 —
1801), швейцарский писатель —
362
Лафонтен (Ла Фонтень) Жан де
(1621—1695), французский по¬
эт— 81, 89, 91, 160, 210, 303
Левек Пьер-Шарль (1736—1812),
французский историк — 210
Легуве Габриэль-Мари-Жан-Ба-
тист (1764—1812), французский
писатель — 112
Лейбниц Г отфрид Вильгельм:
(1646—1716), немецкий фило¬
соф, математик, физик — 76, 216
Лелевель Иоахим (1786—1861)*
польский общественный деятель,
и историк — 115
Ленотр Андре (1613—1700), фран¬
цузский декоратор садов и пар¬
ков — 162
Леонид (508 или 507—480 г. до»
н. э.), спартанский царь (Греция)·
с 488 г. до н. э. — 269
Лермонтов Михаил Юрьевич
(1814—1841) — 406, 407
Лессинг Готхольд Эфраим (1729—
1781), немецкий писатель — 233,
318
Л же Дмитрий I (Григорий Богдано¬
вич Отрепьев; ?—1606), самозва¬
нец, выдававший себя за русского
царевича Дмитрия Ивановича*
русский царь в 1605—1606 гг. —
162, 170
Линде Самуил Богумил (1771 —
1847), польский ученый—115
Линней Карл (1707—1778), швед¬
ский естествоиспытатель — 55
Лобанов Михаил Евстафьевич
481
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(1787—1846), драматург и пере¬
водчик — 97, 112
Ломоносов Михаил Васильевич
(1711—1765), поэт и естество¬
испытатель— 76, 81, 86, 87, 163,
167, 230, 234, 248, 252, 276, 277,
283, 284, 287, 299, 300, 304—307,
311, 395
Лоу Джон (1671—1765), фран¬
цузский финансист — 161
Луганский Казак — см. Даль В. И.
Лукреций Тит Лукреций Кар (I в.
до н. э.), римский поэт и фило¬
соф — 138, 233
Львов Федор Петрович ( 1766—
1835), писатель, композитор — 99
Людовик XI (1423—1483), фран¬
цузский король с 1461 г. — 131,
334
Людовик XIV (1638—1715), фран¬
цузский король с 1643 г. — 68,
158, 160, 244, 303
Людовик XV (1710—1774), фран¬
цузский король с 1715 г.— 117,
158
Лютер Мартин (1483—1546), осно¬
ватель немецкого протестантиз¬
ма — 277
Магомет (ок. 571—632), считается
основателем магометанской рели¬
гии — 141, 431
Маздорф Александр Карлович (ум.
в 1820), баснописец—96
Мазепа Иван Степанович (1644—
1709), гетман Левобережной Ук¬
раины в 1687—1708 гг. — 106,
297, 300
Майков Василий Иванович (1728—
1778), поэт — 89, 428
Макаров Петр Иванович (1765—
1804), критик, переводчик — 90
Максимилиан I (1459—1519), им¬
ператор Священной Римской им¬
перии с 1493 г. — 268
Манасеин Петр Петрович (1-я пол.
XIX в.), поэт и переводчик — 408
Мандзони Алессандро (1785—
1873), итальянский писатель —
200
Манлий Капитолийский Марк (ум.
в 384 г. до н.э.), римский пол¬
ководец, консул — 65
Мансуров Александр Михайлович
(1-я пол. XIX в.), поэт—109,
115
Мантенья (Монтенья) Андреа
(1431—1506), итальянский живо¬
писец и гравер — 369, 370
Марин Сергей Никифорович
(1775—1813), поэт — 90
Марино Джамбаттиста (1569—
1625), итальянский поэт—215,
289
Мармонтель Жан-Франсуа (1723—
1799), французский писатель —
165
Мартос Иван Петрович (1754—
1835), скульптор — 60, 73, 80
Мартынов Иван Иванович (1771 —
1833), директор Департамента на¬
родного просвещения, эллинист,
латинист — 75, 76, 90
Марцелл Марк Клавдий (268—
208 гг. до н. э.), римский консул
и полководец — 68
Масальский Константин Петрович
(1802—1861), писатель — 172,
200
Маттисон Фридрих фон (1761—
1831), немецкий поэт — 315
Медицисы (Медичи), флорентий¬
ский род, с 1434 г. владычест¬
вовавший во Флоренции и спо¬
собствовавший развитию наук и
искусств — 159
Межаков Павел Александрович
( 1786— 1860), поэт, переводчик —
96
Мейер Иаков, бургомистр г. Базе¬
ля — 366, 367
Мелетий Смотрицкий (ок. 1578—
1633) — украинский и белорус¬
ский филолог и общественный
деятель — 309
Мельников Авраам (Абрам) Ивано¬
вич (1784—1854), архитектор —
73
Менгс Антон Рафаэль (1728—
1779), немецкий живописец —
377
Менцель Вольфганг (1798—1873),
немецкий писатель и критик —
411
Меньшенин Дмитрий Степанович
482
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
(1-я пол. XIX в.), физик, инже¬
нер — 100
Мерзляков Алексей Федорович
(1778—1830), критик, поэт — 80,
95, 107, 111, 210, 271
Месмер Фридрих Антон (1733—
1815), немецкий врач, создатель
теории «животного магнетиз¬
ма» — 263
Метакса Егор Павлович (нач.
XIX в.), моряк, переводчик —
121
Метсю Габриэль (1629—1667),
голландский живописец — 365
Мефодий (ок. 815—885), славян¬
ский просветитель — 122
Меценат (между 74 и 64—8 г. до
н.э.), приближенный императора
Августа, покровительствовавший
поэтам — 219
Микеланджело Буонарроти (1475—
1564), итальянский скульптор,
живописец, архитектор, поэт —
371
Миллер Герард Фридрих (1705—
1783), русский историк немецко¬
го происхождения — 431
Милонов Михаил Васильевич
(1792—1821), поэт— 80, 82, 95
Мильвуа Шарль (1782—1816),
французский поэт — 254, 312
Мильтон Джон (1608—1674), анг¬
лийский поэт и политический
деятель— 157, 215, 269, 275,
287, 321, 424
Миньяр Никола (1613—^1668),
французский живописец — 379
Мирза-Талеб — 390
Мицкевич Адам (1798—1855),
польский поэт — 409
Мола Франческо (1612—1668),
итальянский живописец — 368
Мольер (наст, фамилия Поклен)
Жан-Батист (1622—1673) — 47,
97, 119, 160, 256, 392, 401
Монтень (Монтань) Мишель де
(1533—1592), французский фи¬
лософ и писатель — 160, 169, 207
Морето (Морето-и-Каванья) Агу¬
стин (1618—1669), испанский
драматург — 352
Моцарт Вольфганг Амадей (1756—
1791) — 356
Мстислав Владимирович (1076—
1132), Великий князь Киевский
с 1125 г. — 65
Мстислав Мстиславович Удалой
(ум. в 1228), древнерусский князь,
полководец — 60, 62, 64, 65, 182,
227, 229
Мстислав Немый (XIII в.), князь,
участник битвы при Калке — 65
Мур Томас (1779—1852), англий¬
ский поэт — 105, 390
Муравьев Михаил Никитич (1757—
1807), поэт и писатель, просвети¬
тель — 80, 90
Муравьев-Апостол Иван Матвеевич
(1765—1851), писатель, дипло¬
мат— 111, 397
Мюллер Вильгельм (1794—1827) ^
немецкий поэт — 244
Мюллер Иоганн Фридрих Виль¬
гельм (1780—1816), немецкий
художник-гравер — 357
Нагаев Алексей Иванович (1704—
1781), гидрограф и картограф,
адмирал — 82
Наполеон I Бонапарт (1769—
1821), французский император
с 1804 г. — 110, 111, 137, 165, 169,
171, 185, 383
Нарежный Василий Трофимович
(1780—1825), писатель — 100,
134, 211
Нарышкин Александр Львович
(1760—1826), обер-камергер,
главный директор театральной
дирекции — 382
Нахимов Аким Николаевич
(1782—1814), поэт, баснопи¬
сец — 109
Нейер Эглон Хендрик ван дер·
(1635 или 1636—1703), голланд¬
ский художник — 367
Нелединский-Мелецкий Юрий
Александрович (1752—1829), по¬
эт — 89, 104
Немцевич Юлиан Урсын (1757 или
1758—1841), польский писа¬
тель — 106, 409
Нерон Клавдий Цезарь (37—68),
римский император с 54 г. —
340
Нестор (XI—XII вв.), древнерус¬
483
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
ский историк и публицист — 76,
78, 79, 85, 122, 217, 246, 307,
311
Нечаев Степан Дмитриевич
(1792—1860), писатель — 96,
124, 234—235
Нибур Бартольд Георг (1776—
1831), немецкий историк антич¬
ности — 137, 168, 172
Николев Николай Петрович
(1758—1815), писатель— 81
Новиков Николай Иванович
(1744—1818), общественный де¬
ятель, писатель-просветитель и
журналист — 81
Нодье Шарль (Карл; 1780—1844),
французский писатель — 167,
176, 204
Норов Авраам Сергеевич (1795—
1869), писатель-историк — 96
Ньютон (Невтон) Исаак (1643—
1727), английский физик и мате¬
матик — 76, 128
Овидий (Публий Овидий Назон;
43 г. до н.э. — ок. 18 г. н.э.),
римский поэт — 93, 215
Одоевский Александр Иванович
(1802—1839), декабрист, поэт —
408
Одоевский Владимир Федорович
(1803—1869), писатель, фило¬
соф, музыкальный критик — 125,
259, 262, 265, 272, 273, 407
Одынец Эдвард Антон (1804—
1885), польский поэт и перевод¬
чик — 409
Оже (аббат Атанас; 1734—1792),
французский литератор — 253
Озеров Владимир Александрович
(1769—1816), драматург — 82,
91, 97, 276, 304, 406, 428
Окен Лоренц (1779—1851), немец¬
кий естествоиспытатель и фило¬
соф — 138
Оленин Алексей Николаевич
(1763—1843), государственный
деятель, историк, археолог, ху¬
дожник — 70
Олин Валериан Николаевич (ок.
1788 — после 1839), писатель,
журналист — 96, 112, 123, 273
Ольдекоп Евстафий Иванович
(1787—1845), писатель, журна¬
лист — 115, 127
Опиц Мартин (1597—1639), не¬
мецкий поэт и теоретик литера¬
туры — 277
Оранский (принц) — титул князей
Оранжа (Воклюза), переданный
затем королю Нидерландскому
и его наследникам. Оранж — не¬
большое княжество на террито¬
рии Франции. См. Вильгельм II
Орлов Александр Анфимович
(1791 — 1840), писатель — 172
Орлов Алексей Федорович (1786—
1861), граф, шеф жандармов и
начальник III Отделения с
1844 г. — 419—421
Осипов Николай Петрович (1751 —
1799), писатель— 82, 89
Оссиан, легендарный воин и бард
кельтов, живший, по преданию,
в III в. — 88, 112, 140
Остерман Андрей Иванович
(1686—1747), граф, русский го¬
сударственный деятель, дипло¬
мат — 81
Остолопов Николай Федорович
(1783—1833), поэт и филолог —
95
Павел Силенциарий, византийский
поэт VI в. — 250, 251
Панаев Владимир Иванович
(1792—1859), поэт — 96, 115
Парни Эварист-Дезире де Форж
(1753—1814), французский по¬
эт — 93, 167, 254, 312
Ленинский, филолог — 308—313
Персий Флакк (34—62), римский
поэт-сатирик — 244
Перуджино (наст, фамилия Ван-
нуччи; между 1445 и 1452—
1523), итальянский живописец —
381, 394
Петр I Великий (1672—1725), рус¬
ский царь с 1682 г., россий¬
ский император с 1721 г. — 67,
75—77, 80—82, 84, 85, 125, 161,
174, 177, 192, 200, 274—300, 311,
357, 431
Петр III Федорович (1728—1762),
российский император с 1761 г. —
80, 81, 87
484
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Петрарка Франческо (1304—1374),
итальянский поэт — 399, 432
Петров Василий Петрович (1736—
1799), поэт— 87, 252, 287, 300,
303
Пиксерекур, Гильбер де Пиксерекур
Рене-Шарль (1773—1844), фран¬
цузский драматург— 137
Пиндар (ок. 518 — ок. 422 или
438 г. до н.э.), древнегреческий
поэт — 257, 263, 264, 424
Пиранези Джованни Баттиста
(1720—1778), итальянский гра¬
вер — 66
Писарев Александр Иванович
(1803—1828), поэт-сатирик, дра¬
матург и театральный критик —
96, 114, 124, 188, 272, 273, 395
Плавильщиков Василий Алексеевич
(1768—1823), издатель, типограф
и книготорговец — 213
Плавт Тит Макций (сер. III в. —
ок. 184 г. до н.э.), римский ко¬
медиограф — 401
Плаксин Василий Тимофеевич
(1796—1869), педагог, историк
литературы — 398
Платов Матвей Иванович (1751 —
1818), генерал от кавалерии, герой
Отечественной войны 1812 г. —
393
Платон (428 или 427—347 или
348 г. до н. э.), древнеримский
философ— 143, 161, 215
Плетнев Петр Александрович
(1792—1865), писатель — 95, 96,
107, 114, 125, 191, 194, 230, 231,
243, 430
Пнин Иван Петрович (1773—
1805), писатель — 90
Подол инский Андрей Иванович
(1806—1886), поэт — 204
Подшивалов Василий Сергеевич
(1765—1813), писатель, перевод¬
чик, журналист — 90
Покровский Иван Гаврилович
( 1780— 1863), поэт, переводчик —
123
Полевой Николай Алексеевич
(1796—1846), писатель, журна¬
лист—126, 133, 172, 173, 179—
187, 195—209, 388, 402
Полоцкий Симеон (1629—1680),
общественный и церковный дея¬
тель, писатель — 79
Полторацкий Сергей Дмитриевич
(1803—1884), библиограф — 273,
274
Поль де Кок (1794— 1871), фран¬
цузский писатель — 405
Поп Александр (1688—1744), анг¬
лийский поэт — 54, 87, 209, 233,
254, 361
Поповский Николай Никитич
(1730—1760), писатель, уче¬
ный — 87
Потемкин Григорий Александрович
(1739—1791), государственный и
военный деятель — 166
Прадон Никола (1630 или 1632—
1698), французский писатель —
190
Пракситель (ок. 390 — ок. 330 г.
до н. э.), древнегреческий скульп¬
тор — 68, 193, 365
Прокопович Феофан (1681—1736),
писатель, историк, политический
и церковный деятель — 80, 86, 247
Прокофьев Иван Прокофьевич
(1758—1828), скульптор — 73
Пугачев Емельян Иванович (1740
или 1742—1775), предводитель
Крестьянской войны 1773—
1775 гг., донской казак—331
Пушкин Александр Сергеевич
(1799—1837) — 93, 95, 105, 106,
116, 122—126, 166, 167, 170, 172,
188, 191—194, 196, 201, 203, 255—
258, 269—272, 274, 276, 304, 307,
359, 385, 386, 393, 394, 399, 402—
405, 407—409, 417—419, 427—
433
Пушкин Василий Львович (1777—
1830), поэт — 95, 107
Пушкин Лев Сергеевич (1805—
1852), младший брат А. С. Пуш¬
кина — 430
Пущин Иван Иванович (1798—
1859), декабрист —191, 427, 428
Пьембо Себастьяно дель (ок.
1485—1517), итальянский живо¬
писец 378
Рабле Франсуа (1494—1553),
французский писатель — 146, 160
Равальяк Франсуа (1578—1610),
485
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
убийца французского короля Ген¬
риха IV — 159
Радищев Александр Николаевич
(1749—1802), революционер, пи¬
сатель-философ — 211
Разгильдеева Анна Анемподистовна
(сер. XIX в.), дочь военного ко¬
менданта Акши, ученица В. Кю¬
хельбекера — 420
Разгильдеева Васса Анемподистов¬
на (сер. XIX в.), ученица В. Кю¬
хельбекера, сестра А. А. Разгиль-
деевой — 420
Раич Семен Егорович (1792—
1855), писатель, журналист — 96,
115, 189
Расин Жан (1639—1699), француз¬
ский поэт и драматург—58, 81,
97, 158, 210, 256, 257, 305, 321,
399, 415, 423
Расин Луи (1692—1763), священ¬
ник, сын Ж. Расина — 234, 414
Рафаэль Санти (прозв. Урбин-
ский; 1483—1520), итальянский
живописец — 55, 105, 157, 268,
343, 351, 357, 360, 367, 374, 375,
377, 380, 381, 394
Раффенель Клод-Дени (1797—
1827), французский писатель —
121
Рембах, художник — 68
Рембрандт Харменс ван Рейн
(1606—1669), голландский живо¬
писец — 260, 343, 360, 364
Рени Гвидо (1575—1642), итальян¬
ский живописец — 360, 369, 374,
381
Реньяр Жан-Франсуа (1655—
1709), французский драматург —
163
Рёйсдал (Рюйсдал) Якоб ван
(1628 или 1629—1682), голланд¬
ский живописец — 68, 367
Ричард II (1367—1400), англий¬
ский король в 1377—1399 гг. —
275, 322, 325, 339
Ричард III (1452—1485), англий¬
ский король с 1483 г. — 275, 322,
329, 336, 339, 349, 350
Риччи Себастьяно (Рикчи Басти-
ан) (1659 или 1660—1743),
итальянский живописец — 369
Ришелье Арман-Жан дю Плесси
(1585—1642), французский госу¬
дарственный деятель, кардинал —
205
Родзянко Аркадий Гаврилович
(1793—1846), поэт — 83, 95, 188
Роза ди Тиволи — см. Роос Ф.
Роза Сальватор (1615—1673),
итальянский живописец — 343
Романо Джулио (1492—1546),
итальянский живописец — 376
Ромбауэр Янош (1782—1849), вен¬
герский художник — 70
Роос Филипп Петер (1657—1705),
немецкий художник — 367
Россини Джоаккино (1792—1868),
итальянский композитор — 136
Ростовцев Яков Иванович (1803—
1860), политический деятель, ли¬
тератор, генерал-адъютант— 112
Ростопчин Федор Васильевич
(1763—1826), государственный
деятель — 111
Ротру Жан де (1609—1650), фран¬
цузский драматург— 125
Рубан Василий Григорьевич
(1742—1795), писатель— 192
Рубенс Питер Пауэл (1577—
1640), фламандский живопи¬
сец — 54, 259, 260, 350, 351, 360,
361—364, 379, 380
Румянцев Николай Петрович
(1754—1826), государственный
деятель — 122
Руссо Жан-Батист (1670 или
1671—1741), французский поэт —
304
Руссо Жан-Жак (1712—1778),
французский писатель и фило¬
соф — 90, 161, 385, 412
Рылеев Кондратий Федорович
(1795—1826), поэт, декабрист—
95, 102, 106, 123, 193, 422, 423
Рюриковичи, князья, потомки Ве¬
ликого князя Киевского Игоря,
считавшегося сыном Рюрика —
170
Саади (псевдоним, настоящее имя
Муслихаддин Абу Мухаммед Аб¬
дуллах ибн Мушрифаддин; между
1203 или 1210—1292), персид¬
ский писатель и мыслитель —
141, 258
486
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Савиньи Фридрих Карл (1779—
1861), немецкий юрист, исто¬
рик — 172
Савичевский Константин Осипович,
ссыльный польский революцио¬
нер, приятель В. Кюхельбекера —
358, 359
Сагайдачный (Конашевич-Сагай-
дачный) Петр (?—1622), украин¬
ский политический и военный дея¬
тель — 106
Сакс Ганс (1494—1579), религиоз¬
ный реформатор — 350, 352
Салис Иоанн-Гауденц (1762—
1834), немецкий поэт— 312
Салтыков Михаил Александрович
(1767—1851), литератор — 89
Сапфо (Сафо; 1-я пол. VI в. до
н. э.), древнегреческая поэтесса —
150, 211
Саути Роберт (1774—1843), анг¬
лийский писатель — 105
Свиньин Павел Петрович (1787—
1839), писатель, художник, исто¬
рик — 70, 99, 114, 172
Святослав Игоревич (?—972 или
973), Великий князь Киевский
(ок. 945—972), полководец — 63
Семенова Екатерина Семеновна
(1786—1849), актриса — 124
Сенковский Осип (Юлиан) Ивано¬
вич (1800—1858), писатель, жур¬
налист, востоковед — '234, 348,
355, 356, 405
Сен-Мор Эмиль Дюпре де (1772—
1854), французский государствен¬
ный деятель, писатель и перевод¬
чик — 115, 253, 301
Сервантес де Сааведра Мигель
(1547—1616), испанский писа¬
тель — 88, 130, 146, 161, 257, 321,
352
Сигизмунд I (1361—1437), импера¬
тор Священной Римской империи
с 1410 г.— 268
Синезий (379—412), греческий фи¬
лософ — 150
Сисмонди Жан Шарль Леонар Си-
монд де (1773—1842), швейцар¬
ский экономист и историк — 208
Сковорода Григорий Саввич
(1722—1794), украинский фило¬
соф, поэт, педагог — 82
Скопас (IV в. до н.э.), древнегре¬
ческий скульптор и архитектор —
68
Скорина Франциск (до 1490 — ок.
1541), белорусский издатель и
просветитель — 79
Скотт Вальтер (1771—1832), анг¬
лийский писатель — 105, 111, 122,
134, 135, 168, 169, 171, 174, 185,
197, 198, 305, 353, 390, 394, 409,
410
Скюдери Мадлен де (1607—1701),
французская писательница — 163
Сленин Иван Васильевич (1789—
1836), книгопродавец и изда¬
тель — 189, 213
Снейдерс Франс (1579—1657),
фламандский живописец — 368
Соколов Николай Иванович (гг.
рождения и смерти неизв.), ху¬
дожник начала XIX в. — 75
Сократ (470 или 469—399 г. до
н. э.), древнегреческий фило¬
соф — 146
Сомов Орест Михайлович (1793—
1833), критик, писатель и публи¬
цист — 74, 100, 114, 121, 126, 259,
261, 273
Софокл (ок. 496—406 г. до н.э.),
древнегреческий драматург —
145, 227, 257, 323, 399—401, 422
Спасский Григорий Иванович (ум.
в 1864), историк, краевед—82,
114
Сталь Анна-Луиза-Жермена де
(1766—1817), французская писа¬
тельница, теоретик литературы —
169
Станкевич Александр (ум. ок.
1849), русский художник поль¬
ского происхождения — 69
Стерн Лоренс (1713—1768), анг¬
лийский писатель — 54, 90, 164,
185, 199, 202
Строев Павел Михайлович (1796—
1876), историк, археограф— 122
Суворов Александр Васильевич
(1729—1800), полководец — 69,
383
Судовщиков Николай Родионович
(конец XVIII — нач. XIX в.),
писатель — 91
487
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Сульцер (Зульцер) Иоганн Георг
(1720—1779), немецкий ученый-
эстетик — 307
Сумароков Александр Петрович
(1717—1777), писатель— 80, 81,
86, 163, 210, 234
Сумароков Панкратий Платонович
(1765—1814), журналист, поэт —
90, 300, 306
Сурбаран Франсиско (Эспаньелет-
то; 1598—1662), испанский жи¬
вописец — 381
Сухоруков Василий Дмитриевич
(1795—1841), историк— 125
Сушков Николай Васильевич
(1796—1871), поэт — 112
Сю Эжен (1804—1857), француз¬
ский писатель — 208
Тальма Франсуа-Жозеф (1763—
1826), французский актер— 160
Тассо Торквато (1544—1595),
итальянский поэт — 71, 119, 144,
148, 149, 213, 215, 257, 275, 399,
423, 424, 432
Тацит Публий Корнелий (ок. 58 —
после 117), римский писатель-
историк — 77, 149, 244
Тенирс (Теньер) Давид (1610—
1669), фламандский живописец—
55, 68, 90, 130, 367
Теокрит — см. Феокрит
Тибулл Альбий (ок. 50—19 г.
до н. э.), римский поэт — 268
Тик Людвиг (1773—1853), немец¬
кий поэт — 277, 367, 399
Тимковский Егор Федорович
(1790—1875), дипломат и путе¬
шественник — 121
Тимковский Роман Федорович
(1785—1820), филолог, историк,
археограф — 122
Тиртей (2-я пол. VII в. до н. э.),
древнегреческий поэт — 150, 269
Тициан (Тициано Вечеллио; ок.
1476 или 1489—1576), итальян¬
ский живописец — 360, 374
Толстой Федор Иванович, по проз¬
вищу «Американец» (1782—
1846), граф, отставной гвардей¬
ский офицер, авантюрист — 188
Толстой Федор Петрович (1783—
1873), медальерг скульптор, живо¬
писец и график — 69, 80, 363
Томас Георг — 389
Тон Константин Андреевич ( 1794—
1881), архитектор — 73
Тредиаковский (Тредьяковский)
Василий Кириллович (1703—
1768), поэт, переводчик, теоретик
литературы — 58, 76, 81, 82, 86,
163, 248
Трилунный (наст, имя и фами¬
лия Струйский Дмитрий Юрь¬
евич; 1806—1856), поэт, компо¬
зитор, музыкальный критик —
200, 201
Туманский Василий Иванович
(1800—1860), поэт—113, 115
Тургенев Андрей Иванович
(1781 —1803), писатель—390
Тургенев Николай Иванович
(1789—1871), декабрист — 83
Тьерри Огюстен (1795—1856),
французский историк — 172, 208
Уланд Людвиг (1787—1862), не¬
мецкий поэт — 166, 197
Уткин Николай Иванович (1780—
1863), гравер — 69
Ушаков Василий Аполлонович
(1789—1838), писатель— 196
Фалкейзен Теодор (1768, по дру¬
гим данным 1765—1814), худож¬
ник — 69
Фальконе Этьен-Морис (1716—
1791), французский скульптор —
357
Федор Иванович — см. Толс¬
той Ф. И.
Федоров Борис Михайлович
(1794—1875), поэт, драматург,
журналист — 98, 124, 199, 273,
385
Федр (ок. 15 г. до н. э. — ок.
70 г. н.э.), римский баснопи¬
сец — 81
Фемистокл (ок. 525 — ок. 460 г.
до н. э.), афинский государствен¬
ный деятель и полководец —
269
Феокрит (конец IV в. — 1-я пол-
488
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
III в. до н. э.), древнегреческий
поэт — 362
Фидий (начало V в. до н. э. —
ок. 432—431 г. до н. э.), древне¬
греческий скульптор — 68, 343
Филимонов Владимир Сергеевич
(1787—1858), поэт, переводчик —
96, 122
Филипп II (ок. 382—336 г. до н. э.),
царь Древней Македонии — 192
Фирдоуси (Фердуси, Фердоуси)
Абулькасим (ок. 940—1020 или
1030), персидский поэт— 141,
258, 275
Фонвизин (фон Визин) Денис
Иванович (1744—1792), писа¬
тель — 70, 88, 124, 164, 231, 306,
418
Фонтенель Бернар ле Бовье ( 1657—
1757), французский писатель, уче¬
ный-популяризатор — 361
Форстер Георг (1754—1794), не¬
мецкий писатель и политический
деятель — 363
Фосс Иоганн Фридрих (1751 —
1826), немецкий писатель—365
Франкони Адольф (1-я пол.
XIX в.), наездник, владелец цир¬
ка — 142
Франц I (1768—1835), австрийский
император с 1792 г. — 137
Фреми Жак Ноэль Мари (1782—
1867), французский художник —
71
Хай лов, литейщик — 80
Хафиз (Гафиз, Гафис) Шамседдин
Мохаммед (ок. 1325—1389 или
1390), персидский поэт— 135,
141, 258, 289
Хвостов Дмитрий Иванович
(1757—1835), поэт —90, 274
Хемницер Иван Иванович (1745—
1784) поэт, баснописец—70, 81,
88, 104
Херасков Михаил Матвеевич
(1733—1807), писатель — 87,
163, 171, 210, 300
Хмельницкий Богдан (Зиновий)
Михайлович (ок. 1595—1657),
гетман Украины — 106
Хмельницкий Николай Иванович
(1789—1845), драматург, пере¬
водчик — 98, 125, 396
Цезарь Гай Юлий (100—44 гг. до
н. э.), древнеримский политиче¬
ский деятель, полководец, писа¬
тель — 55, 159
Цертелев Николай Андреевич
(1790—1869), поэт, собиратель
фольклора — 114, 262, 385
Цицерон Марк Туллий (106—
43 гг. до н. э.), древнеримский
оратор, политический деятель и
писатель — 210, 311
Цшокке Генрих Даниэль (1771 —
1848), швейцарский писатель —
185
Челлини Бенвенуто (1500—1571),
итальянский художник и скульп¬
тор — 268
Чингисхан (ок. 1155—1227), мон¬
гольский хан, полководец — 60
Шаликов Петр Иванович (1767—
1852), поэт — 90, 114
Шалькен Готфрид (1643—1706),
голландский скульптор и живопи¬
сец — 365
Шампань Филипп де (1602—1674),
французский живописец — 378,
379
Шамфор Никола-Себастьян-Рок
(1741—1794), французский писа¬
тель — 415
Шатобриан Франсуа-Рене де
(1768—1848), французский пи¬
сатель — 356, 357
Шатров Николай Михайлович
(1767—1841), поэт —91
Шаховской Александр Александро¬
вич (1777—1846), драматург и те¬
атральный деятель — 44—54, 97,
112, ИЗ, 124, 125, 261, 271, 273,
396, 406, 418
Шебуев Василий Козьмич (1777—
1855), живописец— 72
Шевырев Степан Петрович ( 1806—
1864), критик, поэт— 197, 20U,
201
Шези Антуан-Леонард де (1773—
489
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
1832), французский индолог —
170
Шекспир Уильям (1564—1616) —
77, 97, 119, 145, 158, 160, 165, 169,
176, 186, 194, 196, 197, 199, 202,
205, 209, 257, 266, 268, 269, 272,
275, 289, 305, 313, 350, 352—354,
389, 392, 394, 396, 397, 401, 402,
417, 423
Шеллинг Фридрих Вильгельм
Йозеф (1775—1854), немецкий
философ — 273, 386, 388
Шенье Андре-Мари (1762—1794),
французский поэт — 137, 148,
204
Шеридан Ричард Бринсли (1751 —
1816), английский драматург —
188
Шибелер Даниэль (1741—1771),
немецкий поэт и драматург — 307
Шиллер Иоганн Кристоф Фридрих
(1759—1805) — 113, 122, 145,
165, 166, 188, 196, 197, 233, 254,
257, 265—269, 273, 277, 305, 317,
321, 350, 369, 382, 386, 406,
411—414, 423, 424, 428
Шинар Жозеф (1756—1813),
французский скульптор — 377,
378
Шиповский Григорий Иванович
(1751—1811), писатель—82
Ширинский-Шихматов Сергей
Александрович (1783—1837),
поэт — 91, 123, 252, 274—300,
393
Шишков Александр Ардалионович
(1799—1832), писатель, перевод¬
чик — 123, 274
Шишков Александр Семенович
(1754—1841), писатель, государ¬
ственный деятель— 75, 91, 273,
393
Шлегель Август Вильгельм (1767—
1845), немецкий историк и теоре¬
тик литературы, критик, пере¬
водчик и поэт — 318, 339, 348,
399
Шлегель Фридрих (1772—1829),
немецкий философ, филолог, пи¬
сатель и теоретик литературы —
348, 399
Шписс Христиан Генрих (1755—
1799), немецкий писатель — 405
Шувалов Андрей Петрович (1744—
1789), писатель, сын фельдмарша¬
ла П. И. Шувалова — 81
Шувалов Иван Иванович (1727—
1797), государственный деятель,
фаворит Елизаветы Петровны,
генерал-адъютант — 81
Щедрин Сильвестр Феодосиевич
( 1791 — 1830), живописец — 68
Щекатов Афанасий (2-я пол.
XVIII — нач. XIX в.), писатель,
переводчик — 82
Щербатов Михаил Михайлович
(1733—1790), историк — 208
Эврипид — см. Еврипид
Эдуард III (1312—1377), король
Англии с 1327 г. — 324, 350
Эзоп (VI в. до н.э.), древнегрече¬
ский баснописец — 74, 209
Эмин Федор Александрович
(1735—1770), писатель и журна¬
лист — 134, 163
Эмпечинадо — см. Диас Хуан Мар¬
тин
Энгель Иоганн Якоб (1741—1802),
немецкий писатель и драматург —
212
Эпаминонд (ок. 418—362 гг. до
н.э.), древнегреческий полково¬
дец — 108
Эспаньелетто — см. Сурбаран
Эсте Элеонора де (XVI в.), сестра
герцога Феррарского Альфон¬
со II — 71
Эстеррейх Отто Иванович (род.
в 1790), русский художник немец¬
кого происхождения — 70
Эсхил (ок. 525—456 г. до н.э.),
древнегреческий драматург —
145, 269, 314, 323, 343, 400, 401,
423
Эшенбург Иоганн Иоахим (1743—
1820), немецкий историк литера¬
туры — 111
Ювенал Децим Юний (ок. 60 —
ок. 127), римский поэт-сатирик —
244, 386
Югурта (ум. в 104 г. до н.э.), ну-
мидийский царь — 145
490
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Юм Дэвид (1711 —1776), англий¬
ский философ — 244
Юрий Дмитриевич Галицкий
(1374—1434), князь Звенигород¬
ский и Галича-Костромского с
1389 г., сын Дмитрия Донского —
179, 180
Яворский Стефан (1658—1722),
церковный деятель, писатель —
80
Языков Николай Михайлович
(1803—1847), поэт —114, 124,
193
Яковлев Павел Лукьянович
(1796—1835), писатель — 100,
273
Яковлев, академик — 70
Ярослав (978—1054), князь Киев¬
ский — 78, 84
Декабристы: эстетика и критика/Сост., вступ.
Д 28 статья и коммент. Р. Г. Назарьяна и Л. Г. Фриз-
мана. — М.: Искусство, 1991. — 491 с. — (Исто¬
рия эстетики в памятниках и документах).
ISBN 5—210—02459—8
Наше время характеризуется небывалым интересом к декабристам, небы¬
валым и по интенсивности, и по многообразию форм его проявления. Законо¬
мерен интерес читателя и к эстетике декабристов, которая представляет собой
подлинный феномен.
Предлагаемый сборник дает полноценное и разностороннее представление
об отношении трех ведущих представителей декабристской эстетики —
А. А. Бестужева, В. К. Кюхельбекера, К. Ф. Рылеева — не только к литературе,
но и к живописи, скульптуре, музыке, театру. Примерно половина этого
материала никогда не переиздавалась со времен первых публикаций в периоди¬
ке 1820-х годов и практически недоступна широкому читателю.
Сборник будет интересен широкой читательской публике.
0301080000-60 ББК 87 8
Д 13-91
025(01)-91
ДЕКАБРИСТЫ:
ЭСТЕТИКА И КРИТИКА
История
эстетики
в памятниках
и документах
Редактор
с. в. ИГОШИНА
Художник
В. М. МЕЛЬНИКОВ
Художественный редактор
И. В. БАЛАШОВ
Технический редактор
Е. 3. ПЛОТКИНА
Корректор
Ю. A. EBCTPATOBA
И.Б. № 4357. Сдано в набор 13.03.90. Подп. в печ. 14.01.91. Формат издания 84Х 108/32.
Бумага кн.-журнальная. Гарнитура типа тайме. Высокая печать. Уел. печ. л. 26,04.
Уел. кр.-отт. 26,04. Уч.-изд. л. 28,01. Изд. № 17665. Тираж 30 000. Заказ 907.
Цена 4 р. 50 к. Издательство «Искусство», 103009, Москва, Собиновский пер., 3.
Ярославский полиграфкомбинат Госкомпечати СССР. 150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.