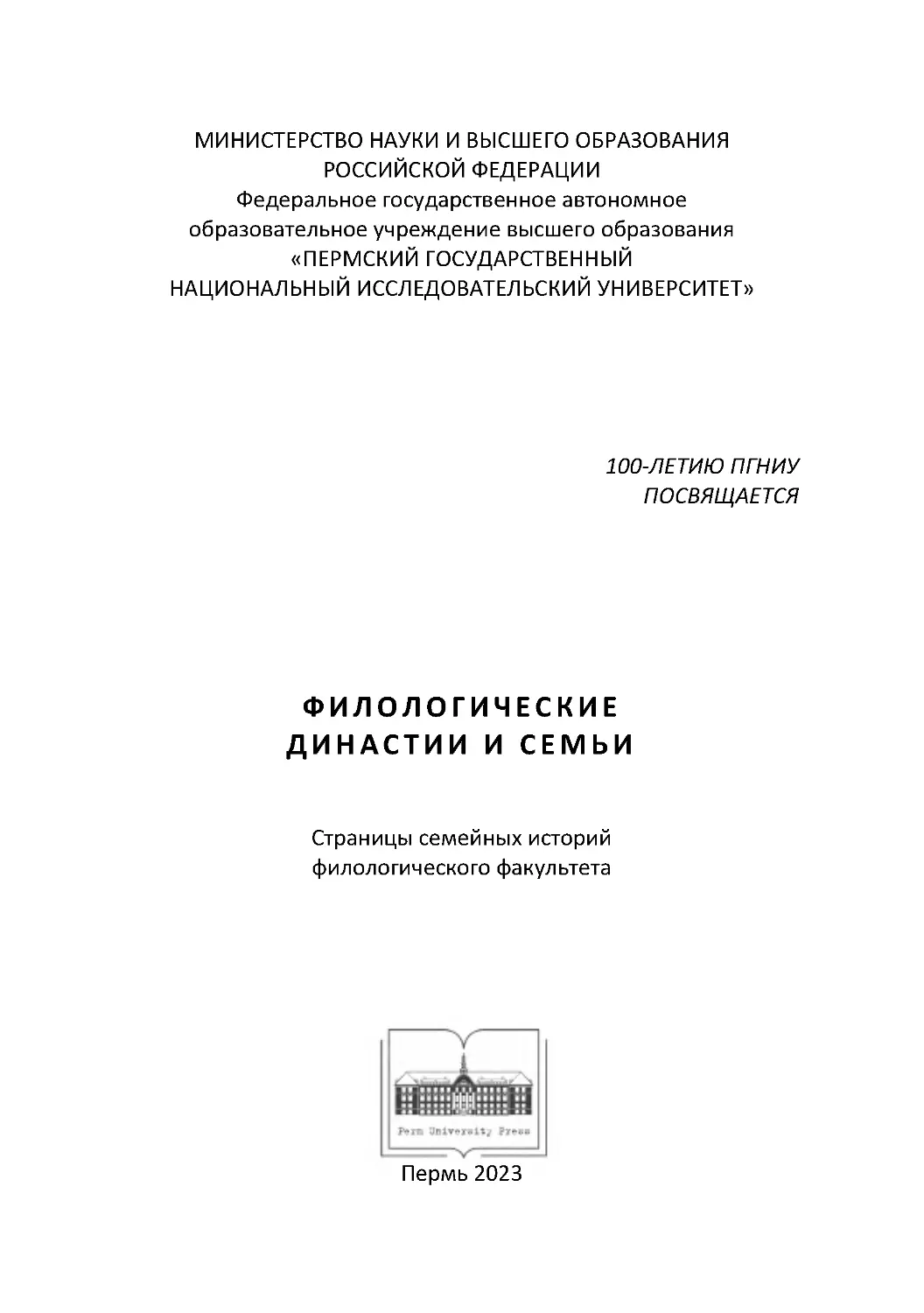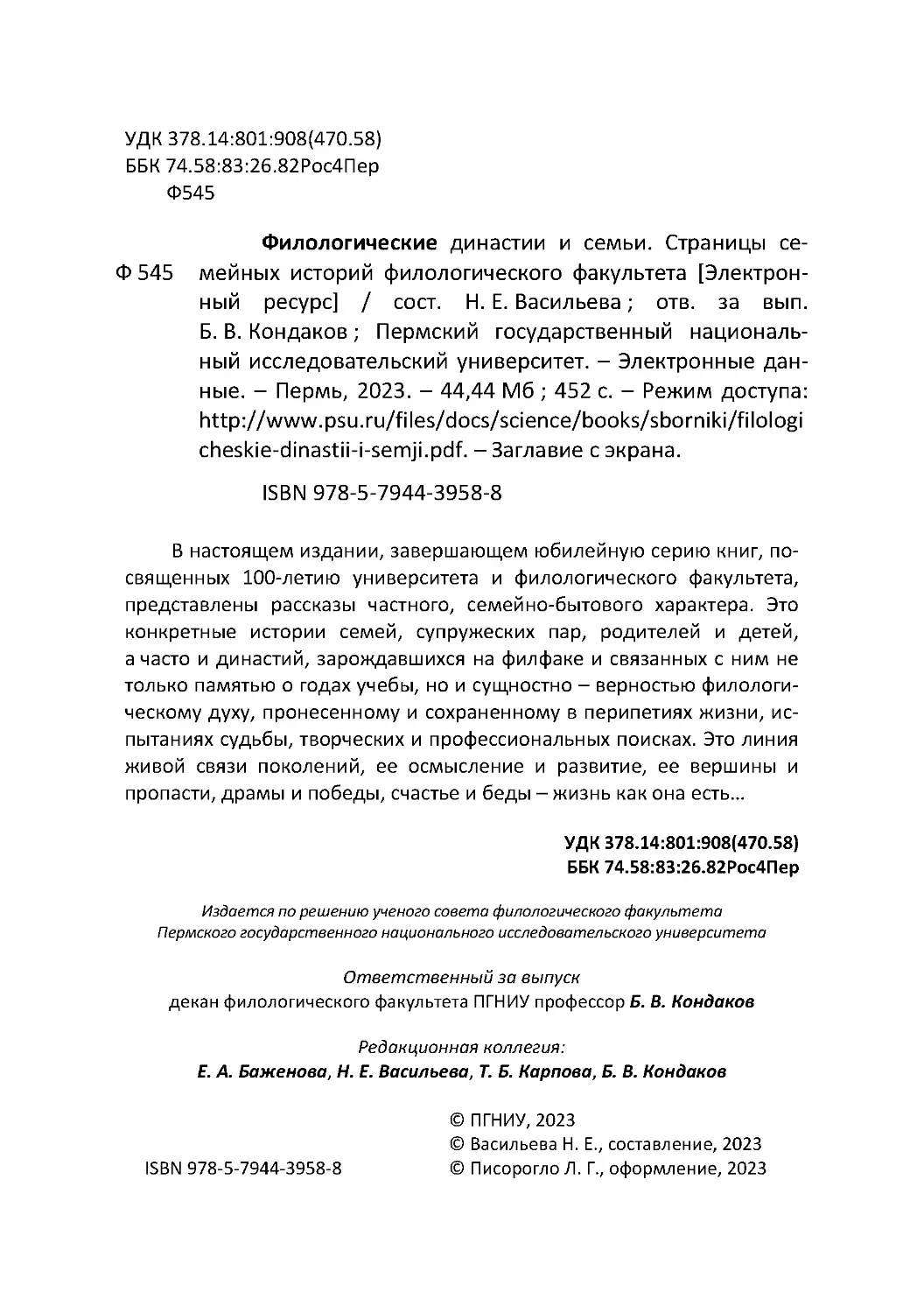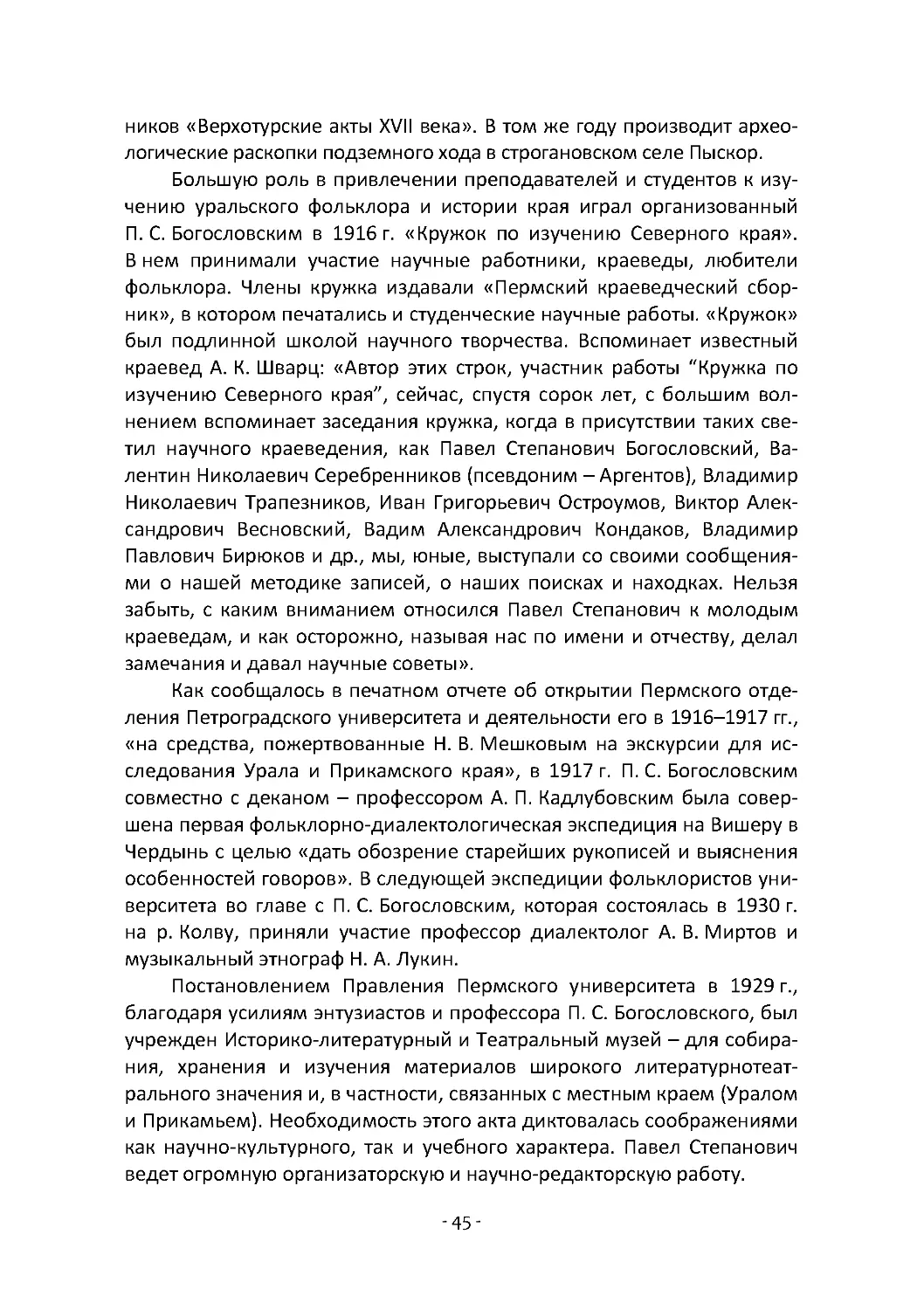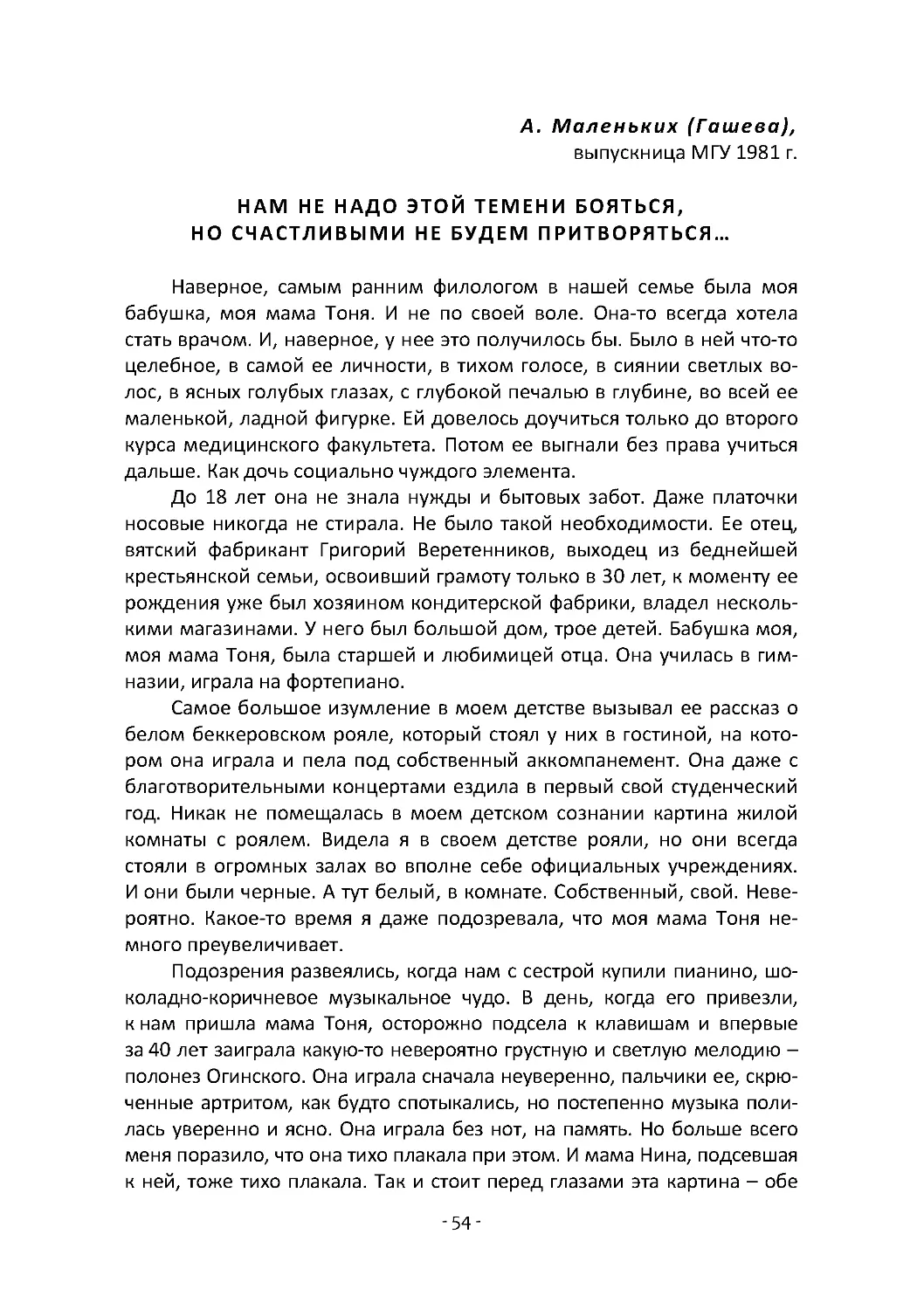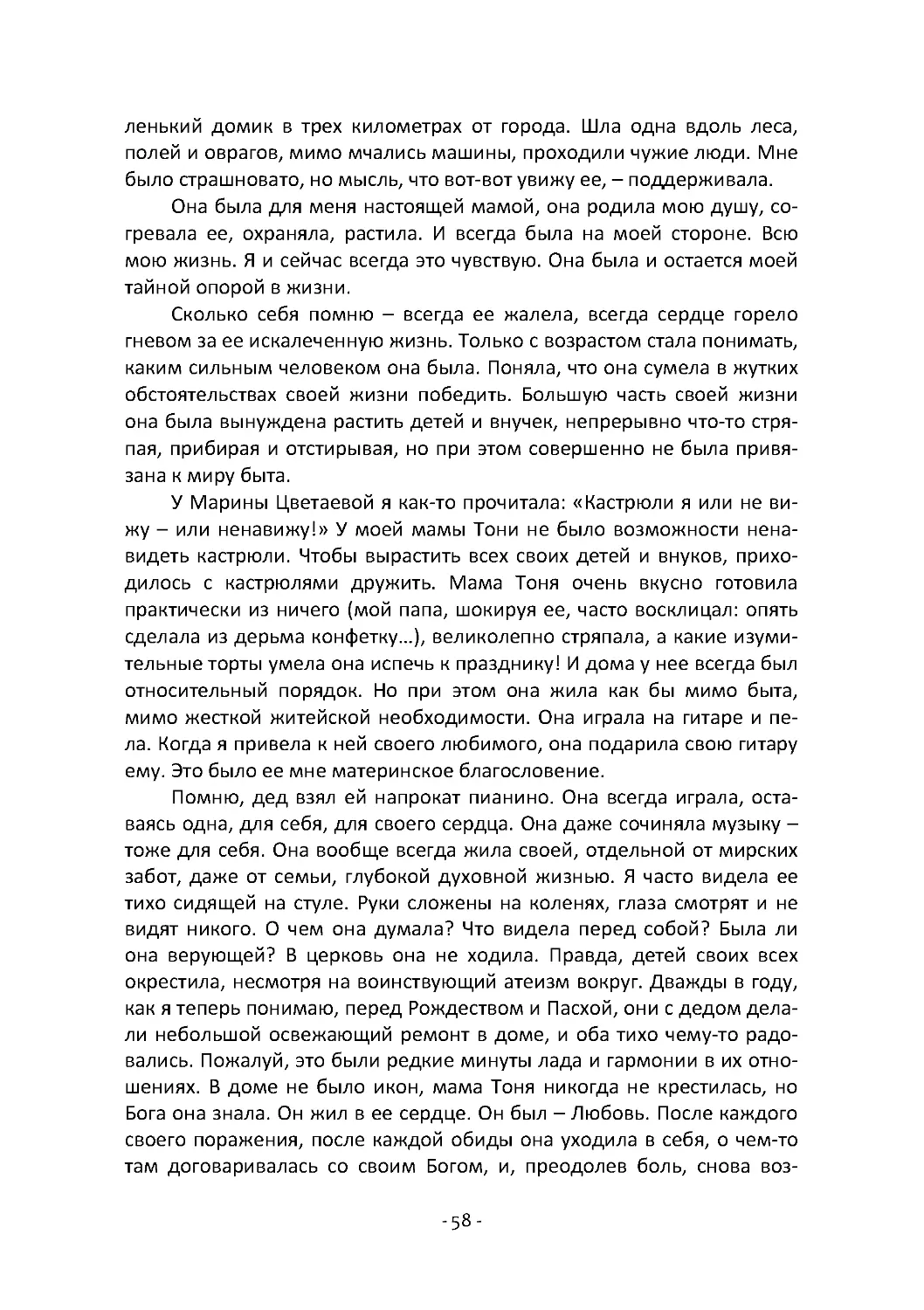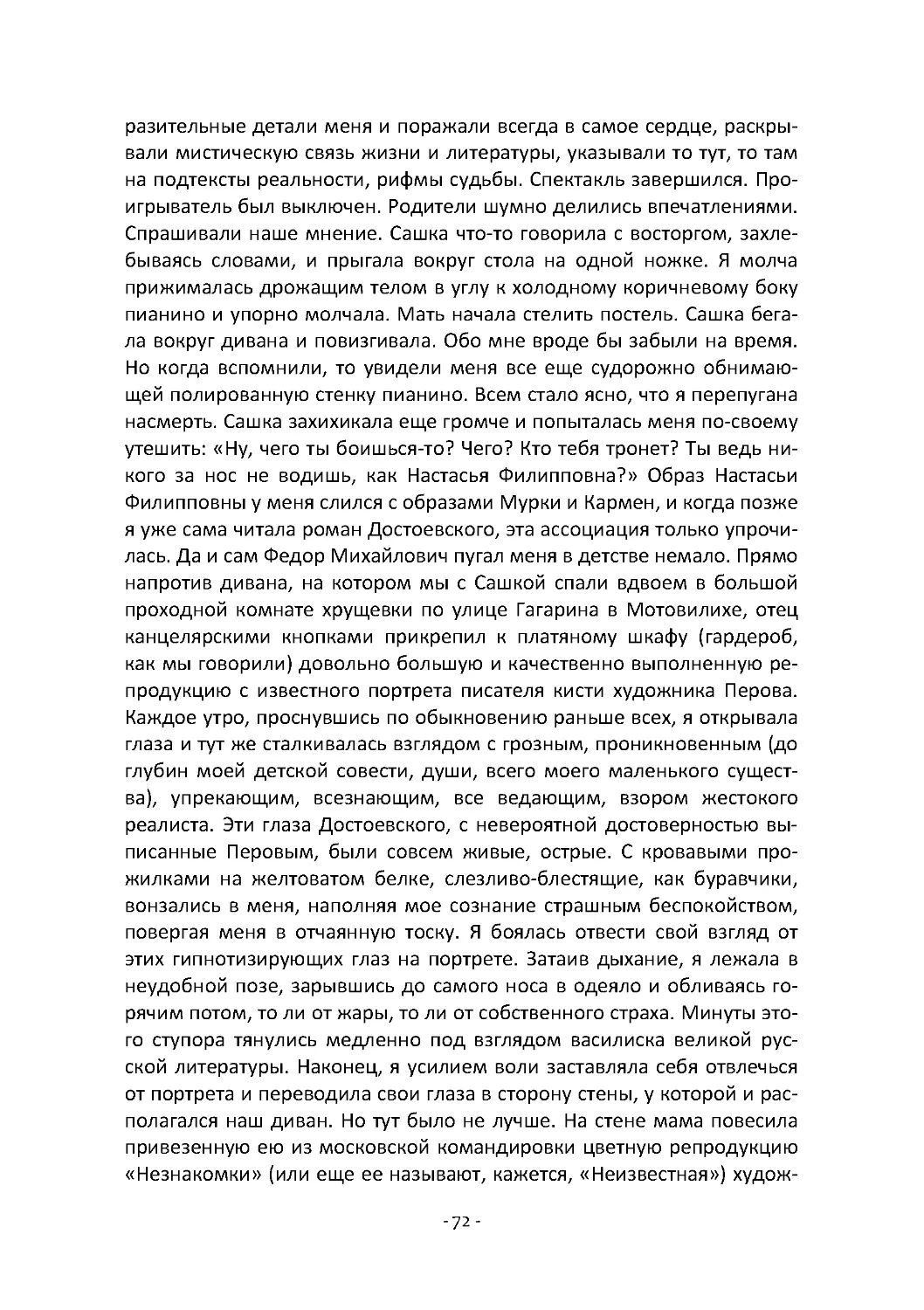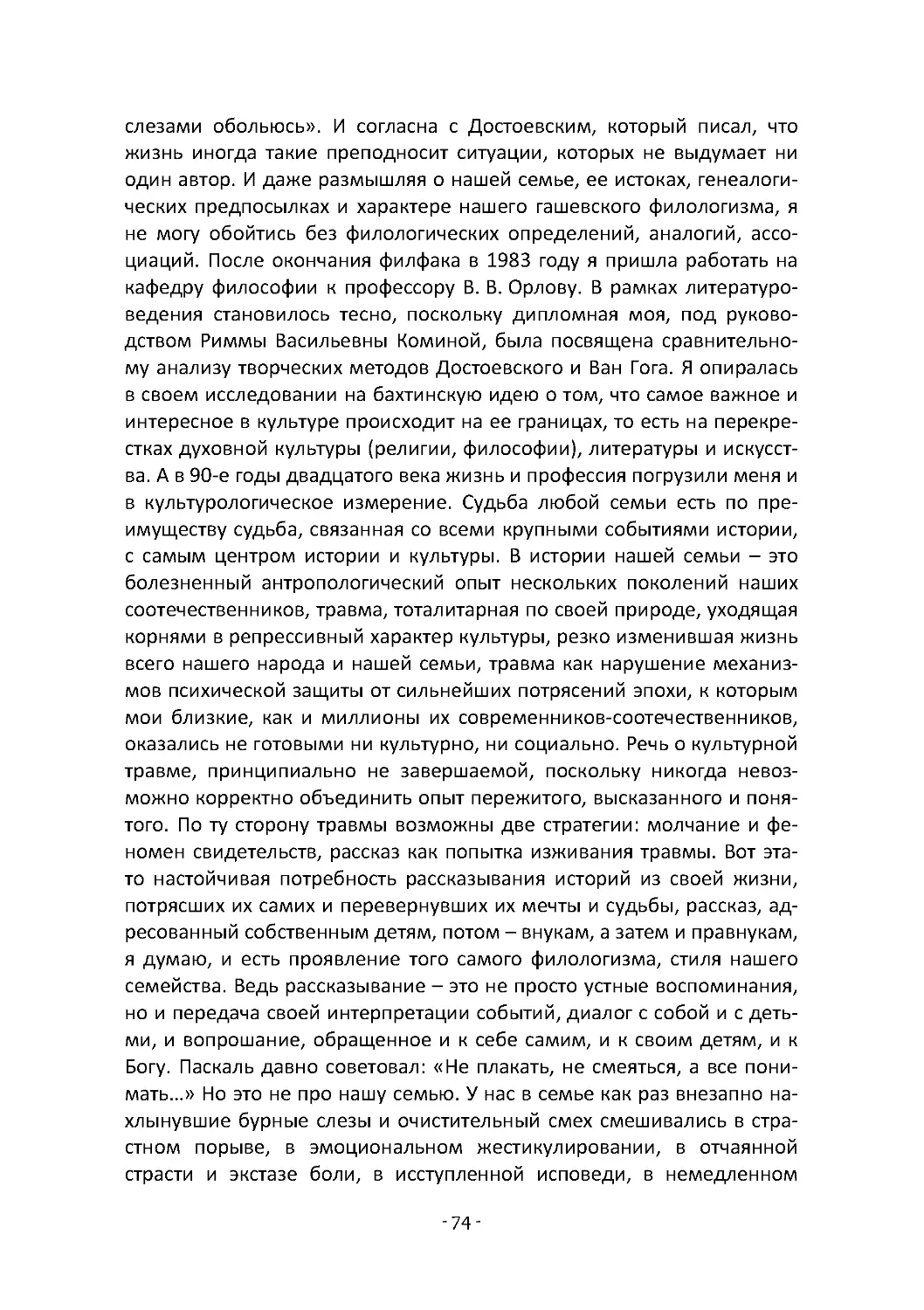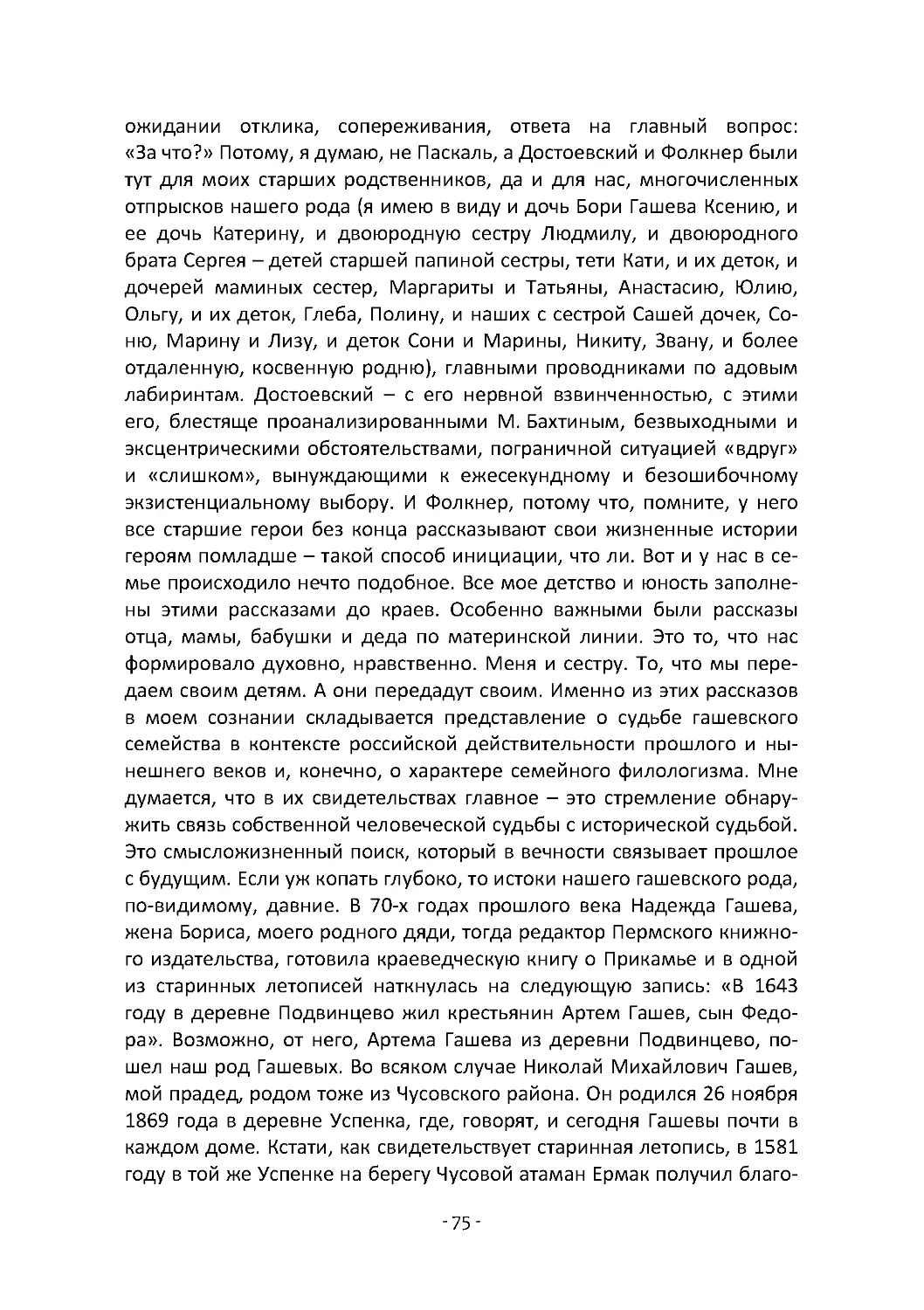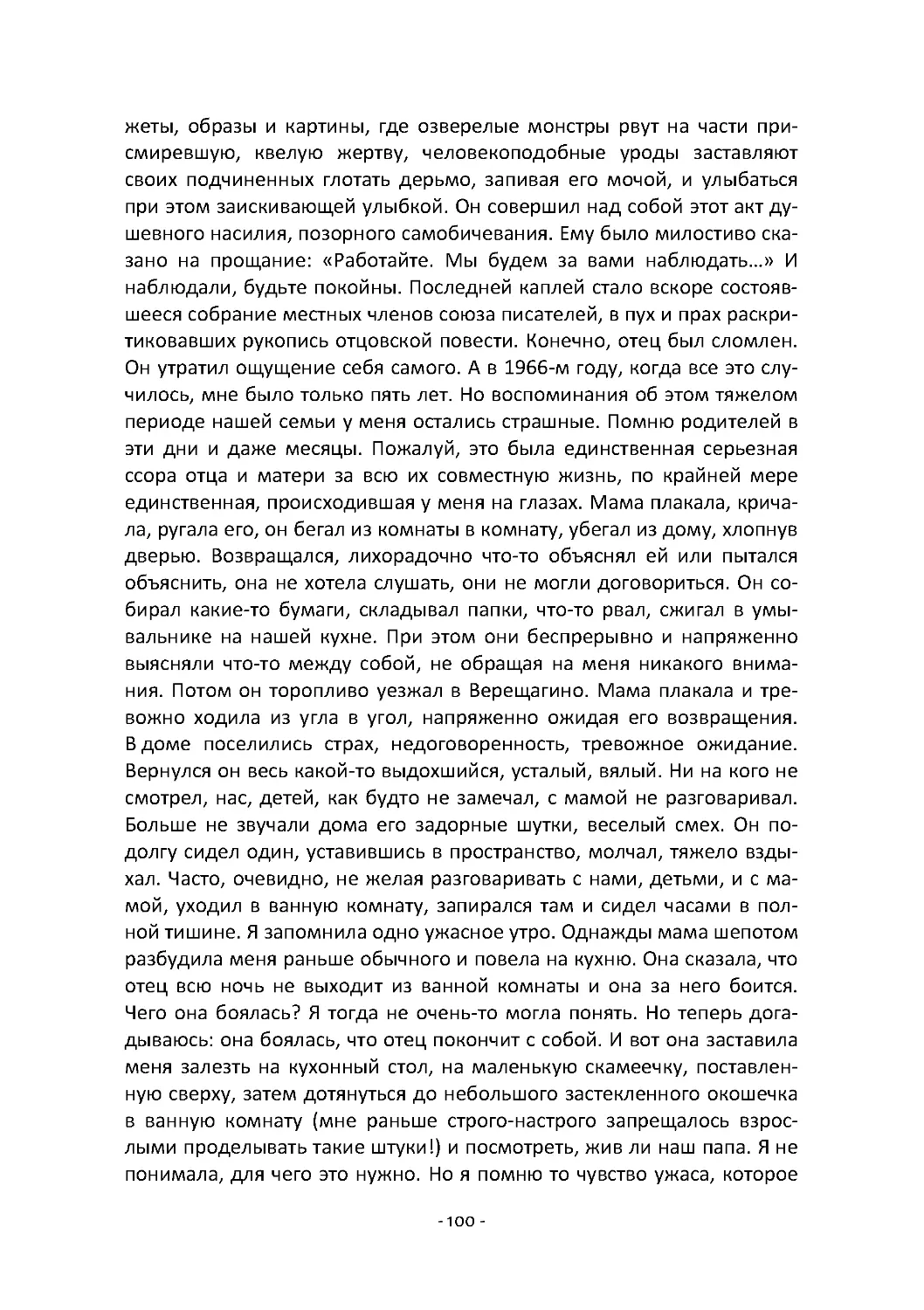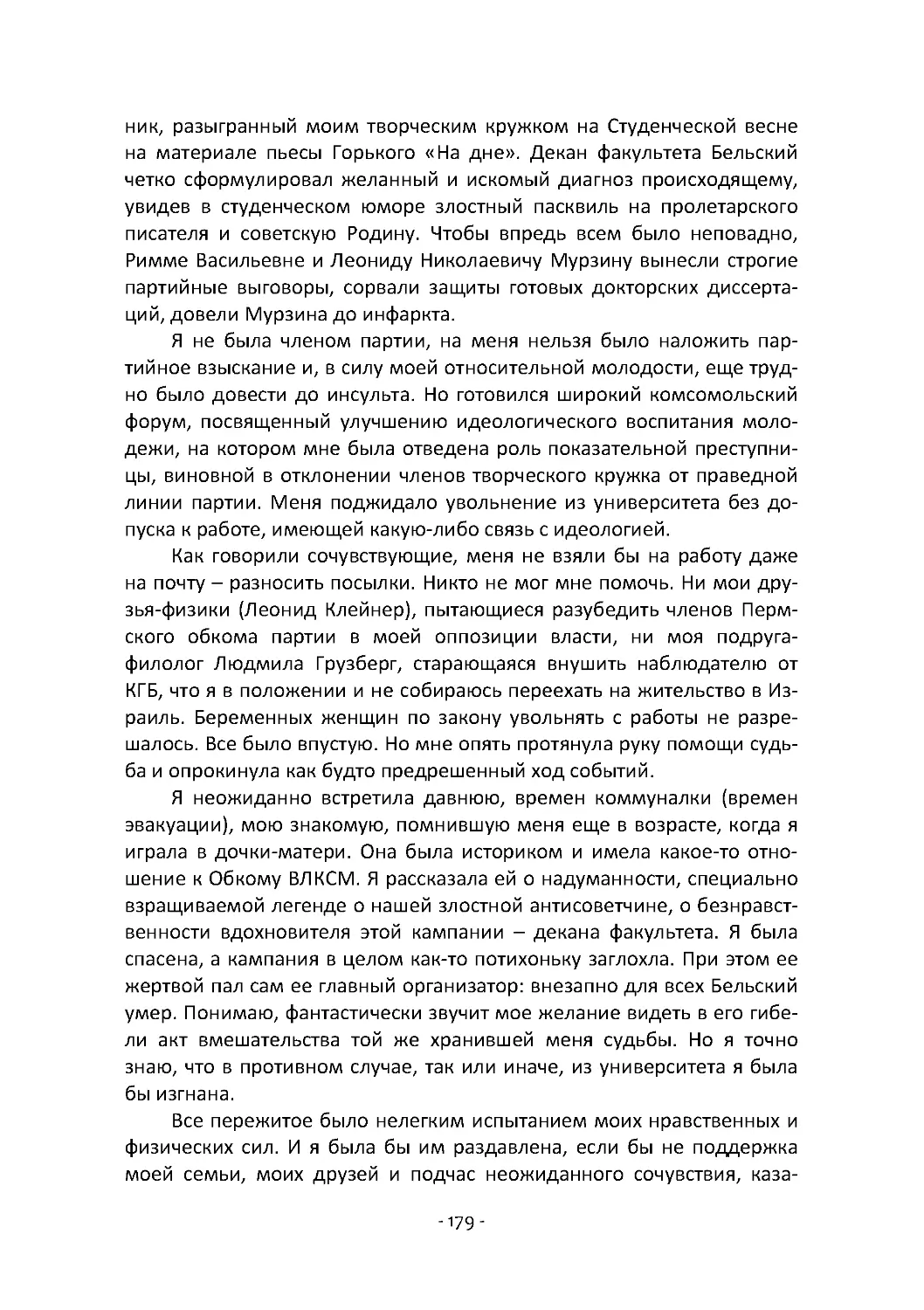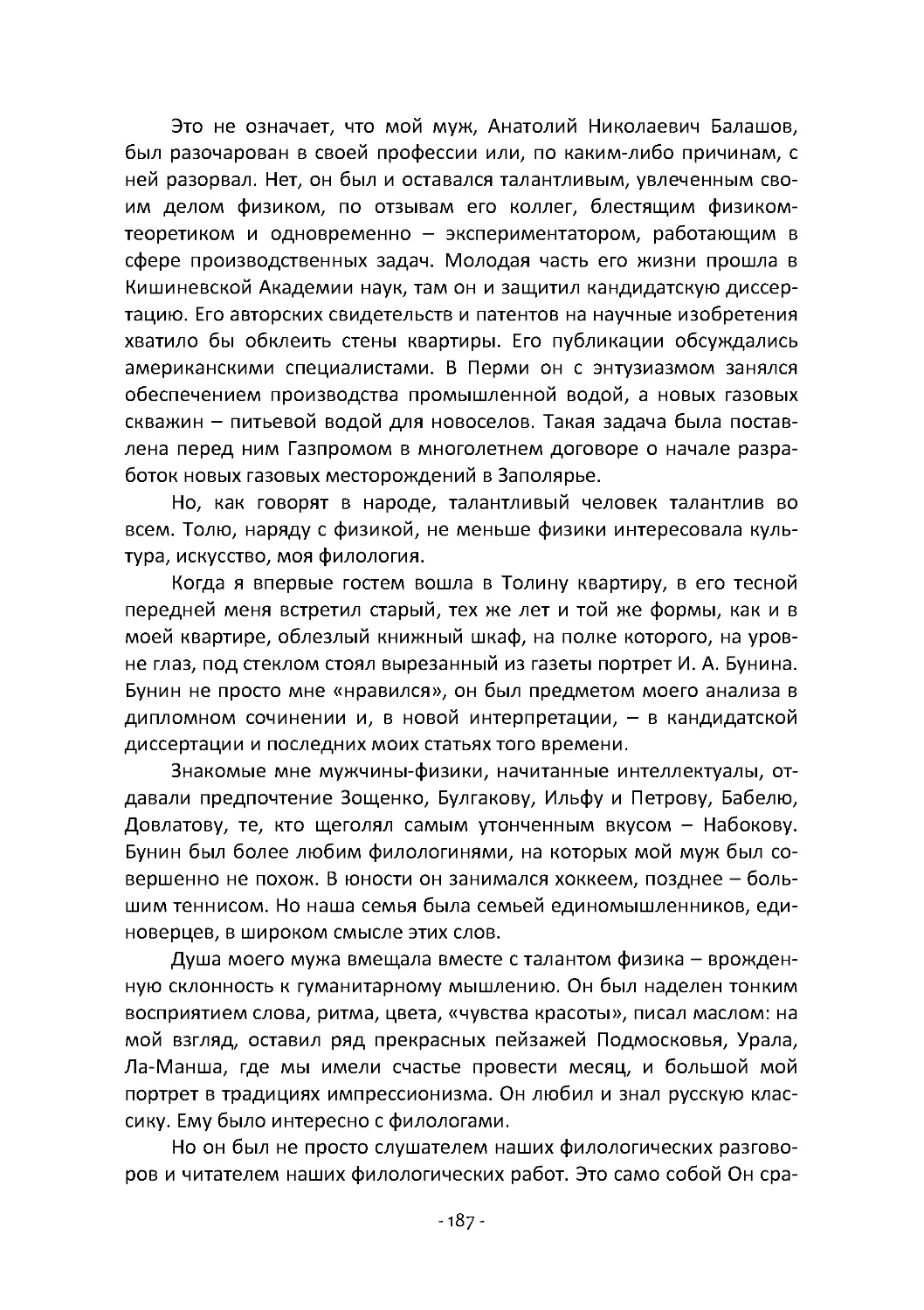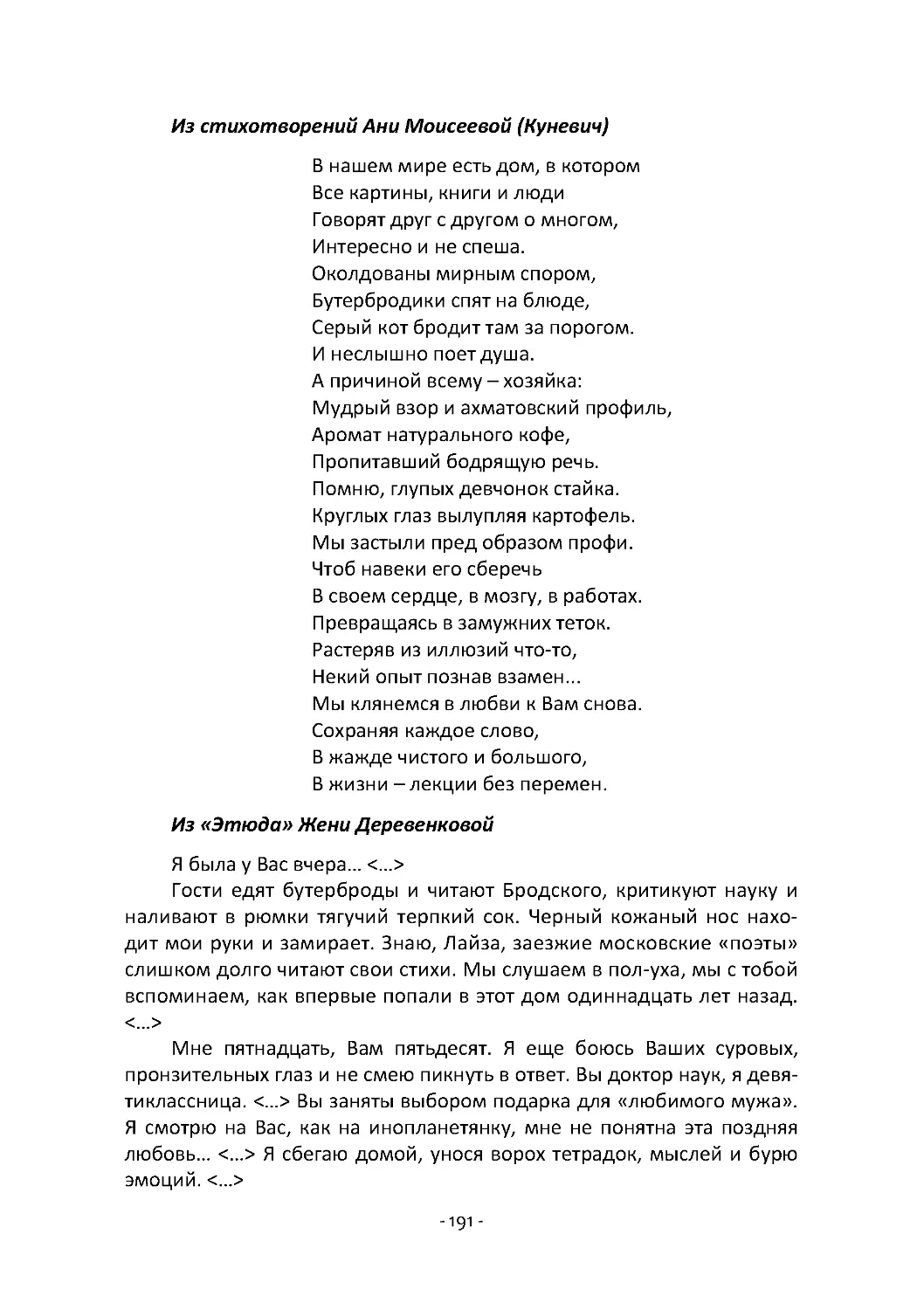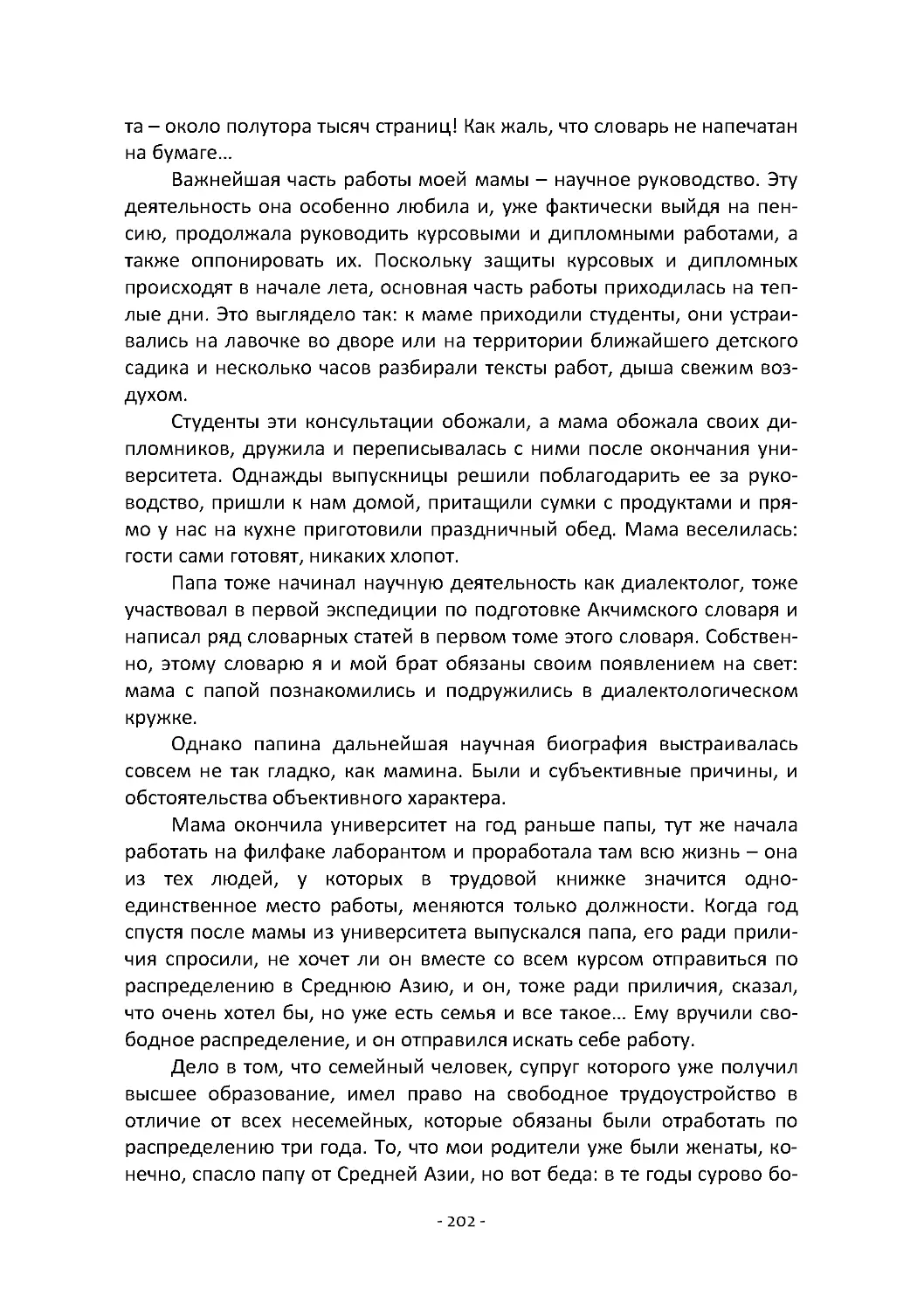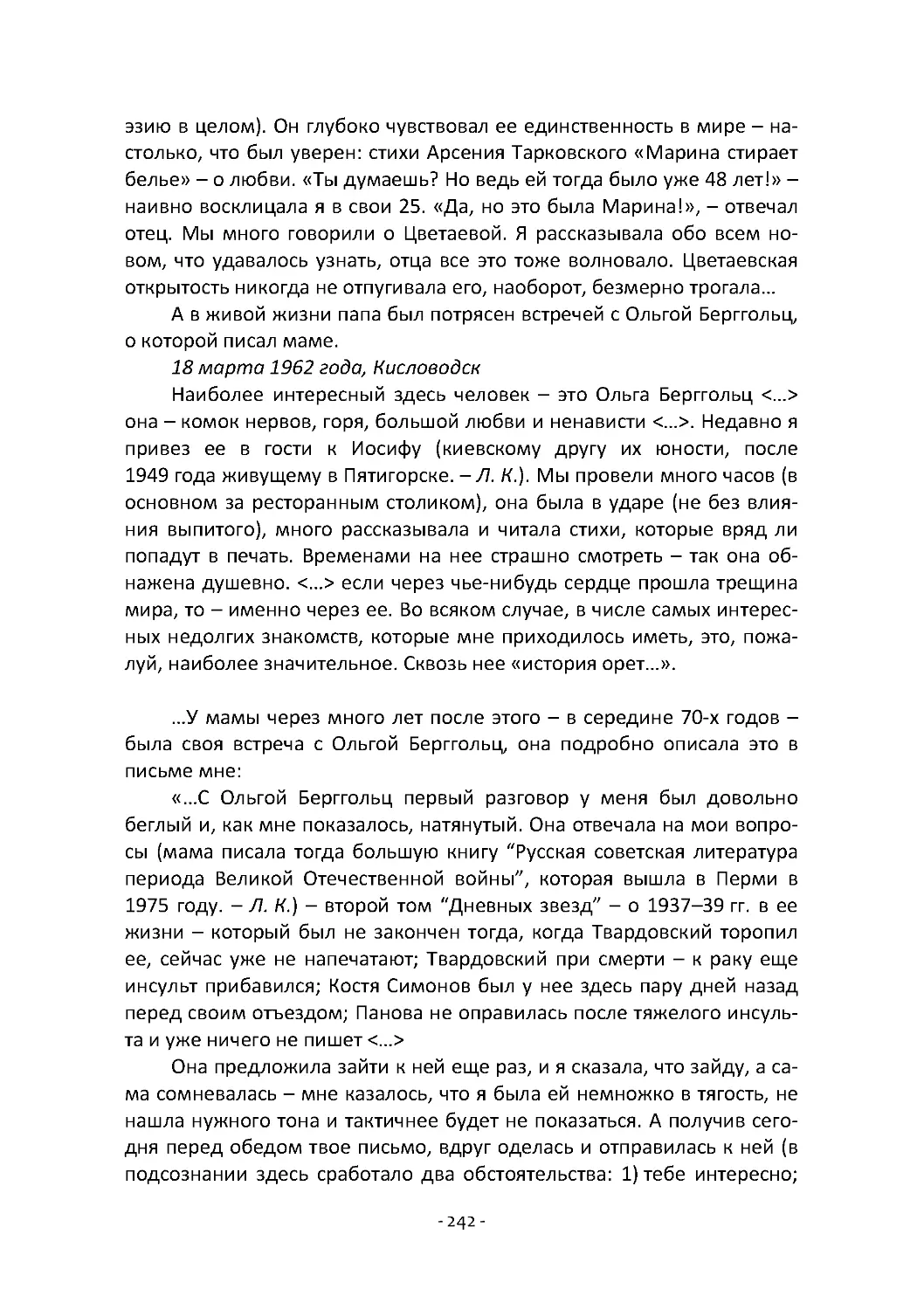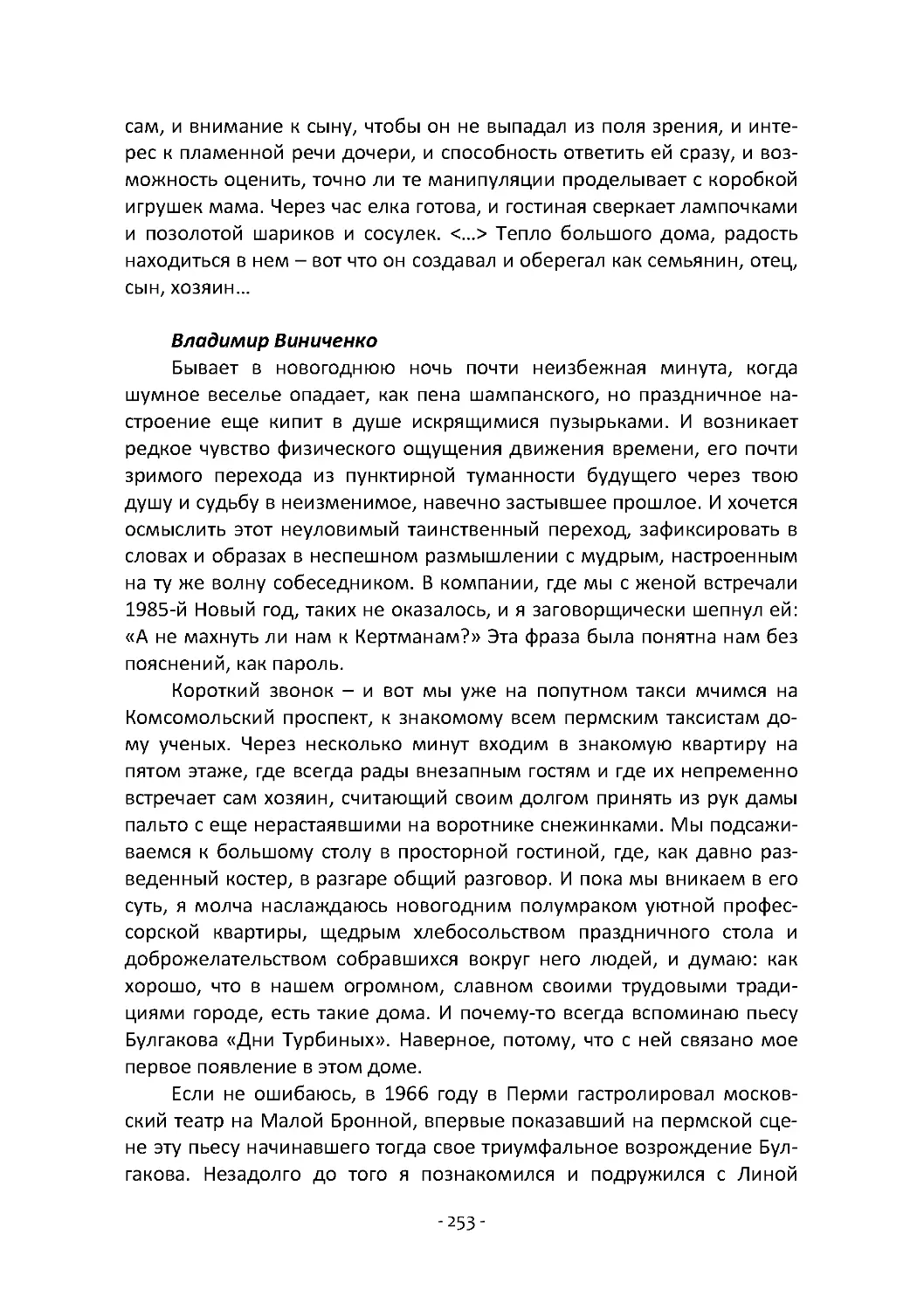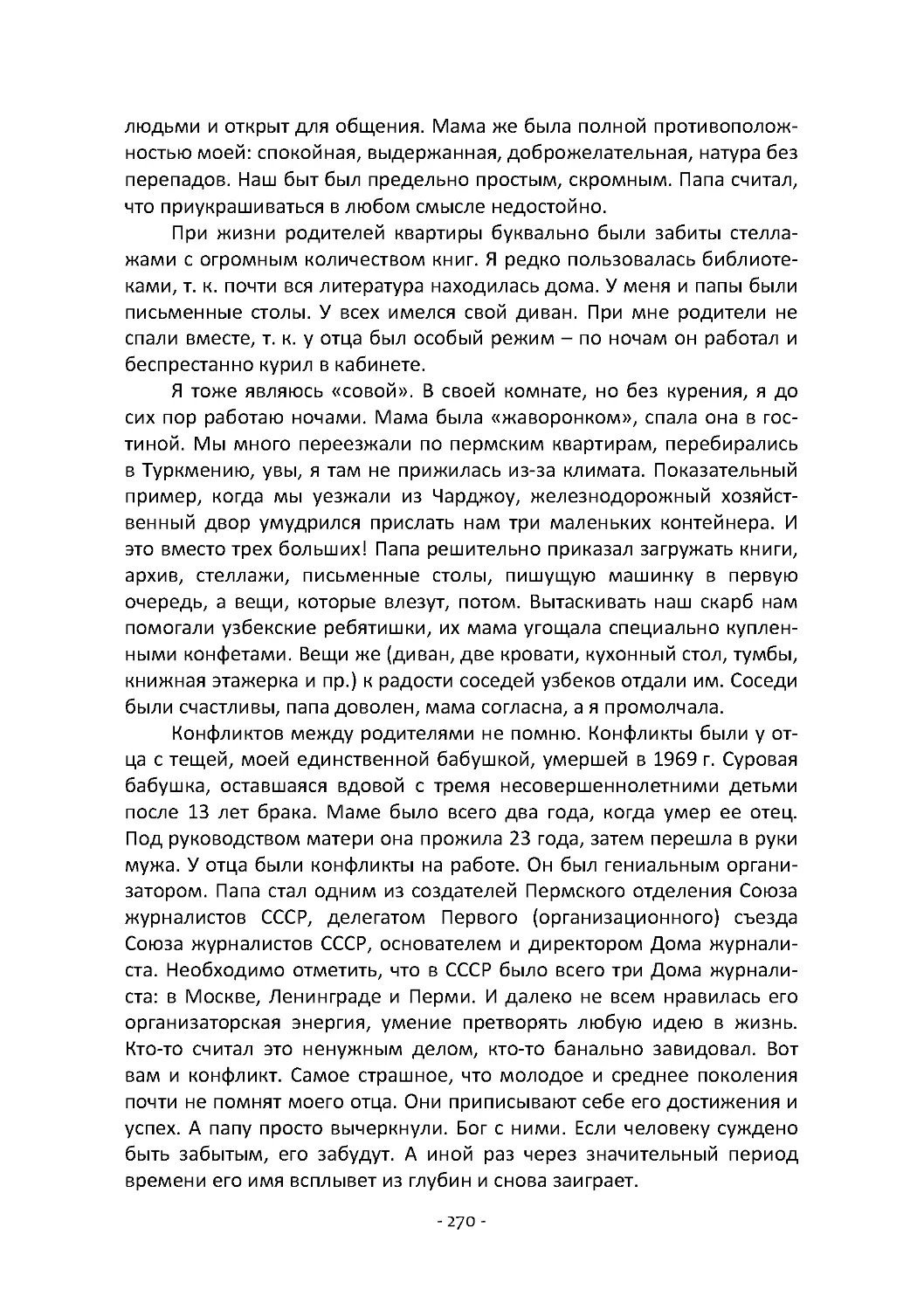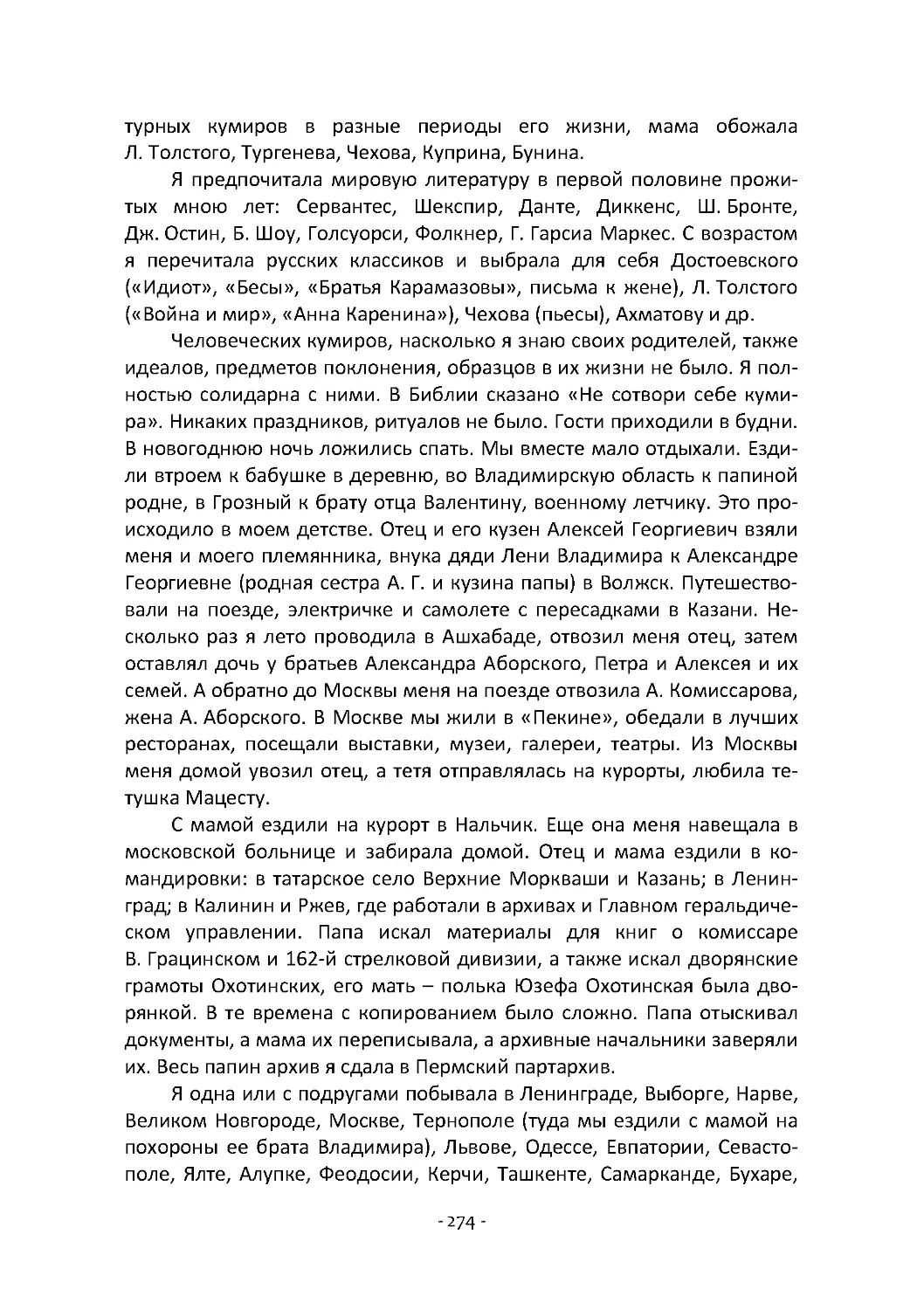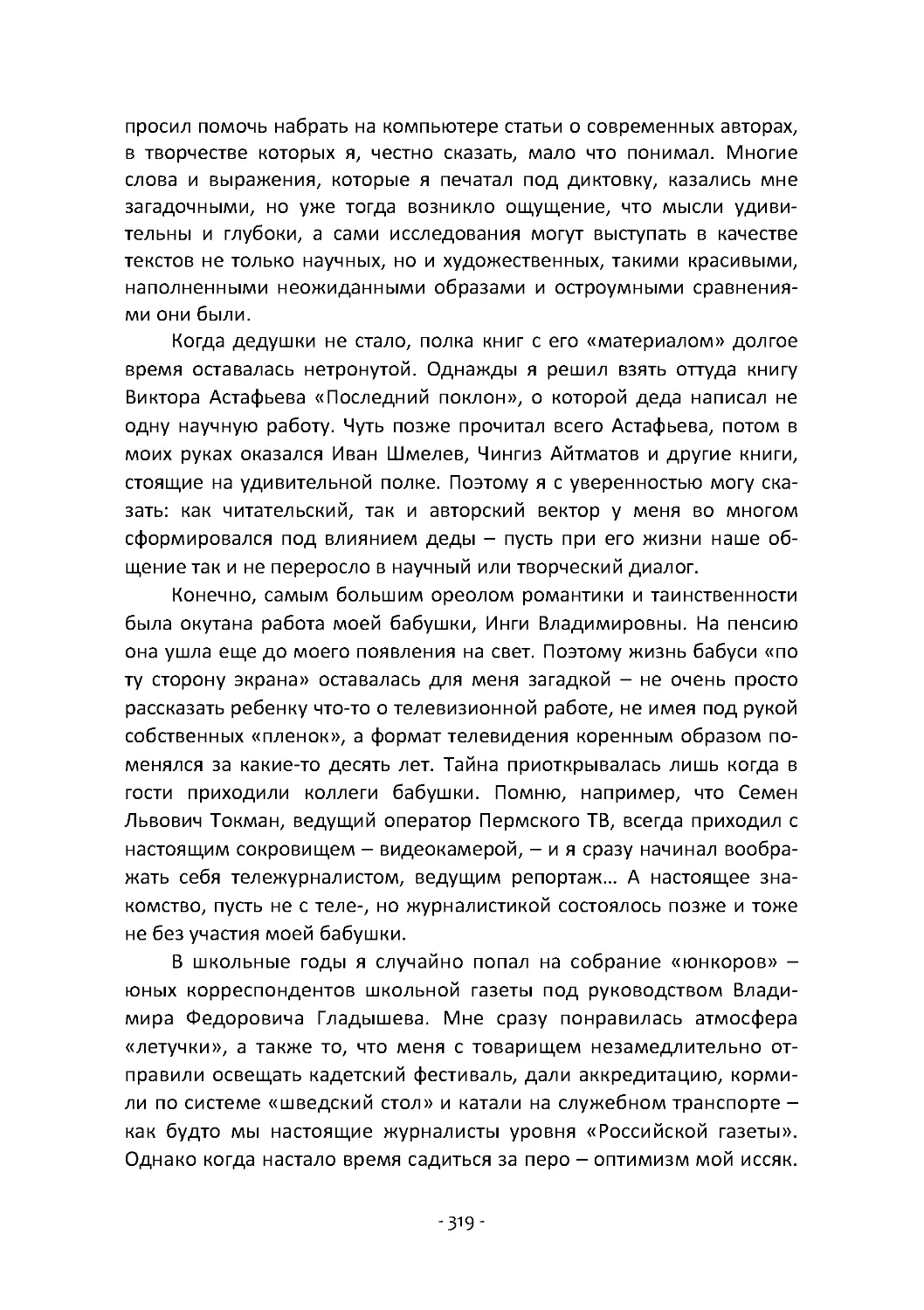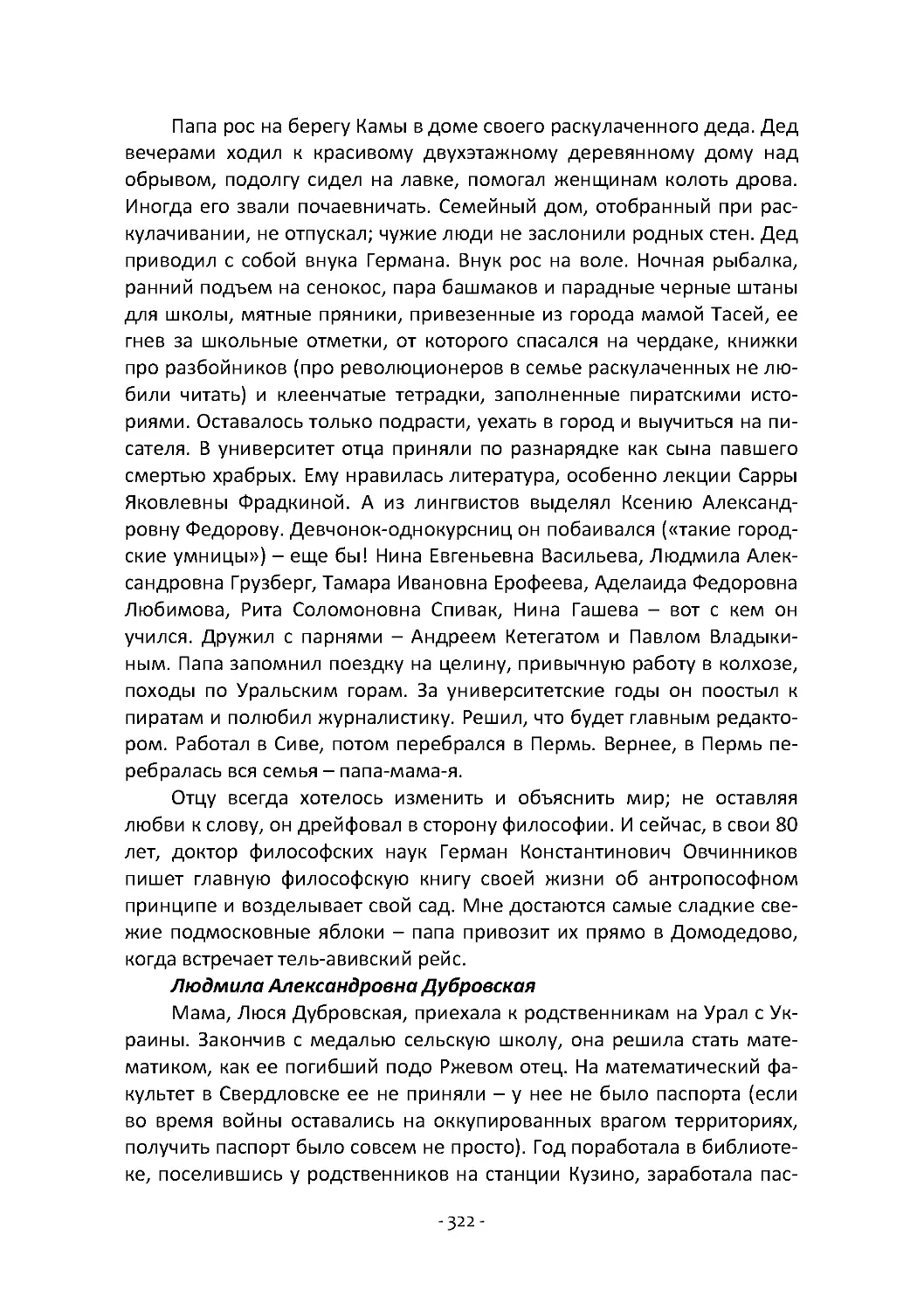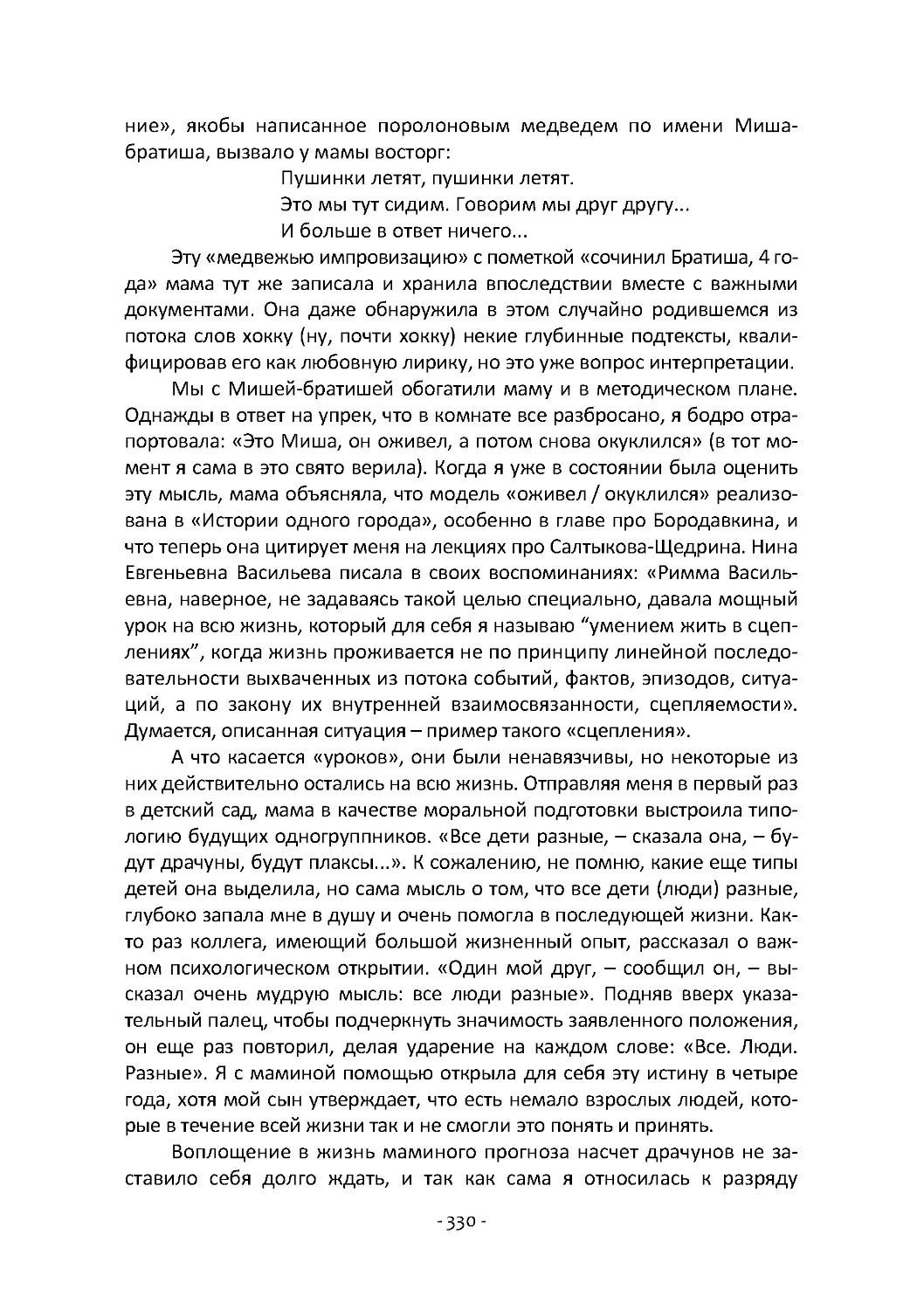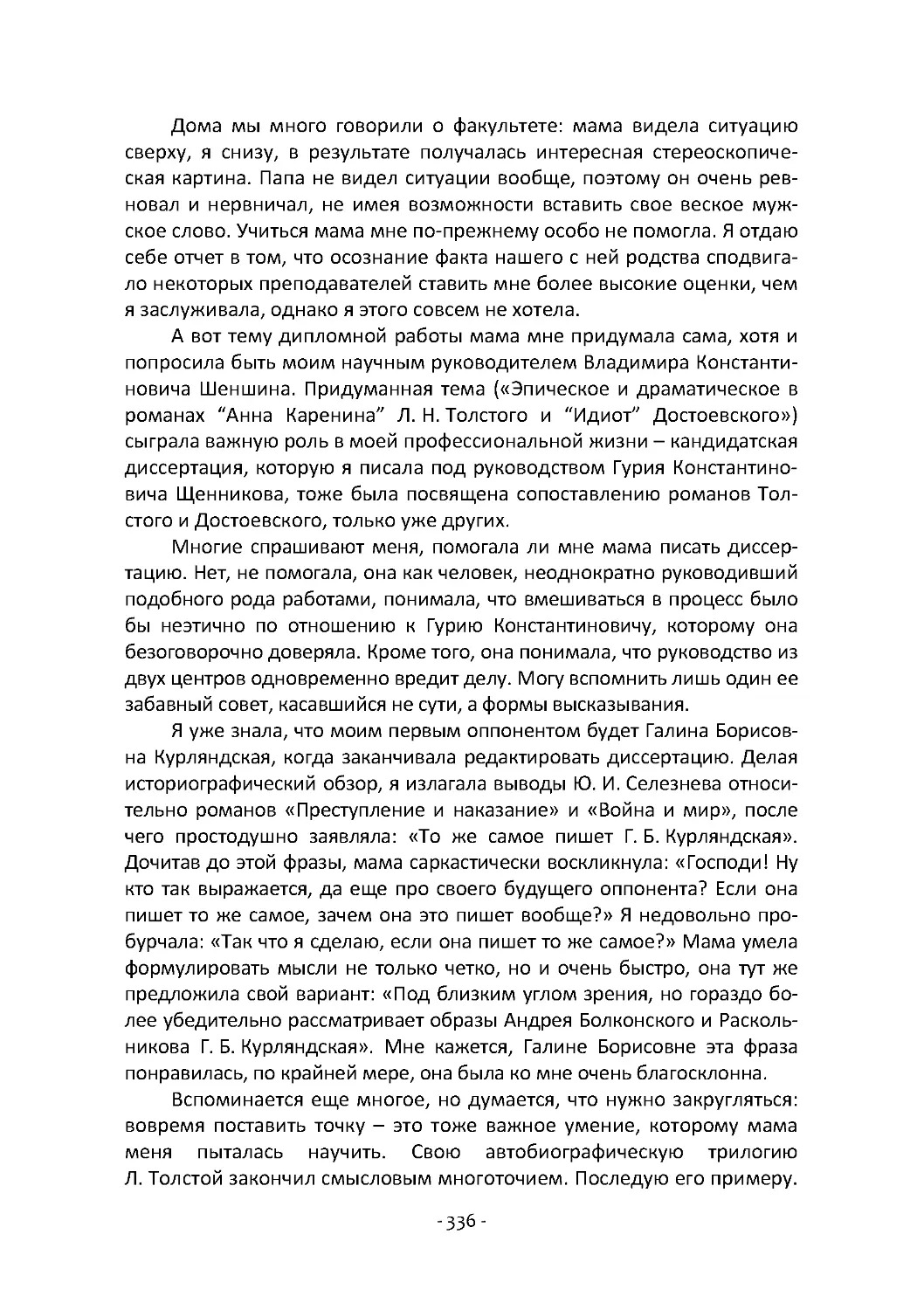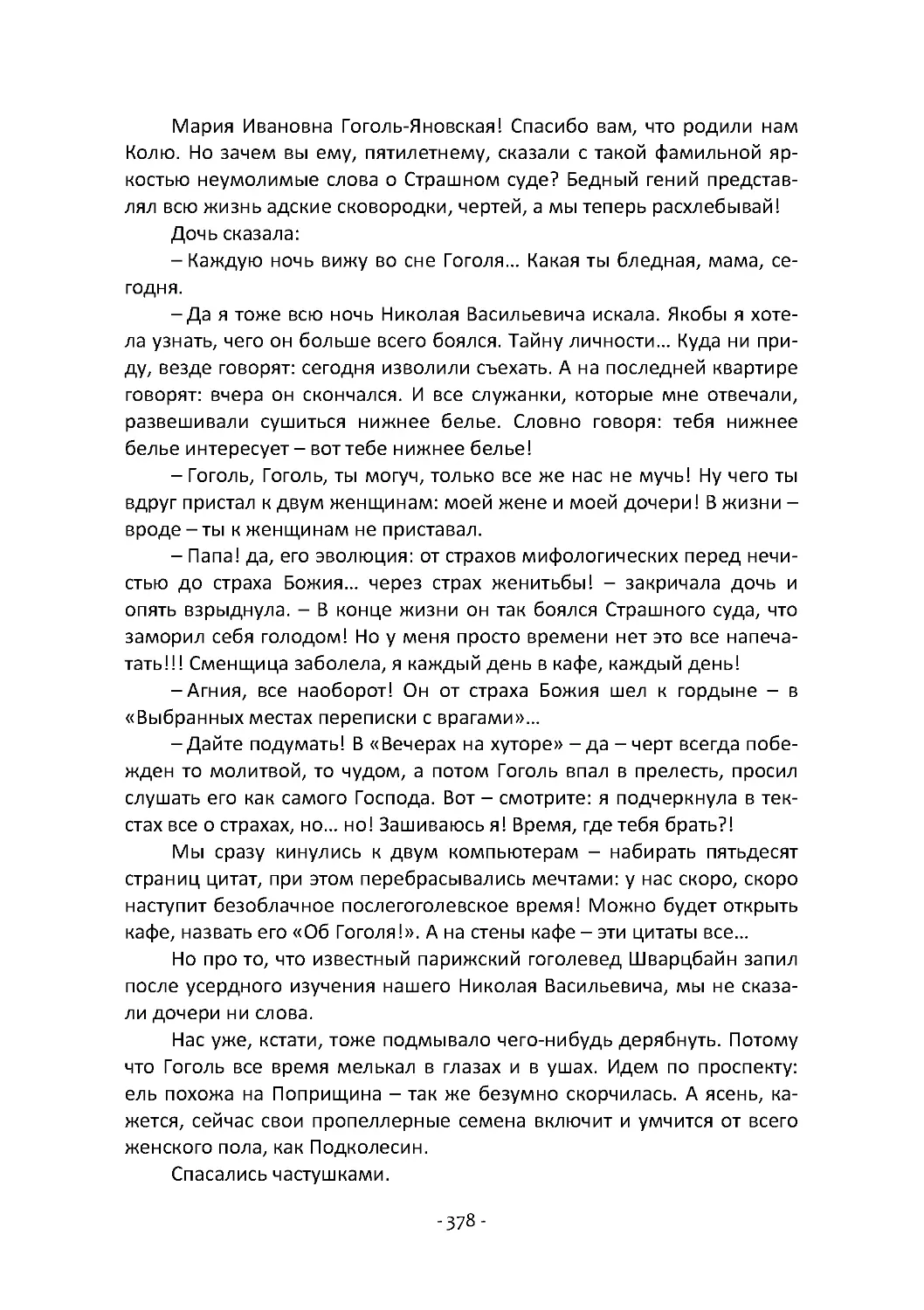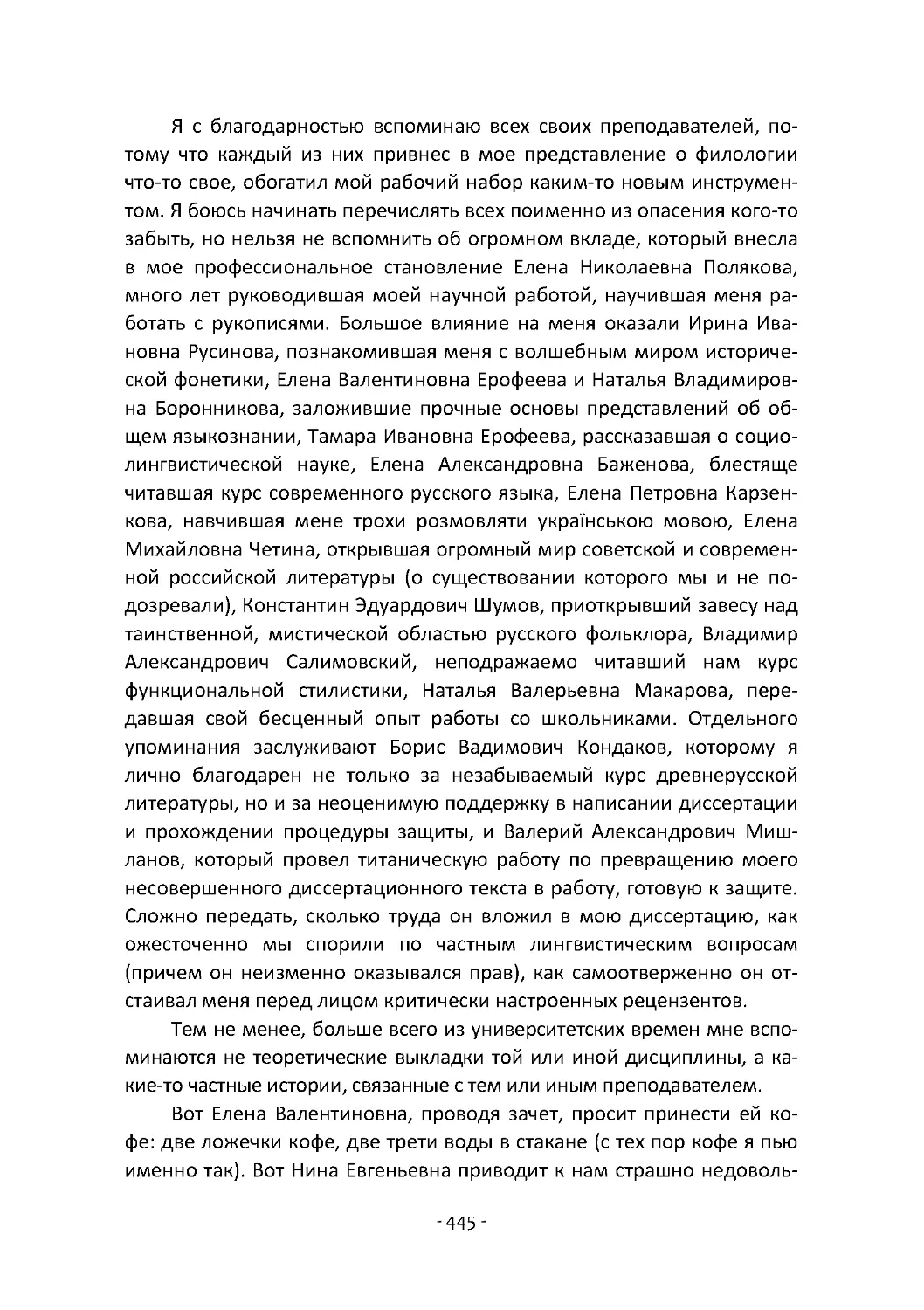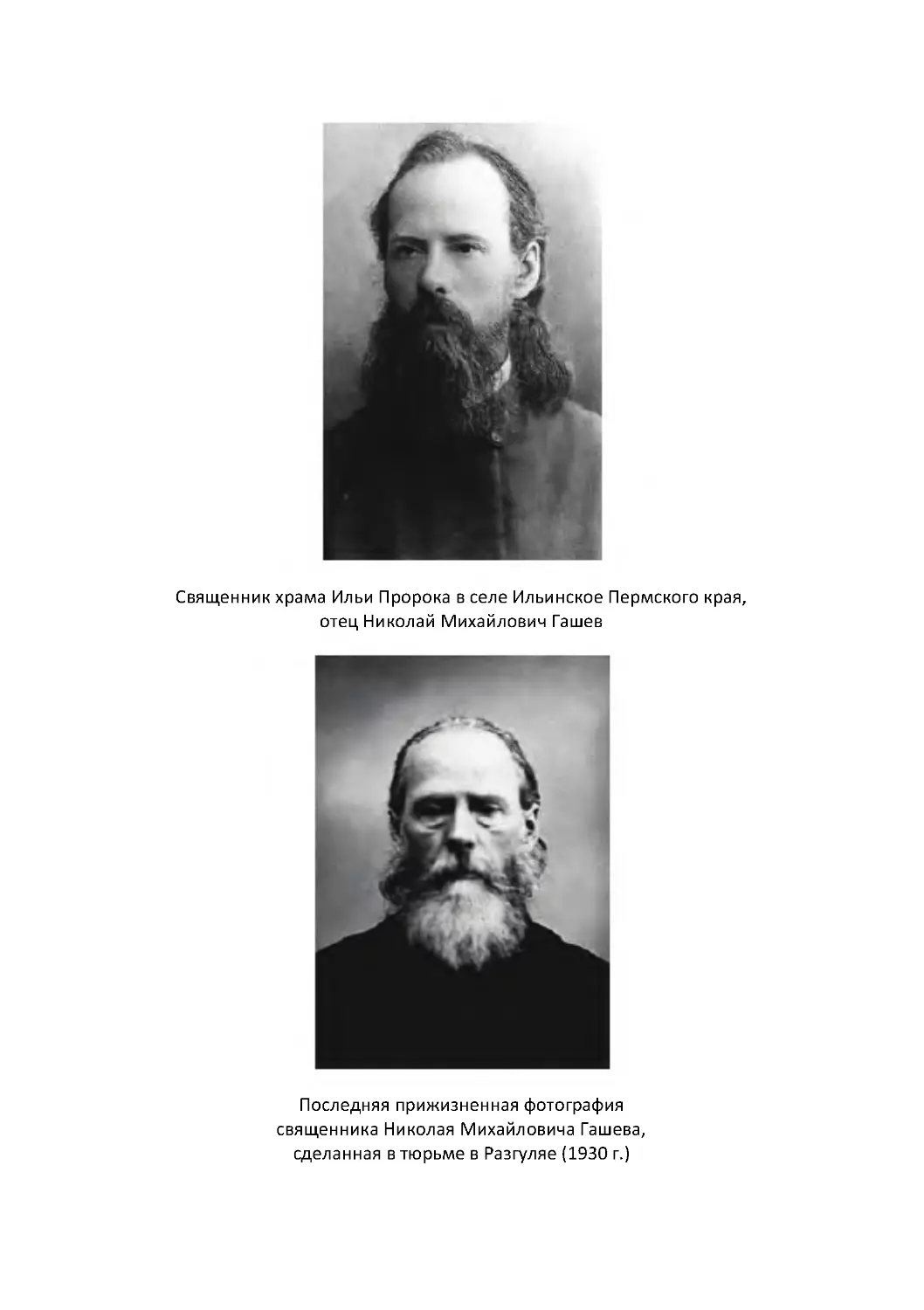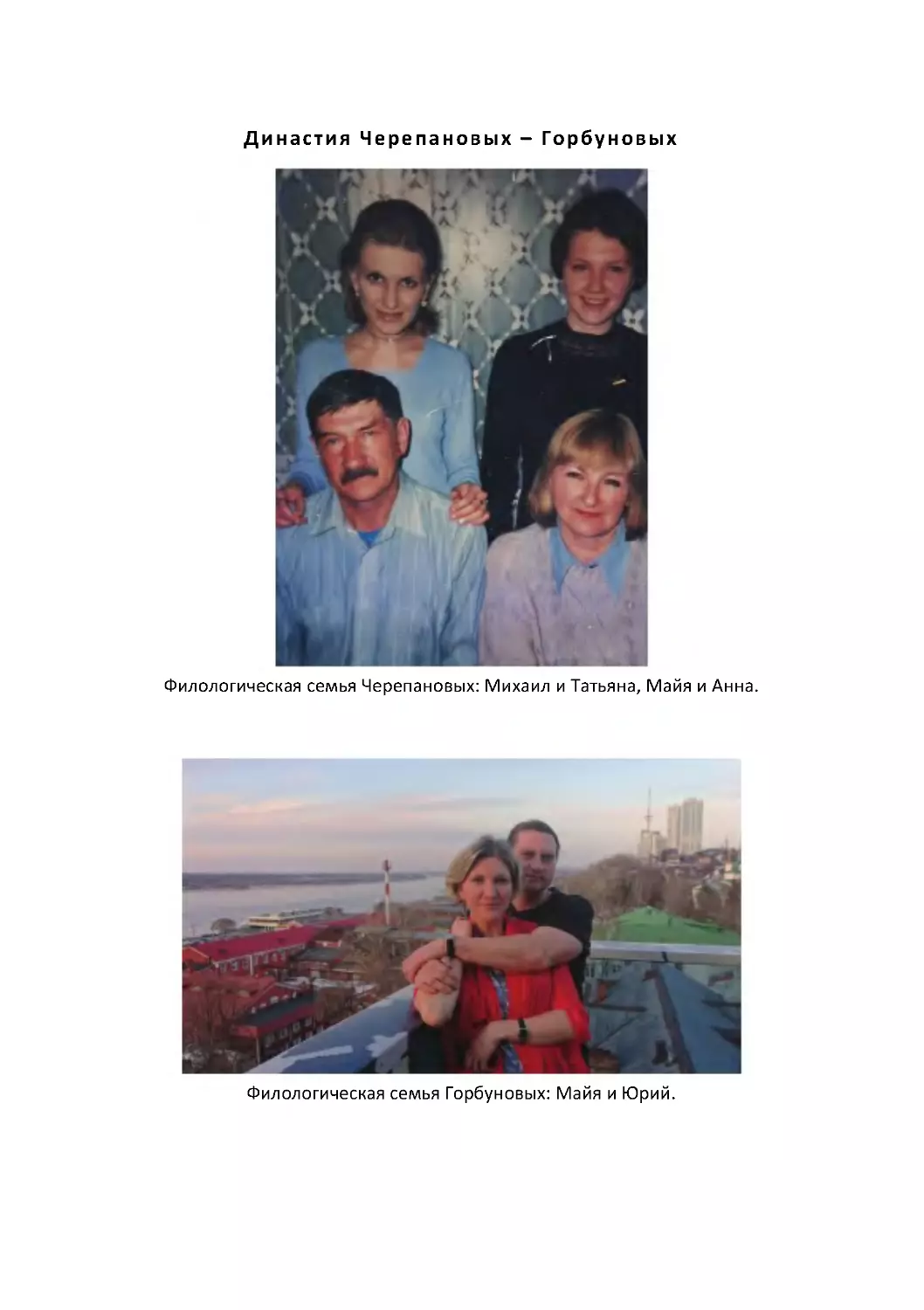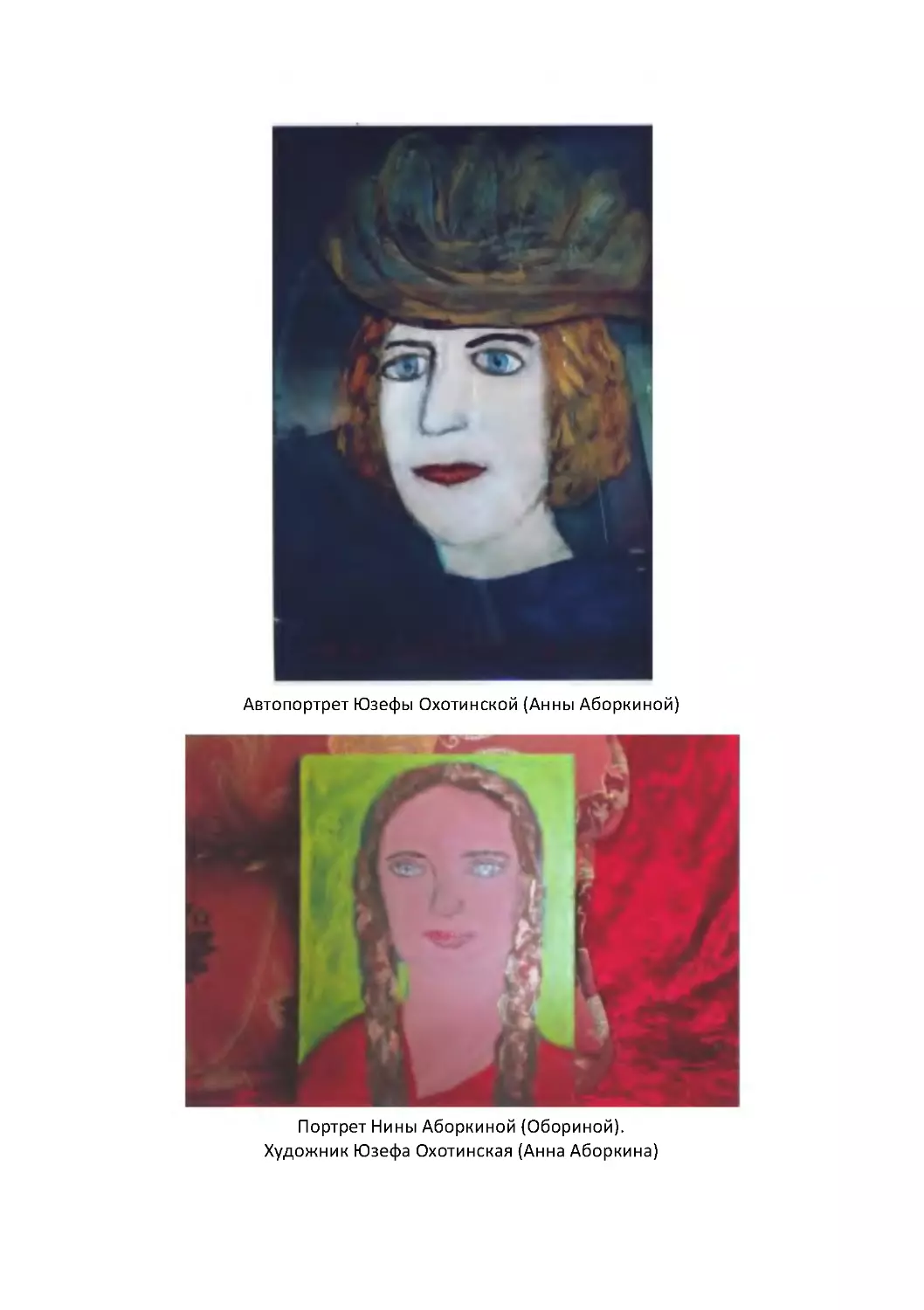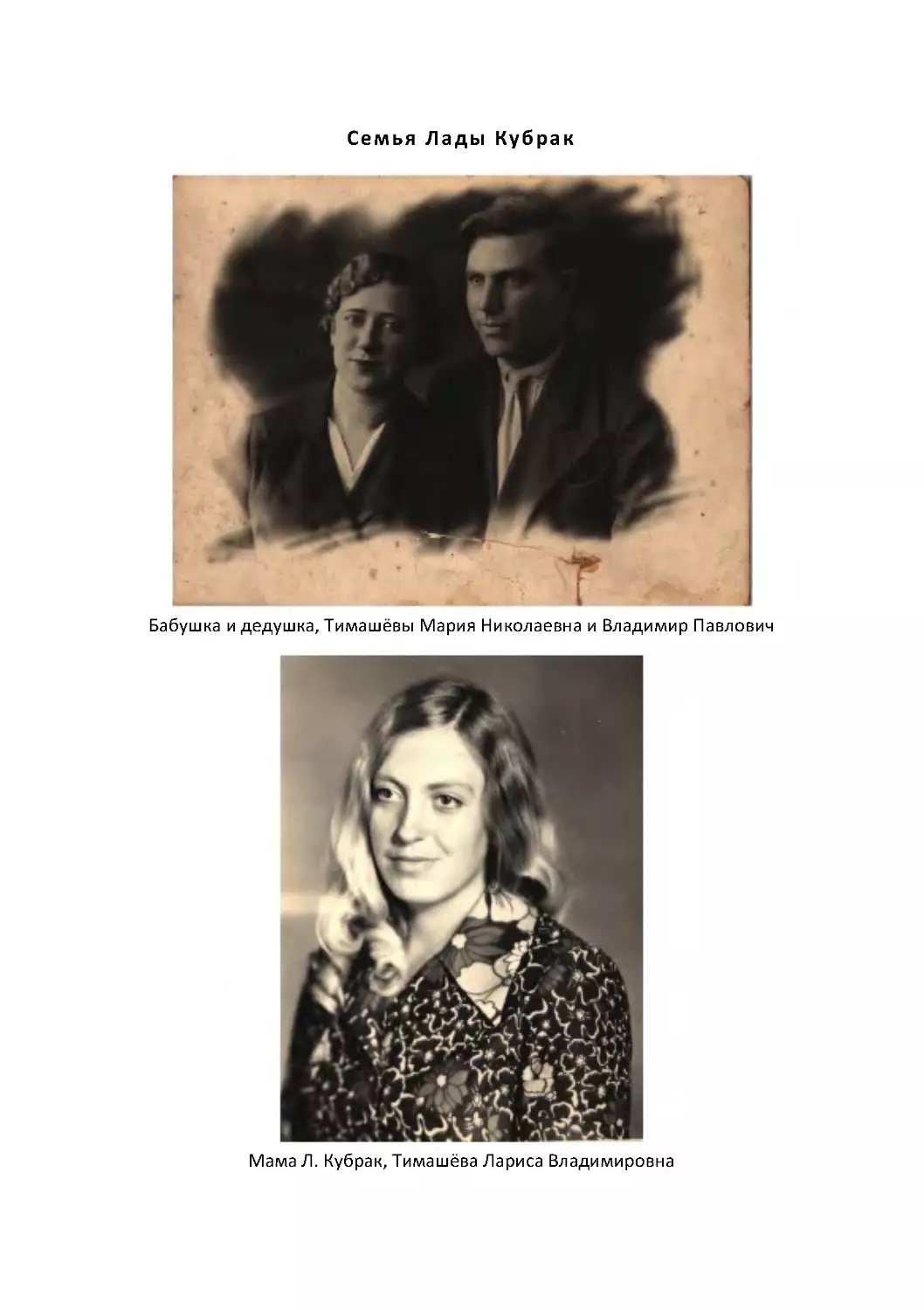Автор: Васильева Н.Е.
Теги: высшее образование университеты академическое обучение просодия стихосложение вспомогательные науки и источники филологии краеведение педагогика высшей школы методика преподавания учебных предметов в вузах литературоведение физическая география семья семейные истории
ISBN: 978-5 -7944-3958-8
Год: 2023
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
100-ЛЕТИЮ ПГНИУ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ
ДИНАСТИИ И СЕМЬИ
Страницы семейных историй
филологического факультета
Пермь 2023
УДК 378.14:801:908(470.58)
ББК 74.58:83:26.82Рос4Пер
Ф545
Ф 545
Филологические династии и семьи. Страницы се-
мейных историй филологического факультета [Электрон-
ный ресурс] / сост. Н. Е. Васильева ; отв. за вып.
Б. В. Кондаков ; Пермский государственный националь-
ный исследовательский университет. – Электронные дан-
ные. – Пермь, 2023. – 44,44 Мб ; 452 с. – Режим доступа:
http://www.psu.ru/files/docs/science/books/sborniki/filologi
cheskie-dinastii-i-semji.pdf. – Заглавие с экрана.
ISBN 978-5 -7944-3958-8
В настоящем издании, завершающем юбилейную серию книг, по-
священных 100-летию университета и филологического факультета,
представлены рассказы частного, семейно-бытового характера. Это
конкретные истории семей, супружеских пар, родителей и детей,
а часто и династий, зарождавшихся на филфаке и связанных с ним не
только памятью о годах учебы, но и сущностно – верностью филологи-
ческому духу, пронесенному и сохраненному в перипетиях жизни, ис-
пытаниях судьбы, творческих и профессиональных поисках. Это линия
живой связи поколений, ее осмысление и развитие, ее вершины и
пропасти, драмы и победы, счастье и беды – жизнь как она есть...
УДК 378.14:801:908(470.58)
ББК 74.58:83:26.82Рос4Пер
Издается по решению ученого совета филологического факультета
Пермского государственного национального исследовательского университета
Ответственный за выпуск
декан филологического факультета ПГНИУ профессор Б. В. Кондаков
Редакционная коллегия:
Е. А. Баженова, Н. Е . Васильева, Т. Б. Карпова, Б. В. Кондаков
ISBN 978-5-7944-3958-8
© ПГНИУ, 2023
© Васильева Н. Е., составление, 2023
© Писорогло Л. Г., оформление, 2023
-3-
ПРЕДИСЛОВИЕ
Университет – это, как показывает жизнь, не только место получения
знаний и храм науки, – но и поле человеческих встреч, дружб, любовей,
романов, страстей, браков, семей. Наш филфак, конечно, не исключение.
Из этого «посыла» и родилась идея – рассказать о филологических семьях
и династиях: как они зарождались и шли по жизни, в чем и как проявлялся
их филологизм, и вообще – что такое филологическая семья, ее особенно-
сти и неповторимые черты, ее уникальность и родственность.
Когда семья становится династией и каковы критерии династии? Ма-
териал книги представляют широкий спектр размышлений по заданной
теме – и это очень хорошо! Мы не стремились унифицировать и ограничи-
вать диапазон мнений какими-либо рамками. Ведь перед нами не науч-
ный трактат, а слово об очень живом и подвижном «субстрате» – семье! –
и чем многообразнее видение и конкретный опыт семейного созидания,
тем, думается, богаче и интереснее коллективная филологическая сага о
наших семьях и династиях.
Авторы книги в большинстве своем «творцы» своих семей и только в
отдельных случаях исполнителями текстов являлись другие лица (журна-
листы или коллеги). Ни один авторский материал не подвергался редак-
торской правке и не шлифовался стилистически – в данном случае непри-
косновенность первозданного материала рассматривалась нами как не-
укоснительный принцип приоритета слова автора. По этой же причине мы
не подгоняли под какой-либо стандарт объем текста и его жанровую при-
надлежность. Поэтому в книге на равных соседствуют повести в 40-50
страниц и эссеистские зарисовки на 2-3 страницах, подробные истории
родословной линии и лаконичные эскизы, страстная публицистика и стро-
гая хроника, исповедальность и философское раздумье.
Этой книгой мы закрываем (точнее, наверное, прерываем?) юбилей-
ное серийное издание, посвященное 100-летию университета и факульте-
та. Но мы не ставим точку в издательской деятельности факультета: жизнь
продолжается и всегда несет с собой новые идеи. Будем жить!
В создании юбилейной серии приняли участие сотни людей (герои
книг, авторы материалов, консультанты-выпускники, родственники, ини-
циативные лица и т. д.), совокупный труд которых заслужил нашей высо-
кой и искренней благодарности.
Н. Е. Васильева
Б. В . Кондаков
-4-
Раздел I.
ДИНАСТИИ
В 1996 году была издана книга Пермский университет в воспо-
минаниях современников. Вып. III. Уральские просветители. Семья
Генкель
1
, где рассказывается о представителях семьи, члены которой
тесно связаны с Пермским университетом с момента создания этого
старейшего на Урале вуза и до настоящего времени. Среди них не-
сколько профессоров, хорошо известных своими трудами биологам,
географам и филологам страны. По учебникам и учебным пособиям,
написанным членами семьи, учились и учатся многие поколения сту-
дентов.
... Прошлое университета, его начало неразрывно связано с име-
нем АЛЕКСАНДРА ГЕРМАНОВИЧА ГЕНКЕЛЯ. О нем, его детях, внуках и
правнуках эта книга...
Значительную ее часть составляет семейная хроника, напи-
санная М. А . Генкель лаконично, ярко, можно сказать, сценарным
языком. Это не только история семьи, рода, но и история русской
интеллигенции, история России на переломном ее этапе, история
одного из старейших вузов Урала, делаемая преданными своей про-
фессии и науке людьми.
Для нас, современных читателей, наибольший интерес пред-
ставляет личность А. Г . Генкеля, одного из основателей первого на
Урале классического университета, видного ученого-биолога, щед-
рой души человека, альтруиста, всю свою жизнь посвятившего нау-
ке, просвещению народных масс; и его личность, его мироощущение
во многом определяло атмосферу создаваемого им вуза.
В его честь Безымянная улица на Заимке переименована в улицу
проф. А. Г . Генкеля, его именем назван ботанический сад, им зало-
женный.
1
Пермский университет в воспоминаниях современников / отв. за вып. А. С . Стабров-
ский. – Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 1996. –
Вып. III. Уральские просветители. Семья
Генкель.. – 1 54 с.: ил.
-5-
Дети, унаследовавшие от отца увлеченность наукой, культур-
ные традиции, интеллигентность, сочетающуюся с демократиз-
мом, активно занимались научной, общественной, популяризатор-
ской деятельностью, отличались артистизмом и душевной щедро-
стью, пользовались и пользуются большой симпатией окружающих.
Семейная хроника, написанная членом этой большой замеча-
тельной семьи, несомненно, несет отпечаток личных настроений,
субъективных оценок. Однако нужно отдать должное автору – в
ней не только емкие характеристики, яркие портреты, но и зари-
совки жизни университета разных лет, штрихи к истории страны.
А научные очерки и воспоминания очевидцев многих событий суще-
ственно дополняют личное повествование М. А. Генкель...
А. С . Стабровский,
директор музея истории университета
М. Генкель,
выпускница 1930 г.
ХРОНИКА СЕМЬИ ГЕНКЕЛЬ, СОСТАВЛЕННАЯ М. А. ГЕНКЕЛЬ
(1993 г., апрель)
ДЕТСТВО
Счастливая, невозвратимая, золотая пора детства!.. Идет война
с Германией 1914–1918 гг., но мы, дети, ее не ощущаем, занятые
своими ребячьими забавами.
Первое впечатление моего детства связано с отцом. Мне было
4 года. Старшие дети болели корью и остались в Петербурге с мате-
рью, бонной и няней. Меня с отцом отправили на дачу в Финляндию.
Обслуживала нас горничная финка Анна-Мари. Помню, как каждое
утро я проводила с отцом в лесу, как он терпеливо учил меня позна-
нию природы: называл растения, обращал внимание на уродливые
наросты на деревьях, на грибы-слизевики («папина каша» – называли
мы их), учил различать голоса птиц. Затем мы вернулись в Петербург.
Помню большую господскую квартиру в Петербурге на углу набе-
режной реки Карповки с очень удобным расположением комнат,
с большой кухней и длинным коридором.
Справа от входа была спальня родителей, рядом комната маль-
чиков, затем комната бонны и трех девочек, комната няни, где поме-
-6-
щалась четвертая девочка Ася. Слева большая комната – кабинет отца,
из нее вход в «фонарик» (маленькая комнатка типа закрытого балко-
на) с витражами. В ней диктофон Эдисона. В большой комнате книж-
ные шкафы, письменный стол, диван, медвежья шкура на полу. Далее
по коридору была столовая, из нее вход в комнату бабушки Анны Ва-
сильевны, вдовы генерала А. И. Макшеева, и ее старшей незамужней
дочери Натальи.
В конце коридора «удобства»: ванна и туалет, справа дверь на
кухню и черный ход.
Режим дня был такой: отец, который всегда вставал очень рано,
завтракал со старшими детьми и уходил на работу, а они в школу.
Младшие с бонной Люцией Ивановной после завтрака шли гу-
лять. Она была латышкой, но отлично знала немецкий язык, разгова-
ривали только на немецком. Когда отец возвращался к обеду, вся се-
мья собиралась за столом.
В те дни, когда у отца не было занятий в университете, он «гово-
рил в трубу», как выражались дети, т. е . наговаривал на диктофон
текст своих статей. Потом приходила машинистка и перепечатывала
этот материал.
В 1916 г., видимо в сентябре, состоялся наш переезд в Пермь. В
Перми встречал дядя Герман, брат отца, который в то время был ди-
ректором 1-й мужской гимназии.
Генкель Герман Германович (1865–1941) – профессор Петербург-
ского университета, специалист по классической филологии, семито-
лог. Был женат, имел троих детей. Герман (Буня), видимо, был в Доб-
ровольческой армии, эмигрировал в Югославию, Анна (Люля) – искус-
ствовед, работала в Эрмитаже, погибла во время блокады Ленинграда,
Надежда уехала до революции с мужем-англичанином в Египет.
Квартира дяди Германа была при гимназии (ныне один из корпу-
сов мединститута на улице К. Маркса).
Был серый осенний скучный день. Ехали довольно долго на трех
извозчиках. Поскольку шла война и в городе было много беженцев, то
с квартирами было трудно. Нам отвели полуподвал на углу улиц Воз-
несенской и Оханской (сейчас ул. газеты «Звезда» и Луначарского).
В 1917 г. мы жили на Торговой (Советской), 32, наискосок от Теат-
рального сада. Расположение комнат было таким же, как в Петербурге.
Воспоминание о февральской революции было как о чем-то
очень радостном. Все (чиновники, студенты, офицеры, гимназисты)
ходили веселые, с красными бантами на груди. Иное впечатление бы-
ло от Октябрьской революции. В день, когда она свершилась, я с ма-
-7-
мой была в гостях у дяди Германа. Вдруг началась стрельба. Мама за-
торопилась домой, но дядя Герман нас не отпускал почти до самого
вечера. Вечером родители свалили в глухой коридор (без окон), кото-
рый разделял квартиру на две половины, тюфяки, и мы, все дети,
улеглись на полу вповалку, что очень нас веселило. Была опасность,
что пули могут залететь в окна. С нами в Пермь приехала няня Дуня.
Зимой 1918 г. отец с Павлом отправились «мешочничать», т. е.
менять в деревне вещи на продукты. Они попали в деревню, занятую
красными. Отец был человеком небольшого роста, плотного сложе-
ния, с полным лицом. Одет был прилично – словом, «буржуй». Его как
«буржуя» красные хотели расстрелять, но местный учитель, знавший
отца, убедил красногвардейцев, что это не «буржуй», а преподаватель.
1918-й вспоминается как очень голодный год. Мы с Дуней ходили
в королевские номера (гостиница купца Королева), где нам по папи-
ному пропуску наливали котелок баланды и давали 2 котлеты из ко-
нины, которые поедали младшие дети, т. е . я и Ася.
Мать сделала попытку уехать в деревню с тремя дочерьми. Мы
(мама, Оля, я и Ася) приехали в деревню Стряпунята, занятую белыми,
и были потрясены после нашей голодовки обилием пищи. С жадно-
стью накинулись мы на чудный ситный хлеб. Прожили там неделю, и
нам все же посоветовали уехать, так как началось наступление крас-
ных и нам, «буржуям», оставаться было опасно. Вернулись. Летом ро-
дители сняли дачу в Верхней Курье и кормили нас огурцами (в неогра-
ниченном количестве) и хлебом небольшими дозами, получаемым по
карточкам.
В декабре 1918 г. город заняли белые. Сразу открылись все мага-
зины вплоть до ювелирных. Всего стало много. Помню, что мама поку-
пала крупчатку, из которой Юзик с Лешей пекли пироги и булки.
Ректор университета отдал приказ об эвакуации. Подготовили к
отправке оборудование, но не вывезли, так как не хватило вагонов.
Погрузили весь личный состав в эшелон и поехали. Помню разговор
между родителями:
Мама: – Я не поеду в эвакуацию. Мы потеряем всех детей.
Отец: – Но ты помнишь, Анечка, как меня красные чуть не поста-
вили к стенке!
Мама: – Ну что же, придется ехать!
Помню очень трудное и медленное путешествие в теплушках.
Мальчики с отцом бегали за кипятком, рискуя отстать от поезда, ибо
сигналы не подавались. Поезд останавливался где попало.
-8-
Помню, как ассистент отца П. Н. Красовский соскакивал на ходу,
срывал какое-нибудь растение и снова запрыгивал в теплушку. Добра-
лись до Екатеринбурга. Там была длительная стоянка. Отец повел нас
в краеведческий музей. Он помещался в Ипатьевском доме. Нам раз-
решили зайти в тот подвал, где была зверски убита царская семья.
Подвал как подвал, но на стене дырки от пуль. Сейчас этот дом снесен.
В марте 1920 г. в Пермь вернулся из эвакуации отец. Его называли
«первой ласточкой». Университет, хотя весь личный состав отсутство-
вал, продолжал работать. Ректор А. С. Безикович пригласил местных
учителей и инженеров в качестве преподавателей вуза, а ГУС (государ-
ственный ученый совет) щедро «выдавал» им звание профессора.
Поселились в своей бывшей квартире, но 3 комнаты были уже за-
няты семьей профессора В. Э. Крусмана. С Крусманятами жили друж-
но, были сверстниками. Гертруде (Тусе) и нашему Павлу было по 17
лет. Это была первая любовь Павла.
Вспоминается 1921-й. Это был год неурожая и страшного голода в
Поволжье, который распространился на всю страну. Мы теперь жили
на Заимке, в красном доме (ныне Генкеля, 4).
Помню, как мы с Лешей выстаивали громадную очередь в сту-
денческой столовой, чтобы получить большую кастрюлю баланды,
кашу-шрапнель (перловку) с минимальным количеством хлеба. Оче-
редь занимал отец (он никогда не получал обед без очереди), а потом
подбегали мы. Зимой ежедневно варили полпуда мерзлой сладкой
картошки. Родители, добрые люди, в 1918-м делились последним с
вдовой ботаника Коржинского, которую отец поселил у себя.
В 1921 году они выписали из Петербурга тетю Талю, погибавшую там
от голода.
(Макшеева Наталья Алексеевна, незамужняя сестра моей матери,
старшая дочь генерал-лейтенанта А. И . Макшеева. По профессии пре-
подаватель русского языка и литературы, литературовед, переводчик,
писательница. Перевела с немецкого воспоминания Мейзенбуг, гу-
вернантки дочерей Герцена. Свободно владела немецким и француз-
ским.)
Тетя Таля пыталась с нами заниматься французским языком; мы
всегда убегали, а затем стали посещать «китайскую пытку» (читали
роман Буссенара «Стрекоза в Китае») по очереди.
Личная жизнь тети Тали не сложилась. Она осталась старой девой
и ушла в религию. Каждое утро она шла к ранней обедне, а по воскре-
сеньям мы шли с ней ко всенощной. Из всех детей нашей семьи только
я одна поддалась ее влиянию.
-9-
Чтобы как-то выйти из этой голодной жизни, завели поросенка
Митьку, мою огромную любовь, и 5 куриц, за которыми также уха-
живала я. Курицы неслись нерегулярно, поросенок сдох в полгода.
Развели кроликов. Кролики сдохли. Эпидемия. Фермерского хозяй-
ства не получилось. Тогда отец организовал ряд субботников на за-
пущенном пустыре перед главным корпусом ПГУ, чтобы посадить
картофель. Но участок был мал для всех университетских. Отец со
свойственной ему энергией выхлопотал большой участок под назва-
нием «Пеньки». Теперь на этом месте расположен мясокомбинат.
«Пеньки» – участок, на котором был вырублен лес, а пни остались.
Пришлось их корчевать. Жены профессоров проклинали отца за этот
адский труд. Зато осенью был снят богатейший урожай, так как земля
была очень хорошей.
В 20-х годах «первопризывники» – так называли профессоров,
первыми приехавших в Пермь, – «слиняли». Они были очень плохо
одеты. Старую одежду износили, новую купить было негде и не на что.
Правда, всегда величественно и импозантно выглядели очень пожи-
лые тогда профессора Бронислав Фортунатович Вериго и Виктор Кар-
лович Шмидт. Они ходили в хороших костюмах, накрахмаленных со-
рочках и при галстуках. Помню профессоров Д. В . Алексеева, А. А. Рих-
тера, А. И . Луньяка, Б. К . Поленова и своего отца в поношенных ватни-
ках и огромных подшитых валенках. Жены профессоров тоже были
одеты плохо и старомодно. Донашивали старые платья, сшитые по
моде 900-х годов, с юбками до пят. Только одна Павла Павловна
Шмидт следила за модой. Пик моды являла собой красивая Лелика,
дочь профессора Симоновича, которая училась на 1-м курсе медфака
ПГУ.
Вспоминается Заимка. Для нас это была не только часть города
рядом с Пермью-II, но и целый мир, университетский мир, с его непи-
саными законами нравственности, общественным мнением, с инте-
ресными докладами в научных обществах, со спектаклями драмкруж-
ка, с веселыми вечерами, маскарадами, коллективным катанием на
«скелетоне» (громадные санки), на лошадях по городу во время мас-
леницы. Студенты и научные работники жили тогда одной семьей.
Например, летом преподаватели-биологи проводили занятия, экскур-
сии, а вечером вместе со студентами (на биостанции в Нижней Курье)
шли купаться в Каме, играть в лапту, городки, крокет. Зимой по очере-
ди собирались на квартире профессоров, читали научные доклады,
пили чай со скромным угощением в виде печенья, которое пекли же-
-10-
ны, участвующие в этих вечерах, особенно на заседаниях ОФИСа
(общество философских и социальных наук).
Общественное мнение Заимки осудило, например, поступок
А. Н . Нефедьева, который развелся с женой и женился на молодой
девушке. Если Нефедьев с молодой супругой приходил в театр, то со
всех сторон на них направлялись лорнеты профессорских жен. Если
Нефедьевы шли в гости, то все дамы демонстративно покидали поме-
щение. В результате Нефедьевы вынуждены были уехать из Перми.
Вместе горевали о красавице химике Анне Александровне Бессо-
новой, отравившейся от безнадежной любви к Д. А. Сабинину. Помню
ее в костюме Коломбины, танцевавшей с «Онегиным», Евгением
Сильвиевичем Данини. Какая была красивая пара!
Душой общества на Заимке в те годы был профессор Дмитрий
Викторович Алексеев. Он был талантлив, блестяще читал лекции по
химии, на которые бегали из города (из Земского дома) даже филоло-
ги. Необыкновенно весело и остроумно организовывал университет-
ские семейные вечера: ставили шарады, танцевали, играли в разные
игры, декламировали. Его школу в этом отношении прошел Алексей
Генкель, ставший впоследствии остроумным и изобретательным кон-
ферансье.
Приметой Заимки были и «огурцы», т. е. 2 группы частной школы
Марии Войцеховны Сабининой, матери профессора Д. А . Сабинина.
«Огурцами» нас называли потому, что ученики были разного возраста
и, следовательно, разных габаритов, от двенадцатилетнего Андрея
Рихтера до восемнадцатилетнего Бориса Кунгурцева. Мария Войце-
ховна не сработалась с администрацией железнодорожной школы и
уволилась, уведя с собой десяток учеников. Набрала еще несколько
переростков, отставших от сверстников по тем или иным причинам,
предложила родителям научных работников отдать своих детей в ее
школу, чтобы им не бегать в город, который находился в 5 километрах
от вокзала Пермь-II и университета. В этой школе учились Андрей Рих-
тер, Мария Генкель, Ваня и Леля Луньяк и другие.
В 1922 г. отец с помощью своих уже подросших детей создал бо-
танический сад, отгородив забором часть пустыря перед главным кор-
пусом. Садовник Ян Янович Гиршфельд говаривал: «Вот это наш уча-
сток, дальше Кромера (профессор-фармацевт), а там вражеска терри-
тория», т. е. участок Рихтера, которого отец не любил. Единственный
рабочий, некто Головушкин, почти ежедневно обедал у нас.
Мать: – Головушкин, вымойте руки перед едой!
Головушкин: – Зачем же, Анна Алексеевна? В свой же рот пойдет.
-11-
В саду отец выращивал громадное количество цветов, которые
мы обрывали, чтобы поднести букеты любимым артисткам; разные
экзотические растения (обмен семенами происходил со многими
странами мира), которые позже перевели в выстроенную теплицу.
Полуразвалившаяся, она сохранилась до сих пор.
Отец находил в главном корпусе студентов, болтавшихся без дела
в коридорах, приводил их в ботанический кабинет, усаживал за боль-
шой стол и раздавал им семена, которые они паковали в пакетики.
Сам же он в это время развлекал их рассказами о своих экспедициях,
смеялся, шутил с ними, и они были довольны.
На Заимке была сочинена коллективными усилиями комическая
поэма. Вот некоторые куплеты:
Соль земли
Вот наш маленький Федотик
Бодро открывает ротик,
По Японии шагает
И червей всех собирает.
Вот Полканов, муж певицы,
Красотой как царь-девица!
Вот профессор наш Луньяк:
Не то чех, не то словак.
Спирт казенный дует лихо,
А насчет науки тихо!
Генкель тянет воз с семьей,
Заварзин – свинья свиньей!
Федотов в 1916 г. съездил в Японию и привез большую коллек-
цию червей. Характеристика Заварзина, конечно, не верна. Это был
крупнейший ученый, хороший человек и прекрасный администратор.
Его ассистенты – Лазаренко, Данини и Орлов (впоследствии ака-
демик) – души в нем не чаяли.
В 1923 г. начался НЭП. Все ожили. Как по мановению палочки
появились продукты, стабилизировалось денежное обращение. Счет
пошел уже не на миллионы, а на рубли и червонцы. Бывало, раньше
просишь: «Мама, дай лимончик (миллион) на мороженку».
Мы стали хорошо питаться. Каждую пятницу мама отдавала мо-
нашке Верочке пуд крупчатки, масло, яйца, и на другой день она при-
носила испеченные пироги и шаньги.
Два дня студенческая молодежь, друзья брата и старших сестер,
поедала эту стряпню. В доме всегда было шумно и весело. Однажды
на святках ввалилась компания человек в 30 (мы уже жили на 3-м эта-
-12-
же красного дома, где в зале могли танцевать одновременно 15 пар) в
облике колоды карт.
Но веселая компания скоро распалась. В 1923 г. была произведе-
на «чистка студенчества» с целью пролетаризации вуза. Первая волна
пролетаризации произошла в 1921 г., когда в ПГУ влили студентов
ПИНО (Пермский институт народного образования). Это был карлико-
вый вуз, который не имел ни своей площади, ни своих кадров, поэто-
му его и слили с педфаком университета. В 1923 г. под флагом борьбы
с «белоподкладочным», аристократическим студенчеством была ис-
ключена почти вся интеллигенция, например, дети агронома братья и
сестра Янчевские, С. Колотова, дочь мелкого торговца, дети священни-
ков Серебренников и Степанов и др. В компании по чистке активную
роль играл председатель студенческого исполнительного бюро Васи-
лий Тиунов, впоследствии, с 1951 по 1961 г., ректор университета, ко-
торый, возможно, всю жизнь считал, что совершил подвиг, «очистив
вуз от буржуазии».
Уцелела в период «чистки» Евгения Андреевна Заварыгина, дочь
адвоката, потому что Тиунов пожалел ее. Е. А. Заварыгина училась на
историческом отделении ФОНа (факультет общественных наук), затем
педфака, писала диплом на тему «Социальный состав героев романа
Д. Н . Мамина-Сибиряка». Впоследствии я привлекла ее к работе над
«Словарем» писателя: она помогала мне в технической работе и стала
моим верным другом.
Исключенные студенты тяжело переживали эту несправедли-
вость. Степанов сошел с ума. Некоторые покушались на самоубийство.
Группа студентов (12 человек) написала письмо Н. К . Крупской, и вско-
ре они были восстановлены. Среди них была и С.С
. Колотова, впо-
следствии кандидат биологических наук, научный сотрудник ЕНИ (ес-
тественнонаучного института при ПГУ).
ТРИДЦАТЫЕ – ГОДЫ СТРАХА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕПРЕССИЙ В СОРОКОВЫЕ
В 1933 г. я жила в Москве и работала в районной библиотеке. Од-
нажды ко мне пришел пожилой гражданин и сказал:
– Я работаю во Фрунзенском райкоме партии. Просматривая спи-
ски служащих, составленные на предмет чистки аппарата, я наткнулся
на вашу фамилию. Вы не дочь Александра Германовича Генкеля?
– Дочь.
– А я его кузен Адольф Шнабель. Вскоре он ушел, а я, очень испу-
ганная (какой аппарат? какая чистка?), звоню маме.
- 13-
– У папы был кузен Адольф?
– Да, конечно. Добрейший и милейший человек!
Адольф был большевиком, активным участником революции
1905 г., а после ее поражения эмигрировал в Америку, где стал рабо-
чим завода. Когда мы встретились, ему было за 50, а жене Рае лет 27.
Адольф, который стал часто заходить на Трубниковский (семейное
гнездо, где в семье зятя жила мама), шутил: «Рая моя седьмая жена,
но не последняя».
Я тоже часто забегала к ним. Как-то вечером я была у Адольфа.
Послышался громкий стук в дверь. Вошли чекисты и стали произ-
водить обыск. Они усердно искали золото, которое он якобы привез из
Америки. Какое золото могло быть у простого рабочего? Адольфа
вскоре арестовали, а за квартирой была установлена слежка. Соседи
Шнабелей предупредили нас, что забирают всех, кто приходит в эту
квартиру. Адольф исчез бесследно. Раю мы потеряли из виду.
Сергей Васильевич Фрейганг, кузен моей матери, был посажен и
исчез бесследно, а семья из Петербурга была выслана в Старицу. Сам
дядя Сережа – скромный банковский служащий, жена его домохозяй-
ка, дочери-инвалиды. В Старице тетя Нина сдала обеих в инвалидный
дом, который во время войны уничтожили немцы. Я посылала им
деньги через тетю Талю, так как отправлять посылки «врагам народа»
было невозможно.
В январе 1938 г. я выехала из Перми в Москву для защиты канди-
датской диссертации. Вскоре в Москву приехала моя коллега по ка-
федре (обе мы работали в пединституте) и настойчиво уговаривала
задержаться в Москве, так как в Перми шли массовые аресты лиц, у
которых фамилия начинается с буквы «Г». Но поскольку защита со-
стоялась и командировка кончилась, я рискнула вернуться домой.
Один знакомый (Павел Малышев), арестованный в 1938 г., во
время допроса краешком глаза подсмотрел на столе следователя ор-
дер на арест Павла Генкеля, о чем и рассказал нам потом, когда вышел
из тюрьмы. Павел не был арестован. Может быть, среди чекистов был
ученик отца, который оберегал нашу семью?
Очередь на лиц, имеющих фамилию на букву «З», подошла к
концу февраля. Были «взяты» немки Зейдлиц, Земсдорф и др.
23 февраля после торжественного заседания ночью дома был аресто-
ван наш заведующий кафедрой Иван Михайлович Захаров.
Иван Михайлович был знатоком русского языка, его научной
грамматики и стилистики. Его ученица М. Н. Кожина пишет: «Он был
удивительный педагог и человек: строгий, требовательный, разви-
- 14-
вающий в нас творческую мысль и в то же время добрый и внима-
тельный». Начал он с работы в реальном училище, потом в педтех-
никуме, в пединституте, а в 1946 г. в университете, где организовал
кафедру русского языка и общего языкознания. От своих коллег,
«девчурочек», как он их называл, требовал творческой деятельности,
не давал расслабляться. Степень кандидата филологических наук ему
дали по совокупности его работ. Ивана Михайловича осудили по 58-
й статье (контрреволюционная пропаганда) на 5 лет. Он потом рас-
сказывал нам страшные вещи. В тюрьме в камере стояли вплотную,
нельзя было ни лечь, ни сесть. Окна были забиты досками, люди за-
дыхались, теряли сознание, умирали, но продолжали стоять. Вскоре
он совершенно потерял силы: дистрофия. Его перевели в тюремную
больницу. Однажды его вынесли в коридор и отгородили ширмой.
Он лежит и слышит разговор: «Надо дать знать на волю, что умер
профессор Захаров».
Он испугался, что эта новость дойдет до его жены, стал требовать
врача, настоял, чтобы его снова вернули в палату. Так железная сила
воли, воля к жизни победила смерть! В лагере он работал в бухгалте-
рии, жена слала посылки, и он благополучно отбыл свой срок. И . М .
рассказывал о перекрестном допросе, при котором следователи ме-
няются, а подследственный стоит под светом электрической лампы
без еды и сна столько часов, сколько может выдержать. И . М . выдер-
жал 48 часов, а потом все-таки подписал протокол. Посажен он был по
доносу студента, которому в свое время поставил двойку.
Меня и Ефимова, который стал заведовать кафедрой, вызывали и
допрашивали по поводу Захарова. Ефимов повел себя умно, сказал,
что был в плохих отношениях с Захаровым, но уверен, что контррево-
люционной пропагандой тот не занимался. Я, как дурочка, битый час
рассказывала о том, какой хороший Захаров. В протокол записали
только следующее: «Знакома с Захаровым с 1930 г. Работать с ним
начала с 1937 г.» – и все.
В университете был профессор Щеглов – философ, доктор наук.
Когда он оказался в лагере, то, узнав, что он «доктор», ему поручили
лазарет, в котором был только йод и марганец, и он лечил как умел.
Мой соученик, Борис Кунгурцев, вошел в тюрьму здоровым мо-
лодым человеком, а вышел инвалидом с перебитым позвоночником и
на костылях.
К весне дошла очередь до буквы «Ш». «Взяли» Ирму Шмидт, учи-
тельницу немецкого языка, Клару Шпар, преподавателя пединститута,
Нину Шульц, которую скоро выпустили, так как она была русская,
- 15-
Шульц по мужу. Пришли к юной библиотекарше нашего пединститута.
Она была беременна. Мать ухватилась за нее, закричала: «Не отдам,
не отдам! Приходите, когда родит». Чекисты повернулись и ушли, уже
начался некоторый спад арестов.
Ужасное время! Все в душе возмущались, но боялись что-то ска-
зать вслух. Ночами спали плохо, ожидая громкого стука в дверь. Не
чувствуя за собой никакой вины, боялись ареста. Ночью страх, днем
страшное напряжение, чтобы не сказать неосторожного слова. В Ста-
лина верили как в бога, были уверены, что он ничего не знает, считали,
что во всем виноват Ежов.
В 40-х годах был репрессирован Василий Васильевич Парин. Ко-
гда-то студентом Вася Парин часто бывал в нашем доме. Впоследствии
он стал заместителем министра здравоохранения. По делам службы
Парин часто ездил в США. Его обвинили в том, что он продал в США
секрет изготовления препарата от рака (до сих пор еще не открыт!), за
что получал 15 долларов в сутки. Об этом он потом со смехом расска-
зал своему приятелю Павлу Генкелю.
Был выпущен фильм «Суд чести», где главным героем был «из-
менник» Парин. Впоследствии Парин стал академиком и знаменитым
космофизиологом, отправлял Ю. Гагарина и других космонавтов в по-
леты.
Алексей Иванович Богословский, будучи на фронте, попал ране-
ным в плен, был заключен в лагерь, откуда бежал. Добрался до Пари-
жа. В Париже работал психологом в какой-то психотехнической лабо-
ратории, участвовал в движении Сопротивления. Был арестован в кон-
це войны и осужден на 15 лет. На реке Чусовой, на одном плоту, на
котором этапировали арестантов, встретились два однокашника Вася
Парин и Леша Богословский. Оба худые, изможденные, обросшие.
Почти у всех моих подруг мужья были репрессированы. У Ирины
Алексеевой муж был китаевед. Его обвинили в шпионаже в пользу
Китая. Не вернулся. Муж Мили Артемьевой, брат писателя Ивана Ка-
таева, был «прихвачен» чекистами, когда ночевал у брата, которого
пришли арестовывать. Оба не вернулись. Брат Тани Колпенской, ши-
зофреник, публично ругал советскую власть. Его арестовали, и родные
извлекли его из Бутырок только через 10 месяцев поисков. Репресси-
рована была и семья кузена моей матери Сергея Фрейганга, о чем я
уже писала.
В 1933 г. моя сестра Нина совершила подвиг. По просьбе своего
мужа-инвалида Н. Моисеева она поехала в самое «логово зверя», т. е .
в лагерь в районе (насколько я помню) Великого Устюга, чтобы навес-
- 16-
тить философа А. Ф. Лосева, их друга. Путешествие было очень тяже-
лым: несколько пересадок, тяжелый груз и пр. Сначала она посетила
жену философа, снабдила ее продуктами, потом поехала к нему, и он
узнал, где его жена и в каком она состоянии. По ходатайству
М. И . Ульяновой через год А. Ф. Лосев был освобожден.
ГОДЫ СОРОКОВЫЕ. ВОЙНА
22 июня 1941 г. мы с мужем были за городом. Вечером сели в по-
езд и заметили, что весь народ взбудоражен. Война!!!
(Мой муж Воронов Анатолий Георгиевич (1911–1995) – биогео-
граф, геоботаник, медико-географ. Основные научные исследования
лежат в области исследования мышевидных грызунов Камского При-
уралья, Дагестана, Казахстана. Окончил аспирантуру при МГУ, был на-
правлен по распределению в Пермский пединститут, затем перешел в
Пермский университет. С 1952 г. – профессор кафедры биогеографии
МГУ. С 1953 г. – заведующий этой кафедрой; заложил основы нового
направления в географии – «медицинская география», издал «Биогео-
графию мира».)
Война сразу изменила жизнь нашей большой семьи.
Нина, сестра, уехала в эвакуацию с детьми и потеряла мужа.
Мария, жена Павла, отправила детей в Пермь, а сама осталась в
Москве, тем самым сохранив семью.
Галя, жена Алексея, мигом отфутболила детей Павла ко мне, бо-
ясь, что они застрянут у нее. Взяла жилицу, которая «украшала» ей
жизнь 25 лет. Спрашивается, кто из них поступил всего разумнее? Оче-
видно, Мария, очень умная женщина. Своих детей перед Новым го-
дом Павел забрал и увез во Фрунзе, куда был эвакуирован.
До нового года мы продержались на старых запасах, кое-что еще
продавали в магазинах. С нового года начался настоящий голод.
Самым голодным был 1942 г. Весной мы посадили картофель, и
это спасло нас.
С 1943 г. начали отоваривать кандидатов наук в специальном
распределителе. Помню, как ассистент Смирнов подал декану геофака
отчет о научной работе: «За 600 грамм никакой научной работы не
дам, пусть дает тот, кто получает 800».
В 1943 г. у меня родилась дочь Татьяна, которая была «вскормле-
на» на одном супе и чае. Тем не менее она весила 4 кг. Но у нее не вы-
росла одна почка, о чем она узнала, лишь когда ей исполнилось 40 лет.
Утром я работала (по совместительству) в ПГУ, вечером в ПГПИ.
С утра бежала 5 километров до университета, так как мы жили в го-
- 17-
роде. Возвращалась, получала в столовой обед для семьи и снова
бежала на Заимку, куда, в нынешний географический корпус, пере-
ехал пединститут, поскольку в помещении ПГПИ на Карла Маркса, 24
разместился госпиталь. В результате такого режима родила Таню за
15 минут, но получила осложнение и провела в родильном 3 недели.
Помню, как мучительно все время хотелось есть, но хлеб (1 кг) на
рынке стоил 100 рублей, литр молока 100 рублей, а свекровь не посы-
лала мне ни хлеба, ни молока: «Дорого!».
Хозяйство вел муж, который с гордостью рассказал, что отдал все
долги. Но чего это стоило? Дети осунулись, мать стала покрываться
нарывами, похудела домработница Маня, взятая на предмет обработ-
ки нашего огорода. Лена по ночам кричала: «Леба леба», и на ночь
стали ей оставлять кусочек хлеба. Однажды я потеряла все хлебные
карточки. Это была трагедия! Пошла в обком к Б.Н
.Назаровскому,
моему бывшему преподавателю, и он помог мне их восстановить.
В июне 1944 г. я выехала на диалектологическую конференцию
вВологду. Я была так истощена, что меня называли «женщина без
возраста», то ли 30, то ли 50? Только через 2 недели (нас кормили
очень хорошо) поняли, что я молода.
В годы войны люди очень хорошо относились друг к другу, помо-
гали. Никаких склок и ссор не было. Была одна мысль: скорее дож-
даться победы. Необыкновенно хорошо учились студенты. Они все и
учились, и работали (иначе было бы не выжить), и усердно занима-
лись. А ведь были еще и субботники: то вылавливали бревна из Камы,
чтобы накормить ненасытную кочегарку, то выгружали вагоны на
Перми II, то работали в госпиталях. Быт того времени отчасти отражен
в студенческом гимне-кантате филологов.
Расцветали яблони и груши,
Занялся над Камушкой рассвет,
Выходили на Берлин «катюши»,
Мы кончали университет.
ас растила староста Катюша,
Нам Обнорский «Энеиду» пел,
Нас кормил горошницей Добрушин,
Добавляя шпиг на УДП.
(Добрушин – завхоз . УДП – усиленный дополнительный паек.)
Нам читали польский и немецкий.
Не щадя ни времени, ни сил;
Нам Б. П . – профессор Городецкий,
Все секреты Пушкина открыл.
- 18-
Перед нами щеголял Мокульский,
Нам Захаров отдавал досуг,
Все мы – дети Диночки Мотольской,
Ведь она – наставник наш и друг.
Пас пленял Паратов – Марцинкевич,
На Ларису глядя, как пират,
Нам Шабранский, Окунев, Радкевич
посвящали жар своих баллад.
Сам Ботвинник или сам Ильинский
Забегали к нам «на огонек»,
А сильфиды сцены Мариинской
Нам дарили трепет нежных ног.
Никогда не били мы баклуши,
Мы срубили мегатонны дров,
Заучили мы, «солены уши».
Миллионы лекционных слов.
Знали мы все лучшее на Каме:
Альманах «Прикамье» и «Звезда»,
Бредили мы все Березниками,
Слушали далекие суда.
От Перми второй до Разгуляя,
От Заимки к самому ВМАТУ,
Мы, ночами в праздники гуляя,
Распевали песни на ветру.
Мы юны, и все нам будет внове,
Чудеса подстерегают нас,
Ждет Владимир Шуру Вишнякову,
А Туневу Катю – Арзамас.
Новые откроет жизни грани
Валя, позабыв про «месяца»,
И забросит мелодраму Франя,
Лингвоведов гордость и краса!
Женю ждут Егорову картины,
Савинов ей все отдать готов:
Всех полотен диапозитивы;
Пантеон березовых богов.
Ждут кого-то юрты на Тянь-Шане,
Школы, клубы на Неве-реке,
А пока мы все – молотовчане
И вступаем в жизнь налегке.
- 19-
Вышли мы из лет огня и стали,
Мы пройдем через столетий дым,
Свой журнал мы «Молодость» назвали.
Значит, быть нам вечно молодым.
Расцветали яблони и груши,
Занялся над Камушкой рассвет,
Ты нам дружбу подарил и душу,
Вечно здравствуй, Университет!
Начиная с весны 1943 г. я оставалась одна с тремя детьми. Все
эвакуированные разъехались по домам. Муж находился в докторанту-
ре в Ленинграде. Помню, как оставляла Таню грудную одну, а сама
бежала в пединститут к заочникам. Прибежишь к ней через 3 часа,
покормишь и снова бежишь на лекции. И почему-то никакого страха за
ребенка не было. А затем последовал период яслей. Таня ухитрилась
переболеть всеми детскими болезнями. Мы жили в доме, переделан-
ном из склада магазина купца Агафурова. Электричество на ночь вы-
ключали, и крысы бегали по дому. Однажды крыса укусила Таню
за палец. Пришлось ее, полуторагодовалую, таскать на улицу Матвее-
ва в Бакинститут на прививки.
– Таня, кто тебя укусил?
– Мысь!
Отдала ее в круглосуточные ясли. На выходные брала домой.
Иной раз бредешь: холод, метель. Трамваи не ходят. А ты бредешь
от Хохрякова до Куйбышева, через весь город! Как-то раз просыпа-
юсь совершенно больная, температура 39,5, а у меня публичная лек-
ция в совпартшколе. Отменить невозможно, никто к телефону не
подходит, рано еще. Потащилась, прочла лекцию, прибрела в педин-
ститут. Температура упала до 36. Декан (профессор Боголюбов – ли-
тературовед, занимался творчеством Мамина-Сибиряка) отправил
меня домой. Он всегда был добр ко мне. Если я забывала, что у меня
третья пара, то он говорил студентам: «Я ее отпустил, потому что она
– к ормящая мать».
На другой день после этого случая принялась за домашние дела.
Вдруг приходит профессор А. В. Селезнев, терапевт: «Меня вы-
звали к вам, сообщив, что вы при смерти, а вы уже на ногах?»
Осмотрел и сказал:
–Завтра, раз вы не хотите ложиться в клинику, придите тогда
на рентген.
-20-
А как же мне ложиться? Куда девать детей? Пришла на другой
день в клинику. Селезнев показал меня студентам и сказал:
– Эта женщина с железным сердцем. Она перенесла пневмонию
на ногах. Но надо ей еще недели две полежать.
Сейчас, вспоминая, я поражаюсь, как могла выдержать образ
жизни, который вела во время войны. Вставала в 3 часа ночи и до 7
готовилась к лекциям. Затем собирала своих девочек в ясли и садик, а
сына в школу. Вечная спешка! Отрываются пуговки у лифчиков, рвутся
шнурки у ботинок. Лена – пренесносный ребенок, закатывает свой
первый в день скандал. Таня, спокойная, флегматичная, покорно оде-
вается. Затем читаю 4 или 6 часов лекций. Бегом мчусь домой. По пути
нужно получить хлеб по карточкам, «корм» в молочной кухне, продук-
ты в распределителе. Всюду лезу без очереди, так как спешу к приходу
Гарика из школы. Затем домашние дела, извлекаю девочек из яслей и
садика. И в 10 часов вечера камнем падаю в постель.
Меня, обремененную детьми, в те годы не посылали ни в кол-
хоз, ни на субботники. А всем моим товарищам было трудно! Муж-
чины косили сено в колхозах, заготовляли дрова для института.
Женщины работали в госпиталях; помимо учебной нагрузки читали
лекции на вокзалах солдатам, уходящим на фронт. Работали очень
много и очень дружно, помогали друг другу. Анатолий Воронов с
группой студентов пригнал из Казани стадо лошадей и коров. Уехали
в Казань они летом, а пришли (пешком) в октябре. Питались хорошо,
так как был падеж жеребят, но очень мерзли. Это была героическая
эпопея! Пригнали стадо в город, пединституту отдали трех коров для
подсобного хозяйства и одну лошадь. Директор пединститута
В. С. Павлюченко мне и еще одной роженице-студентке ежедневно
присылал по литру молока.
Война кончилась.
Оставила сыну записку: «Гарик! Ура! Война кончилась! В школу
Можно не ходить!» Побежала в институт. Там все, счастливые, радост-
ные, обнимались и целовались. Пришел конец нашим мученьям!!!
МАРИЯ
Я родилась шестым ребенком в 1910 г. Во время крестин священ-
ник чуть не утопил меня. Спасла крестная мать тетя Геня Сенявина.
Росла я странным, молчаливым, застенчивым ребенком. На даче
вФинляндии с утра уходила в гости к соседям-латышам Аусдерспе-
дерсам, где был мальчик, мой ровесник. Мечтала поступить к ним в
«дочки». Любила бегать к бабушке (А. В. Макшеевой) на дачу, которая
-21-
была неподалеку. Врезались в память два случая: оказалась на шоссе в
середине стада коров, очень испугалась; велосипедист сбил меня на
дороге, привез домой, где мама, обследовав меня, убедилась в том,
что все кости целы. Себя помню лет с четырех, когда осталась с отцом
на даче (см.: сб. Отчий край. Пермь, 1987. С. 207).
В 1915 г. отец, приехав с фронта, нежно поцеловал меня и уколол
при этом своей бородкой. Я обиделась, не захотела с ним разговаривать
и не говорила с ним почти два года. Заговорила только тогда, когда по-
терялась на вокзале в Петербурге при переезде в Пермь. Увидев отца, я
с криком «Папа, папа!» бросилась к нему. Обет молчания был нарушен.
В Перми Оля начала меня учить грамоте, дело кончилось слеза-
ми. Я не хотела учиться. Тогда Оля нашла интересную книжку и при-
охотила меня к ней. В 8 лет я держала экзамен в 3-й приготовительный
класс Мариинской гимназии. Экзамен был по русскому, арифметике и
Закону Божьему. Шла война, почти все здание было отдано под госпи-
таль. Малыши учились в коридоре, отгороженном от лазарета перего-
родкой. Подружилась с Тамарой Дружининой. Она стала приходить к
нам в гости, и мы часами молча играли в куклы, удивляя моих разго-
ворчивых братьев и сестер. С переездом на Заимку поступила в же-
лезнодорожную школу, а затем в частную школу М. В. Сабининой. За-
тем перешла в 8-й класс 11-й школы, помещавшейся в здании бывшей
Мариинской гимназии (ныне здание с/х академии). В школу ездила на
поезде-передачке с Перми-II на Пермь-I. Этот год в 11-й школе был
годом «великих страданий». М . В . плохо подготовила меня по матема-
тике, да и математик в школе был плохой, но очень придирчивый. Без
конца я получала двойки. Сам он решал задачи с «ключом» к задачни-
ку. Когда мальчики украли у него «ключ», он оказался беспомощным.
Выручала Нина Космортова, отличный математик. «Космортова, к дос-
ке!» И Нина решает и объясняет товарищам ход задачи. Смертельно я
боялась обществоведа Филиппова, боялась от страха ему отвечать,
снова следовали двойки. У нас был Дальтон-план, т. е . бригадно-
лабораторный метод. 6–7 человек готовили один доклад. Я была ак-
тивна во время подготовки доклада, но не могла выговорить ни одно-
го слова в присутствии Филиппова. Чтобы избавить меня от тяжелых
переживаний, отец перевел меня в другую школу, в которой я стала
хорошей ученицей даже по математике.
В 16 лет в 1926 г. я с разрешения министерства (принимали толь-
ко с 17) поступила на отделение русского языка и литературы ПГУ.
Обучение продолжалось 3,5 года. Курс был выпущен досрочно,
без сдачи госэкзаменов и выполнения дипломной работы. Окончив-
-22-
шие уже в феврале 1930 г. разъехались по разным городам. Я по рас-
пределению в связи с болезнью (опущение правой почки – результат
травмы на катке) выехала только в августе 1930 г. Работала в ФЗС
(фабрично-заводская семилетка) в Екатеринбурге в течение 1930/31
учебного года. Мне едва исполнилось 20 лет, опыта не было, и препо-
давание мое было не на уровне, тем более, что дисциплина на уроках
отсутствовала. И стул мне подпиливали, и дохлую кошку подвесили к
лампе пятиклассники, и все в таком роде...
Через год вернулась в Пермь и стала преподавать на курсах ДРО
(дополнительное рабочее образование) на заводе им. Ф. Э . Дзер-
жинского. По семейной традиции организовала драмкружок с моло-
дыми рабочими и почти каждый день с 12 до 3 ночи репетировала с
ними. Они работали до 12 ночи. Несколько раз выступали успешно в
клубе «Госторговли». Я была молода, недурна собой, окружена по-
клонниками. С завучем курсов А. В . Сошиным ворковала на работе,
затем бежала в оперный театр, опаздывая каждый раз на 1-й акт, где
меня ждал Андрей, бывший эсер, сосланный в Пермь. По возвраще-
нии из театра аспирант Павла Е. И. Бутылин провожал меня в 12 ночи
на завод, а в 3 часа встречал и уводил домой. Ухаживали за мной и
журналист С. С . Балахонов, и другой сосланный в Пермь бывший эсер
Виктор Софронов.
Запутавшись в сложных отношениях с Сошиным, который пытался
шантажировать меня самоубийством (то он застрелится, то пойдет в
ледоход через Каму и т. д.), а сам заливал горе (любовь без ответа) вод-
кой, я решила ускорить свой отъезд из Перми. Сошин исчез со всеми
документами СТАНКИНа (станкоиструментальный институт), который
должен был открыться при заводе. Меня вызвали в отдел кадров заво-
да, попросили его найти. Искать я его отказалась и попросила отпустить
меня с завода. Он был им нужнее, чем я, и меня отпустили. Дома был
собран семейный совет. Мария, жена Павла, высказалась в пользу Со-
шина, за замужество, мама жалела и меня, и его. (Утром, выходя на ры-
нок, она смотрела по сторонам, ища глазами труп Сошина.) Павел ска-
зал, что Сошин не будет пить 2 года, а затем сорвется. Алексей выразил
предположение, что он напьется уже на свадьбе, а через 2 недели нач-
нет меня бить. Решено было Сошину отказать раз и навсегда.
Я уехала, но долго тосковала о нем, а он утешился... водкой!
И, конечно, не приехал.
Начала в Петербурге работать на заводе «Красногвардеец», но
через 3 недели вынуждена была покинуть город, так как заболела ту-
беркулезом открытой формы. Переехала в Москву. Два года работала
- 23-
в районной библиотеке, не решаясь подать документы в аспирантуру
при Институте В. И . Ленина (тогда А. С . Бубнова). Наконец встретила
И. М . Захарова, который в то время жил и работал в Москве.
Он предложил мне посещать летние курсы усовершенствования
учителей, где сам читал лекции, уговорил подготовиться к экзамену в
аспирантуру. Экзамены я сдала. В институте столкнулась с коварством
и подлостью, которым нет имени. Едем с одной аспиранткой сдавать
экзамен. Она выходит на остановку раньше, чтобы забежать к своему
шефу, заведующему кафедрой русского языка профессору И. В . Усти-
нову. Я получаю на экзамене тот билет, который не успела подгото-
вить, о чем она прекрасно знала и сообщила шефу. Я проваливаю эк-
замен и два месяца болтаюсь без дела, так как меня отчислили из ас-
пирантуры. Приезжает из отпуска мой научный руководитель и доби-
вается моего восстановления. До защиты остается всего 7 месяцев, но
я успеваю сделать работу, сдаю ее. Однако уже июль, ученый совет
распущен, и защиту переносят на осень.
В 1938 г., в январе, я успешно защищаю диссертацию. Единогласно
присуждают степень кандидата наук, но через некоторое время тот же
Устинов подает в ВАК «особое мнение» по поводу идеологических оши-
бок в моей работе, в которой почти нет ссылок на «марксистское» уче-
ние академика Марра, которого впоследствии «разгромил» И. Сталин.
Работу направляют на рецензию академику Л. В . Щербе. Он дает
положительный отзыв, Устинов получает выговор от министерства «за
легкомысленное отношение к молодому специалисту», а я полгода
живу в смятении, ожидая утверждения.
Вспоминается 1 декабря 1934 г. Я лежу с очередным воспалением
легких в своей комнате в общежитии на Усачевке. Убит Киров. По ра-
дио траурная музыка, а мои сожительницы шипят: «Вот такие интелли-
генты и убивают наших вождей». Причина всех моих бед в том, что я
молода, имею жениха, учусь легко, а эти девы маются с учебой, оди-
ноки, а потому озлоблены и завистливы. Не все аспиранты-филологи
выдерживали тот «напор» языков, которым нас учили: латынь, грече-
ский, старославянский (болгарский), польский, немецкий.
Некоторые бросали аспирантуру на 1-м курсе. Я же училась шутя,
веселилась, вызывая зависть своих коллег.
С горечью вспоминаю годы аспирантуры не только в связи с не-
приятностями в институте, но и домашними неурядицами. Из влюблен-
ного жениха Анатолий превратился в мужа-деспота. Он ревновал меня
не только к теперь уже мифическим поклонникам (подруги называли
меня «королевой в изгнании»), но и к матери, сестрам, подругам. Его
- 24-
мать придиралась ко мне. После первого года моей жизни у Вороновых
свекор поцеловал мне руку, заметив, что ни одна женщина в мире
не ужилась бы с его женой, а я сумела избежать конфликтов с ней.
Начала работать в Пермском пединституте. Мне предложили
на выбор 12 квартир. Я выбрала большую 3-комнатную во дворе об-
щежития института.
Сначала мои научные интересы лежали в области русской диа-
лектологии. В декабре 1939 г. выехала со студентами в диалектологи-
ческую экспедицию, положившую начало регулярной работе по сбору
материала для «Атласа русских народных говоров». В 40-х годах нача-
ла изучение языка и стиля Д. Н. Мамина-Сибиряка. Опубликовала ряд
статей, а затем перешла к изучению статистики речи, совершив полное
обследование текста романа писателя «Приваловские миллионы».
Итогом работы явился «Частотный словарь романа Д. Н. Мамина-
Сибиряка “Приваловские миллионы”», вышедший из печати в 1974 г. В
газете «Звезда» была дана оценка этому труду в статье под названием
«Уникальный словарь».
Поняв, что в пединституте я начинаю постепенно деквалифици-
роваться как ученый, в 1956 г. перевелась в ПГУ. Здесь мне импониро-
вала творческая атмосфера, которую создавал заведующий кафедрой
русского языка и общего языкознания И. М . Захаров. Все «девчуроч-
ки», так он называл своих коллег, работали с увлечением, с интересом.
В 1958 г. я стала заведовать кафедрой, так как И. М. вышел на
пенсию. Он болел. Мы по очереди навещали его. Помню, в день его
рождения принесли ему по шоколадному слонику, и каждая повязала
его лентой своего цвета. «И. М., угадайте, от кого какой слоник?» –
«Красная лента – это Франциска Леонтьевна, голубая – Мария Алек-
сандровна, зеленая – Нонна». Ленту Ксении Александровны Федоро-
вой, своей любимицы, не узнал. Нас было немного. Когда заседание
кафедры проходило спокойно, И. М . сажал нас всех в одно такси и
развозил по домам. Если же кто-нибудь «выпендривался», он брал
свою палку и шляпу и уходил в одиночестве.
Возглавив кафедру, я пыталась следовать традициям Ивана Ми-
хайловича, заботясь о своих коллегах, «выбивала» им квартиры в ме-
сткоме, помогала «остепениться». Кафедралы говорили мне неодно-
кратно, что это был золотой век кафедры. Во-первых, «я взяла курс на
ее маскулинизацию», и через 5–6 лет на кафедре было уже шесть
мужчин, включая аспирантов. Во-вторых, каждый год один из 14 со-
трудников уезжал в Москву писать диссертацию, а остальные выпол-
няли его нагрузку.
- 25-
Ректор однажды обратил внимание на эту нелегальную аспиран-
туру и рекомендовал действовать официальным путем. Но мой путь
был быстрее и продуктивнее. «Остепенились» все члены кафедры,
перешли к написанию докторских. При мне появилось три доктора
наук. Приняла коллектив 15 человек, а когда я покинула его, выйдя па
пенсию, он насчитывал 30 сотрудников, включая проблемную лабора-
торию. Была открыта аспирантура, создан «словарный кабинет», кото-
рый под руководством Ф. Л. Скитовой стал издавать и уже издал 3 то-
ма «Полного словаря деревни Акчим Красновишерского района Перм-
ской области».
В 1970 г. кафедрой была проведена первая научная конференция
по вопросам лексикологии и лексикографии с приглашением большо-
го количества ученых из разных городов Союза. Опубликованы «Тру-
ды» этой конференции. Коллеги-литераторы завидовали творческой и
очень дружной атмосфере кафедры. «У лингвистов ангелы летают на
кафедре», – говаривали они.
Заканчивая свой автобиографический очерк, должна отметить,
что мои «кафедралы» по-прежнему относятся ко мне с уважением и
симпатией, изредка навещают, звонят по телефону. Вот послание мое-
го бывшего коллеги Леонида Владимировича Сахарного из Петербурга
в виде фототелеграммы к моему восьмидесятилетию.
В век золотой в общежитье восьмом,
Где кафедралов бурлила стихия,
Вы их взрастили добром и умом,
Аве Мария!
Вновь Сибиряк популярен как встарь,
(Хоть и стонала полиграфия),
Вышел он все ж Ваш «Частотный словарь»,
Аве Мария!
Сон, моцион, чтенье книг и бульон,
Встань на колени, педиатрия!
Деток и внуков подрос легион,
Аве Мария!
Кросс по утрам чрез канавы и рвы,
Темпы диктует пса тирания,
Так неужели ж на пенсии Вы,
Генкель Мария?
Нынче во славу лучшей из дам,
Пусть поработает телеграфия,
Счастья, здоровья и радости Вам,
Аве Мария!
- 26-
И еще три стихотворения, посвященных мне, автором которых
является заслуженный учитель-словесник Василий Васильевич
Молодцов.
ЦАРЕВНА-ЛЕБЕДЬ
Сколько на свете
Прекрасных женщин?!
Тысяча тысяч,
Должно быть, не меньше,
Но есть среди них,
Что прекраснее всех,
Только назвать ее –
Бездна помех.
Нет ни умения,
Ни красок таких,
Нет даже слов,
Что улягутся в стих.
Пусть же она остается мечтой,
С тонкой душевной своей красотой!
Пусть остается
Царевной Она,
Лебедем белым,
Видением сна.
1984 г., Пермь
В сумраке храма,
В мерцании тусклых лампад,
Ты, как Прекрасная дама,
Склонилась у темных аркад.
Проникновенно и строго
Звучат покаянья слова,
А за церковным порогом,
Зеленеет трава.
Теплым апрельским блеском,
Горит золотая заря,
Гаснут старинные фрески,
У алтаря.
Молитва твоя святая
Чиста и ясна.
В сердце твоем голубая.
- 27-
ДОРОГОЕ ИМЯ
Имя твое согревает меня!
Солнца не видно, нет близко огня,
Но на душе светло и тепло:
Что-то заветное снова пришло,
Что-то большое вернулось опять,
Снова мне можно дышать.
Стоит припомнить имя твое,
Снова вернется блаженство мое,
Снова порадуюсь пылким стихам –
Так озарится мое бытие,
Милая! Да светится имя Твое!
1993 г.
ВСТРЕЧИ С УЧЕНЫМИ
Во время поездки в Петербург в 1930 г. я посетила одну лекцию
академика Н. Я. Марра. Внешне он был типичным грузином (отец у
него шотландец, мать – грузинка), говорил с очень сильным акцентом.
Хотя я уже окончила университет, но решительно ничего не поняла в
его палеонтологическом методе и теории семантических пучков.
С академиком Л. В. Щербой, который впоследствии давал отзыв о
моей диссертации, я познакомилась в 1935 г., когда нас, аспирантов,
направили в Петербург на экскурсию. Л.В. прочитал нам несколько
лекций по фонетике. Это были лекции-размышления. Он мог предло-
жить тезис, развивать его, а потом тут же опровергнуть и предложить
другой вариант этой проблемы. Было интересно! Вторая встреча про-
изошла в 1944 г. на диалектологической конференции в Вологде.
Щерба вел все заседания, а потом провел с участниками конференции
семинар по фонетике, введя нас в атмосферу своей творческой мысли.
Моим научным руководителем в аспирантуре был профессор
Н. М. Каринский. Он просмотрел наши личные дела и выбрал меня по
таким соображениям:
1) дочь профессора, следовательно, из интеллигентной среды;
2) окончила Пермский университет, следовательно, прошла хо-
рошую школу его друга Н. П. Обнорского.
С начала учебного года Каринский читал всей группе в 14 человек
лекции по старославянскому языку. Эти лекции мы слушали с захваты-
вающим интересом, потому что он привлекал огромный материал из
других славянских языков. Широкая эрудиция, лекторское мастерство,
- 28-
эмоциональность покоряли нас. Затем мы сдавали ему экзамены, а
весной он лег в больницу. Я написала ему сердечное письмо, упомя-
нув в нем, что ездила в Петербург слушать лекции Щербы. Он не дос-
лушал письма и сердито отвернулся к стене.
Оказывается, он и Щерба претендовали на место академика и
прошел Щерба. Я, конечно, не знала, что они были конкурентами.
Вскоре Каринский умер, моим руководителем стала профессор Мария
Ивановна Корнеева-Петрулан, очень своеобразная женщина, хороший
ученый.
Она была тонким знатоком истории русского языка, писала фили-
гранно отделанные изящные работы, посвященные частным вопросам
науки, но глубоких обобщений в своем научном творчестве не делала.
Она поставила передо мной цель: «вонзить нож» в спину
С. П . Обнорского, который в 1934 г. опубликовал работу «“Русская
правда” как памятник русского литературного языка», создав новую
теорию происхождения русского литературного языка.
Я в своей диссертации «Лексика “Русской правды”» должна была
опровергнуть тезис Обнорского о русской природ памятника, доказать
его книжное (церковно-славянское) происхождение. Прав был, конеч-
но, Обнорский, и я не пыталась «вонзить ему нож в спину», тем более
что его в это время сняли с работы за идеологические ошибки в редак-
тировании «Словаря русского языка», и всякое упоминание об Обнор-
ском в работе было невозможным. Впоследствии Обнорский стал ака-
демиком, директором Института русского языка в Москве.
Я бесконечно благодарна Марии Ивановне, что она заставила
меня сделать диссертацию. Условия моей жизни были ужасны: нищета
(мы отделились от родителей), больной ребенок, дура-нянька, исте-
рик-муж, ворчливая свекровь и сама еле живая. Мария Ивановна, хотя
и считала меня самой талантливой своей аспиранткой, ругала при ка-
ждой встрече: «Дура-идиотка, опять не принесла мне главы. Убирайся
и не приходи без главы». И я сделала за 7 месяцев диссертацию! Если
бы она меня не ругала, то не было бы диссертации!
К сожалению, мне не пришлось учиться у очень известного учено-
го профессора М. Н. Петерсона, по-видимому, латыша по происхожде-
нию. Однако мы часто возвращались с ним домой вместе после засе-
дания нашей кафедры. Это было время борьбы с формализмом в нау-
ке. На Петерсона навесили ярлык «формалиста» и беспощадно его
травили. Петерсон, который ввел статистический метод в изучение
языка художественной литературы, часто говорил мне: «Меня поймут
и оценят лет через 50». Он ошибся. Уже через 10 лет его метод стал
- 29-
применяться очень широко, и мой «Частотный словарь» романа
Д. Н. Мамина-Сибиряка, вышедший в 1974 г., – одно из подтвержде-
ний этого факта.
С профессором А. П . Евгеньевой меня связывала большая друж-
ба. Мы познакомились в 1943 г. летом, когда она проезжала через
Пермь в Оханск к эвакуированному туда мужу, Однажды приходит
мой сосед С. С. Мокульский, литературовед и директор ГИТИСа, эва-
куированный, и говорит: «Рекомендую Вашему вниманию А. П . Ев-
геньеву, Вашу коллегу по профессии». Я мучительно соображаю, чем
накормить приезжую гостью. Вспоминаю, что осталось немного супа и
чуть-чуть хлеба. Она переночевала у меня и утром уехала, захватив по
рассеянности с собой мои хлебные карточки, правда, только на 2 дня
(я дала их ей, чтобы она взяла немного хлеба с собой). На обратном
пути она снова остановилась у меня и была потрясена тем «карто-
фельным адом», который у нас. А я была рада, что могу накормить ее
досыта своим урожаем. Евгеньева вывела меня на профессора Бориса
Александровича Ларина, известного своими трудами в области рус-
ской диалектологии, лексикографии, стилистики. Петербургская ла-
ринская школа широко известна в языковедческом мире.
О Ларине, европейски образованном человеке и очень талантли-
вом ученом, я написала очерк для сборника «Живое слово в русской
речи Прикамья» (Пермский ун-т, 1993). В 1944 г. на конференции в
Вологде Евгеньева подвела ко мне Б. А. Ларина и познакомила нас.
«Б. А ., это та женщина, которая в самое трудное время поделилась со
мной последней тарелкой супа». С этого момента Б. А. Ларин стал мо-
им покровителем и неофициальным консультантом, познакомил с
другим диалектологическим «вождем» Ф. П . Филиным. Они пригласи-
ли меня в докторантуру, из которой я, конечно, была отчислена через
2 года за незавершение диссертации, тем более что я разочаровала
их, подсунув не нужную им тему о языке Д. Н. Мамина-Сибиряка. Они
считали меня опытным диалектологом и хотели получить докторскую
по диалектологии Пермского края.
Мое знакомство с Р. И . Шор, известным языковедом, состоялось
летом 1934 г. Шор сняла дачу в Крылатском рядом с нашей дачей (под
Москвой). Я, узнав об этом, очень волновалась, и, боясь показаться ей
необразованной аспиранткой, тщательно готовилась к беседе, но она
не состоялась, потому что Шор на даче отдыхала и вела разговоры только
на бытовые темы. Это была очень энергичная и деловая женщина.
Профессор Я. В . Лоя читал нам, аспирантам, курс языкознания,
читал содержательно, но без блеска. Он потряс наше воображение
- 30-
тем, как принял у нас кандидатский экзамен. Торопясь на поезд, Лоя
сумел принять всю группу (13 человек) за 2 часа. Техника была проста:
первый получил 1-й билет, второй 2-й и т. д. Мы быстро поняли его
методику, и каждый выбрал себе тот билет, который лучше знал. С
моего аспирантского курса известными учеными стали П. А. Васи-
ленко, автор учебников по исторической грамматике русского языка,
И. П . Мучник, автор учебника по введению в языкознание для заочни-
ков, В. Б. Бродская, автор учебника по истории русского литературного
языка, Г. Я. Симина, написавшая много статей по русской диалектоло-
гии, в частности о говорах Пинежья.
Состоялось мое мимолетное знакомство и с академиком УССР
Л. А. Булаховским. Я приехала в 1958 г. в Москву на Международный
съезд славистов. Подошла к нему, представилась, и он сказал очень
приветливо: «Как же, как же, я отлично помню Вашего милого папу и
сестричек-двойняшек, учившихся у меня. Завтра я подарю Вам свои
работы». Назавтра он подошел ко мне и смущенно сказал: «Я принес
Вам целую пачку работ, но где-то здесь их потерял». Рассеянность
ученого!
Но судьба свела меня не только с языковедами. Летом 1933 г. в
Москву на консультацию к моему зятю (муж сестры) Моисееву, круп-
ному ученому-астрофизику, приехал из Англии молодой ученый
Чандра-Секар. Он по происхождению был индус (смуглый, с лицом,
похожим на негра), но получил образование и жил в Англии. Я к тому
времени уже хорошо говорила на английском (школа Н.П.Обнор-
ского и курсы разговорной речи в Москве) и согласилась стать его
переводчиком, так как профессиональные переводчики были в от-
пусках. Три дня я сопровождала его, показывая достопримечатель-
ности Москвы. Мы являли собой странную пару. Он весь черный,
я, как снегурочка, беленькая и розовая. Моисеев просил меня сде-
лать прием иностранцу. Я была в полном смятении. Когда в 1930 г.
приезжал к Моисееву знаменитый итальянский ученый Леви-Чевита,
то у нас еще были остатки «былой роскоши», т. е. скатерть, салфетки,
серебро, посуда, и мама была дома, разговаривала с ним по-
французски. Сейчас мама на даче, серебро в торгсине, скатерть и
салфетки износились. Как воспримет иностранец коммунальную
квартиру, в которой профессор, известный во всей Европе, имеющий
мировое имя, занимает одну комнату, которая служит ему столовой,
спальней и кабинетом. А самое главное: у меня нет ни одного летне-
го платья. По городу я ходила, парясь, в шерстяном костюме,
а дома!!!
- 31-
Соседка-генеральша обещала помочь обедом и сервировкой
стола, но предложить мне туалет, конечно, не могла. Вдруг звонок:
«Мы в Кремле. Нужен переводчик. Приезжайте!»
– Акакжеобед?
– Н у хорошо. Оставайтесь дома. Я попробую говорить с ним
по-немецки.
Снова звонок. «Он уезжает на аэродром, улетает домой». Какое
счастье! Мы с аппетитом съели приготовленный обед и были очень
довольны, что встреча не состоялась. Любопытно, что, вполне пони-
мая друг друга в языковом плане, мы не могли понять друг друга пси-
хологически.
– Мери, давайте переписываться.
– Ни в коем случае.
– Почему?
Как ему объяснить, чем переписка с иностранцем в 1933 г. грозит
мне?
– Какие у Вас планы на будущее, Мери?
– Поступить в аспирантуру, если примут мои документы. Я не из
рабочих или крестьян.
Естественно, он не понял ничего. Пришли в Музей этнографии.
Остановились перед картиной, на которой старый узбек замахнулся но-
жом на молодую женщину. У ее ног валяется сброшенная паранджа.
– Почему он ее убивает?
– Она комсомолка, скинула паранджу, нарушила закон шариата,
хочет стать свободной.
Он, конечно, не понял смысла картины.
Не могу не вспомнить свою дружную работу с профессором
А. И . Ефимовым, заведующим кафедрой русского языка Пермского
педагогического института.
Мы вместе учились в аспирантуре (он окончил на год раньше ме-
ня), жили в одном общежитии. Он защищал свою кандидатскую под
руководством «формалиста» Петерсона, что было нелегким делом, так
как последнего травили, а его учеников «проваливали». Ефимов, ум-
ница и талантливый ученый в будущем, преодолел это препятствие,
был направлен в Пермь, а после ареста Захарова занял пост заведую-
щего кафедрой. В Перми он писал докторскую диссертацию о языке
М. Е . Салтыкова-Щедрина, затем уехал в Москву, работал в МГУ. Я ве-
ла курс современного русского языка, он – введение в языкознание, и
часто подводила его, увлекаясь обилием примеров из других языков
(я изучала в свое время латынь, греческий, польский, немецкий, анг-
- 32-
лийский, французский, сербский), что по существу должен был делать
он, но с языками у него было туговато.
Решили поменяться курсами. Ефимов занимался стилистикой ху-
дожественной речи (ряд работ в этой области) и меня подтолкнул на
эту стезю. И. М . Захаров, встретив в свое время «варяга» Ефимова не
очень дружелюбно, ежедневно приходил на его лекции, пытаясь ули-
чить его в неподготовленности к ним. Ефимов после ночного кутежа
читал великолепно, нередко уходя из аудитории под аплодисменты.
Когда он стал заведующим кафедрой, воцарилась прекрасная атмо-
сфера. Он улыбался нам, мы улыбались ему и «рыли землю» в работе.
Студентки его обожали. Молодой, красивый (он был похож на Есени-
на, чисто русский тип), элегантно одетый, он сводил их с ума. Женился
на красавице-студентке Наде. Лекции его были не слишком глубоки,
но красивы по форме. Он знал наизусть всего «Евгения Онегина», час-
то цитировал его. Сказать откровенно, он ничего не делал по кафедре
и ничего не требовал от нас, но неизменно давал такие задания: «Ма-
рия Александровна, сотворите протокол заседания кафедры на те-
му...» – следовала тема. Он был мастером показывать товар лицом на
ученых советах!
Может быть, он был прав, не утопая в заседаниях, бумагах, а соз-
давая ценные научные труды, закладывая новое направление в науке
– стилистика художественной речи.
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ЮШКОВА
(УРОЖДЕННАЯ ВОРОНОВА)
Таня родилась от матери, которая практически голодала 1941-й и
1942-й годы. Внешне она была красивым, здоровым ребенком, но это
было обманчивое впечатление.
Воспитывалась в яслях, затем в садике. Тане было полтора года,
когда участковый педиатр определила ее в женский барак дистрофи-
ков. Она не ходила, не говорила, имела физическое развитие восьми-
месячного ребенка. Ее не хотели принимать на лечение, но потом все-
таки взяли, так как женщины охотно согласились ее нянчить. Все жен-
щины тщательно ухаживали за Таней, и с тех пор она стала быстро
развиваться.
По окончании школы она поступила на биофак Пермского уни-
верситета, по, поучившись там немного, перевелась на филфак и по
семейной женской традиции стала филологом.
-33-
На первом году обучения посещала все, какие возможно, кружки:
драматический, хоровой, поэтический и др. Эта неуемная жажда зна-
ния, интерес к разным наукам и искусству остались у нее на всю
жизнь. «Я хочу жить на всю катушку»,– говорила она. И еще потом,
уже будучи неизлечимо больной: «Лучше прожить немного, но инте-
ресно».
После окончания университета Таню приняли в Пермский ТЮЗ в
качестве заведующего литчастью. Позже она работала в пединституте.
Думаю, что я совершила большую ошибку, построив ее жизнь по
своему образцу. У нее было слишком хрупкое здоровье, чтобы рабо-
тать в вузе: огромная нагрузка, почти ежедневные стрессовые ситуа-
ции, общественная работа, выезды со студентами в колхоз и т. д.
Таня была яркой личностью и очень хорошим, душевным чело-
веком. Она была необычайно талантлива. Ее талантливость проявля-
лась во всем. Она отлично читала лекции (ю зарубежной литературе,
блестяще защитила кандидатскую, посвященную французскому
представителю интеллектуальной драмы современному писателю
Жану Жироду, хорошо играла на сцене и т.д
. Долгая внутренняя
борьба быть или не быть актрисой завершилась тем, что она стала
театральным критиком и в этом нашла себя. Оставаясь преподавате-
лем вуза, писала театральные рецензии. Театровед, профессор ин-
ститута театра, музыки и кинематографии Л. И. Гительман называл ее
«вос ходящей звездой на небосводе театральной критики». Ее рецен-
зии, умные и вдохновенные, печатались в местной прессе, в журнале
«Театр» и др.
В ней отмечали интеллигентность, воспитанность, принципиаль-
ность, душевную щедрость, контактность, доброту. Студенты ее обо-
жали, коллеги ценили и любили.
Таня была человеком непредсказуемым, любила выкидывать не-
ожиданные номера. Например, однажды летом, будучи студенткой 1-го
курса, ушла с подругой пешком в Свердловск. Для удобства путешествия
(ночевали иногда в стогах) обрезала роскошные косы цвета спелой
пшеницы. Еще учась в школе, записалась в клуб домработниц, развле-
чения в котором были на очень низком уровне. Я была в ужасе. То вдруг
начала переписываться с уголовником, сидящим в тюрьме. Когда он
вышел оттуда и пришел к нам в гости, то мы, по совету П. Н . Кра-
совского, создали атмосферу такой ужасающей скуки (игра на пианино,
ученые разговоры и т. д.), что во второй раз он уже не пришел.
- 34-
В последний год своей работы (и жизни) она была на курсах по-
вышения квалификации в Москве. Режим дня был безумный (при ее
смертельной болезни печени!). Утром – занятия, вечером – ежедневно
театр, ночные обсуждения спектаклей, нарушение режима питания, сна.
Рожденная от голодающей матери, всю жизнь она была очень
слабой, потом заболела печень, и в 43 года она умерла от цирроза
печени. Исполнилось предсказание доктора, которая говорила, что
этот ребенок не будет здоровым.
Яркой звездочкой мелькнула Таня в жизни!
Татьяна с мужем Авениром Николаевичем Юшковым (старший
инженер Управления главного энергетика завода им. Свердлова) вы-
растили двух замечательных детей: Нину (1966г. рожд.) и Романа
(1970 г. рожд.) . Нина Авенировна Осипенкова (урожденная Юшкова)
закончила романо-германское отделение филфака ПГУ, преподавала
зарубежную литературу, затем английский язык, сейчас работает пе-
реводчиком. Имеет 4-летнюю дочь, названную в честь бабушки Татья-
ной. Роман Авенирович Юшков закончил географический факультет
ПГУ и в настоящий момент является аспирантом кафедры биогеоцено-
логии и охраны природы. На мой взгляд, он внешне и внутренне во
многом похож на своего внучатого дядю Алексея Генкеля.
В январе 1994 г. сын Тани был в С. - Петербурге и познакомился
с профессором Львом Иосифовичем Гительманом.
«Роман, у Вас была прекрасная мама, умная, талантливая, беско-
нечно интеллигентная, влюбленная в театр, Жироду и во Францию. Ее
научный руководитель – Анна Сергеевна Ромм – известный в Санкт-
Петербурге профессор, ученый, буквально души в ней не чаяла, очень
ее любила и считала, что у нее особый дар ученого и дар человека.
Здесь, в тогдашнем Ленинграде, мы ее все как-то сразу приняли и по-
любили. Удивительным она была человеком! Светлым, тонким и бес-
конечно глубоким!
Я был счастлив встретиться с ее сыном. Будьте достойны ее. Вы
мне очень понравились при первой же встрече. Дай Бог Вам счастья!
И всей Вашей чудесной семье!
2
5
.
0
1
.
1
9
9
4
г
.
В
а
ш
Г
и
т
е
л
ь
м
а
н
.
»
(Из письма Л. И . Гительмана Роману Юшкову, сыну Татьяны)
-35-
О. И . Богословская
М. А. ГЕНКЕЛЬ – ЗАВЕДУЮЩАЯ КАФЕДРОЙ
РУССКОГО ЯЗЫКА И ОБЩЕГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
«ЗОЛОТОЙ ВЕК» ЕЕ КАФЕДРЫ
Мария Александровна Генкель – типичный представитель дина-
стии ученых Пермского университета Генкелей, для которых свойст-
венны широкая эрудиция, альтруизм, демократизм и подлинный гу-
манизм.
В многогранной университетской школе М. А . Генкель особое ме-
сто занимает такая сторона ее деятельности, как заведование кафед-
рой русского языка и общего языкознания. В течение 14 лет – с 1958 по
1972 г. – возглавляла Мария Александровна этот большой и интерес-
ный коллектив.
Кафедра русского языка и общего языкознания ведет свое начало
–
вместе с филологическим факультетом и самим университетом – с
1916 г. В первые десятилетия существования факультета здесь работа-
ли замечательные петербуржцы, впоследствии гордость отечествен-
ной науки, академики С. П . Обнорский, Л. А . Булаховский, К. К . Буга –
основоположник сравнительно-исторического литовского языкозна-
ния, а также профессор А. В. Миртов, доцент П. Г. Стрелков. Они зало-
жили основы тех научных направлений, которые впоследствии стали
для кафедры ведущими.
После целого ряда преобразований вуза кафедра русского языка
и общего языкознания возрождается после Великой Отечественной
войны, в 1946 г. первым ее заведующим и организатором стал доцент
Иван Михайлович Захаров.
В послевоенные годы работа кафедры развертывается по двум
основным направлениям: продолжается изучение стилистики, начатое
И. М . Захаровым, и пермских диалектов.
Во второй половине 40-х годов диалектологи включились в рабо-
ту по подготовке Диалектологического атласа русских говоров евро-
пейской части Союза, проводимую Академией наук СССР. Под руково-
дством доцента Ф.Л
.Скитовой ежегодно организуются экспедиции
преподавателей и студентов по сбору материала для атласа. Пробле-
ме взаимодействия литературного языка и диалектов посвящены тео-
ретические изыскания Ф. Л. Скитовой. С 1961 г. начинается работа над
уникальным недифференциальным словарем нового типа – «Слова-
рем говора деревни Акчим Пермской области».
-36-
Традиции исследования памятников Пермского края, заложен-
ные доц. К . А. Федоровой в 50-е годы, в последующем продолжены
доц. Е. Н. Поляковой, в работах которой исследуются важные вопросы
становления литературного языка в период формирования русской
нации.
Вопросы синтаксиса диалектной речи изучаются доц. Н. П . Пота-
повой; проблемы диалектной лексики, позднее социолингвистики,
разрабатываются доц. Л. А. Грузберг; над вопросами диалектного сло-
вообразования работает ст. преп. А. А . Мошева; литературная разго-
ворная речь в ее территориальных разновидностях – с учетом соци-
ально-психологических факторов и применением как традиционных,
так и новейших лингвистических методов – исследуется доц. Т. И . Еро-
феевой.
Разработка проблем стилистики на кафедре, в послевоенные го-
ды связанная с именами И. М . Захарова и П. Г . Стрелкова, продолжает
плодотворно развиваться в последующие десятилетия. Она представ-
лена трудами по функциональной стилистике проф. М. Н . Кожиной,
исследованиями по стилистике художественной публицистической и
научной речи доцентов М. Ф. Власова, М. П . Котюровой, О. И. Бого-
словской, ст. преп. Н . В . Кириченко.
В работах М. Н. Кожиной разрабатываются важнейшие вопросы
теоретической стилистики; при этом изучение их осуществляется как
комплексное, основанное на использовании методов не только собст-
венно лингвистических, но и психологии, статистики и т. д.
Иван Михайлович Захаров, превосходный стилист и методист в
области современного русского языка, и при этом человек редкого
обаяния, сумел создать на кафедре подлинно творческую атмосферу.
Почти все члены кафедры были его учениками. Все его «девчурочки»,
как он называл своих сотрудниц, работали с воодушевлением. Иван
Михайлович требовал полной отдачи сил. «Иван Михайлович, – пеня-
ла ему М. А. Генкель, – Вы лишаете «своих девчурочек» личной жиз-
ни». – «Их личная жизнь, – отвечал Иван Михайлович, – научная рабо-
та. А наука требует жертв».
В 1956 г. М . А. Генкель приглашают на кафедру русского языка и
общего языкознания Пермского университета. Через 2года после
смерти И. М . Захарова она становится во главе кафедры.
Мария Александровна быстро вошла в атмосферу университет-
ской жизни и завоевала симпатии своих коллег.
Языковед большой научной эрудиции, широких лингвистических
взглядов, М. А. Генкель ведет в университете ответственнейшие в тео-
- 37-
ретическом и методологическом отношении курсы общего языкозна-
ния, истории языкознания. Она щедро делится со студентами богатст-
вом своих знаний, воспитывает в них любовь к отечественной науке.
Благодаря энергичнейшим усилиям Марии Александровны ка-
федра русского, языка и общего языкознания из года в год пополняет-
ся талантливыми перспективными преподавателями, интенсивно раз-
виваются научные направления. 60-е годы на кафедре – годы больших
творческих достижений.
М. А . Генкель представляла собою своеобразный и весьма демо-
кратический тип заведующего кафедрой, который в научном плане пре-
доставлял своим коллегам возможность свободного творческого воле-
изъявлении и способствовал росту каждой яркой индивидуальности.
Сама Мария Александровна называла свою кафедру «парсим-
фонсом» – «оркестром без дирижера», где каждый музыкант ответст-
венно и творчески ведет свою партию и вместе с тем органически сли-
вается с ансамблем, играет в унисон.
Действительно, каждый работал в своей области.
Диалектологи с энтузиазмом изучают русскую речь Прикамья:
разговорно-литературную речь, городское просторечие, профессио-
нальные языки и территориальные диалекты. Фундаментально иссле-
дуется лексика Пермского региона. Наряду с Акчимским словарем –
словарем полного типа говора одной деревни (главный редактор доц.
Ф. Л. Скитова, зам. редактора доц. Л. А. Грузберг) – составляется Чер-
дынский словарь – дифференциальный словарь народных говоров
бывшей Чердынской земли (руководитель доц. К . А. Федорова, затем
доц. Н . П . Потапова), а также полный (недифференциальный) словарь
одного носителя акчимского говора. Во II половине 60-х годов под ру-
ководством доц. Т. И . Ерофеевой развертывается работа по изучению
языка города, включая профессиональные языки, жаргоны и арго.
На 60-е годы приходится и период особенно интенсивных науч-
ных исследований в области стилистики. На кафедре всесторонне раз-
рабатывается важнейшая тема, утвержденная координационным пла-
ном Минвуза и Академии наук, «Закономерности функционирования
языка в его разновидностях и их эволюция» (руководитель проф.
М.Н
. Кожина). В этом (или близком к нему) направлении работают
доценты М. Ф. Власов, А. И . Шорина, М. П . Котюрова, О. И . Бого-
словская, ст. преп. Н . В . Кириченко.
Новые сотрудники кафедры разрабатывали каждый свою тему:
Л. Н . Мурзин занимается теоретическими проблемами синтаксиса,
смыкающимися с вопросами лингвистики текста и семантики языка;
- 38-
Л.В.Сахарный – проблемами психолингвистики; С. Ю . Адливанкин –
историей праславянской фонетики.
Сама М. А. Генкель занимается стилистикой художественной ре-
чи. Как заведующая кафедрой она всемерно способствует учебно-
педагогическому и научному росту руководимого ею коллектива. В
числе оригинальных в этом плане ее начинаний энергичные хлопоты
по устройству быта своих сотрудников (каждый случай получения
квартиры членом кафедры отмечается как общий праздник), «неле-
гальная аспирантура» – когда «кафедрал», диссертация которого была
близка к завершению, получал годичный отпуск, а остальные члены
кафедры – при общем их согласии – выполняли его учебную нагрузку.
Немалая заслуга ее и в том, что на кафедре русского языка и об-
щего языкознания появляется первый в истории факультета доктор
филологических наук – языковед. В 1969 г. М . Н . Кожина, к этому вре-
мени автор трех монографий, получивших широкий резонанс не толь-
ко в отечественной, но и мировой лингвистике, защищает докторскую
диссертацию по теоретическим проблемам стилистики. Вслед за тем
н
ак
а
федре заканчиваю
т
ся ещ
ед
в
едо
к
т
о
рские д
и
ссе
рт
а
ции
(Л.В
.Сахарного и Л.Н
.Мурзина), авторы которых развивают ориги-
нальные лингвистические концепции; одна за другой защищаются
кандидатские диссертации.
К концу пребывания Марии Александровны на посту заведующей
кафедрой все сотрудники имели степень кандидата наук, а четверо –
М. Н . Кожина. Е. Н . Полякова, Л. Н . Мурзин и Л. В. Сахарный – доктора
филологических наук.
Оригинальной была и кадровая политика М. А. Генкель. Мария
Александровна, как она сама говорила, взяла курс на «маскулиниза-
цию», считая, что это необходимо для ежегодного выезда в колхозы,
участия в строительстве новых корпусов ПГУ и т. д. Л . Н . Мурзин,
Л. В . Сахарный, С. Ю. Адливанкин – разносторонне одаренные люди –
внесли в жизнь кафедры и факультета новую, жизнерадостную струю.
Возрос не только общий тонус учебно-педагогической и научной
работы (С. Ю. Адливанкин впервые в истории факультета читает слож-
ный историко-теоретический курс «Введение в славянскую филоло-
гию»); оживилась вся жизнь на факультете (стенная печать, художест-
венная самодеятельность и т. д.) .
Мария Александровна, расширяя состав кафедры, проявляет на-
учно-педагогическую интуицию и большое доверие к новым ее чле-
нам. Порою не обходится и без юмора.
-39-
Вот сцена из тех времен. Мария Александровна идет к ректору
университета Ф. С. Горовому представлять Л. В . Сахарного, аспиранта
филфака Уральского университета, впоследствии доктора филологиче-
ских наук, профессора ЛГУ.
– Федор Семенович, Вам нравится этот молодой человек?
– Очень нравится.
– Так возьмем его на работу?
– Возьмем.
– Ставка найдется?
– Конечно, найдется.
– А квартира?
– Вот этого нет. Правда, есть одна неблагоустроенная, но от нее
все отказываются.
– Крыша, стены, окна есть?
– Конечно. Но нет водопровода...
–Н
у что стоит такому молодцу принести домой пару дружков
воды?..
При каждой встрече с Марией Александровной Л.В.Сахарный,
проработавший в ПГУ 12 лет и именно здесь выросший в крупного
ученого, вспоминает о той чудесной ауре, которая царила на кафедре
в 60-е годы. Недаром кафедралы называют то время «золотым веком»
кафедры.
Иллюстрацией атмосферы дружбы, взаимовыручки, товарищест-
ва на кафедре может служить, в частности, факт «особого» выпуска
научного сборника тех лет. Географы не успели собрать свой том
«Ученых записок», редакционно-издательский отдел ПГУ предложил
лингвистам срочно подготовить свой выпуск. Остались «ночевать» на
кафедре. Завершали, редактировали, печатали на машинках статьи
свои и своих коллег. К утру сборник был готов. Впоследствии извест-
ный лингвист Р. Р. Гельгардт писал Марии Александровне: «Сборник
отлично отредактирован».
1970 год. Кафедра отмечает день рождения своего заведующего.
Пришли поздравить старого друга профессора Г. А. Максимович и
А. Н. Пономарев. И много смеялись, когда вместо официальных речей
слушали остроумные куплеты дружеского трио, затем рассматривали
стенную газету. В центре ее – рисунок лодки, в ней – кафедралы. Ма-
рия Александровна – капитан, смотрит в подзорную трубу, гребцы –
кафедралы – дружно налегли на весла. Плывут к новым открытиям...
Другой сюжет: Мария Александровна держит на коленях мла-
денца и поит его из соски. Подпись: «Так вскармливают докторов на-
- 40-
ук». Третий сюжет: Мария Александровна вальсирует с Д.Н
.Мами-
ным-Сибиряком...
Еще в 1964 г. по предложению акад. Б. А. Ларина Мария Алексан-
дровна начинает работу над составлением словаря по произведениям
Д. Н. Мамина-Сибиряка. Вокруг нее группируется большой коллектив
студентов, увлеченно работающих под ее руководством.
Итогом многолетней упорной работы явился уникальный «Час-
тотный словарь романа Д. Н. Мамина-Сибиряка “Приваловские мил-
лионы”», имеющий важное значение для решения многих теоретиче-
ских вопросов лингвистики, истории литературного языка и языка ху-
дожественных произведений.
Словарь выходит из печати в 1974 г. Научным подвигом ученого
назвали это знаменательное событие коллеги М. А. Генкель.
. .. Растут зональные и международные связи кафедры. Ее сотруд-
ники – профессора М. Н. Кожина, Л. Н. Мурзин, Л. В. Сахарный – при-
нимают участие в работе международных симпозиумов и конгрессов.
Доценты Л. А. Грузберг, Т. И . Ерофеева, Н. П . Потапова преподают рус-
ский язык за рубежом.
На факультете организуются межвузовские конференции. Осо-
бенно представительной и интересной оказывается IX зональная кон-
ференция 1970 г., посвященная актуальным проблемам лексикологии
и лексикографии.
Мария Александровна успевает повсюду: она еще и руководи-
тель философского семинара, и долгие годы бессменный редактор
«Ученых записок» факультета, и один из активнейших популяризато-
ров научных знаний.
М. А. Генкель так много сделала для роста кафедры русского язы-
ка и общего языкознания, что вслед за М. И. Захаровым – первым за-
ведующим – ее можно считать одним из создателей этой одной из
самых многочисленных и творческих кафедр в университете. К 70-м
годам здесь «...сложился сплоченный исследовательский коллектив,
умеющий работать целеустремленно и направлять свои усилия на ро-
ждение совместно изучаемых лингвистических проблем» (проф. ЛГУ
Н. А. Мещерский).
«Удивительный человек – Мария Александровна!», «Неповтори-
мая Мария Александровна», – говорят о ней. Гармонично сочетаются в
ней принципиальность и прямота, чуткость и доброта человека беско-
рыстного, самоотверженного. Бескомпромиссная, порою даже резкая
в своих оценках, она всегда первая приходит на помощь человеку,
попавшему в беду. Она просто не может жить, не опекая кого-нибудь,
- 41-
не помогая словом и делом, чего бы это ни касалось – «мук ли творче-
ства» или «семейных печалей», – близким и далеким, знакомым и
незнакомым людям. Острый ум, оригинальнейший язык, поразитель-
ная способность решать дела быстро и вдохновенно делают общение
с ней радостным и плодотворным.
Вспоминаю свою первую встречу с Марией Александровной. По-
сле окончания аспирантуры я получила направление на работу в Гроз-
ненский педагогический институт.
Далекий Кавказ... Середина учебного года. Предстоит чтение
серьезных дисциплин на старших курсах. Языкознание, история лите-
ратурного языка... Мне посоветовали обратиться за напутствием к Ма-
рии Александровне Генкель (она работала тогда в пединституте).
И вот я у нее. Мария Александровна встретила приветливо, как ни
в чем не бывало открыла «архив» – большой ящик письменного стола.
Протянула мне «материалы»: лекции и книги по истории языкознания;
предложила ряд добрых советов – благословила на педагогическую
стезю. Воспоминание об этом подарке судьбы живет в моей памяти
как знак безграничной щедрости человеческого сердца...
Сегодня, уже много лет, Мария Александровна, как принято гово-
рить, «на заслуженном отдыхе», но до сих пор ни одно большое собы-
тие на кафедре не обходится без того, чтобы кафедралы (так называла
она своих коллег) не вспоминали о ней с неизменной благодарностью.
Немало среди ее бывших учеников известных лингвистов, не без
влияния своего Учителя посвятивших жизнь служению Науке. Среди
них кандидаты филологических наук А. И . Шорина, Л. А. Грузберг,
А. А. Мошева, доктор филологических наук Е. Н . Полякова (Пермский
университет); кандидаты филологических наук А. И . Борисова,
А. А. Грузберг, Т. И. Гаевская, А. Е . Еремина, доктор филологических наук
С. Г . Гаврин (Пермский педагогический институт); доцент Л. К. Андреева
(Владимирский педагогический институт) и многие другие.
В 1982 году на базе кафедры русского языка и общего языкозна-
ния возникают две новые: русского языка и стилистики во главе с док-
тором филологических наук профессором М. Н . Кожиной и общего
и славянского языкознания; заведующий – доктор филологических
наук профессор Л. Н. Мурзин.
Но это уже другая, сегодняшняя история лингвистических
кафедр...
- 42-
О. Богословская,
выпускница 1949 г.
МОЯ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ СЕМЬЯ
Университет для меня – поистине второй дом. Здесь глядят на
меня со стен портреты близких людей: дяди, мужа, брата. Все мои
родные в той или иной мере имели отношение к университету, его
истории. И хотя, мне кажется, они были интересными людьми, глав-
ной целью моей будет – рассказать не только о них, но и о том, как
много значил Пермский университет с первых лет своего существова-
ния для интеллигенции местного края.
Мой дед Степан Михайлович Богословский был протоиереем.
Разносторонне одаренный человек, он был при этом и опытным
строителем, и способным математиком.
После окончания Пермской духовной семинарии (в разное время
это учебное заведение, широко известное высоким уровнем и широ-
кой культурой образования, окончили изобретатель радио А. С. Попов,
писатели Д. Н . Мамин-Сибиряк, П. П . Бажов, Евгений Пермяк и другие
замечательные люди Урала) за особые успехи в науках С. М. Богослов-
ский был направлен в Петербургскую духовную академию на обучение
за казенный счет. Однако, будучи человеком необычайно энергичным
и деятельным, а также одушевленный идеей просветительства, он
уезжает в село Обвинское.
Учитель, затем священник, вместе с тем он много сил отдает
строительным работам, серьезно изучая литературу по вопросам
строительства, консультируясь со специалистами. В семье деда царит
дух гуманности и просветительства. Его супруга Екатерина Федоровна
Богословская-Антипина, учительствуя среди коми-пермяков, овладела
их языком и перевела на этот язык «Родное слово» К. Д. Ушинского.
Книга была популярна среди местного учительства.
В 1904 г. С . М . Богословский приглашается в Пермь на закладку и
строительство Вознесенско-Серафимо-Феодосиевской церкви (извест-
ной в архитектурном отношении своими уникальными перекрытиями).
Позднее ему было поручено строительство нового здания Епархиаль-
ного женского училища (в настоящее время госпиталь инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны).
Всю жизнь учась, уже в солидном возрасте дед был в числе пер-
вых студентов юридического факультета, поступив в университет
вольнослушателем сразу с его возникновением в 1916 г. Сохранилось
- 43-
«Свидетельство на жительство», выданное студенту «Пермского отде-
ления Императорского Петроградского Университета» С. М . Богослов-
скому, подписанное первым ректором университета профессором
К. Д . Покровским.
В 1919г. в период эвакуации университета в Томск С.М
.Бого-
словского приглашают работать в университет. В 20-е гг. он – сотруд-
ник счетно-финансового отдела Правления Пермского университета.
В последние годы жизни, как и вся наша страна в сороковые го-
ды, дедушка живет вестями с фронта. Шестеро его внуков сражаются
на фронтах Великой Отечественной войны. Один – в составе Войска
Польского.
Старший сын Степана Михайловича Сергей Степанович Бого-
словский после окончания Казанской духовной академии поступил в
Пермский университет, окончил историческое отделение и был учени-
ком акад. Б . Д . Грекова – замечательного историка и общественного
деятеля.
Сергей Степанович всю свою жизнь проработал скромным заве-
дующим библиотекой, занимался наукой, краеведением, был «ходя-
чей энциклопедией».
Его сын Глеб Сергеевич Богословский, выпускник химического
факультета университета, уже на третьем курсе в соавторстве с про-
фессором Романом Викторовичем Мерцлиным написал выдающуюся
научную работу, был именным стипендиатом как один из лучших сту-
дентов химфака.
Выдержав огромный конкурс (25 человек на место), Глеб стано-
вится аспирантом МГУ. С первых дней Великой Отечественной войны
Глеб на фронте. Через год приходит известие: «Пропал без вести».
Долгие годы родные пытались выяснить его судьбу. И вот... Идет ху-
дожественный фильм по роману Юлиана Семенова «Противостоя-
ние». Документальные кадры. Трептов парк. Имена советских воинов,
погибших на германской земле. Титры сменяют друг друга. Бесконеч-
ный ряд имен... И вдруг – Богословский Г. С . 1918. Рядовой. Фамилия,
инициалы, год рождения – все совпадает. Наш Глеб? Глеб из Пермско-
го университета? Имя его – на мраморной мемориальной доске в уни-
верситете, на скромном памятнике, сооруженном руками универси-
тетских энтузиастов...
Второй сын Степана Михайловича – Семен Степанович пошел по
стопам отца, был духовным пастырем, как и отец, математиком. И еще
поэтом... в 30-е гг... погиб на Беломоро-Балтийском канале...
-44-
Третий сын – Павел Степанович в числе первых ученых-
петербуржцев закладывал основы университетского образования на
Урале. Известный историк, архивист, фольклорист и литературовед,
археолог, историк классической филологии (древние языки), специа-
лист музейного дела, этнограф и краевед, Павел Степанович Богослов-
ский был поистине энциклопедически образованным человеком.
В 1913 г. П . С. Богословский заканчивает сразу два петербургских
вуза – историко-филологический и археологический. Среди его учите-
лей были выдающиеся ученые-филологи: акад. В . В . Латышев – ученый
с мировым именем, великолепный знаток античной культуры, автор
капитальных трудов на латинском языке об античном мире, а также
такие прославленные отечественные ученые, как акад. А. Н . Шахматов,
акад. А . И . Соболевский, акад. Н . П . Лихачев, проф. Н . М . Каринский,
проф. А. И . Шляпников.
Первую научную работу П. С. Богословский под руководством
проф. А. К . Бороздина написал о книгах И. Е. Ончукова «Печорские бы-
лины» и «Северные сказки». Интересно, что позднее И. Е. Ончуков был
ассистентом П. С . Богословского, когда последний стал профессором и
заведующим кафедрой русской литературы в Пермском университете.
Когда был решен вопрос об открытии в Перми университета,
П. С. Богословский был оставлен при Петербургском университете на
кафедре русской литературы для подготовки к профессуре и с этой
целью прикомандирован к Пермскому отделению университета для
занятий под руководством замечательного знатока русской литерату-
ры и русского народного творчества профессора А. П . Кадлубовского.
В 1916 г. состоялось открытие Пермского университета, и П. С . Бого-
словский вошел в первый состав научных работников университета
сначала в должности приват-доцента, а с 1922 – профессора, заве-
дующего кафедрой русской литературы.
В 1932 г. по рекомендации акад. Ю . М . Соколова П. С . Богослов-
ский был переведен на работу в Москву в Центральный научно-
исследовательский институт методов краеведческой работы. В 1946–
1947 гг., когда в Пермском университете после перерыва вновь возоб-
новил свою работу историко-филологический факультет, Павел Степа-
нович Богословский приезжает в Пермь и снова заведует кафедрой
русской литературы.
В течение полувека он осуществляет широкое изучение истории и
культуры Урала. Работает (на общественных началах) в Пермском науч-
ном музее (позднее – краеведческий музей), сотрудничает в Пермской
ученой архивной комиссии. В 1915 г. публикует ряд рукописных памят-
- 45-
ников «Верхотурские акты XVII века». В том же году производит архео-
логические раскопки подземного хода в строгановском селе Пыскор.
Большую роль в привлечении преподавателей и студентов к изу-
чению уральского фольклора и истории края играл организованный
П.С
. Богословским в 1916г. «Кружок по изучению Северного края».
В нем принимали участие научные работники, краеведы, любители
фольклора. Члены кружка издавали «Пермский краеведческий сбор-
ник», в котором печатались и студенческие научные работы. «Кружок»
был подлинной школой научного творчества. Вспоминает известный
краевед А. К . Шварц: «Автор этих строк, участник работы “Кружка по
изучению Северного края”, сейчас, спустя сорок лет, с большим вол-
нением вспоминает заседания кружка, когда в присутствии таких све-
тил научного краеведения, как Павел Степанович Богословский, Ва-
лентин Николаевич Серебренников (псевдоним – Аргентов), Владимир
Николаевич Трапезников, Иван Григорьевич Остроумов, Виктор Алек-
сандрович Весновский, Вадим Александрович Кондаков, Владимир
Павлович Бирюков и др., мы, юные, выступали со своими сообщения-
ми о нашей методике записей, о наших поисках и находках. Нельзя
забыть, с каким вниманием относился Павел Степанович к молодым
краеведам, и как осторожно, называя нас по имени и отчеству, делал
замечания и давал научные советы».
Как сообщалось в печатном отчете об открытии Пермского отде-
ления Петроградского университета и деятельности его в 1916–1917 гг.,
«на средства, пожертвованные Н. В. Мешковым на экскурсии для ис-
следования Урала и Прикамского края», в 1917 г. П . С . Богословским
совместно с деканом – профессором А. П . Кадлубовским была совер-
шена первая фольклорно-диалектологическая экспедиция на Вишеру в
Чердынь с целью «дать обозрение старейших рукописей и выяснения
особенностей говоров». В следующей экспедиции фольклористов уни-
верситета во главе с П. С. Богословским, которая состоялась в 1930 г.
на р. Колву, приняли участие профессор диалектолог А. В . Миртов и
музыкальный этнограф Н. А. Лукин.
Постановлением Правления Пермского университета в 1929 г.,
благодаря усилиям энтузиастов и профессора П. С. Богословского, был
учрежден Историко-литературный и Театральный музей – для собира-
ния, хранения и изучения материалов широкого литературнотеат-
рального значения и, в частности, связанных с местным краем (Уралом
и Прикамьем). Необходимость этого акта диктовалась соображениями
как научно-культурного, так и учебного характера. Павел Степанович
ведет огромную организаторскую и научно-редакторскую работу.
- 46-
С1923г. он
–
бессменный председатель «Кружка по изучению
Северного края» и редактор всех выпусков «Пермского краеведческо-
го сборника». В 1922 г. заведует Пермским губархивом, собирает и
описывает пермские архивы.
С 1924 г. по поручению Исполкома назначен директором Перм-
ского научного музея (позднее – краеведческий музей) и проводит его
реорганизацию.
Особого внимания заслуживают историко-литературные разы-
скания ученого, исследования, посвященные выявлению связей рус-
ской литературы и устного народного творчества. П . С. Богословский
вводит в научный оборот новые интересные материалы, связанные с
пребыванием на Урале по пути в ссылку в Сибирь А. Н . Радищева; од-
ним из первых исследует творчество автора знаменитых романов
«Емельян Пугачев», «Угрюм-река» В. Я. Шишкова, с которым находил-
ся в переписке. Впоследствии, когда П. С. Богословский работал в Мо-
скве, в Государственном историческом музее, он немало помогал пи-
сателю в сборе материалов о Пугачеве и действиях его войск в ураль-
ских городах.
В 1934 г. в Ленинграде выходит издание «Приваловских миллио-
нов» Д. Н. Мамина-Сибиряка со статьями и комментариями об Урале
проф. П. С. Богословского. Комментарии очень понравились М. Горькому.
В целом перу ученого принадлежит свыше 150 научных работ,
получивших высокую оценку крупнейших фольклористов страны –
акад. Ю . М . Соколова, д-ра филол. наук, проф. П . Г. Богатырева; д-ра
филол. наук проф. Н . Гудзия и др.
Среди многочисленных учеников и последователей выдающегося
ученого и педагога профессора П. С . Богословского известные ученые-
филологи широкого профиля и фольклористы Г. И . Бомштейн,
М. А . Генкель, М. А . Ганина, З. И . Власова, А. Мазунин, Т. Ф . Пирожкова
и др.
Выйдя на пенсию и живя в Москве, Павел Степанович не порывал
связей с родным Прикамьем. Он работал над мемуарами о Пермском
университете. Продолжал собирать материалы по истории культуры
Прикамья, которые он завещал Пермскому государственному архиву,
продолжал работать над научным архивом, собранным им за полвека
своей работы в Прикамье.
По словам местного краеведа А. К . Шварца, которые уже начина-
ют сбываться, «этот огромный фонд представляет собой большую
культурную и историческую ценность; не одна студенческая работа,
кандидатская и докторская диссертация будут написаны на «фонде
-47-
П. С. Богословского», когда он будет полностью сосредоточен в Перми,
обработан и открыт для научной работы».
Четвертый сын С. М. Богословского Иван Степанович Богослов-
ский, доктор медицинских наук, профессор Пермского медицинского
института. Мой отец.
Отец неслучайно посвятил свою жизнь исцелению людей. Братья
Богословские, сыновья Степана Михайловича, боготворили свою мать
Екатерину Федоровну, образец семейных добродетелей. У нее было
больное сердце, и младший сын решил стать медиком.
Терапевт, инфекционист, он был, в первую очередь, кардиоло-
гом. Именно проблемы кардиологии исследовались в главном труде
его жизни, докторской диссертации «Сужение левого венозного от-
верстия», который он посвятил памяти горячо любимой матери. После
окончания в 1914 г. Пермской духовной семинарии И. С. Богословский
по конкурсу аттестатов был принят на медицинский факультет Вар-
шавского Императорского университета. При эвакуации Варшавского
университета в Ростов-на -Дону (шла война) по ходатайству приказом
Министра просвещения переведен на медицинский факультет Казан-
ского университета.
В 1916 г., будучи студентом, начал службу на Водном транспорте
в качестве судового медика парохода «Марианна». В летнее время
продолжал эту работу. В 1918 г. участвовал в кампании по борьбе с
холерой на Волге и Каме. В этом же году с пароходом оказался в Пер-
ми. Не мог проехать в Казань, которая была занята белочехами, и по-
ступил лаборантом на кафедру патологической анатомии Пермского
университета к профессору И. П . Коровину.
В 1919 г. эвакуировался с университетом в Томск. В Томске был
мобилизован и служил в военном гарнизонном госпитале. В 1919-
1920 гг. – служба в Красной Армии.
Сохранился любопытный документ –удостоверение, выданное
И. С . Богословскому – «пом. лекаря V Красной Армии». В 1920 г. при-
казом СТО И. С. Богословский откомандирован из армии в Томский
университет для окончания образования.
С реэвакуацией Пермского университета вернулся в Пермь и про-
должал работу лаборантом на кафедре патологической анатомии уни-
верситета.
В 1922г. вместе с первым выпуском врачей медицинского фа-
культета сдает государственные испытания на звание врача при Перм-
ском государственном университете, после чего назначается заве-
дующим больницей Водного транспорта в г. Перми. В 1922 г. – штат-
-48-
ный ординатор факультетской терапевтической клиники Пермского
университета, где работает под руководством проф. В . Ф . Симановича:
с 1922 по 1925 г. в должности ординатора, с 1925 – в должности штат-
ного ассистента. Одновременно по совместительству врач-терапевт в
поликлинике Водного транспорта, позднее – консультант.
При реорганизации медицинского факультета в медицинский ин-
ститут в 1931 г. в составе факультетской терапевтической кафедры пе-
реведен на кафедру госпитальной терапии.
И. С. Богословский был председателем Комитета по борьбе с рев-
матизмом в Камском бассейне. В 1934 г. был представителем Водного
транспорта на международном конгрессе по ревматизму в Москве.
В 1936 г. в порядке шефства медицинского института и приказом
наркома здравоохранения РСФСР командирован в Ижевский меди-
цинский институт для организации кафедры факультетской терапии и
заведования ею.
В 1938 г. УМВУЗом и Ученым советом Казанского медицинского
института И. С . Богословскому присуждена ученая степень кандидата
медицинских наук по совокупности работ без защиты диссертации.
В 1939 г. он защитил докторскую диссертацию в 1 Московском
медицинском институте и в 1940 г. утвержден ВАКом в ученой степени
доктора медицинских наук и ученом звании профессора по кафедре
«Внутренние болезни». В 1940 г. приказом ВКВШ переведен в Перм-
ский медицинский институт на кафедру инфекционных болезней.
В годы Великой Отечественной войны по указу ВЦИК назначен
Главным терапевтом Управления эвакогоспиталей, дислоцированных
в Пермской области.
В период ВОВ состоял также консультантом поликлиники при
оборонном заводе No 19 и специализированного диспансера летчи-
ков-испытателей. Был членом летно-подъемной комиссии. За успеш-
ную работу был награжден.
Одновременно был консультантом спецполиклиники Водного
транспорта, которая обслуживала не только камских водников, но и
работников эвакуированного московского флота, а также эвакуиро-
ванного Ленинградского театра оперы и балета им. С
. Кирова. Кон-
сультировал в морском госпитале при ВМАТУ. В годы войны читал вы-
пускникам мединститута специализированный курс «Неотложная по-
мощь».
В 1946 г. – профессор кафедры госпитальной терапии. В 1952 г.
при слиянии стоматологического института с медицинским по указа-
нию УМВУЗа избран заведующим второй кафедры факультетской те-
- 49-
рапии медицинского института, с 1955 г. – заведующий объединенной
кафедрой факультетской терапии медицинского института.
С 1958 г. по состоянию здоровья на пенсии.
Безгранично преданный любимому делу, прямой и энергичный и
вместе с тем гуманнейший человек, отец был почитаем всеми, кто его
хорошо знал: коллегами и учениками, студентами и пациентами,
близкими, друзьями и знакомыми.
Он был истинно врачом. И не только. Его интересовала история в
широком смысле слова, в самых разных аспектах, а значит, интересо-
вало все: отечественная история военного искусства; история медици-
ны, в том числе клинической; история русского флота и водного транс-
порта, в частности; история зодчества и оперной музыки, история те-
атра и музеев. И, конечно, родного университета. Родного Прикамья и
Перми, большим патриотом которых он был. И неслучайно одна из
четырех его монографий называлась «Материалы по истории развития
терапевтических клиник в России и в СССР с генеалогической картой
профессоров-терапевтов».
Очень хорошо знавшая отца М. А. Генкель сказала о нем: «В нем
всегда поражала огромная внутренняя культура, необыкновенная ши-
рота и разносторонность интересов, увлечение, казалось бы, самыми
неожиданными вопросами. Иван Степанович – великий эрудит, отлич-
ный знаток своего дела, встал в один ряд со своими коллегами-
учителями, блестящей профессурой Университета Симановичем, Ла-
риным, Первушиным, Чистяковым...».
Мой брат Богословский Борис Иванович, доктор биологических
наук, заведующий Лабораторией цефалопод Палеонтологического
института АН СССР (1976-1988); как отмечалось в статье, посвященной
его памяти (Палеонтологический журнал. 1987. No 1), – «крупнейший
советский специалист в области изучения девонских аммоноидей и
биостратиграфии девона».
Борис Иванович заканчивал школу в 1942 г., в 1943 г. призван в
ряды Советской Армии и, окончив Пермское военно-морское авиаци-
онно-техническое училище, служит в действующих частях военно-
воздушных сил на Кольском полуострове. Демобилизовавшись в
1946 г., поступает на геолого-географический факультет Пермского
государственного университета и в 1951 г. с отличием заканчивает его.
В том же году поступает в аспирантуру при Палеонтологическом ин-
ституте АН СССР к профессору В. Е. Руженцеву. Через три года успешно
защищает кандидатскую диссертацию «Девонские аммоноидеи Руд-
ного Алтая».
- 50-
В 1967 г. Б. И . Богословскому присуждена степень доктора биоло-
гических наук за исследования, результаты которых были опубликова-
ны в двух монографиях: «Девонские аммоноидеи. Агониатиты» (1969)
и «Девонские аммоноидеи. Гониатиты» (1971).
Б. И . Богословский является одним из авторов капитального 15-
томного издания «Основы палеонтологии». За эту работу награжден
значком «Отличник разведки недр».
В целом ученому принадлежит около 100 научных публикаций,
получивших высокую оценку отечественных и зарубежных коллег.
В течение последних десяти лет Б. И. Богословский руководил
Лабораторией цефалопод Палеонтологического института. Был пред-
седателем Комиссии по цефалоподам Научного Совета по проблеме
«Пути и закономерности исторического развития животных и расти-
тельных организмов». Активным членом девонской комиссии МСК,
членом ряда специализированных советов по защите диссертаций.
Скромный, дружелюбный и отзывчивый человек, отличный зна-
ток своего дела, Борис Иванович любил помогать людям: оказывал
большую помощь практикам, безотказно консультируя всех, кто обра-
щался к нему за помощью, включая различные геологические учреж-
дения.
Не щадил себя, ушел из жизни внезапно, в полном расцвете
творческих сил. Бесспорно, сказалась война, суровые фронтовые буд-
ни, отмеченные боевыми наградами: орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского За-
полярья», «За победу над Германией» и рядом других.
Мой муж, Перекрестов Иван Георгиевич, как и все мои братья,
прошел Великую Отечественную войну; дошел до Берлина. Вернув-
шись с фронта, за два года (1945-1947) с отличием окончил Воронеж-
ский университет, затем аспирантуру Института географии АН СССР,
успешно защитил диссертацию и был направлен в Могилев-на -
Днепре, в пединститут. Здесь организовал кафедру экономической
географии, но фронтовые раны давали себя знать, и в 1959 г. он пере-
езжает в Пермь, к семье.
В Пермском университете Иван Георгиевич работает недолго, но
за короткое время успевает творчески сблизиться с профессором Ва-
лентином Алексеевичем Танаевским. Они быстро нашли общий язык,
радовались, обсуждая общие идеи, – маститый ученый и молодой,
фанатично влюбленный в географию специалист.
- 51-
К сожалению, война продолжила свое черное дело. В 1962 г., ко-
гда ему едва исполнилось 40 лет, Ивана Георгиевича не стало. В пись-
менном столе осталась почти готовая докторская диссертация.
Мама, Анна Михайловна Богословская, была студенткой Пермско-
го государственного университета в 1921 г. Она обучалась на факультете
общественных наук (позднее – педагогический). Однако заботы о боль-
шой семье и состояние здоровья изменили ход образования. В 1937 г.
она оканчивает Центральный институт заочного обучения иностранным
языкам со званием (как значится в документе) переводчика научно-
технической литературы с немецкого языка на русский.
Моя сестра Екатерина Ивановна в 1940 г. поступает на химиче-
ский факультет Пермского университета, очевидно, не без влияния
брата Глеба, с которым они были дружны. Но началась Великая Отече-
ственная война, и сестра переводится в мединститут.
Я пришла в университет, окончив 8 классов средней школы, вна-
чале на подготовительные курсы. Это были первые в университете и
притом необыкновенные курсы: с 1 февраля по 1 мая мы прошли ус-
коренные программы всех дисциплин, что вошли затем в аттестат зре-
лости. Помню, нам читали даже курс Конституции СССР. Сдав про-
граммные дисциплины, мы были зачислены студентами университета.
Курсы были рассчитаны прежде всего на вернувшихся с фронта,
тех, кому было важно повторить материал за школу; школьников, вро-
де меня, были единицы и среди них – Г. Гершуни, Ю. Горячев, буду-
щие крупные ученые, доктора наук.
Замечательным было то, что преподавание на курсах вели опыт-
ные университетские педагоги, в том числе еще оставшиеся пока в
эвакуации москвичи и ленинградцы. Многие предметы доставляли
мне подлинную радость, например физика, особенно решение задач.
И я уже подумывала, как буду обходиться без задач, если поступлю,
как намеревалась ранее, на филологический факультет. Однако стра-
стное поэтическое слово замечательного ленинградского пушкиниста
Дины Клементьевны Мотольской положило конец моим колебаниям.
На филфаке помог окончательно утвердиться в своем выборе
прекрасный педагог, стилист и методист Иван Михайлович Захаров,
первый заведующий кафедрой русского языка и общего языкознания
после того, как историко-филологический факультет вновь открылся в
университете в годы Великой Отечественной войны.
Филологами стали и моя дочь Евгения, и племянница Татьяна.
Племянница стала хорошим переводчиком, но из нее мог бы выйти и
неплохой математик.
- 52-
М. Котюрова,
выпускница 1965 г.
ОБ ОЛЬГЕ ИВАНОВНЕ БОГОСЛОВСКОЙ
Ольга Ивановна Богословская. Работала на кафедре русского язы-
ка и стилистики (современное название) с 1960 года. Нельзя не ска-
зать, что весь лингвистический материал, преподаваемый ею в курсах
по синтаксису русского языка, диалектологии, стилистике русского
языка, был пронизан особым интеллектуальным – личностным – све -
том. Отбор концептуальной информации, подчиненный воле автора
читаемого курса, строго соответствует основным методологическим
принципам – фундаментальности, доступности, аргументированности.
В частности, открытая лекция по синтаксису русского языка для сту-
дентов вечернего отделения филологического факультета высветила
удивительную строгость мысли ученых-лингвистов, очевидную логику
классификации типичных предложений на фоне реального речевого
богатства. Аргументирующий, иллюстративный материал из высокоху-
дожественных произведений русской литературы в системе курса Оль-
ги Ивановны формировал высокий в эстетическом отношении речевой
вкус студентов. Кроме того, существенно отметить, что общекультур-
ный интеллектуальный уровень обеспечивал любой дискуссии на
практических занятиях взаимопонимание и уважительное отношение
к мнению не только почтенного автора учебника, но и непосредствен-
ного собеседника, однокурсника.
Прекрасный преподаватель!
...Ольга Ивановна много лет исполняла обязанности Ученого сек-
ретаря факультета. По мнению архивариуса университета, протоколы
заседаний Ученого совета филологического факультета, несомненно,
являются образцом жанра – и по зафиксированному в них содержа-
нию, и по безупречному оформлению. Конечно, для сведущего чело-
века протоколы, хранящиеся в архиве многие годы, – это свидетельст-
ва прежде всего бурной жизни прежних лет, а также проявления от-
ветственности исполнителя за порученное дело, наконец, знаки черт
его личности. Ясно, что стратегически совершенно неважно, на какой
бумаге написан протокол заседания Ученого совета, тем более, каким
почерком он написан – крупным или мелким, все ли буквы равномер-
но и четко «пробиваются» машинисткой, и т. д. Несмотря на это, Уче-
-53-
ный секретарь Ольга Ивановна Богословская покупает хорошую (доро-
гую) бумагу, пишет черновик протокола «аккуратно, понятно и краси-
во» (как учат в педучилищах на уроках чистописания), чтобы не за-
труднять машинистку (у которой некстати сломались очки, но она, как
обычно, напечатает текст без единой ошибки). О . И. будет рада радо-
сти людей, для которых сделала добро.
Светлый человек!
...
Жизнь кафедры динамична и разнообразна. Научный доклад
коллеги, причем именно молодого ученого, не остается незамечен-
ным: всеми воспринимается совершенно естественно, что без пафоса,
искренне, сердечно Ольга Ивановна первой поздравит с успешным
выступлением. Чуткая душа знает, что путь исследователя в незнаемое
нуждается в поддержке. С коллегами-ровесниками продолжается об-
суждение темы представленного сообщения.
Неизбежные конфликтные ситуации на кафедре Ольга Ивановна
переживает как свои собственные неудачи. Тогда она сидит как-то
скованно, можно сказать, съежившись, уйдя в себя, опустив взгляд под
тяжестью мысли о неприятности. В такую минуту находиться на ка-
федре стыдно перед Ольгой Ивановной, потому что рядом с ней хо-
чется быть лучше не только в поступках, но и в мыслях и чувствах.
Несомненно, Ольга Ивановна Богословская предстает перед нами
как носитель интеллигентности, т. е . образованный, культурный, в це-
лом свойственный интеллигенции. Однако в этом общем определении
важно подчеркнуть доминанту личности. Не преуменьшая значимости
ни одной составляющей интеллигентности, существенно акцентиро-
вать для многих сокрытую сторону личности – внимательнейшее от-
ношение к другому, понимание другого, сочувствие другому, обосно-
ванно можно сказать, до сострадания с другим.
Уникальная личность!
- 54-
А. Маленьких (Гашева),
выпускница МГУ 1981 г.
НАМ НЕ НАДО ЭТОЙ ТЕМЕНИ БОЯТЬСЯ,
НО СЧАСТЛИВЫМИ НЕ БУДЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ...
Наверное, самым ранним филологом в нашей семье была моя
бабушка, моя мама Тоня. И не по своей воле. Она-то всегда хотела
стать врачом. И, наверное, у нее это получилось бы. Было в ней что-то
целебное, в самой ее личности, в тихом голосе, в сиянии светлых во-
лос, в ясных голубых глазах, с глубокой печалью в глубине, во всей ее
маленькой, ладной фигурке. Ей довелось доучиться только до второго
курса медицинского факультета. Потом ее выгнали без права учиться
дальше. Как дочь социально чуждого элемента.
До 18 лет она не знала нужды и бытовых забот. Даже платочки
носовые никогда не стирала. Не было такой необходимости. Ее отец,
вятский фабрикант Григорий Веретенников, выходец из беднейшей
крестьянской семьи, освоивший грамоту только в 30 лет, к моменту ее
рождения уже был хозяином кондитерской фабрики, владел несколь-
кими магазинами. У него был большой дом, трое детей. Бабушка моя,
моя мама Тоня, была старшей и любимицей отца. Она училась в гим-
назии, играла на фортепиано.
Самое большое изумление в моем детстве вызывал ее рассказ о
белом беккеровском рояле, который стоял у них в гостиной, на кото-
ром она играла и пела под собственный аккомпанемент. Она даже с
благотворительными концертами ездила в первый свой студенческий
год. Никак не помещалась в моем детском сознании картина жилой
комнаты с роялем. Видела я в своем детстве рояли, но они всегда
стояли в огромных залах во вполне себе официальных учреждениях.
И они были черные. А тут белый, в комнате. Собственный, свой. Неве-
роятно. Какое-то время я даже подозревала, что моя мама Тоня не-
много преувеличивает.
Подозрения развеялись, когда нам с сестрой купили пианино, шо-
коладно-коричневое музыкальное чудо. В день, когда его привезли,
к нам пришла мама Тоня, осторожно подсела к клавишам и впервые
за 40 лет заиграла какую-то невероятно грустную и светлую мелодию –
полонез Огинского. Она играла сначала неуверенно, пальчики ее, скрю-
ченные артритом, как будто спотыкались, но постепенно музыка поли-
лась уверенно и ясно. Она играла без нот, на память. Но больше всего
меня поразило, что она тихо плакала при этом. И мама Нина, подсевшая
к ней, тоже тихо плакала. Так и стоит перед глазами эта картина – обе
-55-
мои мамы сидят рядышком на стульях, Мама Тоня играет, и текут их
слезы, какие-то особенные, тихие, бессильные, беспомощные.
Спустя несколько лет, мама Тоня летним вечером на веранде
своего маленького домика, сооруженного из старой баньки, рассказы-
вала мне, как поздним вечером пришли в родительский дом злобно
кричащие мужчины в кожаных куртках, грязно ругались, вязали в узлы
из простынь столовое серебро, шелковые платья, как выносили жа-
лобно дребезжащий белый беккеровский рояль. Отца увезли в сибир-
ский лагерь. Мать с новорожденным братиком приютили добрые лю-
ди, а старшим детям было сказано: «Вы теперь взрослые, устраивай-
тесь, как сумеете». Так в одночасье перевернулась жизнь.
Долгое время поражало меня в этом рассказе то, что она даже не
удосужилась запомнить, кто именно сломал ее мир. «Эти, в кожаных
куртках», рассказывала она, я переспрашивала – «Это коммунисты?
Большевики?». А она только отмахивалась – «Неважно». Мне тогда
казалось это странным. Уж я-то запомнила бы навсегда – в ярости ду-
мала я, уж я бы прокляла их всех за моих родных, за отца. Только по-
том, много-много лет спустя, я поняла, как она была права, не впустив
злодеев в свою память о любимых людях. Она их просто вычеркнула
из сердца, отказала им в продолжении их истории в памяти о своей
семье. Кротко, без ожесточения, но твердо.
Эта способность мамы Тони просто отстранить от себя зло, не ка-
саться его очень помогла мне однажды. После получения диплома я
стала работать в многотиражке Пермского университета. Редактор
многотиражки к тому времени собралась увольняться, и предполага-
лось, что я займу ее место. Естественно, мне предложили вступить
в партию. Сказали, что надо поторопиться с заявлением, чтобы чего-то
там не пропустить. А я вдруг бухнула, что в партию я как раз вступать
не планирую. Так и сказала – не планирую. Мне было легко это ска-
зать. Я чувствовала, что за моей спиной стоит прекрасная моя мама
Тоня. Помню тягостную паузу, удивленный и неодобрительный взгляд.
О карьере в нашей маленькой газетке больше речи не заходило...
Любимый мамы Тони, тоже социально чуждый элемент, тоже вы-
гнанный из университета, повесился в комнате общежития. А сама она
через бюро трудоустройства нанялась учительницей русского языка и
литературы в далекую сибирскую деревню, поближе к лагерю, где
содержали отца. Он ухитрился сбежать и прятался какое-то время в
подполе ее домика. Там его и захватили, били, добавили срок. Маме
Тоне, укрывательнице беглого зэка, тоже не поздоровилось бы, но она
согласилась выйти замуж за моего деда Василия. Сменила фамилию
-56-
и укрылась за мужем от недреманного ока карательных органов со-
ветского режима.
Они были очень разные – Антонина и Василий. Образованная,
тонко чувствующая, тихая и светлая Антонина – и пьяница и дебошир,
крикун и пролетарий Василий. Они вырастили трех дочек (младший
мальчик Виктор умер), пятерых внучек, всем дали высшее образова-
ние, всех любили, вместе читали им книги, водили в театры и на кон-
церты, не имея часто денег даже на хлеб.
Жили всегда бедно, дед Василий – разнорабочий без специаль-
ности – зарабатывал мало. В перерывах между воспитанием детей
мама Тоня иногда работала. При мне – воспитательницей в детском
саду, чтобы можно было туда устроить меня, чтобы там кормили, ко-
гда я подросла, – учительницей русского языка и литературы. Одно
время я прямо у нее и училась в пятом классе. Пятиклассники – такие
сложные дети, а на ее уроках всегда была тишина, всегда все работа-
ли, старались изо всех сил. При этом она никогда не повышала голоса,
не кричала и уж, конечно, не ругала нас. Когда в классе возникала
шумная ситуация, она замолкала и, после паузы начинала что-то гово-
рить очень тихо, доверительно. Тогда все умолкали. Учителя, я слыша-
ла, все в один голос поражались этой ее способности успокаивать бу-
шующее детское море. Хотя они же осуждали маму Тоню за то, что она
слишком потакала детям, не прибегала к строгостям. Помню, был та-
кой случай: в нашем классе проходил диктант, мой сосед по парте, не
слишком старательный ученик, написал его, не расставив ни одного
знака препинания. А в конце поставил точки, запятые и тире и сделал
надпись: «Брысь по местам!». Она не поставила ему двойку, а просто
стала оставаться с ним после уроков, чтобы подтянуть. Я очень горди-
лась своей мамой Тоней и с гордостью принимала уважение одно-
классников. А мой лучший друг Колька Истомин, старше меня на три
года, тоже ее ученик, по-моему, был в нее влюблен, он покровитель-
ствовал мне и смотрел на меня, на ее внучку, затуманенными глазами.
Моя бабушка вообще обладала каким-то особенным даром воз-
действия на людей. Было в ней что-то тихое, кроткое, ясное, что успо-
каивающе и даже облагораживающе воздействовало на окружающих,
даже взрослых. Никогда я не видела, чтобы кто-то при ней вел себя
по-свински, кроме моего деда.
Я выросла у бабушки с дедом, до пяти лет не очень-то помнила
маму с папой, видела их редко. Да и потом в школьные времена каж-
дое лето жила с ними. Я очень помню, как они по очереди читали
Диккенса, Достоевского, как оба плакали, как срывался их голос от
- 57-
горестей героев. Это чтение, эти наши общие переживания потрясали
душу! Они были для меня мамой Тоней и папой-дедой. С ними было
тепло и надежно, я знала, что они никогда меня не бросят.
Мой дед, папа-деда, безумно любил свою жену. Он был с детства
одноглазым, каким-то корявым, жестким, резким, с очень громким
грубым голосом. У него не только не было никакой специальности,
кажется, он и школу-то не окончил. Моя бабушка – синеокая красави-
ца, светлая райская птица – досталась ему чудом – она уцепилась за
его протянутую к ней руку, как хватается утопающий за соломинку, –
когда тонешь, не до выбора соломинки. И он был страшно, до безумия
несчастлив сознанием ее нелюбви, сознанием ее смирения перед
судьбой, которая вот так вот ею распорядилась. Она покорно разделя-
ла с ним бездомную, нескладную, нищенскую жизнь, скиталась с ним
по всей России, родила ему всех их детей, вела их скудное хозяйство,
никогда не бранила его за его неуживчивость, за частую смену работы,
за чрезмерную любовь к водке. Но при этом она не отдала ему свое
сердце. Она его не любила, только терпела и растила с ним своих де-
тей. Это страшно его мучило. Частенько, напившись, он нападал
на маму Тоню с бранью, часто бил ее.
Самое страшное и, кажется, самое первое мое внятное воспоми-
нание – тусклый свет лампы, я сижу на полу, отчего его фигура кажется
огромной, мама Тоня – у самого пола, упала что ли? Он страшно кри-
чит и бросается на мою мамочку с чем-то огромным в руках. Навер-
ное, с поленом, он потом часто таким поленом размахивал в гневе
своем. А она, бедная, даже не убегает, только охает и прикрывается от
него своими беспомощными ручками, такими маленькими, такими
слабыми. Дальше – тьма. Ничего не помню. И много лет, когда всплы-
вало это воспоминание, я даже боялась пытаться вспомнить, что там
было дальше, – такой это был дикий ужас.
В моем детстве эти безобразные сцены повторялись потом не
раз. И каждый раз мама Тоня, утешая меня, рыдающую, умоляла, что-
бы я Ниночке не рассказывала об этом, а то нас сразу же разлучат... И
да, я не рассказывала. Никогда. Не то, чтобы мне не хотелось в такие
минуты к маме. Мне вообще всегда хотелось к маме и папе. Они были
молодые, веселые, бесстрашные. А дед с моей мамочкой Тоней были
тихие, печальные, шумного веселья не знали, они были несчастливые.
А в маме и папе жило веселое, светлое счастье, и я к нему, естествен-
но, тянулась. Только я знала, что без меня мама Тоня умрет. Да и я без
нее тоже. Даже живя с родителями, я всегда стремилась к ней. Часто
весной, когда таял снег, я потихоньку от родителей уходила в ее ма-
- 58-
ленький домик в трех километрах от города. Шла одна вдоль леса,
полей и оврагов, мимо мчались машины, проходили чужие люди. Мне
было страшновато, но мысль, что вот-вот увижу ее, – поддерживала.
Она была для меня настоящей мамой, она родила мою душу, со-
гревала ее, охраняла, растила. И всегда была на моей стороне. Всю
мою жизнь. Я и сейчас всегда это чувствую. Она была и остается моей
тайной опорой в жизни.
Сколько себя помню – всегда ее жалела, всегда сердце горело
гневом за ее искалеченную жизнь. Только с возрастом стала понимать,
каким сильным человеком она была. Поняла, что она сумела в жутких
обстоятельствах своей жизни победить. Большую часть своей жизни
она была вынуждена растить детей и внучек, непрерывно что-то стря-
пая, прибирая и отстирывая, но при этом совершенно не была привя-
зана к миру быта.
У Марины Цветаевой я как-то прочитала: «Кастрюли я или не ви-
жу – или ненавижу!» У моей мамы Тони не было возможности нена-
видеть кастрюли. Чтобы вырастить всех своих детей и внуков, прихо-
дилось с кастрюлями дружить. Мама Тоня очень вкусно готовила
практически из ничего (мой папа, шокируя ее, часто восклицал: опять
сделала из дерьма конфетку...), великолепно стряпала, а какие изуми-
тельные торты умела она испечь к празднику! И дома у нее всегда был
относительный порядок. Но при этом она жила как бы мимо быта,
мимо жесткой житейской необходимости. Она играла на гитаре и пе-
ла. Когда я привела к ней своего любимого, она подарила свою гитару
ему. Это было ее мне материнское благословение.
Помню, дед взял ей напрокат пианино. Она всегда играла, оста-
ваясь одна, для себя, для своего сердца. Она даже сочиняла музыку –
тоже для себя. Она вообще всегда жила своей, отдельной от мирских
забот, даже от семьи, глубокой духовной жизнью. Я часто видела ее
тихо сидящей на стуле. Руки сложены на коленях, глаза смотрят и не
видят никого. О чем она думала? Что видела перед собой? Была ли
она верующей? В церковь она не ходила. Правда, детей своих всех
окрестила, несмотря на воинствующий атеизм вокруг. Дважды в году,
как я теперь понимаю, перед Рождеством и Пасхой, они с дедом дела-
ли небольшой освежающий ремонт в доме, и оба тихо чему-то радо-
вались. Пожалуй, это были редкие минуты лада и гармонии в их отно-
шениях. В доме не было икон, мама Тоня никогда не крестилась, но
Бога она знала. Он жил в ее сердце. Он был – Любовь. После каждого
своего поражения, после каждой обиды она уходила в себя, о чем-то
там договаривалась со своим Богом, и, преодолев боль, снова воз-
-59-
вращалась к жизни, согревая нас всех теплом своей любви. Когда я
впервые взвыла от горя, она твердо сказала мне: «Ты только не уны-
вай, дочка, уныние – тяжкий грех». Так она и жила, согревая жизнь
вокруг. В этом была ее победа.
Это от нее все мы, в нескольких уже поколениях, живем любовью
друг к другу, от нее – смотрим на жизнь сквозь быт, не привязываясь к
его шероховатой поверхности, от нее любим семейные, а не офици-
альные праздники.
Во мне, в наших дочках и внучках живет ее кулинарный дар, по-
лученный ею от отца, начинавшего мальчиком на побегушках в конди-
терской лавке. От нее в нас и полное пренебрежение к стяжанию бо-
гатств. Помню, как-то одна наша знакомая очень удивилась, узнав, что
у нас нет никаких накоплений в банке, и никаких наследств мы не
ожидаем. Она была уверена, что надо же вкладывать куда-то деньги,
чтобы они прирастали. А я вспомнила, что у мамы Тони деньги, когда
они были, просто лежали на верхней полочке изящной старинной эта-
жерки. А мои родители складывали все наши зарплаты в железную
баночку из-под чая. Да еще папа в день получки с порога весело кри-
чал маме: «Ниночек, я опять положил деньги на книжку!» Это означа-
ло, что он купил книги. У нас сейчас есть зарплатные и пенсионные
карты, но и сейчас мы свою наличность складываем в верхний ящик
письменного стола, да и на картах капитала нет. Вопрос знакомой о
выращивании капитала помог мне сформулировать для себя главную
финансовую стратегию нашей семьи. Мы вкладываем в своих детей.
Так делали мама Тоня с папой-дедом, отдавая своим девочкам по-
следнее, вкладывая в их душу, интеллект, радуя их по возможности.
Так делали наши родители, мы, их дети, так же точно делают сейчас и
наши дети. Наша семья на собственной шкуре убедилась, что скорбное
терпение в сбережении копейки – совершенно бесплодно в нашей
реальности на протяжении, по крайней мере, последних ста с неболь-
шим лет.
Помню, в советские времена радовались в нашем доме гостям,
на последние деньги покупали шампанское и торт, или, как в конце
90-х, в дефолт, родители подскребли всю свою наличность и... купили
себе первый в их жизни цветной телевизор. Помню, как отец, при вы-
ходе на пенсию получивший пачку акций своей газеты, по первой
просьбе редактора отдал их ему, посочувствовав его бедственному
положению. Мы с мужем работали на двух, на трех, иногда на четырех
работах, чтобы наши девочки не чувствовали себя обделенными, что-
бы могли учиться, жить и работать там, где им хочется. Это так нор-
мально – вкладывать в детей. Чтобы они произрастали!
- 60-
Родителей своих я помню лет с пяти, когда им дали квартиру на
Степана Разина. Именно тогда они забрали меня к себе. Хотя отец
вспоминается, правда, смутно еще с двух лет. Я тогда оказалась в
больнице с двусторонним воспалением легких, врачи велели маме
Тоне вызвать моих родителей из Перми, срочно понадобилось пере-
ливание крови. Они примчались оба, но запомнила я почему-то папу.
Он был такой огромный, черноволосый, чернобровый, черноглазый.
Какой-то очень теплый, очень большой и прочный. Его кровь тогда
спасла мне жизнь.
Наверное, потому, что в моих жилах он присутствует в большем
объеме, чем мама, он всегда был мне как-то ближе. А может быть,
потому, что он напоминал маму Тоню. Такой же добрый, терпеливый,
легкий. Только гораздо веселее и оптимистичнее. Какой-то весь свет-
лый, несмотря на жгучую черноту волос и глаз. Он учил меня плавать,
а еще – лазать по деревьям и не бояться, когда вершина дерева начи-
нает опасно покачиваться под руками. Он читал мне Робинзона, об-
нимал и укрывал от урагана маминого гнева. Он научил меня фило-
софски относиться к бедам, к обидам. «Наплевать! – говорил он все-
гда. – Главное, что руки и ноги целы, голова на плечах – остальное
приложится!» Когда мне пришла пора выбирать жизненную стезю, я в
слезах объясняла ему, что хотела бы только одного – быть мальчиком
и моряком, папа расхохотался и рассказал мне, что после школы
именно этого хотел и он, но его не взяли из-за плохого зрения. Но он
не впал в уныние и поступил на филфак, потому что любовь к литера-
туре была в нем так же сильна, как и любовь к морю.
Папа всегда был пронизан каким-то почти языческим восторгом
перед жизнью. Он всю ее принимал и обнимал собой. Он не боялся ее
тягот, вообще, по-моему, никогда ничего не боялся, кроме потери
близких людей. Все наше детство в родительском доме было прогрето
его теплом. Конечно, он много работал, но при этом мы с сестрой все-
гда находились в поле его зрения.
Мы с Наташей чаще всего были предоставлены самим себе и об-
ращались за подмогой к родителям только в самых крайних случаях.
Они были уверены, что мы должны справляться сами. За все мои 10
школьных лет они ни разу не посетили родительское собрание! Но в
трудную минуту они были рядом, были за нас. Помню, как поздним
зимним вечером, гуляя на улице, мы закопали маленькую игрушку –
негритенка – в сугроб, и он там бесследно пропал. Пришли домой в
слезах. Отец сразу бросил все свои дела, вооружился детской лопат-
кой и разметал весь сугроб, на самом дне которого и оказалась наша
игрушка. А в 9 классе мы с одноклассниками сбежали с уроков, взбун-
- 61-
товавшись против физрука, как-то очень грубо и обидно обругавшего
наших мальчиков. А сбежав, конечно, решили пойти в кино! Именно
папа, узнав, в чем дело, не стал читать нам мораль, а просто снабдил
деньгами на билеты. Меня очень удивляло, что он даже не стал потом
выяснять, чем закончился для нас этот бунт.
Он был очень легким человеком, легким до легкомыслия. Однаж-
ды, когда мама в очередной раз уехала на четырехмесячную стажиров-
ку в Москву, его мама из Верещагино передала ему с оказией курицу.
Папа так обрадовался, что, притащив ее домой, нарезал на куски и дал
нам с сестрой. И до ужаса огорчился, когда мы наотрез отказались есть
мясо! Потом, правда, хохотал, обнаружив, что курица-то оказалась сы-
рой! В год рождения Наташи он чуть было не сбежал на Кубу, защищать
Фиделя Кастро! Мама потом часто с укором поминала ему это. Он мог
забыть забрать меня из садика, мог, заработавшись, не приехать в боль-
ницу за мамой и Наташей. Но при этом и мама, и мы с сестрой знали,
что нет на свете человека надежнее и порядочнее, чем наш папа.
Когда начались гонения на Солженицына, отец написал письмо в
его защиту на имя Брежнева, в нем, в частности, говорилось о том, что
потомки будут вспоминать это время, как время, когда жил и творил
Солженицын, а его гонители канут в Лету. Конечно, письмо до Кремля
не дошло, конечно, его взяли пермские гебисты, конечно, партийные
товарищи-журналисты сплясали на папиных костях канкан. Ему дали
строгача, на многие годы его перевели в отдел сельского хозяйства, и
он мотался по бесконечным командировкам, чтобы написать об уро-
жае свеклы и репы. Пожалуй, больше всего папу сразило предательст-
во товарищей, вернее, тех, кого он считал своими товарищами. Он
приходил с работы с серым лицом, утратил былую победительную
веселость, а выпив, отворачивался лицом к стене и восклицал: «Лице-
меры, ну, какие же они лицемеры!»
Помню, как всегда уравновешенный, всегда тепло улыбающийся
нам отец, пришел с работы с почерневшим лицом, как, даже не взгля-
нув на нас с Наташей, прошел в комнату к маме, как они о чем-то тихо и
горестно говорили. И потом на какое-то время исчезают из обихода на-
ши вечерние посиделки за ужином, папины рассказы о его детстве, о
школьных товарищах, отменяются наши концерты, которые мы с Ната-
шей регулярно устраивали для родителей. Я готовила костюмы, рекви-
зит, а Наташа распевала разные крутые, на наш взгляд, песенки – жесто-
кие романсы, приблатненный фольклор. Обычно мама с папой ждали
этих концертов с нетерпением, хохотали, сползая с дивана, когда ма-
ленькая, худенькая Наташа выходила в рваной маечке с бутафорской
сигареткой в зубах и запевала «По приютам я с детства скитался...»
- 62-
А тут – как отрезало. Вечер, они дома, но сидят в своей комнате,
на наши веселые атаки отвечают рассеянно, отстраненно. И так – раз
за разом. Или вот – мама, возвращаясь с работы, опять же отдельно от
нас, в комнате, что-то ожесточенно рассказывает отцу, жалуется, пла-
чет, вскипает в бессильной ярости. У мамы на ее любимом филологи-
ческом факультете свирепствовал Бельский, и сборник прекрасных
статей о Солженицыне рассыпали, и защита диссертации откладыва-
ется из-за всего этого на неопределенное время, тем более, что дис-
сертация о Казакевиче, а он по какой-то непонятной мне тогда причи-
не неугоден...
Наша мама была необыкновенно красивой, яркой, энергичной.
Жизнь она всегда воспринимала как битву. Как служение какому-то
большому, значительному делу. И защиту попранной справедливости.
Я думаю, сильно повлияла на личность жизнь с ее неправильными,
несчастными родителями. Она часто в тревоге выспрашивала у меня,
не скандалит ли ее отец, когда мы летом живем в их доме. Скажи я ей
правду, она фурией ворвалась бы к ним и разметала всех по стенкам.
Вот она приходит с работы и яростно стучит своим маленьким ку-
лачком по столу – оказывается, кто-то на кафедре присвоил себе науч-
ную идею молодого сотрудника – Риты Соломоновны Спивак. А вот
она негодует на декана: Бельский поставил себе цель жизни – отра-
вить жизнь Римме Васильевне Коминой, иезуитски используя различ-
ные идеологические подставы! Так и вижу ее рычащей: «Этот иезуит!»
Когда преследовали авторов «Горьковца», она метала самые настоя-
щие громы и молнии! Когда у Игоря Кондакова начались серьезные
неприятности, она к кому-то ходила, что-то доказывала, ругалась с
председателем парткома! Однажды, только переступив порог дома,
она вскричала: «Колька, меня посадят, имей это в виду! Я не удержа-
лась и такого наговорила на лекции про Булгакова!». Однажды, когда
мы мирно ужинали, по радио сообщили о смерти Твардовского, она
страшно закричала и заплакала, опять стучала кулачком по столу, все
время повторяя: «Убийцы, убийцы!». Мне тогда стало страшно, жизнь
показалась такой безнадежной...
Они не были борцами с режимом. Они не шли на баррикады, не
призывали к свержению людоедской системы. Они были просто жи-
выми людьми, с душой и сердцем, с чувством чести и достоинства, с
верой в неизбежное торжество правды и справедливости. И они, как
могли, оказывали свое человеческое сопротивление торжествующему
мракобесию. Тем, что не участвовали в вакханалии, не повторяли ци-
ничной лжи, тем, что в своей работе сохраняли человеческое тепло,
-63-
человеческое измерение. А еще тем, что, рискуя своей свободой, хра-
нили на книжных стеллажах темной комнаты – в кладовке без окон,
спрятанными в самом потаенном ее уголке завернутые в газетку пер-
вую книжку Солженицына и Библию. Они всегда были живыми, чувст-
вующими, думающими, свободными. Во все, что бы они ни делали,
они щедро вкладывали тепло своей души, прогревая собой все, что
оказывалось в поле их воздействия.
Вот этим они и защищали нас, своих детей.
Они всегда держали нас с сестрой на достаточном расстоянии от
идейной бесовщины своего времени. Никогда в нашем доме, в нашем
детстве не вели идеологических разговоров, не говорили ни о Ленине,
ни о грядущей победе коммунизма. Когда даже включенный утюг на-
чинал вещать об очередных победах социализма, дома ни о чем таком
мы не слышали. Это было своего рода семейное табу. И это при том,
что отец был коммунистом. Правда, он был коммунистическим роман-
тиком, получившим партбилет в оттепельные времена. А после того,
как были вытащены на свет все свидетельства о преступлениях режи-
ма, из партии все же вышел. И мама, и отец несли в себе травму ре-
прессивного прошлого и настоящего. Оно прошло катком по их судь-
бам, уж нас-то они прикрывали от всего этого. Впрочем, о фабриканте-
отце мамы Тони, как и о священнике отце Николае, замученном и по-
гибшем в сталинском лагере, – отце папиного папки Володи, о разо-
ренном хозяйстве и сиротстве отца папиной мамы Людмилы – тоже не
говорили. Все эти страсти долго обходили нас, детей, стороной. Прав-
да, папа частенько командовал: «Партия сказала – Надо, комсомол
ответил – Есть!» Но это означало лишь, что есть работа, которую нель-
зя не выполнить. А еще, сколько себя помню, поминался Павка Корча-
гин и Зоя Космодемьянская, как правило, перед походом к стоматоло-
гу, когда предстояло перетерпеть боль.
Впрочем, каким-то образом мы знали, что наши предки какие-то
не совсем правильные с точки зрения чужих нам людей, мы знали и о
книжках, спрятанных в кладовке. Я даже в тайне от родителей почита-
ла про Ивана Денисовича. Поскольку эта история была ни на что не
похожа из мне уже знакомого, то отложила ее. Я и Библию пробовала
читать, помнится, ритмы ее меня поразили, хотя сам текст со старин-
ными написаниями букв остался для меня темен. Никогда нас не пре-
дупреждали, что книжки эти запретные, что никому их показывать
нельзя. Мы понимали это каким-то звериным чутьем.
А еще часто родители, ужиная за круглым столом (в доме обяза-
тельно должен быть круглый стол – это еще от мамы Тони, папа-деда
- 64-
всегда сам делал ей круглые столы) и попивая любимое ими обоими
сухое вино, время от времени вдруг произносили важный для обоих
тост: «Чтоб они все сдохли...» Кто такие эти они, и почему им надо бы
сдохнуть, нам тоже не говорили. Да мы и не спрашивали. Но этим тос-
том эти Они напрочь вытеснялись из нашей жизни.
Уже когда мы стали постарше, родители дали мне прочитать сам-
издатовское «Собачье сердце». У меня в голове тогда что-то прямо
щелкнуло! Впервые тогда я встретила в тексте беспощадные, ясные и
трезвые размышления про всю эту лабуду с революцией, пролетариа-
том и светлым будущим.
«Мастера и Маргариту» я прочитала намного раньше, еще в
11 лет, сатирические главы оставили меня равнодушной, а вот история
про Мастера, про Иешуа Га Ноцри, про всемогущего Воланда с его за-
мечательной компанией, который способен все расставить по своим
местам, произвели просто неизгладимое впечатление. «Мастер» как-
то сразу раздвинул мое внутреннее пространство. Аналогичным по
силе воздействия стал для меня Набоков. Он просто перевернул весь
мой мир. Но это уже другая история.
Родители защитили нас еще и тем, что открыли перед нами бес-
крайний мир творческой свободы, мир литературы, театра, музыки, по-
казали, что именно здесь во все времена любая диктатура бессильна и
даже смехотворна. Броню этой защиты я чувствую всю свою жизнь.
Сама я довольно долго и трудно шла к себе. Училась на историче-
ском факультете, взяв там системный подход в рассмотрении фактов и
не приняв схемы о классовой борьбе и почему-то неизбежной, как при-
говор суда, победе пролетариата, перешла на филфак, догоняя, сдавая
экстерном разницу в дисциплинах. Неизгладимое впечатление произ-
вели на меня лекции Риммы Васильевны Коминой. Ее анализ литера-
турных текстов был подобен скальпелю хирурга, так точно и в то же
время бережно она разворачивала перед нами глубину, сложность и
неоднозначность изучаемых произведений. Тетрадки с этими лекциями
до сих пор бережно хранятся в нашей пермской квартире. Римма Ва-
сильевна, кстати, показала, как продуктивен сравнительный анализ во-
площения литературного текста на экране. Мы целый семестр занима-
лись тем, что анализировали экранизации русской классики, смотрели
фильмы, анализировали уровень прочтения литературного текста, спо-
рили до хрипоты! Это было потрясающе интересно и поучительно! Да и
вообще освоение филологических наук приобщило меня к бесстрашию
анализа, к свободе выдвижения эвристических положений, к свободе
самовыражения. Но и на этом не пришлось остановиться.
-65-
Заканчивала я свое образование в Московском университете на
факультете журналистики. Там, на кафедре литературно-художест-
венной критики, была создана так называемая мастерская, в которой
студенты специализировались именно на этой самой критике. Нас бы-
ло немного, мы были первыми, а потому с нами возились особенно
тщательно. На общих поточных лекциях по теории журналистики про-
фессора внушали нам, как важно журналисту проявлять идеологиче-
скую выдержку и партийную бдительность, а в это же время в нашей
мастерской мы выходили в совершенно иную реальность.
Помню незабываемые встречи с известными литературоведами,
критиками, теоретиками искусства. Галина Белая не только приносила
нам читать запрещенного тогда «Доктора Живаго», но и устраивала
его обсуждение на семинарах! Анатолий Бочаров сразу поразил наше
воображение тем, что только что отказался написать разгромную ре-
цензию на бесцензурный сборник «Метрополь», а тексты из этого
сборника предлагал нам для анализа, придирчиво выясняя, способны
ли мы увидеть художественные качества литературного произведения,
отделить их от идеологической составляющей. Николай Анастасьев и
его вдумчивый и виртуозный анализ Фолкнера, только что вышедшего
романа «Старик» Трифонова, великолепный Владимир Турбин, так
сопоставлявший тексты русской классики и современной нашей лите-
ратуры, что мы только диву давались; Игорь Виноградов и его потря-
сающие лекции о наших философах начала ХХ века, о философском
пароходе, нам и работы этих философов выдавали из спецхрана! Вла-
димир Лакшин с его размышлениями о Булгакове, о судьбах спектак-
лей и экранизаций по его произведениям. Занятия с блистательными
искусствоведами в музеях Москвы, театральные штудии с потрясаю-
щей умницей, аналитиком от Бога Натальей Крымовой, Елизаветой
Пульхритудовой, закрытые просмотры шедевров мирового кинемато-
графа из Госфильмофонда – все это богатство предложили нам так
щедро, так свободно!
Но, пожалуй, главным моим университетом стал театр на Таганке!
Таганка стала моей жизнью, моей любовью, и, конечно, моей болью. Это
был мой мир! Тут все как-то разом сошлось для меня, все сложилось в
целостную картину мира. Все встало на свои места. Театр Юрия Любимо-
ва вернул мне меня, развернул возможности моего духовного мира, от-
крыл мне свободу мысли и чувства. Это стало для меня чем-то значитель-
но более важным, чем просто театр. Я посмотрела много спектаклей в
разных театрах Москвы, знала спектакли Товстоногова, даже Някрошюса
удалось увидеть. Но только Таганка по-настоящему взрастила меня.
Курсовые, дипломные, диссертация – все было посвящено Таганке!
-66-
И вот ведь чудо! Судьба очень удивительно ласково обошлась со
мной и с моей страстью к Таганке. Я поступала в аспирантуру в тот са-
мый сентябрь, когда Любимова вышибли из страны, лишили граждан-
ства. Был момент, когда я от горя сказала Анатолию Георгиевичу Боча-
рову, кафедра которого должна была утверждать тему моей диссерта-
ции, что не могу и не буду писать ни о ком, кроме Любимова, а потому
придется мне бросить аспирантуру, даже не начав. Он тогда ласково
ответил мне: «Деточка, вы пишите, пишите себе потихоньку, в теме
ведь можно и не заявлять напрямую Любимова, а там, к защите – вид-
но будет, может быть, все и переменится».
И правда, многое изменилось к году моей защиты! Юрий Петро-
вич вернулся с триумфом! Театр ожил! Моя защита прошла на ура.
У меня есть семейная история, интимно связанная с Любимовым.
Когда началась травля театра, когда пошли лавиной позорные статьи о
том, какой, оказывается, плохой режиссер и актеры на Таганке, я впала
в тоску и отчаяние. Я тогда ждала второго ребенка, мне вдруг пришло
в голову, что вопреки всему, вопреки своей полной беспомощности
защитить великого Мастера, я могу попытаться вернуть Любимова,
назвав нашего сына Юрием Петровичем. Муж мой, Иван, дал мне
торжественное слово, что мы так и сделаем! Наверное, это смешно
сегодня звучит. Но в те безнадежные времена вакханалия хамского и
беспощадного надругательства над одним из лучших художников ХХ
века, который даже и ответить-то не может, – просто сводила с ума.
Наверное, к счастью, у нас родилась девочка Марина. Но свет Та-
ганки и ее озарил. Старшая наша, Соня, была уже достаточно большой,
с 12 лет я возила ее в Москву, она посмотрела много спектаклей Лю-
бимова, тоже заболела этим театром, потом мы не раз приезжали на
различные конференции, я из Перми, она – из Питера, сходясь вместе
на Таганке. А вот о Марине я горевала, очень жалела, что дочка вряд
ли увидит этот театр, ведь она еще мала. Но так сложилось, что в
Пермь Любимов привез свой театр с лучшими своими спектаклями. На
время столица словно переместилась в наш городок. И мне удалось
сводить нашу младшую школьницу не только на его спектакли, но и на
встречу с Юрием Петровичем! В конце его встречи с общественностью
города я подошла к нему, рассказала про себя, подарила сборник со
своей свежевышедшей статьей о Таганке и рассказала о Марине,
сбивчиво, волнуясь и сбиваясь, о том, как пыталась его вернуть. Он
выслушал меня очень серьезно, внимательно, как-то очень быстро все
понял, посмотрел на Марину и подарил ей иерусалимский нательный
крестик, а еще подписал для нее афишу Таганки: «Внучке Марине от
деда Любимова».
- 67-
Так он стал моим названным отцом. Моим духовным отцом!
Я была счастлива, но даже не могла предположить, как эта встреча
повлияет на Марину. Она не только стала актрисой, хорошей, настоя-
щей, умной актрисой, но она даже сыграла роль Чумы-Хелен в «Кале-
ке с Инишмана» на сцене театра на Таганке! Дело в том, что наш ху-
дожественный руководитель знаменитого на весь мир театра «У Мос-
та», Сергей Федотов, открывший Макдонаха для всей театральной
России и приглашенный для постановки «Калеки» на Таганку, где уже,
увы, не было Юрия Петровича, хотел показать актерам Таганки, имен-
но показать, а не рассказать словами, что является тайной обаяния
этого драматурга. Для этого он и привез в театр свой пермский, фир-
менный, «мостовский», ставший знаменитым на весь мир, спектакль.
Его смотрели актеры Таганки! Марина им понравилась, настолько, что
Полицеймако подарила ей платье Офелии из легендарного любимов-
ского «Гамлета»! Это ли не высокая оценка! Так это платье и путешест-
вует сейчас с названной внучкой Юрия Петровича!
Сейчас, из глубины прожитых лет, оглядываясь назад, на всю на-
шу семью, на тех, кого знала и любила и о ком мне только рассказыва-
ли, я понимаю, что в них во всех было главное, – это свет бессмертной
души. Именно этот свет дает смысл всем нашим взлетам и падениям,
всем безднам, в которые приходится заглянуть, всем ошибкам, оби-
дам, поражениям, без которых не бывает жизни. Любимое мамино
стихотворение, в которое, мне кажется, она переселилась после сво-
его ухода, об этом: «Не жизни жаль, с томительным дыханьем! Что
жизнь и смерть! А жаль того огня, что просиял над целым мироздань-
ем, и ночь идет, и плачет, уходя...»
Отблески этого огня я вижу в наших детях и внуках. В Сонечке,
кандидате филологических наук, сочиняющей замечательные, очень
русские по духу рассказы о жизни в далеких странах и публикующей их
в интернете. В десятилетней внучке Зване, изящно перемежающей
свободную русскую речь английскими, малоазийскими и китайскими
словами, сочиняющей экспромтом целые поэмы о высших смыслах
бытия, правда, на английском языке. В умнице Марине – всегда в по-
исках творческой свободы, в пятнадцатилетнем нашем внуке Никите,
поклоннике современной поэзии, обучающемся в классе с журналист-
ской направленностью в красноярской гимназии. Я очень надеюсь, как
бы ни складывалась наша жизнь, какие бы испытания она ни предла-
гала, они никогда и никому не позволят погасить в себе этот огонь!
- 68-
Н. Гашева,
выпускница 1983 г.
РАССКАЗ, ЧТЕНИЕ ВСЛУХ, ПИСЬМО
«Ты знаешь, ведь все не плохо./ Этот стиль побеждает страх./
Эта дивная, злая, смешная эпоха/ Нас с тобой не стерла в прах./
Давай запомним эти лица/ И у этой пластинки острый край./
И пусть хранит всех нас любовь...»
Владимир Шахрин,
рок-группа «Чайф»
Рассказ
Если уж говорить о том, почему я стала филологом, то рискну об-
ратиться к следующей аналогии. Все филологи, учившиеся у профессо-
ра Риммы Васильевны Коминой, конечно, помнят, как на лекции о
Достоевском она говорила о том, что Раскольников просто не мог не
совершить того, что он совершил, поскольку все обстоятельства его
жизни и жизни его близких, плюс страшная логика мировой истории и
вообще устройство мироздания не оставляли ему никакого выхода и
альтернативы. А в моем случае попробуйте-ка не стать филологом,
если у вас в доме, в семье все сплошь филологи, да и живете вы в
квартире, заваленной книгами, точно в избе-читальне. То есть не успе-
ла я родиться, как вселенная развернулась передо мной грандиозной
библиотекой. По поводу нашего дома, где, как правило, редко бывали
деньги и «хлеба земные», мой однокурсник Олег Плюснин острил
следующим образом: «У Гашевых обед всегда из трех блюд. На первое
–
книга. На второе – книга. На десерт к чаю – опять книга...» Одно из
моих детских воспоминаний: яркий солнечный день, отец сидит за
своим письменным столом, работает над очередной статьей для газе-
ты. Я, маленькая, лет четырех, сижу под этим столом и рассматриваю
книгу, которую тут же на полу и вытащила из стопки других. Недавно я
научилась читать и читаю все, что плохо лежит. «Гореотумма-
гореотумма-гореотумма», – бормочу и повторяю я нараспев загадоч-
ное слово. Непонятные слова и словосочетания меня завораживали.
Главным героем моего раннего детства был отец. Его было очень мно-
го всегда, в избытке. Был он в те времена, если использовать термин
Э. Фромма, биофил, жизнеутверждающий тип личности, витальный
человек. Всегда в приподнятом настроении, бодрый, веселый, улы-
бающийся, громко, с хохотком, и быстрой скороговорочкой произно-
сящий слова, он привносил в мир нашей семьи радость, ощущение
-69-
праздника, движения, творчества. Мама часто говорила, что он, как
электрическая батарейка, заряжает своей энергией, рядом с ним все-
гда тепло. У него был хороший музыкальный слух, и мы пели с ним
песни. Тон задавал всегда отец. То есть запевалой в нашей семье тогда
был он. Какие-нибудь флибустьеры и авантюристы и какая-то «Бриган-
тина, поднимающая паруса»... Или про какую-то чудную женщину,
которую, «как только увижу, так сразу и немею, потому что, понима-
ешь, не могу./ Не кукушкам, не гадалкам я не верю и к цыганкам, по-
нимаешь, тоже не хожу»... Это все, и Павел Коган (или не Коган, а
Светлов?), и Булат Окуджава – было из отцовского, с его университет-
ско-журналистскими дружескими компаниями, репертуара... Часто
забредал к нам в дом младший брат отца, Боря Гашев, с женой своей
Надей и с другом, красавцем Эдиком Шумовым, и они с ним лихо пели
дуэтом Галича: «А у психов жизнь – / Да так бы жил любой: / Хочешь
спать ложись,/ А хочешь песни пой...» Или Эдик Шумов, бородатый,
высокий, пел, вместе с Надеждой, из репертуара Леонида Утесова: «А
помирать нам/ Рановато:/ Есть у нас еще дома дела...» Или что-нибудь
из лагерного репертуара: «Мы бежали с тобою,/ Опасаясь погони...».
Или вот еще, совершенно загадочная для меня до сих пор, песенка.
Когда отец бесшабашно запевал ее много лет назад нарочито-
куражистым голосом, я заливалась смехом. «Оба молодые. Оба – Пе-
ти: / Хлеб и соль делили пополам...» Слов дальше не помню, кажется,
их и не было вовсе. Но в этом-то и загадка песенки... Я до сих пор ло-
маю голову, кто же были эти два Пети и как сложилась их дальнейшая
судьба... Или вот еще один сюрреалистический текст из отцовского
репертуара того времени: «Одна нога была у ей короче.../ Другая де-
ревянная была...» Все. Дальше – провал в памяти... Но самой любимой
моей песней в те годы была незабвенная «Мурка». Сюжет этой песен-
ки привлекал роковой эксцентрикой, тем более, что в свои четыре-
пять лет я даже не все слова понимала (зашухарила, малину, гуляешь с
легашом... и т. д.), но смысл общий был романтическо-драматический,
любовь-измена-предательство – кровь и смерть. Эта блатная героика
вкупе с роковой любовью очаровывала мое воображение. Образ Мур-
ки занимал меня очень. В ней все было необыкновенным, начиная
с имени. Таких женских имен я в своей реальной жизни не встречала.
Я постоянно рисовала ее такой, как себе представляла: с огненно-
рыжей копной кудрявых волос, гордую, фартовую красотку с насмеш-
ливой вызывающей улыбкой на лице и дерзким взглядом. Множество
моих рисунков, изображающих кульминационный эпизод песенки
шариковой ручкой, которые только-только начали у нас в то время
- 70-
продаваться, валялись повсюду. И непременно красной, как кровь,
пастой. А когда пошла в школу, то изображение Мурки появилось и в
школьных тетрадках, и на страницах учебников, и даже в школьном
дневнике, за что мне не раз попадало от школьных учителей и нашей
классной дамочки – вечной старушки Инны Максимовны, ежесекунд-
но, с нравоучительно-педагогическим пафосом вбивавшей в наши
девственные маленькие души четкие и простые тезисы моральных
истин, по сути христианских, по форме тлетворно-советских. Она вся у
меня была огненная, эта самая Мурка. Кто был тот, от имени которого
ведется рассказ в этой песенке, я не очень разбиралась. У взрослых
спрашивать стеснялась. Могли засмеять за несообразительность, осо-
бенно сестра Сашка. Конечно, я понимала, что дело происходит в ка-
кой-то воровской шайке. И это, возможно, главарь шайки налетчиков.
А она была его подругой. Значит, рассуждала я, она его променяла на
какого-то Легаша. Возможно, этот Легаш является главарем другой
бандитской шайки. А тот, значит, брошенный ею возлюбленный, так я
себе представляла, ее теперь упрекает за предательство перед тем,
как застрелить. И почему-то у меня возникал вопрос, как же его зовут,
этого, отвергнутого Муркой, возлюбленного? Странно, что он безы-
мянный получается. Трудно его себе представить без имени. И я при-
думала ему имя. Как раз где-то услышала непонятное слово: Басур-
ман. Кто это такой – неизвестно. Зато звучно и красиво. Не могут же
Муркиного возлюбленного звать каким-нибудь Степаном или Тимо-
феем. А вот Басурман – в самый раз. Этот ревнивец и мститель Басур-
ман представлялся мне непременно во фраке и с черной повязкой на
одном глазу. Так я его и изображала. Вот он стоит в решительной позе
и целится в неверную Мурку из револьвера. И при этом гневно броса-
ет ей в лицо свои упреки: «Раньше ты ходила/ В туфлях из Торгсина
(что это такое? Торгсин. Я не знала. Но чуяла, что что-то очень дорогое,
роскошное, важное),/ В туфлях на резиновом ходу,/ А теперь ты но-
сишь рваные галоши (галоши я ненавидела – они вечно были мне ве-
лики и сползали с валенок на улице в самый неподходящий момент
моей короткой жизни. И я их вечно теряла, за что мне неизменно вле-
тало от взрослых),/ Но зато гуляешь с Легашом»... Следующий куплет
уже изображал Басурмана рыдающим над телом смертельно ранен-
ной Мурки, истекающей кровью. Причем, прямо сквозь платье я рисо-
вала у нее просвечивающее насквозь, пронзенное роковой пулей, ок-
ровавленное сердце. Где в это время находился Легаш, неизвестно.
Может, он струсил и сбежал, спасая свою шкуру? Известный преда-
тель. Типичный мужчина, полагала я. Губитель бедных женщин. Он
- 71-
был для меня какой-то досадной абстракцией, всегда отсутствующей.
Никакой на него надежды. Хотя присутствие его и ощущалось где-то за
кадром сюжета. Для меня история Мурки – это была трагедия любви,
измены и мести из ревности только двоих героев, Мурки и Басурмана.
Примечательно, что с этой бедовой Муркой в моем детском вообра-
жении ассоциировалась и героиня новеллы Проспера Мериме (прочи-
танной мне взрослыми вслух, по той причине, что сама я читать еще
ленилась, но слушать, как читают другие, обожала, и это было люби-
мым моим времяпрепровождением). Историю самовольной и строп-
тивой цыганки Кармен и бедняги Хозе, потерявшего голову от любви,
и зарезавшего ее в порыве безумной ревности, я проецировала на
историю Мурки и Басурмана: «Так не доставайся же ты никому!..»
Впрочем, это уже из другой пьесы. Кстати, примерно в это же время
родители принесли от каких-то знакомых на один вечер пластинку
(кажется, их было несколько) с записью знаменитого товстоноговского
спектакля по роману Ф. Достоевского «Идиот» с Иннокентием Смокту-
новским в главной роли. Родители и мы с сестрой слушали этот спек-
такль, сидя на нашем старом, видавшем виды диване, тесно прижав-
шись друг к другу и затаив дыхание, целый вечер, до поздней ночи.
Было мне в ту пору года четыре или чуть больше. Ужас сковывал меня,
и я боялась пошевелиться. Во рту пересохло. Сердце колотилось в гру-
ди и отдавалось в висках. Меня бросало то в жар, то в холод. Самым
страшным для меня оказался, конечно, разговор Рогожина и князя
Мышкина возле тела зарезанной Рогожиным Настасьи Филипповны,
когда убийца с каким-то детски-благоговейным удивлением признает-
ся князю, что крови из смертельной раны вытекло не больше столовой
ложки. Эта обыденная и вместе с тем натуралистическая деталь вреза-
лась мне в сознание, оставила навсегда жестокую зарубку в сердце,
наподобие того самого садового ножа, которым Рогожин разрезал
страницы в Библии, а потом использовал его в качестве орудия убий-
ства. И эта страшная подробность жуткой трагедии уродливо выраста-
ла в моем внутреннем зрении, как под увеличительным стеклом, еще
больше после прочитанных чуть позже у Марины Цветаевой и тут же
насмерть впечатавшихся в мою простодушную детскую память стихо-
творных строчек: «Не в таких ли пальцах/ Садовый нож/ Зажимал Ро-
гожин...» В университете Римма Васильевна учила нас, второкурсни-
ков, вдумчиво читать тексты Достоевского, Толстого, Чехова, особое
внимание при этом обращая именно на художественные детали, сим-
волические, концептуальные. Помните лунный луч, падающий на бу-
тылочное стекло? Или: зеленый пояс на сером платье? Вот эти-то вы-
- 72-
разительные детали меня и поражали всегда в самое сердце, раскры-
вали мистическую связь жизни и литературы, указывали то тут, то там
на подтексты реальности, рифмы судьбы. Спектакль завершился. Про-
игрыватель был выключен. Родители шумно делились впечатлениями.
Спрашивали наше мнение. Сашка что-то говорила с восторгом, захле-
бываясь словами, и прыгала вокруг стола на одной ножке. Я молча
прижималась дрожащим телом в углу к холодному коричневому боку
пианино и упорно молчала. Мать начала стелить постель. Сашка бега-
ла вокруг дивана и повизгивала. Обо мне вроде бы забыли на время.
Но когда вспомнили, то увидели меня все еще судорожно обнимаю-
щей полированную стенку пианино. Всем стало ясно, что я перепугана
насмерть. Сашка захихикала еще громче и попыталась меня по-своему
утешить: «Ну, чего ты боишься-то? Чего? Кто тебя тронет? Ты ведь ни-
кого за нос не водишь, как Настасья Филипповна?» Образ Настасьи
Филипповны у меня слился с образами Мурки и Кармен, и когда позже
я уже сама читала роман Достоевского, эта ассоциация только упрочи-
лась. Да и сам Федор Михайлович пугал меня в детстве немало. Прямо
напротив дивана, на котором мы с Сашкой спали вдвоем в большой
проходной комнате хрущевки по улице Гагарина в Мотовилихе, отец
канцелярскими кнопками прикрепил к платяному шкафу (гардероб,
как мы говорили) довольно большую и качественно выполненную ре-
продукцию с известного портрета писателя кисти художника Перова.
Каждое утро, проснувшись по обыкновению раньше всех, я открывала
глаза и тут же сталкивалась взглядом с грозным, проникновенным (до
глубин моей детской совести, души, всего моего маленького сущест-
ва), упрекающим, всезнающим, все ведающим, взором жестокого
реалиста. Эти глаза Достоевского, с невероятной достоверностью вы-
писанные Перовым, были совсем живые, острые. С кровавыми про-
жилками на желтоватом белке, слезливо-блестящие, как буравчики,
вонзались в меня, наполняя мое сознание страшным беспокойством,
повергая меня в отчаянную тоску. Я боялась отвести свой взгляд от
этих гипнотизирующих глаз на портрете. Затаив дыхание, я лежала в
неудобной позе, зарывшись до самого носа в одеяло и обливаясь го-
рячим потом, то ли от жары, то ли от собственного страха. Минуты это-
го ступора тянулись медленно под взглядом василиска великой рус-
ской литературы. Наконец, я усилием воли заставляла себя отвлечься
от портрета и переводила свои глаза в сторону стены, у которой и рас-
полагался наш диван. Но тут было не лучше. На стене мама повесила
привезенную ею из московской командировки цветную репродукцию
«Незнакомки» (или еще ее называют, кажется, «Неизвестная») худож-
- 73-
ника Крамского. Весьма качественная репродукция эта была забрана в
изысканную раму, выкрашенную серебряной краской, и представляла
собой хорошо выполненную имитацию настоящей старинной картины.
Эту смуглянку в меховой шапочке и с муфточкой, эту даму полусвета,
эту самую усатую незнакомку мать обожала и не переставала ею вос-
хищаться изо дня в день, навязчиво и ежедневно приглашая и нас
принять участие в этом ритуале, я же тайно и упорно ненавидела уса-
тую даму-красотку с портрета и боялась ее магнетического взгляда.
Всякий раз, сталкиваясь с ней взглядом, я убеждалась, что та при-
стально и зловеще следит за мной своим плотоядным взором, и ее
полные, накрашенные губки под черными усиками змеевидно скры-
вают недобрую усмешку. Незнакомка эта казалась мне Настасьей Фи-
липповной, которую, конечно, было жаль, ведь она так плохо кончила
у Достоевского в его романе, мне же тяжело было все время видеть ее
у себя над головой, засыпая и просыпаясь под этим неусыпным оком.
Зато я могла часами, без опаски, что он нанесет мне какой-то невиди-
мый, но непоправимый вред, созерцать вырванный отцом из журнала
портрет Эрнеста Хемингуэя, прикнопленный к боковой стенке книжно-
го шкафа в проеме между кухней и коридором. Обаятельный седобо-
родый дядька в шерстяном свитере весело улыбался с портрета, по-
пыхивая трубкой из белозубого рта. Сразу было видно: добряк. И там
еще и надпись была занимательная из стихотворения Евгения Евту-
шенко: «И вдруг он появился, тот старик,/ В простой зеленой куртке с
капюшоном./ Он так похож был на Хемингуэя./ А после я узнал, что
это/ И был Хемингуэй...» Сто раз я читала эту надпись в детстве и было
совсем не страшно.
В школе я занималась с удовольствием только теми предметами,
которые мне были интересны. Это – литература, история, немецкий
язык, пение, рисование. Все остальное не вызывало у меня никакого
энтузиазма. Вследствие этого учебники по математике, химии, физике
и т. д. у меня до конца учебного года и окончания школы оставались
новехонькими и даже с неразрезанными страницами. Когда нам на
выпуске выдавали аттестаты, то торжественно вручали и какие-то гра-
моты за особые заслуги по отдельным предметам. Кто-то блестяще
учился по физике. Кто-то успел преуспеть в спорте. Мне написали
очень смешно: «Влюбленная в литературу». Помню, что мы дома
очень смеялись над этим неуклюжим определением моих склонно-
стей. Но по сути это было точное определение. Я и до сих пор не могу
избавиться от соблазна проецировать жизнь на литературные тексты,
а тексты – на живую жизнь. Мне близко пушкинское «над вымыслом
-74-
слезами обольюсь». И согласна с Достоевским, который писал, что
жизнь иногда такие преподносит ситуации, которых не выдумает ни
один автор. И даже размышляя о нашей семье, ее истоках, генеалоги-
ческих предпосылках и характере нашего гашевского филологизма, я
не могу обойтись без филологических определений, аналогий, ассо-
циаций. После окончания филфака в 1983 году я пришла работать на
кафедру философии к профессору В. В . Орлову. В рамках литературо-
ведения становилось тесно, поскольку дипломная моя, под руково-
дством Риммы Васильевны Коминой, была посвящена сравнительно-
му анализу творческих методов Достоевского и Ван Гога. Я опиралась
в своем исследовании на бахтинскую идею о том, что самое важное и
интересное в культуре происходит на ее границах, то есть на перекре-
стках духовной культуры (религии, философии), литературы и искусст-
ва. А в 90-е годы двадцатого века жизнь и профессия погрузили меня и
в культурологическое измерение. Судьба любой семьи есть по пре-
имуществу судьба, связанная со всеми крупными событиями истории,
с самым центром истории и культуры. В истории нашей семьи – это
болезненный антропологический опыт нескольких поколений наших
соотечественников, травма, тоталитарная по своей природе, уходящая
корнями в репрессивный характер культуры, резко изменившая жизнь
всего нашего народа и нашей семьи, травма как нарушение механиз-
мов психической защиты от сильнейших потрясений эпохи, к которым
мои близкие, как и миллионы их современников-соотечественников,
оказались не готовыми ни культурно, ни социально. Речь о культурной
травме, принципиально не завершаемой, поскольку никогда невоз-
можно корректно объединить опыт пережитого, высказанного и поня-
того. По ту сторону травмы возможны две стратегии: молчание и фе-
номен свидетельств, рассказ как попытка изживания травмы. Вот эта-
то настойчивая потребность рассказывания историй из своей жизни,
потрясших их самих и перевернувших их мечты и судьбы, рассказ, ад-
ресованный собственным детям, потом – внукам, а затем и правнукам,
я думаю, и есть проявление того самого филологизма, стиля нашего
семейства. Ведь рассказывание – это не просто устные воспоминания,
но и передача своей интерпретации событий, диалог с собой и с деть-
ми, и вопрошание, обращенное и к себе самим, и к своим детям, и к
Богу. Паскаль давно советовал: «Не плакать, не смеяться, а все пони-
мать...» Но это не про нашу семью. У нас в семье как раз внезапно на-
хлынувшие бурные слезы и очистительный смех смешивались в стра-
стном порыве, в эмоциональном жестикулировании, в отчаянной
страсти и экстазе боли, в исступленной исповеди, в немедленном
- 75-
ожидании отклика, сопереживания, ответа на главный вопрос:
«За что?» Потому, я думаю, не Паскаль, а Достоевский и Фолкнер были
тут для моих старших родственников, да и для нас, многочисленных
отпрысков нашего рода (я имею в виду и дочь Бори Гашева Ксению, и
ее дочь Катерину, и двоюродную сестру Людмилу, и двоюродного
брата Сергея – детей старшей папиной сестры, тети Кати, и их деток, и
дочерей маминых сестер, Маргариты и Татьяны, Анастасию, Юлию,
Ольгу, и их деток, Глеба, Полину, и наших с сестрой Сашей дочек, Со-
ню, Марину и Лизу, и деток Сони и Марины, Никиту, Звану, и более
отдаленную, косвенную родню), главными проводниками по адовым
лабиринтам. Достоевский – с его нервной взвинченностью, с этими
его, блестяще проанализированными М. Бахтиным, безвыходными и
эксцентрическими обстоятельствами, пограничной ситуацией «вдруг»
и «слишком», вынуждающими к ежесекундному и безошибочному
экзистенциальному выбору. И Фолкнер, потому что, помните, у него
все старшие герои без конца рассказывают свои жизненные истории
героям помладше – такой способ инициации, что ли. Вот и у нас в се-
мье происходило нечто подобное. Все мое детство и юность заполне-
ны этими рассказами до краев. Особенно важными были рассказы
отца, мамы, бабушки и деда по материнской линии. Это то, что нас
формировало духовно, нравственно. Меня и сестру. То, что мы пере-
даем своим детям. А они передадут своим. Именно из этих рассказов
в моем сознании складывается представление о судьбе гашевского
семейства в контексте российской действительности прошлого и ны-
нешнего веков и, конечно, о характере семейного филологизма. Мне
думается, что в их свидетельствах главное – это стремление обнару-
жить связь собственной человеческой судьбы с исторической судьбой.
Это смысложизненный поиск, который в вечности связывает прошлое
с будущим. Если уж копать глубоко, то истоки нашего гашевского рода,
по-видимому, давние. В 70-х годах прошлого века Надежда Гашева,
жена Бориса, моего родного дяди, тогда редактор Пермского книжно-
го издательства, готовила краеведческую книгу о Прикамье и в одной
из старинных летописей наткнулась на следующую запись: «В 1643
году в деревне Подвинцево жил крестьянин Артем Гашев, сын Федо-
ра». Возможно, от него, Артема Гашева из деревни Подвинцево, по-
шел наш род Гашевых. Во всяком случае Николай Михайлович Гашев,
мой прадед, родом тоже из Чусовского района. Он родился 26 ноября
1869 года в деревне Успенка, где, говорят, и сегодня Гашевы почти в
каждом доме. Кстати, как свидетельствует старинная летопись, в 1581
году в той же Успенке на берегу Чусовой атаман Ермак получил благо-
- 76-
словение на свой легендарный поход в Сибирь... А Юрий Беликов, по-
эт, журналист и наш пермский филолог, и краевед Леонард Постников
в 80-е годы прошлого века ездили за стариной по деревням и весям и
подобрали в дорожной колее, у села Успенка Чусовского района, над-
гробный памятник Никифора Гашева, скончавшегося в 1910 году.
Намассивном мраморном памятнике надпись: «Мой холод и мрак
могильный согрейте молитвой и любовью сердца». Пермские истори-
ки уверили меня, что такого надгробия мог удостоиться только чело-
век духовного звания – крестьян так не хоронили. Сейчас этот памят-
ник установлен возле храма святого Георгия на территории этнопарка,
который в этом году получил официальное наименование (вместе со
спортивной частью): «Земля Постникова». Священничество у нас на
Руси испокон веков было делом наследственным. Эту традицию нару-
шила революция. Николай Михайлович Гашев, которого в 1930 году
чекисты арестовали прямо в храме села Ильинского во время церков-
ной службы, умер в лагере, на севере пермского края. В августе 2017-го
года я и моя дочь Лиза тщетно пытались разыскать хотя бы камень на
месте дома священника Николая Гашева и его большой многодетной
семьи. Пустырь, давно превращенный в свалку, зарос бурьяном. Зато
старожилы показали нам неофициальный памятник гражданской вой-
ны, которая была здесь, как и по всей России, очень ожесточенной.
Село несколько раз переходило из рук в руки. Мрачный остов, как
скелет гигантского доисторического животного, точно зловещий при-
зрак из далекого прошлого, возвышается до сих пор посреди села, это
деревянные руины старинного военного госпиталя, где в 1918 году
красные, напав неожиданно на село рано утром, зверски расправи-
лись с ранеными колчаковцами. Захваченных врасплох белых вытас-
кивали прямо из больничных коек, в чем мать родила, выгоняли в гос-
питальный яблоневый сад, а тех, кто не мог стоять на своих ногах из-за
ран, привязывали к деревьям, прежде чем пустить им пулю в лоб. Так
они потом и висели, привязанные к цветущим яблоням, в своих окро-
вавленных бинтах, развевающихся на ветру, покуда местные жители,
односельчане (ведь воины-то многие были родом отсюда) их не ста-
щили всех волоком и не побросали в здешний строгановский пруд.
Через некоторое время точно такая же страшная участь постигла и
красных раненых бойцов, которые лечились в этом же госпитале.
В памяти семьи сохранились свидетельства о том, как священник отец
Николай прятал односельчан – красных от белых, а белых – от крас-
ных. Как бесстрашно ходил по селу в своей черной рясе при красных,
как отказался от предложения колчаковцев бежать вместе с их армией
-77-
в Сибирь, как мужественно держался на допросах в ЧК, не отрекся от
своей Веры, от Христа, остался самим собой, как умирал мучительно в
лагере, и вертухаи посоветовали бедной его супруге, моей прабабуш-
ке, матушке Капитолине Андреевне, с трудом разыскавшей место его
заключения, снять с него, пока он еще не умер, мерку для гроба. Иначе
его бросят в общую яму. И ей пришлось это сделать! Однако, к сожа-
лению, могила его нам до сих пор неизвестна. Отец искал во всех воз-
можных архивах, делал запросы, но все безрезультатно. Вселенная
стала его могилой. В 90-е годы прадед был полностью реабилитиро-
ван. А в 2000-м году он был причислен к лику святых новомучеников
земли Пермской. Тяжело отразился арест священника Николая Ми-
хайловича Гашева на семье. Младший его сын, совсем еще юный
Алеша, отвергнутый любимой девушкой, не пожелавшей общаться с
сынком попа-антисоветчика, застрелился. А мой дед, Владимир Гашев,
который в это время вместе со старшим братом Николаем (дед позже
с гордостью рассказывал моему отцу, что вступительное сочинение
написал за старшего брата, подзабывшего многое из литературы, за
годы гражданской войны), героическим красным командиром (до
конца своих дней Николай Николаевич Гашев, заслуженный и уважае-
мый хирург города Ульяновска, скрывал от советской власти и не упо-
минал в многочисленных анкетах, которые советские люди должны
были заполнять неоднократно на протяжении своей жизни, что в годы
гражданской войны ему, в качестве лекаря, пусть и не долгое время,
пришлось повоевать и на стороне белых, мобилизовавших его силой в
свои ряды, точно так же, как доктору Юрию Живаго, по воле провиде-
ния оказавшемуся у красных партизан, как это рассказано в романе
Бориса Пастернака), учился на медицинском факультете пермского
университета, но был исключен из университета как сын врага народа.
Почему же его исключили, а старшего брата – нет? Владимир решил
навестить отца-священника в тюрьме, стал добиваться свидания. Брат
Николай отговаривал его, он, взрослый человек, уже много повидав-
ший, имевший уже жену и ребенка, понимал, чем это грозит. Но Вла-
димир был тверд в своем намерении. Эта его безоглядная решимость,
человеческая цельность, бескомпромиссность, преданность отцу, вер-
ность и благородство поразительны! Ведь в те годы страх заставлял
многих и многих предавать своих арестованных близких, отрекаться
от них, менять фамилии, спасая собственное благополучие и даже
жизнь. Помните, как у Михаила Булгакова Шариков заявляет: «Пропи-
сал в газете и шабаш!» Позже дед Владимир рассказывал моему отцу,
как от волнения расплакался, увидев отца в тюремных стенах, измож-
-78-
денного и бледного, еле передвигавшего опухшие от водянки ноги. И
потрясло его больше всего то, что отец был очень спокоен и ласково
утешал своего сына: «Не я его утешал и ободрял в его участи узника, а
он – меня...» Стать врачом деду Владимиру власти так и не дали. Всю
жизнь он лесничествовал в отдаленных уголках Пермской губернии,
помалкивал, потихоньку попивал горькую водочку, но никогда не по-
жалел о своем последнем свидании с отцом. Он женился на такой же,
как он, жертве режима. Бабушка Мила была из семьи раскулаченного
и едва сумевшего спастись бегством от ареста, в Зюкае, зажиточного
крестьянина Василия Чудинова, имевшего большую семью, крепкое
хозяйство, скотину, солидный дом на каменном фундаменте, зани-
мавшегося и торговлей, будучи официальным представителем зару-
бежной фирмы «Зингер» по распространению швейных машин во всех
близлежащих деревнях. Один из его сыновей, рыжебородый и сине-
глазый, дядя Леня, которого помню за его сходство, в моем вообра-
жении, с пушкинским Емелькой Пугачевым, угодил-таки в руки вла-
стям и прошел лагеря. Из Екатеринбурга нам сообщали и еще об од-
ном священнике Гашеве (родственнике или нашем однофамильце?),
погибшем в годы гражданской войны от рук озверевших большевиков.
Он поспорил с теми, кто явился закрывать церковь, не захотел отда-
вать храм на поругание, и тогда они гвоздями приколотили его к стене
храма. Был в нашей семье и еще один священник, уже со стороны ма-
теринской родни. Первый муж бабушкиной тетки, священник, был
замучен и зверски убит большевиками в Глазове в годы гражданской
войны. Бабушкина тетка Милица бежала с сестрой Зинаидой и мало-
летним племянником Вениамином из Глазова в Челябинск к сыну, где
позже вновь вышла замуж, но теперь уже за красного героя, который
позже тоже был арестован и расстрелян. Мой прадед по материнской
линии, Григорий Афанасьевич Веретенников, был родом из семьи до-
вольно зажиточного и сурового крестьянина в Глазове. Когда ему было
десять лет, отец послал его в лавку за керосином, снабдив деньгами.
А он, неграмотный, но пытливый мальчишка, вместо керосина купил
азбуку (поступок не деревяшки, но живого ребенка!) и спрятался в
дальнем углу яблоневого сада под деревьями, прямо на траве, изучая
с благоговением и восторгом книжку с буквами и картинками. Там
отец его и разыскал и пришел в ярость. За ослушание он изрядно вы-
сек сына плетьми, а азбуку демонстративно изорвал в мелкие клочья
на глазах у подростка, чтобы не повадно было. Мой прадед Григорий
был мальчишка гордый и горькой обиды отцу не простил: он тотчас же
убежал из родного дома и больше не вернулся никогда. Хлебнул он
- 79-
потом немало. Приходилось ему голодать, бедствовать. Прислуживал
в торговой лавочке мальчиком на побегушках, батрачил. И все же,
своим трудом и талантом, упорством и упрямством, он выбился из
нищеты, стал владельцем двух каменных домов, нескольких булоч-
ных, пекарен, а его кондитерские с вывеской «Веретенников и К» сла-
вились и в Глазове, и по всей вятской губернии. Только в тридцать лет,
уже встав на ноги, будучи респектабельным деловым человеком, ува-
жаемым и состоятельным, он научился самостоятельно читать по газе-
там! В это же время задумал он жениться. Невесту нашел в женском
пансионе. Была она, барышня из благородных, Зинаида, моложе его
лет на пятнадцать, гордая, заносчивая красавица. Всю жизнь она
страшно гордилась своим происхождением (отец ее был из обеднев-
ших дворян, служил, по чиновничьей части, писарем, а ее кузеном был
будущий светило пермской медицины, профессор Ясницкий, позже –
один из основателей курорта в Усть-Качке и главный врач этого заме-
чательного санатория, о нем бабушка Антонина в моем детстве про-
жужжала мне все уши – я всегда, в связи с этой моей прабабушкой
Зинаидой, почему-то вспоминала Катерину Ивановну Мармеладову с
ее уязвленной гордостью, грезами и экзальтированными вопроша-
ниями к Богу) и несколько свысока относилась к супругу, мужику (по
сравнению с ней и ее наследственным благородством) неотесанному,
хотя жила в доме мужа до его ареста, как белоручка, и ни в чем не
нуждалась. Первым ребенком, родившимся в 1906 году в этой нерав-
ной, нервной и не очень счастливой поэтому семье, была моя будущая
бабушка Антонина. Затем, один за другим, родились двое сыновей.
В годы революции и гражданской войны прадед потерял большой
дом, фабрику и пекарни с кондитерскими. Но у семьи оставались еще
один дом и кое-какие сбережения, а Григорий не мог сидеть без дела,
да и нужно было кормить семейство, и своими силами восстановил
взорванную белыми при отступлении глазовскую мельницу и наладил
производство хлеба для фронта. Хлебушко всем нужен. Городок пе-
риодически отвоевывали то белые, то красные. Он выпекал хлеб для
белых, и они выдавали ему охранную грамоту с печатью. Потом при-
ходили красные. И он выпекал хлеб для красных. И красные ему выда-
вали свою охранную грамоту с печатью. Бабушка часто вспоминала в
моем детстве, как начинала учиться в гимназии, как музицировала в
глазовском доме родителей, и в то же время тайно завидовала скау-
там, уже дружно маршировавшим с барабаном и горном по узким
улочкам их городка. Ей очень хотелось быть среди них, но они ее пре-
зирали, обзывали буржуйкой, ведь у нее, в их родительском доме,
- 80-
немецкий кабинетный рояль и белая медвежья шкура на полу в гости-
ной, где они играли и дрались с младшим братом Вениамином. В от-
сутствие взрослых они наперегонки забирались на верхнюю полку ог-
ромного старинного буфета, где у отца хранились образцы неформо-
вочного импортного шоколада, которые ему присылали откуда-то из
баснословной Южной Кореи или далекой экзотической Индии. Ог-
ромные, грубые, неправильной формы коричнево-черные куски, до
которых приходилось дотягиваться со стула, стараясь при этом непре-
менно спихнуть друг друга на пол, поднимаясь на цыпочки, и торопли-
во, выхватывая друг у друга из рук, откусывать по очереди горько-
сладкий, маслянистый, крошащийся прямо в ноздри и глаза, мгновен-
но тающий во рту, несравненно-непередаваемо-вкуснейший кусок
шоколада. Казалось и верилось, что вся дальнейшая жизнь будет та-
кой же веселой и сладкой. Она вспоминала, как со своей близкой под-
ругой, певуньей-сопрано, и своим близким другом детства, любимым
мальчиком, студентом-медиком, сыном известного в городе врача,
учившимся в Казанском университете, они, несмотря на тяжелые со-
бытия времени, все же мечтали о будущем. Он – известный и успеш-
ный доктор, ее подруга, Маша, известная, знаменитая в России певи-
ца, а она, Тося, – пианистка, виртуозно владеющая инструментом, ак-
компанирующая своей любимой подруге. Однако ничего из этих фан-
тазий не сбылось. Она еще успела летом 1924 года со своей подругой
съездить в Москву – попытать счастья на московских артистических
подмостках. Они снимали комнату в большой квартире на Самотёчной
улице. Здесь-то она и встретилась со своим будущим мужем, Васили-
ем Поляковым. Обстоятельства жизни не дали моему деду Василию
возможности осуществить многое, о чем он мечтал когда-то молодым
парнем в своем подмосковном селе Серебряные пруды. В раннем
детстве он тяжело переболел скарлатиной, чуть не умер, но выжил,
хотя и потерял один глаз. Сельский фельдшер советовал его родите-
лям съездить в Москву, но на это в большой многодетной семье не
было ни возможностей, ни денег в обстановке исторической неразбе-
рихи, войны, первой русской революции. Стали лечить народными
средствами. Но остался Василий со страшным бельмом на одном гла-
зу. Переживал, рос закомплексованным, угрюмым. Обиду на родных
сохранил на всю жизнь. Когда вырос и стал учиться на рабфаке мос-
ковского политехнического института, сделал себе искусственный не-
мецкий глаз, однако не носил его – не было привычки, ведь все детст-
во так и пробегал одноглазый. Его дразнили петухом. Возможно, это
во многом и определило его характер, и, наверное, в конечном итоге,
- 81-
судьбу. Он всегда и везде чувствовал свою ущербность, страдал, стес-
нялся своего вида: левый глаз затянулся бельмом и выглядел доволь-
но жутко. Никогда я не смотрела деду в глаза прямо, мне было непри-
ятно столкнуться с этим мутно-белесым взглядом его левого глаза.
Я всегда отводила глаза в сторону. От того, наверное, общаясь с ним,
всегда чувствовала какую-то неловкость, скованность и старалась из-
бегать близкого с ним общения и соприкосновения. Дед никогда не
был настоящим крестьянином. Бабка его была грузинкой, неизвестно,
какими путями и почему попавшая в Россию, и служила в горничных у
богатых господ в Петербурге. Отец его, путиловский рабочий, Илья
Поляков, уехал из Питера от голодухи в Подмосковье к дальней родне,
и там, в Серебряных прудах, женился на простой крестьянской девуш-
ке, Варваре. Кроме моего деда, старшего сына Василия, были в этой
семье еще брат Алексей и сестры Надежда, Антонина и Полина. В цер-
ковно-приходской школе, где дед учился, был он среди любимцев
сельского батюшки, который, теряя терпение с деревенскими лобо-
трясами, частенько говорил: «А ну-ка, Поляков, скажи им, неучам...»
И выходил Василий Поляков, и говорил урок так, что от зубов отскаки-
вало, и всякий раз получал от батюшки в качестве бонуса гривенник.
Дед был хорош собой, и, если бы не левый глаз, мог считаться красав-
цем: русые волосы, правый глаз – пронзительной синевы, сам – высо-
кий, худощавый. Он мечтал учиться, много читал, сочинял стихи под
Владимира Маяковского, замечательно исполнял бывшие тогда в мо-
де старинные романсы приличным тенором и мастерски сам акком-
панировал себе на шестиструнной гитаре, был силен в математике
(решал задачки, как орешки, для своих дочерей и внучек впоследст-
вии). Однако достойной профессии не имел и всю жизнь перебивался,
где придется, кое-как держась на поверхности житейского моря, ста-
раясь прокормить свое большое семейство: жену, трех дочек и ма-
ленького сына, который родился у них в самом начале 1941-го года.
Сынок Витя, правда, родился в несчастливое для семьи и для страны
время. Да и когда оно было счастливым на Руси для рождения мла-
денцев? Перебои с работой, отсутствие надежных средств к существо-
ванию, бедность, вечная стесненность и трудная любовь, ведь мама
Тоня его не то чтобы не любила, так, по крайней мере, считали все в
семействе, но все время держала в душевном напряжении и в неве-
дении. Об этой якобы нелюбви мамы Тони к Деду, как о чем-то само
собой разумеющемся, естественном, часто разглагольствовала наша
мать вслух при дочерях. «Ну, конечно, ведь не любила она его». Когда
юная мама Тоня, Тося Веретенникова, дочь бывшего уездного кресть-
- 82-
янина Григория, сколотившего собственной смекалкой и трудом из
малой полушки целое состояние, занимаясь кондитерским делом (его
кондитерские, фирмы «Веретенников и кампания», были известны до
революции по ближним и дальним губерниям в российской глубинке
и вплоть до столицы), вчерашняя блестящая гимназистка, избалован-
ная домашней роскошью и родительской лаской, заносчивая красави-
ца с амбициями и без всякого жизненного опыта вместе с подругой М.
приехали в нэпмановскую Москву из провинциального Глазова посту-
пать на сцену, дед был уже студентом политеха. Подруга метила в пе-
вицы, имея в запасе миловидную внешность, среднее сопрано и упад-
нический репертуар. Моя будущая бабушка обладала небольшим, но
приятным голосом и прекрасно играла на рояле и гитаре: «Ночь свет-
ла. Над рекой/ Тихо светит луна./ И блестит серебром/ Голубая вол-
на...» Дед жил в то время на Самотёке, в бывшей квартире своего
дальнего родственника, старичка, сдававшего когда-то комнаты при-
езжим, а ныне типичной советской коммуналке, где, впрочем, тоже
сдавали внаем. Тут и поселились две амбициозные провинциальные
девицы. Я гляжу на старые фотографические снимки, чудом сохранив-
шиеся в семье, которая всю свою жизнь провела в бесконечных разъ-
ездах-переездах по всей великой российской державе – в поездах,
общих и товарных, на грузовиках и случайных попутках, на телегах,
запряженных лошадьми, и подводах, на паромах и баржах, – из горо-
да в город, из села в село, из деревни в деревню, из одной норы в дру-
гую, из одного убежища в другое, из одной щели в другую – на тюках,
чемоданах, узлах и коробках, – папа Деда и мама Тоня вместе с деть-
ми перемещались в пространстве революционного переворота, граж-
данской войны, продразверстки и военного коммунизма, Нэпа и Вели-
кого перелома, 37-го года и Великой Отечественной войны, Великой
Народной Победы над фашистской Германией и борьбы с космополи-
тизмом. И бег этот, кажется, чуть замедлился лишь к хрущевской «от-
тепели», ХХ съезду КПСС, но не завершился окончательно, потому что
вся страна пребывала в таком же состоянии бездомности, потери сво-
его собственного, устойчивого, постоянного, коренного, надежного,
безопасного места, в пространстве жизни, государства, истории, и
продолжала лихорадочно двигаться куда-то по инерции страха, отчая-
ния; перемещаться, спасаться, гонимая подспудным ожиданием еще
более худших времен, грядущих за настоящими, и это вселенское рус-
ское кочевье, как видно, продолжается до сих пор и далеко еще до
завершения. Вот ее томный взгляд декадентки, неулыбчивое надмен-
ное личико избалованной любимой дочки, белоручки, спесивой, вы-
- 83-
сокомерной, подающей большие надежды и имеющей обширные
планы на будущее. Дерзость горделивой осанки (не объезженная еще
кобылка), узкий блестящий носок высокого кожаного ботинка со
сложной шнуровкой, широкий кожаный пояс, бриджи. Да она – аван-
тюристка, искательница приключений, снегурка! Белокурые вьющиеся
локоны, насмешливый рот. Длинные, до локтя, черные перчатки.
В тонких пальцах – мундштук. Эти длинные папиросы салонных мод-
ниц декадентской эпохи! Да она, оказывается, тоже курила, как и я, в
своей сумасшедшей студенческой юности! И это наша сердобольная
бабушка, мама Тоня? Ничто не могло ее заинтересовать в этом долго-
вязом, полудеревенском, одноглазом, простоватом парне. У него от-
крытое, бесхитростное лицо. Хоть он и с гитарой, и поет. И как будто
бы столичный житель. Хоть и явно заигрывает, всем своим видом дает
понять, что она ему понравилась. А она-то, гордячка, насмешничает,
пренебрежительно и снисходительно позволяет собой любоваться на
расстоянии, принимает знаки внимания и его неуклюжие ухаживания
равнодушно, чтоб не забывался, знал свое место мужик. Он здешний,
московский, хоть и из ближней деревни, но прекрасно знает Москву.
Он водит барышень на прогулки. Одним страшновато. В городе неспо-
койно. Угощает фруктовой водой в открытом летнем кафе на Пречис-
тенке, провожает в сад «Эрмитаж», где на эстраде выступают артисты
и где мечтают выступать и две наивные приезжие девицы из провин-
ции. И он себе ничего не позволяет лишнего, знает правила приличия,
с ним никто к ним на улице не пристает, думают, что это брат, а, мо-
жет, и жених одной из них. С ним безопасно. Словом, выгодное зна-
комство. А у них уже и деловые связи завелись. Они же ведь не просто
прогуливаются, а присматриваются, договариваются, где можно про-
слушаться, чтобы устроиться на работу, чтобы взяли их, только непре-
менно вместе чтобы, поскольку они подруги с детства. Однако вместе
все же не получается. Подружку приглашают в какую-то кафешку про-
слушаться, там сидят некие уважаемые мэтры. Ее как будто берут, да-
же заключают с ней письменный договор. Она уже разучивает модный
в этом сезоне романс. Что-то типа: «Любила очи я голубые./ Теперь
люблю я черные./ Те были милые такие./ А эти непокорные...» И она
уже приходит домой, на съемную квартиру, за полночь. Ее провожает
какой-то молоденький военный. Они долго шепчутся в парадном,
слышен тихий девичий смех. Потом она забегает в комнату и глаза ее
сверкают радостным ожиданием счастья. Но и Тосю тоже, как будто,
заметили. Предложили петь под собственный аккомпанемент в одном
открытом летнем театрике на Малой Бронной, но это – сезонная рабо-
-84-
та – только на лето. А лето уже на исходе. Уже зарядили дожди. Ка-
фешки тут и там закрываются до следующего лета. И впереди – неиз -
вестность. Безденежье. Не о том они, конечно, грезили там, у себя, в
своем родном, маленьком и тихом, городке Глазове. Им снились
большие, освещенные тысячью огней залы, множество зрителей, ап-
лодисменты, успех, толпы восторженных поклонников с букетами цве-
тов, слава, известность, роскошная, захватывающе интересная жизнь,
блеск, легкость и вечная радость новых ощущений. Но все места в
больших и серьезных заведениях, оказывается, уже давно были заня-
ты другими, если и не профессионалами, то уж как-нибудь более рас-
торопными и бойкими актерками, баритонами и сопрано, чем Тося с
подружкой, на них в московских артистических кругах никто не обра-
тил внимания, не было у них нужных знакомых, не нашлось покрови-
телей, а собственных пробивных качеств не хватило покорить москов-
скую сцену, и их более опытные и удачливые конкурентки быстро ото-
двинули неопытных провинциалок от большого искусства, оттеснили в
зону развлекаловки для толпы. Временные летние кафешки со слу-
чайными зрителями, слушающими их в перерыве между бифштексом
и салатом, разглядывающими их с ленивым оценивающим любопыт-
ством, как лошадей на продажу, хорошо, что через лорнетку, а чаще
наглыми масляными глазками подвыпивших кутил, оценивающе и
цинично прицениваясь, как будто лошадей племенных на конной вы-
ставке, как будто раздевая, позевывая, даже как будто принюхиваясь,
и запивая при этом шампанским. А чаще уже – кислым пивом и деше-
вой самодельной сивухой. Это не тот масштаб. Тося была разочарова-
на, досадовала на подружку, которая, влюбившись в своего красного
героя, сияла, была всем довольна и ничего, как будто больше не иска-
ла от жизни. Вася раздражал ее своей вечной услужливостью, чрез-
мерной предупредительностью и она уже начала им помыкать. А тут и
ноябрь месяц наступил. Приблизились холода. Деньги кончились. По-
ра было возвращаться домой ни с чем. Дома, в Глазове, остались род-
ные. В Глазове ждал ее и любимый мальчик, друг детства, Андрюша
Матвеев, сын местного глазовского доктора из обедневших, но благо-
родных дворян, интеллигентный, красивый, образованный молодой
человек, отговаривавший ее от авантюрной поездки в Москву, да
только она не послушалась. В Москве-то уже нечего было дожидаться.
Теплых вещей у Тоси было немного. Не рассчитывала она, что так все
обернется. Плюшевый жакетик да кожаные ботики с нарядной пряж-
кой. А морозец в конце ноября прихватил москвичей изрядный, впору
уже было валеночки надевать. И вот в этих-то тоненьких без меха бо-
- 85-
тиках пришлось Тосе однажды с раннего утречка выйти на морозную
московскую улицу во двор дома, где она временно проживала, и, по
приказу уполномоченного, как социально чуждой пролетариату бур-
жуазной барышне, наряду с другими, подобными ей, социально чуж-
дыми революции элементами, заняться разгрузкой машины с углем.
Эта разгрузка угля на морозце, да в ботиках на рыбьем меху, дорого
обошлась бедной Тосе. Сильно она простудилась и слегла надолго с
высокой температурой. И как раз за ней в это время ходил Вася Поля-
ков, дальний родственник хозяина квартиры на Самотёке. Он и докто-
ра нашел, и кормил ее с ложечки пшенной кашей. Он поил ее кипят-
ком с сушеной малиной. И даже брусничный лист ей заваривал, так
как доктор объяснил, что Тося простудила почки и мочевой пузырь. В
эти-то самые дни она получше узнала Василия. Добрый он оказался,
заботливый. Ходил за ней, хворающей, как за малым дитятей. И выхо-
дил ее. Правда, на всю жизнь у Тоси с той поры остались неприятные
проблемы с мочевым пузырем. Проще говоря, было у нее после этого
всю жизнь недержание мочи. Так что она, бедная, должна была не-
сколько раз на дню менять и стирать свое нижнее бельишко. Но не
смотря на ее природную чистоплотность, от нее всегда с тех пор не-
много попахивало мочой. И так до старости. До смерти. Память о ре-
волюции оказалась со сладковатым запашком мочевого аммиака.
А что ж дальше? А дальше, где-то уже в конце весны 1925-го, кажется,
пришло из Глазова письмо на имя Тоси от матери, из которого стало
ясно, что надо срочно ехать домой. Письмо шло несколько месяцев.
Удивительно, но не смотря ни на что, почта в развалившейся стране
как-то продолжала работать. Мать сообщала об аресте отца, обыске с
конфискацией имущества, разгроме пекарни, а равно и об обстановке
в их городке, где каждую ночь кого-то забирают, идут расстрелы, док-
тора Матвеева тоже забрали и, ходят слухи, даже убили зверски, так
как он позволил себе что-то им говорить, возражал, что ли, или даже
пытался их поучать, за что и поплатился. Тося бросилась на вокзал.
Провожал ее Василий. Помог и билет купить, и в вагон посадил, а на
прощанье сказал: «Если будет плохо, ты сразу напиши, я тебя не ос-
тавлю». Смотрел с грустью и нежностью. Она молчала. Дорога была
страшная. Поезд еле тащился, то и дело останавливаясь. В вагон зале-
зали все новые и новые пассажиры, вид их был ужасен, как будто это
были люди, чудом спасшиеся от грабителей, либо погорельцы, либо
бродяги. Вид их одежды пугал, истерзанные лохмотья свисали вдоль
тела, их владельцы были нагружены какими-то узлами, жестяными
кастрюлями, как видно, давно не посещали бани, и выглядели даже
- 86-
больными, если не сказать обезумевшими. Есть было нечего, на стан-
циях в вагон заходил патруль, искали офицеров, буржуев, контррево-
люционеров, проверяли документы, кто-то бежал, кого-то ловили,
раздавались выстрелы, крики, грубая брань, хохот, визг. Тося молилась
потихоньку и прижимала к животу свой маленький саквояжик. Глазов
встретил ее разбитым вокзалом, грудами кирпича, мусора, местные
комиссары вовсю наводили свои порядки. Водонапорная башня была
взорвана и жители семенили тут и там по узким грязным улочкам с
ведрами и бидонами в поисках воды. Дома было общее стенание.
Мать, очевидно, от горя, как будто потеряла разум. Сидела простово-
лосая на куче вывороченной перины, прямо на полу в гостиной их
двухэтажного дома, и, монотонно повторяя одно и то же слово «тщета,
тщета, тщета», мерно раскачивалась из стороны в сторону. Разбитыми
окнами завладел сквозняк, по комнатам летал пух из вспоротых поду-
шек. Голодный испуганный тосин братишка, Венька, десятилетний
мальчик, сидел рядом с мамой на детской скамеечке и прижимал к
груди единственную оставшуюся после обыска и конфискации игруш-
ку, старого плюшевого медведя с оторванной лапой, который, очевид-
но, избежал революционной экспроприации только потому, что Вень-
ка, капризничая, еще прошлым летом зашвырнул его в саду на старую
яблоню, где тот и перезимовал на высокой ветке, а нынче, видимо,
свалился от ветра на землю. Узнав в приезжей, худенькой барышне,
родную Тосю, мать совсем расслабилась (до этого – ни слезинки, шок,
безумный речитатив), – разрыдалась, повалилась Тосе на руки. Венька
прижался к сестре всем своим тельцем, заревел. Ее ожидало и еще
одно страшное известие. Любимый мальчик, с которым, она надея-
лась, они вот-вот встретятся и обсудят, что же делать дальше с этой
вдруг рухнувшей, сломавшейся жизнью, покончил с собой. После аре-
ста отца мать не выдержала, умерла от разрыва сердца на следующее
утро. Дом был разорен, вещи, ценности конфискованы. Андрея исклю-
чили из казанского университета, где он учился на врача. Оставшись
один, в разоренном доме, рассказали ей соседи, он как будто поме-
шался, впал в лихорадку, в отчаяние. Потрясенный потерей близких,
он и сам стал маниакально ждать ареста, страх сломил его волю и
привел к печальной развязке. Он сдался, бросил ее одну в этом мире,
он ее предал. Мать и младшего братца забрала к себе крестная, тетка
Милица. Нужно было и ей, Тосе, как-то устраиваться и выживать
дальше. Но как? Погоревав, Тося отправилась учительствовать в
младших классах в заштатный зауральский городок Шадринск, благо,
что образование, полученное в глазовской гимназии, было изрядное.
-87-
Ее приняли на работу, зарплату пайком выдавали, и дом даже выде-
лили ей, бревенчатую избушку на курьих ножках, чердак имелся и
подпол, и печь большая, русская в полкухни. Вот она там и затаилась,
как мышка, в глухом, заснеженном Зауралье, и надеялась как-то отси-
деться. Но не тут-то было. Тетка Мила письмо прислала, так, мол, и
так, мужа ее, отца Александра Трегубова, священника приходской
церкви, ночью арестовали в промозглый дождливый ноябрь. Увели
прямо в рясе и больше она его не видела. Хотя известно стало после,
что допрашивали его с пристрастием и били, и изобличали и требова-
ли, чтобы отрекся публично от своей веры православной. Но он терпел
и не отрекался, и это ужасно разозлило его мучителей. И они уже со-
всем озверели. Его раздели. На спине ему ножом вырезали пятико-
нечную звезду. Нацедили из кровавой раны кровь в стакан и заставили
его выпить собственную кровь. А сами стояли вокруг него, повержен-
ного на пол, глумились, ругались непотребными словами и смотрели,
как он корчится перед ними своим искалеченным телом в собствен-
ной крови, и ждали, когда он умрет. Лютый ветер и черный снег, грязь
и кровь революции, героизм и пепелища гражданской войны, челове-
колюбие и жертвенность великих героев русской истории, боль и не-
нависть, трепет и гнев, ужас и отчаяние, страх и бессилие, и души за-
губленные, классовых кровных врагов, убиенных и их убийц, мучени-
ков и их мучителей. Смирение и нераскаянность. Ну, а сын у нее уже
взрослый парень был, образованный инженер, в Челябинске. Еще до
революции выучиться успел, и работал на заводе, чуть ли не замом
был директора завода машиностроительного, а завод этот режимный
был, на оборону государства советского трудился и выполнял военные
заказы. И вот этот ее сынок, Леонид, который сделал такую карьеру
при советской власти, конечно, уже и свою семью имел и двоих деток,
сына и дочку. И как же ему быть теперь? У него отец, о чем, конечно,
он помалкивал во всех анкетах, оказался сельский поп, да еще и аре-
стован как враг народа, что же ему делать-то прикажете? Тоже в
тюрьму садиться? А кто будет его деток спасать? А в ЧК, или в НКВД,
или, как там она, контора эта, в то время называлась, уж, наверное,
все про него знали, и что отец его подкачал по части своего профес-
сионального занятия, и что живут у него нахлебниками в доме тетка с
малым мальчишкой, беженцы из Глазова, члены семьи врага народа,
миллионщика, арестованного и угнанного, как полагается, по этапу в
лагерь на исправительные работы, то есть на перековку, то бишь на
перевоспитание, для новой жизни. И вот, дядя этот, Лёня, оказался
между двух огней. Ему и семью свою надо как-то уберечь, и свою го-
-88-
лову сохранить, и перед родней не опозориться. Но дядя Лёня так рас-
судил, что своя рубашка ближе к телу и надо чем-то жертвовать. Всех
спасти невозможно в этих нечеловеческих обстоятельствах, которые
диктует социальная справедливость суровой эпохи. И он не нашел ни-
чего иного, как отречься публично от своего злосчастного отца-
священника, а это в те годы сделать было довольно просто, напиши
заявление в контору, и дело сделано, а тетку глазовскую с мальцом –
вон за ворота. Вот вам, как говорится, Бог, а вот порог. Делать нечего.
Пошли Тосина мама с сыночком побираться, на железной дороге
хлебные корки собирать, или что там еще проезжающие пассажиры из
окон вагонов выбрасывают. Делать-то она что-нибудь может, и смогла
бы, ведь выросли они со старшей сестрой Милой в приюте, куда их
отправили хладнокровные родственники после смерти отца-писаря, и
там, в богадельне, их многому учили. И шить умела. И вязать. И мно-
гое еще чего умела по хозяйственным женским работам, да только на
работу-то ее никуда не брали – жена врага народа. К тому же из-за
всех этих внезапно навалившихся несчастий тосина мать вроде умом
тронулась, стала какая-то непонятливая, куда только строптивость ее
прежняя и заносчивость делись, робкая сделалась, все щурилась, лю-
дям в глаза смотрела заискивающе, заглядывалась на разные стороны,
поклоны била, руками пустыми разводила и плакала, плакала без-
звучно, и улыбалась. Дядя Лёня свою-то матушку, то есть Милу, не ос-
тавил, а она его не могла судить, права у нее такого не было, она по-
малкивала, но Тосе письмо написала, приезжай, надо мать и братца
спасать. А у нее-то, у Тоси, в этот самый момент дела были не лучше.
Хоть и служила она учительшей в городке заштатном Шадринске, го-
родишке, это одно только название, а на самом-то деле, деревня де-
ревней. Да еще и война за этот Шадринск, как видно, не окончилась,
то есть городишко никак не могли поделить между собой новая совет-
ская власть и бывшие богатеи, которых бедняцкие активисты с мест их
насиженных согнали, ограбили, а их самих и членов их семей кого во-
все в расход пустили, прямо во дворах их же собственных домов, кого
выслали, кого посадили, в лагеря отправили, а кто сумел, сам утек, не
дожидаясь революционного суда и следствия. И те, которые сами ус-
пели сбежать, не все далеко убежали, жалко было родное гнездо ос-
тавлять на разграбление, а кому и некуда было, как видно, пристро-
иться, так они сколачивали бандитские отряды и совершали налеты на
своих земляков, грабили, поджигали дома, резали скот, мстили, как
могли. И хотя, как будто, гражданская война, как власти объявили пуб-
лично, уже кончилась, а эта борьба между новыми хозяевами и ста-
- 89-
рыми владельцами все никак не заканчивалась. Однажды зимой в
жуткий сорокаградусный мороз за окном опять зазвучали выстрелы и
Тося выглянула из-за занавески . Всадники, подводы, убегающие к лесу
люди. Двое упали и больше уже не поднялись. В другой раз, проходя
мимо железнодорожной станции, она увидела две телеги, запряжен-
ные лошадьми. Лошади истощенные, замерзшие, медленно, как буд-
то, во сне, перебирали ногами, на телегах сидели и лежали люди, кто в
чем, в шинелях без погон (офицеры, с удивлением думала Тося), в ка-
ких-то лохмотьях, рваных тулупах, прожженных в разных местах душе-
грейках. Все это были усталые, грязные, исхудавшие, заросшие много-
дневной щетиной, совсем не старые мужчины. И все они были мерт-
вые. Один из них все еще сжимал в окаменевших руках винтовку. Дру-
гой как будто задремал, навалившись на пулемет. Видимо, они спаса-
лись от погони. Скакали и отстреливались много дней. Голод и холод
доконал их, их убила не бравая Красная армия, не заклятые больше-
вички, классовые враги, пролетарии, а русская суровая зима. И уснули
они мертвым сном. И вот Тося сидела в этом Шадринске, как на поро-
ховой бочке. То поджог, то убийство, то еще что-нибудь. А ей детишек
учить надо, а детишки разные, одни – бедняцкие, дети красных ко-
мандиров да начальников, но были и детишки тех, кто позажиточней,
и как-то еще удержался на месте, были дети так называемых кулаков,
уже это словечко страшное в ходу было. И она старалась как могла.
И вот один раз вызывают ее к начальству и говорят, мол, в школе бу-
дет судебное заседание, тут чрезвычайная тройка будет дело разби-
рать, таких-то и таких-то, застуканных на месте преступления, они хо-
тели чего-то навредить, что ли, что-то сжечь, амбар, что ли, с зерном,
или что-то в этом духе. И называют ей фамилии. А у нее дети в классе
учатся с такими фамилиями. То есть, это их отцы. А вы, говорят ей, как
образованная, значит, поскольку у нас секретаря нету, а грамотных,
кроме вас, не найти во всем городе (всех грамотных жителей Шадрин-
ска уже успели в расход вывести, как социально чуждых), должны у
нас, на этом заседании судебном, вести записи, как секретарь. А мы
вам за это усиленный паек выдадим. Вот и пришлось ей принять уча-
стие в этом, с позволения сказать, судилище над преступными мужич-
ками. Сидела и безропотно вела записи, кто чего сказал, какие вопро-
сы задавались арестованным вредителям, что они отвечали, что рас-
сказывали свидетели, и оглашение приговора: расстрел. И увели бе-
долаг. И расстреляли их в низинке за городом, там и закопали. А ей на
утро следующее надо идти деток учить. И не спала она всю ночь, глаз
не смыкала, как же она будет смотреть в глаза этим деткам, чьих отцов
- 90-
расстреляли, а она, выходит, принимала в этом ужасном деле хоть и
невольное, но участие. Страшно ей было, тяжко на душе. Но дальше –
больше. Бывшие господа, богатеи-то, недобитые еще окончательно
советской властью, как видно, так и рассудили, что учительша – боль-
шевичка, и так тому и быть. И стали ей мстить, как могли. В окна ей
полетели камни. Один раз даже ночью в окно ей стреляли из винтов-
ки. Дважды поджигали дверь. Но как-то обошлось, слава Богу. Но
сколько страху она натерпелась, даже несмотря на усиленный совет-
ский паек, законную оплату ее работы на суде. Но и это бы еще полбе-
ды. Но как-то ночью проснулась она от стука в окошко. Накинула пла-
ток, отодвинула занавеску и обмерла. В темноте морозной ночи, при-
жав лицо к стеклу с другой стороны окна, стоял ее отец, враг народа,
арестованный несколько уж лет назад и отбывавший свой срок где-то
в лагере на севере. А вот поди ж ты, он, как есть, он, ее отец, стоит пе-
ред окном и в дом просится. Что же случилось? Бежал он из лагеря.
Беглый каторжник. Ищут его. Идут по следу ищейки большевистские.
Уполномоченные в кожаных тужурках. И деваться ему некуда. Спасай,
дочка, отца. Она его и спрятала в подполе. Грязный, голодный. С об-
мороженными, сбитыми в кровь ногами, в рваной телогреечке. Блед-
ный, страшный. Он рассказывал ей о своих мытарствах. Она плакала.
Стала она его скрывать. Откармливать пайком специальным. Судеб-
ным тем. А там и сало было, и масло сливочное, и чего там только не
было. Он ел и плакал, рвал зубами, которые еще не выбили следова-
тели, уголовники и вертухаи, паек чекистский, глотал и давился от от-
чаяния. И плакал, плакал и ругался последними словами. Ругал власть
дураков. Потому что он их дураками называл, глупыми. Ничего не мо-
гут, не умеют работать. А только грабить, убивать, разрушать. И даже
куртки эти кожаные, и то на них ворованные. У купцов да фабрикантов
–
таких же, как он, в прежнюю пору, деловых людей, а попросту – ра-
ботяг, на которых испокон веков вся жизнь на Руси держалась, – их
конфисковали, а на себя напялили. И она слушала, слушала и плакала
вместе с ним. Но они, коммуняки эти, не совсем, как видно, дураки
были. Провели расследование и поняли, где надо искать беглого зека
Григория Веретенникова. Ну, не в Глазове же, где была разорена вся
его семья, где все дело его жизни было погублено и разграблено, а
дом сожгли начисто, уворовав все, что только можно было унести.
Отец рассказывал Тосе, что мельница глазовская сгорела, а его обви-
нили в поджоге, а соседи еще на него показали, что, дескать, хлеб вы-
пекал не только для красных, значит, пособничал врагам. Значит, кон-
трик. А во время обыска в их доме они, «остроголовые», как он их на-
- 91-
зывал, вынесли и серебро, и фарфор, одежду, какую нашли, и даже,
что поразило Тосю особенно, не побрезговали забрать со стола гряз-
ную посуду, которую кухарка не успела еще помыть после обеда, и
белый кабинетный рояль, и музыкальные ноты тосины, сгружали пач-
ками, точно макулатуру, в мешки, и выносили их, и медвежью шкуру,
на которой Тося с Венькой так любили в детстве поиграть, просто по-
валяться, а то и заснуть невзначай. И все это не так далеко и вынесли.
А перевезли на телеге через дорогу к их соседу, жившему с ними ря-
дом не один год, и при новой власти вышедшему в большие началь-
ники, в соответствии со своим подходящим, правильным, босяцким
происхождением. А чего же, у него тоже ведь имелась семья и детки,
которым тоже охота на немецком рояле учиться брякать Моцарта или
Шопена, да и шкура медвежья не потеряется, а пригодится в хозяйстве
честному труженику. Так вот, значит, и напали они, дознаватели, на
след беглеца и пошли с облавой на город Шадринск. И как-то ночью
снова Тося проснулась от стука, только это был уже не просто стук, а
грохот, и дальше ворвались они в избу. Человек десять, все вооруже-
ны. Да с руганью, да с угрозой. Начали обыскивать, всю избушку вверх
дном перевернули, и вытащили испуганного отца из его берлоги под-
польной, и начали бить почем зря. А ей, Тосе, пригрозили арестом за
сокрытие врага народа, и увели отца, хлопнув дверью. Мой прадед
Григорий потом еще дважды бежал из лагеря. В начале Великой Оте-
чественной войны его выпустили досрочно на поселение за ударный
труд и примерное поведение, и там, в сибирской ссылке, он, человек
умелый и энергичный, быстро наладил успешную работу медовой па-
секи и производство веревки, остро необходимой фронту. Я запомни-
ла его, когда в шестидесятых годах он, девяностолетний старик, дожи-
вал свой трудный век у бабушки с дедом в деревне. Сколько было в
нем силы, и не только физической, – силы воли, душевного здоровья,
несгибаемого чувства собственного достоинства, как в могучих и суро-
вых персонажах «Руси уходящей» Павла Корина. Огромного роста,
статный, с окладистой, седой бородой, в расстегнутой белой рубахе на
груди, он вставал на колени в нашей деревенской кухонке и неистово
молился. Я с трепетом глядела на него, как он, лагерник со стажем,
привычный к жестким тюремным нарам, днем укладывался спать
прямо на голый пол, подложив себе под голову свой кулак. Иногда
они спорили с моим дедом, ссорились, и я с удивлением слушала, как
дед называет его недобитым кулаком, а прадед ругает своего неудач-
ного зятя троцкистом. Тося весь остаток ночи так и просидела в углу
кухни на полу напротив входной двери, глаз не сомкнула. Окаменела
- 92-
от страха и горя. Арестовать-то ее не арестовали, и даже с работы не
прогнали: детей-то кто учить будет, ведь грамотных, кроме нее, никого
во всей округе. А вот спецпайка лишили, конечно. Но это бы еще не
беда. Но перестали и ее труд оплачивать. То есть, работай, Антонина
Григорьевна, учи наших советских ребятишек грамоте, а паек – ни-ни.
Не получишь, раз проштрафилась, выживай, как хочешь, скажи еще
спасибо, что не отправили тебя вслед за папашей по этапу на казенный
счет. И вот в это-то самое время кулаки, которые раньше ей в окна
пуляли, да записки подметные посылали, дескать, уезжай отседова, а
не то мы тебя подпалим, теперь они стали ее, бедную, подкармливать.
Приходит она, усталая и голодная, под вечер из школы домой, а на
крыльце корзина, а в ней завернутые в полотенце кусок сала, масло
сливочное, яички, каравай хлеба, картошка, кувшин с молоком. Плака-
ла Тося над этими кулацкими гостинцами, ела их и не давилась. Вот в
это-то самое время и пришло письмо от тети Милы. В то же время и от
Василия приходили письма и даже со стихами, полные любви и наде-
жды, что Тося ответит на его чувства. Что ей оставалось делать? Он
решительно протянул ей руку помощи в этот тяжелый момент, и она
его не оттолкнула. Он самозабвенно и горячо откликнулся на ее при-
зыв о помощи. Тотчас же бросился за ней в далекий Шадринск, привез
в Москву и ее мать с малолетним братцем, устроил их у своей родни в
Серебряных прудах, а сам с ней поселился в Москве, на Самотечной
улице. Она с трудом привыкала к новой жизни. Первые два месяца
жила в комнате одна, а он боялся потревожить ее покой, спал на
стульях в общем коридоре квартиры, ставшей большой коммуналкой
после уплотнения. Мою маму бабушка рожала в подмосковном селе, в
простой деревенской избе, на деревянной лавке. Однажды днем в
московской квартире, где маленькая Нина уже училась ходить, дер-
жась за руку своей мамы, а Василий был на заводе, пришли за ним
трое в кожаных куртках. Не застав Василия, остались ждать. Начался
обыск. Когда Тося услышала его шаги в коридоре, она стремительно
раскрыла комнатную дверь и встала на пороге, загородив проход. Ее
глаза встретились с глазами мужа, и он, сразу все поняв, бросился
прочь из дому. Чекисты мгновенно выскочили в длинный коридор,
заставленный сундуками и мешками, с криками, кто это был. Тося спо-
койно ответила, что это соседка по квартире вышла на улицу. Так она
спасла его, обвиненного в троцкизме, от ареста. Потом они встрети-
лись в условленном месте. Бежать из Москвы пришлось срочно.
Не взяли никаких вещей. На квартиру возвращаться было опасно.
Его разыскивали. Доучиться в политехническом институте ему так и не
-93-
довелось. Так они и скитались, от столицы до Урала, потом был Кав-
каз, Нальчик, потом Челябинск, Усть-Качка, потом Пермь, потом опять
Москва, снова Серебряные пруды, потом Чердынь, потом снова
Пермь. Атмосфера вынужденного терпения, напряженного преодоле-
ния, какого-то вымученного негласного договора о взаимной помощи,
добровольного и безоглядного приношения своих чувств, души своей,
мечты – в жертву друг другу ли, судьбе ли, детям ли, ради спасения
собственной же жизни, спасения своих близких, и вместе с тем взаим-
ное благородство и тайная благодарность друг другу, и человеческая
солидарность, – это и была атмосфера их супружеских взаимоотноше-
ний. И в то же время были и вечная внутренняя борьба, сопротивле-
ние, глухое стойкое раздражение, едва сдерживаемая досада, если
хотите, и изредка едва скрываемая злость, и вынужденное смирение,
вернее, чувство вины, жалость, постоянное душевное усилие, будто бы
даже презрение, брезгливость, сознание героизма, жертвенности ра-
ди детей, непомерно высокой цены, и подспудные поиски оправдания
этой жертвы. Отчуждение, к сожалению, часто вытесняло из намере-
ний, слов и поступков нежность, откровенность задушевного общения,
делало сердца каменными, непроницаемыми, вгоняло обоих в оцепе-
нение. Нет, я никогда впрямую не решилась бы спросить бабушку, лю-
бит ли она деда. Любила ли когда-нибудь она его, ну хоть немного,
хотя бы из благодарности, ведь и он принес себя тоже в жертву. Ведь
знал, что она его как будто и не любит, в грош не ставит, что там, в Гла-
зове, у нее кто-то был, но он, Василий, безоглядно, не рассуждая, сде-
лал этот выбор, и всю жизнь нес этот крест ее уклончивости, сдержан-
ности, прохладности, ее к себе равнодушия, ее брезгливого снисхож-
дения к нему, мужику неотесанному, даром, что московскому. И всю
жизнь боялся он, что она его бросит. Уйдет. Ревновал к каждому. Не
давал ей работать. При себе держал, у себя на глазах. Сколько раз она
устраивалась, находила ведь приличную себе работу. И учительницей
в младшие классы, и воспитательницей в детский садик, и даже во
дворец культуры воинской части под Челябинском музыкальным ру-
ководителем творческого коллектива дядя Лёня ее как-то устраивал.
Но нигде долго не задерживалась. Дед ее все время с работы срывал.
Хотел, чтобы дома сидела. И как тяжело было растить этакую-то ораву
детей. А он все пил, сам нигде из-за этого долго удержаться не мог,
кто ж будет пьяницу-то терпеть на работе, вот и мыкались всю жизнь,
вот и бедствовали. Но она ему мстила. Ох, как она ему мстила за соб-
ственную свою к нему нелюбовь и за его великодушное самопожерт-
вование, она умела найти самое больное место в его душе, она знала,
- 94-
как его ужалить в самое сердце, змея подколодная, знала, что он все
равно от нее никуда не денется, потому что любит ее, любит, потому
что слабый человек, зависимый, безвольный. Она могла веревки из
него вить, помыкать им, и сама тоже при этом мучилась, мучилась,
доводя его до отчаяния, до слез своими издевками, колкостями, на-
смешками, пока он не начинал корчиться, пока его не начнет корежить
так, что от ее безжалостных оскорбительных слов, язвящих в самую
его беззащитную мужскую душу, он начинал пить, буянить, скверно-
словить, кулацкой дочкой ее обзывал – и смех, и грех. Даже поколачи-
вал ее, проклятую, а она только посмеивалась, гордячка, и тем самым
вечно одерживала над ним верх, торжествовала моральную победу.
И ему ничего не оставалось, как только плакать в голос, рыдать, ры-
дать навзрыд, по-детски, закрывая голову руками. Однажды, когда
слова ее были настолько жестоки, что он уже не знал, как ему защи-
титься, он даже пытался покончить с собой, бросился в кладовку, вы-
хватил из груды тряпья веревку, залез на табуретку. Наладил петлю на
крюк и уже засунул голову в петлю, подвывая гнусаво, по-кошачьи.
Тося схватила маленькую Ниночку, было тогда дочке лет шесть, она
проснулась в своем закутке от домашнего скандала, испугалась. А мать
прижала ее к себе и бросилась с ней на руках в кладовую, кинулась на
колени, начала кричать, плакать, обнимать его ноги: «Васечка, не по-
кидай нас с дочкой, миленький, не надо...» Он судорожно завыл, пнул
ее ногой прямо в плачущее лицо, так, что у нее изо рта потекла струй-
ка крови. Дочка плакала: «Папочка, папочка...» Весь белый, соскочил
он тогда с табуретки и в сени выбежал, на улицу, хлопнув дверью, вы-
скочил в одной рубахе на мороз. Эта тусклая, безрадостная жизнь пре-
вратила его в изгоя. Он не то чтобы испытывал к ней, жизни прокля-
той, которая его обманула, отвращение, но был глубоко в самой сути
ее разочарован. Этот душевный разлад и надрыв, эти недоговорен-
ность и амбивалентность чувств, неутоленные мечты и оскорбленная
гордыня, жертвы и горести, – все это делало бабушку и деда в моем
восприятии героями из мира Достоевского. И все же я не хочу узурпи-
ровать их чувства. Ведь прожили они вместе пятьдесят лет. Ни разу не
разлучались. Она родила ему четверых детей. Осталась ему верна. Он,
как мог, кормил семью. Он все-таки построил ей, хоть и небольшой,
дом. Разбил и возделал сад. Он спасал ее. А она спасала его одним
своим присутствием в его жизни. Спасала его от самого себя. Они ста-
ли друг для друга пристанищем на этой земле. Когда он заболел, она
самоотверженно ухаживала за ним, как будто бы старалась загладить
перед ним какую-то давнюю вину. Когда он умер, она растерялась.
-95-
Убитая горем, она, вероятно, впервые по-настоящему поняла, как он
был ей нужен. После его смерти она довольно быстро начала сама
слабеть, болеть и умирать.
Чтение вслух
Отец с матерью встретились на филфаке в университете. Вечно
голодный близорукий студент увидел яркий свет в темном коридоре
общежития и услыхал девичий смех. Это была она, золотоволосая, в
желтом пальто. Этот желтый цвет, так раздражавший Михаила Булга-
кова, в их семейной истории сыграл совсем иную роль. Желтый цвет
ее волос тревожил, волновал, побуждал к действию, вдохновлял к
творчеству. А начиналось все в детстве, с чтения вслух. Мудрая учи-
тельница верещагинской школы в годы Великой Отечественной войны
вместо того, чтобы учить голодных мальчишек разным наукам, кото-
рые плохо вязались с тяжелыми военными буднями, читала им, рази-
нувшим рты от изумления, из урока в урок, изо дня в день, захваты-
вающе интересный роман Стивенсона «Остров сокровищ». Эти неза-
бываемые уроки навсегда приковали отца к чтению. Он поразил маму
в университете знанием огромного количества стихов, наизусть знал
всего Есенина. Да и сам сочинял стихи и рассказы. Видел свое призва-
ние в журналистике. И собирался стать писателем. Но и мама с детских
лет была мечтательницей. История ее детства у меня всегда почему-то
ассоциировалась с историей Неточки Незвановой. Такие щемящие
подробности, такие контрасты и противоречия, горестные и мучитель-
ные детали ее рассказов о прошлом навсегда связали в моем вообра-
жении обстоятельства ее детской жизни, ее внутреннего мира и судь-
бу героини незаконченной повести Достоевского. Часто отец малень-
кой Нины Поляковой тяжело вздыхал и жаловался своей жене, что у
него ужасная тоска. Он вообще не был особенно веселым человеком.
Чтобы отвлечь его от меланхолии, мать Нины брала в руки книгу и на-
чинала читать вслух. И это были самые счастливые времена в их се-
мейной жизни. Чтение вслух сближало их, делало единомышленни-
ками, заговорщиками, по-настоящему родными людьми. Теплый го-
лос матери ласкал душу, уводил от их обыденной, не слишком устро-
енной и сытой жизни в страну, иногда наполненную радостью, иногда
болью, печалью, во вселенную, где случаются удивительные приклю-
чения и разворачиваются сложные отношения между героями, погру-
женными в невероятные обстоятельства. Чтение вслух открывало
сердцу неповторимые картины действительности и фантазии. Это бы-
ли Диккенс и Ромен Роллан, Лев Толстой и Достоевский, Шарлотта
Бронте, Шолохов, Гоголь, Шекспир. Школьные годы мамы прошли в
-96-
Челябинске. Семья часто меняла жилье, переезжая с одной съемной
квартиры на другую, подешевле. Жили впроголодь. Хозяйка одной из
таких съемных квартир, жалея вечно голодных квартирантов, отдавала
десятилетней Нине и ее младшей сестре Рите послеобеденные каст-
рюли, откуда они ухитрялись соскребать остатки вкусной каши. Одна-
жды в гостях у одноклассницы Нину оставили обедать и она была по-
ражена, что вслед за супом на стол перед ней поставили тарелку вто-
рого блюда. У них в семье на обед бывало, и то не каждый день, толь-
ко первое блюдо, суп. На одной из таких съемных квартир в деревян-
ном домике хозяева были старенькие учителя. Во дворе, в покосив-
шемся сарае, Нина однажды обнаружила ветхий, огромных размеров
старинный сундук, набитый драгоценными книгами. Там были и Дик-
кенс, и Лермонтов, и Достоевский, и Бальзак, и Флобер, и Ромен Рол-
лан. Там она нашла и дореволюционные толстые тома Овсянико-
Куликовского. Хозяева, заметив восторг юной квартирантки перед
этими сокровищами, разрешили ей ими пользоваться, а позднее во-
обще отдали ей все эти книги. Всю жизнь мама не расставалась с ни-
ми, перевозила их бережно с квартиры на квартиру. Сохранились и
общие тетради, куда она целыми страницами выписывала более всего
поразившие ее страницы из своих любимых книг. Да она их и наизусть
помнила всю жизнь и нам потом пересказывала. Семейное чтение
вслух стало традицией и в нашем доме. Это были Пушкин, Достоев-
ский, Хемингуэй. Потом Булгаков, Трифонов, Шукшин, Фолкнер,
Фицджеральд. Потом Солженицын, Набоков. Не говорю уже о поэзии.
Есенин, Цветаева, Ахматова, Межиров, Слуцкий, Вознесенский (отец
особенно любил и часто с горечью цитировал строчки: «себя промол-
чали – всё ждали погоды...»), Евтушенко. Песни Галича, Окуджавы,
Высоцкого. Иногда по целым дням мы читали вслух друг другу по оче-
реди. Это чтение вслух, размыкающее одиночество, дающее возмож-
ность мгновенного обмена эмоциями, впечатлениями, мыслями, ассо-
циациями, да ведь это же настоящий домашний театр! Наверное, от-
сюда берет и свое начало наша общая семейная страсть к театру. Ба-
бушка с дедом любили музыкальный театр. Родители приучили нас к
драме. Таганка стала совместной семейной Меккой. Золотоволосая
Нина была семейным лидером, решительно и бесстрашно режиссиро-
вала нашу жизнь. Хрупкая и женственная на вид, она внутренне была
очень цельным и твердым в своих стремлениях и убеждениях челове-
ком. Однажды сестра удивилась, что мамины белокурые локоны, та-
кие нежные и мягкие, совершенно не слушаются расчески, ни за что не
хотят распрямляться. Никто из нас не мог с ней поспорить. Мы просто
- 97-
должны были любить то, что любила она. Она всегда умела направить
семейный корабль в нужное ей русло. Еще в университете она пода-
рила отцу фотографию. На снимке юная Нина: взгляд свысока, вызы-
вающе-насмешливый, руки в боки – такая «девушка с характером». На
обратной стороне подпись маминой рукой: «Убей меня – буду являть-
ся тенью...» Вся – порыв, надрыв, эксцентрика... Мечтательная и глубо-
кая, она любила цитировать французского поэта Гильвика: «В череду
наших дней/ Иногда ударяли молнии...» И сама она у меня всегда и до
сих пор ассоциируется вот с такой внезапной молнией, переворачи-
вающей жизнь. Сама она воспринимала жизнь как моральную про-
блему, которую необходимо было безошибочно разрешить. И судить
обо всем и обо всех следовало только по самым высоким критериям.
Без всяких оговорок и полутонов – либо герой, либо подлец. Мало
кому удавалось соответствовать таким меркам. Главным критерием
состоятельности и нравственной вменяемости человека был Досто-
евский. Здесь уместны бывали ссылки на Трифонова, которого часто
цитировали, отзываясь о ком-то из знакомых: «В нем есть что-то не-
достоверное... Такое впечатление, что он даже Достоевского не чи-
тал...» Так был однажды «отбракован» один из женихов моей стар-
шей сестры, геолог Володя Т. Он изо всех сил пытался завоевать
внимание моей сестры, рассказывая ей сюжет какого-то, неизвестно-
го нам, рассказа великого писателя. – Но у него нет такого рассказа, –
негодующе утверждала сестра и заставила беднягу целый день пе-
ребирать собрание сочинений Достоевского в поисках доказательств.
Все усилия найти рассказ в тридцатитомнике классика оказались
тщетными. Неполной цитатой, вырванной из контекста, уже самого
Достоевского вдохновляла наша мама отца, надписывая ему в день
рождения книгу в подарок. Там были такие слова: «как писал Достоев-
ский, надо “...жить бунтом!...”» Помню, что в детстве меня смущали эти
слова. Как это «жить бунтом»? Как это возможно, так жить? У меня это
утверждение вызывало сомнения. Когда я уже сама читала «Братьев
Карамазовых», я с удивлением нашла эту фразу, но в контексте мысли
Достоевского она звучала противоположным образом – по-христиански:
«нельзя жить бунтом»... Нина была настоящим филологом. Но главным
в ее жизни, конечно, была наша семья. Она делала всё, чтобы семье
было хорошо. Билась, как птица, отгоняя любую беду от гнезда. Значи-
тельно позже мой муж, Павел Полуян, красноярский поэт и философ,
процитирует А. Платонова, навсегда испортив свои отношения с моей
мамой: «Бывает такая любовь, которая убивает вернее, чем атомная
радиация».
- 98-
Письмо
Отец был типичным шестидесятником, со всеми плюсами и мину-
сами этого поколения. Так, он романтически увлекался революцион-
ной Кубой, Че Геварой и собирался даже убежать туда сражаться за
социализм, а когда должна была родиться я, он, мечтавший о сыне,
хотел назвать его Фиделем. С другой стороны, будучи честным, поря-
дочным человеком, он, потрясенный открывшейся правдой истории
родной страны, народа, в процессе хрущевской оттепели, чтения со-
чинений Солженицына, всех последующих событий не мог оставаться
просто наблюдателем происходящего. Тем более, что и в его семье
были жертвы репрессий. К тому же он был журналистом. И внуком
священника. Подробности об истории его письма в защиту Солжени-
цына во время идеологической травли писателя мне стали известны
много позже. Эта история рассказана также в книге Натальи Решетов-
ской. История о том, как письмо отца Брежневу было переправлено из
Москвы в местную партийную организацию, и пермские партийцы
принялись прорабатывать отца на всевозможных публичных собрани-
ях, устраивая настоящие показательные судилища с допросами и
гневными обвинениями, была рассказана им самим позже неодно-
кратно в статьях и мемуарах постперестроечного времени. Не расска-
зывал он только о том, что нешуточной выволочке его подвергли и
дома. А это было. Да и как не быть. Ведь письмо его перечеркивало
всю их, с трудом налаженную, семейную жизнь. Поженившись, они
много лет мыкались по съемным углам, без денег, без каких бы то ни
было перспектив на нормальную достойную жизнь. Теперь у них была
работа, квартира, две дочки. Что могло бы быть дальше? Если не
арест, то потеря работы. Нищета. Исключение из партии. Нормальную
работу и жизнь перекрыли бы и маме, которая только-только закончи-
ла работу над диссертацией, готовилась к защите, и дочерям. Однако
ведь такие письма не пишутся просто так, в состоянии аффекта? Думал
ли отец о последствиях, когда его сочинял? Да еще и самому Солже-
ницыну написал приглашение приехать в Пермь, если ему негде будет
преклонить голову. И тот, представьте, благодарно ответил отцу, да и
еще доверительно прислал копию программного и дерзкого своего
письма, адресованного съезду писателей. Трусливые партийные на-
чальники допытывались: «Вы что, с ним лично знакомы? Откуда вы
знакомы с Солженицыным, где и когда вы с ним в последний раз
встречались?» Не мог он не думать о последствиях, как не мог не ду-
мать о том, что его ждет в 30-е годы, его отец Владимир перед тем, как
отправиться на свидание с арестованным своим отцом – священни-
-99-
ком, заключенным в темнице. Значит, это был зрелый поступок зрело-
го человека? У И. Ильина в «Книге тихих созерцаний» есть рассужде-
ния о совести. Он пишет, что в душе человека внезапно «отпадают»
все «трезвые» соображения и «умные» расчеты; стихают все большие
страсти и мелкие пристрастия; и даже опасения и страхи исчезают,
словно их и не было никогда... Человек совершает поступок, которого
раньше никогда не совершал; да и не считал себя способным к нему.
Но этот поступок был единственно правильным и исключительно вер-
ным. Это было лучшее, что он мог сделать. Но что происходит дальше?
А дальше происходит страшный, банальный, пошлый, домашний
скандал. Письма свои в ЦК и Солженицыну отец написал и отправил
без ведома мамы. Это был, пожалуй, единственный его свободный
выбор. Его звездный час. Поступок детский, наивный, легкомыслен-
ный. Но именно в детской, наивной легкомысленности, непосредст-
венности и спонтанности, между прочим, Э. Фромм видит единствен-
но настоящее проявление подлинной человеческой свободы. Но как
там у М.Булгакова Хлудов говорит в «Беге»? «Хорошо начал, но
скверно кончил, Крапилин-вестовой...» «Жидковат оказался внучёк,
хотя бы по сравнению с отцом и дедом», – прокомментировал позд-
нее саркастический Павел Полуян, окончательно испортив свои отно-
шения с моим отцом. «Слабак», – скажет в 1990 году Виталий Кальпи-
ди и процитирует мне письмо Владимира Радкевича о Петре, трижды
предавшем Христа. «Вашего папу можно было бы назвать святым, ес-
ли бы не КГБ», – скажет мне в 2000-м году Нина Горланова. Аргументы
золотоволосой Нины подействовали. Письмо Солженицына сначала
отец перепрятывал дома, потом пытался закопать в верещагинском
огороде у своих стариков. Но в конце концов, ожидая обыска и ареста,
уничтожил его. И наконец самое тяжелое – это вынужденное публич-
ное покаяние. Нина заставила его, убедила, толкнула на этот шаг, уве-
рив, что нужно это сделать ради детей, жертва ради их будущего –
разве это не высокая цена? У Эдуарда Лимонова есть беспощадное
размышление о целой стране, огромной великой России, несколько
поколений которой приносили свои мечты, желания, жизни, – в жерт-
ву – ради своих детей – страна нереализованных заветных желаний,
задавленных порывов к свободе, вытесненных великих наитий, по-
пранного вдохновения, страна сломленного народа, несчастливых
людей. Нина заставила его унизить себя, а что может быть оскорби-
тельнее, губительнее для мужского самолюбия, для самоуважения?
Так и вижу я эту сцену публичного покаяния, напоминающую страни-
цы прозы Владимира Сорокина. Помните его сюрреалистические сю-
-100-
жеты, образы и картины, где озверелые монстры рвут на части при-
смиревшую, квелую жертву, человекоподобные уроды заставляют
своих подчиненных глотать дерьмо, запивая его мочой, и улыбаться
при этом заискивающей улыбкой. Он совершил над собой этот акт ду-
шевного насилия, позорного самобичевания. Ему было милостиво ска-
зано на прощание: «Работайте. Мы будем за вами наблюдать...» И
наблюдали, будьте покойны. Последней каплей стало вскоре состояв-
шееся собрание местных членов союза писателей, в пух и прах раскри-
тиковавших рукопись отцовской повести. Конечно, отец был сломлен.
Он утратил ощущение себя самого. А в 1966-м году, когда все это слу-
чилось, мне было только пять лет. Но воспоминания об этом тяжелом
периоде нашей семьи у меня остались страшные. Помню родителей в
эти дни и даже месяцы. Пожалуй, это была единственная серьезная
ссора отца и матери за всю их совместную жизнь, по крайней мере
единственная, происходившая у меня на глазах. Мама плакала, крича-
ла, ругала его, он бегал из комнаты в комнату, убегал из дому, хлопнув
дверью. Возвращался, лихорадочно что-то объяснял ей или пытался
объяснить, она не хотела слушать, они не могли договориться. Он со-
бирал какие-то бумаги, складывал папки, что-то рвал, сжигал в умы-
вальнике на нашей кухне. При этом они беспрерывно и напряженно
выясняли что-то между собой, не обращая на меня никакого внима-
ния. Потом он торопливо уезжал в Верещагино. Мама плакала и тре-
вожно ходила из угла в угол, напряженно ожидая его возвращения.
В доме поселились страх, недоговоренность, тревожное ожидание.
Вернулся он весь какой-то выдохшийся, усталый, вялый. Ни на кого не
смотрел, нас, детей, как будто не замечал, с мамой не разговаривал.
Больше не звучали дома его задорные шутки, веселый смех. Он по-
долгу сидел один, уставившись в пространство, молчал, тяжело взды-
хал. Часто, очевидно, не желая разговаривать с нами, детьми, и с ма-
мой, уходил в ванную комнату, запирался там и сидел часами в пол-
ной тишине. Я запомнила одно ужасное утро. Однажды мама шепотом
разбудила меня раньше обычного и повела на кухню. Она сказала, что
отец всю ночь не выходит из ванной комнаты и она за него боится.
Чего она боялась? Я тогда не очень-то могла понять. Но теперь дога-
дываюсь: она боялась, что отец покончит с собой. И вот она заставила
меня залезть на кухонный стол, на маленькую скамеечку, поставлен-
ную сверху, затем дотянуться до небольшого застекленного окошечка
в ванную комнату (мне раньше строго-настрого запрещалось взрос-
лыми проделывать такие штуки!) и посмотреть, жив ли наш папа. Я не
понимала, для чего это нужно. Но я помню то чувство ужаса, которое
-101-
охватило меня, когда я с трудом приникла лицом к оконному стеклу.
Я боялась туда взглянуть и увидеть нечто страшное. Сердце разрыва-
лось от неизвестности. Я трепетала. Отец сидел, прижавшись спиной к
батарее, на табуретке, лицом прямо на меня, из глаз его текли без-
звучные слезы. Жизнь в нашем доме с тех пор начала резко меняться.
Больше не устраивались домашние концерты и музыкальные импро-
визации. Перестали приходить гости. Папины друзья как-то отпали
разом все до одного. Больше не забегал Виктор Бурдин, сосед по дому
на бульваре Гагарина, не устраивались новогодние складчины с семь-
ей Бурдиных и Владимира Зубкова. Не появлялись Рита Соломоновна
Спивак с мужем Львом Вольковичем и Римма Яковлевна Гельфанд с
сыном Олегом, не приходил И.А. Смирин, когда-то научивший меня
хорошему способу запоминания исторических дат по карточкам, не
приезжала шумная и веселая Ира Корчмарская, мамина закадычная
подружка. Дома стало тихо, пустынно. Эта пустынность, уныние и
ощущение безысходности усугублялось еще и в связи с последующи-
ми невеселыми событиями: был рассыпан филологический сборник
университета со статьей Е. Тамарченко о Солженицыне и маминой
статьей о неопубликованных страницах Эм. Казакевича, большие не-
приятности начались в связи с этим у Риммы Васильевны Коминой.
Поразительно, но и она, метко названная Львом Ефимовичем Кертма-
ном Жанной ДʼАрк, типичная шестидесятница, только старше годами,
написала письмо в ЦК! И это письмо тоже было передано местным
начальникам от идеологии для расправы над гуманитарной интелли-
генцией города! А затем в Перми заварилось и разбирательство в свя-
зи с делом о Самиздате. Все эти моральные давления тяжело отража-
лись на психологическом состоянии отца. Его бегство в себя выража-
лось порой весьма забавно, по-детски. И никто бы со стороны не дога-
дался, что в глубине души он переживает тяжелую внутреннюю драму.
У Киры Муратовой есть фильм со знаменательным названием «Увле-
чения». Отец увлекался футболом, до страсти, до самозабвения, зани-
мался то лыжами, то коньками, то йогой, то голодовками, то лечебным
бегом, тайно, поздними вечерами, скрываясь от мамы, купался в кам-
ской ледяной проруби, и однажды чуть не утонул там, поскользнув-
шись и с трудом выбравшись на ледяной и безлюдный берег ночной
реки; на протяжении нескольких лет самостоятельно занимался ноча-
ми переводом детского французского детектива, а днем читал нам эти
переводы по выходным; наконец он истово писал свою прозу о детст-
ве. Писал он ночами, глубоко погружаясь в воспоминания, уходил туда
всем своим существом, скрывался там от своей дневной газетной ру-
-102-
тины, которая вся состояла из бесконечных передовиц и репортажей,
которые нужно было обязательно успевать делать как можно быстрее
и в срок сдавать в печать, материалы, добываемые в многочисленных
командировках по районам и области, о перевыполнении плана ка-
ким-нибудь колхозом, ударниках сельскохозяйственного труда, хле-
боробах, героях соцсоревнований, доярках и трактористах наших со-
ветских пятилеток. Свое, сокровенное, он писал неспешно, любовно и
вдохновенно, как бы даже и не стремясь к завершению – ведь он жил
там настоящей жизнью в своих детских годах, в бедном полуголодном,
но свободном от лжи и демагогии мире родных и близких, мире про-
шлого, любимых книг, друзей детских игр, собственных мальчишеских
мечтаний и фантазий. Только там, в своих писаниях, он чувствовал се-
бя самим собой. Но год от года он становился все пасмурнее, все за-
думчивее. В его дневниковых записях я много позднее вновь и вновь
нахожу повторяющиеся печальные фразы: «Кручусь, как белка в коле-
се. Бесконечный, из года в год, бег на месте...» Часто тяжело вздыхал и
ничего не рассказывал больше своим дочерям, как было прежде. Его
мучила двусмысленность собственного положения. Ведь гонения и
травля Солженицына не прекращались и после высылки писателя из
страны. Он слушал по ночам «вражеские голоса», а днем открывал
советские газеты. Эта раздвоенность – типичное состояние всей стра-
ны в те годы. Но отец переживал его личностно, чувствуя свою особую
причастность. Часто я замечала, что при встрече со знакомыми людь-
ми он вел себя так, как будто бы чувствовал себя в чем-то виноватым,
словно все время извинялся за что-то перед окружающими. И ведь он
был непоправимо одинок в этом своем горе – ни с кем не мог поде-
литься своими мучениями, даже с Ниной, которую горячо любил и
которая толкнула его на то, что он сделал с собой. В дневнике он то и
дело вспоминает свой навязчивый страшный сон, который мучает его
повторяющимся кошмаром много лет. Он видит всегда одно и то же.
Он бежит по темной незнакомой улице, а его преследует улюлюкаю-
щая погоня. Мужики с топорами и дубинами несутся за ним вдогонку
и орут отвратительные угрозы и ругательства. И нет никакой возмож-
ности спастись. Наконец они его настигают, сбивают с ног и начинают
зверски избивать. Пинают ногами, и он умирает во сне. Мама демон-
стративно и энергично убеждала его не сомневаться в том, что он по-
ступил правильно. Она даже нарочито и убежденно сравнивала писа-
ния «тамошнего» Солженицына с прозой «нашенского» Трифонова.
И хотя, конечно, ясное дело, Трифонов вовсе не был таким уж «нашен-
ским», но она уверяла, что Солженицын – «упрямый самолюбец», по-
- 103-
думаешь, не захотел внести исправления в роман «В круге первом».
Надо же, какая фанаберия! Вон Трифонов все говорит обиняком, мно-
готочиями, даже год тридцать седьмой не указывает, а туманно наме-
кает: «в тридцать каком-то году...» И все всё понимают. И никто его не
трогает. А жизнь – это сплошные компромиссы, а иначе и жить нельзя,
–
твердит Нина. Да. Все верно. Но только почему-то в 90-годы уже ни-
кому не захочется перечитывать замечательного Трифонова. Придет
иная эпоха. Но это будет позже. А пока, знойным летом 80-го умирает
Высоцкий. А осенью 81-го года родители едут в Боржоми отдыхать и
оттуда заезжают в Тбилиси, где в музее Нико Пиросмани отец припа-
дет к картине грузинского художника «Отшельник» и горько и без-
звучно заплачет. «Это про меня», – прошепчет он своей Нине. А зимой
81-го умирает Трифонов. И мама опустит голову и скажет: «Это был
последний. Больше никого не осталось...» А в августе 82-го я и отец
окажемся в Троице-Сергиевой лавре, и во время Богослужения, когда
певчие прозрачными голосами все повторяют и повторяют свое «Гос-
поди, помилуй... Господи, помилуй...», отец опустится на колени и нач-
нет молиться. А в сентябре 83-го советское правительство лишило
гражданства Юрия Любимова. И мы с сестрой зарыдали. Казалось, что
это конец. Но, как спел когда-то Высоцкий, «конец – это чье-то нача-
ло». И в этом мудрая диалектика бытия. А начались девяностые годы.
Открылось новое измерение жизни, появился другой взгляд. Горизон-
таль нашего социально-исторического и экзистенциального существо-
вания разомкнулась в вертикальное, мистическое, пространство Веч-
ности и Духа. Возник Набоков с его метафизикой и эстетикой, игрой
и свободой. История потеснилась и дала место Географии. Дети и вну-
ки пристрастились путешествовать. Внуки не хотели больше бороться и
выяснять, кто виноват и что делать, – они хотели любить и быть люби-
мыми, петь, танцевать, играть, заниматься свободным творчеством
и просто жить. Как тут снова не вспомнить Трифонова, героиня которо-
го в романе «Время и место» говорит: «А может, не надо дочерпывать
додна? Мы так устали...» Но есть еще Высоцкий, который написал:
«Но надо, надо сыпать соль на раны,/ Чтоб лучше помнить./ Пусть они
болят...» В 90-годы отец будет добиваться, и ему это удается, реабили-
тации своего деда, священника Николая Михайловича Гашева, о чем
он рассказал в своем очерке, изданном отдельной книжечкой «Крест
отца Николая» (2008). Но и тут Нина вмешалась в его замысел. Ведь он
хотел назвать в своем очерке все имена и фамилии – тех, кто писал
доносы на деда. Отец помнил глубокую теорию трифоновского героя
из «Другой жизни», историка Сергея, – о нитях, которые тянутся из
- 104-
прошлого в будущее. Но Нина ему этого не позволила сделать. Отец
дважды встретится с писателем А. И. Солженицыным. Отец успеет еще
издать свои повести и рассказы, изданные в трех книгах («Просека на
болоте» – 2000, «Ослепленные фарами» – 2011, «Донос» – 2015). Од-
нако, думается мне, что больше всего раскрывался он в своих письмах.
Ведь письма – это тоже творчество. Помните, Борис Пастернак при-
знавался, как легко ему стало, когда он понял, что роман надо писать
так же просто, как пишешь письмо близкому человеку. И были сотни,
тысячи писем. Были письма, которые он писал семье из своих беско-
нечных командировок. Но и мама, и мы с сестрой, да и бабушки с де-
душками не отставали. Близким, родным, отцу, матери, жене, доче-
рям, сестрам, братьям, друзьям и подругам, любимым, от братьев и
сестер, детям и внукам, от детей и внуков. Из Верещагино в Пермь, из
Перми в Чердынь, Из Москвы в Пермь, из Перми в Красноярск, в Же-
лезноводск, в Крым и на Украину, в Белоруссию, в Башкирию, в Гру-
зию, в Петербург, в Ужгород, а позже это были письма из Прибалтики,
Праги, Женевы, из Парижа, Арабских Эмиратов, из Китая и Малайзии,
из Америки, из Израиля. Целый семейный роман в письмах несколь-
ких поколений одной фамилии. Целые чемоданы писем, которые хра-
нятся в кладовке нашей нынешней квартиры и еще ждут своего часа.
Это и материал для микроистории, открывающей сегодня современни-
ку, частные, субъективные, неофициальные свидетельства простых лю-
дей о великих событиях большой истории, народной истории. А как го-
ворил Андрей Платонов, если помните, «без меня народ неполный»...
«Так что же остается?», – спрашивала когда-то маленькая Марина Воло-
винская свою маму после похорон любимой бабушки. Остается только
память, в письмах, адресованных близким и читаемых вслух, в нашей
душе, в наших рассказах, которые мы передаем своим детям.
Пермь. Октябрь 2020.
- 105-
С. Шейко-Маленьких,
выпускница 1999 г.
СЕМЬЯ
Когда я думаю о своей семье, всякий раз вспоминаю легенды о
ласточках, птицах, родившихся из морской пены и укрывающихся в
изогнутых раковинах на берегу морском от невзгод судьбы.
Когда умерла мама Тоня, к нам на балкон прилетела ласточка.
На 12 этаж. Села у окна и замерла тихо, прощаясь. Когда умерла мама
Нина, мне на руку села огромная бабочка с зелено-голубыми крылья-
ми. Прямо посреди Китайского моря, в котором я плавала.
Моя семья – это отношения, эмоциональные, на разрыв, с гро-
мами и молниями, с обидами навсегда, с оглушительным хлопаньем
дверей, с бьющимися чашками, окнами и сахарницами. Но все это, по
моему глубокому убеждению, происходит лишь от какой-то огромной,
бесконечной и невозможно щедрой любви. Мое семейство – это фан-
тастически нерасчетливый образ жизни, какая-то почти маниакальная
невозможность, неумение приспосабливаться. Это легкие безумства и
память странствий, какая-то скрытая глубоко под кожей тяга к бушую-
щим морям и океанам.
На Филиппинах в заповеднике на Ста островах есть одна пещера.
Она сквозная, и если пролезть до самого конца, в небольшой выход
открывается вид на Тихий океан, песчаную отмель, пару утесов. Когда
я первый раз оказалась там, сердце так и дрогнуло. Это было узнава-
ние и ощущение родины. И теперь, оказываясь там снова и снова, я
всякий раз убеждаюсь, что я видела истоки моей семьи, Дом, где все
мы встретимся.
Еще в детстве мне пришлось смириться с тем, что у меня весьма и
весьма странное семейство. Иногда мне ужасно хотелось, чтобы все
мы были как на картинках в букваре: бабушка с узлом на затылке и с
пирожками, мама с поварешкой, младший брат в коротких штанишках
и с каким-нибудь самосвалом в правильных октябрятских руках. Но у
нас в семье никто из женщин никогда не шил, да и готовили в основ-
ном дедушка с папой. Помню, однажды моя мама решила связать мне
свитерок. В процессе он превратился в тужурку-безрукавку, и по за-
вершении работ мама тихо, но твердо сказала, что никогда больше не
будет вязать.
Моя семья всегда была скорее помесью кочевников, цыган и пи-
ратов, случайно осевших в холодном уральском городе. Это произош-
- 106-
ло как-то совершенно стихийно и внезапно, и потому даже волосы
домочадцев еще помнят морской ветер и соль волн. Когда однажды я
высказала свое тайное раздражение всеобщей нашей непохожестью
маме, она, спокойно улыбаясь, сказала: «Когда мы приобретаем одно,
то теряем другое, и если у нас будет семья, как на картинке из пра-
вильной книжки, то уж точно не будет того, что есть». А так как терять
то, что есть, мне совершенно не хотелось, я просто перестала пережи-
вать по этому поводу, потому что выбирала их всех, мое сумасшедшее,
шумное, иногда чрезмерно крикливое, иногда веселое, иногда груст-
ное семейство.
Мой дедушка, бывший пират Билли Бонс, когда-то он хриплым
голосом горланил песни про бутылку рома и хранил дублоны в огром-
ном сундуке, но с тех времен монеты все растратили, сундук исчез,
и теперь Коляша пел только, когда пытался уложить меня спать. А еще
у него был настоящий золотой зуб, и это было так захватывающе – ви-
деть, как он широко улыбается, сверкая этим удивительным, драго-
ценным, чистого золота зубом! Иногда мне казалось, что он раздобыл
его в холодных снегах на Аляске, сидя на окруженном волками приис-
ке во время золотой лихорадки.
Моя бабушка Нина когда-то давно жила в Париже и была знако-
ма с Ренуаром, так что ее портреты он рисовал непрерывно, и один из
них, напечатанный на открытке, с тех пор стоял у нас на книжном шка-
фу. Именно с тех самых времен она знает французский, любит тонкие
духи и сирень. Это, конечно, о ней поет Ив Монтан практически во всех
своих песнях, впрочем, у него даже есть персонально посвященная ей:
«Нинон, моя Нинетта».
У моей бабушки удивительно синие глаза и золотистые кудрявые
волосы. И когда она волнуется, то всегда картавит. Я узнала об этом
только спустя четыре года после ее смерти, когда спросила дедушку
о том, как они познакомились. Было торжественное собрание, и она
стояла на сцене и читала то ли речь, то ли стихи, и на ней было такое
платьишко, в полоску, и от волнения все буквы «р» выходили у нее
особенно мягко, и мой дедушка совершенно пропал.
Это, конечно же, было то самое знаменитое французское грасси-
рующее «р», которое она приобрела от долгой жизни в Париже.
На моей защите диссертации мама заметила эту особенность произ-
ношения и у меня, а теперь я вижу то же в моей дочурке. Очарова-
тельная мягкость рычания.
Наш дом был огромный и светлый, хотя народу в нем было поря-
дочно. В комнате у бабушки и дедушки всегда были высокие горы,
- 107-
узкие проливы Дарданеллы и хитрые скалистые изрезанные прилива-
ми берега, если свалишься с приступки у шкафа, потянувшись за книж-
кой на предпоследней полке, можно здорово удариться о ручку крес-
ла, едва не разбившись об острые камни прибрежных скал. Помню,
мои маленькие игрушки устраивали иногда походы в эти неприступ-
ные места и устраивались на ночлег в пещерах, легко образующихся,
если вытащить с полки пару книг.
У нас в семье никого не называли бабушка и дедушка. Мамину
и тетину маму звали мама Нина. Маму Нины и ее сестры Риточки зва-
ли мама Тоня. То же самое и с мужчинами – дедушку мы звали папа
Коля, а папу Нины звали папа-деда. Папу папы Коли попросту называ-
ли папка. В этом есть смысл. Помню, когда в далеком 2013 году
я приехала с дочкой и мужем к родителям, с ними жили и Нинок с Ко-
ляшей, и мой голубчик Коляша говорил: «Здесь собралось три отца,
три матери и три дочери!».
Имя моей мамы Нины – как перезвон колокольчика, хотя на ка-
ких-то восточных языках оно обозначает жемчужину. А она и есть
жемчужина, белокожая, тонкокостная, золотоволосая. И в то же время
невероятно сильная. И отважная. Именно от нее я глубоко усвоила
этот принцип: как бы ни были дела – высоко держи голову, и никому
не показывай, как тебе плохо и страшно. Что бы ни было дома: потоп,
прорыв канализации, полное отсутствие денег – на работу ты идешь в
лучшем виде, в чистейшей рубашке, накрашенная и с прической. Вы-
ход в свет – есть выход в свет, работа – есть работа, женщины нашей
семьи хорошо держат фасад, и дорого ценят внутреннее достоинство.
А еще я знаю, что женщины нашей семьи могут разорвать любо-
го, готового принести вред кому-либо из семьи, будь то невниматель-
ный врач скорой помощи, подвыпивший сосед, хамоватый коллега по
работе. Когда речь заходит об угрозе жизни, – на смену женственной
улыбчивости приходят валькирии. И мне было безумно смешно и теп-
ло, когда я обнаружила и в себе это свойство.
Еще я с детства помню Время Дипломников – конец мая и июнь –
лето, невозможно огромные охапки цветов, бабушка любит пионы и
сирень и их таскают к нам кустами, а еще иногда конфеты, сопровож-
даемые тихими, прыгающими от волнения словами благодарности.
И весь дом пахнет цветами и шоколадом.
Когда наступил мой последний год в школе, мама Нина сказала
мне: я договорилась с Риммой Васильевной, ты можешь походить к
ней на лекции. И так я впервые попадаю в университет – с его безум-
ной системой полутемных коридоров, деревянных лестниц, запахом
- 108-
краски, известки, дерева и железа от простых скрипучих парт. Филоло-
ги сидят в подвале, хотя их иногда пускают на второй этаж к благопо-
лучным и успешным юристам. Я присматриваюсь, пробую на вкус.
Потом эти коридоры станут и моим домом, но к пятому курсу я
сформулирую для себя основной раздражающий фактор: моя семья
слишком заметна в городе, я всегда ее часть, и когда люди относятся как-
то ко мне, я никогда не могу понять: это они разговаривают с моим де-
душкой, моей бабушкой, моей мамой, папой, тетей, братом моего де-
душки, его женой или его дочерью, – добраться под всеми этими слоями
до отношения ко мне практически не представляется возможным.
И я уезжаю в Питер, где с облегчением начинаю все с чистого
листа, где все, чего я добиваюсь, является уже только моей заслугой, и
я знаю, что люди видят теперь только меня, потому что моей семьи
они не знают. Но это не значит вовсе, что я как-то отделяюсь от семьи,
они все всегда со мной, и, делая что-то, я делаю и для них, и за них, и,
путешествуя по миру, я показываю весь этот мир и им тоже, живущим
в моем сердце.
В нашем пермском гнездовом доме самая необходимая вещь –
это трюмо. Большое, установленное так, чтобы собирать в себя весь
свет. Чтобы готовящийся к выходу во внешний мир человек мог уви-
деть себя целиком, захватить взглядом – проверить на прочность бро-
ню перед встречей с априори враждебным окружением. Привычка
махать уходящему в окно. Привычка волноваться за опаздывающего.
Это всегда у нас было – свои и чужие, враждебный внешний мир,
отправляющийся туда должен выглядеть соответственно, должен быть
закутан в броню нашей любви и своего видимого благополучия.
Итолько вернувшись, он может выдохнуть спокойно и, наконец-то
скинув все маски, просто принять мир и все в нем таким, как оно есть.
Поэтому, приходя с работы, члены моей семьи вслед за уличной оде-
ждой снимали с себя и эту выстроенную оборону, колючие, насторо-
женные иголки, и расслаблялись, улыбаясь, делаясь мягче и как-то
громче.
И тогда начинались нескончаемые рассказы об этом странном
внешнем мире. Весело и захватывающе рассказывал Коляша, и будни
его редакции были похожи на корабельные истории, и так весело бы-
ло от его шуток. Ниночек рассказывала про кафедру, и ее коллеги бы-
ли похожи на придворных какого-нибудь короля Людовика с кардина-
лом Ришелье – бесконечные интриги, хитрость, ум и отвага.
Еще очень отчетливо помню банки с медом или манговым соком,
хранящиеся в выдвижном ящике мамы-Нининого гардероба. С тех
- 109-
пор, к удивлению моего мужа, я упорно храню все вкусное в одежном
шкафу.
А еще из детства традиция прогулок. Всей семьей, взявшись за
руки, мы шли гулять по дальним скверикам, и я помню, как кожей чув-
ствовала практически осязаемую злость окружающих: у нас непра-
вильная семья, мы любим друг друга.
И много-много шума. И буря эмоций. По поводу и без. Ну и бес-
конечные выразительные рассказы, составляющие самую суть, са-
мый стержень моей семьи. По сути, вспоминая детство, я в первую
очередь вспоминаю эти рассказы, яркие, смешные или отчаянные,
сшибающие тебя своей энергией. Вообще эмоций и впечатлений в
жизни столько, что ими совершенно необходимо поделиться. Не-
медленно, сейчас же. Когда мама Нина или моя мама приезжали из
Москвы, они первым делом почти дословно пересказывали спектак-
ли театра на Таганке. Здорово было, когда каждый из них пересказы-
вал их по-своему. Как будто два разных спектакля посмотрел. А по-
том, когда я увидела эти спектакли сама, это был третий вариант.
Тогда-то я и осознала относительность всего сущего и всепроникаю-
щий постмодернизм мироздания.
Помню – много-много лет спустя скачала дочке фильм про теат-
ральных кукол на веревочках. Великие кукольники мира, как-то так.
Ну, и села с ней посмотреть вместе. А там – старый взъерошенный че-
ловек, и под ногами у него ходит кукла, размахивает руками, трясет
головой, залезает к нему на ногу, а потом замечает его и забирается
поближе. Они очень интересно, живо так взаимодействовали. И меня
так конкретно накрыло, потому что я отчетливо вспомнила, что уже
видела и этого кукольника, и эту сцену: моя бабушка Нина как-то ве-
чером, лежа перед телевизором, громко позвала нас, немедленно,
оторвав от всех работ и занятий, и, прибежав на зов, мы увидели этого
самого кукольника. Помнится, не все из нас были счастливы оказаться
выдернутыми из своих важных занятий. И я поначалу ворчала, что ме-
ня оторвали от неотложных дел, а потом увлеклась... И так живо все
вспомнилось, как будто вот она – моя бабушка мама Нина в соседней
комнате лежит на трех взбитых подушках, смотрит что-то по телевизо-
ру и вот-вот позовет меня.
Как же я понимаю теперь, мы никогда не умели радоваться или
наслаждаться чем-то в одиночестве, просто необходимо было поде-
литься с семьей. Помнится, когда я уехала на стажировку в Женеву и
страшно тосковала там, моя мама ругалась на меня, сказав: твои деды
-110-
и прадеды погибали и пропадали, ты просто обязана быть там за них
за всех, за нас. Я до сих пор лелею надежду, что куда бы меня ни зане-
сло, со мной незримо все они, мои родные и любимые, и нам инте-
ресно вместе.
Еще помню чтение запоем – журналы конца 80-х и 90-х годов –
как отбирали друг у друга, ругались насмерть, выгоняли Коляшу с кух-
ни, чтобы он не успел случайно пересказать то, что хотелось прочитать
самим. «Защита Лужина», «Дар», «Белые одежды», «Факультет ненуж-
ных вещей»... Когда приходил новый журнал, это были настоящие бит-
вы – кто захватит его первым, и ультиматум: у тебя одна ночь!
И воскресные обеды с черным чаем за круглым деревянным зо-
лотисто-солнечным столом, и селедка с картошечкой на листочках ра-
зорванной бумаги. Вечерние рассказы о своих работах, коллегах и но-
востях. Яростное обсуждение новых книг и фильмов.
Моя мама высокая, темноволосая, в отца-пирата, улыбчивая. На-
дежная. Моя тетя с удивительной красоты карими глазами, тоже в от-
ца-пирата, господи, как же я всю жизнь мечтала о таких вот карих гла-
зах. Так вот, моя тетя пела мне удивительные песни про жирафа, кото-
рый был не прав, и читала мне Майн Рида в те дни, когда ей выпадало
присматривать за мной. А еще на школьный новогодний праздник
мама сшила мне шапку Дюймовочки, а тетка написала стихи. Помню
сиреневый блестящий атлас, натянутый на картон шляпы, и блеск луны
в окно, и мы с мамой смотрим на нее и учим эти стихи для моего вы-
ступления.
Еще я помню застолья и праздники. По ним можно говорить о
разных эпохах в жизни нашей семьи. В моем детстве торжественно в
большой комнате собирают диван, на свет вылезают красные веселые
подушки, приносят и сдвигают все столы, накрывают их белой-белой
бумагой, дружно носят всякие вкусности из кухни, а потом долго си-
дят, поют песни, я произношу тосты, и все умиляются. Мной всегда
здесь все гордятся и восхищаются, по-другому и быть не может...
Проносится с десяток лет, и мы приходим в гости к Ниночку с Ко-
ляшей, они сдвигают столы, Коляша печет рыбный пирог, Ниночек ва-
рит суп и покупает вкуснейшее копченое мясо. Довольная пузатая
желтая люстра поблескивает над длинным столом, уставленным едой.
И промежду всех этих блюд есть ожидание рассказа. О моих делах,
успехах, надеждах, свершениях. Моя семья – это такое особенное ме-
сто, где тебя всегда ждут. Потом, позже, так же там ждали и моего му-
жа, и дочь. Я потом только спустя много лет узнаю, что на такие вот
застолья мои родичи могли выкинуть половину своей пенсии и зар-
-111-
платы. Вообще моя семья – это сумасшествие любви. Бескорыстной,
щедрой, затопляющей. Щемящей и спасающей.
Моя семья – это неизменная помощь. Что бы они ни думали. Все-
гда. Когда я таки собралась в Питер и готовилась к поступлению, я жи-
ла как раз у Ниночка с Коляшей, там было ближе к университетской
библиотеке, слушала Битлов, вставала поздно, а Коляша варил мне
черный кофе, и мама Нина обнимала крепко перед тем, как я убегала
в библиотеку. Я знала, что они не хотят моего отъезда, но их желание
или мнение никак не влияло на их помощь. Потому что мы же семья, и
какое бы безумство ни задумал кто-либо из семьи, задача других –
просто быть рядом. Что бы они при этом ни думали.
Помню еще, как-то раз, на выпускном, кажется, мы гуляли всю
ночь, и девочка старше, уже закончившая филфак пару лет назад и
снимавшая что-то в Перми, не желая возвращаться в свой маленький
городок, уставшая от бесприютной жизни и борьбы за выживание в
большом городе, с удивлением распахивает свои полупьяные глаза:
«так ты Нины Васильевны внучка? Она удивительная! Всегда так ува-
жительно относилась к нам»...
Мы теперь разбросаны по всему миру: кто в Красноярске, кто в
Омске, кто и вовсе временно застрял в Малайзии. Но ощущение семьи
от этого никуда не делось. Потому что она живет в нас, бьется горячим
пульсом прямо под кожей. Улыбаясь, я смотрю на свою дочурку и по-
нимаю: в любом случае мне есть, что ей передать.
Серый волк
Нам не страшен серый волк.
Кажется, это так переводится. В оригинале, в моем маленьком
мультике веселые поросята поют: «Who’s afraid of the big bad wolf?»1
.
И, глядя на них, мои смешливые веселые китайские детишки им за-
дорно подпевают. Мы учим английский так, как мне кажется правиль-
ным: с песнями, весело, свободно. Серьезные мордашки аж искрят от
восторга, когда по скучному школьному экрану начинают плясать бес-
шабашные поросята. А я смотрю на этого волка и понимаю, что я его,
пожалуй, боюсь. По крайней мере ужасно ненавижу.
Пустые глаза, холод. Проглотил, и все, нет больше ни тебя, ни
мира...
Сегодня утром умер мой дедушка.
У меня урок в школе. Как всегда. Шебутные подвижные ребятиш-
ки, в количестве сорока штук в каждом классе, с трудом высиживают
1
И кто это боится большого злого в олка?
-112-
на своих местах, как нетерпеливые воробушки норовят вскочить, под-
прыгнуть. Доверчивые черные глазенки расширяются от ужаса при
виде волка на экране. А потом победно весело распевается песенка,
подхватываемая на сорок разных ладов и мотивов. А я прямо вижу,
как сегодня утром вот такой вот большой злобный волк подскочил
к моему дедушке и слопал его. Безвозвратно. Не будет никаких охот-
ников, вспарывающих живот и выпускающих целых и невредимых
пленников. Волк слопал дедушку и ускакал гигантскими тяжелыми
прыжками.
Я помню так хорошо, как будто это было вчера: у нас под столи-
ком с телевизором стояла красивая, резная, старинная, но безнадежно
погнутая печатная машинка «Ундервуд». Дедушка с легкой печалью
смотрит на нее, а потом, улыбаясь, на меня: «Ты, когда была малень-
кая, на ней станцевала». И потом ему приходится искать машинисток,
способных разобрать его сумасшедший, летящий почерк, скрученный
в одну прямую линию, с небольшими узелками на ней. Или бежать в
редакцию в неурочное время, чтобы набирать статью самому. Но в
голосе – ни обиды, ни печали. Лишь теплая улыбка при воспоминании
о танцующей маленькой девочке.
Вечер. Мы одни с ним дома, идем на кухню. Он степенно рассти-
лает на полу газетку, достает лук, морковку и гору картошки. Перево-
рачивает боком табуретку и берет мусорное ведро.
«Вот, учись, пока я жив», – говорит он мне, и в большой черной
чугунной сковородке мы готовим, почти священнодействуем. К ужину
пришедшую с работы многочисленную семью ждет волшебная жаре-
ная картошечка. Такая, какую только папа Коля, как зовут все дома
моего дедушку, умеет поджарить.
Утро. Зима. Холод. Глаза еле разлипаются от прилипшего снега и
еще не отлипшего сна. Мы спешим на трамвай, в школу. Большой мой
портфель болтается у него в руках. В сердце испуганной птицей звучит
только одно: «Опоздаем, опоздаем», а он только улыбается и кряхтит,
и мы несемся к приостановившемуся на остановке трамваю.
Вечер, и мы наперегонки бегаем с ним по квартире; по деревян-
ному протертому паркету звонко шлепают его босые ноги. Он у нас
моряк и потому в любую погоду ходит по дому босиком. Единствен-
ный из всех домочадцев. Помню, как странно заброшенно выглядели
его домашние тапочки, которые он надевал только перед самым сном,
когда, помыв ноги, шел спать.
Кромешная ночь, и он отчаянно вопит на кухне – это он болеет за
очередной чемпионат мира по футболу.
- 113-
Ребром ладони он бьет по всем углам, тренируя прочность и тя-
жесть руки; постепенно она затвердеет до такой степени, что будет
прошибать стены и кирпичи. Просто необходимости что-то прошибать
таким образом еще пока не возникало.
Иногда мне кажется, что у него тысячи знакомых, и так интересно
наблюдать, как, встречая его, люди светлеют лицом и как-то теплеют
ему навстречу.
Однажды он отбывает в очередную командировку в соседний го-
род. Это его версия для семьи. На самом деле он приезжает в один
маленький городишко, где у него знакомые в милиции; там они его
переодевают, гримируют и показывают, где живут местные бомжи. И
он проводит несколько дней вот так: без документов и денег, с един-
ственной бутылкой водки в кармане, взятой как подношение местным
бомжам, чтобы сразу не зарезали. Это его менты научили, предупре-
див, однако, что все это предприятие очень рискованное, и он отправ-
ляется на свой страх и риск. Но переодевался же Шерлок Холмс, чтобы
выведать секреты преступного мира? А тут даже секреты никакие не
нужны, просто подсмотреть немного чужой жизни. Как настоящий
журналист – ощутить на своей собственной шкуре, как это: быть дру-
гим. И – написать интересный репортаж.
***
Это было самое удивительное свойство моего дедушки – откры-
вать в людях что-то глубоко запрятанное, что-то самое лучшее. В ту
пору, когда он заведовал отделом культуры, к нему начал ходить мо-
лодой совсем парнишка. И приносить статьи про оперный театр. В ре-
дакции над ним смеялись – от горшка два вершка, а уже – спец по
опере. Ни образования, ни известности – а туда же. Да и вообще – ко -
му в советской стране нужны эти сомнительные театральные рецен-
зенты? А дедушка заметил его, помогал править материалы, принимал
и пробивал в номер, и парнишка все писал и писал, а потом уехал
учиться в Москву и стал известным театральным критиком.
На самом деле я знала точно, что мой дедушка – бывший пират
Билли Бонс. Когда-то он хриплым голосом горланил песни про бутыл-
ку рома и хранил дублоны в огромном сундуке, но от тех времен оста-
лась только бутылка темного стекла в кожухе из бечевы. В ней теперь
почему-то хранился одеколон, а монеты все растратили, сундук исчез,
и теперь мой дедушка Коляша пел, только когда пытался уложить ме-
ня спать. И не про пиратов, а про несчастного попа, которого угораз-
дило убить свою собаку, и из-за этого он вынужден бесчисленное ко-
личество раз возводить ей надгробные плиты и писать надписи. Но все
- 114-
равно в уголках Колиных глаз жило море, а черные волосы пахли со-
леным ветром; и когда он крутил длинную прядь волос на лбу, так лег-
ко было вспомнить, как он весело карабкается по вантам, травит ка-
кой-нибудь шкот, а зеленая прохладная волна чуть покачивает огром-
ный корабль. Пиратское прошлое давало о себе знать многим. Напри-
мер, дедушка часто свистел дома и утверждал, что моряк не плачет.
А еще мы с ним всегда делали то, что категорически и совершен-
но запрещалось. Помню, он приходил с работы, мой папа тут же убе-
гал на свою, а меня уже больше никто не пытался уложить спать, и я,
прямо как есть, в ночной, пахнущей сном и перьями рубашке забира-
лась к нему на колени, а он, даже и не раздеваясь, в грязном рабочем
костюме садился смотреть «Последние известия». От него пахло чу-
жими людьми и табачным дымом, у них в редакции всегда и везде
курили. Он сидел в большом кресле, с черными, протертыми до дере-
ва подлокотниками, а я сворачивалась у него на коленях. От того, что
полчища микробов с его костюма – где только он в нем ни был! – мол-
ниеносно перебирались на мою беззащитную, с синенькими коло-
кольчиками ночную рубашку, немного кружилась голова. Вообще соз-
давалось такое ощущение, что видишь, как тонкомачтовую шхуну бе-
рет на абордаж пиратский бриг, и посасывает под ложечкой, как когда
высоко раскачался на качелях и стремительно падаешь вниз, и в то же
время так весело от своей отчаянной смелости! И я улыбалась, пони-
мая, что с таким отчаянным пиратом, как мой дед, нам не страшны
никакие микробы, и мы смело вступим с ними в схватку на пахнущей
солнцем палубе нашего корабля.
В такие минуты расстраивало только то обстоятельство, что, не-
смотря на ободряющее название «последние», на самом деле эти из-
вестия всегда повторялись, и вновь и вновь появлялся круглый цифер-
блат, и длинная стрелка бежала к маленькой, а потом шли комбайны в
полях. Так я и не дождалась по-настоящему последних известий, они
выходили опять и опять, и приходилось давать Коляше насладиться
десятиминутной тишиной и сидеть тихо, иначе он очень обижался.
А однажды, кажется, уже в перестройку, к ним в редакцию при-
несли пистолет. Что-то вроде рекламной акции, разыгрывался настоя-
щий газовый пистолет, а достаться он должен был тому, кто лучше
всех попадет по мишени. Очевидно, стреляли из чего-то другого, я не
могла представить, как стрелять газовым пистолетом по мишени, но
подробности той истории как-то подрастерялись со временем. В об-
щем, когда молодые журналисты, а за ними и ребята средних лет по-
слали, что называется, в молоко, пришел черед старой гвардии, и мой
- 115-
дедушка обошел даже редактора. Самый меткий стрелок. Перед по-
трясенными зрителями пистолет перешел к нему в полное вечное
пользование. Он потом долго болтался у меня в сумке, конечно, его
сразу же отдали драгоценной внучке-студентке.
А в далеком моем детстве, как раз перед первым школьным
днем мой дедушка как-то подсел ко мне и сказал, что если меня будет
кто-то обижать, нужно сделать так: и научил, как правильно сложить
кулак и бить промеж глаз. «С силой в нос, чтобы кровь побежала», –
сказал мне мой пиратский дедушка, никогда в жизни даже не ругав-
шийся дома. И добавил, что потом нужно звать своих на помощь. И
они разнесут к чертям всех, кого не разнесла я. Это осознание всегда
меня грело. Я не обращалась за помощью, всегда как-то справлялась
сама. Даже в самые отчаянные и горькие минуты я берегла своих род-
ных и ничего им не рассказывала. Но при этом я твердо знала, что,
если будет нужно, – мой настоящий пират-дедушка разнесет тут всех к
чертям. И потому я все время думала, что настоящий трудный момент
еще не начался, и звать подмогу пока еще незачем.
А позже, когда я уже закончила университет и приезжала к ним
из другого города, он обнимал меня крепко и все шептал тихо мое
имя. А потом рассказывал про своего папку, лесника: как-то однажды
он сам, будучи студентом, приехал к своему папке, поздно уже, а пре-
дупредить не мог, тогда же и телефонов не было, и, постучав в дверь,
на осторожное: «Кто это» сказал: «Это Колька». И услышал в ответ:
«Какое счастье!»
И еще подумал тогда: при чем здесь счастье-то? «А вот теперь я
понимаю своего папку», – сказал мне мой дедушка и сжал крепче в
теплых объятиях.
Я запомнила нашу последнюю встречу. Мы, кажется, оба уже по-
нимали, что она скорее всего последняя. Я умотала уже не только в
другой город, но и в другую страну и приезжала раз в пару лет, а де-
душка мой был очень старенький. Боясь опоздать на самолет, я обня-
ла его впопыхах, а он прижал меня крепко и прошептал на ушко: «Я
буду молиться за тебя».
Мне кажется, он до сих пор за меня молится...
И в этот звенящий от горечи день мне так отчаянно захотелось
защитить детишек от серого волка, чтобы их занудные китайские ба-
бушки и дедушки жили долго-долго и счастливо и чтобы у них в жизни
было всегда это осознание: мы не боимся волка и прогоним его к чер-
тям. Пусть они живут так!
- 116-
В. Пегушина (Лопаткина),
выпускница 1985 г.,
политтехнолог, креативный директор
консалтингового центра «Площадь круга»
ТРИ ЖЕНЩИНЫ
(ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ ДИНАСТИЯ БОЧКАРЕВЫХ – ЕРОФЕЕВЫХ)
Начну с рационализаторского предложения: пора кое-что доба-
вить в словарную статью «династия». У этого слова два значения – ос -
новное и переносное. Ну, с основным все понятно: в «ряд монархов
одного рода» ничего добавлять не будем, нас это не касается.
А вот в переносном значении «ряд поколений, передающий из
рода в род профессиональное мастерство, традиции», явно не хватает
самого главного слова – Призвание. Предвижу возражения маститых
филологов: «призвание» – оценочная категория, субъективная. Согла-
шусь. Не стану спорить и с тем, что многие профессиональные дина-
стии продолжаются не по Призванию, а потому, что предыдущими
поколениями уже создана хорошая база, которую надо развивать, с
которой молодым проще и удобнее начинать. И уж, конечно, не стану
возражать, что мастерство нельзя завещать или подарить своим де-
тям. Но этому можно научить. С Призванием все не так, его нужно
вдохнуть. Как душу. Высокопарно? Ну да, есть немного. Беру в союз-
ники безусловный авторитет – С . И. Ожегова: Призвание – склонность
к профессии; дело жизни, назначение. Вот как этому научить? Мини-
стерство образования разработало методические рекомендации на
этот счет? И вообще, есть ли какие-нибудь диссертации на тему «Как
передается Призвание»? Пока педагоги, психологи, философы и дру-
гие ученые мужи не дали нам ответа на этот вопрос, давайте разби-
раться сами.
Предлагаю тему исследования: «Призвание как комплекс мен-
тальных особенностей, передаваемых по женской линии в семье Боч-
каревых-Ерофеевых». Беру на себя смелость выдвинуть такую гипоте-
зу: педагогическое и филологическое Призвание в этой семье – есть
результат ежедневного многолетнего взаимопроникающего влияния в
профессиональном, коммуникативном, творческом и ментальном по-
ле. Может, члены условного ученого совета признают эту гипотезу
лженаучной. И приведут железобетонный аргумент: эту гипотезу нель-
зя подтвердить, опираясь на объективные показатели. Нельзя, они
правы. Но мы говорим о самом важном звене в передаче Призвания –
- 117-
о неосязаемом, неуловимом влиянии родных душ. Оно не заметно со
стороны и даже не всегда осознается самими участниками этого взаи-
модействия. Но оно есть, и оно работает! Иначе откуда такой (!) ре-
зультат?
В самом деле, откуда? Нам, амбициозным исследователям, ко-
нечно, не отследить все тонкости и нюансы передачи Призвания в се-
мье Бочкаревых-Ерофеевых. Но у многих из нас есть личный опыт об-
щения с представителями этой династии, наши разговоры и впечатле-
ния. И есть образ этих женщин, у каждого свой, состоящий из малень-
ких черточек и/или большого сотрудничества.
Вы пока вспоминайте, а я расскажу о своем. Заранее прошу про-
щения за то, что не буду (почти) перечислять звания и награды, упо-
минать о количестве защитившихся аспирантов, сотнях публикаций и
десятках научных конференций. Безусловно, все это важно, и еще как!
Но про это уже написано много и неоднократно. Спросите об этом у
Википедии, Yandex или Google, и история профессионального успеха
этой семьи вас поразит! А я – о тех очень личных впечатлениях, кото-
рые, надеюсь, что-то добавят в наше общее исследование. Начнем.
Глава I. Зоя
Зоя Ивановна Бочкарева. Учитель литературы, директор школы,
мама Т. И . Ерофеевой. Заслуженный учитель РСФСР, Отличник народ-
ного просвещения. Награждена медалями «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне», «За трудовое отличие», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И . Ленина»,
значком ЦК ВЛКСМ «За активную работу с пионерами». Персональный
пенсионер.
Основатель династии.
1983 год, апрель. Три студентки – Галя Константинова, Маша Ду-
наева и Лера Лопаткина с корявыми набросками курсовых работ топ-
чутся на пороге квартиры своего научного руководителя Тамары Ива-
новны Ерофеевой. Страшновато. Во-первых, мы не уверены в качестве
своих исследований студенческого жаргона и ждем разноса. Во-
вторых, у декана в доме! Тамара Ивановна встречает словами: «Да-
вайте поработаем в хорошем темпе. А потом – чай. Я для вас пирож-
ков напекла по фирменному маминому рецепту». Про пирожки мы и
сами догадались – запах обалденный еще на лестнице. Но для нас?!
Пироги были невероятные! Причем, мы это признали со знанием
дела, ибо все трое были девочками домашними, закормленными ба-
- 118-
бушкиными плюшками-ватрушками. И потом так было всегда, в наши
нечастые визиты – чай, стряпня «мамина, фирменная», разговоры. Во
время учебы и после, спустя много лет. У этих пирожков по рецепту
Зои Ивановны – такая удивительная предыстория! Но об этом позже.
Мы не сразу узнали, что Зоя Ивановна – тоже филолог, учитель
русского и литературы. А уж про то, что она была директором школы,
вообще не подозревали.
Когда мне доверили поделиться своими воспоминаниями для
этого сборника, я попросила Тамару Ивановну рассказать некоторые
подробности о Зое Ивановне. В ответ услышала неожиданное: «Мама
сама о себе расскажет». Так я получила рукопись, датированную 1973
годом. Прочитала несколько раз подряд. Это было открытие! Оказа-
лось, что женщина, о которой мы знали как о маме нашего декана и
авторе вкуснющих пирожков, прожила такую необыкновенную жизнь!
В написанных ею строчках – все настоящее, с комсомольской убеж-
денностью, с благодарностью родной партии и советской власти. И
поверьте, это совсем не идеологические штампы, а рассказ о пути к
Призванию, о том, как трудно начиналась эта династия.
Жаль, что наш формат не позволяет опубликовать воспоминания
полностью. С огромным уважением позволю себе что-то процитиро-
вать, что-то пересказать и, уж простите, прилагаю к этому свои ком-
ментарии.
Рассказ начинается с детства, которого у дочери батрака, красно-
го партизана, по сути и не было.
«В детстве я и не мечтала стать учителем. После окончания
сельской четырехклассной школы мне пришлось идти к чужим лю-
дям в няньки. Еще пасла гусей, телят, доила коров, затем работала
у соседей-кулаков поденщицей в поле. До 17 лет я не умела писать
чернилами, не знала, что такое парикмахерская...Очень любила я с
детства читать книги. Читая, забывала и свою бедность, и свою
усталость, жила с героями книг их жизнью.
Библиотеки в деревне не было, да и книги в редком доме води-
лись. За чтение я готова была отработать сколько угодно; лишь бы
достать книгу. Одна соседка, все богатство которой составляли
трое детей и сундук с книгами, часто оставляла меня посидеть с
ребятами, подомовничать. Дети тихо сопели на печке, а я ночами
читала Гоголя “Вечера на хуторе” и “Миргород”. Попадались под
руку и такие книги, которые я не понимала, но мне лишь бы чи-
тать».
- 119-
«Лишь бы читать» – это старт практически всех филологических
карьер. Но эта девочка плакала над картинками в детских книгах, ко-
гда видела теремки сказочных зверушек, живущих в чистоте и уюте,
которого Зоя никогда не знала, работая в людях. Так вот: в семье этой
девочки спустя много-много лет вырастут два доктора филологических
наук – дочь и внучка.
«Любовь к чтению, любопытство к жизни, а главное – молодая
советская власть, открывшая нам, батракам, широкую дорогу к
знаниям, сделала меня в деревне нужным человеком. В 1928 г. я
вступила в комсомол, затем меня избрали секретарем комсомоль-
ской организации, вместе с отцом организовывала колхоз. Мой отец
работал председателем сельсовета, имея всего 2 класса образова-
ния. И я ясно сознавала, что не хватает мне моей грамоты для
жизни. Страна не только восстанавливала разрушенное войнами
хозяйство, страна строила новую жизнь, и ей нужны были специа-
листы, грамотные люди, нужны были немедленно, быстро. И в 1930-
м я решила ехать учиться в пермский рабфак на педагогическое от-
деление. Помню, писала сочинение на тему “Случай из моей жизни” и
не могла ничего хорошего придумать. Так я описала, как трудно мне
было в колхозе организовывать детские ясли, как трудно вовлечь
туда детей, как подчас приходилось “воевать” с матерями, отдав-
шими детей мне, 17-летней девчонке. С какой радостью я прочита-
ла на доске объявлений в списке “приняты на 1 курс” свою фами-
лию!»
Зоя жила в общежитии, училась трудно. Стипендия – 45 рублей,
из нее 18.50 вычитали за талоны на питание, 2.50 за койку в общаге,
5 рублей – государственный займ (куда же без него!). Зоя Ивановна
подробно описывает быт рабфаковцев, который у студентов нашего и
последующих поколений вызывает оторопь: лампы керосиновые,
комнаты холодные, в столовой по талонам – суп из силосной (что это?)
капусты, перловка без масла, естественно. Вы думаете, она жалуется?
Ничего подобного. Это рассказ человека, гордящегося каждым днем
своей жизни, благодарного судьбе и людям. А вот и обещанная не-
ожиданная история о любви к постряпушкам. Просто иногда рабфа-
ковцам на ужин давали по талонам крошечные пирожки из белой му-
ки! И тогда девчонки тратили на это волшебство все свои 7 талонов
сразу. А потом неделю не ужинали. Так что у этого пиетета перед пи-
рогами – такие основательные корни, радость и голод пополам.
И она с подружками умудрялась еще покупать в рассрочку або-
немент в оперный театр!
-120-
«Меня, деревенскую девчонку, участницу всех постановок в де-
ревенском Народном доме, оперный театр не только поразил, а как-
то подхватил мое воображение и понес как на крыльях, в те замки,
дворцы, парки, где проходило действие спектакля. Я плохо понимала
оперу. Музыка мне мешала улавливать содержание, но я “страдала”
от любви к Онегину вместе с Татьяной Лариной и “умирала” от но-
жа злодея вместе с Джильдой. После таких спектаклей я приходила
в общежитие, буквально падала на кровать и долго лежала, закрыв
глаза, переживая снова все увиденное».
А дальше, дорогие читатели-пермяки, будьте внимательны. Даже
те, кто давно не ездил на трамвае по Сибирской и не гулял под липами
у оперного. Это студентка рабфака Зоя со своими друзьями впервые
прокладывала здесь трамвайные пути. И это они впервые разбивали
театральный сквер. Тех, кто учился в прошлом веке, субботниками не
удивить. И на картошку все мы ездили исправно. Но трудовые будни
рабфаковцев 30-х нам и не снились! На кирпичном заводе работали, в
порту баржи разгружали, древесину для заграницы заготавливали. И
это еще не все: после субботников учебу никто не отменял. С утра ра-
бота, в пять вечера – за парту.
Вы думаете, это тоже рассказ о трудностях? Поверьте, нет. Это
воспоминания о радостной жизни рабфаковской братии, о замеча-
тельных преподавателях, которым хотелось подражать. О самодея-
тельных спектаклях, концертах (студвесна 30-х!) и танцах под духовой
оркестр.
После рабфака – учительский институт и осуществленное Призва-
ние. В 1936 году Зоя Ивановна пришла преподавать русский язык и
литературу в только что открытую школу No31. Эту школу, кстати,
окончила Тамара, дочь Зои Ивановны. А стояла эта школа на улице
Генкеля! И девочка каждый день по дороге в школу видела светящие-
ся окна университета. Того самого, нашего университета, Заслужен-
ным профессором которого она станет в следующем веке.
Война. Совсем мало об этом написано в том небольшом отрывке
воспоминаний. И тут каждое слово на вес золота.
«Я слышала, как ребята рассказывают о письмах с фронта. Бы-
вало так, что ученик не приходил на занятия, а другие ребята гово-
рили: “Им похоронка пришла”. Сердце болело за каждого. Но мы учи-
ли детей, что Победа обязательно придет, что их отцы ее добудут
для нашей страны. И ребята нам верили, старались учиться полу-
чше, чтобы стать нужными Родине людьми, защитниками».
-121-
Еще здесь есть короткое упоминание о том, как осенью работали
с учениками на сборе урожая, как летом в трудовых лагерях заготав-
ливали лекарственные травы для госпиталей. И о том, что дочь Зои
Ивановны, маленькая Тамара, в 1943 году получила первую в жизни
награду – грамоту за сбор ромашки аптечной. Может быть, в семейных
архивах есть и более подробные записи о военных годах. Мы с вами
видим лишь несколько бесценных строк. И они тоже о Призвании.
Особенной датой в жизни Зои Ивановны было 16 февраля – день
рождения школы, которой она руководила больше 20 лет. В этот день,
16 февраля 1950 года, начали готовить площадку под строительство
школы No 86 и ровно через год, 16 февраля, здесь начались уроки.
«Прошло всего 5 лет после окончания Великой Отечественной
войны. Наша страна восстанавливала разрушенные фашистами
города, села, заводы. Нужны были большие средства, силы, чтобы
как можно быстрее залечить раны войны. Но советская власть на-
шла возможность выделить на строительство школы 1 миллион
200 тысяч рублей даже в это тяжелое для нашей Родины время. До
этого в пригородном поселке Парковая дача не было школы, а на
том месте, где сейчас стоит наше здание, был густой лес. Дирек-
тором этой будущей школы и назначили меня».
Даже в наше время быть директором строящейся школы означает
быть прорабом, снабженцем, даже дизайнером. Ну а в те времена
вообще строили всем миром: учителя во главе с директором, будущие
ученики и их родители. Добровольно, радостно и бесплатно.
«Работали на строительстве все – скорее хотелось занимать-
ся в своем здании. Даже первоклассники ходили на субботники, уби-
рали сор, щепки. Рабочих не хватало, и нам приходилось работать
подносчиками кирпича, заниматься доставкой и разгрузкой разного
строительного материала. Весь мусор от строительства школы
ребята сами, своими детскими руками убрали и вынесли на свалку.
Ровно через год школа была готова. Мы предусмотрели все, на-
чиная с классного мела, наглядных пособий, заканчивая организацией
буфета, где ребят ждал горячий чай и вкусно пахнущая мягкая белая
школьная булочка. За два дня до открытия мы вместе расставили
парты, мебель, вешалки, повесили классные доски, картины, шторы
в актовом зале и в буфете, еще раз промыли классные комнаты.
Наконец, уже поздно вечером ребята расходились по домам с по-
следнего субботника. И долго еще звучали их радостные голоса в
морозном вечернем воздухе. Утром 16 февраля 1951 года дети при-
городного поселка Парковая дача заняли это школьное здание».
-122-
Вот представьте себе такую ситуацию сейчас. Не получается? На-
верное, поэтому слова «радостный труд» звучат для нас архаизмом.
Я хорошо помню это здание. В 80-е мы, студентки-филологини,
дежурили в народной дружине на Парковом, «охраняли» микрорайон
именно 86-й школы. Это небольшое двухэтажное здание так не похо-
дило на огромные школы-новостройки, в которых учились мы. Но то-
гда, зимой 83-го, маленькая школа была для нас теплым спасением.
Здесь в вестибюле местный участковый инструктировал нас, как «пре-
дупреждать рывок сумки» (мы смеялись), велел «в драку не лезть»
(мы и не собирались) и, если замерзнем, – идти сюда греться. Мы так
и делали каждые полчаса.
Удивительное дело, я только сейчас поняла, что между нашими
«отогревами» в 86-й школе и первыми пирожками по рецепту Зои
Ивановны – каких-то 3 месяца. Но тогда нам и в голову не могло прий-
ти, что эта школа, похожая на кадр из послевоенного фильма, по-
строена мамой нашего декана. Теперь я это знаю. И мне снова тепло,
как 37 лет назад.
И еще об одной важной детали мы не догадывались. Когда в 1951
году заработала 86-я школа, директору Зое Ивановне Бочкаревой вы-
делили прямо в здании школы маленькое помещение с отдельным
входом. Там она и жила со всей семьей почти до самой пенсии. Зна-
чит, из этой небольшой служебной квартирки будущий декан, профес-
сор, а тогда еще студентка Тамара Бочкарева бегала на лекции в ПГУ
через железнодорожные пути на ту самую улицу Генкеля. И так было
до 1960 года, пока она не стала Тамарой Ерофеевой.
Глава II. Тамара
Тамара Ивановна Ерофеева.
Доктор наук, профессор. Создатель Пермской школы социолин-
гвистики. Заслуженный профессор Пермского университета. Предсе-
датель диссертационного совета.
Легенда
Тот случай Тамара Ивановна скорее всего не помнит. У нее таких
были десятки, а то и сотни. А у меня он был первый и единственный.
Решающий.
Летняя сессия, второй курс. Я сижу на лавочке у 5-го корпуса. Вы-
гляжу, видимо, удручающе. Поэтому Тамара Ивановна останавливает-
ся рядом.
- 123-
– Устала? – спрашивает.
– Устала. Еще три экзамена впереди, а в голове уже такая каша,
все перепуталось.
– Н у, это не страшно. Мозги надо уметь структурировать.
Она приводит меня в свой кабинет и в течение часа произносит,
как мне тогда казалось, магические заклинания, которые непостижи-
мым образом трансформируются в моей черепной коробке в четкие
схемы. Теперь-то я понимаю, что она «на пальцах» объяснила мне ос-
новные приемы интеллектуальной деятельности, подбросила методы
запоминания и воспроизведения, научила работать с карточками (вот,
оказывается, зачем они у нее на лекциях и семинарах!) и много чего
еще. Детально это пересказать невозможно. Но точно знаю, что тогда
я вышла от нее с абсолютно новой головой!
Когда спустя десять лет я училась на психфаке, мне стало понятно,
что тогда со мной сделала Тамара Ивановна: она действительно струк-
турировала мои мозги! Так что цветом своих дипломов я во многом
обязана Тамаре Ивановне. И тому часовому разговору, и всем пяти
годам рядом с ней.
О Тамаре Ивановне очень много написано как о блестящем уче-
ном, педагоге от Бога, интереснейшем человеке. Подписываюсь под
каждым словом, но повторяться не буду. Я просто хочу рассказать о
нескольких эпизодах, отпечатавшихся в памяти не меньше лекций и
семинаров.
Плюс сто
1983 год. Готовимся к студенческой весне. Студклуб придумал
правила: за участие преподавателей – плюс 10 баллов за каждого. А за
участие декана – вообще плюс 100! Талантливых, поющих преподов на
факультете – каждый второй. Легко находим энтузиастов, подбираем
репертуар. Но так хочется заработать «деканскую» сотню! Идем к Та-
маре Ивановне. «Плюс сто? – улыбается она. – Я готова. Только, уж
извините, времени на репетиции у меня нет. Вы придумайте что-
нибудь, а я все сделаю».
Концерт. В новом актовом зале даже в проходах сидят зрители, в
дверях торчат, на балконе – угрожающая масса. На сцене ансамбль
преподавателей филфака исполняет песню «Ах Таня, Таня, Танечка».
Конкуренты завидуют: не все факультеты уговорили своих педагогов
на такую авантюру. И вот последний куплет. На слова «глядят, а их
боярышня сама несет обед» на сцену выпорхнула Тамара Ивановна.
На каблучках, в белом передничке, в руках поднос. Улыбается, при-
- 124-
танцовывает и раскланивается. Что тут было! Филологическая часть
зала ревет, все прочие шепчутся «это декан, это их декан». Овации и
«бис». Мы тогда обошли ближайших конкурентов ровно на 100 бал-
лов. И, кстати, ни один другой декан не рискнул. Вот такой «штрих к
портрету».
Во многих публикациях о Тамаре Ивановне упоминается, что она
преподавала русский язык в заграничных вузах. Но именно только
упоминается. Конечно, многие ученики и коллеги знакомы с подроб-
ностями этой части ее судьбы. Можно, я расскажу вам об этом по-
своему? То, что помню из рассказов Тамары Ивановны, случавшихся и
в учебной обстановке, и за чашкой чая.
Чешская ваза
1982 год. Стройка блока поточных аудиторий. Таскаем кирпичи,
выгребаем мусор – субботник. В обеденный перерыв, когда мы раз-
ложили на бетонных плитах бутерброды и прочую снедь, появилась
Тамара Ивановна. Узнать, как нам тут – не холодно ли, не голодно.
Увидела наши припасы и рассмеялась. «Сразу видно, – говорит, – хо -
зяйственных советских студенток. Не то что чехи».
Мы затребовали разъяснений, Тамара Ивановна села с нами на
кирпичи и рассказала... Тут я позволю себе объединить в один текст то,
что было сказано тогда, на кирпичах, и много позже, в другой ситуа-
ции. А вы уж сами догадывайтесь о временах.
В 1973 году отправили ее преподавать русский язык в Чехослова-
кию, в университет города Усти-на -Лабе. Встретили советского лин-
гвиста прохладно. Ректор был сух и официален, удачи не пожелал. Тут
все понятно: еще и пяти лет не прошло с пражской весны, так что от-
ношение ко всему советскому было э...неоднозначное. Бывало, попа-
дались плакаты «Русские, убирайтесь домой!» Многие местные пре-
подаватели были враждебны и студентов настраивали.
Наивные, они еще не знали, кто к ним приехал! Тамара Ивановна
спокойно и методично начала наводить мосты народной дипломатии.
Причем, в мелочах, которые и решают судьбу отношений. Например, в
университете все – от ректора до первокурсника – питались в одной
столовой. И там придирчиво наблюдали за «новой русской» (тогда у
этих слов был другой смысл): что ест, как ест, нравится или нет и т. д.
Можете не сомневаться: нашей разборчивой Тамаре Ивановне там
нравилось все. Каждый день и каждую минуту она была улыбчива,
приветлива, внимательна и, казалось, не замечала никаких подводных
- 125-
камней. И люди вокруг нее постепенно начали теплеть. (Вот тут как раз
начинается рассказ «на кирпичах»). Первыми оттаяли студенты и при-
гласили Тамару Ивановну в двухдневный поход. А теперь представьте,
как собирается на такое мероприятие русская женщина: рюкзак еды,
чтобы на всех хватило. А у чешских ребят – по одному бутерброду в
кармане. Оказалось, что место «отдыха на дикой природе» со всех
сторон окружено кафешками, и студенты небольшими группами туда
бегали. Вот тогда Тамара Ивановна и показала, что такое русский пик-
ник, накормила всех! И еще рассказала оторопевшим студентам, как
это бывает у нас, – общее, домашнее, на костре. Чехи впечатлились и с
тех пор приглашали свою русскую преподавательницу на все меро-
приятия.
Потом и коллеги понемногу стали дружелюбнее. Обращались за
консультациями, приглашали как носителя языка в Пражский универ-
ситет для участия в исследовании и в Брно на конференцию «Славян-
ский диалектический атлас».
Уезжала Тамара Ивановна уже принятым человеком и признан-
ным специалистом. Причем, с отъездом связана еще одна забавная
история. Однажды кто-то из коллег-чехов зло пошутил: «Вы, русские,
всегда приезжаете с одним чемоданом, а уезжаете с тремя». Это ца-
рапнуло, и Тамара Ивановна дала себе слово уехать с одним чемода-
ном. Почти получилось! А почти, потому что ректор вызвал, благода-
рил, прощался очень тепло. Потом сказал: «Если бы все русские были
такие, как вы, может, мы и не протестовали бы». И вручил здоровен-
ную вазу из чешского стекла. Вот эта ваза в чемодан и не влезла, ее
пришлось нести в руках. Каждый, кто бывал у Тамары Ивановны в гос-
тях, эту вазу видел.
Тамарита
Однажды на семинаре Тамара Ивановна предложила нам ис-
пользовать тексты-примитивы. По нашим лицам поняла, что мы не в
теме. И тогда прозвучал этот короткий рассказ, который мы называли
«Второй день на Кубе». А заодно и навсегда усвоили, что такое таинст-
венные тексты-примитивы. Меня это в заграничных поездках всегда
выручает.
В 1978 году кандидат наук Ерофеева перелетела Атлантический
океан и приземлилась на Острове Свободы. Не отдыхать – работать,
преподавать русский язык. Поселилась в гостинице рядом с Капитоли-
ем – штаб-квартирой Академии наук. На второй день пребывания все
русские преподаватели Гаванского филиала Института русского языка
- 126-
им. А. С. Пушкина решили посмотреть на пляж Варадеро, о котором
только в песнях и слышали. Про пляж Тамара Ивановна не очень рас-
пространялась, сказала только, что «он невероятный, но к теме нашего
разговора отношения не имеет». На обратном пути в Гавану случилось
вот что: все коллеги, жившие в других гостиницах, вышли раньше, а
наш будущий декан осталась одна в обычном рейсовом автобусе сре-
ди местной публики. В активе – полотенце, 10 песо и три испанских
слова. Через несколько километров автобус застрял у перекрытого
тоннеля, развернулся и поехал обратно. Вот тут и сработал текст-
примитив. «Я русская, Гавана, Капитолий» – весь словарный запас на
испанском. Русскую высадили на пустой дороге, махнув в сторону
нужной остановки. Следующий автобус прождала 2 часа и пошла пеш-
ком. Сначала пекло, потом сразу темнота. Шла от деревни к деревне,
везде повторяя свой текст-примитив «Я русская, Гавана, Капитолий».
Наконец, встретился парень, который догадался поймать набитую
людьми машину, объяснил что-то шоферу и запихнул туда Тамару
Ивановну. Русская в Гавану к Капитолию добралась за 5 песо, вдрызг
сгоревшая и окончательно уверенная в могуществе примитивных ре-
чевых конструкций.
Еще одна история – «Про старого кубинца» – не учебно-методи-
ческая, а просто человеческая. Тамара Ивановна была членом жюри
конкурса «Изучение русского языка по радио». Специалисты института
Пушкина ездили по Кубе, встречались с участниками, отбирали луч-
ших. Победителя ждала бесплатная поездка в СССР: Москва, Ленин-
град, Киев. В одной отдаленной провинции на конкурс пришел пожи-
лой крестьянин, поджарый, высокий, седой. Язык он знал слабовато
(на уровне текст-примитив!), но сумел сказать главное: ему уже очень
много лет, самая большая мечта его жизни – побывать в Советском
Союзе. Не просто увидеть все своими глазами, а почувствовать! И что
ему, старому крестьянину, никогда самому не заработать на эту мечту.
Ради этого он и участвует в конкурсе.
Соперники у него – все сплошь молодые, образованные, некото-
рые даже успели поучиться в СССР. Шансы у деда были слабые. Но
Тамара Ивановна боролась именно за него, больше часа убеждала
своих русских и кубинских коллег. И убедила! Когда старик вернулся
из путешествия, он разыскал ее, чтобы сказать «спасибо, Тамара» на
русском языке.
А вообще-то на Кубе Тамару Ивановну называли Тамаритой. И по-
том, спустя годы, все письма оттуда начинались со слов «Здравствуй,
Тамарита». И приветы с оказией тоже передавали именно Тамарите.
- 127-
Впечатлил нас и рассказ о кубинских именах. А началось с того,
что на семинаре у Тамары Ивановны кто-то из нас сказал: «Такое ко-
личество малопонятных слов запомнить невозможно». (Скажу по сек-
рету, речь шла о том, что такое деривация). Тамара Ивановна ответи-
ла: «Очень даже возможно. Надо просто захотеть». И рассказала эту
историю. Перед первым знакомством с группой кубинских студентов
Тамара Ивановна взяла список и была ошарашена: пятнадцать слож-
носоставных антропонимов! У каждого ученика по два имени и зако-
выристая фамилия. Что-то вроде Анна-Мария Консуэлла Гонсалес. А
коллеги-соотечественники предупреждали: кубинцы нервно относятся
к тому, что их имена русские запоминают с трудом. «И я сказала себе:
ты должна, у тебя получится», – рассказывала нам Тамара Ивановна.
Она переписала список русскими буквами, натренировалась его бегло
читать. При встрече со студентами попросила представиться каждого
сначала полностью, а потом так, как к нему лучше всего обращаться в
сокращенном варианте. В своем списке подчеркнула ту короткую часть
имени, которую называли студенты. И больше ни разу не ошиблась.
«Я запомнила их каким-то невероятным усилием памяти и воли. Про-
сто для меня это было очень важно. А вы деривации испугались».
Еще мы узнали, что невероятно вкусное кубинское мороженое
быстрее таяло, чем съедалось. И что в Гаванской библиотеке не было
каталога русской литературы, и Тамара Ивановна вместе с украинским
коллегой его составили. Помогала она готовиться к защите диссерта-
ций местным лингвистам. Была соавтором двух учебников русского
языка для кубинцев. И все это помимо основной – преподавательской
работы.
Чтобы уточнить какие-то детали по Кубе, я поговорила недавно с
Тамарой Ивановной. По телефону, к сожалению, такова наша ковид-
ная реальность. Главное, что меня интересовало, – сохранилась ли
связь с кубинскими коллегами, и Тамара Ивановна зачитала мне не-
давнее письмо. Я успела записать всего несколько строк: «Вы остались
для нас ближайшей к сердцу Тамаритой, жизнерадостной и талантли-
вой женщиной. Мы создали ассоциацию преподавателей русского
языка, собираемся и со слезами слушаем русские песни, смотрим
фильмы. Всегда помним Вас и счастливые годы нашей совместной
работы».
И от нас, отечественных учеников Тамары Ивановны – Viva, Tama-
rita!
- 128-
По ленинским местам
Финская командировка Тамары Ивановны – это немного и наша
история. Три дипломницы «жаргонистки» (так нас дразнили на курсе)
просто превратились в соляные столбы, когда узнали, что наш научный
руководитель на год уезжает в Финляндию. А что будет с нами?! Все
пропало, гипс снимают, декан уезжает!
«Спокойно, – сказала Тамара Ивановна, – все будет как надо. Во-
первых, вы все умницы. Материала у вас – на пару дипломов хватит.
Во-вторых, я еще никуда не уехала, мы успеем тщательно все проду-
мать и подготовить. В-третьих, почту никто не отменял. И в-четвертых,
я обязательно придумаю, как нам увидеться зимой».
Все именно так и получилось. Когда Тамара Ивановна уехала, мы
остались с подробнейшими планами будущих дипломов, многостра-
ничными списками литературы, договоренностями о помощи (если
понадобится) с ведущими лингвистами факультета.
Почта и помощь нам не понадобились. А вот встреча зимой – это
отдельная тема.
После зимней сессии зашла речь о преддипломной практике. Нас
вызвали в деканат и ошарашили: вы поедете в Ленинград, там вас бу-
дет ждать Тамара Ивановна.
Боже, как нам завидовал весь курс! Теперь слово «жаргонистки»
звучало не насмешливо, а уважительно. Мы, три счастливые и гордые
дипломницы самой (!) Ерофеевой – всё те же Галя Константинова,
Маша Дунаева и Лера Лопаткина, – дописывали дипломы и паковали
чемоданы. Едем! Снова в Ленинград, снова к Тамаре Ивановне.
Почему снова? В первый раз она привезла нас туда на Ларинские
чтения. И сам Ленинград тогда для каждой из нас был впервые. Мы
сидели с раскрытыми ртами в огромной аудитории здания двенадцати
коллегий. Перед нами живьем выступали профессора и академики,
фамилии которых звучали как филологическая симфония. Честно го-
воря, мы, конечно, уже не помним, какие доклады тогда нас так гип-
нотизировали. Но постоянно вспоминаем простое, человеческое. Как,
например, Тамара Ивановна пригласила нас в кафе «Фрегат» на 11-й
линии Васильевского острова, где подавали блюда петровской кухни.
С того памятного обеда прошло столько лет, а мы до сих пор помним,
в каких огромных глиняных кружках был медовый сбитень, как дыми-
лись горшочки с говядиной по-петровски. Как весело и запросто гово-
рили с нами за столом друзья и коллеги Тамары Ивановны – именитые
лингвисты. И как счастливы мы были.
- 129-
Но вернемся от «ларинской» поездки к «финской». Итак, мы снова
в Ленинграде. Про обсуждение наших дипломных набросков много пи-
сать не буду. Тамара Ивановна весь день провела с нами на кафедре
общего языкознания ЛГУ, что-то подправила, что-то похвалила, сказала:
«Я в вас и не сомневалась» и пригласила назавтра к себе в гостиницу.
Вот где было самое интересное и вкусное! Опять соединю все
финские рассказы в один, так как кое-что, по понятным причинам, мы
услышали много позже.
Город Савонлинна встретил проливными дождями. Первое, что
должны были сделать все советские специалисты, приехавшие в Фин-
ляндию, – это явиться в консульство и встать на учет, в том числе пар-
тийный. Промокшую насквозь и одетую по пермской моде Тамару
Ивановну привратник посольства критически оглядел и предложил
ждать своей очереди под дождем, на улице. Через час запустили, бы-
стро отметили и – пожалуйте на выход. Суровый урок дипломатиче-
ской вежливости наш декан усвоила. И в следующий раз решила не
пренебрегать пословицей «встречают по одежке». Пришла в обновках,
в шикарной шляпе и с элегантной сумочкой. Привратник (тот же са-
мый) расшаркался, лично проводил до кабинета. А на выходе предло-
жил посетить специальный магазин при консульстве. Молодец какой!
Вот этими вкусняшками из консульского магазина и угощала нас
Тамара Ивановна в своем гостиничном номере в Ленинграде. Мы то-
гда первый раз увидели и, конечно, попробовали йогурт – персиковый
и клубничный! Лично я с тех пор люблю только их. Потом у нас были
хрустящие ржаные хлебцы с финским сервелатом, чай с какими-то
сказочными печеньками и конфетками и апофеоз – напиток богов,
ликер «Вишневая косточка». Тем, кто улыбнулся этим гастрономиче-
ским мемуарам, напомню: февраль 1985 года. И потом, я сразу преду-
предила, что буду рассказывать о личном. Но самое главное и сверх-
ценное – все это привезено специально для нас! А какими «вкусными»
были финские истории...
Итак, продолжим рассказ о Савонлинне. Первый курс, будущие
переводчики, тема «Внешность». Тамара Ивановна ставит задачу: ка-
ждый должен описать своего преподавателя, используя прилагатель-
ные и стараясь не повторять предыдущих ораторов. Горячие финские
парни и девушки не очень справляются, но повторы приятные: «ми-
лая», «красивая», «стройная», «симпатичная». Одна студентка не мо-
жет сказать ни слова, Тамара Ивановна пытается ей помочь наводя-
щими вопросами и жестами. Дальше позволю себе процитировать
прямую речь.
- 130-
Тамара Ивановна (размахивая руками и показывая на себя):
«Ну вспомни, подумай, что о моей внешности ты можешь назвать?»
А на пальчиках летающих рук, между прочим, колечки поблескивают.
Студентка долго и сосредоточенно пыхтит, морщит лобик и, глядя на
руки Тамары Ивановны, выдает: «Много кольцы!» Аплодисменты!
Занавес!
Финские ребята оказались не только старательными, но и друже-
любными. На всех мероприятиях студенческого русского клуба Тамара
Ивановна была почетным гостем. И не только гостем. Однажды в по-
становке «Сказки о царе Салтане» ей доверили роль сватьи бабы Ба-
барихи!
Без трудностей тоже не обошлось. Подготовка переводчиков тре-
бовала двойного контроля, с финской стороны этот контроль осущест-
вляла местная преподавательница. И в первое время она была на-
строена воинственно: «Вы неправильно переводите, так по-русски не
говорят», – заявляла она русскому лингвисту. И демонстративно шла
консультироваться с другими русскоязычными коллегами. А однажды
вообще заявила: «Ничего не может ваш великий русский язык». Ой,
зря она это сказала. Тамара Ивановна стукнула кулаком по столу:
«Сядьте на место! Я – кандидат наук, я носитель русского языка и по-
томственный филогог. И только я буду решать, как правильно по-
русски!» Сразу наступил мир и взаимопонимание. Даже финны спра-
шивали, как русской удалось усмирить их коллегу, известную своей
неуживчивостью.
Путешествовать по Финляндии, в отличие от Кубы и Чехии, было
затруднительно. Ясное дело, капстрана. Существовало негласное рас-
поряжение о том, что русские специалисты не имеют права ездить в
другие города самостоятельно. За этим следили (по поручению компе-
тентных органов) свои же специально обученные коллеги. И вот Тама-
ру Ивановну приглашает поехать в соседний город Тампере финский
лингвист, завкафедрой университета Савонлинны. Город посмотреть, с
коллегами встретиться. Решительная Ерофеева сразу соглашается. На
вопрос русских преподавателей «а если узнает NN?» (тут называют
имя «смотрящего») Тамара Ивановна отвечает: «Скажите ему, что я
поехала по Ленинским местам». Великолепный инсайт! Вот и пригоди-
лись лекции по истории партии. Справка: Музей Ленина в Тампере на-
ходится в здании, где Ленин обещал Суоми независимость в случае по-
беды большевиков. Вообще в Финляндии полно памятников Ленину.
Жаль, что Тамара Ивановна не сфотографировалась на их фоне. Был бы
и артефакт в личном архиве, и фотоотчет для грозного начальства.
- 131-
Когда срок договора с финнами подходил к концу, была возмож-
ность остаться, продолжать работу. Но Тамара Ивановна отказалась:
были и личные причины, и свой факультет нельзя подводить. Чтобы
советский специалист отказался продлевать заграничную команди-
ровку, – небывалая ситуация! Поэтому в Министерстве решили: раз не
хочет остаться, значит плохо справлялась. Запросили у финнов оценку
работы Т.И
.Ерофеевой и получили такую хвалебную оду, что сами
растерялись. Как так: финны хвалят, зовут, уговаривают, а она не хо-
чет? Умом Тамару не понять... продолжение вы знаете.
Чем закончилась история с нашими дипломами? «Все было как
надо» (Т. И . Ерофеева). Присутствовавший на защите председатель ГЭК
Л. В. Сахарный оценил это так: «Что тут скажешь, ерофеевских сразу
видно».
А у меня с этим связано совсем уж личное. За несколько дней до
защиты Тамара Ивановна внимательно меня оглядела и спросила: «Ты
в четверг защищаешься, 13-го июня? Боюсь, не доходишь. Давай-ка
перенесем тебя на вторник, в первую группу».
Во вторник я защитилась, а в четверг, 13 июня, родила сына. Вот
как она это почувствовала?
Глава III. Елена
Елена Валентиновна Ерофеева.
Доктор наук, профессор.
Зав. кафедрой теоретического и прикладного языкознания.
Звезда
«Моя Ленка» – так называла ее Тамара Ивановна. В первый раз я
увидела Лену в мае 1982 года. На перемене в аудиторию впорхнуло
неземное создание: тоненькая барышня, похожая на выпускницу хо-
реографического училища в летящих одеждах. Она была такая хоро-
шенькая, так улыбалась! Мы, естественно, навострили уши в сторону
Тамары Ивановны и этой девочки. Точно помню, что именно тогда мы
услышали слова, прозвучавшие для нас оксюмороном, – «математиче-
ская лингвистика». Разговор был короткий, видение улетело, одарив
нас на прощание аристократическим кивком и улыбкой.
«Это моя Ленка», – сказала Тамара Ивановна совершенно незна-
комым нам голосом. И это тоже было открытие: она могла быть не
только строгой, остроумной, деловой, внимательной, требовательной,
но и вот такой – светящейся и теплой.
- 132-
В сентябре, вернувшись из стройотрядов, мы узнали, что Лена по-
ступила в ЛГУ. После этого я уже не помню слов «моя Ленка». Теперь
она стала «моей Леной». То ли потому, что выросла, то ли потому, что
гордость за успешную студентку престижнейшего вуза, продолжатель-
ницу династии диктовала иные формы.
Кстати, в моем рассказе о ленинградской встрече с Тамарой Ива-
новной я сознательно опустила одно обстоятельство. Тогда, в гостини-
це, где нас угощали финскими деликатесами, Лена была с нами.
Странности моей эйдетической памяти позволяют в мельчайших под-
робностях описать эту встречу. Мы уже сидели за столом, когда при-
бежала Лена. И я ее, веселую, морозную, «сфотографировала». На ней
был синий пуховик, узенькие джинсы и короткие замшевые сапожки.
Но самой невероятной была шапка! Разноцветное вязаное чудо, у ко-
торого с двух сторон до плеч болтались по три задорные плетеные
косички! Для нас, приехавших из провинции в шубах из ценного меха
Чебурашки, все это было стилевым шоком... В недавнем разговоре
«носительница» этого великолепия все детали подтвердила и даже
вспомнила, из чего была связана так поразившая меня шапка и в ка-
ком питерском магазине куплена за смешные деньги.
Но не думайте, что моя память так по-обывательски избиратель-
на: шапка, сапожки, печенюшки, бутерброды. Я помню и более важ-
ные моменты той встречи. Пока мы выскребали йогурт и шуршали
фантиками, Тамара Ивановна и Лена тихо разговаривали. Не о семей-
но-бытовом. Прислушиваться было неловко, но было понятно, что они
обсуждают чей-то научный труд, и Лена, похоже, не разделяла взгля-
ды мамы на некоторые вопросы. Это был разговор двух лингвистов!
Причем, разговор на-равных.
То, что Тамара Ивановна гордилась дочерью, было очевидно
всегда. В наши редкие встречи после окончания ПГУ мы узнавали о
том, что «моя Лена» окончила вуз, начала преподавать в пединститу-
те, затем в нашем университете. А в 1993 году мы впервые услышали
«моя Елена Валентиновна». Это был маркер нового статуса – канди-
датского.
В 2006 году мы узнали, что Елена Валентиновна – доктор наук. Не
удивились, потому что всегда были уверены, что так и будет. Удиви-
тельно другое: с таким набором интеллектуальных и личностных пре-
имуществ Елена Ерофеева могла сделать блестящую карьеру в любой
сфере – в математике, естественных науках, журналистике, бизнесе,
политике – да где угодно. Но она выбрала этот путь. Тут хочется проци-
тировать одного телевизионщика: «Совпадение? Не думаю!»
- 133-
Делясь своими впечатлениями о нескольких встречах с Еленой
Ерофеевой, я прекрасно понимаю разницу между «знаю о Елене Ва-
лентиновне» и «знаю Елену Валентиновну». Поэтому предлагаю ва-
шему вниманию фрагменты моих разговоров с восхищенными и бла-
годарными друзьями и учениками Елены Ерофеевой.
Представляю наших собеседников:
Доценко Тамара Ивановна – кандидат филологических наук, до-
цент кафедры общего языкознания, русского и коми-пермяцкого язы-
ков Пермского педагогического университета.
Павлова Дарья Сергеевна – кандидат филологических наук (науч-
ный руководитель – Елена Ерофеева), действующий заместитель де-
кана филологического факультета Пермского государственного уни-
верситета (не люблю эту новую аббревиатуру ПГНИУ), доцент кафедры
теоретического и прикладного языкознания.
Пахомов Леонид Валерьевич – кандидат филологических наук
(научный руководитель – Елена Ерофеева), старший преподаватель
кафедры теоретического и прикладного языкознания, магистрант Ека-
теринбургской консерватории, солист Пермской краевой филармонии.
Заранее просим читателей-астрономов (если таковые будут) не
судить строго за нецелевое использование их профессиональной тер-
минологии, ибо эта часть нашего общего рассказа обязана своей фор-
мой одному из юношеских увлечений Елены Ерофеевой – астрономии.
Увлечению серьезному, которое одно время даже рассматривалось
как будущая профессия. Думаю, не зря была эта тяга к звездам. Вы-
брав лингвистику, Елена Валентиновна стала настоящей Звездой – в
науке, в педагогике, в умении генерировать и дарить. Значит – это ко-
му-нибудь нужно?
Звезда
«Звезда – самосветящееся небесное тело, в котором происхо-
дят, происходили или будут происходить термоядерные реакции».
(Википедия).
Для нас, обремененных филологическим образованием, звезды
мерцают, пламенеют и каждый вечер над крышами загораются. У ас-
трономов все монументально-объективно. Но их строгое и неэмоцио-
нальное определение как раз подходит для понимания феномена
Елены Ерофеевой. Самосветящегося человека, в котором происходи-
ли, происходят и будут происходить «термоядерные реакции», в не-
вероятных количествах продуцирующие идеи, и чей звёздный статус
признан всеми.
- 134-
Тамара Доценко:
То, что Елена Валентиновна – одна из ярких звезд лингвистиче-
ской галактики, – это не преувеличение. Это так и есть. В основе ее
удивительного таланта – лингвистическая среда семьи, математиче-
ская школа и блестящее образование. Отсюда и особое ощущение
языка: его материи и тонкой игры смыслов.
Лена получила академическое образование в старейшем класси-
ческом университете – ЛГУ (ныне Санкт-Петербургский государствен-
ный университет). Она училась на отделении структурной и приклад-
ной лингвистики филологического факультета. Ее учителями были ко-
рифеи русской лингвистикой мысли: Лев Рафаилович Зиндер, Лия Ва-
сильевна Бондарко, Александр Сергеевич Герд, Людмила Алексеевна
Вербицкая, Вадим Борисович Касевич. Мысленно возвращаясь в свои
студенческие годы, она всегда с огромной теплотой и любовью гово-
рит о них. Свои первые научные исследования Лена выполняла на ка-
федре экспериментальной фонетики, открытой в свое время Львом
Владимировичем Щербой. Ее научным руководителем была всеми
обожаемая Алла Соломоновна Штерн. Именно здесь и формирова-
лись узкоспециальные навыки слухового анализа звучащей речи, от-
рабатывались методики математического моделирования. Тогда у нас
сложилась замечательная, увлеченная команда, и Лена была в ней
звездочкой. Наши руководители, А. С. Штерн и Л. В. Сахарный, основа-
тели Петербургской психолингвистической школы, не делили учеников
на своих и чужих, мы вместе собирались в их доме, спорили, смеялись,
дружили. И это тоже была формирующая среда. Теперь, когда я вижу,
как Лена относится к своим ученикам, я узнаю и наших учителей, и ее
потрясающую маму – Тамару Ивановну.
После окончания вуза мы вместе работали в Пермском пединсти-
туте. Всем сразу стало очевидно, что лучшего фонетиста в Перми не
было никогда. У нее редкий талант к тончайшей дифференциации зву-
чания, тембровой окраске не только речевого, но и музыкального зву-
ка. И все это с блеском и внешней легкостью, за которой – такие мозги
и такие способности!
Когда в Питере обсуждали план докторской Елены Валентиновны,
кто-то из членов кафедры сказал: «Идет по маминой дорожке». Вооб-
ще в самом начале карьеры ей часто тонко намекали на «проторен-
ный путь». Этот штамп «профессорской дочери» проявлялся даже в
смешных мелочах. Помню, у нас на кафедре дамы, обсуждая очеред-
ное платье Лены, комментировали: «Конечно, с такой мамой можно
позволить себе шикарно одеваться». Она в ответ улыбалась, и только
- 135-
близкие друзья знали, что эта «кутюрная» обновка на самом деле –
талантливый handmade, дело рук самой Елены.
Зато на защите докторской работу Лены уже сопоставляли с ми-
ровыми образцами, в частности, с исследованиями Уильяма Лабова
(William Labov) – основателя американской вариационной социолин-
гвистики.
Сегодня Елена Валентиновна – один из самых востребованных
лингвистов России. Ее талант признан и неоспорим. Ее ждут на всех
конференциях как докладчика, как интереснейшего и активнейшего
участника. И это тоже маркер высокого научного статуса.
И ни у кого уже давно нет сомнений: мать и дочь Ерофеевы –
звезды равной величины.
Дарья Павлова:
В первый раз идти на лекцию Елены Валентиновны было страш-
но. Ее репутация давила на наши юные умы, а в коридорах 5-го корпу-
са о ней ходили слухи как об очень требовательном, строгом и беспо-
щадном преподавателе. Коленки тряслись перед первой встречей...
Все изменилось в один миг. Она так нас увлекла, я бы даже сказала –
втянула в поток своей лекции, что стало абсолютно очевидно: нет ни-
чего увлекательнее лингвистики, и нет никого интереснее этой остро-
умной и угрожающе интеллектуальной молодой женщины. Сразу за-
хотелось стать «ерофеевской» – так на факультете называли студентов
Тамары Ивановны, а затем и Елены Валентиновны.
Впервые это почетное звание я заслужила на своей первой сту-
денческой конференции в СПбГУ. Я участвовала в обсуждении выступ-
лений, задавала вопросы. А когда пришло время моего доклада, руко-
водитель секции Т. В . Черниговская улыбнулась и сказала: «Так и ду-
мала, что вы – “ерофеевская девочка”». Я понимала, что эти слова
«ерофеевская девочка» означают признание научного и педагогиче-
ского таланта моего учителя, ее неповторимого стиля, ее статуса.
А статус у Елены Валентиновны высочайший. И я имею в виду не
только участие в научной жизни лингвистического сообщества, все эти
конференции от Калининграда до Владивостока, все публикации и
прочие атрибуты признания. Я лично могла убедиться, как после ее
выступлений на самых представительных форумах к ней в перерывах
выстраивается очередь из коллег с вопросами. Елену Валентиновну
мечтают заполучить в качестве приглашенного преподавателя вузы
страны.
- 136-
У Елены Валентиновны есть редчайшая особенность: в ней со-
единились математический склад ума и лингвистическая интуиция.
Иногда, слушая своего учителя, я думаю, что лингвистика – не вполне
гуманитарная наука, так много в нее привнесено математических ме-
тодов, так эффективно используется программирование.
Абсолютно заслуженный звездный статус! Невероятная эрудиция
и высокие требования к себе и к другим. Это стимулирует. Рядом с ней
невозможно быть «плохим», надо ей соответствовать.
Леонид Пахомов:
Елена Валентиновна – человек-оркестр. В ее арсенале такое ко-
личество инструментов! От интеллектуального штурма до тончайшей
остроты.
Учиться у Елены Валентиновны означало постоянно быть в тону-
се. А уж работать под ее руководством – это часто сопряжено с собы-
тиями, к которым ты не готов! У меня, например, практически каждое
выступление на конференции случалось от того, что Елена Валенти-
новна ставила меня перед фактом. Так было с первым выступлением
на английском языке, так получилось и с Международным конгрессом
по когнитивной лингвистике. Она сказала просто: «Я написала заявку
на конференцию. Мы едем. Ты выступаешь». Вспомнился забавный
случай на конгрессе в Нижнем Новгороде. В день выступления Елена
Валентиновна дала мне понять, что мой внешний вид слишком помпе-
зен для научной конференции (все-таки оперный певец во мне иногда
берет верх). Но после, на торжественном банкете, мы умудрились
одеться одинаково – в черно-серой гамме. Не знаю, как это произош-
ло, но получилось забавно.
Кроме забавного, из всех своих поездок с Еленой Валентиновной
я вынес и весьма серьезное: она знает всех лингвистов, и ее знают все.
Вопросы на конференциях, которые она задает выступавшим, всегда
неожиданны и обязательно переходят в отдельные дискуссии в про-
фессиональном сообществе. Это качество настоящего ученого: будить
мысль. Думаю, этот интерес к новому у Елены Валентиновны от ее ле-
гендарной мамы Тамары Ивановны: понять, изучить, разобраться и
обязательно высказаться.
А как она работает! И сколько! Жизнь кафедры бьет ключом, всё
под контролем, все в нужном тонусе. Статьи, научное руководство,
конференции, увлечение музыкой и живописью... бесконечна ее па-
литра! Не скрою, иногда возникает вопрос: откуда у нее на все есть
время? Непонятно, загадка. Может, это одна из характеристик звезды:
она вам светит и никому невдомек, какой труд за этим стоит?
- 137-
Звездное магнитное поле
«Звездное магнитное поле – магнитное поле, создаваемое
движением плазмы внутри звезды». (Википедия)
В нашем контексте магнитное поле звезды – это та сила, которая
притягивает к ней окружающих. И не только. Это еще и сила притяже-
ния значимых для Елены Ерофеевой людей, событий, пространств,
которые всерьез и навсегда повлияли на нее.
Тамара Доценко:
Важнейшее в жизни Лены – три составляющих: ее семья, ее учи-
теля, ее ученики. Это то поле, которое защищает она и которое защи-
щает ее. Поэтому она благодарный ученик и талантливый учитель. Она
очень тонко чувствует свою причастность к научной школе, эта ответ-
ственность видна и в том, как расширяются идеи и связи кафедры – от
Германии до Дальнего Востока.
Попадаю ли я под ее притяжение? На все сто! Мы с Леной в од-
ном магнитном поле. Любим классическую музыку, не пропускаем
значимых концертов, спектаклей. И здесь тоже проявляется особое
свойство ее ума – сочетать математику и фонетику. Я ни разу не встре-
чала человека, которого бы в симфонической музыке так заворажива-
ли диалоги инструментов. Особенное отношение у нее к струнной му-
зыке. Она Фонетист во всем: ловит тембр инструмента, смакует нюан-
сы малейших вибраций. И при этим любит рок, с пиететом относится к
Гребенщикову, объясняя это тем, что текст для нее важнее музыки.
Что является магнитом для нее? Многое. Например, архитектура.
Она – дитя города. В ее фотографиях много урбанистики, геометриче-
ские формы ее восхищают. Еще живопись, искусство. Особая любовь –
Эрмитаж и наша Пермская художественная галерея, с ее постоянно
обновляющимися выставками. Когда человек живет в таком мощном
поле, он по умолчанию становится притягателен для всех, кто попада-
ет на его орбиту.
Лена – мой самый сильный магнит. Сколько километров по Пер-
ми и другим городам пройдено в неспешных прогулках с разговорами
обо всем, что нас соединяет: детях, музыке, литературе, театре... Вот
недавно это случилось в Соликамском ботаническом саду – первом в
России. Лена умеет находить уникальное во всем и везде!
Ну, и чисто человеческое притяжение – тончайшее чувство юмо-
ра, ирония. И самоирония – редкое качество среди звезд. Мощнейший
магнит – безупречная порядочность, высокие критерии добра и зла.
Эти волны невидимые, но именно они и создают вокруг Лены такое
сильное поле.
- 138-
Дарья Павлова:
О том, как тянутся люди к Елене Валентиновне, можно говорить
бесконечно. Я хочу рассказать об одном эпизоде нашей совместной
работы – это маленький, но яркий пример ее притяжения.
В Сочи есть центр для одаренных детей – «Сириус». Название ин-
формативное: самая яркая звезда небосвода, и собираются там звез-
ды – и педагоги, и дети. А дети какие! Талантливые, мыслящие, про-
шедшие серьезный отбор для участия в этом проекте. Мы их так меж-
ду собой и называли: «отборные» – в прямом и переносном смысле.
Елена Валентиновна впервые поехала в «Сириус» в 2018 году. То-
гда еще темы проектов задавали сами организаторы. Но после того,
как и они попали в мощное поле ученого и человека Ерофеевой – нам
предложили самим формировать повестку, направление, задачи. И в
октябре 2020 мы едем в Сочи вместе. Вот тут я и увидела, как Елена
Валентиновна работает со школьниками! Мгновенно находит общий
язык, увлекает, зажигает! Они к ней тянутся – все без исключения. Я
помню, была у нас не очень контактная девочка. Елене Валентиновне
хватило одного дня, чтобы раскрыть ее, заслужить доверие. Вот что я
называю силой притяжения.
А как душевно мы гуляли вдвоем по горам на курорте «Роза Ху-
тор»! Елена Валентиновна открылась мне с новой стороны: она гово-
рила о своей семье, о родителях, о бабушках. О том, как много они
значат для нее, как повлияли на ее жизнь.
И к своей кафедре она относится очень лично, по-семейному. Не
только выращивает кадры, но и скрупулезно их подбирает. Бывает,
даже «хантит» (от англ. headhunter – охотник за профессионалами).
Елена Валентиновна тонко чувствует каждого человека. Навер-
ное, поэтому вокруг нее люди «отборные» – умные, интересные, по-
рядочные. Видимо, в отличие от физических законов, в человеческих
отношениях притягиваются одинаковые заряды.
Леонид Пахомов:
Магнит неодолимой силы – это про Елену Валентиновну. Перед
выпуском она почти в приказном (но шутливом) тоне сказала: «За два
года магистратуры набралось достаточно материала для базы диссер-
тации. Будем работать, не обсуждается».
Метафорическое пространство в певческой деятельности – это
было новое направление для обоих. Я видел, что Елене Валентиновне
невероятно интересно как фонетисту понять и сформулировать отно-
шение певческой метафоры к артикуляционной сфере. Сидели по 4-5
- 139-
часов, писали, обсуждали, переделывали, придумывали и рушили
классификации, создали новый для лингвистики термин «метафориче-
ское пространство».
Сколько раз она обещала сломать мне ноги, чтобы я сидел за
диссертацией, а не бегал на выступления! (Как будто отсутствие ног
помешает мне петь!) Метод кнута и пряника интересно интерпретиру-
ем моим учителем. Справедливости ради, надо отметить, что и похва-
ла была весьма частотна!
Я чувствовал и чувствую, что целиком и полностью нахожусь в зо-
не этого притяжения. Продолжаем работу: общие статьи, расширение
и углубление темы вокальной метафоры уже на другом материале.
Работать в магнитном поле Елены Валентиновны – это удовольст-
вие из разряда уникальных. У нее такое специфическое чувство юмо-
ра: мотивирует, поддерживает через шутку, в которой тепло и любовь
– вс егда.
Звездный ветер
«Звездный ветер – истечение звездного вещества в космос.
Наиболее мощный звездный ветер наблюдается у крупных звезд».
(Википедия)
Молодцы астрономы! Нам это определение очень подходит.
Мощный звездный ветер крупной звезды в нашем исследовании – это
способность и желание делиться интеллектуальным, научным и чело-
веческим потенциалом. Только у астрономов звездный ветер приво-
дит к тому, что небесный объект теряет свою мощь, а у нас – нет! Па-
радокс...
Тамара Доценко:
Елена как по-настоящему талантливый человек, фантастически
щедра к ученикам. Она фонтанирует идеями и раздает их студентам,
аспирантам, коллегам. Ее знания открыты, и поэтому они не иссякают.
Тоже парадокс?
И еще Лена, как и наши с ней учителя, не разделяет учеников на
своих и чужих – к ней может обратиться любой, и она поделится чем
может, не сомневайтесь. Я это точно знаю, ведь работы моих аспиран-
тов проходили через ее внимательное чтение и возвращались с точ-
ными замечаниями, советами, подсказками.
Лена – мой друг. Это человек, который будет рядом всегда. Что
может быть ценнее этого?
Однажды я серьезно повредила ногу, ходила с большим трудом.
И моя Лена ежедневно (!) заходила за мной, чтобы проводить на ра-
- 140-
боту. Когда мы учились в питерской докторантуре, я попала в очень
затруднительную ситуацию, осталась без копейки денег. Лена не толь-
ко морально поддерживала – она меня просто кормила все это время,
пока я не справилась с этой проблемой. А когда серьезно заболел наш
учитель и старший друг Леонид Владимирович Сахарный, мы с Леной
каждый день пробивались через сестринские посты в реанимации,
чтобы навестить и морально поддержать его после серьезнейшей
операции.
Учителя, ученики, друзья, коллеги – это все объекты ее теплового
излучения. И, конечно, семья. Она так трогательно заботится о своих
родителях, о родителях мужа. А ее собственная родительская страте-
гия – свобода и поддержка.
Вот и выходит, что главное назначение звезды – излучать тепло.
Полное совпадение с астрономией!
Дарья Павлова:
Действительно, Елена Валентиновна щедра на знания, но это не
единственный ее способ делиться своей энергией. Она вдохновляет!
Вы начинаете мыслить на одной волне, думать одними категориями. С
таким руководителем невозможно не написать диссертацию.
Весной 2017, на 3-м году аспирантуры, Елена Валентиновна твер-
до мне сказала: «Тебя нужно забирать из школы, а то ты никогда не
закончишь диссертацию. У нас есть вакансия замдекана по учебной
работе. Декан на месте, иди разговаривай». Я тогда мыслей о трудо-
устройстве в университет не вынашивала, но разве можно устоять пе-
ред таким напором? Пришла, поговорили. Через пару недель звонок:
«Вы нам подходите. Ждем».
И начался мой диссертационный интенсив! После предзащиты я
ездила домой к научному руководителю дописывать работу. Каждую
пятницу, субботу и воскресенье! Вот Леониду обещали ноги поломать,
если будет отлынивать от диссертации, а мне запрещали есть, пока я
не допишу очередной параграф. Жестко? Нет, весело! Это было удиви-
тельно теплое сотрудничество: с одной стороны – строгий руководи-
тель, с другой – домашний человек. Вот так, в противостоянии мозга и
желудка, рождалась моя диссертация и складывались наши личные
отношения. С тех пор я про себя (и вслух!) называю Елену Валентинов-
ну научной мамой.
Задумываюсь над второй защитой. Очевидно, что с постоянной
мотивацией Елены Валентиновны по поводу остепененности кафедры,
даже если не захочешь, сделаешь. Вообще мне кажется, быть ее уче-
ником – круто и почетно.
- 141-
Леонид Пахомов:
Самое важное знание, которым Елена Валентиновна поделилась
– если хочешь быть ученым, нельзя верить в догмы, принимать слепо
самые авторитетные мнения, надо все проверять самим. Пытливость,
стремление дойти до сути – это типично ерофеевская фишка. И Тамара
Ивановна такая же!
Елена Валентиновна в диалоге со студентами. Не навязывает, ста-
вит проблемы, задает вопросы, позволяет выразить свое мнение. И
заряжает. Увлеченностью, эмоциональностью, юмором.
И ведь она щедра не только в научном смысле. У нее невероятные
познания в сфере искусства. Например, удивительно, но для меня, про-
фессионального музыканта, именно она открыла жанр «электросвинг».
Я для себя вывел формулу, которая в полной мере отражает наши
отношения: в бакалавриате и магистратуре – чуткий и увлекающий пре-
подаватель, в аспирантуре – наставник, сейчас – мудрый друг и коллега.
Сегодня мы вместе работаем, готовим совместные публикации,
ездим на конференции. В этих поездках меня удивляет, насколько она
легка на подъем, просто парит. И всегда осыпает идеями: куда схо-
дить, что посмотреть, чему удивиться.
Ну и особая статья: Елена Валентиновна с пониманием отнеслась
к моему стремлению к музыке. Я продолжаю певческое образование и
лингвистические исследования. Мне, благодаря моему учителю, инте-
ресно все.
У нас с Еленой Валентиновной есть традиция – пить кофе и разго-
варивать о самом разном. Этот разговор с наставником и большим
другом меняет меня к лучшему, это уже дружба.
Теплый звездный ветер? Да, это про нее.
И заключение
Предложив в самом начале тему исследования «Призвание как
комплекс ментальных особенностей, передаваемых по женской линии
в семье Бочкаревых-Ерофеевых», беру на себя ответственность за под-
ведение итогов.
С вопросом «Как в Вашей семье передается Призвание?» я, как
старательный исследователь, обратилась к Тамаре Ивановне и Елене
Валентиновне. Ответ меня озадачил. Обе ответили: «Никак». Но то, что
они потом добавили, расставило все по местам. Судите сами.
Ерофеева Тамара Ивановна: «Я просто видела, как мама работа-
ет, какую радость приносит ей эта профессия. А с каким воодушевле-
нием она рассказывала об успехах своих учеников! Я их знала почти
- 142-
всех, знала, как они любят мою маму, как благодарны ей. Этим я гор-
дилась. Помню, как я по ночам готовилась к экзаменам во время сес-
сии. Мама в мои бессонные ночи никогда не ложилась спать. Она тихо
сидела за соседним столом, проверяя школьные тетради. И я понима-
ла: она могла сделать это в другое время, но таким образом просто
поддерживала меня, показывала, как уважает мой труд. Мама просто
была рядом».
Ерофеева Елена Валентиновна: «Мне повезло – на меня не да-
вили, не пытались влиять, не запрещали разбрасываться. Хочешь быть
астрономом? Дерзай! Привлекает журналистика? Молодец! Мамина
фанатичная преданность науке была для меня абсолютом. Бабушка
тоже внесла свою лепту. Когда я в детстве бывала у нее по праздни-
кам, то видела, сколько учеников приходят на ее пироги и ватрушки с
поздравлениями и благодарностью. Помню, я никак не могла понять:
такие взрослые дяди и тети – и ученики. Как такое возможно?
Конечно, я читала не останавливаясь, но еще в 9-м классе мате-
матической школы не думала о филфаке. Все изменили 20 минут в
электричке... Мы с мамой приехали в Питер на каникулах перед 10-м
классом, и Алла Соломоновна Штерн решила показать нам парк Ора-
ниенбаума. Она подсела к нам в вагон на полпути, и оставшихся до
конечной остановки 20-ти минут хватило, чтобы влюбиться в нее на
всю жизнь и чтобы захотеть стать матлингвистом, как она.
Вот так все и сошлось. А слово “призвание” в нашей семье вооб-
ще не звучит. И специально никто ничего не передавал. Само собой
получилось».
Подозреваю, что и Тамара Ивановна, и Елена Валентиновна, бу-
дучи признанными учеными, точно знают: само собой это получиться
не могло.
И мы с вами это тоже знаем. Иначе чем еще объяснить, что и уче-
ников Тамары Ивановны, и учеников Елены Валентиновны оценивают
так: «сразу видно, ерофеевские»?
В качестве формального подтверждения – скрин Википедии:
Тамáра Ивáновна Ерофе
́
ева (род. 29 июня 1937 года, Пермь) –
советский и российский лингвист, доктор филологических наук, декан
филологического факультета Пермского государственного университе-
та (1982–1998), заведующая кафедрой общего и славянского языко-
знания (1996–2012), лидер научного направления «Социолингвистиче-
ское изучение городской речи», руководитель школы социопсихолин-
гвистики при кафедре общего и славянского языкознания ПГНИУ, за-
служенный работник высшей школы Российской Федерации.
- 143-
Еле
́
на Валенти
́
новна Ерофе
́
ева (род. 7 мая 1965, Пермь) – рос-
сийский лингвист, специалист по фонетике, социолингвистике, когни-
тивной лингвистике, современному русскому языку, математическому
моделированию, заведующая кафедрой теоретического и прикладно-
го языкознания ПГНИУ (с 2012), доктор филологических наук, профес-
сор. В Пермском университете возглавляет научное направление «Со-
циолингвистическое изучение городской речи».
Зайдите на Википедию. Хотя бы для того, чтобы узнать о звуча-
щих хрестоматиях и посмотреть, сколько совместных работ у матери и
дочери Ерофеевых. Какие еще нужны подтверждения тому, что это
династия? Успешная, яркая, плодотворная. Углубитесь в бесконечный
перечень научных работ, званий, степеней и наград. Вы чувствуете то
же, что и я? Уважение, восхищение и гордость!
Признаюсь, я не всерьез выдвигала гипотезу: «педагогическое и
филологическое Призвание в семье Бочкаревых-Ерофеевых – есть ре-
зультат ежедневного многолетнего взаимопроникающего влияния в
профессиональном, коммуникативном, творческом и ментальном по-
ле». Мне просто казалось, что такая форма оживит мой рассказ, сде-
лает его интереснее. Но... само собой получилось
Поэтому, используя принцип кольцевой композиции, повторю:
Мы говорим о самом важном звене в передаче Призвания – о неося-
заемом, неуловимом влиянии родных душ. Оно незаметно со стороны
и даже не всегда осознается самими участниками этого взаимодейст-
вия. Но оно есть, и оно работает! Иначе откуда такой результат?
- 144-
Г. Лебедева,
выпускница 1958 г.
ШУМОВЫ
По старой журналистской привычке заглянула в энциклопедиче-
ский словарь, чтоб уточнить изначальный смысл слова, которое по
замыслу должно определить суть нового тома, посвященного истории
родного факультета и его питомцам.
Как и предполагала, первое толкование слова «ДИНАСТИЯ» (про-
изводное от греческого – «dynasteia», то есть «господство») было свя-
зано с Царствующими Домами. Это ряд монархов из одного и того же
рода, сменяющих друг друга по праву родства и наследования.
С монархами после семнадцатого года прошлого столетия дело у
нас в державе не заладилось. А вот намек на род, на семью, где поко-
ления, сменяя друг друга, наследуют профессию, какое-то семейное
дело тех, за кем следуют, прямо попадает в тему очередного тома
этой уникальной серии.
И впрямь: в переносном смысле, – как подсказывает другой, новей-
ший словарь, – династия выстраивается из ряда поколений, наследующих
как саму профессию родителей, предков, так и семейные традиции.
По роду моей журналистской профессии в былые времена мне
приходилось писать радиоочерки, а позднее снимать фильмы о неко-
торых рабочих династиях. Не сосчитать ныне актерские династии. Есть
они и в кланах ученых. Так почему им не быть в такой важнейшей
культурологической науке, как филология?..
Говорить о династии Шумовых – задача для меня весьма непро-
стая, поскольку степень дружеской близости с Лилией Анатольевной и
Эдуардом Владимировичем у меня разная... Так распорядилась жизнь.
С Эдиком Шумовым я не только проучилась пять лет в одной группе в
университете, но впоследствии проработала на пермском областном
радио в одной редакции почти семь лет.
Хотя у моей встречи с Лилей Павловой (такова ее девичья фами-
лия) на 1-м курсе историко-филологического факультета была своя
школьная прелюдия. Мы в одно время учились в параллельных стар-
ших классах 7-й средней пермской школы. На мой взгляд – лучшей в ту
пору. И даже в большей степени претендующей на звание гимназии,
чем нынешние средние учебные заведения, поскольку наша 7-я школа
подобно дореволюционным гимназиям была сугубо женской. К тому
же наше поколение выпускников застало в ней некоторых учителей,
- 145-
вступивших на свою преподавательскую стезю в старейших пермских
гимназиях, ведущих свою историю от 19 века.
Предполагаю даже, что внутренний посыл к филологии у меня и у
Лили Павловой (будущей Шумовой) возник благодаря урокам очень
яркого и эрудированного преподавателя русского языка и литературы
– Нины Павловны Кучумовой.
Вероятно, и Эдику в кунгурской средней школе, которую он окон-
чил, тоже повезло с преподавателем русского языка и литературы. Не
исключено, что и пример мамы сыграл немалую роль. Муза Констан-
тиновна была учителем.
Мне же всегда казалось, что Шумов родился гуманитарием, при-
чем, с самыми широкими профессиональными возможностями.
Среди парней на 1-м курсе он сразу обращал на себя внимание:
был высок ростом, очень худ. Расческа явно не справлялась с его вих-
рами. Ходил в лыжных шароварах неопределенного цвета и старой
куртке. Но главное – своей необыкновенной доброжелательностью и
контактностью. Не ошибусь, если скажу, что к Шумову весь наш курс
испытывал какую-то особую симпатию. И так было все пять лет, пока
мы год за годом с разной степенью прилежания и упорства «грызли
гранит» филологических наук.
Пожалуй, где-то к концу второго курса в университетских буднях
(лекции, семинары, зачеты, экзаменационные сессии) начали выяв-
ляться пристрастия к преподаваемым наукам: кто-то (я в том числе)
все больше прикипал к литературе, какая-то часть моих сокурсников
начала проявлять особый интерес к языкознанию. В летние каникулы
под водительством Франциски Леонтьевны Скитовой традиционно
отправлялись в диалектологические экспедиции изучать разнообраз-
ные говоры Пермского края. Насколько мне помнится, Лиля и Эдик
тяготели именно к лингвистике. Впрочем, это разделение на «литера-
торов» и «лингвистов» было достаточно условным. Кто из нас тогда
отчетливо понимал, на какое практическое поприще укажет стрелка
жизненного компаса.
Довольно скоро все на курсе ощутили, скажем так, лирическую
привязанность Лили Павловой и Эдика Шумова друг к другу.
На лекциях они всегда сидели рядом. Вообще мы часто видели их
вместе. И постепенно стали считать их вполне устойчивой парой. По-
этому никто из нас не удивился, когда после окончания университета
они стали мужем и женой.
А университетские годы, я думаю, сыграли в жизни каждого из
нас огромную роль. Они научили преодолевать трудности. Мы при-
- 146-
надлежали к послевоенному поколению студентов 50-х годов. Война,
пусть пережитая в тылу, еще жила в нашей памяти. О ней напоминали
и молодые парни, бывшие фронтовики, со старших курсов, приходив-
шие на лекции в военном обмундировании со споротыми погонами.
Другой одежды у них, по-видимому, тогда не было. Да и большинство
из нас было одето бедновато. Я весь 1-й курс проходила в школьном
платье. Только без фартука, обязательного для ученической формы.
И жизнь в 50-е годы была отнюдь не сытая. Мы сидели на заняти-
ях голодные, мечтая на перемене у кого-нибудь перехватить рублик,
чтоб пообедать в университетской столовке, которая в наше время
располагалась в геологическом корпусе. Сегодняшним студентам та-
кое и представить себе трудно, но однажды у Шумова в трамвае, когда
он ехал во время летней сессии на экзамен, случился голодный обмо-
рок. Его на скорой увезли в клинику на Плеханова. И принимать у Шу-
мова экзамен по фольклору Маргарита Александровна Ганина пришла
в больничную палату – к его удивлению. И отнеслась к нему весьма
сочувственно. Дав студенту Шумову экзаменационной билет, она
только и спросила:
– Вы знаете ответ?
Он утвердительно кивнул:
– Да, знаю.
И М. А. Ганина поставила студенту Шумову пятерку.
Насколько я помню, Маргарита Александровна была довольно
строгим экзаменатором, очень требовательным и не особо-то склон-
ным к сентиментальности. А если подозревала в ком-либо недоста-
точный интерес к науке, которую она преподавала, то можно было не
сомневаться – «провинившегося» в таком грехе на экзамене ожидал
настоящий «допрос с пристрастием» по всем темам фольклористики.
А студент Шумов в категорию неуважающих «народное творчест-
во», очевидно, не входил. И кроме того, успел заслужить доверие
уМаргариты Александровны. И я догадываюсь: не только доверие,
но и пробудил к себе определенную симпатию. А такое немногим уда-
валось.
Но, возможно (и это нельзя исключить), уже тогда М. А . Ганина по
внутреннему наитию предчувствовала: с фамилией «Шумов» в буду-
щем она не разминется. Фамилия еще напомнит о себе... И она бы не
ошиблась, если так подумала. Сын Лили и Эдуарда – Константин –
продолжит династию филологов. Более того, в науке станет сподвиж-
ником Маргариты Александровны.
Однако я, кажется, несколько забежала вперед...
- 147-
Вуз – это не школа. Не выучив в школе какой-то урок, ты без осо-
бого труда нагонишь пройденный материал. Объем получаемой ин-
формации учащимся школы – вполне по силам. В вузе ситуация со-
вершенно иная. Учебная нагрузка невероятная, требующая непрерыв-
ных усилий, самодисциплины в освоении всех разделов филологии.
Пропустил семинар или лекцию и на следующий день ты уже не вру-
баешься в тему. И никто тебя подтягивать не будет. Значит, осваивать
учебный материал следующего дня тебе придется в двойном размере.
Фактически университет начал уже с 1-го курса жестко отучать нас
от школьного легкомыслия. И в этом смысле стал отличной школой
ответственности и самостояния.
И еще за одно хочется ныне благодарно поклониться родному
факультету и университету – за навык подходить к делу творчески в
избранной профессии. Ведь наши преподаватели основных дисциплин
филологии были людьми невероятно увлеченными науками, к кото-
рым нас приобщали. И этот ген увлеченности стремились заронить в
нас. Кроме того, факультет сделал нас людьми читающими. И что осо-
бенно важно: развил эти качества, необходимые в любой профессии,
явился в определенном смысле школой жизни.
И мне верится, что усилия наших факультетских наставников не
были потрачены напрасно. За всех своих сокурсников в этом смысле
поручиться никак не берусь, но что касаемо Шумовых – думаю, не
ошибаюсь. Не дух ли филологии, витавший в этой семье, и подвигнул
их единственного сына пойти по следам родителей?! А полноценной
филологической династией Шумовы стали в 1982 году, когда Констан-
тин Шумов завершил образование на филологическом факультете. И
«альма матер» не покинул, был назначен редактором вузовской мно-
готиражной газеты «Пермский университет», в которой проработал
пять лет. На каком-то витке этого периода начал учиться в аспиранту-
ре. Учился заочно, делал первые шаги на поприще преподавания
фольклористики, которую избрал сферой своих научных интересов.
С 1987 года Константин Шумов – уже младший научный сотруд-
ник. А в 1990 году становится ассистентом кафедры русской литерату-
ры. Еще через три года в апреле 1993-го успешно защищает диссерта-
цию на соискание степени кандидата филологических наук.
Восхождение на научный Олимп – дело отнюдь не простое. Но
младший Шумов преодолел все ступени на пути к нему.
Но были свои «ступени» и у его родителей. Прежде чем после
окончания университета ими был сделан выбор профессионального
поприща, которому они решили себя посвятить, Лилия Анатольевна и
- 148-
Эдуард Владимирович не уклонились от традиционного долга – пора-
ботать в глубинке учителями. И отправились преподавать русский
язык и литературу школьникам села Кочево Коми-Пермяцкого нацио-
нального округа. Так получилось, что Лиля проработала в Кочевской
школе меньше года. Ей пришлось вернуться в Пермь, поскольку вско-
ре она должна была стать матерью. А Эдуард Владимирович остался...
По рассказам Лили знаю, что ученики Кочевской школы очень
скоро полюбили своего учителя. Он не только увлекательно вел уроки
литературы и русского языка, но и проявил себя как замечательный
педагог.
Кажется, Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся
педагог советского периода, в одной из своих книг утверждал, что
учительство, педагогика – явление круглосуточное. Вряд ли мой со-
курсник Э. Шумов, лишь недавно окончивший вуз, успел познако-
миться с трудами члена-корреспондента Академии педагогических
наук В. А . Сухомлинского. Вероятно, чисто интуитивно почувствовал,
что его учительство не должно обрываться с окончанием школьных
уроков, если он хочет выработать у ребят стойкий интерес к знаниям.
Как известно, более всего дети не прощают равнодушия к себе. И
молодой учитель Шумов начал изобретать разные способы общения
со своими учениками и во внеурочное время. Ненавязчиво в минуты
разговоров по душам исправлял их речь, неутомимо объяснял, что
«хорошо», а что «плохо» в их отношениях друг к другу. Учил своих
старшеклассников правильно завязывать галстуки, соблюдать акку-
ратность в одежде и обуви. С отстающими занимался дополнитель-
но. Поощрял занятия спортом. Мог с мальчишками поиграть в фут-
бол. Зимой в выходные дни устраивал лыжные кроссы на скорость, а
то и вместе с классом совершал прогулки в лес. Во время такого не-
формального общения нередко затрагивались наиболее сокровен-
ные для его юнцов темы.
Позднее, когда мы с Эдиком начнем работать вместе, я открою в
нем помимо других талантов, замечательный талант рассказчика. В его
устных новеллах, которые обычно появлялись после командировок,
всегда присутствовали сюжетная интрига, непременно юмор или иро-
ния, а случалось, и грустная нота, вызванная событиями или людьми, с
которыми он познакомился.
Наверняка ребята из Кочевской школы были очень опечалены,
когда их любимый Эдуард Владимирович вынужден был уехать в
Пермь к своей семье. Ведь к тому времени Эдуард Владимирович стал
отцом. Сына назвал в честь Циолковского.
- 149-
В Перми сделал еще один заход на преподавательскую стезю –
поработал на подготовительных курсах политеха. Но что-то, видимо,
подсказывало Шумову, что он еще не угадал истинного своего призва-
ния. И ПЕРСТ СУДЬБЫ в конце концов подтолкнул его в нужном на-
правлении.
Увидев Шумова в фойе нашего главного корпуса областного те-
лерадио, поначалу я его не узнала. По довольно просторному поме-
щению неторопливо (явно кого-то ожидая) прогуливался элегантно
одетый молодой мужчина, отлично причесанный. Занятая своими
мыслями (ну, ходит тут какой-то красавец и пусть себе ходит), я устре-
милась в левый коридор, огибающий Большую телестудию. И вдруг за
спиной прозвучало:
– Галка, ты что меня не узнала.
Я повернула назад и присмотрелась к красавцу.
– Боже мой! Ты что ли, Шумов?..
– Н у, наконец-то, узнала. Очень рад тебя видеть!
– И я тоже рада. А чего ты здесь?
– Да вот пришел устраиваться на работу... На радио.
– Здорово! А в какую редакцию?
– Вроде – вещания для молодежи.
– Странно... У нас на радио такого нет. Есть только вещание для
детей.
– А ты сама в какой редакции работаешь?
– В «Последних известиях». Служба информации, короче.
– Я не помню... Тебя что ли распределили сюда?
– Ну да. Я же еще на 4-м курсе начала с этой редакцией сотрудни-
чать. Вот по ее запросу ректорат меня сюда и откомандировал.
Приход Шумова на радио совпал с некоторой структурной реор-
ганизацией. По распоряжению Госкомитета по ТВ и РВ была создана
объединенная редакция радиовещания для детей и молодежи. Я и
Шумов оказались в ее составе. А возглавил редакцию Павел Матвее-
вич Эпштейн – в прошлом выпускник историко-филологического фа-
культета нашего университета. Очень скоро он перешел на телевиде-
ние и возглавил отдел информации, а точнее – подготовку выпусков
программы «Прикамье Вечернее» (ПВ).
По поводу внешнего преображения Эдика я сразу высказала ком-
плимент его жене:
Ну, Лиля тебя преобразила! Не узнав тебя, я подумала «Что это
за красавец появился в нашей «конторе»?!. Прямо-таки, «как денди
лондонский одет...» Как она с вихрами-то твоими несгибаемыми спра-
вилась? Отдаю Лильке должное!..
- 150-
Шумов рассмеялся:
– Вообще-то я ей всячески помогал!
Вскоре появился приказ, подписанный председателем Комитета
М. Г . Гуревичем. Из него следовало, что Эдуард Владимирович Шумов
назначен в наш отдел старшим редактором и отвечает за молодежную
тематику, я же как редактор и автор занимаюсь подготовкой программ
для детей младшего и среднего школьного возраста, для старше-
классников и учащихся ПТУ.
Этот приказ почему-то смутил Эдика. И в конце рабочего дня он
как-то виновато сказал мне:
– Слушай, я не понял: почему меня назначил старшим... Ты же
дольше меня работаешь на радио?..
– Шумов, вот и видно: ты – новичок! Даже если мне стали бы на-
вязывать это «старшинство», я все равно бы отказалась...
– Почему?
Я видела, что Эдик мне не совсем поверил.
– Ты пока действительно не понял... Твоя должность – это куча
бумажной работы. Будешь составлять ведомости на оплату гонорара.
Распределять деньги по программам. Притом, что денег выделяется
всегда мало. Кроме того, платить придется в соответствии с ценником,
спущенным Москвой: очерк одна цена, у репортажа – другая и т. д. и
т. п . А еще, уважаемый старший редактор Шумов, тебе, бедолаге, при-
дется сидеть на всяких комитетских совещаниях, ездить по вызову в
обком ВЛКСМ, присутствовать на разного уровня комсомольских кон-
ференциях. И всюду у тебя будут требовать в любой программе соот-
ветствия линии партии. Да я рада, что всю эту бодягу взвалили на твои
широкие мужские плечи. Видимо, Моисей Григорьевич Гуревич ко
мне неплохо относится... И знаешь, по своей натуре – я не начальник!
– Но я ведь тоже по натуре – никакой не начальник.
– И это, Эдичка, замечательно! Мы сработаемся!
После этого объяснения нам обоим стало легко. Хотя впереди у
нас были годы нелегкого противостояния косности, идеологической
зашоренности некоторых «твердых партийцев» из среды старых ра-
дийных кадров. Они сразу учуяли нашу себе чуждость. Сам наш воз-
раст был своеобразным вызовом им.
Сейчас даже трудно вообразить такой словесный абсурд в живом
радиоэфире. А тогда, в годы как бы оттепели, старшее поколение ра-
дийцев считало его единственно приемлемым. В передачах «твердых
партийцев» некие труженики (агросектора или промышленности) все-
гда «подхватывали чей-то почин», «брали на себя дополнительные
- 151-
обязательства», «следовали мудрым предначертаниям» (назывались
имя вождя мировой революции, решения очередного съезда КПСС
или «нашей партии»), «досрочно выполняли и перевыполняли пла-
ны», «с честью несли звания передовых бригад»... И все в таком духе.
– Галь, это ужас! Радио – живой эфир! А этот суконно-плакатный
язык воспринимать невозможно! – недоумевал Шумов.
–
Сплошная
мертвечина! Я так писать для эфира не смогу!
– А ты полагаешь, что я смогу? В «Последних известиях» из-за
краткости информации эти длиннющие фразы с «развесистыми идео-
логическими клюквами» были просто немыслимы. Давай писать так,
как считаем нужным, а дальше... Дальше приготовься принять боксер-
скую стойку. Старшие товарищи дружными рядами начнут нас гно-
бить!..
И я в этом прогнозе не ошиблась.
Признаю: мне в определенном смысле было легче. Моя школьно-
подростковая аудитория «с честью» ничего не несла, «починов» не
подхватывала. Правда, некоторые особо бдительные пропагандисты
не брезговали подсчитывать: сколько раз в радиожурнале «Пионер-
ский вестник», созданном еще до нас с Шумовым, прозвучало слово
«пионеры» и все производные от него.
Эдику было труднее. У него хоть и молодежная была аудитория,
но все же взрослая. И случалось, в его передачах тоже назойливо под-
считывали, сколько раз он упомянул слово «комсомол»? Где спецвы-
пуски, посвященные пленумам, а то и (еще круче) отклики на очеред-
ной съезд ВЛКСМ?
Но Шумов интуитивно понял, что люди интересны сами по себе,
тем более – молодые люди на пороге своего вступления в зрелую
жизнь. Интересны их мысли, поступки, увлечения, жизненные ориен-
тиры...
Вообще-то строгого разграничения в наших обязанностях не су-
ществовало. Мы вместе готовили материалы для радиоальманаха
«Бригантина». В основе его были истории, связанные с чем-то не-
обычным в судьбах наших героев. Гвоздем каждого сюжета был неор-
динарный человек – рабочий, инженер-изобретатель, артист после
первой премьеры, летчик санавиации, учитель, начинающий писатель,
ученый...
И Эдуард Владимирович оказался природным радиожурнали-
стом. Мягкий по натуре, он мгновенно и бесповоротно располагал к
себе своих собеседников. Почти всякий человек, у кого Шумов брал
интервью, спустя пару-тройку минут, преодолевал скованность перед
- 152-
микрофоном, легко и свободно включался в разговор и постепенно
открывал Шумову душу.
Если во время интервью его героя что-то рассмешило или, напро-
тив, опечалило и он вдруг замолкал, при монтаже Эдик непременно
оставлял и этот смех, и эту секундную паузу. Между прочим, делал сие
вопреки устоявшейся практике – вычищать все, что не имело отноше-
ния к произносимому тексту. А в этих-то моментах и ощущалось дыха-
ние жизни. И слушатели верили человеку, который вел себя столь ес-
тественно.
Коньком Шумова вскоре стали радиоочерки, пронизанные не-
обыкновенным лиризмом. Описывал ли природу или достопримеча-
тельности тех мест, где обитали герои его очерков, он всегда привно-
сил в эти описания свою особую, Шумовскую, интонацию.
Авторский текст Эдик (впрочем, как все мы) всегда читал сам. Его
проникновенный баритон добавлял лиризма любой истории, расска-
занной им в эфире и посвященной чаще всего отнюдь не знаменито-
стям, а по сути – сверстникам. Связь с героями очерков у Шумова не
прерывалась долгое время. Молодые люди из области, бывая в Пер-
ми, частенько звонили ему, а, случалось, и заходили в редакцию по-
видаться с человеком, который явно зацепил их души. И они видели,
что он искренне рад встрече.
Мне кажется, что в 60-е годы Шумов обогатил радиожурналисти-
ку новым жанром – лирическим очерком. Притом, лиризм как-то есте-
ственно, органично соотносился с массой точных наблюдений и жиз-
ненных деталей, которые исключали малейший намек на какую-либо
выспренность, на приукрашивание героя или события.
Не помню обстоятельств, каковые подвигли, возможно, меня или
Юру Рыжова, влившегося в «наши ряды» через два года после созда-
ния объединенной «молодежно-детской» редакции, отправить в Мо-
скву на Всесоюзное радио пару очерков Шумова. Вскоре последовал
звонок из «Молодежки». Москвичи сообщили, что оба очерка журна-
листа Шумова поставлены в сетку вещания. Назвали дату выхода их в
эфир. Мы все поздравили нашего шефа. Позднее Шумову позвонила
А. Соколовская, главный редактор радиовещания для молодежи Все-
союзного радио, и сообщила, что готова взять его в штат. Но, к сожа-
лению, без предоставления прописки в Москве и соответственно –
жилья. Просила подумать. Эдик отказался сразу. Сказал, что это не-
возможно, поскольку у него семья, маленький сын. Кроме того, в
Пермской области живет мама, оставить которую для него немысли-
мо, Соколовская с этим согласилась. Но попутно сказала:
- 153-
– Эдуард Владимирович, надеюсь, что наше сотрудничество с ва-
ми продолжится. Ждем новых работ. Будем созваниваться!..
Сотрудничество действительно продолжилось. И сам факт при-
знания Москвой высокого уровня творческих материалов Шумова в
известном смысле послужил ему защитой от нападок особо бдитель-
ных старших товарищей. И не ему одному, а всем нам.
К нашему «штатному трио» год спустя примкнуло несколько не-
штатников. Первой тропу на улицу Техническая, 7 протоптала студент-
ка нашего филфака Надя Пермякова (будущий легендарный редактор
Пермского книжного издательства Надежда Николаевна Гашева). По-
том примкнули выпускницы из этого же «гнезда» – Лариса Вигура и
Зоя Падас. И все они дружно влюбились в Эдуарда Владимировича.
В самом деле: он обладал каким-то невероятным, редкостным
обаянием. И это его обаяние воздействовало не только на женскую
часть редакции, но и на многих коллег-мужчин из других отделов. В
конце рабочего дня часто захаживал из сельхозредакции Боря Богда-
нов. А днем появлялись молодые писатели Гена Солодников и Леша
Домнин, приносили для нашего альманаха «Бригантина» свои расска-
зы, стихи и засиживались порой подолгу в бурных обсуждениях теку-
щего момента. От Домнина и мне кое-что перепадало. Его сказки из
«Морского сундучка» про обитателей подводного мира постоянно
звучали в радиопрограммах для детей. Заглядывали к нам и коллеги-
газетчики Боря Гашев и Ваня Байгулов. Наведывались и маститые –
Виктор Петрович Астафьев, недавно вернувшийся с Высших литера-
турных курсов, и Лев Иванович Давыдычев. Чем-то их привлекал наш
неформальный клуб. Однако не ошибусь, если скажу – душой его был
без сомнения Шумов. Всегда радушный, благожелательный, с улыб-
кой встречающий каждого гостя. Веселый дружественный дух посто-
янно витал в нашей редакционной комнате – и только благодаря Эду-
арду Владимировичу. Никогда он не становился в позу начальника. Да
мы его таковым и не ощущали. Все держали себя на равных. Мы были
молоды. И нам нравилось работать вместе.
А для меня старший редактор Шумов уже в первый год совмест-
ной работы стал просто Эдичкой... Эдькой. Мы не только с ним срабо-
тались, но и стали близкими друзьями.
От него я узнала, что Лиля работает на кафедре языкознания.
Значит, осталась верна лингвистике, которой отдала предпочтение
еще в студенческие годы. И я видела: Шумов горд и очень доволен,
что его жена нашла свое призвание. Еще и работает в нашей альма
- 154-
матер. Позже упомянул, что Лиля включена в комиссию по приему
экзаменов в вузы, техникумы, училища.
Уже сама она недавно рассказала, что долгие годы проработала
в НИИУМСе (аббревиатуру эту расшифровать не берусь). Но со слов
Лилии Анатольевны уразумела, что в этом научно-исследовательском
институте, управляющим какими-то системами, она по-прежнему за-
нималась языковедением.
Как возникают династии в современном мире? Что подвигает де-
тей следовать по пути, некогда избранном их родителями (а то и ба-
бушками-дедушками). Голос крови? Исключить этого нельзя. Примеры
имеются. И все же основную роль (скорей всего) играет увлеченность
своим делом, когда родители живут им, сохраняют к нему интерес. И
не оставляют свою профессию за порогом службы. Каким-то образом
эта увлеченность витает и в семье. Шумовы, вероятно, как раз тот са-
мый случай.
Первый признак того, что в профессии ты попал на свое место, –
отсутствие скуки. Да что там скука! Несмотря на постоянные наезды на
нас «старших товарищей», мы жили и работали в каком-то приподня-
том, даже радостном настроении. Нам нравилось изобретать новые
изобразительные средства для наших радиоопусов.
Чтоб текст не давил на слушателей, мы нередко использовали в
паузах не только музыку, но и шумы – рокот мотора, стук колес поез-
да, гул толпы, специфический звук взлетающего реактивного самоле-
та... Все эти «шумы жизни» мы записывали на магнитофон всюду, где
находили материал для радиоэфира. И накопили их целую бобину.
Мы ввели доверительную интонацию не только в интервью, но и в
чтение авторских текстов. Голос радиоведущего, радиокомментатора
может привлечь слушателя, а может и оттолкнуть. Но главное – это
интересные люди. Мы неутомимо искали их. Шумов и в этом был осо-
бенно удачлив.
Мы работали взахлеб. И нам не хотелось расставаться. Сдав наши
папки с микрофонными текстами цензору, мы начинали петь. Эдька,
облокотившись на спинку кресла и раскинув руки, первым начинал
исполнять свои любимые романсы. А тут и наш хор присоединялся к
солисту. Иногда мы вдвоем тихонько напевали дуэтом во время рабо-
ты или отвлекаясь от нее. Это – когда дело катилось как по маслу.
Ближе к концу 60-х (разумеется, прошлого века) Шумов, как мне
казалось, явно перешагнул границы журналистики. Во многих его
творческих работах стало ощущаться перо писателя. И я свидетель то-
- 155-
му, что Виктор Петрович Астафьев, заглядывая время от времени к нам
в редакцию, не раз говорил Шумову:
– Чего ты застрял на радио? Пиши прозу. У тебя же получается,
Многие куски твоих очерков – уже литература.
Сам Астафьев тоже отдал дань нашей службе: некоторое время
был собственным корреспондентом областного радио в городе Чусо-
вом. Но и став уже известным писателем, он часто появлялся у нас.
Сам читал у микрофона свои рассказы, выступал с воспоминаниями о
войне, которую солдатом прошел от звонка до звонка. При этом резко
противоречил в оценках официальным установкам. Вероятно, поэтому
Астафьева намеренно замалчивают по сей день.
А Эдичка, впрочем, как все мы, просто обожал Виктора Петрови-
ча. Тот, в свою очередь, чуя в Шумове писательский дар, подталкивал
его к новой ступени творчества.
Когда Астафьев уходил, Эдуард Владимирович, уткнувшись в свой
текст, как бы про себя бормотал:
– Писать прозу – это, конечно, здорово... Но жена семью одна не
прокормит.
Мы тоже, вторя Астафьеву, наседали на нашего начальника: «Ты
хочешь погубить в себе нового Паустовского?! Божью искру таланта
гасить в себе не имеешь права!
В ответ на наши увещевания старший редактор Шумов однажды
вдруг заявил:
– Вообще-то я заканчиваю свой первый роман. Так что не изволь-
те беспокоиться, господа!
Глядя на наше остолбенение, Эдька на полном серьезе похвастал:
– Название очень хорошее придумал – «О чем шумит хвоя...» . На
подходе второй роман – «О лосе».
И тут же в Шумова полетели скомканные клочки наших чернови-
ков. Заслоняясь от «обстрела» картонной папкой, Эдуард Владимирович
хохотал, очень довольный собой. Но этот его розыгрыш имел продол-
жение. Если мы не очень поздно возвращались с работы, то непремен-
но всей компанией подходили на площади Дружбы к газетно-книжному
киоску и спрашивали у заседавшей в нем миловидной девушки:
– Скажите, к вам не поступал роман известного писателя Шумова
«О чем шумит хвоя»?
Выяснялось, что пока это произведение не поступало. Миловид-
ная киоскерша обещала непременно оставить несколько экземпляров
романа. В другой раз мы интересовались романом «О лосе». Увы, и тут
нас ожидало разочарование.
- 156-
– Я и на базе справлялась: не поступали романы Шумова. Видно,
хороший писатель. Москва весь тираж у себя оставила.
Так мы время от времени хулиганили. А «писатель» Шумов нас
стыдил и умолял наши козни направить на него, оставить девушку из
киоска в покое.
Но его «романы» еще долго будоражили гостей нашей редакции.
И если кому-то приходило вдруг поинтересоваться: «Что это Эдуард
Владимирович так сосредоточенно пишет?» – мы в четыре-пять голо-
сов хором объявляли, что наш шеф пишет роман «О чем шумит хвоя».
Может быть, кому-то мои эмоции покажутся преувеличенными.
Чтоб рассеять отчасти такого рода ощущения, позволю себе привести
несколько цитат из очень давних воспоминаний об атмосфере, царив-
шей в нашей редакции в 60-е годы, и, конечно, о Шумове, Надежды
Николаевны Гашевой.
«...А вспомнить я хочу о своих наставниках в журналистике, о мо-
лодежной редакции областного радио... Позднее, при наших неиз-
менных встречах, Эдуард Владимирович Шумов, тогда старший редак-
тор, всегда поддразнивал меня: дескать, вошла я строевым шагом в
сером плаще и сурово спросила: “Где здесь Шумов?” А Галина Михай-
ловна Лебедева (в обиходе просто Галка) добавляла: “И мы с Шумо-
вым вздрогнули!”»
Им-то был смех, а вот я действительно боялась: их, профессиона-
лов, «мэтров» (обоим не было и тридцати) работы, о которой не име-
ла никакого представления...
Однако вскоре мне стало хорошо в узкой длинной комнате моло-
дежной редакции, где часто стоял шум, где все острили, где наш шеф
Эдичка мог в разгар работы забраться на усилитель и с его высоты
слушать наши «творения» для очередного выпуска радиожурнала
«Бригантина», где мы были авторами, ведущими, актерами, звукоопе-
раторами.
В редакции стоял стационарный магнитофон «МЭЗ» (о, Мордов-
ский электрозавод!) для прослушивания магнитофонных записей. Но к
концу рабочего дня на него ставилась бобина с записями песен
Б. Окуджавы, и эти песни возвышали наш дух.
«По Смоленской дороге снега, снега, снега», – пел исполненный
достоинства, умный собеседник сердца... И на фоне неизменных бод-
ряческих шлягеров тех лет эти простые слова казались откровением.
Впрочем, что-то менялось и в эфире (ненадолго, но мы еще не
знали этого). И молодежная редакция первой ощутила ветер перемен.
Шумов пишет лирический очерк «Перистые облака», и заезжий мос-
- 157-
ковский мэтр поддерживает молодого журналиста на летучке, прямо
ставит его в пример старшим.
Галина Лебедева ведет бои местного значения с райкомом
ВЛКСМ, поддерживая школяров Мотовилихи, которым безумно надо-
ел обюрокраченный комсомол... Я делаю цикл передач «Подростки на
перекрестке», в результате чего книжное издательство заказывает мне
небольшую книжку в юношеской серии. А потом и на работу пригла-
шает, и это оказывается судьбой...
Я понимала, что Шумов и Лебедева уже тогда спорили с застой-
ным стилем жизни и журналистики, с косным руководством самим
фактом собственного стиля жизни и творчества. Нас, новичков, они не
учили писать (да и возможно ли это?). Учили работать без украшатель-
ства, без подмены факта (особенно когда ты не добрал материал) за-
витушками и финтифлюшками...
Да, то была молодость и первый глоток свободы (правда, очень
короткий). А еще круг друзей-единомышленников. И всегда в редак-
цию приходили разные люди. Не только пишущая братия – «по делам
или так, поболтать». Сколько было всего в этих разговорах! И влияние
этого круга – деловое, интеллектуальное, нравственное – трудно пе-
реоценить!
И мы понимали друг друга. И любили друг друга. Нас пытались
разгонять и закрывать. И это порой удавалось. Но несмотря ни на что,
на всю жизнь мы остались друзьями. И я не раз говорила Шумову: «Ты
был лучшим моим начальником за всю мою жизнь!»
Вслед за Надей я могу сказать то же самое:
–
ЭДИЧКА! ТЫ БЫЛ ЛУЧШИМ МОИМ НАЧАЛЬНИКОМ! И верным
другом. Приходя по утрам в редакцию, я приветствовала его частуш-
кой собственного сочинения:
Здравствуй, Эдик Шумов –
Друг ты мой печальный!
Ты – и мой любимец.
Ты – и мой начальник!
В конце 60-х я перешла работать на телевидение. Эдик позднее
тоже покинул радио. Начал сотрудничать в многотиражке Пермского
района. И очень успешно. Газета стала очень популярной.
А потом Шумов неизлечимо заболел. Уже не работая, он часто
звонил мне. Хрипел в трубку: «Галка, это я – Эдька». Я просила его не
напрягать голос. Но ему хотелось вспоминать годы, когда мы с энтузи-
азмом работали в одной связке. И мы вспоминали. А вскоре голос его
умолк. Прощаться с ним, помимо родных, друзей, однокурсников и
- 158-
коллег, прибыла чуть ли не вся администрация Пермского района.
Имы узнали, что Эдуард Владимирович внесен в книгу «Почетных
граждан» этого района. А династия Шумовых осиротела, как и все мы,
кто ценил, уважал и любил Шумова, нашего коллегу и друга.
Когда-то я сфотографировала его на крыльце главного корпуса
областного телерадио. На снимке он задумчив и серьезен. Таким в
молодые годы он бывал редко. Тогда только, когда сын болел. А чаще
всего мы видели Шумова благожелательным, веселым, склонным к
юмору, иронии. Легкая улыбка трогала его губы даже в минуты творе-
ний. Не потому ли вдруг припомнились мне строки из зарубежного
цикла стихов Георгия Иванова:
Улыбка одна и та же,
Сухой неподвижный рот
Такие, как ты, – на страже
Стоят в раю у ворот...
- 159-
Д. Шумов,
журналист
КРИЗИСНЫЙ РЕДАКТОР И БАНДЕРЛОГИ
«Ну все, мои поздравления, ты попал, тебе хана!» – голос из труб-
ки разразился раскатистым смехом. Так Константин Эдуардович сооб-
щил о том, что я поступил в университет. На самом деле в начале ну-
левых он был одним из немногих преподавателей кафедры журнали-
стики (относительно молодой на тот момент) филологического фа-
культета, кто обладал реальными представлениями об устройстве
профессии и фактической работе журналиста, так сказать, в полевых
условиях. При этом являлся действующим сотрудником сразу несколь-
ких печатных изданий.
Весь курс ласково величал его «дядя Костя». В свою очередь он
называл нас «бандерлогами», при каждом удобном случае цитируя
известную фразу, принадлежащую удаву Каа – персонажу киплингов-
ской «Книги Джунглей». Шумов буквально с первых секунд по-
настоящему умел привлечь внимание аудитории, не прикладывая к
этому особых усилий. По крайней мере так мне казалось. Его курсы
лекций по основам и методологии журналистики умело сочетали в
себе необходимый теоретический материал и целый комплекс прак-
тических примеров, коих у доцента кафедры в багаже было превели-
кое множество. Со студентами он разговаривал на равных, чем и за-
служил огромную любовь подопечных. Шумов постоянно заставлял
думать и анализировать услышанное, вступать в диалог с ним, общать-
ся, высказывать свою позицию по тому или иному поводу, частенько
разбавляя скучный материал подходящим анекдотом или веселой
историей, участником которой являлся непосредственно сам. И пото-
му совсем неудивительно, что при таком раскладе будущие журнали-
сты впитывали, как губка, каждое слово лектора. А пропускать его па-
ры без уважительной причины считалось моветоном. Впрочем, Кон-
стантину Эдуардовичу и самому нравилось находиться в центре вни-
мания, здесь он чувствовал себя, будто рыба в воде.
Одно из самых ярких воспоминаний моей студенческой жизни –
это совместная работа с Шумовым в добрянской газете «Камские зо-
ри» летом 2006 года. Тогда я поздно вернулся после 32-го саммита
«Большой Восьмерки» в Петербурге (публикация по итогам поездки
позже вышла на страницах пермской «Звезды») и понял, что все сроки
и договоренности относительно производственной практики канули в
- 160-
Лету. Но выход в любом случае искать надо было, пришлось обратить-
ся к дяде Косте.
«Слушай, ну вот есть один вариант в Добрянке, я тут с местной га-
зетой сотрудничаю... Только здесь придется жить, чтобы каждый день
не тратиться на поездки из города в город. Квартиру я уже подыскал»,
– эта чисто шумовская черта мне всегда импонировала. В любой, даже
самой сложной, казалось бы, уже безвыходной ситуации он всегда
находил лазейки, всегда находил способ решить задачу с минималь-
ными потерями, минимальным ущербом.
Сказано – сделано. И всего через пару дней я оказался в центре
маленького незнакомого провинциального города с населением чуть
более тридцати тысяч человек, под окнами серой монолитной высо-
тки, на первом этаже которой расположилась редакция газеты. На
свое первое журналистское задание я отправился, едва только успев
переступить порог и буркнув беглое «здрасьте» всем присутствующим.
Костя называл такой метод «глубоким погружением». Он считал, что
чем быстрее человек окажется на «передовой», тем быстрее сможет
освоить все тонкости и нюансы профессии. И в общем-то с этим мне-
нием трудно было не согласиться.
В газете он занимал должность кризисного редактора. И по сути
являлся душой коллектива, как бы высокопарно это ни звучало. К его
мнению прислушивались все без исключения сотрудники. Во многом
именно видение Константина Эдуардовича определило вектор разви-
тия добрянского периодического издания на последующие несколько
лет. В местной администрации (это стало известно мне много позже)
его, мягко говоря, недолюбливали. Из-за его бескомпромиссности в
плане суждений, прямолинейности, умения добыть и использовать
нужную информацию, чрезмерной любви к правде. Вместе с тем ре-
дактором он был очень мягким, хоть и излишне дотошным. Мы часа-
ми могли разбирать пару предложений абзаца статьи, доказывая друг
другу, уместно или нет использовать здесь то или иное слово, стоит
расшифровать определенный термин или дать возможность читателю
самому во всем разобраться. Насколько я понимаю, каждую редактуру
текста он проводил вместе с его автором. И, поверьте, в современной
журналистике так мало кто делает. Не знаю, послужили ли тому при-
чиной родственные связи или еще что, но это были самые искренние и
теплые отношения «руководитель – подчиненный» за все время моей
работы. Об этом и сейчас приятно вспоминать.
- 161-
Р. Спивак,
выпускница 1959 г.
МОЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ СУДЬБА
Не знаю, какая семья имеет право считаться филологической, тем
более – династийной. Но думаю, что бесспорным ее признаком нельзя
не считать принадлежность всех ее членов к филологическому цеху –
учителей литературы, писателей и поэтов, журналистов и работников
издательств и редакций, переводчиков, сценаристов, научных работ-
ников в области литературы и языка и, думаю, философов.
Но таких образцовых филологических семей мало, в сравнении с
множеством тех, в которых муж и жена, и тем более дети, – разных
специальностей и интересов. Я бы их тоже вписала в реестр филологи-
ческих семей, если состоящий в семье даже единственный филолог
способен обеспечить своим присутствием несколько следующих осо-
бенностей семейного уклада жизни. Перечислим наиболее характер-
ные, на мой взгляд.
В квартирах филологов всегда и везде много книг разной темати-
ки, жанров, форматов, времени издания и их известности. Книги
обычно лежат и стоят повсюду, чаще всего в беспорядке: они либо
только что куплены, подарены, выпрошены на несколько дней и оста-
ются на годы, либо – в живом, напряженном процессе работы с ними
хозяина квартиры. Книги живут своей жизнью, устраиваются, как им
удобнее, не обращая внимания на хозяев и гостей. Чаще всего – в вы-
зывающем беспорядке, в котором жить умеют только филологи.
Поскольку книги начинают накапливаться с первого дня въезда в
квартиру филологической семьи, многие из них долго пребывают в
забвении их хозяевами, но рано или поздно, как показывает мой лич-
ный опыт, каждая доживает до своего второго рождения как совер-
шенно незаменимая.
В филологических семьях книги не только читают, о них все время
говорят, оценивают их достоинства, спорят и, самое любимое и обяза-
тельное занятие, их как-то и где-то находят, собирают, разыскивают,
достают. Потому что нет для филолога выше удовольствия, чем дер-
жать книгу в руках, перелистывать ее страницы, вдыхать ее запах и
строить планы скорого освобождения от бытовой суеты, чтобы сесть
(или лечь) и прочесть ее не торопясь. Ждать книге этой минуты часто
приходится долго.
- 162-
Еще одна типологическая особенность. В филологических семьях
не просто любят, но и умеют и всегда находят о чем говорить. Конеч-
но, не о росте цены на гречку – о более «высоких» и, на взгляд нор-
мального человека, о «не нашего ума» предметах, не имеющих к нам
прямого отношения, т. е . о каких-то странных, от нас не зависящих и
потому не подлежащих обсуждению вопросах. Я помню, как еще в
советское время, при опущенном железном занавесе, мы, не собираясь
никуда эмигрировать, до ссоры спорили с мужем, куда стоило бы эмиг-
рировать в принципе, если бы можно было пересечь границу и захотеть
ее пересечь. Например, в Америку или Австралию. Это «бы» нашему
увлечению этим фантастическим спором нисколько не мешало.
Вспоминается и еще одна смешная история на эту тему. Я воз-
вращалась с художественной выставки картин старшего Рериха. Меня
провожал новый знакомый – милый молодой человек. Я в тот период
моей жизни была свободной: моя семья распалась. Он тоже был, как
выяснилось в разговоре, одинок и, возможно, надеялся найти во мне
близкую душу. Но я поделилась воспоминанием об одной ситуации
моего прошлого, когда тоже после очередной выставки Рериха мы
сидели поздно вечером всей семьей за столом и бурно спорили об
идеологической позиции художника. Соответственно моему рассказу,
мой спутник менялся в лице, как будто вдруг обидевшись на что-то
неподобающее в нарисованной мной картине семейного времяпро-
вождения. И объяснил: что же это за семья, в которой самые близкие
люди вечером, соскучившись друг по другу за день, собравшись от-
дохнуть, расслабиться от рабочих проблем, ведут такие посторонние
разговоры, чуждые непосредственно их интересам.
Все логично: филологическая семья живет, в значительной степе-
ни, в ирреальном мире – искусства, воображения, красоты, т. е . твор-
чества. Отсюда – иногда явная, иногда тайная – потребность ее членов
самим творить новые, в силу своих идеалов и воображения, миры:
писать, рисовать, музицировать.
И, в этой связи, я думаю, что филолог всегда, хотя бы чуть-чуть,
романтик. Филологическому сознанию свойственно одухотворять и
очеловечивать любую форму жизни – животных, растений, вещей. Для
него мир всегда в той или иной мере загадка, которую каждый фило-
лог пытается на свой лад разгадать.
Моя филологическая родословная начинается с мамы. Возможно,
и раньше, но я, к большому сожалению и стыду, «дитя войны» на го-
сударственном языке современности, более глубокую историю моего
- 163-
рода не знаю. Советское воспитание интересу к прошлому не способ-
ствовало, да и к настоящему – тоже. Мы в основном жили будущим.
Как же иначе, если мы знали точно:
Нам нет преград
Ни в море, ни на суше...
Связанная со мной филологическая династия включает четыре
семьи. Своим филологическим характером она обязана моей роди-
тельской семье, конкретнее – романтическому замужеству моей мамы
Анны Рувимовны Грозбаум.
Мама была младшей дочерью в многодетной еврейской семье
среднего, скромного достатка. Четыре сына и четыре дочери, все во-
семь – красавцы. Как я много раз слышала от жителей города Орла, в
котором прошла мамина молодость, она слыла первой красавицей
города.
После замужества старших сестер, вопреки несогласию родите-
лей, она запрыгнула в подогнанную женихом пролетку и укатила в
новую жизнь. Ей было 18 лет, моему будущему отцу на 14 лет больше.
Он был самым добрым и доверчивым человеком на свете, бедным и
красивым.
Я была маминой дочкой. В год моего рождения (1937 г.) папу, Со-
ломона Матвеевича Литвина, часового мастера, не имеющего никако-
го отношения к политике, арестовали по известной 58-й статье как вра-
га народа за анекдот о Сталине. Его выпустили уже в войну, в 1944 го-
ду, шестидесятилетним, совершенно больным человеком – умирать.
Без права жить в большом городе, в Перми, куда к этому времени нас
с мамой занесла эвакуация.
Типичная для тех лет история папиной сломанной жизни уклады-
вается в три четверостишия моего лирического дневника.
Где ты, папа? в какой ты далѝ?
Хорошо ли тебе без земли?
На нее ты не держишь зла?
Все она у тебя отняла...
И любовь успела украсть,
И дитя на руках покачать
Не позволила. Боже мой!
Покарай их за этот разбой...
А взамен был в подарок дан
Ледяной, проклятой Магадан,
Лес, поваленный топором,
Да в земле деревянный дом.
- 164-
Мама стала, и уже до старости, единственной кормилицей семьи.
Она организовала нашу эвакуацию в едва ли не последнем уходящем
из Орла поезде; в эвакуации, в Перми, смогла найти себе работу, что-
бы избежать голода в прямом смысле этого слова и «выбить» у город-
ских властей собственное «место жительства» (7 метров в полуподва-
ле с сырыми стенами на трех человек, когда отцу разрешили пере-
браться в Пермь).
Дважды мама вырвала меня из рук смерти: по дороге в Пермь,
когда я, четырехлетняя, заболела скарлатиной, и уже в шестом классе
школы, на пути в царство Аида, когда я слегла с перитонитом (я ду-
маю, это она вымолила у Бога первую присланную в Пермь порцию
пенициллина, которая вернула меня, и не только меня, к жизни).
Для всего маминого поколения россиян жизнь была сплошным
испытанием: революцией, гражданской войной, сталинским терро-
ром, для многих – голодом, фронтом, немецкой оккупацией, для ев-
реев позднее – кампанией борьбы с космополитизмом и врачами-
убийцами, в 90-е годы – экономическим разорением страны. И все же
мама высоко держала планку интеллигентной, культурной, образо-
ванной женщины – и, что в контексте поставленной проблемы важно в
первую очередь, человека филологического уровня культуры, филоло-
гического типа сознания, каким я его себе представляю. Оно дается не
дипломом (за плечами мамы только провинциальная гимназия Бре-
ста), а, думаю, судьбой...
В молодости мама была театралкой, много времени проводила в
Москве, у жены брата, служившей доктором в Малом театре. Малый
театр 20-х
–
30-х годов – Пашенной и Рыжовой! Она видела весь его
репертуар, боготворила Тарасову, Лемешева, Уланову. В более позд-
ние годы – видела Плисецкую, Райкина.
У нее был хороший музыкальный слух: в Перми не упускала воз-
можности увидеть очередную постановку оперы и балета, и оперетты
– н а гастролях известного Свердловского театра оперетты. Она любила
книги, хорошо знала русскую классику и неплохо – зарубежную. И всю
жизнь читала, когда выпадала свободная минута. В последний день
своей жизни, в 92 года, она дочитывала воспоминания Жукова и дели-
лась со мной впечатлениями.
Но мама не только читала книги. В те сталинские мрачные после-
военные десятилетия, когда книжные магазины предлагали читателю
преимущественно навязшую в зубах патриотическую марксистско-
ленинскую пропаганду, мама, как подобает настоящему филологу,
собирала книги русской классики. На них тогда стала возможна под-
- 165-
писка. Я была второклассницей. Мама покупала книги «впрок», «на
вырост» (как тогда покупали одежду для подрастающих детей) – для
меня, для будущих внуков и правнуков. И ведь она оказалась прови-
дицей. Эти книги, первые из которых увидели свет в 1946 году, до сих
пор занимают почетное место на бесчисленных полках моих стелла-
жей, а половина их – на полках внука. Высокого формата, в выцветших
картонных обложках, крепко сколоченные на века, каждый автор в
одном томе, избранные собрания сочинений Пушкина, Лермонтова,
Тургенева, Гончарова, Салтыкова-Щедрина, Горького. Все в закладках,
пометках, почеркушках – моих, затем Моники и внука Дани.
Мама была прирожденным филологом, никогда не употребляю-
щим этого слова, без высшего образования, но филологом. Начитан-
ным, с тонким чувством цвета, красоты и слова. Большую часть жизни
она работала секретарем-машинисткой, выделяясь среди своих коллег
грамотностью и стилем. Знакомые и приятельницы хранили ее письма
как художественные произведения и удивлялись: как это у Вас полу-
чается?
Конечно, мамино, я бы сказала, творческое отношение к слову не
могло не оказывать на меня влияния. До школы мои сверстники по
детскому саду, и я с ними, читать не умели. Тем больше значило для
нас мамино чтение. Маму я видела дома только поздно вечером, и
тогда она мне читала. Но, что, на мой взгляд, важно, не в кровати, что-
бы я скорее уснула. Из моих самых ранних воспоминаний: мы с мамой
вдвоем за столиком, у горящей свечки, в маленькой комнатушке, где
нас приютили в первые недели эвакуации родственники. Мне четыре
года. В руках мамы очень красивая, большого формата книга дорево-
люционного издания с большими выпуклыми буквами на рыжей твер-
дой обложке. Книга с крупными прекрасными, сказочными иллюстра-
циями – «Маугли». Эта книга, уже рассохшаяся, с распадающимися
страницами, до сих пор хранится в моей библиотеке. Годы сохранили
в памяти ощущение священнодействия, закрепив его позднее строч-
ками моего лирического дневника.
Наше детство не было дворянским –
Беззаботным, светлым, беспечальным,
Наше детство было эмигрантским,
И война – нам школою начальной.
Слава Богу, мы не понимали,
Что за смерч лютует в белом свете.
С мест родных снимались, улетали,
Словно птицы, женщины и дети.
- 166-
Хорошо, что хоть не на чужбину.
И в местах, известных мало-мальски,
Все лепились семьи-половины
Ласточками возле гор Уральских.
......
И через десятки лет упрямо,
Благодарно память сохраняет:
Поздний вечер. Молодая мама
Мне при свечке «Маугли» читает.
Влиял на меня и ее безупречный эстетический вкус. Позднее, ко-
гда появится на свет моя доченька, именно мама предложит нам с
мужем дать ей чудесное, прекрасное имя Моника (Ника).
В детстве красота входила в мою жизнь с одеждой, которую для
меня создавала «из ничего» мама с ее подругой-портнихой, с похода-
ми с мамой в театр, с поездкой школьницей в Третьяковскую галерею,
в которую мама повезла меня после 5-го класса. К встрече с Третья-
ковкой я была подготовлена мамиными рассказами о «Неизвестной»
Крамского, «Бабушкином саде» Поленова, «Лунной ночи» Куинджи,
шишкинских «Мишках в лесу» – о том, что ей было особенно дорого с
ее детства. Эта поездка в Москву, в сказочное Кратово, где мы гостили,
непосредственное, широкое знакомство с русской живописью было
началом, через много лет, моего последующего пути в известные, ве-
ликие картинные галереи Петербурга, Ватикана, Флоренции, Вены,
Мадрида, Парижа, Мюнхена, Нью-Йорка, Филадельфии.
А когда подрастет моя школьница-дочка примерно до того воз-
раста, когда я впервые пришла в Третьяковку, я повторю с ней эту по-
ездку в Москву, в Третьяковскую галерею, а затем она, в свое время,
вместе с мужем, объедет весь мир и увидит великое искусство «всех
стран и народов» в гораздо большем, чем я, объеме и поймет его го-
раздо глубже, чем я.
Можно подумать, что мама меня сознательно готовила к филоло-
гической карьере. Ни в коем случае! Мама никогда такого будущего
мне не желала. Гуманитарные науки и специальности тогда не были в
чести: слишком трудное было время. Вынесшая на своих плечах все
его тяготы, мама желала мне более легкой жизни и часто, как мантру,
повторяла: «Главное для женщины – экономическая независимость».
Работа учителя литературы или журналиста ее не обещала.
Кроме того, в еврейских семьях с дореволюционных времен чер-
ты оседлости царил культ врача. Еврею-врачу было позволено жить в
- 167-
городе. Медицинское образование сохраняло свою престижность в
национальном сознании: оно давало надежду на уважение в обществе
и, хотя бы скромное, материальное благополучие. Пять моих двою-
родных сестер (я была младшая, шестая) «выучились на врачей». И
моя мама видела в будущем свою дочь-отличницу тоже с медицин-
ским дипломом. Отговаривали меня, когда пришло время выбирать
ВУЗ, от филфака и друзья-соседи. Наша соседка была кандидатом хи-
мических наук и обещала мне в будущем аспирантуру, тогда как в
пермском филфаке аспирантуры никогда не было.
Но мое будущее было предрешено, если позволить себе восполь-
зоваться высокой лексикой, судьбой. Я не мистик и не могу им стать в
силу советского воспитания. Конечно, привычнее было бы обратиться
к знакомой лексике «случайное стечение обстоятельств». Но не хочет-
ся: слишком упрямо это «стечение обстоятельств» повторяется, когда
оглядываюсь на всю мою жизнь в целом.
Первый раз свое высокое волеизъявление моя судьба объявила
насчет моего будущего в 1949 году, когда я была ученицей 5-го класса
в очень скромной, ничем себя не прославившей семилетней школе.
Самым плохим из ее учителей была учительница литературы и русско-
го языка. Мама услышала голос судьбы на родительском собрании от
новой, неизвестно откуда явившейся в школу учительницы русского
языка и литературы – Софьи Васильевны Богоявленской. Тем же слу-
чайным ветром ее унесло из нашей семилетки уже через год. В моей
незаметной школе ей не нашлось места, а она была для школы Божь-
им подарком, и прежде всего – для меня.
В школе учились дети простых родителей: мелких служащих, за-
водских рабочих, уборщиц, дворников, дети эвакуированных. Софья
Васильевна хотела сделать из нас интеллигентов. Кроме русского язы-
ка, она учила нас, как нужно наклонить голову, когда здороваешься с
мало знакомым человеком, или как держать за обеденным столом
ложку и вилку и т.д .
В тот вечер мама вернулась с родительского собрания, озадачен-
ная неожиданной для нее информацией. Новая учительница сказала:
«Ваша дочь будет филологом». В моем представлении, судьба произ-
несла свое слово и взяла в свои руки контроль над моим жизненным
путем. Одна случайность следовала за другой, вычерчивая прямую
дорогу осуществлению предсказания.
Собственно, это стечение обстоятельств, направляющее меня, как
мне теперь видится, по намеченному «свыше» пути, дало о себе знать
еще до того, как оно было озвучено Софьей Васильевной.
- 168-
Так получилось, что хозяин квартиры, в одну из комнатушек кото-
рой нас с мамой вселили как эвакуированных, был Илья Израилевич
Бергер, пермский завуч эвакуированного из Ленинграда в Пермь Хо-
реографического училища. Он был одним из тех нескольких человек,
которым оно обязано своим достойным, успешным пребыванием в
Перми. Наша квартира помещалась рядом со зданием Хореографиче-
ского училища и Театра оперы и балета. Для всех пермяков-
работников Училища, от директора Нонны Александровны, включая
всех педагогов, работников бухгалтерии и уборщиц, Хореографическое
училище было родным детищем. Они в нем дневали и ночевали. К
концу войны Илья Израилевич с семьей вернулся в две освобожден-
ные от временных жильцов свои прежние комнаты, и квартира (а мы
оставались в третьей) практически стала дополнительным помещени-
ем Училища. Одного из учеников Илья Израилевич усыновил, и в на-
шей общей коммуналке постоянно находились учителя и ученики, бу-
дущие звезды сцены. Я с дошкольного возраста до окончания школы
жила в атмосфере постоянных разговоров о театре, ленинградском и
развивающемся пермском балете, о подготовке очередного отчетного
концерта учащихся, успехах и неудачах будущих балерин и балерунов.
В нашей квартире бывала известная всему театральному миру
Екатерина Николаевна Гейденрейх. Я с моими дворовыми подружка-
ми мечтала поступить в Училище, пока преподаватели, посмотрев мои
данные, не покачали в знак сомнения головой. Я огорчалась недолго,
но на всю жизнь полюбила балет, красоту сцены – судьба подарила
мне счастливую возможность несколько лет чувствовать Театр своим
домом. И подарила не случайно.
В этом «стечении обстоятельств», мне кажется, есть своя логика.
Театр, с его культом красоты, воспарением над бытом и одновремен-
но нераздельно связанный с эмоциональной и психической жизнью
человечества, – одной корневой системы с Поэзией, Литературой, Фи-
лологией. Я шла через Театр в Филологию.
Той же «волею обстоятельств» меня после окончания семилетней
школы, отличницу, не взяли в соседнюю десятилетку, и я заканчивала
далекую от дома 7-ю школу с замечательным учителем литературы
Тамарой Абрамовной Фридгант (затем – Рубинштейн). Мы с мамой
ничего раньше о ней не знали, как и вообще об этой одной из лучших
школ в городе. И опять «повезло»: за год перед моим поступлением в
школу и в следующем году литературу вела другая учительница.
- 169-
Тамара Абрамовна сыграла в моем дальнейшем самоопределе-
нии едва ли не решающую роль: сформировала понимание работы с
книгой и словом не как развлечение, отдых от серьезного дела, а как
нелегкий, ответственный перед обществом и достойный уважения
творческий труд, без которого у человечества нет перспективы разви-
тия.
Там же я нашла на всю жизнь двух подруг – будущих коллег по
общей филологической профессии – Альбину Константиновну Бояр-
ченко (Прокурову) и Нину Евгеньевну Васильеву.
Кто-то из известных философов оставил нам такое наблюдение:
«Жизнь всегда пытается выйти за рамки судьбы». В моей жизни мно-
гое происходило прямо наоборот: судьба корректировала рамки жиз-
ни и ее направление.
Первые два курса филологического факультета Пермского уни-
верситета едва не привели меня к решению уйти от филологии. Лин-
гвистика меня не увлекала, а лекции по литературе казались повторе-
нием полученных в школе знаний. На третьем курсе «стечение обстоя-
тельств» заменяет мое разочарование восторгом от ранее выбранного
пути. Снова – «вдруг»... Именно в наш университет, именно на третий
курс филфака неожиданно для нас, студентов, приезжает из МГУ мо-
лодая, яркая, энергичная, полная планов и сил реорганизовать весь
процесс обучения новая заведующая и преподаватель именно нашей
кафедры русской литературы Римма Васильевна Комина. Линия моего
пути в филологию снова выпрямилась и сосредоточила теперь на себе
все мои помыслы и замыслы.
Пермский филологический факультет обрел лицо столичного ву-
за, со спецкурсами, спецсеминарами, фольклорными экспедициями,
изданием богатейшего материала народного творчества Урала, а
вскоре – собственных научных сборников самостоятельного, нового
для тех лет в Советском Союзе научного направления – типологическо-
го изучения литературы. Но главное, Римма Васильевна, открывая на-
шему зрению и пониманию глубинные уровни нравственного, фило-
софского и идеологического содержания русской классики, вводила
нас, студентов-филологов, в неизвестную нам до тех пор новую Все-
ленную новой для нас Науки о литературе – Литературоведение, с ее
особыми законами, своей логикой системного мышления и ожидае-
мыми ею от нас открытиями. Каждый следующий год делал профес-
сию филолога в моих глазах все более желанной и интересной.
На третьем курсе мне была доверена настоящая, не исследован-
ная еще научная тема о предшественниках Л. Толстого в создании но-
- 170-
вой для русской литературы XIX века формы психологического анализа
«диалектики души». Для дипломной работы Римма Васильевна по-
зволила мне взять «полулегального» Бунина. Помню, она тогда сказа-
ла: «Если декан тему зарежет, соберете Ваши прошлогодние наброски
курсовой о Горьком».
А на четвертом курсе – экспедиция по следам Решетникова в да-
лекую, тонущую в лесах Коми-округа деревню Большие Долды, изо-
браженную писателем в повести «Пила и Сысойка». Затем – моя пер-
вая в жизни командировка на студенческую научную конференцию в
МГУ, посвященную Лермонтову, которой руководил «сам Турбин»,
новые московские друзья-филологи и свои, пермские, студенческие
конференции, право выступать на которых у Риммы Васильевны не так
легко было получить.
Моя собственная (не родительская) семья включала, кроме меня,
маму, мужа, дочку и папу. Он был очень болен после лагеря и прожил
с нами недолго.
Это время было периодом буйного, я бы сказала «запойного»
(конечно, в переносном смысле) моего «вырастания» в полноценного
филолога, каким я его представляла.
Я окончила университет, отработала 2 года учителем в Пермском
хореографическом училище учителем русского языка и литературы и
(сбылось мое давнее желание) была принята лаборантом в универси-
тет на любимую мною кафедру. Скоро меня допустили к чтению лек-
ций, руководству фольклорными экспедициями, возможности участ-
вовать в научной работе кафедры. Появились мои первые статьи о
Толстом и Достоевском в скромных кафедральных сборниках. Их за-
метил известный профессор ЛГУ Г. М . Фридлендер. Через несколько
лет – аспирантура в МГУ и затем конференции, конференции, конфе-
ренции.
Десять лет после возвращения в родной университет, уже давно
став кандидатом филологических наук, читая ведущие курсы лекций, я
оставалась ассистентом на официальной моей должности. Но я была
счастливая. Я себя нашла.
60–80-е годы оставили в нашей с Львом жизни глубокий след – в
становлении каждого как научного работника и вузовского преподава-
теля. Относительно последнего вывода память сохранила два, можно
сказать, забавных, но для меня важных события.
В первый день чтения нового курса русской литературы серебря-
ного века я вернулась с короткого перерыва в аудиторию и увидела на
- 171-
кафедре адресованную мне записку: «Рита Соломоновна, не волнуй-
тесь, пожалуйста, Вы нам нравитесь»
1
. А через несколько лет Римма
Васильевна, занимающая тогда пост декана, рассказала мне, как один
из ее курсовиков отказался помочь в оформлении университетской
аудитории, потому что помощь желательно была срочная, во время
моей лекции. В благодарность за помощь (она должна была занять
около десяти минут) было обещано освобождение от лекции. Отказ в
просьбе, да еще за такую награду, для Риммы Васильевны был не-
ожидан. В свою очередь смущенный студент объяснил: «Простите, но
мы с лекций Спивак не уходим». Значит, лекции «получаются».
Я писала и публиковала статьи – в пермских кафедральных сбор-
никах, нескольких московских журналах и материалах научных конфе-
ренций Советского Союза и ряда городов Восточной Европы – о Пуш-
кине, Баратынском, Толстом, Тютчеве, Андрееве, прозе Бунина. В
Красноярске, в издательстве университета, вышла в свет первая ре-
дакция моей монографии о типологии метажанров; в издательстве
нашего университета – две небольшие книжечки о Блоке и дооктябрь-
ской поэзии Маяковского.
Вообще это был золотой век нашей кафедры. Никогда, ни рань-
ше, ни позже, она не жила такой интенсивной жизнью, насыщенной
новыми идеями, планами и свершениями. Обновлялись учебные про-
граммы, чередой шли и обсуждались открытые лекции преподавате-
лей, каждый год завершался отчетными конференциями членов ка-
федры и студентов. Сменяли друг друга приглашенные для чтения
своих спецкурсов известные профессора-литературоведы: Я. С. Билин-
кис, В. П . Скобелев, А. А. Белкин, Б. О . Корман, Б. Ф . Егоров. На кафед-
ре появились свои аспиранты, Римма Васильевна готовила к защите
докторскую диссертацию.
Я ездила читать свои спецкурсы в Ижевск (к Корману!), в Любляну
(Словению), в Куляб – на границу с Афганистаном, вела занятия в гу-
манитарных классах пермских гимназий, готовила старшеклассников к
первым для них научным конференциям, оппонировала на защитах
диссертаций, руководила творческим кружком. На его заседания не-
редко приходили и студенты других факультетов.
1
Может показаться забавным, что я придаю значение этому странному студенческому
посланию, тогда оно показалось мне важным инт уитивно. Но на днях в телевизионной
передаче об А. Б . Мигдале его внук, его ученик, процитировал сл ова ученого: «Научить
чему-либо можно только того, кто тебя любит – он тебе верит».
- 172-
Мой муж Лев Волькович Спивак был моим сокурсником по учебе,
коллегой по работе в университете. Мы вместе ездили убирать цели-
ну, оба с восторгом приняли хрущевскую оттепель.
Для него 60–80-е тоже были годами утверждения в профессии и
своих творческих возможностях. Он разрабатывал и успешно читал
новые лекторские курсы, вел несметное количество практических за-
нятий, экспериментировал с новыми материалами, дневал и ночевал в
своей лаборатории. Его статьи публиковались в престижных научных
журналах Москвы, Ленинграда, Свердловска, Киева, зарубежья.
Мы были одного возраста, оба с громадным запасом неистрачен-
ных жизненных сил, большими планами на будущее, влюбленные в
свою специальность.
Но мой муж был физиком.
В начале шестидесятых годов общественное мнение любило про-
тивопоставлять наши профессии и подчеркивать преимущество физи-
ков перед лириками – в глубине постижения мира, в интеллекте, об-
щественной значимости профессии. Лирики, однако, оказались строп-
тивыми и свою второстепенность признавать наотрез отказывались.
Таким образом, наша семья родилась двуглавой, как орел на россий-
ском гербе, и головы смотрели в противоположные стороны. Каждый
«с головой ушел» в свою работу, свою науку. И научные проблемы,
над которыми мы с энтузиазмом ломали головы, не имели друг с дру-
гом ничего общего. Каждый с нетерпением рвался испытать себя в
роли лектора по своей специальности, автора статей и книг своей те-
матики, руководителем экспедиции или лабораторных эксперимен-
тов. При этом именно его рабочие и научные интересы каждым ощу-
щались как наиболее достойные внимания и признания.
Но хрущевская оттепель одновременно и объединила большую
часть физиков и лириков, и в частности мою семью, общей идеологи-
ческой платформой и очень повысила в общественном сознании зна-
чение гуманитарного сегмента культуры, в том числе – филологии.
Мы были поколением поздних, молодых шестидесятников, с об-
щими демократическими ценностями, общим неприятием сталинизма
и готовностью служить новому государству, с его открытыми миру гра-
ницами, свободой слова и творчества.
Новая идеология прежде всего заявила о себе в литературе, теат-
ре, кино, в тесно связанной с литературой новой трактовкой истории. У
нас были общие боги – новые поэты, писатели, запрещенные ранее
философы.
- 173-
Судя по нашему университетскому физмату, физики всегда удив-
ляли филологов своей «начитанностью». Но теперь в поле их живых
интересов, наряду с самими книгами, попали филологические про-
блемы художественности литературы, закономерности литературного
процесса, современные направления в литературоведении и лингвис-
тике и др.
И хотя как физики, так и лирики претендовали на преимущест-
венный вклад в историю, перестройка 60-х нас объединила единым
чувством приближающегося счастливого будущего и общим желанием
его приблизить. Мы пели одни песни, декламировали одни стихи, по-
клонялись одним режиссерам и, рискуя потерять работу, а в ряде слу-
чаев и свободу, доставали, сообща читали, передавали друг другу за-
прещенные книги. И наша двуголовая семья ощущала себя единым,
скажем, субъектом жизни – семьей с филологическим лицом. Я отчет-
ливо помню это острое чувство единства и связанные с ним три эпизо-
да нашей семейной жизни.
Первый. Наши танки входят в Прагу, их окружает, кричит, чтоб
убирались прочь, огромная, проклинающая их толпа, которая еще
вчера была нам другом. А мы сидим вдвоем у большого самодельного
радиоприемника, транслирующего заслуженно враждебные России
лозунги, рядом, обхватив головы руками.
Второй. Через Пермь по Каме плывет в Куйбышев сестра мужа со
своим мужем. Она – физик-астроном, он – юрист. Они специально
сходят на ночь с парохода, чтобы провести эти несколько часов с нами.
Нам всем нужно успеть прочесть за ночь роман Солженицына «Рако-
вый корпус». Мы лежим рядом, на полу, все четверо, передавая по
порядку друг другу по одной машинописной страничке.
И еще одно воспоминание этого же порядка. Я везу в Пермь из
Москвы запрещенный в СССР роман Пастернака «Доктор Живаго». Не
успев дочитать, Лев утром берет его с собой в лабораторию, чтобы
показать кому-то из близких друзей, и, соблюдая строгую конспира-
цию, укладывает его среди вещей в своем шкафу. Но к концу рабочего
дня книги на месте не оказалось. Может быть, Лев перепутал место ее
укрытия от посторонних глаз... Но наш жизненный опыт подсказывал
нечто другое... На следующий день я ехала по делам на речном трам-
вайчике в Усть-Качку, внимательно глядя на деревеньки по берегам
Камы, и решала для себя вопрос: Льва арестуют, возможно, ограни-
чатся ссылкой. Поеду с ним, буду просить, чтобы – на Урал, например,
в Оханск. К счастью, книга нашлась. Лев от волнения не заметил ее на
прежнем месте.
- 174-
А жизнь не текла, а неслась галопом – с нехваткой денег, посто-
янными подработками, с новыми лекционными курсами и лаборант-
ской службой, а еще с обязательной общественной работой: выпуском
факультетской газеты, кураторством общежития, лекциями на заводах
и в колхозах, а дома – маленькая любимая дочка, а потом – внук, и
ночь для написания наших с Левой диссертаций и всяких неизвестно
откуда берущихся домашних дел.
Одна из подобных ночей того времени была по горячим следам
зафиксирована мной в письме к ленинградской подруге, журналистке
Лене Швецовой, которая недавно из писем своих друзей составила
прекрасную книгу «Сны в переносном смысле».
Из Перми в Ленинград
«Лерка, кто бы мог подумать, что Чернобыль коснулся непосред-
ственно нашей квартиры. Семь дней у меня на руках были двое детей,
наш внук Даня и Кеша, сын знакомой девушки из Киева, которая, спа-
саясь от Чернобыля, привезла ребенка к нам. Вот тут я чуть не свихну-
лась. В первую ночь Кеша до 1 часа ночи плакал и просился к маме в
Киев. Даня же в это время, переведенный к отцу в другую комнату,
плакал и рвался обратно ко мне. В час ночи я легла к Кеше, чтобы его
усыпить, и поспала 20 мин. Но Кеша не спал и захотел киселя. Я объяс-
нила ему, что он 6удет готов только к утру, а сама села за стол писать
статью о Тютчеве. Через 10 мин. (в 2.00) Кеша поинтересовался степе-
нью готовности киселя. В начале третьего выразил раздражение, что
тот варится столь долго. В половине третьего я пошла на кухню и сва-
рила этот проклятый кисель, остудила его и напоила Кешу. Я готова
была приняться даже за стряпанье пельменей, лишь бы он снова не
начал реветь. Даню в то же время я положила в постель к отцу. Через
час (мужчины, как известно, народ слабонервный) разъяренный отец
вышвырнул его оттуда. Я не поняла, а это, оказывается, было сложное
воспитующее наказание. Позже я взяла сопливого от слез босоногого
Даню за руку и повела в кухню, где допечатывал свою статью мой муж.
А что было делать, ведь на кровати Дани уже лежал Кеша. Решили
просто – ляжем подряд. Сдвинули раскладушку и диван и всю неделю
проспали вчетвером. Мы с мужем и два хулигашки. Дрались они це-
лыми днями, кривлялись и обезьянничали. Так что я отвыкла от ласко-
вых суффиксов, зато стала пользоваться жестами греческих актеров –
вытягивала руку и гремела голосом: “Ты сюда, а ты здесь!” Так что у
нас свой Чернобыль. Пока, дорогая, напишу еще. Жду твоего письма».
Июнь 1986 г.
- 175-
Но мы были молоды, и нам хватало и времени, и сил для всего:
дружбы, любви, походов, празднеств по любому поводу, для шатания
по лесу за ягодами и грибами, поездок с дочулей в Крым, зимой – для
лыжных прогулок всей семьей и с друзьями, и одновременно – для
напряженной работы.
Работа давала уверенность в себе и требовала от каждого упорст-
ва и упрямства в достижении поставленных целей. И все как-то полу-
чалось – не без труда и порой переутомления и нервного напряжения,
но как было задумано. И не получилось бы, если бы все мы, вместе с
родителями Льва, – семья – не жили бы общими радостями и огорче-
ниями. Неоценимую помощь всю свою жизнь нам оказывала моя ма-
ма, взявшая в свои руки все наше домашнее хозяйство и заменившая
Монике меня на три года аспирантуры. Кандидатские диссертации
защитили одновременно: я в 1967, Лев – в 1968 году.
И вновь я вижу в этой «самоорганизации» моей жизни добрую
«руку судьбы»: без случившейся для меня так удачно именно в эти
годы хрущевской оттепели пятый пункт в паспорте стал бы на моем
пути в аспирантуру МГУ непреодолимым препятствием. «Мы все вре-
мя сталкиваемся с чудесами, – говорил великий физик-теоретик нашей
эпохи А. Б. Мигдал, – надо только их замечать».
Не лишенную интереса историю, как органическую часть сюжет-
ной линии влияния судьбы на мой путь в филологию, представляет
моя дружба с Галиной Бжозой. Мы познакомились с Галиной в Ленин-
граде и сразу потянулись друг к другу. Она была для меня первым жи-
вым структуралистом, прямым последователем Лотмана, работы ко-
торого до наших провинций только что дошли. Каждый был интересен
другому своей научной проблематикой, методом анализа произведе-
ний, своими теоретическими выкладками. И сразу возникла потреб-
ность общения, дальнейших встреч, обмена мыслями. Но Галина была
в моей стране иностранным гражданином, каждый шаг которого и его
российских друзей находился под пристальным и недружелюбным
вниманием органов безопасности.
Я не могла пригласить Галину в мой закрытый для иностранцев
город, пригласила меня к себе она – и, к моему восторгу, на дни вар-
шавского международного симпозиума по литературе. Ее выступление
значилось в программе симпозиума, а значит – она могла взять меня с
собой на это священнодействие.
Мы разъехались по своим городам, она жила в Познани, и в Вар-
шаве предполагала остановиться на квартире родственников, где пла-
нировала принять и меня. Но адрес нашего будущего поселения она
- 176-
заранее не знала. По телефону мы договорились, что она встретит ме-
ня в Варшаве на вокзале прямо у вагона в указанное время прибытия
моего поезда.
Вечером в вагоне поезда я вместе со всеми пассажирами уле-
глась на ночь спать, чтобы утром проснуться в Польше. Но утро встре-
тило меня все в том же советском Бресте, где пограничники в 5 часов
ночи во время обхода поезда перед пересечением государственной
границы сняли меня с маршрута и под конвоем провели перед всем
эшелоном на Брестский вокзал: в моих документах оказался отсутст-
вующим один пермский штамп.
В 9 часов утра брестский чиновник поставил его в течение 3 ми-
нут... Нетрудно представить мое состояние.
Поезд, который должна была встретить Галина, ушел, я не прие-
хала. Следующий поезд из Москвы уходил из Бреста через час. Я не
успевала закомпостировать на него мой пропавший билет, потому что
билетную кассу день и ночь осаждала толпа белорусов и украинцев,
рвущихся за рубеж на заработки. Но и это еще далеко не все.
Я не знала адреса, где можно было бы в Варшаве предположить
местонахождение Галины, не знала также языка, чтобы позвонить ее
родным в Познань и с ней как-то связаться, и без языка вообще не
представляла, как найти для себя где-то пристанище.
Поезд въехал в варшавский вокзал, я стояла в тамбуре у выхода
из вагона и думала, не остаться ли мне в поезде, чтобы сразу вернуть-
ся в Москву.
Но я сошла с подножки вагона. И судьба снова протянула мне ру-
ку помощи: нужно признать с благодарностью, она контролировала
по-прежнему мой путь в филологию.
Первый встречный, к которому я обратилась с просьбой показать
пункт обмена денег, оказался польской девушкой, учившейся в ленин-
градском университете, русисткой по образованию и знающей Галину
по ее публикациям. Она обменяла мои деньги на польские, позвонила
в Познань родителям Галины, узнала ее варшавский адрес, посадила
меня в такси и отправила по этому адресу.
Галина открыла мне дверь в фартучке: она готовила стол к моему
появлению. Я очень удивилась: почему она не волновалась, найду ли я
ее. Она, весело напевая, ответила: «Интеллигентный человек в Европе
заблудиться не может».
Среди наших друзей по-прежнему были и физики (среди них до
сих пор моя близкая подруга, физик-теоретик Рая Ашерова), но фило-
- 177-
логов становилось все больше, и семья все больше выглядела филоло-
гической. Многих новых интересных, талантливых друзей-филологов
дали мне многочисленные научные конференции. Попасть на любую
конференцию было легко, они были открыты для участия литературо-
ведов и лингвистов всех возрастов и научных направлений. Очень ско-
ро сложился постоянный круг участников – ленинградцев, тюменцев,
томичей, новосибирцев, молодых, стоящих на пороге защиты доктор-
ских диссертаций филологов Свердловска, Куйбышева, Вологды, Дау-
гавпилса и др. Азартными участниками этих конференций были и мы,
пермские литературоведы университета и педагогического института.
Мы ездили тогда по нескольку дней в поезде и дорожили самими
этими поездками, во время которых успевали обсудить все актуаль-
ные проблемы филологической науки. Это была великолепная школа,
на языке чиновников того времени – институт «усовершенствования»:
расширение научного кругозора, обогащение новыми методами ана-
лиза и интерпретации текста, понимание ценности творческой мысли
как одного из самых важных показателей значимости проделанной
научной работы.
В эти годы в мою научную жизнь вошел профессор Борис Осипо-
вич Корман, с его теорией автора, и всегда содержательные, серьез-
ные ижевские конференции, пан Ежи Фарыно, выдающийся польский
профессор филологии, я бы сказала, автор своего варианта структу-
рального анализа и организатор незабываемых, лучших из всех кон-
ференций, в которых я принимала участие, уже упоминавшаяся поль-
ская подруга-филолог Галина Бжоза и харьковчанка Оля Сливицкая,
москвичка Маша Михайлова, мой дальний, проверенный друг – пер-
мячка, теперь москвичка Таня Пирожкова и др. Все они сделали мою
жизнь исполненной смысла и радости. Я многому у них научилась.
Постепенно сложился круг наиболее близких для семьи людей, с
которыми мы постоянно, почти ежедневно находились в живом, «го-
рячем» контакте. Для филолога, я думаю, самый жизненно необходи-
мый, как воздух, контакт – разговоры. Ведь сама «филология» означа-
ет любовь к слову, а значит, сосредоточенность на слове, отношение к
нему как основе, опоре жизни, материалу ее построения. В этом
смысле пушкинского Онегина с Ленским я считаю своими предками:
Меж ними все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
- 178-
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою среду,
Все подвергалось их суду.
В этот самый близкий тогда круг входили несколько филологиче-
ских семей: Демьяновы, Грузберги, Смирины, заходили Берлины, не
так чтобы в постоянной, но в ощутимой близости находились Кертма-
ны и Комины. И мы разговаривали, где бы ни были и чем бы ни зани-
мались (для того и встречались) – за праздничным столом, путешест-
вуя по Волге, Каме и Чусовой, собирая грибы в лесу или за книгой в
библиотеке. Разговаривали о своих лекциях, о написанных и задуман-
ных статьях, радовались найденной кем-то удачной формулировке,
анализировали историю страны и политические партии, оспаривали
существующие философские постулаты, критиковали рождаемые на-
учные концепции литературного процесса и др. И эти разговоры были
формой нашей филологической интеллектуальной, напряженной ра-
боты, нашей счастливой, творческой жизни.
Есть мудрая поговорка: худа без добра не бывает. В нашей жизни
она заявила о себе своим зеркальным отражением: добро без худа
тоже встретить трудно. Одновременно с активизацией общественной
и интеллектуальной жизни хрущевская оттепель обострила стремле-
ние другой части правительственной элиты реставрировать прежний
режим. Не сразу, но с конца 60-х годов, по нарастающей, началась рес-
таврация сталинизма. В Перми она постепенно выросла в кампанию
по искоренению вольнолюбивых настроений среди студенчества и
вузовских преподавателей.
В университете рассыпали готовый к публикации сборник, соб-
ранный из материалов проходившей в Перми в 1965 году Всесоюзной
научной конференции. Римме Васильевне вынесли строгий выговор с
занесением в учетную карточку члена партии. В середине 70-х было
заведено следствие по вопросу о чтении и распространении студента-
ми филфака университета запрещенной литературы. К концу 70-х цен-
тром идеологической чистки стали университетские кафедры русской
литературы и русского языка.
Были намечены жертвы – преподаватели, идеологически разла-
гающие студенческую молодежь. В их числе была и я. Начались беско-
нечные проверки наших лекций, семинарских занятий, курсовых и
дипломных работ наших студентов последних лет, наших печатных
изданий. В роли спускового курка кампании был использован капуст-
- 179-
ник, разыгранный моим творческим кружком на Студенческой весне
на материале пьесы Горького «На дне». Декан факультета Бельский
четко сформулировал желанный и искомый диагноз происходящему,
увидев в студенческом юморе злостный пасквиль на пролетарского
писателя и советскую Родину. Чтобы впредь всем было неповадно,
Римме Васильевне и Леониду Николаевичу Мурзину вынесли строгие
партийные выговоры, сорвали защиты готовых докторских диссерта-
ций, довели Мурзина до инфаркта.
Я не была членом партии, на меня нельзя было наложить пар-
тийное взыскание и, в силу моей относительной молодости, еще труд-
но было довести до инсульта. Но готовился широкий комсомольский
форум, посвященный улучшению идеологического воспитания моло-
дежи, на котором мне была отведена роль показательной преступни-
цы, виновной в отклонении членов творческого кружка от праведной
линии партии. Меня поджидало увольнение из университета без до-
пуска к работе, имеющей какую-либо связь с идеологией.
Как говорили сочувствующие, меня не взяли бы на работу даже
на почту – разносить посылки. Никто не мог мне помочь. Ни мои дру-
зья-физики (Леонид Клейнер), пытающиеся разубедить членов Перм-
ского обкома партии в моей оппозиции власти, ни моя подруга-
филолог Людмила Грузберг, старающаяся внушить наблюдателю от
КГБ, что я в положении и не собираюсь переехать на жительство в Из-
раиль. Беременных женщин по закону увольнять с работы не разре-
шалось. Все было впустую. Но мне опять протянула руку помощи судь-
ба и опрокинула как будто предрешенный ход событий.
Я неожиданно встретила давнюю, времен коммуналки (времен
эвакуации), мою знакомую, помнившую меня еще в возрасте, когда я
играла в дочки-матери. Она была историком и имела какое-то отно-
шение к Обкому ВЛКСМ. Я рассказала ей о надуманности, специально
взращиваемой легенде о нашей злостной антисоветчине, о безнравст-
венности вдохновителя этой кампании – декана факультета. Я была
спасена, а кампания в целом как-то потихоньку заглохла. При этом ее
жертвой пал сам ее главный организатор: внезапно для всех Бельский
умер. Понимаю, фантастически звучит мое желание видеть в его гибе-
ли акт вмешательства той же хранившей меня судьбы. Но я точно
знаю, что в противном случае, так или иначе, из университета я была
бы изгнана.
Все пережитое было нелегким испытанием моих нравственных и
физических сил. И я была бы им раздавлена, если бы не поддержка
моей семьи, моих друзей и подчас неожиданного сочувствия, каза-
- 180-
лось, далеких от меня людей, никакими личными отношениями со
мной не связанными. Само сочувствие было тогда – поступком. Я пом-
ню, как однажды, в разгар этих событий, мы шли по территории уни-
верситета с Натальей Самойловной Лейтес. Навстречу вышла из-за
угла работник кафедры научного коммунизма, одна из членов парт-
кома университета. Заметив нас, она мгновенно перешла на противо-
положную сторону, чтобы не запятнать свою репутацию.
Как прав был гениальный Тютчев:
Нам не дано предугадать,
Как наше слово отзовется.
И нам сочувствие дается,
Как нам дается благодать.
С благодарностью вспоминаю, как на широкой лестнице главного
корпуса, у дверей парткома, меня остановила одна из самых уважае-
мых, старейших преподавателей кафедры зарубежной литературы
Екатерина Осиповна Преображенская. Она шагнула мне навстречу,
протянула руку и сказала: «Позвольте пожать Вашу руку». Я растеря-
лась: «За что?» И она медленно произнесла с нажимом на каждом
слове: «За Ваши страдания». Когда-то я была ее студенткой, и с тех пор
и до этой встречи мы не виделись.
В другой раз в коридоре филфака меня остановил внимательный,
тихий, жалостливый, прямо направленный на меня взгляд преподава-
теля-методиста лингвистической кафедры Анастасии Ивановны Шори-
ной. Она была много старше меня, молчаливая, серьезная женщина с
трудной, как было известно, судьбой. Мы работали бок о бок, но наши
дороги никогда не пересекались, и мы ничего друг о друге не знали.
Видеологических конфликтах она никогда не участвовала. Тем не-
ожиданнее было услышать от нее тоже тихие, как ее взгляд, несколько
скупых слов: «Вы скоро совсем растворитесь в воздухе». И я поняла,
что все происходящее и мое будущее ей не безразлично.
Чувствовала я и молчаливую поддержку моего творческого круж-
ка, от руководства которым я была отстранена вывешенным в коридо-
ре приказом Бельского. Кружок самораспустился и организовал нашу
последнюю встречу с вручением мне на вечную память о нашей об-
щей жизни немыслимо, фантастически прекрасный подарок, который
практически невозможно было ни купить, ни достать в то время, – не-
большую книжку стихов Ахматовой.
И все же мне казалось, что основная часть студентов о происхо-
дящем ничего не знает и к происходящему равнодушна. Теперь я ду-
маю, что была не права. Мне кажется, об этом свидетельствует ряд
- 181-
воспоминаний наших выпускников об их студенческом прошлом и их
современный взгляд на мир в 15-ти книгах к 100-летию филологиче-
ского факультета. Они благодарят нас, их преподавателей, за то, что,
наряду с умением работать со словом и образом, мы «научили их лю-
бить свободу», ценить в человеке личность и человеческое достоинст-
во и понимать важнейшую роль творческой мысли в развитии общест-
ва, государства и человечества. Важен весь перечисленный ребятами
набор наших, преподавательских, заслуг, но в данном контексте моих
размышлений о значении труда филолога я хочу выделить «любовь к
чувству свободы».
Значит, наша филологическая молодежь жила с нами в одном
мире, общей с нами жизнью и наши, посылаемые им идеологические
месседжи (на эзоповом языке) в текстах наших лекций, в беседах,
комментариях к их курсовым и дипломным работам они воспринима-
ли и помнят до сего дня. А это, все вместе взятое, дает право думать,
что наш филологический труд значим и всегда актуален.
Жизнь неожиданно подтвердила этот вывод двумя ситуациями –
хоть заводи рубрику «нарочно не придумаешь».
На последнюю презентацию очередной книжки нашего юбилей-
ного выпуска мой давний студент, Сережа Финочко, принес мне в дар
свою поэму – не без иронии (как это водится у филологов), но тепло и
серьезно говорящую как раз о том, как «отзывается» «слово наше».
Приведу ее часть.
Земную жизнь пройдя до универа,
Я оказался в сумрачной уверенности,
Что повидаться надо с Филологией,
Наук серьезных тихою заложницей.
Мы встретились легко: десятилетия
Прошли для Девы вечной без последствий.
Одета скромно, но пряма и ветрена,
Взяла меня под руку безответственно.
Вокруг сновали нимфы и камены,
В душе моей – восторг, но и каменья.
Пуст круг священных долов и вершин;
Нет Коминой, нет Фрадкиной, Мурзин
Покинул Филологии обитель.
Спивак здесь нет (наш дерзостный учитель
Нас, юных, наставляла спорить с миром,
Не потакать неправедным кумирам).
- 182-
А слово наше отзовется...
Еще одна история на тему «Как наше слово отзовется», имеющая
отношение к моей жизни, можно сказать, «свалилась с неба». Приво-
жу ее в передаче Нины Евгеньевны Васильевой:
«Эту историю должен был бы рассказать другой человек – тот, с
кем она случилась. Но не вышло. И я бы ее не передавала, не будь она
чудесной в буквальном смысле слова, не будь она к тому же и блестя-
ще филологической по своей сути. Вспомню все по порядку.
Я составляла очередной том к столетию факультета, он назывался
“Нам нет преград, или знай наших”. В нем собирались рассказы о вы-
пускниках, которые, получив филологическое образование, реализо-
вались в самых разных сферах: галеристы, оперные певцы, танцоры,
художники, фотографы, спортивные тренеры, люди балетного искусст-
ва и другие. Я “ловила” любую историю, чтобы показать ее в этой кни-
ге. Говорят, на ловца и зверь бежит. И однажды в доме раздался теле-
фонный звонок. Со мной поздоровался глубокий красивый баритон,
он назвал себя: “Николай Б.” (фамилию не называю, потому что мой
рассказ об этом человеке не согласован с ним). И вообще он звонил не
о книге, хотя моя книга ждала именно его и его историю. Из краткого
диалога я узнала, что он с Кубани, из казацкой станицы, где уже много
лет занимается коневодством и даже является в этой области про-
славленным человеком, имеет почести и награды. Короче, мой автор,
наш герой, редкая история. И я повела на него наступление, но проиг-
рала. Он окончил наш филфак много лет назад, человек совсем не пи-
шущий, пером не владеет. И звонок его был на другую тему. Он спро-
сил, что я знаю о Рите Соломоновне Спивак, жива ли она, как живет,
чем занимается. И как-то очень сокровенно попросил передать ей
привет и большое спасибо, потому что он обязан ей своей жизнью и
своим счастьем. Я почувствовала, что у меня есть шанс, и предложила
навестить Риту Соломоновну, которая непременно будет рада его ви-
зиту. Он застеснялся, но не возражал. А я уже азартно рассказывала о
своих юбилейных книгах, давая ему шанс стать одним из авторов. И
так, слово за слово, он рассказал свою личную историю.
Родился и до своего совершеннолетия жил в селе под Кунгуром, в
большой семье староверов, где всё: правила, порядки, законы и нор-
мы – на века, отец – глава, подчинение ему не обсуждается, своеволие
исключено, будущее предсказано, основы незыблемы. Это конститу-
ция, к которой поправки не пишутся. Он и не думал сопротивляться
чему-либо из этого вековечного кодекса семьи и дома. За многие годы
- 183-
жизни создали крепкое хозяйство, в котором была своя лошадь, мел-
кий скот, усадьба. Не бедствовали, но и не шиковали. Свой дом и се-
мью он назвал лесным подворьем.
До ухода в армию Николая женили, родились дети, и жизнь по-
шла по заведенному порядку. Но сердце дремало. Эмоционально и
духовно он не был востребован. И после армии было принято реше-
ние – надо учиться и получить настоящее образование. Бывших ар-
мейцев принимали льготно, и он выбрал филфак, куда вступительные
экзамены были для него полегче, а парней, да еще на заочное, брали с
большой радостью. Книги всегда любил и читал много, но беспоря-
дочно. Планировал стать учителем в родном селе. Отец выбор одоб-
рил и тайно радовался, что в его доме будет интеллигент. Но судьба
внесла в отлаженный ритм его жизни неожиданные коррективы. Од-
нажды на лекции по литературе Серебряного века преподаватель – а
это и была Рита Соломоновна Спивак – по выражению Николая,
“сдвинул ему мозги и поставил их на правильное место”. Он помнит,
как был тогда оглушен и ощущал, что мир его, такой прочный и ясный,
заколебался, он расширился и выходил за рамки обжитых координат.
Не все было понятно, но все тревожило душу, предъявляло ей вопро-
сы и требовало ответов. А Рита Соломоновна вдохновенно и убежден-
но говорила о внутренней свободе человека как непременном усло-
вии нормальной жизни, о ценности индивидуальности, ее праве на
личное мнение и ее же долге перед самим собой: не предавать себя и
свое, не передоверять себя никому и все опоры иметь в себе самом,
слушать свое сердце и пульс собственной души, не бежать от жизни, а
доверять ей и быть открытым для перемен. Это касалось и мира эмо-
ций, чувств, любви, когда главное – не пройти мимо родной души, не
потерять ее в суете, сомнениях, обязательствах. С любимыми не рас-
ставаться – иначе крах личности. Николай слушал преподавателя и
проецировал его максимы на себя. Была симпатия к сокурснице, вза-
имная, серьезная, радостная. Но он замирал от страха сделать хоть
какой-то шаг навстречу своему чувству, ведь это значило пойти против
законов лесного подворья, где дом, отец, жена, дети, где все незыб-
лемо и все на века. Но тогда как быть с правом личности на собствен-
ный шаг и ее долгом не терять себя и своего?! А жизнь между тем де-
лала свое дело. Услышанное Слово о поэтах Серебряного века не про-
шло мимо слуха, оно зацепило и исподволь ставило мозги «на пра-
вильное место». Готовясь к сессии и к экзамену по литературе Сереб-
ряного века, Николай прочитал все тексты как эксперт, не для сдачи
экзамена, а для ревизии своих взглядов. У него зашатались несущие
- 184-
конструкции Здания жизни, попали под сомнение вековые истины, а
главное – он понял и увидел, что изменился сам, что готов и хочет сам
решать свою Судьбу.
Я не знаю деталей его романа с Любой (так звали его сокурсни-
цу), но они стали замечательной и счастливой семьей. Отец отлучил
Николая от дома, и им пришлось уехать из Перми. Там, в казачьей ста-
нице, они начали жизнь с нуля. Родились новые другие дети, Николай
построил свой дом, вывел новую породу коня и стал известным кубан-
ским коневодом. С отцом они примирились незадолго перед смертью
старика, который пожелал повидать внуков и передать Николаю все
ключи от лесного подворья. Счастливый конец сложного человеческо-
го выбора, который и случается тогда, когда “мозги поставлены пра-
вильно”. Риту Соломоновну они не только благодарно помнили, но в
память о ней назвали первую внучку Маргаритой, не зная, что Рита –
имя американское и в Маргариту не конвертируется. Но это уже не
важно. В их приусадебном саду Люба соорудила грядку и посадила на
ней незабудки в знак памяти о пермском преподавателе. История и в
самом деле чудесная и красивая.
Но рассказ о ней не попал в юбилейную книгу. Николай не встре-
тился с Ритой Соломоновной, мы не попили чай в ее доме. Но ее доб-
рое слово дало жизни Николая новое дыхание, другую свободу и
большое человеческое счастье.
Имеет ли эта история отношение к филологической семье Риты
Соломоновны? Безусловно! Ведь и Моника, ее дочь, и Даня, ее внук, и
Михаил Одесский, муж Моники, и дети Дани, правнуки Риты Соломо-
новны, – все созданы из общего корня и живы им».
А между тем на фоне бессонных рабочих ночей, постоянной на-
шей занятости, увлеченных разговоров о новых и старых концепциях,
теориях, методах анализа художественного текста и борьбы с деканом
в семье подрастала будущая главная филологиня нашей семейной
династии с именем, которое само по себе напрашивалось на лингвис-
тическое толкование: Моника – моно – единственная.
Мы со Львом не собирались готовить ее к филологическому бу-
дущему. Лев, когда Моника закончила школу, уговаривал ее пойти в
физики (у нее была медаль). Соседи и знакомые, как когда-то меня,
соблазняли другими, более «практичными» для жизни факультетами.
Но, опять же, как когда-то передо мной, перед Моникой проблема
выбора не стояла.
- 185-
Конечно, определенное влияние на ребенка семья всегда оказы-
вает. В этом направлении «работали» и стеллажи с книгами в нашей
квартире, и пермские театры, и путешествия по Каме и Волге, где в
каждом городе туристов ожидали прекрасные картинные галереи и
выставки современной живописи, и поездка в любимую всей семьей
Москву – в Третьяковскую галерею.
Но я думаю, Моника родилась филологиней. С нее сразу можно
было писать психологический портрет филолога – существа противо-
речивого, сложного: застенчивого, мечтательного, ревниво оберегаю-
щего свой внутренний мир и одновременно – харизматичного, комму-
никабельного, решительного, не чуждого авантюризма.
Одну из семейных авантюр, когда она была еще школьницей, мы
все вспоминали не без гордости.
В Пермь на несколько дней приехал театр Товстоногова с гени-
альной «Историей лошади», с Лебедевым в главной роли. Моника в
эти дни лежала в больнице с повышенным внутричерепным давлени-
ем и строжайшим запретом врача покидать палату. Немыслимо было
ослушаться доктора, к которому попали с большим трудом. Но так же
немыслимо – не увидеть Лебедева. И мы решились на инсценировку к
полному восторгу Моники. В больничном туалете накинули на Монику
мое лучшее платье, надели парик с белокурой завивкой, накрасили
губы. Вызвали такси. После спектакля через служебную дверь втихую
спрятали Монику под одеялом, где она с грехом пополам заменила
платье ночной рубашкой. Операция прошла удачно. В театре мы оста-
лись не узнанными.
Отчасти внешне путь Моники повторяет мой путь в филологию:
филологическая мама, 7-я школа, прекрасная учительница литературы
в старших классах Надежда Мельникова – моя дипломница, филфак,
направление в аспирантуру МГУ, возвращение в Пермь, лаборантство
в вузе (пединститут). И затем уже навсегда Москва и музей А. Белого.
До Москвы – та же покровительница – судьба. И, как у меня – хрущев-
ская оттепель, у Моники накануне аспирантуры – перестройка 90-х,
лишившая силы Моникин пятый параграф. Любопытно еще одно «па-
расовпадение» (назовем так).
Мне предсказала филологическое будущее учительница 5-го
класса. Монике – вожатая пионерского лагеря, в котором Моника про-
водила лето, примерно в том же возрасте. Вожатая Света Караваева
была выпускницей нашего факультета, оставлена при кафедре и знала
меня. Однажды она дала каждому в отряде задание написать микро-
портрет своей мамы. Подписывать сочинение не полагалось. В одном
- 186-
из сочинений она вдруг узнала мой портрет, а значит, в авторе – Мо-
нику. «Моя мама красивая. Она решительная и смелая. Она похожа на
индейца, и у нее нос с горбинкой», – писала моя дочка. Еще раньше
Света обратила внимание на девочку, хорошо владеющую литератур-
ным языком. Не удивительно, что Свете пришла мысль, что дочь
«пойдет в мать».
И снова совпадение. Меня после окончания факультета ждало
неожиданно освободившееся на кафедре место лаборанта. А Монику
по приезде в Москву встречает (редкая удача!) свободная вакансия
музейного работника в только что открывшемся музее Андрея Белого.
Может показаться, что Моника шагает по жизни за мной и со
мной в ногу. Но это чистая иллюзия. Ее путь в филологическую Вселен-
ную принадлежит ей одной. Более того, он моему пути как будто на-
меренно противостоит. И я подозреваю – не случайно: она не желала
никого ни в чем повторять.
Я начинала самостоятельную жизнь в филологии с работы над
Л. Толстым, Моника – с Достоевского. Я затем обратилась к Бунину,
Моника – к А. Белому. Мне было необходимо пересмотреть научную и
критическую литературу о выбранных объектах анализа. Монике –
создавать литературу об А. Белом практически почти что с чистого лис-
та, советское литературоведение его не замечало. Объекты моего
внимания, анализа, интерпретации менялись: Бунин, Тютчев, Бара-
тынский, Блок, Маяковский, Л. Андреев, Ахматова, Чехов и др. Монику
всю ее жизнь в основном интересует А. Белый.
Кто-то из умных людей заметил существование ученых двух ти-
пов: тех, что знают обо всем понемногу, и тех, которые знают преиму-
щественно об одном, но все. Мы с Моникой представляем типы про-
тивоположные.
А дальше, в Москве, ее отдельная, не похожая на нашу общую с
ней, ее семья. Она завершает нашу династийную семейную цепочку,
но – не мой рассказ о ней, потому что между ее и моей описанной
выше семьей вклинивается моя вторая семья, тоже филологическая,
по моим представлениям.
Моя вторая семья была для нас с мужем неожиданным и щед-
рым подарком судьбы, как мне казалось, самой счастливой на свете.
Формально она тоже могла считаться двуголовой: я – филолог, муж –
снова физик. Но по содержанию и жизненному тонусу она тоже была
филологической.
- 187-
Это не означает, что мой муж, Анатолий Николаевич Балашов,
был разочарован в своей профессии или, по каким-либо причинам, с
ней разорвал. Нет, он был и оставался талантливым, увлеченным сво-
им делом физиком, по отзывам его коллег, блестящим физиком-
теоретиком и одновременно – экспериментатором, работающим в
сфере производственных задач. Молодая часть его жизни прошла в
Кишиневской Академии наук, там он и защитил кандидатскую диссер-
тацию. Его авторских свидетельств и патентов на научные изобретения
хватило бы обклеить стены квартиры. Его публикации обсуждались
американскими специалистами. В Перми он с энтузиазмом занялся
обеспечением производства промышленной водой, а новых газовых
скважин – питьевой водой для новоселов. Такая задача была постав-
лена перед ним Газпромом в многолетнем договоре о начале разра-
боток новых газовых месторождений в Заполярье.
Но, как говорят в народе, талантливый человек талантлив во
всем. Толю, наряду с физикой, не меньше физики интересовала куль-
тура, искусство, моя филология.
Когда я впервые гостем вошла в Толину квартиру, в его тесной
передней меня встретил старый, тех же лет и той же формы, как и в
моей квартире, облезлый книжный шкаф, на полке которого, на уров-
не глаз, под стеклом стоял вырезанный из газеты портрет И. А. Бунина.
Бунин не просто мне «нравился», он был предметом моего анализа в
дипломном сочинении и, в новой интерпретации, – в кандидатской
диссертации и последних моих статьях того времени.
Знакомые мне мужчины-физики, начитанные интеллектуалы, от-
давали предпочтение Зощенко, Булгакову, Ильфу и Петрову, Бабелю,
Довлатову, те, кто щеголял самым утонченным вкусом – Набокову.
Бунин был более любим филологинями, на которых мой муж был со-
вершенно не похож. В юности он занимался хоккеем, позднее – боль-
шим теннисом. Но наша семья была семьей единомышленников, еди-
новерцев, в широком смысле этих слов.
Душа моего мужа вмещала вместе с талантом физика – врожден-
ную склонность к гуманитарному мышлению. Он был наделен тонким
восприятием слова, ритма, цвета, «чувства красоты», писал маслом: на
мой взгляд, оставил ряд прекрасных пейзажей Подмосковья, Урала,
Ла-Манша, где мы имели счастье провести месяц, и большой мой
портрет в традициях импрессионизма. Он любил и знал русскую клас-
сику. Ему было интересно с филологами.
Но он был не просто слушателем наших филологических разгово-
ров и читателем наших филологических работ. Это само собой Он сра-
- 188-
зу принял активное творческое участие в нашей филологической жиз-
ни. А она для меня в эти годы была далеко не простой. Уехала с вну-
ком в Москву Моника, ушла из жизни мама, с которой все годы мы
были неразлучны, и как-то один за другим – почти все близкие друзья-
филологи и мои учителя, игравшие в моей жизни большую роль. Квар-
тира вдруг стала излишне просторной, подчеркивая мое одиночество.
Я привыкла работать, чувствуя рядом локоть коллег-филологов, в
толкотне возражений и одобрений, атмосфере живого обмена мне-
ний, столкновении противоположных гипотез, интерпретаций. И вдруг
оказалась в интеллектуальном вакууме, сама с собой. Не с кем спо-
рить, праздновать свой успех, некому доказывать «несравненную
свою правоту».
Вакуум заполнил искренним, горячим участием в моей работе –
мой муж. Толя стал терпеливым и одновременно неравнодушным
слушателем моих созревающих планов, первым читателем и первым
критиком всего мною написанного и опубликованного. Благодаря его
вере в оправданность и успех всех моих начинаний, я в те годы напи-
сала лучшие свои статьи, увидевшие свет в сборниках Москвы, Санкт-
Петербурга, Варшавы, Софии, Оломоуца, Любляны, Иерусалима. Он
радовался моей концепции русского экзистенциализма, поддерживал
создание второй редакции моей теории философского метажанра с
введением в нее большого количества нового материала, гордился
моей интерпретацией повести Л. Андреева «Иуда Искариот». В этой
связи всегда вспоминаю, что говорил М. М . Гиршман. Приблизительно
так: «Если ученый вводит в науку много новых терминов, это не серь-
езно. Если не ввел ни одного, он, как ученый, вызывает недоверие.
Если ввел один термин, он имеет право считаться ученым».
Я встречала мой термин «философский метажанр» в нескольких
чужих текстах, но, увы!, редко. Хотелось бы видеть его чаще...
Именно Толя натолкнул меня на мысль исследовать энергетиче-
ское поле произведений художественной литературы. Подобные ис-
следования существуют, но скорее в области лингвистики, чем литера-
туроведения, и оперируют в анализе лингвистическими единицами.
Меня же больше, чем язык, интересует образная структура художест-
венного произведения в целом. Толя раньше меня и острее почувст-
вовал особую, самостоятельную энергожизнь искусства, в частности
произведений живописи. Может быть, потому, что в живописи и
скульптуре она интенсивнее (вспомним рассказ Г. Успенского «Выпря-
мила»), чем в литературе и музыке. А Толя был художником, хотя и не
профессионалом: художник же более открыт восприятию живописи,
- 189-
чем человек, не бравший в руки кисти. Я помню, как «энергопоток»
(термин Н. Л. Мышкиной) «накрыл» его у одной из мадонн Рафаэля в
музее Прадо. И я решила попробовать «обнажить» наличие энергети-
ческого фактора и механизм его работы в художественной системе
одного из произведений прозы Бунина и лирики Ахматовой. Выбор
произведений литературы, а не живописи объясняется моей профес-
сией. На мой взгляд, эксперимент удался. Предложенный мной под-
ход к изучению литературного произведения с использованием эле-
ментов синергетического анализа я считаю перспективным. Он при-
ближает нас к решению проблемы художественности, до сих пор ре-
шению не поддававшейся.
К сожалению, опубликованные в материалах конференции МГУ и
«Вестнике Пермского университета» две мои статьи на эту тему инте-
реса отечественных филологов не вызвали, кроме как у моих учени-
ков, хотя сразу обратил на них внимание проходящий у нас стажиров-
ку молодой филолог из Польши Яцек Шиморек. Много значила для
меня и его поддержка моего обращения к теме национальных харак-
теров в русской литературе XIX – нач. XX вв.
Очень важна была для меня поддержка мужем моего обращения
к теме национального характера в русской литературе этого периода.
Были опубликованы мои исследования образов русского и еврейского
характеров, национальной темы в лирике и прозе Бунина, в творчестве
Л. Андреева, статьи об экзистенциализме в творчестве Чехова, Аннен-
ского, позднего Бунина, Сологуба, Л. Андреева, Поплавского.
Утраченный круг близких первой моей семье людей теперь был
отчасти также возмещен моими учениками, членами моего семинара.
Семинар был моим любимым детищем. Его идею я позаимствовала из
книг Макаренко: в его колонии отряды набирались из ребят разных
возрастов. В Пермский университет спецсеминар как форму работы со
студентами привезла Римма Васильевна из МГУ. Он имел, скажем так,
«горизонтальную» структуру. Традиционно он собирал студентов од-
ного курса и с завершением учебного года прекращал свое существо-
вание. На следующем курсе студента ждал новый спецсеминар с дру-
гим научным руководителем его курсовой работы. Конечно, были ис-
ключения и индивидуальные варианты совместной работы студента и
преподавателя. На одном курсе, если набор студентов был велик, мог-
ли существовать несколько спецсеминаров, но это не было нормой.
Чаще всего переход на другой курс, в другой семинар с другим науч-
- 190-
ным руководителем вел за собой изменение темы курсовой работы.
Такая структура спецсеминара имела свои плюсы и минусы.
Мой спецсеминар имел «вертикальную» структуру. Он работал
все пять лет учебы (конечно, при желании студент мог выйти из него).
Спецсеминар был разновозрастным. Его участники на моих глазах и на
глазах друг друга росли в нашей совместной работе интеллектуально,
творчески, профессионально. Создавался устойчивый творческий кол-
лектив, в котором каждый ощущал себя частью целого. Разновозраст-
ность состава стимулировала серьезное, я бы сказала, азартное отно-
шение к работе над темой. Положение старших обязывало не снижать
планки достигнутого; младших – стараться повышать ее до уровня
старших или превысить ее.
Из семинара вышли семь кандидатов филологических наук, а
один из них, Аня Арустамова, самая старшая, сегодня – доктор фило-
логических наук, профессор. Успешность подобной модели занятий
подтверждается также одной из историй, связанных с существованием
семинара.
На первом курсе в семинар пришла девочка, курсовая работа ко-
торой, выполненная за год, показалась мне бесперспективной. И я
посоветовала ей сменить семинар, а еще лучше – специализацию: ли-
тературоведение на лингвистику. Но она отказалась: «Останусь у Вас».
По окончании университета она защитила прекрасную диссертацию на
степень кандидата филологических наук на сложном материале твор-
чества Ремизова.
Я знаю (и радуюсь этому), семинарщики дорожили своим коллек-
тивом. Раз в год они собирались у меня в квартире. Даже после окон-
чания университета, до сегодняшней пандемии. Это были радостные,
интересные встречи творческих людей. Они читали свои и не свои сти-
хи, пели под гитару любимые и ими написанные песни, шутили, обсу-
ждали литературные новинки, места и характер своей работы после
университета. Филологи всегда найдут предмет для разговора. Муж
тоже любил эти сборища и для семинарщиков быстро стал своим.
На одно такое празднование нашей дружбы они принесли боль-
шого плюшевого щенка по имени Семка – Семен, что означало крат-
кую форму полного имени «Семинар». Он живет у меня до сих пор:
успокаивает, ободряет, веселит. Фотографии наших «посиделок», на-
писанные их участниками стихи, воспоминания передают атмосферу
единой филологической семьи.
- 191-
Из стихотворений Ани Моисеевой (Куневич)
В нашем мире есть дом, в котором
Все картины, книги и люди
Говорят друг с другом о многом,
Интересно и не спеша.
Околдованы мирным спором,
Бутербродики спят на блюде,
Серый кот бродит там за порогом.
И неслышно поет душа.
А причиной всему – хозяйка:
Мудрый взор и ахматовский профиль,
Аромат натурального кофе,
Пропитавший бодрящую речь.
Помню, глупых девчонок стайка.
Круглых глаз вылупляя картофель.
Мы застыли пред образом профи.
Чтоб навеки его сберечь
В своем сердце, в мозгу, в работах.
Превращаясь в замужних теток.
Растеряв из иллюзий что-то,
Некий опыт познав взамен...
Мы клянемся в любви к Вам снова.
Сохраняя каждое слово,
В жажде чистого и большого,
В жизни – лекции без перемен.
Из «Этюда» Жени Деревенковой
Я была у Вас вчера... <...>
Гости едят бутерброды и читают Бродского, критикуют науку и
наливают в рюмки тягучий терпкий сок. Черный кожаный нос нахо-
дит мои руки и замирает. Знаю, Лайза, заезжие московские «поэты»
слишком долго читают свои стихи. Мы слушаем в пол-уха, мы с тобой
вспоминаем, как впервые попали в этот дом одиннадцать лет назад.
<...>
Мне пятнадцать, Вам пятьдесят. Я еще боюсь Ваших суровых,
пронзительных глаз и не смею пикнуть в ответ. Вы доктор наук, я девя-
тиклассница. <...> Вы заняты выбором подарка для «любимого мужа».
Я смотрю на Вас, как на инопланетянку, мне не понятна эта поздняя
любовь... < ...> Я сбегаю домой, унося ворох тетрадок, мыслей и бурю
эмоций. < ...>
- 192-
Я буду расти, приходить и уходить сотни раз, научусь с Вами спо-
рить, заботиться о Вас, спокойно принимать суровую критику, ругаться,
прощать, смирять Вас, смиряться с Вами... <...> Вас двое <...> мне про-
сто тепло и радостно рядом. Я читаю Замятина, гляжу во все глаза.
Мы собираемся шумной пестрой толпой в этом доме по «сырным
пятницам», звучит рояль и самодельные стихи, и песни под гитару, и
Ваш звонкий голос, и Его громкий смех. < ...>
Десять весен блаженного счастья, невольными свидетелями ко-
торого мы стали, были неописуемы...
Я ухожу в ночь, не прощаясь, не сказав Вам заветных слов, как
всегда, унося от Вас ворох светлых эмоций и мыслей.
Октябрь, 2007.
А тем временем в Москве, параллельно моей семье, жила-была
семья Моники, четвертая в династийной цепочке наших филологиче-
ских семей. По показательности ее филологичности она занимает в
нашей династии первое место: 100-процентным филологом был и муж
Моники, Михаил Павлович Одесский. В пору их встречи в московской
аспирантуре – любимец и гордость филологического факультета МГУ.
Он был первым, кто встретился ей при прибытии в общежитие аспи-
рантов и помог донести до двери ее блока раскрывшийся чемодан. Но
он лучше меня сам расскажет об их филологической жизни.
Филологические стежки-дорожки:
Моника Спивак, Михаил Одесский
Мы с Моникой встретились в 1983 г., поступив в аспирантуру
при кафедре истории русской литературы в МГУ. (Другом на долгие
годы остался наш «сокорытник» Сережа Тихомиров – чеховед, поэт, по
определению Моники – «русский мистик».) В филологическом ракурсе
– мы с Моникой встретились, как «лед и пламень». Она занималась
комическим в романах Ф.М. Достоевского (научный руководитель К.И .
Тюнькин), темой выношенной, еще дипломной; я – художественными
особенностями драмы эпохи Петра I (П.А . Орлов), потому что было
невозможно продолжать занятия древнерусской литературой. У нее –
школа имманентного анализа, инстанции автора (как сказали бы сей-
час) и т.п.; у меня – культурно-историческая школа, мутировавшая
применительно к советским обстоятельствам. В общем, у нее – клас-
сично (наш друг обиделся, когда Моника, объясняя свою тему, попы-
талась рассказать, о чем «Братья Карамазовы»), у меня – экзотично
(позднее на защите диссертации один из выступавших похвалил за то,
что я эти драмы прочитал). Но «бывают странные сближенья»: после
- 193-
аспирантуры я работал в московском Музее Достоевского, а потом – в
журнале «Детская литература». В результате нам с Моникой заказали
том Достоевского для серенькой серии «Педагогическая библиотека»;
том мы подготовили, однако серия перестала выпускаться и мы огра-
ничились статьей в «Детской литературе» (1991). Мои друзья-
редакторы сочли авторское заглавие «Достоевский о детском чтении»
скучным и заменили – естественно, без согласования – на завлека-
тельное «Учи Федю читать»: цитата вырвана из письма, где речь шла о
сыне писателя, но получилось, что это мы собрались «учить» Достоев-
ского. Короче, «Достоевский-педагог» был какой-то неблагословенный
и, может, к лучшему, что он остался машинописью, затерянной в на-
шей филологической квартире. Такой вот был пролог.
Семейная московская жизнь началась в 1989 г. Я работал в
«Детской литературе», «Литературном обозрении», частном универ-
ситете Натальи Нестеровой и, наконец, Российском государственном
гуманитарном университете (РГГУ); Моника оказалась в Мемориаль-
ной квартире Андрея Белого, которая находилась в здании, принад-
лежащем Министерству иностранных дел, и которая была – широким
жестом Э. А. Шеварнадзе – преобразована в музей, подчиненный Му-
зею А. С. Пушкина. Соответственно, там – в РГГУ и в «Андрее Белом» –
мы поныне служим.
Романтические девяностые способствовали и поискам неожи-
данной работы, и авантюрам вроде сотрудничества с ТВ, и масштаб-
ным утопическим идеям. В частности, мы с друзьями затеяли новую
научную школу (суть не уточняю), да вот философ Вадим Руднев, про-
шедший выучку в Тарту, вернул к реальности: по его словам, школу
основывают так – собираются на защите чьей-нибудь докторской и
заваливают ее, солидарно апеллируя друг к другу. Только так и осно-
вывают, потому идею оставили.
Жили в однокомнатной квартире, сын – в заваленной книгами
комнате, мы – на кухне, достаточно вместительной, чтобы работать и
принимать гостей, преимущественно опять же филологов. Жили фило-
логически (даже – «междисциплинарно»), читали, обсуждали, печата-
лись. Кстати, идиллическая попытка читать какую-нибудь книгу по-
семейному вслух (например, появившиеся романы М. Алданова и
Б. Поплавского на отдыхе в Коктебеле) сорвалась: для читающего по-
добное усвоение текста казалось слишком медленным и далеко не
тождественным «медленному чтению» как методу (М. О . Гершензон),
а слушающий, похоже, скучал и отвлекался. Зато в том же Коктебеле
мы замечательно искали дома, связанные со знакомыми Андрея Бело-
- 194-
го: так, старушка-мемуаристка стала вспоминать о купаниях нагишом с
Волошиным, но ворвалась дочь и разве что ни метлой прервала соби-
рание уникальных свидетельств.
В 1998 г. мы переехали в трехкомнатную квартиру у метро «Аэ-
ропорт», но – филологи – повторно и еще в большей степени заполни-
ли пространство любимым, «книжечками». Зажили так же, как жили –
филологически. Кроме того, новое столетие подарило новую форму
семейного филологического времяпрепровождения: научный туризм,
то есть конференции во всякого рода сладких городах и странах. Со-
гласно духу времени, темы у конференций были широкие, так что мы
докладывали о разном, а новые друзья становились общими.
Жизнь шла – и вот звучит меланхолическая нота. В наш дом
случайно (!) вселился – окна в окна – близкий друг, Александр Юрье-
вич Галушкин (Саша), который тогда возглавил «Литературное на-
следство». «Аэропортовскую» научную школу теперь не основывали,
но много было съедено и выпито, митинговано и говорено; аккурат-
ный Саша даже замыслил общий электронный каталог двух библио-
тек, чтоб новое приобретать осмысленно и осмотрительно. А 22 ап-
реля 2014 г. Галушкин умер (сборник статей, посвященный его памя-
ти, составил первый выпуск библиотеки «Литературного наследст-
ва», 2017).
Для Моники «жизнь с Андреем Белым» определила научную
доминанту. От Достоевского она переместилась в «серебряный век»,
которым всегда занималась моя любимая теща Рита Спивак и кото-
рым дочь заниматься не планировала. Более того, сохранив пристра-
стие к анализу текста, Моника обратилась к обнаружению неведо-
мых единиц хранения и их изданию, снабженному классическим
комментарием. Эта линия отмечена монографией «Андрей Белый –
мистик и советский писатель» (2006). Напротив, для меня научная
жизнь реализовалась во встречах с разнонаправленными «социаль-
ными заказами», в которых я старался распознавать знаки судьбы, а
филологически – историческое функционирование идеологем и то-
посов. Отсюда, например, публикация полного текста дилогии Ильфа
и Петрова (первое издание 1997–2000 гг.) и монография «Миры
И.А . Ильфа и Е.П. Петрова» (2015), все это вместе с Д.М. Фельдма-
ном; монографии «Поэтика власти. Тираноборчество. Революция.
Террор» (опять же с Фельдманом, 2012) и «Граф Дракула: опыт опи-
сания» (с Т. А. Михайловой, 2009). К слову: Давид Фельдман, коллега
по кафедре в РГГУ, и кельтолог Татьяна Михайлова – не просто соав-
торы, но друзья, «наш круг».
- 195-
Наконец, Моники и мои филологические стежки-дорожки (со-
храняя исходный «лед и пламень») пересеклись. Ее сенсационная кни-
га «Посмертная диагностика гениальности» (2001) и моя статья о «фи-
зиологическом коллективизме» А. А. Богданова (2004, потом глава в
монографии «Граф Дракула») были посвящены сумеречной зоне рис-
кованных проектов советского естествознания и медицины. На сле-
дующем этапе я все-таки испытал могущественное притяжение «мони-
киного» Андрея Белого: мы вместе работали (плюс немецкий друг из
Трира, профессор Хенрике Шталь) – в течение многих-многих лет – над
публикацией гигантского антропософски-культурологического трактата
Белого «История становления самосознающей души» (в данный момент
ожидаем его выход в двух томах «Литературного наследства»).
Своего рода кольцевой рифмой к филологическому прологу
следует, наверное, счесть наши с Моникой тезисы «Творчество
Ф. М . Достоевского в «Истории становления самосознающей души»
Андрея Белого» к симпозиуму в Софии (2018): дело здесь, разумеется,
не в значимости кратких тезисов, а в воспоминаниях о Достоевском и в
том, что инициатором снова выступил филологический друг – болгар-
ский славист Эмил Димитров.
P.S. Наша филологическая версия семейной жизни Монику и
меня устраивала; стоит ли изумляться, что сын – ни одного мига! – не
помышлял стать филологом.
***
А жизнь, к счастью, продолжается. И у моего любимого внука Да-
нечки (Даниила) уже своя, пока нефилологическая семья с двумя пре-
лестными моими правнуками. Старший, принц с русыми кудрями и
синими озерами глаз, готовится к школе – Соломон (Мóник). Млад-
шенькая, тоже с синими, распахнутыми в мир глазами, чуть темнее, –
Милочка. Даня говорит, что она всегда точно знает, чего хочет.
И нельзя предугадать, какую дорогу жизни они выберут... Сме-
шанные нации, культурно-исторические, социальные и религиозные
корни. И три языка у каждого: русский, белорусский, английский.
Мóник похож характером на бабушку Монику. Милочка любит рисо-
вать, как ее мама Леночка, компьютерный дизайнер. Может быть, они
и станут еще филологами, а может, не станут. Тоже «ничего страшно-
го», как любит говорить мой приятель-ветеринар. Я согласна: не все
же хорошие люди – филологи. Обидно только, что они далеко, в Чика-
го, а тут еще пандемия... Ни доехать, ни дойти.
- 196-
В молодости я мечтала жить и работать в Москве и объехать весь
мир. И то, и другое в то время для меня оказалось невозможным. А
теперь дочь в Москве, внук с семьей в США. Я побывала в семнадцати
странах, защитила докторскую диссертацию. Все сбылось, хотя не со-
всем по задуманному.
Но сегодня, к счастью, расстояния не означают расставания. И я
бываю в Америке и часто – в Москве.
Когда-то на конференциях меня спрашивали: Моника Спивак –
Ваша дочь? Теперь вопрос задают иначе: Вы – мама Моники Спивак?
И я рада ответить утвердительно.
- 197-
Ю. Баталина,
выпускница 1985 г.
ЖИЗНЬ СРЕДИ СЛОВ
Филологическая семья: взгляд изнутри
... Мне два с половиной года. Недавно у меня родился братик, и
родители решились сдать меня в ясли. Первый ясельный день прошел
как положено: я, неприкаянная, бродила по комнате и ныла: «Где моя
мама Люся, где мой папа Саша, где моя баба Тася, где мой дед Сто-
лет?!» Деда, как и папу, звали Александром, и я, видимо, чтобы не
было путаницы, придумала ему прозвище. Воспитатели, чтобы отвлечь
меня, пытались завязать беседу: «А что делает твой папа? А что делает
твоя мама?» Когда вечером папа пришёл забирать меня домой, весь
педколлектив бросился ему навстречу с нетерпеливыми расспросами:
«Скажите... Что пишет ваша жена?!»
Оказывается, на вопрос: «Что делает твоя мама?» я ответила:
«Мама пишет преамбулу».
Мудреные слова окружали меня с первых дней жизни. Когда твои
родители – ученые, да еще лингвисты, да еще сторонники модных
направлений в этой науке, без «преамбул», «парадигм» и прочих «ан-
титез» словарный запас неполон. Мой же словарный запас представ-
лял собой редкостное сочетание ученых слов, которых не знали воспи-
татели детского сада, и дремучих диалектизмов, почерпнутых из речи
бабушки Таси, маминой мамы, которая была почти неграмотна и на
всю жизнь осталась человеком из глухой прикамской деревни. Было
время, родители всерьез задумывались, как избавить меня от диа-
лектного выговора: например, вместо «детское питание» я говорила
«детскоё питаниё», совсем как бабушка. Со временем это прошло са-
мо собой, я привыкла следить за речью и улучшать ее, чем, смею ду-
мать, небезуспешно занимаюсь и поныне.
В этом я – последователь родителей: они оба на первом курсе
филфака говорили вовсе не на русском литературном языке. У обоих
был сильный акцент: у мамы – смесь диалекта и городского просторе-
чия, у папы – настоящий одесский выговор, украинско-идишский, ди-
ковинный для наших мест. Оба они самостоятельно обучались русской
орфоэпии, беря пример со своих преподавателей – Ксении Александ-
ровны Федоровой, Франциски Леонтьевны Скитовой, Соломона Юрье-
вича Адливанкина, – и достигли в этом деле настоящих вершин.
- 198-
Да, в нашей семье ХХ век в Советском Союзе собрался, как в кап-
ле концентрированного раствора: мама Людмила Александровна
Грузберг – ставшая преподавателем вуза дочь малограмотной кресть-
янки, папа Александр Абрамович Грузберг – выходец из одесской се-
мьи евреев-ашкенази, которого в Пермскую область забросила снача-
ла военная эвакуация, а потом, уже в 1950-е годы – стремление посту-
пить в вуз. Их сын Илья стал профессором физики в американском
университете, а их дочь – это я. Я журналистка.
В 1955 году папа поступил на филфак Пермского университета.
Недавно, в октябре 2020 года, он вспоминал, что ровно 65 лет назад,
когда он, первокурсник, пришел на одно из первых занятий по введе-
нию в языкознание, Франциска Леонтьевна Скитова, которая читала
этот курс, привела с собой девочку-второкурсницу: «Это Люся Обори-
на, староста диалектологического кружка». Франциска Леонтьевна
занималась диалектологией и стремилась увлечь в этом направлении
первокурсников.
Это была первая встреча моих родителей. Папа говорит, что труд-
но представить себе более непохожих друг на друга людей. И правда,
они были противоположностями практически во всем, даже в распо-
рядке дня. Мама – ярая, можно сказать, патентованная «сова»: когда
она вышла на пенсию и ей не нужно стало ходить на работу, она почти
перешла на ночной образ жизни. Папа – такой же ярко выраженный
«жаворонок», который всегда просил ставить его занятия на первую
пару и охотно отправлялся в институт к 8.00, а с тех пор, как полностью
перешел на переводческую деятельность, встает в шесть часов утра,
чтобы к обеду уже выполнить свою дневную норму работы.
Несмотря на все различия, они прожили вместе почти 63 года, и
трудно найти более крепкую и гармоничную пару. До этой даты оста-
валось две недели, когда ковид отобрал у нас маму. Мне непросто
дается этот текст: очень трудно писать об одном из родителей в на-
стоящем времени, а о другом – в прошедшем.
Мама и папа очень различались и в отношении к филологии. Ма-
ма была настоящим ученым – в этом суть ее личности. Для нее немыс-
лимо было просто читать, просто смотреть фильмы – она все анализи-
ровала. Анализ текста – любого текста – был ее любимейшим заняти-
ем. Думается, что, если бы молодая, по-европейски интересная, зажи-
гательная Франциска Леонтьевна не увлекла ее в диалектологию, ма-
ма могла бы стать видным литературоведом или даже культурологом.
Помнится, уже в нынешнем, XXI веке она выступала на культурологи-
ческой конференции с разбором своего любимого сериала «Северная
- 199-
сторона», где нашла множество архетипов и подтекстов. Когда мама
рекомендовала кому-то книгу, она всегда увлеченно и подробно рас-
сказывала, какие там содержательные глубины и стилистические кра-
соты, – так она заразила всех своих подруг интересом к своему люби-
мому писателю последних лет – Меиру Шалеву.
Папа другой. Его филологичность, так сказать, «широкого профи-
ля»: он не столько ученый-теоретик, сколько практик – ему нравятся
тексты, нравятся слова. Он всегда обожал словари и составлял их сам,
его самая крупная научная работа – «Частотный словарь русского язы-
ка второй половины XVI – начала XVII века». Он книголюб, относящий-
ся к книгам с огромным пиететом; наконец, он переводчик. Именно
это занятие, бывшее когда-то хобби, стало его профессией, принесло с
годами известность и неплохой доход.
... Однако это уже экскурс в новейшее прошлое, а тогда, более 60
лет назад, начиная учиться на филфаке, мама, как она сама признава-
лась, даже не знала слова «лингвистика». Диалектологом она стала
благодаря Франциске Леонтьевне, и вся ее молодость прошла в экс-
педициях. Она ездила в них не только в студенчестве, но и много лет
спустя. Я хорошо помню, как мы с братом оставались на попечении
бабушки, потому что «мама в экспедиции, папа в командировке» (па-
па работал в Институте усовершенствования учителей и ездил на кон-
сультационные пункты по всей Пермской области).
Неудивительно, что мама с ее научным складом ума и огромной
увлеченностью написала и защитила кандидатскую диссертацию на
несколько лет раньше, чем папа. Ее диссертация «Лексико-семанти-
ческий анализ вводных элементов одного говора (к проблеме системы
в лексике)» была сделана на материале русских говоров севера Перм-
ского края и исследовала область на стыке лексики и грамматики: изу-
чались наречия в говоре как часть речи и как грамматическая система.
Русские говоры севера Прикамья мама знала феноменально: она
изучила их как иностранные языки и могла говорить на диалекте, иде-
ально имитируя не только фонетику, но и интонации. Много лет спус-
тя, консультируя художника Александра Морозова для большого арт-
проекта Пермской художественной галереи «Акчим. Координаты го-
лоса», мама записала текст на «языке» деревни Акчим Красновишер-
ского района, и это, наверное, последняя аудиозапись на настоящем
«акчимском языке» – ведь этой старинной, основанной еще в XVII веке
северной русской деревни уже не существует: закрытие лесосплава на
Вишере привело и к закрытию деревень, население которых жило за
счет леса.
-200-
«Акчим. Координаты голоса» – артистическая рефлексия на тему
создания «Акчимского словаря», выдающегося, даже эпохального
труда диалектологов Пермского университета во главе с Франциской
Леонтьевной Скитовой: полного словаря говора одной деревни. «Ак-
чимский словарь» писали и редактировали более 40 лет. Последний,
шестой том вышел уже без Скитовой, под редакцией моей мамы.
Сложно сказать, много ли людей используют «Акчимский словарь» в
своей практической деятельности, но он навсегда останется памятни-
ком научной безупречности и огромной увлеченности своим делом, а
как показывает выставка «Акчим. Координаты голоса», еще и памят-
ником исчезнувшей цивилизации, которая говорит с нами на своем
особом языке.
Много лет мама изучала не только говоры, но и пермское город-
ское просторечие. О нем ею написаны десятки статей в сборниках
«Живое слово в русской речи Прикамья» и во многих других изданиях.
Она подготовила в соавторстве с двумя коллегами «Хрестоматию
пермских народных говоров».
Однако со временем мама стала все больше уделять внимание
таким направлениям, как социолингвистика и психолингвистика – под
влиянием Леонида Владимировича Сахарного, с которым родители
много лет дружили, и вместе со столь же увлеченной этой темой под-
ругой-однокурсницей Тамарой Ивановной Ерофеевой. Вместе с Тама-
рой Ивановной мама считается основательницей пермской школы
социо- и психолингвистики. Она написала много работ по этой про-
блематике и предложила ряд новых концепций и терминов, которые и
сегодня употребляются в науке.
Об этих и других терминах она написала цикл статей «Лингвисти-
ческий словарь»: в них она говорит о вопросах, которые занимали ее в
последние годы активной научной деятельности: «концепт», «антино-
мия», «парадокс» и другие. Ее статья о концепте в интернет-журнале
«Филолог» называется так: «Концепт, или Отчего Америка – концепт, а
Финляндия – нет?» В этом заголовке очень виден мамин стиль – она
писала легко, занимательно, и даже самые серьезные ее научные ра-
боты интересно читать.
Для нее слова всегда были не просто объектом изучения, а важ-
нейшей частью жизни – не только ее жизни, а жизни вообще, сущест-
вования человечества. Недаром она так полюбила социолингвистику и
психолингвистику – они как раз и занимаются связями языка и жизни.
Статья о локализмах в том же интернет-журнале «Филолог» называет-
ся «Локализмы. И немножко о детстве» – изучая пермское городское
-201-
просторечие, мама изучала язык своего детства и как будто воскреша-
ла жизнь того времени.
Но, пожалуй, главное место в ее научной деятельности занимает
лексикография. В этом они с папой близнецы: словари – наше всё!
Мама с самого первого дня участвовала в подготовке Акчимского сло-
варя, была в первой экспедиции, специально собиравшей материалы
для этого словаря, и во многих последующих таких экспедициях. Ею
написано очень много словарных статей во всех томах словаря. После
смерти Франциски Леонтьевны Скитовой она стала руководителем
авторского коллектива, и последний том словаря вышел под ее редак-
цией.
Не могу не сделать отступление и рассказать о последних днях
Франциски Леонтьевны. Ее не стало в начале апреля 2004 года, а за
две недели до этого она пришла, как всегда, на работу, чтобы редак-
тировать Акчимский словарь. Когда она зашла в пятый корпус универ-
ситета, ей стало плохо, ноги отказались ее слушаться. Она опустилась
на какой-то стул, студенты спросили, чем ей помочь, и бросились вы-
зывать скорую помощь, но Франциска Леонтьевна громко протестова-
ла и требовала, чтобы ее отвели в словарный кабинет. Ни за что не
желала уходить с работы.
Часто об этом вспоминаю.
Акчимский словарь был далеко не единственным, в работе над
которым мама принимала участие. Она участвовала в разработке на-
учной основы и составлении многих словарей, которые готовились и
готовятся в Пермском университете: Словаря русских говоров севера
Пермского края, Социолингвистического словаря пермских локализ-
мов и других.
Мама и папа вместе написали множество словарей. По просьбе
екатеринбургского издательства «Литур» они составили целую серию
словарей, предназначенных в основном для учителей русского языка:
«Слова с удвоенными согласными», «Слитно? Раздельно? Через де-
фис?», «С прописной или строчной буквы?», «Иностранные слова»,
«Крылатые слова и цитаты», «Пословицы и поговорки», «Словообра-
зовательный словарь». Бесценные пособия для словесников (да и для
школьников тоже), учитывая скрупулезность моих родителей!
Много лет мама и папа составляли толковый словарь современ-
ного русского языка, который в 2015 году выпустило в электронном
варианте издательство «Флинта». На тот момент это был первый
«Словарь русского литературного языка начала XXI века». Для родите-
лей это было огромное удовольствие, а получилась грандиозная рабо-
-202-
та – около полутора тысяч страниц! Как жаль, что словарь не напечатан
на бумаге...
Важнейшая часть работы моей мамы – научное руководство. Эту
деятельность она особенно любила и, уже фактически выйдя на пен-
сию, продолжала руководить курсовыми и дипломными работами, а
также оппонировать их. Поскольку защиты курсовых и дипломных
происходят в начале лета, основная часть работы приходилась на теп-
лые дни. Это выглядело так: к маме приходили студенты, они устраи-
вались на лавочке во дворе или на территории ближайшего детского
садика и несколько часов разбирали тексты работ, дыша свежим воз-
духом.
Студенты эти консультации обожали, а мама обожала своих ди-
пломников, дружила и переписывалась с ними после окончания уни-
верситета. Однажды выпускницы решили поблагодарить ее за руко-
водство, пришли к нам домой, притащили сумки с продуктами и пря-
мо у нас на кухне приготовили праздничный обед. Мама веселилась:
гости сами готовят, никаких хлопот.
Папа тоже начинал научную деятельность как диалектолог, тоже
участвовал в первой экспедиции по подготовке Акчимского словаря и
написал ряд словарных статей в первом томе этого словаря. Собствен-
но, этому словарю я и мой брат обязаны своим появлением на свет:
мама с папой познакомились и подружились в диалектологическом
кружке.
Однако папина дальнейшая научная биография выстраивалась
совсем не так гладко, как мамина. Были и субъективные причины, и
обстоятельства объективного характера.
Мама окончила университет на год раньше папы, тут же начала
работать на филфаке лаборантом и проработала там всю жизнь – она
из тех людей, у которых в трудовой книжке значится одно-
единственное место работы, меняются только должности. Когда год
спустя после мамы из университета выпускался папа, его ради прили-
чия спросили, не хочет ли он вместе со всем курсом отправиться по
распределению в Среднюю Азию, и он, тоже ради приличия, сказал,
что очень хотел бы, но уже есть семья и все такое... Ему вручили сво-
бодное распределение, и он отправился искать себе работу.
Дело в том, что семейный человек, супруг которого уже получил
высшее образование, имел право на свободное трудоустройство в
отличие от всех несемейных, которые обязаны были отработать по
распределению три года. То, что мои родители уже были женаты, ко-
нечно, спасло папу от Средней Азии, но вот беда: в те годы сурово бо-
- 203-
ролись с «семейственностью», и два супруга вместе не то что на одной
кафедре – на одном факультете работать не могли. Даже в одном вузе
– и то было проблематично.
Поэтому папа брался за любую работу по специальности. Он дол-
го работал в школе – обычной и вечерней, затем устроился в Институт
усовершенствования учителей, а затем – в Педагогический институт,
причем не на филфак, а на факультет начальных классов, где и прора-
ботал до пенсии – 51 год.
Папа всегда чувствовал огромную ответственность за семью, ог-
ромную необходимость ее обеспечивать. Он всегда работал на не-
скольких работах одновременно: занимался репетиторством, читал
публичные лекции, часто ездил в командировки – это оплачивалось
особо. Много лет хороший доход приносила папе работа в приемной
комиссии Высшей школы милиции (сейчас – Пермский филиал Ниже-
городской академии МВД России).
В этой связи он часто цитировал своего друга, литературоведа
Израиля Абрамовича Смирина, который говорил: «От работы нельзя
отказываться. Работы много не бывает!» Обо всех своих работах папа
написал очень интересные воспоминания – и в командировках, и в
школе милиции, да и просто в школе происходило много забавного.
Позволю себе процитировать один эпизод из этих воспоминаний:
«После окончания университета я год работал в 92-й школе.
Мне дали классное руководство в пятом классе, и я, конечно, с ребя-
тами не справлялся. Они меня не слушались, шумели на уроках. И
вот я принес “Волшебника Изумрудного города”, и мы заключили
соглашение: если день пройдет нормально, я после уроков читаю им
с полчаса книгу. И вот представьте себе – они с такой страстью
ждали этого чтения, что каким-то образом сдерживались, и меня
даже перестали ругать на педсоветах за дисциплину в моем классе.
Много лет спустя я зашел в книжный магазин на Ленина, угол Кри-
санова, и там ко мне подошла молодая женщина с ребенком на ру-
ках. Она сказала: “Вы меня, конечно, не помните. Вы учили нас рус-
скому языку и литературе в пятом классе. Так вот, самое лучшее,
самое светлое мое воспоминание о школе – это то, как вы нам чи-
тали “Волшебника Изумрудного города”. Больше мне школу даже
вспоминать не хочется».
В 1970-80-е годы папа, будучи преподавателем пединститута,
много занимался наукой: публиковал по пять-шесть статей в год, вы-
ступал на конференциях. В его научные интересы входили диалектоло-
гия, история русского литературного языка, историческая лексикогра-
- 204-
фия, русская грамматика и словообразование. На эти темы им написа-
но несколько десятков статей.
Его очень интересовала история русского литературного языка, в
частности, вопрос о создании современной системы стилей этого язы-
ка. Этой проблеме посвящена его кандидатская диссертация.
Работая с будущими преподавателями, он написал несколько по-
собий по русской грамматике для студентов и ряд популярных статей
по истории русской лексикографии («Первый русский словарь трудно-
стей», «Исторические словари русского языка», «Словари иностранных
слов» и другие).
Однако со второй половины 1970-х годов его жизнь начала ме-
няться...
Папа – страстный книголюб. Наша библиотека давно стала леген-
дой. Сейчас у него около 12000 книг, из них примерно 400 томов (око-
ло 300 наименований) – словари. Это невероятная коллекция, там есть
уникальные дореволюционные издания – первые словари русского
языка вообще, в истории; есть словари с пометками великих языкове-
дов, например, Бориса Александровича Ларина, Льва Владимировича
Щербы; есть редкости и курьезы, например, словарь воровского жар-
гона с пометкой «для служебного пользования» – результат работы в
школе милиции.
Не менее удивительна коллекция фантастики. Папа обожал этот
жанр с детства. В собрании фантастической литературы интересна,
конечно, советская часть – роскошная библиотека изданной в СССР
фантастики, где тоже множество редких вещей, например, футуристи-
ческие опусы 1920-х годов. В постсоветские годы фантастику стали
издавать просто безудержно, качество упало. Стало неинтересно со-
бирать.
В 1970-80-е годы папа был не просто книголюбом, а книголюбом
активно действующим. Он участвовал в создании городского клуба
любителей книги, который собирался в Доме журналиста, несколько
лет вел клуб книголюбов в книжном магазине No10, который так и
назывался – совершенно официально: «Магазин-клуб “Поиск”». Затем,
кажется, в 1982 году, был открыт Клуб любителей фантастики «Ри-
фей», председателем которого стал Александр Лукашин, а папа всегда
активно ему помогал. «Рифей» стал одним из центров любителей фан-
тастики в СССР – в Перми на его базе проходили всесоюзные слеты и
конференции фантастов, приезжали видные писатели, критики. Все
это, естественно, под эгидой пермского комсомола.
- 205-
Активная деятельность клубов любителей фантастики (КЛФ) пе-
чально завершилась в 1984 году. Тот год был прямо по-оруэлловски
мрачным: во главе СССР стоял полупризрачный Константин Устинович
Черненко, и, говорят, его зятю очень не понравилось, что в стране рас-
плодились идеологически непроверенные фантасты. КЛФ и их актив-
ных членов стали проверять. К папе на лекции ходил такой «прове-
ряющий», который следил, чтобы все было как следует. Папе повезло:
проверять его назначили замечательного Бориса Михайловича Про-
скурнина, который, разумеется, охотно подтвердил, что папина педа-
гогическая деятельность идеологически вполне выдержанна.
Надо сказать, что мама тоже вела активную просветительскую
работу. В качестве лектора общества «Знание» она читала публичные
лекции на темы «Культура речи» и «Ораторское искусство», а плюс к
этому выступала с лекциями очень, на сегодняшний взгляд, забавной
тематики: рассказывала о своих зарубежных поездках.
В то время выехать за рубеж было труднее, чем в эпоху панде-
мии. Пермь была засекреченным, «закрытым» городом, но и в других
городах по всему Советскому Союзу поездка в Болгарию была преде-
лом мечтаний, а уж в капиталистическую «заграницу» попадали еди-
ницы, и моя мама была среди этих единиц.
В те годы преподавание русского языка иностранцам считалось
частью идеологической борьбы с Западом, и многие филологи, в том
числе пермские, участвовали в этой «борьбе». Тамара Ивановна Еро-
феева, например, трудилась в Чехословакии, а инициатор издания
этой книжной серии Нина Евгеньевна Васильева – на Кубе. Моя мама
вообще отличилась: она в 1973-74 годах работала в Индии, в 1975-76
годах – в ГДР, куда умудрилась вывезти и нас с Ильей, а уже «на изле-
те» СССР, в 1985-88 годах, преподавала в университете Осло в Норве-
гии. Поскольку «заграница» была закрыта для большинства наших со-
граждан, в школах и трудовых коллективах с интересом слушали лек-
ции о поездках в эти страны, особенно в Индию.
С работой мамы в ГДР связана одна потрясающая книголюбская
история. Тогда как раз вышло полное издание «Мастера и Маргариты»
Булгакова, первое на русском языке. Книга была дефицитной неверо-
ятно, достать ее было невозможно, а в библиотеке университета Рос-
тока, где работала мама, она была; и моя мама переписала (еще раз:
переписала) весь этот большой роман своим аккуратнейшим почер-
ком. Она писала его кусочками и посылала папе в Пермь в письмах.
Когда мы вернулись из ГДР, папа прочитал нам с Илюшей этот роман
по маминой рукописи вслух – так мы познакомились с «Мастером и
Маргаритой». Мне было 14 лет, Илье 12.
- 206-
Рукопись эта у нас сохранилась. Думаю, это достойный экспонат
для музея советского самиздата, если такой музей существует.
Мама и папа во время всех поездок писали друг другу длинню-
щие, подробнейшие письма. Эта переписка тоже сохранена. Сейчас
так никто не умеет... Традиция писать длинные письма возродилась,
когда Илья уехал учиться в США, таким образом, накопился замеча-
тельный семейный эпистолярный архив.
Уж если говорить о зарубежном опыте моей мамы, нельзя не
упомянуть поездку в Югославию. Мама была там в начале 1980-х го-
дов, причем не преподавала, а сама училась: изучала сербохорватский
язык, который потом преподавала в Пермском университете.
Ей вообще легко давались иностранные языки. Она ни один не
знала в совершенстве, но легко переходила с английского на немец-
кий, с немецкого на норвежский и так далее, если нужно было объ-
ясниться на какие-то простейшие бытовые темы. У мамы было не-
сколько зарубежных подруг, с которыми она переписывалась и ино-
гда ездила их навестить. Была среди них и женщина из Нидерландов,
кажется, из Утрехта. Бывая у нее, мама немножко освоила фламанд-
ский язык и в 1993 году перевела с него книгу Пита ван Пепейна «Как
я стал фокусником» – по просьбе знаменитого фокусника Владимира
Данилина. Книга вышла в издательстве «Урал-Пресс», переводчиком
значилась Б. Романова-Арсеньева; это означает «бабушка Романа и
Арсения».
Подписываться псевдонимами, образованными от имён моих
сыновей Романа и Арсения, – это наша семейная традиция. Когда я
начинала работать в журналистике, считалось, что больше одной ста-
тьи под одной фамилией в газетном номере быть не должно, поэтому
все журналисты, которые много писали, обзаводились целым букетом
псевдонимов. Татьяна Петровна Чернова иногда подписывалась
«Т. Митина» (по имени младшего сына), а иногда – скромно так –
«Т. Ларина». Я же, недолго думая, стала «М. Романова» и «М. Арсень-
ева» – «мама Романа» и «мама Арсения».
«Д. Арсеньев» – «дед Арсения» – это постоянный псевдоним мое-
го папы в начале его переводческой деятельности.
Вот мы и подошли к этому переломному моменту: с середины
1970-х годов папа все больше занимался переводами. О том, как это
происходило, я написала в рассказе «Больше, чем деньги» – он публи-
ковался многократно; первый раз, в совершенно искалеченном виде, в
газете «Звезда» под заголовком «Властелин перевода» (отсылка к
«Властелину колец»).
Привожу здесь этот рассказ с некоторыми сокращениями.
- 207-
«Четверть века назад пермский центральный рынок представ-
лял собой зрелище гораздо более живописное, чем сейчас. В дальнем
его углу располагалась книжная “барахолка”. Прямо на голой земле
расстилались газеты, а на них раскладывались дефицитные изда-
ния. Книги эти не продавались. Их меняли – на другие книги, потому
что в те времена книги значили больше, чем деньги. Если удавалось
нарваться в магазине на хорошую книжку, она приобреталась в мак-
симальном количестве экземпляров: себе, друзьям и на обмен.
В квартире Александра Абрамовича Грузберга, доцента Перм-
ского педагогического института, был специальный шкафчик для
двойных книг. Каждое воскресенье Александр Абрамович набивал
битком пожилой многострадальный портфель и отправлялся на
“барахолку”. Здесь собиралась хорошая компания: начинающая пи-
сательница Нина Горланова (она особенно “прикалывалась” по аль-
бомам с живописью), организатор (в будущем) Пермского клуба лю-
бителей фантастики Александр Лукашин и странный, похожий на
гнома человечек – рабочий завода имени Ленина Раис Зарипов.
Обменявшись книгами и впечатлениями о них, компания преда-
валась мечтаниям. “Эх! – говорил Лукашин, – Нам бы свое издатель-
ство. Мы бы завалили рынок фантастикой”. А Раис хитро щурился.
У него уже было свое “издательство”.
В те времена даже разговоры подобные были опасны, а уж тем
более – самиздатовская деятельность. Раис Зарипов как раз такую
деятельность и осуществлял. На пишущей машинке, на самой тон-
кой “папиросной” бумаге в шести экземплярах перепечатывалась
неизданная официально в Советском Союзе книжка. Затем все эк-
земпляры переплетались на небольшом переплетном станке, одна
“печатка” (так назывались эти самодельные томики) оставалась
изготовителю, а пять расходились в разные углы СССР, чтобы вза-
мен оттуда пришли другие “печатки”.
Таким способом собирались приличные библиотеки. Самые раз-
ные – по интересам. Булгаков и Солженицын – это понятно. “Анти-
советчики” вроде Синявского и Даниэля – это отдельная песня; но
издательская политика СССР не удовлетворяла аппетиты людей,
далеких от идеологии, например, просто любителей почитать за-
падную фантастику. Именно фантастикой и увлекался в те време-
на Раис Зарипов. Для полного производственного цикла ему не хва-
тало лишь человека, хорошо владеющего как английским, так и рус-
ским языком. Квалифицированного переводчика.
Однажды Раис притащил Александру Абрамовичу книгу Эдгара
Райса Берроуза “Земля, забытая временем” и спросил, не слабо ли ее
- 208-
перевести. Грузберг взял книжку, обложился словарями – и перевел.
Раис забрал перевод и через некоторое время принес переплетенный
экземпляр и “гонорар” – книжку другого самиздатчика. Процесс, как
говорится, пошел.
Очень скоро Грузберг наловчился переводить “покетбук” за не-
делю. Возникла новая проблема: где брать тексты на английском? И
тут в процесс включился Лукашин. Он подсказал, что в Москве, в
библиотеке иностранной литературы, можно найти практически
все, что угодно. И заказать фотокопии.
Именно ФОТОкопии. Ксерокс тогда, уже, конечно, был изобре-
тен, но считался в СССР дьявольским порождением буржуазии, на-
правленным исключительно на подрыв идеологической девственно-
сти советского гражданина. Ксероксами тогда не пользовались.
Единственным способом копирования была обычная фотография.
Александр Абрамович, будучи ученым-филологом, легко запи-
сался в библиотеку иностранной литературы. Ездил туда раз в ме-
сяц дня на два-три, находил (с подсказкой Лукашина) неизданные
книги Саймака, Нортон, Шекли и других, порой вовсе не известных в
СССР, авторов, заказывал фотокопии. Заказы приходили по почте.
Толстую фотобумагу раскладывали по папкам для школьных тет-
радей. Постепенно фотокопии заполнили приличный стеллаж.
Здесь надо пояснить один момент, непонятный, может быть,
в свете нынешних реалий. Грузберг ездил в Москву на свои деньги. Он
и Лукашин из собственного кармана платили за фотокопии. Зарипов
на свои деньги закупал бумагу, копирку, переплетные материалы.
Оплачивал почтовые расходы. Никто из них не получал за свою ра-
боту ни копейки. Только книги.
Потому что книги тогда значили больше, чем деньги.
Жена Грузберга Людмила Александровна вечную нехватку денег
в семье объясняла философски: “Деньги идут к деньгам, а к книгам
идут книги”.
Самиздатчики сильно рисковали. Очень хорошо помню мрачный
момент (дело происходило на рынке, и я была свидетелем), когда
маленький Раис, высунувшийся из-за спин двух здоровенных парней,
крикнул жалобно: “Александр Абрамыч, меня в милицию уводят!” К
счастью, это была именно милиция, а не КГБ, и Раис “попал” не за
самиздат, а всего лишь за спекуляцию книгами. Иначе “загремела”
бы вся компания.
И тогда знакомство россиян с “Властелином колец” Джона Ро-
налда Руэла Толкина могло бы состояться позже...
- 209-
Да, тут мы подошли к поводу для всего этого разговора. По-
тому что именно в переводе Грузберга и в “издании” Зарипова по
СССР впервые разошелся перевод “Властелина колец”.
Дело было в 1976 году. О существовании Толкина Грузбергу рас-
сказал Лукашин. В библиотеке в Москве была заказана копия, и Груз-
берг приступил к работе. Очень скоро он понял, что это – особенная
книга, не чета “покетбукам”, и работа займет куда больше недели.
Не один месяц даже... Результат этой работы передо мной – ог-
ромная рукопись, пачка пожелтевших листов формата А4, исписан-
ных мелким почерком с двух сторон. Больше двух тысяч страниц.
Бережный, точный перевод, учитывающий все пожелания авто-
ра. Дело в том, что Толкин оставил указания для будущих переводчи-
ков своей книги. Так, он подробно описал, как произносятся имена на
эльфийском и других волшебных языках. Разумеется, некоторые тре-
бования пришлось смягчить: например, имя главного мага по всем
правилам должно произноситься как “Гандальв” – со звонким “В” на
конце, но все так привыкли к Гэндальфу, впервые появившемуся в пе-
реводе “Хоббита”, замечательно сделанном Ириной Рахмановой!
Пришлось оставить это, уже знакомое русским читателям, написа-
ние имени. И тем не менее перевод Грузберга до сих пор остается
самым точным переводом “Властелина колец” на русский язык.
Так начались приключения “Властелина колец” в России. Теперь
уже никак не проследить пути, по которым разошлись пять экземп-
ляров самиздатовского шеститомничка, а возвращался знакомый
текст к Грузбергу самыми неожиданными путями. В середине вось-
мидесятых годов в семье появился персональный компьютер – пер-
вая “Ай-би-эмка” в Перми, результат очередного заграничного во-
яжа Людмилы Александровны. Через некоторое время друг младших
Грузбергов, студент политеха Сергей Щеглов радостно притащил
на дискетах “скачанный” откуда-то русский текст “Властелина
колец”. Угадайте, чей это оказался перевод? А потом пришел ин-
тернет, и перевод Грузберга докатился до дальних стран...
В начале 1990-х годов американский толкинист Марк Хукер,
сравнивая разные переводы трилогии на русский язык, обнаружил,
что наиболее адекватный перевод никем не подписан. Он начал по-
иски и через некоторое время в некоем справочнике, выпущенном в
Молдавии (!), обнаружил ссылку на то, что этот перевод принад-
лежит Грузбергу. Хукер поместил в интернете вопрос: “Не знает ли
кто-то, кто такой Грузберг?” Запрос нашел сын Александра Абра-
мовича Илья, в те годы аспирант Йельского университета. Он напи-
сал Хукеру, что знает Грузберга... С тех пор они переписываются.
-210-
Хукер написал огромный труд по сравнительному анализу рус-
ских переводов Толкина, в котором очень тщательно, очень убеди-
тельно доказывается, что первый полноценный перевод принадле-
жит именно Грузбергу: был еще пересказ, сделанный Зинаидой Бо-
бырь, сильно сокращенный. Ее рукопись датируется 1966 годом, а из-
дание, где всю огромную трилогию втиснули в небольшой том, – 1982.
Александр Абрамович все продолжал переводить. Времена из-
менились. Как только родился свободный книжный рынок, нашлось
немало желающих “завалить его фантастикой”. Понадобились пе-
реводы. Первые официальные издания переводов Грузберга вышли в
Перми – роман Роберта Хайнлайна “Тоннель в небе” в издательстве
“Книжный мир” и роман Абрахама Меррита “Семь шагов к Сатане” в
издательстве “Янус”. Александр Абрамович предлагал делать став-
ки: кто успеет издать его быстрее? “Книжный мир” выиграл с раз-
ницей в два дня, зато гонорар “Янус” выплатил чуть раньше, по-
этому редактор этого издательства Михаил Шаламов считает,
что он выиграл эту “гонку”».
С тех пор папа постепенно отходил от преподавания и все больше
занимался переводами, однако преподавал до очень преклонных го-
дов: окончательно ушел на пенсию в 2013 году, в возрасте 76 лет.
А переводить продолжает, от заказов нет отбоя.
Среди наиболее примечательных переводов, сделанных моим
папой, есть, например, полное собрание сочинений Томаса Майн Ри-
да. Это очень большой проект, который прошел через десятилетия:
папа начинал переводить для «Януса» в 1980-е годы, а совсем недавно
дополнил эту работу для московского издательства «Престиж бук».
Оказывается, все романы Майн Рида в русских дореволюционных и
советских изданиях были искажены и сильно сокращены. Все – значит
все: «Всадник без головы» не исключение. Кроме того, поскольку пи-
сатель был страшно популярен, в русских изданиях ему приписали
несколько романов, написанных вовсе не им. Потребовалась огромная
библиографическая работа, поиск подлинных источников, сравнение
разных переводов, чтобы осуществить это издание.
Папа и Михаил Шаламов со своим «Янусом» открыли для россий-
ского читателя имя Абрахама Меррита – замечательного писателя на-
чала ХХ века, автора романов ужасов и полумистической фантастики.
Его романы папа перевел почти все.
Очень много переводил и продолжает переводить Айзека Азимова
–н
е только фантастику, но и замечательную, полную юмора двухтом-
ную автобиографию, а также детективные рассказы. Пермское издание
-211-
цикла романов про Лаки Старра (издательство «Книжный мир») должно
войти в историю издательского искусства хотя бы из-за великолепного
оформления, сделанного художником Аркадием Амирхановым.
Среди любимых авторов переводчика и Андре Нортон. С ее кни-
гами у нас связана важная семейная история: мои дети, как и многие
другие дети постсоветского поколения, не очень легко приучались к
чтению, и то, что дедушка переводил книги, стало важным стимулом.
Первой книгой, которую мой Ромка прочитал самостоятельно и полно-
стью, был «Мир звездных коотов» Андре Нортон. Читал он ее прямо
на уроках и, когда учительница попыталась отобрать у него книгу,
страшно возмутился: «Это же дедушкин перевод!»
Много лет папа переводил приключенческие романы южноафри-
канского писателя Уилбура Смита. С этим тоже связана любопытная
история. Михаил Ходорковский в одном из интервью, данных после
выхода из заключения, отвечал на вопрос о своем лагерном досуге и
сказал, что пристрастился к книгам этого писателя – они дают хорошую
психологическую разгрузку. Это значит, что он читал папины перево-
ды, ведь папа – главный русский переводчик Смита.
Переводит он не только художественную литературу, но и нон-
фикшн: например, перевел популярные книги Эрика Берна по психо-
логии: «Игры, в которые играют люди» и «Люди, которые играют в
игры».
Папа давно бросил подсчитывать свои публикации. По самым
скромным оценкам, накопилось уже более 400 изданий, и почти каж-
дую неделю приходят новые. Работоспособность у него феноменальная.
К сожалению, мы не можем найти самую первую рукопись с па-
пиным переводом – «Земля, забытая временем» Эдгара Райса Берро-
уза. Жаль. Но папки с рукописями, полки с самиздатовскими «печат-
ками» и стеллажи с новыми изданиями очень впечатляют, поверьте.
Живя в такой обстановке, с такими родителями, мы с братом, ра-
зумеется, рано начали читать, обожали чтение и хорошо учились. Пер-
вая «большая» (то есть в твердом переплете) книга, которую я прочи-
тала самостоятельно, называлась «Олень – золотые рога». Эта повесть
Леонида Дьяконова, наверное, не входит в список великой классики,
но книжка очень хорошая. Вспоминаю ее с теплом.
Первая книжка, которую самостоятельно прочитал Илья, называ-
лась «Из чего всё?» Автор мне неизвестен, но совершенно понятно,
что книга сыграла роковую роль в судьбе моего брата. Мама по этому
поводу всегда с юмором говорила: «В семье не без урода» – в том
смысле, что среди филологов вдруг вырос физик. Книга «Из чего всё?»
-212-
объясняла, что всё состоит из атомов, атомы – из ядра, электронов и
позитронов, и так далее. Первое слово, которое произнес мой брат,
было «ракета» (правда, имелось в виду речное судно на подводных
крыльях, их тогда множество бегало по Каме), а первое слово, в кото-
ром он четко произнес звук «Р», было «синхрофазотрон».
Илья был круглым отличником, после окончания физического фа-
культета работал в Пермском политехе, но особенно отличился не в
науке, а в педагогике – много лет работал в Красноярской летней шко-
ле для одаренных детей и до сих пор является культовой фигурой для
всех ее выпускников, а также был одним из основателей пермского
лицея при политехническом институте. Позже он поступил в аспиран-
туру Йельского университета и остался в США. Сейчас он профессор
физики университета в Коламбусе, столице штата Огайо. Очень вос-
требованный физик, между прочим, все время ездит на международ-
ные конференции с докладами – то в Японию, то в Бразилию, то в
Санкт-Петербург...
Я так далеко «от яблоньки» не упала: училась на филфаке, кото-
рый окончила не просто с красным дипломом, а с дипломом, в при-
ложении к которому не было ни одной четверки. И, представьте себе,
никому это обстоятельство неинтересно. Мой диплом с тех пор, как я
его получила, никто не видел: моим работодателям неважно, какое у
меня образование; даже если бы никакого не было, они бы не обрати-
ли внимания, лишь бы я работала так же, как сейчас.
В «околофилологической» сфере я испробовала, наверное, все:
работала в книжном издательстве и на телевидении, в кинопрокатной
организации и в пресс-службе коммерческого банка, редактировала
книги, газеты и журналы, занималась пиаром, в том числе политиче-
ским, но в основном писала и продолжаю писать об искусстве в Пер-
ми. Наверное, я представитель последнего, ну, или предпоследнего
поколения «бумажных» журналистов.
Бумажная книга, которая на протяжении последних двух тысяч
лет была главным носителем информации, на наших глазах стреми-
тельно утрачивает эту функцию. Может быть, мы станем свидетелями
того, как закроется последняя бумажная газета, а бумажная книга из
общеупотребительного товара превратится в курьез и раритет.
С появлением новых медиа меняется функционирование языка.
Это в самом буквальном смысле цивилизационный перелом. Мы и
наши родители принадлежим еще к «бумажной» эре, а наши дети –
уже не очень. Что ж, перемены – это всегда интересно, а для ученых-
филологов будущего – особенно.
- 213-
Л. Кертман,
выпускница 1966 г.
ПРО НАДЮ И БОРЮ
Отрывки из воспоминаний
Я очень хорошо помню, как Надя Пермякова сказала мне, кем
стал для нее Боря Гашев. Я зашла за Надей в издательство, и мы мед-
ленно пошли вниз по улице Сибирской – тогда она называлась улицей
Карла Маркса (в любезном пермякам просторечии – «Карлы Марлы»).
...Мы давно не виделись (я тогда была на практике в Кунгуре и
редко приезжала в Пермь), соскучились, и в первые минуты шутили на
какие-то повседневные не слишком важные темы, потому так порази-
ли ее необычные слова... В момент паузы и минутной тишины, какая
часто наступает в самом оживленном разговоре, Надя вдруг сказала:
«Знаешь, у нас с Борей Гашевым все серьезно». В ее устах это прозву-
чало как-то очень значительно. Я почему-то онемела от волнения. Не-
чего и говорить, что это было совсем не похоже на обычный «девичий
щебет», по поводу которого любил шутить мой папа: опять, мол, раз-
говор из серии «что он сказал? – а ты что? – а он что?» Тут повеяло
Судьбой. Какое-то время шли молча – я долго не решалась задать
главный вопрос. Никогда ни с кем из подруг не испытывала такого.
Наконец решилась: «Настолько серьезно, что ты готова выйти за него
замуж?» – Недолгая пауза. – «Ну да!» Мы обе были взволнованы и
немного смущены. Потом, когда немного расслабились и зашли куда-
то выпить кофе, я позволила себе чуть «подкалывающую» шутку:
«А как же насчет «романов с ровесниками»?! Ведь Боря, по-моему,
ненамного старше тебя?» – «Ну, ты его еще мало знаешь... К нему эти
категории совсем не подходят – он вообще из ряда вон выходящий –
из любого ряда!»
... Надя была на три года старше меня, и когда я поступила на пер-
вый курс филфака Пермского университета, ее имя было уже очень
известным на факультете, оно было окружено романтическим орео-
лом. На всех курсах знали и любили ее стихи, и публикующиеся иногда
в легендарной факультетской стенгазете «Горьковец» (огромной, спус-
кающейся вдоль стены через лестничные пролеты, возле нее толпи-
лись, загораживая проходы), и другие, которые просто ходили по ру-
кам. Девушки твердили наизусть ее лирические строки. Мне очень
жаль, что не записывала их тогда – многие знала наизусть, они сразу
глубоко врезались в мою память, и казалось, что память безгранична и
- 214-
что все, что мы вместе пережили в те давние годы, останется в ней.
Осталось в самом деле бесконечно много, но, увы, не все. Однако са-
ма Надя никогда не была склонна к сожалениям такого рода – она от-
казывалась высоко оценивать свои стихи, и годы спустя, когда стала
известным, уважаемым в Перми редактором, ни разу не поддалась
уговорам друзей опубликовать хоть что-нибудь свое, неизменно отве-
чая: «Я слишком люблю хорошую поэзию!» Эта позиция у нее не из-
менилась с давних молодых лет...
А мне нравились ее стихи, смелая лирическая героиня которых
была так не похожа на меня.
Всё на земле преходяще – и слава, и ценности,
Но как-то грустно бывает понять подчас,
Что мне уж не стать чемпионом мира по теннису,
И собственным корреспондентом ТАСС.
Ну что ж, постарела... по-прежнему в том же ранге я,
По тем же улицам шляюсь шестнадцать лет,
А где-то морозы стоят на острове Врангеля,
И мчат мотоциклы по твердой упругой земле.
Но есть еще право – голову запрокидывать,
Прийти (...?) на гудящий пустой космодром,
Но есть еще время – разбить иль выдумать идола,
И даже узнать, из чего состоит электрон...
Дальше не помню. Надя написала это к своему двадцатитрехле-
тию. «Шестнадцать лет» – потому что 16 лет назад ее родители пере-
ехали в Молотов из Березников.
Все мы (говорю о филологах нашего круга) тогда буквально уто-
пали в стихах. Часто читали по кругу на своих домашних вечерах и по-
гибших фронтовых поэтов, и живых фронтовиков, начавших печататься
в 60-е годы (Слуцкого, Левитанского, Самойлова, Винокурова), и мо-
лодых шестидесятников, и – особая страница наших вечеров! – срав-
нительно недавно открытых нами поэтов Серебряного века. Впрочем,
Серебряный век открылся Наде раньше многих – благодаря москов-
ской родственнице из старинного дворянского рода, помнящей много
стихов своей молодости. Татьяна Александровна когда-то была заму-
жем за дядей Надиного отца, но и после расставания с мужем числила
Николая Павловича Пермякова любимым племянником (неважно, что
не по крови), и подросшая Надя очень пришлась ей по душе. Между
ними была интересная переписка, где большое место занимали раз-
мышления о поэзии прежней и нынешней и литературные новости –
«Тарусские страницы», последние стихи Евтушенко. Татьяна Алексан-
- 215-
дровна присылала Наде и ее родителям перепечатанные стихи поэтов
Серебряного века, тогда мало известные (хотя отец Нади кое-что пом-
нил). Она подарила Наде цветаевский сборник «Версты», вышедший в
1922 году, и Евангелие 1904 года издания (обе книги и сейчас бережно
хранится в доме Гашевых). А на рождение Ксюши прислала «на зубок»
большую серебряную ложку – суповую! В последние свои годы Татья-
на Александровна подрабатывала машинисткой – печатала рукописи
писателей и исследователей, благодаря этим знакомствам была в кур-
се многих новостей литературной и художественной жизни столицы и
рассказывала о них в своих письмах.
В студенческие годы Надя с подругой приехали в столицу на зим-
ние каникулы и остановились у Татьяны Александровны. Они, конеч-
но, целыми днями бродили по городу, вечерами часто бывали в теат-
рах, и в одно из поздних возвращений были встречены огорченным
восклицанием: «Как жаль, что вы сегодня не вернулись хоть немного
раньше! Илья Григорьевич совсем недавно ушел». Так была упущена
возможность познакомиться с Эренбургом, с которым хозяйка дома
была давно знакома. А еще она удивленно спрашивала девушек с
Урала (Надю и Машу – самую близкую ее подругу тех лет): «Почему вы
так плохо знаете языки? Вы ведь учитесь на филологическом факуль-
тете. Неужели вам не читают лекции на французском и английском?»
Они только смущенно вздыхали в ответ – им было и грустно, и смеш-
но... Нам, слушающим этот рассказ после их возвращения, – тоже.
Надины стихи бывали полны тихой благородной нежности, но
сама она никогда не была «тихим лириком», совсем не была интро-
вертом. Какое там! У нее со школьных лет были явные лидерские ка-
чества: в пионерские годы была председателем совета отряда, позд-
нее – дружины, в комсомольские годы была делегирована на город-
скую конференцию. Все такое было мне бесконечно чуждо, и не то
чтобы из каких-то «идейных соображений», просто это был совсем
далекий мир, который почему-то не хотелось узнавать ближе... Позд-
нее я узнала, как быстро Надю отшатнуло от этого мира – ее всегда
коробила фальшь, и она с угловатой подростковой прямотой, презирая
всякие трусливые «дипломатические» увертки и невзирая ни на какие
обстоятельства, говорила все, что думала – резала правду-матку в гла-
за. Она абсолютно не вписывалась в тот мир, куда ненадолго попала
явно по ошибке школьного начальства, сбитого с толку ее отличной
учебой и ораторским талантом.
Но бурный общественный темперамент оставался и порой бук-
вально «сотрясал» факультетскую жизнь. В редколлегии «Горьков-
- 216-
ца», где Надежда Пермякова с друзьями буквально дневала и ноче-
вала, затевалось множество неожиданных проектов, в коллективе
были талантливые художники (помню подвизавшегося тогда на этой
стезе будущего известного режиссера Геннадия Оффингейма) и ори-
гинальные фотографы, Надя умела объединять и вдохновлять самых
разных людей, и это была на редкость многожанровая газета. В раз-
деле публицистики были резкие статьи о «серых» произведениях
советской литературы, их часто писала сама Надя, были и пародии
(чаще сочинения сотрудников или многочисленных собкоров, но
случалось и перепечатать остроумную шутку известного сатирика
Зиновия Паперного, вызывающую бурный хохот столпившихся возле
газеты). Были отдельные большие сатирические листы (нетерпеливо
ожидающие нового номера болельщики «Горьковца» иногда броса-
лись прямо к ним!), где с раскованным озорством не то чтобы вы-
смеивались (хотя бывало и это), но во всяком случае вышучивались
почтенные педагоги. Объявлялся, например, новогодний концерт, в
котором несколько дам элегантного возраста с кафедры зарубежной
литературы якобы исполнят «танец маленьких лебедей», а один не
блещущий интеллектом педагог споет «Когда я на почте служил ям-
щиком»
1
. Хоть и шли тогда «те самые» шестидесятые годы, деканат
не был способен снисходительно отнестись к подобным молодеж-
ным шалостям (не было установки сверху на подобную снисходи-
тельность!), да и с чувством юмора у большинства педагогов, во вся-
ком случае у входящих в партийное руководство факультета, было
проблематично... К тому же серьезные претензии предъявлялись не
только к разделу юмора: печатались стихи полузапрещенных поэтов,
умные и страстные статьи о настоящей поэзии (часто Надины, хотя не
только ее), в подтексте которых ощущалась отчужденная неприми-
римость к низкому уровню заполонившей советские газеты и журна-
лы «продукции».
В результате «Горьковец» не раз снимали со стены, а к редколле-
гии применялись «оргвыводы».
Стоит, наверное, объяснить одну вещь. «Горьковец» и его исто-
рия вошли в легенды факультета, поэтому я их помню, но сама нико-
гда не печаталась там, даже близко не подходила к той редакции, по-
1
Из-за этого «концертного номера» на факультете разразился скандал. В текст вкралась
опечатка и получилось, что почтенный преподаватель пел: «Когда я на почте служил
ящиком». Хотя, как утверждала потом мама: «Именно ящиком он и служил!» – при м.
К. Гашевой.
- 217-
тому мы с Надей тогда и не познакомились, я только издалека восхи-
щалась ею.
...В общем, не судьба была нам с Надей встретиться и подружить-
ся в «Горьковце» и вообще в каком-нибудь большом коллективе, за-
нятом общим делом. И я рада, что наша дружба началась в совсем
других обстоятельствах и декорациях.
Надя и ее подруга Марина Лебедева стали дипломницами моей
мамы. Надя писала о книге поэм В. Луговского «Середина века», Ма-
рина – о поэмах военных лет («Сын» П.Антокольского и «Зоя»
М. Алигер). Они стали часто бывать в нашем доме. Мы не сразу сбли-
зились, не всегда совпадали (меня часто не бывало дома), да и до-
вольно долго они – «взрослые девушки» – воспринимали меня как
младшую, как вчерашнюю школьницу. В том возрасте три года разни-
цы действительно имеют значение, правда, потом это быстро стирает-
ся. Впрочем, как ни забавно это прозвучит, в отношении Нади ко мне,
–
во всю нашу через жизнь прошедшую дружбу! – сохранился этот от-
тенок: она ощущала себя старшей. Дело, разумеется, давно уже было
не в этих трех годах, просто Надя всегда была самостоятельнее и
взрослее, особенно после рождения дочки. Однажды она попыталась
объяснить мне причины своего ощущения старшинства и как-то запу-
талась в сложных формулировках, после чего энергично перебила себя
и, впав «в неслыханную простоту», сказала: «В общем, я имею в виду
Ксюшку». А еще Надя всегда была решительнее многих из нас, спо-
собнее на независимые поступки. Кстати, в дальнейшем она оказала
на меня большое влияние, буквально «разбудив» и во мне эту способ-
ность. Когда я делилась с ней своими робкими сомнениями, касаю-
щимися иногда профессиональных, но чаще личных дел, она чутко и
сочувственно вникала в подробности, но однажды отчеканила: «Мож-
но долго сомневаться, но в конце концов надо уметь совершать по-
ступки!» Это она умела... Слова эти произвели на меня сильное впе-
чатление, запомнились на долгие годы и иногда так «вдохновляли на
подвиги», что однажды сама Надя, наверное, давно забывшая тот раз-
говор, удивилась: «Ух ты! Вот это поступок! Молодец!»
Многие чеканные формулировки Нади поражали меня. Запомни-
лось, как я была удивлена разграничением понятий: «думать» и «со-
ображать», когда она с грустью сказала: «Многие люди совсем разу-
чились думать – только соображать умеют, а это же совсем другое!»
Не помню, что послужило первым толчком к нашему сближению,
но одна яркая картина и сейчас перед глазами. Надя с Мариной после
занятий с мамой перешли в мою комнату, мы втроем уселись на ко-
- 218-
вер, и пошел неожиданный захватывающий разговор... Они как-то
взахлеб рассказывали о недавно пережитом, перебивая друг друга
иногда внезапным неудержимым хохотом, хотя описываемые события
я не назвала бы так уж однозначно веселыми... После того вечера я
постепенно вошла в их небольшую компанию...
Перейдя на заочное отделение, Надя стала работать на радио,
где очень подружилась с оператором Володей Ивановым, уже отслу-
жившим в армии. Он много чего знал про российскую жизнь в глубин-
ке и опекал Надю, когда они ездили в командировки в глухие деревни,
на шахты (она смело спускалась вниз!), на фермы, в маленькие город-
ки... Доярки, фабричные работницы, шахтеры не боялись говорить
правду о своей безысходно тяжелой жизни, последними словами
(иногда нецензурными!) ругали правительство, встречались и бывшие
лагерники. Все смеялись над обещанным к 1980-му году коммуниз-
мом... Как трудно бывало протолкнуть в передачу хоть часть правды!
Надя часто говорила о том, что ложь пропитала всю жизнь страны.
Она рассказала, как давнее детское впечатление буквально пере-
вернуло ее сознание. В один из дней после 5 марта 1953 года в школе
был траурный митинг, Надя стояла с черной повязкой на рукаве возле
бюста Сталина, многие ученицы (это была еще женская школа, соеди-
нение произошло в 54-м году) и некоторые учителя плакали. Но вер-
нувшись из этой мрачной атмосферы домой, Надя остолбенела от
удивления: красиво накрытый белой скатертью стол, бутылка красного
вина, закуски, мама печет пирожки и напевает, отец сидит во главе
стола и весело приглашает Надю и ее брата за стол. Минута растерян-
ного молчания. Они садятся. Николай Павлович наливает вино в бока-
лы (не впервые ли в жизни двенадцатилетней Нади это было?), торже-
ственно встает и произносит «немыслимые» слова: «Дети, умер кро-
вавый тиран, один из самых страшных злодеев мировой истории. Бу-
дем праздновать!» Старший брат Нади (Славе было 14, и он был
«идейно убежденный») начал было возмущенно спорить. Отец и сын –
оба холерики! – какое -то время покричали друг на друга, но под гра-
дом аргументов сыну пришлось замолчать. Надя же ни одним словом
не возразила. И это при ее темпераменте! В ответ на мое удивление
она произнесла на всю жизнь запомнившиеся слова: «Папу я любила
уж точно больше, чем Сталина!» И дальше: «Я ему сразу поверила –
раз говорит такое, значит, знает!»
...Я сказала, что Володя Иванов опекал Надю в командировках. На
самом деле это было совсем недолго, слишком не свойственна ей бы-
ла роль опекаемой, она была прирожденно опекающей. К ней часто
- 219-
тянулись за утешением и поддержкой слабые мужчины – «исповедо-
вались», делились переживаниями (рассказывали про свою несчаст-
ную любовь), просили совета. Так было с молодых до самых зрелых
лет. Володю Иванова Надя особенно надолго взяла под крыло, была
его верным «психотерапевтом» (кажется, мы тогда и не знали это сло-
во). Отец Володи погиб на фронте, он его почти не помнил. Жил с ма-
мой в доме на улице Ленина, недалеко от Нади... Володина мама про-
сила Надю присматривать за сыном в командировках (чтобы не пил «с
кем попало», не впутался в какую-нибудь историю), Надя честно ис-
полняла обещанное...
Был еще Женя Демьянов, сын Натальи Самойловны Лейтес, кол-
леги моей мамы. Он был намного младше Нади и даже меня. Взять
Женю в компанию Надю попросил Ари Янович – его отец (инженер,
блестящий исполнитель первых песен Галича, от него мы впервые ус-
лышали про «товарищ Парамонову»). Его очень беспокоила новая
компания сына, в которой ему виделось что-то уголовное и опасное,
кроме того, он боялся, что Женя впадет в депрессию (из-за безответ-
ной любви к роковой красавице, которую Женя с грустью называл «го-
лубоглазая фея») и бросит университет, где только начал учиться на
филфаке. Необходимо было отвлечь его от всего нежелательного и
увлечь, чтобы не захотелось покидать филфак. Надя незаметно вздох-
нула – и пообещала, а обещания она всегда сдерживала. Очень так-
тично и естественно ввела она Женю в компанию, и он сразу почувст-
вовал себя своим (он так никогда и не узнал о просьбе отца...) . Посте-
пенно у них (Нади, Маши, Володи и Жени) затеялась элегантная игра в
мушкетеров. Женя стал с увлечением учиться, рассказывал об инте-
ресных семинарах, о своих выступлениях, вроде бы начал забывать
свою «голубоглазую фею», и все бы хорошо, но он... влюбился в Машу
и начал делиться переживаниями с Надей. «Все это было бы смешно,
когда бы не было так грустно...». Надя долгими вечерами выслушивала
и успокаивала и Женю, и Володю, и Машу, у которой были свои пере-
живания...
Иногда Надя все же начинала уставать от многочисленных испо-
ведей самых разных людей, ждущих от нее поддержки и советов. Од-
нажды в разговоре со мной у нее вырвалось: «Все думают, что я же-
лезная и силы мои безграничны!». Всего один раз она так пожалова-
лась... Считала эти заботы своей долей и не позволяла себе никого
бросить.
... Мне кажется, что все мы интуитивно осознавали в ней героиче-
ское начало. Многое, впрочем, изменилось после рождения Ксюши.
-220-
Помню, с какой страстной ненавистью Надя стала говорить о книгах,
прославляющих пионеров-героев. Но это я непозволительно забегаю
вперед...
Во время шумной истории Гены Оффингейма, который в запале
выложил придравшемуся к нему преподавателю с кафедры истории
КПСС всё, что думает о выродившемся забюрократизированном ком-
сомоле – «никому не нужной организации», Надя, как потом расска-
зывала, на первом этапе «внутри себя» немного растерялась. Сама она
еще не подошла к такой полной переоценке ценностей и считала, что
Гена прав, но не во всем. Но когда начались разгромные собрания («в
лучших традициях» 40-х годов) и ее попытались вытащить на обли-
чающее Гену выступление, якобы подобающее отличнице и активной
комсомолке, в ней мгновенно «взыграло ретивое». Направляясь к
трибуне, она выкрикнула: «Оффингейм, я тебя уважаю!» На этой волне
и прошло ее короткое темпераментное выступление.
Эта история (говорю о Наде – Гена, не дожидаясь оргвыводов,
ушел из университета и с годами стал известным режиссером, с Надей
у них на всю жизнь сохранились дружеские отношения – навещал ее,
приезжая из Германии) – так вот, то спонтанное, но такое естественное
для нее поведение, пожалуй, тоже укладывается в психотип человека,
«с детства не любящего овал».
... Давно пора вплотную заняться так дорогой моему сердцу исто-
рией Нади и Бори... С чего все началось? Получается так, что о Наде
решил «позаботиться» Володя Иванов («не все же ей опекать дру-
гих!») – это он привел в нашу компанию Борю Гашева.
Когда я в первый раз услышала имя и фамилию Бори Гашева (к
тому времени он уже несколько раз побывал в нашей компании, но в
те вечера не было меня), мне сразу вспомнилось что-то смутно знако-
мое – давнее и полузабытое... Не уверена, что сумела бы вспомнить
сама, без подсказки, но когда Надя с Мариной сказали, что Боря тоже
писал курсовые и дипломную у моей мамы, только раньше – за не
-
сколько лет до них, в моей голове все сразу встало на свои места... Это
было еще в общежитии на улице Дальней, до нашего переезда в квар-
тиру на Компросе, значит, я была еще школьницей (в 6-м или 7-м клас-
се). Вот тогда Боря часто заходил к нам на Дальнюю с набросками кур-
совой. Если я мельком и видела его, то совсем не помню. Но имя это
часто звучало в нашем доме. Ни о каком другом дипломнике мама не
говорила так – с неизменной симпатией и восхищением. Боря явно
был ее любимым студентом – она восхищалась его редкой для перво-
курсника, приехавшего в Пермь из «далекого» Верещагино (неведо-
-221-
мого ей уральского городка), начитанностью, безупречным литератур-
ным вкусом, талантливыми и часто неожиданными прочтениями вы-
бранных для курсовых работ произведений... Кроме того, маме просто
по-человечески была очень симпатична вся его манера поведения –
удивительная тихая скромность, как будто специально «скрывающая»
на редкость высокий уровень, не сопоставимый даже с самыми толко-
выми однокурсниками.
Много лет спустя, близко познакомившись с Борей, я убедилась,
что все это правда. Мама ничего не преувеличила! Но не все в нем
отрылось ей тогда, когда он был еще очень юн и застенчив... Об удиви-
тельном и необычном его чувстве юмора мама не знала, а я узнала
много лет спустя, когда он появился в нашей компании, и наслажда-
лась этим долгие годы, особенно в их с Надей общем доме. О, этот
неповторимый гашевский юмор! Не случайно друзья – и Надя тоже –
иногда шутливо-ласково называли его «Гашеком».
Помню, что в нашу первую с ним встречу, когда мы наконец сов-
пали, Боря с каким-то «отдельным», чуть настороженным любопытст-
вом присматривался ко мне. Может быть, он всё же смутно помнил
застенчивую угловатую девочку с косами, однажды мелькнувшую в
доме нежно любимой им Сарры Яковлевны (кстати, это отношение к
моей маме он сохранил на долгие годы и всегда с мягким умилением
вспоминал свои занятия под ее руководством), – и ему было интересно,
«что выросло» из этой девочки, не стала ли избалованной высокомер-
ной профессорской дочкой, но эти сомнения, слава Богу, быстро раз-
веялись – и под влиянием Нади, да и сам, надеюсь, увидел. Думаю, до-
верие возникло с той минуты, как я неудержимо расхохоталась от его
неожиданной «характеристики» Агаты Кристи – «Бездушная старуха!»
...К моменту встречи с нами (главное, конечно, с Надей) Боря ус-
пел наотрез отказаться от академической карьеры... Дело в том, что,
читая его курсовые и дипломную, университетские преподаватели (из
тех, кто понимает) сочли, что, кроме других дарований (его остроум-
ные очерки и изредка стихи печатались в университетской газете), Бо-
ря обладает и немалыми исследовательскими способностями, при-
чем, делает серьезные открытия так легко и изящно, что литературо-
ведение не должно лишиться такого талантливого ученого, и его на-
стойчиво убеждали поступить в аспирантуру. Особенно энергично на-
стаивала на этом уважаемая им Римма Васильевна Комина. Какое-то
время Боря, видимо, колебался, раз дело дошло до того, что Р. В. при-
вела его к двери кабинета проректора, с которым собиралась утрясти
организационные вопросы. Она зашла в кабинет, собираясь через па-
-222-
ру минут пригласить туда будущего аспиранта, чтобы представить его
благосклонному начальству, но в самый последний момент Боря
опомнился – и «рванул» с этого чужого места: просто-напросто убе-
жал. Так что Римма Васильевна, открыв дверь и никого не увидев, не
знала, что и думать... Борю вела интуиция, которую в тот момент он не
мог или не хотел объяснять. Он мог искренне уважать преподавателей
филфака (тех, в которых признавал талант), но академическая атмо-
сфера в целом была чужда ему, можно даже сказать, противопоказа-
на, особенно в те годы. Он вообще мало куда «вписывался»...
Здесь не могу снова не забежать вперед: в разгар эпохи застоя в
редакции «Вечерней Перми», где у Бори уже был немалый стаж рабо-
ты, его спросили: «Борис Владимирович, не думаете, что вам уже дав-
но пора вступить в партию?» Жившие в те годы хорошо помнят обыч-
ные в таких ситуациях отговорки «уклоняющихся» беспартийных ин-
теллигентов: «Не готов... Не чувствую себя достойным...» и т. п . Но Бо-
ря не стал играть по правилам и с нарочитой наивностью ответил «во-
просом на вопрос»: «В какую?» От него испуганно отшатнулись...
Возвращаюсь к началу нашей с Борей дружбы и их с Надей любви...
Запомнился один колоритный вечер. Был день рождения Бори, в
его общежитии отмечать было неудобно, да он и вообще не очень
любил такие отмечания, но уговорили. Володя Иванов пригласил не-
сколько человек к себе, его гостеприимная мама даже что-то испекла.
Но какое-то событие происходило в тот вечер в Доме журналистов.
Мы вчетвером заглянули туда, скоро Володя заторопил уходить («не-
удобно перед мамой»!), Боря же сказал, что ему нужно ненадолго
задержаться, но он обязательно вскоре придет (кажется, коллеги-
журналисты, у которых «все с собой было», зазывали его в небольшую
комнатку, чтобы поздравить). Мы с Надей, ощущая неловкость перед
Володей (и особенно перед его мамой), ушли, но перед этим Надя с
особой ударной четкостью, возникающей в ее голосе в важные мо-
менты, переспросила: «Ты придешь? Это точно?» – «Конечно!» – как -
то звонко воскликнул Боря чуть «подозрительно» возбужденным го-
лосом. – Обязательно!» Мы долго ждали... Сначала не садились к сто-
лу, потом сели и даже с шутками выпили за здоровье отсутствующего
виновника торжества... Все труднее становилось поддерживать шутли-
вое настроение, но ближе к двенадцати мама Володи не удержалась и
«торжественно» произнесла: «Уж полночь близится, а Гашева все
нет!» Посмеялись, а потом Надя решительно засобиралась домой. Не
потерявший последней надежды Володя пытался хоть ненадолго удер-
жать ее, но Надя была неумолима. Мы как-то смущенно разошлись.
- 223-
...Боря явился к Наде с букетом цветов ранним утром следующего
дня, чуть ли не разбудив ее и родителей, и как-то обезоруживающе
пошутил – кажется, поздравил ее со своим прошедшим днем рожде-
ния. Без лишних объяснений было понятно, что, «немного перебрав» в
тот вечер, он был физически не в силах двинуться с места. Кажется, так
и заночевал с несколькими поздравляющими в Доме журналистов –
на эту тему времена точно были «вегетарианскими»...
Эта история «дня рождения без именинника» очень впечатлила
моего папу. Надя всегда очень нравилась ему, он высоко ценил и та-
лант ее, и личность в целом – неравнодушно следил за ее судьбой. И
когда настал день ее свадьбы, он написал внешне шутливые, а на са-
мом деле глубинно серьезные стихи, в которые все это вошло.
... Через несколько месяцев раздался неожиданный звонок Нади,
без предисловий заявившей: «Должна сообщить, что я больше не
Пермякова!» Казалось бы, после того разговора на спуске из издатель-
ства меня это не должно было так уж сильно удивить... Но удивило.
Более того – отреагировала я на редкость глупым вопросом: «А кто же
ты теперь?» Самое забавное, что тут была не только понятная расте-
рянность от неожиданности (хотя, конечно, было и это), но и – как бы
это сказать поделикатнее? – не полная стопроцентная уверенность,
что услышу ожидаемую фамилию («От Нади всего можно ожидать!»).
Минутное настоящее напряжение в ожидании ответа. «Гашева!» – Уф
–
отлегло! И пронзило до слез. Кажется, я даже не произнесла в тот
момент полагающегося поздравления, только пробормотала что-то
вроде: «Вот и хорошо!» – «Даю время переварить новость! – заверши-
ла Надя. – Отмечать будем вечером послезавтра!»
В вечер отмечания я узнала, что и Надиному отцу пришлось пе-
режить свою минуту растерянности – у него, пожалуй, для этого было
даже больше оснований! Впрочем, скорее всего Николай Павлович
просто шутил... Как бы то ни было, его рассказ за свадебным столом
звучал очень остроумно. «Являются здоровенные незнакомые мужики
и чуть ли не хором говорят: “Мы пришли просить руки вашей дочери!” –
“Да кто вы такие?! – говорю. – Я вас в первый раз вижу! Кто просит-то?”
– “Да вот он!” Раздвигаются, вижу Борю. Уже легче: его я хотя бы знаю.
Но он почему-то забился в угол и молчит. “А почему же он сам не просит
руки моей дочери?” – “Да он у нас очень скромный – стесняется!” – Ну
что тут будешь делать?! “Пусть, – говорю, – хоть кивнет!” – Кивнул, слава
Богу! – “Ну, –говорю, – спасибо и на этом. Когда пропивать мою дочь
будем?” – Смотрю, жених на глазах оживился! “Это, – говорит, – надо
обсудить! Получка у меня будет тогда-то...” В общем, дело пошло».
- 224-
Нельзя сказать, что этот пародийный рассказ был совсем далек от
реальности. «Здоровенные мужики»: Коля Гашев (старший брат Бори),
Роберт Белов и Михайлюк – друзья Нади и Бори – на самом деле были
не такие уж «здоровенные», просто были старше Бори и выглядели
солиднее. Они поняли, что, если как-то не подтолкнуть Борю, он, как
бы сам ни хотел этого, так и не решится сдвинуться с места, тем более
что не переносит никакие ритуалы. Но раз все же согласился, значит,
очень хотел, а еще искренне уважал родителей Нади, и что-то глубин-
но старомодное в его душе откликнулось на идею друзей сделать
предложение именно «по-старинному»... Другой вопрос, что, когда
дошло до дела, сам он оказался органически не способен произнести
нужные слова. Но друзья были готовы и к этому – не растерялись, по-
тому все так хорошо и закончилось.
А мой папа, о чем я чуть раньше уже упомянула, сочинил многое
в себя вобравшие стихи на мотив известной песни «Я по свету немало
хаживал» – остроумные и торжественные.
Кто по свету немало хаживал,
От друзей в день рожденья сбегал,
Тот поймет остроумие Гашева
И поднимет за Надю бокал.
Кто, поверив поэту на слово,
Именинника к полночи ждал,
Тот решимость поймет Пермяковой
И поднимет за Борю бокал.
Скажем вам в этих строках последних:
Вам идет эта древняя роль!
Королю ведь положен наследник,
Королеве положен король!
... И началась у всех нас новая жизнь, в которой был Дом Гашевых.
Впрочем, они не сразу обрели свой дом. Но с родителями Нади не
жили ни дня! В этом снова проявилась – в который раз! – незаурядная
решительность и мудрость Нади. Сколько молодых семей в то время
вынужденно жили с родителями, и как подолгу! И сколько напряже-
ния это создавало даже при самых хороших отношениях... Родители
Нади тоже искренне предлагали жить с ними, считая, что на ближай-
шие годы это единственно возможный вариант, но Надя сразу поняла,
что им с Борей необходима независимость – только так у них получит-
ся сохранить настоящие отношения... Боря тогда недолгое время рабо-
- 225-
тал инструктором на Станции юных туристов (после того, как редакция
молодежной газеты «Молодая Гвардия» была разогнана – одних уво-
лили, других вынудили уйти), и с негласного разрешения начальства
они поселились в помещении станции в маленькой полуподвальной
комнатушке. Жили там довольно долго, даже в первое время после
рождения дочки. Хорошо помню Надю с коляской в том дворике, у
маленькой Ксюши были огромные глаза – удивительно выразитель-
ные и лукавые... Родители часто называли ее Кычей, с их легкой руки
это завораживающе таинственное имя надолго «привилось». Оно как-
то удивительно подходило к маленькой Ксении, так обращались к ней
все друзья родителей. А пошло это от Сергея Есенина – у него есть
строка «По-осеннему кычет сова». Маленькая Ксюша перепутала день
с ночью, за что родители сначала называли ее «совой», а потом – с
легкой руки Сергея Александровича – переименовали в «Кычу».
... Года через два им дали квартиру на Мотовилихе, на улице Ма-
каренко. Многие из нас ее помнят... Это было редкое везение и голо-
вокружительная радость. Очень помню то их праздничное настроение.
Боря с его неповторимой интонацией рассказывал: «Мы тут переклика-
емся, как в лесу!» – и тут же демонстрировал: «Надька, где ты? А-у -у!»
(кто помнит – непременно «услышит» здесь звук его голоса...) – с лас-
ковым смущением: «В ванне плескается – скоро выйдет!»
Обычная двухкомнатная хрущевка «в их исполнении» расширя-
лась на глазах... Сколько гостей там перебывало! В отличие от многих
после создания семьи «посолидневших» и меняющих образ жизни
Надя с Борей не менялись. Очень долго...
Каким уютным бывал Борин юмор, как обаятельно он ленился!
Забегаю к ним и рассказываю, что только что была в кинотеатре «По-
беда», смотрела «Обрыв» (по любимому Гончарову). «Ой, Линка, что
ты мне напомнила! Какая даль времен, Боже мой! Кинотеатр «Побе-
да»... Как там бывало хорошо! Как тебе это удалось, как ты туда попа-
ла?» – «Да просто села на троллейбус и приехала! Ты тоже можешь –
кстати, от вас это ближе, можно и пешком прогуляться. Почему бы те-
бе не посмотреть «Обрыв»? – «Да ну, ты что! О чем ты говоришь! Куда
я поеду... Я и тебе удивляюсь – как это ты добралась?! Это же где-то
очень далеко!..»
... Боря любил читать о путешествиях в далекие края. Не помню, о
каком месте он так увлеченно и красочно рассказывал, что я спросила:
«Ты бывал там? Или хочешь поехать?» Ответ был очень Борин: «Я
люблю эту тему!» – и погладил обложку большой книги с завлекатель-
ными иллюстрациями.
- 226-
... Вспоминаю поездку Нади и Бори в Москву – это было в их пер-
вый год. Боря увидел тогда Москву в первый раз в жизни! Помню, что
сам этот факт – что почти до тридцати лет Боря ухитрился ни разу не
побывать в Москве – все мы, и Надя в том числе, воспринимали как
что-то необычное. Не думаю, что Боря не предпринимал такую поезд-
ку из-за каких-то непреодолимых объективных трудностей – это ско-
рее как в анекдоте: «До сих пор не было повода!» Поездка в Москву с
Надей вскоре после свадьбы – пусть они не обозначали ее высокопар-
ными словами «свадебное путешествие» – была признана Борей
вполне достойным поводом, а если серьезно, он охотно и с большим
интересом знакомился с Москвой Нади и открывал свою.
Они остановились у той же легендарной Надиной родственницы,
когда-то подарившей ей цветаевские «Версты». Татьяна Александров-
на поняла и оценила Надин выбор.
Что-то из этой поездки вошло в семейные легенды. «Родители
посетили Большой театр, причем на папиных штанах (единственных! –
женился он в приличных штанах Иванова) была заплата, он стеснялся
и в антракте не вставал с места. А еще тогда они посмотрели спектакль
по Сэлинджеру – “Над пропастью во ржи” с юным Андреем Мироно-
вым в роли Холдена Колфилда. Мама говорила, он был прекрасен в
этой роли» – это уже из рассказа Ксении.
Вспоминаю гораздо позже написанную статью Нади, страстную и
горькую, о талантливых поэтах, выросших вдалеке от столиц, о том,
как им, в отличие от избалованных, много ездящих москвичей, с дет-
ства не хватало ярких красок и сильных эстетических впечатлений, как
мучила тоска по многому, от чего были оторваны – иногда всю жизнь...
Как Боря умел восхищаться тем, что ему по-настоящему нрави-
лось! Но и непримиримо отвергать чуждое тоже еще как умел! Не
помню, знали ли мы тогда известные теперь слова Синявского о его
«стилистических разногласиях с советской властью» – могли и не
знать, но именно такие «разногласия» были у Бори со многими поэта-
ми: с его безупречным стилевым чутьем многое коробило и в часто
наспех написанном Евтушенко, и у других популярных шестидесятни-
ков. В таких случаях он приходил в «повышенное возбуждение» и мог
такое выдать... Надя, кстати, тоже сильно «буйствовала», когда близко
узнала поэзию навсегда восхитившего ее Бродского: «Нам подменили
кумиров!» – разгоряченно кричала она.
Но для Беллы Ахмадулиной они оба делали исключение... Одна-
жды я прибежала к ним с переписанным в тетрадку ее «Дачным ро-
маном», еще не известным им – прибежала поздним вечером, не в
- 227-
силах отложить на завтра. Как приятно было читать им вслух! Мало кто
умел и умеет так слушать! С первых же строк – «Вот вам роман из
жизни дачной, /Он начинался в октябре» – Боря с каким-то отчаянным
восхищением воскликнул: «Да что же это такое!» – и на этой волне
слушал до конца...
Не могу не рассказать, забегая далеко вперед, что когда после
многолетнего «исчезновения» с больших телевизионных каналов (ку-
да, впрочем, их и раньше особо не допускали) в начале перестройки
вдруг случился на Первом канале большой вечер поэзии (приурочен-
ный, кажется, к какой-то годовщине «Литературной Газеты»), и мы
увидели, увы, постаревших, но все равно по-прежнему обаятельных,
празднично возбужденных Евгения, Андрея, Беллу (кажется, и Роберт
Рождественский еще был жив), Надя рассказывала: «Борька так соску-
чился по ним, что весь вечер умилялся – “все простил” и всех любит!»
Однажды я зашла к Гашевым с приехавшим из Москвы школьным
другом, и мы услышали незабываемое Борино чтение. Он читал от-
рывки из «Дьяволиады» Булгакова – перебивая себя неудержимым
хохотом, особенно когда дошел до того места, где на всех обидевший-
ся герой вроде бы решает уйти из жизни и подписывает прощальную
записку: «Труп Коробкова». Надя безуспешно пыталась унять его: «Ты
сам-то не смейся!» Это было незабываемое чтение!.. Первое, что ска-
зал мой друг, когда мы вышли: «Вот теперь я все понял про Борю!» С
Надей он был давно знаком и «все про нее» хорошо понимал, а Боря с
не близко знакомыми поначалу бывал закрытым.
Не знаю, как и когда Надя с Борей впервые узнали «Москву – Пе-
тушки» Венечки Ерофеева (могу только вообразить наслаждение, с
каким они «смаковали» каждую строку), зато с журналом «Театр», где
была напечатана пьеса «Шаги командора», я первая прибежала к ним.
И какой громкий хохот сотряс стены на первом же диалоге: «Моя фа-
милия – Гуревич. Мама у меня русская, а папа – еврей» – «А кого Вы
больше любите – маму или папу?». Еще большее наслаждение Боре
доставили слова: «Когда мы с папой переплывали Геллеспонт...» – и
подсчет пути от дома до ближайшей рюмочной (сколько раз надо
пройти этот путь, чтобы получилась ширина Геллеспонта).
Но один Борин восторг дорог мне по-особому. Когда я «исполни-
ла» им с Надей песню Галича «А начальник все спьяну про Сталина»,
Боря буквально «обалдел». Слуха я абсолютно лишена, но ритм стара-
лась при исполнении передать... Впрочем, все это было неважно –
слова песни так надолго потрясли Борю, что чуть ли не в каждую нашу
встречу он просил повторить, что я всегда добросовестно делала, а
- 228-
песня эта – длинная... Однажды в антракте какого-то спектакля Боря
подвел меня к своему брату Коле и потребовал «рассказать про на-
чальника». Реакция Коли была такой же бурной... (Кстати, и в этом Бо-
ря с Надей были похожи: она также буквально всю жизнь просила ме-
ня повторять стихи Коржавина «Довоенные девочки, детство мое, ки-
евлянки...», на что я тоже всегда с удовольствием откликалась).
Но однажды – при Бог знает котором «заказанном» им исполне-
нии – Боря поразил меня неожиданным поворотом мысли... Он вдруг
сказал (про слова: «Такого начальника мне, конечно, уже не найти!»):
«Какая рабская психология! Не может человек представить себе жизнь
без какого-нибудь начальника!» Меня это поразило. И хотя я все равно
не избавилась от эмоционального сопереживания герою, в голове «за-
стряли» эти слова. Поняла, что возможен и такой угол зрения...
Позднее Боря был как-то совсем по-другому очарован другой
песней Галича – «Облака». Этот герой оказался гораздо ближе ему –
слава Богу, не биографически, а психологически. Будь он человеком
того поколения, испытавшим что-то подобное, мог бы написать так.
Это очень чувствовалось по тому, как он произносил или напевал сло-
ва песни – как свои ... И ему все казалось, что все, кроме него, недо-
оценивают эту песню.
В 70-е годы мы много говорили о сталинских временах. До «глас-
ности» девяностых было еще далеко, и, ужасаясь, постепенно узнавая
все более жуткие факты, мы высказывали разные догадки, читали кем-
то раздобытые запрещенные отрывки из «Архипелага Гулаг», спорили
об отдельных эпизодах, особенно часто – об убийстве Кирова (хотя
Надя была убеждена, что народ и тогда все знал – родители цитирова-
ли ей известную даже в деревнях частушку: «Ах, огурчики-
помидорчики,/ Сталин Кирова убил в коридорчике»), надолго застре-
вали в этих тяжелых дебрях, очень поздно расходились, казалось,
полностью высказавшись. Но Боре все было мало, и однажды, когда
мы, уже одетые, стояли в коридоре (дело было зимой), Боря как-то
заполошно воскликнул: «Постойте, ребята! Я так и не понял – что же
нам делать со Сталиным?!» О, эти Борины реплики вслед!..
Из рассказа Нади: «Бори не было до 3-х ночи. Я открыла дверь с
намерением от души обложить (довел!), а он – сходу: «Дорогая, меня
опять не выбрали председателем профкома!» – «Я так и рухнула!
Обезоружил!»
Все, кто помнит Борю Гашева, представляют, как он «стремился»
сделать профсоюзную карьеру!
- 229-
Вспоминаю один давно задуманный Борей «сюжет для неболь-
шого рассказа»... В вагоне ночной электрички шумная разгоряченная
компания с энтузиазмом поет: «Ревела буря, гром гремел,/ Во мраке
молнии блистали...». К ним подходит странный человек, до этого дол-
го сидевший один в другом конце вагона, и спрашивает: «А вы знаете,
кто написал эти слова?» – и с надеждой вглядывается в лицо каждого.
Но этого не знает никто, и человек уходит обратно в свое уединение и
с горечью думает: «Наверно, я последний человек, который помнит,
что эти слова написал Кондратий Рылеев».
В связи с этим сюжетом Боря говорил: «Мы знаем кучу вещей, ко-
торых почти никто не знает! И никому они не нужны! Но ведь надо же,
чтобы кто-то сохранял все эти глупости... И передавал дальше».
В одних веселых и легких стихах Нади есть грустные строки:
... Он поднимает свой бокал,
Он говорит, что жизнь легка,
И лишь конец обычно безнадежен...
Но вот об этом я здесь ни за что не буду говорить. Не хочу и не
могу. Надя смогла бы и это. Она никогда не боялась додумывать и
умела формулировать. Помню, как потрясен был мой муж Миша (и не
только он) ее словами на похоронах моего отца – о том, что эта смерть
подобна природному катаклизму – страшному землетрясению, и что
круги от этой катастрофы будут долго расходиться... Мы часто потом
вспоминали это. Может, я и ощутила при потрясшем известии о смер-
ти Нади что-то похожее, но так говорить – не умею. Думаю, что из все-
го рассказанного и так понятно, что значили для меня Надя и Боря.
Но закончить хочу не на этой прощальной ноте...
Много лет назад мы пришли на Надин день рождения с братом
Герой. Миша после Нового Года должен был сразу вернуться в Сверд-
ловск, а я задержалась до Надиного дня рождения – 8 января. Надя
шутила, что, выйдя замуж, я «как приличная женщина» стала ходить в
гости с братом. Мы с Герой сочинили тогда стихи, требующие некото-
рых комментариев. Во-первых, мы приготовили для иллюстрации
странные подарки – бюсты знаменитого артиста XVIII века Федора
Волкова (создателя первого в России драматического театра) и Льва
Толстого; во-вторых, в двухлетнем возрасте Надя исполнила в опере
«Чио-Чио-Сан» роль сына героини.
Это было в Березниках во время войны, спектакль шел во дворце
Калийщиков, где тогда работала Антонида Львовна Пермякова. В
Перми во время эвакуации находился Мариинский театр, он ездил по
области с гастролями, а ребенка на роль сына мадам Баттерфляй, ес-
- 230-
тественно, каждый раз искали на месте. В Березниках взгляд режиссе-
ра упал на маленькую Надю. Она помнила себя на сцене в бархатном
костюмчике на руках у певицы, но детский крик «Мама!» (как положе-
но по сюжету) в том спектакле так и не прозвучал. Уже тогда упорная и
самостоятельная, Надя увидела, что никакой мамы на сцене нет, и
называть так чужую женщину категорически отказалась.
Это событие мы с братом запечатлели в одной из строф сочинен-
ного к дате стихотворения, которое исполнили «перекрестно»: строчку
– я, строчку – он, причем его иронические интонации были сознатель-
но контрастны моему лирическому пафосу, впрочем, достаточно
«многослойному». Ясно же, что про «серьезного умного мужа» мы
читали не с есенинским надрывом! Вот этим нашим с братом сочине-
нием мне кажется очень правильным закончить мемуар о любимых
друзьях.
Не для всех созрели в небе звезды,
И язык благоговейно скован.
Как восславить в этот день морозный
Нам – бездарным – Надю Пермякову!
Волков был иным вельможам странен...
Пробил час, и Федя понял: «Надо!» –
Чтоб когда-то в Чио- Чио-Сане
На подмостках появилась Надя.
И с тех пор являлася она
Разным людям в разные минуты...
Мудрой озаренности полна,
Помогала кое-что распутать.
Пермякова и поныне та!
С ней и стужа пермская – не стужа!
Не чужда ей наша маета,
Хоть живет с серьезным умным мужем.
Что там черт – не брат и Лев Толстой ему!
Смело классиков каноны упраздня,
Уж который год живет по-своему
Непохожая счастливая семья!
- 231-
Л. Кертман,
выпускница 1966 г.
«ПОЙМЕШЬ ЛИ ТЫ МЕНЯ?»
Папа молод. И мать молода.
Конь горяч. И пролетка крылата.
И мы едем, незнамо куда, –
Всё мы едем и едем куда-то...
Давид Самойлов
В 2017 году в университете – отдельно на истфаке и на фил-
факе – отмечался столетний юбилей моих родителей – Льва Ефи-
мовича Кертмана и Сарры Яковлевны Фрадкиной. Папа и мама роди-
лись в один год, но в разные месяцы: папа – 1 сентября, а мама – 26
декабря, и папа не раз с юмором отмечал «знаковость» этого раз-
личия – «Нас с тобой разделяет Октябрьская революция!» Так вос-
клицал он по самым разным поводам, когда мама оценивала какого-
то человека или событие более категорично, чем он.
В том году в Перми (в издательском центре «Титул») вышла
моя большая «Книга дочери», и, как оказалось, многое в ней букваль-
но «ложится» на предложенную авторами сборника тему: если не
«узко филологической», то широко гуманитарной наша семья уж
точно была.
Перечитывая книгу три года спустя, я вижу, как многое еще
можно было бы вспомнить – достать из «бездонного колодца па-
мяти», где сохранены разные не всплывшие тогда эпизоды (впрочем,
это процесс бесконечный...) .
Об одном не могу не сказать здесь. ...Читаем вслух «Маленького
принца» (и для родителей, и для меня он звучит впервые), и на по-
следних строках у папы вдруг перехватывает горло, он несколько
раз пытается «взять себя в руки», чтобы дочитать последние сло-
ва – и не может... «Да что это со мной!» – как-то беспомощно вос-
клицает он. Это навсегда вошло в мою память о «Маленьком прин-
це» и об Экзюпери.
Мы с Ниной Евгеньевной Васильевой решили, что целесообраз-
нее всего будет представить не знакомым с моей книгой читате-
лям некоторые «избранные места» из нее.
Лина Кертман.
- 232-
Сначала я настроилась выбрать только те страницы, где мы с ро-
дителями уже вместе любим дорогих нам поэтов и прозаиков, пишем
друг другу письма про них, «говорим и спорим», но потом решила,
чтобы хоть немного прозвучало и «то, что было не со мной», но что
хорошо помню по рассказам родителей, под которые росла.
А еще – под папины стихи. Начать хочется с самых моих любимых
– с детства и навсегда.
Ю. Новаку
Забудь на миг, что завтра снова в бой,
Что спутались названия и даты,
Мой старый друг! Я говорю с тобой,
Как на Мариинской улице когда-то.
Ты помнишь ночи в комнате моей,
Античный мир тогда почти нам снился –
Студенческие споры трех друзей
И мрачные гипотезы Бориса...
Какая боль! Мой друг, какая боль!
Пойми, что время нас берет измором,
Что старость наступает исподволь,
А наша юность кончилась позором.
Плохой финал! Мы потеряли сны,
Улыбки, песни, принципы, идеи...
На кой же черт теперь мы все нужны?
На что же я еще теперь надеюсь?
Но где же те великие слова,
Которым, мнилось, не было износу?
... Настанет день, поникнет голова,
И к юности пойдем мы, как в Каноссу.
Склоним колени, поглядим с тоской
На прошлое, споем из сил последних.
Настанет день... Ты будешь ли со мной,
Мой старый друг и умный собеседник?
- 233-
Под этими стихами стоит дата – 17 октября 41-го года. Обозначе-
но и место – Астрахань. Значит, госпиталь. Почти все свои стихи воен-
ного времени отец написал там. Его «старый друг и умный собесед-
ник» никогда не прочел обращенные к нему стихи – он пропал без
вести в первые дни войны. В октябре еще были надежды, извещение
пришло гораздо позже...
***
И груб, беспощаден и страшен,
Как зверь неизвестных широт,
По городу юности нашей
Немецкий полковник идет.
22 октября 1941 года.
В это время они с мамой еще ничего не знали друг о друге.
В других стихах папы звучит – вопреки всему! – надежда и страст-
ное заклинание.
... Нет, я найду тебя. Мы снова обретем
Потерянное небо Украины!
Это – сбылось. Точнее, безусловно сбылась первая часть «закли-
нания» – маму он нашел. Небо Украины осенью 41-го года и еще дол-
гих два года потом оставалось недоступным. Обрели ли они его после
освобождения Киева? Эта драматическая глава жизни стала для моих
родителей не менее поворотной и болезненной, чем война...
***
В День Победы мои родители были очень молоды, им так хотелось
верить, что теперь возможно будет радостно и творчески работать.
Мама начала увлеченно писать кандидатскую диссертацию –
«Творчество А. П . Чехова и его влияние на английскую литературу».
Это происходило в первые два года моей жизни, и мама всегда уверя-
ла, что моими первыми словами были «мама», «папа» и «диссерта-
ция». Это похоже на правду.
Папа очень поддерживал ее – он всегда хотел, чтобы мамины
способности не были задавлены бытом, чтобы она жила творческой
жизнью.
... Не потерян навеки и чёрту не продан
Жар огромной души и безвестных затей.
Эти двадцать четыре отщелкнувших года –
Затянувшийся звон увертюры твоей.
- 234-
Но пора начинать! Никогда иль сегодня...
Так написал он в декабре сорок первого года в поздравительных
стихах к маминому дню рождения.
Папа разделял мамино увлечение английскими писателями, осо-
бенно теми, в ком она видела талантливое и своеобразное продолже-
ние традиции ее любимого Чехова. С этим увлечением связано одно
интересное приключение. В 1946 году Советский Союз посетил анг-
лийский драматург Джон Бойнтон Пристли, какое-то время он пробыл
в Киеве. Мама читала все его пьесы, не переведенные папа переводил
ей прямо с листа. И незадолго до приезда знаменитого писателя в Ки-
ев родители были сильно впечатлены спектаклем по его пьесе «Опас-
ный поворот», кажется, это был гастрольный спектакль одного из из-
вестных московских театров. Однажды много лет спустя они подробно
рассказывали мне эту пьесу, по ходу поправляя друг друга, уточняя
подробности. Мне очень запомнилось, как эмоционально вспоминали
они потрясший их финал первого действия: «Они возвращаются!» (Хо-
зяин дома, взволнованный начавшей открываться неприглядной и
страшной правдой, в которую он не хочет верить, несмотря на позд-
ний вечер, звонит только что разъехавшимся гостям, и те соглашаются
вернуться для серьезного разговора; значит, каждый из них встрево-
жен, каждому есть что скрывать!). Слова эти – «Они возвращаются» –
ошеломляли, предваряя неведомые психологические открытия, кото-
рые грянули во втором действии.
Думаю, то впечатление особенно подхлестнуло авантюрное же-
лание моего молодого отца проникнуть к зарубежному гостю и, моби-
лизовав все свое знание английского, неформально пообщаться с ним.
Нечего и говорить, как непросто это было сделать. И непросто, и опас-
но (впрочем, похоже, опасности они до конца не понимали). Не знаю
«технических подробностей» – не догадалась расспросить! – может
быть, папе помогли былые интуристовские связи (в ранней молодости
он какое-то время был гидом в «Интуристе»), но факт налицо: мой
отец был допущен в гостиничный номер и приветливо принят почтен-
ным Джоном Бойнтоном Пристли и его супругой (думаю, что англича-
нам было любопытно поговорить с культурным советским молодым
человеком без переводчика). Более того, папа сумел договориться о
визите на следующий день – с женой, пишущей работу о Чехове и анг-
лийской драматургии: «Моя жена очень любит Ваши пьесы, она пишет
и о Вас тоже!» И была чудесная встреча... Недавнее сильное театраль-
ное впечатление дало хороший творческий толчок к интересной беседе:
мама задавала много вопросов, папа переводил. Они с радостью убе-
- 235-
дились, что мама не ошиблась, интуитивно предположив, что, судя по
многим тонким нюансам его пьес, Д. Б . Пристли очень любит Чехова.
Все это прекрасно, но мне даже сейчас страшно представить, как
эта встреча могла отозваться в судьбе родителей. Приближался
1949 год, когда папа был объявлен «безродным космополитом», и
какое дело могло быть состряпано, если бы кто-то из обвинителей уз-
нал об этом визите! Чудом обошлось.
В сорок пятом году вновь вернулись к моему отцу все его сомне-
ния и прозрения, так сильно опережающие время – те, что впервые
прозвучали еще в стихах сорок первого года).
Были вьюги, были беды –
Все осталось позади.
Почему же в День Победы
Как-то холодно в груди?
Потому ли, что за кадром
Слышу тут, как слышал там
Старую абракадабру
Правды с ложью пополам?..
Позднее он с болью ощутил, что «старая абракадабра», с каждым
послевоенным годом все громче звучавшая, делала официальную память
о войне настолько фальшивой, что начинало казаться: уже невозможно
пробиться со своей живой памятью к не пережившим этого, хотя бы к
собственной дочери. Во многих стихах моего отца звучала та страшная
правда, о которой редко рассказывали вернувшиеся фронтовики – и еще
долго не могли говорить вслух профессиональные историки.
Дочери
Как ее историк назовет?
Может быть, великой из великих?
Впрочем, навсегда утерян счет
Выдумкам историков маститых.
Как ее поэты нарекут?
Может быть, борьбою Тьмы со Светом.
Впрочем, не Сизифов ль это труд –
Подсчитать все выдумки поэтов...
Скажут, что последняя война,
Что отныне мертв военный гений...
Дочь моя, поймешь ли ты меня,
Ветерана Зборовских сражений?
- 236-
Пусть напишут тысячи томов,
Выдумают тысячи теорий,
Но не встанет в этом вихре слов
Наше человеческое горе.
Через поле женщина бежит
В шелковом халате, ноги босы.
Узелок. И прыгают по ржи
Рыжие распущенные косы.
Мальчик вытер слезы и затих,
Посмотрев наверх с немой тревогой...
Родина, ты знаешь, сколько их
Бродит по твоим кривым дорогам?
Сколько позабытых и больных
Болью всей предгрозовой эпохи,
Сколько страшных отпрысков войны,
Сколько безнадежных скоморохов.
Сколько красных пятен на траве,
Сколько стонов, сдавленных в гортани,
Сколько недолюбленных любвей,
Сколько недосказанных признаний.
Сколько было дыма без огня,
Сколько честолюбий и сомнений!
Дочь моя, поймешь ли ты меня,
Ветерана Зборовских сражений?
Ты прочтешь об этом много книг,
Вызубришь сражения и даты...
Но пойми! Над Киевом огни
Радостью светили нам когда-то!
Слышишь? Шелест листьев и ветвей
Над днепровской серебристой глубью...
Это шепот матери твоей,
Это твой отец ее голубит.
И тогда забыта, не нужна
Кончилась поэма поколенья....
Дочь моя, поймешь ли ты меня,
Ветерана Зборовских сражений?
- 237-
Хочу надеяться, что я понимала...
В 1949 году «старая абракадабра» зазвучала с новой устра-
шающей силой. Этот год перевернул жизнь нашей семьи, вынудил
родителей навсегда покинуть родной Киев, тем драматичным со-
бытиям посвящена большая глава книги, после нее – главы о первых
годах жизни в Перми. Следующие отрывки – о шестидесятых годах.
***
Помню многие моменты, когда родители и их друзья бывали ра-
достно возбуждены малейшими знаками «гласности» того времени,
как бы по-эзоповски завуалированы они ни были. Навсегда запомни-
лось мне несколько эпизодов.
В середине пятидесятых годов Регина Гринберг (двоюродная се-
стра папы) приехала в отпуск в Киев, где в то лето собралась вся их
эвакуационная «казанская колония» (многие были с детьми). Регина
уже жила в Иваново, была режиссером впоследствии очень известно-
го театра Поэзии, и она привезла самиздатскую рукопись пьесы
Е. Шварца «Дракон». Об опубликовании этой пьесы тогда и подумать
было невозможно. Мы собрались довольно большой компанией по-
чему-то на огромном киевском стадионе (в середине дня он был почти
пуст), Регина читала вслух, и неудержимый хохот то и дело прерывал
чтение. Регине периодически казался опасным тот или иной человек,
забредший на стадион с бутылкой пива (она вообще была более на-
пряжена, чем остальные, хотя и другие не теряли бдительности), и мы
часто переходили с одной скамьи на другую, забираясь в самые даль-
ние углы стадиона. Взрывы смеха сопровождали чтение многих сцен:
газетные сводки об «успехах» дракона в бою («Две головы лучше, чем
три!»; «Один Бог на небе, одна голова у дракона!»), эпизод с мальчи-
ком, продающим зеркало – «редкий предмет», с которым можно, гля-
дя вниз, увидеть происходящее наверху (реальный ход боя). Сейчас
понимаю, как недавно еще была война, как свежо все это было в па-
мяти собравшихся! (В детстве это не понималось...) .
Но больше всего все – даже мы, дети! – были поражены автор-
ским предвидением (мы знали, что пьеса написана еще во время вой-
ны). После смерти Дракона на его место приходит «простой и демо-
кратичный», но не менее циничный, первый министр, якобы вышед-
ший «из гущи народа». Нас очень смешили его «простонародные»
реплики: «У нас без церемоний! Это при Драконе было, а у нас все по-
простому!» (Мы читали это в хрущевские годы). А когда слушали про
искалеченные при Драконе души, пожалуй, было уже не до смеха... И
- 238-
то первое, в детстве полученное впечатление от этой пьесы (и вообще
от блестящего драматурга Евгения Шварца) осталось у меня самым
сильным и не было перекрыто ни театральными спектаклями, ни та-
лантливым фильмом Марка Захарова, наверное, потому, что тогда все
слушатели были на единой общей волне...
... В шестидесятые годы родители бывали по-молодому захвачены
многими стихами (в данном случае говорю не об эстетических потря-
сениях – о других), жадно ловили сквозящие между строк намеки.
Помню, как весело, с мягкой иронией, хорошо знакомой всем, кто его
помнит, папа воскликнул: «Смотрите! Окуджава написал про Хруще-
ва!» И прочел почти забытые сейчас стихи Булата Окуджавы про Павла
Первого, знающего цену своему окружению и всему в России проис-
ходящему, и если бы его воля, но... «И золотую шпагу нервно,/ Готов я
выхватить, грозя,/ Но нет – нельзя, я ж Павел Первый!/ Мне бунт уст-
раивать нельзя!»
Но и открытые – без подтекстов – важные высказывания поэтов
часто волновали. Огромным событием стал для родителей и для меня,
как для многих и многих, «Бабий Яр» Евгения Евтушенко. А тот факт,
что эти стихи были опубликованы в центральной газете, безусловно,
говорил о важных изменениях в общественной атмосфере. Но степень
разрешенной свободы все же определялась сверху, и потому совсем
уж безоглядно обольщаться не приходилось. Так, строки Бориса
Слуцкого о евреях в те годы и долго еще потом оставались в самиз-
дате: «Евреи хлеба не сеют,/ Евреи в лавках торгуют,/ Евреи рано
лысеют,/ Евреи много воруют/ Давно уж кончилось детство,/ И скоро
я постарею,/ Но мне никуда не деться/ От крика: «Евреи! Евреи!/
И пуля меня миновала,/ Выходит, молва не лжива:/ Евреев не убива-
ло./ Все возвратились живы». Это волновало по-иному, чем «Бабий
Яр», но не менее (в чем-то даже более) остро. В таком сильном и му-
жественном поэте, умеющем о самом трагичном говорить с суровой
сдержанностью, обнаженная беззащитность страдания как-то особен-
но поразила.
... Обмен самиздатом очень обогатил отношения между друзьями,
которые делились новыми открытиями, а потом бурно обсуждали их.
Хорошие друзья знали, кому что особенно интересно, и радостно да-
рили только что узнанное. Так, в одном из писем Брони (киевской
подруги родителей, которую по похожим причинам судьба забросила
в Ригу) звучит обещание в следующем письме прислать два стихотво-
рения Слуцкого, а третье – придержать до встречи, чтобы прочитать
вместе. Мне кажется, что такое – тоже характерная черта времени.
- 239-
Муж Брони, математик Лев Ладыженский, был активным и страстным
собирателем самиздата. В одно лето моих студенческих каникул, ко-
гда мы вместе отдыхали на Рижском Взморье, я так много переписала
в свою тетрадь! И прозу Цветаевой, завораживающе и странно на наш
тогдашний слух звучащую («Пленный дух», «Живое о Живом»), и
большую поэму Наума Коржавина «Танька» – об убежденной комму-
нистке, не отказавшейся от своих взглядов после многих лет в Гулаге,
после гибели любимого человека. Эта женщина – подруга юности «ли-
рического героя», и он пытается хотя бы в закатном возрасте в чем-то
переубедить ее, открыть глаза, но... «Но внезапно я спор обрываю, я
сдался – я понял,/ Что борьбе отдала ты и то, что нельзя ей отдать,/
Все – возможность любви, мысль и чувство, и самую совесть,/ Всю се-
бя – без остатка! – а можно ли жить без себя?..». Все самиздатское в то
отпускное лето мы читали вслух, очень помню очарованность родите-
лей цветаевской прозой (о себе уж не говорю!). Папа убеждал нас, что
судя по тому, как она о нем пишет, у Марины не могло не быть романа
с Андреем Белым – он, как и все мы, еще не знал степени цветаевской
самоотдачи в самых разных отношениях... А финал «Таньки» он слу-
шал напряженно, вздрогнув, когда показалось, что «я спор обрываю –
я сдался» означает сдачу поэтом своих позиций и его согласие с ге-
роиней – и облегченно вздохнул, дослушав до конца.
В то же лето вполне легально был опубликован «Теркин на том
свете» А. Твардовского, где чего только о времени и о стране не было
сказано! «Теркина» папа всегда любил, часто цитировал, этот юмор
был ему тоже близок (не только английский!), и он давно был заинтри-
гован слухами о каком-то запрещенном продолжении.
...Еще в 1954 году мама под впечатлением рассказов более ин-
формированных московских друзей поспешила в одном из писем
подробно описать папе эти слухи.
И вот через семь лет это было опубликовано! Кому-то удалось,
минуя инстанции, показать поэму Хрущеву, и ему понравилось (похо-
жая история предшествовала опубликованию «Одного дня Ивана Де-
нисовича» Солженицына). Мы читали «Теркина на том свете», потом
на годы ушедшего в безвестность, в той газете 1963 года, надолго
ставшей библиографической редкостью, вслух и не один раз! Каждому
приходящему, кто еще не читал! При каждом естественном человече-
ском порыве на Теркина на том свете смотрят с подозрением, и это
переходит в гонения и розыск: «Есть опасность, что живой/ Просочил-
ся сверху!». А про деда – прелесть!
- 240-
Дед мой сеял рожь, пшеницу,
Обрабатывал надел,
Он не ездил за границу,
Связей тоже не имел,
Пить – пивал, порой без шапки
Приходил, в ночи шумел,
Но помимо как от бабки
Он взысканий не имел.
Не представлен он к награде,
Не был дед передовой
И отвечу правды ради –
Не работал над собой!
Уклонялся, и постольку
Близ восьмидесяти лет
Он не рос уже нисколько –
Укорачивался дед!
Папа с наслаждением читал это – так и слышу его голос...
Смогут ли читатели других поколений почувствовать, какой обод-
ряющей внутренней свободой веяло на нас от этих строк? Пестрое бы-
ло время.
***
Мы с родителями и с друзьями (их и моими) много говорили о
стихах, часто читали вслух и порой «перебрасывались» бывшими на
слуху строками, в подтексте которых было спрятано много волнующе-
го – как паролями...
«А если что не так – не наше дело!/ Как говорится, родина веле-
ла!». Эта песня была хорошо известна уже в шестидесятые годы, но
только в «перестроечные» девяностые Евгений Евтушенко «сознался»,
что это он посоветовал Булату Окуджаве назвать ее (чтобы возможно
было исполнять) – «Песенкой американского солдата». Написана она
была за восемь лет до ввода советских войск в Чехословакию – и сей-
час известна как «Песенка веселого солдата». Но мы, конечно, и тогда
понимали, что это не об Америке... Евтушенко обращался к понимаю-
щим и когда начал свой «Монолог битников» словами: «Двадцатый
век нас часто одурачивал,/ Нас, как налогом, ложью облагали,/ Идеи с
быстротою одуванчиков/ от дуновенья жизни облетали», и когда на-
звал явно свою собственную исповедь – «Монолог американского пи-
сателя»: «Устоев никаких не потрясал,/ Смеялся просто над фальши-
вым, дутым./ Писал стихи. Доносов не писал./ И говорить старался все,
- 241-
что думал./ Да, защищал талантливых людей/ Клеймил бездарных,
лезущих в писатели,/ Но делать это, в общем, обязательно,/ А все
твердят о смелости моей...» Вряд ли хоть один читатель поверил тогда,
что это стихи об Америке, слишком ясно все было.
Все подобное мы с родителями воспринимали на одной волне.
Тем не менее отец настойчиво напоминал мне: нельзя утрачивать кри-
териев и надо помнить, что многие стихи, которыми я бурно восхища-
лась (особенно Евтушенко и других «гремящих шестидесятников»),
мягко говоря, «далеки от гениальности». Он иногда устраивал «блиц-
проверку» моего вкуса, наугад открывая сборники Евтушенко или Воз-
несенского, и спрашивая, талантливо или халтурно написана та или
иная строфа. Часто мы совпадали, иногда – бурно спорили. Неизмен-
ное исключение делал он для Беллы Ахмадулиной, которой восхищал-
ся и говорил, что у нее бесталанных стихов нет и не может быть.
Его-то критерии были неизменно высоки: навсегда любимым по-
этом оставался Борис Пастернак, которым он был «опьянен» с ранней
юности.
Чтобы примирить свою глубокую любовь к большой поэзии со
способностью душевно откликаться на строки иного уровня, папа изо-
брел оригинальное выражение: «хорошие плохие стихи». Он был убе-
жден, что такие существуют и имеют безусловное право на существо-
вание. Он, например, с энтузиазмом распевал песню Утесова про
«Одессу – мой солнечный город», искренне любил стихи К. Ваншеен-
кина. А «хорошими плохими стихами» он называл и многие строки
Евтушенко и Вознесенского и даже гораздо более по-человечески
близкого ему Наума Коржавина. Свои стихи он тоже называл, думаю,
не всегда справедливо, «хорошими плохими».
В отличие от многих мужчин, папа определенно и неизменно
предпочитал ахматовской сдержанности цветаевскую безмерную от-
крытость, мама же предпочитала Ахматову – даже в 1946 году, когда
всех школьных и университетских преподавателей литературы обяза-
ли читать печально известное постановление Жданова об Ахматовой и
Зощенко, она умудрилась обширно процитировать много строф Ахма-
товой (якобы в подтверждение «непозволительной» камерности ее
лирики, но студенты все поняли, и у них надолго осталось волнующее
воспоминание о первом знакомстве с долго еще недоступной пре-
красной поэзией – бывшие киевские студенты рассказывали мне об
этом долгие годы спустя).
. .. Папа однажды и навсегда был потрясен цветаевским «воплем
женщин всех времен» (имею в виду и стихи с этой строкой, и ее по-
- 242-
эзию в целом). Он глубоко чувствовал ее единственность в мире – на-
столько, что был уверен: стихи Арсения Тарковского «Марина стирает
белье» – о любви. «Ты думаешь? Но ведь ей тогда было уже 48 лет!» –
наивно восклицала я в свои 25. «Да, но это была Марина!», – отвечал
отец. Мы много говорили о Цветаевой. Я рассказывала обо всем но-
вом, что удавалось узнать, отца все это тоже волновало. Цветаевская
открытость никогда не отпугивала его, наоборот, безмерно трогала...
А в живой жизни папа был потрясен встречей с Ольгой Берггольц,
о которой писал маме.
18 марта 1962 года, Кисловодск
Наиболее интересный здесь человек – это Ольга Берггольц <...>
она – комок нервов, горя, большой любви и ненависти <...> . Недавно я
привез ее в гости к Иосифу (киевскому другу их юности, после
1949 года живущему в Пятигорске. – Л . К .). Мы провели много часов (в
основном за ресторанным столиком), она была в ударе (не без влия-
ния выпитого), много рассказывала и читала стихи, которые вряд ли
попадут в печать. Временами на нее страшно смотреть – так она об-
нажена душевно. < ...> если через чье-нибудь сердце прошла трещина
мира, то – именно через ее. Во всяком случае, в числе самых интерес-
ных недолгих знакомств, которые мне приходилось иметь, это, пожа-
луй, наиболее значительное. Сквозь нее «история орет...» .
... У мамы через много лет после этого – в середине 70-х годов –
была своя встреча с Ольгой Берггольц, она подробно описала это в
письме мне:
«...С Ольгой Берггольц первый разговор у меня был довольно
беглый и, как мне показалось, натянутый. Она отвечала на мои вопро-
сы (мама писала тогда большую книгу “Русская советская литература
периода Великой Отечественной войны”, которая вышла в Перми в
1975 году. – Л . К.) – второй том “Дневных звезд” – о 1937–39 гг. в ее
жизни – который был не закончен тогда, когда Твардовский торопил
ее, сейчас уже не напечатают; Твардовский при смерти – к раку еще
инсульт прибавился; Костя Симонов был у нее здесь пару дней назад
перед своим отъездом; Панова не оправилась после тяжелого инсуль-
та и уже ничего не пишет <...>
Она предложила зайти к ней еще раз, и я сказала, что зайду, а са-
ма сомневалась – мне казалось, что я была ей немножко в тягость, не
нашла нужного тона и тактичнее будет не показаться. А получив сего-
дня перед обедом твое письмо, вдруг оделась и отправилась к ней (в
подсознании здесь сработало два обстоятельства: 1) тебе интересно;
- 243-
2) не надо быть инертной). Получилось очень хорошо. Я провела у нее
минут 40-50; потом пришли какие-то знакомые – почитательницы, и
она по-хорошему не стала меня удерживать, когда я поднялась, и
очень искренне сказала: “Как хорошо, что вы пришли, а то я уже уез-
жаю – за 5 дней до положенного” (ее забирают в г. Орджоникидзе, где
она не была 30 лет и где было очень многое, в том числе и первая лю-
бовь).
А когда пришедшие защебетали, что они ненадолго и, может, не
стоит мне уходить, она сказала, что такие разговоры, как был у нас, не
могут быть очень долгими – они дорого обходятся – и попросила мой
адрес. А говорила она много, откровенно (у нее удивительно обнаже-
ны нервы), с болью о предвоенных своих годах, о рассыпанных набо-
рах книг, о Ленинграде военных лет...
Интересно, когда ее в 37-м исключили из партии, райком послал
(“надо же кушать”) преподавательницей литературы в 6-7-е классы.
Она не сразу нашла общий язык с учениками, но нашла уже всерьез и
надолго. И в начале июня 41-го года перед их выпуском пришла к ним
и читала свои стихи:
Я так боюсь, что тех, кого люблю,
Утрачу вновь.
Я так теперь лелею и коплю
Людей любовь.
Ее огорчает, что многие (в том числе и Фадеев) считали военный
взлет неожиданным у нее – она очень дорожит многими своими про-
видческими (“Кассандриными”) предвоенными, нигде не напечатан-
ными стихами.
И – говорит она – я могу писать только о себе (точнее, конечно,
через себя) – “лирик по самой строчечной сути” – определяет себя
Асеевским. Симонов в последнем разговоре с ней признавался, что и
ему надоело “про Ивана Ивановича и Федора Федоровича”, хочется
про себя. Но у них это очень по-разному. Он: ну, романы свои – это я
могу отделить, а она говорит – ничего не могу отделить, все у меня
переплетено в один узел. Не случайно и книжка, которая вышла (у нас
есть, а 2-е издание рассыпали) – “Узел”. Она, понимаешь, насквозь,
насквозь женщина. У которой столько уже в прошлом, что она удиви-
тельно спокойно, между прочим, упоминает о смерти.
В общем, я тебе, солнышко, очень благодарна, что пошла к ней. И
что ты мне часто пишешь».
- 244-
***
Но хочется еще вернуться в неповторимые 60-е ...
Много говорили мы с родителями и о фильмах и спектаклях. Папа
восхищался Смоктуновским не столько в признанной на тот момент
его вершине – знаменитом «Гамлете», сколько в «Девяти днях одного
года». Был в восторге от его интонации в смелом по тем временам
монологе о «наших дураках» и их отличиях от дураков зарубежных. Он
надолго запоминал в фильмах какие-то поразившие реплики, иногда
самые мимолетные. Например, ответ героя Баталова в фильме «Доро-
гой мой человек» на слова положившей на него глаз докторши, кото-
рая уговаривала его оставаться в рамках своих обязанностей врача и
не бегать самому на передовую за ранеными: «Какой смысл? Вас про-
сто убьют!» – «На войне, случается, убивают». Очень папу впечатлило,
как Баталов это произнес, часто вспоминал.
А в старом фильме «Идиот» с Юрием Яковлевым и Юлией Бори-
совой в главных ролях был больше всего потрясен одним эпизодом.
Ганя Иволгин дает князю Мышкину пощечину, и тот, схватившись за
щеку, долго смотрит на него с беззащитно детским изумлением и по-
сле паузы тихо произносит: «Когда-нибудь вам будет очень стыдно...».
Папа говорил, что глаза Яковлева в ту минуту – это что-то запредель-
ное. И у него – тогда еще сравнительно молодого – буквально заболе-
ло сердце.
О книгах – любимых или не очень – мы часто говорили как о жи-
вой жизни, о героях – как о живых людях, фразы из романов, как и из
стихов, становились паролями и звучали в разговорах совсем не о ли-
тературе. Папа часто обращал внимание на «не главные» эпизоды ро-
манов. Например, в «Звездном билете» В. Аксенова, который в начале
60-х был у всех на слуху, выделил мало кем замеченный момент,
очень нас развеселивший: Алик собирается стать писателем, всюду
таскает за собой пишущую машинку и на каждом шагу цитирует Хэма и
Ремарка, но, повзрослев за описанное в романе лето, вдруг покаянно
восклицает: «Ребята! А ведь “Анну Каренину” я не читал!» Это тоже
стало у нас своеобразным паролем – папа вполне мог сказать о ком-
нибудь из студентов или новых знакомых: «Да он “Анну Каренину” не
читал!». (Позже мы узнали, что Твардовский говорил так про молодых
писателей, не читавших «Капитанскую дочку», что бывало сразу видно
по их текстам.)
Особый сюжет – любимые героини моего отца. «Хождение по
мукам» А. Толстого отнюдь не было его любимым произведением, но,
вопреки неприятию многого там, героини с такими милыми домаш-
- 245-
ними именами – Катя и Даша – оказались неожиданно близки его
идеалу «вечной женственности». В основном, разумеется, это относит-
ся к первой, дореволюционной, части трилогии «Сестры», пока герои-
ни живут в мире общечеловеческих ценностей и до того, как они
(впрочем, как и их любимые мужчины) ни с того ни с сего полюбили
советскую власть.
(Насчет истинного отношения автора к большевикам у папы было
одно давнее «подозрение». С юмором вспоминая реплику белогвар-
дейца, предсказавшего скорую измену Рощина: «Рощин – большевик
и дерьмо!» (эта фраза почему-то ужасно смешила нас), он уверенно
восклицал: «Проговорился граф!» Каковы бы ни были моральные ка-
чества «красного графа», как известно, «талант не спрячешь!»)
И – по контрасту! – резко не любил папа Анну Каренину. Не за са-
му измену, не за любовь к другому, но – за высокомерие, за то, что
ощущала себя вправе не считаться со страданиями ни в чем не вино-
ватого перед ней мужа. По тем же причинам еще больше не любил он
Ирэн в «Саге о Форсайтах». Настолько, что не мог понять симпатичного
ему автора, так настойчиво стремящегося воплотить в этой героине
свой идеал. Удивлялся, как может он не видеть запредельного эгоиз-
ма и даже «элементарного хамства» своей любимой героини, прояв-
ляющегося во многих эпизодах, особенно когда она – счастливая, по-
глощенная не изведанными прежде чувствами, с ощущением полета в
душе – возвращается с любовного свидания и на вопрос мужа: «Где
была?» – бросает ему в лицо: «В раю – не у вас в доме!». Папа не раз
говорил о безобразном звучании этих слов (особенно потому, что
Ирэн говорит это, возвращаясь в дом мужа, не виноватого в том, что
она его не любит), и никакая ослепительная красота не компенсирова-
ла в его глазах такое. Тут мы с ним полностью совпадали.
Надолго стали нашим паролем и слова «убить пересмешника»...
Но продолжу о любимых героинях отца. Любуясь теми, кто обла-
дал аурой «вечной женственности», более глубокую общечеловече-
скую симпатию (тоже, впрочем, не отделимую от мужской) папа испы-
тывал к героиням, которых ценил за другое, гораздо более важное в
его системе ценностей: за благородство, понимание, умение сочувст-
вовать, умение дружить с мужчиной. Просто дружить, вне любви. Но и
«внутри любви» тоже. Об этом однажды очень хорошо сказала моя
подруга Надежда Гашева в своей прекрасной песне, которую спела в
нашей «знаменитой» квартире на Компросе. Как строго-завора-
живающе она пела! И с каким восхищением папа слушал! Прошло
очень много лет. Сейчас я помню из этой песни всего две строки (те
- 246-
самые, что вызвали папин одобрительный возглас): «Мы были друзь-
ями/ За несколько слов до любви...».
Были друзьями, способными многое понять в мужской душе и
жизни, даже то, что традиционно считается психологически не доступ-
ным для женщин...
Патриция Хольман из «Трех товарищей» Ремарка... Сколько в ней
мудрой терпимости и милого юмора! А как сумела она почувствовать
и оценить мужскую дружбу, как чутко старалась ничего в ней не ис-
портить! Наша любимая сцена: «Кестер и Ленц, не оглянувшись, сразу
же помчались дальше. Я посмотрел им вслед. На минуту мне это пока-
залось странным. Они уехали, – мои товарищи уехали, а я остался <...>
Она смотрела на меня, словно о чем-то догадываясь. – Поезжай с ни-
ми! – сказала она <...> – Не хочу, чтобы ты из-за меня от чего-нибудь
отказывался. – О чем ты говоришь? От чего я отказываюсь? – От своих
товарищей...» «Мой добрый старый дружище...», – говорит Роберт
своей «Пат» в их самую тяжелую и самую нежную минуту... Только
такую – как сама она говорит о себе, «не совершенную» женщину, так
глубоко понявшую, что значили для него товарищи – смог он (надо-
рванный, душевно опустошенный и мало во что верящий после такой
войны) полюбить так, как никогда не полюбил бы «законченную и со-
вершенную», самим этим «совершенством» неизбежно чуждую ему...
...А еще была Динни Черрел. Папа не ошибся, дав мне в 15 лет
этот роман – «Конец главы» Д. Голсуорси, и сказав, что, как ему кажет-
ся, Динни должна мне очень понравиться. И история ее любви – тоже.
Это в самом деле осталось со мной на всю жизнь, а в папином отно-
шении к этой героине – в том, как он восхищался и любовался ею, ее
юмором и душевной тонкостью – было что-то трогательно похожее на
отношение к ней в самом романе мудрых старших родственников,
братьев ее отца, которым Динни очень доверяет и с которыми говорит
откровенно. Похожие отношения и разговоры бывали и в жизни моего
папы – с детьми родных и друзей, говоривших с ним более раскован-
но, чем со своими родителями...
Патриция Хольман, Динни Черрел, Мэри Глостер – редкие жен-
щины, которых, вопреки давнему морскому обычаю, можно взять с
собой на корабль.
***
Чтение всегда было отдельной очень важной частью жизни роди-
телей (иногда вместе со мной и подросшим братом, иногда – без нас).
Это была очень личная их сфера, что особенно ощутимо во многих
письмах, особенно 1960–1970-х годов. Вдруг подумала: такие письма
- 247-
говорят о каком-то внутреннем освобождении после особенно напря-
женных лет. В годы перед папиной защитой диссертации, не говоря уж
о времени потери работы, не находилось в душе пространства для
подобной переписки, а теперь хотелось всем подробно делиться.
Вот несколько фрагментов из таких писем.
Из писем папы.
Февраль 1967 года, Кисловодск
Читаю Фолкнера – «Город», ты его помнишь по «Иностранной», и
я помню, но его надо читать и читать, чтобы взять все пласты психоло-
гии Гэвина. И, кажется в его раздумьях есть очень много близкого мне,
настолько тонкого, что до этого надо ещё тянуться, но он несчастный, а
я так не хочу.
9 марта 1971 года, из Перми в Кисловодск
...я никак не могу понять, почему «большой роман Хемигуэя» вы-
зывает у тебя именно данный строй мысли. Правда, я читал только
концовку (No 1), но не может быть, чтобы я «не понял ничего». А если
понимать, то там, наоборот, не такой должен быть, мне кажется, по-
ворот чувства. Не мог он, главный герой, всю жизнь понимать, кто его
по-настоящему любит – вот что сказал ему под конец его друг!
Мама отвечает.
1972 год, из Кисловодска в Пермь
Что же касается Хемингуэя, интересно мы с тобой обменялись: я –
прочтя только первые два (части, опубликованные в двух номерах
«Иностранной литературы», которую, как и «Новый Мир», и «Дружбу
народов», и «Юность», а иногда и «Театр», выписывали. – Л . К.), а ты –
только третий. Лучше бы, милый, читать целиком. Во-первых, роман
этого заслуживает. Во-вторых, Хемингуэй не из авторов, пишущих про-
изведение во имя последней фразы – мироощущение героя не опре-
деляется тем, что он не понимает, чем был для главных своих людей.
Мне-то дорога и мою реакцию вызвала именно система ценно-
стей героя, умеющего видеть за частным единственно главное – про-
явление жизни. Вероятно, самый большой человеческий талант в том,
чтобы ее, жизнь, не выплескивать коту под хвост.
***
Когда много лет спустя я впервые прочла в письме Марины Цве-
таевой обращенный к новому знакомому вопрос – «Живете в кни-
гах?», в моей памяти прежде всего всплыли книги, в которых мы с ро-
дителями «жили». У папы всегда была книга, в которой он «жил» в
- 248-
данный момент, на которую находил хоть полчаса в день. Иногда да-
же делал перерыв в работе за столом и открывал «Новый мир» со
свежей повестью или перечитывал что-нибудь давно любимое. Мог
под настроение открыть на любом месте почти наизусть знакомого
«Кола Брюньона» Ромена Роллана или «Трех товарищей» Ремарка.
***
Была еще Таганка с «Антимирами», с «Павшими и живыми», где
Юрий Любимов не поддался давлению верхов и не убрал из спектакля
редкий по тем временам эпизод: на одном конце сцены – гибнущий
на фронте молодой поэт Всеволод Багрицкий, на другом – его мать в
лагере, ничего не знающая о сыне. А как гневно летели в зал страстные
куплеты в «Добром человеке...» Бертольда Брехта: «Стадом бараны
идут,/ Бьют барабаны,/ Кожу на них дают/ Сами бараны!»
Была шедшая три вечера подряд трилогия в «Современнике»:
«Декабристы», «Народовольцы», «Большевики». Там утверждался
новый взгляд на цену отдельной человеческой жизни. Папа воспри-
нимал все это со страстным интересом, особенно якобы ведущиеся в
1918 году диалоги о французской революции как об уроке истории,
требующем серьезного осмысления. Все это рождало смутные надеж-
ды на очеловечивание режима.
А потом наступил 1968 год. Родители были тогда в Доме отдыха в
подмосковной Рузе. Так совпало, что я заехала их навестить в тот самый
вечер, когда «голоса» сообщили о вводе советских войск в Чехослова-
кию. Оба они были взволнованы, но папу я никогда в жизни – ни преж-
де, ни после – не видела в таком состоянии. Он сидел у приемника, со-
гнувшись, горестно обхватив руками голову и сдавленным голосом го-
ворил: «Боже мой, какой позор! В какой ужасной стране мы живем!»
И началось совсем другое десятилетие...
Семидесятые годы, позднее названные временем застоя, при-
несли всем нам много разочарований, но все же папа был против на-
строений «тотальной безнадежности» – это его убеждение я помнила
с детства... Когда в шестом классе мы проходили лермонтовское «Пе-
чально я гляжу на наше поколенье...», и в школе давались самые вуль-
гарно социологические трактовки (напрасно пропавшее при кровавом
царском режиме поколение), папа, во-первых, сказал, что прогноз
Лермонтова абсолютно не оправдался – в его поколении было много
талантов в самых разных сферах, и как бы драматично ни складыва-
лись личные судьбы, это поколение оставило в истории очень яркий и
значительный след. Во-вторых, – и это меня особенно поразило! – что
такие настроения бывают у людей всех поколений во все времена, что
- 249-
он не может вспомнить поколение, не прошедшее через подобные
настроения: в годы нэпа был кризис у пламенных революционеров; и
в его поколении тоже это было, и не раз; и у нашего поколения что-то
такое тоже точно будет, хотя он и не может предсказать, как именно и
в какой момент. Главное – не надо при этом впадать в отчаяние – в
жизни каждого человека всегда, в самые тяжелые времена, остается
много ценного и дорогого: радость творчества, наслаждение высокой
поэзией и музыкой, хорошей литературой, и, может быть, самое важ-
ное – «крепкий запах дружбы», «ярких глаз сиянье», те ценности, о
которых с такой страстью сказано в его стихах «Будем откровенны!».
(Я тогда еще не читала его военных строк.)
***
... Мама послала многим киевским друзьям юности недавно вы-
шедшую тогда свою книгу о Симонове и первую папину (учебник
«География, история и культура Англии». М ., «Высшая школа»), хо-
чется привести один особенно трогательный отклик – писатель-
ницы Ирины Шкаровской:
1 марта 1971 года.
«Дорогая Саррочка!
Твой и Левин подарок меня очень-очень обрадовал и растрогал
<...> . Книжка твоя, Саррочка, мне очень понравилась. Написана она
хорошо, умно, вдумчиво, интересно, аналитично, спокойно и объек-
тивно. Не чувствуется в ней “пота”, усилий, нажима, а доказательная,
раздумчивая манера изложения, приближая нас к истокам симонов-
ского творчества, незримо как-то включает в круг былых горестных
ощущений, впрочем, не только горестных, потому что касаешься ты и
тридцатых годов, а тогда была молодость, – в общем, вся атмосфера
книжки твоей тревожит, зовет к воспоминаниям об ушедшем и ушед-
ших. Для меня это – комнатушка, похожая на ящик, холод, сугробы за
окном, мальчик, спящий в корыте, и отец мой с книжечкой Симонова
“С тобой и без тебя”. Он читал мне вслух, я покачивала корыто, и мы
отвлекались от нашей беды. < ...>
Левину книгу читаю медленно, хотя она, на мой взгляд, и яркая, и
увлекательная, и мне даже обидно, что не могу я сейчас поступить на
исторический факультет! По правде говоря, мне еще не встречались
такие занимательные учебники! Как легко, без навязывания, препод-
носится материал, какая колоссальная эрудиция “у нашего автора”,
впрочем, более умные люди уже высказались на сей счет! Книгу я чи-
таю с удовольствием, “образовываюсь” и пока не тороплюсь посылать
сыну. Он должен еще заслужить ее!
- 250-
Еще раз большое – пребольшое вам обоим спасибо за книги! И
пусть пишутся и издаются у вас новые!»
...В семидесятые годы отец начал напряженно работать над дву-
мя своими Главными книгами. И здесь мне кажется необходимым
предоставить слово моему брату – историку Григорию Кертману:
«Над этой книгой (“Джозеф Чемберлен и сыновья” – Л . К .) отец
работал многие годы, и она была ему очень дорога. Помимо прочего,
дорога и тем, что, занимаясь ею, он имел дело с причудливой факту-
рой живой истории, где все вариативно и вероятностно, где есть зако-
номерности, но нет “железобетонных” причинно-следственных свя-
зей, где ход судьбоносных событий нередко зависит от мелочей и ча-
стностей, где страсти и расчеты равно значимы, где логика поведения
персонажей может определяться переплетением сословных предрас-
судков, борьбы амбиций, зигзагов рыночной конъюнктуры и интел-
лектуальной моды – и мало ли чем еще. Всматриваться в нюансы, изу-
чать изнанку событий столь близкой ему английской истории отцу бы-
ло бесконечно интересно, он занимался этим с азартом и радовался
локальным открытиям (когда какая-нибудь фраза в письме или воспо-
минаниях кого-либо из участников событий позволяет лучше понять
происшедшее или хотя бы выстроить интересную гипотезу).
<...> Многие годы – чуть ли не с молодости – отец мечтал о боль-
шом романе, который он напишет когда-то, на склоне лет. Он писал
стихи, а в сороковые-пятидесятые годы – и пьесы, к роману же – лишь
подступался: у него были наброски, замыслы, у героев даже, кажется,
были имена. Причем еще в начале восьмидесятых отец верил, что эта
мечта может сбыться. Но к 70-летию он не без горечи смирился с тем,
что замысел останется неосуществленным: годы шли, свободного
времени не прибавлялось, сил – тоже. Так вот, в работе над “Чембер-
ленами” (повествованием, представляющим собой, помимо прочего,
семейную сагу на фоне истории – с обширной портретной галереей
исторических персонажей) отец мог в значительной мере реализовать
свою потребность в литературном творчестве».
Мне запомнился один случай, подтверждающий слова о прибли-
жении этой книги к жанру семейной саги. Закончив большой отрывок
(или главу?), папа вышел из своего кабинета расстроенный, долго
молчал и не сразу открыл нам, что писал о смерти жены одного из
Чемберленов и что это очень тяжело подействовало на него, долго не
мог отойти. Позднее, правда, с неизбывной самоиронией сравнивал
себя с Флобером, вспоминая его известное восклицание про Эмму Бо-
вари, и даже... с Ричардсоном, заболевшим после описания смерти ге-
роини. Но это не перечеркнуло того острого и серьезного впечатления.
- 251-
***
Давным-давно – в середине шестидесятых годов – я увидела
фильм «Обыкновенное чудо», еще старый, с Олегом Видовым. Я тогда
случайно забрела в кино одна, совсем не зная, что меня ожидает. И
через минуту забыла обо всем...
Обычно в том возрасте делиться сильными впечатлениями тянет
скорее с друзьями-ровесниками, чем с родителями, и я, несмотря на
все рассказанное в этой книге, не была исключением, но в тот раз...
Почему-то с первых реплик волшебника подумала о родителях, и весь
фильм – и наслаждаясь тонким юмором в сценах с королем, обере-
гающим нежную дочку от «повседневной будничной жизни», где
«люди давят друг друга, режут родных братьев, сестер душат», и когда
король объясняет свои «милые недостатки» дурной наследственно-
стью, и когда уговаривает принцессу не огорчаться, если юноша пре-
вратится в медведя («Подумаешь, медведь!») – думала о них. Но до
финала думала как-то отвлеченно, и только после него окончательно
решила: «Им необходимо это увидеть!».
И сразу купила билеты на следующий вечер.
Родители сдержанно, с легким пожатием плеч, встретили мой эн-
тузиазм – как-то совсем не до того было им в те дни. Но пошли. И тоже
сразу забыли обо всем, и мама шепнула: «Молодец, что вытащила нас!»
Но я знала, что главное впереди. И вот прозвучали слова волшебника:
«Спи, родная моя, и пусть я, на свою беду, бессмертен. Мне предстоит
пережить тебя и затосковать навеки. А пока – ты со мной и я с тобой...».
И потом – финальные... В том фильме они звучали как-то сильнее.
Или просто все мы были моложе и восприимчивее? Это в одной моей
любимой книге есть такие слова: «Мне кажется, все были моложе,
когда ты была молода».
Так вот – финал: «Слава храбрецам, которые осмеливаются лю-
бить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые
живут так, как будто они бессмертны...».
Я и сейчас не могу спокойно слышать и читать эти слова, а тогда...
Расскажу правду, не боясь сентиментальности. Когда зажегся свет в
зале, я увидела залитое слезами лицо мамы и подозрительно покрас-
невшие глаза отца. Он сказал только одно: «Это фантастика!» И еще
шепнул мне: «Да, ты понимаешь...» И это было что-то гораздо боль-
шее, чем простая благодарность за хороший фильм.
- 252-
Л. Кертман,
выпускница 1966 г.
ДРУЗЬЯ О НАШЕМ ДОМЕ
Надежда Гашева
Это был дом, где дети и родители, друзья детей и родителей не
разделены ничем, кроме возраста. Им интересно говорить друг с дру-
гом, читать друг другу, они внимательны к проблемам друг друга. Там
все равны, все имеют право высказаться, и главное – ощущают это
право, несмотря на известный пиетет к старшим по уму и возрасту. В
этот дом люди шли, чтобы услышать умное слово, политический ком-
ментарий, чтобы обсудить премьеру спектакля или нашумевший ро-
ман, чтобы посоветоваться и попросить помощи в трудной житейской
или служебной ситуации, чтобы проконсультироваться, чтобы просто
поздравить с праздником (особенно с Днем победы! – Л. К .), чтобы...
Дом принимал людей, искрилось веселье, велись умные разговоры,
звучали споры, остроумные шутки, походя рождались идеи и поэтиче-
ские экспромты. Ари Янович Демьянов (муж Натальи Самойловны
Лейтес, маминой коллеги с кафедры зарубежной литературы. – Л. К.)
привозил из Москвы песни А. Галича, тогда еще отнюдь не тиражиро-
вавшиеся, и вслед за ним их увлеченно распевали все участники за-
столий. А хозяин дома задавал тон...
Нина Горланова
Волшебный дом – он был для нас в Перми сразу и Английским
клубом, и Президентским клубом, где мы – мальчик и девочка (Нина и
ее муж Вячеслав Букур – Л . К.), приехавшие из провинции, впитали
атмосферу высокого веселья, которое окрыляло...
Нина Евгеньевна Васильева
...Последние дни декабря 1962 года. В большую квартиру на Ком-
сомольском проспекте привезли елку. Заскакиваю к Сарре Яковлевне
по неотложному делу, мы сидим с ней в кабинете Льва Ефимовича, и
через стеклянную дверь можно видеть любопытную сцену: Лев Ефи-
мович в спортивном костюме возится с укреплением елки, совсем еще
маленький сын послушно выполняет по команде отца мелкие подруч-
ные работы, Мария Самойловна перебирает елочные игрушки, Лина
что-то экспансивно излагает с весьма выразительной жестикуляцией.
И абсолютно терпеливо, как-то нарочито спокойно Лев Ефимович ус-
певает соединить в своей отцовской режиссуре и дело, которым занят
- 253-
сам, и внимание к сыну, чтобы он не выпадал из поля зрения, и инте-
рес к пламенной речи дочери, и способность ответить ей сразу, и воз-
можность оценить, точно ли те манипуляции проделывает с коробкой
игрушек мама. Через час елка готова, и гостиная сверкает лампочками
и позолотой шариков и сосулек. <...> Тепло большого дома, радость
находиться в нем – вот что он создавал и оберегал как семьянин, отец,
сын, хозяин...
Владимир Виниченко
Бывает в новогоднюю ночь почти неизбежная минута, когда
шумное веселье опадает, как пена шампанского, но праздничное на-
строение еще кипит в душе искрящимися пузырьками. И возникает
редкое чувство физического ощущения движения времени, его почти
зримого перехода из пунктирной туманности будущего через твою
душу и судьбу в неизменимое, навечно застывшее прошлое. И хочется
осмыслить этот неуловимый таинственный переход, зафиксировать в
словах и образах в неспешном размышлении с мудрым, настроенным
на ту же волну собеседником. В компании, где мы с женой встречали
1985-й Новый год, таких не оказалось, и я заговорщически шепнул ей:
«А не махнуть ли нам к Кертманам?» Эта фраза была понятна нам без
пояснений, как пароль.
Короткий звонок – и вот мы уже на попутном такси мчимся на
Комсомольский проспект, к знакомому всем пермским таксистам до-
му ученых. Через несколько минут входим в знакомую квартиру на
пятом этаже, где всегда рады внезапным гостям и где их непременно
встречает сам хозяин, считающий своим долгом принять из рук дамы
пальто с еще нерастаявшими на воротнике снежинками. Мы подсажи-
ваемся к большому столу в просторной гостиной, где, как давно раз-
веденный костер, в разгаре общий разговор. И пока мы вникаем в его
суть, я молча наслаждаюсь новогодним полумраком уютной профес-
сорской квартиры, щедрым хлебосольством праздничного стола и
доброжелательством собравшихся вокруг него людей, и думаю: как
хорошо, что в нашем огромном, славном своими трудовыми тради-
циями городе, есть такие дома. И почему-то всегда вспоминаю пьесу
Булгакова «Дни Турбиных». Наверное, потому, что с ней связано мое
первое появление в этом доме.
Если не ошибаюсь, в 1966 году в Перми гастролировал москов-
ский театр на Малой Бронной, впервые показавший на пермской сце-
не эту пьесу начинавшего тогда свое триумфальное возрождение Бул-
гакова. Незадолго до того я познакомился и подружился с Линой
- 254-
Кертман, которая в том же далеком 66-м заканчивала учебу на филфа-
ке Пермского университета. После защиты диплома она пригласила
нас с Леонидом Юзефовичем отпраздновать это событие. < ...> Не пом-
ню всех собравшихся в тот праздничный день людей, но помню свое
первое, на всю жизнь поразившее меня впечатление от Льва Ефимо-
вича. Он сидел по праву хозяина дома во главе стола, мудрый и высо-
колобый, в венчике седых волос, придававших ему сходство с Богом
на рисунках Жана Эффеля. И мне казалось, что сегодня именно я ока-
зался в центре его внимания, хотя в силу разницы нашего возраста,
положения, интеллектуального багажа вроде бы никак этого не заслу-
живал. Осмелев, я даже прочитал что-то свое. (Впрочем, стихи в тот
день читали почти все участники застолья.) . И Лев Ефимович щедро
обнаруживал в них какие-то достоинства.
Разомлев от такого неожиданного и лестного внимания, я готов
был излить свои чувства почти что словами житомирского кузена Ла-
риосика: «Многоуважаемый Лев Ефимович! Не могу выразить, до чего
мне у вас хорошо. Эти кремовые шторы... (Шторы, кажется, были дру-
гого цвета). За ними отдыхаешь душой. Впрочем, извините, я человек
невоенный... Эх, налейте мне еще рюмочку!»
Когда мы вышли шумной возбужденной компанией на балкон
покурить, разговор с фатальной предопределенностью шел только о
Льве Ефимовиче. И я вдруг понял, что каждый из нас сегодня был в
центре его внимания, каждый был внимательно выслушан и обласкан.
Позднее, узнав Льва Ефимовича чуть ближе, я понял, что это был его
замечательный, столь редкий ныне талант общения...
Татьяна Тихоновец
...Мы нечасто бывали в их доме. Всего несколько раз в году. Но
это были очень важные для нас праздники: Линин день рождения и
Новый год. Выпадали и какие-то необязательные посещения. Каждое
становилось незабываемым.
В дни рождения дочери Лев Ефимович с большим интересом
вслушивался в общий шумный разговор – и умело, очень незаметно
направлял его. Я неотрывно наблюдала именно за ним, потому что все
Линины друзья принадлежали разным периодам его жизни, каждый
норовил говорить о своем, а Лев Ефимович каким-то непостижимым
образом умудрялся объединять нас всех...
...Когда не получалось встретить Новый год вместе по каким-то
жизненным обстоятельствам, то был и еще способ: ворваться в их
квартиру с маленькими подарками и с бутылкой шампанского за не-
- 255-
сколько минут до московского Нового года. Приходилось добираться
из Мотовилихи, где мы жили, на попутках, один раз даже пешком в
метельную ночь.
Иногда надо было дождаться в парадном эффектной минуты,
чтобы уж ворваться так ворваться! И чтобы шампанское было готово
выстрелить в потолок в тот момент, когда нарядная Сарра Яковлевна
открывает дверь, а Линка вскрикивает и зажимает уши. Улыбающийся
Кертман выходил, широко разведя руки, готовый подхватить мою
скромную синтетическую шубку, и я сразу чувствовала, что вот именно
нас-то он ждал и наконец дождался. И это было таким счастьем, и я
так верила в это, что и сейчас, когда я пишу, меня охватывает то тре-
вожное и радостное ожидание праздника, которое только он и умел
дарить, и которое потускнело с его несправедливо ранним уходом.
А потом были разговоры до утра о литературе, о стихах, о полити-
ке, и мы эгоистично не давали Льву Ефимовичу и Сарре Яковлевне
уйти, оставив нас, «молодежь», праздновать.
Как-то был поднят шутливый тост в честь «дорогого Иосифа Вис-
сарионовича», благодаря паранойе которого два прекрасных «без-
родных космополита» оказались в угрюмой пролетарской Перми. И
с тех пор мы никогда не забывали вспомнить этот тост...
- 256-
Т. Черепанова (Старцева),
выпускница 1971 г.
НА СКВОЗНЯКЕ ЖИЗНИ: СМОТРЕЛИ В ОДНУ СТОРОНУ
«Ежели я, Черепанов Михаил Александрович, не женюсь в бли-
жайшие пять лет, то брат мой, Василий Александрович, финансирует
мою свадьбу или мое 30-летие (если с женитьбой затянется). В случае
нарушения обязательства я должен буду обеспечить празднование 25-
летнего юбилея со дня рождения Василия Александровича...» Такую
записку я нашла в архиве мужа, умершего четыре года назад. А свадь-
бу мы сыграли на два года позже, чем он планировал...
Вся большая и дружная семья Черепановых, четверо братьев и
сестра, литературно одарена, все до одного – люди пишущие. Воспо-
минания о своей непростой жизни написала и Прасковья Якимовна, их
мама, моя замечательная свекровь. Прасковья Якимовна – человек
необыкновенный, великая труженица, сельская учительница, интелли-
гент в самом высоком понимании этого слова, собирала всю большую
семью по выходным или праздникам в деревне Горбуново, это неда-
леко от Перми: картошку сажать (копать, окучивать, колорадских жу-
ков собирать), пельмени лепить... Это все поводы были, чтобы лишний
раз вместе побыть, повидаться. Прасковья Якимовна всегда очень
обижалась, даже сердилась, если кто-то из детей или их мужей-жен,
внуков, долго не появлялся. Приезжали! Любили собираться вместе,
помогать в огороде, разговаривать, спорить... В бане париться. Всех
она объединяла. Вместе с мужем Александром Арсеньевичем, он был
механиком, несмотря на все трудности и препоны, которых в их жизни
было предостаточно, они сумели дать детям высшее образование.
Миша был вторым ребенком в семье, родившимся через полтора года
после окончания Великой Отечественной войны...
Читать – запоем – Михаил стал в армии (он служил в ракетных
войсках стратегического назначения), в основном, на ночных дежурст-
вах. Он завел тогда такой своеобразный дневник, «Литературную тет-
радь» с подзаголовком «Мое самообразование», и записывал туда
все, что считал нужным. В ней – цитаты из Лермонтова, Салтыкова-
Щедрина, Гаршина, Короленко, Бернарда Шоу, Вольтера... Там же –
сведения о композиторах, музыкантах, художниках, вырезки из газеты
Сибирского военного округа, подписанные «гвардии ефрейтор Михаил
Черепанов». И – из газеты «Пермский университет»: например, о гаст-
ролях легендарного мужского вокального ансамбля «Бригантина», где
- 257-
они с братом Василием прожили несколько незабываемых лет. Люби-
мой его книгой в то время был роман Чернышевского, нет, не «Что
делать?», а «Пролог». Позже, а диплом Михаил писал у Риммы Ва-
сильевны Коминой по литературно-художественной критике, его лю-
бимыми произведениями стали книги Юрия Трифонова.
Наш с Мишей общий друг по жизни Игорь Кондаков так написал в
сборнике, в котором размещены воспоминания памяти Михаила Че-
репанова «И это все о нем»: «...Вместе с Мишей ушла в небытие боль-
шая часть меня, все то, что нас связывало 45 лет. Миша написал о том,
что нас сразу связало: “это неискоренимое в нашем народе стремле-
ние к жизни без вранья и ничем не замутненной правде”. Эти слова
кажутся настоящим заветом М. А. Черепанова – филолога, философа,
историка, правозащитника. Не знаю, в какой мере эта фраза, полная
гражданского ригоризма и доблести, может быть отнесена ко мне, но
к самому Мише Черепанову она, несомненно, относится в полном
объеме, хотя, я понимаю, он, наверное, был недоволен собой и тем,
как ему удалось исполнить свой же завет. Конечно, нас с Мишей свя-
зывало не только это: глубокое сродство с нашей Alma Mater – Перм-
ским университетом; профессиональный интерес к литературе и фило-
софии; восхищение в ту пору пермским писателем Виктором Астафье-
вым, великим правдоискателем; преданность нашему общему учите-
лю и научному руководителю – Римме Васильевне Коминой – тоже
самоотверженному правдоискателю; любовь и дружба с Таней Стар-
цевой-Черепановой...»
***
Для меня самообразование тоже всегда много значило. К тому
же мне в школе везло с учителями русского языка и литературы. Папа,
Алексей Петрович Старцев, – военнослужащий, семья часто переезжа-
ла, все детство – по военным городкам. Учительницами чаще всего
были жены офицеров, даже имена некоторых до сих пор помню: Ру-
фина Николаевна, Инна Юрьевна, Вера Федоровна, Виолетта Иванов-
на... Уж не знаю, заканчивали ли они соответствующие вузы, но лите-
ратуру любили самозабвенно и помогли полюбить ее мне. Не только
про образы Базарова и Катерины рассказывали, но учили размышлять,
анализировать, ценить слово... Так что сочинения писать, особенно на
свободную тему, я любила всегда и, наверное, классе в 8-9 уже реши-
ла: буду журналистом. И стала. После трех лет работы по распределе-
нию в сельской школе поселка Затон Соликамского района заочно за-
кончила еще факультет журналистики МГУ, уже работая в газете «Мо-
лодая гвардия». Подробнее о филологах-журналистах написано в на-
- 258-
шем сборнике «Действенный глагол». Там есть очерк и обо мне, он
называется «Контрапункт Татьяны Черепановой». В нем – подробнее о
моей работе в «Звезде», «Пермских новостях», «Деловом Прикамье»,
«АиФ–Прикамье»: в двух последних изданиях я была главным редак-
тором. До сих пор активно сотрудничаю с пермским отделением Сою-
за журналистов России, член его правления. Горжусь, что в свое время
по просьбе Лилии Рашидовны Дускаевой всемерно помогала в созда-
нии на нашем факультете кафедры журналистики, на которой потом
сама много лет работала по совместительству.
***
... Не так важно, где мы с моим будущим мужем познакомились,
кажется, это было в студклубе ПГУ, который тогда еще находился в
старом главном корпусе. Нас, конечно же, уже изначально объедини-
ла Римма Васильевна – Учитель по литературе и жизни. И, наверное,
можно даже сказать, член нашей семьи. Римма Васильевна была на
нашей свадьбе, она, сама того не подозревая, зачастую незримо помо-
гала. Иногда она нас примиряла, разрешая многие острые сложные
жизненные и житейские ситуации, которым в каждой семье несть чис-
ла. И, конечно же, неслучайно, в большой степени благодаря Коми-
ной, ее ученикам и единомышленникам, создававшим на факультете
неповторимую атмосферу раскованной мысли и роскоши человече-
ского общения, обе наши дочки захотели поступить именно на наш
факультет –и обе его успешно закончили.
А предложение Михаил мне сделал... в небе! Он специально при-
летел в Лысьву, где в те годы еще был аэропорт и куда днем раньше
по заданию редакции я отправилась писать репортаж «Город леген-
дарной каски». В самолете, в котором мы вместе возвращались в
Пермь, это и произошло.
***
Что хранит память из филологического прошлого? Многое, всего
не перескажешь, не перечислишь...
Помню, как при подготовке диплома «Интеллектуальные особен-
ности лирики Анны Ахматовой» долго работала в Питере в только что
открывшемся ее архиве в библиотеке имени Салтыкова-Щедрина.
(Студенты-дипломники по ходатайству своих вузов получили возмож-
ность пользоваться материалами, хранившимися в архиве). Архив раз-
бирала Людмила Михайловна Мандрыкина, там я познакомилась с
Леонидом Дубшаном и Михаилом Кралиным, тогда студентами, а в
- 259-
будущем известными питерскими журналистами и исследователями
творчества Ахматовой.
Помню поездку в Тарту на конференцию к Юрию Михайловичу
Лотману.
Помню нашу беспрецедентную авантюру с Людмилой Василенко
и Михаилом Мухлыниным: путешествие с минимальным количеством
средств в Карелию, на Соловки.
Помню, как мы с Игорем Кондаковым в любимой «горьковке» в
зале литературы по искусству обговаривали содержание моей публи-
кации в сборнике «Товарищ студент», на написание которой меня бла-
гословила наша неутомимая Нина Евгеньевна Васильева.
Помню, как она же, Васильева, прислала на лекции по теории ли-
тературы мне записку (мы всю ночь заканчивали выпуск очередного
«Горьковца»): «Таня, идите домой – спать!».
Хорошо помню свою самую первую журналистскую командиров-
ку в Добрянку, куда меня отправила курировавшая тогда «Горьковец»
Людмила Александровна Грузберг за интервью с выпускником факуль-
тета, учителем одной из добрянских школ Владимиром Савиновым,
который на прощанье подарил одну из самых драгоценных книг на-
шей библиотеки: «Мой Пушкин» Марины Цветаевой.
Запомнился вечер-дискуссия, собравший немалую аудиторию,
который мы вели с Володей Пирожниковым – о бардовской песне. Я –
«за», Владимир – «против». Потом еще Нина Горланова написала об
этом в «Молодой гвардии»...
Не забыть и преддипломную практику в Москве: удалось попасть
на «Гамлета» в театр на Таганке, с Высоцким в главной роли.
Еще помню, как на одном из университетских литературных ве-
черов я со свойственным молодости пылом критически отозвалась об
известном постановлении ЦК «О журналах “Звезда” и “Ленинград”».
После вечера ко мне подошла Рита Соломоновна Спивак:
– Больше так нигде не говорите. Вы можете подвести не только
себя...
И, конечно же, помню, как Римма Васильевна, у которой я писала
преддипломную курсовую о поэзии Цветаевой и Ахматовой, вполне
одобрила мой, думаю, не слишком-то профессиональный студенче-
ский «разбор» ахматовских строк (она всегда умела поддержать!):
«...Только ты, соловей безголосый, эту муку сумеешь понять...» Поче-
му соловей, спрашивала Комина, символ звука, голоса, пения, и вдруг
– безголосый?!
- 260-
***
... Миша рано ушел во взрослую жизнь, ему было только трина-
дцать. Он еще и поэтому так ценил дом и семью. И так много всего
делал для семьи, зачастую освобождая меня от бытовых забот.
Мы прожили вместе 41 год – и было в нашей долгой жизни вме-
сте всякое: и размолвки, и ссоры, и непонимание... Но сильнее всей
этой шелухи было главное. Мы многое оценивали одинаково, прости-
те за пафос: с позиций выпускников филфака ПГУ, тех ценностей, в ко-
торые мы верили. Не ври, не трусь, отвечай за тех, кто тебе доверяет,
сомневайся, не считай за истину в последней инстанции любое слово
сильных мира сего... Не бойся сквозняка жизни!
Работать по распределению я поехала тоже во многом благодаря
Коминой, хотя могла остаться лаборантом на кафедре. Сейчас это мо-
жет показаться кому-то смешным, наивным, но тогда... Тогда одна
только мысль о том, что Римма Васильевна, именно она, может поду-
мать, что я струсила, сдрейфила, испугалась трудностей, казалась не-
стерпимой. Я уехала работать в деревню, о чем сейчас ни минуты не
жалею.
***
Во многих конфликтных ситуациях нас спасало Мишино чувство
юмора. Оно было неподражаемым у Мишиного папы, Александра
Арсеньевича, по наследству передалось сыновьям, а потом и внукам-
внучкам. Часто разрешить конфликтную ситуацию, снять напряжение
помогала остроумная Мишина реплика, шутка. В сборнике «Филоло-
гический юмор», в разделе «Сценарии для студенческой самодея-
тельности» размещены пять недлинных, по-современному им пере-
осмысленных сценических версий классики. «Отцы и дети» с подза-
головком «Посвящается потерянному поколению»; «Воскресение»
(почти по Толстому); «Преступление и наказание»; «Три сестры»;
«Обыкновенное чудо». Перечитала их. Смешно и грустно одновре-
менно.
А Нина Горланова, сейчас известный писатель, вспоминает паро-
дию на ее хокку, которую написали общежитские друзья, Миша Чере-
панов и Сева Гохберг: «Тарелка летат. Мыслю навеват. Мир непозна-
вам». «Летат-навеват», эти «стяжения гласных» – намеки на ее увле-
чение словарем деревни Акчим: Нина Викторовна работала тогда
в словарном кабинете.
- 261-
***
Для нас с мужем самой большой ценностью в жизни всегда бы-
ли наши дети и внуки. Атмосферу в нашей семье хорошо продемон-
стрирует такой случай. Одна из подруг нашей младшей, Ани, Ксюша
Челышева, не так давно разместила в фейсбуке небольшой пост с
красочными фото. Вот он: «Взрыв черничного варенья в семье Чере-
пановых произошел в сентябре 1997 года. Стена на кухне представ-
ляла плачевное зрелище – и надо было что-то делать. Вот уж не
помню подробностей, но Татьяна Алексеевна и Михаил Александро-
вич согласились на эксперимент и позволили компании 16-летних
девчонок проявить свои художественные таланты. Собрались, купи-
ли краски – и вперед! Стена получилась веселая и красочная. А мы –
довольные и счастливые!»
Так было всегда: друзья наших детей – наши друзья. И в Миши-
ной родительской семье, и в семье моих родителей было так же. Все
те ценности, о которых мы не говорили, но которым следовали, при-
няли наши дети: помочь, кому хуже, честно и много работать, все вре-
мя узнавать что-то новое, учиться, читать, думать, обсуждать, подвер-
гать сомнению... Это, думаю, тоже привело наших дочек на наш фа-
культет.
***
Книги. Основное наше богатство, нажитое за эти годы. Две хоро-
шие объединенные библиотеки, собрания сочинений, русская и зару-
бежная классика, Мишина любимая серия «Из истории общественной
философской мысли»: Писарев, Бакунин, Чаадаев, Потебня, Флорен-
ский... У нас был даже Лукреций 1912 года выпуска! Полное собрание
сочинений Генриха Гейне (сборник «Нивы» за 1904 год, издание
А. Ф. Маркса, СПб.)... Из ценного в нашем доме – еще прекрасный кон-
цертный инструмент: фортепиано «Август Фэрстер». Мои родители
очень хотели, чтобы мы с братом учились музыке. У нас не получилось
из-за бесконечных переездов, но обе наши дочери окончили музы-
кальную школу No 2 города Перми. В Пермь же мы попали, можно ска-
зать, случайно: после внезапной смерти отца в командировке в Са-
марканде, где он и похоронен на воинском кладбище. Я в пермской
школе No 43 проучилась всего один год, в 10 классе. Маме, Старцевой
Марии Ивановне, жителю блокадного Ленинграда, после смерти отца
предложили на выбор: Ленинград, но с квартирой только через пять
лет, или Пермь: город, куда папе предполагалась замена после не-
скольких лет его службы в Забайкалье – и сразу с получением кварти-
ры. Мама выбрала второе.
- 262-
***
Теперь вы уже точно понимаете: вариантов, куда пойти учиться, у
наших девочек было немного. К тому же Аня после 8 класса самостоя-
тельно перешла в ПСГШ – Пермскую специализированную гуманитар-
ную школу, где литературу преподавала моя блистательная сокурсни-
ца Люба Маракова, Любовь Михайловна. А диплом Анна защищала
под руководством другой любимой ученицы Риммы Васильевны, ко-
торая и сейчас успешно преподает в университете: у Елены Михайлов-
ны Четиной...
Старшая, Майя, больше интересовалась зарубежной литературой,
курсовые и диплом писала под руководством Аделаиды Федоровны
Любимовой. Блестяще, с рекомендацией в аспирантуру, Майя защи-
тилась по теме, связанной с творчеством Джона Фаулза.
На нашем филфаке учился и Юрий Горбунов, мой любимый зять,
Майин муж. Юра вместе с Гришей Данским и Ромой Нестеровым пел в
небезызвестном филологическом ансамбле «Пятый корпус», оформ-
лял нашу легендарную газету «Горьковец»... Юрия, который защищал
диплом, вдохновленный Людмилой Александровной Грузберг, по ак-
чимскому говору, также отличает прекрасно развитое чувство юмора,
творческий подход к любому делу, за которое он берется, бесконечная
любовь к семье и детям.
Мне очень хочется, чтобы когда-нибудь собралась вся-вся наша
большая филологическая семья, и мы, вместе с нашими внуками (их
четверо, и они все – голосистые!), спели любимую, «бригантинов-
скую», песню Сергея Крылова:
Когда зимний вечер уснет тихим сном,
Сосульками ветер звенит за окном,
Луна потихоньку из снега встает
И желтым цыпленком по небу плывет...
- 263-
А. Лукашин,
выпускник 1976 г.
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
О преемственности поколений и о существовании трудовых ди-
настий мне пришлось задуматься, когда дочь поступила на филологи-
ческий факультет. На дворе стояли веселые и лихие 90-е, все в стране
перевернулось и никак не хотело укладываться. А университет стоял, в
аудитории чинными и не очень стайками собирались студенты, чита-
лись академичные лекции, велись семинары – шла та жизнь, которая
веками создавала основы человеческой культуры и была еще средне-
вековыми гуманистами признана идеальной для познания и распро-
странения мудрости. См. Ф. Рабле хотя бы.
Так уж случилось, что дочь застала многих еще преподавателей, у
которых учился и я сам. Подробных конспектов лекций она по наслед-
ству не получила, то, что я вел, разобрать мог бы только я. Приходи-
лось самой слушать и усваивать филологические премудрости. В том
числе – у Владимира Константиновича Шеншина. Когда-то русскую
литературу XIX века сдавал ему и я. Владимир Константинович отли-
чался редким человеколюбием – ему невозможно было не сдать ни
зачет, ни экзамен. Мы, естественно, этим беспардонно пользовались.
И как любые молодые оболтусы, не очень ценили то, что нам дава-
лось. Подробностями моей студенческой жизни я щедро делился с
матерью. Письма писались регулярно, хотя бы раз в неделю, и там
хватало деталей. Писал я и про лекции Владимира Константиновича.
Естественно, биографии его я не знал, да особо и не интересовался
тогда.
Надо сказать, что родился я в Хакасии, тогда Хакасской автоном-
ной области, в райцентре Бея. Это было тогда большое село в не-
скольких километрах от подножия Саян, которые всегда мне вспоми-
наются сине-зелеными грядами, закрывающими южный горизонт.
Где-то там, за этими горами была Тува, а еще дальше – Монголия.
Саяны – горы невысокие. Но и в июле, бывало, вечером прошел
дождь, утром выйдешь, поглядишь – а горы белые. Снег лег.
Между прочим, километрах в пятидесяти, если ехать вдоль Саян
по краю степей и переехать Енисей, располагается такое же большое
село Шушенское. Но оно от гор подальше, там потеплее.
- 264-
Мать работала в школе, работала давно, с предвоенных лет, ус-
пела даже в войну побыть заврайобразом. Высшего образования у нее
в ту пору не было. Она закончила Минусинское педучилище, в 1937
году побыла Пушкинской стипендиаткой (столетие со дня смерти
Александра Сергеевича отмечали с большой пышностью, филологам-
отличникам даже дали специальные стипендии). По моим детским
впечатлениям, пятидесятые годы прошлого столетия были временем
образования. Наверстывали упущенное в войну. Готовились строить
коммунизм. Но учились, учились и учились. Вечерние школы (по-
настоящему вечерние, всерьез, после работы), заочные ВУЗы. Вокруг
все учились. Бывшие лейтенанты и сержанты. Рядовые и редкие пол-
ковники в отставке. Учились и строили дома. Мать тоже училась в Аба-
канском педагогическом. Ее сессии были для меня серьезной радо-
стью. Из Абакана в саквояже с ее возвращением приезжали конфеты!
Так вот, в ту пору преподавал ей на установочных лекциях и при-
нимал экзамены не кто иной, как Владимир Константинович! В ту пору
он был в Абакане старшим преподавателем и даже исполнял обязан-
ности завкафедрой русской литературы. И естественно, пользовался
популярностью у студентов, которые знали: Владимир Константинович
уж точно меньше тройки не поставит. А то и четверки. И много ли за-
очнику надо?
И вот – три поколения нашей семьи учил русской литературе Вла-
димир Константинович Шеншин. От Хакасских степей до предгорий
Урала протянулась ниточка преемственности, возникла филологиче-
ская династия. Забавно.
Не то, чтобы я не сталкивался с династиями раньше. Естественно,
не с царскими, даже в курсе истории они упоминались в полгубы.
В бытность мою журналистом, в редакции газеты «Мотовилихинский
рабочий», стоило мне проработать там год после университета, как
возникло очень серьезное мероприятие. Целая кампания даже. Сам
Леонид Ильич Брежнев (Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председа-
тель Президиума Верховного Совета СССР – 6 газетных строк, не жук
чихнул, между прочим) направил на завод – тогда имени В. И . Ленина
–
письмо, в котором отмечал роль трудовых династий в воспитании
подрастающего поколения и создании преемственности лучших тра-
диций рабочего класса. Естественно, письмо было поводом развер-
нуть в газете пропаганду нехитрой мудрости «Где родился, там и при-
годился» и воспроизводства рабочего класса, с которым в Стране Со-
ветов начались проблемы. Впрочем, пропагандой заниматься нам,
- 265-
тогда молодым журналистам, было скучно, выморочность этой затеи
все прекрасно понимали – что партком и профком, что сами предста-
вители трудовых династий, поэтому совместно с главой отдела АСУП
завода, Борисом Натановичем Кублановским наш редактор, Владимир
Иосифович Фрейдсон (впоследствии видный деятель Пермской диас-
поры) придумали организовать выявление и учет всех трудовых дина-
стий на заводе с помощью ЭВМ. Были придуманы программы, были
проанализированы записи отдела кадров, сделаны распечатки... Сей-
час уже не помню, но нашли больше то ли двухсот, то ли трехсот дина-
стий. Некоторые, вроде Вагановых, уходили корнями еще в дорево-
люционное время, к революционерам и каторжанам старой Мотови-
лихи. Немного удивляло, что таких династий было очень немного. Я
еще не знал тогда, что мотовилихинские рабочие в гражданскую при-
соединились к рабочим Ижевска и Воткинска и воевали хоть под крас-
ными знаменами, но против большевиков. С соответствующими по-
следствиями для мотовилихинской демографии.
А вообще суть этой затеи выразил один знатный токарь, без оби-
няков высказавший – времена были точно вегетарианские – «К станку
нас всех приставить хотите? На поколения вперед?»
Филологам как будто грех бы жаловаться, окажись они прикова-
ны к своей стезе на поколения вперед. Как ни горек и скуден хлеб фи-
лолога в современном мире, они все еще порождают писателей и по-
этов, критиков и исследователей. Больше того, в скором времени ис-
следования искусственного интеллекта захлебнутся от нехватки фило-
логов. Не без злорадства я наблюдаю, как прогресс в этой интерес-
нейшей области топчется на месте и попросту перемалывает чепуху
оттого лишь, что у программистов и создателей мощнейшего и совер-
шеннейшего компьютерного железа нет, выражаясь их же словами,
интерфейса с гуманитарным знанием. Накопленные тысячелетиями
знания лежат втуне, по их поверхности скребут компьютерные лин-
гвисты и робопсихологи... Впрочем, это совсем другая история о воз-
можной роли филологов и филологии в современном мире.
Если бы меня тогда спросили, что отличает филологическую ди-
настию, то до совсем недавних пор ответ мой был бы прост – «Библио-
тека!» Сейчас, с появлением компьютеров и чудовищным увеличени-
ем возможностей хранения и копирования информации, иметь дома
собираемую поколениями библиотеку уже не обязательно. Если мои
внучки присоединятся к филологической династии, в их распоряжении
окажется не только любовно собранная, но очень своеобразная по
- 266-
тематике библиотека деда, но и весь корпус книг, текстов, произведе-
ний искусства, документов, аудиозаписей, созданный человечеством.
Нет, в самом деле. За время существования книгопечатания человече-
ство выпустило около 160 миллионов книг. Много? Да как сказать.
Я встречал в Интернете хранилища, где было больше миллиона книг в
электронном виде. Книг, журналов, текстов. Они не всегда пересека-
лись по содержанию. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу,
что при некоторых усилиях усердному филологу сейчас доступно мил-
лионов 50 книг. Учебников – для нескольких поколений. Первоисточ-
ников. Не так давно мне понадобилась точная цитата из книги
“Россiйская грамматика Михайла Ломоносова”. Ну, той, что печатана в
Санкт-Петербурге при Российской Академии Наук в 1755 году. Без осо-
бого труда я смог прочитать все шесть ее наставлений и полюбоваться
на список опечаток на 213 странице.
А если уж вам захотелось экзотики... Труды совсем забытых эзо-
териков. Редкие издания тех же 20-х годов. Архивы многих и многих...
Да, конечно, когда хватишься – именно того, что тебе надо, в просто-
рах Интернета не найдется. Или – было, да куда-то исчезло. И с непро-
стительной медлительностью становятся доступны собрания сочине-
ний русских классиков, хотя что бы, казалось, трудного, оцифруй при-
жизненные издания и подготовленные – очень неплохо – при Совет-
ской власти полные собрания сочинений и пользуйся, дополняя и рас-
пространяя. Но все же будущие поколения филологических династий
будут иметь в своем распоряжении библиотеку всего мира. И понятие
филологической провинции стремительно уходит навсегда. Да, жаль.
Какие часы провели мы в тиши библиотек! Как их любила мать! Сколь-
ко я просидел в читальных залах родного университета, в Горьковке. А
вот внучки уже могут спокойно читать все, что им заблагорассудится,
на экранах своих смартфонов. Правда, старшая предпочитает все же
бумажные книги. Тут уж ничего не поделаешь – пересечение двух фи-
лологических династий, отец и мать, две бабушки и один дед, да и
прабабушку – мою мать – она еще застала.
А что же будет теперь, когда библиотека становится таким же не-
отъемлемым атрибутом жизни, как стало электричество и мыло? Что
будет отличать будущих филологов? Как и всегда – культура. Почти-
тельные и в то же время инструментальные отношения с культурными
ценностями, накопленными за время своего развития человечеством
и воплощенными в языке и при посредстве языка. Уж этого-то у нас не
отнять.
- 267-
А. Аборкина,
выпускница 1979 г.
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАН
АБОРКИНЫХ, ОБОРИНЫХ, НЕПРИНЫХ
Филологическая семья Аборкиных.
Думаю, что купец Тимофей Аборкин из Симбирска и два зажи-
точных уральских крестьянина Иван Оборин и Иван Неприн даже не
знали слово «филолог», хотя были грамотными людьми и имели ре-
альное и церковно-приходское образования. Тем более они не могли
даже мечтать, что их потомки Владимир Аборкин и Нина Оборина по-
женятся и, родив дочь Анну, «слепят» классическую филологическую
семью. Такое им даже и присниться не могло. Их дети Иван, Дмитрий,
Александр, Татьяна, Анна и Ирина, родившиеся до 1917 года, тоже не
думали, что могут породить целый филологический клан. Гуманитар-
ный взрыв произошел в поколении моих родителей.
Александр Аборский (Аборкин) – писатель, переводчик, много-
летний главный редактор журнала «Ашхабад» и его супруга Анна Ива-
новна Комиссарова – учитель истории, русского языка и литературы,
завуч лучшей ашхабадской школы; Владимир Аборкин – известный
пермский журналист, краевед и его жена Нина Аборкина (Оборина) –
старший корректор Пермского книжного издательства; Евгений Обо-
рин – неудавшийся поэт, журналист, воспитатель, но вполне удавший-
ся многоженец и алкоголик, Маргарита Костенко (Оборина) осилила
2,5 курса филфака ПГУ, выскочила замуж рано, работала учителем,
воспитателем, сторожем; Надежда Зеленцова (Зырянова) – уникаль-
ная особа, получившая очно историческое, заочно филологическое
образование, историк в ШРМ, филолог в нескольких техникумах и ПТУ,
заработала выслугу и всю остальную жизнь пролежала с очередной
книгой на диване, вставая с него только для похода в театр.
Затем пошла наша линия: Людмила Плутенко (Аборкина) – коррек-
тор в «Комсомольце Туркменистана», учитель русского языка и литера-
туры, воспитатель в детском саду; Елизавета Рудина (Аборкина) – биб-
лиотекарь; Елена Петрова – учившаяся на филфаке в ПГУ очно, заочно,
на вечернем отделении лет двадцать, получила диплом, и ее роман с
филологией завершился с окончанием университета; Анна Аборкина –
филолог, преподаватель, переводчик, работала переводчиком в ЦНТИ
два года, родившаяся филологом в филологической семье, оставшаяся
филологом на всю жизнь, но реализовавшаяся как художник.
- 268-
Аборкины, кроме Владимира, учились в Туркменском универси-
тете на филфаке. Владимир Аборкин, Нина Аборкина (Оборина), все
филологи Оборины и Неприны – выпускники Пермского государствен-
ного университета. Я тоже выпускник родного филфака ПГУ. Александр
Иванович Аборский стал наглядным примером в выборе филфака для
Л. Плутенко, Е. Рудиной (своих племянниц) и для Владимира Аборкина
(младшего брата). Нина Аборкина (Оборина) пошла на филфак по сто-
пам старшего родного брата Евгения Оборина.
Мой отец мечтал, чтобы я стала журналистом, но я решительно
отказалась. В «горячем» объяснении я доказала ему, что буду филоло-
гом. И он внезапно остыл и согласился с моим выбором, что было для
него почти во всех случаях совершенно не характерно. Словом, мои
родители выбрали факультет благодаря своим братьям.
Мне 63 года, пересматривая свою жизнь, я четко осознаю, что
филфак я не выбирала, а он выбрал меня исторически, генетически,
т. е . филологизм был в моей крови. Надо уточнить, что никто из нас
троих не хотел быть учителем. Отец с раннего детства мечтал быть
журналистом. Мама сдала экзамены вступительные и вдруг оказалась
зачисленной на историческое отделение, в деканат пошла с братом
Евгением, учившимся на филологическом. Вместе они доказали, что
произошла ошибка, и маму без проблем перевели на филологическое
отделение. Но родители отработали по году в школе. Отец совмещал
преподавание русского языка и литературы в ашхабадской железно-
дорожной школе рабочей молодежи и трудился корреспондентом
«Туркменской искры». Мамин преподавательский стаж состоял из
учебного года в армянской школе Ашхабада и нескольких месяцев
обучения детей на Кислотном в Перми. Я в школе была только два
месяца на педагогической практике. У меня никогда не было никакой
семьи, кроме родительской. Ни мужа, ни детей судьба мне не дала.
Папа поступил в Молотовский университет в 1947 году, но после
Ашхабадского землетрясения 1948 года был вынужден уехать в Турк-
мению по совету ректора. Когда он вернулся в Молотов, учился экс-
терном, перевелся на очное обучение, но попал на курс старше преж-
него. Начинал учиться с Т. Черновой (Чивилевой), Л. Давыдычевым,
Е. Обориным. Заканчивал обучение с Н. Кустовым, И. Быковой в 1951
году. Только один год мои тогда еще не родители проучились на фил-
факе на разных курсах: 1950–1951 гг.
Папа в 1951-м покинул Alma Mater и уехал трудиться в Ашхабад.
Мама в 1950 поступила, а в 1955 году окончила университет. Будущих
моих родителей познакомил папин одногруппник мамин брат Евгений
- 269-
Оборин в 1947 г. В 1953 году отец приезжал в Пермь, чтобы попросить
маминой руки у моей бабушки. Тогда было решено дождаться мами-
ного окончания филфака и потом уж пожениться.
Романтическое ожидание продолжалось четыре года. В 1955 году
отец приехал в Пермь, женился на маме и уехал в Туркмению, где ра-
ботал собкором «Туркменской искры» на строительстве канала. Через
два месяца после его отъезда за мамой приехала с сыном жена стар-
шего брата папы Петра Лидия Николаевна. Они и отвезли молодую
жену к мужу.
В 1956 году Аборкины вернулись в Пермь. В 1957 у них родилась
я. Таким вот образом образовалась наша семья. В широком смысле
филологизм семьи состоял в полученном образовании, в широте
взглядов на окружающий мир, историю мировую и российскую, в «за-
пойном» чтении художественной, исторической, политической лите-
ратуры, в нашем окружении (журналисты, писатели, поэты, компози-
торы, художники, актеры и театральные деятели). Многие годы мы
«варились» в пестрых гуманитарном и богемном обществах. Мы ходи-
ли в гости, гости приходили к нам в любое время суток. Главой семьи
всегда был отец. В браке мои родители прожили 48 счастливых лет.
После кончины супруга моя мама совершенно потерялась. Она не
только лишилась любимого человека, но словно утратила твердую
направляющую руку, стала безразличной ко всему, кроме памяти об
ушедшем в иной мир муже.
Мои родители заботились обо мне: английская школа, филфак
ПГУ, доставали лекарства, устраивали в московские стационары и на
консультации, ежедневно посещали в пермских больницах. Но я все-
гда чувствовала, что я для них являюсь их общим продолжением, во
многом вторичным существом в семейной жизни. На главном месте
были они – супруги, горячо и навсегда любящие друг друга, одно це-
лое. Папа руководил, а мама покорно следовала за ним. Они идеаль-
но подходили друг другу. Холерик и флегматик. Я же меланхолик.
Но думать, что я была ненужной в семье, несправедливо и глупо.
Я часто уезжала из Перми. Через две-три недели после моего отъезда
папа говорил: «Нина, скорее бы дочь вернулась домой. Скучно и пусто
без нее». Я похожа на отца духовно и физически – черты лица, осо-
бенности походки и строение пальцев ног. Я авантюристка, бросаюсь
на любую самую недостижимую цель мгновенно и без раздумий, об-
жигаюсь и снова бросаюсь... Бываю резкой, нетерпимой. Мой сарказм
может обидеть любого. Мало кого подпускаю к себе, посему считаюсь
надменной. В последнем я не похожа на отца, он всегда был окружен
- 270-
людьми и открыт для общения. Мама же была полной противополож-
ностью моей: спокойная, выдержанная, доброжелательная, натура без
перепадов. Наш быт был предельно простым, скромным. Папа считал,
что приукрашиваться в любом смысле недостойно.
При жизни родителей квартиры буквально были забиты стелла-
жами с огромным количеством книг. Я редко пользовалась библиоте-
ками, т. к . почти вся литература находилась дома. У меня и папы были
письменные столы. У всех имелся свой диван. При мне родители не
спали вместе, т. к. у отца был особый режим – по ночам он работал и
беспрестанно курил в кабинете.
Я тоже являюсь «совой». В своей комнате, но без курения, я до
сих пор работаю ночами. Мама была «жаворонком», спала она в гос-
тиной. Мы много переезжали по пермским квартирам, перебирались
в Туркмению, увы, я там не прижилась из-за климата. Показательный
пример, когда мы уезжали из Чарджоу, железнодорожный хозяйст-
венный двор умудрился прислать нам три маленьких контейнера. И
это вместо трех больших! Папа решительно приказал загружать книги,
архив, стеллажи, письменные столы, пишущую машинку в первую
очередь, а вещи, которые влезут, потом. Вытаскивать наш скарб нам
помогали узбекские ребятишки, их мама угощала специально куплен-
ными конфетами. Вещи же (диван, две кровати, кухонный стол, тумбы,
книжная этажерка и пр.) к радости соседей узбеков отдали им. Соседи
были счастливы, папа доволен, мама согласна, а я промолчала.
Конфликтов между родителями не помню. Конфликты были у от-
ца с тещей, моей единственной бабушкой, умершей в 1969 г. Суровая
бабушка, оставшаяся вдовой с тремя несовершеннолетними детьми
после 13 лет брака. Маме было всего два года, когда умер ее отец.
Под руководством матери она прожила 23 года, затем перешла в руки
мужа. У отца были конфликты на работе. Он был гениальным органи-
затором. Папа стал одним из создателей Пермского отделения Союза
журналистов СССР, делегатом Первого (организационного) съезда
Союза журналистов СССР, основателем и директором Дома журнали-
ста. Необходимо отметить, что в СССР было всего три Дома журнали-
ста: в Москве, Ленинграде и Перми. И далеко не всем нравилась его
организаторская энергия, умение претворять любую идею в жизнь.
Кто-то считал это ненужным делом, кто-то банально завидовал. Вот
вам и конфликт. Самое страшное, что молодое и среднее поколения
почти не помнят моего отца. Они приписывают себе его достижения и
успех. А папу просто вычеркнули. Бог с ними. Если человеку суждено
быть забытым, его забудут. А иной раз через значительный период
времени его имя всплывет из глубин и снова заиграет.
- 271-
Никаких достижений в филологии я не имею. Все мои успехи в
живописи, которая спасла меня, когда меня вывели на инвалидность в
25-летнем возрасте. Когда родители стали хронически болеть, и осо-
бенно в моменты их последних смертельных болезней и кончины,
уходе навсегда, – только живопись держала меня на плаву и давала
силы жить. Даже оставшись в полном одиночестве, я знала, что необ-
ходимо взять кисти, открыть тюбики с красками и писать, писать, пи-
сать картины. В моем творчестве всегда прослеживаются филологиче-
ские и исторические мотивы. Кое-какие достижения в творчестве я
имею, но у меня, т. е. у моих работ и стиля, гораздо больше противни-
ков, чем почитателей. Я спокойно отношусь к этой ситуации. Опять
включается мой фатализм: «Если это нужно будет судьбе, то слава ме-
ня найдет».
Не хотела писать об этом, но решила, что правда никак не омра-
чит память о моих родителях. Уже после смерти родителей, когда у
меня брали интервью радио- и тележурналисты и писали обо мне ста-
тьи газетчики, то СМИ настойчиво советовали не снижать образы ро-
дителей. И в газетно-журнальных публикациях просто вымарывалась
моя правда, а электронные журналисты подсовывали свои тексты с
версиями творческих отношений отцов и детей, если же я буду на-
стаивать на своем, то мои слова вырежут.
Я писала стихи. Плохие, но я не стремилась к публикациям, про-
сто дарила их к случаю друзьям. Как-то показала одно стихотворение
отцу. Он прочитал текст и сразу позвал маму: «Нина, а наша дочь, ока-
зывается, еще и поэт?!». Мама промолчала. К моей живописи мать
относилась равнодушно, никого из портретируемых не узнавала.
Только однажды мама зашла ко мне, увидела готовый портрет и вдруг
радостно воскликнула: «Это Рита Тарасова!» И была права. Моя живо-
пись не входила в сферу папиного представления о дочери и ее месте
в семье. Когда я уезжала из Перми надолго, он всегда снимал со стен
мои картины и убирал подальше, чтобы никто из приходящих их не
увидел. Он стеснялся моих работ, моего стиля. И красками, холстами,
картонами, кистями я регулярно снабжалась Татьяной Кетегат, Татья-
ной Шерстневской, Еленой Смирновой, Ириной Васильевой, Еленой
Анхальт, Любовью Орловой, а не родителями. Когда-то меня это оби-
жало, но потом я поняла, что мы находимся на разных волнах, не пе-
ресекаемся в этих гранях. И каждый имеет право на свое мнение.
Я твердо знаю, что люблю и помню своих родителей, и они любили
меня. Для мамы папа был гением. И она взрастила в нем это ощуще-
ние гениальности. Других гениев они не желали.
- 272-
Никаких особых достижений у мамы не было. Она прожила с от-
цом счастливую жизнь, была его верной помощницей и спутницей, его
тенью. Проработала корректором, а потом старшим корректором в
Пермском книжном издательстве и нескольких газетах. Трудилась че-
стно, на работе ее всегда ценили. Была прекрасным знатоком русского
языка и корректуры. Звездой был у нас отец. Он всегда был начальни-
ком, где бы ни трудился. Кроме журналистики, отец писал стихи, и
несколько композиторов написали музыку к ним. Г . Терпиловский,
В.Чезарри, Л.Мель – с ними были созданы песни, среди которых
«Песня о Перми». Папа был тесно связан с Пермским партархивом, с
рядом московских архивов. Результатами этих связей стали фотоаль-
бом «Ленин говорит с Прикамьем», глава о Перми в книге «Кама. Вол-
га. Дон», замысел коллективного труда «Слово о Мотовилихе» и напи-
сание раздела «1905–1917гг.» в этой книге. Кстати, корректором
«Слова» была мама, подчитчиком я, но в выходных данных стоит
только ее фамилия, меня не посчитали нужным упомянуть. Я уже мно-
го писала о папе, повторяться не буду.
Образцов и идеалов, кроме А. Аборского, у отца было множество,
у мамы образцом был отец. Я обошлась без оных. Друзей у отца было
множество, но до последних дней его жизни с ним были московский
писатель Николай Данилов, журналисты Эдуард Шумов и Владимир
Кадочников, ленинградец Борис Туркин. Мама дружила с деревенской
подругой детства Надеждой, с университетской подругой Ириной Кор-
чмарской. Ирина Моисеевна стала нашей общей семейной подругой.
У меня были подруги школьные, университетские и родительские. С
дочерью Татьяны и Анри Кетегатов Ириной я дружу с пятилетнего воз-
раста. С Татьяной Кетегат дружила до ее кончины.
Наш дом (в общем смысле) никогда не пустовал. Приходили ста-
рые большевики, революционеры, журналисты, писатели, композито-
ры, артисты и др. Всех их мама поила чаем и кормила. Были и очень
близкие друзья – журналист Анатолий Высоковский и его супруга Ма-
рия Фоминична, и семья Александра и Ольги Граевских. Высоковские
жили в нашем подъезде, и общение с ними было постоянным и почти
трезвым. Анатолий Маркович был преферансистом, папу научил иг-
рать брат Александр Аборский, профессионально игравший в карты.
Маму и тетю Машу обучили преферансу их мужья. Играли сначала на
спички, потом на мелочь.
С другими тесными друзьями Граевскими были особые отноше-
ния. Граевские терпеть не могли Высоковских и избегали друг друга.
С Граевскими мы жили одной семьей. Постоянно встречались то у нас
- 273-
на Осипенко, то у них на Героев Хасана. Ольга Константиновна в нашей
квартире была полноправной хозяйкой. Если ей что-то нужно было
взять в холодильнике, приготовить еду, постирать белье в стиральной
машине, воспользоваться ванной, искупать детей, то она делала это
без спроса. Воспитанная в деревне мама сначала терялась от подоб-
ной бесцеремонности, но скоро привыкла, освоилась в квартире Гра-
евских и действовала, как тетя Леля. У папы с Граевским была духов-
ная связь, творческие отношения, дружба и общие хобби – футбол и
кошки. Основой славной компании были семьи Аборкиных и Граев-
ских. Встречались в нашем доме, сидели за столом, шутили, спорили, а
потом мгновенно срывались и шумной стаей неслись к Граевским (ме-
ня также брали с собой), уже часов в 12 ночи. Граевский громко кри-
чал: «Володька, собирайте Анку и бегом к...». Иногда мы ночевали у ...,
но чаще пешком с песнями возвращались домой. Я уже не спала и
маршировала самостоятельно. Ни разу нас не остановила милиция.
Надо уточнить, что в детстве я почти ничего не ела, в любой компании
взрослых я была невидимкой. За столом со взрослыми не сидела, сло-
нялась по комнатам, рассматривала книги, статуэтки и прочие интере-
сующие меня предметы. Никаких тостов, застольных речей, шуток я не
помню, т. е . помню, что они произносились, но ничего не оставалось в
памяти, все неизменно улетучивалось.
Анатолий Высоковский родился и вырос в Одессе. Он за любым
застольем цитировал Шолома Алейхема и рассказывал бесчисленные
еврейские анекдоты. Шолома Алейхема я потом прочитала, Анатолий
Маркович подарил мне на семилетие собрание его сочинений. Анек-
доты, над которыми взрослые дружно смеялись, так же как и все речи
за столом, смылись из моей детской памяти. Компаний, кроме роди-
тельских и их друзей, в моей жизни не было.
Мама любила русскую классику всю жизнь, папа от античности
перешел к западноевропейской и русской классике, затем переклю-
чился на историческую и краеведческую литературу, а в конце жизни
читал документальную историю и политические публикации. Я читала
до проблем со зрением. Папа долго не желал покупать телевизор,
чтобы не убить моей страсти к чтению. «Агрегат» – так называл его
отец – появился в доме лишь в 1970 году. Школьная программа, уни-
верситетские программы по литературе освоены мной от и до. Само-
стоятельно я изучила литературу Древнего Востока (Индия, Египет,
Китай, Корея, Япония, Иран, Таджикистан, Узбекистан, Туркмения,
Якутия), русскую литературу от Антиоха Кантемира и Тредиаковского
до современных писателей и поэтов. У отца было несколько литера-
- 274-
турных кумиров в разные периоды его жизни, мама обожала
Л. Толстого, Тургенева, Чехова, Куприна, Бунина.
Я предпочитала мировую литературу в первой половине прожи-
тых мною лет: Сервантес, Шекспир, Данте, Диккенс, Ш. Бронте,
Дж. Остин, Б. Шоу, Голсуорси, Фолкнер, Г. Гарсиа Маркес. С возрастом
я перечитала русских классиков и выбрала для себя Достоевского
(«Идиот», «Бесы», «Братья Карамазовы», письма к жене), Л. Толстого
(«Война и мир», «Анна Каренина»), Чехова (пьесы), Ахматову и др.
Человеческих кумиров, насколько я знаю своих родителей, также
идеалов, предметов поклонения, образцов в их жизни не было. Я пол-
ностью солидарна с ними. В Библии сказано «Не сотвори себе куми-
ра». Никаких праздников, ритуалов не было. Гости приходили в будни.
В новогоднюю ночь ложились спать. Мы вместе мало отдыхали. Езди-
ли втроем к бабушке в деревню, во Владимирскую область к папиной
родне, в Грозный к брату отца Валентину, военному летчику. Это про-
исходило в моем детстве. Отец и его кузен Алексей Георгиевич взяли
меня и моего племянника, внука дяди Лени Владимира к Александре
Георгиевне (родная сестра А. Г. и кузина папы) в Волжск. Путешество-
вали на поезде, электричке и самолете с пересадками в Казани. Не-
сколько раз я лето проводила в Ашхабаде, отвозил меня отец, затем
оставлял дочь у братьев Александра Аборского, Петра и Алексея и их
семей. А обратно до Москвы меня на поезде отвозила А. Комиссарова,
жена А. Аборского. В Москве мы жили в «Пекине», обедали в лучших
ресторанах, посещали выставки, музеи, галереи, театры. Из Москвы
меня домой увозил отец, а тетя отправлялась на курорты, любила те-
тушка Мацесту.
С мамой ездили на курорт в Нальчик. Еще она меня навещала в
московской больнице и забирала домой. Отец и мама ездили в ко-
мандировки: в татарское село Верхние Моркваши и Казань; в Ленин-
град; в Калинин и Ржев, где работали в архивах и Главном геральдиче-
ском управлении. Папа искал материалы для книг о комиссаре
В. Грацинском и 162-й стрелковой дивизии, а также искал дворянские
грамоты Охотинских, его мать – полька Юзефа Охотинская была дво-
рянкой. В те времена с копированием было сложно. Папа отыскивал
документы, а мама их переписывала, а архивные начальники заверяли
их. Весь папин архив я сдала в Пермский партархив.
Я одна или с подругами побывала в Ленинграде, Выборге, Нарве,
Великом Новгороде, Москве, Тернополе (туда мы ездили с мамой на
похороны ее брата Владимира), Львове, Одессе, Евпатории, Севасто-
поле, Ялте, Алупке, Феодосии, Керчи, Ташкенте, Самарканде, Бухаре,
- 275-
Сочи, Гагре, Новом Афоне, на Пицунде, Кисловодске, Пятигорске, Ма-
ры, Вильнюсе, Лиепае, Риге, Каунасе, Клайпеде.
Все члены семьи были страстными театралами. У папы был «се-
мейный» актер кузен Дмитрий Георгиевич Аборкин, живший с семьей
в нашем подъезде на Осипенко. Нашей подругой была Ирина Моисе-
евна Корчмарская. Контрамарки на все пермские и гастрольные спек-
такли нам были обеспечены. В 1970-80 -е годы я сумела посмотреть
все лучшие спектакли в лучших театрах Москвы и Ленинграда.
Седьмой год в «гордом» одиночестве я нахожусь дома, меня
волнуют и заботят: открытие личного фонда отца в Пермском партий-
ном архиве; публикация этих отрывочных воспоминаний о клане и
фамилии в университетском томе о филфаке; судьба, т. е. устройство
моих живописных работ в хорошие руки, т. е . в музеи-галереи, ведь
картины – это мои дети, мое продолжение и продолжение филологи-
ческой семьи Аборкиных, мое послание в будущее.
С
е
н
т
я
б
р
ь
2
0
2
0
г
о
д
а
г
.
П
е
р
м
ь
.
- 276-
С. Бурдина,
выпускница 1981 г.
«ЖИЗНЬ И ПОЭМЫ СРИФМОВАЛИСЬ...»
Я долго не могла подступиться к этому тексту. Наконец поняла,
что именно мне мешает. Глобально, эпически сформулированный
«запрос» («Бурдинская династия» – ни больше ни меньше!) никак не
совмещался в сознании с той тональностью, в которой, казалось, толь-
ко и возможно говорить о самых родных людях...
Память услужливо подбрасывает то одно, то другое воспомина-
ние, и каждое кажется значимым, неповторимым, вот именно таким, о
котором герой Достоевского говорил, что «ничего нет выше, и силь-
нее, и здоровее, и полезнее для жизни, как хорошее какое-нибудь
воспоминание, особенно вынесенное еще из детства, из родительско-
го дома».
Первое – теплое, надежное, любимое – бабушка, бабуся, Антони-
на Георгиевна Кузовникова, которой уже 50 лет нет с нами. Я долго не
могла добиться от мамы: какой же вуз все-таки закончила моя бабуш-
ка – педагогический институт или университет? И только сейчас, вни-
кая в очень непростую историю образования пермского педагогиче-
ского университета, я поняла, что имела в виду бабушка (так это за-
помнилось маме), когда говорила о слиянии педагогического институ-
та и университета в годы своей учебы. Поняла, что моя бабушка была
одной из самых первых выпускниц педагогического факультета (его
гуманитарного отделения), который в начале 1920-х годов существо-
вал в рамках Пермского университета. И испытала совершенно особое
чувство гордости от причастности к нашему родовому филологическо-
му древу – цепочке из четырех уже поколений филологов, где первое
звено, самое главное, – моя бабушка. И как-то по-новому осозналась
вдруг эта связь времен. Подумать только: ведь задолго до того, как я
поднималась по выбитым ступенькам нашего старого главного, тря-
сясь от страха перед сдачей политэкономии, взбегали на это самое
крыльцо и мои молодые влюбленные родители, а еще раньше – моя
бабушка, не подозревая еще, какие испытания ждут ее, ровесницу
века, впереди. Непростая работа учителем в деревне Верещагинского
района в двадцатые... Наполненные страхом ночи в Доме специали-
стов на Уральской в тридцатые... Гибель мужа, так и не увидевшего
свою дочь, мою маму. Тяжелые годы военного лихолетья.
30 лет моя бабушка проработала в одной школе – 49-й, мужской.
Это был осознанный выбор человека, убежденного в том, что с маль-
- 277-
чишками всегда легче найти общий язык. Хорошо помню рассказы ее
о своих «мальчиках», многие из которых стали впоследствии извест-
ными в городе людьми. До слез трогали бабушку письма и открытки
повзрослевших учеников, которые она получала, уже давно оставив
школу. Удивительно, но помню до сих пор не только имена их – даже
почерк, даже цвет чернил на открытках, бережно хранимых долгие
годы. В том раннем своем детстве, бесконечно играя в школу, прове-
ряя у мифических своих учеников тетрадки, была абсолютно уверена:
непременно буду учителем. Как бабушка.
Однако очень скоро детские порывы эти перекрыла все больше и
больше входившая в жизнь нашей семьи романтика маминой профес-
сии. Почему-то особенно хорошо помню тот период, когда мама рабо-
тала в киноредакции и постоянно, как мне тогда казалось, писала сце-
нарии к различным документальным фильмам. Завораживал уже про-
цесс зарождения фильма. Замысел долго обсуждался дома, затем
также долго и подробно обсуждался сценарий. И, наконец, наступал
момент почти сакрального действа, когда мама садилась сценарий
писать. Пространством, где рождались все мамины сценарии, была
кухня. Время творчества – ночь, конечно.
Мама часто говорила, что самое трудное – приступить, начать,
написать первые строки на чистом листе бумаги. Позднее мне стали
близки и понятны эти муки творчества, прекрасно выраженные
Ф. Сологубом в поэтической молитве, слова которой произносила ма-
ма всякий раз, призывая снизойти вдохновение:
Господи, если я раб,
Если я беден и слаб,
Если мне вечно за этим столом
Скучным и скудным томиться трудом,
Дай мне в одну только ночь
Слабость мою превозмочь
И в совершенном созданьи одном
Чистым навеки зажечься огнем.
Ну, а потом, конечно, начинался не менее интересный, но весьма
драматичный период обсуждения этого творческого продукта – напи-
санного сценария нового фильма. До сих пор живы в памяти мамины
рассказы о том, как принимали сценарий на худсовете. Писала мама
сценарии, руководствуясь и вдохновляясь работами классиков жанра.
Образцом для нее был настоящий литературный сценарий. Однако за
литературность чаще всего на худсовете ругали. «Литературный сце-
нарий» – это было чем-то вроде негативного ярлыка, и почти всегда
- 278-
находились люди, которые готовы были такой ярлык на сценарий на-
весить. Но находились и другие журналисты (среди них одно время
был знаменитый ныне А. Королёв), которые за ту же литературность
сценарий хвалили. Это действо, которое называлось «худсовет», пред-
ставлялось мне очень драматичным, все, за что критиковали мамин
сценарий, – ужасно несправедливым, и я всегда очень сильно за маму
переживала.
Папа работал иначе. Территория папы – это не ночная кухня, это
(так во всяком случае мне видится сегодня) комната, залитая утренним
солнцем, в которой почетное место занимал секретер; в нем – книги с
волшебными названиями «Трава забвенья», «Зависть», «Дневник Кос-
ти Рябцева», «Ни дня без строчки», «Одноэтажная Америка»; на нем –
гипсовые бюсты русских писателей, которых папа ласково называл
«братья-писатели» и к каждому празднику любовно стирал с них пыль.
Створка секретера была всегда раскрыта, а на ней – и сейчас перед
глазами – стопка чистой бумаги. Волшебный знак того, что идет про-
цесс. Процесс написания кандидатской диссертации. При этом папа
время от времени произносил фразы, которые, став позднее для нас
знаковыми, заняли прочное место в домашней семантике: «Завтра вы
проснетесь и увидите мою трудовую спину». Или: «Вам-то что, а мне
работать надо». Раскрытая створка и чистая стопка листов бумаги – эта
картина впечаталась в мое детское сознание, а вот спину трудовую за
столом – нет, совсем не помню. Когда и как папа писал текст диссер-
тации, было мне совершенно непонятно. Впрочем, он все делал имен-
но так – быстро и незаметно, неслучайно ведь в детстве его звали
«быстрота на трех ногах». Даже тетради в школе рабочей молодежи,
где он преподавал в первые годы своей трудовой деятельности, про-
верял каким-то своим хитрым способом: диктуя предложение по од-
ной тетради, одновременно просматривал остальные. Ни разу мама
не видела дома ни одной принесенной из школы тетрадки (главный
ужас учителей-словесников).
Но все-таки в детстве волшебство и чудо в первую очередь были
связаны, конечно, с работой мамы. Чего стоила уже сама студия – этот
центр телемироздания, где снимались и записывались передачи, на
колесиках катались громадные динозавры-камеры, опутанные прово-
дами, горели слепяще лампы, бегали туда-сюда озабоченные люди!
Проникнуть туда было настоящим счастьем. Однако возможно это бы-
ло разве что в день новогодней елки, когда в распоряжении нас, де-
тей, оказывалось все здание с этой самой студией, кинозалом, интри-
гующими, ведущими на чердак лестницами... А сама красавица-мама,
- 279-
которая каждую неделю появлялась на экране телевизора, заставляя
прилипшую к экрану семью и переживать-волноваться за нее, и бе-
зумно ею гордиться! А съемки-поездки по самым невероятным мес-
там Прикамья на каком-нибудь старом раздолбанном газике или ма-
леньком, страшно грохочущем пароходике! А бесконечные трансля-
ции театральных постановок, просмотры и сдачи спектаклей, репети-
ции, куда, случалось, брали и меня! А культовая для пермских пионе-
ров 70-х годов передача «Звени-город» (вот где был простор для твор-
чества ребят!), которую и придумывала, и воплощала, и вела она, моя
мама!
Суть и особый смысл папиной филологической жизни стали рас-
крываться для меня немного позднее. Наверное, с того момента,
когда я, одиннадцатилетняя девочка, была представлена Ольге Гус-
тавовне Суок-Олеше, вдове Юрия Карловича Олеши. В 9-10 лет я
имела весьма слабое представление о литературе 1920-х годов. Но
понимала, конечно, что и Шкловский, и Перцов, и Славин, имена ко-
торых часто произносились в доме, – люди особенные. Папа любил
рассказывать о встречах со Шкловским, который однажды даже при-
нял его в своем кабинете и подарил книгу, подписав ее. Мама же
часто вспоминала о том, как САМ Перцов, папин первый оппонент,
не слишком торопясь на защиту, попросил маму, которая должна
была доставить его на мероприятие, пообедать с ним в ЦДЛ. Мама
чуть с ума не сошла, справедливо полагая, что при таком повороте
событий защита может и вовсе не состояться. Бедный папа тянул
время до приезда знаменитого оппонента как мог, отвечая и отвечая
на вопросы членов совета... Что уж говорить об Ольге Густавовне,
имя которой в доме звучало постоянно, в квартире которой папа не
один год работал с черновиками Олеши и которая время от времени
посылала нам с мамой какие-то милые подарочки. Все это: и эпоха, и
ее знаковые имена – неожиданно стали ощущаться как часть и моей
жизни в тот момент, когда я очутилась в Лаврушинском переулке.
Лаврушинский, 17. Легендарный писательский дом («вот в этой квар-
тире жил Паустовский, а вот в этой – Каверин, а здесь – Казаке-
вич...»). Святая святых – кабинет Олеши, где (какое неслыханное ве-
зение и счастье!) папе было первому разрешено работать с чернови-
ками писателя! Ольга Густавовна позднее говорила папе, что на это
ее решение повлиял и тот факт, что папа был – так ей казалось – чем-
то на Юрия Карловича похож. Из всех предметов обстановки кварти-
ры врезалось в память поразившее мое воображение большое ста-
ринное зеркало в кабинете знаменитого писателя, в котором и сей-
- 280-
час отчетливо вижу себя – одиннадцатилетнюю девочку в синем с
ромашками платье с красиво свернутыми в колечки и закрепленны-
ми громадными белыми бантами косами. И совершенно точно могу
сказать: ощущение того, что вот прикоснулась к миру особому, – оно
было.
Оглядываясь назад, я понимаю, что Слово звучало в нашем доме
постоянно. И тогда, когда мы слушали мамины сценарии, обсуждали
папины, а позднее и мои научные статьи. Смотрели по телевидению, а
потом обсуждали дома блестяще всегда проведенные беседы папы со
знаменитыми актерами, режиссерами, писателями (была такая рубри-
ка в литературно-художественной программе «Среда»). В своих оцен-
ках папа с мамой чаще всего не совпадали. Папа умел хвалить. Причем
совершенно искренне. Все, что выносилось на семейный суд, казалось
ему талантливым, а уж какие слова он умел для этого подбирать! Ма-
ма чаще была настроена критически, всегда вносила какие-то поправ-
ки, замечания. Думаю, что во многом благодаря этому ее качеству я
приобрела умение в любой работе начинать все с нуля, с чистого листа
–
удел перфекциониста. Одобрение же и похвала папы на всех этапах
моего филологического взросления – от школьных сочинений до док-
торской диссертации – помогали преодолевать сомнения, верить в
свои силы, вдохновляли.
А еще в доме постоянно звучали стихи. Их читал папа. Читал пре-
красно, выразительно, как бы смакуя каждый звук, наслаждаясь сло-
вом, призывая всех слушающих почувствовать волшебство и восхи-
титься вместе с ним:
Гражданин Вертинский
вертится. Спокойно
девочки танцуют
английский фокстрот.
Я не понимаю,
что это такое,
как это такое
за сердце берет?
... Их витражей голубые зазубрины –
С чисто готической тягою вверх.
Поле любимо, но небо
возлюблено
Небом единым жив человек...
- 281-
Маяковский, Вознесенский, Смеляков, Соколов... Они, эти поэти-
ческие строки, с тех пор, казалось, впечатались в память навсегда.
Иногда цитирую что-то студентам во время лекции и мысленно удив-
ляюсь: откуда я знаю эти строки? И понимаю: из детства...
И ничего удивительного, конечно, не было в том, что поступила я
все-таки на филологический. Почему – «все-таки»? Потому что иску-
шение журналистикой не было преодолено до конца и время от вре-
мени пробивалось – попыткой снять документальный фильм, подгото-
вить цикл передач на радио, информацию в новостях, написать очерк
или рецензию на сборник пермского писателя...
Я невероятно горжусь своей бабушкой, своими родителями –
восхищаюсь их талантом, эрудицией, филологической культурой, тем,
что сохранили до конца верность выбранному пути, преданность Сло-
ву. Я бесконечно благодарна им за душевную чистоту, чуткость и доб-
роту, за высокое благородство и истинную интеллигентность. Сегодня
я отчетливо понимаю, что никакого другого пути профессионального в
их жизни просто не могло случиться, они безошибочно точно выбрали
тот единственный, свой, а значит прожили действительно счастливую
жизнь. Я горжусь тем, что и я оказалась причастной к их главному в
жизни делу – филологии, хотя и понимаю, конечно, какая это ответст-
венность – не уронить..., продолжить..., сохранить... Я рада, что и сын
мой выбрал путь, также связанный со Словом... И понимаю, насколько
ему сложнее: три поколения филологов за плечами – это обязывает...
Но ведь и помогает. И поддерживает. И силы дает... «Жизнь и поэмы
срифмовались...».
- 282-
И. Бурдина
«ЖДИ МЕНЯ...»
Из книги «Детство, раненное войной» (2018).
Воспоминания пермских журналистов,
чьи детские годы пришлись на Великую Отечественную
Уверена, что первые строки моей статьи совпадут с началом
воспоминаний многих моих сверстников. Солнце... Голубое небо... И
яркая свежая зелень, которая бывает у нас только в июне. Мы с ма-
мой в сквере между оперным театром и почтамтом. Здесь много гу-
ляющих. Такие же мамы с девочками. И не только – вот и мальчики в
матросках...
И в воздухе многоголосный фон выходного дня.
И вдруг – какой-то настораживающий металлический скрип из
громкоговорителя... И первые слова: «Передаем правительственное
сообщение...» .
Теперь звуковым фоном на разный манер и с разными оттенками
стало слышно слово «Война... Война... Война».
Таким запомнился мне первый из 1418 дней.
И еще запомнился мне батон большого белого хлеба, который мы
с мамой купили тут же в гастрономе, напротив громкоговорителя,
произнесшего страшные слова. Вкус этого батона я вспоминала всю
войну... И даже после войны. И даже сейчас, когда в магазинах десят-
ки и десятки сортов белого хлеба, мне кажется, что вкуснее того, куп-
ленного в первый день войны, нет и не может быть.
. .. Постепенно в городе налаживался ритм военного тыла. Вместо
батонов появились хлебные карточки... Вместо крабовых пирамид
окна магазинов запестрели крестообразными полосками, впрочем,
как и все стекла всех домов...
Но 1-го сентября 1941 года во всех школах города раздался звук
колокольчика! Это был и мой школьный звонок. Самый первый в жизни,
хотя мне только что исполнилось 7 лет. Я оказалась самой младшей в
классе, как и потом во всех классах и на всех курсах, где бы я ни училась.
Что запомнилось из военных этих 4-х школьных лет? Пожалуй,
наши скромные завтраки. Как промокашки.
Такая вот картина стоит перед глазами. Парты, парты, парты...
И на каждой из них – промокашка с кусочком черного хлеба, а на нем
- 283-
–
ма-а -аленькая горка сахарного песка. Наш скромный завтрак. Даже
в те грозные годы.
Но мы его «отрабатывали» своими отметками. Не помню, чтобы в
нашем классе были двоечники. Своими делами: октябрятскими, а по-
том и пионерскими, тимуровскими... Своими концертами в госпиталях.
Ведь почти все наши школы были отданы под госпиталя. И мы в свою
настоящую школу No 48, которой нынче 28 ноября исполнилось 90 лет,
перебрались только в 1945-м.
Нет, недаром мои ровесники, и все, кого называют сейчас «деть-
ми войны», получили наконец-то медали.
Я знаю, что все школьники старались помочь тылу, чем только
могли. Знаю, потому что мама моя, будучи преподавателем русского
языка и литературы, Кузовникова Антонина Георгиевна, с 1-го дня
войны вместе со всеми своими учениками 5-го, 6-го и 7-го классов
выезжала на полевые работы. И вот сначала по Каме до Частых. За-
тем – от берега до села Фоки 40 километров. Представьте только
шестиклашек-семиклашек пешком по разбитой деревенской доро-
женьке. И одна только лошадка с телегой, на которой все наши вещи.
Я, семилетка, учительницына дочка, тоже мужественно шагаю, пока
вовсе в кровь не стираю ноги и кто-то не предлагает: «а давайте ее
верхом на лошадь посадим». И посадили... И так вот доехали до села
Фоки.
А на другой день уже теребили лен. Хорошенькие такие голу-
бенькие цветочки – только руки болели после этого (оказывается, и
лен выращивают в нашем регионе).
Это только один эпизод. А за четыре-то военных лета и осени че-
го-только не приходилось осваивать городским школярам, чтобы по-
мочь фронту. Помню 3-й год войны. Я уже третьеклассница. И в учебе
никак нельзя отставать – стало быть, и с мамой, с ее классом, поехать
на уборочную не получится. А получается только меня одну дома ос-
тавлять. А на кого? Ни бабушек, ни родственников ближайших – нико -
го около меня. Сама в 10 лет управлялась! И управилась.
Константин Симонов помог. Вышел в том году календарь, хоть и
на плохонькой бумаге, с занозами, но вышел. Можно было на стенку
повесить. И как раз напротив страницы с сентябрем напечатали стихо-
творение «Жди меня».
- 284-
Из книги воспоминаний о В. И . Бурдине
«Всерьез и с улыбкой» (2006)
В. Зубков. Вместо предисловия
Эта книга издана в память о Викторе Ивановиче Бурдине к го-
довщине его ухода из жизни.
За десятилетиями преподавательской работы в ПГПУ – успехи в
научном исследовании сатирической ветви отечественной прозы: Зо-
щенко, Олеши, Ильфа и Петрова, Эрдмана, Войновича, Довлатова...
Уважение коллег, высоко ценивших его эрудицию, глубину мысли,
тонкий юмор. Порядочность и человеческое обаяние. Признатель-
ность сотен студентов-филологов и школьных учителей, надолго за-
помнивших лекторское искусство знатока русской литературы двадца-
того века. Талант импровизации, парадоксальность мышления, спо-
собность извлекать обобщения из образных деталей литературного
текста, сближая стоящие далеко друг от друга художественные явле-
ния, тонкий юмор навсегда остались в памяти его слушателей. Придя
на литературную кафедру педагогического университета в конце шес-
тидесятых ассистентом, Виктор Иванович Бурдин стал, по существу,
эмблемной личностью филологического факультета, одним из тех, чей
облик определял его научно-образовательный уровень и нравственно-
психологический климат.
Все это отразилось в воспоминаниях, собранных в настоящей кни-
ге. Среди ее авторов – друзья юности и земляки Виктора Ивановича,
коллеги по работе в Пермском педагогическом университете и на об-
ластном телевидении, его бывшие студенты и просто люди, которым
он был особенно дорог.
Из их воспоминаний сложился коллективный портрет Виктора
Ивановича – подлинного интеллигента, остро сознающего противоре-
чия нашей действительности, последователя лучших традиций отече-
ственного литературоведения, непременного участника культурной
жизни Пермского края, человека со светлой душой, совершенным эс-
тетическим вкусом, неистощимым жизнелюбием, доброжелательно-
стью и деликатностью в оценках людей.
З. Станкеева. Бурдинская династия
Первая моя встреча с Виктором Ивановичем состоялась почти
полвека назад во время педагогической практики в школе No 92. Вик-
тор Иванович в то время заканчивал филфак университета, а я в пер-
вый раз выступала в роли руководителя педпрактики. Потом деловые
встречи происходили с разной степенью периодичности, мы встреча-
- 285-
лись во время госэкзаменов, предметных олимпиад, преподаватель-
ских конференций...
Первая встреча, однако, не затерялась в потоке последующих.
Урок Виктора Ивановича-практиканта запомнился как свидетельство
неординарности его личности. Взять хотя бы тот факт, что по каким-то
ведомым только ему причинам Виктор Иванович отпустил класс с по-
следнего урока минут за десять до звонка. И вот ликующая толпа в
сорок человек выкатила из класса и с шумом промчалась по пустын-
ному коридору, в то время как в других классах царила «строгая рабо-
чая тишина». Виктор Иванович невозмутимо шагал вслед за своими
учениками, начисто забыв при этом, что за его уроком должен после-
довать разбор методиста, последнее, однако, не состоялось. И мне,
руководителю практики, не показалось это ужасным: стандарт вытес-
нился нестандартностью поведения начинающего учителя.
А затем была защита Виктором Ивановичем дипломной работы.
По воле случая я стала официальным оппонентом этой работы. Она
была по «Поднятой целине» М. Шолохова. Виктор Иванович в очеред-
ной раз блеснул. На этот раз глубиной и точностью анализа текста, в
особенности своеобразного шолоховского юмора. Оппонировать ав-
тору дипломной работы мне по сути не пришлось, работа получила
заслуженную высокую оценку.
Ныне роман М. Шолохова из-за его идеологичности оценивается
по-разному. Во многих школах он исчез из программ. А жаль! На этом
материале возможно было бы формировать у школьников объектную
картину сложного и противоречивого этапа развития русской литера-
туры середины ХХ века. А я, между прочим, до сих пор больше дове-
ряю в оценке Шолохова моему первому студенту, чем многим шагаю-
щим в ногу со временем специалистам.
Много лет спустя на одном из вступительных экзаменов я по-
встречалась с дочерью Виктора Ивановича – Светланой и увидела в
этом «перст судьбы». Видно, пришла пора «бурдинскому началу»
продолжиться на филфаке университета.
Редкая красота Светланы Бурдиной сочеталась с глубиной позна-
ний, и я все более убеждалась: Светлана в чем-то существенном, «фа-
мильном» повторяет отца. В ней та же верность филологии в педаго-
гическом варианте, та же «предназначенность» в самом серьезном
смысле этого слова.
Поводом для одной из последующих встреч с Виктором Иванови-
чем стала защита Светланой Викторовной докторской диссертации.
Как принято на факультете, повод ознаменовался чаепитием в кругу
- 286-
близких. Среди близких не было по какой-то причине Инги Владими-
ровны. Виктор Иванович в этой связи заметил, что мне выпало в засто-
лье роль посажёной матери, роль для меня очень лестную. Виктора
Ивановича тянуло к исповеди. Он вспоминал свои первые шаги в уни-
верситете, рассказывал, как необычно поступил в университет и какую
судьбоносную роль при этом сыграл тогдашний ректор Александр
Ильич Букирев. А мне он неожиданно сообщил, что был «первым мо-
им студентом». Оспаривать это мнение я не стала.
В последние года жизни Виктора Ивановича мы встречались пре-
имущественно на конференциях в честь Риммы Васильевны Коминой.
Виктор Иванович был постоянным участником этих конференций. Его
многочисленные таланты раскрывались здесь, как мне думается, пол-
нее и ярче на фоне настоящих знатоков своего дела, к тому же способ-
ных порадоваться успехам коллеги. И мне сейчас приятно сознавать,
что успела после нашей последней земной встречи сказать Виктору
Ивановичу: «Вы самый достойный и непревзойденный ученик своего
учителя».
В. Зубков. Работа и любовь
Первый, а может быть, и единственный раз в жизни я видел по-
настоящему счастливого литературоведа. Это было, когда Виктор Бур-
дин вернулся из командировки в Москву. Он ездил туда за материа-
лом для своей диссертации о творчестве Юрия Олеши. Материалом
были рукописи из личного архива писателя и встречи за домашним
столом с людьми, близкими при жизни Юрию Олеше, Эдуарду Багриц-
кому, Исааку Бабелю... Предмет его научного исследования – литера-
тура 1920-1930
-
х годов предстала там перед ним не в трафаретных
текстах скучных учебников, а «живьем», в отблеске подлинных писа-
тельских судеб. Открылась частичка бесконечно пестрой картины жи-
тейского, общественного и творческого поведения больших русских
художников, балансировавших между желанием государственного
признания и нежеланием петь с общего голоса.
Виктор был потрясен! Это было время, когда до мемуаров, а тем
более до честных мемуаров о писателях, плохо вписывающихся в рам-
ки соцреализма, было еще очень далеко. Его любимый Юрий Олеша
принадлежал именно к таким писателям. И вдруг! Виктор подошел к
его жизни максимально близко. Совершил неожиданное путешествие
в живую историю литературы, причем экскурсоводами были люди из
этой самой истории. Он рассказывал мне о том, что услышал, и лицо
его светилось счастьем!
- 287-
Спустя много лет, уже в 70-е годы, он испытал потрясение совер-
шенно иного рода. Это было во время так называемых «Дней совет-
ской литературы» в Прикамье. Они вошли тогда в большую моду, па-
радные литературно-пропагандистские десанты московских писателей
от Балтики до Сахалина для общения с организованным народом. По
должности, заведуя кафедрой советской литературы, Виктор Иванович
присутствовал на торжественном открытии. Ожидавшуюся с большим
интересом речь держал тогдашний писательский министр Георгий
Мокеевич Марков. Ораторское искусство главного писателя страны
произвело на Виктора ошеломляющее впечатление: «Это ж надо
уметь! Говорить два часа напролет, и хоть бы одна мысль промельк-
нула!»
В этих двух маленьких эпизодах, разделенных многими годами, я
вижу нечто большее, чем просто случаи из жизни Виктора Бурдина.
Мне кажется, что как профессиональный литературовед, он всегда
ощущал себя между двумя полюсами нашей литературной жизни –
подлинной, живой и фальшивой, поддельной.
Свою первую поэтическую книжку молодой Ярослав Смеляков
назвал «Работа и любовь». Работой Виктора Ивановича Бурдина было
преподавание русской литературы ХХ века. Эту работу он любил. Он
старался всю жизнь заниматься только тем, что любил.
Он обладал безупречным чутьем на настоящую русскую прозу,
классическую и новую, на ее талантливые теле- и киноверсии, испы-
тывал удовольствие, комментируя их и передавая свои впечатления
слушателям. Любимой дверью, через которую он входил в простран-
ство литературного текста, было искусство художественной детали.
Любимым стилем его методологии был эссеизм, который позволял
связывать далеко, казалось бы, отстоящие друг от друга артефакты и
давал простор эрудиции и ассоциативности.
Так же чутко он различал в литературном потоке потуги макет-
ной, фальшивой прозы на подлинность и значительность. Посреди
ярмарки идейного лакейства в эпоху соцреализма он ощущал себя на
ней внутренним эмигрантом. Впрочем, как и посреди разнузданного
рынка модерновых поделок, агрессивно захвативших постсоветскую
литературную территорию. Он не принимал развязного нигилизма
ерофеевского розлива, закапывающего огулом, большой лопатой оте-
чественную литературу советской эпохи. Он воспринимал как ущерб-
ных пасынков духа радующихся тому, что русская литература конца
века наконец-то вернулась к своей эстетической сути, отряхнув с себя
веру в человека, совестливость, исповедь и проповедь. Поэтому в по-
- 288-
следние годы его особенно влекло к Виктору Астафьеву, Борису Еки-
мову, Борису Вахтину, верным реализму и гуманистическим традици-
ям отечественной прозы.
По складу характера, чуждого резкости и категоричности, Виктор
не метал громовые критические стрелы в болотистые закоулки нашего
литературно-художественного огорода. Внешнее выражение сильных
чувств ему не было свойственно. Его любимой фразой было «Я к этому
отношусь спокойно».
От рутины и казенщины он защищался иронией, которую оттачи-
вал, вчитываясь в любимых им Зощенко, Ильфа и Петрова. Например,
по поводу ритуальных поклонов вождям при оформлении авторефе-
ратов диссертаций: «Первая ссылка полагается на Маркса, вторая на
Ленина, третья – на кого угодно, если он не эмигрант». Или в связи с
трудностями, которые возникли при прохождении в ВАКе моей дис-
сертации о неблагонадежном тогда Викторе Некрасове: «Пишите о
мертвых, они не подведут, лишнего не скажут».
Из его блестящих острот, метафор, иронических оборотов могла
бы, в сущности, получиться целая книжка. Да ведь только сочинялись
они не «под запись», а на ходу, как неожиданная и естественная им-
провизация. И так же естественно забывались, к сожалению, в быстро-
текущей жизни, не в пример личности их автора – талантливого, муд-
рого и доброго Виктора Ивановича Бурдина.
И. Бурдина. Мистика
«Мистика!» – одно из любимых восклицаний Виктора Ивановича,
как я помню со студенческих времен. Может быть, потому, что был он
человеком восторженным, и многое восхищало его в жизни, удивляло,
а иногда и просто казалось сверхъестественным.
Но в его жизни действительно бывали какие-то события, встре-
чи, совпадения, если и не мистические, то объяснимые только, как
подарок судьбы. Встретил же он в коридоре университета в августе
1951 года ректора Букирева, когда зачисление студентов на первый
курс уже было завершено. И тот обратил внимание на бритого наго-
ло мальчишку в более чем скромном спортивном костюме, и сам
заговорил с ним, и узнал, что мальчишка-то с медалью, да только вот
опоздал с документами. И теперь уже – никуда. А сам он из Вереща-
гино, и, стало быть, и жить в Перми негде. И тотчас же распоряжени-
ем высших властей университета был зачислен на историко-
филологический факультет, да еще с предоставлением общежития.
Ну не рука ли судьбы?!
- 289-
Так и появился на нашем курсе Витька Бурдин или «казак», пото-
му, что шапку-кубанку ему привез брат с войны. Да и у многих других
мальчишек присутствовали в одежде знаки военного времени – то
куртка из отцовской шинели, то гимнастерка, перекроенная из брато-
вой... Война совпала с первым годом нашей школьной жизни. И вот
теперь, ровно через десять лет после ее начала, мы стали студентами.
Студент В. Бурдин был совершенно своим парнем в общежитской
коммуне. Вместе с другими ходил за продуктами... Правда, никак не
мог запомнить, сколько стоит килограмм сахара...Так же, как и другие,
в свой черед готовил еду. Правда, случалось опрокинуть кастрюлю с
макаронами в раковину, но юмор и находчивость не давали оконча-
тельно пропасть продукту.
А бывало, голод растущего мужского организма поднимал ребят,
и они пробирались ночью на кухню, чтобы отведать каши из девчачьих
кастрюль. Все-таки вкуснее! А наутро в разборке опять же спасала
склонность к остроумию, перед чем слабый пол не мог устоять. Мо-
жет, склонность эта была у Виктора от белорусских его корней. Неслу-
чайно мама его в девичестве носила фамилию Скоморох.
Многие студенты 50-х помнят, как на одном из студенческих ве-
черов сорвал он самые бурные аплодисменты пародией на Вадима
Синявского. Интонации великого в ту пору спортивного комментатора
были точно переданы и юмористически заострены, тема выбранного
репортажа так близка каждому в зале, что студенты буквально пока-
тывались со смеху. А исполнитель оригинального жанра стал на сле-
дующий день знаменитостью факультета.
Мистика! – повторял Виктор. Вообще, скорее, конечно, в шутку,
чем всерьез он верил в какие-то приметы. Например, те, что касались
дня рождения. Говорил, что, если человек чихнет в этот день, – быть
ему весь год бодрым и здоровым. И во что бы то ни стало старался
чихнуть с утра пораньше, развлекая тем самым своих домочадцев. И
уж весь этот день старался провести так, как задумал свое будущее.
Одним словом, сам и помогал «мистическому» процессу.
Так было и в двадцатый день его рождения – 31 октября 1953-го.
Я напомнила об этом моему мужу в его семидесятый год за веселым
застольем, прочитав шутливые стихотворные строки.
Когда я итожу то, что прожил,
И роюсь в днях – ярчайший где,
Я вспоминаю одно и то же –
Октября предпоследний день.
Кажется, было недавно совсем:
Аудитория триста семь...
- 290-
И там, прижавшись боком к стене,
Коряво и быстро ты пишешь мне:
– Послушай, нельзя ли придти на «Голос»? –
(Откуда же знает он про «Рекорд»,
Которым бы каждый в ту пору был горд?)
– Давай, приходи!
Но ловить надо поздно –
Часов, наверное, с десяти...
И вот мы усиленно крутим ручки,
Эфир же творит такие штучки!
Ну хоть бы слово –
И то готовы
Мы были домыслить, понять,
поймать...
И вдруг перерезало, словно
струны:
«Сегодня в Париже скончался
Бунин».
Ну, вот, напросился – и сразу
новости,
Печальные, правда, зато –
по совести.
И хочется что-то еще поймать –
Но как потом по ночи шагать?
Наивная... Я поняла потом –
Он знал – не отпустят его пешком!
Расчет был прост –
И наш гость остался...
А утром, совсем не смущаясь,
признался,
Что, мол, дня рождения дожидался...
Вот так наш герой его тогда
встретил.
Стоял на дворе год 53-й .
А нынче который?
Вот то-то! – Полвека!
Спасибо любимому человеку!
А ровно через два года Виктор Иванович ушел из жизни. И тоже
в день своего рождения 31 октября 2005-го.
Мистика.
- 291-
Е. Баженова. Ближний круг
Гармонию семьи Бурдиных ощущал, наверное, каждый, кто пере-
ступал порог их дома. На правах подруги их дочери Светы мне выпало
счастье быть вхожей в этот дом на Парковом практически с момента
его заселения в 1978 году, в любое время дня и ночи, поэтому об осо-
бой, неповторимой семейной атмосфере я могу говорить с полным
основанием.
Каждый из Бурдиных играл свою роль в создании этой гармонии.
Инга Владимировна была и остается главным автором сценария
«семейного сериала»: хранительницей очага, мастером домашнего,
застольного и дачного дизайна, деятельным организатором всей се-
мейной жизни, хлебосольной хозяйкой, чьи пироги и блинчики всякий
раз заставляют забыть и о диете, и о фигуре. А еще обожаемой бабу-
сей, талантливым цветоводом, мудрой советчицей, критиком и редак-
тором всех литературных и научных произведений домочадцев. А еще
садоводом, домашним доктором, репетитором и – коль нужда заста-
вит – сантехником, маляром и электриком.
Свете самой судьбой была уготована роль единственной, люби-
мой и любящей дочери родителей-филологов, унаследовавшей от них
не только породу и красоту, но и филологическую одаренность, фило-
логическую же чувствительность и рафинированную интеллигент-
ность, с которой можно родиться лишь имея «за плечами» два поко-
ления профессиональных филологов (мама Инги Владимировны была
учителем-словесником).
Насколько я знаю, проблемы «кем быть?» у Светы никогда не бы-
ло: в доме с детства звучали стихи – их читал папа, сочинялись и обсу-
ждались телевизионные сценарии – их писала мама. Уже в старших
классах школы Светина исследовательская работа по современной
поэзии удостоилась похвалы самой Риммы Васильевны Коминой, и
«юная филологиня» стала сначала студенткой филфака ПГУ, а потом –
аспирантом и докторантом кафедры литературы МГУ.
Гармония брака Инги Владимировны и Виктора Ивановича чудес-
ным образом материализовалась в личности Светы – человека на ред-
кость притягательного цельностью своей натуры, эмоциональной от-
крытостью и отзывчивостью. Не удивительно, что в студенческие годы
именно дом Бурдиных стал для нашего курса неформальным «клу-
бом», в котором происходили самые значительные события студенче-
ской жизни: чтение собственных стихов, пение под гитару, обсуждение
преподавателей, ночные танцы под «АББУ», объяснения в любви, вы-
яснение отношений... Правда, «крупные мероприятия» устраивались
обычно летом, когда мама и папа уезжали отдыхать.
- 292-
Дом Бурдиных притягивал особой атмосферой – атмосферой
любви и уважения друг к другу. Очень скоро у многих Светиных друзей
сложились теплые, дружеские отношения с родителями, и можно бы-
ло прийти в гости «просто так», зная, что здесь тебе всегда будут рады,
и ты найдешь понимающих собеседников, говорящих с тобой на од-
ном – филфаковском – языке . Так было раньше, так продолжается и
сейчас.
Не знаю, каким секретом воспитания владели Инга Владимиров-
на и Виктор Иванович, только для Светы родители, семья, дом были и
остаются безусловной и абсолютной ценностью, константой бытия,
средостением жизни.
Две яркие личности – жена и дочь, воплощающие женское нача-
ло семьи Бурдиных, отнюдь не затмевали ее мужской составляющей в
лице Виктора Ивановича, который, безусловно, олицетворял собой
«золотое сечение» всей семейной архитектоники.
Определение «гений такта», данное С. Залыгиным Чехову, как
нельзя лучше характеризует Виктора Ивановича. Я не знаю другого
человека, который ни разу в жизни ни о ком не отозвался плохо, кото-
рый был бы столь деликатен, который обладал бы таким тонким чув-
ством юмора и самоиронией. Думаю, именно эти черты характера и
личности Виктора Ивановича притягивали к нему друзей и коллег.
Все эти качества в полной мере проявлялись и в его отношениях с
членами семьи. Он принадлежал к тому типу людей, которые не гово-
рят красивых и высоких слов, обнажая душу. Не пафосный он был че-
ловек и лирике с патетикой предпочитал остроумие и острословие.
Однако по всему было видно, как бережно Виктор Иванович относил-
ся к жене и дочери: он замыкал на себя множество бытовых проблем,
шуткой гасил «коммуникативные неудачи», возникающие в любой
семье, и иронизировал над своей неприспособленностью к «забива-
нию гвоздей».
Мастер комических сюжетов, Виктор Иванович и сам любил по-
играть в героя юмористического рассказа. Предметом комической ин-
терпретации могло быть что угодно. Например, пиво, которое он лю-
бил, но время от времени налагал «мораторий» на его употребление;
или посещение бани, превращавшееся в сложный ритуал; или неудач-
ная прополка грядки на даче, когда вместе с сорняками была выдрана
полезная культура; или обсуждение с ректором И. С . Капцуговичем
прямо на заседании ученого совета вчерашнего футбольного матча...
Чаще всего мы общались с Виктором Ивановичем на семейных
праздниках, и очень скоро я поймала себя на мысли, что жду очеред-
- 293-
ного дня рождения подруги, чтобы послушать тост ее папы. Поздрави-
тельные речи никогда не повторялись, никогда не были банальными
и, как правило, риторически осложнялись эффектом обманутого ожи-
дания. Помню, когда Света поступила в очную аспирантуру в Москве,
Виктор Иванович совершенно серьезно объявил, что теперь ему при-
дется отказаться от сочинения юмористических рассказов и начать
работать в другом жанре – жанре перевода. Выждав паузу и заставив
гостей озадачиться, добавил: «Почтового».
Но, пожалуй, наибольший эффект, особенно на членов семьи,
произвело поздравление по случаю защиты Светой докторской дис-
сертации в феврале 2003 г. Виктора Ивановича, никогда до этого не
сочинявшего стихов, на сей раз вдохновил Пастернак. Вот фрагмент
этого стихотворения:
Февраль... Достать чернил и плакать,
И бюллетень заполнить до конца.
Услышать тихий голос ВАКа,
Увидеть жест небесного отца.
За кафедрой внезапно очутиться
И взмыть полетно в небеса.
И слово, словно тройка, мчится,
Являя текста чудеса.
И текста ларчик открывая,
Свой черновик, а не чужой
Народу в зале предъявляя,
Светлана, как младой ковбой,
Пришпорила Пегаса круто
И, красоту свою явив
И интеллектом одарив,
Пошла зеркально по маршруту,
Ни одного флажка не сбив...
... И текст сам в жизнь переливался,
И жанр опять торжествовал,
И вечным образом казался
Прекрасный жизни карнавал.
Февраль... Достать чернил и плакать,
О феврале писать навзрыд.
И угадать прогноз для Рака,
И выйти за предел орбит.
- 294-
Светина защита стала для Виктора Ивановича и личным триум-
фом. Он не скрывал радости, был просто счастлив и гордился дочерью,
осуществившей, может быть, и его тайную мечту...
С новой стороны Виктор Иванович открылся, когда родился Ваня,
сразу ставший для деда главным членом семьи. Его любовь к внуку,
казалось, не знает границ! Виктор Иванович не то что ни разу не
шлепнул гиперактивного внука, он ни разу не повысил на него голоса и
не позволял этого ни маме, ни бабушке, когда у тех кончалось терпе-
ние.
С годами Ваня с дедом стали настоящими друзьями: у них были
свои секреты, свой язык, свои увлечения. Именно внук стал героем
рассказа Виктора Ивановича на одном из последних семейных празд-
ников. Я хорошо запомнила этот рассказ, потому что Виктор Иванович
отступил от своей привычной установки на комический эффект. Как
всегда, артистично, с художественными деталями, но абсолютно серь-
езно, без юмора, он рассказывал, как они с Ваней ходили на даче в
баню, как парились, отдыхали и снова парились, и такое между ними
установилось взаимопонимание, что хорошо было просто сидеть ря-
дом и молчать, и слов было не надо... Вот этот момент был для Викто-
ра Ивановича моментом истины, ощущением состоявшейся жизни,
которая продолжится во внуке...
В этом году Ваня Бурдин проводит на даче свое первое лето без
деда. Он без подсказки взял на себя все дедины заботы: встает рань-
ше всех и поливает грядки, носит воду, борется с сорняками, колет
дрова, топит баню и развлекает рассказами маму и бабусю...
... Жизнь продолжается.
Н. Гашев. Я не услышу голос друга...
В войну в нашей школе No 1 в Верещагино размещался эвакогос-
питаль. Поэтому мы, первоклассники, начинали свою учебу в каком-то
другом, наскоро приспособленном для занятий здании.
Просторная комната была разгорожена заборкой из широких,
плохо оструганных плах. За перегородкой, в одну смену с нами, «пер-
вышами», учились второклассники. Слышимость была идеальная – мы
знали все, что происходило за стенкой. И не только слышали, но и ви-
дели. В том месте, где стояла вплотную к перегородке моя парта, из
плахи был выбит сучок. В это круглое отверстие я видел стол учителя,
черную доску, на которой второклассники писали мелом. На первой
парте прямо перед столом учителя сидел худенький подвижный маль-
чик, у которого был высокий лоб и длинный, как тогда говорили, гре-
- 295-
ческий нос. Он то и дело поднимал руку, готовый отвечать на все во-
просы учителя. Этот большелобый мальчик явно выделялся в классе
среди других учеников. Когда второклассникам надо было организо-
ванно пройти через наш класс и они выстраивались парами в одну
колонну, именно он шел впереди всех, как какой-нибудь командир.
Это и был Витя Бурдин. На каком-то школьном вечере, может
быть, 7 ноября, я увидел его на импровизированной сцене в нашем
переполненном спортивном зале, где плотными рядами стояли стулья
и скамейки. Витя, с потешными усиками, нарисованными под носом
углем или черной краской, в рогатой каске, натянутой на самые уши,
играл роль немецкого офицера, который вместе с солдатами ворвался
в деревенский дом:
– Яйки! Млеко! Бутерброд! – тонким мальчишеским голосом, но
довольно грозно требовал у перепуганной хозяйки. – Хенде хох!
Зато как этот грозный вояка струсил, когда внезапно появились
партизаны! Под хохот и улюлюканье всего зала он залез под стол и так
дрожал там, что столешница подпрыгивала.
Забегая вперед, скажу: свои артистические способности Витя
Бурдин демонстрировал позже и в университете. Помню, как на ка-
ком-то концерте в студенческом клубе он, подражая нашему люби-
мому в ту пору спортивному комментатору Вадиму Синявскому, вел
юмористический репортаж со сцены о сдаче экзамена в студенческой
группе филологов. Аплодировали ему ничуть не меньше, чем Жоре
Буркову, тогда студенту юрфака, а потом прославленному артисту те-
атра и кино...
Именно он, Витька Бурдин, научил меня самому главному и са-
мому любимому делу в моей жизни – читать книги. Вот уже больше
шести десятков лет прошло с того дня – целая жизнь! – а до сих пор
помню солнечный летний день с легким дождичком. Мы с Витькой
укрылись под козырьком на крыльце дома нашего общего друга Юрки
Азанова, прозванного Слоном – уж очень громко топал, когда бежал.
Витя пересказывал мне рассказ «Пакет» Пантелеева. Вернее, не пере-
сказывал, а разыгрывал все, что происходило там – голосом, мимикой,
взмахами рук и даже ног. И когда он дошел до того места, где моло-
денький красноармеец, схваченный врагами, прожевал наконец и
проглотил секретный пакет, а сургучовую печать выплюнул, я, как и
изумленные белогвардейцы в рассказе, тоже увидел этот окровавлен-
ный комок на зеленой, смоченной дождем траве, и тоже, как и они,
подумал, что это язык, который красноармеец откусил, чтобы ничего
не рассказать врагам.
- 296-
Прямо с крыльца Юркиного дома, не обращая внимания на
дождь, мы с Витькой побежали в нашу Верещагинскую районную биб-
лиотеку, которая тогда находилась в двухэтажном бревенчатом доме
возле железнодорожного вокзала. С тех пор я сделался одним из са-
мых ярых и постоянных читателей.
Однажды перед очередным праздником Великого Октября мы,
четверо друзей – Витька Бурдин, он тогда в 10-м классе учился, девя-
тиклассники Юрка Азанов-Слон, Герка Чукичев и аз грешный, решили,
что уже достаточно взрослые, чтобы отметить этот праздник с выпив-
кой. Купили в привокзальном буфете бутылку водки, выпили ее почти
без всякой закуски и отправились в школу на торжественное собрание.
В школьном спортзале набилось столько народу, что мы еле-еле втис-
нулись где-то. У стола, накрытого по такому случаю красной скатертью,
–
наша директриса Юлия Александровна Помыткина. Ростиком она
низенька, волосы черные с легкой проседью, глаза такие же черные, а
нам казалось – огненные. Она, Юлия Александровна, была грозой всей
школы. Стоило только ей во время перемены появиться в коридоре,
как все школьники моментально разбегались по своим классам и бук-
вально замирали там.
И вот она, Юлия Александровна, вдруг заметила, что портрет то-
варища Сталина на стене за ее спиной висит как-то кривовато. Немед-
ленно притащили лестницу-времянку, молоток. Огненные глаза ди-
ректрисы пробежали по переполненному залу и остановились на Вите
Бурдине. Во-первых, десятиклассник, во-вторых, учится прекрасно, все
знали, что он идет на медаль. Ну кому же еще можно поручить такое
ответственное задание – привести в надлежащее положение портрет
товарища Сталина.
На глазах у всех собравшихся Витька поднялся по лестнице почти
к самому потолку, нащупал покосившийся гвоздь, взмахнул молот-
ком... Удар пришелся не по шляпке гвоздя, а по портретной раме. Со
звоном вдребезги расколотого стекла портрет рухнул вниз чуть ли не
на голову нашей директрисы!
Расколотить молотком портрет вождя! Да еще в канун Великого
Октября! В 1950-м году, в самый расцвет культа личности Сталина! За
это тогда почти наверняка можно было поплатиться жизнью. Бедная
директриса чуть ли не на коленках подбирала с полу осколки, обдува-
ла, оглаживала картонку с портретом. Слава Богу, картонка была цела.
В это время Витька, сотворивший весь этот ужас, медленно сполз
с лестницы и, как ни отворачивался, как ни сдерживал дыхание, запах
спиртного директриса учуяла.
- 297-
– Ты выпил? – изумилась она. – А ну за мной в директорскую!
Что происходило в директорской, неизвестно. Но нас, своих собу-
тыльников, Витька не выдал. И самое замечательное вот что: человек в
переполненном зале, на глазах у всех 10-классников грохнул молот-
ком по портрету вождя всех народов Генералиссимуса товарища Ста-
лина, и никто не сообщил об этом вопиющем факте куда следует...
В нашей Верещагинской средней школе No 1 не оказалось ни одного
«стукача»!
Витя Бурдин научил меня не только читать книги, но и определил
выбор профессии, главного дела моей жизни. Дело в том, что, закон-
чив школу с серебряной медалью (дали ему все-таки медаль! Не мог-
ли не дать!), он без особого труда поступил на филфак Пермского (то-
гда Молотовского) университета. Во время его довольно частых при-
ездов домой в Верещагино мы обязательно встречались. Его рассказы
о студенческой жизни, о преподавателях, о дисциплинах, которые ему
приходилось изучать, – все это так вдохновляло, что у меня просто не
осталось другого решения, как следом за своим другом тоже поступать
на филфак университета.
И меня приняли, но, увы, без предоставления общежития.
Ночь перед первым сентября я кое-как скоротал на квартире од-
ного из знакомых моего отца. Утром в переполненном, гудящем голо-
сами студентов широком коридоре рядом с деканатом филфака,
встретил своего верещагинского друга.
– Чего не весел? – спросил Витя. – Не выспался, что ли? Ты же
студент, Колька! Студент филфака!
А узнав, почему я не весел, бодро сказал:
– У нас переночуешь, в нашей комнате свободная койка есть.
Студенческое общежитие находилось на верхнем этаже тогдаш-
него химкорпуса университета. В двух смежных аудиториях тесно
стояло около сорока коек. Когда собирались вместе все жильцы – фи-
лологи, историки, физики, юристы – даже соседа по койке трудно бы-
ло расслышать среди гула голосов. К тому же и радио в комнате нико-
гда не выключалось, работало на полную громкость с утра до вечера.
Но мне это шумное общежитие показалось раем! И свободная койка,
хоть и стояла у самого прохода, тоже очень понравилась – на ней было
серенькое одеяло, подушка и две простынки! Я боялся только одного
– вот сейчас явится ее законный хозяин и скажет мне: «А ну-ка, выка-
тывайся отсюда!»
Витька, по-видимому, переживал за меня. Утром перед началом
занятий он повел меня в комитет комсомола, где тогда секретарем была
- 298-
Феня Почтер, студентка третьего курса истфака. Маленькая, смуглоли-
цая, похожая на мулатку, она внимательно выслушала моего старшего
друга. Витя решительно наседал на нее... А примерно через неделю
в наше общежитие пожаловал с проверкой сам ректор, профессор Го-
ровой: массивная фигура, широкое, довольно добродушное лицо. За
спиной ректора была еще целая свита. Оттуда и выскочила Феня Почтер.
Она подбежала ко мне. А я, ссутулившись, сидел на незаконно захва-
ченной кровати, не догадавшись даже встать перед начальством.
– Этот парень с серебряной медалью школу закончил! Чуть ли
не пешком добирался из медвежьего угла в университет, а ему не да-
ли места в общежитии! Как же ему прикажете учиться? На вокзале,
что ли, ночевать, как американскому безработному?
Ректор, как мне показалось, даже попятился немного под таким
напором. Особенно подействовало на него почему-то упоминание о
безработном американце, на которого, может быть, смахивал его сту-
дент. Он обернулся к своей свите и сделал кому-то знак, чтобы это
койко-место оставили за мной, раз уж я чуть ли не пешком, как Ломо-
носов с обозом рыбы добирался до университета. Вот так, благодаря
Витьке, я стал полноправным студентом. И все пять лет, пока я грыз
гранит наук, наши койки стояли рядышком – моя и Витина, сначала в
этом, а потом и в других общежитиях.
И даже после окончания университета, когда Витя уже работал в
пединституте, а я в редакции газеты «Звезда», наши семьи жили в од-
ном доме, в пятиэтажке на бульваре Гагарина.
В школьные годы и в университете я, даже не сознавая этого, по-
стоянно находился под мощным воздействием своего друга. Когда я
познакомился со своей будущей женой, тоже студенткой филфака Ни-
ной Поляковой, и, ухаживая за ней, стал что-то рассказывать, она вдруг
перебила меня:
– Слушай, а почему ты говоришь точно так, как Виктор Бурдин? Те
же слова и даже те же интонации!
Что я мог ответить девушке? Только одно: Витя Бурдин – мой са-
мый старый друг. И поскольку по своей человеческой натуре он, ви-
димо, сильнее меня, то я и нахожусь под его влиянием, подражаю
ему, следую за ним во многом. О сильнейшем воздействии моего дру-
га на меня свидетельствует и такой факт – в моей книге «Просека на
болоте», изданной в 2001 году в Верещагино, на нашей общей с Вик-
тором родине, один из героев назван его именем – Витька Бурдин.
Прочитал ли мой друг эту книгу? Не знаю. Я как-то стеснялся спросить
его об этом. А вот наш общий друг Юра Сычев, доктор философии,
- 299-
преподаватель Московского гуманитарного университета, прочитал
мою книгу. Прочитал и написал мне буквально следующее: Витька
должен гордиться этим. Доцентов, таких как он, много на Руси. А вот
кто из них при жизни стал героем художественного произведения, о
ком написали в повести?
После того как мы с Бурдиными уехали из дома на бульваре Гага-
рина и стали жить в разных районах города, мы с Виктором стали реже
встречаться. Но каждый год 1-го октября он обязательно поздравлял
меня с днем рождения, в свою очередь и я отвечал тем же –
31 октября, в день его рождения, обязательно разыскивал его по те-
лефону. Мы даже родились с ним в один месяц – оба октябрята! Как
горько, что теперь мне уже никогда не услышать голос своего друга,
его скороговорочку, пересыпанную веселыми шутками с обязатель-
ным пожеланием счастья, успехов во всех моих делах и начинаниях.
Ф. Валисевич. Светлый человек
Вчера читала дневники императрицы Александры Федоровны
Романовой: «Великое искусство жить вместе, любя друг друга нежно.
Каждый дом похож на своих создателей. Утонченная натура делает и
дом утонченным... В каждом доме бывают свои испытания, но в ис-
тинном доме царит мир, который не нарушить земными бурями. Дом
– это место тепла и нежности»...
Я знаю эту семью очень давно, и мне кажется, что именно такой
дом был у Виктора Ивановича Бурдина. Конечно, его творили его лю-
бимые женщины: жена – Инга Владимировна и дочь – Светлана Вик-
торовна. Но духовным началом, интеллектуальным стержнем семьи
был отец. Он был счастливым человеком. Его дело сегодня продолжа-
ет дочь – доктор филологических наук, профессор Пермского универ-
ситета. Дочь для него была всегда предметом обожания и гордости, в
их отношениях проявлялась взаимная чуткость и редкая нежность.
Почему я не могу думать о том, что его уже нет с нами? Порою
мне кажется, что вот-вот вечером раздастся звонок, и я услышу его
голос: «Ну что? Какие там новости в вашем царстве народного образо-
вания?» Так Виктор Иванович называл наше специальное училище
«Уральское подворье» для детей, попавших в особо сложные жизнен-
ные ситуации: безнадзорных, брошенных школой, а зачастую и семьей.
И хотя поле его педагогических и научных исканий было на дру-
гом полюсе, его интерес к педагогической практике нашего коллекти-
ва был активным, живым. Оттого во время наших телефонных бесед
рождались новые мысли... Это он когда-то посоветовал обобщать и
- 300-
публиковать крупицы нашего опыта, наши технологии. Сегодня об
этом написано уже четырнадцать книг. Кажется, совсем недавно Вик-
тор Иванович искренне радовался, поздравляя нас с присуждением
правительственной премии в области образования.
Он был человеком редкого таланта. Широта его творческих инте-
ресов вмещала историю, литературу, живопись, кино, телевидение.
Может быть, поэтому он остался в памяти еще и как душа компании.
Его такт, юмор и эрудиция притягивали, превращали простое общение
в праздник.
Виктор Иванович долгие годы был лицом наших передач «Теле-
визионный дом» и «Театральная программа». Он запомнился телезри-
телям своей естественностью и искренностью. С ним работалось легко.
Телеэкран не обманешь: на нем высвечиваются как положительные,
так и отрицательные качества личности.
И еще. Перед началом эфира он был настолько собран и спокоен,
что это передавалось всей бригаде. Помню случай, когда в нашем го-
роде был сильный гололед. Люди почти на четвереньках добирались
до дома. Остановились троллейбусы и автобусы. А в эфир через не-
сколько минут должна была выйти «Театральная программа» с уча-
стием Виктора Ивановича, народной артистки РСФСР Лидии Мосоло-
вой и других артистов Пермского драматического театра.
И вот надо же такому случиться: участников передачи кое-как
привезли, костюмы артистов, грим и парики застряли в дороге. До пе-
редачи оставались считанные минуты (тогда еще не было видеозапи-
си, и передачи шли «вживую»). Конечно, обстановка была нервозной.
Как будем выходить из положения? Самое главное, нужно было всех
успокоить. Вот тут то и спас нас юмор Виктора Ивановича, его умение
убедить артистов, что играть можно и без костюмов, и без грима... Что
называется, условно. Все прошло хорошо.
Мне помнятся и другие выпуски телевизионных программ с уча-
стием В. И . Бурдина, его выступления, насыщенные зачастую самой
новой информацией из области литературы, театра, живописи. Они
привлекали внимание пермяков, расширяя их горизонты познания
российского искусства. Согретые личностным отношением автора, они
приглашали к размышлению.
Случалось, мы встречались семьями за праздничным столом до-
ма или на даче (мы ведь соседи). И как тут не вспомнить, как гордился
он своей семьей: женой – мастерицей воздушных капустных пирож-
ков, дочкой, внуком Ванечкой... Вспоминаются неспешные беседы по
дороге на дачу о нашей нелегкой доле – педагогике, о трудностях учи-
- 301-
тельского жития-бытия, педагогическом престиже учителя и его высо-
кой миссии.
Академик Лихачев некогда на страницах «Литературной газеты»
дал очень точное определение понятия «интеллигентности»: «Интел-
лигентный – это прежде всего доброжелательный человек». Виктор
Иванович желал всем добра. Потому и остался в памяти навсегда жи-
вым, улыбающимся, светлым...
С. Л. Токман. Без галстука
Моя память о Викторе Ивановиче Бурдине сугубо частного, лич-
ного характера. Но надеюсь, она что-то добавит к воспоминаниям тех,
кто работал вместе с ним.
У Виктора Ивановича было больше черт от Обломова, чем от
Штольца. Наверняка от Обломова. Из этих двух противоположностей и
состоит, на мой взгляд, национальный русский характер. Середины нет.
Это не говорит о лежании на диване, отнюдь нет, но свидетельст-
вует о постоянстве, верности привычкам, сложившемуся годами неиз-
менному укладу жизни.
Две его любимые женщины – жена Инга Владимировна и дочь
Света создали вокруг Виктора Ивановича настолько уютный, окружен-
ный милыми мелочами домашний мир, что каждое изменение в нем
«приводило его в неописуемое волнение». Нехитрые житейские пору-
чения – передвинуть мебель, перевесить кухонный шкафчик, просто
вбить для чего-то гвоздик – жутко его раздражали.
Вряд ли он не мог при желании и большей настойчивости жен-
щин этому научиться. Он не был абсолютно беспомощен в быту. Я
убежден в том, что он совершенно сознательно уклонялся от прими-
тивных бытовых задач. Мир для него состоял из поэтических образов. И
в каждой ситуации, которую он наблюдал, – будь то на улице, в магази-
не, трамвае, бане, во дворе – он видел прежде всего образное начало.
Мир вокруг был скроен по божественному провидению Зощенко или
Олеши, и в начале были не физические усилия, а слова, которыми об-
менивались люди, или ситуации, в которые они попадали.
Тем не менее жизнь Виктора Ивановича состояла из множества
вещей, которые приносили удовольствия. Самым большим удовольст-
вием был театр. Одно время довольно часто случались командировки
в Москву. С его слов, почти ежевечерне Виктор Иванович посещал
спектакли. Не обязательно премьерные, не обязательно самые доро-
гие. Виктор Иванович знал цену преподавательской зарплате и изли-
шеств не любил.
- 302-
Он знал репертуар каждого театра и всех ведущих актеров. Неко-
торые спектакли посещал не единожды – ему нравилось смаковать
нюансы игры актеров в разные периоды. А когда спектакль был ниже
всякой критики, что частенько случалось и в первопрестольной, Виктор
Иванович делился по секрету тайнами театральных буфетов. В отличие
от Перми там можно было полакомиться бутербродами с копченой
колбасой, икрой и совершенно диковинным по тем временам замор-
ским пивом – чешским или немецким. В театральном буфете можно
было провести антракт, а иногда и второе действие спектакля, кото-
рый не заслужил внимания Виктора Ивановича.
Виктор Иванович научил меня разбираться в таинствах москов-
ских театральных буфетов. Когда мне случалось с пренебрежением
говорить, что в театр им. Гоголя я не хожу, он назидательно, подымая
вверх растопыренные пальцы, изрекал: «Ты не прав, спектакль мо-
жешь не смотреть, но там в буфете чудное немецкое пиво. За 50 копе-
ек билет – можно сходить». Хотя он не был фанатично предан этому
напитку, но ценил его, и, как истый гурман, смаковал изредка.
Я уже упоминал о его нелюбви к излишествам. Сколько я его
помню, он всегда был в неизменно сером, стандартно-советского цве-
та костюмчике. Понятие удобства превалировало над требованиями
моды. Общение наше было всегда «без галстуков», поэтому я не пред-
ставляю Виктора Ивановича как официальное лицо в парадной уни-
форме. Походы по магазинам для обновления гардероба давались
ему с трудом, это, как правило, заставляла его делать дочь Света. Но
как бы ни жаль было ему расставаться со старыми, привычными ве-
щами, скрыть удовольствие от покупки он не мог, хотя и поношенную
одежду выбрасывать не спешил.
Пришло время, и Бурдины купили маленькую дачу на берегу реки
Чусовой, в заливе Сухая речка. Дача требовала ремонта и больших
затрат. Всему этому Виктор Иванович по мере сил противился, не смея
возражать энергичным женщинам, но постоянно напоминая им, что
«здесь и так хорошо». И действительно, было хорошо, и ничто не ме-
шало предаваться философским размышлениям о вечном. К счастью, в
саду оставалось много уголков, не поделенных на прямолинейные
грядки, и эти места Виктор Иванович особенно любил. Заросли крапи-
вы недалеко от крыльца нельзя было косить, потому что запах их был
целебен. Запущенные, заросшие диким малинником уголки были са-
мыми любимыми. Рабский труд был на грядках, а тут – отдых и созер-
цание – лучшее занятие вне работы. Лежание на узком диванчике с
кипой литературных журналов тоже входило в сферу удовольствий.
- 303-
Тем не менее приходилось выполнять работы и на «барщине» –
например, прополка или сбор ягод. Более квалифицированного труда
Виктору Ивановичу не доверяли. Как-то он пришел к нам с тревогой.
Инга Владимировна, уехав, попросила его выкопать клубни георгинов.
Он добросовестно это сделал и пришел за советом, что делать дальше.
На месте оказалось, что были выкопаны и варварски разрублены ло-
патой корни многолетних пионов. Пришлось выбирать уцелевшие
корни с почками и садить заново, договорившись, чтобы об этом не
узнала Инга Владимировна.
Культовое занятие на природе – тихая охота. В этом Виктор Ива-
нович знал толк, хорошо разбирался в грибах и очень гордился каж-
дым найденным белым. Это всегда были эпические истории, переда-
ваемые всем друзьям и знакомым.
Мне кажется, что Виктор Иванович не был аполитичен. Но жизнь
в советской системе координат приучила его к осторожности в раз-
мышлениях и высказываниях. Моя работа оператором на телевидении
была связана с громадным кругом общения, множеством впечатлений
и всегда вызывала у него интерес. Когда мне случалось участвовать в
съемках людей, причастных к политике, публичной деятельности, – это
занятие всегда вызывало у него насмешки и иронию. Меня тут же при-
числяли тоже к числу небожителей, сподобившихся видеть ежедневно
губернатора и прочих чиновников. После визита Б.Ельцина в Пермь
Виктор Иванович подчеркнуто обращался ко мне с величайшим пиете-
том, подчеркивая высочайший уровень моей работы в отличие от дру-
гих смертных. Жизнь в высоких сферах не имела для него ровно ника-
кого значения, вызывая только любопытство. Дутое величие не вызы-
вало у него ничего, кроме сарказма.
Жизнь литературного произведения была для него более под-
линной, она и была для него настоящей, истинной жизнью, полной
смыслов, ценностей и загадок.
Судьба моя. Интервью с И. В. Бурдиной
Из книги «Телевидение – судьба моя» (2013)
М. Левин: У меня в руках фотография, сделанная дни десятилетия
студии. На ней – те, кто уже не один год осваивал телевизионное ис-
кусство. Среди них и Вы, Инга Владимировна. А когда и как Вы попали
в эту компанию?
И. Бурдина: Все очень просто. Муж мой Виктор Иванович Бурдин,
с которым дружили мы все студенческие годы и подали заявление
- 304-
в ЗАГС в день получения дипломов, был направлен на работу в город
Верещагино в качестве преподавателя русского языка и литературы.
Во втором словеснике Верещагинский отдел народного образования
не нуждался. Но в то самое время райком КПСС принял решение
о расширении районной газеты «Ленинский ударник», куда срочно
требовался корректор. Пока – корректор, но все ближе к журналисти-
ке, о чем мечтала я все годы учебы.
На нашем молодом семейном совете мне было предоставлено
право выбора: школа или газета. Конечно, газета!
Так появилась первая запись в моей трудовой книжке. А затем и
вторая: «перевести на должность ответственного секретаря газеты».
Эта работа меня очень увлекала. Планировать материалы для
номера, потом править их – авторы-то районной газеты – ой какие
разные! Порой и малограмотные, а тема важная. Затем верстать поло-
су и складывать все четыре страницы. Мне нравилось «верстать» –
куда какой материал поставить, какую иллюстрацию, какую фотогра-
фию каким шрифтом набрать. Это все сродни поиску телевизионного
образа – это я потом уже поняла.
Досидишь за макетом до ночи, а домой придешь – печка не топ-
лена... Холодина... Муж в вечерней школе рабочей молодежи. Заго-
рался в той «тесной печурке огонь» только когда плеснешь туда керо-
сина хорошенько. Но все равно было интересно и жить, и работать.
Отработали три года, как и полагалось по назначению, и – к маме
в Пермь. Дочка родилась. Тут уж без маминой помощи никак.
М. Левин: А на студию как попали?
И. Бурдина: Проработав три года, уже будучи членом Союза жур-
налистов, захотелось узнать, что же такое телевизионная журналисти-
ка. Вот тогда и пошла на студию.
Из Дома специалистов, где мы жили, вдоль «тридцатых» бараков
–
образцы сталинских построек для рабочего люда. Дорогу эту я хоро-
шо знала, так как мама, будучи классным руководителем, частенько
ходила по своим ученикам, жившим в этих бараках, и меня с собой
прихватывала.
На сей раз я шла одна и прямо на телевизионную вышку, под ко-
торой приютилось новое приземистое здание. Ни проходной, ни про-
пусков... И я – сразу в кабинет зампреда по ТВ.
Разговор с Моисеем Григорьевичем Гуревичем оказался удиви-
тельно доброжелательным и уважительным. Будто вовсе и не девчон-
ка неопытная стоит перед ним, а его добрый товарищ по перу, с кото-
рым он на равных может обсудить положение дел в небольшом го-
- 305-
родке Верещагино, откуда я только что приехала, и мои семейные де-
ла... Вот тогда в моей трудовой книжке и появилась вторая строка о
месте работы, которая больше не менялась в течение всех 30 лет:
«принять на должность редактора Пермского областного комитета по
радиовещанию и телевидению».
М. Левин: Помните свою первую передачу?
И. Бурдина: Думаю, что каждый из нас помнит и день, когда он
перешагнул порог студии, и свою первую передачу. Я пришла в этот
Дом (мне хочется написать это слово с большой буквы) 1-го апреля
1961 года. А 12-го, как все знают, полетел в космос Юрий Гагарин! Что
тут началось в редакциях!
И первой моей передачей было «Письмо космонавту».
19 марта 65-го – еще одна космическая победа! Сейчас мы так
спокойно произносим эти слова. А тогда не было равного в мире этому
событию – Человек вышел в открытый Космос!
И это были космонавты Алексей Леонов и Павел Беляев. И при-
землились-то они на Пермскую землю! Правда, как стало известно
потом, не совсем в запланированном районе... Но нас все равно пере-
полняла гордость. И мы, журналисты, стремились всеми правдами и
неправдами с телевизионными кинокамерами, магнитофонами, мик-
рофонами прорваться через препоны КГБ и приблизиться к космонав-
там. Иногда удавалось...
Это были годы моей работы в «Прикамье вечернем», самом цен-
тре телевизионной кухни, в той самой информационной программе,
где люди: редакторы и режиссеры, помощники – проходили проверку
на профпригодность.
Сначала свою информационную программу мы называли «При-
камье», потом «Пермь вечерняя», а когда появилась в городе печатная
«Вечерка», пришлось ее переименовывать в телегазету «Прикамье
вечернее».
Возглавлял ее очень энергичный журналист, талантливый органи-
затор, строгий, но в то же время доброжелательный и справедливый
человек, особенно чуткий ко всему новому – Павел Эпштейн. И мы,
журналисты, которые прошли его школу (П. Чернова, В. Шахова,
Т. Кетегат, А. Кононерский, О. Любшина, В. Туркин – всех не перечис-
лить!) в шутку говорили: «вышли мы все из Эпштейна».
Это была самая дружная редакция. В журналистской работе, на
картошке, на новогодней елке, на дне рождения...
И душой ее, конечно, был Павел Матвеевич. Он работал до по-
следнего дня; зная о своей неизлечимой болезни, готовил и переда-
- 306-
вал информацию в «Прикамье вечернее» даже из клиники. Мы пора-
жались его самообладанию. Силу и мужество давало ему его любимое
дело. Он был журналистом, и нас учил этому. И хотя каждый из нас
обрел вскоре свои собственные телепередачи, программы, те первые
счастливые годы журналистских поисков, удач и неудач, бурных спо-
ров и каких-то открытий мы вспоминаем с особым чувством.
То, что наша газета «Прикамье вечернее» на долгие годы стала
визитной карточкой Пермского телевидения, спорить никто не станет.
Как верно и то, что каждый факт, каждое слово, произнесенное в эфи-
ре, было в этой программе особенно значимо. Потому и цензура за
этой передачей следила строго. Могли, например, и в «черном воро-
не» увезти сразу после передачи. Расскажу один случай.
Приближалось 100-летие со дня рождения Ленина. И в наш край
зачастили гости, которые могли бы поведать что-то интересное в связи
с этой датой. Одной из таких фигур оказалась Анна Григорьевна Крав-
ченко, соратница Надежды Константиновны Крупской по Министерст-
ву образования (тогда – Наркомату просвещения). Да еще с помощ-
ником капитана парохода «Красная звезда» Н. М. Глазуновым. В
1919 году легендарный агитпароход совершал рейс по Волге и Каме.
И вот Анна Григорьевна у нас в студии. Времени на знакомство с
ней мне выделили всего 10 минут. Опекающие ее органы то ли забо-
тились о ее здоровье, то ли о том, чтобы «лишняя» информация не
утекла.
Итак, эфир! И вдруг моя героиня начинает так медленно-
медленно говорить... Видимо, возраст, волнение. Я вижу – мы не ук-
ладываемся по времени. Пропадает самое ценное в передаче – доку-
ментальные кинокадры! Что делать? Я стараюсь направить Анну Гри-
горьевну и предлагаю посмотреть сначала эти уникальные съемки с
Надеждой Константиновной, а потом продолжить передачу.
А она мне: «А как же – я ведь еще о Ленине ничего не сказала!».
Кнопка на пульте уже нажата, фильм пошел. У меня шок. Что де-
лать? Пишу телеоператору: «позвоните Моисею Григорьевичу, может
быть, разрешит продлить передачу». Через минуту подползает на ко-
ленях под камерой С. Токман, кладет на стол записку: «Моисей раз-
решает, говори, сколько надо!»
Слава Богу! После отрывка фильма поговорили и о Ленине, и о
Крупской. И все оказалось даже интересным. Выходим. Анна Григорь-
евна бросает мне: «Ой, что-то я не то там наговорила. Ну ничего, вы
ведь вырежете!» Старушка не знала, что у нас в провинции нет еще
видеозаписи и все идет живьем...
- 307-
Будь на дворе год 37-й ... Еще бы! Зажала рот человеку, который о
Ленине собрался рассказать!
Казалось, все обошлось. Передачу на доску лучших повесили. И
вдруг звонок из «Звезды». Университетский мой приятель говорит:
«Знаешь, о тебе статья в следующем номере, что ты нетактично обор-
вала в кадре уважаемого человека. Поведение недостойно советского
журналиста».
На другой день, естественно, вызывает председатель комитета
Константин Михайлович Кузнецов. Спрашивает: «Она (Анна Григорь-
евна) что, обиделась на тебя?» «Да нет, – говорю, – очень по-дружески
расстались. Она дала и адрес московский, и телефон, приглашала за-
ходить». «Ну, тогда ладно. Иди!»
Был Константин Михайлович сам Журналистом. Проработал в
«Звезде» много лет. Как-то сумел, видимо, смягчить ситуацию перед
обкомом КПСС.
М. Левин: Инга Владимировна, расскажите о культовой передаче
пермских пионеров 70-х – Вашем детище «Звени-Городе».
И. Бурдина: Возник наш Звени-Город в 1969 году. Пермские пио-
неры до этого не имели своего постоянного телевизионного цикла.
Правда, время от времени, появлялись отдельные передачи о пионер-
ской жизни, были попытки создать специальный тележурнал, но все
это не давало нужного результата. Живые связи с юной аудиторией не
восстанавливались. Нужно было их наладить, заинтересовать самый
трудный возраст – «от десяти до пятнадцати».
Долго мы с режиссером Л.Футликом прикидывали и отвергали
различные варианты, пока не пришли к простой мысли, что ребята
должны сами создать программу по своим интересам и непрерывно
строить ее в эфире. Именно строить! Строить город. Телевизионный
пионерский город. «Звени-Город». Честно говоря, мы не вполне были
уверены в результате, но твердо знали, что доверие к ребячьей само-
стоятельности, самодеятельности – единственно верный путь к юным
сердцам.
Главное – никакой подделки и наигрыша. Играть честно и всерь-
ез, как это умел делать Аркадий Гайдар. И начинать игру нужно не в
эфире, а в самой жизни, в школьных классах.
А началось так. Мы пришли со съемочной группой в самую обыч-
ную школу и попросили шестиклассников нарисовать город, в котором
они хотели бы жить. И получили столько проектов, творческих заявок,
тем, идей, что стало ясно: такой город, телевизионный конечно, нужно
строить. Началась игра, в основу которой легла конкурсная состяза-
- 308-
тельная система. От желающих принять в ней участие, т. е . стать «жи-
телями» телегородка, приходили мешки писем.
Надо было видеть глаза Льва Иудовича Футлика – главного гене-
ратора программы, когда мы разбирали эти мешки! Эти глаза вдруг
загорались таким озорным огнем, что жди чего-нибудь невообразимо-
го! А ждать и не приходилось. Оно, это невообразимое, начинало
вершиться тут же. Разрабатывался план новой передачи – полета по-
бедителей на Зве-на-лете или похода по Каме на Зве-на-ходе – в об-
щем, событий, в обычной-то жизни нереальных. Но в том-то и дело,
что, благодаря необузданной фантазии, нашему натиску и настойчиво-
сти, да еще, наверное, непререкаемому авторитету телевидения тех
лет, все придуманное становилось явью. В детскую игру включались
взрослые серьезные люди: архитекторы Пермпроекта под руково-
дством В. Плениной проектировали телевизионный город; самый из-
вестный и авторитетный журналист Б. Назаровский и художник
М. Тарасова придумывали герб Звени-Города; в типографии «Звезды»
печатались «Зачетные грамоты» и «Золотые тетради»; в небо взмывал
настоящий вертолет с участниками передачи; а по Каме плыли ребята
из Совета Звени-Города на настоящем катере, только под названием
«Звена-ход».
И чем шире развивалась игра, тем труднее было определить, где
кончается телевизионное действо и начинается сама жизнь. Програм-
ма для школьников «Звени-город» стала одним из самых удачных экс-
периментов нашей детской редакции и оказалась на целое десятиле-
тие активным помощником пермским педагогом в воспитании детей.
Недаром эта телевизионная программа неоднократно была отмечена
премиями областной организации Союза журналистов.
М. Левин: В начале 70-х прочно утвердился жанр телевизионного
очерка на кинопленке, столь почитаемый многими телевизионщика-
ми. Давайте вспомним следующий этап Вашей телевизионной судьбы,
связанный с работой на «Пермьтелефильме».
Вы возглавили тогда сценарный отдел «Пермьтелефильма».
Вот как коллеги подытожили Вашу деятельность в этом цехе те-
левидения, провожая Вас на пенсию:
«Дорогая Инга Владимировна! Из своих 55-ти, простите за упоми-
нание, вы 5 беспокойных лет отдали многотрудному и хлопотному
Пермскому телевизионному кино.
К 35-ти фильмам и киноочеркам прикоснулись ваши по-женски
нежные и по-редакторски твердые руки.
- 309-
Вы автор 6-ти фильмов, известных телезрителям: “В год 40-й”,
“Встречи на Пермской земле”, “Первый учительский год”, “Вступле-
ние”. Еще – “Шохрины” – лауреат VII Всесоюзного фестиваля теле-
фильмов в Ленинграде. Наконец, “Соликамский альбом”, который стал
достоянием 11-ти стран Европы, Азии и Латинской Америки.
А из 29-ти фильмов и очерков под вашей редакцией – 4 стали
лауреатами всевозможных кино- и телефестивалей, а 5 поступили в
зарубежный обмен.
Одним словом, если все ваши работы хотя бы один раз пустить в
эфир, это займет 17 часов экранного времени».
М. Левин: Инга Владимировна, среди вопросов, которые я приго-
товил к сегодняшней беседе, один кажется мне главным: стало ли ТВ
Вашей судьбой?
И. Бурдина: А давайте для точности заглянем в словарь В. Даля:
«Судьба – участь, жребий, доля, рок, счастье».
Ну, у меня так и есть. И участь, и доля, и рок, и счастье одновре-
менно. Пожалуй, самой «тяжкой» долей моей телевизионной судьбы
явилось мое назначение главным редактором художественной редак-
ции. Редакции действительно самой художественной по своему пред-
назначению, самой женственной по составу, самой интеллигентной
(не побоюсь этого слова), самой элегантной по внешнему виду моих
девушек и самой профессиональной по их творчеству.
Мне не пришлось править сценарии Веры Шаховой, Зои Падас,
Светланы Харинской, Татьяны Кокшаровой – их сценарии всегда были
на высоком уровне... Разве что «бдить» за политической линией... Да
еще, чтобы нигде и никогда не упоминалось слово «Бог». Помню, что
вынуждена была снять из плана очерк З. Падас о прекрасном челове-
ке, незаменимом мастере-реставраторе Пермской художественной
галереи Игоре Арапове, потому что он реставрировал иконы XVII-
XVIII вв. Посыл понятен. Не могла убедить нашего шефа П. М . Кудряв-
цева в причастности художника к самому высокому искусству, связан-
ному с нашей истинной историей.
И еще. Я вынуждена была отказаться от собственного творчества.
Не потому что боялась не соответствовать уровню моих редакторов, а
потому что не хотела отнимать у них на свои передачи жалкие гроши
гонорара и технические средства (минуты и секунды киносъемок, ПТС,
АВЗ), которые были закреплены за редакцией.
М. Левин: Инга Владимировна, разрешите в подтверждение ва-
ших слов вспомнить шуточное поздравление редакции в Ваш День
рождения?
- 310-
Вдыхая розы аромат,
Ждем возвращения назад
Всех наших планов на квартал!
Но, видно, «пред» нас наказал!
С утра ушла на комитет,
С волненьем ждем – а Вас все нет.
Заказан праздничный обед
Из всех блюдов, что дал буфет.
Инга!
С утра до ночи мы вздыхаем!
Инга! –
В бреду рабочем повторяем:
Дай АВЗ и ПТС,
Дай нам автобус-Мерседес!
Цветных побольше передач,
А с ними творческих удач!
Ты в окруженье телемуз
Возглавишь творческий союз
«Среды», «Оляпки», «Трех звонков»,
И «Нот семи», и «Чудаков»
Настал торжественный момент,
Прими в «Звонке» наш комплимент,
Не гарантируем синхрон –
Но трепет душ услышишь в нем!
И. Бурдина: Да, «трепет душ» всегда был в передачах художест-
венного вещания. Достаточно вспомнить появившиеся с 80-го по 90-й
год такие новые циклы передач, как «Клуб музыкальных встреч»,
«Среда», «Театр и зритель», «Город мой, город твой, город наш», «Ка-
мертон», «Аппаратная-2», «Желаем вам», «Собеседник».
В те годы у нас установилась особенно тесная связь с Центральным
телевидением. Телевизионную Пермь знали и ждали на многих россий-
ских экранах. Последней большой работой коллектива при мне стал наш
выход на ЦТ с передачей «Русский инженер Николай Славянов»
(к 100-летию изобретения электросварки методом Н. И. Славянова).
М. Левин: Спасибо, Инга Владимировна! Заканчивается наш раз-
говор о судьбе. Точнее телевизионной судьбе. Которая для всех нас и
есть: Участь. Жребий. Доля. Счастье.
- 311-
Е. Баженова
Света-ет...
Светает от твоих волос,
светает...
Как будто бы стволы берез
Взлетают.
Спит радуга в твоих плечах
витая.
Ты – продолжение луча.
Светает.
Светают, будто рушники
свисают.
Светает, будто ручейки
сверкают.
На ощупь свет продолговат.
На ощупь
он – волосы твои, он сад,
он – роща.
Твоим светаньем в тишине
мне греться.
Светает где-то в глубине
у сердца.
Проснись и в озеро нырни!
Светает.
И ты, как церковь на Нерли,
святая...
Проснись и в озеро нырни,
как в лето.
Ты вся, как церковь на Нерли,
из света...
Это одно из лучших стихотворений Петра Вегина, образец поэти-
ческой классики романтиков шестидесятых. Когда я вспоминаю эти
строки, в моем сознании неизменно возникает образ Светланы Бурди-
ной – Светы, Светика, Светули... Моей лучшей подруги, с которой мы
дружим больше тридцати лет, – с того памятного момента, когда в
- 312-
летнюю сессию на 4 курсе филфака вместе на скамейке у ДКЖ готови-
лись к экзамену по функциональной стилистике. С тех пор наши судь-
бы переплелись, связанные сотнями событий и жизненных сюжетов. С
тех пор стихотворение «Светает» стало нашим общим прецедентным
текстом, нашим символом безвозвратно ушедшей юности, когда
жизнь кажется бесконечно прекрасной и в ней доминируют только
светлые тона, когда сами мы кажемся себе исключительно талантли-
выми (обе круглые отличницы), а впереди у нас счастливое и успеш-
ное филологическое будущее.
Какая в этих стихах гармония, музыка души! И как они созвучны
Светиной природе! Как будто специально для нее придумал Вегин эту
удивительную звуковую палитру: Света – светает / сверкают / светанье
/ святая / свет... Что ни слово, то жемчужная россыпь Светиных досто-
инств, которые открывались мне тем больше, чем лучше я ее узнава-
ла...
Поступать или не поступать на филфак – такого вопроса для Светы
не было. Два поколения филологов в родословной! Бабушка – учитель
русского языка и литературы; папа, Виктор Иванович Бурдин, ученик
Риммы Васильевны Коминой, кандидат филологических наук, зав. ка-
федрой советской литературы пединститута, снискавший любовь учи-
телей Прикамья и выпускников не только педагогического, но и уни-
верситета, где он много лет руководил ГЭКом, и мама, Инга Владими-
ровна, выпускница филфака, стоявшая у истоков пермского телевиде-
ния. Наверное, генетически все было предрешено и другого варианта
жизненного сюжета у Светы быть не могло. Конечно, она стала фило-
логом.
Ее филологическая стезя, как и у многих талантливых выпускни-
ков филфака 80-х, была определена Саррой Яковлевной Фрадкиной, в
то время заведовавшей кафедрой русской литературы, и Риммой Ва-
сильевной Коминой: сначала работа лаборантом кафедры, потом ас-
пирантура в МГУ и после защиты кандидатской диссертации – долж-
ность ассистента. Типичный для ряда нынешних преподавателей фил-
фака путь.
Сколько я знаю Свету, она всегда была увлечена поэзией. Стихов
знала множество! Читала их с удовольствием и как-то по-особенному
проникновенно. Вечеринки нашего курса редко обходились без ее
декламации. Светины любимые поэты – Пастернак, Ахматова, Брод-
ский, шестидесятники, особенно Вознесенский, Евтушенко и Соколов.
Защитив диплом под руководством Р. С. Спивак по творчеству
Пастернака и Хлебникова («Художественный образ мира в лирике
- 313-
первых лет революции»), Светлана мечтала и дальше заниматься
творчеством этих поэтов. Большие надежды в этом плане она возлага-
ла на зав. кафедрой советской литературы МГУ проф. А. И. Метченко,
под руководством которого, как ей стало известно, была защищена
единственная в СССР диссертация по Пастернаку. Однако мэтр совет-
ского литературоведения назвал затею молодой аспирантки изучать
творчество опальных поэтов «декадентством». Надо было срочно ме-
нять тему... Ситуацию спасла Римма Васильевна Комина, оказавшаяся
в это время в гуманитарном корпусе Московского университета. Успо-
коив свою подопечную, Римма Васильевна обратила ее внимание на
портреты классиков советской литературы, развешанные по стенам
кафедры МГУ: Маяковский, Твардовский, Фадеев, А. Н . Толстой, Фур-
манов... «Вот кем, Светлана, здесь нужно заниматься!» И в 1987г.
С. В . Бурдина, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Традиции
лиро-эпоса В. Маяковского в современной советской поэме», верну-
лась в alma mater.
Поэзии Светлана была верна всегда. Не случайно на кафедре рус-
ской литературы ее коронными стали лекции по Пастернаку, Ахмато-
вой, Бродскому, творчеству поэтов-обэриутов, русской поэзии 60-х–70-
х годов. Студенты-филологи неизменно откликаются на харизматич-
ную лекторскую манеру Светланы Викторовны, умеющей увлечь мас-
терством интерпретации художественного мира поэта и тонким ана-
лизом поэтического текста. Не удивительно, что темой докторской
диссертации (благо, «пришли иные времена»), стали поэмы А. Ахма-
товой. И снова – ставшие уже родными стены кафедры советской лите-
ратуры МГУ, украшенные, правда, уже другими портретами («взошли
иные имена»), где под руководством профессора В.А.Зайцева, уни-
кального специалиста и знатока русской поэзии XX в., в 2003 г. была
блестяще защищена докторская диссертация «Поэмы А. Ахматовой:
роль “вечных образов” культуры в формировании жанра». Это была
первая диссертация о поэмном творчестве А. Ахматовой. Поэмы
«У самого моря», «Путем всея земли», «Реквием» и «Поэма без героя»
впервые были осмыслены С. В . Бурдиной как новая жанрово-стилевая
парадигма, в значительной мере определившая развитие поэмы в XX
веке. Реконструируя вертикальный контекст поэм А. Ахматовой,
С. В. Бурдина пришла к выводу, что «вечные образы» культуры фор-
мируют жанровую уникальность лиро-эпоса Ахматовой, определяют
художественное время и пространство ее эпических произведений и
своеобразие поэтики.
- 314-
Конечно, я собиралась поехать на защиту в МГУ, чтобы поддер-
жать подругу, однако не случилось (накануне защиты появилась на
свет моя первая внучка)... Но душой я была со Светой, и мне очень хо-
телось как-нибудь небанально поздравить ее с победой. Так появи-
лось стихотворение, в котором я попыталась обыграть основные поня-
тия докторского исследования Светланы и образы художественного
мира поэм Ахматовой. Эти вирши были прочитаны на банкете по слу-
чаю появления на кафедре русской литературы Пермского государст-
венного университета третьего доктора наук.
Поэма с героиней
(народный лиро-эпос)
Будучи зеркалом истории, мифологии и культуры, Петербург от-
разился в зеркальном по своей природе тексте Ахматовой.
Все образы поэмы: матери, плакальщицы, стрелецкой женки,
донской казачки, китежанки – только лики автора...
Из положений, вынесенных диссертантом на защиту
Все лики героини налицо:
Красавица, пермячка, докторантка,
Воспитана филологом-отцом,
Сейчас доцент, а в прошлом лаборантка.
Все лики героини налицо.
Они цветут, ведь главный дисер сделан,
И увенчалось все таким концом,
Что счастлива она душой и телом.
Пратексты, интертексты позади,
И жанровые признаки поэмы.
И рвется радость из ее груди:
Пересчитала все мифологемы!
Зеркальный жанр отныне утвержден,
И все ахматоведы отдыхают...
А Петербург с его косым дождем
В культурно-зазеркальной дымке тает.
Ей удалось поэмный жанр разъять
И образы культуры обнаружить,
«Поэму без героя» враз объять
И оппонентов тем обезоружить.
«В поэме без героя есть герой!» –
Изрек наш соискатель убежденно,
- 315-
Хронотопировал героя роль
И глазками повел непринужденно.
А что за стиль! Метафоры размах
И девиация научного дискурса.
Ах–матова воскликнула бы: «Ах!
Матерый диссертант из ПГвуза!»
Сам Слава Зайцев – именитый консультант! –
Одобрил и модель, и фурнитуру.
«Сидит костюмчик от кутюр шарман!»
... Влюблен в Светлану он, еще с аспирантуры.
Кормилов (мэтр!) к банкету на бегу
Сказал (цитирую, чтоб мэтра не обидеть):
«Такой защиты не видало МГУ.
И, вероятно, больше не увидит».
... Пусть будет добрым черный оппонент,
Заметной – прибыль в потребительской корзине,
Пусть наконец услышит Вас студент
И экстрасистолы не мучают отныне!
Пусть Ваня Бурдин с ангельским лицом
Стихи Ахматовой по-прежнему читает,
Пусть доктор Бурдина останется творцом
И новые вершины покоряет!
На этом празднике прозвучало еще одно стихотворение – Викто-
ра Ивановича Бурдина, который, как позже выяснилось, впервые взял-
ся за поэтическое перо.
Позади «очки-велосипеды» –
Это Маяковский написал.
Впереди Ахматовские кеды
И ее космический вокзал.
Жизнь и поэмы срифмовались
На той защитной полосе.
Там три Светланы оказались –
Две Коваленки во красе.
Мотив двойничества озвучен,
И обреален, и явлён.
Он с пониманием изучен
Со всех сторон, со всех сторон.
- 316-
***
Февраль... Достать чернил и плакать,
И бюллетень заполнить до конца.
Услышать тихий голос ВАКа,
Увидеть жест небесного отца.
За кафедрой внезапно очутиться
И взмыть полётно в небеса,
И слово, словно тройка, мчится,
Являя текста чудеса.
И текста ларчик открывая,
Свой черновик, а не чужой
Народу в зале предъявляя,
Светлана, как младой ковбой,
Пришпорила Пегаса круто
И, красоту свою явив
И интеллектом одарив,
Пошла зеркально по маршруту,
Ни одного флажка не сбив.
И явлен был нам лик героя,
С поэмой споря до конца,
И восхищения не скрою,
Следя за прелестью лица.
И оппоненты пели оды:
И Коваленко, и Кихней,
Являя академ-народу
Блеск интеллекта и очей.
И сам Кормилов благородный
Сравненье с Топоровым дал,
Мотив зеркальности продолжил,
и Анну в Свете угадал.
И роль играл в сюжете Ваня:
Являя связь времен и лет,
Запечатлел он на экране,
Минуты маминых побед.
- 317-
И текст сам в жизнь переливался,
И жанр опять торжествовал,
И вечным образом казался
Прекрасный жизни карнавал.
Февраль... Достать чернил и плакать,
О феврале писать навзрыд.
И угадать прогноз для «Рака»,
И выйти за предел орбит...
... Сегодня Светлана Викторовна уже сама готовит к защите моло-
дых исследователей – студентов, магистрантов и аспирантов. Она ста-
ла ведущим профессором кафедры русской литературы, автором че-
тырех монографий и учебного пособия по современной поэзии. Ее
статьи печатаются в солидных научных журналах, она является лауреа-
том конкурса ПГНИУ на лучшую научную работу в области гуманитар-
ных наук и лауреатом премии губернатора Пермского края, членом
диссертационного совета филологического факультета и членом ред-
коллегии научного журнала «Российская и зарубежная филология».
Успешное филологическое будущее, о котором мы грезили в да-
лекие восьмидесятые, состоялось. Но по-прежнему в моем сердце
звучат пронзительные строки стихотворения Петра Вегина и не поки-
дает непреодолимое ощущение его поразительного совпадения, со-
звучия, срифмованности с образом Светланы Бурдиной.
И. Бурдин
«ПОКА НЕ НАЧАТ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ...»
В словаре Ожегова, наряду с другими, находим такое определе-
ние слова династия: «О тружениках, передающих от поколения к по-
колению мастерство, трудовые традиции». Сегодня само понятие «ди-
настия» воспринимается как несколько архаичное, утрачивается, каза-
лось бы, сам его смысл и суть. В нынешних реалиях даже талантливый
специалист, как считают социологи, меняет в течение жизни несколько
профессий. А посвятить жизнь какому-то одному делу, да еще и пере-
дать его своим детям, способен лишь настоящий Мастер. Думаю, мои
родные, о которых я хочу написать, именно такие.
Династия Бурдиных насчитывает 4 поколения. Родоначальником
ее мы считаем мою прабабушку – Антонину Георгиевну Кузовникову.
Антонина Георгиевна стала одной из тех, кому посчастливилось при-
- 318-
общиться к зарождавшемуся на Урале высшему образованию, стать
одной из первых студентов Пермского Университета, столетие которо-
го недавно широко отмечали. Получив диплом, моя прабабушка рабо-
тала учителем сначала в церковно-приходской школе, а затем – в од-
ной из школ Мотовилихинского района. Свои убеждения она пронесла
через всю жизнь, постаралась передать их и следующим поколениям.
От прабабушки осталось много книг дореволюционного издания.
Вспоминая свое детство, могу сказать, что слово в самых разно-
образных его формах звучало в нашем доме постоянно. Деда не мог
лечь спать, пока не прочитает мне какую-нибудь сказку, или главку из
«Простоквашино», или стихи К. Чуковского, С. Маршака, любимого
мною Л. Кузьмина. Веря в целительную силу литературы, мама, когда
я был болен, с упоением декларировала стихотворения поэтов сереб-
ряного века. Вообще поэзии в доме было много. Стихи читали мамины
друзья. С пластинок звучали голоса поэтов. Поэтому не было ничего
удивительного в том, что уже года в три я много поэтических текстов
знал наизусть, рассказывал Хармса, Пастернака, любимого Кузьмина,
конечно. Помню, что особенно пронзительно отзывалось в душе сти-
хотворение Пастернака «Снег идет» с его завораживающим ритмом и
щемящими размышлениями о движении времени. Впечатления от
восприятия этого стихотворения не покидали меня много лет и позд-
нее воплотились в песне «Пока не начат обратный отсчет...» Эта песня
–
размышление о времени детства, времени, когда скоротечность бы-
тия еще не ощущается так остро, а вокруг множество тайн. Некоей
тайной для меня в то время было и то, в чем заключается профессио-
нальная деятельность моих родных. Расскажу, как эти тайны посте-
пенно начинали открываться.
Моего дедушки, Виктора Ивановича, нет с нами уже 15 лет. А ка-
жется, будто он был рядом большую часть моей жизни. Думаю, это
связано с тем, что он незримо присутствует в ней до сих пор – в моих
как творческих, так и житейских делах. Хотя тогда, в детстве, наше об-
щение строилось вовсе не вокруг книг. Тогда я не очень любил читать
книги, зато обожал газеты (не случайно, наверное, слово «газета» ста-
ло одним из первых произнесенных мною слов). Деда иногда пытался
раскрыть мне содержание сложных общественно-политических газет-
ных статей. Всегда находил (специально для меня) особенно яркие
заголовки и, насколько это было возможно, объяснял их смысл. Что
касается книг, то, конечно, Марка Твена и Джека Лондона я читал с
упоением, но вот «Двух капитанов», которые считались «маст-хэвом»,
осилить мне так и не удалось. Да деда и не настаивал. Нередко он
- 319-
просил помочь набрать на компьютере статьи о современных авторах,
в творчестве которых я, честно сказать, мало что понимал. Многие
слова и выражения, которые я печатал под диктовку, казались мне
загадочными, но уже тогда возникло ощущение, что мысли удиви-
тельны и глубоки, а сами исследования могут выступать в качестве
текстов не только научных, но и художественных, такими красивыми,
наполненными неожиданными образами и остроумными сравнения-
ми они были.
Когда дедушки не стало, полка книг с его «материалом» долгое
время оставалась нетронутой. Однажды я решил взять оттуда книгу
Виктора Астафьева «Последний поклон», о которой деда написал не
одну научную работу. Чуть позже прочитал всего Астафьева, потом в
моих руках оказался Иван Шмелев, Чингиз Айтматов и другие книги,
стоящие на удивительной полке. Поэтому я с уверенностью могу ска-
зать: как читательский, так и авторский вектор у меня во многом
сформировался под влиянием деды – пусть при его жизни наше об-
щение так и не переросло в научный или творческий диалог.
Конечно, самым большим ореолом романтики и таинственности
была окутана работа моей бабушки, Инги Владимировны. На пенсию
она ушла еще до моего появления на свет. Поэтому жизнь бабуси «по
ту сторону экрана» оставалась для меня загадкой – не очень просто
рассказать ребенку что-то о телевизионной работе, не имея под рукой
собственных «пленок», а формат телевидения коренным образом по-
менялся за какие-то десять лет. Тайна приоткрывалась лишь когда в
гости приходили коллеги бабушки. Помню, например, что Семен
Львович Токман, ведущий оператор Пермского ТВ, всегда приходил с
настоящим сокровищем – видеокамерой, – и я сразу начинал вообра-
жать себя тележурналистом, ведущим репортаж... А настоящее зна-
комство, пусть не с теле-, но журналистикой состоялось позже и тоже
не без участия моей бабушки.
В школьные годы я случайно попал на собрание «юнкоров» –
юных корреспондентов школьной газеты под руководством Влади-
мира Федоровича Гладышева. Мне сразу понравилась атмосфера
«летучки», а также то, что меня с товарищем незамедлительно от-
правили освещать кадетский фестиваль, дали аккредитацию, корми-
ли по системе «шведский стол» и катали на служебном транспорте –
как будто мы настоящие журналисты уровня «Российской газеты».
Однако когда настало время садиться за перо – оптимизм мой иссяк.
- 320-
Написать удалось только совершенно нелепый лид-абзац, начинаю-
щийся с банальных слов «в рамках фестиваля». Тут я понял, что мой
набросок, пусть и несет какую-то смысловую нагрузку, без руки про-
фессионала обойтись не сможет. Так и писал я текст за текстом в
школьную газету, и все они, надо признаться, подвергались весьма
глубокому, но необходимому редактированию моей бабушкой – од-
ним из первых главных редакторов Пермского Телевидения. Сегодня
возможность получить совет, что-то уточнить есть не всегда, поэтому
приходится полагаться на свои силы. Но я знаю, что в каждой моей
удачной публикации есть и заслуга моей бабушки.
Долгое время для меня была загадкой и работа моей мамы – о
каком таком «мотиве зеркальности» пишет она целыми днями? Все
прояснилось, когда мама меня, десятилетнего, взяла на свою москов-
скую защиту, а позже показала Санкт-Петербург. Как иначе смог бы я
понять, что такое Петербургский текст, которому посвящены многие ее
труды? Думаю, ни один коренной житель северной столицы не смог
бы провести столь глубокую литературную экскурсию! И конечно, ма-
ма познакомила меня с театром, в том числе театром столичным,
страсть к которому ей передал дедушка; по воспоминаниям друзей,
однажды за три месяца московской стажировки он посетил едва ли не
40 спектаклей!
Мама всегда советовала мне изучать языки, потому что это зна-
ние, которое со временем не утрачивает актуальность. Поступил я на
переводчика испанского языка. Вопросом «кем хочу стать» я никогда
не задавался. Наверное, не могу в полной мере ответить на него и
сейчас. Одно могу сказать точно – я филолог в четвертом поколении, и
это не только повод для гордости, но и огромная ответственность, ко-
торую я постараюсь достойно нести.
- 321-
И. Овчинникова,
выпускница 1982 г.
НЕФИЛОЛОГ ИЗ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМЬИ
Герман Константинович Овчинников
Алексей Леонов выходил в открытый космос, а потом изобразил
неувиденные миры. Он папе подарил свой альбом и подписал разма-
шисто. Теперь Леонов – мой любимый художник. А с папой мы гуляем
в пригородном лесу. Вроде как грибы собираем.
– А вот еще на стихи Лермонтова, – говорит папа, прежде чем за-
петь про Хас-Булата.
Я очень люблю слушать про то, как бедную хижину Хас-Булата
осыпают золотом, потому что он привел в нее молодую жену. Мне лет
пять. Папа самый сильный, мама самая красивая, книжки в светлом
застекленном шкафу самые интересные, баба Тася шьет мне лучшие
платья, а бабушка Саша позволяет выдавливать вишневые косточки и
растирать черную смородину, когда готовит повидло. Еще мне нравится
запах свежих номеров многотиражки «Машиностроитель» – влажная
бумага и краска с металлическим привкусом (наверное, из-за названия).
Когда вырасту, тоже стану редактором заводской газеты, как папа. Буду
писать рассказы про грека Сократа, покорение космоса и нашего кота
Барсика. Потому что папа про все про это пишет, он мне отпечатанные
на машинке листочки давал почитать. Только не сразу пойду в главные
редакторы. Сначала выучусь на капитана дальнего плаванья, доберусь
до мыса Горн и земли Санникова. В космос не хочу, нет. Во-первых,
женщина уже летала, а Леонов выходил в открытый космос; во-вторых,
я море люблю больше, чем небо – я море реже вижу.
Отец наверняка знал, что романс о Хас-Булате не Лермонтов на-
писал, это меня подводит память. Герман Овчинников поступил на
историко-филологический факультет Пермского университета в 1954,
потому что в Перми жили братья мамы Таси, а Герман собрался в пи-
сатели. Рукопись первого романа была переписана набело. На по-
следних страницах отважный пират направлял фрегат в открытое мо-
ре, навстречу бурям и закату; он даже не морщился от боли, хотя сад-
нила рана от алебарды, а брызги волн остужали разгоряченный мозг.
Да-да, рана была глубока и приоткрывала пиратские мозги. Не в смыс-
ле открытости мышления, а как последствие жестокого сражения с
береговой охраной королевства. Роман не опубликован, но сумереч-
ный фрегат надолго пленил мое воображение. Мне отец свои неопуб-
ликованные романы пересказывал перед сном.
- 322-
Папа рос на берегу Камы в доме своего раскулаченного деда. Дед
вечерами ходил к красивому двухэтажному деревянному дому над
обрывом, подолгу сидел на лавке, помогал женщинам колоть дрова.
Иногда его звали почаевничать. Семейный дом, отобранный при рас-
кулачивании, не отпускал; чужие люди не заслонили родных стен. Дед
приводил с собой внука Германа. Внук рос на воле. Ночная рыбалка,
ранний подъем на сенокос, пара башмаков и парадные черные штаны
для школы, мятные пряники, привезенные из города мамой Тасей, ее
гнев за школьные отметки, от которого спасался на чердаке, книжки
про разбойников (про революционеров в семье раскулаченных не лю-
били читать) и клеенчатые тетрадки, заполненные пиратскими исто-
риями. Оставалось только подрасти, уехать в город и выучиться на пи-
сателя. В университет отца приняли по разнарядке как сына павшего
смертью храбрых. Ему нравилась литература, особенно лекции Сарры
Яковлевны Фрадкиной. А из лингвистов выделял Ксению Александ-
ровну Федорову. Девчонок-однокурсниц он побаивался («такие город-
ские умницы») – еще бы! Нина Евгеньевна Васильева, Людмила Алек-
сандровна Грузберг, Тамара Ивановна Ерофеева, Аделаида Федоровна
Любимова, Рита Соломоновна Спивак, Нина Гашева – вот с кем он
учился. Дружил с парнями – Андреем Кетегатом и Павлом Владыки-
ным. Папа запомнил поездку на целину, привычную работу в колхозе,
походы по Уральским горам. За университетские годы он поостыл к
пиратам и полюбил журналистику. Решил, что будет главным редакто-
ром. Работал в Сиве, потом перебрался в Пермь. Вернее, в Пермь пе-
ребралась вся семья – папа-мама-я.
Отцу всегда хотелось изменить и объяснить мир; не оставляя
любви к слову, он дрейфовал в сторону философии. И сейчас, в свои 80
лет, доктор философских наук Герман Константинович Овчинников
пишет главную философскую книгу своей жизни об антропософном
принципе и возделывает свой сад. Мне достаются самые сладкие све-
жие подмосковные яблоки – папа привозит их прямо в Домодедово,
когда встречает тель-авивский рейс.
Людмила Александровна Дубровская
Мама, Люся Дубровская, приехала к родственникам на Урал с Ук-
раины. Закончив с медалью сельскую школу, она решила стать мате-
матиком, как ее погибший подо Ржевом отец. На математический фа-
культет в Свердловске ее не приняли – у нее не было паспорта (если
во время войны оставались на оккупированных врагом территориях,
получить паспорт было совсем не просто). Год поработала в библиоте-
ке, поселившись у родственников на станции Кузино, заработала пас-
- 323-
порт и поступила на историко-литературный факультет Пермского
университета в 1956. Ну ее, математику! Литературу в семье Дубров-
ских знали хорошо, читали на русском и украинском, а дед Евмен Ар-
хипович даже переводил Тараса Шевченко, ругая опубликованные
«прилизанные» переводы. Люся полюбила студенческую жизнь и
смешливых подружек-однокурсниц (Таня Лукина, Мила Холмогорова,
Рита Плешакова, Эля Копысова – очень дружный и певучий у них сло-
жился коллектив), подружилась с Лилей Шумовой, Юлей Нецветаевой
и Леней Малинским. Вот только очень скучала по дому.
Ледя-Люда-Люся оказалась на украинском хуторе в четыре годи-
ка, когда ее отец, коммунист Александр Дубровский, наконец-то по-
мирился с Евменом Архиповичем, так и не принявшим советские по-
рядки. Коммунист Дубровский перевез младших дочек к дедушке с
бабушкой в начале лета 1941 года. Семья Евмена чудом выжила в три-
дцатые. В войну дед Евмен с бабой Мотрей остались с двумя малень-
кими девочками, перебрались из разрушенного при бомбежке дома в
землянку («так даже проще – немцы не приходили на постой», – рас-
сказывал мне прадед Евмен). Держали связь с партизанским отрядом
и ждали «своих». О гибели красного командира Дубровского подо
Ржевом узнали после войны – похоронку получила бабушка, жившая
на Урале; на Украину она смогла выбраться только в 1945. Приехала,
увидела дочек на полу землянки и осталась на хуторе. Сельскую жизнь
бабушка знала не понаслышке.
Молодые Дубровские жили в Омске; Александр директорствовал
и преподавал математику в техникуме, а жена его Александра работа-
ла зоотехником в одном из пригородных хозяйств. Все бы ничего, но
вопреки постановлению партии и правительства, сдохла пожилая сви-
номатка; Шурочку обвиняют в разгильдяйстве и попустительстве, а ее
начальника – во вредительстве. На дворе 39 год. Молодую женщину
вызывают куда следует и предлагают облегчить свою участь чистосер-
дечным признанием, вспомнить о вредительских действиях начальни-
ка-еврея и мирно жить-поживать с мужем и тремя дочками. Младшей
Эммочке всего-ничего, и годика еще нет, не так ли? А что имя такое
странное выбрали? Муж – директор техникума, видный человек, так
что можешь пока идти домой, детей покормишь, подумаешь хоро-
шенько. Утром следующего дня Шурочка с детьми тряслась в поезде,
направляясь к станции Кузино. В Кузино их приютила семья брата;
Александр приехал сразу после окончания учебного года, уволившись
из техникума и записавшись в Красную Армию – там тоже нужны были
преподаватели математики на курсах подготовки молодого бойца.
- 324-
Обошлось. Уцелели, помирились со «стойким антисоветчиком» Евме-
ном Архиповичем и были готовы перебраться на Украину.
Шурочка больше никогда не работала зоотехником; закончила
педагогический и пошла учить детишек зоологии и ботанике. Так что
на украинском хуторе Шурочка со знанием дела занялась хозяйством,
а через несколько лет устроилась в школу в соседнем большом селе.
Дочек своих привела в ту же школу, а в 60-е я сама тихонько сидела на
бабушкиных уроках, разглядывая гербарии и скелетики мышек-
полевок в застекленных шкафах.
Конечно, мама скучала по теплым ночам и ярким звездам, мяг-
кой украинской речи и веселой младшей сестренке.
Университетские люди
Пермь – город большой, холодный и чужой. Он стал своим и род-
ным для Германа и Людмилы благодаря университету. Они застали
вольномыслие начала шестидесятых. Поступали на истфил, а закончи-
ли филфак. Вместе уехали в Сиву редакторствовать, вернулись, когда
папин однокурсник позвал его в заводскую многотиражку. Мама уст-
роилась в школу (это у Дубровских семейное). Я помню гулкие кори-
доры 124 школы на Крохалевке и главного хулигана маминого класса,
от которого с визгом удирала по этим коридорам.
Маму еще в студенчестве примечали как хорошего лингвиста,
хвалили за четкость формулировок и стройность изложения мысли
(еще бы! В математики собиралась!). Леонид Владимирович Сахар-
ный, появившийся на филфаке благодаря Марии Александровне Ген-
кель, увлекся перспективными направлениями – психолингвистикой и
математической лингвистикой. Как только появилась возможность, он
пригласил маму в открывшуюся лингвистическую лабораторию. Мама
заметно повеселела, на встречах с однокурсниками они обсуждали
глагольную валентность и дефиниции диалектных слов. Даже тосты
поднимали с лингвистическим подтекстом («Уж если зависимость, так
только синтаксическая!»). На университетских елках я познакомилась с
Ириной Кетегат, Костей Шумовым и Наташей Сахарной; коньки мне
достались от Саши Полякова, а кое-что из платьев – от дочек Нонны
Петровны Потаповой; книжки брала читать у Грузбергов, а историю
России пересказывал нам с Леной Малинской ее папа. Отец к тому
времени уже работал в политехе на кафедре философии, читал лекции
о своем любимом Сократе и философских парадоксах покорения кос-
моса. Так незаметно университет заполнил добрую половину моей
детской жизни. Злая половина связана с морковной запеканкой и ка-
пустным супом в детском саду, битком набитом автобусе с Крохалевки
- 325-
в 77 школу на улице Героев Хасана, сломанной ключицей и необходи-
мостью носить теплые штаны с начесом.
А потом мама и папа уехали в аспирантуру МГУ (лингвистическую
и философскую соответственно), оставив меня на попечении бабы Та-
си. Я любила сидеть дома – книжек, пластинок, магнитофонных запи-
сей вполне хватало на долгие часы. Отец записал для меня на магни-
тофон концерты ансамбля «Мадригал» (я всегда раз пять подряд слу-
шала про зеленые рукава), голоса Павла Лисициана и Робертино Ло-
ретти. Поэзия серебряного века для меня до сих пор звучит маминым
голосом, а рассказы Хемингуэя – папиным. Книжки в шкафах всегда
стояли в два ряда, а после отъезда родителей обнаружился третий –
прижатыми к стенке ютились переплетенные распечатки стихов из
«Доктора Живаго», «Камень» Мандельштама, от руки переписанные
«Капитаны» Гумилева и вырезанные из журнала «Москва» страницы
«Мастера и Маргариты». И много чего еще, не столь поразившего ме-
ня десятилетнюю. Баба Шура высылала с Украины ароматные яблоки
и сушеную зелень в деревянных ящиках с просверленными по бокам
дырками; мы с бабой Тасей вдвоем тащили ящик от почты до нашего
дома на Бородинской. Баба Тася пекла рыбные пироги, покупала то-
матный сок и водила в церковь. Пироги были отменные – лучше ба-
бушкиных так и не пришлось попробовать; сок быстро надоел, а цер-
ковь активно не нравилась. У капитанов дальнего плаванья солью мо-
ря пропитана грудь, вовсе не запахом воска и пластмассовых цветов.
Московские дни
А потом мама с папой забрали меня в Москву. Я училась в интер-
нате для детей, чьи родители работают за границей; разумеется, в
классах учились и дети из обычных московских семей. Английским с
нами занимался журналист-международник, десять лет проживший в
США; на уроках труда мы сколачивали ящики для стеклотары, получая
настоящую зарплату в классную кассу (наш класс потратил заработан-
ное на магнитофон, чтоб устраивать дискотеки и записывать спектакли
драмкружка); на домоводстве девчонок научили готовить (в день уро-
ка мы не ходили в школьную столовую – обедали тем, что сами навари-
ли); в летние каникулы ездили на археологические раскопки в Херсонес
и Ольвию (школьным автобусом от Москвы до Севастополя и Николае-
ва). Археологией я заболела всерьез и надолго – до девятого класса
школы, оставив в уральском детстве мечты о капитанском мостике.
Родители забирали меня домой на субботу-воскресенье. Иногда
мы с мамой ездили за город в какую-нибудь из знаменитых москов-
ских усадеб, а так все больше сидели дома с книжками и словарями.
- 326-
Мама раскладывала карточки с примерами и какими-то синтаксиче-
скими схемами на полу съемной комнаты, ходила на лекции Гинзбур-
га, Ломтева, Золотовой и Белошапковой, вела практические занятия по
синтаксису и русскому как иностранному, засыпала в метро. И посто-
янно стучала по клавишам пишущей машинки («завтра сдаю статью!»).
Обсуждать адлативно-аллативные глаголы к нам заходили ее элегант-
ные соавторши. Книги теснились в шкафу, лежали стопками на полу
возле письменного стола, прятались под диванными подушками. Мне
нравилось читать об отличии русского синтаксиса от чешского, словац-
кого и польского в книжках с автографами авторов – читала я, конечно
же, только примеры, пролистывая грамматические премудрости. Ув-
лекательно, не спорю. Но не интересней истории древнегреческих
колоний Причерноморья: галеры из Милета в порту, амфитеатр на
холме, коринфские колонны Херсонесского храма, а две тысячи лет
спустя – позеленевшие монетки с Борисфеном да разбитые амфоры в
пыльном раскопе. И теряешься во времени, заменяя русские слова
«случай» и «судьба» на «тюхе» и «мойра».
Все та же Пермь
Мы с мамой вернулись в Пермь. Заработанная за победу в соцсо-
ревновании по сколачиванию ящиков для стеклотары роскошная кук-
ла в половину моего роста переехала вместе с нами (забегая вперед,
признаюсь, что кукла осталась в Перми навсегда в интернате для сла-
бовидящих детей). В Москве Людмила Дубровская подписала дисси-
дентское письмо и была замечена в нехорошей квартире. Сразу закон-
чилось преподавание в Москве и за рубежом – ищи работу сама, авось
возьмут в Элисту или Магнитогорск. Помогли университетские одно-
кашники: благодаря Александру Абрамовичу Грузбергу мама получила
ассистентскую должность на начфаке Пермского педагогического ин-
ститута. Снова коммуналка на Бородинской, 13-й автобус от Крохалев-
ки до 77 школы, теплые штаны с начесом и капустный суп в столовке.
Однако добрая половина всегда перевешивает: университетский кру-
жок археологии, курсы юного филолога (исключительно ради лекций
папиных однокурсниц!), школьная драматическая студия, конкурс
бальных танцев и бабы Тасины рыбные пироги. От тоски по ольвий-
ским раскопам спасали книжки по лингвистике – вот уж чего у нас все-
гда было в избытке. Хотя к тому времени сам Сахарный перебрался в
Ленинград, остались его статьи и восторженные отзывы студентов.
Наша классная Ольга Владимировна Ухлова, узнав, что моя мама
работала с Сахарным, предложила провести классный час по лингвис-
тике. Пришлось маме серьезно готовиться, а я была на посылках.
- 327-
Вспомнила свои детские куплеты про Бодуэна де Куртенэ и структур-
ную лингвистику, воспевающие книжную полку над родительским ди-
ваном. Привезенные из Ольвии черепушки амфор переселились на
верхнюю полку шкафа, освободив место для «Слова о словах», увлека-
тельных книжек Алексея Леонтьева и серьезных статей Сахарного,
Мурзина, Поляковой, Левицкого, Кожиной. Да, с ходу всего не оси-
лишь, придется ходить на лекции! А в 1976 году вышел перевод «Пси-
холингвистики» Дэна Слобина и Джудит Грин – мало что поняла при
чтении и решила, что стоит разобраться (до сих пор пытаюсь). Но вот
таскать «Психолингвистику» в школу и листать на переменках на виду
у всех мне нравилось – что поделаешь, занятия в драматической сту-
дии заражают театральностью. Любить археологию становилось все
сложнее, лингвистика затягивала, да и люди на филфаке «Уральского
Кембриджа» все родные. Участь моя была предрешена.
Моим терпеливым собеседником и придирчивым критиком, не-
утомимым редактором и умным соавтором всегда оставалась мама.
Пока мама оставалась, до сентября 2005.
Университетские дни
В университете я для всех была дочкой Люси Дубровской. Я слу-
шала лекции всех папиных однокурсниц. Леонид Николаевич Мурзин
укоризненно приговаривал на семинаре по русской фонетике: «Как это
Вас угораздило ошибиться в транскрипции? Ваша мама читает фонети-
ку в пединституте». Соломон Юрьевич Адливанкин, напротив, хвалил
за контрольную по старославянскому: «Лучшая работа на курсе! И не
удивительно, Вы же из филологической семьи». «Вы не филолог, –
решила Римма Васильевна Комина после моего доклада на семинаре
по русской поэзии. – Филолог будет нести несусветную чушь, но нико-
гда не сравнит стихотворения Фета с фотографией, а Блока – с кино -
хроникой. Вас губит логика, математический склад ума». Как же я рас-
страивалась! Никакие пятерки на экзаменах, никакие статьи в пре-
стижных журналах не дают забыть, что я для Риммы Васильевны не-
достаточно филолог. И как она догадалась про деда-математика? А
позже, когда я начала преподавать в университете, она обо мне гово-
рила «прекрасный лингвист», так и не назвав филологом. Когда мы
писали по требованию высокого начальства проект развития факульте-
та, Римма Васильевна объяснила очевидную, но для меня оставав-
шуюся непостижимой вещь: в социуме не решают задачи исходя из
заданных условий, а формулируют задачу таким образом, чтоб она
была понятна и ее решение выглядело необходимым. «Что-то не схо-
дится – самая малость! Кто мне в задаче исправит ошибку? Солоно-
солоно сердцу досталась сладкая-сладкая Ваша улыбка.»
- 328-
Наш курс не очень жаловали – до нас были звезды, а мы отлича-
лись здоровым неприятием официоза и скепсисом. Зато нас учили те
звезды, что были до нас – Абашев, Караваева, Кондаков, Мишланов.
Зато мы застали лекции замечательных советских филологов: нам чи-
тали Римма Васильевна Комина, Наталия Самойловна Лейтес, Марга-
рита Николаевна Кожина, Сарра Яковлевна Фрадкина, Франциска Ле-
онтьевна Скитова, Ольга Ивановна Богословская, Леонид Николаевич
Мурзин, Соломон Юрьевич Адливанкин. Мы учились у тех, кто прошел
войну и все, что случилось после нее. Университет привлекал студен-
ческой вольностью, настоящей дружбой, умными лекциями и интел-
лигентным обаянием преподавателей.
В университете нам было хорошо, в нем хотелось задержаться по-
дольше. И я задержалась – закончила аспирантуру у Леонида Владими-
ровича Сахарного в Ленинградском университете, вернулась в Перм-
ский и начала преподавать. Мне, как и папе, хотелось изменить мир. Как
в детских мечтах о дальних морях, где спасали китов, побеждали пира-
тов и открывали новые острова. С китами, пиратами и островами не по-
лучилось. А вот продолжить давнее начинание Леонида Владимировича
смогла – теперь в Пермском университете есть магистратура по при-
кладной лингвистике, есть специализация по медиакоммуникациям.
Когда оканчиваешь университет
Однокурсники остались друзьями на всю жизнь: праздники
встречали семьями, дети наши росли вместе, статьи до сих пор пишем
в соавторстве. Ни странствия, ни размолвки, ни политические разно-
гласия и непримиримые различия в эстетических предпочтениях не
развели нас по разные стороны. Редкие встречи всегда заканчиваются
признанием «как нам повезло учиться на пермском филфаке!». Мы
остаемся университетскими филологами (и я, и я!), для которых судьба
русского слова имеет значение. Счастье – это когда знаешь, что для
тебя имеет значение.
Правда, у счастья нет точного рецепта на любой вкус. Если хочешь
быть счастливым – будь, а не хочешь – перебирай рецепты. Мне выпа-
ло дрейфовать от странствий по морям к путешествиям во времени,
найти свою пристань в университете и снова отчалить, чтоб увидеть
дальние берега. Жизнь коротка, а в мире столько интересного! Можно
менять города и страны, осваивать новое ремесло и загружать новое
знание в любопытный мозг, но вкус родного языка возвращает в дет-
ство и родной город, где университет виден из окна поезда, где папа
самый сильный, мама самая красивая, а у бабушки на столе самые
вкусные пироги.
- 329-
М. Воловинская,
выпускница 1984 г.
ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ
В ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМЬЕ
Мы не филологическая династия. Бабушка – учитель географии,
дед – бухгалтер, сын – эколог. Какая же это династия? Но Нина Евгень-
евна была непреклонна: «Вы семья. Тема книги – филологические дина-
стии и семьи. Без вас никак». Да, с этим не поспоришь, мы семья, хотя,
думается, что мама мечтала именно о династии. Помню, как Света Бур-
дина однажды спросила: «Римма Васильевна, вы хотели бы, чтобы Ке-
ша стал филологом?» Задумываться о профессиональном будущем шес-
тимесячного в ту пору Кеши было явно преждевременно, но мама уве-
ренно и серьезно ответила: «Да, конечно!» Судьба не отпустила ей вре-
мени на то, чтобы воспитать из внука филолога, зато в отношении меня
сомнений, по всей видимости, у нее не было изначально.
Детство
«Мариночка, тебе мама книжки читает?» – этот вопрос одной из
маминых приятельниц, пожелавшей вступить в светский диалог с
трехлетним ребенком, явно мыслился как риторический – ТАКАЯ мама
не может не читать. «Нет, – честно призналась я и, помолчав, добави-
ла, – мне баба читает». Видимо, ответ так глубоко смутил маму, что
она вспоминала об этом всю последующую жизнь. Она ни в коем слу-
чае не упрекала меня в лукавстве и неблагодарности, но удивлялась
тому, как по-разному мы с ней увидели ситуацию – она-то была увере-
на, что читает, но мне явно хотелось большего. Судя по тому, с каким
артистизмом она наизусть декламировала Кеше, который был еще
совсем младенцем (ее не стало, когда внуку исполнилось семь меся-
цев), сказки Маршака и Чуковского, она действительно читала их мне в
свое время. До сих пор звучит в памяти ее неповторимый голос: «А
недавно две газели позвонииили и запееели...» . Но это уже воспоми-
нания из 90-х, из собственного раннего детства я запомнила в ее ис-
полнении «Винни Пуха» и «Денискины рассказы» Драгунского.
Малейшие проблески «филологизма» (или того, что принималось
за оный) с моей стороны мама всячески приветствовала. Помню, как в
четырехлетнем возрасте я, пытаясь заставить ее оторваться от бумаг,
разыгрывала «отчетный концерт», в котором участвовали многочис-
ленные куклы и плюшевые зверюшки. Не знаю, что уж я там бубнила
со свойственным всем меленьким детям занудством, но «произведе-
- 330-
ние», якобы написанное поролоновым медведем по имени Миша-
братиша, вызвало у мамы восторг:
Пушинки летят, пушинки летят.
Это мы тут сидим. Говорим мы друг другу...
И больше в ответ ничего...
Эту «медвежью импровизацию» с пометкой «сочинил Братиша, 4 го-
да» мама тут же записала и хранила впоследствии вместе с важными
документами. Она даже обнаружила в этом случайно родившемся из
потока слов хокку (ну, почти хокку) некие глубинные подтексты, квали-
фицировав его как любовную лирику, но это уже вопрос интерпретации.
Мы с Мишей-братишей обогатили маму и в методическом плане.
Однажды в ответ на упрек, что в комнате все разбросано, я бодро отра-
портовала: «Это Миша, он оживел, а потом снова окуклился» (в тот мо-
мент я сама в это свято верила). Когда я уже в состоянии была оценить
эту мысль, мама объясняла, что модель «оживел / окуклился» реализо-
вана в «Истории одного города», особенно в главе про Бородавкина, и
что теперь она цитирует меня на лекциях про Салтыкова-Щедрина. Нина
Евгеньевна Васильева писала в своих воспоминаниях: «Римма Василь-
евна, наверное, не задаваясь такой целью специально, давала мощный
урок на всю жизнь, который для себя я называю “умением жить в сцеп-
лениях”, когда жизнь проживается не по принципу линейной последо-
вательности выхваченных из потока событий, фактов, эпизодов, ситуа-
ций, а по закону их внутренней взаимосвязанности, сцепляемости».
Думается, описанная ситуация – пример такого «сцепления».
А что касается «уроков», они были ненавязчивы, но некоторые из
них действительно остались на всю жизнь. Отправляя меня в первый раз
в детский сад, мама в качестве моральной подготовки выстроила типо-
логию будущих одногруппников. «Все дети разные, – сказала она, – бу-
дут драчуны, будут плаксы...». К сожалению, не помню, какие еще типы
детей она выделила, но сама мысль о том, что все дети (люди) разные,
глубоко запала мне в душу и очень помогла в последующей жизни. Как-
то раз коллега, имеющий большой жизненный опыт, рассказал о важ-
ном психологическом открытии. «Один мой друг, – сообщил он, – вы-
сказал очень мудрую мысль: все люди разные». Подняв вверх указа-
тельный палец, чтобы подчеркнуть значимость заявленного положения,
он еще раз повторил, делая ударение на каждом слове: «Все. Люди.
Разные». Я с маминой помощью открыла для себя эту истину в четыре
года, хотя мой сын утверждает, что есть немало взрослых людей, кото-
рые в течение всей жизни так и не смогли это понять и принять.
Воплощение в жизнь маминого прогноза насчет драчунов не за-
ставило себя долго ждать, и так как сама я относилась к разряду
- 331-
«плакс», я получила по полной программе. Но здесь меня опять же
спасла принадлежность к филологической семье (возвращаюсь к заяв-
ленной теме, от которой несколько отступила). Самым жестоким моим
обидчиком был некий Сережа Глинкин, внешность его сейчас полно-
стью изгладилась из моей памяти, а вот имя запомнилось. Мама ре-
шила провести с ним серьезный разговор «на равных», чтобы разо-
браться в причине его столь огорчительного для нас поведения и об-
судить мои «плюсы» и «минусы». По сути «плюс» у меня был только
один – я умела читать, но известие об этом так впечатлило знавшего
одну только букву «а» Глинкина, что с ним произошло волшебное
преображение: из преследователя и гонителя он превратился в по-
клонника и защитника. На следующее утро после беседы с мамой он
объявил, что будет меня защищать, и был верен этому обещанию на
протяжении всех детсадовских лет. Тогда я поняла, что такое сила сло-
ва, точно найденного и вовремя сказанного.
Мне трудно сказать, насколько филологичны были отмечаемые в
нашей семье праздники, но не могу не вспомнить про новогодние
традиции – это тоже часть нашего общего семейного мира. Являющая-
ся главным атрибутом праздника елка, тщательно выбранная и вдум-
чиво наряженная, имела к филологии косвенное отношение – муж
маминой аспирантки Татьяны Николаевны Маляровой работал в лес-
ничестве, с его помощью папе удавалось приобрести самую свежую,
стройную и пушистую елку, какую только можно себе представить, ее
макушка упиралась в потолок, а потолки в доме на Комсомольском
проспекте были высокими. Елка была для меня больше, чем просто
новогоднее украшение интерьера (может быть, не случайно мы всей
семьей так любили песню Окуджавы «Прощание с новогодней ел-
кой»), это был целый волшебный мир, сложно организованный и пре-
красный. Для папы все, связанное с елкой, было неким священнодей-
ствием, ритуалом, которому он отдавался самозабвенно. Летом он
собирал в лесу шишки, впоследствии они с моей помощью, но под его
чутким руководством раскрашивались золотистой и серебристой крас-
кой, превращаясь таким образом в елочные игрушки. Серьезно и об-
стоятельно продумывались все мелочи, вплоть до оттенка цвета трех-
литровой банки, в которую елка должна быть поставлена.
Мама относилась к елке без особого энтузиазма, но с понимани-
ем того, насколько для нас с папой это значимо, для нее важнее было
своевременно написать новогодние поздравления, и здесь тоже суще-
ствовал свой ритуал. Позднее, после защиты докторской диссертации,
мама четко сформулировала принцип очередности написания по-
здравлений: в первый день – три сестры, три подруги, три оппонента,
- 332-
затем все остальные корреспонденты. Две сестры были сводными (по
отцу), третья и вовсе троюродная, но маме нравилась сама отточен-
ность формулировки.
Отдельного внимания заслуживает мамина коллекция новогод-
них открыток, активно пополнявшаяся именно в период праздников.
Рассказ о ней можно рассматривать как попытку ответа сразу на не-
сколько вопросов предложенной Ниной Евгеньевной анкеты (Как осу-
ществлялся филологизм семьи? Досуг и хобби. Праздники и ритуалы.)
Мама не была филокартистом в строгом смысле этого слова, на-
сколько я понимаю, настоящие коллекционеры собирают открытки
без надписей, потом их можно продать, обменять, выставить на все-
общее обозрение. Думается, что оборотная сторона открытки с точ-
ными, продуманными, оригинальными пожеланиями, характеризую-
щими не только личность писавшего, но и общую атмосферу времени,
являются сейчас не менее ценными, чем сама картинка.
Но и дизайну открыток мама придавала большое значение – она
говорила, что таким образом продолжает изучать стилевые течения.
Все открытки делились на несколько тематических групп: украшенная
елка, новогодние зверюшки, Дед Мороз и Снегурочка, зимние пейза-
жи, часы и т. д. Эволюция стиля праздничных изображений и впрямь
налицо: облик Деда Мороза-шестидесятника неуловимо и вместе с
тем ощутимо отличается от внешнего вида его коллеги с открыток
1970-х, а за традиционным оптимизмом новогодних зайчиков, соз-
данных художниками 1950-х и, скажем, 1990-х годов, скрывается аб-
солютно разное содержание.
Первого или второго января вечером мы с мамой раскладывали
открытки на диване, перебирали их, вспоминали истории, связанные с
приславшими их людьми, любовались, смеялись, елка уютно мерцала
разноцветными огоньками и наполняла комнату неповторимым ново-
годним ароматом. Мир казался таким прочным и таким дружелюб-
ным. Я была счастлива.
Важной составляющей нашей семейной филологической жизни
были гости. Когда мы жили на Комсомольском проспекте, своими
людьми в доме были Сарра Яковлевна Фрадкина и ее муж Лев Ефимо-
вич Кертман, Зинаида Васильевна Станкеева, Нина Евгеньевна Василье-
ва, часто захаживал и мамин любимый ученик Игорь Кондаков. Обстоя-
тельства его профессиональной жизни складывались драматично, что
маму не могло не волновать. Своим детским умом я не в состоянии бы-
ла понять сути сложившейся ситуации, но уже тогда знала, что по отно-
шению к Игорю допустили несправедливость, его сослали в Кишерть,
которая мне представлялась чем-то вроде Колымы. Об истории своей
-333-
борьбы с системой Игорь сам подробно рассказал в одной из книг, по-
священных выпускникам университета, так что я не буду повторяться.
Приходили к нам гости и другого рода – редкие, приехавшие из
других городов. Особенно запомнился мне приезд Абрама Александро-
вича Белкина, маминого любимого учителя, изгнанного из МГУ в связи с
«делом врачей» и преподававшего после этого в школе-студии МХАТ.
Мама пригласила Белкина в Пермь прочитать лекции студентам,
это было где-то в 1969 или 1970 году, в ту пору я только начинала учить-
ся в школе. Краткий диалог, состоявшийся между нами, относится к чис-
лу тех, которые помнятся всю жизнь. «Ты знаешь, сколько будет дважды
два?» – обратился ко мне Абрам Александрович. «Четыре», – дала я
такой очевидный, казалось бы, в этой ситуации ответ. «А вот и нет. Не
четыре, а пять», – лукаво поправил наш гость и переключился на какую-
то другую тему, оставив меня в полном замешательстве. Но это был
только первый акт спектакля, задуманного, как я сейчас понимаю,
именно ради продолжения, последовавшего на следующий день.
Энергично поздоровавшись, Белкин повторил заданный накануне
вопрос. «Пять», – с готовностью ответствовала я, демонстрируя, что
запомнила вчерашний урок. «Нет, сегодня уже шесть. А завтра снова
может быть четыре», – загадочно заключил Абрам Александрович.
Насколько он был прав, я поняла только годы спустя.
Так меня отучали от догматического восприятия жизни. Мир ока-
зывался более сложным, чем предполагалось вначале, детство закан-
чивалось. Начиналось отрочество.
Отрочество
Л.Н
.Толстой был прав, когда писал про «пустыню отрочества».
Мир перестал быть замкнутым, уютным и предсказуемым. Впечатления
от школы оказались противоречивыми, не могу сказать, что в моем
эмоциональном спектре в то время однозначно преобладали светлые
тона. Мама в мои школьные дела особо не погружалась, у нее хватало
своих проблем. Об истории, связанной с Солженицыным, подробно
рассказано в книге «Римма», мне нечего к этому добавить. Скажу еще,
что на годы моего отрочества выпала напряженная и далеко не гладко
шедшая работа мамы над докторской. Она постоянно приговаривала:
«Никогда не пиши докторских диссертаций». Этот ее завет я выполнила.
Кроме того, в 1977 году ей пришлось занять пост декана факуль-
тета. Как дочь, с полной ответственностью могу сказать, что мама не
хотела быть деканом и очень тяготилась своим положением. Ни мы с
папой, ни она сама никогда не воспринимали начальственный статус
как повод для гордости. Мама часто говорила, что, став деканом, де-
градировала в профессиональном отношении, а самое главное – стала
- 334-
хуже думать о людях. Кроме того, она была в постоянном страхе, что
что-то случится со студентами в колхозе, в ежегодном напряжении из-
за того, что нужно отправлять выпускников в деревню по распределе-
нию, а они (что вполне объяснимо) не хотят туда ехать. Поэтому во-
проса о том, переизбираться ли на второй срок, не стояло вообще –
при первой же возможности мама покинула деканат. Забота о факуль-
тете перешла в надежные руки Тамары Ивановны Ерофеевой, о кото-
рой в нашей семье всегда говорилось с большой теплотой и искрен-
ним уважением, и мама облегченно вздохнула.
Я ни в коем случае не хочу сказать, что подобные опасности под-
стерегают каждого, кто занимает пост декана. Многие мамины предше-
ственники и последователи несли и продолжают нести деканскую ношу
очень достойно, но для нее обязанности руководителя факультета были
тягостны, она постоянно вспоминала трагедию А. К . Толстого «Царь Фе-
дор Иоаннович», в финале которой герой говорит: «Я хотел / Всех согла-
сить, все сгладить, – боже, боже / За что меня поставил ты царем!»
Думаю, что занятость факультетскими делами была не единст-
венной причиной маминого невмешательства в мои школьные дела,
она искренне считала, что я могу делать все самостоятельно, а волно-
ваться из-за моих оценок было ниже ее достоинства. Так или иначе,
моим школьным учителям не довелось читать сочинений и рефератов,
написанных рукой кандидата (в ту пору) филологических наук. Впро-
чем, одно исключение (продиктованное самим характером задания)
все же было.
В пятом или шестом классе нам неожиданно задали сочинение на
тему «Самый счастливый день в жизни моих родителей». У папы моя
просьба рассказать о счастливом дне вызвала крайнее неудовольст-
вие, он пробурчал что-то вроде того, что задание на редкость дурац-
кое и все прожитые им дни были одинаково несчастны.
К вернувшейся через некоторое время с работы маме я подходи-
ла уже с долей опаски, ожидая аналогичной реакции. Меня до сих пор
поражает, насколько молниеносно и убежденно она ответила на мой
вопрос (разговор с папой она не слышала): «Конечно же, это 9 мая
1945 года». На одном дыхании она продиктовала мне рассказ о том,
как все это было: как услышала по радио незабываемое сообщение,
после которого последовал будничный рассказ диктора о спортивных
новостях, как выбежала на улицу, не в силах сдержать охвативших
эмоций, как почувствовала себя единым целым с сотнями других лю-
дей, сделавших то же самое. Мое сочинение имело большой успех, но
это единственный памятный мне случай, когда мама оказала мне ка-
кую-то помощь с выполнением домашнего задания по литературе.
-335-
При этом мама серьезно относилась к тому, как я постигаю рус-
скую классику, причем для нее было важно, чтобы у меня сформиро-
валось именно свое, личностное, не навязанное извне отношение.
Помню, как эмоционально она запрещала мне смотреть фильм
С. Бондарчука «Война и мир» – просто выталкивала из комнаты и за-
крывала спиной экран, объясняя: «Если ты посмотришь фильм еще до
того, как прочтешь книгу, ты всю жизнь будешь представлять Болкон-
ского с лицом Тихонова».
Наверное, большее влияние в годы отрочества на меня оказал
папа, в ту пору работавший в отделе культуры газеты «Вечерняя
Пермь»: он постоянно водил меня в драматический театр, обсуждал
отдельные детали постановок, рассказывал об актерах. В итоге я заго-
релась идеей поступить на театроведческий факультет ГИТИСа, однако
мама к этой перспективе отнеслась очень прохладно. Ей это казалось не
только неосуществимым с практической точки зрения, но и бессмыс-
ленным по сути, она считала (и сейчас я с ней абсолютно согласна), что
нужно получать фундаментальное филологическое образование.
«Посмотри сюда, – указывала она рукой на книжную полку, – вот
стоит книжка Сережи Бочарова. Он закончил университет. А вот книж-
ка Володи Лакшина. Он тоже закончил университет. А где стоят книж-
ки тех, кто закончил ГИТИС?» На самом деле эти книжки тоже где-то
стояли, но мама любила эффектные риторические конструкции. Я ду-
маю, что она заранее решила для себя, что я должна поступить на фи-
лологический факультет Пермского университета, здесь учились дети
многих ее коллег и учеников, и я закономерно должна была попол-
нить эти ряды.
Юность
Итак, мое поступление на филологический факультет нашего уни-
верситета было вполне предсказуемым. В отличие от однокурсников я
точно знала, что буду делать после его окончания, – поеду по распре-
делению в деревню. То, что я должна ехать по распределению, мама
мне начала внушать класса с восьмого, если не раньше. Перспектива
стать на какое-то время учителем сельской школы не пугала меня, а,
напротив, бросала на весь процесс обучения некий романтический
отсвет. Кроме того, еще в раннем детстве мама обрисовала мне опти-
мистическую перспективу. «В школе будет лучше, чем детском саду, –
сказала она, – так как в школе ты будешь только половину дня, в вузе –
лучше, чем в школе, так как там ты будешь изучать только любимые
предметы, а лучше всего будет на работе». Она не исключала, что еще
лучше будет на пенсии, но до пенсии она, к сожалению, не дожила.
-336-
Дома мы много говорили о факультете: мама видела ситуацию
сверху, я снизу, в результате получалась интересная стереоскопиче-
ская картина. Папа не видел ситуации вообще, поэтому он очень рев-
новал и нервничал, не имея возможности вставить свое веское муж-
ское слово. Учиться мама мне по-прежнему особо не помогла. Я отдаю
себе отчет в том, что осознание факта нашего с ней родства сподвига-
ло некоторых преподавателей ставить мне более высокие оценки, чем
я заслуживала, однако я этого совсем не хотела.
А вот тему дипломной работы мама мне придумала сама, хотя и
попросила быть моим научным руководителем Владимира Константи-
новича Шеншина. Придуманная тема («Эпическое и драматическое в
романах “Анна Каренина” Л. Н . Толстого и “Идиот” Достоевского»)
сыграла важную роль в моей профессиональной жизни – кандидатская
диссертация, которую я писала под руководством Гурия Константино-
вича Щенникова, тоже была посвящена сопоставлению романов Тол-
стого и Достоевского, только уже других.
Многие спрашивают меня, помогала ли мне мама писать диссер-
тацию. Нет, не помогала, она как человек, неоднократно руководивший
подобного рода работами, понимала, что вмешиваться в процесс было
бы неэтично по отношению к Гурию Константиновичу, которому она
безоговорочно доверяла. Кроме того, она понимала, что руководство из
двух центров одновременно вредит делу. Могу вспомнить лишь один ее
забавный совет, касавшийся не сути, а формы высказывания.
Я уже знала, что моим первым оппонентом будет Галина Борисов-
на Курляндская, когда заканчивала редактировать диссертацию. Делая
историографический обзор, я излагала выводы Ю. И . Селезнева относи-
тельно романов «Преступление и наказание» и «Война и мир», после
чего простодушно заявляла: «То же самое пишет Г.Б
.К
урляндская».
Дочитав до этой фразы, мама саркастически воскликнула: «Господи! Ну
кто так выражается, да еще про своего будущего оппонента? Если она
пишет то же самое, зачем она это пишет вообще?» Я недовольно про-
бурчала: «Так что я сделаю, если она пишет то же самое?» Мама умела
формулировать мысли не только четко, но и очень быстро, она тут же
предложила свой вариант: «Под близким углом зрения, но гораздо бо-
лее убедительно рассматривает образы Андрея Болконского и Расколь-
никова Г. Б . Курляндская». Мне кажется, Галине Борисовне эта фраза
понравилась, по крайней мере, она была ко мне очень благосклонна.
Вспоминается еще многое, но думается, что нужно закругляться:
вовремя поставить точку – это тоже важное умение, которому мама
меня пыталась научить. Свою автобиографическую трилогию
Л. Толстой закончил смысловым многоточием. Последую его примеру.
- 337-
Раздел II.
СЕМЬИ
Л. Кертман,
выпускница 1966 г.
С НИМИ ВСЕГДА БЫЛО ЗАХВАТЫВАЮЩЕ ИНТЕРЕСНО
(О семье Тани и Володи Виниченко)
Мы с Равилем еще не приезжали в Пермь после того, как про-
шлой зимой не стало Володи Виниченко, и издалека в это особенно
трудно поверить... Я еще совсем не привыкла к этой мысли и внутрен-
не не готова писать о нем – таком живом, остроумном, общительном,
умеющем так захватывающе рассказывать и так увлеченно слушать – в
прошедшем времени. «Уходят, уходят, уходят друзья...» – мы вместе
любили эту песню Галича. Все больше пустеет город для людей нашего
поколения, но не на этой ноте хочется мне сейчас восстановить в па-
мяти несколько «кадров» из истории нашей многолетней дружбы, в
которой было много высокого и много весёлого.
...
Познакомились мы с Володей в ранней юности – он был
школьным другом Лёни Юзефовича, с которым мы тогда дружили, и
Лёня познакомил меня с тремя своими друзьями (Володей Виничен-
ко, Васей Бубновым и Толей Королёвым). В те давние годы это была
неразлучная четверка, и что-то редкое – возвышенно романтичное,
даже «старинное» – было в их дружбе. Я восхищалась и любовалась
ими – всеми вместе! – вдохновенными, рыцарственными, талантли-
выми, увлеченными каждый чем-то своим, но очень объединенными
чем-то впрямую не проговариваемым, но важным – и горячо пре-
данными друг другу. Сейчас знаю, что Володя уже тогда писал хоро-
шие стихи, но в то время он почти не говорил об этом (однажды ска-
зал мне: «Япрежде всего талантливый читатель!») – как поэту все
они дружно отдавали «пальму первенства» Лёне Юзефовичу (и, по-
моему, загрустили, когда он отошел от поэзии, хоть и стал знамени-
тым прозаиком... В этом, впрочем, могу и ошибаться). Годы спустя я
ностальгически вспоминала атмосферу их молодой компании, читая
- 338-
в цветаевской «Повести о Сонечке» слова: «Юнкер, гордящийся, что
у него товарищ – поэт. (Это – о юном Павле Антокольском – Л . К .)
Пахнуло Пушкиным – теми дружбами». Но это – потом, а тогда я
скорее вспоминала «Трех товарищей» Ремарка, и как-то совсем «не
мешало», что их было четверо... Сколько неповторимого юмора (час-
то «лирического») было в их общении, в посвящаемых друг другу
стихах! Скажу еще, что у меня хранится фотография их «четверки»
перед расставанием (после окончания университета уходили в ар-
мию), и ее с каким-то особым взволнованным вниманием рассмат-
ривал мой отец – и говорил маме: «Какие интересные лица!» Мне
казалось, что он вспоминал своих довоенных друзей...
Кстати, лицо Володи – и на той фотографии, и в жизни – казалось
мне самым благородным. Другие лица – пусть умные и значительные -
были более «богемными», а в этом ощущалась глубокая надежность и
верность – сразу видно было, что на этого парня друзьям можно по-
ложиться. Они снялись в шестидесятые годы.
... Тридцать лет спустя. Девяностые годы. Володя – один из руко-
водителей пермского филиала общества «Мемориал». Помню одно
собрание (митинг?) во Дворце Свердлова – большой полный зал, Во-
лодя Виниченко на сцене. В тот момент в Москве устрашающе громко
говорила и действовала большая антисемитская группа, кощунственно
назвавшая себя «Память». С погромными лозунгами ворвались они в
ЦДЛ во время собрания достойных писателей, завязалась драка... Во-
лодя говорил о преступности забвения настоящей исторической памя-
ти в стране, столько страшного пережившей, и об опасности «возрож-
дающегося русского фашизма», и когда его перебил страшноватый
глумливый выкрик из зала: «Клевета! В России никогда не было фа-
шизма! Это речь врага!» – он всем корпусом развернулся в ту сторону
–
сильный, широкоплечий, совсем не похожий на «хрупкого интелли-
гента», – и, прямо указывая на выкрикнувшего, громко и страстно ска-
зал: «Русский фашизм и сейчас есть – он говорит вашими устами!»
...К тому времени мы уже долгие годы дружили с Володей и Та-
ней вместе, Таня всегда и во всем поддерживала его. До того, как она
вошла в его жизнь, я ни разу не видела Володю таким счастливым!
Аура взаимной молодой (!) влюбленности окутывала их и в зрелые
годы – это всегда очень чувствовалось, и не только в лирических сти-
хах Володи, посвящаемых Тане, но и – просто в жизни... Таня умела
внести артистизм в их быт, была в их доме своя эстетика, разная в раз-
ные годы, но всегда уводящая от скучной обыденности. Вспоминаю
долго живших в их доме попугая и черепаху (как же их звали?!) –
-339-
смутно помнится одно имя – Шура (видимо, так звали черепаху). Тогда
Володя еще не писал стихов для детей, но в их Доме того времени я
часто вспоминала дом доктора Айболита. В другие годы атмосфера
Дома менялась, но скучно обыденной она не была никогда. Эх, как
весело и увлеченно они сами – вместе! – написали бы о себе, как ар-
тистично и захватывающе интересно это звучало бы! Они оба всегда
были творческими людьми с «лица не общим выраженьем», и это
ощущалось не только в стихах, балладах, пьесах Володи и в театраль-
ных рецензиях Тани, но и – повторюсь! – просто в жизни, в самых раз-
ных, самых «хаотичных» наших встречах и разговорах. Вот об этом ме-
ня больше всего и тянет вспоминать...
В жанре «устного рассказа» они оба блистали (каждый по-
своему). Не могу забыть колоритный рассказ Володи о приезде в
Пермь Егора Тимуровича Гайдара (он был тогда членом его партии
«Выбор России») – пермские «однопартийцы» принимали гостя с ве-
селой приветливостью и после обсуждения важных вопросов устроили
прощальный банкет на каком-то острове в середине Камы. В это время
по реке проплывал красивый трехпалубный теплоход «Аркадий Гай-
дар», Егор Тимурович сидел спиной, и когда кто-то крикнул: «Огляни-
тесь! Дедушка идет!», он быстро обернулся – и расхохотался с таким
неожиданно детским простодушием, в котором видна была какая-то
глубинная беззащитность этого человека, трагически взвалившего на
себя такую тяжелую ответственность... Позже «собутыльники» лихо
запели: «Любо, братцы, любо! Любо, братцы, жить!/ С нашим атама-
ном не приходится тужить!» – (И невольно захохотали – так не вяза-
лось слово «атаман» с этим человеком, о котором так остроумно ска-
зал Жванецкий: «Никогда не стать президентом России человеку, на
каждом шагу употребляющему слово «отнюдь», и совсем уж странным
словом отвечающему на вопрос, верующий ли он: «Я агностик!»).
Мы очень веселились, слушая этот рассказ, и я просила Володю хоть
немного «напеть» про атамана, чтобы представить, как это выгляде-
ло... Мне вообще очень нравилось, как Володя поет. Запомнилось, как
однажды 9 мая в разгар оживленного веселья он вдруг сказал: «Да-
вайте как следует споем хорошую песню!» – и каким-то непривычным
– глубоким и серьезным голосом – добавил: «Все мы мужики – долж-
ны понимать...» . И они спели: «Враги сожгли родную хату...». Пронзило
до слез. (Эх, уже и не вспомнить, в каком году это было!..) .
Однажды Володя рассказывал, как он торопился, опаздывая в
университет на вечер памяти моего отца, и кто-то задержал его,
спросив: «А что тебя связывает с Кертманом? Ты же вроде у него не
учился и не работал?» – «Я с ним выпивал!» – гордо ответил он.
- 340-
О чем только они не говорили во время тех застолий в нашем доме!
Много шутили, но бывало и совсем всерьез... Помню, как в годы за-
стоя, когда эти темы не были настолько распространенными, как по-
том, Володя расспрашивал моего отца о тридцатых годах – как атмо-
сфера террора ощущалась в их молодые годы в повседневной жизни,
был ли постоянный страх. И папа медленно и вдумчиво, как будто с
внезапно возникшим удивлением ответил: «Знаете – нет! Это было
не совсем так – по-другому...». И процитировал тогда еще ходившие
в списках стихи Коржавина: «Гуляли, целовались, жили-были...» . Ка-
жется, именно тогда Володя услышал их впервые. Потом Наум Кор-
жавин стал одним из его любимых поэтов, и Володя вспоминал о тех
списках, давая интервью в день своего семидесятилетия, с трудом
веря в эту ошеломляющую воображение цифру... В том интервью
Володя сказал, что самому не верится, «сколько эпох пережил», – что
помнит смерть Сталина (и как плакал маленьким мальчиком), и при-
говор Берии, объявленный, оказывается, в декабре 1953 года, и хру-
щевское развеселое десятилетие, и дальше... в общем, всех. И я сра-
зу вспомнила наши частые разговоры, когда с каким-то азартом со-
поставляли, кому что запомнилось из давних лет, во многом совпа-
дая, но иногда открывая друг другу по-разному запомнившиеся под-
робности: я помнила июнь 1953 года, когда киевская коммунальная
квартира, где жили мои бабушка и дед, зашумела после «объявле-
ния» по радио: «Берия – враг народа!», а декабрь 1953 года мне не
запомнился. Володя же, наоборот, не помнил июнь. И мы «докопа-
лись» до причин: летом Володя не сидел дома – был с пацанами на
рыбалке или играл в футбол, а я, поглощенная повседневными
школьными заботами, не слушала радио в пермские зимы. Таню
смешили эти наши «мемуары» – «Какие вы были общественно оза-
боченные – ужас!» Впрочем, она ведь была моложе, и те события
совсем не помнила.
Ее устные рассказы обычно бывали в другом жанре... Самая бы-
товая история никогда не звучала в ее устах обыденно, во всем она
умела обнаруживать живую драматургию и часто комическую окраску.
Иногда я сама оказывалась героиней таких историй – и всегда хотелось
воскликнуть: «Не знала, что это было так интересно!» Так звучала в устах
Тани якобы услышанная ею от дачных соседей история о том, как я по-
ливала огурцы на их участке – я гостила на их даче, и когда они с Воло-
дей на несколько дней уехали в город, мне было поручено в опреде-
ленное время заниматься поливкой огурцов (была оставлена памятка –
в какое время дня делать это, в каком количестве на какой грядке, и
- 341-
я неуклонно выходила в обозначенные часы и, невзирая на долгий ли-
вень, сама насквозь промокшая, педантично выполняла задание).
Атмосфера таких артистичных устных рассказов оказалась зарази-
тельной, и я тоже втянулась... Был у нас с Володей один общий устный
рассказ о давней истории, постепенно ставшей в нашей компании ле-
гендарной (куда там Ираклию Андронникову!) В тесной комнатке ре-
дакции газеты «Пермский университет», где редактором был мой од-
нокурсник Игорь Ивакин, отмечался чей-то день рождения. Закуски
было меньше, чем выпивки (обычная история в студенческих компа-
ниях!), и я по ошибке, не успев разобраться, что к чему, выпила гране-
ный стакан какой-то жуткой смеси (этот «ёрш» явно был предназначен
кому-то другому, но – так случилось...). В таком состоянии меня явно
не стоило сажать ни в трамвай, ни в такси. Что делать?.. Самым ответ-
ственным оказался, конечно, Володя, и он взял на себя трудную мис-
сию доставления меня домой – пешком от университета до дома на
Комсомольском проспекте. Из его позднейших рассказов я узнала, что
какая-то шедшая навстречу старушка упрекнула его: «Что же ты, па-
рень, такую приличную девушку так сильно напоил?!» После этого он
старался сворачивать в переулки, чтобы снова не напороться на упре-
ки «приличных людей» – впрочем, улицы были уже пустынны. Здесь,
пожалуй, уместно будет прояснить ситуацию: это было еще до чуть
позже вошедшей в его жизнь Тани, но не в этом дело – у нас с Володей
никогда не было ничего напоминающего хотя бы платонический ро-
ман, была именно дружба. (Это уточнение сыграет свою роль, когда
дойду до финала и особенно до эпилога этой «душераздирающей»
истории!..) Смутно помню, что мне очень хотелось спать, и я периоди-
чески упрашивала: «Ну давай я тут посижу на скамейке, отдохну, а ты
иди – я потом сама дойду!» Чего стоили Володе эти бесконечные ос-
тановки! И без того неблизкий путь затягивался безмерно, а ему ведь
надо было еще как-то и до своего дома добраться! И вот наконец
дошли – финальный аккорд: в подъезде нашего дома, где, как оказа-
лось, нас долго поджидали моя двоюродная сестра Инна с прово-
жающим ее Васей Бубновым (Инна боялась без меня войти в квартиру,
не зная, как отвечать на вопросы, могущие возникнуть если не у роди-
телей, то у наверняка не спящей бабушки), – Володя «прислонил» ме-
ня к стене и на глазах удивленных свидетелей долго устало разминал
руки и плечи... Сколько раз мы рассказывали эту историю! И неизмен-
но веселящаяся Таня уверяла, что с каждым разом (или – с каждым
годом?!) «узнает все больше нового», так как сюжет обрастает все но-
выми поворотами (то про старушку, то про Инну с Васей...). Но был и
еще один «эпилог». С каждым нашим очередным совместным повест-
- 342-
вованием мне все больше «не давала покоя» одна подробность, и на-
конец – не двадцать ли лет спустя? – я решилась спросить: «А чего уж ты
так «разминался»? Я ведь в те годы вроде тоненькая была, да и все же
своими ногами шла!» И тут открылось... «Как ты не понимаешь! Да я все
время напрягал руки и плечи, чтобы держать тебя «на расстоянии вытя-
нутой руки» – считал неприличным обнимать девушку, пользуясь ее
нетрезвым состоянием!» – Боже мой, какими целомудренными мы бы-
ли, и как насмешит это молодежь другого поколения! «Вот теперь в по-
вести наконец поставлена финальная точка!» – объявила Таня.
Как «опьяняюще» весело бывало у них в гостях – с бурными
взрывами смеха за всегда очень красиво накрытым столом! Таня и это
делала талантливо и как будто бы «мимолетно». Для меня так и оста-
лось непостижимой тайной, как она всё успевала: порой целыми дня-
ми пропадая в Институте культуры, где о ее блестящих лекциях (в ча-
стности, на экзотическом для моих ушей курсе по «истории костюма»)
ходили легенды, или на спектаклях, рецензии на которые часто прихо-
дилось писать ночами, возясь с маленьким сыном, она могла на ред-
кость быстро и изящно соорудить вкусный стол, на который было так
приятно смотреть... В ее подготовках к застолью тоже была своя эсте-
тика и изобретательность. Вспоминаю приезд Натальи Самойловны
Лейтес из Америки (Таня очень дружила с ней, вообще – замечу ми-
моходом – у них с Володей как-то очень естественно и обаятельно по-
лучалось дружить «со старшими» - без панибратства, не переходя ка-
кую-то необходимую грань, но в чём-то главном – «на равных» – еще
вспоминаю с удовольствием бывающего у них Израиля Абрамовича
Смирина...) – так вот, в тот приезд Натальи Самойловны в России были
пустые магазинные полки, и вот – я редко запоминаю такие вещи, но
та картина осталась в памяти – большое блюдо фасоли с майонезом и
тарелка с мелко нарезанными разноцветными фруктами. Было очень
вкусно – и глаз радовался!
По ходу воспоминаний вдруг обнаружила, что и по этим застоль-
ям можно восстанавливать разные пережитые нами эпохи! Борьба с
алкоголизмом... Впервые за долгие годы нашей дружбы (уже и тогда
долгие!..) на столе у Тани и Володи – ни одной бутылки вина! Володя
«слабо оправдывается»: «Ну не мог же я стоять в этой невообразимой
очереди!» – «Почему это?! – говорю. – У меня нет таких предрассуд-
ков, и нечего позволять “им” диктовать, как нам жить! Чтобы из-за их
дурацких распоряжений у нас менялись домашние уклады?! – Не до-
ждутся! И еще – тебе как писателю должно быть любопытно постоять в
такой очереди!» И рассказала: «Стою с книжкой, а за спиной – печаль-
ный диалог: «Ну когда, Коля, в России было такое?! Чё ж это делает-
- 343-
ся?! – И не говори! Никогда не было – совсем обнаглели!» – вздыхает
Коля. Через пять минут – дословное повторение. И так в течение при-
мерно часа. Не выдержав, оборачиваюсь (надев очки, которые сни-
маю во время чтения) – и «авторитетным» просветительским голосом
сообщаю недавно узнанное: «Было в России такое! – В 1924 году шла
такая же борьба...» – Коля с приятелем изумленно уставились на чем-
то поразившую их воображение «странную женщину».
–
«Ну-у, это
очень давно! Мы еще молодые – мы такого не помним!» – Сказано это
было с очевидной уверенностью, что уж я-то помню... Ну чем не «ки-
ношная» ситуация?! Тут и Таня «напустилась» на Володю: «Я же тебе
говорила! Смотри: даже Линка стоит, а ты не можешь?!»
В их общении было много веселого юмора. Однажды я встретила
их на улице – спешащих по какому-то делу, но Таня успела рассказать,
что Володя огорчается и часто критикует ее за то, что они мало гуляют
и почти не бывают на воздухе, и «назидательно» обратилась к нему:
«Вот сейчас что мы делаем? Как это называется? – Мы гуляем! Запом-
ни, пожалуйста!»
...Как умели они вносить праздник в разные дома! В новогодние
вечера долго держалась традиция: обойдя после 12 ночи, может быть,
не одну компанию, к нам они бурно врывались к московскому Новому
Году, гремя хлопушками и выстреливая фейерверками... Как прекрас-
но это было!
Что-то слишком весело у меня получается... Но мне кажется, что
Володя не обиделся бы на это. И на хаотичность тоже – так смешива-
лись веселые и грустные темы в наших встречах...
Когда я в тяжелом настроении навсегда уезжала из Перми и в
растерянности не знала, что делать с огромными комплектами журна-
лов («Нового Мира», «Дружбы народов», «Иностранной Литературы»,
«Юности»), выписываемых родителями с шестидесятых годов, Володя
и Таня очень поняли мою печаль и невозможность бросить все это, им
и самим грустна была бы картина так брошенной целой жизни, – и
они взяли журналы к себе на дачу, специально что-то там перестроив.
В один из моих приездов в Пермь они показали мне, «как живется» у
них этим журналам. При воспоминании об этом всегда становилось
теплее на душе... Володя и Таня всегда были очень верными моими
друзьями – поистине «и в беде, и в радости, и в горе...».
У меня не получилось быть рядом с Таней в этом страшном горе –
слишком далеко унесла Судьба, но думаю, что она знает и чувствует,
как горячо я любила их вместе, как вместе с ней скорблю по Володе и
как она мне дорога... Дай Бог, чтобы нам удалось еще встретиться!..
- 344-
К. Гашева,
выпускница 1989 г.
В МИРЕ СЛОВ, ФАКТОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
– Что это была за любовь!.. Но сегодня я
расскажу вам, что это была за жизнь.
Борис Гашев
Брожу по книжному магазину. Вдруг вспоминаю, как папа береж-
но и блаженно перелистывал новую книгу. Прямо вижу! Ни одна, даже
самая удачная покупка не доставит мне такого счастья. Перечитывая
что-нибудь, замечаю на полях четкие корректорские знаки – это мама
карандашом исправляла опечатки – и надолго зависаю над страницей.
Папы не стало в мае 2000-го. Мамы в мае 2017-го. Ничего никуда
не девается. Я все время общаюсь с родителями. Каждый день. «Не
реже, а просто тише», – как сама себе объяснила в стихотворении,
пришедшем после папиной смерти. Я тогда долго не могла заговорить.
Стихи сочинялись медленно, сами по себе. Это нормально. Но напи-
сать воспоминания о нашей семье, о нашей жизни я не была готова.
Воспоминания сами не напишутся. Скорее всего я не сумела бы этого
сделать, если бы о моих родителях не написали другие люди. Чужая
память тянет за собой картинку, мысль или случай. И сейчас я могу
воспроизвести отдельные кадры «узкопленочного любительского
фильмика в прозе». То, что уцелело «после пожара на кинофабрике»,
– ка к однажды определил отец.
Я никого не просила писать и бесконечно благодарна всем, кто
это сделал. Особенно Лине Кертман. Этим летом она отправила мне
полный любви и живых подробностей рассказ о моих маме и папе. А
толчком, сбросившим меня с мели, стали стихи Натальи Ключаревой,
талантливого поэта и прозаика. Мама Наташи, Тина Алексеевна Клю-
чарева, работала когда-то в Пермском книжном издательстве. Мы
дружили семьями и до сих пор не теряем друг друга из виду. Не так
давно Наталья прислала подарок – свой новый поэтический сборник. Я
открыла книжку наугад, начала читать. Строки сперва резанули по
сердцу, потом утешили. Поверила. Так оно все и случилось. Я давно
знаю: только стихи утешительны.
Отрывком из этих стихов и начну.
- 345-
Наталья Ключарева
Мертвые не курят
1.
дядя Боря
встречал тетю Надю
на вокзале
«кто это с тобой?» – удивилась она.
«что это с тобой? – удивился он. –
Пушкина не узнала?»
«ну, как, брат Пушкин?» –
смутилась тетя Надя.
«да так, как-то все», –
вздохнул Пушкин
и безмятежно махнул рукой.
2.
«почему без курева?» –
рассердился старик,
увидев их у подъезда.
«мы уже умерли», –
честно признались они.
«а я?» – спохватился старик.
«мы не знаем,
мы вообще на минутку.
сирень понюхать».
«ну, нюхайте, – разрешил старик, –
не жалко.
эх, покурить бы».
3.
«Марина и Сережа –
деревья», –
написано на стене.
АняиКоля–
нити дождя и четверг.
Миша и Лена –
росчерки перьевых.
НадяиОся–
«были здесь».
были здесь...
- 346-
Большой портрет в узкой белой раме – Пушкин и Гончарова –
сколько себя помню, висел у нас в квартире. Он очень мне нравился.
Пушкин задумчив, Натали прекрасна. И маленький бюст Пушкина был,
он и теперь стоит на полке. А еще были папины любимцы: стеклянные
ворон Карлуша и гусь Иван Иванович (из «Каштанки»). Ворон потом
пропал, то ли улетел, то ли подарили кому-то. До сих пор жалко. Еще
был Дон Кихот с книгой и настоящей шпагой, которую можно было
вытащить из ножен. Занятый чтением печальный рыцарь этого не за-
мечал. Так папа, занятый чтением, не сразу замечал, когда его оклика-
ли. Рядом с Дон Кихотом чертик всем показывал нос. Этот был злой,
но не страшный. Немного пугала меня в раннем детстве фотография на
стеллаже за стеклом. Человек на ней был молод и красив, но какие
глаза! Он следил очень внимательно и неотрывно. Куда ни пойдешь –
смотрит. В конце концов я сказала об этом маме. Она удивилась, но
фотографию убрала. Хотя Борис Пастернак, конечно, ничем не мог на-
вредить ребенку. Наоборот. Теперь мне это ясно. Лев Толстой (тоже
бюст – черная борода) меня совсем не пугал. Он появился одновре-
менно с Федором, но не Достоевским, а Волковым, основателем рус-
ского театра (возможно, это был какой-то знак лично мне!).
С Достоевским я познакомилась только в старших классах. Мамин
отец, мой любимый дед, считал, что этого русского классика до сорока
лет читать вредно, и выбирал для детского чтения книжки веселые, а
даже если страшные, то очень интересные.
Дед, Николай Павлович Пермяков, был инженером-строителем, а
во время войны, на фронте, сапером. По его линии в трех поколениях
сплошь технари: инженеры, физики, математики. Хотя его мать, моя
прабабка, писала стихи и до революции опубликовала в каком-то мос-
ковском журнале рассказ. Дед этим гордился. А еще больше гордился
своим братом Виктором, тоже инженером по образованию. Тот в 1935
году уехал в Ашхабад и работал там журналистом. В конце 1930-х вы -
пустил сборник стихов и переводов с туркменского. Кажется (я не про-
веряла), переводы Виктора Пермякова из туркменских поэтов опубли-
кованы в соответствующем томе БВЛ.
Как все нормальные технари своего поколения, дед был страст-
ным читателем, увлеченно собирал библиотеку, помнил всевозмож-
ные исторические даты, знал наизусть множество стихов (в том числе
тех, которые в его молодости печатали, а потом печатать перестали),
рассказывал, как в конце 1920-х слушал Маяковского. Математический
склад ума заставлял его систематизировать полезные сведенья, чтобы
дети и внуки тоже их усвоили. Когда я училась в школе, дед составил
- 347-
таблицы: правители разных стран – годы их правления, – важнейшие
события и характеристика каждой эпохи. С помощью этих таблиц легко
было установить, кто, например, правил во Франции или России, когда
в Англии творил Шекспир. Эта дедова затея подсказала маме очеред-
ную книжную идею. Мама обсудила ее с историками, ученицами Льва
Ефимовича Кертмана, и в 2002 году в издательстве «Пушка» вышла
книга Любови Фадеевой и Марии Лаптевой «Сто портретов. Кто пра-
вил миром» – короткие живые очерки о выдающихся политических
деятелях XVIII–XX веков. Жаль, что деда тогда уже не было с нами.
В его блокноте – «Участнику второго совещания уральской группы
союза архитекторов СССР» (июль 1971 года) – вперемешку: рабочие
записи, план лекции для студентов ППИ, разборы шахматных задач,
перечень американских президентов с годами их правления (трениро-
вал память? было скучно на совещании?), «Баллада о королевском
бутерброде» Александра Алана Милна, результаты хоккейных матчей,
формулы, заметки о Римской империи, стихи Вордсворта (в переводе
Маршака):
... Не опечалит никого,
Что Люси больше нет,
Но Люси нет – и оттого
Так изменился свет.
И список, озаглавленный «Что почитать Ксане». Ксаной бабушка и
дед звали меня. В 1971-м мне 4 года, но эта запись скорее всего сде-
лана года через два-три. Перечень на две страницы: Андерсен, братья
Гримм, сказки Пушкина, стихи Лермонтова, «Робинзон Крузо», расска-
зы Джека Лондона, Шекспир – «Двенадцатая ночь», «Два Дромио» и,
что характерно, «Укрощение строптивой»...
Я помню, как дед мне все это читал. Настоящее счастье. Диккенс
том за томом, О. Генри, «Повести Белкина», «Три мушкетера», «Князь
серебряный», «Приключения Шерлока Холмса»... «Войну и мир» тоже
прочел, без купюр. Мне было девять. Чуть не разогнался и на «Анну
Каренину», но бабушка не позволила. Сказала, что «книжка неприлич-
ная», и выставила меня во двор. Это вовсе не значит, что бабушка Ан-
тонида Львовна не читала книг. Читала, и со всеми комментариями.
Просто она предпочитала Тургенева, строго поддерживала порядок в
доме и считала, что детям полезны подвижные игры на свежем возду-
хе. Ей приходилось разгонять нас с дедом, он мог читать часами. Я и
сейчас слышу его голос, когда гляжу на некоторые страницы. Помню
интонации и что ему особенно нравилось, волновало или раздражало.
Раздражала, кстати, иногда я. Потому что не задавала вопросов. «По-
- 348-
чему ты не спрашиваешь! Ты же не знаешь, что такое “сапог Италии”?!
Ты упрямая, как козел!» Книжка летит на стол, я сползаю с дивана. Не
могла я тогда объяснить, что просто не в состоянии прерывать течение
текста вопросами. Какая разница, что такое «сапог Италии»? Все неяс-
ное когда-нибудь разъяснится. А в книгах главное – тайна.
Мама вместо колыбельной часто читала стихи, где было много
непонятного. Мое любимое – «Девочке медведя подарили» Владими-
ра Луговского. Я там половину слов не знала: «новоселье», «бук»,
«домработница», «Аю-Даг», «ущелье». И ничего! До сих пор помню
наизусть. В маминой редакции она пару строчек подправила.
Папа начал собирать детскую библиотечку еще до моего рожде-
ния. Покупал только хорошие издания с отличными иллюстрациями.
Детских книг, которые ему не нравились, в доме не было – «чтобы не
испортить ребенку вкус». С тех пор у меня пробелы в образовании:
некоторые произведения, которые знали все дети моего поколения, я
в глаза не видела.
При отборе книг применялся не только эстетический, но и этиче-
ский принцип. Лина Кертман рассказывает о случае, который я тоже
отлично запомнила: «Когда мы узнали из воспоминаний Анастасии
Цветаевой, что Анатолий Виноградов (друг юности, когда-то влюблен-
ный в нее, любимый ученик ее отца), став после революции директо-
ром созданного Иваном Владимировичем Цветаевым музея, отказался
принять на работу Асю – дочь своего учителя, в прежней жизни по-
могшего ему “выйти в люди”! – и даже попытался сделать вид, что они
незнакомы, Боря выбросил из домашней библиотеки прежде нравив-
шийся ему роман Виноградова “Три цвета времени”».
Синяя такая толстая была книжка – так я этот роман и не прочла.
Из той же этическо-эстетической серии история о том, как мой
дед выкинул роман Бабаевского «Кавалер Золотой Звезды». Он тогда
повез семью в отпуск – первый после войны. Отправились на пароходе
по Каме и Волге. Перед отъездом дед купил новую книгу, только что
получившую Сталинскую премию. Прочел несколько страниц и швыр-
нул литературную новинку в реку. Ясно представляю этот широкий
яростный жест.
Семейные чтения вслух – не ритуал, это обязательная часть жиз-
ни. Общение. Традиция. Мы наряжаем елку, и дед читает «Ночь перед
Рождеством». Мама моет посуду, папа читает «Швейка». Я очень рас-
строена – мы не пошли смотреть салют. Чтобы утешить и отвлечь, ро-
дители достают с полки «Понедельник начинается в субботу». Скоро
мы хохочем, и про обиду я напрочь забываю.
- 349-
Картинки за стеклом книжного шкафа – главного предмета в
квартире – то и дело менялись. Папа приносил из редакции «Вечерки»
интересные фотографии. Мама из книжного издательства – оригиналы
иллюстраций. Хорошие художники и фотографы то и дело дарили ро-
дителям свои работы. А небольшой пейзаж Тумбасова в раме забыл
кто-то из гостей, и он прижился.
Но Пушкин все же был главным. Гармонизировал пространство.
День рождения Пушкина в нашем доме отмечали (всегда вспоминали
и 19 октября). Мы с мамой пекли пирог, в хорошие времена покупали
шампанское и раннюю черешню (в честь повести «Выстрел»). Собира-
лись гости, читали стихи по кругу, говорили о поэзии. Наташа Ключа-
рева, Татка, тогда была маленькая, гораздо младше меня, но праздни-
ки эти запомнила. Потому Пушкин и пришел вместе с моим отцом
встречать маму на той, конечной станции. Папа знал, как мама будет
рада увидеть Александра Сергеевича.
Да, появлялся на шкафу и старик Хемингуэй в свитере с высоким
воротом, но быстро почему-то исчез. О том, что знаменитая и неиз-
бежная фотография жила в доме, напоминают папины строчки.
Извини, что я не Хэм
В свитерке обтерханном,
Янепью,иянеем–
Одним словом, – дерганый.
Книги в шкафу выстраивал папа. Очень вдумчиво. Прикидывал,
кого с кем устроить рядом. Как он потом писал:
В годах семидесятых
Я был библиофил,
И книжек тех проклятых
Штук двадцать я купил.
Я и сейчас иногда переставляю тома в книжных магазинах, если
кажется, что какому-нибудь очень хорошему писателю неуютно от
соседства. «Мы попросим, чтоб его куда-нибудь на “щ”»... Хотя Надсон
и Маяковский ни при чем. Это нервное.
В нашей двухкомнатной хрущевке на Макаренко собиралось
множество людей. Приходили в любое время дня и ночи. Некоторые,
если хозяев не было дома, проникали в жилище через балкон. Квар-
тира находилась на втором этаже, а напротив дома, во дворе детского
садика, имелась лестница. Кто-то мне потом рассказывал: «Два часа
ночи. Звоню в вашу дверь, открывает заспанная Надежда, ни о чем не
спрашивая, говорит: “картошка на плите, лечь можешь на полу” – и
уходит досыпать. В большой комнате уже спали на матрасах, брошен-
ных на пол, какие-то люди».
- 350-
В такой разнообразной обстановке папе порой хотелось уеди-
ниться, и он устроил себе кабинет в кладовке. Первым делом смасте-
рил стеллаж во всю длинную стену, от пола до потолка, там тоже стоя-
ли книги и журналы, сколько штук, не знаю. (Самиздат хранился в ма-
леньком фанерном чемоданчике, хотя толстую стопку мутноватых фо-
тографий – страниц «Доктора Живаго» – помню лежащей прямо на
шкафу, стопка быстро исчезла, видимо, передали дальше.) В кладовке
папа иногда читал при свете настольной лампы, устроившись на ни-
зенькой банкетке. Мы его там не тревожили.
Родителям редко удавалось остаться одним. Кроме нашествия
гостей, были еще коты и разные семейные обстоятельства. Пять лет,
пока училась в университете (на физическом факультете!), у нас жила
любимая папина племянница Людмила, дочь его старшей сестры, мо-
ей тети Кати. Потом отец перевез из Верещагино своих родителей, им
стало трудно справляться одним. Я в то время спала в большой комна-
те на раскладушке за книжным шкафом, им перегородили нишу. Мне
это нравилось – получалась отдельная комнатка. Но однажды ночью
мама разбудила меня и перетащила раскладушку. Ей приснилось, что
шкаф на меня рухнул.
В доме (во всех наших домах) в ходу были разного рода игры:
шарады, лото, «15 вопросов», «города», «наборщик» (из букв длинно-
го слова нужно составить как можно больше коротких). Дед то и дело
озадачивал нас с двоюродным братом без всякого предупреждения:
«Назовите 10 книг, в названии которых есть числительное (цвет, гео-
графическое название, имя собственное)». С мамой мы играли в
строчки (обычно на ходу – игра была дорожная). По очереди называли
цитаты из стихов или песен так, чтобы четверостишия «цеплялись» –
слово из последней строки предыдущего стиха должно было оказаться
в первой строке последующего: «Над черным носом нашей субмари-
ны взошла Венера – странная звезда» – «Звезда полей во тьме зале-
денелой, остановившись, смотрит в полынью». Отличная тренировка
памяти! Мы с дочкой потом тоже так играли.
Когда я была маленькой, мы с мамой (издателем!) выпускали
книжки-самоделки. Листы сшивались, на них клеились вырезанные из
журналов картинки, к каждому рисунку сочинялся стишок. Одна такая
книжечка, боюсь, многое определила в моей жизни. Мы ее мастерили
перед отпуском (мне было четыре, предстояла первая поездка к мо-
рю) и не успели закончить работу – не заполнили пару страниц. Папа
оставался дома и дело добросовестно завершил.
- 351-
Они все же были очень разные люди. Мама сочиняла стишки для
маленькой девочки. Картинка: ежик с яблоком на спине, синица на
ветке, филин на суку. Текст:
Смотрят филин и синица,
Кто там ползает внизу?
– Надо мне поторопиться,
По делам своим ползу!
Папа мыслил, как всегда, глобально. Он приклеил на чистый раз-
ворот изображение трактора и самолета. Текст был такой:
Чем порхать, как на картинке,
Помоги пахать суглинки.
Супесчаник распаши,
А потом уже порши.
Через много лет я поняла, что точно следую этому совету.
В квартире на Макаренко нам было хорошо. Это было первое
собственное жилье родителей. С него начинаются и мои воспомина-
ния. О том, что было раньше, до меня за книжным шкафом, я тогда не
знала.
Часто было хорошо и на Якуба Коласа. Как описано в папиных
стихах.
Птица летит.
Должен быть труд благородным.
Встать, попрощаться
И на работу идти.
Слиться потом с коллективом.
Отсутствовать долго.
Снова вернуться домой.
Счастлив мой кот! Я пришел!
И в прозе: «Где она вообще видела гения, который сидит дома?
Он все время бегает по магазинам. Гений никогда не одинок. У него
всегда есть жена и дочь».
Кроме жены и дочери, у гения был еще племянник. Мой двою-
родный брат Сережа (младший сын тети Кати) окончил школу, посту-
пил в мединститут и стал жить у нас на Якуба Коласа. Дедушка, Влади-
мир Николаевич Гашев, к тому времени умер, а бабушку тетя Катя за-
брала в Верещагино.
Кстати, о поэте Якубе Коласе. Мы получили трехкомнатную квар-
тиру в новом доме, когда мне было 11 лет. По адресу: улица Коммуни-
- 352-
стическая, 107. Хотя сама Коммунистическая (ныне Петропавловская)
лежала ниже, дом стоял на пригорке, над остановкой Плеханова. В
начале 1980-х пару кварталов в этом районе переименовали. Наш дом
оказался пятым в проезде Якуба Коласа (папа утверждал, потому, что
Якуб Колас через Пермь именно проезжал). Новую табличку мы обна-
ружили случайно, одним прекрасным майским утром. Пришлось ме-
нять прописку. Получив новый штамп в паспорте, папа заглянул к сек-
ретарю редакции «Вечерней Перми»: «Тебе ведь нужно знать, где я
живу. Вот новый адрес» – «А что случилось?» – заинтересовался сек-
ретарь. – «Да, надоело все!..» – отец мрачно махнул рукой.
Слух распространился мгновенно. Через несколько дней маме
позвонила встревоженная Римма Васильевна Комина, она не могла
поверить, что мои родители расстались. Зато быстро поверила мами-
ному объяснению: «Просто очередная дурацкая шутка Гашева!».
В квартире на Якуба Коласа собирались уже не только друзья ро-
дителей, но и мои – одноклассники, потом однокурсники. Мы делали
там «Горьковец», обсуждали журнальные новинки (было что обсудить
в конце 1980-х!), много смеялись, читали вслух Голявкина, перебрасы-
вались цитатами из Ежи Леца. Да мало ли! Приходившие люди остав-
ляли в доме загадочные вещи: рюкзак, мольберт, якорь от яхты... Сно-
ва кто-то ночевал, в том числе случайные люди. Кем-то поставленный
к нам на постой малознакомый художник из Питера свистнул, уезжая,
двухтомник Андерсена. Однажды ночью меня разбудил шум. Родите-
ли были в гостях, так что на всякий случай я выглянула из своей комна-
ты. На диване устраивался на ночлег совершенно незнакомый мужчи-
на. «Вы кто?» – спросила я. – «Водолаз» – ответил он. Это меня озада-
чило, и я ушла спать, больше ничего не выясняя. Утром водолаза в
квартире не оказалось, гость покинул наш дом на рассвете. Мама спо-
койно объяснила: бездомного водолаза они с папой привели от Давы-
дычевых, там его положить было уж совсем негде. А бедняге нужно
было рано вставать. Выдав постояльцу одеяло и подушку, родители
снова ушли. Ночной разговор с водолазом я потом вставила в пьесу
«Паноптикум Бакенбардова» (в 2002 году получила за нее премию
«Эврика») – грех было не использовать!
Особая тема – семейная переписка. В стихах и прозе. В общих
дневниках, которые мы вели во время какой-нибудь поездки.
Мама была виртуозом жанра посланий (об этом знают все ее
друзья). Вот одно из посвящений – подарок мне к премьере «Веселого
солдата» в пермском ТЮЗе (23 ноября 2010 года шла моя инсцениров-
ка по произведениям Виктора Астафьева).
-353-
Вырываясь из этого ада и бреда,
Все равно не найдешь забытья.
Плачет дева Обида, стонет матерь Победа,
И не допита чаша сия.
Он опять из двадцатого мчится столетья,
Нескончаемый тот эшелон.
Девяностый сонет оборвал на рассвете
Девяностый библейский псалом.
Связь времен обрывается снова и снова.
Кто на линию нынче идет?
Но горит огонечек окошка родного –
Дом тебя, моя девочка, ждет.
Папины письма и записки, присланные по почте или оставленные
на моем столе по разным поводам и без, тоже были неповторимы. На-
пример, 6 июня 1989 года он письменно извещал: «Я уже начал писать
роман “Мать”. Это будет своевременная книжка о судьбе забитой рабо-
чей женщины Нади, о том, как она нашла себя в неформальной работе».
Заканчивалось сообщение так: «С богоискательством я уже покончил.
Материально не обеспечен. Твой несчастный отец». Однажды утром
(папа уже ушел на работу) я получила указание: «Будь очень осторожна.
Пользуйся подземными переходами. Ходи только под землей!»
Особо выдающееся письмо он написал в разгар странной, к сча-
стью, не воплотившейся затеи университетского руководства. Не-
скольких студенток филфака, в том числе и меня, планировали отпра-
вить на год в Колумбию – учить местное население русскому языку.
Безумные проекты перестроечных времен! Отец откликнулся следую-
щим образом:
«Ксюша!
Скажи им, что твой мракобес-отец не согласен тебя отпустить. Я
вспомнил, что где-то рядом с этими местами, в Карибском регионе
(районе, бассейне) находится остров Гаити, где бесследно исчез писа-
тель Жак-Стефен Алексис (мулат), который написал роман “Деревья-
музыканты”. В нашей стране тоже бесследно исчезло много писателей
(в том числе мулатов и караимов). Зачем куда-то ехать? Помнишь у
Грибоедова – “и ездить так далеко”, когда любишь папу?
А океан, как заметил Маяковский, который там бывал, – “это дело
воображения”. Что в море, что в океане – берегов не видно.
Скажи, что ты боишься Бермудского треугольника. На нем, скажи,
треугольная шляпа.
Твой
Сама знаешь кто».
- 354-
В Латинскую Америку мы не уехали. Кажется, блистательную
идею зарубил на корню Леонид Николаевич Мурзин. Спасибо ему!
В общем, на факультете нашлись разумные люди. А ведь тянуло в два-
дцать лет испробовать «южноамериканский вариант»! Так же мой
отец когда-то страстно рвался на Кубу. Его не взяли: изучал немецкий,
а требовался английский. Хотя он и обещал декану выучить язык (хоть
английский, хоть испанский) за месяц. И выучил бы. Слух к языкам
имел уникальный. Точнее, отношения с языком.
Мама писала в наброске к «творческой биографии» отца: «Классе
в шестом на уроке русского языка Борис вдруг осознал языковую сис-
тему и очень своеобразно выполнил задание по словообразованию:
сам придумал фразу типа “глокая куздра штеко будланула бокра и
кудрячит бокренка”. Все слова в предложении были бессмысленны,
но правила словообразования существительных, прилагательных, гла-
голов – соблюдены. Шутку не поняли (это часто потом случалось с Га-
шевым), и чуть ли не педсовет собирался, чтобы выговаривать маль-
чишке за его “глупую и неуместную” вольность.
В старших классах Борис много читал, часами просиживал в го-
родской библиотеке, пока однажды библиотекарша не сказала ему:
“А ты, мальчик, уже все прочел”. К счастью, старшая сестра Катя вышла
замуж за Алексея Дмитриева, Алексей Васильевич преподавал литера-
туру в школе и уже собирал собственную библиотечку, а старший брат
Николай поступил к тому времени на филфак Пермского университета,
и чтение продолжилось».
Оно всю жизнь продолжалось.
Еще о языках. И о путешествиях, о которых папа в юности мечтал,
а позднее увлеченно читал. Неделю побродив по Тбилиси, он начал
переводить вывески с грузинского. А после, дома, всегда внимательно
изучал текст на пачках грузинского чая.
Когда чуть подросла моя дочка, папа – уже дедушка – записывал
под ее диктовку приключенческие рассказы, то и дело вставляя и свои
два гроша. Забавные письма внучке он тоже сочинял.
Последнее его послание мы получили в июне 2000-го (месяц как
папы не стало). Нечто вроде наскального рисунка. Делали генераль-
ную уборку, перевернули диван и обнаружили карандашную надпись:
«Здесь спал Боря».
... Но кроме чисто семейных радостей, были вещи серьезные.
Я очень люблю папино стихотворение «Верещагино», посвященное
маме. Написано оно в 1967 году. В марте 1966-го родители пожени-
лись, и летом папа впервые привез молодую жену в свой родной го-
родок, в дом родителей.
-355-
Верховой в сапогах и в казенной фуражке, вояка,
Спьяну тот отворот проскакал со своей голытьбой.
Обошлось до поры. Наклоняйся над чашечкой мака,
Не хватились покуда – будить и волочь за собой.
В деревянном закуте мы празднуем месяц медовый.
Дорвались друг до друга – и оба всю ночь без ума.
Дом на цыпочках ходит – за дверкой ни стука, ни зова.
Только-только меня миновала ошибкой тюрьма.
Что за сон с молодой? Я как мальчик в той спаленке темной,
Отчужденный от вас, непонятный себе самому.
Звонко маятник ходит пустынною площадью комнат.
И звезда за окошком. Лежит он и смотрит во тьму.
Он – сосудик из глины. В нем тикает маятник ночи.
Шевелятся деревья, по звездам текут облака.
Он не помнит себя и собою он не озабочен.
Между ночью и ним – никаких средостений пока...
Об угле и о хлебе еще нас отыщет докука.
А пока – одеялом укройся, как в детстве, и спи.
Словно общей напасти, мы отданы миром друг другу.
Как от дерева в парке – внезапно под сердце ступи!
Ты невестка в дому. Старики мои ходят – не дышут.
Не раздумала бы да не кинула их дурака.
Между нами и ночью – пробитая звездами крыша.
Тот – в фуражке, как блин, – прозевал отворот с большака.
Конечно, папа должен был писать стихи и прозу, а не верстать га-
зету «Вечерняя Пермь». Так уж вышло.
Жизнь, не принимая возражений,
Окунула в бездну поражений.
Но и пораженные глаза
Не на жизнь таращились, а – за .
Ему снился текст. Но он все реже и реже записывал потусторон-
нюю диктовку.
В 50 лет отец получил премию журнала «Юность». Это его скорее
позабавило – после ужина горчица! Тем более, что в журнале перепу-
тали двух редакторов. За подборку стихов, опубликованных в «Юно-
сти», папа должен был получить медаль Катаева, но из столицы при-
слали в коробке изображение Бориса Полевого. Абсурд в гашевском
духе. Лауреат смеялся и жаловался: не того подсунули!
-356-
Отец не окончил повести «Бессмертная мышь». Приведу отрывок,
где герой размышляет о жизни, смерти и о своем друге – певчей мы-
ши Говорухе: «Предположим даже, что и умру. В мире фактов и об-
стоятельств от этого кое-что прибавится. Где-то что-то застопорится, а
где-то появятся новые возможности... Ты и впредь будешь появляться,
влиять, присутствовать, тормозить и содействовать. И все будет проис-
ходить не без влияния Говорухи... Таким образом она, в сущности, бес-
смертна...»
30 апреля 2000-го мы с Катей были у родителей. Мама готовила
еду, я открыла «Мастера и Маргариту». Отец вдруг попросил не читать
главу «Никогда не заговаривайте с неизвестными». И тут в кухне поя-
вилась мышь. Она не обращала внимания ни на людей, ни на кота. И
кот на нее не реагировал.
О дальнейшем мама рассказала так: «На следующий день, в 4 ча-
са дня, Борис вышел во двор нашего дома, заговорил с неизвестными
и погиб».
Это случилось 1 мая, в мой 33-й день рожденья.
Анна Бердичевская написала о моем отце в предисловии к его
единственной книге, вышедшей в Москве в 2003-м благодаря ее дру-
жеским усилиям: «Он был филолог, читатель книг, глубокий и тонкий
знаток русской словесности. В мире семьи и домашней библиотеки он
был абсолютно свободен и даже, пожалуй, счастлив. Он был остро-
умен и добр. Изящен. И парадоксален. При очевидности таланта он
был абсолютно не публичным человеком. Он был аристократичен...
Боря был замкнутым – и абсолютно открытым.
Невидимка...»
Папина книжка стихов так и называется – «Невидимка».
Мои родители были очень-очень разными. Папа насмешливый,
скрытный, любитель одиноких прогулок и размышлений. Автор чудес-
ных рассказов, неоконченного романа, единственной стихотворной
книги и блестящих афоризмов.
Маму поэт Юрий Беликов назвал «пестовательницей дарований».
Она действительно умела ценить и уважать чужой талант и готова бы-
ла за этот талант бороться. Общественный темперамент, резкость суж-
дений, бесстрашие. Романтизм, верность друзьям и принципам. Аль-
мира Георгиевна Зебзеева закончила очерк о ней словами: «Надежда
Гашева – боец, бескорыстный и бесстрашный: живой и умный взгляд,
сигарета в руке наотлет, горячая речь. Горячая душа».
В последние годы маминой жизни мы часто работали вместе над
разными книжными проектами. Когда уставали, сочиняли для разряд-
- 357-
ки шуточные стишки или пародии на очередной проект – сами на себя
(«Некоторые рукописи следует закусывать огурцом» – говаривал па-
па). Мама придумала нам общий псевдоним – Анна унд Марта Баден.
Всерьез она в последний раз опубликовалась в «Княженике».
Друзья, а особенно подруги, сетовали, что она бросила писать стихи.
Еще раз процитирую Анну Бердичевскую.
«Мы познакомились, когда она собирала княженику... звучит по-
этично.
“Княженика”, легендарный сборник стихов десяти молодых по-
этов-женщин, выпущенный Пермским книжным издательством в са-
мом конце Оттепели, в 1968 году.
Когда невозможная по тем временам книжка затевалась, мне
было девятнадцать, Надежде Пермяковой двадцать шесть... Я помню
ее в летящем платье, с легкими светлыми волосами... девочка из
Июльского дождя. Помню и маленьким пажем в черном брючном кос-
тюме с белым отложным воротником... Она была хрупка, но резка в
суждениях, женственна и юношественна одновременно, была сразу –
как лодка на волне, как парус, но и – капитан. Она была вдохновенна.
Она решалась на невозможное и это невозможное осуществляла.
Она была поэт.
Хотя стихов написала немного... По причине странной: слишком,
чрезвычайно любила СЛОВО. Она была ФИЛОЛОГ и до самозабвения лю-
била поэзию. К себе-поэту была бесконечно строга...
Одно из ее стихотворений, опубликованных в “Княженике”, пора-
зило меня еще в те времена. Какая-то завеса времени приоткрылась.
Я говорю: прощайте, мне пора.
А жизнь – она по-прежнему права.
Вот только от предчувствия утрат
Сегодня тяжелеет голова.
Я замолчу, не поднимая рук,
Когда-нибудь однажды, до зари.
И белая афиша на ветру
Мое не сможет имя повторить...»
Я понимаю мамин выбор. Это не был отказ от Поэзии – как от нее
откажешься! Она часто повторяла, что жизнь провела среди поэтов и
что такое настоящая поэзия, понимает хорошо. Стихов после «Княже-
ники» не публиковала. Но изредка писала. Хочу привести два. Оба
отыскались недавно в ящике письменного стола.
- 358-
***
Мне поэты читают стихи.
По ночам и по телефону.
В электричке.
В припадке тоски.
В переулках.
В
п
р
и
т
о
н
а
х
.
Видно, выпало нам до конца
Эту лямку тянуть. Эти жилы.
Значит, долю и я у Творца
Заслужила...
1 апреля 2004 г.
А вот второе. Оно не только о смерти, но и об их жизни. О том, как па-
па читал ей когда-то Тициана Табидзе.
***
Переливался звездный гравий.
Звучал твой голос ночью льдинной:
«Меня убили за Арагвой.
Ты в этой смерти неповинна».
Ты мне читал. И луны плыли.
От августа к рожденью дочки.
Ты мне читал. Тебя убили.
А остальное все неточно.
Шла жизнь твоя иным напевом,
Никто не знал на самом деле:
Тебя убили подо Ржевом
И на проспекте Руставели.
В том не кончающемся мраке,
Откуда родом каждый Каин.
В проклятом лагерном бараке.
В кровавой драке всех окраин.
Но лодочка, но твой кораблик
Еще плывет, в ночи взлетая.
«Меня убили за Арагвой...»
Пусть будет так. Я подтверждаю.
-359-
Я не представляю маму и папу друг без друга. И себя без них.
Они оба оказали и до сих пор оказывают на меня и мою дочь, их
любимую внучку Катю, огромное влияние. В самом высоком смысле. И
в самом бытовом. Помогают отыскать нужную книгу, проверить цита-
ту, продержаться, взглянуть на события под другим углом, нащупать
опору. Появляются, влияют, присутствуют, тормозят и содейст-
вуют. Особенно отчетливо я чувствую это в последние три года. После
семнадцати лет разлуки мои родители встретились.
В ночь после папиных похорон под майским снегопадом у нас
под окном пел соловей. В ночь после похорон мамы под окном пере-
кликались два соловья. Нет, не померещилось. Я полчаса стояла на
балконе и слушала их перекличку на воздушных путях.
На этом закончу. Что это была за жизнь, все равно не рассказать.
- 360-
Е. Соколовская,
выпускница 1970 г.
ДИНАСТИЯ? ЛОМАЕМ СТАНДАРТЫ...
Считается, что династия – это когда власть в государстве переда-
ется по наследству – от отца к сыну. Это классическое определение
династии. Есть и другое определение: династией называют семью, где
дети и внуки наследуют профессию родителей. Говорить о моей се-
мье, что у нас сложилась филологическая династия... Не знаю...
Но факт есть факт. Некоторые из моих родственников и правда
имели отношение к филфаку. Я училась, а потом несколько лет рабо-
тала именно там. Мой муж Владимир Соколовский...
Нет, он учился не на филфаке. Но он был писателем. Стало быть,
тоже какое-то отношение к нему имел. Мой сын Леонид там учился.
Его жена Лада тоже закончила филфак. Стала кандидатом филологи-
ческих наук. Ее мама Нэля Вагизовна Кириченко долгие годы была
преподавателем филологического факультета... Да, это все, пожалуй,
похоже на династию. Короче говоря, мы решили сделать так. Я рас-
скажу о Володе и Лёне. Лада расскажет о Лёне, себе и своей маме. Что
выйдет, пока не ясно. Но попробуем.
Итак, говорит Екатерина Соколовская
Изначально Володя собирался поступать именно на филфак. Но,
как известно, там надо сдавать иностранный язык. А в добрянской
школе, где он учился, последние два года изучения соответствующего
предмета не было по причине отсутствия преподавателя. Вот Володя и
решил идти в юристы. Но, учась на юридическом, он самостоятельно
пытался получать и знания, которые давали на филфаке. Не все, ко-
нечно. В те годы как-то не принято было посещать лекции на других
факультетах. Но Володя откуда-то раздобыл списки литературы, кото-
рые были у филологов. И прочитал все, что полагалось читать нашему
брату: по древнерусской литературе, и по литературе 19 и 20 веков, и
по советской литературе, и даже по литературе народов СССР. Более
того, он даже посещал творческий кружок, которым тогда руководила
Рита Соломоновна Спивак. Правда, посещал он его недолго. На мои
вопросы, почему он бросил это занятие, Володя обычно отмалчивался.
Но я и без его объяснений понимала причину. Все знают традицион-
ное отношение филологов к юристам. Видимо, Володе пришлось про-
чувствовать это отношение в полной мере на занятиях этого самого
творческого кружка. При этом, справедливости ради, должна заме-
- 361-
тить, что впоследствии, когда Володя уже стал писателем, иногда вы-
сказывался в том духе, что теоретическое знание литературы (в смыс-
ле знания произведений, уже написанных и ставших историей литера-
туры прошлого), ничто по сравнению с жизненным опытом человека,
решившего стать писателем. А что касается жизненного опыта, то с
ним у Володи было все в порядке. Он еще до поступления в универси-
тет много чего успел перепробовать. Работал на заводе, трудился
авиамехаником на аэродроме, учился на тракториста и даже закончил
курсы сантехников. Конечно, женившись на мне, он познакомился с
моими однокурсниками, общался с ними.
Но дает ли все это возможность утверждать, что писатель Влади-
мир Соколовский имеет серьезное отношение к филологическому фа-
культету пермского университета? Не знаю. Тут, как говорится, могут
быть разночтения.
Хотя, если посмотреть глубже, Володя по натуре был типичным
филологом. Чтение книг было для него, наверно, высшим наслажде-
нием. А ведь, согласитесь, нет филологов, которые не любят читать.
Что касается володиной биографии... Он научился читать в три года.
Научился по календарю, от которого каждый день отрывают листочки.
А в среде, где он жил, чтение считалось, мягко говоря, странным заня-
тием. И приехавшие однажды гости дали родителям Володи «доб-
рый» совет: «Не давайте ему читать, – сказали они. – Это очень опасно.
Он может сойти с ума». И родители ему действительно запретили чи-
тать. Под угрозой ремня. Но Володя нашел выход. Он стал читать но-
чью под одеялом, светя себе карманным фонариком. Если его ловили,
то попадало сильно. О Лёне, дипломированном филологе, все более
понятно. Он там учился, закончил. Но и здесь есть нюансы. На самом
деле Лёня хотел быть биологом. Однако по состоянию здоровья ему
нельзя было делать прививки от клещевого энцефалита. А без приви-
вок на биофак не брали.
Так Лёня оказался на нашем факультете. Ну конечно, к поступле-
нию туда его подтолкнула я. Рассказывала, какие там интересные пе-
дагоги, какие учатся интересные люди... Уже попав на филфак, Лёня
увлекся не столько процессом учебы, которая давалась ему очень лег-
ко, сколько внеучебными, так сказать, делами. Он принимал очень
активное участие в факультетском самодеятельном театре. Там у него
были друзья, с театром Лёня даже побывал в Финляндии и Франции –
на фестивалях студенческих театров. Именно на нашем замечатель-
ном факультете мой сын встретил свою будущую жену Ладу. И был с
- 362-
ней счастлив всю свою недолгую жизнь. Именно на нашем факультете
он уверился в том, что нашел свой жизненный путь, именно там он
решил стать сценаристом. Правда, здесь не обошлось без зигзага: был
момент, когда Лёня решил бросить университет и поступить на сце-
нарный факультет ВГИКа. Поступить не удалось. Один год в нашем
вузе пришлось пропустить. Но потом все вошло в прежнее русло, фил-
фак сын закончил, а сценаристом все же стал, трудился в фирме «Те-
леФормат», писал сценарии для популярного сериала «След».
Что касается меня, можно вспомнить историю моей несостояв-
шейся диссертации. На третьем курсе я работала в семинаре у Риммы
Васильевны Коминой. Помню, мы с моей университетской подругой
Верой Климовой рассматривали список тем для курсовой. Список был
роскошный: одна тема интереснее другой. Об Ахматовой, о Цветае-
вой, о Гумилеве... И была там одна – о рабочем романе. Ну такая, как
нам показалось, вызывающе неинтересная. «Ну как можно написать
курсовую по этой теме на пятерку?!» – воскликнула Вера. А у меня в
молодости была такая плохая особенность – меня очень легко было
взять на слабо. «А вот возьму и напишу!» – сказала я. И написала. И
пятерку получила. А на четвертом курсе вышла замуж. И, честно гово-
ря, мне уже все равно было, на какую тему писать курсовую. Родился
Лёня. Надо было писать диплом. Конечно, недолго думая, я продол-
жила ту же тему. Тем более, что продолжить и не бросать проблемы
рабочего романа советовала и Римма Васильевна. Диплом оказался
одним из самых интересных в том году. Комина рекомендовала и тут
не останавливаться, писать диссертацию. Так я стала соискателем. Че-
рез несколько лет, правда, я почувствовала, что сыта рабочим рома-
ном по горло. И вовсе не огорчалась, что не стала кандидатом наук и
что жизнь потекла по-другому. Сменив несколько видов деятельности, я
стала журналистом. Журналистика и филология друг с другом же не
диссонируют. Но и в журналистике я не стала гением... Володя? Да, он
был талантлив. Книги, которые он создал, талантливы. А многие ли их
помнят сегодня? Лёня? Все его замыслы должны были осуществиться. В
будущем. Но будущее не случилось... Вот такая получилась «династия».
Впрочем, может быть, рассказ Лады сможет исправить ситуацию?
Говорит Лада Соколовская
Филологическая династия... Или, может, династия ПГУ? Или даже
шире – семья, жизнь которой была связана с вузовским преподавани-
ем. Моя семья.
-363-
Воспоминая детство, я сейчас понимаю, что была практически
обречена пойти по этой стезе. Одно из первых детских воспоминаний
– дедушка сидит за столом, освещенным настольной лампой с матово-
зеленым абажуром, и что-то пишет, иногда перебирает выписки, га-
зетные вырезки. А кругом – книги, книги, книги. Книги стопками на
столе, набитые книгами многочисленные шкафы, книги на стульях...
Это дедушка, Вениамин Максимович, привил мне любовь к чтению,
поощрял мое любопытство, дал первое представление о методах по-
знания – подполковник, участник Великой Отечественной, орденоно-
сец, преподаватель истории партии в Пермском университете. Бабуш-
ка, Ия Петровна, тоже была вузовским преподавателем – правда, не в
ПГУ, а в Педуниверситете, и не филологом, а деканом биохимфака –
но это же частности, правда? Главное – ребенком я бывала на работе и
у дедушки, и у бабушки, и впитывала в себя все это – запах пачек с но-
выми методичками, только что из типографии, смешанный с запахом
свежей выпечки из студенческого буфета, шум, топот, гам перепол-
ненных студентами коридоров во время перерывов – и почти священ-
ную тишину тех же коридоров пятью минутами позже – идут лекции.
Ну а потом, немного позже, мама – Нэля Вагизовна, преподава-
тель кафедры русского языка и стилистики, тоже приводила меня к
себе на работу. Мама вела занятия практически по всем дисциплинам
из курса современного русского языка – по морфологии, синтаксису,
словообразованию, стилистике. Вела семинары, курировала диплом-
ников. Студенты ее очень любили – за то, что всегда объясняла, помо-
гала, направляла. Она все время была в работе – даже дома часто си-
дела со своими девочками-дипломницами. Писала статьи, лекции...
Эти ее лекции – написанные от руки разными чернилами, перечеркну-
тые, с вклеенными вставками (ведь наука не стоит на месте, все меня-
ется, а значит, хороший преподаватель должен постоянно менять лек-
ционный материал) – пригодились и мне, потом, когда я тоже стала
преподавать на этой же кафедре.
Но есть одна загадка, связанная с маминой университетской
карьерой. Она не защитила кандидатскую. Не то чтобы нечего было
защищать – нет, мама ее написала. Она была аспиранткой Маргариты
Николаевны Кожиной, профессора, создателя пермской школы функ-
циональной стилистики и основателя кафедры русского языка и стили-
стики. И Кожина считала, что мама к защите готова – а значит, так оно
и было. Но... по какой-то причине мама защищать кандидатскую не
стала. И причину эту она держала при себе: на все вопросы – коллег,
научного руководителя, семьи – загадочно отмалчивалась.
- 364-
Ну что же, понятно, что когда пришло время выбирать, «делать
жизнь с кого», передо мной такого вопроса даже не стояло. Естествен-
но, я выбрала филфак Пермского госуниверситета!
Студенческие годы. О них можно говорить бесконечно. Всем они
памятны – чудесная пора, лучшее время в жизни, лекции, книги, море
нового и интересного, друзья, книги, экзамены, снова книги... ну, по-
тому что филфак. Кто учился, тот хорошо представляет горы – нет,
ГОРЫ литературы (и нет, я вспоминаю это не с ужасом, а с ностальги-
ей) – залы библиотек и тома, тома, тома – ну, потому что филфак!
И, конечно, лучшее, что со мной произошло в это время, – это
знакомство с моим будущим мужем, Леонидом Соколовским. Он
был... необычным. Не таким, как все. Непохожим. Более погруженным
в какие-то внутренние миры. В философские конструкции. В литерату-
роведческие изыскания. В написание романа. Когда он рассказывал
тему своей дипломной работы – приходилось напрягаться, чтобы не
упустить смысл, потому что он перескакивал через, как ему казалось,
не требующие разъяснения общепонятные моменты. И не то чтобы он
таким образом как-то щеголял своим интеллектом – нет, он просто так
жил и так общался. И писал так же: мелким кудрявым почерком попе-
рек листа, потом сбоку, потом загогулиной вокруг абзаца – как мысль
легла.
И еще одно прекрасное воспоминание – это, конечно, театр «От-
ражение». Я там не играла, нет – я была его верной поклонницей, зри-
телем и посетителем всех репетиций. С коллективом «Отражения»
меня познакомил тоже Лёня – вот он там играл, и играл прекрасно!
Лучшие спектакли «Отражения» – «Антигона» и поэтичнейшие «Ми-
тиюки». Как жаль, что не сохранились кассеты с записями! Ведь с эти-
ми спектаклями театр ездил на множество театральных фестивалей –
и даже в Монако. И, конечно, душой «Отражения» были его бессмен-
ные руководители – режиссер Вадим Осипенков и музыкант и актер
Андрей Гарсиа – талантливые, харизматичные... К сожалению, обоих
уже нет в живых.
Потом – моя аспирантура, кандидатская диссертация под руко-
водством Елены Николаевны Поляковой, профессора кафедры тео-
ретического и прикладного языкознания, прекрасного, добрейшего
человека и моего лучшего учителя. А затем – преподавание на ка-
федре русского языка и стилистики. Работа вместе с мамой, там, где
(на другой, правда, кафедре) раньше работал дедушка – чем не ди-
настия?
-365-
К сожалению, время и расстояния прервали мою связь с универ-
ситетом – но не с лингвистикой. Сейчас я работаю в компании, которая
занимается созданием информационно-аналитической системы, из-
влекающей знания из массивов неструктурированных текстов (не
только на русском языке). И даже, как ни странно, продолжаю рабо-
тать со студентами – они приходят в нашу компанию на практику. А
Лёня – до последних дней – был, как и мечтал, сценаристом. О нем
вспоминает его редактор и друг Анастасия Демидова.
Говорит Анастасия Демидова
Мы познакомились с Лёней Соколовским лет 12 назад. Как ни
странно, он был моим... учеником. Мы с мужем тогда помогали Ирине
Николаевне Кемарской вести курс для сценаристов по сериальным
форматам, на которых активно работали. После одного из занятий
ехали вместе с Лёней в метро, «зацепились языками» и... так и оста-
лись вместе. За эти годы много было разных совместных проектов –
осуществленных и оставшихся в разработках. Мы работали дружной
командой. Стали почти семьей. У Лёни в нашей команде была уни-
кальная роль. Мы сидели в кафешках, на кухнях друг у друга. Приду-
мывали, обсуждали, спорили. Лёня молчал. А потом выдавал совер-
шенно парадоксальные идеи. На первый взгляд, они могли показаться
безумными. Но то, что мог придумать он, мы бы не придумали нико-
гда. Мы шли по стандарту. А он этот стандарт даже не ломал – сметал
просто. И на руинах своих банальных конструкций мы начинали уже
работать всерьез. Долгое время я была редактором Лёни. Его тексты
вызывали у меня ярость и восхищение. Ярость – от их формальной
небрежности. Восхищение – диалогами и образами, которые были
абсолютно живыми. Ему часто не везло с воплощением. На экране его
истории казались блеклым подобием того, что было написано. Он
придумывал уникальных персонажей с фантастически яркими исто-
риями и характерами. Мне было каждый раз интересно читать его тек-
сты. Редакторы поймут, какая это редкость. Когда заранее знаешь сю-
жет, до мельчайших подробностей, а все равно – интересно. Лёня был
замечательным другом. Мы могли часами болтать по телефону – о
работе, о Боге, о жизни, смерти и обо всем на свете... Он так искренне
радовался, когда его приглашали в гости... Так хотелось приготовить
для него что-то вкусное, необычное... Со мной навсегда останется его
голос по телефону, говорящий мне: «Здравствуй, Ася!» Не прощаемся,
Лёнечка. Это же расставание не навсегда. Еще увидимся...
-366-
А. Клоц,
выпускница 1967 г.
СЕМЬЯ ЛИ ЭТО?
Получив предложение написать статью в сборник «Филологиче-
ские семьи», решила прежде всего проверить этимологию слова «се-
мья». В древнерусском языке слово «семь» имеет значение «домоча-
дец», а «семья» образовано по аналогии «братья», т. е. это множест-
венное число от древнерусского «семь – домочадец». Числительное
семь – это омоним слова «семья», т. е. слова имеют одинаковое про-
изношение и написание, но не являются синонимами. В древности
семьей считались не только кровные родственники, но и слуги, живу-
щие с ними под одной крышей.
Не все люди, о которых я буду здесь рассказывать, жили под од-
ной крышей. Таких лишь двое – я и мой сын, который жил со мной до
22 лет и уже 18 лет живет не просто не со мной, а в далекой дали от
меня, но об этом я расскажу, когда речь пойдет о нем.
Но если сделать акцент не на родственных связях, то есть глав-
ным объединяющим словом в словосочетании «филологическая се-
мья» считать слово «филологическая», то, может быть, мы имеем пра-
во так называться, ибо каждый из нас в свое время провел несколько
лет под крышей здания, в котором располагался филологический фа-
культет Пермского государственного университета.
Являемся ли мы филологической семьей, решать уважаемым чи-
тателям этого сборника.
Когда говорят о семье, обычно выстраивается такой порядок:
отец, мать, дети, жены и сыновья детей.
Следуя этому порядку, начну с человека, который мог бы быть
главой нашей семьи, но не стал им. Это Леонид Бенционович Духин.
Он в 1972 году закончил филологический факультет Пермского госу-
дарственного университета, но никогда по своей специальности не
работал. Он был переводчиком и первым в Перми преподавателем
иврита. Переводил с английского, немецкого, польского, японского.
Японский и иврит выучил самостоятельно и, сдав экзамены по этим
языкам, получил лицензии. Переводы с японского языка давали не-
плохой доход, как и преподавание иврита. Он много лет до Пере-
стройки работал в главном переводческом бюро вплоть до того, когда
это бюро перестало существовать. Иврит он преподавал индивидуаль-
- 367-
но или в небольших группах в квартирах кого-нибудь из учеников.
В квартире моих знакомых я с ним и познакомилась. Кроме иврита,
нас объединял интерес к истории нашего народа и государству Изра-
иль, и еще много общего у нас оказалось. Всегда был страх перед ве-
роятностью проявлений антисемитизма и даже ареста, так как препо-
давание иврита было нелегальным и преследовалось правоохрани-
тельными органами. Такие были времена и такая обстановка в Перми.
Эти обстоятельства способствовали нашему сближению. Постепенно
разговоры на интересующие темы и прогулки по вечерней Перми по-
сле занятий переросли в романтические отношения, в результате ко-
торых у меня родился сын, который, единственный из нашей филоло-
гической семьи, не только остался верен русской филологии, но и
весьма преуспел в своей профессиональной деятельности, правда, не
в Перми и даже не в России, а за океаном. Но об этом ниже.
Что же касается Леонида Духина, для него филологическое обра-
зование не прошло даром. Когда переводческое бюро прекратило
свое существование и работу было трудно найти, Леонид устроился
работать дворником, что его вполне устраивало. Он начал писать не-
плохие рассказы о жизни евреев в местечках Польши, Прибалтики и
Украины, а также статьи по истории народа и про Холокост. Несколько
часов физической работы на свежем воздухе, а остальное время он
посвящал творчеству. Его рассказы и статьи публиковались в сетевом
журнале «Вопросы еврейской истории» под редакцией Берковича.
Итак. Самый главный филолог в нашей так называемой филоло-
гической семье – это мой сын Яша Клоц, который живет в США в горо-
де Нью Йорк и работает в качестве профессора славистики в Хантер
колледже Нью Йоркского городского университета. В этом универси-
тете много колледжей и отдельное подразделение – аспирантура.
С начала этого учебного года он преподает еще и в аспирантуре. По-
служной список Яши громадный, я выбрала самое важное и недавнее.
Но сначала факты его биографии. Окончив школу и заняв первое место
в региональной научной конференции школьников, Яша поступил в
два учебных заведения: на отделение лингвист-переводчик Пермского
Технического университета и на романо-германское отделение фило-
логического факультета Пермского государственного классического
университета. Причем на филфак его приняли без вступительных эк-
заменов, так как он занял первое место в ежегодной научной конфе-
ренции школьников. Поскольку учиться на бюджетной основе в двух
местах нельзя, ему пришлось выбирать, где учиться. По иронии судьбы
- 368-
он выбрал Политех. На третьем курсе Яша увлекся поэзией Иосифа
Бродского, написал хорошую курсовую работу, выступил на студенче-
ской конференции. Почувствовав, что ему не хватает филологических
знаний, он поступил на заочное отделение филологического факульте-
та Пермского классического университета. В одной с ним группе учи-
лась Наташа Емельянова. Они с Яшей поженились. Этот брак просуще-
ствовал недолго, но родился замечательный человек, мой ненагляд-
ный внук, которому сейчас 17 лет и живет он с отцом в Нью-Йорке.
Марк вовсе не филолог. Он биолог. Но, видимо, какой-то филологиче-
ский ген он унаследовал от родителей – у него красивая правильная
речь, и он пишет замечательные эссе про биологию, правда, не на рус-
ском, а на английском языке. Но я отвлеклась от рассказа о Яше-
филологе, вернее, слависте, как их там называют.
Наш филологический факультет Яша не закончил, так как посту-
пил в магистратуру в один из университетов города Бостона, где про-
должил свое филологическое образование. После двух лет магистра-
туры он подал документы в аспирантуру в 5 университетов США. Его
приняли в 4, в том числе в Гарвард и Йель. Он выбрал Йельский, так
как хотел, чтобы его научным руководителем был Томас Венцлова,
профессор, замечательный поэт и писатель. Аспирантура в Штатах
длится 6 лет. Такого срока аспирантуры нет больше ни в одной стране.
Первое время после того, как сын уехал, меня часто спрашивали,
сколько мне стоило его образование и удивлялись моему ответу: нис-
колько, всего лишь билет в одну сторону. Яша получал хорошую стипен-
дию, на которую снимал жилье, летал по миру, в том числе каждый год
1 или 2 раза в Пермь, материально помогал жене и сыну, приглашал
меня погостить и оплачивал мои билеты и пребывание в Штатах.
В 2011 году Яша защитил диссертацию, то есть получил степень
PHD – доктор философии, – эта степень присуждается всем гуманита-
риям. Тема его диссертации была «Изгнание как лингвистическое яв-
ление. Иосиф Бродский и поэзия русской эмиграции». Дальнейший
послужной список Яши следующий: 2012 – 2013
–
профессор слави-
стики в Вильямс колледже – одном из 7 лучших высших учебных заве-
дений Америки. 2014 – 2016
–
профессор славистики в Технологиче-
ском университете штата Джорджия в городе Атланта. Затем получил
грант и 2 года работал в Центре исследований Восточной Европы при
университете города Бремен в Германии. С 2016 года штатный про-
фессор славистики в Хантер колледже, а с нынешнего учебного года
еще и в отделении аспирантуры университета города Нью-Йорк.
-369-
Яша преподает американским студентам русскую литературу на
английском языке. Участвует в международных конференциях с док-
ладами, которые затем публикуются в сборниках. Читает лекции и
проводит семинары. Например, в ноябре 2018 года прочитал лекцию в
Московском «Мемориале» и провел семинар в Московской Высшей
школе экономики. Тема, исследованием которой в настоящее время
занимается Яша, «Тамиздат, холодная война, контрабандная русская
литература». Скоро выйдет его большая (700 страниц) книга на эту
тему. Часто выступает с лекциями в музее Анны Ахматовой в Санкт-
Петербурге. Одна их них – лекция «Анна Ахматова и русская эмигра-
ция. “Реквием” в тамиздате». И это далеко не все. Я выбрала самое
интересное.
Для своей исследовательской работы Яша получает престижные
гранты и стипендии. Например, грант для работы в институте Гувера
при Стэнфордском университете. В настоящее время, с декабря по
август 2020-2021, у него стипендия в «Уилсон центре» города Вашинг-
тон. Эта стипендия присуждается за серьезные исследования и проек-
ты. Яшин проект – «Тамиздат».
Помимо лекций и семинаров в колледже, Яша является курато-
ром студенческого русского клуба, мероприятия которого очень попу-
лярны не только среди студентов Хантера. Среди приглашенных гостей
этого клуба были такие известные люди, как Дима Быков, Ирина Про-
хорова, Лев Рубинштейн, Эллендея Проффер, Юз Алешковский, Псой
Короленко и многие другие.
Пару лет тому назад в Хантере совместно с Публичной библиоте-
кой Нью-Йорка и библиотекой другого университета Нью-Йорка была
организована выставка книг и документов, имеющих отношение к
тамиздату, причем материалы и редкие книги для выставки Яше при-
сылали люди из своих личных библиотек и архивов. Выставка длилась
две недели, и в это же время проходила международная конферен-
ция, в которой приняли участие ученые из разных университетов США,
России, Великобритании, Израиля.
Несколько лет подряд Яша был директором студенческой летней
программы-практики «Русская культура в странах Балтики». Каждое
лето 15-20 студентов вместе с Яшей приезжали в Вильнюс или Ригу.
Яша сам проводил занятия и экскурсии, привлекая к ним и местных
профессоров, и экскурсоводов. Студенты размещались в русскогово-
рящих семьях. Это было очень интересно. Я и сын Яши Марк в это
время были с ним и могли наблюдать, как Яша работал и какие впе-
чатления были у студентов.
- 370-
Ну и, наконец, некоторые, далеко не все публикации Яши.
1. Иосиф Бродский в Литве. Санкт-Петербург. Perlov Design Center.
2010. 383 стр.
2. Иосиф Бродский. «Изгнание из рая». Избранные переводы.
Санкт-Петербург. Азбука. 304 стр.
3. Перевод книги Тамары Петкевич «Жизнь – сапожок непарный».
Москва «Новое литературное обозрение» в оригинале. Перевод на
английский язык под заголовком “Memoir of a Gulag Actress”. Northern
Illinois Press. 2010. 481 стр.
4.Поэты в Нью Йорке. Москва. Новое литературное обозрение.
2016. 687 стр. Презентация этой книги состоялась в Перми, Санкт-
Петербурге и в «Ельцин-центре» в Екатеринбурге.
5.В настоящее время заканчивает писать монографию на тему:
«Тамиздат, холодная война, контрабандная русская литература». Это
будет книга на английском языке о русских писателях и поэтах, кото-
рых в свое время в Советском Союзе не печатали, чьи произведения
впервые были изданы за рубежом. В книге подробно описаны обстоя-
тельства публикаций. Каждая из 5 глав книги посвящена одному писа-
телю или поэту. Это Ахматова («Реквием»), Шаламов «Колымские рас-
сказы», Солженицын «Один день Ивана Денисовича» (почти одновре-
менно издан в СССР и за границей), Чуковская «Софья Петровна». От-
дельная глава посвящена Синявскому – Даниэлю.
6.Кроме этого, многочисленные статьи в сборниках различных
конференций в разных странах и городах.
Наташа Емельянова, которая училась с Яшей на филологическом
факультете Пермского классического университета, в 2007 году успеш-
но закончила учебу на факультете, получила диплом и в течение не-
скольких лет работала журналистом в разных СМИ Пермского края: в
газете «Звезда», на радио и на телевизионном канале «Ветта». Она
писала хорошие статьи на актуальные темы, репортажи о событиях
экономической и культурной жизни города, брала интервью у извест-
ных пермяков. Затем решила получить второе образование и поступи-
ла в Пермскую ВШЭ. Успешно закончила обучение и была приглашена
на работу в один из банков Перми. В настоящее время живет в Москве
и является одним из ведущих специалистов в крупном банке. На мой
вопрос, помогает ли ей в работе ее филологическое образование, На-
таша ответила утвердительно и пояснила, что, так как ей по роду рабо-
ты приходится проводить семинары и тренинги с персоналом разных
отделений банка, писать отчеты и инструкции, самой выступать на
конференциях, то лингвистическая составляющая филологического
- 371-
образования ей очень помогает. В ее работе много интересного, свя-
занного с ее филологическим прошлым. Например, Наташа исследует
синтез речевой аналитики, что предполагает изучение современной
речи и употребление определенных слов сотрудниками банков во
всей России. Как говорит Наташа, из этого могла бы получиться отлич-
ная научная работа.
Коротким рассказом о себе я хочу завершить эту историю о нашей
сложной филологической семье. Коротким, потому что подробно я
писала о том, как, учась на романо-германском отделении филологи-
ческого факультета (а в то время это был один факультет с двумя отде-
лениями: русская филология и филология иностранных языков: анг-
лийского, французского и немецкого), я практически получила образо-
вание и на русском отделении, так как прослушала почти все лекции
по русской литературе и лингвистике. На протяжении всех лет учебы
была членом научного студенческого лингвистического кружка. Об
этом моя статья под заголовком «Родной филфак» опубликована в
сборнике «Филологический факультет. События и люди» под редакци-
ей Н. Е. Васильевой и Б. В . Кондакова в 2011 году. Хочу лишь добавить,
что именно знания, полученные мной на русском отделении филфака,
стали определяющими в моей судьбе и жизни. Благодаря этому, моя
связь с сыном оказалась не только кровной, но и профессиональной. Я
всегда первая читательница всех его трудов. Прислав мне очередную
свою статью или текст выступления на конференции, Яша всегда спра-
шивает мое мнение, просит сказать или написать, что, по моему мне-
нию, нужно изменить, с чем я не согласна. На протяжении всех 18 лет
я, чем могу, помогаю Яше. Иногда я это делаю, чтобы просто сэконо-
мить его время: например, набор текста. А зачастую бывает и более
творческая работа, например, переводы. И тут мне помогают знания,
приобретенные на английском отделении. Ведь моя профессия все-
таки – английская филология. Но то, что дал мне «русский» филфак,
нельзя недооценить – помощь и посильное участие в работе самого
дорогого человека. И за это я благодарна моему родному филологиче-
скому факультету.
- 372-
А. Королев,
выпускник 1970 г.
ДИНАСТИЯ... НЕОЖИДАННЫЕ РИФМЫ И РИФЫ
Предложение Нины Евгеньевны Васильевой написать о филоло-
гических династиях нашего факультета на собственном примере –
не скрою – отчасти застало меня врасплох, я как-то не соотносил свою
судьбу с династиями... ну какая такая династия? Мой отец – инженер,
мать – студентка, не окончившая из-за войны киевский вуз. Советская
интеллигенция в самом первом поколении! У нас и книг-то практиче-
ски не было, брал книжки в городской детской библиотеке, где полу-
чил нагоняй от очкарика-библиотекаря за желание почитать арабские
сказки тысяча и одной ночи, я не понимал его эротической бдительно-
сти: еще чего? Рано!
В библиотеке школы было уже попроще: Майн Рид, Фенимор
Купер выдавались без препон, хотя, честно говоря, те, кто читал
«Квартеронку» Майн Рида, могли хлебнуть не меньшей эротики, чем
в арабских фантазиях... к чему я клоню? К тому, что мое решение по-
сле аттестата поступить на филфак ПГУ было и случайностью, и ком-
промиссом, отпахать три года в армии рядовым солдатом мне никак
не хотелось...
И вдруг роскошь тогдашнего университета и нашего факультета,
какие люди! Какие лица! Снова и снова повторяю азбучную истину: в
Перми 50-60-х и 70-х гг. не было более стильного места для саморас-
крытия и роста, чем университет. Кембридж на Каме!
Своеобразие момента было еще в том, что филологи легко впус-
кали нас в дом. Например, Леонид Сахарный... его комната в бараке
была башней ума и психолингвистики для такого неуча, как я. А наши
застолья с красным вином и жареным сулугуни, когда мы сочиняли
новые сценки для «Кактуса», раскрыла свой дом (точнее, комнату в
общежитии универа на ул. Белинского) и Нина Евгеньевна с мужем
Женей Тамарченко, вот уж блистательная пара! А кульминацией этого
путешествия в мир духа стал Дом ученых на Комсомольском проспек-
те, где я, житель барака, построенного пленными немцами, попал в
квартиры профессора Сарры Фрадкиной, Льва Кертмана, чуть позже в
дом Риммы Коминой, дивные интерьеры, огромные библиотеки,
письменные столы, кресла, обитые кожей, бюро, телефоны на столах в
кабинетах, шкафы с книгами за стеклом, рай! Мир достатка и матери-
альной прочности...
- 373-
В этом же ряду оказались дома попроще, например, квартира
моего научного руководителя по диплому («Петербург» Андрея Бело-
го) Риты Спивак и ее супруга Льва, плюс очаровательная мама... Или
семейное гнездо филологов Гашевых: сама Нина Васильевна и ее суп-
руг замечательный журналист Николай Гашев, вот уж династия, куда
завертело судьбу десятка самых ярких умов города.
Замечу: и завоевать, и удержать внимание столь строгих, хотя и
благожелательных людей, было ой как не просто... Вариться в элите –
рискованная затея, тут проходишь проверку ума, души, порядочности,
честности, демократической широты самым причудливым образом.
Уф, только после столь долгой преамбулы я, наконец, перейду к
собственной арифметике. Моя личная пермская филологическая ди-
настия – это я, плюс моя любимая Оля Галахова, плюс ее мама Полина
Васильевна Галахова и ее отчим Феликс Макарович. Да, всего четверо,
но все филологи, о которых еще в античности было сказано, что есть
филология по сути – это есть любовь к слову? А вот в словаре у Даля
еще пристальней: любословие.
Этим качеством мы четверо и были отмечены (об отчиме Оли,
Феликсе Макаровиче Бобкове, филологе, директоре школы приходит-
ся говорить в прошедшем времени...).
Помню свой первый визит в этот дом, зимой 1978 года... Я в ще-
котливой ситуации потенциального жениха, но мне, пардон, уже за
тридцать лет, позади неудачный, правда короткий, брак. А Оленька –
чудо, ей всего 20 лет, она студентка третьего курса моего же филфака
и моего любимого университета.
Мы познакомились в пушистый зимний день накануне Нового го-
да... Меня поразила дивная харизма голубоглазой блондинки в духе
Питера Пауля Рубенса (вспомните Шубку Рубенса – вот точный портрет
Оли тех лет), изумил ее вкус, ее ум... Дом рядом с театром Оперы и
балета был полон шарма, книг, света, лоска благополучной семьи –
еще бы, Полина Васильевна – глава Пермского гороно, один из самых
влиятельных чиновников советского времени в нашей области. Коро-
че, подумал я про себя, у тебя нет никаких шансов, ей-ей получишь от
ворот поворот, чудные бутерброды с семгой и ласковым кофе только
усилили мою тайную неуверенность. А тут еще мальчиш-кибальчиш с
деревянным автоматом через плечо, Олин младший брат Алеша: «Ты
чего к нам ходишь?»
...Но будущее, как известно, отбрасывает тень предстоящего. Я
все-таки понравился, моя творческая репутация была безупречна.
- 374-
Журналист «Молодой гвардии», я только что победил на конкурсе
Госкино СССР, и мой сценарий «Каждый охотник желает знать, где
сидит фазан» готовится к запуску на киностудии им. Горького. Я факти-
чески уже одной ногой в Москве, на Пермском ТВ снято три фильма по
моим телесценариям, бэкграунд что надо. Наконец, мои филологи и
лингвисты: Нина Евгеньевна Васильева, Нина Васильевна Гашева, Лео-
нид Сахарный, Соломон Адливанкин, Сарра Фрадкина, Рита Соломо-
новна Спивак, Римма Васильевна Комина, а еще Надя Гашева, друзья-
писатели Лев Давыдычев и прочие-прочие любители слов, наконец,
мои друзья филологи: Леня Юзефович, Василий Бубнов, физик Игорь
Муратов (все они гости на свадьбе) дают мне прекрасные характери-
стики.
Одним словом, летом 1980 года мы стали династией – мужем и
женой. Оля к тому времени поступила в столичный ГИТИС, в чем я ее
горячо поддержал. Мы совершили свадебное путешествие на Кавказ,
в горы вокруг Сухуми, где в деревнях вокруг Мерхеули с каменными
домами и бассейнами жила армянская родня Полины Васильевны и
где прошло Олино детство, купались в море. Еще в мае мы сняли квар-
тиру в Москве, на окраине. Я написал первую пьесу для театра, чтобы
попробовать поступить на Высшие Театральные курсы при том же ГИ-
ТИСе. Слава Богу, она прошла первый отбор, и ранним утром
24 августа 1980 мы с молодой женой сели в поезд. На перроне в сле-
зах, но счастливая моя любимая мамочка. Поезд медленно тронулся,
зеленой змеей выползая на мост через Каму. Развернулся мощным
городским ландшафтом город. Вон Свято-Троицкий кафедральный
собор-Галерея в начале Проспекта, вон пузатенькая Слудская церковь,
где меня крестили, вот корпуса Телефонного завода, а еще порталь-
ные краны вдоль набережной. А вот заветные немецкие корпуса кам-
ского Кембриджа, вся моя родная любимая Пермь, город, куда мы
уже никогда не вернулись. И которому я так благодарен... и где я по-
рой по ночам брожу с помощью Гугл и оглядываюсь в слезах...
2
6
.
0
8
.
2
0
2
0
М
о
с
к
в
а
- 375-
Н. Горланова,
выпускница 1970 г.
ДИНАСТИИ
Филфак, родной! В буквальном смысле этого слова! Теперь кровь
филологов – в жилах моего мужа!
Дело был так. В 2007 году Славе нужно было сделать сложней-
шую операцию... и с меня потребовали 28 доноров... Шло лето, настал
и сентябрь... но 28 человек найти я не могла! Уже три ночи проведены
без сна... Что же делать? У меня трещало в голове (это начинался ин-
сульт).
И вдруг звонит наш друг Аркадий Ютт:
– Я повесил в универе объявление, что Славе нужна кровь... вдруг
кто-то откликнется?
Спасибо! Почему-то я не догадалась!
А я каждый сентябрь у Нины Евгеньевны Васильевой читала на
филфаке лекцию о писательстве. И вот дети откликнулись! Пришло 37
студентов-филологов, которые сдали кровь для Славы!
Это спасло нас!!! Аркадий с тех пор уехал в Израиль, я с ним об-
щаюсь в фейсбуке и благодарю!
По сравнению с этим кажутся давно минувшими лекции и курсо-
вые, случившиеся в годы нашей учебы.
Но они были, конечно же, и важными, и интересными! Я любила
Бахтина. Он нависал надо мной долгие годы – влияние Риммы Василь-
евны Коминой. Низ – начало плодородное? Возрождающее? Так пусть
в рассказах будет больше низа!
Когда я уверовала, трудно мне стало. Чем заменять народно-
смеховую культуру? А Лотманом! Его теория о множестве точек зре-
ния – как основе гениальности автора – помогла мне сменить концеп-
цию. Это уже под влиянием Риты Соломоновны Спивак!
На выпускном еще Р. В. сказала мне, что я буду писателем. Я? Да
с чего это? Но я стала в итоге писать...
Мы с мужем приглашались в дом Р. В. на обеды – там велись глу-
бокие беседы на разные темы – не только филологические. Шла пере-
стройка – политика вторгалась в жизнь, мнение старших порой не сов-
падало с нашим, но потом оказалось, что правы были и они!
Муж мой Вячеслав Букур учился сначала в медицинском, но бро-
сил и поступил на филфак. Он любил фантастику и писал фантастиче-
- 376-
ские рассказы. Его ценили издатели, приглашали на разные всесоюз-
ные семинары и пр. Был он в Екате, затем 2 недели провел в Прибал-
тике. Но все бросил и в итоге стал писать в соавторстве со мной.
Я не очень ценила фантастику как жанр. Там герой в затрудни-
тельной ситуации вытаскивает бластер-«кубастер»... и спасает мир. Это
разврат... Но в наших сказках все же мы не избегали и бластера...
Соавторство – это смеситель горячей и холодной воды. Мы много
написали вместе: романы, повести, пьесы, рассказы, десяток сказок,
эссе. Были мы в финале премии «Русский Букер» с «Романом воспита-
ния», ездили на букеровский банкет. Нас публиковали все журналы:
«Урал», «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Волга», «Нева», «Звез-
да», «День и ночь»... а также – в Израиле и Франции. В прошлом году в
Париже вышел на французском языке наш «Роман воспитания».
Наша младшая дочь Агния тоже закончила филфак. Она писала у
Бориса Кондакова – о Гоголе. Ну, о фантастическом и религиозном. То
сеть и Славин интерес к фантастике, и мой (вера, воцерковление) – все
повлияло на дитя. Об этом мы написали смешной рассказ «Коля».
Я его прилагаю.
Нина Горланова,
Вячеслав Букур
Коля
Рассказ
1
Нина Горланова, Вячеслав Букур – родились в Пермской области.
Закончили филологический факультет Пермского государственного
университета. Авторы «Романа воспитания», в 1995 г. признанного
лучшей публикацией «Нового мира», повестей «Учитель иврита»,
«Лидия и другие», «Тургенев – сын Ахматовой» и др. Печатались в
журналах «Звезда», «Знамя», «Новый мир», «Октябрь». В 1996 г. во -
шли в shortlist претендентов на Букеровскую премию. Постоянные
авторы «Континента». Живут в Перми.
Шмякну шапкою о сцену,
Бровь соболью заломлю:
Дайте лексику обсценну –
Я про Гоголя спою.
1
Опубликовано в журнале «Континент», No 130, 2006.
- 377-
Мы начали сочинять частушки с того апрельского дня, когда дочь
спросила:
– К нам кошка зашла, да? Похожая на ту, что Гоголь утопил?
Тема диплома у Агнии: «Мотив страха в творчестве Н. В. Гоголя».
Она ночи не спит – анализирует эти четырнадцать томов. И с марта
начались у нее свои страхи: сначала казалось, что кто-то незнакомый
ходит у нас по коридору. А теперь вот уже и кошка!
– Агния, никакой кошки нет, а вот паук есть – смотри: на потолке.
Откуда он выполз? Огромный, красавец...
Паук долго осматривал комнату всеми восемью глазами, не на-
шел никакой пищи и уполз на восьми своих ногах за картину «Ахмато-
ва, гладящая индюка».
– Мне бы восемь глаз и ног! Ничего не успеваю! Диплом, да еще
сутки через сутки работаю в кафе!
Агния взрыднула и вдруг замерла, как природа у Гоголя, которая
словно спит с открытыми глазами (есть ли более гениальные слова в
мировой литературе?!).
Тут-то мы и поняли: не отсидеться! Если уж наших гонораров не
хватает, чтоб доучить младшую дочь, то надо помочь ей диплом напи-
сать.
И полетели имейлы в Москву – Софье Мининой, в Париж – Ната-
лии Горбаневской, в Израиль – Аркадию Бурштейну: для диплома по
Гоголю отсканируйте нам «Семиотику страха», умоляем!
В ответ обрушились Гималаи электронных импульсов, несущих
нам страницы Зощенко о страхах Гоголя, стихи Кальпиди – для эпигра-
фа и – конечно – эссе Набокова.
– Мама, Набоков сравнил Гоголя с мотыльком!
– Не обращай внимания, Набоков в каждом писателе видел тако-
го же Набокова.
А Наташа прислала из Сети интервью Гуревича, который по сред-
ним векам! И спасибо!!!
Нужно добавить, что наши друзья обратились к своим друзьям, а
те – к своим, так что только папуасы Новой Гвинеи не участвовали в
дипломе нашей дочуры. Зазевались.
Как у Гоголя в штанах
Поселился сильный страх.
Ростом выше он горы,
Это все метафоры.
- 378-
Мария Ивановна Гоголь-Яновская! Спасибо вам, что родили нам
Колю. Но зачем вы ему, пятилетнему, сказали с такой фамильной яр-
костью неумолимые слова о Страшном суде? Бедный гений представ-
лял всю жизнь адские сковородки, чертей, а мы теперь расхлебывай!
Дочь сказала:
– Каждую ночь вижу во сне Гоголя... Какая ты бледная, мама, се-
годня.
– Да я тоже всю ночь Николая Васильевича искала. Якобы я хоте-
ла узнать, чего он больше всего боялся. Тайну личности... Куда ни при-
ду, везде говорят: сегодня изволили съехать. А на последней квартире
говорят: вчера он скончался. И все служанки, которые мне отвечали,
развешивали сушиться нижнее белье. Словно говоря: тебя нижнее
белье интересует – вот тебе нижнее белье!
– Гоголь, Гоголь, ты могуч, только все же нас не мучь! Ну чего ты
вдруг пристал к двум женщинам: моей жене и моей дочери! В жизни –
вроде – ты к женщинам не приставал.
– Папа! да, его эволюция: от страхов мифологических перед нечи-
стью до страха Божия... через страх женитьбы! – закричала дочь и
опять взрыднула. – В конце жизни он так боялся Страшного суда, что
заморил себя голодом! Но у меня просто времени нет это все напеча-
тать!!! Сменщица заболела, я каждый день в кафе, каждый день!
– Агния, все наоборот! Он от страха Божия шел к гордыне – в
«Выбранных местах переписки с врагами»...
– Дайте подумать! В «Вечерах на хуторе» – да – черт всегда побе-
жден то молитвой, то чудом, а потом Гоголь впал в прелесть, просил
слушать его как самого Господа. Вот – смотрите: я подчеркнула в тек-
стах все о страхах, но... но! Зашиваюсь я! Время, где тебя брать?!
Мы сразу кинулись к двум компьютерам – набирать пятьдесят
страниц цитат, при этом перебрасывались мечтами: у нас скоро, скоро
наступит безоблачное послегоголевское время! Можно будет открыть
кафе, назвать его «Об Гоголя!». А на стены кафе – эти цитаты все...
Но про то, что известный парижский гоголевед Шварцбайн запил
после усердного изучения нашего Николая Васильевича, мы не сказа-
ли дочери ни слова.
Нас уже, кстати, тоже подмывало чего-нибудь дерябнуть. Потому
что Гоголь все время мелькал в глазах и в ушах. Идем по проспекту:
ель похожа на Поприщина – так же безумно скорчилась. А ясень, ка-
жется, сейчас свои пропеллерные семена включит и умчится от всего
женского пола, как Подколесин.
Спасались частушками.
- 379-
Как по речке, по широкой,
На моторке без руля
Выплывает Коля Гоголь –
Вместо носа – два х.я...
– Слушай, Агния, а есть – наверное – параллельный мир, где Го-
голь не родился?!
– Ну, папа, зачем ты? Я люблю Гоголя. К тому же ты сам говорил,
что все другие варианты истории – хуже...
К тому же иногда мы находили и утешение:
– Такие вчера огурцы плохие купила.
– А, Гоголь бы еще хуже купил.
Как на речке на Днепру
Возле тихой рощи
Коля Гоголь поутру
Огурец полощет.
Агния в это время ставила на полку том Мережковского: мол,
полночи его перечитывала – у оппонента диссертация по Мережков-
скому, – ой, задаст много вопросов, сил нет...
И мы запели на два голоса:
Коля Гоголь – что такое?
Мережковский вопросил.
Неужели что-то злое?
На диплом уж нету сил...
И ведь знали же, что, если запоем дуэтом, с другого конца города
сразу же прибегает Камилла! Но не удержались.
Камилла Красношлыкова – это ее псевдоним, а настоящие имя и
фамилию мы вам не скажем. И не надо нас подпаивать. Бесполезно!
Появляется она так: скользнет умной тенью за соседом нашим по
кухне, прошелестит по диагонали комнаты, несмотря на свои каблу-
чища, и сразу:
– Всегда у вас в каждом углу то внук, то щенок шевелится!
К счастью, внуки (сыновья старшей дочери) еще так малы, что не
обижаются на такие слова. Да и мы тоже не обижаемся, потому что в
руках у гостьи – как обычно – благоуханный узелок, а там... о-о-о! что-
то новое – сморчки, томленные в сметане!
Но с другой стороны, сморчки – это русская рулетка, ведь на мил-
лион один встречается ядовитый...
– А, будем самураями. Самураям не страшна смерть! – браво вос-
кликнула Камилла.
- 380-
И погрузились мы в этот смак волшебный. Ну, знаете: стоны,
вздохи, причмокивания. Разложив всем еще по одной порции, Камил-
ла и говорит светски так:
– Кстати, я наконец-то развелась с мужем.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы сообщение о разводе начина-
лось со слова «кстати»? Вот и мы тоже.
– Со своим мужем? Как? Ты еще недавно твердила: без мужа –
как без помойного ведра!
– Он женился на мне по заданию КГБ.
Мы тут сразу бросили переглядываться, а то она подумает, что мы
тоже из КГБ.
– Да зачем ты нужна им? Слушай, Мила, ты же была нормальной
журналисткой, писала о передовиках.
Она снисходительно закурила и сказала:
– От ваших слов сердце забилось как-то по диагонали. А вы знае-
те, что все повести Юрия Полякова написала я?
– Ты?Дакакжеэто?
– Так. Я посылала рукописи в журнал «Юность», а он...
–Н
у... где бы ты взяла материал для армейской повести «Сто
дней до приказа»?
– Так я ведь в газете работала – с людьми встречалась.
Тут какая-то штора отдернулось, и нас понесло в другой мир, где
Гоголь крадет рукописи у Платонова, а тот – у Чаковского. Мы стали
отчаянно выгребать против течения: Камилла, ты нам НИЧЕГО не при-
носила, мы ни одной рукописи у тебя не украли...
– Ну, кроме двух-трех гениальных идей, брошенных у вас вот так
же, в застольной беседе.
Мы немного ошалели: Мила-Милочка, назови хотя бы одну гени-
альную идею – захотелось побыть гениями.
Она посмотрела строго, покачала головой:
– Вы все, все исказили в своем «Романе воспитания». Вздумали
написать, будто с Настей вы не справились, а на самом деле я ее вам
перевоспитала. Пару раз побеседовала, и девку как подменили!
«Узнаешь Гоголя!» – просигналили мы очками друг другу (как он
просил Аксакова: «Обращайтесь со мною так, будто я драгоценная
ваза»).
– Все-таки зря ты развелась с Дмитрием – керамисты сейчас хо-
рошо зарабатывают.
– Керамист! да вот, увидите: похоронят его в форме полковника
ФСБ и целая колонна будет нести за ним ордена на подушечках...
- 381-
– Мила, зачем ты так! Пусть человек живет до ста лет.
И тут нас спасли родные и друзья. Сначала Лена шла мимо и
свернула к нам, потом Лана с мужем. Затем средняя дочь вошла с сы-
ном, мужем и свекровью, то есть нашей любимой сватьей.
Лана тотчас принялась резать овощи на салат, поводя знатными
плечами.
– Такой приступ астмы вчера у сына был – начала она рассказывать.
– Ой, я знаю новое средство от астмы! – вскричала Лена. – Бе-
решь килограмм цветков белой сирени...
–Ну
уж нет, – взмахом ножа остановила ее Лана. – Нам сейчас
нужны приступы астмы. Чтобы от армии откосить.
В это время как раз и вернулась из университета наша Агния.
– Почему мне так мало задавали вопросов? – спросила она.
Повисла тишина. Мы со страхом спросили:
– Ты защитилась по Николаю Васильевичу?
– Да, четверка. Но почему они не задавали вопросов? Я всю ночь
не спала, приготовила сорок ответов.
В это время под симфонию мобильных телефонов поднялась на-
ша валюта – настроение.
Когда эсэмэски были прочитаны, все, кто накопился к этому мо-
менту в квартире – мы, дети, внуки, зятья, одна сватья и друзья, – за-
плясали и запели:
... Танго и вино
Любви недаром нам дано!
В самозабвенном семейном танце мы с треском сошлись лбами!
Посыпались разноцветные искры, и в их свете стали видны:
Софья Минина, волшебно скачущая в юбке с зебрами одновре-
менно и здесь, и в Москве,
Наталья Горбаневская в фартуке, выплясывающая одной ногой в
Перми, другой в Париже возле плиты,
Аркадий Бурштейн выглянул из города Цорана, что в земле Изра-
ильской, посмотреть, что за шум с Урала, и не удержался – тоже оглу-
шительно свистнул и заплясал.
Не вставая с дивана, плавно покачивались на пышных ягодицах
две подруги, Лана и Лена, каждая со своим счастьем: одна беззубая,
но с мужем, другая без мужа, но с зубами.
И даже коммунальный сосед выпал из своей комнаты, гремя
квадратными плечами и подхватил хмельным голосом:
– Аааааааааааа! Никто меня не любит! Водка с неба не падает!
Примерно мы знаем, кого надо жалеть. Всех.
- 382-
Л. Юзефович,
выпускник 1970 г.
О ВОЛОДЕ
Когда уходят близкие, мы чувствуем вину перед ними даже в том
случае, если вины вроде бы и нет. А у меня перед Владимиром Вини-
ченко – есть. Я очень давно не перечитывал его стихи, перечитал толь-
ко в те дни, когда он уже уходил от нас, и не успел при жизни сказать
ему, как они хороши, потому что понял это с объяснимым, наверное, и
все-таки непростительным опозданием. Время пошло им на пользу,
как бывает только с честно сработанными вещами, – они становятся не
устаревшими, а старинными. С поэзией такое случается чаще, чем с
прозой, поскольку она прочнее сохраняет дух времени и удерживает
его дольше. Пример тому – написанная Володей почти полвека назад
замечательная повесть в стихах «Баллады старого барака»: она свиде-
тельствует не только о том времени, которому посвящена, но и о том,
которое ее породило. Одно наложилось на другое, и эти памятные
мне с молодости стихи сделали лучшую из всех карьер, которую мо-
жет сделать литературный текст, – стали источником по истории наше-
го поколения. К несчастью, я понял это слишком поздно, отсюда и чув-
ство вины перед Володей.
Поэзия меня с ним и свела. А еще – знаменитый Мотовилихин-
ский пушечный завод, он же машиностроительный им. В . И. Ленина, а
чуть раньше – п/я210. Я оказался там, рано закончив школу, успев
один семестр поучиться на мехмате Пермского университета, но бро-
сив его в надежде поступить потом на исторический или филологиче-
ский факультет. Володя – по причине более приземленной: ему, без-
отцовщине, нужно было зарабатывать на жизнь. Я состоял грузчиком-
экспедитором при инструментальном складе, развозил по цехам рез-
цы, сверла и фрезы, Володя работал слесарем-монтажником в цехе
No 18. До того мы учились в одной школе – No 97 в той же Мотовилихе,
но он был на класс старше, а в отрочестве это рубеж почти непреодо-
лимый. Школьниками мы друг друга не знали, познакомились весной
1964 года, когда оба стали ходить в литературный кружок при редак-
ции газеты «Мотовилихинский рабочий». В этой заводской многоти-
ражке впервые были напечатаны и стихи Володи, и мои. В кружке со-
стояли два страстных краеведа, мемуарист-брат героя, которому ни в
коем случае нельзя было сказать, что он врет, токарь-баснописец, об-
личавший хапуг и прогульщиков, пожилая сказочница из заводоуправ-
- 383-
ления и с десяток лириков разного поэтического темперамента, в том
числе мы с Володей. Мужчины, в отличие от нынешних литературных
школ и студий, преобладали. Руководил этим бедламом журналист и
поэт, впоследствии прозаик Николай Кинев. Володе было тогда сем-
надцать лет, мне – шестнадцать, и на нашего двадцатитрехлетнего
мэтра мы смотрели как на человека весьма и весьма почтенного воз-
раста. С той весны и до моего отъезда из Перми в 1984 году, то есть на
протяжении двадцати самых важных лет человеческого существова-
ния, мы с Володей встречались если не ежедневно, то еженедельно
наверняка. Он был не просто одним из моих друзей, не просто членом
нашей неразлучной дружеской четверки (кроме нас, в ней состояли
журналист Василий Бубнов и писатель Анатолий Королёв), но самым
близким мне в Перми человеком. Понятное дело, последние годы мы
виделись редко, но огня юношеской дружбы нам хватило на то, чтобы
греться возле него всю жизнь.
Я помню Володю разным, но если думаю о нем, вижу его таким,
каким он был в молодости, – высокий, худой, с широченными мощ-
ными плечами, чуть сутуловатый той элегантной сутулостью, которая
бывает у очень физически сильных людей. Рядом с ним на неспокой-
ных мотовилихинских улицах я всегда чувствовал себя в безопасности.
Кто-то из древних сказал, что души подобны телам, в которых они
обитают. За долгую жизнь и при кое-какой, скажем так, профессио-
нальной наблюдательности я пришел к выводу, что это не просто бро-
ская фраза. Даже вступая на зыбкую почву метафор, я не скажу, что
стихи – душа поэта, тем не менее они не то чтобы отражают облик ав-
тора, но как-то интимно связаны с его телесной сущностью. Баллады
Володи, само их звучание, ритм, тон, настроение, странно-органичное
соединение тяжеловесности с изяществом – все это гармонично соче-
тается с живущим в моей памяти образом молодого человека в веч-
ном синем свитере. Для меня это знак подлинности запечатленного в
слове чувства.
«Я пришел из детства», – сказал о себе Сент-Экзюпери. Мне ка-
жется, все мы делимся на тех, у кого корни уходят в глубинный пласт
детского опыта, и тех, кому для формирования личности важнее слой
более поверхностный, – не детство, а юность. Я отношусь к последним,
Володя – к первым. Полуголодное, нищее барачное детство 1950-х
сформировало его характер, его мужественность, присущее ему поня-
тие о долге, наконец наивную уверенность в том, что справедливость –
вещь вполне достижимая, если искать ее в правильном месте и с при-
менением передовых методик. Поэтичность его взгляда на мир в не-
- 384-
частом альянсе с ответственностью рано повзрослевшего мальчика –
тоже оттуда, из его детства.
Мне нравятся стихи Володи. Глядя на осенние листья, я вспоми-
наю «всех обреченных / Проскрипциями будущей зимы» из стихотво-
рения «Сентябрь», а на берегу Камы, которую Володя подростком пе-
реплывал на спор, – мудрое и печальное стихотворение «На том бере-
гу», но говорить о стихах трудно. Мне всегда казалось, что лучший спо-
соб продемонстрировать кому-то достоинства того или иного поэтиче-
ского текста, – вслух, с выражением прочесть его по памяти. Лириче-
ские стихи Володи живут во мне строфами и строками, но больше все-
го я люблю у него ту вещь, которую он и сам считал своей лучшей, –
«Баллады старого барака».
Володя писал эти баллады в 1970-х. К тому времени я перешел со
стихов на прозу («года к суровой прозе клонят») и ощущал себя чело-
веком, идущим по дороге литературы в верном направлении, но
ушедшим по ней гораздо дальше, чем мой бедный друг, который про-
должал пробавляться рифмами и не садился, как того требовал воз-
раст, за стол, чтобы написать роман или хотя бы повесть. Я попросту не
понимал, что прозаик созревает медленнее, чем поэт, и что стихам
Володи суждена куда более долгая жизнь, чем нашим тогдашним про-
заическим опытам.
В то время нельзя было послать другу свой опус по электронной
почте. Ждать журнальную публикацию приходилось многие месяцы,
книгу – годы, а прочесть стихи близкому человеку хотелось немедлен-
но после того, как они сочинены. В то счастливое для нас время новое
стихотворение было достаточным поводом для встречи. Володя после
женитьбы на Татьяне Тихоновец стал домоседом, и обычно не он при-
ходил ко мне с новым стихотворением, а я заявлялся к нему в их с Та-
ней гостеприимный дом недалеко от площади Дружбы. Помню, как он
подавал мне свои напечатанные на машинке листочки с этими балла-
дами. На лице у него было написано то чувство, которое выразил лю-
бимый им Александр Межиров: «До тридцати поэтом быть почетно, /
И срам кромешный – после тридцати». Володя немного стеснялся, что
занимается таким несолидным для тридцатипятилетнего мужчины
делом, а я, завязав со стихами и не подозревая, что под старость снова
начну их писать, важничал в комичном, как я со стыдом сейчас пони-
маю, сознании своей писательской умудренности.
Я хвалил Володю, как хвалили его и другие пермские литератур-
ные люди, но в наших похвалах была доля дружеской снисходитель-
ности к автору. Лишь теперь, другими глазами перечитав «Баллады
- 385-
старого барака», я вижу, что написанное в те годы мной и моими
друзьями-прозаиками давно поблекло, сделалось пусто, бедно, нико-
му не нужно, а эти истории о страшном камском ледоходе, о торгую-
щих цветами старухах, о бандите Кротове, об отчиме, у которого под
кожей, «как под обоями мыши, блуждали осколки войны», – все три-
надцать, не просто живы, но звучат на редкость современно. Вдруг
обнаружилось, что многое в них я помню наизусть и уже вряд ли забу-
ду. Стихи – последнее, что нам в жизни изменяет. А стихи Володи еще
и возвращают меня в нашу с ним общую молодость. За одно это я ему
бесконечно благодарен.
- 386-
Б. Проскурнин,
выпускник 1973 г.
КАК Я СТАЛ ФИЛОЛОГОМ: НАЧАЛО ДИНАСТИИ
Ни в семье моей жены, Любови Александровны Проскурниной,
ни в семье моих родителей не было филологов до нас. Получается, что
мы с ней – основоположники, я надеюсь, если не филологической, то
гуманитарной династии. Наша старшая дочь Мария, как и мы, закон-
чила наш факультет и более десяти лет после защиты кандидатской
диссертации в МГУ проработала в Институте славяноведения Россий-
ской Академии наук. Младшая дочь Дарья, хотя и не филолог по обра-
зованию, тем не менее ее работы по истории Англии, а она кандидат
исторических наук, демонстрируют блестящее владение богатством
русского слова. Внук Аркадий впечатляюще преуспевает в овладении
русским языком, и его словарь, по моим наблюдениям, явно уровнем
выше, чем словарь многих нынешних третьеклассников, наверное,
поэтому в недавней школьной олимпиаде по русскому языку для
третьеклассников он занял третье место. Внучка Дина, едва научив-
шись писать печатными буквами, уже сочиняет «рассказы» и ведет
свой дневник. Может быть, в самом деле складывается филологиче-
ская династия?
Возвращаясь к нашим родителям, замечу, что у жены отец был
металлургом, мать – фельдшером, а старший брат – кадровым офице-
ром. Однако в их доме была неплохая по тогдашним временам биб-
лиотека, в которой, наряду с отдельными изданиями русских и совет-
ских классиков, были и собрания сочинений русских и зарубежных
писателей. Оба родителя жены были участниками Великой Отечест-
венной войны, а потому пользовались тогда некоторыми льготами при
подписке на журналы и собрания сочинений, на покупку хороших
книг. Думается, что любовь их дочери к литературе была далеко не-
случайна.
Мой же отец был горняком и работал забойщиком в шахте по до-
быче медной руды, а мама работала заведующей детским сектором в
поселковом Доме культуры (я не пермяк, в отличие от жены, и вырос в
небольшом горняцком поселке Лёвиха среди Уральских гор, недалеко
от хорошо известного любителям исторических романов городка Не-
вьянск в Свердловской области). Любовь к чтению, к хорошей книге
прививалась и даже поощрялась родителями, особенно отцом, кото-
- 387-
рый не раз говорил о том, что не хочет, чтоб сын повторил его судьбу,
не получил должного образования и пошел в шахту. Из-за войны отец
не смог закончить школу: до 20 лет он жил в деревне под Белгородом,
и во время войны их деревня была под оккупацией. Отцу было 14 лет,
когда советские войска освободили Белгородчину от немцев. Он уже
не вернулся в школу, а пошел работать трактористом: мужчин в колхо-
зе не хватало, а потому таким подросткам, как он, пришлось забыть об
учебе. Но читать он любил всегда. Потому, когда после полутораго-
дичного пребывания по вербовке на далеком уральском руднике он
встретился с моей будущей мамой и обзавелся семьей, он активно
приучал к чтению меня и мою младшую сестру (которая, кстати, тоже
закончила наш филологический факультет в 1978 г.), поощрял покупку
книг, выписывал нам детские журналы, а когда в четвертом классе я
стал грезить десятитомной Детской энциклопедией, он и мама тут же
выписали ее в «Посылторге». Теперь эти 10 томов стоят у меня дома
как память о родителях и их горячей вере в то, что мы оба – сестра и я
– выберем другой жизненный путь, что обязательно получим высшее
образование, а хорошие и умные книги будут нашими верными по-
мощниками в этом. Папа иногда поругивал меня, что я все время и
везде читаю, например, за едой, лежа в постели и не успев толком
проснуться, за то, что зачитывался до глубокой ночи, и за то, что, ув-
лекшись чтением, забывал сделать что-нибудь по дому. Но я почему-
то не очень боялся этой его укоризны: видимо, не так уж много было
жесткости в его словах.
Хорошо помню, что книга была со мною везде: каждую свобод-
ную минуту я что-нибудь читал. Мама рано записала меня в поселко-
вую детскую библиотеку, уже в первом классе. Библиотекарем там
была замечательная женщина – Ольга Григорьевна Лосикова, выпуск-
ница какого-то (так не узнал, увы, какого) педагогического института,
муж которой закончил горный институт и был послан на наш рудник
по распределению. Но в 1937 году он по чьему-то доносу был репрес-
сирован, а ей как жене «врага народа» запретили работать в школе, и
она с маленьким ребенком на руках с трудом устроилась в эту библио-
теку. Ольга Григорьевна была необыкновенно интеллигентна, начи-
танна, знала о книгах и писателях, их создавших, как нам казалось, так
много интересного. Выдавая книгу, она непременно рассказывала о
писателе и других его сочинениях. Это я хорошо помню. Например,
когда она выдала мне на дом «Филипка» Л. Толстого (мне кажется, это
была первая моя библиотечная книга), то рассказала, что у этого писа-
- 388-
теля есть много замечательных книг, в том числе и интересные сказки,
которые мне тоже надо бы прочитать (что я и сделал позднее). Одно
из моих воспоминаний связано с прочтением во втором-третьем клас-
се «Серой шейки» Д. Мамина-Сибиряка. А поскольку дом наш стоял на
берегу пруда, то какое-то время я с интересом и исключительно через
образ, созданный Маминым-Сибиряком, смотрел на всех уток, пла-
вающих в пруду. Кстати, когда я стал старшеклассником и выбор книг
уже во взрослой библиотеке мне казался ограниченным, я нередко
ходил к Ольге Григорьевне домой и брал книги из ее очень неплохой
домашней библиотеки (к тому времени она уже ушла на пенсию).
Именно у нее в десятом классе я взял и прочитал на долгое время ме-
ня впечатлившую трилогию Юрия Германа о Владимире Устименко.
Была еще одна женщина в поселке, Зинаида Владимировна (увы,
уже не помню ее фамилию), у которой тоже была хорошая по посел-
ковым меркам домашняя библиотека. С ее радостного согласия (и да-
же приглашения: ее дети уже уехали из Лёвихи, и ей, как я теперь по-
нимаю, было приятно, что ее домашняя библиотека не «простаива-
ет»), я иногда брал книги у нее. Меня поражало большое количество
поэтических книг в ее библиотеке – русских классиков и советских по-
этов. Помню, что именно в этой домашней библиотеке я впервые уви-
дел небольшой томик переводов зарубежных поэтов, сделанных Мар-
гаритой Алигер, и потому обрадовался как привету из детства, когда
увидел такой же томик в домашней библиотеке моей будущей жены.
Очень хорошо помню, как однажды, взяв у Зинаиды Владимировны
книгу рассказов Джека Лондона, я не утерпел и, едва выйдя из ее до-
ма, сел где-то на большой гранитный камень (Лёвиха расположена
прямо в Уральских горах, и потому гранитные валуны на улицах, осо-
бенно окраинных, отнюдь не редкость) и читал, пока не понял, что
летнее солнце, так приятно нагревшее гранит и ласкавшее меня, уже
садится и мне давно пора быть дома.
Уверен, что моя любовь к книге и слову, ставшая основой буду-
щего филологического поворота в судьбе, очень серьезно поддержи-
валась учителями. Например, моя первая учительница Зинаида Гри-
горьевна Сидорова была большой любительницей поэзии. Как мы уз-
нали позже, в школьные годы и годы обучения в институте она с
большим успехом читала стихи со сцены. Когда она попала в Лёвиху,
то организовала в школе кружок выразительного чтения. Я оказался
среди тех, с кем Зинаида Григорьевна работала особенно радостно.
Когда уже преподавателем университета я, приехав к родителям на
- 389-
пару-другую недель, навестил ее, тяжело больную, она призналась,
что видела мои большие способности и была уверена: я пойду по те-
атральной линии. Она учила нас, читая стихотворение, понимать не
только то, о чем хотел сказать поэт, но и обращать внимание на то, как
он это делает, как поэт «играет» со словом, и обязательно не забывать
о музыке стиха. Я всегда заслушивался, когда Зинаида Григорьевна
сама читала стихи. Одно из моих воспоминаний связано с тем, как она
своим очень красивым голосом, как я потом понял, выразительным
альтом, декламировала отрывок из лермонтовского «Мцыри» и учила
читать его старшеклассницу Люду Старыгину, мастерство которой как
чтицы уже тогда казалось мне недосягаемым. Благодаря Зинаиде Гри-
горьевне вскоре и я стал едва ли не лучшим чтецом в поселке и не раз
с большим успехом выступал на концертах поселковой самодеятель-
ности с чтением стихов разных поэтов: Маршака, Асеева, Багрицкого,
Острового. Пару раз я завоевывал призы на районных конкурсах чтецов,
а однажды участвовал в областном конкурсе и занял там далеко не по-
следнее место и даже привез какой-то приз. Я хорошо помню уроки
чтения в четвертом классе; особенно мне памятен урок Зинаиды Гри-
горьевны по рассказу Л. Толстого «Прыжок». Не могу объяснить, почему
именно он мне запомнился. Думаю, что это связано в большей степени
с тем, как мастерски Зинаида Григорьевна читала его нам вслух.
В 5–8 классах русский язык и литературу у нас вела Александра
Георгиевна Меринова, которая явно отдавала предпочтение литерату-
ре. Я помню ее замечательные уроки в 7 классе по поэзии А. Твар-
довского, но особенно – по поэме «Василий Тёркин». Она с воодушев-
лением читала стихи Твардовского и отрывки из поэмы. И нас застав-
ляла читать выразительно, а не мямлить себе под нос. Она так увлекла
меня поэзией Твардовского, что я выучил и успешно декламировал со
сцены поселкового Дома культуры главу «Переправа» из знаменитой
поэмы. И так же хорошо помню, с каким, мягко говоря, нежеланием я,
готовясь к урокам литературы, читал «В людях» из трилогии М. Горь-
кого, которая у Александры Георгиевны вызывала какой-то непонят-
ный мне энтузиазм. И наоборот, с большим воодушевлением декла-
мировал со сцены «Песню о Буревестнике» того же Горького; кстати,
подготовить меня к чтению этого стихотворения в прозе взялась Зи-
наида Григорьевна, которая разбирала со мною каждое предложение,
каждый поворот мысли автора в произведении, чтобы верно расста-
вить акценты, выбрать нужную интонацию и ритм. Этот момент до сих
пор у меня в памяти как самое яркое воспоминание из моей чтецкой
- 390-
биографии. Почему моя чтецкая карьера не продолжилась в студенче-
ские годы в университете, остается загадкой для меня самого. Думаю,
что свою роль сыграла робость провинциала; особенно, когда я услы-
шал на первой же межфакультетской «Студенческой весне» 1968 г.
филфаковских чтецов, но прежде всего Таню Тихоновец с ее необык-
новенно проникновенным мастерством. Теперь-то я понимаю, что это
было знак судьбы: я увлекся хоровым пением и все пять лет пел в
знаменитом тогда университетском хоре (правда, и в школе я пел в
очень приличном хоре, победителе всяческих конкурсов; наградой
одного из них стала незабываемая поездка всем составом в Одессу в
1967 г.). А увлекшись хоровым пением в университете, я не только об-
рел новых друзей, с которыми мы крепко дружим до сих пор, но и по-
знакомился со своей будущей женой. Мое же чтецкое «воспитание»
пригодилось чуть позже, когда я перед сном читал стихи своим доч-
кам, а спустя много лет и старшему внуку. Читая им «Человека рассе-
янного» Маршака, например, я всякий раз вспоминал, как выступал с
ним в Свердловске на областном конкурсе чтецов. Дочери уверяют,
что им очень нравилось слушать стихи в моем чтении и что многие из
них «звучат» в их памяти исключительно в отцовском исполнении. Да
и внук Аркадий легко заучивает стихи и очень выразительно их читает.
Думаю, что семейная любовь к выразительному литературному слову
и к литературе (и книге) в целом родилась в том числе в результате и
моих чтецких усилий.
Сразу же скажу, что в младших и средних классах школы мне ин-
тересны были все предметы. Так, в 7 классе я влюбился в химию и
вплоть до 9 класса мечтал быть химиком. Очень упорно занимался ею,
не раз погружался в третий том Детской энциклопедии, который по-
священ математике, физике и химии. Много читал о наших химиках –
Ломоносове, Менделееве, Бутлерове, Лебедеве. Участвовал в школь-
ных и районных олимпиадах по химии, выигрывая их или занимая
призовые места. А в 9 классе я увлекся английским языком, так инте-
ресно его нам преподавала невероятно красивая женщина – Нелли
Николаевна Белая, которая попала к нам в школу потому, что ее мужа,
инженера-горняка, распределили на наш рудник. Я вообще называю
себя «продуктом» советской системы послевузовского распределения:
многие учителя в нашей школе были женами инженеров, попавших к
нам на рудник по распределению. Поэтому среди них были воспитан-
ники вузов Днепропетровска, Тюмени, Челябинска, Новосибирска,
Ленинграда. Нелли Николаевна и ее муж, по-моему, были из Кривого
- 391-
Рога, а она закончила Днепропетровский университет, как и ее подруга
Валентина Дмитриевна Ярыгина, которая в десятом классе подхватила
нас, когда Нелли Николаевна ушла в декрет. Мы все, но некоторые
мальчишки особенно – и я в их числе, были просто влюблены в нее, а
мне на всю жизнь запомнилось ее певучее и интонационно богатое
произношение. Так к концу 9 класса закончилась моя особая любовь к
химии и начался длящийся до сих пор роман с английским языком.
Приняв окончательное решение связать свою будущую жизнь с анг-
лийским, я твердо решил, что буду поступать не в Свердловский или
Нижнетагильский педы, а непременно в какой-нибудь университет:
начитавшись русской классики, я понял, что только университетское
образование по-настоящему достойное. Родители поддержали мое
желание, но мама не хотела отпускать меня далеко, потому возникли
Пермь и Пермский университет. Отец мечтал, что я передумаю посту-
пать на филфак, а пойду на журфак в Уральский университет (я был
активным юнкором нашей районной газеты) или на юрфак, тем более
что в 1968 г. впервые разрешили поступать на юридические факульте-
ты без наличия двухгодичного трудового стажа. Позже время от вре-
мени он пенял мне, что я избрал «какой-то филфак», пока я не защи-
тил кандидатскую диссертацию, что утвердило его в определенной
степени: сын состоялся.
Однако при всех моих увлечениях другими предметами интерес к
литературе не угасал ни на минуту. Тем более что в старших классах
школы к нам пришла замечательная Галина Петровна Коваленко, один
из ведущих литераторов школы. Как позднее оказалось, она была
страстной поклонницей Л. Н . Толстого, М. Е . Салтыкова-Щедрина,
А. Н. Островского, М. А. Шолохова. Правда, иногда и любимые уроки
литературы были в тягость. Вспоминается, например, как мешало
осеннее солнышко писать сочинение-миниатюру, проверяющее наше
знание текста мною не любимых «Мертвых душ». А мешало не пото-
му, что было слишком назойливым, а потому, что текст я знал плохо,
так как, читая роман летом «по диагонали», все никак не мог побороть
накатывавшее на меня от одного слога Гоголя неприятие его стиля,
между прочим, так и не преодоленное мной и непонятное мне самому
до сих пор. Вспоминается также, как Галина Петровна, только что стра-
стно зажигавшая нас любовью к Толстому, погружая в сложное слово
писателя, удивляясь сама и призывая нас удивляться, казалось бы,
стилистически несовершенной фразе писателя, которая при все том
вскрывает глубины духовного мира любимых его героев (именно на
- 392-
эту тему я буду 1 июня 1968 г. писать выпускное сочинение), «дежур-
но» и без присущего ей напористого желания увлечь нас перешла к
изучению Тургенева.
Это потом, через год, одна из школьных приятельниц, как и я, хо-
дившая в драматическую студию при Доме культуры и, как и я, гото-
вящаяся сыграть в постановке пьесы В. Розова «Перед свадьбой»,
вслед за своим литератором начнет доказывать мне, что Тургенев –
блестящий художник, зачитывая и комментируя пейзажные зарисовки
из «Отцов и детей». И я пойму, что, оказывается, у учителей тоже бы-
вают свои предпочтения. Разве можно забыть, как Галина Петровна
ярко давала Шолохова, особенно образ деда Щукаря! Она сама всегда
была полна иронии, шуток и задора, а потому лукавство Щукаря и
«комикование» Шолохова было ей много ближе лиризма Тургенева,
равнодушным к которому и я был до недавнего времени, пока меня
буквально не «перепахали» пару лет назад его блистательные «Пев-
цы». И все же замечу, что посещение Спасского-Лутовинова в 1991 г.
оставило меня эмоционально не «задетым», тогда как Ясная Поляна за
несколько лет до этого потрясла до основания, да так, что я едва ли не
рыдал у простой, но от этого еще более великой могилы Толстого: вот
что значит учитель и его воздействие на ученика. Конечно же, «анти-
тургеневское» настроение, вероятно, было у Галины Петровны вре-
менным и ситуативным, а не осознанной позицией: помню свое посе-
щение ее, уже ушедшей на пенсию, и помню все в закладках собрания
сочинений не только любимого Толстого, но и Тургенева, Достоевско-
го, Чехова на ее книжных полках...
Не могу не вспомнить добрым словом нашего учителя истории в
старших классах милейшую Зою Александровну Щенникову с ее уди-
вительным спокойствием и размеренностью, тактом и вниманием к
каждому из нас, ее умением слушать и услышать в каждом ответе,
даже самом несуразном, что-то важное, какое-то зерно и т.п. Именно
она, как-то раз обронив фразу о том, что писатели нередко слишком
вольно трактуют историю в исторических романах, но при этом очень
умело воссоздают эпоху через детали быта, интерьера, одежды и т. д .,
побудила меня посмотреть повнимательнее на этот жанр. Так я, не
отрываясь, дважды перечитал «Петра Первого» А. Толстого, Зоей
Александровной упомянутого. С тех пор это один из моих любимых
исторических романов, а сам жанр не раз становился предметом моих
научных изысканий. Именно интерес к воплощению истории в литера-
туре привел меня к Шекспиру в 9 классе, что стало, как мне теперь ви-
-393-
дится, знаковым моментом, определившим одновременное сущест-
вование во мне двух «любовей»: к английскому языку и к английской
литературе.
Те из нас, кто родился и вырос в Советском Союзе, помнят, как на
Всесоюзном радио существовала замечательная программа «Театр у
микрофона», а на единственном канале Центрального телевидения
была славная традиция трансляции театральных спектаклей. Я помню
себя восьмиклассником или девятиклассником, заслушавшимся ра-
диоспектаклем, кажется МХАТовским, по пьесе М. Горького «Егор Бу-
лычев и другие» (с тех пор полюбил Горького-драматурга больше, чем
прозаика, хотя и понимаю, что «Клим Самгин» – выдающийся роман).
С восторгом слушал по радио «Стряпуху» А. Софронова и «Первую
Конную» И. Бабеля в блистательном исполнении театра имени Вахтан-
гова. Как-то поздним вечером, включив телевизор на часок (строго с
разрешения родителей!), увидел и услышал, как какой-то уже немо-
лодой человек с удивительно бархатным голосом и незабываемыми
интонациями рассказывает о пьесе «Кукольный дом» «какого-то» Иб-
сена, телевизионный спектакль по которой собирались транслировать.
Я так заслушался рассказом этого седоватого человека, что чуть не
пропустил тот момент, когда диктор перед тем, как объявить о начале
трансляции спектакля из Малого театра (если не ошибаюсь), сообщил,
что вступительное слово к спектаклю произнес доктор искусствоведе-
ния Александр Аникст. Как сейчас помню мое восхищение выступле-
нием этого человека и мысль, которая появилась у меня: «Вот бы мне
так рассказывать о литературе!» Спустя много лет, я увидел Александ-
ра Абрамовича Аникста «живьем» на защите кандидатской, которой
он оппонировал в Московском пединституте им. В. И. Ленина, где и я
через пару лет защитил свою кандидатскую, а потом и докторскую в
1997 г. А тогда мой научный руководитель Геннадий Викторович Ани-
кин, который работал в этом институте по совместительству, будучи
ведущим научным сотрудником ИМЛИ, посоветовал, раз я уже прие-
хал в Москву, чтобы повстречаться с ним и поработать в библиотеках,
побывать и на этой защите, чтобы понять, что такое защита диссерта-
ции,каконапроходитит.д.ит.п.Оннезнал,чтояибезтогохотел
сходить на эту защиту, так как свою работу представляла моя хорошая
знакомая по филфаковской и университетской самодеятельности, а в
то время преподаватель зарубежной литературы в Пермском педин-
ституте Галина Николаевна Толова. На этой защите я вновь насладился
блистательной эрудицией Александра Абрамовича, «искупался» в его
- 394-
удивительном голосе и интонациях, а главное – почувствовал приоб-
щенность к его осмыслению изобразительного богатства слова и к его
истинной любви к нему. Я, сробев, так и не решился подойти к нему и
познакомиться, о чем сейчас очень жалею.
Возвращаясь к эпизоду, связанному с телевизионной трансляци-
ей спектакля по пьесе Ибсена и моему вдруг возникшему желанию так
же просто, но одновременно глубоко и умно говорить о литературе,
как и А. А. Аникст, скажу, что наверняка именно тогда во мне зароди-
лась ждавшая своего воплощения в поступках и словах мысль о лите-
ратуроведении. На следующий день или, может быть, через несколько
дней, сейчас не вспомню, я заглянул в школьную библиотеку и попро-
сил у библиотекаря Людмилы Александровны Гороховой дать почи-
тать «Кукольный дом» Ибсена (спектакль мне очень понравился, но я
не досмотрел его до конца, так как родители попросили выключить
телевизор и идти спать). Помню, Людмила Александровна удивленно
на меня посмотрела и сказала, что в библиотеке нет этой пьесы. «Раз
ты интересуешься пьесами, – сказала она, – начни, например, с Шек-
спира». «Вот пройди к той полке, – указала она, – там у нас Шекспир».
И запустила меня за барьер (что делалось крайне редко и только для
избранных читателей, и я к ним относился). Когда я подошел к полке,
указанной Людмилой Александровной, то увидел восемь роскошных
томов, послесловия и комментарии к большинству из которых написал
тот самый Аникст, так меня потрясший накануне. Я взял первый том
(то были шекспировские исторические хроники, в том числе и его са-
мая известная хроника-трагедия «Ричард III»), и, видимо, судьба моя
была решена: английская литература и английский язык с тех пор
(пусть сначала только на подсознательном уровне) стали главными
интересами моей жизни. Мог ли я подумать тем далеким октябрьским
или ноябрьским днем, что через 52 года я буду стоять у могилы Ри-
чарда III в английском городе Лестер и вспоминать, что именно со зна-
комства с шекспировской трагедией о нем (как доказано учеными, не
совсем фактологически точной) начнется мой путь в англистике?
Япрочитал все исторические хроники Шекспира и большинство его
трагедий в те холодные уральские зимние вечера. «Ричард III» меня
потряс при первом же прочтении, равно как и «Юлий Цезарь», «Гам-
лет», «Отелло», «Король Лир». Но в памяти особо сохранился снежный
и метельный вечер, когда я читал «Макбета»: сцена с ведьмами-
вещуньями у меня с тех пор ассоциируется с темнотой за окном, мете-
-395-
лью, снегом, заметаемым в стекла окон. И со светом настольной лам-
пы с зеленым стеклянным абажуром...
Интерес к английскому языку, однако, преобладал: в конце того
же 9 класса я заказал через «Посылторг» несколько книг по грамма-
тике и лексикологии английского языка, пособие по устной речи,
чтобы готовиться к поступлению в вуз. То, что это будет Пермский
университет, стало ясно уже летом 1967 г., когда одна из маминых
подруг порекомендовала университет в Перми, где когда-то училась
ее тетя. Через год, в июле 1968 г. я сдал документы для поступления
на романо-германское отделение филологического факультета наше-
го университета.
С будущей женой Любой (тогда еще Антоновой), как потом ока-
залось, мы поступали на филологический нашего университета в один
год. Я оказался более счастливым и поступил сразу. А Люба, прилично
написав сочинение, по сути провалила устный экзамен по литературе
и русскому языку, что было совершенно странно и стало шоком для
нее самой, семьи и ее школьных друзей. Люба, приехав на экзамен
задолго до 9 утра, возле аудитории консультировала всех – знакомых
и незнакомых, поражая их системностью знаний, тонкими наблюде-
ниями над текстами. Мне об этом много лет спустя рассказала одна из
таких «проконсультированных» и успешно поступивших. А «консуль-
тант», зайдя в аудиторию уже после 6 часов вечера, к тому времени
изрядно измотав себя морально и физически (многие из нас могут
легко вспомнить невероятную толчею в узких коридорах восьмерки,
где в те годы проходили устные вступительные экзамены, духоту и
накаленную нервную атмосферу), психологически потух и поблек и
уже не смог «выдать на гора» свои знания, получив тройку от экзаме-
наторов, которые тоже устали, конечно, и не смогли в короткое время
увидеть потенциал и адекватно оценить возможности абитуриентки.
Зато через год была феерически блестящая сдача всех вступительных
экзаменов и долгожданное поступление на филфак. Но до этого был
год напряженного труда: она практически заново прошла программу
десятого класса по литературе, посещая уроки своего любимого учи-
теля – Раисы Моисеевны Файн, на то время одного из лучших школь-
ных литераторов в Перми, довоенной выпускницы Киевского универ-
ситета, для которой неудача ее ученицы была совершенно неожидан-
ной и необъяснимой. Именно Раиса Моисеевна предопределила сна-
чала школьный, а потом и университетский интерес Любы к русской
литературе. По ее воспоминаниям, уроки Раисы Моисеевны всегда
-396-
были с исследовательской изюминкой, в них обязательно присутство-
вал эвристический момент – какое-то открытие, к которому Раиса
Моисеевна вела своих учеников. Любовь к тщательному аналитиче-
скому вглядыванию в произведение, умение в детали увидеть отра-
жение общего художественного замысла, обнаружить в частности
проявление целостности, обязательное глубокое погружение в текст
произведения и работа с художественной речью писателя, по убежде-
нию Любы, пришли к ней благодаря Раисе Моисеевне. В университете
любимым преподавателем и руководителем ее курсовых и диплом-
ной работ была Рита Соломоновна Спивак, блестящий литературовед:
Люба не раз говорила, что в подходах к литературе Раисы Моисеевны
и Риты Соломоновны общим была едва ли не одержимость литерату-
рой, когда все остальное уходило на вторые планы.
Волею судьбы в том далеком уже августе 1968 г. я сдавал устный
вступительный экзамен по литературе как раз Рите Соломоновне. Она,
услышав мои, видимо, толковые рассуждения о поэме Маковского
«Владимир Ильич Ленин», стала меня убеждать, что с моими филоло-
гическими задатками я напрасно иду на романо-германское отделе-
ние, где, как она сказала, мало литературы и много просто зубрежки,
что, мол, можно переложить документы на русское отделение, и с
моими баллами я однозначно пройду. Я не буду сейчас рассуждать о
несколько (мягко сказано) предвзятом и немного снобистском отно-
шении некоторых филологов-русистов к романо-германцам на филфа-
ке шестидесятых-семидесятых годов, которое одним из первых начал
преодолевать Леонид Николаевич Мурзин, среди талантливых учени-
ков которого в восьмидесятых годах становилось все больше и больше
именно романо-германцев.
Однако в определенной степени Рита Соломоновна была права:
на первых порах обучения у нас, романо-германцев, действительно
было много зубрежки, заучивания наизусть, повторений и повторений
–
вслух и про себя, по одному и хором, то есть далеко не творческой
работы. Я лишь позднее понял, что это одно из необходимых условий
сделать другой язык твоим, вторым родным. Сейчас, конечно, этой
зубрежки много меньше в силу когнитивно-коммуникационной пара-
дигмы обучения иностранным языкам, пришедшей на смену репро-
дуктивной модели и предпочитаемым интерактивным методикам.
Признаюсь, я заскучал уже после первого семестра. К тому же я «не
совпал» темпераментом и прочими моментами с преподавателем (не
буду называть имени: об ушедших от нас – или хорошо или никак),
- 397-
ведшим у нас основной язык, с которым мы встречались 12 пар в шес-
тидневную учебную неделю: каждый день по две пары. И я отдыхал
душою, как я теперь понимаю, на лекциях и практических занятиях по
зарубежной литературе и введению в литературоведение. Последнее
вела у нас сама Наталья Самойловна Лейтес, и мне кажется символич-
ным, что первый студенческий экзамен в свой день рождения (так
сложилось расписание сессии) я сдавал именно ей. А «античку» на
первом курсе нам читала бесподобная Аделаида Федоровна Любимо-
ва, которая как-то сделала так, что ее предмет стал мне очень близким
и родным. Кстати, именно Аделаида Федоровна после семинара по
творчеству Филдинга на 2 курсе, когда я как староста группы подписы-
вал у нее учебный журнал, сказала: «Боря, у вас серьезные задатки
литературоведа. Вам непременно надо специализироваться у нас на
кафедре».
С приходом к нам на втором курсе замечательной Тамары Степа-
новны Тетериной изменилась и стала более творческой атмосфера на
занятиях по английскому языку. А уж когда на 3 курсе нас взяла и по-
вела основной язык до конца пятого курса Анна Марковна Подгаец с
ее умением даже скучную необходимость заучивания наизусть и ту
самую зубрежку превратить едва ли не в феерию разнообразных под-
ходов и приемов, то занятия по английскому языку стали в радость и
удовольствие. К тому времени, правда, я уже понимал, что знание
английского мне нужно прежде всего, чтобы найти достойную работу
после окончания университета, но все чаще и чаще ловил себя на
мысли, что надо еще лучше знать английский, чтобы доскональнее
разбираться в английской литературе, чтобы уверенно читать и пони-
мать художественные произведения на языке оригинала: я уже попал
в «капкан» литературоведческих открытий в анализируемых текстах,
полюбил копаться в сюжетостроении и композиции, повествовании и
стиле автора и т. д. и т. п . Сердце мое уже было отдано английской
литературе. Курсовая по неисследованному роману В. Скотта, вторая
курсовая по неисследованной повести Дж. Б. Пристли, наконец, ди-
пломная работа по сопоставлению героев романов О. Уайльда,
Р. Киплинга и Г. Дж. Уэллса, Диплом Всесоюзного конкурса студенче-
ских научных работ, участие во Всесоюзной студенческой научной
конференции в Риге, выступления на факультетских конференциях –
вот вехи моего студенческого погружения в отрасль филологии под
названием «англистика». К окончанию университета кафедра зару-
бежной литературы стала мне самой близкой, а ее заведующий, он же
- 398-
декан факультета Александр Андреевич Бельский – моим наставником
в изучении английской литературы. Поэтому, когда он пригласил меня
в сентябре 1973 г., после окончания оставленного в университете, что-
бы возглавить студенческую самодеятельность и стать директором
клуба, почитать пару курсов по истории зарубежной литературы на
условиях почасовой оплаты, я с радостью согласился, потому что уже
не мыслил остаться без погружения в зарубежную литературу. Затем в
1976 г. последовало приглашение Александра Андреевича полностью
перейти на кафедру и одновременно учиться у него в аспирантуре,
хотя и заочно, и исследовать у нас в стране к тому времени почти не-
изученного Энтони Троллопа.
Эти решения, особенно об учебе в аспирантуре, мы принимали
уже вдвоем с женою: в 1972 г., когда она еще училась на третьем кур-
се, а я на пятом, мы поженились, и через год родилась наша первая
дочь Маша. Уверен, если бы не самопожертвование жены, я вряд ли
состоялся так, как состоялся. Работа в клубе, а потом и ассистентом
кафедры была, мягко говоря, не самой хорошо оплачиваемой; и хотя я
брался за многие подработки – и переводчика научной литературы
для лаборатории радиобиологии ЕНИ университета, и кафедры рент-
генологии медицинского института, и репетитора по английскому язы-
ку, и преподавателя-почасовика на кафедре английского языка уни-
верситета и т.п., – основные деньги зарабатывала жена, которая де-
вять лет проработала учителем литературы в колонии на Балмошной,
где отбывали свои сроки малолетние преступники. Как пошутил, узнав
об этом, незабвенный Леонид Владимирович Сахарный: «Пошла за
славой Макаренко?». А Люба пошла, как она литературно шутила, «по
желтому билету» (пропуска в колонию были желтого цвета), чтобы по
тогдашним меркам высокой зарплатой в связи с рискованными усло-
виями труда компенсировать денежные недоработки мужа, пока он
пишет кандидатскую диссертацию. И я очень рад, хотя и не без боль-
шой горечи, что последние годы своей короткой жизни она гордилась
тем, что муж у нее – доктор наук, профессор, декан, а обе дочери –
кандидаты наук: старшая – филологических, а младшая – историче-
ских. Она даже шутливо сокрушалась: «Ну вот, в семье все остепенен-
ные, одна я белая ворона». Но ее личность как учителя-филолога и
заслуги в развитии филологического (и шире – гуманитарного) образо-
вания в Перми и Пермском крае значительны: в течение многих лет
она была лучшим литератором школы No 97, которую когда-то закон-
чила, в конце 1980-х гг. – на чале 1990-х гг. к ней на уроки поучиться
-399-
новым прочтениям классиков и только-только вошедших в культурный
обиход когда-то запрещенных книг приходили учителя со всего горо-
да, она была активным членом общероссийской группы по внедрению
новых учебников по литературе, и на ее уроки приезжали ведущие
методисты из Москвы и Питера – авторы этих учебников. Она высту-
пила зачинателем гимназического филологического образования в
своей школе, и в первом в ее истории гимназическом классе, откры-
том Любой, училась и наша старшая дочь, которая после этого тоже
решила, что филология – это ее жизнь. Уверен, что эти и другие ее
усилия привели к тому, что сейчас гимназия No 5 – одна из лучших в
городе. В течение многих лет Люба, Любовь Александровна, работала
в областном (а потом краевом) Департаменте (затем министерстве)
образования и курировала внедрение в школьное образование инно-
вационных методов, создание школьных НОЦев, открытие гимназий и
лицеев, методически и организационно поддерживала передовых
учителей школ края. (О ярком вкладе Л. А. Проскурниной в образова-
ние в Перми и крае хорошо написано в книге «Университеты жизни.
Страницы биографий учителей – выпускников филологического фа-
культета Пермского университета». Часть 1. Пермь: Пермский ун-т,
2013. С.100 –115.)
Конечно, наша с женой любовь к литературе, наши практически
каждодневные разговоры, споры и дискуссии о книгах, героях, писа-
тельском мастерстве, наше аналитическое отношение к прочитанному,
увиденному, прослушанному, едва ли не с каждым днем растущее
количество книг на домашних книжных полках, даже тогда, когда хо-
рошую книгу было не так легко купить, создавали ту атмосферу, в ко-
торой выросли наши дочери и которая, я надеюсь, сохраняется и в их
домах. А значит, династия продолжается!..
- 400-
Т. Чубарова,
выпускница 1974 г.
ПОСВЯЩАЮ СВОЕЙ МАМЕ
ГУБИНОЙ ЛИДИИ ИВАНОВНЕ
23 ноября 2020 года будет три года, как не стало моей мамы, Гу-
биной Лидии Ивановны. Но боль все не утихает, а говорят, что время
лечит. Возможно, но по сей день я по привычке беру телефон, чтобы
позвонить и сказать: «Доброе утро, или спокойной ночи», но, увы...
Прошло 46 лет момента окончания мной филологического фа-
культета. Далекий 1969 год, позади выпускные экзамены в школе,
впереди – будущее, осуществление надежд, планов, заветных жела-
ний. Я совсем взрослая. Счастливые мама с папой. Их дочь стала
взрослой. Особых раздумий по поводу выбора факультета не было.
Как-то изначально сложилось, что я буду поступать на филологический
факультет нашего университета. Лучшей специальности для девочки с
гуманитарным складом ума нельзя и желать. Я не «дружила» с точны-
ми и естественными науками. Отпускать меня в другой город родите-
ли не планировали. Поэтому все решилось само собой. Я сдала доку-
менты в приемную комиссию филфака университета. Начались вступи-
тельные – волнение, страх, слезы – и вот я студентка первого курса:
лингвистика, теория литературы. Первые восторги и первые разочаро-
вания. Оказалось, что недостаточно любить писателя, восторгаться его
произведениями, – надо понимать механизм, законы, по которым их
создавали. Ежедневное сидение над сложными книжками по теории с
массой непонятных терминов, попытка вникнуть в ход рассуждений
автора: Бахтин, Бочаров, Тынянов, Гачев, Лихачев и многие другие
мэтры. Я начала сомневаться, бояться, перестала верить в то, что фил-
фак это мое. А мама отчитывала за каждую «тройку» и, не дай Бог,
опоздать на занятие и хуже того – «прогулять». Доставалось по первое
число. Мама была в курсе всего и не только моих «неуспехов», она
знала весь 1 курс поименно, знала, как прошли лекции и семинары,
кто «прогулял», кто «опростоволосился». Но если для всех остальных
«выволочка» заканчивалась с окончанием рабочего дня в деканате,
для меня это продолжалось и дома.
Очень хорошо запомнила первый семинар по истории. Вел заня-
тия доцент Шелепень. Вызывает меня: «Я не готова», – заикаюсь я.
Шелепень: «Понятно... Я даже знаю почему». Я: «Почему?». «Изволили
вместо того, чтобы сидеть в библиотеке и готовиться к семинару, про-
- 401-
гулять с юристом». Я по-прежнему заикаясь: «Откуда вы знаете?». Вся
группа ухохатывается, я в слезах и соплях.
Этот случай перешел в разряд анекдота и еще долго потешались
над Таней Губиной. Шло время, мой страх прошел, я научилась рас-
пределять работу и отдых, определилась с приоритетами и поняла,
чем буду заниматься, – зарубежная литература. Все преподаватели на
факультете были замечательными, но А. Ф. Любимова, Е. И. Преобра-
женская, Н. С. Лейтес, А. А. Бельский – это просто восторг и песня. По-
степенно, не без их помощи, я стала набирать знания, появились на-
выки, я стала разбираться в сложностях теории, терминах, концепциях.
И появилось удовлетворение от того, что я делаю.
Я не была лучшей студенткой на курсе, как того хотела мама, но и
не плелась в хвосте. Я становилась филологиней и даже чувствовала
себя, как любили говорить наши девчонки: «Мы не филологини – мы
филобогини». Конечно, моим родителям хотелось, чтобы их дочь была
лучшей, но так не случилось, что меня тогда не очень огорчало.
Моим кумиром по жизни стала Н. С. Лейтес, собственно нас всех,
кто ходил на ее семинары, поражала ее энергетика. Профессор
Н. С. Лейтес, уже немолодая женщина, семья, трое сыновей, внуки, и
при этом такой творческий потенциал. Я на всю жизнь запомнила ее
напутствие: «Девочки, чтобы вы ни делали, чем бы вы ни занимались:
готовите обед, делаете уборку, у вас должна быть под рукой бумага и
ручка, куда вы записываете пришедшие в вашу голову мысли по пово-
ду ваших работ, которые могут вам пригодиться при работе над стать-
ей и диссертацией».
Наверное, подобные установки действительно надо принимать
как руководство к действию. Это своего рода бесценные уроки, кото-
рые передала нам, своим студентам, Н. С. Лейтес. Большое спасибо ей
и вечная память.
Собственно, мы должны быть благодарны всем преподавателям
факультета. Они смогли слепить из нас специалистов, научив нас мыс-
лить и добросовестно относиться к нашей профессии, превратив ее в
дело, которому служили они, а теперь и мы.
Пять лет учебы в университете пролетели как одно мгновение.
Пятый курс, диплом, государственный экзамен, и вот уже диплом в
кармане. Мы – молодые специалисты. Большинство одногруппников
вернулись домой, к семье, к родителям, сказав множество теплых слов
не только преподавателям, но, конечно же, и моей маме, которую они
называли душой факультета, мамой и няней, помогавшей им преодоле-
вать сложности самостоятельной адаптации к взрослой жизни.
- 402-
Многие уже имели свои семьи, детей. И действительно до сих
пор приходят открытки с поздравлениями к празднику, письма с бла-
годарностью за поддержку в веселые, но непростые студенческие
времена.
Близилось время, когда Лидия Ивановна должна была уйти на пен-
сию. Маму это сильно беспокоило. Мы все ее уговаривали, но она про-
сто не представляла свою жизнь без факультета и «родного деканата».
Он стал частью и ее, и нашей жизни – жизнью всей нашей семьи.
Я, поскольку осталась работать на кафедре зарубежной литерату-
ры, клятвенно обещала рассказывать о жизни на факультете, но этого
было недостаточно. Факультет был ее семьей, ее страстью, ее жизнью.
Новые первокурсники нуждались в ней, в ее помощи и в ее напутствии.
Конечно же, мама не ушла. Уже подрастала моя дочка, бабушки-
на внучка, которая, по мнению бабушки, тоже должна была учиться на
филфаке. Вот так строилась и росла наша филологическая династия.
Время уплотнилось до предела: моя учеба в аспирантуре, диссер-
тация, регулярные поездки в Москву к научному руководителю, муж,
маленькая дочка – все это выбивало из сил. И снова, впрочем, как и все-
гда, мама пришла на помощь. Если бы не поддержка семьи, я бы просто
не справилась с защитой. Мне помогали все: Р.Ф
.
Яшенькина,
Б. М. Проскурнин и многие другие. Огромное всем спасибо. Прошла за-
щита, я получила диплом кандидата наук. Мама очень мной гордилась.
Пришло время дочке оканчивать школу в 1994 году. На семейном
совете решили, что имеет смысл поступать на филологический факуль-
тет, романо-германское отделение. Тоже волнительный процесс. Она
была хорошо подготовлена, поскольку училась в школе No 77 с углуб-
ленным изучением английского языка. Но снова возникла проблема
выбора: поездка в США на год – в тот период практиковались про-
граммы обмена между учащимися школ – или учеба на филфаке. Ко-
нечно, Арине очень хотелось поехать, но она уже была студенткой
первого курса. Надо выбирать. Бабушка изначально была против. Бы-
ло страшно – внучке только 16, чужая страна, мы не сможем ее наве-
щать. Но, тем не менее, мы не смогли ее не отпустить. Это была ее
первая победа, и конечно же, мы не могли лишать ее права на поезд-
ку. Через год она вернулась. Ее сокурсники уже перешли на второй
курс, а она пришла на первый. Так и продолжилась наша филологиче-
ская династия.
Бабушка не могла оставить внучку без присмотра: «Пока учится
Арина, я буду работать». Ну и хорошо – лишь бы маме было хорошо,
- 403-
хотя ей было уже шестьдесят восемь лет, но она по-прежнему не мыс-
лила свою жизнь без факультета.
Я к тому времени перешла работать в педагогический институт.
Мне предложили заведование кафедрой культурологии. Дело было
новым, сложным, не было программ, методических рекомендаций.
Конечно, было непросто, но постепенно все наладилось. Была ли это
«измена» филологии? Думаю, что нет, наоборот – я приобрела новые
знания, расширив филологический аспект исследования за счет куль-
турологического подхода. И опять помогла семья: мама, муж, дочь,
друзья.
Время мчалось во весь опор. Конечно же, я любила свою работу,
но мне не хватало маминой энергетики, которую она черпала из жиз-
ни факультета. У меня не было ее задора и ее веры в то, что филологи-
ческий факультет университета – это ее жизнь.
С возрастом семья стала занимать большую часть времени. Мне
уже не хватало выходных и даже отпуска. Я поняла, что надо оставить
работу и выходить на пенсию, что я и сделала.
Теперь нашу филологическую династию продолжает Арина Вик-
торовна Чубарова – наша надежда и продолжатель традиций, зало-
женных еще ее бабушкой Губиной Лидией Ивановной.
- 404-
С. Караваева,
выпускница 1976 г.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
Честно говоря, я думала, что получится совсем коротенькая
справка о том, что нас, филологов, в семье всего трое – мама, мой муж
и я. Однако клан у нас большой и дружный, и, поразмыслив хоро-
шенько, поняла я, что это неправильно. Стихия языка, музыки и лите-
ратуры жила-была не в одном поколении, и, надеюсь, будет жить и
дальше.
Семьи моих родителей – Караваевы и Кучумовы – некоторое
время жили в соседних домах, дружили. Даже колодец был общий.
Дети ходили в школу вместе, отцы семейств работали, увлекались охо-
той, рыбалкой, временами играли в преферанс, а у женщин хлопот,
как всегда, было намного больше, ведь обе тоже работали. По-
соседски помогали друг другу, запросто заходили через огородную
калитку по любой надобности. Я начинаю так издалека, потому что
Сива, Сивинская средняя школа сыграли большую роль в становлении
этого и следующих поколений.
Мамин отец, Павел Емельянович Кучумов, был человеком обра-
зованным. Правда, мама так и не смогла разгадать, где он учился и
откуда у него были такие познания и в математике, и в литературе, и в
нотной грамоте. Из деревни Шолково Вологодской области, откуда он
был родом, после гражданской войны он отправился работать бухгал-
тером на железную дорогу, где и встретил свою будущую жену. Мама
предполагает, что он получил духовное образование, возможно, учил-
ся на регента: у него был прекрасный тенор, а в паре с женой, у кото-
рой был редкий глубокий альт, они легко разучивали и пели сложные
оперные сцены и дуэты. Видимо, изначально «неправильная» соци-
альная роль, какое-то отношение к церкви во времена, когда прохо-
дили бесконечные «чистки», заставляло его постоянно менять место
работы и увозить быстро растущую семью (шестеро детей!) с места на
место. Уехали и из Сивы, но не так далеко – в Очёр, откуда родом ма-
ма моей мамы, Алевтина Сидоровна Кучумова.
Мама вспоминала, что в тот единственный раз, когда они вместе
ездили на родину ее отца, она видела на чердаке большого крестьян-
ского дома изумительные книги: приложения к журналу «Нива» с лис-
тами красочных иллюстраций, переложенными папиросной бумагой,
толстые фолианты с красными буквицами, ноты... Запах этих книг –
- 405-
запах тайны, другой жизни – навсегда остался с ней. Дедушку Павлика
я не застала, он умер в декабре 41-го. Он смог настоять, чтобы его
старшая дочь, моя мама, не бросала учебу, несмотря на то, что по-
мощь ее семье была бы очень кстати: самому младшему из шести де-
тей едва исполнилось два года. Сохранилась крошечная фотография,
где деду не больше сорока. Мама моя обладала чудесным даром
любви, она умела делать так, чтобы давно ушедшие, или просто уе-
хавшие далеко и надолго люди оставались с нами, здесь и сейчас. Ее
рассказы воскресили в наших глазах удивительного человека: сурово-
го, сильного, справедливого, умелого, обладающего заразительным
смехом, музыкального... Поэтому я всегда чувствовала, что деда у ме-
ня два, просто одного из них я не могла обнять.
Дед Александр Александрович Караваев, напротив, никуда из Си-
вы уезжать и не собирался. Но приходилось. В гражданскую он, батрак
и сын батрака, добровольцем вступил в Красную Армию. За его пле-
чами борьба с бандой Антонова, бои в Сибири и форсирование Сива-
ша... А за полгода до наступления Колчака на Пермь он успел окончить
школу второй ступени, которая давала ему право стать сельским учи-
телем. Не случилось. Кто-то гордился, что видел Ленина. Дед – что
слушал выступление Маяковского под Харьковом. За его плечами бы-
ла и Великая Отечественная, о которой рассказывать он не любил, хотя
прошёл её артиллеристом от края до края. Его постоянно приглашали
беседовать с воспитанниками в подшефный Сивинский детский дом.
Но он говорил не о боях, а о другом. О дружбе, мужестве, о добре, о
том, как важно учиться и думать. Дети дарили деду смешные и трога-
тельные вещицы: самостоятельно изготовленные кисеты для табака,
носовые платочки с вышитыми розочками, раскрашенные цветными
карандашами открытки...
Сколько себя помню, дед много писал и читал. Домашняя их биб-
лиотека собиралась постепенно и тщательно, в том числе и усилиями
моих родителей. Думаю, что в какой-то мере именно друзья и книги
спасли деда, когда его по инвалидности отправили на пенсию. Он был
полон энергии, а позвоночник и ноги отказывали. Балагур и шутник,
любитель розыгрышей и острого словца, именно дед стал источником
первых впечатлений о народной культуре. Частушки, байки, наска-
зульки (потешки), шуточные песни – он был неистощим. Немного иг-
рал на балалайке, так, чтобы вести простенький аккомпанемент. Мы,
внуки, всегда просили, чтобы он спел «Во деревне то было во Ольхов-
ке» и «Тары-бары-растабары» (сибирский вариант песни «Во поле бе-
реза стояла»). Многое перенял он из коми-пермяцкой культуры и язы-
- 406-
ка. Думаю, потому, что работал он в леспромхозе, а границы района
смыкаются с Коми-округом, и крестьяне из округа на заработки шли
сюда, в более развитый район. Дед был любознательным и восприим-
чивым. Вообще, способности к языкам были и есть у многих в нашем
большом клане. Мой брат Игорь, например, параллельно с дипломом
моряка-подводника получил ещё диплом военного переводчика. А на
службе всегда старался перенять хотя бы разговорные фразы и выра-
жения у матросов разной национальности: немножко грузинского,
немножко эстонского, немножко татарского.
Почерк у деда Шуры (мы его звали так) был идеальный, ровный,
красивый, очень понятный. Писал он грамотно и довольно образно.
Внезапно лишившись работы, он нашел себе важное дело: начал пи-
сать краеведческий труд «Край мой Сивинский». Собирал все, что мог.
Разговаривал со старожилами, искал в местной библиотеке и архиве,
выписывал из Перми краеведческие сборники. Помню, что приезжал к
нему известный пермский краевед Александр Кузьмич Шарц, тоже
родом из Сивы. Отпечатанные машинисткой и переплетенные тома
этого труда он вручил всем внукам с дарственной надписью. Эта руко-
пись во многом легла в основу краеведческого сборника, изданного к
юбилею Сивинского района через много лет.
Бабушка Мария Павловна Караваева была молчалива. И деятель-
но добра. Она была провизором, много знала о лекарственных травах,
но основными средствами от болезней считала простые и проверен-
ные: йод, мед, прополис. Родители ее, Лыковы, были крепкими хозяе-
вами. Про бабушкину маму, Татьяну Петровну, ходила легенда, что та
сама верхами сопровождала чай и другой товар, держа под юбкой
наган – до революции у семьи была лавочка колониальных товаров.
Мы с братьями в детстве почти каждое лето искали этот наган почему-
то то на чердаке, то под крыльцом. Пока дед еще мог ходить сам, в
доме преобладали бабушкины гостьи. Соседки, подруги, родня. Ху
-
денькая, хрупкая бабушка Маня успевала по хозяйству (я еще застала
то время, когда помимо огорода приходилось ухаживать за коровой,
лошадью, овцами, гусями и курами, пасекой), по дому, бегала через
дом ухаживать за немощной мачехой деда... Страшно стеснялась моих
городских коротких платьев, в которых привозили меня на лето, всегда
настрачивала на подол цветную вставку. Бабушкины гостьи поражали
меня толстыми клетчатыми шалями и плюшевыми жакетами, разгово-
рами о скотине и урожаях, а если я начинала капризничать или бало-
ваться – грозили геенной огненной. Бабушка легонько шикала на них и
выпроваживала меня с книжкой подальше. От бабушки я узнала о Бо-
- 407-
ге. При всей мягкости и уступчивости в некоторых вопросах она была
кремень. Например, не давала снять и унести из дома семейную икону
Богородицы с младенцем. Горькой уступкой из-за угрозы уволить
дочь-учительницу было помещение иконы на некоторое время в
большой просторный чулан, где хранились припасы и зимние вещи,
журналы и связки писем. Как и полагается, икона висела в красном
углу, регулярно протиралась и перед праздниками украшалась. Раз в
две-три недели бабушка, надев лучшее платье и кофточку, пешком
ходила в церковь в Поздино, что довольно далеко. Никаких «специ-
альных» разговоров она с нами не вела, только скупо отвечала на во-
просы. Однажды в студенческие каникулы я приехала в Сиву и пожа-
ловалась, что Соломон Юрьевич Адливанкин сказал нам, что невозмож-
но быть хорошим филологом, не прочитав Библии, а я не могу ее раздо-
быть. Бабушка просияла. Нет, Библии у нее уже не было, только ста-
ренькое потрепанное Евангелие издания начала века. Дед фыркнул и
назвал ее контрой. Бабушка смешно отругивалась: «Подь ты к лешему!»
Бабушка Маня страстно любила лошадей, и как только в доме
появился телевизор, самозабвенно смотрела трансляции скачек. Но
книги, газеты и журналы были все ж на первом месте. Бабушке уда-
лось договориться с библиотекарем, чтобы мне разрешали брать кни-
ги, которые мне по возрасту не полагались. В начальной школе я про-
читала «Козетту» и «Гавроша» и лет в десять загорелась идеей прочи-
тать весь роман Гюго. Бабушка не препятствовала: «Что поймет, то
поймет. Что не поймет – спросит. Подрастет – перечитает».
Обычно после обеда старшие отдыхали. Радио молчало, дом за-
тихал. Дед ложился подремать с газетой, бабушка присаживалась в
большой комнате к столу с вязанием и журналом. Они выписывали
«толстые» журналы вместе с «Крестьянкой», за это их на почте очень
уважали. Мы с бабушкой одновременно читали Михаила Анчарова,
Юрия Нагибина, Андрея Вознесенского, Роберта Рождественского,
Дину Рубину. Что-то ей нравилось, что-то нет. Стихи любила, но вслух
не читала. Сейчас мне кажется, что она осторожничала в оценках со-
временной литературы, предпочитая проверенную веками школьную
программу, которую временами тоже перечитывала вместе со мной.
Читала урывками, закладывая между страничками листочек из отрыв-
ного календаря – «численника». Да, собственно, не так уж много у нее
было времени. У бабушки Мани я научилась одновременно читать и
вязать. И не только... Картинка из совсем раннего детства. Топится
печь-голландка, бабушка сажает меня на горшок, к теплу, а совсем
близко – но мне не дотянуться! – стеллаж с книгами. Я подъезжаю на
- 408-
горшке к стеллажу и достаю любимую книжку. Это большая, хорошо
иллюстрированная вьетнамская сказка «Гора смешливая, справедли-
вая». А чего зря время терять?..
Мамина мама... Потрясающая женщина! Вот у кого поучиться
жизнелюбию! Всегда с песенкой, всегда с прибауткой, даже если лицо
совсем печально от нелегких дум, а дела плохи. Алевтиной Сидоров-
ной, Тиной, назвала себя сама по идейным соображениям. Револю-
ция! Долой все старое! На самом деле младшая дочь семьи Кондако-
вых по рождению зарегистрирована как Иустинья Исидоровна. Семья
старообрядческая, выходцы из вятской деревни. Бабушка Тина приго-
варивала: «Лешаки кержаки из деревни Кондаки». Семья непростая.
Восемь детей, девочек две: старшая Марфа, младшая Устинья. Глава
семьи – уважаемый в Очёре человек, староста старообрядческой
церкви, мастер-сапожник (о! сшить у Кондакова туфельки или козло-
вые ботиночки было шиком!) и к тому же старшина народной пожар-
ной дружины. О каждом из братьев можно рассказывать отдельно.
Василий, самый старший, с началом революции «распропагандиро-
вал», как рассказывала бабушка, отца и двух следующих за ним брать-
ев, Петра и Ивана. Все они вступили в партию большевиков и стали
активно помогать новой власти. Да только жилка крестьянская их под-
вела и врожденное чувство справедливости. Как только стали по де-
ревням силой отбирать хлеб, несогласные, положили они партбилеты
на стол... Бабушка старательно обходила молчанием многие вещи,
касающиеся истории семьи. Во всяком случае, не мне, при моем об-
щительном характере и легкомыслии можно было доверить эти тай-
ны. Мама да, кое-что знала, но далеко не все.
Бабушка Тина успела закончить прогимназию, затем учительские
классы и получила право преподавать в начальной школе. Из гимнази-
ческих ее лет пришли ко мне истории про девчоночьи прозвища и
привычки, манеру одеваться, рассказы о том, что представляло из себя
обучение девочек. Смешные песенки: «Кто не знает букву ять, где и
как ее писать...», стишки, видимо, из дореволюционных детских жур-
налов, а позднее – сентиментальные городские романсы вроде «Гим-
назисточка в беленьком фартучке, где ты, откликнись, ау!»
Многое помня, бабушка Тина удивительным образом за прошлое
не держалась, жалеть ни о чем не любила, разве что досадовала ино-
гда. Не держали ее могилы на старом очёрском кладбище, куда мы с
ней ходили к ларьку за керосином. Она просто неопределенно махну-
ла однажды рукой в дальний угол: «Вот там похоронены мои родите-
ли и сестра». Жить здесь и сейчас, жить будущим, не держаться за
- 409-
хлам прошлой жизни – такая легкость была в ее характере, и поэтому
вещи и деньги в ее доме не держались, просто уходили к тому, кому
были нужнее, даже если это были последние деньги и нужные вещи.
Даже когда у нее украли подлинники редких документов 20-х годов
для получения пенсии, она недолго горевала: «У меня много любимых
детей, неужели не прокормят?». Деньги обычно лежали в кухне под
клеенкой, это знали все. Я жила у бабушки два первых школьных года,
потому что в гарнизоне, куда перевели моего папу, школы еще не бы-
ло. Так вот, бывало и так, что, заглянув под клеенку, бабушка обнару-
живала там лишь немного мелочи. Она поворачивалась ко мне и весе-
ло говорила: «Ну ничего, скоро от Нины перевод придет, а мы пока
будем тюрю есть. Хорошо?» Я с радостью соглашалась. Тюря! Нет ни-
чего вкуснее, если готовишь ее вместе с бабушкой и съедаешь под
какую-нибудь захватывающую историю.
Ее вера в человека, наверное, происходила из их родительской
семьи: младшие братья, офицеры, прошедшие Великую Отечествен-
ную, поддерживали не только свои, к тому времени разросшиеся се-
мьи, они помогали, чем могли и ей. А она так же, без лишних слов,
помогала всем вокруг.
К ней приходили попрошайничать цыганки, а уходили, попив с
нею чаю, как из гостей. Бабушка говорила, что они научили ее воро-
жить. Заходила замученная черноглазая женщина с мальчиком, я уже
не помню, как звали ее, а мальчика помню – Вова Брак. Бабушка гово-
рила, что это немцы, которых выгнали в войну из Поволжья, очень их
жалела, старалась как-то угостить, приободрить. Моих одноклассниц
из детдома всегда кормила чем бог послал, лучшей моей подружке
Люсе из большой и бедной семьи старалась выделить что-нибудь из
моего гардероба. И все это легко, незаметно, между делом.
У бабушки Тины я получила, можно сказать, радиообразование.
Ее мало волновало то, как я делаю уроки. Она считала, что эта моя
работа и я должна справляться с ней сама. Просто после школы и обе-
да было обязательное время для подготовки, я садилась и делала то,
что должна. Затруднений почти не было, потому что читала я с трех
лет, умела писать с пяти, но была торопыжкой и ненавидела чистопи-
сание. Зато вечером! Нас ждал «Театр у микрофона» или только начи-
нающие выходить выпуски «Встречи с песней», или большие оперы.
Местное время не совпадало с московским, поэтому мы ложились в
постели и слушали, погасив свет. Утром бабушка напевала что-нибудь
из услышанного. К тому времени она потеряла певческий голос, но
слух и желание петь оставались с ней до последнего дня. А еще мы
- 410-
ходили в кино и не пропускали ни одной новинки. Конечно, до Очёра
все доходило медленней, но все-таки доходило! Фильмы с Лолитой
Торрес, Джульеттой Мазиной, Раджем Капуром, юной Анастасией
Вертинской и орденоносной Мариной Ладыниной – очень пестрый
репертуар. Бабушка тщательно следила, чтобы «картина была подхо-
дящей», пусть и взрослой. Например, итальянская «новая волна» – это
было «рановато». Киномехаником в нашем лучшем кинотеатре «Вос-
ток» работал сын бабушкиного младшего брата, поэтому можно было
иногда и проникнуть к нему в кинобудку, особенно если фильм очень
хвалили, а все билеты были проданы.
Бабушка Тина серьезно относилась к газетам и журналам, выпи-
сывала тоже много, но только самые ходовые, из «толстых», пожалуй,
только «Юность». Зато всегда покупала мне в киоске детские, помогла
записаться в городскую библиотеку. Мы обсуждали с ней прочитанное
и спорили. Она жаловалась маме, что порой я путаю книгу и жизнь и
«заигрываюсь» в полюбившегося героя. Ее сердило, что я копирую
поведение озорной героини «Динки» Валентины Осеевой, а не «Ко-
мандира звездочки» Любови Воронковой. А ведь сама не раз мне рас-
сказывала про свои гимназические проделки!
Бабушка писала стихи. Она называла это занятие «рифмоплетст-
вом» и отчетливо сознавала место своих произведений. Часто это бы-
ли сатирические куплеты на коммунальные темы. У нас была дружная
улица Советская, в том квартале, где мы жили – от улицы Гоголя до
переулка Пионерского. Все уличные происшествия и события облека-
лись бабушкой в легкие строчки, «вирши» наклеивались на ватман, и
газета вывешивалась к ближайшему магазину (мы называли его «наш
магазин»). Помню «агитку»:
Нам болезни надоели,
Вызываем их на бой:
Ежедневно пол мы будем
Мыть горячею водой.
Были и поздравительные стихи к большим праздникам.
Бабушку очень любили на почте. Она получала посылки из раз-
ных городов (к тому времени ее дети почти все разъехались), кило-
граммами покупала хорошие открытки и конверты, не скупилась на
благодарственные отзывы в «Книге жалоб и предложений». Она была
очень благодарным человеком, моя бабушка Тина. К каждому празд-
нику она отправляла несметное число поздравлений: семье, друзьям,
продавцам «нашего» магазина, почтальонам, докторам, любимым
- 411-
дикторам Всесоюзного радио и даже на передачу «Говорит Пекин».
Какое расстроенное письмо она написала, когда «великой дружбе»
пришел конец! Как просила одуматься! Трогательно наивная, довер-
чивая, бабушка Тина раздражала приземленных и подозрительных:
какой выгоды она ищет? почему так себя ведет? Думаю, что и забав-
ляли эти ее рифмованные открытки и письма, но она, как ни странно,
часто получала на них ответы. А китайское радио даже присылало по-
дарки! Два изумительных веера, брошь и газовую косыночку.
Бабушка была щеголихой на свой лад. Умела шить, вышивать, пе-
ределывать из старого, но, когда у нее появились внуки, особенно
этим не занималась. Самый любимый ее наряд – шелковое платье-
годе, черные чулки, белые туфли на небольшом каблучке и газовая
косыночка, та самая, из Китая. Из дома она никогда не выходила без
макияжа, подкрашивала брови и губы, даже если просто мела улицу
перед воротами.
Я не знаю, каким чудом удалось ей, одинокой вдове, сохранить
всех детей в войну, как удалось дать всем приличное образование. Так
же, как и дедушка Павлик, она считала, что образование важнее всего.
В ее посылочках нам на Север обязательно были хорошие детские
книги.
И здесь мне еще раз хочется сказать, какую роль в жизни нашей
семьи сыграла Сивинская школа. Всю жизнь мама и папа, их школьные
друзья с восторгом рассказывали о школе и учителях, о тех навыках,
которые помимо базовых знаний они получили. О спектаклях, которые
ставили. «Тимур и его команда» – современная, яркая книга, и вот она
уже звучит со сцены. Случилось так, что главные роли исполняли как
раз и Кучумовы, и Караваевы: средние, Владимир и Тамара, – Тимур и
Женька, старшие, Борис и Нина, – инженер Гараев и Ольга. Папа рас-
сказывал, как эвакуированная из Ленинграда Ксения Александровна
Плахоцкая вела у них кружок художественного чтения, как приносила
на занятия стихи малоизвестных для школьников поэтов, как они чита-
ли, вслушивались в музыку стиха, размышляли. Его любовь к хорошей
поэзии – именно отсюда. Никто не делал скидки на то, что школа сель-
ская, цели ставили высокие. Мама рассказывала, как в группе сивин-
ских школьников ездила с выступлением на художественный фести-
валь в Москву. Ребята выступали также на научных конференциях с
докладами, причем, не только прикладными. Школа учила культуре,
была местом притяжения для всех жителей села.
Весной 1941 года перед школой выпускники вместе с классным
руководителем Ильей Ефимовичем Мизёвым сажали березовую ал-
- 412-
лею. «Вот, – говорил он, – будете потом приходить сюда с внуками».
Ребят это «с внуками» очень веселило... После войны все, кто уцелел,
действительно часто приезжали и приходили к березкам на встречи с
однокашниками – и с детьми, и с внуками.
Знания, полученные в школе, дали возможность легко поступить
в вузы. Мама мечтала о медицинском, чтобы научиться лечить тяже-
лых больных, таких, как ее отец. Но медицинский – это очень долго,
семье не вытянуть. А педагогический только четыре года, тем более,
что опыт работы с ребятишками у мамы был: братья и сестры, вожат-
ская закалка. Нина Кучумова поступила на литфак Молотовского педа-
гогического института. Борис Караваев – тоже в Молотове, только го-
дом позже, в Высшее авиационно-техническое училище (ВАТУ).
Училась мама с перерывами. Сначала пришлось взять академиче-
ский отпуск, когда не стало отца. Около года мама проработала тока-
рем на Очёрском машзаводе, который выпускал тогда 120-
миллиметровые мины. Работа грязная, тяжелая, в цехах холодно,
дымно. Особенно досаждало не это, как вспоминала мама, а мат, от
которого было некуда деться. Подросла сестра Тамара, бойкая, задор-
ная, уехала в Молотов в фабрично-заводское училище при заводе No
19. Бабушка решила, что маме пора возвращаться в институт.
Мама училась хорошо, стараясь при каждой возможности наве-
щать семью, помогать по хозяйству. Успевала не только учиться, рабо-
тать, но и ходить в театры! От оперного театра до общежития на улице
Советской было недалеко, а театр оперетты размещался на улице 1905
года в доме, где долгое время был кинотеатр «Горн». После учебы и
работы на трамвае добирались до театра, а обратно – только пешком.
Мама со смехом рассказывала, как однажды одолжила у подруги ту-
фельки, а они оказались на картонной подошве. Подруги попали под
дождь, и туфли развалились. Хорошо еще, что по пути домой.
Студенты поддерживали друг друга, как могли. Если кто-то при-
возил из дома картошку или кружок замороженного молока, устраи-
вали общий пир. Делились и книгами, и конспектами. У мамы и ее
лучшей подруги, одноклассницы и однокурсницы Жени Мальцевой,
почерки были удивительно похожи. Поэтому конспекты классиков
марксизма иногда писали под копирку, экономя время.
В 1943 году мама с подругами ушла добровольцем на фронт. По-
пала в 124 Отдельный полк связи 59 армии, который дислоцировался
под Ленинградом. И почти сразу была ранена: их эшелон разбомбили
под Волховом. В воспоминаниях с горечью написала: «Моя боевая
биография не удалась... Оказалось, что из 20–30 пермячек-добро-
- 413-
вольцев моего призыва только ОДНА – Юлия Владимировна Никоно-
вич (в замужестве Железовская) была взята непосредственно в связь,
стала классным специалистом, овладев 3 профессиями связисток
(БОДО, Морзе, er-35). Меня – литфаковку – убедили в необходимости
работы в строевой части штаба полка, Катю Шардакову (Ермилову) –
бухгалтера – в необходимости работы по продовольственному и ве-
щевому (ОВС, ПФС) снабжению в штабе полка, Веру Бояршинову –
литфаковку, хорошо рисующую – чертежницей при штабе, а остальных
заняли совсем «не военной» работой. Ведь армии необходимы были и
прачки, и кухонные рабочие, и т. п. И к предстоящей итоговой кампа-
нии по снятию блокады Ленинграда надо было «высвободить» муж-
чин, заменить на должностях, которые могли исполнять девушки».
Это «не удалась» тенью стояло за ее плечом. Мама никогда не
щеголяла тем, что была в действующей армии, ни по молодости, ни в
почтенном возрасте не терпела парадных сборищ и громких речей.
Считала, что точнее Юлии Друниной о девочках на войне не сказал
никто. Еще очень ценила две книги: «В окопах Сталинграда» Виктора
Некрасова и «Чижик – птичка с характером» Валентины Чудаковой.
Произведения явно не с одной полки, но очень уж близкую по духу и
опыту героиню описала Чудакова. Ужасно ругала «Блокаду» Чаковско-
го. Это удивительно, потому что мама моя была редким миротворцем,
как и бабушка Тина, никогда не спешила кого-либо в чем-либо обви-
нить, старалась сначала разобраться в причинах того или иного некра-
сивого поступка, найти мотивы, которые оправдывали бы оступивше-
гося человека. Но ложь – к ней она относилась с брезгливостью. Ох, а я
в отличие от брата в детстве любила приврать... Язык спешил вперед
меня. Мама, конечно все видела и понимала и, как правило, ничего не
говорила, но ТАК смотрела, что я думала: уж лучше бы отлупила!
Осталось около десятка фотографий военной поры. Мама еще и в
агитбригаде участвовала, пела, танцевала, читала стихи (опять же –
спасибо школе!). С раннего возраста мы с братом помним, как она наи-
зусть читала нам на прогулках Твардовского, Алигер, стихи безвестных
авторов, от которых в памяти остались сейчас только строчка-другая.
Я знаю, что писала и сама, но ничего «из раннего» мы не видели.
Маминых подруг, как и папиных друзей, мы знали по именам, по
письмам и встречам. Замечательно умели дружить наши родители.
С годами число их друзей, казалось, не уменьшалось, с каждым новым
переездом появлялись новые люди, да не просто так, а на всю жизнь.
После войны мама вернулась в Пермь, а папа остался служить на
Дальнем Востоке. В войну он был авиамехаником в морской авиации,
- 414-
а затем поступил в Тихоокеанское высшее военно-морское училище и
стал офицером-подводником. На послевоенном литфаке, как и в дру-
гих вузах, вчерашние школьники учились рядом с фронтовиками. На
одном курсе с ней оказалась младшая сестра моего папы – Тамара.
Педагогическое училище заканчивала младшая сестра мамы – Вален-
тина, училась там же и еще одна, Лилина. Одна из подруг, Галя Плет-
нева, которая закончила курс во время войны и преподавала не только
русский и литературу, но и домоводство, сшила маме из шинельного
сукна пальто, перешила военную форму в гражданское платье. Девуш-
ки ухитрялись украсить себя, пришивая к платьям то белоснежные во-
ротнички, то вышитые аппликации. Вязали из бинтов береты и красили
их акрихином в цвет майской зелени. Тон задавала преподавательни-
ца Инна Львовна Вирская, ленинградка. Она ходила в трикотажном
костюме и время от времени перевязывала его, меняя фасон, добав-
ляя то блузку, то шарфик. Может показаться, что все это не имеет от-
ношения к филологическому образованию, и все же... Как и нас в свое
время, родителей учили, что мелочей здесь быть не может: неряшли-
вость, расхлябанность, неэстетичный вид влияют на качество работы,
вредят делу. Дружила мама с Ксенией Гавриловной Глинковой, моло-
дой преподавательницей, близко общалась с Людмилой Александ-
ровной Заозерской и деканом Викторином Александровичем Будри-
ным (не могу не упомянуть, что, по словам мамы, именно Будрину
принадлежит идея дать имя Пушкина школе No 9, тогда еще не мате-
матической, а самой обыкновенной).
Училась мама отлично, получала Сталинскую стипендию, занима-
лась научной работой. Сохранилась фотография в институтской много-
тиражке: мама за книгой, а рядом однокурсники. Из этого выпуска
вышли довольно известные пермяки: Ирина Фукалова, Агата Будрина,
Феликс Бобков, Тамара Филичкина, Валентина Карякина. Как же они
помогали мне, когда я приехала в Пермь! Валентина Петровна тогда
уже давно работала в библиотеке института усовершенствования учи-
телей. Учебников не хватало, даже в читалке университета на какую-
нибудь хрестоматию по фольклору были очереди. И я бежала на
Большевистскую, работала там. А без Агаты Григорьевны, заместителя
директора по науке Пермской художественной галереи, наверное, я
не получила бы такого глубокого знакомства не только с изобрази-
тельным, но и с музыкальным искусством: кто не помнит уникальных
концертов в зале с «Римскими банями» Федора Бронникова!
Диплом мама писала по роману Н.Г.Чернышевского «Пролог»,
получила отличные отзывы и направление в аспирантуру, но решила,
- 415-
что ее место в школе. После института она попала в легендарную «Се-
мёрку» – школу No 7, где тогда директором была Александра Иванов-
на Серебренникова. В начальные классы пришла и мамина сестра,
Валентина Павловна. Мамина коллега и подруга Валентина Ивановна
Подосёнова проработала в школе всю жизнь, а сестрам Кучумовым
выпала другая судьба: младшей пришлось вернуться в Очёр, а стар-
шую «призвали» в райком комсомола, как ни пыталась она отбиться. В
детстве мы часто слышали рассказы мамы о ее седьмом классе, где
учились только девочки, классе сложном и интересном, поскольку к
тем, кто учился здесь с первого класса, присоединялись девочки из
хореографического училища, если их физические возможности в под-
ростковом возрасте уже не соответствовали строгим балетным стан-
дартам. И этим ученицам нужно было помочь адаптироваться в новых
условиях, пройти школьную программу по всем предметам с тем каче-
ством, к которому привыкли в «Семёрке». Много сил и времени тре-
бовала эта работа, но и благодарной была. Не только мама вспомина-
ла Адочку Тернавскую, Лилю Павлову, Галю Лебедеву и других. Одна-
жды я увиделась с некоторыми из них, спросила, помнят ли они учи-
тельницу русского и литературы Нину Павловну Кучумову, которая
совсем недолго преподавала у них. Как горячо они откликнулись!
И пришли к маме в гости.
Мне кажется, что в человеческой жизни так все связано, таким
удивительным образом сложено в прихотливые узоры, что ни одному
сочинителю и во сне не привидится. Мы с мужем помогали родителям
готовиться к этой встрече, и, открывая дверь очередной гостье, просто
лишались дара речи. Среди пришедших была любимая учительница
моего мужа, физик из «Девятки», Адель Ниссоновна Новоселицкая
(Тернавская), а еще – мама моего сотоварища по самодеятельности и
фольклору Кости, Лилия Анатольевна Шумова (Павлова). Кстати, сест-
ра Лилии Анатольевны, Люция Анатольевна Волынская, преподавав-
шая у нас латынь, как-то удивительно вовремя заметила мои метания
на первом курсе и убедила, что нельзя поддаваться унынию из-за не -
удачи на зачёте и малодушно сбегать с факультета.
Маминых учениц приняла блистательная Тамара Абрамовна
Рубинштейн. А мама вышла замуж. В последний день отпуска военный
моряк Борис Караваев решился сделать предложение. И не без уча-
стия литературы – после премьеры фильма «Горе от ума». Как же шу-
тили в нашей большой семье по этому поводу!..
Вслед за папой мама уехала во Владивосток, и там тоже с радо-
стью пошла работать в школу, по совпадению, тоже No 7, только это
- 416-
была школа для мальчиков. Маму всю жизнь томила мысль о том, что
она не до конца реализовалась как филолог, педагог. Сплошные «не»:
не стала ученым, недолго проработала учителем, нечасто удавалось
вообще найти работу, ведь в гарнизонах не так много возможностей. И
что бы мы ей ни говорили, это чувство не покидало ее. А между тем,
даже в гарнизонах она и ее подруги ухитрялись находить применение
своим талантам. Иногда везло, удавалось устроиться работать в биб-
лиотеку или школу. Но чаще на общественных началах, т. е . без зар-
платы, организовывали радиопередачи, работали в женсоветах, а од-
нажды придумали удивительную вещь: группа офицерских жен созда-
ла подготовительные курсы для моряков, которые после срочной
службы хотели бы продолжить образование. Наконец, мама – это ма-
ма! Да какая! С выдумкой, мастер на все руки, энтузиастка. Папа шутя
называл ее идеалисткой, разъясняя попутно, что это и от слова идеал,
и от слова идея – столько всяких творческих замыслов было у мамы!
Это потом очень пригодилось ей, когда уже в столице Северного фло-
та, Североморске, она стала заведовать читальным залом центральной
детской библиотеки. Вот где пригодились все ее дарования! Она при-
думала написать ведущим детским писателям каждой республики
Союза – и в библиотеку пришли книги с автографами! В любую работу
мама вносила живое чувство, находила неожиданный ракурс, при-
сваивала себе, делала работу лично необходимой – и самое скучное
дело волшебным образом преображалось.
Наш папа, Борис Александрович Караваев, командир подводной
лодки, надолго уходил в море, иногда его не было дома по полгода.
Перед походом под руководством мамы мы записывали на магнито-
фон свои выступления – стихи, песни, поздравления с праздниками.
Переписывали любимую музыку с пластинок. Мама тщательно отби-
рала книги для экипажа. Папа всегда брал с собой сборники стихов:
классику, недавно разрешенного Есенина, поэтов-фронтовиков, со-
временных, как тогда говорили, спорных – Евтушенко, Вознесенского...
Наизусть знал очень много, помнил до своих последних дней.
Папа был замечательным моряком. До сих пор в профессиональ-
ной среде в ходу учебные фильмы, снятые на его подлодке. Хороший
командир, он не раз находил выход из ситуаций, грозивших катастро-
фой. И дружить умел по-настоящему. К сожалению, почти все его дру-
зья-северяне ушли из жизни намного раньше него. А нам с братом в
наследство остались дети друзей, почти родственники, с которыми мы
вместе росли, взрослели...
- 417-
Папа написал о своем детстве, о войне, о некоторых памятных
событиях. Это отнюдь не сухие перечисления фактов и имен. Свобод-
ное, простое и эмоциональное повествование, лишенное какой бы то
ни было позы – в этом весь папа. Нам удалось издать книгу «Берег и
море», где есть и очерк о дедушке, и папины рассказы, и мамины сти-
хи, и проза брата.
Меня всегда поражало, что родители наши были очень молоды-
ми всю свою жизнь, не зацикливались, не коснели, мыслили критиче-
ски, воспринимали действительность со всеми ее историческими потря-
сениями и поворотами без обывательского ужаса. «Я люблю тебя,
жизнь» – любимая папина песня и, наверное, их общее с мамой кредо.
Если маме пришлось поработать в школе не так долго, то две мои
тети, Тамара Александровна Дементьева и Лидия Ивановна Караваева
всю жизнь были сельскими учительницами. Они были очень разными.
Сестра папы тетя Тома остроумная, яркая, темпераментная, «с перчин-
кой». Могла так «припечатать», что мало не покажется. А дети ее лю-
били. Потому что она никогда не обижала попусту, а еще умела в каж-
дом найти хорошее и помочь этому развиться. В селе у каждого свой
огород, свои хозяйственные хлопоты. Она и сама через все это про-
шла, потому и понимала, когда школьники вынуждены были пропус-
кать занятия, чтобы помочь родителям во время посева или уборки
урожая. Но спуску не давала. Пропустил – догони.
В ее характере была некоторая резкость и прямолинейность. По-
моему, поэтому она предпочитала уроки русского языка урокам лите-
ратуры, хотя всегда была в курсе новинок и регулярно просматривала
методические журналы. Много путешествовала сама, а потом и свои
классы стала вывозить на экскурсии, и не только в Пермь. Ее ученики
помнят, как впервые побывали в Москве, Ленинграде, Киеве... Во
время этих поездок она лучше узнавала детей, а они учились лучше
понимать и видеть, узнавать новое. Думаю, для многих из них выбор
профессии состоялся как раз благодаря тому, что им показали боль-
шой мир, разные возможности. А для тети Тамары благодарность и
любовь учеников оказались намного важнее, чем государственные
награды, которых она была удостоена.
Лидия Ивановна, жена папиного младшего брата, была совсем
другой. На ее долю выпали переезды, связанные с работой мужа в
леспромхозах. Условия в школах разные, дети и родители не всегда
мотивированы на продолжение образования. Приходилось преодоле-
вать косность, безграмотность, иногда просто бытовую грубость. Ли-
ричная по натуре, любительница поэзии, она не сломалась, не сбежа-
- 418-
ла из школы. Терпеливо, шаг за шагом, изменяла своих учеников, рас-
тила своих собственных детей. Как-то летом я ездила к ним в гости в
лесной поселок Березники. В небольшой служебной квартире – книги,
книги... Позже я ездила в командировку в поселок Новоильинский, где
она работала незадолго до пенсии. До сих пор ее вспоминают добром
и коллеги, и бывшие ученики.
Никогда не слышала, чтобы мама и тети вели профессиональные
разговоры при встрече. Видимо, уж очень разные они были и в разных
условиях работали. А вот о книгах говорили и спорили. Книги – особая
ценность для нашей семьи, главная радость нашего с братом детства.
Спали на буквально чемоданах, «золото-бриллианты» и прочий хру-
сталь никого особенно не интересовали, но книги! Это был основной и
самый ценный груз при всех переездах, главное наследство.
Мой брат, Игорь Караваев, начал читать тоже в раннем детстве. А
его дар рассказчика проявился уже в начальной школе. Однажды учи-
тельница задала небольшое сочинение на дом. Кажется, на тему «Мой
папа». Брат написал. Учительница, зная, что мама Игоря – филолог, не
поверила, что это самостоятельная работа. Она посадила брата на
первую парту и дала новую тему. Он написал на ее глазах связный ин-
тересный рассказ без ошибок и почти без помарок. Игорь в детстве
любил выдумывать всякие истории про любимых сказочных героев
(например, про лису) или про реальных друзей (помню его «Веледе-
шины истории», бесконечный устный сериал про похождения его од-
ноклассника). Служба, а затем, семья, казалось бы, навсегда перевер-
нули эту страницу. Но вот появилось немного свободного времени, и
все вернулось! Сначала Игорь присылал рассказы домой, и первыми
читателями были мы с родителями. По-военному краткий, он умеет
сделать своих героев живыми, воссоздать атмосферу прошлого, со-
вместить взгляд ребенка со своим сегодняшним, мудрым и подчас
печальным. И тонкого юмора много в этих зарисовках. Мы с мамой
убедили Игоря, что его истории из детства и миниатюры о службе
вполне заслуживают публикации. Теперь все их можно прочесть в ин-
тернете, на ресурсе Проза.ру . Думаю, пора готовить отдельную книгу.
Наша большая семья – а клан у нас, по самым скромным подсче-
там перевалил за сотню – всегда была и, надеюсь, останется открытой.
Многочисленные братья и сестры, давно живущие в разных городах и
даже странах, если и не видятся часто, то всегда в курсе дел друг дру-
га. Жены и мужья вливаются в клан, с каждым новым человеком при-
ходит еще одна семья, еще один поворот сюжета. Так однажды в наш
дом вошел Володя Ефимов, мой муж.
- 419-
О Володе рассказывать и просто, и сложно. Щедро одаренный, он
мог бы состояться во многих сферах: как ученый, музыкант, перево-
дчик, фотохудожник, криминалист. Выпускник знаменитой «Девятки»,
многообещающий студент физфака, умница, интеллектуал, привык-
ший к победам на различных олимпиадах, он внезапно сталкивается с
необходимостью систематической работы. А тут еще неудачное паде-
ние и перелом. Как спринтер, вынужденный бежать по дистанции
стайера, он теряет ритм, отстает, пытается догнать, но безуспешно. Но
в запасе есть приличный английский язык и возможность перейти на
другую специальность. Так на романо-германском отделении филоло-
гического факультета появляется новый студент.
Читать Володя начал рано. Сохранилась даже фотография, где пя-
тилетний малыш сидит на скамейке у подъезда, развернув газету, и
читает её соседям. Родители-геологи приучили к самостоятельности. В
их отсутствие мальчиком занимались бабушка и тетя – студентка хим-
фака. С детства любимые книги Володи – «Органическая химия» и
«Практическая грамматика английского языка». Так что английский
язык избран в качестве специальности совсем не случайно.
Какое это было прекрасное приобретение для факультетской са-
модеятельности! Володя Ефимов и Сережа Бердышев – знаменитый и
блистательный дуэт, который затем превратился в легендарный ан-
самбль «111». Но оба студента, со страстью погрузившиеся в музы-
кальное творчество и несколько запустившие учебу, вскоре вынужде-
ны были покинуть факультет: их призвали в армию. Володя попал в
строительную часть на Таймыре. Не могу сказать, что армейская служ-
ба пошла ему на пользу. «Дедовщина», о которой рассказывали побы-
вавшие в армии, оказалась страшной правдой. Несмотря на возраст и
спокойный характер, Володя вернулся со сломанными ребрами и пе-
ребитыми носом. Повезло, что отделался сравнительно легко, и то
потому, что довольно быстро получил назначение на телефонную
станцию, стал связистом. Ну и, конечно, выступал на концертах само-
деятельности. Кроме тяжелых воспоминаний и негативного опыта «на
гражданку» привез новое умение: научился у коренных жителей, нив-
хов, бисероплетению. Кроме традиционных техник придумывал соб-
ственные, работы получались очень необычные.
После службы вернулся в университет. Учился с большим удо-
вольствием. Сразу определился, что его больше всего интересует лин-
гвистика. С особым интересом ходил на семинары и научные конфе-
ренции, слушал лекции Л. В . Сахарного и Л. Н. Мурзина. Дериватоло-
гия – вот что было главным его увлечением. Диплом писал по метафо-
- 420-
ре в русском и английском языках. Любимый поэт – Маяковский, книг
его и о нем на целый стеллаж. В материале поэтому ориентировался
легко, работа была трудоемкой, но радостной. Картотека к диплому, к
сожалению, не сохранилась, только черновики, которые через много
лет Володя с грустью перебирал и удивлялся, как это ему удалось на-
писать...
Некоторое время Володя работал в университете, преподавал
болгарский язык, продолжал исследования под руководством
Л. Н. Мурзина. Как призналась мне однажды одна преподавательница,
ее докторская «выросла» из небольшой Володиной статьи, написан-
ной в этот период, такая концентрация идей в работе была.
Не могу точно назвать причину, по которой не состоялась даль-
нейшая работа в университете. Возможно, потому, что появилась се-
мья, дети. Потребовалось жилье. А тут предложили интересную рабо-
ту в Межобластной криминалистической лаборатории, пообещав, что
помогут с квартирой. Прошел обучение, стал экспертом. Очень любил
и эту работу, и коллектив. Но и здесь проработал не так уж долго.
Время изменилось.
Появился в доме компьютер, пошли заказы на переводы – и тех-
нические, и художественные. Володя был отличным переводчиком.
Заказчики очень ценили то, что он хорошо разбирается в предмете:
химия, физика, геология, связь, производственная документация на
машины и механизмы и т.д
. Вот что значит физфак плюс филфак!
Много переводил документов для отъезжающих на постоянное место
жительства в другие страны. Помню первый художественный перевод,
который отделывался тщательнейшим образом, каждая фраза прого-
варивалась, словно он пробовал ее на вкус. Это был рассказ Роджера
Желязны «Роза для Экклезиаста».
А потом началась работа с издательствами и газетами. Быстро ос-
воив компьютерную верстку, Володя чаще всего работал дома. Из него
получился хороший технический редактор, дотошный, внимательный,
инициативный. Его руками сверстана, например, первая книга Алексея
Иванова «Чердынь – княгиня гор». Он принимал участие в сборе ин-
формации, подготовке краеведческого материала, а затем в верстке
«Желтых страниц», издаваемых Ильдаром Маматовым. Первый в Пер-
ми освоил нотный набор, делал сборники произведений пермских ком-
позиторов. И сам музыку не оставлял, продолжал петь в составе камер-
ного хора, участвовал в музыкальных спектаклях, играл на гитаре, банд-
жо и флейте. Одно время у нас в однокомнатной квартире было более
пятнадцати музыкальных инструментов, и все использовались.
- 421-
Как-то однажды Володя размышлял, почему он уже не один раз
сменил работу, и заметил, что есть определенная цикличность в лю-
бом его начинании: первый год – освоение, второй год – доведение
до высокого уровня, третий и последующие – эксплуатация нарабо-
танного, рутина... и скука. Начинается поиск нового, запускается новый
цикл. В какой-то момент это хождение по кругу совершенно выбивает
из колеи. Незадолго до своего пятидесятилетия Володя стал терять
зрение и интерес к жизни. Он ушел непростительно рано. Мне до сих
пор трудно в это поверить.
Из наших троих детей филологом не стал никто. Старший, Сережа,
– программист, Тимоша и Марина – историки. Мои родители и Володя
дали им очень многое. Умные головы, умелые руки, чуткие сердца.
Это самостоятельные, свободные люди, каждый идет своим путем. Но
есть что-то общесемейное, выросшее из наших домашних разговоров,
праздников и будней, совместного музицирования и вечернего чте-
ния. Каждый из них владеет словом. Сергей хорошо знает английский,
Тимофей интересно и остроумно пишет, а Марина даже была редак-
тором одного из журналов издательского дома «Первое сентября».
Было бы несправедливо не сказать хотя бы несколько слов о дру-
гих родственниках-филологах. Дочь маминой двоюродной сестры –
Татьяна Константиновна Тимофеева (Яринская), выпускница филфака
университета, обладающая редкой профессией сурдопереводчика (о
ней есть очерк в одном из наших филологических сборников). Дочь
папиного двоюродного брата – Елена Алексеевна Силина, выпускница
факультета иностранных языков Пермского пединститута, ученица и
последовательница замечательного психолога В. С. Мерлина. Жены
братьев – Людмила Алексеевна Караваева, учитель английского и не-
мецкого языков в одной из гимназий Санкт-Петербурга, талантливая
переводчица, и Юлия Юрьевна Червенко, преподаватель немецкого
языка в Пермском политехническом. Моя прекрасная сватья, учитель
лицея No 2 Елена Владимировна Чигодайкина (а я помню ее студент-
кой Леной Анипко) и ее дочь Анна Владимировна, аспирантка
Е. Н . Поляковой (сейчас она редактор солидного московского изда-
ния). Танечка, Татьяна Юрьевна Шкляева – преподаватель чешского
языка, творческие проекты которой каждый раз приводят меня в вос-
торг: и тексты, и фотографии, и идеи... Но об этой семье есть отдель-
ный рассказ.
Пора остановиться. Подрастают внуки. К счастью, хорошие чита-
тели и любознательные собеседники. Кем они станут – не загадываю,
но надеюсь, что продолжение следует.
- 422-
В. Рябухин,
выпускник 1981 г.
Е. Рябухина (Лобанова),
выпускница 1984 г.
ТЕКСТ, КОНТЕКСТ, ПОДТЕКСТ
Текст семьи создают люди, решившие связать воедино свои
судьбы. Контекст формируется родными, близкими, друзьями, учебой,
работой. Подтекст – то, что ляжет в основу семей детей и внуков.
Первые строки текста нашей семьи написаны, пожалуй, весной
1978 года. Напыщенный второкурсник идет проводить занятие в
«Школе юного филолога» по «Белому пароходу» Ч. Т. Айтматова. Ни
один юный слушатель-старшеклассник повесть не прочитал. А должен
был! Ведь: «У него было две сказки. Одна та, которую придумал дед.
Другая – своя, о которой никто не знал. Потом не осталось ни одной.
Об этом речь».
–А давайте отменим занятие! – Руководит саботажем «ртуть
(диалектное – гомоза) девчонка-шатенка» в розово-красном батике.
С осени 1979 года все как у всех студентов, не исключая поездок
на близлежащие колхозные поля. НЕ как у всех – значительно более
частые, чем требовал график выпуска студенческой стенгазеты, встре-
чи в редакции «Горьковца». Слово-то какое: «ленинец, стахановец,
лишенец, отщепенец»...
Потом «навигация» для младшекурсницы: «А вот когда к вам
придет...»
Потом вопрос старшекурсницы юному мужу-ассистенту: «Почему
ты этого не знаешь?» И ответ: «Потому, что Рита Соломоновна нам
“Серебряный век” не читала».
Потом – рождение детей, семейная педагогика, работа в школе,
вузе, защита кандидатских и докторской.
Потом – рождение внуков, семейная педагогика и бесконечная
благодарность воспитавшим убежденность во всемогуществе Слова:
Р. В . Коминой, Н. Е. Васильевой, З. В . Станкеевой, Ф. Л. Скитовой,
С. Ю . Адливанкину, Л. Н. Мурзину, М. Н. Кожиной, бабушкам, дедуш-
кам, родителям, сестрам, детям, зятьям, невестке, внукам, друзьям.
Вектор идеального подтекста: «Плод же духа любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержа-
ние. На таковых нет закона». (Апостол Павел, Послание Галатам,
глава V, стихи 22, 23).
- 423-
Г. Бондарь,
выпускница 1987 г.
НЕ-ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ НЕ-ДИНАСТИЯ
Видит бог, я долго сопротивлялась этой идее – написать что-то
про «нашу филологическую династию». Беру в кавычки, потому что
никакой династии, во-первых, нет, во-вторых, тем более нет никакой
филологической династии. Есть выпускница филологического факуль-
тета ПГУ, есть ее семья, в которой две дочери закончили тот же фило-
логический факультет того же вуза. Но династии нет, тем более фило-
логической – я на этом настаиваю. Однако на свете есть люди гораздо
упорнее меня, и Нина Евгеньевна Васильева как раз из их числа. Итак,
я села и написала про не-династию не-филологов.
Когда-то в незапамятные времена, аж в 1981 году, я закончила
среднюю школу, аттестат мой был вполне приличен, подружки реши-
ли подавать документы на филфак, на романо-германское отделение,
и я поплелась вслед за ними. Да, школьный английский мне давался
легче, чем одноклассникам, я уже пробовала себя в художественном
переводе (долго еще валялась по разным полкам и ящикам пухлая
тетрадка в клеточку, исписанная мелко-мелко переводом на русский
язык рассказа Конан-Дойля «Голубой карбункул»), видимо, это и дало
мне повод решить, будто я могу поступить в заведение, называвшееся
так красиво, значительно и загадочно – «университет».
Но экзамены я провалила. Нет, с сочинением все было о’кей, про
Печорина я могла накатать хоть пятитомник, не хуже Лермонтова. Ли-
тературу устно тоже сдала. Хотя, отвечая на вопрос о «Вишневом са-
де», упорно искала, где же там положительные герои. Даже англий-
ский как-то умудрилась сдать на «4». А вот с историей вышел, как
нынче говорят, облом. Дело в том, что про восстание крестьян под
предводительством Пугачева я могла рассказать только то, что узнала
о нем из повести «Капитанская дочка». Пугачев был мужик в заячьем
тулупчике, вышедший из бурана и помиловавший Петрушу Гринева.
Да, еще это было неподалеку от Оренбурга. Все, точка. Я не могла да-
же вспомнить, когда все это происходило. Очень давно – единствен-
ное, в чем я была уверена. Естественно, члены экзаменационной ко-
миссии вежливо со мной попрощались и пожелали успеха в следую-
щем году. Я, рыдая, вернулась домой, прорыдала еще пару дней и
пошла искать работу.
- 424-
Тут снова подвернулась подружка – она смогла пройти только на
вечернее и устраивалась пионервожатой в нашу школу. Оказалось, что
в соседней школе тоже нужна была вожатая. Я утерла слезы и отпра-
вилась на собеседование к директору. Все оказалось очень просто,
через несколько дней я стала членом педагогического коллектива. В
общем, это было начало моей педагогической карьеры и одновре-
менно – еще одного провала. Директор, принимая меня на работу, не
знала, что берет в советскую школу для организаторской работы в
пионерской организации совершенно аполитичную, аморфную, вялую
и безынициативную личность. Хотя сферу деятельности мне выделили
нешибко ответственную – работу с октябрятами, я умудрилась зава-
лить ее полностью, стопроцентно, с особым пунктом насчет моей без-
дарности в докладе завуча по воспитательной работе на педсовете в
конце учебного года.
Но оба моих фиаско имели все же результат положительный.
Первое – я поняла, что в университет идут люди не глупее меня и что
моих школьных познаний маловато. Поэтому я записалась на подгото-
вительные курсы и несколько месяцев ездила на вечерние занятия,
заодно получив представление о том, что меня, жительницу Закамска,
ждет в течение следующих пяти лет. Люди из отдаленных районов
меня поймут. Пермская протяженность, пермский климат и пермский
транспорт – то, что нас закаляет, но и делает особо уязвимыми и нерв-
ными. Второе – я твердо решила, что в школу не пойду работать ни-
ког-да. Впоследствии выяснилось, что с этим выводом я погорячилась,
школа от меня никуда не делась – но это позже.
На второй год я поступила на романо-германское отделение, за-
нятия были очень интенсивные, люди кругом были крайне интерес-
ные. Особо всех интересовала студенческая «Весна». Я прошла про-
слушивание в знаменитую (тогда еще знаменитую) «Бригантину», оку-
нулась с головой в филологическую самодеятельность, позже случился
ансамбль «111» – и это была отдельная эпоха в жизни. Незаметно уче-
ба превратилась во второстепенный вид деятельности, на первом мес-
те был студклуб, сцена, музыка. И как-то вдруг подкрался последний,
пятый курс и необходимость писать хоть какую-то дипломную работу.
Я проявила свою обычную слабохарактерность и снова положилась на
выбор подружки – оказалось, что очень легко писать работу по мето-
дике преподавания английского языка. Собственно, что означает тер-
мин «методика», я представляла себе весьма смутно, но напросилась
в дипломники к Идее Яковлевне Медведь и под ее руководством на-
писала и защитила работу под названием (ох, не смейтесь!) «Прове-
- 425-
дение музыкальных вечеров в средней школе и их влияние на моти-
вацию учащихся к изучению иностранного языка». Сценарий вечера
был основан на песнях протестного содержания одной древней аме-
риканской фолк-группы под руководством Пита Сигера. Вот вы знаете,
кто такой Пит Сигер? И никто не знает. Но его творчество наряду с
творчеством Дина Рида было разрешено к изучению. Я сейчас очень
отчетливо представляю себе, что чувствовали члены госкомиссии,
слушая мою чепуху. Кому-то очень хотелось рассмеяться, кто-то бе-
зумно скучал, возможно, злился, что теряет время. Однако мне выста-
вили оценку «хорошо», и на этом мое университетское образование
закончилось.
Когда я вспоминаю те несколько лет, мне кажется странным одно
обстоятельство. Половину нашего учебного плана занимали идеологи-
ческие дисциплины – история КПСС, политэкономия, диалектический и
исторический материализм, научный атеизм, критика современных
буржуазных теорий, нужно было без конца конспектировать труды
Маркса и Ленина. Каким волшебным способом из нас худо-бедно сде-
лали образованных людей? Правда, списки произведений по зару-
бежной литературе были невероятно длинны, а у студентов с русского
отделения к ним добавлялись такие же длинные списки по русской
литературе. И все же, и все же... Много лет спустя, уже будучи сама
учителем, я поняла, что главным в нашем университетском образова-
нии были преподаватели. Личность Учителя – вот что по-настоящему
важно. Когда создается особая атмосфера, которой ты дышишь и про-
питываешься, – вот это уже не учебный процесс, это уже Образование.
Нашему студенческому поколению повезло – мы еще застали препо-
давателей «старой школы», для которых нормой был не учебный про-
цесс, а образование.
В общем, я получила заветную «корочку» с квалификацией «Фи-
лолог. Переводчик. Преподаватель зарубежной литературы». Дальше
наступали времена смутные и беспокойные – конец 80-х, начало 90-х .
С профессиональной деятельностью у меня не клеилось, зато я успела
выйти замуж и завести за это время троих детей. Так сложилось, что
моя семья уехала в украинское село, и мы прожили там восемь лет. И
вот тут моя педагогическо-филологическая карьера сделала неожи-
данный финт. Учитель английского в сельской школе – еще бы полбе-
ды, но мне действительно пришлось преподавать там зарубежную
литературу, все как в дипломе! Все дело в находчивости украинских
властей: реформируя в начале 90-х систему образования, они, что ес-
тественно, ввели в качестве основного предмета украинскую литера-
туру. Но дальше был вопрос: что делать с литературой русской? Вво-
- 426-
дить отдельным предметом – много чести. Отказаться совсем – но как
же Толстой, Чехов, Достоевский? Мировая классика, однако. Выверну-
лось Министерство освиты блестяще – они ввели в средней школе
развернутый курс зарубежной литературы, и в списке произведений
для изучения – русские писатели наравне с Сервантесом, Диккенсом,
Шекспиром и т.д. Поскольку преподавание «зарубежки» никто особо
не проверял и не контролировал, я развернулась во всю свою филоло-
гическую душеньку. Кроме шуток, это был очень интересный и полез-
ный для меня опыт «приземления» – как научить крайне прагматич-
ных сельских детей видеть дальше фабулы, поворачивать сюжет не-
ожиданной стороной, размышлять над вечными вопросами, которые
литература снова и снова задает нам?
Я рискую впасть в грех гордыни, но мне действительно приятно
вспоминать годы, проведенные в той сельской школе. Несколько моих
учениц впоследствии поступили на факультеты иностранных языков в
педвузы Киева и Винницы. Их мало, но они есть! Значит, я смогла вну-
шить им, по крайней мере, уверенность в собственных силах. В сочи-
нениях некоторых учеников я читала достаточно глубокие, иногда не-
ожиданные для меня мысли. И мне доставляет удовольствие думать,
что и я немножечко причастна к их Образованию, где-то и мне удалось
создать ту особую атмосферу, когда ты не просто передаешь некое
знание, но формируешь личность.
Однажды, давным-давно, один мой знакомый музыкант, играв-
ший с нами в «111», сказал: «У вас, универовских, есть какая-то особая
аура. Поле какое-то. Вот у политеховских нет ауры, а у вас есть». Учи-
тывая то, что упомянутый музыкант общался только со студентами
филологического факультета, рискну предположить, что эта аура, это
невидимое поле присуще было как раз филологам. Я вспоминаю ино-
гда эти слова, глядя на своих дочерей. Обе они закончили филологи-
ческий, уже в 21 веке. По специальности не работает ни та, ни другая.
Но в любой области, где бы они ни работали, чем бы ни занимались,
мне кажется, их окружает все то же невидимое поле филологического
Образования. Умение правильно вести себя в коммуникации, форму-
лировать мысли, выстраивать рассуждения, находить подтекст, видеть
взаимосвязи – все это далось и им. Думаю и надеюсь, что когда-
нибудь, задумавшись о прошлом, они добрым словом помянут фило-
логический факультет ПГУ и его преподавателей.
- 427-
А. Моисеева,
выпускница 2003 г.
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ
ФИЛОЛОГИЧЕСКОЙ СЕМЬИ МОИСЕЕВЫХ
Когда мы знакомились с будущим мужем (после сдачи вступи-
тельного экзамена в аспирантуру по философии на лестнице второго
корпуса ПГУ), он воскликнул с чисто филологическим энтузиазмом: «О,
Аня и Петя! Совсем как в «Вишневом саду» у Чехова!» В ответ на что я
скептически хмыкнула: «Ага. Или как в анекдотах про Анку и Петьку...»
Вот в каком-то таком ассоциативно-цитатном пространстве, под тихий
шелест книжных страниц, и пролетели семнадцать лет нашей совме-
стной жизни. В нём мы засыпали, просыпались, общались, питались,
ссорились, мирились, ходили за покупками, встречались с друзьями,
делали уборку, воспитывали дочь и сына.
Знаменательное знакомство во втором корпусе продолжилось
классической «бумажной» перепиской и практически ежедневными
междугородними разговорами: между Петиным Новосибирском и
моей Пермью протягивались все новые и новые ниточки слов, которые
в конце концов крепко-накрепко привязали нас друг к другу.
Первый Петин подарок на Новый год – посылка с книжками, реа-
лизация полузабытой, но от этого не менее драгоценной мечты моего
детства: «Все о Муми-троллях» Туве Янссон и «Рони – дочь разбойни-
ка» Астрид Линдгрен. Настоящее маленькое новогоднее чудо. Они
сейчас стоят в книжном шкафу в детской, и мне кажется, что еще до
сих пор пахнут той елкой и сибирским снегом, на самом деле, раста-
явшим давным-давно.
Уже в апреле 2004 года Петя приехал делать официальное
предложение руки и сердца под предлогом сдачи одного из канди-
датских экзаменов. Позднее он стал ездить в Новосибирск повидать
родных и друзей под видом участия во всех сколько-нибудь значи-
тельных новосибирских конференциях с гуманитарным уклоном... А
в тот апрель мы бродили целыми днями, хрустя льдинками, по ве-
сеннему центру города, сворачивая с Ленина на Компрос, а потом
окольными путями добираясь до Оперного сквера, или часами сиде-
ли у меня дома на кухне за чаем и говорили, говорили, говорили...
Родители были в шоке: «Как же вы жить-то будете, двое болтоло-
гов?» Как оказалось впоследствии, совсем неплохо. По своим собст-
венным меркам. Да, конечно, мы не построили загородный коттедж
- 428-
и за время совместной жизни всего один раз выбрались всей семьей,
вчетвером, за границу. Да, у меня нет в шкафу норковой шубы, а в
гостиной – сейфа с брильянтовым ожерельем. Но мы ведь и не стре-
мились к этому, поскольку оба с самого начала совсем иначе пред-
ставляли свое семейное счастье.
В мудром советском фильме «Доживем до понедельника» не по
годам мудрый мальчик пишет фразу, стоящую целого сочинения:
«Счастье – это, когда тебя понимают». Наверное, сегодня мало кто,
кроме профессионального филолога, может понять, почему в ответ на
банальную просьбу добавки «Я хочу еще», ребенка умиленно называ-
ют «мой маленький Оливер Твист», а после порции советов по воспи-
танию от соседских старушек начинают вспоминать что-то странное
про «пузыри земли»... Но в том-то и дело, что мы очень хорошо пони-
мали друг друга, часто с одной половинки цитаты. И вместе были про-
сто счастливы.
Самое же интересное началось, когда домашний мир литератур-
ных теней начали воспринимать и обживать наши дети. Как сейчас
помню: трехлетняя дочь, катая игрушечный автомобильчик, серьезно
заявила: «Здесь едут Пуаро и Джепп». А пришедший в бурный восторг
папа (тогда еще только начинавший подумывать о написании своей
будущей монографии «Поэтика детектива») кинулся звонить в Ново-
сибирск, чтобы похвастаться этим знаменательным фактом Николаю
Николаевичу Вольскому, автору работ «Загадочная логика. Детектив
как модель диалектического мышления» и «Легкое чтение. Работы по
теории и истории детективного жанра». Помню и другой случай: мы с
Петей заходим в комнату, где на диванчике с мечтательным видом
раскинулся маленький Вася и, глядя в заснеженное окно, декламиру-
ет: «Зима. Крестьянин, торжествуя...» В ответ же на наши изумленные
взгляды произносит укоризненно: «Это – Александр Сергеевич Пуш-
кин. Да-да».
Мы в свою очередь открывали для себя много нового и ранее не-
известного в мире детской литературы, которая на самом деле бывает
поразительно взрослой. Например, Петиным новым постоянно цити-
руемым любимцем стал суслик-философ Георгий из пятитомника
Фреда Адры о лисе Улиссе: «Документы при себе... О нет! Это не до-
кументы при нас. Это мы при документах! Верно будет сказать, что это
они не взяли нас с собой...» А еще, конечно, потрясающая девчонка
Манюня из книжек Наринэ Абгарян: «У меня таинственное шевеление
в волосах», «Мы все будем черявые, как Жопли».
- 429-
Мы очень часто читали вслух. Не только детям, но и друг другу.
Не только что-то новое, но и хорошо забытое доброе старое. Послед-
ней недочитанной книжкой остались лежать Петины любимые «По-
смертные записки Пиквикского клуба» с закладкой на последней гла-
ве...
В каком-то смысле я тоже пишу сейчас «посмертные записки»
нашего маленького семейного клуба. И о нем можно было бы напи-
сать не меньше, чем получилось в свое время у Диккенса. Но не пугай-
тесь, не буду. Просто не смогу сейчас, потому что еще слишком непри-
вычно и больно использовать, говоря о нас, прошедшее время. Может
быть, когда-нибудь потом, в другой раз. Может быть, и нет... Слов ведь
необязательно должно быть много, главное то, что стоит за ними. На-
стоящие филологи это знают.
- 430-
А. Штраус,
выпускница 2003 г.,
журналист и дочь журналиста
БЫТЬ МАМОЙ
В детстве я очень любила играть с мамой в буриме. Как я сейчас
понимаю, мне нравилось из отдельных никак не связанных между
собой, на первый взгляд, кусочков-слов создавать нечто целое. Полу-
чать живой и осмысленный мир. Из вороха всего этого рифмоплетства
мне врезалось в память только одно четверостишие маминого автор-
ства (пион-шпион, валяться-сдаваться):
«У меня был красивый пион,
Как я любил под ним валяться!..» –
Так думал западный шпион,
Когда приехал к нам сдаваться.
Сразу видна идеологическая верность сочинителя кодексу строи-
телей коммунизма. Во-первых, обличается лень и расхлябанность за-
гнивающего запада, во-вторых, наши побеждают, причем не с помо-
щью грубой силы, а, видимо, как-то иначе, раз шпион сам приехал
сдаваться. Одним словом, картинка складывается вполне сюжетная, за
кадром ощущаются интриги, приключения и прочие милые детскому
сердцу жизненные аксессуары.
Я любила всевозможные игры в слова: и выстраивать простые
цепочки, например, из городов мира, и составлять много маленьких
слов из одного большого, и сочинять рассказы на одну букву. В подро-
стковом возрасте слова стали моим хлебом, вином и наркотиком. Я
довольно рано определила для себя два надежных способа гармони-
зации действительности: чтение книг и придумывание историй. Пер-
вый восполнял широту и разнообразие окружающего мира, а второй –
мое личное участие в бурном кипении жизни. Я встречалась с волшеб-
никами, спасала мир и крутила романы.
С возрастом страсть к словам не утихла. На студенческой скамье
мы с однокурсниками прятались на задней парте и сочиняли стихи,
рассказы и хармсинги, кодируя в них получаемые знания. Став редак-
тором школьной газеты, я первым делом завела рубрику «Бирюльки»,
где с упоением продолжала играть в слова, прикрываясь лингвистиче-
ским развитием детей. Ребята меня честно «крышевали», и на свет
появлялись такие персонажи, как Влюбленная Верочка (рассказ на
- 431-
одну букву) или Вобробла Пугечевна (по аналогии с именами-
аббревиатурами, когда-то популярными в СССР, мы придумывали
свои. Например, назвать девочку таким образом мы предлагали рафи-
нированным любителям литературы. В имени закодировано два ло-
зунга: Вобробла – «Высшее образование – основа благополучия» и
Пугеч – «Пушкин – гений человечества»).
После рождения детей я поняла, что для меня внятно вербализо-
вать свое желание означает наполовину его осуществить. Именно сло-
ва стали теми вехами, которыми я размечала свою жизнь. Но только
инструментом – не целью. Предназначение скрывалось в тумане, и
мне никак не удавалось сбросить этот покров. Я даже обратилась к
астрологу, который огорошил меня сообщением о том, что я должна
создать уникальную ячейку общества. Одним словом, цель моей жиз-
ни – семья и особенно дети. Сказать, что я была в шоке, значит, не ска-
зать ничего. После падения из высоких эмпиреев к традиционному
«кирхе, киндер, кюхен» я долго соскребала себя с асфальта и боролась
с желанием сбежать от семьи в Гималаи. Но по прошествии времени
начала подозревать, что правда жизни догонит меня и там.
Тогда я повернула обратно и, как неисправимый любитель слов,
обратилась к авторитетам. В частности, меня интересовала пирамида
Маслоу, в которой множество человеческих потребностей делилось на
пять основных категорий: физиологические (голод, жажда), потребно-
сти в безопасности (комфорт, постоянство условий жизни), социаль-
ные (общение, привязанность, совместная деятельность), престижные
(самоуважение, признание, достижение успеха и высокой оценки),
духовные (познание, самовыражение).
Я задумалась: а какая потребность удовлетворяется в намерении
быть мамой? Низшая – физиологическая или восходящая к духовным
вершинам – максимальная личная самореализация? Любители мета-
фор сравнивают ребенка с инструментом. Сразу становится ясно, что
купить рояль и уметь на нем играть – совсем не одно и то же. Имея
сразу три пока еще небольших клавесина, я не могла не озаботиться
собственным музыкальным образованием.
Мама всегда была для меня идеалом. И дело здесь не столько в
занимаемой должности (каждому ребенку его мама кажется замеча-
тельной), мама была праздником, допингом и фейерверком. Одно-
классники завистливо вздыхали после бурных дней рождений: «Коне-
е-е -чно, у тебя такая мама...». Аниматоров тогда не было ни у кого,
кроме меня. У меня была мама.
- 432-
Это вовсе не означает, что моя родительница – легкомысленная
свистушка и прожигательница жизни. Отнюдь. Но ее жизнь – с яркими
эмоциями, бурными романами, интересной работой казалась больше
похожей на ленту кинематографа, чем на серые будни матери-
одиночки в голодную перестроечную эпоху.
Я и по сю пору твердо уверена: у меня было очень счастливое
детство. Это ощущение счастья, рождающееся «вопреки» и «несмотря
на» (скудные средства и мечты о том, чтобы от пуза наесться мяса кус-
ками, каша «дружба», виртуозно заштопанные носки, развод родите-
лей, безответные школьные влюбленности, постоянные болезни, пе-
реход в другую школу), было в огромной степени маминой заслугой.
Она всегда в первую очередь пеклась о моем настроении и душевной
гармонии, отодвигая все остальное назад в списке приоритетов.
Надо признаться, это было непросто. Родительским чутьем мама
точно определила «самое слабое звено» и именно на его укрепление
отдавала всю свою кипучую энергию. Меланхолик и интроверт, я
осознала эти стороны своего внутреннего мира только годам к тридца-
ти. А до этого твердо была уверена в собственном веселом экстравер-
тивном характере. Впрочем, оптимизм никуда не делся. И все приви-
тые воспитанием качества остались в разряде полезных знаний, уме-
ний и навыков. Так что на вопрос, что сильнее – врожденные черты
или воспитательные нормы, я бы не смогла ответить «с кондачка». Как
там у Кассиля: если кит на слона налезет, кто кого сборет?
Именно внутренний климат души всегда определял успешность
моей внешней жизни. Причем зависимость была не прямая, а ослож-
ненная различными коэффициентами. Например, наличием или отсут-
ствием влюбленности, степенью удовлетворения собой, днем недели
и школьными оценками.
Будучи неплохим камертоном, я легко настраивалась на мамину
мелодию, хотя разность темпераментов иногда удручала. Мамины (а
позже и дочкины!) эскапады с громкими воплями, артистическим пе-
ревоплощением и беганьем по потолку утомляли. А иногда и обижа-
ли. То, что казалось взрослым ерундой, возмущало до глубины души.
Как, например, декламируемый мамой от полноты чувств «тискатель-
ный» стишок:
Тоня Штраус, Тоня Штраус,
толстенький матрос,
Тоня Штраус, Тоня Штраус,
черт тебя принес!
- 433-
Я, уже бывшая в курсе, откуда берутся дети и болезненно реаги-
руя на упоминание лишних килограммов, сердилась и кричала:
«Не матрос! Не матрос!» А мама ужасно смеялась и норовила похва-
тать меня за все тугонабитые места.
Но сейчас я все чаще ловлю себя на том, что ситуация: шустрая
мама и замечтавшаяся дочка повторяется. И с удивлением обнаружи-
ваю в себе мамино раздражение тем, что окружающие не могут все
сделать по первому сигналу и быстро. Что ребенок мечтательно уста-
вился в окно и не отзывается. Что разбрасывает одежду и тетрадки по
всей комнате. И я сержусь мамиными эмоциями, ругаюсь ее словами,
чувствуя, как закольцовывается жизнь.
В 19 веке был такой распространенный фотоприем – «невидимая
мать». Камеры в это время снимали с относительно длинной выдерж-
кой, которая смазывала любые движения, поэтому запечатлеть ма-
ленького ребенка было довольно затруднительно. Фотографы сажали
малыша в кресло, а его мать пряталась под черным покрывалом зад-
него фона, удерживая ребенка на месте. Если сканировать и увеличить
старые «портретные» фотографии, то много где можно обнаружить
прячущуюся под накидкой фигуру.
В жизни нас часто удерживает в тех или иных рамках «невидимая
мать» – привитые с детства принципы, воспоминания, родительские
привязанности и антипатии. И наиболее отчетливым этот фарватер
становится именно тогда, когда мамы уже нет рядом. После ее смерти
привычки, идеалы и ценности, которые она исповедовала, обнажают-
ся с отчетливой откровенностью. И невидимой рукой крепко держат
нас на прямой дорожке. «Мама бы не одобрила», «а что бы сказала
мама по этому поводу?», «моя мама всегда...»
И мы невольно рифмуем свою жизнь с маминой, соотнося по-
ступки и мысли с ее пониманием того, что такое хорошо и что такое
плохо. Периодически ловлю себя на том, что читаю книжки с маминой
интонацией, бессознательно копируя ее манеру чередовать интри-
гующую интонацию с восклицательными знаками.
Особенно ярко это проявляется в многолетнелюбимом стихотво-
рении Бориса Заходера «Буква “Я”». Скажу откровенно, стихотворение
это занимает в моей жизни особое место. Именно его я читала в 5
классе при поступлении в гимназию. Причем мое выразительное «А
известно ли кому, отчего и почему?» забивало всех прочих экзаме-
нуемых, которые остановили свой выбор на более приличествующих
возрасту и ситуации стихах Лермонтова и Пушкина. Помню, остановить
- 434-
меня удалось с трудом, так как стихотворение было длинное, а мне
ужасно хотелось дочитать до конца: ведь надо же рассказать, чем де-
ло кончилось. Одним словом, поступила я в гимназию не в последнюю
очередь благодаря Заходеру.
Кстати, твердое знание наизусть достаточно большого объема
текста – очень важный навык для любой мамы с ребенком. Его можно
бормотать на автомате, засыпая, и при этом не фиксироваться мозгом
на том, что откладывается в голове у твоего малыша. Ты можешь чи-
тать его во время прорезывания зубов, расхаживая по квартире, или в
ванной, то есть там, где у тебя нет возможности подсмотреть книжную
шпаргалку. А если при этом затвержено не просто монотонное чтение,
а «выразительное», то есть с кривлянием рож, китайскими перелива-
ми интонаций и паузами в неожиданный местах, то 15 минут спокой-
ного досуга у вас в кармане.
Для меня «Буква “Я”» – это еще и свидание с мамой. Читая своим
детям текст, поневоле ловлю себя на том, что один в один копирую
мамино произношение, будто погружаюсь в третий класс, когда мы
вместе учили его наизусть к экзамену. Как будто находящаяся
за 3000 км мама обнимает меня и говорит: «Ты замечательный роди-
тель! У тебя чудесные девочки. Я вас очень люблю. Все будет хорошо».
- 435-
Л. Кубрак,
выпускница 2006 г.
ВОСПИТАНИЕ КНИГОЙ
Моего прадедушку, Николая Скороходько, родные запомнили чи-
тающим книгу. Он был бухгалтером, умел шить хорошую обувь, не
хуже соседей-армян, которые в этом деле считались специалистами. А
в свободное время читал. И особенно торжественно он готовился к
чтению Евангелия: надевал чистую рубашку, причесывал волосы, бо-
роду, садился у окна и читал. В это время его лицо как бы озарялось
отблесками прочитанных слов. И таким, с Книгой в руках, он чаще все-
го потом вспоминался моей бабушке.
Мои бабушка и дедушка, Тимашёвы Мария Николаевна и Влади-
мир Павлович, хоть и не были филологами (он – инженер-строитель,
она – санитарный врач), а читать очень любили. Устраивали вечера,
когда они читали вслух, а дети слушали. Эти вечера мама запомнила
на всю жизнь. В то время непросто было достать хорошие книги, но
бабушке удалось благодаря подпискам собрать библиотеку числом
около двух тысяч томов: полные собрания сочинений русских класси-
ков, советских писателей, библиотеку всемирной литературы. В боль-
шой уютной гостиной две стены от пола до потолка были заставлены
книгами. Эта библиотека сделала сначала маму, а потом и меня стра-
стными читателями, и в старших классах уже не было сомнений, куда
поступать, на какой факультет – конечно, на филфак. Понимаю, что
моя дорогая бабушка оставила нам в наследство настоящее сокрови-
ще. Вещи изнашиваются, выходят из моды, деньги тратятся, а это со-
кровище – бесценное. Оно дает возможность искреннего, глубокого
общения через чтение с талантливыми, гениальными людьми, жив-
шими в другие эпохи, возможность посмотреть на мир их глазами,
подумать над тем, о чем болела их душа, о чем они мечтали, к чему
стремились. Возможность выйти за рамки своей судьбы и своего жиз-
ненного опыта и приобщиться к русской и мировой культуре.
Моя мама, Лариса Владимировна Тимашёва, дополнила потом
эту библиотеку краеведческой литературой, произведениями ураль-
ских писателей и поэтов. Однажды она стала донором, чтобы помочь
людям, а на деньги, которые ей за это заплатили, купила собрание
сочинений Бунина. Смотрю на него с особенным чувством: даже и та-
кой ценой доставались эти книги, и обложки у них коричневато-
бордовые, как будто бы цвета крови, которую когда-то мама сдала.
Читать она любила с детства. Мама вспоминает: в школе парты были с
- 436-
крышками, она во время урока клала в парту книжку и через щель чи-
тала. Это было настолько увлекательно, что она не сразу слышала, ко-
гда ее вызывали к доске. «Тимашёва, тебя спрашивают!» – шептали ей
одноклассники и подсказывали суть вопроса. Мама, отличница и ста-
роста класса, вставала, отвечала на «пять» и снова погружалась в чте-
ние. Мама училась на филфаке с 1966 по 1972 годы. Среди ее препо-
давателей были Римма Васильевна Комина, профессор Лазовский. А
Рита Соломоновна Спивак так увлекла студентов изучением литерату-
ры народов СССР, что мама захотела писать под ее руководством кур-
совые по творчеству поэтов Прибалтики, а затем и дипломную работу
по теме: «Образ человека в лирике Межелайтиса». И очень благодар-
на ей за помощь и поддержку. После университета мама работала
несколько лет в детской библиотеке, а потом в Пермском бюро путе-
шествий и экскурсий, которое считалось одним из лучших в Советском
Союзе. Работала сначала экскурсоводом, потом старшим методистом
по разработке новых экскурсий и подготовке экскурсоводов. Работа
эта увлекательная, творческая. В Бюро сложился коллектив, создавав-
ший замечательные экскурсии, а некоторые из них мама разрабатыва-
ла сама. Она обкладывалась книгами, погружалась в тему рассказа с
головой, в ткань текста вплетала стихи, доводила его до совершенства,
оттачивала фразы, чтобы они проникали в сердце. Иногда она зачиты-
вала мне отрывки экскурсий, советовалась, а я восхищалась красотой и
силой звучавших слов. Наверное, поэтому, когда в 3 классе мне дали
задание нарисовать свою будущую профессию, я изобразила памятник
на высоком постаменте и себя с длинной указкой в руках и подписала:
Лада – экскурсовод. Филологическое образование давало маме воз-
можность так подать исторический и краеведческий материал, подоб-
рать такие стихи и так их прочитать, что туристы подходили потом со
словами: «У Вас не экскурсия, у Вас – песня о Перми». Стихами об ис-
торических личностях, о знаменитых пермяках, о временах года, о
красоте уральской природы украшены все экскурсии:
Прохожу по бетонным причалам,
Свежим Камским простором дыша.
Кама, Кама, – Перми всей начало,
Ты ее красота и душа.
Или такие строки:
Сосен золотистых тихий шорох
И причалов корабельный звон...
Ты мне по-особенному дорог,
Мой Закамский Кировский район.
- 437-
А рассказ о П. А. Строганове, военном деятеле, победителе Напо-
леона в сражении при Краоне в 1814 году, иллюстрирует отрывок сти-
хов А. С . Пушкина:
О страх, о горькое мгновенье,
О Строганов, когда твой сын
Упал, сражен, и ты один,
Забыл и славу, и сраженье,
И предал славе ты чужой
Успех, достигнутый тобой.
Однажды мамины экскурсанты, заводские рабочие, встретившись
с ней через много лет на экскурсии, сказали: «Мы Вас узнали по чте-
нию стихов. Тогда Вы тоже их читали, и мы купили себе сборники сти-
хов и теперь читаем их для души».
Особенности этой прекрасной профессии сейчас осваиваю и я.
Так же, как мама, я окончила филфак ПГУ, курсовые и диплом писала у
Спивак Р. С., так же работаю сейчас экскурсоводом.
Склонность к филологии проявилась у меня еще во младенчестве:
стихи и колыбельные на ночь слушала с огромным интересом, с
сияющими глазами, и потом долго еще после этого не могла заснуть.
Поэтому развлекать на ночь меня перестали. В два года сочинила пер-
вую рифму: «Ладе два года – плохая погода». В детстве мама и тетя
много мне читали. Моя тетя, Тимашёва Людмила Владимировна, по
болезни не работала, все время была дома и со мной занималась. И
сейчас многие книжки звучат для меня ее голосом. Мама читала очень
выразительно, но у нее было много дел по хозяйству, и я помню себя
трясущую очередной книжкой: «Мама, почитай еще! Ну мама, ну по-
жалуйста, ну почитай!» Тогда мама декламировала:
Как хорошо уметь читать! Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти: «Прочти, пожалуйста, прочти!»
Не надо ждать, не надо звать, а можно взять и прочитать!
Я понимала все выгоды такого умения, но читать сама стала толь-
ко в школе. Вокруг были прекрасные книги, и постепенно лучшим от-
дыхом для меня, как и для мамы, стало чтение. Забиралась с ногами
на диванчик, подкладывала под спину подушку и с головой погружа-
лась в книгу. Зачитывалась Пушкиным, Куприным, Есениным, Забо-
лоцким, А. К. Толстым, Тургеневым... читала все подряд. Каждые вы-
ходные и мамин отпуск мы проводили на даче. Закаты, восходы, кре-
сты в небе из облаков, полевые цветы, реки, леса, бескрайние поля,
березы, село Н. Пальник, куда мы ходили за продуктами, – стали для
- 438-
меня образом Родины, которую так горячо любили русские писатели и
поэты и любовь эту отразили в своих произведениях. Красоту природы
я воспринимала и через призму прочитанных стихов. И мне созвучны
пронзительные строки К. Симонова:
Ты знаешь, наверное, все-таки Родина –
Не дом городской, где я празднично жил,
А эти проселки, что дедами пройдены,
С простыми крестами их русских могил.
Мама воспитывала меня, приводя в качестве аргументов или
примеров отрывки произведений, стихи. И это очень действенный
метод воспитания. Однажды мама, придя с работы, увидела, как я,
восьмилетняя, сижу перед телевизором и смотрю какую-то сомни-
тельную в нравственном отношении передачу. И так расстроилась, что
в ее отсутствие ребенка развращают по телевизору, что сломала его, и
потом много лет говорила, что денег на ремонт нету. Их и действи-
тельно тогда было мало. Мои подружки обсуждали бесконечные се-
риалы, а я читала книги и не чувствовала себя обделенной. В школе
No 108 мне повезло с учителями русского языка и литературы – Анной
Дмитриевной и Лидией Николаевной. Потом я поступила в Лицей No 2
при ПГУ и так увлеклась учебой, что на мамины слова: «Ну вот, у нас
появились деньги. Купим телевизор?» ответила: «Нет, мамочка, мне
его смотреть некогда!». А наша дорогая учительница, Надежда Ва-
сильевна Фомичева, на родительском собрании объявила: «Уважае-
мые родители! Если вы хотите, чтобы ваши дети поступили в универ-
ситет, заниматься надо серьезно и телевизор полностью исключить».
Так что воспитана я на книгах, а к фильмам относиться стала избира-
тельно, просматривая хорошие фильмы через интернет.
В Лицее царила удивительная, творческая и доброжелательная
атмосфера, где школьники расцветали, где пробуждалось горячее же-
лание учиться. Моя любимая учительница Надежда Васильевна посте-
пенно научила нас глубоко и вдумчиво анализировать произведения.
Вспоминаю эти потрясающие уроки, как пир для ума и души. Наши
книги были похожи на ежиков, с закладками сверху, снизу, сбоку. Зве-
нел звонок на перемену, а мы продолжали обсуждать произведение,
спорили, соглашались, отстаивали свою позицию. А по праздникам со-
бирались всем классом и пели песни под гитару. Это было счастливое
время, яркая и светлая полоса в жизни. Потом мы почти всем классом
поступили на филфак, на бюджетные места. А наши одноклассники Катя
Худякова и Роготнев Илья теперь преподают в университете.
- 439-
Помню, как меня поразил Университет, с огромными аудитория-
ми, с интереснейшими лекциями наших преподавателей.
На первом курсе мы привыкали к трудностям жизни, изучая
древнерусскую литературу. Как суметь законспектировать за три дня
объемные литературоведческие статьи по древнерусской литературе,
если на шестьдесят филологов в городе только две книги в читальных
залах? Нам это удавалось. Дежурили у библиотек с шести утра, зани-
мали очередь и конспектировали по два человека одновременно, а
потом на лекциях сидели по привычке с симметрично наклоненными
в разные стороны головами. Но теперь благодарны В. А. Кустову за то,
что воспитывал в нас дисциплинированность и внимательность. Читать
по списку литературы приходилось так много, что после сессий при
взгляде на книгу начинала болеть голова. В пятом корпусе еще не бы-
ло ремонта, и в маленьких аудиториях стояли раковины, доставшиеся
в наследство от медицинского факультета, а буфет размещался в по-
мещении, где раньше складировали тела, предназначенные для пре-
парирования. Народ впечатлительный, мы давились там бутерброда-
ми и предпочитали обедать в других местах.
Были и забавные случаи. Например, в нашем корпусе оборудова-
ли компьютерный класс и попросили нас сфотографироваться по этому
поводу сидящими за компьютерами для книги об университете. Сфо-
тографировались на фоне одного компьютера, изобразив, что бурно
обсуждаем нечто, там увиденное. Фотографию торжественно подпи-
сали: «Филологи теперь имеют выход в интернет». И только по окон-
чании фотосессии сообразили, что никто так и не догадался этот ком-
пьютер включить.
Мы любили и боялись нашего «грека» А. Ю. Братухина, перед за-
нятиями всей группой ломали голову над домашним заданием. Как,
например, правильно собрать в осмысленную фразу древнегреческие
слова: «говори», «во», «не», «немного», «но», «много», «много», «в»?
Появлялся Александр Юрьевич, и выяснялось, что это означает: «Не
говори во многом немногое, но в немногом многое», а если по-русски
– «Краткость – сестра таланта». Мы восхищались интеллигентностью
В. А . Мишланова, который преподавал у нас старославянский и поль-
ский языки. Нам казалось, что именно такими в дореволюционной
России были русские интеллигенты, дворяне, люди благородного про-
исхождения. Польские песни, которые мы тогда пели под гитару, пом-
ню наизусть до сих пор. Нам читали лекции Р. С. Спивак, Н. П . По-
тапова, Е. Н. Полякова, Е. А. Князева, А. А. Арустамова, Т. И . Ерофеева,
- 440-
И. И. Русинова, Н. Е. Васильева, К.Э
. Шумов и другие преподаватели,
которых вспоминаю с чувством глубокой благодарности. Мы впитыва-
ли их мысли, и они прорастали потом в нас новыми идеями, станови-
лись основой для будущей творческой деятельности.
Курсовые и дипломную работу я писала под руководством Риты
Соломоновны Спивак по творчеству Л. Улицкой («Символика цвета в
повести Л. Улицкой «Сонечка», «Тема жизни и смерти в романе Улиц-
кой “Казус Кукоцкого”»). Благодарю ее за терпение и заботу, за чуткое
руководство. Рита Соломоновна вела у нас семинар по истории рус-
ской литературы, и мы часто собирались у нее дома, в такой особен-
ной квартире около Оперного театра, украшенной сувенирами и цве-
тами. Пили чай и вели разговоры о жизни и о литературе. Рита Соло-
моновна трогательно называла нас «мои девочки». Называет так и
сейчас, когда мы уже сильно повзрослели.
После практики в шестой школе, где мы с ребятами очень подру-
жились, где было так интересно вместе с детьми изучать произведе-
ния, я уже почти собралась работать учителем, но мама предложила
освоить профессию экскурсовода, пока есть такая возможность. Не-
сколько лет я совмещала проведение экскурсий и работу в городской
администрации, в общем отделе, где редактировала письма за подпи-
сью главы города. Но творческая работа экскурсовода так мне полю-
билась, что я решила заниматься именно ей. Своей задачей считаю
влюблять туристов в те места, которые мы посещаем, пробуждать лю-
бовь к России и к нашей малой Родине.
Для того, чтобы проводить экскурсии религиозной тематики (в
Белогорский монастырь, в Чусовские городки и еще около двадцати
маршрутов с посещением храмов), компетентно отвечать на вопросы,
я окончила катехизаторские курсы при Успенском женском монасты-
ре. Игуменья обители матушка Мария, кандидат медицинских наук,
преподаватель Пермской медицинской академии, организовала при
монастыре замечательные религиоведческие курсы для взрослых,
которые посещают пермяки всех возрастов и профессий, в том числе
преподаватели и студенты пермских вузов. Изучение Православия
сделало мое мировоззрение гармоничным и помогло намного глубже
понять русскую классическую литературу, которая выросла на Право-
славии. В русской литературе меня всегда привлекала устремленность
к Небу и любовь к человеку, к его бессмертной душе. Большим откры-
тием для меня стало собрание сочинений доктора филологических
наук, профессора МГУ, доктора богословия Московской духовной ака-
- 441-
демии М. М. Дунаева «Православие и русская литература», где он
подробно рассматривает духовные искания русских писателей, анали-
зирует произведения с этого ракурса. Когда-то именно этих знаний
мне не хватило для написания курсовой работы по теме «Мотив сми-
рения в творчестве Чехова». Хотя и получила тогда пятерку, чувство
недосказанности и недоработки оставалось. Но в университете нас
научили учиться, продолжать образование уже самостоятельно и на-
ходить ответы на интересующие вопросы.
Филологию называют человековедением. Она помогает пони-
мать людей, любить их, сочувствовать им, что особенно важно в наше
время, когда вокруг столько равнодушия и разобщенности. Я рада, что
связала с ней свою жизнь, что училась в первом на Урале университе-
те, накопившем за свою столетнюю историю огромный багаж знаний.
Очень надеюсь, что любовь к чтению передастся потом нашим детям и
внукам, и они будут хранителями вечных жизненных ценностей в этом
стремительно меняющемся мире.
- 442-
Н. Чугаев,
выпускник 2010 г.
ОПЫТ ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СЕМЕЙНОЙ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТИ
ПРОФЕССИИ
Не так давно мне позвонила Нина Евгеньевна Васильева и попро-
сила написать текст о моей «филологической династии». Садясь за
этот текст, я испытываю некоторую неловкость: где я, а где династия.
Кроме того, Елена Николаевна Полякова, мой первый научный руко-
водитель, 15 лет назад объясняла нам, первокурсникам, как следует
писать научную работу: исследователь не должен быть виден, он дол-
жен растворяться в своем предмете, следует написать не «я пришел и
вам тут все написал», а «в ходе исследования было обнаружено...».
Этот урок я затвердил накрепко и последние 10 лет так и пишу. Поэто-
му сейчас мне довольно тяжело отказаться от привычной манеры и
рассказать о себе и о своей семье в жанре эссе. Впрочем, я попробую.
Моя мать – хорошо известный в ПГНИУ ученый, доктор филологи-
ческих наук, фонетист, психолингвист, специалист по перцепции анг-
лийской речи Татьяна Николаевна Чугаева. Вся ее жизнь была связана
с нашим университетом. Она поступила в ПГУ в конце 60-х годов, еще
на объединенный факультет, и с тех пор поддерживает связь с alma
mater: проводит защиты своих диссертантов в нашем Совете, участвует
в экзаменах, посещает Школу социопсихолингвистики. Несомненно,
главная роль в выборе мною профессии филолога принадлежит ей.
Другим немаловажным фактором моего самоопределения явля-
ется то, что в детстве дома постоянно были иностранцы: англичане,
американцы, немцы и очень много китайцев. Думаю, что именно по-
следнее обстоятельство привело меня на филфак вновь, через десять
лет после окончания специалитета и в год защиты кандидатской дис-
сертации по истории русского языка, уже в качестве магистранта на-
правления «Китайский язык и культура Востока».
Дома часто бывали также мамины коллеги и учителя. Я хорошо
помню, как у нас гостили Леонид Владимирович Сахарный и Алла Со-
ломоновна Штерн. У Леонида Владимировича были серьезные, умные
глаза, а Алла Соломоновна широко улыбалась и излучала вокруг себя
материнскую доброту. Помню, как она вручила мне истинно филоло-
гический подарок: привезенную из Ленинграда ручку с волком и зай-
- 443-
цем из «Ну, погоди!». Помню еще, как к нам приходили в гости Ирина
Германовна Овчинникова, Елена Валентиновна Ерофеева, Тамара
Ивановна Доценко, Елена Леонидовна Кавардакова и разговаривали о
тогда непонятной и неинтересной мне психо- и социолингвистике.
В качестве третьего фактора поступления на филфак я бы назвал
обширную домашнюю библиотеку, любовно собранную родителями:
дом был полон многотомных собраний русской и зарубежной классики,
и это способствовало тому, чтобы я время от времени в них заглядывал.
Первое мое знакомство с университетом произошло в 6-м или в
7-м классе, когда мать ходила вместе со мной и еще двумя-тремя лю-
бителями античности на занятия Александра Юрьевича Братухина по
древнегреческому языку. Занятия проходили в пятом корпусе, кажет-
ся, в бывшей 27 или 40 аудитории. Хорошо помню обшарпанные сте-
ны и неухоженные полы, два вокзального вида студенческих буфета
на входе, где сейчас располагаются вахта и пункт новой пропускной
системы, киоск с кассетами Егора Летова, со списками песен, распеча-
танными на матричном принтере, какие-то, ныне изгнанные, беско-
нечные ларьки с литературой, копировальными аппаратами и т.д
.
Помню ряды старых деревянных стендов с объявлениями, сплошь
унизанные металлическими кнопками. Я обожал стоять у стенда и
доставать эти кнопки, а потом снова втыкать. Помню также, что «но-
вый геологический» корпус еще не был достроен.
Помню маленькие узкие бумажки с предложениями на грече-
ском языке. Как объяснял Александр Юрьевич, тексты тогда набира-
лись шрифтом для математиков, поэтому в них нередки были опечат-
ки. Надстрочные знаки Александр Юрьевич зачастую проставлял сам,
от руки. Помню первое греческое слово «антхропос», которое, собст-
венно, единственное я и вынес из тех занятий. Серьезных знаний по
грамматике я тогда усвоить, видимо, не мог. После этого университет
на долгое время пропал из моей жизни.
В 10-м классе вопрос о выборе профессии решился как-то сам со-
бой. Впрочем, и мать, и ее коллеги меня отговаривали, из финансовых
соображений и, по-моему, еще из каких-то других, метафизических.
Это только подогрело мой интерес к специальности, и дело было ре-
шено: я стал готовиться к поступлению. Впрочем, я решил не следо-
вать по материнским стопам полностью, а отправиться на русский
филфак. Неоценимую помощь в подготовке мне оказали Светлана
Викторовна Бурдина, подтягивавшая меня по литературе, и Елена Ва-
-444-
лентиновна Ерофеева, буквально за одну встречу объяснившая мне,
как сдать ЕГЭ по русскому языку. Помню также встречу с Юрием Ана-
тольевичем Левицким, который объяснял мне, что нечего приличному
человеку делать на филфаке. Но сама фигура Юрия Анатольевича была
настолько яркой, он был так притягательно остроумен, что мне тут же
стало понятно, что я хочу пройти тот путь, который прошел он, и стать
тем же, кем он является.
Учеба на филфаке для меня совпала с созданием семьи и рож-
дением двух детей, поэтому я не был самым прилежным студентом.
Впрочем, я старался использовать все возможности, предоставляе-
мые университетом. Так, вместо английского, который, как я само-
надеянно решил, я «и так знаю», я выбрал для изучения немецкий (и
ничуть не пожалел). Любимым предметом и самым ярким впечатле-
нием, пожалуй, за все время обучения были занятия с Александром
Юрьевичем. Я искренне не понимал, почему девочкам-одногруппни-
цам не нравятся все эти аористы, абсолютные генитивы, острые уда-
рения, тонкие придыхания. Без ложной скромности могу сказать, что
на курсе я учил древнегреческий усерднее всего. Особенностью пре-
подавательской манеры Александра Юрьевича была неукоснитель-
ная проверка домашнего задания, из недели в неделю, и я до сих
пор вспоминаю единственную за год двойку, которую я получил, не
приготовившись. Кроме того, помню страшный список из 500 слов,
который Александр Юрьевич сокращал за особые заслуги. Так, од-
нажды он пообещал сократить список на 150 слов тому, кто переве-
дет надпись на гербе современной Греции. Мы с Виктором Казее-
вым, моим другом и одногруппником, ринулись в библиотеку, и он
нашел надпись первым, но не учел наличие в артикле «иоты суб-
скриптум» и, соответственно, не опознал дательного падежа, поэто-
му «скидку» получил я. Несколько лет назад меня попросили подтя-
нуть студента по греческому языку, и я с удивлением обнаружил, что
без всякого повторения могу переводить греческие предложения и
объяснять грамматические темы. Все это, впрочем, я отношу не на
счет своих талантов, а на счет педагогического мастерства Александ-
ра Юрьевича. Помню, как он озвучил главный принцип подхода к
науке: филолог должен быть в хорошем смысле дотошным. Ежене-
дельные штудии развивали в нас именно это полезное качество, а
непреклонный характер Александра Юрьевича не позволил нам
увильнуть от выполнения этого плана.
- 445-
Я с благодарностью вспоминаю всех своих преподавателей, по-
тому что каждый из них привнес в мое представление о филологии
что-то свое, обогатил мой рабочий набор каким-то новым инструмен-
том. Я боюсь начинать перечислять всех поименно из опасения кого-то
забыть, но нельзя не вспомнить об огромном вкладе, который внесла
в мое профессиональное становление Елена Николаевна Полякова,
много лет руководившая моей научной работой, научившая меня ра-
ботать с рукописями. Большое влияние на меня оказали Ирина Ива-
новна Русинова, познакомившая меня с волшебным миром историче-
ской фонетики, Елена Валентиновна Ерофеева и Наталья Владимиров-
на Боронникова, заложившие прочные основы представлений об об-
щем языкознании, Тамара Ивановна Ерофеева, рассказавшая о социо-
лингвистической науке, Елена Александровна Баженова, блестяще
читавшая курс современного русского языка, Елена Петровна Карзен-
кова, навчившая мене трохи розмовляти українською мовою, Елена
Михайловна Четина, открывшая огромный мир советской и современ-
ной российской литературы (о существовании которого мы и не по-
дозревали), Константин Эдуардович Шумов, приоткрывший завесу над
таинственной, мистической областью русского фольклора, Владимир
Александрович Салимовский, неподражаемо читавший нам курс
функциональной стилистики, Наталья Валерьевна Макарова, пере-
давшая свой бесценный опыт работы со школьниками. Отдельного
упоминания заслуживают Борис Вадимович Кондаков, которому я
лично благодарен не только за незабываемый курс древнерусской
литературы, но и за неоценимую поддержку в написании диссертации
и прохождении процедуры защиты, и Валерий Александрович Миш-
ланов, который провел титаническую работу по превращению моего
несовершенного диссертационного текста в работу, готовую к защите.
Сложно передать, сколько труда он вложил в мою диссертацию, как
ожесточенно мы спорили по частным лингвистическим вопросам
(причем он неизменно оказывался прав), как самоотверженно он от-
стаивал меня перед лицом критически настроенных рецензентов.
Тем не менее, больше всего из университетских времен мне вспо-
минаются не теоретические выкладки той или иной дисциплины, а ка-
кие-то частные истории, связанные с тем или иным преподавателем.
Вот Елена Валентиновна, проводя зачет, просит принести ей ко-
фе: две ложечки кофе, две трети воды в стакане (с тех пор кофе я пью
именно так). Вот Нина Евгеньевна приводит к нам страшно недоволь-
- 446-
ного Алексея Иванова. Вот Тамара Ивановна на кафедре рассказывает
о своей работе на Кубе и в Финляндии. Вот Владимир Александрович
на семинаре предлагает мне вступить с ним в предвыборные дебаты в
качестве кандидата на пост президента России, а потом внезапно пе-
ребивает вопросом: «А Вы уже перестали пить коньяк по утрам?». Я
начинаю хохмить, заявляя, что как кришнаит на седьмой степени по-
священия не только не пью коньяка, но и даже не ем мяса убитых жи-
вотных, на что Владимир Александрович без тени улыбки отвечает, что
вряд ли представитель такого экзотического религиозного направле-
ния получит на выборах поддержку населения.
Кроме того, невозможно забыть и тех моих преподавателей, ко-
торых уже нет с нами: Веру Артуровну Малышеву (она читала нам курс
диалектологии) и Юрия Анатольевича Левицкого (он знакомил нас с
порождающими грамматиками и другими разделами теоретической
лингвистики). Из курса Веры Артуровны мне прежде всего запомни-
лись ее рассказы о работе над Акчимским словарем. Юрий Анатолье-
вич был как удар тока: поражал непредсказуемыми лингвистическими
примерами, скоростью полемической реакции, широтой эрудиции, ни
на что не похожим чувством юмора.
Общаясь с нынешними студентами, я замечаю, что из-за сокра-
щения часов они гораздо меньше времени уделяют фундаментальным
филологическим дисциплинам. По сравнению с набором студентов в
70–100 человек на курс, который был в мое время, нынешние группки
в 10–15 человек кажутся несоразмерно маленькими. Кроме того, ста-
рое поколение ученых-титанов постепенно уходит. Тот творческий
научный дух, который существовал в мое время, сменяется более
прагматическим настроем.
Несомненно, на процесс моего профессионального становления
ощутимым образом повлияло многолетнее преподавание в школе.
Как отмечал Лев Владимирович Щерба, работа в школе помогает лин-
гвисту не отрываться от повседневной языковой практики, от естест-
венного практического предназначения лингвистики: учить человека
говорить и писать правильно и красиво. Этой щербовской традиции
следовали и моя мать, и многие преподаватели моей родной кафед-
ры: Тамара Ивановна Ерофеева, Ирина Ивановна Русинова. Последние
10 лет занимаюсь школьным преподаванием и я. И в Лицее No 1, где
начался мой педагогический путь, и в школе No 32, где я работаю по-
следние 4 года, для учителей созданы оптимальные условия и для
-447-
ведения научной деятельности, и для применения на практике моего
филологического багажа, как в рамках обычной школьной программы,
так и в рамках специальных лингвистических курсов для одаренных
школьников. Особенно я благодарен Александру Марковичу Гликсону,
директору школы No 32, за особую творческую атмосферу этого учеб-
ного заведения, в котором была завершена работа над моей канди-
датской диссертацией.
Казалось бы, здесь можно и закончить разговор о филологической
преемственности, но в процессе семейных расспросов выяснилось два
любопытных факта: учителем был мой дед, Николай Андреевич Чугаев,
на филфак ПГУ дважды поступал мой отец, Валентин Николаевич.
Как рассказал мой отец, дед Николай Андреевич в 30-е годы
XX века работал в сельской школе в Осинском районе учителем на-
чальных классов, обучая детей, в том числе и родной речи. По воспо-
минаниям отца, у деда был очень красивый почерк. Потом началась
война, и дед пошел на фронт. Проходил высшие командные курсы
НКВД, сражался в частях пограничных войск, три раза ходил в штыко-
вую атаку, закончил войну в звании капитана на Дальнем Востоке, где
и родился в 1946 году мой отец. После войны к учительской профес-
сии дед так и не вернулся.
Любопытно, что у отца в детстве было полилингвальное окруже-
ние: его первой няней была японка на острове Итуруп, в первый класс
он пошел в Литве, где в школе преподавали литовский язык, его мама,
Наталья Терентьевна, и бабушка, Анастасия Михайловна, свободно
владели украинским языком. Впрочем, в семье на украинском не го-
ворили, хотя сам он в шестом или седьмом классе при помощи сестры
бабушки, Елены Михайловны, прочитал книгу на украинском языке
«І один у полі воїн», первой фразой который было: «Дзвінок був дов-
гий». Как он рассказывал, над первой фразой он думал довольно дол-
го, но по мере продвижения читать становилось все легче и легче.
Главной мечтой отца в юношестве была профессия дипломата. Он
намеревался, закончив романо-германское отделение пермского
филфака, поступить в МГИМО. Окончив школу, он сдал вступительные
экзамены (тогда это было сочинение). Впрочем, поступить с первого
раза ему не удалось. Как он рассказывал, после провала на экзамене
он ходил к тогдашнему декану, легендарному Соломону Юрьевичу
Адливанкину, и пытался добиться пересдачи. Тот посоветовал посе-
щать подготовительные курсы, что отец и сделал. Соломон Юрьевич
-448-
запомнился ему как очень красивый мужчина с правильной речью и
глубоким, звучным голосом. Следующий год отец ходил на курсы, на
которых преподавала Нина Евгеньевна Васильева, которая впоследст-
вии, в 2000-х годах, вела уже у меня интереснейший семинар по со-
временной литературе. Курсы, на которых Нина Евгеньевна обучала
моего отца правильно писать сочинения, проводить грамматический
анализ, он посещал параллельно с учебой в школе рабочей молодежи
и работой на заводе им. Ленина
1
.
Однако в последний момент отец передумал поступать на фил-
фак и подал документы на юридический, куда и прошел, успешно на-
писав сочинение и сдав экзамен по немецкому языку. Сейчас кажется
забавным, что, поступи тогда отец на филологический, мои родители
могли бы встретиться на двадцать лет раньше, на романо-германском
отделении, и тогда я принадлежал бы к поколению последних комсо-
мольцев, увидел бы «Олимпиаду–80» и расстрел Дома Советов.
Впрочем, несмотря на то, что профессиональная деятельность от-
ца была далека от лингвистики, филологическая жилка в нем все-таки
проявилась: всю жизнь он запойно читал и русскую, и зарубежную
классику, и толстые литературные журналы, писал стихи и даже пуб-
ликовался в республиканском журнале «Простор» в Казахстане в 1980-
е годы. Его живопись во многом основана на литературе и поэзии. Од-
на из его любимых картин, «Лиловый негр», навеяна песней Алексан-
дра Вертинского, а по кромке картины выписаны белой краской строч-
ки: «Где вы теперь, кто вам целует руки...» . В последнее время интерес
отца к стихам значительно возрос, он выпустил два поэтических сбор-
ника, которые проиллюстрировал своими картинами.
Гуманитарные задатки передалась и моим детям, Кире и Илье,
которые сейчас учатся в 8 и 6 классах средней школы. Еще в студенче-
стве, следуя какому-то юношескому максималистскому устремлению,
я отказался от наличия телевизора в доме, и с тех пор главное развле-
чение моих детей – чтение. Они читают все подряд, а потом перечиты-
вают, так что к настоящему моменту добрались уже до «взрослых»
книжек моей домашней библиотеки. Мне приходится слышать расска-
зы приятелей, что у ребенка невозможно отобрать перед сном теле-
1
Любопытно, что вместе с ним на тот же завод ходил его сосед по дому, Леонид Юзефович.
По рассказам отца, они иногда ходили на смену вместе, по пути разговаривая о каких-то
пустяках. Позже, в конце 1970-х Леонид Юзефович и его сестра, Белла, будут работать вместе
с моей матерью в школе No 9.
- 449-
фон, и я их отчасти понимаю – я точно так же, с боем, отбираю у детей,
лежащих по кроватям, книжки: у дочери Теккерея, у сына Александра
Дюма. Оба они, прежде всего благодаря усилиям моей супруги, ус-
пешно участвуют в различных филологических и лингвистических
олимпиадах, а также в стихотворных конкурсах. По литературе в своих
классах они лучшие, язык у них подвешен, кругозор широк. Не знаю,
какую профессию они выберут и продолжат ли нашу семейную тради-
цию, но точно уверен, что гуманитарный багаж им пригодится в любой
сфере деятельности. Ну, а если они решат пойти на филфак, я, конеч-
но, стану их отговаривать: из финансовых соображений и еще из ка-
ких-то, метафизических...
- 450-
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие ........................................................................................... 3
Раздел I. Династии
Генкель М. Хроника семьи Генкель... ................................................. 5
Богословская О. Моя университетская семья ................................... 42
Котюрова М. Об Ольге Ивановне Богословской .............................. 52
Маленьких (Гашева) А. Нам не надо этой темени бояться,
но счастливыми не будем притворяться... .................. 54
Гашева Н. Рассказ, чтение вслух, письмо ........................................... 68
Шейко-Маленьких С. Семья ............................................................... 105
Пегушина (Лопаткина) В. Три женщины (филологическая
династия Бочкаревых - Ерофеевых) ............................. 116
Лебедева Г. Шумовы ............................................................................ 144
Шумов Д. Кризисный редактор и бандерлоги ................................... 159
Спивак Р. Моя филологическая судьба............................................... 161
Баталина Ю. Жизнь среди слов ......................................................... 197
Кертман Л. Про Надю и Борю ........................................................... 213
«Поймешь ли ты меня?» ......................................... ...... 231
Друзья о нашем Доме ................................................... 252
Черепанова (Старцева) Т. На сквозняке жизни:
смотрели в одну сторону .............................................. 256
Лукашин А. Сквозь время .................................................................... 263
Аборкина А. Филологический клан
Аборкиных, Обориных, Неприных ............................... 267
Бурдина С. «Жизнь и поэмы срифмовались...» ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. . .. . 276
Бурдина И. «Жди меня...» .................................................................... 282
Овчинникова И. Нефилолог из филологической семьи .................... 321
Воловинская М. Детство, отрочество, юность
в филологической семье ....................................................................... 329
- 451-
Раздел II. Семьи
Кертман Л. С ними всегда было захватывающе интересно
(О семье Тани и Володи Виниченко) ............................ 337
Гашева К. В мире слов, фактов и обстоятельств ................................ 344
Соколовская Е. Династия? Ломаем стандарты................................... 363
Клоц А. Семья ли это?........................................................................... 366
Королев А. Династия... Неожиданные рифмы и рифы ...................... 374
Горланова Н. Династии ........................................................................ 375
Юзефович Л. О Володе (О В. Виниченко) ........................................... 382
Проскурнин Б. Как я стал филологом: начало династии ................... 386
Чубарова Т. Посвящаю своей маме Губиной Лидии Ивановне........ 400
Караваева С. Продолжение следует................................................... 404
Рябухин В., Рябухина (Лобанова) Е. Текст, контекст, подтекст ........ 422
Бондарь Г. Не-филологическая не-династия ...................................... 423
Моисеева А. Семнадцать лет филологической семьи Моисеевых .. 427
Штраус А. Быть мамой ........................................................................ 430
Кубрак Л. Воспитание книгой .............................................................. 435
Чугаев Н. Опыт филологических воспоминаний через призму
семейной детерминированности профессии ............. 442
Зав. кафедрой русского языка
и общего языкознания
(1958–1971)
доцент Мария Александровна
Генкель
Доцент кафедры русского
языка и стилистики
Ольга Ивановна
Богословская
Династия Гашевых
Григорий Афанасьевич Веретенников
Семейное фото священника Николая Михайловича Гашева.
Стоят (справа налево): дети отца Николая – Владимир, Юлия, Алеша;
сидят – прабабушка Капитолина Андреевна, на руках у нее внук Коля;
сын Сергей и его жена Зоя, у ног Сергея – дочка Руфина.
Слева сидит сам священник, Николай Михайлович Гашев. 1924 г.
Священник храма Ильи Пророка в селе Ильинское Пермского края,
отец Николай Михайлович Гашев
Последняя прижизненная фотография
священника Николая Михайловича Гашева,
сделанная в тюрьме в Разгуляе (1930 г.)
Страница о Николае Гашеве в Википедии
Бабушка Антонина Григорьевна Полякова
Дед Владимир Николаевич Гашев (1902–1979)
Гашев Николай Владимирович, Гашева Нина Васильевна,
старшая дочь – Александра Гашева, младшая дочь – Наталия Гашева. 1967 г.
Сидят: Гашев Николай Владимирович, Софья Маленьких-Шейко (старшая
внучка), Нина Васильевна Гашева, Александра Маленьких (старшая дочь).
Стоят: Лиза Полуян (младшая внучка), Наталия Гашева (младшая дочь)
Династия Бочкаревых – Ерофеевых
Тамара Ивановна Ерофеева
Елена Валентиновна Ерофеева
Династия Шумовых
Эдуард Владимирович Шумов – старший редактор
молодежного и детского вещания областного радио. Пермь, 1963 г.
Константин Эдуардович Шумов,
доцент кафедры русской литературы ПГНИУ. Конец 1990-х гг.
Династия Спивак
Родители Риты Соломоновны Спивак
Р. С. Спивак. 1950 –60-е гг.
Лев Волькович Спивак, первый муж Р. С . Спивак
Р. С . Спивак со вторым мужем, Анатолием Николаевичем Балашовым
Моника Львовна Спивак с мужем, Михаилом Павловичем Одесским
Р. С . Спивак с мужем А. Н . Балашовым и внуком Даниилом
Р. С. Спивак в театральном сквере. 2005 г.
Р. С . Спивак с группой студентов. Начало 2000-х гг.
Династия Грузберг – Баталиных
Александр Грузберг и Людмила Оборина. 1950-е гг.
Александр Абрамович и Людмила Александровна Грузберг. Апрель 2015 г.
Александр Абрамович, Людмила Александровна и пес Винтер.
Май 2020 г.
Арсений Баталин, Юлия Александровна Баталина,
Людмила Александровна Грузберг, Александр Абрамович Грузберг.
Август 2016 г.
День рождения Людмилы Александровны, декабрь 2019 г.
Илья Александрович Грузберг. Май 2016 г.
Людмила Александровна и Александр Абрамович Грузберг. Июль 2020 г.
Юлия Баталина. Январь 2019 г.
Борис и Нина Гашевы
Династия Черепановых – Горбуновых
Филологическая семья Черепановых: Михаил и Татьяна, Майя и Анна.
Филологическая семья Горбуновых: Майя и Юрий.
Анатолий Лукашин
Династия Аборкиных – Обориных – Неприных
Портрет Владимира Аборкина.
Художник Юзефа Охотинская (Анна Аборкина)
Анималистический семейный портрет Аборкиных в восточном (китайском) стиле:
Владимир Аборкин – Белая стальная Лошадь (1930 г. ), Нина Аборкина – Черная
водяная Обезьяна (1932 г.), Анна Аборкина – Красный огненный Петух (1957 г.)
Автопортрет Юзефы Охотинской (Анны Аборкиной)
Портрет Нины Аборкиной (Обориной).
Художник Юзефа Охотинская (Анна Аборкина)
Династия Бурдиных
Антонина Георгиевна Кузовникова – основатель династии Бурдиных
И. В. Бурдина во время празднования десятилетия
Пермской студии телевидения
И.В . Бурдина ведет передачу «Звени-город»
В.И. Бурдин на конференции
Ваня Бурдин с мамой и бабушкой
Вместе почти 50 лет
С. В . Бурдина во время записи видеолекции
Продолжатель династии – Иван Бурдин.
Семья Ирины Германовны Овчинниковой
Маленькая Ирина Овчинникова
с бабушкой, Таисией Федоровной Дардымовой.
Люда Дубровская
Александр Евменович
Дубровский. 1940 г.
Люда Дубровская (справа) с одноклассницами.
Люда Дубровская (слева) с однокурсницами. 1957 г.
Люда Дубровская (справа) на празднике Первомая. 1957 г.
Посещение Театра оперы и балета. Люда Дубровская справа.
Родители Ирины Германовны Овчинниковой.
Ирина с отцом
Герман Овчинников на даче. 2000 г.
И. Овчинникова.
Прыжок с парашютом
Семья Риммы Васильевны Коминой
Слева направо:
Римма Васильевна Комина, ее муж Владимир Васильевич Воловинский,
их дочь Марина Владимировна Воловинская, ее муж Владимир Ильич Ширинкин
Семья Виниченко – Тихоновец
Владимир Виниченко с женой Татьяной Тихоновец
В. Виниченко, Т. Тихоновец с домашними питомцами
В. Виниченко и Т. Тихоновец на выставке Ю. Лапшина
в Пермской художественной галерее
В. Виниченко и Т. Тихоновец в Лысьвенском театре драмы и комедии
на премьере пьесы В. Виниченко «Прощание славянки»
Семья Аллы Клоц
Алла Клоц в Венеции на могиле Иосифа Бродского
Я. Клоц и А. Клоц в Нью-Йорке. 2019 г.
Яков Клоц
Наталья Емельянова,
бывшая жена Якова Клоца
Леонид Бенционович Духин
Анатолий Королев
Семья Нины Горлановой и Вячеслава Букура
Нина Горланова и Вячеслав Букур. 1974 г.
Нина Горланова и Вячеслав Букур. 1990 -е – 2000-е гг.
Нина Горланова и Вячеслав Букур на выставке
Нина Горланова и Вячеслав Букур на встрече с читателями
Борис Михайлович Проскурнин
Семья Лидии Ивановны Губиной
Лидия Ивановна Губина. 1985 г.
Лидия Ивановна Губина в Перми, около Черняевского леса. 1975 г.
Лидия Ивановна в студенческие годы, 1950-1952 гг.
Татьяна Геннадьевна Чубарова
в Черняевском лесу. 1975 г.
Татьяна Геннадьевна Чубарова
в Москве, на Красной площади. 1980 г.
Татьяна Геннадьевна Чубарова в домашней обстановке. 2007 г.
Арина Викторовна Чубарова. Лицей No 1. 2018 г.
Владимир и Елена Рябухины
Антонина Штраус
Семья Анны Александровны Моисеевой
Петр и Анна Моисеевы
Петр и Анна Моисеевы с детьми
Семья Лады Кубрак
Бабушка и дедушка, Тимашёвы Мария Николаевна и Владимир Павлович
Мама Л. Кубрак, Тимашёва Лариса Владимировна
Лада Кубрак
Лада Кубрак. Рождественские сюжеты
Семья Николая Валентиновича Чугаева
Николай Валентинович Чугаев в настоящее время
Н. Чугаев с родителями и группой китайцев (1990-е годы)
Николай Андреевич Чугаев, сельский учитель, фронтовик
Составитель
Васильева Нина Евгеньевна
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ДИНАСТИИ И СЕМЬИ
Страницы семейных историй
филологического факультета
Издается в авторской редакции
Компьютерная верстка: В. А. Леготкин, Т. А. Басова
Объем данных 44,44 Мб
Подписано к использованию 07.04.2023
Размещено в открытом доступе
на сайте www.psu.ru
в разделе НАУКА / Электронные публикации
и в электронной мультимедийной библиотеке ELiS
Управление издательской деятельности
Пермского государственного
национального исследовательского университета
614990, г. Пермь, ул. Букирева, 15