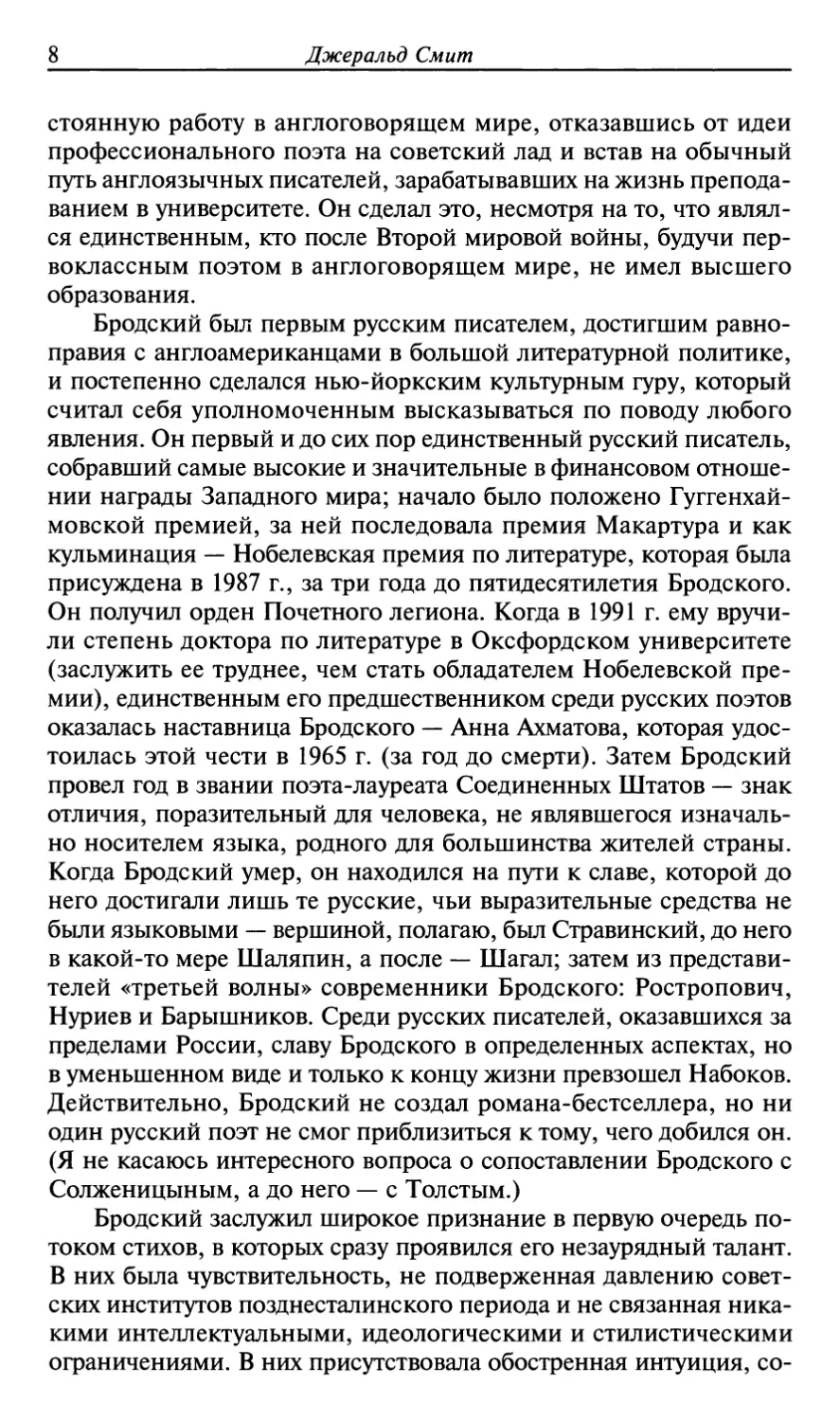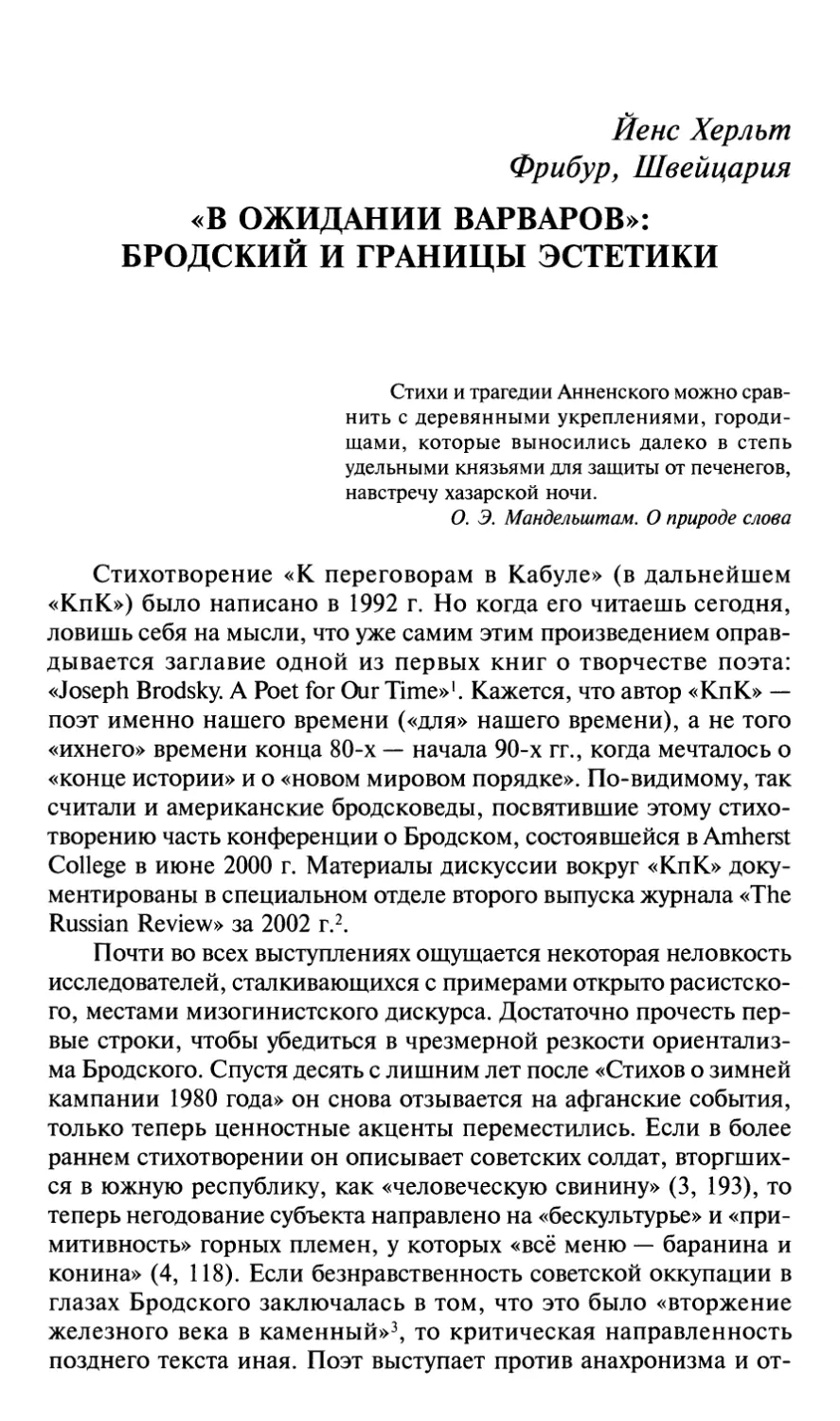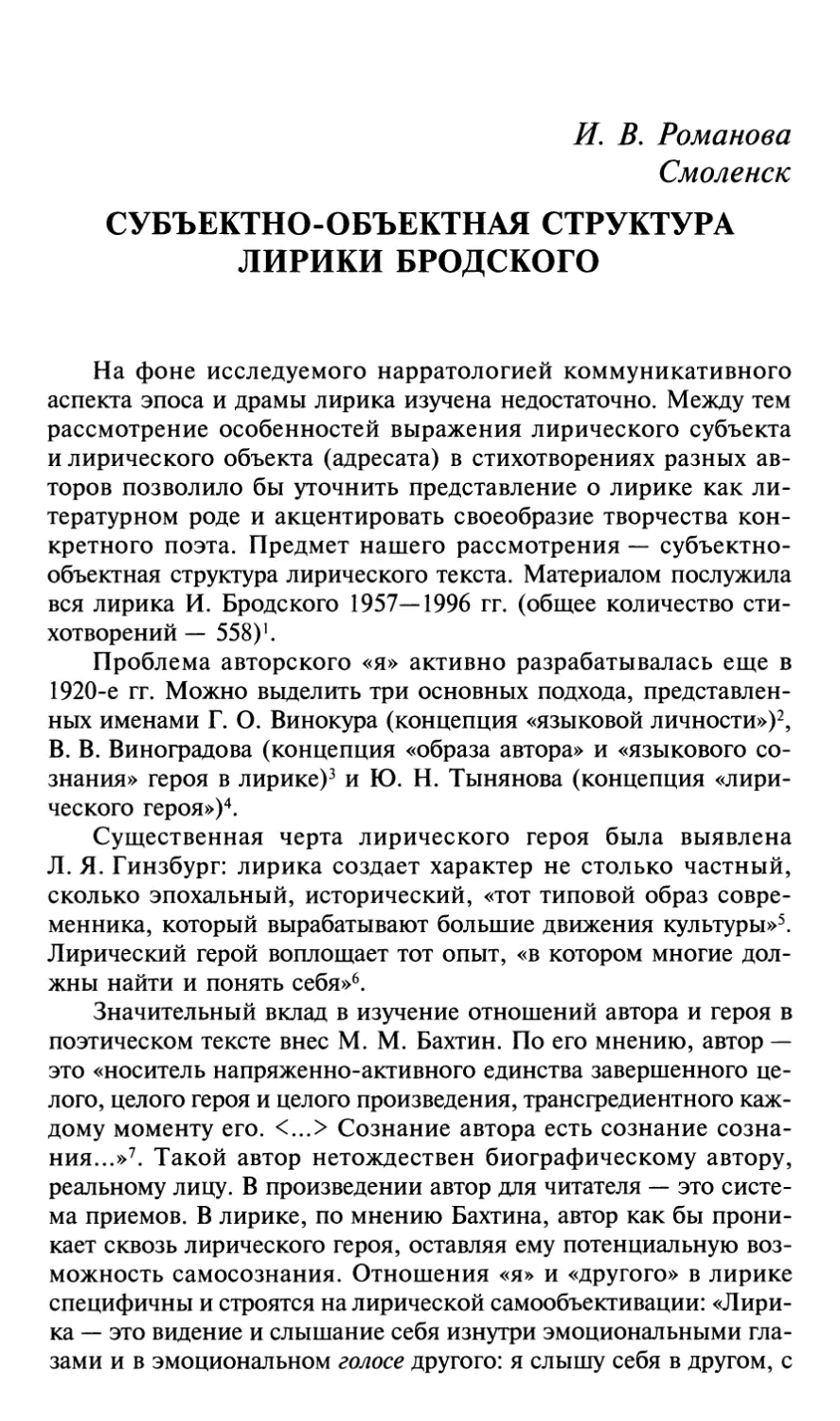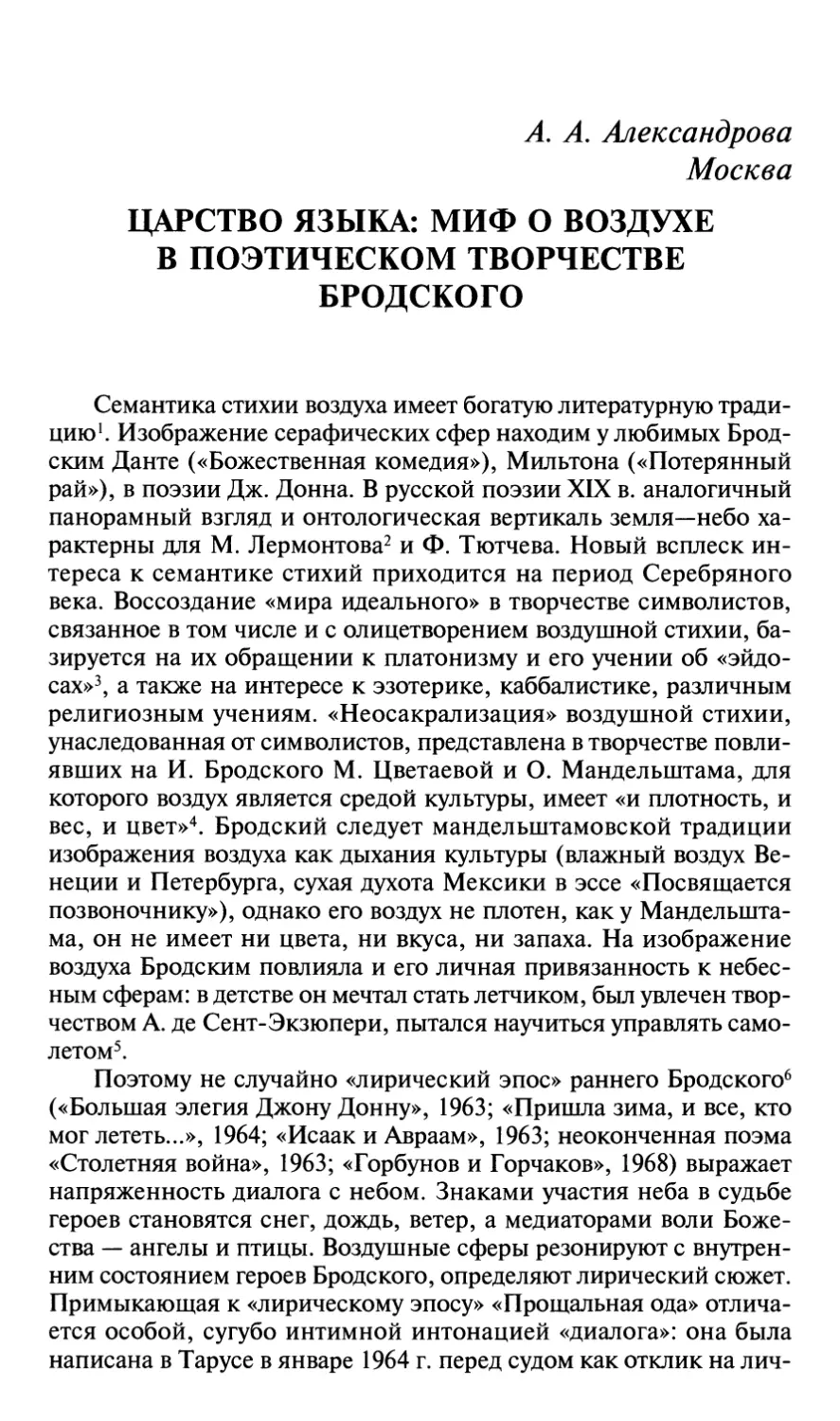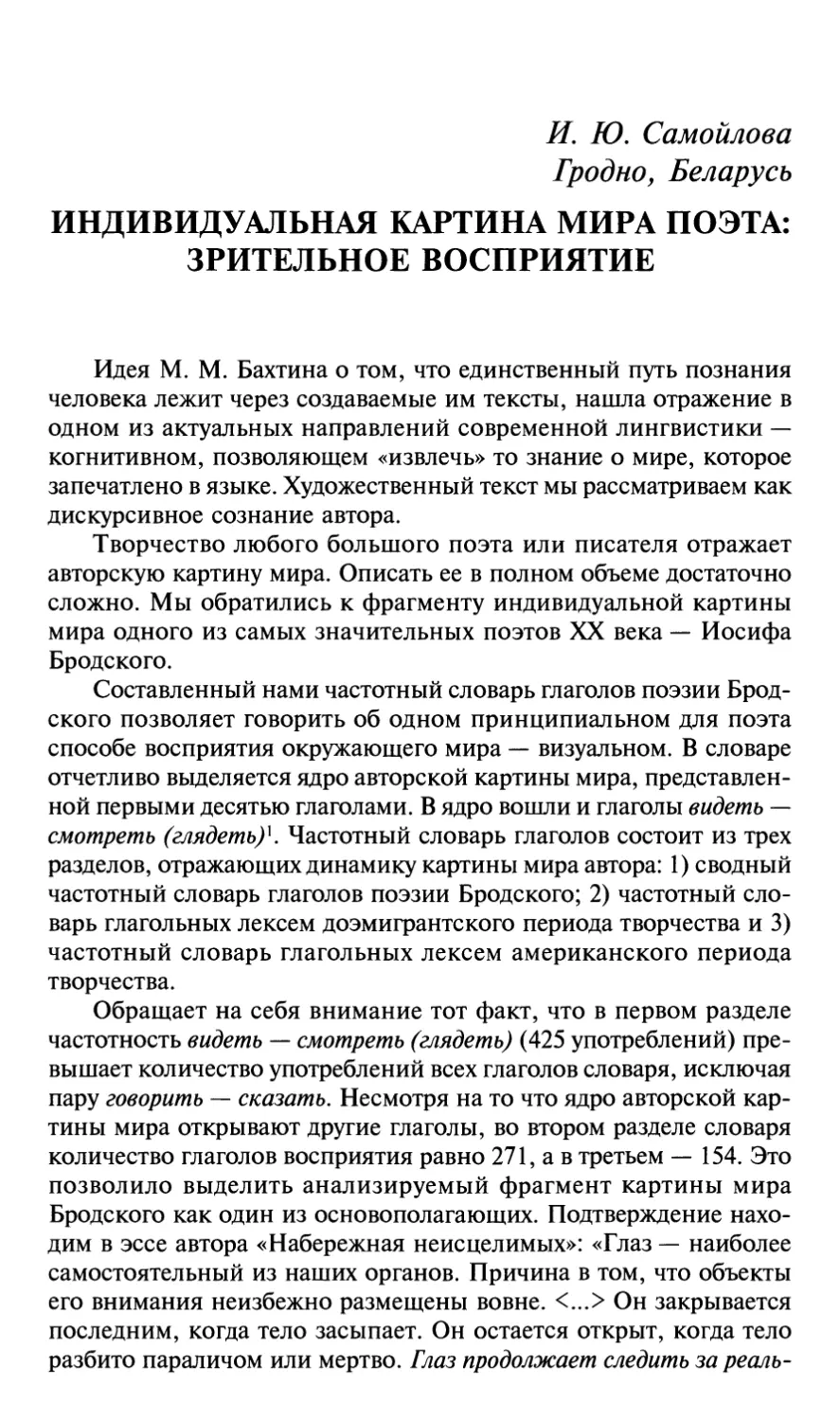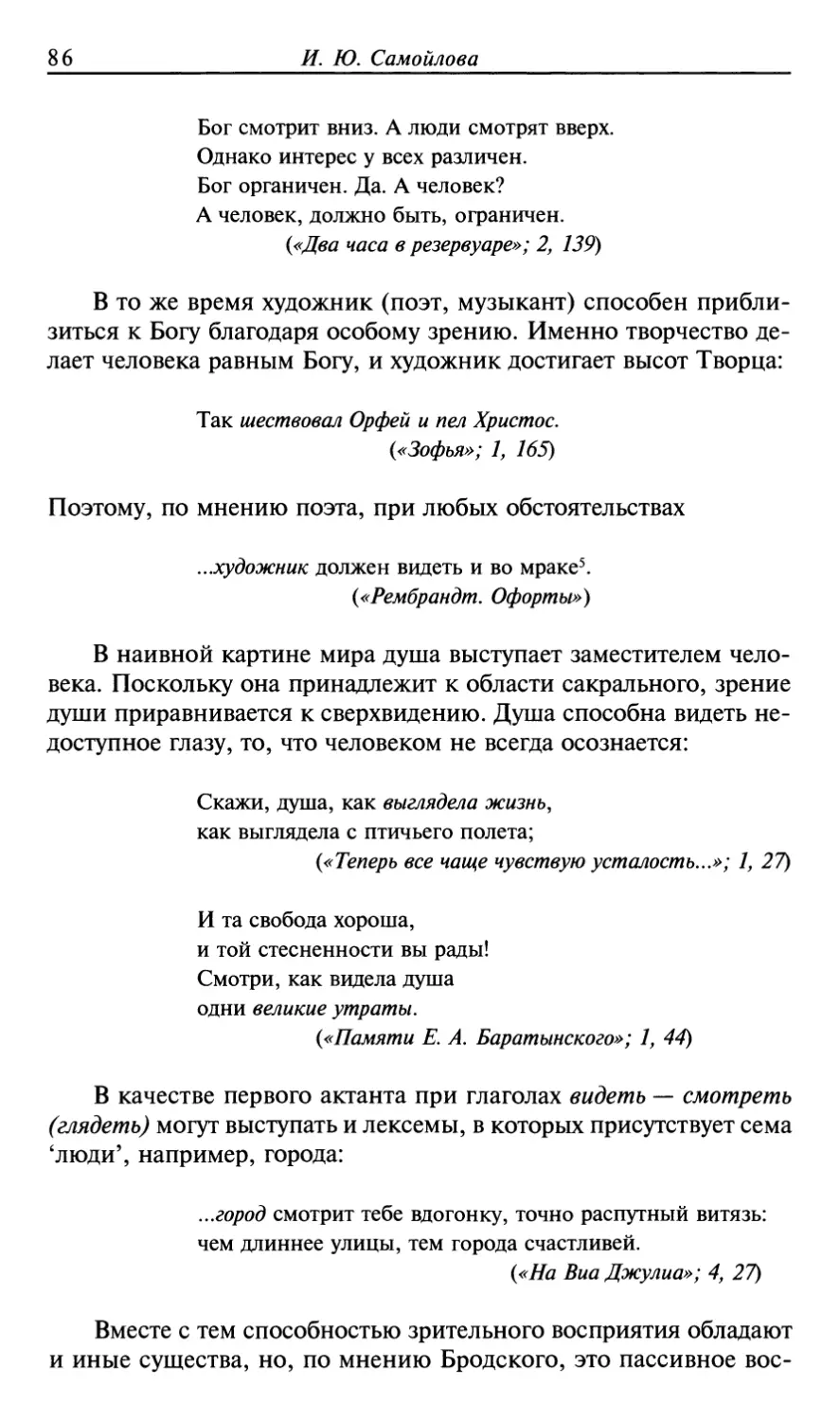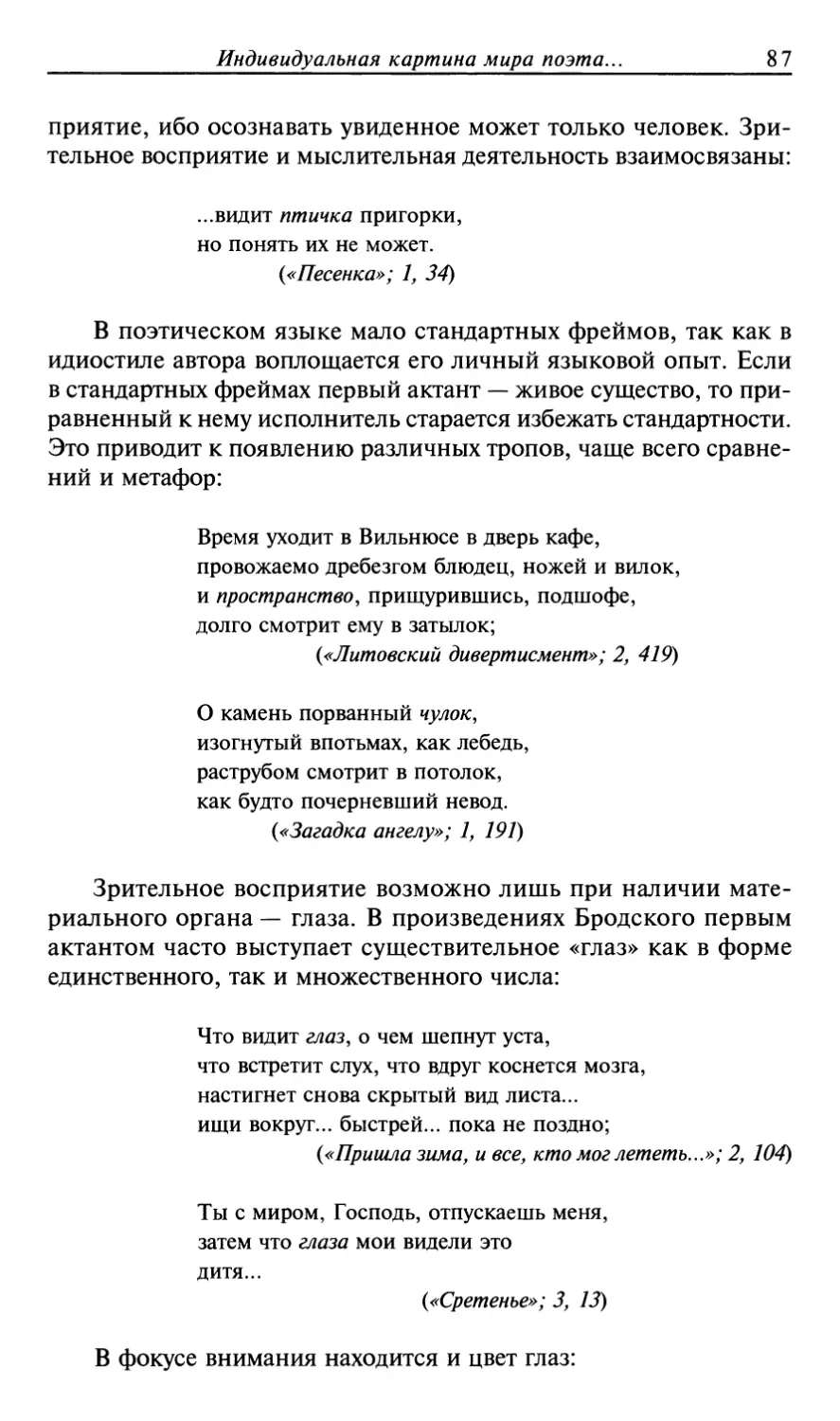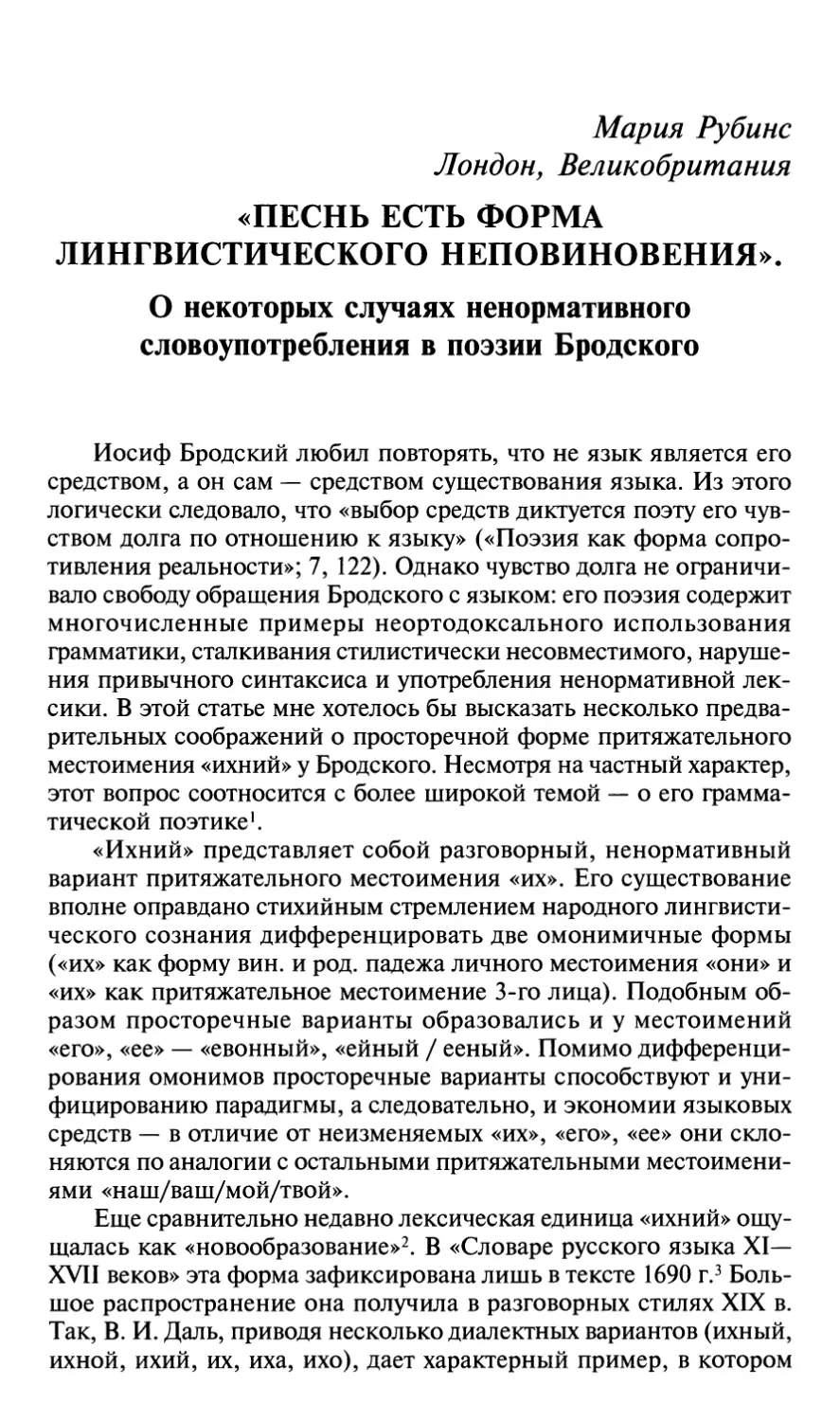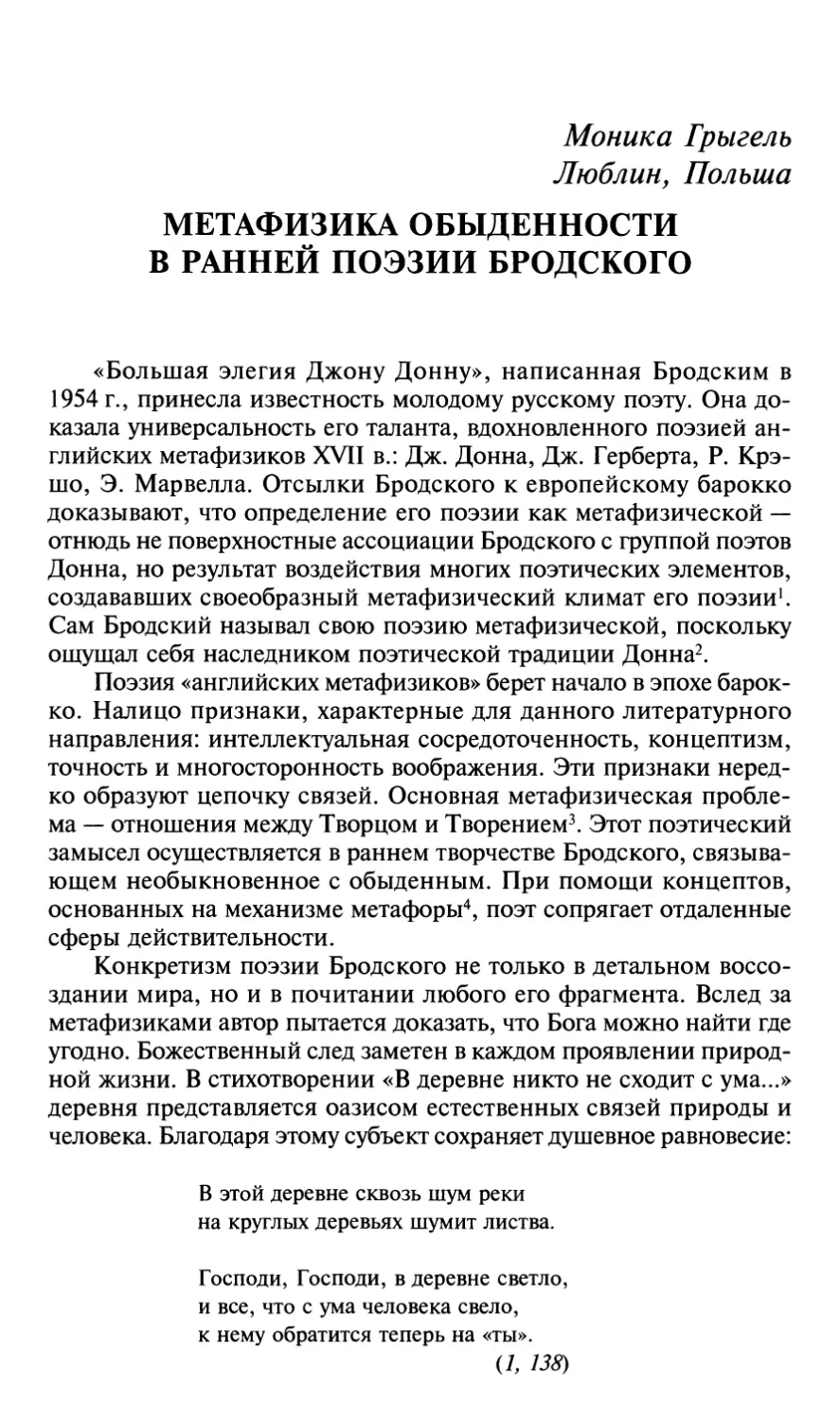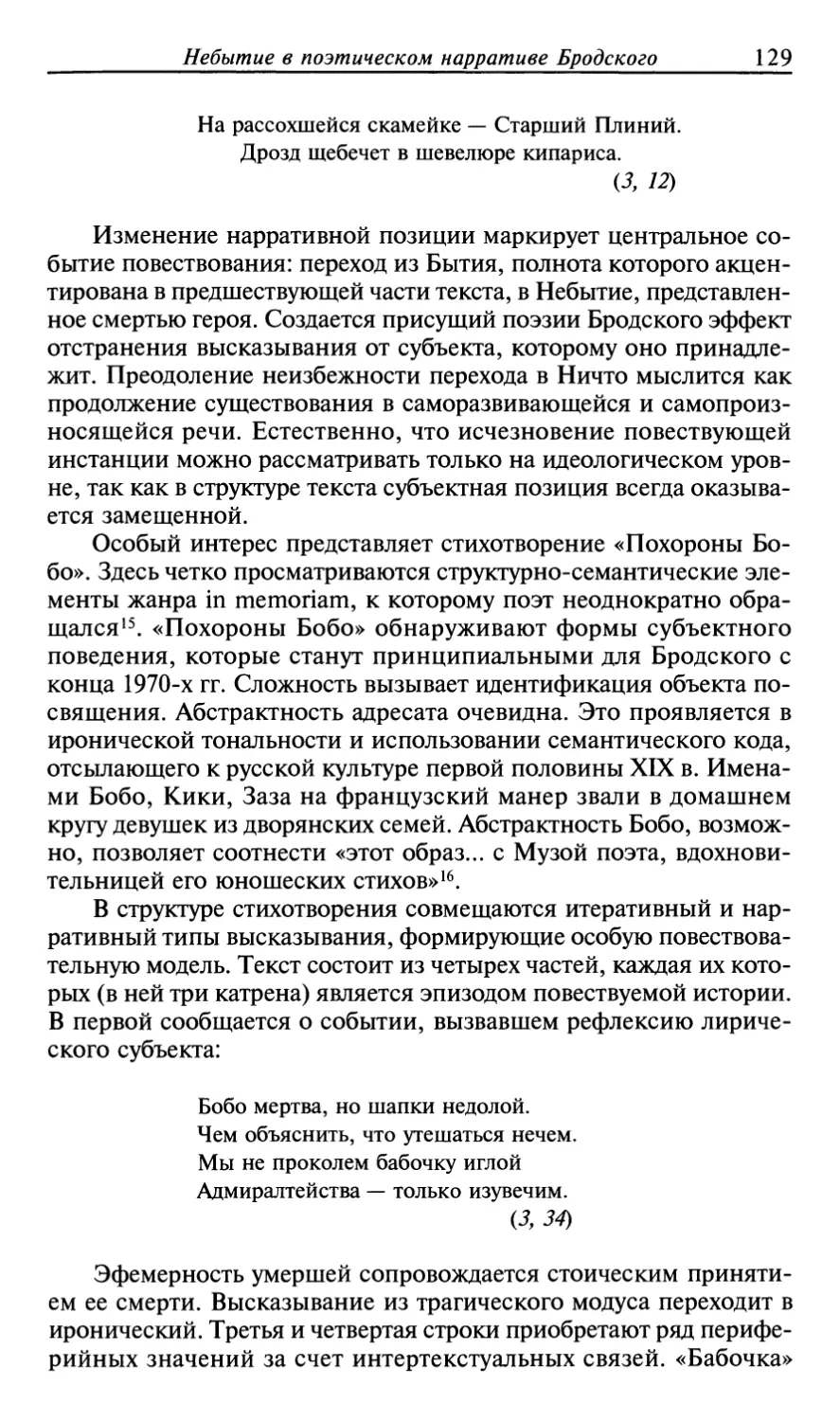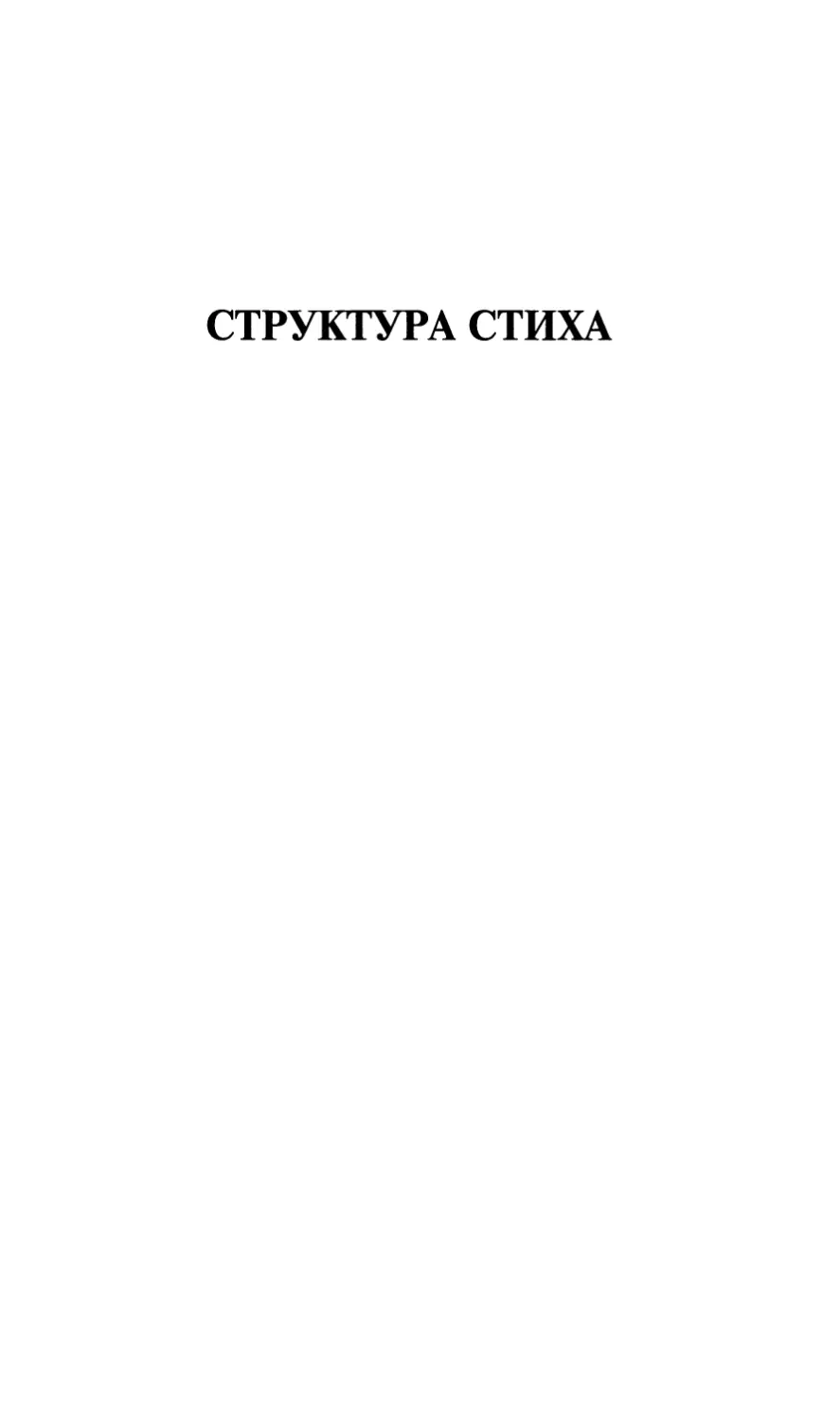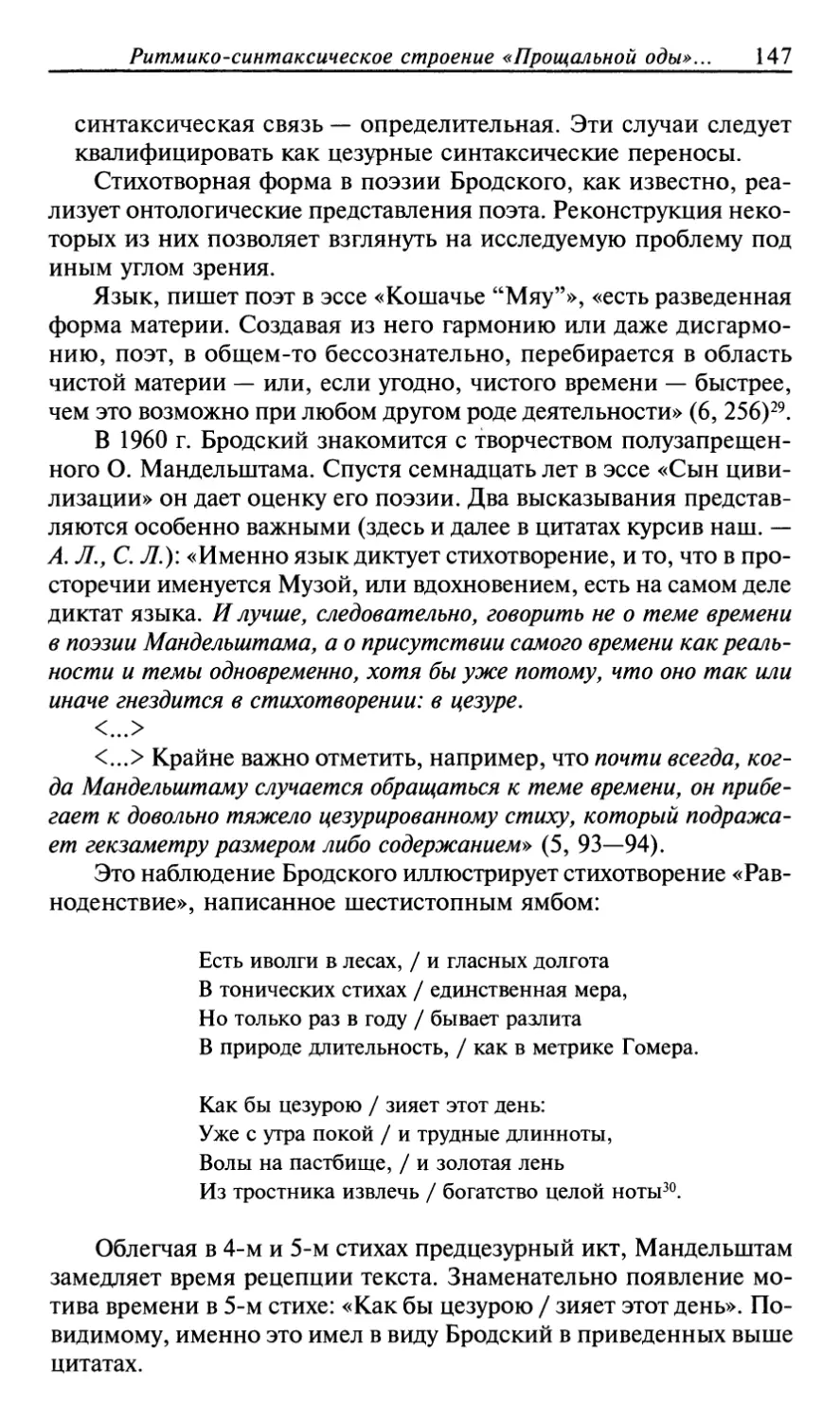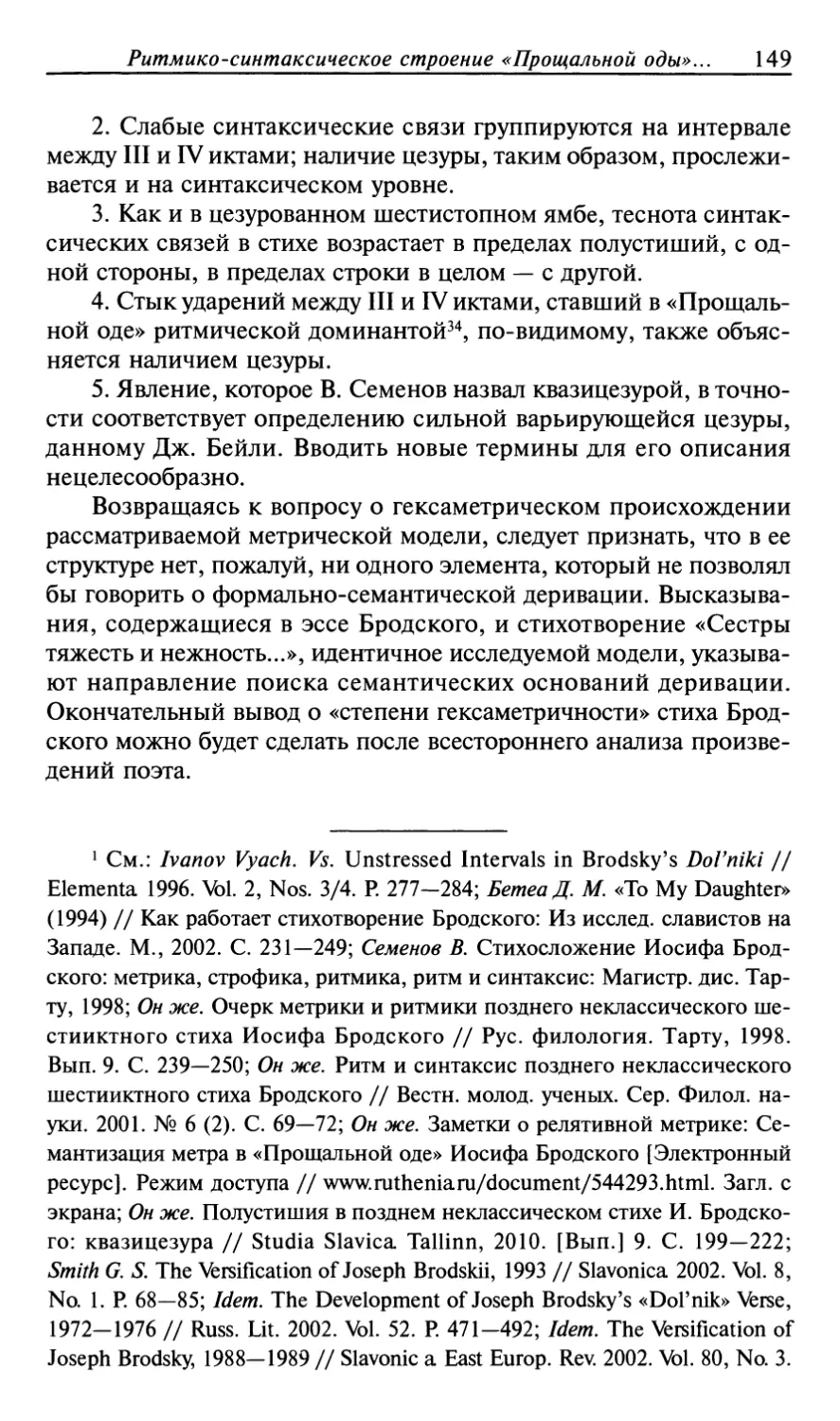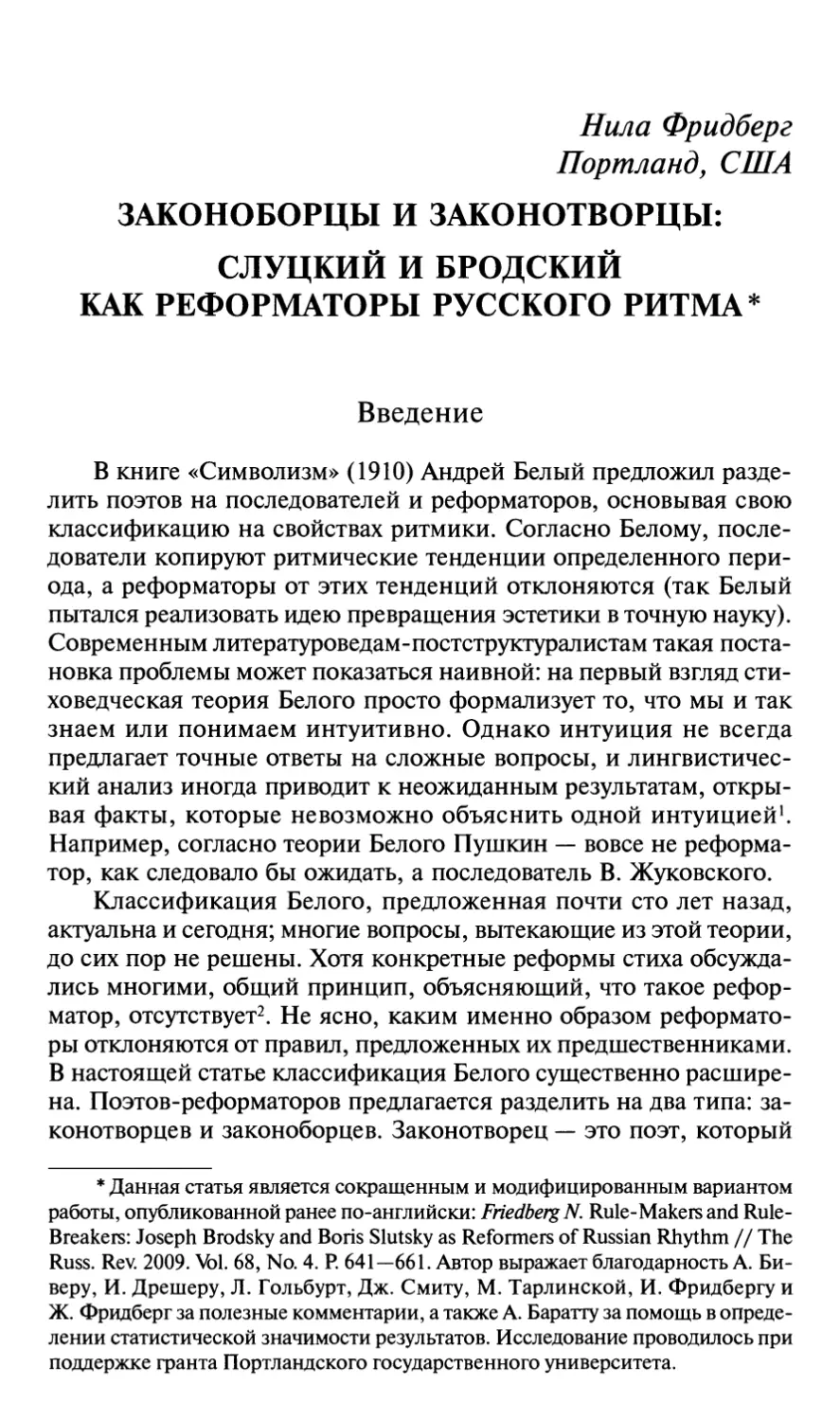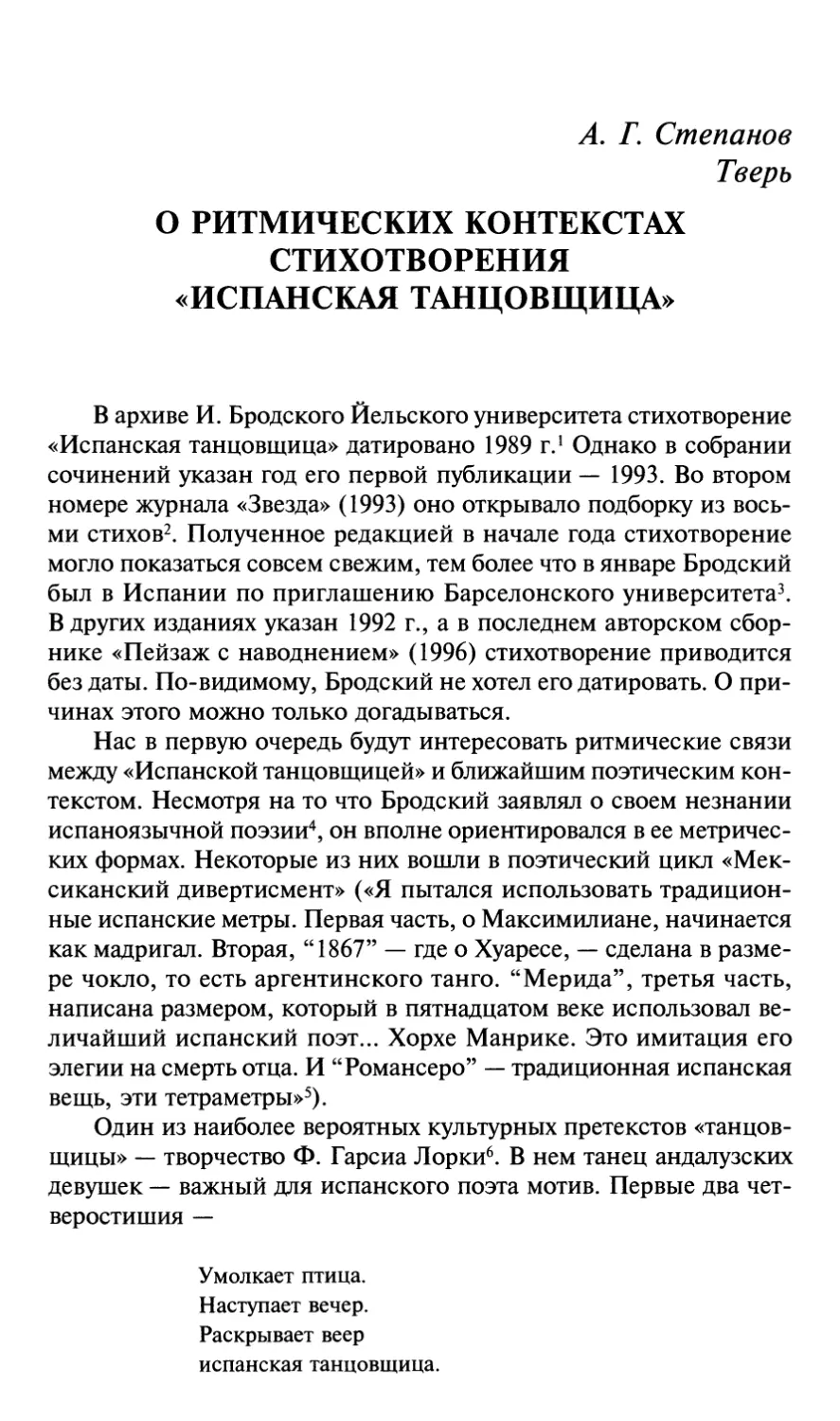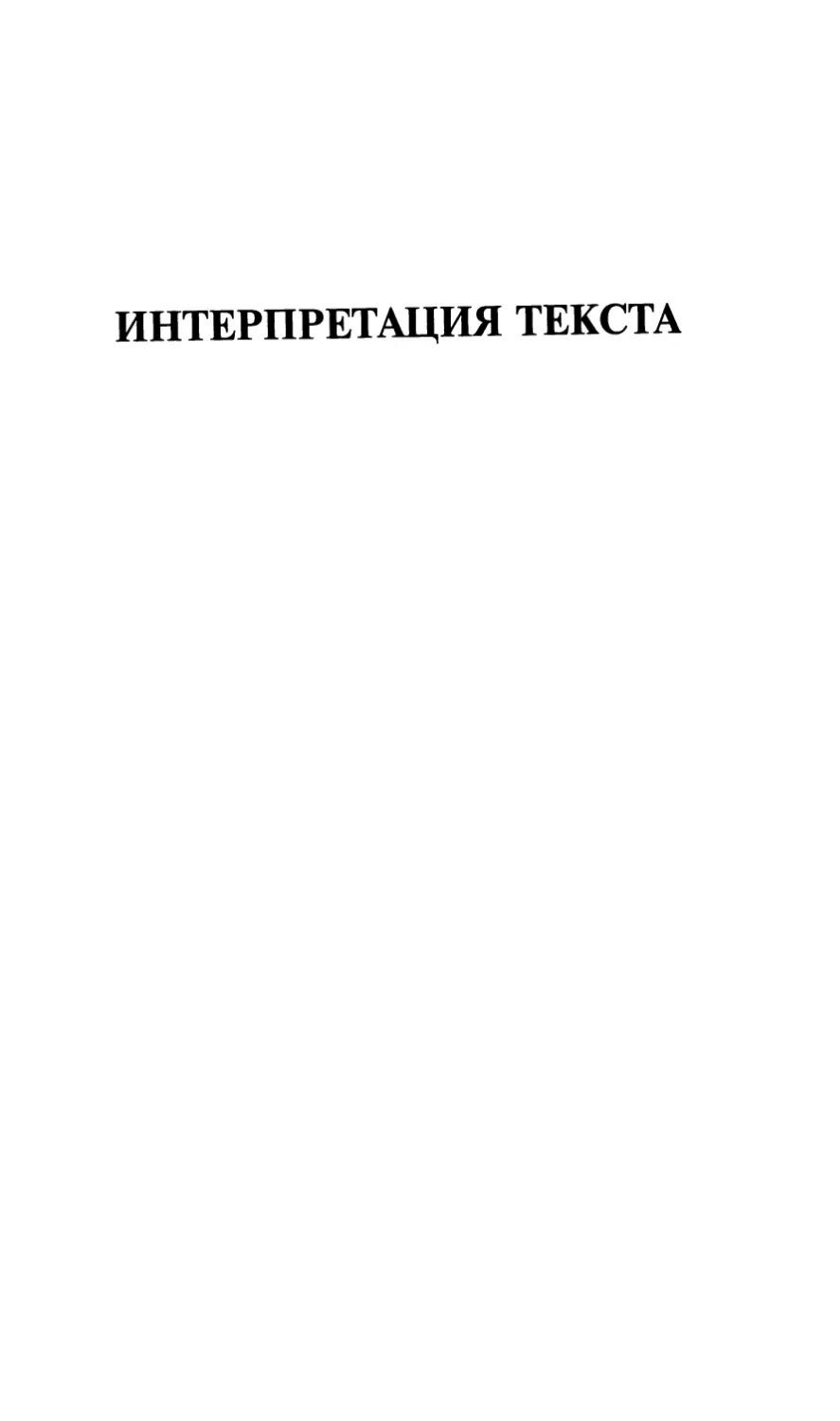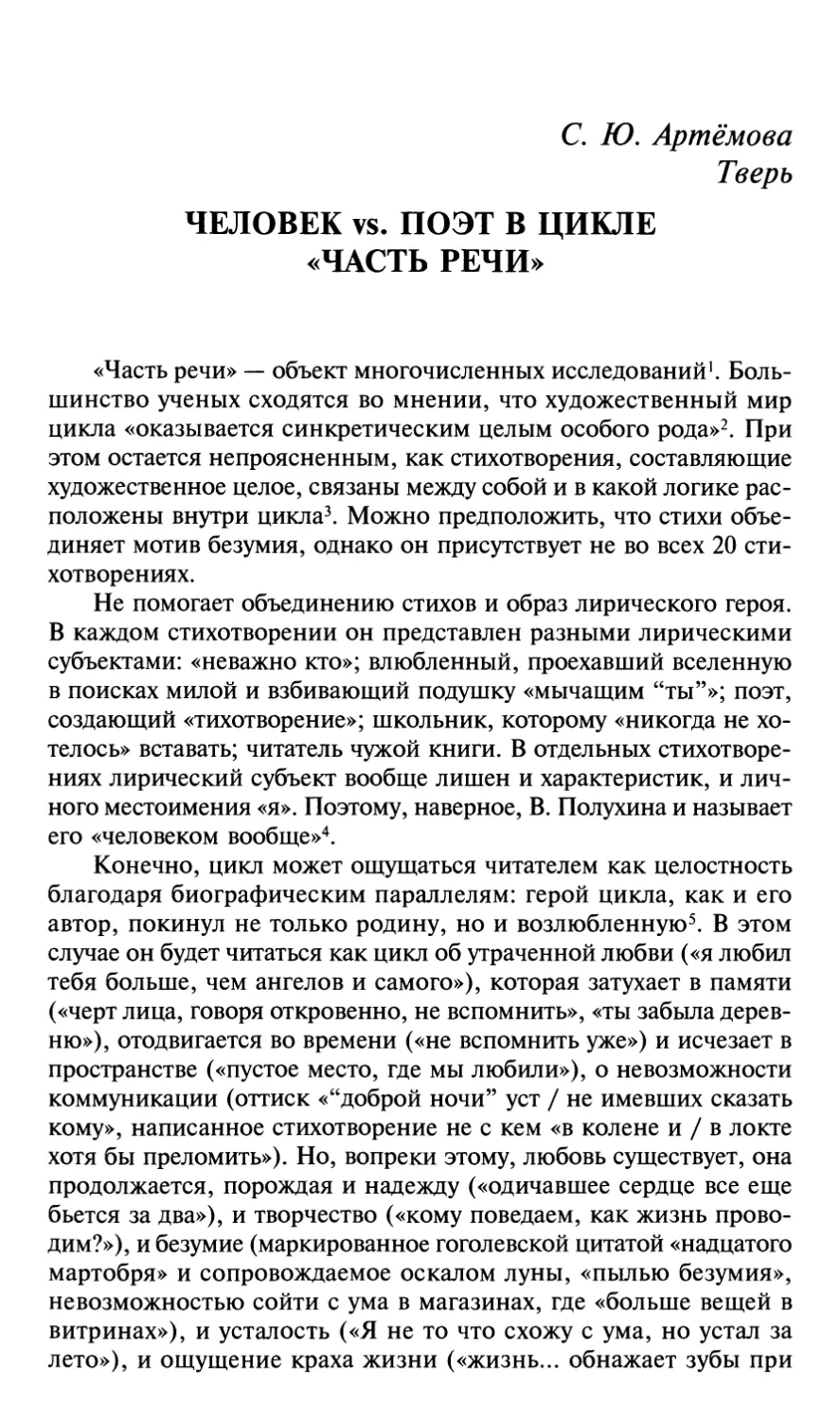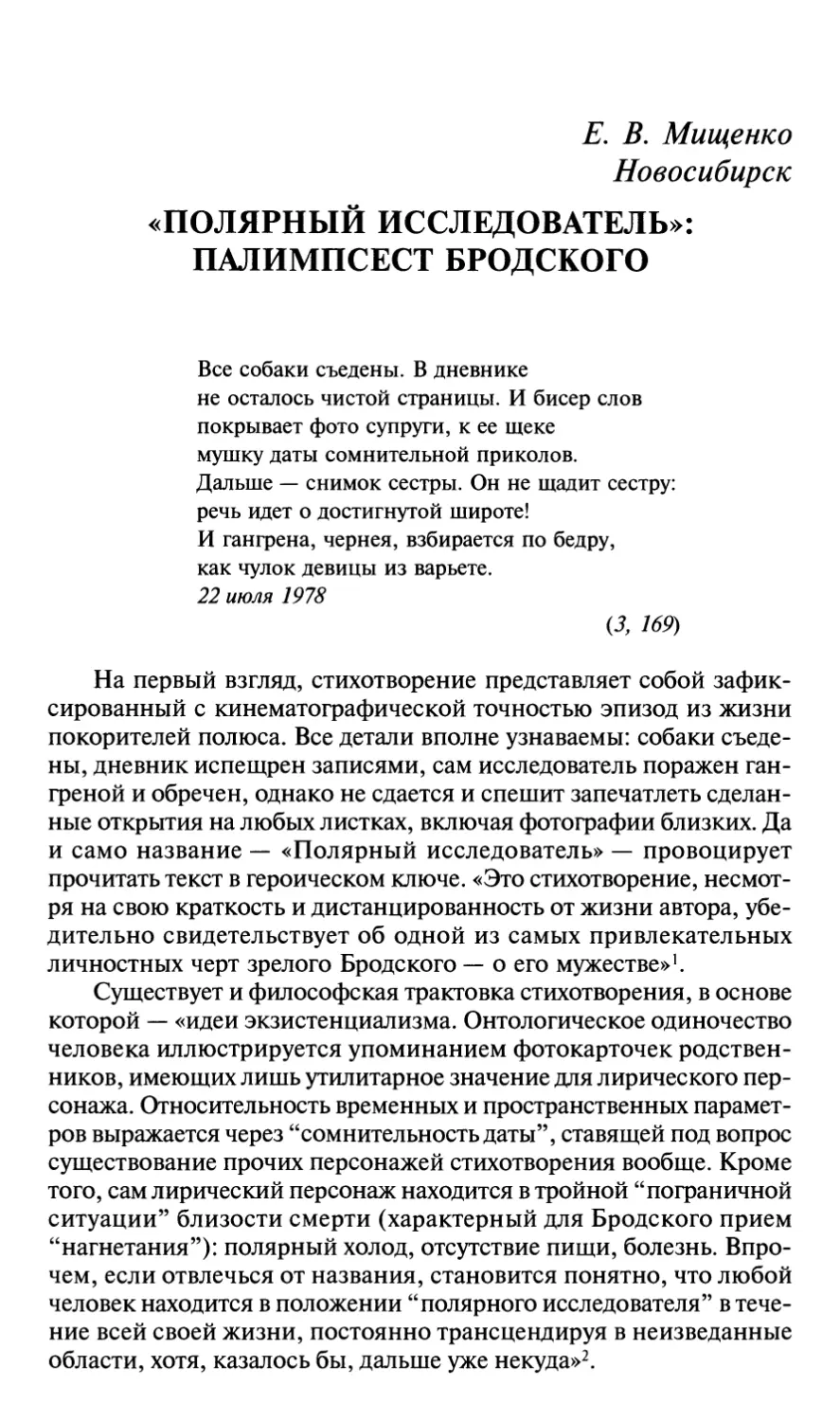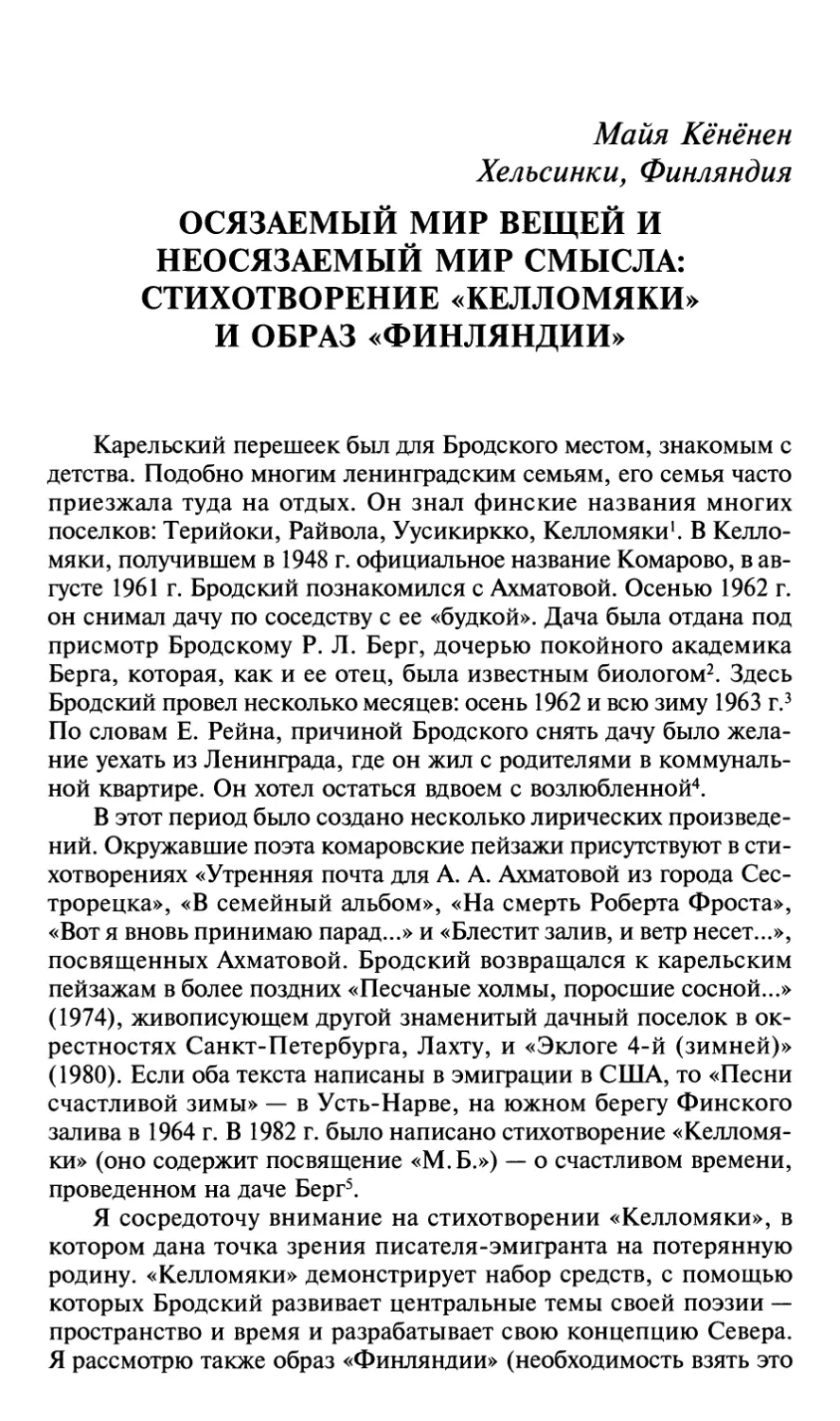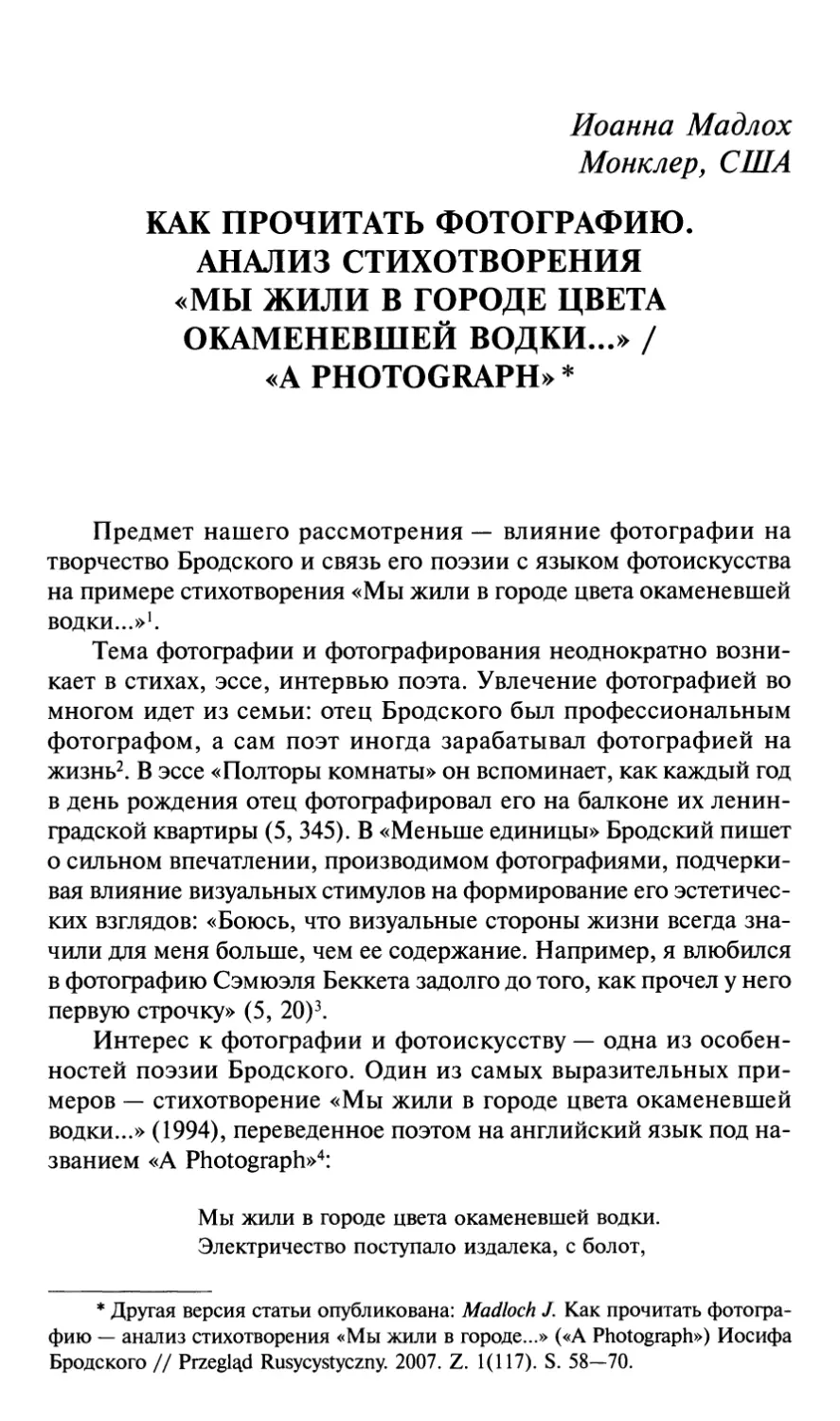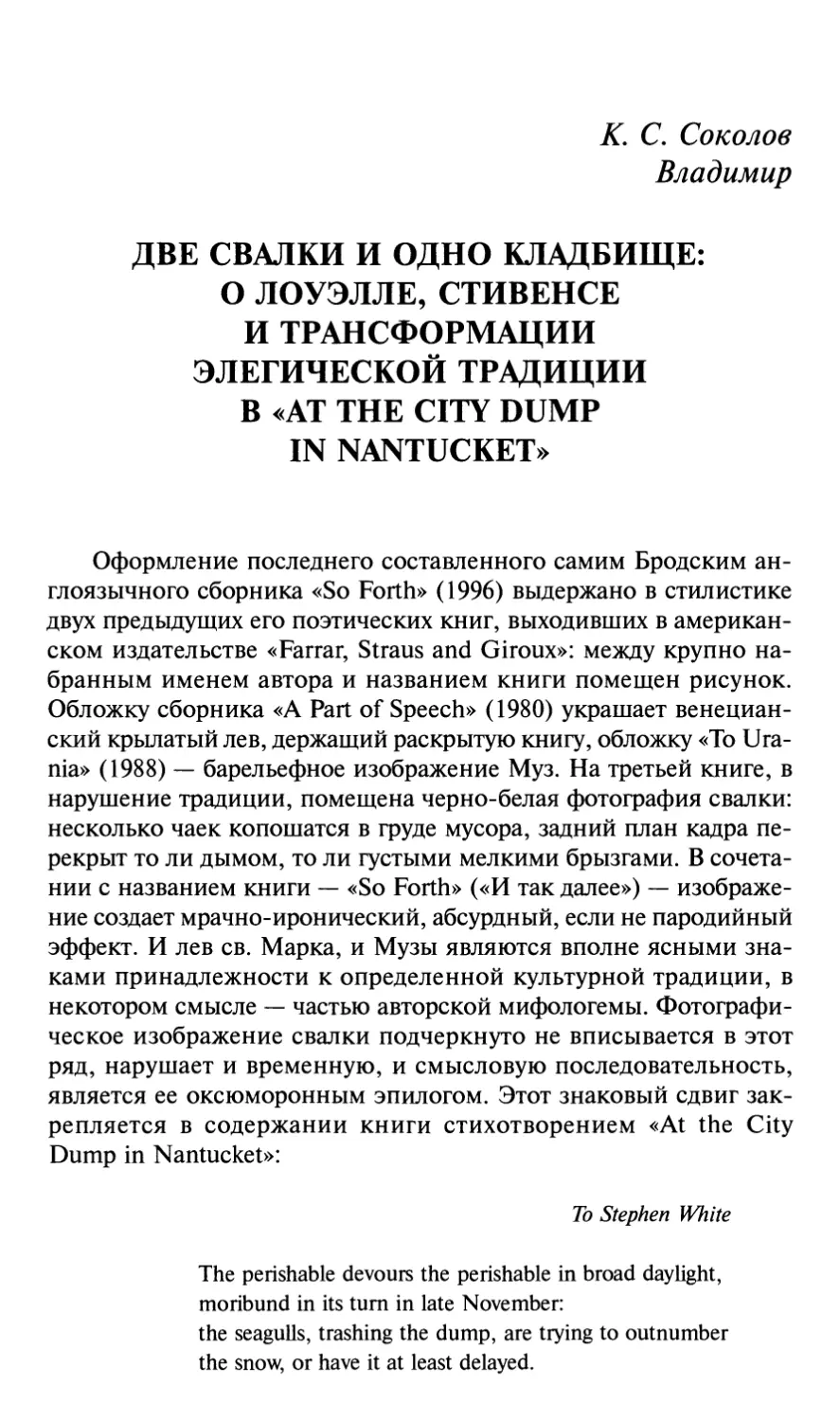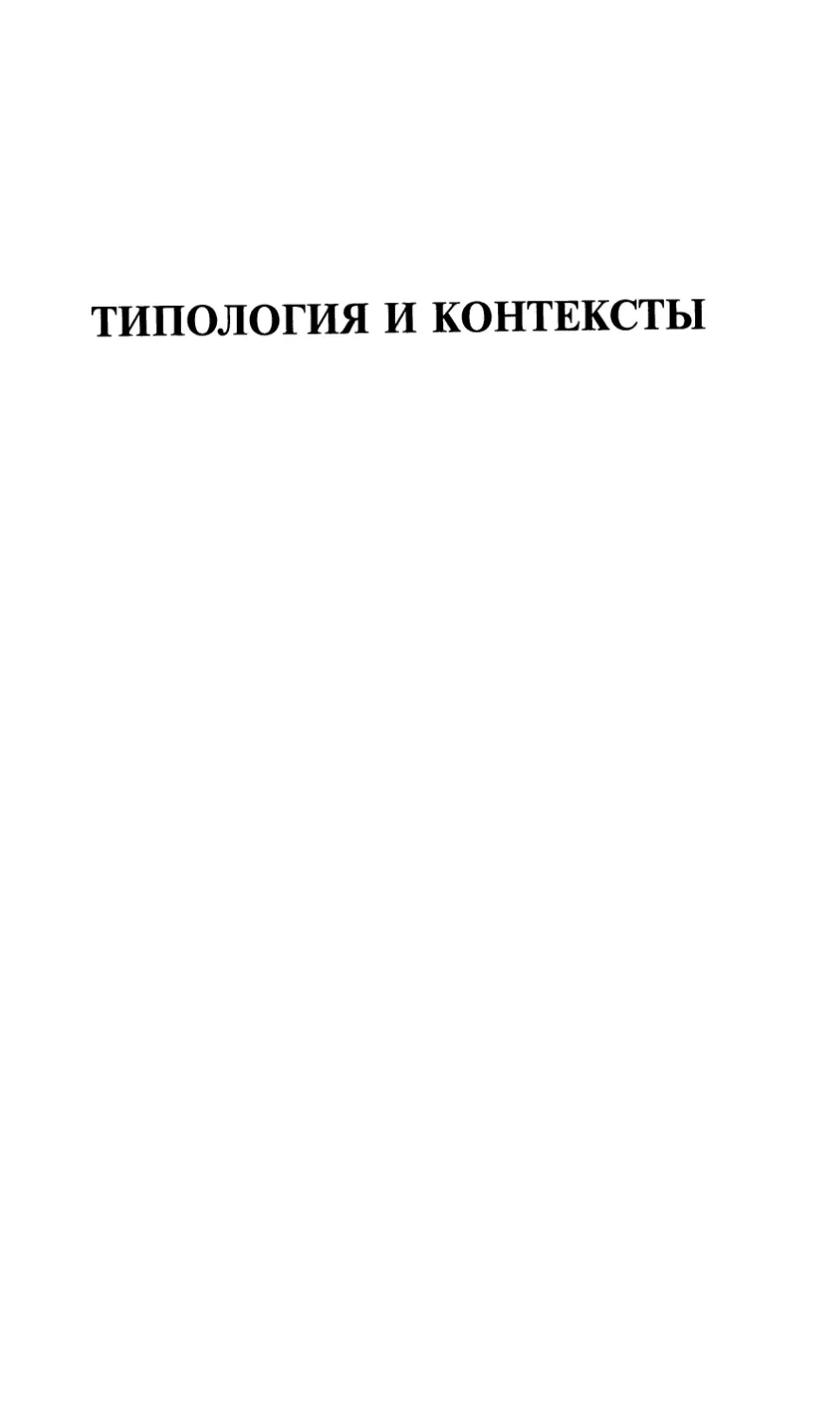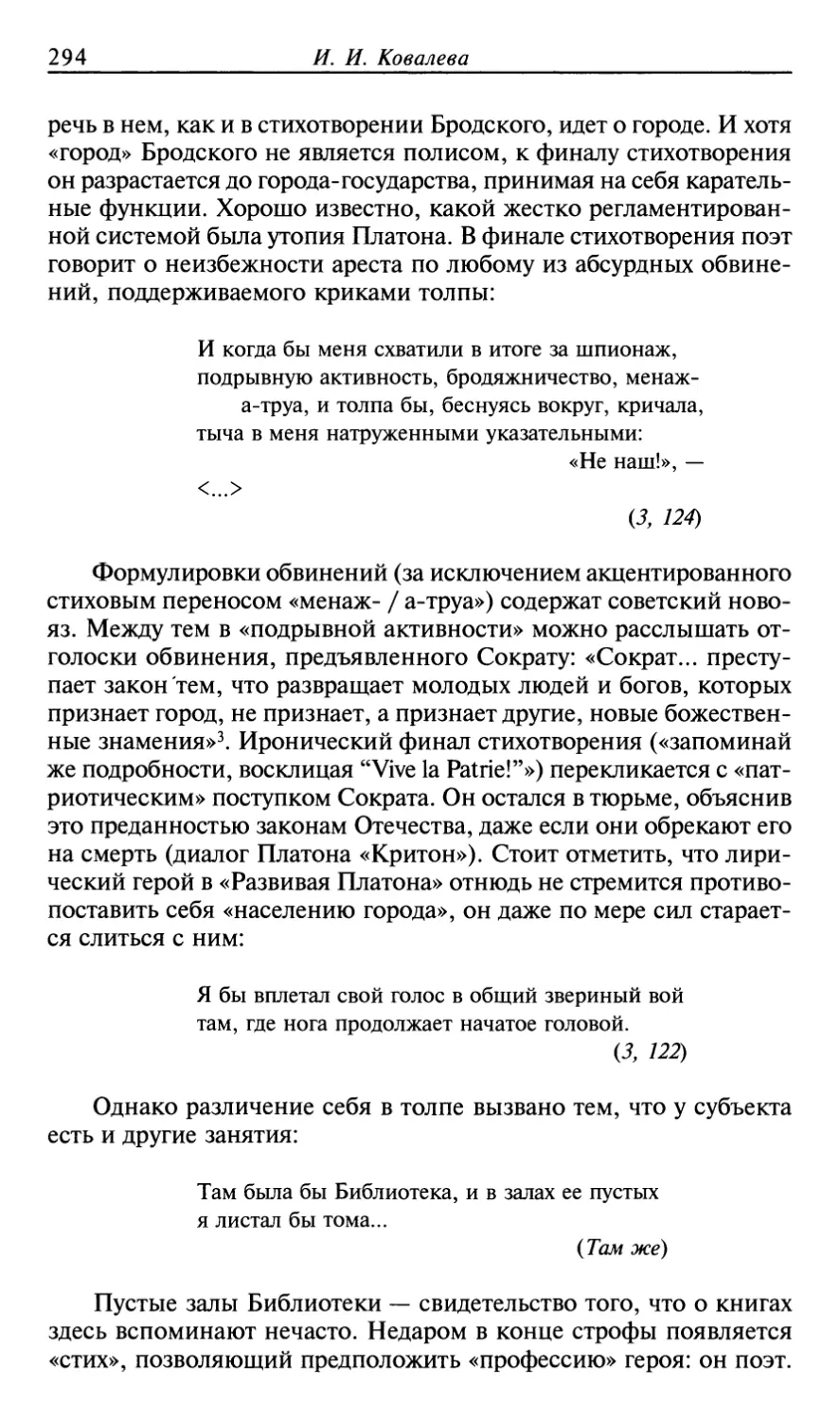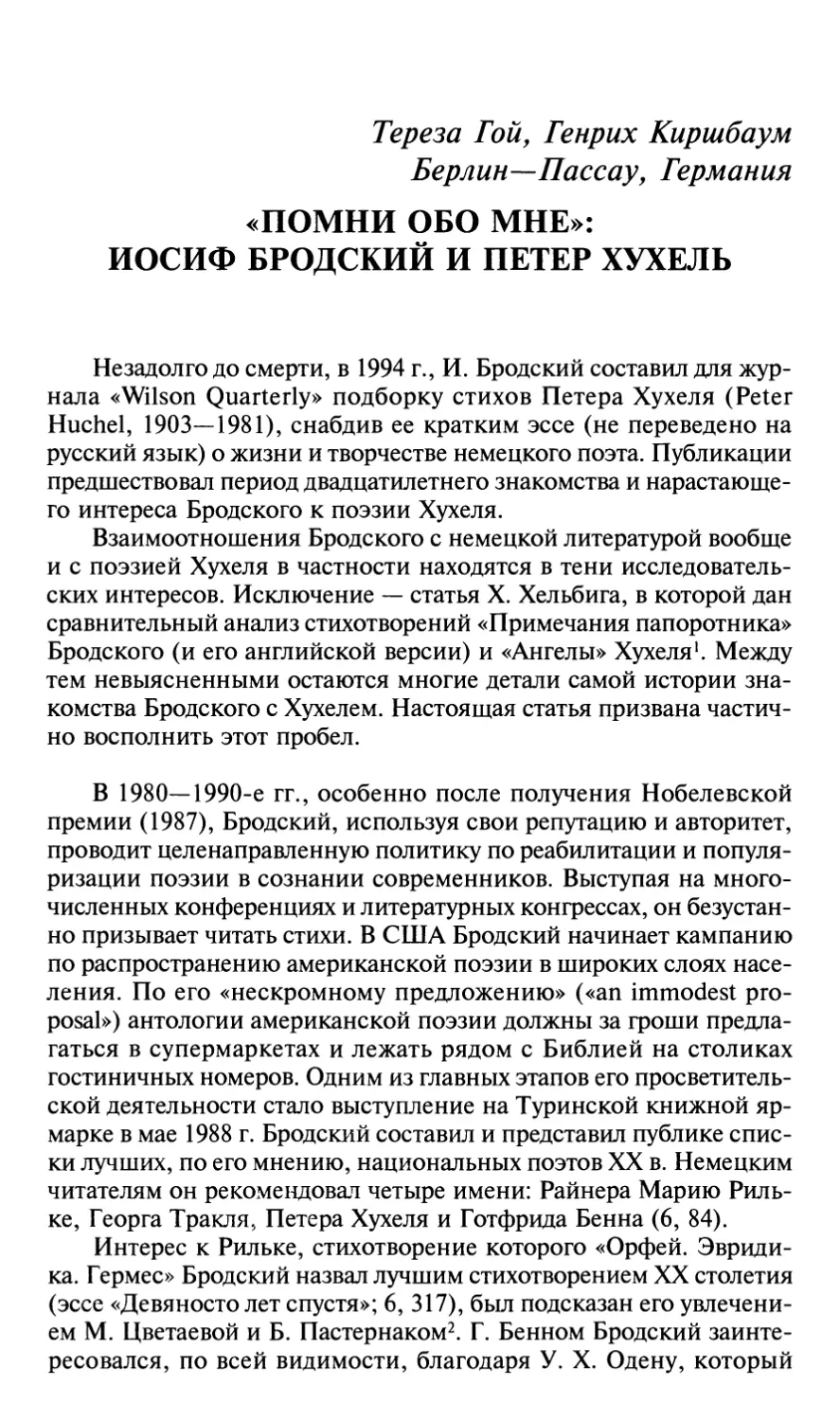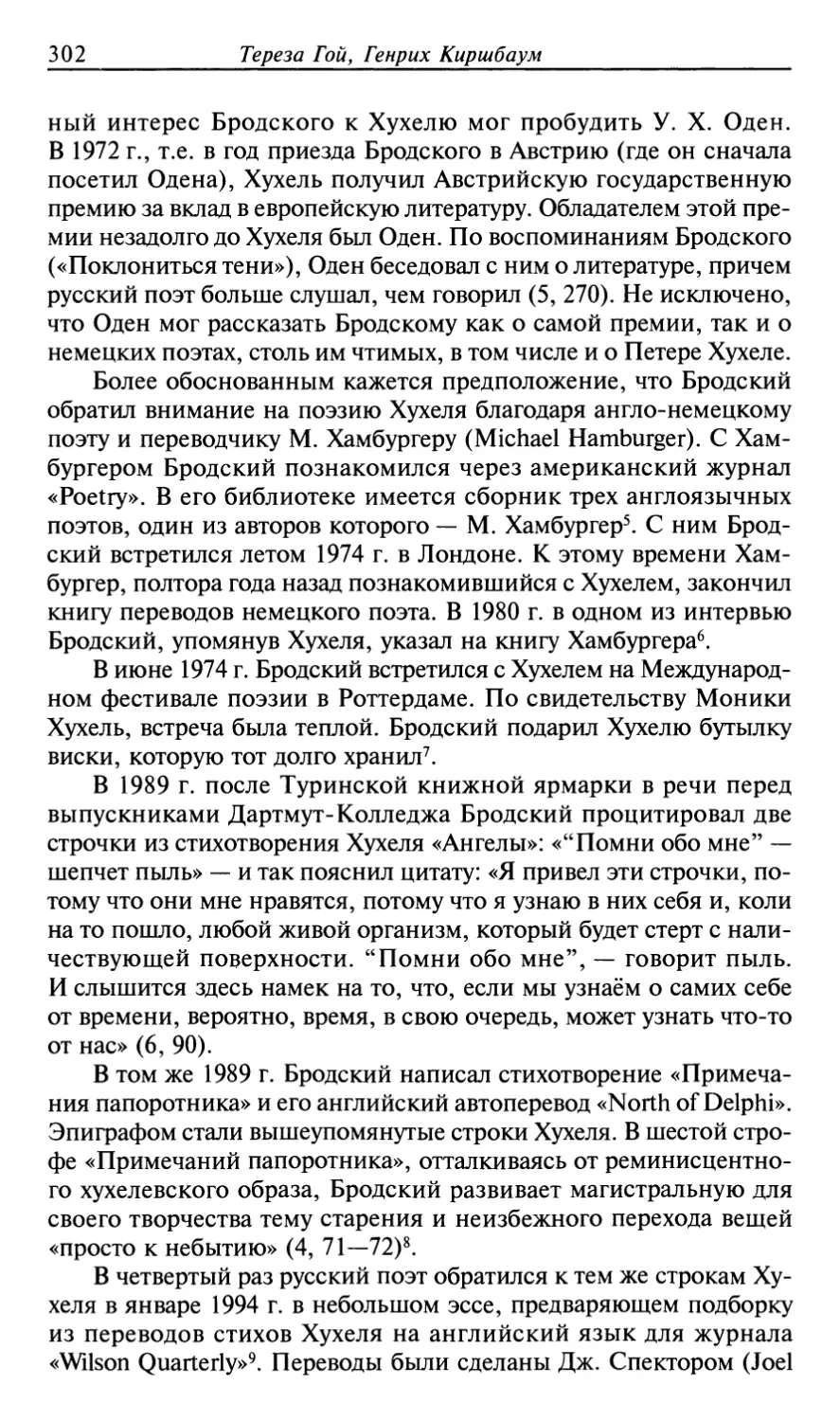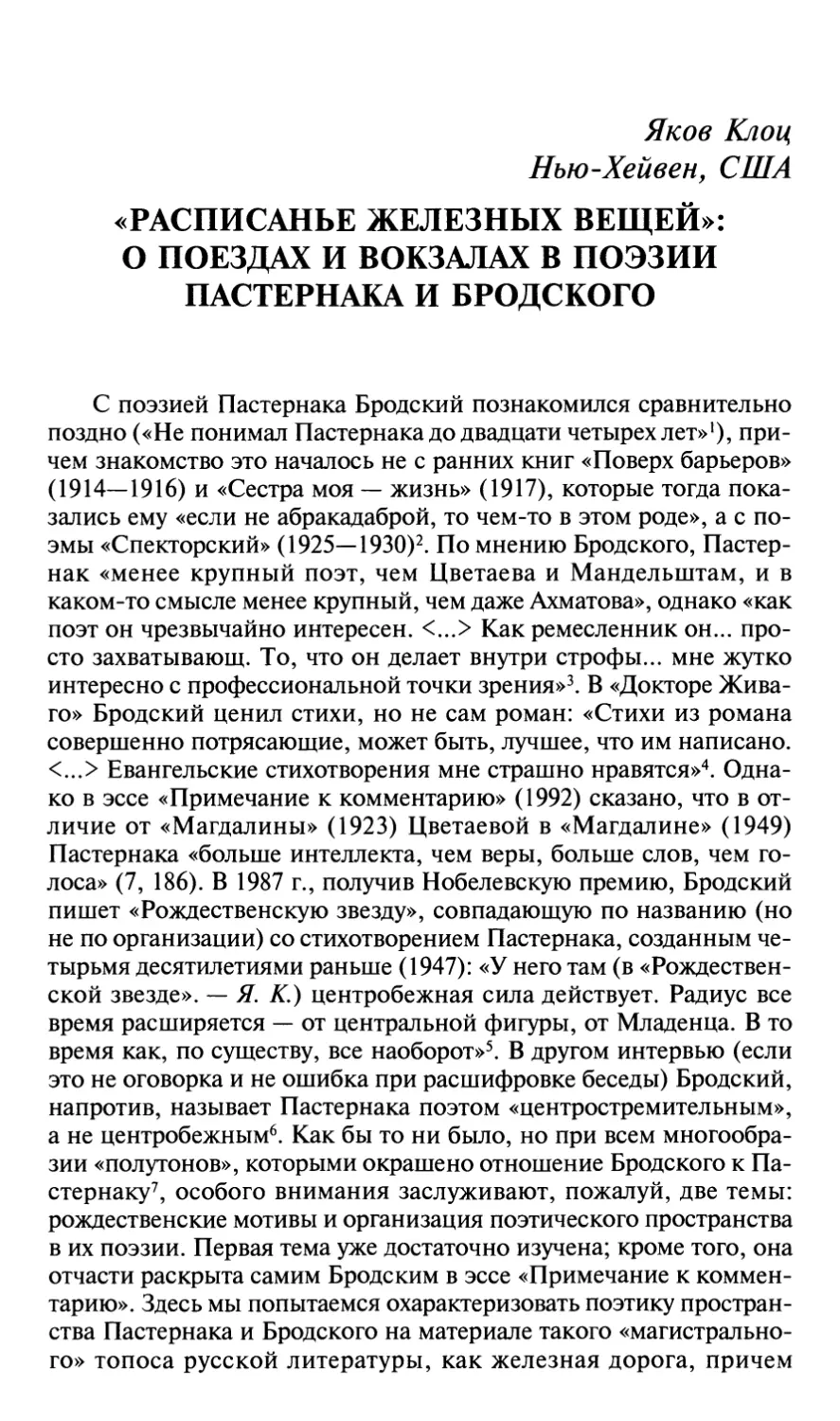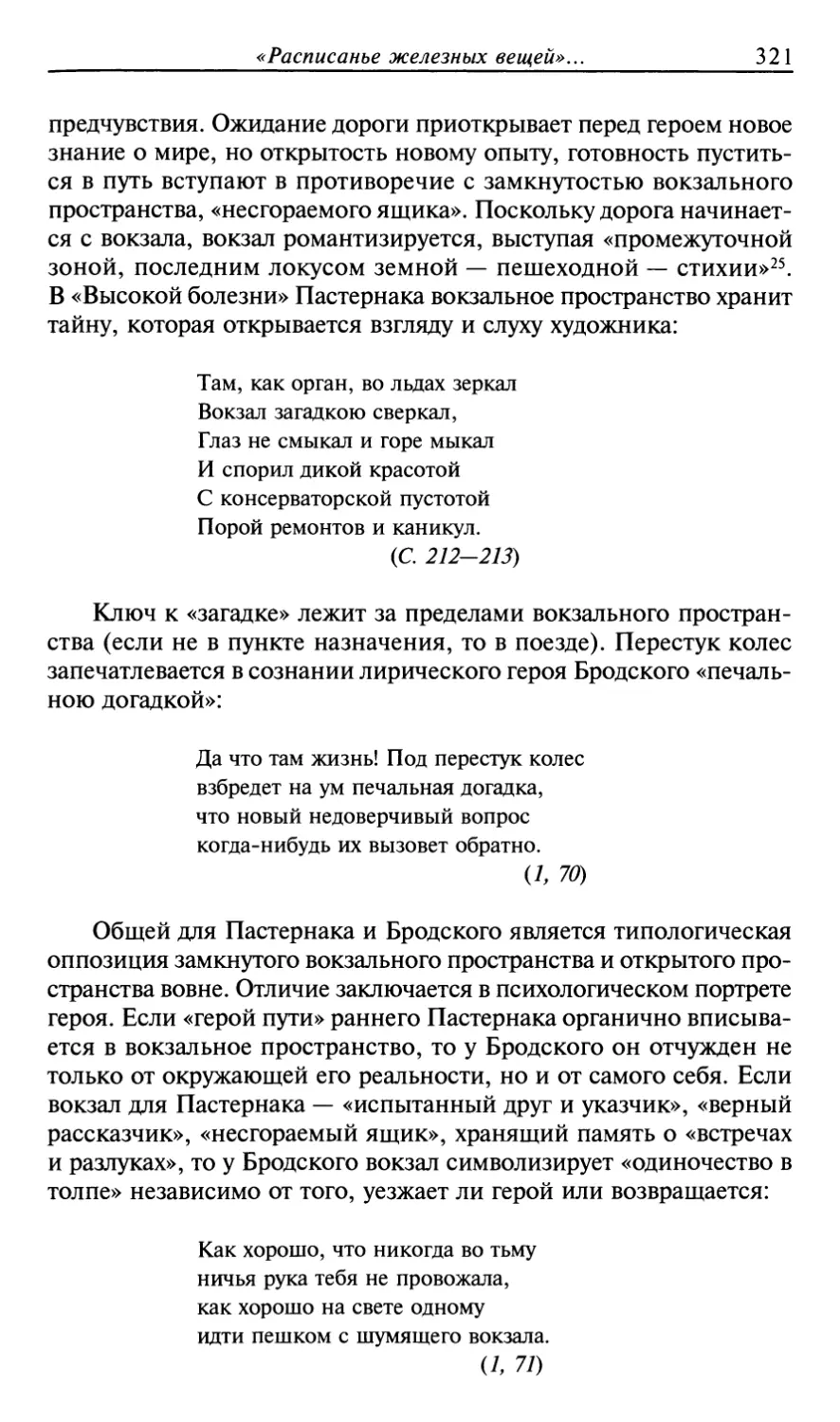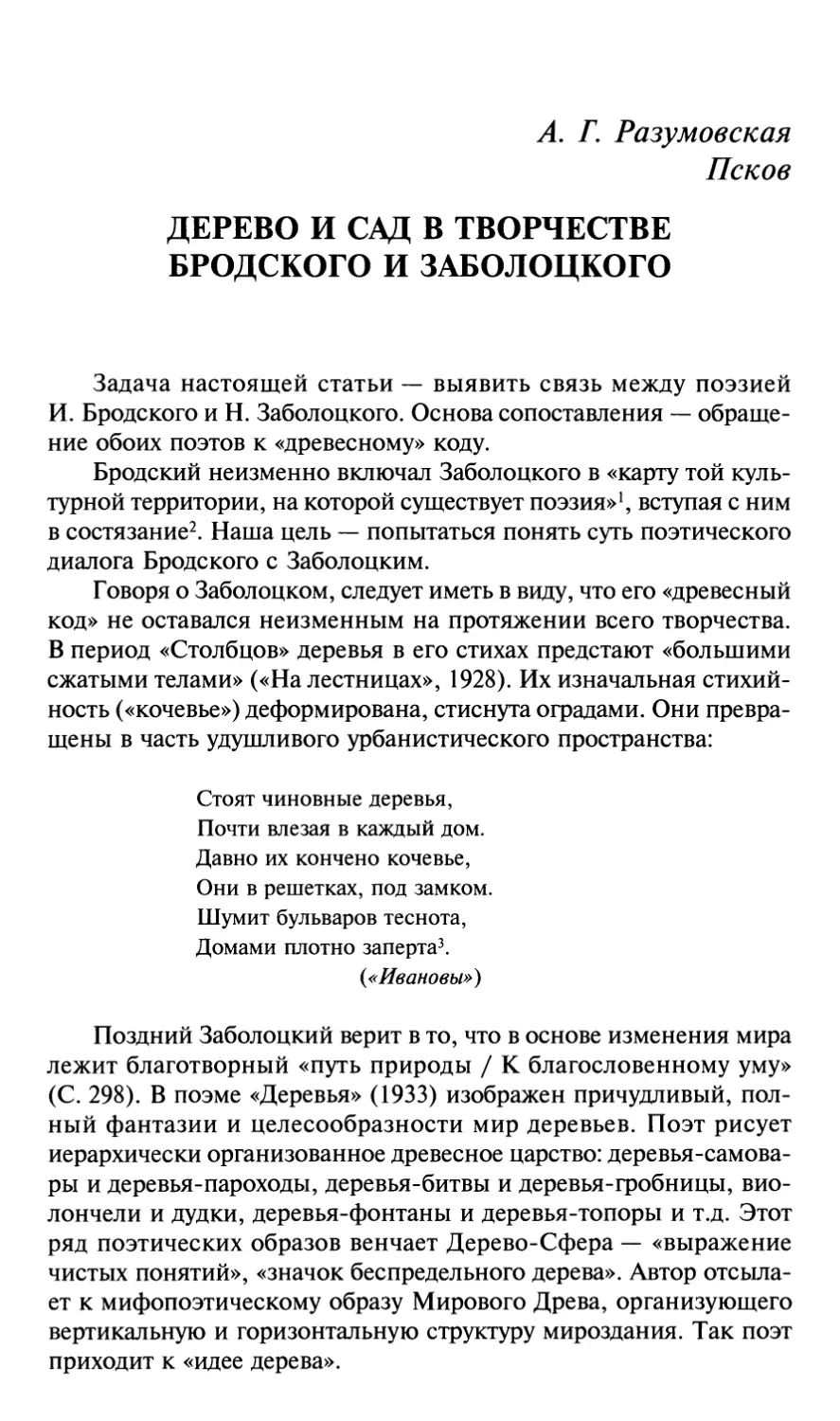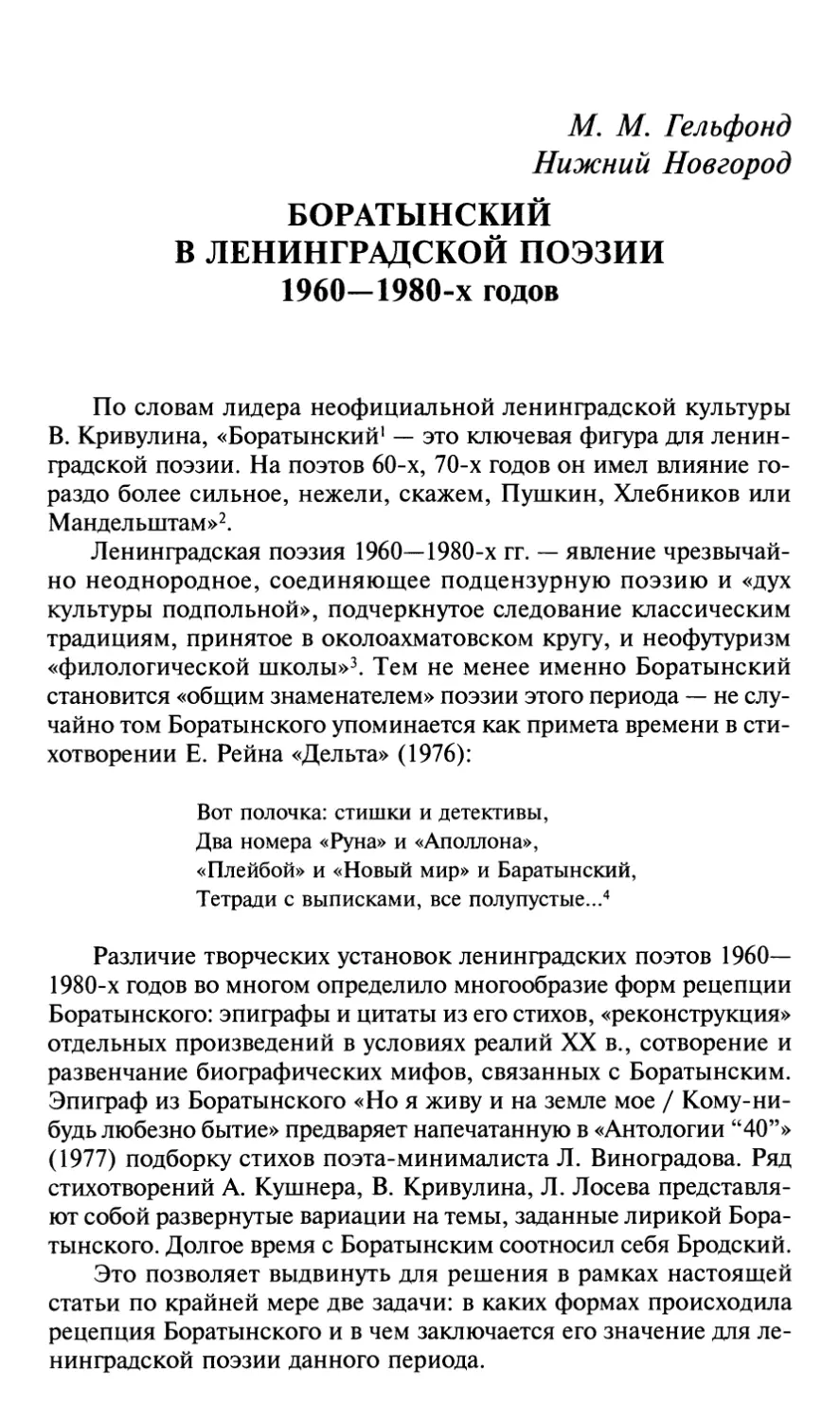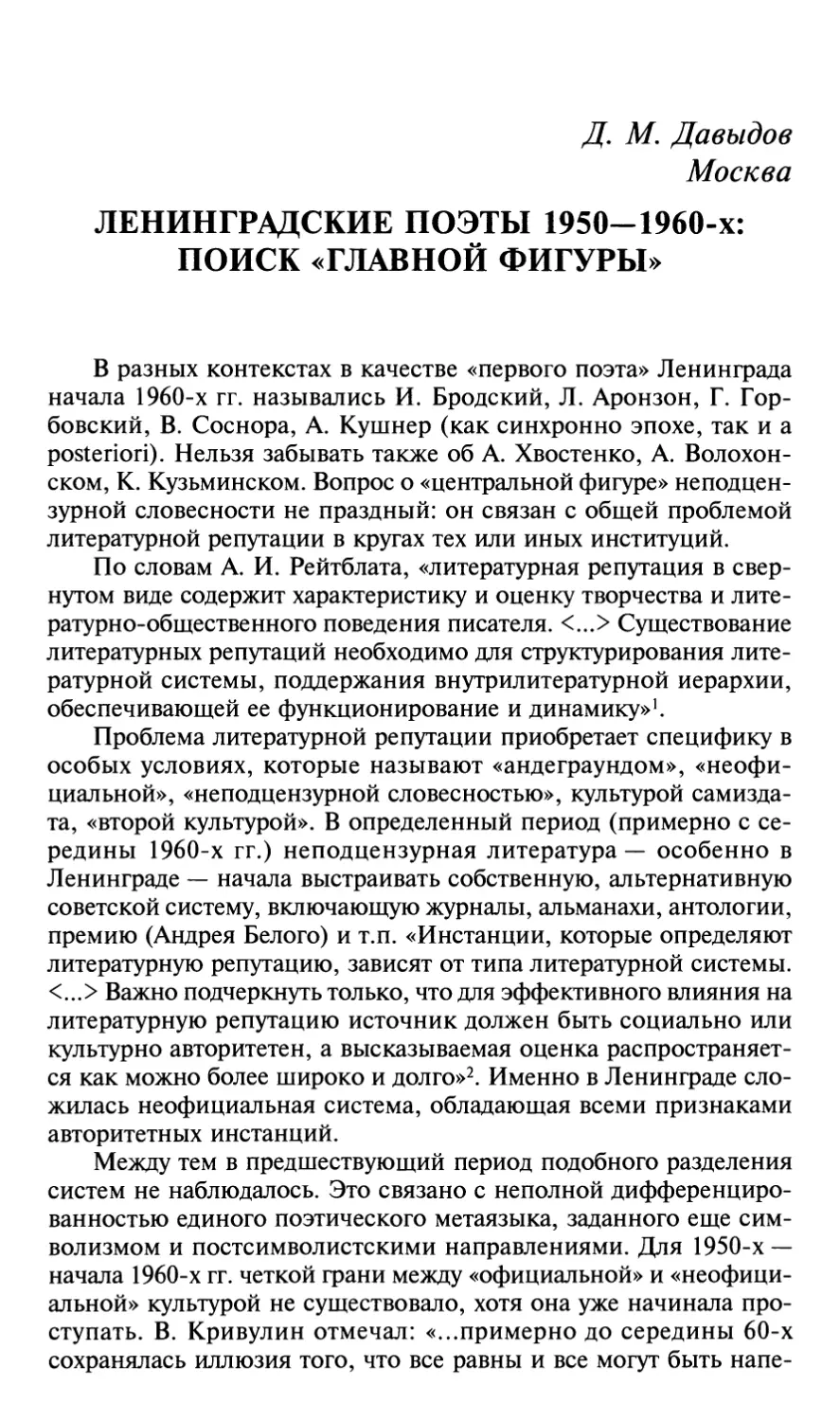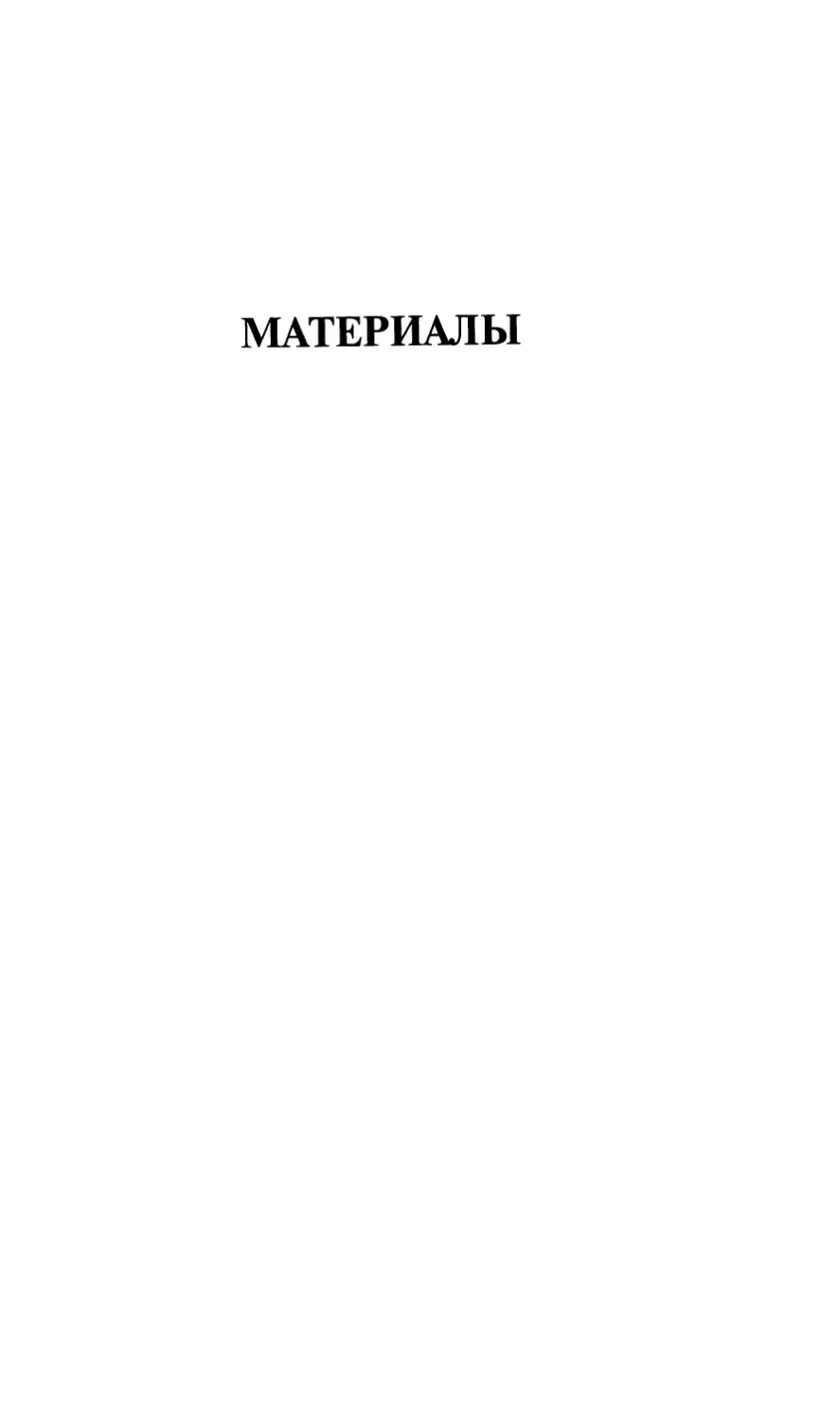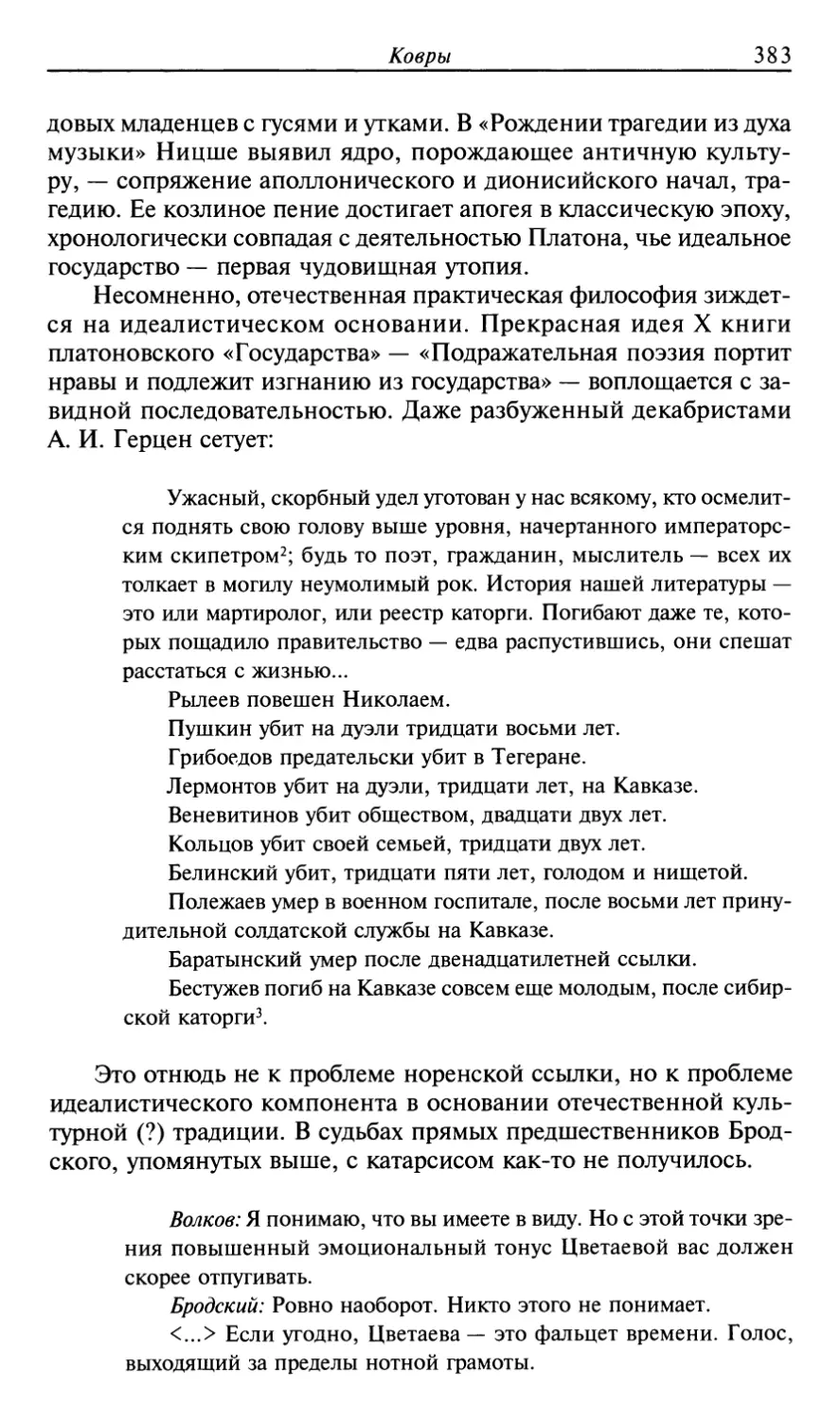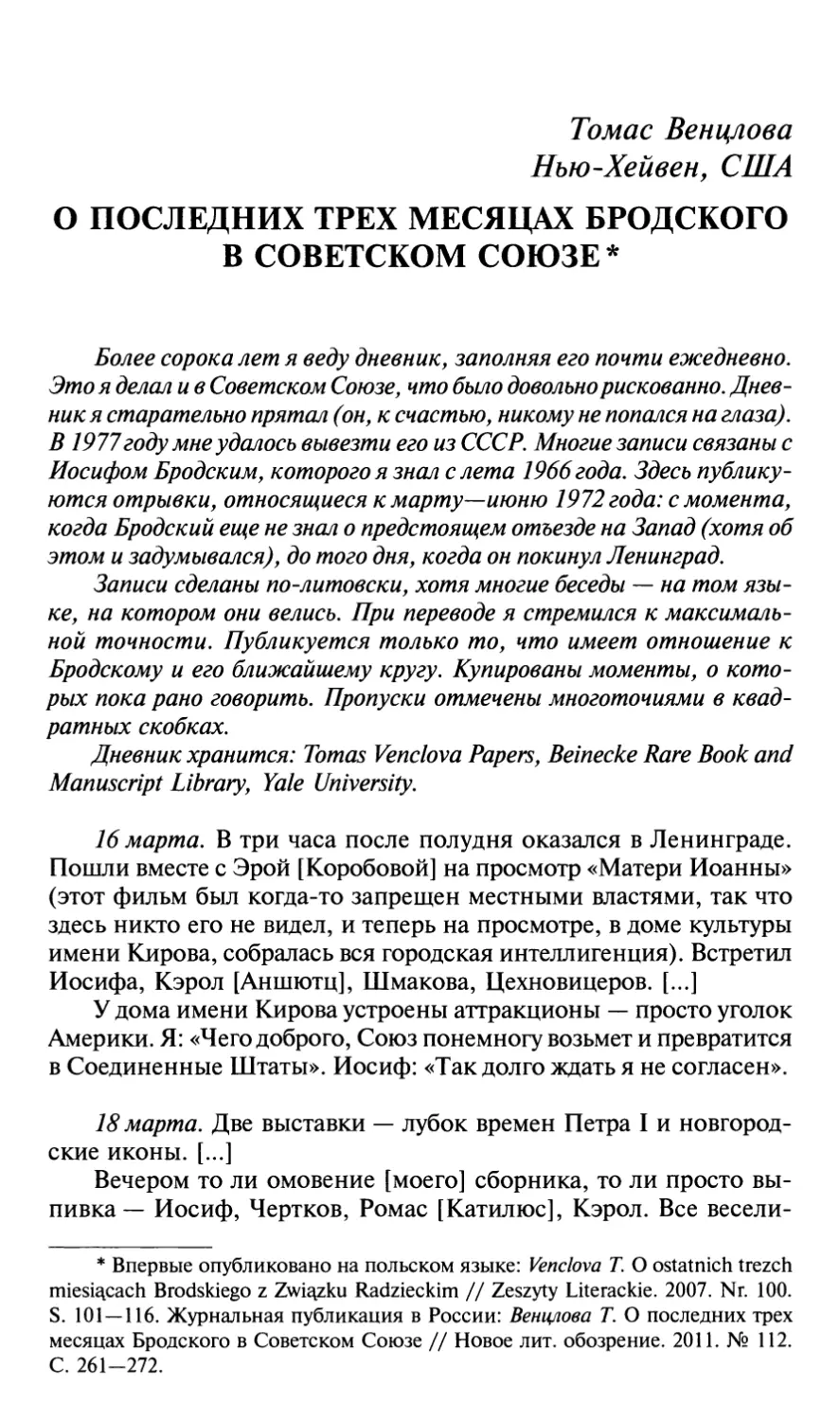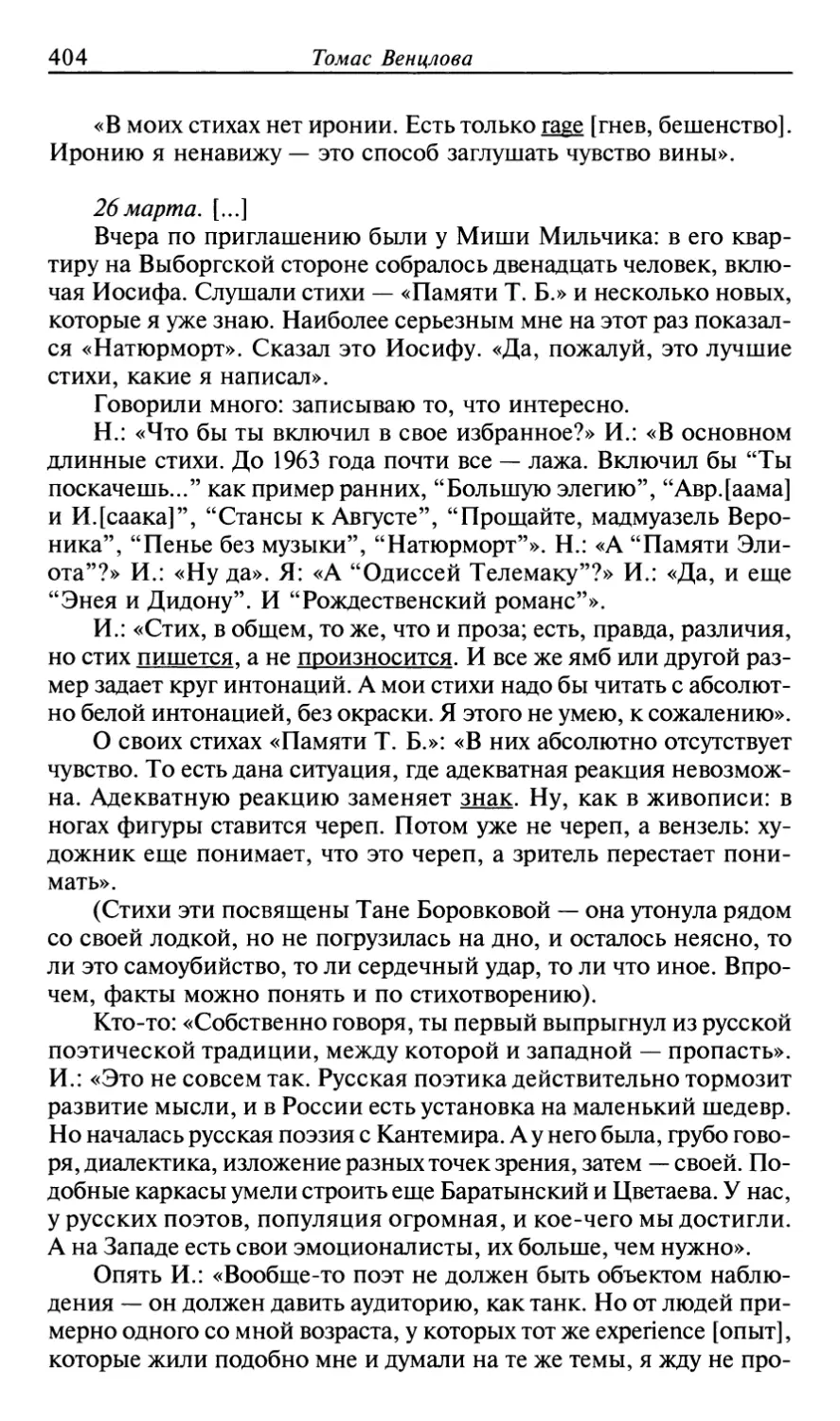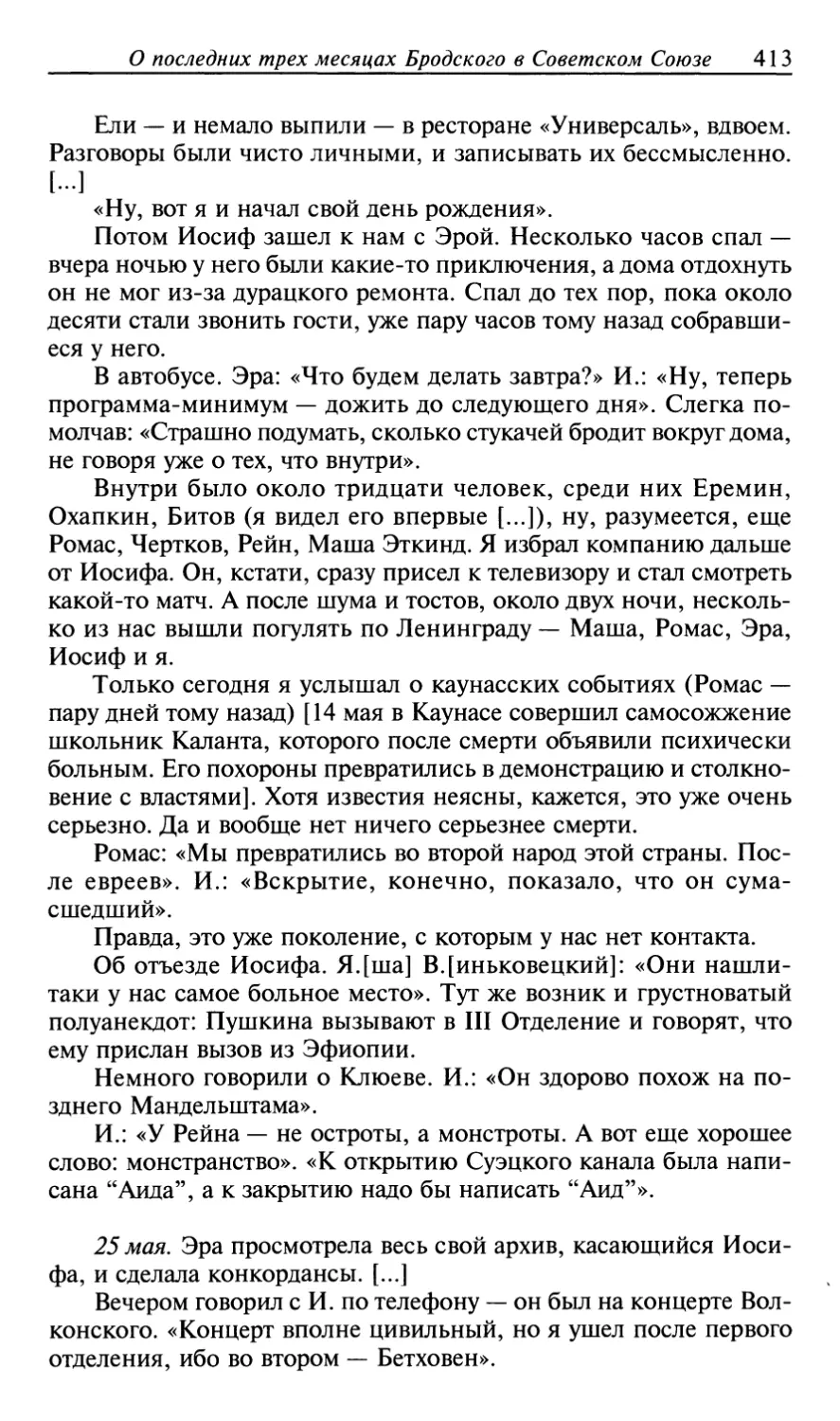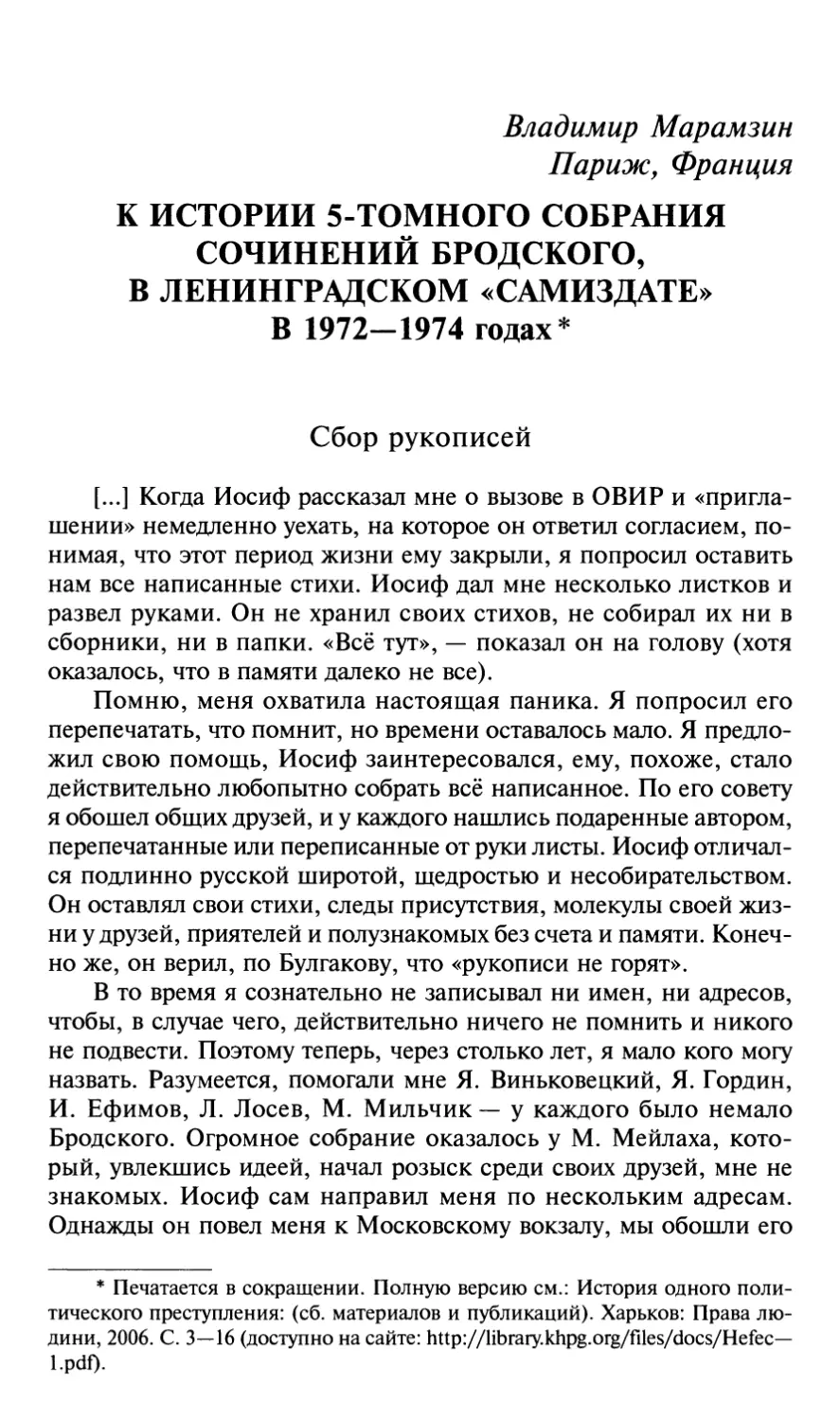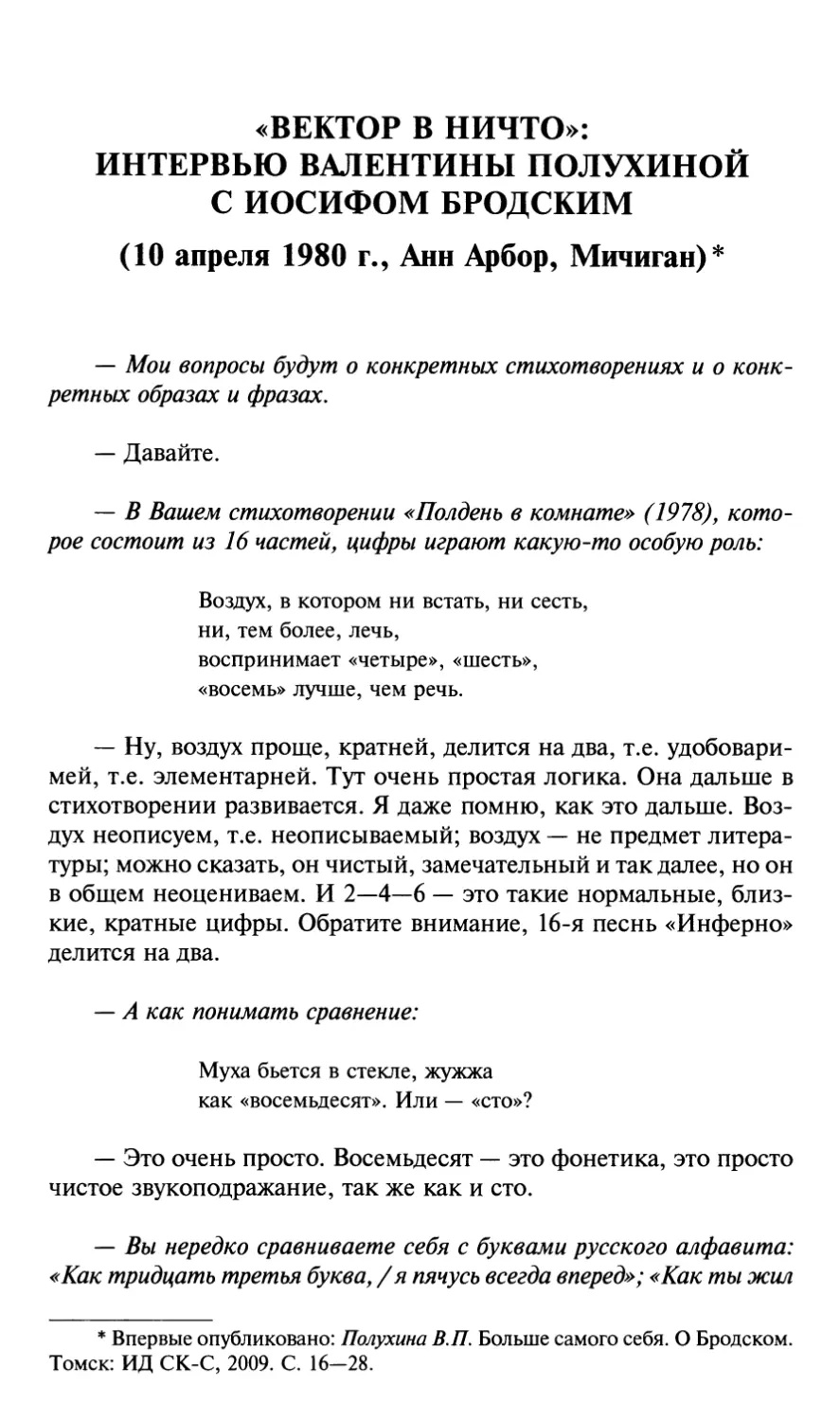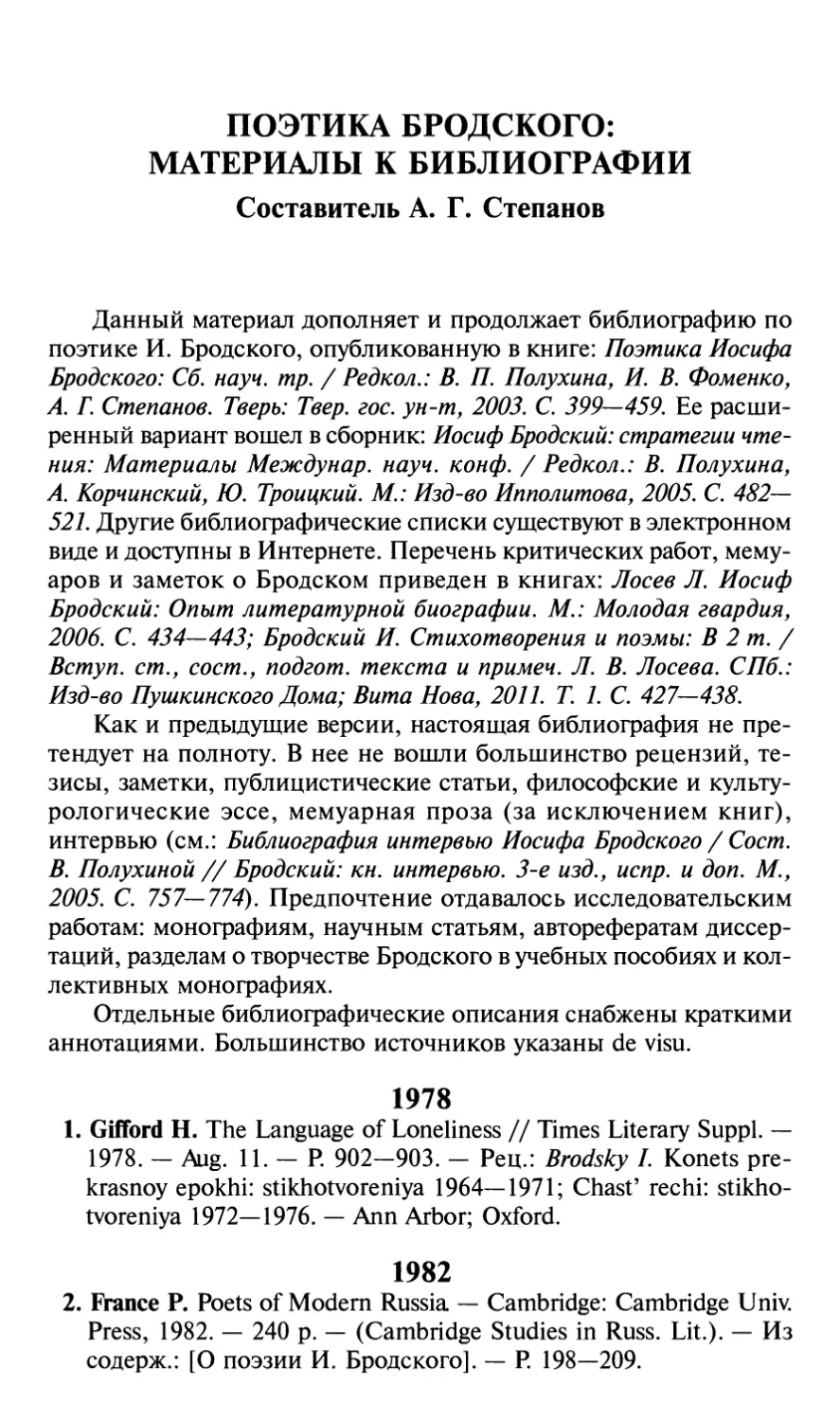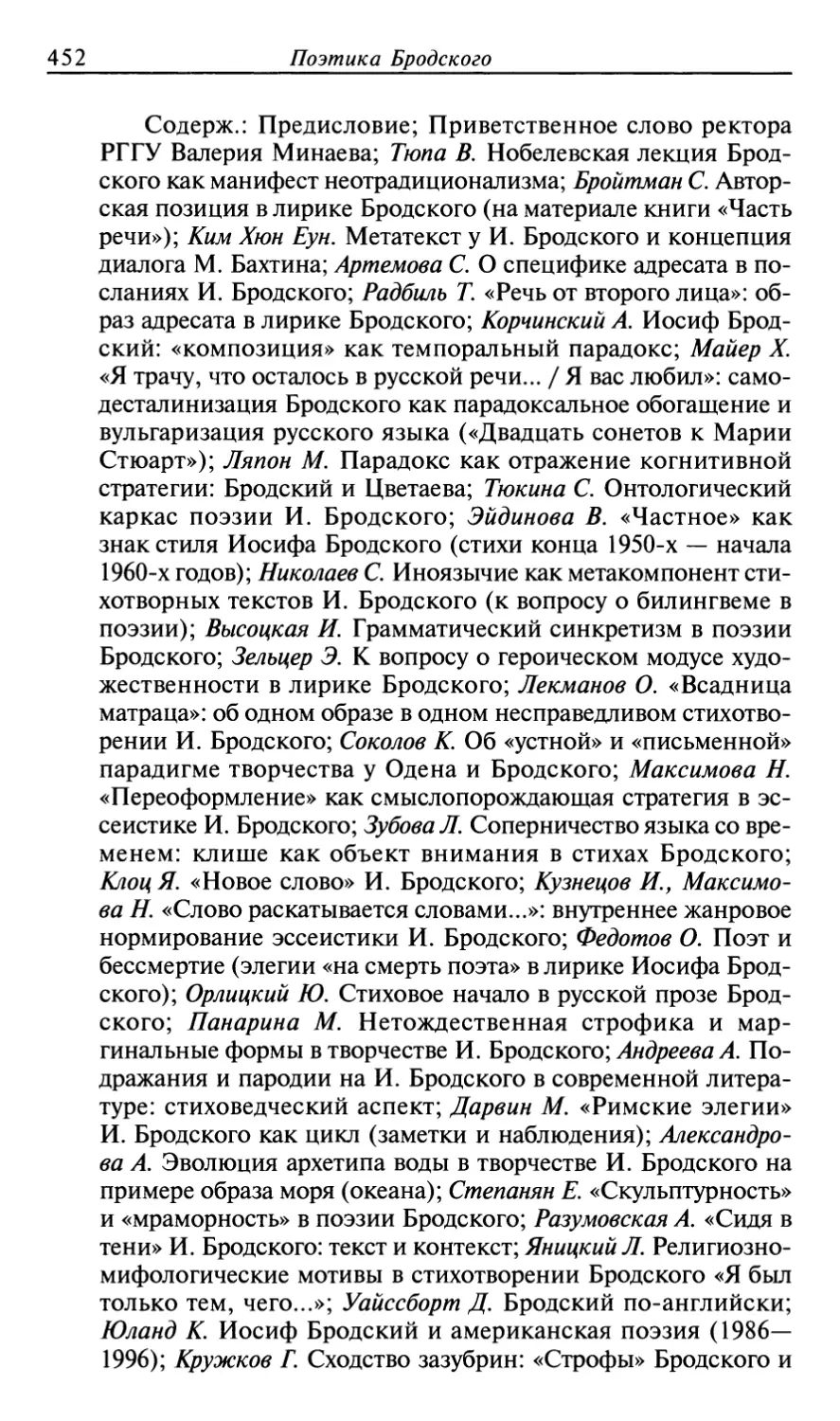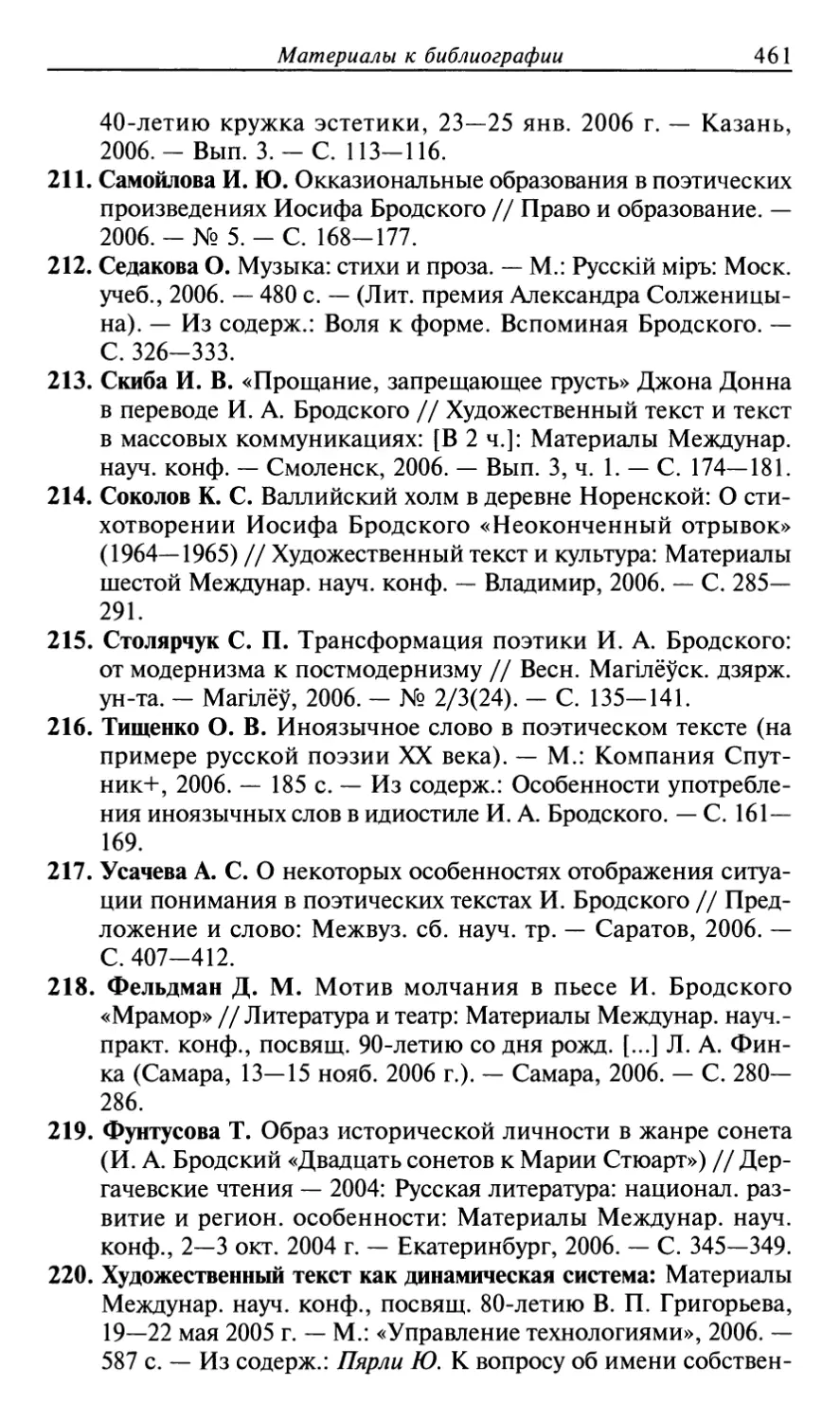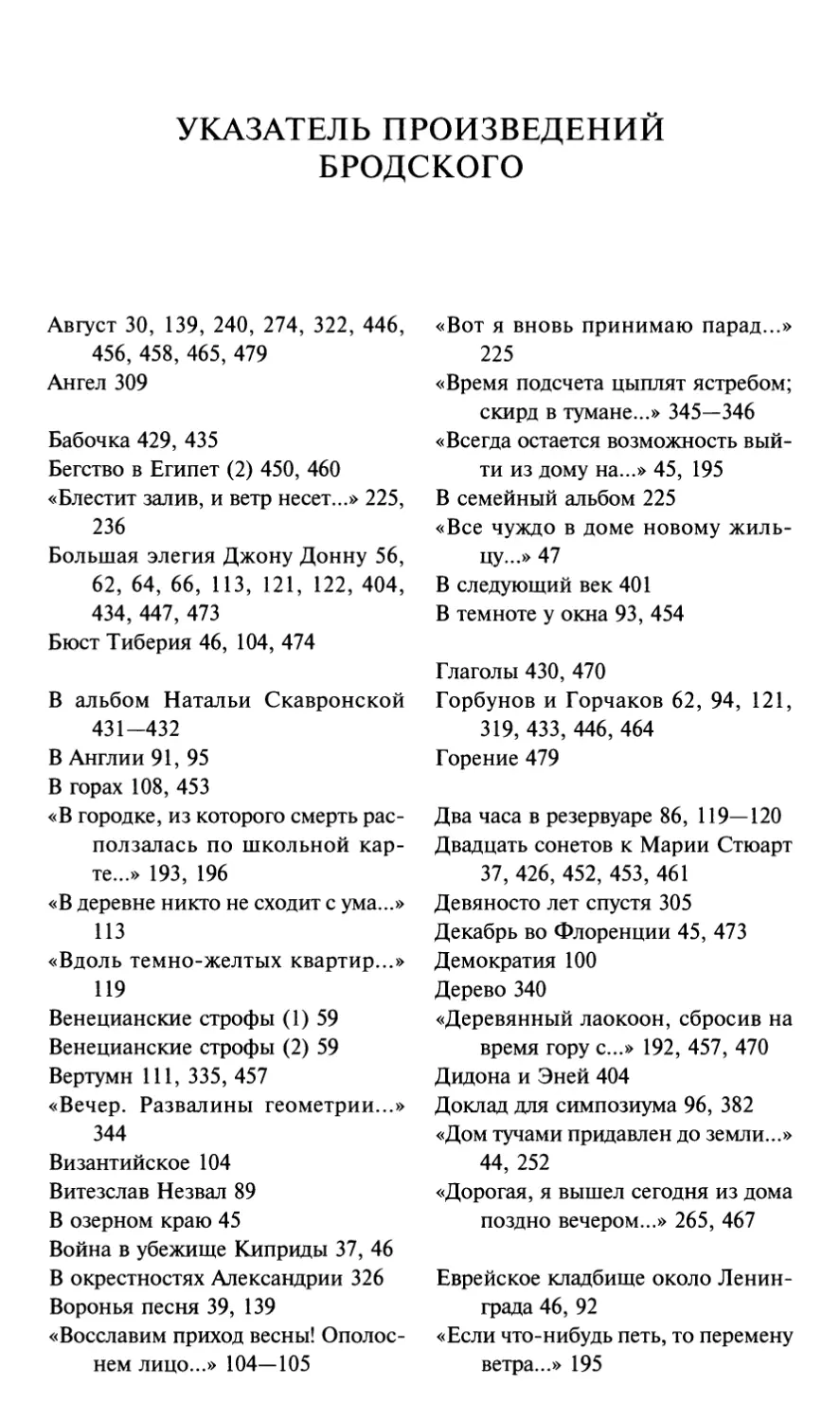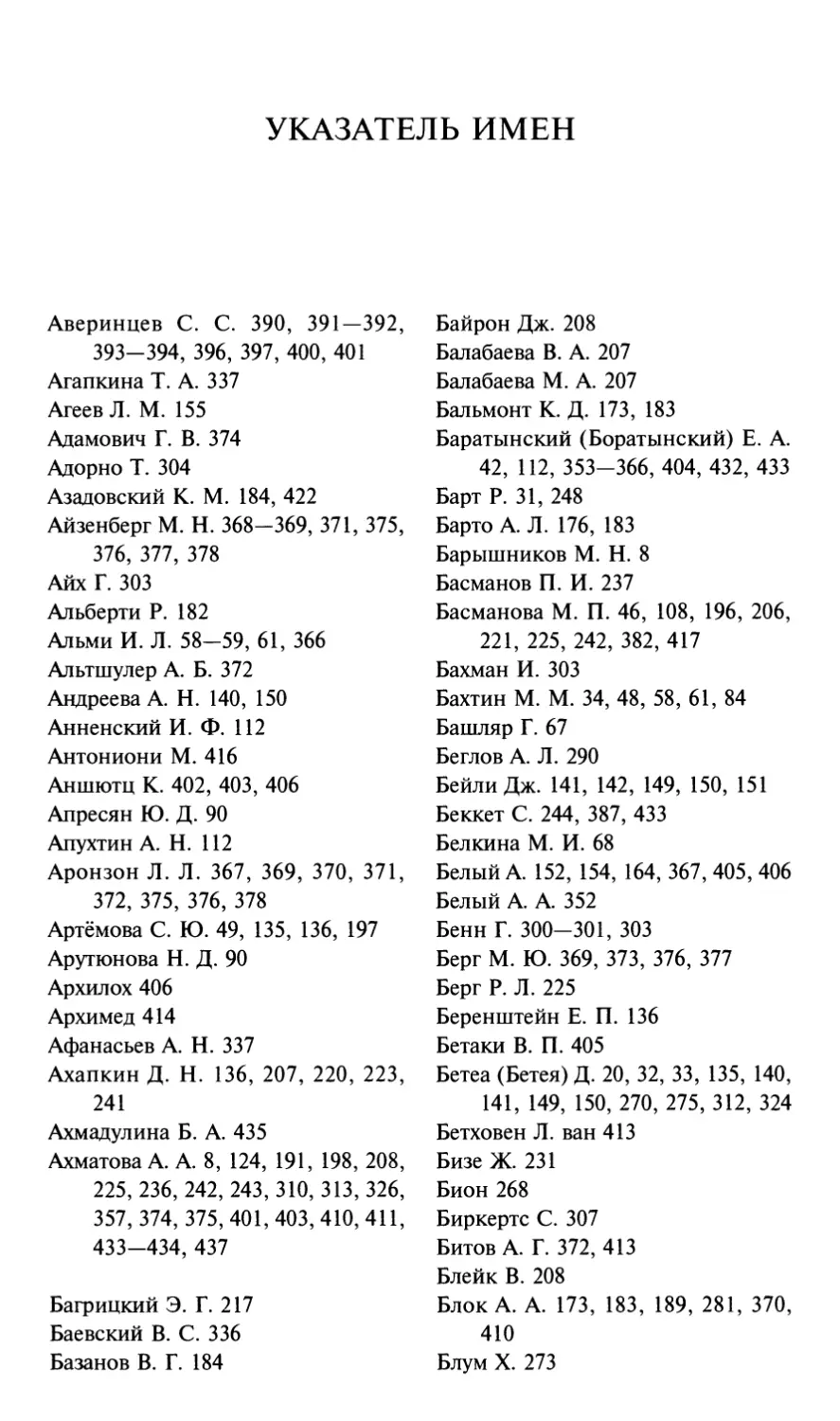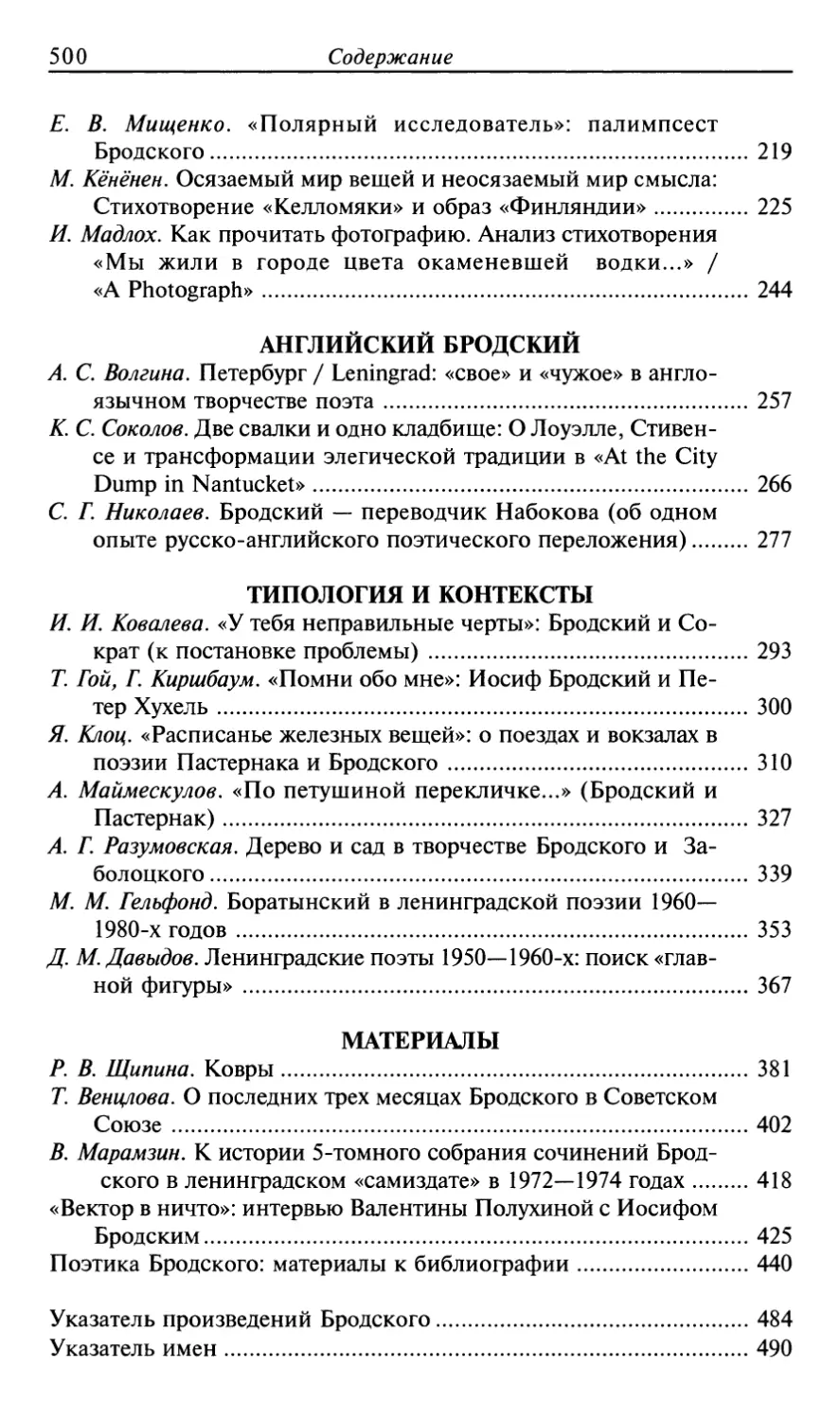Автор: Степанов А.Г. Фоменко И.В. Артёмова С.Ю.
Теги: русская литература библиография поэтика
ISBN: 978-5-86793-990-8
Год: 2012
Текст
Научное приложение. Вып. СХ1
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ИОСИФ БРОДСКИЙ:
ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ
Сборник научных трудов и материалов
Москва
Новое литературное обозрение
2012
УДК821.161.1.09
ББК 1115(2=411.2)6-4Бродский И.А.
Б88
НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Научное приложение. Вып. CXI
В оформлении обложки использованы
рисунки И. Бродского
Редакторы:
А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артёмова
Б88 Иосиф Бродский: проблемы поэтики: Сб. науч. трудов и материалов / ред.: А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артёмова. — М.: Новое литературное обозрение, 2012. — 504 с.
181ЯЧ 978-5-86793-990-8
Сборник посвящен широкому кругу вопросов, связанных с поэтикой
И. Бродского. Все работы объединены вниманием авторов к культурноисторическим фактам и интересом к проблемам художественной семантики. В книге публикуются также эссе, воспоминания, интервью и библиография по поэтике Бродского. Издание адресовано исследователям
творчества поэта, а также всем любителям поэзии.
УДК821.161.1.09
ББК 1115(2=411.2)6-4Бродский И.А.
© Авторы статей, эссе, мемуаров, 2012
© Фонд по управлению наследственным имуществом
Иосифа Бродского. Воспроизведение без разрешения
Фонда запрещено.
© Оформление. ООО «Новое литературное обозрение», 2012
СТРУКТУРА
ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
Джеральд Смит
Оксфорд, Великобритания
ИОСИФ БРОДСКИЙ: ВЗГЛЯД
ИНОСТРАННОГО СОВРЕМЕННИКА*
В мои студенческие годы, в начале 1960-х, русскую литературу преподавали преимущественно как мертвую. Мои учителя считали, что она умерла или, точнее, была уничтожена в 1917 г. Иосиф
Бродский был неопровержимым доказательством ее существования, выживания, непрерывной преемственности и, что особенно
важно, обновления.
Бродский начинал как представитель исключительно талантливого поколения интеллигенции, которое родилось в Советском
Союзе между 1935 и 1941 гг. (к сожалению, тень славы Бродского
заслонила остальных, не получивших должного признания). Он
первым в своем окружении совершил уникальные поступки. В возрасте 15 лет порвал с советской системой образования, гарантировавшей формальное трудоустройство. Его первого из нонконформистов послесталинского периода подвергли репрессивным мерам,
ставшим впоследствии обыденным делом: заключение в психиатрическую больницу тюремного типа (декабрь 1963 — январь 1964),
арест и суд по сфабрикованному обвинению (1964), за которым
последовала административная высылка (1964—1965). Он первым
среди ровесников издал книгу за границей — сначала по-русски
(1965), а потом по-английски (1973, причем с предисловием самого
У. X. Одена).
В 1972 г. он стал первым значительным литератором, покинувшим СССР в числе представителей «третьей волны» эмиграции.
Бродский не переставал повторять, что уехал помимо воли, а потому он скорее изгнанник, чем эмигрант; но этот вопрос, по всей
вероятности, никогда не будет решен однозначно. Вскоре после
приезда на Запад он первым из своего поколения начал публиковать серьезные литературные произведения, написанные им по-
английски. Он также первым среди соотечественников нашел по¬
* Английская версия статьи под другим заглавием опубликована:
Smith G. S. Joseph Brodsky: Summing Up // Literary Imagination. 2005. Vol. 7, No. 3.
P. 399—410. Везде в сборнике цитаты из произведений Бродского (кроме специально оговоренных случаев) приводятся по изданию: Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 7 т. / Общ. ред. Я. А. Гордина. СПб., 2001. При цитатах в скобках указываются том и страница.
8
Джеральд Смит
стоянную работу в англоговорящем мире, отказавшись от идеи
профессионального поэта на советский лад и встав на обычный
путь англоязычных писателей, зарабатывавших на жизнь преподаванием в университете. Он сделал это, несмотря на то, что являлся единственным, кто после Второй мировой войны, будучи первоклассным поэтом в англоговорящем мире, не имел высшего
образования.
Бродский был первым русским писателем, достигшим равноправия с англоамериканцами в большой литературной политике,
и постепенно сделался нью-йоркским культурным гуру, который
считал себя уполномоченным высказываться по поводу любого
явления. Он первый и до сих пор единственный русский писатель,
собравший самые высокие и значительные в финансовом отношении награды Западного мира; начало было положено Гуггенхай-
мовской премией, за ней последовала премия Макартура и как
кульминация — Нобелевская премия по литературе, которая была
присуждена в 1987 г., за три года до пятидесятилетия Бродского.
Он получил орден Почетного легиона. Когда в 1991 г. ему вручили степень доктора по литературе в Оксфордском университете
(заслужить ее труднее, чем стать обладателем Нобелевской премии), единственным его предшественником среди русских поэтов
оказалась наставница Бродского — Анна Ахматова, которая удостоилась этой чести в 1965 г. (за год до смерти). Затем Бродский
провел год в звании поэта-лауреата Соединенных Штатов — знак
отличия, поразительный для человека, не являвшегося изначально носителем языка, родного для большинства жителей страны.
Когда Бродский умер, он находился на пути к славе, которой до
него достигали лишь те русские, чьи выразительные средства не
были языковыми — вершиной, полагаю, был Стравинский, до него
в какой-то мере Шаляпин, а после — Шагал; затем из представителей «третьей волны» современники Бродского: Ростропович,
Нуриев и Барышников. Среди русских писателей, оказавшихся за
пределами России, славу Бродского в определенных аспектах, но
в уменьшенном виде и только к концу жизни превзошел Набоков.
Действительно, Бродский не создал романа-бестселлера, но ни
один русский поэт не смог приблизиться к тому, чего добился он.
(Я не касаюсь интересного вопроса о сопоставлении Бродского с
Солженицыным, а до него — с Толстым.)
Бродский заслужил широкое признание в первую очередь потоком стихов, в которых сразу проявился его незаурядный талант.
В них была чувствительность, не подверженная давлению советских институтов позднесталинского периода и не связанная никакими интеллектуальными, идеологическими и стилистическими
ограничениями. В них присутствовала обостренная интуиция, со¬
Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника 9
единенная с бесконечно гибким, взыскующим разумом; их глубокий смысл передавался посредством изысканной поэтической техники, элегантная изобретательность которой казалась бесконечной. Смелые и звучные метафоры бросали вызов интеллекту и
воображению читателя, а не оскорбляли его и не снисходили до
него. Вместо усредненного стиля, допустимого в стандартном
литературном языке, Бродский привнес в речь крайности стилистического спектра, синтез которых оказался исключительно плодотворным. Синтаксические и метрические единицы были разобщены до такой степени, что отношения между ними становились
необыкновенно динамичными, непредсказуемыми. Он возродил
классическую мифологию как источник обычной поэтической
речи, по которой истосковались со времен Мандельштама и Цветаевой. Это был поэт, который еще в молодости беседовал на равных с великими тенями прошлого, особенно с теми, кого не знали или не замечали в России: Дж. Донн, Т. С. Элиот, У. X. Оден.
Лирический герой Бродского производит впечатление уравновешенного человека, утонченного и грубого одновременно; преследуемый сознанием всех обид, он тем не менее способен на глубокие чувства, даже страсть.
С момента смерти Бродского о нем иногда говорят как о последнем, кто явил образец глубоко почитаемой в русской традиции
фигуры, — Поэте с большой буквы, избранном Богом говорить и
страдать за народ. Крушение тоталитаризма означает, что поэты,
пришедшие за ним, разделят судьбу западных собратьев послеро-
мантической эпохи и будут страдать более от невнимания, чем от
преследований. Такое представление о нем, однако, принадлежит
узкому кругу литературной интеллигенции, как и знание поэзии
Бродского вообще. Это едва ли его вина, ибо от других крупных
русских поэтов он отличается помимо всего прочего тем, что писал на протяжении тридцати лет, прежде чем его творчество пробилось к читателям в России. Он был поэтом, говорившим не от
имени и для народа, но от имени и для немногих, и подобное отношение вряд ли изменится.
По официальной версии, не было никакой связи между Нобелевской премией и появлением подборки стихов Бродского в последнем номере «Нового мира» за 1987 г. Это была первая публикация Бродского на родине с момента его изгнания. Гораздо
существенней другое: за семьдесят лет советской истории это была
первая публикация современного русского писателя — гражданина иностранного государства. Бродский, таким образом, стал свидетелем того, как его творчество преодолело запреты, выстроенные
советской системой. Он, однако, отказался от следующего рекорда: не стал первым, кто вернулся в Россию или посетил ее как
10
Джеральд Смит
гость; ранее ему запретили приехать на похороны родителей, которым, в свою очередь, не позволили навестить сына в Америке —
с повторными просьбами он не обращался. Бродский застал падение советской системы, но и после этого не вернулся.
Под конец Бродский достиг уровня международной известности, какого не достигал ни один русский поэт не только при жизни, но даже посмертно. Печальной издержкой этого стало ехидное
негодование, особенно со стороны русских, оставшихся на родине. Менее пагубным, но таким же неприятным является то, что
разговоры о беспрецедентном признании вызывают устойчивый
интерес: рассуждать об этом легко, а потому этим занимаются
чаще, чем анализом поэзии Бродского. Канонизация Бродского,
особенно в России, предшествовала детальному и внимательному
анализу его поэзии. Это совершенно естественно: люди охотнее
концентрируют внимание на личности, чем на стихотворении.
В случае с Бродским ситуация усугублялась еще по одной причине: наличие автокомментариев и распространение их через средства массовой информации. В период между 1973 и 1996 г. было
опубликовано несколько сотен его интервью. Этот объем информации важен для исследователей Бродского, но имеет неизбежный
недостаток: согласно требованиям жанра, поэту, как правило, задавали слишком общие вопросы, и он не мог дать развернутые
комментарии по конкретным аспектам творчества. Еще значительнее то, что Бродский мог задавать условия собственной оценки;
интервью и эссе используются скорее как инструменты интерпретации, чем как материал для нее.
В будущем биографы, вероятно, попытаются определить, кем
был этот человек «на самом деле», осмысляя основную парадигму
противоположностей: преследуемый изгнанник, чей жизненный
выбор осуществлялся в основном внешними силами, или амбициозный карьерист, который выковывал новую судьбу для себя и,
потенциально, для других советских интеллектуалов; скромный,
даже способный к самоуничижению человек, ошеломленный непостижимой славой, или чванливый эгоист, который настойчиво
добивался признания; человек, наделенный глубоким религиозным чувством и не желающий высказываться на этот счет, или
умствующий циник, которому недостает душевной теплоты, чтобы исповедовать или поддерживать какую-либо веру без иронии;
преданный и благородный друг или злопамятный и мстительный
соперник; галантный любовник или женоненавистник, чье отношение к прекрасному полу было потребительским; все это постоянно или понемногу иногда, и т.д., и т.п.
Какой бы ни была его реальная биография, в центре поэзии
Бродского находится герой, который настойчиво и безжалостно
Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника
И
задается вопросами о природе и смысле своего существования,
того, что его окружает, и взаимоотношениями между ними. Этот
герой прекрасно осознает перечисленные выше противоречия характера, помимо многих других; возникающая в результате многослойная ирония — одна из самых выдающихся и сложных проблем для интерпретации поэзии Бродского. Несмотря на все
самоуничижительные заявления («Меньше единицы» и т.д.), в его
поэзии тем не менее создается, для меня по крайней мере, ни с чем
не сравнимое ощущение уникальности личности, которая порождает, распределяет и контролирует всё, что есть в поэтическом тексте. И эта личность, оставаясь неизменной в некоторых отношениях, меняется и развивается в других. Характерно, что поэт,
акцентирующий в стихах свою мужскую сущность, написал автобиографию, в которой прибегает к различным приемам отстранения, защищаясь от явного самораскрытия. Не буду давать беглый
обзор, не говоря уже о том, чтобы зайти в теоретические дебри, окружающие этот вопрос. Отмечу только, что стихотворения Бродского свидетельствуют об исключительно умной и проницательной
личности с богатыми и живыми откликами на мир, остро ощущавшей жизнь всеми пятью чувствами и владеющей потрясающим
даром русского слова. Поразительной была также его способность
учиться, что для меня сближает его с Пушкиным. Он обладал
огромной силой воображения, позволявшей развивать впечатления, полученные при помощи чувств, и воплощать их в художественных образах.
В поэзии Бродского стремление выйти за пределы наблюдения
и описания соседствует с рассуждением о вещах, внеположенных
личностному и физиологическому началам. Он постоянно делал
широкие обобщения, касавшиеся времени, отношений человека и
вселенной и многих других абстрактных явлений. Это привело к
устойчивой оценке поэзии Бродского как «философской», понятию, дорогому русским интеллектуалам, едва ли внятному для других и, на мой взгляд, ошибочному. Утверждения о мире в стихах
Бродского скорее поэтические, нежели философские; они движимы более соображениями эстетики, чем разума. Довольно несложно (что стало обычной практикой, сбивающей с толку обсуждение
творчества Бродского) извлекать наиболее эпиграмматичные высказывания из поэтического контекста, стыковать их между собой
и рассматривать как целое. Такой подход, по-моему, в корне неверен. Высказывания, о которых идет речь, являются строками или
фрагментами вербальных текстов; эти тексты следует анализировать как самодостаточные и целостные языковые единства, чьи
значение и ценность в том, как они структурированы на разных
семантических и семиотических уровнях — т.е. как стихотворения.
12
Джеральд Смит
Я полагаю, что этот поэтический корпус может быть понят, по
крайней мере предварительно, как попытка отвергнуть или разоблачить несостоятельность постулатов советской доктрины, касавшихся природы и цели человеческой жизни в том виде, в каком
они преподносились во время жизни поэта в Ленинграде. Мне
представляется, однако, что оппозиционная настроенность Бродского относилась исключительно к общественной сфере, к официальной идеологии и гражданскому поведению. Хотя в этом
отношении он, вероятно, принадлежал к меньшинству среди интеллектуалов, его ценности как частного лица не были исключительными. По сути, он олицетворяет диссидентски настроенную
часть интеллигенции постсталинской формации. Должен подчеркнуть, что это суждение основано на русском поэтическом материале Бродского и не соотносится напрямую с его жизнью, с утверждениями и мнениями за пределами поэзии.
Таким образом, русская поэзия Бродского озвучивает и пытается утвердить модель частной жизни мужчины как альтернативы
советской доктрине с ее взглядом на человеческие отношения.
Причем эта модель, изображающая вовсе не исключительную
личность, была широко принята и воплощалась в среде русской
интеллигенции, насколько я мог это наблюдать в России в 1960—
1970-е гг. Я ни на минуту не допускаю мысль, что модель эта исключительно или ярко выраженная русская. Она имеет некоторые
сходные черты с типом богемного поведения, распространенного
в европейском и американском обществах. Ее отправная точка —
презрение к политике и ангажированной общественной деятельности, которая воспринималась как безнадежно скомпрометированная и не заслуживающая серьезного внимания. Затем эта модель принимает черты аутсайдерского поведения: поношенная,
псевдопролетарская одежда, небритость, но не борода, нерегулярное питание, предпочтение футбола хоккею; эта модель распространяется на выработанные условности вкуса — скорее проамериканские, чем проевропейские симпатии (кроме Италии, но
включая Францию), предпочтение барочной музыки и джаза оркестровой музыке XIX в., Достоевского Толстому. Однако Бродский не повел себя как некоторые из его современников и не принял православие, несмотря на постоянно используемые в стихах
христианские образы.
В некоторых существенных отношениях тем не менее, особенно в частной жизни, мнения российских интеллектуалов, к которым принадлежал Бродский, не отличались от тех, которые пропагандировались официальной культурой и ее представителями.
Мнения эти имеют глубокие корни и могут пониматься скорее как
российские, нежели советские. Важнейший аспект, в отношении
Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника
13
к которому официальное и диссидентское совпадали, это патриархальность, и Бродский не исключение. Он изображает женщин как низших по отношению к мужчинам во всех смыслах; удивительна только его бескомпромиссная последовательность. Она
начинается с отчетливо проведенной границы между полами и
недоверия ко всему, что за эту границу выходит. Для Бродского
назначение женщин, в отличие от мужчин, — рождение потомства,
уход за слабыми, страдание и стенания. Женщины могут также
выполнять декоративную функцию: быть объектом мужского желания. Если они действуют или хотя бы стремятся к чему-то вне
этих функций, то подвергаются осмеянию. Таким образом, женщины могут вдохновлять на творчество, но не могут заниматься им
сами, кроме, возможно, тех случаев, когда они более не способны
к деторождению и уже не обладают сексуальной привлекательностью. Более важной является мысль, что мужчины имеют право на
сексуальную свободу, повышающую их собственную значимость;
для женщин такое поведение непростительно и неискупимо. Это
особенно относится к женщине-матери: в этом качестве от нее
требуется святость, и любое отклонение от абсолютной верности
дает право «оскорбленному» мужчине проклясть и изгнать ее.
Помимо патриархального отношения к сущности и социальной роли женщин, советская и контркультура провозглашали или,
по крайней мере, потворствовали мужскому праву на широкий
спектр поведения: спиртное, спорт, научные изыскания, создание
культурных ценностей и прочие аспекты общественной сферы;
поэзия Бродского полностью укладывается в эти представления.
Характерно, что в русской критике о Бродском вышеупомянутые
позиции, особенно касающиеся гендерных отношений, воспринимаются скорее как сами собой разумеющиеся, чем хоть в какой-то
мере проблематичные.
Существует один очень важный вопрос, по которому позиция
Бродского не совпадает с точкой зрения как официальной, так и
неофициальной культуры, — это патриотизм. Любовь к Родине
была фундаментальным компонентом советской идеологии, несмотря на марксистский интернационализм, вдохновлявший основателей государства. Многими диссидентами двигала мысль, что
эта любовь была поругана; несмотря на очевидные злодеяния,
совершенные от ее имени, диссиденты в большей степени, чем
официальные лица, верят в превосходство России над другими
странами. Возможно, наиболее радикальным элементом поэзии
Бродского является отсутствие этой веры. Для него Россия не воплощает высшие духовные ценности; судя по его стихам, перемещение Бродского на Запад было переездом в лучшее место. Самое
большее, что он делает, — переносит любовь к Родине на любовь
14
Джеральд Смит
к родному языку. Многие русские считают такое отсутствие показного патриотизма непростительным, даже предательством, и порицание Бродского как «нерусского» продолжается вот уже более
тридцати лет. По-моему, это чрезвычайно высокомерное суждение, часто прикрывающее антисемитизм; однако нельзя отрицать,
что он бесстрашно провоцировал возможность такой критики. Но
это тоже становится делом прошлого: по моему опыту, молодые
русские (я имею в виду двадцатилетних интеллектуалов) склонны
восхищаться Бродским как первопроходцем транснационализма,
первым, кто преодолел то, что они считают примитивным или атавистическим элементом своего национального мышления.
Если самым важным открытием для Бродского после 1972 г.
была очная ставка с нерусской и несоветской реальностью, то самым важным бессрочным открытием — очная ставка с собственным телом. Новаторство Бродского в русской поэзии заключалось
помимо всего прочего в том, что он обращал внимание и открыто
обсуждал физиологический аппарат, который являлся если не носителем, то формирующей силой его сознания. Еще до отъезда из
России, в тридцатилетием возрасте, он оплакивал изнашивание
этого аппарата. Он также начинал формулировать одну из своих
наиболее устойчивых тем: превращение живой материи в нечто
неодушевленное, плоти — в камень, т.е. разложение и окаменение.
Усталая покорность, с которой он делал это, становилась более и
более заметной. Остается открытым вопрос, была ли нарастающая
нота нигилизма, которой отмечено его творчество в изгнании, результатом осознания того, что жить ему оставалось недолго, но
этот вопрос должен быть поставлен с учетом произведений Бродского, особенно его последнего десятилетия.
Помимо патриархальности официальная культура и контр-
культура в СССР разделяли мнение (чаще молчаливое безапелляционное утверждение или вера), что поэзия воплощает высшие
ценности. Ради этих ценностей поэту надлежало жертвовать благополучием своим и других людей, одновременно рассчитывая на
их моральную и материальную поддержку. (Следует упомянуть, по
крайней мере, одного крупного русского поэта, который не разделял этого, — Бориса Слуцкого.) Эта позиция была и остается в
значительной степени нагружена сексистскими предрассудками:
она относится к поэтам-мужчинам и едва ли к женщинам. Показателен случай Марины Цветаевой, которую до сих пор клеймят за
«пренебрежение» долгом жены и матери во имя реализации поэтического призвания (и признания собственной полигамности), в то
время как никому не пришло бы в голову обвинить поэта-мужчи-
ну в пренебрежении обязанностями мужа и отца.
Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника
15
Идея ценности литературы потянула за собой опасения правительства, внушенные потенциальной властью литературы, и вызвала потребность ее контролировать. Появились писатели,
которые, подобно Бродскому, отказывались подчиняться этому
контролю. Именно его вера в превосходство поэзии над другими
искусствами и Поэта над другими художниками поразила западный литературный мир. На Западе эти взгляды получили смертельный удар во время Первой мировой войны и были добиты доказательством тщеты, абсурдности и безответственности искусства в
целом, которое в связи с трагедией Холокоста лучше других сформулировал У. X. Оден. Бродский, когда мы его встретили, продолжал проповедовать и провозглашать неистребимую веру в Слово.
Угасание этой веры было самым важным и наиболее душераздирающим, даже трагичным обстоятельством последнего десятилетия его жизни.
Таким образом, Бродский последовательно развивал в поэзии
определенные убеждения и ценности, но, как я утверждал выше,
они не являются философскими, т.е. формирующимися путем рационального поиска. Они составляют эмоциональную реакцию на
окружающие и психологические условия, в которых он родился,
и они все больше превращались в ностальгию по этим условиям.
Например, Бродский постоянно прославляет плоские, водянистые, бесцветные пейзажи с хвойными деревьями и классической
архитектурой, особенно уходящие в даль колоннады, широкое
небо, покрытое облаками; при этом пренебрегает горами, пустынями и яркими красками. Он предпочитает северные широты и
холодный климат, его излюбленное время года зима, когда снег
стирает физические следы человека так же, как это делают холодные воды океанов или наводнения. Он наделяет эти географические и климатические предпочтения не только эстетическим, но
также моральным и этическим значением и делает попытку возвысить их до метафизической системы.
В некоторых деталях эти позиции, или предрассудки, глубоко
оскорбительны для норм, провозглашаемых либеральными западными устремлениями. Некоторые из них, однако, превосходно
сочетаются с распространенными русскими (и часто западными)
мнениями. Например, параноидальная подозрительность и презрение Бродского ко всему мусульманскому и, шире, азиатскому
или восточному представляет одно из проявлений этих позиций;
между тем он не возражает против восточного сексизма и патриархальности. Он может даже высказывать презрение к западным
славянам с языком, напоминающим стареющего Достоевского
(особенно это относится к чехам и украинцам, исключение сдела¬
16
Джеральд Смит
но для поляков, которые в 1950 — 1960-е гг. были в моде в ленинградских литературных кругах).
В ранних произведениях мысль Бродского часто обращается к
различным формам иерархии и соревнования, порой проводя
сравнение между предметами, относящимися, казалось бы, к несопоставимым категориям. (Однажды я вызвал возмущение замечанием о том, что мировидение Бродского порождено неутолимой
жаждой к соревнованию.) Однако основной проблемой его поэзии, со временем выражаемой все отчетливее, было стремление к
небытию, даже забытью — побег от собственной индивидуальности и, шире, человечества. Складывается впечатление, что Бродский предпочел бы родиться рыбой или птицей, обитающей в холодном северном море или небе. Это защитило бы его от бремени
индивидуальности и истории. Бродский все больше наслаждался
перспективой конца света (в результате естественной энтропии, а
не ядерной катастрофы или другого рукотворного вмешательства),
когда все вокруг станет холодным, темным, вечным, и Земля, потеряв особое положение, станет всего лишь еще одной мертвой
звездой.
Даже принимая во внимание угрозу фрейдистского редукги-
визма, мне кажется, эти взгляды произрастают из потери чувства
безопасности в детстве и последующей неспособности найти ему
замену в зрелости. Происходит поиск спасения от сложностей и
болезненного неустройства, и даже больше — обязательств и ответственности, которые являются частью стабильных отношений
между взрослыми людьми. Эти отношения, как мне представляется, стоят за единственной позитивно окрашенной темой, проходящей сквозь всю лирику Бродского, — стихотворения, которые он
писал в канун Рождества во славу Святого Семейства с намеком на
себя как единственного ребенка, обожаемого родителями, обожествляемого важными незнакомцами, обреченного на жизнь, исполненную славы через преследования, но при этом невинного и
безупречного. Однако в мировидении Бродского нет места идее
искупления; вот почему я думаю, что его никак нельзя считать
христианином.
Это стремление к побегу от человечества приводит к появлению важнейшего поэтического тропа, который я назвал «обратной
персонификацией»: одушевленное становится неодушевленным, а
неодушевленное — одушевленным. Эту черту можно интерпретировать как крайнее выражение враждебности Бродского к материалистической философии советского государства, в частности, и
материалистической философии вообще: для него материя не фундаментальна и инертна, но более человечна (т.е. духовна), чем сами
люди. Материализм Бродского негуманистичен: для него человек
Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника
17
не мера всех вещей, в иерархии творения он ниже животных и
материи. Возможно, это главная причина того, почему его поэзия
не достигает уровня высших достижений человеческой культуры,
тех, которые воплощают так называемый трагический взгляд на
жизнь.
В произведениях, созданных Бродским после 1972 г., мнения,
которые он вывез из России, столкнулись с убеждениями и поведением, вполне антисоветскими; причем в некоторых отношениях они были и остаются несовместимыми с публичными заявлениями и образом поведения русской интеллигенции поколения
Бродского. Результатом этого стало укрепление убеждений, а не их
сколько-нибудь значительное изменение. Хотя в настоящее время
бытует мнение о его поэзии как нерусской в некоторых важных
аспектах, я бы определил ее как в высшей степени и исключительно русскую.
Более сорока лет прошло с момента публикации в Вашингтоне первой книги Бродского; она продемонстрировала, что русская
поэзия в России жива. Каждая последующая книга доказывала, что
многообещающие перспективы и беспримерное признание поэта
оправданы. Я избрал творчество Бродского своей темой из чувства
глубокой благодарности ему за то, что поэзия эта обогатила мою
жизнь, какими бы недопустимыми ни считал его некоторые высказывания. Чтобы читать Бродского в оригинале, необходимо
преодолевать трудности русского языка, а такое говорят только о
самых лучших писателях, которых дарит нам тот или иной язык.
Авторизованный перевод с английского Н. А. Веселовой
Йенс Херлът
Фрибур, Швейцария
«В ОЖИДАНИИ ВАРВАРОВ»:
БРОДСКИЙ И ГРАНИЦЫ ЭСТЕТИКИ
Стихи и трагедии Анненского можно сравнить с деревянными укреплениями, городищами, которые выносились далеко в степь
удельными князьями для защиты от печенегов,
навстречу хазарской ночи.
О. Э. Мандельштам. О природе слова
Стихотворение «К переговорам в Кабуле» (в дальнейшем
«КпК») было написано в 1992 г. Но когда его читаешь сегодня,
ловишь себя на мысли, что уже самим этим произведением оправдывается заглавие одной из первых книг о творчестве поэта:
«Joseph Brodsky. A Poet for Our Time»1. Кажется, что автор «КпК» —
поэт именно нашего времени («для» нашего времени), а не того
«ихнего» времени конца 80-х — начала 90-х гг., когда мечталось о
«конце истории» и о «новом мировом порядке». По-видимому, так
считали и американские бродсковеды, посвятившие этому стихотворению часть конференции о Бродском, состоявшейся в Amherst
College в июне 2000 г. Материалы дискуссии вокруг «КпК» документированы в специальном отделе второго выпуска журнала «The
Russian Review» за 2002 г.2.
Почти во всех выступлениях ощущается некоторая неловкость
исследователей, сталкивающихся с примерами открыто расистского, местами мизогинистского дискурса. Достаточно прочесть первые строки, чтобы убедиться в чрезмерной резкости ориентализма Бродского. Спустя десять с лишним лет после «Стихов о зимней
кампании 1980 года» он снова отзывается на афганские события,
только теперь ценностные акценты переместились. Если в более
раннем стихотворении он описывает советских солдат, вторгшихся в южную республику, как «человеческую свинину» (3, 193), то
теперь негодование субъекта направлено на «бескультурье» и «примитивность» горных племен, у которых «всё меню — баранина и
конина» (4, 118). Если безнравственность советской оккупации в
глазах Бродского заключалась в том, что это было «вторжение
железного века в каменный»3, то критическая направленность
позднего текста иная. Поэт выступает против анахронизма и от¬
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 19
сталости образа жизни диких горных племен, которые со всей своей «жестоковыйностью» (4, 118) сопротивляются всеохватывающей культурной модели Запада — «живи, как мы, и будь свободен».
(Зимняя кампания 2001 г. началась под пиарным названием «Enduring Freedom», что значит «несокрушимая свобода».)
Западная концепция культуры не допускает существования
несовременного ей социального порядка. В своем свободолюбии
она тотальнее и авторитарнее любой деспотической автократии.
Она мыслит себя исключительной моделью, опирающейся на универсальные «права человека», идеалы свободы и демократии. Поэтому она стремится охватить и интегрировать все чужое и таким
образом «всасывает в себя» даже свое «другое», даже само «варварство»4. Следовательно, просвещенная западная интеллигенция
наших времен уже не обладает словарем, чтобы обозначить феномены чужого, варварского. Отсюда и дилемма для литературоведов, собравшихся дискутировать о «КпК». Они сталкиваются с
текстом, как будто выступающим за дело Запада, однако его лексика и идеология далеки от толерантности и политкорректности
политического и тем более академического дискурса.
Как быть с «ориентализмом» Бродского? Из статьи К. Цепелы
мы узнаем, что С. Сандлер в одном из выступлений предложила
объяснить ненависть ко всему «восточному» у Бродского тем, что
он сам ощущал себя наполовину восточным человеком5. Сандлер
указала на эссе «Путешествие в Стамбул»6, в котором много анти-
исламских предрассудков и рессентиментов и которое вполне может быть истолковано как своего рода подготовка к стихотворению
1992 г. Нежелательно, конечно, приписывать Бродскому столь ненавистные современному гуманитарному дискурсу позиции, как
«расизм» или презрение к другим культурам, но тут он словно напрашивается на это, говоря о своем расизме и снобизме по отношению к увиденному им миру Стамбула, Турции, Востока вообще.
Выход из положения, как часто бывает в подобных контекстах,
указала идея амбивалентности7. Если допускать, что стихотворение
некорректно с точки зрения западной этики, которую оно, по всей
видимости, все-таки пропагандирует, тогда следует смягчить этот
факт обнаружением в том же тексте амбивалентных мотивов, выявляющих некоторую относительность однозначной, на первый
взгляд, позиции говорящего субъекта. Если исходить из декон-
структивистского убеждения, что каждое высказывание скрывает
в себе собственные апории и парадоксы, которые можно выявить
в процессе внимательного чтения, то в любом тексте можно найти опоры для смягчения или даже истолкования превратным образом высказанных в нем же положений. Однако стоит отметить,
20
Йенс Херльт
что Бродскому подобные теоретические установки глубоко чужды — в этом смысле он как раз не был «нашим» современником,
был поэтом скорее «против» нашего времени, чем «для» него. Следуя за Д. Бетеа, отметившим, что в «КпК» Бродскому хочется
доказать, что, несмотря на аморфность современной культуры,
есть речевые и тем более жизненные ситуации, где «judgement
(aesthetical and ethic) is possible»8, примем положение Бродского
всерьез. Постараемся вникнуть в мир его мизантропических, крайне некорректных, временами анахроничных (и порою поэтому
современных!) размышлений на тему столкновения Востока и Запада, т.е. на тему варварства и цивилизации. Причем мы имеем
дело не с каким-либо побочным явлением в творчестве поэта9, а с
одной из центральных черт его «поэтического мира», его поэтики.
Варварство: политика, эстетика, поэтика
Вопрос о варварах может быть сведен до простого различия
инклюзии и эксклюзии. Как пишет немецкий социолог и теоретик Н. Луманн, современное «мировое общество» больше не обладает «старыми» механизмами эксклюзии10. В «стамбульском» эссе
(1985) Бродский указывает на упомянутое Луманном «белое место» применительно к проблеме эксклюзии и инклюзии в западном
мышлении, т.е. он четко анализирует ту структурную слабость,
которая в начале нового тысячелетия будет мучить докладчиков в
процессе обсуждения «КпК»: «Недостаток всякой, даже совершенной, системы состоит именно в том, что она — система. То есть в
том, что ей, по определению, ради своего существования приходится нечто исключать, рассматривать нечто как чуждое и постольку, поскольку это возможно, приравнивать это чуждое к несуществующему.
Недостатком системы, выработавшейся в Риме, недостатком
Западного Христианства явилось его невольное ограничение представлений о Зле. Любые представления о чем бы то ни было зиждутся на опыте. Опытом зла для Западного Христианства оказался опыт, нашедший свое отражение в Римском Праве, с добавлением опыта преследования христиан римскими императорами до
воцарения Константина. Этого немало, но это далеко не исчерпывает его, зла, возможности. Разведясь с Византией, Западное Христианство тем самым приравняло Восток к несуществующему и
этим сильно и, до известной степени, губительно для самого же
себя занизило свои представления о человеческом негативном
потенциале» (5, 299—300).
Итак, политическая и духовная слабость Запада заключается в
том, что он не способен адекватно реагировать на явление зла.
В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики
21
Западное христианство, по Бродскому, «пренебрегло опытом,
предложенным Византией» (5, 300). Но как этот опыт выглядит?
Как себе представить то зло, существование которого Запад не
хочет и не может признавать? Можно полагать, что речь идет о
«радикальном зле», т.е. зле, находящемся вне всех морально-эти-
ческих формул, о зле врагов, о зле по ту сторону границы культурного сознания Запада. Граница эта там, где поставлена под сомнение суть западной идеи о человеке, где роль «индивидуума» как
абсолютного центра и ориентира морально-этической, а следовательно, и политической системы заменена более широкими, групповыми понятиями: «Не хочется обобщать, но Восток есть прежде всего традиция подчинения, иерархии, выгоды, торговли,
приспособления — т.е. традиция, в значительной степени чуждая
принципам нравственного абсолюта, чью роль — я имею в виду
интенсивность ощущения — выполняет здесь идея рода, семьи» (5,
297). Востоку приписывается все, что является политически злым
в понимании просвещенного западника второй половины XX столетия.
Мысль о противоположности двух географических, а затем и
идеологических начал — Востока и Запада — определяет политическое мышление Бродского. Сегодня Запад не дает отчета о том,
что существует мир за пределами хорошо урегулированной системы западной демократии. Эта слепота, как утверждает Бродский,
объясняется именно системностью западного политического и
этического мышления. Система эта опирается на различение, т.е.
она всегда видит только одну сторону медали. Система смотрит на
окружающий мир с точки зрения своей собственной деятельности и собственных установок. В силу этой вполне закономерной и
неизбежной ограниченности она не может выходить за пределы
«системного» взгляда на мир. То, что она не видит, для нее не существует. Задача Бродского, поэта-наблюдателя, приверженного
«интуитивным» методам познания («Нобелевская лекция»), — отличить саму систему от ее действий. Бродскому как человеку, носящему в себе и западное, и восточное начала, и как поэту, который не «претендует на систему», дано «обличать» белые места в
политических и этических концепциях Запада.
Эта способность рассматривать сразу две стороны медали нередко приводит к намеренному смещению категорий. Если Зло в
восточной этике заключается в «отсутствии... представления о том,
что она, человеческая жизнь, священна, хотя бы уже потому, что
уникальна» (5, 300), то этим еще не доказано, почему именно в
уникальности человеческой жизни должна заключаться абсолютная ценность. Если следовать доказательствам самого Бродского,
то мы сталкиваемся с эстетическим моментом неповторимости,
22
Йенс Херлып
нетавтологичности в качестве опоры для этической и политической доктрины о несокрушимом достоинстве индивидуального человека. По Бродскому, тавтологичность — бессмысленное повторение, обезьянье подражание — губительна для поэзии и для
искусства в целом. И столь же губительной она оказывается для человечества: у позднего Бродского, чаще всего апокалептически
настроенного, мотив перенаселенности мира — один из самых
важных. Он напрямую связан с мотивом «нашествия варваров»,
потому что для «варваров» характерно именно пренебрежение к
индивидуальному человеку, к личности, к единственному числу.
Достаточно вспомнить «Джугашвили» или «иранского имама, кладущего десятки тысяч животов своих подданных во имя утверждения его, имама, представлений о воле Пророка» (5, 300).
Совершенно ясно, что эта ставка на индивидуального человека соответствует основным идеологическим положениям и западного христианства (особенно в любимом Бродским протестантизме кальвинистского варианта), и западным идеям демократии, и
либерализму вообще. Но примечательно, что Бродский пользуется именно эстетическим моментом неповторимости, нетавтологичности, чтобы доказать верность подобного взгляда на человека и культуру. Конечно, здесь приходит на память аксиома
Бродского: «эстетика — мать этики» (6, 47). Действительно ли
Бродский строит свои культурологические и политические суждения, опираясь на эту — аморальную по сути — аксиому? Заметим,
что именно момент индивидуального обособления и различения
формировал и эстетические и нравственно-поведенческие стратегии Бродского, а также влиял на облик его поэтического alter ego.
В стихотворениях поэт развивает этику «героического номадизма»:
его герой начиная с 70-х гг. предстает как «одинокий путешественник», который везде чужой, везде один и т.д.11 Сквозная сюжетная
линия этих текстов доводит лирического субъекта до границы, за
которой открывается пустое пространство — будь то «море»,
«смерть» или другая концептуализация пустоты.
В стихотворении 1987 г. «Назидание» установка одинокого
путешественника сталкивается с идеологически окрашенным пространством Азии. Лирический субъект предлагает своего рода инструкцию по выживанию в мире, где царствуют принцип «войны
всех против всех», принцип «политики-как-продолжения-войны-
только-другими-средствами» (5, 304), т.е. в мире варварства. Это —
мир вражды, главное условие выживания — уподобление себя другому, мимикрия. Но мимикрия понимается как нечто внешнее;
приспосабливаясь к среде, герой сохраняет внутри себя индивидуальный взгляд на мир. Только он, странствующий поэт, способен
структурировать мир. Без его свидетельства мир остался бы аморфным, пустым:
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики
23
Когда ты стоишь один на пустом плоскогорья, под
бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот
или ангел разводит изредка свой крахмал;
когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал,
помни: пространство, которому, кажется, ничего
не нужно, на самом деле нуждается сильно во
взгляде со стороны, в критерии пустоты.
И сослужить эту службу способен только ты.
(4, 15—16; курсив мой. — Й. X.)
Поэт является той величиной, которая отличается от Ничего,
от пустоты. Своим дискретным, уникальным существованием он
творит знаки, позволяющие отличить нечто от ничего, или знаки,
позволяющие говорить о том, что существует такая сфера, как
ничто, пустота. Бродский придает лирическому субъекту черты
героического борца против варварской пустоты. Его концепция
поэзии (как и искусства вообще) нуждается в этом сильном и четком различии. Ср. в «Новой жизни» (1988):
Многое можно простить вещи — тем паче там,
где эта вещь кончается. В конечном счете, чувство
любопытства к этим пустым местам,
к их беспредметным ландшафтам и есть искусство.
(4, 49)
Этот поэт-путешественник-политический мыслитель не желает оставаться в рамках хорошо урегулированной системы, будь то
искусство, поэзия, или... этика Западного Христианства. Герой
Бродского сознательно идет навстречу варварству, что приводит к
изменению взгляда на мир. Отсюда подчеркнутая мужественность,
характерная не только для героя, но и для жизненного поведения
Бродского.
Это дает возможность переосмыслить суждение С. Сандлер о
«восточности» Бродского. Враждебность по отношению к Востоку — враждебность, проступающая в издевательских мотивах
«КпК», — в «системе» политической мысли Бродского не является слабостью, скорее наоборот. Враждебность к абсолютному злу
придает форму сознанию, собственному взгляду на общество и,
следовательно, самому обществу. Социум, у которого отсутствуют
представления о «зле» или о «варварстве», превращается в сборище людей, у которых не хватает ни воли, ни «структуры», чтобы
защититься от агрессии не-культуры. Чтобы сохранить культуру в
индивидуальном и общественном плане, человек обязан «оживить»
в себе понятие «варварство». Это доступно только тому, кто раз¬
24
Йенс Херлып
граничивает две истины: рядом с идеей о достоинстве индивидуума находится суждение Гоббса: «Человек человеку — волк». Современный Запад, по Бродскому, не увидел обратной стороны своей
антропологической концепции. «Восточное» знание поэта помогает ему не попасть в типичную для западных интеллектуалов ловушку всеохватывающего альтруизма.
Цель подобной «мизантропии» парадоксальным образом заключается в спасении человека, причем само понятие варварства у
Бродского расширяется: из политического и географического антагонизма (Запад против Востока, империя против кочевников) оно
превращается в культурную оппозицию, сохраняя аксиологическую установку. Наряду с опасностью в лице «варваров» современному западному обществу угрожают массовая культура и отсутствие
четких ценностных иерархий. Концепция варварства, таким образом, перекочевала из области политики в культуру, из сферы этики — в сферу эстетики, откуда она якобы вышла.
Но не только этика и политика Бродского зиждутся на идее
вражды, на убеждении, что враждебность — основная формообразующая сила индивидуума, общества или культуры. То же самое
можно сказать о его эстетике в целом. Ср.:
Зрение — средство приспособленья
организма к враждебной среде. Даже когда вы к ней
полностью приспособились, среда эта остается
абсолютно враждебной.
(4, 62)
Само существование человека немыслимо вне этих основополагающих начал враждебности, а существование поэта тем более.
Не случайно Бродский часто говорит о законе вытеснения тела
враждебной средой.
Лирический субъект «КпК» сражается на двух фронтах. С одной стороны, он воюет против восточного варварства, с другой —
против опустошения и разложения современной западной культуры, символы которой — поклонение мамоне, сексуальная свобода, многоэтажные дома. Эти «противники» не равноправны с аксиологической точки зрения: с одной стороны, мы имеем дело с
картиной смешного и опасного в своей антигуманности деспотизма, а с другой — сталкиваемся с вполне привычными явлениями
западной культуры, «декадентность» которой обнаруживается,
если смотреть на нее глазами «бескультурного горца». Примечательно, что слово «жестоковыйный», столь редкое в русском
языковом обиходе, появляется в Библии именно в том месте, где
Моисей, спустившись с горы Синай (где он получил «скрижали ка¬
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 25
менные, на которых написано было перстом Божиим»), увидел,
что его народ поклоняется золотому тельцу. Господь угрожает
Моисею: «Я вижу народ сей, и вот, народ он — жестоковыйный;
итак оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя» (Исход: 32, 9—
10). «Одические» возгласы12 лирического субъекта «КпК» следует
читать на фоне ветхозаветного текста. С одной стороны, ненависть
к Востоку связывается с желанием истребить мир, с другой — в
самом слове «жестоковыйные» намечается крушение преград между Западом и Востоком, поскольку общество Запада, каким оно
предстает перед читателем во второй и третьей строфах, восходит
не к принесенным Моисеем божественным заветам, не к горнему
«абсолюту», а скорее к его профанному суррогату, т.е. к золотому
тельцу: «как следует разложиться», «приобрести валюту», «сесть в
мерседес» (4, 118). Те же мерседес, «лифчики», «с бедра сползающая» ткань отсылают к биографии самого поэта (Бродский владел
мерседесом) и к образу его лирического героя — записного донжуана. В разных «столицах» мира он обнажает тела красавиц; бедро
или иная «часть женщины» (2, 420) подчас заменяют им лицо.
В «КпК» в ряд фетишизируемых элементов женской одежды входит чадра, наделенная у ортодоксальных мусульман Афганистана
строго религиозной функцией.
Итак, аксиологическая позиция текста однозначна там, где
речь идет о Востоке. Насмешливые рекомендации, обращенные к
«абрекам и хазбулатам», только усиливают ориенталистскую направленность подобного взгляда. Бродский наблюдает склонность
западного мира к «всасыванию в себя» всего «чужого». Представители западной цивилизации полагают, что с «варварами» можно
заключать договоры. Сам Бродский в стихах и в культурфилософ-
ских рассуждениях не готов отказываться от радикальной эксклю-
зии. Эта эксклюзия выполняет не только функцию укрепления,
сохранения и защиты собственной культуры, цивилизации от внешних нападений и от внутреннего разложения, она выступает как
культуротворческое начало. Правдивое искусство для Бродского
возникает только в условиях урегулированного пространства.
Империя и ее границы
Из изложенного выше следует, что варварство у Бродского —
чисто функциональное понятие, служащее для созидания и укрепления политической и эстетической моделей. Функциональность
варварства как форму механизма эксклюзии/инклюзии с семиотической точки зрения подчеркивал Ю. М. Лотман. Неорга¬
26
Йенс Херлып
низованное пространство за пределами какой-либо культуры является просто жизненно необходимым для существования этой
культуры: «Поскольку граница — необходимая часть семиосферы,
семиосфера нуждается в “неорганизованном” внешнем окружении
и конструирует его себе в случае отсутствия. Культура создает не
только свою внутреннюю организацию, но и свой тип внешней дезорганизации. Античность конструирует себе “варваров”, а “сознание” — “подсознание”. <...> ...Античная цивилизация могла осознать себя как культурное целое, только сконструировав этот
якобы единый “варварский” мир, основным признаком которого
было отсутствие общего языка с античной культурой. Внешние
структуры, расположенные по ту сторону семиотической границы,
объявляются не-структурами»13. Бродский знает, что наше понятие о «человеке», наше «гуманистическое мышление» и т.д. действуют лишь на фоне варварства. Если бы варвары последовали
советам, провозглашенным в «КпК», то все различия исчезли бы,
в результате — полная аморфность. Закономерны вопросы: Как
уберечься от грозящего «мрака» аморфности? Как придать форму
и структуру собственной культуре, если нет врагов, нет варваров,
нашествие которых грозит обществу, парадоксальным образом
укрепляя его основы?
Стратегия Бродского заключается в намеренном примыкании
к до-современным моделям культуры. Его понимание поэзии, искусства базируется на четких иерархиях и на существовании незыблемых, внеисторичных ценностей14. Заключенный в понятии «варварство» момент угрозы позволяет ему концептуализировать
поэзию и искусство как нечто постоянное, вещественное, монументальное, что подвергается нападениям со стороны массовой
культуры, времени. Это отражается и на образности его стихотворений: склонность к руинам, статуям, к овеществлению говорящего субъекта и самого текста.
На уровне политическом, или, скорее, геополитическом, этой
установке соответствует понятие «империя». Империя в политическом и историческом отношениях предстает как организованное
пространство, которое противопоставлено варварам. Само понятие «варвары» в каком-то смысле уже предполагает наличие империи. У Бродского империя играет двойственную роль. С одной
стороны, в ней воплощены враждебные поэзии (и самому поэту)
начала власти, контроля, бюрократизма и т.д. Такой империя выступает у Бродского с середины 60-х гг., гримируясь в тогу Римского государства (ср. «Anno Domini», «Post aetatem nostram» и др.).
Пребывающий в нем поэт чувствует себя аутсайдером, изгнанником («новым Овидием»); из центра он стремится на периферию:
«Если выпало в Империи родиться, / лучше жить в глухой провинции у моря» (3, 11).
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 27
С другой стороны, империя осмысляется позитивно. Себя
Бродский считал имперским поэтом. Империя — гарантия культуры в мире варварства. Можно утверждать, что Бродский разделяет «геополитическое сознание» русских поэтов XVIII в.15 Империя предстает как некая центростремительная сила, без которой
нет цивилизации. В империи все остывает, все живые формы
превращены в камень или в мрамор. В отличие от других поэтов
Бродский охотно пользуется «мертвым», «холодным» словом «цивилизация» (вместо «теплой», живой «культуры»), подчеркивая
устойчивость важных для него ценностей. Культурологическая
мысль поэта пронизана идеей «имперскости». При этом он интересуется главным образом границами империи, т.е. тем пространством «фронтира», где укрепленная империей цивилизация сталкивается с варварством. Разумеется, когда империя тотальна и
вездесуща, она утрачивает положительный смысл, превращаясь в
абсурд (пьеса «Мрамор»). Вместе с тем отрицательный вариант
империи проецируется у зрелого Бродского на восток (Византия,
Оттоманская империя, Советский Союз), тогда как позитивное
начало связано с западно-римской империей. Она имеет для Бродского «статус едва ли не потерянного рая»16.
Как в политическом, так и в художественном плане «империя»
приобретает ценность на границе, там, где она завоевывает, колонизует новое пространство. Только в процессе перешагивания границы можно отличить нечто от ничего. Подобно тому как в моральном отношении не существует абсолютной ценности («этика — тот
же вакуум, заполняемый человеческим / поведением»; 4, 56), аксиологическое в поэзии возникает из столкновения с пустотой, с
немаркированным пространством. В «Колыбельной Трескового
мыса» (1975) читаем:
<...> Только услышав «браво»,
с полу встает актер. Только найдя опору,
тело способно поднять вселенную на рога.
С186)
Стихотворение было создано в самой восточной точке североамериканского материка, т.е. той империи, где оказался поэт.
Любое художественное произведение нуждается в границе, оно
должно отталкиваться от чего-либо закрытого, чтобы вдаваться в
новое пространство, открытость которого только и открывается
через данное произведение.
Здесь обнаруживается параллель между политическими и Эстетическими устремлениями Бродского. Политический и фило-
софско-эстетический модусы совмещаются. Трудно определить,
28
Йенс Херльт
что первично: героическое самоопределение Бродского как одинокого поэта, «ужас востока», осознание принципа вражды в сфере
политики или эстетическое ощущение мира как пограничной зоны
между маркированным («цивилизованным») и немаркированным
(«варварским») пространством. Любая человеческая активность,
вся история прочитываются как процесс отталкивания, трения. Ср.
в «азиатском» стихотворении «Каппадокия» (1990—1991):
...орел, паря
в настоящем, невольно парит в грядущем
и, естественно, в прошлом, в истории: в допоздна
затянувшемся действии. Ибо она, конечно,
суть трение временного о нечто
постоянное. Спички о серу, сна
о действительность, войска о местность. В Азии...
(4, 102)
Временность означает действие — vita activa, она открывает
новые горизонты, придает форму пространству. Но активность
должна отталкиваться от чего-то постоянного. Человек творит
историю, потому что борется с «расплывчатостью»:
И с каждым падающим в строю
местность, подобно тупящемуся острию,
теряет свою отчетливость, резкость. И на востоке и
на юге опять воцаряются расплывчатость, силуэт;
это уносят с собою павшие на тот свет
черты завоеванной Каппадокии.
(4, 103)
Именно в этом смысле следует понимать загадочный мотив
«мрака» в финале «КпК»:
И больше нет ничего. Нет ничего. Не видно
ничего. Ничего не видно, кроме
того, что нет ничего. Благодаря трахоме
или же глазу, что вырвал заклятый враг.
И ничего не видно. Мрак.
{4, 119)
С. Сандлер в венчающем стихотворение мраке видит знак отчаяния поэта перед надвигающейся пустотой и связывает этот
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 29
мотив с размышлениями позднего Бродского о «неустойчивости»
всего сущего17. В содержательном плане такое прочтение бесспорно. Вместе с тем необходимо учитывать и структурно-стратегический контекст. Еще в «Заметке о Соловьеве» (1971) Бродский пишет о «следующей ступени отчаяния» как о своего рода творческой
стратегии (7, 60). В этой «пограничной» фигуре вновь обнаруживается структурный мотив пограничной ситуации, на котором держится вся его поэтика. В нем следует видеть не столько хронологический конец, сколько философское начало его творчества.
В «КпК» взгляд поэта-орла способен различать мрак. Этот
мрак не является аморфным, бесформенным, как земной мрак
«послов», «абреков и хазбулатов». Пока существует инстанция,
способная определить и ограничить распространение мрака, для
человека не все потеряно.
Конец культуры?
«Мрак» примыкает и к манихейской образности, участвующей
в создании Бродским картины Востока. Он означает не только восточный, но и западный вариант бескультурности. Восточные
«козлы, воспитанные в Исламе», и западные «послы» (4, 118) связаны не только рифмой. Суть их общности становится ясной на
фоне размышлений О. Мандельштама о скрытой восточности
(«буддизм») центральных элементов западной ментальности и общественного строя. Мандельштам в новом, XX в. видел угрозу
«монументальных культур», стирающих человеческую индивидуальность. Как и Бродский, он считал, что «простая механическая
громадность и голое количество враждебны человеку»18; эти принципы он приписывал восточным моделям государственности («Ассирия», «Египет»). Восток и угроза современности, т.е. грядущего, у Мандельштама совпадают: «В отношении к этому новому
веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами. Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие, согреть
его телеологическим теплом — вот задача потерпевших крушение
выходцев девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый
исторический материк»19. Та же установка и у Бродского, только
историософская окраска иная. Мандельштам демонизирует и мистифицирует враждебные человеку силы под знаком «буддизма» и
«прогресса». Это пагубное сочетание воплощается в образе «ассирийских, воинственных» «стрекоз-аэропланов»20, а также в мотиве тьмы ассирийской из четверостишия, приведенного в статье
«Девятнадцатый век». Олицетворяет враждебную тьму «Азраил» —
мусульманский ангел смерти21.
30
Йенс Херлып
У Бродского о «телеологическом тепле» не может быть и речи,
но его «мрак» по сравнению с манделыитамовской тьмой демистифицирован. Колониальный завет («европеизировать»), столь
важный для Мандельштама, у Бродского, даже если рухнули мечтания о новом «одомашненном» общественном строе, остается в
силе. Бродского интересует не модель идеального социума, но сама
возможность суждения и различения как необходимая предпосылка индивидуального, а значит, человеческого взгляда на мир.
Задача поэта состоит в том, чтобы четкими различениями, стремлением к неповторимости воспротивиться грядущему концу культуры, признаки которого в «громадности», в «антииндивидуали-
стическом пафосе» ожидаемого «гигантского популяционного
взрыва» (7, 132). Мандельштам в начале третьей декады XX столетия видел себя и все человечество на пороге новой, истинно человеческой культуры. Бродский к концу того же столетия говорит о
«царстве справедливости», или о «Золотом Веке», только в ироническом ключе (4, 176).
По русской традиции, восходящей к А. Герцену, который
усматривал в западноевропейском либерализме стремление к «коллективной посредственности», к стиранию личности, т.е. к «кита-
изации»22, И. Бродский ассоциирует «катастрофу» западной цивилизации с Востоком: «Бред и ужас Востока. Пыльная катастрофа
Азии» (5, 288). У позднего Бродского встречается мотив угрожающей его лирическому субъекту — старому, больному человеку —
чисто телесной потенции и вирильности. Достаточно вспомнить
последнее стихотворение «Август», где «загорелый подросток... у
вас отбирает будущее, стоя в одних трусах» (4, 204). В более раннем тексте («Посвящается Джироламо Марчелло») этот мотив приобретает геополитическую (читай — расистскую) окраску: «Набережная кишит / подростками, болтающими по-арабски» (4, 111).
Мы уже отметили, что в культурологических размышлениях
Бродского предпочтение отдано понятию «цивилизация». Но, несмотря на активные действия гуманитарных наук по размежеванию
цивилизации и культуры (Вебер, Шпенглер и др.), Бродский — вне
систематических подходов. С одной стороны, цивилизация для
него несет известные черты монументального, возвышенного. Она
выражается в петербургской архитектуре (5, 27), в зримых манифестациях культурной наследственности, во всем великом, каменном, «предметном»23. В этом отношении цивилизация предстает
как «остывшая культура» (Шпенглер). Это определение свободно
от отрицательных коннотаций. Не случайно в концептуализации
своего творчества Бродский примыкает к державной, имперской,
а следовательно, «цивилизационной» традиции горацианского
«exegi monumentum» (ср. «^re perennius» Бродского)24. Для поэта
цивилизация — это агрегатное состояние культуры в ситуации
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 31
угрозы или же завершения, подведения итогов (что в конечном
счете — одно и то же). Сам термин обозначает искомую погранич-
ность любой культуры, любого творческого акта. В предпочтении,
которое Бродский оказывает слову «цивилизация», лежит напоминание «культуре» о том, что она погибнет, если потеряет из виду
собственные границы, исчезнет, если думает, что ей «просто так»,
без усилий обеспечено дальнейшее существование. Процесс культурной традиции, наследственности, в котором поэт видит «суть
всех цивилизаций» (5, 256), является крайне рискованным. Надлежит ясно осознать цивилизационные риски. Они у Бродского
принимают разные очертания: от вполне «реальных» политических
или исторических («исламский фундаментализм», «демографический взрыв») до не менее реальных, но скорее внеисторических —
«конец культуры», «время» и т.д. Отсюда понятно, почему Бродский рассматривает «культуру» и «цивилизацию» как синонимы —
они отличаются не столько по содержанию, сколько по сюжетной
функциональности. В его размышлениях о судьбе «культуры» «цивилизация» всегда указывает на момент конца, угрозы, т.е. на пограничное положение какой-то безусловной ценности.
Французский теоретик и литературовед Р. Барт в лекциях, прочитанных в Collège de France с 1978 по 1980 г., предлагает картину
современного состояния культуры, которая удивительным образом
совпадает с положениями Бродского. Барт наблюдал «смерть литературы» и видел в Поэзии едва ли не единственную отрасль культуры, которой под силу воспротивиться гибели: «Поэзия = практика утонченности в варварском мире. Отсюда необходимость
сегодня бороться за Поэзию: Поэзия должна быть рассмотрена как
часть “Прав человека”; она не декадентна, она субверсивна и витальна»25. Когда эта «утонченность» (subtilité) исчерпана, мы не
можем говорить о человеке в исконном смысле этого слова. Если
Бродский видел в поэзии «цель» человеческого рода, то Барт из
подобной оценки сделал радикальнейший вывод, полагая, что угроза исчезновения/истребления литературы равна угрозе «духовного геноцида» человечества26.
Почему ценность поэзии должна быть укреплена риторическими сценариями угрозы? Почему она непременно должна совпасть с субстанциальным определением человека как существа?
Видимо, вопреки собственным высказываниям Бродский не хочет
и не может довольствоваться исключительно эстетическими критериями. Оказывается, что вся его концепция поэзии и культуры
не столько эстетична, сколько аксиологична. Она нуждается в
иерархии и в границах. Бродский придает этим иерархическим
структурам вид чисто эстетических различий, но на самом деле
абсолютные ценности — «прекрасное», «человек», «культура», «поэзия» — и у него «как золотая валюта... обеспечивают все идейное
32
Йенс Херльт
обращение»27 в области эстетики (включая аксиоматичную формулу о том, что «эстетика — мать этики»).
Мандельштам видел две возможности дальнейшего бытования
золотого «европейского гуманистического наследства»: «не под
заступом археолога звякнут прекрасные флорины гуманизма, а
увидят свой день и, как ходячая звонкая монета, пойдут по рукам,
когда настанет срок»28. Очевидно, что Бродский уже не мог питать
подобные надежды на утопическую развязку. Поэтому он концентрируется на спасении того, что есть и было. Там, где другие, разделяя его заботу о сохранении культурного богатства, говорили бы
об «архиве», Бродский приводит образы и мотивы из археологии.
Для него «заступ археолога», а не «архив» или «библиотека» становится ориентиром размышлений о судьбе «гуманизма». Он не хочет пускать в оборот добро культуры / цивилизации, потому что
стал свидетелем того, как «золотой запас» в этом «обороте» рискует
потерять свою субстанцию. Поэтому он выбирает позицию защитника культуры от «варварства», и поэтому вся его эстетическая,
или, вернее, этическая, концепция сталкивается с дилеммой, намеченной в переведенном совместно с Г. Шмаковым стихотворении К. Кавафиса «В ожидании варваров»:
Но как нам быть, как жить без варваров?
Они казались нам подобьем выхода29.
1 Polukhina V. Joseph Brodsky: A Poet for Our Time. Cambridge, 1989.
2 Joseph Brodsky, «On the Talks in Kabul»: A Forum on Politics in Poetry //
The Russ. Rev. 2002. Vol. 61, No. 2. P. 185—219. Cont.: Ciepiela C., Sandler S.
Opening Remarks; Smith G. S. Some Preliminary Ideas; Wachtel M. Kabul in
Perspective; Pratt S. «The detail should not fall into dependence on the landscape!»
or Brodsky’s «On the Talks in Kabul», Derzhavin, Genre, and Identity; Ciepiela C.
«Bras and the Rule of Law»; Sandler S. The Poetry of Decline; Tieman O'Connor K. From Kabul to Byzantium and Back; Smith G. S. Afterword; Bethea D. M.
Loose Ends in «On the Talks in Kabul».
3 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 56.
4 Ср.: Luhmann N. Jenseits von Barbarei // Gesellschaftsstruktur und
Semantik. Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Frankfurt/M., 1999. Bd. 4. S. 144, 149.
5 Ciepiela C. «Bras and the Rule of Law» // The Russ. Rev. 2002. Vol. 61,
No. 2. P. 203.
6 Ср.: «Что ж, вполне возможно, что мое отношение к людям, в
свою очередь, тоже попахивает Востоком. В конце концов, откуда я
сам?» (5, 313).
7 Ср.: Sandler S. The Poetry of Decline // The Russ. Rev. P. 206; Tieman
O'Connor K. From Kabul to Byzantium and Back // Ibid. P. 208.
«В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 33
8 Bethea D. Loose Ends in «On the Talks in Kabul» // Ibid. P. 219.
9 Ср.: Ciepiela C., Sandler S. Op. cit. P. 187.
10 Luhmann N. Op. cit.
11 Это соотносится с поэтическим автопортретом Бродского в виде
«странника», «одинокого путешественника», «прохожего». Об авторепрезентации Бродского см.: Herlth J. Ein Sänger gebrochener Linien. Iosif
Brodskijs dichterische Selbstschöpfimg. Köln [etc.], 2004.
12 Связь стихотворения с одической традицией справедливо отмечает
С. Прэтт: Pratt S. «The detail should not fall into dependence on the landscape!»
or Brodsky’s «On the Talks in Kabul», Derzhavin, Genre, and Identity // The
Russ. Rev. P. 197—201.
13 Лотман Ю. М. О семиосфере // Избр. статьи: В 3 т. Таллинн, 1992.
Т. 1: Статьи по семиотике и типологии культуры. С. 15—16.
14 Herlth J. Iosif Brodskijs Literaturpolitik // Sprache — Literatur — Politik.
Ost- und Südosteuropa im Wandel. Hamburg, 2004. S. 297—322. (Studien zur
Slavistik; Bd. 10).
15 Ср.: Ram H. The Imperial Sublime. A Russian Poetics of Empire.
Madison, Wisconsin, 2003. P. 213.
16 Прохорова Э. В. «Письма русского путешественника»: география в
текстах Иосифа Бродского // Философский век. СПб., 1999. [Вып.] 10:
Философия как судьба: Российский философ как социокультурный тип.
С. 183.
17 Sandler S. The Poetry of Decline. P. 207.
18 Мандельштам О. Э. Гуманизм и современность // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. М., 2001. С. 522.
19 Мандельштам О. Э. Девятнадцатый век // Там же. С. 480.
20 Гаспаров М. Комментарии // Там же. С. 644.
21 Ср. концовку стихотворения: «И с трудом пробиваясь вперед, / В чешуе искалеченных крыл, / Под высокую руку берет / Побежденную твердь
Азраил» (Там же. С. 91).
22 Ср.: Мережковский Д. С. Грядущий хам // Полное собрание сочинений: В 24 т. М., 1914. Т. 14. С. 5-59.
23 Ср.: «...Они все равно хранили любовь к несуществующему... предмету (в подлиннике “thing”. — Й X.), именуемому цивилизацией» (5, 25).
24 Ср.: Herlth J. Ein Sänger gebrochener Linien. P 341—346.
25 Barthes R. La Préparation du roman I et II. Notes de cours et de séminaires
au Collège de France 1978—1979 et 1979—1980. Texte établi, annoté et présenté
par Nathalie Léger. Paris, 2003. P. 49, 82.
26 Ibid. P. 190.
27 Мандельштам О. Э. Гуманизм и современность // Мандельштам О. Э. Стихотворения. Проза. С. 524.
28 Там же.
29 В ожидании варваров. Мировая поэзия в переводах Иосифа Бродского. СПб., 2001. С. 87.
И. В. Романова
Смоленск
СУБЪЕКТНО-ОБЪЕКТНАЯ СТРУКТУРА
ЛИРИКИ БРОДСКОГО
На фоне исследуемого нарратологией коммуникативного
аспекта эпоса и драмы лирика изучена недостаточно. Между тем
рассмотрение особенностей выражения лирического субъекта
и лирического объекта (адресата) в стихотворениях разных авторов позволило бы уточнить представление о лирике как литературном роде и акцентировать своеобразие творчества конкретного поэта. Предмет нашего рассмотрения — субъектнообъектная структура лирического текста. Материалом послужила
вся лирика И. Бродского 1957—1996 гг. (общее количество стихотворений — 558)
Проблема авторского «я» активно разрабатывалась еще в
1920-е гг. Можно выделить три основных подхода, представленных именами Г. О. Винокура (концепция «языковой личности»)2,
В. В. Виноградова (концепция «образа автора» и «языкового сознания» героя в лирике)3 и Ю. Н. Тынянова (концепция «лирического героя»)4.
Существенная черта лирического героя была выявлена
Л. Я. Гинзбург: лирика создает характер не столько частный,
сколько эпохальный, исторический, «тот типовой образ современника, который вырабатывают большие движения культуры»5.
Лирический герой воплощает тот опыт, «в котором многие должны найти и понять себя»6.
Значительный вклад в изучение отношений автора и героя в
поэтическом тексте внес М. М. Бахтин. По его мнению, автор —
это «носитель напряженно-активного единства завершенного целого, целого героя и целого произведения, трансгредиентного каждому моменту его. <...> Сознание автора есть сознание сознания...»7. Такой автор нетождествен биографическому автору,
реальному лицу. В произведении автор для читателя — это система приемов. В лирике, по мнению Бахтина, автор как бы проникает сквозь лирического героя, оставляя ему потенциальную возможность самосознания. Отношения «я» и «другого» в лирике
специфичны и строятся на лирической самообъекгивации: «Лирика — это видение и слышание себя изнутри эмоциональными глазами и в эмоциональном голосе другого: я слышу себя в другом, с
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
35
другими и для других»8. Освобождение героя от автора в лирике —
признак кризиса автора, его десакрализации.
Идея внутритекстового автора была развита Б. О. Корманом.
Он создал «системно-субъектный» метод, позволяющий исследовать автора как носителя сознания произведения. Корман сосредоточился на исследовании поэтики, отражающей взаимоотношения разных сознаний. Автор как внутритекстовое явление
воплощается при помощи «соотнесенности всех отрывков текста,
образующих данное произведение, с субъектами речи — теми,
кому приписан текст (формально-субъектная организация), и
субъектами сознания — теми, чье сознание выражено в тексте (со-
держательно-субъекгная организация)»9.
Излагая систему представлений об авторе лирического текста,
С. Н. Руссова предлагает типологию, отражающую формы проявления литературных конвенций и читательского восприятия, в
зависимости от которой те или иные типы автора становятся репрезентативными. Исследователь выделяет следующие типы авторов: «пророк», «художник», «ремесленник», «изгой», «трикстер» и
«частный человек», а также прослеживает динамику смены одного типа другим в истории литературы10.
Проблему коммуникативного статуса лирики впервые поставил Ю. И. Левин. Он рассмотрел особенности отношений между
эксплицитными, имплицитными и реальными персонажами,
структурировав их в виде внутритекстовых коммуникативных схем,
позволяющих описать конкретное стихотворение11. Однако в предложенной классификации нет четкого разграничения статуса 1 -го
и 2-го лица (например, отсутствуют критерии отделения эксплицитного «я» от реального автора, эксплицитного «ты/вы» от реального адресата и т.п.).
Внимание к внутренней форме высказываний (а не к их внешней адресованности) — суть подхода С. Н. Бройтмана. Во-первых,
исследователь выделяет прямые формы высказываний — от «я», от
«мы», от «я» и «мы» без выраженного (местоименным или иным
способом) лица. Во-вторых, вычленяет косвенные формы высказываний, при которых субъект речи смотрит на себя со стороны
как на «другого» — на «ты», «он», обобщенно-неопределенного
субъекта, выраженного инфинитивом или наречием, фиксирующими состояние, отделенное от его носителя. В-третьих, рассматривает синкретические и диалогические формы высказываний:
разные типы субъектного синкретизма, несобственно-прямую
речь, игру точками зрения, голосами и интенциями, ролевые стихотворения. Образная структура обнаруживает черты изоморфизма со структурой субъектной, данные о которой получены статистически12.
36
И. В. Романова
Обобщая изложенное, коммуникативную модель13 лирического стихотворения можно представить так: собственно автор создает
лирическое произведение, адресованное идеальному (абстрактному) читателю.
Собственно автором мы называем реальную конкретную личность автора-создателя лирического текста. Его имплицитное присутствие осуществляется с помощью различных приемов построения текста: подбора лексики, синтаксического оформления,
образной системы, композиционного построения, различных аспектов стихосложения, жанровых особенностей и т.п. Собственно автор может сближаться с субъектом речи (лирическим субъектом), не совпадая с ним полностью, и может отдалятся от него как
в идеологическом, так и во фразеологическом планах. Абстрактным читателем мы называем представление автора текста о получателе лирического сообщения, образ идеального читателя,
обладающего определенными эстетическими, языковыми, идеологическими установками, необходимыми для того, чтобы адекватно воспринять текст. Такой обобщенный образ читателя присутствует в тексте тоже имплицитно и, как правило, не совпадает с
адресатом лирического сообщения.
Собственно автор, лирическое произведение и абстрактный
читатель составляют авторско-читательскую коммуникацию. Она,
как правило, бывает рамочной и оформляет текст. К ее признакам
относятся, в частности, названия, жанровые определения, эпиграфы, посвящения и т.п.
В самом тексте стихотворения присутствуют лирический
субъект, так или иначе изображенный в произведении, сообщаемое и лирический адресат, который тоже может быть выражен по-
разному. Эти три компонента составляют внутритекстовую коммуникацию. Именно этот тип коммуникации будет интересовать
нас в первую очередь.
Способы выражения лирического субъекта
Лирический субъект может быть выражен в стихотворениях
Бродского различными способами.
1. Безлично. В этом случае мы имеем дело с неопределенным
статусом говорящего. Говорящий максимально скрыт для читателя, он не выражает себя ни через какие грамматические формы
местоимений, глаголов и т.д. В таких случаях личность носителя
сознания не является объектом описания. На первом месте в таких стихотворениях — какая-то ситуация, описываемая, как правило, от третьего лица. Внимание читателя сосредоточено на том,
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
37
что изображено, а не на том, кто это изображает. О присутствии
субъекта мы узнаем только по эмоциональной окрашенности речи;
по принципу отбора и изложения жизненного материала, точке
зрения на действительность, т.е. по общей жизненной и эстетической позиции. Пример такого стихотворения — «Война в убежище
Киприды».
2. Чаще всего в текстах Бродского встречается форма выражения лирического «я» — «я» повествуемое (термин В. Шмида14). Это
выраженное через соответствующие грамматические формы «я»
говорящего, которое является одновременно и носителем сознания, и предметом изображения. Внимание читателя сосредоточено на том, каков лирический персонаж (субъект), что с ним происходит, каково его состояние, отношение к миру (причем важно
именно само отношение субъекта, а не предмет речи). Самоопи-
сание «я» повествуемого у Бродского бывает не подробным, а фрагментарным или вовсе редуцированным (в тех случаях, когда о лирическом субъекте свидетельствует употребление местоимений и
форм глагола первого лица).
Перечислим основные способы выражения «я» повествуемого:
— «я», представленное непосредственно:
<...> Сюды
забрел я как-то после ресторана
взглянуть глазами старого барана
на новые ворота и пруды;
(«Двадцать сонетов к Марии Стюарт»; 3, 63)
— «я», представленное метонимически через духовные и телесные составляющие (душа, сердце, мысли, глаза, руки и т.п.) — это
самый характерный для Бродского прием:
Сердце скачет, как белка, в хворосте
ребер. И горло поет о возрасте.
Это — уже старение;
(«1972 год»; 3, 16)
— «я», представленное как «другой», со стороны, в 3-м лице:
Скоро, Постум, друг твой, любящий сложенье,
долг свой давний вычитанию заплатит;
(«Письма римскому другу»; 3, 12)
— «я», представленное в обобщенной форме инфинитивов,
условного наклонения:
38
И. В. Романова
Родиться бы сто лет назад
и, сохнущей поверх перины,
глазеть в окно и видеть сад,
кресты двуглавой Катарины;
стыдиться матери, икать
от наведенного лорнета,
тележку с рухлядью толкать
по желтым переулкам гетто...
{«Литовский дивертисмент»; 2, 418)
3. Лирический субъект может быть выражен в качестве «я» повествующего (термин В. Шмида15). Это формально выраженное
через соответствующие грамматические формы «я» говорящего,
которое не является предметом разговора, описания. Это «я» может позиционировать себя в пространстве и во времени, определяя таким образом точку зрения, с которой ведется лирическое
повествование. При этом главным предметом разговора по-прежнему остается мир, включающий и других людей. «Я» берет на
себя функцию повествования, в большинстве случаев свидетельствуя о форме речи — устной или письменной, может открыто
выражать точку зрения, т.е. оценивать предмет своего описания:
Т. Зимина, прелестное дитя.
Мать — инженер, а батюшка — учетчик.
Я, впрочем, их не видел никогда.
(«Из “Школьной антологии”»; 2, 317)
В приведенном примере, кроме эксплицитного «я» и связанной с ним конструкции, определяющих степень осведомленности
субъекта речи, явно оценочными, эмоционально окрашенными
являются выражения «прелестное дитя» и «батюшка» (на фоне
нейтрального «мать»).
«Я» повествующее может быть формально не выраженным в
тексте, но о его присутствии свидетельствуют косвенные признаки (замечания в скобках, вводные слова, прямооценочные суждения и т.п.). Поэт создает иллюзию спонтанной речи, неофициального письма с характерными для этих форм недоговоренностями,
сокращениями, пояснениями, оговорками и т.п.:
Что бы такое сказать под занавес?!
<...>
...Только размер потери и
делает смертного равным Богу.
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
39
(Это суждение стоит галочки
даже в виду обнаженной парочки.);
(«1972 год»; 3, 17-19)
<...> Но и звезда над морем —
что есть она как не (позволь
так молвить, чтоб высокий в этом
не узрила ты штиль) мозоль,
натертая в пространстве светом?
(«Пенье без музыки»; 2, 389—390)
Что интереснее всего,
так это то, что за подобный труд
ему, хоть он был стар и лыс,
никто гортань не перегрыз.
(«Мужик и енот»; 2, 383)
В поздней лирике Бродского появляется «мы» повествующее,
означающее лирического повествователя, оратора. Такое употребление «мы» затушевывает слишком резкое «я», но все равно является одной из форм выражения лирического субъекта, например:
Отбросим пальмы. Выделив платан,
представим М., когда, перо отбросив,
он скидывает шелковый шлафрок
и думает, что делает братан
(и тоже император) Франц Иосиф,
насвистывая с грустью «Мой сурок».
(«Мексиканский дивертисмент»; 3, 92)
4. Лирическое «я» может выступать также в форме ролевого
персонажа (в нем объединяются «я» повествующее и «я» повествуемое). Он обладает характерной речевой манерой, соотносящей
образ «я» с определенной социально-бытовой и культурно-исторической средой. Герой ролевого стихотворения определяется, как
правило, в заглавии — прямо или в иронической форме. В рассмотренном материале ролевой персонаж появляется в девяти стихотворениях. В одном случае это солдат («Письмо генералу Z.»), в
другом — ворона («Воронья песня»), трижды — женщина («Зимняя
свадьба», «Письма династии Минь», «Колыбельная»), в остальных
случаях — персонаж из античного мира, в том числе мифологии,
одинокий, оторванный от родных и близких, преимущественно —
поэт или летописец («Ex ponto (Последнее письмо Овидия в Рим)»,
40
И. В. Романова
«Anno Domini» 1968 г., «Письма римскому другу», «Одиссей Телемаку»). Ролевая лирика Бродского тяготеет к жанру стихотворного послания16.
5. «Я» повествуемое в единстве с «я» повествующим может выступать также в качестве лирического героя (как его понимали
Ю. Н. Тынянов, JI. Я. Гинзбург). Это образ, содержащий черты автора и обобщенные приметы личности данной эпохи. Лирический
герой выявляется в системе текстов (в контексте цикла, книги стихов или всего творчества) и обладает узнаваемыми биографическими чертами и эмоционально-психологическим складом. В отношении к исследуемому материалу можно говорить о наличии в
творчестве Бродского лирического героя с устойчивыми характеристиками: это поэт, рожденный и выросший на Севере, изгнанник,
стареющий, лысеющий, картавый, одинокий, теряющий от одиночества рассудок, разлученный с возлюбленной, ироничный и са-
моироничный, ценящий свободу, доверяющий только языку17.
Значительно реже в перечисленных функциях вместо «я» выступает «мы». В текстах с эготивным элементом его схема такова:
мы = я + они. «Мы» включается в некую широкую общность, в
которой мы = люди вообще, мы = современники, мы = друзья,
мы = соотечественники, мы = поэты и т.п.:
Но мы научились драться
и научились греться
у спрятавшегося солнца
и до земли добираться
без лоцманов, без лоций,
но главное — не повторяться18.
(«Стихи о принятии мира»)
Такое обобщенное «мы» чаще встречается в ранней лирике
Бродского. В его зрелый период более характерно «мы» повествователя, оратора, о котором уже упоминалось.
В большинстве текстов лирическое «я» выступает в качестве
наблюдателя в противоположность действующему лицу, как, например, в стихотворении «Я входил вместо дикого зверя в клетку...». Лирический субъект Бродского принципиально бездействен.
Характерный пример — стихотворение «Освоение космоса». В нем
лирический субъект высовывается из чердачного окна и видит землю и небо, словно впервые. Затем, включив радиоприемник, он,
лежа на диване, узнает, что в космос полетел человек. Выстраивается довольно комическая параллель: одновременно с покорением космоса герой стихотворения, выглянув из чердачного окна,
сделал свои «космические» открытия.
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
41
6. Еще одна показательная черта лирики Бродского — использование субъектных форм «ты» и «вы» (по контрасту с традиционным объектным «ты» и «вы»). Они выражают обращенность говорящего к самому себе: ты (вы) = я (мы). Это так называемое
автокоммуникативное «ты» («вы»):
Ночь; дожив до седин, ужинаешь один,
сам себе быдло, сам себе господин;
(«Квинтет»; 3, 152)
Только мысль о себе и о большой стране
вас бросает в ночи от стены к стене,
на манер колыбельной.
(«Колыбельная Трескового мыса»; 3, 90)
В таких случаях мы, как правило, имеем дело с автокоммуникацией (см. стихотворения «Одиночество», «На прения с самим
собой...» и др.).
7. «Ты» и «вы» могут быть также субъектно-объектными, предполагающими любого человека вообще, не исключая и самого говорящего. Схематично это можно представить так: ты (вы) = я
(мы) = любой другой:
Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
(«Осенний вечер в скромном городке...»; 3, 28)
Эта форма преобладает в зрелой лирике. Складывается впечатление, что Бродский в стихах 1980—1990 гг. избегает говорить «я».
В стихотворениях, эготивных по своей сути, поэт заменяет первое
лицо на второе. Таким способом он отстраняется от лирического
субъекта и, обобщая его опыт, апеллирует к опыту любого человека. По наблюдению К. Верхейла, Бродский, говоря о сокровенном,
избегал первого лица: «Часто это было что-нибудь личное, но преподнесенное в виде абстрактного суждения или замечания о ком-
то другом, не о нем и не обо мне. ...Далеко не сразу приходило в
голову, что насчет некоторых предметов он высказывался исключительно окольными путями»19. Эта особенность перешла в стихи
и, судя по всему, стала осознанной позицией поэта. «Я считаю
неприличным обращать внимание на себя, — заявил он в одном
интервью. — По-русски... часто используется слово “некто” как
общее понятие. Предпочитаю не говорить “я”, не говорить о че¬
42
И. В. Романова
ловеке, а скоре описывать, что это такое. Не быть назойливым или
сентиментальным. <...> Я действительно склонен насколько возможно обезличивать первое лицо. Помимо прочего, оно поддается описанию. <...>
<...> Ты — не ты, а фигура в пейзаже»20.
Эта тенденция с направленностью «я» на «другого», возрастанием роли синкретических и диалогических форм высказывания
была важнейшей приметой лирики XIX в. и в особенности поэзии
Е. Баратынского21.
Способы выражения лирического адресата
Внутренний лирический адресат — вторая сторона коммуникативной ситуации в лирике. Лирический адресат Бродского может
быть:
1. Эксплицитным. Он выражен либо в форме прямого обращения:
Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
(«Письма римскому другу»; 3, 10), —
либо косвенного обращения к адресату, представленному местоимениями «ты» и «вы» с разной степенью их контекстуальной определенности. При этом в тексте нет слов-обращений, но есть местоимения 2-го лица, соответствующие им формы глаголов и т.д.
Лирический субъект прямо не обращается к адресату, но налицо
внутренняя обращенность его сознания к другому человеку (предмету, явлению), называемому во 2-м лице:
Ты снилась мне беременной, и вот,
проживши столько лет с тобой в разлуке,
я чувствовал вину свою, и руки,
ощупывая с радостью живот,
на практике нашаривали брюки
и выключатель. <...>
(«Любовь»; 2, 417)
Преобладание обращенности над прямым обращением и имитации устной речи над письменной наблюдается в ранней лирике.
В зрелой — ситуация меняется на противоположную.
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
43
2. Имплицитный лирический адресат. Он основан прежде всего на экспрессивной функции языка и косвенно может быть выражен через общий полемический тон, риторические вопросы,
восклицания, чужое слово, подтекст, включение в текст реплики
или диалога и т.п. Имплицитный лирический адресат неконкретен.
Его роль чаще всего выполняет предполагаемый читатель или та
часть общества, которую лирический субъект воспринимает как
своего идейного оппонента (например, толпа). Такой адресат широко представлен в стихах Бродского. По сравнению с эксплицитным адресатом он ведет себя довольно активно.
Чаще всего лирический субъект Бродского обращается к живым людям, включая предполагаемого читателя. Можно уверенно
говорить о доминировании в роли адресата возлюбленной и других поэтов. Несколько реже лирический субъект апеллирует к
вымышленным, мифологическим, литературным персонажам
(Дамон, Постум, Телемак и др.), людям, ушедшим из жизни
(Т. Б., Бобо, Роберт Фрост и др.), Богу, еще реже — к представителям животного мира, природным явлениям и неодушевленным
предметам. Преобладание конкретных адресатов свидетельствует
о том, что коммуникативность Бродского имеет направленный характер. Доминирует дистантная коммуникация — адресат физически не может воспринять обращенную к нему речь. Это одно из
подтверждений одиночества лирического субъекта.
Следует отметить тяготение Бродского к жанру послания. Это
подчеркивается в названиях стихотворений («Письмо к А. Д.»,
«Письма к стене», «Настеньке Томашевской в Крым», «Письмо в
бутылке», «Северная почта», «Ex ponto (Последнее письмо Овидия
в Рим)», «Письмо генералу Z.», «Письма римскому другу», «Письма династии Минь», «Открытка с тостом» и др.). В абсолютном
большинстве случаев ответная реакция адресата (эксплицитного)
отсутствует. Лирика Бродского, по его собственному выражению,
есть «почта в один конец»22.
На вопрос, стремится ли он установить контакт с читателем,
поэт отвечал: «Сочинительство — глубоко личное занятие. Я пишу,
чтобы прояснить некоторые вещи самому себе. А если то же происходит и с читателями, я очень рад»23.
Коммуникативные типы стихотворений:
классификация и эволюция
На основании учета разных способов выражения лирического субъекта, лирического адресата и их сочетаний можно выделить
несколько коммуникативных типов лирических текстов.
44
И. В. Романова
1. Безлично-безадресный тип. Сюда относятся тексты, в которых автор и лирический субъект максимально скрыты. В центре
внимания — какое-либо событие, явление, ситуация, описываемые, как правило, от третьего лица. Отсутствие четко выраженного
субъекта речи сопровождается отсутствием и выраженного адресата. Здесь доминирует тематическая направленность на окружающий мир.
2. Эготивный тип. Он представлен стихотворениями с лирическим субъектом, но без адресата. В них преобладает сосредоточенность на «я».
3. Апеллятивный тип. Стихотворения этой группы организованы как обращение к тому или иному эксплицитному адресату и
выражают направленность поэтического сознания и лирического
субъекта на «ты», другого.
4. Эготивно-апеллятивный тип. В этой группе эготивный текст
осложнен элементами апеллятивного типа (или наоборот) либо
наблюдается построение одной части текста по эготивному принципу, а другой — по апеллятивному. В области тематики наблюдается относительная уравновешенность сфер «я» и «ты».
5. Смешанный тип. Безлично-безадресное изложение сочетается с элементами текстов эготивного типа (эксплицитным лирическим субъектом) и/или апеллятивного типа (содержит обращения,
императивы и т.п.). В этих стихотворениях тематические сферы
«мир», «я» и «ты» (другой) тематически уравновешены.
В отдельных случаях может наблюдаться формально-функци-
ональное несоответствие текстов, входящих в ту или иную группу.
Так, стихотворение «О этот искус рифмы плесть...» формально
безлично-безадресное, а функционально — эготивное, поскольку
выражает точку зрения стихотворца. Такой тип стихотворений
встречается чаще других («Дом тучами придавлен до земли...»,
«Топилась печь. Огонь дрожал во тьме...», «Темно-синее утро в
заиндевевшей раме...» и др.).
Стихотворение «С красавицей налаживая связь...» формально
безлично-безадресное, а функционально принадлежит к смешанному типу. Безлично-безадресный элемент выражается в отсутствии грамматических форм первого и второго лица. Эготивный
элемент (лирическое «я») представлен в обобщенной форме инфинитива («лететь в такси, разбрызгивая грязь»). Апеллятивный элемент дан в последних строках, где есть указание на предполагаемого идеального адресата («Ах! только соотечественник может /
постичь очарованье этих строк!..»).
Стихотворение «Около океана, при свете свечи; вокруг...» из
«Части речи» формально безлично-безадресно-апеллятивное, а
функционально эготивное. Безлично-безадресный элемент выра¬
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
45
жается в преобладании лирического повествования от 3-го лица.
Лирический субъект реализует себя как «ты», во 2-м лице («В деревянном городе крепче спишь»); «я» представлено метонимически через телесные составляющие («Ввечеру у тела, точно у Шивы
рук, / дотянуться желающих до бесценной»; 3, 134). И хотя «я»
повествующее в тексте формально отсутствует, оно проявляется
через восприятие мира («снится уже только то, что было»; «Пахнет свежей рыбой»). Одиночество — тема эготивного типа текстов.
К ним принадлежит и стихотворение «Всегда остается возможность выйти из дому на...», тоже входящее в цикл «Часть речи».
Самый распространенный случай смешения формальных и
функциональных типов — автокоммуникативные стихотворения,
которые оформлены как апеллятивные («Не тишина — немота...»,
«На прения с самим...», «Декабрь во Флоренции» и др.).
Коммуникативные типы текстов в лирике Бродского распределены количественно следующим образом: 1) апеллятивный тип,
2) смешанный, 3) безлично-безадресный, 4) эготивно-апеллятив-
ный, 5) эготивный. Группу «Прочее» составили тексты, не вошедшие в основную классификацию, поскольку они содержат элемент
драматизации. Ведущую позицию занимают тексты с апеллятив-
ным элементом, за ними следуют тексты с безлично-безадресным
элементом. Значительно уступают им тексты эготивного характера.
Сопоставляя количественные показатели, мы установили высокую степень корреляции между типами стихотворений: безлично-безадресный и эготивный (коэффициент корреляции — 0,78),
безлично-безадресный и апеллятивный (0,73), апеллятивный и
эготивно-апеллятивный (0,73)24. Имея материал по другим поэтам,
мы можем утверждать, что высокий коэффициент корреляции
именно между указанными типами — индивидуальная особенность поэтики Бродского.
Стихотворения эготивного типа, которые предположительно
должны преобладать в лирике, составляют у Бродского всего 10%
(«Я всегда твердил, что судьба — игра...», «В озерном краю», «Над
восточной рекой», «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле...» и др.). Обычно подобные стихотворения соотносятся с формами исповеди, дневниковых записей или тяготеют к внутренней
речи. У Бродского они ближе к дневниковым записям, поскольку
в них ощутимо присутствие «я» повествующего, контролирующего форму изложения мысли (например, «Роттердамский дневник»).
Достаточно устойчивый интерес к эготивным стихотворениям
наблюдается с 1962 по 1971, с 1986 по 1988 и в 1990-е гг. Максимальные показатели приходятся на 1963, 1966, 1968, 1971, 1976 и
1986—1988-е гг. Продолжительный отказ от эготивной лирики —
1973—1975 гг. Это время совпадает с первыми годами изгнания.
46
И. В. Романова
В большинстве эготивных текстов лирическое «я» выступает в качестве наблюдателя, а не активно действующего лица.
Эготивно-апеллятивные стихотворения составили 12% («Осень
выгоняет меня из парка...», «Из Парменида», «Примечания папоротника» и др.). Они преобладают в лирике Бродского в 1960-е гг.,
а также в начале 1980-х гг. и в 1993—1994 гг., но в меньшей степени. С 1973 по 1978 г. такие стихотворения постепенно сходят на
нет. Это позволяет сделать вывод о том, что в течение шести лет
эмиграции «я» и «ты» как равноправные миры в поэзии Бродского перестают существовать.
Группа стихотворений безлично-безадресного типа («Еврейское
кладбище около Ленинграда», «Пилигримы», «Морские манёвры»,
«Война в убежище Киприды» и др.) составляет 16%. Максимальные показатели этих стихотворений приходятся на 1963—1964,
1970, 1976 гг. С 1987 г. можно говорить о стабильно невысоком
проценте стихотворений безлично-безадресного типа в поэзии
Бродского.
Полное отсутствие эготивных стихотворений в первой половине 1970-х гг. компенсируется взлетом стихотворений смешанного типа — самых сложных, содержащих элементы безлично-безадресных, эготивных и апеллятивных текстов («Песчаные холмы,
поросшие сосной...», «Мексиканский романсеро», «Пятая годовщина» и др.). Они составляют 25% от всех текстов. Их рост наблюдается в 1963, 1967-1970, 1972, 1975 и 1993 гг. В 1985, 1989-1990
и 1992 гг. они исчезают из репертуара Бродского. Складывается
впечатление, что в самый напряженный момент жизни поэт обращается к наиболее сложным формам лирики — стихотворениям
смешанного типа. Это свидетельствует об усложнении предмета
лирики (окружающий мир, лирическое «я», апелляция к другим
лицам).
Апеллятивные стихотворения («Муха», «Бюст Тиберия», «Памяти отца: Австралия» и др.) занимают господствующее положение в лирике Бродского — 35%. Три «взрыва» апеллятивности приходятся на 1962, 1993 гг. и (самый мощный) на 1964 г. Спады —
соответственно на 1963, 1971 и 1986 гг. Выделенными оказываются драматичные периоды в судьбе Бродского: знакомство с М. Басмановой (1962), арест, нахождение в психбольнице. Душевные
потрясения, связанные с вынужденной изоляцией, обострением
одиночества, неизбежно приводят к попытке средствами лирического творчества установить контакт с миром.
В 1980—1990-е гг. большинство стихотворений носят апелля-
тивный характер лишь формально, по сути приближаясь к эго-
тивному типу. В них Бродский избегает говорить «я». Он заменяет
1-е лицо на 2-е, отстраняясь от своего лирического субъекта и
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
41
обобщая лирический опыт. Тексты переходят в разряд апеллятивных, содержащих косвенное обращение (лирический субъект не
обращается прямо к адресату, но присутствует обращенность его
сознания к другому человеку, предмету, явлению, называемому во
2-м лице).
Раздел «Прочее» (2%) составили нетрадиционные стихотворные формы с элементами драматизации, написанные в форме диалога, и др. Их присутствие отмечается в 1962—1963, 1968—1970 гг.
и в 1990 г.
Кроме того, в поэтическом творчестве Бродского есть произведения, построенные на сложном взаимодействии и взаимозамене разных коммуникативных типов. Их эстетический эффект
строится на том, что текст переключается из одной системы коммуникации в другую, сохраняя в сознании читательской аудитории
связь с обеими25.
Таким образом, систематически отмеченными в творчестве
Бродского оказываются три периода: это (с некоторыми погрешностями) 1963—1964, 1972—1976 гг. и 1993 г.
Первый и третий периоды в целом наиболее плодотворны. Для
1963 г. характерно увеличение стихотворений безлично-безадресного, эготивного, смешанного типов, а также нетрадиционных
стихотворных форм, составивших группу «Прочее», и уменьшение
произведений апеллятивного, эготивно-апеллятивного типов.
В 1964 г. наблюдается рост апеллятивных, безлично-безадресных,
эготивно-апеллятивных, эготивных текстов и спад смешанных.
Период 1972—1976 гг. отмечен противоположной тенденцией: спад
показателей текстов разных типов с апеллятивным элементом
(апеллятивных, эготивно-апеллятивных), нулевой показатель текстов из раздела «Прочее» и рост безлично-безадресного, эготивного и смешанного типов стихотворений. Для 1993 г. характерны
высокие показатели текстов апеллятивного, безлично-безадресного, эготивно-апеллятивного, смешанного типов, стихотворений из
раздела «Прочее» и низкие показатели эготивных стихотворений.
По признанию Бродского, переломным для него был конец
1962 г. (что почти совпадает с нашими показателями): «...я вдруг
понял, что стал не то чтобы новым человеком, но что в то же тело
вселилась другая душа. И мне вдруг стало понятно, что я — это
другое я. С тех пор такого порядка перемен со мною, пожалуй, не
происходило»26. В это время было написано стихотворение «Все
чуждо в доме новому жильцу...». Поэт выразил в нем обновленное
восприятие мира, запечатлев себя в образе нового жильца в старом
доме.
Как известно, Бродский возражал против того, чтобы гонения,
суд, ссылку рассматривать как нечто фатальное. «Я отказываюсь
48
И. В. Романова
все это драматизировать!» — решительно заявлял он27. Наши наблюдения позволяют уточнить суждение поэта. Все эти события
существенным образом повлияли на его творчество. По крайней
мере, об этом говорит коммуникативная структура лирики Бродского.
Мы не ставили цель соотносить изменения в идиостиле с биографией поэта. Нам было важно выделить переломные этапы в
поэтическом развитии Бродского в соответствии с коммуникативной структурой его лирики. Это может помочь в составлении периодизации творчества с учетом объективных показателей, т.е.
учитывающих эволюцию лирики как эволюцию стиховых форм.
1 Коммуникативный аспект лирики становился предметом рассмотрения в работах: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Russ.
Lit. 1992. Vol. 31, No. 3. P. 375—392; Она же. Ландшафт лирической личности в поэзии Иосифа Бродского // Literary Tradition and Practice in
Russian Culture. Amsterdam, 1993. P. 229—245; Она же. Метаморфозы «Я»
в поэзии постмодернизма: Двойники в поэтическом мире Бродского //
Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V: Модернизм и постмодернизм в
русской литературе и культуре. Helsinki, 1996. С. 391—407; Куллэ В. Структура авторского «я» в стихотворении Иосифа Бродского «Ниоткуда с любовью» // Новый журнал. 1990. Кн. 180. С. 159—172; Калашников С. Б.
Поэтическая интонация в лирике И. А. Бродского: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. Волгоград, 2001; Медведева Н. Г. «Портрет трагедии»: Очерки поэзии Иосифа Бродского. Ижевск, 2001; Козицкая-Флейшман Е. А.
«Я был как все»: О некоторых функциях лирического «ты» в поэзии
И. Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003. С. 107—127;
Житенёв A.A. Онтологическая поэтика и художественная рефлексия в лирике И. Бродского: Автореф. дис.... канд. филол. наук. Воронеж, 2004; Романов И. А. Лирический герой поэзии И. Бродского: Преодоление маргинальное™ Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2004.
2 Винокур Г. О. Биография и культура. М., 1927. С. 78—83.
3 Виноградов В. В. Проблема сказа в стилистике // Поэтика: сб. ст. Л.,
1926. [Вып.] 1. С. 38—39; Он же. О символике А. Ахматовой //Лит. мысль:
альм. Пг., 1922. [Вып.] 1. С. 136.
4 Тынянов Ю. Н. Промежуток // Тынянов Ю. Н. Поэтика. История
литературы. Кино. М., 1977. С. 170.
5 Гинзбург Л. О лирике. 2-е изд., доп. Л., 1974. С. 8.
6 Там же. С. 7.
7 Бахтин М. М. Автор и герой в эстетической деятельности // Бахтин М. М. Работы 20-х годов. Киев, 1994. С. 97.
8 Там же. С. 224.
9 Корман Б. О. О целостности литературного произведения // Избр.
труды по теории и истории литературы. Ижевск, 1992. С. 120.
Субъектно-объектная структура лирики Бродского
49
10 Руссова С. Н. Автор и лирический текст. М., 2005.
11 Левин Ю. И. Лирика с коммуникативной точки зрения // Избр. труды: Поэтика. Семиотика. М., 1998. С. 464—480.
12 Бройтман С. Н. Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической поэтики (субъектно-образная структура). М., 1997.
13 Основная модель коммуникации представлена в работе: Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика // Структурализм: «за» и «против». М.,
1975. С. 193-230.
14 Шмид В. Нарратология. М., 2003. С. 40.
15 Там же.
16 О посланиях Бродского см. подробнее: Артёмова С. Ю. О жанре
письма в поэзии И. Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003.
С. 128—139; Романова И. В. Послания И. Бродского // Русская филология.
Смоленск, 2006. С. 226—241. (Учен. зап. / Смол. гос. пед. ун-т; Т. 10).
17 Об этом подробнее см.: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского; Она же. Ландшафт лирической личности в поэзии Иосифа Бродского.
18 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. / Сост. и подгот.
изд. Г. Ф. Комарова. СПб., 1992. Т. 1. С. 20.
19 Верхейл К. Фрагмент об Иосифе // Верхейл К. Танец вокруг мира.
Встречи с Иосифом Бродским. СПб., 2002. С. 21—22.
20 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 322.
21 Об этом подробнее см.: Бройтман С. Н. Русская лирика XIX — начала XX века в свете исторической поэтики. С. 86, 99—100.
22 См.: Артёмова С. Ю. Автокоммуникация в посланиях И. Бродского // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. Филология. 2007. № 28(56). С. 112—121.
23 Бродский: кн. интервью. С. 135.
24 Коэффициент корреляции вычислялся путем использования функции КОРРЕЛ.
25 См. наши публикации: Романова И. В. О двух моделях коммуникации: поэма-мистерия И. Бродского «Шествие» // Двадцатый век — двадцать первому веку: Юрий Михайлович Лотман. Смоленск, 2003. С. 69—80;
Она же. Диалог лирического героя И. Бродского с Богом // Филол. науки.
2006. № 3. С. 13—21; Она же. «Прощальная ода» И. Бродского в свете
моделей коммуникации Ю. М. Лотмана//Язык. Человек. Культура: В 2 ч.
Смоленск, 2005. Ч. 1. С. 290—297.
26 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 168.
27 Там же. С. 76.
О. В. Зырянов
Екатеринбург
ЖАНРОВОЕ САМОСОЗНАНИЕ
БРОДСКОГО
(к вопросу о жанровой авторефлексии поэта)
Фигура И. А. Бродского — своего рода метонимия всей русской поэзии второй половины XX столетия — особенно репрезентативна для эпохи постмодернизма, ознаменованной, как известно, кардинальными жанровыми сдвигами в литературном
сознании, по сути, даже (как нередко декларируется в исследованиях) кризисом жанрового мышления. Вместе с тем именно для
поэзии Бродского, зараженного «нормальным классицизмом»
(2, 135), наиболее типичными оказываются трансформация жанровых форм, выработка определенных стратегий жанрового мышления, специфических, иначе говоря, собственно жанровых,
способов миромоделирования, характерных для современной эстетической практики, так называемой «поэтики художественной
модальности» (термин С. Н. Бройтмана).
Сущность новой эстетической ситуации, серьезно обостренной многочисленными экспериментами постмодернистского толка, как раз и заключается в том, что на практике становится все
сложнее идентифицировать природу жанра. Это объясняется его
уходом «с поверхности в ядерные глубины произведения»1 и, вообще, усиливающейся тенденцией к деканонизации всей жанровой системы лирики. Особый интерес в этой связи представляет
жанровое самосознание поэта, предполагающее различные формы
метажанровой рефлексии и выражающееся в индивидуальных
жанровых стратегиях, или, другими словами, в свойственных индивидуальному авторскому сознанию вариантах (траекториях,
модусах) жанрового развития. Заметим, что в случае с жанровым
самосознанием художника речь должна идти не просто о бытовании тех или иных жанровых форм в его творчестве, но о
включенности жанровой традиции («память жанра») в художе-
ственно-перерабатывающую активность авторского сознания.
Преднамеренно-активный характер творческого диалога с жанровой традицией, иногда даже откровенное экспериментирование с
жанровым каноном, установка на постижение креативных возможностей жанра — вот наиболее существенные проявления фено¬
Жанровое самосознание Бродского
51
менологии жанрового сознания в эпоху индивидуально-авторской
эстетики.
Наследующая эпохе рефлективного традиционализма и одновременно полемически от нее отталкивающаяся, эстетика рефлективного персонализма обостряет сам принцип метажанровой рефлексии. Далее нас будет интересовать жанровая авторефлексия,
которая непосредственно отражена в произведении. Вербальное
эксплицирование элементов жанровой рефлексии, проявленные в
тексте знаки жанровой интенциональности авторского сознания
будем именовать жанровыми рефлексивами2. Соотношение жанровых номинаций и жанровых рефлексивов таково, что первые признаются лишь частным случаем жанровой авторефлексии. По
месту в тексте все жанровые рефлексивы можно разграничить следующим образом:
• рефлексивы, входящие в так называемый заголовочный комплекс (заглавие, эпиграф, подзаголовок, авторское предисловие);
• внутритекстовые рефлексивы — жанровая интертекстуальность, жанровый метатекст, или авторские примечания метатек-
стуального характера;
• рефлексивы, содержащиеся в авторских комментариях, инкорпорируемых в основной текст (например, примечания к отдельным стихотворным строчкам, состав финального комплекса,
авторское послесловие);
• рефлексивы, содержащиеся в контекстных комментариях
(авторские примечания, хронологически дистанцированные от основного текста).
К сфере собственно жанровой номинации могут быть отнесены любые из вышеперечисленных видов рефлексивов, эксплицирующих то или иное жанровое имя. В плане жанровой авторефлексии поэзия Бродского особенно показательна. В орбиту жанрового
самосознания поэта включается целый ряд канонизированных в
европейской традиции жанров и строгих стиховых форм: ода, элегия, идиллия (эклога), песня, романс, баллада, антология, послание (письмо), басня (притча), сонет, отрывок, подражание, цикл
и др. Сюда же следует отнести и окказиональные жанровые номинации, такие как «доклад», «диалог», «дневник», «заметка для энциклопедии», «комментарий», «инструкция», «ответ на анкету»,
«неоконченное», «вариант», «строфы» и т.п. Отмеченные пересекающиеся ряды жанровых номинаций составляют, по сути, номенклатуру жанрового самосознания Бродского.
Отметим также, что почти каждый из перечисленных жанров
осуществляет стратегию развития, в которой выделяются, с одной
стороны, полемически-пародийное (ироническое) «остранение»,
травестийная трансформация известного в историческом плане
жанрового канона (или, точнее, жанровой парадигмы3), а с дру¬
52
О. В. Зырянов
гой — творческое освоение и обновление жанровой традиции, своего рода реконструкция исходного «жанрового архетипа». Следует
признать, что в Бродском мы находим носителя именно такого
конструктивного мышления жанрами. Это положение истинно
даже для тех случаев, когда налицо откровенное травестирование
классических (канонических) жанров. И в этом случае эстетическая практика поэта демонстрирует не деструкцию или разрушение
жанра, а его творческую реконструкцию и реинтерпретацию, т.е.
творческий диалог с жанровой традицией.
Особенность жанрового сознания Бродского базируется на
рационалистических принципах миромоделирования, что выражается в авторской рефлексии (особенно это касается стихотворений,
содержащих жанровую атрибуцию или представляющих жанровое
самоопределение поэта), а также в конструктивном мышлении
жанром, нередко задающем самостоятельную тему поэтического
высказывания. Этим И. Бродский существенно отличается от своего младшего современника Т. Кибирова, чье «жанровое раблези-
анство» (термин С. Гандлевского) обеспечивается, как правило,
установкой на перепев или создание «вторичного жанра» — результата именно жанрового подражания и стандартизации жанрового
канона4. Творческий характер и рационалистические основания
жанрового самоопределения Бродского подводят поэта к пониманию жанра как продуктивной категории и полноценного гаранта
художественной целостности. Не случайно, по замечанию одного
из исследователей, «главным творческим методом Бродского на
этом пути стал вновь переосмысленный метод поэтической (или
творческой) реинтерпретации, позволивший ему поднять значимость поэтического слова второй половины XX века на высоту,
достигнутую ранее Ломоносовым, Державиным, Пушкиным и
поэтами Серебряного века, создать поле собственной традиции»5.
Не ставя цель исчерпать всю систему жанрообразовательных
тенденций в поэзии Бродского, остановимся лишь на самых, по
нашему мнению, важных и показательных случаях.
Один из ранних и уникальных опытов метажанровой рефлексии — поэма «Шествие» (1961). Авторский подзаголовок «Поэма-
мистерия в двух частях-актах и в 42-х главах-сценах» актуализирует
развертывание некоего театрального представления, разыгрывающегося на сценической площадке. Подтверждением становится
знаменательная оговорка автора по ходу действия «пьесы» (здесь
и далее выделения в цитатах принадлежат автору статьи. — О. 3.)\
Итак, за сценой нарастает джаз,
и красные софиты в три луча
выносят к рампе песню Скрипача.
(I 95)
Жанровое самосознание Бродского
53
Однако для нас интереснее даже не это, а то, что составные
части поэмы (главы или сцены) четко определены автором в
жанровом отношении: романс, баллада, элегия, комментарий.
В основных персонажах поэмы заданы, по словам Бродского,
«персонификации представлений о мире». Именно ролевая позиция персонажей определяет всякий раз жанровые модусы романса или баллады.
О романсе автор пишет в предисловии к поэме: «Романс —
здесь понятие условное, по существу — монолог. Романсы рассчитаны на произнесение — и на произнесение с максимальной
экспрессией... Романсы, кроме того, должны произноситься высокими голосами: нижний предел — нежелательный — баритон,
верхний — идеальный — альт» (1, 79). Итак, романс — это тот же
монолог, но с произносительной экспрессией. Песенность, музыкальность, строфическая организация, синтаксическая упорядоченность, лексический повтор с усилением и градацией — таковы
отличительные черты романса. Романс, по сути, «маленький рассказ» от лица ролевого персонажа. Вообще, для Бродского (как и
некогда для Пушкина, создателя первого «романа в стихах») различие между автором и персонажем принципиально:
Горюй, горюй, попробуем сберечь
всех персонажей сбивчивую речь,
что легче, чем сулить и обещать,
чем автора с героями смешать,
чем, вздрагивая, хмыкая, сопя,
в других искать и находить себя.
{1, 94-95)
Баллада — тот же романс, но только, как правило, рассказ от
3-го лица (например, «Баллада КОРОЛЯ»). Но даже в том случае,
когда баллада смыкается с романсом (монологом от 1-го лица), она
отличается от него драматическим характером сюжетного развития, повышенной долей художественного вымысла, литературной
условности (например, «горестная история» «Баллада ЛЖЕЦА»).
Драматизированная природа романса, генетически связанная с
балладой, заставляет припомнить архетипическую форму античной трагедии. Именно этим обстоятельством мотивирован в «Романсе для ЧЕСТНЯГИ и ХОРА» драматический конфликт героя
(с ярко выраженной личностной позицией) и обезличенной толпы, что отсылает к пушкинскому контексту («Поэт и толпа», «Не
дай мне, Бог, сойти с ума...»).
К романсу близка жанровая форма «ГОРОДСКОЙ ЭЛЕГИИ»,
которая не случайно сопровождается подзаголовком «Романс
54
О. В. Зырянов
УСТАЛОГО ЧЕЛОВЕКА». Отличие этих двух смежных жанров
(романса и элегии) прослеживается прежде всего на стиховом
уровне: при соблюдении строфической организации (восьмистишия драматического 5-ст. ямба) Бродский в элегии позволяет себе
более тонкое варьирование перекрестной и опоясывающей рифмовки.
От романса (уровень сюжетно-фабульный) следует отличать
систему комментариев — еще один «внутренний» жанр, инкорпорированный в структуру поэмы-мистерии. Авторский «комментарий» задает метатекстовый уровень, что предполагает, как в
пушкинском романе в стихах, «свободную болтовню» и игру с читателем (курсивом в цитатах отмечены приемы метажанровой рефлексии. — О. 3.)\
Читатель мой, куда ты запропал.
Ты пару монологов переспал,
теперь ты посвежел, сидишь, остришь,
а вечером за преф или за бридж
от нового романса улизнешь,
конечно, если раньше не заснешь;
О, 94)
Но, Боже мой, останемся в надежде,
что все же нам удастся преуспеть:
вам — поумнеть, а мне — не поглупеть;
(1, 104)
Я затянул, что дальше и нельзя.
Но скоро все окончится, друзья.
Да слишком долго длился мой рассказ —
часы не остановятся для вас;
(Л 120)
Закончим нашу басню в ноябре6.
В осточертевшей7, тягостной игре
не те заводки, выкрики не те,
прощай, прощай, мое моралите
(и мысль моя, как белочка и круг).
Какого чорта в самом деле, друг!
(Л т
Но кто-то пишет далее меня.
Вот пешеход по городу кружит,
и снегопад вдоль окон мельтешит,
Жанровое самосознание Бродского
55
читатель мой, как заболтались мы,
глядишь — и не заметили зимы;
(7, 126)
Ни у кого прощенья не прошу
за все дурноты.
(1, 133)
На метрическом уровне от романсов и баллад комментарии
отличаются более свободной (аморфной), астрофической структурой: если внутри комментариев и выделяются некие композиционные части, то они больше похожи (по форме) на прозаические
абзацы.
В содержательном плане автокомментарии отличаются аналитической дискурсивностью, что совершенно не свойственно романсам. Пожалуй, единственное исключение в «Романсе принца
ГАМЛЕТА» — реплика заглавного персонажа, переводящая его из
статуса ролевого героя в статус поэта-автора: «Гораций мой, я в
рифму говорю!» (1, 130). Уникальный случай сближения (почти
до идентичности) позиций автора и героя — «Романс ПОЭТА».
Именно в этом романсе ведущей темой становится «боль души»,
правда пока еще ограниченная исключительно сферой любви:
Всё мальчиком по жизни, о любовь,
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души.
(186)
Только в более позднем «Комментарии», высказываясь на
сходную тему, но серьезно расширяя ее до сферы жизни и творчества вообще, автор позволит себе некое итоговое резюме:
— Как велики страдания твои.
Но, как всегда, не зная для кого,
твори себя и жизнь свою твори
всей силою несчастья твоего.
а т
На материале «Шествия» можно видеть, как нестандартно обходится поэт с каноническими жанрами (элегия, романс, баллада).
Нечто подобное происходит у Бродского с другими жанрами и
жанрово-композиционными формами: например, идиллией (эклогой), басней (притчей) и сонетом. На это указывает огромный
массив поэтических текстов, заключающий в себе ту или иную
56
О. В. Зырянов
жанровую номинацию: например, «Большая элегия Джону Донну», «Стрельнинская элегия», «Почти элегия», «Римские элегии»,
«Лесная идиллия», «Полевая эклога», «Эклога 5-я (летняя)», «Послесловие к басне», «Развивая Крылова», «Сонет», «Сонетик» и т.д.
Обращение к подобным текстам (что сделано пока избирательно8) — при условии соблюдения исчерпывающей полноты и строгости хронологического порядка — позволило бы уточнить феноменологию жанрового сознания Бродского, определить персональные стратегии жанрообразования.
Не имея возможности проследить вышеуказанные жанровые
«траектории» в поэзии Бродского, остановимся лишь на одном
красноречивом варианте переосмысления поэтом традиционно
канонического жанра — стихотворении «Мужик и Енот (Басня)».
Жанровый подзаголовок здесь принципиален, так как определяет
всю систему читательских конвенций. Казалось бы, басня во времена Бродского — безнадежно устаревший, почти отживший жанр.
Вместе с тем басня близка поэту своей рационалистичностью и —
одновременно (традиция, идущая еще от А. Сумарокова и И. Крылова) — спонтанной анекдотической структурой, возможностями
сказового повествования.
Обращение в новое время к архаическому жанру свидетельствует, как может показаться, об иронической установке Бродского
на использование жанрового «ярлыка»9. Подтверждают это и слова басенного героя Енота:
Но одного не понимаю я:
как все-таки не стыдно Мужику
примеры брать у дикого зверья?
(2, 382)
Мужик — еще один басенный персонаж, выступающий в роли
шаржированного баснописца: «порывшись в ладном сюртуке», он
достает «блокнот и карандашик, без / которых он не выходил из
дома», и заключает следующую сентенцию: «Сильнейший побеждал. Слабейший — нет» (2, 382). Образ «ученого мужика» (или
мужа) заставляет вспомнить его прототипа — автора теории происхождения человека от обезьяны — Ч. Дарвина. Дискредитация
теории вызвана тем, что «Мужик наш был ученым мужиком, / но
с языком животных не знаком» (2, 382). Стихотворение, таким
образом, может рассматриваться как «басня в басне». Мужик наблюдает процесс, из которого выводит «обезьянью» теорию, а за
всем этим следит современный баснописец-ироник. Ему ведом
«остраняющий» язык Енота (животного мира), позволяющий за
человеческим «нечто обезьяньим» усмотреть настоящую «чело¬
Жанровое самосознание Бродского
57
веческую комедию». Финальный фрагмент басни подтверждает эту
мысль:
Но слова «обезьянье» странный звук
застрял в мозгу. И он всегда, везде
употреблял его в своем труде,
принесшем ему вскоре торжество
и чтимом нынче, как Талмуд.
Что интереснее всего,
так это то, что за подобный труд
ему, хоть он был стар и лыс,
никто гортань не перегрыз.
(2, 383)
Ирония заключительной фразы состоит в ниспровержении
теории самого Мужика — теории «борьбы за существование», согласно которой побеждает сильнейший, а слабейший (в данном
случае «старый и лысый») — проигрывает. Торжество практической мудрости над абстрактным теоретизированием — исходная
установка жанра басни. Стоящая за жанром нормативная программа, «некоторое долженствование», обнаруживаемое в авторской
метажанровой рефлексии, не дает до конца утратить «ощущение
жанра»10.
Однако Бродский использует и более радикальные возможности реформирования жанровой системы лирики. На примере использования поэтом сонетной формы мы уже отмечали эффект
своего рода драматического напряжения между тем, что говорится
в стихотворении (вполне современное и провокационное содержание), и формой (классически строгой и регулярной в случае с
сонетным каноном)11. В одном из интервью Бродский высказывался об этом так: «Если же вы придадите стихотворению определенную форму, например форму сонета, людям это покажется необычным. Эта форма им знакома. Но они считали сонеты чем-то
величественным. Одну и ту же вещь можно воспринимать по-раз-
ному. Вы прогуливаетесь по улице и видите на ней нечто ужасное.
Эта вещь ужасна не сама по себе, а потому, что она происходит на
улице, где, предполагается, должны царить спокойствие и порядок.
Современное содержание, облеченное в строгую форму, выглядит
как автомобиль, едущий на автостраде не по той полосе»12. «Ужасное» нарушение установившегося спокойствия и классического
порядка, свойственных жанровому канону сонета, как раз и демонстрируют многочисленные примеры сонетных форм Бродского —
часто вообще нерифмованных и не соблюдающих правила внутреннего синтаксического членения, но практически никогда не
отступающих от традиции 5-ст. ямба.
58
О. В. Зырянов
Помимо уже рассмотренной тенденции — творческого переосмысления канонических жанров — поэзия Бродского демонстрирует достаточно богатый опыт жанрообразования, выражающийся в освоении «внутренних жанров сознания» (термин
М. М. Бахтина)13, в создании окказиональных жанровых форм,
своеобразных квази- и идиожанров14. Используемые поэтом разного рода стихотворные эссе («доклад для симпозиума», «заметка для
энциклопедии», «примечание к прогнозам погоды» и др.), ряд
чисто музыкальных композиций («ноктюрн», «менуэт», «полонез»,
«интермеццо», «дивертисмент» и др.) — все это, можно сказать,
«внутренние жанры» сознания Бродского. Каковы их статус и механизм участия в трансформации классических литературных жанров? Способны ли они развиться в общезначимое культурное явление и тем самым положить начало новой жанровой традиции?
Эти вопросы задают проблемное поле научных исследований15.
Иногда даже кажется, что от привычных или окказиональных
жанровых дефиниций поэт движется к совершенно свободному и
не закрепощенному никакими жанровыми стереотипами процессу письма. Формирующаяся при этом медитация-эссе — по сути,
основная и самая свободная жанрово-архитектоническая форма —
позволяет Бродскому оформить сам процесс мышления в виде
особого лирико-философского дискурса. Иными словами, позволяет избавить поэта «от необходимости — прости за дерзость — /
объяснять самый факт письма» (2, 174). В уже цитируемом стихотворении «Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...» формируется достаточно оригинальная концепция поэтического языка:
Так утешает язык певца,
превосходя самоё природу,
свои окончания без конца
по падежу, по числу, по роду
меняя, Бог знает кому в угоду,
глядя в воду глазами пловца.
(2, 175)
Субъектом письма у Бродского становится сам язык, превосходящий природу (и человеческую в том числе), присваивающий
себе в ходе процесса письма антропологические черты, или «взгляд
пловца».
Но и в этом случае лирико-философский дискурс Бродского
отливается в некие устойчивые стиховые формы, начиная, к примеру, сближаться с так называемой «большой лирической формой»16, на языке пушкинской эпохи получившей название «капитальной пьесы». И. Л. Альми совершенно справедливо отметила,
что «среди современных поэтов к большой лирической форме
Жанровое самосознание Бродского
59
чаще всего обращается Иосиф Бродский. Она [большая лирическая форма. — О. 3.] соответствует общим свойствам его поэтического стиля — “распространенности”, склонности к исчерпывающей полноте, к собиранию оттенков и деталей. Становясь в
творчестве Бродского господствующей, большая лирическая форма перестает осознаваться как самостоятельное жанровое образование: исчезает “фон”, подчеркивающий ее особость. Думается,
однако, что это не конец бытия жанра, а скорее явление индивидуальной художественной манеры»17.
В этом высказывании для нас важны, по крайней мере, два
момента: во-первых, указание на прямое соответствие жанра и
стиля (по известной бахтинской схеме: «где стиль, там и жанр»);
во-вторых, указание на автономный статус большой лирической
формы, занимающей у Бродского господствующее положение и
потому не нуждающейся в контрастном жанровом «фоне». Однако и здесь следует заметить, что большая лирическая форма отливается у поэта в строго строфическую (точнее, даже стансовую)
композицию. Использование строфических, гипер- и квазистро-
фических образований, нередко пронумерованных, — типичный
прием в поэзии Бродского, характеризующий, как правило, стихотворения большого лирического формата18. В пользу большой
лирической формы свидетельствует жанровая номинация «строфы» (например, «Строфы», 1968; «Строфы», 1978; «Венецианские
строфы»; 1982). Отлаженная стансовая структура отличает написанные в разное время стихотворения: «Речь о пролитом молоке», «Роттердамский дневник», «Лагуна», «Литовский ноктюрн»,
«Осенний крик ястреба», «Муха» и др.
Таким образом, в свете феноменологии жанрового сознания
поэта становится объяснимым, что «внешние» жанры, или «отвердевшие» в виде отдельных жанровых парадигм (жанровых канонов)
мировоззрительные структурно-содержательные формы, превращаются в специфические «образы» жанров. В свою очередь, «внутренние жанры сознания», или окказионально-авторские жанровые
формы, приобретают конвенциональную устойчивость и стилевую
определенность, выступая в роли одного из ведущих жанрообразующих факторов. Такова, как представляется, жизнь жанра в условиях эстетической практики Новейшего времени, о чем свидетельствует, в частности, процесс жанрообразования в поэзии
Бродского.
1 Бройтман С. Н. Историческая поэтика: учеб. пособие. М., 2001.
С. 363.
2 Обоснование данного понятия см.: Зырянов О. В. Жанровые рефлек-
сивы в свете исторической поэтики // Дергачевские чтения — 2008: Рус¬
60
О. В. Зырянов
ская литература: национальное развитие и региональные особенности:
проблема жанровых номинаций. Екатеринбург, 2009. Т. 1. С. 80—91.
3 В разграничении содержательного объема терминов канон — парадигма мы опираемся на идеи М. Н. Виролайнен (см.: Виролайнен М. Н. Речь
и молчание: Сюжеты и мифы русской словесности. СПб., 2003. С. 19—21).
Отмеченная исследовательницей терминологическая оппозиция оправдывает себя не только в «структуре культурного космоса русской истории»,
но и в конкретно-исторической сфере жанрового развития. О жанровом
каноне — не столько наборе принудительных правил письма, сколько
некоем персонифицированном образе, слившемся почти до неразличимости с классическим образцом, — см.: Бройтман С. Н. Историческая поэтика. С. 218.
4 Кибиров Т. Сантименты: Восемь книг. Белгород, 1994. С. 9. В заглавия стихотворений Кибирова также нередко входят те или иные жанровые
номинации: идиллия, эклога, романс, баллада, послание, эпистола, эпитафия, песня (песнь), русская песня, вариация, переложение псалма, цикл,
диптих и пр. Подобное явление в предисловии к книге стихов Кибирова
«Сантименты» С. Гандлевский и окрестил «жанровым раблезианством».
5 Фокин А. А. К вопросу о поэтической реинтерпретации (на материале творчества Иосифа Бродского) // Дергачевские чтения — 2000: Русская
литература: национальное развитие и региональные особенности. Екатеринбург, 2001. Ч. 2. С. 327.
6 Поэма содержит датировку и послетекстовый топоним: «сентябрь,
октябрь, ноябрь 1961. Ленинград».
1 Не потому ли «ЧОРТ!» становится последним монологом-сценой в
поэме.
8 См., например: Курганов Е. Бродский и искусство элегии // Иосиф
Бродский: творчество, личность, судьба. Итоги трех конференций. СПб.,
1998. С. 166—185; Шерр Б. «Эклога 4-я (зимняя)» (1977), «Эклога 5-я (летняя)» (1981) // Как работает стихотворение Бродского: Из исслед. славистов на Западе. М., 2002. С. 159—171; Глебович Т. А. Трансформация классических жанров в поэзии И. Бродского: эклога, элегия, сонет: Автореф.
дис. ... канд. филол. наук. Екатеринбург, 2005; Федотов О. И. Сонеты
Иосифа Бродского // Славянский стих. VIII: Стих, язык, смысл. М., 2009.
С. 84-119.
9 Об этом подробнее см.: Глебович Т. А. Трансформация классических
жанров в поэзии И. Бродского. С. 8.
10 Гинзбург Л. Я. Опыт философской лирики (Веневитинов) // Поэтика. JL, 1929. [Вып.] 5. С. 96. В других своих «баснях» Бродский, по сути,
развивает (ср. характерное название стихотворения «Развивая Крылова»)
сюжет известной басни «Ворона и Лисица», насыщая его глубоко личным,
интимным содержанием. Предельно лиризуя традиционный басенный
сюжет, поэт идентифицирует себя с «еврейской птицей» Вороной, а свое
поэтическое ремесло — с «картавой» речью. В поэзии Бродского, таким
образом, складывается цельный, если так можно выразиться, инвариант¬
Жанровое самосознание Бродского
61
ный «вороний» сюжет. См. об этом специальное исследование: Пярли Ю.
Память текста и текст как память // Тр. по знаковым системам. Tartu, 1999.
Vol. 27. P. 182-195.
11 См.: Зырянов О. В. Сонетная форма в поэзии И. Бродского: жанровый статус и эволюционная динамика // Поэтика Иосифа Бродского.
Тверь, 2003. С. 230-241.
12 Бродский И. Большая книга интервью. 2-е изд., испр. и доп. М., 2000.
С. 32.
13 Напомним высказывание М. М. Бахтина: «Можно сказать, что человеческое сознание обладает целым рядом внутренних жанров для видения и понимания действительности. Одно сознание богато жанрами, другое — бедное, в зависимости от того, какова идеологическая среда данного
сознания» (Медведев П. Н. Формальный метод в литературоведении. М.,
1993. С. 149).
14 Понятие идиожанра (по аналогии с понятием идиолект) на материале
лирики Тютчева обосновывает Ю. Н. Чумаков, предпочитая в данном случае говорить не просто о внежанровом или «некоем наджанровом образовании», но более определенно — о статусе «твердого лирического идиожанра» (Чумаков Ю. Н. Заметки об идиожанрах Ф. И. Тютчева // Сибир. филол.
журн. 2003. № 3/4. С. 5—6). Иное понимание идиожанра см.: Иванюк Б. П.
Идиожанр: к постановке проблемы // Автор как проблема теоретической и
исторической поэтики: В 2 ч. Минск, 2007. Ч. 1. С. 54—57.
15 О сближении, например, отдельных свойств стихотворной речи
Бродского с джазовой поэтикой см.: Петрушанская Е. Джаз и джазовая
поэтика у Бродского // Как работает стихотворение Бродского. С. 250—
268. Здесь же приведена библиография по данному вопросу.
16 Суть этой жанровой формы И. JI. Альми усматривает в следующем:
«объем, превышающий средний размер лирического стихотворения (на
грани с поэмой); захват эпического материала, обработанного лирическими методами; повышенная роль образа лирического героя как явно
ощутимого центра лирического произведения; строй размышления и связанный с ним эффект “говорения”, выражающийся, в частности, в особенностях строфического членения; фрагментарность, размытость композиционной рамки» (Альми И. Л. Большая лирическая форма в русской
поэзии. Генезис и характер развития // Альми И. JI. О поэзии и прозе.
СПб., 2002. С. 492). Исследовательница отмечает, что данная жанровая
форма реализует себя лишь по контрасту (или на фоне) с господствующей
в лирике малой формой (в частности, лирической миниатюрой или фрагментом).
17 Там же. С. 494.
18 Обстоятельный обзор строфики Бродского см.: Шерр Б. Строфика
Бродского: новый взгляд // Как работает стихотворение Бродского.
С. 269-299.
А. А. Александрова
Москва
ЦАРСТВО ЯЗЫКА: МИФ О ВОЗДУХЕ
В ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ
БРОДСКОГО
Семантика стихии воздуха имеет богатую литературную традицию1. Изображение серафических сфер находим у любимых Бродским Данте («Божественная комедия»), Мильтона («Потерянный
рай»), в поэзии Дж. Донна. В русской поэзии XIX в. аналогичный
панорамный взгляд и онтологическая вертикаль земля—небо характерны для М. Лермонтова2 и Ф. Тютчева. Новый всплеск интереса к семантике стихий приходится на период Серебряного
века. Воссоздание «мира идеального» в творчестве символистов,
связанное в том числе и с олицетворением воздушной стихии, базируется на их обращении к платонизму и его учении об «эйдо-
сах»3, а также на интересе к эзотерике, каббалистике, различным
религиозным учениям. «Неосакрализация» воздушной стихии,
унаследованная от символистов, представлена в творчестве повлиявших на И. Бродского М. Цветаевой и О. Мандельштама, для
которого воздух является средой культуры, имеет «и плотность, и
вес, и цвет»4. Бродский следует манделыитамовской традиции
изображения воздуха как дыхания культуры (влажный воздух Венеции и Петербурга, сухая духота Мексики в эссе «Посвящается
позвоночнику»), однако его воздух не плотен, как у Мандельштама, он не имеет ни цвета, ни вкуса, ни запаха. На изображение
воздуха Бродским повлияла и его личная привязанность к небесным сферам: в детстве он мечтал стать летчиком, был увлечен творчеством А. де Сент-Экзюпери, пытался научиться управлять самолетом5.
Поэтому не случайно «лирический эпос» раннего Бродского6
(«Большая элегия Джону Донну», 1963; «Пришла зима, и все, кто
мог лететь...», 1964; «Исаак и Авраам», 1963; неоконченная поэма
«Столетняя война», 1963; «Горбунов и Горчаков», 1968) выражает
напряженность диалога с небом. Знаками участия неба в судьбе
героев становятся снег, дождь, ветер, а медиаторами воли Божества — ангелы и птицы. Воздушные сферы резонируют с внутренним состоянием героев Бродского, определяют лирический сюжет.
Примыкающая к «лирическому эпосу» «Прощальная ода» отличается особой, сугубо интимной интонацией «диалога»: она была
написана в Тарусе в январе 1964 г. перед судом как отклик на лич¬
Царство языка: миф о воздухе в поэтическом творчестве..
63
ную драму поэта. В обращении к Богу «зимних небес» лирический
герой свидетельствует о своей боли, причиной которой стала измена героини. Боль, страсть, предчувствие смерти сливаются в
единый напряженный ритм стихотворения. На протяжении текста
герой мучительно жаждет какого-то выхода, полета вверх, не отягощенного мыслями о смерти и потере любви:
Боже, услышь мольбу: дай мне взлететь над горем
выше моей любви, выше стенанья, крика.
(2, 16)
Просьба к Божественному наделить героя «песней», которая
позволит «над безумьем взмыть» (2, 16), реализуется в финале
«оды» в превращении героя в птицу. Полет предстает как событие,
связанное с поэтическим бессмертием и новым обретением любви. Метафизический полет — это полет на крыльях творчества, в
процессе которого герой постепенно переходит на «птичий язык»:
23
Выше, выше... простясь... с небом в ночных удушьях...
выше, выше... прощай... пламя, сжегшее правду...
Пусть же песня совьет... гнезда в сердцах грядущих...
выше, выше... не взмыть... в этот край астронавту...
<...>
24
Карр! чивичи-ли-карр! Карр, чивичи-ли... струи
снега ли... карр, чиви... Карр, чивичи-ли... ветер...
(2, 19)
Финал «оды» двойствен. Герой «поднялся над горем» и освободился от боли и мелочности земного существования. Последние
крики героя-птицы (Карр! чивичи-ли-карр!) повторяют в начале
стихотворения крики птиц, с которыми он хочет и не может слиться, составляя кольцевое обрамление «оды». Но с обретением свободы он утратил возможность жить в социуме. «Зимние небеса»
становятся свидетелем рождения поэта-певца7, который отрывается от земли и устремляется в инобытие. «Прощальная ода» — пример того, как любовный конфликт становится лишь внешним проявлением перелома судьбы: переходом из романтической юности
в поэтическую зрелость.
В лирический сюжет, связанный с поэтом-птицей, вовлекается
и интимная лирика. В «Северной почте» (1964) герой-птица ад¬
64
А. А. Александрова
ресует героине «кукареку в стратосфере» (2, 87), в «Пенье без музыки» (1970) рекомендует «скарб мыслей одиноких» перенести в
«гнездо» (2, 384).
В контексте этого лирического сюжета иное звучание приобретает многократно анализировавшийся исследователями «Разговор с небожителем»8. «Разговор...» в корне отличается от «Прощальной оды» по своей тональности, что отражено уже в названиях
текстов. «Ода» представляет собой эмоциональный призыв к Богу,
«разговор» — бесстрастный, внешне холодный, насыщенный бесконечными перечислениями, скрупулезными уточнениями текст.
Если обращение к Богу в «оде» — «отче зимних небес», то в «разговоре» собеседник — абстрактный «небожитель».
Герой начинает разговор, имея зримое доказательство бытия
Бога — ответ на молитву из «Прощальной оды», реализацию
просьбы о творческом даре. Превратившийся в конце оды в птицу герой в начале «Разговора...» предстает мышью («глодал петит
родного словаря»; 2, 361). Птенец, не возвратившийся в ковчег, —
родной брат птицы-героя «Прощальной оды». Выражение «вся
вера есть не более чем почта / в один конец» (2, 362) — это молчание неба, не отвечающего лирическому герою. «Разговор...» — завершающий этап этого метасюжета: с наступлением поэтической
зрелости отпадает необходимость в постоянной помощи извне. На
смену кричащим птицам, несущим «послание с небес», ангелам из
«Исаака и Авраама», души из «Большой элегии Джону Донну»
приходит молчание. Но хронотоп Страстной недели, когда происходит этот разговор, наполняет молчание смыслом. Ночной мир
предстает целостным, в финале возникают образы младенца и
умирающего старика, символизирующие непрерывность жизни.
Начинается весна, приходит рассвет, динамика летящего снега
воспринимается как знак, поданный небом.
Уже писали о том, что после 1972 г. Бродский постепенно уходит от диалога с Богом: «1972 год, год изгнания, становится концом сюжета о Боге»9. Но если иметь в виду, что изгнание для поэта связано не с эмиграцией, а с появившимся еще в «Прощальной
оде» образом птицы-поэта, по собственной воле покидающего земное пространство, то одним из проявлений этого сюжета становится «Осенний крик ястреба» (1976)10. Как и в «Поэме воздуха»
М. Цветаевой, в «Осеннем крике ястреба» присутствуют суицидальные мотивы, боль при восхождении по спиралям «первого воздуха», «второго воздуха», «последнего воздуха»11. Объединяющим
началом служат также тема творчества и восприятие воздуха как
некой «чистой субстанции», тема смерти и воскресения.
Вытеснение поэта из земной атмосферы мотивируется не физическим изгнанием, но попыткой «взять нотой выше» (5, 138), что
одновременно приближает и к высшему познанию и к смерти:
Царство языка: миф о воздухе в поэтическом творчестве..
65
«...Писатель в изгнании похож на собаку или человека, запущенных в космос в капсуле... И ваша капсула — это ваш язык. Чтобы
закончить с этой метафорой, следует добавить, что вскоре пассажир капсулы обнаруживает, что гравитация направлена не к земле, а от нее» (6, 35).
Летящие перья птицы в «Осеннем крике ястреба», которые
детвора принимает за хлопья снега, отсылают к снегу как визуальному знаку Бога в «Разговоре с небожителем». Поэту уже не нужны эти знаки: он сам их создает. Ястреб — новая инкарнация поэта — исчезает, чтобы возродиться в другом виде, но уже в ином
воздушном слое. Это еще больше отстраняет его от людей и погружает в стихию языка. Так, вероятно, Бродский развивает античные
представления о поэтической стихии: миф о крылатом Пегасе и о
крыльях поэзии. В биографическом смысле, как мы знаем, за «Ястребом» последовал год молчания (1976), поиск новой интонации,
«нового голоса», которым оказался уже не крик, а шепот.
В семидесятые годы образ воздуха как божественной сферы
распадается на две амбивалентные сущности: образ воздуха как
царства языка, куда уходит поэт, и воздух как вакуум, пространство
конца. Последнее связано с многочисленными текстами поэта,
которые можно было бы назвать «репетиция смерти»12. Они готовят героя к тому, что его ждет в безвоздушном пространстве, в «глухонемых владениях смерти»13. Образ пустоты возникает уже в
1972 г., наиболее ярко проявляясь в более позднем стихотворении
«Полдень в комнате» (1978):
Воздух, бесцветный и проч., зато
необходимый для
существования, есть ничто,
эквивалент нуля.
а т
Приписывая воздуху значение «нуля», поэт тем самым определяет его как абстракцию, образ небытия («Полдень. Развалины
геометрии...»). Воздух — тот, что между «развалинами геометрии», — это абсолютная пустота, обладающая сознанием. Его можно изучать как феномен.
И. Служевская считает, что изображение воздуха-пустоты
Бродским — «это образ небытия, категорически внеположный
христианским представлениям. Никаких дилемм при этом уже не
решается, никаких выходов не возникает. Смерть в “Песне невинности” — это уход в тотальную тьму»14. Хотелось бы оспорить
мысль о том, что зрелый Бродский отвергает христианские представления и эстетику «неба как царства». Как далее отмечает автор
статьи, лишь через язык и слово происходит преодоление вакуума
66
А. А. Александрова
и конечности человеческого бытия, которое мы наблюдаем в «Литовском ноктюрне» 1983 г.15
Стихотворение начинается с образа призрака, появляющегося в Литве. Этот призрак метафорически и есть душа растерзанного
ястреба, свободно перемещающаяся по воздуху. (Заметим, что в
сборнике «Урания» «Литовский ноктюрн» идет сразу за «Осенним
криком ястреба».)
Возникающий в финале стихотворения образ воздуха как царства языка напрямую связан с христианским понятием «царства
небесного». В то же время Бродский движется не к «замещению»
Бога «языком». Его лирический герой открывает новые вертикальные онтологические сферы. В «Литовском ноктюрне» он воспаряет
«выше ангелов и нетопырей». Фактически это означает, что призрак взлетел выше скульптур ангелов, о которых ранее шла речь в
«Литовском дивертисменте» 1971 г. Метафорически значение ангельских фигур то же, что и в «Большой элегии Джону Донну».
О Донне автор говорит: «Ты Бога облетел и вспять помчался»
(1, 234). Это позволяет считать, что для Бродского Бог не есть величина предельная, за Богом «что-то есть». Поднявшись выше ангелов, герой попадает в «царство воздуха», т.е. фактически проходит тот же путь, что и душа Донна.
Но за этими сферами его встречают уже не христианский Бог,
а Муза и «рай алфавита». Здесь происходит не замена одного рая
другим, а возникновение того рая, который для лирического героя
Бродского выше христианского — рай языка. Высота и удаленность этого «рая трахеи» передается еще большей перспективой,
чем «ионосфера», в которую попадает ястреб. «Муза точки в пространстве» видна лишь в телескоп, а сама она находится «за пределами веры». Речь и поэзия — следующий этап веры, который
онтологически выше религиозных догматов. Это — следующая
ступень восхождения души, отсюда рифма «вера — стратосфера».
Рай для Бродского не есть «община человеческих душ», наоборот, он необитаем и потому является «раем для сетчатки», тишиной, в котором явственно проступают буквы, алфавит, «сонмы тех,
кто губою / наследил в нем / до нас» (3, 56). Последнее приводит
нас к мотиву «шевелящихся губ» Мандельштама. Буква «о» и звук
«до» — это «то, чем дышит вселенная», которую наполняют звуки,
слоги, обрывки языка, складывающиеся в слова:
Воздух — вещь языка.
Небосвод —
хор согласных и гласных молекул,
в просторечии — душ.
(.3, 56)
Царство языка: миф о воздухе в поэтическом творчестве..
67
Так на основании христианской метафоры воздуха как царства
душ Бродский создает свой собственный миф о воздухе как о царстве языка и поэзии, находящемся за пределами христианского
сознания и над пустотой смерти.
1 Башляр Г. Грезы о воздухе. М., 1999; Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Система поэтических мотивов. Мифопоэтический символизм начала века. Космическая символика. СПб., 2003. С. 392—534.
2 О лермонтовской традиции в творчестве Бродского см.: Гордин Я.
Странник// Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. СПб., 2003. С. 233—241.
3 Ханзен-Лёве А. Русский символизм. С. 132—133.
4 Панова Л. Г. «Мир», «пространство», «время» в поэзии О. Мандельштама. М., 2003. С. 140. О концепте «воздух» в творчестве Мандельштама
см. подробнее: С. 137—147.
5 См. также многочисленные высказывания Бродского в эссе и интервью, например: «Мало что на меня производило такое же впечатление. Ну,
скажем, еще вид планеты с воздуха» (Волков С. Диалоги с И. Бродским. М.,
2000. С. 136).
6 Понятие «лирического эпоса» в поэзии Бродского ввел Я. Гордин
(Гордин Я. Странник. С. 233).
7 Образ поэта-птицы является важнейшим для «воздушной темы»
Бродского. Он рождается из созвучия bird — птица и bard — поэт, певец,
многократно повторяясь в эссе и интервью. Об аналогии поэт—птица см.,
например: Ранчин А. М. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского.
М., 2001. С. 42.
8 См., например: Ранчин А. М. «На пиру Мнемозины». С. 148—151;
Служевская И. О стихотворении Бродского «Разговор с небожителем»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://vavilon.ru/textonly/issuelO/
sluzhevskayahtml. Загл. с экрана.
9 Служевская И. Бродский: от христианского текста — к метафизике
изгнания // Звезда. 2001. № 5. С. 198.
10 Стихотворение многократно анализировалось. См., например: Соколов К. Стихотворение И. Бродского «Осенний крик ястреба»: Традиция
темы, жанра, образов // Поэтический текст и текст культуры. Владимир,
2000. С. 224—236; Скворцов А. Э. Мифопоэтическая основа стихотворения
И. А. Бродского «Осенний крик ястреба» // Русская и сопоставительная
филология: взгляд молодых. Казань, 2003. С. 185—192; Калашников С. Б.
К мифологеме птицы в лирике И. Бродского: «Осенний крик ястреба» и
русская поэтическая традиция // Природа и человек в русской литературе. Волгоград, 2000. С. 111—119; Вроон Р. Метафизика полета: «Осенний
крик ястреба» Иосифа Бродского и его англоязычные источники // Шиповник: Историко-филологический сборник к 60-летию Романа Давидовича Тименчика. М., 2005. С. 48—64; Долинин А. Воздушная могила: О не¬
68
А. А. Александрова
которых подтекстах стихотворения Иосифа Бродского «Осенний крик
ястреба» // Эткиндовские чтения II—III. СПб., 2006. С. 276—292; Иличев-
ский А. Метафизика крика и метафизика плача. Евгений Баратынский и
Иосиф Бродский. Метафора поэт-недоносок и метафора поэт-ястреб
[Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.netslovaru/ilichevskii/
metafizikahtml. Загл. с экрана.
11 М. Цветаева признавалась, что написала «Поэму воздуха» для того,
чтобы «опробовать смерть» (Белкина М. И. Скрещение судеб. М., 1992.
С. 269).
12 С понятием «репетиция смерти» согласуется часто повторяемая
поэтом фраза о том, что написание стихотворения — упражнение в умирании. См. эпиграф на сборнике, подаренном Е. Б. Рейну: «Прислушайся: картавый двигатель / поет о внутреннем сгорании, / а не о том, куда
он выкатил / об упражненьи в умирании — / вот содержание “Урании”»
(Рейн Е. Б. Мой экземпляр «Урании» // Знамя. 1996. № 10. С. 148).
13 Этот образ из «Сретенья» 1972 г. напоминает о «глухонемой вселенной» О. Мандельштама. Оба поэта по-разному трактуют образ неба-пус-
тоты: если для Мандельштама пустое небо беременно будущим, то у Бродского оно абсолютный вакуум.
14 Служевская И. Бродский: от христианского текста — к метафизике
изгнания. С. 204.
15 Об этом стихотворении см.: Венцаова Т. Литовский ноктюрн: Томасу
Венцлова // Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 44—81.
МЕХАНИЗМЫ
ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
3. Ю. Петрова
Москва
ОТРИЦАНИЕ И СПОСОБЫ ЕГО
ВЫРАЖЕНИЯ В ПОЭЗИИ БРОДСКОГО
Отрицание — одна из важнейших и определяющих категорий
в индивидуальном стиле Бродского как на формальном, так и на
смысловом уровнях. Рассмотрим различные способы выражения
отрицания в текстах Бродского и их связь с основными семантическими инвариантами его творчества.
На синтаксическом уровне отрицание выражается разными
типами отрицательных предложений. Самый частотный тип — это
«частица не + глагол в личной форме» (в стихотворных примерах
курсив мой. — 3. 77.):
в 1-м лице:
я: «Я жизни своей не люблю, не боюсь, / я с веком своим ни за
что не борюсь» (1, 174); «Казни я не страшусь, как ни страшна раз-
верстость / сей безграничной тьмы» (2, 18); «я не любил жлобства,
не целовал иконы» (3, 150);
мы: «Мы не пьем вина на краю деревни. / Мы не ладим себя в
женихи царевне. / Мы в густые щи не макаем лапоть» (3, 31—32);
во 2-м лице: [Витеславу Незвалу] «Я говорю, а ты меня не слышишь. / Не крикнешь, нет, и слова не напишешь, / ты мертвых глаз
теперь не поднимаешь / и мой, живой, язык не понимаешь» (1, 46);
[читателю] «Ты для меня не существуешь» (4, 29);
в обобщенно-личном предложении: [ветер и кусты] «Их диалог не разберешь, / пока один» (1, 220);
в 3-м лице: «Но даже тихий снегопад, / откуда он, не даст ответа» (1, 186).
Часто встречаются предложения с отрицанием «нет» («нету»)
в качестве сказуемого: «а я опять задумчиво бреду... в ту дальнюю
страну, где больше нет / ни января, ни февраля, ни марта» (1, 207);
«Прогресса нет. И хорошо, что нет» (2, 249); «дальше вроде / нет
страницы податься в живой природе» (3, 139); «Но тех, кто любили меня больше... нету в живых» (3, 280); «Причин на свете нет, /
есть только следствия» (3, 274).
Бродский неоднократно употребляет парадоксальные высказывания, в которых сначала говорится о чем-то, затем этот предмет речи отрицается: «Там хмурые леса стоят в своей рванине. /
Уйдя из точки “А”, там поезд на равнине / стремится в точку “Б”.
72
3. Ю. Петрова
Которой нет в помине» (3, 147). Осмысленность подобного высказывания тут же объясняется: «Но в том и состоит искусство //
любви, вернее, жизни — в том, / чтоб видеть, чего нет в природе»
(2, 390).
Есть контексты, в которых предлагается совершить некоторое
действие с несуществующей реалией: «То, чего нету, умножь на
два: / в сумме получишь идею места» (3, 89).
Вариант предложения с нет — предложение с ни + существительное: «На прощанье — ни звука. / Граммофон за стеной»
(2, 244).
Кроме глагола отрицательная конструкция может состоять из
частицы не и существительного, не и прилагательного, не и наречия (или категории состояния), не и местоимения.
Не + существительное: «отчизне мы не судьи. Меч суда / погрязнет в нашем собственном позоре» (2, 214); «Никто из нас другим не властелин, / хотя поползновения зловещи» (2, 241); «Пусть
торжество икры / над рыбой еще не грех, / но ангелы — не комары, / и их не хватит на всех» (3, 256). (Кстати, среди таких предложений встречаются метафорические: «Ты не птица, чтоб улетать
отсюда» (3, 139); «Но прошедшее время вовсе не пума и / не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив / жертву на землю, вас задушить в своих / нежных объятьях» (3, 245)).
Не + краткое прилагательное: «Я не способен к жизни в других широтах» (3, 200); «я не более зряч, чем Назонов Калхас»
(2, 202); «С тех пор, как ты навсегда уехала, / похолодало, и чай не
сладок» (4, 21).
Не + наречие, категория состояния: «Ибо врозь, а не подле /
мало веки смежать / вплоть до смерти. И после / нам не вместе
лежать» (2, 244); «Теперь исчезли стрелки на часах. / Не только их
не видно, но не слышно» (1, 199).
Бродский употребляет множество «отрицательных» наречий:
невзначай, невтерпеж, невдомек, недосуг и др., из которых чаще
встречается нельзя: «Но если что и различал, / то значило: “нельзя
вернуться”» (1, 148); «Как пейзажу с места вбок, / нам с ума сойти
нельзя» (3, 266).
Не + местоимение: «До свиданья! Прощай! там не ты — это
кто-то другая» (1, 145); [бабочке] «...Мир создан был без цели, / а
если с ней, / то цель — не мы» (3, 23—24).
Помимо изъявительного наклонения отрицательные формы
могут использоваться в повелительном наклонении: «Не купись на
басах, не сорвись на глухой фистуле» (2, 210); «...Поддержки чьей-
нибудь не жди, / сядь в поезд, высадись у моря» (2, 310); «И не
спрашивай, если скрипнет дверь, / “Кто там?” — и никогда не
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
73
верь / отвечающим, кто там» (3, 90); «Не выходи из комнаты, не совершай ошибку» (2, 410).
Могут быть высказывания с отрицательными формами глаголов, выражающие пожелания: [городу] «Да не будет дано / умереть
мне вдали от тебя...» (1, 168); «Дай Бог тогда, чтоб не было со
мной / двуострого меча...» (2, 198).
Очень часты в стихотворениях Бродского конструкции «не +
инфинитив», выражающие невозможность совершить соответствующее действие по не зависящим от субъекта причинам: «Боль же /
не заглушить ничем. Дух не властен над нею» (2, 17); «...И тебе не
понять, / да и мне не расслышать, наверное...» (2, 47); «Иголку /
больше не отыскать / в человеческом сене» (3, 181); «В качку, увы,
не устоять на палубе. / Бурю, увы, не срисовать с натуры» (4, 21).
Другое значение имеет похожая по форме конструкция «не +
инфинитив + частица же»: «Сам себе наливаю кагор — не кричать
же слугу...» (2, 312).
Близкое к конструкции «не + инфинитив» значение имеет конструкция «не + 2-е лицо глагола»: «Теплый / дождь / моросит. / Как
и льву, им гортань не остудишь» (2, 206); «С государством щей не
сваришь. / Если сваришь — отберёт» (2, 347); «“Ты боишься смерти?” — “Нет, это та же тьма; / но, привыкнув к ней, не различишь
в ней стула”» (3, 77).
Встречаются высказывания со словами не стоит, не следует,
не надо: «“В наши дни, — так они говорят, — не стоит / заводить
фотографий”» (1, 75); «Не следует настаивать на жизни / страдальческой из горького упрямства» (1, 172); «Не стоит подбирать сюда
ключи. / Не тут хранится этот клад забвенный» (1, 196).
Отрицательная частица не может употребляться вместе с союзами. Очень частотно у Бродского сочетание не..., а (но), которое
можно считать отличительным признаком его идиостиля (варианты: если не..., то; когда не..., то). Такое сочетание позволяет поэту создавать оппозиции, проясняющие, подчеркивающие его
мысль: «...смерть выбирает не красоты слога, / а неизменно самого певца» (2, 115); «Здесь снится вам не женщина в трико, / а собственный ваш адрес на конверте» (3, 28); «Видно, время бежит; но
не в часах, а прямо. / И впереди, говорят, не гора, а яма» (4, 120);
«Уже не Бог, а только Время, Время / зовет его» (2, 115); «Пусть
не бессмертие — перегной / вберет меня» (2, 175); «Боль же / учит
не смерти, но жизни» (2, 234); «Наверно, тем искусство и берет, /
что только уточняет, а не врет...» (2, 240); «На древнем камне я
стою один, / печаль моя не оскверняет древность — / усугубляет»
(2, 251); «Эти слова мне диктовала не / любовь и не Муза, но потерявший скорость / звука пытливый, бесцветный голос...» (3, 77).
Эта конструкция позволяет поэту
74
3. Ю. Петрова
сформулировать свое кредо: «Не в том суть жизни, что в ней
есть, / но в вере в то, что в ней должно быть» (2, 391); «Все, что
творил я, творил не ради я / славы в эпоху кино и радио, / но ради
речи родной, словесности» (3, 18);
обозначить свои предпочтения: «И речь бежит из-под пера / не
о грядущем, но о прошлом...» (2, 309); «Но лучше мне говорить.
<...> О вещах, а не о / людях» (2, 422);
определить понятие: «Данная поза, при всей приязни, / это
лучшая гемма для нашей жизни. / И она — отнюдь не недвижность. Это — / апофеоз в нас самих предмета...» (2, 202); «Нас ждет
не смерть, а новая среда» (2, 240);
скаламбурить: «Там, думал, и умру — от скуки, от испуга. /
Когда не от руки, так на руках у друга» (3, 149);
расширить смысл высказывания, создавая неопределенность: «Не
неволь уходить, разбираться во всем не неволь, / потому что не
жизнь, а другая какая-то боль / приникает к тебе...» (1, 211);
создать перифразу: «Иначе и не вымолвить: чем может / быть
не лицо, а место, где обрыв / произошел?» (2, 91);
метафору, сравнение: «Предо мною — / не купола, не черепица / со Св. Отцами: / то — мир вскормившая волчица / спит вверх
сосцами!» (3, 210—211); «Над облаками синий небосвод / не потолок напоминал, а прорубь» (2, 172), «Забор / не тень свою отбрасывал, а зебру...» (2, 172);
обновить устойчивое сочетание: «Могу прибавить, что теперь
на воре / уже не шапка — лысина горит» (2, 134).
В ряде случаев Бродский спорит с общеизвестными знаниями:
«После нас — не потоп, / где довольно весла, / но наважденье
толп, / множественного числа» (3, 256); «Адриатика... / лодки качает, как люльки; фиш, / а не вол в изголовье встает ночами»
(3, 44); «Не по древу умом растекаться пристало пока, / но плевком по стене. И не князя будить — динозавра» (2, 312).
Иногда во вводной конструкции говорится об авторах того
знания, с которым поэт не соглашается: «В деревне Бог живет не
по углам, / как думают насмешники, а всюду» (2, 129).
Довольно часто встречается у Бродского сочетание чтобы не
(дабы не): «Возвышаю свой крик, / чтоб с домами ему не столкнуться...» (1, 202); «И — дабы не могли мы возомнить / себя отличными от побежденных — / Бог отнимает всякую награду...» (2, 198);
«И уже ничего не снится, чтоб меньше быть, / реже сбываться, не
засорять / времени» (4, 25).
Встречаются сочетания:
если не (коли не), если бы не (когда б не): «Если меня не спасет
та птичка, / то есть если она не снесет яичка... <...> ...если только
не ложь, что Лазарь / был воскрешен...» (2, 203); «Коль не подлую
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
75
власть, / то самих мы себя переборем» (2, 210); «О чем / он думал
бы, когда б его не грызли / тоска, припадки?» (2, 213); «И если б
здесь не делали детей, / то пастор бы крестил автомобили» (3, 28);
пока не: «Остается тихо сидеть, поститься / да напротив в окно
креститься, / пока оно не погасло» (2, 190); «Пока не увяли цветы
и лента / еще не прошла через известь лета...» (2, 228); «Но пока
мне рот не забили глиной, / из него раздаваться будет лишь благодарность» (3, 191).
Встречается конструкция параллелизма, начинающаяся с то
не, характерная для фольклора: «То не в церковь белую к венцу — /
прямо к света нашего концу, / точно в рощу вместе за грибами» (2,
307); «То не колокол бьет над угрюмым вечем! / Мы уходим во тьму,
где светить нам нечем» (3, 33); «То не Муза воды набирает в рот. /
То, должно, крепкий сон молодца берет» (3, 196).
Довольно часто встречается у Бродского сочетание ни..., ни,
усиливающее отрицательный смысл высказывания: «Ни тоски, ни
любви, ни печали, / ни тревоги, ни боли в груди...» (1, 169);
«Ни облика, ни голоса петушьего / теперь уже в себе не нахожу»
(1, 185); «Ни страны, ни погоста / не хочу выбирать» (1, 209); «Ни
волхвов, ни осла, / ни звезды, ни пурги, / что младенца от смерти
спасла...» (2, 10); «...Ни животных, ни яслей, ни Той, / над Которою — нимб золотой» (3, 7); «И уже / ни к высокому слогу, / ни к
пространству, ни к Богу / не прибиться душе» (2, 121); «Ни своенравный педагог, / ни группа ангелов, ни Бог, / перешагнув через
порог, / нас не научат жить» (2, 133).
Интересны повторы частицы не, в которых сначала нечто
утверждается, а потом отрицается: «Две девы — и нельзя сказать,
что девы» (2, 116); или случаи, когда при характеристике чего-то
отрицаются два антонима, не позволяя интерпретировать высказывание: «Вещь не стоит. И не / движется. Это — бред. / Вещь есть
пространство, вне / коего вещи нет» (2, 424).
В подобных высказываниях поэт может давать выбор — нечто
среднее: «Не жилец этих мест, / не мертвец, а какой-то посредник...» (1, 204); «...Не душа и не плоть — / чья-то тень над родным
патефоном...» (1, 201). Такие случаи согласуются с отмечаемой
исследователями тенденцией Бродского к размыванию границ
между реалиями, неопределенности, неясности. Сюда же можно
отнести конструкции не то, чтобы..., но: «Не то, чтобы весна, / но
вроде» (2, 39).
Частица не употребляется Бродским в вопросах, в сочетании с
ли, или, которые звучат как вопросы-сомнения и часто предполагают отрицательный ответ или же отрицательный ответ присутствует тут же, в тексте: «...Дорогая страна, / постоянный предмет воспеванья, / не любовь ли она? Нет, она не имеет названья»
76
3. Ю. Петрова
(1, 203); «Застегни же зубчатую пасть. Ибо если лежать на столе, /
то не все ли равно ошибиться крюком или морем» (2, 210); «Вообще — не есть ли / жестокость только ускоренье общей / судьбы
вещей?» (3, 275).
Полемическое употребление частицы не в сочетании не..., а, о
котором говорилось выше, становится одним из способов оспорить общеизвестные истины —
основы марксистской политэкономии: «К нам не плывет золотая рыбка. / Маркс в производстве не вяжет лыка. / Труд не является товаром рынка» (2, 182);
националистические взгляды: «Цветные нас, бесспорно, прижали. / Но не мы их на свет рожали, / не нам предавать их смерти»
(2, 186);
учение Л. Толстого о непротивлении злу: «Зло существует, чтоб
с ним бороться, / а не взвешивать на коромысле» (2, 189);
«Памятник» Горация: «Я не воздвиг уходящей к тучам / каменной вещи для их острастки. / О своем — и о любом — грядущем /
я узнал у буквы, у черной краски» (3, 229).
Исключительно частотны в поэзии Бродского отрицательные
местоимения (никто, никем, ни с кем, ничто, ничего, некого, некому, нечего, нечем, не во что, никуда, ниоткуда, нигде, негде, ничей),
употребление которых определяется его мировоззрением1: «И восходит в свой номер на борт по трапу / постоялец, несущий в кармане граппу, / совершенный никто, человек в плаще...» (3, 44);
«И если кто-нибудь спросит: “кто ты?” ответь: “кто я, / я — никто'”, как Улисс некогда Полифему» (4, 49); «Ты — никто, и я —
никто. / Вместе мы — почти пейзаж» (3, 266).
Словами никто, некого, некому и пр. лирический герой характеризует и свое окружение, подчеркивая одиночество: «Новый
вечер шумит, никто не вернется, над новой жизнью, / никто не
пойдет под балконом твоим к тебе...» (1, 77); «Никто / меня не
встретил. Да и самому / мне некому сказать уже: приди / туда-то и
тогда-то» (2, 251); «Жалко, блюдец полно, только не с кем стола
вертануть, / чтоб спросить с тебя, Рюрик» (2, 312); «...и обратиться не к кому с “иди на”» (3, 64); «И некому навести / взгляда на
резкость» (3, 87).
При этом часто звучит положительная оценка: «Как хорошо,
что некого винить, / как хорошо, что ты ни с кем не связан, / как
хорошо, что до смерти любить / тебя никто на свете не обязан»
(1,71); «Как славно вечером собрать / листки в случайную тетрадь /
и знать, что некому соврать...» (2, 133).
С помощью отрицательных местоимений характеризуются
координаты поэтического мира:
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
11
нигде: «Зимний вечер с вином в нигде» (3, 128); «Под раскидистым вязом, шепчущим “че-ше-ще”, / превращая эту кофейню в
нигде, в вообще / место...» (4, 52), «Там, за нигде, за его пределом... /
есть какая-то вещь, предмет» (3, 47);
никуда: «Прохожий с мятым / лицом... / смотрит, объят покоем, / в то “никуда”, задержаться в коем / мысли можно, зрачку —
нельзя» (3, 46);
ниоткуда: «И разносчики скромных даров / в транспорт прыгают, ломятся в двери, / исчезают в провалах дворов, / даже зная,
что пусто в пещере: / ни животных, ни яслей, ни Той, / над Которою — нимб золотой. // Пустота. Но при мысли о ней / видишь
вдруг как бы свет ниоткуда» (3, 7).
Встречаются также местоимения негде, некуда, нечего, нечем, не
к чему, не во что, ничей, ничего: «За годы, ибо негде до — / до смерти нам встречаться боле...» (2, 388); «Дальше ехать некуда. Дальше
не / отличить златоуста от златоротца» (3, 251); «И потом — океан. Глухонемой простор. / Плоская местность, где нет построек. /
Где вам делать нечего, если вы историк, / врач, архитектор, делец,
актер / и, тем более, эхо» (4, 114—115); «Шум Времени, известно,
нечем / парировать» (4, 99); «Это — не страх ножа / или новых тенет, / но того рубежа, / за каковым нас нет. / Так способен Луны /
снимок насторожить: / жизнь как меру длины / не к чему приложить» (3, 257—258); «Больше не во что верить, опричь того, что /
покуда есть правый берег у Темзы, есть / левый берег у Темзы.
Это — благая весть» (3, 77); «Еле слышный / голос, принадлежащий Музе, / звучащий в сумерках, как ничей... нашептывает слова, не имеющие значения» (4, 22); «Сторожит у ручья скирда ничья...» (2, 95); «И вот бреду я по ничьей земле...» (2, 92); «Сумерки.
Больше нет / ничего. Натюрморт» (2, 423); «И в форточку с шумом
врывается воздух с моря — / оттуда, где нет ничего вообще» (4, 133).
Одно из ключевых слов Бродского — ничто. Этим словом он
характеризует
воздух: «Воздух, бесцветный и проч., зато / необходимый для /
существования, есть ничто, / эквивалент нуля» (3, 174);
время: «Затем, что дни для нас — / ничто. Всего лишь / ничто.
Их не приколешь, / и пищей глаз / не сделаешь: они / на фоне
белом, / не обладая телом, / незримы» (3, 20);
то, что будет после смерти: «Может, лучшей и нету на свете
калитки в Ничто» (3, 58).
Поэт рассматривает Ничто как философскую категорию:
«Спи. Земля не кругла. Она / просто длинна: бугорки, лощины. /
А длинней земли — океан... / А земли и волны длинней / лишь
вереница дней. // И ночей. <...> Но длинней стократ вереницы
той / мысль о жизни и мысль о смерти. / Этой последней длинней
78
3. Ю. Петрова
в сто раз / мысль о Ничто; но глаз // вряд ли проникнет туда...»
(3,91).
Кроме частиц не, ни отрицание на синтаксическом уровне
выражается предлогом без. Отрицание с оттенком сомнения передают слова вряд ли, едва ли.
Для выражения идеи отрицания Бродский привлекает разнообразные фразеологизмы, устойчивые сочетания и выражения: ни
зги, ни черта, шаром покати, не судьба, не в радость, не по уму, черт
знает с кем, правды сам черт не выбьет, сводить на нет, во избежание и др.
Другой способ выражения отрицания — морфологический, с
использованием приставок не- и без-. В стихотворениях Бродского частотны прилагательные и наречия с этими приставками (приставки могут отделяться от корня, а могут и нет): необъяснимый,
неизвестный, неизвестно, неведомый, непознанный, незримый, невидимый, негромкий, невнятный, невзрачный, неподвижный, недвижимый, неодушевленный, неясный, неразличимый, неотличимый, неуместный, неудачный, ненужный и т.д. Например: «Плывет в тоске
необъяснимой / среди кирпичного надсада / ночной кораблик негасимый / из Александровского сада...» (1, 134); «...итак, кому ж, как
не / мне, катету, незриму, нему, / доказывать тебе вполне / обыденную теорему...» (2, 388); «...можно смириться с невзрачной дробью /
остающейся жизни...» (3, 230); «Горный воздух, чье стекло / вздох
неведомо о чем...» (3, 267); «Осталась только память о себе, / негромкий голос» (2, 365); «Спасибо, трагедия, за то, что непоправима...»
(4, 105); «...Мой голос, торопливый и неясный, / тебя встревожит
горечью напрасной...» (1, 143); «Для времени, однако, старость /
и молодость неразличимы» (3, 284); «Я неподвижен. Два / бедра холодны, как лед» (2, 424); «Неуместней, чем ящер / в филармонии,
вид / нас вдвоем в настоящем» (3, 186); «Там вдалеке завод дымит,
гремит железом, / не нужным никому: ни пьяным, ни тверезым»
(3, 148); «Но воображать себя / центром даже невзрачного мирозданья / непристойно и невыносимо» (3, 303).
Частотны и прилагательные, и наречия с приставкой без-
(бес-). Например, беспредметный, безадресный, бесплатный, бессмысленный, бесцветный, безумный, безлюдный, бездомный, безнадежный, безжалостный: «В конечном счете, чувство / любопытства к этим пустым местам, / к их беспредметным ландшафтам и
есть искусство» (4, 49); «...безадресная искренность...» [языка]
(4, 29); «Любая речь / безадресна, увы, об эту пору — / чем я сумел, друг-небожитель, спору / нет, пренебречь» (2, 366); «Бес-
плотнее, чем время, / беззвучней ты» [бабочке] (3, 23); «Право,
чем гуще россыпь / черного на листе, / тем безразличней особь /
к прошлому, к пустоте / в будущем» (3, 184); «За дверью бессмыс¬
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
19
ленно всё, особенно — возглас счастья» (2, 410); «Чем безнадежней, тем как-то / проще» (3, 183); [Дерево] «Бессмысленное, злобное, зимой / безлиственное...» (2, 377); «...потерявший скорость /
звука бесцветный голос...» (3, 77); «Для бездомного торса и праздных граблей / ничего нет ближе, чем вид развалин» (3, 227);
«Потому прорицать — все равно, что кактус / или львиный зев
подносить к забралу. / Все равно, что учить алфавит по Брайлю. /
Безнадежно» (2, 202).
Часто встречаются существительные с приставками не-, без-
(небытие, недвижность, неподвижность, неодушевленность, незримость, неузнаваемость, недосягаемость, невозможность, неумолимость, недоверие, несчастье, непониманье; безадресность, безымян-
ность, безобразие, безумие, бессвязность, безнадежность, бессилие).
Например: «И вот бреду я по ничьей земле / и у Небытия прошу
аренду...» (2, 92); «Недвижность чаш, / незрячесть глаз / слепых
богинь» (2, 338); «Что может быть красноречивей, / чем неодушевленность>? Лишь / само небытие...» (4, 99); «Постепенно действительность превращается в недействительность» (4, 171); «Со всей
неумолимостью тоски...» (2, 37); «Темнеет, точней — чернеет, вернее — деревенеет, / переходя ту черту, за которой лицо дурнеет, /
и на его развалинах, вприсядку и как попало / неузнаваемость правит подобье бала» (4, 128); «Ибо незримость / входит в моду с годами — как тела уступка душе...» (3, 53); «Невозможность свиданья / превращает страну / в вариант мирозданья...» (2, 246); «Ибо
вправду честней, чем делить наш ничей / круглый мир на двоих, /
променять всю безрадостность дней и ночей / на безадресность их»
(1, 198); «Но что до безобразия пропорций, / то человек зависит не
от них, / а чаще от пропорций безобразья» (2, 167); «Необязательно помнить, как звали тебя, меня; / тебе достаточно блузки и
мне — ремня, / чтобы увидеть в трельяже (то есть подать слепцу), /
что безымянность нам в самый раз, к лицу...» (3, 247); «Над холодной водой автоматчик притих, / и душа не кричит во весь голос. /
Лишь во славу бессилия этих двоих / завывает осенняя голость»
(1, 182); «Сохраняю твой лик, устремленный на миг в безнадежность, — / безразличный тебе...» (1, 144); [Облака] «В вас мне
ясна / рваность, бессвязность, / сумма и разность / речи и сна»
(4, 67); «чей покой, / безымянность, безадресность, форму небытия / мы повторяем в летних сумерках — вяз и я?» (4, 52); «... так в
ночной темноте, / обнажая надежды беззубие, / по версте, по версте / отступает любовь от безумия» (2, 47).
Среди существительных с приставками не-, без- есть неологизмы: не-именье (неименье): «Осень. Оголенность тополей / раздвигает коридор аллей / в нашем не-именьи» (2, 307); «Наяву / ты
обладатель неименья / в вонючем Автово...» (2, 369); «...плюс нечет¬
80
3. Ю. Петрова
ные числа тем и приятны сердцу, / что они заурядны; мало кто
ставит на / них свое состоянье, свое неименъе, свой / кошелек...»
(3, 262). Слово недвижимость переосмысливается, приобретает
значение «то, что неподвижно» — оно же «вещь, предмет»: «О как
мне мил кольцеобразный дым? / Отсутствие заботы, власти. <...>
Одушевленный мир не мой кумир. / Недвижимость — она ничем
не хуже» (2, 134). Сема «неспособность двигаться» обыгрывается
в таком, например, контексте: «Другое дело — глиняный горшок. /
Пусть то, что он — недвижимость, неточно. / Но движимость тут
выражена в том, что / он из природы делает прыжок / в бездушие»
(2, 170).
Другие неологизмы: «Впрочем, долой ходули — / до несвиданья
в Раю, в Аду ли» (2, 237); «Не-царевны-не-жабы / припадают к земле...» (3, 48); «Ты, чай, / привычная к не-доремифасоли» (3, 70);
«...вечного, увы, неоткровенья» (1, 70).
Встречаются существительные с приставкой анти-: «Перо
скрипит в тишине, / в которой есть нечто посмертное, обратное
танцам в клубе, / настолько она оглушительна; некий антиобстрел» (4, 71); «Незрячесть крепчает, зерно крупнеет; / ваш зрачок
расширяется, и, как бы в ответ на это, / в мозгу вовсю разгорается
лампочка анти-света» (4, 128).
И наконец, можно говорить о собственно лексическом способе
выражения отрицания, когда оно выражено основой слова, без
приставок. У Бродского очень разнообразны и многочисленны
такие слова: пустота, пустой [ничего нет] («Я пришел к Рождеству
с пустым карманом»; 2, 179), группа слов со значением «разрушение, исчезновение, уничтожение, распад» (исчезнуть — [начать не
существовать], разрушитъ, уничтожить — [сделать так, чтобы что-
то не существовало]) («Чем тесней единенье, / тем кромешней разрыв»; 2, 245), забывать, забвенье [отрицание памяти] («Волхвы забудут адрес твой»; 2, 118), один, одинокий, одиноко [никого нет
вокруг], молчанье, немой [отсутствие звука], глухой, слепой и пр. [отсутствие способности слышать, видеть], лишиться чего-л. («...чаши
лишившись в пиру Отечества, / нынче стою в незнакомой местности»; 3, 18), поздно [не осталось времени] («...поздно верить чудесам»; 2, 118), прекратить, исключать, отрицать, вето, утрата,
потеря, утратить, терять, напрасный и др.
Все эти типы отрицательных конструкций связаны с выражением основных смысловых констант творчества Бродского. Интересно, что все эти константы чаще всего сами могут быть определены с помощью отрицаний. Перечислим их без установления
иерархии между ними:
— невзрачность, незаметность лирического героя; глухой, тихий голос, в пределе — отсутствие голоса (немота). Эту константу
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
81
можно перефразировать как «нет значительного проявления в
мире». Она выражается синтаксически — высказываниями с не:
«Я говорю с тобой, и не моя вина, / если не слышно» (4, 31), морфологически — словами с приставкой не-: «Осталась только память
о себе, / негромкий голос» (2, 365), лексически — голос — глухой,
приглушенный, тихий, бесцветный: «Не шелохнется град, не встрепенется весь / от голоса приглушенного» (2, 176); «Мой голос глух,
но, думаю, не назойлив» (4, 31);
— отсутствие диалога с миром. Выражается высказываниями
с не-: «Я говорю, а ты меня не слышишь» (1, 46); «...уже ни в ком /
не видя места, коего глаголом / коснуться мог бы...» (2, 361), словом молчанье (в ответ на обращение): «Да. Говорю о времени себе, /
но время мне ответствует молчаньем» (1, 137); «Не стану ждать /
твоих ответов, Ангел, поелику / столь плохо представляемому
лику, / как твой, под стать, / должно быть, лишь /молчанье — столь
просторное, что эха / в нем не сподобятся ни всплески смеха, / ни
вопль: “Услышь!”» (2, 362);
— притупленность восприятия лирического героя. Выражается
высказываниями с не: «Не слышу слов...» (2, 93); «...я не более зряч,
чем Назонов Калхас» (2, 202), словами, содержащими в себе отрицание: «Я из бездонных мозеровских блюд / так нахлебался варева минут / и римских литер, / что в жадный слух, / который прежде не был привередлив, / не входят щебет или шум деревьев — / я
нынче глух» (2, 363); «Я глуховат. Я, Боже, слеповат» (2, 93);
— одиночество, «никого нет вокруг». Выражается отрицательными местоимениями, о которых говорилось выше, словами одинок, одиночество, отгородиться от людей и др.;
— непознаваемость мира, необъяснимость происходящего.
Выражается сочетанием не с глаголами понимания, знания и проч.:
«...и не пойму, откуда и куда / я двигаюсь, как много я теряю / во
времени...» (1, 136); «...слов я не разберу <...> слов твоих не пойму»
(1, 170); «И люди все, и все дома, / где есть тепло покуда, / произнесут: пришла зима. / Но не поймут откуда» (1, 187); «Я факта в
толк не возьму простого, / как дожил до Рождества Христова /
Тысяча Девятьсот Шестьдесят Седьмого» (2, 180); «Откуда к нам
пришла зима, / не знаешь ты, никто не знает» (1, 186); «В том будущем, о коем мы / не знаем ничего, о коем, // по крайности, сказать одно / сейчас я в состояньи точно: / что порознь нам суждено/с тобой в нем пребывать...» (2, 385), сочетанием этих глаголов
в инфинитиве с не дано: «Воздух живет той жизнью, которой нам
не дано / уразуметь...» (3, 77), словами непознанный, необъяснимый,
непонятно, неизвестно, непониманье, невдомек.
Сюда же примыкают высказывания с глаголом не помнить:
[Одиссей Телемаку] «Мне неизвестно, где я нахожусь, / что предо
82
3. Ю. Петрова
мной. <...> Не помню я, чем кончилась война, / и сколько лет тебе
сейчас, не помню» (3, 27); не способен припомнить: «Я уже не способен припомнить, когда и где / произошло событье. То или иное»
(4, 30); с глаголом забывать: «Из забывших меня можно составить
город» (3, 191); «Кто грядет — никому непонятно...» (3, 8); «Теперь
отбой, / и невдомек, / зачем так много черного на белом?» (2, 366);
— неопределенность, неясность, размытость, неразличение.
Выражается глаголами с частицей не-: «Зачем лгала ты? И зачем
мой слух / уже не отличает лжи от правды, / а требует каких-то
новых слов, / неведомых тебе...» (2, 249); словосочетаниями не в
силах отличить: «И себя отличить не в силах от снятых брюк, / от
висящей фуфайки — знать, чувств в обрез...» (3, 216); нет разницы: «— Мертвый или живой, /разницы, жено, нет. / Сын или Бог,
я твой» (2, 425), словами неясный, неотличимый, сочетанием не... и
не..., ни то, ни другое, о которых говорилось выше. Этот же смысл
выражается лексическим неологизмом не-царевны-не жабы;
— отсутствие смысла, значения, необходимости того, что происходит вокруг, и того, что делает лирический герой. Выражается
словосочетаниями не иметь значения, не нужно: «Еле слышный /
голос, принадлежащий Музе, /<...> нашептывает слова, не имеющие значенья» (4, 22); «Что до сказанного мной, / мной сказанное
никому не нужно — / и не впоследствии, но уже сейчас» (3, 276),
словами бессмысленный, бессмысленность и др.;
— нет счастья, радости, надежды, сбывшейся любви;
— нет места, в котором лирический герой чувствует себя
«дома». Выражается словами бездомный, безадресный, безадрес-
ность, отрицательными местоимениями, о которых говорилось
выше: нигде, никуда, ниоткуда;
— и некоторые другие константы.
Иногда в одном контексте сочетаются сразу несколько типов
отрицательных конструкций. Можно видеть синонимичность двух
конструкций: «Не жилец этих мест, / не мертвец, а какой-то посредник, / <...> никого не узнал, / обознался, забыл, обманулся...»
(1, 204); {никого не узнал — обознался); «...никак не различить теней
нерезких...» (1, 205); {неразличить — нерезкий); «...облака <...> чудо
всегда / ваше беззвучно. / Оптом, поштучно / ваши стада // движутся без / шума...» (4, 68) {беззвучно — без шума).
Приведем другие примеры сочетания многочисленных отрицательных конструкций: [читателю] «Ты для меня не существуешь;
я / в глазах твоих — кириллица, названья... / Но сходство двух систем небытия / сильнее, чем двух форм существованья. /<...> Ты —
все или никто, и языка / безадресная искренность взаимна» (4, 29);
«Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря, / дорогой, уважаемый,
милая, но не важно / даже кто, ибо черт лица, говоря / откровен¬
Отрицание и способы его выражения в поэзии Бродского
83
но, не вспомнить уже, не ваш, но / и ничей верный друг вас приветствует с одного / из пяти континентов...» (3, 125).
В заключение приведем слова самого Бродского: «...Основная
тенденция русской культуры — это тенденция утешения, тенденция обоснования существующего миропорядка на каком-либо
подходящем трансцендентальном уровне. Это не тенденция отрицания — это тенденция оправдания и утешения. <...>
<...> ...В двадцатом веке только у двух-трех писателей можно
заметить отход от традиционного восприятия мира, продиктованного русской культурой и литературой, — это Марина Цветаева и
Лев Шестов»2. Рассмотренный материал позволяет утверждать, что
подобный тип восприятия мира характерен и для И. Бродского.
1 Это неоднократно отмечалось исследователями. См., в частности:
Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Иосиф Бродский:
творчество, личность, судьба. СПб., 1998. С. 145—153.
2 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 334-335.
И. Ю. Самойлова
Гродно, Беларусь
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА ПОЭТА:
ЗРИТЕЛЬНОЕ ВОСПРИЯТИЕ
Идея М. М. Бахтина о том, что единственный путь познания
человека лежит через создаваемые им тексты, нашла отражение в
одном из актуальных направлений современной лингвистики —
когнитивном, позволяющем «извлечь» то знание о мире, которое
запечатлено в языке. Художественный текст мы рассматриваем как
дискурсивное сознание автора.
Творчество любого большого поэта или писателя отражает
авторскую картину мира. Описать ее в полном объеме достаточно
сложно. Мы обратились к фрагменту индивидуальной картины
мира одного из самых значительных поэтов XX века — Иосифа
Бродского.
Составленный нами частотный словарь глаголов поэзии Бродского позволяет говорить об одном принципиальном для поэта
способе восприятия окружающего мира — визуальном. В словаре
отчетливо выделяется ядро авторской картины мира, представленной первыми десятью глаголами. В ядро вошли и глаголы видеть —
смотреть (глядеть)'. Частотный словарь глаголов состоит из трех
разделов, отражающих динамику картины мира автора: 1) сводный
частотный словарь глаголов поэзии Бродского; 2) частотный словарь глагольных лексем доэмигрантского периода творчества и 3)
частотный словарь глагольных лексем американского периода
творчества.
Обращает на себя внимание тот факт, что в первом разделе
частотность видеть — смотреть (глядеть) (425 употреблений) превышает количество употреблений всех глаголов словаря, исключая
пару говорить — сказать. Несмотря на то что ядро авторской картины мира открывают другие глаголы, во втором разделе словаря
количество глаголов восприятия равно 271, а в третьем — 154. Это
позволило выделить анализируемый фрагмент картины мира
Бродского как один из основополагающих. Подтверждение находим в эссе автора «Набережная неисцелимых»: «Глаз — наиболее
самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты
его внимания неизбежно размещены вовне. <...> Он закрывается
последним, когда тело засыпает. Он остается открыт, когда тело
разбито параличом или мертво. Глаз продолжает следить за реаль-
Индивидуальная картина мира поэта.
85
ностъю при любых обстоятельствах, даже когда в этом нет нужды» (здесь и далее курсив наш. — И. С.) (7, 46)2.
Как показал словарь, Бродский использует в поэтических
текстах большое количество глаголов зрительного восприятия
(114 лексем). Рассмотреть все в одной статье невозможно. В центре этого семантического поля — глаголы видеть — смотреть
(глядеть), о которых Е. В. Падучева писала: «При безусловной
смысловой близости, глаголы различаются тем, что видеть — состояние... а смотреть — деятельность»3, т.е. видеть есть статаль-
ный, а смотреть — акциональный глаголы.
Стандартный фрейм обоих глаголов предполагает наличие
первого и второго актантов — субъекта и объекта восприятия, т.е.
того, кто воспринимает, и то, что/кто воспринимается.
Первый актант. При анализе текстов выяснилось, что субъектом визуального восприятия в поэзии Бродского является главным
образом человек, что соответствует как русской, так и другим языковым картинам мира. В поле зрения человека попадает то, что для
него важно:
Крестьянин смотрит на деревья
и запирает хлев...
<...>
Все капитаны
отчетливо видят землю4.
(«Книга»)
Сверхвидением поэт наделяет высшую силу — Бога, который
обозревает прошлое, настоящее и будущее и не нуждается ни в
чьей указке:
Видит Бог,
но я б так быстро добежать не смог
и до безумья;
(«Шествие»; 1, 130)
Только Господь
вас видит с изнанки;
(«Облака»; 4, 66)
«В пустыне этой... Бог ягненка сам
найдет себе... Господь, он Сам усмотрит...»
(«Исаак и Авраам»; 1, 258)
Более того, Бог и человек у Бродского могут создавать оппозицию, как в следующем стихотворении:
86
И. Ю. Самойлова
Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако интерес у всех различен.
Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.
(«Два часа в резервуаре»; 2, 139)
В то же время художник (поэт, музыкант) способен приблизиться к Богу благодаря особому зрению. Именно творчество делает человека равным Богу, и художник достигает высот Творца:
Так шествовал Орфей и пел Христос.
(«Зофъя»; 1, 165)
Поэтому, по мнению поэта, при любых обстоятельствах
...художник должен видеть и во мраке5.
(«Рембрандт. Офорты»)
В наивной картине мира душа выступает заместителем человека. Поскольку она принадлежит к области сакрального, зрение
души приравнивается к сверхвидению. Душа способна видеть недоступное глазу, то, что человеком не всегда осознается:
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета;
(«Теперь все чаще чувствую усталость...»; 1, 27)
И та свобода хороша,
и той стесненности вы рады!
Смотри, как видела душа
одни великие утраты.
(«Памяти Е. А. Баратынского»; 1, 44)
В качестве первого актанта при глаголах видеть — смотреть
(глядеть) могут выступать и лексемы, в которых присутствует сема
‘люди’, например, города:
...город смотрит тебе вдогонку, точно распутный витязь:
чем длиннее улицы, тем города счастливей.
(«На Виа Джулиа»; 4, 27)
Вместе с тем способностью зрительного восприятия обладают
и иные существа, но, по мнению Бродского, это пассивное вое-
Индивидуальная картина мира поэта..
87
приятие, ибо осознавать увиденное может только человек. Зрительное восприятие и мыслительная деятельность взаимосвязаны:
...видит птичка пригорки,
но понять их не может.
(«Песенка»; 1, 34)
В поэтическом языке мало стандартных фреймов, так как в
идиостиле автора воплощается его личный языковой опыт. Если
в стандартных фреймах первый актант — живое существо, то приравненный к нему исполнитель старается избежать стандартности.
Это приводит к появлению различных тропов, чаще всего сравнений и метафор:
Время уходит в Вильнюсе в дверь кафе,
провожаемо дребезгом блюдец, ножей и вилок,
и пространство, прищурившись, подшофе,
долго смотрит ему в затылок;
(«Литовский дивертисмент»; 2, 419)
О камень порванный чулок,
изогнутый впотьмах, как лебедь,
раструбом смотрит в потолок,
как будто почерневший невод.
(«Загадка ангелу»; 1, 191)
Зрительное восприятие возможно лишь при наличии материального органа — глаза. В произведениях Бродского первым
актантом часто выступает существительное «глаз» как в форме
единственного, так и множественного числа:
Что видит глаз, о чем шепнут уста,
что встретит слух, что вдруг коснется мозга,
настигнет снова скрытый вид листа...
ищи вокруг... быстрей... пока не поздно;
(«Пришла зима, и все, кто мог лететь...»; 2, 104)
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя...
(«Сретенье»; 3, 13)
В фокусе внимания находится и цвет глаз:
88
И. Ю. Самойлова
<...> Карий
глаз смотрит в будущее, где
ни ваз, ни разговоров о воде.
(«Ritratto di donna»; 4, 161)
В поэзии Бродского, как и в языковой картине мира, наблюдается метафорическая связь окно — глаза:
Окна смотрят на север.
(«Песня»; 2, 95)
Тем не менее для видения в авторской картине мира не обязательно наличие глаз — смотреть могут и сакральные источники
света:
Холодный март овладевает лесом.
Свеча на стены смотрит с интересом;
(«Менуэт»; 2, 122)
Звезда, пламенея в ночи,
смотрела, как трех караванов дороги
сходились в пещеру Христа, как лучи.
(«Рождество 1963 года»; 1, 282)
Не обязательно наличие глаз, чтобы видеть, и природе — цветам, листьям, стеблям и т.д.:
То листья, стебли, листья, стебли, листья,
лицом, изнанкой молча смотрят в свет,
нет, перьев нет, окраска волчья, лисья.
(«Пришла зима, и все, кто мог лететь...»; 2, 103)
Впрочем, они могут наделяться «невидящими глазами» или
«мертвенным оком»:
...еще поглощенные памятью о «сезаме»,
смотрят они (цветы. — И. С.) на нас невидящими глазами;
(«Цветы»; 4, 96)
Современный фонарь смотрит мертвенным оком,
предо мною горят
ослепительно тысячи окон.
(«От окраины к центру»; 1, 202)
Индивидуальная картина мира поэта.
89
Таким образом, в поэзии Бродского кроме человека и живых
существ способностью всё видеть наделяются Бог, сакральные
предметы, источники света и природа.
Второй актант. Человек в поэзии Бродского способен визуально воспринимать не только видимое, но и невидимое (почти
как Бог). В поле зрения попадает в первую очередь окружающий
мир (перцептивное восприятие):
Мы видим деревья,
лежащие на земле.
Мы продолжаем жить.
<...>
...и последним, что он увидит,
будут случайные встревоженные лица6;
(«Памяти Феди Добровольского»)
Как будто чей-то след, давно знакомый,
ты видишь на снегу в стране сонливой;
(«Стрельнинская элегия»; 1, 31)
Наверх по лестнице непрочной,
звонок и после тишина,
войди в квартиру, этой ночью
увидишь реку из окна.
(«Петербургский роман»; 1, 56)
Способность видеть для поэта настолько значима, что воспринимать зрением можно даже звуки, жизнь и многое другое:
...и белый свет, железный свист
я вижу из окна;
(«Шествие»; 1, 84)
Оглянись — и увидишь наверно:
в переулке такси тарахтят,
за церковной оградой деревья
над ребенком больным шелестят.
(«Ни тоски, ни любви, ни печали...»; 1, 168)
На Карловом мосту — другие лица.
Смотри, как жизнь, что без тебя продлится,
бормочет вновь, спешит за часом час...
(«Витезслав Незвал»; 1, 46)
90
И. Ю. Самойлова
В рассмотренных текстах глаголы видеть — смотреть пересекаются с семантическим полем глагола слышать.
Как отмечалось, в картине мира Бродского человек способен
видеть то, что не воспринимается органами чувств:
В этом сиплом хрипении
за годами,
за веками
я вижу материю времени.
открытую петухами7;
(«Петухи»)
Оттолкнув абажур,
глядя прямо перед собою,
видишь воздух...
(«Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»; 3, 56)
Таким образом, анализируя второй актант, мы убеждаемся, что
человек в поэзии Бродского наделяется даром «сверхвидения».
От актантов при глаголах визуального восприятия перейдем к
характеристике некоторых особенностей картины мира Бродского, отразившейся в том числе и в словаре.
В поэтических текстах автор часто отступает от стандартных
ситуаций, закрепленных в языковой картине мира стандартными
фреймами глаголов. Е. В. Петрухина обратила внимание на то, что
специфика глагольного значения «заключается в концептуализации динамического мира, находящегося в постоянном изменении,
для которого характерна известная неопределенность, отсутствие
четких границ между смежными во времени ситуациями»8.
В текстах Бродского глаголы видеть — смотреть (глядеть),
являясь типичными представителями группы глаголов зрительного
восприятия, могут перемещаться по вертикальным синтаксическим полям, приобретая иное значение. Под вертикальным синтаксическим полем понимается «способность глагола перемещаться в актантные рамки, “заряженные” другим глаголом»9, в
результате чего глагол оказывается на периферии других глагольных полей и изменяет свое значение.
В поэзии Бродского глаголы видеть — смотреть (глядеть) часто приобретают ментальное значение, что отмечалось лингвистами (Ю. Д. Апресян, Н. Д. Арутюнова, Е. В. Падучева, Е. В. Уры-
сон и др.). В этом случае делиберативный объект мысли может
быть выражен придаточным предложением, вводимым союзом
«что/как» и бессоюзно:
Индивидуальная картина мира поэта.
91
И то, чего вообще не встретишь в церкви,
теперь я видел через призму церкви;
(«Остановка в пустыне»; 2, 168)
Ты облетаешь, дерево любви.
Моей не задевая головы,
слетают листья к замершей земле,
к моим ногам, расставленным во мгле.
Ты все шумишь, и шум твой не ослаб,
но вижу я в твоих ветвях октябрь;
(«Шествие»; 1, 92)
И вижу я, что жизнь идет как вызов
бесславию, упавшему извне
на эту неосознанную близость;
(«Элегия»; 1, 26)
Смотри: осенние утраты
даров осенних тяжелей.
(«Петербургский роман»; 1, 54)
Кроме того, глаголы зрительного восприятия используются в
значении ‘представлять’, что также относится к когнитивной деятельности человека:
Стоит закрыть глаза, как вижу пустую шлюпку,
замерзшую на воде посередине бухты.
(«В Англии»; 3, 165)
При зрительном восприятии глаза дают важную исходную
информацию, тогда как мозг на основе поступившей информации
«строит окончательно субъективное пространство зрительного
восприятия — мозговую картину. Человек видит не глазами, а
мозгом»10. В поэтических текстах Бродского фреймы глаголов видеть и смотреть (глядеть) часто находятся в пересечении с фреймами глаголов интеллектуальной деятельности думать, знать, понимать, представлять и др.:
...смотри на мокрое барокко
и снова думай о себе;
(«Петербургский роман»; 1, 55)
Пустота. Но при мысли о ней
видишь вдруг как бы свет ниоткуда.
92
И. Ю. Самойлова
Знал бы Ирод, что чем он сильней,
тем верней неизбежнее чудо.
(«24 декабря 1971 года»; 3, 7)
Обращает на себя внимание и обратное явление, а именно то,
что глагол знать может переходить в поле глаголов зрительного
восприятия:
Крадется пар, вдали блестит мысок,
беленый ствол грызут лесные мыши,
и ветви, что всегда глядят в песок,
склоняются к нему все ближе, ниже.
Как будто жаждут знать, что стало тут...
(«Исаак и Авраам»; 1, 254)
В свою очередь, глагол зрительного восприятия может переходить в поле глагола знать и использоваться в значении ‘приобретать сведения (жизненный опыт) в результате испытания’:
...ив этом мире, безвыходно материальном,
толковали талмуд,
оставаясь идеалистами.
Может, видели больше.
А возможно, верили слепо.
Но учили детей, чтобы были терпимы
и стали упорны.
(«Еврейское кладбище около Ленинграда...»; 1, 20)
Интересным, на наш взгляд, является использование автором
глагола видеть в значении ‘верить’:
...в целом мире я
не вижу для себя уж лестной правды.
(«Мои слова, я думаю, умрут...»; 1, 267)
Заслуживает внимания случай перемещения одного из дериватов глагола видеть в семантическое поле глагола умереть:
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
(«Сретенье»; 3, 13)
Индивидуальная картина мира поэта..
93
Использование в роли второго актанта существительного тьма
в сочетании с прилагательным смертная приводит к тому, что глагол увидеть приобретает значение умереть.
Таким образом, визуальные глаголы используются поэтом в
значениях жить и умереть.
Способность видеть глубоко скрытое — свидетельство особого дара познания. Только тот, кто перенес серьезные испытания,
может видеть, т.е. понимать/воспринимать, чувства людей:
«<...> Рана сия
даст видеть тебе, что сокрыто глубоко
в сердцах человеков, как некое око».
(«Сретенье»; 3, 14)
Человек, желающий понять чувства другого, представлен в
картине мира Бродского в ипостаси «человека сочувствующего»,
что отвечает основным заповедям христианства:
Я увидеть хочу
то, что чувствуешь ты...
(«В темноте у окна»; 1, 140)
В текстах Бродского, как оказалось, даже глагол движения,
перемещаясь по вертикальным синтаксическим полям, приобретает иное значение при переходе на периферию поля глаголов зрительного восприятия:
Вот я стою в распахнутом пальто,
и мир течет в глаза сквозь решето...
(«Новые стансы к Августе»; 2, 93)
Интересно отметить, что глагол видеть переходит в поле статичного глагола спать:
Тем временем клиент спокойно дремлет
и видит чисто греческие сны:
с богами, с кифаредами, борьбой
в гимнасиях, где острый запах пота
щекочет ноздри.
(«Post aetatem nostram»; 2, 398)
Отражение мира во сне — результат осознания увиденного, а
это уже когнитивная деятельность человека, т.е. жизнь в ее наиболее ярком проявлении.
94
И. Ю. Самойлова
В картине мира Бродского самосознание человека выводится
на первый план. Видеть себя, смотреть на себя со стороны могут
лишь немногие из homo sapiens, ибо единицы наделены разумом от
Бога:
Самих себя увидеть в нищете,
самих себя увидеть на щите,
заметить в завсегдатаях больниц
божественная участь единиц.
(«Зофья»; 1, 167)
Как и в кодифицированном литературном языке, глаголы зрительного восприятия употребляются в поэзии Бродского в составе фразем и устойчивых оборотов, вводных слов:
«Есть жалобы у вас насчет харчей?»
«Я слышал шум, но я не вижу драки»;
(«Горбунов и Горчаков»; 2, 286)
<...> Жизнь, которой,
как дареной вещи, не смотрят в пасть,
обнажает зубы при каждой встрече;
(«...и при слове “грядущее" из русского языка...»; 3, 143)
И он, видать,
здесь ждал того, чего нельзя не ждать
от жизни: воли;
(«Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе»; 2, 339)
Видно, бежит грубых рамен маетность птичья.
Мудрый, как жид, милый Дамон, вот тебе притча:
Скраден сосуд. Ловит, глядишь, страж голодранца.
Вора спасут ноги, ты мнишь? Только пространство!11
(«Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром»)
Необходимо отметить, что используемые Бродским глаголы из
семантического поля зрительного восприятия различны по стилистической маркированности. Синонимы глаголов видеть — смотреть (глядеть) при тождественности значения могут быть противопоставлены по стилистической окраске. С одной стороны,
воззреть, созерцать, зреть, зрить, лицезреть и др., с другой — глазеть, пялиться, таращиться, уставиться и др. При этом у слова
таращиться наблюдается последовательность в сочетаемости —
Индивидуальная картина мира поэта..
95
сниженный глагол неоднократно взаимодействует с именами из
области мифологии:
Он таращится вниз
и сжимает в руке виноградную кисть,
словно бог Дионис;
(«Ночной полет»; 1, 198)
Дождливые и ветреные дни
таращатся с Олимпа на четверг;
(« Чаша со змейкой»; 2, 65)
Так в феврале мы, рты раскрыв,
таращились в окно на звездных Рыб,
(«С грустью и с нежностью»; 2, 42)
в то время как при созерцать в качестве второго актанта вводится
лексическая единица, выражающая оценку сниженности:
Подросток в желтой куртке, привалясь
к ограде, а точней — к орущей пасти
мадам Горгоны, созерцает грязь
проезжей части.
(«Желтая куртка»; 2, 381)
<...> Партнер созерцает стены,
где узоры обоев спустя восемь лет превратились в «Сцены
скачек в Эпсоме». — Флаги.
(«В Англии»; 3, 161)
Указывая на большое количество единиц лексического поля
глаголов зрительного восприятия в поэтических текстах Бродского, необходимо отметить, что среди них наиболее частотными являются: увидеть (45 употреблений), взглянуть (40), видать (22),
посмотреть (20), разглядеть, увидать (10), таращиться (9), взирать, зреть (7), узреть (6), глянуть, разглядывать, рассмотреть,
созерцать (4), вглядеться, вглядываться, видеться, воззриться (3) и
т.д. Вместе с тем при составлении авторского словаря следует отметить, что ряд перечисленных глаголов может получать значения
жить, умереть, верить, спать.
Таким образом, рассмотренный фрагмент картины мира Бродского свидетельствует об авторском своеобразии. Лексемами видеть — смотреть (глядеть) и их синонимами поэт не только обозначает восприятие внешнего мира, но и характеризует этот мир
96
И. Ю. Самойлова
через осознание его субъектом. Все живое и неживое в поэзии
Бродского способно видеть мир, поскольку мир открыт тому, чтобы его видеть; он «хочет», чтобы его замечали, видели, анализировали.
1 См.: Самойлова И. Ю. Динамическая картина мира И. Бродского:
лингвистический аспект: монография. Гродно, 2007.
2 Ср. строки из стихотворения «Доклад для симпозиума»: «Зрение автономно / в результате зависимости от объекта / внимания, расположенного неизбежно / вовне...» (4, 62).
3 Падучева Е. В. Динамические модели в семантике лексики. М., 2004.
С. 231.
4 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. / Сост. и подгот.
изд. Г. Ф. Комарова. СПб., 1992. Т. 1. С. 36.
5 Стихотворение доступно на сайте: http://www.world-art.ru/lyric/
lyric.php?id=7665
6 Стихотворение доступно на сайте: http://lib.ru/BRODSKIJ/brodsky_
poetry.txt
7 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. Т. 1. С. 23.
8 Петрухина Е. В. Глагольная номинация и категории деривационной
ономасиологии //Языковая номинация. Минск, 1996. С. 17.
9 Прохорова С. М. Вертикальное синтаксическое поле как разновидность корреляции // Die grammatischen Korrelationen. Graz, 1999. S. 291.
10 Раушенбах Б. В. Геометрия картины и зрительное восприятие. М.,
1994. С. 9.
11 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. Т. 2. С. 7—8.
Мария Рубине
Лондон, Великобритания
«ПЕСНЬ ЕСТЬ ФОРМА
ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО НЕПОВИНОВЕНИЯ»,
О некоторых случаях ненормативного
словоупотребления в поэзии Бродского
Иосиф Бродский любил повторять, что не язык является его
средством, а он сам — средством существования языка. Из этого
логически следовало, что «выбор средств диктуется поэту его чувством долга по отношению к языку» («Поэзия как форма сопротивления реальности»; 7, 122). Однако чувство долга не ограничивало свободу обращения Бродского с языком: его поэзия содержит
многочисленные примеры неортодоксального использования
грамматики, сталкивания стилистически несовместимого, нарушения привычного синтаксиса и употребления ненормативной лексики. В этой статье мне хотелось бы высказать несколько предварительных соображений о просторечной форме притяжательного
местоимения «ихний» у Бродского. Несмотря на частный характер,
этот вопрос соотносится с более широкой темой — о его грамматической поэтике1.
«Ихний» представляет собой разговорный, ненормативный
вариант притяжательного местоимения «их». Его существование
вполне оправдано стихийным стремлением народного лингвистического сознания дифференцировать две омонимичные формы
(«их» как форму вин. и род. падежа личного местоимения «они» и
«их» как притяжательное местоимение 3-го лица). Подобным образом просторечные варианты образовались и у местоимений
«его», «ее» — «евонный», «ейный / ееный». Помимо дифференцирования омонимов просторечные варианты способствуют и унифицированию парадигмы, а следовательно, и экономии языковых
средств — в отличие от неизменяемых «их», «его», «ее» они склоняются по аналогии с остальными притяжательными местоимениями «наш/ваш/мой/твой».
Еще сравнительно недавно лексическая единица «ихний» ощущалась как «новообразование»2. В «Словаре русского языка XI—
XVII веков» эта форма зафиксирована лишь в тексте 1690 г.3 Большое распространение она получила в разговорных стилях XIX в.
Так, В. И. Даль, приводя несколько диалектных вариантов (ихный,
ихной, ихий, их, иха, ихо), дает характерный пример, в котором
98
Мария Рубине
«ихний» фигурирует фактически как равноправный вариант
«их»: «Их милость приказала ихнего добра без них не трогать»4.
Ф. И. Буслаев, как кажется, даже намечает отдаленную перспективу «легализации» этой просторечной формы: «Притяжательное местоимение ихный, столь употребительное в речи разговорной и
столь необходимое, еще довольно туго входит в язык книжный»5.
Чрезвычайно употребительно в XIX в. было образованное от «ихний» наречие «по-ихнему». В книге «Л. Н. Толстой в воспоминаниях современников» приводятся следующие слова писателя о современных ему поэтах: «Но пусть они сначала докажут, что умеют
писать не хуже Лермонтова, тогда я за ними признаю право писать
по-ихнему». Однако слово «ихний» до сих пор существует за пределами нормы. Оставаясь табу в деловом, научном, публицистическом стиле, оно активно проникает и в разговор (не только в
неграмотную речь, но и в интеллигентское просторечие, где ее
использование осознанно и стилистически окрашено), и в художественную литературу, и в полемические статьи и фельетоны как
средство (само)иронии, речевой характеристики персонажа, или
дистанцирования говорящего/пишущего от своего предмета.
Обозначенные функции слова «ихний» делают более естественным появление его в прозе, а также в тех поэтических произведениях, где неграмотная речь позволяет дать характеристику
социального и культурного уровня персонажа, как, например, в
стихах В. Высоцкого («Ихний капитан тоже в доску пьян» или
«А вчера на кухне ихний сын / Головой упал у нашей двери» и др.)6.
В лирической поэзии (и при отсутствии ощутимой самоиронии)
оно как будто неуместно. Тем не менее поэзия Бродского дает немало примеров употребления «ихний» в неконвенциональных контекстах.
Прежде чем обратиться к поэзии, вкратце остановимся на прозе Бродского. Большинство написанных по-русски эссе выдержаны в безупречном литературном стиле, отличаются изяществом и
даже некоторой классицистичностью выражений. Слово «ихний»,
однако, возникает в «Путешествии в Стамбул» предсказуемо именно в тех отрывках, где Бродский разражается инвективами против
«бреда и ужаса» презираемого им Востока:
Пыльная катастрофа Азии. Зелень только на знамени Пророка. Здесь ничего не растет, опричь усов. Черноглазая, зарастающая к вечеру трехдневной щетиной часть света. Заливаемые мочой угли костра. Этот запах! С примесью скверного табака и
потного мыла. И исподнего, намотанного вкруг ихних чресел, что
твоя чалма (5, 288).
«Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 99
Или:
Как везде на Востоке, здесь масса чистильщиков обуви, всех
возрастов, с ихними восхитительными, медью обитыми ящичками... <...> Избыточность этой профессии объясняется именно грязью, пылью, после пяти минут ходьбы покрывающей ваш только
что отражавший весь мир штиблет серой непроницаемой пудрой
(5, 290).
И о строителях знаменитых, но отнюдь не впечатляющих
Бродского стамбульских мечетей:
И если перо не поднимается упрекнуть ихних безымянных
правоверных создателей в эстетической тупости, то это потому,
что тон этим донным, жабо- и крабообразным сооружениям задан был Айя-Софией — сооружением в высшей степени христианским (5, 306).
Наконец, в четвертый и последний раз эта форма возникает в
отрывке о возможных возражениях на эти, по признанию автора,
ненаучные и субъективные рассуждения о примитивизме Востока.
Маркированность данной лексической единицы передает презрительную иронию Бродского как по отношению к предмету своего
предвзятого описания, так и к мнению кабинетных ученых:
Я предвижу искусствоведа или этнолога, готовых оспорить с
цифрами и черепками в руках все вышеизложенное. <...> И заструится поток доказательств несравненной ихней правоты относительно того, что доисламская культура была фигуративной, что
таким образом Запад просто отстал от Востока... (5, 308)
Тон этого в высшей степени «неполиткорректного» эссе прозвучит менее провокационно, если воспринимать тирады о превосходстве западной цивилизации над восточной не как серьезные
авторские высказывания, а как частное мнение случайного, отличного от автора наблюдателя. Именно фельетонный язык этого
«остряка-полуинтеллигента», как подметил Т. Венцлова, выдает
мифопоэтическую интенцию текста, подчеркивая самоиронию
нарратора: «“Путешествие в Стамбул” изобилует выражениями,
как бы подслушанными на ленинградских и московских кухнях, в
разговорах тамошних интеллигентов, а точнее — полуинтеллиген-
тов. Это спотыкающийся, разнонаправленный, искалеченный клише, канцеляризмами и псевдонаучными выражениями язык, то и
дело скатывающийся к пустой болтовне, часто — к ругани...»7
100
Мария Рубине
В пьесах «Мрамор» и «Демократия!» просторечная форма притяжательного местоимения используется как стилистическое средство для передачи колоритной речи персонажей. Например, в
«Мраморе» она придает нелепо-гротескное звучание сексуальным
спекуляциям Публия:
...Раньше, когда еще свидания давали, многие [заключенные]
шары себе под кожу в член вшивали, чтоб диаметр увеличился.
У члена же главное не длина, а диаметр. Потому что ведь баба, пока
сидишь, с другими путается. Ну и отсюда идея, чтоб во время свидания доставить ей такое... переживание, чтоб она про другого и
думать не хотела. Только про тебя. И поэтому — шары. Из перламутра, говорят, лучше всего. Хотя, подумать если, откуда в зонах
этих ихних перламутру взяться было? Или из эбонита, из которого стило делали. Выточишь себе шарик напильничком, миллиметра
два-три в диаметре — и к херургу (7, 235).
Просторечия употребляют как «варвар» Публий, так и «антик»
Туллий, хотя их позиции и отношение к происходящему противоположны, как и подобает жанру философского диалога. Лингвистическая непротивопоставленность двух персонажей этой антиутопии, возможно, объясняется тем, что «Мрамор», как отмечали
П. Вайль и А. Генис, не традиционная драма, в которой звучало бы
несколько «чужих», независимых голосов, а «двухголосная поэма»8.
В «Демократии!» «ихний» характеризует полуграмотную речь
бывших партийных боссов некоего «небольшого социалистического государства», пытающихся по команде из Москвы перестроиться на демократический лад. «Ихний» то устанавливает антитезу между полунезависимым государством и столицей рушащейся
империи («Это Чучмекишвили... министр иностранных дел ихний»; «Ну, понимаю, политбюрошные ихние»; «Может, ихний
[гимн] обработать?»; «Да просто посол ихний взбесится и танки
вызовет»), то указывает на весьма эфемерную связь с местным
населением членов новоиспеченного «националистического» правительства («По-ихнему-то? — ничего, гуторю»), то подчеркивает
дистанцированность молодой страны от более дальнего зарубежья,
с которым после обретения независимости необходимо поддерживать политические связи («Да ты представь себе парламент
ихний»).
В поэзии Бродского до эмиграции слово «ихний» возникает
лишь в длинном нарративном тексте «Посвящается Ялте». Жанр
этого произведения, обыгрывающего хрестоматийные мотивы и
топосы драм Чехова,— «новелла-антидетекгив»9. После упоминания о том, что «история, рассказанная ниже, / правдива», слово
«Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 101
последовательно предоставляется четырем персонажам, в частности, провинциальной актрисе. Она говорит о шахматном клубе,
который посещали ее бывшие любовники: «Чего / я не могла понять, так этой дружбы. / Там, в ихнем клубе, они так дымят, / что
могут завонять весь Южный Берег» (2, 297). Таким образом, «ихний» оказывается элементом речевой характеристики героини и
способствует стилистическому оформлению бытовой ситуации.
Остальные зарегистрированные случаи употребления слова
«ихний» встречаются в поэзии Бродского после эмиграции. Не
исключено, что это коррелирует с его более решительным экспериментированием в зрелый период с поэтической формой вообще
и с лингвистическим ее наполнением в частности, подтверждая
мнение Я. А. Гордина о том, что «зрелый Бродский... принципиально, упрямо нелитературен»10.
Обратимся к стихотворению «Посвящается Чехову», которое
составляет пару с «Посвящается Ялте». А. Ранчин показал, что стихотворение является последовательной постмодернистской деконструкцией инвариантного текста чеховских пьес, принципиально
чуждого как мироощущению, так и собственной манере Бродского11: «отсутствие внешних событий и акцент на потаенных переживаниях персонажей», безликость действующих лиц, их состав,
число, занятия и распределение ролей, «банальность и иллюзорность намеченных... сюжетных коллизий», скука, бессмысленность существования, вечернее чаепитие на террасе сада и т.д. и
т.п.12 А. Степанов, в свою очередь, заметил, что у Бродского «чеховский человек, в полном соответствии с давней критической традицией... воспринимается прежде всего как неспособный принимать решения, решать вопросы, жертвовать (“Вскочить, опрокинув
столик! / Но трудно, когда в руках / все козыри”)... Действие подменяют разболтанные “настроения” персонажей. Ощущение расхлябанности создается и отсутствием ритма: стихотворение держится только на рифмах, и если его написать сплошным текстом,
скрывающим рифмы, которые в большинстве не совпадают с синтаксически завершенными отрезками и могут включать служебные
слова, то стихи, как часто бывает у Бродского, станут почти неотличимы от прозы»13.
Этой прозаизации соответствует и сниженная лексика, включая двукратное употребление слова «ихний»:
Но любит ли Вяльцева доктора? Деревья со всех сторон
липнут к распахнутым окнам усадьбы, как девки к парню.
У них и следует спрашивать, у ихних ворон и крон,
у вяза, проникшего, в частности, к Варваре Андреевне в
спальню;
он единственный видит хозяйку в одних чулках.
102
Мария Рубине
<...>
И хор цикад нарастает по мере того, как число
звезд в саду увеличивается, и кажется ихним голосом.
(4, 149)
По мнению А. Степанова, в первом примере «ихний» является открыто «чужим голосом», «голос[ом] чумазого, незаконно
вторгающийся в интеллигентную, даже книжную, речь» (т.е. предположительно это голос тех самых «парней» и «девок» с их здоровым сексуальным инстинктом, контрастирующим с блеклыми
эротическими фантазиями рефлектирующего интеллигента).
Однако А. Степанов допускает и иное прочтение: это «нарочито
огрубленный голос современного человека, глядящего из “эпохи
свершений” на деликатные чеховские времена»14.
Во втором случае авторство «ихний» установить сложнее, но
вряд ли это слово — признак чужого голоса. Скорее всего, оно
принадлежит авторской речи, которая, однако, почти не отличима от косвенной и служит дополнительным способом стилизации
чеховской «атмосферы», где грань между бытом и бытием почти не
ощутима, а иерархическая вертикаль разрушена. «Ихний голос» —
это голос звезд, но озвучивают его земные цикады. Нарушены также пропорции и дистанции: число звезд увеличивается не на небе,
а «в саду», тем самым они обытовляются, небосвод сужается до
размеров архетипического у Чехова дачного пространства, и естественным оказывается использование вместо возвышенного языка сниженной лексики. Стихотворение завершается вполне логичным в данном контексте утверждением изоморфности «провинции» и «космоса»: «В провинции тоже никто никому не дает. / Как
в космосе» (4, 149).
Ненормативные формы, передающие чужой, чуждый, а иногда и открыто враждебный голос, встречаются у Бродского и в переводах15. Так, в прологе и хорах из трагедии Еврипида «Медея»
самая гневная реплика хора, осуждающая преступление героини,
облечена в просторечные лексические единицы:
Зачем страдала, зачем рожала?
За море с ними зачем бежала?
Чтоб стали добычей твово кинжала?
Эриния бешеная! Страшила!
Мало, что царский дом сокрушила?
Что царя с царевною порешила?
Мало! Ты метишь в разряд чудовищ!
И новый ужас уже готовишь:
Детей своих в крови ихней топишь16.
«Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 103
«Ихний» употребляется еще раз в связи с Медеей. На этот раз
принимая точку зрения героини, хор выражает враждебное отношение к грекам. Он сетует на то, что подвижные скалы (симпле-
гады) не уничтожили греческие суда: «Знать бы тогда, куда греки
плыли! / Симплегады бы ихний грецкий орех сдавили!»17. Экспрессия повышается в результате десемантизации различия между
«греческим / грецким», тем самым восстанавливается этимологическая близость этих слов. Одновременно используются ассоциации с современным значением («грецкий орех», «ореховая
скорлупа», корабль, «хрупкий, как ореховая скорлупка», а также
привносится семантика выражения «колоть орехи» и идиомы «разделать под орех»).
Бродский осуществил два перевода стихотворения К. Кавафи-
са «Дарий». В более позднем, представляющем собой отредактированный Бродским перевод Г. Шмакова, «ихний» резко противопоставляет героя — живущего в Каппадокии греческого поэта
Ферназиса — римлянам, чья военная мощь вызывает его ужас и
смятение:
На свете нет врагов страшнее римлян.
Что противопоставить можем мы,
каппадокийцы, ихним легионам?18
Характерно, что во второй строфе, где речь идет о размышлениях самого Ферназиса, фигурирует нормативный вариант этого
притяжательного местоимения:
<...> Ферназис веки
смежает, погрузившись в размышленья.
Но ход их плавный грубо прерывает
слуга...19
Аналогично в целой группе стихотворных текстов Бродского
«ихний» служит сигналом оппозиции или отчуждения лирического
героя от описываемой ситуации. Одним из таких контекстов оказывается Империя. В стихотворении «Развивая Платона» «ихний»
определяет принадлежность Тирану, обозначенному архетипной у
Бродского парадной статуей:
И там были бы памятники. Я бы знал имена
не только бронзовых всадников, всунувших в стремена
истории свою ногу, но и ихних четвероногих...
(3, 123)
104
Мария Рубине
Той же мифологической парадигме соответствует и «Бюст
Тиберия». Метафора листьев как единогласной, безликой массы,
органически связанной с диктатором («И защищать тебя / от вымысла — как защищать деревья / от листьев с ихним комплексом
бессвязно, / но внятно ропщущего большинства»; 3, 275), варьирует привычный топос Бродского20.
«Ихний дозор» в «Византийском» — это дозор тоталитарного
государства, в данном случае смоделированного не по римскому,
а по византийскому образцу и наделенного атрибутами азиатской
империи, объявленной прообразом русской цивилизации еще в
эссе «Путешествие в Стамбул» (на это указывает и «чалма пророка», и «карий местного мусора»21, и безликая толпа). Спастись от
дозора можно лишь в смерть:
И ежели нас в толпе, тысячу лет спустя,
окликнет ихний дозор, узнав нас по плоскостопию,
мы прикинемся мертвыми, под каблуком хрустя...
(4, 169)
Толпа эта напоминает толпу на многолюдной афинской улице,
куда попадает автор «Путешествия в Стамбул» и которая представляется ему потусторонним миром.
Как неоднократно подчеркивалось в работах о «скульптурном
мифе» Бродского, помимо устойчивой имперской коннотации,
мифологема статуи обладает еще целым рядом негативных значений, включая омертвение, небытие. Именно так можно интерпретировать камею в стихотворении «Bagatelle»:
Вечер липнет к лопаткам, грызя на ходу козинак,
сокращает красавиц до профилей в ихних камеях;
от великой любви остается лишь равенства знак
костенеть в перекладинах голых садовых скамеек.
(4,37)
Безжизненная скульптурная миниатюра как бы редуцирует, замещает, вытесняет красавицу, символизируя конец любви, и «ихний»
вносит нотку грубоватой иронии.
В стихотворениях «Восславим приход весны! Ополоснем лицо...» и «На возвращение весны» «ихний» выполняет функцию создания стилистического контраста, снижения, депоэтизации, тем
самым инвертируя заявленную тему приветствия весны. Более ранний текст распадается на две равные части: в первой, изобилующей восклицаниями, создается своего рода симулякр бодрой,
оптимистической, устремленной в «светлое будущее» поэзии (ли¬
Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 105
рический герой Бродского явно занимает здесь несвойственную
ему культурно-речевую позицию). Именно «ихний» отмечает смену точки зрения и интонации во второй части стихотворения: пафос вытесняется иронией, неустанное движение маятника вызывает страх, подспудно вводится инвариантный мотив «грядущего»
как гибели, распада, оледенения, варварства:
Восславим приход весны! Ополоснем лицо,
чирьи прижжем проверенным креозотом
и выйдем в одной рубахе босиком на крыльцо,
и в глаза ударит свежестью! горизонтом!
будущим! Будущее всегда
наполняет землю зерном, голоса — радушьем,
наполняет часы ихним туда-сюда;
вздрогнув, себя застаешь в грядущем.
Весной, когда крик пернатых будит леса, сады,
вся природа, от ящериц до оленей,
устремлена туда же, куда ведут следы
государственных преступлений.
(3, 171)
В более позднем стихотворении скепсис по поводу разумности
миропорядка, поступательного движения как времен года / времени, так и небесных тел / пространства, выражен гораздо непосредственнее. «Ихний» соседствует с абстрактными, терминологическими понятиями, создавая тем самым впечатление «языкового
взрыва»22 — лингвистического уподобления царящему в космосе
хаосу:
Мы все влюблены в астрономию, в космос вообще, в
безвредную
пляску орбит, колец, эллипсов с ихней точностью.
<...>
Что, если небесное тело в итоге не столько кружится,
сколько просто болтается без толку...
(4, 175)
Эффект взрыва, экспрессивного сталкивания лексем абстрактного, высокого, даже сакрального ряда, а также архаизмов с низкими формами, находящимися за пределами литературной нормы,
создается и в «Эклоге 4-й (зимней)»:
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,
106
Мария Рубине
белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горе, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.
(3, 200)
Здесь опять происходит деконструкция вертикальной иерархии и
констатируется взаимозаменяемость «высокого» и «низкого» в буквальном смысле (ангелы на небе уподобляются скользящим по
льду белофиннам).
«Ихняя потусторонность» (из «Письма в Академию») — еще
более невозможное с точки зрения нормы словосочетание, иллюстрирующее полистилистику, свойственную, по мнению Л. В. Зубовой, всем современным направлениям постмодернизма и выраженную не только «смешением литературных стилей», но и
«стилистической контрастностью фрагментов текста», смысл которой — «либо... отражение дисгармонии, либо, напротив... ценностное уравнивание всего сущего, как средство устранить оппозицию между высоким и низким»23. В стихотворении Бродского
выстраивается гротескный образ птиц (нечто среднее между серафимами, но не шести-, а пятидесятикрылыми, что, возможно, содержит намек на упоминаемый в тексте возраст поэта, и орлом,
клюющим печень Прометея). Просторечное «ихний» помещено в
своеобразное окружение — в тексте десять раз использовано «их»
(в качестве нормативного притяжательного местоимения и формы
личного местоимения «они»). Игра с вариантами слова задерживает внимание на лингвистическом аспекте поэтического сообщения, акцентируя код, которым пользуется поэт. Кроме того, как
подчеркнуто устный вариант «ихний» противоречит заявленному
в заглавии жанру «письма» и бросает вызов «академическим» понятиям о грамматике:
Вот почему их [птиц] невозможно сбить
и почему им негде приземлиться.
Их приближенье выдает их звук —
совместный шум пятидесяти крыльев,
размахом каждое в полнеба, и
вы их не видите одновременно.
Я называю их про себя «углы».
В их оперенье что-то есть от суммы комнат,
от суммы городов, куда меня
забрасывало. Это сходство
«Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 107
снижает ихнюю потусторонность.
Я вглядываюсь в их черты без страха:
в мои пятьдесят три их клювы
и когти — стершиеся карандаши, а не
угроза печени, а языку — тем паче.
(4, 143)
Причудливые птицы теряют свою «потусторонность», связывая воедино мифологический и биографический контекст (выступая метафорой времени, прожитой жизни, суммы мест жительства). Постепенно начинает звучать глубоко личная тема
творчества. Поэт отказывается от пророческой миссии (антипро-
роческий мотив — сквозной у Бродского), обозначенной реминисценцией из пушкинского «Пророка» («Я — не пророк, они — не
серафимы»). Среди коннотаций птиц — буквы, клинопись, их
клювы и когти — «стершиеся карандаши» (ср. «мое перо, мой коготок» из «Пятой годовщины»), что намекает на «кончающуюся
жизнь» лирического героя. «Отбой» в конце стихотворения — не
мнимая ли отсрочка неминуемой смерти, приоткрывшейся в видении пятидесятикрылых «потусторонних» птиц? («Что до меня,
произнося “отбой”, / я отворачиваюсь от окна / и с облегченьем
упираюсь взглядом в стенку»; 4, 144).
В восьмой части «Римских элегий» поэт обращается к свече.
При наличии аллюзий на «Зимний вечер» Пастернака стихотворение Бродского лишено эротических коннотаций, речь в нем идет
о творческом процессе. «Ихний» относится к строчкам, которые
выводит «вечным пером» сам автор, актом номинации увековечивая предметы:
Бейся, свечной язычок, над пустой страницей...
<...>
Да и копоть твоя воспаряет выше
помыслов автора этих строчек.
Впрочем, в ихнем ряду ты обретаешь имя;
вечным пером, в память твоих субтильных
запятых, на исходе тысячелетья в Риме
я вывожу слова «факел», «фитиль», «светильник»...
(3, 230)
В данном случае просторечная единица передает не оппозицию по
отношению к объекту поэтического высказывания, а ощущение
фамильярности, интимности.
Оттенок интимности есть и в стихотворении «Не важно, что
было вокруг, и не важно...»: «морозное небо над ихним привалом»
108
Мария Рубине
(т.е. над привалом святого семейства, обозначенного ранее как
«пастушья квартира»). Как неоднократно отмечалось, рождественский сюжет у Бродского обычно трансформируется в биографический. Элегический тон при воссоздании былой идиллии в этом тексте, возможно, соотносится не только и не столько с М.Б. и сыном
поэта, сколько с воспоминанием о родителях, детстве, молодости24.
В стихотворении «В горах» фамильярное «ихний», соседствуя
с нейтральной и абстрактной лексикой, помогает сократить дистанцию между отчужденным от человека миром (горы, силуэты
горных отрогов, снег) и миром человеческим, даже биологическим
(ребра, хребты, клетки кожи, черты лица): «Склонность гор к подножью, к нам, / суть изнанка ихних круч [гор]»; «...уподобить не
впервой / наши ребра и хребты / ихней [гор] ломаной кривой»;
«Гладь щеки — противовес / клеток ихнему концу»; «...ихним снегом [гор] на черты / наших лиц обречены» (3, 266, 269). Отталкиваясь от этого стихотворения, И. Ковалева делает вывод, что мотив тела перерастает в иных стихах Бродского в мотив «вещи, в
декларируемое торжество объекта над субъектом»25. Нечто подобное происходит и в стихотворении «Прилив», где не лишенный
самоиронии герой с трудом отличает себя от собственных брюк:
И себя отличить не в силах от снятых брюк,
от висящей фуфайки — знать, чувств в обрез
либо лампа темнит — трогаешь ихний крюк,
чтобы, руку отдернув, сказать: «воскрес».
(3, 216)
В заключение обратимся к стихотворению «Муха», в котором
присутствуют наиболее характерные для Бродского мотивы, тропы
и приемы. Муха, к которой обращена речь лирического героя, —
alter ego поэта26. Насекомое становится метафорой времени и пространства, быстротечности жизни, одиночества, творчества (неточная рифма «муха/Муза»), языка (с ней отождествляется «буква
шестирукая», а соответствующий ей звук передан ономатопоэтически с помощью искусных аллитераций: «живым брюнеткам,
женским / ужимкам, жестам»). Адресат меланхолического монолога вызывает немало реминисценций из литературы, мифологии,
фольклора27. Фигурные строфы графически вторят «старомодным»
крыльям насекомого, отсылая к поэзии барокко. Подобная ретро-
спекгивность, воссоздание в новом тексте фрагментов культуры
прошлого усиливают основную тему стихотворения — утверждение вечности как цикличности, беспрестанного перерождения.
Тема реинкарнации введена путем редкой для Бродского отсылки
к восточной религиозной традиции — через упоминание Шивы
Песнь есть форма лингвистического неповиновения» 109
(«сдает твоя шестерка, Шива»), члена верховной триады индуистских богов, где функция Брахмы — творить мир, Вишны — сохранять его, а Шивы — разрушать. В соответствии с одним из канонов индуистской иконографии Шива предстает танцующим
внутри колеса, символизирующего карму, непрекращающийся
цикл рождения — смерти — реинкарнации, или творения — разрушения — нового творения. Именно на это колесо указывает
«шестерка» (шестеренка, зубчатое колесо) у Бродского. Кроме
того, цифра «шесть» позволяет отождествить муху и ее графическое
выражение («шестирукую» букву) с Шивой, обладающим четырьмя руками, т.е. шестью конечностями.
Таким образом, в стихотворении снимается негативный аспект
смерти как небытия и утверждается смерть как перерождение, метаморфоза, переход в иное состояние. Вспомним также, что и в
западном мифопоэтическом сознании, наряду с превалирующими
негативными значениями, муха имела и коннотации бессмертия,
вечности (символически выраженные в образе мухи, застывшей в
янтаре). Бродский реабилитирует муху не только в контексте пушкинской «Осени» («Ох, лето красное! любил бы я тебя, / Когда б
не зной, да пыль, да комары, да мухи»), но и в более широком,
мифологическом, контексте, описывая ее появление «в эмпиреях,
где царит молитва» (у древних евреев считалось, что появление
этого нечистого насекомого в храме Соломона оскверняло его).
Поэт представляет себе стадии посмертного существования мухи:
после пребывания в «мушином Раю» (где сонм мух кружится над
малиновым вареньем28) рой мух устремляется в «действительность»
в виде снежинок (ср. «снежные мухи» из стихотворения «В горах»):
Отпрянув перед бледным вихрем,
узнаю ли тебя я в ихнем
заведомо крылатом войске?
(4, 289)
Впрочем, для души этой конкретной мухи Бродский предвидит
возвращение на землю весной, чтобы «совпасть с чужою личинкой» и «явить навозу метаморфозу». На этой вполне оптимистической ноте и заканчивается медитация поэта о жизни и смерти.
Возвращаясь к лингвистическому аспекту, следует отметить,
что текст Бродского проецируется главным образом на «Осень»
Пушкина и в целом на заявленный непосредственно в стихотворении стиль «века номер девятнадцать». Об этом свидетельствуют
и определенные лексемы («лучина», «колыбель», «вуаль прабабки»), и архаические формы («вчуже», «сиречь», «тем паче», «с тем
110
Мария Рубине
и овом», «без оной»), а смешение высокого и низкого стиля у Бродского («по глади / замызганной плиты», «из лужи / воззриться вчуже» и т.п.) имплицитно подчеркивает то же явление у Пушкина,
который счел необходимым шутливо извиниться за «ненужный
прозаизм». Возможно, форма «ихний» возникает здесь одновременно и как средство стилистического контраста, прозаизации
(она обозначает принадлежность к «крылатому войску душ», хотя
и «мушиных»), и как воспоминание о ее распространенности в
разговорных стилях XIX в.
Лексическая единица «ихний» при ближайшем рассмотрении
выполняет самые разнообразные функции в текстах Бродского.
Она служит для речевой характеристики персонажа; может оповещать о «чужой» речи и, шире, о культурно-философской позиции,
не конгениальной авторской; создает стилистический контраст,
снимает патетику, способствует депоэтизации; повышает экспрессию; выполняет метапоэтическую функцию, отвлекая внимание от
сообщения на код; подчеркивает некую ретроспективность29 и
даже ностальгию по прошлому, как биографическому, связанному с интеллигентским просторечием, так и по прошлому литературы (здесь помимо ориентации на XIX в. необходимо иметь в виду
и употребление этого слова М. Цветаевой30); вносит оттенок интимности или фамильярности; выявляет (само)иронию; бросает
вызов академическому диктату, в итоге становясь формулой лингвистического неповиновения. Совокупность этих смыслов расширяет представление об идиостиле Бродского, подчеркивая высокую степень перформативности его поэтики.
1 Д. Ахапкин, например, называет свою статью «Иосиф Бродский —
поэзия грамматики» (Иосиф Бродский и мир: метафизика, античность,
современность. СПб., 2000. С. 269—275), а И. Высоцкая обращает внимание на «грамматическую интерпретацию действительности» в поэзии
Бродского (см.: Высоцкая И. Грамматический синкретизм в поэзии Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. М., 2005. С. 113—123).
2 См.: Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. М., 1967.
Т. 2. С. 145.
3 Словарь русского языка XI—XVII веков. М., 1979. Т. 6. С. 358.
4 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 2001.
Т. 2. С. 109.
5 Цит. по: Граудина Л. К., Ицкович В. А., Катлинская Л. П. Грамматическая правильность русской речи. Стилистический словарь вариантов.
М., 2004. С. 340.
6 См.: Тихонова Р. ИСеничкина Е. П. Внелитературная лексика и нелитературные грамматические формы в стихах В. Высоцкого [Электрон¬
Песнь есть форма лингвистического неповиновения»
111
ный ресурс]. Режим доступа: // http://www.samarabard.ru/vysoz_konf. Загл.
с экрана.
7 Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 27. Клише — еще одно
подтверждение того, что в эссе присутствует «чужой голос». Об отношении Бродского к клише см. подробнее: Зубова Л. Соперничество языка со
временем: клише как объект внимания в стихах Бродского // Иосиф Бродский: стратегии чтения. С. 156—170.
8 Вайль П., Генис А. От мира — к Риму // Поэтика Бродского. Tenafly,
1986. С. 204.
9 Лосев А. Иосиф Бродский: Посвящается логике // Вестн. РХД. 1978.
№ 127. С. 129.
10 Полухина В. Бродский глазами современников: Сб. интервью. СПб.,
1997. С. 62.
11 Противоположное мнение о детерминированности поэтического
сознания Бродского чеховскими художественными открытиями высказывалось в статье JI. Лосева «Чеховский лиризм у Бродского» (Поэтика Бродского. С. 185—206).
12 РанчинА. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001.
С. 428-442.
13 Степанов А. Бродский о Чехове: отвращение, соревнование, сходство // Звезда. 2004. № 1. С. 212.
14 Там же. С. 214.
15 Т. Патера насчитывает 19 употреблений «ихний» в оригинальных
стихах Бродского (см.: A Concordance to the Poetry of Joseph Brodsky =
Словарь поэтического языка Бродского: В 6 т. / Сост. Т. Патера. Lewinston,
New York, 2003. T. 2. C. 443). Однако слово «ихний» проникает и в переводы, становясь еще более маркированным (присутствуя в тексте Еврипида или Кавафиса, оно подчеркивает степень субъективности, которую
Бродский допускал при передаче языка других поэтов). Вопрос о «конгениальности» перевода Бродского оригиналу на примере перевода на английский «Tristia» Мандельштама поставлен в статье С. Г. Николаева (Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003. С. 47—63). См. также: Куллэ В. «Там,
где они кончили, ты начинаешь...»: (О переводах Иосифа Бродского) //
Russ. Lit. 1995. Vol. 37, Nos. 2/3. P. 267-288.
16 Бродский И. Кентавры. Античные сюжеты. СПб., 2001. С. 192.
17 Там же. С. 185.
18 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. СПб., 1994. Т. 3.
С. 404.
19 Там же. С. 403.
20 Ср. «Овацию листвы унять там вождь бессилен» («Пятая годовщина»), «перерастающие в овацию аплодисменты лавра» («Вертумн»), «Листва/их научит шуметь / голосом большинства» («Сидя в тени»), «Рояль
чернеет в гостиной, прислушиваясь к овации / жестких листьев боярышника» («Посвящается Чехову»), «Деревья эти зеленые. Вот уж, говоря о
112
Мария Рубине
клише... Ствол от ствола еще отличить можно, но лист от листа! Отсюда,
я думаю, идея большинства и пошла» («Мрамор») и др.
21 Ср. «карее око» из «Путешествия в Стамбул» (5, 310).
22 Языковым взрывом Н. Л. Лейдерман и М. Н. Липовецкий называют впечатление от сочетания в языке Бродского высокой и разговорной
лексики, усматривая в этом связь с барокко и родственным ему футуризмом (см.: Современная русская литература 1950—1990-е годы. М., 2006.
Т. 2. С. 660).
23 Зубова Л. В. Современная русская поэзия в контексте истории языка. М., 2000. С. 14.
24 Интересно замечание Т. Венцловы (из частной переписки с автором данной статьи) о том, что в молодости все люди его круга, включая
Бродского, активно использовали «ихний» в устной речи с оттенком са-
моиронии, как своего рода элемент общего жаргона. Не исключено, что
в постэмигрантский период эта форма воскресает у Бродского в том числе и как своеобразная дань фамильярному языку ленинградского прошлого.
25 Ковалева И. На пиру Мнемозины // Бродский И. Кентавры. Античные сюжеты. С. 50.
26 Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. С. 28.
27 Среди «интертекстов» стихотворения — «Метаморфозы» Овидия,
сказка «Кощей Бессмертный», басня «Стрекоза и Муравей» И. Крылова
(к ней отсылает рефрен «пока ты пела...»), «Осень» Е. Баратынского, «Пророк», «Осень», «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, «Мухи» А. Апухтина, «Мухи как мысли» И. Анненского, «Муха-Цокотуха» К. Чуковского,
тексты самого Бродского («1972 год», «Эклога 5-я (летняя)» и др.).
28 Вспоминается пародийно-идиллическая сцена из «Мертвых душ»:
черные фраки гостей на вечеринке у губернатора порождают ассоциации
с «воздушными эскадронами мух, поднятых легким воздухом» и кружащих
над «белым сияющим рафинадом в пору жаркого июльского лета».
29 Ср. с мнением лингвистов о том, что просторечные формы, «представляя собой осколки непродуктивных, диалектных или устаревших
грамматических явлений, ретроспективны; они обращены в прошлое»
(Граудина Л. К Вопросы нормализации русского языка. Грамматика и варианты. М., 1980. С. 269).
30 Просторечие «ихний» не столь частотно у Цветаевой, как у Бродского. Тем не менее в «Словаре поэтического языка Марины Цветаевой»
(М., 1998. Т. 2. С. 273) зафиксировано восемь случаев такого словоупотребления.
Моника Грыгель
Люблин, Польша
МЕТАФИЗИКА ОБЫДЕННОСТИ
В РАННЕЙ ПОЭЗИИ БРОДСКОГО
«Большая элегия Джону Донну», написанная Бродским в
1954 г., принесла известность молодому русскому поэту. Она доказала универсальность его таланта, вдохновленного поэзией английских метафизиков XVII в.: Дж. Донна, Дж. Герберта, Р. Крэ-
шо, Э. Марвелла. Отсылки Бродского к европейскому барокко
доказывают, что определение его поэзии как метафизической —
отнюдь не поверхностные ассоциации Бродского с группой поэтов
Донна, но результат воздействия многих поэтических элементов,
создававших своеобразный метафизический климат его поэзии1.
Сам Бродский называл свою поэзию метафизической, поскольку
ощущал себя наследником поэтической традиции Донна2.
Поэзия «английских метафизиков» берет начало в эпохе барокко. Налицо признаки, характерные для данного литературного
направления: интеллектуальная сосредоточенность, концептизм,
точность и многосторонность воображения. Эти признаки нередко образуют цепочку связей. Основная метафизическая проблема — отношения между Творцом и Творением3. Этот поэтический
замысел осуществляется в раннем творчестве Бродского, связывающем необыкновенное с обыденным. При помощи концептов,
основанных на механизме метафоры4, поэт сопрягает отдаленные
сферы действительности.
Конкретизм поэзии Бродского не только в детальном воссоздании мира, но и в почитании любого его фрагмента. Вслед за
метафизиками автор пытается доказать, что Бога можно найти где
угодно. Божественный след заметен в каждом проявлении природной жизни. В стихотворении «В деревне никто не сходит с ума...»
деревня представляется оазисом естественных связей природы и
человека. Благодаря этому субъект сохраняет душевное равновесие:
В этой деревне сквозь шум реки
на круглых деревьях шумит листва.
Господи, Господи, в деревне светло,
и все, что с ума человека свело,
к нему обратится теперь на «ты».
(Л 138)
114
Моника Грыгель
В ранней поэзии Бродский использует эстетику барокко: изображения предметных живописных композиций, сочный язык и
приукрашенный стиль. Многое из поэтических достижений Донна и его последователей автор адаптирует к своей поэтике. С барочным изображением смерти в виде скелета с косой он полемизирует в следующих строках:
Это абсурд, вранье:
череп, скелет, коса.
«Смерть придет, у нее
будут твои глаза».
(«Натюрморт»; 2, 425)
Среди поэтических картин Бродского встречаются барочные
изображения мертвых предметов и животных, противопоставленные одушевленной материи:
Спи, рождественский гусь.
Засыпай поскорей.
Сновидений не трусь
между двух батарей,
между яблок и слив
два крыла расстелив,
головой в сельдерей.
(«Новый год на Канатчиковой даче»; 2, 10)
Задача Бродского — зафиксировать сиюминутное, бренное,
обнаружив в нем постоянные, вневременные ценности. Барочный
натюрморт, как и предмет, — только предлог для того, чтобы показать метафизику жизни, в которой иррациональное сталкивается с рациональным. Человек, по мнению поэта, должен не только
видеть материю, но и проникать сквозь ее эмпирическую оболочку в сферу незыблемого, вечного.
Человек между жизнью и смертью — главная проблема поэзии
барокко и лирики Бродского. Граница между живым организмом
и мертвым предметом утончается, когда речь идет о существах,
экзистенция которых близка к небытию. Посредством бабочки,
мотылька Бродский указывает на факторы, влияющие на сознание
современного человека. Говоря об ускользающей жизни насекомого и человека, поэт подчеркивает необходимость созерцания и
духовного развития:
...Как бабочка (не так ли?) на плече:
живое или мертвое, оно,
Метафизика обыденности в ранней поэзии Бродского
115
хоть собственными пальцами творим, —
связующее легкое звено
меж образом и призраком твоим.
(«Твой локон не свивается в кольцо...»; 2, 38)
Маленькая моя, я грущу
(а ты в песке скок-поскок).
Как звездочку тебя ищу:
разлука как телескоп.
(«Сонетик»; 2, 46)
Мотылек, мотылек,
от смерти себя сберег,
забравшись на сеновал.
Выжил, зазимовал.
<...>
Приблизив его к лицу,
я вижу его пыльцу
отчетливей, чем огонь,
чем собственную ладонь.
(«Зимним вечером на сеновале»; 2, 144)
Маленькое существо не только подчеркивает величие человека в эмпирическом мире, но также напоминает о тленности всякой твари. Соотношение этих полюсов человеческой экзистенции — основная проблема философии Паскаля, стремящегося
постичь могущество и одновременно нищету человека, контраст
материи и духа. Близкие взгляды выражали позднее представители экзистенциализма, а вслед за ними и Бродский.
Для его поэзии 1960-х гг. характерно множество персонажей и
метафизических ситуаций из другой, иррациональной, реальности
(либо находящихся на ее грани). Бродский часто использует интимный разговор, а точнее — монолог с собственной душой, принадлежащей к божественному элементу телесной материи. Душа —
немой свидетель Вечности, подсознательное обещание вечной
жизни. Сравниваемая с птицей, воспаряющей над миром, она пребывает в недоступном человеку пространстве:
Скажи, душа, как выглядела жизнь,
как выглядела с птичьего полета.
Покуда снег, как из небытия,
кружит по незатейливым карнизам,
116
Моника Грыгель
рисуй о смерти, улица моя,
а ты, о птица, вскрикивай о жизни.
(«Теперь все чаще чувствую усталость...»; 1, 27)
И душа, неустанно
поспешая во тьму,
промелькнет над мостами
в петроградском дыму...
(«Стансы»; 1, 209)
Реальность, которой принадлежит душа, — это идеальный мир,
место покоя после переполненной трудом земной жизни. Страдания ежедневной экзистенции приводят к тому, что душа — недавняя пленница тела — радостно вырывается на свободу. Смерть для
нее — освобождение:
Но что-нибудь останется во мне —
в живущем или мертвом человеке —
и вырвется из мира и извне
расстанется, свободное навеки.
Хвала развязке. Занавес. Конец.
Конец. Разъезд. <...>
(«Приходит март. Я сызнова служу...»; 1, 36)
Метафизика Бродского часто строится путем описания определенного временного интервала — вечера или ночи, с которыми
связаны конкретные лирические ситуации. Поэтическая картина
ночи способствует размышлениям лирического героя. Можно сказать, что ночь провоцирует на разговор поэта с самим собой, на
поиски им Бога. Ночью легче сосредоточиться на иррациональной
стороне мира: ночь приглушает телесные страсти, будит душу и
обостряет интуицию. Природа ночью, как пишет поэт, приобретает трансцендентальный характер:
Я быстро шел среди вечерней мглы,
мой шаг шуршал, но все кругом уснуло.
<...>
Я молча оглянулся, и тогда
совсем другой мне роща показалась.
(«Я шел сквозь рощу, думая о том...»; 1, 183)
Темноту у Бродского часто освещает пламя свечи — символ
жизни и одновременно бренности бытия, обладающий христиан¬
Метафизика обыденности в ранней поэзии Бродского 117
ским смыслом. Благодаря свету свечи враждебная темнота принимает знакомые очертания. В поэме «Исаак и Авраам» в угрюмой
картине, складывающейся из темноты, проливного дождя и коварной лисы, ярко горящая свеча рождает чувство безопасности. Свеча
как символ спасения одновременно является и знаком эфемерности жизни. Подтверждение этого — мертвые пчелы, увядшие цветы
и листья, украшающие подсвечник. Их продолжение — очередная
картина поэмы с изображением корзины как объекта живописного натюрморта. Основной смысл упомянутых картин заключается,
вероятно, в том, чтобы акцентировать взаимосвязь жизни и смерти.
Пламя свечи олицетворяет жизнь, а мрак — смерть; для листа их
ботаническими аналогами становятся лето и осень:
<...> И здесь горит свеча.
Подсвечник украшают пчелы, листья.
Повсюду пчелы, крылья, пыль, цветы,
а в самом центре в медном том пейзаже
корзина есть, и в ней лежат плоды,
которые в чеканке меньше даже
семян из груш. — Но сам язык свечи,
забыв о том, что можно звать спасеньем,
дрожит над ней и ждет конца в ночи,
как летний лист в пустом лесу осеннем.
(«Исаак и Авраам»; 1, 266)
Ночь у Бродского приобретает более эмоциональный и метафизический характер в описаниях зимнего пейзажа. Зима —
любимое время года поэта, что объясняется спецификой петербургского климата (зима — самое долгое время года). Бродский
восхищается красотой и девственностью снежного пейзажа, спокойствием уснувшей природы. Зимняя и ночная пора имеют много
общего: это время отдыха, размышлений.
Особое предпочтение поэт отдает снегу, который присутствует
почти во всех зимних картинах. Падающий снег определяет вертикальную перспективу (верх — низ). Он — дар небес, покрывающий все предметы на земле. Семантически важен цвет — безукоризненно белый, изменяющий знакомый пейзаж, сглаживающий
очертания, придающий мягкость природе. Ежегодный процесс
зимней метаморфозы напоминает человеку о возможности духовной перемены, возвращения к гармонии души и материи. Вот как
выглядит зимняя метафизическая рефлексия Бродского:
Снег, снег летит; о чем в последний миг
подумаешь, тем точно станешь после, —
118
Моника Грыгель
предметом, тенью, тем, что возле них,
птенцом, гнездом, листвою, тем, что подле.
При смерти нить способна стать иглой,
при смерти сил — мечта — желаньем страстным,
холмы — цветком, цветок — простой пчелой,
пчела — травой, трава — опять пространством.
<...>
Снег, снег летит. Вокруг бело, светло.
Одна звезда горит над спящей пашней.
(«Пришла зима, и все, кто мог лететь...»; 2, 104—105)
Откуда к нам пришла зима,
не знаешь ты, никто не знает.
Умолкло все. Она сама
холодных губ не разжимает.
Она молчит. Внезапно, вдруг
упорства ты ее не сломишь.
Вот оттого-то каждый звук
зимою ты так жадно ловишь.
(«Откуда к нам пришла зима...»; 1, 186)
В цитируемом фрагменте варьируется также тема «человек —
это шар, а душа — это нить» («Письма к стене»; 2, 21). Нить, не
видимая в смотанном клубке, обусловливает его существование.
Недоступная визуальному восприятию душа тоже определяет
жизнь тела, а ее чувствительность терзает человека, как укол иглой.
Появляется частотный мотив пригорка, горы, сугроба и соответствующие им в архитектуре виды купола, башни. Гора — вид пейзажа, редуцирующий различие между землей и небом. Задавая вертикальное направление странствиям и раздумьям, гора получает в
христианстве исключительное духовное значение5.
Среди метафизических мотивов Бродского выделяется мотив
дыма. Подобно душе и птицам он устремляется вверх. Дым заполняет пространство, в котором он только след от уничтожаемой
материи:
Горит костер. Вернее, дым к звезде
сквозь толщу пепла рвется вверх натужно.
Уснули все и вся. Покой везде.
(«Исаак и Авраам»; 1, 258)
Узнав, что смолкла вода,
и сделав над нею круг,
Метафизика обыденности в ранней поэзии Бродского
119
вновь он спешит сюда,
где дым обгоняет дух.
{«На смерть Роберта Фроста»; 1, 229)
«Пусть дым совьется в виде той петли,
которая согнать его сумела
своим кивком с холмов родной земли».
<...>
Конечно, достигая до небес,
начнет гулять, дымить противоборство.
(«Притча»; 1, 205)
Метафизический характер раннего творчества Бродского не
исчерпывается этими мотивами. Они во многом декорация для
иррациональной проблематики, которая определяет отношение
поэта к Абсолюту, индивидуально-творческий путь к Богу. Герой
Бродского решает мировоззренческие проблемы, стремится постичь суть собственной экзистенции. Вера в человека как созданье
Божье — источник большой радости и в то же время — глубокого
разочарования:
Так, впредь былого дыша,
я пред Тобой, Господь,
видимо, весь душа,
да вполовину плоть.
(«Вдоль темно-желтых квартир...»; 1, 224)
<...> И уже
ни к высокому слогу,
ни к пространству, ни к Богу
не прибиться душе.
(«Март»; 2, 121)
Раннее творчество Бродского не позволяет усомниться в суще-
стовании Творца. Вместе с тем отношения «человек — Бог» далеки от религиозной заданности. Поведение лирического героя не
лишено крайностей: от переполненного смирением доверия Богу
до бунта против Божьего предопределения. Эта непоследовательность, характерная для английских метафизиков и романтиков, —
отражение вечных поисков человеком высших ценностей. В стихотворении «Два часа в резервуаре» читаем:
Есть мистика. Есть вера. Есть Господь.
Есть разница меж них. И есть единство.
120
Моника Грыгель
Одним вредит, других спасает плоть.
Неверье — слепота, а чаще — свинство.
Бог смотрит вниз. А люди смотрят вверх.
Однако интерес у всех различен.
Бог органичен. Да. А человек?
А человек, должно быть, ограничен.
(2, 139)
Поэт отвергает моральный релятивизм, в его творчестве существует четкая граница между добром и злом. Аксиологический
схематизм держит в повиновении искаженный мир. Твердые этические законы, сохраняющие равновесие между человеком и Богом, предстают в виде соотношения «материя — душа». Вера в иррациональность происходящего обосновывает парадоксальность
рациональной действительности. Главными для автора являются
жажда веры, поиски Бога, позволяющие открыть перспективу вечности. Подтверждением служит следующее стихотворение:
...Наш
мир все же ограничен властью
Творца...
<...>
Но в том состоит искусство
любви, вернее, жизни — в том,
чтоб видеть, чего нет в природе,
и в месте прозревать пустом
сокровища...
<...>
Не в том суть жизни, что в ней есть,
но в вере в то, что в ней должно быть.
(«Пенье без музыки»; 2, 387—391)
В цитируемом произведении появляется звезда как символ
отдаленной, но существующей реальности. Звезда приобретает
иррациональный смысл. И хотя, по словам поэта, она «математически далекая» («Чаепитие»; 2, 395), ее образ говорит об измерении, недоступном человеческому уму. Как и у английских метафизиков, ум символизирует рациональность математических
теорий («Что не знал Эвклид, что, сходя на конус, / вещь обретает
не ноль, но Хронос»; 2, 427) и построений («...И жаждущая встречи пара / любовников — твой взгляд и мой — / к вершине перпендикуляра // поднимется...»; 2, 386). Любовь и ее результаты — раз¬
Метафизика обыденности в ранней поэзии Бродского
121
лука и тоска, акцентированные в стихотворении, — обладают метафизической ценностью, что мотивировано схоластическими учениями. Если схоластическая философия исходит из существования
неизменных догматов, то Бродский добавляет к ним веру в любовь.
Этим он расширяет метафизические контексты, создавая собственную философию ценностей.
Человек Бродского — это и Божье дитя, и существо, борющееся в одиночестве с трудной и жестокой земной жизнью. Перспектива вечности и ощущение присутствия Бога утоляют боль экзистенции, но не излечивают человека от нее, ибо, по мнению поэта,
жизнь — постоянная борьба с собственными слабостями. В «Разговоре с небожителем» экзистенциальный бунт против непоколебимого образа Бога становится жалобой на одиночество человека,
предоставленного самому себе6. Однако поэт не призывает к атеизму: неустранимость бренности Бродский заменяет сознанием ограниченности несовершенной материи и индивидуальным стремлением к вечности. Ничтожество человека неотделимо от его
величия, достижимого при помощи морального просвещения,
которым занимается поэзия. Итак, увечный человек должен сам
черпать знания из экзистенции, замечать Бога и благодарить за все,
что Он сотворил:
Ни своенравный педагог,
ни группа ангелов, ни Бог,
перешагнув через порог,
нас не научат жить.
(«Как славно вечером в избе...»; 2, 133)
и не пойму, откуда и куда
я двигаюсь, как много я теряю
во времени, в дороге повторяя:
ох, Боже мой, какая ерунда.
Ох, Боже мой, не многого прошу,
ох, Боже мой, богатый или нищий,
но с каждым днем я прожитым дышу
уверенней и сладостней и чище.
(«Я как Улисс»; 1, 136)
Метафизика обыденности — предмета, пейзажа и чувства —
приводит к тому, что указанные метафизические мотивы входят в
структуру большинства «великих поэм» Бродского («Большая элегия Джону Донну», «Зофья», «Исаак и Авраам», «Пришла зима, и
все, кто мог лететь...», «Горбунов и Горчаков»). Каждая из них за¬
122
Моника Грыгелъ
трагивает вопрос об иррациональном, что проявляется в существовании нереальных персонажей (душа Донна, «двойник» лирического героя в «Зофье»), явлений (чудесное спасение Исаака, пророческие сны Горбунова) и метафизического времени (зимняя ночь,
во время которой совершаются события на грани сна и яви). Это
совмещает фактическую реальность с иллюзорной, отменяет ограничения, которыми сопровождается процесс познания.
Раскрепощенные в творческом акте воображение, душа проникают в те сферы, куда не дано проникнуть уму. Герой Бродского
преодолевает пространственно-временные границы: разговаривает
с душой Джона Донна, обозревает землю с высоты птичьего полета. Вместе с тем Бродский не пытается рационально объяснить
непонятное. Тайна, к которой он приближается, так и остается
Тайной — пленительным пространством воображения, мечтаний,
надежд и стремлений человека. Подобно поэтам-метафизикам
Бродский тщательно прочитывает книгу жизни, где эмпирический
мир служит аргументом в подтверждение ее божественной сути.
1 См.: Шайтанов И. Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // Вопр. лит. 1998. № 6. С. 3—39; Нестеров А. Джон Донн и формирование поэтики Бродского: За пределами
«Большой элегии» // Иосиф Бродский и мир: метафизика, античность,
современность. СПб., 2000. С. 151—171; Иванов Вяч. Вс. Бродский и метафизическая поэзия // Избр. труды по семиотике и истории культуры. М.,
2000. Т. 2: Статьи о русской литературе. С. 768—777.
2 По словам Бродского: «Поэзия есть искусство метафизическое по
определению, ибо самый материал ее — язык — метафизичен. Разница
между метафизиками и неметафизиками в поэзии — это разница между
теми, кто понимает, что такое язык... и теми, кто не очень про это догадывается. <...>
...Метафизики дали английской поэзии идею бесконечности, сильно
перекрывающую бесконечность в ее религиозной версии» (Волков С. Диалоги с И. Бродским. М., 2000. С. 159—160).
3 Ср.: Bararíczak S. Bóg, czíowiek i natura u angielskich «poetów meta-
fizycznych» XVII wieku // Sacrum w literaturze. Lubün, 1983. S. 210.
4 Об этом подробнее см.: Крепе М. О поэзии Иосифа Бродского. Ann
Arbor, 1984. С. 36-46.
5 Там же. С. 113.
6 Ср.: Ранчин А. «Человек есть испытатель боли...»: Религиозно-фило-
софские мотивы поэзии Бродского и экзистенциализм // Октябрь. 1997.
№ 1. С. 156.
А. А. Чевтаев
Санкт-Петербург
НЕБЫТИЕ В ПОЭТИЧЕСКОМ НАРРАТИВЕ
БРОДСКОГО
(стихотворения 1972 года)
Небытие и попытка его художественной реконструкции —
одна из ведущих интенций творчества И. Бродского. Мир после
человека и человек, исчезающий из пространственно-временной
перспективы, находятся в центре моделируемого поэтом универсума1. К аксиологии небытия и понятий «пустота», «ничто» обращаются многие исследователи поэзии Бродского2. Как отмечалось,
утверждаемый в его творчестве «критерий пустоты — это взгляд,
приобщенный к опыту небытия, но принадлежащий здешнему
существованию»3.
Настоящая статья посвящена стихотворениям 1972 года — переломного в биографии поэта (4 июня он покинул СССР). С одной стороны, отъезд был вынужденным, инспирированным властями, с другой — ощущение внутреннего изгнания Бродский
испытывал до эмиграции. В одном из интервью он вспоминал:
«...мне сказали, что если я не соглашусь уехать, то для меня начнутся трудные времена. Только против этого я бы не возражал: я
знаю, что такое трудные времена. Но дело в том, что я был там
лишним»4. События биографического порядка и специфика мироощущения способствовали тому, что проблема бытия/небытия
выходит на первый план: перспектива изгнания понимается как
перспектива перехода в пустоту5. Взаимодействие человека и категории Ничто присутствует и в ранней поэзии Бродского. Но именно в произведениях 1972 г. (доэмигрантских и тех, которые были
созданы в изгнании) реализация представлений о небытии становится основой организации текста.
Одной из особенностей поэзии Бродского является повествование как принцип смыслообразования6. Творчество поэта характеризуется разветвленной системой вариантов субъектного поведения, обращением к различным контекстам мировой культуры,
смещением лирической репрезентации в сторону объективации
личного опыта. Эти свойства поэтики Бродского обнаруживают
тяготение к ретроспективному взгляду на изображаемую реальность, что характерно для повествовательного дискурса. Причем
использование нарративных механизмов конструирования худо¬
124
А. А. Чевтаев
жественного универсума наблюдается на всех этапах творчества
поэта. Это позволяет моделировать ситуацию непричастности
субъекта-нарратора изображаемым событиям7.
Рассмотрим реализацию представлений поэта о небытии в
нарративных структурах стихотворений 1972 г. Одно из первых
произведений в этом хронологическом ряду — «Сретенье», посвященное А. Ахматовой и примыкающее к Рождественскому циклу.
Факт Рождества и фигура Младенца в художественном универсуме поэта знаменуют начало нового этапа в существовании человека, в котором возможно преодоление небытия. Особое значение
получает финальный эпизод. Событие встречи Святого Симеона
и пророчицы Анны с Младенцем дается с точки зрения всеведущего повествователя, не эксплицирующего себя в диегетическом
плане текста. А. Медведев считает, что все происходящее воспринимается с точки зрения Иосифа Обручника8. В рамках автобиографических корреляций такое прочтение возможно (Иосиф
Обручник — Иосиф Бродский, смерть Симеона — кончина Ахматовой, принятие Христа как Логоса — признание спасительной
роли поэтического языка). Но в структуре повествования прямые
указания на то, с чьей позиции рассказывается о событии, отсутствуют9.
Несмотря на то что стихотворение названо «Сретенье», центральным событием в нем становится уход (смерть) Симеона.
Именно он является героем произведения, определяющим ценностно-смысловое наполнение текста:
А было поведано старцу сему
о том, что увидит он смертную тьму
не прежде, чем Сына увидит Господня.
Свершилось. И старец промолвил: «Сегодня,
реченное некогда слово храня,
Ты с миром, Господь, отпускаешь меня,
затем что глаза мои видели это
дитя: он — Твое продолженье и света
источник для идолов чтящих племен,
и слава Израиля в нем». — Симеон
умолкнул.
а 13)
Композиция строится таким образом, что исчезновение Симеона из моделируемого пространства получает противоположное
значение: его уход знаменует утверждение нового смысла в мироздании и обретение подлинного бытия. В пространственном плане
Небытие в поэтическом нарративе Бродского
125
точек зрения Марии и Анны, представленном через направление
их взглядов, реализуется аксиологический смысл события встречи Симеона с Младенцем:
Он кончил и двинулся к выходу. Вслед
Мария, сутулясь, и тяжестью лет
согбенная Анна безмолвно глядели.
Он шел, уменьшаясь в значенье и в теле
для двух этих женщин под сенью колонн.
Почти подгоняем их взглядами, он
шагал по застывшему храму пустому
к белевшему смутно дверному проему.
а щ
«Дверной проем» оказывается художественным знаком периферии, фиксирующим пересечение героем границы семантического поля. Преодоление этой границы означает смерть:
И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
а 14)
В финале стихотворения идеологические представления героя
совмещаются с ценностным кругозором экзегетического наррато-
ра, утверждающего принципиально новый вариант отношений
человека и небытия:
И образ Младенца с сияньем вокруг
пушистого темени смертной тропою
душа Симеона несла пред собою
как некий светильник, в ту черную тьму,
в которой дотоле еще никому
дорогу себе озарять не случалось.
Светильник светил, и тропа расширялась.
(3, 14-15)
Преодоление посмертной темноты, равнозначной пустоте, становится возможным за счет обретения бытийного смысла, который несет Младенец.
В стихотворениях «Одиссей Телемаку» и «Письма римскому
другу»10 субъект оказывается героем ролевой лирики, выступаю¬
126
А. А. Чевтаев
щим под «античной» маской. Организуя нарративный акт по модели послания, диегетический повествователь соотносит свою
идеологическую позицию с предполагаемой точкой зрения Другого, к которому он обращается. Реконструируя мифологическую
ситуацию в «Одиссее Телемаку»11, нарратор (персонаж Одиссей)
повествует о своих странствиях:
И все-таки ведущая домой
дорога оказалась слишком длинной,
как будто Посейдон, пока мы там
теряли время, растянул пространство.
(3, 27)
Утрата времени и расширение пространства, приближая небытие, раскрывают центральную идеологему героя Одиссея. Путешествие у Бродского оборачивается увеличением энтропии.
В последующих стихотворениях, связанных с мифологическим
контекстом путешествия Одиссея («Теперь, зная многое о моей...»,
«Новая жизнь», «Итака»), деструктивность времени и пространства
возрастает12.
Выстраивая текст как послание Одиссея сыну Телемаку, нарратор утверждает ходом событий (война, странствия в море, нахождение на «каком-то грязном острове»13) невозможность возвращения на Итаку. Приближение небытия акцентировано ослаблением
мнемонических способностей героя. Отсюда усиление беспамятства и неопределенности:
Кто победил — не помню.
<...>
Мне неизвестно, где я нахожусь,
что предо мной. Какой-то грязный остров,
кусты, постройки, хрюканье свиней,
заросший сад, какая-то царица,
трава да камни...
<...>
Не помню я, чем кончилась война,
и сколько лет тебе сейчас, не помню.
(3, 27)
События, явления, предметы, люди теряют бытийную определенность, что в идеологическом плане нарратора делает их равнозначными небытию.
Во второй части акцент с повествующего «я» перемещается на
адресатное «ты»:
Небытие в поэтическом нарративе Бродского
127
Расти большой, мой Телемак, расти.
Лишь боги знают, свидимся ли снова.
Ты и сейчас уже не тот младенец,
перед которым я сдержал быков.
а 27)
Невозможность возвращения определяется наращиванием
темпоральности. Движение по оси времени предстает как путь в
небытие. Если в первой части, где описываются странствия Одиссея, нарратор пассивен по отношению к увеличивающейся энтропии, то во второй — он равнозначен пустоте. Об этом говорит его
«отсутствие» в ценностном кругозоре адресата:
Когда б не Паламед, мы жили вместе.
Но может быть и прав он: без меня
ты от страстей Эдиповых избавлен,
и сны твои, мой Телемак, безгрешны.
а 27)
Точка зрения лирического субъекта сложно взаимодействует с
точкой зрения адресата. Включение чужой идеологической позиции в структуру текста превращает монологическую речь в диалог
мировоззрений.
Иной вариант осмысления категории небытия представлен в
«Письмах римскому другу (Из Марциала)»14. Лирический персонаж — житель отдаленной провинции Римской империи — рассуждает о грядущих изменениях внеположной ему реальности:
Нынче ветрено и волны с перехлестом.
Скоро осень, все изменится в округе.
Смена красок этих трогательней, Постум,
чем наряда перемена у подруги.
а ю)
Прямое обращение к адресату реализует ситуацию диалога:
Посылаю тебе, Постум, эти книги.
Что в столице? Мягко стелют? Спать не жестко?
Как там Цезарь? Чем он занят? Все интриги?
Все интриги, вероятно, да обжорство.
а 10)
Вместе с тем диалогические отношения осложнены отсутствием адресата в диегезисе, что усиливает автокоммуникатив¬
128
А. А. Чевтаев
ность текста. Его нарративный характер обеспечивается включением эпизодов, повествующих о судьбе различных персонажей:
Здесь лежит купец из Азии. Толковым
был купцом он — деловит, но незаметен.
Умер быстро: лихорадка. По торговым
он делам сюда приплыл, а не за этим.
Рядом с ним — легионер, под грубым кварцем.
Он в сражениях Империю прославил.
Столько раз могли убить! а умер старцем.
Даже здесь не существует, Постум, правил.
<...>
Вот и прожили мы больше половины.
Как сказал мне старый раб перед таверной:
«Мы, оглядываясь, видим лишь руины».
Взгляд, конечно, очень варварский, но верный.
(5, 10-11)
Во-первых, рассказ о чужих судьбах способствует объективации и универсализации личного опыта лирического персонажа.
Во-вторых, означаемым этих эпизодов является исчезновение человека из привычных координат существования (физическая
смерть купца и легионера, распад бытийных ориентиров, отмеченный старым рабом). Отсутствие констант утверждается и на уровне коммуникации. Референтные флуктуации касаются компетенции адресата: обращение к Постуму сменяется обращением к
гетере, после чего следует возврат к первому адресату.
В двух финальных катренах идеологические параметры повествователя меняются:
Зелень лавра, доходящая до дрожи.
Дверь распахнутая, пыльное оконце.
Стул покинутый, оставленное ложе.
Ткань, впитавшая полуденное солнце.
(3, 12)
Лирический субъект, отказываясь от своей идентичности, занимает
позицию всеведущего нарратора, извне наблюдающего собственную смерть:
Понт шумит за черной изгородью пиний.
Чье-то судно с ветром борется у мыса.
Небытие в поэтическом нарративе Бродского
129
На рассохшейся скамейке — Старший Плиний.
Дрозд щебечет в шевелюре кипариса.
(3, 12)
Изменение нарративной позиции маркирует центральное событие повествования: переход из Бытия, полнота которого акцентирована в предшествующей части текста, в Небытие, представленное смертью героя. Создается присущий поэзии Бродского эффект
отстранения высказывания от субъекта, которому оно принадлежит. Преодоление неизбежности перехода в Ничто мыслится как
продолжение существования в саморазвивающейся и самопроиз-
носящейся речи. Естественно, что исчезновение повествующей
инстанции можно рассматривать только на идеологическом уровне, так как в структуре текста субъектная позиция всегда оказывается замещенной.
Особый интерес представляет стихотворение «Похороны Бобо». Здесь четко просматриваются структурно-семантические элементы жанра т тетопат, к которому поэт неоднократно обращался15. «Похороны Бобо» обнаруживают формы субъектного
поведения, которые станут принципиальными для Бродского с
конца 1970-х гг. Сложность вызывает идентификация объекта посвящения. Абстрактность адресата очевидна. Это проявляется в
иронической тональности и использовании семантического кода,
отсылающего к русской культуре первой половины XIX в. Именами Бобо, Кики, Заза на французский манер звали в домашнем
кругу девушек из дворянских семей. Абстрактность Бобо, возможно, позволяет соотнести «этот образ... с Музой поэта, вдохновительницей его юношеских стихов»16.
В структуре стихотворения совмещаются итеративный и нарративный типы высказывания, формирующие особую повествовательную модель. Текст состоит из четырех частей, каждая их которых (в ней три катрена) является эпизодом повествуемой истории.
В первой сообщается о событии, вызвавшем рефлексию лирического субъекта:
Бобо мертва, но шапки недолой.
Чем объяснить, что утешаться нечем.
Мы не проколем бабочку иглой
Адмиралтейства — только изувечим.
(3, 34)
Эфемерность умершей сопровождается стоическим принятием ее смерти. Высказывание из трагического модуса переходит в
иронический. Третья и четвертая строки приобретают ряд периферийных значений за счет интертекстуальных связей. «Бабочка»
130
А. А. Чевтаев
традиционно символизирует Психею, которая отождествлялась с
умершим17. Здесь этот знак замещает Бобо, умершую Музу, которая является душой-Психеей. Адмиралтейская игла — устойчивый
символ русской культуры. Задавая ленинградско-петербургский
топос, она выступает в роли культурного кода. Инвариант — пушкинский «Медный всадник»:
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла...18^
У Пушкина шпиль Адмиралтейства, по всей видимости, указывает на упорядоченность мироздания, символизирует преодоление
хаоса19.
В поэтике Бродского «острие», «игла» также хронотопичны.
Однако соотношение времени и пространства принципиально
иное: «игла» символизирует отказ от пространства в пользу всепоглощающей темпоральности. Результатом становится выход за
пределы человеческого бытия20. Это обнаруживается, например, в
стихотворениях «Post aetatem nostram», «Колыбельная Трескового
мыса», «Полдень в комнате». В «Похоронах Бобо» соединение «бабочки» и «иглы Адмиралтейства» («Мы не проколем бабочку
лой / Адмиралтейства — только изувечим») объясняет изображаемые события и изменение лирического субъекта. «Игла» не может
вывести героя-нарратора в «чистое» время. Пустота, в которую
ушла Бобо, пока для него недостижима. «Изувечить» — значит
пытаться хранить привязанность к умершей Музе.
В этой части стихотворения акцентирована нестабильность
позиции лирического субъекта по отношению к диегезису. Это
проявляется в подвижности обозначающих его грамматических
показателей: «мы» в первой строфе сменяется на императивное
2-е лицо во второй («И в качестве ответа / на цЧто стряслось?55
пустую изнутри / открой жестянку: “Видимо, вот это”»; 3, 34);
Так реализуется тенденция к нивелированию собственной пози^
ции, приобретающая у позднего Бродского тотальный характер.
Нарратор моделирует непричастность к событию, обозначая себя
во 2-м лице и занимая в плане идеологии потустороннюю точку
зрения. В третьей строфе даны дейктические координаты локализованного времени и пространства:
Бобо мертва. Кончается среда.
На улицах, где не найдешь ночлеш,
белым-бело. Лишь черная вода
ночной реки не принимает снега.
(3,34)
Небытие в поэтическом нарративе Бродского 131
Во второй части стихотворения эксплицирована невозможность следовать за умершей Музой, но в то же время утверждается неизбежность дальнейшего жизненного пути: «Нам за тобой
последовать слабо, / но и стоять на месте не под силу» (3, 34). Здесь
нарратор, как и в первой части, отождествляет себя с некоторым
«мъ1>>, которое, по-видимому, является знаком жизненного этапа,
завершившегося со смертью Бобо, и означает единство с близкими ему людьми. В третьей части диегетический повествователь
маркирует переход к новой стадии существования, где он оказывается один. Происходит семиотическое событие, перекодирующее семантику повествования. Небытие, в которое ушла Бобо,
порождает пустоту в бытийной определенности нарратора:
Бобо мертва. Вот чувство дележу
доступное, но скользкое, как мыло.
Сегодня мне приснилось, что лежу
в своей кровати. Так оно и было.
Сорви листок, но дату переправь:
нуль открывает перечень утратам.
Сны без Бобо напоминают явь,
и воздух входит в комнату, квадратом.
О3,35)
Императивная конструкция способствует увеличению дистанции между ипостарями лирического субъекта: его активности и
всеведения как повествователя; его пассивности как героя повествования. «Нуль» в календаре — знак с амбивалентной семантикой.
С одной стороны, это — обозначение начала нового периода жизни, с другой — указание на финал бытия во времени. Перспектива превращения в Ничто, которую осознает лирический герой,
соотносится с контекстом христианских представлений: «Наверно,
после смерти — пустота. / И вероятнее, и хуже Ада» (3, 35).
В финальной, четвертой, части стихотворения нарратор утверждает неизбежность небытия:
Ты всем была. Но, потому что ты
теперь мертва, Бобо моя, ты стала
ничем — точнее, сгустком пустоты.
(3,35)
Как справедливо отмечалось, индивидуальное наполнение
человеческого существования «особо акцентировано мотивом абсолютности ухода — превращения в “сгусток пустоты”... и забве¬
132
А. А. Чевтаев
ния, которое распространяется не только на “объект рефлексии”,
но и на ее субъект»21. В финале нарратор актуализирует протекание времени («Идет четверг»). Во-первых, изменение темпоральной дейкгической координаты указывает на развертывание повествования во временной перспективе (ср.: «Кончается среда» — в
первой части стихотворения). Во-вторых, течение времени трансформирует идеологему лирического субъекта. Осознание неизбежности небытия требует иных ценностно-смысловых ориентиров:
Идет четверг. Я верю в пустоту.
В ней как в Аду, но более херово.
И новый Дант склоняется к листу
и на пустое место ставит слово.
(3, 35)
Отстранение от собственного «я» и отсылка к фигуре Данте
вскрывают аксиологические аспекты смерти Бобо. Если для героя
«Божественной комедии» значимо присутствие умершей Беатриче в универсуме, то для лирического субъекта Бродского, напротив, принципиально отсутствие объекта его рефлексии. В концепции Данте бытие человеческой души после смерти продолжается.
У Бродского душа превращается в Ничто. Экзистенциальное преодоление ужаса перед небытием возможно только посредством
речи («и на пустое место ставит слово»).
Как видим, и в «Письмах римскому другу», и в «Похоронах
Бобо» взгляд на события дан с точки зрения отсутствующего
субъекта. Его несовпадение с самим собой сопровождается флуктуациями нарративной позиции, ее нестабильностью по отношению к диегезису. Стремление к само-отстранению и -устранению
выражается также через фрагментарность и децентрализацию в
автоописаниях лирического субъекта22. В произведениях 1972 г. это
становится одним из главных принципов («1972 год»):
С медного
лба исчезает сиянье местного
света. И черный прожектор в полдень
мне заливает глазные впадины.
а 17)
Тотальность самоустранения в поэзии Бродского проявляется
в стихотворениях, где лирический субъект представлен грамматической формой 2-го лица (так диегетический нарратор имплицирует свое присутствие в повествуемом мире)23. Впервые такая нарративная модель реализуется в стихотворении «Торс», написанном
уже в эмиграции:
Небытие в поэтическом нарративе Бродского
133
Если вдруг забредаешь в каменную траву,
выглядящую в мраморе лучше, чем наяву,
или замечаешь фавна, предавшегося возне
с нимфой, и оба в бронзе счастливее, чем во сне,
можешь выпустить посох из натруженных рук:
ты в Империи, друг.
(3, 36)
Нарратор редуцирует свое участие в повествуемом событии,
оставаясь при этом героем повествования. События, о которых
сообщается, находятся в его идеологическом модусе, но воспринимаются как происходящие с кем-то другим. Исключая себя из ди-
егезиса, повествователь превращает саму структуру повествования
в репрезентацию Небытия. Темпоральные координаты теряют дей-
кгические функции, так как в сознании повествователя все изображаемое переводится в план прошлого:
Встань в свободную нишу и, закатив глаза,
смотри, как проходят века, исчезая за
углом...
(3, 36)
Конструируется грядущее состояние мира. Его доминантный
признак — отсутствие человека, т.е. наступление абсолютного
Небытия:
И останется торс, безымянная сумма мышц.
Через тысячу лет живущая в нише мышь с
ломаным когтем, не одолев гранит,
выйдя однажды вечером, пискнув, просеменит
через дорогу, чтоб не прийти в нору
в полночь. Ни поутру.
(3, 36)
«Мышь», являясь двойником повествователя, замещает его позицию в диегезисе. Но Небытие настигает и ее: «мышь» не возвращается в нору ни «в полночь. Ни поутру».
Итак, можно констатировать, что в поэзии Бродского 1972 г.
представления о небытии складываются в художественную систему. В основе рассмотренных стихотворений лежат нарративные
модели, воссоздающие распад бытийных связей. В референтном
отношении повествование становится рассказом об исчерпанности бытия и выходе за пределы темпоральных связей. Вместе с тем
противостоять энтропии удается с помощью поэтической речи.
134
А. А. Чевтаев
Осваивая пустоту, лирический субъект отчасти редуцирует трагические коннотации, которыми сопровождается выход человека за
пределы бытия.
1 В эссе «Профиль Клио», размышляя о смысле всемирной истории,
Бродский пишет: «Если у нас есть что-то общее с древностью, так это
перспектива небытия. Одно это может вызвать интерес к истории... ибо вся
история — об отсутствии, а отсутствие всегда узнаваемо — гораздо лучше,
нежели присутствие. <...> Сознает это историк или нет, незавидность его
положения состой^ в том, что он простерт между двумя пустотами: прошлого, над которым он размышляет, й будущего, ради которого якобы он
этим занимается. Понятие небытйя для йего удваивается» (6, 93—94).
2 См: Polukhiria V Joseph Brodsky: A Poet for OUr Time. Cambridge; 1989;
Ваншенкйка E: Острие: Пространство и время в лирике Йбсифа Бродского // Лит. обозрение. М., 1996. № 3. С. 35—41; Слуэ&евская И. Поздний
Бродский: Путешествие в кругу идей // Иосиф Бродский и мир: метафизика, античности, современность. СПб., 2000. С. 9—35; Плеханова И. И.
Метафизическая мистерия Иосифа Бродского. Под знаком бесконечности: Эстетика метафизической свободы против трагической реальности. Иркутск, 2001; Ранчин А. М. «На пиру Мнемозины»: Интертексты
Бродского. М., 2001; Тюкина С. Онтологический каркас поэзии И. Бродского// Иосиф Бродский: стратегии чтения. М., 2005. С. 76—90; Медведева Н. Т. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седаковой. Ижевск, 2006. С. 31—49.
3 Плеханова И. И. Формула превращения бесконечности в метафизике И. Бродского // Иосиф Бродский и мир: метафизика, античность, современность. С. 47.
4 Бродский: кн. интервью / Сост. В. ГГолухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 191.
5 Такое понимание эмиграции было общим для того времени. Как
пишет В. Топоров, «прощаясь с уезжающими друзьями, мы прощались с
ними навсегда... проводы становились поминками, да и сами отъезжающие испытывали своего рода “малую смерть”, прерывая (казалось, навеки) многолетние связи и отбывая словно бы не в другую страну, а в иной
мир» (Топоров В. Похороны Гулливера// Постскриптум. 1997* № 2. С. 285).
' 6:0 специфике повествования в поэтическом творчестве И. Бродского см.: Красовская.С. И. Об остранении в поэзии И. Бродского // Проблемы художественного миромоделирования .в русской литературе XJX —
XX веков. Благовещенск, 1999. Вып. 4. С, 57—68; Корчинский А. В. «Событие письма» ц становление нарратива в лирике Бродского // Критика и семиотика. 2003. № 6. С. 56—06; Чевтаев А. А. Нарратив как реализация концепции времени в поздней лирике И. Бродского // «Чернеть на белом,
Небытие в поэтическом нарративе Бродского 135
покуда белое есть...». Антиномии Иосифа Бродского. Томск, 2006. С. 87—
100; Он же. Система персонажей в повествовательной поэзии И. Бродского // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. 2006. Т. 65, № 2. С. 55—63.
7 Мы опираемся на принципы нарратологического подхода к анализу
текста* разработанные Ж. Женеттом (Женетт Ж. Повествовательный дискурс // Женетт Ж. Фигуры: В 2 т. М., 1998. Т. 2. С. 60-280), Б. А. Успенским (Успенский Б. А. Поэтика композиции. СПб., 2000), В. Шмидом
(Шмид В. Нарратология. М., 2003). В современной теории повествования
термин «нарратор» обозначает повествователя, осуществляющего нарративный акт. Нарратор может быть экзегетическим (не принадлежащим повествуемому миру) и диегетическим (находящимся внутри повествуемого
мира), что условно соответствует традиционному разграничению повествующей инстанции на повествователя и рассказчика, основанному на
грамматическом показателе: повествование от 3-го лица (повествователь)
и повествование от 1-го лица (рассказчик). ^ ; ‘ ?
8 Медведев А. «Сретенье», Иосифа Бродского: встреча с Анной Ахматовой // Иосиф Бродский: стратегии чтения. С. 355.
9 Впервые это стихотворение в аспекте автобиографического мифа
было рассмотрено: БетеяД. Мандельштам, Пастернак, Бродский: иудаизм, христианство и созидание модернистской поэтики // Русская литература: Исслед. амер. ученых. СПб., 1993. С. 363—399. АнаДизу «Сретенья»
посвящены работы: Степанов А. Г. Организация художественного про^
странства в «Сретенье» И* Бродского // Литературный ¡текст: проблемы и
методы исследования. Тверь, 1997. Вып. 3, С. 136—144; Лепахин В. Сретение Господне: Событие, праздник, икона, стихотворение Бродского,//
Slavica Debrecen, 1999. № 29. S. 71—86; Верхейл К. Танец вокруг мира.
Встречи с Иосифом Бродским. СПб.* 2002. С. 142—148; Венцлова Т. Статьи
о Бродском. М., 2005. С. 142—154.
*° Согласно изысканиям В* А. Куллэ* оба текста написаны в марте
1972 г. (Иосиф Бродский. Хронология жизни и творчества (1940-т-1972)У
Сост.. В. А. Куллэ // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. СПб., 2003.
С. 17—18).' , ' . ‘ • - \ * - '• -
11 Это стихотворение уже становилось объектом литературоведческого описания. См., например: Артёмова С. Ю. Об особенностях жанра'Ли*
рического послания: («Одиссей Телемаку» И. Бродского) // Актуальные
проблемы филологии в вузе и школе. Тверь, 2002. С. 129—130; Сергеева-
Клятис А. Судьба Одиссея: К прочтению стихотворения Бродского
«Одиссей Телемаку» // Некалендарный XX век. Великий Новгород, 2003.
Вып. 2. С. 215—220; Крепе М. О поэзии Иосифа Бродского. СПб., 2007.
С. 116-119.
12 Этим Одиссей Бродского отличается от Одиссея Мандельштама,
который «возвратился, пространством и временем полный». Накопление
пространства и времени не разрушает внутреннюю целостность мандель-
штамовского героя.
136
А. А. Чевтаев
13 По мнению Л. В. Зубовой, в описании острова совмещаются два
эпизода, отсылающие к мифологическому контексту: пребывание Одиссея «на острове Ээя у царицы Кирки (Цирцеи), превращавшей пленников
в свиней» и его жизнь на острове Огигия у нимфы Калипсо (Зубова Л.
Стихотворение Бродского «Одиссей Телемаку» // Старое лит. обозрение.
2001. № 2. С. 65).
14 Об этом стихотворении см. также: Медведева Н. Г. И. Бродский
«Письма римскому другу»: Особенности лирического «Я» // Проблема
автора в художественной литературе. Ижевск, 1990. С. 58—60; Артёмова С. Ю. О жанре письма в поэзии И. Бродского // Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003. С. 132—133; Жолковский А. Плиний на скамейке //
Звезда. 2007. № 5. С. 208-216.
15 Об этом подробнее см.: Ахапкин Д. Стихотворения т тетопат в
художественной системе И. Бродского // Культура: Соблазны понимания.
Петрозаводск, 1999. Ч. 2. С. 123—133.
16 Глазунова О. И. Иосиф Бродский: американский дневник. О стихотворениях, написанных в эмиграции. СПб., 2005. С. 22.
17 В античном искусстве Психея часто изображалась «в виде бабочки,
то вылетающей из погребального костра, то отправляющейся в аид» {Лосев А. Ф. Психея // Мифологический словарь. М., 1991. С. 453).
18 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений: В 10 т. Л., 1977. Т. 4.
С. 275.
19 В «Адмиралтействе» О. Мандельштама, например, «игла» («мачта-
недотрога») символизирует соперничество человека с тотальностью трехмерного пространства (см.: Панова Л. Г. «Мир», «пространство», «время»
в поэзии Осипа Мандельштама. М., 2003. С. 247).
20 См.: Ваншенкина Е. Острие: Пространство и время в лирике Иосифа Бродского. С. 37—38.
21 Беренштейн Е. П. Иосиф Бродский и проблема трагического //
Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003. С. 96.
22 Подробный анализ механизмов автоописания в творчестве Бродского см.: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Иосиф
Бродский: творчество, личность, судьба: итоги трех конференций. СПб.,
1998. С. 145-153.
23 О принципах повествования от 2-го лица в поэзии И. Бродского см.:
Радбиль Т. «Речь от второго лица»: образ адресата в лирике Бродского //
Иосиф Бродский: стратегии чтения. С. 44—48.
СТРУКТУРА СТИХА
А: М. Левашов, С. Е. Ляпин
Санкт-Петербург
РИТМИКО-СИНТАКСИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ
«ПРОЩАЛЬНОЙ ОДЫ>:
К ГЕКСАМЕТРИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
ШЕСТИИКТНОГО СТИХА БРОДСКОГО
В неклассической метрике И. Бродского выделяется обширная группа текстов,, в которых при внешней разнородности материала присутствует, по оценке рада исследователей, интуитивно
угадываемая системность. Речь идет о стихотворениях, состоящих
по преимуществу из щестииктных строк, либо укладывающихся
в правильный дольник («сообщая, что Лувр закрыт, вцепись в ее
мокрый волос»), либо со срединным стыком ударений («иди —
белеть, шепчя “пестик, тычинка, стебель”»), либо, наконец, содержащих аномальные скопления безударных слогов (0—6) на
том же срединном интервале (между Ш и IV иктами) («Дорога
туда, естественно, дежяла сквозь облака»). Эта метрическая модель оставалась продуктивной на протяжении почти всего твор^
чества Бродского: начиная с текстов 1964 г. («Воронья песня»,
«Услышу и отзовусь», «Прощальная ода») и заканчивая зрелым
периодом («Новая жизнь», «Примечания папоротника», «Семенов», «Август» и др.).
Несмотря на то что на сегодняшний день накоплено немало
важных сведений о стихе этого типа1, целостное стиховедческое
описание данной метрической модели отсутствует2.
Дж. Смит, характеризуя неклассический стих Бродского, выделяет группу текстов, написанных «длинными строками», и делает
попытку формализовать их ритмическую структуру: «...четко различимый порядок чередования ударных и безударных слогов проявляется к концу стиха; на этом основании можно говорить о метризации последних семи слогов в порядке 1-2-1-, где цифрами
обозначены безударные слоги, а дефисами — икгы. Однако в начале стиха никакого общего порядка чередования слогов не выявлено»3. К сожалению, разнородность материала и неполнота характеристики помешали исследователю продолжить анализ.
Важный факт был установлен В. Семеновым. Согласно его
гипотезе, в целом ряде неклассических текстов Бродского наблюдается «сращение» двух строк трехикгного дольника4. Дольнико-
140
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин
вые полустишия разделены так называемой «квазицезурой». Квазицезура, по мнению Семенова, это «не столько реальный словораздел, сколько ожидание этого словораздела читателем. Квазицезура — это некоторая потенция, заложенная в стихе, а ее реализация обусловлена авторской и читательской стратегиями»5. Здесь
камнем преткновения оказалось смешение текстов различной метрической структуры6.
Наблюдения Семенова перекликаются с выводом Вяч. Вс. Иванова, увидевшего в шестииктном дольнике Бродского «гекзаметроподобный дистих»7. Важно, что оба исследователя обратили внимание на цезурный характер словораздела между III и IV икгами. Этот
принципиальный момент может быть соотнесен с точкой зрения
Д. Бетеа, который, анализируя стихотворение «То My Daughter»,
писал: «...с технической точки зрения стихотворение написано свободным героическим гекзаметром, который был хорошо знаком
Бродскому и в русском, и в английском вариантах: большинство
строк имеет шесть метрических ударений (за исключением первой,
второй и десятой строки), анакруза (безударные слоги, предваряющие первое сильное место) в данном случае “блуждает” (заметим,
что в русском гекзаметре анакрузы быть не должно), промежуток
между метрическими ударениями занимает от одного до двух слогов (что характерно для русского языка), а клаузула (безударные
слоги, следующие за последним сильным местом) состоит из одного слога (что опять-таки характерно для русского языка). Русский
гекзаметр обычно не имеет рифм, однако они есть у англоязычного Бродского: вместо нерифмованных женских окончаний («героическая» модель, восходящая к Гнедичу) мы видим рифмованные четырехстишия, заключенные в симметричную схему aabb
(исключение составляет двенадцатая строка). <...> Кроме того,
интонационные паузы («цезуры») в этом стихотворении очень
подвижны, что свойственно английской традиции, тогда как в русской цезура занимает постоянную позицию (т.е. является частью
размера)»8.
Гексаметрическую гипотезу пыталась оспорить А. Н. Андреева.
По ее мнению, присутствие анапестических зачинов и рифмы в
шестииктном дольнике и стихе родственной ему структуры, а также преобладание хореических стоп над дактилическими и варьирование длины строки делает невозможным разговор о гексамет-
рической природе стиха Бродского9.
С аргументацией Андреевой трудно согласиться. Исследовательница апеллирует только к одной разновидности русского гексаметра — к нерифмованному шестиикгному дактило-хореическо-
му стиху с постоянным дактилем на шестой стопе и женской
клаузулой, упуская из рассмотрения множество дериватов, рас¬
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды».
141
смотренных, например, в статьях М. И. Шапира и Ч. JI. Дрэйджа10.
Следует помнить также, что Гнедич рассматривал сочетание пропуска ударения и хореического стяжения на первом икте гексаметра (ритмически изоморфное анапестической анакрусе) как средство ритмического разнообразия: «...стихи, начинающиеся хореем,
в самом деле приятнее в чтении с рифмом... анапестическим»11.
В переводе «Илиады» строки с анапестоидным зачином не только
нагнетаются, группируясь по две и по три, но и подчеркиваются
анафорами и внутренними рифмами: «Но в двенадцатый день |
возвратится снова к Олимпу; / И тогда я пойду | к меднозданному
Зевсову дому, / И к ногам при паду, | и царя умолить уповаю»; «И с
дружиною сами | сходят на берег пучины, / И низводят тельцов, |
гекатомбу царю Аполлону, / И вослед Хризеида | на отчую землю
нисходит»12.
Следует помнить, что ритмическая форма трехиктного дольника с безударным первым иктом не раз отмечалась исследователями как характерная черта Бродского13. Сходные явления наблюдал
Дж. Бейли в трехиктном дольнике с нулевой анакрузой, интерпретируя их как действие закона восходящего зачина стиха14. Авторы
настоящей статьи не склонны абсолютизировать этот закон15.
В числе маргинальных дериватов находится и ямбо-анапести-
ческий гексаметр (подробнее см. ниже), т.е. шестииктный дольник
с ненулевой анакрузой16.
Что касается высокой доли хорея в стихах Бродского, то, по
данным Шапира, преобладание дактилических стоп в гексаметре
XVIII—XIX вв. — лишь одна из тенденций; в гексаметрах некоторых поэтов доля дактиля опускается до 60%17. Поскольку точные
данные о количестве стяжений в метрической модели Бродского
отсутствуют, говорить о преобладающей ритмической инерции
преждевременно. Употребление рифмованных гексаметрических
строк Бетеа связывает с традицией английского гексаметра, что,
как кажется, справедливо, однако требует проверки. Имеет смысл,
таким образом, говорить не о нарушении, а о развитии гексамет-
рической традиции в поэзии Бродского.
В настоящей статье будет рассмотрен один из первых экспериментов поэта с «длинным» неклассическим стихом — стихотворение «Прощальная ода» (1964). Обратимся вначале к ударности
иктов, слоговому объему межиктных интервалов и синтаксису.
Стихотворение содержит 192 шестииктных стиха с нулевой
анакрусой и женской клаузулой. Аномальным на первый взгляд
представляется интервал между III и IV иктами: в 86,98% строк
наблюдается неатонируемый стык ударений. При выявлении особенностей ритмического и синтаксического строя стихотворения
учитывались: (1) ударность иктов, (2) средняя длина межиктных
142
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин
интервалов и (3) теснота синтаксических связей внутри строки.
Данные по ударности икгов сведены в таблицу:
Икт
I
II
III
IV
V
VI
Ударность (%)
88,02
98,96
100
90,63'
100
100
Видно, что стих делится на две симметричные части: ударность
каждой последовательно нарастает от самого слабого икта (I, ГУ)
к самому сильному (III, VI). Третий, пятый и шестой икты — ударные константы. Но если на пятом икте ударность достигает 100%,
вероятно, потому, что второе полустишие в целом тяжелее первого, то константа на третьем икте позволяет предварительно классифицировать словораздел после него (сохраняемый в 100% стрбк)
как варьирующуюся сильную цезуру. Данный тип цезуры был описан Дж. Бейли при анализе русских двусложных силлабо-тонических размеров18. Профиль ударности позволяет представить указанные тенденции более наглядно:
Гипотеза о двойной сегментации стиха подтверждается и тем,
что в обоих полустишиях Бродский облегчает первый икт, что характерно для ритма его трехикгного дольника19. Предварительно
это можно объяснить тем, что полустишие, оставаясь иерархически
подчиненным стиху, приобретает некоторые его свойства и осознается поэтом как самостоятельный стих. Такое осознание не
является редкостью для русских поэтов, судя по известному заявлению Тредьяковского: «всемирно должно блюстись, чтобъ
въ 1амбическомъ ГексаметрЪ перваго Полстпшя не оканчивать
П1рр1х1емъ, но всегда 1амбомъ: природа Стка не терпигь сего порока... И понеже сей Гексаметръ состоитъ изъ двухъ цельныхъ
Тр1метровъ, а каждый Тр1метръ, порознь кончится по естеству сво¬
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды».
143
ему 1амбомъ; то кому не ясно, что первое Полетите, которое есть
одно изъ гЬхъ двуъ Тр1метровъ, долженствуетъ пресекаться 1ам-
бомъ»20.
Анализ средней длины межиктного интервала проводился по
схеме, предложенной В. Семеновым21. Но с учетом вариативности скандовки неполноударных форм дольника22 не принимались в
расчет немногочисленные строки, полустишия которых совпадают с V формой трехиктного дольника (по классификации Гаспа-
рова). Данные по длине межиктных интервалов представлены в
таблице:
Интервал
III
II-III
IIMV
IV-V
V-VI
Средняя длина
1,59
1,39
0,03
1,92
1,09
Результаты почти совпали с данными Семенова.
Как следует из таблицы, вторая половина стиха (гипотетическое правое полустишие) сильно логаэдизирована (что соответствует наблюдениям Смита). В первой половине, напротив, наблюдается тенденция к уравниванию слоговой длины межиктных
интервалов. Можно, таким образом, говорить о распадении шес-
тиикгного стиха данного типа на два полустишия, метрически совпадающих со строкой трехиктного дольника, но имеющих различную ритмическую структуру.
Известно, что двучленность ритмической структуры стиха нередко выявляется и при анализе его синтаксической организации.
Исследования синтаксических связей в стихе «показали две общих
закономерности. Во-первых, синтаксическая теснота стихового
ряда нарастает к концу строки. Это выражается в том, что к концу
стиха межсловных связей становится больше, и они становятся
теснее. <...> Во-вторых, синтаксическая теснота стихового ряда
ослабевает в середине строки, как бы разламывая стих синтаксической цезурой. <...> [Ритмическая цезура] служит хорошей опорой для синтаксической цезуры и тем усиливает вторую из названных тенденций»23. Таким образом, цезурный характер словораздела
между III и IV иктами может быть прояснен при помощи анализа
внутристиховых синтаксических связей.
Теснота синтаксических связей измерялась по методике, предложенной М. J1. Гаспаровым и Т. В. Скулачевой24. Для подсчетов
строки разбивались на шести-, пяти- и четырехсловия (с учетом
пропуска метрического ударения). Было отобрано 128 полноударных строк. Неполноударных для достоверного статистического
анализа оказалось слишком мало.
По тесноте синтаксические связи были разбиты на три группы — сильные, средние и слабые. К сильным связям относятся:
144
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин
а — определительная (к ней по тесноте приравнивались связи
внутри фразеологических оборотов и связи между частями составных сказуемых);
д — дополнительная прямого дополнения;
\ — дополнительная косвенного дополнения;
ш — обстоятельственная.
К средним по тесноте связям были отнесены:
р — предикативная (связь между подлежащим и сказуемым);
с — связь между однородными членами предложения.
Наконец, как слабые рассматривались:
с°б — связь, создаваемая обособленными оборотами (фиксировалась на местах обособления);
Ьп — связь между частями сложноподчиненных предложений
(к ней приравнивались связи между частями бессоюзных сложных
предложений с семантикой подчинения);
Ьс — связь между частями сложносочиненных предложений
(к ней приравнивались связи между частями бессоюзных сложных
предложений);
Г— связь, создаваемая границей предложения.
Исходя из целей исследования — проверить наличие синтаксического ослабления словораздела между III и IV иктами и, следовательно, дополнительно оценить степень его «цезурности», —
учитывались только контактные связи (между фонетическими словами, находящимися на соседних иктах). Словоразделы с отсутствием контактной связи фиксировались, но в статистику они не
вносились. Их анализ — предмет дальнейшего исследования.
Результаты составили таблицы 1 и 2 (см. с. 146). В первой отражено распределение связей разных типов по строке, во второй —
распределение связей разных типов по словоразделам.
Для большей наглядности полученные данные сведены в график, где разной силе связей соответствуют линии разных цветов:
График позволяет увидеть следующие тенденции:
1. На словоразделе между III и IV иктами группируется большинство слабых синтаксических связей.
2. В пределах полустиший возрастает доля сильных связей и снижается доля средних и слабых.
3. Нарастание количества сильных связей происходит на протяжении всего стиха.
Полученные данные полностью подтверждают гипотезу о
двучленной природе изучаемого стиха. Сходными оказываются
тенденции, отмеченные М. Л. Гаспаровым и Т. В. Скулачевой в отношении синтаксической организации цезурованного шестистопного ямба: «синтаксическая теснота нарастает не только к концу
полустишия, но и к концу стиха»25; «между двумя полустишиями
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды>
145
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%
1 | 1 1 1 I
Ml ll-lll lll-IV IV-V V-VI
-♦—Сильные
Средние
Слабые
синтаксическое расчленение Д (самое слабое по классификации
связей в статье Гаспарова и Скулачевой. — А. Л., С. Л.), разумеется, царствует на ритмической цезуре»26.
Обобщая результаты подсчетов, можно сделать следующие
выводы:
1. Словораздел между III и IV иктами носит явно цезурный характер, что подтверждается нагнетанием слабых синтаксических
связей и стыков ударений.
2. Полустишия шестииктного стиха, симметричные по синтаксической структуре и средней ударности икгов, по-разному ведут
себя с точки зрения ритма хореических стяжений: второе полустишие логаэдизируется, принимая преимущественно форму
«-2-1-», а первое варьирует слоговой объем межиктных интервалов.
3. Полустишия, оставаясь частями стиха, приобретают некоторые
его свойства: в конце первого полустишия имеется ударная константа, каждое полустишие синтаксически организовано как
отдельный стих, у каждого полустишия своя клаузула и анакруза. Это соотносится с тем, что В. М. Жирмунский пишет о так
называемой «каталектической цезуре»: «в тоническом стихе27, за
исключением немногих случаев (таких, как, например, русский
шестистопный ямб), не существует принципиальной, качественной разницы между цезурой и стихоразделом, а только различие
количественное, при котором всегда возможны переходные
случаи»28.
4. Обращают на себя внимание строки типа «будто к нему пройти | можно по дну оврага», «Чей поцелуй? И чьи | руки ей слух
застлали?», «Где же искать твои | слезы, уста, объятья?» и др., в
которых на цезурный словораздел приходится самая сильная
Распределение синтаксических связей разных типов по строке
146
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин
2Г
*§
й
Всего
1 юо |
1 001 1
1 100 1
1 001 1
1 001 |
1 001 1
1 100 |
1 юо |
1 100 |
100
I Абс. |
сп
оо
со
го
оо
52
1 26 1
1 30 |
1 66 1
ю
о
оо
т1-
£
1 19,47 |
1 28,57 1
| 37,80 1
44,23 |
| 11,54 |
| 20,00 |
1 14,14 1
1 0,00 I
1 0,00 I
6,25
;>
I Абс. |
1 22 |
оо
сп
сп
0-1
сп
40
т1-
о
о
сп
>
к!
| 25,66 |
1 14,29 |
1 19,51 |
1 11,54 I
| 38,46 |
| 23,33 |
1 10,10 1
| 20,00 I
1 0,00 I
1/П
со
40'
С
I Абс. |
1 29 |
т1-
чо
40
о
Г"-
о
-
о
сп
£
1 2,65 |
1 14,29 |
чо
ч£1
сп'
1 5,77 |
| 3,85 |
| 30,00 |
| 44,44 1
| 40,00 |
| 60,00 I
52,08
н
| Абс. |
сп
т1-
сп
сп
-
СГ\
1 44 |
го
40
25
д
I 30,09 |
1 32,14 |
1 32,93 |
| 23,08 |
ю
оо
сп'
1 13,33 |
о
о
о
о
о
| 40,00 I
16,67
1
| Абс. |
1 34 |
СГ\
1 27 |
го
-
о
со
^а-
оо
| |
1 22,12 |
1 10,71 |
1 6,10 |
| 15,38 1
| 42,31 |
| 13,33 |
1 21,21 1
1 0,00 I
1 0,00 I
18,75
I Абс. |
1 25 |
сп
ин
оо
-
го
о
о
СГ\
Связь
л
тз
-
в
о,
и
1 соб 1
1 Ьп |
1 Ьс |
«4-Н
<3
2Г
*§
са
о
я
о
и
Всего
100
001
100
100
100
Абс.
40
ОО
100
86
о
<*»
10,47
7,21
25,00
3,49
2,73
Абс.
СГ\
ОО
ю
го
сп
сп
Ьс
о
<о
о
о
40^
сп'
6,00
0,00
0,00
I Абс.
о
40
о
о
.О
0,00
1,80
о
го"
40
о
о"
Абс. |
о
го
го
о
соб
24,42
9,01
44,00
11.63
12,73
Абс.
го
о
т1-
^а-
о
т1-
о
4,65
3,60
9,00
оо
ю
10
Абс.
^а-
Т1-
СГ\
г--
40
о.
12,79
0,90
1,00
11,63
сп
го
Абс. |
о
сп
В
о
сп
Оч
10,81
о
сп"
6,98
20,91
Абс.
ОО
го
сп
40
сп
го
-
оо
10
24,32
3,00
18,60
28,18
Абс.
ип
Г--
го
сп
40
сп
-в
СГ\
сп
оо
4,00
4,65
¿?£.
Абс.
сп
СГч
т1-
оо
ев
29,07
30,63
о
сп'
33,72
20,00
| Абс.|
ю
го
^а-
сп
сп
СГ\
го
го
го
Словораздел
1-Н
1
НМУ
1У-У
У-У1
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды».
147
синтаксическая связь — определительная. Эти случаи следует
квалифицировать как цезурные синтаксические переносы.
Стихотворная форма в поэзии Бродского, как известно, реализует онтологические представления поэта. Реконструкция некоторых из них позволяет взглянуть на исследуемую проблему под
иным углом зрения.
Язык, пишет поэт в эссе «Кошачье “Мяу”», «есть разведенная
форма материи. Создавая из него гармонию или даже дисгармонию, поэт, в общем-то бессознательно, перебирается в область
чистой материи — или, если угодно, чистого времени — быстрее,
чем это возможно при любом другом роде деятельности» (6, 256)29.
В 1960 г. Бродский знакомится с творчеством полузапрещен-
ного О. Мандельштама. Спустя семнадцать лет в эссе «Сын цивилизации» он дает оценку его поэзии. Два высказывания представляются особенно важными (здесь и далее в цитатах курсив наш. —
А. Л., С. Л.): «Именно язык диктует стихотворение, и то, что в просторечии именуется Музой, или вдохновением, есть на самом деле
диктат языка. И лучше, следовательно, говорить не о теме времени
в поэзии Мандельштама, а о присутствии самого времени как реальности и темы одновременно, хотя бы уже потому, что оно так или
иначе гнездится в стихотворении: в цезуре.
<...>
<...> Крайне важно отметить, например, что почти всегда, когда Мандельштаму случается обращаться к теме времени, он прибегает к довольно тяжело цезурированному стиху, который подражает гекзаметру размером либо содержанием» (5, 93—94).
Это наблюдение Бродского иллюстрирует стихотворение «Равноденствие», написанное шестистопным ямбом:
Есть иволги в лесах, / и гласных долгота
В тонических стихах / единственная мера,
Но только раз в году / бывает разлита
В природе длительность, / как в метрике Гомера.
Как бы цезурою / зияет этот день:
Уже с утра покой / и трудные длинноты,
Волы на пастбище, / и золотая лень
Из тростника извлечь / богатство целой ноты30.
Облегчая в 4-м и 5-м стихах предцезурный икт, Мандельштам
замедляет время рецепции текста. Знаменательно появление мотива времени в 5-м стихе: «Как бы цезурою / зияет этот день». По-
видимому, именно это имел в виду Бродский в приведенных выше
цитатах.
148
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин
Особый интерес представляет стихотворение Мандельштама
«Сестры тяжесть и нежность, одинаковы ваши приметы...» из книги «Тпвйа»:
Сестры тяжесть и нежность, / одинаковы ваши приметы.
Медуницы и осы / тяжелую розу сосут.
Человек умирает. / Песок остывает согретый,
И вчерашнее солнце / на черных носилках несут.
Ах, тяжелые / соты и нежные сети,
Легче камень поднять, / чем имя твое повторить!
У меня остается / одна забота на свете:
Золотая забота, / как времени бремя избыть.
Словно темную воду, / я пью помутившийся воздух.
Время вспахано плугом, / и роза землею была.
В медленном водовороте / тяжелые, нежные розы,
Розы тяжесть и нежность / в двойные венки заплела!31
Можно, таким образом, предполагать, что стихотворный размер возник у Бродского не на пустом месте. Поэт развивает творческие устремления Мандельштама, но анализ этих литературных
связей не входит в задачу настоящего исследования.
В заключение отметим, что новаторство Бродского и Мандельштама было «предвосхищено» еще Тредиаковским. Во втором издании «Способа» он писал о гексаметре с ненулевой анакрусой:
«Спхъ Гексаметръ, который называется Большим и Геро1ческимъ,
и Эшческимъ, можетъ у насъ быть Хорее-шрр1х1ческий, и 1амбо-
шррк1ческий съ Риемами: также, Дактито-Хорее-шрр1х1ческий, и
Анапесто-1амбо-шрр1х1ческий без Рием»32. И далее: «Сей Спхъ
[«ямбоанапестический» гекзаметр] новаго изобрЪтешя, и есть онъ
подражаше Дактш6хоре1ческому... Состоитъ сей Спхъ шестью
Стопами, и на концЬ краткимъ слогомъ; такъ что въ первой Степени можетъ быть Анапестъ или 1амбъ (а вместо 1амба шрр1хий),
во второй Анапестъ, или 1амбъ, или Шрр1хш, въ третей непременно или Анапестъ, или 1амбъ, а отнюдь не Шрр1хш, да и окончавать
слово ПресЪчешемъ. Въ четвертой и пятой Анапестъ, или 1амбъ,
или Шрр1хш; но въ шестой непременно Анапестъ, и по немъ слогь
краткш»33.
Изучение метрической модели гексаметра Бродского находится лишь на начальном этапе. Полученные результаты нуждаются
в проверке на более объемных выборках. Предварительные выводы таковы:
1. Ритмический строй стихотворения «Прощальная ода» предполагает двучленность стихотворной строки.
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды»... 149
2. Слабые синтаксические связи группируются на интервале
между III и IV икгами; наличие цезуры, таким образом, прослеживается и на синтаксическом уровне.
3. Как и в цезурованном шестистопном ямбе, теснота синтаксических связей в стихе возрастает в пределах полустиший, с одной стороны, в пределах строки в целом — с другой.
4. Стык ударений между III и IV иктами, ставший в «Прощальной оде» ритмической доминантой34, по-видимому, также объясняется наличием цезуры.
5. Явление, которое В. Семенов назвал квазицезурой, в точности соответствует определению сильной варьирующейся цезуры,
данному Дж. Бейли. Вводить новые термины для его описания
нецелесообразно.
Возвращаясь к вопросу о гексаметрическом происхождении
рассматриваемой метрической модели, следует признать, что в ее
структуре нет, пожалуй, ни одного элемента, который не позволял
бы говорить о формально-семантической деривации. Высказывания, содержащиеся в эссе Бродского, и стихотворение «Сестры
тяжесть и нежность...», идентичное исследуемой модели, указывают направление поиска семантических оснований деривации.
Окончательный вывод о «степени гексаметричности» стиха Бродского можно будет сделать после всестороннего анализа произведений поэта.
1 См.: Ivanov Vyach. Vs. Unstressed Intervals in Brodsky’s Dol’niki //
Elementa 1996. Vol. 2, Nos. 3/4. P. 277—284; Бетеа Д. М. «То My Daughter»
(1994) // Как работает стихотворение Бродского: Из исслед. славистов на
Западе. М., 2002. С. 231—249; Семенов В. Стихосложение Иосифа Бродского: метрика, строфика, ритмика, ритм и синтаксис: Магистр, дис. Тарту, 1998; Он же. Очерк метрики и ритмики позднего неклассического ше-
стииктного стиха Иосифа Бродского // Рус. филология. Тарту, 1998.
Вып. 9. С. 239—250; Он же. Ритм и синтаксис позднего неклассического
шестииктного стиха Бродского // Вестн. молод, ученых. Сер. Филол. науки. 2001. № 6 (2). С. 69—72; Он же. Заметки о релятивной метрике: Се-
мантизация метра в «Прощальной оде» Иосифа Бродского [Электронный
ресурс]. Режим доступа // www.rutheniaru/document/544293.html. Загл. с
экрана; Он же. Полустишия в позднем неклассическом стихе И. Бродского: квазицезура // Studia Slavica Tallinn, 2010. [Вып.] 9. С. 199—222;
Smith G. S. The Versification of Joseph Brodskii, 1993 // Slavonica 2002. Vol. 8,
No. 1. P. 68—85; Idem. The Development of Joseph Brodsky’s «Dol’nik» Verse,
1972-1976 // Russ. Lit. 2002. Vol. 52. P. 471-492; Idem. The Verification of
Joseph Brodsky, 1988—1989 // Slavonic a East Europ. Rev. 2002. Vol. 80, No. 3.
150
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин.
Р. 417—438; Idem. The Versification of Joseph Brodsky, 1990—1992 // Modem
Lang. Rev. 2002. Vol. 97, No. 3. P. 653—668; Андреева A. H. Эволюция тонического стиха в поэзии Иосифа Бродского: Дис. ... канд. филол. наук. М.,
2003.
2 Точка зрения авторов настоящей статьи была изложена в тезисной
форме в работе: Левашов А. М. Иосиф Бродский и традиция русского гекзаметра // Вестн. студ. науч. о-ва РГПУ им. А. И. Герцена: В 3 кн. СПб.,
2011. Вып. 12. Кн. 2: Общ. и гуманит. науки. С. 89—92.
3 Smith G. S. The Development of Joseph Brodsky’s «Dol’nik» Verse, 1972—
1976. P. 473 (перевод наш. — A. Л., С. Л.).
4 Семенов В. Очерк метрики и ритмики позднего неклассического
шестииктного стиха Иосифа Бродского. С. 239.
5 Семенов В. Полустишия в позднем неклассическом стихе И. Бродского: квазицезура. С. 200.
6 См. полемику: Андреева А. Н. Эволюция тонического стиха в поэзии
Иосифа Бродского. С. 153; Семенов В. Полустишия в позднем неклассическом стихе И. Бродского: квазицезура. Примеч. 12.
7 Ivanov Vyach. Vs. Unstressed Intervais in Brodsky’s Dol’niki. P. 279.
8 Бетеа Д. М. «То Му Daughter» (1994). С. 235.
9 Андреева А. Н. Эволюция тонического стиха в поэзии Иосифа Бродского. С. 159.
10 См.: Шапир М. И. Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина. «Инвалид Горев» на фоне формально-семантической деривации стихотворных
размеров // Universum versus: Язык — стих — смысл в русской поэзии
XVIII - XX веков. М., 2000. Кн. 1. С. 277-334; Дрэйдж Ч. Л. Развитие
русского эпического дактилического гекзаметра, 1596 —1802 // Славянский стих. VIII: стих, язык, смысл. М., 2009. С. 31—41.
11 Гнедич Н. И. Стихотворения / Под ред. Н. И. Медведевой. JL, 1956.
С. 27.
12 Там же. С. 332.
13 См.: Ляпин С. Е. Неклассические русские размеры и «сегментный»
стих Бродского // Славянский стих. X. (в печати). Ср.: «Интересно также
и то, что в ритмическом составе раннего 3-иктного дольника Бродского
довольно значительную долю составляют строки 2-стопного анапеста»
(Андреева А. Н. Эволюция тонического стиха в поэзии Иосифа Бродского. С. 55).
14 См.: Бейли Дж. Трехиктный дольник в поэзии Юрия Иваска как
пример ритмической эволюции. Русский трехиктный дольник с нулевой
анакрусой // Избр. статьи по русскому литературному стиху. М., 2004.
С. 291-329.
15 См.: Ляпин С. Е. Акцентное строение русской речи. Слово — предложение — стих // Славянский стих. VII: Лингвистика и структура стиха.
М., 2004. С. 11-28.
Ритмико-синтаксическое строение «Прощальной оды»... 151
16 Тредьяковский. Способъ кь Сложешю Российскихъ СтЬсовъ противъ
выданнаго въ 1735 годЬ исправленный и дополненный // Сочинены
Тредьяковскаго. СПб., 1849. Т. 1. С. 122—178.
17 Шапир М. И. Гексаметр и пентаметр в поэзии Катенина. С. 280—281.
18 Бейли Дж. Русские двухсложные размеры с сильной цезурой с 1890
по 1920 г. // Избр. статьи по русскому литературному стиху. М., 2004.
С. 220—251. Ср.: Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха // Жирмунский В. Теория стиха. Л., 1975. С. 129—142.
19 См. примеч. 13.
20 Тредьяковский. Способъ кь Сложешю Российскихъ Ст1ховъ противъ
выданнаго въ 1735 годЬ исправленный и дополненный. С. 138.
21 Семенов В. Очерк метрики и ритмики позднего неклассического
шестииктного стиха Иосифа Бродского. С. 239—250.
22 Гаспаров М. Л. Современный русский стих. Метрика и ритмика. М.,
1974. С. 224.
23 Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Синтаксис 6-стопного ямба: ранний
и поздний Пушкин // Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха. М., 2004. С. 162—163.
24 См.: Скулачева Т. В. Взаимодействие ритмической организации и
синтаксического построения стихотворного текста: Дис. ... канд. филол.
наук. М., 1990; Она же. Лингвистика стиха: структура стихотворной строки // Славянский стих: стиховедение, лингвистика, поэтика. М., 1996.
С. 18—23; Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Статьи о лингвистике стиха.
С. 119-202, 267-276.
25 Гаспаров М. Л., Скулачева Т. В. Синтаксис 6-стопного ямба: ранний
и поздний Пушкин. С. 165.
26 Там же. С. 166.
27 Под тоническим стихом здесь понимается вся совокупность систем
стихосложения, в которых ритм строится на чередовании ударных и безударных слогов: силлаботоника, тоника и переходные системы.
28 Жирмунский В. Введение в метрику. Теория стиха. С. 142.
29 Представления Бродского о способности стиха реструктурировать
время общеизвестны, поэтому нет смысла приводить большое количество
цитат.
30 Мандельштам О. Э. Сочинения: В 2 т. / Сост. П. М. Нерлер. М., 1990.
Т. 1: Стихотворения. С. 95.
31 Там же. С. 126.
32 Тредьяковский. Способъ къ Сложендо Российскихъ Стаовъ противъ
выданнаго въ 1735 годЬ исправленный и дополненный. С. 131.
33 Там же. С. 141-142.
34 Тарановский К. Ф. Русские двусложные размеры: статьи о стихе. М.,
2010. С. 15.
Нила Фридберг
Портланд, США
ЗАКОНОБОРЦЫ И ЗАКОНОТВОРЦЫ:
СЛУЦКИЙ И БРОДСКИЙ
КАК РЕФОРМАТОРЫ РУССКОГО РИТМА*
Введение
В книге «Символизм» (1910) Андрей Белый предложил разделить поэтов на последователей и реформаторов, основывая свою
классификацию на свойствах ритмики. Согласно Белому, последователи копируют ритмические тенденции определенного периода, а реформаторы от этих тенденций отклоняются (так Белый
пытался реализовать идею превращения эстетики в точную науку).
Современным литературоведам-постструкгуралистам такая постановка проблемы может показаться наивной: на первый взгляд стиховедческая теория Белого просто формализует то, что мы и так
знаем или понимаем интуитивно. Однако интуиция не всегда
предлагает точные ответы на сложные вопросы, и лингвистический анализ иногда приводит к неожиданным результатам, открывая факты, которые невозможно объяснить одной интуицией1.
Например, согласно теории Белого Пушкин — вовсе не реформатор, как следовало бы ожидать, а последователь В. Жуковского.
Классификация Белого, предложенная почти сто лет назад,
актуальна и сегодня; многие вопросы, вытекающие из этой теории,
до сих пор не решены. Хотя конкретные реформы стиха обсуждались многими, общий принцип, объясняющий, что такое реформатор, отсутствует2. Не ясно, каким именно образом реформаторы отклоняются от правил, предложенных их предшественниками.
В настоящей статье классификация Белого существенно расширена. Поэтов-реформаторов предлагается разделить на два типа: законотворцев и законоборцев. Законотворец — это поэт, который
* Данная статья является сокращенным и модифицированным вариантом
работы, опубликованной ранее по-английски: Friedberg N. Rule-Makers and Rule-
Breakers: Joseph Brodsky and Boris Slutsky as Reformers of Russian Rhythm // The
Russ. Rev. 2009. Vol. 68, No. 4. P. 641—661. Автор выражает благодарность A. Биверу, И. Дрешеру, J1. Гольбурт, Дж. Смиту, М. Тарлинской, И. Фридбергу и
Ж. Фридберг за полезные комментарии, а также А. Баратту за помощь в определении статистической значимости результатов. Исследование проводилось при
поддержке гранта Портландского государственного университета.
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
153
вводит новые правила и затем последовательно их соблюдает. За-
коноборец, напротив, отклоняется от правил, придуманных его
предшественниками, но других, взамен прежних, не создает.
Наша теория фокусируется только на ямбе — наиболее распространенном размере XVIII и XIX вв. Казалось бы, никакие эксперименты с ямбом после двухсот лет его употребления невозможны, но стихи Бродского и Слуцкого показывают, что это не так.
В отличие от других русских поэтов, и Слуцкий, и Бродский иногда нарушают ритмику ямбических размеров и добавляют в строки
лишние слоги3. Пропорция таких строк в конкретном стихотворении мала для того, чтобы классифицировать его как другой стихотворный размер — дольник; мы имеем дело именно с ямбами, в
которых нарушен ритм4. Можно утверждать, что количество таких
отклонений в творчестве Бродского и Слуцкого достаточно, чтобы говорить о лишних слогах в ямбе как о феномене.
Сопоставление обоих поэтов на первый взгляд парадоксально.
Слуцкий был убежденным коммунистом и армейским политруком;
Бродский — беспартийным англоманом, сосланным на Север за
«тунеядство». Тем не менее у поколения Бродского Слуцкий
пользовался большим уважением, частично — из-за неофициальной части его стихов, бродивших в самиздате. Уже отмечалось, что
многие стихи Бродского перефразируют Слуцкого5. Через двадцать
лет после первого знакомства с поэзией Слуцкого Бродский высоко отзывался о его стилистических нововведениях и считал, что
Слуцкий «почти что в одиночку изменил лексикон послевоенной
русской поэзии»6.
Если Слуцкий действительно повлиял на поколение поэтов
1950 — 1960-х гг., то закономерен вопрос, насколько сходны ритмические инновации Слуцкого и Бродского, например, в области
лишних слогов в ямбе. Цель статьи — показать, что ритмическое
сходство Бродского и Слуцкого только внешнее. При ближайшем
рассмотрении оказывается, что Бродский — законотворец, а Слуцкий — законоборец. Просодическая форма лишних слогов у Бродского не случайна и представляет лишь малую и последовательно
отобранную часть того, что возможно в языке. У Слуцкого же лишние слоги фонологически никак не ограничены и ничем не отличаются от ритмических тенденций его прозы. Лишние слоги у
Бродского похожи друг на друга в течение долгих лет и, кроме того,
сходны с подобным феноменом в английских ямбах; у Слуцкого
такой последовательности нет.
Анализ, предложенный в статье, использует разные подходы и
теоретические концепции: в частности, американский генеративный подход к стиху, статистический анализ и источниковедение.
Разница между ритмикой Слуцкого и Бродского очевидна только
154
Нила Фридберг
в том случае, если учтена форма слогов, которые поэты используют в ямбах. Американской генеративной метрике такой, подход
известен: работы П. Кипарского (1977) и К. Хансон (1992) показали, как в английских ямбах, базирующихся на ударении, форма
слога может играть важную роль. В российской стиховедческой
традиции ямбы обычно анализировались без учета формы слогов
(А. Белый, К. Тарановский, М. Л. Гаспаров). Таким образом, генеративная метрика позволяет увидеть ту разницу между поэтами,
которую другим способом трудно обнаружить. Вместе с тем генеративный подход имеет свои недостатки., в частности, он не учитывает источники, с которыми были знакомы поэты, прежде чем
роздали новые правила. В отличие от традиционных генеративных
исследований в нашей статье анализируется просодия источников
Бродского, а именно — тех стихов Дж. Донна, которые Бродский
читал и переводил. Сочетание различных подходов и методик кажется оправданным, потому что ни одна из существующих теории
не может объяснить все аспекты экспериментов Бродского и Слуцкого и не позволяет ответить на вопрос, кто такой реформатор.
Эксперимент Бродского
В ямбическом стихе нечетная Позиция соотносится с1 безударным слогов, а четная — Р ударным. Четные позиции называются
сильными (С), нечетные — слабыми (Сл). Ниже приведена' Строка из Стихотворения Бродского «1 января 1965 года», где ударные
слоги обозначены заглавными буквами:
Сл С Сл С Сл С Сл С
вол- ХВЫ за- БУ- дут АД- рес ТВОЙ
(2; 118)
Чтобы избежать монотонности, английские и русские поэты
отступают от метрической схемы ямба. В русской поэзии и в стихах Бродского нечетные позиции могут заполняться ударными
слогами, если они представлены односложными словами7. В отличие от русской, английская поэзия ритмически более гибкая: Шекспир допускает ударения в многосложных словах в нечетных позициях только в начале фразы (ограничение, отвергнутое более
либеральным в плане стихосложения Дж* Донном8),
Рассмотрим начало «Новых стансов к Августе» (1964). За исключением 7-й строки Бродский придерживается традиционных
правил русской метрики. Он заполняет слабые позиции (Сл) безударными слогами или ударными однорложными словами (например, ДОЖДЬ во 2-й строке):
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
155
Таблица 1
«Новые стансы к Августе»
Строка
Сл
С
Сл
С
Сл
С
Сл
С (Сл)
1
во
ВТОР-
ник
на-
чал-
ся
сен-
ТЯБРЬ
2
дождь лил
всю
ночь
3
все
пти-
цы
у-
ле-
ТЕ-
ли
ПРОЧЬ
4
лишь
я
так
о-
ди-
НОК
и
ХРАБР
5
что
ДА-
же
не
смот-
РЕП
им .
ВСЛЕД
6
пус-
тын-
ный
не-
бо-
СВОД
раз-
РУ- шен
7
дождь стя-
ги-
ва-
ет
про-
СВЕТ
- 8'
мне
юг
не
НУ-
жен
(2, 90)
Неясной остается 7-я строка. Ударный слог многосложного
слова про-СВЕТ приходится на нечетную позицию. Проблема легко
разрешится, если два слога (ги-ва) прочитать как один9:
Сл С Сл С Сл С
ДОЖДЬ СТЯ- ги-ва- ет про- СВЕТ
При Таком прочтении ритм строки иконически воспроизводит
смысл высказывания. Как дождь «стягивает просвет», два слога
сжимаются в одну метрическую позицию.
* Необычный ритм Бродского — не следствие ошибки. В его
рукописях, которые хранятся в библиотеке Йельского университета, почти нет попыток исправить такие стихи, В 60% метрических нарушений нестандартный ритм сохраняется от первого черновика до последней версии. В тех же случаях, когда Бродский
вносил метрические поправки, он чаще нарушал метр (33,3%), чем
делал его более упорядоченным (6,7%). Вероятно, поэт хотел, чтобы эти строки были написаны, тем ритмом, который мы видим
сейчас.
В стихах, с которыми Бродский мог быть знаком до 1962 г.,
примеры вовлечения двух слогов в единую позицию встречаются,
помимо Б. Слуцкого у М. Цветаевой (одна строка)10 у А. Вознесенского (три строки)*1, у поэта-геолога Л. Агеева (одна строка)12.
Я буду сравнивать эксперимент Бродского только с экспериментом Слуцкого. 29 строкам Бродского, где два слога включены в
одну позицию, соответствуют 19 строк Слуцкого из стихотворений
до 1962 г. До какой степени эксперимент Бродского сходен с экспериментом Слуцкого? Не был ли Бродский здесь ближе к английской поэзии? Чтобы ответить на эти вопросы, обратимся к английской метрике.
156
Нила Фридберг
Английская элизия
Включение двух слогов в одну позицию в английской поэзии
является общепринятым. М. Халле и С. Кейзер (1971) называют
этот феномен «элизией». Ниже приведен пример из Шекспира, где
два слога занимают единую метрическую позицию:
Сл С Сл С Сл С Сл С Сл С
WHY THAT con- TEMPT will KILL the SPEA- ker’s HEART
And QUITE di- VORSE his ME- m(o)-ry from his PART13
Английская элизия носит системный характер: гласный в первом из двух слогов обычно предшествует другому гласному или
сонорному согласному: например, [1], [ш], [п], [г], [j], [w] или [v]14.
П. Кипарский (1977) выделяет в элизии, которую он называет
«правилами просодии», три подтипа. Согласно первому правилу
просодии безударный гласный может не учитываться, если ему
предшествует другой гласный звук или дифтонг; так, слово going
может рассматриваться как односложное. Согласно второму правилу просодии безударный гласный не произносится, если он стоит в середине слова перед сонорным согласным, за которым следует безударный гласный звук (например, vict(o)ry). Согласно
третьему правилу просодии, если за безударными гласными /I/
или /U/ следует другой гласный, они превращаются в глайды /j/
или /w/, в результате чего слова envious или annual читаются как
двусложные. По мнению Кипарского, правила просодии обусловлены эффектом спонтанной речи в естественном языке: например,
вариант прочтения слова mem(o)ry может встретиться не только в
поэзии, но и в беглой речи.
Знал ли Бродский в 1960-е гг. об английской элизии? В 1964—
1965 гг. во время ссылки в Норенскую он получил в подарок книгу Дж. Донна, вышедшую в издательстве «Modem Library»15. Стихотворения «The Will» («Завещание»), «А Valediction: Forbidding
Mourning» («Прощание, запрещающее печаль») и «The Storm»
(«Шторм»), переведенные впоследствии Бродским, содержат элизию в словах misery, withering, prisoners, ordinance, Jesuits, Hilliard,
hideous, virtuous. Их следует рассматривать как двусложные, чтобы они вписались в десятисложную строку.
Строки, приведенные в таблице 2, на удивление сходны. Слова с элизией — трехсложные, они несут ударение на первом слоге:
Ххх. Во всех примерах за «лишним» гласным следует или другой
гласный, или сонорный согласный. Наконец, во всех примерах
«лишний» гласный находится в открытом слоге (например, ordinance).
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
157
Таблица 2
Элизия в поэзии Дж. Донна
Источ¬
ник
Сл
C
Сл
С
Сл
С
Сл
С
Сл
C
1
с. 38
as
VIR-
t(u)ous
MEN
PASS
MILD-
1(у) а-
WAY
2
с. 43
to
JE-
s(u)its,
to
buf-
FONES
ту
PEN-
sive-
ness
3
с. 126
by
HIL-
l(i)ard
DRAWNE,
is
WORTH
ап
HIS-
to-
ry
4
там же
WITH-
(e)ring
like
PRI-
s(o)ners,
which
Е1Е
but
for
FEES
5
там же
но-
nor
and
MI-
s(e)iy
HAVE
Опе
FACE
and
WAY
6
с. 127
with
HID-
(etous
GA-
zing
To
FEAR
а-
WAY
FEARE
7
там же
E-
ven
our
0R-
d(i)nance
PLACED
Рог
OUR
de-
FENCE16
Бродский выбрал своим ориентиром Донна, который чаще
других нарушал правила стихосложения и которого, по словам
Б. Джонсона, «следовало бы повесить за несоблюдение правил
метрики»17. Бродский не стал перенимать метрическую эксцентрику Донна. Вместо этого он заимствовал элемент донновского стиха, вполне обычный для английской поэзии, — элизию.
Фонологические закономерности у Бродского
Примеры, в которых Бродский включает два слога в одну позицию, схожи и напоминают аналогичные ситуации у Донна. Фонологическая структура слов (т.е. сам язык) диктует нам, какой
слог опустить. Рассмотрим первые заударные слоги, приведенные
в колонке, выделенной в таблице 3 серым цветом.
Первый заударный слог всегда открыт, как в английских примерах, которые были известны Бродскому. Второй заударный слог
чаще всего начинается сонорным согласным, например [й], [м], [р]
или [в], а также гласным. Эта модель соответствует правилу элизии М. Халле и С. Кейзера в английском языке. Наконец, слова, в
которых происходит ритмическое нарушение, содержат не менее
трех слогов и строятся по схеме Ххх (например, «СЛЕ-ду-ет»), напоминая донновскую элизию в словах типа «М1-8е-гу».
Сравнение этой ритмической особенности в стихах Бродского и Донна показывает, что поэт может обладать развитой интуицией в сфере иноязычных ритмов независимо от уровня владения
иностранным языком. Чувство просодии сродни музыкальному
слуху: чтобы воспроизвести мелодию или ритм иноязычной песни, не обязательно знать ее текст. Кроме того, по-видимому, все
ограничения Бродского нацелены на сокрытие «лишнего» слога.
Нарушения ритма у Бродского
158
Нила Фридберг
Сл
ной |
| ком |
ос
о
1 ЧАС |
1 же 1
| ней |
I ЛЫХ 1
ос
и
1 тно |
Ё
Е—
2
£
БРЯ
| ПЛАН |
1 НЕ 1
-У1Г
2
| ТИЛ- I
<и
1 Р°- 1
| РАШ- 1
1 вя- 1
о
мэ
Сл
о
ч
о
>>
<&
ю
к
е-
о
о.
ж
все- :
сз
&
| ЖЕ с I
ДОЖДЬ
§
1 вче-
<и
I той
о
и
о
с
1Э9Э
1 ны |
1 Фе- 1
I ДВЕ |
а>
ас
сЗ
ас
сен-
А
2
| НИЧ- 1
ЖАЛ
£
с
| ный |
1 БЕ I
сЗ
со
| вВИ- |
1 НЕ- |
се
ас
Сл -
ОС
о
про- |
кон- 1
о
с
о
03
Н1
2
«3
сз
В
клуб-
а>
Ю
я
о
ас
| ТИВ- 1
о>
о
| с по-
•б
| спла-
ОС
о
о
<и
5
кол- |
2
- 33
Ё
МОЙ. |
й
ЫЙ |
§
§
тью
5
к
£
1
5
5
А
а>
5
Ь-'
<и
11,
2-й заударный
ще- |
т
*
<и
03
СО
<|!>
§
т
о.
1 грал, |
<и
1
о
со.
| СТВИ- I
1
о
[ вать- ]
1
СХ
сз
т
[' вать- 1
г
. *33
& а
«б
- а
я
Й'
•1
1
и ч
1
о
:нг
»■
'к
1
э
1
СО
со
¡г
М
и
МА- |
с*
Й
СЛЕ- |
Р0- 1
МНО- I
ВЗДРА-1
§
ТЫР-
| МИ- I
Р*
| ВЫ- |
оп-
| ЧИВ- 1
пос-
1 РА- |
| свя- |
| ШАВ- |
1 С°- 1
| ПЛА- |
Гтб- 1
Сл
взды- |
л
§:
' о
к
ю
о
§
О
¡*5
•и
а-
■ я
_ сз
8?
| ГРАФ |
5
555
В
о
1 сме_ 1
под-
| “рас- |
1
Стихотворение
| к «Загадка ангелу» (1962) - |
|2, «Новые стансы к Августе» (1964) |
|3. «Мужчина, засыпающий один» (1965) |
|4. «1 сентября 1939 года» (1967) ' |
|5. «Посвящается Ялте» (1969) |
16. Перевод стихотворения Вильбура «ТИе (1967—1971) |
|7; «Перед памятнжом А. С. Пушкину в Одессе» (1969—1970) |
8. «Ничем, Певец, твой юбилей...» .
|9. «Песчаные холмы, поросшие сосной...»(1974) |
|Ш. «Заметка для энциклопедии» (1975) ' |
|11. «Пьяцца Матгёи» (1981) |
12. «Бюст Тиберия» (1984)
113. «Бюст Тиберия» - - |
114. «Бюст Тиберия» •
ос
5
Он
<и
ю
Ь-
6
9
из
>✓4
»О4
оо
СГч
40
Л
^1
£
ОО,
1
25
ев
£
щ
8
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский... 159
<и
1
03
Я
ти
ВИЙ
о?
РЯ
ЖЕНЬ-
§
3
КАМ
ТРИ-
СР.
>>
го
| ЖЕНЬ-
2
да-
вмор-
ла-
се
о.
том
шей
а>
т
вер-
1 В0"
О
и-
о
т
| ВСЯ I
об-
а>
с:
1 СВЕ- 1
| в ЛУЧ-1
МОЙ
из-
2
бла-
-01Г- 1
то 1
е*
I ИМ-
| с тем
=Я
<и
в
I ся
1 от
|' не
1
0?
ТО- 1
«3
В
л
ешь 1
1
Я.
1 ся 1
0-Г
со
-0
■а
<и
а
>>
1 ва"
<и
о
Он
1;
.$ ■
>>
и
ъ
~о<
*
§
Он
ш
ГчУВ-1
| МА- 1
-иа
<
00
\ ИГ" 1
¿2
Г ру- 1
| ТАВ- I
СИ-
под-
ПО- |
г то 1
«3
со
ты— |
Я
1 от_
1 .°б-
1 ос"
о
£
: ?
о*
г1
Со4
оо
СГч
к
и
<и
си
Ы
ГЫ
к
4?
СО
оч
24. «Архитектура» (1990—1991)
|25. «Архитектура» ч |
[26. «Архитектура» - ; ]
[27. «Я позабыл тебя, но помню штукатурку...» |
|28. «Я позабыл тебя, но пОмню штукатурку:..» |
[29. «Я позабыл тебя, но помню штукатурку...» |
30. «Ш^аПо (И Эоппа» ’ ~ ‘ .
160
Нила Фридберг
Поскольку этот слог встречается в длинных словах, то по сравнению с его использованием в коротких словах он достаточно краток18. Чтобы сделать лишний слог менее заметным, Бродский
также пропускает ударение в сильной позиции с нарушением.
Уникальность подобного рисунка в том, что поэт искусно пользуется английским правилом элизии, одновременно объединяя несколько независимых метрических, фонологических и фонетических требований, направленных на сокрытие лишнего слога19.
Бродский и Слуцкий
Нельзя не заметить, что слог, подверженный элизии, у Бродского стабилен. Конечно, не во всех русских словах, имеющих
форму Ххх, первый заударный слог открыт и сопровождается сонорным согласным. Чтобы подчеркнуть регулярность ритмических
нарушений Бродского, сравним его эксперимент с экспериментом
Слуцкого.
Слуцкий в словах, соответствующих схеме Ххх, гораздо в меньшей степени, чем Бродский, стремится к тому, чтобы первый заударный слог сопровождался сонорным согласным и был открытым. Только 68,4% слов (13 из 19) в нарушающих ритм позициях
отвечают этим двум требованиям. У Бродского этот процент равен
86,2% (25 из 29).
Ритмы Бродского и Слуцкого демонстрируют разное отношение к просодическим тенденциям русского языка. Определив
относительную частотность слов схемы Ххх в строках с нарушениями у поэтов, я сравнила полученные данные с частотностью таких же слов в их прозе22. Разница между Бродским и Слуцким оказалась весьма значительной. В строках с нарушениями у Бродского
86,2% слов схемы Ххх содержат оба ограничения, в прозе этот показатель равен 60%. В строках с нарушениями у Слуцкого, напротив,
оба ограничения имеют 68,4% слов схемы Ххх, а в прозе — 60%.
У Бродского разница в выборе слов для ямбических строк с
нарушениями и для прозы статистически существенна: здесь
р=0,0044, т.е. вероятность того, что разница между прозой и поэзией отсутствует, ничтожно мала. У Слуцкого р=0,2448, т.е. нет статистически значимой разницы в общем выборе слов, употребляемых в поэзии и прозе. Наши данные говорят о том, что, прибегая
к метрическим нарушениям в поэзии, Бродский интуитивно выбирает такие слова, в которых объединены две названные специфики, в то время как Слуцкий этого не делает.
Уже отмечалась прозаическая природа поэзии Слуцкого23, а в
одном из интервью он признался в желании писать стихи, которые
Строки Слуцкого (до 1962 г.) с ритмическим нарушением в словах, отвечающих схеме Ххх.
(Буква «а» после даты обозначает, что стихотворение было написано в указанном году,
но оставалось до 1980-х гг. неопубликованным20.)
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
161
о
3
из
§
$
б
9
о.
<и
ос
к
X
а>
Ю
ё
о
о
>>
со
ЛИТ- |
из
3
ш
гг
ДЕНЬ-
Ш
Он
1
ел
&
О
00
| НУЛ I
5
1
§
к
В
о
с:
к
03
X
£
е-
ё
раз-,
| ска-
ж
В
е
о.
«
В
03
м
о
¿>
Он
о
1=4
ш
со
>>
1 ЧАСТЬ!
К
гг
&
о
е=:
£
1
| РУС- 1
¿>
О.
1 фрон- |
|ФР0НТ|
£
$
Ж
в
1 ИОН 1
о
00
б
а»
С
1 -УН
ЗВАЛ
<и
§
при- |
ш
ел
ж
э*
ел
о
1
С
со
Ж
«3
Он
«
1 ТО- I
1
!н
о
О
о
2
о
о?'
о
Он
1
£
<Т>
5?
1
о
X
1
се
X
о
03
о.
ё
X
1 ЛИСЬ ]
1
ж
X
1
Ж
В
>.
I кин-
1
«
2-й заударный
1
ш
ё
й
й
§
щим |
о
1 ЛОЧ- 1
|грыш- ]
0?
о
1
£
X
ж
»=:
3
2
Л
э
о.
03
3
2
¿а
5
1-й заударный
1
&
ш
й
£
к
1
1
1
§
&
й
ЙГ
О
,Р0.
§5
й
4
о
ВЗДР0Г-
1
К
э
1
к
в
ш
ж
ш
5
К
00
| ПРО- I
3
00
О
X
| ПРА- |
О
| ВЫ- 1
| ПОЛЬ- 1
о
ко
О
ии
>=:
1 -шла 1
£
б
Л
ж
22
с
о
СПРА-
>*
счи-Т|
о
Б
2
(Г)
<о
V©
«3
§
1 вдруг]
о
ж
Он
&
§
X
Стихотворение
1. «Перед вещанием» (1939—1956)
\2. «Перед вещанием» им, |
3. «Перед вещанием» их,
|4. «В сорока строках хочу я выразить...» (1939—56) |
|5. «Чужие люди» (1939—56) |
|6. «Мне кажется, что следует начать...» (1939—1956) |
|7. «После реабилитации» (1957а) |
18. «Одногодки» (1957а) |
|9. «Война» (1959а) |
|10. «1945» (1961) 1
111. «Разные измерения» (1961а) |
\\2. «Разные измерения» (1961а) |
113. «Месяц-май» (1961а) |
114. «Месяц-май» (1961а) |
¡15. «Шестое небо» (1961а)
116. «Футбол» (1961а)
117. «Художник» (1961/63)
118. «Три сестры» (1957)
19. «Я не любил стола и лампы» (1959)
162
Нила Фридберг
Таблица 5
Длинные слова (Ххх) у Бродского и Слуцкого
Поэт
Относительная частотность слов схемы
Ххх, в которых (а) первый заударный
слог — открытый и (б) второй начинается с сонорного звука
Слуцкий
Проза 60%
Строки ямба с нарушениями
68,4%
Бродский
Проза 60%
Строки ямба с нарушениями
86,2%
бы, «оставаясь стихами, приобрели некоторые качества прозы —
точность, нерасплывчатость, немногословность, даже иногда информативность...»24. Теперь у нас есть доказательства того, почему поэзию Слуцкого можно назвать «прозаической»: в частности
потому, что ее ритм «соответствует» ритму прозы; данные лингвистического анализа проливают свет на то, что значит «звучать прозаически».
Семантические ассоциации размера
с нарушениями и элизии
Итак, мы видим, что термин «нарушение», употребляемый для
характеристики ритмических экспериментов Бродского и Слуцкого, в известной мере неточен. «Нарушение» Бродского — вовсе не
нарушение, а последовательно сконструированное правило элизии. Вместе с тем эксперимент Слуцкого — это нарушение в чистом виде, поскольку на форму лишних слогов не налагается никаких ограничений. То, что Слуцкий намеренно ломает метрическую
инерцию, становится понятно из семантики строк. Неправильный
размер появляется там, где смысл связан с разрушением гармонии
или отклонением от ожидаемого, где упоминаются: (а) боль, физические раны, неприятные звуки («И по-сте-ПЕН-но за-МА-зы-
ва-лись ТРЕ-щи-ны»25; «Ра-НЕНЬ-я в РОТ. По-па-ДАНЬ-я в
ГЛАЗ»; с. 383; «На ВЗДРОГ-нув-шу-ю пе-ре-до-ВУ-ю»; с. 40);
(б) объекты, «выступающие» из ряда подобных, так же как «выступают» строки с лишними слогами («Вдруг ВЫ-де-ли-лись из
фрон-то-ВО-го БРАТ-ства»; с. 394; «В ма-ЗУР-ских ТО-пях вы-
НЫ-ри-ва-ли мы»; с. 385); (в) неспособность или нежелание произвести подсчет («Вос-ХО-дит СОЛН-це. Не ЗНА-ю-ще-е СЧЕ-
та»; с. 34). «Солнце», «не знающее счета», возникает в строке, в
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
163
которой нарушен ритм, т.е. неправильно сосчитаны слоги. Похожий пример встречаем в контексте, где Слуцкий декларирует свое
поэтическое кредо:
Я БЫЛ маль-ЧИШ-ко-ю с ду-ШО-ю ВЕ-щей,
Ка-КИХ в лю-БОЙ по-Э-зи-и не СЧЕСТЬ.
Сво-Е-ю ЧАСТЬ-ю и сво-Е-ю ЧЕСТЬ-ю
Счи-ТА-ю-шим Э-ту ЧАСТЬ и ЧЕСТЬ.
(С. 60)
Ирония видится в том, что строку нарушает слово «считающим». Это нарушение составляет неотъемлемую часть интерпретации стихотворения. Слуцкий отказывается от правильного метрического «счета», располагая содержание над формой и заставляя
форму служить содержанию. В том же стихотворении читаем: «[реванш] содержанья над метафорой» (там же).
Некоторые элизии Бродского взаимодействуют с содержанием стихотворения аналогичным образом (например, «Дождь стягивает просвет»), хотя связи между содержанием и формой у него
не столь последовательны, как у Слуцкого. В одном из стихотворений Бродский связывает элизию с идеей «стягивания», однако
в другом — с противоположной идеей выступающих объектов (см.
«вздымающееся полотно» в примере 1 из таблицы 3). В одном тексте элизия воспроизводит быстрое движение («опрометью бежал»
в примере 12 из таблицы 3), в другом «лишний» слог акцентирует
длительность времени («сто лет копируемой» в примере 7 из таблицы 3). Представляется, что многие элизии Бродского не имеют
никаких семантических ассоциаций.
В своих «неправильных» строках Бродский, кажется, любой
ценой сопротивляется семантическим соответствиям. «Нарушение
в ямбе» как способ привлечь внимание читателя поставило бы под
вопрос ту утонченность, с какой поэт вводит английские правила
элизии в русскую речь. В отличие от Бродского, Слуцкий действительно нарушает правило русского размера. Боль — вот основная
тема Слуцкого, писавшего о войне, ранах, разорванных суставах26.
Заставляя нас «продираться» сквозь неровные строки, в которых
размер то и дело нарушается, он ритмически воспроизводит боль
и выпавшие на долю лирического героя невзгоды.
Заключение
Предлагая разделить поэтов на законотворцев и законоборцев,
мы не пытались давать эстетическую оценку ни тем, ни другим.
164
Нила Фридберг
Для законотворцев последовательность является достоинством;
законоборцы, видимо, расценивают последовательность как слишком предсказуемую и предпочитают изменять правила игры. Да и
само понятие «правила» можно интерпретировать по-разному. Мы
рассматривали «правила» не как дидактическое руководство к созданию стихов, а как описание просодического стиля каждого
поэта, его ритмические «отпечатки пальцев»27. Но можно понимать
правила и в более общем смысле — как стилистические приемы.
В этом случае у Слуцкого есть свои правила, и заключаются они в
том, что ритм последовательно связан с одними и теми же темами. Таким образом, один и тот же поэт может быть законотворцем
в одной области и законоборцем в другой.
Добавление лишних слогов в некоторых ямбических строках
может показаться ничего не значащей деталью, но статистический анализ обнаруживает информативность этих мелочей. Иногда нюансы, отмеченные в одной узкой области исследований,
приводят к созданию теории более общего масштаба. Разделение
поэтов на законотворцев и законоборцев возможно не только по
отношению к стихотворному размеру, но и к рифме, синтаксису,
метафоре. Более того, оно актуально не только в поэтике: законотворцами и законоборцами могут быть представители самых
разных искусств. Таким образом, дифференциация, основанная
на маргинальном эксперименте в истории русского стихосложения, позволяет глубже понять реформы искусства и механизмы
творчества.
Авторизованный перевод с английского
С. В. Белинской и С. Г. Николаева
1 См.: Гаспаров М. Л. Записи и выписки. М., 2000.
2 О реформах в русском стихе см.: Белый А. Символизм. М., 1910; Та-
рановски К. Руски дводелни ритмови. Београд, 1953; Гаспаров М. Л. Очерк
истории русского стиха. М., 1984; Scherr В. Russian Poetry: Meter, Rhythm,
and Rhyme. Berkeley, 1986.
3 Cm.: Smith G. Soldier of misfortune // Slutsky B. Things That Happened.
Birmingham; Moscow, 1999. P. 1— 25; Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006; Lotman М. Generative metrics and the comparative approach: Russian iambic tetrameter in a comparative perspective // Formal
Approaches to Poetry: Recent Developments in Metrics. Berlin; New York, 2006.
P. 253-266.
4 В рассмотренных текстах Слуцкого такие отклонения встречаются
только в 1,9—14,3% от общего числа строк, в стихах Бродского — в 0,69—
12,5% строк. Согласно Гаспарову, для того чтобы квалифицировать размер
Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский..
165
как дольник, а не ямб, лишние слоги должны встречаться в нем не менее
чем в 25% строк (Гаспаров М. Л. Русский 3-ударный дольник XX в. // Теория стиха. Л., 1968. С. 59—106).
5 MacFadyen D. Joseph Brodsky and the Soviet Muse. Montreal etc., 2000;
Grinberg M. The Midrash from Joseph: «Isaac and Abraham» as Brodsky’s Ur-
Text // Poetics, Self, Place: Essays in Honor of Anna Lisa Crone. Bloomington,
2007. P. 237—256; Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии.
6 Brodsky J. Literature and war. A symposium // Times Literary Suppl. 1985.
May 17. P. 544.
7 См.: Якобсон P. О чешском стихе преимущественно в сопоставлении
с русским. Берлин, 1923; Тарановски К. Руски дводелни ритмови.
8 См.: Tarlinskaja М. English Verse: Theory and History. The Hague; Paris,
1976; Kiparsky P. The Rhythmic Structure of English Verse // Linguistic Inquiry.
1977. Vol. 8. P. 189-247.
9 Cm: Lotman M. Generative metrics and the comparative approach.
10 Цветаева М. Избранное. М., 1961. С. 124.
11 Вознесенский А. Собрание сочинений: В 5 т. М., 2000. Т. 1. С. 21,
42, 98.
12 Ермилова Е. Маяковский и современный русский стих // Маяковский и советская литература. М., 1964. С. 251.
13 Shakespeare W. Love’s Labor’s Lost. London, 1982. [act 5, scene 2].
14 Halle М., Keyser S. J. English Stress: Its Form, Its Growth, and Its Role
in Verse. New York, 1971.
15 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. С. 336.
16 Donne J. The Complete Poetry and Selected Prose of John Donne. New
York, 1952.
17 Ibid. xix.
18 Abercrombie D. Elements of General Phonetics. Edinburgh, 1967.
19 Возможен и другой анализ метрических отклонений Бродского, при
котором строка сканируется как ямбическая с помощью добавленной паузы, заполняющей метрическую позицию («Дождь стягивает <ПАУЗА>
просвет»). Но этот анализ кажется неверным, поскольку он не объясняет, почему форма первого послеударного слога в трехсложных словах подвергается такому множеству ограничений.
20 См.: Слуцкий Б. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1991.
21 Слуцкий Б. Память: Кн. стихов. М., 1957; Он же. Время: Стихи. М.,
1959; Он же. Сегодня и вчера: Кн. стихов. М., 1961; Он же. Собрание сочинений.
22 Была сделана случайная выборка 100 слов схемы Ххх из эссе
И. Бродского «Путешествие в Стамбул» (2001) и мемуаров Б. Слуцкого
«О других и о себе» (2005).
23 Урбан А. «Стих встает, как солдат» // Звезда. 1984. № 4. С. 198.
24 Там же. С. 188.
166
Нила Фридберг
25 Слуцкий Б. Собрание сочинений. Т. 1: Стихотворения 1939—1961.
С. 370. Далее при цитатах указывается страница.
26 См.: Елисеев H. Путь Бориса Слуцкого // Звезда. 1995. № 5. С. 175.
27 Kiparsky P. Stress, Syntax, and Meter// Language. 1975. Vol. 51, No. 3.
P. 576-616.
А.. Г. Степанов
Тверь
О РИТМИЧЕСКИХ КОНТЕКСТАХ
СТИХОТВОРЕНИЯ
«ИСПАНСКАЯ ТАНЦОВЩИЦА»
В архиве И. Бродского Йельского университета стихотворение
«Испанская танцовщица» датировано 1989 г.1 Однако в собрании
сочинений указан год его первой публикации — 1993. Во втором
номере журнала «Звезда» (1993) оно открывало подборку из восьми стихов2. Полученное редакцией в начале года стихотворение
могло показаться совсем свежим, тем более что в январе Бродский
был в Испании по приглашению Барселонского университета3.
В других изданиях указан 1992 г., а в последнем авторском сборнике «Пейзаж с наводнением» (1996) стихотворение приводится
без даты. По-видимому, Бродский не хотел его датировать. О причинах этого можно только догадываться.
Нас в первую очередь будут интересовать ритмические связи
между «Испанской танцовщицей» и ближайшим поэтическим контекстом. Несмотря на то что Бродский заявлял о своем незнании
испаноязычной поэзии4, он вполне ориентировался в ее метрических формах. Некоторые из них вошли в поэтический цикл «Мексиканский дивертисмент» («Я пытался использовать традиционные испанские метры. Первая часть, о Максимилиане, начинается
как мадригал. Вторая, “1867” — где о Хуаресе, — сделана в размере чокло, то есть аргентинского танго. “Мерида”, третья часть,
написана размером, который в пятнадцатом веке использовал величайший испанский поэт... Хорхе Манрике. Это имитация его
элегии на смерть отца. И “Романсеро” — традиционная испанская
вещь, эти тетраметры»5).
Один из наиболее вероятных культурных претекстов «танцовщицы» — творчество Ф. Гарсиа Лорки6. В нем танец андалузских
девушек — важный для испанского поэта мотив. Первые два четверостишия —
Умолкает птица.
Наступает вечер.
Раскрывает веер
испанская танцовщица.
168
А. Г. Степанов
Звучат удары
луны из бубна,
и глухо, дробно
вторят гитары —
вызывают ассоциации со строками из стихотворений Лорки «Пейзаж» и «Гитара», открывающих «Поэму о цыганской сигирийе»:
Масличная равнина
распахивает веер,
запахивает веер.
Над порослью масличной
склонилось небо низко,
и льются темным ливнем
холодные светила.
<...>
Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра7.
<...>
(Пер. М. Цветаевой)
Связанные звуко-грамматическим и синтаксическим параллелизмом три начальных стиха Бродского укладываются в схему
3-ст. хорея. Этим размером написан некогда популярный испанский романс П. Сарасате «Черный веер» (русский текст
Г. Гнесина):
Этот веер черный,
веер драгоценный,
он в себе скрывает
верность и измены.
Сколько нежной ласки
в мимолетных взорах
обещает веер
в кружевных узорах8.
<...>
Однако Бродский начинает стихотворение не силлабо-тони-
ческим метром. Пропуск ударения на первом слоге, нарушая первичный ритм, препятствует созданию хореической каденции.
О ритмических контекстах стихотворения..
169
Четвертая строка, сдвигающая начальное ударение и допускающая
скопление четырех безударных слогов («испанская танцовщица»),
не оставляет сомнения в акцентной доминанте первого катрена.
Бродский в духе токаора (гитариста) примеривается к «исполнению», подбирает ритм и тут же нарушает инерцию: смещает
сильную долю, дробит длительности на более краткие. Начальное
четверостишие становится ритмико-стиховым эквивалентом музыкальной фразы9.
Инерция двухударника с женскими окончаниями может отсылать к испанской поэтической традиции. Двухиктные дольники
нередко встречаются у Лорки («Балкон» из «Поэмы о саэте»)10:
Лола
поет саэты.
Тореро встали
у парапета.
И брадобрей
оставил бритву
и головою
вторит ритму.
Среди гераней
и горицвета
поет саэты
та самая Лола,
та непоседа,
что вечно глядится
в воду бассейна11.
(Пер. А. Гелескула)
Есть они у X. Р. Хименеса («Предосеннее»):
Известь и солнце —
синь жестяная!
До яркого блеска
асфальт надраен!
Насквозь продута
прохладным бризом
золотых просторов
легкая призма.
Воспоминаний сколько!
И сколько красок!
170
А. Г. Степанов
Красота в распаде,
как ты прекрасна!12
(Пер. Н. Горской)
И у любимого Бродским А. Мачадо («Заметки»)13:
В окне мне видны
поля Баэсы
при свете луны.
Чисты и тверды
Азнайтин и Мазины
Казорлы хребты.
И отроги аркад
Сьерра-Морены,
как отроки, спят.
Трепещет листва
олив. Порхает
всю ночь сова14.
<...>
Между тем если исходить из ямба, который начинается со второго катрена, то «Испанской танцовщице» близки переводы испанских народных песен, например вильянсико (villancico)15. Их
традиционная строфическая форма — четверостишие, или испанская копла. В широком понимании копла — это любое четверостишие испанской народной песенной поэзии, в узком — четверо-
стишие-восьмисложник с рифмовкой четных строк. Исконная
тема коплы — любовь, сопровождаемая жалобами девушки на непостоянство возлюбленного, несправедливость судьбы и т.д. Впоследствии эта тема расширилась до универсальной — «человек в
жизненных обстоятельствах»16. Для нас интересны коплы, переводимые ямбическим стихом с чередованием семисложных и рифмованных пятисложных строк:
* * *
Из четверых заречных
у той излуки
один на сером муле
мне горше муки.
Из четверых заречных
за тем затоном
О ритмических контекстах стихотворения..
171
быть одному, на сером,
моим законным.
Зачем огня ты просишь
у всей округи,
а у самой в ресницах
живые угли?17
* * *
Любовь у нас с тобою
как путь к могиле —
года надежд и тягот
и горстка пыли18.
Четверостишия «танцовщицы» Бродского отличаются от приведенных переводов коплы равенством строк (за исключением
первой строфы, все они насчитывают пять слогов) и разнообразием рифмовки (АБАБ, АББА, АААА). Что касается строфической
сегментации текста, то членение на катрены позволяет маркировать испанский характер стихотворения:
О, женский танец!
Рассказ светила
о том, что было,
чего не станет.
Он — слепок боли
в груди и взрыва
в мозгу, доколе
сознанье живо.
Этой же цели служит рифма. На фоне преобладания точных
рифм выделяются неклассические концевые созвучия. И хотя правильных испанских ассонансов (asonancia perfecta), в которых совпадали бы ударные и заударные гласные при несходстве согласных — в том числе в предударной позиции, у Бродского нет19,
русские ассонансы (они же — неточные рифмы) вполне могут выполнять роль звуковых индикаторов испанского стиха: вечер—веер,
танец—станет, пространства—напрасно, раны—рамы, потушен—
душам. Не менее показательны случаи диссонанса, когда согласные звуки в заударной части совпадают, а ударные гласные различны: бубна—дробно, туфель—профиль, гибель—стебель. Диссонанс —
самый поздний вид испанской рифмы, его массовое освоение началось с 1910-х гг. Несмотря на то что диссонансы распростране¬
172
А. Г. Степанов
ны также в английском стихе XX в., в «танцовщице» Бродского
они, наряду с женским типом рифмы, служат сигналом испанской
стиховой культуры.
Хотя в испанской поэзии, народной и литературной, наиболее
распространенный «короткий размер» — трехикгный восьмислож-
ник (трехикгный изосиллабический дольник20), возможны и более
краткие формы испанского акцентно-силлабического стиха. Один
из них — двухикгный пятисложник:
Puesto a horcajadas
sobre mi pecho,
bridas foijaba
con mis cabellos...
y yo besaba
sus pies pequeños,
dos pies que caben
en solo un beso...212
(/. Martí)
Он имеет три ритмических варианта: u2u4u, luu4u, uuu4u.
Первый соответствует схеме 2-ст. ямба с женским окончанием —
размеру «Испанской танцовщицы». Второй представлен как минимум пятью строками: одна из них («вторят гитары») — имитация
испанского стиха (в нем первое ударение чаще всего приходится
на двусложное слово), остальные («месть вертикали», «ткань не
удержит», «он, танцовщица», «факт тяготенья») — результат отягчения первого односложного слова и пропуска ударения на сильном слоге. Бродский испанизирует стих, допуская перемещение
ударения внутри стихового ряда. Третий вариант — это строки с
одним метрическим ударением, заполненные пятисложным словом или фонетическим словом с проклитикой («горизонтали»,
«принадлежала», «протуберанец», «одновременно», «от разраста-
нья», «на парашюте»).
В русской поэзии 2-ст. ямб достаточно редок. Причина — в
краткости размера, что сужает сферу его использования. Однако он
вполне применим в сатирических стихах. Не случайно Н. Некрасов
включил его в полиметрическую композицию поэмы «Современники», выделив таким образом речь своих идейных противников:
«Да-с! Марья Львовна
За бедных в воду,
Мы Марье Львовне
Сложили оду.
О ритмических контекстах стихотворения..
173
Где Марья Львовна?
На вдовьем бале!
Где Марья Львовна?
В читальном зале...
<...>
Да-с, Марья Львовна
За бедных в воду...
Ее призванье —
Служить народу!»22
У символистов, напротив, этот размер воспринимается как
изысканно-утонченный. К нему обращается К. Бальмонт, чуткий
к звуковой стороне стиха. В стихотворении «Шиповник» поэтический образ определяется в основном инструментовкой и композиционно-стилевой организацией текста:
Шиповник алый,
Шиповник белый.
Один усталый
И онемелый,
Другой влюбленный,
Лениво-страстный,
Душистый, сонный,
И красный, красный.
Едва вздыхая
И цепенея,
В дыханьи мая
Влюбляясь, млея,
Они мечтают
О невозможном
И доцветают
Во сне тревожном23.
<...>
Экзотическое звучание модели Я2АБАБ придал А. Блок. В одном из четверостиший стихотворения «Венеция» («Итальянские
стихи») он запечатлел образ знаменитого города в ярких цветовых
деталях. В третьей строке встречаем переакцентуацию — ударение
в двусложном слове перемещается со второго на первый слог:
О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!24
174
А. Г. Степанов
Качественно иной эмоциональной окраской обладает 2-ст. ямб
у В. Сосноры. В книге стихов «Пьяный ангел» (1969) короткий
размер звучит неожиданно «остро», а поэтическое высказывание
приобретает идеологическую направленность:
О, призывайте,
призы давайте,
о, признавайте,
не признавайте.
Ведь не во мне же,
мой жребий брошен,
мне нужно меньше,
чем птице прошлой.
<...>
Какие судьбы
я развиваю?
Святые струны
я — разрываю!
Судьбе коварства,
суду без Бога
и веку Вакха
отмстим безмолвьем25.
Как видим, метрико-строфическое решение стихотворения
Бродского не связано с русским материалом. Правда, ямбическим
двустопником, если ограничиться визуальной репрезентацией текста, написан испанский рефрен Пушкина: «Ночной зефир / Струит эфир. / Шумит, / Бежит / Гвадалквивир». Но, во-первых, каждая строка здесь «запирается» мужской рифмой. А во-вторых,
ритмическую картину искажает стихотворная графика26. Основанием для членения стиха Пушкин избирает рифму, которая превращает обычное двустишие 4-ст. ямба (аа) в пятистишие (аабба).
Кроме того, испанские мотивы Пушкина лишены «первоисточника». По мнению испанского переводчика русской литературы Рикардо Сан Висенте, «это не совсем испанские мотивы, а те мотивы, которые дошли до Пушкина, кочуя по итальянским землям, по
французским»27.
Итак, близость «танцовщицы» Бродского к переводам испанской поэзии обнаруживается на ритмическом уровне (размер,
переакцентуация, клаузула, рифма, строфа). Между тем поиск
тематической близости заставляет обратиться к стихам иного
культурного региона — Латинской Америки. Испаноязычная
О ритмических контекстах стихотворения..
175
поэзия американского континента активно переводилась в СССР
в 1960-е — первой половине 1970-х гг. Под руководством
В. С. Столбова велась большая работа по переводу, комментированию и изданию стихов на испанском и португальском языках.
Регулярно выходили сборники, представляющие ту или иную
серию («Библиотека латиноамериканской поэзии» и др.). Занимаясь поэтическими переводами28, Бродский не только общался со многими переводчиками (В. П. Голышев, А. Я. Сергеев,
Г. Г. Шмаков, Е. Г. Эткинд и др.), но и принимал участие в подготовке изданий латиноамериканских поэтов29.
В одном из поэтических сборников («Солдаты свободы», 1963)
находим стихотворение перуанского поэта М. Мельгара «Яравй» —
собрание коротких любовных песен (yaraví), восходящих к фольклору индейцев кечуа:
Меня ты просишь
забыть навеки
твой образ милый.
Но жить, не видя
очей прекрасных,
душа не в силах.
С тобой в разлуке
невыносимы
часы пустые.
Жизнь омрачилась:
мне все не в радость,
мне все постыло.
С надеждой солнце
шлет в утешенье
свои лучи мне.
Но что мне солнце,
когда твой образ
в нем не искрится?30
<...>
(Пер. В. Васильева)
Индейские песни сгруппированы в шестистишия 2-ст. ямба с
женскими окончаниями. Через каждые два стиха концы строк
скрепляются по принципу монорима единым ассонансом [и/ы],
иногда с частичным совпадением согласных (ХХАХХА). С «танцовщицей» Бродского перевод «Яравй» объединяют размер и каталектика.
В другом сборнике («Обнаженные ритмы», 1965) встречаем
стихотворение «Бамбело». В нем описывается афро-бразильский
176
А. Г. Степанов
танец «коко бамбело», исполняемый туземцами Амазонии. Стихотворение полиметрично (Ан2-»Я2). Вот его ямбический фрагмент:
В круженье танца
забыть усталость,
в круженье танца
забыть хозяйку,
сжигая время
в пожаре Коко!
Кружатся негры —
богатство белых, —
сжигая рабство
в пожаре Коко!
О, своенравный
рыбацкий танец!
Кто пил кашасу,
курил лиамбу,
пусть пляшет коко
бамбело!31
{Пер. Н. Воронель)
Танцевальная тема сближает русский перевод со стихотворением Бродского. 2-ст. ямб с женскими окончаниями служит ритмической основой воплощения в поэтическом тексте латиноамериканского танца. Пример — стихотворение А. Барто «Самба»,
написанное под впечатлением от поездки в Бразилию в 1974 г.:
Худой мальчишка
В рубашке рваной,
Он пляшет самбу
Под барабаны.
Самозабвенно,
Со знаньем дела,
А сквозь рубашку
Темнеет тело.
Горячий воздух
Пропитан серой,
В горах — фавелы
Громадой серой...
Но пляшет, пляшет
Под барабаны
О ритмических контекстах стихотворения..
177
Худой мальчишка
В рубашке рваной.
Пусть он не часто
Бывает сытым,
Но слышен самбы
Кипучий ритм,
И он беспечен,
И пляшут плечи,
Босые пятки
Стучат по плитам.
И в ритме самбы
Идет прохожий,
Не знает сам он,
Что пляшет тоже32.
В первой половине текста концевыми созвучиями связаны
четные строки, во второй — четные и нечетные. В структуре зву-
коповторов представлены разнообразные виды рифм: точная
(дела—тело), приблизительная (рваной—барабаны, прохожий—
тоже), неточная (беспечен—плечи), составная (самбы—сам он), неравносложная (сытым—ритм), омонимичная (серой—серой), диссонанс (пятки—плитам), ассонанс (часто—самбы).
Знать это стихотворение уехавший в 1972 г. Бродский не мог,
как не мог он видеть напечатанным в 1975 г. перевод стихотворения перуанского поэта X. М. Эгурена «Сапсаны»:
Покинув скалы
в плащах тумана,
на крыльях алых
летят сапсаны.
Они зобасты
и горделивы,
их тени сизы,
темней оливы.
Их клювы кривы,
острей булата,
а грай зловещий
страшит пернатых.
Чего им надо —
непостижимо!
Парят над речкой,
и снова мимо
178
А. Г. Степанов
зеленых пастбищ,
болот и кочек,
селений сирых,
глухих урочищ.
Всего милей им
уединенье:
столбы, руины
средь запустенья33.
<...>
(Пер. Г. Шмакова)
Однако не исключено, что Бродский был знаком с книгой
О. Савича «Поэты Испании и Латинской Америки: избранные переводы» (1966). В ней находим перевод стихотворения об испанской танцовщице кубинца X. Марти:
Душа одиноко томится,
дрожа вслед за канувшим днем.
Нынче бал; мы увидим на нем
испанскую танцовщицу.
<...>
Руку дугой выгибает,
с вызовом голову вскинув,
шаль на плечо перекинув,
медленно страсть накопляет.
И рубит пол каблучками
так вкрадчиво, но без пощады,
как будто помост дощатый —
эшафот с мужскими сердцами.
А призыв растет все сильней
в глазах лучистой волною,
и шаль бахромой огневою
летает и плещет над ней.
<...>
Подбирает устало шаль, —
пол метет бахрома огневая —
уходит, глаза закрывая,
уходит, как ветер вдаль34.
<...>
Размер этого стихотворения, конечно, не ямб, а трехсложник
с неупорядоченной анакрусой, включающий строки дольника.
О ритмических контекстах стихотворения..
179
Русский перевод имитирует классический испанский стих — трех-
иктный восьмисложник (у Савича восьмисложные строки чередуются с девятисложными). Произвольная смена клаузул (АббА,
АББА, аББа) сопровождается обязательной кольцевой рифмовкой.
Разнообразие рифм (точные, неточные, приблизительные) также
продиктовано стремлением передать звучание испанского стиха.
Что касается центрального образа — танцовщицы, то ее литературной предшественницей помимо героини X. Марти могла
быть испанская танцовщица из одноименного стихотворения
Р. М. Рильке35. Общее в обоих текстах — ключевая метафора разбушевавшегося пламени, пожара. Однако динамика образа различна. Если у Рильке огненную стихию удается обуздать36 («...Чеканя
каждый жест, она разит / Огонь своей отчетливой чечеткой»37), то
у Бродского пламя вырывается на свободу и достигает астральных
высот:
...так рвется пламя,
сгубив лучину,
к воздушной яме,
топча причину,
виденье Рая,
факт тяготенья,
чтоб — расширяя
свои владенья —
престол небесный
одеть в багрянец.
Так сросся с бездной
испанский танец.
Ритмические связи между стихотворениями отсутствуют. «Испанская танцовщица» Рильке в русском переводе — это 5-ст. ямб
с мужскими и женскими клаузулами. Текст разбит на строфоиды,
в которых строки связаны свободной рифмовкой (аБааБ в вггДД
ееЖзИзИ)38:
Как спичка, чиркнув, через миг-другой
Выбрасывает языками пламя,
Так, вспыхнув, начинает танец свой
Она, в кольцо зажатая толпой,
И кружится все ярче и упрямей.
И вот — вся пламя с головы до пят.
180
А. Г. Степанов
Воспламенившись, волосы горят,
И жертвою в рискованной игре
Она сжигает платье на костре,
В котором изгибаются, как змеи,
Трепещущие руки, пламенея.
И вдруг она, зажав огонь в горстях,
Его о землю разбивает в прах
Высокомерно, плавно, величаво.
Ползет и не сдается и грозит.
Но точно и отточенно и четко,
Чеканя каждый жест, она разит
Огонь своей отчетливой чечеткой39.
(Пер. К. Богатырева)
У нас нет свидетельств, указывающих на то, что Бродский знал
эти тексты. Но есть произведение, о котором он помнил, оценивая очень высоко. Это — «Погорелыцина» Н. Клюева. Упоминания Бродского о ней содержатся в дневнике Т. Венцловы40, в диалогах с С. Волковым41. Поэма Клюева полиметрична. Один из
размеров, за которым закрепляется тема патриархальной крестьянской жизни, — 4-ст. цезурованный ямб с односложным цезурным наращением и женской смежной рифмовкой:
Порато баско весной в Сиговце,
По белым избам на рыбьем солнце!
А рыбье солнце — налимья майка,
Его заманит в чулан хозяйка,
Лишь дверью стукнет — оно на прялке
И с веретенцем играет в салки.
Арина-баба на пряжу дюжа,
Соткет из солнца порты для мужа,
По ткани свекор, чтоб песне длиться,
Доской резною набьет копытца,
Опосле репки, следцы гагарьи...
Набойки хватит Олехе, Дарье,
На новоселье и на поминки...
У наших девок пестры ширинки,
У Степаниды, веселой Насти
В коклюшках кони живых брыкастей,
Золотогривы, огнекопытны,
Пьют дым плетеный и зоблют ситный42.
<...>
О ритмических контекстах стихотворения..
181
Если строки разбить на стиховые ряды по месту цезуры, то
4-ст. ямб с парными рифмами (АА) превратится в полурифмован-
ный ямбический двустопник (ХАХА). «Погорелыцина» — вещь настолько былинно-русская (точнее, северно-русская, старообрядческая), что сама мысль о ее связи с «Испанской танцовщицей»
может показаться абсурдной. Между тем «этнографизм» поэмы и
ее воспевающее начало заставляют не торопиться с выводом. Произведения сближает мотив (тема) огня, полыхающего и неукротимого. У Бродского это — озаряющее небосвод пламя-танец, у
Клюева — очистительный пожар России, восходящий к образу
Неопалимой Купины43. Есть в «Погорельщине» и мотив танца, но
«бесовского», греховного. Его семантика связана с «Иродовой
дщерью» — искусной танцовщицей44.
Значит ли это, что обнаружен ритмический источник стихотворения Бродского? Отнюдь. Более того, чем шире круг сопоставляемых текстов, тем труднее мотивировать их связь с «Испанской
танцовщицей».
«Пишущий стихотворение, — как мы знаем, — пишет его потому, что язык ему подсказывает или просто диктует следующую
строчку» (1, 16). Эти строчки для большого поэта никогда не бывают «пустыми», они хранят память о ритмических контекстах.
Поэтому по отношению к Бродскому невозможно указать один
или несколько источников. Поэт синтезирует всё, что знает, о чем
слышал, догадывался. Бродский воссоздает мифологизированный
испанский ритм, испанский ритм «вообще», подобно тому как
Пушкин в «Маленьких трагедиях» создавал характеры, национальные «вообще». Он отсылает не к авторам, а к культуре45. И делает это чрезвычайно изящно, доказательство — синтез множества
«испанских» форм.
1 Лопухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008.
С. 372. По другим сведениям, наброски к «Испанской танцовщице» встречаются в черновиках Бродского еще в начале восьмидесятых (Панн Л. Побег из тела в пейзаж без рамы: «Испанская танцовщица» Рильке и Бродского // Новая юность. 2001. № 48. С. 167, 171).
2 Между журнальной и книжной версиями есть расхождения, вызванные неточностями поздней публикации. Цитаты из стихотворения приводятся по журнальному варианту (Звезда. 1993. № 2. С. 3).
3 Лопухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. С. 429.
4 Ср.: «Я ничего не знаю о поэзии на испанском языке. Кроме Хорхе
Манрике, Гонгоры, Сан-Хуана де ла Крус и Мачадо» (интервью 1979 г.)
(Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр. М.,
182
А. Г. Степанов
2005. C. 75). Однако спустя девять лет (1988) он рекомендует тем, для кого
родной язык испанский, «Антонио Мачадо, Федерико Гарсиа Лорку, Луиса Сернуду, Рафаэля Альберти, Хуана Рамона Хименеса и Октавио Паса»
(6, 84).
5 Бродский: кн. интервью. С. 64—65. См. также: Бродский И. Комментарии // Бродский И. Пересеченная местность. Путешествия с комментариями: [стихи]. М., 1995. С. 159. Об интересе Бродского к испаноязычной
версификации см.: Крепе М. О поэзии Иосифа Бродского. СПб., 2007.
С. 103—104. См. также: Петрушанская Е. «Музыка среды» в зеркале поэзии // Петрушанская Е. Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004.
С. 69-71.
6 В. Куллэ отмечал существенное влияние испанцев, прежде всего
Лорки, на молодых поэтов конца 1950-х гг. «Романтикам “оттепели” судьба Лорки представлялась идеальной судьбой поэта» (Куллэ В. «Там, где они
кончили, ты начинаешь...» (о переводах Иосифа Бродского) // Russ. Lit.
1995. Vol. 37, Nos. 2/3. P. 272).
7 Гарсиа Лорка Ф. Избранные произведения: В 2 т. / Пер. с исп. М.,
1986. Т. 1. С. 90.
8 Сарасате Я. Черный веер: Для меццо-сопрано в сопровожд. ф-п. М.,
1989. С. 2. Нотация сопровождается словесным текстом, расчлененным на
слоги (графическая сегментация сделана мной. — А. Г).
9 А. С. Волгина предположила, что ритмический импульс «Испанской
танцовщицы» задается романсом П. Сарасате «Черный веер», в связи с чем
размер первого катрена можно определить как песенный тактовик. Ср. с
замечаниями Бродского о том, что стихи в европейской традиции возникли из необходимости удержать музыкальную фразу (Бродский И. О музыке (Интервью Е. Петрушанской. 21 марта 1995 г., Флоренция) // Петрушанская Е. Музыкальный мир Иосифа Бродского. С. 14).
10 См.: Гончаренко С. Основы теории испанской поэтической речи //
Собр. соч.: В 3 т. М., 1995. Т. 3: Монографии. С. 68.
11 Гарсиа Лорка Ф. Избранные произведения. Т. 1. С. 100—101.
12 Испанские поэты XX века: Хуан Рамон Хименес, Антонио Мачадо,
Федерико Гарсиа Лорка, Рафаэль Альберти, Мигель Эрнандес / Пер. с исп.
М., 1977. С. 138.
13 Сохранился черновик его переводов Мачадо, датируемый второй
половиной 1960-х гг. (Полухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. С. 160). Л. Лосев предполагает, что русские переводы Лорки и Мачадо
могли послужить источником ритмической структуры стихотворения
Бродского «Холмы» (1962) (Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной
биографии. М., 2006. С. 190).
14 Бродский И. Метаморфозы. Из неопубликованных переводов // Лит.
обозрение. 1996. № 3. С. 3.
15 Об испанской песенной поэзии см.: Гарсиа Лорка Ф. Как поет город от ноября до ноября // Гарсиа Лорка Ф. Самая печальная радость.
О ритмических контекстах стихотворения..
183
С. 36—47; «Капли дождя». Испанская песенная поэзия / Пер. с исп. и
вступ. А. Гелескула // Иностр. лит. 2000. № 7. С. 84—96; Иберийская мозаика. Песенная поэзия Испании / Пер. с исп. и вступ. А. Гелескула //
Иностр. лит. 2002. № 10. С. 220—229.
16 Об испанской копле см.: Панова Л. Г. Испанская копла: между поговорками и книжной поэзией // Формула круга: Сб. ст. к юбилею профессора О. Г. Ревзиной. М., 1999. С. 35—49.
17 Гарсиа Лорка Ф. Как поет город от ноября до ноября. С. 39.
18 «Капли дождя». Испанская песенная поэзия. С. 90.
19 Об испанской рифме см. подробнее: Гончаренко С. Испанская рифма // Собр. соч.: В 3 т. С. 227—294; КопинаА. Е. Испанская рифма в сопоставлении с русской (структурно-семантический и функционально-коммуникативный аспекты) и проблемы перевода испанского рифмованного
стиха на русский язык: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2001.
20 См., например: Камелина А. В. Стиховые структуры «Цыганского
романсеро» Федерико Гарсиа Лорки в оригинале и русских переводах:
Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2007. С. 9—11.
21 Гончаренко С. Основы теории испанской поэтической речи. С. 64.
22 Некрасов Н. А. Полное собрание сочинений и писем: В 15 т. / Гл.
ред. М. Б. Храпченко. Л., 1982. Т. 4. С. 201-202.
23 Бальмонт К. Стихотворения: [репр. воспр. изд. 1900, 1903 г. с прил.].
М., 1989. С. 117-118.
24 Блок А. А. Собрание сочинений: В 8 т. / Под общ. ред. В. Н. Орлова
[и др.]. М.; Л., 1960. Т. 3. С. 102.
25 Соснора В. Девять книг. М., 2001. С. 74—75.
26 См. об этом: Томашевский Б. В. Строфика Пушкина // Томашев-
ский Б. В. Стих и язык: филол. очерки. М.; Л., 1959. С. 202—203.
27 Программы Радио Свобода. Поверх барьеров. Пушкин за границей /
Ведущий И. Померанцев [Электронный ресурс]. Режим доступа // Ыхр://
агсЫуе.5УоЬоёаог§/рго§гаш5/ОТВ/1999/ОВР02.а8р. Загл. с экрана.
28 См., например: Бродский И. Бог сохраняет все. М., 1992. С. 176—281.
Перечень переводов Бродского, не вошедших в это издание, приведен на
с. 295-296.
29 См.: Остров зари багряной. Кубинская поэзия XX века: [стихи] /
Пер. с исп. М., 1968; Фигера Аймерич А. Жестокая красота: [стихи] / Пер.
с исп. / Сост. и предисл. А. Мансо. М., 1968.
30 Солдаты свободы / Пер. с исп., сост., предисл. и коммент. Л. Ос-
повата. М., 1963. С. 31, 182.
31 Обнаженные ритмы. Негритянские мотивы в поэзии Латинской
Америки / Пер. с исп. и португал.; сост. М. Самаева; предисл. и коммент.
С. Мамонтова; ред. пер. О. Савича. М., 1965. С. 56.
32 Барто А. Бразильские записки // Барто А. Записки детского поэта.
М., 1976. С. 313-314.
33 Поэзия Латинской Америки / Пер. с исп., португал. и фр. М., 1975.
С. 458. Мотив преодоления пространства наряду с деталями, отделяющи¬
184
А. Г. Степанов
ми сапсанов от других птиц, вызывает ассоциации с «Пилигримами» Бродского (1958), написанными 3-ударным дольником с женской клаузулой.
Однако переклички между стихотворениями («капища», «хрипло кричат»
у Бродского; «столбы, руины», «грай зловещий» у перуанского поэта) носят скорее всего случайный характер.
34 Савич О. Поэты Испании и Латинской Америки: Избр. переводы /
Предисл. В. Огнева. М., 1966. С. 117—119.
35 См.: Панн Л. Побег из тела в пейзаж без рамы: «Испанская танцовщица» Рильке и Бродского. С. 166—171. О присутствии Рильке в «каноне» Бродского можно судить по письму к Я. Гордину (12 сентября 1972 г.).
В нем имя Рильке упоминается среди поэтов, о которых Бродский рассказывает американским студентам. См.: Полухина В. Иосиф Бродский.
Жизнь, труды, эпоха. С. 202.
36 Идейно-композиционная «имманентность» текста объясняется
установкой Рильке периода «Новых стихотворений» на создание стихотворения-вещи — особого квазижанра с продуманным и самодостаточным
образом (см.: Рожанский И. Д. Райнер Мария Рильке (Основные вехи его
творческой эволюции) // Рильке Р.-М. Ворпсведе. Опост Роден. Письма.
Стихи. М., 1971. С. 32-34.
37 Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. С. 326.
38 См. также переводы Т. Сильман (Рильке Р. М. Лирика / Пер. с нем.
Т. Сильман; вступ. ст. и примеч. В. Адмони. М.; Л., 1965. С. 138) и В. Летучего (Рильке Р. М. Стихотворения (1906—1926) / Пер. с нем.; сост.
Е. Витковского. Харьков; М., 1999. С. 42—43).
39 Рильке Р.-М. Ворпсведе. Огюст Роден. Письма. Стихи. С. 326.
40 «“Погорелыцина” Клюева — превосходная поэма, хотя и непонятно почему» (Уепс1оуа Т. О ОБГаШюЬ иегсИ гтеБЩсасИ ВгосШево ъ 7м'\а?ка
Яас^ескт! // ТеътуЬу ЬИегас1ае. 2007. N1. 100. Б. 113). По воспоминаниям
С. Липкина, «великой» называла ее и А. Ахматова (Азадовский К. Жизнь
Николая Клюева: Документ, повествование. СПб., 2002. С. 274).
41 «...Если в ту антологию, о которой вы говорите, будет включена
“Погорелыцина” Клюева... то “Бабьему Яру” там делать нечего» (Волков С.
Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 307).
42 Клюев Н. Погорелыцина // Новый мир. 1987. № 7. С. 81—82.
43 См.: Толстой Н. И. Погорелыцина: Несколько вступительных слов
о символике и языке поэмы // Там же. С. 80—81.
44 Об этом подробнее см.: Базанов В. Г. Поэма о древнем Выге // Рус.
лит. 1979. № 1. С. 90-93.
45 Ср. с его суждением о «Мексиканском дивертисменте»: «В конце
концов, это называется дивертисмент. Он должен иметь дело с манерами,
со стилями, которые там используются. Если можно так выразиться, это
дань культуре, о которой идет речь» (Бродский: кн. интервью. С. 65).
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
И. В. Фоменко
Нью-Йорк, США
ЦИКЛ «ЧАСТЬ РЕЧИ»:
ОПЫТ ИНТЕРПРЕТАЦИИ
Трудно найти работу о лирике И. Бродского, в которой так или
иначе не упоминалась бы «Часть речи», но еще труднее назвать
такую, в которой цикл был бы убедительно проинтерпретирован.
Многочисленные обращения к циклу свидетельствуют об интересе и к нему, и к его особому статусу в поэзии Бродского. Отсутствие интерпретаций столь же непреложно свидетельствует о трудности ответить на главный вопрос, о чем, собственно, цикл.
Основания для этого дает прежде всего вынесенный в заглавие
термин «часть речи». Понятно, что в стихах речь пойдет не о грамматических категориях, а, скорее всего, о части чьей-то или какой-
то где-то произнесенной или еще не произнесенной речи. Но это
значение столь широко и неопределенно, что трудно представить,
о чем именно будет говорить автор.
Первая строка первого стихотворения («Ниоткуда с любовью
надцатого мартобря») отсылает к «Запискам сумасшедшего»
Н. В. Гоголя, к датировке одной из них «Мартобря 86 числа.
Между днем и ночью»1. У читателя, который заметит эту аллюзию,
неизбежно возникнет установка на понимание цикла как «записок сумасшедшего». В третьем стихотворении структура речевой несуразицы «я не слово о номер забыл говорю полку»
не только подтвердит справедливость такой догадки, вновь отсылая к Гоголю («Чи 34, ело, Мц гдао, яш(19дф 349»2), но может внести серьезное уточнение в предпонимание. Аллюзия именно на
последнюю гоголевскую «записку» может значить, что уже в
третьем стихотворении Бродский достигает, как писал он о Цветаевой, «прав[ого], т.е. верхне[го] угл[а] октавы... “верхнего до”»
(5, 148). Иными словами, то, чем заканчивал Гоголь, для него
лишь начало.
С одной стороны, такое предпонимание подтверждается: отдельные стихотворения не объединены общей темой, видимой
логикой и даже не нумерованы. Это создает ощущение спонтанности и фрагментарности речи. Кроме того, по свидетельству
В. Полухиной, Бродский говорил, что «Часть речи» — это записки сумасшедшего и что он убирал оттуда стихотворения, которые
не отвечали этому. С другой стороны, в отличие от Поприщина у
лирического героя «Части речи» нет никакой мании.
188
И. В. Фоменко
В результате возникает странная ситуация: автор отсылает к
Гоголю, а текст упрямо не вписывается в такое понимание.
Возможна другая установка. Аллюзии на «Записки сумасшедшего» — это отсылка не к конкретному тексту и даже не к Гоголю, а к теме сумасшествия в русской литературе, традиции,
заложенной Грибоедовым и позже поддержанной Толстым (рассказ «Записки сумасшедшего»), к ситуации, когда «жестокий,
зверский, оправдываемый людьми небратский склад жизни — неизбежно приводит к признанию сумасшедшим себя или всего
мира»3.
Для такого прочтения «Часть речи» тоже и дает, и не дает
оснований. С одной стороны, это художественный мир, в котором неразличимы причины и следствия, сомнительны доказательства:
Потому что каблук оставляет следы — зима.
В деревянных вещах замерзая в поле,
по прохожим себя узнают дома.
(3, 129)
С другой — никто не обвиняет ни мир за то, что он «жестокий и зверский», ни людей, оправдывающих «небратский склад
жизни».
Та же непроясненность и на уровне речи. С одной стороны, в
цикле много
— непонятных словосочетаний: «...в гортани... все отчетливей
раздается снег» (3, 126);
— темных речений: «я не слово о номер забыл говорю полку, /
но кайсацкое имя язык во рту / шевелит в ночи, как ярлык в Орду»
(3, 127);
— нарушенной внутренней логики микрообразов: «...осень в
стекле внизу / узнает по лицу слезу» (3, 127);
— странной арифметики: «я любил тебя больше, чем ангелов
и самого, / и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих»
(3, 125); «сумма мелких слагаемых при перемене мест / неузнаваемее нуля» (3, 138);
— не менее странных утверждений: «настоящий конец войны...
крылатый полет... пули, / уносящей жизни на Юг в июле» (3, 133)
(почему конец войны — это полет пули? почему именно в июле она
уносит жизни и именно на Юг? какое отношение это имеет к
Мюнхену (послетекстовый топоним. — И. Ф.), о котором, вероятно, написано стихотворение?).
Всё это осложняется строчными переносами:
Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации
189
Через тыщу лет из-за штор моллюск
извлекут с проступившим сквозь бахрому
оттиском «доброй ночи» уст
не имевших сказать кому.
(.3, 128)
С другой стороны, трудно сказать, чтб считать «странным» и
«непонятным» после В. Хлебникова, А. Блока, М. Цветаевой и
вообще поэзии XX в.
Конечно, для того чтобы прояснить темные места, можно логизировать отдельные фрагменты. Например, в стихе «я не слово
о номер забыл говорю полку» можно соединить «“слово о” не с
находящимся рядом (“номер”), а с далеко стоящим “полку” — и
тогда восстанавливается фрагмент фразы: “Слово о полку [Игоре-
ве]”...»4. Но в этом случае на фоне полученного синтаксически
нормативного фрагмента отчетливо выявляются только особенности авторского синтаксиса. Смысл, к сожалению, не проясняется,
во-первых, потому, что объектом анализа становится не поэтический текст автора, а прозаизированная версия интерпретатора; во-
вторых, логизации поддаются только отдельные фрагменты предложения. Всё предложение невозможно логизировать прежде всего
потому, что оно, скорее всего, воссоздает речь теряющего сознание («глаза закатывающего к потолку») лирического героя:
И, глаза закатывая к потолку,
я не слово о номер забыл говорю полку,
но кайсацкое имя язык во рту
шевелит в ночи, как ярлык в Орду.
(.3, 127)
Здесь без видимых связей соединяются какое-то «слово» (то ли
«забытое» и отсылающее к манделыитамовскому «Я слово позабыл, что я хотел сказать...», то ли осколок «Слова о полку...») с
каким-то «номером» (полка?), и все это почему-то противопоставлено чьему-то (или какому-то) «кайсацкому имени», отсылающему
к державинской «Фелице» («Богоподобная царевна / Киргиз-Кай-
сацкия орды!»5) и соотнесено с ярлыком на княжение, обернувшимся пропуском (ярлык — не пропуск в Орду, а грамота на княжение, которая выдавалась в Орде).
Бессвязность бредовой речи вряд ли случайность: цикл четко
вписывается в литературную традицию, на которую указал сам
автор. Поэтому вполне возможно, что аллюзии отсылают не к отдельному автору или тексту, не к традиции сумасшествия, а к ситуации, когда «абсурд в грамматике» есть единственная возмож¬
190
И. В. Фоменко
ность самой речью воплотить безумство мира и/или «запредель-
ность» состояния. Если это так, то у Бродского были предшественники, к которым он относился с неподдельным уважением.
Прежде всего, М. Цветаева, у которой, настаивал Бродский,
«технические достижения продиктованы не формальными поисками, но являются побочным — то есть естественным — продуктом речи, для которой важнее всего ее предмет» (5,146). А главный
ее предмет — «нечто для русского уха незнакомое и пугающее:
неприемлемость мира.
Это... не реакция революционера или прогрессиста, требующих перемен к лучшему, и не консерватизм или снобизм аристократа, помнящего лучшие дни. На уровне содержания речь шла о
трагичности существования вообще, вне зависимости от временного контекста» (5, 152).
Затем А. Платонов, в «Котловане» которого «наличие абсурда
в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о человеческой расе в целом» (7, 72). Рядом с Платоновым — его «единственный реальный сосед по языку... Николай Заболоцкий периода “Столбцов”» (7, 73)6.
Платонов и Заболоцкий равноценны для Бродского, скорее
всего, потому, что независимо от индивидуальной системы ценностей искали и находили возможность описать свои представления
об абсурдности мира адекватной абсурдной грамматикой. Если
Цветаева писала «о трагичности существования» вообще, Заболоцкий и Платонов — о «человеческой расе в целом», то Бродский в
«Части речи» показал трагизм существования отдельного человека. Отсюда сюрреализм как «форма философского бешенства, продукт психологии тупика» (7, 73).
Отсюда и композиция цикла, организованная не логическими
структурами (например, «сюжетом»), а принципом свободных вариаций (неважно, сознательно это сделано автором или нет).
(1). Первое стихотворение играет роль вступления (интродукции):
— автор предупреждает об абсурдной грамматике, воплощающей абсурд жизни («Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря»);
— намечает контуры «жанра»: это не только письма к несуществующему или условному адресату7, но и письма, которые некому отправлять, «записки самому себе», где можно о чем-то не говорить («как не сказано ниже по крайней мере»), о чем-то говорить
невнятно для других, потому что все равно их «черт лица, говоря /
откровенно, не вспомнить уже»;
— называет конкретную ситуацию, породившую цикл: «чужое»
пространство и разлука («в уснувшей долине, на самом дне, / в
городке, занесенном снегом по ручку двери, / извиваясь ночью на
Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации
191
простыне... / я взбиваю подушку мычащим “ты” / за морями, которым конца и края, / в темноте всем телом твои черты, / как безумное зеркало повторяя»);
— определяет главную тему: абсолютное одиночество души
(«не ваш, но / и ничей верный друг»).
(2). Одиночество. Мир — это холод («холод меня воспитал и
вложил перо / в пальцы, чтоб их согреть в горсти»). Жизнь — угасание в безграничности пустого мира: «Замерзая, я вижу, как за
моря / солнце садится, и никого кругом».
(3). Одиночество в «чужом» пространстве. Гибельные видения
из мифологии прошлого: трава, ложащаяся под налетающий ветер,
«точно под татарву / ...лист, в придорожную грязь / падающий, как
обагренный князь». Обыденность непостижимой логики: «...в чужой земле / ...осень в стекле внизу / узнает по лицу слезу». Рассыпаются связи в сознании: «И, глаза закатывая к потолку, / я не
слово о номер забыл говорю полку, / но кайсацкое имя язык во
рту / шевелит в ночи, как ярлык в Орду».
Ощущение разрывающихся связей больше не будет так отчетливо демонстрироваться читателю. Оно воплотится в «грамматике» — в частности, в строчных переносах на служебных словах.
Строчный перенос (ситуация, когда от синтагмы отрывается
слово или словосочетание и переносится в следующий стих) —
прием достаточно распространенный. Его смыслообразующая
роль в том, что, не разрушая гармонию между ритмом и синтаксисом, он сильно колеблет ее8. Оторванное от своей синтагмы
слово получает дополнительное ударение и порождает дополнительный смысл. Кроме того, поскольку перенос — это точка
столкновения рационального (логически завершенного и синтаксически оформленного) и эмоционального (ритмического) начал,
граница двух строк может стать «местом перехода от стихии к разуму»9. Бродский всегда широко использовал смыслообразующую
роль переносов10. Но концентрация традиционных переносов и
переносов на служебных словах в «Части речи» не сопоставима ни
с одним другим текстом.
Обычно переносятся полнозначные слова. Перенос на служебных словах крайне редок. (С точки зрения грамматики они не
имеют самостоятельного значения и называются служебными
именно потому, что их роль — связать полнозначные слова, указать на их отношения.)
Однако если сопоставить структуру предложений, например,
А. Ахматовой, М. Цветаевой, раннего и позднего Б. Пастернака,
то становится очевидным, что особенности авторского мышления
материализуются не только в описаниях и декларациях, но и в
структуре предложения11. С этой точки зрения частицы, союзы,
192
И. В. Фоменко
предлоги играют роль слов структурных, т.е. указывающих на отношения между явлениями, обозначенными словами полнозначными. Поэтому перенос на служебном слове может порождать
дополнительный смысл: свидетельствовать о разрыве связей между явлениями.
В «Части речи» единая структурная сеть разрывается 15 раз,
чтобы затем, после паузы, восстановиться12. Структура мира рвется, становясь сигналом возможности обрыва связей в любое время и в любом месте, даже когда они представляются нерасторжимыми.
(4). Одиночество в нигде. Еще остаются иллюзорно-точные наблюдения («В углу — тепло. / Взгляд оставляет на вещи след»). Всё
пристойно («зимний вечер с вином...»). Только всё это вне пространства. Если в (1) лирический герой чувствовал себя одиноким
в конкретном, хотя и мифологизированном пространстве одного
из «пяти континентов, держащегося на ковбоях»; «в уснувшей долине, на самом дне, / в городке, занесенном снегом по ручку двери», в (3) — «в чужой земле», то теперь он одинок в «нигде» («Зимний вечер с вином в нигде»). И одинок на тысячелетия: «через
тыщу лет из-за штор моллюск / извлекут с проступившим сквозь
бахрому / оттиском “доброй ночи” уст, / не имевших сказать
кому».
(5). Тоска одиночества. Причина неотличима от следствия,
субъект — от объекта, ночные воспоминания «о тепле твоих —
пропуск — когда уснула, / тело отбрасывает от души / на стену,
точно тень от стула / на стену ввечеру свеча».
(6). Безуспешная попытка вырваться. Нарастает экспрессия.
«...Порывы резкого ветра. Голос / старается удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла. /... Одичавшее сердце все еще бьется за
два». Но мир неизменен и прост до идиотизма: «каждый охотник
знает, где сидят фазаны, — в лужице / под лежачим». Так есть и так
будет: «За сегодняшним днем стоит неподвижно завтра, / как сказуемое за подлежащим. (Поэтому, кстати, строчный перенос, отрывающий подлежащее от сказуемого, в цикле — такой же сигнал
возможного разрушения связей, как и перенос на структурных
словах.)
(7). Все предопределено. Человек — порождение ландшафта и
даже рельефа. Если он «родился и вырос в балтийских болотах,
подле / серых цинковых волн, всегда набегавших по две», то именно «отсюда — все рифмы, отсюда тот блеклый голос, / вьющийся
между ними, как мокрый волос». «Отсюда» его ухо различает в
шуме волн не романтический «рокот», но бытовые «хлопки полотна, ставень, ладоней, чайник, / кипящий на керосинке, максимум — крики чаек». И не фальшивит он не потому, что таковы его
Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации
193
мораль, желание, а потому, что «в этих плоских краях... скрыться
негде и видно дальше».
Причинность вообще — один из важных мотивов, связывающих разные стихотворения-вариации и определяющих особенности художественного мира цикла. Причинные отношения суть
объективное свойство и природы, и человека («дождь идет, потому что...»). Но в отличие от дождя человек может сделать нечто не
только потому что, но и с какой-то целью. Целевая установка, целенаправленное действие — одно из свойств, отличающее человека
от природного мира. Причинность есть проявление зависимости,
цель — сознательное волевое усилие, направленное на преодоление. Поэтому их соотношение — одна из основных характеристик
лирического героя.
В «Части речи» его характер определяется причинностью как
зависимостью от неожиданного или предсказуемого следствия: «я
любил тебя больше, чем ангелов... / и поэтому дальше теперь от
тебя» (1); «Потому что каблук оставляет следы — зима» (5); «Я родился... в балтийских болотах... и отсюда — все рифмы...» (7);
«крепче спишь, / потому что снится...» (10); «а как жив, то пьяный
сидит в подвале» (11). Всё неизбежно и предопределено. Целевая
установка прорывается только дважды в конце цикла, подчеркивая безнадежность усилий преодоления: «потому что как в поисках милой всю-то / ты проехал вселенную, дальше вроде / нет страницы податься в живой природе» (15); «за рубашкой в комод
полезешь, и день потерян» (20).
(8). Человек и звезды (противостояние художественной парадигме «звезды»). Сверху, мигая, смотрят звезды. Снизу на них смотрит
человек. И не знает, нужны они ему или нет: «Небо выглядит лучше без них. Хотя / освоение космоса лучше, если / с ними». Вот,
пожалуй, и вся проблема. И нечего об этом думать, прислушиваться к тому, о чем они «говорят», и надеяться на то, что «если звезды зажигают — / значит — это кому-нибудь нужно», и рваться туда
от одиночества: как сказал «половину лица в тени / пряча [принадлежащий обоим мирам?], пилот одного снаряда, / жизни, видимо,
нету нигде, и ни / на одной из них [звезд] не задержишь взгляда».
(9). О войне и мире, жизни и смерти. Взгляд на мир как на глобус.
Городок, «из которого» когда-то «смерть расползалась по школьной карте». Теперь здесь царят чистота («мостовая блестит, как чешуя на карпе»), тишина («чугунный лев скучает по пылкой речи») и
пустота, потому что концы и начала сопряжены: «Настоящий конец войны — это на тонкой спинке / венского стула платье одной
блондинки / да крылатый полет серебристой жужжащей пули, /
уносящей жизни на Юг в июле». Любовь и уносящая жизнь пуля
нераздельны. Может быть, это и есть то, что Бахтин называл амбивалентностью, приводя в пример «беременную смерть».
194
И. В. Фоменко
(10), (11). «Двойчатка» о покое одиночества, бессмыслице и пустоте.
(10). Идиллический пейзаж («около океана, при свете свечи»).
Неизменность вечного соседства причинности и необъяснимого
(«Упадая в траву, сова настигает мышь, / беспричинно поскрипывают стропила»). Покой и статика. Если раньше (5) говорилось о
том, что ночные воспоминанья «тело отбрасывает от души / на стену, точно тень от стула / на стену ввечеру свеча», то теперь к стене
навсегда «прилип профиль стула». Безнадежный порыв («Ввечеру
у тела, точно у Шивы, рук, / дотянуться желающих до бесценной»)
сменяется мирным сном и покоем, «потому что снится уже только то, что было». Умиротворенное мирозданье («луна поправляет
лучом прилив, / как сползающее одеяло»). Да, собственно, и прошлого нет. Русская выморочная деревня, «затерянная в болотах /
занесенной губернии, где чучел на огородах / отродясь не держали — не те там злаки» (11). Где зимою «колют дрова и сидят на
репе, / и звезда моргает от дыма в морозном небе». Здесь было
наше прошлое. Сейчас вместо него «праздник пыли / да пустое
место, где мы любили».
(12). О стихах. Воспетая поэтами луна — яичница-глазунья.
Неистовство творчества («вручную стряхиваешь пыль безумия / с
осколков желтого оскала в писчую»13) порождает «немое, однако
тяглое» «тихотворение», которое куда-то рвется «на страх поводьям», но никому не нужно так же, как и ты сам. «Как эту борзопись,
что гуще патоки, / там ни размазывай, но с кем в колене и / в локте хотя бы преломить, опять-таки, / ломоть отрезанный, тихотворение»?
(13). Все живут параллельно. Опыт, начиная со школьного,
подтвердил: никто никогда ни с кем не пересечется. И жить не
хочется. «Насчет параллельных линий / все оказалось правдой и в
кость оделось; / неохота вставать. Никогда не хотелось».
Этим выводом, формулирующим непреложный закон существования человека («все оказалось правдой и в кость оделось»),
исчерпана точка зрения лирического героя.
Но, по Бродскому, любая точка зрения ограниченна, потому
что человек ограничен тем, что подвластно его пониманию (или
непониманию), а частная точка зрения ограничена еще и принадлежностью к определенной культуре, и личным опытом каждого
(«Стансы», 1965). Преодолеть это можно двумя способами. Один —
посмотреть на привычное «со стороны», сменить точку наблюдения так, чтобы увидеть все «ниоткуда». Этот путь (1) и (4) не оправдал себя. Другой путь — попробовать увидеть жизнь со всех
возможных точек зрения. В этом случае равноценными становятся точки зрения любого проявления бытия14. А их совокупность
дает представление о многогранной сложности мира.
(14), (15). «Двойчатка». Мир с разных точек зрения.
Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации
195
(14). С самых разных «индивидуальных» точек зрения мир —
только «сумма мелких слагаемых», которые «при перемене мест /
неузнаваемее нуля». Единственная распознаваемая реальность —
болезненное, прерывистое (строчные переносы) скольжение безмолвной, «крича / жимолостью не разжимая уст», улыбки15. (15).
«Сверхличная» точка зрения. Даже Пушкина и фольклор, заключающих в себе вечную ценность, безумие жизни трансформировало
в перифраз:
Октябрь уж наступил — уж роща отряхает Заморозки на почве и облы-
Последние листы с нагих своих ветвей; сенье леса,
Дохнул осенний хлад — дорога промерзает, небо серого цвета кровельного железа.
Выходя во двор нечетного
октября,
ежась, число округляешь до
«ох ты бля».
Ты не птица, чтоб улететь отсюда.
Потому что как в поисках
милой всю-то
ты проехал вселенную, дальше вроде
нет страницы податься в живой природе.
Жизнь и искусство соединились и растворились в едином тупике: «нет страницы податься в живой природе».
(16). Где лучше сойти с ума. Осталась надежда только на то, что
сойти с ума можно все-таки не в самом дурном месте. «Некоторые
дома / лучше других: больше вещей в витринах; / и хотя бы уж тем,
что если сойдешь с ума, / то, во всяком случае, не внутри них».
(17). Что-то все время (ср. 1, 3, 5, 11) происходит с памятью.
«В памяти, как на меже, / прежде доброго злака маячит плевел».
Еще хочешь, но уже не можешь ничего сказать о мире, даже трюизм («Можно сказать, что на Юге в полях уже / высевают сорго —
если бы знать, где Север»). И окружающих ты интересуешь гораздо меньше, чем самоубийца.
(18). О чем петь?И «петь» тебе не о чем, разве что о «перемене
ветра / западного на восточный, когда замерзшая ветка / перемещается влево, поскрипывая от неохоты, / и твой кашель летит над
равниной к лесам Дакоты». И рука с пером никак не попадет в такт
с жизнью. И рождается нечто трудно вообразимое, когда «голова
с рукою / сливаются, не становясь строкою, / но под собственный
голос, перекатывающийся картаво, / подставляя ухо, как часть кентавра».
Роняет лес багряный свой убор,
Сребрит мороз увянувшее поле...
Зовет меня взглядом и криком своим
И вымолвить хочет: «Давай улетим!
Мы вольные птицы; пора, брат, пора!
Всю-то я вселенную проехал,
Нигде милой не нашел.
196
И. В. Фоменко
(19). О бессмертии. Возможно, начало стихотворения — аллюзия на пушкинские «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы». Но то, в чем искал смысл лирический субъект Пушкина,
теперь не тревожно-загадочно («Парки бабье лепетанье, / Спящей
ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня...»), но безысходно-понятно. Это не «скучный шепот, укоризна или ропот». Стихи никуда не зовут и ничего не пророчат. Уничтожая самое память о
прошлом, орава мышей лишает человека будущего: «...и при слове “грядущее” из русского языка / выбегают мыши и всей оравой /
отгрызают от лакомого куска / памяти, что твой сыр дырявой».
Теперь ему «безразлично, что / или кто стоит в углу у окна за шторой, /ив мозгу раздается не неземное “до”, / но ее [жизни] шуршание». Человек угасает, но оставляет след в мире, какими бы
они — этот мир и этот человек — ни были. Финал стихотворения
читается как аллюзия на пушкинское «Я памятник себе воздвиг
нерукотворный...» в «аранжировке» второй половины XX в.: «От
всего человека вам остается часть / речи. Часть речи вообще. Часть
речи».
(20). И все-таки это не конец. Нужна передышка. «Я не то что
схожу с ума, но устал за лето». Ничего еще не закончилось. Нужно отдохнуть от безумства этого времени и этого мира: «Стану
спать не раздевшись или читать с любого / места чужую книгу...»
И тогда как освобождение придет внутренняя свобода. Это будет
не небо в алмазах, а нормальная, трудная, но не безумная жизнь.
«Свобода — / это когда забываешь отчество у тирана, / а слюна во
рту слаще халвы Шираза, / и, хотя твой мозг перекручен, как рог
барана, / ничего не каплет из голубого Глаза».
Однако многозначные образы, порождаемые «абсурдной грамматикой», позволяют прочесть цикл и по-иному. Установку на
понимание, например, может определить биография поэта. Вынужденная эмиграция неизбежно включит Бродского в миф «русский поэт в изгнании». Не составит труда расшифровать имена
«дорогого», «уважаемого» и «милой», которым адресовано первое
стихотворение. Драматическая любовная линия будет проецироваться на отношения с М. Басмановой и опорным станет (11),
понимаемое как факт биографии (Норенская, в которой встречались Бродский и Басманова во время ссылки поэта).
Актуализироваться может и социальная линия. Поскольку
Бродский уехал вначале в Вену, она могла стать прообразом чистого добропорядочного «городка, из которого смерть расползалась / по школьной карте» (9).
Вся линия творчества легко укладывается в границы мифа
«поэт, оставшийся без читателя» (здесь опорным станет (12) о «немом тихотворении»). Таким образом, весь цикл выстроится по
Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации
197
логике развертывания представлений интерпретатора о тяжести
жизни поэта в эмиграции (чужом пространстве).
Понятно, что в одном и в другом случаях стихотворения будут
по-разному структурироваться в цикл, но многозначные образы,
порождаемые «абсурдной грамматикой», позволят аргументировать справедливость каждой из интерпретаций.
1 Гоголь Н. В. Петербургские повести / Изд. подгот. О. Г. Дилактор-
ская; отв. ред. С. А. Фомичев. СПб., 1995. С. 121.
2 Там же. С. 125.
3 Толстой Л. Н. Собрание сочинений: В 22 т. М., 1985. Т. 22: Дневники. 1895-1910. С. 62.
4 Бройтман С. Н., Ким Х.-Ё. О природе художественной реальности в
цикле И. Бродского «Часть речи» // Поэтика Иосифа Бродского. Тверь,
2003. С. 336-337.
5 Там же. С. 337.
6 Разумеется, список можно продолжать, но ограничимся только теми,
кого назвал Бродский.
7 Артёмова С. Ю. О жанре письма в поэзии И. Бродского // Поэтика
Иосифа Бродского. С. 128—139.
8 Эткинд Е. Материя стиха. СПб., 1998. С. 113.
9 Зубова Л. В. Стихия и разум на границе строк (в продолжение темы
«Стиховой перенос Марины Цветаевой») // Стихия и разум в жизни и
творчестве Марины Цветаевой. М., 2005. С. 384.
10 См., например: Левинтон Г. А. Три разговора: о любви, поэзии и
(анти)государственной службе... II. От всего человека вам остается часть /
речи (Три заметки о Бродском)... // Россия / Russia Вып. 1[9]. Семидесятые как предмет истории русской культуры. М.; Венеция, 1998. С. 213—
288. Из содерж.: [О семантике переносов у Бродского]. С. 256—284;
Ким Хен Ен. Поэтический перенос в цикле «Часть речи» И. Бродского //
Slavistika 2002. No. 18. P. 150-166.
11 Кстати, именно об этом писал Бродский в эссе «Об одном стихотворении», анализируя текст Цветаевой.
12 «...Не ваш, но / и ничей верный друг...» (1); «Что сказать ввечеру о
грядущем, коли / воспоминанье в ночной тиши...» (5); «Я родился и вырос в балтийских болотах, подле / серых цинковых волн...» (7); «Небо выглядит лучше без них. Хотя / освоение космоса лучше, если / с ними»;
«...и ни / на одной из них не задержишь взгляда» (8); «...вокруг / поле, заросшее клевером, щавелем и люцерной» (10); «...куда пожалуемся на ярмо
и / кому поведаем, как жизнь проводим?»; «...но с кем в колене и / в локте...» (12); «...всю-то / ты проехал вселенную, дальше вроде / нет страницы...» (15); «...выйти из дому на / улицу» (16); «...на Юге в полях уже / высевают сорго...» (17); «...и тем, что / оставляет следы» (18).
198
И. В. Фоменко
13 Может быть, это одно из лучших определений вдохновения: вручную стряхивать пыль безумия на лист писчей бумаги.
14 «...Несло горелым / с четырех сторон — хоть живот крести; с точки
зренья ворон, с пяти» («Колыбельная Трескового мыса»; 3, 82); «...с точки зренья ландшафта, движенье необходимо» («Кончится лето. Начнется
сентябрь. Разрешат отстрел...»; 4, 11); «Ты не скажешь комару: / “Скоро
я, как ты, умру”. / С точки зренья комара, / человек не умира» («Ты не
скажешь комару...»; 4, 113).
15 Молчание как высшая форма страдания достаточно широко вошло
в литературу. Ср. хотя бы «Реквием» Ахматовой: «А туда, где молча Мать
стояла, / Так никто взглянуть и не посмел».
С. Ю. Артёмова
Тверь
ЧЕЛОВЕК ув. ПОЭТ В ЦИКЛЕ
«ЧАСТЬ РЕЧИ»
«Часть речи» — объект многочисленных исследований1. Большинство ученых сходятся во мнении, что художественный мир
цикла «оказывается синкретическим целым особого рода»2. При
этом остается непроясненным, как стихотворения, составляющие
художественное целое, связаны между собой и в какой логике расположены внутри цикла3. Можно предположить, что стихи объединяет мотив безумия, однако он присутствует не во всех 20 стихотворениях.
Не помогает объединению стихов и образ лирического героя.
В каждом стихотворении он представлен разными лирическими
субъектами: «неважно кто»; влюбленный, проехавший вселенную
в поисках милой и взбивающий подушку «мычащим “ты”»; поэт,
создающий «тихотворение»; школьник, которому «никогда не хотелось» вставать; читатель чужой книги. В отдельных стихотворениях лирический субъект вообще лишен и характеристик, и личного местоимения «я». Поэтому, наверное, В. Полухина и называет
его «человеком вообще»4.
Конечно, цикл может ощущаться читателем как целостность
благодаря биографическим параллелям: герой цикла, как и его
автор, покинул не только родину, но и возлюбленную5. В этом
случае он будет читаться как цикл об утраченной любви («я любил
тебя больше, чем ангелов и самого»), которая затухает в памяти
(«черт лица, говоря откровенно, не вспомнить», «ты забыла деревню»), отодвигается во времени («не вспомнить уже») и исчезает в
пространстве («пустое место, где мы любили»), о невозможности
коммуникации (оттиск «“доброй ночи” уст / не имевших сказать
кому», написанное стихотворение не с кем «в колене и / в локте
хотя бы преломить»). Но, вопреки этому, любовь существует, она
продолжается, порождая и надежду («одичавшее сердце все еще
бьется за два»), и творчество («кому поведаем, как жизнь проводим?»), и безумие (маркированное гоголевской цитатой «надцатого
мартобря» и сопровождаемое оскалом луны, «пылью безумия»,
невозможностью сойти с ума в магазинах, где «больше вещей в
витринах»), и усталость («Я не то что схожу с ума, но устал за
лето»), и ощущение краха жизни («жизнь... обнажает зубы при
200
С. Ю. Артёмова
каждой встрече»). Однако и такая трактовка не объясняет логики
построения цикла и его заглавия.
Правда, кроме «человека вообще» в цикле есть «человек пишущий», пишущий книгу, о создании которой все время идет речь:
холод «вложил перо в пальцы», голос «старается удержать слова...
в пределах смысла»; упоминаются рифмы, свечи, писчая бумага,
«тихотворение», страница; перо кириллицы колет «штабель слов»,
улица похожа на букву, а собака на скомканную бумагу, пуля увеличивает разрыв между зайцем и «пишущим эти строки», «голова
с рукою сливаются, не становясь строкою», мыши отгрызают от
сыра памяти куски, и от человека остается часть речи. Предпоследнее, 19-е стихотворение, давшее заглавие циклу, выглядит как логический финал всей целостности: от человека остается часть речи,
т.е. от творца остается творение. В этом случае цикл прочитывается как целостность, повествующая о творчестве. Но и эта трактовка выглядит упрощенной, поскольку никак не соотносится с
предыдущей и не учитывает стихотворения, с которого начинается «Часть речи».
Сам Бродский говорил: «...“грядущее”... фонетически похоже
на слово “грызуны”. Поэтому я раскручиваю его в идею, что грядущее, то есть само слово, грызет — или, как бы то ни было, погружает зубы — в сыр памяти»6. Идея созвучий позволяет предполагать особую роль речи в цикле и в конкретном стихотворении:
«Стихотворение “...и при слове «грядущее» из русского языка...”
строится на метафоре, где в основании сопоставления — слово
грядущее, в образе сопоставления — грызуны, мыши. Сопоставление
производится на основании фонетического сходства слов грядущее
и грызуны. Само слово грядущее грызет сыр памяти»7. Из этого следует, что «человек у Бродского метонимически представлен речью... Человека как такового нет. Есть лишь то, что его как-то называет, что остается от его речи»8.
Идея первичности языка не нова для философии («...у поэта
нет выбора: он должен стать языком»9) и не случайна для Бродского. О первичности языка он говорил не только в своей Нобелевской лекции («...не язык является его [поэта] инструментом, а
он — средством языка к продолжению своего существования»;
1, 15), но и в стихах. Например, в стихотворении «Заморозки на
почве...», как отмечалось, «штабель слов возникает по аналогии с
общеязыковым штабель дров, что поддерживается паронимиче-
ской аттракцией и рифмой слов / наколов, а также зрительной ассоциацией: штабель, т.е. ‘ровно сложенный ряд чего-либо (строительных или других материалов)’... похож на вертикально расположенные на листе бумаги ряды слов — своеобразный
строительный материал стихотворения. С другой стороны, метафо¬
Человек vs. поэт в цикле «Часть речи»
201
ра возникает как переоформление пословицы “Что написано пером, того не вырубишь топором”. <...>
Образ чистого листа, бумаги чрезвычайно часто встречается в
стихотворениях поэта. Причем восходит он... скорее не к локковской tabula rasa, а к цветаевскому я “страница твоему перу”, и... к
строкам Мандельштама: “И день сгорел, как белая страница, — /
немного дыма и немного пепла”»10.
К этому следует добавить, что в цикле реализована еще одна
метафора: превращение человека, утратившего возлюбленную, в
поэта, пишущего об этой утрате, сопоставляется с разрушением
целого (жизнь обнажает зубы, мыши отгрызают часть памяти, «от
всего человека вам остается часть»).
Образ мыши здесь получает нетрадиционное для русской литературы толкование: это не хранитель домашнего очага, не метафора быта («жизни мышья беготня»), а нечто иное. В стихотворении Бродского мышь одновременно ассоциируется с жизнью,
временем (звуковая ассоциация «грызуны» — «грядущее» — жизнь,
обнажающая «зубы при каждой встрече») и творчеством, которое
превращает человека в часть речи.
Присутствие (участие) мыши в метафоре преображения («перемалывания»11) человека в слово может иметь конкретные источники. Так, в 1976 г. Бродский перевел стихотворение А. Ватта
«Быть мышью»:
Вус mysz^. Najlepiej polna Albo ogrodow^ —
nie domow^:
czlowiek ekshaluje won abominalnÿ
Znamy я wszyscy — ptaki, kraby, szczury.
Budzi wstrçt i strach.
Drzenie.
Zywic siç kwiatem glicynii, kor^ drzew palmowych,
rozgrzebywac korzonki w chlodnej wilgotnej ziemi
i tañczyc po swiezej nocy. Patrzec na ksiçzyc w pelni,
odbijac w oczach oble áwiatío ksiçzycowej
agonii.
Zaszyc siç w mysi^ dziurkç na czas, kiedy zíy Boreasz
szukac mnie bçdzie zimnymi palcami koscistymi,
by gnieác moje male serce pod blaszk^ swego szponu —
tchórzliwe serce mysie —
krysztal palpitujacy.
Menton-Garavan, kwiecieñ 195612.
202
С. Ю. Артёмова
В стихотворении Ватта «быть мышью» означает буквально
«зашить себя в шкуру мыши», спастись от «ледяных костяных
пальцев» смерти и безумия, сохранить «пульсирующий кристалл»
сердца.
Перевод Бродского перекликается с более поздними собственными стихами, в частности стихотворениями цикла «Часть речи».
Так, лист, падающий «как обагренный князь», соотносим с образом из стихотворения Ватта: кз^гус, т.е. месяц, являющий лик агонии (в другом стихотворении Бродского луна за шторою провоцирует безумие, которое стряхивается «в писчую», т.е. переносится на
бумагу).
БЫТЬ МЫШЬЮ
Быть мышью. Лучше всего полевой.
Или — садовой мышью.
Ни в коем случае не городской:
человек исторгает кошмарный запах!
Это знаем мы все — крысы, крабы, птицы.
Вызывает отвращение и страх.
Дрожишь.
Жрать пальмовую кору, лепестки глициний.
Грызть замерзшие клубни в сырой земле.
И плясать от холода в полнолунье,
преломляя агонию лунную ледяную
бельмом зрачка.
Хорониться в норку, когда Борей безумный
ищет тебя пятерней костлявой,
дабы коготь вонзить в обмирающее от страха
маленькое мышиное сердце —
вздрагивающий кристалл13.
В цикле «Часть речи» такой «шкурой мыши» для лирического
героя становятся творчество, речь, «тихотворение». «Мышь» здесь
одновременно и время, убивающее человека, и вечность, взращивающая поэта. В такой логике смены субъектов воссоздается не
просто целостный образ лирического героя, а динамика его душевного движения, внутренние изменения: герой цикла уходит от
себя-человека к себе-поэту, преображается в слово, овеществляя
метафору «отрезанного ломтя поэзии», «части речи».
Преображение в слово и задает динамику цикла. На протяжении 20 стихотворений лирический герой «сходит с ума», теряет
собственное «я» и отказывается от всего, включая собеседника.
Человек У5. поэт в цикле «Часть речи»
203
Первое стихотворение задает отказ от привычных ориентиров: «дорогой, уважаемый, милая, но неважно даже кто...», «надцатого
мартобря», но герой еще осознает себя индивидуальностью, а свои
чувства — неповторимыми настолько, что их невозможно выразить
в слове: «я любил тебя больше ангелов и самого». Вначале лирический герой пытается «удержать “расходящиеся концы ножниц”
между собственным “я” и языком, ведущим поэта за собой»14. Но
внешние проявления жизни (место, время, подробности быта)
постепенно становятся вторичными. Более важными оказываются диалог с собеседником и сама речь, говорение как коммуникативный акт.
Отрицание значимости внешнего мира становится основой
объективации мира внутреннего. Частица «не» — самое частотное
слово в цикле (24 употребления)15. Отрицается собственное я: ниоткуда, не ваш, но и ничей (неважно даже кто, никого кругом, уст,
не имевших сказать никому, без них, никто не сходит больше у стадиона, ты не птица, безразлично кто или что. Отрицается время:
никогда не хотелось, отродясь не держали. Отрицается пространство: не сходя с места, ни на одной из них не задержишь взгляда, дальше вроде нету страницы податься в живой природе, жизни нету нигде. Наконец, отрицается действие и его результат: отродясь не
держали, неохота вставать, никогда не хотелось, уст, не имевших
сказать никому, не разжимая уст, не становясь строкою, жизнь, которой не смотрят в пасть, спать не раздевшись, ничего не каплет.
Мир определяется через отсутствие вещей и явлений, «стирается».
Отрицается даже адресат. Ты нивелируется уже в первом стихотворении, «Ниоткуда с любовью...». Однако здесь отрицание
собеседника — декларация. Герою еще удается припомнить хоть
какие-то черты лица, и поначалу абстрактный образ адресата («дорогой, уважаемый, милая, но неважно / даже кто, ибо черт лица,
говоря / откровенно, не вспомнить уже...») далее конкретизируется, обретает неповторимость («я любил тебя больше, чем ангелов...
я взбиваю подушку мычащим “ты”... в темноте всем телом твои
черты, / как безумное зеркало повторяя»). Здесь важно, что черты
адресата возникают непосредственно после произнесения «мычащего “ты”», акт говорения творит утерянный было лирическим героем мир.
Но уже во втором стихотворении ты становится обобщенным
образом не собеседника, а самого себя («и чернеет, что твой Седов, “прощай”»). Далее (5) ты описывается через отсутствие не
только детали, но и слова для ее обозначения: «о тепле твоих —
пропуск — когда уснула...»). После этого ты в цикле пропадает и
появляется лишь в 11-м стихотворении «Ты забыла деревню, затерянную в болотах...», где собеседник осознается тенью исчезнувшего прошлого («да пустое место, где мы любили»).
204
С. Ю. Артёмова
Поэтому в следующем стихотворении грамматическое ты уже
не возлюбленная, а текст, «Тихотворение мое, мое немое...». Герой
при этом одинок: ему некому поведать, «как жизнь проводим».
Далее в цикле ты — обобщен но-личное местоимение, характеризующее не собеседника, а самого героя, который размышляет и
разговаривает сам с собою:
Ты не птица, чтоб улетать отсюда.
Потому что как в поисках милой всю-то
ты проехал вселенную...
Зазимуем же тут, с черной обложкой рядом...
(3, 139)
Герой не просто сменяет адресата (нет возлюбленной, и он
разговаривает сам с собою), но изменяет угол зрения: мир постепенно скрывается за текстом, конец мира ассоциируется с обложкой, число реального дня — с написанной или произносимой фразой, колка дров — с письмом на кириллице. Это стирание адресата
реального и представление о мире как о тексте продолжается в
следующих стихотворениях: улица «вдалеке сужается в букву “У”»,
«голова с рукою / сливаются, не становясь строкою, / но под собственный голос... подставляя ухо, как часть кентавра», «от всего
человека вам остается часть / речи».
На фоне отрицания примет мира и собеседника особенно отчетливым становится переход к безличному повествованию, грамматическое обобщение лирического субъекта (я как обобщенное
ты, или даже он, «человек вообще»). В 4, 5 и 6-м стихотворениях
нет ни я, ни ты («оттиском “доброй ночи” уст, / не имевших сказать кому», «что сказать ввечеру о грядущем», «голос / старается
удержать слова, взвизгнув, в пределах смысла»), а в восьмом —
взамен исчезающего героя появляется наблюдатель, который, в
отличие от героя, не субъективен, а авторитетен:
Как сказал, половину лица в тени
пряча, пилот одного снаряда,
жизни, видимо, нету нигде, и ни
на одной из них не задержишь взгляда.
(3, 132)
Начиная с десятого стихотворения, герой репрезентируется
через обобщение (я как грамматическое ты): «в деревянном городе крепче спишь» (10), «ты не птица, чтоб улетать отсюда» (15),
«если сойдешь с ума, то, во всяком случае, не внутри» (16), «и крепко / зажмурившись от слепящего солнечного луча, / видишь внезапно мучнистую щеку клерка» (17).
Человек У5. поэт в цикле «Часть речи»
205
Но затем и ты исчезает. В середине цикла (13) остается только безличная форма глагола-сказуемого («неохота вставать. Никогда не хотелось»), а к концу (16, 18) появляется инфинитив как характеристика действия героя: «всегда остается возможность выйти
из дому на / улицу...», «если что-нибудь петь, то перемену ветра...»
Герой утрачивает не только «другого», но и себя, и собственную идентичность, преображается в руку, держащую перо, в часть
речи, декларированную в предпоследнем стихотворении цикла и
заданную в заглавии. Лирический герой преображается в Речь,
слово, потому что доминирующее над жизнью творчество — это
безумие, заставляющее человека отказаться от самого себя.
Утрата адресата сопровождается и потерей самоидентификации. Отторжение я задано первым стихотворением («неважно даже
кто») и продолжается до предпоследнего (программного, давшего
заглавие циклу). Грамматическое выражение я в цикле динамично: уже в первом стихотворении я неважно кто, хотя «неважность»
эта еще декларативна («я взбиваю подушку мычащим “ты”»), что
подтверждается и подчеркнуто личным видением мира во втором
и третьем стихотворениях («замерзая, я вижу», «я не слово о номер
забыл говорю полку»). Однако в седьмом стихотворении я осознается героем лишь как объект, порождающий слово («Я родился и
вырос в балтийских болотах, подле / серых цинковых волн, всегда
набегавших по две, / и отсюда все рифмы...»), а в 12-м («Тихотво-
рение мое») я присутствует лишь как притяжательное местоимение
и срастается со своим творением: я и текст становятся мы («кому
поведаем, как жизнь проводим»). Наконец, в финале цикла (20)
происходит отказ и от собственного я (в конце стихотворения оно
становится всеобщим ты («и, хотя твой мозг перекручен, как рог
барана...»), и от Слова как способа репрезентации я: «читать с
любого / места чужую книгу...»
Следовательно, в цикле не только декларируется, но грамматически реализуется свобода слова от человека (как биографической личности), непричастность героя к себе самому как поэту и
речи как самовыражению. В заключительном стихотворении «Я не
то что схожу с ума, но устал за лето...» герой проходит путь от я («я
не то что схожу с ума») до ты («и, хотя твой мозг перекручен, как
рог барана»). Все приметы жизни, подробности, реалии оказываются лишними и отрицаются («Поскорей бы, что ли, пришла зима
и занесла все это — / города, человеков, но для начала зелень»).
А слово «свобода» подчеркивает освобождение человека от себя самого (как страдающего и помнящего субъекта и как творящего
автора), взгляд на творчество со стороны («читать с любого / места чужую книгу»). Если на протяжении цикла герой последовательно и экспрессивно разграничивал свои человеческую и поэтиче¬
206
С. Ю. Артёмова
скую сущности, то здесь он «устал» от борьбы с самим собой.
Именно здесь реализуются представления поэта о случайности
ролей автора («я в глазах твоих кириллица, названье») и читателя
(«ты для меня не существуешь»). «Человек вообще» превращается
в инструмент языка, биография — в нарратив, индивидуальное —
во всеобщее («чужую книгу»), я — в ты и он. Коммуникация преобразуется в автокоммуникацию.
Таким образом, весь цикл выстраивается как борьба и диалог
двух участников коммуникативной ситуации: человека, отстаивающего индивидуальность бытия, и автора, утверждающего свободу от времени и пространства в творческом процессе16. Цикл может
быть прочитан как целостность, которая базируется на концепции
самотворящего языка. На протяжении 20 стихотворений овеществляются динамика творчества, превращение «человека вообще» в
инструмент Слова, преображение жизни в творчество17. В финале
человек уступает место творцу. Часть души превратилась в часть
речи, «отрезанный ломоть». Свобода «читать... чужую книгу», не
замечая подробностей бытия, обеспечивается теперь той «безадресной искренностью» языка, в результате которой человек превращается в функцию этого языка, в «часть речи».
1 См., например: Пярли Ю. Синтаксис и смысл: Цикл «Часть речи»
И. Бродского // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia V: Модернизм и
постмодернизм в русской литературе и культуре. Helsinki, 1996. С. 409—
418; Кашина М. А. «Вещный мир» И. Бродского (на материале сборника
«Часть речи»: к вопросу о языковом мире поэта): Автореф. дис. ... канд.
филол. наук. Череповец, 2000; Семенова Е. Поэма Иосифа Бродского
«Часть речи» // Старое лит. обозрение. 2001. № 2. С. 80—86; Бройт-
манС. H., Ким Х.-Ё. О природе художественной реальности в цикле
И. Бродского «Часть речи» // Поэтика Иосифа Бродского. Тверь, 2003.
С. 329—343; Козлов В. И. Архитектоника художественного мира лирического произведения (на материале цикла И. Бродского «Часть речи»): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 2006.
2 Бройтман C. H., Ким Х.-Ё. О природе художественной реальности в
цикле И. Бродского «Часть речи». С. 331.
3 Ср.: «...нет ни одной подсказки, что же объединяет собранные в
цикле стихи» (Козлов В. И. Четыре подступа к циклу И. Бродского «Часть
речи» // Пристальное прочтение Бродского: Сб. ст. Ростов н/Д, 2010.
С. 111).
4 См.: Полухина В. Поэтический автопортрет Бродского // Russ. Lit.
1992. Vol. 31, No. 3. P. 375-392. To же // Звезда. 1992. № 5/6. C. 186-192.
5 Строго говоря, такая трактовка не подтверждается текстом, поскольку имя М.Б. нигде не упоминается, но и не противоречит ему, так как
Человек vs. поэт в цикле «Часть речи»
207
факты биографии Бродского (ссылка, разлука, творчество, американский
континент) соответствуют воспроизведенным в цикле.
6 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 63—64. О роли языка у Бродского см., например, работы
Д. Н. Ахапкина.
7 Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: лирика с коммуникативной точки зрения. Смоленск, 2007. С. 220.
8 Там же. С. 231.
9 Cohen Н. System der Philosophie. T. 3: Ästhetik des reinen Gefühls. Berlin,
1912. Bd. 1, 2. S. 32.
10 Ахапкин Д. «Филологическая метафора» в поэтике Иосифа Бродского [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.countries.ru/
library/twenty/brodsky/ahapkin.htm. Загл. с экрана.
11 Ср. у Пастернака: «И дальше перемалывай / Всё бывшее со мной, /
Как сорок лет без малого, / В погостный перегной» (Пастернак Б. Полное собрание стихотворений и поэм. СПб., 2003. С. 406).
12 Цит. по электронному ресурсу: http://poetry.artlink.pl/category/wat-
aleksander/page/З/
13 Бродский И. А. В ожидании варваров: Мировая поэзия в переводах
Иосифа Бродского. СПб., 2001. С. 71.
14 Фоменко И. В. О двух особенностях лирики И. Бродского // Литературный текст: проблемы и методы исследования. Тверь, 1997. Вып. 3.
С. 131.
15 Фоменко И. В., Балабаева В. А., Балабаева М. А. Опыт реконструкции мироощущения И. Бродского («Часть речи») // Поэтика Иосифа
Бродского. Тверь, 2003. С. 350.
16 Ср.: «Поэт, выполняя “диктат” языка, облекает всё сущее в “языковое тело”, тем самым избавляет его от тупиковости пространства и разрушительного действия времени» (Измайлов Р. Р. Время и пространство в
поэзии И. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Саратов, 2004.
С. 17-18).
17 Ср. по поводу другого текста Бродского: «...лирический герой обретает не только понимание, но и дар его воплощения в слове; исчезнувшая
возлюбленная уступает место “старшей даме” — Музе» (Медведева Н. Г.
«Поиск души в форме лирической поэзии» (И. Бродский. Новые стансы
к Августе) // Медведева Н. Г. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра»
и метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седаковой.
Ижевск, 2006. С. 190).
О. И. Федотов
Москва
«НА МАНЕР “СНИГИРЯ”»
(о стихотворении «На смерть Жукова»)
Изобретательность И. Бродского как стихотворца и — в известной степени — стиховеда не знает границ: ни географических, ни
временных. С неизменным интересом он изучал опыт Пушкина и
поэтов его круга, был поклонником Тютчева, Фета и Некрасова,
через Ахматову стал восприемником и продолжателем поэтической культуры Серебряного века: Мандельштама, Цветаевой, Ходасевича. Существенное влияние оказали на него западные поэты,
среди них итальянцы — Данте и Монтале, и — более других — ан-
глоамериканцы: Донн, Байрон, Блейк, Йетс, Элиот, Уитмен,
Фрост, Оден. Отдельного упоминания заслуживает античная поэзия в лице Горация, Проперция, Овидия и Вергилия.
Отечественные версификационные образцы Бродский находит
в творчестве Кантемира и Державина. Каких-либо теоретических
суждений на этот счет поэт не оставил, но интерес к версификации XVIII в. воплотился в таких его произведениях, как «Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром» (1966)1, «К стихам»
(1967) и «На смерть Жукова» (1974).
1
Самое известное и, пожалуй, самое виртуозное исполнение «на
чужом инструменте» в поэзии Бродского — стихотворение «На
смерть Жукова», написанное «на манер» державинского «Сниги-
ря» (1800).
Опиравшийся на богатый новаторский опыт отечественной и
немецкой поэзии, отличавшийся склонностью к эксперименту,
Державин прославляет знаменитого русского полководца в высшей степени нетривиально. Эпитафию он соединяет с одой и
жанровой сценкой2. Это придает прощальным словам поэта, вернувшегося с похорон друга и услышавшего из клетки снегиря
колено военной песни, пронзительную доверительность. Необычной жанровой форме стихотворения соответствовали необычные
метрика — имитация античного логаэда на дактилической основе (0.212.1/0)— и строфика — четыре парно-цепных шестистишия, в которых два холостых стиха, замыкающие нечетную
«На манер “Снигиря ”»
209
строфу, рифмуются со своими контрагентами в четной (АбАбВг
ДеДеВг х 2):
Что ты заводишь песню военну
Флейте подобно, милый снигирь?
С кем мы пойдем войной на Гиену?
Кто теперь вождь наш? Кто богатырь?
Сильный где, храбрый, быстрый Суворов?
Северны громы в гробе лежат.
Кто перед ратью будет, пылая,
Ездить на кляче, есть сухари;
В стуже и зное меч закаляя,
Спать на соломе, бдеть до зари;
Тысячи воинств, стен и затворов
С горстью россиян всё побеждать?3
<...>
Бродский не пошел след в след за Державиным ни в формальном, ни в содержательном планах. Две пары цепных 6-стиший
превратились у него в пять автономно срифмованных строф с тем
же количеством стихов, но с небольшим отклонением от заданной
в первом 6-стишии рифмовки:
АбАббА+АбАбАб+АбАбАб+АбАбАб+АбАбАб
Еще существеннее несовпадения в метрике и ритмике, хотя в
целом Бродский весьма чутко реагирует на сигналы первоисточника. Вместо довольно стабильного «суворовского» логаэда —
ии-и|—ии—(и) (24 стиха) с редкими передвижками цезуры с пятого на шестой слог —ии—и—|ии—(и) (4 стиха в нечетных
строфах) и однократной его замены на 4-ст. дактиль в ключевом
стихе последней строфы («Полно петь песню военну, снигирь!»)
ода-эпитафия Жукову содержит 30 стихов — сплав из 17 заданных
Державиным логаэдов с постоянной цезурой после пятого слога и
13 стихов 4-ст. дактиля, также подсказанных горьким укором ученой птице. Вот почему вариант Бродского корректнее интерпретировать как тяготеющий к логаэду 4-ударный дольник, который,
с одной стороны, напоминает об образце, а с другой — привносит
дополнительные, продиктованные идейным решением коннотации.
Поводом для повествования о похоронах Жукова и дальнейших рассуждений о роли опального маршала в Великой Отечественной войне для Бродского стали не акустические, как у авто¬
210
О. И. Федотов
ра «Снигиря», а зрительные впечатления. Легко допустить, что
внимание поэта-изгнанника привлек телевизионный репортаж. По
свидетельству П. Вайля, о похоронах полководца Бродский узнал,
находясь в Голландии, из газет4. Можно не сомневаться, что это
сообщение дополнялось фотографиями. Отсюда торжество видеоряда, значимое отсутствие звуков и подчеркнутая неподвижность
изображения. В первой строфе дважды повторяется глагол «вижу»:
Вижу колонны замерших внуков,
гроб на лафете, лошади круп.
Ветер сюда не доносит мне звуков
русских военных плачущих труб.
Вижу в регалии убранный труп:
в смерть уезжает пламенный Жуков.
а 73)
Но видит ли в действительности субъект лирической медитации то, что описывает? Как сообщает дочь военачальника Мария
Жукова, ее отец не был похоронен в гробу. «...В те долгие минуты, — вспоминает она, — когда мы ехали в автобусе из ЦДСА на
Красную площадь, когда на улицах Москвы я видела много людей,
их слезы, я, цепенея от ужаса, сидела рядом с черной мраморной
урной, внутри которой — лишь горстка праха...»5 По решению
ЦК КПСС тело Жукова, вопреки его воле, было кремировано,
урна с прахом выставлена для гражданской панихиды в Центральном доме Советской армии и захоронена в кремлевской стене.
Таким образом, церемонию похорон Бродский реконструирует не
по конкретному событию, прямым очевидцем которого он не был,
а по образцам прощания с великими полководцами прошлого, в
том числе Суворова.
Именно под этим углом зрения следует воспринимать все детали разворачивающегося действа. Так, «колонны» могут ассоциироваться не только с Колонным залом Дома Союзов, но и с воинским караулом, в котором скорбно застыли внуки тех, кого
маршал посылал на смерть, а также с бесчисленным множеством
их самих, замерших навсегда6. «Гроб на лафете» и «лошади круп» —
это, по всей видимости, и перенесенная из «Снигиря» неказистая
суворовская «кляча», и красавец-конь, на котором полководец
принимал парад Победы в 1945 г. (прообраз того коня, который
застыл теперь в скульптурном ансамбле перед Красной площадью),
и, наконец, конь с опустевшим седлом, которого принято вести за
лафетом с гробом при погребении национальных героев... «Военные плачущие трубы» не случайно названы «русскими» (не советскими); они, чьи звуки не «доносит сюда ветер», одни и те же и для
На манер “Снигиря ”»
211
Суворова, и для Жукова. Наречие «сюда» дистанцирует лирическое «я» от описываемой церемонии, маркируя его как стороннего
наблюдателя, но не участника.
В отличие от Державина, воспевавшего Суворова как абсолютного героя («вождь наш», «богатырь», «сильный», «храбрый», «быстрый», «Северны громы в гробе лежат», «Быть везде первым в
мужестве строгом», «Нет теперь мужа в свете столь славна», «Львиного сердца, крыльев орлиных / Нет теперь с нами»), Бродский
оценивает Жукова, по крайней мере, амбивалентно. Более того, он
соотносит обоих полководцев, отталкиваясь от знаковых деталей
державинского стихотворения: вместо «северных громов в гробе» — «в регалии убранный труп», вместо «пылающего» «перед
ратью» Суворова «в смерть уезжает пламенный Жуков».
Стремясь к объективности, Бродский сопоставляет условия, в
которых тот и другой совершили предначертанное. Если Суворов,
«закаляя в стуже и зное свой меч», личным примером увлекал за
собой «солдатушек» и одерживал победы «с горстью россиян», т.е.
брал не числом, а умением, то Жуков, чей «меч был вражьих тупей, / блеском маневра о Ганнибале / напоминая средь волжских
степей», должен был, забыв о милосердии, бросать в кровавую мясорубку плохо обученные войска: «Сколько он пролил крови солдатской / в землю чужую!».
В результате к концу поприща оба оказались в унизительной
опале, «как Велизарий или Помпей». Завоевывая чужое пространство, они не обрели даже личной свободы. Вынужденный подчиняться трону, Суворов мог позволить себе лишь отражать «шутками зависть, злобу штыком, / рок низлагать молитвой и богом, /
скиптры давая, зваться рабом; / доблестей быв страдалец единых, /
жить для царей, себя изнурять». Еще незавиднее судьба Жукова и
его солдат — «тех, кто в пехотном строю / смело входили в чужие
столицы, / но возвращались в страхе в свою».
2
Интертекстуальная перекличка двух произведений исследовалась неоднократно7. Она не просто структурно и мотивно обнажена, но воспринимается как исходный творческий импульс, мотивирующий генетическую связь между текстами.
Конечно, интерпретировать стихотворение Бродского только
как пародийный ремейк «Снигиря» Державина так же неправомерно, как «Пророка» Лермонтова считать пародией на «Пророка»
Пушкина, а их вместе — отголосками библейских стихов из шестой кн. Пророка Исайи8. Автор этой идеи предваряет сравнительный анализ обоих стихотворений теоретической преамбулой, в
которой предлагает дифференцировать литературное пародиро¬
212
О. И. Федотов
вание и пародическое использование: «Литературное пародирование сосредоточивается прежде всего на внутрихудожественных,
собственно эстетических проблемах; явления внелитературного
ряда оказываются на втором плане, могут входить в сюжет на правах подтекста, боковых, попутных ассоциаций и т.д. В условиях
пародического использования ситуация совершенно иная: на переднем плане — изображение внелитературной действительности,
на втором плане — цели внутрилитературного изображения, которые, конечно, важны для художника и сами по себе, но при этом
оказываются средством для того, чтобы выйти на изображение, в
первую очередь, внелитературного бытия»9.
В рассуждениях исследователя, безусловно, есть своя логика.
Не очень понятно, правда, зачем «использование» тематических,
жанровых и версификационных особенностей «Снигиря» в рамках
весьма распространенного, хотя и форсированного интертекстуального взаимодействия названо «пародийным»? «Взаимоналоже-
ние и взаимоперебивание двух метрических и строфических систем», в результате чего «фабула начинает перерастать в сюжет»10,
возникают и реализуются вне пародийной установки. Если выдвинутое В. П. Скобелевым предположение об актуальности «принципа похожей непохожести» в композиции стихотворения Бродского вполне справедливо, то дальнейший ход мысли («поскольку
в финале одного текста легко угадывается начало другого — это
одно из проявлений принципа кривого зеркала») уводит от истины. Метафора зеркала достаточно точно отражает композиционную рокировку, но эпитет «кривое» как дань исходному положению о пародийности это отражение искажает.
Ключевой тезис концепции Скобелева — «в стихотворении
“На смерть Жукова” роль фабулы выполняют в первую очередь
метр и строфика»11. Конечно, это преувеличение. Точнее будет
сказать: метр и строфика актуализируют художественные и идейные доминанты стихотворения-образца. Произведения таким образом объединяются в общий контекст. Что касается фабулы, «перерастающей» в сюжет, то эти понятия применительно к лирике
более чем условны. Под фабулой, вслед за Б. В. Томашевским,
Скобелев понимает «систему событий в их причинно-следственной связи» (т.е. «выпрямленный сюжет», в котором события располагаются в хронологической последовательности). Событийный
план в обоих стихотворениях не развит. Как справедливо отмечала Т. И. Сильман, «попавшие в стихотворение скупо отмеренные
эмпирические факты и подробности возникают и излагаются не
столько в своей естественной последовательности (принцип традиционного эпического повествования), сколько “излучаются” в
порядке воспоминания, суммирующего обобщения, предположе¬
На манер “Снигиря ”»
213
ния или пожелания, наконец, непосредственного видения все тем
же переживающим субъектом. Сюжет, таким образом, развертывается не своим естественным путем, не первично, а отраженно,
через переживания героя, который с точки зрения перспективы
изображения находится в некоей фиксированной пространственно-временной точке, соответствующей в психологическом плане
состоянию лирической концентрации»12. Иными словами, «время
протекания лирического сюжета затемнено... в стихотворении временем его переживания»13.
В обоих стихотворениях речь идет об одном событии — смерти (похоронах) великих полководцев с ретроспекцией в их прошлое и предвидением будущего. Повествование в строгом смысле
у Державина и Бродского отсутствует, его заменяют «размышления
по поводу», образующие «шлейф» самостоятельных микросюжетов. Разумеется, и они не имеют полнокровного событийного плана, а только намечают его контуры применительно к переживаниям лирического субъекта.
К сожалению, характеристика версификационных параметров,
предлагаемая Скобелевым, не точна. Ни «Снигирь», ни стихотворение «На смерть Жукова» в схему цезурованного 4-ст. дактиля не
укладываются. В обоих случаях мы имеем дело с отклонениями от
классической силлабо-тонической метрики. Державин, вероятно,
обратился к имитации античного логаэда потому, что тот ассоциировался для него с коленом военного марша. В свою очередь,
Бродский сымитировал экзотический размер и его мотив «песни
военной», чтобы актуализировать интертекст, но едва ли ради
сложной фабульно-сюжетной игры, о которой пишет исследователь.
- Особый интерес вызывает использование риторических вопросов. Если у Державина, по наблюдению Скобелева, они рассредоточены по всему тексту, то у Бродского локализованы в одной
строфе. К тому же, «они еще и приглушены, поскольку сопровождаются ответами, в которых риторические вопросы, как известно,
не нуждаются. Но все дело в том, что ответы есть. В первом случае — комментарий повествователя, во втором — комментарий
героя, где перефразируется фраза одного из деятелей Великой
французской революции, который на вопрос, что он делал при
якобинском терроре, ответил: “Я жил”. И если державинские
риторические вопросы направлены на то, чтобы поддержать воинскую славу умершего полководца, то вопросы Бродского, как и
восклицание “Сколько он пролил крови солдатской!..”, ориентированы на то, чтобы задуматься о цене побед, одержанных под
предводительством Жукова»14.
Всё это верно, однако разномыслие Державина и Бродского
мало зависит от распределения риторических вопросов. Оно зада¬
214
О. И. Федотов
но изначально, так сказать, в идейном замысле, в мировоззрении
поэтов, представляющих в чем-то схожие, а в чем-то противоположные эпохи: «Задумываясь над жизнью и смертью великого полководца, Державин и Бродский видят разное и думают по-разному. Для одного на передний план выдвигаются полководческий
талант и величие души, для другого — тоже полководческий талант, но рядом — цена победы, оплаченной кровью предводимых
солдат и офицеров, и смысл победы, когда победители попадали
в приниженное (едва ли не рабское) положение. Можно, таким
образом, сказать, что, занимая общую исходную позицию, поэты
расходятся в разные стороны»15.
Пожалуй, и на этот раз сказано слишком категорично. Рабское
положение победителей отмечают оба поэта. Разница — в ракурсе
высказывания, в деталях. Если Державина всецело интересует уязвленная гордость почившего полководца, который, «скиптры давая» (или возвращая), вынужден был «зваться рабом», то Бродского, в первую очередь, волнует умонастроение «тех, кто в пехотном
строю / смело входили в чужие столицы, / но возвращались в страхе в свою», и уже во вторую — унижение их предводителя:
Воин, пред коим многие пали
стены, хоть меч был вражьих тупей,
блеском маневра о Ганнибале
напоминавший средь волжских степей.
Кончивший дни свои глухо в опале,
как Велизарий или Помпей.
(Л 73)
Жуков закономерным образом замыкает ряд выдающихся полководцев, чей подвиг не был по достоинству оценен соотечественниками: Ганнибал — Велизарий — Помпей — Суворов. Сопоставление с каждым из них зависит от эрудиции реципиента16.
Другая немаловажная деталь. Державин в своей эпитафии,
содержащей изрядную долю жанровых примет народной заплачки (обилие риторических вопросов — по сути горестных возгласов), обращается исключительно к снегирю, одновременно свидетелю и символу славы Суворова. Адресат риторических вопросов
и восклицаний Бродского раздваивается или даже «растраивается»:
это и сам Жуков («Спи!», «Маршал!»), и главные инструменты
военного оркестра, провожающие его в последний путь («Бей, барабан, и военная флейта, / громко свисти на манер снегиря»).
Существенно разнятся и субъекты лирической медитации.
Несмотря на дружеские отношения с Суворовым, Державин к нему
не обращается. Он исключает знаки личного присутствия в поэти¬
«На манер “Снигиря ”»
215
ческом мире, предпочитая глагольные и местоименные формы
множественного числа, т.е. максимально объективирует ситуацию,
оплакивая почившего от лица целого поколения «россиян»: «С кем
мы пойдем войной на Гиену? / Кто теперь вождь наш?»; «Львиного
сердца, крыльев орлиных / Нет уже с нами!». Иначе поступает
Бродский. Первую строфу он отводит под экспозицию, фиксирующую местоположение и переживания лирического героя, который совпадает с автобиографическим образом медитирующего
поэта. Глагольные и местоименные формы актуализируют его присутствие в поэтическом мире: «Вижу колонны...», «Ветер сюда не
доносит мне звуков...», «Вижу в регалиях убранный труп...». Лексические и образные средства выражают субъективное, личностное отношение к происходящему: «в регалиях убранный труп»,
«В смерть уезжает пламенный Жуков». Патетические обращения к
покойному («Спи!» и «Маршал!») тоже относятся к узнаваемому
авторскому голосу17.
Конечно, в зачине державинского «Снигиря» дана неявная
презентация лирического героя с интимно-домашним обращением к поющей птице: «Что ты заводишь песню военну / Флейте
подобно, милый снигирь?». Но она хорошо закамуфлирована и
понятна только узкому кругу реципиентов, знакомых с обстоятельствами частной жизни поэта. Намеченное выше противопоставление этим не опровергается.
В оставшихся четырех строфах Бродский следует медитативному дискурсу «Снигиря», развивая мотивы воинской доблести, полководческого таланта, неправедного гонения и невозможности
впредь совершать бранные подвиги. Вместе с тем главным становится тема чрезмерной цены, заплаченной маршалом за победу.
Здесь совершенно прав Скобелев, рассматривающий третью строфу, насыщенную риторическими восклицаниями и вопросами, как
своеобразную кульминацию этой темы:
Сколько он пролил крови солдатской
в землю чужую! Что ж, горевал?
Вспомнил ли их, умирающий в штатской
белой кровати? Полный провал.
Что он ответит, встретившись в адской
области с ними? «Я воевал».
а 73)
Если учитывать тональность стихотворения, то текст Бродского вызывает «далеко не беспристрастные варианты прочтения».
В беседе с С. Волковым поэт не исключал возможности рассматривать его как «государственное», даже «имперское» произведение,
216
О. И. Федотов
достойное публикации в газете «Правда»18. Отсюда мнение, согласно которому поэт обращается к «имперскому дискурсу», «имперской образности», где «все несуразно, разностильно, разновременно»19.
Переселившись на Запад, Бродский не изменил своего мировоззрения. «Имперскость» — неотъемлемое свойство российской
ментальности. Она, вероятно, свойственна всем, кому «выпало в
империи родиться»: от Пушкина до Бродского. В «Путешествии в
Стамбул» поэт пишет о том, что узаконенное в Константинополе
христианство в мгновение ока «овосточилось». В таком виде оно
бежало (или распространилось) на Север. Его приняла Киевская
Русь не только без тог и статуй, но и без «выработанного при Юстиниане Свода Гражданских Законов» (5, 296). Поэтому, глядя на
родную страну с чужого берега и углубившись на несколько столетий в прошлое, Бродский воспринимает ее как аналог Оттоманской империи — «по площади, по военной мощи, по угрозе для
мира Западного» — и задается вопросом: «И не больше ли наша
угроза оттого, что исходит она от обвосточившегося до неузнаваемости — нет! до узнаваемости! — Христианства?» (5, 310). Не потому ли в заключительной главке эссе ему грезятся «авианосцы
Третьего Рима, медленно плывущие сквозь ворота Второго, направляясь в Первый?» (5, 315). Таким образом Россия, по Бродскому, унаследовала восточный вариант христианства, щедро приправленный идеологией тоталитаризма, безграничного господства
обожествленного тирана и безоговорочного подчинения послушных ему рабов. Бродский родился и вырос в СССР. Ни политической, ни религиозной культурой отчизна его не одарила. Поэтому
он должен был признать, что его отношение к людям (и, добавим,
к историческим фактам!) «тоже попахивает Востоком. В конце
концов, откуда я сам?» (5, 313).
Бродский, как известно, не отличался толерантностью мышления. Он был упорен и деспотичен в отстаивании своих идей.
Конечно, он понимал, что великая победа одержана дорогой ценой, что количество «крови солдатской», пролитой Жуковым «в
землю чужую», невозможно измерить. Риторическое «Что ж, горевал?» позволяет предполагать отрицательный ответ. На вопрос
«Что он ответит, встретившись в адской / области с ними?» Бродский приготовил по-военному строгий и краткий ответ: «Я воевал». Иными словами, поэт признает жестокую необходимость
принесенных жертв, а их невольного виновника — спасителем
родины. И он, и они вместе были заложниками того идеологического порядка, осуждать который, отстранившись от него, Бродский считал себя не вправе.
На манер “Снигиря ”»
217
Лишившись не по своей воле родины, он не переставал думать
о ней. Завещание быть похороненным в Венеции, напоминающей
его родной город, говорит о власти памяти и силе воображения,
превратившего Сан-Микеле в Васильевский остров.
1 См.: Федотов О. И. Подражание сатирам, сочиненным Кантемиром
(Имитация силлабики в одноименном стихотворении И. Бродского) //
Функциональная семантика языка, семиотика знаковых систем и методы
их изучения. II Новиковские чтения: Материалы междунар. науч. конф.
М., 2009. С. 579-583.
2 Как известно, Суворов и Державин симпатизировали друг другу.
Незадолго до кончины тяжело больной Суворов спросил своего друга:
«Какую же ты мне напишешь эпитафию?» — «По-моему, много слов не
нужно, — отвечал Державин, — довольно сказать: “Здесь лежит Суворов”». — «Помилуй бог, как хорошо!» — произнес герой с живостью {Державин Г. Р. Сочинения: В 9 т. СПб., 1866. Т. 2. С. 345). Другая, несколько
более пространная эпитафия была написана Державиным в мае 1800 г.:
«О вечность! прекрати твоих шум вечных споров, / Кто превосходней всех
героев в свете был. / В святилище твое от нас в сей день вступил / Суворов». Многословная преамбула трех первых стихов, написанных тяжеловесным 6-ст. ямбом, уравновешивается лапидарной двустопностью четвертого. Гробницу великого полководца в Александро-Невской лавре
украшает первый, предельно лаконичный, вариант.
3 Державин Г. Р. Стихотворения. 2-е изд. Л., 1957. С. 283.
4 Вайль П. Державин и Бродский на похоронах Жукова [Электронный
ресурс]. Режим доступа // http://www.svobodanews.ru/content/article/
316593.html. Загл. с экрана.
5 Жукова М. Г. Маршал Жуков — мой отец. 4-е изд., перераб. М., 2009.
С. 15.
6 См.: Лотман М. «На смерть Жукова» (1974) // Как работает стихотворение Бродского: Из исслед. славистов на Западе. М., 2002. С. 73—74.
7 Автор одной из работ включает в число претекстов и стихотворение
С. Липкина «Военная песня» (1981), а также целый ряд произведений периферийного характера: «Смерть поэта» Д. Самойлова, «На смерть В. Набокова» А. Цветкова, «Снигирь», «Памятка», «Итоги» и «Постфактум»
А. Пурина, «Снегирь» В. Сидорова, «Чтобы роза Ролс-Ройса упрела на альпийской кушетке...» Н. Кононова, «6-я рота» В. Русакова. Перечисляются в основном произведения поэтов петербургской школы (см.: Минаков С.
«Что ты заводишь песню военну...» // Нева. 2009. № 5. С. 193—202). Можно не сомневаться, что круг, разошедшийся от державинского «Снигиря»,
значительно шире. К указанным текстам можно добавить, в частности,
еще два: стихотворение «Суворов» Э. Багрицкого и одноименную поэму
К. Симонова (см.: Скобелев В. П. «На смерть Жукова» И. Бродского и
218
О. И. Федотов
«Снигирь» Державина (к изучению поэтики пародического использования) // Вестн. Самар, гос. ун-та. Гуманит. выпуск. 1999. № 1.
С. 94-100).
8 Скобелев В. П. «На смерть Жукова» И. Бродского и «Снигирь» Державина.
9 Там же. С. 94.
10 Там же. С. 97.
11 Там же. С. 96.
12 Силъман Т. Заметки о лирике. JL, 1977. С. 8—9.
13 Там же. С. 9.
14 Скобелев В. П. «На смерть Жукова» И. Бродского и «Снигирь»
Державина. С. 97.
15 Там же. С. 98.
16 См.: Кривулин В. Иосиф Бродский (место) // Поэтика Бродского: Сб.
ст. Tenafly, N.J., 1986. C. 224. Перед загл. псевд.: Каломиров А.
17 Вызывает сомнение утверждение О. Глазуновой, будто «в стихотворении “На смерть Жукова” автор описывает похоронную процессию глазами одного из ее участников — человека из толпы, которая заполнила
улицы Москвы, чтобы в последний раз проститься с легендарным маршалом. Виден “круп” лошади, а значит, “гроб на лафете” уже проехал; повернув голову, поэт провожает его взглядом» (Глазунова О. Стихотворение
Бродского «На смерть Жукова». К вопросу о гражданской позиции автора // Нева. 2005. № 5. С. 43—53). Более того, Глазунова считает возможным включить его в один ряд (колонну) «замерших внуков» на том основании, что его отец — военный корреспондент — участвовал в прорыве
блокады под стратегическим руководством Жукова. Как нам представляется, Бродский описывает не реальный, а воображаемый событийный ряд,
соотнося его с утвердившейся традицией, в частности, с похоронами Суворова, косвенно воссозданными Державиным. В противном случае, «человек из толпы» вынужден быть конгениальным поэту.
18 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 54—55.
19 Лотман М. «На смерть Жукова» (1974). С. 75.
Е. В. Мищенко
Новосибирск
«ПОЛЯРНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»:
ПАЛИМПСЕСТ БРОДСКОГО
Все собаки съедены. В дневнике
не осталось чистой страницы. И бисер слов
покрывает фото супруги, к ее щеке
мушку даты сомнительной приколов.
Дальше — снимок сестры. Он не щадит сестру:
речь идет о достигнутой широте!
И гангрена, чернея, взбирается по бедру,
как чулок девицы из варьете.
22 июля 1978
(.3, 169)
На первый взгляд, стихотворение представляет собой зафиксированный с кинематографической точностью эпизод из жизни
покорителей полюса. Все детали вполне узнаваемы: собаки съедены, дневник испещрен записями, сам исследователь поражен гангреной и обречен, однако не сдается и спешит запечатлеть сделанные открытия на любых листках, включая фотографии близких. Да
и само название — «Полярный исследователь» — провоцирует
прочитать текст в героическом ключе. «Это стихотворение, несмотря на свою краткость и дистанцированность от жизни автора, убедительно свидетельствует об одной из самых привлекательных
личностных черт зрелого Бродского — о его мужестве»1.
Существует и философская трактовка стихотворения, в основе
которой — «идеи экзистенциализма. Онтологическое одиночество
человека иллюстрируется упоминанием фотокарточек родственников, имеющих лишь утилитарное значение для лирического персонажа. Относительность временных и пространственных параметров выражается через “сомнительность даты”, ставящей под вопрос
существование прочих персонажей стихотворения вообще. Кроме
того, сам лирический персонаж находится в тройной “пограничной
ситуации” близости смерти (характерный для Бродского прием
“нагнетания”): полярный холод, отсутствие пищи, болезнь. Впрочем, если отвлечься от названия, становится понятно, что любой
человек находится в положении “полярного исследователя” в течение всей своей жизни, постоянно трансцендируя в неизведанные
области, хотя, казалось бы, дальше уже некуда»2.
220
Е. В. Мищенко
Но только ли мужество полярников, совпавшее с предощущением автором собственной смерти, вызванной болезнью сердца,
или переживание им онтологического одиночества создали эти
образы?
Уже первая фраза «Все собаки съедены» указывает на смысловую неоднозначность стихотворения. Помимо буквального значения, мотивированного исходной сюжетной ситуацией, она содержит семантику фразеологизма «собаку съесть». Тем самым
восприятие переводится с фактологического уровня на языковой.
Образный ряд — дневник, чистая страница, бисер слов — усиливает
ощущение того, что главная драма разыгрывается не за текстом
посредством языка, а в самом языке, разворачивающемся в пространстве текста.
Мотив замерзания, важный для поэзии Бродского и играющий
в данном стихотворении ключевую роль, не раз отмечался исследователями. Так, Д. Н. Ахапкин заметил, что «север оказывается
источником речи, которая возникает просто в силу необходимости
согреться, а холод — учителем поэта»3. В другом «северном» стихотворении «Север крошит металл, но щадит стекло...» из цикла
«Часть речи» (1975—1976) акцентирован метатекстуальный план:
«Стихотворение оказывается метатекстуальным, оно описывает
творческий процесс, создание стихотворения, и заканчивается там,
где начинается тот текст, создание которого оно описывает — на
слове “прощай”, чернеющем на белом фоне»4.
Стихотворение «Полярный исследователь» во многом продолжает «Север крошит металл...» и в единстве с ним образует своеобразный диптих. Метатекстуальный план присутствует в обоих
стихотворениях: герой пишет некоторый текст. Причем первый
текст завершается тем, с чего начинается второй. В финальной
строке стихотворения из «Части речи» названо имя полярного исследователя — Г. Я. Седова, погибшего на пути к Северному полюсу5, а «Полярный исследователь» фиксирует акт письма, начатого еще в «Север крошит металл...».
Дистанция между автором и героем достаточно условна: их
сближает не только создание текста в пограничной ситуации6,
но и «женская тема». Интересно, что в стихотворении «Север
крошит металл...» с мотивом замерзания связан также отмеченный А. М. Ранчиным любовный подтекст7. В «Полярном исследователе» этот «любовный подтекст» в буквальном смысле
оказывается под текстом — записи героя располагаются поверх
снимков жены и сестры. При этом «женская тема» последовательно проводится через весь текст, варьируясь в образах жены
(«бисер слов / покрывает фото супруги»), сестры («он не щадит
сестру»), девицы («как чулок девицы из варьете»). Если принять
«Полярный исследователь»: палимпсест Бродского
221
во внимание дату написания стихотворения (эта деталь акцентирована в тексте — «мушку даты сомнительной приколов»), то становится понятна причина такой хронологической точности —
22 июля 1978 г.8 Этим же числом датировано стихотворение «Ты,
гитарообразная вещь со спутанной паутиной...» с посвящением
«М. Б.». Такое совпадение вряд ли можно назвать случайным:
20 июля 1978 г. отмечала свое 40-летие М. Басманова. О знаково-
сти этой «сомнительной даты» для Бродского говорит тот факт,
что двумя годами позже он осмысливает в стихах уже свое сорокалетие («Я входил вместо дикого зверя в клетку...»).
Нельзя не заметить снижения женских образов: они не только опредмечиваются, но и стилистически маркируются (глагол
«покрывает», выделенный егуашЬешеЩ’ом, низводит супругу до
уровня «девицы из варьете»). Примечательно, что в стихотворении
к М. Б. «ты» также овеществляется (но в силу не индексальной, а
иконической связи между объектом и знаком): «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной / струн...» (3, 170). Вместе с тем
«ты» наделяется голосом («спой мне песню о том»). Заметим, что
в любовной лирике, посвященной М. Б., «ты» часто связывается
именно с голосом — наваждением «в форме нехватки текста / при
избытке мелодии» (3, 252) (см., например: «Элегия» («Подруга
милая, кабак все тот же...»); «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой
голос, я прихожу...») и др.). В то же время себя лирический субъект
соотносит со «слухом» и «словом», а сам процесс создания текста
становится превращением лирического «я» в текст. Жизнь текста
(и его автора) предполагает утрату человеческого «я» в тексте. Оба
эти процесса происходят одновременно, что нашло воплощение в
знаменитой формуле Бродского:
От всего человека вам остается часть
речи. Часть речи вообще. Часть речи.
(3, 143)
В «Полярном исследователе» идея перевоплощения лирического субъекта в текст также реализована: «Кроме семантики очень
мелких графических знаков, написанных бисерным почерком,
ассоциативная связь бисер — письменность актуализируется еще
одним немаловажным семантическим компонентом — мотивом
плетения. Бисер плетут, в результате чего мелкие бисеринки, повинуясь воле мастера, образуют новый неповторимый узор. В стихотворении “Полярный исследователь” семантически многоплановый образ создания письменного текста как плетения словес из
бисера графических символов реален и ярок: “Все собаки съедены. В дневнике / не осталось чистой страницы. И бисер слов /
222
Е. В. Мищенко
покрывает фото супруги...” В нем заключена надежда лирического субъекта на перевоплощение своей сущности в сплетенное посредством бисера слов письменное сообщение»9.
Интересно не только то, что в стихотворении любимая мысль
Бродского развернута в полярный сюжет, но и то, что она связана
с любовной темой: чернеющая гангрена, пожирающая героя,
странным образом напоминает бисер слов, покрывающий фото
супруги и сестры. Два этих процесса — болезнь и письмо — одновременны и ассоциируются с женскими образами. Бродский «расшифровывает» их в стихотворении «Строфы» (1978), сопровождаемом посвящением «М. Б». Мотивы Севера и письма представлены
здесь в метафоре «полюс языка»:
Ты не услышишь ответа,
если спросишь «куда»,
так как стороны света
сводятся к царству льда.
У языка есть полюс,
где белизна сквозит
сквозь эльзевир; где голос
флага не водрузит.
(3, 184)
Образ письма, пожирающего прошлое и будущее, разворачивается в XII строфе:
Право, чем гуще россыпь
черного на листе,
тем безразличней особь
к прошлому, к пустоте
в будущем. Их соседство,
мало суля добра,
лишь ускоряет бегство
по бумаге пера.
(3, 184)
Это связывается с идеей «достигнутой широты», «дальнозоркости», понимаемых как прозрение духовное:
Так и портится зренье:
чем ты дальше проник;
больше, чем от старенья
или чтения книг.
(3, 182)
Полярный исследователь»: палимпсест Бродского 223
Близкие и родные люди в «Строфах» («все, кто далече, / по ком
голосит тоска»), как и в стихотворении «Полярный исследователь»,
суть «жертвы законов речи, / запятых, языка», родство с которыми сродни болезни («друг к другу мы / точно оспа привиты / среди общей чумы»). Интересно, что в «Строфах» упоминается и
«бисер» («Видно, сильно превысил / свою роль свинопас, / чей нетронутый бисер / переживет всех нас»), который может отсылать
к тексту Евангелия — Нагорной проповеди и эпизоду изгнания
бесов из бесноватого.
К драме, воссозданной в «Полярном исследователе», вполне
можно отнести слова Бродского из «Нобелевской лекции»10. Евангельская по сути идея добровольной жертвы составляет семантическое ядро этого стихотворения. В жертву языку пишущий приносит себя и свой мир. Этот мир в лучшем случае превращается в
песню:
...спой мне песню о том, как шуршит портьера,
как включается, чтоб оглушить полтела,
тень, как лиловая муха сползает с карты
и закат в саду за окном точно дым эскадры,
от которой осталась одна матроска,
позабытая в детской, —
(3, 170)
но чаще — в вещь, фотографию, на которой поверх изображения
любимого человека пишется новый текст — стихотворение.
1 Русова Н. Ю. За Полярным кругом // Иосиф Бродский в XXI веке.
СПб., 2010. С. 232.
2 Столетов А. И. Философия и поэзия: точки пересечения // Вестн.
Томск, гос. пед. ун-та. Сер.: Гуманит. науки (Философия). 2007.
Вып. 11(74). С. 22.
3 Ахапкин Д. Н. «Север» в поэзии Иосифа Бродского // Северный
текст в русской культуре. Архангельск, 2003. С. 93.
4 Там же. С. 95.
5 Возможно и другое прочтение этого образа — ледокол «Седов», совершавший в 1937—1940 гг. дрейф через Центральный Арктический бассейн. Однако переклички со стихотворением Н. Заболоцкого «Седов»
(1937), опознаваемые в «Полярном исследователе», указывают на то, что
речь у И. Бродского идет все же о человеке. Там, где Заболоцкий рисует образ умирающего полярника в героическом ключе, Бродский уходит
от патетики, снижая эмоциональный и стилистический планы стихотворения.
224
Е. В. Мищенко
6 С ранних лет страдая пороком сердца, Бродский жил «с ощущением, что смерть постоянно рядом — может прикончить, а может и пощадить» {Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006.
С. 268).
7 Ранчин А. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001.
С. 348.
8 Хронология жизни и творчества И. А. Бродского / Сост. В. П. По-
лухина при участии Л. В. Лосева // Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. С. 369.
9 Орлова О. В. Коммуникативные аспекты лексической репрезентации
концепта язык в лирике И. Бродского: Автореф. дис.... канд. филол. наук.
Томск, 2002. С. 18.
10 «Не станет меня, эти строки пишущего, не станет вас, их читающих,
но язык, на котором они написаны и на котором вы их читаете, останется не только потому, что язык долговечнее человека, но и потому, что он
лучше приспособлен к мутации» (1, 15—16). Ср.: «Дорогая, несчастных /
нет! нет мертвых, живых. / Всё — только пир согласных / на их ножках
кривых» (3, 183).
Майя Кёнёнен
Хельсинки, Финляндия
ОСЯЗАЕМЫЙ МИР ВЕЩЕЙ И
НЕОСЯЗАЕМЫЙ МИР СМЫСЛА:
СТИХОТВОРЕНИЕ «КЕЛЛОМЯКИ»
И ОБРАЗ «ФИНЛЯНДИИ»
Карельский перешеек был для Бродского местом, знакомым с
детства. Подобно многим ленинградским семьям, его семья часто
приезжала туда на отдых. Он знал финские названия многих
поселков: Терийоки, Райвола, Уусикиркко, Келломяки1. В Келло-
мяки, получившем в 1948 г. официальное название Комарово, в августе 1961 г. Бродский познакомился с Ахматовой. Осенью 1962 г.
он снимал дачу по соседству с ее «будкой». Дача была отдана под
присмотр Бродскому Р. Л. Берг, дочерью покойного академика
Берга, которая, как и ее отец, была известным биологом2. Здесь
Бродский провел несколько месяцев: осень 1962 и всю зиму 1963 г.3
По словам Е. Рейна, причиной Бродского снять дачу было желание уехать из Ленинграда, где он жил с родителями в коммунальной квартире. Он хотел остаться вдвоем с возлюбленной4.
В этот период было создано несколько лирических произведений. Окружавшие поэта комаровские пейзажи присутствуют в стихотворениях «Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сес-
трорецка», «В семейный альбом», «На смерть Роберта Фроста»,
«Вот я вновь принимаю парад...» и «Блестит залив, и ветр несет...»,
посвященных Ахматовой. Бродский возвращался к карельским
пейзажам в более поздних «Песчаные холмы, поросшие сосной...»
(1974), живописующем другой знаменитый дачный поселок в окрестностях Санкт-Петербурга, Лахту, и «Эклоге 4-й (зимней)»
(1980). Если оба текста написаны в эмиграции в США, то «Песни
счастливой зимы» — в Усть-Нарве, на южном берегу Финского
залива в 1964 г. В 1982 г. было написано стихотворение «Келломяки» (оно содержит посвящение «М. Б.») — о счастливом времени,
проведенном на даче Берг5.
Я сосредоточу внимание на стихотворении «Келломяки», в
котором дана точка зрения писателя-эмигранта на потерянную
родину. «Келломяки» демонстрирует набор средств, с помощью
которых Бродский развивает центральные темы своей поэзии —
пространство и время и разрабатывает свою концепцию Севера.
Я рассмотрю также образ «Финляндии» (необходимость взять это
226
Майя Кёнёнен
слово в кавычки объясняется тем, что Бродский имеет в виду не
современное геополитическое пространство, а ту территорию на
Карельском перешейке, которая стала частью СССР после Второй
мировой войны).
Расстояние между поэтом и его Родиной теперь огромно. Она
существует только как образ, как воспоминание. Временная
дистанция тоже велика: двадцать лет отделяют поэта от счастливой зимы его юности. Хронотопическое положение лирического
субъекта служит отправной точкой для анализа пространства, времени, памяти. Свое положение лирический субъект косвенно определяет в двух заключительных строфах6:
...безымянность нам в самый раз, к лицу,
как в итоге всему живому, с лица земли
стираемому беззвучным всех клеток «пли».
У вещей есть пределы. Особенно — их длина,
неспособность сдвинуться с места. И наше право на
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день
клином падавшая в сугробы тень
XIV
дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
будем считать, что клин этот острый...
(.3, 247)
Для Бродского время и пространство суть две основные координаты, в системе которых его лирический заместитель определяет
свое место в мире. Право людей, как и всех живых существ, на
время и пространство на земле ограничено. Право на пространство
или землю неживых существ, таких как предметы или здания, более долговечно. Прочность жилищ превышает прочность жильцов.
Дома редко перемещаются. Как мы видели в приведенной цитате,
права лирического субъекта и его спутницы на пребывание на даче
в Комарове закончились. Они покинули это место и теперь находятся в новом окружении. Всё, что осталось от прежних времени
и пространства, — воспоминания, память поэта.
Позиция лирического героя во времени определяется в строфе IX через пространственную метафору:
В середине жизни, в густом лесу,
человеку свойственно оглядываться — как беглецу
или преступнику: то хрустнет ветка, то всплеск струи.
Но прошедшее время вовсе не пума и
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
227
не борзая, чтоб прыгнуть на спину и, свалив
жертву на землю, вас задушить в своих
нежных объятьях...
(3, 245)
Здесь поэт снова не использует личное местоимение («я»), а
прибегает к обобщению. Человек средних лет (Бродскому в год
написания стихотворения был сорок один год) представляет самому себе отчет о прожитой жизни. Первые строки с их мотивами
середины жизни, густого леса и животных отсылают к первой песне «Божественной комедии» Данте. В отличие от произведения
итальянского поэта стихотворение Бродского не аллегория. Вместе с тем отсылка к Данте подсказывает, что мы имеем дело с путешествием в собственный внутренний ландшафт7.
В заглавии стихотворения Бродский дает исконное финское
название поселка, но записывает его кириллицей. Это превращает Келломяки в несуществующее место. Трудно сказать, знал ли
Бродский семантику финского топонима. Оно содержит оба измерения, которые так важны для ориентации Бродского в мире:
chronos («kello» означает «колокольчик» или «часы») и topos («má-
ki» — «возвышенность, холм»). В данном названии время и пространство буквально объединены в хронотоп, время обретает
характеристики пространства, а пространство становится темпоральным. Уже в начале стихотворения поэт разграничивает географическое (и геополитическое) местоположение Келломяки и время года:
Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны,
городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни —
телеграмма летит из Швеции: «Будь здоров».
И никаким топором не наколешь дров
отопить помещенье. Наоборот, иной
дом согреть порывался своей спиной
самую зиму и разводил цветы
в синих стеклах веранды по вечерам; и ты
как готовясь к побегу и азимут отыскав,
засыпала там в шерстяных носках.
(3, 243)
Итак, поэт говорит о городке, затерянном в дюнах, которые
были отобраны у их предыдущих владельцев — финнов8. Для Бродского это не проблема географии или истории. Его точка зрения
на актуальный для Финляндии вопрос (должна ли Карелия быть
возвращена Финляндии?) была безусловной и однозначной. Во
228
Майя Кёнёнен
время посещения Финляндии в августе 1995 г. он удивлялся, что
финны не требуют возвращения своей земли9.
Дома из фанеры не могут служить защитой от холода, как и не
гарантируют уединения своим обитателям. Швеция, расположенная на другом берегу Балтийского моря, близка географически, но
геополитически находится вне досягаемости. Стихотворение написано за пять лет до получения Бродским Нобелевской премии по
литературе. В речи в Шведской Королевской академии в 1987 г.
Бродский, наконец оказавшись на другом берегу, возвращается на
Карельский перешеек:
...Я родился и вырос на другом берегу Балтики, практически
на ее противоположной серой шелестящей странице. Иногда в
ясные дни, особенно осенью, стоя на пляже где-нибудь в Келло-
мяки и вытянув палец на северо-запад над листом воды, мой приятель говорил: “Видишь голубую полоску земли? Это Швеция”.
Конечно, он шутил: поскольку угол был не тот... <...>
Тем не менее, мне приятно думать, леди и джентльмены, что
мы дышали одним воздухом, ели одну и ту же рыбу, мокли под
одним — временами радиоактивным — дождем... <...> Мне приятно думать, что у нас было что-то общее до того, как мы сошлись в
этом зале.
<...> Наше присутствие в нем, мое в особенности, совершенно
случайно с точки зрения стен. Вообще с точки зрения пространства любое присутствие в нем случайно, если оно не обладает неизменной — и, как правило, неодушевленной — особенностью
пейзажа: скажем, морены, вершины холма, излучены реки (6, 55).
В этой речи декларируется та же экзистенциальная позиция,
что и в «Келломяки»: человеческое существование в пространстве
и времени носит случайный характер. Физическое отсутствие человека в пространстве более естественно, чем его краткое в нем
пребывание.
Осязаемый мир «реальных» мест в «Келломяки»
Обращаясь к хронотопу, я начну с характеристики места, чьи
составляющие имеют или, по крайней мере, имели когда-то денотат. Уже в первой строфе пейзаж не лишен материальных примет.
Более того, описание места даже усилено, даны его физические
характеристики и особенности: дом с верандой и окнами, поселок
из фанеры. Образность «бывших вещей» (строфа VI), подчеркивающая их материальную природу, сохраняется на протяжении все¬
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
229
го стихотворении, выявляя сходство с буколической locus amoenus
или ekphrasis в широком смысле слова10. Зима и холод — часть конкретных физических обстоятельств, в которых приходится жить.
Преобладающее время года в стихотворениях Бродского, отмеченных северной тематикой, — зима. Тем не менее ему нравится играть противопоставлениями. Бродский ищет возможности сопоставить Север с Югом, зиму с летом. «Келломяки» не исключение.
Морозные цветы на окнах веранды в первой строфе — воспоминания о лете. Юг и зимний карельский пейзаж встречаются в строфах III и XI:
В маленьких городках узнаешь людей
не в лицо, но по спинам длинных очередей;
и населенье в субботу выстраивалось гуськом,
как караван в пустыне, за сах. песком
или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь.
В маленьком городе обыкновенно ешь
то же, что остальные. <...>
(3, 243)
Как отмечалось, Комарово в изображении Бродского предстает далекой северной деревенькой, а не дачным поселком или загородным центром петербургско-ленинградской интеллигенции11.
В «Келломяки» обычные люди маленького городка противостоят
советской действительности и материальной скудности жизни,
выстаивая в очередях за продовольственными товарами. Юг привносится в эту каждодневную обязанность и каждодневное зрелище посредством метафоры. Люди, стоящие в очереди за сахарным
песком, сравниваются с караваном в пустыне. Сокращение «сах.»
и разговорная форма «песок» ассоциативно связывают сцену с
пустыней Сахара.
Юг появляется в середине зимы и благодаря образу лыжных
палок. В 1960-х гг. их делали из бамбука, который привносит в
текст южные мотивы (пальмы, мухи и попугаи). Зимний пейзаж
внезапно преображается в экзотические южные декорации, которые могли бы стать объектом исследования Н. Н. Миклухо-
Маклая (строфа XI). Сопоставление Севера и Юга заставляет
вспомнить литературу романтизма, немецкого и русского в особенности12.
Тема городка продолжается в строфах IV, V и XII13. Домики
сравниваются со спичечными коробками, разбросанными по местности. Несмотря на их кажущуюся хрупкость, они сильны, они
противостоят как времени, так и суровой погоде, поворачиваясь
спиной к зиме, тогда как обитатели Комарова поворачиваются
230
Майя Кёнёнен
спиной друг к другу в очередях за едой. Это обращение спиной к
внешнему миру предполагает обращение внутрь себя, сосредоточенность на самом себе:
В маленьких городках, хранящих в подвалах скарб,
как чужих фотографий, не держат карт —
даже игральных — как бы кладя предел
покушеньям судьбы на беззащитность тел.
Существуют обои; и населенный пункт
освобождаем ими обычно от внешних пут
столь успешно, что дым норовит назад
воротиться в трубу, не подводить фасад;
что оставляют, слившиеся в одно,
белое после себя пятно.
(3, 246)
Обращение внутрь можно интерпретировать как попытку
освободиться от внешней изолированности, вызванной холодом и
снегом. Проведение четкой границы между внутренним и внешним пространством (обои на стенах в процитированной выше
строфе) является одновременно и попыткой защититься от внезапных атак судьбы на человеческую телесность. Зима — время года,
которое напоминает об уязвимости человека и актуализирует образ дома как укрытия14. В зимнее время жизнь состоит из мелких
повседневных забот, она сосредоточивается на семье. Жильцов и
жилища объединяет общая обязанность — согревать зиму (выделяя тепло, замерзая внутри). Таким образом, зима (природа) и человек (культура) живут в странной гармонии друг с другом. Более
того, у них — одно белье15:
Эта внешняя щедрость, этот, на то пошло,
дар — холодея внутри, источать тепло
вовне — постояльцев сближал с жильем,
и зима простыню на веревке считала своим бельем.
(3, 244)
Природные условия, вынуждающие человека оставаться в
доме, создают атмосферу, располагающую к любовному общению.
Дача в Комарове описывается как место интимного опыта, и, самое важное, это место по-своему определяет качество человеческих
встреч. Таким образом, события личного характера, произошедшие здесь, рождают сильную привязанность к этому месту, хотя
симпатии Бродского к Северу и зиме заметны во всем его творчестве. Это предпочтение можно объяснить тем особенным симво¬
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
231
лическим значением, которым наделяются зима и Север в его поэтике16.
Неосязаемый мир идей в «Келломяки»
Итак, зима — любимое время года Бродского. Одна из причин
этого — визуальное восприятие зимнего пейзажа, который напоминает поэтическую страницу. Пейзаж сравнивается с текстом.
Метафора «мир—текст» — одна из ключевых в лирике Бродского17.
В «Келломяки» она появляется в строфах II и VII. В строфе II чайки
в зимнем небе — «как замусоленные ничьей рукой углы / белого,
как пустая бумага, дня», а в строфе VII проводится параллель между черным цветом и буквами:
...Нет ничего постоянней, чем черный цвет;
так возникают буквы, либо — мотив «Кармен»,
так засыпают одетыми противники перемен.
(3, 245)
Отпечатки — буквы на листе бумаги — напоминают следы,
оставленные на снегу. И те и другие — видимые знаки существования человека в пространстве. Более того, не только словесный
текст, но и записанная музыка (партитура), особенно о любви и
ревности (например, «Кармен» Ж. Бизе), способны пережить создавшего их автора.
Особым символическим смыслом наделяется в лирике Бродского вода (Балтийское море). Она — источник жизни и поэтического дара. Вода также связана с памятью18. Самоотождествление
лирического субъекта с Балтийским морем выражается в первых
строках строфы И:
Мелкие, плоские волны моря на букву «б»,
сильно схожие издали с мыслями о себе,
набегали извилинами на пустынный пляж
и смерзались в морщины. <...>
(3, 243)
Тема замерзания как формы окаменения тоже играет важнейшую роль в поэтике Бродского. Окаменение — это еще один способ противостоять времени. Как видно из вышеприведенной цитаты, оно имеет положительную коннотацию. Пустынные пляжи
Карельского перешейка хранят мысли (морщины) лирического
субъекта, и одновременно — он обессмертил этот пейзаж в по¬
232
Майя Кёнёнен
этических текстах. Процесс окаменения навсегда прикрепляет голоса, смех и в особенности произнесенные личные местоимения
к этому месту (строфа V).
Таков способ повествования Бродского: он рассказывает историю о «нас», привязывая «нашу историю», фрагменты речи,
личную собственность к определенным местам в надежде, что пространство запомнит их. Но замерзшая вода имеет и противоположный смысл. Она может означать потерю памяти. Ледяная поверхность перестает отражать лицо: «...и Нарциссом брезгающая река /
покрывается льдом...» (3, 245—246).
Вода — основная метафора времени в метафизической образности Бродского, проявляющаяся через материальные объекты.
Вода есть время в конденсированной форме и отражает всё, что им
создано. Одна из ипостасей воды — поверхность зеркала, уже не
способного отразить лица бывших жильцов. Вновь взгляд Бродского на отношения между реальностью и отдельным человеком
проявляется как безразличие пространства к его временному обитателю.
Геометрические символы
В поэзии Бродского повторяются определенные геометрические символы. Те, что возникают в «Келломяки», представляют
характерные метафоры поэтики Бродского: острый угол и его вариации, прямая линия и точка на линии. Тема перспективы связана с геометрическим восприятием пейзажа как мировидения.
Память Бродского в «Келломяки» — зрительная, он преобразует
ментальные образы в геометрические формы, которые затем наполняет философскими смыслами. Линии перспективы в пейзаже,
как на картине, суть метафорические манифестации взгляда поэта
на мир.
Взгляд Бродского на мир частично представлен в строфе XI,
где Юг удивительным образом вторгается в Северные земли. Оппозиция Север—Юг возникает из самого понятия перспективы:
Можно кивнуть, и признать, что простой урок
лобачевских полозьев ландшафту пошел не впрок,
что Финляндия спит, затаив в груди
нелюбовь к лыжным палкам — теперь, поди,
из алюминия: лучше, видать, для рук.
Но по ним уже не узнать, как горит бамбук,
не представить пальму, муху цеце, фокстрот,
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
233
монолог попугая — вернее, тот
вид параллелей, где голым — поскольку край
света — гулял, как дикарь, Маклай.
(3, 246)
Упоминание о «лобачевских полозьях» заставляет вспомнить
об открытии великого математика. Оно состояло в том, что был
опровергнут Пятый постулат, или аксиома параллельности Евклида, согласно которой параллельные прямые никогда не пересекаются. Во многих стихотворениях Бродского встречаются метафорические прямые Лобачевского, пересекающиеся в бесконечности.
В «Келломяки» они находят воплощение в образе лыжни и санного
следа, которые исчезают за горизонтом. В конце строфы находим
метафору пересекающихся прямых, воображаемых в южном полушарии на краю света, где лежит исчезающая точка перспективы.
Когда параллельные прямые пересекаются, они образуют острый
угол; в геометрической образности Бродского это — константа,
символизирующая тупик. Острый угол означает стягивание пространства в точку, где движение прекращается. Эта точка символизирует выход из пространства в небытие, разлуку и смерть.
В строфе III поднимающиеся вверх контуры Кремлевской башни
сжимаются в точку — красную звезду, символ государства, отправившего поэта в изгнание:
...И отличить себя
можно было от них лишь срисовывая с рубля
шпиль кремля, сужавшегося к звезде,
либо — видя вещи твои везде.
(3, 243-244)
Символическое значение острого угла проступает в последних
двух строфах:
...И наше право на
«здесь» простиралось не дальше, чем в ясный день
клином падавшая в сугробы тень
XIV
дровяного сарая. Глядя в другой пейзаж,
будем считать, что клин этот острый — наш
общий локоть, выдвинутый вовне,
которого ни тебе, ни мне
не укусить, ни, подавно, поцеловать.
234
Майя Кёнёнен
Тень дровяного сарая на снегу образует угол, который — с
сегодняшней точки зрения вчерашних любовников — является
острым. Бродский сравнивает его с «нашим общим локтем, выдвинутым вовне» — жестом отречения, сигнализирующим об
окончательной разлуке. Эксплицитное выражение это сравнение
находит в стихотворении Бродского «Памяти Т. Б.»:
Как две прямых расстаются в точке,
пересекаясь, простимся. Вряд ли
свидимся вновь, будь то Рай ли, Ад ли.
Два этих жизни посмертной вида
лишь продолженье идей Эвклида19.
(2, 237)
Его квазинаучный язык помогает избежать сентиментальности
и эмоциональности при обсуждении вопросов, которые явно автобиографичны. Более того, геометрия есть часть философии
Бродского о границах и контурах. Геометрические фигуры имеют
только контуры, их содержание (личный опыт или эмпирическое
наблюдение) не остается во времени именно потому, что они принадлежат субъективному миру смертного человека. Остается лишь
абстрактная, символическая форма, не зависимая от денотатов в
действительности. Символическая реальность и референциальная
действительность совмещаются. Знак, или символ, не теряет своего денотата в эмпирической реальности, но помогает ему выжить
в новом проявлении20.
Другие повторяющиеся геометрические символы в стихотворениях Бродского — линия и точка. В «Келломяки» они появляются в строфе VI и в строфе X. Обе ассоциируются с образом
поезда:
VI
...А что Келломяки ведали, кроме рельс
и расписания железных вещей, свистя
возникавших из небытия, пять минут спустя
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жесть,
мысль о любви и успевших сесть?
(3, 244-245)
X
...Что всякая точка в пространстве есть точка «а»
и нормальный экспресс, игнорируя «Ь» и «с»,
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла.
235
выпускает, затормозив, в конце
алфавита пар из запятых ноздрей...
(.3, 246)
Келломяки изображается маленьким поселением у железной
дороги. С одной стороны, это всего лишь точка, одна короткая
остановка на линии жизни. С другой — целая жизнь между бытием и небытием. В строфе X маршрут метафорического поезда жизни начинается с первой буквы алфавита — «а» и заканчивается в
его конце («я» как русское местоимение 1-го лица). Лирический
субъект идентифицирует себя с волнами Балтийского моря и, косвенно, с конечной станцией поезда, причем и море и станция подразумевают неизбежность смерти21.
Символический смысл точки всегда связан с потерей, разлукой, уходом из материального мира. Мировидение Бродского, как
и его восприятие времени, линейно. Движение времени необратимо. Возвращение к воспоминаниям равноценно возвращению на
место преступления22:
VIII
Больше уже ту дверь не отпереть ключом
<...>
Эта скворешня пережила скворца,
кучевые и перистые стада.
С точки зрения времени нет «тогда»:
есть только «там». И «там», напрягая взор,
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,
шаря в шкафах, роняя на пол роман,
запуская руку к себе в карман.
(2, 245)
Выражение «С точки зрения времени нет “тогда”: / есть только “там”» часто цитируется в работах по поэтике Бродского23. Оно
показывает, как время связано с пространством (особенно с пространством памяти), как принципиально важен опыт пространства
при воспоминании о прошлом. Время материализуется в опыте
пространства, и, следовательно, «там» относится не только к определенному месту, но и к определенному периоду в жизни человека. Данное высказывание может означать и то, что у времени нет
ни памяти, ни ожиданий, у него есть только продолжающееся настоящее, которое материализуется в пространственных терминах,
как пейзаж или указательные местоимения. Будущее и прошлое
суть продукты человеческого сознания и в качестве таковых —
измерения личного исторического времени.
236
Майя Кёнёнен
«Финляндия» Бродского
Строка «Эта скворешня пережила скворца» может отсылать к
«Приморскому сонету» А. Ахматовой, написанному в Комарове в
1958 г.:
Здесь всё меня переживет,
Всё, даже ветхие скворешни...24
Два стихотворения Бродского, в которых присутствует Карельский перешеек, адресованы Ахматовой: «Утренняя почта для
А. А. Ахматовой из города Сестрорецка» и «Блестит залив, и ветр
несет...» (с посвящением «А. А. А.»). Первое изобилует прилагатель-
ными-определениями и образами природы, соответствующими
тому, какой виделась Финляндия русским поэтам-романтикам:
В кустах Финляндии бессмертной,
где сосны царствуют сурово,
я полон радости несметной,
когда залив и Комарово
освещены зарей прекрасной,
осенены листвой беспечной,
любовью Вашей — ежечасной
и Вашей добротою — вечной.
(А 212)
В стихотворении «Блестит залив, и ветр несет...», написанном
24 июня 1963 г., природа подчинена теме поэтического творчества:
Блестит залив, и ветр несет
через ограду воздух влажный.
Ночь белая глядит с высот,
как в зеркало, в квадрат бумажный.
Вдвойне темней, чем он, рука
незрима при поспешном взгляде.
Но вот слова, как облака,
несутся по зеркальной глади.
(1, 236)
Белая ночь узнает свое отражение в «квадрате» бумажного листа. Это, возможно, первый намек Бродского на картину К. Малевича «Белое на белом»25, которая появляется в «Эклоге 4-й (зимней)» в связи с образом звезд / ангелов. Данный образ соотносится
с финскими солдатами в белом камуфляже на полях советско-фин¬
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
237
ляндской войны 1939—1940 гг., в результате которой Финляндия
потеряла обширные территории, включая Карелию:
Днем, когда небо под стать известке,
сам Казимир бы их не заметил,
белых на белом. Вот почему незримы
ангелы. Холод приносит пользу
ихнему воинству: их, крылатых,
мы обнаружили бы, воззри мы
вправду горё, где они как по льду
скользят белофиннами в маскхалатах.
(3, 200)
Белая простыня, сохнущая на бельевой веревке на фоне снежного пейзажа («Келломяки»), образует белый прямоугольник на
белом фоне («...и зима простыню на веревке считала своим бельем»; 3, 244). Супрематические полотна Малевича, как известно,
состоят из геометрических фигур. Картина, на которую ссылается
Бродский, называется «Белое на белом» — белый квадрат на белом
фоне. Для Малевича белый цвет означал бесконечность и беспредметность, чистую энергию или чистое ощущение26. Как и других
художников-авангардистов, его интересовали потенциальные возможности, предлагаемые неевклидовой геометрией и теорией
относительности Эйнштейна27. «Четвертое измерение», обнаруженное Эйнштейном и в неевклидовой геометрии, было воспринято Малевичем вначале как высшее измерение пространства.
В 1920-х гг. он был очарован популяризированной моделью общей
теории относительности и переосмыслил четвертое измерение,
определив его в своих теоретических текстах как время, в соответствии со свойствами пространства-времени, установленными в
теории относительности Эйнштейна28.
В контексте стихотворения «Келломяки» не только зимний
пейзаж связывает творчество Малевича с воспоминаниями Бродского. Отец адресата, Павел Иванович Басманов, был художником.
Эстетика его работ сходна с постсупрематическими картинами
Малевича. Фигуры людей на картинах Басманова часто изображены без лица и помещены в космический пейзаж с четко обозначенной линией горизонта29. Кроме того, в июле 1913 г. Малевич, Матюшин, Хлебников и Крученых собрались в местечке Уусикиркко
на Карельском перешейке для работы над экспериментальной
оперой «Победа над солнцем».
Как было показано, Бродский использует супрематические
полотна Малевича для выделения идеи чистого небытия, для
238
Майя Кёнёнен
воскрешения в памяти онтологической или метафизической отрицательности30. Геометрические фигуры, включая полотна Малевича, служат способом описания чистой нерепрезентативности —
небытия или бесконечности, т.е. того, что не может быть исследовано, но для чего Малевич искал выражения в своих «квадратах»:
«Бесконечность нельзя исследовать, и бесконечность не может
быть предметом, как только беспредметностью»31. Будучи частью
«поэтики вычитания», геометрические формы представляют этап
превращения реальности в нереальность, стадию постепенного вычитания субъектов, объектов и отношений. Они означают поворот
от мира феноменов к миру ноуменов, от пейзажа, постигаемого
чувствами, к пейзажу умозрительному в его лирических произведениях.
Если для Малевича беспредметное искусство означает «чистое
ощущение» и отражает отношение человека к миру, то для Бродского геометрические формы — способ перейти от психологического или субъективного уровня переживания к бессубъектному и
бесстрастному миру. Парадоксальным образом геометрические и
математические метафоры выражают сильные эмоции, боль, муку
и особенно одиночество.
Последние «прямоугольные» предметы, появляющиеся в заключительной строфе «Келломяки», — это кровать и дверь:
В этом смысле, мы слились, хотя кровать
даже не скрипнула. Ибо она теперь
целый мир, где тоже есть сбоку дверь.
Но и она — точно слышала где-то звон —
годится только, чтоб выйти вон.
(3, 247)
Кровать, которая некогда была ложем любви, превратилась в
смертное ложе, а дверь стала выходом из бытия в небытие32. По
замечанию Г. А. Левинтона, фраза «точно слышала где-то звон»
есть контаминация русской пословицы и знаменитой строки Джона Донна «не спрашивай, по ком звонит колокол, он звонит по
тебе»33. Не забудем, что «Келломяки» по-фински — «колокольня на
холме». В последних строках стихотворения данный хронотоп приобретает признаки последнего пересечения, точки, исчезающей в
перспективе34.
В стихотворении Бродского «Келломяки» мы можем проследить, как поэт движется от уровня эмпирических наблюдений
(хотя и прошлых) к уровню понятий; от мест с материальными
денотатами в пространстве к пространству как антиматерии, гео¬
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
239
метрическим формам, чистой абстракции. Он пытается превратить
живое место, которому принадлежал, в абстрактное пространство,
в котором лирический субъект отсутствует и которое можно воспринимать только с некоторого расстояния. Его взгляд на прошлый опыт превращается в геометрическую перспективу прямых,
пересекающихся в исчезающей точке на горизонте. Прямые линии
перспективы иллюстрируют то, чего больше нет, в то время как
положение лирического заместителя по эту сторону изображаемого
мира становится положением субъекта без мира, что, однако, не
означает его отчуждения от прошлого опыта и места приобретения
этого опыта. В «Келломяки» лирический сюжет подчинен пространству, так же как и тема времени. Стихотворение заканчивается символически — уходом лирического заместителя из пространства, что означает смерть, небытие. Изображаемое время —
зима — значит больше, чем просто время года; зима есть экзистен-
циональное состояние, которое вмещает в себя и смерть, и творческую способность.
Келломяки является одновременно и местом, и ментальным
образованием. Оно располагается на том перекрестке, где разум
(воспоминания, идеи, образы) и материя (референциальная действительность, реалии) соединяются. Места как пейзажи, существующие в уме, не только индивидуальны, или субъективны, но
являются фактами культуры, поскольку разум создает их посредством сети отсылок и намеков35. Поэзию Бродского отличает широкий круг разнообразных и разноплановых культурных отсылок.
В «Келломяки» он охватывает явления от «Божественной Комедии» Данте, творчества Малевича и геометрии Лобачевского до
автоцитирования.
Авторизованный перевод с английского И. С. Беляевой
1 См.: Mallinen J. Joseph Brodsky kotimaan portilla // Suomen kuvalehti.
1995. No. 37. P. 46.
2 Впоследствии эта дача, входившая в академический поселок Комарове, сгорела (см.: Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд.,
расш. и испр. М., 2005. С. 601).
3 См., например: Рейн Е. Иосиф // Вопр. лит. 1994. Вып. 2. С. 190—
191; Иосиф Бродский. Хронология жизни и творчества (1940—1972) / Сост.
В. А. Куллэ // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. СПб., 2003. С. 12;
Полухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. СПб., 2008. С. 66.
4 Рейн Е. «Где-то там на границе славянства угасает варяжский закат»
[Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://www.kuvaldin.ru/art/
54.html. Загл. с экрана.
240
Майя Кёнёнен
5 Стихотворение впервые появилось в журнале «Континент» (1983.
№ 36. С. 13—16), затем его несколько измененная версия была опубликована в книге Бродского «Новые стансы к Августе» (Ann Arbor, 1983.
С. 137-141).
6 Бродский избегает использовать 1-е лицо единственного числа, вместо этого он говорит о «нашем праве на “здесь”» и «будем считать», употребляя 1-е лицо множественного числа. Несмотря на автобиографичную
основу стихотворения, местоимение «я» возникает в нем только два раза
в косвенных падежах. Он и его спутница потеряли право не только на это
место, но и на собственные имена (см.: Смит Дж. Версификация в стихотворении И. Бродского «Келломяки» // Поэтика Бродского. Tenafly,
N.J., 1986. С. 141-142).
7 О цитатах из Данте в «Келломяки» и аллегорическом смысле пумы
и борзой см.: Кбпбпеп М. «Four Ways of Writing the City»: St. Petersburg—
Leningrad as a Metaphor in the Poetry of Joseph Brodsky. Helsinki, 2003.
P. 102-104.
8 Утрата пути — тоже отсылка к «Божественной комедии» Данте. Ср.
первую строку английской версии стихотворения в переводе Бродского:
«Dumped in the dunes snatched from the witless Finns» (Brodsky J. Collected
Poems in English. New York, 2000. P. 313).
9 Mallinen J. Joseph Brodsky kotimaan portilla P. 46.
10 Буколическое влияние сильнее в стихотворении Бродского «Эклога 4-я (зимняя)», насыщенном теми же темами, мотивами и образами северного (прибалтийского) зимнего пейзажа, что и в «Келломяки». Что
касается экфрасиса, то я использую этот термин в широком смысле, понимая под ним «описательную речь, отчетливо являющую глазам то, что
она поясняет, тогда как в узком смысле экфрасис понимается как описание произведения изобразительного искусства в литературном тексте»
(см., например: The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics.
Princeton, N.J., 1993. P. 320).
11 Cm.: Lovell S. Summerfolk: A History of the Dacha, 1710—2000. Ithaca,
N.Y.; London, 2003. P. 188.
12 Подробнее об оппозиции Север / Юг в русской литературе см.:
Boele О. The North in Russian Romantic Literature. Amsterdam; Atlanta, GA
1996. P. 117-180.
13 О «маленьком городке» в поэзии Бродского см., например:
Smith G. S. «Long Growing Dark»: Joseph Brodsky’s «August» // Rereading
Russian Poetry. New Haven; London, 1999. P. 248—255 passim; Reynolds A.
Returning the Ticket: Joseph Brodsky’s «August» and the End of the Petersburg
Text? // Slavic Rev. 2005. Vol. 64, No. 2. P. 320—321. По мнению Рейнольдса, гораздо важнее, чем положение неразличимых городов на карте, для
Бродского то, что жизнь в этих городах обнажает правду о человеческой
незначительности. См. также: Желнов А. Возвращение. О последнем стихотворении Иосифа Бродского // Знамя. 2004. № 9. С. 207—211.
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла..
241
14 Tuan Yi-Fu. Space and Place: The Perspective of Experience. Minneapolis,
1997 (1977). P. 137.
15 О символическом понимании снега как савана, зимы — метафоры
смерти см. подробнее: Könönen М. «Four Ways of Writing the City»: St.
Petersburg—Leningrad as a Metaphor in the Poetry of Joseph Brodsky. Helsinki,
2003. P. 215-216.
16 О теме «Бродский и Север» см.: Baak J. van. Brodsky and the North //
Neo-Formalist Papers. Amsterdam, 1998. P. 244—268. Как отмечает Й. ван
Бак, отношение Бродского к Северу двойственно. Несмотря на то что Север описывается поэтом как пейзаж без каких-либо примет, он питает теплые чувства к Балтийскому региону. Зима и Север вызывают в нем ощущение дома (Ibid. Р. 252).
17 См.: Ахапкин Д. Н. «Филологическая метафора» в поэзии И. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. СПб., 2002.
18 О роли моря в поэтике Бродского см.: Лотман М. Ю. Балтийская
тема в поэзии Иосифа Бродского // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia
III: Проблемы русской литературы и культуры. Helsinki, 1992. С. 227—229,
234; Baak J. van. Brodsky and the North. P. 259—263.
19 Подробнее о геометрии и теме любви и разлуки в поэзии Бродского см.: Zeeman P. Notes on the Theme of Love and Separation in Iosif Brodskij’s
Poetry // Dutch Contributions to the Tenth Intern. Congr. of Slavists: Lit.
Amsterdam, 1988. P. 344.
20 Подробнее о философии границ и контуров у Бродского см.: Лотман М. Ю., Лотман Ю. М. Между вещью и пустотой: Из наблюдений над
поэтикой сборника Иосифа Бродского «Урания» // Лотман Ю. М. Избр.
статьи: В 3 т. Таллинн, 1993. Т. 3. С. 294—307.
21 Имплицитное присутствие «я», выраженное отсутствием личного
местоимения в именительном падеже, равно как и тем, что последняя
буква алфавита не упоминается в стихотворении, может означать исчезновение «я» из пейзажа, его превращение из субъекта письма в пишущего субъекта. Подробнее о лингвистических символах в произведениях
Бродского см.: Пярли Ю. Лингвистические термины как тропы в поэзии
И. Бродского // Тр. по знаковым системам. Tartu, 1998. Vol. 26. C. 263—266.
22 По мнению Бродского, можно вернуться на место преступления, но
возвращение к местам любви исключено. См., например: «Чувство перспективы». Разговор Томаса Венцловы с Иосифом Бродским // Вильнюс.
1990. № 7. С. 115.
23 См., например: Шайтанов И. Предисловие к знакомству // Лит.
обозрение. 1988. № 8. С. 60; Радышевский Д. Дзэн поэзии Бродского //
Новое лит. обозрение. 1997. № 27. С. 290—291; Polukhina V. Joseph Brodsky:
A Poet for Our Time. Cambridge, 1989. P. 260—261. Интересно, что Радышевский толкует утверждение Бродского в свете буддизма, а Полухина связывает его с теорией относительности Эйнштейна.
242
Майя Кёнёнен
24 Ахматова А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст. А. А. Суркова;
сост., подгот. текста и примеч. В. М. Жирмунского. JL, 1976. С. 251.
25 Другой аллюзией на супрематическую картину Малевича является
строфа XI «Римских элегий». Здесь картина связывается с Югом и летом:
«Белый на белом, как мечта Казимира, / летним вечером я, самый смертный прохожий / среди развалин... пью вино из ключицы; / небо бледней
щеки...» (3, 232). В строках «Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной / струн, продолжающая коричневеть в гостиной, / белеть а-ля Казимир на выстиранном просторе...» (3, 170), содержащих посвящение
«М. Б.», белое на белом ассоциируется с женщиной, белым бельем и широким простором (белым светом). Мотив выстиранной простыни как белого фона возникает и в стихотворении 1978 г., рассказывающем о зиме в
Комарове: «Помнишь свалку вещей на железном стуле <...> окно, занавешенное выстиранной простынею?» (3, 180).
26 См., например: Малевич К. Супрематизм. 34 рисунка // Малевич К.
Черный квадрат. СПб., 2001. С. 75—81.
27 Теория Лобачевского была популярна среди представителей русского авангарда. Постулат Лобачевского о пересекающихся прямых показывал, как переступить кажущуюся непреодолимой границу между двумя
параллельными прямыми, сохраняющими требуемую дистанцию между
собой ad infinitum (Clark K. Petersburg, Crucible of Cultural Revolution.
Cambridge, Mass.; London, 1995. P. 40). Предложенная неевклидовой геометрией идея о том, что пространство за нашими непосредственными
ощущениями может быть изогнуто, импонировала художникам раннего
модерна. Она лишала законной силы линейную перспективу, в господстве
которой усомнились в конце XIX в.
28 См.: Henderson L. D. The Fourth Dimension and Non-Euclidian Geometry in Modem Art. Princeton, N.J., 1983. P. 291—292.
29 См., например: Мойст В. Самый человечный ученик Малевича в
Третьяковке на Крымском валу [Электронный ресурс]. Режим доступа: //
http://www.gazetaru/2002/ll/14/kosmosdlaizb.shtml. Загл. с экрана.
30 См.: Shallcross В. Through the Poet’s Eye: The Travels of Zagajewski,
Herbert, and Brodsky. Evanston, 2002. P. 137—139.
31 Малевич К. Черный квадрат. C. 197.
32 Ср. в «Строфах», посвященных М. Б.: «Бедность сих строк — от жажды / что-то спрятать, сберечь; / обернуться. Но дважды / в ту же постель
не лечь. / Даже если прислуга / не меняет белье...» (3, 184).
33 Пословица, которую имеет в виду Левинтон, — «Слышал звон, да
не знает, где он». См.: Левинтон Г. А. От всего человека вам остается часть /
речи (Три заметки о Бродском) // Россия / Russia М.; Венеция, 1998.
Вып. 1 [9]: Семидесятые как предмет истории русской культуры. С. 248.
34 Комарово, эта «не совсем русская территория» (Бродский: кн. интервью. М., 2005. С. 183), оказалось настоящим локусом смерти. После смерти
Ахматовой в марте 1966 г. и до вынужденной эмиграции Бродский каж¬
Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла... 243
дый год посещал ее могилу в Комарове в день ее рождения и в день ее
смерти (см.: Кулле В. Эволюция Бродского в России [Электронный ресурс].
Режим доступа: // http://www.liter.net/=/Kulle/evolution.htm. Загл. с экрана). После смерти Бродского в 1991 г. политическая элита Петербурга (среди прочих Г. Старовойтова и А. Собчак) пыталась убедить семью Бродского похоронить поэта в Александро-Невской лавре или в Комарове,
рядом с Ахматовой. Среди цветов, возложенных на могилу Бродского во
время похорон на кладбище Сан-Микеле в Венеции, наиболее символичным, с точки зрения Б. Янгфельдта, был букет ландышей, собранный накануне в Келломяки.
35 См.: Karjalainen Р. Т. Mapping Places // Place and Embodiment: Proc.
of the XIHth Intern. Congr. Aesthetics, Lahti, Finland, August 1—5, 1995.
Helsinki, 1997. Vol. 1. P. 16.
Иоанна Мадлох
Монклер, США
КАК ПРОЧИТАТЬ ФОТОГРАФИЮ,
АНАЛИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ
«МЫ ЖИЛИ В ГОРОДЕ ЦВЕТА
ОКАМЕНЕВШЕЙ ВОДКИ...» /
«А PHOTOGRAPH»*
Предмет нашего рассмотрения — влияние фотографии на
творчество Бродского и связь его поэзии с языком фотоискусства
на примере стихотворения «Мы жили в городе цвета окаменевшей
водки...»1.
Тема фотографии и фотографирования неоднократно возникает в стихах, эссе, интервью поэта. Увлечение фотографией во
многом идет из семьи: отец Бродского был профессиональным
фотографом, а сам поэт иногда зарабатывал фотографией на
жизнь2. В эссе «Полторы комнаты» он вспоминает, как каждый год
в день рождения отец фотографировал его на балконе их ленинградской квартиры (5, 345). В «Меньше единицы» Бродский пишет
о сильном впечатлении, производимом фотографиями, подчеркивая влияние визуальных стимулов на формирование его эстетических взглядов: «Боюсь, что визуальные стороны жизни всегда значили для меня больше, чем ее содержание. Например, я влюбился
в фотографию Сэмюэля Беккета задолго до того, как прочел у него
первую строчку» (5, 20)3.
Интерес к фотографии и фотоискусству — одна из особенностей поэзии Бродского. Один из самых выразительных примеров — стихотворение «Мы жили в городе цвета окаменевшей
водки...» (1994), переведенное поэтом на английский язык под названием «А Photograph»4:
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки.
Электричество поступало издалека, с болот,
* Другая версия статьи опубликована: Madloch J. Как прочитать фотографию — анализ стихотворения «Мы жили в городе...» («А Photograph») Иосифа
Бродского // Przegl^d Rusycystyczny. 2007. Z. 1(117). S. 58—70.
Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения... 245
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны.
Три рубля украшали летчики и шахтеры.
Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет.
Эмалированные кастрюли кухни
внушали уверенность в завтрашнем дне, упрямо
превращаясь во сне в головные уборы либо
в торжество Циолковского. Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми. Странно и неприятно
думать, что даже железо не знает своей судьбы
и что жизнь была прожита ради апофеоза
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки
и выбрасывающей негативы.
Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке5.
(4, 174)
Заглавие «А Photograph» в английском переводе существенно
влияет на понимание текста. Нетрудно заметить, что и неозаглав-
ленная русская версия тоже «ведет себя» как фотография. Связанные с ней значения возникают как в художественном мире стихотворения, так и в интертекстуальном аспекте его интерпретации.
Произведение существует на границе двух видов искусства. Это
требует использования сразу двух методологических подходов,
соответствующих литературе и искусству фотографии.
Слово «фотография» означает буквально «запись светом». Свет
играет важнейшую роль в процессе изготовления (проявления) и
восприятия фотографии. В рассматриваемом стихотворении это
один из основных инструментов изображения.
Уже в первой строке появляется определение света: город (несомненно, Ленинград) имеет цвет «окаменевшей водки» (в английском переводе «frozen vodka»6). Этим вводится информация не о
качестве цвета, а скорее о его отсутствии, поскольку очень холодная водка — серо-белого цвета, ее важнейшее свойство — мутность, что характерно для всех замерзших жидкостей.
На мутно-прозрачном фоне города различимы и другие цвета,
но палитра красок скупа. Электричество, поступающее «издалека,
с болот», вызывает ассоциацию не столько с теплым цветом лампы, сколько с пятнами торфа и следами убитых на стенах комаров.
246
Иоанна Мадлох
Автомобили на улицах черного, серого или светло-коричневого
цвета.
Стихотворение «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» принадлежит Петербургскому тексту Бродского. Изображение города маркировано пространственной оппозицией «внутри» /
«снаружи». «Внутри» соответствует описанию квартиры, «снаружи» — изображению улиц и метафорически упомянутых электрических проводов. Среди вещного мира преобладают предметы
быта: одежда, телефон, деньги, кастрюли. Они сопровождаются
эпитетами, уточняющими их внешний вид или местонахождение.
Однако отсутствие связи между самостоятельными картинами
позволяет определить их скорее как набор кадров, чем целостный
образ мира.
Ощущение фрагментарности и селективности образа усиливается благодаря ограниченности перспективы и изображению очертаний объектов. Видимым делается только один предмет, затем
точка наблюдения переносится на другой. Это движение напоминает перемещение фокуса фотографического объектива, который
сосредоточивается на одном объекте. Можно сказать, что предметы показаны крупным планом с малой глубиной резкости. Однако в описании телефона появляется перспектива, что активизирует
геометрический «код», важный в фотографической практике и в
конструировании мира стихотворения.
Ключевую роль играет прямая линия, резко разделяющая пространство. Эта семантика может быть имплицирована в образах
городского «текста» — электрических проводах и петербургских
улицах. В случае ограниченного пространства прямая линия становится вектором, в роли которого выступает коридор. Однако
мнимый порядок прямых нарушается информацией о «торжестве
Циолковского» — теоретика космических полетов и разрушителя
классических теорий Эвклида в области геометрии трехмерного
пространства7. Введение имени ученого-визионера превращает
организованный мир прямых в комплекс теоретически возможных
вариантов, продиктованных различными условиями, среди которых самым важным оказывается время.
Как уже упоминалось, мир произведения предельно конкретен, материален. В этом заслуга определений-уточнений, характеризующих бытовые реалии (телефон, например, звонил «в том
конце коридора»). Не менее конкретно время в объективном,
календарном, плане и в плане субъективном, воспринимаемом лирическим «я». Оба временных плана раскрываются в образе дребезжащего телефона: с одной стороны, звонок возвещает о «недавно кончившейся войне», с другой — актуализирует мимолетность
происходящего, мгновенность «в кадре».
Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения... 247
Есть в тексте и указания на то, что ожидает героя в будущем.
Помимо Циолковского и его футуристической теории о грядущем
говорит образ эмалированных кастрюль, которые «внушали уверенность в завтрашнем дне», и автомобилей, которые «катились в
сторону будущего». Однако это «лучшее будущее» так и не наступает, для лирического героя оно превращается в прошлое («Я не
знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет»).
Моделируя фотографический мир и озаглавливая английскую
версию «А Photograph», Бродский переносит в литературный текст
систему значений, характерных для искусства фотографии. Одно
из принципиальных его свойств — априорная элегичность представленного мира. Как утверждает С. Зонтаг, «фотографии активнейшим образом провоцируют ностальгию. Фотография — элегическое искусство, искусство сумерек»8. Обращает на себя внимание
противоречие, свойственное этому искусству. С одной стороны,
фотография способна остановить мгновение и тем самым противостоять времени, с другой — акцентирует мимолетность бытия,
его изменчивость и необратимость.
Во многих высказываниях Бродский указывает на аналогию
между фотографической линзой, зеркалом и водой, которые, как
известно, имплицируют в творчестве поэта значения, близкие
к семантике времени9. В понимании поэта извлеченные из пространственно-временной реальности и последовательности представления размещаются во вневременном пространстве фотографии, избегая уничтожения, которое ожидает их реальных
прототипов. Этот мотив возникает, например, в стихотворении
«Fin de siècle», в котором высказывается пожелание обессмертить
уходящую в небытие современность в серии отпечатков «шесть /
на девять» (4, 75).
Вместе с тем фотография ассоциируется с умиранием, смертью10. Это значение реализовано у Бродского в текстах, которые
строятся как воспоминания о минувшем. В стихотворении «Мы
жили в городе...» данная семантика активизирована при помощи
«фотографической метафоры» жизни, прожитой «ради апофеоза /
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки / и выбрасывающей негативы». Подлинная жизнь сравнивается с негативом, продуцирующим копии-отпечатки — единственное, что остается после уничтожения оригинала11.
Связь фотографии с памятью — общеизвестный культурный
факт12. Согласно одному из утверждений, «Муза фотографии является не одной из дочерей Памяти, а самой Памятью. Фотография и запечатленное на ней воспоминание зависят от проходящего
времени и вместе с тем противостоят ему. Оба они останавливают
248
Иоанна Мадлох
мгновенья и предлагают свое собственное, в котором образы, сохраненные ими, могут сосуществовать»13.
Называя фотографию «зеркалом с памятью», В. Холмс отмечает ее способность самым точным и подлинным образом отражать
мир14. Значения памяти / забвения, смертности / бессмертия, хода
времени / его остановки объединяют искусство поэзии и фотографии. Подход к подлинности изображения существенно отличает
документальную по своей природе фотографию от фикциональной
литературы15.
В нашем случае документальность фотографии переносится
на литературный текст, озаглавленный в английском переводе
«А Photograph». Установка на достоверность изменяет отношение
к нему читателя. Воспринимающий как бы забывает о фиктивном
характере произведения и пытается обнаружить связь между представленным миром и его референтом (Ленинград, ленинградская
квартира Бродского). Лирическое «я» стремится к тому, чтобы
отождествиться с автором, описывающим конкретную фотографию.
Влияние фотографии на литературное произведение может
быть представлено в терминах семиотики. Фотография использует индексные и иконические знаки, тесно связанные с прототипами, которые она замещает. Как утверждает Дж. Бэтчен, «фотография, будучи индексом, никогда не равна самой себе, но всегда по
своей природе есть след чего-то другого»16. Таким образом, фотография кажется метонимическим обозначением, которое всегда указывает на свой референт, не позволяя зрительному образу освободиться от этой зависимости.
Большинство исследователей разделяют мнение, что тесно
связанная с референтом фотография не обладает собственным
языком. Р. Барт определяет фотографию как «послание без кода»17.
Соглашаясь с ним, Бергер обращает внимание на своеобразное
«семантическое напряжение», которое вызывает фотография, требующая определенного значения и интерпретации. «В отношениях между фотографией и словами фотография умоляет об интерпретации, а слова обычно предоставляют ее. Они сообщают смысл
фотографии, неопровержимой как свидетель, но не способной
самостоятельно объяснить запечатленное. Фотография же своей
неопровержимостью придает особую подлинность словам, которые без нее слишком абстрактны»18.
Используя эту теорию для интерпретации стихотворения
Бродского, можно прийти к выводу, что не только фотография
оказывает воздействие на текст, модифицируя его пространственно-временную структуру и отношение к фиктивности/докумен¬
Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения... 249
тальности, но и текст, в свою очередь, интерпретирует «фотографию», придавая ей более общее значение, освобождая от референта. Осознавая эту взаимосвязь текста и фотографии, читатель
вместо поиска реальных моделей «фотографии» может сосредоточиться на механизмах действия стихотворения как специфического
«фототекста»19.
Основная проблема восприятия «фототекста» заключается в
его корректном чтении, учитывающем разные аспекты произведения. Стихотворение-фотография «Мы жили в городе...» имитирует
фотографию в плане композиции представленного мира, но не
содержит реального фотографического изображения, которое могло бы соперничать с текстом20. Чтение такого произведения происходит по текстовой модели с очередными «помехами» со стороны фотографии21.
Одно из доказательств совмещения в «фототексте» планов литературы и фотографии — нарушение пространственно-временной
организации представленного мира. В анализируемом тексте таким примером является упоминание об автомобилях, которые,
двигаясь по улицам Петербурга, перемещаются не в пространстве,
а во времени:
<...> Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми.
Подобную категориальную замену встречаем, например, в стихотворении «Келломяки». Лирический субъект, вспоминая прошлое, так описывает его временно-пространственную обусловленность:
С точки зрения времени нет «тогда»:
есть только «там». И «там», напрягая взор,
память бродит по комнатам в сумерках, точно вор,
шаря в шкафах, роняя на пол роман,
запуская руку к себе в карман.
(3, 245)
Во многих произведениях Бродского, где встречается образ
фотографии, лирический герой увлечен процессом созерцания22.
По мнению С. Зонтаг, «существует такая вещь, как фотографическое видение»23, а большинство профессиональных фотографов
согласны с мнением, что искусство фотографии меняет способ
250
Иоанна Мадлох
восприятия и описания мира24. Однако «фотографическое зрение» — это не только созерцание и фиксирование реального мира
в фотографии, но также его упорядочивание и подчинение возможностям человеческого восприятия. Как замечает Бродский в
«Набережной неисцелимых», «возможно, искусство есть просто
реакция организма на собственную малоемкость. Как бы то ни
было, ты подчиняешься приказу и хватаешь камеру, дополняющую
что зрачок, что клетки мозга» (7, 36)25.
Представляется неслучайным сходство между зрителем с фотоаппаратом, каким Бродский изображает себя в эссе, и лирическим «я» его стихов. Принципы создания лирического субъекта
существенно меняются от раннего творчества к позднему26. В стихотворении-фотографии «Мы жили в городе...» субъект лексически выражен дважды: через обобщенное «мы» в первой строке и
через «я» — в десятой («Я не знал, что когда-нибудь этого больше
уже не будет»).
В эссе, посвященном У. X. Одену, Бродский называет стихотворение «1 сентября 1939 года» «словесной фотографией» и сравнивает его автора с французским фотографом А. Карьте-Брессоном (5, 240). Чтобы раствориться в окружающей среде, Брессон
заклеивал изоляционной лентой хромированные части своего фотоаппарата. По мысли фотографа, только сливаясь с миром, теряя
свое физическое естество, художник может добраться до смысла,
спрятанного под оболочкой реальности. «Никто», «Человек в плаще» — герои стихотворений Бродского — служат воплощением
идеального фотографа в представлении Карьте-Брессона.
Скрытый за представленным миром поэт-фотограф не остается только регистратором реальности. Искусство фотографии для
Бродского имеет не только эстетическое, но и этическое значение.
В мемуарном эссе «Полторы комнаты» он обращается к «фотографической метафоре», чтобы убедиться в подлинности своих
воспоминаний: «...мне сорок пять, и вновь я вижу эту сцену с неестественной ясностью, словно мощный объектив, хотя все ее участники, кроме меня, мертвы» (5, 327). Одновременно поэт осознает
способность фотографии модифицировать действительность. Перенося предметы из реального мира в пространство изображения,
фотография позволяет взглянуть на них с другой перспективой,
увидеть иные соотношения объектов. Как утверждает О. Брик, «задача кинематографа и кинообъектива не в том, чтобы имитировать
человеческий глаз, а в том, чтобы замечать и запечатлевать то, что
человеческий глаз, как правило, не видит»27. Не случайно английское заглавие стихотворения («А Photograph») предполагает не
столько конкретный снимок из архива поэта, сколько концепцию
Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения... 251
фотографии, чье ассоциативное поле связано со значениями элегичности, памяти, умирания и др.
Итак, включенная в литературный текст фотография конкретизирует образ и одновременно модифицирует его значение, помещая в широкий культурный контекст. Анализ стихотворения
Бродского в соотнесении с «фототекстами», особенно «стихотворениями-фотографиями», позволяет внести вклад в изучение взаимосвязи между литературой и фотоискусством.
1 Вопрос о взаимосвязи творчества Бродского с другими видами искусства уже поднимался. См., например: Szymak-Reiferowa J. Иосиф Бродский и живопись Эдуарда Вюйяра // Studia Rossica V. Warszawa, 1997.
S. 199—209; Верхейл К. Кальвинизм, поэзия и живопись: Об одном стихотворении Иосифа Бродского // Верхейл К. Танец вокруг мира. Встречи с
Иосифом Бродским. СПб., 2002. С. 149—171 (эссе неоднократно переиздавалось). О связях творчества поэта с музыкой см.: Петрушанская Е.
Музыкальный мир Иосифа Бродского. СПб., 2004; Она же. «Мне кажется,
у нас есть общие принципы...»: Иосиф Бродский — Альфред Шнитке //
Альфреду Шнитке посвящается... . М., 2006. Вып. 5. С. 255—278.
2 В диалогах с Соломоном Волковым Бродский упоминает о деньгах,
заработанных фотографиями: Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М.,
2000. С. 66.
3 Тема очарования фотографическими портретами писателей возникает также в эссе «Поклониться тени», в котором Бродский размышляет
над фотографией У. X. Одена (5, 263). В эссе «Altra ego» Бродский делится своими впечатлениями от фотовыставки, где были представлены снимки возлюбленных, сподвигнувших поэтов XX в. на создание поэтических
шедевров (6, 76). Увлечение Венецией также имеет свой источник в фотографиях города. Бродский упоминает об этом в эссе «Трофейное» (6, 20)
и в посвященном Венеции «Набережная неисцелимых» (7, 21).
4 В настоящем анализе я опираюсь прежде всего на русский текст,
который казался мне «фотографическим» еще до того, как я познакомилась с английским переводом («А Photograph»).
5 Для сравнения привожу английский текст произведения:
We lived in a city tined the color of frozen vodka
Electricity arrived from afar, from swamps,
and the apartment, at evenings, seemed
smudged with peat and mosquito-bitten.
Clothes were cumbersome, betraying
the proximity of the Arcitc. At the corridor’s farthest end
the telephone rattled, reluctantly coming back
to its senses after the recently finished war.
The three-ruble note sported coal miners and aviators.
252
Иоанна Мадлох
I didn’t know that someday all this would be no more.
In the kitchen, enameled pots
were instilling confidence in tomorrow
by turning stubbornly, in a dream, into headgear or
a Martian army. Motorcars also were
rolling toward the future and were mostly black,
gray, and sometimes — the taxis —
even light brown. It’s strange and not very pleasant
to think that even metal knows not his fate
and life has been spent for the sake of the apotheosis
of the Kodak company, with its faith in prints
and jettisoning of the negatives.
Birds of Paradise sing, despite no bouncing branches.
(Brodsky J. So Forth. New York, 1996. P. 118)
6 В этом случае перевод интерпретирует русский текст, в котором
метафора «окаменевшая водка» оказывается более многозначной и вызывает дополнительные ассоциации: с цветом камня (архитектура города),
морозом (водка замерзает при очень низкой температуре), нравами жителей Ленинграда (алкоголизм).
7 Этого значения лишена английская версия, в которой нет фамилии
Циолковского.
8 SontagS. On Photography. New York, 2001. P. 15. Перевод с английского
в цитатах наш. — Ред.
9 Об этом подробнее см.: Fast P. Motyw morza w poezji Josifa Brod-
skiego // Czas wielkiego przelomu: Studia о literaturze rosyjskiej XX wieku.
Katowice, 1995. S. 121—135; Idem. Spotkania z Brodskim. Wroclaw, 1996.
S. 35-53.
10 Ср.: «Все фотографии — memento mori» (Sontag S. On Photography.
P. 15); «фотография, поскольку она останавливает поток жизни, всегда
флиртует со смертью» (Berger J. The Sense of Sight. New York, 1995. P. 122);
«та достаточно ужасная вещь, которая содержится в любой фотографии:
возвращение мертвых» (Barthes R. Camera Lucida: Reflections on Photography. New York, 1981. P. 9).
11 Другим примером использования фотографии в контексте воспоминаний может служить стихотворение «К семейному альбому прикоснись...» (1964). Оно находится в интересной связи со стихотворением «Дом
тучами придавлен до земли...» (1964), начинающимся строкой из «К семейному альбому прикоснись...». Описанный пейзаж появляется в стихотворении «К семейному альбому прикоснись...» как фотографическое изображение.
12 «Фотография сохраняет момент времени и защищает его от воздействия будущих моментов. В этом отношении фотографические снимки
сопоставимы с образами, запечатленными в памяти» (Berger J., Mohr J.
Another Way of Telling. New York, 1982. P. 82).
Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения... 253
13 Op. cit. R 280.
14 См.: Daugherty Ch. М. Mirror with a Memory. The Art of Photography.
New York, 1959. P. 24.
15 Это мнение касается исключительно аналоговой фотографии.
С изобретением цифровой фотографии степень ее достоверности значительно уменьшилась.
16 Batchen G. Burning with Desire: The Conception of Photography. Cambridge (Mass.); London, 1997. P. 9.
17 Barthes R. Image, Music, Text. London, 1977. P. 45.
18 Berger J., Mohr J. Another Way of Telling. P. 92.
19 См., например: Phototextualities: Intersections of Photography and
Narrative / ed. by A Hughes, A Noble. Albuquerque, 2003; Photo-Textualities:
Reading Photographs and Literature / ed. by M. Bryant. Newark; London, 1996;
Hunter J. Image and Word: The Interactions of Twentieth-Century Photographs
and Texts. Cambridge (Mass.); London, 1987.
20 Ср. другой «фототекст» Бродского — поэму «Представление», которая была опубликована в сопровождении 144 фотографий. Об этом подробнее см.: Madloch J. «Представление» Josifa Brodskiego: Synteza poezji i
fotografii // Przegl^d Rusycystyczny. 2006. Z. 1(113). S. 36—50.
21 Восприятие литературного текста, который развертывается во времени, линейно и последовательно (сукцессивно), в то время как пространственное расположение визуального текста предполагает его целостное и
одномоментное (симультанное) восприятие.
22 Ср.: «Зимний свет в этом городе! У него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической
точности — зрачок, особенно серой или горчично-медовой разновидности, посрамляет любой хассельбладовский объектив и доводит будущие
воспоминания до резкости снимка из “Нешнл Джиографик”» («Набережная неисцелимых»; 7, 35).
23 Sontag S. Photography within the Humanities 11 The Photography Reader.
London; New York, 2004. P. 60—61.
24 См., например, высказывание фотографа Э. Уэстона: «Таким образом, наиболее важная и одновременно наиболее сложная задача фотографа — не в том, чтобы научиться управлять камерой, или проявлять пленки, или печатать снимки. Эта задача — научиться видеть фотографически,
то есть научиться видеть свой объект, исходя из возможностей технических
средств и самого процесса, с тем чтобы можно было мгновенно перевести
детали и смыслы в законченную картину...» (Weston Е. Seeing photographically // The Photography Reader. P. 106). Ср. с признанием М. Уайта:
«Я всегда всё мысленно фотографирую» (Sontag S. On Photography. P. 202).
25 О терапевтическом значении фотографии Бродский пишет в другом
эссе: «Лучший способ оградить подсознание от перегрузки — делать снимки: ваша камера — так сказать, ваш громоотвод. Проявленные и напечатанные, незнакомые фасады и перспективы теряют свою мощную трех¬
254
Иоанна Мадлох
мерность и уже не представляются альтернативой вашей жизни» («Место
не хуже любого»; 6, 37). Своеобразной автотерапией была фотография и
для Ф. Кафки: «Мы фотографируем вещи, чтобы вытеснить их из нашего
сознания. Мои истории — это способ закрыть глаза» (цит. по: Barthes R.
Camera Lucida P. 53).
26 См., в частности: Madloch J. Wczesna twórczosc Josifa Brodskiego.
Katowice, 2000. S. 21—74.
27 Brik O. What the eye does not see // The Photography Reader. P. 90.
АНГЛИЙСКИЙ БРОДСКИЙ
А. С. Волгина
Нижний Новгород
ПЕТЕРБУРГ / LENINGRAD:
«СВОЕ» И «ЧУЖОЕ»
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ ПОЭТА
Среди великих городов, прославленных русскими писателями,
Петербург занимает особое место. В. Н. Топоров, исследуя образ
Петербурга в русской литературе, сделал заключение о близости и
единообразии описаний северной столицы у разных авторов и
предложил рассматривать весь корпус произведений «петербургской» тематики как единый, семантически связный Петербургский
текст — «некий синтетический сверхтекст, с которым связываются высшие смыслы и цели»1.
Заметим, что Петербургский текст не только «пишется» как
единый текст величайшими творцами русской литературы, но и
«читается» как единый текст любым носителем русского языка, не
имеющим специальной филологической подготовки. Среднестатистический читатель, разумеется, не прочитывает глубинные
структурные модели, выделенные В. Н. Топоровым, или символические смыслы, исследуемые Ю. М. Лотманом2. Однако даже
школьный курс литературы, включающий такие произведения, как
«Преступление и наказание» Достоевского, «Евгений Онегин»
Пушкина, «Петербургские повести» Гоголя, поэзию Серебряного
века, уже формирует в сознании русскоязычного читателя ассоциативный фон, необходимый для восприятия других произведений,
являющихся, по терминологии В. Н. Топорова, «субстратом» Петербургского текста. Основные элементы этого фона легко устано-
вимы: столица, построенная Петром I на северной границе страны, у моря, на болотах, ценой огромных человеческих жертв —
«окно в Европу»; первые в России образцы европейской архитектуры — каменные постройки, шпили, каналы, фонтаны; светская
и артистическая жизнь — спектакли, концерты, балы, визиты великих людей; «Медный всадник», наводнения, средоточие дворянского быта — «Север» Пушкина; декабристы; мир чиновников и
таинственно-беспощадный Невский проспект Гоголя; «самый
умышленный город в мире», «серый/желтый Петербург» Достоевского; революция 1917 года; переименование в Ленинград; блокада. Наличие в художественном тексте указаний на один или несколько из этих элементов позволяет русскоязычному читателю
258
А. С. Волгина
определить данный текст как «петербургский», даже если Петербург в нем прямо не упомянут.
Иосифа Бродского по праву называют «петербургским» поэтом. Действительно, Петербург как географическая точка и как
некое культурное пространство является одной из доминант его
творчества. Для Бродского Петербург не только объект изображения, место развертывания лирического сюжета, но и контекст,
необходимый для понимания его поэзии. Произведения Бродского
насыщены петербургскими реалиями, петербургской символикой
и сама судьба его — судьба поэта — стала фактически частью петербургского мифа. Таким образом, русскоязычный читатель безусловно воспринимает произведения Бродского — и в первую
очередь стихотворения, посвященные родному городу поэта (а таких немало), — как часть Петербургского текста, что обогащает и
в то же время делает доступной их смысловую структуру.
В 1972 г. лингвистический и культурный контекст для Бродского изменился: поэт оказался лицом к лицу с англо-американской аудиторией. Готовясь обратиться к ней на ее родном языке
(в 1980 г. выходит сборник «А Part of Speech» («Часть речи»), в который включены автопереводы «Север крошит металл, но щадит
стекло...» и «Я родился и вырос в балтийских болотах...»), Бродский испытывает необходимость ввести англоязычного читателя в
петербургский контекст. В 1979 г. он пишет эссе о родном городе,
которое впоследствии вошло в сборник «Less Than One» («Меньше единицы») под названием «А Guide to a Renamed City» («Путеводитель по переименованному городу»)3. Как отмечает А. Лосев,
переводивший это эссе на русский язык, «фактов, дат, имен здесь
меньше, чем в туристическом буклете — минимальный паек: Петр
Великий, Екатерина, Николай I, Ленин, 1703, 1917, 1941, “около
дюжины театров”, Фальконе, “итальянские и французские архитекторы” и еще несколько общих мест, как в статье для энциклопедического словаря»4. Однако, по всей видимости, Бродский и не
ставил себе цель создать нечто новое и экстраординарное: он моделировал именно «среднестатистическое» восприятие «изнутри»
русской культуры, не пытаясь привить своему читателю взгляд
искусствоведа или историка. Точкой, на которой он фокусирует
внимание, становится взаимопроникновение художественного
текста и внетекстовой реальности, актуального бытия города.
В 1994 г. в США Бродский пишет стихотворение «Мы жили в
городе цвета окаменевшей водки...» (4, 174) и сразу же переводит
его на английский язык:
Мы жили в городе цвета окаменевшей водки.
Электричество поступало издалека, с болот,
Петербург / Leningrad: «свое» и «чужое».
259
и квартира казалась по вечерам
перепачканной торфом и искусанной комарами.
Одежда была неуклюжей, что выдавало
близость Арктики. В том конце коридора
дребезжал телефон, с трудом оживая после
недавно кончившейся войны.
Три рубля украшали летчики и шахтеры.
Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет.
Эмалированные кастрюли кухни
внушали уверенность в завтрашнем дне, упрямо
превращаясь во сне в головные уборы либо
в торжество Циолковского. Автомобили тоже
катились в сторону будущего и были
черными, серыми, а иногда (такси)
даже светло-коричневыми. Странно и неприятно
думать, что даже железо не знает своей судьбы
и что жизнь была прожита ради апофеоза
фирмы Кодак, поверившей в отпечатки
и выбрасывающей негативы.
Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке.
1994
A Photograph
We lived in a city tinted the color of frozen vodka
Electricity arrived from afar, from swamps,
and the apartment, at evening, seemed
smudged with peat and mosquito-bitten.
Clothes were cumbersome, betraying
the proximity of the Arctic. At the corridor’s farthest end
the telephone rattled, reluctantly coming back
to its senses after the recently finished war.
The three-ruble note sported coal miners and aviators.
I didn’t know that someday all this would be no more.
In the kitchen, enameled pots
were instilling confidence in tomorrow
by turning stubbornly, in a dream, into headgear or
a Martian army. Motorcars also were
rolling toward the future and were mostly black,
gray, and sometimes — the taxis —
even light brown. It’s strange and not very pleasant
to think that even metal knows not its fate
and that life has been spent for the sake of an apotheosis
260
А. С. Волгина
of the Kodak company, with its faith in prints
and jettisoning of the negatives.
Birds of Paradise sing, despite no bouncing branches.
1994
Семантическая канва стихотворения — это рассказ поэта о
родном городе — Ленинграде конца 1940 — начала 1950-х гг. с
позиции пространственной и временной удаленности. В тексте
масса бытовых подробностей, примет времени, узнаваемых чита-
телем-соотечественником, в особенности если он принадлежит к
тому же поколению, что и автор стихотворения. Как это часто
происходит в поэзии Бродского, факты биографии представляются
через систему метафор, реальность плотно переплетается с художественной образностью. Бытовые автобиографические детали
приобретают символическое значение и становятся маркерами
Петербургского текста.
Цвет окаменевшей водки — вероятно, мутно-белый или светлосерый:
— реальный образ родного города с его каменными постройками и белыми ночами; «серой» рекой называет Бродский и Неву
(5, 68);
— литературная традиция: образ «серого Петербурга»; «мутно-серый колорит» петербургской жизни, который, по мнению
Ап. Григорьева, впервые почувствовал Пушкин в «Медном Всаднике»5;
— сама лексема «окаменевший» — «ставший каменным» —
содержит коннотации «безжизненный, безжалостный, жестокий»,
что также является частью Петербургского мифа (ср. «умышленный» — рациональный, распланированный / «умышленное убийство», «злой умысел»);
— в подтексте — исконное имя города (Петр — «камень»),
столь дорогое Бродскому;
— намек на самый массовый русский порок, во многом определяющий образ жизни (и здесь также ход к Достоевскому).
Болота
— этот образ здесь не содержит негативной оценки. Действительно, «болото» как часть Петербургского мифа теряет ассоциативное значение «нечто рутинное, косное» и становится обозначением места, на котором стоит Петербург, своего рода символом
преодоления природы градостроителями. У Бродского это одно из
наименований родины: «Я родился и вырос в балтийских болотах...» («Часть речи» 1975—1976), «Далеко же видел, сидя в родных
болотах...» (о другом «петербургском» поэте — Пушкине) («К Евгению», 1975)6;
Петербург / Leningrad: «свое» и «чужое»... 261
— близость образов «болота» и «окаменевшей водки» заставляет вспомнить отмеченный Ю. М. Лотманом «типично “петербургский” оксюморон окаменелого болота»7.
Одежда была неуклюжей, что выдавало / близость Арктики
— здесь и общая бедность послевоенных лет, и свидетельство
холодного климата;
— отсылка к традиции: Петербург как Север.
недавно кончившаяся война — Великая Отечественная:
— довольно точное указание времени, приметы которого появляются в стихотворении;
— память о блокаде — дребезжащий телефон становится своего рода символом восстановления связей между людьми, преодоления изоляции; прослеживается метонимический ход: люди, звонящие по телефону, «с трудом оживают» после пережитого ужаса.
Три рубля украшали летчики и шахтеры
— реальный дизайн купюр 1938 г. выпуска, имевших хождение
до денежной реформы 1947 г. Таким образом, для Бродского —
осознанно или неосознанно — эта реалистическая деталь становится средством еще более точной датировки периода, описываемого в стихотворении: после Великой Отечественной войны — до
1947 г., когда биографическому автору было 5—7 лет;
— ошибка, допущенная Бродским вольно или невольно (на
трехрублевой купюре был изображен солдат в каске, шахтер «украшал» рублевую банкноту)8, делает эту деталь своего рода «шибо-
летом» для представителей поколения Бродского и углубляет центральный образ стихотворения — образ Памяти;
— ввод темы «люди героических профессий» — также яркая
характеристика описываемого периода российской истории; эта
строчка «высвечивает» ассоциативный фон предыдущих строк:
рядом с шахтерами и летчиками оказываются покорители Арктики и освоители Сибири и Дальнего Востока («водка», «болота»,
«перепачканный торфом и искусанный комарами» — такого рода
детали вспоминает Бродский, рассказывая С. Волкову о своей работе в геологических партиях9).
Торжество Циолковского — освоение космоса, межпланетные
перелеты:
— идеи Циолковского получают распространение в 20-е гг., а
в 30-е «особые хозяйственные и военные надежды были возложены
на одно из его изобретений — цельнометаллический дирижабль.
Начал создаваться идеально олеографический образ гениального
самородка, затертого в царское и блистательно признанного в
советское время»10. В конце 40-х — начале 50-х гг. интерес к открытиям ученого продолжал расти — это также характерная черта
эпохи;
262
А. С. Волгина
— сближение космического корабля (цельнометаллического
дирижабля?) с эмалированной кастрюлей — привычным предметом быта — в воспроизводимом поэтом сознании ребенка становится еще одним символом веры в светлое будущее для всех.
Светло-коричневые такси:
— своеобразный знак зарождающегося диссидентства на общем черно-сером фоне;
в том конце коридора... <...> ...Катились в сторону будущего;
— обозначение временной и пространственной перспективы,
характерное для Петербургского текста и столь органичное для
художественной индивидуальности Бродского.
Однако эту детализированную реальность Бродский описывает как нечто потерянное, безвозвратно ушедшее. «Я не знал, что
когда-нибудь этого больше уже не будет» — это мысль и о временном, и о пространственном удалении (отметим здесь отголосок эсхатологических мифов о гибели Петербурга). Знаком
внеположенности поэта по отношению к описываемому миру,
потери связи с ним становится образ фирмы Кодак, «поверившей
в отпечатки и выбрасывающей негативы». Как известно, в России негативы хранятся, о чем заказчика уведомляют квитанции.
Бродский сталкивает русский и американский миры на уровне
бытовой детали, повседневной привычки. «Отпечаток» ассоциируется с памятью, хранящей лишь оттиск некогда актуальной
действительности, возвращение к которой уже невозможно. Последняя строчка («Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой
ветке») — итог произведения — в данном контексте может быть
прочитана так: творчество продолжается, несмотря на отрыв от
породившей его среды и культуры.
При переводе стихотворения на английский язык «свое» и «чужое» как бы меняются местами. Перевод эквилинеарен. Это редкий у Бродского пример свободного стиха, поэтому сопротивления
метра и рифмы переводчику преодолевать не приходится. Таким
образом сохраняется даже графический образ, «силуэт» стихотворения. Текст воспроизведен по-английски почти слово в слово.
Дополнительные лексические единицы появляются только там, где
того требует грамматика аналитического языка. Семантических
замен всего две, но занимают они принципиальные позиции.
В первой строке вместо «окаменевшая» появляется «замороженная» («frozen»). Бродский отказывается от возможности сохранить
подспудную ассоциацию с камнем и с именем собственным, которую дало бы ему использование лексемы «petrified». Он обращается к читателю, не бывавшему в Петербурге и не способному оценить историческую и культурную значимость каменной застройки
и роль Петра. Из всех возможных вариантов Бродский выбирает
Петербург / Leningrad: «свое» и «чужое»..
263
тот, что сохраняет значение цвета и ассоциируется с Россией («холод, снег, лед»). В этом контексте vodka и three-ruble, будучи набранными латинским шрифтом, из рядовых деталей быта превращаются в реалии — яркие и банальные, стоящие в одном ряду с
matrioshka и balalaika «Торжество Циолковского» также отменяется. В английской транскрипции фамилия русского ученого не
привлекла бы в сознании англоязычного читателя культурных подтекстов и, возможно, не вызвала бы ассоциаций с космосом и технологиями будущего. Семантическую нишу занимает «а Martian
army» — «Марсианская армия». Таким образом, атмосфера советского официоза и борьбы за космические просторы сменяется
условностью «звездных войн» (кстати приходится и «the recently
finished war»), фантастикой уэллсовской традиции.
Этот образ определяет восприятие стихотворения в целом:
происходит последовательная экзотизация описываемого пространства. Вместо Петербурга, являющего собой пласт литературы и культуры, читатель видит некий холодный город серого цвета, получающий электричество из болотных топей, испачканный
торфом и искусанный комарами (естественно, из такого текста
американский читатель не получает представления ни о каких геологических исследованиях). Отказ от конкретных примет времени
в пользу обобщенных реалий разрушает также возможность прочтения стихотворения в автобиографическом контексте. Фраза
«The three-ruble note sported coal miners and aviators» с трудом поддается дешифровке, поскольку глагол «to sport», означающий выставлять напоказ, хвастаться чем-то, т.е. демонстрировать свою
конкурентоспособность, в контексте данной фразы звучит странно. Образ «the telephone reluctantly coming back to its senses» («телефон, неохотно приходящий в чувство») работает скорее как мета-
фора-олицетворение, нежели как метонимический перенос, что
углубляет атмосферу нереальности.
Примечательна роль заголовка, предпосланного переводу:
«А Photograph». Вероятно, по замыслу Бродского, оно должно
было установить связь с упомянутым в начале статьи эссе «Путеводитель по переименованному городу», которое в сборнике «Less
Than One» предварено эпиграфом из эссе С. Зонтаг «О фотографии». Действительно, возвращение к «Путеводителю...» могло бы
объяснить англоязычному читателю некоторые аспекты поэтического текста Бродского. Но следует отметить, что первая и наиболее распространенная публикация этого эссе появилась в 1979 г. в
журнале «Vogue» под заголовком «Leningrad: the City of Mystery»
(«Ленинград: город тайны»)11. Журнал этот, по мнению А. Лосева,
в отличие от «высоколобых» изданий, предназначен «для лобиков,
как бы это выразиться получше, хорошеньких»12, и читается он в
264
A. C. Волгина
поисках совершенно иной информации, чем предлагает своим
читателям Бродский. Можно предположить, что определенный
процент читателей не продвинулся дальше заголовка эссе. Таким
образом, заглавие стихотворения не выполняет возложенной на
него задачи13. Пытаясь познакомить англоязычного читателя с Петербургом, так много значащим для русской культуры и самого
Бродского, поэт фактически углубляет стереотип восприятия России, представленной в данном случае ее северной столицей, как
некоего загадочного, таинственного, экзотичного пространства,
непохожего на американский — или английский — мир. Пожалуй,
единственная деталь стихотворения Бродского, не окутанная тайной для англоязычного читателя, — обращение фирмы Кодак с негативами, вполне естественное и не подвергаемое рефлексии.
Итак, в автопереводе стихотворения «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» поэт столкнулся с невозможностью перенести сложный и многомерный образ Петербурга в пространство
иных языка и культуры. Вместо города, ставшего знаком русской
культуры, явилось некое временное и пространственное «далеко»,
связь которого с реальностью тонка и неопределенна. То, что воспринималось как «свое» в лингвопоэтической традиции, приняло
характер отчужденного в англо-американской. Если «мы» оригинала подразумевает поэта, близких ему людей и читателя, то «\уе»
автоперевода скорее отделяет поэта и подобных ему от основной
читательской аудитории.
Высочайший уровень владения английским языком и знание
американских культурных моделей, демонстрируемые Бродским в
прозе, заставляют предполагать, что смысловые сбои при переводе
не случайны, а принципиальны. Иосиф Бродский констатирует
невозможность создания вторичной языковой личности в поэзии.
1 Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы» (Введение в тему) // Топоров В. Н. Миф. Ритуал. Символ. Образ: Ис-
след. в области мифопоэтического. М., 1995. С. 275.
2 Лотман Ю. М. Символика Петербурга // Лотман Ю. М. Семиосфе-
ра. СПб., 2000. С. 320-334.
3 Brodsky J. A Guide to a Renamed City // Brodsky J. Less Than One: Sei.
Essays. New York, 1986. P. 69—94; Бродский И. Путеводитель по переименованному городу (5, 54—71).
4 Лосев А. Английский Бродский // Часть речи. Нью-Йорк, 1980.
Вып. 1. С. 55.
5 Работа Ап. Григорьева о Достоевском и школе сентиментального
натурализма цит. по: Топоров В. Н. Петербург и «Петербургский текст русской литературы». С. 340.
Петербург / Leningrad: «свое» и «чужое».
265
6 Интересно, что подобное безоценочное употребление лексемы «болото» при обозначении родного места встречается в русском фольклоре:
«Всяк кулик свое болото хвалит».
7 Лотман Ю. М. Символика Петербурга. С. 323.
8 Благодарю Г. Г. Прошина, обратившего мое внимание на эту деталь.
9 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 1998. С. 27—28.
10 Семенова С. ГГачева А. Г. Константин Эдуардович Циолковский
[предисл.] // Русский космизм: Антол. философ, мысли. М., 1993. С. 260.
11 Отметим, что первая публикация русского перевода этого эссе
(«Часть речи». С. 6—26) была озаглавлена просто «Ленинград»: «таинственность, загадочность» и без того является неотъемлемой составляющей
Петербургского мифа.
12 Лосев А. Английский Бродский. С. 55.
13 В контексте оригинального стихотворения, где поэт воспроизводит
образ покинутого города и ушедшую эпоху, заголовок «Фотография» вполне мотивирован. Фотография у Бродского — функциональный аналог памяти. Ср.: «...Где еще, кроме разве что фотографии, / ты пребудешь всегда без морщин, молода, весела, глумлива? / Ибо время, столкнувшись с
памятью, узнает о своем бесправии» («Дорогая, я вышел сегодня из дома
поздно вечером...»; 4, 64).
К. С. Соколов
Владимир
ДВЕ СВАЛКИ И ОДНО КЛАДБИЩЕ:
О ЛОУЭЛЛЕ, СТИВЕНСЕ
И ТРАНСФОРМАЦИИ
ЭЛЕГИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ
В «АТ THE CITY DUMP
IN NANTUCKET »
Оформление последнего составленного самим Бродским англоязычного сборника «So Forth» (1996) выдержано в стилистике
двух предыдущих его поэтических книг, выходивших в американском издательстве «Farrar, Straus and Giroux»: между крупно набранным именем автора и названием книги помещен рисунок.
Обложку сборника «А Part of Speech» (1980) украшает венецианский крылатый лев, держащий раскрытую книгу, обложку «То Urania» (1988) — барельефное изображение Муз. На третьей книге, в
нарушение традиции, помещена черно-белая фотография свалки:
несколько чаек копошатся в груде мусора, задний план кадра перекрыт то ли дымом, то ли густыми мелкими брызгами. В сочетании с названием книги — «So Forth» («И так далее») — изображение создает мрачно-иронический, абсурдный, если не пародийный
эффект. И лев св. Марка, и Музы являются вполне ясными знаками принадлежности к определенной культурной традиции, в
некотором смысле — частью авторской мифологемы. Фотографическое изображение свалки подчеркнуто не вписывается в этот
ряд, нарушает и временную, и смысловую последовательность,
является ее оксюморонным эпилогом. Этот знаковый сдвиг закрепляется в содержании книги стихотворением «At the City
Dump in Nantucket»:
To Stephen White
The perishable devours the perishable in broad daylight,
moribund in its turn in late November:
the seagulls, trashing the dump, are trying to outnumber
the snow, or have it at least delayed.
Две свалки и одно кладбище: о Лоуэлле, Стивенсе..
267
The reckless primordial alphabet, savaging every which
way the oxygen wall, constitutes a preface
to an anarchy of the refuse:
In the beginning, there was a screech.
In their stammering Ws one reads not the hunger but
the prurience of comma-sharp talons toward
what outlasts them, or else a tom-out
page’s flight from the volume’s fat,
while some mad anemometer giddily spins its cups
like a haywire tea ceremony, and the Atlantic
is breasting grimly with its athletic
swells the darkening overcast1.
Совпадение словесного и фотографического образов не случайно. Фотография, помещенная на обложку, была сделана и прислана Бродскому его бывшим студентом Стивеном Уайтом2, которому и посвящено датированное 1995—1996 гг. стихотворение3.
Оно может быть прочитано как развитие возникающей у Бродского еще во второй половине 1960-х гг. (например, в «Открытке из
города К.») серии поэтических пейзажей, отмеченных печатью
распада и как бы уходящих в постисторическое время. Характерные черты этих пейзажей: руины, обломки, развалины, фрагменты статуй — знаки умершей или умирающей культуры у позднего
Бродского — все чаще заменяются знаками умирающей или деградирующей жизни как таковой. Описание развалин превращается в автоописание. Городская свалка в стихотворении Бродского
целиком состоит из «знаков распада» и «знаков времени», а предлог at в его названии делает автора если не участником, то непосредственным свидетелем того, как «бренное жадно пожирается
бренным» перед лицом времени — «неумолимо вздымающегося»
океана. Эта универсальная картина распада, однако, имеет точные
координаты, указанные в заглавии стихотворения. Оно отсылает
не столько к реальному Нантакету — сохраняющему «новоанглийский дух» островку, лежащему в 30 милях от побережья Массачусетса, — сколько к одному из хрестоматийных стихотворений
Р. Лоуэлла «The Quaker Graveyard in Nantucket»4 из сборника «Lord
Weary’s Castle» (1946), удостоенного в 1947 г. Пулитцеровской премии.
Стихотворение Лоуэлла посвящено памяти Уоррена Уинслоу,
двоюродного брата поэта, погибшего 3 января 1944 г. при взрыве
американского эсминца «Тернер» у входа в Нью-Йоркскую бухту.
Тело лейтенанта Уинслоу не было найдено, поэтому на кладбище
268
К. С. Соколов
в Нантакете был установлен кенотаф — надгробие без захоронения. Появление кенотафа на квакерском кладбище связано не с
вероисповеданием (Уинслоу не были квакерами)5, а с тем, что
Нантакет, бывший до середины XIX в. центром китобойного промысла, в американской истории и культуре ассоциируется с морской судьбой. Именно на Нантакете начинается действие романа
Г. Мелвилла «Моби Дик, или Белый кит».
Элегия Лоуэлла воспроизводит и одновременно разрушает
основные черты английской пасторальной элегии, восходящей к
«Люсидасу» Дж. Мильтона, поводом к написанию которой также
послужила безвременная смерть в море. Среди черт, указывающих
на элегию Мильтона как на претекст «Квакерского кладбища»,
стоит отметить мотив ненайденного тела, расширение тематического плана стихотворения, попытку объяснить или «ответить на
очевидную бессмысленность ранней гибели», использование «библейских и античных источников как моделей для собственных
образов». Оба поэта прямо или косвенно обращаются к значимым
для своих традиций фигурам: Лоуэлл — к Торо, Мел виллу и самому Мильтону, Мильтон — к Феокриту, Биону и Вергилию. Оба,
«вызывая genius loci», включают в стихотворения топонимы, но
мильтоновские Гебриды, Наманку и Байону Лоуэлл заменяет массачусетскими Мадакетом, Вудс Холом, Сайасконсетом, Нантакетом, Кейп Кодом и Мартас-Винъярдом. Так же как и «Люсидас»,
«Квакерское кладбище» написано в основном пятисложником,
чередующимся с трехсложником. Оба стихотворения отличаются
изощренной рифмовкой и почти совпадают по количеству строк:
194 — у Лоуэлла и 193 — у Мильтона6.
Указанными параллелями фактически исчерпывается сходство
«Квакерского кладбища» со своим жанровым образцом. Если
Мильтон последовательно реализует элегическую модель план —
восхваление — утешение, то у Лоуэлла первые два элемента отсутствуют, а утешение (consolatio), роль которого выполняет VI часть
элегии, разительно контрастирует с общим ее тоном и не завершает
стихотворение. Трансформация элегического канона — характерная черта поэзии XX в. — отражает процесс избавления от художественных, политических, социальных и иных иллюзий. Скептицизм свидетеля мировых войн, революций, дегуманизации
общества распространяется и на жанровые конвенции, превращая
скорбящего в диагноста7 или обвинителя, а элегию — в антиэлегию8. В случае Лоуэлла эта общая тенденция индивидуализируется: в момент гибели Уоррена Уинслоу он отбывал годичный тюремный срок (впоследствии сокращенный до пяти месяцев) за
пацифистские убеждения и уклонение от призыва в армию Соединенных Штатов. Пацифизм Лоуэлла связан с переходом в католи¬
Две свалки и одно кладбище: о Лоуэлле, Стивенсе..
269
чество накануне войны. Отказ от веры предков объяснялся прежде всего эстетическими соображениями, но в годы войны становится отчетливым этическое противостояние католической и протестантской доктрин. Для Лоуэлла-католика спасение даруется «по
делам и по вере» (Матф. 25: 31—46; Иак. 2: 14), тогда как для протестантского большинства Америки и для его родственников-каль-
винистов — лишь «по вере» (Рим. 3: 28). С точки зрения поэта,
немилосердные «дела» воюющего человечества лишают его милосердия Божия. Гибель эсминца «Тернер» от взрыва собственных
глубинных бомб вдалеке от основного театра военных действий
подтверждает эту конфессиональную логику и, казалось бы, определяет главную идею «католической» элегии Лоуэлла. Однако в
яростных строках «Квакерского кладбища» не находится места
католическому милосердию или личной жалости к погибшему кузену. Стихотворение, удачно названное одним из исследователей
«теологическим гибридом»9, пропитано суровым духом пуританской строгости и нетерпимости, а в самом развитии темы проявляется родовая черта американской поэзии, которая, по мнению
Д. Дэйви, связана с тем, что «американский поэт со времен Отцов
Пилигримов мыслит в утопических категориях. Он убежден в том,
что разыгрывает вечную драму, смысл которой, в сущности, прост
и неизменен — достаточно лишь отбросить случайный исторический покров»10. «Отбрасывая покровы», Лоуэлл явно или ремини-
сцентно цитирует «Кейп Код» Эмерсона, «Моби Дика», «Потерянный рай», Библию, греческие мифы. Тело пропавшего без вести
Уоррена Уинслоу уподобляется непогребенным телам китобоев-
квакеров, война — морскому промыслу, алчность благочестивых
китобоев — беспощадности их поглощающего океана, их смерть —
возмездию за насилие над мирозданием, гарпун капитана Ахава —
копью, пронзающему распятого Христа, Христос — Ионе, три дня
проведшему во чреве кита. «Вечная драма» завершается эсхатологическим описанием мира, переполненного разлагающимися китовыми внутренностями. Шестая часть стихотворения имеет название «Our Lady of Walsingham», отсылающее к «Английскому
Назарету» — деревне на севере графства Норфолк, где находится
храм Богородицы, ставший местом паломничества католиков.
Описание пути к Богородице и заключительное утверждение («...и
весь мир придет в Уолсингэм»11) вполне могли бы стать умиротворяющей «католической» концовкой неистовой картины самоистребления человечества12, но в седьмой части Лоуэлл опять возвращается к суровому стилю пуритан:
The empty winds are creaking and the oak
Splatters and splatters on the cenotaph,
270
К. С. Соколов
The boughs are trembling and a gaff
Bobs on the untimely stroke
Of the greased wash exploding on a shoal-bell
In the old mouth of the Atlantic. It’s well;
Atlantic, you are fouled with the blue sailors,
Sea-monsters, upward angel, downward fish:
Unmarried and corroding, spare of flesh
Mart once of supercilious, wing’d clippers,
Atlantic, where your bell-trap guts its spoil
You could cut the brackish winds with a knife
Here in Nantucket, and cast up the time
When the Lord God formed man from the sea’s slime
And breathed into his face the breath of life,
And blue-lung’d combers lumbered to the kill.
The Lord survives the rainbow of His will13.
Образ католической святыни контрастно сменяется пустынным кладбищем, где «пустые ветры» раскачивают дуб над пустой
могилой, а отдаленный звон колокола на отмели звучит погребальным звоном «в старом рту Атлантики», наполненном утонувшими
матросами и морскими чудовищами14. Океан, как мясник, потрошит клиперы, но может разрезать соленые ветры Нантакета. Он
вспоминает, как «Господь Бог создавал человека из морского ила /
И вдыхал ему в лицо дыхание жизни», но может смыть эту жизнь
обратно в океан. Последняя строка, отсылающая к радуге завета
(Быт. 9: 8—17), установленного между Богом и человеком после
потопа, прочитывается двояко и может означать как сохранение
обещания больше не уничтожать сотворенное, так и то, что в его
воле нарушить (буквально — «пережить») этот договор.
Тема «Бродский и Лоуэлл» уже освещалась в работах Д. Бетеа,
А. Вайнера и Д. Ригсби15. Основное внимание в них уделяется присутствию лоуэлловских реминисценций в «Колыбельной Трескового мыса» и «Элегии для Роберта Лоуэлла» («Elegy: For Robert
Lowell») Бродского. Связь «На городской свалке в Нантакете» с
«Квакерским кладбищем» не столь очевидна: поиск цитат в тексте
стихотворения не дает результата, но смысловой сдвиг в названии
позволяет рассматривать свалку как своего рода дериват лоуэллов-
ского кладбища. Бродский делает следующий шаг, продиктованный именно американским способом поэтического осмысления
истории. Подобно Лоуэллу, обнажившему исконный смысл «вечной драмы» в заключительной части элегии, он предлагает свой
вариант универсального итога: лишенный конфессиональных черт
результат столкновения цивилизации с вечностью. Стихотворение
Бродского символично короче седьмой части стихотворения Ло¬
Две свалки и одно кладбище: о Лоуэлле, Стивенсе..
271
уэлла на одну строку. В шестнадцатой строке «Кладбища» возникает образ убивающего дыхания океана, «Свалка» также завершается образом Атлантики, навалившейся на темнеющие облака, но
в варианте Бродского нет места для радуги завета. Построенный на
аллюзиях, цитатах, столкновении религиозных доктрин, текст
Лоуэлла у Бродского редуцируется, превращается в «декультиви-
рованную» вещь, выброшенную на свалку16.
Своеобразный культурный редукционизм в целом характерен
для позднего Бродского. Говоря о его последней книге, Д. Ригсби
отмечает, что «традиционным путям к трансцендентному» Бродский предпочитает «метод натуралиста». Натуралистический
буквализм помогает «превзойти саму форму элегии», которая представляется неспособной справиться со своим жанровым предназначением. Исследователь полагает, что вследствие «утраты надежды на трансцендентное» поздний Бродский вынужден выбирать
между иронией и отчаянием17.
Казалось бы, в стихотворении «На городской свалке в Нантакете» выбор сделан в пользу отчаяния. Даже «бездумный первобытный алфавит» (The reckless primordial alphabet) не служит источником поэтической надежды для логоцентриста Бродского, но
является лишь «предисловием к анархии мусора» (constitutes а
préfacé / to an anarchy of the refuse). Однако поэтика этого отчаяния сложнее. Отталкивание от лоуэлловского претекста придает
стихотворению Бродского черты recusatio (отказа)18, а замена
«кладбища» на «свалку» отсылает к одному из образцовых примеров recusatio в американской поэзии XX в. — стихотворению
У. Стивенса «The Man on the Dump» (1938)19. Причем связь «На городской свалке в Нантакете» и «Человека на свалке» декларируется уже в названии стихотворения Бродского. Значимыми оказываются не только совпадение локусов и использование сходных
грамматических форм для их обозначения20, но и сам принцип
трансформации чужого заглавия. Аналогичный смысловой сдвиг
встречается в названии стихотворения «Einem alten Architekten in
Rom», которое является вариацией названия «То an Old Philosopher
in Rome» Стивенса21.
Согласно воспоминаниям дочери Стивенса, «Человек на свалке» был написан после того, как в Хартфорде, где почти всю жизнь
прожил поэт, во время Великой депрессии некий эмигрант из России построил на свалке свою лачугу, став предметом многочисленных детских историй, многие из которых начинались словами
«человек на свалке»22. Однако стихотворение Стивенса лишено
очевидного социального пафоса и реальный обитатель свалки в
нем отсутствует. Первые четыре строки вводят иной контекст:
272
К. С. Соколов
Day creeps down. The moon is creeping up.
The sun is a corbeil of flowers the moon Blanche
Places there, a bouquet. Ho-ho... The dump is full
Of images. Days pass like papers from a press23.
(День сползает вниз. Луна вползает вверх. / Солнце — корзина цветов, который луна Бланш / Ставит туда. Букет. Хо-хо... Свалка полна / образов. Дни проходят, как листы из печатного станка.)
Затасканные (и поэтому буквально немощные — «ползущие»)
поэтические образы и напыщенные метафоры населяют свалку,
она наполняется не мусором, но «образами»:
The freshness of night has been fresh a long time.
The freshness of morning, the blowing of day, one says
That it puffs as Cornelius Nepos reads, it puffs
More than, less than or it puffs like this or that.
The green smacks in the eye, the dew in the green
Smacks like fresh water in a can, like the sea
On a cocoanut — how many men have copied dew
For buttons, how many women have covered themselves
With dew, dew dresses, stones and chains of dew, heads
Of the floweriest flowers dewed with the dewiest dew.
One grows to hate these things except on the dump24.
(Свежесть ночи долго была свежей. / Свежесть утра, дуновение дня, кто-то говорит, / Что оно налетает, как гласит Корнелий
Непот, оно налетает / Более чем, менее чем, или оно налетает, как
это или то. / Зелень смакуется в глазу, роса в зеленом / Смачна, как
свежая вода в жестянке, как море / на кокосах [на этикетке банки
из-под кокосовой мякоти] — сколько мужчин скопировали росу /
Для бутонов, сколько женщин покрыли себя / Росой, росяными
платьями, драгоценными камнями и цепочками из росы, головки /
Цветочнейших цветов орошены росистейшей росой. / Начинаешь
ненавидеть все это повсюду, кроме свалки.)
Сам «отказ» выражается эксплицитно, как внутренний жест
человека на свалке, отказывающегося от поэтического хлама:
Now, in the time of spring (azaleas, trilliums,
Myrtle, viburnums, daffodils, blue phlox),
Between that disgust and this, between the things
That are on the dump (azaleas and so on)
And those that will be (azaleas and so on),
Две свалки и одно кладбище: о Лоуэлле, Стивенсе..
273
One feels the purifying change. One rejects
The trash25.
(Сейчас, весной (азалии, триллиумы, / Мирт, калина, нарциссы, голубые флоксы), / Между тем отвращением и этим, среди
вещей, / которые уже на свалке (азалии и так далее), / И тех, которые будут (азалии и так далее), / Чувствуешь очистительную перемену. Отвергаешь / Хлам.)
Заканчивается этот каталог изношенных и отвергаемых образов вопрошанием о месте обитания истинного поэтического слова: «Where was it one first heard of the truth? The the»26. Ответ («The
the») — одна из самых загадочных строк в американской поэзии
XX в. Из массы толкований выделим мнение X. Блума, полагающего, что второй определенный артикль, заменяющий существительное, обозначает любой предмет, снова становящийся достоянием языка, и в ироническом смысле — осознание того, что в
поэтическом языке нет подходящих значений для его выражения27.
Утилизируя условно-романтические образы, Стивенс не только задается вопросом о соотношении поэзии и правды, но и создает сложное автометаописание традиции. Этот мотив, исторически
присущий жанру элегии, дает основание для включения стихотворения «The Man on the Dump» в довольно многочисленную группу антиэлегий Стивенса, деконструирующих традиционную жанровую топику28.
Стихотворения Стивенса и Бродского связывают прежде всего структурно-семантический параллелизм в названиях и некоторые прямо соотносящиеся образы. Прежде всего это лист, вылетающий из-под печатного пресса у Стивенса, и вырванная из
толстого тома страница у Бродского: оба принадлежат культуре,
традиции, и оба символизируют ее несоответствие реальности,
«первобытному алфавиту». В стихотворении Стивенса «соловей
терзает ухо, заполняет сердце и царапает разум», у Бродского чайки напоминают «изначальный визг». Очевидно, что оба текста реализуют схожую модель recusatio с той разницей, что «отказ» у Стивенса непосредственно обращен к многовековой элегической
традиции, а Бродский «отказывается» уже от традиции вторичной,
трансформированной поэзией XX в.
Таким образом, «Человек на свалке» Стивенса выполняет
функцию добавочного кода или медиатора, определяющего отношение текста Бродского к тексту Лоуэлла. Превращение кладбища в свалку означает не возрастание вдруг проявившегося у
позднего Бродского отчаяния или пресечение основной для его
творчества жанровой традиции. Напротив, в таких «итоговых» ве¬
274
К. С. Соколов
щах, как «At the City Dump in Nantucket», «To My Daughter» (1994)
или «Август» (1996), происходят обновление жанра элегии, ревизия ее стиля и системы образов.
1 Brodsky J. So Forth. New York, 1996. P. 117. Автор выражает благодарность В. Куллэ, любезно разрешившему поместить здесь еще не опубликованный перевод этого стихотворения:
На городской свалке в Нантакете
Стивену Уайту
Здесь тлен пожирает тлен при свете дня — в свой черёд
гаснущего по причине позднего ноября:
чайки пируют в отбросах, в соперники снег беря,
чтоб белизной отсрочить его приход.
Их первозданный отчаянный алфавит, раздирая высь
сквозь кислородный барьер, служит вступительной частью
к этой анархии мусора — ибо для чаек,
безусловно, в начале был Визг.
В этих невнятных литерах «W» — не голод, но зуд
острых когтей, как запятые цепких,
на всё, что переживёт их, нацелен;
страницы, из книги выдранной, маршрут —
там, где анемометр безумный вращает чашечки без
малейшего смысла, как на церемонии чайной, а мясо
Атлантики яростно волны вздымает
против чёрных небес.
2 Сообщено Энн Шеллберг. В сборнике «А Part of Speech» Бродский
упоминает С. Уайта в числе тех, кому он благодарен за подготовку подстрочников.
3 Первый вариант был написан в 1995 г. и опубликован 4 апреля 1996 г.
в «The New York Review of Books». Для публикации в «So Forth» Бродский
переработал 11 из 16 строк стихотворения.
4 Об этом стихотворении см., в частности: Staples Н. В. Robert Lowell:
The First Twenty Years. New York, 1962. P. 45—52; Mazzaro J. The Poetic
Themes of Robert Lowell. Ann Arbor, 1965. P. 37—44; Perlojf M. Death by
Water: The Winslow Elegies of Robert Lowell // English Literary History. 1967.
Vol. 34, No. 1. P. 124—130; Dolan P. Lowell’s «Quaker Graveyard»: Poem and
Tradition// Renascence. 1969. Vol. 21, No. 2. P. 171—180; Fender S. What
Две свалки и одно кладбище: о Лоуэлле, Стивенсе.
275
Really Happened to Warren Winslow? // Journal of American Studies. 1973.
Vol. 7, No. 2. R 187—190; Ramazani J. Poetry of Mourning: The Modern
Elegy from Hardy to Heaney. Chicago, 1994. P. 223—233.
5 Род Уинслоу — один из древнейших пуританских родов Америки.
Дальний предок Уоррена Эдвард Уинслоу был одним из лидеров Пилигримов, прибывших в Новый Свет на «Мэйфлауэре». Он трижды исполнял обязанности губернатора Плимутской колонии.
6 Все отмеченные параллели подробно описаны X. Стэйплсом: Staples Н. В. Robert Lowell: The First Twenty Years. P. 45—47.
7 Классическим примером такого превращения может служить стихотворение У. X. Одена «Памяти Зигмунда Фрейда» (1939), где о покойном
докторе говорится, что «он совсем не был умен», «часто бывал не прав и
временами абсурден» (Auden W. Н. Collected Poems. New York, 1991. P. 274,
275).
8 Об эволюции жанра элегии в англоязычных литературах XX в. см.:
Sacks Р. М. The English Elegy: Studies in the Genre from Spenser to Yeats.
Baltimore; London, 1987. P. 227—328; Ramazani J. Poetry of Mourning: The
Modem Elegy from Hardy to Heaney.
9 Labrie R. The Catholic Imagination in American Literature. Columbia,
1997. P. 171.
10 Davie D. Thomas Hardy and British Poetry. New York, 1972. P. 186.
11 Lowell R. Collected Poems. New York, 2007. P. 17.
12 Источником этой части стихотворения Лоуэлла послужила книга
Э. И. Уоткинса «Католическое искусство и культура» (см.: Labrie R. The
Catholic Imagination in American Literature. P. 169).
13 Lowell R. Collected Poems P. 18.
14 Образ, восходящий к мильтоновскому Дагону из I книги «Потерянного рая».
15 См.: Bethea D. М. Joseph Brodsky and the American Seashore Poem:
Lowell, Mandelstam and Cape Cod // Harvard Rev. 1994. No. 6. P. 115—122;
Weiner A. Influence As Tribute in Joseph Brodsky’s Occasional Poems: A Study
of His Links to Modern English-Language Poets // Russ. Rev. 1994. Vol. 53,
No. 1. P. 45—52; Rigsbee D. Styles of Ruin: Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy. Westport (Connect.); London, 1999. P. 119—124.
16 Сходная мысль высказана Д. Бетеа по поводу стихотворения «То Му
Daughter», где также разрабатывается мотив редукции «культурного» поэтического слова, его «овеществления»: «Вместо бюстов, торсов, Овиди-
евых подсвечников и бесформенных обломков “руин”, ассоциирующихся с манделыитамовской тоской по мировой культуре, — последние рубежи
мебели, частицы пыли и декультивированной “материи как таковой”»
(Бетеа Д. М. «То My Daughter» (1994) // Как работает стихотворение Бродского: Из исслед. славистов на Западе. М., 2002. С. 239).
17 Rigsbee D. Styles of Ruin: Joseph Brodsky and the Postmodernist Elegy.
P. 142.
276
К. С. Соколов
18 Этим термином классическая филология обозначает стихотворение,
в котором поэт явно или скрыто отказывается писать на определенную
тему или придерживаться определенного стиля (The New Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. Princeton, New Jersey, 1993. P. 1017). Риторический прием recusatio характерен для программных текстов, обновляющих
традицию.
19 Об этом стихотворении см., например: Bloom Н. Wallace Stevens:
The Poems of Our Climate. Ithaca; London, 1980. P. 84—85, 143—149;
Longenbach J. Wallace Stevens: The Plain Sense of Things. New York; Oxford,
1991. P. 205—207, 213—217; Dolan J. Refusal to Mourn: Stevens and the Self-
Centered Elegy// J. of Modem Lit. 1997-1998. Vol. 21, No. 2. P. 209-222;
Lowney J. History, Memory, and the Literary Left: Modem American Poetry,
1935—1968. Iowa City, 2006. P. 1—3, 23—29; Holander S. Wallace Stevens and
the Realities of Poetic Language. New York; London, 2008. P. 110—128.
Аналогии между «отказом» от «Большого стиля» в римской поэзии и поэтикой recusatio в «The Man on the Dump» рассматриваются в работе:
Davis G. The Disavowal of the Grand (Recusatio) in Two Poems by Wallace
Stevens // Pacific Coast Philology. 1982. Vol. 17, No. 1/2. P. 92—102.
20 Действительно, ничто в тексте стихотворения Бродского не требует
употребления предлога «на» с существительным «свалка».
21 О соотношении этих двух текстов см.: Венцаова Т. «Кенигсбергский
текст» русской литературы и кенигсбергские стихи Иосифа Бродского //
Как работает стихотворение Бродского. С. 58—60. О Бродском и Стивенсе см. нашу работу: Соколов К. С. Уоллес Стивенс в художественном восприятии Иосифа Бродского // Знание. Понимание. Умение. 2010. № 4.
С. 157-162.
22 См.: Longenbach J. Wallace Stevens: The Plain Sense of Things. P. 205.
23 Stevens W. Collected Poems. New York, 1990. P. 201.
24 Ibid. P. 202.
25 Ibid.
26 Ibid. P. 203.
27 Bloom H. Wallace Stevens: The Poems of Our Climate. P. 146.
28 Cm.: Ramazani J. Poetry of Mourning: The Modem Elegy from Hardy to
Heaney. P. 87—134. «Отказ» от поэтических конвенций, по мнению Дж. Долана, обращен против одного из ключевых текстов этой традиции — «Элегии, написанной на сельском кладбище» Дж. Грэя (см.: Dolan J. Refusal to
Moum: Stevens and the Self-Centered Elegy. P. 209—212, 217—222).
С. Г. Николаев
Ростов-на-Дону
БРОДСКИЙ - ПЕРЕВОДЧИК НАБОКОВА
(об одном опыте русско-английского
поэтического переложения)
Переводческий сегмент литературного наследия Иосифа Бродского изучен пока слабо и составляет пробел в бродсковедении.
Между тем хорошо известно, что поэт на всех этапах творческой
деятельности занимался межъязыковыми поэтическими переложениями1. Он всерьез интересовался техникой поэтического перевода, вырабатывал, на основе наблюдений над чужими работами и на
собственном опыте, вполне определенные взгляды на то, какой
текст-перевод может считаться хорошим, а какую попытку следует признать неудачной; какой переводчик преуспел в конкретном
случае, а какой — нет2. Имеется весьма внушительный корпус английских текстов, представляющих русско-английские переводы
поэзии Бродского, созданные или при его живейшем участии, или
им самим (автопереводы).
Бродский также неоднократно обращался к практике перевода на английский русских поэтов: среди опубликованных им текстов — переложения стихов Мандельштама, Цветаевой, Хлебникова. Но начинал он со стихов Набокова; этот уникальный опыт
представляется значительным и заслуживает специального рассмотрения.
В книге С. Волкова «Диалоги с Иосифом Бродским» один из
фрагментов беседы звучит настолько интригующе, что имеет
смысл привести его почти целиком:
Волков: Помнится, в первом номере возобновившего свой выход высоколобого «Кэньон Ревью» был помещен сделанный вами
перевод стихотворения Владимира Набокова — с русского на английский. Возникла интересная историко-лингвистическая ситуация. Что вы испытывали, переводя набоковское стихотворение?
Бродский: Ощущения были самые разнообразные. Прежде всего, полное отвращение к тому, что я делаю. Потому что стихотворение Набокова — очень низкого качества. Он вообще, по-моему,
несостоявшийся поэт. Но именно потому, что Набоков несостояв-
шийся поэт, — он замечательный прозаик. Это всегда так. Как
правило, прозаик без активного поэтического опыта склонен к
278
С. Г. Николаев
многословию и велеречивости... Итак, отвращение. Когда издатели «Кэньон Ревью» предложили мне перевести стихотворение
Набокова, я сказал им: «Вы что, озверели, что ли?» Я был против
этой идеи. Но они настаивали... Ну, я решил — раз так, сделаю, что
могу. Это было с моей стороны такое озорство-неозорство. И я
думаю, между прочим, что теперь — то есть по-английски — это
стихотворение Набокова звучит чуть-чуть лучше, чем по-русски.
Чуть-чуть менее банально. И, может быть, вообще лучше переводить второстепенных поэтов, второсортную поэзию, как вот стихи Набокова. Потому что чувствуешь, как бы это сказать... большую степень безответственности. Да? Или, по крайней мере,
степень ответственности чуть-чуть меньше. <...> Если бы меня
попросили переводить Марину Ивановну Цветаеву, Бориса Леонидовича Пастернака, то я бы сильно задумался. <...> Но до этого
никогда не дойдет, я надеюсь. Потому что это был бы — полный
позор3.
Внесем необходимые пояснения. Речь идет о ранней стихотворной миниатюре В. Набокова, написанной в Берлине 27 сентября 1924 г. (датировано автором) и впервые опубликованной в газете
«Русское эхо» от 4 января 1925 г. (№ 74). Вот ее полный текст:
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?
И демон мне в ответ: «Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.
Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой».
Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать4.
В 1979 г. журнал «Kenyon Review» (США) публикует английский текст Бродского:
Demon
Where have you flown here from? What kind of grief d’you carry?
Tell, flier, why your Ups do lack
a tint of life, and why the sea smells in your wings?
Бродский — переводчик Набокова
279
And Demon answers me: «You’re young and hungry,
but sounds won’t satiate you. So don’t pluck
your tightly drawn discordant strings.
No music’s higher than the silence. You were bom
for strict, austere silence. Learn
its stamp on stones, on love, on stars above your ground».
He vanished. Darkness fades. God ordered me to sound5.
Из приведенного выше ответа-комментария Бродского ясно,
что за работу с набоковским текстом он принимался неохотно,
поскольку считал его посредственным («очень низкого качества»).
Да и самого автора он дважды называет «несостоявшимся поэтом»
в противоположность положительной оценке его опытов в прозе6.
Он высказывает гипотезу о закономерности такого явления, когда стихи прозаиков принципиально отличаются «многословием и
велеречивостью». Однако, судя по всему, работа над переводом
увлекает Бродского («озорство-неозорство») и приводит к неожиданным, ободряющим результатам: сравнивая свой перевод с русским оригиналом, он отмечает преимущества первого над вторым
(«звучит... менее банально»). Этот, казалось бы, «самонадеянный»
тон переводчика смягчается завершающей мыслью о крайней
сложности переложений на английский таких поэтов, как Цветаева и Пастернак (пиетет и любовь говорящего к ним выражаются,
в частности, в том, что он называет полные формы их имен7).
Как возникла и чем разрешилась эта встреча двух писателей,
представлявших разные поколения русской эмиграции? Почему
Бродский утверждает, что в его английском переводе Набоков-
поэт звучит лучше? В чем объективно заключается та разница,
которая позволяет сделать столь «нескромный» вывод? И отчего,
наконец, по мнению Бродского, аналогичный опыт работы со стихами двух других русских поэтов XX в. обречен?
Два небольших текста, как представляется, дадут возможность
ответить на эти вопросы. Сопоставление лингвистической специфики организации стихотворений позволит, хотя бы отчасти, уяснить те законы, которые лежали в основе творчества самого Бродского — переводчика с русского на английский, переводчика с
иностранных языков на русский и, шире, автора значительного
поэтического наследия. Выгодный контрастный фон, который
являет собой «слабый» оригинал «плохого» поэта Набокова, окажет существенную помощь.
280
С. Г. Николаев
Выбор текстов оправдан еще и потому, что английская версия
отличается высокой степенью семантического соответствия русскому оригиналу: наличие и очевидность этого даже позволили
автору литературоведческого обзора двух «Демонов» назвать перевод Бродского «практически дословным» (в работах специалистов
по поэтическому переводу такая характеристика прозвучала бы
далеко не комплиментарно)8. Для нас особое значение имеет то,
что английский текст, представляющий добротную иллюстрацию
буквалистского подхода к поэтическому переложению, снимает
необходимость скрупулезного сопоставления передачи смысловых
и стилистических характеристик русского стихотворения в переводе и смещает акценты в сторону сопоставления структурных
показателей обоих текстов. Мы полагаем, что в решении проблемы индивидуальной поэтической системы анализ просодической,
формальной стороны поэтического произведения способен привести к надежным и непротиворечивым выводам. Начнем с рассмотрения содержательной стороны русского стихотворения (поскольку английский вариант в этом близок русскому, его семантика
подробно рассматриваться не будет).
Итак, в набоковском тексте представлены три действующих
лица: лирический герой, как бы из тьмы возникающий пред ним
демон и Бог. Ночной разговор между героем и демоном занимает
большую часть текста: вопросы героя содержатся в первой строфе
стихотворения и не выделяются кавычками (полупрямая речь), а
ответы — точнее, советы и предостережения демона — частично во
второй и во всей третьей строфах. Бог упомянут лишь в последней,
графически выделенной (одиночной) строке. Авторское «я» здесь
элиминировано. Конфликт происходит и проходит между двумя
полюсами — демоном и Богом, но объектом их борьбы выступает
герой-поэт. Демон связан с горем, ночной тьмой, смертью, незву-
чанием. Бог соотнесен с утренним светом (имплицитно) и пением, воспеванием, творчеством (эксплицитно — через лексему «звучать»).
Показательно также, что демон наделен яркими индивидуальными чертами: он зрим («прилетел», «дышишь», «уста... как мертвые, бледны», «крылья») и даже обоняем («крылья пахнут морем»);
он до известной степени понятен («дышишь горем»), но в то же
время тревожно-загадочен («откуда...?», «каким...?», «скажи мне,
отчего...?»). Этот персонаж в целом красноречив и поэтичен. Бог
же, напротив, передан аскетически сухо: он бесплотен, а потому
незрим; безмолвен, а потому, возможно, и неслышим («веление
звучать» могло быть послано герою «нечувственным» путем).
Внимательному читателю, однако, ясно, что именно Бог становится победителем в поединке с демоном. Причем, судя по грам¬
Бродский — переводчик Набокова
281
матическому прошедшему времени замыкающей фразы «Мне Бог
велел звучать», происходит это задолго до состоявшейся встречи
поэта с демоном. Таким образом, налицо семантическая антитеза
по типу акротезы, при которой показано не контрастное сосуществование двух противопоставленных компонентов, а полное исключение одного компонента на фоне и в присутствии другого.
В чем состоят доводы демона, предостерегающего героя от
«звучания»? Очевидно, в том, что «насытиться звуками» невозможно, что «струны натянуты», но они «нестройны», что «тишина —
вот высшая музыка» и что печать тишины можно различить на
всем: «на камне, на любви и в звездах над дорогой». Следует заметить, что генеральная идея произведения о предпочтительности и
преимуществах тишины перед звучанием, молчания перед пением, нетворчества перед творчеством не раз высказывалась в русской классической поэзии. Назовем только два самых известных
примера. В 30-е гг. XIX в. появляется «Silentium!» Ф. Тютчева с его
рефреном «молчи» и знаменитой сентенцией «мысль изреченная
есть ложь». В 10-е гг. XX в. «Silentium» пишет и публикует О. Мандельштам, и в этом произведении идея тишины приобретает
субъективную, личностно-авторскую окраску («Да обретут мои
уста / Первоначальную немоту, / Как кристаллическую ноту, / Что
от рождения чиста!»).
Напомним, что Набоков, блестящий знаток русской классической поэзии, написал стихотворение не только с учетом по меньшей мере одного из названных нами произведений (Тютчев), но
ориентируясь на романтического «Демона» Лермонтова. Не будет
натяжкой допустить, что Набоков, в молодости высоко ценивший
Блока, не избежал и его влияния: «демоническая» тема занимала
в поэзии Блока важное место. Им были написаны два стихотворения, названные «Демон», из которых первое, «Прижмись ко мне
крепче и ближе...» (1910), опирается на образную палитру лермонтовской поэмы и развивает ее тематику. Оба произведения посвящены любви, герой в них отождествляет себя с демоном, выступающим в роли протагониста.
Любое нетворческое заимствование Бродский считал непростительной авторской слабостью и не признавал здесь никаких компромиссов: «Служенье муз прежде всего тем и ужасно, что не терпит повторенья: ни метафоры, ни сюжета, ни приема» (5, 136). Не
это ли послужило ему основанием для упрека набоковского текста в «банальности»? А если принять во внимание, что лермонтовский «печальный дух изгнанья» прочно вошел в русскую художественную культуру последней трети XIX в. (одноименная опера
А. Рубинштейна, графические иллюстрации к поэме и известная
серия живописных полотен М. Врубеля — «Демон сидящий», «Ле¬
282
С. Г. Николаев
тящий демон», «Демон поверженный»), то ответ на этот вопрос будет скорее всего положительным.
Важным представляется также то, что набоковский демон —
это не древний языческий злой дух, мятежный, таинственный,
вызывающий сострадание9. Он — дьявол христианства, бес, искушающий юного певца соблазном тишины, налагающий печать
молчания на его уста10. В поединке с Богом демон безоговорочно
проигрывает, в чем видится принципиально иное решение, нежели то, которое выводится из упомянутых выше «Silentium’oB».
В стихотворении Набокова переводчика привлекают двуполярная смысловая структура и неравное распределение материала по
двум полюсам, а также парадокс: Бог, оказавшись началом триумфальным, подан с предельным лаконизмом, в то время как терпящий поражение демон представлен «избыточно щедро». Было бы
недостаточным полагать, что Бродского не устраивала только «избитость» основной идеи поэтического опыта молодого Набокова.
Его весьма суровое определение «банальный» распространяется не
столько на то, о чем говорит Набоков, сколько на то, как он это
делает, т.е. на поэтическое выражение мысли, в итоге — на верификационное несоответствие формы произведения его содержанию. Структурно-сопоставительный анализ двух текстов поможет
выявить это противоречие.
Первое, на что стоит обратить внимание, — графическое построение набоковского текста. Он дан в виде трех самостоятельных
терцин с заключительным одиночным стихом. Строфику оригинала и графический рисунок Бродский в переводе сохраняет. Это
дает право говорить об относительной эквилинеарности перевода
оригиналу (совпадают число, порядок строф и количество строк,
но не число слогов в строке).
Оригинал и перевод заметно различаются в организации рифмы. Стихотворение Набокова написано классическими терцинами, где средняя строка рифмуется с первой следующей строфы
(АбА бВб ВгВ г). В переводе рисунок и логика рифм кардинально
изменены — теперь это Abc Abc dde е. Иными словами, при внешнем сходстве строфики в переводе мы имеем одно шестистишие с
межстрофным интервалом между третьим и четвертым стихами и
четверостишие со смежной рифмовкой и графически самостоятельным финальным стихом. В этой особенности английского текста усматривают (наряду с введением заглавия) актуализацию лермонтовского подтекста стихотворения Набокова: «отступление от
терцин оригинала выглядит почти преднамеренным, устраняющим
“лишние” дантовские аллюзии»11.
Нам же более значимым представляется другое: меняя рифменную организацию произведения, Бродский достигает по мень¬
Бродский — переводчик Набокова
283
шей мере три цели. Во-первых, он увеличивает число концевых
созвучий (с четырех до пяти). Во-вторых, увеличивает дистант-
ность рифмующих строк шестистишия («разводит» рифмы на одну
дополнительную строку) и сокращает в четверостишии (стягивает
межрифменный интервал до одной строки), т.е. создает предельно контрастный рисунок концевых повторов. В-третьих, решительно отвергает (исправляет?!) предсказуемость «рифменного
ожидания» (Г. Шенгели) русского оригинала.
Коррекции подвергается и фоника рифм. Набоков чередует
женские рифмы с мужскими (все закрытые), завершая стихотворение мужской клаузулой, в то время как английский вариант написан преимущественно мужскими рифмами (четыре из пяти; то
же соотношение составляют открытые и закрытые). Рифмы русского оригинала достаточно изобретательны (летун — юн — струн,
(не) трогай — строгой — дорогой, печать — звучать) и предельно
точны. Не составляет исключения и открывающая текст флективная рифма горем — морем. Английский перевод дает иную картину: дистантные рифмы шестистишия, т.е. начального эпизода стихотворения, отличаются неточностью (диссонансная рифма, или
pararhyme в английской традиции). Это первая пара carry — hungry
и следующая за нею lack — pluck. Контактные рифмы четверостишия, напротив, фонетически точны (bom — learn, ground — sound).
Точность отличает и завершающую грамматическую рифму шестистишия (wings — strings). Создается впечатление, что Бродский
расшатывает рифменные скрепы оригинала весьма парадоксальным образом: дистантные рифмы наделяет меньшей точностью,
контактные — большей, увеличивая сходство концевых созвучий
от начала к концу произведения. Этим подчеркивается смысловая
асимметричность стихотворения.
Сравним семантические характеристики слов, которые выбраны обоими авторами для концевого созвучия. У Набокова рифмующаяся лексика легко составляется в смысловые кластеры, основанные на отношениях сходства или контраста. Так, слова «горем»
и «морем» входят в характеристику демона. Группа летун — юн —
струн распадается на две части: «летун» — демон; «юн», «струн» —
характеристика и атрибутика лирического героя. Комплекс (не)
трогай — строгой — дорогой отражает суть «убеждающей философии» демона. Последняя пара печать — звучать антонимически
обозначает молчание и творчество, т.е. демоническое и божественное.
Выбор рифмующейся лексики Бродского основан в целом на
том же принципе: сопоставление и сближение контрастных значений и их ассоциаций. Так, в шестистишии глагол «carry» (букв,
«[горе] несешь» — ср. с «дышишь [горем]» в оригинале) противо¬
284
С. Г. Николаев
поставлен прилагательному «hungry» («голодный»); «lack» (букв,
«не иметь» — об отсутствии живого цвета на губах демона) смеж-
но-контрастно соотносится с «[don’t] pluck» (букв, «не дергай, не
щипай» — о струнах); наименование атрибута «wings» («крылья»)
противопоставлено атрибуту «strings» («струны»). В четверостишии
«Ьот» («рожден») связано с «1еат» («узнай, познай») как причина со следствием, a «ground» («земля» — признак суетного, тщетного, небожественного — ср. с «дорогой» у Набокова) составляет
антоним к «sound» («звук», здесь действие — «звучать», признак
вечного, небесного, божественного). Имеются и буквальные соответствия рифмующихся слов в обоих текстах. Так, из десяти стихов идентичность концевой лексики обнаруживается в четырех
случаях («не трогай» — «don’t pluck»; «струн» — «strings»; «над дорогой» — «above your ground»; «звучать» — «to sound») с полным совпадением указанных эпизодов по номерам строк. Еще один —
четвертый — стих примыкает к указанным, поскольку в переводе
в нем изменен лишь порядок следования двух слов оригинала:
«[Ты] голоден и юн» — «[You’re] young and hungry». Это еще раз
говорит о том, что переводчик не допускал возможности каких-
либо семантических модификаций набоковского текста. Он видел
задачу в том, чтобы правильно передать его по-английски. Иной
метод применен Бродским в работе с метрической структурой исходного стихотворения.
Оно написано шестистопным ямбом с большой мужской цезурой после третьей стопы. Такой размер с его торжественным,
плавным ритмом звучит архаично (пик его популярности приходится на XVIII — начало XIX в.12). К середине XX столетия «шестистопный ямб исчезает почти начисто — видимо, для поэтов он
уже не классический, а “доклассический” размер»13. Наличие отчетливой цезуры, делящей строку строго пополам, усиливает эффект замедленного, сдержанного темпа стиха. Эта метрическая
схема носит неизменный характер: она не обнаруживает существенных трансформаций на протяжении всего произведения.
Единственное отклонение от нее — пропуск ударения на одном из
иктов в некоторых длинных (трех- и четырехсложных) словах:
«прилетел», «голоден», «насытишься» и т.д. Впрочем, монотонности произведения это не нарушает.
Бродский хорошо знал этот размер и ценил его за торжественную, «мрачную» окраску. В зрелые годы ямбический шестистоп-
ник послужил ритмической основой для написания таких вещей,
как «Пятая годовщина» («Падучая звезда, тем паче — астероид...»,
1977), «Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...» (1987),
«На столетие Анны Ахматовой» («Страницу и огонь, зерно и жернова...», 1989), «Письмо в оазис» («Не надо обо мне, не надо ни о
Бродский — переводчик Набокова
285
ком...», 1994). В них правильный ритм выдержан от начала произведения до конца.
В английской версии переводчик не столь последователен в
соблюдении метрических требований оригинала. В целом он демонстрирует стремление к сохранению ритма: в английском это
ямб, хотя и нерегулярный. Бродский делает довольно смелый шаг,
выстраивая новый текст на силлабо-тоническом, т.е. «русском»
ритмическом, принципе (безударные слоги в нем чередуются с
ударными, что не допускает скопления «лишних» слабых слогов).
Одновременно вводятся нарушения в ритмическую структуру нового текста. Задав ритм 1-й строкой (тот же, что и в оригинале,
шестистопник с большой цезурой, делящей стих на две равные
части), Бродский во 2-й строке меняет количество ударных слогов.
Такое отклонение не единично: половина строк перевода (пять из
десяти) оказывается укороченной. Например, 2-я строка содержит
четыре стопы, 4-я и 5-я — пять, 6-я и 8-я — снова четыре. То, что
переводчик делает это намеренно, легко доказать экспериментальным путем.
Воспользуемся примером двух строк из числа самых коротких — 2-й и 8-й. Вторая могла бы читаться без ритмических нарушений, если бы в нее вошла фраза «а tint of life», перенесенная
в начало соседней, 3-й, строки. Тогда второй стих звучал бы:
«Tell, flier, why your lips do lack a tint of life», т.е. в соответствии с
заявленным ритмическим принципом. Теперь переместим фразу
«its stamp on stones» (до запятой, маркирующей паузу) из начала
9-й строки в конец 8-й и, читая ее от начала, получим: «for strict,
austere silence. Learn its stamp on stones...» — тот же шестистопник
оригинала. В обоих случаях ощутимым стал бы и срединный
словораздел — смежная паузная цезура в первом примере и несмежная большая в последнем. Одновременно в них исчезает ан-
жамбеман — более энергичный в переводе, чем в аналогичных
фрагментах у Набокова.
Что касается цезуры, то с ней Бродский обходится вольно:
большинство английских строк ее не содержат (пропорция между
цезурованными и нецезурованными в переводе составляет 4:6; в
оригинале без цезуры только один, 5-й, стих: «...но не насытишься ты звуками. Не трогай...»). По-видимому, переводчик устраняет внутристиховые паузы намеренно. Об этом говорит следующий
факт: вводные строки первой и второй строф перевода содержат
срединную цезуру, маркированную знаками препинания (вопрос
и двоеточие). Ее присутствие в начальных стихах свидетельствует
о заданности паузы. Но в последующих стихах она снимается переводчиком и появляется только в двух заключительных стихах,
т.е. в смысловом и фактическом финале стихотворения.
286
С. Г. Николаев
Эти два стиха — как в русском, так и в английском текстах —
примечательны еще и тем, что каждый распадается на три (неравных) ритмических эпизода, разделенных в девятой строке однородными пространственными предлогами («на камне», «на любви и в
звездах» / «on stones», «on love, on stars»: полисиндетон), а в десятой — двумя неравнозначными цезурами. Таким образом, внешняя
(шестистопная) и внутренняя (расчлененная) ритмические структуры финальных строк в переводе оказываются строго выдержанными.
Анализируя метрический облик текстов, нельзя игнорировать
упомянутый нами анжамбеман, при котором фразовое членение
поэтического высказывания вступает в противоречие с его ритмической сегментацией. Строфических анжамбеманов нет ни в
русском, ни в английском стихотворениях (границы строф совпадают с границами предложений и завершаются знаками препинания), но имеются строчные переносы. В русском варианте их три
из девяти возможных: «Не трогай / натянутых тобой нестройных
этих струн»; «Для строгой / ты создан тишины»; «Узнай ее печать /
на камне...». Все они характеризуют речь демона и концентрируются в срединной и финальной частях текста.
В переводе их количество приближается к половине (четыре из
девяти): «why your lips do lack / a tint of life»; «so don’t pluck / your
tightly drawn discordant strings»; «you were born / for strict, austere
silence»; «learn / its stamp on stones...». Два случая обнаруживают
позиционное совпадение с анжамбеманами оригинала (стихи 7—
8, 8—9). В английском тексте, в отличие от русского, переносы
распределены достаточно равномерно.
Укажем также на ряд более мелких, но существенных деталей
перевода. Вслед за оригиналом Бродский сохраняет логически
и эмоционально оправданный повтор ключевого слова «тишина» — «тишины» (silence — silence), замыкающий две смежные фразы 7-го и 8-го стихов и создающий эффект эпифоры14.
Русский эпитет «строгая» при слове «тишина» в английском
тексте приобретает дополнительную экспрессивность, поскольку
передается при помощи синонимической пары «strict», «austere»
(оба слова означают «строгий», но второе несет смысловой обертон «аскетический, суровый»).
Не ускользает от переводчика и аллитерация в речи демона
(«не трогай... нестройных этих струн... для строгой...»). Она сохранена в английском тексте: «sounds won’t satiate you. So don’t
pluck...». И далее — более определенно: «for strict, austere silence.
Learn its stamp on stones...».
Эти выявленные в двух текстах различия на фоне сохраняющихся соответствий позволяют прийти к следующим выводам.
Бродский — переводчик Набокова
287
В плане содержания Бродский нацелен на поиск эквивалентов и
достигает высокой точности в переводе. Содержание — это образы, символы, лексика, их расположение, синтаксическая структура текста в целом и отдельных его частей. Несмотря на декларируемую Бродским вторичность, идейную скудость набоковского
произведения, он отвергал возможность «исправить» или как-либо
изменить его содержание.
Но в области просодии Бродский считал себя вправе распоряжаться текстом перевода по своему усмотрению. Причина этого,
вероятно, в том, что, будучи вполне сформировавшимся поэтом,
он не мог смириться с ключевым недочетом в произведении Набокова: несоответствием поэтической формы содержанию. Ровный, спокойно-размеренный ритм стихотворения вступал в противоречие с резкой асимметричностью идейной конфигурации.
Бродский проводит ревизию просодического облика произведения:
1) он обогащает и модифицирует схему рифм двух первых частей оригинала, увеличивая интервал между рифмующими строками; рифменный рисунок стихотворения изменяется, поскольку две
первые строфы противостоят двум заключительным частям по
признаку контактности/дистантности рифм;
2) расшатывает рифменные скрепы отправной части стихотворения, намеренно вводя неточную рифму, и противопоставляет ее
точным рифмам центрального и конечного эпизодов;
3) нарушает слоговую структуру строки, задавая сначала один
ритм, затем неожиданно вводя укороченные стихи, потом контрастно возвращаясь к первоначальному ритму;
4) снимает в большинстве стихов срединную цезуру и таким
образом разрушает дополнительный фактор монотонии оригинала;
5) увеличивает число строчных анжамбеманов и, в отличие от
оригинала, распределяет их относительно равномерно по всему
тексту произведения.
Показательно, что эти модификации коснулись «предваряющей», большей по объему части стихотворения и не были распространены на ее итоговую часть — последние две строки, в которых
нашли отражение такие особенности оригинала, как шесть регулярных стоп, смежная цезура, трехчастное членение стиха. Иными словами, смысловая асимметрия стихотворения Набокова не
просто сохраняется и переносится в оригинал, она приводится в
соответствие с заново созданной просодической асимметрией перевода: размеренный ритм оригинала нарушается в сторону ускорения в начальной и срединной частях (тема демона) и вводится —
с сопутствующим эффектом «резкого замедления» ритма — в за¬
288
С. Г. Николаев
ключительной части (тема Бога). К названным приемам ускорения
речи относится и расширенное использование стяженных английских форм «d’you», «won’t», «don’t», «music’s» (вместо «do you» и
т.д.); среди приемов замедления имеется словесный повтор («silence» — «silence»), семантический повтор («strict», «austere [silence]»),
параллелизм в сочетании с полисиндетоном.
Из всего изложенного напрашиваются как минимум два итоговых соображения. Во-первых, Бродский, как, возможно, никто
другой из современных русских поэтов, знал и ценил монотонию
стиха и добивался ее в собственных произведениях15. В то же время он, во-вторых, неоднократно упоминал о динамике поэтической речи, когда благодаря искусному использованию различных
приемов языковой выразительности мысль «невероятно», по определению Бродского, разгоняется и ускоряется16.
В обоих случаях — и с монотонней, и с «ускорением» — традиционно формальным признакам Бродский отводил определяющую роль, указывая на то, что в поэзии просодия не просто связана со смыслом всей вещи, но сама превращается в этот смысл.
Набоковский текст не мог удовлетворить Бродского, и в переводе
он реконструирует просодию. В итоге создается качественно новая динамика, которая изменяет поэтическую задачу и смысл творческого результата.
В рассуждениях о динамике поэтической речи Бродский идет
дальше. Он разделяет эту «ускоряющую» силу стиха на две разновидности. И здесь мы подходим к уяснению того различия, которое в плане перспектив перевода Бродский видел между стихами,
с одной стороны, Набокова, а с другой — Цветаевой и Пастернака. «...Как поэт он [Пастернак] чрезвычайно интересен. Говорю это
скорее в английском, нежели русском, смысле. Как ремесленник,
он жутко интересен, просто захватывающ. То, что он делает внутри строфы... мне жутко интересно с профессиональной точки зрения. Но тем не менее... Мне не нравится его вектор. Пастернак —
поэт центростремительный, а не центробежный. В то время, как
эти трое [Цветаева, Мандельштам, Ахматова] были поэтами центробежными»17.
Как видим, «движущая сила» стихов может быть, по мысли
Бродского, разной (центростремительной либо центробежной), и
поэт отдает предпочтение второй перед первой. Но в любом случае присутствие того или иного «вектора» в стихах есть знак их
высокого качества, оправдание создания и существования текста.
Такие стихи переводить нелегко, почти невозможно. Для Бродского «это был бы — полный позор».
Гораздо проще и, должно быть, увлекательнее переводить «второсортную поэзию, как вот стихи Набокова». При этом велик со¬
Бродский — переводчик Набокова
289
блазн изменять, исправлять несоответствия между содержанием и
формой, следуя собственному поэтическому чутью и стремясь достичь результата, который бы звучал «лучше, чем по-русски». Ведь
«искусство, поэзия в особенности, тем и отличается от всякой
иной формы психической деятельности, что в нем все — форма,
содержание и самый дух произведения — подбирается на слух»
(5, 150).
1 Наиболее полные сведения о переводах Бродского с указанием языков-источников и языков, на которые делались переводы, а также датировку текстов см.: Полухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха.
СПб., 2008. С. 68, 69, 84, 85, ИЗ, 130, 142, 146, 147, 160, 168, 169, 176, 177,
184, 185, 210, 212, 221, 241, 248, 249, 300, 309, 322, 335, 356, 357, 373, 389,
405, 420, 421, 435, 445, 467.
2 См. апологетику переводов стихов Р. Фроста, выполненных А. Сергеевым, а также рассуждения Бродского о принципиальных отличиях англорусского перевода от русско-английского: Волков С. Диалоги с Иосифом
Бродским. М., 2000. С. 94—95. И наоборот, негативную оценку переводов
Дж. Донна, сделанных Б. Томашевским, см.: Там же. С. 161—162.
3 Там же. С. 171.
4 Набоков В. В. Стихотворения. СПб., 2002. С. 295.
5 Kenyon Review (New Series). 1979. Vol. 1, No. 1. P. 120.
6 Бродский неоднократно давал лестную оценку прозы Набокова, не
забывая при этом сопоставлять ее с набоковскими стихами. У него была
собственная «теория», согласно которой все творчество и биографию Набокова можно рассматривать как одну гигантскую рифму («бессознательное стремление несостоявшегося поэта»), выявляющую двойственность
автора в создании прозы и поэзии, русских и английских версий его романов, литературной фигуре двойника и т.д. (см., например: Волков С.
Диалоги с Иосифом Бродским. С. 291; Бродский: кн. интервью / Сост.
B. Полухина. 3-е изд., расш. и испр. М., 2005. С. 588).
7 Об этой привычке Бродского см. в воспоминаниях его друзей, например: Штерн Л. Бродский: Ося, Иосиф, Joseph. М., 2001. С. 10, 11.
8 Куллэ В. «Демон» Набокова и «Небожитель» Бродского // Лит. обозрение. 1999. № 2. С. 86.
9 См., например: Большой энциклопедический словарь. М., 1997.
C. 341.
10 Ср.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1986. С. 137.
11 Куллэ В. «Демон» Набокова и «Небожитель» Бродского. С. 87.
12 Квятковский А. П. Поэтический словарь. М., 1966. С. 363.
13 Гаспаров М. Л. Очерк истории русского стиха. М., 2000. С. 273.
14 Ср.: «...Эпифора особенно пригодна для подчеркивания стабильности, непреложности конечного вывода, итога, результата, причем вывод
290
С. Г. Николаев
этот носит пессимистическую и отрицательную окраску» (Хазагеров Т. Г.,
Ширина Л. С. Общая риторика: Курс лекций и словарь риторических фигур. Ростов н/Д, 1994. С. 171).
15 См. об этом: Беглов А. Л. Иосиф Бродский: монотония поэтической
речи (на материале 4-стопного ямба) // РЫ1ок^юа. 1996. Т. 3, № 5/7.
С. 109-124.
16 См., например, его эссе о Мандельштаме «Сын цивилизации»
(5, 92—106) и о Цветаевой «Об одном стихотворении» (5, 142—187).
17 Бродский: кн. интервью. С. 569.
ТИПОЛОГИЯ И КОНТЕКСТЫ
И. И. Ковалева
Москва
«У ТЕБЯ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ»:
БРОДСКИЙ И СОКРАТ
(к постановке проблемы)
Для поэтики Бродского характерно существование античного
персонажа (исторического или мифологического), с которым соотносит себя лирический герой. В ранних стихах (до 1962 г.) таким
«античным прототипом» был Орфей, поэт и любовник; в десятилетие 1962—1972 гг. (до высылки из СССР) — это Тесей (победитель чудовища, но обманутый возлюбленный) и Овидий (поэт в
изгнании); после 1972 г. античными героями лирики Бродского
становятся Одиссей (отказавшийся от возвращения на Итаку) и
Гораций (поэт, видевший залог бессмертия в поэзии)1.
Переломное в жизни поэта событие — обвинение в тунеядстве
и судебный процесс (1964) — поначалу, вероятно, не имело античного соответствия. После отъезда на Запад Бродский, не желая
создавать себе репутацию политического мученика, отказался обсуждать тему суда. Вместе с тем он, по-видимому, не переставал
думать об этом. То, что с ним произошло, напоминало суд над
Сократом — общими были надуманное обвинение и незаслуженно суровое наказание.
Конфликт личности и государства не был сугубо политическим. Бродский не раз подчеркивал, что его разногласия с властью
носят «эстетический» характер. Сократ, демонстрируя законопослушность, отказывался занимать государственные должности и
указывал на частный характер своего служения2. Между тем государство (и составляющая или поддерживающая его толпа) безошибочно опознает в философе или поэте чужака и отторгает его.
В 1976 г. написано стихотворение «Развивая Платона», в котором лирический герой мечтает жить в родном городе. Воображаемая жизнь совпадает с реальным прошлым Бродского. Ситуация
отчасти воспроизводит ту, что представлена в одном из самых знаменитых диалогов Платона — «Государство». В нем конструируется идеальный полис, а в диалоге «Критий», являющемся продолжением «Государства», описываются идеальные Афины, родной
город философа, отнесенный в далекое, мифическое прошлое.
Сходство вызвано еще и тем, что, вопреки названию платоновского диалога «РоШе1а» (буквально — «Государственное устройство»),
294
И. И. Ковалева
речь в нем, как и в стихотворении Бродского, идет о городе. И хотя
«город» Бродского не является полисом, к финалу стихотворения
он разрастается до города-государства, принимая на себя карательные функции. Хорошо известно, какой жестко регламентированной системой была утопия Платона. В финале стихотворения поэт
говорит о неизбежности ареста по любому из абсурдных обвинений, поддерживаемого криками толпы:
И когда бы меня схватили в итоге за шпионаж,
подрывную активность, бродяжничество, менаж-
а-труа, и толпа бы, беснуясь вокруг, кричала,
тыча в меня натруженными указательными:
«Не наш!», —
<...>
(3, 124)
Формулировки обвинений (за исключением акцентированного
стиховым переносом «менаж- / а-труа») содержат советский новояз. Между тем в «подрывной активности» можно расслышать отголоски обвинения, предъявленного Сократу: «Сократ... преступает закон тем, что развращает молодых людей и богов, которых
признает город, не признает, а признает другие, новые божественные знамения»3. Иронический финал стихотворения («запоминай
же подробности, восклицая “Vive la Patrie!”») перекликается с «патриотическим» поступком Сократа. Он остался в тюрьме, объяснив
это преданностью законам Отечества, даже если они обрекают его
на смерть (диалог Платона «Критон»). Стоит отметить, что лирический герой в «Развивая Платона» отнюдь не стремится противопоставить себя «населению города», он даже по мере сил старается слиться с ним:
Я бы вплетал свой голос в общий звериный вой
там, где нога продолжает начатое головой.
(3, 122)
Однако различение себя в толпе вызвано тем, что у субъекта
есть и другие занятия:
Там была бы Библиотека, и в залах ее пустых
я листал бы тома...
( Там же)
Пустые залы Библиотеки — свидетельство того, что о книгах
здесь вспоминают нечасто. Недаром в конце строфы появляется
«стих», позволяющий предположить «профессию» героя: он поэт.
«У тебя неправильные черты»: Бродский и Сократ
295
В «Государстве» Платона, как мы помним, поэзия подвергается
беспощадной критике. Гомер символически изгоняется из идеального полиса, в котором допустимы лишь гимны богам и первым
людям государства. Неангажированное творчество таит опасность
для души.
Отсылки к суду над Сократом встречаются и в других текстах
Бродского. В одном из интервью он фактически воспроизводит
формулировку обвинения Сократа «в развращении молодежи».
Это осуществляется не через признание новых богов, а «путем распространения произведений таких запрещенных авторов, как Ахматова и Цветаева»4. Здесь же Бродский приводит довод защиты
Сократа: «Я сказал, что, если хотя бы одно из обвинений справедливо, меня следует приговорить к высшей мере наказания, если же
нет, я должен быть немедленно освобожден»5. Те же слова встречаем в другом интервью: «Я сказал: “Если все эти обвинения верны, я должен получить высшую меру наказания. Если же нет, должен быть освобожден”»6. Ср. слова Сократа после обвинительного
приговора: «Ну а наказанием для меня этот муж полагает смерть.
Хорошо. Какое же наказание, о мужи афиняне, я должен положить
себе сам? Не ясно ли, что заслуженное? Так какое же? Чему по
справедливости подвергнуться... должен я... <...> Итак, чего же я
заслуживаю, будучи таковым? Чего-нибудь хорошего, о мужи афиняне, если уж в самом деле воздавать по заслугам...»7
Пьеса Бродского «Мрамор» (1982) развивает тему абсурдного
обвинения: герои, носящие псевдоримские имена, обречены пожизненно сидеть в тюрьме без всякой вины. По решению Императора, в заключении должны находиться 2% населения. Один из
действующих лиц, Туллий, совершает побег, но затем возвращается в тюрьму8.
В эссе «Путешествие в Стамбул» (1985) имя Сократа появляется в контексте темы суда и платоновской «Апологии Сократа»:
«Если в Афинах Сократ был судим открытым судом, имел возможность произнести речь — целых три! — в свою защиту9, в Исфага-
не или, скажем, в Багдаде такого Сократа просто бы посадили на
кол — или содрали бы с него живьем кожу, — и дело с концом, и
не было бы вам ни диалогов Платона, ни неоплатонизма, ни всего
прочего — как их действительно и не было на Востоке...» (5, 295).
В стихотворении «Театральное» (1994—1995) центральный
конфликт — столкновение личности, «я», «буквы, стоящей после
Ю», и некоего «города». Несмотря на то что речь в тексте идет об
историософской проблематике, тема суда занимает одно из важных мест. Лирический персонаж воплощает черты Одиссея (странник на пути в Аид, называющий себя «никто»10), слепых фиванцев
Тиресия, Эдипа («“Вокруг изобилие всех этих Фив и Трой”»;
«“Пусть знает, что заблудился, безглазый крот!”»)11 и Сократа.
296
И. И. Ковалева
«Театральное» открывается репликами горожан, определяющими
героя как нездешнего, всем чужого («“И одет не по-нашему...”»).
Это корреспондирует с реакцией толпы на лирического героя из
стихотворения «Развивая Платона»: «Не наш!» Приметы города
позволяют соотнести его с реальным топосом. Строки «“Наш город — великих традиций сплав!” / “Колыбель многих прав!”» иронически воспроизводят официальный титул «колыбели революции». Вид города в «Театральном» напоминает театральные
декорации и одновременно — городские картины в «Развивая
Платона»:
За этим классическим портиком — наш Сенат.
Мы здесь помешались от колоннад
из мрамора, с ультрамарином над;
(4, 181)
...мимо стройных нагих колонн с дорическою прической,
безмятежно белеющих на фронтоне Суда.
(3, 123)
Имеется библиотека, но, как и в предыдущем стихотворении,
ее никто не посещает, книги остаются нетронутыми:
А дальше — библиотека; но ей поджог
не грозит. Трудно поджечь ледник.
Я недавно туда проник:
книги стоят, но их не раскрыть. У книг,
стоящих нетронутыми века,
развивается мраморность...
(4, 182)
«Поджог» — это отсылка к Александрийской библиотеке, а
«нетронутость» и «ледник» — к «пустым залам» Библиотеки из
«Развивая Платона»12.
В репликах Хора упоминается шпионаж («“Или — римляне”.
“Да, и он — их шпион” <...> “А если он шпион и врет?”»). За ним
следуют абсурдное обвинение и осуждение героя на пожизненное
заточение в башне-тюрьме (отсылка к пьесе «Мрамор»). О Сократе напоминает и внешность героя («У тебя неправильные черты»),
противоречащая классическим канонам красоты (особенно странной для греков была курносость Сократа). Утверждая стилистическую несовместимость певца и государства, Бродский придает поэту «неправильные черты» Сократа.
«У тебя неправильные черты»: Бродский и Сократ
297
В заключение — одно любопытное сопоставление. В стихотворении «Театральное» все происходящее изображается как трагедия,
которую зрители наблюдают из зала:
<...> Но там чернеет зал,
пугающий глубиной и тьмой.
Вот вы
смотрите это из будущего. И для вас
это — трагедия и сюжет для ваз...
<...>
...Какой-то тип,
из ваших, полез, издавая скрип,
из партера на сцену...
(4, 179, 184)
По ходу развертывания стихотворения многократно нарушается и восстанавливается сценическая иллюзия, обыгрывается
полисемия слова «трагедия», формулируется ставшее хрестоматийным «В настоящей трагедии гибнет хор...». Но вот что интересно.
В последнем диалоге Платона (в «Законах»), продолжающем построение утопического государства (каковое, по мнению философа, вполне можно осуществить), нарисована еще более мрачная
картина, чем в «Государстве». Жизнь регламентирована буквально до каждого вздоха, за малейший проступок предусмотрено самое суровое наказание13. Существование в этом государстве мыслится Платону как трагедия, как совершеннейшее произведение
искусства. При этом творцы трагедий — поэты — в это государство
не допускаются, они не нужны и даже вредны. Один из собеседников, Афинянин14, говорит об этом так: «...мы и сами — творцы
трагедии, наипрекраснейшей, сколь возможно, и наилучшей. Ведь
весь наш государственный строй представляет собой подражание
самой прекрасной и наилучшей жизни. Мы утверждаем, что это и
есть наиболее истинная трагедия»15. Определение «настоящей трагедии» у Бродского продолжается так:
Но в настоящей трагедии16 гибнет хор,
а не только герой. Вообще герой
отступает в трагедии на второй
план. Не пчела, а рой
главное!
(4, 184)
Платон «Государства» и «Законов» с этим согласился бы17.
298
И. И. Ковалева
1 Об этом подробнее см. наши работы: Ковалева И. На пиру Мнемо-
зины // Бродский И. Кентавры. Античные сюжеты. СПб., 2001. С. 5—59;
Она же. Античность в поэтике Иосифа Бродского // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. СПб., 2003. С. 170—206; Она же. Античность в поздней лирике И. Бродского //Литература, культура и фольклор славянских
народов. М., 2002. С. 196—212.
2 «...A вашим [афинян] делом занимаюсь всегда, обращаясь к каждому частным образом, как отец или старший брат...» (Платон. Апология
Сократа, 31 Ь; здесь и далее перевод М. С. Соловьева); «Может в таком
случае показаться странным, что я подаю эти советы частным образом,
обходя всех и во все вмешиваясь, а выступать всенародно в вашем собрании и давать советы городу не решаюсь» (Там же, 31с); «Нет, кто в самом
деле ратует за справедливость, тот, если ему и суждено уцелеть на малое
время, должен оставаться частным человеком, а вступать на общественное
поприще не должен» (Там же, 32 а). Интересно сопоставить эти высказывания со словами Бродского о «частном голосе» Музы («Эклога 4-я (зимняя)»; 3, 202).
3 Платон. Апология Сократа, 24 Ь-с. К 1976 г. Бродский мог читать
«Апологию Сократа» в английских переводах и в известном русском издании: Платон. Сочинения: В 3 т. М., 1968—1972. В древнегреческом оригинале «развращение юношества» имеет идеологический смысл. Сократ
развращает юношей тем, что внушает им ложные представления о богах.
4 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 190.
5 Там же.
6 Там же. С. 131.
7 Платон. Апология Сократа, 36 Ь—37 а
8 О пьесе «Мрамор» см., например: Ковалева И. «Памятник» Бродского
(о пьесе «Мрамор») // Бродский И. Второй век после нашей эры: Драматургия. СПб., 2001. С. 15—22. То же // Мир Иосифа Бродского: Путеводитель. С. 207—216; Pärli Ü. О постмодернизме, «лестнице авангарда» и
Бродском // Литературное произведение как литературное произведение.
Bydgoszcz, 2004. S. 257—267. Из содерж.: [О пьесе И. Бродского «Мрамор»].
S. 264—266; Яковлева И. П. Пьеса И. Бродского «Мрамор»: попытка интерпретации // Чтения, посвященные дням славянской письменности и
культуры. Чебоксары, 2005. С. 276—279; Королева Ю. И. Жанровые аспекты футурологической концепции И. Бродского в пьесе «Мрамор» // Филология и культура. Барнаул, 2006. Вып. 3. С. 61—65; Медведева Н. Г. Пьеса
И. Бродского «Мрамор» и греческая трагедия // Медведева Н. Г. «Муза
утраты очертаний»: «Память жанра» и метаморфозы традиции в творчестве
И. Бродского и О. Седаковой. Ижевск, 2006. С. 115—130. То же // Опыты
изучения драмы. Ижевск, 2010. С. 334—351; Фельдман Д. М. Мотив молчания в пьесе И. Бродского «Мрамор» // Литература и театр. Самара, 2006.
С. 280-286.
«У тебя неправильные черты»: Бродский и Сократ 299
9 Действительно, «Апология Сократа» подразделяется на речь, произнесенную после речей обвинителей, речь после обвинительного приговора
и речь после смертного приговора. По афинским законам после признания обвиняемого виновным требовалось установить меру наказания, причем одно предложение выдвигал обвинитель, а другое — обвиняемый.
Главный обвинитель Сократа, Мелет, предложил смертную казнь. Сократ
иронически «приговорил» себя к почетному бесплатному обеду в Прита-
нее — так, например, награждали победителей Олимпийских игр. Эта ирония Сократа настроила против него судей: если виновным он был признан
с минимальным перевесом голосов, то после заявления об обеде в При-
танее взбешенные судьи, почувствовав, что Сократ издевается над ними,
проголосовали за смертную казнь куда более единодушно (ср. Диоген
Лаэрций II, 42).
10 См.: Ковалева И. Одиссей и Никто: Об одном античном мотиве в
поэзии И. Бродского // Старое лит. обозрение. 2001. № 2. С. 75—80.
11 В начале трагедии Софокла «Эдип в Колоне» старый слепой Эдип
приходит к пригороду Афин — Колону, где его встречает Хор жителей.
Они не позволяют безвестному страннику войти в священную рощу Эвменид, но затем меняют свое решение, т.е. в начале «Театрального» в известной степени воспроизводится завязка этой трагедии.
12 Два стихотворения объединяет также мотив икоты: «...Как цыган по
ладони, по трещинам на асфальте / я гадал бы, икая, вслух о его [города]
судьбе» («Развивая Платона»; 3, 123). В «Театральном» о судьбе города
гадать уже не приходится, она совершилась, и «достижения» показывает
Страннику «наш историк»: «Ик-ик. // Ик-ик. В глазах у меня — петит»
(4, 180). Случайно или нет, но и здесь не обошлось без Платона: в одном
из самых знаменитых диалогов, в «Пире», Аристофан пропускает свою
очередь произнести речь об Эроте, поскольку на него напала икота.
13 «А кто выкажет себя непослушным законам, тех... он [законодатель]
присудит: одного — к смертной казни, другого — к побоям и тюрьме, третьего — к лишению гражданских прав, прочих же накажет лишением имущества в пользу казны и изгнанием...» (Платон. Законы, X 890 с; здесь и
далее перевод А. Н. Егунова).
14 «Законы» — единственный из диалогов Платона, в котором в качестве персонажа не участвует Сократ.
15 Платон. Законы, VII 817 Ь.
16 Обратим внимание на определение трагедии как «наилучшей»,
«наиболее истинной» у Платона и «настоящей» у Бродского: в обоих случаях «настоящая», «истинная» трагедия соотносится с жизнью и противопоставляется «театральной» трагедии.
17 «А вас [философов] родили мы для вас же самих и для остальных
граждан, подобно тому как у пчел среди их роя бывают вожди и цари»
(Платон. Государство, VII 520 Ь).
Тереза Гой, Генрих Киршбаум
Берлин—Пассау, Германия
«ПОМНИ ОБО МНЕ»:
ИОСИФ БРОДСКИЙ И ПЕТЕР ХУХЕЛЬ
Незадолго до смерти, в 1994 г., И. Бродский составил для журнала «Wilson Quarterly» подборку стихов Петера Хухеля (Peter
Huchel, 1903—1981), снабдив ее кратким эссе (не переведено на
русский язык) о жизни и творчестве немецкого поэта. Публикации
предшествовал период двадцатилетнего знакомства и нарастающего интереса Бродского к поэзии Хухеля.
Взаимоотношения Бродского с немецкой литературой вообще
и с поэзией Хухеля в частности находятся в тени исследовательских интересов. Исключение — статья X. Хельбига, в которой дан
сравнительный анализ стихотворений «Примечания папоротника»
Бродского (и его английской версии) и «Ангелы» Хухеля1. Между
тем невыясненными остаются многие детали самой истории знакомства Бродского с Хухелем. Настоящая статья призвана частично восполнить этот пробел.
В 1980—1990-е гг., особенно после получения Нобелевской
премии (1987), Бродский, используя свои репутацию и авторитет,
проводит целенаправленную политику по реабилитации и популяризации поэзии в сознании современников. Выступая на многочисленных конференциях и литературных конгрессах, он безустанно призывает читать стихи. В США Бродский начинает кампанию
по распространению американской поэзии в широких слоях населения. По его «нескромному предложению» («ап immodest proposai») антологии американской поэзии должны за гроши предлагаться в супермаркетах и лежать рядом с Библией на столиках
гостиничных номеров. Одним из главных этапов его просветительской деятельности стало выступление на Туринской книжной ярмарке в мае 1988 г. Бродский составил и представил публике списки лучших, по его мнению, национальных поэтов XX в. Немецким
читателям он рекомендовал четыре имени: Райнера Марию Рильке, Георга Тракля, Петера Хухеля и Готфрида Бенна (6, 84).
Интерес к Рильке, стихотворение которого «Орфей. Эвриди-
ка. Гермес» Бродский назвал лучшим стихотворением XX столетия
(эссе «Девяносто лет спустя»; 6, 317), был подсказан его увлечением М. Цветаевой и Б. Пастернаком2. Г. Бенном Бродский заинтересовался, по всей видимости, благодаря У. X. Одену, который
Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель
301
высоко ценил Бенна и переводил его на английский. Г. Тракля
Бродский мог знать и оценить по англо-американским, а также и
по русским переводам: никого из немецких поэтов XX в., за исключением, может быть, Бенна и Рильке, так активно не переводили в самиздате 1960—1980-х гг., как Тракля. Четвертый и наименее известный немецкий поэт в списке Бродского — П. Хухель.
Петер Хухель родился в 1903 г. в Берлине, учился в университетах Берлина, Фрейбурга и Вены, в 1920-е гг. много путешествовал по Франции, Венгрии, Румынии, Турции. С 1930 по 1933 г.
работал в редакции журнала «Die literarische Welt» («Литературный
мир»), до 1940 г. — на радио, с 1941 по 1945 г. служил в вермахте.
В апреле 1945 г. Хухель попал в советский плен, после освобождения остался в Восточной Германии и возглавил литературный
отдел берлинского радио. В 1950 г., когда поэту было уже 47 лет,
вышел его первый сборник стихов. С 1948 по 1962 г. Хухель — главный редактор литературно-публицистического журнала «Sinn und
Form» («Смысл и форма»), бывшего наряду с «Берлинским ансамблем» Б. Брехта культурной визитной карточкой ГДР для Запада.
На волне хрущевской «оттепели», докатившейся и до ГДР, Хухель
публиковал в журнале актуальную современную прозу, поэзию,
эссеистику от Ж. П. Сартра, Б. Брехта и П. Целана до К. Паустовского и К. Федина, а также многочисленные рецензии и историко-литературные материалы. Для «русских» пристрастий Хухе-
ля показательно обилие мемуарных публикаций о Л. Н. Толстом
и А. П. Чехове. В 1950-е гг. Хухель дважды посетил Советский
Союз: был в Москве, встречался в Ясной Поляне с последним секретарем Толстого — В. Булгаковым3, путешествовал по Армении.
Жена поэта, Моника Хухель, самостоятельно освоила русский
язык и переводила современную русскую прозу.
В 1962 г. гонения на современное искусство, начатые в Москве, были подхвачены гэдээровскими функционерами. Журнал не
закрыли, но Хухеля сняли с поста главного редактора и поместили под домашний арест. Девять лет, живя в своем доме недалеко
от Берлина, он был фактически отрезан от остального мира. На
Западе за эти годы вышли две книги его стихов. В 1971 г. под давлением ПЭН-клуба Хухелю было разрешено покинуть ГДР. Умер
поэт в 1981 г. в Шварцвальде.
Хухель является автором всего четырех поэтических сборников
и нескольких радиопьес. На русский язык, за исключением отдельных ранних стихотворений, Хухель не переведен. Первые переводы на английский, в том числе и доступные Бродскому, последовали в 1960-е гг. Так, в петербургской библиотеке поэта находится
англоязычная антология немецкой поэзии 1968 г., в которой есть
два стихотворения Хухеля в прозаическом переводе4. Дополнитель¬
302
Тереза Гой, Генрих Киршбаум
ный интерес Бродского к Хухелю мог пробудить У. X. Оден.
В 1972 г., т.е. в год приезда Бродского в Австрию (где он сначала
посетил Одена), Хухель получил Австрийскую государственную
премию за вклад в европейскую литературу. Обладателем этой премии незадолго до Хухеля был Оден. По воспоминаниям Бродского
(«Поклониться тени»), Оден беседовал с ним о литературе, причем
русский поэт больше слушал, чем говорил (5, 270). Не исключено,
что Оден мог рассказать Бродскому как о самой премии, так и о
немецких поэтах, столь им чтимых, в том числе и о Петере Хухеле.
Более обоснованным кажется предположение, что Бродский
обратил внимание на поэзию Хухеля благодаря англо-немецкому
поэту и переводчику М. Хамбургеру (Michael Hamburger). С Хам-
бургером Бродский познакомился через американский журнал
«Poetry». В его библиотеке имеется сборник трех англоязычных
поэтов, один из авторов которого — М. Хамбургер5. С ним Бродский встретился летом 1974 г. в Лондоне. К этому времени Хамбургер, полтора года назад познакомившийся с Хухелем, закончил
книгу переводов немецкого поэта. В 1980 г. в одном из интервью
Бродский, упомянув Хухеля, указал на книгу Хамбургера6.
В июне 1974 г. Бродский встретился с Хухелем на Международном фестивале поэзии в Роттердаме. По свидетельству Моники
Хухель, встреча была теплой. Бродский подарил Хухелю бутылку
виски, которую тот долго хранил7.
В 1989 г. после Туринской книжной ярмарки в речи перед
выпускниками Дартмут-Колледжа Бродский процитировал две
строчки из стихотворения Хухеля «Ангелы»: «“Помни обо мне” —
шепчет пыль» — и так пояснил цитату: «Я привел эти строчки, потому что они мне нравятся, потому что я узнаю в них себя и, коли
на то пошло, любой живой организм, который будет стерт с наличествующей поверхности. “Помни обо мне”, — говорит пыль.
И слышится здесь намек на то, что, если мы узнаём о самих себе
от времени, вероятно, время, в свою очередь, может узнать что-то
от нас» (6, 90).
В том же 1989 г. Бродский написал стихотворение «Примечания папоротника» и его английский автоперевод «North of Delphi».
Эпиграфом стали вышеупомянутые строки Хухеля. В шестой строфе «Примечаний папоротника», отталкиваясь от реминисцентно-
го хухелевского образа, Бродский развивает магистральную для
своего творчества тему старения и неизбежного перехода вещей
«просто к небытию» (4, 71—72)8.
В четвертый раз русский поэт обратился к тем же строкам Хухеля в январе 1994 г. в небольшом эссе, предваряющем подборку
из переводов стихов Хухеля на английский язык для журнала
«Wilson Quarterly»9. Переводы были сделаны Дж. Спектором (Joel
«Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель
303
Spector), бывшим слушателем семинаров Бродского. В интервью
Б. Файт (Birgit Veit) он сказал, что его «бывший студент занят теперь тем, что в довольно большом объеме переводит Хухеля» и все
присылает Бродскому10. Этот бывший студент — Спектор, в то
время работавший над переводом последней книги стихов Хухеля
«Час девятый» («Die neunte Stunde»).
Свое предисловие к подборке Хухеля Бродский начинает с
рассуждения о том, что немецкая история сделала всё, чтобы принизить значение немецкой поэзии. Имена вождей Третьего рейха
более на слуху, чем имена немецких поэтов: Эльзы Ласкер-Шюл-
лер, Готфрида Бенна, Гюнтера Айха, Карла Кролова, Ингеборг
Бахман и Петера Хухеля. Затем следует замечание, отсылающее к
хухелевскому эпиграфу о пыли, которая не улеглась и вряд ли когда-нибудь уляжется. Бродский цитирует две строки Хухеля и воспроизводит его биографию. Упоминаемые им детали свидетельствуют о знании многих обстоятельств судьбы поэта.
Вместе с тем Бродский не всегда точен. По его версии, Хухель
после окончания войны перебежал к русским, в то время как он
попал в плен, пробираясь, переодевшись в штатское, домой. Хухеля отпустили, предложив ему работу на радио. Русским не был
известен цикл его антивоенных стихов «Двенадцать ночей», но они
знали, что в лагере для военнопленных Хухель занимался культурно-просветительской работой, был знаком с русской и советской
литературой, знал и любил Маяковского.
Откуда эти ошибки? Бродский в эссе воспроизводит сложившиеся к тому времени мифы о Хухеле — с ними (как и с фактами)
его мог познакомить Спектор11. Кое-что Бродский добавил от себя,
например, легенду о том, как Хухель, сидя в окопе, то и дело что-
то записывал в блокнот. Между тем еще в юности (1920) во время
путча Каппа Хухель был тяжело ранен и находиться на передовой
не мог. Во время Второй мировой войны он служил в противовоздушной обороне, высчитывая расстояние между самолетами и зенитными установками. Незадолго до окончания войны Хухеля едва
не расстреляли, заподозрив в том, что он сознательно делал неверные расчеты, заставляя орудия бить мимо цели.
В эссе Бродский вторит рецензентам и критикам Хухеля: «Как
сказал один внимательный критик немецкого поэта, Хухель начал
с гимнов и закончил псалмами» (здесь и далее перевод эссе наш. —
Т. Г., Г. К.). В то же время он полемизирует с теми, кто склонен
рассматривать поэзию Хухеля в контексте пейзажной лирики: «Хухель не столько описывает ландшафты, сколько вычитывает из
них, что было написано на “земных вещах” пером более жестким
и бесстрастным, нежели перо поэта»12. В рассуждениях о немецком
поэте Бродский во многом опирается на образность, разработан¬
304
Тереза Гой, Генрих Киршбаум
ную им в навеянных Хухелем «Примечаниях папоротника» (ср.
образ скрипящего пера и др.).
Бродскому близка анонимность творческой биографии Хухе-
ля: «По масштабам своего времени и места жизнь этого поэта была
скорее бессобытийной. Его поэзия мало указывает на внешние
обстоятельства его жизни. Дух человека всегда сложнее, чем его
реальность, и поэт, по-видимому, посчитал, что не стоит использовать такую общую биографию» (Там же). Достаточно вспомнить
«пиетет» Бродского перед «общей» биографией Р. Фроста и небогатой событиями судьбой К. Кавафиса, не публиковавшего стихов
при жизни. Эссе Бродского о Хухеле заканчивается словами: «Как
можно писать стихи после Освенцима? — спросил Теодор Адорно.
Очевидно, поэт, пишущий по-немецки, должен дать на это ответ»13. Здесь Бродский перифразирует собственную мысль, изложенную в Нобелевской лекции: «“Как можно сочинять музыку
после Аушвица?” — вопрошает Адорно, и человек, знакомый с
русской историей, может повторить тот же вопрос, заменив в нем
название лагеря, — повторить его, пожалуй, с большим даже правом, ибо количество людей, сгинувших в сталинских лагерях, далеко превосходит количество сгинувших в немецких. <...> Поколение, к которому я принадлежу, во всяком случае, оказалось
способным сочинить эту музыку» (6, 51—52). Так проводится параллель между этико-поэтологическими вопросами, стоявшими
перед Хухелем в Германии и поколением самого Бродского в России.
В подборку Хухеля, сделанную Бродским, вошли 14 стихотворений: подавляющее большинство (11) из сборника «Час девятый» (1979), два из предпоследней книги стихов «Считанные дни»
(«Gezaehlte Tage», 1972) и одно из сборника «Шоссе шоссе»
(«Chausseen Chausseen», 1963). Подборка открывается стихотворением «Ангелы» («Die Engel»), строки из которого («Помни обо
мне — шепчет пыль») Бродский так часто цитировал в своих работах и выступлениях14. Весьма показательно обилие стихотворений,
имеющих древнегреческий сюжет: «Аристей I» («Aristeas I»), «Ари-
стей II» («Aristeas II»), «Могила Одиссея» («Das Grab des Odysseus»),
«Мельпомена» («Melpomene»), «Элегия» («Elegie»), «Под созвездием Геркулеса» («Unter dem Sternbild des Herkules»). Шесть из четырнадцати, т.е. почти половина отобранных для публикации стихов,
связаны с древнегреческой мифологией, хотя у Хухеля греческая
тема количественно и качественно не выделяется из других древних мифологических комплексов (ветхозаветный, китайский,
кельтский). В таком смещении тематических акцентов сказался,
по-видимому, интерес к античности самого Бродского.
«Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель
305
Герои хухелевского стихотворения «Могила Одиссея» Телемак
и Одиссей уже были предметом поэтической рефлексии у Бродского (ср. стихотворение «Одиссей Телемаку»). Дополнительным
стимулом для включения «Могилы Одиссея» в подборку могло
послужить то, что в стихотворении варьируются полюбившиеся
Бродскому строки про пыль: «Все мое — сказала пыль». Кроме
того, в стихотворении Хухеля упоминаются гомеровские списки
кораблей, возможно вызвавшие у русского поэта ассоциации с
«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...» О. Мандельштама15. К тому
же во второй строфе «Могилы Одиссея» описывается нисхождение
в подземный мир, составляющее основу сюжета стихотворения
Рильке «Орфей. Эвридика. Гермес». Его Бродский подверг тщательному анализу в эссе «Девяносто лет спустя» (6, 317—361).
Стихотворение «Элегия» могло привлечь Бродского не только
греческим подтекстом (Гомер), но и жанром: элегия — его излюбленный лирический жанр. В предисловии к подборке Бродский
назвал Хухеля «самым суровым и элегическим голосом немецкой
поэзии своего времени»16. Средствами модернистской поэтики
Хухель возродил древнюю риторику скорбных плачей. Ему удалось
сохранить формально-смысловую строгость высказывания, не
умаляя трагического пафоса. Именно эта особенность поэзии Хухеля нашла воплощение в «Элегии».
Что касается «Мельпомены», то обратим внимание на то, что
в марте 1994 г. (спустя три месяца после публикации подборки)
Бродский написал стихотворение «Храм Мельпомены». Формально-содержательного сходства между текстами нет, но актуализация
мифа о Мельпомене в сознании Бродского произошла, по-види-
мому, не без участия Хухеля. Заметим, что действие хухелевской
«Мельпомены» происходит среди скифских степей и курганов.
Интерес к текстам, в которых присутствует историко-мифологический Север, наблюдается и в других произведениях Хухеля,
отобранных Бродским. Так, на периферии сюжета в стихотворении
«Под созвездием Геркулеса» обнаруживается «скифская» тема.
В стихотворной двойчатке «Аристей» Бродского скорее всего привлек не только античный подтекст, но и «Овидиев» мотив изгнания (захолустный порт с выходом в «киммерийские степи» — очередная геоисторическая метонимия России). Бродский нередко
прибегал к подобного рода описаниям17. Герой обоих стихотворений — поэт Аристей, спутник Аполлона — согласно скифско-греческому мифу, изложенному Геродотом, отправляется на поиск
страны гипербореев. Образ Аристея был известен Бродскому: в
эссе о Рильке «Девяносто лет спустя» он упоминает Аристея, излагая историю смерти Эвридики (6, 347).
306
Тереза Гой, Генрих Киршбаум
В основе стихотворения «Энкиду» («Der Holunder öffnet die
Monde...»), открывающего последнюю книгу Хухеля, лежит древнемесопотамский сюжет о Гильгамеше и Энкиду — тема, Бродскому знакомая. Список произведений для внеклассного чтения,
который Бродский предлагал американским студентам, открывался эпосом о Гильгамеше. Кроме того, в 1987 г. он перевел на английский язык по подстрочнику шумерский «Диалог о пессимизме» (4, 336—339).
Для публикации Бродский отобрал и стихотворение «Час девятый», давшее название последнему сборнику Хухеля. Оно отсылает к самому скорбному месту евангельского повествования:
«В девятом часу возопил Иисус громким голосом: “Элои, Элои!
Ламма савахфани?” — что значит: “Боже Мой, Боже мой! Для чего
ты меня оставил”» (Мр. 15; 34). По Бродскому, именно присутствие христианских мотивов отличает Хухеля от Фроста: «Между
ними и вправду довольно много общего, хотя в отличие от Фроста, у которого природа отражает негативный потенциал человека,
Хухель, произведения которого пропитаны мощнейшим христианским этосом, смотрит на природу как на святое таинство»18. Немецкий поэт показался Бродскому «христианским», потому что в
его поздних стихах, составивших подборку, действительно преобладают библейские образы. Яркий пример тому — стихотворение
«Час девятый», в котором нашли воплощение главные особенности поэтического мира Хухеля.
Подборка была бы не такой представительной, если бы Бродский не включил в нее произведения о родных местах Хухеля —
бранденбургских ландшафтах — главном объекте поэтической
рефлексии и источнике образности немецкого поэта. Эту линию
в творчестве Хухеля представляют отобранные Бродским «Бранденбург», пейзажно-бытовые зарисовки которого могли напомнить опальному поэту его ссылку в Норенскую, и «Зимний вид из
окна» («Der Blick aus dem Winterfenster»). Знаменательно, что Бродский, как и в случае с «Зимним утром в Ирландии», предпочел
стихи, в которых дан зимний пейзаж. Между тем любимое время
года Хухеля — лето, ставшее приметой большинства его стихотворений. Русский поэт оставался апологетом зимы (последнее «пейзажное» стихотворение Бродского — «Метель в Массачусетсе»),
что определило его интерес к «зимним» стихам Хухеля.
Выбор стихотворения «Амонит» был, вероятно, обусловлен, с
одной стороны, желанием представить ветхозаветную тему, занимающую центральное место в творчестве позднего Хухеля. С другой стороны, нельзя исключать знакомство Бродского (через Спек-
тора) с комментариями к этому стихотворению исследователя и
издателя полного собрания сочинений П. Хухеля — А. Фиррэгга19.
«Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель
307
По мнению исследователя, опирающегося на высказывания самого Хухеля, стихотворение «Амонит» иносказательно перерабатывает освенцимскую трагедию20.
Судя по всему, к моменту публикации Спектор перевел ранние стихи Хухеля отрывочно и еще не закончил работу над второй
частью «Часа девятого». Это объясняет, почему Бродский не включил в составленный им перечень стихи Хухеля, место действия
которых — Италия, в том числе любимые русским поэтом Венеция
и Рим.
Готовя подборку произведений Хухеля, Бродский достаточно
полно представил немецкого поэта англоязычному читателю.
В позднем творчестве Хухеля ландшафтные и бытовые образы получают фольклорно-мифологическое обрамление: древние легенды и сказания становятся сюжетной основой пейзажных зарисовок. Уловив эту тенденцию, Бродский постарался передать ее в
отобранных стихотворениях. При этом выбор делался в пользу стихов, отвечавших образно-тематическим пристрастиям самого
Бродского.
В заключение хотелось бы привести еще один контекст, связанный с Хухелем. В интервью С. Биркертсу Бродский назвал его
в числе пяти поэтов, о которых он думает, когда пишет стихи21.
Бродский не только познакомил с Петером Хухелем американскую
публику, но и косвенно обратил на него внимание своего главного — русского — читателя.
ПРИЛОЖЕНИЕ
Петер Хухель. Ангелы (Перевод Г. Киршбаума)
Дымом
поднимается тень
и бродит по дому,
где старуха,
с гусиным крылом в слабой руке,
сметает золу с печи.
Горит огонь.
Помни обо мне,
шепчет пыль.
Ноябрьские туманы,
дожди, дожди
и кошачий сон.
Черно и слякотно
308
Тереза Гой, Генрих Киршбаум
над рекой небо.
Из зияющей пустоты истекает время
и течет по жабрам
и плавникам рыб,
по ледяным глазам ангелов,
они спускаются
сквозь тонкие сумерки
взмахами копоти к дщерям Каина.
Дымом
поднимается тень
и бродит по дому.
Горит огонь.
Помни обо мне,
шепчет прах22.
1 Helbig H. Fußnoten zu einem Farn. Zu Joseph Brodskys Umgang mit zwei
Versen von Peter Huchel // Jahrbuch der deutschen Schillergesellschaft. Stuttgart,
2003. S. 376-404.
2 См. эссе «Об одном стихотворении» (5, 142—187) и «Примечания к
комментарию» (7, 179—202).
3 Мемуары В. Булгакова Хухель опубликовал в журнале «Sinn und
Form» (1957. № 6; 1958. № 2).
4 Twentieth-Century German Verse. Introduced and ed. by Patrick Bridgewater. With Plan Prose Trasnl. of Each Poem. [Harmondsworth, 1968]. (The
Penguin poets. D 68).
5 Penguin modern poets 14: Alan Brownjohn. Michael Hamburger. Charles
Tomlinson. [Harmondsworth, 1969].
6 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 74.
7 Впоследствии обнаружилось, что сын Хухеля, ориенталист Штефан
Хухель, тайно выпил ее большую часть. Это навлекло на него гнев отца.
(Сведения предоставлены X. Д. Циммерманном (Hans Dieter Zimmermann), за что выражаем ему глубокую благодарность.)
8 Сравнительный анализ стихотворений Хухеля и Бродского см.:
Helbig H. Fußnoten zu einem Farn. Zu Joseph Brodskys Umgang mit zwei Versen
von Peter Huchel.
9 Huchel P. Poetry. Selected and Introduced by Joseph Brodsky // Wilson
Quarterly. 1994. Vol. 18, No. 1. P. 100—101.
10 Бродский: кн. интервью. C. 628.
11 Ср. рассуждения Хельбига: Helbig H. Fußnoten zu einem Farn. Zu
Joseph Brodskys Umgang mit zwei Versen von Peter Huchel. S. 396—398.
12 Huchel P. Poetry. Selected and Introduced by Joseph Brodsky. P. 101.
Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель
309
13 Ibid.
14 Более отдаленные параллели — ангельская тема у самого Бродского (ср. стихотворение «Ангел» и др.).
15 Сам Хухель мог знать стихотворение Мандельштама в переводе
Целана. Он не раз публиковал переводы Целана из русской поэзии.
16 Huchel Р\ Poetry. Selected and Introduced by Joseph Brodsky. P. 101.
17 Ср. обзор античных представлений о скифах в начале «Письма Горацию» (6, 362).
18 Huchel P. Poetry. Selected and Introduced by Joseph Brodsky. P. 101.
19 Huchel P. Gesammelte Werke. 2 Bde. Hrsg. von Axel Vieregg. Frankfurt /
M., 1984. Bd. 2: Vermischte Schrifen. S. 434.
20 Ср. также образ «земных вещей» в эссе Бродского о Фросте.
21 Бродский: кн. интервью. С. 103.
22 Немецкое слово «Staub», как и его английский эквивалент «dust»,
полисемично: в первой строфе мы перевели его как «пыль», в последней —
как «прах».
Яков Клоц
Нью-Хейвен, США
«РАСПИСАНЬЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ВЕЩЕЙ»:
О ПОЕЗДАХ И ВОКЗАЛАХ В ПОЭЗИИ
ПАСТЕРНАКА И БРОДСКОГО
С поэзией Пастернака Бродский познакомился сравнительно
поздно («Не понимал Пастернака до двадцати четырех лет»1), причем знакомство это началось не с ранних книг «Поверх барьеров»
(1914—1916) и «Сестра моя — жизнь» (1917), которые тогда показались ему «если не абракадаброй, то чем-то в этом роде», а с поэмы «Спекторский» (1925—1930)2. По мнению Бродского, Пастернак «менее крупный поэт, чем Цветаева и Мандельштам, и в
каком-то смысле менее крупный, чем даже Ахматова», однако «как
поэт он чрезвычайно интересен. <...> Как ремесленник он... просто захватывающ. То, что он делает внутри строфы... мне жутко
интересно с профессиональной точки зрения»3. В «Докторе Живаго» Бродский ценил стихи, но не сам роман: «Стихи из романа
совершенно потрясающие, может быть, лучшее, что им написано.
<...> Евангельские стихотворения мне страшно нравятся»4. Однако в эссе «Примечание к комментарию» (1992) сказано, что в отличие от «Магдалины» (1923) Цветаевой в «Магдалине» (1949)
Пастернака «больше интеллекта, чем веры, больше слов, чем голоса» (7, 186). В 1987 г., получив Нобелевскую премию, Бродский
пишет «Рождественскую звезду», совпадающую по названию (но
не по организации) со стихотворением Пастернака, созданным четырьмя десятилетиями раньше (1947): «У него там (в «Рождественской звезде». — Я. К.) центробежная сила действует. Радиус все
время расширяется — от центральной фигуры, от Младенца. В то
время как, по существу, все наоборот»5. В другом интервью (если
это не оговорка и не ошибка при расшифровке беседы) Бродский,
напротив, называет Пастернака поэтом «центростремительным»,
а не центробежным6. Как бы то ни было, но при всем многообразии «полутонов», которыми окрашено отношение Бродского к Пастернаку7, особого внимания заслуживают, пожалуй, две темы:
рождественские мотивы и организация поэтического пространства
в их поэзии. Первая тема уже достаточно изучена; кроме того, она
отчасти раскрыта самим Бродским в эссе «Примечание к комментарию». Здесь мы попытаемся охарактеризовать поэтику пространства Пастернака и Бродского на материале такого «магистрального» топоса русской литературы, как железная дорога, причем
Расписанье железных вещей».
311
выявленные переклички будут принадлежать скорее к области типологии, чем прямого влияния.
* * *
Первая в России железная дорога между Петербургом и Царским Селом открылась в 1837 г., а к 1860 г. поезд уже на всех парах ворвался в текст русской литературы. Генеалогия поезда восходит к исконному образу коня (скакуна), и не секрет, что во
второй половине XIX в. эти два образа воспринимались как оппозиция старого и нового, природного (естественного, органического) и механистического (противоестественного, искусственного).
Наконец, поезд нередко воспринимался и как предвестие конца
света, апокалипсиса (что не является специфически российской
реалией; похожие ассоциации возникали и в других культурах8). За
«адской машиной» закрепляется тот инфернальный смысл, которого был лишен исконный образ коня, но который, однако, уже
был отчасти заложен в пушкинском «Медном всаднике»: смысл
строк «Куда ты скачешь, гордый конь, / И где опустишь ты копыта?» как нельзя более применим к распространенному позднее
образу сошедшего с рельсов поезда9. Воплощая извечный для русской культуры мотив дороги, предполагающий перемещение не
только в пространстве, но и во времени, поезд оказывается чрезвычайно удобным средством концептуализировать ход исторических событий. Именно в историческом контексте чаще всего прослеживается генеалогическая связь поезда и его литературного
прототипа — коня10.
Однако в XX в. литературный комплекс железной дороги не
исчерпывается социально-историческими смыслами. Как отмечает
Ю. Левинг, уже «в первой четверти XX века... за железной дорогой
окончательно закрепляется топос жизненного путешествия — ход
поезда уподобляется течению жизни»1 *. Просторы русской литературы XX столетия бороздят не только пассажирские и товарные
составы, но и военные, и санитарные эшелоны, «Столыпины»,
электрички, метро и трамваи. В том или ином виде поезд прочно
вписался в современный литературный пейзаж и приобрел в нем
способность выражать не только исторический смысл, но и экзистенциальный опыт, ставший своего рода эквивалентом изначального историко-апокалипсического наполнения этого образа.
В поэзии Пастернака и Бродского железная дорога имеет особый статус. Строящиеся на ней образы отличаются высокой частотностью и повышенной емкостью содержания — содержания
философского и метафизического порядка. Как для Пастернака,
так и для Бродского железная дорога — это эволюционирующий
образ, который проходит через всё их творчество — от ранней
312
Яков Клоц
лирики к поздним стихам, от стихов к поэмам и, наконец, от поэзии к прозе. Так, Д. Бетеа отмечает, что «в современной русской
литературе не существует писателя, который бы нашел более широкое применение мотиву поезда, чем Пастернак. Модификации,
которые, с течением времени, Пастернак вносит в этот образ, свидетельствуют о развитии его творческой мысли — от ранней лирики и рассказов вплоть до итогового, главного произведения
(«Доктора Живаго». — Я. К.)»п. То же самое можно сказать и о
Бродском. Как в рамках отдельного произведения, так и в контексте всей их поэтики топос железной дороги создает особую «кинетическую структуру»13 и определяет относительный характер авторского мировосприятия, в частности, таких категорий, как
пространство и время.
Железная дорога играла важную роль и в биографии поэтов.
«Охранная грамота» Пастернака начинается с воспоминания о
случайной встрече с Р. М. Рильке, который уезжает курьерским
поездом с московского вокзала в Ясную Поляну к Л. Н. Толстому. Полустанок, где Рильке сходит с поезда (станция Козловая
Засека близ Ясной Поляны), забывается навсегда и сравнивается
с прочитанной страницей: «В это время нас подхватывает закруг-
ленье, и, медленно перевертываясь, как прочитанная страница,
полустанок скрывается из виду. Лицо и происшествие забываются, и, как можно предположить, навсегда»14. Спустя годы в вагоне
четвертого класса Пастернак отправляется в Марбург. Вид из окна
поражает его своей средневековой подлинностью, «как всякий
оригинал» (С. 54). Пастернак селится на окраине Марбурга близ
железной дороги, воссозданной им в стихотворении «Марбург»:
Когда-то под рыцарским этим гнездом
Чума полыхала. А нынешний жупел —
Насупленный лязг и полет поездов
Из жарко, как ульи, курящихся дупел.
(С. 103)
Железная дорога проходит через весь марбургский период
Пастернака — с момента прибытия в Германию для занятий философией с профессором Когеном до отъезда в Россию. В сцене
прощания с «философией, молодостью, Германией» («Охранная
грамота»; с. 79) уходящий поезд подводит черту под этим периодом жизни поэта.
Через несколько лет Пастернак отправляется в путешествие по
Европе и посещает Венецию, которая для него начинается с вокзала: «Когда я вышел из вокзального зданья с провинциальным
навесом в каком-то акцизно-таможенном стиле, что-то плавное
тихо скользнуло мне под ноги. <...> Я не сразу понял, что это изо¬
Расписанъе железных вещей».
313
браженье Венеции и есть Венеция. Что я — в ней, что это не снится
мне» («Охранная грамота»; с. 83). Возвращаясь в Россию по Брестской железной дороге, поэт становится свидетелем празднеств по
случаю столетия окончания Отечественной войны 1812 г. Торжества отражались «не на ходе мыслей, а на ходе поезда, потому что
его дольше положенного задерживали на станциях и чаще обычного останавливали в поле семафором» (С. 96—97). С этой поездкой связано дебютное стихотворение Пастернака «Вокзал» (1913),
по свидетельству автора, буквально «срисованное» с Брестского
(Белорусско-Балтийского) вокзала («Люди и положения»; с. 220).
Наконец, сцена посвящения молодого Пастернака в творчество
Маяковского также разворачивается на фоне железной дороги
(«Охранная грамота»; с. 101—102).
В биографии Бродского железная дорога играла не менее важную роль. С ней связано одно из первых детских воспоминаний
поэта — возвращение из Череповца, куда была эвакуирована семья, в Ленинград: «На железнодорожной станции толпа осаждала
поезд. Когда он уже тронулся, какой-то старик-инвалид ковылял
за составом, все еще пытаясь влезть в вагон. А его оттуда поливали кипятком»15. В конце 1950-х — начале 1960-х гг. Бродский ездит в геологические экспедиции на север и на восток СССР:
По сопкам сызнова, по склонам,
тайга, кружащая вокруг,
не зеленей твоих вагонов,
экспресс Хабаровск — Петербург.
(7, 58)
Именно в этот «геологический» период железная дорога входит в образную систему ранней лирики Бродского, где поэтика
пространства, неизменным «транспортным средством» которой
служит поезд, уже неотделима от темы времени. Кроме поездов
«дальнего следования» важное место в судьбе поэта в эти годы занимает пригородный поезд — электричка с Финляндского вокзала в Комарово к Анне Ахматовой. Для Бродского встреча с ней
соизмерима с открытием Маяковского Пастернаком, причем
осмысление масштаба этого события приходит к нему в вагоне
поезда16.
В 1964 г. Бродского отправляют «этапом» в северную ссылку
(деревня Норенская Архангельской области). В малоизвестном
стихотворении «Заснешь с прикушенной губой...» (1964) атмосфера тюремного «вагонзака» служит источником пророческих строк:
Заснешь с прикушенной губой
Средь мелких жуликов и пьяниц.
314
Яков Клоц
Заплачет горько над тобой
Овидий, первый тунеядец.
<...>
Такая жгучая тоска,
что ей положена по праву
вагона жесткая доска,
опережающая славу17.
Оказавшись за пределами СССР, зимой 1972 г. Бродский впервые посещает Венецию, которая, как и для Пастернака, тоже
открывается ему с вокзала: «Всякий путешественник знает этот
расклад: эту смесь усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты и расписания, когда изучаешь венозный мрамор под
ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную
зимнюю ночь чугунным локомотивом» («Набережная неисцелимых»; 7, 7). Биографические параллели можно было бы продолжать, но обратимся к использованию Пастернаком и Бродским
железнодорожной образности в поэзии.
Художественное пространство, согласно Ю. М. Лотману, «может быть точечным, линеарным, плоскостным или объемным»18.
Поезд, как и сама дорога, относится к линеарному типу пространства, которое включает признак направленности (заданной траектории), причем, как правило, направленности горизонтальной, а
не вертикальной. Такой тип пространства, по Лотману, характеризуется «релевантностью признака длины и нерелевантностью признака ширины», следовательно, «линеарное пространство становится удобным художественным языком для моделирования
темпоральных категорий (“жизненный путь”, “дорога” как средства развертывания характера во времени)»19. Несмотря на признак
направленности линеарного пространства, которому подчинен
мотив дороги, предметом внимания Пастернака и Бродского нередко становится собственно расстояние между начальным и конечным пунктами следования поезда. Из определенной дистанции
фрагмент пространства превращается в относительную величину
(«ни здесь, ни там») и, таким образом, может соотноситься с «фантастическим» типом пространства, в котором «граница... заменена безграничностью»20. Пункт назначения, а вместе с ним и цель
путешествия могут терять релевантность, либо вообще отменяться, как, например, в стихотворении Бродского «Пятая годовщина»:
Там хмурые леса стоят в своей рванине.
Уйдя из точки «А», там поезд на равнине
стремится в точку «Б». Которой нет в помине.
(3, 147)
Расписанье железных вещей».
315
Поскольку линеарное пространство, в котором движется поезд, часто служит метафорой жизненного пути (уже изрядно «заезженной»), отсутствие пункта назначения отражается на мыслях
пассажира. Более того, конечная станция вообще может быть лишь
плодом воображения, как, например, в «Примечаниях папоротника» Бродского, где название станции выражено неологизмом («несуществующим» словом):
По положению пешки догадываешься о короле.
<...>
По названию станции — Одинбург —
что пора выходить...
(4, 71)
Образ поезда в таких текстах наиболее фантасмагоричен и загадочен; его движение, а вместе с ним и движение лирического
героя, подчинены неведомой силе. При этом центр изображения
часто переносится с поезда на внешнее пространство, как в стихотворении Пастернака «Дурной сон»:
Прислушайся к вьюге, сквозь десны процеженной,
Прислушайся к зйхлесням чахлых бесснежий.
Разбиться им не обо что, — и заносы
Чугунною цепью проносятся по снегу.
Проносятся чересполосицей, поездом,
Сквозь черные десны деревьев на сносе,
Сквозь десны заборов, сквозь десны трущоб.
(С. 461)
Или в стихотворении Бродского «Пришла зима, и все, кто мог
лететь...», целиком состоящем из полноударных строк, что ритмически соотносится с ходом поезда:
Пути в снегу, составы, все в снегу,
вплетают ленты в общий снежный хаос,
сливаясь с ним, срываясь с ним в пургу.
Исчез вокзал. Плывет меж туч пакгауз.
Часы — их нет.
<...>
Метель гремит. Товарный мчит во тьму.
(2, 106, 108)
В обоих текстах поезд либо сливается с внешним пространством, либо изображается на его фоне, причем акцент делается не
316
Яков Клоц
на поезде, а на пространстве, которое его окружает («Прислушайся к вьюге...»; «Метель гремит...»). Замкнутое пространство вагона и открытое пространство за окном поезда выступают как относительные величины. Отсутствие направленности (маршрута,
заданной траектории) превращает поезд в мираж, призрак. Его
движение в пространстве, лишенном пункта назначения, влечет за
собой деформацию временных категорий, что особенно заметно у
Бродского («Часы — их нет...»).
В «Исааке и Аврааме» бесшумное скольжение поезда, как и
«бесцветный» дым паровоза, являются метафорой хода времени.
При этом поезд движется не линеарно — от пункта «А» к пункту
«Б» (которого «нет в помине»), а по замкнутой траектории вечности, иконическим образом которой служит «восьмерка» (перевернутый знак бесконечности):
Бесшумный поезд мчится сквозь поля,
наклонные сначала к рельсам справа,
а после — слева — утром, ночью, днем,
бесцветный дым клубами трется оземь —
и кажется вдруг тем, кто скрылся в нем,
что мчит он без конца сквозь цифру «8».
Он режет — по оси — ее венцы,
что сел, полей, оград, оврагов полны.
По сторонам — от рельс — во все концы
разрубленные к небу мчатся волны.
Сквозь цифру «8» — крылья ветряка,
сквозь лопасти стальных винтов небесных,
он мчит вперед — его ведет рука,
и сноп лучей скользит в лучах окрестных.
(7, 264-265)
Движение поезда, как бы заданное свыше («его ведет рука»),
изображено двояко. С одной стороны, перемещение в пространстве не равно перемещению во времени: «он мчит вперед» го. «мчит
он без конца сквозь цифру “8”» (движение вперед не равно движению по кругу, «без конца»). С другой — перемещение в пространстве ощущается и измеряется в категориях времени. Тем не менее
поезд движется не по замкнутой траектории восьмерки-бесконеч-
ности, а «режет по оси ее венцы», т.е. имеет направление. Наконец, мифологизируется не только сам поезд, но и пространство
вовне: если сначала он едет сквозь «села, поля, ограды, овраги», то
затем все это оказывается не земным, а водным пространством
(«разрубленные к небу мчатся волны»), которое у Бродского неотделимо от темы времени21. Поезд-мираж скользит не то по рельсам, не то по воде и устремляется в бесконечность, не оставляя
«Расписанье железных вещей».
317
следов (ср. в «Конце прекрасной эпохи»: «...как и челн на воде, не
оставит на рельсах следа / колесо паровоза»; 2, 312). Возможно, это
библейская аллюзия на расступившееся море («разрубленные волны»), однако далее поезд уже не плывет, а летит («сквозь лопасти
стальных винтов небесных») и скрывается во тьме: «Летит состав,
во тьме не видно лиц» (1, 265).
Поезд-мираж в поэзии Пастернака и Бродского устремлен не
только вперед (вдаль), но и вверх (ввысь), как в «Исааке и Аврааме». Не только сам поезд, но и другие «горизонтальные» атрибуты
железной дороги могут изображаться как вертикальные. В «Белых
стихах» Пастернак использует «вертикальную» метафору («столбы») для изображения то ли света паровозных фар, то ли звукового сигнала (гудка) паровоза: «По рельсам плыли, прорезая мглу, /
Столбы сигналов, ударяя в тучи...» (С. 209). Паровозные сигналы
освещают (или оглашают) не столько пространство впереди поезда (или по сторонам от железнодорожных путей), сколько пространство над полотном железной дороги («ударяя в тучи»). Стремительное движение поезда создает иллюзию, что он вот-вот
достигнет линии горизонта, т.е. соприкоснется с небом (горизонтальное пространство подменяется вертикальным). При этом сам
признак движения переносится с поезда на внешнее пространство
(небо) («Спекторский»): «Бегущий к паровозу небосвод / Содержит всё, что сказано и скажут» (С. 280). Таким образом, нарушается архетипическая конвенция параллельности (несоприка-
саемости) земного и небесного пространств.
Поэтика железной дороги у Пастернака и Бродского определяется прежде всего взглядом не «извне», а «изнутри» вагона. Герой
пути — «движущийся наблюдатель». В поле его зрения попадают
не только реальный ландшафт, но и «ландшафт» собственной жизни. Он размышляет о прошлом, которое воплощается в деталях
мелькающего за окном пространства. Характерный пример такого
«внутреннего зрения» — строки Бродского из стихотворения, написанного на смерть матери: «Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга, / нет! как платформа с вывеской “Вырица” или
“Тарту”» (4, 26). Поезд, о котором мы узнаем по названиям удаляющихся платформ, переносит лирического героя в прошлое.
Вагонное пространство и пространство за окном вагона выступают как относительные величины. Движение поезда может
выражаться через движение пространства относительно поезда, а
его признаки (скорость, грохот и т.д.) переносятся на внешний
мир. В стихотворении Пастернака «Город» не поезд мчится навстречу рощам, а, напротив, «навстречу курьерскому... / По воздуху
мчатся огромные рощи» (С. 192); «галки, кресты и сады, и подворья... / Всё скорей и скорей вдоль вагонных дверей, / И — за поезд...» (Там же). В стихотворении «Вокзал» «за дымом вослед, /
318
Яков Клоц
срываются поле и ветер...» (С. 71), в «Сестре моей — жизни...» «рушится степь со ступенек к звезде» (С. 106), в «Урале впервые» —
«на ночь натыкаясь, Урала / Твердыня орала...» (С. 85). Интересно, что поезд получает максимальное ускорение, когда признак
скорости переносится с него на внешнее пространство. Бродский
теоретизирует по этому поводу в стихотворении «Кончится лето.
Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...»: «И поезд вдали по равнине бежит, свистя... / Но с точки зренья ландшафта движенье необходимо» (4, 11). Однако и сам поезд может перенимать свойства
внешнего пространства, как в стихотворении Бродского «Семенов»: «покуда поезд мычит, вагон зеленеет, зелень коровой бредит; / покуда время идет, а Семенов едет» (4, 158). Изоморфизм
пространства и времени здесь выражен лингвистически: ход времени («время идет») параллелен ходу поезда и перемещению
лирического героя в линеарном пространстве («Семенов едет»).
Комплекс железной дороги у Пастернака и Бродского может
иметь языковую оркестровку. В «Келломяках» Бродского отрезок
между начальным и конечным пунктами сравнивается с алфавитом:
...всякая точка в пространстве есть точка «а»,
и нормальный экспресс, игнорируя «Ь» и «с»,
выпускает, затормозив, в конце
алфавита пар из запятых ноздрей.
(3, 246)
Промежуточные буквы алфавита служат метафорой станций,
на которых поезд-экспресс не останавливается, а едет дальше, пока
не пройдет всю дистанцию. При этом «конечная станция» (т.е.
последняя буква алфавита) не названа, указана лишь начальная
точка «а». Станции «Ь» и «с» упомянуты, но их поезд «проходит без
остановки».
В стихотворении «Сестра моя — жизнь...» Пастернак приводит
название фактической железной дороги (Камышинская ветка), по
которой герой едет к возлюбленной. Помимо полисемии слова
«ветка» («ветка железной дороги» и «ветка камыша»), здесь возможна этимологическая игра: латинское слово virga (ветка растения) созвучно слову virgo (девушка, молодая женщина). В стихотворении «Эклога 5-я (летняя)» Бродский также обращается к
полисемии «ветки»: «...железных дорог — чья ветка / и впрямь, как
от порыва ветра, / дает зеленые полустанки — / лес...» (3, 223).
Однако у Бродского смысл строится по метонимическому принципу: зеленый цвет вагонов переносится на окружающие полустанки деревья. Наконец, сцена отправления поезда (три звонка)
либо стук колес могут выражаться акцентуацией соответствующих
Расписанъе железных вещей».
319
звуков или целых слов. В «Сестре моей — жизни...» картина отходящего поезда поддержана аллитерацией на -зв-/-зд-\ «Ив третий
плеснув, уплывает ЗВоночек / Сплошным иЗВиненьем: жалею, не
ЗДесь...» (С. 106). А в пятой главе «Горбунова и Горчакова» Бродского («Разговор в третьем лице») ритм движения поезда передан
пятикратным повторением слова «сказал», которое образует рифму к слову «вокзал» (место прибытия поезда). Метафорой движения становится слово, звучание которого при многократном повторении воспроизводит стук колес:
«Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал». «Сказал».
«Суть поезда». «Все дальше, дальше рейсы».
«И вот уже сказал почти вокзал».
«Никго из них не хочет лечь на рельсы».
(2, 263)
Итак, если поезд связан с линеарным типом пространства, то
вокзал воплощает «точечное» пространство, где темпоральные категории латентны (не актуализованы) либо не адекватны реальному ходу времени (хотя непременный атрибут вокзала — часы).
Несмотря на внешний динамизм вокзального пространства («броуновское» движение уезжающих и приезжающих, провожающих и
встречающих), время для лирического героя приобретает иное измерение. Вокзал — «капсульное» (замкнутое), «конденсированное»
либо, наоборот, «разряженное» единство пространства и времени,
в котором фрагменты действительности (расписание, буфет, перрон, звонок) имеют повышенную знаковость. Вокзал — это «нулевой километр», с которого начинается или которым заканчивается путешествие героя в пространстве и во времени. Отсюда
сравнение вокзала с «несгораемым ящиком» у Пастернака («Вокзал»), вызывающим ассоциацию с ящиком Пандоры — мифологическим символом рока, обреченности, и — надежды22. В другой
редакции этого текста мифологический подтекст поддержан упоминанием о гарпиях:
Бывало, вся жизнь моя — в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.
(С. 71)
«Дымящиеся гарпии» в стихотворении Пастернака — функциональные аналоги «демона-змея», часто ассоциируемого с поездом23. В «Урале впервые» сравнение поезда со змеем восходит к
320
Яков Клоц
фольклорному образу Змея Горыныча — русской версии змея-
дракона:
Пыхтел пассажирский. И, где-то от этого
Шарахаясь, падали призраки пихты.
Коптивший рассвет был снотворным. Не иначе:
Он им был подсыпан — заводам и горам —
Лесным печником, злоязычным Горынычем,
Как опий попутчику опытным вором.
(С. 85)
Огнедышащий поезд («злоязычный Горыныч») участвует в
изображении горного рассвета фонетически. Звуковой облик слова
«ГОРыныч» содержит как ландшафтные характеристики (Уральские ГОРы), так и ключевую сему утреннего пейзажа (на рассвете
ландшафт «заГОРается»).
Возвращаясь к вокзальному пространству и к «Вокзалу» Пастернака, заметим, что слово «граница» в ранней редакции (в окончательном варианте этой строки нет, зато есть «раздвинется запад»,
что свидетельствует о разрушении границы) не менее значимо, чем
само сравнение вокзала с «несгораемым ящиком» («Испытанный,
верный рассказчик, / Границы горюнивший люк»; с. 448). Как
образ замкнутого «точечного» пространства, вокзал семиотически
отгорожен от открытого пространства, которое воспринимается
как пустота («пустыня»)24. В «Возвращении» Пастернака вокзальная копоть превращается в песок (пустыню) по мере того, как поезд покидает границы вокзала:
Сажают пассажиров,
Дают звонок, свистят,
Чтоб копоть послужила
Пустыней миг спустя.
(С. 131)
Образ пустыни за пределами вокзального пространства находим и у Бродского. В «На виа Джулиа» вокзальная ограда изображается как граница «пучкообразного» пространства («нулевой километр»): «Знать, велика пустыня / за оградой собравшего рельсы
в пучок вокзала!» (4, 27). Ограда здесь семиотически изоморфна
«стенкам» «несгораемого ящика» в «Вокзале» Пастернака.
Для изображения вокзала как начального пункта путешествия
характерно нагнетание атмосферы неизвестности, тревожного
«Расписанье железных вещей».
321
предчувствия. Ожидание дороги приоткрывает перед героем новое
знание о мире, но открытость новому опыту, готовность пуститься в путь вступают в противоречие с замкнутостью вокзального
пространства, «несгораемого ящика». Поскольку дорога начинается с вокзала, вокзал романтизируется, выступая «промежуточной
зоной, последним локусом земной — пешеходной — стихии»25.
В «Высокой болезни» Пастернака вокзальное пространство хранит
тайну, которая открывается взгляду и слуху художника:
Там, как орган, во льдах зеркал
Вокзал загадкою сверкал,
Глаз не смыкал и горе мыкал
И спорил дикой красотой
С консерваторской пустотой
Порой ремонтов и каникул.
(С. 212-213)
Ключ к «загадке» лежит за пределами вокзального пространства (если не в пункте назначения, то в поезде). Перестук колес
запечатлевается в сознании лирического героя Бродского «печальною догадкой»:
Да что там жизнь! Под перестук колес
взбредет на ум печальная догадка,
что новый недоверчивый вопрос
когда-нибудь их вызовет обратно.
(I 70)
Общей для Пастернака и Бродского является типологическая
оппозиция замкнутого вокзального пространства и открытого пространства вовне. Отличие заключается в психологическом портрете
героя. Если «герой пути» раннего Пастернака органично вписывается в вокзальное пространство, то у Бродского он отчужден не
только от окружающей его реальности, но и от самого себя. Если
вокзал для Пастернака — «испытанный друг и указчик», «верный
рассказчик», «несгораемый ящик», хранящий память о «встречах
и разлуках», то у Бродского вокзал символизирует «одиночество в
толпе» независимо от того, уезжает ли герой или возвращается:
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
а 71)
322
Яков Клоц
В стихотворении Бродского «Я выпил газированной воды...»
вокзал изображен как центр городского (здесь московского, столичного) пространства. Герой пути находится в самом его центре
(под вокзальными часами):
Я выпил газированной воды
под башней Белорусского вокзала
и оглянулся, думая, куды
отсюда бросить кости.
(2, 216)
Отсюда можно пойти («бросить кости») на все четыре стороны, но суета вокзала осложняет выбор героя: «И я был чужд себе
и четырем / возможным направлениям отсюда» (Там же). Бродский преобразует значение вокзального пространства как исходного или конечного пункта путешествия. Несмотря на то, что герой, избавившись от движения по заданной траектории, обладает
теперь «свободной непредсказуемостью направления движения»26,
вокзальная площадь оказывается лишь перепутьем, за которым —
продолжение пути. Драма героя — в невозможности выйти за пределы вокзального топоса: «Огни, столпотворение колес, / пригодных лишь к движению по кругу» (Там же).
В стихотворении «Август», написанном Бродским незадолго до
смерти, вокзальная площадь выступает метафорой жизненного
перепутья и также окрашена мотивом «одиночества в толпе». Завершая жизненный путь и достигнув «пункта назначения», герой
оказывается на «вокзале», в центре «отсутствующей толпы». Вокзал как «конечная станция» выступает метафорой смерти. Пространственные и временные характеристики взаимосвязаны: «вечер» указывает на то, что герой подошел к «концу пути», прибыл
на «конечный пункт»:
Сделав себе карьеру из перепутья, витязь
сам теперь светофор; <...>
<...>
<...> Вечер обычно отлит
в форму вокзальной площади, со статуей и т.п.,
где взгляд, в котором читается «Будь ты проклят»,
прямо пропорционален отсутствующей толпе.
(4, 204)
В то время как вокзал связан с атмосферой неопределенности
и ожидания, поезд, напротив, предполагает определенную направленность мыслей пассажира. «Процессы мышления и памяти, —
«Расписанье железных вещей».
323
как отмечает Левинг, — питаются... железнодорожной метафорикой»27. Движение поезда в пространстве и путешествие героя-пас-
сажира во времени представляют два разнонаправленных вектора,
причем вектор пространства (ход поезда) и вектор времени (ход
мысли героя) меняются местами. Если поезд идет вперед, то мысль
героя, как правило, ретроспективна.
Итак, путешествие героя в собственное прошлое чаще всего
происходит не на вокзале, а в поезде, что выражается в звуковом
противопоставлении этих двух типов пространства: мерный гомон
вокзала го. грохот несущегося состава. Если шум вокзала сливается с шумом города, то поезд «пронзает» тишину загородного пространства. Так, в «Спекторском» Пастернака мысль героя «бушует», пока он едет в поезде, но «стихает» по мере приближения к
вокзалу, где время пребывает в латентном состоянии:
В раскатах, затихающих к вокзалам,
Бушует мысль о собственной судьбе,
О сильной боли, о довольстве малым.
О синей воле, о самом себе.
(С. 271)
Принципиально иной портрет героя пути рисует Бродский в
стихотворении «Люби проездом родину друзей...». С отходом поезда герой погружается в «моментальное забвение», отчуждается от
собственного прошлого («о прожитом бездумно пожалей, / к вагонному окошку прилипая»), а само направление поезда становится безразличным:
Отходят поезда от городов,
приходит моментальное забвенье,
десятилетья искренних трудов,
но вечного, увы, неоткровенья.
<...>
Так поезжай. Куда? Куда-нибудь,
скажи себе: с несчастьями дружу я.
Гляди в окно и о себе забудь.
Жалей проездом родину чужую.
(I 70)
Наконец, принципиально важной деталью оказывается расписание — своего рода семиотический текст, где перемещение поезда в пространстве схематически изображается в категориях времени (время прибытия и отправления, продолжительность стоянки
и предполагаемое опоздание)28. Для Пастернака и Бродского рас¬
324
Яков Клоц
писание глубоко символично, так как в нем «предначертано» будущее, либо, напротив, запечатлено еле уловимое памятью прошлое. В стихотворении Бродского «Келломяки» (1982) расписание
оказывается главным, если не единственным, сохранившимся в
памяти поэта, атрибутом как самой местности (пригородной станции), так и ландшафта собственной памяти (историческое финское
название здесь не случайно). Расписание мифологизируется,
становясь своего рода «графиком» потустороннего мира: поезд-мираж («железная вещь») «возникает из небытия» и «растворяется в
нем же»:
а что Келломяки ведали, кроме рельс
и расписанья железных вещей, свистя
возникавших из небытия, пять минут спустя
и растворявшихся в нем же, жадно глотавшем жесть,
мысль о любви и успевших сесть?
(.3, 244-245)
Если у Бродского расписание поездов окрашено в эсхатологические тона, то в стихотворении «Сестра моя — жизнь...» Пастернака оно едва ли не обожествляется:
Что в мае, когда поездов расписанье
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней святого писанья
И черных от пыли и бурь канапе.
(С. 106)
Д. Бетеа отмечает, что вообще в ранней лирике Пастернака
механистический образ поезда редко имеет негативный оттенок.
Напротив, он связан со сферой органической (естественной) жизни: «Когда, например, в стихотворении “Сестра моя — жизнь...”
поэт восклицает, что расписание поездов “грандиозней” Святого
писания, или, когда в стихотворении “Поэзия” (1922) из цикла
“Темы и вариации” Пастернак сравнивает поэзию с летом в вагоне
третьего класса29, мы имеем дело с семантическим полем первозданной, органической, “природной” жизни»30. Даже тогда, когда
в ранних стихах Пастернака железная дорога сохраняет характерный для нее инфернальный смысл, этот смысл сглаживается,
например, сравнением поезда с ангелом в первой редакции «Вокзала»: «О, кто же тогда, как не ангел, / Покинувший землю экспресс?» (С. 449). Сакрализация поезда у Пастернака резко контрастирует с железнодорожной темой у Бродского, как, например, в
стихотворении «1972 год», где уже в самом названии дан намек на
«Расписанье железных вещей».
325
раздвоенность жизни (молодость го. старение), деление жизненного пути на «здесь» и «там»: «Даже когда все колеса поезда / прокатятся с грохотом ниже пояса, / не замирает полет фантазии»
(3, 16-17).
Кроме того, если в стихах Пастернака железная дорога связана в первую очередь с поэтикой пространства, соотносящейся, в
свою очередь, с темой времени, то у Бродского именно время порождает особое восприятие пространственных (ландшафтных)
категорий: «С точки зренья времени, нет “тогда”: / есть только
“там”» (3, 245). При этом комплексный образ железной дороги у
обоих поэтов позволяет говорить об интерференции категорий
времени и пространства. Поэтика железной дороги основывается
на пространственно-временном сдвиге. Формула «здесь и сейчас»,
фиксирующая положение героя в конкретном пространстве в
определенный момент, уступает место формуле «там и тогда».
1 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 428.
2 Там же.
3 Там же. С. 569.
4 Там же. С. 308.
5 Там же. С. 603.
6 Там же. С. 569.
7 Там же. С. 708.
8 См., например: Marx L. The Machine in the Garden: Technology and the
Pastoral Ideal in America New York, 1964.
9 См. об этом подробнее: Bethea D. The Shape of Apocalypse in Modem
Russian Fiction. Princeton, 1989. P. 58—59.
10 Ср. обыгрывание этого мотива в поэме Пастернака «Девятьсот пятый год» («Москва в декабре»): «Всюду груды вагонов, / Завещанных конною тягой. / Электрический ток / Только с год / Протянул провода».
В «Спекгорском» поезд характеризуется эпитетом «многолошадный» (его
мощь «измеряется» в лошадиных силах): «Почтовый поезд подходил к
Москве. // Многолошадный, буйный, голоштанный...» (Пастернак Б.
Полное собрание стихотворений и поэм. СПб., 2003. С. 237, 290—291).
Далее цитаты из поэтических произведений Пастернака даются по этому
изданию с указанием страницы в скобках.
11 Левине Ю. Вокзал — Гараж — Ангар: Владимир Набоков и поэтика
русского урбанизма. СПб., 2004. С. 103.
12 Bethea D. The Shape of Apocalypse in Modem Russian Fiction. P. 243.
13 FlakerA. Railway Lyrics: The Slavic Forms // Canad. Rev. of Comparative
Lit. 1982. Vol. 9, No. 2. P. 172.
326
Яков Клоц
14 Пастернак Б. Об искусстве: «Охранная грамота» и заметки о художественном творчестве. М., 1990. С. 37. Далее цитаты из прозы Пастернака
даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.
15 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 20.
16 «Так я побывал у нее на даче раза три-четыре, вместе с Рейном и
Найманом. И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой
в набитой битком электричке, я вдруг понял — знаете, вдруг как бы спадает завеса — с кем или, вернее, с чем я имею дело» (Там же. С. 224).
17 Стихотворение не опубликовано в «Сочинениях Иосифа Бродского» (СПб., 2001). Цитируется по электронной версии на сайте: www.lib.ru/
brodskij
18 Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя // Лот-
ман Ю. М. О русской литературе: Ст. и исслед. (1958—1993). История рус.
прозы. Теория лит. СПб., 1997. С. 622.
19 Там же. С. 623.
20 Там же. С. 633.
21 Эта связь неоднократно выражается у Бродского иконически. Ср. в
стихотворении «Тритон»: «Определенье волны / заключено в самом / слове
“волна”. <...>// В образе буквы “в” / явно дает гастроль / восьмерка —
родная дочь / бесконечности... //<...> При расшифровке “вода”, / обнажив свою суть, / даст в профиль или в анфас / “бесконечность-о-да”...»
(4, 188, 190).
22 См.: Ступников Д. О. Символ поезда у Б. Пастернака и рок-поэтов // Русская рок-поэзия: текст и контекст. Тверь, 1998. Вып. 1. С. 107.
23 Сравнением поезда со змеей (змеем) завершается стихотворение
Бродского «В окрестностях Александрии»: «И поезд подкрадывается, как
змея, / к единственному соску столицы» (3, 242).
24 См.: Ступников Д. О. Символ поезда у Б. Пастернака и рок-поэтов.
С. 106-107.
25 Левинг Ю. Вокзал — Гараж — Ангар. С. 89.
26 Лотман Ю. М. Художественное пространство в прозе Гоголя. С. 626.
27 Левинг Ю. Вокзал — Гараж — Ангар. С. 83.
28 Ср. в «Мы» Е. Замятина (1920): «Все мы (а может быть, и вы) еще
детьми, в школе, читали этот величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — “Расписание железных дорог”» (Замятин Е.
Избранные произведения: В 2 т. М., 1990. Т. 2. С. 10).
29 «Поэзия, я буду клясться / Тобой и кончу, прохрипев: / Ты не осанка
сладкогласца, / Ты — лето с местом в третьем классе, / Ты — пригород, а
не припев» (С. 174).
30 Bethea D. The Shape of Apocalypse in Modern Russian Fiction.
P. 245-246.
Анна Маймескулов
Быдгощ, Польша
«ПО ПЕТУШИНОЙ ПЕРЕКЛИЧКЕ... »
(БРОДСКИЙ И ПАСТЕРНАК)
...А петуха не всегда удается спасти1.
Памяти Евгения Алексеевича Костюхина
I. «По петушиной перекличке...»
Читательская интуиция подсказывает, что Бродский как автор
стихотворения «Петухи» (1958) ориентировался на Пастернака —
автора «петушиных» стихотворений: «Осенний лес» (1956) из «Когда разгуляется» и «Петухи» (1923) из «Смешанных стихотворений»2.
Задача состоит в том, чтобы определить те структурные константы «петушиного» дискурса Пастернака, на которые, по всей
вероятности, ориентировался Бродский и которые стимулировали
его интерсемиотическую трактовку «петушиной» темы.
II. Петухи в поэтике Пастернака:
мифопоэтический бицентризм
Петухи по своей мифопоэтической природе, имплицирующей
перемену и обновление за счет связи с солнцем (солнечным циклом) и огнем как земным образом солнца, соотносятся с важнейшей категорией поэтики Пастернака — ‘чудом новизны’ и ‘новым
(вторым) началом/рождением’. Идея непрекращающегося обновления жизни/мира, как известно, связана у Пастернака не только
с природой, но и с культурой как «второй вселенной». В мотивной
структуре произведений Пастернака эта идея реализуется как уд-
военность, отражение, оглядка, эхо, оклик/отклик, рифма, след-
отпечаток, память3. Петухи, с одной стороны, — зооморфный знак
солнца и очага, образ небесного огня, его семиотический эквивалент; с другой — петушиное «пение» организует звуковое пространство по принципу эха: переклички и выкликания минувшего/пророчества о грядущем.
328
Анна Маймескулов
1. Петух и солнце
На фоне ‘осенней’ семантики заглавия подтексты стихотворения «Осенний лес» (которые формируются, с одной стороны,
структурно-семантической организацией, а с другой — мифопоэтическими образами) генерируют сюжет ‘нового (повторного)
рождения’. Семантика ‘осени’ — культурный знак ‘заката’ времени — на уровне хронотопа сопрягает «осеннесть» леса со «склоном
дня»4. Если помнить, что в мифологии лес — локус, через который
проходит путь в мир мертвых5, то атрибутика пастернаковского
«леса» тоже знакова.
Со-противопоставление двух локусов, «(осеннего) леса» и «селенья», разделенных границей «лесной трясины», реализовано в
оппозициях: «мрак/свет», «тишина/звук (петушиное пение)», «су-
женность/распахнутость», «хаос/космос». Этот ряд венчается перерождением «осеннего леса», т.е. победой жизни6:
ОСЕННИЙ ЛЕС
Осенний лес заволосател.
В нем тень, и сон, и тишина.
Ни белка, ни сова, ни дятел
Его не будят ото сна.
И солнце, по тропам осенним
В него входя на склоне дня,
Кругом косится с опасеньем,
Не скрыта ли в нем западня.
В нем топи, кочки и осины,
И мхи, и заросли ольхи,
И где-то за лесной трясиной
Поют в селенье петухи.
Петух свой окрик прогорланит,
И вот он вновь надолго смолк,
Как будто он раздумьем занят,
Какой в запевке этой толк.
Но где-то в дальнем закоулке
Прокукарекает сосед.
Как часовой из караулки,
Петух откликнется в ответ.
Он отзовется словно эхо,
И вот за петухом петух
«По петушиной перекличке..
329
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.
По петушиной перекличке
Расступится к опушке лес
И вновь увидит с непривычки
Поля, и даль, и синь небес7.
«(Осенний) лес» до того, как разбужен «петухами», — потусторонний локус. На его демонические коннотации указывают такие
нагруженные мифопоэтической семантикой элементы, как непроходимость («заволосаченность», ‘опутанность паутиной’), болотистость и особая растительность («лесная трясина», «топи, кочки и
осины»8). «Заволосаченность» леса в соотношении с «тенью»,
«сном» и «тишиной» как признаками безжизненности (обездвиженности, беззвучности) и безвидности актуализирует мифологическую метафорику хаоса и преисподней. Такой лес — «западня»
для «солнца».
Погруженности «осеннего леса» в хаос и смерть отвечает также ‘демоническая’ поглощенность «солнца». Этот объектно-пре-
дикатный параллелизм ставит «лес» и «солнце» в отношения персонажно-сюжетного бицентризма: в стихотворении реализуются
две истории ‘смерти и нового рождения’, герои которых — «(осенний) лес» и «солнце». Причем «солнце» как антропоморфный персонаж далее из текста уходит. Его сменяет выкликаемый петухами
свет. Таким образом петухи получают статус медиаторов между
сферами мрака и света. Кстати, мифологическая причастность
петуха и к царству жизни, света, и к царству смерти, тьмы, делает
этот образ способным к моделированию всего семантического
комплекса жизнь — смерть — новое рождение9.
Это находит отражение в композиции стихотворения: в особенностях 3-й строфы, где сополагаются демонический «лес» и
пение петухов; в трехчастной композиции, где переход от смерти
к жизни маркируется срединным положением петушиных строф
(10 стихов), заключенных в лесную рамку (от сплошной «заволо-
саченности» и погруженности «леса» в сон в первых 10 стихах до
‘пробуждения-распахнутости’ «леса» и обретения им ‘далекого
видения’ в двух финальных строфах). А утверждение, что лес вновь
увидит нечто «с непривычки» (‘старое как новое’), связано с концепцией памяти, реализованной в поэтике Пастернака также в
мотиве «пения петухов».
Мифологическому акту творения мира путем называния отвечает голосовая «отмеченность» «петухами» четырех сторон света:
330
Анна Маймескулов
И вот за петухом петух
Отметят глоткою, как вехой,
Восток и запад, север, юг.
В народной культуре «голос человека, животного является существенной приметой “этого” мира, в то время как мир “иной”
отмечен печатью беззвучия, ср. славянские заговоры, в которых
болезни изгоняют туда, где не поют петухи... голос осознается как
нечто вполне материальное, подверженное влиянию извне и само
могущее стать инструментом воздействия»10. Таков у Пастернака
креативно-строительный «голос-веха». Полифония петушиного
пения за счет предицирования его «откликом-эхом», «перекличкой» аналогична в стихотворении космогоническому акту11.
‘Узость’ хаотического лесного мира переходит в распахнутость
‘космоса’, а ‘далекая слышимость’ петушиного пения оборачивается ‘далекой видимостью’, которой «вновь» наделяется «лес».
Формула «вновь с непривычки», пресуппозирующая жизнь как
предшествующий смерти элемент архаичной тернарной модели,
позволяет интерпретировать ‘пробужденность’ «леса» именно в
категориях нового (второго) рождения, сопряженного с обретением им субъектности. Ибо если «осенний лес» в начале стихотворения более локус, чем персонаж, то в финале он получает антропоморфный статус зрячего субъекта: «расступится» -» «увидит» все
четыре стороны света по горизонтали («даль») и по вертикали
(«синь небес»).
2. Петух и очаг
Как и «Осенний лес», стихотворение «Петухи» (1923) из «Смешанных стихотворений» образует бицентрическую мифопоэтическую структуру, построенную на соотнесенности очага и «петуха»
по аналогии с народной культурой (ср. загадку «Пивень спива поки
з’заранья, а дали спыть, аж потие» и ее отгадку: «печь только по
утру топится»)12. Как птица, служившая символом огня, петух был
посвящен богу домашнего очага13. А «как представитель грозового пламени и жертвенного очага, петух считается необходимым
спутником вещих мужей и жен»14, что перекликается с «пророческими» свойствами «петухов» в стихотворении Пастернака:
ПЕТУХИ
Всю ночь вода трудилась без отдышки.
Дождь до утра льняное масло жег.
И валит пар из-под лиловой крышки,
Земля дымится, словно щей горшок.
«По петушиной перекличке......
331
Когда ж трава, отряхиваясь, вскочит,
Кто мой испуг изобразит росе
В тот час, как загорланит первый кочет,
За ним другой, еще за этим — все?
Перебирая годы поименно,
Поочередно окликая тьму,
Они пророчить станут перемену
Дождю, земле, любви — всему, всему.
(С. 187)
Но мифофольклорные параллели, структурирующие бицент-
рическую композицию стихотворений, еще не объясняют функционирование мотива «петуха» в художественной системе. Ключ к
системности «петуха», по всей вероятности, заключен в идее креативного «голоса», эквивалентного ‘голосу Поэта’, пророчащего
вечную перемену-обновление. «Петушиное пение» в поэтике Пастернака аналогично функции «музыки-памяти», возвращающей
былое в настоящее в обновленной перспективе15. Поэтому не случайно бицентрические структуры стихотворений Пастернака связаны с принципом параллелизма-повтора посредством мотива «голоса-пения».
III. Петухи в поэтике Бродского:
стилистический бицентризм
Одно из самых ранних стихотворений Бродского «Петухи»
(1958) безусловно отсылает к пастернаковской «петушиной» традиции.
Однако «Петухи» Бродского отличаются прежде всего ярким
стилистическим бицентризмом. Можно сказать, что «петухи» описываются здесь то на «языке» ‘курятника’, то на «языке» ‘храма’16:
ПЕТУХИ
Звезды еще не гасли.
Звезды были на месте,
когда они просыпались
в курятнике
на насесте
и орали гортанно.
...Тишина умирала,
как безмолвие храма
с первым звуком хорала.
Тишина умирала.
332
Анна Маймескулов
Оратаи вставали
и скотину в орала
запрягали, зевая
недовольно и сонно.
Это было начало.
Приближение солнца
это все означало,
и оно поднималось
над полями,
над горами.
...Петухи отправлялись
за жемчужными зернами.
Им не нравилось просо.
Им хотелось получше.
Петухи зарывались
в навозные кучи.
Но зерно извлекали,
но зерно находили
и об этом с насеста
на рассвете кричали:
— Мы нашли его сами.
И очистили сами.
Об удаче сообщаем
собственными голосами.
В этом сиплом хрипении
за годами,
за веками
я вижу материю времени,
открытую петухами17.
Бистилистичность стихотворения Бродского задается уже начальным («звездным») двустишием. Перифраз предрассветного
времени оформляется на двух «языках»: первый стих звучит как
традиционно возвышенный («Звезды еще не гасли»), а второй на
его фоне («Звезды были на месте») — как бытовой, прозаический,
сниженный. При этом оба стиля не только контрастируют друг с
другом по принципу высокий/низкий, но вступают в риторические
(игровые) отношения, образуя динамическую фоносемантическую
среду7 метаморфоз-трансформаций.
«По петушиной перекличке...».
333
IV. Бродский — Пастернак: мотивные переклички
7. Горланить / гортанно орать — хор /хорал
Обозначение петушиного пения у Бродского разговорным глаголом «орать (гортанно)», а у Пастернака просторечным «горланить» (наряду с «петь» и «кукарекать») подсказывает возможную
фоническую трансформированность «орать гортанно» из «горланить» как установку на пастернаковский претекстовый предикат.
Причем определение «гортанно» играет свою роль в очередном
шаге транспозиции Бродского — гротесковом переводе «и орали
гортанно» в парономастический мотив «храмового хорала», обратным ходом оживляющий в «гортанно орали» семантику ‘молитвы’18. А мотив «храма/хорала» моделирует природу в тех же сакральных категориях, что и у Пастернака («Когда разгуляется»):
Как будто внутренность собора —
Простор земли, и чрез окно
Далекий отголосок хора
Мне слышать иногда дано19.
(С. 414)
2. Оратаи и пастухи
На фоносемантическом уровне предикацией «орали» генерируются ‘просыпающиеся по велению петухов/солнца’ архаические
и народно-поэтические «оратаи». «Оратаи» запрягают скотину
в «орала», «зевая, недовольно и сонно», что на уровне стиля порождает неожиданное гротесково-комическое смещение, объясняемое
семиотической природой слова «оратаи» (и «орала») как лексем,
производных в тексте от «орали», следовательно, нетождественных
языковым (словарным) единицам по своему семиотическому
статусу20.
3. Начало. Космогония и теогония огня
«Оратаи», подобно «петухам», отмечают у Бродского космогоническое «начало», связанное с «солнцем». В этом отношении
«Петухи» Бродского явным образом отсылают к «Рождественской
звезде» Пастернака из «Стихотворений Юрия Живаго» (1946—
1953): пробуждение «оратаев» «петухами» повторяет ситуацию пробуждения «пастухов» «пламенеющей» вифлеемской звездой:
Доху отряхнув от постельной трухи
И зернышек проса,
334
Анна Маймескулов
Смотрели с утеса
Спросонья в полночную даль пастухи.
(С. 394)
Можно предположить, что в основе мифопоэтической трансформации «звезды» Пастернака в «петухов» Бродского лежит развернутое сравнение Рождественской звезды с земным огнем и
уподобление ее горения вселенскому «пожару». Мифоязыковая
номинация пожара как «красного петуха», лежащая в основе интертекстуальной эквиваленции «петухов» Бродского и «пламенеющей звезды» Пастернака, поддерживается и космогонической
идеей рубежа времен, также связанной с образом петуха. Предрассветный хронотоп стихотворения Бродского прямым образом перекликается с мотивом рассвета-начала в «Рождественской звезде»
(«Светало»; «Средь серой, как пепел, предутренней мглы»; «Светало. Рассвет, как пылинки золы, / Последние звезды сметал с
небосвода»).
4. Жемчужные зерна
«Жемчужные зерна», за которыми отправляются «петухи» у
Бродского, гротескно обыгрывают античную басенную традицию,
существовавшую вплоть до XVIII в. В частности, они отсылают к
басне Крылова «Петух и жемчужное зерно»:
Навозну кучу разрывая,
Петух нашел Жемчужное зерно
И говорит: «Куда оно?
Какая вещь пустая!
Не глупо ль, что его высоко так ценят?
А я бы, право, был гораздо боле рад
Зерну Ячменному: оно не столь хоть видно,
Да сытно».
Невежи судят точно так:
В чем толку не поймут, то всё у них пустяк21.
Замена у Бродского «зерна ячменного» «просом» — возможный результат игрового отношения к мотивам «Рождественской
звезды» Пастернака, в частности уподоблению зерна «россыпи
звезд» («Счастье»):
Кустарника сгусток не выжат.
По клетке и влюбчивый клёст
«По петушиной перекличке......
335
Зерном так задорно не брызжет,
Как жимолость — россыпью звезд.
(С. 90)
5. «Петухи» и категория «свое», «собственное»
С «петухами» Бродского теснейшим образом связана категория
‘собственного’, ‘своего’, ‘самостоятельного’, причем звукопись,
включая рифмовку, увязывает эту ‘самость’ с петушиными «голосами»:
— Мы нашли его сами.
И очистили сами.
Об удаче сообщаем
собственными голосами.
Эта ‘самость’ связана с идеей ‘творца-поэта’ и ‘(поэтического)
творчества’ в поэтике Пастернака. Еще одна параллель: если у
Пастернака творческая, преобразившая мир, вникнувшая в его
сущность музыка льется на «землю»-вселенную «с шестого этажа»,
то у Бродского «петушиный» «хорал» звучит — в пародийном стилистическом регистре (автоиронии) — «с [высоты] насеста». Но в
обоих случаях космогоническая функция музыки-пения связана с
локализацией ‘на высоте’.
6. Время
В. Куллэ предлагает связать «петушиный крик» в стихотворении Бродского с проблемой времени: «В этих стихах впервые у
Бродского появляется многослойная трактовка времени. “Материя
времени” — нечто отдельное от его поступательного движения
(восход солнца и начало дня, года, века). Это — набросок грядущей концепции “Времени в чистом виде”»22. Пронизанная петушиным «хоралом» «материя времени» Бродского, проецируясь на
его дальнейшее творчество, выявляет, как показывает А. Нестеров,
тесную связь пения («ария-смерть») и времени («Сидя в тени»;
1983, «Fin de siècle»; 1989, «Вертумн»; 1990)23.
Разумеется, обращенность Бродского к Пастернаку не исчерпывается стилистически-игровыми опытами, но указывает на общность глубинной концептуализации понятия «голос»24 в варианте
«птичье пение»25.
1 Костюхин Е. Л. Типы и формы животного эпоса. М., 1987. С. 101.
2 Об отношении Бродского к наследию Пастернака см.: Йованович М.
Пастернак и Бродский: К постановке проблемы // Пастернаковские чте¬
336
Анна Маймескулов
ния. М., 1998. Вып. 2. С. 305—323. Здесь, в частности, обосновывается
предположение, что интерес Бродского к Пастернаку начался со «стихов
из романа» и стихотворений сборника «Когда разгуляется».
3 Структурируя мотив «памяти» в творчестве Пастернака, Е. Фарино
показывает, что «память» у Пастернака не мультиплицирующее, а дублирующее устройство и участвует в образовании «образа», ‘второй, большей
реальности’. Оно родственно устройству пастернаковского сравнения,
которое и объединяет оба онтологических уровня и играет роль ‘пути’ на
очередной — высший — уровень. См.: Faryno J. Поэтика Пастернака («Путевые записки» — «Охранная грамота»). Wien, 1989. S. 208, примеч. 65.
4 Мифопоэтика осеннего хронотопа, соотносящего календарное время с ритуалом «похорон» в стихотворении «Ненастье» из «Когда разгуляется», проанализирована В. С. Баевским. См.: Баевский В. С. Б. Пастернак — лирик. Основы поэтической системы. Смоленск, 1993.
5 Иванов В. Лес // Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. М., 1988. Т. 2.
С. 49.
6 В стихотворении «Осенний лес» сжатое до точки топкое пространство «западня»—«трясина» распахивается внезапно в новое мироздание.
Это определяется заложенной в мире тенденцией к перерождению. В одних случаях эта тенденция персонифицируется Пастернаком (см.: Faryno J.
Поэтика Пастернака. S. 97; Idem. Археопоэтика «Писем из Тулы» Пастернака // Mythos in der Slawischen Moderne. Wien, 1987. S. 249, 256, 264).
В свете исследований E. Фарино «волосатость» у Пастернака выражает
хаос мира, его исходную материю или ‘шерсть мира’ — атрибут хаоса и исходной материи мира или ‘шерсти мира’ как его трансформационной потенции. (О мотивах ‘волосатости’, ‘волохатости’, ‘пушистости’, ‘колючих’,‘мшистых’ или ‘шерстистых’ растений и фактур, особенно в картинах
хаотического мира, см.: Faryno J. Поэтика Пастернака. S. 63, 100—101, 180,
259, примеч. 110, 277, 132; Idem. Археопоэтика «Писем из Тулы» Пастернака. S. 262; ср. также Idem. Белая медведица, ольха, мотовилиха и хромой
из господ. Археопоэтика «Детства Люверс» Бориса Пастернака. Stockholm,
1993. С. 68, примеч. 18). Ср. также анализ «Августа» из «Стихотворений
Юрия Живаго» как текста, в котором также совмещаются петушиный
мотив и «проход сквозь ольшаник». Мотив «петухов», взаимодействующий
с пространственной мотивикой узости/распахнутости, отмечается и в
«Вальсе с чертовщиной» из «Стихотворений Юрия Живаго». Здесь «время пред третьими петухами» эквивалентно «скважине», выполняющей
функцию «границы между разноранговыми пространствами»: поту- и посюсторонним миром (Faryno J. Поэтика Пастернака. S. 290—291, примеч. 145).
7 Пастернак Б. Полное собрание стихотворений и поэм. СПб., 2003.
С. 415. Далее цитаты из произведений Пастернака даются по этому изданию с указанием страницы в скобках.
По петушиной перекличке.
337
8 См.: Толстой. БОЛОТО, Агапкина. ДЕРЕВО, Будовская. БЛУЖДАТЬ
(Славянские древности: Этнолингв. словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М.,
1995. Т. 1. С. 197, 229).
9 Этому способствуют и мифопоэтические представления о петухе как
дважды рожденном (см.: Топоров В. Н. Петух // Мифы народов мира. Т. 2.
С. 310).
10 Агапкина, Левкиевская. ГОЛОС // Славянские древности. Т. 1.
С. 511.
11 Ср. моделирование хронотопа посредством птичьего, здесь «соловьиного», пения в стихотворении Пастернака «Эхо» из «Поверх барьеров»:
«Но чем его [соловья] песня полней, / Тем полночь над песнью просторней». Ср. также «звуковой пейзаж» в терминах Цивьян (Цивъян Т. В.
Отражение звукового пейзажа в языке и в тексте (на материале русской загадки) // Мир звучащий и молчащий. Семиотика звука и речи в традиционной культуре славян. М., 1999), совмещающий петушиное пение с мотивами «дали» и «огня» в стихотворении «И если бы любовь взяла...» из
ранних опытов. «Далекая слышимость» как категория поэтики Пастернака, описывающая мир посредством «эха» и «отголоска», сопряжена у поэта с пророческой ‘далекой видимостью’, превращающей прошлое в будущее.
12 Об отождествлении петуха и домашнего очага см.: Афанасьев А.
Поэтические воззрения славян на природу: В 3 т. М., 1994. Т. 1. С. 522.
13 Там же. Т. 2. С. 106, 118.
14 Там же. Т. 3. С. 465.
15 Об этом в категориях автокоммуникации см.: Majmieskutow А.
«Переделкино» Бориса Пастернака (Разбор цикла). Bydgoszcz, 1994.
S. 103-106.
16 Ср. прокомментированную Ю. Н. Тыняновым (Тынянов Ю. Н. Литературный факт. М., 1993. С. 174) игру на параллелизме похищения Черномором Людмилы у Руслана и похищения коршуном курицы у петуха в
«Руслане и Людмиле».
17 Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского: В 4 т. / Сост. и подгот.
изд. Г. Ф. Комарова. СПб., 1992. Т. 1. С. 22-23.
18 Ср. [вероятную] родственную, этимологическую, связь глагола
«орать» с др.-инд. вед. äryati «восхваляет, превозносит», греч. äprj, атт. dpa
«молитва» (Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: В 4 т.
2-е изд., стер. М., 1987. Т. 3. С. 149).
19 О пастернаковской концепции мира как храма-земли не только в
стихотворении, но и в трансформационной структуре цикла «Когда разгуляется» см.: Faryno J. Поэтика Пастернака. S. 265—266, примеч. 117.
20 Ср. семиотическую концептуализацию парономасии, предложенную Фарино: Faryno J. Паронимия — анаграмма — палиндром в поэтике
авангарда // Wiener Slawistischer Almanach. Wien, 1988. Bd. 21. S. 37—62.
338
Анна Маймескулов
21 Крылов И. А. Сочинения: В 2 т. М., 1955. Т. 2: Басни, стихотворения, пьесы. С. 51.
22 Куллэ В. «Поэтический дневник» И. Бродского 1961 года: (Формирование линейной концепции времени) // Иосиф Бродский: творчество,
личность, судьба: Итоги трех конф. СПб., 1998. С. 97.
23 Нестеров А. «Портрет трагедии» — опыт анализа // Старое лит. обозрение. 2001. № 2. С. 96—101.
24 Ср.: Маймескулов А. Стихотворение Бродского «Похож на голос головной убор...» // Текст. Интертекст. Культура. М., 2001. С. 237—247.
25 См. в этой связи инкорпорированность я Бродского в «птичью»
мотивную парадигму его поэзии: РанчинА. «На пиру Мнемозины»: Интертексты Бродского. М., 2001. С. 42.
А. Г. Разумовская
Псков
ДЕРЕВО И САД В ТВОРЧЕСТВЕ
БРОДСКОГО И ЗАБОЛОЦКОГО
Задача настоящей статьи — выявить связь между поэзией
И. Бродского и Н. Заболоцкого. Основа сопоставления — обращение обоих поэтов к «древесному» коду.
Бродский неизменно включал Заболоцкого в «карту той культурной территории, на которой существует поэзия»1, вступая с ним
в состязание2. Наша цель — попытаться понять суть поэтического
диалога Бродского с Заболоцким.
Говоря о Заболоцком, следует иметь в виду, что его «древесный
код» не оставался неизменным на протяжении всего творчества.
В период «Столбцов» деревья в его стихах предстают «большими
сжатыми телами» («На лестницах», 1928). Их изначальная стихийность («кочевье») деформирована, стиснута оградами. Они превращены в часть удушливого урбанистического пространства:
Стоят чиновные деревья,
Почти влезая в каждый дом.
Давно их кончено кочевье,
Они в решетках, под замком.
Шумит бульваров теснота,
Домами плотно заперта3.
(«Ивановы»)
Поздний Заболоцкий верит в то, что в основе изменения мира
лежит благотворный «путь природы / К благословенному уму»
(С. 298). В поэме «Деревья» (1933) изображен причудливый, полный фантазии и целесообразности мир деревьев. Поэт рисует
иерархически организованное древесное царство: деревья-самовары и деревья-пароходы, деревья-битвы и деревья-гробницы, виолончели и дудки, деревья-фонтаны и деревья-топоры и т.д. Этот
ряд поэтических образов венчает Дерево-Сфера — «выражение
чистых понятий», «значок беспредельного дерева». Автор отсылает к мифопоэтическому образу Мирового Древа, организующего
вертикальную и горизонтальную структуру мироздания. Так поэт
приходит к «идее дерева».
340
А. Г. Разумовская
«Идея дерева» важна и для Бродского. В стихотворении «Дерево» (1970) он создает на первый взгляд традиционный образ
стойкости, сопротивления обстоятельствам:
Бессмысленное, злобное, зимой
безлиственное, стадии угля
достигнувшее колером, самой
природой предназначенное для
отчаянья, — которого объем
никак не калькулируется, — но
в слепом повиновении своем
уже переборщившее, оно,
ушедшее корнями в перегной
из собственных же листьев и во тьму —
вершиною, стоит передо мной
как символ всепогодности, к чему
никго не призывал нас, несмотря
на то, что всем нам свойственна пора,
когда различья делаются зря
для солнца, для звезды, для топора.
(2, 377)
Но поэт пишет не просто о «стоическом претерпевании скорбей и невзгод»4 (организация текста — одно предложение с множеством уточнений и переносов — словно материализует идею
трудной жизни, которая складывается из преодоления преград); он
настаивает на трагедии обреченности.
Одинокое дерево — «символ всепогодности», о котором написал Бродский, вызывает ассоциации с «Одиноким дубом» (1957)
Заболоцкого, деревом, у которого «скрученные намертво суставы»
(С. 165), но оно остается одиноким воином.
Воинская терминология вообще характерна для Заболоцкого,
пишущего о деревьях. В его поэме «деревья-солдаты, громоздясь
друг на друга, / Образуют дупла, крепости и завалы» (С. 299), в стихотворении «Утро» (1946) поэт рисует строгую гармонию древесного «войска»:
Там черных деревьев стоят батальоны,
Там елки как пики, как выстрелы — клены,
Их корни как шкворни, сучки как стропила,
Их ветры ласкают, им светят светила.
(С. 87)
И образы, и ритмика подчеркивают многочисленность «армии», ее
дисциплину и мощь.
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
341
«Военизированную» образность встречаем и у Бродского. Во-
первых, динамика, напор растительности передаются с помощью
метафор: «салют мимозы, гаснущей в пыли» («Шум ливня воскрешает по углам...»; 1, 273), «на лезвиях и остриях агавы» («Зимним
вечером в Ялте»; 2, 291), «сердцевина репейника напоминает
мину, / взорвавшуюся как бы наполовину» («Эклога 5-я (летняя)»;
3, 219). Во-вторых, смену времен года, наступление зимы поэт
представляет в виде развернутой метафоры умирания природы на
поле битвы:
Отходят листья в путь всея земли,
и ветви торжествуют над пространством.
Но в мужестве, столь родственном с упрямством,
крах доблести. Скворчиные кремли,
вы брошены! и клювы разодрав —
крах доблести — без ядер, без патронов
срываются с вороньих бастионов
последние защитники стремглав.
(«Неоконченный отрывок»; 2, 97)
Под натиском зимы природа умирает, и смерть ее полна достоинства, героизма. Это передается через использование высокой
образности: «отходят листья в путь всея земли». Сравнения (снег
кружится, «исследуя полдюжины скворешен / в трубу, как аустер-
лицкий герой»; «И вот на поле он, во мгле / на пнях, наполеоном
на березах») порождают исторические аллюзии, которые, впрочем,
ироничны. Зима и снег сопоставляются с наполеоновской армией, а растения и птицы — с русскими, вынужденными отступить
(«последние защитники стремглав» «срываются с вороньих бастионов», бросают «скворчиные кремли»). Помимо природного и исторического планов Бродскому важен третий, поэтологический,
план:
Ну, время песен о любви, ты вновь
склоняешь сердце к тикающей лире,
и все слышней в разноголосом клире
щебечет силлабическая кровь.
Из всех стихослагателей со мной
столь грозно обращаешься ты с первым
и бьешь календарем своим по нервам,
споласкивая легкие слюной.
Ну, время песен о любви, начнем
раскачивать венозные деревья
342
А. Г. Разумовская
и возгонять дыхание по плевре,
как пламя в позвоночнике печном.
И сердце пусть из пурпурных глубин
на помощь воспаленному рассудку —
артерии пожарные враскрутку! —
возгонит свой густой гемоглобин.
(гад
Отметим восходящий, на наш взгляд, к Заболоцкому образ
«венозных деревьев». Лирическое «я» поэта соотносится с деревом,
его физическое тело, как и у Заболоцкого, напоминает растение-
сосуд:
Мясных растений городок
Пересекал воды поток.
И, обнаженные, слагались
В ладошки длинные листы,
И жилы нижние купались
Среди химической воды;
(«Время»; с. 239)
В каждом маленьком растеньице,
Словно в колбочке живой,
Влага солнечная пенится
И кипит сама собой.
(«Весна в лесу»; с. 73)
Аналогичные образы, например, «бутылки / деревьев, переполненных своим / вином» есть у Бродского («Набережная
р. Пряжки»; 2, 164). Что касается «венозных деревьев», то их, как
нам кажется, следует считать прямой отсылкой к образу «дервене-
ющих вен» из стихотворения «В жилищах наших» (1926):
Вот мы нашли поляну молодую,
Мы встали в разные углы,
Мы стали тоньше. Головы растут,
И небо приближается навстречу.
Затвердевают мягкие тела,
Блаженно дервенеют вены,
И ног проросших больше не поднять,
Не опустить раскинутые руки.
Глаза закрылись, времена отпали,
И солнце ласково коснулось головы.
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
343
В ногах проходят влажные валы.
Уж влага поднимается, струится
И омывает лиственные лица:
Земля ласкает детище свое.
(С. 228-229)
Биологическое родство человека и дерева подчеркнуто внутренней рифмой: «дер^еяеют вены». Так человек перестает быть замкнутым в себе микрокосмом и становится частью природного
мира.
У Бродского, напротив, в «Неоконченном отрывке» нет монументальности, его герой страдает от одиночества, от неразделенной любви, его снедает тоска. Образ «венозного дерева» — это
образ поэта, чей внутренний жар, воспаленность рассудка, «возгонка» дыхания и крови предшествуют процессу творчества (как
всегда у Бродского, подчеркнуто физиологическому). Порыв
чувств, вспыхнувших в человеке из-за того, что его плоть, родственная природе, ощущает в своих венах толчки стихии, переливается в стихи. Любопытно, что с качающимися «венозными деревьями» во второй части цикла соотносится образ «рвущихся из
грунта тополей». Тополь в поэтической традиции — «изысканный
мечтатель, созерцатель, закинувший голову к небесам»5. Деревья
покрываются снегом, что может символизировать разрешение
любовных мук творчеством.
Через соотнесение образов человека и дерева реализуется метафора поэтического творчества в стихотворении «Ты — ветер,
дружок. Я — твой...». Как свидетельствует Л. Лосев, оно также написано в 1963—1964 гг.6:
Ты — ветер, дружок. Я — твой
лес. Я трясу листвой,
изъеденною весьма
гусеницею письма.
Чем яростнее Борей,
тем листья эти белей.
И божество зимы
просит у них взаймы.
(3, 265)
Помимо природного здесь имеется также мифологический
план. Борей, бог северного ветра, ассоциируется с холодом, снегом. Но доминирует семантика творчества: опадающие листья соотносятся с листами бумаги, испещренными «гусеницею письма».
Даже суровое «божество зимы» бессильно перед хрупкостью, без¬
344
А. Г. Разумовская
защитностью «я» — дерева, сбрасывающего листву, но сопротивляющегося обстоятельствам.
Итак, если у Заболоцкого мы наблюдаем перевоплощение человека, его «вживание в природное единство»7, то у Бродского —
скорее духовное перерождение.
В архиве поэта есть неоконченная пьеса «Дерево», над которой
он работал до отъезда из СССР8. Это философское размышление
о жизни, смерти, времени, представленное в форме диалога (спор
автора с самим собой?), часто нарочито сниженного. Реплики безымянных героев выявляют их скучное, однообразное существование. Пытаясь преодолеть его, они встают рядом, обматываются
до пояса портьерой, как корой, и делаются похожими на дерево —
новогоднюю елку. Так устраняется раздвоенность: атомарные
люди становятся единством, выражая протест против мертвящей
монотонности жизни. Утверждается самоценность «дерева», его
«веток»-рук и «корней»-ног. Способность ощущать — главный
признак жизни. Это предвосхищает сцену в пьесе «Мрамор» (1982),
когда Публий, надрезая кожу на колене и выдавливая кровь, говорит: «Пускай сочится. Она, может, единственное доказательство,
у меня оставшееся, что я действительно жив» (7, 273).
Знаменательно, что, когда спустя десятилетие Бродский от незавершенных сцен пришел к пьесе «Мрамор», человек превратился у него не в дерево, а в статую, переместился не в биологический, а в вещный мир. В эмиграции поэт будет изображать эту
метаморфозу — превращение человека в вещь, в мрамор — как трагедийный процесс. У его героя разовьется «комплекс статуи» («Вечер. Развалины геометрии...»; 4, 20), он обнаружит перспективу
стать обломком и затем распылиться во мраке.
Для Заболоцкого метаморфоза была синонимом бессмертия.
Растворение человека в мире поэт рисовал как гармонический
процесс:
Я не умру, мой друг. Дыханием цветов
Себя я в этом мире обнаружу.
Многовековый дуб мою живую душу
Корнями обовьет, печален и суров.
В его больших листах я дам приют уму,
Я с помощью ветвей свои взлелею мысли,
Чтоб над тобой они из тьмы лесов повисли
И ты причастен был к сознанью моему.
(«Завещание»; с. 109)
Вслед за Хлебниковым Заболоцкий верил, что творческий дух
может воплощаться в разных природных формах: жуки — «зароды¬
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
345
ши славных Сократов» («Школа жуков»; с. 253); а «в каждом дереве сидит могучий Бах, /Ив каждом камне Ганнибал таится...»
(«Лодейников»; с. 69); «Что раньше было птицей, / Теперь лежит
написанной страницей; / Мысль некогда была простым цветком, /
Поэма шествовала медленным быком» («Метаморфозы»; с. 83).
Поэт воспринимал это как могучее таинство природы.
Подобный мифопоэтический оптимизм для Бродского был не
характерен. Смерть для него — всегда уничтожение. И только творчество способно помочь человеку «уцелеть в перспективе», поскольку «глухонемая Вселенная» и ее эквивалент — растения —
могут выразить себя лишь в человеческом слове: «перо шуршит, /
помогая зеленой траве произнести “всё кончено”» («Надпись на
книге»; 4, 109). Бродский, как и его предшественники, видит в
природе способность к творчеству, ощущает духовную энергию.
Но обнаруживает себя эта энергия только через человека, который
призван быть «не детищем природы», а ее «умом» (Заболоцкий).
В стихотворении «Время подсчета цыплят ястребом; скирд в
тумане...» Бродский дает описание осени — традиционной для
русской поэзии поры вдохновения и творчества:
Время подсчета цыплят ястребом; скирд в тумане,
мелочи, обжигающей пальцы, звеня в кармане;
северных рек, чья волна, замерзая в устье,
вспоминает истоки, южное захолустье
и на миг согревается. Время коротких суток,
снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог
в желудке от желтой вареной брюквы;
сильного ветра, треплющего хоругви
листолюбивого воинства. Пора, когда дело терпит,
дни на одно лицо, как Ивановы-братья,
и кору задирает жадный, бесстыдный трепет
пальцев. Чем больше пальцев, тем меньше платья.
(3, 172)
С осенью связано наступление холодов, коротких и «на одно
лицо» дней, сильного ветра, треплющего «хоругви / листолюбивого
воинства» («листолюбивый» вызывает ассоциации с «христолюбивый»). «Хоругви христолюбивого воинства» символизируют поклонение и верность религиозным идеям, их защиту, готовность к
духовному подвигу. Окказионализм Бродского подчеркивает бесстрашие, с которым листва сопротивляется ветру и осени. В «лопотанье» осенней листвы автору слышатся призывы к священной
битве за веру. Образ возникает на пересечении нескольких планов:
природного, религиозного, исторического. Как результат — вы¬
346
А. Г. Разумовская
разительная метафора, передающая пестроту, трепетание, очеловеченную одержимость листьев. По сравнению с образом листвы
у Заболоцкого («И детских рук изломанная прелесть, / Одетая в кисейные листы...») («В жилищах наших»; с. 228) образ деревьев у
Бродского лишен нежности и хрупкой красоты. В нем преобладает воинственность.
Сопоставим этот текст со стихотворением «Начало осени»
(1928) Заболоцкого. У Бродского осень дана предметно, с интонацией безучастного перечисления: «Время коротких суток, / снимаемого плаща, разбухших ботинок, судорог / в желудке от желтой
вареной брюквы...» Не вызывает душевного трепета осенняя природа и у Заболоцкого. А ведь речь идет о самом поэтическом, с
легкой руки Пушкина, времени года! Герой Заболоцкого с его «начатками знаний» воспринимает изменения в природном мире
вполне рационально:
Как сон житейских геометрий,
В необычайно крепком ветре
Над ним домов бряцали оси,
И в центре О мерцала осень.
И к ней касаясь хордой, что ли,
Качался клен, крича от боли,
Качался клен, и выстрелом ума
Казалась нам вселенная сама.
(С. 223)
Одухотворенное начало оба поэта усматривают именно в деревьях: для Заболоцкого это страдающий, стенающий, порывистый
клен, чья экспрессия оттеняет спокойную решимость и достоинство «хоругвей листолюбивого воинства».
В стихотворении «Осень» (1932) также преобладает рациональный взгляд Заболоцкого-ученого: «Осенних листьев ссохлось вещество / И землю всю устлало» (С. 62). В осеннем пейзаже поэт
отмечает преобладание геометрических форм:
Архитектура Осени. Расположенье в ней
Воздушного пространства, рощи, речки,
Расположение животных и людей,
Когда летят по воздуху колечки
И завитушки листьев, и особый свет, —
Вот то, что выберем среди других примет.
(С. 63)
В зрелый период Заболоцкого привлекает динамика природного мира. Он рисует не застывшие, а меняющиеся картины:
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
347
Но вот приходит ветер. Всё, что было чистым,
Пространственным, светящимся, сухим, —
Всё стало серым, неприятным, мглистым,
Неразличимым. Ветер гонит дым,
Вращает воздух, листья валит ворохом
И верх земли взрывает порохом.
И вся природа начинает леденеть.
Лист клена, словно медь,
Звенит, ударившись о маленький сучок.
(С. 63)
На смену умиротворенности приходит «взрывная» картина
«боя», в котором природа постепенно умирает. Эта традиция обнаруживается у Бродского не только в метафорических «поединках» природы со Временем, но и в образе осеннего сада, например,
в раннем стихотворении «Сад».
Бродского с Заболоцким сближает также универсализм в изображении мира: оба обращаются к «совокупности растений, образующих сад»9. (В образе сада издавна воплощается представление
о мире10.) Однако многозвучию сада Заболоцкого противостоят
пустота и немота сада Бродского.
Слово «сад» у Заболоцкого может обозначать лес, с которым
поэт связывает мысль о музыкальной гармонии. Так, в третьей
части поэмы «Деревья» — «Ночь в лесу» — возникает картина лесного оркестра. Его мелодия постепенно возникает из «вращения
деревянных планеток», щелканья, потрескиванья веток:
Тогда выступают деревья-виолончели,
Тяжелые сундуки струн облекаются звуками,
Еще минута, и лес опоясан трубами чистых мелодий,
Каналами песен лесного оркестра.
(С. 299)
Звучание ночного леса, чья песня становится «все шире да
шире», получает у Заболоцкого предметную закрепленность: музыка не только слышна, она зрима. Стволы деревьев соотносятся
с трубами органа, который появляется в стихотворении «Ночной
сад». Торжественная, величественная красота ночного леса выражена через музыкальный образ «таинственного органа»:
О, сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
348
А. Г. Разумовская
О, сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей!
(С. 75)
Поскольку «пространственная структурированность» присуща
именно саду, поэт обозначает лес словом «сад». Ему важно передать величественную полифонию лесного оркестра, в которой сливается множество различных тембров. Хаос мироздания, наблюдаемый в дневные часы, ночью преобразуется у Заболоцкого в
гармонию:
Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.
(С. 75)
Поэт актуализирует символику разных пород деревьев: дуб —
сила, мощь, достоинство; тополь — стройность, устремленность
вверх; ель — храбрость, долголетие; липа — дерево, хранящее память о счастливом прошлом11. Деревья персонифицированы и одухотворены, их листва, как и птицы, — хрупкая, беззащитная плоть,
разрушаемая «Железным Августом». (Строки именно из этого стихотворения приводит Бродский как пример эстетического потрясения: «“Железный Август в длинных сапогах / Стоял вдали с большой тарелкой дичи. / И выстрелы гремели на лугах, /Ив воздухе
мелькали тельца птичьи”. Посмотрите, как замечательно прорисован задний план! Это дюреровская техника»12.)
В ночное время «сад умолк», погрузился в неподвижность, и
в его чащах слышна торжественная музыка. Заболоцкий сочувствует саду («о, бедный сад ночной!») — природа томится своим несовершенством. Поэт полагал, что лишь человеку дано внести порядок в природный мир. В 1930-е гг. он выступает за активное
вмешательство человека в природу, за их разумный союз. Ему
близки «опыты И. Мичурина, преобразившего “древний круг растений” в новую, рукотворную природу садов»13. В стихотворении
«Венчание плодами» Заболоцкий обращается к плодам-питомцам
ученого:
Как вы сияете своим прозрачным светом,
Когда, подобные светилам и кометам,
Лежите, образуя вокруг нас
Огромных яблоков живые вавилоны!
Кусочки солнц, включенные в законы
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
349
Людских судеб, мы породили вас
Для новой жизни и для высших правил.
(С. 63-64)
Автору открывается величие плодов, а сам Мичурин предстает
ученым космического масштаба. Новая реальность, задуманная и
создаваемая человеком как «сплошной плодовый сад», изменила не
только природу плодов («Чтобы, самих себя переборов, / Вы не
боялись северных ветров, / Чтоб зерна в вас окрепли и созрели, /
Чтоб, дивно увеличиваясь в теле, / Не знали вы в развитии преград...»; с. 64), но и переосмыслила представление о плоде позна-
нья. Это не запрещенный плод, как в библейском Эдеме, а «чудесный клад», который предстоит открыть для «грядущих поколений»:
Я заключил бы вас в свою библиотеку,
Я прочитал бы вас и вычислил закон,
Хранимый вами, и со всех сторон
Измерил вас, чтобы понять строенье
Живого солнца и его кипенье.
(С. 64-65)
Мифологическому Раю противостоит земная реализация утопии — плодовый сад, «взращенный усильями народа»:
Отныне всё прозрачно и кругло
В моих глазах. Земля в тяжелых сливах,
И тысячи людей, веселых и счастливых,
В ладонях держат персики, и барбарис
На шее девушки, блаженствуя, повис.
И новобрачные, едва поцеловавшись,
Глядят на нас, из яблок приподнявшись,
И мы венчаем их, и тысячи садов
Венчают нас венчанием плодов.
(С. 65)
Сад, таким образом, воплощает томление природы по разуму.
Если в Раю дерево познания было «дремлющим древом», то в новую эпоху его возможности пробудились для созидательной деятельности:
Когда плоды Мичурин создавал,
Преобразуя древний круг растений,
Он был Адам, который сознавал
Себя отцом грядущих поколений.
350
А. Г. Разумовская
Он был Адам и первый садовод,
Природы друг и мудрости оплот,
И прах его, разрушенный годами,
Теперь лежит, увенчанный плодами.
(С. 65)
Новый Адам разгадывает тайны природы, проникая в «сокровищницу знаний», и разумно претворяет их в жизнь. Он подобен
Творцу — первому садовнику. Используя мифологему сада, Заболоцкий не столько воспевает прогресс и человеческий труд, сколько утверждает «дирижерскую» миссию человека в природе14.
Сад — место действия в поэме «Лодейников» («Лодейников,
закрыв лицо руками, / Лежал в саду»; с. 66). Однако «сад» здесь
рифмуется с «адом». Природа, при ближайшем рассмотрении
«обернувшаяся адом», лишена гармонии:
<...> Трава пред ним предстала
Стеной сосудов. И любой сосуд
Светился жилками и плотью. Трепетала
Вся эта плоть и вверх росла, и гуд
Шел по земле. Прищелкивая по суставам,
Пришлепывая, странно шевелясь,
Огромный лес травы вытягивался вправо,
Туда, где солнце падало, светясь.
И то был бой травы, растений молчаливый бой.
Одни, вытягиваясь жирною трубой
И распустив листы, других собою мяли,
И напряженные их сочлененья выделяли
Густую слизь. Другие лезли в щель
Между чужих листов. А третьи, как в постель,
Ложились на соседа и тянули
Его назад, чтоб выбился из сил.
(С. 67)
Заболоцкий отказывает природе в благоухании и величии. Он
наблюдает ее беспорядочность, хаос, сострадает ее мукам. Отголосок Хлебникова оттеняет мысль Заболоцкого: «природы вековечная давильня» может быть превращена в прекрасный сад лишь
человеком, поскольку «природная гармония... держит музыкальный строй... только с приходом дирижера»15.
Подобные воззрения, связанные с утопическими устремлениями революционной эпохи, были, разумеется, Бродскому чужды.
Между тем его сближает с Заболоцким сознание того, что душа
природы желает быть высказанной:
Дерево и сад в творчестве Бродского и Заболоцкого
351
...Голоса растений
Неслись вослед, качаясь и дрожа,
И сквозь тяжелый мрак миротворенья
Рвалась вперед бессмертная душа
Растительного мира.
(«Лодейников»; с. 70)
Так и в поэзии Бродского трепещущая листва является аналогом бессмертных душ, знаком сохранения личного в безличном. Ее
«лопотанье» «на диалекте почек» не что иное, как язык одухотворенной материи:
...Листва, бесчисленная, как души
живших до нас на земле, лопочет
нечто на диалекте почек,
как языками, чей рваный почерк
— кляксы, клинопись лунных пятен —
ни тебе, ни стене невнятен.
(«Эклога 5-я (летняя)»; 3, 225)
В шелесте-речи листьев угадывается творческий процесс, разрешающийся рождением таинственных знаков: клякс, иероглифов, запятых. Да и вид растения, его форма — это «письменность»
почвы, с помощью которой время утверждает превосходство над
пространством:
Крутя бугенвиллей вензеля,
ограниченная земля,
их письменностью прикрывая стыд,
растительностью пространству мстит.
(«Иския в октябре»; 4, 134—135)
Именно растения у позднего Бродского ассоциируются с вечностью, воплощенной в земном мире. Природа, находящаяся в
состоянии изменчивости и мимолетности, убеждает в реальности
бессмертия. Такое представление о растениях как «диалекте» и
«почерке» «бесконечности, жадной к деталям» (3, 220), созвучно
традициям Хлебникова и Заболоцкого.
Двигаясь в сходном направлении, Бродский вполне оригинален. С Заболоцким его роднит внимание к проблеме взаимосвязи
человека и природы, преходящего и вечного. Оба поэта наделены
диалектическим взглядом на мир: утверждение часто сменяется
сомнением или сосуществует с ним. Но есть и принципиальная
352
А. Г. Разумовская
разница. Бродского интересует не бытие природы, а абсолютное
бытие. В этом отличие его метафизической поэзии от натурфилософской лирики Заболоцкого.
1 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии // Звезда. 2006. № 8. С. 198.
2 См.: Полухина В. Бродский глазами современников: Сб. интервью.
СПб., 1997. С. 301; Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000.
С. 153-154.
3 Заболоцкий Н. А. Стихотворения и поэмы / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. А. М. Туркова. М.; Л., 1965. С. 205. Далее цитаты из поэтических произведений Заболоцкого даются по этому изданию с указанием
страницы в скобках.
4 Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной...». Система пейзажных образов в русской поэзии. М., 1990. С. 40.
5 Там же. С. 86.
6 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006.
С. 73, 296.
7 Игошева Т. Проблемы творческой эволюции Н. А. Заболоцкого.
Новгород, 1999. С. 51.
8 Отдел рукописей РНБ. Ф. 1333. Ед. хр. 415.
9 Топоров В. Растения // Мифы народов мира: Энцикл.: В 2 т. 2-е изд.,
М., 1997. Т. 2. С. 369.
10 Лихачев Д. Поэзия садов. К семантике садово-парковых стилей. Сад
как текст. 3-е изд., испр. и доп. М., 1998. С. 11.
11 Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной...». С. 49, 54, 72, 83
и др.
12 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 154.
13 Эпштейн М. «Природа, мир, тайник вселенной...». С. 258.
14 Белый А. Поиск «нового зрения»: Скрытый спор Заболоцкого с Пушкиным // «И ты причастен был к сознанью моему...»: Проблемы творчества Николая Заболоцкого. М., 2005. С. 51.
15 Шайтанов И. «Лодейников»: Ассоциативный план сюжета // Там
же. С. 37.
М. М. Гельфонд
Нижний Новгород
БОРАТЫНСКИЙ
В ЛЕНИНГРАДСКОЙ ПОЭЗИИ
1960—1980-х годов
По словам лидера неофициальной ленинградской культуры
В. Кривулина, «Боратынский1 — это ключевая фигура для ленинградской поэзии. На поэтов 60-х, 70-х годов он имел влияние гораздо более сильное, нежели, скажем, Пушкин, Хлебников или
Мандельштам»2.
Ленинградская поэзия 1960—1980-х гг. — явление чрезвычайно неоднородное, соединяющее подцензурную поэзию и «дух
культуры подпольной», подчеркнутое следование классическим
традициям, принятое в околоахматовском кругу, и неофутуризм
«филологической школы»3. Тем не менее именно Боратынский
становится «общим знаменателем» поэзии этого периода — не случайно том Боратынского упоминается как примета времени в стихотворении Е. Рейна «Дельта» (1976):
Вот полочка: стишки и детективы,
Два номера «Руна» и «Аполлона»,
«Плейбой» и «Новый мир» и Баратынский,
Тетради с выписками, все полупустые...4
Различие творческих установок ленинградских поэтов 1960—
1980-х годов во многом определило многообразие форм рецепции
Боратынского: эпиграфы и цитаты из его стихов, «реконструкция»
отдельных произведений в условиях реалий XX в., сотворение и
развенчание биографических мифов, связанных с Боратынским.
Эпиграф из Боратынского «Но я живу и на земле мое / Кому-нибудь любезно бытие» предваряет напечатанную в «Антологии “40”»
(1977) подборку стихов поэта-минималиста Л. Виноградова. Ряд
стихотворений А. Кушнера, В. Кривулина, Л. Лосева представляют собой развернутые вариации на темы, заданные лирикой Боратынского. Долгое время с Боратынским соотносил себя Бродский.
Это позволяет выдвинуть для решения в рамках настоящей
статьи по крайней мере две задачи: в каких формах происходила
рецепция Боратынского и в чем заключается его значение для ленинградской поэзии данного периода.
354
М. М. Гелъфонд
В начале 1960-х гг. интерес к Боратынскому в значительной
степени был связан с личностью и стихами молодого Бродского.
В рассказах о поэтическом становлении Бродский неизменно выделял эпизод, относящийся к июню 1961 г. В Якутске в ожидании
отправки геологической партии он купил книгу Боратынского из
серии «Библиотека поэта». «Читать мне было нечего, — вспоминает Бродский, — и когда я нашел эту книжку и прочел ее, тут-то я
все понял: чем надо заниматься. По крайней мере, я очень завелся, так что Евгений Абрамыч как бы во всем виноват»5.
Этим значение Боратынского для Бродского не ограничилось.
Характеризуя мировоззрение поэта начала 1960-х гг., Я. Гордин
подчеркивал, насколько важное место в нем «занял зрелый Боратынский с его недекларируемой внутренней независимостью, подчеркнутой отстраненностью от гражданских бурь и стоическим
стремлением осознать ужас земного существования»6. Жизнь Боратынского становится для Бродского как бы эталоном жизни
поэта: «Я помню, как Иосиф говорил, что именно Боратынский и
поставил перед ним вопрос — поэт он или не поэт. И если поэт,
то должен жить как поэт»7. Потребность «жить как поэт» заставила Бродского в нарушение общепринятой этики неожиданно
уехать из геологической экспедиции (по крайней мере, сам он,
творя автобиографический миф, объяснял этот поступок именно
так)8. По словам Бродского, «первые свои по-настоящему хорошие
стихи» он написал именно после возвращения из Якутии9. В этот
период были созданы «Петербургский роман», «Июльское интермеццо», поэма «Шествие» — произведения, с одной стороны, определившие поэтический голос молодого Бродского, с другой —
свидетельствующие о глубоком прочтении Боратынского10.
Уже в стихотворении «Памяти Е. А. Баратынского» Бродский
пытается осмыслить логику судьбы поэта. Произведение строится на совмещении советских историко-литературных клише с кругом намечаемых Бродским метафизических тем и образов. Первые,
по-видимому, восходят к вступительной статье Е. Н. Купреяновой.
Боратынский, не имевший отношения к восстанию 14 декабря
1825 г., предстает в стихотворении едва ли не декабристом: «...как
жизни после декабря / так одинаково разбиты» (1, 44). Сходную
трактовку судьбы Боратынского находим у Купреяновой: «...он
воспринял поражение декабристов и наступившую вслед за тем
реакцию как полное крушение всех лучших стремлений и надежд
своей юности»11. Вместе с тем ряд образов и мотивов связан со
стихами Боратынского. Так, образ души, видевшей «одни великие
утраты», навеян, вероятно, стихотворением Боратынского «На что
вы, дни! Юдольный мир явленья...» — «единственным в своем роде
аспектом душевного опустошения»12. Судьба «поэтов пушкинской
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 355
поры» у Бродского проецируется на судьбу его дружеского круга:
«пока старательны пиры, / романы русские стандартны».
Разумеется, в начале 1960-х и позже, в период ссылки и возвращения из нее, речь идет не о сознательном «жизнестроитель-
стве» Бродского, а о его реакции на обстоятельства, как бы сверяемой с поэзией Боратынского. Судьба и жизненная позиция поэта,
стоицизм, трезвое осознание катастрофичности бытия становятся
для Бродского своеобразной точкой отсчета. Проводя аналогию
между пушкинской плеядой и теми, кого позже назовут «ахматов-
скими сиротами», Бродский неизменно отводит себе роль Боратынского. Так, в разговорах с Волковым он вспоминал: «...в свое
время в Ленинграде возникла группа, по многим признакам похожая на пушкинскую “плеяду”. <...> Каждый из нас повторял какую-то роль... Я, со своей меланхолией, видимо, играл роль Баратынского. Эту параллель не надо особенно затягивать, как и
вообще любую параллель. Но удобства ради ею можно время от
времени пользоваться»13.
Опыт Боратынского становится особенно важным для Бродского во время судебного процесса и последовавшей за ним
ссылки. Ситуация «северного изгнания» сближает обоих поэтов.
В письме к И. Н. Томашевской (автору вступительной статьи и
комментариев к изданию Боратынского в серии «Библиотека поэта») Бродский замечает: «Все время — в “Крестах”, на пересылках, в Столыпине — все время я читал (позволили брать книгу)
Вашу статью в томике Боратынского»14. Бродский воспринимает
Боратынского не как одного из «поэтов пушкинской поры», а как
«классика» (позже в Нобелевской лекции он назовет Боратынского
«великим»), заботясь о том, чтобы такая репутация закрепилась в
читательском сознании: «Она (статья), по-моему, действительно
замечательна... а своим разделением (эпигр., элегии и проч.) Вы
превратили его <в> классика... за какового его никак не хотят признавать»15. В Норенской возникает замысел статьи о Боратынском:
«Знакомые (в письмах) поговаривают, что, м.б., пришлют мне
машинку; тогда (во что бы то мне ни стало) напишу о нем статью
и пошлю ее Вам, если хотите. (Если напишу)»16.
Имена Боратынского и Бродского соседствуют также в сознании ленинградского круга поэтов. С рассказа о пометке в томе
Боратынского (издание «Библиотеки поэта» 1957 г.), сделанной
после разговора с Бродским летом 1962 г., начинает свои воспоминания А. Кушнер. По его мнению, разговор о Боратынском в связи с Бродским актуален потому, что «Бродский вернул русской
поэзии метафизическую проблематику — и в этом он куда ближе
к Баратынскому, чем к Мандельштаму...»17. Задолго до того, как
Бродский в Нобелевской лекции процитировал строку Боратын¬
356
М. М. Гелъфонд
ского о «лица необщем выраженье», Кушнер адресовал ее самому
Бродскому:
Приятель мой строг,
Необщей печатью отмечен,
И молод, и что ему Блок?18
В стихотворении «Смотри же нашими глазами...» (1974), написанном на отъезд Бродского, возникает слово «пироскаф», отсылающее к предсмертному стихотворению Боратынского19:
Взойдя по лестничке с опаской
На современный пироскаф,
Дуреху с кафедры славянской
Одной рукой полуобняв,
Для нас, тебя на горизонте
Распознающих по огням,
Проверь строку из Пиндемонти,
Легко ль скитаться здесь и там?20
С «Пироскафом» связано соединение имен Бродского и Боратынского в автобиографическом стихотворении Л. Лосева «Один
день Льва Владимировича»:
У моря над тарелкой макарон
дней скоротать остаток по-латински,
слезою увлажняя окоем,
как Бродский, как, скорее, Баратынский.
Когда последний покидал Марсель...21
Если у Кушнера слово-цитата актуализирует трагический контекст («Пироскаф» Боратынского, («Из Пиндемонти») Пушкина),
то у Лосева трагическое соединяется с ироническим, причем ирония распространяется не только на лирического героя, но отчасти
и на Бродского, выступающего в роли Боратынского.
Именно в связи с Бродским А. Найман вспоминает о влиянии
Боратынского на ленинградских поэтов и своеобразном соперничестве с ним: «Мне кажется, что в нашей молодости для нас, во
всяком случае, для него [Бродского] и для меня, особняком стояли стихи Боратынского “Осень”. Это вершина русской поэзии,
которую ты всегда чувствуешь и звук которой определяет вообще
весь шум мироздания. Имея перед собой вот эту “Осень”, я пытался что-то такое делать в своих стихах»22. Несмотря на то что процесс литературного воскрешения Боратынского был начат двумя
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 357
поколениями русских символистов, а затем продолжен Мандельштамом, Ходасевичем, Заболоцким, Ахматовой23, ровесники Бродского открывали Боратынского самостоятельно, преодолевая не
только «тридцатилетнее зияние русской культуры» (Л. Лосев), но
и разрыв с классической традицией, в особенности с поэтами, считавшимися полузабытыми и второстепенными24.
Стремление «воскресить» Боратынского становится важным и
для А. Кушнера, чей взгляд, если перефразировать его ироническую формулу «быть классиком — значит стоять на шкафу»25, всегда обращен к миру из глубины книжного шкафа. Кушнер посвящает Боратынскому три эссе, пять стихотворений строятся как
вариации на темы Боратынского (в некоторых его присутствие
только обозначено)26. Стихотворения Кушнера «о поэтах и стихах»
создаются на стыке поэтического и литературоведческого начал.
Стихи о Боратынском не исключение: Кушнер «достраивает» их,
раскрывая биографический подтекст, с одной стороны, и «перспективную проекцию» — с другой. Так соотносятся две вариации
на заданную Боратынским тему («На посев леса»). В ранней («Эти
вечные счеты, расчеты, долги...»; 1972) проступает реальность Боратынского: мурановское уединение, расчеты на полях рукописей,
необходимость подведения итогов («Приближается время платить
по счетам»). Поздняя («Зародыши елей, дубов и сосен...»; 1995)
повествует об обретении «читателя в потомстве», оставшегося неведомым самому Боратынскому:
Слух медленно растет, и зренье долго зреет...
Упрямый лесовод
Бесхитростную тень безгрешную лелеет
Бессумрачных еще лесных своих пород.
Тенистою аллеей,
Он знает, что не он, а внук его пройдет27.
В основе полемики с Боратынским — нетрагическое мировосприятие Кушнера. Отсюда попытки «примирения» эсхатологического видения Боратынского с реалиями XX в.:
Что ни век — то век железный,
Но дымится сад чудесный28.
Такая же полемика (ср. тождество синтаксических конструкций)
разворачивается в стихотворении «Последний поэт» (1992):
Что ни поэт — то последний. Потом
Вдруг выясняется, что предпоследний...29
358
М. М. Гельфонд
По мнению Кушнера, поэта на краю Левкадской скалы должны удерживать любовь к частностям бытия и понимание того, что
он вовсе не последний, за ним неизменно приходит следующий:
Кроме живой, что змеится, клубясь,
В бедном отечестве, стыд многолетний,
Есть еще очередь — прочная связь:
«Я», — говорю на вопрос: кто последний?
Друг, не печалься, за мной становясь30.
Важной особенностью Кушнера является то, что его герой
обращается к Боратынскому как к живому собеседнику, полемизирует с ним, спешит рассказать о том, что произошло «здесь, на
земле». По признанию Кушнера, стихи, адресованные Боратынскому, «пишутся так, как будто он может их прочесть, — возможно, это и называется традицией, без которой в поэзии нельзя сделать ничего нового»31.
Если А. Кушнер часто вступал с Боратынским в дискуссию, то
В. Кривулин развивал темы и поднимал вопросы поэта-предшественника. По наблюдению О. Седаковой, Кривулин всегда осознавал свое родство с Боратынским и Тютчевым. Оно выражалось
в усилии, необходимом для восприятия стихов, в которых «нет того
простого лиризма, который захватывает нас прежде, чем мы начнем что-то понимать»32. Важным оказался для Кривулина и студенческий опыт работы в Муранове:
МУРАНОВО
В усадьбе, что построил Баратынский,
друг Пушкина, поэт и многодум, —
есть отголосок мрачности балтийской
в расположеньи комнат: Кабинет
выходит окнами на север, в парк угрюмый;
в узорчатой листве блуждает свет
и пенится... Но здесь полутемно
и холодно всегда, и одиноко...
Здесь мебель проектировал хозяин —
ее прямые линии строги,
как рифмы точные, что накрепко связали
полет классической строки.
Но в этой аккуратной несвободе,
в боязни света и неточных рифм —
признанье жизни, пристальной внутри, —
и скрытое презрение к природе,
к тому, что вне, что, смерть не осознав,
шевелится, пищит и матерится,
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 359
как речка Сумерь весело струится,
но сборник «Сумерки» спокойно-величав33.
Стихотворение не только воссоздает историю постройки мурановского дома и его интерьер (Боратынский спланировал усадьбу так, чтобы окна его кабинета выходили на север; сам проектировал мебель), но и дает представление о внутреннем мире
Боратынского — поэта неоткровенного, замкнутого, по словам
И. В. Киреевского, «в собственном бытии»34. Внутренний опыт Боратынского отливается в стихах Кривулина в формулу «аккуратная
несвобода», предполагающую напряженную аналитическую работу, замкнутость в «сумрачном» мире, нелюбовь к полноте и движению бытия. Характерно, что стихи о Боратынском неизменно связаны у Кривулина с размышлениями о соотношении свободы и
несвободы. Поэт, искавший «свободу в тесноте стихового ряда»35,
апеллировал к Боратынскому, стараясь уравновесить свободу вдохновения и сознательную аскезу жесткой формы.
Интеллектуальность поэзии Боратынского, отсутствие персонифицированного героя оказались близки Кривулину настолько,
что важнейшим событием его жизни стало «озарение» при чтении
стихов Боратынского:
Условно говоря, я «семидесятник» хотя бы потому, что на
моем внутреннем календаре отмечена ярко-красным одна дата —
5 часов утра 24 июля 1970 года. Нет, в ту ночь я не писал стихов.
Я читал Боратынского и дочитался до того, что перестал слышать,
где его голос, а где мой. Я потерял свой голос и ощутил невероятную свободу, причем вовсе не трагическую, вымученную свободу
экзистенциалистов, а легкую, воздушную свободу, словно спала какая-то тяжесть с души. Вдруг не стало времени. Умерло время, в
котором я, казалось, был обречен жить до смерти, утешаясь стоической истиной, что «времена не выбирают, в них живут и умирают». Вот оно только что лежало передо мной на письменном
столе, нормальное, точное, сносно устроенное, а осталась кучка
пепла. И тотчас за окном, в конце Большого проспекта, вылезло
из-за дома Белогруда огромное солнце. Очень большое, неправдоподобно36.
На первый взгляд эта «невероятная свобода» противостоит
«аккуратной несвободе» Боратынского. Но Кривулин не случайно
вспоминает строки из стихотворения Кушнера, полемического по
отношению к Боратынскому. Поэт, осознававший разрушительную силу «железного века», противопоставил ему опыт частного
существования. Независимость от времени далась Боратынскому
360
М. М. Гелъфонд
ценой разрыва с читателем-современником («На посев леса»). Данный текст аккумулировал жизненный опыт Боратынского и оказался близок Кривулину, отказавшемуся от связей с официальной
литературой, а значит, и от широкого читательского отклика.
Своеобразным парафразом «На посев леса» становится стихотворение «Городская прогулка» (1972) из книги «Воскресные облака». Вне учета «боратынского» контекста понять его непросто:
Да хрящ иной...
Е. Боратынский
Песок скрипящий на зубах. Частицы черной пыли.
Свеженаваленный асфальт горяч, как чернозем.
Дымящееся поле. Первый гром.
Сей жирный пласт земли — возможность изобилья.
— Да будет хрящ иной! По улицам вдвоем,
где шел ремонт, мы целый день бродили.
Да будет хрящ иной. И я спросил:
Где тот посев, где сеятель холщевый?
и у тобой затеянной дубровы
взойти хватило ль сил?
Повсюду шел ремонт. Жестокого покрова
лишенная земля — и таинства могил —
кой-где уродливо и ржаво проступала,
как пятна крови сквозь бинты...
И он ответил, что могильныя плиты
совсем не тяжело откинуть покрывало,
совсем не тяжело восстать из немоты:
кто был зерном — тому и слова мало.
Кто был зерном, кто семенем — тому
да хрящ иной и вправду плодоносен,
и жизнь его продлят стволы прямые сосен,
и брошенное некогда во тьму
нас вытеснит из тьмы — и с легкостью отбросим
постель из слякоти — последнюю тюрьму.
Да, Баратынский, ты живешь. Твоя стезя,
иная слову, иглами шевелит...
Но мне-то лечь в асфальт, что над землею стелят,
не в землю, но туда, где умереть нельзя,
чтобы воскреснуть. Шел ремонт. Расплавленной
смолою
тянуло отовсюду...37
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 361
«На посев леса» Боратынского создается на стыке трех жанровых традиций — восходящей к псалму инвективы, элегии и притчи38, в то время как для Кривулина значим жанровый потенциал
притчи. «Городская прогулка» проявляет потаенную в лирическом
сюжете Боратынского притчу о сеятеле. Вместе с тем текст Кривулина тяготеет не к аллегорической, а к жизнеподобной образности: земля здесь — это «песок, скрипящий на зубах», «частицы
черной пыли», «свеженаваленный асфальт», т.е. та почва, которая
ни в прямом, ни в переносном смысле слова не в состоянии принять зерно. Если Боратынский отказывается от контакта с современниками и словесного самовыражения («Ответа нет! Отвергнул
струны я, / Да хрящ иной мне будет плодоносен!») в пользу невербального аналога отвергнутых читателем стихов («зародышей елей,
дубов и сосен»), то Кривулин идет дальше. Он пытается примерить
поступок Боратынского на себя и убеждается в его бесцельности.
Выход за пределы поэзии к действию представляется Кривулину
оправданным («Да, Баратынский, ты живешь. Твоя стезя, / иная
слову, иглами шевелит...»), но он нереализуем в условиях XX в.
(«Но мне-то лечь в асфальт, что над землею стелют, / не в землю,
но туда, где умереть нельзя / чтобы воскреснуть»).
Тема смерти и воскресения присутствует также в связанном с
Боратынским стихотворении «Белизна и дремота» (1975):
Я работал в какой-то конторе.
Дважды в неделю корабельные сосны лежали.
Если не падало черной субботы,
дважды текли параллельные сну горожане.
То бытие Баратынского, что безымянно,
дважды в неделю ко мне объявлялось —
полудремота-полупоступок, нет — полустанок
(и напряженье внутри, и наружная вялость)39.
«То бытие Баратынского, что безымянно» отсылает к начальной строфе лирической антиутопии Боратынского «Последняя
смерть». Она представляет собой развернутое описание иррационального состояния, которое позволяет увидеть грядущую гибель
человечества:
Есть бытие; но именем каким
Его назвать? Ни сон оно, ни бденье;
Меж них оно, и в человеке им
С безумием граничит разуменье40.
В стихотворении Кривулина речь идет также об особом состоянии «белизны и дремоты» — приобщения человека к бытию, по¬
362
М. М. Гельфонд
стижения «имени-смысла» вещей. Вместе с тем Кривулин сохраняет и развивает антиутопизм Боратынского:
Слепота и дремота.
И только меж ними увидишь
заходящего солнца ворота —
город, город подземный, как зыбью ворота
исчезающий Китеж.
Как забыли о страхе своем перед жизнью —
стало боязно смерти и словно теснее
то ли в городе, то ли в груди,
то ли пятна-озера на шее,
где история пальцы оттиснет41.
Если «Последняя смерть» Боратынского строится как «цепь
привидевшихся картин»42 — от «разума великолепного пира» до
всеобщей гибели, знаком которой становится «тишина глубокая»,
то у Кривулина исчезающая цивилизация наделяется чертами града Китежа. В образной системе стихотворения стирается граница
между внешним и внутренним: человек уходит в небытие, так же
как под воду легендарный город.
Итогом «боратынской» темы у Кривулина стал сонет 1989 г.:
В плену основных мотивов
лирики — несвобода
слаще которой нет
Блаженная пневматия
толпы гласных у входа
в невоплощенный сонет
Но что она значит — форма
семисотлетней пробы?
Игра? воскрешенье из гроба?
воля к жизни повторной?
Так выговаривать — чтобы
даже легким стало просторно
и на горизонте башни Ливорно
тонущий луч европы43
Тема «сладостной несвободы» лирики, связанная в поэтическом мире Кривулина с Боратынским, решается здесь в форме «перевернутого сонета». Движение мысли противоположно сонетно¬
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 363
му канону: от итогового синтеза («В плену основных мотивов /
лирики — несвобода / слаще которой нет») — к тезису, которым
становится парафраз «Пироскафа». Финал сонета (как и финал
«Пироскафа») подобен расширяющейся перспективе — он раскрывается во времени и пространстве. В финальных строках Кривулин
воссоздает фонетический облик последней строфы «Пироскафа»:
Нужды нет, близко ль, далеко ль до брега!
В сердце к нему приготовлена нега.
Вижу Фетиду; мне жребий благой
Емлет она из лазоревой урны:
Завтра увижу я башни Ливурны,
Завтра увижу Элизий земной!44
Итак, что же привлекало к Боратынскому таких разных поэтов,
как И. Бродский, А. Кушнер, Л. Лосев, Л. Виноградов, В. Кривулин? Попробуем наметить ряд векторов, возникших в это время в
«резонантном пространстве» (В. Н. Топоров) русской поэзии.
Во-первых, в ленинградской поэзии 1960—1980-х гг. Боратынский был воспринят как северный, петербургский поэт и как предшественник новой петербургской поэзии. Даже подмосковное
мурановское уединение поэта запечатлело «отголосок мрачности
балтийской» (В. Кривулин). Знаками Боратынского в посвященных ему стихах становятся «декабрь» и «Балтийский лед» (Бродский); «холодный приют» — указание на могилу поэта на Ново-
Лазаревском (Тихвинском) кладбище Александро-Невской лавры
(Кушнер). Потаенная, почти не проявленная в стихах Боратынского судьба поэта привлекала возможностью сотворения биографической легенды, которую можно было приложить к себе («бо-
ратынский миф» Бродского).
Во-вторых, притягательными оказались те особенности поэтики Боратынского, которые пролегали вдали от магистральных путей русской поэзии (и в особенности — от поэзии советской).
Жанр «большого стихотворения», сложный синтаксис, центробежное развитие лирического сюжета оказались в разной степени созвучными Бродскому, Лосеву, Кушнеру, Кривулину. На другом
полюсе оказался минимализм лирической формулы («Но я живу,
и на земли мое / Кому-нибудь любезно бытие»), близкий поэтам
«филологической школы».
Разумеется, при всей важности Боратынского для ленинградской поэзии указанного периода востребованными оказались лишь
некоторые произведения. На первый план вышли большое стихотворение «Осень», лирическая антиутопия «Последняя смерть», но
особую значимость приобрели поздние тексты, написанные уже
364
М. М. Гельфонд
после «Сумерек», — «Пироскаф» и «На посев леса». Эти стихи независимо от их полярности в разной мере и с разной степенью
веры и отчаяния устремлены в будущее.
1 В статье принято написание фамилии поэта через «о» — Боратынский. При цитировании поэтических текстов сохраняется написание, принятое их авторами.
2 Кривулин В. Б. Олег Охапкин. Поэт между Афинами и Иерусалимом // Русский Mipb. Пространство и время русской культуры: Альм.
СПб., 2009. № 2. С. 349.
3 О поэтах «филологической школы» см.: Куллэ В. Спасибо // «Филологическая школа»: Тексты. Воспоминания. Библиография. М., 2006.
С. 5-10.
4 Рейн Е. Избранное / Предисл. И. Бродского. М.; Париж; Нью-Йорк,
[1992]. С. 261.
5 Бродский: кн. интервью / Сост. В. Полухина. 3-е изд., расш. и испр.
М., 2005. С. 425. Речь идет об издании: Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений / Вступ. ст., подгот. текста и примеч. Е. Н. Купреяно-
вой. Л., 1957. Относя это событие к 1959 г., Бродский, скорее всего, ошибается: в экспедиции в Якутске он был в 1961 г. (в 1959 г. состоялась
экспедиция Бродского в Восточную Сибирь). Стихотворение «Памяти
Е. А. Баратынского» датировано 19 июня 1961 г.
6 Гордин Я. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. СПб., 2000. С. 146.
7 Там же. Гордин датирует это высказывание осенью 1963 г.
8 О причинах и обстоятельствах отъезда Бродского из экспедиции см.
подробнее: Полухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. СПб.,
2008. С. 49, 87.
9 Там же. С. 49.
10 По мнению В. А. Куллэ, «заявленное в “Июльском интермеццо”
отношение к смерти восходит к столь любимому Бродским Боратынскому»: Куллэ В. А. Поэтическая эволюция Иосифа Бродского в России
(1957—1972): Дис. ... канд. филол. наук. М., 1996. Сетевая версия доступна на сайте: http://www.liter.net/=/Kulle/evolution.htm
11 Куприянова E. H. E. А. Баратынский // Баратынский E. А. Полное
собрание стихотворений. С. 10.
12 Гинзбург Л. Я. О лирике. М., 1997. С. 83.
13 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 227.
14 Бродский И. Письмо из ссылки // Постскриптум. 1996. Вып. 2(4).
Сетевая версия доступна на сайте: http://www.vavilon.ru/metatext/ps4/
brodsky.html. По всей вероятности, речь идет об издании: Боратынский Е. А. Полное собрание стихотворений: В 2 т. / Ред., коммент. и биогр.
ст. E. Н. Купреяновой и И. Н. Медведевой; вступ. ст. Д. П. Мирского. М.;
Боратынский в ленинградской поэзии 1960—1980-х годов 365
Л., 1936. В издании 1957 г., подготовленном Е. Н. Купреяновой, тексты
размещены в хронологическом порядке.
15 Там же.
16 Архив Иосифа Бродского. Ф. 1333. Ед. хр. 420. Статья не была написана; в архиве поэта сохранились лишь ее наброски, предваряющие
более поздние размышления.
17 Кушнер А. Здесь, на земле... // Иосиф Бродский: труды и дни. М.,
1999. С. 157.
18 Кушнер А. По эту сторону таинственной черты: Стихотворения;
Статьи о поэзии. СПб., 2011. С. 60.
19 Отмечено А. В. Кулагиным (см.: Кулагин А. В. «Пироскаф» Баратынского в современной поэзии // Кулагин А. В. Высоцкий и другие: сб. ст.
М., 2002. С. 156).
20 То время — эти голоса: Ленинград. Поэты «оттепели»: Сб. стихов /
Сост. М. Борисова. Л., 1990. С. 229.
21 Лосев Л. Собранное: Стихи. Проза. Екатеринбург, 2000. С. 133.
22 Полухина В. Бродский глазами современников: Сб. интервью. СПб.,
1997. С. 37.
23 Подробнее о рецепции Боратынского в XX в. см. нашу работу: Гель-
фонд М. М. Традиция Боратынского в лирике XX века: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. Н. Новгород, 2004.
24 Сходный процесс «воскрешения Боратынского» происходил в это
время и в официальной культуре. В 1968 г. прозвучал знаменитый диалог
о Боратынском из фильма «Доживем до понедельника» («А его уже перевели». — «Куда?» — «В первостепенные»). Спустя два года была опубликована статья С. Б. Рассадина: Рассадин Ст. Возвращение Баратынского // Вопр. лит. 1970. № 7. С. 92—113.
25 Кушнер А. По эту сторону таинственной черты. С. 80.
26 Подробнее об этом см.: Гельфонд М. М. Боратынский как герой лирики последней трети XX века // Художественный текст и культура. Владимир, 2004. Вып. 5. С. 259—266.
27 Кушнер А. Избранное. СПб., 1997. С. 454.
28 Кушнер А. По эту сторону таинственной черты. С. 71.
29 Кушнер А. Избранное. С. 452.
30 Там же. С. 453.
31 Кушнер А. «Гармонии таинственная власть...» // К 200-летию Боратынского. М., 2002. С. 14.
32 Седакова О. Памяти Виктора Кривулина // Новое лит. обозрение.
2001. № 52. С. 236. Среди факторов, определивших его поэтическое ми-
ровидение, В. Б. Кривулин называл «открытие Баратынского... <...> Шероховатость, сознательная необработанность стиха при колоссальной
музыкальной энергетике...» (Кривулин В. Ностальгия по прежним временам [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://globalrace.narod.ru/
krivulin.htm. Загл. с экрана).
366
М. М. Гельфонд
33 АКТ — литературный самиздат. СПб., 2001. Вып. 3. С. 10 [Электронный ресурс]. Режим доступа: // http://actsamizdat.narod.ru/act—3.pdf. Загл.
с экрана. Текст стихотворения выправлен О. Б. Кушлиной по материалам
архива В. Б. Кривулина.
34 Киреевский И. В. Критика и эстетика. М., 1979. С. 70.
35 Зубова Л. В. Виктор Кривулин: свобода в тесноте стихового ряда //
Зубова Л. В. Языки современной поэзии. М., 2010. С. 129.
36 Кривулин В. Б. Охота на Мамонта. СПб., 1997. С. 7.
37 Антология новейшей русской поэзии «У Голубой лагуны»: В 5 т. /
Сост. К. К. Кузьминский и Г. Л. Ковалев. Ньютонвилл, Мазз., [1980—
1986]. Т. 4-Б [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.kkk-
bluelagoon.ru/tom4b/krivulin2.htm. Загл. с экрана.
38 См.: Гельфонд М. М. «На посев леса» Е. А. Боратынского: на границе элегии и инвективы // Жанр и его метаморфозы в литературах России
и Англии. Владимир, 2010. С. 229—234.
39 Кривулин В. Стихи: В 2 т. Париж, 1988. Т. 1. С. 168.
40 Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. Л., 1957. С. 129.
41 Кривулин В. Стихи. С. 168.
42 Альми И. Л. О творческой позиции Е. А. Баратынского конца двадцатых — начала тридцатых годов XIX века (анализ лирики) // Альми И. Л.
О поэзии и прозе. СПб., 2002. С. 164.
43 Стихотворение из архива В. Б. Кривулина. Выражаю благодарность
Ольге Борисовне Кушлиной за предоставление архивных материалов и
консультации.
44 Баратынский Е. А. Полное собрание стихотворений. С. 201.
Д. М. Давыдов
Москва
ЛЕНИНГРАДСКИЕ ПОЭТЫ 1950-1960-х:
ПОИСК «ГЛАВНОЙ ФИГУРЫ »
В разных контекстах в качестве «первого поэта» Ленинграда
начала 1960-х гг. назывались И. Бродский, Л. Аронзон, Г. Гор-
бовский, В. Соснора, А. Кушнер (как синхронно эпохе, так и а
posteriori). Нельзя забывать также об А. Хвостенко, А. Волохон-
ском, К. Кузьминском. Вопрос о «центральной фигуре» неподцензурной словесности не праздный: он связан с общей проблемой
литературной репутации в кругах тех или иных институций.
По словам А. И. Рейтблата, «литературная репутация в свернутом виде содержит характеристику и оценку творчества и литературно-общественного поведения писателя. <...> Существование
литературных репутаций необходимо для структурирования литературной системы, поддержания внутрилитературной иерархии,
обеспечивающей ее функционирование и динамику»1.
Проблема литературной репутации приобретает специфику в
особых условиях, которые называют «андеграундом», «неофициальной», «неподцензурной словесностью», культурой самиздата, «второй культурой». В определенный период (примерно с середины 1960-х гг.) неподцензурная литература — особенно в
Ленинграде — начала выстраивать собственную, альтернативную
советской систему, включающую журналы, альманахи, антологии,
премию (Андрея Белого) и т.п. «Инстанции, которые определяют
литературную репутацию, зависят от типа литературной системы.
<...> Важно подчеркнуть только, что для эффективного влияния на
литературную репутацию источник должен быть социально или
культурно авторитетен, а высказываемая оценка распространяется как можно более широко и долго»2. Именно в Ленинграде сложилась неофициальная система, обладающая всеми признаками
авторитетных инстанций.
Между тем в предшествующий период подобного разделения
систем не наблюдалось. Это связано с неполной дифференциро-
ванностью единого поэтического метаязыка, заданного еще символизмом и постсимволистскими направлениями. Для 1950-х —
начала 1960-х гг. четкой грани между «официальной» и «неофициальной» культурой не существовало, хотя она уже начинала проступать. В. Кривулин отмечал: «...примерно до середины 60-х
сохранялась иллюзия того, что все равны и все могут быть напе¬
368
Д. М. Давыдов
чатаны. Морковку держали перед носом. Изменилось все году в
1966. То есть разделение существовало и раньше, поскольку существовала подпольная, отслоившаяся “кружковая” культура... Но в
остальном граница была очень размыта. Со второй половины шестидесятых она начала все больше и больше твердеть. Ситуация
заставляла делать выбор, и люди его делали кто сознательно, кто
бессознательно»3. Пространство культурного перехода в значительной степени определяло стратегии существования в литературном
поле. Претензия на иерархичность (своего рода «литературный
табель о рангах»), характерная не только для официальной, но и
для неподцензурной словесности, сталкивалась с непроясненно-
стью самого принципа построения иерархических структур, где
наблюдалась текучесть институциональных норм.
Тот же Кривулин несколько иронично вспоминал: «Константин Кузьминский — особая фигура, это такой “бродячий” поэт. У
него не было прямых учителей, ни к какой группе он в принципе
не примыкал. Называл себя “пятым поэтом Петербурга” — это
было для него достаточно. <...>
На первом месте, кажется, был Горбовский, потом Бродский,
Соснора и Кушнер. Кузьминский — пятое место. Это, разумеется,
его личная иерархия. Для Петербурга вообще очень характерно
иерархическое сознание, в Москве спор за место первого поэта
бессмыслен. Чертков, например, только оказавшись в Ленинграде, стал доказывать, что он второй после Красовицкого. Хотя, конечно, такие разборки всегда показатель очередного кризиса поэзии»4. Впрочем, здесь, повторим, можно говорить скорее не о
кризисе, но о состоянии структурной переходности. Она, обретая
особые формы именно в Ленинграде, указывала сразу на несколько
важных аспектов, способных так или иначе выстраивать модели
репутаций.
Разговоры об особой «ленинградской», а чаще «петербургской»
поэтической школе подчас спекулятивны. Тем не менее возможно говорить об особой консервирующей роли петербургского то-
поса, приобретавшего в поэзии по причинам отчасти внелитера-
турным (социальный и идеологический разлом середины века),
отчасти внутрилитературным нелинейный характер. Известна
шутка М. Айзенберга: «К середине 70-х годов все стихи можно
было делить на хорошие, плохие и ленинградские»5. Но Айзенберг
вполне всерьез описывает эту выделенность поэзии «ленинградцев» из пространства современности: «Но что же такое “ленинградская школа”? Явление довольно расплывчатое. Чтобы выделить его, придется касаться не сильных сторон каждого автора, а
общего уклона, одной общей склонности, подменять поэтический
язык высоким слогом. В этом как будто нет ничего худого, высокий
Ленинградские поэты 1950—1960-х..
369
слог ничем не хуже низкого. Но высокий слог уже существует как
данность, это язык очень богатый и разработанный, только, к сожалению, уже готовый»6.
По словам М. Берга, «среди характерных особенностей “ленинградской школы” можно выделить актуализацию функций
сохранения и консервации отвергнутых официальной культурой
тенденций, интерпретируемых как актуальные; ставка на литера-
туроцентризм как способ концентрации власти; противостояние
инновационным практикам манипуляции с реальным дискурсом
власти, характерным для московских концептуалистов, а также
традиционное художественное поведение властителя дум, противопоставляющего одной иерархии, общепринятой, свою, как более
истинную»7. Берг рассматривает свойства следующего поэтического поколения Ленинграда (В. Кривулин, Е. Шварц, А. Миронов,
С. Стратановский, В. Филиппов, сюда же отнесена москвичка
О. Седакова). Несмотря на то что «типологически черты “ленинградской школы” сформировались в середине 1970-х годов»,
«к предшественникам этого “профетического” направления относят учеников Ахматовой — Бродского, Анатолия Наймана, Дмитрия Бобышева, Евгения Рейна, а также Леонида Аронзона, Роальда
Мандельштама, Александра Морева»8. Невозможность построения
четких оппозиций в неофициальной поэзии исследователь видит
в отсутствии противопоставляемых признаков (при наличии частичных, не полностью охватывающих стратегию того или иного
автора, того или иного круга): «Разные “семейные сходства” (имеется в виду понятие, введенное Л. Витгенштейном. — Д. Д.) проявились и в актуализации разных границ, используемых для перераспределения и присвоения власти; если для концептуалистов
существенной оказалась граница между искусством и неискус-
ством, то для бестенденциозной литературы актуальна оппозиция
“прекрасное/безобразное”, но, в отличие от неканонически тенденциозной, не существенна оппозиция “истинное/ложное”»9.
Эстетическая противопоставленность отмечается по отношению к различным «парам» в списках «претендентов на главного
поэта». Наиболее значимым, пожалуй, была оппозиция Бродский
го. Аронзон, о чем свидетельствуют и мемуаристы, и исследователи: «Для Бродского было важно сказать что. Конечно, довести это
до виртуозной формы, но все-таки — что. Для нас же было главное как сказать»10; «Из... изначально разных посылок — “нисходящего” движения в мир у Бродского и попытки “полного восхождения” у Аронзона — и рождается их полярность на поэтической
карте России»11; «Если в текстах Аронзона нет традиционной
иерархии слов, которую заменяет чинарский “порядок” и стремление к чистоте, то в них нет и времени. В реальном времени разво¬
370
Д. М. Давыдов
рачиваются метафизические конструкции Бродского. Раз прозвучавшее слово в них уже сказано, неповторимо сказано. Поэтому
Бродскому нужно много слов, его словарь экстенсивен. Слово
Аронзона стремится к единственности»12.
«Успех Бродского в начале 60-х гг. поразителен: вопреки почти полному отсутствию официальных публикаций его имя стало
известно многим не только в Ленинграде, но и по стране. <...> Но
вот что любопытно: отечественный читатель сейчас, кажется, несколько охладел к творчеству Бродского <...>
Поэзии Аронзона была уготована противоположная участь.
<...> Хотя Аронзона и достаточно тепло принимала аудитория 60-х,
но до популярности Бродского ему было далеко. Однако сейчас,
когда прошло уже 15 лет со дня трагической гибели поэта (цитируемый текст написан в 1985 г. — Д. Д.), его творчество не только не
забылось, но, напротив, с каждым годом всё больше и уважительнее говорят как о нем самом, так и о его влиянии на последующую
литературу», — читаем в одной из ранних работ об Аронзоне13.
Можно полагать, что противопоставление Бродского и Аронзона есть противопоставление риторического и внериторическо-
го высказывания, противопоставление поэзии-конструкта («В лучших стихах Бродского гремят раскаты грозной ораторской речи.
В Ленинграде 60-х годов его слушали как нового Блока. Подкупает... и очевидность поэтических достоинств»14) и поэзии-видения
(«Аронзон по темпераменту вовсе не экспериментатор. Он поэт-
визионер»15). Противопоставляются «внешнее» и «внутреннее»,
«искусственное» и «естественное», а также «впечатляющее» и «закрытое». Наконец, эта противопоставленность проецируется и на
современность: «Как бы то ни было, Красовицкий16 и Аронзон, с
одной стороны, Бродский, с другой, действительно, по всей видимости, задают в современной русской лирике два полюса: условно говоря, более системного и рационального подхода к поэтическому языку, более “литературного” — и интуитивистского,
“органического”, подчеркнуто не инструментального восприятия
языка, когда поэзия возникает как бы внутри языка, имманентна ему»17.
Несколько более сложную схему предлагает Кривулин: «...я
хорошо помню, что Волохонского резко противопоставляли Бродскому. Волохонский — эзотерический, настоящий, а Бродский —
нечто демократическое, упрощенное. Промежуточным между “сиротами” и “аристократами” был круг Аронзона»18.
На общем поэтическом фоне К. Кузьминский выделяет фигуру
Г. Горбовского: «Глеба не отдам никому. Ни Союзу писателей, ни
отечественным издателям, ни “современному читателю”. Я прощаю Глебу всё: и то, что он плохо пишет, и то, что его на 75 процентов можно печатать...
Ленинградские поэты 1950—1960-х..
371
Потому что Глеб, вероятно, единственный поэт в Ленинграде.
Мастеров много, поэзии — невпроворот, а Глеб — душа живая.
<...>
Глеб не умеет писать стихов. Он их выдыхает»19. И далее: «Полировкой и шлифовкой пусть Кушнер занимается, его и уменье в
этом, или, допустим, Бродский, тот технарь, а у Глеба — как получится». И наконец: «Глеб, пожалуй, самый большой поэт в нынешней России, хоть и не написал он в принципе ничего, а пона-
печатали — дряни. Но Глеб живет не в стихах, а где-то — между
стихами, в отношении, что ли»20. То же и у А. Наймана: «Горбов-
ского мы очень любили. <...> ...Горбовский был и, я думаю, есть,
никуда это не ушло, необыкновенно талантлив. Тут не надо было
задумываться, за что любить его стихи. Мы их любили так же, как
его поведение»21. Айзенберг видит в поэтике Горбовского, несмотря на его чуть ли не фольклорную славу22, своеобразную маргинал ьность по отношению к «большому», «высокому ленинградскому стилю» (автор сближает с Горбовским другого представителя
«филологической школы» — В. Уфлянда, которого Бродский называл в числе поэтических учителей): «...на общем фоне “ленинградской школы” такие авторы казались не вполне серьезными,
периферийными. Только новое время вывело их в центр»23.
Найман говорит и об особом месте поэтики Кушнера в рамках
ленинградской поэзии того времени: «На особом несколько положении стоит Кушнер, потому что ему удалось застолбить свое место в первых вышедших книгах, то есть с самого начала он получил
право на свой голос, на свой тембр голоса, на индивидуальную,
ненавязчивую интонацию»24.
Не в меньшей степени, чем непроявленность эстетических
различий, имеет место специфика социально-идеологических и
прагматических аспектов литературной жизни и быта описываемой эпохи. Исходя из структуры неофициального сообщества,
контакты были гораздо более плотными, чем можно представить
сегодня, учитывая сформированные за десятилетия литературные
репутации. По сути, поэтический круг был аморфен, а различие
между группами и кругами — неочевидными и даже эфемерными:
«Несмотря на стремление придать литературному процессу более
организованные формы, в 1960-е годы неподцензурная литература представляла собой значительно расширившийся по сравнению
с первыми годами “оттепели” конгломерат дружеских компаний,
объединенных общими литературными вкусами. В этом отношении ВЕРПА мало чем отличалась от круга поэта Леонида Аронзо-
на, а Хеленукты — от компании Константина Кузьминского. Замысловатое название не вносило принципиальных изменений в
частный статус группы. Борис Тайгин в начале 1960-х годов, так
372
Д. М. Давыдов
же как Владимир Эрль несколько позднее, “издавал” сборники
полюбившихся поэтов, будь то Глеб Горбовский или Иосиф Бродский, в первом ленинградском машинописном “издательстве”
“БэТа”»25; «В круг Б. Понизовского входили поэты и прозаики
Леонид Аронзон, Андрей Битов, Иосиф Бродский, Леонид Виноградов, Сергей Вольф, Глеб Горбовский, Виктор Соснора и некоторые другие»26.
Однако и здесь мы видим различения разного уровня. Оттенки поведенческих тактик могли становиться значимыми в зависимости от степени толерантности к внешнему миру того или иного
автора или кружка: «Леня Аронзон сказал мне однажды: “Нас всех
сплотила неудача”. В известной степени, наверное, так и было. Но
вот что интересно. Поэты из этой компании — сам Хвост, Аронзон, Алик Альтшулер, Леня Ентин — не стремились выступать с
эстрады, хотя в начале шестидесятых это было возможно. Существовало “Кафе поэтов” на Полтавской, где выступали не только
участники Литобъединений, но и одиночки, такие, например, как
Миша Юпп с его кулинарными стихами. Выступали в этом кафе
и Женя Рейн, и Ося Бродский. Хвост же и Аронзон иногда читали свои стихи у себя дома или у друзей и относились к своему творчеству как к домашнему делу»27.
Внешние, в том числе официальные, структуры также прикладывали усилия к сегрегации поэтов или отсеву их, выделяя «своих» и «чужих». Впрочем, в преддверии поэтического «растождеств-
ления», «размежевания» середины 1960-х гг. это происходило с
обеих сторон.
Известна симптоматичная запись Л. Гинзбург, сделанная после обсуждения стихов Сосноры и Кушнера на одном из ленинградских поэтических семинаров (возможно, под руководством
Н. Брауна) в конце 1950-х гг.:
«...Наступление начал Кежун в перерыве. Разговор кулуарный,
потому что он, к сожалению, должен уйти. Ему больше нравится
Соснора, потому что это ближе к жизни. У Кушнера — все книжно, все литература.
Суждение заранее заданное. На самом деле сугубо литературен
Соснора с его ритмическими изысками. Но про Соснору почему-
то решено, что он более свой (фамилия? работа на заводе?); решено
главным образом в порядке противопоставления Кушнеру. Следовательно, Соснора не интеллигентский, не книжный, не космополитический. И не о нем будет речь»28.
Таким образом, партийно-литературные проработчики выделили Соснору как «более своего» в пику «совсем не своему»
Кушнеру. Подмечая это, проницательно анализируя социальные
смыслы происходящего, Гинзбург производит, однако, обратную
Ленинградские поэты 1950—1960-х.
373
операцию, настаивая на подлинности именно Кушнера. То есть
негативное, с точки зрения проработчиков, свойство кушнеров-
ской поэтики — «книжность», «литературность» — оборачивается
против Сосноры, который, по Гинзбург, как раз и оказывается «сугубо литературен». Получается, что и советские функционеры, и
Гинзбург оперируют категориями «подлинности» и «неподлинно-
сти», понятыми исключительно оценочно. Сам Соснора в этой
ситуации оказался неинтересен даже внимательно следившей за
литературными новациями Гинзбург: он невольно стал заложником идеологической борьбы, закамуфлированной под дискуссию
о поэзии.
Тот выбор (эстетический, социальный и т.п.), который предстояло сделать поэтам, разводил их в разные стороны, создавая
новое пространство репутации. Соответственно распадалось и поле
соревнования, поскольку поэты входили в разные социокультурные области. И Горбовский, и Кушнер, и Соснора так или иначе
оказались в официальном пространстве, но свойство этого пребывания и путь к нему были различными (впрочем, для Кузьминского «членство» в Союзе писателей принципиально; он пишет о «выпавших» из его антологии «У Голубой Лагуны» и замечает: «Не по
признаку членства в Союзе писателей (Соснора, Кушнер, Горбовский — члены)...»29, т.е. признает за поэтами, вступившими на
официальное поле, эстетическую значимость, но само «членство»
при этом остается говорящим, неким знаком «порочности», которую можно прощать, но нельзя забывать).
Отмеченное Кривулиным свойство литературной позиции
Кушнера («Позиция Кушнера — это позиция культурного балансирования. Когда существовала советская культура, такая позиция
имела смысл и вызывала большой резонанс. Кончилась советская
власть — и исчезло равновесие»30) приводит к новым формам противопоставленности, очевидным для современников, но для нас не
вполне считываемым: «...здесь между теми же Бродским и Кушне-
ром колоссальный водораздел. Поначалу ведь они были очень
близки: общие вкусы, общие интересы. Но Бродский сделал выбор, и это был выбор метафизический»31. Берг называет отказ от
радикального выбора «неподцензурности» «стратегией двойной
бухгалтерии успеха», отмечая, что она «характерна и для тех, кто,
как, например, Г. Горбовский, начинали с неподцензурных произведений, предназначенных для функционирования в самиздате,
а затем, разочаровавшись в том символическом капитале, который
могла обеспечить референтная группа андеграунда, полностью
переключили свою ориентацию на пространство официальной
литературы»32. Интересно отметить, что именно Соснора (вопреки вышеприведенной ситуации, описанной и интерпретированной
374
Д. М. Давыдов
Л. Гинзбург) предстает наиболее «сокрытой», непроявленной в
рамках официального литературного пространства фигурой, оказавшей чрезвычайное влияние на многих неофициальных авторов
последующих поколений.
Ситуация с Бродским кажется наиболее очевидной. Его куда
большая сегодня известность лишь отчасти связана с той ситуацией, которая афористично сформулирована в ахматовской реплике:
«Какую биографию делают нашему рыжему!» Для многих превосходство Бродского казалось (и кажется) самоочевидным: «Бродский относится ко всей предыдущей русской культуре с той свободой, которая естественна для законного наследника»33; «...сила
воздействия Бродского на ленинградскую поэзию была настолько
ощутима, что те, кто начинал писать, как бы искали контраверсию,
искали какую-то фигуру, которая бы противостояла ему»34;
«...Бродский становится для меня соперником. И не только для
меня. 60-е годы в Петербурге во многом прошли под знаком поиска альтернативы Бродскому. Тогда было очевидно, что Бродский — лидер»35. Гениальным Бродского прямо называли Л. Лосев36, С. Довлатов в «Записных книжках» и т.д. Н. Горбаневская
говорит о нем как о «первом поэте»37. Интересно, однако, что
это была в значительной степени внутренняя иерархия, для внешнего наблюдателя вовсе не очевидная. Г. Адамович в разговоре с
А. Ваксбергом вспоминал о беседе с Ахматовой в Париже (1965):
«Бродского считала лучшим поэтом. Боюсь судить, возможно...
Лучший — превосходная степень... Таких оценок я избегаю: поэзия
все же не спорт... Я читал Бродского, Кушнера, Соснору. Это очень
значительно, очень, в этом нет никакого сомнения. И все из Петербурга. Как странно, не правда ли? Нарождается мощная поэзия.
Дадут ли ей развернуться?»38.
Репутационная стратегия Бродского в этом смысле строилась
двояко. Несмотря на восторженное (или восторженно-ревнивое)
отношение к нему ленинградских неофициальных и полуофициальных поэтов, сам Бродский делал ставку на иное саморепрезен-
тирование: «По сути дела, организаторы “Метрополя” пошли по
пути, проложенному Бродским, Виктором Некрасовым, Владимо-
вым, Войновичем. Ими была опробована наиболее продуктивная
двухходовая комбинация — сначала советский успех, затем демонстративный выход за пределы советской литературы и успех западный. Казалось бы, стратегия Бродского была другой, ибо ему
первоначально удалось добиться успеха в пространстве неофициальной литературы и только после суда, дополнительно к мнению Ахматовой, привлечь к себе внимание как советского истеблишмента (в лице, скажем, М. Ростроповича и К. Чуковского), так
Ленинградские поэты 1950—1960-х.
375
и Запада. Однако Бродский не случайно и неоднократно впоследствии открещивался от родства со “второй культурой”. Для западного успеха приоритетным было мнение либерального советского истеблишмента, он представал инстанцией, легитимирующей
появление нового имени, в то время как причастность к неофициальной литературе лишь разрушала чистоту стратегии»39.
Между тем не только социальные механизмы, но и свойства
поэтики Бродского сыграли свою канонизирующую роль. Такой
глубокий и серьезный биограф Бродского, как Л. Лосев, отмечает: «...поэтика Бродского была сравнительно консервативна. Большинство молодых, например тот же Соснора, решительнее экспериментировали с литературными формами»40. В этой связи нельзя
не проследить соотношение репутаций Бродского и Пушкина41. По
словам Рейтблата, «из истории литературы мы знаем, что нередко
очень одаренные писатели (например, Велимир Хлебников) оказываются практически не востребованными современниками, да
и среди потомков лишь очень немногие воздают им должное»42.
И далее: «Принципиально новое произведение не было бы воспринято публикой. Пушкин же по-иному подавал привычное, знакомое. Сумев представить уже существовавшее ранее как новое,
удачно аранжировав знакомые мотивы, Пушкин точно угадал ожидания публики и ответил на них»43. Аналогичный «срединный» механизм был применен Бродским (точнее, его канонизаторами) в
отличную от пушкинской эпоху, когда растождествление языка,
разрыв поэтического поля становились очевидной реальностью.
Можно, замечает Айзенберг, «упрекнуть Бродского в том, что звание Первого Поэта он принял как должное, в то время как сейчас
это звание чисто позиционно и в реальной литературной ситуации
неактуально, невозможно: нет сейчас в русской поэзии не только
единой, но и лидирующей школы»44.
Особое место в этом перечне принадлежит Аронзону. Отмечая
не слишком известные факты его литературной биографии45,
И. Кукуй пишет: «Кажется, что логика творческой биографии в это
время [1969 г.] начинает брать верх над биографией реальной, —
и это, несомненно, послужило основной причиной как для безусловного принятия версии самоубийства в круге поэта, так и для
последующего выбора Аронзона как своеобразного “флагмана”
поэтической флотилии 1960—70-х. В известном противопоставлении Виктором Кривулиным Аронзона Бродскому это сыграло не
последнюю роль: если для многих современников биография будущего нобелевского лауреата действительно оказалась “сделана”
(по известному выражению Ахматовой), то Аронзон — как истинный Поэт — отказался от собственной биографии в пользу судьбы»46. Трагедия гибели Аронзона, по мнению исследователя, «за¬
376
Д. М. Давыдов
ключалась прежде всего в том, что в злополучной поездке в Ташкент и ее последующей мифологизации реальный человек оказался
вытеснен своим “зеркальным двойником” — литература одержала верх над жизнью»47.
Важнейшим свойством литературных репутаций Аронзона,
Бродского, Горбове кого, Кушнера, Сосноры оказываются их нелинейность и невозможность взаимного противопоставления.
История литературных репутаций оказывается мозаичной и не
поддается спрямлению даже такой мощной силой, как миф о Первом Поэте.
1 Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М., 2001.
С. 51-52.
2 Там же. С. 52.
3 Поэзия — это разговор самого языка: [Интервью с В. Кривули-
ным] // Кулаков В. Поэзия как факт. М., 1999. С. 371.
4 Там же. С. 373.
5 Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. М., 1997. С. 76.
6 Там же. С. 75.
7 Берг М. Литературократия. Проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе. М., 2000. С. 160.
8 Там же.
9 Там же. С. 21.
10 Эрлъ В. С кем вы, мастера той культуры? Книга эстетических фрагментов. СПб., 2011. С. 101.
11 Казарновский П., Кукуй И. Вместо предисловия // Аронзон Л. Собрание произведений: В 2 т. СПб., 2006. Т. 1. С. 13.
12 Шубинский В. Леонид Аронзон // История ленинградской неподцензурной литературы: 1950—1980-е годы: Сб. ст. СПб., 2000. С. 89—90. При
этом исследователь замечает: «В поэтике Бродского и Аронзона в 1960—
1963 гг. было немало общего» (Там же. С. 87).
13 Степанов А. И. Старые/новые шестидесятые. СПб., 2010. С. 12—13.
14 Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. С. 156.
15 Там же. С. 70.
16 Будучи московским поэтом, С. Красовицкий воспринимался в контексте ленинградской неофициальной поэзии.
17 Кулаков В. Красовицкий и Аронзон — два центральных мифа новой
поэзии // Wiener Slawistischer Almanach. 2008. Bd. 62. S. 246—247.
18 Поэзия — это разговор самого языка: [Интервью с В. Кривулиным].
С. 369.
19 Антология у Голубой Лагуны: [переизд.]. М., 2006. Т. 1. С. 368.
20 Кузьминский К Поэмы Глеба Горбовского // Антология у Голубой
Лагуны. Т. 1. С. 518.
Ленинградские поэты 1950—1960-х.
377
21 Сгусток языковой энергии: Интервью с Анатолием Найманом,
13 июля 1989 г., Ноттингем // Полухина В. Бродский глазами современников: Сб. интервью. СПб., 1997. С. 34.
22 Его стихотворение «Когда качаются фонарики ночные....» стало
народной песней.
23 Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. С. 75.
24 Сгусток языковой энергии: Интервью с Анатолием Найманом.
С. 34.
25 Савицкий С. Андеграунд (История и мифы ленинградской неофициальной литературы). М., 2002. С. 56.
26 Там же. С. 141.
27 Никольская Т. Круг Алексея Хвостенко // История ленинградской
неподцензурной литературы. С. 94—95.
28 Гинзбург Л. Записные книжки. Воспоминания. Эссе. СПб., 2002.
С. 323.
29 Кузьминский К. Кого здесь нет // Антология у Голубой Лагуны. Т. 1.
С. 33.
30 Поэзия — это разговор самого языка: [Интервью с В. Кривулиным].
С. 368.
31 Там же. С. 371.
32 Берг М. Литературократия. Проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе. С. 224.
33 Венцлова Т. Статьи о Бродском. М., 2005. С. 161.
34 Маска, которая срослась с лицом: Интервью с Виктором Кривулиным, 17 января 1990, Лондон // Полухина В. Бродский глазами современников. СПб., 1997. С. 171.
35 Поэзия — это разговор самого языка: [Интервью с В. Кривулиным].
С. 363-364.
36 См., например: Лосев Л. Меандр: мемуарная проза. М., 2010.
С. 13-17.
37 См.: Горбаневская Н. Прозой: о поэзии и поэтах. М., 2011. С. 64.
38 Цит. по: Тиметик Р. Анна Ахматова в 1960-е годы. М., 2005. С. 257.
39 Берг М. Литературократия. Проблемы присвоения и перераспределения власти в литературе. С. 251.
40 Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. М., 2006.
С. 79.
41 На вопрос В. Полухиной «Оправдано ли сравнение Бродского с
Пушкиным по их универсальности», Н. Горбаневская отвечает: «Я думаю,
тут оправдано. У Бродского в последние десять лет стало больше врагов,
появилось больше людей, перестающих его принимать. Так же было у
Пушкина, потому что за ним надо успевать» (Горбаневская Н. Прозой о
поэзии и поэтах. С. 62). Впрочем, в иных аспектах Горбаневская эту аналогию не поддерживает.
42 Рейтблат А. И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологи-
ческие очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. С. 58.
378
Д. М. Давыдов
43 Там же.
44 Айзенберг М. Взгляд на свободного художника. С. 79.
45 «Будучи по своей внутренней организации поэтом пушкинского
склада, Аронзон вполне мог себе представить — и желал — внешнего профессионального осуществления как литератор. Однако даже в эпоху “оттепели” отношения поэта как с “книгопродавцем” (в лице государства),
так и с “толпой” были построены на совершенно иной основе, чем расчетливое цензорство Николая I, да и степень несоветскости Аронзона,
прежде всего на уровне языка, была такой, что обрекала любые попытки
интеграции в пространство советской литературы на неудачу» (Кукуй И.
«Жизнь дана, что делать с ней?..» (К биографии Леонида Аронзона) //
Wiener Slawistischer Almanach. 2008. Bd. 62. S. 25).
46 Ibid. S. 30.
47 Ibid. S. 31.
МАТЕРИАЛЫ
Р. В. Щипина
Санкт-Петербург
КОВРЫ
Каждый человек, взрослый или ребенок, свободный или раб, мужчина или женщина — словом,
все целиком государство должно беспрестанно
петь для самого себя очаровывающие песни, в которых будет выражено все то, что мы разобрали.
Платон. Законы
В лад с голосами Сирен Лахесис воспевает
прошлое, Клото — настоящее, Атропос — будущее. Время от времени Клото касается своей правой рукой наружного веретена, помогая его вращению...
Платон. Государство.
Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою.
Иосиф Бродский
Мне бы не хотелось вновь коснуться этого текста, в некотором
роде ставшего для меня запретным, но нечто побуждает вернуться к нему. Полагаю, все помнят тяжелую атмосферу дней, когда
должно было быть принято решение по спасению заложников,
захваченных террористами в Москве во время представления
«Норд Оста». Чувство личной вины и причастности к происходившему было уродливо и безысходно усугублено тем, что события,
начавшиеся с выхода террористов в масках на сцену во время спектакля, где их вначале и приняли за актеров мюзикла, были самым
непосредственным образом предсказаны. В дни, им предшествовавшие, мне случилось с упоением и небесстрастно разбирать текст
стихотворения Бродского «Портрет трагедии» (1991).
Заглянем в ее глаза! В расширенные от боли
зрачки, наведенные карим усильем воли
как объектив на нас — то ли в партере, то ли
дающих, наоборот, в чьей-то судьбе гастроли.
Добрый вечер, трагедия с героями и богами,
с плохо прикрытыми занавесом ногами,
с собственным именем, тонущим в общем гаме.
(4, 104)
382
Р. В. Щи пи на
Эти слова имеют обратную перспективу. Примерно к 1986 г.
относится разговор, в котором МБ была упомянута шутка, сорвавшаяся с прелестных уст: «Наши дни напоминают театр абсурда, в
котором актеры и зрители поменялись местами»1. Этот разговор
поэта и его музы соответственно относится к годам еще более ранним — до его отъезда из России на Запад:
И голос Музы
звучит как сдержанный, частный голос.
(«Эклога 4-я (зимняя)»; 3, 202)
Сейчас рокот этих слов, надвигаясь лавинообразно, похож на
клекот лавропожирающего жерла пифии:
<...> Эстетическое чутье
суть слепок с инстинкта самосохраненья
и надежней, чем этика. Уродливое трудней
превратить в прекрасное, чем прекрасное
изуродовать. Требуется сапер,
чтобы сделать опасное безопасным.
Этим попыткам следует рукоплескать,
оказывать всяческую поддержку.
(«Доклад для симпозиума»; 4, 62—63)
Причина моего внимания к стихотворению «Портрет трагедии» незамысловата. Вам случалось видеть гипсовые слепки с
затертыми до черноты и блеска кончиками носов, с которых будущие архитекторы рисуют «антики»? Античную скульптуру я
воспринимаю, как экскурсанты, т.е. никак. Можно переиначить
сюжет, определив болевую точку касания Эллады и сего дня: трагедия. Руководствуясь простой мыслью, что античная трагедия
оживет, если взять верный тон, шум, говор и сленг города, раскрываю упомянутый «Портрет трагедии». От него тянутся нитки к
«Я не увижу знаменитой “Федры”...» Мандельштама — «Федре»
Цветаевой — Расину — Еврипиду. В зеркале трагедии античная
скульптура начинает проявлять свой лик. Неизменная улыбка
архаических розовоперстых кор и куросов сходит с лица в пору
классики, но созерцательная грусть совершенных лиц непоколебима и пред лицом божественного гнева, как в «Гибели ниобид».
И вдруг прорвало: «Умирающий галл», «Галл, убивающий жену и
себя», вечные муки титанов «Пергамского алтаря», пульсирующий
змеиными кольцами «Лаокоон» — весь этот ужас невыносим с
приправой пляшущих карлиц, горбунов и пьяных старух школы
Боэфа, бессмысленно декоративных эллинистических толстых са¬
Ковры
383
довых младенцев с гусями и утками. В «Рождении трагедии из духа
музыки» Ницше выявил ядро, порождающее античную культуру, — сопряжение аполлонического и дионисийского начал, трагедию. Ее козлиное пение достигает апогея в классическую эпоху,
хронологически совпадая с деятельностью Платона, чье идеальное
государство — первая чудовищная утопия.
Несомненно, отечественная практическая философия зиждется на идеалистическом основании. Прекрасная идея X книги
платоновского «Государства» — «Подражательная поэзия портит
нравы и подлежит изгнанию из государства» — воплощается с завидной последовательностью. Даже разбуженный декабристами
А. И. Герцен сетует:
Ужасный, скорбный удел уготован у нас всякому, кто осмелится поднять свою голову выше уровня, начертанного императорским скипетром2; будь то поэт, гражданин, мыслитель — всех их
толкает в могилу неумолимый рок. История нашей литературы —
это или мартиролог, или реестр каторги. Погибают даже те, которых пощадило правительство — едва распустившись, они спешат
расстаться с жизнью...
Рылеев повешен Николаем.
Пушкин убит на дуэли тридцати восьми лет.
Грибоедов предательски убит в Тегеране.
Лермонтов убит на дуэли, тридцати лет, на Кавказе.
Веневитинов убит обществом, двадцати двух лет.
Кольцов убит своей семьей, тридцати двух лет.
Белинский убит, тридцати пяти лет, голодом и нищетой.
Полежаев умер в военном госпитале, после восьми лет принудительной солдатской службы на Кавказе.
Баратынский умер после двенадцатилетней ссылки.
Бестужев погиб на Кавказе совсем еще молодым, после сибирской каторги3.
Это отнюдь не к проблеме норенской ссылки, но к проблеме
идеалистического компонента в основании отечественной культурной (?) традиции. В судьбах прямых предшественников Бродского, упомянутых выше, с катарсисом как-то не получилось.
Волков: Я понимаю, что вы имеете в виду. Но с этой точки зрения повышенный эмоциональный тонус Цветаевой вас должен
скорее отпугивать.
Бродский: Ровно наоборот. Никго этого не понимает.
<...> Если угодно, Цветаева — это фальцет времени. Голос,
выходящий за пределы нотной грамоты.
384
Р. В. Щипина
Волков: Значит, вы считаете, что эмоциональная взвинченность Цветаевой служит той же цели, что и оденовская нейтральность? Что она достигает того же эффекта?
Бродский: Того же, и даже большего. На мой взгляд, Цветаева
как поэт во многих отношениях крупнее Одена. Этот трагический
звук... В конце концов время само понимает, что оно такое. Должно понимать. И давать о себе знать. Отсюда — из этой функции
времени — и явилась Цветаева4.
В «Диалогах» Бродского возникает образ Иова, голос правды
небесной против правды земной. И, полагаю, это доминантный
образ. «Портрет трагедии» — то же гноище. Здесь нет места для
любовной патетики «Федр»:
Вдохнуть ее смрадный запах! Подмышку и нечистоты
помножить на сумму пятых углов и на их кивоты.
Взвизгнуть в истерике: «За кого ты
меня принимаешь!» Почувствовать приступ рвоты.
Спасибо, трагедия, за то, что непоправима,
что нет аборта без херувима,
что не проходишь мимо, пробуешь пыром вымя.
<...>
Смотрите: она улыбается! Она говорит: «Сейчас я
начнусь. В этом деле важней начаться,
чем кончиться. Снимайте часы с запястья.
Дайте мне человека, и я начну с несчастья».
Давай, трагедия, действуй. Из гласных, идущих горлом,
выбери «ы», придуманное монголом.
Сделай его существительным, сделай его глаголом,
наречьем и междометьем. <...>
(4, 105)
(Попутно отметим звукопорождение, родственное цветаевскому
фольклорному бабьему причитанию и плачу, срывающемуся на
фальцет, разрывающему звукоряд гармонии.)
Стихотворение Бродского останавливает тем архаизированным «плетением словес», которое в русской литературе тесно связано с литературой исихазма:
Лицо ее безобразно! Оно не прикрыто маской,
ряской, замазкой, стыдливой краской,
руками, занятыми развязкой,
бурной овацией, нервной встряской.
(4, 105)
Ковры
385
Для сравнения обратимся к текстам Епифания Премудрого:
«Младенецъ же прежереченныи5... и отъ сосцу отъемлется, и отъ
пеленъ разрешается, и отъ колыбЪли свобожается»6. Или «...елико
въ письмена сиа приницающихъ, и разгыбающихъ, и почитаю-
щихъ, и послушающихъ, и внимающихъ, и разсуждающихъ...»7.
Эта неожиданная перекличка с панегирическим стилем важна. Она предваряет появление вечных образов финала «Портрета
трагедии»:
Так обретает адрес стадо и почву — древо.
(4, 106)
Она указывает на до-расиновское происхождение возвышенного стиля в русской книжности, иное по духу, поворачивает голову читателя в сторону мистической традиции в русской культуре. Деэстетизация текста является иносказанием, просторечивой
притчей, вмещающей метафизический смысл.
Относительно деэстетизации образного строя Бродского уместно провести еще одну параллель. Размежевание эстетических
образов и знаков, указывающих на духовное содержание, происходит в эстетике Плотина, к которому поэт был чуток, что отнюдь
не противоречит перекличке с мистической традицией, питающей
панегирический стиль: неоплатонизм был усвоен святоотеческой
письменностью.
В поэтическом юродстве по причинам генетического порядка
есть дозированное родство трагедии и фарса, амбивалентность.
Свое отношение к ней Иосиф Бродский определяет однозначно и
резко: «Амбивалентность, мне кажется, — главная характеристика нашего народа. Нет в России палача, который бы не боялся
стать однажды жертвой, нет такой жертвы, пусть самой несчастной, которая не призналась бы (хотя бы себе) в моральной способности стать палачом» («Меньше единицы»; 5, 11).
По поводу той же амбивалентности как свойства русского языка речь идет в эссе, посвященном Достоевскому: «Любая изложенная на языке этом идея тотчас перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса занятия более увлекательного
и соблазнительного, чем передача сомнения и самоуничижения.
<...> В творчестве Достоевского явственно ощущается достигающее порой садистической интенсивности напряжение, порождаемое непрерывным соприкосновением метафизики темы с метафизикой языка» («О Достоевском»). Портрет Достоевского, как
всякий портрет, является и автопортретом. Во всяком случае, эссе
поясняет деэстетизацию образов в «Портрете трагедии»: «В его
фразах слышен лихорадочный, истерический, неповторимо индивидуальный ритм, и по своему содержанию и стилистике речь
386
Р. В. Щи пи на
его — давящий на психику сплав беллетристики с разговорным
языком и бюрократизмами» (Там же).
Кроме темы снижения образов в эссе затронута и тема классицизма, если вернуться к Расину в «Портрете трагедии»:
Раньше, подруга, ты обладала силой.
Ты приходила в полночь, махала ксивой,
цитировала Расина, была красивой.
(■4, 106)
Бродский пишет: «Конечно же, Достоевский был неутомимым
защитником Добра, то бишь Христианства. Но если вдуматься, не
было и у Зла адвоката более изощренного. У классицизма он научился чрезвычайно важному принципу: прежде чем изложить
свои доводы, как сильно ни ощущаешь ты свою правоту и даже
праведность, следует сначала перечислить все аргументы противной стороны»8. Усилим акцент на «классицизме» Достоевского.
Этот римский юридический классицизм неожиданно сближает
произведения Достоевского как с бульварным жанром детективов
и мерзкой судебной хроники, так и с инквизицией, а, в итоге со
Страшным Судом. В диалогах с С. Волковым Бродский говорит о
тотальной «аморалке» XX в. И если самосуд Достоевского близок
к инквизиции («Что-то еще заставляет Достоевского выворачивать
их жизнь наизнанку и разглядывать все складки и морщинки их
душевной подноготной»), то мера XX века более совершенна: «Совершенно верно. Помните? Как человек, расстреляв очередную
партию приговоренных, вернется с этой “работы” домой и будет
с женой собираться в театр. Он еще с ней насчет завивки поскандалит! И никаких угрызений совести, никакой достоевщины! В то
время как для западного человека ситуации и дилеммы Достоевского — это его собственные ситуации и дилеммы»9.
Сближение театра и апокалипсиса было в исторической реальности русской культуры в 1913 г. в постановке оперы «Победа над солнцем». Музыка М. Матюшина, сценическое оформление К. Малевича, либретто А. Крученых. Именно здесь
впервые появляется «Черный квадрат», помещенный на заднике
сцены как символ победы над солнцем, «икона нашего времени».
Б. Лившиц так описывает зрелище:
Из первозданной ночи щупальцы прожекторов выхватывали
то один, то другой предмет и, насыщая его цветом, сообщали ему
жизнь. <...> Фигуры кромсались лезвиями фаров, непременно лишались рук, ног, головы, ибо для Малевича они были лишь геометрическими телами, подлежащими не только разложению на состав¬
Ковры
387
ные части, но и совершенному растворению в живописном пространстве. Единственной реальностью была абстрактная форма,
поглощавшая в себе без остатка всю люциферическую суету мира.
<...> Это была живописная заумь, предварявшая исступленную беспредметность супрематизма10.
Заумь авангарда откомментирована Бродским: «Если за стихи капитана Лебядкина о таракане Достоевского можно считать
первым писателем абсурда, то Платонова за сцену с медведем-
молотобойцем в “Котловане” следовало бы признать первым серьезным сюрреалистом» («Послесловие к “Котловану” А. Платонова»; 7, 73).
Если свернуть все до грубой схемы, стадиально за апокалипсисом авангарда последовал рай Платонова. (Собственно с рассуждений о Рае и начинается послесловие к «Котловану», в этой связи Бродский и говорит об упомянутом выше «плетении словес».)
Мистериальная утопия авангарда разрешилась реализацией социальной утопии. На платоническом языке утопии «режима, коллективизации и проч.» говорит Платонов. «...Сюрреализм — отнюдь
не эстетическая категория, связанная в нашем представлении, как
правило, с индивидуалистическим мироощущением, но форма
философского бешенства, продукт психологии тупика. Платонов
не был индивидуалистом, ровно наоборот: его сознание детерминировано массовостью и абсолютно имперсональным характером
происходящего. Поэтому и сюрреализм его внеличен, фольклорен
и, до известной степени, близок к античной (впрочем, любой)
мифологии, которую следовало бы назвать классической формой
сюрреализма» (7, 73).
Прервемся. Сначала отметим сближение сюрреализма социалистической утопии с античной мифологией и фольклором. Далее — речь о трагедии: «В отличие от Кафки, Джойса или, скажем,
Беккета, повествующих о вполне естественных трагедиях своих
“альтер эго”, Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде
жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся
способным породить фиктивный мир и впавшем от него в грамматическую зависимость» (7, 74). Достоевский не случайно оказывается в одной связке с Платоновым: «Но не одной только достоверности ради герои Достоевского с почти кальвинистским
упорством обнажают перед читателем душу. <...> И это не стремление к Истине. Ибо результаты его инквизиции выявляют нечто
большее, нечто превосходящее саму Истину: они обнажают первичную ткань жизни, и ткань эта неприглядна. Толкает его на это
сила, имя которой — всеядная прожорливость языка, которому в
один прекрасный день становится мало Бога, человека, действительности, вины, смерти, бесконечности и Спасения, и тогда он
388
Р. В. Щипина
набрасывается на себя» («О Достоевском»). В финале «Послесловия к “Котловану” А. Платонова» звучит: «...благо тому языку, на
который он переведен быть не может» (7, 74).
Вернемся к «Портрету трагедии»:
Теперь лицо твое — помесь тупика с перспективой.
(4, 106)
А. Ф. Лосев и А. А. Тахо-Годи, рассуждая об эстетике Платона, пишут: «В “Филебе” выдвинуто учение о происхождении меры
из диалектического синтеза предела и беспредельного»11. Эти портретные черты не случайны, т.е. осознанны: «...Рай — тупик; это
последнее видение пространства, конец вещи, вершина горы...»
У Бродского речь идет о Рае Платонова: «Бытие в тупике ничем не
ограничено, и если можно представить, что даже там оно определяет сознание и порождает свою собственную психологию, то психология эта прежде всего выражается в языке. Вообще следует отметить, что первой жертвой разговоров об Утопии — желаемой или
уже обретенной — прежде всего становится грамматика, ибо язык,
не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении
и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям...» (7, 72) Платонов обнаруживает тупиковую философию в самом языке: «...наличие абсурда в грамматике свидетельствует не о
частной трагедии, но о человеческой расе в целом» (Там же). В некотором роде платоновская золотая сфера замкнулась. Утопия
Платона и Платонова тождественно совпали.
Панегирический стиль, вошедший в русскую литературу наиболее активно с волной второго южнославянского влияния конца
XIV — начала XV в., обладает совершенством, не снившимся формалистам: у нанизанных однокоренных слов отыскивается их общий корень, у созвучных — звук; смысл лежит вне и поверх текста, текст служит передаче «неизреченных божественных словес».
В акустике «маской—ряской—замазкой—краской—развязкой—встряской», «трясину—Сыну—резину—аминазину—осину»
слышна музыка платоновских небесных сфер, точнее, — жужжание веретена Сирен: Лахесис, Клото, Атропос. Их пение о прошлом, настоящем, будущем по высоте превосходит визг и фальцет,
превращается в подобие свисту веретена, так как и само время трагедии бесконечно ускорилось:
Спасибо, трагедия, за то, что ты откровенна,
как колуном по темени, как вскрытая бритвой вена,
за то, что не требуешь времени, что — мгновенна.
(4, 105)
Ковры
389
Это упразднение времени в контексте поэтики Бродского, непрерывно обращающегося к Времени, обладает значительным
удельным весом, приобретает апокалиптический смысл.
Наперед забегая, усилим внимание на эсхатологии: видению
«стада и древа» предшествуют муки. В «Послании архиепископа
новгородского Василия ко владыце тферскому Феодору о рае»
«Муки» — название земного ада, через который новгородцы пробираются и попадают в земной рай (Рай Платонова? О духе революции как духе хилиазма писали весьма серьезные исследователи,
обращаясь к фактическому материалу). Одним из видений мук
является «река молненая Морг». Морг, упомянутый поэтом в
«Портрете трагедии», скорее всего не связан напрямую с рекой
Морг, а просто с местом работы совсем молодого Бродского, так
же как и земной рай «Послания» напрямую не связан с Раем Платонова, — здесь поразительно явление генетического кода русской
книжности.
«Плетением словес» стиль назвал Епифаний Премудрый. Это
стиль хвалы, прославления, благодарения: отсюда происходит
чудовищное «Спасибо» в обращении к трагедии, усиленное
повтором.
«Житие Стефана Пермского» заключается похвалой, которая
не имеет аналогов. Это — три плача: пермских людей, церкви, автора; их основа — фольклорные плачи.
Интонирование плача, именно фольклорного причитания,
Бродский отмечал как интонационную особенность Цветаевой. Он
же отмечает предельную высоту ее тембра. Не превзошел ли переданный им свист вне-речевой звук мгновенной трагедии, этот рвущийся превыше небес голос? «У всякого языка, в особенности же
у языка поэтического, всегда есть вокальное будущее. Творчество
Цветаевой и явилось искомым вокальным разрешением состояния
поэтической речи, но высота ее тембра оказалась столь значительной, что разрыв не только с читательской, но и с писательской
массой был неизбежен. Новый звук нес не просто новое содержание, но новый дух. В голосе Цветаевой звучало нечто для русского уха незнакомое и пугающее: неприемлемость мира» («Об одном
стихотворении»; 5, 152).
В цитируемом эссе есть комментарий к иронии Цветаевой,
вполне пригодный для рассмотрения иронии и сарказма в «Портрете трагедии». Во-первых, безжалостность сарказма спасает от
утешительного тона, свойственного русской литературе: жалость к
себе недалеко ушла от возвеличивания себя же. Сарказм является
способом отторжения уже достигнутой правды — в некоем реактивном превосходящем движении. Ирония как иносказание — это
маска, но не скрывающая лицо поэта, а в данном случае, антич¬
390
Р. В. Щи пи на
ная маска трагедии — лицо самой трагедии; неприкровенное. Сарказм и ирония, являясь способом прозаизации поэтического текста, соответствуют требованиям реализма и позволяют избегнуть
надмирного звучания. Ко всему, сарказм как деидеализация разрушителен. Расширение границы вниз, нисходящее движение
в ад становятся эквивалентом кенозиса (о смирении Бродский
неожиданно упоминает в «Диалогах»). Движение в ад — необходимый полюс для восходящего движения.
В «Портрете трагедии» о земном милосердии, равно как о земном Рае и об умопостижимом Рае небесном, речь не идет.
Обжитой фантазиями рай отторгается ступень за ступенью в
«Новогоднем» Цветаевой, у Бродского тема артикулирована не
менее отчетливо, но об этом чуть позже.
В «Новогоднем» отрицаются ступени небесного ландшафта
(как в иконописных «горках» при восхождении горе), остаются
позади степени мыслимого богопознания:
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террасами? Сужу по Татрам —
Рай не может не амфитеатром
Быть. (А занавес над кем-то спущен...)
Не ошиблась, Райнер, Бог растущий
Баобаб? Не Золотой Людовик —
Не один ведь Бог? Над ним — другой ведь
Бог?12
Здесь возникает апокрифическая тема слоистых небес и степеней мытарств в эсхатологической апокалиптике, но возникает и
совершенно прекрасная каноническая апофатеза: поименование
через отрицание. Баобаб — обновленный синоним древа, могучего и растущего; Золотой Людовик, Король-Солнце, — синоним
(метоним?) Солнца Правды. От метонимии восходящая иерархия
Цветаевой приближается к умолчанию:
(А занавес над кем-то спущен...)
Метафизика молчания в русской поэзии традиционно связывается с эпохой «плетения словес» как временем расцвета исихаст-
ской традиции. Молчание сродни безвидному, без-эйдосному, безобразному бытию. С. С. Аверинцев в этой связи напоминает о
гностическом тексте, рекомендующем для того, чтобы познать
Бога, расщепить дерево и отвернуть камень. У Бродского очевидно внимание к первичной ткани бытия:
Ковры
391
Привет, оборотная сторона медали.
<...>
Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны13,
к грубой доске с той стороны иконы...
<...>
Кто мы такие, не-статуи, не-полотна...
<...>
...что еще интереснее, ежели вещь бесплотна.
Не брезгуй ею, трагедия, жанр итога.
Как тебе, например, гибель всего святого?
Слово также расщепляется до фонемы:
«Ы» — общий вдох и выдох!
Здесь интонирование сарказма — глумление, доходящее до
опасной грани, сегодня именуемой «беспределом». Это — поэтический аналог музыки революции: «...разрушим до основанья, а
затем...» Он порождает ощущение, которое сам Бродский назвал
«экзистенциальным ужасом». Вплетенное в бечевки того же панегирического штиля Имя Бога («Святому Духу, Отцу и Сыну») служит передаче экзистенциального ужаса гибели всего святого в национальной трагедии, где гибнет не герой, но хор.
Сарказм становится в некотором роде апофатезой у Бродского, перемещающегося по нисходящим ступеням. Означенная ступень еще не есть предел.
Одним из архетипов «Портрета трагедии» является Акафист
Романа Сладкопевца. «Портрет трагедии» — оборотная сторона
Акафиста, здесь Бродский в какой-то мере обнаруживает свою
преемственность по отношению к «Веселому Апокалипсису» авангарда. Разницу составляет то, что у Бродского актуальна формула
христианской богослужебной поэзии: соответствие возрастанию
души совозрастающих ей зол.
Начнем со ссылки на главу «Рождение рифмы из духа греческой диалектики»14 в книге Аверинцева «Поэтика ранневизантийской литературы». Она заслуживает самого пристального внимания. Речь идет о рождении рифмы. (Полагаю, общее внимание к
первичной ткани жизни соответствует и чуткости поэта к первичному бытию рифмы, хотя пути могли быть опосредованными.)
Рифма в Византии появилась раньше, чем на Западе. Официальная дата — 7 августа 626 г. Первым произведением стал Акафист
Романа Сладкопевца, обращенный к Пресвятой Богородице15. Для
связи с предшествующими рассуждениями о «Портрете трагедии»
обратимся к тексту Аверинцева:
392
Р. В. Щипина
Как известно, античная поэзия не знала рифмы. Может быть,
именно поэтому античная риторическая проза употребляла рифмо-
идные созвучия гораздо шире, чем это показалось бы уместным и
серьезным нашему вкусу.
Контраст двух восприятий знаменателен. Мы привыкли к
рифме в поэзии, и само ее появление вне регулярности стиха, «не
на месте», «где попало», уже воспринимается нами как гротескная
аномалия, вдобавок ассоциирующаяся с балаганным «раешником».
Вспомним приводимые именно в этой связи А. Егуновым упражнения капитана Лебядкина из «Бесов» Достоевского: “Вы богиня
в древности, а я ничто и догадался о беспредельности... Капитан
Лебядкин, покорнейший друг и имеет досуг”. <...>
Совсем другое дело — античная литература. Там изысканные
стилисты, желая достичь высот пафоса, изъяснялись примерно так,
как капитан Лебядкин, и это было совсем не смешно. <...>
<...>
Гомеотелевты, т.е. созвучия окончаний, которые сопрягают
одинаковые по своей грамматической форме слова и разнесены по
концам синтаксических отрезков, оценивались как черта приподнятого стиля16.
Аверинцев показывает движение поэтики риторических созвучий от первых античных софистов к «плетению словес» Епифания,
«пока не наступило новое время и ей не пришлось нежданно опуститься до уровня балаганных прибауток и элоквенции капитана
Лебядкина»17. В вогнутом зеркале этой исторической справки наше
внимание привлекает движение от античной патетики к райку и
непозволительному балагану, от риторики к поэзии абсурда: еще
один оттенок иронии Бродского.
Обращаясь к «Портрету трагедии» в аспекте его сопоставления
с Акафистом, отметим вначале хайретизмы, т.е. обращения к призываемому предмету (от «хайре» — радуйся, так начинаются обращения к Богородице). В стихотворении они наличествуют:
Здравствуй, трагедия! (дважды. — Р. Щ.)
Давай, трагедия, действуй.
<...>
Врежь по-свойски, трагедия. Дави нас, меси как тесто.
<...>
Раньше, подруга, ты обладала силой.
<...>
Валяй, отворяй ворота хлева.
Ковры
393
Перечень неполон, но достаточен. В античной гимнографии и
в более древней, египетской, например, обращение сопряжено с
раскрытием таинственного имени бога заклинанием. Это — ступень посвящения, отождествление человека, произносящего имя,
с самим богом; приобщение к его энергиям. Хайретизмы Акафиста
энергийны, это — глаголы повелительного наклонения. У Бродского роль глагольных хайретизмов играют «не брезгуй», «врежь»,
«дави», «меси», «плюй», «уродуй», «валяй». Достигнута опасная и
весьма тонкая грань в понимании энергий революции и упомянутой «амбивалентности», по сути своей демонической.
«...Я научился ценить ложь именно за это “почти”, которое
заостряет контуры правды...» («Меньше единицы»): чудовищная
ирония сопоставления Акафиста и «Портрета трагедии», сопоставление не по тождеству, но по различию. Ложь, заостряющая контуры правды, — отрицательное определение апофатезы.
Бродский идет дальше. «Акафист» означает «неседален», это
особенно торжественный гимн, воспеваемый не-сидя. Лежа?!
Рухнем в объятья трагедии с готовностью ловеласа!
Погрузимся в ее немолодое мясо18.
Прободаем ее насквозь, до пружин матраса.
Авось она вынесет. Так выживает раса.
Что нового в репертуаре, трагедия, в гардеробе?
И — говоря о товаре в твоей утробе —
чем лучше роль крупной твари роли невзрачной дроби?
(4, 105)
Здесь чудовищное опрокидывание темы непорочного зачатия,
темы Песни Песен, гностической сизигии (брака) как таинственного истока вселенской и надмирной гармонии19. Может быть,
текст некорректен и требуется немедленный запрет? Может быть.
В христианской книжности есть подобия. Аверинцев упоминает
мистерию Димитрия Ростовского, название которой для современного уха неожиданно: «Комедия на Успение Богородицы»20. Он
пишет о византийском бюрократизме, поэтично сопоставлявшем
раны от бичевания Христа с пурпурными чернилами императорской канцелярии, о сравнении евнухов с ангелами, о вифлеемских
младенцах, «которые только что сосали материнскую грудь и теперь коченеют, не выпуская сосца из судорожно сжавшихся челюстей»21.
Сходство «Портрета трагедии» с Акафистом усугубляется
12-частным делением стихотворения: Акафист состоит из 12 икосов. «Пульсирующая двуполярность» образов Акафиста легко различима в стихотворении и в рифмах, и в образах: «нечистоты—
394
Р. В. Щипина
кивоты», «нет аборта без херувима». Обратимся к Аверинцеву за
истолкованием приема антитезы:
Радуйся, ангелов многославное изумление!
Радуйся, демонов многослезное уязвление!
Две строчки зеркально отражают друг друга. Автор как бы видит свою святыню в центре, а добро и зло по обе стороны — «одесную» и «ошуюю». <...> Центр для того и дан в качестве ориентира, чтобы правое самоопределилось в качестве правого и левое —
в качестве левого, чтобы добро было отделено от зла и свет — от
мрака. Бытие рассечено надвое, и это — «суд»22.
По правилам «плетения словес» смысл текста переносится вовне, возникает некий «неизреченный» смысл. Нечто подобное происходит и с «Портретом трагедии». Удельный вес «неизреченного»
больше, чем сказанного. Композиция стихотворения сохраняет
зеркальную симметрию Акафиста, только ось этой симметрии значительно смещена: она как раз делит сказанное и неизреченное.
По жанровым правилам религиозной легенды в широком
смысле слова должно быть «три сюжетных узла: прегрешение —
покаяние и молитва — спасение». Как отмечает А. М. Панченко,
в средневековой книжности разрабатываться может один из элементов, остальные могут не описываться, но подразумеваться23.
В «Портрете трагедии» объемно разработана тема преступления.
Тема покаяния и молитвы усечена до кубофутуристического «Ы»
с полисемантикой этой гласной. Автор четко ориентирует читателя на эсхатологические стоны литературы эпохи татаро-монгольского нашествия («“ы”, придуманное монголом»), плач о погибели русской земли. «Сакральная» лексика усиливается по мере
приближения к концу текста («Святому Духу, Отцу и Сыну», «архангелов», «стадо», «древо»). Это возрастание концентрации сакрального смысла обладает вовлекающей силой и превращает слова, более нейтральные («маячит», «хлева»), в символические:
Всюду маячит твой абрис — направо или налево.
Валяй, отворяй ворота хлева.
Маяк — христианский символ спасения. Он возникает на
дальнем горизонте, но не затягивает читателя в дурную бесконечность «точки схода» прямой перспективы. Он влечет, обозначая
спасение, сигналит, маячит, машет, как платком, флажком направо или налево.
Упомянутое Аверинцевым разделение «направо или налево»,
на «одесную» или «ошуюю» возникает не в центре, но смещено
Ковры
395
ближе к концу стихотворения. Его текст утрачивает геральдич-
ность, статику. Асимметрия избавляет его от того тупика и предела, который виделся Бродскому в «Котловане» Платонова.
Совершается акустическое разделение или переворот л / р в
«Валяй, отворяй». Это — точка взаимного перехода двух сфер
бытия.
Как и «маяк», «хлев» — символ. Его значение возникает в
притчах о блудном сыне, жравшем из свиного корыта, о добром
пастыре и прежде всего в контексте евангельского повествования
о Рождестве24. Слово «хлев», поставленное в конце стихотворения,
задает также движение в системе расширяющейся обратной перспективы. «Ворота хлева» распахиваются, преображаются в дверь:
«Аз есмь дверь и входящий Мною спасется». Часть текста, лежащая за выделенной осью симметрии, — абсолютное тихотворение.
Антитеза первой и второй частей выглядит примерно так: «Одно
дело, когда веришь в Бога, а другое дело — когда веришь в Него
опять»25.
Врата отворены, подобно царским вратам, для стада, обретающего свободу. Прямо скажем, в самом тексте ее не хватало, было
гадко от сгущенной, до запаха подмышек, телесности. Этот вдох
и выдох создает потрясающий эффект обратной перспективы, точки, перерастающей в Плерому. Бесконечно малый образ Божий,
отыскиваемый под спудом в глубине сердца, соединяется с Первообразом. Вместо точки схода прямой перспективы возникает
что-то вроде звездного купола, как в «Новогоднем»:
(ночь, которой чаю:
Вместо мозгового полушарья —
Звездное!)26
Вся энергийная направленность восходящего стиха Бродского пробивает отверстия для света27, в системе обратной перспективы изливается от конца к началу:
...с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,
звездою, облюбовавшей околыши и погоны.
Понятия «начала» и «конца» находятся примерно в том же
соотношении, что «альфа» и «омега». Этим книжником, родившимся в день Кирилла и Мефодия, достигнут редкостный эффект
синергии. Сверхзвуковая энергия стиха, где пульсирует фонема и
свист гомеотелевтов кратче мгновения, превращается в световую
энергию. Она встречается с нисходящим потоком света: Бродский
подстелил золотую вифлеемскую соломку Акафиста, «покаянных
стихов», религиозной легенды, «плетения словес».
396
Р. В. Щипина
Панегирический стиль, он же — стиль орнаментальной прозы,
он же — стиль «плетения словес» неожиданным образом был актуализирован одним из самых непосредственных предшественников Бродского — Мандельштамом в «Разговоре о Данте» в рассуждениях об орнаменте. Бродский перекликается с ним: «На самом
же деле за этим стояло и стоит, как сама Айя-София с ее минаретами и христианско-мусульманским декором внутри, историей и
арабской вязью, внушенное ощущение, что все в этой жизни переплетается, что все, в сущности, есть узор ковра. Попираемого
стопой» («Путешествие в Стамбул»; 5, 307).
Разговор о коврах — не досужий. О попранном ковре поет хор
в трагедии Еврипида, переведенной Бродским:
Хор
<...>
Клятвы днесь — что ковер, который в грязи расстелен.
Места, где честь живет, вам не покажет эллин.
Разве — ткнет пальцем вверх; знать, небосвод побелен.
(«Пролог и хоры из трагедии “Медея”»)
Бродский прибегает к иносказанию о коврах в «Путешествии
в Стамбул»: «Это — чудовищная идея, не лишенная доли истины.
Но попытаемся с ней справиться. В ее истоке лежит восточный
принцип орнамента, основным элементом которого служит стих
Корана, цитата из Пророка: вышитая, выгравированная, вырезанная в камне или дереве — и с самим процессом вышивания, гравировки, вырезания и т.п. графически — если принять во внимание арабскую письменность — совпадающая» (5, 307). Пиетета
перед геральдической статикой Византии, Востока, где, понятно,
и расположен земной Рай, путешественник не испытал. Скорее —
отвращение.
Аверинцев пишет о медиации платонически окрашенного
символизма, явившегося осью симметрии чудовищного герба:
«Христианство как таковое было для империи лишь знаком (еще
раз: “In hoc signo vinces”).
Империя как таковая тоже была для христианства лишь знаком (еще раз: “изображение и надпись” на евангельском динарии
кесаря — и обреченная прейти “схема” и “фигура” мира сего»28.
В симметрии этого завораживающего вензеля соотнесены с
расположенной в центре ангельской схимой монашеская схима и
«схима» схолариев императорского двора. «“Схоларии”, составлявшие репрезентативное окружение Юстиниана, поражали взгляд
своей великолепной и притом совершенно единообразной одеж¬
Ковры
397
дой: белая туника, золотое ожерелье, золотой щит с монограммой
Иисуса Христа, золотой шлем с красным султаном и т.д.»29. Евнухи — образ «ангелов служения», одетых в белое и не имеющих пола.
В «Путешествие в Стамбул» Бродский включает рассказ из
«Хронографии» Михаила Пселла о сводном брате Василия II, кастрированном во избежание притязаний на престол. «“Естественная предосторожность, — отзывается об этом историк, — ибо, будучи евнухом, он не стал бы пытаться отбирать трон у законного
наследника. Он вполне примирился со своей судьбой, — добавляет
Пселл, — и был искренне привязан к царствующему дому. В конце концов, это ведь была его семья”» (5, 297). Далее Бродский впадает в исступление: «...Мы еще толкуем священные тексты, боремся с ересями, созываем соборы, сочиняем трактаты. Это — одной
рукой. Другой мы кастрируем выблядка...» (Там же)
Мнимости Плотина, всовывающего руку между знаком и обозначаемым, материей и духом, похоже, названы Бродским «нравственной шизофренией», когда он говорит о раздвоении одной
личности на поэта и человека. Негодование и отвращение оттеняют глубину интуиций Бродского, которые связаны с языковой
памятью и заслуживают отдельного внимания. В геральдической
статике византийского символизма Аверинцев подчеркивает его
неоплатоническую основу, Бродский — арабскую. В «Путешествии
в Стамбул» поэт рассуждает об идеограммах орнамента, рассматривая его разные образцы, противопоставляя статике арабского и
византийского орнамента динамику орнамента, возникшего на
Западе. «Единицей... служит счет: зарубка... отмечающая движение
дней. Орнамент этот, иными словами, временной» (5, 307). «Динамика песни... есть форма реорганизации Времени» («Поэт и
проза»). Образ в «Портрете трагедии» динамичен. Динамика образа/символа у Бродского требует отдельного рассмотрения, она связана с глубиной его языковой памяти.
Суммируем сказанное ранее:
— динамика «пульсирующей двуполярности» образов напоминает о самоопределении по отношению к «знамени пререкаемо-
му», относительно которого обнаруживают себя как верность, так
и неверность30;
— частным проявлением динамики является прием параллелизма: образы в начале текста перекликаются с образами его конца (по подобию или противоположности), изменяя при этом свой
смысл. Так, например, звезда, упоминаемая в начале текста, изменяет свое значение во взаимосвязи с образом хлева, фигурирующим в конце. Параллелизм характерен для архаических текстов и
для библейской поэтики;
— динамика символа проявляется в его амбивалентности, соответствующей «амбивалентности» русской души; по-видимому,
398
Р. В. Щипина
такой стилистический ход позволяет исследователям творчества
Бродского говорить о барокко. Действительно, символы барокко
порой оказываются перевертышами, меняют свое значение на
противоположное, зло и добро при такой динамике — обратимы.
Наглядный пример — в начале стихотворения возникает образ
слезы—звезды—звезды на погонах:
Прижаться к щеке трагедии! К черным кудрям Горгоны,
к грубой доске с той стороны иконы,
с катящейся по скуле, как на Восток вагоны,
звездою, облюбовавшей околыши и погоны.
(4, 104)
В этом фрагменте визуализируются не только «первичная
ткань», но и «предательство ткани». От образа слезы как иносказания радости воскресения в поэтике Бродского не остается и следа:
сакрализуется «звезда на погонах» — образ обезличенного, но разросшегося до космических масштабов конвоира, тюремщика, того,
кто расстреливает. Эта амбивалентность показывает, к какому историческому времени принадлежит поэт, как опытен и искушен его
язык, он не оперирует простым противопоставлением парных понятий: зло — добро, жизнь — смерть, низменное — возвышенное.
Энергии его языка весьма отличны от энергий сакрального
церковнославянского языка, который способен умирить энергии
отвратительные — прелюбодеяния, памятозлобия, мшелоимства...
Поэт впустил в сердце стихотворения разгул демонических
энергий.
Трагедия в стихотворении Бродского не абстрактное «начало»
или «нетость» как отсутствие добра — зло ипостасийно, личност-
но, портретно.
Трагедия, портретируемая Бродским, подчеркнем, отнюдь не
античная трагедия; она более чем современна; она принадлежит
реальному историческому времени. Масштаб национальной трагедии запечатлен поэтом не только как мучительная и унизительная внешняя гибель индивидуума, но и как внутреннее крушение
личности. Трагедия видится поэту в гибели не святынь, но всего
святого.
Динамика образа соотнесена с нисходящей аксиологической
иерархией: передан смысл гибели индивидуума, народа, святынь
этого народа, но в стихотворении скрыто божественное противоядие трагедии даже такого масштаба. Это производит невероятное,
ошеломляющее впечатление. В тексте нет насилия автора по отношению к читателю, поскольку нет дидактики. Стихотворение лишено фамильярности по отношению к Богу, вообще не упомяну¬
Ковры
399
тому. «С литературной точки зрения, — замечает Бродский в диалогах с Волковым, — короткие отношения с Господом выглядят
моветоном»31.
Пространство стихотворения построено как в апокрифах: происходит перемещение героя по мытарствам, по кругам ада, по слоям небес (обычный прием, узнаваемый в таких образцах жанра, как
«Хождение Богородицы по мукам» или «Божественная Комедия».
Согласитесь, эти тексты не порождают ощущения все сгущающейся тьмы. Так и «Портрет трагедии». Остаточным воспоминанием
от него, «шлейфом» становится глубокая благая тишина.
Асимметрия текста накапливает интенцию выхода за его пределы. Эта динамика тем ослепительней, чем теснее и беспросвет-
нее зловонный мучительный текст. В нем осквернены все восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание; он смердит. Это гноище.
«Подмышки и нечистоты...» Совершается выталкивание за его
пределы с силою нескольких атмосфер. Изъявление энергии и
силы рождает переживание онтологической свободы человека. Это
выталкивание в свободу не переживается как абстрактное или дикое, скорее напоминает о родах, рождении младенца, причиной
чему — скрытые мирные мотивы Вифлеема, звезды, хлева. Динамический символ в русской словесности — прежде всего литургический символ, возводящий образ к Первообразу. Он присутствует
в языковой памяти автора Рождественских стихов. Коль скоро речь
о динамике и статике орнамента шла в «Путешествии в Стамбул»,
подчеркнем присутствующую там оппозицию: Александрия/Константинополь и соответствующую ей Церковь—Невеста Христова/
Церковь—жена государства. Думается, языковая среда Александрии Египетской, «Константинополя до Константинополя», места
встречи эллинов и иудеев, родины фольклорного просторечия
апофтегм и тайнозрительного опыта, оставила свой отпечаток на
парресии Бродского. Александрия для него наделена особым обаянием — это Египет сновидцев: патриарха Иосифа и его новозаветного тезки. Александрийцами именовали себя поэты Петербурга Серебряного века, чьим преемником был Бродский.
1 Если я правильно помню, причиной разговора послужил Э. Ионеско.
2 Этому уровню скипетра соответствует упомянутая Бродским в
«Меньше единицы» «синяя горизонтальная полоска на уровне глаз, протянувшаяся неуклонно через всю страну, как черта бесконечной дроби:
через залы, больницы, фабрики, тюрьмы, коридоры коммунальных квартир» (5, 12) на оштукатуренной стене.
3 Цит. по: Лотман Ю. М. Учебник по русской литературе для средней
школы. М., 2000. С. 47.
400
Р. В. Щипина
4 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. М., 2000. С. 44—45.
5 В «прежереченныи» тот же косноязычный с усилием произносимый
звук «ы».
6 Древняя русская литература: Хрестоматия / Сост. Н. И. Прокофьев.
2-е изд., доп. М., 1988. С. 193.
7 Там же. С. 191—192.
8 Здесь, кажется, точка несовпадения Цветаевой и Достоевского, которых в остальном, говоря о кальвинистском суде совести, Бродский сближает.
9 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 56. Обратим внимание
на «театр» в контексте «Портрета трагедии».
10 Цит. по: Васильев И. Е. Русский поэтический авангард XX века.
Екатеринбург, 1999. С. 66. В этой же монографии развита тема «Веселого
Апокалипсиса» в поэтике авангарда и дана ссылка на исследование Г. Губановой, показавшей, что архетипом «Победы над солнцем» является
Откровение Иоанна Богослова, и на слова Р. Дуганова: «Сюжет “Победы
над солнцем” развертывает перед нами выворачивание мира наизнанку».
Это открывает известную перспективу в размышлениях об «амбивалентности», рассматриваемой Бродским, и амбивалентности «смеховой культуры» в исследованиях Д. С. Лихачева, А. М. Панченко, Н. В. Понырко, а
также в семиотических исследованиях Ю. М. Лотмана.
11 Лосев А. Ф., Тахо-Годи А. А. Классическая эстетика // История эстетической мысли. Становление и развитие эстетики как науки: В 6 т. М.,
1985. Т. 1: Древний мир. Средние века. С. 182.
12 Цветаева М. Сочинения: В 2 т. М., 1988. Т. 1. С. 264.
13 В образе Горгоны, противопоставленном иконе, напоминания и о
библейском змее, и о мифе: при взгляде на голову Горгоны каждый окаменевал.
14 Существует связь иронии с диалектикой. Ирония — «диалектический инструмент философского рассуждения». Сократовское «притворство», как понимал его Платон, «начинается с внешней позы насмешливого «неведения», но имеет своей целью конечную истину, процесс
открытия которой, однако, принципиально не завершен» (Михайлов А. В.
Ирония // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 220).
Если тему предельно развить, можно нечаянно приблизиться к эстетике
издевательства в глумливых диалогах Достоевского и к издевательствам в
реализованных Утопиях Платона. Ницше сравнивает иронию Сократа с
ударом кинжала, который занес мстительный раб.
15 Для краткости комментария адресуем читателя к «Путешествию в
Стамбул» Бродского.
16 Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. М., 1997.
С. 234-235.
17 Там же. С. 237.
Ковры
401
18 Не менее чудовищной аналогией является биографический оттенок
сказанного. Вспоминая работу в морге, Бродский рассказывает: «Скажем,
несешь на руках труп старухи, перекладываешь его. У нее желтая кожа,
очень дряблая, она прорывается, палец уходит в слой жира. Не говоря уже
о запахе. Потому что масса людей умирает перед тем, как покакают, и все
это остается внутри. И поэтому присутствует не только запах разложения,
но еще и вот этого добра. Так что просто в смысле обоняния, это было
одно из самых крепких испытаний» (Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 25—26).
19 Светлов Р. В. Гнозис и экзегетика. СПб., 1998.
20 Уместно вспомнить о том, что и сошествие в ад Данте — «комедия».
Если позволить себе немотивированную вольность, можно предположить,
что неоднократно упоминаемое в «Диалогах» желание написать «Божественную комедию» реализовано Бродским в этом стихотворении. Масштабность этой темы оттеняет внимание к ней Ахматовой, выучившей
итальянский язык для чтения Данте, и Мандельштама, написавшего «Разговор о Данте».
21 Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 225.
22 Там же. С. 248.
23 Панченко А. М. Литература «переходного века» // История русской
литературы: В 4 т. Л., 1980. Т. 1: Древнерусская литература. Литература
XVIII века. С. 299.
24 Расширение контекста происходит и за счет всех Рождественских
стихов Бродского.
25 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 29.
26 Цветаева М. Сочинения. Т. 1. С. 261.
27 См. образ звезд в стихотворениях Бродского: «Меня упрекали во
всем, окромя погоды...», «В следующий век».
28 Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. С. 125.
29 Там же. С. 119-120.
30 О «знамени пререкаемом» см.: Аверинцев С. Поэтика ранневизантийской литературы. В монументальной живописи Средневековья известны
парные сопоставления такого рода: последнее целование Марии, например, сопоставляется с поцелуем Иуды.
31 Волков С. Диалоги с Иосифом Бродским. С. 100.
Томас Венцлова
Нью-Хейвен, США
О ПОСЛЕДНИХ ТРЕХ МЕСЯЦАХ БРОДСКОГО
В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ*
Более сорока лет я веду дневник, заполняя его почти ежедневно.
Это я делал и в Советском Союзе, что было довольно рискованно. Дневник я старательно прятал (он, к счастью, никому не попался на глаза).
В1977году мне удалось вывезти его из СССР. Многие записи связаны с
Иосифом Бродским, которого я знал слета 1966года. Здесь публикуются отрывки, относящиеся к марту—июню 1972 года: с момента,
когда Бродский еще не знал о предстоящем отъезде на Запад (хотя об
этом и задумывался), до того дня, когда он покинул Ленинград.
Записи сделаны по-литовски, хотя многие беседы — на том языке, на котором они велись. При переводе я стремился к максимальной точности. Публикуется только то, что имеет отношение к
Бродскому и его ближайшему кругу. Купированы моменты, о которых пока рано говорить. Пропуски отмечены многоточиями в квадратных скобках.
Дневник хранится: Tomas Venclova Papers, Beinecke Rare Book and
Manuscript Library, Yale University.
16 марта. В три часа после полудня оказался в Ленинграде.
Пошли вместе с Эрой [Коробовой] на просмотр «Матери Иоанны»
(этот фильм был когда-то запрещен местными властями, так что
здесь никто его не видел, и теперь на просмотре, в доме культуры
имени Кирова, собралась вся городская интеллигенция). Встретил
Иосифа, Кэрол [Аншютц], Шмакова, Цехновицеров. [...]
У дома имени Кирова устроены аттракционы — просто уголок
Америки. Я: «Чего доброго, Союз понемногу возьмет и превратится
в Соединенные Штаты». Иосиф: «Так долго ждать я не согласен».
18 марта. Две выставки — лубок времен Петра I и новгородские иконы. [...]
Вечером то ли омовение [моего] сборника, то ли просто выпивка — Иосиф, Чертков, Ромас [Катилюс], Кэрол. Все весели¬
* Впервые опубликовано на польском языке: Уепс1оуа Т. О 051атю111гегсЬ
гшеБЩсас!! Вгос15к1е§о ъ Ъм'щгки КасЫеск1т // ЬйегасЫе. 2007. Кг. 100.
Б. 101 — 116. Журнальная публикация в России: Венцлова Т. О последних трех
месяцах Бродского в Советском Союзе // Новое лит. обозрение. 2011. № 112.
С. 261-272.
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 403
лись, знакомя Кэрол с русской алкогольной терминологией: она
заполнила полтетради синонимами: «дербалызнуть, набуздырять-
ся, надраться, сообразить...»
Иосиф: «Марамзин мне принес мои собственные стихи, писанные перед арестом, — “Песни счастливой зимы”. Раньше я на
них и смотреть не мог, а теперь вижу, что здорово».
И сегодня он пришел с большой кипой стихов. Два стихотворения [«Набросок» и «Одиссей Телемаку»] переписываю. Первое — как бы из только что виденной выставки. Второе несомненно принадлежит к десятку лучших работ Иосифа: напоминает
Кавафиса, но его превосходит. Даже ирония по адресу греков —
как бы ирония грека, Кавафиса.
[...]
Надо полагать, в «Телемаке» есть нечто автобиографическое.
Но в общем стихи Иосифа интерпретировать трудно. Есть еще стихи «Одному тирану» — я заподозрил, что это В.[ладимир] И.[льич],
Эра — что Гитлер, но И.[осиф] сказал, что тиран абстрактен. «Похороны Бобо» — об Ахматовой (?). [...]
19 марта. Мы обедали с Иосифом в ресторане «Ленинград».
В окно там видна огромная Нева и крейсер [«Аврора»]. И. был
сравнительно весел, декламировал лимерики и рисовал, спрашивал о Чеславе Милоше («до сих пор я думал, что лучший польский
поэт — Херберт»).
«А “Ноябрьскую симфонию” [Оскара Милоша] я до сих пор не
перевел, хотя очень хочется; но мне это трудно, потому что там
совсем нет мысли — одна пластика».
Говорил, что ему надо бы сочинить трактат «Philosophy of
endurance» [Философия сопротивления. — Ред.] (о том, как вести
себя в тоталитарном мире).
По поводу «Бобо» я ошибся («Бобо — это абсолютное ничто»).
Немало говорили о мифе Теле гона [Телегон — сын Одиссея от
Цирцеи] и, наверно, зря, потому что для Иосифа это очень личный миф.
А все кончилось тем, что И. поведал «top secret» [нечто совершенно секретное]:
[...] [Речь шла о мысли вступить в брак с западной женщиной].
Последствия достаточно однозначны — отъезд «more or less forever»
[более или менее навсегда].
Не знаю, удастся ли это ему, и захочет ли он этого в конце
концов. [...]
NB. Еще кое-что из разговора. «Один тиран» может случиться
«где угодно на восток от Гринвича». «Письма римскому другу» —
во многих местах просто переводы Марциала.
404
Томас Венцлова
«В моих стихах нет иронии. Есть только rage [гнев, бешенство].
Иронию я ненавижу — это способ заглушать чувство вины».
26марта. [...]
Вчера по приглашению были у Миши Мильчика: в его квартиру на Выборгской стороне собралось двенадцать человек, включая Иосифа. Слушали стихи — «Памяти Т. Б.» и несколько новых,
которые я уже знаю. Наиболее серьезным мне на этот раз показался «Натюрморт». Сказал это Иосифу. «Да, пожалуй, это лучшие
стихи, какие я написал».
Говорили много: записываю то, что интересно.
Н.: «Что бы ты включил в свое избранное?» И.: «В основном
длинные стихи. До 1963 года почти все — лажа. Включил бы “Ты
поскачешь...” как пример ранних, “Большую элегию”, “Авр.[аама]
и И.[саака]”, “Стансы к Августе”, “Прощайте, мадмуазель Вероника”, “Пенье без музыки”, “Натюрморт”». Н.: «А “Памяти Элиота”?» И.: «Ну да». Я: «А “Одиссей Телемаку”?» И.: «Да, и еще
“Энея и Дидону”. И “Рождественский романс”».
И.: «Стих, в общем, то же, что и проза; есть, правда, различия,
но стих пишется, а не произносится. И все же ямб или другой размер задает круг интонаций. А мои стихи надо бы читать с абсолютно белой интонацией, без окраски. Я этого не умею, к сожалению».
О своих стихах «Памяти Т. Б.»: «В них абсолютно отсутствует
чувство. То есть дана ситуация, где адекватная реакция невозможна. Адекватную реакцию заменяет знак. Ну, как в живописи: в
ногах фигуры ставится череп. Потом уже не череп, а вензель: художник еще понимает, что это череп, а зритель перестает понимать».
(Стихи эти посвящены Тане Боровковой — она утонула рядом
со своей лодкой, но не погрузилась на дно, и осталось неясно, то
ли это самоубийство, то ли сердечный удар, то ли что иное. Впрочем, факты можно понять и по стихотворению).
Кто-то: «Собственно говоря, ты первый выпрыгнул из русской
поэтической традиции, между которой и западной — пропасть».
И.: «Это не совсем так. Русская поэтика действительно тормозит
развитие мысли, и в России есть установка на маленький шедевр.
Но началась русская поэзия с Кантемира. А у него была, грубо говоря, диалектика, изложение разных точек зрения, затем — своей. Подобные каркасы умели строить еще Баратынский и Цветаева. У нас,
у русских поэтов, популяция огромная, и кое-чего мы достигли.
А на Западе есть свои эмоционалисты, их больше, чем нужно».
Опять И.: «Вообще-то поэт не должен быть объектом наблюдения — он должен давить аудиторию, как танк. Но от людей примерно одного со мной возраста, у которых тот же experience [опыт],
которые жили подобно мне и думали на те же темы, я жду не про¬
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 405
сто восторженного молчания. Скажем, я говорю: у лошади морда
как флаг. На это мне могут сказать: дурак ты, ведь погода безветренная. Или: ничего себе, в этом что-то есть. Но не молчать».
Когда зашла речь об Элиоте, И. неожиданно сравнил его с [литовским поэтом] Людасом Гирой: «Оба они хотели власти вне поэзии — Гира пошел служить в полицию, Элиот стал писать статьи
и создал крайне сомнительную теорию элиты».
Потом мы ехали домой на трамвае. И. стал хвалить мои стихи — «Холод сумерек встретил меня», которые ему без моего ведома дословно перевел Ромас. Я: «Геометрические образы вроде циркуля, меняющего радиус, украдены у тебя». И.: «А мной — у
Донна».
Трамвай до Литейного тащился долго. Мы успели поговорить
даже о Бетаки [...]. Запомнились еще две фразы: «Общество кое-
что должно поэту, но никто не должен персонально»; другая фраза касается недавних стихов: «В строках о Посейдоне, — “пока мы
там / теряли время, растянул пространство”, — имеется в виду
мифическое время». — «По Элиаде?» — «Да».
27марта. [...]
Читал «Мастерство Гоголя» и снова удивлялся, как близок
Бродскому «тип гениальности» Белого: слова несут — и все время
идут попытки уточнять, расширять каждый намек. И прозрения
иной раз не хуже, чем у Иосифа.
Переписал «Натюрморт» и испугался, ибо это стихи самоубийцы.
[...]
У Черткова. Был еще Бобышев. [...]
Бобышев: «Мы были у Самойлова вчетвером — Иосиф, Рейн,
Толя [Найман] и я. Как раз в этой точке времени мы сошлись ближе всего — потом стали расходиться из нее в разных направлениях, как всегда бывает (показал руками, как это бывает). Самойлов
прочел стихи об Алике Рывине — “никто не помнит о поэте, как
будто не было его”. Мы единодушно стали его лажать: если что
было, значит, оно и есть. Самойлов нас не понял — наверно, потому, что получалось: его-то, Самойлова, нет».
Чертков: «Я чувствую, что живу контрабандой: по всем правилам давно должен был сгнить, а вот живу».
28марта. [...]
И.: «Я впервые попал в валютный бар: после этого спал не
более часа, и разбудили меня какие-то два типа, прибывшие с добрыми пожеланиями от Одена. И даже от Бретона. Несомненные
гомосексуалисты».
406
Томас Венцлова
29 марта. У Иосифа; была и Кэрол. И. показывал только что
написанные стихи — «Сретенье». Четыре дня тому назад он еще
собирался их делать. Стихи несколько попахивают поздним Пастернаком, хотя, видимо, лучше его. По словам И., «это о встрече
Ветхого Завета с Новым».
Долгий и довольно серьезный разговор. Я говорил о том, как
понимаю «Натюрморт»: мы живем уже после мировой катастрофы,
может быть, даже после Страшного Суда, по ту сторону, оказавшись в пустоте, которую должны заполнять хотя бы словами, если
ничего лучшего нам не дано. Есть выбор только между разными
видами смерти: «смерть в качестве red [красного]», «смерть в качестве dead [мертвого]» и так далее. Может, это своеобразное чистилище. И. сказал, что на сто процентов согласен: «И особенно
это касается “Бобо”».
Я: «Тебе не кажется, что ты в стихах можешь одновременно
говорить противоречащие друг другу вещи?» И.: «Нет. В одном и
том же стихотворении, в один и тот же период — нет».
Просматривали недавние переводы И. из Уилбера: ирония в
оригинале, чего доброго, торжественнее, у И. — более буднично
(он согласился и с этим). Поспорили об Архилохе (Афродита или
Необула?) и о гомеровских эпитетах. Получил от него в подарок
Сильвию Плат.
Кое-что, услышанное в этот вечер от И.:
«Черткова я полюбил тогда, когда он сказал мне в пьяном виде:
“Старик, я решительно не понимаю, о чем ты пишешь”».
«Если бы я составлял антологию русской прозы, туда бы вошла “Капитанская дочка”, “Записки сумасшедшего”, “Записки из
подполья”, “Севастопольские рассказы”, что-либо из Платонова
и “Приглашение на казнь”. Зощенко и Булгаков не нужны. “Петербург” Белого — замечательная вещь, но я не люблю писателей
одной книги. Книги в литературе, может, и не столь существенны,
но существенна работа».
«Мелвилл дал набор персонажей для американской литературы на сто лет вперед. Например, Старбек— это Гэвин Стивенс
[герой Фолкнера] и многие другие».
30 марта. Ecriture [способ писания] Иосифа — наверно, прозаичность; превращение перифразы, инверсии и переноса в норму. Это выбрано исходя из темы, времени, традиции, и это лучший
выбор. Все другое — стиль, который сам выбирает человека и с
которым спорить нельзя.
Боюсь за И. и за его довольно катастрофический образ жизни.
Сегодня возвращаюсь в Вильнюс. [...]
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 407
31 марта. В Вильнюсе. [...]
С Натальей [Трауберг] читали «Натюрморт»: оба в один голос
сказали, что это та же «Бесплодная земля» [Элиота], только короче и лучше. Конец понимаем по-разному: она — «оптимистичнее»
(«типичные иезуитские медитации»), я — как выражение «героического агностицизма» (И. скорее на моей стороне).
4 апреля. [...]
Иосиф общается с астрономом Козыревым и очень им очарован.
Усиливающееся одиночество, комплексы И. Желание поощрений («вот это место — ведь замечательно?»), словно бы он не
верил, что умеет писать. ЫВ. Его идея изготовить серию стихов-
икон, таких как «Сретенье», охватывающую весь цикл Христа.
29 апреля. [...]. [28-го автор этих строк приехал в Москву.]
И еще — Эра встретила Рейна. Тот вчера видел Евтушенко,
только что вернувшегося из Америки (таможенники раздели его
догола и шмонали как Ворошильского). Евт. заявил: «Дела Бродского в порядке — он сможет уехать».
Надо порадоваться за Иосифа — здесь он близок к смерти. Но
какая пустота возникнет с его отъездом!
В общем, в этой стране скоро не останется никакой «соли земли». И тогда каторга станет всего безнадежнее.
1 мая. Звонил Бродскому [из Москвы] в Ленинград. Услышав
мои намеки, он расхохотался: «У меня нет никаких дел, и поэтому они не могут быть в порядке. Сижу и честно зарабатываю свою
пайку, переводя рабби Тагора — дерьмо отменное». Рейн, конечно, мог и приврать. Евтушенко — тоже. А может, тут и что иное.
7мая. [...]
Зашел Рейн с женой — он опять заявлял, что Иосиф уезжает.
[...]
15 мая. [...]
Созвонился с Иосифом — он, как из «конспиративного» разговора кажется, действительно едет.
17мая. [...]
У Люды Сергеевой. Недавно — три недели назад — ее посетил
Бродский [...]. [Обсуждались возможности отъезда и препятствующие этому причины.] Плюс — ностальгия, может, и невозможность приспособиться: вряд ли он повторит «казус» Набокова (Набоков выучил английский, так или иначе, в раннем детстве).
408
Томас Венцлова
Другие обычаи: у нас все решает дружба, такая, что возникает в
концлагере — делятся последней папироской. На Западе этого несомненно нет. И все-таки, если бы он (или кто-то другой) попросил бы у меня совета, мне бы осталось только процитировать известный рассказ Джерома. То есть выбирай любимую красотку, а
не гнусную старуху, и никаких советов не слушай.
19 мая. Встретили Профферов — Карла и Эллендеа. Наконец-
то все выяснилось.
Первого мая, когда я звонил Иосифу, он еще ничего не знал.
А девятого [на самом деле, видимо, двенадцатого] мая его вызвали в ОВИР и спросили: «Вас же приглашают в Израиль — почему
не подаете заявление?» Опасаясь провокации, И. около часа ничего ясного не говорил, потом отрезал: «Я думал, это не имеет
смысла». — «Почему не имеет? Заполните форму, и мы дадим время на сборы до конца месяца».
Разумеется, И. поедет не в Израиль: вначале из Вены в Англию, оттуда в Анн Арбор, где Профферы издают журнал, посвященный русской литературе (по этому случаю я видел два [его]
номера). Станет «университетским поэтом».
Эллендеа: «Ностальгия — это ведь такая прекрасная тема».
[...] В целом все выглядит оптимально: Иосиф получит американское гражданство, сможет пригласить родителей, может быть,
даже приехать. Э.[ллендеа]: «Так или иначе, вы когда-нибудь
встретитесь в Польше».
В Ленинграде, по слову Профферов, — цирк и похороны.
Многие, прежде всего родители, Иосифа отговаривают, хотя власти ясно дали ему понять, что его ожидают беды, если он останется. [...]
Из государства выходит воздух, как из шины с отвернутым
вентилем.
Позвонил Иосифу. [Иосиф:] «Настроение у меня совершенно
никакое — пусто, да и только». С собой он возьмет лишь пишущую
машинку.
Еду в Ленинград.
20мая. День с Иосифом.
Несколько часов ходили по набережной Невы, между Литейным и Смольным, вдоль заборов и по пустырям, глядя то на «Большой дом», то на Кресты, которые Иосиф называет «тюрьма в
мавританском стиле». Сидели под мостом, курили. Говорили о
предметах, о которых я умолчу даже в этом дневнике: слишком
многих людей они касаются [...]. [Речь шла о том, что ряд друзей
Иосифа мог бы переселиться в США и создать там «колонию».]
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 409
Все это уже похоже на прощание. Осталось несколько дней —
видимо, И. будет выслан перед визитом Никсона в Ленинград.
От Александра] Ив.[ановича] [отца Иосифа] слышал, что [...]
И. написал заявление в Верховный Совет [по поводу нарушений
его прав] и вскоре после этого получил приглашение зайти в
ОВИР.
Теперь он пишет письмо К.[осыгину] — просит, чтобы ему разрешили исполнить договоры, кончить переводы Норвидаи английских метафизиков. «Хотя я уже не советский гражданин, я остаюсь
русским литератором». Бессмысленно ожидать, что из этого письма
что-либо получится, но принципиальное значение оно имеет.
«В ОВИРе — политес, в Союзе писателей характеристику мне
выдали в пять минут — бежали, прыгая через ступеньки. А я все-
таки думал, что представляю для них хоть потенциальную ценность». — «Ну, знаешь ли, представлять для них ценность — невелика честь». — «Ты прав».
«Кстати, я сочинил песенку на мотив Пиаф:
Подам, подам, подам,
Подам документы в ОВИР,
К мадам, к мадам, к мадам
Отправлюсь я к Голде Меир.
Я не Конрад и не Набоков, меня ждет судьба лектора, возможно, издателя. Не исключено, что напишу “Божественную комедию” — но на еврейский манер, справа налево, то есть кончая
адом».
«Во всяком случае, пребывание там для меня — просто новая
духовная задача». — «Написал ли ты что-либо после “Сретенья”?» — «Нет, следующая вещь будет уже “Симфония из Нового света”, как у Дворжака». (Смех.)
Зашли в треугольный двор невдалеке от Литейного, и Иосиф
показал мне окно в самом узком месте, обращенное к глухой стене: «Здесь я писал “Авраама и Исаака”, хорошее это было время.
У двора замечательный периметр, да и вообще периметр во дворах — главное».
Встретили Уфлянда (И. очень его любит, особенно строки
«Мы светила заменим темнилами, сердцу нашему более милыми»).
Как ни странно, он еще ничего не знал. Прошли мимо афиши
«Пушкинские празднества», вывешенной на дверях Союза писателей. И.: «Ну, это уж извольте без меня».
Потом долго сидели в темной комнате Иосифа. Как всегда,
пошел разговор о его любимых авторах — Сильвии Плат, Плуци-
ке («Horatio»), Дилане Томасе («“рассказ о рождестве в Уэльсе”
[«Детство, Рождество, Уэльс». — Ред.] — это стихи, и я пробовал
410
Томас Венцлова
переводить его стихами»). Сен-Жон Перса И. считает «zero» [нулем] — правда, читал его только по-русски и по-польски. «Analecta» Паунда — «полное дилетантство».
И.: «Читал ли ты книжку Горбаневской?» — «Да, читал — на
пятнадцать стихотворений одно очень хорошее». — «По-моему,
больше».
«Сергеев — не поэт, но видно по его последним вещам, что он
живет, а не обретается в nothingness [ничто]. [...] N — плохой человек, и при этом он неталантлив. Талантливый человек не может
быть плохим». Я: «А Блок?» — «Знаешь, я всегда подозревал, что
он был бездарен».
Около четвертого часа зашло несколько ребят — Иосиф раздает свою библиотеку (мне достался словарь сленга, двухтомник
Клюева — это новое поэтическое открытие и радость И. — и еще
кое-что). Взял книги с условием, что буду хранить их до возвращения И. Комнату его Ал. Ив. хочет превратить в «мемориальную».
Но И., как всегда, по-королевски дарит драгоценности другим.
Потом с Чертковым и Эрой мы были в ресторанчике «Волхов»,
где И. пил за «family reunion» [семейную встречу].
«Через две недели после визита Н.[иксона] выяснится, что
будет с отъездами вообще».
Я: «Не хотелось бы сдохнуть, не повидав мир». И.: «Да, у всех
у нас ощущение, что нас объ.ли».
Все же сегодня — очень улучшившееся, даже приподнятое настроение.
Вечером — у Ромаса, который рассказывал, как Иосиф пишет.
«То, что он сразу стучит на машинке — это, вероятно, легенда.
Если начинаешь критиковать какую-либо его строчку, он долго ее
защищает, а несколько дней спустя приносит новый вариант стихотворения. Иногда строчка даже остается, но в ее окрестностях
обязательно появляются, по крайней мере, три строфы».
[...]
21 мая. Поездка с Ромасом и И. в Ушково, к Ефиму Эткинду.
[...]
Проводили время на даче, обедали, потом гуляли и фотографировались на холме, с которого видна чуть ли не Финляндия.
И.: «Вот еще один неплохо убитый день». Ощущение, что каждый
день — последний.
Шел разговор о Лотмане. И. возмущен его последней книгой:
«Он дошел до того, что “рифм сигнальные звоночки” у Ахматовой
объясняет как звонок пишущей машинки в конце строфы. И вообще все это похоже на магистра Ортуина Грация [герой «Писем
тёмных людей»]. Подход не с того конца». Я: «По-моему, подходить надо с пятидесяти разных концов — тогда, может, что и по¬
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 411
лучится». И.: «Ну, пожалуй, с этим я согласен». Я: «А можно ли,
по-твоему, вообще вскрыть механизм стиха?» И.: «Несомненно, но
только тогда, если исследователь стоит на одном уровне с автором.
Я знаю только два таких случая — Тынянова и ахматовские статьи
о Пушкине. Эйхенбаум вообще ничего не понимал».
Оказалось, что обыск у Лотманов — результат доноса [...]. Эт-
кинд: «Хорошо бы написать книгу “Психология доноса”». Я: «Психология и поэтика доноса». И.: «Психология, поэтика и практика
доноса».
Потом перешли к Ходасевичу: Иосиф необычайно любит его
«Обезьяну», особенно сравнение с Дарием.
«Спонда я, увы, уже не переведу — и не знаю, кто бы мог это
сделать вместо меня. Но английских метафизиков обязательно
кончу там».
Хватало и острот. И.: «Вот дом, который построил зэк». Кто-
то рассказал историю о некоем В. Г., который просил своего знакомого американского стажера: «Джон, запишись, пожалуйста, на
встречу с Никсоном». — «А на кой это мне?» — «Запишись, я пойду
вместо тебя». — «Зачем?» — «Подойду и скажу: дяденька Никсон,
усыновите меня к такой-то матери и увезите отсюда».
Я: «Кстати, Иосиф, на тебя клюнут разные левые во главе
с Кон-Бендитом [...]». И.: «Что ж, открою дверь, скажу: “А-а,
Кон!” — и двину его в пах. [...]» Ромас: «И автоматически станешь
главой маоистов».
Конечно, многие (и сам Иосиф) подозревают, что его отъезд
может не состояться: возьмут и скажут ему на аэродроме: «It’s а
practical joke» [это розыгрыш]. И все же любимая фраза И. сейчас — «Передайте: будет в Штатах — пусть заходит».
Отлично, что он вполне спокоен и готов ко всем возможным
вариантам.
Вернулись на поезде с ассириологом Дьяконовым, тоже милым
человеком.
Что еще записать? Был разговор о [польском поэте] Гроховя-
ке (И. хвалил его [стихотворение] «Банко», которое услышал от
меня) и об Ионеско (И.: «Это едва ли не единственный умный
человек на Западе, особенно в отношении к новым левым»).
С Финляндского вокзала шли ночью, уже без Ромаса, но с Машей
[Эткинд]. И.: «А в общем, зачем мне отъезд? У меня была работа,
появились деньги, к тому же — вот, белая ночь...» Маша: «...или
утопленница».
Шли как раз мимо «Большого дома» (и, кстати, к нам пристроилась — за несколько или десяток с лишним шагов — пьяная либо
изображающая таковую парочка). И.: «Вот чем кончился мой поединок с этим домом».
412
Томас Венцлова
И еще его слова: «Самое оскорбительное занятие — искать в
человеческой жизни какой-либо смысл».
22мая. [...]
Недолго был у Иосифа. Ему удалось добиться продления [срока отъезда] до десятого июня. Видел новые его переводы из Марвелла: самому И. больше всего нравится «Фавн» [«Нимфа, оплакивающая смерть своего фавна»], мне — «Coy Mistress» [«Застенчивой
возлюбленной»]. И.: «Но это же легкий жанр». Я: «Примерно такой
же легкий, как “Блоха” — сиречь, не легкий». И.: «В общем, да».
Вечером — Чертковы и Рейн. Об Иосифе, словно сговорившись, не беседовали. Зато Чертков был в очень «хорошей форме»
и рассказывал множество лагерных историй, с большим почтением упоминая литовцев.
23 мая. Вдали от центра разыскал А.[гнессу Чернову] с Андрю-
сом [сыном автора этих строк] [...]. Повез его в город; так как в
четыре мы договаривались ехать с Иосифом в Петергоф, оставалось их познакомить. Может, это ошибка — я зря напомнил Иосифу о его собственных проблемах. А он и так был в скверном настроении — по случаю выписки и подобных дел. («Когда имеешь
дело с ГБ, все же чувствуешь нечто европейское; но жакт [жилищ-
но-арендное кооперативное товарищество. — Ред.] и милиционеры — это уже свыше человеческих сил. Страшный Суд им, по-видимому, не нужен»). Все-таки играл с Андрюсом, носил его на шее
и превосходно объяснял, что такое фотография и адаптер. «Приятно слышать русский язык из уст такого вот человечка».
В Петергоф мы не поехали. Оставив Иосифа в покое, с Эрой
повели Андрюса к памятнику Крылова и покатали на пароходе. [...]
24 мая. Сегодня день рождения Иосифа — последний в этой
стране.
Утром, по просьбе Ал. Ив., мы с Эрой и Лорой Степановой
переставили его библиотеку. Не будет больше комнаты, где столько
всего происходило. Дело в том, что иначе у родителей ее могут
просто отобрать. Все делалось согласно желанию самого Иосифа —
но когда он пришел и увидел голые стены, кучи книг, хаос, потерял самообладание.
Уже второй день ощущение непоправимой, идиотской ошибки.
Пыли — словно в «Натюрморте».
Иосиф немедленно ушел. Час спустя позвонил мне и пригласил вместе пообедать. «Я получил свой последний гонорар — сто
семьдесят рублей от кино за перевод текста — и поэтому угощаю».
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 413
Ели — и немало выпили — в ресторане «Универсаль», вдвоем.
Разговоры были чисто личными, и записывать их бессмысленно.
[■..]
«Ну, вот я и начал свой день рождения».
Потом Иосиф зашел к нам с Эрой. Несколько часов спал —
вчера ночью у него были какие-то приключения, а дома отдохнуть
он не мог из-за дурацкого ремонта. Спал до тех пор, пока около
десяти стали звонить гости, уже пару часов тому назад собравшиеся у него.
В автобусе. Эра: «Что будем делать завтра?» И.: «Ну, теперь
программа-минимум — дожить до следующего дня». Слегка помолчав: «Страшно подумать, сколько стукачей бродит вокруг дома,
не говоря уже о тех, что внутри».
Внутри было около тридцати человек, среди них Еремин,
Охапкин, Битов (я видел его впервые [...]), ну, разумеется, еще
Ромас, Чертков, Рейн, Маша Эткинд. Я избрал компанию дальше
от Иосифа. Он, кстати, сразу присел к телевизору и стал смотреть
какой-то матч. А после шума и тостов, около двух ночи, несколько из нас вышли погулять по Ленинграду — Маша, Ромас, Эра,
Иосиф и я.
Только сегодня я услышал о каунасских событиях (Ромас —
пару дней тому назад) [14 мая в Каунасе совершил самосожжение
школьник Каланта, которого после смерти объявили психически
больным. Его похороны превратились в демонстрацию и столкновение с властями]. Хотя известия неясны, кажется, это уже очень
серьезно. Да и вообще нет ничего серьезнее смерти.
Ромас: «Мы превратились во второй народ этой страны. После евреев». И.: «Вскрытие, конечно, показало, что он сумасшедший».
Правда, это уже поколение, с которым у нас нет контакта.
Об отъезде Иосифа. Я.[ша] В.[иньковецкий]: «Они нашли-
таки у нас самое больное место». Тут же возник и грустноватый
полуанекдот: Пушкина вызывают в III Отделение и говорят, что
ему прислан вызов из Эфиопии.
Немного говорили о Клюеве. И.: «Он здорово похож на позднего Мандельштама».
И.: «У Рейна — не остроты, а монстроты. А вот еще хорошее
слово: монстранство». «К открытию Суэцкого канала была написана “Аида”, а к закрытию надо бы написать “Аид”».
25 мая. Эра просмотрела весь свой архив, касающийся Иосифа, и сделала конкордансы. [...]
Вечером говорил с И. по телефону — он был на концерте Волконского. «Концерт вполне цивильный, но я ушел после первого
отделения, ибо во втором — Бетховен».
414
Томас Венцлова
«Том, я в свое время послушался тебя и полечился. Теперь твоя
очередь».
С моим здоровьем действительно что-то странное — может,
сердце сдает.
Кстати, И. немало говорил о двух людях, которых любит —
Мике Голышеве и Семененке («поэт он посредственный, а человек милейший»).
[...]
26 мая. Иосиф пришел уже без паспорта — с выездной визой.
«Когда мне ее выдали, я сказал “спасибо”. Они говорят — “не за
что”. “Действительно не за что”, — ответил я».
Пообедали у нас — втроем с Эрой.
Прояснилось стихотворение «Открытка из города К.» (Кенигсберга). Иосиф когда-то задал мне задачу — понять, что в этих стихах означают «пророчества реки». «Рябь на воде разрушает отражение здания, которое вскоре будет разрушено». Я: «А я думал, что
вода напоминает о законе Архимеда — в стихах он переформулируется». И.: «Несомненно, можно и так».
И.: « “Погорелыцина” Клюева — превосходная поэма, хотя и
непонятно почему». «В последнее время мне стал нравиться Шелли. Это — как Лермонтов». Я: «А Лермонтов так уж хорош?»
И.: «Перечти “Валерик” — и убедишься. Это — огонь. Будь моя
воля, я издал бы Лермонтова объемом с “малую серию” — туда
входили бы стихотворений сто, “Мцыри” и “Демон”; и было бы
изумительно. В последнее время вообще я сдвигаюсь в сторону
романтизма. Кстати, Некрасов тоже прекрасный поэт».
В списках Эры И. нашел «Увы, не монумент» и еще одно стихотворение; он о них запамятовал (кажется, нигде больше они не
сохранились) и очень обрадовался, когда увидел.
27мая. Вильнюс. [...]
2 июня. Прилетел в Ленинград.
Видел Иосифа, у которого были Кушнер и Марамзин. Опять
обедали в «Волхове». Иосиф в очень плохом состоянии — на грани нервного срыва.
Он только что вернулся из Москвы, где бегал по посольствам
и учреждениям. В посольстве Нидерландов менял сто рублей на сто
восемь долларов. «Лестница напоминает черный ход любого московского дома; потом холл, как в коммунальной квартире, и окошечко. Кто-то, кому разменяли меньше, чем ему хотелось, разбил
стекло, поэтому окошечко закрыто фанерой. За ним сидит российская дама и фанеру время от времени приподымает. Тут же — раз¬
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 415
говоры моих соотечественников. Хочется выйти на улицу и сблевать у столба от всего этого».
[...].
Говорили о Каунасе.
Несколько острот И., которые записываю: «Habeas coitus act»
[в названии закона «Habeas corpus act» слово «corpus» (тело) заменено на «coitus» (совокупление)]. «Domus mea domus tolerantiae est»
[«Дом мой дом терпимости наречется»].
Не пугайся с немцем встречи —
Вот урок немецкой речи.
Восклицая «гутен таг»,
Коммунист поджег рейхстаг.
Птичка выпала из брюк —
Мальчик, спрячь ее цурюк.
«Господа» звучит «геноссен»,
А компартия — «гешлоссен».
Повара не прячут тайн:
Немец — перец, русский — швайн.
Всего десять таких двустиший: не все из них И. припомнил,
неясен и порядок, но вот последнее:
Череп катится по плахе,
Восклицая «дойче шпрахе».
Общими силами собрали (прежде всего М.[арамзин]) почти все
сочинения И.: вышло около пятидесяти тысяч строк. Были и курьезы — И. признал своим стихотворение «Этот прекрасный мир,
этот роскошный пир», которое на самом деле принадлежит Найману. Когда столько написано, нетрудно и ошибиться, тем более
что стилистика там достаточно бродскианская.
И.: «Донжуанский список я тоже составил: примерно восемьдесят дам».
Разговор с матерью И. Марией Моисеевной. Ее истории:
И. научился читать четырехлетним, и когда его начали проверять,
принес книгу «Так говорил Заратустра» и почитал из нее. Вечно ее
мучил, спрашивая о звездах и об их именах. А однажды в пятилетием возрасте, плывя с ней на лодке через Волгу, спросил: «Мы ведь
уже далеко уплыли: когда же мы потонем?»
416
Томас Венцлова
3 июня. Самый последний день с Иосифом.
Фотограф Лева Поляков повел нас к церкви на улице Пестеля. Во время войны И. с матерью, бывало, лежали в подвале этой
церкви, когда Ленинград обстреливался. Она видна с балкона
Бродских, и когда я ходил к Иосифу, всегда проверял время по
циферблату на ее башне.
Лева тоже уезжает и, по словам Иосифа, «ведет себя так, как
будто уже оттуда приехал». У него пара любимых присказок: «Как
здесь, так и там убить меня может только одно — смерть». «Советский человек с бомбой — плохой советский человек; советский
человек без бомбы — хороший советский человек».
Сегодня он надеялся отвезти И. в Комарово, но тот уже был
там три дня назад. Все кончилось снимками у церкви.
Потом мы остались одни. Дворами, дабы избежать возможных
«хвостов», пошли к Неве. Спеша, вскочили в отплывающий пароходик у Летнего сада и около Медного всадника опять оказались
на суше.
[...]
«Там я не буду мифом. Буду просто писать стихи, и это к лучшему. Впрочем, хочу получить должность — пускай бесплатную —
поэтического консультанта при библиотеке конгресса, чтобы досадить здешней шайке».
«Надежда Яковлевна [Мандельштам] мне сказала: “Что ж,
Цветаева все лучшее написала в эмиграции”. Люблю Надежду —
не за ее заслуги или ум, а за то, что она человек нашего с тобой
поколения».
В ответ на некоторые мои жалобы: «Человек время от времени должен чувствовать к себе ненависть и презрение — так и приобретается человечность. Впрочем, так она и теряется. Но всегда
надо помнить, что уровень, на котором мы [...] уже находимся,
абсолютно недоступен для огромного большинства». Я: «Это как
слова Феокрита у Кавафиса». И.: «Конечно».
«Оказалось, что я написал пятьдесят тысяч строк. Хороших —
думаю, от двух до четырех тысяч. В прошлом году не смог выдавить из себя больше трех или четырех стихотворений».
[...]
Мы плыли мимо лучшей ленинградской набережной. «Вот
этого я нигде не увижу. В Европе города рациональны; а этот построен на реке, через которую, в общем, невозможно мост перекинуть». Я: «И все-таки есть похожая набережная». И.: «Во Флоренции. Я угадал?» Он действительно угадал, что я имел в виду.
Ни с того ни с сего разговорились об Антониони. И.: «“Забрис-
ки Пойнт” — страшная дешевка: сдув сцену у Боттичелли, он ду¬
О последних трех месяцах Бродского в Советском Союзе 417
мает, что он уже Боттичелли. А тут еще эти взрывы». Но «Блоу-ап»
ему по душе.
«Ты умеешь водить автомобиль? Это к тому, что у нас похожая
психическая структура — рассеянность и так далее». Я: «Ты рассеян
за письменным столом?» И.: «Ну нет». Я: «Так вот, автомобиль —
примерно то же самое. Тебя не шокирует аналогия?» И.: «Разумеется, не шокирует».
Наконец дошли до почтового отделения на Невском; И. заказал разговор с Веной [...]. И оба ощутили, что уже пора.
Дал ему бутылку «Мельника» [крепкого литовского напитка],
чтобы распили ее с Оденом. [...]
А потом показали друг другу знак [победы] «V», — два пальца, — и это было все.
4 июня. Договорились, что провожать не буду — «чтобы избежать лишних душераздирающих ситуаций». На аэродром поехала
только Эра.
Теперь, когда пишу эти слова, он летит.
Вечером. Эра вернулась около полудня. Пошли с ней к родителям Иосифа.
Провожало всего семнадцать человек. Чертковы, Охапкин,
Яша Гордин, Ромас, Поляков, Марамзин... Родителей и Марины
не было.
Таможня не пропустила рукописи Иосифа — дескать, «физически не успеем их просмотреть». Ромас привез их в дом на Литейном. Там на короткое время собрались все провожатые.
И. шутил и держался хорошо, но после таможни вышел на пять
минут попрощаться совершенно белым. Показал «V» — только Эра
его поняла и ответила.
В пять часов пошли вдвоем на польский фильм «Эпидемия».
С его окончанием И. должен спуститься в Вене; летит он через
Будапешт и там в аэродроме ждет четыре часа. Вернувшись, позвонили его родителям: да, он уже дал знак, что на месте.
Кстати, может, все это и не «отрублено топором». Кто знает,
где будет эта страна и мы сами спустя несколько лет. Есть «закон
природы», который сдвигает края и континенты, и, возможно,
советская власть против него не устоит.
Владимир Марамзин
Париж, Франция
К ИСТОРИИ 5-ТОМНОГО СОБРАНИЯ
СОЧИНЕНИЙ БРОДСКОГО,
В ЛЕНИНГРАДСКОМ «САМИЗДАТЕ»
В 1972-1974 годах*
Сбор рукописей
[...] Когда Иосиф рассказал мне о вызове в ОВИР и «приглашении» немедленно уехать, на которое он ответил согласием, понимая, что этот период жизни ему закрыли, я попросил оставить
нам все написанные стихи. Иосиф дал мне несколько листков и
развел руками. Он не хранил своих стихов, не собирал их ни в
сборники, ни в папки. «Всё тут», — показал он на голову (хотя
оказалось, что в памяти далеко не все).
Помню, меня охватила настоящая паника. Я попросил его
перепечатать, что помнит, но времени оставалось мало. Я предложил свою помощь, Иосиф заинтересовался, ему, похоже, стало
действительно любопытно собрать всё написанное. По его совету
я обошел общих друзей, и у каждого нашлись подаренные автором,
перепечатанные или переписанные от руки листы. Иосиф отличался подлинно русской широтой, щедростью и несобирательством.
Он оставлял свои стихи, следы присутствия, молекулы своей жизни у друзей, приятелей и полузнакомых без счета и памяти. Конечно же, он верил, по Булгакову, что «рукописи не горят».
В то время я сознательно не записывал ни имен, ни адресов,
чтобы, в случае чего, действительно ничего не помнить и никого
не подвести. Поэтому теперь, через столько лет, я мало кого могу
назвать. Разумеется, помогали мне Я. Виньковецкий, Я. Гордин,
И. Ефимов, Л. Лосев, М. Мильчик — у каждого было немало
Бродского. Огромное собрание оказалось у М. Мейлаха, который, увлекшись идеей, начал розыск среди своих друзей, мне не
знакомых. Иосиф сам направил меня по нескольким адресам.
Однажды он повел меня к Московскому вокзалу, мы обошли его
* Печатается в сокращении. Полную версию см.: История одного политического преступления: (сб. материалов и публикаций). Харьков: Права лю-
дини, 2006. С. 3—16 (доступно на сайте: http://library.khpg.org/files/docs/Hefec—
l.pdf).
К истории 5-томного собрания..
419
стороной, пересекли несколько дворов и, поднявшись по крутой
лестнице, оказались у Рады Блюмштейн, бывшей жены его товарища. У нее было аккуратно перепечатанное, хотя и никак не
систематизированное собрание. Многое у меня уже было, другие
вещи я видел впервые, да и Иосиф несколько раз вскинулся,
увидев забытые им стихи. Единственная беда была в том, что
стихи перепечатывались без строгой пунктуации — хозяйке это
казалось неважным, что мне потом немало осложнило работу при
редактировании вариантов.
Всё собранное Бродский прочитывал, пока не пришло нам
время его проводить. Мне было радостно видеть, что он завелся,
пытается датировать стихи без даты, по отдельному стихотворению
вспоминает, что оно из цикла и цикл должен найтись, ставит забытые переписчиком или не указанные им самим посвящения
(иной раз только что пришедшие на ум спустя годы).
Круг друзей и знакомых все расширялся, вышел за пределы
Ленинграда, охватил Москву, куда я ездил неоднократно, особенно после высылки Иосифа.
Иосиф в России был беден, как церковная крыса. Он жил у
родителей («полторы комнаты»), которые кормили его. Одевался
он, особенно после ссылки, иностранными друзьями (и одевался,
кстати, замечательно — лишний повод для ненависти со стороны
официальных поэтов и властей). А вот живых денег почти не было.
Помню, он был в больнице, и, как члену профгруппы при Союзе
писателей, ему полагалось оплатить больничный лист по среднему
заработку. Я, в то время член той же профгруппы, пытался выбить
для него эти деньги. Оказалось, что за год (не самый худший)
Иосиф Бродский, работая ежедневно над своими стихами и
над переводами, как галерный раб, заработал всего лишь 170 р.
(столько в те годы зарабатывал, скажем, инженер — но только за
месяц, а не за год). Поэтому на дни рождения друзей, на праздники и вечеринки Иосиф приходил с бутылкой водки, завернутой в
стихи. Это могло быть свежее, еще никому не известное стихотворение или «стихи на случай» — стихотворное послание, посвящение, дружеская эпиграмма. Подарок этот был бесценный, дороже
любых других, хотя автор зачастую извинялся в стихах за скромность подношения («но двух рублей давно не видя вместе...» —
несколько раз повторявшийся мотив). Среди этих посланий были
настоящие шедевры. Как правило, адресаты не отказывали мне,
давали скопировать дорогие им тексты для собрания сочинений.
И это доверие ко мне и к самому делу давало мне новые силы.
Я переписывал стихотворения от руки, а потом печатал: копировальная техника тогда в России была недоступна.
420
Владимир Марамзин
Однажды я пришел к Иосифу на Литейный, он выложил мне
стопку «конторских» книг, сплошь исписанных и изрисованных
им в ссылке в Норенской. Он настолько проникся идеей собрания,
что решил отдать мне на расшифровку эти рукописи (где было,
кроме всего, много личного). Почерк был не самый легкий. Первое время я давал ему перечитывать и убеждался, что многого не
разобрал или разобрал неверно. Потом я набил руку.
Конторские книги оказались сокровищем. Кроме известных
стихов, таких как «Стансы к Августе», я нашел там множество новых, мне неизвестных и, возможно, тех, которых был я первым
читателем («Инструкция заключенному», «Сокол ясный, головы...», «Сонет» («Выбрасывая на берег словарь...») и др.).
Быть первочитателем великого поэта — привилегия и радость,
которые перекрывают весь труд и все опасности, с этим связанные.
При знакомстве с конторскими книгами встал вопрос о рисунках. Рисовал он хорошо — еще один признак большого поэта. Мой
друг искусствовед Михаил Мильчик предложил мне помощь — он
много фотографировал архитектуру и графику для себя, для своей
работы. Мы провели с ним десятки часов над конторскими книгами Бродского у меня дома, на окраине Ленинграда, на Гражданке, где он установил свою треногу с нацеленным вниз аппаратом.
Приближалась дата отъезда Иосифа. В последний день он позвал меня и попросил отвезти в Москву письмо правительству. Оно
было адресовано Брежневу и поистине провидчески предупреждало о неизбежном письменном возвращении поэта на родину.
Письмо было рукописным, не слишком разборчивым. Посылать в
таком виде было невозможно. Договорились, что я перепечатаю
его и отвезу в Москву сам (известно, что письма из Ленинграда в
правительственные инстанции перехватывались на почте и направлялись в ленинградские органы). Иосиф расписался под чистым листом бумаги, и я, перепечатав текст на этом листе, отвез его
в Москву и сдал в приемную ЦК (наверное, не без того, чтобы
привлечь к себе внимание). Черновик, если не ошибаюсь, я вернул родителям Бродского.
Предстояло продолжить сбор и составление собрания уже без
автора.
В Москве одним из друзей, к которым отправил меня Иосиф,
был Виктор Голышев, переводчик английской прозы. У него оказалось немало новых для меня стихов, посвящений, посланий. Он,
в свою очередь, перенял эстафету и во многом открыл мне Москву Бродского. Может быть, я сейчас ошибаюсь, но я почти уверен, что переводы английских пьес, сделанные Бродским, пришли
от Голышева.
К истории 5-томного собрания..
421
Теперь я знаю, что обошел далеко не всех, что круг общения
Бродского был необычайно широк, и для того, чтобы дать мне некоторые нити, он должен был раскрыть определенные жизненные
секреты, которые предпочел увезти с собой.
Составление собрания
Вопрос порядка составления возник сразу же. Я много думал
о нем и советовался с Бродским. Однако после конторских книг я
утвердился в том, в чем практически был уверен с самого начала.
Порядок стихотворений должен быть хронологическим. Идея не
новая, но верная. При нормальных отношениях книгопродавца с
поэтом эта проблема не встает. Автор сам организует стихотворения в книги (или циклы), которые выходят в свет одна за другой,
оставляя на обочине лишь небольшую часть произведений — для
посмертного включения в том «Неизданное». Но вспомним, что до
1972 г. в России было напечатано не более десятка стихотворений
Бродского, считая публикации в газетах, детские стихи в журнале
«Костер» и даже переводы. Поэзия — не только лирический дневник, но и дневник развития мысли, которое у столь интенсивно
думающего человека, как Бродский, не могло не завораживать
читателя.
Иосиф согласился с хронологическим принципом. Однако это
оказалось непростым делом. Во-первых, многие стихи не были
датированы. Во-вторых, Иосиф, просматривая мои «находки»,
нередко менял даты под стихами по только ему ведомым причинам. Иногда проговаривался: «Поставим тут 65, а то М. обидится».
Много работы было с циклом «Песни счастливой зимы». Он несколько раз менял состав цикла, порядок стихотворений и некоторые даты (эту работу он продолжил в Нью-Йорке). Некоторые
стихи не смог датировать, ставил год приблизительно, пытаясь
вспомнить обстоятельства (такие стихотворения я поместил в конце соответствующего года). Бывали случаи, когда он позже, обдумав, уточнял хронологию.
Когда картина начала выстраиваться, я был поражен и взволнован, как, возможно, никогда не был взволнован раньше. Передо мной лежало первое собрание сочинений крупнейшего поэта
нашего столетия, без всякого вызова или аванса. И я был первым
его читателем.
Основной корпус поэзии занял три тома. В четвертый попали
детские, шуточные стихотворения и стихи на случай, пятый составили переводы. Нелегко было решить, что отнести к основному
422
Владимир Марамзин
корпусу, а что к стихам на случай, потому что, как я писал выше,
среди последних было немало подлинных удач, выходящих за рамки этого жанра. Пока Иосиф был в России, выбор оставался за ним.
Потом решать пришлось мне — разумеется, с помощью друзей.
Не обошлось без курьезов. Мейлах раскопал у себя стихотворение, переписанное им от руки и положенное в папку Бродского. Стихотворение удивило Иосифа. «Совершенно не помню», —
сказал он мне. Однако и раньше случалось, что он не сразу вспоминал те или другие стихи. «Но это твое?» — спросил я. «Да вроде...» — был ответ. Через два дня Иосиф позвонил мне: «Это же
Найман! Это не мое!» Стоит ли говорить, что оно было неотличимо от манеры Бродского.
А вот два стихотворения К. Азадовского так и попали в свод,
так Иосиф их и проглядел, принял действительно за свои, и они
остались в моем собрании, а потом и в собрании Пушкинского
фонда, слепо следовавшем за моим: «Декабрьские строки» («Пернатые на тоненьких ногах...») и «Лисица не осмелится кружить...»
(1, 379—380). Но об этом я узнал позже.
Можно удивиться, что автор принял чужие произведения за
свои (и даже поставил в 1972 г. дату под первым из них). Но это
говорит, во-первых, о том, как много он работал в то время (впрочем, и всегда), и, во-вторых, о желании многих уже тогда подражать ему. Возможно, конечно, что такой поэт, как Бродский,
подмял под себя целое поколение окружавших его молодых
(вспомним о Шекспире).
Когда собираешь экземпляры из разных источников, неизбежны варианты и разночтения — от опечатки, меняющей смысл фразы, до авторской правки. Не всегда очевидно, какой текст основной, окончательный, что было поэтом сокращено, что добавлено.
Без контакта с автором, без других рукописей и черновиков можно
было полагаться лишь на чутье и помощь (память) общих друзей.
Редактирование
Редактор, как бы мы ни содрогались от этого слова из-за нашего несчастного советского опыта, необходим любому изданию.
А тем более самиздатскому и к тому же публикуемому без участия
автора.
Даже пунктуация составляет предмет постоянной заботы.
В разных экземплярах можно встретить различную пунктуацию, а
зачастую, как известно, знак препинания совершенно меняет
смысл.
К истории 5-томного собрания..
423
Один пример из Бродского: в стихотворении «Пророчество»
(1965) в строках «В Голландии своей наоборот / мы разведем с тобою огород...» до сих пор в разных публикациях слово «наоборот»
выделяют запятыми — и получается чушь. Что значит «В Голландии своей, наоборот, / мы разведем...», т.е. в других странах не
разводили? Речь идет о месте на берегу, отгороженном дамбой от
континента (от жизни людей), а не от моря — в отличие от Голландии. Таких примеров можно привести немало.
Нужен редактор и автору. Так, мы говорили Иосифу, что в
поэме «Post aetatem nostram» (1970) фраза «Большая золотая буква
М... лишь прописная по сравненью с той...» лишена смысла, так
как «прописная» и значит «большая», а следовало сказать «строчная», т.е. «маленькая». Он согласился, но, впрочем, махнул рукой
и переделывать не стал. Это относится также к строчке «И не тебе
в слезах меня пенять» из «Подсвечника» (1968). JI. Лосев говорил
ему, что надо бы «мне», но Иосиф оставил так — licentia poética
В другом случае он согласился со мной и поменял название
стихотворения «Семь лет спустя» на «Шесть лет спустя» (1968).
Оно начинается словами: «Так долго вместе прожили, что вновь /
второе января пришлось на вторник...» Несложная арифметическая выкладка покажет, что такое событие происходит через шесть,
а не через семь лет из-за високосного года, неизбежно падающего
на этот период.
Работа эта значительно усложнилась в отсутствие автора.
Я запретил себе какие бы то ни было исправления, даже очевидные, кроме явных (т.е. действительно глупых и очевидных) опечаток, а все соображения — и свои, и друзей — решил изложить в
примечаниях. Я надеялся и частично оказался прав, что когда-
нибудь поэт прочтет их и они помогут ему в окончательной отделке
текста.
Как, вероятно, ясно из предыдущего, я перепечатал все пять
томов с примечаниями к каждому тому на пишущей машинке.
Разумеется, это было сделано постепенно, не за один присест.
Когда я читаю сейчас, что собрание было подготовлено за полтора месяца (например, в статье Я. Гордина в «Литгазете»), мне
хочется поблагодарить авторов, так высоко оценивших мой талант
машинистки. Вся эта работа заняла большую часть 1972-го, весь
1973-й и начало 1974 г.
Не следует забывать о корректорской работе. При печати неизбежны опечатки, пропуски, ошибки. Все эти 10 тысяч строк стихов, не считая пьес и переводов, следовало тщательно вычитать.
Я вычитывал сам, но за собой не всегда видишь. Просить прочесть
другого в условиях тех лет было небезопасно для него. И вообще
следовало избегать широкой огласки.
424
Владимир Марамзин
К счастью, было немало настоящих друзей — и моих, и Иосифа. Лев Лосев взял на себя перечитку после моей печати и внимательно вычитал три первых тома. На последние два уже не было
времени.
Так был получен исходный экземпляр, который можно было
отдавать машинисткам. [...]
«ВЕКТОР В НИЧТО»:
ИНТЕРВЬЮ ВАЛЕНТИНЫ ПОЛУХИНОЙ
С ИОСИФОМ БРОДСКИМ
(10 апреля 1980 г., Анн Арбор, Мичиган)*
— Мои вопросы будут о конкретных стихотворениях и о конкретных образах и фразах.
— Давайте.
— В Вашем стихотворении «Полдень в комнате» (1978), которое состоит из 16 частей, цифры играют какую-то особую роль:
Воздух, в котором ни встать, ни сесть,
ни, тем более, лечь,
воспринимает «четыре», «шесть»,
«восемь» лучше, чем речь.
— Ну, воздух проще, кратней, делится на два, т.е. удобоваримей, т.е. элементарней. Тут очень простая логика. Она дальше в
стихотворении развивается. Я даже помню, как это дальше. Воздух неописуем, т.е. неописываемый; воздух — не предмет литературы; можно сказать, он чистый, замечательный и так далее, но он
в общем неоцениваем. И 2—4—6 — это такие нормальные, близкие, кратные цифры. Обратите внимание, 16-я песнь «Инферно»
делится на два.
— А как понимать сравнение:
Муха бьется в стекле, жужжа
как «восемьдесят». Или — «сто»?
— Это очень просто. Восемьдесят — это фонетика, это просто
чистое звукоподражание, так же как и сто.
— Вы нередко сравниваете себя с буквами русского алфавита:
«Как тридцать третья буква, /я пячусь всегда вперед»; «Как ты жил
* Впервые опубликовано: Полухина В.П. Больше самого себя. О Бродском.
Томск: ИД СК-С, 2009. С. 16-28.
426
«Вектор в ничто»
в эти годы?» — «Как буква “г” в “ого”». Последнее сравнение имеет
политический оттенок?
— Какой еще политический оттенок?
— Ну, как же?Буква «г» в «ого» произносится как фрикативное
[к], как и в слове Бог, а для этого звука в русском языке нет буквы.
Напрашивается параллель с Вашей ситуацией в любимом отечестве.
Ваше имя иногда произносят, а стихов Ваших не печатают, т.е. для
официальной советской литературы Вы как бы не существуете. Не
это ли Вы имели в виду, сравнивая себя с буквой «г» в «ого» ?
— Возможно, где-то подсознательно. Недурное замечание,
Валентина.
— Л что происходит в «Двадцати сонетах к Марии Стюарт» ?
— Скорее всего, я полагаю, я стремился исчерпать форму сонета, просто довести ее, можно сказать, до абсурда. Я пытался там
скомбинировать, я не знаю, совместить подлинный лиризм и поэтический или языковой, точнее, стилистический идиотизм. Попытка противопоставить подлинную лиричность всему тому, что
происходит в голове у человека на самом деле, поместить ее в реальный контекст, если угодно, чтобы она срабатывала не за счет
там, скажем, априорной лирики сонета, но взорвать и сонет, все
взорвать, что возможно, и вместе с тем чтобы осталась эта пронзительная нота. Там есть случаи, когда это удается.
— Если бы это было всерьез...
— Это всерьез.
— Яне имею в виду формально всерьез... это не сработало бы так
эффектно. А душевное движение?..
— Когда начинаешь сочинять стишки из одного душевного
движения, то одного душевного движения, как правило, недостаточно, происходит еще масса всего, да?
— О семантическом ореоле метра. Имеет ли метр свою семантику?
— Безусловно, о чем речь!
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
427
— Вы хотите сказать, что с изменением метра меняется все?
И тут Вы заодно с Пушкиным, он, тоже меняя размер одного и того
же стихотворения, менял и его содержание.
— Безусловно, прежде всего меняется тональность. Размер
всегда задает тональность, т.е. о чем речь; размер меняет просто
сантимент.
— Что диктует что? Что вначале?
— Вначале, конечно же, музыка, размер, да? То, что Александр
Сергеевич меняет размер, это совершенно замечательно. Это показывает, что он профессионал. Во-первых, что он просто пробует...
ну, он стремится не просто к тому, чтобы выразить свои чувства и
т.д., но он стремится создать наиболее эффективную языковую
систему, наиболее эффективное стихотворение, да? На самом деле,
первая задача, которая стоит перед поэтом, написать более или
менее хорошее стихотворение, а потом уже... хорошо было бы... то,
что он говорит, не противоречило бы тому, что он на самом деле
чувствует. Засунуть в стихотворение как можно больше, т.е. сказать то же самое, но орнаментировать в большей степени, окружить это... Такое вязание. Этот узор его устраивает, этот не устраивает. Он пытается примерить то, что в общем более к лицу, как
женщина примеряет туалет. Все ее сантименты, вся она, ее лицо
остаются неизменными, но у нее есть какая-то идея того, что она
есть такое...
— Ага, значит, идея тоже диктует...
— Да, в общем идея диктует. В то время как перемена размера
меняет всё, не только орнамент, но зачастую и стержень. Подобным делом может заниматься только законченный профессионал,
потому что неопытный или малоопытный лирик всегда старается
держать звук.
И вместе с тем всё это диктуется... т.е. когда речь идет об удачном стихотворении, поэт думает о более или менее адекватном
выражении того, что у него творится в голове.
Мандельштам, он, заметьте себе, не меняет размера, например,
в «Воронежских тетрадях».
— Не несет ли ритм деформирующего влияния ? Например, Ваша
манера чтения. За ней как будто стоит нарочитое затруднение понимания.
428
■(Вектор в ничто»
— Не затруднение, а абсолютная нейтрализация. Дело в том,
что мое чтение как раз, по-моему, адекватно тону и сути стихотворения. Это стремление скорей добраться до конца.
— Нет ли в ритме стремления к покою, в то время как мысль
аритмична? Пользуется ли поэт этим противоречием?
— Да нет, противоречия нет. Валентина, Вы говорите о несуществующей проблеме. Просто вы стараетесь ритмом вытянуть
некоторые детали. Все зависит о того, как написано стихотворение,
какова его музыкальная посылка, т.е. чтобы создать такой замечательный звук или чтобы убрать звук совершенно.
Думаю, что в ряде стихотворений, которые я сочинил за последние годы, там и то и другое, да? Вот что интереснее всего: убираешь музыку, и вдруг на секунду ты ее включаешь, вставляешь
классическое звучание, потом сразу же его убираешь, да? И сразу
же переходишь на тон банальности, на такой антикульминацион-
ный момент в пределах строки, в пределах предложения довольно
часто. Например, почему так много в последнее время так называемого «интонационного стиха», каким вся «Часть речи» написана? Там все идет на интонации, и вдруг на некоторое время включается заданная музыка и сразу же она выключается.
— Хочется избежать выстукивания размеров. Один и тот же
размер, и критики ничем не могут его нагрузить ?
— Ага, коротко говоря, единственное, к чему я стремился и
стремлюсь, — это к отсутствию заданной музыки. В то же самое
время, когда там, скажем, сочиняешь цикл, в нем сама эта неза-
данность становится нормой, да? И от нее приходится каким-то
образом уклоняться, отталкиваться.
— Ив самих стихах идет движение лирики в сторону неэмоциональную ?
— И не только. Я говорю о векторе мысли. И о лирике тоже.
Если бы я, скажем, сейчас что-нибудь сочинял... Это просто следующая степень отключения от заведомой поэтики. Это такая банальная вещь, это засушивание или выстервление, если хотите,
лирики.
Я помню, когда вышла «Остановка в пустыне» и я ее прочел
еще в Союзе, я уже к тому времени понял, что это единственная
и, возможно, последняя книжка, у которой более-менее человеческое содержание, т.е. лирическое содержание. К тому времени лирика уже стала меняться в сторону некоторого абстрагирования, в
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
429
сторону неэмоциональную, да? Это не то, что стремление к абсолютности высказывания, к абсолютности тона, а к такому психологическому нейтралитету. Знаете, что бы на тебя ни вешали, это
продиктовано эмоцией, ну, я не знаю чем. Я не помню.
— Форма и содержание. Например, стихотворение «Бабочка».
В нем передано острое чувство зыбкости между бытием и небытием.
— Ну, да, правильно.
— Эта мысль передана и языком, и ритмом, и самим предметом
изображения — бабочкой, который передает ее совершенно идеально.
— Ну, безусловно, это идеал, т.е. идеал — это союз того и другого, почему и называется «идеал».
— На каком основании Вы утверждаете, что поэт — самое совершенное существо ?
— На очень простом: в процессе композиции рациональное и
эмоциональное, самоутверждение и самоотрицание действуют
вместе. Они нередко порождают откровение.
— Для меня поэт самое совершенное существо прежде всего потому, что у него четыре глаза. Ведь чтобы увидеть сходное в вещах,
расположенных друг от друга на 180 градусов, надо поистине иметь
четыре глаза.
— Не думаю, что, увидев четырехглазое существо, Вы назвали
бы его совершенством.
— Скорее монстром.
— Вот именно, скорее, монстром.
— Именно этим именем Вы и называли себя не раз и не два. Но
это всего лишь метафора. Кстати, почему в Ваших стихах так много метафор?
— С чего Вы взяли? Наоборот, я очищаю свои стихи не только от метафор, но вообще от всех тропов.
— Я должна Вас огорчить. Моя статистика показывает, что
количество метафор в Ваших стихах с годами растет не в арифметической, а в геометрической прогрессии.
430
«Вектор в ничто»
— Ну, знаете, за всем не уследишь.
— Можно, я Вам объясню, отчего это происходит ?
— Ну, попытайтесь.
— Чем дальше Вы двигаетесь в своих стихах к метонимическому полюсу языка за счет перекрученного синтаксиса, нанизывания
придаточных предложений, егуатЬтеШБ, дольника и пр., тем настойчивее поэтическая ткань требует компенсации. Компенсировать
прозаизацию стиха можно только одним способом — уплотнив ткань
тропами, в частности метафорами.
— Пожалуй, Вы правы. С другой стороны, переименование
мира происходит у любого поэта, на каком бы полюсе языка он ни
сидел. Для поэта мир вставлен в мир, как коробочки... Если поэт —
метафизик, он всегда сквозь одно видит другое. Мы поступаем
неправильно, когда оцениваем поэта, судим его, потому что материал поэта — язык. Язык развивается сам по себе; поэт только
схватывает идиомы, существующие в языке, все собирает.
— Когда написано стихотворение «Глаголы» ?
— 1958—1959. Почему Вас это интересует?
— Имею ли я основания связывать эти «Глаголы» с циклом
«Часть речи»?
— Ни в коем случае.
— Меня интересует, когда зародилась эта мысль, эта идея воспринимать и описывать мир в грамматических категориях?
— Ну, это может быть. Это такая старая идея. Но стихотворение «Глаголы» никуда не годится. Это стихотворение скорее... ну,
это дико... оно носит скорее политическую окраску.
— И все-таки, когда зародилась эта идея о языке, которому Вы
приписываете такую всемогущую силу?А в последнее время и в прозе, и в стихах Вы эту мысль подчеркиваете.
— Ну, не знаю, у меня такое впечатление, что я всегда знал, но
до этого руки не доходили.
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
431
— Насколько верно мое предположение, что Вы выстраиваете в
один ряд как равноправные члены: человека — вещь — слово ?
— В общем, верное. Они равноправны, если речь идет о каком-
то развитии, эволюции, да? Сначала человек, потом вещь, т.е. сведение человека к вещи, к такому иероглифу, да? А потом к цифрам, а потом уж просто к языку.
— И цифры тоже элемент языка?
— Да, цифры тоже как элемент языка. То есть это такое, как
бы сказать, если говорить о векторе, то это вектор в ничто.
— Я хотела бы вернуться к циклу «Часть речи». Этот цикл Вам,
кажется, по душе?
— Да, неплохо получилось. «Часть речи» — это эхо с другими
поэтами и писателями, перекличка. Так «надцатого мартобря» —
это из «Записок сумасшедшего» Гоголя, где сначала были даты,
потом появилось «мартобря», потом «день был без числа». Эти
строки передают отчаяние и надежду, ибо, если ты способен изощряться в остроумии, в каком бы отчаянии ты ни находился, всегда
есть надежда.
— Не только это стихотворение, но и весь цикл передает странное состояние ума.
— Да, «Часть речи» — это psyche. Образы, синтаксис, переклички с другими поэтами передают какое-то переменчивое состояние ума, невротическое состояние мозга.
Если хорошо получилось, это не мое достижение. Я передаю
только то, что уже есть в языке. Специфично только использование грамматики.
— Еще пару слов об отсылках к другим поэтам. В стихотворении «Осень. Оголенность тополей...» (1969) есть строчка «...прямо к
света нашего концу...». Это нечто державинское?
— Это не державинское, это народное. Дело в том, что есть такое речение, что конец света — это когда горизонт досками заколочен. (Смеется.) Это именно так. Это стихотворение, оно старенькое
и не особенно хорошее, в нем такой легкий перепев помещичьей
темы, усадеб, как бы попытка не то чтобы восстановить — не в языке, но сохранить это в собственном опыте, психологии.
432
Вектор в ничто»
— Л «за семь верст некрашеных и вод...» исходит из «one sorrow ago» ?
— Нет, это за тридевять земель, тот же самый бизнес. Это ведь
в стансе, где небосвод заколочен досками.
— Простите, я должна была процитировать всю стансу:
Запрягай же, жизнь моя сестра,
в бричку яблонь серую. Пора!
По проселкам, перелескам, гатям,
за семь верст некрашеных и вод,
к станции, туда, где небосвод
заколочен досками, покатим.
«Жизнь моя сестра» — это, безусловно, Пастернак ?
— Да, поклон Борису Леонидовичу. Кстати, Пастернак делал
все сложнее. У меня все невиннее. Пастернак имитировал конструктивистов: «Как образ входит в образ / И как предмет сечет
предмет».
— Ваше русское культурное наследие — Державин, Ломоносов,
Баратынский... ?
— И даже Кантемир и вся классическая поэзия XVIII века.
— Кроме английских метафизиков, мне показалось, что у Вас
есть нечто общее с Томасом Гарди.
— О, да, я его очень люблю, люблю за красивую форму. У него
просто прекрасные стихи: ни одна станса не похожа на другую по
интонации, по ритму, по оформлению.
— Некоторые образы могли бы быть Вашими. Помните стихотворение «Схождение двоих» о столкновении парохода и айсберга ?
— Да, мне очень нравится это стихотворение.
— А ирония Гарди ?
— О, ничего общего с моей. Это просто нечто вторичное. Уж
если Вы ищите параллели, так они есть, например, с Оденом и с
Монтале.
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
433
— Да, те, о ком Вы писали, должно быть, близки Вам. А Беккет ?
— Да, и Беккет. Одна дама сделала мне большой комплимент,
когда я прочитал ей «Горбунова и Горчакова». Она сказала: «Слишком много Беккета». Я думаю, что «Горбунов и Горчаков» лучше,
чем Беккет.
— И другие влияния ?
— Навалом. И никаких. Есть влияния и влияния. Ну, например, я помню, что году в 1959-м, точно не помню, я сочинял стихи. Всё как полагается, и всё шло нормально, пока мне не попался томик Баратынского. То есть я не знал, чем я буду вообще на
свете заниматься, я сочинял стишки, ездил в экспедиции и т.д.
Пока, находясь в Якутске, я не обнаружил в книжном магазине
томик Баратынского. Когда я прочел этот томик, мне все стало
ясно... что мне совершенно нечего делать в Якутии, в экспедиции
и т.д., и т.д., что я ничего другого не знаю и не понимаю, что стихи единственное, что я понимаю. И Баратынский на меня в известной степени, я думаю, повлиял именно этой сдержанностью
тона, т.е. я понял, что это стезя. В такой же степени, если не больше, лингвистически, стилистически было влияние Цветаевой, которую я знал лет с двадцати, наверное. Когда я прочел ее первые
стихотворения, они меня просто ошеломили.
— Сдержанность Баратынского и неудержимость Цветаевой?
— Да, если угодно, да. Я думаю, что Цветаева при всем при том
поэт чрезвычайно контролировавший себя. Я думаю, что она вообще, если говорить серьезно, самый крупный формалист в русской поэзии XX века. Хлебников, Маяковский — это всё по сравнению с ней звучит несерьезно. И она даже больший формалист,
я полагаю, чем Пастернак. Вот Вам наиболее сильные влияния: Баратынский, Цветаева, Державин и Кантемир.
— Но Вы были все время рядом с Ахматовой.
— Знаете, во-первых, не все время, а довольно недолго. Мы с
ней часто разговаривали. Она говорила: «Я не понимаю, Иосиф,
что Вы здесь делаете. Вам мои стихи нравиться не могут». Это не
совсем так, мне ее стихи чрезвычайно нравились и нравятся, но
вместе с тем... вместе с тем это не та поэзия, которая меня интересует. Мне был интересен, т.е. это я сейчас стараюсь каким-то
рассудочным образом всё это оценить, человек. Мне была важнее
всего она сама, т.е. человек, поэт... и даже не поэт. Это глупо го¬
434
«Вектор в ничто»
ворить, но волей обстоятельств, я уж не знаю чего, я действительно превратился в то, во что я превратился, но никогда, по крайней мере во время общения с Ахматовой, да и сейчас, я не сказал
бы про себя, что я поэт.
Так что меня поэт не интересовал, нечто большее, нечто более
существенное, просто это был единственный человек, с которым
можно было иметь дело. При том, что я писал стихи, и, конечно,
мне было чрезвычайно приятно, когда она их хвалила. Это, между прочим, она, в некотором роде, наставила меня... не то чтобы
на путь истинный, но все началось с нее. Я помню, она сказала про
«Шествие»: «Какая степень одиночества!» Это, между прочим, как
раз то, что я стремился тогда, как бы это сказать, выразить, передать. То есть я понял всю глубину ее взгляда, оценки, суждений,
она действительно смотрела на то, что я делал, с моральной точки
зрения. И это было бы еще туда-сюда, но для меня стихотворение
от стихотворения отличалось. Я помню, я сочинил «Большую элегию Джону Донну», которая мне, в общем-то, нравилась, но потом я, сочинив ее, забыл. Через неделю или через две я ее привез
к ней, этого самого Джона Донна. И тут она мне сказала что-то
вроде «боюсь, что Вы не понимаете, что вы сочинили», ну и т.д.,
и т.п. Мне, вообще-то, было понятно, о чем шла речь, но Вы знаете, когда сочиняешь, особенно если это все происходит в России,
то никто собственно не уделяет этому внимания, того внимания,
которое это заслуживает. Может быть, просто то, что в Ахматовой
было важно, помимо всего прочего, что она смотрела на это глазами, которыми на это следует смотреть. То есть, в конце концов,
это ваша цивилизация, которую никто не разделяет, и т.д.
— Вы, кажется, ставите Одена выше Т. С. Элиота?
— Оден был очень скромным поэтом, но он не боялся говорить
то, что может не понравиться другим. Т. С. Элиот становился на
горло собственной песни чаще, чем Маяковский. Количество настоящих стихов у Элиота очень небольшое. У него масса придаточных предложений, в которых он старается защититься от всевозможных нападок.
— Вы теперь пишете и по-русски, и по-английски. Как Вам видится взаимоотношение этих языков ? Соединим ли дух английского
с русской грамматикой ?
— А Вы почитайте мое вступление к двухтомнику Цветаевой,
я там об этом говорю. Русский язык Цветаевой очень подвержен
влиянию немецкого. И в то же время она писала по-русски, хотя
с детства владела тремя языками.
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
435
— Как отражается изгнание на чувстве языка ?
— Дома всё помогает и всё мешает. Ты знаешь, чувствуешь, где
враги и где друзья. Вне России ты не знаешь, кто есть кто. Я один
на один с языком. Чувство языка обостряется. Ты осторожнее,
внимательнее, проверяешь себя несколько раз, чаще пользуешься
словарем.
— Кто Ваш главный враг?
— Вульгарность. Интеллектуальная и духовная вульгарность.
США очень вульгарная страна. Иногда, правда, духовная вульгарность может принести неожиданные результаты. Так, наемный
солдат, выступая по американскому телевидению, вдруг сказал:
«Я понял, что убил человека, который был гораздо сложнее меня».
— Ваши стихи «К одной поэтессе» случайно обращены не к Белле Ахмадулиной ?
— Да нет же. Белла тоже почему-то приняла их на свой счет.
Просто к одной знакомой, которую я с таким же успехом мог бы
назвать астронавтом, а назвал поэтессой, несколько иронически,
может быть, даже оскорбительно.
— У Вас есть иерархия собственных стихов ?
— Поэт — самый лучший судья своих стихов. Лучше, чем любой критик. У меня тоже есть собственная иерархия стихов. Не
всегда последнее стихотворение — самое лучшее. Мои лучшие стихи: «Бабочка» и «Ист Финчли». В «Ист Финчли» я решил проблему, которую не мог решить раньше. Никогда раньше я не писал о
цветах. Нужен был контекст для слова «цветы», где это слово должно быть произнесено с определенной интонацией, оно должно
было быть в конце стиха.
— Меня студенты часто спрашивают, о чем это стихотворение.
Но объяснять стихотворение своими словами, как говорит Марина
Цветаева, это мнить у своего слова силу большую, чем у поэта.
— Безусловно. Но в аудитории мы занимаемся совершенно
другим делом. Я пытаюсь им объяснить, каким образом поэтическое мышление функционирует, т.е. каким образом функционирует
мышление поэта, когда он сочиняет стихи, что, собственно, обусловливает создание стихотворения, какова его стратегия, каково
наследство слов, их ассоциации и т.д., как он их отбирает, что
436
«Вектор в ничто»
выкидывает. По существу, поэт столько же раскрывает, сколько и
прячет.
— Поэтому приходится расшифровывать Все ваши образы и переклички ?
— И да, и нет. Дело в том, что поэт оперирует языком на том
уровне, на котором, как правило, люди не... ну, я не знаю... чего я
там буду... Поэзия — это как бы абсолютный уровень языка, вот
что это такое. И все это в языке есть. Поэт на самом деле не открывает ничего нового. Он это выстраивает в такой ряд, в котором,
по его представлению, все элементы выигрывают одинаково.
Не помню, Кольридж, что ли, сказал, что поэзия — это лучшие
слова в лучшем порядке. Это немножко банально, но на самом деле
именно так. Не то что лучшие слова, не самые красивые слова, а
самые адекватные слова в наиболее адекватном порядке.
— Вот почему Вы пишете так, а не по-другому?
— Потому что по-другому у меня не получается, просто по-дру-
гому неохота. Ты ведь пишешь для себя и для гипотетически другого лица, и этому гипотетически другому лицу ты хочешь понравиться. Все зависит от того, кто это гипотетически другое лицо. Это
может быть приятель, это может быть возлюбленная, это может
быть ангел, это может быть идея. То есть всякая литература, всякое
сочинение начинается со стремления человека к святости, да? Ну
вот, наиболее конкретный пример — это Гоголь, который стремился собственно к улучшению самого себя, т.е. хотел достичь кондиции святого. Но вся суть заключается в том, что, по мере того как
человек осуществляет эту задачу посредством литературы, чем
больше он этим занимается, тем более он начинает осознавать, что
он преуспевает в литературе больше, чем в сфере духа. Отсюда все
эти обвинения литературы и вообще искусства в том, что это от
дьявола и т.д. Гоголь пошел дальше других, он просто сжег второй
том «Мертвых душ», да? Тем не менее этот импульс, это стремление
к некоторой святости, что ли, это можно понимать банально, это
можно понимать и лингвистически, и в общем, в общем, это улучшение самого себя или улучшение порядка.
— Не значит ли это, что в каждом новом стихотворении поэта
больше и больше ремесла?
— Ну, это безусловно так, хотя... когда наступает перерыв и
когда ты потом возвращаешься, ты начинаешь как бы в некотором
смысле с азов. Более того, азы постепенно о себе напоминают...
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
437
Чем удачливее ты был в прошлом, чем очевиднее твои достижения
вчера и позавчера, тем ниже шансы того, что тебе это удастся снова, ибо прежде всего тебе приходится пользоваться более или менее теми же средствами и тем меньше средств остается в твоем
распоряжении, если угодно. Каждое следующее стихотворение
может оказаться последним — началом конца, отсюда страх.
— Бывает такое состояние, когда для чувств и мыслей нет нужных слов?
— Да, бывает, тогда я беру второстепенные слова, делаю подделку.
— Какое значение имеет возраст поэта?
— В старости редко кто пишет хорошо. Мудрость — да,
мысль — редко. Так, я не верю старому Гёте. Идет движение
вниз, люди становятся мудрее, но они не чувствуют элегантности, красоты. Им не хочется завоевывать, побеждать даже язык!
Я завидую тем, кто умер рано: мы никогда не узнаем, что бы случилось. У нас только половина картины.
— Простите, а старой Ахматовой Вы верите?
— Ахматова — исключение. Такова была историческая ситуация, она должна была верить, двигаться вперед. Она была единственным голосом в течение сорока лет. Это был ее долг, возложенный на ее плечи историей, временем.
— Всё ли Вам понятно в собственных стихах?
— Да, я понимаю все свои стихи, нет таких, которые не понимаю. Там нет ничего неясного, для меня, во всяком случае.
— По существу, искусство поэзии состоит из творца, творения
и читателя. Читатель или просто читает, или анализирует, если он
пишет книгу, как я. В последнем случае ты просто танцуешь вокруг
духа какого-то неуловимого. Не значит ли это, что истинное содержание стихотворения и есть какой-то дух, какая-то вера, религия?
— Ну, можно и так, но это заведет не только Вас, но и меня в
непроходимые дебри. На самом деле это, безусловно, так, т.е. существует какая-то идея, которую ты... я даже не знаю, идея в некотором роде отказа или отрицания действительности, включая в
себя действительность (только тогда и тянет на отрицание, когда
438
«Вектор в ничто»
действительность сюда включена). Это некоторый вектор вверх,
некоторый перпендикуляр, но про это бессмысленно говорить.
— Это другой мир, а не зеркало или отражение действительности ?
— Нет, не зеркало и отражение... Как я полагаю, я сочиняю
исключительно про одну вещь. Я сочиняю про время, про время
и про то, что время делает с человеком, т.е. про те изменения или,
я уж не знаю... которым оно подвергает не только физические и
психологические, но и изменения, происшедшие не только в нем,
но и во всех мыслимых и немыслимых его предшественниках. То
есть он добавляет что-то от себя, не то что добавляет что-то от
себя... вот человек попал в XX век, но это вовсе не XX век, поскольку для времени это неизвестно, какой век. Он является продуктом того, что он читал, и т.д., всего, что происходило до него,
он некий результат времени, и как объект времени он, в свою очередь, подвергается разнообразным пертурбациям и т.д. Вот поэтому он в состоянии сказать нечто качественно новое или необязательно новое, т.е. то, что он говорит, представляет собой результат
работы времени.
— Есть ли какая-то общая большая цель, которая у Вас в голове, когда Вы пишете стихотворение?
— Цель одна — написать хорошо. Поэт должен видеть жизнь
как определенную цепь звеньев и должен дать точное звено, номер
в цепи тому, что было до и что будет после. Найти правильное
место определенному явлению.
— Я всегда думала, что это задача историка.
— Да, то же самое можно сказать об историках. Но, в отличие
от историка, для поэта, если ты не пишешь, ты не существуешь.
Духовное достижение становится профессиональным. Писать стихи (как психологический механизм молитвы) — это обращение к
Богу: ты не уверен, слышит ли Он тебя, но ты слышишь себя.
— Л лиризм ?
— В поэзии, в искусстве можно достичь такой высокой ноты
лиризма, которая недостижима в жизни, в человеческих отношениях. Понял я это не так давно. Однажды ночью слушал Моцарта
и услышал то, чего я хотел достичь в своей жизни, в человеческих
Интервью Валентины Полухиной с Иосифом Бродским
439
отношениях, а это возможно достичь только в искусстве. Цель
поэзии — достичь этой ноты, добиться высшей степени уважения.
— Другими словами, критерий — недоступность ?
— Любой идеал хочется достичь, обнять, спать с ним. Настоящий идеал — как линия горизонта, он не достижим. Тоска по идеалу, а не попытка его достичь.
— Не отсюда ли Ваши «никуда» и «ниоткуда» ?
— Отчасти да. Мы воспринимаем нашу жизнь как линию развития — линейно. Можно предположить, что где-то есть конец.
Может быть, там что-то есть или нет ничего. Почему бы не довести эту идею до логического конца? Человек, когда он думает, двигается, он не двигается по линии. Он посылает сигналы во все
направления, может быть, где-то эхо откликнется, а чаще не отзывается.
— Но ведь и реальное окружение поэта входит в его стихи.
— Реальное окружение поэта — политика, индустрия, природа. Да, это входит в искусство, в определенный жанр. Очень трудно написать хорошую политическую поэму. Самые политические
поэты были Кавафис, Монтале, а не Маяковский. Человеческий
ум имеет иерархическую систему, он многоуровневый. Политическая система — первая нижняя ступенька.
— Как Вы выбираете тему для стихотворения ?
— Материал, темы приходят сами. Я их не ищу.
— И последний вопрос, что такое для Вас язык?
— Нечто мистическое. Нечто огромное. Неясно, откуда он
взялся. В языке всего столько, что мы не используем и одну десятую его богатства. Тот, кто дал нам язык, больше нас. Дающий
всегда больше того, кому он дает. Мы пришли в язык, а не создали его. Мы открываем язык, каждое поколение открывает язык.
ПОЭТИКА БРОДСКОГО:
МАТЕРИАЛЫ К БИБЛИОГРАФИИ
Составитель А. Г. Степанов
Данный материал дополняет и продолжает библиографию по
поэтике И. Бродского, опубликованную в книге: Поэтика Иосифа
Бродского: Сб. науч. тр. / Редкол.: В. П. Полу хина, И. В. Фоменко,
А. Г. Степанов. Тверь: Твер. гос. ун-т, 2003. С. 399—459. Ее расширенный вариант вошел в сборник: Иосиф Бродский: стратегии чтения: Материалы Междунар. науч. конф. / Редкол.: В. Полухина,
A. Корчинский, Ю. Троицкий. М.: Изд-во Ипполитова, 2005. С. 482—
521. Другие библиографические списки существуют в электронном
виде и доступны в Интернете. Перечень критических работ, мемуаров и заметок о Бродском приведен в книгах: Лосев Л. Иосиф
Бродский: Опыт литературной биографии. М.: Молодая гвардия,
2006. С. 434—443; Бродский И. Стихотворения и поэмы: В 2 т. /
Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч. Л. В. Лосева. СПб.:
Изд-во Пушкинского Дома; Вита Нова, 2011. Т. 1. С. 427—438.
Как и предыдущие версии, настоящая библиография не претендует на полноту. В нее не вошли большинство рецензий, тезисы, заметки, публицистические статьи, философские и культурологические эссе, мемуарная проза (за исключением книг),
интервью (см.: Библиография интервью Иосифа Бродского /Сост.
B. Полухиной // Бродский: кн. интервью. 3-е изд., испр. и доп. М.,
2005. С. 757—774). Предпочтение отдавалось исследовательским
работам: монографиям, научным статьям, авторефератам диссертаций, разделам о творчестве Бродского в учебных пособиях и коллективных монографиях.
Отдельные библиографические описания снабжены краткими
аннотациями. Большинство источников указаны de visu.
1978
1. Gifford Н. The Language of Loneliness // Times Literary Suppl. —
1978. — Aug. 11. — P. 902—903. — Рец.: Brodsky I. Konets pre-
krasnoy epokhi: stikhotvoreniya 1964—1971; Chast’ rechi: stikho-
tvoreniya 1972—1976. — Ann Arbor; Oxford.
1982
2. France P. Poets of Modem Russia — Cambridge: Cambridge Univ.
Press, 1982. — 240 p. — (Cambridge Studies in Russ. Lit.). — Из
содерж.: [О поэзии И. Бродского]. — Р. 198—209.
Материалы к библиографии
441
1986
3. Максимова О. Я тебя люблю, но ты мне не нравишься: О стихах Иосифа Бродского // Страна и мир. — 1986. — № 7. —
С. 89-96.
4. Bayley J. Mastering Speech // New York Rev. of Books. — 1986. —
June 12. — R 3—4. — Рец.: Less Than One: Sel. Essays, by Joseph
Brodsky — Farrar, Straus and Giroux. — 501 p.
1988
5. Лурье С. Правда отчаяния // Синтаксис — 1988. — № 23. —
С. 104-125.
1998
6. Найман А. Славный конец бесславных поколений. — М.: Ваг-
риус, 1998. — 576 с. — Из содерж.: Великая душа. — С. 212—251.
7. Bonfanti L. La poesia di Czeslaw Milosz e Josif Brodskij // Europa
Orientalis. - 1998. - Vol. 17, No. 2. - P. 171-207.
8. Weissbort D. His Own Translator: Joseph Brodsky // Translation and
Literature. - 1998. - Vol. 7, Pt. 1. - P. 101-112.
1999
9. Ким Хён Ён. «Язык» в поэзии И. Бродского // Бюллетень Японской ассоциации русистов. — 1999. — № 31. — С. 6—8.
10. Мечковская Н. Б. Русско-немецкий Анти-Фауст («Два часа в
резервуаре» Иосифа Бродского) // Вертоградъ многоцветный:
Festschrift für Helmut Jachnow. — München, 1999. — S. 187—194.
11. Найман A. Рассказы о Анне Ахматовой. — М.: Вагриус, 1999. —
432 с. — Из содерж.: Великая душа. — С. 357—405.
12. Скобелев В. П. «На смерть Жукова» И. Бродского и «Снигирь»
Державина (к изучению поэтики пародического использования) // Вестн. Самар, гос. ун-та. Гуманит. вып. — Самара,
1999. - № 1(11). - С. 94-100.
13. Niero A. «Nepreryvnost’», «continuité». Una congettura su Iosif
Brodsij // Quaderni di Lingue e Letterature Straniere [Université
degli Studi di Verona]. - 1999. - [Vol.] 24. - P. 89-109.
2000
14. Гордин Я. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. — СПб.: Изд-во «Пушкинского фонда», 2000. —
232 с. — Из содерж.: Гибель хора. — С. 127—225.
15. Маслова Ж. Н. Иосиф Бродский и Роберт Фрост: пасторальный мир // Проблемы изучения и преподавания литературы в вузе и школе: XXI век: Сб. науч. тр. — Саратов, 2000. —
С. 215-218.
442
Поэтика Бродского
16. Подюков И. A., Тур С. Ю. Фразеологические эксперименты
И. Бродского // Слово во времени и пространстве. К 60-летию
проф. В. М. Мокиенко. — СПб., 2000. — С. 342—348.
17. Служевская И. Поздний Бродский: путешествие в кругу идей //
Стрелец: Альм, лит., искусства и общ.-полит. мысли. — Париж
и др., 2000. - № 2. - С. 209-236.
18. Яковлева И. П. «Нерукотворный памятник» Иосифа Бродского (о назначении поэзии в русской литературе) // Чтения, по-
свящ. дням славян, письменности и культуры: Материалы регион. науч. конф., Чебоксары, 20—21 мая 2000 г. — Чебоксары,
2000. - С. 199-207.
19. Graziadei С. Анжамбеман как фигура (битва в представлении
А. Альтдорфера и И. Бродского) // Slavica Tergestina — Trieste,
2000. — [Vol.] 8: Художественный текст и его гео-культурные
стратификации. — С. 93—110.
2001
20. Загумёнова JI. «Июльское интермеццо» И. Бродского как единое целое // Русская литература XX века: итоги столетия: меж-
дунар. науч. конф. молод, учен. — СПб., 2001. — С. 131—133.
21. Келебай Е. Б. Философия творчества Иосифа Бродского: Ав-
тореф. дис.... д-ра филос. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. —
М., 2001.- 44 с.
22. Кулаковский М. Н. Вставные конструкции в поэзии И. Бродского // Язык русской литературы XX века: [Сб. ст.]. — Ярославль, 2001. — С. 182—192.
23. Маслова Ж. Н. Проблема билингвизма и англоязычное влияние в поэзии И. Бродского и В. Набокова: Автореф. дис. ...
канд. филол. наук / Моск. пед. гос. ун-т. — М., 2001. — 17 с.
24. Новиков А. А. Литературно-критические взгляды Иосифа Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / МГУ им. М. В. Ломоносова. — М., 2001. — 24 с.
25. Романова И. В. Образное выражение тематической группы
«язык» в поэзии И. Бродского // Риторика в свете современной
лингвистики: Тез. докл. Второй межвуз. конф. (14—15 мая
2001 г.). — Смоленск, 2001. — С. 74—78.
26. Per Iosif Brodskij // Europa Orientalis: Studies a Researches on
Eastern Europ. Countries. — 2001. — Vol. 20, No. 2. — P. 149—
244. — Fm Cont.: Graziadei C. Intero, torso, polvere. II frantumarsi
della statua nella poética di Brodskij; Niero A. L’innesto metafisico:
Iosif Brodskij poeta-traduttore di John Donne; Omodei-Zorini A. Un
glossario per Iosif Brodskij: echi della poesia anglosassone; Волгина A.
Русский и английский языковые миры в эстетике Иосифа
Бродского.
Материалы к библиографии
443
27. Perotto М. I. Brodskij. Versi dal viaggio delFanima // Spazio e tempo
nella letteratura russa del Novecento: atti del convegno, Bologna, 26—
27 feb. 1999. - Bologna, 2001. - P. 83-96.
2002
28. Андреева A. Просодия в теории и практике И. Бродского //
Zeitschrift für slavische Philologie. — 2002. — Bd. 61, H. 1. —
S. 137-147.
29. Бобрык P. Натюрморт в Натюрморте Бродского // Slavi-
caTergestina — Trieste, 2002. — [Vol.] 10: Литературоведение
XXI века. Письмо — Текст — Культура. — С. 269—291.
30. Волгина А. Автоперевод стихотворения И. Бродского «Мы жили
в городе цвета окаменевшей водки...» как вариант «петербургского текста» // LIV Герценовские чтения: Единство и национальное своеобразие в мировом литературном процессе: Материалы конф. — СПб., 2002. — С. 67—69.
31. Орлов С. Подтексты в стихотворении Иосифа Бродского «Что
ты делаешь, птичка, на черной ветке...» // Текст художественный: в поисках утраченного: Междисциплинар. семинар-5:
Сб. науч. материалов. — Петрозаводск, 2002.— Вып. 1.—
С. 206-213.
32. Орлова О. В. Коммуникативные аспекты лексической репрезентации концепта язык в лирике И. Бродского: Автореф. дис.
... канд. филол. наук / Том. гос. пед. ун-т. — Томск, 2002. — 25 с.
33. Орлова О. В. «Скрип пера в тишине по бумаге»: Один из образов письменной речи в поэзии И. Бродского // Коммуникативные аспекты языка и культуры: Сб. науч. ст. и тез. II Межвуз.
науч.-практ. конф. студ., аспирант, и молод, учен. — Томск,
2002. - С. 83-86.
34. Тшло М. С. Художнш cbít Йосипа Бродського: прийоми ство-
рення образ1в та жанрово-стилыш пошуки: Автореф. дис. ...
канд. фшол. наук / Тавр. нац. ун-т ím. В. I. Вернадського. —
Омферополь, 2002. — 20 с.
35. Тихомиров С. В. «Пятая годовщина» И. Бродского на фоне русской литературной традиции // Тихомиров С. В. Творчество
как исповедь бессознательного: Чехов и другие (Мир художника — мир человека: психология, идеология, метафизика). — М.,
2002. - С. 55-60.
36. Friedberg N. «Foreign Flavor» in Brodsky’s Verse // Meter, Rhythm
and Performance — Metrum, Rhythmus, Performanz: Proc. of the
Intern. Conf. on Meter, Rhythm a Performance, held in May 1999
at Vechta — Frankfurt/Main, 2002. — P. 373—383. — (Linguistik
Intern.; 6).
444
Поэтика Бродского
37. Könönen М. ‘Infernal’ subtexts in Brodsky’s poem The fifth anniversary // Tp. по знаковым системам. — Tartu, 2002. —
Vol. 30.2. - P. 677-694.
38. Niero A. Brodskij e Quasimodo: appunti su un nesso russo-italiano //
Iosif Brodskij: un crocevia fra culture: materiali dell’incontro inter-
nazionale, Venezia 25—26 mag. 2000. — Bergamo, 2002. — P. 27—46.
39. Niero A. Iosif Brodskij tradotto «alia Montale»? // Le questioni del
tradurre: comunicazione, comprensione, adeguatezza traduttiva e
ruolo del genere testuale: atti del Convegno Intern, tenuto a Forli il
29 nov. - 1 die. 2001. - Roma, 2002. - P. 315-330.
40. Pavan S. Un poeta e la lingva: Iosif Brodskij // Quaderni del
Dipartimento di Lingüistica [Universitá di Firenze]. — 2002. —
[Vol.] 12.-P. 151-167.
2003
41. Ахапкин Д. Н. «Север» в поэзии Иосифа Бродского // Северный текст в русской культуре: Материалы Междунар. конф.,
Северодвинск, 25—27 июня 2003 г. — Архангельск, 2003. —
С. 86-100.
42. Глазунова О. И. Литовская тема в поэзии Иосифа Бродского
(о стихотворении «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова») //
Рус. яз. за рубежом. — 2003. — № 3. — С. 90—99.
43. Глазунова О. И. Литовская тема в поэзии Иосифа Бродского
(о стихотворении «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова») //
Рус. яз. за рубежом. — 2003. — № 4. — С. 82—90 (окончание).
44. Другова И. Культурные традиции в русской литературе XX века.
На материале поэзии Иосифа Бродского // PHILOLOGICA
LVII. Tradicie a perspektivy rusistiki. Filozofícká fak. Univ. Komen-
ského Bratislava — Bratislava, 2003. — S. 301—305.
45. Заикина М. В. Время — Империя — Человек в стихотворении
И. Бродского «Торс» // Юдинские чтения — 2003: Миф, фольклор, литература: Материалы Всерос. науч. конф., посвящ. памяти Ю. И. Юдина (Курск, 17 апр. 2003 г.). — Курск, 2003. —
С. 121-124.
46. Клоц Я. Л. Воссоздание уровневой структуры поэтического текста при переводе поэзии И. Бродского: Уровень буквы // Университетское переводоведение. — СПб., 2003. — Вып. 4: Материалы IV Междунар. науч. конф. по переводоведению «Федоровские чтения», 24—26 окт. 2002 г. — С. 178—184.
47. Козлов В. И. Родной и чужой язык в цикле И. Бродского
«Часть речи» // Литература в диалоге культур: Материалы междунар. науч. конф. (Ростов-на-Дону, 18—21 окт.
2003 г.). - Ростов н/Д, 2003. - С. 117-119.
48. Колесникова Э. «Политический текст» Иосифа Бродского: Материалы к исследованию. — М.: МАКС Пресс, 2003. — 136 с.
Материалы к библиографии
445
49. Колобаева JI. Поэтика жанра «некролога» в лирике Иосифа
Бродского // Шестое чувство. Памяти Павла Вячеславовича
Куприяновского: Сб. науч. ст. и материалов. — Иваново,
2003. - С. 167-178.
50. Панарина М. А. Нетождественная строфика и маргинальные
формы как проблема описания строфических моделей новейшего русского стиха 1960—1990-гг. (на материале творчества
И. Бродского и И. Жданова) // Проблемы литературы XX века:
в поисках истины: Сб. материалов по результатам Всерос. науч.
конф. молод, учен. «Проблемы литературы XX века». — Архангельск, 2003. — С. 264—278.
51. Подгорская А. В. Эволюция рождественского мотива в лирике
И. Бродского // Наука — вуз — школа: Сб. науч. тр. молод, ис-
след. — Магнитогорск, 2003. — Вып. 8. — С. 274—279.
52. Романова И. В. К вопросу о коммуникативном статусе лирики // Смоленские говоры — литературный язык — культура:
Сб. науч. тр. — Смоленск, 2003. — С. 272—282. — Из содерж.:
[На материале поэзии Б. JI. Пастернака и И. А. Бродского].
53. Романова И. В. О двух моделях коммуникации: поэма-мисте-
рия И. Бродского «Шествие» // Двадцатый век — двадцать первому веку: Юрий Михайлович Лотман: Материалы междунар.
семинара. — Смоленск, 2003. — С. 69—80.
54. Романова И. В. Проблема коммуникативного статуса лирики
(на материале лирики Пастернака и Бродского) // Первые Ав-
раамиевские чтения: Материалы науч.-практ. конф. — Смоленск, 2003. — С. 108—119.
55. Рыбальченко Т. Л. Образ Америки в поэзии И. Бродского //
Американские исследования в Сибири. — Томск, 2003. —
Вып. 7: Материалы Всерос. науч. конф. «Мир и общество в ситуации фронтира: проблемы идентичности». — С. 147—163.
56. Grygiel М. Cziowiek jako podstawowa wartosc poetycka wczesnej
twórczosci Josifa Brodskiego // Roczniki humanistyczne. — Lublin,
2003. — T. 51, z. 7: Siowianoznawstwo. — S. 77—89. — (T-wo nauk.
Katolickiego Uniw. Lubelskiego).
57. Madloch J. Fotografía w poezji — poezja w fotografii (na przykiadzie
twórczosci Josifa Brodskiego) // Przegl^d Rusycystyczny. — 2003. —
Nr. 2. - S. 60-69.
58. Niero A. Iosif Brodskij e l’«episodio Saba» // Testo a fronte. —
2003. - N. 29. - P. 149-170.
59. Párli Ü. On postmodernism, «the stairs of avant-garde», and Brodsky // Тр. по знаковым системам. — Tartu, 2003. — Vol. 31.2. —
P. 483-498.
60. Pavan S. About the Concept of «Muse» in Brodsky’s Poetics //
Contributi italiani al XIII Congresso internazionale degli Slavisti
(Ljubljana, 15—21 agosto 2003). — Pisa, 2003. — P. 515—539.
446
Поэтика Бродского
61. Scherr В. P. False Starts: A Note on Brodsky’s Poetics // Toronto
Slavic Annual. - 2003. - Vol. 1. - P. 197-204.
62. Scherr B. P. False Starts: A Note on Brodsky’s Poetics // Toronto
Slavic Quarterly: Acad. Electronic J. in Slavic Studies. — 2003. —
No. 5. — Режим доступа: // http://www.utoronto.ca/tsq/05/sch
err05.shtml. — Загл. с экрана.
63. Smith A. The Picaro myth in the Leningrad alternative writing of the
sixties: Andrei Bitov, Joseph Brodsky and Alexander Kushner // Austral. Slavonic a East Europ. Studies. — 2003. — Vol. 17, Nos. 1/2. —
P. 79-99.
2004
64. Андреева А. Ранний акцентный стих И. Бродского // Русская
филология: Сб. науч. работ молод, филол. — Тарту, 2004. —
[Вып.] 15.-С. 146-151.
65. Витковская JI. В. С точки зрения поэта: «Образ автора» в ког-
ниостиле И. Бродского // Вестн. Пятигор. гос. лингв, ун-та. —
Пятигорск, 2004. — № 1. — С. 60—66.
66. Власов К. А. Поэтика и эстетика билингвизма в «Элегии»
И. Бродского // Литература русского зарубежья, 1917—1939:
Новые материалы. — Орел, 2004. — Т. 1: Творчество И. Ф. Калинникова в мировом литературном процессе. — С. 151—155.
67. Галацкая Н. Вариация на «Тему с вариациями» // Telling forms:
30 essays in honor of Peter Alberg Jensen. — Stockholm, 2004. —
P. 68—83. — (Acta Univ. Stockholmiensis); (Stockholm Studies in
Russ. Lit.; 37).
68. Глазунова О. И. Парадоксы восприятия поэзии Иосифа Бродского // Рус. лит. — 2004. — № 2. — С. 244—255.
69. Желнов А. Возвращение. О последнем стихотворении Иосифа
Бродского // Знамя. — 2004. — № 9. — С. 207—211.
70. Жолковский А. Инфинитивное письмо и анализ текста: «Леик-
лос» Бродского // Поэтика исканий, или Поиск поэтики: Материалы Междунар. конф.-фестиваля «Поэт. яз. рубежа XX —
XXI вв. и соврем, лит. стратегии» (Москва, 16—19 мая
2003 г.). - М., 2004. - С. 132-150.
71. Загороднева А. Р. Русский и английский языки в творчестве
И. Бродского // Речь. Речевая деятельность. Текст: Межвуз. сб.
науч. тр. — Таганрог, 2004. — С. 198—202.
72. Йованович М. «Рождественские» стихи И. Бродского: вопросы
циклизации // Избр. тр. по поэтике русской литературы. —
Белград, 2004. — С. 485—498.
73. Клоц Я. Л. «Горбунов и Горчаков» Иосифа Бродского versus
“Gorbunov and Gorchakov” by Joseph Brodsky // Университетское переводоведение. — СПб., 2004. — Вып. 5: Материалы
Материалы к библиографии
447
V Междунар. науч. конф. по переводоведению «Федоровские
чтения», 23—25 окт. 2003 г. — С. 145—161.
74. Крылова Л. А. Пространственно-временная организация стихотворения И. Бродского «Ниоткуда с любовью...» // Рациональное и эмоциональное в языке и речи: средства и способы
выражения: Межвуз. сб. науч. тр. — М., 2004. — С. 169—172.
75. Лебедева М. Н. Ахматова и Бродский / Мар. гос. пед. ин-т им.
Н. К. Крупской. — Йошкар-Ола, 2004. — 74 с.
76. Мирзоян С. В. Библия в понимании И. Бродского // Библия и
национальная культура: Межвуз. сб. науч. ст. и сообщ. —
Пермь, 2004. - С. 238-241.
77. Мищенко Е. В. «Большая элегия Джону Донну» Иосифа Бродского (типы и формы выражения авторского сознания) //
Проблемы интерпретации в лингвистике и литературоведении:
Материалы Третьих филол. чтений, 28—29 нояб. 2002 г. — Новосибирск, 2004. — Т. 2: Литературоведение. — С. 224—226.
78. Наседкина Н. В. Особенности контекстуальной семантической
структуры лексемы «пространство» в текстах стихотворений
И. Бродского // Язык русской литературы XX века: [Сб. ст.]. —
Ярославль, 2004. — Вып. 2. — С. 105—113.
79. Орлов С. В. Странные сближения: «Евгений Онегин» (третья и
седьмая главы) и «На смерть Роберта Фроста» Бродского //
Звукомир художественного текста: Междисциплин. семинар-7:
Сб. науч. материалов. — Петрозаводск, 2004. — С. 182—189.
80. Орлова О. В. Моделирование ассоциативно-смыслового поля
«язык» в узусе и в лирике И. Бродского // Поэтическая картина мира: слово и концепт в лирике Серебряного века: Материалы VII Всерос. науч.-практ. семинара (27 апр. 2004 г.). —
Томск, 2004. - С. 110-116.
81. Перепелкин М. А. «Сны» Иосифа Бродского // Славянский
мир: общность и многообразие: Материалы обл. науч.-метод,
конф. преподав, истории, яз. и культуры славян, народов. —
Самара, 2004. — С. 91—93.
82. Пироговская М. Ритм и смысл: пятистопный ямб Иосифа Бродского // Русская филология: Сб. науч. работ молод, филол. —
Тарту, 2004. - [Вып.] 15. - С. 152-161.
83. Пронин В. А. Гёте и Бродский: «Римские элегии» // Гёте в русской культуре XX века. — 2-е изд., доп. — М., 2004. — С. 201 —
209.
84. Романова И. В. «Почта в один конец»: Коммуникативная структура лирики И. Бродского 1957—1978 гг. // Русская филология. — Смоленск, 2004. — С. 206—220. — (Учен. зап. / Смолен,
гос. пед. ун-т; Т. 9).
448
Поэтика Бродского
85. Романова И. В. «У меня всегда есть какое-то ощущение формы»:
Синтаксический перенос в поэзии И. Бродского 1970-х гг. //
Вторые Авраамиевские чтения: Материалы науч.-практ. конф.
(27—28 окт. 2004 г.). — Смоленск, 2004. — С. 164—169.
86. Самойлова И. Ю. Глагол в поэтическом языке И. Бродского //
Весн. Гродзен. дзярж. ун-та 1мя Яню Купалы. Сер. 1. — Грод-
на, 2004. - № 4. - С. 117-121.
87. Самойлова И. Ю. Языковые эксперименты Иосифа Бродского: окказиональные фреймы в поэзии // Там же. — С. 164—169.
88. Семенов В. Иосиф Бродский в северной ссылке: поэтика автобиографизма. — Tartu: Tartu Ülikooli kirjastus, 2004. — 172,
[4] с. — (Diss. philologiae Slavicae Univ. Tartuensis; 14).
89. Смахтина H. Г. Соотношение актуализированных разноязычных лексиконов поэта-билингва в условиях авторского перевода: (на примере творчества И. Бродского): Автореф. дис. ...
канд. филол. наук / Орлов, гос. ун-т. — Орел, 2004. — 18 с.
90. Тарасова И. А. От «мухи» до «ястреба»: текстовый концепт
как результат интерпретации (на материале поэзии И. Бродского) // Интерпретатор и текст: проблема ограничений в интерпретационной деятельности: Материалы Пятых филол.
чтений (20—22 окт. 2004 г.). — Новосибирск, 2004. — Ч. 1. —
С. 127-132.
91. Тищенко О. В. К вопросу об использовании иноязычных слов
(на примере поэзии И. А. Бродского) // Язык русской литературы XXвека: [Сб. ст.]. — Ярославль, 2004. — Вып. 2. — С. 121—
129.
92. Фокин А. А. Коммуникативная организация поэзии И. Бродского в свете антропологической поэтики // Язык, культура и
образование в контексте этнической ментальности: Материалы Всерос. науч. конф., 29 июня—1 июля. — Славянск-на-Кубани, 2004. - С. 127-131.
93. Фокин А. А. «Римские элегии» И. Бродского: в контексте поэтических традиций // Рус. яз. и межкульт. коммуникация. —
2004. -№ 1.-С. 98-106.
94. Цегельник И. Е. Семантическая нагруженность серого цвета в
творчестве И. Бродского // Функционально-системный подход
к исследованию языковых единиц разных уровней: Материалы
межвуз. науч. конф., посвящ. юбилею проф. Ю. Н. Власовой. —
Ростов н/Д, 2004. - С. 192-193.
95. Чевтаев А. А. И. Бродский и А. Кушнер (к вопросу о характере
лирического субъекта) // Классика и современность: актуальность, традиции, новаторство: Материалы регион, науч.-
практ. конф., 20—22 нояб. 2003 г. — Мурманск, 2004. — Т. 1. —
С. 41-43.
Материалы к библиографии
449
96. Dialog, gra, intertekst w literaturach wschodmosiowianskich / Pod.
red. H. Mazurek. — Katowice: Wydaw. Uniw. Sl^skiego, 2004. —
256 s. — Из содерж.: Tarkowska J. Poetika misterium w peters-
burskim tekscie Josifa Brodskiego (poemat Шествие); Степанов A.
О семантике 6-стопных ямбических катренов в посвящениях
Иосифа Бродского; Артемова С. Минус-посвящение как маркер коммуникации послания (Иосиф Бродский Письмо в
оазис). — S. 124—149.
97. Grygiel М. Biblijne motywy chrystologiczne we wczesnej poezji
Josifa Brodskiego 11 Roczniki humanistyczne. — Lublin, 2004. —
T. 52, z. 7: Siowianoznawstwo. — S. 61—75. — (T-wo nauk. Kato-
lickiego Uniw. Lubelskiego).
98. Helbig H. Fussnoten zu einem Farn. Zu Joseph Brodskys Umgang
mit zwei Versen von Peter Huchel // Jahrbuch der deutschen
Schillergesellschaft. — Stuttgart, 2003. — S. 376—404.
99. Herlth J. Ein Sänger gebrochener Linien. Iosif Brodskijs dichterische Selbstschöpfung. — Köln: Bohlau, 2004. — 435 S.
100. Herlth J. Iosif Brodskijs Literaturpolitik // Sprache, Literatur,
Politik. Ost- und Südosteuropa im Wandel. — Hamburg, 2004. —
S. 297-322.
101. Hughes R. P. Brodskij, Mandel’stam, and an Elegiac Epitaph //
Telling forms: 30 essays in honor of Peter Alberg Jensen. — Stockholm, 2004. — P. 144—155. — (Acta Univ. Stockholmiensis);
(Stockholm Studies in Russ. Lit.; 37).
102. Kyst J. Brodsky’s Bilingualism. Practice and Prehistory: Ph D diss.:
Univ. of Copenhagen, 2004.
103. Majmieskuiow А. Стихотворение Бродского «Кончится лето.
Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...» (к инверсии мотивов) // Dzieio literackie jako dzieio literackie = Литературное
произведение как литературное произведение. — Bydgoszcz,
2004. - S. 415-430.
104. Pärli Ü. О постмодернизме, «лестнице авангарда» и Бродском // Там же. — S. 257—267. — Из содерж.: [О пьесе
И. Бродского «Мрамор»]. — S. 264—266.
2005
105. Артёмова С. «Письмо в оазис» И. А. Бродского // Поэтика заглавия: Сб. науч. тр. — М.; Тверь, 2005. — С. 306—308.
106. Ахапкин Д. Еще раз о «чеховском лиризме» у Бродского //
Toronto Slavic Quarterly: A:ad. Electronic J. in Slavic Studies. —
2005. — No. 13. — Режим доступа: // http://www.utoronto.ca/tsq/
13/ahapkinl3.shtml. — Загл. с экрана.
107. Богомолова Н. Проблема синтаксической нормы в поэтических текстах И. Бродского // Русская филология: Сб. науч. работ молод, филол. — Тарту, 2005. — [Вып.] 16. — С. 161—167.
450
Поэтика Бродского
108. Бондарев А. Г. «Чайка» требует детектива (стихотворение
И. Бродского «Посвящается Ялте» как реакция на чеховский
текст) // Судьба жанра в литературном процессе: Сб. науч.
ст. — Иркутск, 2005. — Вып. 2. — С. 30—35.
109. Бродский: Книга интервью / Сост. В. Полухина. — 3-е изд.,
расш. и испр. — М.: Захаров, 2005. — 784 с., [6] л. ил.
110. Власов К. А. «Бегство в Египет» И. А. Бунина и И. А. Бродского // Творческое наследие И. А. Бунина: Традиции и
новаторство: Материалы Междунар. науч. конф., посвящ.
135-летию со дня рожд. И. А. Бунина, Орлов, гос. ун-т, 22—
24 сент. 2005 г. - Орел, 2005. - С. 198-201.
111. Власов К. А. Система стиха И. А. Бродского (проблемы метра
и ритма): Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Моск. пед. гос.
ун-т. — М., 2005. — 16 с.
112. Волгина А. С. Автопереводы Иосифа Бродского и их восприятие в США и Великобритании 1972—2000 гг.: Автореф. дис.
... канд. филол. наук / Рос. гос. гуман. ун-т. — М., 2005. — 21 с.
113. Вроон Р. Метафизика полета: «Осенний крик ястреба» Иосифа Бродского и его англоязычные источники // Шиповник:
Историко-филологический сборник к 60-летию Р. Д. Тимен-
чика. — М., 2005. — С. 48—64.
114. Гаврилова Н. С. История Америки в поэзии И. Бродского //
Русская литература в XX в.: имена, проблемы, культурный диалог. — Томск, 2005. — Вып. 7: Версии истории в русской литературе XX века. — С. 102—122.
115. Глазунова О. И. Иосиф Бродский: Американский дневник.
О стихотворениях, написанных в эмиграции. — СПб.: Изд-во
СПбИИ РАН «Нестор-История», 2005. — 374 с.
Содерж.: Вместо предисловия; «Похороны Бобо» и другие стихотворения; «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»;
«Все острова похожи друг на друга»; «Колыбельная Трескового мыса»; «Я входил вместо дикого зверя в клетку»; «Эклога 4-я (зимняя)»; «Бог сохраняет все»; «На выставке Карла
Вейл инка»; Краски и свет в поэзии Бродского; Звуковые
метафоры в поэзии Бродского; Звуковые символы в поэзии Бродского; Бродский и политика; «Путешествие в Стамбул»; Комментарии; Алфавитный указатель стихотворений
И. Бродского.
116. Глазунова О. И. Мотивы оледенения и конца жизненного пути
в поэзии И. Бродского 80-х годов (о стихотворении «Эклога
4-я (зимняя)») // Рус. лит. — 2005. — № 1. — С. 241—253.
117. Глазунова О. Стихотворение Бродского «На смерть Жукова»:
к вопросу о гражданской позиции автора // Нева. — 2005. —
№ 5. - С. 237-247.
Материалы к библиографии
451
118. Глебович Т. А. Трансформация классических жанров в поэзии
И. Бродского: эклога, элегия, сонет: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2005. — 26 с.
119. Гордин Я. В сторону Стикса. Большой некролог. — М.: Новое
лит. обозрение, 2005. — I.: Величие замысла. Заметки об
Иосифе Бродском. — С. 9—76. — Из содерж.: Жизнь как замысел; Трагедийность мировосприятия; Диалог поэтов (Три
письма Ахматовой к Бродскому); Странник; Жизнь на воздушном потоке; «Наше дело — почти антропологическое»;
Дверь в пустоту; Величие замысла.
120. Горпиняк П. А. Трансформация жанра элегии в поэзии XX века: Опыт анализа «Римских элегий» И. А. Бродского сквозь
призму текстов Овидия и Гете // Литература в контексте современности: Материалы II Междунар. науч. конф., Челябинск, 25—26 февр. 2005 г. — Челябинск, 2005. — Ч. 1. —
С. 147-151.
121. Ефимов И. Нобелевский тунеядец: [Об Иосифе Бродском]. —
М.: Захаров, 2005. — 176 с. — Из содерж.: Крысолов из Петербурга. Христианская культура в поэзии Бродского; «Хоть пылью коснусь дорогого пера». Предисловия Бродского к поэтическим сборникам современников.
122. Захарьян Н. А. М. Цветаева и И. Бродский: невербальные компоненты стиля: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Иванов,
гос. ун-т. — Иваново, 2005. — 16 с.
123. Зацепин К. А. Сборник «Меньше единицы» И. Бродского:
Проблема коммуникативно-риторических стратегий // Памяти профессора В. П. Скобелева: проблемы поэтики и истории
русской литературы XIX—XX веков: Междунар. сб. науч. ст. —
Самара, 2005. — С. 136—144.
124. Измайлов Р. Философия времени и пространства в раннем
творчестве И. Бродского (1957—1961 гг.) // Философские проблемы художественного творчества: [Сб. ст.]. — Саратов,
2005. - С. 37-45.
125. Иосиф Бродский и англоязычный мир // Вопр. лит. — 2005. —
№ 3. — С. 153—244. — Из содерж.: Козлов В. Непереводимые
годы Бродского. Две страны и два языка в поэзии и прозе
И. Бродского 1972—1977 годов; Волгина А. Иосиф Бродский/
Joseph Brodsky; Свердлов М., Стафъева Е. Стихотворение на
смерть поэта: Бродский и Оден.
126. Иосиф Бродский: стратегии чтения: Материалы Междунар.
науч. конф., 2—4 сент. 2004 г., Москва / Редкол.: В. Полухи-
на, А. Корчинский, Ю. Троицкий. — М.: Изд-во Ипполитова, 2005. — 521 с.
452
Поэтика Бродского
Содерж.: Предисловие; Приветственное слово ректора
РГГУ Валерия Минаева; Тюпа В. Нобелевская лекция Бродского как манифест неотрадиционализма; Бройтман С. Авторская позиция в лирике Бродского (на материале книги «Часть
речи»); Ким Хюн Еун. Метатекст у И. Бродского и концепция
диалога М. Бахтина; Артемова С. О специфике адресата в посланиях И. Бродского; Радбилъ Т. «Речь от второго лица»: образ адресата в лирике Бродского; Корчинский А. Иосиф Бродский: «композиция» как темпоральный парадокс; Майер X.
«Я трачу, что осталось в русской речи... / Я вас любил»: само-
десталинизация Бродского как парадоксальное обогащение и
вульгаризация русского языка («Двадцать сонетов к Марии
Стюарт»); Ляпон М. Парадокс как отражение когнитивной
стратегии: Бродский и Цветаева; Тюкина С. Онтологический
каркас поэзии И. Бродского; Эйдинова В. «Частное» как
знак стиля Иосифа Бродского (стихи конца 1950-х — начала
1960-х годов); Николаев С. Иноязычие как метакомпонент стихотворных текстов И. Бродского (к вопросу о билингвеме в
поэзии); Высоцкая И. Грамматический синкретизм в поэзии
Бродского; Зельцер Э. К вопросу о героическом модусе художественности в лирике Бродского; Лекманов О. «Всадница
матраца»: об одном образе в одном несправедливом стихотворении И. Бродского; Соколов К. Об «устной» и «письменной»
парадигме творчества у Одена и Бродского; Максимова Н.
«Переоформление» как смыслопорождающая стратегия в эс-
сеистике И. Бродского; Зубова Л. Соперничество языка со временем: клише как объект внимания в стихах Бродского;
Клоц Я. «Новое слово» И. Бродского; Кузнецов И., Максимова Н. «Слово раскатывается словами...»: внутреннее жанровое
нормирование эссеистики И. Бродского; Федотов О. Поэт и
бессмертие (элегии «на смерть поэта» в лирике Иосифа Бродского); Орлицкий Ю. Стиховое начало в русской прозе Бродского; Панарина М. Нетождественная строфика и маргинальные формы в творчестве И. Бродского; Андреева А. Подражания и пародии на И. Бродского в современной литературе: стиховедческий аспект; Дарвин М. «Римские элегии»
И. Бродского как цикл (заметки и наблюдения); Александрова А. Эволюция архетипа воды в творчестве И. Бродского на
примере образа моря (океана); Степанян Е. «Скульптурность»
и «мраморность» в поэзии Бродского; Разумовская А. «Сидя в
тени» И. Бродского: текст и контекст; Яницкий Л. Религиозномифологические мотивы в стихотворении Бродского «Я был
только тем, чего...»; Уайссборт Д. Бродский по-английски;
Юланд К Иосиф Бродский и американская поэзия (1986—
1996); Кружков Г. Сходство зазубрин: «Строфы» Бродского и
Материалы к библиографии
453
«Строки» Шелли; Маранцман В. Античные и библейские мотивы в поэзии И. Бродского; Рамузино 77. К Бродский и Проперций: в поиске подтекста; Фунту сова Т. Бродский и Вергилий: диалог в эклогах; Ниеро А. Иосиф Бродский и Сальваторе Квазимодо; Гелъфонд М. «Урания» Бродского и «Сумерки»
Боратынского; Медведев А. «Сретенье» Иосифа Бродского:
встреча с Анной Ахматовой; Кантор А. «Подлинный крик
помощи»: Иосиф Бродский и Исайя Берлин; Волчкевич М.
Иосиф Бродский: время жизни и жизнь во времени; Мей-
лах М. Разговор с Иосифом Бродским летом 1991 года; Пет-
рушанская Е. Бродский о памятнике музыканту; Петрушан-
ская Е. Бродский: воспоминание о Чайковском; Кулишова И.
Бродский и Азия: метафизическая несовместимость; Степанов А. Две «Горы»: диалог Бродского с Цветаевой; Полухина В.
Материалы к биографии: «Бродский глазами современников»;
Хейфец М. Иосиф Бродский и моя судьба; Бойко С. Поэзия
Бродского в восприятии современников; Поэтика И. А. Бродского: Материалы к библиографии.
127. Ким Хён Ён. Строфика И. Бродского как автометаописание (на
материале цикла «Двадцать сонетов к Марии Стюарт») // A:ta
Slavica Iaponica: J. of Slavic Research Center, Hokkaido Univ. —
2005. - Vol. 22. - P. 177-187.
128. Клейман P. «Блуждает выговор еврейский» (иудейская составляющая творческого мира Иосифа Бродского) // Материалы
Двенадцатой Ежегод. Междунар. Междисциплинар. конф. по
иудаике. — М., 2005. — Ч. 1. — С. 326—336. — (Академ, сер.;
Вып. 18).
129. Ковалева И. И. К. П. Кавафис и Иосиф Бродский: параллели // Научные доклады филологического факультета МГУ. —
М., 2005. - Вып. 5. - С. 59-62.
130. Коваленко А. Г. Антиномические метаморфозы И. Бродского // Современная русская литература: проблемы изучения и
преподавания: Сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ.
конф., 2—4 марта 2005 г., г. Пермь: В 2 ч. — Пермь, 2005. —
Ч. 1.- С. 237-243.
131. Корчинский А. В. Опыт письма и «сублимация» времени в эс-
сеистике И. Бродского // Критика и семиотика. — 2005. —
Вып. 8.- С. 220-231.
132. Костромина Ю. И. Лингвистическое исследование поэтической рифмы в раннем творчестве И. Бродского: Автореф. дис.
... канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. —
Екатеринбург, 2005. — 22 с.
133. Крылова С. В. Своеобразие любовной лирики И. Бродского
(к вопросу о сюжетности сборника «Новые стансы к Августе») // Вестн. Волж. ун-та им. В. Н. Татищева. Сер. Филоло¬
454
Поэтика Бродского
гия. — Тольятти, 2005. — Вып. 5: К 10-летию Волж. ун-та
им. В. Н. Татищева. — С. 135—144.
134. Лейдерман Н. Л. «Свет ниоткуда» (И. Бродский. Лирика) //
Лейдерман Н. Л. Постреализм: Теоретический очерк. — Екатеринбург, 2005. — С. 184—214.
135. Лучников М. Ю. Стихотворение И. Бродского «Классический балет есть замок красоты...»: Функция литературной
цитаты // Дискурсивность и художественность: К 60-летию
Валерия Игоревича Тюпы: Сб. науч. тр. — М., 2005. —
С. 299-310.
136. Мальцева О. А., Андриевских Н. И. Литературные связи в
англоязычной поэзии Иосифа Бродского // Вопросы теории языка и литературы и проблемы методики преподавания: Межкафедрал. сб. науч. тр. — Курган, 2005. —
С. 60-65.
137. Мирзоян С. В. Лингвистическая относительность в понимании И. Бродского // Язык. Текст. Дискурс: Межвуз. науч.
альм. — Ставрополь; Пятигорск, 2005. — Вып. 3. — С. 258—
266.
138. Николаев С. Послетекстовый топоним как элемент семантической структуры стихотворения И. Бродского // Поэтика заглавия: Сб. науч. тр. — М.; Тверь, 2005. — С. 259—270.
139. Онуфриева Н. И. Функция коранических мотивов в поэме
И. Бродского «Речь о пролитом молоке» // Россия и общества
Востока: динамика социального развития, политические отношения, межкультурная коммуникация: Материалы межвуз.
науч. семинара. — Уфа, 2005. — С. 70—77.
140. Перепелкин М. Бездны на краю. И. Бродский и В. Высоцкий:
диалог художественных систем. — Самара: Изд-во «Самарский университет», 2005. — 175 с.
141. Перепелкин М. А. Проблема становления и структура «метафизического кода» в ранней лирике И. Бродского («В темноте у окна») // Памяти профессора В. П. Скобелева: проблемы
поэтики и истории русской литературы XIX—XX веков: Меж-
дунар. сб. науч. ст. — Самара, 2005. — С. 318—334.
142. Перепелкин М. А. «Я чувствую непобедимый “страх” ревизии
примет»: к вопросу о влиянии О. Мандельштама на И. Бродского // Диалектика рационального и эмоционального в искусстве слова: Сб. науч. ст. к 60-летию А. М. Буланова. — Волгоград, 2005. - С. 374-379.
143. Подгорская А. В. Иосиф Бродский и русская рождественская
поэзия: Автореф. дис.... канд. филол. наук / Магнитогор. гос.
ун-т. — Магнитогорск, 2005. — 19 с.
Материалы к библиографии
455
144. Разумовская А. И. Бродский: метафизика сада. — Псков:
Псков, гос. пед. ун-т, 2005. — 112 с.
Содерж.: Введение; Глава 1. «...Поэт там начинает, где
предшественник кончил»: истоки образа; Глава 2. Сад как
среда обитания лирического героя И. Бродского; Глава 3. Растительный мир И. Бродского; Глава 4. Статуи и фонтаны в
творчестве И. Бродского; Глава 5. «...Заявившись в Люксембургский сад»: Поэт в культурно освоенном пространстве;
Глава 6. Размышление о будущем: «Сидя в тени»; Заключение.
145. Ранчин А. М. Всадник мертвый и коня белеющего бег в поэме
И. А. Бродского «Петербургский роман» // Рус. речь. —
2005. -№ 1.-С. 42-45.
146. Романова И. В. Особенности коммуникативной структуры лирики И. Бродского // Художественный текст и текст в массовых коммуникациях—2: Материалы междунар. науч. конф.:
[В 2 ч.]. — Смоленск, 2005. — Ч. 2. — С. 104—113.
147. Романова И. В. «Прощальная ода» И. Бродского в свете моделей коммуникации Ю. М. Лотмана // Язык. Человек. Культура: Материалы междунар. науч.-практ. конф., 21—23 марта
2005 г., Смоленск: В 2 ч. — Смоленск, 2005. — Ч. 1. — С. 290—
297.
148. Ряпина Т. В. Отражение языковой матрицы в структуре переводного текста (Иосиф Бродский по-польски и по-немецки) // Славяноведение. — 2005. — № 6. — С. 77—86.
149. Скоробогатова Е. А. Семантика единственного числа существительного в поэзии И. Бродского // Теория и практика современной русистики в мировом контексте: Междунар. сб.
науч. ст.: [В 2 т.]. — Белгород, 2005. — Т. 1. — С. 130—134.
150. Томаси М. Грамматика прощания. Поэтика семьи в творчестве
Иосифа Бродского // Детская литература и воспитание: Сб.
науч. тр. Междунар. науч.-практ. конф. «Детская литература
и воспитание», Тверь, 12—14 мая 2005 г. — Тверь, 2005. —
Вып. 2. - С. 241-245.
151. Усачева А. С. О некоторых аспектах соотношения эмоционального и рационального в поэтических текстах И. Бродского // Диалектика рационального и эмоционального в искусстве слова: Сб. науч. ст. к 60-летию А. М. Буланова. —
Волгоград, 2005. — С. 369—373. — Из содерж.: [Об употреблении восклицательного знака в произведениях И. Бродского].
152. Усачева А. С. Пространство в «зимнем» тексте лирики
И. Бродского // Восток — Запад: пространство русской литературы: Материалы Междунар. науч. конф. (заоч.), Волгоград,
25 нояб. 2004 г. — Волгоград, 2005. — С. 500—507.
456
Поэтика Бродского
153. Фараджев К. В. Творческий эгоцентризм и преображенная инфантильность. Анализ произведений Ф. Кафки, А. Платонова, А. Чехова, М. Цветаевой, И. Бродского. — М.: Собрание,
2005. — 168 с. — Из содерж.: Метафизика одиночества в поэзии И. Бродского. — С. 139—166.
154. Фунтусова Т. А. Жанровые стратегии И. Бродского как феномен литературного сознания // Литература в контексте современности: Материалы II Междунар. науч. конф., Челябинск,
25—26 февр. 2005 г.: В 2 ч. — Челябинск, 2005. — Ч. 2. —
С. 125-128.
155. Хасэгава А. Два античных «малых» жанра у И. Бродского (взаимоотношение между элегией и эклогой) // Русская культура: Бюл. ассоц. русистов ун-та ВАСЭДА. — 2005. — № 12. —
С. 78—89. — Яп. яз.
156. Худенко Е. А., Винокурова Е. А. Автоперевод и его особенности у И. Бродского: «Я родился и вырос в балтийских болотах...» // Текст: проблемы и методы исследования: Межвуз. сб.
науч. ст. — Барнаул, 2005. — С. 122—132.
157. Чевтаев А. А. Репрезентация события в лирическом нарративе Иосифа Бродского // Studia Slavica — Ostrava, 2005. —
Vol. 9. - S. 93-104.
158. Чевтаев А. А. Структура повествования в стихотворении
И. Бродского «Новый Жюль Верн» // Филологические записки: Материалы Герцен, чтений. — СПб., 2005. — С. 53—58.
159. Эйдинова В. В. «Частное» как сигнал стиля Иосифа Бродского и мелодика его стиха // Современная русская литература:
Проблемы изучения и преподавания: Сб. ст. по материалам
Междунар. науч.-практ. конф., 2—4 марта 2005 г., г. Пермь:
В 2 ч. - Пермь, 2005. - Ч. 1. - С. 40-46.
160. Яковлева И. П. Пьеса И. Бродского «Мрамор»: попытка интерпретации // Чтения, посвященные дням славянской письменности и культуры: Сб. ст. по материалам Междунар. науч.
конф., Чебоксары, 23—24 мая 2004 г. — Чебоксары, 2005. —
С. 276-279.
161. Grygiel М. Poetycki swiat wartosci Josifa Brodskiego. Twórczosc
okresu 1957—1972. — Lublin: T-wo nauk. Katolickiego Uniw.
Lubelskiego, 2005. — 207, [1] s. — (Pr. Wydz. Hist.-Filol. / T-wo
nauk. Katolickiego Uniw. Lubelskiego; 115).
162. Pawletko B. Josif Brodski i Tomas Venclova wobec emigracji. —
Katowice: Sl^sk, 2005. — 219 s. — (Biblioteka Przegl^du Rusy-
cystycznego; Nr. 11).
163. Reynolds A. Returning the Ticket: Joseph Brodsky’s «August» and
the End of the Petersburg Text? // Slavic Rev. — 2005. — Vol. 64,
No. 2. - P. 307-332.
Материалы к библиографии
457
164. Smith G. S. Joseph Brodsky: Summing Up // Literary Imagination. - 2005. - Vol. 7, No. 3. - P. 399-410.
165. Venclova T. An Initiation to Europe: Joseph Brodsky’s Königsberg
Poems // Osteuropa — 2005. — Sketches of Europe. — S. Ill—
148.
2006
166. Абель И. Прощальный выход // Знамя. — 2006. — № 3. —
С. 191 —194. — Из содерж.: [О стихотворении И. Бродского
«Клоуны разрушают цирк. Слоны убежали в Индию...»].
167. Бурдина Е. А. Ассоциативно-семантическое наполнение ключевых лексем «время» и «пространство» в лирике И. А. Бродского // Семантика языковых единиц разных уровней: [Сб.
ст.]. - Калуга, 2006. - С. 17-24.
168. Бутакова JI. О. Репрезентация пространственного фрагмента
художественной модели мира И. Бродского // Языковая
картина мира: лингвистический и культурологический аспекты: Материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (Бийск,
30 нояб. — 1 дек. 2006 г.). — Бийск, 2006. — С. 58—65.
169. Винокурцева Е. А. Автоперевод в творчестве И. Бродского (на
материале стихотворной пары «Деревянный лаокоон, сбросив
на время...» / «The Laocoon of a tree, casting the mountain
weight...») // Научные труды молодых ученых-филологов: Сб.
ст. студен, и аспиран. по материалам науч. конф. Всерос. форума молод, учен.-филол. «Родная речь — Отечеству основа»,
18-21 окт. 2006 г. - М., 2006. - С. 113-117.
170. Гельфонд М. М. Внерациональное в лирике Бродского: «Строфы» // Грехнёвские чтения: Сб. науч. тр. — Н. Новгород,
2006. - Вып. 3. - С. 72-77.
171. Глазунова О. И. Люди и Боги. О стихотворении «Вертумн»
Бродского. — СПб.: Филол. фак. СПбГУ, 2006. — 140 с.
172. Гой Т., Киршбаум Г. Иосиф Бродский и Петер Хухель: к постановке вопроса // Studia Slavica: Сб. науч. тр. молод, филол. — Таллинн, 2006. — [Вып.] 6. — С. 9—17.
173. Гулина А. А. Время в пьесе И. А. Бродского «Мрамор» // Филологические этюды: Сб. науч. ст. молод, учен. — Саратов,
2006. - Вып. 9, ч. 1/2. - С. 75-79.
174. Долинин А. Воздушная могила: О некоторых подтекстах стихотворения Иосифа Бродского «Осенний крик ястреба» // Эт-
киндовские чтения II—III: Сб. ст. по материалам Чтений памяти Е. Г. Эткинда. — СПб., 2006. — С. 276—292.
175. Измайлов Р. Р. Тема Рождества в поэзии И. Бродского // Интерпретация семантических отношений текста: Межвуз. сб.
науч. тр. — Саратов, 2006. — С. 85—106.
458
Поэтика Бродского
176. Измайлов Р. Р. Хронос и Топос: поэтический мир И. Бродского. — Саратов: Науч. книга, 2006. — 128 с.
177. Калашников С. Б. Иосиф Бродский // Литература русского
зарубежья (1920—1990): Учеб. пособие. — М., 2006. —
С. 598-631.
178. Касавин И. Т. Замечания по поводу примечания к комментарию: контексты одного эссе Иосифа Бродского // Вопр. философии. — 2006. — № 4. — С. 56—70. — Из содерж.: [Об эссе
И. Бродского, посвященного сопоставлению стихотворений
Б. Пастернака и М. Цветаевой о Магдалине].
179. Кёнёнен М. «Fin de siècle» а-ля Иосиф Бродский и Итало Каль-
вино // История и повествование: [Сб. ст.]. — М., 2006. —
С. 521-542.
180. Кидярова E. Е. Способы авторского перевода на английский
язык фразеологических единиц в поэзии Иосифа Бродского // Межкультурное взаимодействие: проблемы и перспективы: Материалы Междунар. науч.-практ. конф., Кострома,
5—6 сент. 2006 г. — Кострома, 2006. — С. 110—113.
181. Ковалев О. А., Корнеев П. Г. «Ломаные линии» Иосифа Бродского: десятая строфа «Римских элегий» сквозь призму поэтической саморефлексии поэта // Художественный текст: варианты интерпретации: Тр. XI Всерос. науч.-практ. конф.
(Бийск, 12—13 мая 2006 г.): В 2 ч. — Бийск, 2006. — Ч. 1. —
С. 244-253.
182. Козлов В. И. Архитектоника художественного мира лирического произведения (на материале цикла И. Бродского
«Часть речи»): Автореф. дис.... канд. филол. наук/ Моск. пед.
гос. ун-т. — М., 2006. — 18 с.
183. Козлов В. И. Интерпретация последнего стихотворения
И. Бродского «Август» // Дергачевские чтения — 2004: Русская литература: национал, развитие и регион, особенности:
Материалы междунар. науч. конф., 2—3 окт. 2004 г. — Екатеринбург, 2006. — С. 236—239.
184. Королева Ю. И. Жанровые аспекты футурологической концепции И. Бродского в пьесе «Мрамор» // Филология и культура: Сб. ст. — Барнаул, 2006. — Вып. 3. — С. 61—65.
185. Лаврова С. Ю., Седова Е. В. Синестезия как форма метафо-
ризации перцептивных образов в поэзии И. Бродского // Слово. Словарь. Словесность: Из прошлого в будущее (к 225-летию A. X. Востокова): Материалы Всерос. науч. конф.,
Санкт-Петербург, 15—17 нояб. 2006 г. — СПб., 2006.—
С. 180-183.
186. Лосев В. В. И. А. Бродский (1940—1996) // Избранные имена. Русские поэты XX века: Учеб. пособие. — М., 2006. —
С. 266-274.
Материалы к библиографии
459
187. Лосев Л. Иосиф Бродский: Опыт литературной биографии. —
М.: Молодая гвардия, 2006. — 447[1] с.: ил. — (Жизнь замечат.
людей: Сер. биогр.; Вып. 1020).
188. Максимовских Н. «Извилистый синтаксис» эссеистики
И. Бродского // Дергачевские чтения — 2004: Русская литература: Национальное развитие и региональные особенности:
Материалы Междунар. науч. конф., 2—3 окт. 2004 г. — Екатеринбург, 2006. — С. 250—253.
189. Макфадьен Д. Подготовительная работа И. А. Бродского над
поэтической перепиской с Ахматовой в 1962 году // «Я всем
прощение дарую...»: Ахматовский сборник. — М.; СПб.,
2006. - С. 474-491.
190. Малофеева Н. С., Масленников Д. Б. Имена собственные в
стихотворениях Иосифа Бродского // Ономастика Поволжья:
Материалы X Междунар. конф., Уфа, 12—14 сент. 2006 г. —
Уфа, 2006. - С. 293-300.
191. Маслова Ж. Н. Еврейская тема в межкультурном освещении
(на материале стихотворений Г. Лонгфелло и И. Бродского) // Россия и современный мир: проблемы политического
развития: Материалы II Междунар. межвуз. науч. конф., 13—
14 апр. 2006 г.: [В 2 ч.]. - М., 2006. - Ч. 1. - С. 316-324.
192. Медведева Н. Г. «Муза утраты очертаний»: «Память жанра» и
метаморфозы традиции в творчестве И. Бродского и О. Седа-
ковой. — Ижевск: Ин-т компьютерных исслед., 2006. — 374 с.
193. Медведева Н. Г. «Отрывок» как жанровая форма в поэзии И. Бродского // Филологические записки. — Воронеж,
2006. - Вып. 25. - С. 152-166.
194. Минутина Ю. Город у раннего Бродского // Русская филология: Сб. науч. работ молод, филол. — Тарту, 2006. —
[Вып.] 17.-С. 108-112.
195. Онуфриева Н. И. Поэтическая рефлексия Иосифа Бродского
и «чужое» слово (судьба одного образа) // Антропоцентрическая парадигма лингвистики и проблемы лингвокультуроло-
гии: Всерос. науч. конф. с междунар. участием, 14 окт. 2005 г.:
Материалы докл. и сообщ.: В 2 т. — Стерлитамак, 2006. —
Т. 1. — С. 264—266. — Из содерж.: [О диалоге Бродского с Маяковским].
196. Панарина М. А. Нетрадиционные строфические формы в поэзии И. Бродского и его современников: Автореф. дис.... канд.
филол. наук / Самар, гос. пед. ун-т. — Самара, 2006. — 25 с.
197. Пахарева Т. А. «Язык огня» в поэзии И. Бродского // Проблемы поэтики русской литературы XX века в контексте культурной традиции: Материалы Междунар. науч. конф. (заоч.), Россия, г. Москва, 9 янв. 2006 г. — М., 2006. — С. 101—109.
460
Поэтика Бродского
198. Петрушанская Е. «Мне кажется, у нас есть общие принципы...»: Иосиф Бродский — Альфред Шнитке // Альфреду
Шнитке посвящается.... — М., 2006. — Вып. 5. — С. 255—278.
199. Подгорская А. В. Последнее рождественское стихотворение
И. Бродского («Бегство в Египет» 1995 г.) // Языкознание и
литературоведение в синхронии и диахронии: Межвуз. сб.
науч. ст. — Тамбов, 2006. — Вып. 1. — С. 411—412.
200. Полторацкая А. Ю. «Зофья» И. Бродского как большая баллада // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9, Филология. — М., 2006. —
№ 6.- С. 111-119.
201. Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников. Книга первая (1987—1992). — 2-е изд. / [Под ред. А. А. Пурина]. —
СПб.: Изд-во журн. «Звезда», 2006. — 384 с.
202. Полухина В. Иосиф Бродский глазами современников.
Книга вторая (1996—2005) / [Под ред. А. А. Пурина]. — СПб.:
Изд-во журн. «Звезда», 2006. — 544 с.
203. Пономарьова Т. О. BipinoBaHi переклади Йосипа Бродського
як вщображення його картини свггу (художньоУ та mobhoí): Ав-
тореф. дис. ... канд. фшол. наук / Дншропетр. нац. ун-т. —
Дншропетровськ, 2006. — 18 с.
204. Разумовская А. Г. Петербургские сады в поэтическом отражении И. Бродского // Печать и слово Санкт-Петербурга: Петербургские чтения—2005: Сб. науч. тр. — СПб., 2006. — С. 217—
224.
205. Романова И. В. Диалог лирического героя И. Бродского с
Богом // Филол. науки. — 2006. — № 3. — С. 13—21.
206. Романова И. В. О некоторых особенностях синтаксиса
И. Бродского // Вестн. Оренбург, гос. ун-та. — Оренбург,
2006. - № 11(61). - С. 81-87.
207. Романова И. В. Послания И. Бродского // Русская филология. — Смоленск, 2006. — С. 226—241. — (Учен. зап. / Смолен,
гос. пед. ун-т; Т. 10).
208. Романова И. В. Синтаксический перенос и синтаксическое
развертывание в поэзии И. Бродского 1970-х гг. // Русская
филология. — Смоленск, 2006. — С. 242—251. — (Учен. зап. /
Смолен, гос. пед. ун-т; Т. 10).
209. Рябкова О. В. Искусство отчуждения в поэзии Даниила Хармса и Иосифа Бродского: Автореф. дис.... канд. филол. наук /
Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2006. —
23 с.
210. Сабирова А. Концепт речь в поэтическом сборнике И. Бродского «Часть речи» // Татьянин день: Сб. ст. и материалов
III респ. науч.-пракг. конф. «Литературоведение и эстетика в
XXI веке» («Татьянин день»), посвящ. памяти Т. А. Геллер и
Материалы к библиографии
461
40-летию кружка эстетики, 23—25 янв. 2006 г. — Казань,
2006.-Вып. 3.-С. 113-116.
211. Самойлова И. Ю. Окказиональные образования в поэтических
произведениях Иосифа Бродского // Право и образование. —
2006. - № 5. - С. 168-177.
212. Седакова О. Музыка: стихи и проза. — М.: Русскш м1ръ: Моск.
учеб., 2006. — 480 с. — (Лит. премия Александра Солженицына). — Из содерж.: Воля к форме. Вспоминая Бродского. —
С. 326-333.
213. Скиба И. В. «Прощание, запрещающее грусть» Джона Донна
в переводе И. А. Бродского // Художественный текст и текст
в массовых коммуникациях: [В 2 ч.]: Материалы Междунар.
науч. конф. — Смоленск, 2006. — Вып. 3, ч. 1. — С. 174—181.
214. Соколов К. С. Валлийский холм в деревне Норенской: О стихотворении Иосифа Бродского «Неоконченный отрывок»
(1964—1965) // Художественный текст и культура: Материалы
шестой Междунар. науч. конф. — Владимир, 2006. — С. 285—
291.
215. Столярчук С. П. Трансформация поэтики И. А. Бродского:
от модернизма к постмодернизму // Весн. Магшёуск. дзярж.
ун-та. - Магшёу, 2006. - № 2/3(24). - С. 135-141.
216. Тищенко О. В. Иноязычное слово в поэтическом тексте (на
примере русской поэзии XX века). — М.: Компания Спутники-, 2006. — 185 с. — Из содерж.: Особенности употребления иноязычных слов в идиостиле И. А. Бродского. — С. 161—
169.
217. Усачева А. С. О некоторых особенностях отображения ситуации понимания в поэтических текстах И. Бродского // Предложение и слово: Межвуз. сб. науч. тр. — Саратов, 2006. —
С. 407-412.
218. Фельдман Д. М. Мотив молчания в пьесе И. Бродского
«Мрамор» //Литература и театр: Материалы Междунар. науч.-
практ. конф., посвящ. 90-летию со дня рожд. [...] Л. А. Финка (Самара, 13—15 нояб. 2006 г.). — Самара, 2006. — С. 280—
286.
219. Фунтусова Т. Образ исторической личности в жанре сонета
(И. А. Бродский «Двадцать сонетов к Марии Стюарт») // Дер-
гачевские чтения — 2004: Русская литература: национал, развитие и регион, особенности: Материалы Междунар. науч.
конф., 2—3 окт. 2004 г. — Екатеринбург, 2006. — С. 345—349.
220. Художественный текст как динамическая система: Материалы
Междунар. науч. конф., посвящ. 80-летию В. П. Григорьева,
19—22 мая 2005 г. — М.: «Управление технологиями», 2006. —
587 с. — Из содерж.: Пярли Ю. К вопросу об имени собствен¬
462
Поэтика Бродского
ном в поэтическом тексте: на примере поэзии Иосифа Бродского; Петрова 3. Динамика поэтической картины мира
Иосифа Бродского; Маймескулов А. О водоемы лета! (к игровой семантике «Эклоги 5-й (летней)» Бродского); Чертков С.
Бродский и Рейн.
221. Чевтаев А. Адресат в системе повествования И. Бродского
(К вопросу о принципах формирования поэтического диалога) // IV Масловские чтения: Сб. науч. ст. — Мурманск,
2006. - С. 140-143.
222. Чевтаев А. А. Повествовательные стратегии в поэтическом
творчестве Иосифа Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол.
наук / Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. — СПб., 2006. —
21 с.
223. Чевтаев А. А. Семантика пространства в стихотворении
И. Бродского «Post aetatem nostram» // Восток — Запад: пространство русской литературы и фольклора: Материалы Второй Междунар. науч. конф. (заоч.), посвящ. 80-летию проф.
каф. лит. Давида Наумовича Медриша, Волгоград, 16 апр.
2006 г. — Волгоград, 2006. — С. 759—767.
224. Чевтаев А. А. Символика моря в поэзии И. Бродского: нарративный аспект // Филологические записки: [Сб. ст.]. — СПб.,
2006. - С. 57-62.
225. Чевтаев А. А. Система персонажей в повествовательной поэзии И. Бродского // Изв. РАН. Сер. лит. и яз. — 2006. — Т. 65,
№ 2. - С. 55-63.
226. «Чернеть на белом, покуда белое есть...» Антиномии Иосифа
Бродского: Сб. ст. / Науч. ред. Т. JI. Рыбальченко. — Томск:
PaRt.com, 2006. — 288 с.
Содерж.: Мейлах М. «Жизнь тогда носила приблизительный и такой среднеинтуитивный характер...» Разговор с Иосифом Бродским; Кантор А. Хронотопия Иосифа Бродского:
Философский опыт поэта; Рытова Т. Проблема существования в цикле И. Бродского «Из “Школьной антологии”»;
Крылова С. Образ «разжалованной» Музы в поздней лирике
И. Бродского; Гаврилова Н. Американская реальность в англоязычных стихах И. Бродского; Чевтаев А. Нарратив как реализация концепции времени в поздней лирике И. Бродского;
Рыбальченко Т. Семантика одежды в поэзии И. Бродского;
Суханов В. Оппозиция родственности/чуждости в экзистенциальной модели И. Бродского; Плеханова И. Онтология творения и ее поэтические следствия у И. Бродского (лирика последнего десятилетия); Орлова О. Лингвистический дискурс
философии языка в стихотворениях И. Бродского «Строфы»
и «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлова»; Измайлов Р. Язы¬
Материалы к библиографии
463
ковой миф Иосифа Бродского; Паван С. Диалог Иосифа Бродского с Овидием Назоном: «Отрывок» и «Ex Ponto (Последнее
письмо Овидия в Рим)»; Ковалева И. «Шарада» и «сдвиг»: техника использования античных аллюзий у О. Мандельштама и
И. Бродского; Волгина А. Интертекст и перевод (на материале автопереводов И. Бродского); Шатин Ю. Логаэдический
стих в поэтическом тексте XX века (Б. Пастернак, М. Цветаева, И. Бродский); Аннотации; Указатель произведений
И. Бродского; Именной указатель; Об авторах.
227. Черниченко Е. А. Концепты «Свет» и «Тьма» в поэме «Зофья»
И. А. Бродского // Художественный текст: варианты интерпретации: Тр. XI Всерос. науч.-практ. конф. (Бийск, 12—
13 мая 2006 г.): В 2 ч. - Бийск, 2006. - Ч. 2. - С. 289-294.
228. Яранова А. Специфика пространственно-временных отношений в стихотворении И. Бродского «Осенний крик ястреба» // Вестн. студ. науч. общества. — Ярославль, 2006. —
№4.- С. 141-145.
229. Huber Р. Verrat oder Vermittlung? Iosif Brodskij / Joseph Brodsky
als Doppelspion der Kultur // Osteuropa — 2006. — Jb. 56, H. 3. —
S. 105-120.
230. Madloch J. «Представление» Josifa Brodskiego: Synteza poezji i
fotografii // Przegl^d Rusycystyczny. — 2006. — Z. 1(113). —
S. 36-50.
231. Pavan S. Lezioni di poesia: Iosif Brodskij e la cultura classica: il mito,
la letteratura, la filosofía — Firenze: Firenze univ. press, 2006. —
326 p. — (Collana Studi di Filologia Moderna Slavistica; 1).
2007
232. Александрова A. A. Мифологемы воды и воздуха в творчестве
И. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / МГУ им.
М. В. Ломоносова. — М., 2007. — 24 с.
233. Артёмова С. Ю. Автокоммуникация в посланиях Бродского //
Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. Филология. — Тверь, 2007. —
№ 28(56).-С. 112-121.
234. Артёмова С. Ю. К проблеме циклизации стихотворений
И. Бродского // Филол. журнал. — 2007. — № 2(5). — С. 139—
143.
235. Артемчук М. Микросюжет поворачивания рек вспять в поэзии
И. Бродского // Русская филология: Сб. науч. работ молод,
филол. — Тарту, 2007. — [Вып.] 18. — С. 141—143.
236. Балалыкина Э. А., Егоров Д. С. Концепт «человек» в поэзии
И. Бродского // Учен. зап. / Казан, гос. ун-т. Сер.: Гуманит.
науки. — Казань, 2007. — Т. 149, кн. 2. — С. 228—236.
464
Поэтика Бродского
237. Белый Ал. «Плохая физика» Иосифа Бродского // Нева. —
2007. — № 5. — С. 190—205. — Из содерж.: [О религиозной
теме в поэзии И. Бродского].
238. Вейцман А. Бродский в переводе (беглые комментарии) //
Слово / Word. - 2007. - № 56. - С. 169-172.
239. Гаврилова Н. С. Англо-американский мир в рецепции
И. Бродского: реальность, поэзия, язык: Автореф. дис.... канд.
филол. наук / Томск, гос. ун-т. — Томск, 2007. — 26 с.
240. Глазунова О. И. В погоне за призраками (о стихотворении
Бродского «Новый Жюль Верн») // Рус. лит. — 2007. — № 2. —
С. 64-83.
241. Глебович Т. А. О некоторых особенностях сонета в творчестве
И. Бродского (на материале стихотворений 1962 года) // Мировоззрения славян и взаимодействие культур: Материалы
докл. и ст. VII Межрегион. всерос. науч.-практ. Кирилло-Ме-
фодиевских чтений. — Ханты-Мансийск, 2007. — С. 207—222.
242. Жирютина Т. В. Концептуальный аспект изучения категории
«пространство» как одной из характеристик бытия (на материале произведений И. Бродского) // Вестн. Рос. ун-та дружбы народов. Сер.: Лингвистика. — М., 2007. — № 2. — С. 94—
100.
243. Жолковский А. Плиний на скамейке // Звезда. — 2007. —
№ 5. — С. 208—216. — Из содерж.: [Комментарий к стихотворению «Письма римскому другу (Из Марциала)»].
244. Ичин К. Поэтика изгнания: Овидий и русская поэзия. — Белград: [Филол. фак. Белград, ун-та], 2007. — 104 с. — Из содерж.: Бродский и Овидий. — С. 63—101.
245. Келебай Е. Второй свет: К философии творчества Иосифа
Бродского. — М.: МАКС Пресс, 2007. — 161 с.
246. Кидярова Е. Е. Фразеологические средства вербализации концепта «время» в поэзии Иосифа Бродского // Духовно-нрав-
ственные основы русской литературы: [В 2 ч.].— Кострома,
2007. - Ч. 2. - С. 232-237.
247. Клейман Р. Я. Достоевский в творческой интерпретации
Иосифа Бродского: эхо преемственности // Достоевский и
XX век: [В 2 т.]. - М., 2007. - Т. 1. - С. 495-513.
248. Клешнина Н. И. Внешняя и внутренняя архитектоника, способы упорядоченности мира поэмы И. Бродского «Горбунов
и Горчаков» // Художественный текст: варианты интерпретации: Тр. XII Всерос. науч.-практ. конф. (Бийск, 18—19 мая
2007 г.).: В 2 ч. - Бийск, 2007. - Ч. 1. - С. 306-318.
249. Клешнина Н. И. Жанровое своеобразие поэмы И. Бродского
«Горбунов и Горчаков» // Вестн. Бурят, гос. ун-та. Филология. — Улан-Удэ, 2007. — Вып. 7. — С. 180—184.
Материалы к библиографии
465
250. Кобеляцкая И. И. Проблема истории в творчестве И. Бродского // Актуальные проблемы филологической науки: Взгляд
нового поколения. — М., 2007. — Вып. 3. — С. 98—104.
251. Козленко П. В. Об одном уникальном образном средстве в
поэтическом языке Иосифа Бродского // Русистика XXI века:
проблемы исслед. язык, единиц и категорий: Межвуз. сб. науч.
тр., посвящ. 75-летию со дня рожд. проф. П. А. Леканта. —
Мичуринск, 2007. — С. 223—228. — Из содерж.: [Интерпретация буквы в поэзии И. Бродского].
252. Крепе М. О поэзии Иосифа Бродского. — СПб.: Журн. «Звезда», 2007. — 200 с.
253. Лекманов О. «Эклога 5-я (летняя)»: 24 примечания // Озерная
текстология: Тр. IV летней школы на Карельском перешейке
по текстологии и источниковедению русской литературы. —
Поляны (Уусикирко), 2007. — С. 32—40.
254. Лессе Э. Пространство и «я» в «Less than опе» Иосифа Бродского // Русская филология: Сб. науч. работ молод, филол. —
Тарту, 2007. - [Вып.] 18. - С. 135-140.
255. Лингвистика и поэтика в начале третьего тысячелетия: Материалы Междунар. науч. конф., Ин-т рус. яз. им. В. В. Виноградова РАН, Москва, 24—28 мая 2007 г. — М.: [Ин-т рус. яз. им.
B. В. Виноградова РАН; ООО «Словари.ру»], 2007. — 531 с. —
Из содерж.: Ряпина Т. В. Лингвистический анализ поэтических
текстов И. А. Бродского (на материале сборника «Часть речи»); Степанов А. Г. Enjambement И. Бродского в современной
поэзии; Ляпон М. В. Концептуальные константы причины
(Цветаева, Бродский); Богомолова Н. К. Синтаксические аномалии в текстах И. Бродского.
256. Можегов В. Август: последняя песня птички // Континент. —
2007. — № 131. — С. 372—392. — Из содерж.: [О стихотворении И. Бродского «Август»].
257. Николаев С. Г. Роль и смысл топонима-послетекста в русской
эмигрантской поэзии (на примере стихов И. Бродского) //
Язык. Текст. Дискурс: Науч. альм. — Ставрополь; Пятигорск,
2007. — Вып. 5: Посвящ. 40-летию Ставроп. гос. пед. ин-та и
80-летию проф. Ю. И. Леденева. — С. 125—136.
258. Орлов С. В. Стихотворение «Заморозки на почве и облысенье
леса...» Иосифа Бродского и «The Wood-Pile» Роберта Фроста // Художественный текст: опыты интерпретации: Сб. науч.
ст. к 75-летию Карел, гос. пед. ун-та. — Петрозаводск, 2007. —
C. 142-150.
259. Орлов С. В. «Упоминательная клавиатура» стихотворения
И. Бродского «Колесникумер, бондарь...» //Художественный
текст: явное и скрытое: Сб. науч. материалов. — Петрозаводск,
2007.-С. 104-110.
466
Поэтика Бродского
260. Подгорская А. В. Специфика трактовки образа звезды в стихах И. Бродского на тему Рождества Христова // Альм, соврем,
науки и образования. — Тамбов, 2007. — № 3: Языкознание и
литературоведение в синхронии и диахронии и методика преподавания яз. и лит.: [В 3 ч.]. — Ч. 2. — С. 159—161.
261. Полторацкая А. Ю. Романсы в составе поэмы-мистерии Иосифа Бродского «Шествие» // Литература XX века: итоги и перспективы изучения: Материалы Пятых Андреевских чтений. - М., 2007. - С. 313-316.
262. Прозорова Н. Опыт анализа эвфонии стихотворения И. Бродского «Томас Транстрёмер за роялем» // Toronto Slavic Quarterly: A:ad. Electronic J. in Slavic Studies. — 2007. — No. 19. —
Режим доступа: // http://www.utoronto.ca/tsq/19/prozoroval9.
shtml. — Загл. с экрана.
263. Ранчин А. М. «Слово о полку Игореве» в поэзии Иосифа Бродского: несколько наблюдений к теме // Вестн. Моск. ун-та.
Сер. 9: Филология. — М., 2007. — № 5. — С. 72—80.
264. Романова И. В. Послания И. Бродского // Вестн. Моск.
ун-та. Сер. 9, Филология. — М., 2007. — № 4. — С. 77—93.
265. Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: Лирика с коммуникативной точки зрения. — Смоленск: Изд-во СмолГУ,
2007. - 328 с.
266. Романова И. В. Поэтика Иосифа Бродского: Лирика с коммуникативной точки зрения: Автореф. дис.... д-ра филол. наук /
Смолен, гос. ун-т. — Смоленск, 2007. — 46 с.
267. Русова Н. Ю. Интегративный дидактический анализ художественного текста (на материале стихотворения Иосифа
Бродского «Стансы городу») // Текст и контекст: лингвистический, литературоведческий и методический аспекты: Материалы Междунар. науч. конф., 15—17 нояб. 2007 г. — М.,
2007. — Т. 4: Текст и контекст в преподавании филологических дисциплин в школе и вузе. — С. 25—29.
268. Русова Н. Ю. «Конец прекрасной эпохи» Иосифа Бродского:
попытка культурологической интерпретации // Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ (Нижний Новгород, 3—5 окт.
2007 г.). - Н. Новгород, 2007. - С. 384-388.
269. Рябкова О. В. «Беспредметность» поэзии И. Бродского // Литература в контексте современности: Материалы III Междунар. науч.-метод, конф., Челябинск, 15—16 мая 2007 г. — Челябинск, 2007. — С. 231—235.
270. Самойлова И. Ю. Динамическая картина мира И. Бродского:
лингвистический аспект: Монография — Гродно: ГРГУ,
2007. - 191 с.
Материалы к библиографии
467
271. Сафронова Л. В. Язык-нарратор и его персонажи-нарраторы
в эссеистике И. Бродского // Нарративные традиции славянских литератур (Средневековье и Новое время): Сб. науч.
тр. — Новосибирск, 2007. — С. 309—320.
272. Степанов А. Г. Нобелевская лекция Солженицына и Бродского: к поэтике декларативного дискурса // Вестн. Твер. гос.
ун-та. Сер.: Филология. — Тверь, 2007. — № 28(56). — С. 122—
129.
273. Третьяков В. А. Еще раз о литературной теории И. Бродского
как системе // Русская словесность в контексте мировой культуры: Материалы Междунар. науч. конф. РОПРЯЛ (Нижний
Новгород, 3—5 окт. 2007 г.). — Н. Новгород, 2007. — С. 434—
438.
274. Усачева А. С. Класс глаголов интеллектуальной деятельности
как формально-содержательный элемент идиостиля (на материале русскоязычных стихотворений И. Бродского): Автореф.
дис. ... канд. филол. наук / Саратов, гос. ун-т им. Н. Г. Чернышевского. — Саратов, 2007. — 22 с.
275. Усачева А. С. Основные направления реализации индивидуально-авторской семантики слова «ум» в стихотворениях
И. Бродского // «Живое слово разбудит уснувшую душу...»:
материалы Всерос. науч.-практ. конф., 12—13 мая 2006 г. —
Липецк, 2007. - С. 143-146.
276. Флейшман-Козицкая Е. А. «Когда время, столкнувшись с памятью...»: Несколько замечаний о стихотворении И. Бродского «Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером...» //
Искусство поэтики — искусство поэзии. К 70-летию И. В. Фоменко: Сб. науч. тр. — Тверь, 2007. — С. 133—139.
277. Хубулава Г. Г. О роли традиции в поэтическом творчестве
(концепция страха влияния X. Блума) // Виктор Александрович Штофф и современная философия науки. — СПб.,
2007. — С. 269—296. — Из содерж.: [Проблема традиции в
поэзии И. Бродского в аспекте теории X. Блума о «страхе влияния»].
278. Цегельник И. Е. Желтый: цвет и свет в картине мира Иосифа
Бродского // Гуманитарные и социально-экономические науки. — Ростов н/Д, 2007. — № 1. — С. 166—170.
279. Цегельник И. Е. Цветовая картина мира Иосифа Бродского:
когнитивно-функциональный подход: Автореф. дис. ... канд.
филол. наук / Южный федер. ун-т. — Ростов н/Д, 2007. — 22 с.
280. Чевтаев А. А. Инстанция адресата в повествовательной поэзии
И. Бродского (К проблеме формирования диалогических отношений) // Филологические записки: [Сб. ст.]. — СПб.,
2007.- С. 12-18.
468
Поэтика Бродского
281. Чевтаев А. А. Событие как категория лирического повествования // Нарративные традиции славянских литератур (Средневековье и Новое время): Сб. науч. тр. — Новосибирск,
2007. — С. 259—268. — Из содерж.: [На материале стихотворений А. Ахматовой и И. Бродского].
282. Чевтаев А. А. Стихотворение И. Бродского «Прошел сквозь монастырский сад...»: Опыт нарратологического прочтения //
Подходы к изучению текста: Материалы межвуз. науч.-практ.
конф. студен., аспиран. и молод, преподавателей (Ижевск,
19-20 апр. 2007 г.). - Ижевск, 2007. - С. 200-210.
283. Шайтанов И. Дело вкуса: Кн. о современной поэзии. — М.:
Время, 2007. — 656 с. — Из содерж.: Явление Бродского. —
С. 373-490.
284. Шейич Р. Некоторые особенности синтаксиса И. Бродского
(влияние структуры предложения на его семантику) // Русская
литература в формировании современной языковой личности:
[В 2 ч.: материалы конгресса], Санкт-Петербург, 24—27 окт.
2007 г. — СПб., 2007. — [Ч. 1]: Литература в формировании
языковой личности: этапы и варианты. — С. 232—236.
285. Яковлева И. П. Америка И. Бродского как поэтический то-
пос // «Мультикультурализм» в современном художественном
мышлении: [Сб. науч. ст.]. — Тюмень, 2007. — С. 44—47.
286. Bethea D. М. Brodsky and Pushkin Revisited: The Dangers of a
Sculpted Life // The Real Life of Pierre Delalande: Studies in
Russ, a Comparative Lit. to Honor Alexander Dolinin. — Stanford, 2007. - Pt. 1. - P. 100-119. - (Stanford Slavic Studies;
Vols. 33-34).
287. Grinberg M. The Midrash from Joseph: «Isaac and Abraham» as
Brodsky’s Ur-Text // Poetics, Self, Place: Essays in Honor of Anna
Lisa Crone. — Bloomington, 2007. — P. 237—256.
288. Grudzinska-Gross I. Milosz i Brodski: pole magnetyczne / wstQp
T. Venclova. — Kraków: Znak, 2007. — 324 s., [8] s.
289. Majmieskutow A. Locus amoenus в поэзии Иосифа Бродского.
К семиозису топоса // Wielkie tematy kultury w literaturach sio-
wiañskich. — Wroclaw, 2007. — 7, cz. 1. — S. 293—302. — (A:ta
Univ. Wratislaviensis; № 2970; Slavica Wratislaviensia; №. 143).
290. Madloch J. Как прочитать фотографию — анализ стихотворения Мы жили в городе... (A Photograph) Иосифа Бродского //
Przegl^d Rusycystyczny. — 2007. — Z. 1(117). — S. 58—70.
291. Riikonen H. On Reading Brodsky’s «Letter to Horace» // Varietas
et concordia: Essays in Honour of Pekka Pesonen On the Occasion
of His 60-th Birthday. — Helsinki, 2007. — P. 124—135. — (Slavica
Helsingiensia; 31).
Материалы к библиографии
469
292. Sandler S. On Grief and Reason, On Poetry and Film: Elena
Shvarts, Joseph Brodsky, Andrei Tarkovsky // The Russ. Rev. —
2007. - Vol. 66, No. 4. - P. 647-670.
2008
293. Азадовский К. Иллюзия и дорога // Natales grate numeras?: Сб.
ст. к 60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. — СПб.,
2008. — С. 13—24. — Из содерж.: [О философской проблематике поэзии И. Бродского].
294. Аллой Р. Веселый спутник. Воспоминания об Иосифе Бродском. — СПб.: Журн. «Звезда», 2008. — 104 с.
295. Ахапкин Д. Определенность/неопределенность и подтекст в
поэзии Иосифа Бродского // Natales grate numeras?: Сб. ст. к
60-летию Георгия Ахилловича Левинтона. — СПб., 2008. —
С. 74-83.
296. Бройтман С. Н. Поэтика русской классической и неклассической лирики. — М.: Рос. гос. гуман. ун-т, 2008. — 485 с. — Из
содерж.: Авторская позиция в лирике И. Бродского (На материале книги «Часть речи»); О природе художественной реальности в цикле И. Бродского «Часть речи». — С. 390—404.
297. Вейцман А. Брежнев глазами Бродского: восприятие старческой тирании // Слово / Word. — 2008. — № 57. — С. 96—102.
298. Власов К. А. Проблема отношения человека и общества в творчестве Иосифа Бродского // Актуальные проблемы современной филологии и методики преподавания языка: Материалы
Междунар. науч.-практ. конф., Орлов, гос. ин-т экономики и
торговли, 24—26 нояб. 2008 г. — Орёл, 2008. — С. 239—244.
299. Гельфонд М. М. Блудный сын или Одиссей: миф о возвращении в лирике Иосифа Бродского // Античность и христианство в литературах России и Запада: Материалы VII Междунар. науч. конф. «Художественный текст и культура». —
Владимир, 2008. — С. 280—287.
300. Глазунова О. И. Иосиф Бродский: метафизика и реальность. —
СПб.: Фак. филол. и искусств СПб.; Нестор-История, 2008. —
312 с.
301. Глазунова О. И. Прошлое, настоящее и будущее в поэзии
Иосифа Бродского // Русская литература в мировом культурном и образовательном пространстве: [В 2 т.]. — СПб., 2008. —
[Т. 2, ч. 2]. - С. 186-190.
302. Измайлов Р. «Библейский текст» в творчестве Бродского: священное время и пространство // Сибирские огни. — 2008. —
№ 5. - С. 164-177.
303. Ильинская С. И. Бродский. Собеседуя с К. Кавафисом // Материалы II Междунар. семинара переводчиков. — Ясная Поляна, 2008. - С. 114-122.
470
Поэтика Бродского
304. Кидярова Е. Е. Образный строй стихотворений И. А. Бродского и их англоязычных коррелятов // Вестн. Костром, гос.
ун-та им. Н. А. Некрасова. — Кострома, 2008. — № 4. —
С. 158-161.
305. Кидярова Е. Е. Сопоставительный анализ образного строя стихотворения И. Бродского «Деревянный Лаокоон, сбросив на
время...» и его авторского англоязычного перевода // Фразеологизм и слово в национально-культурном дискурсе (лингвистический и лингвометодический аспекты): Междунар.
науч.-практ. конф., посвящ. юбилею проф. А. М. Мелеро-
вич. — М.; Кострома, 2008. — С. 328—331.
306. Ким Хэ Ран. Использование приема олицетворения в поэтическом языке Бродского // Рус. яз. за рубежом. — 2008. —
№ 3. - С. 88-92.
307. Ким Хэ Ран. Семантика средств олицетворения в идиостиле
И. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Гос. ин-т
рус. яз. им. А. С. Пушкина. — М., 2008. — 24 с.
308. Клейман Р. Я. Достоевский и Бродский: диалог в беспредельности // Sub specie tolerantiae. Памяти В. А. Туниманова:
[Сб.]. - СПб., 2008. - С. 40-53.
309. Клешнина Н. И. Риторические стратегии жанра поэмы
И. Бродского «Речь о пролитом молоке» // Художественный
текст: варианты интерпретации: Тр. XIII Всерос. науч.-практ.
конф. (Бийск, 16—17 мая 2008 г.).: В 2 ч. — Бийск, 2008. —
Ч. 1.- С. 138-145.
310. Клешнина Н. И. Стихотворение «Глаголы» как поэтическая
программа И. Бродского // Филология и человек: Науч.
журн. — Барнаул, 2008. — № 1. — С. 72—84.
311. Клоц Я. Иосиф Бродский: стихи для детей // Неприкосновенный запас. — 2008. — № 58. — С. 179—191.
312. Кобеляцкая И. И. Категория историзма в творчестве Иосифа
Бродского (на материале прозы поэта) // Русская литература
XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения:
Материалы Третьей Междунар. науч. конф., Москва, МГУ
им. М. В. Ломоносова, 4—5 дек. 2008 г. — М., 2008. — С. 133—
137.
313. Колмакова О. А. Интертекст Серебряного века в поэзии
И. А. Бродского // Вестн. Бурят, гос. ун-та. Филология. —
Улан-Удэ, 2008. - Вып. 10. - С. 196-202.
314. Красноперова М. А., Шлюшенкова Т. Б. Семантика и стилистика ритмических зачинов в поэзии И. Бродского (сравнительный анализ на материале 4-х — 5-стопного ямба) //
Русская литература XX—XXI веков: проблемы теории и методологии изучения: Материалы Третьей Междунар. науч.
Материалы к библиографии
471
конф., Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова, 4—5 дек.
2008 г. - М., 2008. - С. 292-295.
315. Кшондзер М. Рациональное и эмоциональное в эссе Иосифа
Бродского «Набережная неисцелимых» // Рациональное
и эмоциональное в литературе и в фольклоре: Материалы
ГУМеждунар. науч. конф., посвящ. памяти А. М. Буланова,
Волгоград, 29 окт. — 3 нояб. 2007 г. — Волгоград, 2008. —
Ч. 1.- С. 363-369.
316. Маймескулов А. Поэтическая «открытка» (к негативной интер-
семиотичности Бродского) // Изв. Смолен, гос. ун-та: Еже-
кварт. журн. — Смоленск, 2008. — № 1. — С. 35—41.
317. Малофеева Н. С. Парафраза как художественный прием в стихах И. Бродского // Актуальные проблемы общего и регионального языкознания: Материалы Всерос. науч. конф. с меж-
дунар. участием, 28 окт. 2008 г. — Уфа, 2008. — 2. — С. 18—23.
318. Мелерович А. М., Кидярова Е. Е. Структура и концептуальное
содержание фразеологических конфигураций в поэтических
произведениях И. А. Бродского // Русское слово: литературный язык и народные говоры: Материалы Всерос. науч. конф.,
посвящ. 100-летию со дня рожд. д-ра филол. наук, проф.
Г. Г. Мельниченко, Ярославль, 25—27 окт. 2007 г. — Ярославль, 2008. — С. 388—395.
319. Мир Иосифа Бродского. Поэт в закрытом гарнизоне / Сост.
О. Щеблыкин. — СПб.: Журн. «Звезда», 2008. — 126 с.
320. Мищенко Е. В. Библейская тема в лирике Иосифа Бродского // Сибир. филол. журн. — 2008. — № 1. — С. 59—63.
321. Мищенко Е. В. «Петербургский текст» И. А. Бродского // Молодая филология — 2007: По материалам исслед. молод, учен.:
Межвуз. сб. науч. тр. — Новосибирск, 2008. — С. 164—175.
322. Николаев С. Г. Русский поэт Иосиф Бродский как автор
английского стихотворного текста: наброски к портрету творца // Изв. Южного федер. ун-та. Филол. науки. — Ростов н/Д,
2008. - № 4. - С. 64-82.
323. Орлицкий Ю. Б. Динамика стиха и прозы в русской словесности. — М.: Рос. гос. гуман. ун-т, 2008. — 845 с. — Из содерж.:
Стих и проза конца XX века. Поэты: И. А. Бродский. —
С. 756-767.
324. Осипов А. И. «Менуэт» И. Бродского и «Муромский сруб»
А. Вознесенского в аспекте моделирования элегического ландшафта // Региональный литературный ландшафт в русской
перспективе: Сб. науч. ст. — Тюмень, 2008. — С. 218—223.
325. Осипов А. И. «Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...» И. Бродского и «Сумерки» Е. Баратынского: элегическая модель духовного диалога // Русский мир в духовном сознании наро¬
472
Поэтика Бродского
дов России: Материалы 30-й науч.-практ. конф., Тюмень,
24 мая 2007 г. — Тюмень, 2008. — С. 145—148.
326. Паван С. Бродский по-итальянски // Вестн. Том. гос. ун-та.
Филология. — Томск, 2008. — № 2(3). — С. 109—126.
327. Пинаев С. М. Поэзия И. Бродского как «метафизическое пересечение границ» // Личность в межкультурном пространстве: Материалы III Междунар. конф., посвящ. 100-летию социальной психологии, 20—21 нояб. 2008 г., Москва, РУДН. —
М., 2008. - Ч. 2. - С. 211-216.
328. Полторацкая А. Ю. Баллада в составе поэмы-мистерии
И. Бродского «Шествие» // Литература XX века: Итоги и перспективы изучения: Материалы Шестых Андреевских чтений. - М., 2008. - С. 72-75.
329. Полухина В. Иосиф Бродский. Жизнь, труды, эпоха. — СПб.:
Журн. «Звезда», 2008. — 528 с.
330. Родина Р. И. Метонимия в поэзии Бродского //Динамические
модели: Слово. Предложение. Текст: Сб. ст. в честь Е. В. Па-
дучевой. — М., 2008. — С. 676—690.
331. Романова И. В. «В определенном возрасте время совпадает с
судьбой»: Бродский и Пушкин // Природа в художественном
слове. Идеи и стиль: Сб. науч. ст. — СПб., 2008. — С. 204—211.
332. Романова И. В. «Оконченные» «Отрывки» И. Бродского // Художественный текст и текст в массовых коммуникациях: Материалы Междунар. науч. конф. — Смоленск, 2008. — Вып. 4,
ч. 2. - С. 77-87.
333. Русова Н. Ю. Интерпретация стихотворения Иосифа Бродского «Портрет трагедии» // Жанры в историко-литературном
процессе: Сб. науч. ст. — СПб., 2008. — Вып. 4. — С. 276—284.
334. Соколов К. С. «Описанье вазы»: о Бродском, Китсе и метафизическом измерении античности // Античность и христианство в литературах России и Запада: Материалы VII междунар.
науч. конф. «Художественный текст и культура». — Владимир,
2008. - С. 287-289.
335. Социокультурный феномен шестидесятых: [Сб. ст.] / Сост.
В. И. Тюпа, О. В. Федунина. — М.: Рос. гос. гуман. ун-т,
2008. — 244 с. — Из содерж.: Корнинский А. В. «Наважденье
толп, множественного числа...»: Об одной культурной фобии Иосифа Бродского и диалектике протеста; Зельцер Э. Н.
Иосиф Бродский и джазовое сознание. — С. 126—152.
336. Суханов В. А. Художественный мир А. П. Чехова в поэтической интерпретации И. Бродского // Философия А. П. Чехова:
Междунар. науч. конф. (Иркутск, 27 июня — 2 июля
2006 г.). - Иркутск, 2008. - С. 218-238.
Материалы к библиографии
473
337. Трусов В. Е. Об афористичности дефиниционных сентенций у
И. Бродского (на материале стихотворений 1968—1976 гг.) //
Филологические этюды: Сб. науч. ст. молод, учен.: [В 3 ч.]. —
Саратов, 2008. — Вып. 11, ч. 3. — С. 187—191.
338. Фельдман Д. М. Диалог и монолог как формы воплощения авторского сознания в творчестве И. Бродского // Литература и
театр: Сб. науч. ст. — Самара, 2008. — С. 124—133.
339. Хаимова В. М. Особенности художественного пространства в
элегиях М. Цветаевой и И. Бродского («Новогоднее» и «Большая элегия Джону Донну») // Русское зарубежье — духовный
и культурный феномен: Междунар. сб. науч. ст. — М., 2008. —
Вып. 2. - С. 189-196.
340. Цивьян Т. В. Бродский и Кавафис // Цивьян Т. В. Язык: тема
и вариации. Избр.: В 2 кн. — М., 2008. — Кн. 1: Балканистика. - С. 302-312.
341. Чевтаев А. А. Пространственно-аксиологические параметры
стихотворения И. Бродского «Декабрь во Флоренции» //
Грехнёвские чтения: Сб. науч. тр. — Н. Новгород, 2008. —
Вып. 5.-С. 223-231.
342. Чевтаев А. А. Художественная аксиология стихотворения
И. Бродского «Похороны Бобо» // Кормановские чтения:
Ст. и материалы межвуз. науч. конф. К 25-летию памяти проф. Б. О. Кормана (апрель, 2008). — Ижевск, 2008. —
Вып. 7. - С. 310-318.
343. Чевтаев А. А. «Щегол разливается в центре проволочной Равенны...»: Об одном орнитологическом двойнике лирического
субъекта в поэзии И. Бродского // Поэтика художественного
текста: Материалы Междунар. заоч. науч. конф.: [В 2 т.]. —
Борисоглебск, 2008. — Т. 2: Русская филология: вчера и сегодня. - С. 177-184.
344. Черниченко Е. А. Культура как миф в поэзии И. А. Бродского
позднего периода // Филология и человек: Науч. журн. — Барнаул, 2008. - № 3. - С. 176-185.
345. Шубинский В. Игроки и игралища. Очерк поэтического языка трех ленинградских поэтов 1960—1970-годов // Знамя. —
2008. — № 2. — С. 181—183. — Из содерж.: [О поэтическом
языке И. Бродского].
346. Beaver A. Brodsky and Kierkegaard, Language and Time // The
Russ. Rev. — 2008. — Vol. 67, No. 3. — P. 415—437.
347. Beaver A. Lyricism and Philosophy in Brodsky’s Elegiac Verse //
Slavic rev. - 2008. - Vol. 67, No. 3. - P. 591-609.
348. Eskin M. Poetic Affairs: Celan, Grünbein, Brodsky. — Stanford:
Stanford Univ. Press, 2008. — X, 242 p.
474
Поэтика Бродского
349. Kahn A. Joseph Brodsky’s «Biust Tiberiia»: Poetry, History, Ethics // Russian Literature and the West: A Tribute for David M.
Bethea — Stanford, 2008. — Pt. 2. — P. 243—260. — (Stanford
Slavic Studies; Vols. 35—36).
350. Pawletko В. Оппозиция Восток—Запад в творчестве Иосифа
Бродского // Literatura rosyjska XVIII—XXI w. Dialog idei i
poetyk. — Lódz, 2008. — S. 333—341.
351. Polukhina V. Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries. —
2nd ed., rev. a suppl. — Boston, MA Academic Studies Press,
2008. — Vol. 1. — XI, 391 p. — (Studies in Russ, a Slavic Lit.,
Cultures a History).
352. Polukhina V. Brodsky Through the Eyes of His Contemporaries. —
2nd ed., rev. a suppl. — Boston, MA Academic Studies Press,
2008. — Vol. 2. — XXVI, 604 p. — (Studies in Russ, a Slavic Lit.,
Cultures a History).
353. Sandler S. Questions of Travel: On Brodsky and Sedakova //
Russian Literature and the West: A Tribute for David M. Bethea — Stanford, 2008. — Pt. 2. — P. 261—281. — (Stanford
Slavic Studies; Vols. 35—36).
2009
354. Ахапкин Д. Иосиф Бродский после России: Комментарии к
стихам, 1972—1995. — СПб.: Журн. «Звезда», 2009. — 132 с.
355. Вельская JI. JI. Лингвистическая поэтика Иосифа Бродского // Рус. речь. — 2009. — № 6. — С. 35—39.
356. Безрукова Р. А., Безруков А. Н. Алгоритм жизни в стихотворении И. Бродского «Пророчество» // Восток — Запад в пространстве русской литературы и фольклора: Материалы Третьей Междунар. науч. конф. (заоч.), Волгоград, 19 нояб.
2008 г. — Волгоград, 2009. — С. 458—463.
357. Гордин Я. Рыцарь и смерть // Звезда. — 2009. — № 1. —
С. 195—205. — Из содерж.: [Тема смерти в поэзии И. Бродского] .
358. Горпиняк П. А. Публицистика И. А. Бродского: Автореф. дис.
... канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. —
Екатеринбург, 2009. — 22 с.
359. Дутли Р. Муха в янтаре (Перевод как магический акт. Заметки о поэтике перевода) // Вопр. лит. — 2009. — № 2. — С. 86—
108. — Из содерж.: Искушение рифмой. Часовой механизм и
образ ссылки. Похвала отступающей от правил рифме (Иосиф
Бродский). — С. 101—108.
360. Житенёв А. А. Событие и антисобытие в творческом сознании
И. Бродского // Память литературы и память культуры: механизмы, функции, репрезентации: Материалы Всерос. науч.
Материалы к библиографии
475
конф. (Воронеж, 16—17 апр. 2009 г.). — Воронеж, 2009. —
С. 142-148.
361. Жолковский А. К. Новая и новейшая русская поэзия. — М.:
Рос. гос. гуман. ун-т, 2009. — 365 с. — Из содерж.: Бродский
и инфинитивное письмо; Плиний на скамейке: Заметки о
поэзии Бродского. — С. 155—178.
362. Зайцев В. А. Лекции по истории русской поэзии XX века
(1940—2000). — М.: Изд-во Моск. ун-та, 2009. — 384 с. —
(Сер.: Университ. курсы лекций). — Из содерж.: Лекция 14.
И. А. Бродский (1940-1006). - С. 313-331.
363. Кидярова E. Е. Образный строй стихотворения Иосифа Бродского «Элегия» в соотношении с авторским англоязычным
переводом // Вестн. Костром, гос. ун-та им. Н. А. Некрасова. — Кострома, 2009. — Т. 15, № 4. — С. 139—142.
364. Левинтон Г. А. Из области поэтической филологии: сукцессив-
ность поэтической речи у Бродского и Якобсона (К истории
одного доклада) // Тыняновский сборник. — М., 2009. —
Вып. 13: 12—13—14-е Тыняновские чтения. Исслед. Материалы. — С. 369—380.
365. Маймескулов А. В вековом прототипе (Борис Пастернак в
«Эклоге 5-й (летней)» Иосифа Бродского) // Изв. Смолен,
гос. ун-та: Ежекварт. журн. — Смоленск, 2009. — № 4(8). —
С. 45-53.
366. Меерсон О. Персонализм как поэтика: Литературный мир
глазами его обитателей. — СПб.: Изд-во «Пушкинский
Дом», 2009. — 432 с. — Из содерж.: Сретение — удивительное
событие для Богоматери, но и для Симеона. Евангелист
Лука и Бродский. Взгляд на событие с разных точек зрения. — С. 61—72.
367. Мельникова Е. В. Роль оксюморонов в сенсорной картине
мира И. А. Бродского // Вестн. Челябин. гос. ун-та: науч.
журн. — Челябинск, 2009. — № 43(181). — Филология. Искусствоведение. — Вып. 39. — С. 98—102.
368. Михайлова Г. «Конечный словарь» Иосифа Бродского // Opus
№ 4—5. Нобелевская лекция. Чтение: [Сб. ст.]. — Vilniaus,
2009. — С. 38—50. — (Науч. тр. / Вильнюс, ун-т. Сер.: Литература; 51(5)).
369. Мищенко Е. В. «Античный текст» И. А. Бродского: Функции
античных образов в поэтической системе Бродского (на примере образа Улисса) // Филология и человек: Науч. журн. —
Барнаул, 2009. - № 2. - С. 123-131.
370. Мищенко Е. В. Диалогизм в лирике И. Бродского как стратегия авторского мышления // Молодая филология — 2008 (По
материалам исслед. молод, ученых): Межвуз. сб. науч. тр. —
Новосибирск, 2009. — С. 138—146.
476
Поэтика Бродского
371. Мызникова Е. А. Автоперевод в творчестве И. Бродского на
материале стихотворной пары «Север крошит металл...» / «The
North buckles metal...» из цикла «Часть речи» / «А Part of
Speech» // Сюжет, мотив, история: Сб. науч. ст. — Новосибирск, 2009. — С. 296—302. — (Материалы к Словарю сюжетов и мотивов рус. лит.; Вып. 8).
372. Николаев С. В кафе «Триест» с Иосифом Бродским, или
Путешествие по скрытым смыслам одного английского текста // Toronto Slavic Quarterly: Acad. Electronic J. in Slavic
Studies. — 2009. — No. 27. — Режим доступа: // http://www.
utoronto.ca/tsq/27/nikolaev27.shtml. — Загл. с экрана.
373. Орехова H. H., Цунанова 3. M. Поэтический перевод и меж-
культурное взаимодействие: Античные мотивы И. Бродского
в переводах // Структурно-семантические параметры единиц
языка и речи: Сб. науч. тр. — Мурманск, 2009. — С. 281—285.
374. Орлова О. В. Образ языка в метатексте И. Бродского // Картины русского мира: образы языка в дискурсах и текстах. —
Томск, 2009. - С. 97-128.
375. Петрова 3. Ю. Словоупотребление и его динамика в поэтическом идиостиле (Б. Окуджава, И. Бродский) // Dynamik
poetischer Formen: Lyrik-, Prosa- und Dramatexte in Russland um
die Jahrtausendwende = Динамика формы художественного
текста: стих, проза, драма в конце XX — начале XXI века. —
Halle (Saale), 2009. - S. 205-264.
376. Петрова 3. Ю. Язык науки в поэзии И. Бродского // Язык как
медиатор между знанием и искусством: Междунар. науч. семинар «Пробл. междисциплинар. исслед. худож. текста»: Сб.
докл. - М., 2009. - С. 211-214.
377. Подгорская А. В. Иосиф Бродский и русская рождественская
поэзия: [Монограф.]. — Магнитогорск: [ГОУ ВПО «МГТУ»],
2009. - 182 с.
378. Полухина В. Больше самого себя. О Бродском. — Томск: ИД
СК-С, 2009. - 416 с.
379. Семенов В. «Это только для звука пространство всегда помеха...»: о механизмах релятивизации и семантизации метрики
в стихотворениях И. Бродского // Тр. по рус. и славян, филологии. Литературоведение. VII (Новая сер.): К 80-летию со дня
рожд. 3. Г. Минц; К 85-летию со дня рожд. Ю. М. Лотмана. —
Тарту, 2009. - С. 317-336.
380. Снегирев И. А. «Письма римскому другу»: особенности реминисценций в поэзии Иосифа Бродского // Художественный
текст: варианты интерпретации: Тр. XIV Междунар. науч.-
практ. конф. (Бийск, 21—22 мая 2009 г.). — Бийск, 2009. —
С. 320-324.
Материалы к библиографии
477
381. Степанов А. Нобелевская лекция А. И. Солженицына и
И. А. Бродского: идеология и поэтика авторепрезентации //
Opus № 4—5. Нобелевская лекция. Чтение: [Сб. ст.]. — Vil-
niaus, 2009. — C. 27—37. — (Науч. тр. / Вильнюс, ун-т. Сер.:
Литература; 51(5)).
382. Тименчик Р. Трилистник юбилейный с субботним приложением // На рубеже двух столетий: Сб. в честь 60-летия
А. В. Лаврова. — М., 2009. — С. 710—728. — Из содерж.: Флейта и немножко нервно. [Об интертекстах стихотворения
И. Бродского «Закричат и захлопочут петухи...»]. — С. 721—
724.
383. Тихонова О. А. Синтаксическая модальность в поэтических
произведениях И. Бродского // Русский язык в системе славянских языков: история и современность: Сб. науч. тр. — М.,
2009. - Вып. 3. - С. 312-316.
384. Тюпа В. И. Литература и ментальность. — М.: [«Вест-Консалтинг»], 2009. — 274 с. — Из содерж.: Вместо заключения. Нобелевская лекция Бродского: манифест или эпитафия? —
С. 269-274.
385. Федотов О. И. Сонеты Иосифа Бродского // Славянский стих.
VIII: Стих, язык, смысл. — М., 2009. — С. 84—119.
386. Фельдман Д. М. Роль приема номинации в формировании онтологического метасюжета в лирике И. Бродского // Филологические этюды: Сб. науч. ст. молод, учен.: [В 3 ч.]. — Саратов, 2009. - Вып. 12, ч. 1/2. - С. 101-107.
387. Чевтаев А. А. Аксиология инобытийных персонажей в поэзии
И. Бродского //Литературный персонаж как форма воплощения авторских интенций: Материалы Междунар. науч. интер-
нет-конф., Астрахань, 20—25 апр. 2009 г. — Астрахань, 2009. —
С. 141-147.
388. Чевтаев А. А. Событийность в стихотворении И. Бродского
«По дороге на Скирос»: между лирикой и эпосом // Пограничные процессы в литературе и культуре: Сб. ст. по материалам Междунар. науч. конф., посвящ. 125-летию со дня
рожд. Василия Каменского (17—19 апр. 2009 г.). — Пермь,
2009. - С. 159-162.
389. Чевтаев А. А. «Холмы» в поэзии И. Бродского: о пространственной организации поэтического нарратива // Восток —
Запад в пространстве русской литературы и фольклора: Материалы Третьей Междунар. науч. конф. (заоч.), Волгоград,
19 нояб. 2008 г. — Волгоград, 2009. — С. 451—457.
390. Friedberg N. Rule-Makers and Rule-Breakers: Joseph Brodsky and
Boris Slutsky as Reformers of Russian Rhythm // The Russ. Rev. —
2009. - Vol. 68, No. 4. - P. 641-661.
478
Поэтика Бродского
391. Friedberg N. The Russian Auden and the Russianness of Auden:
Meaning and form in a translation by Brodsky // Towards a Typology of Poetic Forms: From language to metrics and beyond. —
Amsterdam, 2009. — P. 229—246. — (Lang. Faculty and
Beyond; 2).
392. Grudzinska Gross I. Czeslaw Milosz and Joseph Brodsky: Fellowship of Poets / foreword by T. Venclova — New Haven: Yale Univ.
Press, 2009. - XXI, 362 p.
2010
393. Баумгертнер И. «Маска национальности» у Иосифа Бродского // Новое лит. обозрение. — 2010. — № 102. — С. 195—212.
394. Власов К. А. Использование сочетаний различных видов
стихотворного переноса в эмигрантский период творчества
И. А. Бродского // Язык как сфера взаимодействия филологических и методических исследований: Всерос. науч.-практ.
конф. (Орел, 22 апр. 2010 г.): Материалы конф. — Орел,
2010. - С. 217-231.
395. Гордин Я. Рыцарь и смерть, или Жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского. — М.: Время, 2010. — 256 с. — (Диалог).
396. Горелов О. С. Петербургский текст в художественной концепции И. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Иванов. гос. ун-т. — Иваново, 2010. — 24 с.
397. Губайловский В. Оптика времени // Дружба народов. —
2010. — № 5. — С. 193—202. — Из содерж.: [О семантике подзаголовка «Из Марциала» в стихотворении И. Бродского
«Письма римскому другу»]. — С. 199—201.
398. Жолковский А. Маргиналии к «Postscriptum’y» Бродского //
Звезда. - 2010. - № 2. - С. 226-238.
399. Иосиф Бродский в XXI веке: Материалы Междунар. науч.-ис-
след. конф., Санкт-Петербург, 20—23 мая 2010 г. — СПб.:
[Филол. ф-т СПбГУ; МИРС], 2010. - 324 с.
400. Кекова С. В., Измайлов Р. Р. Преломление библейского
текста в русской поэзии XX века (Н. Заболоцкий, А. Тарковский, С. Липкин, И. Бродский) // Текст и тексты: Межвуз.
сб. науч. тр. — Новосибирск, 2010. — С. 157—167. — Из содерж.: [О библейской традиции в поэзии И. Бродского]. —
С. 163-166.
401. Кудрявцева Т., Саундерс Т. В кровотоке европейской литературы: Эклоги Бродского // Европа в России: Сб. ст. — М.,
2010. - С. 410-416.
402. Лещева А. Н. Природа текстовой реальности «неопределенность» (на материале лирики И. Бродского): Автореф. дис. ...
канд. филол. наук / Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького. — Екатеринбург, 2010. — 22 с.
Материалы к библиографии
479
403. Лосев Л. Меандр: мемуарная проза. — М.: Новое изд-во,
2010. — 430 с. — Из содерж.: Про Иосифа. — С. 9—136.
404. Ляпон М. В. Интервью как диалог «по сценарию» (загадки когнитивного метода И. Бродского) // Логический анализ языка: Moho-, диа-, полилог в разных языках и культурах. — М.,
2010. - С. 228-242.
405. Медведева Н. Г. К семантике «последнего стихотворения» в
поэзии И. Бродского // Вестн. Удмурт, ун-та. Сер. 5: История
и филология. — Ижевск, 2010. — Вып. 4. — С. 84—95.
406. Медведева Н. Г. «Поэма без героя» И. Бродского (к интерпретации «Шествия») // Опыты изучения драмы: Сб. науч. тр. —
Ижевск, 2010. — С. 334—351.
407. Медведева Н. Г. Пьеса И. Бродского «Мрамор» и греческая
трагедия // Там же. — С. 352—366.
408. Мельникова Е. В. Некоторые аспекты фрейма «тактильность»
в картине мира И. А. Бродского // Вестн. Череповец, гос. унта: Науч. журн. — Череповец, 2010. — № 4(27). — С. 36—40.
409. Мищенко Е. В. Диалог культурных традиций в поэтическом
мире И. А. Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук /
Новосиб. гос. пед. ун-т. — Новосибирск, 2010. — 22 с.
410. Немец Г. Н. Эссеистика И. А. Бродского: особенности поэтики и читательского восприятия // Вестн. Пятигор. гос. лингв,
ун-та. — Пятигорск, 2010. — № 2. — С. 219—227.
411. Петрунина С. П. Цетера И. А. Бродского как лингвокультурологическая составляющая его поэзии // Взаимодействие языка и культуры в коммуникации и тексте: Сб. науч. ст. — Красноярск, 2010. — Вып. 10. — С. 97—101.
412. Петрушанская Е. Иосиф Бродский: разговор с немецкой культурой // Россия и Германия в XX веке. — М., 2010. — Т. 3:
Оттепель, похолодание и управляемый диалог. Русские и немцы после 1945 года. — С. 753—778.
413. Полухина В. Ритмы России в творчестве Бродского // Знамя. - 2010. - № 10. - С. 202-206.
414. Пристальное прочтение Бродского: Сб. ст. / Под ред. В. И. Козлова. — Ростов н/Д: НМЦ «Логос», 2010. — 198 с.
Содерж.: Козлов В. И. К юбилею варвара — Иосифа Бродского; Николаев С. Г. В кафе «Триест» с Иосифом Бродским,
или Путешествие по скрытым смыслам одного английского
текста; Ратке И. Р. «Письма династии Минь» И. Бродского:
диптих об упадке и разрушении; Бобякова И. В. Мир глазами
одной метафоры: «Горение» И. Бродского; Николаев С. Г.
Epitaph For A Centaur Иосифа Бродского: динамика поэтического текста как ключ к интерпретации смыслов; Зайцева И. В.
Натюрморт с человеком у И. Бродского; Козлов В. И. Четыре
480
Поэтика Бродского
подступа к циклу И. Бродского «Часть речи»; Гастищева Ю. А.
«Римские элегии» И. Бродского как художественное целое;
Бутенко И. Ю. «Полторы комнаты» И. Бродского как история
частной памяти; Маслаков А. А. Принципы построения прозы поэта в эссе И. Бродского «Набережная неисцелимых»;
Джумайло О. А. Пристальное чтение: между молитвой и толкованием.
415. Прозорова Н. В тени Данте. А. Блок и И. Бродский // Toronto
Slavic Quarterly: A:ad. Electronic J. in Slavic Studies. — 2010. —
No. 31. — Режим доступа: // http://www.utoronto.ca/tsq/31/
prozorova31.shtml. — Загл. с экрана.
416. Ранчин А. От бабочки к мухе. Метаморфозы поэтической
энтомологии Иосифа Бродского // Новый мир. — 2010. —
№5.- С. 166-180.
417. Романова И. В. Издержки жанра: «Неоконченный отрывок»
И. Бродского // Изв. Смолен, гос. ун-та: Ежекварт. журн. —
Смоленск, 2010. - № 3(11). - С. 80-88.
418. Романова И. В. Из наблюдений над поэтической фоникой
И. Бродского // Изв. Смолен, гос. ун-та: Ежекварт. журн. —
Смоленск, 2010. - № 4(12). - С. 145-157.
419. Романова И. В. Поэтика повторов в поэзии Иосифа Бродского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9: Филология. — М., 2010. —
№3.- С. 105-114.
420. Ряпина Т. В. Поэтика неназывания в сборнике И. Бродского
«Часть речи» // Семантика имени (Имя—2). — М., 2010. —
С. 259-264.
421. Семенов В. В. Вариативность анакрусы как средство релятивизации неклассического стиха у И. Бродского: диахронический аспект (1957—1976) // Отечественное стиховедение:
100-летние итоги и перспективы развития: Материалы Меж-
дунар. науч. конф. 25—27 нояб. 2010 г., Санкт-Петербург. —
СПб., 2010. - С. 289-303.
422. Семенов В. Полустишия в позднем неклассическом стихе
И. Бродского: квазицезура // Studia Slavica: Сб. науч. тр. молод. филол. — Tallinn, 2010. — [Вып.] 9. — С. 199—222.
423. Семенов В. Структура и типология русского стиха в представлении Иосифа Бродского: опыт реконструкции // Con amore:
Ист.-филол. сб. в честь JI. Н. Киселевой. — М., 2010. —
С. 573-581.
424. Смирнов И. По ту сторону себя: стоицизм в лирике Бродского // Звезда. - 2010. - № 8. - С. 216-225.
425. Смирнова А. Ю. Эволюция творчества И. А. Бродского в контексте особенностей авторского перевода // Анализ и интерпретация художественного произведения: Материалы
Материалы к библиографии
481
XXXII Зонал. конф. литературовед. Поволжья, Астрахань, 23—
24 сент. 2010 г. — Астрахань, 2010. — С. 204—207.
426. Снегирев И. А. Донн и Державин в восприятии И. Бродского // Знание. Понимание. Умение. — 2010. — № 4. — С. 154—
156.
427. Снегирев И. А. Жанр погребальной элегии в творчестве Иосифа Бродского // Жанр и его метаморфозы в литературах России и Англии: Материалы VIII Междунар. науч. конф. «Художественный текст и культура» и XIX Междунар. конф. Рос.
ассоц. препод. англ. лит. — Владимир, 2010. — С. 280—284.
428. Соколов К. С. Бродский и Харди (контексты восприятия) //
Там же. — С. 285—290.
429. Соколов К. С. Уоллес Стивенс в художественном восприятии
Иосифа Бродского // Знание. Понимание. Умение. — 2010. —
№ 4. - С. 157-162.
430. Степанов А. Г. Р. Саути («Пауку») и И. Бродский («Муха»): о
механизмах творческой памяти // Русская филология. — Смоленск, 2010. — С. 130—145. — (Учен. зап. / Каф. ист. и теор.
лит. Смолен, гос. ун-та; Т. 13).
431. Федорова Л. Г. Перевод как источник оригинала: Джон Донн
и любовная лирика Бродского // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 9:
Филология. — М., 2010. — № 3. — С. 95—104.
432. Хитрова Д. Указатель жестов: продолжение // От слов к телу:
Сб. ст. к 60-летию Ю. Цивьяна. — М., 2010. — С. 343—361. —
Из содерж.: Прыжок [О жесте прыжка в стихотворении
И. Бродского «Классический балет есть замок красоты...»]. —
С. 354-358.
433. Худайбердина М. У. Аллюзивно-прецедентные имена собственные как интертекстуальные элементы художественного
текста (на материале произведений поэтического сборника
И. А. Бродского «Урания») // Вестн. Пятигор. гос. лингв,
ун-та. — Пятигорск, 2010. — № 2. — С. 25—30.
434. Чевтаев А. А. Жанровый канон и поэтика его преодоления:
«Прощальная ода» Иосифа Бродского // Русская филология:
язык, текст, культура: Материалы Междунар. заоч. науч. конф.
«Поэтика художественного текста»: [В 2 ч.]. — Борисоглебск,
2010. - Ч. 2. - С. 73-80.
435. Шайтанов И. Уравнение с двумя неизвестными: Поэты-метафизики Джон Донн и Иосиф Бродский // Шайтанов И. Компаративистика и/или поэтика: Английские сюжеты глазами
исторической поэтики. — М., 2010. — С. 238—274.
436. Штерн Л. Поэт без пьедестала: Воспоминания об Иосифе
Бродском. — М.: Время, 2010. — 346 с., [32] л. ил. — (Диалог).
482
Поэтика Бродского
437. Majmieskufow А. Эхо другой тишины (модель зимней коммуникации: Бродский и Пастернак) // Русская литература
XVIII—XXI вв. В диалоге с литературным и культурным наследием = Literatura rosyjska XVIII—XXI w. W dialogu ze spuscizn^
literack^ i kulturow^. — Lódz, 2010. — S. 281—290.
2011
438. Александрова А. «Хор воды и небес». Мифологемы воды и воздуха в творчестве Иосифа Бродского. — Saarbriicken: LAP-
Lambert Academic Publishing, 2011. — 240 S.
439. Бродский после «Бродского» // Новое лит. обозрение. —
2011. — № 112. — С. 256—308. — Из содерж.: Левинг Ю. Парадоксы Бродского (От составителя); Венцпова Т. О последних
трех месяцах Бродского в Советском Союзе; Левинг Ю. Иосиф
Бродский и Андрей Тарковский (Опыт параллельного просмотра); Двинятин Ф. Еще о межъязыковых звукосмысловых
соответствиях в поэзии Бродского; Полухина В. «Любовь есть
предисловие к разлуке». Послание к М.К.
440. Смит Дж. Стихосложение последних стихотворений И. Бродского // Вопр. языкознания. — 2011. — № 5. — С. 90—103.
[В публикации ошибочно указано имя М. Л. Гаспарова.]
441. Измайлов А. Стихами Бродского звучит в нас Ленинград. —
СПб.: ООО «Полиграф», 2011. — 158 с.
442. Лосев Л. Щит Персея (Литературная биография Иосифа Бродского) // Петербургская поэзия в лицах: Очерки. — М.,
2011. — С. 239—292. То же // Бродский И. Стихотворения и
поэмы: [В 2 т.] / Вступ. ст., сост., подгот. текста и примеч.
Л. В. Лосева. - СПб., 2011. - Т. 1. - С. 5-110.
443. Романова И. В. Поэтика парантезы в лирике И. Бродского //
Русская филология. - Смоленск, 2011. - С. 202-210. - (Учен,
зап. / Каф. ист. и теор. лит. Смолен, гос. ун-та; Т. 14).
444. Романова И. В. Поэтика цикла И. Бродского «Из “Школьной
антологии”» // Изв. Смолен, гос. ун-та: Ежекварт. журн. —
Смоленск, 2011. - № 3(15). - С. 31-44.
445. Рыбальченко Т. Л. Семантика молчания в лирике И. Бродского // Сибир. филол. журнал. — 2011. — № 2. — С. 85—100.
446. Семенов В. В. К проблеме метрической неоднозначности в
русском неклассическом стихе XX в. // Вопр. языкознания. —
2011. — № 2. — С. 97—110. — Из содерж.: [Двойственность
метрической интерпретации неклассического стиха И. Бродского] .
447. Федотов О. Сонет. — М.: Рос. гос. гуман. ун-т, 2011. — 601 с. —
Из содерж.: Иосиф Бродский. — С. 384—424.
Материалы к библиографии
483
448. Чевтаев А. А. Оценочный аспект повествования в лирическом
цикле И. Бродского «Из “Школьной антологии”» // Русская
филология. - Смоленск, 2011. - С. 211-223. - (Учен. зап. /
Каф. ист. и теор. лит. Смолен, гос. ун-та; Т. 14).
449. Mots Y. The Poetics and Politics of Joseph Brodsky as a Russian
Poet-Translator // Contexts, Subtexts and Pretexts: Literary Translation in Eastern Europe and Russia — Philadelphia, РД 2011. —
P. 187—203. — (Benjamins Transl. Library; Vol. 89).
450. Lalo A. Sexuality and Eroticism in Joseph Brodsky’s Poetry:
Linguistic and Thematic Peculiarities // Toronto Slavic Quarterly:
A:ad. Electronic J. in Slavic Studies. — 2011. — No. 35. — Режим
доступа: // http://www.utoronto.ca/tsq/35/tsq35_lalo.pdf. — Загл.
с экрана.
451. Majmieskutow А Цикл Иосифа Бродского «С февраля по апрель»: сотериологический проект // «Образ мира, в слове явленный...»: Сб. в честь 70-летия Проф. Ежи Фарыно. - Siedlce,
2011.- С. 539-548.
2012
452. Карасёва А. С. Традиции Ф. М. Достоевского в творчестве
И. Бродского: Автореф. дис.... канд. филол. наук/ Волгоград,
гос. соц.-пед. ун-т. — Волгоград, 2012. — 18 с.
453. Левашов А. М., Ляпин С. Е. Шестииктный дольник Иосифа
Бродского: метрическая модель и ритмические тенденции //
Актуальные вопросы филологии и методики преподавания
иностранных языков: Ст. и материалы 4-й междунар. науч.
конф., 21-22 февр. 2012. - СПб., 2012. - Т. 2. - С. 124-138.
454. Снегирев И. А. Метафизический стиль в поэзии Иосифа Бродского: Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Иванов, гос.
ун-т. — Иваново, 2012. — 21 с.
455. Хакризоева Я. Ю. Мотивы, связанные с образом лирического
адресата, в книге Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» // Актуальные вопросы филологии и методики преподавания иностранных языков: Ст. и материалы 4-й междунар. науч. конф., 21—22 февр. 2012. - СПб., 2012. — Т. 2. —
С. 152-160.
456. Янгфельдт Б. Язык есть бог. Заметки об Иосифе Бродском /
пер. со швед. Б. Янгфельдта ; [пер. с англ. А. Нестерова]. — М.:
Астрель: CORPUS, 2012. - 368 с.
УКАЗАТЕЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
БРОДСКОГО
Август 30, 139, 240, 274, 322, 446,
456, 458, 465, 479
Ангел 309
Бабочка 429, 435
Бегство в Египет (2) 450, 460
«Блестит залив, и ветр несет...» 225,
236
Большая элегия Джону Донну 56,
62, 64, 66, 113, 121, 122, 404,
434, 447, 473
Бюст Тиберия 46, 104, 474
В альбом Натальи Скавронской
431-432
В Англии 91, 95
В горах 108, 453
«В городке, из которого смерть расползалась по школьной карте...» 193, 196
«В деревне никго не сходит с ума...»
113
«Вдоль темно-желтых квартир...»
119
Венецианские строфы (1) 59
Венецианские строфы (2) 59
Вертумн 111, 335, 457
«Вечер. Развалины геометрии...»
344
Византийское 104
Витезслав Незвал 89
В озерном краю 45
Война в убежище Киприды 37, 46
В окрестностях Александрии 326
Воронья песня 39, 139
«Восславим приход весны! Ополоснем лицо...» 104—105
«Вот я вновь принимаю парад...»
225
«Время подсчета цыплят ястребом;
скирд в тумане...» 345—346
«Всегда остается возможность выйти из дому на...» 45, 195
В семейный альбом 225
«Все чуждо в доме новому жильцу...» 47
В следующий век 401
В темноте у окна 93, 454
Глаголы 430, 470
Горбунов и Горчаков 62, 94, 121,
319, 433, 446, 464
Горение 479
Два часа в резервуаре 86, 119—120
Двадцать сонетов к Марии Стюарт
37, 426, 452, 453, 461
Девяносто лет спустя 305
Декабрь во Флоренции 45, 473
Демократия 100
Дерево 340
«Деревянный лаокоон, сбросив на
время гору с...» 192, 457, 470
Дидона и Эней 404
Доклад для симпозиума 96, 382
«Дом тучами придавлен до земли...»
44, 252
«Дорогая, я вышел сегодня из дома
поздно вечером...» 265, 467
Еврейское кладбище около Ленинграда 46, 92
«Если что-нибудь петь, то перемену
ветра...» 195
Указатель произведений Бродского
485
Желтая куртка 95
Загадка ангелу 87
«Закричат и захлопочут петухи...»
477
Заметка о Соловьеве 29
«Заморозки на почве и облысенье
леса...» 195, 200-201, 465
«Заснешь с прикушенной губой...»
313-314
Зимним вечером в Ялте 341
Зимним вечером на сеновале 115
Зимняя свадьба (Из «Старых английских песен») 39
Зофья 86, 94, 121, 460, 463
Из Парменида 46
Из «Школьной антологии» 38, 462,
482
Инструкция заключенному 420
«...и при слове “грядущее” из русского языка...» 94, 196, 200—
201
Исаак и Авраам 62, 64, 85, 92, 117,
118, 121, 165,316, 404, 409, 468
Иския в октябре 351
Испанская танцовщица 167—184
Ист Финчли 435
«Итак, пригревает. В памяти, как на
меже...» 195
Итака 126
Июльское интермеццо 354, 364, 442
«Как славно вечером в избе...» 121
Каппадокия 28
Квинтет 41
К Евгению 260
Келломяки 225—243, 318, 324
«Классический балет есть замок
красоты...» 454, 481
«Клоуны разрушают цирк. Слоны
убежали в Индию...» 457
Книга 85
К одной поэтессе 435
«Колесник умер, бондарь...» 465
Колыбельная («Родила тебя в пустыне...») 39
Колыбельная Трескового мыса 27,
41, 130, 198, 270, 450
Конец прекрасной эпохи 317, 466
«Кончится лето. Начнется сентябрь. Разрешат отстрел...» 198,
318, 449
К переговорам в Кабуле 18—20,
23-25, 28-29, 32-33
«К семейному альбому прикоснись...» 252
К стихам 208
Кошачье «Мяу» 147
Лагуна 59
Леиклос 446
Лесная идиллия 56
Литовский дивертисмент 38, 66, 87,
462
Литовский ноктюрн: Томасу Венц-
лова 59, 66, 90, 444, 450
«Люби проездом родину друзей...»
323
Любовь 42
Март 119
Мексиканский дивертисмент 39,
167, 184
Мексиканский романсеро 46
Менуэт 88, 471
Меньше единицы 11, 244, 385, 393,
399
«Меня упрекали во всем, окромя
погоды...» 401
Место не хуже любого 253—254
Метель в Массачусетсе 306
«Мои слова, я думаю, умрут...» 92
Морские манёвры 46
Мрамор 27, 100, 111-112, 295, 298,
344, 449, 456, 457, 458, 461, 479
Мужик и енот 39, 56—57
486 Указатель произведений Бродского
Муха 46, 59, 108-110, 481
«Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» 244—254, 258—
265, 443, 468
«Мысль о тебе удаляется, как разжалованная прислуга...» 317
Набережная неисцелимых 84—85,
251, 253, 314, 471, 480
Набережная р. Пряжки 342
Набросок 403
На Виа Джулия 86, 320
На возвращение весны 104—105
На выставке Карла Вейлинка 450
Над восточной рекой 45
Надпись на книге 345
Назидание 22—23
«На прения с самим собой...» 41, 45
На смерть Жукова 208—218, 441,
450
На смерть Роберта Фроста 118—119,
225, 447
Настеньке Томашевской в Крым 43
На столетие Анны Ахматовой 284
Натюрморт 114, 404, 406, 407, 443
«Не важно, что было вокруг, и не
важно...» 107—108
«Не тишина — немота...» 45
Неоконченный отрывок 341—343,
461, 480
«Ниоткуда с любовью, надцатого
мартобря...» 48, 187, 190, 203,
447
«Ни тоски, ни любви, печали...» 89
Нобелевская лекция 21, 200, 223,
304, 355-356, 452, 467, 477
Новая жизнь 126, 139
Новые стансы к Августе 93, 154—
155, 240, 404, 420
Новый год на Канатчиковой даче
114
Новый Жюль Верн 456, 464
Ночной полет 95
Облака 85
Об одном стихотворении 197, 290,
308, 389
Одиночество 41
Одиссей Телемаку 40, 125—127,
135-136, 403, 404
О Достоевском 385—388
«Около океана, при свете свечи;
вокруг...» 44—45, 194
Освоение космоса 40
«Осенний вечер в скромном городке...» 41
Осенний крик ястреба 59, 64—65,
67-68, 450, 457, 463
«Осень выгоняет меня из парка...»
46
Остановка в пустыне 91
От окраины к центру 88
Отрывок 463
Открытка из города К. 267, 414
Открытка с тостом 43
«Откуда к нам пришла зима...» 118
«О этот искус рифмы плесть...» 44
Памяти Е. А. Баратынского 86,
354-355
Памяти отца: Австралия 46
Памяти Т. Б. 234, 404
Памяти Феди Добровольского 89
Пенье без музыки 39, 64, 120, 404
Перед памятником А. С. Пушкину
в Одессе 94
Песенка 87
Песни счастливой зимы 225, 403,
421
Песня 88
«Песчаные холмы, поросшие сосной...» 46, 225
Петербургский роман 89, 91, 354,
455
Петухи 90, 327, 331-338
Пилигримы 46, 184
Письма династии Минь 39, 43, 479
Указатель произведений Бродского
487
Письма к стене 43, 118
Письма римскому другу 26, 37, 40,
42, 43, 125, 127-129, 136, 403,
464, 476, 478
Письмо в Академию 106—107
Письмо в бутылке 43
Письмо в оазис 284—285, 449
Письмо Горацию 468
Письмо генералу Z. 39, 43
Письмо к А. Д. 43
По дороге на Скирос 477
Подражание сатирам, сочиненным
Кантемиром 94, 208
Подсвечник 423
Поклониться тени 251, 302
Полдень в комнате 65, 130, 425
Полевая эклога 56
Полторы комнаты 244, 250, 480
Полярный исследователь 219—224
Портрет трагедии 48, 338, 381—401,
472
Посвящается Джироламо Марчелло
30
Посвящается позвоночнику 62
Посвящается Чехову 101—102, 111
Посвящается Ялте 100—101, 450
Послесловие к басне 56
Послесловие к «Котловану» А. Платонова 387—388
«Потому что каблук оставляет следы — зима...» 188, 193
«Похож на голос головной убор...»
338
Похороны Бобо 129—132, 403, 450,
473
Почти элегия 56
Поэзия как форма сопротивления
реальности 97
Поэт и проза 397
Представление 253, 463
Прилив 108
Примечание к комментарию 308,
310
Примечания папоротника 46, 139,
302, 304, 315
Притча 119
«Приходит март. Я сызнова служу...» 116
«Пришла зима, и все, кто мог лететь...» 62, 87, 88, 117-118, 121,
315
Пророчество 423, 474
Профиль Клио 134
«Прошел сквозь монастырский
сад...» 468
Прощайте, мадмуазель Вероника
404
Прощальная ода 49, 62—63, 64, 139,
141-146, 148-149, 455, 481
Путеводитель по переименованному городу 258, 263
Путешествие в Стамбул 19—22, 98—
99, 112, 216, 295, 396-397, 450
Пятая годовщина 46, 111, 284, 314,
443
Развивая Крылова 56, 60—61
Развивая Платона 103, 293—294,
299
Разговор с небожителем 64, 67, 121,
289
Рембрандт. Офорты 86
Речь в Шведской Королевской Академии при получении Нобелевской премии 228
Речь о пролитом молоке 59, 454,470
Римские элегии 56, 107, 242, 447,
448, 451, 452, 458, 480
Рождественский романс 404
Рождество 1963 года 88
Роттердамский дневник 45, 59
Сад 347
С грустью и нежностью 95
«Север крошит металл, но щадит
стекло...» 220, 258, 476
488 Указатель произведений Бродского
Северная почта 43, 63—64
Семёнов 139, 318
Сидя в тени 111, 335, 452, 455
«С красавицей налаживая связь...»
44
«Сокол ясный, головы...» 420
Сонет («Выбрасывая на берег словарь...») 420
Сонетик 56, 115
Сретенье 68, 87, 92-93, 124-125,
135, 406, 453, 475
Стансы 116, 194
Стансы городу 466
Стихи на смерть Т. С. Элиота 404
Стихи о зимней компании 1980 года
18
Стихи о принятии мира 40
Столетняя война 62
Стрельнинская элегия 56, 89
Строфы («Наподобье стакана...»)
59, 222-223, 242, 462
Строфы («На прощанье — ни звука...») 59, 452, 457
«Сумерки. Снег. Тишина. Весьма...» 58, 471
Сын цивилизации 147, 290
«Твой локон не свивается в кольцо...» 114—115
Театральное 295—297, 299
«Темно-синее утро в заиндевевшей
раме...» 44, 194
«Теперь все чаще чувствую усталость...» 86, 115—116
«Теперь, зная многое о моей...» 126
«Тихотворение мое, мое немое...»
194, 204
Томас Транстрёмер за роялем 466
«Топилась печь. Огонь дрожал во
тьме...» 44
Торс 132-133, 444
Тритон 326
Трофейное 251
«Ты — ветер, дружок. Я — твой...»
343-344
«Ты, гитарообразная вещь со спутанной паутиной...» 221, 242
«Ты забыла деревню, затерянную в
болотах...» 194
«Ты не скажешь комару...» 198
«Узнаю этот ветер, налетающий на
траву...» 189, 191
Услышу и отзовусь 139
Утренняя почта для А. А. Ахматовой из города Сестрорецка 225,
236
Холмы 182
Храм Мельпомены 305
Цветы 88
Часть речи 187-207, 260, 428, 431,
444, 447, 452, 458, 460, 465, 469,
480
Чаша со змейкой 95
«Чем больше черных глаз, тем больше переносиц...» 284
«Что касается звезд, то они всегда...» 193, 204
«Что ты делаешь, птичка, на черной
ветке...» 443
Шествие 49, 52-55, 85, 89, 91, 354,
434, 445, 449, 466, 472, 479
Шесть лет спустя 423
«Шум ливня воскрешает по углам...» 341
Эклога 5-я (летняя) 56, 60, 318, 351,
462, 465, 475
Эклога 4-я (зимняя) 60, 105—106,
225, 236-237, 240, 298, 341,
382, 450
Элегия («До сих пор, вспоминая
твой голос, я прихожу...») 221
Элегия («Подруга милая, кабак все
тот же...») 221
Элегия для Роберта Лоуэлла 270
Указатель произведений Бродского
489
«Это — ряд наблюдений. В углу —
тепло...» 189, 192
«Я был только тем, чего...» 452
«Я всегда твердил, что судьба —
игра...» 45
«Я входил вместо дикого зверя в
клетку...» 40, 450
«Я выпил газированной воды...» 322
Я как Улисс 121
«Я не то что схожу с ума, но устал за
лето...» 196, 205—206
«Я родился и вырос в балтийских
болотах, подле...» 45, 192—193,
205, 258, 260, 456
«Я шел сквозь рощу, думая о том...»
116
Аетс perennius 30
A Guide to a Renamed City 258
Altra ego 251
Anno Domini 26, 40
A Part of Speech 258, 266
A Photograph 251-252, 259-260,
262-264
At the City Dump in Nantucket 266—
276
Bagatelle 104
Einem alten Architekten in Rom 271
Elegy: For Robert Lowell 270
Ex ponto (Последнее письмо Овидия в Рим) 39, 43, 463
Fin de siècle 247, 335
Leningrad: the City of Mystery 263
Less Than One 258, 263
North of Delphi 302
Post aetatem nostram 26, 93, 130, 423,
462
Postscriptum 478
Ritratto di donna 88
So Forth 266
To My Daughter 149, 274, 275
To Urania 266
24 декабря 1971 года 91—92
1972 год 37, 38-39, 132, 324-325
УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Аверинцев С. С. 390, 391—392,
393-394, 396, 397, 400, 401
Агапкина Т. А. 337
Агеев Л. М. 155
Адамович Г. В. 374
Адорно Т. 304
Азадовский К. М. 184, 422
Айзенберг М. Н. 368—369, 371, 375,
376, 377, 378
Айх Г. 303
Альберти Р. 182
Альми И. Л. 58-59, 61, 366
Альтшулер А. Б. 372
Андреева А. Н. 140, 150
Анненский И. Ф. 112
Антониони М. 416
Аншютц К. 402, 403, 406
Апресян Ю. Д. 90
Апухтин А. Н. 112
Аронзон Л. Л. 367, 369, 370, 371,
372, 375, 376, 378
Артёмова С. Ю. 49, 135, 136, 197
Арутюнова Н. Д. 90
Архилох 406
Архимед 414
Афанасьев А. Н. 337
Ахапкин Д. Н. 136, 207, 220, 223,
241
Ахмадулина Б. А. 435
Ахматова А. А. 8, 124, 191, 198, 208,
225, 236, 242, 243,310,313,326,
357, 374, 375,401,403,410,411,
433-434, 437
Багрицкий Э. Г. 217
Баевский В. С. 336
Базанов В. Г. 184
Байрон Дж. 208
Балабаева В. А. 207
Балабаева М. А. 207
Бальмонт К. Д. 173, 183
Баратынский (Боратынский) Е. А.
42, 112, 353-366, 404, 432, 433
Барт Р. 31, 248
Барто А. Л. 176, 183
Барышников М. Н. 8
Басманов П. И. 237
Басманова М. П. 46, 108, 196, 206,
221, 225, 242, 382, 417
Бахман И. 303
Бахтин М. М. 34, 48, 58, 61, 84
Башляр Г. 67
Беглов А. Л. 290
Бейли Дж. 141, 142, 149, 150, 151
Беккет С. 244, 387, 433
Белкина М. И. 68
Белый А. 152, 154, 164, 367, 405, 406
Белый А. А. 352
Бенн Г. 300-301, 303
Берг М. Ю. 369, 373, 376, 377
Берг Р. Л. 225
Беренштейн Е. П. 136
Бетаки В. П. 405
Бетеа (Бетея) Д. 20, 32, 33, 135, 140,
141, 149, 150, 270, 275, 312, 324
Бетховен Л. ван 413
Бизе Ж. 231
Бион 268
Биркертс С. 307
Битов А. Г. 372, 413
Блейк В. 208
БлокА. А. 173, 183, 189, 281, 370,
410
Блум X. 273
Указатель имен
491
Блюмштейн (Аллой) Р. 419
Бобышев Д. В. 369, 405
Богатырёв К. П. 180
Боровкова Т. А. 43, 234, 404
Боттичелли С. 416—417
Боэф 382
Браун Н. Л. 372
Брежнев Л. И. 420
Бретон А. 405
Брехт Б. 301
Бродская М. М. 415
Бродский А. И. 409, 410, 412
Брик О. М. 250
Бройтман С. Н. 35, 49, 50, 59, 60,
197, 206
Будовская Е. Э. 337
Булгаков В. Ф. 301
Булгаков М. А. 406, 418
Буслаев Ф. И. 98
Бэтчен Дж. 248
Вайль П. Л. 100, 111, 210, 217
Вайнер А. 270
Ваксберг А. И. 374
Ваншенкина Е. В. 134, 136
Васильев В. Е. 175
Васильев И. Е. 400
Ватт А. 201—202
Вебер М. 30
Велизарий 214
Венцлова Т. 68, 99, 111, 112, 135,
180, 276, 377, 402
Вергилий 208, 268
Верхейл К. 41, 49, 135, 251
Виноградов В. В. 34, 48
Виноградов Л. А. 353, 363, 372
Винокур Г. О. 34, 48
Виньковецкий Я. А. 413, 418
Виролайнен М. Н. 60
Витгенштейн Л. 369
Владимов Г. Н. 374
Вознесенский А. А. 155, 165
Войнович В. Н. 374
Волгина А. С. 182
Волков С. 32, 49, 67, 122, 180, 184,
215,218, 251,261,265, 277, 289,
326, 352, 355, 364, 386, 399, 400,
401
Волконский А. М. 413
Волохонский А. Г. 367, 370
Вольф С. Е. 372
Воронель Н. А. 176
Ворошильский В. 407
Вроон Р. 67
Врубель М. А. 281
Высоцкая И. В. 110
Высоцкий В. С. 98
Гандлевский С. М. 52, 60
Ганнибал 214
Гарди Т. 432
Гарсиа Лорка Ф. 167—168, 169, 181,
183
Гаспаров М. Л. 33, 143, 144, 145,
151, 154, 164, 165, 289
Гачева А. Г. 265
Гелескул А. М. 169
Гельфонд М. М. 365, 366
Генис А. А. 100, 111
Герберт Дж. 113
Геродот 305
Герцен А. И. 30, 383
Гёте И. В. 437
Гинзбург Л. Я. 34, 40, 48, 60, 364,
372-373, 374, 377
Гира Л. 405
Гитлер А. 403
Глазунова О. И. 136, 218
Глебович Т. А. 60
Гнедич Н. И. 141, 150
Гнесин Г. 168
Гоголь Н. В. 187, 197, 257, 431, 436
Голышев В. П. 175, 414, 420
Гомер 295
Гончаренко С. Ф. 182, 183
Гораций 208, 293
492
Указатель имен
Горбаневская H. Е. 374, 377, 410
Горбовский Г. Я. 367, 368, 370—371,
372, 373, 376
Гордин Я. А. 67, 101, 184, 354, 364,
417, 418, 423
Горская Н. В. 170
ГраудинаЛ. К. 110, 112
Грибоедов А. С. 188
Григорьев Ап. А. 260, 264
Гроховяк Ст. 411
Грэй Дж. 276
Губанова Г. И. 400
Даль В. И. 97, 110
Данте А. 62, 132, 208, 227, 239, 240,
401
Дарвин Ч. 56
Дворжак А. 409
Державин Г. Р. 52, 208—209, 213—
215, 217, 432, 433
Джером Дж. 408
Джойс Дж. 387
Джонсон Б. 157
Джугашвили И. В. 20
Димитрий Ростовский 393
Довлатов С. Д. 374
Долан Дж. 276
Долинин А. А. 67
Донн Дж. 9, 62, 113, 114, 154, 156,
157, 208, 289, 405, 434
Достоевский Ф. М. 12, 15, 257, 260,
385, 386, 387, 400
ДрэйджЧ. Л. 141, 150
Дуганов Р. В. 400
Дьяконов И. М. 411
Дэйви Д. 269
Еврипид 111, 382, 396
Евтушенко Е. А. 407
Егунов А. Н. 392
Елисеев Н. Л. 166
Ентин Л. Г. 372
Епифаний Премудрый 385, 389, 392
Ерёмин М. Ф. 413
Ермилова Е. В. 165
Ефимов И. М. 418
Желнов А. 240
Женетт Ж. 135
Жирмунский В. М. 145, 151
Житенёв А. А. 48
Жолковский А. К. 136
Жуков Г. К. 209-218
Жукова М. Г. 210
Жуковский В. А. 152
Заболоцкий Н. А. 190, 223, 339—
352, 357
Замятин Е. И. 326
Зонтаг С. 247, 249
Зощенко М. М. 406
Зубова Л. В. 106, 111, 112, 136, 197,
366
Зырянов О. В. 59, 61
Иванов Вяч. Вс. 122, 140, 149, 150,
336
Иванюк Б. П. 61
Игошева Т. В. 352
Измайлов Р. Р. 207
Иличевский А. В. 68
Ионеско Э. 399, 411
Ицкович В. А. 110
Йетс У. Б. 208
Йованович М. 335
Кавафис К. 32, 103, 111, 304, 403,
416, 439
Казарновский П. А. 376
Каланта Р. 413
Калашников С. Б. 48, 67
Камелина А. В. 183
Кантемир А. Д. 208, 404, 432, 433
Капп В. 303
Картье-Брессон А. 250
Катилюс Р. 402, 405, 410, 411, 413,
417
Указатель имен
493
Катлинская Л. П. 110
Кафка Ф. 254, 387
Кашина М. А. 206
Квятковский А. П. 289
Кежун Б. А. 372
Кейзер С. 156, 157
Кибиров Т. Ю. 52, 60
Ким Хён Ён 197, 206
Кипарский П. 154, 156
Киреевский И. В. 359, 366
Клюев Н. А. 180-181, 184, 410, 413,
414
Ковалёва И. И. 108, 112, 298, 299
Коген Г. 312
Козицкая-Флейшман Е. А. 48
Козлов В. И. 206
Козырев Н. А. 407
Кольридж С. Т. 436
Кон-Бендит Д. 411
Кононов Н. М. 217
Конрад Дж. 409
Копина А. Е. 183
Корман Б. О. 35, 48
Коробова Э. Б. 402, 403, 407, 410,
412, 413, 414, 417
Королёва Ю. И. 298
Корчинский А. В. 143
Костюхин Е. А. 327, 335
Косыгин А. Н. 409
Красовицкий С. Я. 368, 370
Красовская С. И. 134
Крепе М. 122, 135, 182
Кривулин В. Б. 218, 353, 358-363,
364, 365, 366, 367, 368, 369, 370,
373, 375, 377
Кролов К. 303
Кручёных А. Е. 237, 386
Крылов И. А. 56, 112, 334, 338, 412
Крэшо Р. 113
Кузьминский К. К. 367, 368, 370,
371, 373, 376, 377
Кукуй И. С. 375, 378
Кулагин А. В. 365
Кулаков В. Г. 376
Куллэ В. А. 48, 111, 135, 182, 243,
289, 335, 338, 364
Куприянова Е. Н. 354, 364, 365
Курганов Е. 60
Кушлина О. Б. 366
Кушнер А. С. 353, 355, 356—358,
359, 363, 365, 367, 368, 371,372,
373, 374, 376, 414
Ласкер-Шюллер Э. 303
Левашов A. М. 150
Левин Ю. И. 35, 49
Левинг Ю. 311, 323, 325, 326
Левинтон Г. А. 197, 238, 242
Левкиевская Е. Е. 337
Лейдерман Н. Л. 112
Ленин В. И. 403
Лепахин В. В. 135
Лермонтов М. Ю. 62, 211, 281, 414
Летучий В. М. 184
Лившиц Б. К. 386
Липкин С. И. 217
Липовецкий М. Н. 112
Лихачёв Д. С. 352, 400
Лобачевский Н. И. 233, 239, 242
Ломоносов М. В. 52, 432
Лосев А. 111, 258, 263, 264, 265
Лосев А. Ф. 136, 388, 400
Лосев Л. В. 111, 164, 165, 182, 224,
343, 352, 353, 356, 357, 363, 365,
374, 375, 377, 418, 423, 424
Лотман М. Ю. 217, 218, 241
Лотман Ю. М. 25, 33, 241, 257, 261,
264, 265, 314, 326, 399, 400, 410,
411
Лоуэлл Р. 267-269, 270, 273
Луманн Н. 20
Ляпин С. Е. 150
Маймескулов А. 338
Малевич К С. 236, 237, 238, 239,
242, 386
494
Указатель имен
Мандельштам Н. Я. 416
Мандельштам О. Э. 9, 18, 29—30,
32, 33, 62, 68, 111, 135, 136,
147-148, 151, 201, 208, 277,
281,305, 309,310, 353,355, 357,
382, 396, 401, 413, 427
Мандельштам Р. Ч. 369
Манрике X. 181
Марамзин В. Р. 403, 414, 415, 417
Марвелл Э. 113, 412
Марти X. 178
Марциал 403
Матюшин М. В. 237, 386
Маяковский В. В. 303, 313, 433, 434,
439
Мачадо А. 170, 181, 182
Медведев А. А. 124, 135
Медведев П. Н. 61
Медведева Н. Г. 48, 134, 136, 207,
298
Меир Г. 409
Мейлах М. Б. 418, 422
Мелвилл Г. 268, 406
Мельгар М. 175
Мережковский Д. С. 33
Миклухо-Маклай Н. Н. 229
Милош О. 403
Милош Ч. 403
Мильтон Дж. 62, 268
Мильчик М. И. 404, 418, 420
Минаков С. А. 217
Миронов А. Н. 369
Михаил Пселл 397
Михайлов А. В. 400
Мичурин И. В. 348, 349
Мойст В. 242
Монтале Э. 208, 432, 439
Морев А. С. 369
Моцарт В. А. 438
Набоков В. В. 277, 278-288, 407,
409
Найман А. Г. 326, 356, 369, 371, 377,
405, 422
Некрасов В. П. 374
Некрасов Н. А. 172, 183, 208, 414
Нестеров А. В. 122, 335, 338
Николаев С. Г. 111
Николай I 378
Никольская Т. J1. 377
Никсон Р. М. 411
Ницше Ф. 383
Норвид Ц. К. 409
Нуриев P. X. 8
Овидий 112, 208, 293
Оден У. X. 7, 9, 15, 208, 250, 251,
275, 300, 302, 405, 417, 432, 434
Ожегов С. И. 289
Орлова О. В. 224
Охапкин О. А. 413, 417
Падучева Е. В. 85, 90, 96
Панн Л. 181, 184
ПановаЛ. Г. 67, 136, 183
Панченко А. М. 394, 400, 401
Пас О. 182
Паскаль Б. 115
Пастернак Б. Л. 107, 191, 207, 288,
300, 310-338, 406, 432, 433
Патера Т. 111
Паунд Э. 410
Паустовский К. Г. 301
Перс С.-Ж. 410
Петр I 257, 262, 402
Петрухина Е. В. 90, 96
Петрушанская Е. М. 61, 182, 251
Пиаф Э. 409
Платон 293-294, 297, 298, 299, 381,
383, 388
Платонов А. П. 190, 387—388, 389,
395, 406
Плат С. 406, 409
Плеханова И. И. 134
Плотин 385, 397
Плуцик X. 409
Полухина В. П. 48, 49, 83, 111, 136,
181, 182, 184, 187, 199, 206, 224,
289, 352, 364, 365, 377, 425
Поляков Л. 416, 417
Указатель имен
495
Помпей 214
Понизовский Б. Ю. 372
Понырко Н. В. 400
Проперций 208
Проффер К. 408
Проффер Э. 408
Прохорова С. М. 96
Прохорова Э. В. 33
Пурин А. А. 217
ПушкинА. С. 11, 52, 112, 136, 152,
174, 181, 195, 196, 208,211,257,
353, 375, 413, 427
Пярли Ю. 61, 206, 241
Радбиль Т. Б. 136
Радышевский Д. 241
Ранчин А. М. 67, 101, 111, 112, 122,
134, 220, 224, 338
Расин Ж. 382, 386
Рассадин Ст. Б. 365
Раушенбах Б. В. 96
Рейн Е. Б. 68, 225, 239, 326, 353,
364, 369, 372, 405, 407, 412, 413
Рейнольдс А. 240
Рейтблат А. И. 367, 375, 376, 377
Ригсби Д. 270, 271
Рильке Р. М. 179-180, 184, 300, 301,
312
Рожанский И. Д. 184
Роман Сладкопевец 391
Романов И. А. 48
Романова И. В. 49, 207
Ростропович М. Л. 8, 374
Рубинштейн А. Г. 281
Русаков В. Е. 217
Русова Н. Ю. 223
Руссова С. Н. 35, 49
Рывин А. 405
Савицкий С. А. 377
Савич О. Г. 178, 184
Самойлов Д. С. 217, 405
Самойлова И. Ю. 96
Сан Висенте Р. 174
Сандлер С. 19, 23, 28
Сарасате П. де 168, 182
Сартр Ж. П.
Светлов Р. В. 401
Седакова О. А. 358, 365, 369
Седов Г. Я. 220
Семененко С. А. 414
Семёнов В. В. 139-140, 143, 149,
150, 151
Семёнова Е. А. 206
Семёнова С. Г. 265
Сеничкина Е. П. 110
Сент-Экзюпери А. де 62
Сергеев А. Я. 175, 289, 410
Сергеева Л. Г. 407
Сергеева-Клятис А. Ю. 135
СернудаЛ. 182
Сидоров В. М. 217
Сильман Т. И. 184, 212, 218
Симонов К. М. 217
Скворцов А. Э. 67
Скобелев В. П. 212-214, 215, 217—
218
СкулачёваТ. В. 143, 144, 145, 151
Служевская И. 65, 68, 134
Слуцкий Б. А. 14, 153-155, 160—
164, 165, 166
Смит Дж. 139, 143, 240
Собчак А. А. 243
Соколов К. С. 67, 276
Сократ 293—299, 400
Солженицын А. И. 8
Соснора В. А. 174, 183, 367, 368,
372, 373, 374, 375, 376
Софокл 299
Спекгор Дж. 302, 303, 306
Спонд Ж. 411
Старовойтова Г. В. 243
Степанов А. Г. 135
Степанов А. Д. 101—102, 111
Степанов А. И. 376
Степанова Л. Г. 412
Стивенс У. 271, 273, 276
Столбов В. С. 175
496
Указатель имен
Столетов А. И. 223
Стравинский И. Ф. 8
Стратановский С. Г. 369
Ступников Д. О. 326
Суворов А. В. 210-211, 214, 217
Сумароков А. П. 56
Тагор Р. 407
Тайгин Б. И. 371
Тарановский К. Ф. 151, 154, 165
Тахо-Годи А. А. 388, 400
Тименчик Р. Д. 377
Тихонова Р. И. 110
Толстой Л. Н. 8, 12, 188, 197, 301,
312
Толстой Н. И. 184, 337
Томас Д. 409
Томашевская А. 43
Томашевская И. Н. 355
Томашевский Б. В. 183, 212, 289
Топоров В. Л. 134
Топоров В. Н. 257, 264, 337, 352, 363
Торо Г. 268
Тракль Г. 300, 301
Трауберг Н. Л. 407
Тредиаковский В. К. 142—143, 148,
151
Тынянов Ю. Н. 34, 40, 48, 337, 411
Тюкина С. Л. 134
Тютчев Ф. И. 62, 208, 281, 358
Уайт С. 267, 274
Уилбер Р. 406
Уинслоу У. 267, 268, 269
Уитман У. 208
Уоткинс Э. И. 275
Урбан А. А. 165
Урынсон Е. В. 90
Успенский Б. А. 135
Уфлянд В. И. 371, 409
Уэстон Э. 253
Файт Б. 303
Фарино Е. 336, 337
Фасмер М. 110, 337
Федин К. А. 301
Федотов О. И. 60, 217
Фельдман Д. М. 298
Феокрит 268, 416
Фет А. А. 208
Фигера Аймерич А. 183
Филиппов В. А. 369
Фиррэгг А. 306
Фокин А. А. 60
Фоменко И. В. 207
Фрост Р. 43, 208, 289, 304, 306, 309
Хазагеров Т. Г. 290
Халле М. 156, 157
Хамбургер М. 302
Ханзен-Лёве А. 67
Хансон К. 154
Хвостенко А. Л. 367, 372
Хельбиг X. 300
Херберт 3. 403
Хименес X. Р. 169, 182
Хлебников В. В. 189, 237, 277, 344,
350, 351, 353, 375, 433
Ходасевич В. Ф. 208, 357, 411
Холмс В. 248
Хуана Инес де ла Крус 181
Хухель М. 301, 302
Хухель П. 300—309
Цветаева М. И. 9, 14, 62, 64, 68, 83,
110, 112, 155, 165, 168, 187, 189,
190, 191, 197, 208, 277, 288, 300,
310, 382, 389, 390, 400, 401, 404,
416, 433, 434, 435
Цветков А. П. 217
Целан П. 301, 309
Цивьян Т. В. 337
Циммерманн X. Д. 308
Циолковский К. Э. 247, 261
Цепела К. 19
Чевтаев А. А. 134—135
Чернова А. 412
Чертков Л. Н. 368, 402, 405, 406,
410, 412, 413, 417
Указатель имен
497
Чехов А. П. 301
Baak J. van 241
Чуковский К. И. 112, 374
Baranczak S. 122
Чумаков Ю. Н. 61
Barthes R. 33, 252, 254
Batchen G. 253
Шагал М. 3. 8
Berger J. 252, 253
Шайтанов И. О. 122, 241, 352
Bethea D. M. 275, 325, 326
Шаляпин Ф. И. 8
Bloom H. 276
Шапир М. И. 141, 150, 151
Boele O. 240
Шварц Е. А. 369
Brik 0. 254
Шекспир В. 156, 422
Шеллберг Э. 274
Ciepiela C. 32, 33
Шелли П. Б. 414
Clark K. 242
Шенгели Г. А. 283
Cohen H. 207
Шерр Б. 60, 61
Шестов JL И. 83
Davie D. 275
Ширина J1. С. 290
Davis G. 276
Шмаков Г. Г. 32, 103, 175, 178, 402
Dolan P. 274, 276
Шмид В. 37, 38, 49, 135
Donne J. 165
Шпенглер О. 30
Daugherty Ch. M. 253
Штерн Л. Я. 289
Шубинский В. И. 376
Faryno J. 336
Fast P. 252
Эвклид 246
Fender S. 274
Эгурен X. М. 177
FlakerA 325
Эйнштейн А. 237
Эйхенбаум Б. М. 411
Grinberg M. 165
Элиаде М. 405
Элиот Т. С. 9, 208, 404, 405, 407, 434
Halle M. 165
Эмерсон Р. 269
Helbig H. 308
Эпштейн М. Н. 352
Henderson L. D. 242
Эрль В. И. 372, 376
Herlth J. 33
Эткинд Е. Г. 175, 197, 410, 411
Holander S. 276
Эткинд М. Е. 411, 413
Huchel P. 308, 309
Hunter J. 253
Юпп М. Е. 372
Юстиниан 396
Karjalainen P. T. 243
Keyser S. J. 165
Якобсон Р. О. 49, 165
Kiparsky P 165, 166
Яковлева И. П. 298
Könönen M. 240, 241
Янгфельдт Б. 243
Abercrombie D. 165
Auden W. H. 275
Labrie R. 275
Longenbach J. 276
Lotman M. 164, 165
498
Указатель имен
Lovell S. 240
Lowell R. 275
Lowney J. 276
Luhmann N. 32, 33
MacFadyen D. 165
Madloch J. 244, 253, 254
Majmieskulow A. 337
Marti J. 172
Marx L. 325
MaUinen J. 239, 240
Mazzaro J. 274
Pärli Ü. 298
Patera T. 111
Perloff M. 274
Polukhina V. 32, 134, 241
Pratt S. 32, 33
Ram H. 33
Ramazani J. 275, 276
Reynolds A 240
Rigsbee D. 275
Sacks P. M. 275
Sandler S. 32, 33
Scherr B. 164
Shakespeare W. 165
Shallcross B. 242
Smith G. S. 7, 32, 149-150, 164, 240
Sontag S. 252, 253
Staples H. B. 274, 275
Stevens W. 276
Szymak-Reiferowa J. 251
Tarlinskaja M. 165
Tieman O’Connor K. 32
Tuan Yi-Fu 241
Venclova T. 184, 402
Wachtel M. 32
Weiner A 275
Weston E. 253
Zeeman P. 241
СОДЕРЖАНИЕ
СТРУКТУРА ХУДОЖЕСТВЕННОГО МИРА
Дж. Смит. Иосиф Бродский: взгляд иностранного современника 7
Й. Херлып. «В ожидании варваров»: Бродский и границы эстетики 18
И. В. Романова. Субъектно-объектная структура лирики
Бродского 34
О. В. Зырянов. Жанровое самосознание Бродского (к вопросу о жанровой авторефлексии поэта) 50
А. А. Александрова. Царство языка: миф о воздухе'в поэтическом творчестве Бродского 62
МЕХАНИЗМЫ ПОЭТИЧЕСКОЙ СЕМАНТИКИ
3. Ю. Петрова. Отрицание и способы его выражения в поэзии
Бродского 71
И. Ю. Самойлова. Индивидуальная картина мира поэта: зри-
тельноеное восприятие 84
М. Рубине. «Песнь есть форма лингвистического неповиновения». О некоторых случаях ненормативного словоупотребления в поэзии Бродского 97
М. Грыгель. Метафизика обыденности в ранней поэзии Бродского 113
А. А. Чевтаев. Небытие в поэтическом нарративе Бродского
(стихотворения 1972 года) 123
СТРУКТУРА СТИХА
А. М. Левашов, С. Е. Ляпин. Ритмико-синтаксическое строение
«Прощальной оды»: к гексаметрической концепции шес-
тииктного стиха Бродского 139
Н. Фридберг. Законоборцы и законотворцы: Слуцкий и Бродский как реформаторы русского ритма 152
А. Г. Степанов. О ритмических контекстах стихотворения «Испанская танцовщица» 167
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕКСТА
И. В. Фоменко. Цикл «Часть речи»: опыт интерпретации 187
С. Ю. Артёмова. Человек уб. поэт в цикле «Часть речи» 199
О. И. Федотов. «На манер “Снигиря”» (о стихотворении «На
смерть Жукова») 208
500
Содержание
Е. В. Мищенко. «Полярный исследователь»: палимпсест
Бродского 219
М. Кёнёнен. Осязаемый мир вещей и неосязаемый мир смысла:
Стихотворение «Келломяки» и образ «Финляндии» 225
И. Мадлох. Как прочитать фотографию. Анализ стихотворения
«Мы жили в городе цвета окаменевшей водки...» /
«А Photograph» 244
АНГЛИЙСКИЙ БРОДСКИЙ
А. С. Волгина. Петербург / Leningrad: «свое» и «чужое» в англоязычном творчестве поэта 257
К. С. Соколов. Две свалки и одно кладбище: О Лоуэлле, Стивенсе и трансформации элегической традиции в «At the City
Dump in Nantucket» 266
С. Г. Николаев. Бродский — переводчик Набокова (об одном
опыте русско-английского поэтического переложения) 277
ТИПОЛОГИЯ И КОНТЕКСТЫ
И. И. Ковалева. «У тебя неправильные черты»: Бродский и Сократ (к постановке проблемы) 293
Т. Гой, Г. Киршбаум. «Помни обо мне»: Иосиф Бродский и Петер Хухель 300
Я. Клоц. «Расписанье железных вещей»: о поездах и вокзалах в
поэзии Пастернака и Бродского 310
А. Маймескулов. «По петушиной перекличке...» (Бродский и
Пастернак) 327
A. Г. Разумовская. Дерево и сад в творчестве Бродского и За¬
болоцкого 339
М. М. Гельфонд. Боратынский в ленинградской поэзии 1960—
1980-х годов 353
Д. М. Давыдов. Ленинградские поэты 1950—1960-х: поиск «главной фигуры» 367
МАТЕРИАЛЫ
Р. В. Щипина. Ковры 381
Т. Венцлова. О последних трех месяцах Бродского в Советском
Союзе 402
B. Марамзин. К истории 5-томного собрания сочинений Брод¬
ского в ленинградском «самиздате» в 1972—1974 годах 418
«Вектор в ничто»: интервью Валентины Полухиной с Иосифом
Бродским 425
Поэтика Бродского: материалы к библиографии 440
Указатель произведений Бродского 484
Указатель имен 490
ИОСИФ БРОДСКИЙ: ПРОБЛЕМЫ ПОЭТИКИ
Сборник научных трудов и материалов
Дизайнер
Е. Поликаьиин
Редакторы
А. Г. Степанов, И. В. Фоменко, С. Ю. Артёмова
Корректор
Л. Морозова
Компьютерная верстка
С. Пчелинцев
Налоговая льгота —
общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2;
953000 — книги, брошюры
ООО РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА
«НОВОЕ ЛИТЕРАТУРНОЕ ОБОЗРЕНИЕ»
Адрес издательства:
129626, Москва,
абонентский ящик 55
тел./факс: (495) 229-91-03
e-mail: real@nlo.magazine.ru
Интернет: http://www.nlobooks.ru
Формат 60x90/16
Бумага офсетная № 1
Печ. л. 31,5. Тираж 1500. Заказ №5264
Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14
Книги и журналы
«Нового литературного обозрения»
можно приобрести в интернет-магазине издательства www.nlobooks.mags.ru
и в следующих книжных магазинах:
в МОСКВЕ:
«Библио-Глобус» — ул. Мясницкая, 6, (495)924-46-80
Галерея книги «Нина» — ул. Бахрушина, 28, (495) 959-20-94
«Гараж» — ул. Образцова, 19-А (магазин в центре современной культуры
«Гараж»), (495)645-05-21
Книготорговая компания «Берроунз» — (495) 971-47-92
«Книги в Билингве» — Кривоколенный пер., 10, стр. 5, (495) 623-66-83
«Культ-парк» — Крымский вал, 10 (магазин в ЦДХ)
«Молодая гвардия» — ул. Большая Полянка, 28, (499) 238-50-01,
(495) 780-33-70
«Москва» — ул. Тверская, 8, (495) 629-64-83, (495) 797-87-17
«Московский Дом Книги» — ул. Новый Арбат, 8, (495) 789-35-91
«Мир Кино» — ул. Маросейка, 8, (495) 628-51-45
«Новое Искусство» — Цветной бульвар, 3, (495) 625-44-85
«Проект ОГИ» — Потаповский пер., 8/12, стр. 2, (495) 627-56-09
«Старый свет» — Тверской бульвар, 25 (книжная лавка при
Литинституте, вход с М. Бронной), (495) 202-86-08
«У Кентавра» — ул. Чаянова, д. 15 (магазин в РГГУ), (495) 250-65-46
«Фаланстер» — Малый Гнездниковский пер., 12/27, 629-88-21
«Фаланстер» (На Винзаводе) — 4-й Сыромятнический пр., 1, стр. 6
(территория ЦСИ Винзавод), (495) 926-30-42
«Циолковский» — Новая пл., 3/4, подъезд 7Д (в здании Политехнического
Музея), 628-64-42, 628-62-48
«Dodo Magic Bookroom» — Рождественский бульвар, 10/7,
(495) 628-67-38
«Jabberwocky Magic Bookroom» — ул. Покровка, 47/24 (в здании Центрального
дома предпринимателя), (495) 917-59-44
Книжные лавки издательства «РОССПЭН»:
• Киоск № 1 в здании Института истории РАН —
ул. Дм. Ульянова, 19, (499) 126-94-18
• «Книжная лавка историка» в РГАСПИ —
Б. Дмитровка, 15, (495) 694-50-07
• «Книжная лавка обществоведа» в ИНИОН РАН —
Нахимовский пр., 51/21, (499) 120-30-81
Киоск в кафе «АртАкадемия» — Берсеневская набережная, 6, стр. 1
Книжный магазин в кафе «МАРТ» — ул. Петровка, 25 (здание
Московского музея современного искусства)
в САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ:
На складе нашего издательства — Лиговский пр., 27/7, (812) 275-05-21
«Академическая литература» — Менделеевская линия, 5 (в здании Истфака
СПбГУ), (812) 328-96-91
«Академкнига» — Литейный пр., 57, (812) 230-13-28
«Борхес» — Невский пр., 32-34 (дворик у Римско-католического собора
Святой Екатерины), (921) 655-64-04
«Буквально» — ул. Малая Садовая, 1, (812) 315-42-10
Галерея «Новый музей современного искусства» — 6-я линия ВО, 29,
(812) 323-50-90
Киоск в Библиотеке Академии наук — ВО, Биржевая линия, 1
Киоск в Доме Кино — Караванная ул., 12 (3 этаж)
«Классное чтение» — 6-я линия ВО, 15, (812) 328-62-13
«Книги и Кофе» — наб. Макарова, 10 (кафе-клуб при Центре современной
литературы и искусства), (812) 328-67-08
«Книги Подарки» — ул. Колокольная, 10, (812) 715-33-07
«Книжная лавка» — в фойе Академии Художеств, Университетская наб., 17
«Книжный Окоп» — Тучков пер., д. 11/5 (вход в арке), (812) 323-85-84
«Книжный салон» — Университетская наб., 11 (в фойе филологического
факультета СПбГУ), (812) 328-95-11
Книжные салоны при Российской национальной библиотеке — Садовая ул., 20
Московский пр., 165, (812) 310-44-87
Книжный магазин-клуб «Квилт» — Каменноостровский пр., 13,
(812) 232-33-07
«Подписные издания» — Литейный пр., 57, (812) 273-50-53
«Порядок слов» — Наб. реки Фонтанки, 15 (812) 310-50-36
«Проектор» — Лиговский пр., 74 (Лофт-проект «Этажи», 4 этаж), (911) 935-27-31
«Ретро» — Стенд № 24 (1 этаж) на книжной ярмарке в ДК Крупской, пр.
Обуховской обороны, 105
«Санкт-Петербургский Дом Книги» (Дом Зингера) — Невский пр., 28,
(812) 448-23-57
«Университетская лавка» — 7 линия ВО, 38 (во дворе), (812) 325-15-43
«Фонотека» — ул. Марата, 28, (812) 712-30-13
Bookstore «Все свободны» — Волынский пер., 4 или наб. Мойки, 28 (второй
двор, код 489), (911) 977-40-47
в ЕКАТЕРИНБУРГЕ:
«Дом книги» — ул. Антона Валека, 12, (343) 253-50-10
в КРАСНОЯРСКЕ:
«Русское слово» — ул. Ленина, 28, (3912) 27-13-60
в НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ:
«Дирижабль» — ул. Б. Покровская, 46, (8312) 31-64-71
в НОВОСИБИРСКЕ:
Литературный магазин «КапиталЪ» — ул. Горького, 78, (383) 223-69-73
Магазин «BOOK-LOOK» — Красный пр., 29/1, 2 этаж, (383) 362-18-24;
— Ильича, 6 (у фонтана), (383) 217-44-30
в ПЕРМИ:
«Пиотровский» — ул. Луначарского, 51а, (342) 243-03-51
в ЯРОСЛАВЛЕ:
Книжная лавка гуманитарной литературы — ул.Свердлова, 9,
(4852) 72-57-96
в МИНСКЕ:
ИП Людоговский Александр Сергеевич — ул. Козлова, 3
ООО «МЕТ» — ул. Киселева, 20, 1 этаж, +375 (17) 284-36-21
в СТОКГОЛЬМЕ:
Русский книжный магазин «INTERBOK» — Hantverkargatan, 32,
Stockholm, 08-651-1147
в ХЕЛЬСИНКИ:
«Ruslania Books Оу» — Bulevardi, 7, 00120, Helsinki, Finland,
+358 9 272-70-70
в КИЕВЕ:
ООО «АВР» - +38 (044) 273-64-07
Книжный рынок «Петровка» — ул. Вербовая, 23, Павел Швед,
+38 (068) 358-00-84
Книжный интернет-магазин «Лавка Бабуин» (http://lavkababuin.com/) —
ул. Верхний Вал, 40 (оф. 7, код #423), +38 (044) 537-22-43;
+38 (050) 444-84-02
Интернет-магазин «Librabook» (http://www.librabook.com.ua/) (044) 383-20-95;
(093) 204-33-66; icq 570-251-870, info@librabook.com.ua