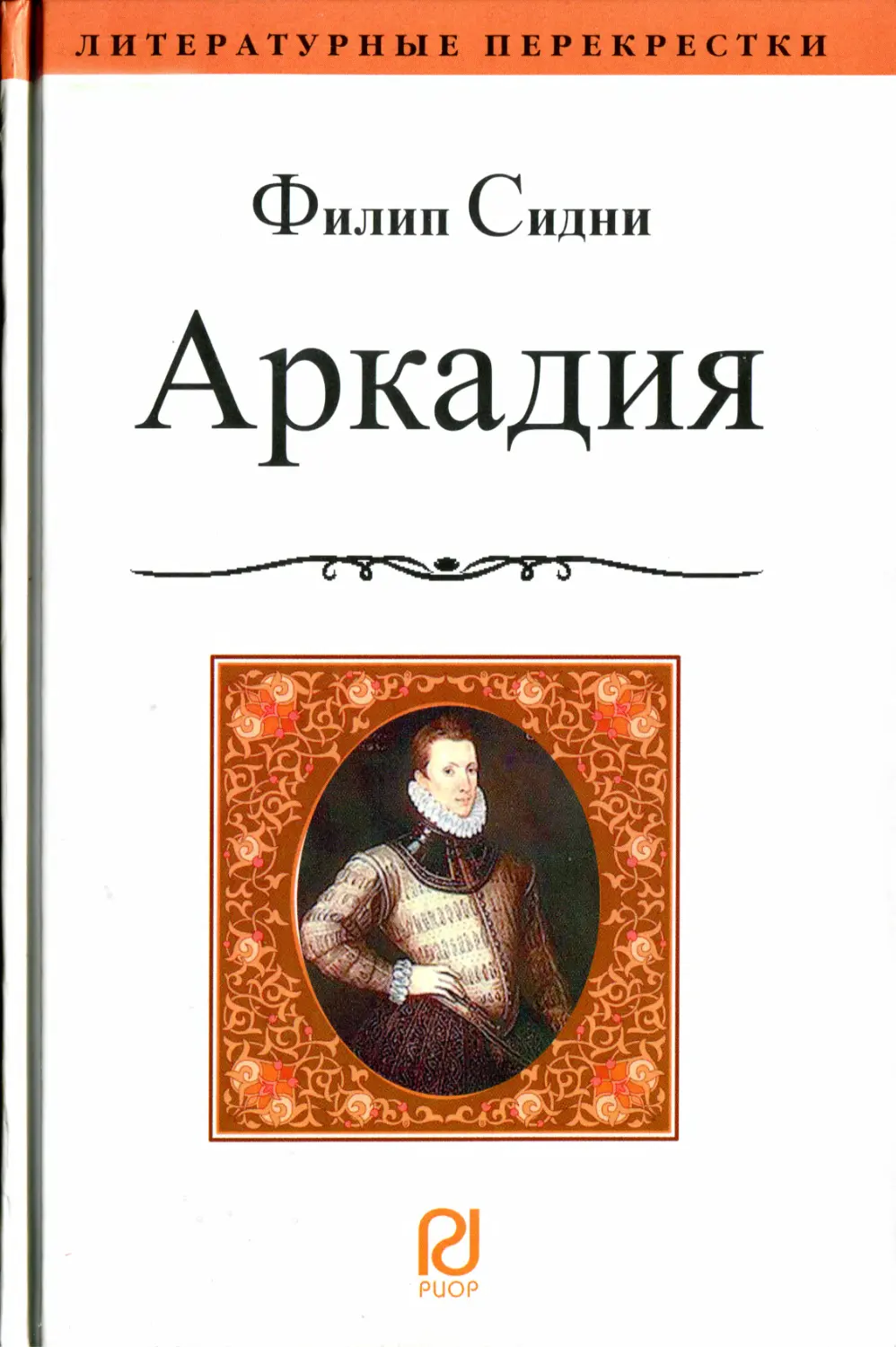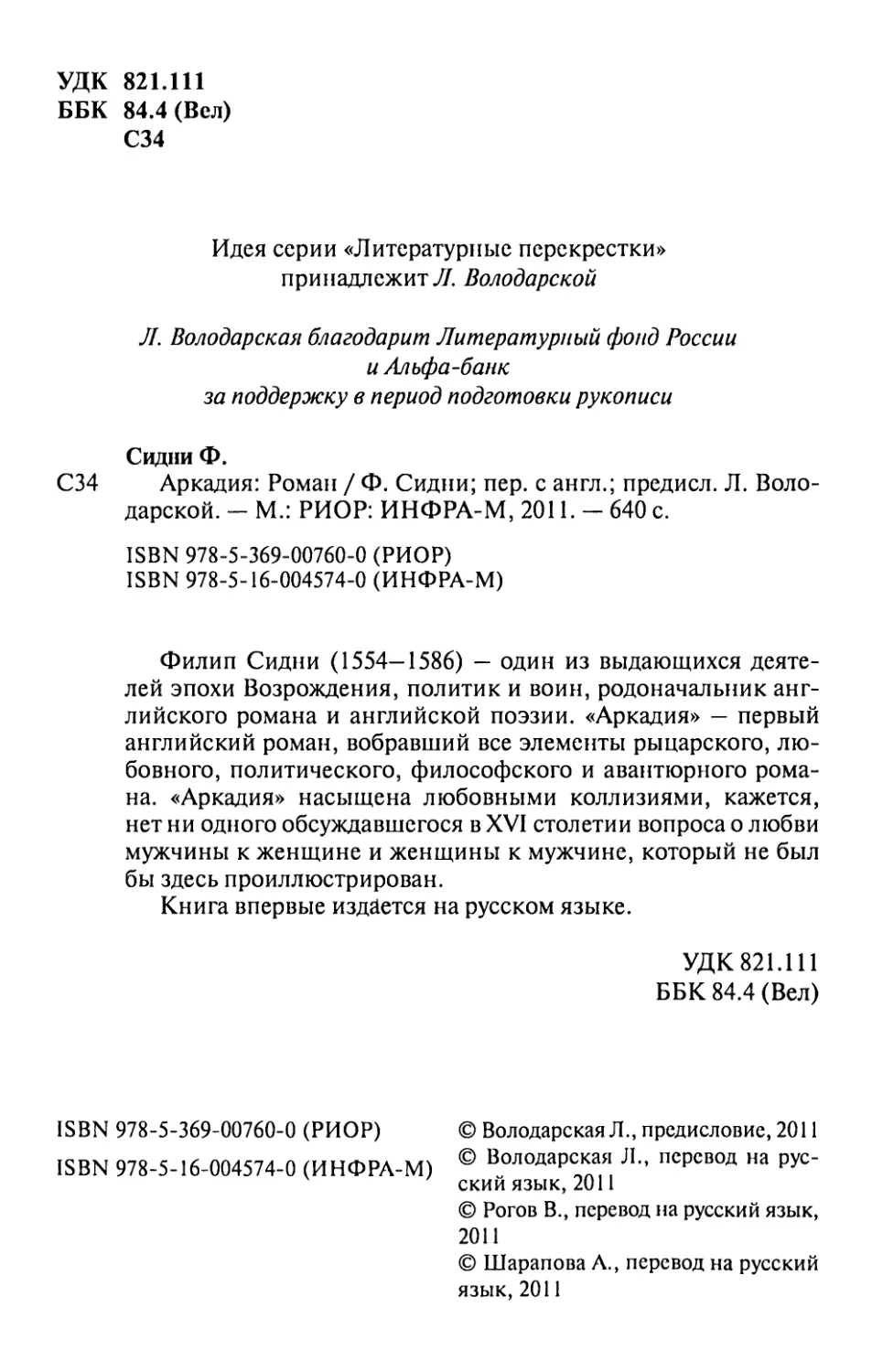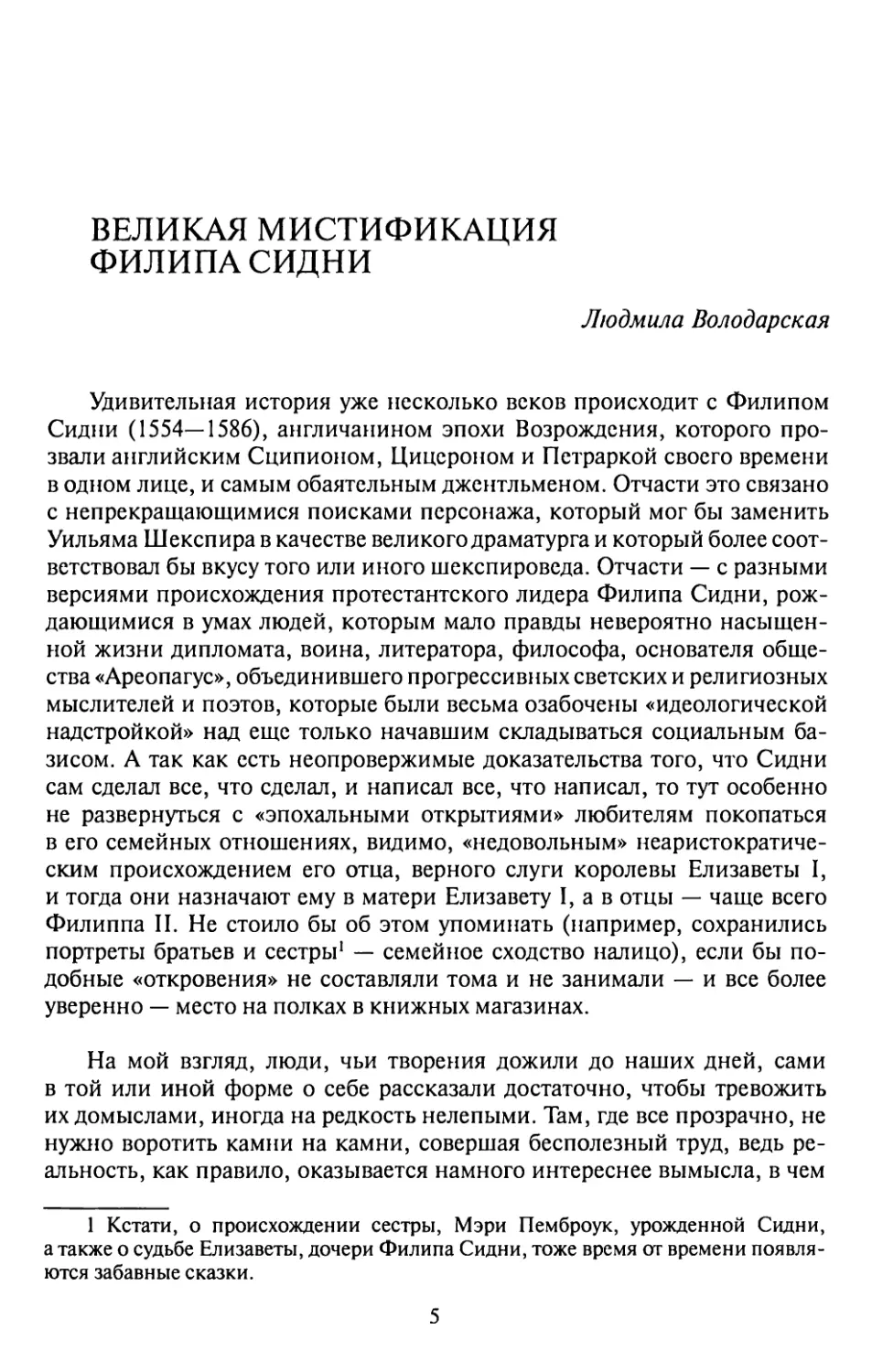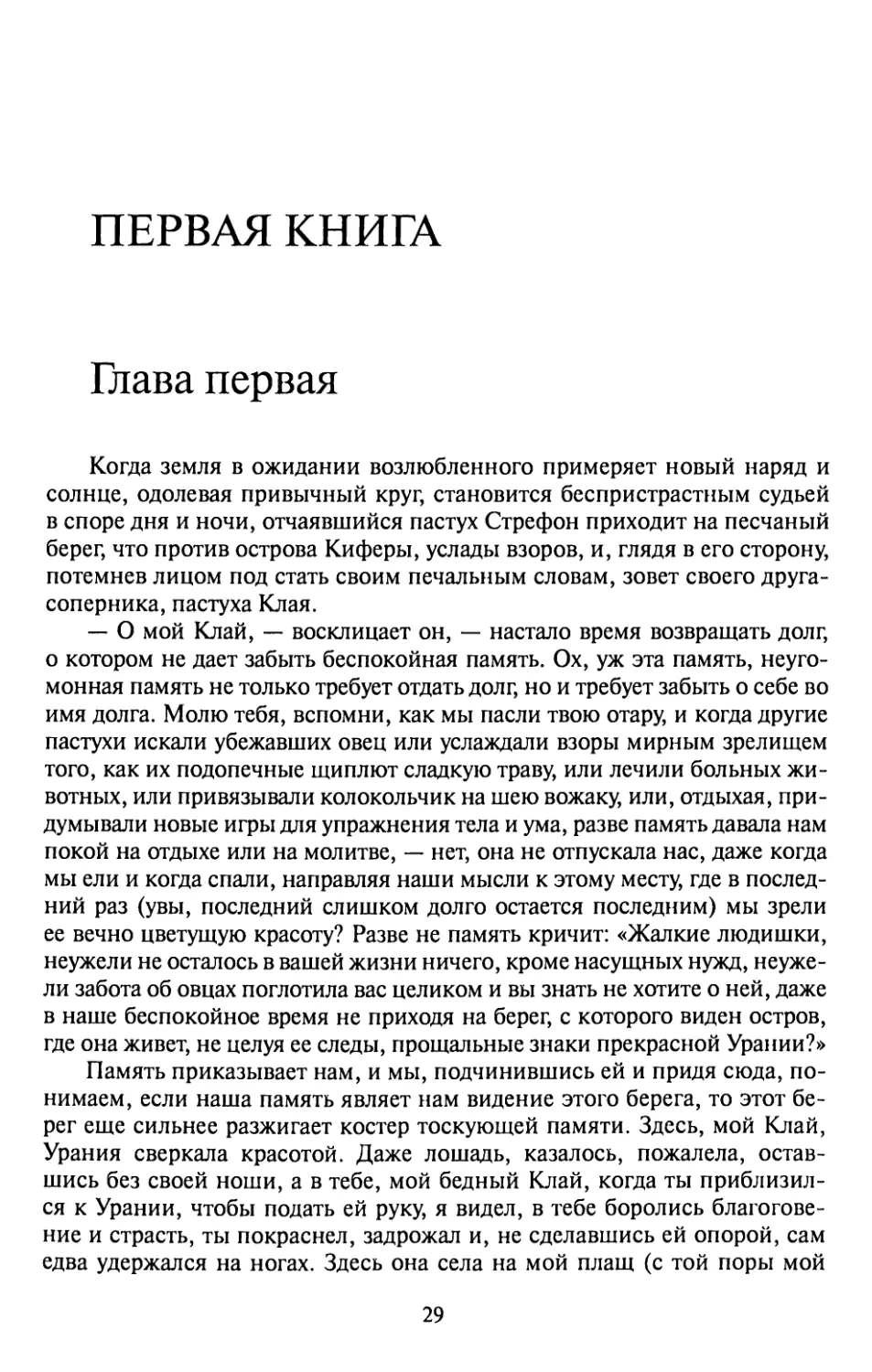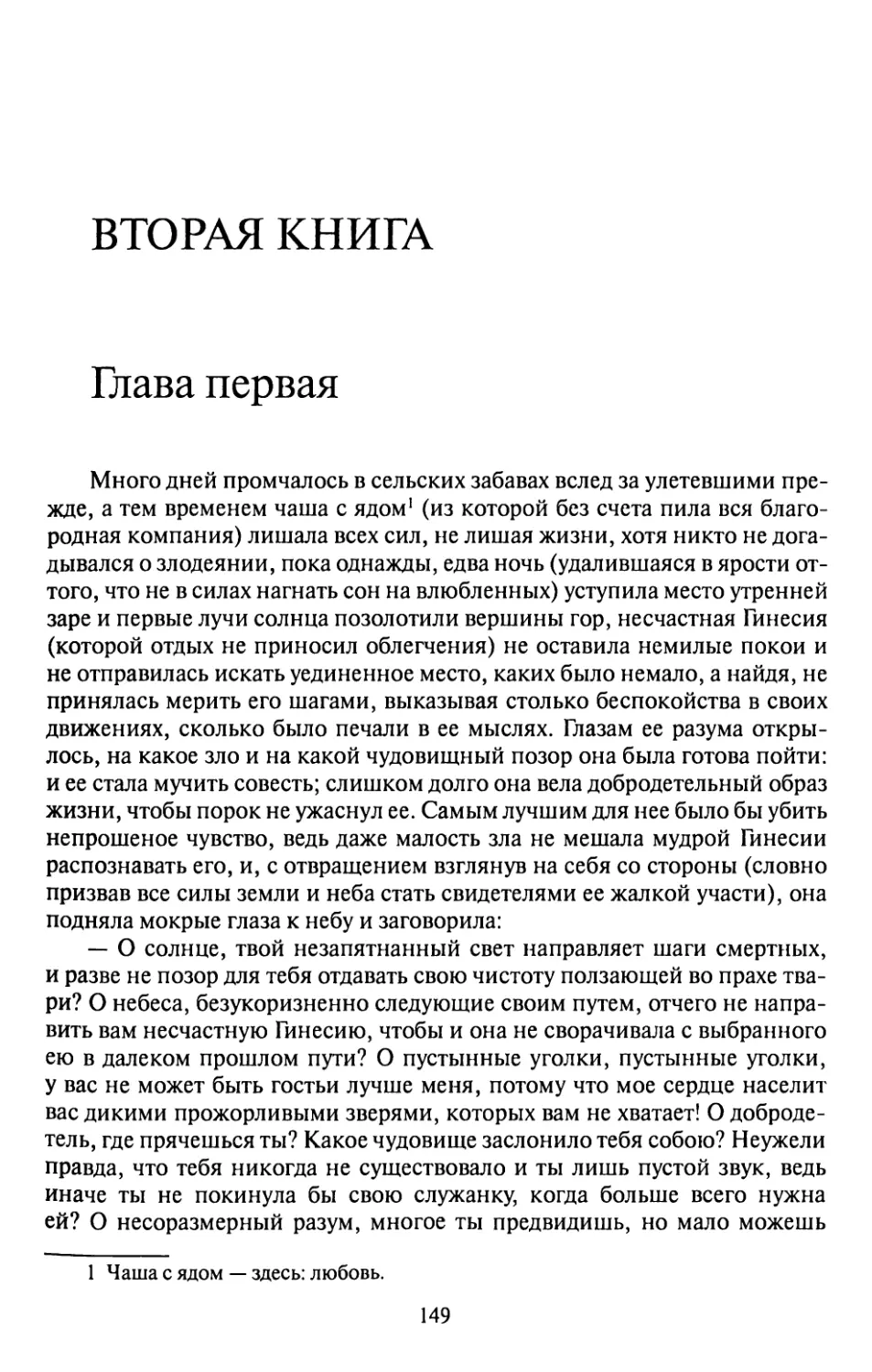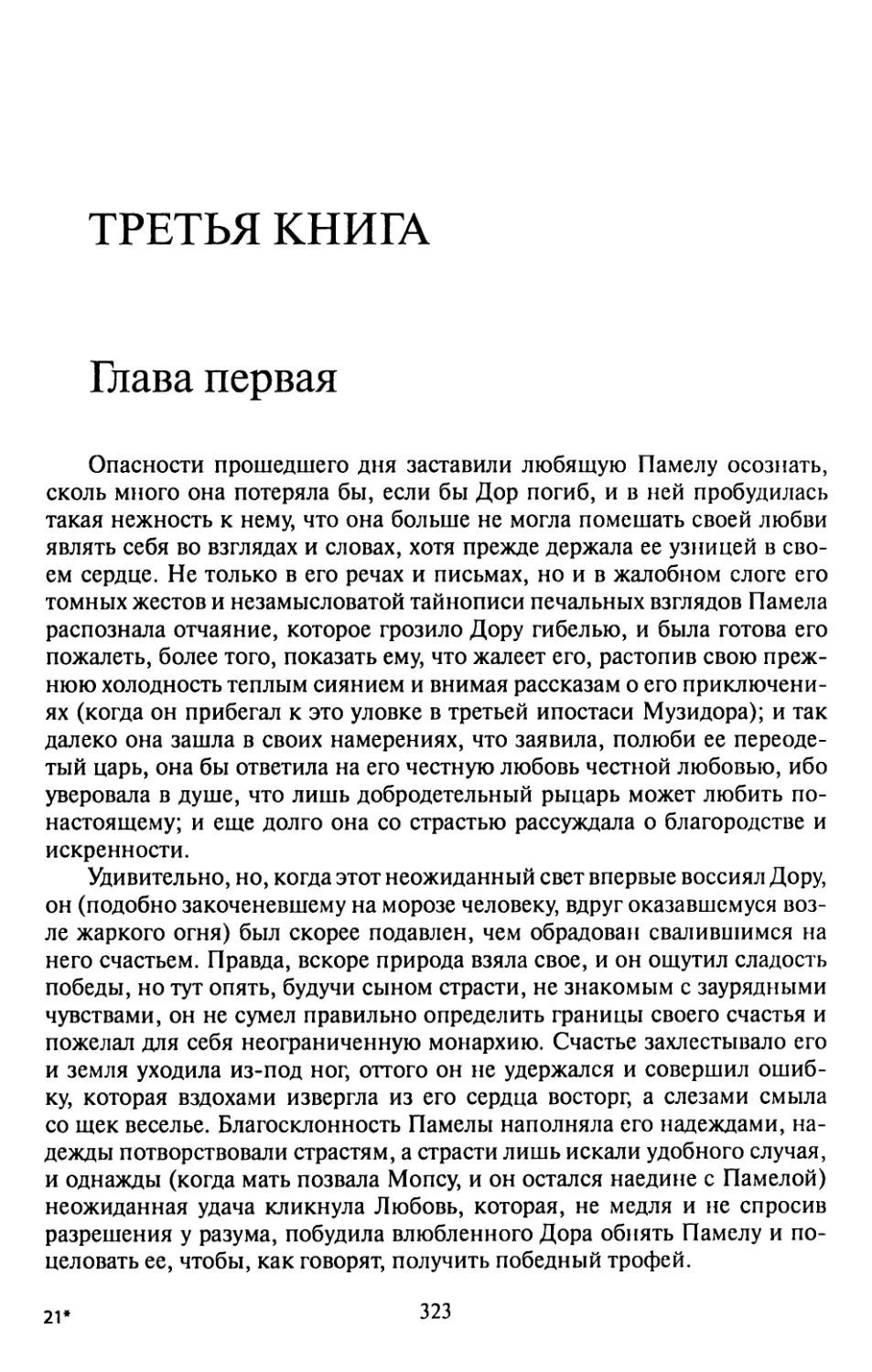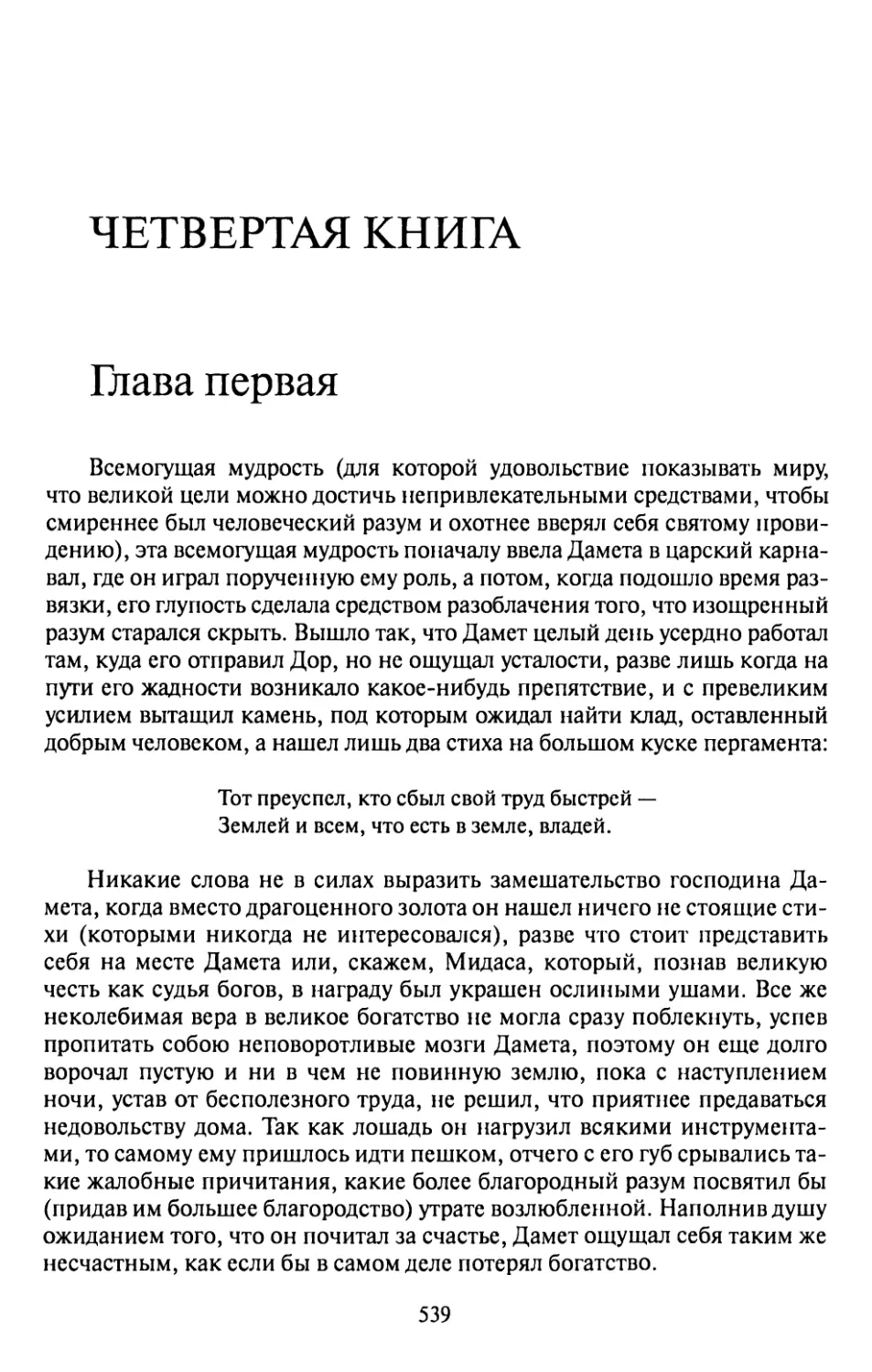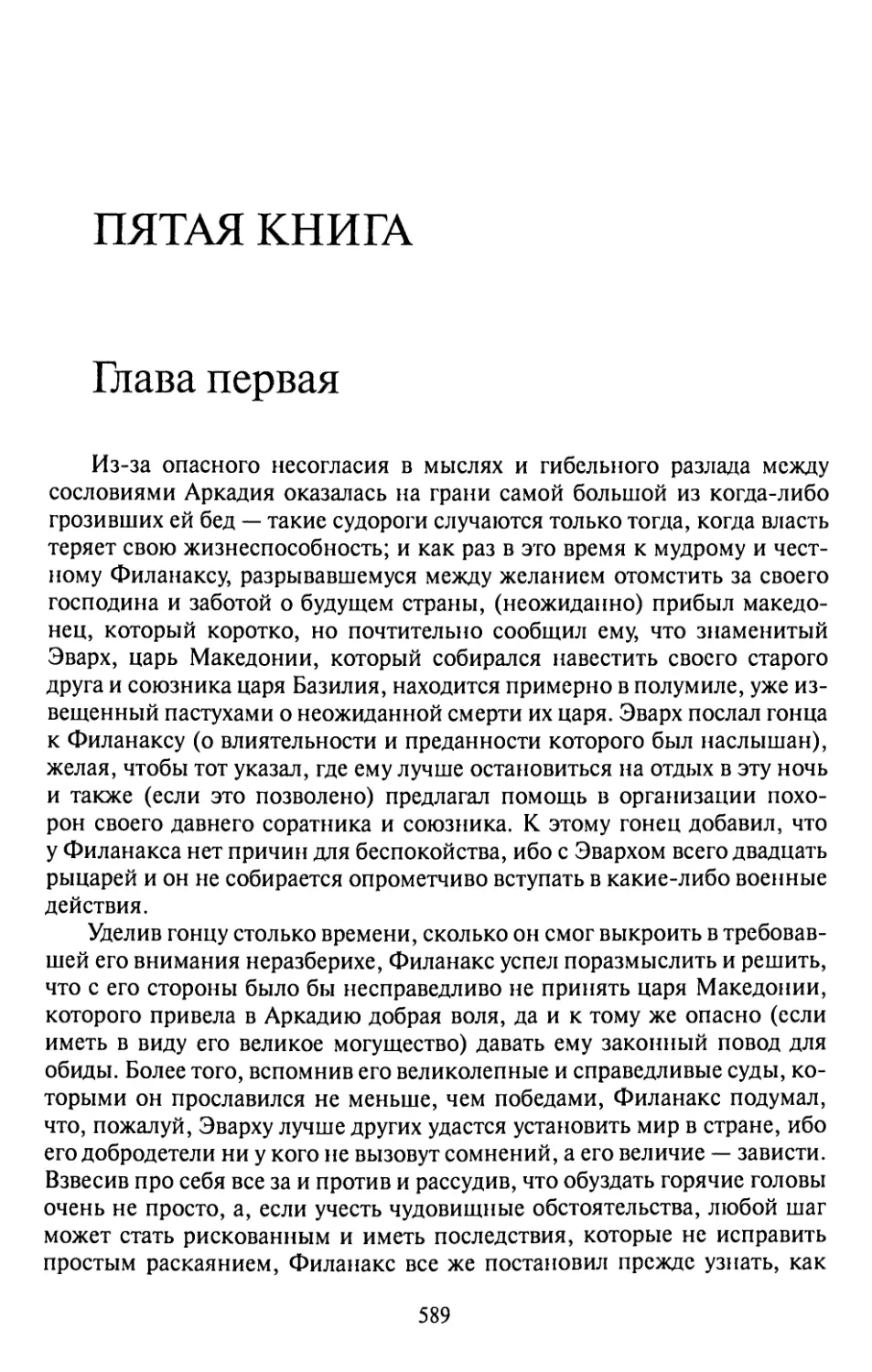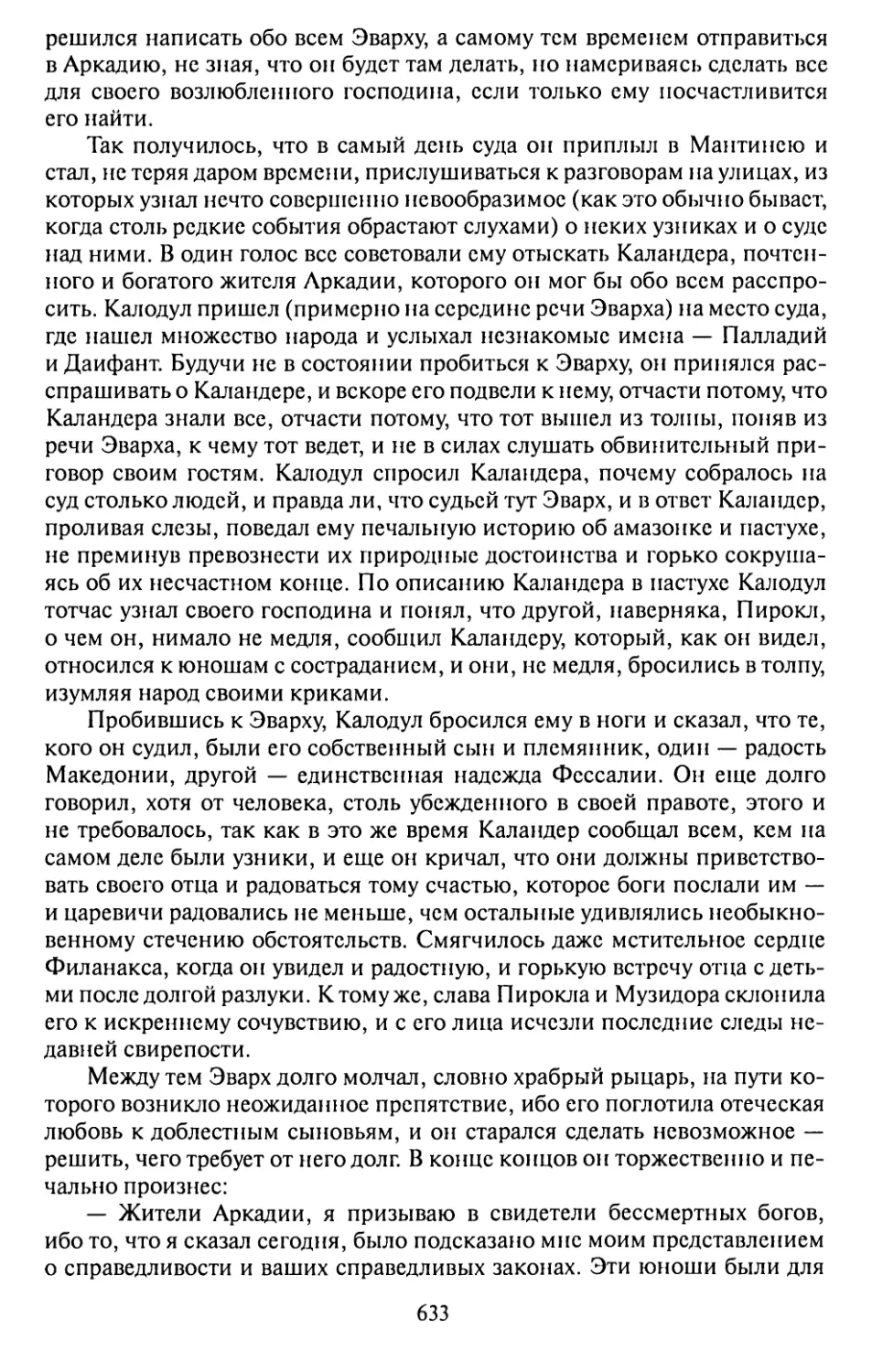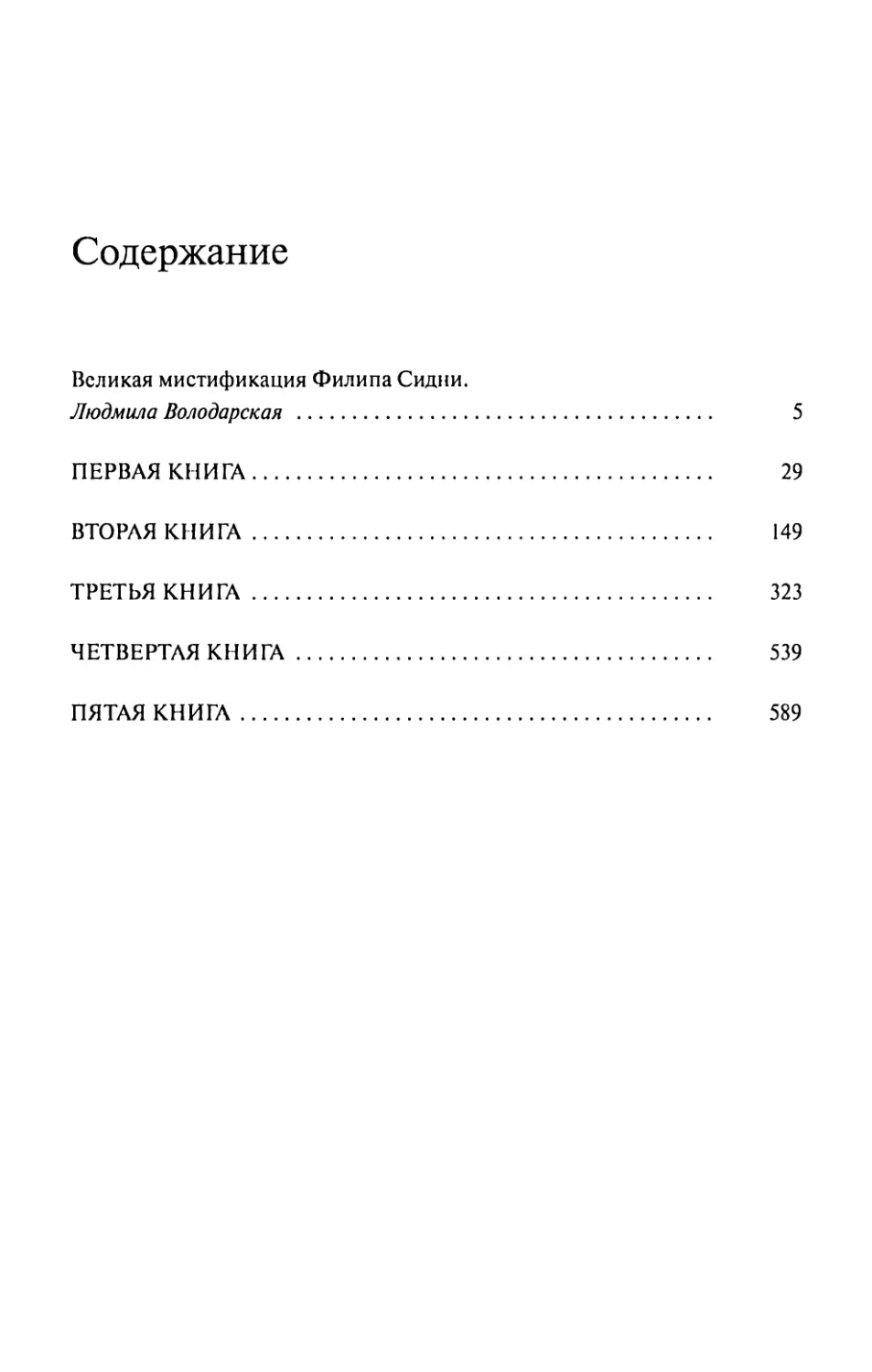Автор: Сидни Ф.
Теги: художественная литература на английском языке художественная литература
ISBN: 978-5-369-00760-0
Год: 2011
Текст
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПЕРЕКРЕСТКИ
Филип С/
идни
Аркадия
121
PUOP
Аркадия
графини Пемброук,
сочиненная
Филипом Сидни
Филип (^
илип ^идни
Аркадия
РИОР
ИНФРА-М
Москва
УДК 821.111
ББК 84.4 (Вел)
С34
Идея серии «Литературные перекрестки»
принадлежите. Володарской
Л. Володарская благодарит Литературный фонд России
и Альфа-банк
за поддержку в период подготовки рукописи
Сидни Ф.
С34 Аркадия: Роман / Ф. Сидни; пер. с англ.; предисл. Л. Воло-
дарской. - М.: РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 640 с.
ISBN 978-5-369-00760-0 (РИОР)
ISBN 978-5-16-004574-0 (ИНФРА-М)
Филип Сидни (1554-1586) — один из выдающихся деяте-
лей эпохи Возрождения, политик и воин, родоначальник анг-
лийского романа и английской поэзии. «Аркадия» — первый
английский роман, вобравший все элементы рыцарского, лю-
бовного, политического, философского и авантюрного рома-
на. «Аркадия» насыщена любовными коллизиями, кажется,
нет ни одного обсуждавшегося в XVI столетии вопроса о любви
мужчины к женщине и женщины к мужчине, который не был
бы здесь проиллюстрирован.
Книга впервые издается на русском языке.
УДК 821.111
ББК 84.4 (Вел)
ISBN 978-5-369-00760-0 (РИОР) © Володарская Л., предисловие, 2011
ISBN 978-5-16-004574-0 (ИНФРА-М) @ В^одароош Л., перевод на рус-
скииязык, 2011
© Рогов В., перевод на русский язык,
2011
© Шарапова А., перевод на русский
язык, 2011
ВЕЛИКАЯ МИСТИФИКАЦИЯ
ФИЛИПА СИДНИ
Людмила Володарская
Удивительная история уже несколько веков происходит с Филипом
Сидни (1554—1586), англичанином эпохи Возрождения, которого про-
звали английским Сципионом, Цицероном и Петраркой своего времени
в одном лице, и самым обаятельным джентльменом. Отчасти это связано
с непрекращающимися поисками персонажа, который мог бы заменить
Уильяма Шекспира в качестве великого драматурга и который более соот-
ветствовал бы вкусу того или иного шекспироведа. Отчасти — с разными
версиями происхождения протестантского лидера Филипа Сидни, рож-
дающимися в умах людей, которым мало правды невероятно насыщен-
ной жизни дипломата, воина, литератора, философа, основателя обще-
ства «Ареопагус», объединившего прогрессивных светских и религиозных
мыслителей и поэтов, которые были весьма озабочены «идеологической
надстройкой» над еще только начавшим складываться социальным ба-
зисом. А так как есть неопровержимые доказательства того, что Сидни
сам сделал все, что сделал, и написал все, что написал, то тут особенно
не развернуться с «эпохальными открытиями» любителям покопаться
в его семейных отношениях, видимо, «недовольным» неаристократиче-
ским происхождением его отца, верного слуги королевы Елизаветы I,
и тогда они назначают ему в матери Елизавету I, а в отцы — чаще всего
Филиппа II. Не стоило бы об этом упоминать (например, сохранились
портреты братьев и сестры1 — семейное сходство налицо), если бы по-
добные «откровения» не составляли тома и не занимали — и все более
уверенно — место на полках в книжных магазинах.
На мой взгляд, люди, чьи творения дожили до наших дней, сами
в той или иной форме о себе рассказали достаточно, чтобы тревожить
их домыслами, иногда на редкость нелепыми. Там, где все прозрачно, не
нужно воротить камни на камни, совершая бесполезный труд, ведь ре-
альность, как правило, оказывается намного интереснее вымысла, в чем
1 Кстати, о происхождении сестры, Мэри Пемброук, урожденной Сидни,
а также о судьбе Елизаветы, дочери Филипа Сидни, тоже время от времени появля-
ются забавные сказки.
5
мы и попробуем убедить читателей-современников. Необходимо оста-
вить в стороне фантазии, не подкрепленные фактами, и, обратившись
к историко-биографической традиции в русском литературоведении,
«осознать биографию, — как писал Ю. Н. Тынянов в письме от 5 марта
1929 года к В. Б. Шкловскому, — чтобы она впряглась в историю литера-
туры, а не бежала, как жеребенок, рядом. „Люди" в литературе — это ци-
клизация вокруг имени; и применение приемов на других отраслях, про-
ба их, прежде чем пустить в литературу; и нет „единства" и „цельности",
а есть система отношений к разным деятельностям, причем изменение
одного типа отношений, напр. в области политической] деятельности,
может быть комбинаторно связано с другим типом, скажем, отношением
к языку или литературе... Вообще, личность не резервуар с эманациями
в виде литературы и т. п., а поперечный разрез деятельностей, с комбина-
торной эволюцией рядов»1.
Филип Сидни родился 30 ноября 1554 года и, прожив всего трид-
цать два года, навсегда остался в истории Англии не только как дипло-
мат и военачальник, но и как трижды новатор национальной литературы
в поэзии, прозе и теории литературы. Самый очаровательный джентль-
мен своего времени, автор известного афоризма «Я не геральдист, чтобы
исследовать родословную людей, для меня достаточно, если я знаю их
достоинства»2, — со стороны матери принадлежал к высшей английской
знати, к роду Дадли, однако со стороны отца, сэра Генри, не мог похва-
статься тем же, так как сэр Генри лишь в 1550 году был за личные заслу-
ги посвящен в рыцари королем Эдуардом VI3, протектором при котором
с 1549 года был Джон Дадли, женивший своего сына на будущей «девяти-
дневной королеве». Крестным отцом Филипа Сидни, старшего племян-
ника сыновей Дадли, и в частности того, который стал мужем королевы
Джейн и вместе с ней некоторое время был пощажен королевой Марией,
был принц Филипп, еще не ставший испанским королем Филиппом II,
но уже сочетавшийся браком с королевой Марией и безнадежно ожидав-
ший потомства. Скорее всего, такая честь была оказана благородному
семейству из политических соображений, ведь королева Мария совсем
не сразу обрела прозвище Кровавая и пока еще была заинтересована
в имевших влияние сторонниках.
Роберт Дадли, граф Лестер, был фаворитом при Елизавете I, но
кроме того, он и лорд Варвик, дяди Филипа Сидни, занимали при ней
высшие государственные посты. За почти десять лет наместничества
в Ирландии (1565—1571 и 1575—1578) Генри Сидни не нажил больших
денег, однако его старший сын долго считался завидным наследником
бездетного графа Лестера, что обеспечивало ему высокое положение
и, наверное, некоторые преимущества даже среди юношей его круга.
1 РГАЛИ, ф. 562, оп. 1, ед. хр. 724.
2 Цит. по кн.: Барг М. А. Шекспир и история. М., 1979. С. 162.
3 Эдуард VI (1537—1553) — король Англии и Ирландии, единственный сын ко-
роля Генриха VIII. Его правление отмечено укреплением протестантизма не только
по желанию протекторов, но и по его собственному согласию.
6
Во всяком случае, образование он получил отличное в наиболее про-
грессивной в свое время Шрюсберской школе, где первым директором
был уважаемый ученый Томас Эштон, заложивший в свое детище то гу-
манистическое содержание, которым оно еще долго выделялось на фоне
других учебных заведений. Ученики обучались в Шрюсбери греческо-
му, латинскому, французскому языкам, читали и изучали «Катехизис»
Кальвина, сочинения Цезаря, Цицерона, Саллюстия, Горация, Овидия,
Теренция, Вергилия.
Мальчики из знатных английских семейств жили при школе и редко
виделись с родителями. Однако в семье Сидни связь родителей и детей,
насколько известно, не прерывалась, и, обращаясь к своему старшему
сыну в письмах, часть которых сохранилась до наших дней, Генри Сидни
в одном из них внушал двенадцатилетнему мальчику нравственные поня-
тия, наверное, простые, но не устаревающие со временем: «Пусть первым
побуждением твоего разума будет искренняя молитва всемогущему богу...
Постигай не только чувство и суть читаемого, но и словесное их вопло-
щение, и ты обогатишь свой язык словами и разум мыслями... Пребывай
в веселии... Но пусть твое веселие будет лишено грубости и насмешки над
окружающими тебя людьми... Самое же главное, никогда не позволяй
себе лгать, даже в малости... Учись добронравию. Привыкнув, ты будешь
совершать одни добрые дела, хотя бы того и не хотелось тебе, ибо дурные
будут тебе неведомы. Помни, мой сын, о благородной крови, которую ты
унаследовал от своей матери, и знай, что добродетельная жизнь и добрые
дела будут лучшим украшением твоего славного имени»1. Вот такая была
родительская педагогика в 1566 году.
Что касается времени учебы, да и после этого, сохранились сведения
о дружбе, связывавшей Филипа Сидни с поэтом Фулком Гревилем, одно-
кашником и его первым биографом, а также с сестрой Мэри Сидни, в бу-
дущем Пемброук, в имении которой он прожил несколько лет и «для раз-
влечения» которой написал «Аркадию». Конечно же, у него были родите-
ли, дяди, брат, какое-то детское и юношеское окружение, но что касается
личных связей, то даже о жене в период ее взаимоотношений с Сидни
известно очень мало, кстати, в отличие от Пенелопы Девере, ставшей ге-
роиней цикла сонетов «Астрофил и Стелла». Об учебе Сидни в Оксфорде
тоже не сохранилось никаких сведений, разве что он, вероятно, пробыл
в университете с 1568 по 1571 год и покинул его из-за эпидемии чумы.
Более того, существует версия, что Сидни учился не в Оксфордском,
а в Кембриджском университете. Однако точно известно, что в детстве и
в юношестве Сидни воспитывался в атмосфере протестантизма, в любви
и уважении к великим умам Античности.
На май 1572 года приходится одно из важнейших событий в жизни
Филипа Сидни, значение которого трудно переоценить в свете всей буду-
щей жизни молодого человека. Королева Елизавета I дала ему разреше-
ние на двухгодичное путешествие на континент для усовершенствования
1 The Poems of Sir Philip Sidney / Ed. by W. Ringler. Oxford, 1962. P. 17.
7
в языках. Однако вместо двух лет путешествие затянулось на три года,
и Сидни вернулся в Англию лишь в 1575 году. Его предусмотрительно
снабдили рекомендательным письмом к английскому послу во Франции,
и первым делом юноша отправился в Париж, где прожил три месяца и
стал свидетелем трагических событий Варфоломеевской ночи. Кровавая
расправа, учиненная католиками над гугенотами, навсегда оставила глу-
бокий след в сознании юного протестанта, окончательно утвердив его
в антикатолических настроениях.
Покинув Францию, Сидни живет в Германии, Италии, где, по некото-
рым сведениям, у него была встреча с великим Торквато Tacco, в Венгрии
и Польше. Сидни отлично владеет французским языком, латынью, а так-
же итальянским и испанским языками. Итак, одна цель достигнута, но
вряд ли она была главной.
Легко предположить, что старшему сыну сэра Генри, племяннику и
наследнику лорда Лестера, едва ли не с рождения была предопределена
карьера дипломата и (или) воина. И если так, то Сидни не мог не знать
об этом и готовил себя к тому, чтобы быть достойным будущего поприща.
Во время путешествия он много времени уделял встречам с государствен-
ными деятелями, изучал политическую, экономическую и религиозную
жизнь тех стран, в которых бывал. Кстати, заметим, что политики, воена-
чальники, ученые и представители знати, с которыми Сидни встречал-
ся во время своего путешествия, были почти исключительно протестан-
тами.
Когда Сидни в первый раз был во Франкфурте, он познакомился там
с французом Юбером Ланге (1518—1581)!, дружескую привязанность
к которому сохранил на всю жизнь. Ланге был французским гугенотом,
юристом, так называемым «монархомаком», то есть тираноборцем, вы-
ступавшим против абсолютистских теорий, о котором в дальнейшем
Сидни писал как о человеке с «верным сердцем, честными руками и
правдивым языком» («Old Arcadia»). Видный деятель европейского про-
тестантизма, пятидесятишестилетний Ланге нашел в восемнадцатилет-
нем мальчике верного соратника, правильно оценил его таланты и до
самой своей смерти оставался ему преданным другом и советчиком. Не
исключено, что протестантское окружение Филипа во время этого путе-
шествия на континент и его дальнейшие попытки укрепить идеи проте-
стантизма в Европе в немалой степени зависели не только от воспитания
в семье и школе, от пережитой им в Париже Варфоломеевской ночи, но
и от влияния на юношу старшего друга. Во всяком случае, «тиранобор-
ческие теории»2, глубоко исследованные французами, никак не могли
остаться не обговоренными в беседах Ланге и Сидни, что очевидно и из
поведения молодого придворного, когда он вернулся в Англию, и из его
сочинений, когда королева отослала его от двора в имение сестры, и из
1 Кстати, именно Юбер Ланге в 1558 году в письме Кальвину писал о России:
«Если суждено какой-либо державе расти, то именно этой».
2 Подробнее см.: Эльфонд И. Я. Тираноборцы. Саратов, 1991. С. 79—102.
8
его военного опыта в Нидерландах, куда он отправился не только по при-
казу Елизаветы I, но и по велению сердца.
Небезынтересно отметить, что до нашего времени дошли свидетель-
ства о встречах Сидни во время его путешествия ( 1572— 1575) со многими
людьми, которые могли бы стать ему полезными на королевской, в пер-
вую очередь дипломатической, службе, однако нет ни единого достовер-
ного подтверждения ни о его знакомстве с европейскими литераторами,
ни о его интересе к современной европейской литературе, более того, не
сохранилось ни одного упоминания о Сидни этого времени как о люби-
теле поэзии. В его письмах ни строчки о литературе, да и для красоты
слога он не пользуется поэтическими цитатами, в отличие, например, от
того же Ланге, который от случая к случаю приводит строки из стихо-
творений Петрарки. Правда, нельзя отрицать и того, что все образован-
ные люди — современники Сидни — отлично разбирались в литературе и
умели сочинять ямбом и в рифму. Ну а цитаты... Скорее всего, Сидни был
настолько нацелен на другой жизненный путь, что не нуждался в поэзии
для изложения своих мыслей.
В июне 1575 года вернувшись в Англию после довольно успешного
путешествия, честолюбивый Сидни наверняка рассчитывал на важные
дипломатические поручения, поскольку значительной войны, на кото-
рой он мог бы проявить себя, не предвиделось. Как известно, королева
Англии не любила воевать. Однако благосклонно принятый при дворе,
Сидни поначалу удостоился почетной, правда неприбыльной, должности
королевского виночерпия. Исполнение этой должности, по-видимому,
не требовало от Филипа Сидни постоянного присутствия при дворе, по-
тому что он подолгу живет у отца в Ирландии. И в эти же месяцы проис-
ходит духовное сближение Филипа с сестрой Мэри ( 1561—1621 ), будущей
графиней Пемброук и покровительницей поэтов, которую считали одной
их самых образованных женщин своей эпохи. Предполагается, что брат и
сестра неутомимо читали в оригинале и в переводе на английский язык
греческие, латинские, итальянские и испанские книги. Интерес Филипа
Сидни к литературе явно становится серьезнее не только в познаватель-
ном смысле, но и в творческом. Во всяком случае, в 1577 году немецкий
поэт Мелисс (1539—1602), который встречался с Сидни в Гейдельберге,
пишет о нем как о поэте, и это первое упоминание такого рода об англи-
чанине Филипе Сидни.
В 1576 году умер император Священной Римской империи Максими-
лиан II (1527—1576), и в феврале 1577 года королева назначила Сидни по-
слом к его наследнику Рудольфу II ( 1552—1612), поручив передать новому
императору свои соболезнования по случаю недавней кончины его отца.
Одновременно королева поручила Сидни собрать сведения о том, что ду-
мают на континенте по поводу Всеевропейской протестантской лиги, ко-
торая могла бы противостоять католикам. Стоит заметить, что Рудольф II
отличался от своих предшественников, так как воспитывался при испан-
ском дворе, откуда вынес ненависть к «ереси» и почти абсолютное по-
слушание иезуитам. И если он не сыграл сколько-нибудь значительную
9
роль в религиозно-политической жизни подвластной ему территории, то,
насколько известно, лишь потому, что любовь к науке и искусству у него
преобладала над всем остальным. Тем не менее положение в Европе было
неспокойным, нараставшее противостояние католиков и протестантов,
жаждавших не только религиозной, но и вместе с ней политической не-
зависимости, становилось все более опасным, так как в первую очередь
Филиппу II уже не очень-то хватало сил поддерживать папскую власть и
осуществлять собственную в чужих странах. В связи с этим Елизавете I
было необходимо правильно оценить силы противоборствующих сторон
и из многих вариантов решений принять единственно верное во благо
Англии. Сидни же, считая войну с католической Испанией неизбежной и
необходимой, с согласия лорда Лестера предпринял активные перегово-
ры, скорее всего, пойдя дальше наказов королевы, которая, как показа-
ло время, всеми силами оттягивала момент непосредственного военного
столкновения. С этого времени известность Филипа Сидни как проте-
стантского лидера стала укрепляться и на его родине, и за ее рубежами.
Тем не менее, расценив, по всей видимости, посольство Филипа Сидни
как неудачное, его протестантские устремления как слишком агрессив-
ные, а поведение как непозволительно амбициозное, королева отстрани-
ла молодого придворного, мечтавшего «о подвигах и славе», от диплома-
тической деятельности на целых восемь лет, не подозревая о том, какой
бесценный подарок она делает английской словесности. Проходили год
за годом, а Сидни не удостаивали ни одним официальным поручением,
и нетрудно представить, как оскорблен, обижен, угнетен он был, иначе
мы не читали бы в его письме от 1578 года, адресованного Ланге, горь-
кие жалобы на то, что его ум начинает «терять силу, слабеть от отсутствия
сопротивления, ибо к чему еще стоит прилагать усилия и мысли, как не
к делу, которое должно служить всеобщей пользе, на что в наш продаж-
ный век мы не смеем и надеяться»1.
Отстраненный от того вида деятельности, который идеалист (судя
по письму) Сидни наверняка считал своим призванием, он все же не
оставлял попыток каким-то образом добиться расположения королевы
ради реализации не забытых им планов создания Всеевропейской проте-
стантской лиги во главе с Елизаветой, то есть объединения европейских
стран против католической Испании, которую он считает главным вра-
гом протестантов в частности и независимых протестантских государств
в целом.
И тогда он берется за перо.
Первое сочинение Филипа Сидни было политическим. Королева
Елизавета выразила недовольство мягкостью Генри Сидни, осуществляв-
шего правление в Ирландии от ее имени; и осенью 1577 года Сидни на-
писал «Рассуждение об ирландских делах» (к сожалению, утраченное),
в котором, как известно из исторических источников, вполне оправданно
по смыслу и красноречиво по форме поддержал мирную политику своего
1 The Poems of Sir Philip Sidney / Ed. by W. Ringler. Oxford, 1962. P. 27-28.
10
отца, которая не очень быстро, но приносила нужные плоды, в отличие
от любой попытки силой воздействовать на непокорный народ1. Через
год, то есть осенью 1578 года, Сидни развлекает королеву пасторалью
собственного сочинения под названием «Королева мая»2, что пока еще не
говорит о серьезности его литературных занятий, ибо подобное сочини-
тельство было в моде у английской знати. Кстати, в том же 1578 году поэт
Габриэль Харви (15457—1630) издал том стихотворений для подношения
королеве, авторами которого стали самые могущественные люди Англии.
И среди них двадцатитрехлетний Сидни. Вряд ли и эта публикация гово-
рит о его поэтических амбициях, хотя для нас эта книжка примечатель-
на тем, что в ней впервые напечатаны его стихотворения. Харви, скорее
всего, выразил то почтительное отношение к племяннику лорда Лестера,
которое установилось при дворе после его возвращения из второго путе-
шествия на континент.
В 1579 году Сидни предпринял еще одну попытку вмешаться в пла-
ны королевы, которая в то время разыгрывала фарс помолвки с герцогом
Анжуйским, католиком по вероисповеданию. По совету графа Лестера он
написал королеве письмо, в котором убеждал ее отказаться от брака с ка-
толиком. И если за дерзкую попытку давать непрошеные советы по тому
же поводу некоему низкородному Вильяму Стаббсу отрубили руку, но для
высокородного Филипа Сидни никаких видимых неприятностей не по-
следовало. Более того, в ноябре он участвовал в турнире в честь годов-
щины коронования Елизаветы, а на Новый год, как обычно, обменялся
с ней подарками, оставаясь по-прежнему одним из самых близких к тро-
ну людей.
Однако мечты оставались мечтами, надежды на военную или поли-
тическую карьеру таяли, а там и граф Лестер, женившись, произвел на
свет прямого наследника своего состояния, заметно ухудшив положение
племянника в придворной иерархии. За неимением официальных долж-
ностей, если не считать должность виночерпия, предоставленный само-
му себе Сидни в «свои самые (по его собственному выражению) беззабот-
ные годы» обращается к литературе и, быстро пройдя путь от подмастерья
до мастера между 1578 и 1585 годами, создает три произведения, кото-
рые стали новаторскими в английской литературе эпохи Возрождения.
Совершенно справедливо писал Уильям Ринглер в предисловии к полно-
му собранию поэтических произведений Сидни о той мотивации, кото-
рая всегда руководила талантами автора: «Когда Сидни, отойдя от поли-
тики, занялся поэзией, он остался противником привычного положения
вещей. Не имея возможности бороться против врагов своей религии за
пределами родины, он повел решительную кампанию против литера-
турной отсталости соотечественников»3. Роман «Новая Аркадия», цикл
1 В сонете 30 сонетного цикла «Астрофил и Стелла» Сидни впрямую говорит
о преимуществах мирной политики Англии в Ирландии, которой придерживался
его отец.
2 Название перекликается с названием поэмы «Королева фей» Э.Спенсера.
3 The Poems of Sir Philip Sidney. P. 28.
11
сонетов «Астрофил и Стелла», эстетический трактат «Защита поэзии»1
были впервые опубликованы после гибели автора, однако они много раз
переписывались, были широко распространены среди читающей публи-
ки и самым решительным образом повлияли на тогдашний литературный
процесс в Англии.
В эти так называемые «самые беззаботные годы», когда Сидни совер-
шил как будто невозможное, создав, помимо прочих, три своих главных
произведения, имеющих далеко не только историческое значение, он так-
же принимал участие в работе парламента, помогал отцу в его трудах, сра-
жался на рыцарских турнирах, оказывал гостеприимство знатным поли-
тическим изгнанникам из католической Испании. Насколько известно,
в 1583 год состоялось его знакомство с Джордано Бруно, посвятившим ему
свои труды. На начало 1580-х годов приходится очень непростая любовная
история в жизни самого Сидни, которая, во-первых, почти не вызывает
сомнений в своей подлинности и сохранилась в веках как одна из самых
известных любовных историй всех времен и народов, а во-вторых, стала
поводом для написания цикла сонетов «Астрофил и Стелла». Речь идет
о взаимоотношениях Филипа Сидни и Пенелопы Девере (Деверекс), ко-
торые были с большой степенью достоверности прототипами Астрофила
и черноглазой Стеллы, то есть Влюбленного в Звезду и Звезды. В 1576 го-
ду в Ирландии скончался лорд Эссекс, отец Пенелопы, и за четыре дня
до смерти он выразил желание, чтобы его дочь, которой в ту пору испол-
нилось тринадцать лет, стала женой Сидни. Однако ближайшие родичи
да и сам Сидни вряд ли с удовольствием восприняли эту весть, посколь-
ку единственный наследник двух бездетных, богатых и высокопостав-
ленных дядей мог рассчитывать на лучшую партию. Но через два года
лорд Лестер втайне от королевы женился на вдове графа Эссекса, то есть
матери Пенелопы, вследствие чего впал в немилость. С рождением ку-
зена, который, правда, прожил недолго, Сидни утратил виды на наслед-
ство. Не сохранилось ни одного свидетельства о том, что Сидни виделся
с Пенелопой до ноября 1581 года, когда она стала женой лорда Рича, так
что их реальные встречи могли иметь место лишь в конце 1581 года или
1582-м, ибо сонетный цикл был написан, скорее всего, как считают ан-
глийские исследователи творчества поэта, летом 1582 года в Уэльсе, где
в это время находился его отец. Несмотря на прямые указания на досто-
верность описанных Сидни событий и персонажей, цикл сонетов не яв-
ляется точным воссозданием того, что было на самом деле, представляет
собой тесное сплетение реальности и вымысла, так как, по утверждению
самого Сидни, поэзия творит только то, что должно или могло бы быть,
ибо «Поэтом движет Идея... от воображения зависит совершенство тво-
римого им»2. Идея же цикла такова: в противоборстве любви и страсти
побеждает нравственно возвышающая и потому истинная любовь.
1 Цикл сонетов «Астрофил и Стелла» и трактат «Защита поэзии» опубликова-
ны на русском языке в книге: Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. М.,
1982. (Серия «Литературные памятники»).
2 Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. С. 154.
12
Как Королева, отошли мой разум,
Пусть он, тебе покорствуя, сполна
Сработает все, что обязан, разом:
Позор слуги — Хозяина вина.
Не дай глупцам себя во мне хулить
И «Вот любовь!» с презреньем говорить.
(Сонет 107, перевод Л. Тёмшш)
Проведя Лстрофила нелегкой дорогой внутренней борьбы к нрав-
ственному совершенству, Сидни возлагал на него задачу повести по ней и
других1. Немаловажное значение для английской сонетной, да и вообще
лирической поэзии, имел образ Пенелопы, предшественницы велико-
лепных женских персонажей (в частности, и шекспировского тоже), жи-
вой, суетной, противоречивой, для которой долг все же оказывается пре-
выше любви. На самом деле незаурядная реальная Пенелопа Рич (правда,
уже после смерти Сидни) заимела любовника, бросила мужа, помогала
брату в Лондонском восстании против королевы, то есть вовсе не была
символом «торжества» нравственного долга.
Некоторое время спустя Сидни женился на Френсис Уолсингем, до-
чери государственного секретаря в правительстве королевы, и в 1585 году
у них родилась дочь Елизавета, получившая имя в честь королевы. В даль-
нейшем вдова Сидни стала женой графа Эссекса, брата Пенелопы Рич,
а Елизавета Сидни — женой графа Ретленда, которым некоторые иссле-
дователи приписывают авторство шекспировских творений.
В 1585 году литературный период в жизни Сидни закончился, за-
кончился, как начался, в силу внешних обстоятельств. В этом году он
наконец-то дождался того, чего так долго ждал и на что, несмотря на вся-
кие препятствия и собственные высказывания, не переставал надеяться.
В ноябре 1585 года королева Елизавета выразила желание послать Сидни
во главе английских войск в Нидерланды, где герцог Оранский вел борь-
бу против испанского владычества. На континенте Сидни пробыл всего
восемь месяцев, но, судя по воспоминаниям современников, умом и сме-
лостью заслужил любовь всех, с кем сводила его судьба. В бою возле горо-
да Зутфен он был ранен и, мужественно снося боль, скончался 17 октября
1586 года. Его тело было перевезено в Англию и с воинскими почестями
похоронено в соборе Святого Павла.
Эпоха Возрождения, или Ренессанс, приходится в Европе на XIV —
начало XVII столетия. В это время величайших социальных перемен фор-
мировались современные европейские нации, а также рождалась новая
литература, отражавшая гибель старых феодальных отношений и по-
явление новых, буржуазных. Освобождение от гнета религиозных догм,
1 Подробнее см.: Володарская Л. И. Первый английский цикл сонетов и его
автор // Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. М., 1982; Володар-
ская Л. И. Поэтическое новаторство Филипа Сидни (1554—1586): Автореф. дис. ...
канд. филол. наук. М, 1984.
13
проникновение гуманистических идей в духовную жизнь Европы утверж-
дали представление о человеке как о «существе активном, связанном
множеством сложных отношений с другими людьми, зависящем и от
таинственных процессов, происходящих в его теле, и от еще более не-
ведомых тайн его духа, — писал известный литературовед Р.М.Самарин,
словно видел перед собой политика и литератора, воина и мыслителя
Филипа Сидни. — Новое представление о человеке, развивающемся
в борьбе противоречий, которые есть и в нем, и в окружающем его обще-
стве, рождалось вместе с первыми проблесками исторического взгляда на
действительность, на общество, вместе с тем чувством перспективы, ко-
торое уже намечается у писателей и мыслителей XVI в., вместе с чувством
ретроспекции, с попыткой заглянуть в прошлое, чтобы понять настоящее
и будущее»1.
Расцвет английской гуманистической литературы наступил несколь-
ко позже, чем в других западноевропейских странах, хотя уже в XIV сто-
летии «отец реализма» (по выражению М. Горького) Джеффри Чосер
(1343—1400) был знаком с новой итальянской поэзией, в частности с по-
эзией Франческо Петрарки2, и творил на подступах к новой эпохе, следуя
за итальянскими первопроходцами, которые, «отстаивая право человека
на славу... завоевали для человека возможность бессмертия не в потусто-
роннем мире, а в реальном мире истории, политики, культуры»3.
Хотя последователи Чосера немного сделали для дальнейшего осво-
ения гуманистических идей английской литературой, которая в это
время, в сущности, утратила связь с итальянской литературой эпохи
Возрождения, XV век по-своему важен для укоренения национального
самосознания и истории литературы, так как стал для Англии периодом
накопления классических знаний. Английские юноши, во множестве от-
правлявшиеся во Флоренцию и Падую изучать греческий язык, вместе
со знанием греческой и римской литературы привозили домой эллини-
стические воззрения, которые проникали в Англию при посредничестве
итальянцев (французов и испанцев), уже усвоивших и коренным образом
осовременивших эти воззрения, как писал Р. И. Хлодовский о Петрарке:
«Лирическое „я" „Книги песен" это не просто влюбившийся Петрарка,
а определенный общественный и исторический идеал, который Петрарка
противопоставлял аскетическим идеалам Средневековья и который... он
пытался воплотить не только в своем творчестве, но и в себе самом, в сво-
ей личности, в своей частной и общественной жизни. Это было „я" „ново-
го человека", своего рода лирическая персонификация гуманистического
1 Самарии Р. М. ...Этот честный метод... М., 1974. С. 36—37.
2 Джеффри Чосер упоминает имя Петрарки в «Прологе» и «Рассказе писца»
в «Кентерберийских рассказах». Более того, он перевел на английский язык сонет
СП Петрарки внутри поэмы «Троил и Крессида» (кн. I, строфы 58—60), которая по
жанру и содержанию представляет собой совершенно новый образец для англий-
ской поэзии.
3 Хлодовский Р. И. Петрарка. Эстетическая проблематика ренессансного гума-
низма: Автореф. дис.... канд. филол. наук. М., 1975. С. 12.
14
индивидуализма»1. Появившееся в 1474 году в Англии книгопечатание
в немалой степени способствовало формированию самостоятельного
личного мировоззрения и становлению английского национального язы-
ка, основное ядро которого было заложено в XVI столетии.
На начало XVI столетия в Англии приходится прорыв качественно
новой литературы. Столь же важным, как открытие новых земель и куль-
туры Античности, стало для этого времени познание духовной и эмоцио-
нальной жизни человека. То, что прежде входило в обязанности священ-
ника, теперь было делом еще художника и поэта. «Утопия» Томаса Мора
(1478—1535), посвященная Эразму Роттердамскому (1469—1536), острые,
популярные у современников «Книга о Колине Клауте» и «Книга о воро-
бье Филипе», написанные Джоном Скелтоном (14607—1528?), учеником
Эразма, а также лирика Томаса Уайета (1503—1541) и Генри Говарда, гра-
фа Сарри (15177—1547), отчетливо обозначили приход Нового времени
в английскую литературу. Хотелось бы отметить, что и Уайет и граф Сарри,
писавшие лирическую поэзию, успешно расширяли границы сонетного
жанра, любимой поэтической формой поэтов эпохи Возрождения во всех
странах Европы. Они вкладывали в него не только сердечные радости и
страдания, но и политическое содержание, как, например, Генри Говард
в сонете «Сарданапал», в котором он подвергает осмеянию Генриха VIII.
В дни мира ассирийский царь пятнал
Державный дух развратом и грехом,
А в пору битв не ратный пыл познал,
Любезный славным душам, а разгром...
(Перевод В. Рогова)
Однако после смерти Уайета и графа Сарри, успешно эксперимен-
тировавших с сонетом, в английской поэзии неожиданно наступило не-
которое затишье, продолжавшееся ни много ни мало несколько десяти-
летий, вплоть до последней трети XVI столетия, то есть до семидесятых
годов, когда литературное творчество в Англии начинает набирать неви-
данные до тех пор темпы и принимает невиданные до тех пор масшта-
бы2. Однако невиданный прежде интерес к театру и литературе сопро-
вождают гонения на их создателей. За религиозной кампанией пуритан,
провозгласивших: «Причина чумы — грех, причина грехов — представ-
ления», — стоял класс, главными принципами существования которо-
го становилось отсутствие эмоциональных и каких-либо других связей
между людьми, кроме голого расчета. И Филип Сидни повел борьбу не
только против английского «отставания», но и против тех «новых англи-
чан», которые рассматривали категорию «полезности» как законную при-
чину гонений на театры. Позиция Сидни выражена в трактате «Защита
1 Хлодовский Р. И. Франческо Петрарка. Поэзия гуманизма. М., 1974. С. 160.
2 В 1582—1601 годы в Англии было создано больше двадцати сонетных цик-
лов, отмеченных печатью таланта и оригинальности и дошедших до наших дней.
15
поэзии»1, который стал обоснованием и собственных сочинений Сидни,
а также английской гуманистической литературы в целом в качестве пер-
вой историко-философско-нормативной поэтики на английском языке,
провозгласившим высшее познавательное и воспитательное назначение
литературы в новое время. Сидни утверждал, что литература имеет, в от-
личие от науки, две составляющие — познание и удовольствие, и только
ей присуща категория удовольствия, которая необходима для последова-
тельного воплощения ее познавательной сути и достижения ее конечной
цели — нравственного совершенствования человека. И еще одно, не ме-
нее важное. Не признавая идеалистической концепции природы лите-
ратурного творчества, Сидни тем не менее не отрицает «божественного
происхождения» таланта, или дара, добавляя: «Однако я должен при-
знать, что если самая плодородная почва все же требует обработки, то
и ум, устремленный ввысь, должен быть ведом Дедалом. У Дедала, как
известно, всего три крыла, которые возносят его к заслуженной славе:
Искусство, Подражание и Упражнение»2.
Нам неизвестно, в какой очередности Сидни создавал свои три вели-
кие произведения, однако, открывая цикл сонетов «Астрофил и Стелла»,
он, насколько возможно для сонета, точно определил задачу английской
поэзии, или литературы (в терминологии «Защиты поэзии»), на конец
1570-х годов и свою задачу как автора этого времени:
Пыл искренней любви я мнил излить стихом,
Чтоб милую развлечь изображеньем бед —
Пускай прочтет, поймет и сжалится потом,
И милость явит мне за жалостью вослед.
Чужие книги я листал за томом том:
Быть может, я мечтал, какой-нибудь поэт,
Мне песнями кропя, как благостным дождем,
Спаленный солнцем мозг, подскажет путь... Но нет!
Мой слог, увы, хромал, от Выдумки далек,
Над Выдумкою бич учения навис,
Постылы были мне сплетенья чуждых строк,
И в муках родовых перо я тщетно грыз,
Не зная, где слова, что вправду хороши...
«Глупец! — был Музы глас. — Глянь в сердце и пиши!»
(Сонет 1, перевод В. Рогова)
Накопленные знания пора было воплощать в собственном творче-
стве, естественно, учитывая достижения итальянской, французской,
1 Подробнее см.: Володарская Л.И. Первая английская поэтика // Сидни Фи-
лип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. С. 292—304. Володарская Л.И. Поэтическое
новаторство Филипа Сидни (1554—1586). М., 1984.
2 Сидни Филип. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. С.201.
16
испанской и прочих литератур, прилагая их к английскому языку, про-
верять, во-первых, их необходимость для английской литературы и, во-
вторых, возможности английского языка для их реализации.
По крупицам собирая фактический материал из жизни Сидни, боль-
шинство английских исследователей высказывают вполне оправданное
предположение, что трактат «Защита поэзии» был написан в 1579— 1583 го-
дах, цикл сонетов «Астрофил и Стелла», — вероятно, летом 1582 года,
а к написанию «Старой Аркадии» Сидни приступил в 1577 году или
1580-м, когда жил в Уилтоне, в поместье своей сестры Мэри Пемброук.
В начале 1580-х годов (скорее всего, после написания «Защиты поэзии»)
он принялся ее переделывать и, переписав две с половиной книги из пяти,
не закончив свой труд, отправился в Нидерланды, где погиб. Биограф
Сидни, его друг и поэт Фулк Гревиль (1554—1628) в 1590 году издал обо-
рванный на полуфразе текст «Новой Аркадии», а в 1593 году, благодаря
усилиям Мэри Пемброук, в свет вышли и «Новая Аркадия» и «Старая
Аркадия» вместе, то есть к «Новой Аркадии» было присоединено оконча-
ние «Старой Аркадии». Спустя тридцать четыре года сэр Алекзэндр напи-
сал и включил в текст вставку, которую поместил после «Новой Аркадии»
и перед «Старой Аркадией». В таком виде «Новая-Старая Аркадия», как
правило, печатается на родном языке, и в таком виде мы представляем ее
нашим читателям1.
Очевидно, что для содержательной стороны творчества Сидни
важным фактором было создание (вероятно по примеру француз-
ской «Плеяды») общества, которое Харви назвал «Ареопагус»2. Во гла-
ве общества стоял Сидни, его членами были Габриэль Харви, Эдмунд
Спенсер (15527—1599), Фулк Гревиль, Эдвард Дайер (1543—1607) и, ве-
роятно, некоторые епископы. Судя по названию общества, его члены,
сходясь вместе, обсуждали не только поэзию, но и политические, ре-
лигиозные проблемы, проблемы государственной власти и допустимо-
сти восстания против правителя, облеченного королевской властью. Не
исключено, что, когда создавалась «Старая Аркадия», этого общества
еще не было. Потому и в «безделице», написанной для развлечения
сестры, еще нет мотивов, присутствующих в «Новой Аркадии», одна-
ко и в первом варианте, что признают все английские исследователи,
1 Во второй половине 1920-х годов появилось мнение, что «Старая Аркадия»
не принадлежит перу Ф. Сидни, так как является переделкой «Аркадии» Саннад-
заро, «Эфиопики» Гелиодора и «Амадиса». У англичан есть, наверное, целая би-
блиотека скрупулезных исследований того, какие заимствования были сделаны
Ф. Сидни при создании «Старой Аркадии». Даже у нас в 1980-х годах была защище-
на диссертация, естественно, компилятивная на эту тему. Однако, на мой взгляд, эта
проблема должна интересовать лишь историков литературы и врядли интересна чи-
тателям, которые сплошь и рядом имеют дело с заимствованиями. Важен результат,
то есть насколько оригинален, привлекателен, жизнеспособен конечный результат.
Кстати, Уильям Шекспир заимствовал сюжеты из «Аркадии», а свою черноглазую
и темноволосую даму — из цикла сонетов «Астрофил и Стелла».
2 Ареопагус, ареопаг — орган власти, совет старейшин в Древней Греции.
В древней мифологии учредительницей ареопага была Афина.
2 Заказ 1414
17
эти прозаические заимствования отнюдь не ученические ни по форме,
ни по духу, в отличие от поэтических вставок, которые, судя по разноо-
бразию ритмов и размеров, были призваны не только украсить роман,
но и стать экспериментом в английском стихосложении. Филип Сидни
написал 286 стихотворений, и в 143 из них разные виды строф и строк,
причем 109 встречаются всего один раз, и многие прежде не были зна-
комы англичанам. Более того, в поэтическом наследии Сидни нет ни
одной исконно английской баллады: «Чужие книги я листал за томом
том...» Если из пастушеского романа «Аркадия» (1481 — 1486, опубли-
кован в 1504-м) итальянца Якопо Саннадзаро (1458—1530) Сидни взял
место действия, из занимательной «Эфиопики» Гелиодора (III в. н. э.)
довольно неожиданную концовку, в которой судья и осужденный свя-
заны родственными узами, а из испанского романа «Амадис Галльский»
(конец XIV — начало XV в.), из которого эпический элемент уже начал
вытесняться аллегорическим и воспитательным, — основную сюжет-
ную линию с переодеваниями, то все эти заимствования так или ина-
че уже «изменяют своим жанровым ролям»1. Во-первых, от эпоса даже
в первой версии практически ничего не осталось, и «Старая Аркадия»
утверждает новый жанр — роман. Во-вторых, это не столько рыцарский
роман, сколько любовный, политический, философский, авантюрный
роман, с элементами практически всех прозаических жанров сегодняш-
него дня, так как герои не включены активно в реальную рыцарскую де-
ятельность, в отличие от второй версии, так как пребывают в состоянии
влюбленности и жаждут добиться взаимности от своих дам. В-третьих,
в комедии с переодеваниями прежде, в отличие от «Старой Аркадии»,
не участвовали персонажи столь высокого статуса, ибо это подразуме-
вает комедийные положения, невозможные для настоящих рыцарских
романов. И так далее. Собственно, уже первый вариант, хоть и написан-
ный, по утверждению Сидни, исключительно для развлечения сестры,
представляет собой если не оригинальный текст, то очевидную пародию
на существовавшие в Европе жанры. Может быть, и в этом Сидни (по-
следовав примеру Д. Чосера, заимствовавшему сюжет поэмы «Троил и
Крессида», или Т. Мэлори, автора романа «Смерть Артура») повлиял
на Шекспира, который твердо усвоил, что неважно, каков источник
оригинального сочинения, главное — это конечный результат. Кстати,
это, наверное, единственное, что Сидни унаследовал из традиционного
народного творчества с его принципом анонимности, так как во всем
остальном, что касается его главных произведений, был убежденным
новатором.
Будучи членом «Ареопагуса», в котором участвовали его единомыш-
ленники-поэты, Сидни не мог рано или поздно прийти к мысли, что не-
обходимо как-то выразить свои (или общие для всех своих соратников)
1 Андреев М.Л. Рыцарский роман в эпоху Возрождения. М., 1993. С. 214. За-
бавно, что автор сначала признает «Аркадию» Ф. Сидни, по сути, написанной
не им, а потом столь же уверенно признает, что Ф. Сидни полностью видоизменил
заимствования, преследуя собственные цели.
18
идеи относительно того, какой должна быть новая английская литература
и каким должно быть ее место в духовной жизни страны. Надо сказать,
что до Сидни в Англии были написаны две поэтики. Одна принадлежала
перу С. Госсона и называлась «Школа ошибок» (1579; посвящена Сидни),
в ней автор отвергал поэзию, настаивая на принципе «полезности».
Другую написал Томас Лодж, и она под названием «Ответ Госсону» была
издана в том же году. В ней Лодж противостоял Госсону с тех же позиций
«полезности». И лишь Сидни, принимая во внимание и это тоже, сумел
преодолеть узкоклассовые границы протестантской мысли и одновре-
менно утвердить, как уже было сказано, высшее познавательное значение
литературы. Поэтому очень важно, как мне кажется, провести границу
между ранними работами Сидни, то есть написанными до «Защиты по-
эзии», и поздними, в которых он предстает одновременно гениальным ли-
тератором, философом нового времени и неутомимым новатором. Точно
неизвестно, когда Сидни написал трактат «Защита поэзии». Однако из-
вестно, что это было в 1579—1583 годах, и только после его написания
он создал цикл сонетов «Астрофил и Стелла», пронизанный идеями его
поэтики, а также роман «Новая Аркадия» (неоконченный), который тоже
не мог появиться на свет до работы над «Защитой поэзии» и до учрежде-
ния общества «Ареопагус».
Сначала о стихах. Все поэтические вставки из первой версии
«Аркадии» были сохранены во второй версии, однако в основном пере-
мещены в конец «книг», создавая так называемое пасторальное обрам-
ление, и это говорит о том, что Сидни не особенно интересовался свои-
ми поэтическими достижениями этих лет, так как им уже был задуман
или, не исключено, даже написан сонетный цикл «Астрофил и Стелла»,
состоящий из ста восьми сонетов и одиннадцати песен. Период «перво-
проходческого» преобразования отдельных поэтических приемов и жан-
ров в нечто целостно английское, следуя завету своего старшего совре-
менника Роджера Ашама (1515—1568): «Об английском предмете писать
для англичан и на английском языке»1. Скорее всего, стихи из «Старой
Аркадии», так же как стихи из цикла «Некоторые сонеты», исчерпали но-
ваторский интерес Сидни, убедив его в том, что английский язык приго-
ден практически для всех жанров европейской поэзии. Кстати заметим,
что почти половина всех написанных Сидни стихотворений — сонеты,
которых насчитывается тридцать три различных вида. В первое время,
насколько известно, Сидни предпочитал ту форму сонета, которая утвер-
дилась как сонет Сарри, но в дальнейшем стала называться английским,
или шекспировским, сонетом. В этом сонете три, не связанные друг
с другом рифмой, катрена и заключительное двустишие. Двадцать из три-
дцати четырех ранних сонетов написаны именно так. Однако потом са-
мой предпочтительной формой (из ста восьми сонетов цикла «Астрофил
и Стелла» таких сонетов шестьдесят) стала форма с рифмовкой типа аб-
баабба вгвгдд, то есть форма, которую предпочитал Уайет: классическая
1 Цит. по кн.: Saintsbury D. The Earlier Renaissance. London, 1901. P. 260.
2*
19
итальянская октава и сестет с выделенным рифмой двустишием. Чаще
всего заключение становится для читателя неожиданным, а иногда и па-
радоксальным. Например, в сонете 71 в цикле «Астрофил и Стелла» за
октавой, прославляющей духовные совершенства Стеллы, следует такой
сестет, в котором заключительному двустишию мог бы позавидовать и
сам мастер парадокса Оскар Уайльд:
Сама того не зная, может быть,
Ты всех вокруг — и я тому свидетель! —
Умеешь красотой в себя влюбить
И претворить влюбленность в Добродетель.
«Увы, — вздыхает Страсть, голодный нищий, —
Все это так... Но мне б немного пищи!»
(ПереводЛ. Тёмина)
Написавший первый полноценный роман в английской истории,
главную задачу литературы Сидни видел в ее положительном с точки
зрения нравственности воздействии на людей, в частности в таком не-
маловажном вопросе для эпохи Возрождения, как отношение к любви,
который стал поводом и причиной множества философских сочине-
ний во всех странах Европы. В «Защите поэзии» он пишет: «...создание
Кира как особенного совершенства может быть доступно и Природе,
но только Поэт может показать его миру так, чтобы явилось много по-
добных Киров, пусть только увидят они воочию, зачем и как создавал
его создатель»1. Он считал необходимым для литератора творить со-
вершенный персонаж, но чтобы читатель поверил в его совершенство,
необходимо провести это персонаж по трудному пути совершенствова-
ния, как о том вполне определенно сказано автором в «Новой Аркадии»:
«...хотя дороги дурные, конец путешествия самый приятный и достой-
ный» (кн. 1).
«Новая Аркадия» (пере)насыщена любовными коллизиями. Кажется,
нет ни одного, обсуждавшегося в XVI столетии вопроса о любви мужчины
к женщине и женщины к мужчине, который не был бы здесь проиллю-
стрирован. Если судить по начитанности автора, а также по тексту вто-
рой версии «Аркадии», в качестве философской основы, на основании
которой Сидни строит свою концепцию любви, из многих значительных
работ (Гвидо Кавальканти, Франческо Каттани,Туллий Арагон и т. д.) на
первый план выдвигаются два сочинения. Первая — это трактат «О при-
дворном» (1516—1521) итальянца Бальтассаре Кастильоне (1478—1529).
В нем автор показывает идеального человека, который, помимо всех
прочих достоинств, должен также являть умение любить: «В четвертой
книге Кастильоне... рассуждает о природе любви, и хотя он придает выс-
шее значение духовной, идеальной любви, но не обходит и чувствен-
ной любви, раскрывает ее психологию, например, подробно рассуждает
1 Сидни Ф. Астрофил и Стелла. Защита поэзии. С. 154.
20
о поцелуях»1. И вторая — это диалог «Раверта» (1554) итальянца Джузеппе
Бетусси (15157—1573?), в котором полностью переосмысливается нео-
платоническая традиция2 и на первый план выходит психология земной,
человеческой любви с множеством вопросов, остающихся неразреши-
мыми до нашего времени. Кто любит сильнее и постояннее — женщи-
на или мужчина? Что труднее — завоевать любовь или сохранить ее?
Что такое ревность? Может ли любовь видоизменяться? Что такое диа-
лектика любви? И так далее. Вывод очевиден. «Философская традиция
(у Бетусси) смыкается с практическими вопросами жизни, с вопросами
морали и нравственности. И это было как раз то новое, что легло в осно-
ву философской и литературной традиции Нового времени...» — пи-
шет В. П. Шестаков в статье «Философия любви и красоты эпохи
Возрождения»3. Более того, считая ренессансную историю любви одной
из важнейших традиций европейской культуры, он утверждает, что «она
пронизывает собой искусство, литературу, философию, этику и эстети-
ку. Вот почему знакомство с концепциями любви эпохи Возрождения
помогает понять многое в характере европейской культуры...»4 Первым
в Англии показав практически все версии любовных взаимоотношений
мужчины и женщины, Сидни особое внимание все же уделил любви двух
главных персонажей — принцев Музидора и Пирокла, творя из них, по
выражению Дю Белле, «говорящие картины Поэзии» и проводя их по
тяжелому пути нравственного совершенствования, в конце которого ему
виделось не столько райское блаженство, сколько плодотворная деятель-
ность на благо человечества.
Тем не менее пусть остальные эпизоды счастливой и несчастливой
любви в «Новой Аркадии» в основном фоновые, они представляют собой
красочное многообразие любовных картин, которые не только оттеняют
две основные любовные линии в романе, но и служат своеобразной и, что
невозможно не подчеркнуть еще раз, первой в Англии «энциклопедией»
ренессансных представлений о любви. Кстати, в этом Сидни тоже разви-
вает европейскую традицию, так как далеко не всегда трактаты о любви
были научными трактатами, превращаясь усилиями некоторых авторов
в настоящие художественные произведения, например «О придворном»
Кастильоне.
В любви живу и по любви тоскую,
Любя, я гибну, словно не любя.
В жестокости о милости взыскую,
Тебя ищу, любовь, бегу тебя.
Огнем горю, тушу пожар чужой.
1 О любви и красотах женщин. Трактаты о любви эпохи Возрождения. М.,
1992. С. 78.
2 Подробнее см.: Там же.
3 Шестаков В. П. Философия любви и красоты эпохи Возрождения // О любви
и красотах женщин... .С. 13.
4 Там же, с. 14.
21
Что осуждаю, то же и творю:
Лежу без сил, страсть прогнала покой,
Мне душно от любви. Уйди, молю.
О, бог слепой, ведь в этом ты виновен,
Мальчишка, хоть тебе уж сотни лет.
Вот так ребенок с птичкой, час неровен,
Возьмет играть, а в ней уж жизни нет.
Тебя, дитя Амур, молю, несчастный:
Мне дай любовь иль не терзай напрасно.
(«Новая Аркадия», перевод Л. Володарской)
Вскоре после Варфоломеевской ночи, которую Сидни пережил
в Париже и которая буквально потрясла его, вышел в свет тиранобор-
ческий трактат «Иск к тиранам» (сначала на латыни, потом в 1574 году
в переводе на французский язык как «Иск к тиранам или о законном
могуществе государя по отношению к подданным и подданных в отно-
шении государя»), и хотя он был опубликован под псевдонимом, однако
установлено, что подписанный именем римского республиканца Юния
Брута, он был сочинением Ф. Дюплесси-Морнэ и Ю. Ланге, дружеская,
менторская близость которого к Сидни известна всем исследователям
жизни и творчества английского гуманиста. В трактате утверждается, что
(1) восстание любого человека против тирана, не имеющего законного
права на престол, справедливо и оправданно, ибо этот тиран пытается
уничтожить установленный порядок правления, а также (2) если закон-
ный правитель «намеренно разрушает благосостояние подданных, если
он бесцеремонно противодействует официальному делопроизводству и
законам... если он преследует своих подданных как врагов»1. Это значит,
что правитель не просто «не очень хороший», и уже много раз пытались
увещевать, прежде чем занимающие высокие государственные посты
аристократы могут призвать к восстанию, чего ни под каким предлогом
не может сделать простой человек, которому в случае поражения остает-
ся лишь уповать на бога или бежать из страны. Заметим, что подобного
рода сочинения англичан, например близких к «Ареопагусу» Кристофера
Гудмана и Джорджа Мучанана, а также епископа Понета, гораздо ради-
кальнее французского трактата, во всяком случае, они все считали, что
простой народ имеет право выступать против тирана, и ни один не под-
держивал «правильный порядок восстания»2. Что касается Сидни, то, ка-
кое бы значение он ни придавал теоретическим сочинениям англичан, он
полностью поддерживал концепцию восстания французских гугенотов.
Как пишет Мартин Бергбуш: «Несомненно, что когда он писал о восста-
нии в „Новой Аркадии", его более интересовали события на континенте,
1 Bergbush M. Rebellion in „New Arcadia" // Philological Quaterly / Pub. by the
University of lova. Vol. 53. № 1. P. 30.
2 Ibid. P. 31.
22
чем ситуация в Англии, потому что для Сидни, как и для более ортодок-
сальных политиков, восстание против их умной, прилежной и в высшей
степени верной протестантству королевы было немыслимо»1. Отчасти
это так и есть, судя по тому, что известно о Сидни. Но ведь в юношеские
лета он не смолчал и подал королеве совет. Так почему даже при не об-
суждаемой верности королеве Елизавете его не должны были интересо-
вать события в Британии? Не исключено, что Сидни мог иметь в виду не
только события на континенте, но и продолжавшееся много лет проти-
востояние Марии Шотландской (1542—1587) и Елизаветы Английской,
и право на престол самой Елизаветы, и бесконечные попытки восстания
в Ирландии, и многое другое из бурлящей событиями жизни Британии
XVI столетия, что отнюдь не сказывалось отрицательно на его верности
королеве, наоборот, подвигало на защиту ее прав (как потом Шекспира
в «Хрониках»). Может быть, его просто пугал «бунт, бессмысленный и
беспощадный», как два с половиной века спустя будет пугать другого по-
эта, тоже прошедшего путем первооткрывателя в русской литературе?
В «Новой Аркадии» описаны пять восстаний, в которые вовлечены
Пирокл и Музидор. В трех — в Лаконии, Понте и Фригии — они помо-
гают угнетенному населению, а в двух других — в Аркадии — защищают
монарха. По всему ясно, что автор одобрительно относится к восстаниям
в Лаконии, Понте и Фригии и неодобрительно — к восстаниям в Аркадии,
причем первые три восстания подняты против «совершенно плохого» (по
определению М. Бергбуша) монарха, во главе восстаний стоят предста-
вители знати, которые в состоянии обуздать несдержанность народа и
приучить его к дисциплине, необходимой для победы. Да и участие ино-
странцев не является противоречием, конечно, если они действуют не из
эгоистических побуждений. Таким образом, в «Новой Аркадии» Сидни
полностью солидарен с концепцией восстания, предложенной его учи-
телем Ланге, выказывая такое отношение к народу, якобы неспособному
действовать с достоинством без вождей-аристократов, которое идет враз-
рез с мнением, высказанным в сочинениях англичан Понета, Гудмана
и Бучанана, так как они не считали единственным долгом народа под-
чиняться власти. Что касается двух восстаний в Аркадии против царя
Базилия, то очевидно, что ни более радикальные англичане, ни более
осторожные французы никак не могли их одобрить, во-первых, потому
что царь Базилий не был тираном, да и его не очень-то пытались «вос-
питывать», и во-вторых, потому что причины, приведшие к обоим вос-
станиям, были самые что ни на есть эгоистические.
Один из известнейших исследователей европейской истории культу-
ры П. М. Бицилли писал так: «Средневековье противопоставляло миру
природы не мир культуры как творческой деятельности человека, но мир
надприродный, сверхприродный, раз навсегда данный, — бога, к которо-
му человечество приобщается путем созерцания. Искупление, в смысле
1 Ibid. Р. 41.
23
освобождения из-под стихийной власти слепого, природного закона,
мыслилось Средневековьем возможным только путем ухода от „мира",
бегства от природы, смерти, но (в отличие от Возрождения. — Л. В.) не
путем творческого преодоления природы, утверждения своей самоза-
конности и подчинения природы этой последней»1. Более того, именно
«в эпоху Ворождения резко меняется отношение человека к миру. Из объ-
екта он обращается в субъект, из „поприща" — в актера, из „олицетво-
рения" — в лицо»2. Вот так, преодолев рубеж между Средневековьем и
Возрождением, один из величайших гуманистов Филип Сидни, исполь-
зуя опыт, накопленный европейской литературой, первым прошел по
английскому литературному «бездорожью», прокладывая путь для Эд-
мунда Спенсера, Уильяма Шекспира, Джона Донна, Джона Мильтона и
многих-многих других. Написанная якобы для развлечения сестры «без-
делица», то есть «Аркадия», по сегодняшний день обвиняемая зарубеж-
ными исследователями во многих грехах, в частности в грехе неориги-
нальности, на самом деле является откровенной мистификацией, кото-
рой автор не только подвел черту под средневековым эпосом и положил
начало новому виду повествовательной литературы, то есть роману, но и
внутри романа заложил основу для множества разных прозаических жан-
ров, появившихся в относительно близком и далеком будущем.
1 Биципли П.М. Место Ренессанса в истории культуры. СПб., 1996. С. 224.
2 Там же. С. 165.
АРКАДИЯ
Моей милой сестре и госпоже
графине ПЕМБРОУК
Прими от меня (самая любимая и самая достойная быть самой лю-
бимой) эту безделицу, которая, боюсь, как паутина, ни на что не годится,
как только быть выметенной вон. На мой вкус, говоря по правде (подобно
жестоким отцам из греков, имевшим обыкновение избавляться от своих
нежеланных детей), я бы нашел в себе силы отправить в пустыню забве-
ния это дитя, которому, увы, прихожусь отцом. Но ты пожелала, чтобы
я творил, а для моей души нет заповеди выше, чем твое желание. Итак,
я сотворил этот опус во имя одной тебя и для одной тебя, и если ты сохра-
нишь его для себя или для тех из своих друзей, которые его уравновесят
с моими благими намерениями, то надеюсь, ради нашего отца, он заслу-
жит снисхождения, почему бы и нет, несмотря на свои уродства. Право,
суровый взгляд ничего не увидит в нем, кроме легкомысленного плода
ума, легкомысленно отпущенного на волю. Но ведь, любимая сестра, ты
сама лучшая свидетельница того, как я писал на случайных листах бума-
ги, большей частью в твоем присутствии, да и остальное посылал тебе,
едва отложив перо. Короче говоря, юный разум, ведомый не столь надеж-
но, как хотелось бы (все во власти Божией), и имеющий множество фан-
тазий1, стал бы чудовищем, не избавляйся он от них; но еще прискорбнее
было бы, если бы эти фантазии копились внутри, а не изгонялись прочь.
Мое спасение в первую очередь в избежание дальних странствий, а за-
щита — в первую очередь в ливрее с твоим именем, которое (если меня не
обманывает мое очень-очень доброе расположение к тебе) могло бы стать
надежной защитой и для худшего преступника. Я утверждаю это, пото-
му что мне ведомы твои добродетели; я утверждаю это, потому что они
всегда пребудут с тобой, иначе сказать, они обязательно пребудут с тобой.
Итак, берись за чтение, когда выпадет свободный час, однако, справед-
ливо обратив внимание на огрехи, не кори меня за них, а лучше посмейся
над ними. Не ища здесь зеркал и перьев более прекрасных, чем в лавке га-
лантерейщика, ты будешь любить автора, который беззаветно любит тебя
и от души молит бога дать тебе долгую жизнь, чтобы семейство Сидни не
осталось без своего главного украшения.
Твой любящий брат, Филип Сидни
1 Речь идет, скорее всего, об идее создания европейской протестантской лиги,
к которой Ф. Сидни относился с большим энтузиазмом, но которая не была под-
держана королевой Елизаветой I. (Здесь и далее примеч. перев.)
27
ПЕРВАЯ КНИГА
Глава первая
Когда земля в ожидании возлюбленного примеряет новый наряд и
солнце, одолевая привычный круг, становится беспристрастным судьей
в споре дня и ночи, отчаявшийся пастух Стрефон приходит на песчаный
берег, что против острова Киферы, услады взоров, и, глядя в его сторону,
потемнев лицом под стать своим печальным словам, зовет своего друга-
соперника, пастуха Клая.
— О мой Клай, — восклицает он, — настало время возвращать долг,
о котором не дает забыть беспокойная память. Ох, уж эта память, неуго-
монная память не только требует отдать долг, но и требует забыть о себе во
имя долга. Молю тебя, вспомни, как мы пасли твою отару, и когда другие
пастухи искали убежавших овец или услаждали взоры мирным зрелищем
того, как их подопечные щиплют сладкую траву, или лечили больных жи-
вотных, или привязывали колокольчик на шею вожаку, или, отдыхая, при-
думывали новые игры для упражнения тела и ума, разве память давала нам
покой на отдыхе или на молитве, — нет, она не отпускала нас, даже когда
мы ели и когда спали, направляя наши мысли к этому месту, где в послед-
ний раз (увы, последний слишком долго остается последним) мы зрели
ее вечно цветущую красоту? Разве не память кричит: «Жалкие людишки,
неужели не осталось в вашей жизни ничего, кроме насущных нужд, неуже-
ли забота об овцах поглотила вас целиком и вы знать не хотите о ней, даже
в наше беспокойное время не приходя на берег, с которого виден остров,
где она живет, не целуя ее следы, прощальные знаки прекрасной Урании?»
Память приказывает нам, и мы, подчинившись ей и придя сюда, по-
нимаем, если наша память являет нам видение этого берега, то этот бе-
рег еще сильнее разжигает костер тоскующей памяти. Здесь, мой Клай,
Урания сверкала красотой. Даже лошадь, казалось, пожалела, остав-
шись без своей ноши, а в тебе, мой бедный Клай, когда ты приблизил-
ся к Урании, чтобы подать ей руку, я видел, в тебе боролись благогове-
ние и страсть, ты покраснел, задрожал и, не сделавшись ей опорой, сам
едва удержался на ногах. Здесь она села на мой плащ (с той поры мой
29
лучший плащ), милостиво приняв его от меня. Когда же она встала и огля-
нулась, прощаясь с покинутым домом, у нее погрустнели глаза, но столь-
ко природной веселости было в их блеске, что и, грустя, она как будто
улыбалась. Открыв вишневые губки, Урания заговорила со всеми нами,
и, о Боже, как жадно я внимал ее сладким речам! Ладонью она закрыла
от чужих взглядов твои глаза, заметив в них слезы, и словно взяла себе
твою печаль. Но горе мне, горе, горе, ибо, не медля больше, она взошла
на корабль, не только землю, но и море осияв своей небесной красотой.
Помнишь, как засвистели ветры, радостно заплясали волны и гордо раз-
дулись паруса, когда Урания взошла на корабль? О, будь благословенна
прекраснейшая из благородных и благороднейшая из прекрасных!
Стрефон запнулся и горько зарыдал, не в силах произнести ни слова.
— Ах, мой Стрефон, — ответил ему Клай, — зачем делать зарубки,
если и без них мы помним о своих потерях? Какие могут быть сомнения,
если, едва мы видим этот берег, как, послушные мучительнице памяти,
мысленно устремляемся ко двору страсти? Как при виде волков овцы
вспоминают о страхе, так и в нас тотчас оживают воспоминания о любви,
стоит лишь нам увидеть места, осчастливленные ее недолгим присутстви-
ем. Тому, кто зрел Уранию, ничего не осталось, кроме этого берега, на
котором она стояла, ходила, оглядывалась, разговаривала. Зачем нам это?
Да затем, что берег пробуждает в нас воспоминания, которые внушают
возвышенные размышления. Давай же вспоминать и размышлять, раз-
мышлять и благодарить судьбу, благодарить судьбу и восхищаться пре-
красной Уранией, восхищаться ею и любить ее, любить ее и радоваться,
несмотря на печали. Давай вспоминать ее так, чтобы обездоленные глаза
обогатились видением девы и униженные сердца возвысились любовью
к той, чью красоту мир может явить как самое великое из своих творе-
ний, хотя и не красотой прославилась бы она в первую очередь. Пусть
даже на ее ресницы было приятнее смотреть, чем на двух беленьких коз-
лят, тянущихся вверх за нежными листочками, но ее ресницам не срав-
ниться с дневными звездами, которые прятались за ними; и ее дыхание
было слаще юго-западного ветерка, пролетающего в знойный полдень
над пышными лугами и прохладными реками, но все же его не сравнить
с медоточивыми речами, которые оно доносило до нас. То, что пред-
ставало нашим взглядам (правда, увидев ее, все остальное они воспри-
нимали как сухую стерню в сравнении с цветущим лугом), не уступало
отаре невыразимых совершенств, которая могла бы украсить собой са-
мую прекрасную овчарню. Не секрет, что легче осознать красоту солнца,
видя, как оно золотит воду и горы, чем разглядывая его самого слабы-
ми глазами смертного. Так, верно, и нашему разуму (который не в си-
лах выдержать солнцеподобное величие) легче оценить Уранию, узнав
о ее влиянии на других, менее совершенных людей. Но кому же свиде-
тельствовать об этом влиянии, как не нам, благодаря ей познавшим не-
ведомые прежде чувства? Разве не единственно из любви к Урании мы,
глупые невежественные пастухи, поднялись мыслями выше привыч-
ного уровня, так что и великие ученые мужи не пренебрегают нынче
30
нашими советами? Разве не желание возвыситься в ее глазах подвигло
нас наблюдать движение звезд, пока другие спали, читать высокоумные
сочинения, пока другие проводили время за игрой в шары, оценивать
себя, пока другие оценивали своих овец? Разве не она заставила нас, ве-
давших только свои страсти, вспомнить о разуме, иначе говоря, подарила
Купидону зрение1? Разве есть на свете другая такая женщина, способная
любовью будить в соперниках дружеские чувства, а красотой — учить
целомудрию?
Клай мог бы еще долго славословить в таком роде, но Стрефон, вдруг
прервав его, показал на нечто, приближающееся к берегу не столько по
своей воле, сколько по воле волн. Пока друзья раздумывали, что бы это
могло быть, море чуть ли не под ноги им выбросило человека; и когда
они, охваченные жалостью, склонились над ним, то увидели, что он на-
мертво вцепился (руки были ему более верными друзьями, чем память)
в небольшой квадратный сундук, прижимает его к груди и не подает при-
знаков жизни, словно в этом сундуке, как в гробу, ему надлежало лечь
в земную могилу. Вынесенный на берег юноша был хорошо сложен и до
того миловиден, что смерть, верно, прельстилась его красотой, и, хотя на
нем не оказалось никакой одежды, сама нагота служила к его украшению.
Глядя на юношу, пастухи прониклись к нему состраданием, сострадание
же потребовало от них активных действий; поэтому, недолго думая, они
задрали ему ноги выше головы, так что потоки соленой воды хлынули
у него изо рта, а потом расстелили на песке свою одежду, уложили на нее
несчастного и принялись тереть его и разогревать, пока к нему не верну-
лись слуга-дыхание и друг — живое тепло. В конце концов незнакомец
открыл глаза и издал протяжный стон (звук был скорбный и радостный,
и пастухи поняли, что он жив и будет жить). Однако Стрефон и Клай
не прекратили своих милосердных усилий, пока юноша окончательно
не пришел в себя, не вскочил на ноги, забыв поблагодарить пастухов за
спасение, и не стал вглядываться вдаль, зовя Пирокла, увы, не видя и не
слыша того единственного, кто мог бы его утешить.
— Если погиб Пирокл, зачем жить Музидору? — вскричал он и бро-
сился в море.
Немало удивились пастухи, ведь, будучи почти мертвым, юноша все-
таки боролся за жизнь, а обретя жизнь, отказывался от нее ради смерти,
и они побежали за ним, без труда побороли его (слишком он был слаб),
оттащили подальше от воды.
— Скажите, честные люди, по какому праву вы не даете мне распоря-
диться собой по своему усмотрению? — спросил юноша. — Зачем навязы-
ваете мне благо, которое для меня мука мученическая?
Услыхав греческую (родную) речь, пастухи прониклись к юноше еще
большей нежностью, а поняв по его виду и его словам, что он не в си-
лах справиться со скорбью по утонувшему другу, ответили, что хоть они
1 В римской мифологи Купидон, божество любви, часто изображался с завя-
занными глазами, что символизировало случайность его выбора.
31
и бедные люди, но из человеколюбия не могут допустить его гибели и
просят его, если он не видит другого способа избавиться от безысходной
тоски, утешиться собственным чудесным спасением.
— Нет, нет, — возразил Музидор, — это блаженство не для меня. Но
коли вы взялись заботиться обо мне, то, молю, найдите какую угодно
лодку, которая могла бы немедленно выйти в море на поиски человека,
слишком дорогого для меня, чтобы я отдал его на съедение рыбам. Что
до платы, — добавил он, — то содержимое моего сундука с лихвой окупит
любые расходы.
Не мешкая, Клай отправился к рыбаку, договорился с ним о лодке,
а заодно раздобыл одежду для нагого юноши, после чего они все во-
шли в лодку и, едва бухта осталась позади, увидели, что море окрашено
в странный цвет, а немного в стороне то и дело вспыхивает огонь и вверх
поднимается струйка дыма. Стоило юноше заметить это, как он принялся
бить себя в грудь, кричать, мол, там начались его беды, и молить пастухов
подойти поближе к тонущему кораблю, уверяя их, что дым лишь ничтож-
ная малость большого пожара, из-за которого он сам и его друг ввери-
ли себя ледяному милосердию моря, желая избежать жаркой жестокости
огня, поэтому, так как они оба покинули корабль, его друг (если он жив)
должен быть где-то неподалеку.
Рыбаки взялись за весла и, приблизившись к несчастному кораблю,
увидали нечто совсем жалкое и ни на что не похожее: не корабль, а ске-
лет корабля, и даже не скелет, а несколько костей, если не утонувших, то
поломанных и сгоревших, ради его погибели смерть не пожалела стрел.
Вокруг плавали очень дорогие вещи и много сундуков, наверняка, обе-
щавших не меньше сокровищ. А среди несметных богатств плавали мерт-
вецы, на которых остались знаки обеих стихий, не говоря уж о знаках
людской свирепости, ибо на трупах зияли глубокие раны и кровь из них
как будто залила морские морщины, а море словно нарочно не смыва-
ло ее, показывая, что виновато не во всякой жестокости. Короче говоря,
было сражение, в котором побежденные удержали за собой и поле боя и
добычу; было кораблекрушение в отсутствие шторма и подводных рифов;
был опустошительный пожар посреди моря.
Немного поодаль качалась на волнах гордая мачта, похожая на вдову,
потерявшую мужа, свою славу и опору, а верхом на мачте, как на лошади,
сидел молодой мужчина (мужчина ли?) лет восемнадцати от роду, в одной
рубашке из затканного золотом голубого шелка, напоминающего море,
в которое солнце (приблизившись к своему западному дому) стреляло
золотыми стрелами. Волосы у него (греки носили их длинными) были
спутаны ветром, который играл ими, пока море целовало ему ноги; из-за
необычных обстоятельств необыкновенная красота юноши казалась вы-
ставленной напоказ. Голову он держал по-королевски высоко поднятой,
и в белой руке у него был меч, который он, как будто грозя всему миру, то
и дело крутил над головой.
Когда лодка приблизилась настолько, что можно было бросить спа-
сительную веревку, при виде юноши простосердечных рыбаков сначала
32
охватило изумление, потом изумление сменилось суеверным страхом
(несомненно, они думали, будто видят бога, рожденного Нептуном и
Венерой и учинившего жуткое кровопролитие), поэтому, проходя мимо
под парусом, они воздели вверх руки и принялись молиться. Увидав это,
Музидор, потрясенный счастьем не меньше, чем рыбаки страхом, выхва-
тил у одного из них веревку и завопил:
— Живой и здоровый!
— Ты не мог бы сказать лучше, — отозвался другой юноша, — ведь
теперь моя жизнь зависит от тебя.
Лодка оказалась довольно далеко от Пирокла, поэтому Музидору ни-
чего не оставалось, как уговорить рыбаков, чтобы они повернули назад,
внушив им, что перед ними, хотя и божественно привлекательный, но
человек, и пообещав немалую плату за труды.
Рыбаки уже начали поворачивать лодку, как вдруг один из них за-
метил галеру, под парусами и на веслах шедшую прямо на них и при
более пристальном рассмотрении оказавшуюся известным пиратским
судном, охотившимся не только за богатствами, но и за людьми, ко-
торых можно было посадить на весла или продать за большую цену.
Бросив несчастного Пирокла, уже радовавшегося близкому спасению,
хозяин лодки приказал на всех парусах идти к берегу. Как только ни мо-
лил его Музидор принять бой, чем только ни прельщал. Страх, стояв-
ший на страже хозяйских ушей, отринул все увещевания, и Музидору
осталось лишь провожать Пирокла взглядом и помогать ему молитвой.
Не отворачиваясь, он смотрел, как галера прекратила преследование и
занялась добычей с утонувшего корабля. В конце концов очередь до-
шла и до Пирокла. «Ах, милый Пирокл, — подумал Музидор, — неуже-
ли тебя закуют в цепи? Неужели твои победоносные руки подчинятся
низменным оковам? Неужели благородство станет рабом тех, кто уже
давно числится в рабах у порока? Ах, почему твою достойную жизнь не
завершила достойная смерть? Разве может смерть быть хуже унизитель-
ного рабства?»
От этих мыслей не осталось и следа, когда Музидор увидел, что гале-
ра столкнулась с другим судном и завязала с ним долгий и трудный бой.
В душе юноши вновь проснулся страх за жизнь друга, отчего он при-
нялся истово желать победы недавно ненавистным пиратам, ведь вместе
с ними мог погибнуть и Пирокл. Тем временем рыбаки быстрее ветра
летели прочь, лишая Музидора возможности увидеть конец сражения,
а, оказавшись на берегу, он не нашел ни одного смельчака, готового тот-
час выйти в море. Из-за вынужденного бездействия, не зная, что пред-
принять, Музидор едва не впал в отчаяние, но честные пастухи Стрефон
и Клай (которые тоже были верными друзьями и понимали его, как никто
другой) посоветовали ему не поддаваться горю, ведь кое-что все-таки из-
менилось, и теперь у него не было причин оплакивать смерть друга — так
пастух льет слезы из-за гибели своей отары и вдруг узнает, что она за-
блудилась, значит, он должен радоваться, пусть даже пока не знает, где ее
искать.
3 Заказ 1414
33
Глава вторая
— Господин, — сказали Стрефон и Клай, — пришло время нам рас-
сказать о себе. Мы всего лишь пастухи, и в Лаконии это не многим лучше,
чем чужестранцы, так что ни делом, ни властью мы не можем быть тебе
здесь поддержкой. Однако мы предлагаем тебе вот что. Недалеко отсю-
да находится страна Аркадия, из которой мы оба родом, и возле самой
границы живет человек, которого зовут Каландер и который удостаивает
нас своей милостью: он очень гостеприимен и у него всегда кто-нибудь
гостит, поэтому ни одна новость не минует его ушей; а так как он щепе-
тильно честен с соседями, то многие готовы ему услужить; да и наш царь
питает к нему расположение, отчего его имя может стать охранной гра-
мотой не только в Аркадии, но и во всех пелопоннесских странах. К тому
же (это стоит всего остального) у него такой нрав, что он всегда готов от-
кликнуться на просьбу, словно для его ушей слова заслуженной благодар-
ности звучат приятнее самой нежной музыки. Мы отведем тебя к нему,
и у него ты восстановишь свои силы, чтобы отправиться на поиски друга,
ведь тебе придется приложить немало трудов. Кроме того, поверь, не бу-
дут для тебя лишними ни утешительный покой, ни мудрый совет.
Музидор (не имевший в Аркадии знакомых и полностью поглощен-
ный своей бедой) тотчас согласился с пастухами, ибо не видел причин не
согласиться, после чего (вознаградив рыбаков перстнем) он и оба пастуха
отправились прочь из Лаконии, и если Клай и Стрефон по очереди несли
сундук Музидора, то он нес на себе очевидные знаки умственной расте-
рянности и физического нездоровья, но пастухи понимали его состояние,
и, зная, что его горе наскоком победить невозможно (подобно могучему
зверю, оно скорее могло уступить терпеливому приручению, чем немед-
ленному насилию), ни в первый день, ни во второй не тревожили юно-
шу ни вопросами, ни утешениями, скорее наоборот, угождали его печали
повествованиями о собственных горестях и о горестях других людей. Их
речи, не достигавшие его затворенных печалью чувств, воспринимались
им как будто в полусне, скажем, пока печаль не спохватилась, они про-
никли в его мысли, постепенно стали ему нравиться, потом удивили его
своей мудростью. Короче говоря, Музидору пришлось по вкусу общество
пастухов, и он даже снизошел до беседы с ними. Итак, когда третье утро
усыпало розами и фиалками небесный пол перед приходом солнца, а со-
ловьи (соревнуясь друг с другом в изяществе и разнообразии воспевания
своей незаслуженной печали1) разбудили путников, они вышли из-под
дерева (своего ночного убежища) и продолжили путь, который приятны-
ми видами все более и более утешал взгляд Музидора, утомленный пу-
стынями Лаконии.
1 Намек на Филомелу, персонаж греческого мифа, ставшую жертвой насилия
со стороны своего мужа Терея и превращенную Зевсом в соловья (по другой вер-
сии — в ласточку).
34
Гордые вершины гор были украшены могучими деревьями; прини-
женные долины, казалось, утешались чистотой серебристых рек; словно
расписанные глазурью, луга радовали взгляд своим многоцветьем; густые
заросли звали в приятную тень веселой разноголосицей птичьего пения;
на мирных пастбищах важно щипали траву овцы, а прелестные ягнята не-
прерывным блеянием приводили их в умиление; здесь пастушок так играл
на дудочке, словно ему не было суждено состариться, а юная пастушка
вязала и пела, и то ли ее голос диктовал рабочий ритм ее рукам, то ли руки
диктовали ритм голосу. Дома в Аркадии — по пути им попадались дома
без счета — стояли на некотором расстоянии друг от друга, не рядом, но и
не настолько далеко, чтобы соседу не прийти на помощь: и это наводило
на размышление о необходимом человеку уединении в обществе и столь
же необходимом общении в цивилизованном одиночестве.
— Прошу вас, — проговорил Музидор, впервые разомкнув долго мол-
чавшие губы, — скажите, что это за две столь различные страны, словно
в одной и желать-то больше нечего, а в другой ничего нет, кроме желаний?
— Страна, в которой тебя выбросило на берег и которая осталась по-
зади, называется Лаконией, — ответил Клай. — Бедна же она не столько
из-за скудости земли (хотя и не очень плодородной), сколько из-за граж-
данской войны между господами и крестьянами (зовущимися илотами),
уже два года раздирающей ее изнутри и изменившей даже ее природу,
которая стала негостеприимной, как ты мог заметить. Принадлежащие
той и другой стороне города по доброй воле не открывают свои ворота
чужеземцам, да те и не стремятся в них по доброй воле, боясь быть при-
нятыми за врагов.
Страна, где мы теперь находимся, называется Аркадией, и уже неда-
леко дом Каландера, к которому мы ведем тебя. Ее украшают мир и —
дитя мирного времени — усердный труд. Дома, которые ты видишь, при-
надлежат таким же простым людям, как мы, которые пасут овец и назы-
ваются пастухами. В Аркадии пастухи самые счастливые люди — живут
в достатке, не желая слишком многого.
— Зачем же, — спросил Музидор, — вы променяли столь приятную
жизнь дома на скудную и опасную в чужой стране?
— Любовь ведет нас, — ответил Стрефон, — а бедность охраняет.
— Теперь же, — вмешался Клай, — поскольку ты соблаговолил поин-
тересоваться нашей жизнью, а мы ведь низкого происхождения и самое
знание о нас скорее тьма, чем свет, позволь и нам услышать что-нибудь
о тебе и твоем друге, которого ты горячо оплакиваешь, чтобы мы знали,
как рассказать о тебе Каландеру и он знал, как принять тебя.
Помня об уговоре с Пироклом не открывать своих настоящих имен,
Музидор назвал себя Палладием, а своего друга — Даифантом.
— До тех пор пока я вновь не увижу его, — сказал Музидор-Пал-
ладий, — меня нет и мне нечего рассказывать. Каким бы ни принял меня
Каландер — коль он столь любезен, — его прием не может быть хуже, чем
я заслуживаю, и это значит, что самой большей любезностью с его сторо-
ны будет, если он окажет мне помощь в поисках моего друга.
з*
35
Пастухи поняли, что Палладий не расположен к откровенности и без
лишних слов привели его в дом, где были все необходимые пристройки
(с правильным учетом пространства, перспективы и пейзажа), указы-
вавшие на отличное знание Каландером двух вещей: предусмотритель-
ности — основы гостеприимства и бережливости — источника роскоши.
Построенный из светлого прочного камня, дом не столько поражал во-
ображение, сколько привлекал внимание почтенным и неколебимым ве-
личием. Окна, двери, лестницы были в первую очередь удобными, а уж
потом красивыми; но тем не менее, обращая внимание на.одно, тут не за-
бывали о другом, и все отличалось красотой без излишней утонченности,
уютом без приторности, чистотой без блеска, чтобы не боязно было по-
шевелиться, но и без неряшливости, как после приема многочисленных
гостей; все поражало скорее прочностью, нежели бьющей в глаза кра-
сотой, но как раз эта рассчитанная на века прочность побуждала видеть
в ней вечную красоту. Не столь многочисленные, сколь чистоплотные и
заботливые, слуги всем своим видом говорили, что их хозяин одинаково
думает и о своих удобствах, и об удобствах тех, кто их создает. Один из слуг
уже хотел поздороваться с пастухами, к которым его хозяин очень благо-
волил (несмотря на их бедность), но понял по их поведению, что пришед-
ший с ними юноша достоин большего, ибо от внимания Стрефона и Клая
не ускользнули приметы незаурядного величия (как бы ни ополчилась на
несчастного судьба), и побежал к Каландеру, который незамедлительно
вышел к гостям и добрыми речами приветствовал пастухов и в первую
очередь Музидора, ибо Стрефон не преминул по секрету рассказать ему
обо всем, что знал сам, и, главное, о том, что чужеземцу как будто не хо-
чется быть узнанным.
— Я не геральдическая палата, — громко заявил Каландер, — чтобы
интересоваться родословной моего гостя. Мне достаточно знать о досто-
инствах человека, которые — если лицо этого юноши не лжесвидетель-
ствует — богаче одели его разум, чем вы — его тело.
Пока Каландер это говорил, появился мальчик, судя по виду, ученик
торговца, и, тронув Стрефона за рукав, подал ему и Клаю письмо от
Урании, которое они прочитали, но не прежде, чем попросили у Ка-
ландера (тотчас все понявшего и не отказавшего себе в доброй улыбке)
разрешения откланяться и, еще раз торопливо представив ему юношу,
удалились, оставив Музидора-Палладия сожалеть о внезапной разлуке
с людьми, с которыми он вел приятную беседу и которым не имел воз-
можности отплатить добром за добро. Когда пастухи принесли его сун-
дук, он достал две большие жемчужины, но, как ни старался, не смог
вручить их ни Стрефону, ни Клаю, заявившим, что довольно вознаграж-
дены знакомством с благородным юношей. Не слушая его доводов (как
люди, презревшие в душе все страсти, кроме одной), они помчались
прочь, словно получили в письме крылья, благодаря которым могли те-
перь лететь. Наблюдательный Каландер сразу рассудил, что его гость не
из жалких просителей, и еще почтительнее обратился к нему, но тут хворь
(последствие сражения, морской качки и недавнего путешествия) взяла
36
над Музидором верх, поэтому, опасаясь какой-нибудь случайности, он
отдал Каландеру сундук, наполненный до верха драгоценными камня-
ми в роскошных оправах, и попросил сохранить безделушки, а паче чая-
ния он умрет — не пожалеть их ради поисков юноши, называющего себя
Даифантом и захваченного пиратами в Лаконии.
Видя, как Музидор слабеет у него на глазах, Каландер поскорее пре-
проводил его в самые удобные покои в своем доме, где тот довольно
долго боролся с ужасной горячкой почти без надежды на выздоровление.
Однако молодость в конце концов победила болезнь, и через шесть не-
дель к Музидору вернулась красота как полномочный посол здоровья,
несказанно обрадовав Каландера, который с помощью своих друзей
в приморской Мессении снарядил на поиски Даифанта корабль и галеру,
словом, не покидая своего дома, он не пренебрег ничем, что могло при-
нести пользу или доставить удовольствие его гостю.
Каждый день наслаждаясь беседами с Палладием, Каландер обна-
ружил в нем (помимо телесного совершенства, достойного наивысшего
восхищения) разум самого замечательного устройства, проницатель-
ность без намека на хвастовство, рожденные нежным сердцем, высокие
помыслы, столь же приятное, сколь обдуманное красноречие, благород-
ное поведение, возвышавшее в несчастье, — и все это в юноше не старше
двадцати одного года от роду. Добрый старик был очарован и проникся
к Палладию отеческой любовью или, скорее, стал его слугой, склонив-
шись перед добродетелями своего гостя, ибо принялся усердно прислу-
живать ему.
Глава третья
Палладий выздоровел, но остался гостем Каландера до возвращения
посланных на поиски кораблей, и однажды днем Каландер повел его за
дом, показать то место, которое во что бы то ни стало желал показать
своему гостю, пока тот не уехал, ибо гордился им больше, чем другими
своими владениями. Не луг, не парк, не сад, это место было и лугом,
и парком, и садом, и когда Каландер с Палладием сошли с лестницы, то
оказались в искусно спланированном саду с фруктовыми деревьями, на
которых зрели сочные плоды, но, едва они успели насладиться его видом,
как ступили на нежную траву луга, со всех сторон окруженного зелены-
ми рощами, а за ними опять оказались цветочные клумбы, разбитые под
деревьями, кроны которых служили как будто навесом, тогда как клум-
бы были как будто мозаичным полом, — искусство здесь услаждало взор,
словно подделываясь под своего врага по имени Промах и упорядочивая
беспорядок.
Посередине находился чистый пруд, и на его колеблемой поверхно-
сти, как в великолепном зеркале, отражались здешние красоты, таким
образом существовали как будто два сада: настоящий и отраженный.
В одной из рощ прекрасный фонтан изображал беломраморную обна-
женную Венеру, причем скульптор настолько владел своим искусством,
что природные голубые прожилки на мраморе оказались как раз в тех ме-
стах на ее теле, где должны быть настоящие жилы. У груди богиня держа-
ла малютку Энея, который, едва вкусив материнского молока, откинул
головку, чтобы поглядеть в прекрасные глаза, с улыбкой следившие за
шаловливым младенцем, пока молоко (вода) лилось из ее груди1.
Рядом был дом услад, построенный для летнего уединения, и туда
Каландер привел своего гостя, чтобы показать ему квадратную залу, в ко-
торой было много прекрасных картин величайшего художника Греции.
Перед Палладием предстали купающаяся Диана и подглядывающий за
ней Актеон. Румянец на щеках Дианы выдавал смешанное чувство сты-
да и гнева; а рядом, потемнев лицом, стояла глупая рыдающая нимфа,
и трудно было усомниться в том, что художник намеренно обращал вни-
мание на ее злые слезы. На соседней картине была изображена Аталанта,
но запечатленная с такой живостью в руках и ногах, что, будь взгляд
единственным судьей, а не только единственным наблюдателем, мож-
но было бы поклясться, что бежит сама картина. Рядом расположились
другие полотна, изображавшие Елену, Омфалу, Иолу, однако ни на одной
из них красота не сумела сказать так много, как на большой картине,
с которой на Палладия смотрели красивый старик и дама средних лет, но
удивительной красоты, возможно еще более удивительной, если бы ее
1 Сидни заполняет сад Каландера традиционными символами любви, о кото-
рой далее будет идти речь. Здесь Афродита Энеада — символ материнской любви.
38
не затмевала стоявшая между мужем и женой юная дева, словно позаим-
ствовавшая у матери ее совершенство и отдавшая обратно лишь его тень.
И такая разница (несомненно, художник списал девицу с живой натуры)
была между нею и всеми остальными (хотя и богинями), что, казалось,
искусство творца придало блеск земной красоте девы, но и ее красота
придала блеск искусству творца. Палладий считал назойливость непри-
ятной гостьей, но не удержался и спросил имя живой натуры художника,
естественная красота которой оставила позади его фантазии. Каландер
ответил, что деву зовут Филоклеей и она младшая дочь царя, изображен-
ного на картине вместе со своей супругой. Художник явно намеревался
показать теперешнее положение юной госпожи, с которой ее родители
не сводят испытующих взоров; более того, он непременно написал бы и
ее старшую сестру (не уступающую ей в красоте) в наряде пастушки, но
неотесанный шут, ее воспитатель, ни в какую на это не соглашался, а ху-
дожник не осмелился просить позволения у царя из боязни навлечь на
себя подозрения. Сообразив, что в словах Каландера скрыта некая тайна,
Палладий из скромности не позволил себе дальнейших расспросов, одна-
ко своим видом красноречиво выразил желание узнать все.
И Каландер не остался безразличным к его желанию.
— Что ж, мой милый гость, — сказал он, — мне понятно твое любо-
пытство, и я удовлетворю его. И сделаю это, не скаредничая, не умалчи-
вая о том, о чем ты не спросишь; я открою тебе, что уже стало общеиз-
вестным и что знаю лишь я один, ибо уверен в тебе — хотя мы недолго
знакомы — и считаю твои уши надежными хранителями сокровищ.
Итак, они уселись в кресла, и Каландер начал свой рассказ, время от
времени поглядывая на картину:
— В сравнении с другими греческими странами Аркадия всегда вы-
делялась, отчасти благодаря прекрасному климату и другим природным
дарам, но прежде всего благодаря разумности ее жителей, которые, — по-
няв, что сверкание славы, столь любимое другими народами, на самом
деле не прибавляет счастья, — единственные, своей справедливостью и
предусмотрительностью, не давали соседям ни повода, ни надежды втя-
нуть себя в конфликт; ложная гордость не побуждала их нарушать чужой
покой, ибо они считали память потомков невеликой платой за растра-
ту своих жизней в грабежах. Даже Музы были как будто особенно бла-
госклонны к ним, ибо часто выбирали Аркадию местом отдохновения
и своим совершенством делились с ней, отчего даже простым пастухам
приходили на ум столь высокие мысли, что просвещенные мужи из дру-
гих стран нередко заимствовали их имена и подражали их искусству.
Живет и правит здесь царь, чье изображение ты видишь, по имени
Базилий, который довольно умен, чтобы править нашей мирной стра-
ной, имеющей, благодаря здравомыслию прежних царей, справедливые
законы, сохранению которых надежно служит разумное воспитание его
подданных. Но если по чести, то ни в чем он так не преуспел, как в не-
притворной любви своего народа, и в этом Базилий превзошел не только
своих предшественников, но и всех ныне живущих царей. Причина же
39
заключается в том, что, не прославившись добродетелями, вызывающи-
ми восхищение, например глубоким умом, высокой доблестью или без-
мерным величием, он стал известен добродетелями, пробуждающими
в людях любовь, то есть честностью, кротостью, обходительностью, тер-
пимостью и состраданием.
Будучи уже в летах, он взял в жены юную царевну по имени Гинесия,
дочь кипрского царя, несравненную красавицу, как ты сам видишь; жен-
щину недюжинного ума и, говоря по правде, более одаренную царскими
достоинствами, нежели ее супруг; у нее незапятнанная репутация, но при
этом столь неуемный ум и неистовые чувства, что, как говорится, повезло
ей с доброй дорожкой, а то не миновать бы беды.
У царя и царицы две дочери, столь щедро одаренные достоинствами,
свойственными разумным существам, что можно подумать, будто сво-
им рождением они должны были подтвердить материнское отношение
природы к женскому сословию, как бы иные мужчины, оттачивающие
свой ум лишь в скверноречии, ни позорили его. Старшую сестру зовут
Памелой, и многие считают, что она ни в чем не уступает младшей. Я же,
когда сравнивал их, то пришел к выводу — если в отношении таких со-
вершенств можно употребить слово «более», — что в Филоклее более оча-
рования, а в Памеле — величия: мне показалось, будто в глазах Филоклеи
любовь играет, а в глазах Памелы угрожает; мне показалось, будто красота
Филоклеи очаровывает, но очаровывает так, что перед ней не может усто-
ять ни одно сердце, а красота Памелы атакует, и атакует так, что ни одно
сердце не может избежать плена. Похоже, то же самое можно сказать и об
их уме: Филоклея робка, словно ее достоинства достались ей по ошибке,
прежде чем она осознала их; поэтому она скромна и с виду не горделива,
короче говоря, она пробуждает надежду, но учит ее приличным манерам.
Высокоумная же Памела избегает гордыни не потому, что не знает своих
достоинств, наоборот, самое отсутствие гордыни она превратила в свое
достоинство; она взяла у матери мудрость, величие, благородство, но —
если я не ошибаюсь — нанизала их на более устойчивый нрав. Ну вот, наш
Базилий, будучи, как известно, счастлив в царях и до того счастлив в сво-
ем счастье, что стал любимым царем, да и в семейной жизни благословен
прекрасной женой и еще более прекрасными дочерьми, — не очень давно
повел себя так, что о его поведении заговорили больше, чем о дарах судь-
бы. Совершив путешествие в Дельфы и благополучно возвратившись, он
вскоре распустил двор и вместе с женой и дочерьми удалился в лес, кото-
рый с тех пор называет своей пустыней; вот там-то, рядом с конюшней и
строением, что предназначено для людей низшего звания, исполняющих
всякую домашнюю работу, он построил два прекрасных дома. В одном он
поселился сам с женой и младшей дочерью Филоклеей — вот почему трое
изображены на этой картине — и никого больше не допустил к себе.
Как бы странно это ни было, гораздо больше странного в его отно-
шении к принцессе Памеле, которую он поселил в другом доме; но, как
думаешь, с кем? Представь, с неким Даметом, с самым глупым шутом
на свете, которому, полагаю, никогда не вручат шутовского жезла, с его
40
женой Мисо и их дочерью Мопсой, в которых никому не удалось бы сы-
скать ничего приятного, и они лишь испытывают терпение царевны да
еще служат декорацией для ее достоинств. Таков сей неотесанный шут,
что вряд ли тебе когда-нибудь приходилось видеть подобное уродство;
а в его поведении и вовсе нет ничего смешного; но ведь, кроме этого кра-
савца, что бы я ни думал о нем, есть еще его жена Мисо, уж такая редкая
карга, что лишь за лицо и косолапость ее признали бы ведьмой; и только
одно в ней хорошо, она умеет соблюсти равновесие — ее уродливое тело
под стать каверзному уму. Но почище этих двоих (которые, не уживаясь
в согласии, уживаются в несогласии) будет госпожа Мопса, достойно со-
единившая в себе совершенства обоих родителей: но поскольку один мой
хороший приятель облек хвалы ей в стихотворную форму, то я повторю
их, щадя свой язык, ведь она как-никак женщина. Вот эти вирши, кото-
рые я так часто просил спеть, что теперь могу обойтись без подсказки.
Сложу ли я двустиший ряд в честь дивной Мопсы ныне,
Чей странней нрав и чьих красот нельзя постичь мужчине?
Берись задело, Муза! Быть отступницей нельзя.
Придут тебе на помощь боги вес — твои друзья.
В Сатурна красотой она, Венера — скромным видом,
Тиха в Юнону, гладкой кожей — Пан, быстра в Ириду,
Провидица, как Купидон, походкою — Вулкан,
Лоб — гиацинт, щекам опаловый оттенок дан,
Уста — сапфиры, волосы черны, как камень жабий,
Вкруг ока белый перламутр, улыбка шире хлябей,
И серебром живым сверкает кожа на руках,
И золото горит на гладких девичьих плечах.
Все ж лучшее в ней то, на что глядеть никак не можно:
Блажен, кто сказанного мной не истолкует ложно1.
Теперь, когда я без утайки рассказал тебе обо всем, ты, верно, вообра-
зил, будто мне захотелось развлечь тебя милой сказкой, нежели поведать
тебе истину как она есть, ведь трудно поверить, что король, оставаясь
в здравом уме, способен на столь неподходящий выбор. Но суть в том, мой
милый гость, что цари, часто становясь победителями, считают, будто нет
такой нелепости, которую они не могли бы облагородить. Странное до-
верие к Дамету возникло во время охоты, когда царь заблудился и спро-
сил у него дорогу, а потом задал еще несколько вопросов и нашел некото-
рые из ответов — умей пес говорить, ему тоже хватило бы ума рассказать
о своей конуре, — не лишенными смысла, правда, все они отличались
грубостью, которую Базилий принял задушевную простоту — хотя между
ними большая разница, — и, восхитившись ею, привез Дамета во дворец,
всячески выражая ему свою благосклонность; а там льстивый царедворец
всецело завладел царем, едва отыскались хоть какие-то основания для
1 Здесь и далее, если не оговорено особо, перевод стихов А. Шараповой.
41
царской милости, то есть слабые тени добродетелей Дамета. Его немоту
царь расценил как мудрость, глупость стала честностью, свинское неве-
жество — невинной простотой; и царь, как все великие люди, влюблен-
ный в собственные деяния, вообразил, будто рядом с ним Дамет сумеет
преодолеть свои слабости. Итак, Базилий привязался к придуманному
им образу, любил его все сильнее и сильнее и поначалу назначил Дамета
главным пастухом, а потом, странным образом изменившись, отдал свою
жизнь и жизнь своих дочерей в его руки. Дамет получил огромную власть,
словно слишком большой парус был поставлен на слишком маленькое
суденышко, и это очень повлияло на бедняжку, который прежде играл
роль домашнего шута, а теперь был как будто приглашен играть в коме-
дии; ну вот, я не сомневаюсь (я боюсь), в конце концов, моему хозяину
придется заплатить дорогую цену за то, чтобы понять: его долг не приду-
мывать людей, а использовать их такими, какие они есть, ведь не учит же
он лошадь охотиться, а осла — править страной. Однако думаю, твои уши
пресыщены слишком долгим повествованием о грубом, невежественном
Дамете. Великое заблуждение моего повелителя пробуждает во мне глу-
бокую скорбь, и из-за этого я произношу больше слов, чем, признаю, за-
служивает неотесанный мужлан.
Глава четвертая
— То, что я рассказал тебе, на самом деле известно любому жителю
Аркадии. Однако причины, толкнувшие царя на столь странное уедине-
ние, полагаю, известны лишь одному человеку. Я же могу всего-навсего
предполагать, нет, благодаря случаю, о котором расскажу тебе, больше,
чем предполагать. У меня есть единственный сын, его зовут Клитофон,
но он сейчас отсутствует, потому что готовится к свадьбе, которую я на-
деюсь в скором времени тут отпраздновать. Мой сын, пока царь не по-
кинул двор, был его постельничим; а потом возвратился домой и показал
мне, среди прочих вещей, копию с письма, прочитанного царем и остав-
ленного им на окне в уверенности, что никто не посмеет заглянуть в его
бумаги; однако мой сын не только прочитал письмо, но и переписал его.
По правде говоря, я отругал Клитофона за любопытство, побудившее его
нарушить долг перед царем, ведь именно из-за любопытства приближен-
ных царские тайны перестают быть тайнами; однако дело было сделано,
и я, извлекая из него выгоду, тоже прочитал письмо. Вот оно, ибо с тех пор
я предпочитаю носить его при себе; но, прежде чем я прочитаю его, мне
придется сказать, от кого оно. Сей знатный господин живет в Аркадии,
зовут его Филанаксом, и царь сделал его регентом на время своего от-
сутствия, так как он в высшей степени этого достоин, ибо нет среди нас
человека, у которого острый ум столь же естественно сочетался бы с ду-
шевной прямотой и искренняя любовь к повелителю не подвергалась бы
ни малейшему сомнению, разве что неизвестно, кого он любит сильнее:
Базилия-человека или Базилия-царя; к тому же у него редкий нрав, в от-
личие от большинства придворных, которые или рабски потакают сво-
им порокам, или упорно добиваются некоего блага, даже в ущерб царю.
Этого человека царь любил больше всех остальных, и он был достоин его
любви, и, по-видимому — у меня нет других доказательств, кроме этого
письма, — после возвращения из Дельфов (Филанакс тогда заболел и ле-
жал в постели) царь написал ему, как свидетельствует ответное письмо,
о своем решении, принятом на основании дельфийских пророчеств, —
и Филанакс ответил ему так:
«Письмо Филанакса
Мой доблестный возлюбленный царь,
если бы, отправляясь в Дельфы, ту изволил, как теперь, воспользо-
ваться моими скромными услугами, я бы высказался более своевре-
менно и убедительно и ты, (прислушавшись ко мне) пребывал бы
теперь не в опасности, а в покое. Я бы сказал тебе, что мудрость и
добродетель даются человеку, чтобы он слушался их в поисках новых
знаний, поскольку эти поводыри никогда не обманывают; они не
только одаривают внутренним покоем, но и ведут прямой дорогой,
43
так что или человек обретает благополучие, или, если пороки этого
мира преграждают ему путь, никому в голову не придет, будто он осту-
пился, несмотря на свои добродетели. Я бы убедил тебя, что следует
почитать небесные силы, а не пытаться проникнуть в их намерения;
и лучше, молясь, просить о милости, чем, любопытствуя, выпытывать
темные советы. Всякие предсказания (если уж мы единственные со-
ветчики самим себе) не более чем фантазия, пробужденная тщесла-
вием или самоуверенностью, и не надо к ним прислушиваться, как
не надо бежать от неизбежного. Однако, поскольку сожалеть о том,
что следовало сделать, есть непростительная слабость, а ты требуешь
сказать тебе, что делать теперь, то, мой возлюбленный Повелитель,
я беру на себя покорную смелость сказать тебе, что то, как ты решил
претворить свое намерение в жизнь, нравится мне не больше, чем
причина, вызвавшая ее к жизни. Тридцать лет ты правил своей стра-
ной, и твои подданные были довольны твоими справедливыми реше-
ниями так же, как ты — их повиновением; твои соседи считали тебя
могущественным и беззлобным, отчего предпочитали жить в дружбе
с тобой, нежели испытывать твое терпение. А если предотвращение
всяческих бед, которые могли нарушить твой покой, проистекало из
справедливого устройства твоего государства и твоей мудрой преду-
смотрительности, то зачем тебе понадобилось менять что-либо, ведь
твой собственный пример убеждает тебя жить по-старому, да и мне
совершенно очевидно (хотя ты не соблаговолил в точности передать
слова оракула), что никакой рок и никакая сила не могут вознести
человеческий разум выше, чем это делают мудрость и добродетель?
Как можно из страха потерять власть отказываться от власти и упо-
добляться человеку, который убивает себя из страха смерти? Нет, если
слова оракула достойны доверия, то, наоборот, тебе надо смело про-
тивостоять им, потому что никто не поможет тому, кто сам отворачи-
вается от себя. Позволь своим подданным видеть тебя. Позволь им
день за днем видеть плоды твоего справедливого правления, и вряд
ли им захочется ради неясных перемен терять то надежное, что у них
есть теперь. Наконец, если судьбе угодно призвать тебя к жизни или
обречь на смерть, то живи или умри, как подобает царю.
Что же до твоего второго решения отваживать даже достойных
претендентов на руку любой из твоих дочерей и удерживать царевен
от замужества, лишая себя радости увидеть внуков из-за, возможно,
неправильно толкованного пророчества, то мне нечего сказать тебе,
если даже отцовская любовь не в силах противостоять твоим фан-
тазиям. Непреложно одно, бог, который есть бог жизни, никогда не
побуждает идти против жизни, и я лишь следую его заветам, когда
говорю о том, что ты обрекаешь своих дочерей на одиночество, так
как мне ничего не ведомо об их чувствах. Я уверен, мой господин,
что в моих госпожах, твоих дочерях, природою заложены одни лишь
добродетели, да и воспитание под твоим отеческим руководством
было таким, что ограждало их от всего порочного, питало их разум
44
целомудренными удовольствиями и не печалило недостатком разум-
ной свободы. Предприняв неожиданные ограничения, ты, наверня-
ка, вызвал у них желание опровергнуть твои подозрения — ведь для
них это не менее неприятно, чем сомнение в их целомудрии. Оставь
их в покое, тем более что из всех способов укрощения ты выбрал наи-
худший. Подумай, разве может клетка радовать птицу и разве не ста-
новится свирепее пес, когда его сажают на цепь? Что делает ревность,
как не побуждает думать о недозволенном? Как правило, сокровища
или то, что доставляет великое удовольствие, прячут из боязни, как бы
они кого-нибудь не прельстили; и стоит только направить в эту сто-
рону мысли, будь уверен, гораздо труднее окажется держать их в узде,
чем прежде не допустить их к разуму (от которого много зависит и
который тоже развращается от неправильного обращения). Наконец,
что касается назначения главным воспитателем царевны Памелы
(у которой хватит ума управлять многими тысячами ей подобных) та-
кого человека, как Дамет — само по себе странное назначение, — то
это исходит из ложной предпосылки, будто невежественность — мать
верности. О нет, тот не добродетелен, кто не знает, почему он добро-
детелен, однако может оставаться добродетельным, пока удача не
отворачивается от него; но едва такое случается, и его примитивное
простодушие либо быстро исчезает, либо становится легкой добычей
обманщика; вот и получается, что меньше всего его вину оправдыва-
ет краеугольный камень его веры. Вот куда меня привели твой при-
каз и мое усердие; как человек, который стоит в долине, но может
зреть горы, или несчастный пассажир, который взошел на корабль,
но предвидит рифы, я смиренно покоряюсь, но еще раз умоляю тебя
опереться на свою добродетель, ибо нет ничего надежнее в твоем те-
перешнем положении, лишь она поможет тебе избежать любое зло,
какое только можно вообразить».
— Из этого письма ты, конечно же, понял, что причиной всего была
гордыня, которая, превращая в вечный дворец бедный постоялый двор
человеческой жизни, завладевает многими, жаждущими определенно-
сти в будущем, тогда как нет ничего более определенного, чем постоян-
ная неопределенность. Однако, признаюсь, мне неизвестно, что сказал
оракул, но и он — как ты, верно, понял из письма Филанакса, — ничего
определенного не сказал. Последовавшие события показали, что развра-
щенный королевской властью, Базилий выслушал мудрый, как я думаю,
совет Филанакса, но не последовал ему. Бросив бразды правления и тем
самым вызвав великое изумление в народе, который принимает на веру
самые нелепые слухи, а также страх у многих в отношении его доблест-
ного племянника Амфиала и немало зависти у честолюбивых придвор-
ных к Филанаксу, когда они узнали о возвышении Филанакса, — говоря
по правде, он заслуживает поболе всех нас, живущих в Аркадии, — царь
спрятал голову тем способом, о котором я тебе говорил, не желая пря-
мо признать, что не имеет намерения, пока жив, выдать замуж своих
45
дочерей, но имеет намерение держать их при себе в своем уединении,
куда никого и ни под каким предлогом не допускает, кроме одного свя-
щенника, который преуспел в поэзии и которого он заставляет сочинять
вирши себе в угоду — он столь же рад приятной беседе, сколь нуждается
в поклонении, — и еще примерно двадцати избранных пастухов, которые
танцами или эклогами его развлекают.
— Теперь ты знаешь не меньше моего, и если я задержал тебя излиш-
не долго, без колебаний отнеси этот грех на счет моей словоохотливой
старости, — сказал, улыбаясь, Каландер. — природе, видно, нравится
упражнять в первую очередь ту часть, которая менее всего ветшает, то
есть язык; или старикам нравится хвастать своими познаниями, а ведь не
похвастаешь, не открывая рта; или, подходя к концу жизненного пути,
человек упорно старается увековечить свое имя не только благодаря де-
тям, но речами и писаниями, что навязывает слушателям и читателям.
В свое оправдание замечу лишь, что еще никому я не рассказывал об этом
столь подробно и откровенно, но ты, если я не ошибаюсь, достоин любви
и доверия.
— Тот не постареет, — отозвался Палладий, — кто не кланяется старо-
сти, груз которой если и клонит к земле слабую плоть, то возносит к не-
бесам благородный дух; и ты мог бы сослаться еще на одну причину, на
мудрость, побуждающую в стариках желание одаривать ею других. Я не
забуду то, что узнал от тебя, не забыв о благодарности. Однако среди мно-
гих странных причуд, о которых ты поведал мне и которым теперь пре-
дается ваш царь, — то, что он получает большое удовольствие от общения
с пастухами, честно говоря, не показалось бы мне самым малым, — и если
бы ты не сказал заранее, что твоя страна славится талантами, да если и
сам я не убедился бы в этом, ведь вернули меня к жизни и привезли к тебе
пастухи Стрефон и Клай, чьи беседы поразили меня своей рассудитель-
ностью, достойной пастухов Гомера1, — они могли бы стать справедли-
выми правителями народов, в отличие от некоторых сенаторов, которым
место в овчарне.
— Эти двое, — сказал Каландер, — особенно Клай, всех заткнули
за пояс, ибо к природным талантам приложили образование: пренебре-
гая благополучием во имя знаний, они не ухудшали и без того худое, но
улучшали лучшее в себе. Поэтому смешно слушать, когда они говорят,
будто единственно любовь придала их мыслям необыкновенную силу.
Но ты прав, в этой стране все, независимо от своего положения, любят
предаваться забавам ума, и не поверишь, как рано наши дети приобща-
ются к поэзии. Короче говоря, у нас не в диковинку, если люди низкого
сословия сочиняют песни и диалоги в стихах, побуждаемые к этому лю-
бовью или долгой мирной жизнью, и их мастерство оттачивается опы-
том и соперничеством. Нет ничего удивительного в том, что даже шут
Дамет придумывает иногда удачные рифмы, достойные лучших умов:
в этом пастухи превосходят остальных, имея преимущества, ибо на
1 Гомер описывает царей и героев в «Илиаде» как «пастухов народа»
46
жизнь они зарабатывают, ухаживая за животными, и у них есть свобода,
нянька поэзии. Однако наши пастухи, я слышал, не такие, как в других
странах, ведь они хозяева овец, за которыми присматривают, призывая
на помощь лишь своих детей. По правде говоря, стоит двум или трем
из них встретиться, и, слушая их где-нибудь поддеревом или на берегу
реки, можно получить удовольствие, внимая сельской музе, так чарую-
ще она умеет передать и радость, и печаль, и даже перебранку соперни-
ков, и в скрытой форме высказать то, что они не посмели бы выложить
напрямую. Кроме того, обычно присутствует кто-то, вручающий приз
победителю, и он радуется не меньше, чем великий царь своим триум-
фам; но ему вменяется в обязанность записать все, им сказанное, разве
что бывает, перу требуется время, чтобы сгладить грубость импрови-
зации.
Итак, теперь тебе понятно, что у царя большой выбор и в хороших
голосах и в славных головах: есть и два-три чужеземца, которые, впав
в меланхолию и наскучив придворной жизнью, решили провести оста-
ток жизни в Аркадии; и если о талантах селян отзываются с похвалой,
царь удостаивает их своим посещением, и не только лицезрением себя,
но также любезностью и щедростью воодушевляет пастухов работать еще
лучше, чтобы нравиться ему. У нас нет причин корить царя за то, что он
время от времени слушает пастухов, укора заслуживает то, что теперь
он внимает им в уединении, тогда как прежде устраивал многолюдные
праздники. Также я не обвиняю моего господина в том, что он прибли-
зил к себе селянина, то есть Дамета, следуя завету Господа, но ведь пастух
должен быть достоин этого — есть много достойных среди малых мира
сего, — внешняя малость не препятствует внутренней силе; но он выбрал
человека, чей неразвитый ум в тысячу раз хуже неразвитой плоти, кото-
рой была уготована низкая участь; хотя, если рассуждать, как рассужда-
ет царь, то он более доверяет невежественному простосердечию, нежели
великой учености, будучи сам главным пастырем; и все же честные люди
понимают, доверие их господина переходит все границы. Однако, как
всегда, я слишком многословен, стоит мне заговорить о царе, а по башен-
ной тени видно, что наступило время ужина и нам пора исполнить долг
перед желудком. Хватит мне сотрясать воздух своими россказнями: надо
бы поучиться у Гомера, которого ты помянул, никогда не забавлять гостей
или хозяев долгими рассуждениями на голодный желудок.
С этими словами Каландер встал и повел Палладия обратно через сад
в дом и в ту залу, где они обычно ужинали; и Палладий заверил старика,
что на его вкус его кормят куда лучше, чем это могли бы делать самые
искусные повара Мидии1.
1 Мидия — страна на юго-западном побережье Каспийского моря. Мидийцы
были известны роскошной жизнью.
Глава пятая
Когда они вошли в залу, один из слуг что-то шепнул Каландеру на
ухо, отчего тот переменился в лице и удалился в свои покои, приказав
всем усердно служить Палладию и оправдывать свое отсутствие срочны-
ми делами, что слуги и делали, несколько дней принуждая себя скрывать
несчастье; но, хотя притворялись они весьма искусно, Палладий догадал-
ся о беде. В очередной раз оказавшись один за ужином, он призвал к себе
управителя и потребовал объяснить, с чем связана неожиданная перемена:
после недолгих отнекиваний управитель признался, что его хозяин полу-
чил известие о своем сыне. Накануне свадьбы произошло сражение меж-
ду знатными спартиатами1 и илотами, которые одержали победу и взяли
его в плен, когда он сам пытался освободить из плена друга. Несчастный
юноша обещал за себя богатый выкуп, однако ненависть крестьян к го-
сподам в Спарте такова, что каждый лишний час грозит ему жестокой
смертью и до сих пор он жив лишь благодаря стараниям предводителя,
в сердце которого как будто больше жалости, чем в сердцах всех осталь-
ных. Эта беда ввергла старого хозяина в такое отчаяние, что потоки про-
ливаемых им слез лишь малое тому свидетельство; он не выходит из своих
покоев, рвет на себе волосы и проклинает старость, которая не упрятала
его в могилу, прежде чем его уши услышали подобное. Преданные слуги
написали от его имени письма всем его друзьям, приятелям и арендаторам
(правитель Филанакс отказался от участия в освобождении сына хозяина,
ибо речь идет о частном лице, однако разрешил искать любые способы
уладить дело, правда, при одном условии: не портить отношения Аркадии
со Спартой), из которых на границе собралось немалое воинство, готовое
положить жизнь ради освобождения Клитофона или мщения за него.
— Господин, — сказал управитель, — такой у моего хозяина характер;
горем стала его жизнь, и даже его разум помрачился от горя, но обычаи
гостеприимства (которые он всегда свято чтит) столь властны над ним,
что он ни в коем случае не опечалил бы своим горем гостя, нашедшего
приют под его крышей, тем более тебя, ибо не знаю, что в нем сильнее:
любовь к тебе или восхищение тобой.
Палладию понадобилось все его терпение, чтобы дослушать до конца
рассказ управляющего, так как его сердце разрывалось между сострада-
нием к Каландеру и преклонением перед его благородством, благодар-
ностью за заботу и желанием найти выход из беды, но при этом он ни на
мгновение не забывал и о своем друге Даифанте, обреченном, как он ду-
мал, на такую же или еще худшую участь. Итак, встав из-за стола, он по-
просил управителя рассказать подробнее о событиях в Аркадии и Спарте,
1 Спартиаты и илоты — жители Спарты (она же Лакония, Лакедемон). Спар-
тиаты — полноправные граждане Спарты. Илоты, как было упомянуто выше, —
земледельцы, собственность государства.
48
ибо это могло облегчить ему поиски спасительного выхода. Управитель
с готовностью согласился.
— Мой господин, — проговорил он, — когда наш добрый король
Базилий с гораздо большим успехом, чем ожидалось, если вспомнить
о его более чем зрелых летах, посватался к юной и прекрасной принцессе
Гинесии, то с нею приехал в Аркадию молодой господин, ее немецкий
кузен по имени Аргал, которого привели сюда отчасти любовь и уважение
знатной родственницы, отчасти юная блажь, потому что молодые люди
всегда думают, будто хорошо только там, где их нет. При дворе он сумел
многому научиться, а спустя несколько лет явил такой благородный ум,
что Аркадия стала гордиться славным деревом, пересаженным на ее зем-
лю, ибо он достиг редкого совершенства в делах и знаниях, но не был
тщеславен; был хорошим другом и избегал притворства; был храбр, и, на-
сколько мне известно, ни один муж на земле не совершил больше под-
вигов, чем он, правда, не очень давно до нас дошли слухи о двух прослав-
ленных царевичах из Фессалии и Македонии, да еще издавна прославлен
в наших краях благородный царевич Амфиал, который один мог сопер-
ничать с Аргалом. Тем не менее я думаю, доблестью ума и ловкостью тела
никто не мог бы превзойти Аргала; к тому же, будучи храбрее всех, он
никогда не позволял себе никого обидеть: с виду он был, как говорят, пе-
чален или скорее задумчив, расположен к размышлениям, но не позволял
себе неучтивости; мысль всегда предшествовала у него слову, и действие
следовало за словом; он был скорее щедр, нежели расточителен, хотя
одно получалось само собой, а другое — по его доброму выбору. Короче
говоря (полагаю, что легко увлекаюсь восхвалением человека, которого
не только я, но все жители Аркадии очень любили), таким был и, наде-
юсь, есть Аргал, на котором даже самый придирчивый взгляд не отыщет
ни пятнышка, если только пламенное постоянство его доселе невинной
любви не будет превратно истолковано как пятно: с любви началось все
то, что прославило и его, и ее тоже, по всей стране.
Клитофон, сын моего хозяина (пленение которого побудило меня
к этому рассказу, но сначала к рассказу об Аргале, поскольку его плене-
ние связано с Аргалом), будучи юношей знатного происхождения, сыном
сестры нашего царя, и юношей благородным, который умеет распознать
благородство и оценить его, предпочитал общество достойного Аргала
всякому другому; и если их отношения не были дружбой (столь редко
встречающейся, что, возможно, ее нет на самом деле и она существует
только на словах), то, по крайней мере, в них были и симпатия и друже-
любие, и они привели к последствиям, о которых я расскажу тебе. Года
два назад случилось так, что Клитофон ввел Аргала в дом знатной дамы,
сестры моего хозяина, у которой была единственная дочь, прекрасная
Парфения; она на самом деле прекрасна (вряд ли молва может назвать
кого-нибудь прекраснее нее, разве что Елену, королеву Коринфскую,
и несравненных царевен Аркадии) и еще прекраснее оттого, что ее красо-
та — вестница прекрасных мыслей; Парфения разумна, и ее разуму более
свойственно судить себя, чем выставлять напоказ: ее речи столь же редки,
4 Заказ 1414
49
сколь драгоценны, в ее молчании нет ничего гнетущего, она скромна без
самолюбования и робка не из-за невежества: в общем, тот, кто собирает-
ся вознести ей хвалы, должен сначала уразуметь, что совершенство есть,
и это совершенство — она.
Полагаю, ты уже догадался, что, встретившись, два совершенства,
не могли не обрадоваться встрече и не обрадоваться друг другу, ибо на-
туры, похожие внешне и внутренне, согласно логике, притягиваются друг
к другу любовью; и не всегда поступки людей противоречат логике. Так и
случилось. Аргал и Парфения полюбили друг друга, хотя через некоторое
время (у надежды не было крыльев) пламя должно было погаснуть, за-
дутое отчаянием.
Намного раньше поклонником этой госпожи стал — и оставался —
знатный господин из Лаконии, ближайший сосед по имени Демагор,
очень богатый, очень могущественный и очень гордый человек, неодо-
лимо упрямый и любящий только себя, да еще, из прихоти, Парфению:
он упорно преследовал ее своей страстью, а его богатства настолько позо-
лотили его недостатки, что старая дама, вопреки мнению моего господи-
на и ее брата, дала согласие на брак, после чего, употребив материнскую
власть, заставила прекрасную дочь покориться своей воле, и та покори-
лась, но не потому, что ей понравился выбор матери, а потому, что ее по-
корный разум не посмел сделать свой выбор. Роковой день был близок,
когда мой молодой хозяин Клитофон, возможно, специально привез
благородного Аргала, чтобы познакомить его с редкой красавицей, какой
всеобщим суждением была признана Парфения.
И хотя до свадьбы оставалось всего несколько дней, бог любви, по-
няв, что ему предстоит одолеть большой путь за короткий срок, так за-
торопился, что Парфения, не успев связать себя словом с Демагором, от-
дала свое сердце Аргалу и получила в ответ столь благодарное признание
в любви, что если Парфения превыше всего желала принадлежать Аргалу,
то Аргал превыше всего боялся потерять Парфению. Ну вот, Парфения
узнала приязнь и неприязнь, любовь и ненависть, страсть научила ее при-
нимать решения, и когда пришло время гордому своей радостью Демагору
принять ее дар, она без колебаний отказала ему, хотя и со слезами, сви-
детельствовавшими, что ей нелегко дался этот отказ, а своей матери она
заявила, что скорее ляжет в могилу, чем станет женой Демагора. Эта пере-
мена была столь же неожиданной, сколь и неприятной для матери, кото-
рая, будучи решительно (знатной даме не подходит слово «своенравно»)
настроена выдать свою дочь замуж за Демагора, испробовала все сред-
ства, доступные умной и жестокосердной матери, против робкой дочери,
для которой единственной опорой была ее любовь. Но чем яростнее на-
падала мать, тем упорнее защищалась дочь, и чем упорнее защищалась
дочь, тем яростнее нападала мать, пока не поняла, что между Парфенией
и Демагором стоит Аргал, поглощавший лучи любви, которые должны
были предназначаться Демагору, и она стала искать способы отворотить
его от своей дочери, но добилась лишь того, что он объявил себя верным
поклонником Парфении. Для начала она послала его на опасные подвиги,
50
как некогда злая мачеха Юнона1 поступила со знаменитым Гераклом.
Но чем дольше сестра Каландера испытывала добродетели Аргала, тем
безупречнее он становился, пока все, что она делала, желая унизить его,
не вознесло его так высоко, что это должно было бы тронуть ее сердце,
тем паче речь шла о достойном во всех отношениях Аргале, но она на-
перекор здравому смыслу продолжала бороться, желая настоять на своем
и доказать свою власть, отдав Демагору единственную дочь; чем больше
достоинств выказывал Аргал, тем сильнее она ненавидела его, считая
себя побежденной его победами; оттого вновь и вновь посылала его на-
встречу опасностям. А пока он отсутствовал, она отчаянно сражалась со
своей прекрасной дочерью, стараясь склонить ее на свою сторону. Трудно
сказать, кто из них — Аргал в своих деяниях или Парфения в своем стра-
дании — выказал большее постоянство; скорее на земле не стало бы опас-
ностей, чем храбрость изменила бы Аргалу, и скорее на земле не стало бы
зла, чем Парфении изменило бы терпение. В конце концов, старая дама
и Демагор предательством избавились бы от Аргала, но пока провидение
И мужество помогало ему одолевать опасности; и мать Парфении впала
в такое злобное отчаяние, что у нее разорвалось сердце, и она умерла.
Тогда Демагор, сообразив, что Парфения, став сама себе хозяйкой,
не будет принадлежать ему, тем более она прямо об этом сказала, и не
столько желая счастья себе, сколько завидуя Аргалу, которого он даже
с закрытыми глазами видел жаждущим насладиться предназначавшим-
ся ему совершенством, и разжигая свой разум злыми доводами, на ко-
торые только и способны отвергнутая любовь и завистливая гордыня,
подлый негодяй (воспользовавшись отсутствием Аргала, который, по-
лучив радостное согласие Парфении, отправился в свою страну пригла-
сить близких друзей на свадьбу), так вот, подлый Демагор, якобы желая
поговорить с Парфенией, безжалостно (она напрасно сопротивлялась,
отталкивая его слабыми руками) намазал ей лицо страшным ядом, от-
чего она стала уродливее любого прокаженного. Совершив это злодея-
ние, Демагор кликнул своих людей, ждавших его наготове с лошадьми,
и умчался восвояси, несмотря на преследование слуг Парфении, мечтав-
ших отомстить за нее. Когда слух о мерзком преступлении достиг ушей
моего хозяина Каландера, он предпринял такие меры при посредниче-
стве нашего царя, что царь и сенат Спарты под страхом смерти приказали
Демагору покинуть страну. Вот тогда-то, возненавидевший своих судей,
но не возненавидевший свое преступление, вместе со своими сторонни-
ками он примкнул к поднявшим восстание илотам: а они, обрадовавшись
появлению среди них человека столь высокого ранга, сделали его своим
предводителем, после чего принялись совершать самые ужасные престу-
пления, какие под силу измыслить лишь горящему мщением плебейско-
му сообществу.
Через некоторое время после того, как случилась беда, возвратился
Аргал, несчастный господин, хранивший в своем сердце прекрасный
1 Геракл — сын Юпитера и Алкмены.
4*
51
облик Парфении и уже обещавший своим глазам величайшее наслажде-
ние, и они (никто не посмел сообщить ему печальную весть) стали пер-
выми вестниками случившегося. Я не собираюсь тревожить твои чувства
рассказом о горе обоих, когда он узнал ее, потому что это произошло
не сразу; и в первую минуту даже пришедшая на помощь добродетель
не удержала его от еле слышной жалобы из-за потери сокровища, тем
более что искусные лекари признали увечье безнадежным. Но вскоре
истинная любовь (сохранившая в его памяти ее лицо), добродетельное
постоянство, даже удовольствие от сознания своего постоянства, данное
им слово, душевная чистота, своим светом пробивающая самый смрад-
ные туманы, сделали свое доброе дело, и благородный Аргал не только
утешением, которое своими мудрыми доводами противостоит напастям,
но и безмерной добротой, на какую только способен муж, ослепленный
любовью, постарался облегчить страдания Парфении и приблизить день
свадьбы: он искренне радовался будущему, как если бы Парфения не
была частично лишена того, чем ее щедро одарила природа; по этой же
причине он отложил задуманную месть Демагору, желая постоянно быть
рядом с невестой, еще покорнее служить ей и показывать свою любовь,
чтобы сделать ее счастливее прежнего.
Но, в то время как он демонстрировал редкий пример верности (недо-
ступный никому, кроме разве второго Аргала), другая сторона, Парфения,
решила поступить странным для влюбленных образом. Несмотря на то
что она желала наслаждаться любовью Аргала даже больше, чем самой
жизнью, она пошла против своего и его желания и ни под каким предло-
гом не соглашалась стать его женой — странное противоречие любовной
страсти и любовной напасти: он, плененный несравненной красотой,
мечтал об уродливой жене, а она, страстно желавшая соединить с ним
жизнь, из любви к нему решительно отвергала его; суть в том, что, любя
его всем сердцем, она всем сердцем восставала против неразрывных уз,
которыми он привязывал себя к недостойной жене.
Воистину, господин, даже самый искусный оратор мог бы обогатить
свой словарь, лишь повторив жалобные страстные речи Аргала, когда он
заклинал Парфению памятью о прежней любви и данных ими клятвах
не делать его еще несчастнее при мысли, что, потеряв ее лицо, он по-
терял еще и ее сердце; ведь ее лицо, когда оно было прекрасным, все-
го лишь исполнило роль обер-церемониймейстера, поселившего в его
мыслях любовь к ней, которая теперь прочно обосновалась там и больше
не требует посредника; со слезами на глазах он умолял ее поверить в его
любовь, которая не столь поверхностна, чтобы не пойти дальше нежно-
го облика, хотя и теперь ее облик кажется ему прекрасным, потому что
это ее облик: он не может быть неблагодарным и любить ее меньше из-за
страданий, пережитых ею по его вине; да он и не замечает ничего, кроме
открывшейся ему красоты ее любви; он доказывал ей, что не будет знать
радости в жизни, если разлучится с нею, потому что жизнь без нее ему
не нужна. Однако (как я слышал от того, кто подслушал их) она, сжав
его руку, твердила лишь одно: «Мой господин, — говорила она, — одному
52
богу ведомо, как я люблю тебя. Будь я дочерью властителя всей земли и
владей всеми земными дарами, я бы тотчас принесла себя вместе с ними
к твоим ногам; даже будь я такой, какой была прежде, должна признать-
ся, недостойной тебя, все же (с превеликой радостью о какой и помыс-
лить невозможно) я приняла бы твое предложение и с преданностью
и послушанием постаралась исправить все свои недостатки. Однако я
согласна стать еще несчастнее, чем теперь, но не отдам Аргалу в жены
теперешнюю Парфению. Живи беззаботно, милый Аргал, я возвращаю
тебе свободу и умоляю принять ее; уверяю тебя, я буду рада (как бы ни
сложилась моя жизнь) видеть рядом с тобой жену, достойную тебя и тво-
ей любви». Тут она расплакалась, не в силах больше сдерживать чувства,
проклиная свою судьбу и зовя смерть.
Но поскольку Аргал, как бы ни было тяжело у него на душе, продол-
жал упорствовать в своем желании, Парфения твердо решила избежать
дальнейших споров, сбежав ото всех, потому что даже его общество все
более тяготило ее. Однажды ночью она исчезла, и до сих пор неизвестно,
где она и что с нею сталось.
Аргал долго искал ее, искал повсюду, и наконец (когда он отчаял-
ся найти ее, а чем сильнее было его отчаяние, тем сильнее была его
ярость), устав от такой жизни, решил первым дело отомстить Демагору,
для чего переоделся, чтобы его не узнали, и один отправился в глав-
ный город восставших илотов, а там, оказавшись рядом с Демагором,
охраняемым множеством воинов, не пожелал сдержать свою ярость, до-
ждавшись более удобного часа, а обрушил ее на злодея, невзирая на ве-
ликое множество заступников, нанес ему не одну смертельную рану, за
что сам (понятное дело) был бы тут же убит, если бы Демагор не даровал
ему жизнь, вероятно, чтобы усладить себя зрелищем жестокой казни.
Но смерть явилась к Демагору раньше, нежели он рассчитывал, хотя он
успел назначить своим преемником юношу, незадолго до того освобож-
денного из тюрьмы спартанского царя, где он дожидался казни за убий-
ство царского племянника: его Демагор назвал своим преемником, хотя
в тот момент юноши, совершавшего набеги на поместья спартиатов, не
было рядом. Илоты, которые были с ним и успели его полюбить (глав-
ным образом, потому, что не было среди них никого, кому подчинились
бы и другие илоты тоже), согласились с выбором Демагора. Таким об-
разом, получив поддержку самых юных, он стал вершителем их воли;
а вспомнил я о нем потому, что он сохранил Аргалу жизнь под предло-
гом публичной и мучительной казни, которую он якобы придумает для
него после окончания военных действий, по их убеждению, скорого и
благополучного.
Точно также он сохранил жизнь и моему молодому хозяину Кли-
тофону, который, желая помочь другу, отправился вместе с другими бла-
городными юношами Лаконии и собранным ими войском сражаться
против юного наследника Демагора; однако тот, ко всеобщему удивле-
нию, разбил лаконийцев, лишил жизни многих благородных юношей и
взял в плен Клитофона, которому теперь с большим трудом сохраняет
53
жизнь, ибо илоты склонны к отвратительной жестокости. Тем не менее
пока ему удается укрощать их, то соглашаясь с ними, то опровергая их до-
воды, и до сих пор оба пленника живы, правда Аргал содержится со всей
строгостью в тюрьме, тогда как Клитофон пользуется относительной
свободой. Увы, господин, мы не можем быть уверены в их безопасности
(сказать по правде), пока они в руках илотов, но я рассказал тебе все, что
сам знаю о горе моего господина: и пусть несчастье с Клитофоном случи-
лось совсем недавно, думаю, оно не оставило тебя равнодушным своей
необычностью.
Глава шестая
Палладий горячо поблагодарил управителя. Его самым искренним
образом тронуло то, что случилось с прославленным на весь мир рыцарем
Аргалом, с которым он сам давно мечтал встретиться, ибо слава Аргала
подвигла его на благородное соперничество с ним.
Обдумав услышанное, Палладий попросил принести рыцарские
доспехи, а также дать коня и провожатого, после чего, облачившись
в доспехи, но с непокрытой головой, явился к Калландеру, который ле-
жал на земле, отвергая сон и пищу как заклятых врагов своей скорби,
убеждавшей его в разумности его поведения.
Палладий помог ему подняться.
— Полно, полно, господин Каландер, — сказал он. — Сначала надо
сделать все возможное, а уж потом давать волю слезам. Тебе ведомо
о моей потере, и, хотя я печалюсь не о сыне, поверь, я бы тоже с радостью
отдал жизнь за друга, но пока остается надежда, жалкая печаль не должна
отбирать у нее силы. Воспрянь духом, и удача не обманет тебя.
От этих слов Палладия у Каландера загорелись глаза, и уверенность
в победе изменила выражение его лица и осанку. Ожив душой, он под-
крепился, отдохнул, облачился в доспехи, вооружил своих слуг и сам по-
вел Палладия на то место возле границы, где уже собрались три или че-
тыре тысячи человек, готовых ради него встретиться лицом к лицу с лю-
бой опасностью; но поскольку они долго наслаждались мирной жизнью,
то скорее хотели драться, нежели умели драться, хотя и были крепки
телом, бравы духом и смелы, однако более из презрения к врагу, кото-
рого не знали, чем из разумной уверенности в себе; к тому же, как заме-
тил Палладий, все они отличались неловкостью во владении оружием,
не умели ходить строем и становиться лагерем. Быстро разобравшись,
с кем он имеет дело, Палладий решил получше познакомиться (насколько
возможно) с сословием илотов.
Один из тех, кто был хорошо осведомлен в делах Лаконии, рассказал
ему, что предками илотов были люди свободные и состоятельные, кото-
рых спартиаты покорили, обложили данью да еще сделали рабами, что
илоты долго терпели, вплоть до недавнего времени, пока спартиаты не
стали из жадности притеснять их вовсе невыносимо, не удосужившись
из презрения к своим рабам побеспокоиться о мерах безопасности. Тогда
илоты все как один (из-за общей беды, а не в результате искусного науще-
ния) вооружились и двинулись в поход, разжигая в себе храбрость жаждой
мщения и отчаянием укрепляя решимость. Им сопутствовала неожидан-
ная удача, они занимали города и замки, убивали знатных господ, муж-
чин и женщин, стариков и детей. И если вначале они побеждали, потому
что бились скорее по-звериному яростно, нежели по-солдатски искусно,
то теперь не уступали лучшим воинам Спарты, и чем больше проходило
времени, тем больше они преуспевали, отчасти благодаря примкнувшему
55
к ним знатному Демагору, а потом, после его смерти, другому предво-
дителю, который разумным правлением умножил их знания, усмирил
их ярость и с такой храбростью водил их в бой (как в тот раз, когда был
пленен Клитофон), что они постоянно побеждали. Правителям Спарты
ничего не оставалось, как на разумных и почетных условиях предложить
илотам мирный договор. Итак, Палладий получил общее представление
о будущем противнике, как прежде о тех людях, с которыми ему предсто-
яло вместе идти в бой, после чего он вернулся к Каландеру и без обиняков
объявил ему, что одной силой вряд ли удастся помочь Клитофону, поэто-
му надо измыслить нечто такое, в чем хитроумие играло бы не меньшую
роль, чем воинская доблесть.
На военном совете, который был немедленно созван, Палладий
(имевший некоторый опыт, но в основном знакомый с военными хи-
тростями, благодаря прочитанным историческим книгам) сделал пред-
ложение, которое было всеми одобрено: воинов надлежало одеть как са-
мых бедных жителей Аркадии, чтобы они шли в Лаконию без знамен, но
с окровавленными рубашками на длинных шестах, со старыми волынка-
ми вместо барабанов и флейт и с якобы припрятанным, проржавевшим и
неприглядным оружием; это касалось всех, за исключением двухсот са-
мых сильных и храбрых, из которых одним был Палладий: они должны
были разместиться на телегах, словно пленники со связанными руками.
Сказано — сделано. Процессия двинулась в сторону города Карда-
милы, где томился Клитофон. Часа за два до захода солнца показались
городские стены, и, дав илотам время подсчитать количество людей и
поднять тревогу, Палладий послал к ним ловкого малого (тем более лов-
кого, что он умел скрывать свою ловкость под маской грубости), кото-
рый, призвав на помощь такую риторику, что избавлена от всех цветов
риторики, рассказал окружившим его илотам, мол, перед ними селяне
Аркадии, притесняемые своими хозяевами не меньше илотов и не мень-
ше илотов жаждущие свободы, отчего они решились выйти на поле битвы
и уже многих потеряли убитыми, но взяли в плен сотни две господ, кото-
рых надежно связали и держат при себе. Однако пока у них нет надежного
пристанища в Аркадии и людей у них не так много, чтобы противостоять
царскому войску, поэтому-де они пришли сюда; тем не менее они увере-
ны, что их войско будет с каждым днем увеличиваться, но это в будущем,
а пока, опасаясь своего царя, царя Спарты и знати, у которых одинаковые
беды, они хотели бы, если в городе тесно, разбить лагерь за городской
стеной, а пленников для верности (поскольку они могут оказаться полез-
ными) оставить в городе.
Илоты обрадовались своему влиянию на Аркадию и, коротко посо-
вещавшись, решили, что если им не удастся заключить мир с царем, то
нет ничего лучше, как зажечь огнем всю Грецию; да и жадность сыграла
свою роль, ибо они могли заполучить много богатых господ и поживиться
за их счет. Помимо этого, скорому решению способствовали два обстоя-
тельства: первое — их предводитель вместе с самыми мудрыми илотами
отсутствовал, ведя мирные переговоры с царем Спарты, и второе — не-
56
считаное богатство уже начало пробуждать в илотах высокомерную бес-
печность. Итак, осмотрев лагерь и убедившись по говору, что пришедшие,
в самом деле, аркадцы, с которыми они не воевали, илоты даже подумать
не могли, что несчастье одного человека объединило такое множество
людей, которые, кстати, по своему виду явно принадлежали к низшему
сословию (кроме господ с цепями на руках и ногах) и впустили в город не
только пленников, но и кое-кого из бедняцкого воинства, а остальным
разрешили встать лагерем за городской стеной. Отворились ворота, теле-
ги въехали внутрь, и Палладий, решив, что настало удобное время, по-
дал знак, после чего сидевшие в телегах сбросили с себя цепи (сделанные
столь искусно, что казались тяжелыми и прочными, а на самом деле тот,
кто нес их, мог легко от них освободиться) и, вытащив спрятанные в теле-
гах мечи, с яростью набросились на стражников, так что те или бежали
прочь, или уже не могли бежать; потом городские ворота вновь распах-
нулись и, прежде чем илоты опомнились, все аркадское войско оказалось
в Кардамиле.
Закаленные в опасностях, илоты собрались на рыночной площади и
здесь могли бы принять гостей как следует, но Палладий (браня отстав-
ших, подбадривая вырвавшихся вперед и, самое главное, воодушевляя
всех собственным примером) с такой стремительностью принялся тес-
нить их ряды, что многие сперва задрожали от страха, а потом поручили
ногам защиту своих тел. Каландер крикнул, чтобы все поспешили к тюрь-
ме, где, как он думал, держали его сына, но Палладий решил прежде очи-
стить улицы, разогнать илотов по домам и завладеть городскими воротами.
Однако из этого ничего не вышло, потому что илоты будто обрели
второе дыхание и начали стрелять из-за углов, из окон, с крыш. Причиной
этого было возвращение их предводителя, который, хотя и не всех при-
вел обратно (оставив большинство присматривать за порядком в других
местах), встретил толпы илотов, не схваченных аркадцами, но бежавших
за городские ворота, заставил их повернуть обратно, поднять знамена и
громко заиграть на трубе, подавая знак о его прибытии, и оставшиеся
в живых илоты, заслышав трубу, с вновь обретенной решимостью по-
шли на врага, словно их предводитель был корнем, поившим храбростью
крону. Вот тут-то и началось жестокое и упорное сражение: аркадцы за-
щищали то, что успели захватить, илоты стремились вернуть то, что поте-
ряли, первые — в чужом доме, не ожидая ничьей помощи и рассчитывая
только на себя, вторые — у себя дома, сражаясь за свою жизнь, за своих
жен и детей. Победа и храбрость против мести и отчаяния; и лишь гибель
одних могла сохранить жизнь другим.
В конце концов левое крыло аркадского войска стало поддаваться на-
тиску противника, и Палладий, заметив это, со своими особо доверен-
ными людьми бросился на подмогу, являя такую храбрость, что предво-
дитель илотов (его взгляд быстро отыскал того, кто руководил сражением
с вражеской стороны) сразу понял, этот воин — один — стоит всего вой-
ска, и залюбовался им, так что трудно было сказать, то ли он радуется его
искусству, то ли огорчается плодами его искусства. Решив, что в поединке
57
с этим воином решится исход битвы, и, не желая мериться силами ни
с кем другим, он стал пробиваться к Палладию. И точно так же размышлял
Палладий, который быстро определил, кто вдохновляет его противников.
Им было легко понять друг друга, и они (не договариваясь) решили испы-
тать счастье друг друга: подальше отойдя от толпы, они начали поединок,
который был настолько же тише и малочисленнее главного сражения,
насколько превосходил его доблестью и, так сказать, упоительной оже-
сточенностью. Их храбростью руководило искусство, а искусство было
вооружено храбростью; воинственный пыл не мрачил им рассудок, и рас-
судок не охлаждал воинственный пыл; оба воина были храбры, ибо пре-
зирали смерть; оба были уверены в себе, ибо не привыкли к поражениям;
оба были смущены своими чувствами и почтительны к противнику: оба
твердо стояли на земле, безошибочно действовали руками, замечали все
и не давали воли душевной смуте. Обоим были отлично известны слабые
и незащищенные места в доспехах, и они часто подвергали их безжалост-
ным нападениям, получая в ответ столь же быстрые и неприятные уда-
ры. Боль усиливала ярость, ярость — боль, и так до тех пор, пока у обоих
противников не стало мутиться в голове: они уже смирились со смертью
и не старались ни выжить, ни победить, как вдруг предводитель илотов
с силой, порожденной яростью, ударил Палладия по шлему, так что он,
изумленный, зашатался, не замечая потери, но аркадские воины были го-
товы заслонить своего военачальника от грозившей ему опасности.
Однако этого не потребовалось, потому что противник Палладия,
вместо того чтобы воспользоваться удачей, упал на колени и подал ему
меч в знак поражения, громко крича, что предпочитает быть его добро-
вольным пленником, нежели чьим— либо вождем. Палладий же, пред-
видя искусную уловку, выжидал, собираясь в любое мгновение продол-
жить поединок, а илоты, сгрудившиеся за спиной своего предводителя,
не знали, что подумать: пытались разгадать его замысел или обвиняли его
в предательстве.
— Как! — воскликнул предводитель. — Неужели Палладий забыл го-
лос Даифанта?
Услыхав заветное имя, Палладий тотчас понял, что перед ним его
единственный друг Пирокл, которого он потерял в море, и оба, удивлен-
ные странной встречей и еще более обрадованные, нежели удивленные,
развели свои воинства: Даифант — приказом, Палладий — просьбой.
Помогло же им то, что ни одно воинство не могло похвастать решитель-
ным преимуществом, илоты были растеряны из-за неслыханного и не-
виданного поведения своего предводителя, а аркадцы потеряли старого
Каландера, который, хоть и напрягал, как мог, свои немолодые силы, все
же попал в плен. Но, на самом деле, главным усмирителем стала ночь,
которая черными руками лишила зрения пылавшие злобой глаза. Что
до того воина, который пленил Каландера, то ему во что бы то ни стало
хотелось спасти жизнь пленника, пока предводитель не узнал вражеские
тайны, и он вел старого господина к себе, когда был произнесен приказ
отступить; Каландер же, не зная другого пути из неволи, как через боль,
58
освобождающую от всякой боли, вдруг увидел рядом с вождем илотов
(доблестно сражавшегося в тот день против аркадцев) не кого иного, как
своего сына Клитофона!
В это время предводитель приказал своим помощникам илотам со-
браться на совет и решить, что отвечать на ожидаемые требования ар-
кадцев. Так как храбрость Палладия (не говоря уж об отцовской любви
Каландера) была высоко оценена илотами, предводитель стал уговари-
вать их искать возможность для воссоединения отца и сына с помощью
слов, а не меча; добродетели предводителя убедили его следовать этим
путем, а рассудок (не раз оказывавший ему добрую услугу) подсказывал,
что любой другой путь опасен. Все было сказано, что полагается, да и
воины Аркадии дали понять, что пришли освободить Клитофона и обя-
зуются покинуть город, не причиняя вред горожанам, но заберут без вы-
купа и отца и сына.
Илоты все выслушали и стали думать, а Даифант тем временем убе-
дил их не медлить с согласием.
— Во-первых, — сказал он, — бой идет в вашем доме, и, если вас по-
бедят, вы потеряете все, что дорого вам в этой жизни, а если вы победи-
те, то это будет кровавая победа, к тому же без всякой выгоды для вас,
разве что потешите себя местью. Кроме того, мы настроим против себя
всю Аркадию, тогда как, используя этих людей, можем с ней дружить.
Последнее же и главное заключается в том, что царь и знать Спарты,
с которыми мы заключили выгодный мир, возможно, из-за нашего раз-
дора с Аркадией понадеются на союз с ней и разорвут подписанный нами
договор. Короче говоря, если подумать и взвесить прибыль от доброго
конца и вред от худого, мой план самый безопасный и почетный.
Веря своему предводителю и не имея, что возразить на его доводы,
илоты на все согласились. Палладий получил приказ и, забрав пленни-
ков, той же ночью, пока темнота гарантировала обеим сторонам безопас-
ность, покинул город, чтобы с наступлением утра быть далеко от города
во избежание ненужных стычек, которые могут вспыхнуть между недав-
ними врагами от случайного взгляда, слова или пустячной перепалки.
Итак, обе стороны обо всем договорились, и Каландер с Клитофоном,
Которые не могли прийти в себя от счастья, явились целовать руки и ноги
Даифанту: Клитофон успел рассказать отцу, как Даифант с риском для
себя защищал его от яростной злобы илотов; и даже в тот день, когда дол-
жен был быть заключен мир, не желая, чтобы что-нибудь случилось в его
Отсутствие, взял его с собой и дал доспехи, правда, прежде взяв с него
слово, что он будет драться на стороне илотов; так оно и случилось, ведь
Он не знал, что воюет против собственного отца.
— Это он, — сказал Клитофон, — вновь подарил мне жизнь (как отец)
и (как бог) спас от многих смертей, которые мне грозили.
Каландер со слезами радости признал (в своем освобождении тоже)
единственно заслугу Даифанта.
Однако Даифант, которому нравилось делать людям добро ради само-
го добра, а не ради благодарностей, прервал их славословия и пожелал
59
узнать, каким образом Палладий — так он назвал Музидора — оказался
вместе с Каландером и чем он занимался в последнее время. Выслушав
короткий рассказ Каландера, он передал Палладию через Клитофона,
чтобы тот не искал встречи с ним, так как он не уверен в своей власти
над мыслями илотов и не желает рисковать жизнью друга, который явил-
ся не с дружественным визитом. Пусть Палладий вернется с Каландером
в Аркадию и подождет несколько дней, а тем временем он, Даифант, по-
кинет илотов и присоединится к нему. Каландер вновь бросился целовать
руки Даифанту, радуясь обещанию и уверяя, что его дом станет священ-
ней божьего храма, если его посетит Даифант. Потом, прося прощения за
то, что не в силах освободить и Аргала тоже, Даифант поклялся умереть
или привезти его с собой (того содержали за крепкими запорами, хотя
делалось это ради его же безопасности, ибо илоты от всей души ненави-
дели его и были готовы убить в любую минуту), после чего остался один,
так как Каландер, Клитофон, Палладий и остальные воины Аркадии,
дав обещание не причинять вред илотам, зашагали к городским воротам,
унося с собой убитых и раненых, а утром вернулись в пределы Аркадии.
Глава седьмая
Со своей стороны, илоты заперли ворота, похоронили убитых, пе-
ревязали раненых, дали отдых натруженным телам, а утром, одарив-
шим всех веселым сиянием солнца, Даифант призвал их к себе и ска-
зал так:
— Сначала возблагодарим богов за то, что они спасли нас из смер-
тельного потока, хотя у нас не было причин, даже фантастических, рас-
считывать на их милость. Все было бы потеряно, не прикажи они мне
возвратиться, и нам оставалось бы только сожалеть, что, сумев завоевать,
мы не сумели удержать завоеванное. Не будь я знаком с одним из их вое-
начальников, нам не удалось бы заключить с ними мир, и нетрудно пред-
положить, что, получив подмогу либо из Аркадии, либо от нашей знати
(которая не замедлила бы извлечь для себя выгоду), они разбили бы нас
наголову, и теперь мы бы не гордились, а печалились и горевали. Однако
буря примчалась и умчалась. Ошибка, которую мы допустили, обходясь
с Клитофоном более сурово, чем заслуживали его возраст и его просту-
пок, запомнится нам надолго.
А теперь я должен рассказать вам о договоре со знатью Спарты, из
которого мы не потеряли ни одного желанного нам пункта — и насчет
ваших будущих владений, и насчет гарантий того, что вы их получите.
Отвоеванные вами города и крепости останутся у вас, с гарнизонами
или без гарнизонов, на ваше усмотрение, но при условии, что вы будете
подчиняться законам страны и платить налоги, как все прочие граждане
Спарты. Вас объявят свободными людьми с правом избирать и быть из-
бранными в магистрат. Отныне не будет ни илотов, ни спартиатов, оста-
нутся лишь граждане Спарты. Ваши дети будут учиться вместе с детьми
спартиатов, а вы, показав себя добрыми гражданами, как равные среди
равных, забудете о рабстве.
Эти условия, как вы понимаете, конец всех споров и ручательство на
будущее, ибо это не мирный договор, заключенный между вами и ними,
а мирный договор, уравнивающий вас с ними. И последнее, они предают
забвению все, что было в прошлом, и рады принять в свое сообщество
столь доблестных воинов, так что теперь вам следует подумать о мирной
жизни, коли нет более причин для войны; и если прежде вы ненавидели
вспартиатах притеснителей, то теперь полюбите в них братьев, заботьтесь
о Спарте, так как отныне она принадлежит и вам тоже, трудитесь добро-
совестно, чтобы ваши потомки не пожалели о договоре. Однако есть один
пункт, который они твердо отстаивали, и в конце концов и я, и другие
ваши посланцы с ним согласились. Мне нельзя больше оставаться с вами.
Толи у них неправильное представление о моих наклонностях и они счи-
тают меня по моим летам склонным к бунтарству, то ли сие есть условие
Царя Амикла, ведь я имел несчастье убить его племянника Юрилеона, но
как бы то ни было я согласился.
61
— А мы не согласимся! — закричали одновременно едва ли не все со-
бравшиеся илоты, внушая друг другу, что лучше решиться на самое худ-
шее, нежели потерять того, кому они обязаны своими победами.
Даифант же, обращаясь то ко всем сразу, то по очереди к самым почи-
таемым илотам, убеждал их предпочесть реальный мир иллюзорной при-
вязанности, но ничего не смог достичь, пока не поклялся, что (если спар-
тиаты нарушат договор) он вернется и вновь встанет во главе воинства.
Итак, через несколько дней, приведя в порядок дела, Даифант поки-
нул тех, кто, прощаясь с ним, плакал и целовал землю, по которой он
ступал, а через некоторое время бывшие илоты принялись возводить хра-
мы в его честь, ибо он стал для них полубогом: у них не укладывалось
в головах, что обыкновенный человек, да еще совсем юный, может быть
настолько рассудителен, не говоря уж о том, что умеет своей совершен-
ной красотой наводить на врагов смертельный ужас. Тогда же Даифант
вытребовал помилование для Аргала (поклявшегося не поднимать ору-
жие против илотов) и вывел его из узилища, после чего, взяв лишь те со-
кровища, что по праву принадлежали ему, он хотел вдвоем с Аргалом (ко-
торый всем своим видом показывал, что не считает себя свободным, пока
Парфения потеряна для него) отправиться в путь, однако толпы людей
шли с ними до границы Аркадии, где вновь принялись оплакивать раз-
луку с Даифантом. Он же, расспрашивая встречных, стал искать извест-
ный всей стране дом Каландера и обрел там любящую радость Каландера,
радостную любовь Палладия, страдальческую покорность Аргала (за ко-
торым они присматривали), благодарную услужливость Клитофона и по-
чтительное восхищение всех остальных. Открыв лицо (он сбрил бороду,
отпущенную в доказательство его мужественности), он, который совер-
шал подвиги, превосходящие возможности человека, теперь едва ли не
застенчиво озирался кругом, словно боялся чужих взглядов, это он — тот,
который был совершенно спокоен при виде ужасных картин смерти, как
будто природа ошиблась и вложила сердце Марса в тело Купидона. Те же,
кто видел его (а видели его все, кто не был лишен способности видеть),
слали взгляды быстрыми гонцами к разуму с донесением о том, что они
видели величайшего человека на земле. Подобное восхищение прежде
Даифанта вызывал лишь Палладий, но Даифант, еще более юный и толь-
ко что прибывший, привлек внимание к себе. Пока мужчины, за исклю-
чением одного несчастного Аргала, радостными взглядами выражали
Даифанту радость своих сердец, рок (который также был приглашен на
пир и должен был играть доброго приятеля) явился с приятной и неожи-
данной вестью.
Во время обеда прибыл гонец и сообщил Каландеру о том, что юная
и благородная госпожа, близкая родственница прекрасной Елены, коро-
левы Коринфа, находится недалеко от его дома и желает посетить его.
Счастливый оказанной ему честью, Каландер отправился ей навстречу,
и с ним все его достойные гости, за исключением одного Аргала, который
остался в своих покоях и ждал лишь, когда все гости разъедутся и он смо-
жет возобновить свои одинокие поиски Парфении. Увидав лицо дамы,
62
Каландер сразу подумал, что перед ним его племянница Парфения и уже
был готов по-родственному заговорить с ней, когда она печально, но твер-
до дала ему понять, что он ошибся, после чего он, устыженный, принялся
оправдываться удивительным сходством обеих дам, разве что та, кото-
рая стояла перед ним, показалась ему утонченней и изящней Парфении.
Дама согласилась с тем, что сходство, наверное, есть, недаром их уже не
раз путали. Однако уж коли судьба привела ее в дом Каландера, прежде
чем отдохнуть, она хотела бы при свидетелях поговорить с Аргалом, так
как ей известно, что он тоже гостит у Каландера. Аргал поспешил испол-
нить ее просьбу и, едва увидев ее, подумал то же, что подумал Каландер,
но в мгновение ока его радость сменилась печалью. Чтобы усмирить во-
ображение мужчин, дама сообщила, кто она и откуда, после чего загово-
рила с Аргалом:
— Господин Аргал, недавно мне пришлось стать распорядительни-
цей при коринфском дворе в отсутствие царицы Елены, и ко мне при-
шла госпожа Парфения, столь обезображенная, что, полагаю, Греции еще
не приходилось видеть подобного уродства. Прошло много дней, прежде
чем страстными клятвами и неопровержимыми доказательствами она
убедила меня, что передо мной действительно Парфения. В конце кон-
цов, когда рассеялись последние сомнения, я от всего сердца посочув-
ствовала ей в ее горе, тем более что мужчины все время так же, как вы,
говорят о нашем удивительном сходстве, и стала, как могла, заботиться
о ней, а спустя некоторое время она рассказала о своей трагической и не-
заслуженной участи и о твоем благородном постоянстве, мой господин
Аргал, ведь тот, кто не почитает постоянство, являет себя врагом добро-
детели и недостоин жить среди людей. Однако никакие заботы не смогли
залсчить рану Парфении, и спустя несколько дней она умерла, но перед
смертью умоляла меня — заклинала не искать другого мужа, кроме тебя,
потому, мол, что лишь ты один во всем мире заслуживаешь быть люби-
мым. С этими словами она надела мне на палец кольцо, чтобы я отдала
его тебе, и властью, данной ей ее любовью, приказала тебе обратить твою
любовь на меня, она сказала, что ее душа будет утешена нашим с тобой
венчанием. Итак, мой господин, хотя подобное поручение не подходит
ни моему положению, ни моей женской сути, желающей быть желанной,
все же великая награда подразумевает великий труд, поэтому я здесь, ис-
кренне влюбленная в достойного рыцаря, предлагаю тебе себя и умоляю
принять мой дар: и если благородные господа, которые слушают меня,
скажут, что это большая глупость, пусть они прибавят, что это еще и боль-
шая любовь.
Дама умолкла в ожидании ответа, и Аргал, тяжело вздыхая, словно
присутствовал на похоронах Парфении, сказал:
— Госпожа, я в неоплатном долгу перед тобой за столь же необычное,
сколь благородное предложение, но еще более я обязан тебе за ту доброту,
которую, как я понял, ты выказала госпоже Парфении (тут слезы брыз-
нули у него из глаз, но он продолжал); и если такой несчастный человек,
как я, достойный стать символом невзгод, может чем-то услужить тебе,
63
владей мной, как рабом, пока я жив, и я никогда не изменю тебе. Однако
на твое великодушное предложение, прекрасная госпожа, ведь не на-
столько я слеп, чтобы не видеть, каким счастьем ты хочешь одарить меня,
я отвечу тебе так: если бы мое сердце принадлежало мне, лишь ты по-
лучила бы его. Но оно принадлежит Парфении, даже мертвой. Для нее
родилась моя любовь, с нею она и умрет. Думаю, Парфении недолго
осталось меня ждать; если бы я любил ее только за красоту, то полюбил
бы и тебя, столь похожую на нее. Но я любил и люблю душу Парфении,
а такую любовь не возродить внешним сходством, не изгнать по приказу,
не осквернить уродством, не убить смертью.
— Неужели, — воскликнула дама, — ты опозоришь меня отказом?
— Благородная госпожа, — сказал Аргал, — не произноси жестоких
слов, ведь я недостоин твоих добродетелей; я отказываюсь от счастья, по-
тому что судьба отказала мне в единственно желанном счастье.
Едва он произнес это, как дама подбежала к нему и обняла его.
— Ах, Аргал, — прошептала она, — прими свою Парфению.
Это в самом деле была Парфения. Однако горе не позволило Аргалу
сразу поверить ей, и она поведала ему обо всем, подробно, как ушла одна,
желая умереть где-нибудь в глуши, как плакала и причитала, как царица
Елена Коринфская (которая тоже знала горе), гуляя в тех красивых ме-
стах без свиты, услыхала ее стоны и не покинула ее, пока не узнала ее
историю. Благородная царица от души пожалела Парфению и отослала ее
к своему лекарю, самому замечательному человеку на земле, в надежде,
что он поможет ей; и он совершенно излечил ее, как они видят сами, по-
сле чего, взяв с собой слуг царицы, она решила ехать домой и убедиться
сама, не забыл ли Аргал свою верную Парфению. Господа из Коринфа,
прежде молчавшие, подтвердили рассказ Парфении, и Аргал легко по-
верил в то, чего желал больше, чем десяти тысяч лет жизни; а Каландер
решил играть свадьбу в своем доме, чтобы подольше удержать при себе
дорогих гостей, к которым он относился более чем с обычным гостепри-
имством, ибо питал к ним любовь и благодарность и не упускал из вида
ни единой услуги, какую в его в силах было придумать и в его власти —
воплотить в жизнь.
Глава восьмая
Однако он понимал, что не может быть ничего лучше для двух дру-
зей, как остаться наедине; и они удалились в дом услад, где на стенах ви-
сели картины, и там Палладий рассказал другу, что, после того как они
оба покинули горящий корабль и уцепились за что-то, чтобы подольше
продержаться на воде и добраться до берега, он то ли в изнеможении
после битвы, то ли из-за переохлаждения, то ли наглотавшись соленой
воды, вдруг потерял сознание, но не выпустил из онемевших пальцев
(что свойственно всем утопающим) сундук, на котором его выбросило
на берег, где два пастуха нашли его, привели в чувство и не дали уто-
питься, когда он впал в тоску из-за своего спасения. Он напомнил другу,
как ему не удалось спасти друга с помощью рыбаков, а потом поведал
ему о пастухах, уговоривших его пойти к Каландеру, о том, как он болел
и мечтал о выздоровлении только для того, чтобы побыстрее отправить-
ся на поиски Пирокла; как Каландер с помощью своих друзей снарядил
в Мессении и послал на его поиски один или два корабля и как плене-
ние Клитофона счастливо устроило их встречу. Не преминул Музидор
с благодарностью отозваться о радушии и участливости Каландера,
после чего, поглядывая на развешенные на стенах картины, с друже-
ской откровенностью пересказал (слово в слово) все, что ему поведал
Каландер о странных событиях, происшедших в Аркадии; и это так по-
разило Пирокла, что он снова и снова просил пересказать то один, то
другой эпизод и не успокоился до тех пор, пока сам Каландер не ответил
на его вопросы.
Но сначала по просьбе Музидора, хоть и не особенно вдаваясь в по-
дробности, ибо его мысли занимали творившиеся в Аркадии странные
дела, Пирокл рассказал о том, что приключилось с ним, прежде чем они
к обоюдной радости встретились в Спарте.
— Когда, кузен, мы разделись, прыгнули в воду и поплыли к берегу,
я почувствовал, что слабею от ран и у меня не хватит сил добраться до
земли, поэтому я повернул обратно к кораблю, где ты нашел меня, ведь
я знал, если ты доберешься до берега живым, то отыщешь меня, а если
погибнешь, то и мне будет безразлично, жить или умереть, а погибать на
корабле не хуже, чем в любом другом месте. Среди вантов я отыскал свой
меч и решил, признаюсь, если уж мне суждено умереть, то надо умереть
достойно, с мечом в руке, а пока я размахивал им над головой, чтобы при-
влечь внимание рыбаков. Когда ты потерял меня из вида, я был захвачен
пиратами и отправлен ими в трюм. Они же, нимало не медля, взялись
за другой корабль и ввязались в долгий бой, в который в конце концов
вступили все до одного. Потом я услышал, как они хвалили некоего хра-
бро сражавшегося юношу, и (любовь столь же осторожна, сколь несча-
стье подозрительно) я решил, что это ты. Итак, с той самой минуты и до
нашей встречи считая тебя погибшим, я, по правде говоря, искал лишь
5 Заказ 1414
65
достойной смерти, отчего, вероятно, проявлял большую смелость, чем
в обычных обстоятельствах.
Случай проявить себя представился через два дня, ибо цари Лаконии
снарядили несколько галер под командованием племянника одного из
них, чтобы очистить море от пиратов; они встретились с нами, и наш ка-
питан, которому не хватало людей, дал оружие нескольким пленникам
с обещанием освободить тех, кто будет храбро сражаться: я тоже был
среди них; и когда нас брал на абордаж флагманский корабль, мне по-
везло убить царского племянника Юрилеона. В конце концов нас побе-
дили и мы стали пленниками, но я не думал о будущем, хотя и назвался
Даифантом, как мы с тобой, если помнишь, договорились.
Пока меня держали в тюрьме в Тинарии и из-за Юрилеона я испыты-
вал на себе особую ненависть властей, простые горожане столковались
с илотами и ночью открыли им ворота, после чего там убили всех знатных
и богатых, зато отперли двери тюрем и выпустили меня на волю; я же из
благодарности к освободителям и безразличия к жизни стал так сражаться
на их стороне, что они по невежеству напридумывали немыслимых чудес;
когда же узнали о ненависти ко мне царя спартиатов, совсем поверили
мне: их предводитель (убитый, как тебе известно, благородным Аргалом)
немало способствовал этому, так как проникся ко мне великим располо-
жением; но, помимо этого, он хотел избежать опасного соперничества,
возникшего среди илотов, и потому приблизил к себе чужестранца, а не
конкурента, — и выбрали меня (бог свидетель, не было мне радости от
этой чести!) предводителем, припомнив мне, что я был пленником пи-
ратов, а потом спартиатов, когда они захватили город. Так я оказался во
главе илотов, и удача не отвернулась от меня, подарив мне так много по-
бед, что я смог заключить выгодный для них мир как раз в тот день, когда
ты освободил Клитофона, которого я, несмотря на многие трудности, не
отдал смерти. При подписании мирного договора Амикл, царь Спарты,
стоял на том, что я должен быть лишен всех почестей и привилегий, что
было как раз вовремя (видишь, как тесно мы связаны с тобой), ибо во мне
вновь ожила надежда на то, что ты не умер, следовательно, пора отправ-
ляться на поиски. И теперь, мой милый Музидор, мы опять вместе.
Тут они вновь обнялись и поцеловались, а потом позвали Каландера,
потому что Даифанту не терпелось выслушать тот подробный рассказ,
который уже слышал Палладий, и увидеть письмо Филанакса, которое
он прочитал и отлично запомнил.
Однако до свадьбы Аргала и прекрасной Парфении оставалось всего
несколько дней, и Даифант с Палладием, продав кое-что из своих сокро-
вищ, купили себе роскошные одежды, желая оказать уважение радушно-
му хозяину, который ради них и ради жениха с невестой обставлял все
с самой возможной пышностью. Но купленная роскошь, созданное ис-
кусством великолепие, удовольствие, пробуждаемое изящными пустя-
ками, — все отступало перед красотой Парфении, жемчужины среди дев
Мантинеи, и, когда она шла в храм венчаться, ее глаза были храмом, в ко-
тором соединялись любовь и красота. Сомкнутые в скромном молчании,
66
но прелестные от природы губы, казалось, приглашали в гости всех, кто
смотрел на них; с ней заговаривали, и она в ответ едва заметно улыбалась,
ее щеки румянились и становились похожими на розы с трепещущими на
легком ветерке лепестками; а ее волосы, спускавшиеся до талии, прямо
говорили: если не справится авангард, мы уж непременно победим.
Гладя на нее, Даифант воскликнул:
— Клянусь Юпитером, отчего как красавица — так в Аркадии!
Однако Палладий словно не слышал его. Свадьба шумела несколько
дней, развлекая съехавшихся гостей все новыми и новыми забавами.
Глава девятая
Даифант заметно переменился (словно веселье становилось ему в тя-
гость, а невинные развлечения его оскорбляли), он все время искал уеди-
нения и, даже окруженный друзьями, был как будто далеко от них, не
слышал, если к нему обращались. Он худел, бледнел, но не обращал на
это внимания и каждый день, пораньше, удалялся в сад или в рощу, ища
одиночества, ибо с некоторых пор единственным утешением для него ста-
ло отсутствие утешителя. Палладий не мог долго не замечать этого, ибо,
искренне любя Даифанта, он должен был обратить внимание на проис-
шедшую с ним перемену, долго зная его, он попросту не мог не обратить
на нее внимания; да и сам он, с честью одолев расставленные судьбой
ловушки, страстно желал поскорее вернуться домой, так как успел пре-
сытиться жизнью в Аркадии, да и узнал, сколько было можно, о мощи
и богатстве страны, о душе народа и повелевающих им законах и понял,
что посетить двор ему не придется, поскольку он закрыт для всех, кро-
ме нескольких пастухов. Заметив же очевидную перемену в своем друге,
Палладий вознамерился сначала поговорить с ним об этом, а потом по-
спешить с отъездом, к чему его друг остался равнодушен. Как-то раз, за-
став Даифанта одного и заметив то и дело менявшееся выражение на его
лице и необычные жесты, словно он разговаривал с деревьями, Палладий
сказал ему:
— Мой милый и достойный кузен, если человека долго учили быть
добродетельным и он долго жил в соответствии с законами добродетели,
ему не очень-то легко перемениться, если только веские причины не по-
двигнут его на это, ведь, будучи свидетелем своим добрым побуждениям,
разум вряд ли захочет предать себя и за самое высокое вознаграждение.
И лицо и поведение такого человека говорят о его постоянстве, о гармо-
нии его поступков с внутренним ощущением добра под покровительством
целомудренного разума. К тебе я обращаю свои речи, мой благородный
друг Пирокл, ведь если бы я был недостаточно осведомлен о совершен-
стве твоего разума и твоей приверженности добродетели, редко видя
в других свидетельства того и другого, это была бы моя вина, нисколько
не умаляющая твоих достоинств; но я-то знаю тебя и, зная тебя, безмерно
люблю и твой разум, и твои добродетели, и тебя, Пирокл, наделенного
ими, поэтому стоит ли говорить, что с самого начала, как мы поселились
в этом доме, я замечаю в тебе не то чтобы перемену, а некоторую рассла-
бленность и пренебрежение к тому главному делу, которое ты так славно
начал и почти завершил. Даже мне, искренне тебя любящему, трудно по-
нять причину, но (оставим в стороне тайные мотивы, которые мне, давно
тебя знающему, понять легко) любому заметно, что, если прежде, куда бы
ни заносила тебя судьба, ты старательно обогащал свой разум, искал зна-
комств с людьми, сведущими в науках и военном искусстве, и наконец,
применял свои познания на деле, будучи неизменно мудрым в повсе-
68
дневных заботах и великих подвигах, то теперь ты все забросил, твой раз-
ум спит, на твоем лице тревога, в которой, конечно же, виновата не до-
бродетель, ведь добродетель подобна чистому безоблачному небу, и нако-
нец, ты отдаешь себя во власть одиночества, хитрого врага, который легче
других отвращает человека от добродетели.
Однако Пирокл был погружен в свои мысли и внимал рассуждению
своего друга не более, чем заигравшийся ребенок прислушивается к учи-
телю или опытный капитан — к разглагольствованиям пассажира во вре-
мя шторма, но все же голос возлюбленного друга запечатлелся в сердце
Пирокла, и он был удручен звучавшим в нем неодобрением, поэтому,
не сводя с Музидора виноватого взгляда, свидетельствовавшего, что он
знает о своей вине и не в силах справиться с собой, решил объясниться
и, сколько возможно, обелить себя.
— Славный Музидор, — сказал Пирокл, — судя по тем восхвалениям,
с которых ты начал свою речь, нетрудно понять, что ты любишь меня. За
что тебе было бы восхвалять меня, если бы тебя не сделала пристрастным
твоя великая любовь, но и ты не любил бы меня с таким самозабвением,
если бы не судил меня столь же великодушно, сколь незаслуженно. Но
все равно мне придется отвечать за свои несовершенства, которые, хотя
я всегда был склонен к слабости, ты прежде не замечал, а теперь, из-за
постоянного совершенствования твоего разума, заметил; так что якобы
перемена, мой милый кузен, говорит не о том, что я стал хуже, а о том, что
ты стал лучше. И все же, вдохновленный твоей похвалой, возьму на себя
смелость заметить, что не заслуживаю безоговорочного осуждения, хоть
и не всегда стремился идти по названной тобой дороге, на которой, по
твоим словам, обогащал свой разум, ибо и разум тоже, как все остальное,
должен отдыхать, чтобы не ослабеть в пути и не зачахнуть, да и знания,
как бы хороши они ни были, не могут быть единственной пищей разума.
Откуда тебе известно, что я больше не предаюсь возвышенным размыш-
лениям? По правде говоря, если я не знаю чего-то, мне становится ведома
ограниченность моих познаний, а в размышлениях я могу охватить куда
больше, чем поставляет взгляд или пустые фантазии. Вот в размышлени-
ях, да еще каких великолепных размышлениях, я и наслаждаюсь своим
одиночеством и, возможно, обязан именно одиночеству. Орлы, как нам
известно, летают в одиночку, зато овцы вечно жмутся друг к дружке. Не
осуждай меня за мой разум и не укоряй за то, что даю ему волю в своих
одиноких прогулках. Ах, милый Музидор, если я печален, то кому, как не
тебе, ведомы причины моей печали?
Пирокл внезапно умолк, словно ощутил недовольство собой, хотя его
объяснение могло бы удовлетворить кого угодно. Судя по его виду, ему
хотелось, чтобы Музидор понял его без слов, и в то же время ему хотелось
выговориться, выплеснуть из себя хотя бы часть скопившегося внутри
зла, поэтому, вновь залившись румянцем, он продолжал:
— Боже мой, разве красота здешних мест, милый кузен, недостаточ-
ное вознаграждение за проведенное якобы без пользы время? Разве ты не
видишь, как все тут словно сговорилось создать райский сад? Не видишь
69
травинок, что прекраснее изумрудов, не видишь, как они стараются пере-
расти друг дружку и все-таки стоят вровень? Не видишь прекрасные цве-
ты, из которых каждый достоин особого внимания, ведь, чтобы описать
его, может не хватить человеческой жизни? Неужели могучие деревья
не кажутся тебе прекрасными даже в их старости? И это лишь благодаря
здешним местам, где им посчастливилось вырасти и вечно красоваться
в весеннем наряде, потому что здесь красота не увядает. Разве воздух тут
не дышит здоровьем, и птицы, радующие своим нарядом и голосом, не
восхваляют его каждый день звонким пением? Да здесь даже эхо кажет-
ся совершенной музыкой. А чистые прозрачные ручьи, что медленно
скользят вдаль, не желая покидать собрание здешних совершенств; разве
их жалобы на вынужденное расставание не ласкают твой слух? Нет, нет,
кузен, в этих местах должна жить богиня, душа этого края, потому что
лишь богиня достойна поклонения среди стольких удовольствий и лишь
богине по силам создать такое совершенство на земле.
Пирокл умолк и, тяжело вздохнув, с грустью посмотрел на Музидора,
моля его не столько об оправдании, сколько о жалости.
Музидор же все это время не сводил любящего взгляда с лица Пирокла
и внимательно вслушивался в его слова, но отмечал странные несоответ-
ствия и в выражении лица Пирокла, и в его словах, которые лишь усили-
вали его сомнения и мешали вынести определенное суждение. На глаза
Пирокла то и дело наворачивались слезы, он и бледнел, и дрожал всем
телом, но нельзя было не почувствовать владевшую им великую реши-
мость, соединенную со страхом, из-за которого в его раздумьях крепло
смущение, отчего он прерывал свои речи вздохами (повторяя их чуть
ли не после каждой фразы); и его мысли (несмотря на привычные для
него словосочетания) не столько помогали друг другу, ведя к заданной
цели, сколько растворялись в закипавшей внутри страсти, — поэтому-то
Музидор облек свой ответ в такую форму, которая должна была сократить
ему путь к тайне Пирокла.
Так как Пирокл начал с защиты одиночества, то в голове Музидора
сложился ответ во славу благородных деяний, и из этого ответа было бы
ясно, что рассуждения Пирокла не более чем великолепное прикрытие
для праздности; ведь, совершая поступок, человек не только сам стано-
вится лучше, но и приносит пользу другим; разве стали бы боги вклады-
вать душу в тело с руками и ногами, на самом деле лишь орудие для со-
вершения действий, если бы не предполагали властвующую роль разума;
ибо разуму надлежит отличать добро от зла, познание которых есть един-
ственный способ умножить одно и поправить другое; и еще много дово-
дов приходило на ум Музидору, ибо необъятность темы оттачивала его
способность мыслить. Но тут он вспомнил о том, что Пирокл неумеренно
восхвалял местные красоты, и не стал ему возражать, услыхав в его словах
неподдельную страсть, а ласково обнял друга и сказал:
— Твои слова, благородный кузен, столь чарующе сплетаются в вос-
хвалении одиночества, что убедили бы и меня предаться ему, не убеди
они меня в том, что гораздо приятнее наслаждаться обществом того, кто
70
произносит их, нежели, покорившись им, проводить время в одиноче-
стве. Итак, милый Пирокл, будь по-твоему, защищай одиночество, ведь,
пока ты защищаешь его, ты не останешься один. Но меня удивили твои
неумеренные хвалы этой стране. Если честно, то здесь совсем неплохо,
но все же думаю, когда ты возвратишься в Македонию, то вспомнишь
много райских местечек, и здешние красоты уже не будут казаться тебе
небесными. Даже Темп в моей Фессалии (где ты и я, к моему великому
счастью, росли вместе) ничуть не хуже. Наверное, ты хотел показать мне,
что твой разум силен в любом предмете, но не исключено, что время от
времени ты подкармливаешь свое одиночество поэтическими образами,
ведь перья поэтов легко и вольно, словно бабочки, парят над горами,
и поэты наиболее склонны обо всем рассуждать на высокой ноте, осо-
бенно если вкладывают свои речи в уста фантастических и неразумных
созданий, которых дети и музыканты называют «влюбленными».
Слово «влюбленный» не менее подействовало на несчастного Пи-
рокла, чем правильно подобранная мелодия действует на человека, уку-
шенного тарантулом1. Он содрогнулся всем телом, после чего сердце
у него громко застучало и заплясало под музыку этого слова. Немного по-
молчав, Пирокл с трудом оторвал взгляд от земли, не решаясь посмотреть
ô глаза Музидору, и на лице у него появилось выражение, как у несчаст-
ного, представшего перед судом, когда ему нечего сказать, кроме как «ви-
новен». Пирокл спросил через силу:
—- Ах, милый кузен, что если я не поэт (вольное перо которого не зна-
ет преград), а жалкое создание его искусства?
— О, всемогущие боги, — вскричал Музидор, — не дайте моим ушам
отравиться столь ужасной вестью! Лучше бы мне не знать о низкой стра-
сти, завладевшей твоими помыслами!
Едва он произнес это, как появился Каландер и прервал беседу дру-
зей, пригласив обоих поохотиться в лесу на красавца оленя; он хотел,
чтобы они немного поразмялись и Даифант развеял заодно свою печаль.
Друзья приняли приглашение и отправились в свои покои, чтобы пере-
одеться, но Даифант, кроме того, написал несколько слов на листе бума-
ги, запечатал его и оставил в своих покоях до возвращения с охоты.
1 Считалось, что ядовитый укус тарантула может быть вылечен музыкой.
Глава десятая
Они скакали рядом, и добрый Каландер развлекал друзей приятны-
ми на слух рассуждениями о том, как он в молодости любил охоту, как
в сравнении с нею презирал домашние удовольствия, как ни разу не смог-
ло солнце (какое бы долгое путешествие ни было) опередить его, как, не-
смотря на свой суровый вид, луна до самой полуночи ни разу не помеша-
ла ему подстерегать оленей.
— Да-да, — говорил он, — нельзя дожить до моих лет, не поддержи-
вая свое дыхание упражнениями, а сердце — радостями. Если слишком
много думать, слабым становится дух, и часто бывает, что человек долго
размышляет о своих будущих делах, но ничего не делает.
Каландер не упустил случая посетовать на то, как сильно изменилась
Аркадия со времен его юности, когда человека высоко ценили за дела
и добродетели, не то что в нынешние дни. Потом он стал рассказывать
о кавалерах, которых знавал в прошлом. Время в приятной компании про-
летело быстро, и путь не показался долгим, когда они приблизились к той
части леса, где их поджидали гончие на смычке, поскуливанием выдавая
нетерпеливое желание начать охоту. Многие псы до того походили друг
на друга окрасом и статью, что их родство не вызывало сомнений. Все
в зеленом, егери напоминали детей лета; в руках они держали палки, что-
бы стучать по безвинной земле в случае, если гончая потеряет след, а на
шее у каждого висел рог, чтобы поднимать несчастную жертву. Наконец
спустили собак, и хотя олень очень скоро решил положиться на свои бы-
стрые ноги, нежели на ненадежную защиту своего жилища, но и ноги
предали его, потому что, куда бы он ни бежал, псы чуяли его запах (пере-
давали его от одного к другому, иногда надеялись на подсказку ветра,
а иногда на подсказку своих верных советчиков-егерей) и лаем объявляли
ему войну, которая уже началась; да и лай, извергаемый множеством креп-
ких глоток, всякому показался бы более или менее слаженным; а уж для
опытных охотников он был настоящей музыкой. Доверяясь своему чутью
и опыту, охотники поскакали разными тропинками, однако, подбадривая
собак криками и звуками рога, не выпускали друг друга из виду. Казалось,
сам лес принял их сторону против своих обитателей, повсюду разнося
чужой шум; и нимфа Эхо1, перестав оплакивать Нарцисса, превратилась
в охотницу. В конце концов олень, устав от жестокого гона, остановился
и со смелостью от отчаяния встал мордой к преследователям, после чего
гончие лаем известили охотников, что олень загнан, словно они вдруг ре-
шили начать переговоры.
Благодаря своему искусству управлять лошадью, Каландер был среди
первых, кто появился возле окруженного оленя; и если молодой охотник
1 Эхо полюбила Нарцисса и от мук неразделенной любви высохла так, что от
нее остался лишь голос (греч. миф.).
72
пустил бы в ход меч, он, чтобы не мучить несчастное животное, из глаз
которого текли слезы, вызванные жестокостью человека, прикончил его
из арбалета.
Когда все охотники собрались возле оленя, тушу которого честно
разделили между теми, кто его загнал, выяснилось, что нет Даифанта,
и, сколько ни расспрашивал Палладий, никто не мог ему ничего ска-
зать, разве что один охотник решил, будто Даифант возвратился домой,
ибо видел, как тот в разгар охоты свернул на боковую тропинку, что вела
к дому Каландера. Успокоившись после этого сообщения, охотники сде-
лали все, что положено, устроив похороны оленю и пир собакам, после
чего пустились в обратный путь, переговариваясь о том, какой крупный
им попался олень, какая у него была красивая голова, как хорошо обу-
чены псы, как быстро они бегают и громко лают. Однако, примерно в то
время, когда свечи приходят на смену солнцу, добравшись до дома, они и
там не нашли Даифанта. Ничего не понимая, Палладий пару дней провел
в напрасных поисках и расспросах, пока не наткнулся на письмо, кото-
рое Пирокл написал перед тем, как отправиться на охоту, и оставил среди
других бумаг в своих покоях. Письмо было адресовано Палладию и гово-
рилось в нем вот что:
«Мой единственный друг, жестокая любовь довела меня до безрас-
судства, что, узнав о ней, ты бы лишь рассердился, но не смог бы по-
мочь мне. Прости меня за то, что пришлось скрыть от тебя правду, но,
если я и обманул тебя, то из почтения к тебе. Умоляю, возвращайся
в Фессалию и будь столь же счастлив, сколь я влюблен; я же, если
останусь жив, в скором времени последую за тобой, если же умру, не
забывай обо мне».
Вот и все. Палладий перечитал послание дважды, трижды.
— Ах, Пирокл, что значит эта перемена? Разве я заслужил того, чтобы
ты бежал, оставив меня без своих советов? До сих пор я мог обвинять море,
поносить пиратов, ненавидеть злую судьбу, отнимавших тебя у меня, но
теперь ты сам — море, в котором утонул мой покой, ты сам — пираты,
которые украли тебя у меня, и твоя воля стала моей злой судьбой.
Палладий постарался припомнить все, что могло бы пролить свет
на поведение Пирокла, потому что не поверил его признанию в любви,
не в силах представить, в кого он мог влюбиться. То он винил неведо-
мую красавицу из Лаконии, из-за которой Пирокл якобы забыл все на
свете, то вдруг пугался, что совершенства Парфении заставили его дру-
га отвергнуть все прежние помыслы. Однако чем дольше он размышлял,
тем дальше был от истины, ведь любое предположение вызывало целую
армию возражений.
Палладий стал думать, что ему делать, и решил не оставлять поис-
ков, пока не найдет друга или не встретит смерть. Итак, он (несмотря
на обиду, твердо уверенный в том, что должен сохранить тайну друга)
отправился к Каландеру и заявил, будто получил от Пирокла письмо
73
с сообщением, что тот отправился обратно в Лаконию по делам тамошне-
го бедного люда, защитником которого он поклялся быть, следовательно;
и Палладию должно последовать за ним, но одному, чтобы не быть узнан-
ным, поэтому он пришел проститься с Каландером, уже облачившись
в черные доспехи под стать своим мыслям и взяв с собой достаточно де-
нег и немного драгоценностей. Большую часть одежды и украшений он
оставил Каландеру, отчасти чтобы Каландер ждал возвращения друзей и
не очень любопытствовал, отчасти чтобы достойно вознаградить его за
доброту и заботу, на которые вряд ли можно было бы рассчитывать в дру-
гом месте.
Добрый старик, не имея ни причин разубедить Палладия, ни надежды
уговорить его, принял деньги и драгоценности, с тем чтобы хранить их,
а не владеть ими, и, прежде чем проститься, все-таки выразил желание
побольше узнать о друзьях, хотя ни о чем не спрашивал их прежде, как
он сказал, боясь показаться навязчивым; однако он не мог больше оста-
ваться врагом собственного желания и держать его в путах. Палладий от-
ветил, что у него нет тайн от столь достойного друга, но прежде он должен
узнать мнение Даифанта и получить его согласие (ибо они связали себя
клятвами); тем не менее он уверил Каландера: если смерть не помеша-
ет им, он непременно удостоверится в том, что друзья, которых он знает
как Палладия и Даифанта, не обманули его доверие. Каландер не стал
настаивать, но пожелал сам сопровождать своего гостя или хотя бы по-
слать с ним сына и слуг, от чего Палладий решительно отказался под тем
предлогом, будто его дела требуют как можно меньше шума. Понимая,
что дальнейшие уговоры произведут впечатление скорее навязчивости,
нежели заботы, Каландер удержался от возражений, но не от искренних
сетований по поводу утраты приятного собеседника.
Зато Клитофону удалось страстными мольбами добиться разрешения
сопровождать Палладия, чтобы вновь встретиться с Даифантом, которого
он считал и называл своим господином. Итак, Палладий, чуть ли не тай-
ком, отправился в путь, и, хотя ему было, с кем поговорить, говорил он
без всякого удовольствия. Сначала они явились в Мантинею, потому что
там жила Парфения, ставшая, как предполагал Палладий, причиной бег-
ства Даифанта. Потом, ничего не узнав о Даифанте от Парфении, они по-
бывали в Тегее, Рипе, Эниспе, Стимфале, Фенее, знаменитом ядовитыми
водами Стикса, и в других городах Аркадии, настроив глаза, уши, язык
единственно на поиски Даифанта. Однако узнали они лишь то, что никто
ничего о нем не знал. Так они ехали из одного города в другой, мучаясь
сомнениями и не единожды попадая в странные переделки, заслуживаю-
щие быть записанными на скрижалях славы; и об одной из них нельзя не
рассказать. Путь Палладия и Клитофона пролегал по прекрасной долине
(высокие горы по обеим сторонам словно нарочно тянулись вверх, чтобы
созерцать великолепие природы внизу), где, не в силах не поддаться
окружавшему их великолепию и собственной усталости, всадники сошли
с коней и, после того как пустили их на воле пощипать травку (которая
в изобилии росла там, заботливо укрываемая тенистыми деревьями),
74
сами расположились на отдых под неумолчную музыку ручейков, сбегав-
ших с гор и соединявшихся на дне долины в полноводный поток, подоб-
но тому как это случается иногда с богатствами многих семейств.
Когда же немного погодя, прислушавшись к голосу сна, они вста-
ли, чтобы устроиться поудобнее в более тенистом месте, Клитофону по-
пался на глаза кусок доспехов, потом другой, так что в конце концов он
собрал всё, включая шлем и щит, и по изображению на щите узнал до-
спехи своего двоюродного брата, благородного Амфиала. Опасаясь, что
с Амфиалом случилась беда, Клитофон рассказал о доспехах Палладию,
который, немного подумав, решил, не задерживаясь, ехать дальше и, если
понадобится, помочь достойному рыцарю, которого людская молва ста-
вила вровень с самыми отважными рыцарями. Неожиданно ему пришла
в голову мысль, ибо он всегда с великим почтением относился к имени
Амфиала, надеть его доспехи в надежде узнать что-нибудь об их владель-
це от тех, кто их видел, и, кстати, это не должно было помешать ему в по-
исках Даифанта. Итак, с помощью Клитофона переоблачившись в чужие
доспехи, из которых даже самая малость не была утеряна, разве кое-что
оказалось погнуто, вероятно, в недавнем сражении, Палладий почувство-
вал себя вполне удобно в них, хотя они и были ему велики.
Итак, сев на коней, Палладий и Клитофон вновь отправились в путь,
но едва выехали из долины в открытое поле, как повстречались с каретой,
запряженной четверкой молочно-белых лошадей под черными седлами,
на которых восседали четыре негритенка в белых одеждах, кстати, и сама
двухцветная черно-белая карета была богато украшена. Прежде чем ры-
цари приблизились, желая узнать, кто путешествует в карете, наперерез
им выскочила дюжина всадников, громко кричавших, что они должны
признать себя пленниками или будут убиты. Не привыкший называть-
ся столь недостойно, Палладий так ответил им с помощью своего меча,
что некоторые из них навсегда перестали кричать; прикрытый со спины
Клитофоном, он сидел на великолепном коне, и, когда на него уж очень
наседали, ловко уворачивался от наседавших и поражал того, кто и поду-
мать не успевал о защите, тем самым наказывая его за вину его приятелей;
и так, то хитростью, то силой или, скорее, хитрой силой, он вскоре ни
одного из всадников не оставил живым или хотя бы способным драть-
ся. Когда дело было сделано, Палладий приблизился к карете, успокоил
чернокожих всадников, уже приготовившихся бежать, куда глаза глядят,
И, заглянув в окошко, увидел в углу даму необыкновенной красоты, такой
красоты, что сияет мудростью и добротой, но в ту минуту она была в чер-
ных тучах печали. В другом углу сидели еще две дамы (по виду служанки),
которые держали перед собой портрет приятного лицом господина (не
Знакомого Палладию) и тоже выглядели опечаленными, более того, в их
глазах блестели слезы, вызванные рыданиями госпожи.
До госпожи не долетел шум только что закончившегося сражения
(печаль накрепко перекрыла доступ к ее разуму, а любовь обратила ее
чувства на дорогой образ), но тень, упавшая на портрет, заставила ее под-
нять взгляд: она увидела хорошо знакомые доспехи и подумала, что перед
75
ней Амфиал, господин ее чувств (кровь, расхрабрившись, бросилась ей
в лицо и вновь отхлынула от него в страхе), поэтому, умоляюще глядя на
Палладия, словно невинно осужденная, она сказала:
— Мой господин Амфиал, я довольно наказана тобой. Пора тебе за-
быть о жестокости и облегчить мою долю. А если не желаешь (лучшего
места и времени не найти), будь жестоким до конца и покончи с моей
печалью.
После этого ее печаль, до тех пор с трудом удерживаемая в часто пре-
рывавших речах, бурно излилась в слезах, так что Палладий, не в силах
более длить ее муки, снял шлем.
— Госпожа, — сказал он, — ты как будто приняла меня за другого.
Я чужой в этой стране и без всякой причины подвергся нападению твоих
слуг, с которыми, вынужденный защищаться, обошелся жестоко, за что
прошу у тебя прощения, но, глядя на тебя, понимаю, что не только в этом
виноват перед тобой.
Когда она увидела его лицо и выслушала его речи, а потом выглянула
в окошко и посмотрела на поляну, усеянную трупами людей и лошадей,
придавивших своих всадников, которые безуспешно пытались освобо-
диться, ей не потребовалось дальнейших объяснений.
— Поделом им, если они посмели поднять оружие против твоих до-
спехов. Но, умоляю, сэр рыцарь, скажи, откуда они у тебя? Если ты убил
того, кто владел ими, мне придется кое-что сообщить тебе.
Палладий уверил даму в своей невиновности и рассказал все, что знал
сам.
— Похоже на правду, потому что именно так он поступает в послед-
нее время, — вздохнула госпожа. — А теперь, поскольку ты своей отвагой
лишил меня защиты, ибо моим слугам надо сначала залечить раны, то
прошу, проводи меня до ближайшего города.
— Куда бы ни звал меня мой долг, прекрасная госпожа, — сказал
Палладий, — я с удовольствием послужу благородному делу. Но сначала
твоей благосклонностью к владельцу этих доспехов заклинаю тебя по-
ведать мне твою историю, а то потом, когда видение благородной дамы
в столь странном месте явится моим глазам, я буду упрекать себя в недо-
статке сообразительности, оттого что вовремя не высказал свою прось-
бу, к которой присоединяю клятву верой и правдой служить тебе моим
мечом.
— В твоей просьбе, прекрасный рыцарь, столько настойчивости, что
мне, несчастной, не под силу отказать тебе, и посему я (без всякой на-
дежды, ибо лишь один человек может меня спасти) исполню твою волю.
К тому же, сказать по правде, странной показалась бы мне моя робость,
если бы я утаила от ушей того, кто наделен столькими достоинствами,
свою историю, которую рада поведать любому камню или дереву.
Глава одиннадцатая
— Знай же, что меня зовут Еленой, и я царица по праву рождения
в прекрасном городе и во всем Коринфе. Мне нечего сказать о себе, раз-
ве что я любима своим народом, на самом деле любима, если он согла-
сен терпеть и мое отсутствие, и мое безрассудство. После смерти отца
народ вознес меня на вершину власти, и, еще не достигнув зрелости,
я была окружена многочисленными претендентами на мою руку, из ко-
торых одни, вероятно, любили мой трон, а другие меня; но стоило мне
познакомиться с ними покороче, и я понимала, что в душах у них мечты
о моей стране, хотя на языках — хвалы моей красоте. Такими были многие
чужестранцы, принадлежавшие царским и знатным родам, и все корин-
фяне, которые по праву рождения или собственных достоинств считали
себя вправе заявлять о своих претензиях.
Среди них, скорее первым из них, считал себя господин Филоксен,
сын и наследник благородного Тимофея, того самого Тимофея, который
был богат, знатен, (более того) возвышен душой и (что следует из перво-
го, второго и третьего) любим народом более всех остальных именитых
людей в моей стране. И вот, его сын, если честно, не недостойный такого
отца, всеми силами старался угодить мне и завоевать мою благосклон-
ность, ну а я относилась к нему не так плохо, как ко всем остальным,
даже сочувствовала ему, хотя, признаюсь, мое сочувствие было лживым
послом, так как говорило о приязни, которой не было в моем сердце.
В то время я считала себя рожденной властвовать и не иначе, как злой на-
смешкой, восприняла бы мысль добровольно отдать себя во власть дру-
гого человека.
Тем временем, добиваясь моего расположения и, возможно, теша себя
надеждой, ведь он понимал, что я признаю его достоинства, Филоксен
явился ко мне со своими друзьями, и среди них был его самый близкий
друг.
С этими словами она посмотрела на портрет и тяжело вздохнула,
после чего слезы полились из ее глаз, словно божество требовало от нее
именно такого поклонения. Елена прервала свой рассказ, когда засмот-
релась на портрет, а засмотревшись на портрет, забыла о рассказе.
Однако Палладий, относясь с превеликой жалостью к сладкой печали
прекрасной дамы, о которой он уже не одиножды слышал от разных лю-
дей и перед которой преклонялся, напомнил ей об ее обещании не пла-
кать, пока она не расскажет все до конца.
— Вот портрет Амфиала. Что еще говорить? Неужели есть на свете
такое варварское ухо, которое не слыхало об Амфиале? Неужели рыцарь,
посвятивший себя воинским подвигам, не видит, где бы он ни был, сви-
детельств подвигов Амфиала? Неужели можно быть великодушным, бла-
городным, учтивым, не имея перед собой пример Амфиала? Неужели есть
на свете герои, более прославленные, чем Амфиал? Ах, Амфиал, как бы
77
мне хотелось, чтобы ты не был столь совершенен или я не ведала о твоих
совершенствах, но как мне желать этого? — Она опять заплакала и плака-
ла до тех пор, пока Палладий не попросил ее рассказывать дальше. — Тебе
и вправду пора узнать историю Амфиала, ибо его воля — моя жизнь, и его
жизнь — моя судьба; к тому же, что может быть приятнее для моих губ,
чем говорить об Амфиале?
Рыцарь, чье лицо ты видишь на портрете, но чей разум может быть
запечатлен лишь в образе совершенства, — племянник Базилия, царя
Аркадии, сын его брата. В детстве он считался наследником престола,
пока Базилий, достигнув зрелых лет, не женился на юной и прекрасной
даме, родившей ему двух дочерей, известных своей красотой и лишивших
юного кузена надежд на престол. Тогда-то его мать (дочь царя Аргоса и
женщина с гордым сердцем), не желая или боясь оставлять сына во вла-
сти Базилия, отправила его к благородному Тимофею, которого с ее по-
койным мужем связывали узы дружбы, чтобы тот растил Амфиала вместе
со своим сыном Филоксеном.
Решение матери стало счастливым для Амфиала, чья совершенная
природа была отшлифована достойным царского наследника воспитани-
ем, которое его мать, недостойная такого сына, не смогла бы ему дать,
к тому же добрый Тимофей любил Амфиала, как родного сына. Шли
годы, изредка случались события, испытывавшие добродетели Амфиала,
и все они служили ступенями, по которым он восходил к славе. Не было
ничего такого, что не отступало бы перед его доблестью; но, ведомый
истинной добродетелью, хотя из всех рыцарей в наших краях его при-
знавали самым мужественным, он, превзошедший сам себя, именно он
стал зваться учтивым Амфиалом. Я могла бы бесконечно рассказывать
о его многочисленных приключениях, о которых страшно даже слушать:
о его победах над чудовищами и великанами, о великих завоеваниях с по-
мощью хитрости и силы, в которых он не грешил против добродетели,
кстати, сопровождал его всегда один лишь Филоксен, с самого детства
соединенный с ним крепкой дружбой, для которой трудно было бы при-
думать испытание большее, нежели моя любовь. Филоксен попросил
Амфиала о помощи и получил его согласие.
Так получилось, что Филоксен привел Амфиала в мой дворец, но я
свидетельствую, что все доводы Амфиала (а предел им мог положить лишь
предел разума), были на благо Филоксену: мои уши слышали от него лишь
о достоинствах Филоксена и о великом счастье иметь такого мужа, чему
он приводил множество доказательств, из которых, бог свидетель, я не
запомнила ни одного, так как не очень им верила. Зачем останавливаться
подробно на том, как я пришла к тому, к чему пришла, с чем живу и буду
жить? Короче говоря, просивший за друга покорил меня сам, но вряд ли
счел это победой (она вздохнула); его слава заранее проложила ему до-
рогу к моему сердцу, по которой он, благодаря своей красоте, учтивости
и благородству, вошел в него, прежде чем позаботился попросить ключи.
О Боже, как моя душа приникала к его губам, стоило ему заговорить! Ах,
когда он с чувством расписывал мне чувства своего друга, я думала о том,
78
как блаженствует любовь на его устах! Когда же он красноречиво убеждал
меня пожалеть Филоксена, я сказала себе: «Ну же, Елена, не бойся; этому
сердцу не нужна жалость». А когда он принялся превозносить подвиги
Филоксена, который всего лишь следовал за ним, — ах, думала я, милый
Филоксен, до чего же неуместно тут твое имя! Что я должна была сказать?
Нет — что я не должна была сказать, благородный рыцарь, я, которой
не только не стыдно, о нет, которой радостно повествовать тебе о своей
любви?
Шли дни, его дружеский пыл не угасал, но и моя любовь разгоралась
все жарче. В конце концов, под предлогом обычной придворной любез-
ности я попросила у него, ничего не подозревавшего, этот портрет, и по-
лучила того единственного Амфиала, лицезрением которого, боюсь, мне
только и придется наслаждаться. Осмелев или обезумев, или осмелев
в безумии, я призналась ему в любви. О боже, мне никогда не забыть,
как гнев и учтивость соединились в его взгляде, когда он слушал меня,
какой урок стыдливости он преподал мне, залившись ярким румянцем.
Короче говоря, он сделал все, чтобы умалить себя и возвысить своего дру-
га в моих глазах, и в самых учтивых выражениях отказал мне в моих при-
тязаниях на него, не оставив никакой надежды. Когда же он понял, что
моя любовь крепнет из-за одного его присутствия при дворе, а его речи не
идут на пользу Филоксену, он покинул мой двор, надеясь таким образом
(с глаз долой — из сердца вон) освободить в моем сердце место для его
друга, которому он ничего не рассказал, полагаю, из братского опасения
огорчить его или, возможно, из благородного побуждения не выдать мою
тайну, хоть я и была ему безразлична; по-видимому, он собирался путе-
шествовать по дальним странам, пока его друг не одержит победу или над
своей любовью или надо мной. Некоторое время спустя Филоксен при-
шел ко мне узнать, чего достиг Амфиал и — по правде говоря, мне было
это безразлично — нашел меня перед его портретом, не знаю уж, с каким
выражением на лице, но с величайшей любовью в сердце. Тотчас поняв,
что он весь во власти ревности и негодования; я подчинилась своему из-
болевшемуся сердцу и захотела наказать его, ибо в нем видела главное
препятствие для себя; и когда он с робким видом, но со страстью в голосе
стал молить меня о любви, я сказала, что внимала бы ему охотнее, если
бы он просил за Амфиала, как Амфиал просил за него. Ничего мне не от-
ветив, но побледнев и задрожав всем телом, он быстро ушел, а у меня за-
ныло сердце от этой недоброй победы. И все же, хотя в моей власти было
остановить его (в роковые минуты часто случается, что люди думают не
о главном, а о второстепенном), я этого не сделала и лишь послала слугу,
в преданности которого не сомневалась, чтобы он проследил, куда пой-
дет и что сделает Филоксен; и вскоре, увы, он сообщил мне то, о чем,
боюсь, горевать мне теперь до самой смерти.
Покинув Коринф, Филоксен не проскакал и суток, как недалеко от
этого места настиг Амфиала, который задержался, утешая злосчастную
Даму, и стал настойчиво склонять его к поединку, поставив условием, что
Закончится он лишь со смертью одного из них. Можешь представить, как
79
удивился Амфиал, не знавший за собой вины и любивший Филоксена,
в чем он (отказываясь от поединка) старался убедить его. Однако, как
рассказал слуга, чем дальше Амфиал отступал, тем настойчивее пресле-
довал его Филоксен, называя предателем и трусом, тем не менее ни разу
не выдав причины столь странного поведения. «Ах, Филоксен, — сказал
ему Амфиал, — я знаю, что не предавал тебя, и ты знаешь, что я не трус,
поэтому, прошу, успокойся и подумай о том, как я люблю тебя, если тер-
пеливо сношу подобные оскорбления».
Филоксен, однако, не внял его словам; недолго думая, он выхватил
меч и нанес один или два удара, которые, не будь у Амфиала надежных
доспехов, оказались бы смертельными. И все же Амфиал сдержался, от-
ступил, вновь попытался уговорить Филоксена. «Знай, Филоксен, — ска-
зал он, — я не отвечаю ударом на удар, хотя это недостойно рыцаря, не
из любви к тебе (отныне из-за твоих беспричинных поношений я не могу
тебя любить), но из почтения к твоему благородному отцу, которому я
многим обязан. Умоляю тебя, уйди, обуздай свои чувства, и тогда я опять
стану твоим слугой».
Однако Филоксен не внимал его словам и нападал на него с таким
упорством, что Амфиал в конце концов (природа победила разум) стал
защищаться и случайно нанес Филоксену смертельный удар. Несчастный
Филоксен упал к его ногам, успев произнести лишь несколько слов, из
которых Амфиал заключил, что причина его гнева во мне; и он дал волю
отчаянию, которое было до того сильным, что, как сказал мой слуга, не-
возможно вообразить ничего страшнее, к тому же со временем оно не
ослабевало, а становилось все сильнее и сильнее. Тем временем прим-
чался добрый старый Тимофей, который, едва узнал о неожиданном от-
ъезде Филоксена, сразу же последовал за ним, но, увы, опоздал. И хотя
в моем сердце уже давно разыгрывалась трагедия, должна признаться, мне
трудно вообразить их встречу, особенно зная Амфиала и Тимофея так, как
я знаю их. Ах, и горе, и смятение, и стыд ощутил Амфиал, когда пред-
стал перед своим приемным отцом как убийца его единственного сына!
Поверь, он бы предпочел, чтобы обрушились горы и погребли его под со-
бой. Что же до Тимофея, то отцовское горе и, думаю, в первую очередь
жестокость Амфиала лишили его жизненных сил, поэтому, пробормотав
лишь: «Амфиал, Амфиал, разве я?..» — он упал и тотчас умер.
Ни мой язык, денно и нощно повторяющий слова печали; ни даже
мое сердце (переполненное скорбью), стань оно языком печали, не в си-
лах передать невыразимое горе Амфиала. Он (коли хочешь знать) сбросил
с себя доспехи, те самые, которые теперь на тебе и которые, как я понача-
лу решила, он вновь надел, и, словно стыдясь земного света, убежал в лес,
плача и причитая до того жалобно, что мой слуга, не склонный к излиш-
ней нежности, не сумел сдержать слез, когда рассказывал об этом. Один
раз он было приблизился к Амфиалу, но тот вытащил меч, свое единствен-
ное оружие (оставленное, бог знает, для какой надобности), и пригрозил
убить его, если тот не оставит его в покое. Еще он велел передать мне, что
я причина его несчастий и, будь я мужчиной, он объехал бы всю землю,
80
чтобы отыскать меня и убить, и еще он велел сказать, что ненавидит меня
больше всех на земле. Ах, господин рыцарь (наверное, я уже утомила твой
слух своими бедами), будь моим судьей, если тебе ведома любовь. Из-за
нее я покинула мою страну, не зная, как отнесется к этому мой народ, еду
куда-то, рискуя своей честью, лишь бы следовать за ним, возненавидев-
шим меня, чтобы склонить перед ним преступную голову, если только это
поможет мне искупить мою вину и смягчить его гнев. Теперь же, госпо-
дин, прошу тебя, благоволи проводить меня до ближайшего города, где
слуги, уцелевшие от твоей доблести, смогут оправиться от ран.
Палладий с готовностью согласился, но, едва они тронулись в путь,
как появился Клитофон, который был ранен одним из слуг и довольно
долго его преследовал, а настигнув, уже готов был убить его, но понял, что
перед ним слуга прекрасной царицы Елены, который (вместе с осталь-
ными) хотел пленить Амфиала, ибо его искала госпожа Елена, ведь она
ни от кого не скрывала ни свою печаль, ни причину своей печали. Когда
же Клитофон, жалея о случившемся, вернулся, чтобы утешить царицу,
помочь раненым, если им еще можно было помочь, и заключить миром
неожиданно возникшую вражду, явился еще один рыцарь в полном об-
лачении и с опущенным забралом, до тех пор прятавшийся в тени. Он
оглядел всех и, заметив Палладия, вытащил меч, после чего, не говоря ни
слова, бросился на него. Весьма сожалевший о том, что уже свершилось,
Палладий решил отступать и защищаться, думая, что перед ним еще один
рыцарь из свиты прекрасной царицы, которой он в душе искренне сочув-
ствовал. Но тут Клитофон встал между ними и потребовал объяснений
от нападавшего, на что тот сказал, что или убьет вора, покусившегося на
доспехи его господина, или вернет доспехи. Палладий повнимательнее
вгляделся в него и узнал собственные доспехи.
— Воистину, — воскликнул Палладий, — если я украл твои доспехи,
то и ты свои не купил, так что биться нам не из-за чего. С удовольстви-
ем отдам тебе твои доспехи, потому что надел-то их, лишь желая оказать
честь владельцу.
К этому времени Клитофон уже признал по голосу Йемена, верного
пажа Амфиала, и, назвав себя, потребовал, чтобы тот повинился в своей
ошибке, ибо перед ним благороднейший из рыцарей. Юноша снял шлем
и, соскочив с коня, подошел к Палладию, желая поцеловать ему руку, по-
сле чего стал молить о прощении за оскорбительные слова, причиной ко-
торых было ужасное горе, открывшее двери гневу.
— Милый юноша, — сказал Палладий, — ты премного обяжешь меня,
если вернешь своему господину его доспехи и передашь от неизвестного
рыцаря, относящегося к нему с почтением, что он пятнает свою славу не-
добрым отношением к прекраснейшей из цариц.
Йемен обещал это исполнить, как только отыщет своего господина,
и приблизился к царице, которая застыла на месте от изумления. Однако,
заметив, что Йемен глядит на портрет, она сказала:
— Вот мой господин, Йемен, а где твой? Или ты принес мне смерт-
ный приговор от него? Тем лучше. Умоляю, не медли, говори скорее.
6 Заказ 1414
81
— Ах, госпожа, — ответил ей Йемен, — я потерял моего господина. —
При этих словах слезы навернулись ему на глаза. — Как только закончил-
ся несчастный поединок и оба, сын и отец, пали замертво, он, сбрасывая
с себя доспехи, пошел прочь, под страхом смерти запретив мне следовать
за ним. Но я старался не отставать от него и, наконец, вновь его увидел,
когда он набрел на красивого спаниеля, принадлежавшего покойному
Филоксену. По старой памяти пес радостно бросился к Амфиалу, но ни-
когда мне не приходилось слышать ничего более печального, чем брань
моего господина, который ругал пса за любовь к убийце его хозяина,
а потом он вновь запричитал, за себя и за своего бессловесного утешите-
ля, и они как будто облегчали друг другу страдания. Однако мой господин
заметил меня и с такой яростью вскочил на ноги, что, по правде говоря,
я подумал : всё, он убьет меня, — а он л ишь повторил, что если я не хочу его
сердить, то не должен показываться ему на глаза, пока он сам не пришлет
за мной; столь сурового приказа я не мог ослушаться. Подчинившись,
я оставил его с псом, и мне показалось, будто он ищет уединения в этой
или любой другой стране. Когда же я возвратился туда, где остались его
доспехи, то обнаружил там другие и (не желая, признаюсь, чтобы кто-то
носил доспехи благороднейшего из рыцарей) облачился в них и вот — вы-
ставил себя дураком.
— Милый Йемен, — сказала царица, — никакой гонец не мог бы луч-
ше тебя рассказать мне о том, что меня ждет. Я предвижу конец трагедии,
я предвижу смерть.
Рыдая, царица Елена, попросила сопроводить ее до ближайшего го-
рода, где Палладий поручил ее заботам Клитофона, наконец согласивше-
гося расстаться с Палладием, который желал в одиночестве продолжать
путь. Поменявшись доспехами с Йеменом, который поскакал в замок,
принадлежавший его господину, Палладий вновь отправился на поиски
Даифанта.
Глава двенадцатая
Так Палладий оказался в Лаконии среди илотов и спартиатов и бы-
стро убедился, что слава Даифанта ничуть не потускнела и его образ за-
печатлен во множестве мраморных памятников и, еще более надежно,
в людской памяти. Однако всеобщая печаль по отсутствующему герою
подсказала Палладию, что нет смысла искать Пирокла в Спарте. Потом
он побывал в Элиде, куда на время Олимпийских игр стекалось множе-
ство народа и где он надеялся осчастливить свой взгляд знакомым обли-
ком, однако грандиозное спортивное собрание лишь усилило его уныние,
ибо он не встретил бесследно исчезнувшего Даифанта. После Элиды он
побывал в Ахейе, Сикионии и у коринфян, гордых своими двумя морями,
рассчитывая, что и Даифант побывал там. Однако обнаруживая, что каж-
дое новое место глуше к его вопросам, чем предыдущее, он неожиданно
вспомнил о любовных муках, побудивших Пирокла к бегству, и вновь, по-
сле двухмесячных напрасных странствий, возвратился в Аркадию, чтобы
начать все сначала; к тому же ему припомнилась картина с изображением
Филоклеи, которую он видел в доме Каландера. На ней Филоклея была
очень похожа на ту даму, которую Пирокл когда-то любил, возможно,
она и пробудила в нем спящую страсть. Проехав большую часть Аркадии,
в один прекрасный день Палладий оказался у подножия знаменитой сво-
ей красотой горы Менал; а так как его конь, равнодушный к поискам
своего хозяина, уже успел доказать ему, что добрый отдых способству-
ет быстрой езде, то Палладий сошел с коня, разнуздал его и отправился
в лесок неподалеку, где лег под тенистым деревом, чтобы благотворным
сном успокоить печальную память. И вдруг ему явилось видение, из-за
которого он так и остался лежать с открытыми глазами. Это была дама,
которая приближалась к нему, и хотя он не мог как следует разглядеть ее
лицо, так как видел ее сбоку, то, что было ему явлено, говорило о совер-
шенстве остального.
Палладий рассмотрел густые волосы, тщательно завитые и словно
Случайно рассыпавшиеся по плечам, причесанные с таким безыскусным
искусством, что, казалось, природа в союзе с искусством постарались
явить их совершенную красоту; часть волос была убрана под золотую, бо-
гато украшенную жемчугом корону с золотой сеткой, также украшенную
разноцветными перьями, и издалека этот убор напоминал сверкающий
На солнце шлем. На даме был дублет из небесно— голубого атласа, по-
крытый золотыми пластинками с драгоценным камнем на каждой, и этот
наряд тоже напоминал доспехи. Нижняя часть платья, очень широкая,
прикрывала (по моде) лодыжки, однако, когда она шла, легко было раз-
глядеть маленькие ножки, обутые в короткие котурны из алого бархата,
которые были открытыми, по древнему образцу, так что не составляло
'Фуда разглядеть безупречно белую кожу. Поверх платья на ней была на-
кидка, спущенная под правой рукой едва не до земли, а с левой стороны
б*
83
стянутая на плече богатой застежкой с миниатюрным изображением, как
Палладий потом выяснил, Геракла с прялкой в руке, каким он был под
началом Омфалы, и с надписью по-гречески, которую можно было пере-
вести так: «Больше не герой». С левой стороны, на поясе, висел короткий
меч, который, хотя и указывал на то, что его хозяйка амазонка или по-
следовательница амазонок, но не шел ни в какое сравнение с ее другим
всепобедительным оружием.
Дама шла, никуда не сворачивая, пока не скрылась в малоприметной,
но прелестной беседке. Деревья там так плотно сплели свои ветви, что
даже самому любопытному взгляду не удалось бы проникнуть внутрь.
Она вошла в беседку через дверь и подвигла Палладия со всевозможной
осторожностью последовать за ней, а вскоре он услыхал, как она запела
голосом, не менее приятным для его слуха, чем ее гармоничная красота
была приятна для его глаз:
Ах, внешность изменив и мысли тоже,
Я больше не борюсь, вдвойне в плену,
Остатки сил, о горе мне, итожа,
Предательство свое я не кляну.
Но чьи б глаза удар такой стерпели?
Мой разум пал, не вынеся его.
И нетуже крепчайшей цитадели,
И поле бранное давно твое.
Мои глаза тебе одной лишь рады,
Одной лишь мысли разум знает власть:
У слуг1 он в рабстве — радостью объятый,
И я мечтаю пред тобою пасть.
Так что же платьям женским удивляться,
Когда с тобой одной я жажду знаться?2
Песня вызвала у Палладия подозрение, а голос почти убедил его
в правильности его подозрений, поэтому он смело распахнул дверь и во-
шел в беседку, где оказался лицом к лицу с переодетым Пироклом; но ра-
дость от встречи с другом померкла перед горем найти его в таком виде,
и Палладий в изумлении застыл на месте (таким изображают Аполлона,
когда на его глазах Дафна превращается в лавр), не в силах произнести ни
звука, поэтому Пирокл (пораженный стыдом не меньше, чем Музидор —
горем), поднимаясь ему навстречу, придумывал себе серьезное оправда-
ние, как вдруг покраснел, завздыхал и вместо долгого объяснения выда-
вил из себя лишь несколько слов. К этому времени Музидор успел взять
1 Здесь слугами автор называет чувства.
2 Перевод Л. Володарской.
84
себя в руки, хотя и не смог полностью подавить ужас, охвативший его при
виде странного призрака, и так заговорил с ним:
— Неужели возможно, — воскликнул он, — что ты Пирокл, един-
ственный юный царевич на земле, которого природа и воспитание сдела-
ли примером совершенства? Или ты в самом деле амазонка, дерзнувшая
испытать меня сходством с Пироклом? Я охотней поверю в то, что чужое
естество прячется за твоим лицом, чем в то, что твое лицо, скрывающее
столь совершенный ум, так запятнало себя. О милый Пирокл, посмотри
на себя, если можешь, со стороны, и мои слова станут ненужными, ты
сам все поймешь. Подумай, достойно ли тебя, юного, знатного, не толь-
ко подающего надежды, но и оправдывающего их, желанного сына пре-
старелого отца и родной земли, отвращать свои мысли от добродетели и
забывать о времени, нет, злоупотреблять им? Наконец, ты перечеркнул
великие подвиги, которые прославили тебя на весь мир, как если бы, до-
стигнув вожделенной бухты, потопил свой корабль или, подобно плохому
актеру, испортил последний акт великой трагедии? Вспомни (ибо я знаю,
что ты знаешь), если мы мужчины, то главенствовать должна разумная
часть души, а коли против нее поднимается слабая чувствительность, надо
собрать все силы и подавить противоправный бунт; да и каком мужестве
может идти речь, если бесславно сражаться со столь ничтожным против-
ником, который по своей сути есть не что иное, как слабость? Разве ты
забыл, что приказывает разум, то нам должно исполнить, а если должно
исполнить, то мы исполним — и никаких детских «не могу» и женских
«не буду»?
Подумай, какой великой опасности подвергается твой разум: ты не
можешь переодеться женщиной и не изменить свое поведение, и твое по-
ведение не будет естественным, если ты не станешь думать по-женски.
Итак, подведем итоги: с какой бы целью ты ни играл свою роль, стоит
тебе недосмотреть и поддаться любой из женских слабостей — это станет
твоим первым шагом навстречу гибели. Не обманывай себя, мой милый
брат, ни один человек не может в одночасье стать замечательно добрым
или чудовищно злым, так не бывает, или он постепенно восходит к добру,
или нисходит к злу.
Подумай, в чьей власти все эти несчастья: конечно же, во власти
любви, любви-страсти, самой низменной и бесплодной из всех страстей.
Страх вскармливает мудрость, в колыбели гнева растет бесстрашие, в ра-
дости открывается и крепнет сердце, в печали оно, наоборот, закрывает-
ся и человек заглядывает внутрь себя, чтобы что-то изменить к лучшему;
все чувства устремлены к добру, ибо к нему их направляет разум. Одна
лишь беззаконная Любовь (воистину эту ненавистную склонность неза-
служенно назвали любовью), порождение греха и праздности, пробуж-
дает низменную слабость, которую нежные дураки называют нежным
сердцем, а где она — там смущение, томление, временный покой, смут-
ное беспокойство, надежды, ревность, беспричинный гнев, ненужная
Уступчивость и вознаграждение в виде малого удовольствия, которому
предшествуют многие печали и за которым следуют горькие сожаления.
85
Но каким бы далеким ни представлялось безмерное зло, оно неотврати-
мо в том, о чем мы говорим с тобой; но не тебе слушать об этом, ведь ты
всегда был устремлен к добру.
Однако Любовь уже настолько изменила тебя (помимо того, что ты
нарушил закон гостеприимства, если вспомнить Каландера, и закон
дружбы, если говорить обо мне), что в нарушение закона природы твой
разум уступил власть чувствам, мужчина — женщине. По правде говоря,
я думаю, что именно это называется любовью, ибо истинная любовь име-
ет совершенную природу, которая преображает самое суть влюбленного
в любимое им существо, непостижимым образом соединяя их и, скажем
так, растворяя одного в другом. В этом всякая другая любовь подража-
ет истинной любви; если любовь к богу делает человека святым, любовь
к добродетели — добродетельным, любовь к земному — земным, то неж-
ная любовь к женщине превращает мужчину в женщину, и если он под-
дается ей, то может превратиться не только в амазонку, но и в прачку,
и в пряху, и в кого угодно еще, стоит лишь пожелать этого пустой головке
и взяться задело слабой ручке.
Нет смысла утомлять тебя скучными речами, хотя бы они и шли от
любящего сердца, если ты еще помнишь, кто ты есть, кем был и кем дол-
жен быть; если ты знаешь, что увлекло тебя и кто увлек, ты поймешь,
сколь незначительна причина и сколь опасен может быть результат, сколь
недостойно тебя увлечь и идти на поводу, а если так, не сомневаюсь, что
надобность в моих советах скоро отпадет и я смогу поздравить тебя с по-
бедой.
Однако на Пирокла эта речь произвела такое впечатление, что он,
который сначала (прежде чем его выследили) боялся, потом (будучи раз-
гаданным) устыдился, теперь (ощутив сильное давление) отринул страх и
стыд и разгневался. Правда, доброе расположение к Музидору победило
гнев, и Пирокл (отчасти, чтобы сделать приятное другу, но главное, чтобы
дать волю своим чувствам) ответил ему так:
— Кузен, каким бы добродетельным ни создала меня природа и ка-
ким бы добродетельным я ни стал благодаря воспитанию, должен ска-
зать тебе откровенно, я не поднялся еще на ту ступень мудрости, чтобы
не принимать всерьез женщин, одна из которых дала мне жизнь; и, если я
и был тем, кем был (как ты полагаешь по дружбе, но с чем я не согласен),
то потому, что был рожден женщиной и вскормлен женщиной. Воистину
(эти слова особенно задели меня) странно видеть не достойную мужчи-
ны жестокость в тех мужчинах, которые, не довольствуясь тираническим
подчинением ангельски терпеливых женщин, словно они наставники,
а женщины — дети, полагают, будто их наставничество ничего не стоит,
если они не будут обижать тех, кто (если рассуждать здраво) создан при-
родой с таким же, как наш, умом и с таким же стремлением к добродетели.
Например, государство амазонок (подражать которым я считаю для себя
великой честью) отлично свидетельствует, что, если по мягкости характе-
ра они не считают никчемным то, что для нас главное, у них (по крайней
мере) нет недостатка в смелой рассудительности, и их привлекательность
86
ни в коей мере не мешает им быть сильными. Воистину нам, мужчинам,
и тем, кто прославляет мужчин, должно помнить, что, если у нас есть со-
вершенства, то разумно считать совершенными и те существа, которые
даровали нам жизнь, ибо коршун никогда не даст жизнь парящему высо-
ко в небе соколу. Однако, признаюсь, мне кажется напрасным расточать
красноречие на похвалу тем, кто прекрасен сам по себе и не нуждает-
ся в дополнительном славословии, к тому же, боюсь, как бы мой разум
(не в силах найти нужные слова) не подсказал мне недостойных слов, ко-
торыми я могу нечаянно оскорбить тех, кого почитаю в душе. Признай
же, что они тоже могут быть добродетельными, а добродетель, как ты го-
воришь, должна быть любима, и я тоже так говорю, причем искренне. Но
если откровенно, то мне гораздо милее добродетель в прекрасном оби-
талище, и мне менее приятно искать ее в некрасивом существе, словно
жемчужину в навозной куче. Что до моей вины перед Каландером, то,
если ты понимаешь, какая гостья поселилась в моем сердце, ты найдешь
эту вину простительной, потому что я предпочел долг хозяина привиле-
гиям гостя. Что же до нашей дружбы, законы которой я не преступил бы
и под страхом смерти, то я от всего сердца должен был бы просить у тебя
прощения, если бы твое теперешнее отношение ко мне не убеждало меня
в правильности моего тогдашнего решения.
Тут Пирокл сделал паузу, чтобы успокоиться и продолжать без ненуж-
ной горячности, вызванной, как ему казалось, тем, что Музидор излишне
сурово судил о женщинах, — он вернул себе самообладание, возможно,
утраченное, под влиянием собственных мыслей, и продолжал:
— Бедняжка Любовь для тебя как будто не существует, милый кузен,
поскольку ты не удовлетворяешься тем, что лишаешь ее чести владеть ве-
ликой силой разума, которую признавали знаменитые мужи, но и ставишь
ее ниже всех остальных чувств, а это в общем-то странно, ибо если любовь
и навлекает на себя позор, то из-за тех страстей, которым ты определяешь
место впереди нее. Пусть они (вожделение, леность, слабоволие как со-
держание и форма любви) принимают на свой счет твои горькие упреки,
милый Музидор; ну а я отлично знаю свои несовершенства и потому не
буду себя защищать. Тем не менее должен заметить, что ты противоре-
чишь себе: если я слаб, то почему доводами разума ты не можешь укре-
пить меня, напоминая мне о моих добродетелях; если же я добродетелен,
почему ты не признаешь, что любовь проникла в добродетельное сердце;
и у нее нет сомнений насчет того, какой я есть; потому что если мы любим
добродетель, то разве не в добродетельном существе нам должно любить
ее — или ты думаешь, я должен любить слово «добродетель», читая его
в книге? В тех же печальных последствиях, о которых ты говорил, лю-
бовь не виновата, виноват влюбленный, неподходящий сосуд для такого
нектара, ведь больным глазам противопоказано солнечное сверкание,
а слабой голове — даже капля самого лучшего вина. Святая любовь,
о которой ты говорил, наполняет сердца надеждами, печалями, тоской
и отчаянием. И эту святую любовь, поскольку в ней две половинки —
во-первых, сама любовь, во-вторых, совершенная возлюбленная, — я не
87
в силах объять целиком, поэтому, подобно усердному мастеровому, под-
готавливаю нужный инструмент и берусь за первую часть великого творе-
ния, называемую любовью, а когда поднаторею в ней, увидишь, перейду
к более грандиозным свершениям. Поэтому успокойся на мой счет, если
можешь. В женском обличий я не стану женщиной, уверяю тебя. Каково
бы ни было обличие, в этом деле я хочу лишь одного: доказать, что я муж-
чина. Многое я мог бы сказать в свою защиту, еще больше — в защиту
любви, а более всего — в защиту того небесного создания, которое соеди-
нило меня и любовь в единое целое. Однако сей спор скорее подходит
бесстрастному школяру, чем мне, отягченному волнением, склонному
делами, а не словами защищать владеющую мной благородную страсть.
— О боже! — вскричал Музидор. — С каким хитроумием ты причиня-
ешь себе боль!
— Нет, — ответил Пирокл, — боль, о которой ты говоришь, принуж-
дает меня к хитроумию.
— Даже если так, низкое занятие делает человека хитроумным в одном
и глупым во всем остальном.
— Нет, — возразил Пирокл, — совершенство, изученное доскональ-
но, служит мерилом любого знания.
— Как оно может быть мерилом, если само не имеет меры?
— Оно идет в расчет без меры, потому что его создания не имеют
меры; но, с другой стороны, в природе оно имеет меру, поскольку имеет
конец.
— Если начало у него столь великолепно, то, хотел бы я знать, каков
конец? — спросил Музидор.
— Наслаждение, — с тяжелым вздохом ответил Пирокл.
— Ну вот, теперь ты выставляешь напоказ низменные черты, ведь
если конец в наслаждении, то к чему все остальное.
— Ты не понял меня. Я говорил о дальней цели, которая имеет один
конец — конец жизни.
— Ах, прикажи своему разуму расколдовать себя, — попросил
Музидор.
— Слишком не свободно мое сердце.
— Но разум указывает путь, — стоял на своем Музидор.
— А сердце дарит жизнь.
Музидор до того опечалился упорством своего возлюбленного дру-
га в заблуждении, которое, как он думал, вело его к гибели, что вновь и
с необычной для себя горячностью заговорил:
— Ладно, ладно, ты по доброй воле пренебрегаешь собой. Лилеи и
розы — вот те добродетели, которые ты мог познать на раскрашенном
лице1. Посмотри правде в глаза и признай, что конечная цель — красо-
та, которой ты наделен не меньше, чем кто-либо другой, но уверен, ты
придаешь ей не больше значения, чем любому преходящему достоинству,
которым природа одарила тебя. Тебе хочется настоящей добродетели, ни
1 Раскрашенное лицо, то есть картина.
88
в чем себя не умаляющей, поэтому то, что ты мудро считаешь недостой-
ным упоминания в себе, принадлежа женщине, делает тебя ее доброволь-
ным рабом. Что до меня, то я сказал тебе все, что считал необходимым
сказать во имя нашей дружбы. Умоляю тебя во имя нашей любви (если
только ее не вытеснила твоя другая любовь) и ради твоего старого забот-
ливого отца (если ты помнишь о нем, забыв о себе), наконец, ради самого
Пирокла (который сейчас на распутье между падением и возвышением),
очисти себя от скверной заразы. Иначе позволь мне забыть имя дружбы
как не имеющее смысла, ведь не может быть дружбы, если забыта добро-
детель.
Все, сказанное прежде, не произвело особенного впечатления на Пи-
рокла, и он выказывал нетерпение во время долгих увещеваний друга, но
это последнее «прости» в устах Музидора, которого он любил больше са-
мого себя, больно ранило его. Сочтя себя обиженным, он был склонен
обидеться еще сильнее, поэтому, качая головой и давая волю слезам, из-
лил свое горе в словах:
— Увы, царевич Музидор, ты слишком жесток ко мне. Если тебе нуж-
на победа, бери ее и наслаждайся триумфом. Пусть на твоей стороне вся
мудрость мира, а на моей — его несовершенства, я не могу стать другим,
подобно тому как ворон не может сбросить черные перья по просьбе ле-
бедя. Воистину ты будто врач, который, обнаружив у больного смертель-
ную горячку, бранит его, но не оказывает помощь, зато велит больше не
болеть; или, может быть, друг, который, навещая своего друга, пригово-
ренного к пожизненному заключению и обремененного тяжкими канда-
лами, требует, чтобы он сбросил оковы, а не то грозится уйти. Я болен,
смертельно болен. Я узник, и никто не может освободить меня, кроме
моей госпожи. А теперь, когда ты все знаешь, оставь того, кто бесконеч-
но любит тебя, но помни, что ты бросил друга, попавшего в великую
беду.
Глубокая рана, нанесенная Пироклу любовью, вновь начала крово-
точить, потревоженная недобрым словом, да еще так обильно, что он
был не в силах терпеть; слезы хлынули у него из глаз, и тогда он скрестил
руки на своей несчастной груди, и, словно слезы были потоком крови,
а руки слишком тяжелым грузом, Пирокл упал на землю. И тотчас пе-
чалью наполнилось сердце Музидора, он опустился на землю рядом
с другом и стал поцелуями осушать его глаза, умоляя забыть обидные
упреки, которые могли показаться ему слишком пылкими, но лишь по-
тому, что были рождены еще более пылкой любовью; ведь ему и в голову
не могло прийти, что чувства Пирокла столь уязвлены, но теперь, когда
он узнал их силу, он не станет больше перечить и сделает все, лишь бы ис-
целить болезнь тем лекарством, которое соответствует ее природе. Из-за
теперешней доброты друга Пирокл еще сильнее ощутил его прежнюю су-
ровость, о чем сказали и его слезы, и устремленный на Музидора взгляд,
как будто вопрошавший: «Неужели возможно, чтобы Музидор грозил мне
Разлукой?» Пораженному Музидору словно отказали разум и чувства, от
горя он не мог произнести ни слова; они лишь смотрели друг на друга,
89
но по их взглядам легко было понять, что нельзя поправить то недоброе,
что встало между ними, связанными искренней любовью.
Так продолжалось, пока Музидор, обнимая друга, не спросил:
— Неужели ты бросаешь меня?
— Это ты бросаешь меня, — ответил ему Пирокл, — из-за моего несо-
вершенства, недостойного твоей дружбы.
— Судя по твоим словам, ты еще более несовершенен, чем я думал,
если можешь быть жестоким по отношению к тому, кто отдает себя
в твое полное распоряжение. Но если ты несовершенен, — улыбнулся
Музидор, — значит, тобой должен руководить мудрый и совершенный
муж. Это руководство я принимаю на себя и буду требовать безогово-
рочного исполнения трех заповедей: первая — ты не должен постоян-
но предаваться печали и тем усиливать свое горе, вторая — ты должен
любить ее всей силой своего разума, третья — приказывай мне, и я все
сделаю, чтобы ты достиг цели.
Не настолько сердце Пирокла было угнетено двумя могуществен-
ными страстями любви и злобы, чтобы оно не поддалось радости, едва
Музидор повелел ему любить, и у него просветлело лицо, на котором до
той минуты была лишь печать горя.
— Что ж, милый кузен, по выбранным тобой заповедям я вижу, что
тебе более подходит быть царем, нежели советником, поэтому я решаю
подчиниться тебе, но с одним условием. Те приказы, которые по тво-
ему приказу я отдам тебе, будут заключаться в том, что ты должен любить
меня и принимать мои несовершенства с любовью, а не с осуждением.
— Любить тебя? — воскликнул Музидор. — У моего сердца нельзя от-
нять любовь к тебе, иначе оно разорвется. Однако оставим пока цветы на-
шей возрожденной дружбы. Молю тебя, расскажи вновь, но без утайки,
о твоей любви, с чего она началась и что было потом, а я даю тебе слово:
нет ничего великого, что я побоялся бы совершить ради тебя, и нет ниче-
го пустячного, что я не сделал бы для тебя. Позволь же мне со всей полно-
той уразуметь случившееся, ведь это не всегда возможно, если не принять
во внимание то, что якобы недостойно внимания, например слово или
взгляд; потеряв лишь малую частицу, вся фраза становится несообразной.
Между друзьями не может быть тайн, как не может быть ничего незначи-
тельного или скучного.
— Я подчиняюсь тебе, — сказал Пирокл, — и для моего рассказа нет
лучшего места, потому что ни для кого, кроме меня, в беседку нет до-
ступа, я же ищу тут печального уединения, так что на ней печать печали.
Все же, если кто-нибудь случайно заглянет сюда, скажи, что ты послан
царицей амазонок, а остальное предоставь мне.
И Пирокл начал свой рассказ.
Глава тринадцатая
— Кузен, — проговорил он, — роковой конец моей свободы настал,
когда, прохаживаясь между картин в доме Каландера, ты поведал мне,
что знал о Филоклее, которая очень похожа (хотя должен заметить, что
намного превосходит ее красотой) на любимую мной прежде госпожу
Зелману, и ее портрет поразил мои глаза, а яд я испил с твоих губ. Ах, он
был до того сладок, что я никак не мог им напиться, да и Каландер только
и делал, что своими речами усиливал его действие. Чем больше я задавал
вопросов, тем сильнее была моя жалость к бедняжке Филоклее, а едва жа-
лость смягчила мое сердце и должным образом подготовила его, великая
страсть нанесла ему жестокий удар, и ее невозможно описать словами,
потому что никакие слова не в силах проникнуть в удивительную природу
страсти. Ее знают лишь те, чьи чувства подчинены ей — и они называют
ее любовью.
Несчастный, я не сразу распознал свою болезнь, принимая ее за
обыкновенное желание видеть все замечательное, а жалость — за есте-
ственное проявление чувствительной натуры. Но этот спор с самим со-
бой был результатом постоянных размышлений, и чем дольше я спорил
с собой, тем больше думал о ней. Мне очень хотелось побывать там, где
она живет, как будто вид ее жилища мог что-то рассказать о ней, но еще
сильнее мне хотелось увидеть ее самое, стать судьей, воистину так, ис-
кусства художника — этими мыслями я тешил себя, притворяясь перед
самим собой, что не растравляю свою рану. Когда же спустя короткое
время меня стали посещать неясные мечты, превратившиеся в желания,
которые лишали меня покоя; когда я уже ни о чем больше не мог думать,
кроме как о Филоклее; когда любой предмет, попадавшийся на глаза, на-
поминал мне о моих терзаниях; когда даже прекрасное лицо лишь наво-
дило на мысли о воображаемой красоте Филоклеи; когда из всех звуков
человеческой речи, доходивших до моего слуха, складывалось лишь одно
слово — имя Филоклеи, вот тогда я и вправду уступил тяжкому бремени,
црняв, что превратился в раба, прежде чем успел подготовиться к защите,
и мне ничего не оставалось, как, подобно спаниелю, грызть цепь, стачи-
вая зубы в мечтах о свободе.
И все же пусть свидетельствует вечный источник добродетели: все, что
я когда-либо читал, слышал или видел, все, что знал из философии или
из собственного опыта, я призвал себе на помощь. Но, увы, сопротив-
ление оказалось бесполезным, так как мой разум был, как ты говоришь,
совращен — должен признаться, покорен — и будто убеждал меня, что
У людей со времен творения стало хуже с глазами, если они не чествуют
такую красавицу! Уже тогда меня не тронули бы ничьи увещевания, разве
что освященные нашей долгой дружбой. Мне не нравилось таиться от тебя,
но больше всего на свете я боялся открыть тебе свою тайну, зная (и так оно
и есть), что если в сердце не осталось места для сомнений, то всякий совет
91
тягостен, всякое порицание ненавистно, и нет ничего хуже для виноватого
сердца, чем взгляд лучшего друга. Вот это и вынудило меня действовать
втайне от всех (я думал, что для нашей дружбы будет лучше, если я совершу
что-нибудь, не ставя тебя в известность, чем пойду против твоей воли), но
окончательное решение я принял в последний день, помнишь, когда мы
говорили с тобой и в твоих и моих словах было все, кроме имени моей воз-
любленной, и я уже было хотел рассказать тебе все, но по твоему голосу и
по виду понял, что моя откровенность причинит тебе боль, поэтому, милый
Музидор, я сбежал от твоей известной ворчливости. Но я написал письмо,
которое ты, возможно, прочитал (или не прочитал?), взял несколько цен-
ных камешков, пока ты с увлечением преследовал оленя, и улизнул, как
мне кажется, не замеченный никем, чтобы отправиться все равно куда,
лишь бы подальше от единственного друга.
Так я оказался в Итонии, что в провинции Мессения, где, скрыва-
ясь, стал готовиться к тому, что задумал давно. Я хорошо помнил из пись-
ма Филанакса и рассказов Каландера, что Базилий ни в коем случае не
желает выдавать своих дочерей замуж и, убоявшись своим появлением
лишь ужесточить затворничество Филоклеи, значит, лишиться возмож-
ности сказать ей о своей любви, любовь (мастерица на всякие выдумки)
вложила мне в голову мысль спрятаться под маской, чтобы иметь случай
приблизиться к Филоклее, и ради этого я оделся амазонкой, в остальном
положившись на удачу и свое упорство. Не теряя времени даром, я на-
звался Зелманой, именем прекрасной госпожи, память которой высоко
чту, заказал сей наряд, принес его в дом, что здесь неподалеку, ночью об-
лачился в него и стал ждать, когда меня найдут те, кого искал я, что и
случилось наутро, точь-в-точь как я задумал. Поразмыслив еще, я решил
заняться пением, что, как ты знаешь, мне всегда нравилось, а теперь нра-
вится особенно — вероятно, природа этих мест пробуждает поэтические
способности или, скорее, любовь, будучи также удовольствием, даже
свои печали выражает в приятной чувствам форме.
Пел я недолго, потому что появился господин Дамет с садовым то-
пориком в руке (как я понял, недовольный моим пением); он кипел от
злости, бранился сандалией Паллады и прочими предметами, доступным
фантазии храброго деревенщины, и, уверяю тебя, моя красота произвела
на него впечатление не больше, чем моя песня, так что, положив руки
на рукоятку топора, а подбородок на руки, он голосом актера, много
раз игравшего роль Геракла, но не имеющего ни единой мысли в голове,
спросил: «Разве я не Дамет? Ну же, разве я не Дамет?»
Ему не было надобности называть себя, потому что я сразу узнал его
по описанию Каландера; и потому, взлетевшие высоко, мои мысли, не до-
пустили меня ответить, продолжая свой полет, что он (наверное, не уверен-
ный в себе и оттого готовый во всем видеть унижение) воспринял ужасно:
поднялся на цыпочки и, дико вытаращив глаза, крикнул: «Эй, женщина
ты или мальчишка или и то и другое, кто бы ты ни был, тебе здесь нечего
делать, убирайся прочь, слышишь? Такова воля царя, эй, я тебе говорю,
такова воля Дамета».
92
Я не мог не улыбнуться, видя, как он похож на обезьяну, только что
очистившую кишечник, но, поймав себя за руку, сказал, обращаясь как
будто к самому себе: «О мой дух, как ты можешь смеяться, пребывая
в агонии? А ты, смех, как посмел потревожить разум, еще недавно столь
сильно ненавидевший тебя?»
«Твой дух! — повторил Дамет. — Ты думаешь, я — дух? Говорю тебе,
я служу Базилию, забочусь о нем и о его дочерях».
«О, несравненная жемчужина, — прорыдал я, — неужели тебя держит
при себе эта отвратительная устрица?»
«Клянусь скребницей Дианы, — вскричал Дамет, — ты сумасшедшая.
Устрицы, жемчужины! Может быть, ты думаешь, я куплю у тебя устриц?
Еще раз говорю тебе, убирайся».
С этими словами он замахнулся топориком, собираясь ударить меня,
но тут я вышел из роли и, совсем забыв о своем жеманстве, выхватил меч,
однако трусость угрожавшего мне мерзавца остановила мою руку, так как
он, как говорил Каландер, с детства боявшийся обнаженного меча, бро-
сился бежать прочь с поднятыми над головой руками и пробежал, рази-
нув рот и вытаращив глаза, шагов двадцать, с грацией, скажем, клоунов,
которые молитвами Латоны были превращены в лягушек1.
Не чувствуя ударов, он в конце концов остановился и вновь стал бра-
нить меня, да еще с таким мастерским мастерством, что было очевидно:
этому искусству он обучался в таверне. Однако я продолжал прогули-
ваться, не обращая на него внимания, и он помчался, как я потом понял,
к Базилию, ибо очень скоро Базилий сам явился ко мне. По виду он пока-
зался мне честным и разумным человеком, тем более что и приветствовал
он меня любезно, а не грубо, как Дамет:
«Прекрасная госпожа, меня не удивляет, что здешнее безлюдье при-
текает одиноких людей, но я не понимаю, почему такая красавица стра-
дает от одиночества!»
Зная, что теперь моя очередь говорить, я посмотрел на него одновре-
менно печально и величаво, словно заслуживая особого почтения, и про-
изнес: «Подобные мне, не ведают одиночества, ибо с нами всегда благо-
родные помыслы».
«Но эти помыслы, — возразил Базилий, — не могут защитить тебя ни
от чужой подозрительности, ни от собственной печали».
Тогда, якобы выказывая неудовольствие оттого, что он вызывает меня
на излишнюю откровенность, я сказал ему: «Мне не нужен другой защит-
ник, кроме моей совести, и другое удовольствие, кроме моего покоя».
«Однако добродетель ищет себя во благе других», — возразил Ба-
зилий.
«Добродетельные люди спокойны, если не встречают на своем пути
зло».
1 Когда Латона (в римской мифологии; Лето — в греческой мифологии)
искала место, перед тем как родить Аполлона и Диану, детей Юпитера (в римской
мифологии; Зевса — в греческой мифологии), крестьяне отказали ей в воде, и Юпи-
ТОр (Зевс) превратил их в лягушек.
93
«И все же в нашей стране даже лучшие из лучших заподозрят нелад-
ное, завидев такую красавицу без свиты».
«Тогда твои лучшие из лучших вовсе не лучшие, — возразил я. —
Открыто подозревая других, они втайне обвиняют себя. Зато в моей
стране, обычаи которой я чту и защищаю всегда и везде, пестуют велико-
душие и предполагают друг в друге добродетель, находя основания для
этого в самих себе».
«Прекрасная госпожа, — сказал Базилий, — ты столь велеречиво и
в то же время мудро восхваляешь свою страну, что мне захотелось узнать,
из какого гнезда вылетают птички, подобные тебе».
«Прежде чем получить, надо заслужить желаемое».
«Но чем, — спросил Базилий, — я могу заслужить твою откровен-
ность?»
«Сначала ты скажи, что это за страна».
«Подчиняясь тебе, я сделаю это, хотя гораздо разумнее было бы снача-
ла выслушать тебя, ибо ты заслуживаешь быть первой. Знай же, что зовут
меня Базилием, и я — недостойный властитель здешних мест. Все осталь-
ное молва, верно, уже нашептала в твои уши, а если нет (и ты осчастли-
вишь нас своим присутствием), я сам как-нибудь расскажу тебе».
Естественно, я с самого начала знал, кто он такой, но не подавал
вида, чтобы сохранить видимую серьезность и выказать ему свое почте-
ние: «Могущественный царь, — сказал я, — позволь невежеству быть
оправданием дерзости, а то малое почтение, которое я выразила тебе,
отнеси на счет обычаев моей родины, непобедимой страны амазонок.
Я — племянница царицы Сенисии, которая ведет свой род от славной
Пентисилеи, убитой проклятой рукой Пирра. В юном возрасте решив
убедить мир в своих совершенствах и безупречном служении государ-
ству, я побывала в разных странах и мне пришлось одолеть много опас-
ностей, пока безжалостное море не поглотило моих спутников и после
кораблекрушения не выбросило меня на берег неподалеку отсюда; вот
я и забрела сюда».
Однако Базилий (который лишь начал распробовать то, что потом
проглотил, как будет ясно из моего рассказа) начал задавать мне куда
более хитрые вопросы, чем жадный хозяин задает щедрым путешествен-
никам. Я подумал, что это как нельзя лучше согласуется с моими жела-
ниями, ведь к этому времени я уже понимал, что не в природе женщин
торопиться к намеченной цели. Тогда он (желая посмотреть, не пойдет
ли беседа лучше) приказал Дамету привести жену и обеих дочерей, всех
совершенной красоты, хоть и непохожих друг на друга.
Его жена держалась важно, как полагается матери семейства, не по-
зволяя себе ни неподобающего выражения лица, ни жеста, но блистала
такой красотой (будучи в расцвете лет), что (в отсутствие дочерей) мог-
ла бы по праву претендовать на восхищение; однако они стояли рядом,
и этого было достаточно, чтобы самый придирчивый взгляд увидел в ней
достойную мать своих детей. Прекрасная Памела, чье благородное сердце
страдало от унижения, ибо забота о ее добродетели была поручена дере-
94
венщине Дамету, все-таки, выказывая послушание, оделась в пастуше-
ский наряд из грубой материи и скроенный, как велит обычай, прямым
куском, с открытой грудью, с множеством складок внизу и длинными ши-
рокими рукавами, но, поверь мне, сама украшала свой наряд, превращая
его в изысканный туалет. Длинные волосы она обвила золотой лентой,
будто только для того, чтобы подчеркнуть их естественное превосходство,
а между грудями, приподнятыми наподобие двух прелестных холмов над
очаровательной долиной Темпа, я заметил очень большой бриллиант,
вправленный в черный рог, и даже прочитал девиз: «Остаюсь собой». Мне
не хотелось (и для этого я поведал тебе о них с такими подробностями),
чтобы ты подумал, будто мои глаза были устремлены лишь на один пред-
мет и что я больше никого не замечал.
Однако когда, — украшение земли, символ небес, триумф природы,
живое воплощение красоты, царица любви, — юная Филоклея явилась
в наряде нимфы, обнаженная так, что я мог созерцать некоторые ее со-
вершенства, и в то же время одетая так, что ясно было: лучшее оставалось
скрытым от глаз. Ее волосы (ах, какой убогое слово, почему бы не назы-
вать их лучами света!), убранные под сетку, могли бы уловить Юпитера,
когда он был орлом1, а что до ее тела (о, прелестное тело!), облаченного
в легкое платье из тафты со многими прорезами, в которые было видно
нижнее платье, то даже самое скромное воображение не могло бы усто-
ять перед мыслями о том, что под платьем; и ее черные глаза — вправду
черные, то ли благодаря природе, которая позаботилась о том, чтобы мы
могли смотреть и не слепнуть от их чудесного блеска, то ли она сама, бо-
гинеподобная, сотворила эту тайну, вознеся черный цвет выше любого
другого, — и я подумал тогда, что лилии, наверное, побелели от зависти,
а розы наверняка покраснели при виде еще более прелестных роз на ее
ланитах, и яблоки не удержались на дереве, воздавая должное яблокам ее
грудей. Облака исчезли, чтобы небо могло беспрепятственно улыбаться
ей, во всяком случае, облака, затмевавшие мой разум, исчезли вовсе, и я
Не мог отвести от нее пристального, но чистого взгляда, отчего, могу пред-
ставить, был похож на искусно сработанный идол, с виду как бы живой,
а на самом деле истукан истуканом. Так я простоял, по-видимому, доволь-
но долго, пока Гинесия не встала между мной и несравненной Филоклеей
и тем не привела меня в чувство, поэтому я довольно сносно ответил на
ее приветствие и приветствие царевны Памелы, воздавая им, однако, не
больше почестей, чем положено. Но когда я подошел к Филоклее, для
которой любые хвалы не хвалы, я не мог не пасть на колени и, силой за-
хватив ее руку, должен признаться, поцеловал ее с неженской пылкостью.
«Божественная госпожа, — сказал я, — пусть весь мир и царицу
с царевной не удивляет необычная почесть, возданная тебе, потому что и
мужчины и женщины должны преклоняться перед совершенством твоей
красоты».
1 Юпитер (Зевс — в греческой мифологии) превратил в орла юношу Ганимеда
и унес его на Олимп.
95
Филоклея разрумянилась, подобно ясной майской заре, и стала под-
нимать меня со словами:
«Благородная госпожа, неудивительно, что ты ошибочно судишь
о моей красоте, ведь ты уже совершила великую ошибку, воздав больше
почестей мне, чем тем, кому я всем обязана».
«Но это лишь подтверждает, — возразил я, потупившись, — как силь-
на твоя красота, принудившая меня совершить ошибку, если только это
ошибка».
«Тебе отлично известно, — проговорила она ласково и еще ласковее
улыбнулась мне, — как ты сама прекрасна, вот тебе и нетрудно рассуждать
о красоте».
«Я прекрасна? — переспросил я, вздыхая самым искренним обра-
зом. — Ах, если я и прекрасна, то мне не сравниться с той, которая отра-
жена в моих глазах, ведь они теперь благословлены твоим присутствием
в них».
Потом, видимо, подчиняясь Базилию, она сказала:
«Ну хорошо, признаюсь, я слыхала, что быть хвалимой теми, кто сам
достоин всяческой хвалы, великое счастье, и теперь я уверена в том, что
ты в самом деле непобедимая амазонка, ибо умеешь настоять на своем,
даже когда неправа. Однако если моя красота что-нибудь значит для тебя,
позволь нам насладиться твоим очарованием, останься с нами, отдохни
от своих трудов и скрась наше уединение».
«Пусть я умру, прежде чем останется втуне слово, произнесенное тво-
ими устами».
Мы обменялись еще несколькими любезными фразами, и, когда мое
пребывание здесь стало делом решенным, меня повели в дом. Воистину
Аркадия создана для наслаждения, но она также создана и для украшения
одинокой жизни; и хотя здешние места расположены на немыслимой вы-
соте, к ним подходишь, почти не замечая, что дорога идет вверх, к тому
же сверху необычайно широкий обзор; а так как природа этой страны
разнообразна, то взгляду открываются горы и долины, леса и поля, осве-
щенные солнцем и укрытые тенью, — великолепный пейзаж с яркими
пятнами света и искусным затемнением. Дом построен из желтого кам-
ня, имеет форму звезды и стоит посреди парка, который словно разрезан
аллеями-лучами, расходящимися от дома, а за садом тянутся леса с до-
рогами, продолжающими садовые аллеи. В конце одной такой аллеи сто-
ит дом поменьше, в точности повторяющий архитектуру большого дома,
и в нем живет любезная Памела, так что на ум приходит мысль о прекрас-
ной комете, указующей хвостом на звезду меньшей величины.
Глава четырнадцатая
После того как Гинесия сама показала мне мое жилище, я был при-
глашен и сопровожден ею на ужин в одном из уголков парка, столь же
прекрасного в своем естественном убранстве, сколь парки, знаменитые
искусством садовника; между великолепными деревьями, увитыми вино-
градом, было устроено нечто вроде пиршественной залы. Возле стола рас-
сыпался струями фонтан, устроенный таким хитрым способом, что когда
сверху проникали лучи солнца, то над ним поднималась радуга, приятная
для глаз и поучительная для ума, постигающего явления божественной
Ириды1. Были там и птицы столь искусной работы, что обманывали не
только глаза своим обличьем, но и уши своим пением, звучавшим, благо-
даря сложным, работавшим на воде механизмам. Круглый стол, за кото-
рый мы уселись, был прикреплен к крутящемуся полу, и Базилий ради за-
бавы заставил и стол, и всех нас кружиться, как мельничное колесо, тоже
благодаря бежавшей под полом воде. Ах, какое удовольствие доставляло
мне это развлечение, ибо Филоклея тоже сидела за столом и я глазами
пил ее красоту с куда большей жадностью, чем ртом, — подававшиеся на-
питки (когда мы остановились и принялись за еду). От моего здравого
смысла2 не осталось и следа; и, отпивая глоток за глотком сладкое вино,
я не мог смотреть на нее украдкой, отчего мне казалось, что я вкушаю от
ее прелести. Но, увы, если одну жажду я имел возможность утолить, то
другая лишь сильнее мучила меня. Мои глаза то широко открывались,
принимая посылаемые ею стрелы, то закрывались, в восторге укрывая
свои богатства, я опускал веки, как занавеси, на прекрасный образ, кото-
рый ее присутствие запечатлело в них. Мой разум и вправду стал слугой
сердца, но время от времени напоминал своему господину, что он должен
быть бережливее в наслаждении. Однако превратившись из бунтовщика
в повелителя, сердце отказывало ему даже в чине советника; мои чувства
обрели силу, а я, потеряв над ними власть, уповал лишь на женское обли-
чье, благодаря которому мои взгляды должны были остаться незамечен-
ными или, замеченные, не вызвать подозрений.
Итак, мне казалось, что я неплохо играл первый акт, поэтому убеждал
себя в том, что маска поможет мне открыться владычице моего сердца.
Кто бы мог подумать (а это правда), что, прожив тут восемь недель (не
видя никого, кроме ее родителей, сблизясь с ними как женщина и наблю-
дая за ними как любовник), я ни разу не смогу уединиться с нею хотя бы
на мгновение, и причина этого будет для меня так же непостижима, как
мучительны последствия? Увы, это правда.
С первого взгляда Базилий (верно, мое невезение направляло стре-
лы Купидона) загорелся ко мне столь нежной страстью (принимая мой
1 Ирида — в греческой мифологии богиня радуги.
2 Смысл — та часть разума, которая собирает чувственную информацию
и передает ее разуму.
маскарад за чистую монету), что, не приходи я сюда время от времени,
пожалуй, задохнулся бы от его скучных притязаний. Ты слышал, чтобы
кто-нибудь в восемьдесят лет резвился пуще юноши, наряжался, решив
добиться взаимности, писал стихи, претендуя на роль самого умного
воздыхателя в Аркадии? Не кажется тебе, что он хочет накормить меня
прокисшим салатом, тогда как мои глаза вкушают амброзию — красоту
Филоклеи?
Но и это не все, увы, это еще не самое худшее, ибо он добрый человек
и с ним легко ладить, так как (я уверен) любовь и невезение заключи-
ли пари на власть надо мною и раздули такой пожар в сердце Гинесии,
что, боюсь, его может потушить лишь моя гибель. У нее незаурядный ум
и такая же наблюдательность, отчего она сразу же заподозрила нелад-
ное то ли из-за моего слишком пылкого поклонения Филоклее (которое
мне, по глупости понадеявшемуся на свой маскарад, не хватило мудро-
сти сдержать), то ли по каким-то другим приметам, а может быть, дья-
вол нашептал ей, что я не женщина, не знаю, — но в ее облике, ее ре-
чах и ее поведении я вижу печальную картину несчастной любви. Разве
из всего этого не следует, что уединение непомерно разжигает страсти,
стоит им найти подходящий объект? Воистину я, неодолимо влекомый
к Филоклее, мучимый пылкой страстью, нашел тут великолепную кар-
тину власти Купидона: с упорством пчелы обхаживающий меня, надоед-
ливый Базилий с его страстными притязаниями, на которые я не мог бы
ответить, даже если бы хотел, но и мог бы — не захотел; Гинесия с ее неис-
товой любовью, властвующей над грозным умом, которая видит нас всех
насквозь. Она так сильно ревнует к любимой мной Филоклее, что стоит
мне открыть рот в присутствии ее неотразимой дочери, и она тут как тут,
кладет конец моей еще не начатой исповеди.
Однако если я не ошибаюсь, божественная Филоклея тоже одарива-
ет меня знаками особого внимания, и будь я лучше знаком со страстя-
ми, то, возможно, увидел бы в них знаки страстного внимания, поэтому
смею надеяться, что ее уши не отвергнут моего признания. Кстати, до-
брый Базилий счел за наилучшее поселить нас в одном доме, но мое
невезение, возбудившее ревность Гинесии, не допустило ни этого, ни
многого другого. И все-таки, признаюсь тебе, ее любовь полезна мне,
ибо, из-за моего глупого счастья или несчастной глупости узнав, кто я,
она не выдает меня Базилию. Ну вот, мой Музидор, я и разыграл для
тебя трагедию, которую, надеюсь, снизойдя к моим мольбам, боги не
превратят в трагедию.
На этом Пирокл закончил свой рассказ, тяжким вздохом поставив
последнюю точку.
Музидор долго молчал, размышляя о том, что услышал от Пирокла,
но так и не смог найти выход из лабиринта, в котором тот оказался. Тем
не менее он убедился, что увлечение друга слишком сильно и противо-
борство скорее вызовет его гнев, чем излечит его рану, скорее заставит
отказаться от друга, чем прислушаться к его доброму совету, поэтому он
сказал:
98
— Что ж, милый кузен, если богам было угодно присоединить к тво-
им прочим совершенствам еще и любовь, тебе повезло, что твоя любовь
обратилась на столь редкую женщину, ибо ее благородство смягчит твои
муки. Однако сейчас меня более всего терзает невозможность помочь
тебе.
— Ты поможешь мне, — отозвался Пирокл, — если тайно поселишься
в этой стране и иногда будешь приходить сюда поздней ночью или ран-
ним утром (ключ я тебе дам), чтобы я мог рассказать тебе об ухудшении
или улучшении моих обстоятельств и получить от тебя совет и помощь.
Сюда я, наверное, смогу привести ее, славу и позор женского рода, чтобы
ты сам поглядел на нее и сказал, прав я или неправ; едва выдастся удобная
минута, я буду тут, потому что наши дома совсем рядом, хоть их и не вид-
но за деревьями. Теперь мне пора, но ближе к вечеру спрячься где-нибудь
поблизости и жди нас.
Однако Музидор, подумав, что конь может его выдать, решил сна-
чала побывать в ближайшем селении, поставить коня в конюшню и вер-
нуться наутро, таким образом отложить встречу до следующего дня, с чем
Пирокл охотно согласился.
— Теперь прощай, милый кузен, но не Пирокла и не Даифанта,
а Зелманы, — сказал он, — потому что теперь Зелмана — мое имя, мое
звание и моя единственная надежда.
После этих слов, выглянув наружу и убедившись, что поблизости
никого нет, Зелмана отпустила Музидора, который отправился в путь,
сгорая от желания помочь другу, как прежде сгорал от желания образу-
мить его.
7*
Глава пятнадцатая
Вернувшись туда, где воспламеняемая Филоклеей, преследуемая
Гинесией, замученная Базилием, она напоминала себе лошадь, которая
хочет пуститься вскачь, но не может сделать ни шага из-за короткой узды
и жестоких шпор, Зелмана искала удобный случай, чтобы остаться наеди-
не с Филоклеей, тогда как Базилий хотел остаться наедине с Зелманой,
а Гинесия мешала им обоим. Если Филоклее случалось вздохнуть (что
случалось часто), Зелмана, словно подстерегая это мгновение, тоже взды-
хала, и следом вздыхали Базилий с Гинесией, так что они вместе состав-
ляли четыре четверти одной печали1. Любовь длила их беседы, а беседы
разжигали чувства. Почтительность рождала церемонность, но ее осве-
щала любовь, и церемонность не казалась церемонной. В глазах Зелманы
горело нетерпение (как у детей в ожидании сладкого), но и прятался страх
вызвать неудовольствие воспитателей. Время стремительно мчалось, по-
тому что проходило в приятном общении, и едва ползло, потому что не
приближало к исполнению желаний.
Однако Зелмане удавалось выманивать царское семейство за пределы
парка, чтобы ее друг Музидор (к которому она нарочно вела всех) мог
хорошенько рассмотреть его. Иногда они удили рыбу в маленькой ре-
чушке, которая поила водой корни роскошных деревьев, за что они воз-
награждали ее тенью знойным полднем. Там они рассаживались. Памела
с Филоклеей заключали смешные пари, кто из них быстрее перехитрит
глупую рыбешку, а Зелмана тем временем внушала им, что единственно
достойная добыча для царских дочерей сердца царевичей. Она тоже дер-
жала в руках удочку, однако уловленному ловцу не до ловли. Базилий за-
нимался тем, что варил рыбу, а Гинесия сидела как будто спокойно, но во-
все не спокойно. То она2 обратила внимание всех на голубку с зашитыми
глазами, которая, чем хуже видела, тем выше пыталась взлететь. То — на
коршунью, которую кто-то отпустил летать, прежде выпустив ей кишки,
и скликанные ею коршуны (как часто окружающие заблуждаются) дума-
ли, будто с ней все в порядке, тогда как она умирала и на себе убеждалась,
до чего иногда опасно казаться благополучной.
Однако эти развлечения были прерваны другим, более утонченным,
из рыцарской жизни. Как-то вечером, когда Базилий отдыхал, не при-
нуждая свой разум искать удовольствие в малых победах, пришел пастух
и сказал, что некий господин просит дозволения вручить ему послание
своего господина. Царь пригласил его, и посланец после положенных
церемоний заявил, что явился от Фаланта Коринфского с требованием,
как это принято при других дворах, в присутствии Базилия вызвать ры-
царей Аркадии сражаться для прославления красоты его возлюбленной,
1 Аллюзия на песню на четыре голоса.
2 Возможно, намек на Зелману — узницу любви.
100
которая, кстати, тоже должна прибыть и подтвердить то, за что он будет
биться на копьях. По условиям турнира согласившемуся на бой рыцарю
надлежало принести портрет своей возлюбленной, чтобы его поставили
рядом с портретом Артесии (так звали возлюбленную Фаланта), и по-
бедителю в шести поединках достались бы и почести и портреты. Хотя
Базилий поселился в глуши совсем не для того, чтобы собирать вокруг
себя много людей, все же для развлечения Зелманы, дабы время его об-
ретений не стало для нее временем потерь, велел на три дня поставить
шатры вблизи своего дома и объявить, что для всякого рыцаря Аркадии,
который примет вызов Фаланта, вход и выход будут свободными (что
в иных обстоятельствах было запрещено под страхом смерти).
Когда условия были приняты и оглашены, Зелмане захотелось узнать,
кто такой этот Фалант, о котором прежде она лишь то слышала, что он
славно сражался и его прозвали «прекрасным воином». И Базилий, кото-
рый от какого-то близкого друга Фаланта слышал его историю, рассказал
о том, что Фалант был незаконнорожденным братом прекрасной цари-
цы Елены Коринфской, весьма почитаемым ею за добродетели: за бла-
городную учтивость и безупречную доблесть, за приятность в разговоре
и незапятнанное служение при дворе, и о том, что (не в силах стерпеть
печаль сестры из-за ее любви к Амфиалу) он на время покинул двор и от-
правился в Лаконию, где во время войны с илотами прославился отвагой
и мудростью1. Однако на поле битвы он пришел по велению разума, а не
по зову сердца, поэтому, едва шпоры чести перестали его подстегивать,
он с радостью предался мирным удовольствиям, тем более что все вокруг
души в нем не чаяли за его добрый нрав и (скажем так) всепобеждаю-
щую веселость; для царя и всего двора Лаконии не было никого желаннее
Фаланта, и он, не вступая в противоборство со своей природой, отдался
спокойной жизни, имея достаточное состояние, чтобы радоваться жиз-
ни, и радуясь жизни оттого, что у него есть достаточное состояние.
— При тамошнем дворе он встретил Артесию, в честь которой теперь
собирается сражаться, был представлен, стал ей служить и назвал себя
(возможно, искренне) ее возлюбленным. На самом деле — продолжал
Базилий, — юноши частенько обманывают себя, думая, будто они с пер-
вого взгляда влюбились в достойную любви красавицу, но влюбляются-
то они потому, что им больше нечего делать, а не потому что ощущают
себя в священной власти любви, когда сердце подчиняет разум страсти,
и один бог знает, как быстро они оставляют одну красавицу ради дру-
гой, попавшейся им на пути. Итак, облачившись в любовь, как в мод-
ное платье, Фалант принялся ухаживать за госпожой Артесией, которая
платила ему той же монетой, ибо считала, что поступит неправильно по
отношению к своей красоте, если не будет гордиться ею; выдавала свое
безразличие к нему за целомудрие, почитала его несравнимо меньше,
чем он ее; но решила, что замуж пойдет лишь за него, считая его достой-
ным себя и видя в нем средоточие всех известных ей достоинств. Такую
1 Отвага и мудрость —две составляющие истинной доблести.
101
самовлюбленность ей внушила не только ее природа, но и воспитание,
полученное ею в доме моей невестки Цекропии, которая, овдовев, взяла
к себе юную Артесию, дочь любимого друга ее любимого мужа, и научила
ее тому, что нет иной мудрости, как почитать себя центром вселенной,
а любовь, учтивость, благодарность, дружбу и прочие добродетели лучше
демонстрировать, чем испытывать. И такую понятливую ученицу нашла
Цекропия в Артесии, что, возлюбя плоды, выращенные собственны-
ми руками, пожелала (жаль, этого не пожелал ее сын) выдать ее замуж
за моего племянника Амфиала. Однако, полагаю, в этом желании она
уже поостыла, узнав, что сама царица Елена готова отдать свое царство
за благосклонность ее сына, а, насколько я знаю мою дорогую невестку
Цекропию, для нее самая красивая голова — та, что украшена короной.
Артесия же всерьез полюбила моего племянника Амфиала — но я ни-
когда не считал любовью то, что в надменных сердцах порождено жела-
нием доставить удовольствие себе и похвалиться перед другими; все-таки
она выказала пылкое чувство, вероятно, потому, что все ее чувства пыл-
кие; и добилась того, что ее единственный брат (милый юноша по имени
Йемен) стал оруженосцем Амфиала, а сама она пока довольствуется ожи-
данием, когда моей сестре удастся обратить на нее внимание Амфиала,
довольно мрачного юноши (хотя, должен признать, по-настоящему учти-
вого и благородного), меньше всего интересующегося любовью и, вдоба-
вок ко всему, недавно пережившего какое-то приключение или потрясе-
ние, после которого он спрятался ото всех. Артесия же, недолго думая,
отправилась в Лаконию, куда ее пригласила жена царя Лаконии, с кото-
рой она связана какими-то родственными узами.
Вот там-то, когда закончилась война с илотами, рыцарь Фалант, по
крайней мере на словах, стал служить ей, и она, нимало не заботясь о том,
чтобы вознаградить его своей любовью, тем не менее обрадовалась, за-
получив такого обожателя. Один честный человек при моем дворе, близ-
ко с ним знакомый, всего день или два назад поведал мне об их любви;
о том, как Фалант с веселым видом произносит грустные слова, пользуясь
для выражения своих чувств таким высоким штилем, что даже Меркурий,
ухаживавший за Венерой, не мог бы соперничать с ним в красноречии;
но, кроме того, ни своим видом, ни поведением он не выказывает смя-
тения ума, то ли добившись успеха, то ли потерпев неудачу. Что же до
Артесии, то, отлично понимая, как этого мало для влюбленного, но не
желая большего, она учит его, что лучше помолчать, коли нечего сказать.
Кроме того, она, несомненно, извлекает выгоду из шутовства Фа-
ланта, заставляя его в подтверждение его роли оказывать ей довольно об-
ременительные и дорогие услуги, хотя он пока думает, что недосягаем для
нее, ибо его сердце еще не сотворило из нее кумира. Как мне кажется,
она решила донести молву о своей красоте до Амфиала (убедив себя, ве-
роятно, что он принадлежит к тому сорту людей, которые не притронутся
к изысканному кушанью, пока его не похвалят другие) и, поймав как-
нибудь Фаланта на чрезмерных восхвалениях и не принимаемых всерьез
клятвах, якобы он готов на все ради нее, заставила его отправиться с ней
102
по всем царским дворам Греции, где он должен вызывать рыцарей на
поединки, дабы они признавали ее первой красавицей на земле. Фалант
попался в ловушку и, сколько ни старался, не смог найти выход. Он со-
всем запутался, о чем и сказал своему другу, поведавшему мне его исто-
рию; и дело не в том, что он засомневался в себе (у него нет на это причин,
ибо он известен своим искусством, а уж на копьях он бьется едва ли не
лучше всех в Греции), а в том, что он боится обидеть свою сестру Елену;
и еще он сказал, что не очень-то доверяет своей любви и в душе знает
(что бы ни утверждал на словах), что и Елена, и мои дочери, и прекрасная
Парфения (жена очень достойного господина и близкого родственника
моей жены) с большим основанием могут претендовать на титул прекрас-
нейшей. Однако Артесия связала его клятвой, поэтому для него лучше
с воодушевлением завоевывать ее благодарность, чем из-за нерадивости
терпеть ее безразличие, вот он и идет туда, куда его ведет если не любовь,
то верность.
Фалант уже побывал при дворах Лаконии, Элисия, Аргоса и Коринфа,
и если зло часто побеждает, имея искусного защитника, то и копье Фаланта
не одного рыцаря взяло в плен ради триумфа прекрасной Артесии, вправ-
ду прекрасной, хотя и не самой прекрасной дамы на земле. До сих пор
многие сражались за красавиц, которые пленяли их во время странствий,
но сражались до того неумело, что лишались портретов своих возлюблен-
ных, умножая свидетельства в пользу красоты Артесии. Теперь Фалант
Явился сюда, где с нашего позволения намерен испытать судьбу. Уверяю
тебя, если бы, поразмыслив, я не счел оскорбительным подвергать опас-
ности мой высокий титул в столь безопасном поединке, то заставил бы
юного господина Фаланта признать, что твоим глазам подвластно вновь
наточить затупившееся копье, а мои немалые лета (которые кажутся еще
более немалыми из-за волос, поседевших в вечной заботе о других) не
ослабили во мне стремления защищать неоспоримую истину.
С этими словами Базилий встал и заторопился прочь, не в силах
больше сдерживать свое сердце. Зелмана же поблагодарила его и, неза-
метно улыбаясь, пожелала ему сохранить силы для более достойных свер-
шений.
Глава шестнадцатая
Итак, царская семья и Зелмана проводили время в обычных заняти-
ях, поджидая появления Фаланта, который уже на другое утро, заранее
приказав поставить свои шатры под прекрасным деревом вблизи цар-
ских покоев, повесил на дерево щит, чтобы противник, принявший его
вызов, мог вонзить в него копье. На щите под изображением звездного
неба было написано, что красота воздает ему хвалы. Сам Фалант появил-
ся на коне следом за триумфальной каретой Артесии, обитой красным
бархатом с шитьем из золота и жемчугов. В карету была впряжена чет-
верка коней с огненными головами и крыльями, произведение искусного
мастера, словно позаимствованное у самого бога Феба. Впереди по двое
шли богато одетые лакеи, неся портреты тех дам, которые, благодаря во-
енному искусству Фаланта, выбыли из соревнования красавиц; причем
на каждом шагу лакеи останавливались и поворачивались вместе с пор-
третами (сначала в одну, потом в другую сторону), надолго замирая и да-
вая возможность присутствующим разглядеть женские лица и оценить их
по достоинству.
Так как очередность портретов зависела от того, когда они переш-
ли во владение Фаланта, первым стал портрет Андроманы, царицы
Иберии, красоту которой благодарно, но неудачно защищал один из ры-
царей Лаконии (когда-то служивший ей, но уже давно вернувшийся до-
мой). К тому же Фортуна явно лишила рыцаря разума, так как красотой
Андромана никак не могла сравниться с Артесией и не только из-за воз-
раста (время было еще благосклонно к ней) и пламенно-рыжих волос, но
и из-за крошечных глазок, которые, как плохие друзья, навлекали неми-
лость на остальные, достойные похвал черты.
Вторым был портрет царевны Элисия, которая внушала зрителям
своеобразное представление о красоте: если любовь не всегда дитя кра-
соты, то возлюбленная прекрасна всегда. В облике царевны не было
ни величия, ни изящества, ни приятности, тем более не было красоты,
и все-таки для нее тоже нашелся слуга, который попытался объявить
ее прекраснее прекрасной Артесии. Жаль, однако, что он начертал
свои восхваления шлемом на пыли, и ее портрет стал таким же свиде-
тельством его поражения, как его бегство — свидетельством ее некра-
соты.
Следующим был портрет прекрасной Артаксии, великой царицы
Армении, которую природа одарила своими лучшими красками, распо-
ложив их, как должно. К тому же никому не удалось бы, не приглядев-
шись, найти недостатки в ее облике, в целом тем не менее не являвшем
той гармонии, которая радует Купидона, вероятно, из-за излишней му-
жественности в ущерб очаровательной слабости, на самом деле истин-
ной силе женщины, которой более подобает побеждать в беседе, нежели
в сражении.
104
Совсем другое впечатление производил портрет Эроны, царицы
Лисий, хотя ее каштановые волосы были столь темного оттенка, что их
смело можно было бы назвать черными, тогда как на ее щеках белый
цвет столь определенно побеждал красный (хотя белизна была безу-
пречной), что она казалась бледной, и ее лицо было более продолго-
ватым, чем дозволено строгими блюстителями симметрии; однако та-
кой любовью сияло ее лицо, что завладело суждением зрителей, прежде
чем они вынесли свое суждение, и заставило их сначала полюбить себя,
а потом признать прекрасной; именно такие хрупкие женщины побеж-
дают, сдаваясь, и их молящий взгляд побуждает мужчину думать о том,
чем бы им услужить.
Следом несли портреты двух дам благородного, но не царского проис-
хождения. Первую звали Вакхой; и хотя она была очень красивой и своей
полнотой скорее привлекала, нежели отталкивала, все же ее груди были
слишком беззастенчиво выставлены напоказ, рот неестественно кривил-
ся то ли в жеманной усмешке, то ли в глупой ухмылке; голова клонилась
вниз, видно, под тяжестью безделья, а устремленный вверх взгляд манил
до того усердно, что у всякого отбивал всякую охоту отвечать на него —
так страсть слабеет, если крепнет надежда.
Еще под одним портретом стояло имя Левсиппы, безупречной кра-
савицы с выражением наивного здравомыслия на лице. Такое выражение
свойственно людям, способным сделать много добра и не способным
причинить зло. Глаза у нее сияли задором, словно сама природа улыба-
лась в них, тогда как очертания губ и щек подчеркивали ее очарователь-
ную робость, и если вглядеться, то становилось ясно, что бедняжка готова
поверить всему на свете и ее грешно обманывать.
Потом принесли портрет царицы Лаконии, которая, казалось, ро-
дилась в царстве красоты; и пусть она не была там коренной жительни-
цей, но не была и чужестранкой; она была царицей и уже потому пре-
красной.
Та, что следовала за ней, побеждала, будучи побежденной, и могла
бы праздновать триумф, идя в процессии пленниц. Это была прекрасная
царица Елена с волосами цвета гиацинта, вьющимися от природы и уло-
женными искусной рукой (бегущими, словно чистые ручейки, по золото-
му песку), украшенными ниткой безукоризненных жемчужин, которые
то скрывались, то вновь показывались, словно играя с кудрями в прятки,
причем и жемчужины и кудри выигрывали от этого соседства. В ее лице
было столько прелестной живости, что (не будь Елена известна) навер-
няка мелькнула бы мысль, будто художник постарался продемонстриро-
вать свое мастерство, вместо того чтобы изобразить реального человека.
Ни одной придирки не мог бы придумать даже самый строгий придира,
разве что по отношению к телу головка казалась мелковатой, зато лицо
сияло такой красотой, что могло бы весь мир воспламенить любовью. Все
в нем было на загляденье, и если оно не подавляло величием, то по-
коряло приятностью черт, и если поначалу не вызывало восхищения,
то дарило удовольствие. И кто бы мог остаться равнодушным: даже
105
если бы попытался бы оказать сопротивление ее чарам, то продержал-
ся бы недолго. Несмотря на богатое и со вкусом подобранное платье, ее
взгляд был грустным (более грустным, чем это приличествовало ее по-
ложению) и ясно говорил, что украсила она себя не из тщеславия, а из
неуверенности в себе, боясь не привлечь внимание собственными досто-
инствами.
Ни в чем не похожей, но и ни в чем ей не уступающей была красо-
та Парфении, чей портрет следовал за портретом Елены в триумфаль-
ном шествии Артесии, хотя она с гораздо большим основанием могла
бы претендовать на трон победительницы. Весь облик Парфении был
величественно-прекрасен, хотя могло показаться, что за ее великоумием
на самом деле скрывается застенчивость. Средоточием ее красоты были
огромные серые глаза, а уж о великолепии высокого лба, всего лица и
фигуры, отлитых в благородной форме, и говорить нечего; одета же она
была так, словно не думала о платье и считала, что не нуждается в укра-
шениях, предпочитая им чистоту лица и тела, вот и получалось, что ее
искусство состояло сплошь из небрежности, если только эта небрежность
сама по себе не была искусством. Базилий не мог удержаться от похвал
Парфении, совершенному воплощению женской добродетели и супру-
жеской верности, и, между прочим, поведал Зелмане, что, насколько он
понял, ее портрет был отвоеван при дворе Лаконии у некоего сикионско-
го рыцаря скорее из-за недостатка у него храбрости, чем из-за неспра-
ведливого решения судей; и знаменитый Аргал, муж Парфении, едва не
явился в гневе на ристалище, чтобы потребовать еще одного поединка.
На это Парфения, более развлекаясь, нежели сокрушаясь о недостойном
защитнике своей красоты, заявила мужу, что желает быть красивой толь-
ко в его глазах и скорее еще раз изуродует себя, чем позволит ему надеть
доспехи. Тут Базилий собрался было рассказать Зелмане о том, что она
уже знала, — о редком испытании, выпавшем на долю любящей пары;
но следующий портрет заставил их прервать беседу и вглядеться в лицо
юной девушки, которая, сидя, вытаскивала колючку из ноги барашка и
была до того поглощена своим занятием, словно на маленькой ножке
в это мгновение сошлись все ее мысли. На пастушке был бедный наряд,
как будто она не нуждалась в украшениях, и рядом с ней лежал пастуше-
ский посох с надетым на него рожком. Несмотря на нищету, красота и
тут играла царскую роль и повелевала сердцами наравне с величайшей
из цариц. По красоте и посоху все тотчас признали в девушке прекрас-
ную пастушку Уранию, за которую неудачно сражался богатый и горячо
влюбленный в нее рыцарь Лакемон.
Последним в этой череде и последним из завоеванных был портрет
Зелманы, дочери царя Плексира, на первый взгляд, похожей на Фи-
локлею, но стоило присмотреться внимательнее (сравнить портрет с жи-
вой Филоклеей, не имевшей другой соперницы, кроме ее сестры) и ста-
новилось ясно, что она похожа на Филоклею, как отражение в тусклом
зеркале, которое одни черты и цвета передает правильно, а другие иска-
жает. Вздохнув, Зелмана повернулась к Базилию и сказала ему:
106
— Ах, мой господин, здесь есть портреты, которым лучше быть над-
гробиями их хозяйкам, чем служить славе Артесии.
— Ты права, прелестнейшая госпожа, — отозвался Базилий, — не-
которые из этих дам умерли, другие стали пленницами других рыцарей,
но случилось это недавно, и, возможно, рыцари, сражавшиеся во имя их
красоты, не успели об этом узнать, иначе нам придется поверить (с не-
которыми, я знаю, такое случается), что даже смерть не смогла вытравить
из их сердец образы, запечатленные любовью. Однако есть и такие пор-
треты, которыми Фалант завладел, но которые не показывает; ему нужны
лишь те дамы, которые богатством или красотой могут прославить пре-
красную Артесию.
Глава семнадцатая
Пока Базилий беседовал с Зелманой, радуясь предлогу, давшему ему
возможность поговорить со своей госпожой, Фалант самым торжествен-
ным образом препроводил Артесию и ее дам в один из шатров, возле ко-
торого был поставлен другой шатер для него самого, и там они ждали,
кто первым ударит копьем в щит. Тем временем Базилий, будучи главным
судьей, назначил еще судей и глашатаев, которые должны были распоря-
жаться турниром. Однако прошел один день, потом почти миновал дру-
гой, и когда солнце уже наполовину скрылось за горизонтом, прискакал
рыцарь, всем своим видом заявляя о себе как о противнике Фаланта не
только в одежде, но и в мыслях. Фалант был весь в белом, его ножные
латы и чапрак украшало изображение волн и сетей, в которых, когда конь
двигался, трепыхались, словно живые, рыбы.
Рыцарь же, по имени Нестор, по происхождению аркадец, объявив-
ший о своей любви к прекрасной пастушке, был весь в черном, и пламя
пылало на его доспехах и на доспехах коня. Сверху на щите у него го-
рел можжевельник1, а внизу было написано: «Легче и слаще». Однако
этот горячий рыцарь был остужен уже на третьей попытке, когда Фалант
сбросил его с коня и присоединил портрет его дамы к остальным, после
чего Нестор удалился, унося с собой болезненные ушибы. Следующим
стал Полисет, весьма почитавшийся в Аркадии за ратные подвиги и дав-
но известный своей благородной любовью к Гинесии, не только не при-
чинявшей Базилию страданий, но даже доставлявшей удовольствие, ибо
Полисет был искренен и благороден и не желал ничего, кроме как верно
служить своей госпоже. Однако ни ее прекрасное изображение, ни его
прекрасное искусство не уберегли Полисета от поражения, а Гинесию от
того, чтобы стать в ряду побед Артесии, на что добродетельная Гинесия
не обратила бы внимание, если бы ни присутствие Зелманы. Тем не ме-
нее ее рыцарь покинул ристалище побежденным и опечаленным. Потом
Теламон защищал красоту Поликсены, Юрилеон — красоту Эльпины,
Лев — красоту Зоаны; своим поражением храбрые рыцари возвышали
во всеобщем мнении доблесть Фаланта, а прекрасные дамы — красоту
Артесии.
Рыцари удалились, и пока зрители обсуждали происходящее, на поле
выбежал пастушок-подросток (ростом он был уже как будто не ребенок,
а лицом еще не мужчина), темнокожий то ли от природы, то ли от пре-
бывания на солнце, но тем не менее привлекательный2 и сложенный
соразмерно, как будто природа продемонстрировала свою склонность
к мужчинам, не пренебрегающим низким занятием. О сложении пастуха
судить было нетрудно, ибо его тело не закрывали широкие штаны и коз-
1 Когда можжевельник горит, от него исходит сладкий запах.
2 Во времена Сидни предпочтение отдавалось белой коже и светлым волосам.
108
линая шкура, переброшенная через плечо; и двигался он с изяществом,
которому невежество не стало помехой, словно он сердцем знал, что и
как делать. В правой руке он держал длинную палку и горел понятным
нетерпением, но не злобой, как человек, которого гнев не может лишить
благорасположения к людям, а приблизившись к царю, поклонился
с природной грацией.
— Мой господин, — сказал он Базилию, — умоляю, выслушай меня,
не то у меня разорвется сердце. Я вижу тут портрет Урании и не понимаю,
почему рыцари, когда их побеждают, говорят, что она уступает красотой
вон той веселой даме. Бог свидетель, пусть я больше никогда не увижу
мою старую мать, если подумаю, будто она с большим правом может со-
перничать с Уранией, чем козел — с прекрасным барашком или пес, ко-
торый сторожит наше стадо, с твоей белой борзой, которая вчера загнала
оленя. Прошу тебя, позволь мне надеть доспехи, и, сердце подсказывает
мне, я сброшу его на землю, а не то он еще скажет, будто первоцвет белее
лилии. Или пусть он выходит в своих доспехах, а я со своим посохом, и ты
увидишь, что я с ним сделаю.
Базилий узнал прекрасного пастуха Лала, которого как-то раз видел
в сельских забавах и которого очень ценил за ум, пленявший очарова-
тельной бесхитростностью, поэтому, посмеявшись над его торжествен-
ным видом, приказал ему успокоиться, ибо даже великие царицы вынуж-
дены покоряться, если защитников их красоты преследуют неудачи. Чуть
не плача, Лал смешался с толпой, мечтая о мстителе за обиду, нанесенную
Урании, и от всей души молясь за поражение Фаланта; он впервые почув-
ствовал себя обделенным оттого, что не мог участвовать в турнире.
Время шло, и вот уже солнце, подобно благородному сердцу, яви-
ло величайший покой, низко склонившись к горизонту, как вдруг при-
скакал рыцарь Фебил из Аркадии, для которого злая судьба приберегла
любовную стрелу, сделавшую его несчастным, едва он увидел Филоклею.
Чуть ли не с младенчества он любил ее, побежденный ею, прежде чем она
узнала, какие стрелы спрятаны в колчанах ее глаз; он любил ее и страдал,
и чем сильнее страдал, тем сильнее любил. Фебил понимал, что недостоин
своей избранницы, но оттого ее совершенства казались ему еще привле-
кательнее. Тщательно храня свою тайну, он не смел открыться ни одной
живой душе; однако его сердце горько скорбело, и ни одно из чувств не
было к этому безразлично, так что опытные судьи легко проникли в его
мысли, а вскоре все узнали о его любви, хотя он отнекивался, и поверили
в нее именно потому, что он отнекивался. Доспехи Фебил а были цвета
морской волны, а на его щите выделялось изображение рыбы Сепии, ко-
торая, попав в сеть, извергает из себя черные чернила, чтобы в темноте
вновь обрести свободу, и под ним был начертан девиз: «Не так». Фебил
привез с собой божественно-прекрасный портрет Фил оклей, и когда
Зелмана увидела, что еще кто-то, кроме нее, осмеливается вступаться за
красоту Филоклеи, ее сердце пронзила ревность, и она все время желала
Рыцарю позора, пока он в самом деле не был опозорен Фалантом. Уже
во время второго столкновения он оказался выбитым из седла и был так
109
огорчен и разгневан этим, что готов был мечом отомстить за позор, но
это не соответствовало правилам, и Базилий объявил конец поединка,
так что Фебил, желая себе провалиться сквозь землю, пошел прочь, разо-
злив Зелману своим поражением не меньше, чем разозлил бы ее своей
победой. Если поначалу ее рассердили хвалы, воздаваемые сопернику, то
потом унижение Фил оклей заставило ее забыть прежние мысли, и ярость
в ней разгоралась тем жарче, чем жарче разгорался прелестный румянец
на щеках скромницы Филоклеи, выдававший ее недовольство. Однако
ночь положила конец поединкам, и Фалант, несмотря на приглашение
Базилия, остался с Артесией, которая ни за что не желала переступить
порог его дома, потому что, вскормленная на груди Цекропии, переняла
ее смертельную ненависть к Базилию.
Отмеренная коротким эллем1 сна, ночь скоро сменилась утром,
и, едва бдительные звезды отправились на отдых, глашатаи призвали
Базилия к его обязанностям судьи, и Базилий отправился на место тур-
нира в сопровождении жены и дочерей, так как Зелмана заперла свою
дверь, чтобы ее не беспокоили. На поле уже томился в ожидании рыцарь,
жаждавший доказать, что Елене Коринфской нанесено незаслуженное
оскорбление сначала ошибочным суждением соперника, а потом не-
счастливой слабостью прежнего защитника. Рыцарь недолго оставался
неузнанным. Клитофона (сына Каландера и сестры Базилия) опознали
по золоченым доспехам, столь искусно сработанным, что они казались
осыпанными золотым песком, по которому во все стороны разбегались
серебряные ручейки. Свой девиз он поместил на портрет Елены, кото-
рую защищал: изображение горностая2 и под ним подпись: «Смерть, но
не бесчестье». Расставшись с Еленой, которая не захотела оставаться
в его обществе после того, как заметила, что он воспылал к ней любовью,
Клитофон совершил в этих доспехах много славных подвигов, пока раз-
ыскивал своих друзей Палладия и Даифанта, вот его и узнали, несмотря
на опущенное забрало. Правда, Базилий, вырастивший племянника при
своем дворе, казалось, оставался в неведении, но и ему не терпелось по-
смотреть в бою на того, о ком он слышал немало добрых слов. Он подал
знак трубить начало поединка, и храбрые рыцари поскакали навстречу
друг другу. Трижды они сходились, от шести копий остались жалкие об-
ломки, но оба были так искусны в своих ударах и изящны в движениях,
что Базилий затруднился отдать кому-то предпочтение. Однако в конце
концов он присудил поражение Клитофону, потому что Фалант разбил
больше копий о его голову и один раз Клитофон едва не упал, по крайней
мере его шлем почти коснулся крупа коня. Разъяренный этим решением,
как ему казалось, несправедливым, Клитофон пренебрег своим долгом
перед царем и дядей и, не сказав ни слова, помчался на поиски тех, с кем
расстался и кого желал найти вновь, уступив таким образом место сле-
дующему претенденту.
1 Элль — мера длины, равная 112 см.
2 Знаменитый своим белым мехом горностай — символ королевской власти.
ПО
Он явился спустя два часа и не меньше остальных обратил на себя
внимание, но тем, что у него и на нем не было ничего, достойного вни-
мания. Он не привез с собой портрет дамы. Никаких изображений и
никаких девизов не было ни на его щите, ни на доспехах, столь старо-
модных, да и заржавевших, что они вполне могли сойти за семейную
реликвию — память о храбром дедушке. Набедренные пластины и вовсе
заменял длинный кусок шелка, который (что неудивительно) лишь до-
бавил неприглядности его владельцу, поэтому зрители уже представляли,
как он растянется на земле, ибо его соперником был победитель многих
храбрецов. Когда рыцарь приблизился к щиту и с важностью ударил по
нему мечом, еще один рыцарь, весь в черном, пришпоривая коня, тоже
приблизился к щиту и тоже ударил по нему мечом, да так, что разрубил
его пополам. Неказистый (прозванный так зрителями) рассердился из-за
этой (он решил) оскорбительной для себя выходки и ударил второго ры-
царя, да еще с такой силой, что все тотчас заговорили о его тяжелой руке.
Второй рыцарь не остался в долгу, и мечи загремели во всю мочь, зато
копья вовсе не подавали голос.
Рассердившись из-за разбитого щита, Фалант набросился на рыцаря
в черном и рукояткой меча высек искры у него из глаз, но тот, не мед-
ля, ответил ему, и к нему присоединился неказистый рыцарь, который
счел себя оскорбленным вмешательством Фаланта. Тот, кому приходи-
лось видеть танец с мечами, подражающий настоящей схватке, принял
бы происходящее за настоящую схватку, подражающую танцу с мечами:
всего рыцарей было трое, следовательно, у каждого было по два против-
ника, отвечающих на удар, нанесенный одному из них, к тому же воз-
даяние не всегда получал тот, кто наносил удар. Встав со своего места,
Базилий сам отправился разнимать дерущихся рыцарей (ибо другие судьи
растерялись и ничего не могли поделать), и успешно справился со своей
задачей.
Однако в это время явился четвертый, хромой рыцарь, потребовав-
ший наказания для рыцаря в черном, который силой отнял у него пор-
трет Памелы, исполненный в виде миниатюры и носимый им на шлеме
в куске шелка, который он собирался, за неимением другого портрета,
противопоставить портрету Артесии, не сомневаясь, что даже в таком
исполнении красота Памелы затмит красоту Артесии, подобно тому как
самая маленькая звезда способна одолеть огненную сферу и явиться нам.
Итак, он повстречался с черным рыцарем, который, как уже было сказа-
но, отнял у него портрет. Ни у кого не возникло сомнения, что речь идет
о тяжкой обиде, но после недолгого разбирательства оказалось, что хро-
мой рыцарь первым обратился к черному рыцарю и спросил его, куда и
зачем тот держит путь, а когда узнал, что тот собирается взять под свою
защиту божественную красоту Памелы, с забавной самонадеянностью
приказал ему не вмешиваться в чужой спор, потому что только он один
Достоин столь высокой чести. Однако черный рыцарь не пожелал ему
подчиниться, и началась потасовка, в результате которой его противник
охромел и оказался без портрета. Как только Базилий во всем разобрался,
111
он посоветовал жалобщику заняться своим здоровьем, а не портретом и
стать учеником Эскулапа, если он не годится в ученики Венеры.
Потом возник вопрос, кто первым выйдет на поединок с Фалантом:
рыцарь в черных доспехах или неказистый рыцарь (которого уже стали
называть крепким орешком): у одного был портрет, а другой первым уда-
рил по щиту. В конце концов, Базилий решил, что первым будет некази-
стый рыцарь, если он расскажет о своей даме Фаланту, который непре-
менно настаивал на этом.
— Ее наипрекраснейший образ, — сказал рыцарь, — если бы ты мог
его видеть, запечатлен в моем сердце, и сравнить его можно лишь с солн-
цем или другими небесными светилами. Но оттого что немногие в силах
оценить ее божественную красоту и скорее ослепнут, чем признают ее,
не умаленную ни единым изъяном, то знай, я защищаю ту самую даму,
портрет которой Фебил так легко потерял вчера. Вместо еще одного
портрета я обещаю Фаланту, если он победит, отдать себя самого ему
в рабство, и я буду носить портрет в триумфальной процессии его воз-
любленной.
Фалант, недолго думая, согласился, не сомневаясь в своей победе.
Однако когда дело дошло до дела и они съехались в первый раз, не-
казистый рыцарь, выбравший самое увесистое копье, нанес такой удар
Фаланту по голове, что едва не отшиб память, а сам принял удар Фаланта
без видимых потрясений; во второй раз он применил обманный маневр,
но Фалант был искусным наездником и усидел в седле, зато подпруги не
выдержали, и он слетел с коня вместе с седлом. Фалант не на шутку раз-
гневался, потому что почти исполнил обещание, данное Артесии, и не
рассчитывал под конец потерпеть поражение, какого не знал прежде.
Глашатаи объявили победителем неказистого рыцаря, а несчастного
Фаланта вдобавок огорчила Артесия, которая не пожелала утешить его
и, хотя говорила, будто не желает для себя другого кавалера, теперь при-
казала Фаланту искать себе другую даму сердца. Оправдываясь, Фалант
посетовал на Судьбу, на что Артесия сказала:
— Считай, что это тоже удар судьбы.
— Ну нет, госпожа, — заявил Фалант, — потеря такой возлюбленной
на самом деле великое приобретение.
И забавляя Базилия, который наблюдал за молодыми влюбленны-
ми, добавил, что тот, кто много о себе мнит, не отличается постоянством.
Тем не менее велеречиво поблагодарив Базилия за то, что тот позволил
нарушить свое уединение, Фалант отправился сопровождать Артесию,
как она того пожелала в замок Цекропии, поклявшись себе, что больше
ни неискренней, ни искренней любви не заманить его в свою ловушку.
С этим он покинул Аркадию.
Когда все разошлись (и черный рыцарь тоже ускакал, ропща на судь-
бу, не позволившую ему одержать победу, в которой он был уверен, и про-
славить прекрасную Памелу), неказистый рыцарь (которого Базилий
задержал, чтобы представить Зелмане) снял шлем и оказался Зелманой,
112
которая, судя по ее словам, пока все были заняты турниром, проскольз-
нула в царскую конюшню, что находилась примерно в миле от дома, взя-
ла там коня — конюхи знали, что Базилию нравится, когда исполняют
приказы Зелманы, — и, позаимствовав плохонькие доспехи, за неимени-
ем лучших, поспешила, понадеявшись на свое искусство, которому обу-
чалась в стране благородных амазонок, отвоевать портрет Филоклеи, ибо
(разделяя уединение царской семьи) была не в силах, как она призналась,
видеть его в чужих руках. Сделав это вынужденное признание, Зелмана
приоткрыла тайную дверь своей любви, отчего Филоклея зарумянилась,
а Гинесия побледнела, но на словах все выражали восхищение и славили
Зелману; все они любили и думали, что славят себя, славя победительни-
цу Зелману, которую каждый день видели с удовольствием занимающейся
теми или другими физическими упражнениями, для чего Базилий держал
неподалеку слуг, которые не являлись незваными, но, званые, являлись
тотчас.
вЗаказ 1414
Глава восемнадцатая
Много минуло дней и придумано уловок, но Зелмана все еще была
похожа на охотника, прячущегося за деревом в ожидании удобного мо-
мента для выстрела, а Гинесия — на егеря, уводящего желанного оленя
прочь. Однако близился день, когда по обычаю пастухи собирались вме-
сте и в присутствии царя соревновались в разных играх, поэтому Зелмана
(опасаясь, что соберется много народа из разных мест и Музидор не оста-
нется незамеченным) отправилась предупредить его.
Не успела она дойти до беседки, как увидала шагающего ей навстре-
чу пастуха, вероятно, имевшего разрешение разгуливать возле царского
дома. На нем был длинный плащ, спущенный под правую руку, в которой
он держал искусно выделанный посох, немного украшавший его бедный
наряд, правда, выглядевший довольно сносно из-за благородной осанки
юноши. Судя по походке, пастух был погружен в невеселые размышле-
ния, что было заметно и по его глазам, то поднимавшимся к небу (как
будто он мысленно устремлялся ввысь), то опускавшимся долу (как будто
он слишком обременял землю грузом своих печалей). Наконец он груст-
но запел:
Пастушеский наряд! То, чем хозяин твой
Желает стать внутри, изобрази снаружи.
Не изумляйся, что своей мечтой
Он сделал то, чего не сыщешь хуже.
Пастушеский наряд мой неуклюжий!
Где песнь Меналка1 — нас не будет пусть.
Отъедини навек тоску и грусть
От чистых нот, что услаждали мужей,
Засим реки, путь преградив слезам:
«Не плачь! От счастья ты отрекся сам».
Перестав петь, он ударил себя в грудь и воскликнул:
— О, несчастный, куда тебя заведет твоя судьба?
Услыхав голос пастуха, Зелмана ускорила шаг и через несколько
мгновений окончательно убедилась в том, что перед ней ее милый друг
Музидор. Немало удивившись, она спросила, неужели богиня этих мест
столь всесильна, что может неузнаваемо преображать любого человека,
или Музидор сам решил одолеть Зелману в искусстве преображения, как
и во всем остальном?
— Увы, — вздохнул Музидор, — что мне сказать, если я не хочу гово-
рить и все же вынужден говорить? Теперь я знаю, мудрость, не подкре-
пленная опытом, ничего не стоит. Теперь я знаю (горе мне!), что любовь
1 Пастух, у которого Музидор позаимствовал одежду.
114
делает с человеком. О Зелмана, сопротивляться ей может или безумец,
или слепец. Человек не в силах отвергнуть свое творение! Воистину мы
созданы любовью и созданы для любви. Зверю недоступна красота, вот и
пусть тот живет среди зверей, кто не в состоянии ее чтить.
Искренняя дружба, которая связывала Зелману с Музидором, и ве-
ликая жалость, которую она, прекрасно его понимая, почувствовала
к нему, не удержали ее от улыбки, ибо она вспомнила, как горячо он
обличал глупых влюбленных, и, чтобы немножко его помучить, она
спросила:
— Как же ты, милый кузен, который еще недавно свысока взирал на
влюбленных, теперь сам оказался среди них? Вспомни, любовь — это
страсть, и она должна подчиняться разуму.
— Нет, нет, отрекаюсь, — вскричал Музидор и с этими словами про-
стерся на земле. — О дух любви, будь ты с небес или из-под земли, будь
ты божественного или дьявольского звания (я одинаково чувствую над
собой власть тех и других), сжалься надо мной, пусть твоя слава воссияет
еще ярче в милосердии и к тем, кто подчинился тебе сразу, и к тем, кто
восставал против тебя и был побежден.
— Нет, нет, — возразила Зелмана, — я отлично вижу, что ты смеешься
над моим несчастьем и своим видом хочешь еще раз напомнить мне об
уродстве моих чувств. Будь же осторожен, иначе твоя шутка в один пре-
красный день обернется против тебя самого.
— Ах, прошу тебя, — взмолился Музидор, с силой сжимая ей руку, —
узами нашей дружбы (о которой, если меня не постигло и это несчастье,
ты не забыл) и тайным пламенем, сжигающим, как мне известно, и тебя
тоже, не позволяй себе шутить над тем, что пронзило мне сердце, и не
делай вид, будто тебе легка ноша, которая для меня столь тяжела, что я не
в силах нести ее.
И слова, и все поведение Музидора так ясно говорили о том, что он
измучен страданием, что Зелмана в конце концов поверила в его рану, но
тотчас и возревновала, испугавшись, что Музидор влюбился в Филоклею,
которая, как она полагала, притягивала к себе все взгляды и все сердца.
И потому, желая снять с себя подозрение, Музидор коротко, торопливо и
с неподдельным волнением обо всем рассказал ей.
— Когда мы расстались с тобой, я уже хотел возвратиться в город, от-
куда прискакал сюда, но мой конь (уставший еще до этого) не осилил и
одну милю, а тут еще стало темнеть, и далекий огонек привел меня к дому
молодого пастуха по имени Меналк, который, признав во мне стран-
ствующего чужеземца, с искренним гостеприимством, по-видимому, на-
всегда нашедшего себе уголок в груди любого жителя Аркадии, хотя и без
особых разносолов, но досыта накормил меня. Разговорившись с ним и
обнаружив, что обычаи этой страны гораздо интереснее, чем можно было
предположить по рассказу Каландера, я решил, никому не показываясь,
немного пожить в доме Меналка, который обещал строго хранить мою
тайну. Много раз я приходил сюда, в твою беседку, и здесь твоими ста-
раниями мне было видение — о, лучше бы его не было! нет, пусть бы оно
8*
115
никогда не исчезало! — богини, в видимом облике которой заключена не-
виданная красота.
Зелмана ощутила прилив ревности, а Музидор продолжал:
— Итак, я лежал тут, думал о тебе и говорил так: «Ах, милый Пирокл,
как тебя угораздило? Что стало с твоими добродетелями? Почему молчит
твой разум? Даже я, уступая тебе в сообразительности, уверен, что ника-
ким небесам не загнать меня в рабство!» Едва, мне кажется, я успел про-
изнести эти слова, как появились дамы, и, когда я увидел их, мои слова
словно вернулись ко мне обратно, чтобы ранить мою душу, по крайней
мере, я ощутил ужасную боль оттого, что произнес их.
— Кого ты увидел? — спросила Зелмана, не в силах дольше терпеть.
— Я знаю, о ком ты думаешь. Нет, нет, оставь свои подозрения. Это
была, есть и будет Памела.
— Вот и хорошо. Продолжай, милый Музидор.
— Я не буду приписывать ее победу моему одиночеству в последнее
время, которое обыкновенно облегчает задачу любви, или размышлени-
ям о тебе (хотя из-за тебя я начал размышлять о любви, о которой пре-
жде не думал вовсе), или восторгу Венеры, или мести Купидона; нет, это
ее победа, ее одной, моей звезды, нет, богини, единственной защитой от
которой будет мне могила. Едва я увидел ее, как был сражен, но (подобно
неразумному дитяти, которое, ударившись обо что-то, вновь тянется туда
же) я вновь поглядел на нее, будто хотел убедить мои глаза в том, что они
обманулись. Да, теперь я знаю, если для покорного сердца Купидон —
повелитель, то для непокорного — тиран. Чем старательнее я раскачивал
кол, который он вбил в мое сердце, тем глубже этот кол ранил его. Зачем
я рассказываю тебе о том, как началась моя любовь? Разве можно об этом
рассказать? Разве можно измерить видимую часть неба? Хватит и того,
что я люблю. И чтобы ты не сомневался, это я в черных доспехах хотел
выйти с портретом Памелы, но мало того что не был допущен до поедин-
ка, так еще ты меня побил. Ну вот, я ждал тут, когда тебе понадобится моя
помощь, а теперь помощь нужна мне самому.
— Где ты взял этот плащ? — спросила Зелмана.
— Совсем забыл, хотя об этом-то надо было рассказать в первую
очередь. Видишь, какой я теперь хозяин своим мыслям? Дело было так.
Я возвратился в дом Меналка, страдая от мучительной страсти и почти
теряя сознание под непосильным грузом, однако остатки мужества под-
стегнули мой разум, чтобы он поискал какое-нибудь лекарство, прежде
чем я умру. Наконец меня осенило, и случилось это вечером того дня,
когда я без всякого смысла трудил коня и оружие. Я сказал Меналку, что
бежал из Фессалии, где случайно убил первого из царских приближен-
ных, после чего подвергся жестокому преследованию (где бы я ни был,
царь своей властью или подкупом добьется моей смерти), так что, пока
его ярость не утихнет, я обречен скрываться среди пастухов Аркадии
и, если это возможно, был бы счастлив стать одним из тех, кто допущен
к царю, потому что, если случится худшее и меня разыщут, я мог бы вос-
пользоваться близостью к царю и тронуть его сердце, чтобы воспользо-
116
ваться его защитой. Честный Меналк пожалел меня, верно, потому что
мое лицо, истерзанное любовью, вызывало доверие, и (я щедро ему за-
платил) сделал меня владельцем этого одеяния, дав мне пояснения на-
счет его и меня, и всего того, что мне было необходимо знать. Все-таки,
не очень надеясь на его верность и не желая рисковать моей жизнью и
жизнью моей жизни, я поручил ему отвезти письмо в Фессалию и попро-
сил как можно скорее вернуться с ответом, из которого я якобы смогу
узнать, остались ли у меня там влиятельные друзья и в состоянии ли они
восстановить меня в моих правах.
Не раздумывая, Меналк взял у меня письмо, надежно запечатан-
ное и адресованное моему преданному слуге, известному тебе Калодулу
В этом письме я строго-настрого наказал Калодулу немедленно посадить
Меналка под замок и никого к нему не допускать, пока он не получит
от меня других указаний, но во всем остальном, угождать ему, как моему
брату. Ну вот, Меналка здесь нет, а я — бедный пастух и более горжусь
своим теперешним достоянием, чем любым царством, потому что самое
большее, что может дать нам жизнь, это спокойствие ума, с которым бед-
ность не бедность и без которого никакое богатство не впрок. Сегодня же
я решил прийти сюда, потому что вспомнил, как Меналк говорил, будто
пастухи приглашены Базилием на праздник, вот я и понадеялся, что ты
найдешь способ провести на него и меня тоже.
— У тебя нет повода сомневаться, — успокоила его Зелмана, — в том,
что я готова быть твоей доброй госпожой. Лучше всего нам действовать
через Дамета, который с тех пор, как до его тупых мозгов дошло, что царь
дарит меня своей милостью (вне всяких сомнений, чем подобострастнее
лесть, тем легче она находит приют у влиятельных господ, ведь льстецы
обычно покорствуют великим, не имея ума, чтобы иметь правильное
представление о своих обязанностях), проявляет даже больше услужли-
вости, чем мне хотелось бы. Поэтому используем его, пойдем навстречу
его чувствам, тем более что чувства безраздельно властвуют над его глу-
пыми мозгами. Поклоны, похвалы — вот уздечка и седло, запрягай и ез-
жай, куда хочешь.
— О небо и земля! — воскликнул Музидор. — На какой путь мы свер-
нули, на какие уловки пускаемся, предавая неподдельную добродетель!
О любовь, ты во всем виновата, ты меняешь нам имена, обличья и даже
мысли. Но у тебя есть на то причина, даром что дороги дурные, зато цель
светлая и достойная.
Глава девятнадцатая
— Хватит философствовать, милый Музидор, — сказала Зелмана, —
вон Дамет собственной персоной.
Действительно, показался Дамет с мечом на боку, топориком на шее,
ножом за поясом, постоянно вооруженный таким образом с тех пор, как
Зелмана поселила в нем страх. Едва заметив ее, он так дернул головой
и плечами, изображая почтительность, что любого привел бы в заме-
шательство, а потом именем Базилия пригласил Зелману на праздник
пастухов.
Когда же до него дошло, что Музидор не числится среди пастухов, ко-
торым дано позволение находиться вблизи царского дома, он чуть было
не вознамерился излить на него свой гнев, однако не посмел. Ворча и
брюзжа в раздражении на свою нерешительность, он позволил Музидору
приблизиться к себе и поведать свою историю, будто он младший брат
пастуха Меналка, по имени Дор, которого еще в юные годы отец отпра-
вил в Афины для особого совершенствования в своем деле, чтобы потом
на него обратил внимание царь, но отец умер, и Менакл (приехавший
за ним, чтобы отвезти его домой) тоже умер, но перед смертью наказал
ему, чтобы он искал защиты у Дамета и полагался на него во всем, так
как только этому честному и справедливому человеку доверяет сам царь.
Чтобы подтвердить свои слова, Музидор вручил Дамету немалую толи-
ку золота в монетах, которые будто бы Меналк передал ему с просьбой
устроить несчастного Дора на такую службу, где он мог бы оттачивать ум
и манеры, постоянно видя перед собой пример Дамета.
Из всех видов красноречия Дамет понимал лишь золотые моне-
ты и был тронут похвалами Музидора, а так как всеми мыслями он был
устремлен лишь в этом направлении, то стал рабом того, кто хотел стать
его слугой; но, чтобы сохранить лицо, он изобразил щепетильность, свя-
занную с обязанностями, которые были возложены на него в отношении
царевны Памелы. Тем не менее, золото сделало свое тайное дело, да и
амазонка Зелмана сказала свое слово (заявив, что будет очень жаль, если
столь прекрасный собой юноша станет слугой другого, а не этого добро-
го господина), и в конце концов Дамет уступил, поставив одно условие:
если Дор-Музидор сумеет понравиться Базилию, он возьмет его к себе на
службу.
Потом они отправились к царскому дому, где встретили Гинесию
с дочерьми, которые хотели погулять на лугу до прихода пастухов и при-
гласили с собой Зелману, а по дороге Дамет рассказал им о Доре и по-
просил позволения допустить его на праздник вместо его брата. Что до
Базилия, то он оставался дома и ждал пастухов, желая обсудить с ними
предстоящий праздник, чтобы получше угодить Зелмане (ведь он толь-
ко об этом и думал), пока прекрасные дамы шли на великолепный луг,
где должен был состояться праздник пастухов. Место, в самом деле, было
118
выбрано на загляденье. Посреди луга бежал прелестный ручеек, который
притягивал взоры небесно-голубой чистотой и убаюкивал монотонным
шуршанием гальки, кое-где цвели розы, а все остальное пространство
всегда покрывала зеленая сочная трава. Глядя на рдевшие румянцем розы,
можно было подумать, что луг стесняется своей красоты. Чуть подальше,
словно создавая образ зрительного зала, росли деревья, знаменитые или
своими плодами, или особой стройностью, или вечно зеленым убран-
ством, или поэтической прелестью. Почти везде, благодаря искусству са-
довников, располагались очаровательные беседки, которые, следуя одна
за другой и составляя крытую галерею чуть ли не вокруг всего луга, пред-
лагали тенистый приют — приятное убежище от злого взгляда солнца.
Именно тут, где Гинесия не отставала ни на шаг и поминутно встав-
ляла недобрые замечания, дамы уселись на траву и принялись задавать
вопросы пастуху Дору, который, не сводя глаз с Памелы, отвечал им
дрожащим голосом и невпопад, чем немало развлек юных дам, решив-
ших, что в его смущении виновато недостаточное образование. Одна-
единственная Зелмана видела в нем, как в зеркале, свои муки, поэтому,
взяв руку Филоклеи и жгучими поцелуями задержав ее возле своих губ
(словно только так она могла отмечать нужные места на полях книги1),
она сказала так:
— О любовь, если ты такая разная у разных мужчин, то почему ты
такая одинаковая в их страданиях?
Ее прервали свирепый лев и следом за ним появившаяся медведица,
немного менее свирепая на вид, которые вышли из леса, вероятно, заблу-
дившись во время охоты и оказавшись там, где никто никогда не видел
львов. Любовь, но не страх, и если страх, то не за себя, изменили лица
обоих влюбленных, которые, ничуть не растерявшись, приготовились
к схватке.
Едва Филоклея заметила льва, как, поддавшись страху, вскочила и
побежала к дому с такой быстротой, на какую только были способны ее
нежные ножки, Памелу же Дор увлек за дерево, где она спряталась, дро-
жа, как куропатка, которую заприметил ястреб. Лев уже был готов бро-
ситься следом за Филоклеей, однако Зелмана (на бесстрашие которой не
могла повлиять никакая опасность, ибо она как будто состояла из одного
лишь огня2) со стремительностью, внушенной страстью, стала на его пути
и с силой, данной ей любовью, ударила могучего зверя по хребту так, что
он перевернулся, но тотчас выпустил когти и пошел на нее. Тогда Зелмана
ударила его в грудь, а он лишь порвал плащ и рукав и поцарапал ее, не
причинив, впрочем, особого вреда, потому что своим могучим ударом
она лишила его сил.
Лев упал, и Зелмана отрубила ему голову, чтобы преподнести ее сво-
ей госпоже Филоклее, которая все это время, не зная, что происходит
1 Издатели в самом деле делали знаки в книгах, привлекая внимание к гнома-
тическим, афористическим местам.
2 Имя Пирокла происходит от греческого слова, означающего «огонь».
119
у нее за спиной, бежала, подобно Аретузе, желавшей спастись от Алфея1;
и легкое одеяние, вздымаемое ветром, не скрывало ее прелестей, которые
в другое время она предпочла бы не показывать, от взгляда дважды ранен-
ной Зелманы, которая, чтобы продлить нечаянную радость, не слишком
торопилась догнать Филоклею и бежала следом, с головой льва в руках,
пока навстречу им не вышел Базилий. Вскоре появилась Гинесия, пре-
бывавшая в ужасном волнении оттого, что Зелмана сражалась с неведомо
откуда взявшимся львом.
Пребывая в борьбе со своей любовью и не успев из-за быстрой по-
беды Зелманы испугаться, она все-таки видела часть поединка, и когда
Зелмана отрезала голову льва и побежала за Филоклеей, не смогла устоять
на месте и побежала следом за Зелманой — вот такое невиданное зрелище
Судьба преподнесла здешним лесам: подстегиваемые своими страстями,
важные особы в погоне друг за другом — Филоклею, уже представляв-
шую себя в пасти зверя, гнал страх, Зелману — восторг и восхищение,
Гинесия словно летела на крыльях любви, не беспокоясь о том, видит ее
кто-нибудь или нет. И вот они предстали перед изумленным Базилием.
Прекрасная Филоклея никак не могла опомниться от страха, отчего кровь
еще не смела разрумянить ей щеки и прогнать бледность с белейших ла-
нит. Преклонив колена, Зелмана подала ей голову льва со словами:
— Несравненная госпожа, смотри, как наказано нелепое чудовище,
вопреки своей природе покусившееся на царскую кровь2, поверившее
своим глазам— изменникам и восставшее на твою красоту.
— Счастливы и я, и моя красота, — сказала в ответ прелестная
Филоклея, покрываясь румянцем (ибо страх уступил место своей род-
ственнице — застенчивости), — что ты, великая амазонка, была рядом
и научила его хорошим манерам.
— Хвала красоте, которая умеет наточить и тупой меч.
Филоклея рассказала Базилию, что произошло на лугу; но когда она
повернулась к Зелмане, то заметила у нее на руке кровь и с очарователь-
ной жалостью показала на нее отцу и матери, которая (бывают такие
няньки, которые без конца целуют младенца, но забывают его покор-
мить) тоже предавалась восторгам, благодарила и восхваляла Зелману, но
не подумала, что та может нуждаться в помощи. Теперь они обе бросились
к Зелмане, словно отец и мать к своему единственному чаду (хотя Зелмана
и уверяла их в том, что рана пустяковая), и пожелали сами в этом убедить-
ся, тем более что Гинесия была искусна в хирургии, весьма почитаемой
в те времена, так как она служила добродетельной отваге, отчего ею не
пренебрегали и дамы, известные своей боязливостью. Однако, осмотрев
рану — что нанесло Зелмане еще много кровоточащих ран в самое серд-
це, потому что время от времени она ощущала прикосновение милых рук
Филоклеи, помогавшей матери, — Гинесия убедилась, что опасности нет,
1 Пожалуй, здесь соединены два греческих мифа о нимфе Аретузе, бежавшей
от речного бога, и о Дафне, бежавшей от Аполлона.
2 Считалось, что львы теряют свою агрессивность в присутствии царей.
120
но все-таки положила столько драгоценного лекарства, что оно могло бы
справиться и не с такой бедой.
Тут только все вспомнили о Памеле, а Зелмана — и о своем друге
Доре, и бросились было обратно, но им навстречу уже шли Дор и Дамет,
а между ними Памела с лапой медведицы, преподнесенной ей пастухом
Дором, который пожелал, чтобы царевна приняла ее в память о звере,
хотя и заслужившем смерть за свою самонадеянность, но все же выказав-
шем немалую сообразительность своим выбором. Дамет по пути свистел и
приплясывал, словно веселее него не было человека в округе, а когда по-
дошел поближе, то запел радостную победную песню, так что у Базилия
едва не лопнули барабанные перепонки.
Благодарю тебя, бог Пан,
Что ты сберег мне жизнь мою.
И мне спасибо, что избран
Мной тот, кто победил в бою, —
Ему хвалы поет молва,
Но я удерживал врага.
Коли Луна ласкает взгляд,
Являя нам лик светлый свой,
Тогда сэр Солнце ждет наград,
Ведь он шлет луч ей золотой, —
Что ж, пусть ему поет молва,
Но я удерживал врага1.
Итак, все были вместе, и каждый хотел знать о приключениях друго-
го, однако благородная сердцем Памела никому не могла уступить пер-
венство и, обращаясь к матери, принялась с благодарностью рассказы-
вать о своем храбром защитнике:
— Когда вы все убежали и я уже решила, что опасность миновала, из
леса вышла ужасная медведица, которая (боясь пошевелиться, пока был
жив лев), едва льва не стало, двинулась прямо к тому месту, где стояла я
и где со мной был лишь этот юный пастух. Тогда я (неповинная в мудро-
сти, которую мне теперь приписывают, хотя они и говорят, будто ниче-
го нельзя было придумать лучше этого, но я лишь из страха стала такой
мудрой) упала ничком на землю, и мне не надо было притворяться мерт-
вой, потому что я в самом деле едва не умерла от страха. Так вот, этот
юный пастух, имея при себе лишь нож, заслонил меня от медведицы
и, когда я открыла глаза, подумав, что лодка Харона совсем близко, по-
казал мне в доказательство своей победы этот окровавленный нож.
—- Прошу тебя, — попросила Зелмана, желая обратить внимание всех
на его мужество, — скажи, как тебе, столь плохо вооруженному, удалось
победить разъяренную медведицу?
1 Перевод Л. Володарской.
121
— Благородная госпожа, обычно эти звери, идя на человека, подни-
маются во весь рост, чтобы сломать его в своих объятиях, и не иначе, как
бог Пан, заботясь о прекраснейшем из украшений Аркадии, направил
мой нож прямо в сердце медведицы, чтобы она не смогла причинить вред
ни мне, ни (единственно достойной упоминания) царевне. Но я хотел
бы со всей покорностью поблагодарить царевну Памелу, поскольку долг
перед ней внушил мне смелость спасти и себя тоже, а не принимать бла-
годарность за победу, на которую она меня вдохновила.
Дор изо всех сил старался, чтобы его любовь была не очень заметна
в его взглядах и жестах. Но Зелмана, имея такую же печаль в сердце,
легко распознала ее приметы и заставила его продолжить рассказ, же-
лая узнать, как он довел дело до конца и каким образом спасся честный
Дамет.
— Я сама должна обо всем рассказать, — вмешалась Памела, — по-
тому что никто, кроме меня, не обязан ему своим воспитанием. — При
этом гримаса презрения сменила радостное выражение на ее лице, и она
усмехнулась. — Когда Дор уверил меня, что все страшное позади, по прав-
де сказать, мне показалось неприличным оставаться наедине с пастухом,
поэтому я стала оглядываться в поисках кого-нибудь, и наконец мы об-
наружили Дамета, лежавшего ничком в кустах и старавшегося как можно
выше подтянуть ноги; будучи человеком нежным и всегда готовым себя
пожалеть, он, видно, был полон решимости не видеть свою смерть. Даже
после того как пастух толкнул его, призывая порадоваться избавлению
от опасности, потребовалось еще много времени, прежде чем мы сумели
втолковать ему, что Дор — не медведица, и все равно Дору пришлось за
ноги вытаскивать его из кустов и показывать ему зверя, который был
мертвее мертвого, а уж потом, можете мне поверить, радости Дамета не
было предела. Он совсем забыл о приличиях, стал бросаться на медведицу
и наносить ей удар за ударом, крича, что подобные чудища не должны
пугать добрых людей. В конце концов, мой воспитатель, столь же радост-
ный, как недавно напуганный, приплясывая и напевая, направился сюда
впереди нас, впрочем, это вы и сами видели.
— Ладно, ладно, — проворчал Базилий, — я выбрал Дамета не за во-
инственность и красноречие, а за честность и прямоту, за то, что он ни-
когда меня не обманывает.
После этого Базилий рассказал Памеле о замечательной победе
Зелманы — не потому, что ей нужно было это знать, а потому что ему
хотелось об этом рассказать, — и Гинесия тоже заговорила об этом, и оба
принялись с одинаковой страстностью хвалить Зелману, так что трудно
было не заметить в их речах грамматических законов любви. Базилий
вспомнил, с какой изысканной грацией она бежала, держа в руках го-
лову льва, совсем как Афина Паллада с головой горгоны Медузы1.
Гинесия же уверяла, что ей привиделось лицо юного Геракла, убившего
1 Голова Медузы была вручена богине Персеем, и богиня носила ее на щите
(греч. миф.).
122
Немейского льва1, и все остальные в благородном порыве повторяли их
хвалы. Несчастный Дор, хоть и равный Зелмане в свершенном подвиге,
но не равный ей в происхождении, был бы забыт, если бы не Зелмана,
которая вновь с превеликим восхищением заговорила о нем, спросив,
часто ли пастухи в Аркадии совершают подобные подвиги?
Базилий с чуткостью влюбленного заметил в вопросе своей дамы тай-
ный укор себе и, нимало не медля, принялся расспрашивать Дора о том,
кто он и что он, обещая ему богатое вознаграждение и в числе прочего
предложив ему (если он не против испытать себя в воинской службе) пой-
ти под начало военачальника Филанакса. На это Дор (чье честолюбие об-
любовало для себя другую лестницу) сказал, что он брат пастуха Меналка,
которого царь допускал к себе, и объяснил свое нежелание стать солда-
том неспособностью к службе, кстати, он сообщил Базилию, будто его
брат перед смертью завещал ему служить Дамету и он хочет исполнить его
волю, поэтому счел бы себя достаточно вознагражденным, если бы мог
жить поблизости от царя, но не нарушив при этом своего обязательства
перед братом. Тогда Базилий, которому Дор своим обликом и манерами
пришелся по нраву, приказал Дамету принять его в свой дом как сына,
заметив при этом, что мужество Дора и честность Дамета будут надежной
. защитой его дочери Памеле от злых посягательств, подобных тем, что уже
были, но о которых не время говорить.
Дамет без возражений (для него упасть ниже было невозможно) при-
нял Дора и, сообщив Базилию, что пастухи уже начали собираться, спро-
сил, куда их звать. Тогда Базилий поинтересовался у Зелманы, собирается
она отдыхать или хочет посмотреть игры, и Зелмана, не кривя душой (не
чувствуя никаких ран, кроме одной), ответила ему, что, конечно же, хочет
посмотреть пастушеские игры, после чего Базилий приказал всех звать
к царскому крыльцу, где по древнему обычаю был поставлен трон. Базилий
усадил Зелману между собой и царицей (все равно, что между молотом и
наковальней), а обеих дочерей по обе стороны трона, и они навострили
глаза и уши в ожидании пастушеских развлечений.
Однако не успели все собраться и начать соревнования, как прибе-
жал неизвестный человек и, с трудом переводя дух, но почтительно, со-
общил Базилию, что госпожа Цекропия послала его просить прощения
у царя за несчастья, причиненные вырвавшимися на свободу (по недо-
смотру служителя) зверьми. Служитель-де был уверен в их послушании,
а они во время прогулки обманули его и убежали, поэтому если Базилий
желает наказать виновного, то госпожа Цекропия дает на это свое согла-
сие. Базилий ответил лишь, что если у его госпожи еще много таких зве-
рей, то лучшей ей убить их, а потом рассказал об этом жене, дочерям и
Зелмане, чтобы они не боялись гулять в лесу, в котором львов и медведей
прежде в глаза не видывали. Однако Гинесия думала иначе, ибо не до-
веряла Цекропии, зная о ее сатанинской злобе и, главное, о ее желании
вырастить из своего сына Амфиала (который был сыном брата Базилия)
1 Первый подвиг Геракла (то же).
123
претендента на престол, поэтому она не видела причин, почему бы ей
не посмотреть на случившееся как на злоумышление, а не как на недо-
мыслие. Тем не менее, о своих сомнениях она рассказала только доче-
рям, считая, что если худшее позади, то лучше подождать до другого раза,
ведь излишней поспешностью можно только навредить себе и заронить
в голову Базилия ненужную мысль об обычной сваре между невестками.
Гинесия лишь диву давалась из-за странной недальновидности Базилия,
который, будучи добрым человеком, очень заботился о своем поздно об-
ретенном семейном счастье, а от всего остального отмахивался. Тем вре-
менем пастухи приготовились к соревнованиям и, дамы, взяв себя в руки,
сосредоточились на происходящем.
Эклоги
Базилий, исполняя желание Зелманы, приказал проводить соревно-
вания при искусственном факельном освещении, для чего, так как многие
пастухи пришли впервые, он вроде бы подверг их легкому наказанию за
неряшливый вид и заставил всю ночь держать факелы, а всем остальным
предоставил полную свободу в речах и поступках, нимало не стесняя их
в привычках. Пока пастухи готовились к выступлениям, Дамет, который
(с некоторых пор) относился пренебрежительно к бывшим друзьям, пред-
ставил всем своего слугу Дора с пожеланием любить его и жаловать, а сам
стал изображать господина, то кивком головы, то зевком, то подмигива-
нием, то топанием показывая, нравится ему или не нравится то, в чем он
ровным счетом ничего не смыслил. Сначала пастухи показывали разные
прыжки под звуки свирели (почти все играли на свирелях, даже когда
плясали), так что казалось, будто веселится главный бог Пан со своими
сатирами. Потом они положили свирели и, взявшись за руки, повели хо-
ровод под свое пение, а пели они рифмованные двустишия, причем одна
группа пропевала первый стих, другая — второй и так дальше:
Мы любим — любят нас в ответ.
Другая группа ответила:
Мы любим, а ответа нет.
Опять вступила первая группа:
Нам сладостны тенета эти.
Так как мелодия не изменилась, то было похоже, что хор начал сна-
чала:
О нет, они — страданья сети.
В третий раз все повторилось снова:
Надеясь, можно ли страдать?
Ответ:
Страдая, можно ль уповать?
Потом все запели и заплясали в более быстром темпе, и закончили
такими словами:
И флейте звук даруют губы —
Музыке можно ль быть безлюбой?
125
Много сменилось песен и плясок, пока не настало время для послед-
него действа: один певец вызывает другого на подробный рассказ о своей
любви. Тирс (признанный всеми как лучший певец) обратил внимание,
пока Дор плясал, не только на его привлекательную внешность и изящ-
ные движения, но и на явные приметы смущенного ума, поэтому он сна-
чала немного поиграл на флейте, а потом запел, вызывая Дора на ответ,
и тот ответил ему, как следует дальше1.
Тирс — Дор
Тирс: Теперь за дело, Дор: коль слово песни бедно,
Ты не стыдись, в скупых словах живет печаль,
И даже низкий стиль красуется победно
Там, где застенчивость венец любви венчал.
К словам большой любви подходят ли упреки?
Не бойся ранить слух метафорою бедной.
Дор: Так редки соловьи, зато трещат сороки,
И дерево трещит, когда вот— вот сгорит.
Кровь ран уходит внутрь, когда они жестоки,
И не спасти овцу, коль рядом хищник скрыт.
Ручей шумит, но тих поток глубоководный,
И любящий ни с кем любимой не сравнит.
Тирс: Учись скрывать лицо средь толчеи народной.
Не будь как мы, но наш перенимай фасон.
Не укоряй наш пир, не то уйдешь голодный.
И если любишь ты и страстью уязвлен,
Достоинства ее сумей явить мне в слове,
Ты победишь тогда, я ж буду побежден.
Дор. Зовешь на бой? Я весь сопротивленье!
Начни же песнь! Как факел песнь твоя
Воспламенит восторг мой и волненье.
Возвышенному чужд я волей бытия,
Но я возвысился. Хвалы лия
Возлюбленной, любим и Музой буду я.
Тирс: Да будет так. Но, Пан, тебя зову, поя
О Кале, чьи весьма достоинства богаты.
Негромкий голос мой сирингой удвоя,
Я буду воспевать их кладезь непочатый.
Как сот она сладка, хоть меду и неймет,
Как луг, где красных роз и лилий ароматы,
1 Многие из стихотворений Сидни, включенные в «Аркадию», были призваны
доказать богатые возможности английского языка с точки зрения рифмы и ритма.
126
Ласкается, что агнц, как мягкий кролик льнет.
Глаза — услада глаз, а разговоры
Так милы для меня, как для купца доход.
При похвалах как опускает взоры!
Как тело мягко! Лепет как хорош!
Поставь с ней рядом нимф — не скажешь, где который.
Дор: Да, Кала такова... Другую все ж
Я буду петь. Увы, дерзнули, нищий?
Она чиста, течет в ней кровь вельмож.
Блаженны боги! Вы себе в жилище
Ее избрали душу и с прекрасным
Связали телом, чтоб влеклись к вам тыщи,
И небожителям она желанна.
Дождь — весть небес, чтоб становилось ясным:
Они к ней сходят каплями тумана!
Что уподобить в мире ей бессчастном?
Она сравнима лишь с самой собою,
Равняться с ней считай трудом напрасным!
Тирс: Отец мой бедный! Как он восскорбел душою,
Узнав, что я люблю! «Мой сын, — он назидал, —
Где маршал Купидон, там ты не годен к строю.
Прими совет, его мне трудный опыт дал, —
Себя люби! Любовь овцы не стоит белой.
Блаженством на земле никто не обладал».
Так говорил отец, но Кала захотела
В зерцало обратить взор восхищенный мой,
И понял я: не то чтобы овцой презренной,
А и венцом царей мне не купить такой!
Власы ее златей, чем злато всей вселенной.
А кожи белизна! А этих глаз огни!
Как дольше жить в пастушьей доле бренной?
Дор: И сердце превратил я в род брони,
Одев им страсть. «Тщеславье! —
Отец воскликнул. — Жемчуг искони
Совсем в другой нуждается оправе!
Ее душа, достоинства — взгляни!
Ты счастья ей не дашь и ты дерзать не вправе!»
Рассудок без нее речист, при ней — ни-ни!
Что доводы его? Лишь порча аппетита
Тому, кто пребывал без пищи многи дни!
Я выпрямился весь. Живое верой сыто.
С надеждой вместе жизнь моя прервется пусть;
Коль должно жизнь убить, пусть будет так убита.
127
Тирс: Следил я, как она, волну волос змея,
Скатав рукавчики, грудь обнажив небрежно,
По мерным чашам отчий урожай лия,
И фала станом. «О! — восторженно и нежно
Промолвил я, — живой сосуд перед тобой,
Он полон до краев, и россыпь неизбежна». —
«Не просыпай зерно! — отец воскликнул твой. —
И я тебя молю: не высыпь эти зерна,
Убийство ни одно свет не почтил хвалой!»
Услышала она, мгновенно и проворно
Отпрянула, моих властительница дней,
И скрылась с хохотом. А я застал покорно.
Дор: Однажды (светлый миг!) я наклонился к ней,
Простертой1 на земле и землю эту
Покрывшей, как фатой, всей красотой своей.
И я тогда упал, не взвидя свету,
И закричал: не этот мертвый прах,
Но душу мне укрой, которой нету
И жизни без тебя. Развей мой страх.
Увидь меня, и оба мы сохранны:
Я тут, и ты, знать, не в иных мирах.
Я возопил — в ответ открылся взор туманный.
Но честь жестокая закрыла взгляд —
Честь, каковой не взласкан и желанный.
Тирс: Плачь, Пан, о ней: она сама любовь,
Но в возрасте любви любви не знает.
Владельцем стал бы ты таких лугов...
Коль камень сердца чувство поднимает,
Поведай мне, молю, в кругу каком
Чудесный эльф, ей преданный, витает.
(Не я ль кружусь над ней, как над цветком?)
Глаза ее — обитель страшной власти,
Днем, ночью ими я ловим, влеком...
Дор: Я, Муза, о другой печалюсь страсти:
Меня одолевает существо,
В нем совершенство дышит каждой части.
Где ж вихрь, который всколыхнет его?
Клясть, жечь, вздымать чей духов властен дух,
Той дух других духов хулит и славит,
Над ней нет чар, она же власть всего,
Да, власть всего — и как рабом мной правит.
1 Когда появилась медведица, Памела легла на землю.
128
Мой взор — мне путы, мысли — как узлы:
Всех паче рабств раб внутренний нас давит.
Тирс: О, Кала, где конец моей тоски?
Не презирай во мне несовершенства...
Тот, кто владеет сотнями овец,
Хранит вдобавок ту, кого ни солнце
Не опалит, ни ветр не сокрушит:
Краса — залог всех благ. Себя ж вручаю
Тебе на усмотрснье. Обращенье
Твое благим да сотворит меня!
Послушно буду я стеречь отары,
А ты стриги их под мою свирель
В полях цветущих. Выставим зарею
Два на десять силков для певчих птах,
Начнем играть, как существо природы.
Когда ж в тени мы сыщем ветки мирта,
Любовь да увенчает нашу радость,
Пред коей жалок блеск всех благ земных.
Дор: Ты, славе чьей любые имена
И титулы лишь прозвучат обидой,
Внемли стенаньям из тюрьмы души:
Кто благороден, в том жива и жалость!
Не тем, что у тебя, — тобой богат,
Красив тобою я и здрав тобою!
Но девственный наряд твой мне как траур.
Я сыт слезами, песнь моя — рыданье,
Я в поле скорби рву цветы обид,
А пред глазами словно паутины
Того силка, где гибнут пташки мыслей.
Что может обреченного развлечь?
Природой свит я из одной печали.
Живым костям ни жизнь, ни смерть не друг.
Тирс: Но если Кале слышать недосуг
Совет мой ясный, здравый,
Отдам глаза на пиршество ворон.
Ей зло любви закон?
В слезах расплавлю кости и суставы!
Дор: В слезах расплавлю кости и суставы!
Развеется мой дух
В пыль просьб о том, чтоб мышца сердца крепла
И жаром жгла до пепла.
Так растворится жизнь в себе самой.
93аказ 1414
129
Тирс: Так растворится жизнь в себе самой.
Я сделаюсь, как звери;
Даны клыки им, чтобы слабых рвать,
А слабым должно знать:
Значительность и мощь — к победе двери!
Дор: Значительность и мощь — к победе двери.
Так призраком я стал,
Чья жизнь проходит в трудном сне другого,
Плод вымысла чужого!
Проклятье тем, кто жизнь на части рвал
Тирс: Проклятье тем, кто жизнь на части рвал.
О речь твоя! Ты наполняешь чувством
Боль ран от Купидоновой стрелы,
Где ты пленяешь слух своим искусством,
Смолкают безыскусные хвалы:
Общение красно певца присутством.
Дор: Общение красно певца присутством.
Но, добрый Тирс, ты разве не певец?
А я страданьем знатен, не искусством.
Ты ж сотвори, о Муза, образец
Божественный, дабы свой взор горящий
Она мне подарила наконец,
Кого не зрю, не слышу — чуткий, зрящий!
Дор так хорошо отвечал Тирсу, что всем захотелось послушать, как он
поет один. Приметив лютню, что лежала у ног царевны Памелы, Дор об-
радовался предлогу подойти к ней и подошел, всем своим видом выражая
смятение, ибо страх и страсть, смешавшись, бурлили в его крови. Взяв
в руки лютню, он заиграл на ней, да так, что все удивились искусству
пастуха, а потом пропел элегические вирши:
Когда втроем Любовь с Природой и Судьбою
Угрозы на меня обрушивали гневно,
Вот что рекла Судьба: «Несудьбы и невзгоды
На головы людей из рук моих приходят.
Я на земле врагов и бури в океане
Несчастному сему определяю в жребий!» —
«Вздор, вздор! — Судьбу на сем оборвала Природа, —
Невзгоду человек превозмогает сердцем.
Но столько желчи влить в него намереваюсь,
Что радости ему покажутся скорбями».
130
Тут молвила, смеясь, Любовь: «Алчбы и нужды
Велят страдать, но нет алчбы у Гераклита1.
Желанья — часть моя, и я его измучу
Алчбой о красоте небесной, несравненной,
Которую Судьбе содеяв в дар, Природа
С тех пор Судьбу своим признала совереном».
Природа прочь пошла, Судьба же покраснела
И бросила: «Его рукой Любовь сомну я!»
Природой обделен, обижен я Судьбою,
Но хуже всех алчба, внедренная Любовью.
Пока Дор пел, он смотрел прямо в глаза прекрасной Памеле (которая
была бы рада избежать такой чести и защищалась от нападения стыдли-
вым румянцем на ланитах), а когда умолк, то уронил руки и так глубоко
погрузился в размышления, словно Памела отослала его предаваться бес-
конечным фантазиям. Однако Зелмана, понимая друга и боясь, как бы
он не слишком забылся, подошла к нему, взяла у него лютню и, захватив
во власть своих глаз лицо Филоклеи, запела сапфическими стихами, но
о своих надеждах:
Ежели мой взор полон красноречья,
И его язык будет ясен милой,
И поймет она мысль мою, — надежда,
Мы с тобой живы.
Ежели же он в трудную минуту
Не сумеет быть для нее понятным
И презрит она мысль мою, — надежда,
Оба мертвы мы.
Но и в смертный час воздадим ей честь мы,
Монументом ей сделаем могилы:
Что теряем мы — ей приобретенье,
Вечная слава.
Ежели средь сфер музыка таится,
Ежели поет лишь пред смертью лебедь,
Ежели родить звуки в силах древо,
Ставшее лютней,
Ум людской ужель одарен столь скудно,
Что не в силах он с ненавистной Смертью
Возгласить мирам в искреннем обете
Подданство наше?
Так и ей хвала, не прервясь, прервется2:
Наша плоть хрупка, но душа бессмертна,
Ведая любовь; и любовь с душою
Жизнь соединяет.
1 Ничего не желая, Гераклит был неподвластен Природе и Судьбе.
2 Мертвое дерево поет, а бессмертная человеческая душа петь не может.
9*
131
И когда мой взор полон красноречья,
И его язык будет ясен милой,
И поймет она мысль мою, — надежда,
Мы с тобой живы1.
Велика была радость Базилия, и еще больше, верно, радовалась бы
Гинесия, если бы не видела, что Зелмана поет для ее дочери. Что же до
Филоклеи, то она пребывала в совершенном восхищении. И тут Дор, по-
желав тайно поговорить с Зелманой об их делах, например, о том, как
предстоящие торжества могли бы им помочь, низко поклонился амазон-
ке и, вызывая ее на ответ, запел гекзаметрами, смысл которых она тотчас
поняла и, подхватив мелодию и ритм, ответила ему.
Дор: Пастырю делаешь честь, госпожа, по велению Божью,
Сладкий свой голос вплетя в напевы Музы пустынной.
Странное свойство любви ты тут на себе испытаешь:
То во дворцы она скачет, а то в дубровы уходит;
Принца не предпочитает, о нищем же не сожалеет;
Все далеки и близки ей, как точки окружности центру —
И ни горам, ни пещерам ее не избегнуть.
Зелмана: Честный пастух, благосклонность к тебе я выражу песней,
Но к Музе святой2не скрою своей я досады,
Музе единственной, всех девяти богатой дарами.
Счастлив же будь, в густой тени кипариса
Спасший себя от орудия Фебова гнева.
Или же мирт предпочти, уча злосчастную Эхо
Новой богини твоей множить звучное имя.
Счастлив будь тем, что к Идее3 святой и единой
(Всякой обличьем) любовью ты честною полон.
Счастливы беды, когда в сочетаньях с удачей
Музыке строй сообщают, суждениям — верность.
Но отвратительны женообразные мужи,
Что за меру любви воздают недоверия мерой.
Там, где немочь дурная язвит, врача бесполезно искусство.
Если ответчик молчит, судья ему не помощник.
Страх сокрушает тебя, зато питает надежда.
Пусть нам не внемлет Природа, клянет нас и гонит,
Но и гонимым еще помогает терпенье.
Мы заблудились и прокляли место, откуда
Начат был путь, но по-прежнему веет надеждой.
Кто же, откуда они — утешители в горе?
1 Перевод В. Рогова.
2 Имеется в виду Филоклея.
3 Идея — то есть этический идеал Платона.
132
Ангелы неба? Нет крыльев у нас. Земля? Но мы ее бремя.
Воздух? Он только огонь в нас сильней раздувает.
Два есть огня. От слез поверхностный гаснет,
Но потаенный, глубокий, все воды Нептуна
Не охладят. Подумай, как быть благодарным.
Мудрость богов унижает нас ради успеха.
Дор: Я благодарность богам воздаю от полного сердца,
Уничиженный их мудростью ради успеха.
Нам, увы, да, увы, легкий жребий сразу не дастся,
А лишь такой, чтобы чести мы поняли малую цену.
Можно чудесно играть, но никто тебя не оценит:
Даже смешно, когда из дуды исторгается мука —
Деве игрушка она, а не орудие скорби...
Боль, какую лесам и ручьям, повествуя,
Мы причиняем, и муки откуда в нас столько,
Сразу узнается это по имени с голоса Эхо.
Все же возможно умерить жестокую муку надеждой,
Если деревья запляшут, ручьи остановятся, если
Скорбный напев наш подхватит недвижная Эхо.
Есть ли что доброе, молви, в нашей пастушеской доле
(Всюду унижены мы, и первую рану
Нам причиняет любовь, — от стрел же нет нам укрытья,
И наслажденья игры гибнущим слабая помощь),
Кроме знанья того, какой снедает огонь нас?
Сколь счастливее ты, в любую вхожая сферу,
Дар чей телесный оправлен всем взорам на диво?
Ты добродетельна, да, и это всем явлено в мире,
Но добродетель ничто, коль нет красы и богатства.
Ты несомненная, имя твое ласкают времени губы.
Трудно сокрыться огню, который скрывают искусством;
Если же дух являет огонь свой открытым,
Будет стараться Природа, чтоб люди о нем не узнали.
Музу моли, чтоб тебе даровалось с ней сходство —
Так добудешь лакомый плод, желанный сугубо.
Зелмана: Тучные земли скорей не дадут урожая,
Реки скорей остановят свой путь к океану,
Явится пес твой скорее в обличье тигрином,
Будет в укор красота и добро в порицанье —
Нежели песней хвалы встречу ее торжество я,
Той, от коей начало берут земные хваленья!
Впрочем, каждый в своем преуспевает уменье:
Не уязвленный ни разу что знает о ранах?
К радости мы обоюдной с тобой хвалы обменяли,
Все ж понимаем мы оба: в нас нет ни величья, ни блага.
133
Наше величье в глазах величайшего — малость:
Хвалят разве пригорок при виде Олимпа?
Слава есть на века, а наше величье минутно.
Разве мал-муравей крушит высокие кедры?
Разве платят за грецкий орех драгоценным рубином?
Разве свечной огонек принимают за вечное солнце?
Если да, ну что ж, нареки меня кедром высоким,
Алым бесценным рубином, единственным солнцем.
Пастырь, увы, сочетаньсм достоинств не делает имя,
Коль испытанья — урок, то знай: есть мера и мера.
И душу кукла утешить не может, корона
Не помогает при боли в висках, и подагру
Обувь златая не лечит, и мягкое ложе — озноба.
Если ж телесное зло не лечится благом телесным,
Как ты горячку любви исцелишь росой дорассветной?
Дор: Нищенство в пышном убранстве — если уж это
Баловней века удел, что скажешь о прочих?
Чудо ль, что принц бежал в пастушьем обличье,
Тайно из мраморных зал, где скорбь забавлялась,
В хижины, где хоть и бедно, но дальше от скорби?
Здесь и теперь, моя госпожа, я надеюсь
Успокоенье найти. Я знаю, да, знаю,
Что от нечистого и преизбытка страданий,
Столь неизбежного в высшем сословье и званье,
Буду судьбой защищен, ибо, если мое положенье
Скрасить твоей чистотой, меня покинут недуги.
Лишь простота поднимает фантазию к небу,
Лишь в простоте благодарно фантазии внемлют.
И нахожу я, что лучше терпеть мне лишенья,
Сердцем не мучась, чем в пышном и замкнутом зале
Болью своей задыхаться — для выдоха нет там простора;
Прежде подумаю все же о горечи соков ужасных,
Кою испытывать мне не придется в моем положенье.
Лучше уж так. Пусть мысли свои я ввергаю
В рабство заботы, но страсть, пребывшую долго
В путах тщеславья, я выражу криком свободы
(Полно нашептывать и облекать в выраженья),
Лесу ее передам и доверю дикому небу,
А из людей не узнает никто, по кому я страдаю.
Встретив же эти деревья в земном облаченье прекрасном,
Я облегчение узнаю (как тот, кто долго был болен),
В них будут знаки различных моих состояний:
Лавр — это то, чего я ищу, а мирра — то, что скрываю,
Радость победы рисуют мне ветки оливы,
Мирт — моленье мое, ива — ответ беспощадный,
134
А кипарис — утешенье, но не приносящее жизни.
В сладком огне без боли сгорит можжевельнике.
Тис, из его древесины лук сделан младенца:
Стрелы без свиста летят, смертельная рана бескровна.
Ель растет на бесплодном холме каменистом:
Так благородные мысли мои растут на граните.
Фиги вкусны плоды, но тень древес вредоносна:
Тем вкусней ее дар, чем опасней к ней приближенье.
А наблюдая, как пальма прямится под ношей своею,
Верю: так и душа сумеет вынести горе.
Сосны как мачты судов, моему будет мачтой надежда:
Та же в ней высота и остроколючая зелень.
Вяз опутан лозой, но живительны вымысла путы.
Тополь оттенки листвы меняет с утра до заката:
Краска души такова, как солнце она одарила.
Старый срубленный дуб становится новою вещью:
Страх мой рубит желанья: вот чести ее обрамленье.
Копья из ясеня щит отразит, но неотразим ее натиск.
Пальмы празднуют брак — женское с мужеским древом:
Чувственность так ли глупа, чтоб смысл свой отринуть?
Так расширяется мысль, так дума думу питает.
Древо, как, впрочем, всякий предмет — фантазии книга1.
Но, прозревая сквозь слез пелену пышных лиственниц кроны,
В них, королевах лесов, мою самодержицу вижу.
Думаю, вот она, здесь, и моим уже внемлет стенаньям;
Чуть качнется верхушка — верю, привет она шлет мне,
Иглы в ветру зашумят — вот и ответ на признанье.
И, преклоняя колена к земле, говорю я:
«Неповторимая, неповторимая, слушай!
Сердце людское твой трон и слава — служанка,
Но снизойди с высоты, чтоб сошлись наши взоры.
Ты на других не смотри (они того не достойны),
Я же твоими руками содеян, души моей перемены —
Дело твое, потому откажись от презренья:
В грязных пещерах ждут клады, в тавернах царевичи спят,
И сквозь невзрачные тучи льют свет свой светила».
Зелмана: Добрый пастух, по достоинствам, верю, награда
Будет тебе от нее, и твоя судьба мне завидна.
Я же не знаю, чего пожелать, чтоб утешиться в горе.
Нет у Природы лекарств для меня, а если найдутся,
Силу тотчас потеряют они по воле Фортуны.
1 В некоторых списках «Старой Аркадии» есть перечень деревьев с их симво-
лическим значением, отчасти традиционным, отчасти придуманным Сидни: лавр —
победа, мирра — печаль, олива — покой, мирт — любовь, ива — отказ, кипарис —
смерть, пальма — счастливый брак.
135
Я зачумленная, и не пройдут мои язвы...
Где укажу я рассудку звезду избавленья?
Связана я по рукам, но путы мои благородны,
Я не сниму их, сама я свой страж и темница.
Только одно возвращает мне успокоенье —
Что драгоценность твоя, в ком мудрости кладезь
И превращений залог (только мне спасенья не видно),
Все ж поймет, что за огнь ее лучи сотворили,
И пожалеет о язве, какою меня уязвила.
Боги, о, сделайте, боги, чтоб это когда-то случилось!
В жертву вседневно я вам отдавать буду сердце
В капище мыслей, на алтаре созерцанья.
Ты ж перестань, о, достойный пастух, утомлять нас
Музыкой скорби, довольно ты зла обнажил нам.
Если права я, что речь о двух шла царевнах,
Вскоре от тяжких скорбей отдохнут твои чувства.
Восторженные похвалы, которыми Базилий осыпал эту эклогу, может
представить любой, кто знает, что любовь лучше увеличительных стекол
делает все величественнее и к тому же никогда не лишает дара речи, если
требуются похвалы (до которых так охочи женщины). Не успев уйти с
луга, Зелмана случайно услышала, как кто-то назвал имена Стрефона и
Клая, и, предположив, что они тоже здесь, она пожелала послушать их,
славных своей дружбой, а заодно и познакомиться с ними, помня об их
добром отношении к ее лучшему другу. Огорченный тем, что не может
исполнить желание своей госпожи, Базилий приказал Ламону, которому
были известны многие из их приключений и, в первую очередь, их общая
любовь к Урании (насколько возможно), рассказать о них в стихах, что
тот и сделал.
Высокий слог не нужен пасторали1,
Будь просто, слово, там, где прост предмет.
Но страстен голос у певца печали:
Без воодушевленья песни нет.
Хочу, чтоб струны сердца поддержали
Из жизни двух друзей простой сюжет.
Нет, не к лицу величественной Музе
С прерывистым дыханьем быть в союзе.
Но вы, кто дорого не ценит слов,
Лия их и на дальнем расстоянье,
Когда не с ближним худшее стряслось,
А с тем, кто беден, мал иль в низком званье, —
Вам я на суд свой вымысел принес —
Явите к бедным жизням состраданье.
1 Пастораль принадлежала к низким жанрам и требовала разговорного языка.
136
Пусть кто-то: «Счастье, что не я!» — вздохнет.
Но друг разделит горе и поймет.
Итак, о них, благословенных мало,
О двух (или один предстал как два?),
В обувке тонкой чья нога ступала
На свежий луг, где колется трава.
Один был Клай — душа его познала
Полнее жизнь: он был рожден сперва.
А тот, кто позже в мире оказался
И менее познал, Стрефоном звался.
Эола край родным Стрефону был,
Клай на Эпире был рожден высоком,
И каждый друга слушал и любил —
Так дружба запад обняла с востоком —
И сердцу отдых в друге находил.
Стада их пышных трав питались соком,
В любви и мире жили их стада:
Рабам пример являют господа.
Клай трав лечебных был знаток отменный
И слыл мудрейшим среди мудрецов,
Хоть эта мудрость не была смиренной...
Стрефон же долго был следить готов,
Как старший холит всю попеременно
Скотину, от ягнят до вожаков;
И оба голос в ритм стиха вдвигали
И шалостей любви не отвергали.
До ночи их напев не умолкал,
К тяжелому унынию не склонных;
Клай из норы зайчонка извлекал,
Стрефон ходил на белок несмышленых
Иль жаворонков с помощью зеркал
Вылавливал — глупцов, в свой вид влюбленных,
Шар проводил сквозь кеглей длинный ряд
И разным играм обучал зверят.
С красавицами свежим утром мая
Они могли без умысла бродить,
Румяный плод шиповника срывая,
Чтоб спутницу развлечь и ублажить;
И девы, зелень платьев надевая,
Любили с ними хоровод водить.
Шутя они на майский шест взлезали
И брошенным копьем мишень пронзали.
Ристаньям их был чужд спесивый спех,
Их жизнь воистину была живою:
Ни страх гордыни, ни язвящий смех,
Ни прямость стана с нищенской мольбою,
137
Ни стыд паденья — плата за успех
(О мир великих с вечной их алчбою!)
Бездольным не присущи никогда —
В себе они всех паче господа.
Но раз (о черный день, ты был так светел!),
Когда закрывшись от лучей листвой,
Клай охряным клеймом ягняток метил,
Чтоб не зазарился на них чужой
(Секрет клейма я тут бы рассекретил:
Как знак свой охрой желто-золотой
Он на ягнятах вытиснил колонну —
Держательницу, чуждую наклону.)
Тогда ж из веток лавра плел Стрефон
Гирлянды, дабы с ними в храм явиться:
На праздник Троицы был избран он
Пастушьим лордом — было чем гордиться!
И каждый из друзей был убежден,
Что в мире нечего ему страшиться...
За труд, наемщик, сразу не плати:
Доверчивая щедрость не в чести.
И вот они, свое закончив дело,
Взглянули каждый (глянь и ты скорей!),
Как птичка белоснежная летела,
А дева нежная гналась за ней
И черной шапочкой накрыть хотела
(Пред черным белое еще белей),
И щебетали обе. Но девица
Проворней оказалась, нежли птица.
Незримо для нее Стрефон и Клай
Следили из укрытия за девой,
Заброшенной Фортуной в бедный край,
Природой созданной быть королевой.
«Где ты была, гулена, отвечай!» —
Из клетки птичку взяв без тени гнева,
Она к губам беглянку поднесла —
Лобзание, беседа ль то была?
И в наказанье за свои поступки
Счастливица была помещена
На грудь хозяйки (то Венеры кубки,
Чья хрупкость из небес сотворена,
Меж них приют нашелся для голубки),
Там сладостно разнежилась она
И в толк не взяв причин, была лишь рада,
Что ей, повинной, выпала награда.
Как убивают пленных градом стрел,
Так стрелы красоты своей жестокой
138
Спускала дева с тетивы меж дел...
Вот на траве простерлась у потока,
И куст над ней листвой зашелестел,
Она ж закрыла взор, вздохнув глубоко:
Ни листьев шум, ни щебет на груди
Не гнали дум о ждавшем впереди.
Печаль (и этой красоте был ведом
Ее наход!) была причинена
Отцом и матерью: на брак с соседом
Согласье дать она была должна
По воле их — жил скучным домоседом
Антаксий тот: добро и зло сполна
Им не владели, но скотом владел он,
И нашу деву в жены взять хотел он.
О, как он чужд ей! Но отец, но мать —
Как прогневить их? О мешок треклятый
Нечистоты и скупости — но стать
В глазах людей придаст и чурке злато!
Богопротивно противостоять,
Уступкой же опошлишь то, что свято —
Два облака небесный ум мрачат,
И два потока по ланитам мчат.
О Купидон-шутник! Твоею паствой
Бывали судьи, лорды, короли —
Казалось бы, на высотах и властвуй,
Но и мальки в твой невод потекли!
Так, на пиру, где все доступны яства,
Нас радует невзрачный плод земли,
Так из гнезда крадет охотно птицу
Охотник на оленя и лисицу.
И вот на жертву выбрал Купидон
Двоих, чья твердость не могла прельститься
Ни сказкою, ни видом из окон,
Ни пляской, ни письмом, где слог искрится:
Для нежных, в свете задающих тон,
Любая из приманок сих годится,
Но грубым чувствам тонкости претят,
Лишь прелести великие им льстят.
С Уранией, как со щитом, на поле
Идет он, блеском доблесть замсня,
Перстами — стрелы: семьдесят и боле
Пронзят они щитов в теченье дня;
Власы — плюмаж, а белизна — дотоле
Невиданная на войне броня.
Но белый цвет врагу сулит ли рану?
Пунцовость губ и щек нужней тирану!
139
И очи брал он в бой — сосуды чар,
Огни — лютейшую для смертных кару,
Хоть лютый залит был слезами жар:
Так в кузнице вода — подспорье жару.
Так на сердца их шел он, бодр и яр,
Так бедных пастухов овечьих пару,
Рассудка их обрезав повода,
Ввергал он — знали бы они куда!
Клай наземь пал и плакал от паденья,
Прося на рану принести бальзам;
Стрефон же, полн блаженного смятенья,
Как действует любовь, не зная сам,
Рванулся к ней, однако дух смиренья
Познав в себе, стоять велел ногам.
Она ушла; две пары глаз раскрытых
Глядели вслед, закормлено-несытых.
Она ушла, оставив их, — верней,
Ушли их мысли, а она осталась
Недвижной в них; Клай, как в глазу репей,
Почувствовал ту новь, что в сердце вкралась,
И вот, бунтарь, науку прежних дней
(Хоть поздняя, она легко давалась)
Отринул он, решив: ее уход
От пагубной горячки ум спасет.
Стрефон о встрече думал с наслажденьем,
Как будто добрый пес пред ним возник
Иль бугорок с дарящим тень растеньем...
Так бархатные переплеты книг
С орнаментом и золотым тисненьем
Завидя, в школу рвется ученик;
Потом, от розги претерпев в избытке,
Он в книге видит лишь источник пытки.
И имя, взявшее над сердцем власть,
Стрефон писал на нем, разгоряченном;
Потом своих овец учил он красть
Корм у ее овец, чтоб быть прощенным,
Когда придется на колени пасть.
Бывал наказан он по всем законам,
И некрасивой шалостью своей
Себя унизил в мнениях людей.
Зато ее родители вдруг стали
В дом звать Стрефона; он к ним приходил
С игрой и шуткой, и они считали,
Что он ее намеренно смешил,
Дабы в предсвадебной развлечь печали...
Он на себя вниманье обратил
140
Урании, лишь непонятно было,
Им тешилась она — иль впрямь любила.
К нему ж влеченье, поздний гость, пришло.
Как млеком взора ни поил влеченье
Стрефон, оно напиться не могло —
Водянка так не знает исцеленья.
В ту пору лета, когда солнце шло
В грот Льва, пастух из ближнего селенья
Стал звать ее в одну игру — она
Звалась пятнашками, иль трепкой льна.
В высоком, низком, среднем ли сословье
Земля красы подобной не несла,
Чтоб сочетала так немногословье
С учтивостью, серьезные дела
С игривой беззаботностью, здоровье
С задумчивостью ласковой, была
И мягче воска и прочнее стали...
Стрефон шел с ней туда, где лен трепали.
Им встретилась в пути людей толпа,
И ты, злосчастный Клай, в толпу вмешался;
Ты скажешь: друга ты спешил скорей
Увидеть — до чего ж его заждался!
Зачем теперь он не с тобой, а с ней?..
Ты врал бы, милый, да не завирался!
Не дружба, а любовь тебя томит:
Земли железо взял небес магнит.
На каждой из сторон застыли рядом,
Готовясь в бег, пастушка с пастушком,
А пару в центре именуют Адом:
Она должна подножкой иль броском
Бегущих задержать. Зорчайшим взглядом
Стерег добычу Ад. Все дело в том,
Что в Ад попавший рад пятнать другого:
Да вкусит стыд все что ни есть живого!
Сцеплял персты надежной хваткой Ад,
А пары те, которые бежали
(Гори огнем, сестра! Погибни, брат!),
Друг друга за руки едва держали:
Разбить бы тех, что посреди стоят,
Дабы избегнуть муки и печали:
Так в битве трус бежит во вражий стан,
Презрев обет, который дружбе дан.
Нам, грешникам, игра — пример полезный.
Герон, хоть старый, но в игре лихой,
Был в паре с Космой, Пасию любоезной;
В Аду был Пасий с Haye молодой:
141
Ему ж без Космы центр впрямь мнился бездной;
Урания же и Стрефон в другой
Конец поставлены — мотайте на ус:
Он горд — что перед нею Косма с Haye!
За Космой гнаться Пасий не хотел,
Надеясь через круг быть в паре с милой,
Хватать Герона Haye он велел
(К нему ж Урания стопы стремила),
Был Пасий быстр и в действиях умел,
В Героне же убавил возраст силы —
И думал он: спешить не надо мне,
Коварство подобает седине.
На кортки встал Герон, и, сделав шаткий
Шаг, Пасий через тело старика
Перелетел — и так упал, что пятки
В небесные вонзились облака!
Герон вскочил, помчался без оглядки,
Но запятнала Haye шутника,
А Пасий встал со вздохом облегченным:
В Аду теперь Урания с Героном.
Тем часом Косма, миновав пятна,
Пришла к Стрефону, но стремилась рьяно
В круг новый к Пасию прийти она.
Тот, после жалкого паденья пьяный
И видя ту, что сладостней вина,
Не мог от нового спастись изъяна:
Бегущей Косме преградил он путь
И шлепнул так, что задрожала грудь
Красавицы. Она, вскричав: «Неловкий!» —
Хвать по щеке его. Что ж, поделом!
Он головой припав к ее головке,
Облобызал ей руки, но потом,
Боясь возмездья мстительной плутовки,
Запястья сжал ей... Должным чередом
Стрефон с прелестной Haye сочетался,
Но он не этой встречи дожидался.
Он наблюдал, как Коему подстеречь
Готовилась Урания. О диво!
Она, Урания, смогла увлечь
И старика Герона — вот счастливый!
В обиде Haye: ею пренебречь
Решили все! А Пасий торопливо
Глазами Коему средь игры искал,
Тут взор Ураньи на Стрефона пал.
Ее очей привороженный зовом,
Бежал он, взгляд оставя за спиной:
142
Так нумидийский лев, застигнут ловом,
Бежит с повернутой назад главой,
Ловца дразня презрением суровым —
Так он, любя, пренебрегал игрой.
Однако ж льву ловца беречься надо,
А игроку остерегаться Ада!
Запал игры алчбу в нем нагнетал,
А зренье изощрялось от желаний;
В ней лучшее Природы мир являл,
Казалось, ветер жил в подвижном стане,
А две стопы — сам Купидон их гнал —
Безмерной радости сулили дани.
О, есть ловцы на гордые сердца,
Которым мнится избежать ловца!
За Haye ринулся вдогонку Пасий,
И ей запятнанной приятно быть,
Стрефон ловить Герона дал согласье,
Но и Уранья старика ловить
Бросается — и по ошибке (счастье!)...
Стрефон запятнан, и ему водить.
Ее ж касанье бедному награда —
И лучше неба быть добычей Ада.
В Аду Стрефон и Haye. Ах, она
В Аду и с кем в Аду! Ей насолила
Урания и будет отмщена!
Меж тем игра в свой третий круг вступила.
Встал Пасий с Космой; хоть она гневна,
Но выговоры делать прекратила.
Герон с Ураньей в том конце стоят —
И в тот конец летит Стрефона взгляд.
Ему советует стеречь Герона
Стоящая с ним Haye (он ведь стар,
Его легко поймать), но уж Стрефона
К Урании влечет сердечный жар...
Герон достигнул Космы беспрепонно,
Но Пасий тут нанес ему удар:
Страх или ревность бедным помыкает,
Но он стоит и Коему не пускает
Бежать сквозь Ад; так трое их стоят,
Урания же к Пасию стремится,
Но видя Haye стерегущий взгляд,
За поле вышла невзначай юница —
А к ней глаза Стрефона уж летят,
Вот Haye он велит остановиться,
Потом толкает грубо — и она
В Аду остаться вновь принуждена.
143
К Урании стремится он упорно,
Эфирной, пламенной — нет, не земной!
А все ж в земной игре она проворна:
Обманут ею трижды наш герой,
Хоть вот уж, настигал... В стремнине горной
На Даунсе так заяц молодой
Из самых челюстей борзой спасется
И к Вилтону прекрасному несется.
О полные превратностей бега!
Охотник, отражен твой натиск ярый,
Теперь она хозяйка, ты слуга.
Один рассказ я вспоминаю старый,
Как по пятам бегущего врага,
В седле оборотясь, разят татары,
Щит разорвав насквозь... Но здесь стрела
Татарской глубже рану нанесла.
Как белый друг Венеры, голубица
(Сравнить ее с Уранией дерзну!),
Расправя крылья, в вышину стремится —
Не то у ястреба ей быть в плену —
Все время убыстряет шаг девица,
Подъемлет бег красу, как ветр волну!
Душа объята трепетом и страхом —
Так страшно Фениксу стать снова прахом.
Средь тех, кто любовался этим днем,
Запечатленным двойственной зарею,
Был Клай (еще вы помните о нем?):
Красу Природы зря со всей толпою,
Он не умел себя уверить в том,
Что шестеро захвачены игрою.
Нет, эти люди вышли не играть,
Им сердце Клая надобно заклать!
Шатаясь, чуть дыша, он головою
Вращал, как посолонь один цветок,
Он провождал догадкою живою
Движенья хоть бежавшей наутек,
Но в отступленье правившей игрою —
Столь властным быть и сам Борей не мог,
Нептуна нить на прялке риска прявший...
Бог Времени, свою любовь ей давший,
Так сделал, что усталость лишь едва
Была заметна в ней, когда другие
Валились с ног; Клай видел, как трава
Сминалась там, где две стопы нагие
Бежали от Стрефона; дав права
Безумному себе творить любые
144
Бесчинства, вот, на поле он, гляди,
Вбежал, хвать деву — и прижал к груди!
Оправдываясь тем, что от Стрефона
Невинность девичью оберегал,
В ристанье он ворвался беззаконно!
Стрсфон себя за промедленье клял —
Но право же его зато исконно —
И вместе с Класм он ее поймал!
Соперница Судьбы, краса Вселенной,
У двух своих рабов ты стала пленной!
И вот, не то что б краше, чем вчера —
Саму себя краса не превосходит,
Но блеска ей прибавила игра,
Как тренье на рубины блеск наводит,
И капли лакомые серебра,
Как на цветах, когда заря восходит,
Бегут по коже... Разве плохо ей
В двух шалашах гостить у двух друзей?
О счастье! Им она в глаза глядела,
И долу оба опустили взгляд;
Стыдливость в них гордыню одолела,
Ее глаза укорами язвят,
Но сердце чувствуют они сквозь тело,
И руки их сжимаются, дрожат...
Знать, видеть, осязать и слышать боле,
Чем вся земля являла им дотоле!
О, и Медеин пеплос золотой,
Сгубивший нареченную Ясона,
Не причинил беды, подобной той,
Что сталось с сердцем Клая и Стрефона.
Став тестом в их руках, она с толпой
Спешит расстаться, сердцем непреклонна.
«Прощайте!» — людям говорит она,
И прервана на этом «трепка льна».
Чуть от одной избавлен Клай кручины —
Уж новая беда предрешена.
Он остается зрителем картины,
Хоть с глаз она уже унесена.
О, целомудренность лишь часть мужчины,
А часть за целым следовать должна!
Фантазия кладет начало узам —
Рассудок прочность придает союзам.
В ярме жестоком не был Клай одним...
Стрефон! Ты жил, беды не замечая:
Очами внутренний не виден дым,
Но стоило тебе взглянуть на Клая,
145
Ты понял, что и сам огнем палим, —
И ярче вспыхнул пламень, жизнь сжигая,
Грудь полня вздохами, вселяя ночь
В сознанье, унося веселье прочь.
Рок вырос из игры и шлет удары,
На горьких думах душу он пасет,
День бесконечен, ночь гнусна — кошмары
Она взамен прелестных грез несет,
На самый дальний луг свои отары
От глаз людских подале он ведет;
Там, никому не зрим, уныл и горек,
Воспричитал он, севши на пригорок:
— Я как одер в нагруженном возу
Или овца голодная зимою!
В полете мысль, а сам едва ползу,
Впадаю в дрожь пред кроткой муравою,
Ложусь — сна нету ни в одном глазу,
Хоть вечерами с ног валюсь порою.
Я проклят! Так! Недаром у креста
Я встретил безобразного кота.
Злым силам отдан я на поруганье!
Глаза моей Урании — родня
Небесных яблок — счастливы в незнанье
Своей красы, которой сгублен я!
Ты — дерево в апрельском одеянье,
Урания! Ты выстрел без огня!
Вред совершился надо мной незримый,
А значит силой неземной творимый!
Весь трепещу пред ней я, весь горю,
Хотя не от нее исходит кара;
Среди овец о ней я говорю
(В уме ли тот, кто говорит с отарой?),
Один я, но все время вас я зрю,
Златые кудри, рук молочных пара,
Вишневые уста... Конечно, враг
В обличье ангела отмстил мне так.
Благоухает воздух дивным телом —
В блаженстве этот запах я вдыхал,
Счастливым, легким становясь и смелым —
И вот я с высоты блаженства пал!
Друзья смеются над моим уделом.
Заговорю ли (чтоб насмешник знал,
Как стражду я) — и сразу против воли
Слова коверкаю — не колдовство ли?
Как стражду я — заявлено везде:
Недаром соловья печальны звуки;
146
Недаром вижу, наклонясь к воде,
Лицо, исполненное жгучей муки;
Гора, сочувствуя моей беде,
Свои седины рвет, ломая руки;
Деревья слезы обо мне струят,
И, стыд мой видя, покраснел закат!
Ты, дудка, лучшая моя отрада,
Теперь мне счастье растоптать твой прах;
И вы, с кого свести не смел я взгляда,
Вы, овцы, скройтесь от меня в лугах!
Ты, пес, берегший от волков мне стадо,
Помысль о внутренних моих волках,
О, помоги от них мне уберечься!
Увы, мне впору от себя отречься!
Хоть мягче воска суждено мне стать,
Хоть жалостней ягненок лишь бывает,
Увел чью матку расторопный тать:
Он дискантом о помощи взывает,
Которой неоткуда больше взять, —
Но пусть Урания не забывает:
Единый миг была она моей,
Хоть от блаженных проклят я очей.
Я с ней, пока на ветровом просторе
Еще веду своим обидам счет,
Пока могу свое поведать горе —
С ней воля сцеплена, к ней мысль течет;
Как душу обстает фантазий море,
Душа объемлет деву в свой черед.
Вся жизнь моя над нею, точно птица,
Любовью полнясь, день и ночь кружится.
Вот, облако мне заслоняет взгляд,
Но там как будто глаз ее свеченье;
Поодаль духи адские вопят,
Но громче воплей ангельское пенье;
«Послушай, сделай, как тебе велят,
Предайся весь в мое распоряженье,
Не спи, не наслаждайся, не владей:
Все в жертву дай, не признаю частей!»
Спешу! Любая жертва мне отрада,
Пусть все мое тебе принадлежит!
Пусть поразит чума все это стадо
И колдовская дудка замолчит.
Пес, уходи! Ты не умрешь от глада:
Ягненок пусть твой голод утолит... —
Так с овцами простился и с собакой,
И дудку сжег, поцеловав однако.
147
Сказав и сделав так, встал с места он —
И наугад побрел с душой унылой,
От роздыха как будто утомлен,
Синь глаз ему лицо залить грозила.
Пугаясь худшего, не знал Стрефон,
Что лучшее... И вот же надо было
Ему на куст случайно кинуть взгляд:
Тот, кто под ним сидел, был друг и брат,
А стал никто. Вот где ты, Клай безбожный!
Я жить и радоваться мог — но ты!..
Клай за поступок свой неосторожный
Себя меж тем судил; стыда цветы
Пылали на щеках... Куст придорожный
Увидев, сел он, погрузясь в мечты,
И жалобно запел о сердцу милом;
И в голосе его Стрефон унылом
Меж восклицаний горестных ловил
Звук ласкового имени святого;
«Я околдован!» — вновь он повторил.
Он пленник был владыки Ада злого,
Но образ, что душе его так мил,
Пред взором мысленным явился снова.
Казалось, смерч в свой вихрь его бросал
Иль сдвиг подземный сердце сотрясал.
Ламон был не прочь продолжать, но Базилий заметил, что факелы
уже догорают, значит, ночь подходит к концу, и, вспомнив о ранении
Зелманы, предложил отложить жалобу Клая на другой день. Сопоставив,
сколько времени заняло пение Ламона и сколько еще может занять, ибо
он едва начал новую тему, Зелмана, хотя и слушала его с удовольствием,
тем не менее согласилась с Базилием. И все разошлись, чтобы вручить
себя заботам старшего брата смерти1.
КОНЕЦ ПЕРВОЙ КНИГИ
1 Имеется в виду сон.
ВТОРАЯ КНИГА
Глава первая
Много дней промчалось в сельских забавах вслед за улетевшими пре-
жде, а тем временем чаша с ядом1 (из которой без счета пила вся благо-
родная компания) лишала всех сил, не лишая жизни, хотя никто не дога-
дывался о злодеянии, пока однажды, едва ночь (удалившаяся в ярости от-
того, что не в силах нагнать сон на влюбленных) уступила место утренней
заре и первые лучи солнца позолотили вершины гор, несчастная Гинесия
(которой отдых не приносил облегчения) не оставила немилые покои и
не отправилась искать уединенное место, каких было немало, а найдя, не
принялась мерить его шагами, выказывая столько беспокойства в своих
движениях, сколько было печали в ее мыслях. Глазам ее разума откры-
лось, на какое зло и на какой чудовищный позор она была готова пойти:
и ее стала мучить совесть; слишком долго она вела добродетельный образ
жизни, чтобы порок не ужаснул ее. Самым лучшим для нее было бы убить
непрошеное чувство, ведь даже малость зла не мешала мудрой Гинесии
распознавать его, и, с отвращением взглянув на себя со стороны (словно
призвав все силы земли и неба стать свидетелями ее жалкой участи), она
подняла мокрые глаза к небу и заговорила:
— О солнце, твой незапятнанный свет направляет шаги смертных,
и разве не позор для тебя отдавать свою чистоту ползающей во прахе тва-
ри? О небеса, безукоризненно следующие своим путем, отчего не напра-
вить вам несчастную Гинесию, чтобы и она не сворачивала с выбранного
ею в далеком прошлом пути? О пустынные уголки, пустынные уголки,
у вас не может быть гостьи лучше меня, потому что мое сердце населит
вас дикими прожорливыми зверями, которых вам не хватает! О доброде-
тель, где прячешься ты? Какое чудовище заслонило тебя собою? Неужели
правда, что тебя никогда не существовало и ты лишь пустой звук, ведь
иначе ты не покинула бы свою служанку, когда больше всего нужна
ей? О несоразмерный разум, многое ты предвидишь, но мало можешь
1 Чаша с ядом — здесь: любовь.
149
предотвратить! Увы, увы мне, — продолжала она, — не на что мне наде-
яться в муках и нечем оправдаться в заблуждениях! Я преступна, и никто
не облегчит мои муки, потому что муки, заслуженные мною, превосходят
те, что мучат меня. Зачем было моему мужу принимать глупое решение
и бежать сюда? Зачем ветры привели в мою страну чужестранца? Зачем
парки1 длили мне жизнь, если не для того, чтобы я, несчастная, стала на-
казанием для себя самой и бесчестьем для всего женского рода? Все же
если мое желание, каким бы неправедным оно ни было, может испол-
ниться, хотя бы потом меня ждала тысяча смертей и каждая в тысячу раз
позорней самой позорной, пусть оно исполнится, прежде чем я сойду
в могилу. Горе мне, ведь я знаю, что Зелмана может ответить на мою лю-
бовь, но я знаю и то, что ее преображение не было бесцельным. А если это
так, то на чем, несчастная Гинесия, зиждутся твои надежды? Да, да, его
сердце принадлежит Филоклее, моей дочери, которую я родила, чтобы
она заняла мое место. Но тогда, неблагодарная Филоклея, я сама своими
руками отниму у тебя жизнь, прежде чем ты насладишься отнятым у меня
счастьем. Если в бесчестье есть покой, то пусть будет много бесчестья.
Умолкнув, Гинесия начала жалкую войну со своими прекрасными во-
лосами, когда услыхала неподалеку грустную песню, но такую тихую, что
не могла разобрать ни слова. Для скорбящего ума нет ничего прекрасней,
чем печальная музыка, и Гинесия пошла на голос в надежде найти по-
другу по несчастью, но не сделала и нескольких шагов, как на ее пути
встали густо сплетенные деревья, и она не стала шуметь, чтобы не пре-
рвать жалобу, которую ей хотелось понять. Как можно тише она опусти-
лась на траву (достаточно близко, чтобы не пропустить ни слова) и сна-
чала услыхала мелодию, искусно исполняемую на лютне, а потом слова,
которые пел тот же грустный голос.
Напрасно вы, глаза, затмить хотели
Слезами облик, ускользнувший прочь,
Ведь в сердце вы его запечатлели,
И вижу я, хоть видеть мне невмочь.
Напрасно, сердце, ты, воспламеняясь,
Все ж мнило вздохами унять пожар,
Ведь вздохи, словно в мехи возвращаясь,
Лишь пуще прежнего раздуют жар.
Ты, разум, сердце потерял отныне,
Так не сдавай же голову мою,
Хоть предрекли падение твердыни
Мои глаза, врата открыв врагу;
Хотя борьба моя, увы, напрасна
И странной смерти жизнь моя подвластна2.
1 Парки — в римской мифологии богини судьбы.
2 Перевод Л. Володарской.
150
Конец этой песни стал началом новых жалоб, словно разум, придав-
ленный слишком тяжелой ношей, стремился освободиться от нее и не
жалел никаких красок. Несчастная (будто, присоединяясь к голосу, лют-
ня творила зло) швырнула ее на землю, но тотчас проговорила:
— Ах, бедняжка лютня, как же ты обманываешься, если думаешь,
будто можешь утешить меня в моем горе, как в прежние беззаботные дни
умела угождать моим фантазиям! Теперь другие времена, моя лютня, дру-
гие времена, и если прежде у меня были радостные мысли и все вокруг
пробуждало во мне радость, то теперь и мысли у меня тревожные и все во-
круг пробуждает во мне тревогу. Зло внутри меня, моя лютня, зло внутри;
а по твоей вине я лишь еще больше думаю о нем, и чем больше я думаю,
тем больше у меня причин для раздумий и тем меньше надежд. Увы, но
и твоя сладкопевность разве не похожа на засахаренную печаль? Разлад
в мыслях, милая лютня, не гармонирует с согласием твоих струн, поэтому
не стыдись покинуть своего господина, тем более что и сам он не боится
покинуть себя.
Когда столь долгая речь завершилась сердечным стенанием, Гинесия
решила выйти из укрытия, потому что столь сильное горе соответствова-
ло ее собственным страданиям. Но едва она вошла в укромное владение
печальных мелодий, как ее взгляд встретился со взглядом Зелманы, опла-
кивавшей свое несчастье, и они обе застыли в изумлении, а Зелмана еще
и в страхе оттого, что Гинесия слышала стенания, которые она хотела из-
лить в тайне ото всех, для чего, собственно, поднялась в тот день порань-
ше с постели. Ошеломленная Гинесия долго стояла неподвижно, уставясь
на Зелману, но в конце концов собралась с мыслями и спросила амазонку,
что в столь ранний час привело ее в одинокую беседку? Однако, открыв
рот, она словно открыла шлюзный затвор и дала волю печали, которую
больше не могла удержать в сердце, поэтому спрятала лицо в ладонях и
упала на землю, громко крича:
— Зелмана, помоги мне! О Зелмана, пожалей меня!
Зелмана бросилась к Гинесии, не понимая, что за нежданная болезнь
скрутила ее, и стала спрашивать, что у нее болит и чем ей помочь, но тут
Гинесия подняла на нее жаркий взор, в котором Зелмана увидела огонь
любви и муки совести.
— О, Зелмана, Зелмана, ты предлагаешь мне лекарство, которое уже
отравило меня? Или службу, которая уже привела меня в вечное раб-
ство?
Тут Зелмана поняла, во что угодила, поэтому с неохотой продолжала:
— Прекрасная госпожа, тебе лучше возвратиться домой, чтобы по-
скорее избавиться от недомогания.
— Возвратиться? — переспросила Гинесия. — Если бы я могла воз-
вратить себя в самое себя, после того как ты (злополучный гость) при-
шел и забрал меня у меня, вот тогда я была бы счастлива и не нуждалась
в твоих советах. А теперь, увы, мне приходится бежать за помощью к тебе,
которого я обвиняю в моих бедах и которого выбираю себе в судьи как
единственного виновника моих бед.
151
Чем сильнее Зелмана удивлялась Гинесии, тем лучше ее понимала.
— Госпожа, на все твои обвинения у меня есть оправдания. Или ты
ждешь от меня службы в том, в чем не можешь приказывать?
— Горе мне! — вскричала Гинесия. — Что сказать? Пожалей меня,
о Зелмана, но не как Зелмана, и не обманывай меня словами, как ты об-
манываешь своим обличьем.
Зелмана еще сильнее загрустила, поняв, что попала в трудное по-
ложение. Но, пока она размышляла над ответом, они увидели старого
Базилия, который шел мимо, не замечая их, и тоже пылко сетовал на свою
любовь. Потом он запел, словно любовь омолодила его воображение и его
голос:
Пусть старость не срамит мои желанья,
Душа святая в смертной плоти есть:
Чем дуб старей, тем ярче полыханье,
А дым о младости кричит нам весть.
Пусть белизна моих волос не станет
В твоих глазах позорящей меня,
Ведь белизна к себе все взгляды манит,
И все они приветствуют тебя.
Мы в старости мудры и справедливы,
Мы в старости не суетимся зря,
Мы в старости по-детски не шкодливы,
Другую честь с годами оценя.
И старость — свыше дар, не наказанье,
И не срамит высокое желанье1.
Не переставая петь, Базилий с любопытством оглядывал себя,
иногда даже подпрыгивал, словно доказывая, что силы еще не покину-
ли его.
Вот тут-то Зелмана, которой хватило времени, чтобы придумать от-
вет, поглядела на Гинесию, ясно давая ей понять, что знает причину ее
страданий.
— Госпожа, — сказала она, — мне неизвестны слова обмана, они не
в чести у амазонок; да и ты не из тех, кого можно обмануть. Если в моей
власти услужить тебе, владей мною, но не обижай меня несправедливыми
упреками.
— Ах, Зелмана, — проговорила Гинесия, — тебе ли не знать, как про-
ницательны глаза влюбленных. Даже один луч тех мыслей, что ты про-
будила во мне, в силах разогнать большее облако, чем то, которым ты
окутала себя. Не пытайся меня обмануть, не то страсть обернется жесто-
костью.
Зелмана оказалась в трудном положении, но тут царь обернулся, по-
смотрел в их сторону и, увидев сквозь переплетенные ветки жену и воз-
1 Перевод Л. Володарской.
152
любленную, изобразил на лице самую очаровательную улыбку, прибли-
зился к ним, пожелал доброго утра, поблагодарил жену за то, что она
развлекает Зелману, а потом попросил ее удалиться в свои покои, ибо он
должен сообщить госпоже Зелмане нечто очень важное. Царица, не ис-
пытывая к супругу ревности, подчинилась его приказанию, но, терзае-
мая страстью, была готова не только воспользоваться всеми любовными
средствами, но и пойти на любые безумства, лишь бы завоевать Зелману;
и ничто не в силах было ее остановить. С этим она ушла в свои покои;
и такая война разгорелась между ее мыслями, такое сокрушительное по-
ражение потерпели благие намерения, что даже ее тело (поле, на котором
разыгралась битва) подчинилось победителям; слабость, усталость от-
ступили, оставив победу страсти, которая, подчинив ее себе, пробудила
в ней ревность и потребовала следить за дочерью и Зелманой и для этого
хотя бы одну из них постоянно держать на глазах.
Едва избавившись от жены, Базилий упал на колени перед Зел-
маной.
— О госпожа, — воскликнул он, — тебе удалось разжечь давно погас-
шее пламя! Погляди на меня, и ты увидишь, сколько сил в твоей красоте,
которая заставляет старца просить совета у юницы и всевластного царя
делает рабом чужестранки. Познай свою власть надо мной и полюби ее,
потому что она принадлежит тебе, если, конечно, ты не знаешь ничего
другого, за что могла бы меня полюбить.
— Достойный царь, — возразила Зелмана, поднимая его с колен, —
мне непонятны твои речи и твои поступки, и я не знаю лучшего ответа на
них, чем молчание.
— Если тебе нравится молчать, то и мне нравится, потому что я всем
сердцем желаю повиноваться тебе. Но если ты одаришь мои уши счастьем
слышать тебя, они донесут твои слова до моего разума, который с благо-
говением примет их.
— Могущественный царь, не беседа с тобой вызывает у меня опасе-
ния, а предмет нашей беседы, который может задеть мою честь.
После этих слов Зелмана с деланно храброй улыбкой покинула царя,
который не был обескуражен таким немногословием, зато гордился
тем, что заговорил о своей любви. Итак, насыщая свой разум подобны-
ми размышлениями, царь стал много времени уделять стихосложению
и еще больше, гораздо больше, чем обычно, — заботам о своей внешно-
сти, так что вскоре, ощути он какую-никакую поддержку, непременно
превратился бы в симпатичного слабоумца.
Зелмана же, избавившись от любящих, но нелюбимых претендентов
на свою любовь, сказала так:
— Увы, бедняжка Пирокл, неужели один я получаю не то, что хочу, за
что винить могу лишь себя самого, неужели один я получаю больше, чем
хочу, но не получаю того, что хочу? Вот, что я скажу тебе, любовь, ты отда-
ла мою любовь той, что заслуживает всяческой любви, и в ответ послала
мне любви больше, чем мне надобно. Что будешь делать, Пирокл? Как
будешь избавляться от своих несчастий? Для той, которая должна была
153
обо всем догадаться, я живу во тьме, но зато открыт для той, для которой
должен был оставаться тайной за семью печатями. Как мне избавиться
от навязчивой любви Базилия? Каким щитом прикрыться от необуздан-
ной страсти Гинесии? И даже если я справлюсь с ними, как мне пога-
сить огонь, сжигающий меня самого? Что ж, прелестная Филоклея, твоя
святая душа будет залогом моей решимости и потому пора тебе узнать
о жестокой ране, которую ты нанесла мне.
Глава вторая
Подобно заболевшим людям, которые в одиночестве мечтают об
обществе, надеясь облегчить боль, а в обществе быстро устают от шума,
и грешат на все, что кругом, тогда как зло у них внутри, вот и бедняж-
ку Зелману утомил Базилий, но не более чем она сама себя утомила, и,
оставшись одна, все настойчивее обращала взгляд на самое себя, чтобы
стать себе беспристрастным судьей. Наконец наскучив этим, она захотела
повидать верного друга Дора, чтобы переложить груз своих печалей на
его плечи, и, отправившись прямиком к дому, в котором он жил, нашла
его среди буков одетым во фланелевую тунику и плащ из козьих шкур, да
еще в венке из лавровых и кипарисовых листьев. В это время Дамет учил
его крюком вытаскивать из отары ягненка и крюком же запускать комок
земли в отбившуюся от стада овцу. Пока Дор упражнялся, Дамет стоял
у него за спиной, засунув руки за пояс, без устали раскачиваясь взад-
вперед и на чем свет стоит ругая Дора за бестолковость, при этом он все
время повторял, что бы там ни говорили о мудрости, по его разумению,
ему в жизни не приходилось видеть никого, глупее великих мудрецов.
Приход Зелманы спас Дора от ворчаний Дамета. А она, заведя с Дором
беседу о поголовье овец у его хозяина да о том, где в Аркадии шерсть
лучше, некоторое время поддерживала разговор на сельские темы, пока
(скрывшись с глаз Дамета) не выложила с горячностью, словно сердце
было готово выпрыгнуть у нее из груди и поменяться местами с языком,
среди каких колючек растут розы ее любви, да еще о времени, которое
забыло о ней и не дает ей ни часа передышки; и о злой судьбе, которая
становится час от часу все злее, словно зло порождает еще большее зло.
— Ах, Дор, ты и сам знаешь, сколько нескончаемо долгих недель ми-
новало после нашего разговора, а у меня ничего не изменилось, и я не-
счастна так же, как прежде, разве что страсть стала сильнее, а надежда
слабее.
Она так жалобно сетовала на несбыточность своих желаний, что слух
Дора был ранен ее словами и слезы наполнили его глаза, подтверждая,
как ему мучительны ее муки, пока Зелмана не утихомирила свою страсть
(весьма обременительную гостью) и не попросила Дора с той же откро-
венностью разложить перед ней карту его мира, чтобы она знала, мучает
ли и его тоже убийственный климат из сменяющих друг друга ледяной
безнадежности и жаркой страсти.
Прохаживаясь под пальмами (которые, будучи любящими по своей
природе, тем охотнее предоставляли им свою тень, что они вели речи
о любви1), Дор повел рассказ о себе:
— Увы, милый кузен, по воле высших сил мы оказались в таком по-
ложении, что в наших дружеских беседах лишь обмениваемся жалобами
1 Считалось, что пальмы дают плоды, только если растут парами.
155
на жизнь. Должен, признаться, из мрака печалей мне как будто удалось
выкарабкаться, нет, не к свету, а лишь к просвету, к слабому лучу на-
дежды: и все же я несчастен, потому что далек от цели своих желаний;
иногда мне даже приходит в голову, а не тот ли луч проникает в темницу,
что напоминает узнику о свете, которого он лишен, или я похож на того
ученого мужа, который чем больше узнает, тем больше убежден в своем
невежестве. А ведь получается именно так. После того, как твоими за-
ботами я был взят на службу в этот благословенный дом, какое-то вре-
мя я находил облегчение от сжигающих меня желаний в воспоминаниях
о победе над медведицей и о радости царевны (чье царское достоинство
сверкает сквозь любезность), но с тех пор она лишь изредка одаривает
меня ласковым взглядом, когда наблюдает за моими упражнениями или
слушает мои песни. Я не упустил ни одного удобного случая, чтобы вы-
казать несравненной Памеле свою беспредельную преданность и возвы-
ситься в ее глазах. Маленькая услуга и великая любовь должны были бы
победить и самую мудрую из дам, но, увы, теперь мне отлично известно,
что пастух есть пастух и на него никогда не смотрят иначе, нежели как
на слугу. Более того, однажды подметив намек на любовное устремление,
ее Величество (восседая на троне красоты) немедленно подняло на меня
меч такого искреннего презрения, что я застыл на месте, будто поражен-
ный громом, не смея — не умея — противостоять ей.
Открыться же я не могу из-за подозрительности Дамета, Мисо и
юной госпожи Мопсы. Ведь Дамет (по своей природной глупости) счи-
тает, что нет лучшего способа демонстрировать мудрость, чем подозре-
вать всех, кто попадается ему на пути; и точно такую же подозрительность
с готовностью выказывают Мисо (из-за ее животной злобы) и Мопса
(из-за ее нечеловеческой зависти к несказанной красоте царевны). Вот
и оказывается, что, не имея возможности открыть свое настоящее имя,
я вижу пренебрежение к моим услугам, презрение — к моей любви и живу,
переполненный любовью, не зная, как добиться ответной любви. Ах, если
бы деревья могли говорить! Много раз я приходил сюда оплакивать под
ними свою участь. Много раз стоял под пальмой и восхищался тем, сколь
счастлива она, наделенная даром любить, не страдая. Много раз, когда
стадо моего хозяина паслось здесь вечерами, я видел, как торжествовал
юный бычок победу в любви. Как? У него был радостный и гордый вид.
— О несчастное человечество, — говорил я себе, — разум, который
должен вести тебя к благоденствию, предает твое счастье! Дети природы
(животные) блаженствуют, не зная страданий, а мы, словно бастарды, вы-
брошены из своего дома и, словно подкидыши, живем в горе и муках. Их
разум не противостоит телесным удовольствиям, их чувства не мешают
их наслаждениям, а нам оставлены долг чести и угрызения совести.
Много времени я провел в подобных размышлениях; и иногда мне
начинало казаться, будто ноги у меня врастают в землю, будто в голове
тяжесть и тьма, и тогда я, наверно, легко мог бы покончить с собой. Но
любовь (которая то придавливает тяжким грузом, то поднимает, как на
крыльях), едва мысли переставали отрываться от земли, возвышала мои
156
чувства напоминанием о том, что ничего нельзя добиться, не потрудив-
шись основательно, и, лежа, не обгонишь идущего. И я решил — теперь
или никогда — сделать все и добиться ее, но долго не мог придумать, как
мне сообщить ей о своих чувствах и о своем истинном положении, пока
наконец меня не осенило, и тогда я начал действовать, хотя ты наверняка
скажешь, что все надо было делать по-другому.
Я стал разыгрывать пылкую любовь к Мопсе, а так как любовь пы-
лает в моей груди (хоть и не к ней), то мне почти не приходится ничего
играть, и, вызывая в памяти ее противоположность, я вместо уродливого
лица представляю чистый лик Памелы и, глядя на Мопсу, помню лишь
о Памеле, словно смотрю на мое солнце, отраженное в грязной луже.
Но мои слова только о Мопсе, и Мопсе как будто предназначено мое
внимание, Мопсе приношу я самые спелые ягоды, Мопсе говорят мои
глаза то, о чем молчит язык. Итак, Мопса в моих речах, Мопса в моих
песнях, Мопса (которая только и может, что накладывать грязные бели-
ла на грязную мордашку, так что грязь бросается в глаза) стала звездой
моей жизни, блаженством моих глаз, в ней поражение моих желаний и их
вознаграждение, она услада моего сердца и услада моей смерти, которую
эта услада навлекла на меня. Короче говоря, все, что я думал о Памеле,
я говорил Мопсе, чем заслужил одобрение моего хозяина (который по-
началу злился на меня, полагая, что я посягаю на расположение Памелы)
и благоволение царевны, ведь теперь она вновь является мне, — то ли
возмутившись девчонкой, отнявшей у нее ее собственность, как бы она
ни была ей безразлична, то ли (я думаю) обо всем догадавшись, так как
пылкость моих речей не соответствует достоинствам Мопсы, и та, кому
они на самом деле предназначаются, с удовольствием внимает им, делая
вид, будто ничего не понимает. Наконец я решил, что расскажу ей о себе
и о своей любви, но так, словно о ком-то другом, и для этого подстерег
Мопсу наедине с Памелой (кукушку рядом с соловьем), подошел к ним
с лютней в руках и, не скрывая грусти за улыбкой, запел:
Когда мой взор твоими зришь очами,
То ум мой в зренье закреплен твоем;
Коль фею сердце тех очей лучами,
То жизнь сохранна каждым их лучом;
Коль взыскана богами ты во всем —
То знать нужды я близ тебя не буду,
Ведь лик твой не отходит от очей
И верная любовь со мной повсюду.
Я недостоин, но в душе моей
Сокровища живут души твоей!
Так я спел им, прерывая себя едва ли не на каждом стихе отчаянны-
ми вздохами, и лютня выпала у меня из рук, после чего, поглядывая на
Мопсу, но на самом деле почти не отрывая глаз от Памелы, я сказал:
157
— Неужели, прекраснейшая Мопса, несчастный Дор обречен на то,
чтобы по его участи судили о его уме? Неужели оттого, что я несчастлив,
мне должно стерпеть еще не одно несчастье? Неужели то, чему должно
быть поводом для сочувствия, станет причиной гонения? Ах, несравнен-
ная Мопса, представь, что и добродетельнейшему из царей может пона-
добиться жизнь ничтожнейшего из его подданных, да и солнце не обхо-
дит своими лучами самого малого червя. Ах, Мопса, Мопса, если бы я
мог открыть тебе мое сердце, как оно открыто для меня, не сомневаюсь,
возвышенность моих мыслей уравновесила бы низкие мои достоинства.
Кто не слыхал о твоем величии? Кто не видит, как оно еще пышнее рас-
цветает, благодаря чарующему соединению всех красот, коими ты владе-
ешь? Кто не знает, что все они лишь украшают божественную искру, за-
ключенную в тебе, которая, явившись с неба, не могла бы найти для себя
более прелестного жилища? Но, да будет тебе известно, та лента, которая
должна связывать вместе твои совершенства, называется милосердием
к тому, кто всей душой предан твоим совершенствам.
Мопса, уже успевшая влюбиться в меня, то закрывала лицо руками,
то, как обычно, разевала рот и ухмылялась, вместо того чтобы улыбнуть-
ся, но все же я сумел выудить из нее (пока она выгибалась и выпячивала
подбородок): «Ты, право, шутишь. Вот весельчак».
Однако милой Памеле (которая отлично поняла, что из этой комедии
ничего не выйдет, если она не поможет Мопсе) захотелось услышать по-
больше. «Господин Дор, — сказала прекрасная Памела, — мне кажется,
ты напрасно пеняешь на свою участь, ведь не Судьба, а ты сам виноват
в том, что не умеешь смириться с ней: напрасно ты требуешь от Мопсы,
чтобы она унизилась до слуги своего отца; забыв о своем достоинстве, она
станет недостойной любви».
Я долго молчал, ожидая, не скажет ли она что-нибудь еще, столь я
был счастлив, внимая ей, но она не собиралась продолжать, и тогда, весь
дрожа, я ответил ей так: «Госпожа, достойная всяческого поклонения,
неужели ты, осиянная добродетелью, берешься защищать Судьбу, един-
ственную непокорную служанку добродетели? Ведь ты своими глазами
видишь жалкое творение ее злобы: несчастное существо, которое должно
быть не таким, каков я есть, но таким, каким она меня сотворила, по-
тому что только ей ведомо соотношение моих достоинств и недостатков.
Даже осужденный на смерть преступник имеет право на последнее слово,
значит, и я, смертельно раненный, имею на него право: поскольку со-
вершенства той, которую я люблю, таковы, что неблагородному сердцу
их оценить не под силу, но будет ли сердце, которое не только оценит их,
но и свою жизнь положит за них, будет ли сердце, спрашиваю я, подня-
тое на такую высоту, считаться низким? О, совершенная душа, не думай
о себе так дурно, полагая, что там, где ты находишься, где тебя любят, там
может быть что-то недостойное, ведь даже самый легкий туман не легче
рассеять солнцу, чем подобные размышления — высоким мыслям».
«Не буду отрицать, — отвечала любезная Памела, — что твоя любовь
к Мопсе позволила тебе оценить ее добродетели и тебя возвысила в до-
158
бродетели и достоинстве: но если это так, тогда (придется признать) ты
получил свое и скорее должен выказывать ей благодарность, нежели тре-
бовать от нее чего-то еще, по крайней мере пока у тебя нет собственных
заслуг. К тому же Дор, если по правде, то будь я Мопсой, должна сказать,
увлеченный ее красотой, влюбленный в нее, ты должен больше заботить-
ся о ней, нежели о себе, больше думать о ее чести, нежели о своих жела-
ниях».
«Клянусь святой царицей, — вмешалась Мопса, глядя на меня овечь-
ими глазами, — и я так думаю».
Я же подумал (поняв, что моя хитрость принесла мне, по крайней
мере, то счастье, что я смог поведать моей даме о той боли, что глубоко
спрятана в моем сердце, и она терпеливо выслушала речи, будто бы об-
ращенные к Мопсе, чего не сделала бы, будь они обращены к ней самой),
что глупо упускать удачу, и надо идти дальше, пользуясь тем, что Памела
умна, а Мопса глупа. Поэтому, устремив на Памелу робкий взгляд, слов-
но я был сурово осужден ее устами, а не вознесен до небес, не отводя от
нее взгляда, хоть и повернувшись к Мопсе, я сказал: «Прекрасная Мопса,
связав вместе все твои слова, я понял, что бы я ни говорил, мне не удастся
ни в чем убедить тебя, потому что я недостоин тебя и, любя, не смогу до-
казать, что люблю тебя, пока не оставлю мысли о любви, ибо эти высокие
мысли заключены в недостойный сосуд. Однако моя любовь — лучшая
и неотъемлемая часть моей жизни, и, лишившись одного, я непременно
лишусь и другого, потому, желая подчиниться тебе, я хочу знать, чем я не-
достоин тебя — умом, званием или тем и другим вместе?»
Мопса уже хотела сказать, что ничем, и я видел, что тронул ее серд-
це своим порывом, но Памела заметила мое отчаяние и поэтому гораздо
любезнее, чем прежде, заявила, что я сам мог бы ответить на свой вопрос,
так как, если совершенства Мопсы и облагородили мой разум, то вряд
ли кто-нибудь будет отрицать, что и без этого мои мысли и мой облик
были весьма привлекательными. «Однако, — сказала она, — ты должен
быть господином своей любви. Пойми, мужской суд почитает знатность,
а женщины более самих мужчин считаются с мужским судом, и не нам
играть в философов, выискивая ваши скрытые достоинства, ибо то, что
в царевиче принимают за мудрость, в нас — за легкомыслие: одно и
то же — не одно и то же, если речь идет о мужчине и женщине».
Даже больной, пребывая в горячке, не мог бы сильнее наслаждаться
холодной водой (едва питье заканчивается, жар возвращается), чем моя
душа ее ласковыми словами, возвратившими меня к жизни, а потом душа
запылала, стоило восхитительным речам завершиться не менее чарующим
молчанием. Помня, тем не менее, что остановившийся солдат гибнет так
же, как рвущийся вперед храбрец, и видя, что для счастья мне нужно лишь
открыться ей в своем истинном положении, я, показав всем своим видом,
что не волен в себе, с покорностью, на какую только способно плененное
сердце, проговорил, будто с трудом выдавливая из себя слова: «Ах, до-
стойнейшая царевна, разве твои милостивые речи не подтверждают, что
еще никто так честно не боролся с мерзкой судьбой, как я> ибо я добился
159
всего, что мог, и лишь ее слепота остается препятствием у меня на пути.
О боже, пусть бы у нее были глаза, способные видеть достоинства, или
пусть бы я ослеп, чтобы не видеть каждый день виновницу моих несча-
стий. И все же, — продолжал я, — благороднейшая госпожа, если ты еще
не пресыщена моими печальными речами и тебе не неприятен мой пре-
зренный вид, позволь мне возразить против вынесенного мне смертного
приговора и рассказать историю, которая давным-давно случилась в этой
стране (в несчастье и минута кажется годом), из которой ты узнаешь, что
мое звание не столь презренно и даже царевич не отказался бы от него,
а, приняв его, насладился бы любовью могущественной царицы».
В ответ Памела любезно кивнула мне, и я повел свой рассказ.
Глава третья
«В стране Фессалии (ах, зачем я называю имя проклятой страны, ко-
торая славна одними трагедиями1 — но как не назвать ее?), как я уже ска-
зал, в Фессалии был (я вполне могу сказать, что был) царь (нет, нет, не
царь, а раб), и все же царь по имени Музидор. О Музидор, Музидор! Но
к чему кричать, если никто не услышит? Этот Музидор был еще совсем
мал, когда его достойный отец заплатил последний долг природе своей
неожиданной кончиной, оставив сына на попечении верных друзей и ис-
пытания жестоким временем. Больше, чем смерть, его тревожило буду-
щее несчастного наследника. Счастье, что он, не умея провидеть, умер, не
успев стать свидетелем мук своего сына, которых он все равно не смог бы
ни отвратить, ни облегчить. Юный Музидор (получив в качестве первого
подарка судьбы отсутствие отцовской поддержки) в течение нескольких
лет, словно звезды готовили его к большому несчастью, проживал в покое
и благополучии, какие только могли ему дать беззаветная любовь страда-
лицы матери и процветание страны.
Но когда несчастье созрело для Музидора, потому что для него на-
ступило время познать несчастье, кажется, земля и небо объединились,
чтобы он случайно не разминулся с ним. Его народ (который прежде пи-
тал отвращение ко всему иноземному) пожелал, чтобы любимый царь на-
брался опыта в путешествиях, и даже нежная мать, которая жила одной
радостью видеть его, была готова расстаться с усладой ее вдовьей жизни,
желая того же, что и ее подданные, ради великого будущего своего сына.
К этому же толкали Музидора и его собственные добродетели (ви-
дишь, и добродетели могут стать виновницами несчастья), а должен ска-
зать (так как сходство наших судеб позволяет мне видеть в нем себя), он
творил тогда только добрые дела и никакое удовольствие не могло отвлечь
его от них. Последнюю точку поставил дядя Музидора, царь Македонии,
который, одержав великие победы, неожиданно послал за царевичем,
своим сыном (воспитывавшимся в Фессалии ради сохранения его жизни
в неспокойное время), и за Музидором, чтобы доставить себе двойную
радость. Но — увы! — ты не ведаешь, к какому морю несчастий меня ведет
мой стенающий язык! — Я едва не задохнулся от нахлынувших на меня
воспоминаний и заговорил опять, лишь когда Памела всем своим видом
выразила желание слушать, что было дальше. — Юноши не ослушались
царя и отплыли во Фракию, где должны были своими кораблями под-
держать царя с моря, потому что в то время его могучее войско осаждало
Византии, где с царем был весь его двор. Но когда замыслившие недо-
брое небеса заполучили юношей на море, что было для них очень удоб-
но, они тотчас подняли ужасную бурю, словно вложили в нее свою злобу
на Музидора, и он потерял весь флот, а на берег выбрался лишь вдвоем
1 Например, в Фессалии погиб Геракл.
П Заказ 1414
161
с царевичем и далеко от того места, куда они направлялись. О жестокие
ветры, зачем в своей неистовой злобе вы подняли бурю и зачем, под-
няв ее, не довели дело до конца? Нет, в своей жестокости вы сохранили
Музидору жизнь для будущих смертельных мучений. Если я начну пере-
числять несчастья, выпавшие на долю юного царя Македонии, его кузе-
на, боюсь, я переполню твои уши неслыханными кошмарами, поэтому не
буду останавливаться на его немыслимых приключениях и ужасных зло-
ключениях, к которым и через которые вела Музидора его судьба. Однако
мои слова сами торопят себя, чтобы поскорее подойти к рассказу о по-
следнем несчастье Музидора. Как смертельный недуг вбирает в себя все
недомогания, которые прежде докучали телу, так и последнее несчастье
Музидора вобрало в себя все прежние невзгоды.
Аркадия... Увы, Аркадии было суждено стать сценой его бесконечно-
го падения. Аркадия была (увы, и есть) заколдованным кругом, где те-
перь обитает его зачарованная душа. Ибо именно здесь его пораженные
глаза заставили разум признать, что небесной красоте нет ничего легче,
как ввергнуть его в адские муки. Здесь, здесь он повстречался со старшей
дочерью царя Аркадии и на нее возложил все свои надежды на счастье,
ей отдал всю радость своего сердца, так что в нем самом не осталось ни-
чего, кроме лабиринта желаний и темницы печали. Но разве слова могут
убедить того, кто не верит собственным глазам? Разве можно понять, что
такое боль, не почувствовав ее, и никакими словами тут не поможешь.
Вот в такое состояние впал царь, когда не нашел честного способа встре-
титься с нею. И в таком состоянии была его плененная воля, когда он не
мог больше медлить со встречей.
Оказавшись в безвыходном положении, он надел плащ пастуха, по-
тому что в этой простой одежде он, по крайней мере, мог насытить взгляд
лицезрением той, которой отдал свое сердце. Без сомнения, он думал, что
одеяние ему не помешает, потому что и под пастушеским плащом может
биться благородное сердце. А уж если он стал пастухом, чтобы глядеть на
прекраснейшую из царевен своего времени, то и мое, похожее, да, такое
же намерение не более презренно или постыдно. А теперь, ах, мои глаза
туманятся, язык не слушается, и сердцу не хватает сил, чтобы помочь им,
столь мучительны воспоминания о том, под какой грудой несчастий был
погребен в свое время несчастный царь. Не гневайся на меня, прелест-
нейшая из царевен, если я на этом закончу свое печальное повествова-
ние, ведь тебе понятен смысл моих слов, которых было немало сказано
в защиту моего неблагородного звания, а что до злосчастий Музидора,
они слишком ужасны для моего разумения: пусть возненавидевшие его
богини судьбы сами все скажут своими делами».
Так, немного путано, я рассказал свою историю, и царевна не могла
не понять, что, говоривший с таким жаром, я говорил о себе, поэтому ее
ответ прозвучал для меня и странно и утешительно. Кто бы мог подумать?
Она уже слыхала о нас обоих от храброго царевича Планга и более всего
о нашем исчезновении, о котором она (подобно мне) заговорила доволь-
но мягко: «Ты рассказал нам, Дор, прелестную повесть, вот только конец
162
у нее другой. Царь Музидор и Пирокл погибли, добравшись до берегов
Лаконии, в чем господин Планг, тоже знакомый с этой историей, уверил
моего отца».
О, какую радость ее слова поселили в моем сердце! О, счастливое имя
(думал я), коли тебя коснулся ее язычок и ты побывало на ее губках, к ко-
торым я никогда не посмею приблизиться.
«Что до Пирокла, — сказал я, — не буду отрицать, может быть, он и
погиб (это я сказал, чтобы не вызвать у нее подозрений, прежде чем ты
сам захочешь объявиться, и в то же время не солгать ей, подтверждая или
отрицая сообщение Планга). Но что касается Музидора, я совершенно
уверен, госпожа, что ты никогда не слыхала и не читала об этом несчаст-
ном, потому что именно этими словами несравненная царевна встретила
его, когда он явился на суд ее мудрости, и, как я читал и хорошо помню,
он ответил ей, что, действительно, корабль, на который он попал из-за
предательства, затонул, и, верно, это ввело Планга в заблуждение. Однако
Музидора волны выбросили на берег Лаконии, где его подобрали два па-
стуха, которые в те времена были известны своей любовью к одной пре-
красной девице и, тем не менее, оставались друзьями (одну из их песен
недавно мы слышали из уст пастуха Ламона), и привели в дом господина,
который живет возле Мантинеи. Его сын незадолго до женитьбы был взят
в плен и освобожден с помощью Музидора (назвавшегося другим име-
нем)».
Об этом я рассказал, полагая, что царевна сама о многом знает, но
не назвал имен Стрефона, Клая, Каландера и Клитофона, чтобы не за-
ронить сомнение в тупоумную головку госпожи Мопсы.
«Поэтому, божественная госпожа, он воистину легко опротестовал
бы, — продолжал я, — предположение о своей гибели, а царь мог бы лег-
ко убедиться, что если не оба, то один из друзей спасся и Планг ошибся,
не подозревая, что кто-то мог спастись. Тот же, кто остался в живых, имел
при себе достаточно доказательств того, что он один из потерпевших кру-
шение, а так как Планг знал, что это были Музидор и Пирокл, то, следо-
вательно, это был тот или другой, хотя, как я уже говорил, он назвался не
своим именем, ибо еще прежде связал себя на этот счет клятвой. Кроме
того, царевна должна понять, что только царь осмелился бы на такое пе-
реодевание, потому что, даже завоевав благоволение царевны, он никогда
не удержал бы его, не будь он царем, в споре с влиятельной Аркадией.
И наконец, для доказательства своей правоты царь решил показать ца-
ревне знак на своем лице, а я мог бы показать несравненной Мопсе такой
Же знак у меня на шее (я показал им обеим известное тебе красное пятно,
которое, как они сказали, формой напоминает львиную лапу), чтобы она
не усомнилась в том, что я брат Меналка. Он же, показав свой знак ца-
ревне, предложил ей послать своего доверенного человека в Фессалию,
чтобы тот втайне разузнал, соответствуют ли возраст, облик и, конечно
же, знак на лице их царю Музидору».
«А знаешь ли ты, — спросила царевна (ничем не выдавая своих
чувств), — конец этой истории?»
И*
163
«Увы, нет, — ответил я, — потому что именно на этом месте остано-
вилась рука историографа, который сказал, что остальное ведомо астро-
логу».
Таким образом, дав ей пищу для размышлений, я, чтобы успокоить
обеих (ибо это свойство заложено в природе музыки) и к тому же пока-
зать, какой я пастух1, взял в руки лютню и запел:
Овечкам-мыслям вождь я и слуга.
Их пастбище красиво и бесплодно:
Резвушку живописные луга
Ни сытой не оставят, ни голодной.
На посох я надежды оперся,
Моей алчбы одежда в складках вся;
А вот о том, каков настриг мой будет,
Мой друг прекрасный пусть теперь рассудит.
Потом, желая вовлечь в беседу Мопсу, чтобы она не очень раздумыва-
ла над нашими словами, а главное, насколько возможно, надеясь найти
утешение в речах царевны, я бросился перед ней на колени и стал сми-
ренно просить ее, чтобы она заступилась за меня перед Мопсой, убедила
ее снять железные доспехи с благородного сердца и открыть его нежным
стрелам любви; и если все в ней имеет особенное украшение: лицо — кра-
соту, голова — мудрость, глаза — величье, тело — изящество, губы — оча-
рование, язычок — живость, — то пусть ее сердце станет престолом жало-
сти, пусть лучшее оденется в лучшее.
Не выказав ни одобрения, ни негодования, ни любопытства, ни на-
рочитого безразличия, Памела обратилась к Мопсе, и ни в ее голосе, ни
в лице я не заметил ничего необычного:
«Не зевай, Мопса, твой пастух умеет хорошо говорить, и, сказать по
правде, если он докажет, что слова у него не расходятся с делом, что он
действительно брат и наследник честного пастуха Меналка, я не вижу
причин, почему ты должна думать о нем плохо».
По совести говоря, Мопса уже в меня влюбилась, но все-таки ответила,
что, несмотря на мои непонятные речи, будет строго блюсти свою честь,
а что касается замужества, то не сделает ни шага мне навстречу, пока мой
господин, а ее родитель не скажет свое слово. Однако, то и дело повора-
чивая ко мне свое мерзкое лицо, она строила такие рожи, что, будь у меня
слабый желудок, он мог бы и не выдержать. Боже мой, как глупо мешать
в одно бессмысленную болтовню и возвышенные мысли, однако Мопса
играет роль в моей трагедии, поэтому, чтобы не упускать ничего и дать тебе
полное представление о той беседе, я должен был рассказать и о ней тоже.
Потом царевна решила покинуть нас, и я взял в руки выточенного из
драгоценного камня рака, который всегда смотрит в одну сторону, а идет
1 Не настоящий пастух.
164
в другую, ибо подумал, что это как раз подходящий символ моих притя-
заний на Мопсу и устремлений к Памеле. На безделушке была надпись:
«По необходимости, а не по желанию», — и я, стоя на коленях, попросил
Памелу вручить рака Мопсе, чтобы из благословенной руки она получила
игрушку, которую я нашел, учась ходить за плугом.
«Когда, — сказал я, — плуг ударился о камень, мы подняли его и на-
шли в земле несколько красивых вещиц, которые поделили между собой».
Мопса онемела от счастья при виде такого подарка, а царевна вида
не подала, что ее заинтересовали мои слова или поступок, и смотрела на
меня со спокойным безразличием, как человек, к которому происходя-
щее не имеет отношения, и с холодностью, которая в соединении с ве-
личавым блеском, присущим ей от природы, более всего страшит меня:
ведь если бы я понял, что она презирает меня, то все сделал бы, но из-
менил ее отношение ко мне, а если бы понял, что она не верит мне, то
был бы счастлив, потому что сумел бы убедить ее в своей искренности,
и наконец, если бы она ненавидела меня, я бы, зная, с чем имею дело,
либо неутомимой службой погасил этот огонь, либо, исчерпав все дру-
гие средства, залил его кровью своего сердца. Но эта жестокая, не знаю-
щая приязни и неприязни бесстрастность, эта ни от чего не зависящая
любезность в каждом ее жесте, в каждом поступке, совершаемом во имя
добродетели, а не по собственному желанию, делают ее похожей на солн-
це, которое, восхваляем мы его или проклинаем, не подстегивает и не
останавливает своих коней, и, скажем, ее божественность (потому что,
как бы велико ни было мое горе, но я не могу сказать иначе) столь не-
доступна, что я уже готов подчиниться тирану отчаянию, ибо не знаю,
как еще могу повлиять на ее мудрую бесчувственность. Я уже представал
перед ней в моем истинном обличье, конечно же, не без помощи моего
хозяина, которого убедил надеть богатые одежды и показать Памеле ис-
кусство верховой езды, сообщив ему, что одежды мне достались в награду
за хорошее исполнение роли царя в трагедии, которую играли в Афинах.
У меня был мой конь, оставленный в доме Меналка, а Дамету по друж-
бе одолжили коня из царской конюшни. Но чем настойчивее я тычу ей
в глаза своим не пастушеским происхождением, тем чаще думаю, что
толку воду в ступе.
Глава четвертая
Дор собирался продолжить рассказ, когда Дамет (который появился,
насвистывая и подсчитывая на пальцах, сколько сена съедают в год сем-
надцать голов скота) передал Зелмане приказ царя прийти в покои, где он
со всем семейством ожидает ее.
— Увы, — сказал Дор на прощание, — суть в том, что стенка, о кото-
рую ты бьешь свою печаль, может рикошетом вернуть ее тебе с еще боль-
шей силой.
Зелмана же, оборотившись к Дамету, сказала:
— Пожалуй, я научусь разбираться в сельских делах, если буду почаще
беседовать с твоим слугой.
— Да уж, — отозвался Дамет с неприятной усмешкой, — из парня вы-
шел бы толк, если бы он поменьше воображал о себе и побольше прислу-
шивался к старшим.
По дороге, чтобы Зелмана поняла, насколько полезнее она провела
бы время с ним, Дамет долго и путано рассказывал ей, что знал, об искус-
стве землепашества, особенно утрудив свой язык добрым унавоживанием
почвы, в то время как Зелмана покорно внимала его скучному рассказу,
не удостаивая ответом, и так продолжалось, пока они не увидели Базилия
и Гинесию уже в карете, готовых увезти амазонку, чтобы развлечь специ-
ально для нее приготовленным зрелищем.
Базилий и Гинесия сидели по одну сторону, Зелмана села по дру-
гую, справа от Филоклеи, и мысленно целовала им ноги за столь благо-
словенное соседство, тем более что из-за тесноты Зелмана и Филоклея
прижимались друг к другу, разделенные лишь завистливой одеждой; так
магнит, даже запертый в ящик из слоновой кости, шлет свою притяги-
вающую силу возлюбленной иголке. В душе Зелманы райское соседство
пробудило желание проложить себе путь сквозь костяной ящик своего
тела и одежды, ведь кровь бурлила в ее жилах, подобно тому как бурлит
вино от встречи с сахарной гостьей, вкушая сладость своей возлюблен-
ной. Сердце Зелманы было похоже на только что запертого в клетке льва,
который видит по другую сторону решетки того, кто лишил его свободы,
и, забыв о тоске, оно изо всех сил боролось, чтобы (если бы это было воз-
можно) выпрыгнуть на колени Филоклеи.
Бывший хозяин телеги и нынешний смотритель кареты, Дамет вовсе
не гордился тем, что своим кнутом определяет путь царя Аркадии, ко-
гда правил экипажем, крыша которого поднималась (если шел дождь) и
опускалась, открывая взглядам прохожих царское семейство и их гостью,
словно они ехали верхом. На опушке леса уже ждали борзые, спаниели
и гончие, из которых первые гляделись лордами, вторые — дворянами,
а третьи — йоменами. Тут же были и кречеты, которые бьют поднимаю-
щуюся из кустов птицу, тогда как соколы предпочитают охотиться над
рекой.
166
Итак, зрелище, в тот день приготовленное Базилием для развлече-
ния Зелманы, представляло собой охоту с кречетом на цаплю, которая
тяжело поднимается на своих больших крыльях в небо (как будто воздух
возле земли не пускает ее выше) и там не кажется большой, словно го-
ворит сильным мира сего, чем они выше, тем кажутся меньше. Когда же
следом за цаплей выпускают кречета, он сразу находит добычу и, устре-
мив взгляд на желанную цель, направляется прямо к ней, беря не столь-
ко силой, сколько сноровкой. Как хороший строитель, возводящий
высокую башню, не будет ставить лестницу прямо, а поведет ее вокруг,
чтобы подъем был как можно менее заметен, так и кречет, определив
башенную вертикаль, летит кругами, поднимаясь вверх и почти не ощу-
щая подъема, но, поняв, что этот путь слишком медленный, он, словно
честолюбец, готовый для достижения желанной цели сделать крюк не
в одну милю, повернулся к цапле хвостом и полетел в другую сторону,
но лишь для того, чтобы подняться на нужную высоту, а потом упасть
на добычу и, либо яростно наскакивать на цаплю в воздухе (потому что
цапля обороняется изо всех сил, так как не может спастись бегством),
либо, сцепившись с ней, камнем падать на землю, где охотникам лишь
остается их разнять.
Базилий жаждал показать Зелмане всех своих кречетов, и время про-
летело до того быстро, что никто не заметил ухода дня до тех пор, пока
вечер, подобно недостойному наследнику, не заставил пожалеть о нем.
Тогда царь поневоле приказал Дамету ехать домой, но тот (то засыпая,
то задумываясь о починке давильного пресса) так невнимательно правил
лошадьми, что одно из колес наскочило на большой пень и экипаж пере-
вернулся, упав на ту сторону, где сидели Зелмана и Гинесия, и Зелмана
была бы счастлива этим падением, позволившим ей насладиться пре-
лестной ношей упавшей на нее Филоклеи, если бы не испугалась за нее.
Однако никто не пострадал, ни Филоклея, ни остальные, потому что
у всех руки-ноги были защищены стенкой экипажа, правда кроме Ги-
несии, вывихнувшей плечо; и хотя его немедленно вправил один из со-
кольничих, она испытывала сильную боль, и ее на руках отнесли в дом,
а так как боль привела с собой приятельницу-лихорадку, то вынудила
Гинесию лежать в постели, довольствуясь их обществом.
Однако жар был менее нестерпим для Гинесии, чем язва любви, и боль
менее мучительна, чем ревность к дочери. Болезнь Гинесии предоставля-
ла удобный случай Зелмане, потому Гинесия призвала к себе Филоклею
и, несмотря на поздний час, приказала прислать к ней Мисо, с которой
ей будто бы надо поговорить, а самой Филоклее велела спать в комнате
ее сестры Памелы. Зелману же она не отпустила, пока не удостоверилась,
что Филоклея ушла. Более всего обученная послушанию, Филоклея по-
корно шла к Мисо, и полная луна (не считая для себя зазорным освещать
путь для такой красавицы) направляла ее стопы, движение которых от-
ражало состояние ее ума, в котором происходило суматошное движение
мыслей. Ах, прелестная Филоклея, как же так случилось, что мое перо
до сих пор не коснулось твоих чувств, ведь из-за кого, как не из-за тебя
167
началась вся эта затянувшаяся история! Прости мою медлительность
в описании горестей, которые и тебе не дают покоя.
Чистая помыслами, Филоклея принадлежала к тому типу людей, ко-
торые, не зная зла, служат добру и, благодаря незамутненной простоте,
куда естественней живут в добродетели, чем те, которые тратят силы на
поиски блага, вместо того чтобы с готовностью принять его и следовать
ему. Однако нежное и чистое создание небесной благодати легче и со-
вратить, потому что ей не ведомы земные пороки и она не чувствует зла,
которое зло несет в себе; вот и госпожа Филоклея (чьи глаза и чувства
видели и ощущали каждую вещь в ее природном назначении, чья неж-
ная юность послушно принимала родительскую опеку, не выказывая
собственной воли) теперь подошла к той черте, когда ее суждениям была
уготована проверка, и она, словно олененок, который, впервые учуяв
охотников, не знает бежать от них или не бежать, лишь теперь начала на-
бираться драгоценного опыта.
После того как Зелмана прожила некоторое время с царской семьей —
уже одно то, что она была знатной чужестранкой, не могло не привлекать
к ней всеобщего внимания; к тому же ее появление в столь безлюдном
месте, где Филоклея видела единственно своих родителей, ее готовность
беседовать с ней, ее ум, манеры, ее приязнь, ее молчаливое восхищение,
наконец, ее природные совершенства в соединении с самым благоговей-
ным почитанием Филоклеи (таким образом она являла оба знака доброй
воли: вызывала к себе любовь и одаривала любовью) — она заронила
в сердце Филоклеи дружеское расположение, получив в свое владение
ключи от разума царевны, который любое послание ее чувств переводил
на язык любви; и расположение стремительно переросло в несказанное
удовольствие от постоянного общения с Зелманой и безграничное восхи-
щение всем, что Зелмана делала; а потом все так перевернулось, что если
вначале поступки Зелманы вызывали у Филоклеи одобрение и благорас-
положение, то вскоре благорасположение стало причиной одобрения
всего, что бы Зелмана ни делала, так что теперь Филоклея восхищалась
не поступками Зелманы, а Зелманой, совершающей поступки.
Потом же случилось то, что не могло не случиться из-за полного под-
чинения Филоклеи своему кумиру, но случилось даже не то, что она по-
желала во всем стать похожей на Зелману, а то, что ее желание стать по-
хожей на Зелману оказалось воздвигнутым на непререкаемом почитании;
таким образом, ступив на следующую ступень, Филоклея внимательно
присматривалась к тому, что делала, говорила, носила Зелмана, брала это
за образец и в точности следовала ему. Атак как сие свершалось не только
на уровне чувств, но было одобрено по самому возвышенному размыш-
лению, и разум (еще не опытный) дал свое царское согласие, то дружба,
усердная служанка, позаботилась о своем возвышении. Получилось так,
что Филоклея стала перенимать не только величественные манеры Зел-
маны, ее изящную речь, даже жесты, но видя, что Зелмана часто глядит на
нее, она теперь тоже часто глядела на Зелману, и если во взгляде Зелманы
сверкало укрощенное, но, тем не менее, страстное желание, то Филоклея,
168
не зная страсти, отвечала ей не менее пронзительным взглядом. Сколько
позволяла ревность Гинесии, Зелмана старалась быть рядом с Филоклеей,
и Филоклея, сколько позволяла ревность Гинесии, старалась быть рядом
с Зелманой. И если Зелмана брала ее за руку и нежно пожимала ее, то
Филоклея, считая узы дружбы обоюдными, тоже отвечала пожатием, по-
казывая, что не хочет расставаться с ней. Когда Зелмана вздыхала, взды-
хала и Филоклея, когда Зелмана грустила, грустила и Филоклея, считая
это признаком мудрости. Когда Зелмана, скрестив на груди руки и подняв
к небу глаза, принимала томный вид, Филоклея восхищалась ее необык-
новенным изяществом и изо всех сил старалась походить на нее. Так было,
пока, бедняжка, не сознавая этого, переняла не только отличительный
знак, но и самое службу, не только приметы любви, но и самое любовь.
Толи она постепенно разглядела в дружеском расположении Зелманы
страстное нетерпение, не укладывающееся в привычные рамки, и с удо-
вольствием последовала за нею, не имея представления о рамках, то ли,
воистину, истинная любовь прилипчива, но она познакомилась с пред-
вестником любви — желанием. Поначалу ей хотелось, чтобы они жили,
подобно нимфам Дианы. Но потом ей показалось этого недостаточным,
потому что рядом были бы другие нимфы, которые тоже могли бы притя-
зать на Зелману. Тогда ей захотелось, чтобы Зелмана была ее сестрой, так
как кровное родство могло бы еще сильнее сблизить их, но тут же она со-
образила, что и это не годится, ведь кто-нибудь мог бы полюбить Зелману,
взять ее в жены и увезти с собой. Немножко осмелев, она пожелала, чтобы
одна из них, она или Зелмана, стала мужчиной, тогда они могли бы поже-
ниться и жить счастливо. И стоило этому желанию один раз пробраться
в ее мысли, как за ним двинулись полчища мечтаний, а за ними армия
возражений и недовольств, ведь ничего подобного быть никак не может.
По ночам сны являли ей гораздо больше того, о чем она смела думать
днем, поэтому, проснувшись поутру, Филоклея понимала себя несрав-
ненно лучше. Так, некоторые болезни нетрудно вылечить, пока они еще
не распознаны, но, распознанные, они становятся смертельными; вот и
прекрасная Филоклея, пока могла предотвратить болезнь, не чувствовала
ее, а когда почувствовала, было уже поздно; так же бывает с тихой речкой,
от которой никто не ждет беды, пока она не зальет берега. Купидон снял
маску и, показав Филоклее свое лицо, прямо заявил, что она его плен-
ница. И ей уже не было нужды изображать на лице чувства, потому что
чувства освещали ее лицо изнутри; розовые щечки часто полыхали огнем,
а белизна переходила в бледность, и ей было то жарко, то холодно, и она
не знала, чего хочет, а если знала, то не знала, как это получить.
Тут ее ум (хоть и поздно) спохватился, а опыт помог догадаться о мыс-
лях матери. Ни одно заблуждение не бывает столь болезненным, как са-
моуверенность: видя, как тщательно мать оберегает предмет ее желаний,
она поняла, что у ее матери те же самые желания. Чем ревнивее стано-
вилась Гинесия, тем больше убеждалась Филоклея в ценности алмаза,
охраняемого множеством замков. Но когда дошло до того, что у влюблен-
ных отобрали всякую возможность побыть наедине, Филоклея познала
169
прелесть одиночества, свободу говорить о своих чувствах, словно Зелмана
была рядом; она могла дать волю мыслям и таким образом немного сбить
огонь, который сжигал и душил ее. Вот и в тот вечер, когда по приказа-
нию матери, печальная и растерянная, она шла из одного дома в другой,
радуясь дарованной ей передышке, и, свернув с тропинки, немного углу-
билась в лес, где прежде любила гулять, ее взгляд наткнулся на глухую
стену — деревья стояли так близко друг к другу, что свет луны едва проби-
вался сквозь листья и густая тень вызывала в Филоклее почти священный
ужас, хотя мысли о любви отгоняли суеверный страх. Филоклея помнила
и любила это место, потому что часто пряталась тут от взглядов Феба и
радовалась жизни, когда была еще сама себе госпожой и не знала других
мыслей, кроме тех, что появляются, когда чувства пребывают в покое.
Главное, что пришло ей на память, был большой сколок белого мрамо-
ра, верно, когда-то давно поставленный здесь в честь лесных богов и слу-
чайно попавшийся ей на глаза за несколько дней до появления Зелманы.
На нем она начертала свидетельство своего разума, опровергавшее подо-
зрение, которое плен подсказывал ей. Вот, что Филоклея написала тогда:
О вы, в святилище живых дерев
Нашедшие свой дом, о божества,
Властители лесов, я, не стерпев,
К вам обращаю горькие слова,
Клянусь вам, боги, в клятве я тверда:
Я мыслями и чувствами чиста.
Белейший камень, белизна твоя
Что чистый разум мой; ты крепок так,
Как сердце у меня в груди; и я
Тебя беру в посланцы, чтобы всяк
Узнал: каких бы ни было обид,
Не будет, не был твой закон забыт.
Невинность, выше всех ты в небесах,
Обличье наше — дар бессмертный твой,
Тебе верна я наяву и в снах,
Навечно сердце пленено тобой:
Пока к тебе душой я уношусь,
Невинной жить и умереть клянусь1.
Теперь начертанные ею слова свидетельствовали против нее, и даже
почерк осуждал ее в ее падении, но она все равно шла к камню, что ле-
жал между деревьями, соединившими свои верхушки, так что Филоклея
оказалась в некоем подобии часовни, освещенной луной, где вновь уви-
дела камень, который походил на алтарь в лесном святилище. Однако
1 Перевод Л. Володарской.
170
Филоклее не хватало света, чтобы прочитать то или иное слово; чернила
кое-где стерлись или расплылись.
— Ах, прекрасный мрамор! — воскликнула Филоклея. — Не нашлось
руки, которая осмелилась бы посягнуть на тебя, моя была первой, но
пусть бы чернила запятнали меня, а не тебя. Прости меня, но я была чест-
ной с тобой, это теперь я переменилась. Радуйся, о, радуйся торжеству
своей природы, которой придется отныне нести на себе знаки моего не-
постоянства.
Так она говорила, прикрыв нежной ручкой глаза, и неожиданно ей
в голову пришли стихи, которые, если б у нее было, чем писать, она при-
соединила бы к прежним, от них отказываясь.
Желая твердым мыслям вечность дать,
Сей крепкий мрамор выбрали слова,
Но мысли и слова вдруг стали лгать,
Себя и камень не страшась пятнать,
Ах, с мрамором всевечным никогда
Не сладит женская, увы, рука.
Слова бессильны, мрамор полон сил,
Слов много, мрамор одинок всегда,
Слова черны, хоть не черней чернил,
Природный мрамор не белей белил,
Ах, с мрамором всевечным никогда
Не сладит женская, увы, рука1.
Не найдя, чем записать эти строчки, Филоклея легла под одним из
деревьев и долго вертелась с бока на бок, словно хотела избавиться от
завладевшего ею наваждения, и прятала лицо в ладонях, словно хотела
спрятаться от своих фантазий.
— О, несчастная я, — прошептала Филоклея в конце концов, — ядо-
витый жар терзает меня! Почему облик нашей странной гостьи завладел
моей душой? Ах, где та лазейка, которую нашло вожделение, и где оно
взяло силы покорить меня? — На небе проплыло облако, ненадолго за-
крывшее луну. — О Диана, — сказала она, — я бы тоже хотела прогнать
облако, которое закрыло свет моей добродетели, как ты прогнала то, что
летит сейчас надо мной, или, если бы оно могло навсегда скрыть тебя,
это стало бы оправданием моего ужасного безумия. — Филоклея погляде-
ла на звезды, украшавшие чистое небо. — Отец с матерью говорили мне,
Что прекрасные звезды, на самом деле, великие божества, которым под-
властны отливы и приливы нашей жизни. Если это так, о звезды, судите
меня, и если я была столь порочной, что сама отдала себя в добычу моей
страсти, или праздными мечтаниями приготовила для нее мое сердце,
пусть эта чума губит меня и пусть мое имя станет ненавистным для всех
1 Перевод Л. Володарской
171
женщин. Но если меня взяли в полон великие и непобедимые силы, то
кто будет почитать вас, о звезды, если вы не поможете мне? Нет, нет, вы не
можете мне помочь. Нет, нет, вы не можете мне помочь, ведь грех — отец
моей любви и стыд — ее дитя. Что за детские речи, простушка Филоклея!
Меня терзает ее недоступность, ведь преступные желания наказуемы,
но наказание приходит потом, а несбыточные желания — сами по себе
наказание. Я в десять раз несчастнее всех, потому что любовь питается
надеждой, а мехи моей любви раздувает отчаяние, и самое горькое отчая-
ние рождается из несбыточных надежд. Даже жадный человек не будет
искать богатство там, где его нет. Почему? Потому что там его невозмож-
но найти? А ты, любовь, почему ты вышиваешь столь прелестный узор
для моего желания, если оно несбыточно?
Но почему я лежу тут и кляну свою судьбу, когда еще не знаю, что
скажет она? Разве мне, глупышке, ведомо, что приготовила мне любовь?
И разве моя мать не влюблена в Зелману, так почему же я должна быть
мудрее своей матери? Или она считает возможным то, что мне кажется
несбыточным, или несбыточная любовь не так уж отвратительна? Разве
я не вижу, что происходит с Зелманой (у которой нет ни одной мысли, не
взвешенной на весах мудрости и добродетели)? Разве иначе она позволи-
ла бы себе любить меня с таким пылом? А я знаю, ее глаза говорят правду.
И что же? Если она может любить меня такую, почему я с презрением
думаю о моей любви к прекрасной Зелмане? Прочь все сомнения! Прочь
все почему и зачем! Ты любишь меня, совершенная Зелмана, и я люблю
тебя. — С этими словами Филоклея крепче прижалась к земле. — О моя
Зелмана, возьми меня и веди, куда хочешь, потому что я принадлежу
тебе, — мысленно прошептала она (даже наедине с собой постыдившись
произнести эти слова вслух).
Глава пятая
Филоклея еще долго предавалась бы мечтаниям и размышлени-
ям, если бы не Дамет с Мисо (которые искали ее, зная, что она отпра-
вилась к ним). Дамет бурчал, что не желает лезть в чужие дела, но что
ему лично не нравится, когда девицы уходят ночью из отцовского дома,
если не за тем, чтобы подоить корову или отнять цыпленка у кошки, или
еще что-нибудь сделать по хозяйству; а Мисо клялась, что, будь это ее
дочь Мопса, она научила бы ее, как гулять по ночам, засадив дома не-
дели на две. Услыхав их голоса, Филоклея поднялась с земли и, сделав
вид, будто всего-навсего хотела поиграть с ними в прятки, отправилась
вместе с ними (передав Мисо приказание Гинесии) к их дому, а там, при-
выкшая (благодаря родительскому воспитанию), как и ее сестра, сама
о себе заботиться, прямиком пошла в комнату Памелы, рассчитывая по-
радовать глаза и мысли встречей и беседой с любимой сестрой, которая
полулежала в кресле (хотя время было уже такое, когда крылья ночи на-
вевают глубокий сон на смертных), откинувшись на его спинку и устре-
мив взгляд на восковую свечу. В одной руке Памела держала письмо,
в другой — носовой платок, которым утирала слезы на щеках, оставляя на
них малиновые круги, похожие на те, что в жаркий полдень вспыхивают
в воздухе. Увидав сие, Филоклея (ибо ее глаза уже научились распозна-
вать приметы горя) с горячностью принялась допытываться у сестры, что
с ней случилось, желая утешить ее или разделить ее страдания. Однако
Памела, огорченная тем, что Филоклея уже кое-что поняла, не пожелала
откровенничать.
— Ах, моя Памела, — вздохнула Филоклея, — ты мне сестра по рож-
дению, ты мне мать, оберегавшая меня мудрым советом, ты наследница
нашего отца по законам Аркадии и (это дороже мне всего остального) моя
подруга по моему выбору и твоему расположению ко мне, так почему же
ты отстраняешься от меня? Неужели тебе так приятна твоя печаль, что ты
не хочешь поделиться ею со мной? Или ты думаешь, печальная Памела
мила мне меньше, чем веселая? Или мои уши недостойны слушать тебя,
а мой язык был уличен тобой в болтливости? Что ты скрываешь от меня,
от своей сестры, от своей служанки Филоклеи?
И на это Памела ничего не ответила. Но они могли поговорить в по-
стели. Осиротели их одежды, но возликовала кровать, посмеявшись над
святилищем Венеры, принимая их, открывших друг дружке нежные и чи-
стые объятия. Они обменивались нежными, но прохладными поцелуями,
словно любовь сошла к ним, не захватив с собой своих стрел, или, устав
от огненной страсти, решила освежить себя их сладким дыханием.
Филоклея вновь принялась допытываться, почему Памела плакала,
и она, опустив полог, чтобы не очень стыдиться своего румянца, уже хо-
тела было заговорить, но, затаив едва не ставшее словами дыхание, опять
принялась вздыхать. Наконец она сказала:
173
— Прошу тебя, милая Филоклея, давай побеседуем о чем-нибудь дру-
гом. Правда, у нас никогда не было такого замечательного праздника до
появления Дора?
О любовь, как хорошо ты видишь слепыми глазами! Филоклея тотчас
все поняла, но ей захотелось поподробнее расспросить Памелу.
— В самом деле, — сказала Филоклея, — я часто удивлялась, откуда
столько достоинств у простого пастуха. Похоже, Судьба побоялась отдать
свои сокровища туда, где их могли затмить другие совершенства. Одного
я не понимаю, как ему с его талантами удается терпеть Дамета.
— Ах, — вздохнула Памела, — если бы ты знала... Но я тоже не пони-
маю. Сказать по правде — ах, боже мой, отчего мы вдруг заговорили о нем?
И все-таки если бы ты хоть раз слышала, как Дамет читает ему лекции
о том, что скот надо кормить до полудня, укрывать от полуденного солн-
ца, что кормушка должна быть привлекательной, что иногда на животное
достаточно прикрикнуть, а иногда его надо огреть кнутом... Словом, он
обучает его пастушеской премудрости, желая сделать из него пастуха. Но
если бы ты видела, с каким изяществом (ему бы носить корону, несмотря
на низкое звание) он исполняет низкие обязанности, ты бы обязательно...
Нет, ни к чему. Лучше будем спать, а то болтаем невесть что.
— Моя Памела, ты попалась. Никогда еще твой ум не рождал столь
бессвязных речей. Ты влюблена. И не надо этого скрывать.
— Твоя правда. Теперь ты знаешь и узнала бы без уловок, если бы мое
сердце сочло эти слова достойными моих губ. Ну вот, милая Филоклея,
будь осторожна, потому что невинность плохое оружие против любви.
Учись на моем примере.
«Увы, — подумала Филоклея, — поздно подрезать птичке крылья, она
уже улетела».
Памела же, подхваченная потоком любви, уже не сдерживала себя и
рассказывала, как благородство Дора привлекло ее внимание, хотя тогда
она еще помнила о его низком звании, и ее внимание не переходило долж-
ных границ; а потом он, испытав разные способы, но не имея возможно-
сти ни поговорить с ней, ни даже приблизиться к ней (отчасти потому
что она нарочно избегала его, одновременно высоко ценя и презирая,
а отчасти потому что не могла ускользнуть от своих ревнивых тюремщи-
ков), он в конце концов нашел блестящий выход, притворился влюблен-
ным в Мопсу и высказал ей все, что хотел сказать Памеле; с истинной
страстью поведал ей свою историю, хотя бедняжка Мопса, верно, и те-
перь думает, будто речь шла о делах давно минувших дней.
А сейчас, чтобы ты не считала, будто я плачу от горя или раскаяния,
я скажу тебе, кто мой Дор на самом деле. Он — царь Музидор, и слава
о его подвигах гремит по всей Азии. Помнишь, чужестранец Планг рас-
сказывал нашему отцу много хорошего о нем? Оказывается, он не утонул,
как говорил Планг, а вот его двоюродный брат Пирокл, кажется, все-таки
погиб. Ах, сестра, если бы ты видела его и слышала, как он говорил мне
о своей любви, ты бы тоже не знала, чего в тебе больше (хотя они редко по-
являются вместе), жалости или удовольствия. Скажи мне, милая сестра,
174
ибо, боги свидетели, я не хочу сойти с добродетельной стези, могу ли я, не
запятнав себя неблагодарностью, не любить его (если красота его мыслей
намного превосходит красоту его лица, а величие его деяний — величие
его царского звания), если он ради меня унизился до служения Дамету?
Ты спросишь, откуда мне известно, что он вправду Музидор, ведь му-
дрость не в том, чтобы верить всем на слово? Конечно же, я сомневалась,
ведь страсть по своей природе столь же легковерна, сколь требовательна
на доказательства. Она счастлива первым проблескам радости, но жаж-
дет полной уверенности, и я получила ее не только в его словах, которых
и одних было бы достаточно для любого здравомыслящего человека, но
и в его особых приметах. Более того, он предложил мне послать кого-ни-
будь в Фессалию, но у меня и в мыслях нет порочить мою благородную
любовь недоверием, хотя он, бедняжка, убежден, что я сомневаюсь в нем,
пренебрегаю им, да еще презираю его. Каждый день он находит повод по-
дойти ко мне и каждый день натыкается на мою холодность.
Несколько дней спустя он и Дамет в богатых одеждах явились пока-
зать мне свое искусство верховой езды. О, как смешон был Дамет, вроде
изящного платья, отороченного овчиной! Но если бы ты видела Дора,
с каким благородством, с какой царской простотой он приветствовал
меня, сидя на своем коне; вначале он долго не двигался с места, устремив
на меня взгляд, словно его приковали цепью к моим глазам, пока я че-
рез Мопсу не приказала ему начинать, и как только слово было сказано,
одним быстрым движением, без всякого усилия — ты бы посмотрела! —
он заставил коня подойти ко мне, отбивая такт лучше всякого танцора.
Может, ты помнишь, однажды мы видели корабль, который на штормо-
вой волне шел к Аргосу, вот, на него был похож его конь. А сам Музидор
был похож на кентавра, так он слился со своим конем, двигаясь, словно
на собственных ногах, управляя им, словно собственным телом, и хотя он
был при шпорах и хлысте, но они скорее служили знаками его царского
величия, нежели орудиями наказания; с чарующим изяществом он отда-
вал приказания прикосновениями рук и ног, не грозил, но напоминал, по
крайней мере, если и пускал в ход хлыст, мы этого не замечали, да и конь
не подавал вида; они были единым существом, когда скакали по прямой
или делали поворот, словно человек позаимствовал у коня тело и отдал
ему свой разум. Когда Музидор поворачивал коня, можно было разли-
чить едва уловимое движение левой руки, но такое ласковое, словно он
благодарил, а не приказывал. И сам он (как ни странно) одновременно
демонстрировал устойчивость и легкость, то заставляя коня наклоняться
так низко к земле, что он был похож на кота, крадущегося за мышью, то
поднимая его так, что он походил на ворона, перелетающего с горы на
гору, или на скачущих по горам ягнят Дамета; и все это он проделывал
так, что его сила не несла на себе печать грубости, а непринужденность
не наводила на мысль о лени; да, он был отличным хозяином, которому
достаточно кивнуть головой, чтобы его желание было тотчас исполнено,
и каждое упражнение он заканчивал, повернувшись ко мне лицом, слов-
но обозначая конец одного упражнения и начало следующего.
175
Зато на Дамета нельзя было смотреть без смеха; с седла он съехал чуть
ли не на шею коню, а потом упал на землю, став таким же грязным снару-
жи, каков он внутри. Если прежде он говорил, что ему всего лишь не хва-
тает коня и доспехов, а с ними он стал бы доблестным рыцарем, равным
самым доблестным из них, то теперь, насажав синяков, он объявил, будто
сущее безумие для умного человека отдавать себя во власть животного,
после чего Дору пришлось продолжать упражнения в одиночестве. И тут,
по крайней мере на мой женский взгляд, он всего-навсего поднял копье,
потом немного наклонил его, приложив к плечу, после чего опять при-
поднял и взял кольцо — все это как будто одним движением, но даже если
движений было много, они все так слились друг с другом, что следующее
начиналось, когда глаза еще видели предыдущее. Дамет, конечно же, на-
шел изъян в упражнениях Дора, якобы он не показал достаточно силы
во владении копьем, но что касается меня, то безупречность его движе-
ний доставила мне настоящее удовольствие.
Однако, как бы велико ни было мое удовольствие, я спрятала его
в душе и не позволила ему выглянуть наружу, чтобы утешить Дора. Чем
больше я находила оправданий для моей любви, тем упорнее старалась
подавить ее или хотя бы не показать. Должна признаться, правы были ле-
кари, говорившие, что если человек холоден с виду, это не значит, что он
холоден сердцем, зато холодный пепел, которым я посыпала сжигавший
меня внутри огонь, стал горячее. Как часто теснят мне грудь рвущиеся
на свободу вздохи! Как часто я силой удерживаю на глазах слезы, и они,
устремляясь обратно, переполняют мне сердце! Но, увы, разве это утеша-
ло несчастного Дора, если его глаза, будучи усердными осведомителями,
приносили ему лишь неприятные вести? Кажется, дня не проходило, что-
бы он не являлся ко мне с новым доказательством своей любви. Один раз
он в полном вооружении танцевал военный танец (о, с какой легкостью и
изысканностью!), наверно, чтобы еще раз намекнуть мне на свое проис-
хождение1. В другой раз он уговорил своего хозяина помочь мне скоротать
время и разыграть диалог, в котором Дамет представлял Приама, а он —
Париса. Ты не представляешь, милая Филоклея, что это был за Приам,
но Парис воистину был Парисом и даже более Парисом, чем сам Парис,
когда в каком-то диком наряде с обнаженными шеей, руками и ногами
он объяснялся в любви Юноне; и ты бы поняла по его лицу, по его сле-
зам, что он играет самого себя. Скажи, милая Филоклея, ты когда-нибудь
видела такого пастуха? Скажи мне, ты когда-нибудь слышала о таком ца-
ревиче? И скажи, разве я покорилась недостойному меня? Воистину, я
бы вознегодовала на свою жизнь, если бы думала, что мною владеет тще-
славие. Но отец с матерью ведут себя жестоко, и настало время мне самой
позаботиться о себе. До сих пор все было именно так, как я рассказала
тебе, и многие бесполезные усилия столь преобразили его, что, говорю
1 И на благородное воспитание. Музидор демонстрирует свои умения в искус-
ствах, особенно почитавшихся в эпоху Возрождения и описанных в «Книге при-
дворного» Кастильоне.
176
тебе правду, — Памела сказала это, прикрыв ладонью дрогнувшие губы,
— я очень боюсь за него. Посмотри, вот письмо. — Памела поправила
полог и вынула из-под подушки письмо. — Он со смирением вручил его
мне сегодня при Мопсе якобы для того, чтобы я прочитала его ей и тем
смягчила ее воистину железный желудок.
И Памела стала читать:
«Благословенная бумага, ты будешь целовать руку, которой подвласт-
но все, что только есть благословенного в природе, но не пренебре-
ги передать ей печальные слова несчастного и не бойся показаться
ей вестницей от человека низкого звания. Как только божественная
рука коснется тебя, ты сразу несравнимо возвысишься. Смело плачь-
те, мои чернила, потому что, едва она взглянет на вас, как воссияет
ваша чернота. Смело изливайтесь, мои стоны, потому что, пока она
читает, вы будете звучать музыкой. Скажи ей (о, счастливая вестница
несчастливой вести!), что слишком рано рожденный и слишком позд-
но умирающий, не смеющий ни говорить, ни смотреть и едва осме-
ливающийся думать (потому что он жалок, а она небесно-далека),
позволяет себе лишь мечтать, что ты (когда ее глаза и голос будут воз-
величивать тебя) скажешь и скажешь не от его имени — о нет, так не
годится, — но скажешь о нем, скажешь, отдавая его на ее суд: „О ты,
слава женщин и божество мужчин, ты, облаченная в доспехи любви,
защищай же ту, которая вооружила тебя, и на той высоте, на которую
ты подняла меня, позволь напомнить тебе о той, которой я обязана
лицезрением тебя и о том, который (он принадлежит тебе, сколь бы
ни был низок званием) суть и причина сего послания. Несчастного
(хотя и твоего несчастного) ослабевшие ноги быстро несут к могиле,
и не будет ли тебе жаль храма (как бы плохо он ни был построен, по-
строен он в твою честь), если он рухнет? А он умирает: это правда,
он умирает, он, в котором ты поселилась, умирает, покорный тебе.
И хотя он оплакивает свою участь, но не жалуется, потому что он сми-
рился перед страданием, но не перед несправедливостью. Он умирает,
потому что все его чувства признают со скорбью — такова твоя воля;
если ты не желаешь, чтобы он жил, тогда чего желать сокрушенному
Дору, кроме смерти? Твоя жизнь подходит к концу, злополучный Дор,
подходит к концу, и ты подходишь к концу, печальное письмо, ибо
теперь она, мудрая, знает, что ее священная воля будет исполнена"».
— Милая Филоклея, разве ему писать такие письма? — воскликнула
Памела. — И разве можно отмахнуться от такого? Если бы ты видела, как
у него дрожала рука, когда он отдавал мне письмо, и как он шел обратно,
словно это был не он, а катафалк, который вез его к усыпальнице. Два раза,
должна признаться, я была готова дать волю нежному взгляду, но мое ре-
шение останавливало меня, так что он удалился, не обласканный мною.
Когда же он скрылся за дверью, я не могла оторвать от нее глаз, и с тех пор
страх за него не отпускает меня, в чем ты, верно, убедилась сама.
12 Заказ 1414
177
— Ах, моя дорогая Памела, — сказала Филоклея, — не надо грустить.
Река твоих слез скоро обмелеет. В твоей власти возвратить ему жизнь,
ведь это ты забрала ее. — Так, пряча собственную муку, Филоклея уте-
шала сестру, пока сон не снизошел совершить омовение в чистых сле-
зах Памелы. — Ах, я, несчастная, — прошептала тогда Филоклея, ломая
руки, — почему судьба отвернулась от меня, если для меня самое большое
счастье — несчастье в сравнении с самым большим несчастьем сестры.
Ах, она плачет, потому что не может стать счастливой немедленно, а я
плачу, потому что никогда не буду счастливой. Она проливает слезы жа-
лости, я же недостойна ее. И все-таки я тебе не завидую, милая Памела,
нет, не завидую: мне просто жаль, что, хоть мы и сестры, у меня совсем
другая судьба.
Глава шестая
Подобно тому, как тень печали затмила разум Филоклеи, сумрак
ночи затмил ее взор, и с готовностью спрятался под крыльями сна.
И только, когда утро уже было на исходе, сладко почивавшие сестры оч-
нулись от снов, утешавших их гораздо лучше, чем могло утешить и уте-
шило пробуждение. Они услыхали голос Мисо, которой Гинесия при-
казала постоянно находиться возле своих дочерей и особенно следить за
тем, чтобы Филоклея и Зелмана не оставались наедине и не беседовали
вдвоем. Сообразив, насколько у нее стало больше власти, хмурая Мисо
вошла к сестрам, желая сразу показать, что им придется подчинять-
ся ей, и для начала заявила, что стыдно девицам слишком долгим ле-
жанием в постели портить цвет лица и здоровье; якобы когда она была
в их возрасте, то к этому времени успевала подшить хотя бы один но-
совой платок. Очаровательные царевны с улыбкой подчинились Мисо
и осчастливили платья, укрыв ими свою красоту. Едва Памела оделась
(прежде сестры), то, помня об умирающем Доре и чувствуя себя не-
счастной из-за прочитанного письма (словно отпечатавшегося у нее
в голове), она позвала Мопсу и приказала привести к ней Дора будто
бы для того, чтобы еще раз побеседовать с ним, прежде чем она при-
мет окончательное решение и будет говорить с Даметом о замужестве
его дочери. Обрадовавшаяся Мопса, словно ее за это ждала конфетка,
в мгновение ока привела Дора. Памела хотела утешить его и узнать еще
что-нибудь о его жизни, уже отчасти известной ей по слухам, но неиз-
вестной в подробностях, о которых мог поведать лишь ее возлюбленный
историограф. Однако из-за прелестного благонравия, ревнивого даже
к самому себе, она не стала сразу спрашивать о Музидоре (немного сты-
дясь, что не в силах любить его меньше, но больше жалея, что не может
любить его сильней), но решила начать беседу с Пирокла и его славного
отца, что и сделала:
— Дор, помнится, в последний раз ты сказал, будто Планг ошибся,
полагая, что царь Музидор утонул, но не сказал этого о Пирокле, гибель
которого, конечно же, в его юные лета стала великой потерей, тем паче,
я слышала, от него многого ждали, и он обещал не обмануть ожидания.
— Прекрасная госпожа, — отозвался Дор, — никакие ожидания и на-
дежды не могут желать большего, удостоясь твоей похвалы, да еще услы-
шанной из твоих уст. Однако я с уверенностью могу сказать, что, если его
слава долетела до этих мест, чтобы парить в столь сладком и благородном
дыхании, то тебе (не говоря о тебе самой) не найти никого, более достой-
ного похвал, более знатного многими и многими поколениями царей,
прославленных своими победами, более прекрасного обличьем и еще
более прекрасного умом, более храброго, любезного, мудрого... Что еще
сказать? Милый Пирокл, безупречный Пирокл, мои слова могут лишь
умалить твои совершенства, от которых, бог свидетель, если бы ты уделил
12*
179
немного тому, кто восхищается тобой, то его, украшенного ими, вероят-
но, могли бы принять много любезнее.
Сказав так, Дор заставил себя взглянуть на Мопсу, которая тотчас
расцвела широкой улыбкой.
— Воистину, — произнесла Памела, — мне нравится, что твой разум,
столь возвысивший тебя над твоим низким званием, берет себе в пример
лучшего из лучших царевичей, каким был Пирокл. Тот, кто целится в по-
луденное солнце, хотя бы и не мыслит достичь его, все равно выстрелит
выше того, кто целится в куст. Но прошу тебя, Дор, расскажи мне о нем,
ведь тебе, я знаю, все известно о царе Эвархе, отце Пирокла, воистину
славном царскими достоинствами, и о том, как он достиг своей славы.
О том, почему его отец отослал от себя сына и почему призвал его к себе,
о жизни Пирокла и его смерти, а также (если сочтешь нужным) расскажи
немного о Музидоре, ведь Пирокл и Музидор всегда были вместе и иначе
(без него) я вряд ли сумею по-настоящему понять (а этого я хочу больше
всего) Пирокла.
— Несравненная госпожа, — сказал Дор, — твое приказание не толь-
ко внушает желание служить тебе, но и пробуждает нужные для этого
силы, ибо такова власть твоих совершенств. Итак, сначала о славном царе
Эвархе, царе Македонии, когда-то владычествовавшей над всеми грече-
скими провинциями; всем остальным царям приходилось так или иначе
с ним считаться, и все были зависимы от Македонии, даже столь пре-
красная ныне (украшенная тобою) Аркадия. Однако Эварх, став царем и
поняв, что его предки по недосмотру или невезению все это порушили
и ему никогда не вернуть прежнее (что было очевидно), не нарушив мир
и не пожертвовав многими безвинными жизнями, удовольствовался тем,
что твердой рукой вел свой корабль, на котором оказался волей небес,
и выказывал не меньше величия в безопасном для подданных пренебре-
жении к увеличению царства, чем другие — в опасном влечении к этому,
ибо земля несет на себе достаточно кровавых свидетельств того, что на
ней нет недостатка в истинных храбрецах. Эварх был мудр и понимал, что
есть благо, он был справедлив и творил благо, был умен и воздерживал-
ся от войн, поэтому, как мне кажется, вряд ли можно представить более
благородное сердце, презиравшее опасность, когда она грозила ему. Сей
царь мерил свое величие своими достоинствами, и если ему нравилось
быть великим, то лишь потому, что он мог испытать свои достоинства
на деле. Он был красив собой и казался еще красивее из-за выражения
скорбного величия, которым его разум украсил его облик. Могучий от
природы, он стал еще более могучим благодаря постоянным упражнени-
ям, научившим его преодолевать трудности и переносить боль. Ему было
около пятидесяти лет, когда его племянник Музидор надел пастушеский
плащ, подобный моему, из любви к земному образцу совершенства.
Оставшись без отца и матери (его дед и отец умерли молодыми),
Эварх нашел свою страну (когда достиг должного возраста) в плачевном
состоянии, все было плохо, и особенно плохо дела обстояли с властью,
ведь даже сам титул царя был ненавистен народу, ибо его во зло употре-
180
бляли могущественные господа и мелкие царьки в период безвременья,
несправедливо приближая к себе тех, кто их поддерживал, преследуя тех,
кто защищал свою свободу, и устанавливая (постепенно и незаметно) худ-
ший вид олигархии: когда немногие управляют многими, но многие не
знают, кто эти немногие, которым они должны повиноваться.
Эти немногие получили власть царей, но природа у них была не цар-
ская, и они пользовались властью, как земледельцы, знающие, что через
год будут на другом месте; царский меч карал тех, кого они ненавидели,
царский кошель платил тем, кого они любили, и (что хуже всего) они
сами разрушали царскую власть. Не было для них слаще урожая с цар-
ского дерева, чем мучительные и ненужные налоги, законы они писали
более для выискивания преступников, чем для предотвращения престу-
плений, и царский двор был скорее местом, где все можно и все доступно,
чем домом того, кто, подобно отцу, должен подавать своим детям отцов-
ский пример. Так начался распад великого владения, ибо великие люди
(вечно недовольные из-за своего честолюбия) все больше разъединялись,
а мелкие людишки были счастливы служить тем, кого они ненавиде-
ли меньше, и держаться подальше от тех, кого они ненавидели больше.
Добродетельных людей заставили прозябать в тени, чтобы исходящий от
них свет не выставлял на обозрение испорченность других, да и к чему
добродетели, если для них нет применения? Погрязшие в пороках стари-
ки издевались над теми, кто жаждал исправления; придирчивые к другим
и снисходительные к себе юноши были преданы новомодным манерам,
одежде и прочему и, возможно, рады были бы измениться, но, увы, ме-
нялись лишь к худшему; торговля хирела; города из-за отсутствия ис-
тинных и естественных свобод погибали; духовные пастыри становились
продажными; судьи нерадивыми; короче говоря (я и так слишком долго
огорчал тебя), все было скверно, и (почему, главным образом, все шло
вкривь и вкось) мысли всех были направлены на поиски причин, почему
такое могло случиться, а не на поиски путей к исправлению.
В таком, даже еще худшем положении, описанием которого я не
дерзну тревожить высочайший слух, царь Эварх нашел страну, когда взял
бразды правления в свои руки, чего он, должен сказать, после многих лет
злоупотреблений своих подданных, добился не без некоторой жестоко-
сти, но не столько по отношению к преступлениям (которые он более ис-
кал способ предотвращать), сколько по отношению к преступникам, ко-
торые, увязнув в своих преступлениях, долго пренебрегали им и никак не
могли взять в толк, что человек, которым они привыкли прикрывать свои
амбиции, теперь намерен навести порядок в стране. Однако, несколь-
кими (довольно суровыми) приговорами внушив подданным уважение
к закону, он не стал проявлять ни низменной подозрительности, ни са-
мого низменного из низменных пороков — завистливости, они никоим
образом не повлияли на правление этого правителя. Он всех осветил сво-
ей любовью, и на фоне благоговейного страха, внушаемого правосудием,
она засверкала ярче яркого. Его первой и главной заботой стало являться
своим подданным таким, каким он был сам и какими желал видеть их, он
181
подчинил свою жизнь законам, и его законы стали, как им должно быть,
аксиомой его деяний. Вот так за короткое время ему удалось завоевать
любовь и доверие своего народа. Да и с чего бы народу не полюбить царя,
любившего свой народ? Такого царя, который и в мыслях не допускал,
что, будучи поставленным управлять людьми, совершеннейшими из
божьих созданий, может пренебречь столь благородной обязанностью,
ведь даже те, кому выпадает ходить за скотиной, любят свое занятие и
по-настоящему заботятся о животных. Есть немало царей (искушаемых
лестью и не понимающих суть власти), которые ничтоже сумняшеся от-
торгают себя от народа да еще считают своим то, что у него отнимают,
и (видимо, для равновесия богатеют настолько, насколько нищает народ)
заблуждаются, считая тем крепче свою власть, чем бесчеловечнее она
к людям. Эварх же (мудро рассудив, что он и его народ составляют одно
политическое тело, которому он приходится головой) стал заботиться
о подданных, как о самом себе, никогда не посягал на их свободу, если
она не грозила перейти в распущенность, не отнимал у них лишнего, все-
ми своими делами показывая такую заинтересованность в их процвета-
нии, что в конце концов, ничего не беря силой, получал все, благодаря
народной любви. Короче говоря, несравненная царевна, я мог бы расска-
зать тебе о великом искусстве власти, представив твоим глазам картину
его деяний. Итак, Эварх процветал в приятном сознании, что его волей
творится благо, когда, вынужденный покинуть свою страну, он показал
себя таким же великодушным, как прежде — справедливым.
У Эварха была единственная сестра (говоря о которой я мог бы легко
впасть в пристрастные восхваления), по справедливости достойная ветвь
благородного древа, и он отдал ее в жены Дорилаю, царю Фессалии, не
столько для подтверждения дружбы между ними, сколько для укрепле-
ния дружбы между их наследниками, тогда как они сами, одинаково чтя
добродетель, дружили уже давно, и конечно же Дорилай не нуждался
в глашатае, который кричал бы о его достоинствах.
— Кто же не слышал, — перебила его Памела, — о доблестном,
мудром и справедливом Дорилае, чью раннюю смерть до сих пор, хотя
прошло много времени, оплакивают добрые люди? Да и мой отец ни
о чем не говорит с таким восторгом, как о замечательной дружбе (редкой
для царей и еще более редкой среди царей), до последних дней храни-
мой как святыня двумя, не имевшими себе равных рыцарями. Но, прошу
тебя, продолжай.
— Дорилай взял в жены сестру Эварха и в скором времени их брак
был благословлен (так всегда говорят, какие бы несчастья потом ни ожи-
дали детей) рождением сына, которого они назвали Музидором и о ко-
тором мне придется рассказать прежде, чем о Пирокле, потому что он
был рожден прежде и стал, если так можно сказать, причиной появления
на свет Пирокла. Едва Музидор взглянул на этот частенько слепящий
свет, как нашлось множество предсказателей, которые утверждали, что
ему предстоит совершить неслыханные подвиги. И то ли небеса решили
поиграть с невежественными людьми, то ли лесть бывает иногда столь
182
бесцеремонной, что ее путают со святостью, но и в самом деле смелость
предсказаний (назывались даже царства, которые ему суждено завоевать)
подвигли царя Фригии, оказавшегося слишком суеверным, искать спо-
соб убить младенца, кстати по совету какого-то ловкача, составившего
его гороскоп. Глупый человек! Или он действительно испугался того,
чего не следовало бояться, или не подумал о воле высших сил — ведь воля
неба не каприз ребенка; но, так или иначе, при поддержке царей Лидии и
Крита (соединивших свои воинства) он занял Фессалию и уже было со-
всем изничтожил Дорилая, как тому на помощь пришел верный друг и
брат Эварх со своим могучим войском, и после череды поражений и по-
бед эта справедливая война подарила им свое лучшее дитя — Мир. Эварх
взял в жены сестру Дорилая, а сам вскорости, оставив ее тяжелой сыном,
славным Пироклом, отправился защищать свою страну, которую в его от-
сутствие (с помощью недовольной им знати) захватили могущественный
царь Фракии и его брат, царь Паннонии.
Победа Эварха в этой войне была столь же неопровержимой, сколь
громкой, и весть о ней, наверняка, дошла до твоего слуха, как обо всем
другом, что имеет честь быть достойным его. С Эвархом был и Дорилай,
своей храбростью вернувший другу долг; но, увы, он погиб в великой бит-
ве, и на его похоронах было пролито не менее слез его соратников, чем
прежде крови врагов, а в верном сердце Эварха поселилась такая печаль,
что даже весть о рождении сына не осветила его лицо радостью, хотя он
и испытал всю радость, какую только может подарить рождение ребенка.
Все, что прежде пророчили Музидору, потом напророчили и Пироклу:
небо и земля подали знак о рождении добродетельного героя. Парламент
планет еще никогда не располагался так, свидетельствуя о совершенстве
человека, что отмечали сведущие люди. Лишь любовь была ему угрозой,
но и она была обещана ему так же, как его двоюродному брату — как буря
и убежище в их юные годы. Но подобно тому, как смерть, возможно, спас-
ла Пирокла от любви, так любовь станет причиной смерти Музидора.
Глава седьмая
— Мать Пирокла умерла вскоре после рождения сына, и Эварх по-
ручил единственного своего единственного наследника заботам сестры,
потому что война между ним и его злоумышляющими соседями была
в самом разгаре. Тем временем юные царевичи, единственное утешение
добродетельной вдовы, подрастали, и Пирокл уже вызывал восхищение
даже у самых скупых на похвалы людей, а Музидор (возможно, потому
что жил среди своих подданных) — их великую любовь. Благодаря муд-
рым распоряжениям Эварха (которым безукоризненно следовала его
сестра), юноши были воспитаны так, что все искры добродетели, кото-
рые зажгла в них природа, полыхали пожаром, и, сказать по справедли-
вости, зажигали любовью к ним всех, кто их знал. Еще не научившись
как следует говорить, они уже многое постигали; и все делалось, чтобы
даже их игры не были бесполезными; их памяти услужливо предлагались
картины битв и укреплений, чтобы потом, окрепнув разумом, они могли
правильно оценить их; вместе с удовольствием, получаемым от сказок,
они получали в пример деяния великих царей, подвигавших их на бла-
городные поступки и учивших совершать благородные дела; прекрасная
добродетель всегда была у них перед глазами, и ей их учили заботливей,
чем грамматике; но их также учили тому, что нужно знать свои физиче-
ские возможности, не только свою силу, но и слабость, а также держать ум
настороже, чтобы распознавать опасность; короче говоря, все было на-
правлено на воспитание настоящих царей: и никто не выказывал по от-
ношению к ним ни рабской покорности, ни излишней строгости, но все
помнили об их царском происхождении, и они привыкли повелевать, но
не привыкли тиранствовать; ни в чем остальном, вроде бы их не выделив,
природа сделала их владыками истины, и остальные их достоинства были
возведены на этом фундаменте.
Из достоинств мне всего приятней говорить о дружбе царевичей, ко-
торая сделала их схожими больше, чем схожесть их достоинств, и сбли-
зила их сильнее, чем кровное родство. Мне думается, с годами она ста-
новилась крепче и крепче связывала их отчасти оттого, что Музидор был
старше тремя или четырьмя годами, и хотя это не мешало им получать
удовольствие от общения, в то же время им не мешали детские раздоры,
пока они вообще из них не выросли. Пирокл любил Музидора и благого-
вел перед ним, а Музидор любил Пирокла и восхищался им. Всему, чему
Музидор учился сам, он учил Пирокла; и Пирокл был счастлив учиться
у Музидора, пока, достигнув шестнадцати лет, не оказался умнее и силь-
нее своих сверстников, так что ни Музидор, ни кто другой, насколько
мне известно, не могли ни в пешем, ни в конном состязании показать
себя сильнее, а если не сильнее, то ловчее или изящнее, и уж, во всяком
случае, достойнее. Это могло бы считаться чудом, но чудеса — не чудеса,
когда речь идет о чудесном человеке.
184
Тем временем царь Эварх, провоевав много лет и захватив всю
Паннонию и почти всю Фракию, решил, собрав большие силы, осадить
Византии (для сей осады он собрал много воинств), и царевичам пред-
стояло на деле испытать свои достоинства и добродетели. Благородно по-
ступаясь собственными мечтами о благе детей, мать Музидора (считав-
шая себя матерью и Пирокла тоже) ни словом не обмолвилась против их
долга по отношению к ее возлюбленному брату; и они не стали медлить,
ибо Музидор считал, что провел впустую слишком много времени, ведь
когда-то он обещал (прежде чем понял, что сделал) своему милому дру-
гу Пироклу, что никогда не отправится воевать без него, чем накрепко
связал себя по рукам и ногам (раб верности); поэтому он долго не мог
следовать своим желаниям, по крайней мере пока Эварх не прислал за
юношами гонца и Пирокл не повзрослел для походной жизни. Музидор
с двойным нетерпением ждал часа отплытия.
Музидор и Пирокл хотели привести с собой армаду, достойную их
царского происхождения, чтобы порадовать Эварха не только своим при-
бытием, но и существенной подмогой. Итак, оставив берега Фессалии,
которые проводили их слезами и стенаниями, они вверили себя морю
и были встречены таким покоем, такой улыбкой на лице моря, словно
Нептун изменил себе и решил приласкать царственных юношей (при-
творно, как потом оказалось). Ветер был похож на слугу, с таким терпени-
ем ожидавшим их приказаний, что они могли наполнять паруса по соб-
ственному усмотрению, и искусные моряки, не привычные к такому, на-
полняли их так, что корабли держались вместе, словно послушное стадо,
повинующееся свирели пастуха, разве лишь иногда, будто желая блеснуть
перед монаршим взором, то два, то три из них начинали соревноваться
в первенстве (кто хитростью искусно манипулируя дыханием ветра, кто
смекалкой — используя преимущества своих плавучих домов). Музидор
и Пирокл получили возможность наблюдать за тем, о чем прежде читали
в книгах, как искусно моряки берут ветер в плен, чтобы быстрее бежать
с ним вместе, как красота и польза дополняют друг друга и любая деталь
такелажа служит своей определенной цели и, о боже, как великолепная
мощь и могущественная любовь, заключенные во внешне бесчувствен-
ном железе, тайной красотой (душой железа) тащат вперед равнодушного
великана и, подобно верной возлюбленной, принуждают его не только
кланяться, но и стремиться к возвышенной небесной любви, чтобы вер-
шить благородные дела, которыми могут гордиться дети земли. Весь день
и почти всю ночь Музидор и Пирокл провели, ублажая разум новыми
знаниями о морской службе и примечая, чем она отличается от сухопут-
ной, как будто задумавший преступление злодей решил напоследок до-
ставить своим жертвам немного удовольствия.
Ближе к утру, не успели первые лучи солнца, вроде бы, с хорошими на-
мерениями позолотить небо, как появились черные тучи (в точности так
чернеет вода, когда в нее льют чернила), вскоре небо совсем почернело,
подготавливая скорбные декорации для трагического действа. Вот уж и
ветры заговорили громче и, как в мятежном царстве, захватили в свои руки
185
бразды правления, обрушив на море шторм с дождем и градом, и юноши
оказались в опасности, прежде чем заметили перемену. Вероломное море
раздулось от гордости и пошло против переполошившихся кораблей, тех
самых, под которыми оно так ласково стелилось, пока к ним благоволили
небеса. Волны вставали горами, и терявшие опору корабли карабкались
на них, чтобы низвергнуться в адскую тьму; жестокие удары сыпались на
них со всех сторон (как ни старались они занять наименее уязвимое по-
ложение), и в конце концов у них не осталось сил сопротивляться, но и
не нашлось укрытия, где бы они могли переждать бурю. Очень скоро те
корабли, что днем раньше, казалось, были соединены навеки, отдалились
друг от друга, и многих поглотила ненасытная пучина, так что им уже ни-
когда не встретиться на этом свете. Некоторым все же, как стало известно
намного позже, удалось после долгих мытарств возвратиться в Фессалию,
другим — добраться до Византия и присоединиться к воюющему Эварху.
Царский корабль остался в одиночестве (как то случается со всеми
гордыми господами, когда счастье изменяет им), и Музидор с Пироклом
делали все возможное, чтобы спасти и корабль и себя, но больше из есте-
ственной потребности, чем в надежде на спасение. Ужасная тьма задолго
предвосхитила приход ночи, низвергнув день и узурпировав его права,
и (сопровождаемая раскатами грома и завываниями ветра) совсем сбила
с толку шкипера и матросов, так что они не знали, куда держать курс,
а если знали, то вряд ли сами могли (когда отдавали команды) слышать
свой свист. Море все еще спорило с ветром, чей рев громче, и обшивка ко-
рабля зловеще трещала, отдаваясь в ушах несчастных как свидетельство
того, что их гибель — приз в состязании двух стихий, да и небо, не отста-
вая, посылало громы, чтобы еще сильнее напугать людей, укрепляя силы
и без того могущественных врагов. Воистину нигде опасность не несет
в себе столько ужаса, как посреди моря, потому что жизнь в плавучем доме
противоречит природе человека: из-за страха перед непрекращающимся
движением, из-за одиночества, внушаемого удаленностью от дома, из-за
уродливых образов, что насыщают глаза и уши и раздражают мозг, даже
когда он хорошо вооружен для защиты.
Так миновал день (если это можно было назвать днем), и самые бы-
валые матросы, покорившись шторму, решили рубить паруса, чтобы вве-
рить себя его воле; самые храбрые познали страх, но и самые трусливые
стыдились выказать его, глядя на царственных юношей, которые (забыв
о великом будущем) не проявляли страха в предавших их обстоятель-
ствах, но воодушевляли других исполнять свой долг (не гнушаясь самой
тяжелой работы) и подавали пример, как верить в лучшее и презирать
слабость. Всю ночь, которая становилась всё своенравнее и своенравнее,
жестокий ветер носил корабль по предательскому морю, пока утро (его
наступление можно было определить лишь по часам, ведь мгла не рассеи-
валась) не удостоверило, что слепо подчиняется судьбе, как это принято
изображать на картинах, пока не наступает развязка; корабль понесло на
скалу, которая, скрываясь за высокими волнами, тщательно прятала свой
злой умысел, и корабль налетел на нее с невероятной (но только не для
186
испытавших ее) силой, по-видимому, предпочитая погибнуть, нежели
остановить свой бег, он бился об нее еще и еще и, наконец, разбился вдре-
безги, отдав себя ненасытной жадности моря и не оставив людям ничего,
кроме отчаяния и ожидания мучительной смерти.
По-разному вели себя моряки в преддверии конца: одни, забравшись
на корму, плакали и рыдали, пока море не поглотило их; другие, способ-
ные скорее принять смерть, чем ее ожидание, перерезали себе горло, не
желая тонуть; третьи молились, отойдя от тех (словно небеса могли раз-
гневаться еще сильнее), кто проклинал все и вся. Страшный вопль, не-
ожиданно исторгнутый из многих глоток, мог бы, верно, испугать любо-
го, кто не был вооружен мощью разума.
Но царственные юноши (используя слабости трусливого зла и же-
лая спастись, дабы служить добру и не предать себя) перепрыгнули на
ту часть корабля, которая, оторвавшись, казалась устойчивее остальных,
и там они обнаружили двух братьев, своих слуг. В мгновение ока все чет-
веро были унесены прочь, туда, где грозно поднимались волны. Обломок
был слишком мал для четверых и мало-помалу оседал под ними, но
братья (старшего звали Левциппом, младшего — Нелсом) не изменили
ни своей преданности, ни благодарности. Да-да, я сказал благодарности,
потому что они были взяты в плен во время великой войны, начатой ца-
рем Фригии против царя Фессалии, когда Музидор был еще младенцем,
и, проданные в другую страну, хотя Фригия и Фессалия уже не воевали,
не могли быть освобождены (несмотря на свои доблести), разве что за
гораздо больший выкуп, чем могли собрать их друзья; но так пожелала
вдовствующая царица, помня об ущербе, понесенном ею и ее народом
во время войны; поэтому они тринадцать лет оставались в тюрьме, пока
царственные юноши, прослышав об их заслугах, не продали собственные
драгоценности и не заложили часть земель, которые они должны были
получить, став законными царями (их добродетель была порукой испол-
нения того, что они обещали), и таким образом они избавили братьев
от рабства. Именно из-за этого воспоминания, доброго воспоминания,
верно, возвращая долг, они сами, добровольно, соскользнули с плота и
отдали себя во власть разъяренных волн; но и приготовившись умереть,
они молили небо спасти своих царственных господ. Воистину, ни боль,
ни опасность не отозвались так в сердцах Музидора и Пирокла, как это
самопожертвование братьев, не помышлявших ни о славе, ибо некому
было их прославить, ни о вознаграждении, ибо они не сомневались в сво-
ей скорой гибели.
Глава восьмая
Итак, от всей царской флотилии остался лишь малый кусочек ко-
рабля, на котором едва удерживались Музидор и Пирокл, всеми силами
старавшиеся помогать друг другу утешением и советом, чтобы избежать
худшего. Но случилось так, что, когда их несло течением (которое из-за
шторма стало сильнее), Музидору показалось, будто Пирокл может не
удержаться на «плоту», и он попытался правой рукой поддержать его, но
налетевшая волна больно ударила его по более слабой левой руке и раз-
лучила друзей, которые еще что-то кричали друг другу, хотя грохочущие
валы заглушали их крики. Вскоре Пирокл (равнодушный к смерти, если
она неизбежна, но не желавший облегчать ей труд) был выброшен разгне-
ванным морем на милосердный берег, но (по правде говоря) я знаю, это
милосердие было горьким для него; в самом деле горьким.
Сильно помятый и побитый прощальным приветом моря и грубым
приветствием берега, смертельно усталый из-за напряжения последних
дней, он побрел наугад, желая найти людей, к которым мог бы обратить-
ся за помощью, и неожиданно на него выскочил стражник, которого (что
стало известно позже) вместе с другими стражниками снарядили следить
за побережьем. Пирокла схватили и, ни о чем не спрашивая, ничего не
слушая, словно боясь проявить излишнее любопытство или (что хуже)
в самом деле не проявляя никакого любопытства (а он был мокрый с го-
ловы до ног и очень ослабевший), протащили (несколько миль) к дому
главного чиновника, после чего этот чиновник не более вежливо (но
более деловито) принялся придирчиво его допрашивать, и Пирокл, не
привыкший к подобному обращению, отвечал коротко и четко, кто он и
как очутился в тамошних местах. Едва чиновник услыхал, что юноша из
Фессалии, как под многочисленной стражей (не для того, чтобы уберечь
его от зла, но чтобы помочь злу) отправил Пирокла в царский дворец,
который был не более чем в одном дне пути, с письмом, удостоверяв-
шим служебное рвение чиновника, который высказывал более чем лжи-
вые догадки в отношении человека, за чей счет ему хотелось преуспеть
в своем усердии.
Страна, в которой оказался Пирокл, называлась Фригия, и его приве-
ли к царю, который имел меланхолический склад ума и духа, был злобен
и уныл, вечно бормотал что-то ужасное, подозревал, нет, скорее уличал
всех кругом в злоумышлении, потому что его мозг был устроен так, что
не ведал добро, отчего из всех людей лишь доносчики удовлетворяли его
природе, однако не те считались доносчиками, которые сообщали о дей-
ствительном злоумышлении, а те, которые сообщали нечто недостовер-
ное, но как будто предвиденное царем, таким образом подтверждая его
мудрость. Царь был труслив и не знал покоя, пока страх, порождаемый его
собственным умом, не подкреплялся внешними обстоятельствами; у него
было по-жабьи замкнутое, ограниченное мышление, природой наученное
188
отвращению к яду и опасности этого отвращения. Все же пока он был юн,
свойственные его возрасту занятия и предрасположения ума, еще не со-
всем себя проявившего, делали его более общительным и менее опасным.
Но годы шли, и его кровожадная природа стала проявлять себя, поначалу
редко, а ко времени, когда пророчество о будущем Музидора достигло его
ушей (сообщенное ему с самым жестоким толкованием, словно его под-
данным это доставило удовольствие), он дал себе волю, тем паче после
войны с Фессалией, так как в Фессалии (несправедливо) видел причину
своих неудач, якобы в этой соседней стране не желали его процветания.
Подозревая всех в презрении к себе и не зная, что противопоставить этому
презрению, кроме насилия, он подвергал жестокому наказанию всякого,
за кем мог разглядеть хотя бы тень вины, а когда не находил виноватого,
то виноватым могло стать даже само совершенство, и достаточно было
назвать кого-то виноватым, чтобы тот стал виноватым. Нет такого цар-
ского каприза, которому не старалась бы угодить бесстыдная нищета. Вот
и находилось великое множество неразборчивых честолюбцев, которые
были не прочь возвести свои дома на чужих руинах, чтобы потом точно
так же уйти в небытие; а так как его подданные наказывались не только за
дела, но и за слова и даже за мысли, вытянутые из них тем или иным спо-
собом, то подозрительность взращивала жестокость, а жестокость раз-
дувала костер подозрительности. В это время всеобщей подозрительно-
сти и страха бушевавшее море бросило Пирокла к бушевавшему тирану;
и люди, дурно поступившие по отношению к столь редкому в этих краях
чужестранцу (чей облик вызывал одновременно восхищение и жалость),
осуждали себя в душе и хвалились на словах.
Когда кровожадный царь узнал, кто перед ним и зачем Пирокл
с Музидором (которого он очень боялся) отплыли из Фессалии, то решил
(всегда предполагая худшее), что корабли были снаряжены против него,
и, радуясь гибели Музидора, будучи уверенным в ней, решил подвергнуть
Пирокла публичной казни. Потеряв всякое представление о чести, он
устремился на вершину страха, желая так напугать подданных, чтобы они
не отважились иметь врагом человека, который не постеснялся и не по-
боялся казнить великого царевича; кроме того, не умея сделать Пирокла
своим другом, он не желал иметь его своим врагом. В назначенный день
все было приготовлено для жестокой церемонии, обставленной весьма
торжественно, ибо тирания желала выставить себя в роскошных одеждах.
Но юноша царской крови и непобедимой храбрости, несмотря на неспра-
ведливое осуждение, вел себя спокойно в ожидании смерти, и всем было
ясно, что вскоре умрет величайшая надежда земли, что будет уничтожена
добродетель в прекрасном юношеском обличье.
Однако случилось так, что казнь была предотвращена Музидором,
другом Пирокла. Музидора спас рыбак из Понта, и, живя в Понте, он
вскоре узнал о происходившем во Фригии судилище над Пироклом —
много слухов ходило о столь значительном событии, а, узнав об этом,
Музидор понял, что ненависть царя Фригии направлена, в сущности,
на него, а не на Пирокла; и он немедленно отыскал возможность свести
189
знакомство с одним из знатных жителей Фригии, которому открыл свою
тайну и который с готовностью согласился ему помочь. Этот знатный че-
ловек был из тех, кто не раз воевал под началом Эварха и был так потря-
сен добродетелями царя, что, не будучи его подданным, считал себя его
слугой. Он-то решил укрыть Музидора в своем замке, после чего сообщил
царю Фригии, что если тот согласен освободить Пирокла, к нему сам, по
доброй воле, явится Музидор, который знал, как бы царь ни жаждал на-
питься крови Пирокла, еще сильнее он жаждал крови Музидора.
Фригийцу не нравилась мысль сохранить жизнь одному юноше за
счет другого, но времени оставалось мало, и Музидор не отставал от него
(заявляя, что не переживет Пирокла), да и собственная любовь фригий-
ца к Эварху не давала ему покоя, так что в конце концов он отправился
к царю с необычным предложением, и тиран немедленно принял его.
Юношей обменяли с большими предосторожностями с обеих сторон.
Не могу не сказать о том, как вел себя Пирокл, который и словами и же-
стами выразил Музидору свою обиду, заявив, что вовсе не считает себя
свободным, и спросил, из-за чего собственно Музидор не сдержал себя
и не отдал его на волю богов, как любого другого смертного, отчего те-
перь ему остается лишь завидовать славе Музидора, страдающего во имя
дружбы, а на самом деле похитившего чужую судьбу. Но в этом раздоре
(в котором наградой была смерть, а наказанием жизнь) выиграл Музи-
дор, потому что он был более желанным трофеем для несправедливого
царя, который никому не желал добра, а царевичам еще менее, чем дру-
гим, и ему (Музидору) — и того меньше. И Музидор с охотой пошел на-
встречу смерти, а Пирокл — с неохотой пошел прочь от нее; Музидор был
доставлен к терзавшемуся сомнениями царю, дабы тот насытил свой взор
видом того, кого боялся с самого его рождения.
Оттого что царь хотел похвастаться удачей (ведь к нему в руки попал
самый страшный из его врагов) и тем самым отнять последнюю надежду
у своих вечно подозреваемых подданных (когда они узнают, что Музидор
действительно умер), он с изощренной жестокостью и отвратительной
торжественностью стал готовиться к триумфу своей тирании. Наступил
назначенный день, и многочисленная вооруженная стража, которой ча-
сто приходится быть защитницей зла, повела к месту казни Музидора,
утешенного тем, что оказывает услугу Пироклу; и вот тут-то произошла
неожиданная встреча.
Как только слуги царя доставили обмененного Пирокла, куда было
приказано, он весь свой ум и всю храбрость — которым под силу невоз-
можное! — направил на освобождение Музидора, постановив в случае
неудачи погибнуть вместе с другом. Зная, что во Фригии ему не собрать
достаточно людей, которые пошли бы вызволять Музидора и решились
бы на открытый бой и на смерть (ибо надежды на другой исход было
мало), Пирокл оделся победнее и, одолжив несколько монет у того само-
го аристократа (который, не подозревая о тайных намерениях Пирокла,
очень печалился, что отпускает его от себя в таком виде), нанялся — это
он-то, рожденный для великих свершений, наследник славного царского
190
рода, — слугой к палачу, которому предстояло казнить Музидора, явив
гораздо более замечательное, чем смерть, свидетельство дружбы, особен-
но если принять во внимание его возвышенный ум. Что до палача, тот
ни на минуту не заподозрил его (одетого, как подобает для такого дела,
и искусно закрасившего свое красивое лицо множеством страшных пя-
тен), разрешил иметь при себе меч и к тому же носить его собственный
меч, предназначенный для законных убийств.
Вот так Пирокл, когда Музидор поднялся на эшафот (чуть в сторо-
не от остальных, так как ему было позволено сказать последнее слово),
подошел к другу, вручил ему меч, потому что руки у него не были связа-
ны (любезность, которую позволила себе стража, не ожидавшая ничего
подобного), и сказал: «Погибни достойно, Музидор». По правде говоря,
мне не приходилось слышать о человеке, который в течение нескольких
секунд между радостью, когда он еще ничего не понял, и страхом, когда
он понял все, испытал бы такое же смятение в мыслях, какое испытал я,
увидав рядом с собой Пирокла.
Едва произнеся эти слова, Дор покраснел, а Памела улыбнулась, то-
гда Дор покраснел еще сильнее, а Памела улыбнулась вновь, видя, как он
краснеет, потому что, вспоминая тогдашние события, он забыл, что надо
говорить о себе в третьем лице. Тем не менее, Музидор продолжал, отвле-
кая ее мысли от своих щек и привлекая к словам, слетавшим с его языка:
— Теперь у обоих в руках были мечи, но они не повернулись спиной
друг к другу (что было бы безопаснее), так как, защищая себя и не рас-
считывая защититься, признавая себя подданными смерти, желали лишь
не запятнать свой царский род и потому бросились в самую гущу врагов
(вокруг них были одни враги), в мгновение ока не оставив на эшафоте ни-
кого в живых, во всяком случае никого, кто мог бы угрожать им. Пирокл,
прекрасный Пирокл, совершал чудеса храбрости, в которые трудно по-
верить, и они непременно вдохновили бы Музидора, не будь он храбр от
рождения. Воистину праведный гнев и отчаявшаяся добродетель творили
такое, что народ почти уверовал в божественную суть царственных юно-
шей, видя деяния, превосходившие человеческие возможности. Царь же,
посылая грозные проклятия из окна (ему не было стыдно, что мир узрит
его зрителем), требовал от стражников и воинов ускорить казнь. Но мно-
гие из них лишились своих тел и вместе с ними душ; правда, и Музидор
с Пироклом в конце концов ощутили усталость и могли бы быть побежде-
ны, если бы было, кому их побеждать.
Слабые телом, но сильные духом, они продолжали сражаться, и так
случилось, что один из воинов (которому было приказано идти вслед за
другими против царственных юношей) был легко ранен и, дрогнув серд-
цем, так же ретиво побежал назад, как сдержанно шел вперед. Это увидел
другой воин и, желая заработать благодарность царя, ударил его по лицу,
а потом принялся распекать, мол, он (хотя их много) испугался всего-
то двоих. Тут первый воин, расхрабрившись от злости (как это часто бы-
вает), пронзил второго копьем, за что сам был убит его братом, а тот —
еще кем-то. Началась настоящая неразбериха, которую наблюдали ничего
191
не понимавшие люди, привыкшие к страху, но не привыкшие справлять-
ся с ним, и тогда кто-то крикнул: «Измена!» Остальные тоже закричали,
но царь (о, сколь труслива нечистая совесть!) исчез, прежде чем до него
добрались его подданные. Из-за этого (то ли благодаря некоему доброхо-
ту, то ли благодаря случайности, что бывает чаще) в толпе пробежал слух,
будто царь убит, и какие-то молодые люди не робкого десятка громко за-
вопили: «Свобода!» Призвав остальных следовать их примеру, они нава-
лились на стражников и на солдат как главный оплот тирании, быстро —
с помощью Музидора и Пирокла — расправились с ними и со всеми, кто
так или иначе помогал тирану, впрочем, не исключено, что в гневном
ослеплении они расправились и со многими безвинными людьми, ко-
торые были близки к тирану или враждебны по отношению к убийцам
тирана. Однако оказались на площади и умные люди, которые (усмотрев
во власти толпы многоголовую тиранию) уговорили своих сограждан из-
брать правителем Музидора и стали просить Пирокла (оба были царского
рода) защищать их, а Музидора (он был старше и более ненавидим тира-
ном) править ими, после чего подняли обоих обратно на эшафот — уве-
рен, Судьба улыбалась, глядя на них и на эшафот, который из места казни
стал местом коронации.
Однако вскоре стали приходить более или менее правдивые слухи.
Царь не погиб, но укрылся в неприступном замке одного из своих под-
ручных и начал собирать войско, чтобы как можно скорее подавить бунт.
Однако бунтовщики зашли слишком далеко, чтобы так просто сдаться,
тем более что им была известна злопамятность царя. Таким образом, по-
знав добродетель необходимости, они продолжали неколебимо исполнять
приказы Музидора, а он, с сомнением поглядев на войско, собравшееся
в городе, выступил с ним против тирана, пока у фригийцев не исчез запал
и пока тиран не собрался с силами. Но и царь не надеялся стать сильнее
со временем, потому вышел на поле боя и был убит Музидором после того,
как увидел гибель своего единственного сына (царевича великой храбро-
сти и красоты, но воспитанного порочным отцом в кровожадности) от
руки Пирокла. За эту победу Музидору и Пироклу были по справедливо-
сти возданы великие почести. Фригийский народ в полном согласии про-
сил Музидора принять корону и другие знаки царского отличия, ничего
так не желая, как иметь достойного правителя.
Однако Музидор, считая, что величия ему лишь прибавится, если
он отдаст царство, а не примет его, и зная о законном наследнике, не-
молодом господине, известном своей добротой (он не был обласкан вла-
стительным братом, напротив, пребывал в постоянной опасности из-за
его ненависти, и во все время его царствования старался жить как можно
тише и незаметнее, подальше от государственных дел, насколько позво-
ляло его царственное происхождение), возложил на него бремя власти,
но на таких условиях, которые убеждали подданных (насколько возмож-
но, когда речь идет о земных делах), что не только царь, от которого все
ждали лишь добра, но и сама природа правления не допустит возвраще-
ния к тирании.
192
Глава девятая
— Этим поступком Музидор в не меньшей степени явил свое величие,
чем другим своим деянием — великодушие. Прославляемые народом, по-
читаемые новым царем, который словами и поступками являл им свою
преданность, Музидор и Пирокл покинули Фригию, желая отомстить за
своих слуг, о преданности которых я рассказывал тебе, прекрасная гос-
пожа. Если помнишь, они добровольно бросились в море, чтобы своей
гибелью спасти царственным юношам жизнь, но не утонули, а, пропла-
вав сколько-то времени, оказались на одинокой скале, откуда, когда го-
лодная смерть грозила им уже не меньше, чем смерть в море, были до-
ставлены в Понт, еще менее счастливое место, чем то, в котором побывал
Музидор.
Их повезли к царю, тоже тирану, но не из-за подозрительности, жад-
ности или мстительности, как царь Фригии, а из-за того, что осмелюсь
назвать беспричинной жестокостью: непостоянный в выборе друзей,
скорее не друзей, а приятелей, от которых он избавлялся, когда они ему
надоедали, не иначе как убивая их; бывало он даже награждал кого-то,
но не потому что любил того, кого награждал, а потому что ему вдруг во
что бы то ни стало хотелось кого-нибудь наградить; и наказывал он не из
ненависти или гнева, а потому что ему самому никогда не приходилось
испытывать боль; и еще ему нравились льстецы, восхвалявшие доброде-
тели, которых у него не было, и превращавшие пороки в достойные хвалы
добродетели: его одинаково прославляли, и когда он случайно совершал
добро, и когда по обыкновению совершал зло.
Как раз в то время (никто не удерживался при нем долго) среди его
приближенных был один завистник, который, кажется, отравлял воздух
своим дыханием; он не мог видеть счастливого человека и не мог слы-
шать хвалы, воздаваемые не ему; в отличие от известных видов чумы, его
болезнь начиналась при виде чужого благополучия, чужое счастье делало
его несчастным, добрые вести — печальным, короче говоря, его благо-
склонность мог обрести лишь мученик.
Так как спасшиеся слуги появились при дворе в самом жалком виде,
то поначалу он благоволил к ним, пока царю, узнавшему об их приклю-
чениях (в которых они оставались неколебимо верными своим госпо-
дам), не пришла мысль возвысить их, пока он не стал осыпать их бес-
численными милостями, восхвалять их и в душе восхвалять себя за то,
что восхваляет их. Постепенно они заняли высокое положение при дворе
и даже сделались любимцами царя, но возвышение (смертельная обида
для завистника) подвигло их бывшего друга на уничтожение плодов сво-
его труда; завистливый советник воспользовался (дошедшим до двора)
слухом о гибели фригийского царя, близкого родственника царя Понта,
в сражении с Музидором и Пироклом; и царь Понта, идя у него на пово-
ду (отчасти из подозрительности, отчасти из мстительности) вдруг резко
13 Заказ 1414
193
переменил свое отношение к обоим братьям (каждая такая перемена вела
к падению очередных любимцев) и отправил их в тюрьму как слуг его
врагов, которых прежде (пока один из подданных не обратил на них его
внимание) он не знал и не опасался. Итак, подвластный своим настрое-
ниям, он вдруг расхрабрился, обрадовавшись случаю нанести Музидору
и Пироклу обиду, и тем самым дал им законный повод для справедливого
возмездия. Сначала, прежде чем объявить войну, Музидор и Пирокл по-
слали к царю гонца с просьбой освободить их слуг. Но, приняв просьбу
как подтверждение кротости просителей, царь в ответ раздулся от важ-
ности (подобно мыльному пузырю, который становится больше от лег-
кого выдоха, но лопается от сильного) и, забыв или никогда не слыхав
о человеколюбии, приказал отрубить головы обоим несчастным, к чему
завистливый советник, который возненавидел братьев лютой ненави-
стью, позавидовав их счастью служить столь удачливым господам, тоже
приложил руку; более того, царь отправил их головы Музидору и Пироклу,
сопроводив посланием не достойными царя упреками в предательском
убийстве его кузена-тирана.
Это не оставило никаких шансов на примирение, так что Музидор
и Пирокл, собрав во Фригии войско (там все было к их услугам, благо-
даря любви народа и благодарности царя), перешли границу, соверши-
ли много подвигов, которые молва назвала великими, завоевали Понт и
взяли в плен царя. По приказу Музидора (сердце Пирокла более склонно
к жалости) царя казнили на могиле двух верных слуг, которым их госпо-
да построили, не считаясь с расходами, по-царски роскошную усыпаль-
ницу для посмертной жизни. Что касается завистливого советника, то
с ним следовало обойтись как с царем, или еще хуже, но у него, верно, от
переживаний разорвалось сердце, когда он увидел, какие почести воз-
даются мертвым слугам. И хотя Пирокл мог бы с чистой совестью и по
желанию народа, большинство которого воевало под его началом, при-
нять коронование, он разыскал сестру казненного царя (прекрасную
собой и весьма почитаемую даму), которая уже готовилась разделить
судьбу брата, и отдал ее в жены знатному господину, старому другу своего
отца, после чего венчал их на царство. После этого Музидор и Пирокл,
словно не удовлетворившись своей царской, или государственной до-
бродетелью, и в этом царстве, и в некоторых соседних совершили еще
много добрых деяний, которые были куда опаснее и потому наградили
их громкой славой. В те времена было много чудовищ и чудовищных
людей, от которых им вскоре удалось почти совсем избавить тамошние
места.
Среди прочих они победили двух братьев, которых за богатырское
сложение и нечеловеческую силу называли великанами; они жили в зам-
ке на вершине неприступной скалы, к который вела одна узкая тропа,
и, стоя на ней, даже один человек мог без труда опрокинуть целую ар-
мию. Эти братья служили царю Понта и в военных делах (в которых они
лишь и были искусны) всегда выказывали неколебимое мужество и гру-
боватую преданность, будучи по натуре более склонными к приступам
194
ярости, чем к хитрости; они не были честолюбивы, но требовали к себе
почтения и более страдали от обид, чем радовались высоким наградам,
а что касается обид, то они были более чувствительны к неудачам в бою,
чем к царской немилости. Такими они были от природы (бесценными
для умного человека, учитывая, на какие чудеса они были способны),
и, хотя имели много заслуг перед недостойным царем, он забыл их,
словно недостойных его внимания, и это оказалось тем больнее, что
возвышение внезапно сменилось падением, но (тому множество при-
меров) царь не успокаивался в своих преследованиях, пока не отрубал
своим жертвам головы.
Воспылав яростью, они удалились в свой замок, где не могли думать
ни о чем более справедливом, чем о мести, и ни о чем более благородном,
чем о своем гневе (который по своей природе храбр и горяч и в зеркале
разума видит себя прекрасным, хотя на самом деле выглядит ужасающе),
поэтому заставили всех в округе (подвластной царю) страдать за вину
царя, не разбирая правых и виноватых, более того, считая, чем больше
пострадает невиновных людей, тем больше они наведут страха на страну,
что им, собственно, и требовалось. Призвав в помощь зло, они с неизбеж-
ностью озлобились и вскоре стали получать радость от убийств, когда,
наслаждаясь своей силой, крушили человеческое тело. Во времена служ-
бы царю, их гнев был подручным у разума, творящего благо, зато теперь,
став необузданным и слепым судьей самому себе, он превратил злобу
в насилие и хвалил себя за совершенство причиненных им бед, творив-
шихся на погибель страны, о которой не слишком заботился ее безжа-
лостный и бездушный царь. Так продолжалось до тех пор, пока, поняв,
что братья погрязли в жестокости и их уже не исправить, Музидор и
Пирокл втайне ото всех не отправились к ним, ибо иначе им ни за что
не удалось бы подобраться к замку. Великаны встретили их насмешками,
как глупых птичек, попавших в силки, но вечной справедливости было
угодно, чтобы братья пали от рук царственных юношей, которых провоз-
гласили спасителями страны.
Не достанет времени перечислить все почести, что были возданы
Музидору и Пироклу, однако высоких почестей не добыть без мук и опас-
ностей, да и забывают о них, не успев их воздать, поэтому врожденная
жажда славы не позволила Пироклу долго почивать на лаврах, ведь слава
непостоянна — сегодня возносит, завтра низвергает; и он совершил еще
много подвигов, молва о которых передавалась из уст в уста, доставляя
ему немалое удовольствие. Поэтому, оставляя царства законным правите-
лям и своей храбростью избавляя их от великанов и чудовищ, с которыми
целые армии не могли справиться, Музидор и Пирокл решили, ничего
о себе не сообщая, путешествовать по свету и использовать свои редкие
достоинства на благо человечества. Узнав, что царь Эварх уже одолел
трудности, они пожелали испытать свои добродетели, скрыв свои име-
на, ибо не считали подвигами то, к чему их вынуждали, подобно Улиссу
или Энею, судьба или обстоятельства, но жаждали деяний по собствен-
ному выбору. Итак, они расстались со страной, не желавшей расставаться
13*
195
с ними, и стали торопить время, чтобы оно испытало их, чтобы все ме-
ста, в которых они собирались побывать, свидетельствовали друг перед
другом правду об их деяниях. Покинув пределы Понта, они отправились
в путь вдвоем и в полном вооружении — в случае надобности прислужи-
вая друг другу — и вскоре были втянуты в приключение, может быть, не
самое замечательное, однако заслуживающее упоминания из-за величай-
шего великодушия и отвратительнейшей неблагодарности, с которыми
им пришлось столкнуться.
Глава десятая
В Галатии стоял холод, словно в середине зимы, и вдруг началась
такая злая буря, какой, я думаю, не вынашивала еще ни одна зима, так
что Музидору и Пироклу пришлось искать убежище от града, который
спесивый ветер швырял им в лицо, и друзей укрыла пещера в скале, как
щитом, отгородившей их от яростной бури. Оставаясь там, пока не стихла
непогода, они нечаянно подслушали беседу двух людей, которые, не за-
метив их, вели столь жалкий и непонятный спор, что юноши подались
вперед, желая посмотреть на говоривших, но не выдавая себя. Они увиде-
ли старца и юношу, едва достигшего возраста мужчины, слепого старика
и юношу-поводыря, бедно одетых и измученных непогодой, которые, не-
смотря на постигшие их беды, являли собой редкое благородство, никак
не вязавшееся с их лохмотьями. Первым заговорил старик.
«Ох, Леонат, — сказал он, — уж если мне не под силу уговорить тебя,
чтобы ты отвел меня на такое место, где я мог бы разом покончить со свои-
ми горестями и твоими заботами, так позволь мне хотя бы остаться одно-
му. Не бойся несчастий, которых не может стать больше, хотя бы я этого и
заслуживал. Не бойся опасностей, которыми мне грозит слепота, мне не
упасть ниже, чем я упал. И перестань, прошу тебя, перестань мучить себя
моими бедами, беги отсюда, беги из этих мест, достойных лишь меня».
«Милый отец, — ответил юноша, — не отбирай у меня остатки моего
счастья. Пока я служу тебе, я не совсем несчастен».
«Ох, сын мой, — простонал старик, вздыхая так, словно у него сердце
разрывалось от горя, — чем я заслужил такого сына? От твоей доброты
моя вина кажется мне еще ужасней!»
Эти скорбные речи (из которых легко было понять, что ни старик,
ни юноша не были рождены для жалкой участи) побудили Музидора
и Пирокла выйти из укрытия и попросить юношу рассказать об их не-
счастьях1.
«Господа, — произнес Леонат с достоинством и еще более располо-
жил к себе царственных героев тем, что жалуясь, не забыл о чести, — вер-
но, вы чужестранцы, если не знаете о нашей беде, ибо здесь всем известно
о ней и никто не смеет усомниться в том, что мы бедствуем заслуженно.
Воистину в нашем положении мы ни в чем так не нуждаемся, как в жа-
лости, и все же для нас нет ничего опаснее, чем слух о том, что мы в ком-
то пробудили жалость. Однако вы здесь, и, может быть, не переполнится
чаша ненависти у наших жестокосердных врагов, но, даже если перепол-
нится, нам уже нечего бояться.
Сей старец, которому я служу поводырем, еще недавно был законным
царем Пафлагонии, но неблагодарный сын отнял у него не только трон
1 Изложенная в этой главе история, по-видимому, оказала влияние на Уильяма
Шекспира, когда он сочинял трагедию «Король Лир».
197
и корону (чего не могли сделать чужеземцы), но и зрение, кое природа
дарит даже самому ничтожному из своих созданий; из-за этого и дру-
гих жестоких деяний сына он так исстрадался, что принудил меня при-
вести его на эту вершину, желая броситься с нее и разбиться насмерть;
меня, получившего от него жизнь, он принуждает стать помощником ему
в смерти. Благородные господа, если у вас есть отцы и вы знаете, что такое
долг и любовь, высеченные в сердце сына, позвольте мне покорно про-
сить вас: помогите мне увести несчастного царя туда, где он будет жить
в покое и безопасности. Среди ваших деяний это не будет ничтожней-
шим, ибо вы избавите могущественного и славного царя от несправедли-
вого притеснения».
Музидор и Пирокл не успели произнести ни слова, как заговорил
старик:
«Ах, сын мой, плохой же ты историограф, если умалчиваешь о глав-
ном узле, завязавшем эту историю, о моей жестокости, о моей соб-
ственной жестокости! И если ты это делаешь, чтобы не терзать мой слух
(единственное из чувств, оставленное мне), уверяю тебя, ты совершаешь
ошибку. Беру в свидетели солнце, которое ты видишь, — сказав так, он
поднял слепые глаза к небу, словно искал свет солнца, — я желаю себе
еще большего зла (хотя большее зло трудно представить), если я говорю
неправду: нет ничего желаннее для моего разума, чем оглашение моего
позора. Знайте же, господа (от всего сердца желаю вам, чтобы встреча со
мной, несчастным, не стала для вас зловещим предвестником беды), что
бы ни сказал мой сын (о боже, лишь правда заставляет меня оскорбить
его, называя моим сыном), все правда. Но кроме его правды, правда и то,
что, имея в законном браке от жены, достойной быть матерью царских
детей, этого сына (которого вы видите перед собой и которого узнаете
лучше из моего рассказа), я радовался надеждам, которые он подавал, до
тех пор пока он не вырос, чтобы исполнить мои надежды (у меня не было
причин завидовать другим отцам в том, что есть первая отрада смерт-
ных: оставить после себя часть себя самого); и тогда под влиянием моего
побочного сына (так, по крайней мере, меня уверяла подлая женщина,
моя любовница и его мать) я сначала невзлюбил, потом возненавидел и
в конце концов погубил, или сделал все, чтобы погубить своего закон-
ного сына (я думаю, что и вы так думаете), не заслужившего ничего по-
добного. Вы бы ужаснулись, если бы я рассказал вам, на какие хитрости
пускался мой бастард, сколько ядовитого притворства, беззастенчивого
обмана, вкрадчивой злобы, скрытого властолюбия и улыбчивой зависти
может быть в одном человеке. Но я не буду об этом рассказывать, мне
не доставляет радости вспоминать о чужих преступлениях, нет, я буду го-
ворить о моих собственных, и кроме того, обличая его, кажется, я могу
невзначай оправдать себя, а я этого не желаю. Вот так случилось, что
в конце концов я приказал своим таким же, как я, милосердным слугам
отвести моего сына в лес и там убить.
Но эти мошенники отнеслись к моему сыну лучше, чем его отец, они
сохранили ему жизнь и отпустили его на все четыре стороны, чтобы он
198
познал жизнь нищих, которую он и познал, став солдатом в соседнем
царстве. А перед тем как его должны были вознаградить за великие по-
двиги, совершенные им, он услыхал от кого-то, что я, упиваясь любовью
к незаконному и бессердечному сыну, позволил ему взять над собой
власть, поэтому все почести и наказания, а также все должности и земли
раздавал он; ну а когда я прозрел, у меня уже ничего не осталось, кроме
царского титула. Но и этого ему показалось много, и тогда со многими
оскорблениями — хотя едва ли по отношению ко мне это называется
оскорблениями — он спихнул меня с трона и вырвал мои глаза, после
чего, возгордясь в своем тиранстве, вовсе вышвырнул меня вон; но не
бросил в тюрьму и не убил, потому что наслаждался моими страдания-
ми, — и наверное, никто не страдал так, сознавая свою порочность, более
того, свой позор и более всего — свою вину. Но так как ублюдок незакон-
но захватил корону и столь же незаконно удерживает ее, то ему пришлось
увеличить численность войск в крепостях, оплотах тиранов и убийц,
и обезоружить жителей страны, чтобы никто не отважился встать на мою
сторону, да и, по правде говоря, вряд ли кто-нибудь захотел бы сделать
это, помня о моем жестоком неразумии по отношению к хорошему сыну
и неразумной мягкости по отношению к бессердечному ублюдку. Но даже
если и находились такие, что жалели о моем падении и хранили в душе
искру долга, то и они едва осмеливались подать мне у дверей милостыню,
благодаря которой я продолжал влачить свою жалкую жизнь, но никто не
решался подать мне руку и направить мои шаги во мраке.
Так было, пока мой сын (Господь свидетель, достойный более до-
бродетельного и удачливого отца), забыв о чудовищной несправедли-
вости, презрев опасность, отринув благополучие, добытое собственны-
ми руками, не пришел ко мне со своей заботой, как вы сами видите,
ввергнув меня в несказанное отчаяние не только потому, что его добро-
та — зеркало, в котором, несмотря на слепоту, я вижу свои пороки; но
и потому что горше любого другого для меня то горе, что он напрасно
подвергает опасности свою достойную жизнь ради моей, словно таскает
грязь в драгоценном футляре, ведь мои несчастья еще не закончились.
Я хорошо знаю, как бы сильно и беспричинно ни презирал меня, самого
презренного из людей, тот, который теперь стоит у власти, он не упустит
случая избавиться от того, чье законное право, украшенное храбростью
и великодушием, в один прекрасный день может пошатнуть трон под не
знающим покоя тираном. Только поэтому я потребовал от сына, чтобы
он привел меня на вершину утеса, ибо, должен признаться, хотел из-
бавить его от опасного спутника. Однако он в первый раз ослушался
меня. Вот, господа, теперь вы знаете правду, которую, молю вас, пове-
дайте миру, чтобы мои злые дела послужили к славе моего сына, ведь это
единственное, чем я могу воздать ему за его великие заслуги. И если это
только возможно, сделайте для меня то, в чем мне отказывает мой сын,
ибо смерть для меня милосерднее спасения, с нею закончатся мои стра-
дания. Этим вы сохраните жизнь прекрасному юноше, которому иначе
суждено погибнуть».
199
Печальная история, с печалью поведанная старым царем (которому не
надо было заламывать рук, ибо на его лице лежала печать горя), искрен-
не тронула Музидора и Пирокла, и они стали думать о том, как помочь
несчастному. Однако все разрешилось само собой, потому что Плексирт
(так звали незаконного сына царя) прискакал во главе сорока всадников
убить своего брата. Едва Леонат объявился в царстве своего отца, об этом
сразу донесли Плексирту, и он, не доверив никому столь важного дела,
сам решил быть и актером и зрителем. Не обращая внимания на слабую
(так ему показалось) охрану, всего два человека, он приказал своим при-
спешникам убить Леоната. Однако, вооруженный лишь мечом, юный
царевич, позволивший вероломно обойтись с собой, но не желавший
сам предать себя, храбро взялся за меч и убил первого, кто напал на него,
предостерегая тем самым остальных. Не медля более, Музидор и Пирокл
встали рядом с ним и, защищая справедливость, вновь доказали, что до-
стойны своей давней дружбы; они так обошлись с врагами (которые бо-
лее стремились разделаться с ними), что не один воин погиб, сражаясь за
своего бесчестного господина.
Не исключено, однако, что в конце концов они были бы убиты пре-
восходящими силами противника, если бы не царь Понта (недавно
ставший царем с их помощью). Увидев дурной сон, он не мог отделать-
ся от страха за юных царевичей, которых полюбил всей душой, поэтому
во главе войска в сотню всадников отправился следом за Музидором и
Пироклом в ту страну, где, как он подозревал (имея представление о ее
правителе), может разыграться трагедия.
Обстоятельства плохо складывались для Плексирта, так что его непра-
ведная жизнь и захваченный обманом титул, казалось, вот-вот изменят
ему, однако подоспели Тидей и Теленор во главе сорока или пятидесяти
всадников. Братья, чей род был одним из самых знатных в царстве, росли
вместе с Плексиртом и были столь храбры, что вовсе не знали страха, зато
быстро обучали ему тех, кто осмеливался иметь с ними дело. Они часто
торжествовали над самыми неодолимыми опасностями, никогда ничего
не боялись и всегда во всем были удачливы, к тому же, по правде говоря,
они могли бы стать столь же добрыми и справедливыми, сколь храбрыми,
если бы выбрали себе другого товарища или умели видеть в дружбе дитя,
а не отца добродетели. И вот благодаря воспитанию, а не собственному
выбору, связав себя узами дружбы с Плексиртом (воистину искусно скры-
вавшим свои пороки или не обнаруживавшим их, пока не мог ударить
наверняка), они охотно исполняли его волю, желая угодить ему, вопреки
всему свету, и быть хорошими друзьями более, чем хорошими людьми,
потому что, не любя его деяний, они любили его, творца этих деяний,
и, не защищая его преступлений, защищали преступника. Вот и на этот
раз узнав о том, что Плексирт неожиданно уехал, взяв с собой лишь сорок
всадников, когда повсюду было множество недоброжелателей (хотя им
была неизвестна причина), они последовали за ним и нашли его в об-
стоятельствах, в которых либо им надо было рискнуть своими жизнями,
либо ему расстаться со своей; так что они сразу вступили в бой, выказав
200
такую решительность и такой напор, что, должен признать, и Пирокл и
Музидор впервые встретили соперников, задававших им столь трудный
урок. Сражение продолжалось недолго, и если братья не победили, то
и не были побеждены, ибо им удалось отбить и увезти в безопасное ме-
сто своего неблагодарного господина, как ни старались помешать этому
Пирокл, Музидор и Леонат. Тем не менее, зайдя так далеко, царевичи не
пожелали остановиться. Они спешно собрали войско в Понте и Фригии
и за несколько дней оставили Плексирту всего лишь одну крепость, где
он укрывался. Единственным узлом, связывавшим его с людьми, был
страх, поэтому, стоило развязать узел, и все разбежались, разлетелись кто
куда, словно птицы из сломавшейся клетки.
В это время слепой царь (возложив в столице царскую корону на го-
лову своего сына Леоната), пролив много слез радости и печали и явив
народу свою вину и великодушие сына, поцеловал его, воздал ему по-
чести в качестве первого из подданных и почти тотчас умер, вероятно,
потому что его сердце, разбитое жестокостью и горем, переполнилось
добротой и покоем и ему стало не под силу поддерживать живой дух
в своем теле. Отдав долг покойному отцу с не меньшей любовью, чем де-
лал это по отношению к живому, новый царь, желая отомстить за смерть
отца и установить мир в царстве, продолжал осаду крепости, где нашел
убежище его жестокий единокровный брат. По правде говоря, братья, за-
щищавшие Плексирта, явили не только храбрость, какой за время путе-
шествия не приходилось видеть Музидору и Пироклу, но и не менее вели-
кое воинское искусство и умение его применять.
Тем временем Плексирт, убедившись, что если не погибнет от меча,
то погибнет от голода, решил покорно проползти там, где не мог про-
шествовать гордо. Таким создала его природа, да и сам он, упражняясь,
поднаторел во всяческих уловках; и хотя не было человека, чернее его
душой, никто лучше него не мог найти обеляющие его слова; хотя не
было человека, меньше его подверженного жалости, никто лучше него
не мог пробудить жалость в других, и если не было человека, с большим
упрямством отрицающего свою вину, когда ее трудно было доказать, то и
не было человека, с большей готовностью признающего свою вину, если
своим упрямством он мог ее усугубить. На этот раз он поступил так: полу-
чив пропуск на одного человека, чтобы поговорить с царем, своим братом
(якобы собираясь выдать Плексирта живым в его руки), он сам явился
в царский лагерь и (против воли Тидея и Теленора, которые предпочли бы
доблестно погибнуть, защищая его), босоногий, с веревкой на шее, сдал-
ся на милость Леоната. Я не в состоянии передать, что он говорил, как,
преувеличивая свою вину, искусно преуменьшал ее, как изображал муки
совести и непосильное бремя честолюбия, как, выпрашивая себе смерть,
словно ему было стыдно жить, ловко отстаивал свою жизнь, вроде бы от-
казываясь от нее. И вот Леонат, поначалу видевший в нем лишь убий-
цу своего отца и в ярости измышлявший разные способы мести, вскоре
не только пожалел его, но и простил; и если не совсем простил за про-
шлую вину, то поверил в его будущее исправление, тогда как остальные
201
несчастливые злодеи (исполнители преступлений, преданные тому, кто
эти преступления задумывал) приняли нелегкую смерть, потому что он
изо всех сил старался оправдать совершенное зло и не признавал, что оно
совершено с его согласия.
На этом Музидор и Пирокл покинули примирившихся братьев
(Плексирт выказывал куда больше услужливости, чем мог позволить
Леонат) и, распрощавшись со своим другом, царем Понта, который от-
правился наслаждаться недавно обретенными женой и царством, поска-
кали дальше без свиты, лишь в сопровождении храбрых братьев Тидея
и Теленора, побывали во многих местах и совершили много подвигов,
правда, менее известных, потому что царевичи путешествовали не под
своими именами. Так продолжалось, пока они не узнали о прекрасной и
добродетельной Эроне, царице Лисий, осажденной в своей столице мо-
гущественным царем Армении, и не устремились на помощь ей как более
слабой (все-таки дама), и еще потому, что на стороне царя Армении были
три самых знаменитых (из ныне живых) рыцаря, чьи имена известны все-
му свету. Первый — царевич Планг, и его имя сверкнуло недавно, несрав-
ненная госпожа, осененное твоим дыханием. Другие двое — великие ца-
ревичи (послушные ему) богатырского сложения и силы Базан и Эвард.
С их-то, главным образом, помощью царь Армении и рассчитывал по-
бедить. Тидей и Теленор, достойные судьи в воинском искусстве, возда-
вали им высокие хвалы, так что Музидор и Пирокл не могли удержаться
от свойственного юным мужам желания испытать свои силы. Едва они
оказались в Лисий, как присоединились к преданным несчастной ца-
рице воинам и вскоре так их воодушевили, что все вместе отправились
освобождать город, хотя остались без братьев-храбрецов (за ними при-
слал Плексирт, прося их поторопиться с возвращением), которые, до-
бровольно закрывая глаза на преступления своего господина и заставляя
себя верить его словам, часто употребляли свою добродетель — храбрость
для защиты его порока — несправедливости. Теперь их звали, чтобы они
приняли участие в походе, назначенном на то время, когда Пирокл и
Музидор собирались выручать из беды царицу Эрону.
Глава одиннадцатая
— Я уже слышала об Эроне от Планга, побывавшего у нас, — заметила
Памела, — поэтому, если не хочешь, можешь не рассказывать, а то вдруг
разбудишь Мопсу и она поднимет шум, испугавшись разговоров о войне.
Оглянувшись, Дор увидел, что Мопса в самом деле спит с открытым
ртом, из которого вылетали такие звуки, что никто не мог бы обвинить ее
в том, будто она вздремнула украдкой. Дор решил этим воспользоваться
и с искренним смирением опустился на колени, чтобы со смиренной ис-
кренностью, запечатленной в его движениях, воскликнуть:
— Ах, божественная госпожа, ты так чудесно преобразила меня, за-
ставив царя (не худшего из всех) ценить свой титул ниже пастушеского,
позволившего ему предстать перед тобой. Так выслушай наконец свое-
го покорного слугу, пока спит дракон, стерегущий золотое яблоко. Если
в моих желаниях, в моих надеждах, в моих мечтах есть хоть что-то, в са-
мой малой степени пятнающее твою божественную добродетель, пусть
высшие силы превратят мои слова в смертельный яд, пока они не сорва-
лись с моих уст, пусть мои желания, надежды, мечты сами убьют себя. Но
если моя любовь, любовь к тебе, любовь к твоей добродетели ищет лишь
той милости, того ответа, который никак не может оскорбить твое совер-
шенство, о, не...
— Мопса! — громким криком остановила его Памела.
Мопса подскочила и, пошатываясь, стала тереть кулаком глаза, по-
том, ничего не соображая, бросилась вон из комнаты, потом прибежала
обратно, потом наконец вспомнила, где она и зачем, и вновь выскочила
за дверь, после чего вернулась и спросила Памелу, зачем она звала ее.
— Ни за чем, — ответила Памела. — Разве чтобы ты послушала исто-
рии, которые рассказывает твой слуга. Продолжай, Дор.
Дор (не зная лучшей жертвы, чем послушание) собрался было по-
виноваться, но пришла Филоклея, следом за ней Мисо, и Дор был вы-
нужден уйти. Памела, с радостью сохраняя в памяти речи своего возлюб-
ленного, все пересказала сестре, а там подоспело время обеда, после ко-
торого, чтобы немного освежиться, сестры (уставшие от шумной Мисо)
решили, пока не спала жара, искупаться в Ладоне (что было в обычае
у нимф Аркадии), а заодно прихватили с собой лютню, намереваясь раз-
влечь себя ее звуками где-нибудь в тени деревьев. Однако они и шагу не
могли ступить, чтобы тотчас не появились Мисо или Мопса, а так как
тропинка шла мимо другого дома, то к ним присоединилась, увидав их
в окне, Зелмана, предоставленная себе из-за болезни Гинесии и празд-
ничных забот Базилия (по случаю его дня рождения). Она надеялась улу-
чить минутку для разговора с Филоклеей, однако стоило ей произнести
слово — и тотчас рядом оказывалась Мисо; поэтому ей пришлось свои
мысли и речи перепоручить глазам, которые усердно исполняли ее волю,
пока все шли к реке, самой прозрачной и прекрасной из всех рек Греции,
203
отчего купание в ней считалось полезным для здоровья. Дно здесь было
таким чистым, что трудно было сказать, то ли вода мыла песок, то ли пе-
сок очищал воду; русло же все время поворачивало то в одну, то в другую
сторону, как будто река хотела убежать и возвращалась обратно или, за-
бавляясь, играла сама с собой. Берега, любящие руки земли, словно об-
нимали реку, а она — резвая нимфа — ускользала от них. По обеим сто-
ронам росли прекрасные деревья, которые отражали лучи солнца, храня
природную прохладу воды. Там... <...>|
Среди прочих деревьев там рос стройный кипарис, который, склонив
над водой прекрасную голову, словно смотрелся в нее и ею украшал свои
кудри.
Царевны решили купаться в этом месте и, хотя никто не смел подой-
ти близко под страхом смерти, немного пооглядывались, но никого не
увидели, кроме спаниеля, захотевшего поохотиться на уток и шмыганьем
выражавшего сожаление, что его нюх не может одолеть воду с той же лег-
костью, что воздух; но, уже почти подобравшись к уткам, он вдруг по-
терял след и выскочил из реки, стряхивая с себя воду (как великие люди
поступают со своими друзьями), ибо не нуждался в ней более, а потом
скрылся за деревьями, не позволив дамам продолжить наблюдение за его
охотой. Царевны пригласили Зелману искупаться вместе с ними, но она
отказалась под предлогом недавней простуды, и тогда они стали поне-
многу освобождаться от одежд.
Зелмана хотела прикрыть глаза ладонью, но ее охватила такая дрожь,
что она почла за благо, прислонившись к дереву, наблюдать, как Мисо и
Мопса, подобно двум запотевшим плавильным печам, извлекали чистое
серебро своих тел из одежной руды. Но когда с царевен спали одежды,
чтобы они могли отдать себя поцелуям земли, Зелмана позавидовала им
и даже взревновала к одной из них; но когда Филоклея (только ее виде-
ли глаза Зелманы) стала похожа на бриллиант, нет, на солнце, выглянув-
шее из-за туч и выставившее себя напоказ, ибо эта красота была ослепи-
тельной для взгляда, а наслаждение слишком сильным для созерцания,
и Зелмана не смогла удержаться, она бросилась к Филоклее, чтобы кос-
нуться ее, обнять, поцеловать. Однако разум взял верх, и, опомнившись,
Зелмана, отошла от царевны, которая, краснея и улыбаясь, то ли из стыд-
ливости творила красоту, то ли из красоты — стыдливость, робко сделала
шаг, другой, осторожно ступая по земле, пока от прикосновения прохлад-
ной воды по ее телу не пробежал легкий трепет, похожий на мерцание
самой прекрасной из неподвижных звезд. Река как будто расступилась
перед Филоклеей и укрыла ее по грудь, так как глубже в ней не было ме-
ста; холодный Ладон, приняв всех в свои объятия, потеплел, словно его
согрела любовь, и игриво ласкал то, чего мог коснуться.
— Ах, прекрасный из прекраснейших Ладон, — воскликнула Зелма-
на, — отчего ты не остановишься, чтобы полнее насладиться своим
1 Здесь пропуск в тексте.
204
счастьем? О, я знаю почему, верхние воды спешат получить свою долю
ласк, и нижние неохотно, но уступают им место. О счастливый Ладон,
она в тебе, она на тебе, она глядится в тебя. О счастливый Ладон, несовер-
шенное зерцало для ее совершенств, неужели ты сможешь когда-нибудь
забыть ее облик? Если забудешь, пусть твое дно зарастет травой и покро-
ется илом вместо чистого песка. Если забудешь, пусть дураки построят
тут плотины и изгадят твою красоту. Если забудешь, пусть другая река
пересечет твой путь и исчезнет навеки имя Ладона. О Ладон, счастливый
Ладон, будь нежен с нею, пусть не поранит она ножки, потому что иначе,
о счастливый Ладон, ты будешь проклят навеки.
Дамы забавлялись в речном потоке, иногда ударяли по воде руками,
и Ладон (изборожденный морщинами), казалось, улыбался при каждом
ударе и вспучивался двадцатью пузырями, не довольствуясь одним боль-
шим отражением красавиц и получая в каждом из двадцати пузырей по
одному уменьшенному.
Что до Зелманы, взгляду которой мешала лишь прозрачная вуаль
Ладона, то угли ее любви вспыхнули, раздутые восхищением, и все тело
потребовало от глаз явить больше почтения своей царице (так в комнате,
где пылает огонь и пылает долго, жара постепенно становится нестерпи-
мой). Зелмана взяла в руки лютню, божественная страсть вдохновила ее
разум, голос не отстал от мыслей, пальцы повели мелодию под стать сло-
вам, трепещущее сердце пустилось в пляс в ритме песни; и, думаю, пока
ее нога отбивала такт, тело превратилось в залу, где шло веселье, а душа
стала царицей, которой следовало угождать. И так сблизились воображе-
ние и выражение его, что можно было подумать, будто красота Филоклеи
записывает себя в глазах Зелманы или любовь, которой она (будучи всего
лишь голосом) одолжила свою речь, пишет слово за словом в ее мозгу. Вот
этому Зелмана и посвятила свою песню.
О, кто дерзнет нарисовать портрет
Красавицы, которой равных нет?
Ее кудрей тенета золотые
В плен забирают помыслы мужские,
И говорит нам чистое чело:
«Как я, на свете что еще бело?
Со мной и снег пушистый не сравнится,
На лицах зим растущий, как пшеница!»
Излом бровей, как лук в руке стрелка,
Напомнит нам о том, что цель близка;
Иль эта бровь луну напоминает,
Когда свой диск она на серп сменяет.
Две брови служат арками для век,
Их грозен вид — прочь, дерзкий человек!
Глаза ее, как черных звезд свеченье,
Но тут хромает всякое сравненье:
И свет лампад под сводами дворца,
205
И в небе свет слепящего слепца —
Все уступает им по многим мерам,
Лишь чистота сих глаз под стать размерам.
В одном они обижены судьбой:
Один не видит, как красив другой.
С вином бордо атласистая кожа
Иль с утренней зарею в небе схожа,
Или плодов румяной кожурой,
Когда ее ласкает Феб зарей.
А тонкий нос и маленькие ушки —
Точенные из кости три игрушки.
Едва видна в них кровь, но все ж видна,
Как в мере млека капелька вина.
Двух раковин орнамент сладострастный —
Как лабиринт манящий и опасный:
На сотни эх рассыплется ваш глас,
И уж никто спасти не может вас.
А мочки их — им яхонтов не надо,
Ушам они краса, мужам услада.
И уст кармин — ах, как бы я забыл!
Благословен, кто влагу их испил;
Рубин прозрачный, вишня, роза это
Ценою, вкусом, совершенством цвета.
Им нет разлук, они вдвоем всегда,
Хоть делят их жемчужин два ряда:
Там, словно в цитадели укрепленной,
Сокрыт язык, росою окропленный,
Что не изрек ни слова суеты,
А дальше, ниже — чудо красоты,
Изысканных ремесл произведенье,
Как будто бы волшебное виденье,
Как башня во владеньях королей —
Вы догадались: шея имя ей.
Но Предвкушенье подзывает око
К холмам грудей — они уж недалеко,
Себе для игр сей мрамор дорогой
Избрал Венерин спутник озорной, —
Внутри прожилки, как лазурь эфира
С вкрапленьями вишневого порфира;
Не звездная межа мой Млечный путь,
А та, что делит надвое ей грудь,
Небесное названье так подходит
Ложбинке, что в блаженный край уводит;
В полях лилейных — что там за лилеи!
Индийских масел запах их милее.
Но в путь! Уже меня к себе влечет
206
Пупком изящно стянутый живот —
Так на куверте маленький сургучик
Любовного письма благой попутчик;
Холмом услады эту область звать —
Владение владычице под стать:
Из алавастров дивных Купидона
Сотворено блистательное лоно,
Атласист, тепел, мягок и широк
Трон, где игривый нежится божок.
Но я предстал перед такою целью,
Что расстаюсь с атласною постелью...
Упомяну лишь о ее боках
(Овидий их воспел в своих стихах),
О дюнах, белых, как у моря скалы,
О бедрах пышных, гладких, как зерцалы.
Все на колени! Надо мне успеть
Ее коленам похвалу пропеть;
Узлы услад и фаций сопряженья,
Они приводят красоту в движенье.
У них слоновой кости белизна —
Достойна кисти мастера она, —
Но лишь зерцало передаст те краски,
Что скрыты под тесемкою подвязки.
Всю тяжесть икр, как в тучах небосвод,
Хорошенькая щиколка несет,
Как труженик-атлант, напрягший тело,
Иль белый кит с такой же костью белой.
И вот стопа — как драгоценный кедр
Иль самоцвет, изысканный из недр.
О две стопы — фиалки во плоти,
Земные обходящие пути!
Не знаю, боле с чем сравнить их мне.
Но Муза, возвратись еще к спине,
Сравню с игрой двух резвых голубей
Движенья плеч, которых нет белей;
Постылого с них скину горностая —
Пусть явятся мне, серебром блистая.
А дале — несравненных две руки,
Они как фениксов крыла легки.
О локотки, ладони и запястья —
Мучение мое, мое несчастье!
Они дорогой служат мне живой
К нетающей вершине снеговой.
Природы кисть эмалью несказанной
Мазок с мазком соединяет странно;
Слоновая в них кость, и жемчуга,
207
И на брегах подталые снега;
Не надивлюсь покатостям, ложбинам,
Изгибам, поворотам и глубинам,
И, словно дельтой бурная река,
Десятиперстьем венчана рука.
О десять стрел и аметист на каждой!
О, Купидон, томимый крови жаждой!
И так еще задумали хариты,
Что чары в ней с достоинствами слиты,
И, тронутое красотой глубокой,
Не знает околдованное око,
Прекрасней что: великолепный дом
Иль гости, обитающие в нем?
И, похвале высокой дав добро,
Нам образы и слог дает перо,
Бумагу — небеса, чернила — слава.
Чем начинал, тем надо кончить, право:
Никто не в силах сотворить портрет
Красавицы, которой равных нет!
Едва Зелмана допела до конца, как увидела того самого спаниеля,
который прежде охотился на уток, а теперь подкрался и утащил одну из
перчаток Филоклеи; прекрасные пропорции перчатки говорили о том,
какую изящную гостью она принимает. Зелмане понравилось то, что
псу понравилась именно эта перчатка, и она немного помедлила, позво-
лив ему скрыться с добычей в густом кустарнике. Однако вскоре спани-
ель появился опять и, среди одежд отыскав маленькую книжечку всего
в четыре-пять листков, ее тоже — Мисо и Мопса в это время развора-
чивали простыни в ожидании царевен — потащил в лес. Тут Зелмана
(не зная ценности книги) бросилась следом за псом и увидала, как он от-
дает книжечку господину, лежавшему в кустах, который, стоило ему заме-
тить Зелману, поднялся с почтительным и несколько печальным видом.
Глаза Зелманы подали знак мозгу запомнить этого господина, ибо нико-
гда прежде ей не доводилось встречать человека столь приятной наружно-
сти, в которой сила не противоречила изяществу, а красота — силе; то есть
он был именно таким мужем, какого природе, частенько ошибающейся,
все же удается иногда создавать. Тем не менее, немного полюбовавшись
им, Зелмана потребовала, чтобы он вернул перчатку и книжку госпожи
Филоклеи, обещая не рассказывать царевнам о том, что он лежал совсем
неподалеку, в запретном месте, как раз когда они купались; она была уве-
рена, что царевны воспримут это как смертельную обиду.
— Прекрасная госпожа, — ответил незнакомец, — могу ли я жало-
ваться теперь, когда моя вина стала наказанием в моей душе? Что же до
этих вещиц, уверяю тебя, во всем виновата ненужная храбрость моего
пса. — С этими словами он подал Зелмане книжечку. — Однако позволь
мне оставить себе перчатку, принадлежащую госпоже Филоклее, ибо мое
208
сердце не в силах разлучиться с нею. И молю тебя, расскажи госпоже
(госпоже моих желаний), что отныне я посвящу жизнь прославлению
этой перчатки, которая ей служила.
— Ах, негодяй! — воскликнула Зелмана, теряя разум из-за неожидан-
ного появления соперника, который еще к тому же посмел вообразить,
будто она будет у него на посылках. — Немедленно отдай перчатку, или,
клянусь жизнью ее владелицы, я заставлю тебя твоей жизнью (цена, прав-
да, невысока) заплатить за нее.
Зелмана взялась за меч, с которым, подобно всем амазонкам, никогда
не расставалась.
Рыцарь вышел из кустов на открытое место и, тоже взяв в руки меч,
протянул его ей со словами:
— Бог свидетель, я не могу идти против тебя с мечом, ведь ты, если
глаза не обманывают меня, та самая знаменитая амазонка, которая защи-
тила красоту моей госпожи в поединке с храбрым Фалантом и которая,
убив льва, спасла жизнь моей госпожи. Поэтому я готов поцеловать тебе
руку и признать себя твоим слугой.
Обходительность рыцаря показалась Зелмане хуже поражения, и,
грозно сверкнув очами, она потребовала, чтобы он защищался, иначе,
мол, ему придется расстаться с жизнью.
— Мне трудно учить меч новым привычкам, потому что в присут-
ствии дамы он служит ей щитом.
Однако Зелмана, не слушая его больше, принялась с расчетливой
яростью наносить ему удар за ударом, так что природа и добродетель пове-
лели ему позаботиться о защите. Но даже опасность не смогла поколебать
надежно обосновавшуюся в сердце учтивость, и рыцарь лишь защищал-
ся, как мог, то отступая, словно в страхе, то отвечая сильными и точными
ударами, то ловко уклоняясь от ударов Зелманы, а то делая вид, что со-
бирается ударить, но неизменно в последнее мгновение отводя руку.
Довольно долго он делал вид, что сражается с воинственно настроенной
Зелманой (более разгневанной учтивостью рыцаря, который, не насту-
пая сам, умело сдерживал ее натиск), в раздражении забывшей о приемах,
более естественных для ее нежной сути, и постановившей убить рыцаря,
если он не захочет драться всерьез. Она удвоила удары, незнакомец уси-
лил защиту и отступил — образ невинности, уступающей силе. В конце
концов он все же уразумел, что в государственных и личных делах тот, кто
ставит только на защиту, наверняка проигрывает, ибо Зелмана сделала
вид, будто собирается обрушить меч ему на голову, а когда он по обыкно-
вению отступил, она на ходу изменила направление удара и попыталась
продырявить ему грудь. Хотя рукоятью меча (не имея другого оружия)
ему удалось отразить и этот удар, тем не менее выпад был столь силен,
что Зелмана все же ранила его в бедро.
Когда Зелмана отвела меч и заметила кровь, она ощутила, как вытес-
ненная прежде жалость вытесняет победную злость, и почувствовала себя
виноватой, ей стало стыдно за себя, едва она вспомнила, как он не хотел
сражаться, хотя мог бы, она это поняла, отлично мог бы сражаться.
143аказ1414
209
— Прошу прощения, — сказала Зелмана, — но ты сам виноват, ты от-
казался отдать перчатку и дрался совсем не так, как мог бы. Однако, —
продолжала она, — я понимаю, тебе стыдно драться с женщиной, поэто-
му года не пройдет, как тебе придется встретиться с моим близким род-
ственником Пироклом, царевичем Македонии, и даю тебе слово, он не-
пременно встанет вместо меня в поединке с тобой.
— Я готов, — ответил Амфиал, — получить еще много ран, если благо-
даря им приближу встречу с достойным царевичем, чьи добродетели чту,
хотя мне еще не выпадало счастье видеть его воочию.
Они еще разговаривали, когда появились юные дамы, которым
Мопса, последовавшая за Зелманой (из-за любопытства забывая о бла-
гонравии), громко поведала об увиденном, пока вода крупными капля-
ми стекала с их тел, словно оплакивая расставание с ними. Беспокоясь
за Зелману (и убеждая себя, что любой житель Аркадии склонится перед
ними), Памела из благородных побуждений и Филоклея из любовных
(торопливо пряча красоту, которой природа гордилась, а они стыди-
лись) поспешили ей на помощь. Однако они нашли обоих за мирной
беседой и Зелману к тому же хлопочущей над раной рыцаря. Взглянув
на него, царевны тотчас узнали своего двоюродного брата, славного
Амфиала, которого принялась мягко корить за то, что он нарушает за-
прет царя, тем более когда они уединились для купания. Амфиал стал
просить прощения у обеих царевен, объяснять, что сам ищет уединения,
ибо великая печаль завладела им. Сюда же он пришел следом за спание-
лем и, дав ему возможность поохотиться, хотел освежить свои уставшие
глаза, однако его разбудил сон, а когда он проснулся, то увидел наяву
тот же сон, что был во сне; и не очень внятно, но все же он повинился
в своем недостойном поведении. Однако Филоклея, ревнуя себя из-за
Зелманы, потребовала назад перчатку, да еще с таким гневом, на какой
только была способна. А Зелмана, узнав, что сражалась с Амфиалом,
воскликнула:
— Господин Амфиал, я давно мечтала встретиться с тобой и, долж-
на признаться, не совсем так, как получилось, но все же я преклоняюсь
перед твоим великодушием, пусть даже ты мне не нравишься. А теперь
молю тебя, позволь нам позаботиться о твоей ране, но при условии, что,
когда ты поправишься, у нас будет честный поединок.
Амфиал отвечал Зелмане с достоинством настоящего рыцаря, но
приводил оправдания, которые винили во всем его любовь к Филоклее
и вызывали ненависть Зелманы. Тем временем Мопса позвала пастухов,
приглядывавших неподалеку за овцами и отлично знавших, на каком рас-
стоянии им должно находиться, и они унесли Амфиала, который очень
страдал от раны, если напрягал ногу; Амфиал покинул Фил оклею, и его
сердце кровоточило сильнее, чем нога, перевязанная простыней, в кото-
рую до этого заворачивалась Филоклея, так что он возносил хвалы ране и
благословлял меч за оказанную ему услугу.
Глава двенадцатая
Когда Амфиала унесли, дамы (с шутливым негодованием загово-
рили о том, в какой обнаженной первозданности они предстали перед
своим кузеном) тоже было пошли домой, но, решив, что еще слишком
рано (хотя этот день не отличался от всех остальных) покидать приятное
общество ради обременительных обязанностей, Зелмана пригласила ца-
ревен в маленькую беседку, устроенную ею для себя, и они с радостью
приняли приглашение. Памела взялась за лютню, которая на своем язы-
ке призналась, сколь ей приятны прикосновения нежных пальчиков, а
Зелмана достала вырученную у Амфиала книжечку и, разглядев на одной
из страничек слова «Жалоба Планга», вспомнила рассказ Дора и пожела-
ла узнать, насколько Филоклея осведомлена в обстоятельствах ее жизни.
Улучив минуту, она отдала ей книжечку и спросила, есть ли в ней что-
нибудь тайное?
— Нет, нет, — ответила Филоклея, — это всего лишь проба пера моего
отца, и вот по какому случаю. Как-то раз, незадолго до твоего появления,
он гулял с нами примерно в миле отсюда, и, переходя через дорогу, кото-
рая ведет в город Мегаполис, мы увидели самого благонравного и учти-
вого господина, какого я когда-либо встречала (его имя написано тут),
кстати, средних лет и не очень стройного. Он лежал под деревом, ждал,
когда слуги поменяют лошадей, и можно было подумать, что он устал от
быстрой езды, но все-таки не настолько устал, чтобы не торопить слуг
и не сокращать свой отдых; к тому же он показался нам печальным, по
крайней мере, печаль была на его лице, а своими судорожными движени-
ями, стонами, слезами, возбужденным бормотанием он так тронул моего
отца, что тот заговорил с ним. Поначалу, не узнав его, Планг ответил та-
кой отчаянно горькой фразой, что отец потом с удовольствием записал
их беседу в том виде, в каком ты можешь прочитать ее на этих страницах.
И если ты хочешь узнать, что на них есть, то мы с сестрой объясним тебе
непонятные слова. Зелмана тотчас развернула книжечку и прочитала за-
писанный в ней диалог.
Планг — Базилий
Планг. О странствованье длинное и злое!
И горшей будущностью небеса
Дополнить рады горькое былое...
Из горл пронзенных — сладки ль голоса?
Ропщу ль горе, кляну ль юдоль земную,
От жалоб лишь обильней слез роса.
Коварный кто измыслил вещь такую:
Ума сосудом землю сотворить
И этим ум губить напропалую!
14*
211
Зачем в руинах темных эльфам жить?
Что им там делать в облаченье плотском?
Не имя ль жалкое людей носить?
Из мира звезд свели их к яслям скотским —
Вотще на волю рвутся из тюрьмы,
И смерть встает за поприщем сиротским.
Той жалкой сцены лицедеи мы,
Где шут шуту являет мыслей смену.
Помимо горя все — насмешка тут.
Жизнь — страх детей. Мы жизни знаем цену.
Рожденья муки ясный знак несут,
Что ум рожден снимать страданья пену.
Торги стыда, страница, где цветет
Пятно позора, — вот что наше тело:
С борьбой в самом себе оно живет.
Как будто жемчуга ловцы, чье дело
Всегда опасность, наши члены суть.
Телесного покоя не имела
Вовеки наша форма, словно ртуть
Или волчок, к стоянью не способный,
Зверь говорящий, куст, пошедший в путь!
А горе — наш надежный камень пробный,
Тот не горюет лишь, в ком чувство спит,
А смерть влечет нас к этой жизни злобной.
Базилий. Молчи! Здесь столько светлых нот звучит!
Еще нам добрый случай даст блаженство,
А скорбь твоя гармонии претит.
Плане. Будь проклят добрый случай и надменство
Всех верящих в него. Я знаю: нет
Щита верней, чем дней несовершенство.
Я ль знал Эроны кудри — златный цвет
И руки — тоньше не знавали люди?
У них, истерзанных, днесь крови цвет!
Я ль знал колодцы красоты, те груди —
От их дыханья я сходил с ума...
Глаза — свет солнца, чудо в большем чуде...
Я ль слышал речь, пусть скорбную, как тьма,
Но сладостным омытую дыханьем?
В эфире сем сладка и смерть сама!
Уж я давно пресыщен дней мельканьем
И думаю, как небу жизнь отдать,
Мне — жить и смерть ее встречать рыданьем?
Любовь торопит Планга все терять,
Чтобы вернулась в мир живых Эрона...
212
Он жив, а ей в живых уж не бывать!
Иль все коловращенье небосвода
К единственному одному ведет:
Открыть для звездных глаз провал бездонный?
А для меня последний дурень тот,
Кто алтари воздвиг властям небесным,
От них же мир напрасно ждет щедрот.
Базилий. Пойми, ты сам глазам ее прелестным
Шлешь гибель, богохульствуя сейчас.
Так наказанье будет лишь уместным.
Любовь не то ль, что пелена у глаз?
Земная страсть нас вводит в заблужденья:
Врагов мы видим в тех, кто любит нас.
Земная истина без снисхожденья
Состав свой губит и себя саму!
Что жизнь ей после нашего паденья?
Слепой имеет не дорогу — тьму.
А ты какую предпочтешь дорогу:
Благую весть принять или чуму?
Смерть будет для нее равна итогу.
Мучительств будет прервана чреда,
Страдание прейдет — так слава богу!
Но мы — смиренья нет в нас никогда,
Лишь вихрь от ветров противоположных!
Нет — плачем. Было — плакали тогда.
Плане. Не всюду власть решений непреложных.
Сгубили стольких глаз ее огни —
Что если смерть — одна из жертв возможных?
Быть может, ледяное искони,
Пред нею сердце Смерти жар познало
И Смерть продлит прельстительницы дни?
Иль Смерть нам всем соперницею стала?
В объятьях мерзких чистота лежит —
С Эроной вместе добродетель пала!
Весь мир манил сокровищ этих вид —
И Смерть одна коснется их руками!
Себя саму в тот миг пусть уязвит!
Как черный круг найдет на это пламя?
Как башню эту пасть земли возьмет?
Кощунство торжествует ль над хвалами?
Мир — сад, она — его сладчайший плод,
Эрона — гостья редкостная в свете:
Она и долу и горе живет.
Ужели сгинут совершенства эти?
213
И если Феникс должен быть сожжен,
Пусть дом совьет сперва, пусть будут дети.
Не дай, о Солнце, сокрушить закон:
Сей луч, как собственный, храни от фоба —
Ужель забвен тобою Фаэтон?
Не торжествует пусть Вулкана злоба!
Воск девственный расплавить не дозволь,
Продолжи дни азийке яснолобой.
Могучий Марс, топор твой страшен столь —
Ужели зверь, Венеры дочь язвящий,
От острой стали не претерпит боль?
Тебя молю, Венера: настоящей
Ты матерью, не мачехой, ей будь,
В душе супруга жалость к ней обрящи...
Глаза мои, лишь только заглянуть
Она решилась в вас — и отраженье
Свое узрела; мысли — мой к ней путь;
Рука, руки ее прикосновенье
Познавшая! Уста, что солоны
От слез Эроны; речь моя в стесненье;
Душа, чьи недра чувством к ней полны!
Пусть вещи все, что любите, берете,
Целуете, — к ней будут склонены!
Базилий. Слова тоски! Вы душу мне гнетете,
Какая фусть в вас и какая власть!
Печаль печалей слышу в каждой ноте.
Как будто сам твою делю я страсть.
Как в зеркале, зрю свой в твоем недуге.
Нет состраданья в не успевшем пасть...
Но разум говорит: событья — слуги,
Воспринимай приход их и уход
Как будто смену дней в годичном круге.
Но у желанья свой с делами счет:
Оно, решив, что в жизни все услада,
Обыденному места не дает.
И вящей правоты ему не надо:
Оно бы радо глаз не закрывать,
Но очевидность удалить от взгляда.
Противоречий нам не обуздать,
Коль бабьи слезы у мужчин и души.
Тебе ж урок хочу я преподать.
Плане. Молчи! Когда мне протыкает уши
Нравоучений ложь или стихов —
С лица земли я стер бы вас, кликуши!
214
Тот прав, кто век мой оборвать готов!
Для несчастливца худшей нету доли,
Как облачиться в возраст стариков.
Судьба, приняв — о низость! — образ боли,
Вошла в предел, где ангел дни влачил.
Ты ж будешь мне читать мораль — доколе?
Могу ль забыть? Она была без сил
И сгинула б тогда в своей темнице,
Когда б шнуровку я не распустил!
Могу ль забыть, как после вереницы
Стенаний бриллиантом на стекле
Она писала: «Смертью все простится»?
Могу ль забыть, как говорила мне:
«Сюда скорее гроб, мой одр покоя!» —
Спасенье зря в ужасной глубине?
Забыть? Иль мы, одной ногою стоя
На бреге рва, не помним о другой?
Иль мне забыть отца, и мать, и кто я?
И если страшно памяти живой
И чувства памятью ужасной смяты, —
Останется ль бесстрашным разум мой?
Базилий: Кто сам себя всю жизнь клянет, несчастный,
Прощеньем не спасется. Кто вредит
Себе, щитом хранится ль безопасный?
И всякой посторонней вещи вид
Его терзает, но всего жесточе
Душевная тоска его язвит.
Для терний землю орошают очи,
И благородство губит в нас тоска,
И ум от преизбытка дел короче.
Дни сменят дни, а век не все века
Накапливает горе. Я спасаем
Судьбой, но горесть друга мне близка.
Мы тень добра самим добром считаем,
На жизнь свою кладем безволья знак —
Так исподволь мы высоту снижаем.
Но, Планг, пойми, я не хочу никак
Лить страждущему кислоту на раны,
Иль погубить, любя, как тот ишак...
Прочитав и огорчившись рассказом о смерти Эроны, Зелмана поже-
лала узнать продолжение этой истории, но еще больше она желала вни-
мать голосу Филоклеи, поэтому сказала:
— Несравненная госпожа, вряд ли этот диалог сделает кого-нибудь
мудрее, если не знать, кто такой Планг и кто такая Эрона, что стало
215
причиной ее смерти и его вечной печали. Я покорно молю тебя, расска-
жи мне о них, ибо, должна признаться, я кое-что слышала об их злоклю-
чениях, пока странствовала по свету, но была бы рада с помощью столь
прекрасной свидетельницы убедиться в истинности моих знаний.
— Узнав царя Аркадии в моем отце, — с готовностью отозвалась на
просьбу Филоклея, — Планг, желая его помощи, подробно поведал ему
о себе и о даме, так что мы с сестрой, которая запомнила его рассказ луч-
ше меня, постараемся ничего от тебя не скрыть. Сначала Планг (со сле-
зами и причитаниями) повел речь об Эроне (она главная в этой истории).
Глава тринадцатая
— До недавнего времени в Лисий правил царь, брак которого был
благословлен единственной дочерью Эроной, удостоенной столь многих
похвал за свою красоту, сколь это возможно. Будучи девятнадцати лет от
роду, царевна Эрона обратила внимание на то, что в Лисий более других
богов почитают Купидона и суеверно поклоняются его бесчисленным на-
гим изображениям, и (считая, что не может быть главным бог, внушающий
порочные мысли, или смущаясь его наготой) так надоела отцу своими при-
ставаниями, что тот приказал разбить все статуи и замазать все картины,
но вскоре, к ужасу жителей Лисий, бог жестоко покарал и царя, и его дочь.
Не прошло и года, как Эрона без ума влюбилась в юношу, по имени
Антифил, который жил при дворе, но был низкого происхождения (его
мать нянчила царевну), и, не имея других заслуг, был известен лишь бла-
годаря своей матери. До того неумело царевна скрывала сжигающий ее
огонь и до того охотно отдавала себя в его власть, что, когда царь пред-
ложил ей стать женой великого Тиридата, царя Армении, который же-
лал ее любви более, нежели небесных радостей, она не согласилась. Ее
долго уговаривали, ее убеждали, ей угрожали, потом упрятали Антифила
в тюрьму и сказали ей, будто он бежал из Лисий, потом торжественно каз-
нили кого-то под именем Антифила, но Эрона не поддалась на уговоры,
не испугалась угроз, не забыла возлюбленного, а когда поверила, что он
умер, стала искать яд или кинжал, чтобы соединить свою душу с его ду-
шой в небесной церкви. Сердце нежного отца было разбито, и он вско-
ре умер, так ничего и не добившись. Эрона же, надев корону и укрепив
свою волю царской властью, во что бы то ни стало решила освятить свою
страсть священными узами брака.
Однако прежде чем она успела совершить положенные обряды, царь
Тиридат пошел на нее войной. Несмотря ни на что, он все еще желал по-
лучить Эрону в жены, так как она, себе на погибель, воспламенила жесто-
кое сердце царя — в самом деле, жестокое и деспотичное. Он был гораздо
сильнее Эроны на поле брани и, не щадя ни мужчину, ни женщину, ни
ребенка (будто его неистовую любовь могла победить лишь неистовая
ненависть), кровью ее подданных писал любовные сонеты, а музыку
к ним — их криками, хотя Артаксия, прекрасная сестра царя, обычно со-
провождавшая его в походах, всеми силами старалась смирить ярость бра-
та. В конце концов армянский царь осадил город, в котором находилась
Эрона, и поклялся или завоевать ее, или расстаться с жизнью. Царица
стояла перед выбором между несчастным «да» и гибельным «нет», когда
ей на помощь подоспели (следуя путем, которым их вели добродетель и
удача) не имеющие себе равных Музидор, царь Фессалии, и Пирокл, ца-
ревич Македонии, которые, как сказал Планг (и он вздохами и слезами
подтвердил свои слова), были столь прекрасны и разумны, что и солнцу
нечасто доводится зреть им подобных.
217
Когда Филоклея произнесла эти слова, Зелмана подумала: «О сла-
достные речи, вы не только хвала мне, но и хвала себе самим, ибо рожде-
ны ее устами».
— Музидор и Пирокл, — продолжала Филоклея, — не только желали
помочь слабейшему (тем более даме), но и спасти греков от тех, кого мы
называем и считаем варварами, и для этого они собрали воинство чест-
ных лисийцев, готовых пожертвовать жизнью ради своей царицы, и тай-
но передали в город, чтобы оттуда всеми имеющимися силами, в опреде-
ленный час, начали наступление; в этот же час они сами напали на лагерь
Тиридата с заведомо рассчитанной яростью, и армянский царь был бы
побежден, если бы его не выручил этот самый Планг (командир всадни-
ков Тиридата) с помощью двух могучих рыцарей Эварда и Барзана, и все-
таки они не сумели воспрепятствовать Музидору и Пироклу (со многими
воинами и запасами продовольствия) войти в город.
Тогда Тиридат понял, что война затянется надолго (а для него это
было хуже злой чахотки), и от имени трех царевичей послал вызов
Музидору, Пироклу и Антифилу: он предложил решить спор поединка-
ми, но поставил условие, что каждый сражается сам за себя и чья сторона
насчитает больше побед, та и будет считаться победившей. Боясь позора,
Антифил (хотя Эрона вытерпела бы все невзгоды осады, лишь бы не под-
вергать его опасности) не мог не ответить на вызов, тем более что оба чу-
жеземца, не искавшие для себя выгоды, с радостью его приняли. Кроме
того, он не мог не понимать, что (уставшие от тягот войны) лисийцы от-
вернутся от него, узнав о его нежелании сражаться, и не захотят ради
него рисковать своими жизнями, особенно если учесть, что противники
были намного достойнее него. На том и порешили. С Пироклом должен
был сражаться Эвард из Витинии, с Музидором — Барзан из Хиркании
(кстати, и Эвард и Барзан помыслить не могли, что кто-то может усто-
ять перед ними), а против Антифила царь Тиридат послал Планга, своего
двоюродного брата и сына царя Иберии. Итак, Музидор убил Барзана,
а Пирокл — Эварда, и эти свои победы они оценили выше прежних; зато
Планг пленил Антифила, и (словно счет уравнялся, хотя перевес был не
на его стороне) Тиридат не снял осаду, наоборот, чтобы заставить Эрону
пойти на уступки, отправил к ней гонца с известием, что дает ей два дня,
а на третий, мол, прикажет на ее глазах отрубить Антифилу голову, если
его требования не будут удовлетворены, к тому же наслышанный о ее
беззаветной любви, он предостерегал ее от попытки покончить с собой,
иначе обещал подвергнуть Антифила самым ужасным пыткам, какие
только можно измыслить.
И вот, сокрушенная то ли божественной властью Купидона, то ли
тиранией собственных чувств, которой мы обычно даем безграничную
власть над нами, Эрона познала несчастные последствия своей страсти;
ее раздирали противоречивые желания, имевшие одну причину: любовь
к Антифилу, которая приказывала ей не уступать никакому другому муж-
чине, и эта же любовь приказывала ей сделать все, чтобы сохранить воз-
любленному жизнь, — такой узел нельзя развязать, его можно только
218
разрубить. Купидон же, завладев чувствами Эроны, словно закоренелый
смутьян, подбрасывал ей доводы в пользу обоих решений.
«О Эрона, — нашептывал он ей (в одно ухо), — ты любишь Антифила,
а своим телом будешь услаждать Тиридата? Какими же глазами ты будешь
смотреть на Антифила, когда он узнает, что ты во власти другого? И даже
если ты примешь решение пойти на позор, разве хватит у тебя на это сил?
Неужели твое сердце изменит тебе? Подумай. Если царь завладеет тобой,
тебе не владеть Антифилом, как если бы он умер. А любовь все равно бу-
дет тебя мучить, и раскаяние никогда тебя не покинет. Лишь смерть осту-
дит твой пыл, но пока ты жива, никуда не деться тебе от любви и тоски.
Но подумай и о другом. Ты станешь женой Тиридата, и Антифил, пре-
красный Антифил, оставшись один, тоже найдет себе достойную жену.
Сможешь ли ты вынести это? Если Тиридат казнит Антифила, то совершит
злодейский поступок, если ты опозоришь свое тело, ты тоже причинишь
зло Антифилу. Смерть суждена ему от природы; рано или поздно Антифил
все равно умрет. Но сейчас его жизнь в твоей власти, его смерть ляжет на
тебя позором, ведь ты можешь ее предотвратить, ты спасешь его, чтобы
он увидел твою верность поруганной и свою постель оскверненной».
Однако, высказав эти доводы, Купидон зашептал в другое ухо: «Что,
Эрона, сталось с твоей любовью к Антифилу, если ты раздумываешь, жить
ему или умереть? Хороша же любовь, которая позволяет рубить голову
с плеч! Подумай хорошенько, и ты поймешь, что в тебе говорит любовь
к себе самой. Ты не можешь подчиниться Тиридату: но из любви к себе.
Тебе будет стыдно смотреть в глаза Антифилу, но из страха перед своим
позором и из любви к себе. Ты не перестанешь желать его, и опять из
любви к себе. Он женится, и если ему будет хорошо, тебе будет плохо, но
не из любви ли к себе? Да, да, повторяй, если можешь: „Пусть Антифил
умрет"».
То одни, то другие образы являлись мысленному взору Эроны. То ей
казалось, что она видит умирающего Антифила, то представлялось, что
Антифил видит, как Тиридат ласкает ее; двадцать раз она звала гонца,
чтобы он передал ее согласие Тиридату, и двадцать раз отменяла свое ре-
шение, прежде чем гонец являлся на ее зов. Кровь приливала к ее щекам,
едва она воображала, как подчинится приказу Тиридата, и кровь отливала
от ее щек, едва она представляла последствия своего отказа. Бесполезно
было плакать, вздыхать, рвать на себе волосы. С легкостью решилась
бы она на смерть, но ее останавливали будущие мучения Антифила.
В конце концов, когда наступил вечер второго дня, решение подчиниться
Тиридату перевесило, тем более что Эрона получила от Антифила пись-
мо, в котором он просил принять любые условия и сохранить ему жизнь.
Царица послала к царю Тиридату гонца, но тотчас спохватилась и побе-
жала к Пироклу и Музидору, бросилась к их ногам и стала молить о спа-
сении, так как окончательно решила, что не увидит казнь Антифила, но
и не уступит домогательствам Тиридата.
Не зная о ее послании, Пирокл и Музидор постановили той же ночью
напасть на Тиридата. Непостоянство иногда производит впечатление
219
ловкости, вот и переменчивость Эроны обернулась полезным притвор-
ством. Благодаря ей, царь пренебрег осторожностью, но и Пирокл с Му-
зидором постарались вовсю. Глухой ночью они выскользнули из горо-
да, и с ними Эрона, вооруженная одной лишь любовью и желавшая или
погибнуть или спасти Антифила. Не знаю уж, как им это удалось, хотя
Планг рассказал нам обо всем в подробностях, но замечательная хра-
брость Музидора и Пирокла одержала верх, Антифил был освобожден,
а Тиридат убит. Планг встал во главе войска, но, не видя другого выхода,
увез на родину, подальше от опасности, Артаксию, нынешнюю царицу
Армении, которая, почернев от горя, доказала всем, что новое положение
не утешило ее в потере брата. За его гибель она обещала отомстить, ибо
(так ей казалось) ее брата погубило предательство. Уже возвратившись
в Армению, Артаксия объявила, что по-царски наградит любого смерт-
ного, и, будь то царевич или царь, станет его женой, если он убьет Пи-
рокла и Музидора. Вот так был спасен Антифил, который взял в жены
Эрону (вызвав недовольство знати), после чего Музидор и Пирокл по-
кинули царскую чету, так как их позвали в путь новые приключения.
Глава четырнадцатая
— Теперь же, не следуя примеру поэтов, которые, собираясь расска-
зать о чем-нибудь ужасном, призывают своих слушателей отвратить от
них слух, я не прошу вас закрыть уши, но прошу дать мне передышку,
прежде чем я начну рассказ об отвратительном предательстве Антифила
и о горе Эроны, хотя как раз тебе из всех людей на земле мне не хотелось
бы рассказывать об этом. Ну почему нельзя, чтобы все были счастли-
вы и любили друг друга? — Когда Филоклея проговорила это, то много
больше, чем словами, сказала румянцем на ланитах. — Однако я упомя-
нула о Планге, поэтому, сестра, прошу тебя, помоги мне и расскажи, что
было потом, ибо я слишком долго занимала сцену. Если ты расскажешь
о Планге, как я рассказала об Эроне, то потом, собравшись с силами,
я расскажу о притворстве Антифила, и таким образом госпожа Зелмана
от нас обеих узнает, с чего началась и чем закончилась эта грустная
история.
— Ну уж нет, будь я проклята, не быть по-вашему, — вмешалась
Мисо, — пока я тут командую. Сначала я кое-что расскажу, а уж потом,
госпожа Памела, госпожа Зелмана, моя дочь Мопса (которая как раз воз-
вратилась после встречи с Амфиалом), кидайте жребий, и пусть он укажет,
кому говорить. Вот, скажу я вам, выйдете замуж, тогда помянете меня,
и первое и последнее слово будет за вашими мужьями.
Как ни смешна была дамам нетерпеливая решимость Мисо, замет-
ная не только в грозном блеске ее глаз, но также в дергающемся носе,
грозящем подбородку, и в дрожащих руках, грозящих друг дружке, ничто
не могло спасти царственных особ, и они волей-неволей подчинились.
Мисо же, усевшись на землю, притянув колени к подбородку и обхватив
их руками, много раз кашлянула, чтобы настроить голос, и поведала сле-
дующее:
— Сказать по правде, что бы вы обо мне ни думали, а вам тоже когда-
нибудь не миновать стать, как я. Мне тоже, хоть я простая женщина,
даром что сижу тут с вами, один раз улыбнулась удача, и не поторопись
отец, был бы у меня сейчас (я не вру) совсем другой муж, не чета Дамету.
Ну да ладно, бог с ним, хоть я не просто так говорю. Вот вы только и
болтаете, что о Купидоне, и тут у вас Купидон, и там Купидон. А я вам
скажу, слыхала я когда-то от одной доброй старухи, а она слыхала от
одного мудрого старика, а он узнал от одного ученого человека, который
об этом написал, а что он написал — вот тут, в моем молитвеннике.
— Ой, пожалуйста, — воскликнула Филоклея, — позволь нам про-
читать!
— Всему свое время. Сначала послушай. Было мне тогда всего двад-
цать семь лет, и я шагу не могла ступить по деревне, чтоб кто-нибудь из
парней не сказал мне вслед: «Хороши глазки у Мисо», «Лучше нет тон-
ких губок Мисо», «Ну и ручищи у Мисо». Моя кривоватая шея и то не
221
портила меня. Один мне подмигивал, другой дарил маргаритки1. Должна
признаться, имея столько поклонников, я павлиний хвост и распустила.
А добрая старая женщина, как увидела это (ах, добрая старуха, пусть твои
кости покоятся с миром, добрая женщина), зазвала меня к себе домой.
Я хорошо помню, где стоял ее дом, это как идти к брадобрею. Ее там все
хорошо знали и очень горевали, когда она умерла. Так вот, зазвала она меня
к себе, сделала добрый глоток вина, чтоб успокоить сердце — того самого
вина, что нам привозят из Кандии, и мы дорого платим за него сегодня,
а тогда оно стоило дешево, — и сказала мне: «Милочка, — сказала она
(а я и вправду была хороша, хотя я уже говорила об этом), — многие пар-
ни любят тебя. А я тебя спрошу, ты сама-то знаешь, что такое любовь?»
С этими словами потащила она меня в угол, где у нее был нарисован
страшный дьявол с рогами, как у быка, да с копытами, а сколько глаз
у него было повсюду, ровно как пятен у моей серой кобылы, и выстав-
лены были все напоказ. Чудовище сидело, будто палач, на двух висели-
цах. В правой руке держало венец из лавровых листьев, в левой — кошель
с деньгами, и изо рта у него тянулась веревка, на которой висели рыцарь и
дама, и такое у него было лицо, словно оно прельщало подойти поближе,
чтобы и меня тоже повесить на веревке. По молодости-то я была послабее
сердцем, ну, отскочила от страшного дьявола, а она говорит: «Это и есть
любовь, потому делай, что хочешь, со своими парнями, с одним, другим,
третьим, и не печалься о том, что они будут с тобой делать, лишь бы ни-
кто не проведал о твоих делах, но послушай меня и не люби ни одного из
них». — «Как же, матушка, — спросила я, — из чрева прекрасной Венеры
могло выйти такое чудовище?» Всего несколько дней прошло с тех пор,
как наш священник (когда мы были одни) рассказал мне о Венере. «Тьфу,
тьфу, их всех обманули, — ответила она и дала мне книжку, которую, как
она сказала, великий сочинитель баллад подарил художнику, а уж тот,
желая доставить ей удовольствие, подарил ей и книжку и картину. —
Прочитай ее, — велела она, — и ты узнаешь, что матерью-то была царица,
а отцом — обманщик Аргус». Вот так и оказалась у меня книжка, а теперь
читайте.
Вспоминая о доброй старухе, Мисо сидела с таким выражением на
лице, словно едва сдерживала слезы, и если это не было искренней печа-
лью, то очень походило на нее. Пока юные дамы читали ее книгу, она об-
ливалась слезами, которые, словно дождевые потоки, текли по глубоким
бороздам на ее лице.
Художник глупый и поэт ничтожный
(Один ковач, другой творит чекан)
Мир наполняют образностью ложной —
Что в их мозгу ни вспыхнет — все обман.
Вот, скажем, Купидон встает пред нами:
Наг, юн, невидящ и с двумя стрелами.
1 Маргаритки — символическое приглашение на любовное свидание.
222
Да кто же им сказал, что он таков?
Наг? Весь неправдой он окутан черной!
Невидящ? Он же лучший из стрелков!
Юн? Старый Феб дрожит, ему покорный.
Две у него стрелы, но три врага:
Двум раны в сердце, третьему рога.
Сей плут был Аргусом многоочитым
Зачат в коровьем чреве Ио той,
Что сторожем похищена несытым,
Следить за мужем взятым Герой злой.
Меркурий стража истребил дурного,
Адама прощена, зане корова.
Итак, отец заколот, мать не мать,
Юпитеру он пасынок постылый —
В той Ио жизнь хотел он сам зачать...
Нечестье Купидона развратило:
Стал соглядательствовать, лгать и красть,
И на безвинных накликать напасть.
Он от родителей взял все, что надо:
Рога, парнокопытных пару ног,
Глаза — надсмотрщиков лукавых стадо
И уши длинные — молвы садок.
Рога вот-вот в небесный свод вонзятся,
А ноги в адские врата стучатся.
Полумужчина, обольщений тьму
Он поселяет в женщинах охотно
И, полузверь, кто вверится ему,
Он страстью наделяет всех животной.
Цвета менять горазд и кровь больных
Сосет, чтоб слать заразу на других.
К скупым он в образе корысти входит,
Тщеславной мыслью гордого язвит,
Восторженного в мир красот уводит —
Ну словом, всякому желанью льстит.
Любовь прельщаться символами склонна,
И вот ей важно имя Купидона.
Он все живет, блудить не прекратя
(Ив старости мы из того же теста),
И память Аргуса Юнона чтя,
У мужа плуту испросила место:
223
Он петлю должен каждому надеть,
Кто видимым желает овладеть.
Дамы, читая, забавлялись неведомой им историей Купидона. Лишь
Зелмана, едва сдерживаясь, сносила сие святотатство (так она восприни-
мала эту писанину). В конце концов, она робко попросила Памелу ис-
полнить просьбу сестры и рассказать свою часть истории Антифила и
Эроны.
— Благородная дама, — отозвалась Памела, украшая лицо нежной
улыбкой, а нежную улыбку своей красотой, — будучи царской дочерью,
я не хочу подавать пример непослушания. Моя наставница пожелала,
чтобы мы тянули жребий, и я прошу всех подчиниться. Может быть, тебе,
госпожа Зелмана, выпадет развлечь нас какой-нибудь историей, и наши
уши с тем большей охотой будут внимать тебе, что ты превосходишь нас
в искусстве рассказа.
— Полагаю, — сказала Зелмана, — несравненная царевна, мое искус-
ство чего-то стоит, если удостоилось похвалы из твоих уст.
Однако Памела, не теряя терпения, стояла на своем, предоставляя
судьбе рассудить их; и тогда все вытянули перед собой руки, даже Мопса
(хотя поначалу она из деликатности лишь кивала головой, напоминая
попавшую в шторм лодку) выставила позолоченные коготки, и слепая
судьба (не увидев их цвет) выбрала ее, так что Мопса утерла рот, словно
воспользовавшись удобным случаем, и повела свой рассказ:
— Когда-то давным-давно жил царь, самый могучий муж в своей стра-
не. Были у него жена и дочь, самая прекрасная девица из всех, вскорм-
ленных молоком смертной женщины. Так вот, царь жил в большом-пре-
большом доме, куда мог прийти всякий, чтобы наесться досыта. А один
раз, когда его дочь сидела у окна, то играя на нежной, как роза, арфе,
то расчесывая кудри гребнем, украшенным драгоценными каменьями,
во двор въехал рыцарь на добром коне, у которого половина гривы была
золотой, а половина серебряной, и только он поднял глаза на царевну,
как полюбил ее, перестал есть и пить, и много миновало печальных дней,
прежде чем он Всечастной Верностью и Страшными Стенаниями добил-
ся взаимности и подговорил царевну бежать из отчего дома. Ну вот, в мае,
когда все любящие сердца исполнены ликования, рыцарь и царевна за-
долго до завтрака выскользнули за ворота дворца. Они шли рядом, бес-
престанно целуя друг дружку, и рыцарь рассказывал царевне, что его вы-
растили речные нимфы и они наложили на него заклятье: нельзя спраши-
вать его имя, потому что тогда он немедленно исчезнет. Рыцарь умолял
царевну никогда не задавать ему вопросов о том, кто он и откуда. Царевна
долго блюла это условие, пока однажды темной, хоть глаз выколи, ночью
они не оказались в злой пустыне и она не утерпела. Тотчас с горькими
жалобами, от которых и деревья растаяли бы, будь они там, рыцарь исчез,
а она бросилась, стеная, на землю и жалобно, как сипуха, заплакала. Пять
дней и пять ночей пролежала царевна под проливным дождем и палящим
солнцем, а потом встала и пошла дальше. Много высоких гор и глубо-
224
ких рек осталось позади, когда она приблизилась к дому своей тетушки
и, плача, стала молить ее о помощи. Тетушка пожалела царевну и дала ей
орех, но запретила колоть его, пока не наступит в ее жизни такой несчаст-
ливый день, что и сказать нельзя. Царевна пошла дальше и не останавли-
валась ни утром, ни вечером, пока не оказалась возле дома другой своей
тетушки и не получила от нее еще один орех.
— Милая Мопса, — сказала прекрасная Филоклея, — пожалуйста,
сохрани эту сказку в памяти до дня моей свадьбы, и я обещаю тебе, что
лучшее платье, которое я надену в тот день, будет твоим.
Мопса обрадовалась платью, но еще больше она обрадовалась тому,
что ее будут слушать в день свадьбы царевны, а Зелмана, все еще не отка-
завшись от желания узнать, что царевнам известно о ней и об опасности,
грозившей Эроне (о которой она не ведала), так как решила (добившись
тут своей цели) идти на помощь царице, вновь стала просить, чтобы ей
рассказали о Планге и об Эроне. Филоклея воззвала к памяти сестры,
и Памела с ее нежным голосом и чарующей красотой, которые сами по
себе были весьма красноречивы и не могли остаться без внимания, сни-
зошла до их просьбы.
15 Заказ 1414
Глава пятнадцатая
— Отец царевича Планга и ныне здравствующий царь Иберии —
человек от природы хороший (по крайней мере, если верить рассказам
Планга) и никогда намеренно не совершал зла, если только зло не наде-
вало маску добра. Еще будучи царевичем, он взял в жены царевну (и про-
исхождением и нравом достойную его), и она родила ему сына Планга, но
вскоре, словно исполнив то, зачем была послана в этот мир, возвратилась
к своему создателю. Царь же, после ее смерти оставив все мысли о любви,
долгие годы не помышлял о женитьбе, восполняя свою отдаленность от
жены близостью с сыном и стремясь быть ему и отцом и матерью. Став
мужчиной, Планг, насколько мы могли видеть собственными глазами,
достойно отплатил отцу за его заботы.
Царевич (когда недостатки в его характере еще оправдывались юно-
стью, которая по обычаю берет на себя вину) влюбился в жену некоего
горожанина, жившего в столице, если только его чувство можно назвать
любовью, ибо он не сопротивлялся ему и не был покорен силой. Скажем
так, юноша уговорил себя, будто влюбился в довольно красивую женщи-
ну, если красота — это всего лишь черты лица и фигуры. Однако, найдя
добычу, которая сама шла в руки охотнику, юный царевич в конце концов
влюбился всерьез, да с такой силой, которая должна была бы запечатлеть
раскаяние в ее сердце и стыд на лице. Охваченный своей страстью и ни-
кем не остановленный вовремя, он изо дня в день превозносил ее, а она
думала, что сверкание царского имени замажет трещины на разбитом су-
пружестве. Но подобно тому, как страдающий сонной болезнью может
заснуть и спать бесконечно (я сама видела такого), пока его не разбудят
щипком, царевич также погрузился в грешный сон, но, ничем не заслу-
жив, чтобы его бросили, все же смог очнуться, лишь пережив сильное по-
трясение.
Случилось так, что его постоянные отлучки в неурочное время об-
ратили на себя внимание при дворе, и в конце концов (вокруг царевича
было много народа) — от одного к другому, от другого к третьему — слух
дошел до царя, который, заботясь о сыне, через своих шпионов (необхо-
димые слуги зла при дворе) узнал, куда царевич сбегает от уготованной
ему судьбы. А узнав, царь пожелал нанести удар посильнее и, ничего не
сказав сыну, настиг парочку (в отсутствие мужа), желая, чтобы царевич
до конца прочувствовал свой позор. Более того, царь осыпал ее угрозами,
а его — упреками. Тогда бедняжка царевич, уверенный, как все юноши,
что влюбленным лгать не возбраняется, напряг свой ум и постарался все
сделать, чтобы отец не думал плохо о его возлюбленной; он не сомневал-
ся, что может — так он считал — заставить отца переменить о ней мне-
ние, поэтому принялся уводить его, сколько ему хватало сил, в сторону,
не увязая в протестах, но убеждая его в невиновности дамы, не отрицая
свою вину, но подчеркивая ее добродетель. Его упражнения в софизмах
226
достигли цели, отец поверил сыну, а, поверив, хотя и вступил в зим-
нюю пору жизни, вдруг обнаружил в себе желания, которые были более
простительны его сыну. Короче говоря, он отдал себя во власть страсти
и, чтобы избавиться от нежелательного сравнения с молодым сопер-
ником, отослал сына в войско, которое должно было навести порядок
в одной из восставших провинций, что, как ему было известно, требовало
не меньше двух-трех лет отсутствия при дворе. В походе царевич показал
себя достойным воином, и его слава намного опередила его самого, когда
он, исполнив поручение, возвратился домой. За это время его отец тоже
добился успеха, но гораздо быстрее и в гораздо менее благородном деле.
Пока Планг был далеко, старик, час от часу становясь не только старше,
но и влюбленнее, бесстыдно добивался своей цели, используя бесчестных
слуг, давая неслыханные обещания, и вообще делая все, что могло пере-
весить его непривлекательность в глазах дамы.
Тем временем муж дамы умер, и она, забыв о Планге или, возмож-
но, не надеясь с его помощью добиться желанной цели, употребила все
свое искусство, чтобы не оборвать леску, когда рыбка почти выловлена,
поэтому не вела царя силой, но позволяла ему барахтаться на крючке,
который он с жадностью заглотнул. Дополняя траурный наряд печаль-
ным выражением на лице, но не забывая ни о красоте наряда, ни о кра-
соте лица, она прерывала свои речи вздохами, а благосклонность умеря-
ла слезами, чтобы страсть видела препятствие в печали, а печаль могла
бы пришпоривать страсть. Изучив нрав царя, она легко управлялась
с ним, не доводя до того, чтобы его страх сменился отчаянием или на-
дежда — уверенностью. Ее устраивало, что он думал, будто она влю-
блена в него, и иногда позволяла ему (словно против своей воли) пере-
хватить ее страстный взгляд, но едва царь слишком смелел, она тотчас
останавливала его, надевая маску добродетели. Но что для меня непо-
стижимо (по крайней мере, насколько я поняла Планга), нет, не то что
она вздыхала, когда было нужно, это все могут, и не то что она плакала,
когда нужно, это тоже, говорят, многим доступно, но то что, будучи бес-
стыдной в душе, она могла приказать щекам вовремя покраснеть и под
маской стыдливости скрыть свое бесстыдство.
Не вдаваясь в подробности, замечу лишь, что дама пользовалась не
только шпорами, от которых царская кровь бежала быстрее, но и мунд-
штуком, которым до того ловко владела, что вскоре отец Планга начал
глядеть ее глазами и думать ее мыслями, и если поначалу она позволяла
ему некоторые вольности, то потом напрочь запретила их, успев, одна-
ко, как следует разжечь его страсть, и он уже ни о чем, кроме женитьбы,
не мог думать в надежде удовлетворить свою похоть и успокоить ее душу
(как он полагал), любящую, но любящую целомудренно. Когда царевич
возвратился с победой, его возлюбленная уже стала царицей и матерью
сына и дочери. Планг (имея на то все основания) очень горевал, но скры-
вал свое горе, не желая упрекать мачеху или роптать против отца. Тем не
менее (став матерью и мачехой, она все еще видела в его взгляде свою
вину и воспринимала его совесть своим судьей) царица думала, будто он
15*
227
угрожает ей одним своим присутствием, поэтому в конце концов попыта-
лась, вовсе не целомудренно, возродить его страсть, но была из почтения
к отцовскому ложу отвергнута, отчего разгневалась, но не устыдилась,
а если и устыдилась, то не из-за своих посягательств, а из-за его отказа и
(возненавидев его) не только возжаждала мести, но и (боясь, как бы он не
опередил ее) сделала все, чтобы ему отомстить.
Она использовала все средства, доступные ее порочному уму, чтобы
уничтожить источник его силы, то есть любовь к нему отца, которая, как
она понимала, была заложена и природой, и сыновними заслугами; и ей
понадобилась вся ее изворотливость. Отвергнув грубое ремесло наемных
льстецов, она произносила хвалы, которые звучали как обвинение, и, как
будто превознося сына перед отцом, на самом деле готовила ему гибель.
Сначала она с восторгом перечисляла достоинства Планга, его красоту,
ум, храбрость, удачливость, чтобы муж заподозрил ее в любви к Плангу
и в его сердце зажглась искра ревности. Добившись того, что царю пре-
жде и в голову не могло прийти, она продолжала восхвалять Планга
с не меньшим усердием и не меньшим хитроумием. Теперь уже речь шла
о свободе его ума, о высоком полете мыслей, о способности управлять
государством, о любви к нему подданных; о том, что еще неизвестно, то
ли его ум сильнее в завоевании всеобщей любви, то ли храбрость сильнее
в использовании этой любви; о том, что он якобы не рожден быть под-
данным, настолько он по-царски величествен, по-царски гостеприимен,
по-царски великолепен, по-царски безогляден; и особенно часто она
вспоминала те добродетели наследника, которые в той же степени нра-
вятся подданным, в какой вызывают подозрительность правителя. Вроде
бы отвергая возможные возражения, царица отравляла разум царя, уже
зараженный недоверием.
«О нет, — говорила она, — клянусь жизнью, он совсем не похож на
других царевичей, которые так любят власть, что возводят замок своего
величия на отцовских руинах. Воистину честолюбие сходно с любовью
и тоже не терпит промедления, торопится и ненавидит все то, что стоит
у него на пути. Но, боже упаси, подумать такое о царевиче, который как
будто доволен тем, что ты и весь свет знает, как он велик в своих помыс-
лах: чем больше у него возможностей погубить нас, тем более он прослав-
лен за то, что нас не губит».
Она ничего не упускала, дабы укрепить подозрения царя ревностью;
пела царевичу велеречивые хвалы, когда он был рядом; в его отсутствие
напоминала об остроумных фразах и жестах; кроме того, побуждала
Планга участвовать во всех опасных предприятиях, в которых он мог
или погибнуть, или (победив) прославиться, но и это она тоже обраща-
ла в оружие против него, пока, наконец, подозрительность не завладела
разумом царя, пока его уши не стали с жадностью внимать слухам, а глаза
искать подвоха в каждом жесте царевича.
Тогда царица взяла себе в подмогу одного из слуг, как она знала, непо-
мерно честолюбивого, но не имевшего достоинств, которые могли бы воз-
высить его, отчего он был готов сколотить лестницу наверх из любых зло-
228
деяний. Его-то она и использовала, чтобы поддерживать в муже ревность
к сыну, подсказывая, что и как говорить царю. Подобно музыкантам, кото-
рые исполняют разные партии, но творят одну мелодию, эти двое, каждый
по-своему, пестовали настроение царя. Иногда слуга с опасливым видом
умолял царя позаботиться о себе, якобы потому, что при дворе и в городе
ходили слухи о каких-то ожидаемых переменах, но что это за слухи и кто их
распускает ему, конечно же, было неведомо. А то он вдруг советовал царю
воздать сыну еще больше почестей, потому что-де время упущено и иначе
вряд ли удастся держать царевича в повиновении. Или притворялся испу-
ганным за свою жизнь, потому что, как он объяснял, Планг не любит тех,
кто любит его отца. И наконец, вроде бы решаясь говорить без обиняков,
он изображал на лице печаль и робость в жестах, желая в притворстве явить
искренность, и сообщал, что и войско и народ недовольны теперешним
правлением и свои надежды связывают с Плангом. Слуга и царица якобы
видели на диво одинаковые сны, так направляя мысли царя, что вскоре все
поступки Планга стали вызывать у него недоверие. Спустя некоторое вре-
мя Планг это заметил, но поделать ничего не мог; как бы он ни вел себя, все
вызывало подозрения. Если он наряжался — значит, тратил много денег,
и это неспроста; если не наряжался — значит, копил деньги, и это тоже не-
спроста; если ораторствовал — значит, хотел завоевать сердца подданных,
если молчал — значит, обдумывал опасный заговор. Короче говоря, будь он
даже подобен Протею1 и сколько угодно меняй свой облик, любой из них
был бы не по нраву царю.
Однако поводом к дальнейшим действиям послужила пустяковая
случайность. Как-то утром царь отправился в виноградник на склоне
того холма, на вершине которого стоял его замок, и повстречал там вино-
градаря, когда тот, заметив надломанную ветку, срезал с нее отросток и
привязал его к этой ветке. Царь спросил, что он делает. «Как это что? —
удивился виноградарь. — Сыном связываю отца». Вот эти слова (к ним
царь был мысленно готов из-за пробужденной в нем подозрительности)
поразили его в самое сердце, и он воспринял их как предсказание своего
будущего. Возвратившись в замок, он признался жене, что опасается за
свою жизнь, и она стала успокаивать его, правда, до того противоречиво,
что, успокаивая, наоборот, подогревала его сомнения, и, даже когда они
закипели вовсю, она не перестала их подогревать.
Тем временем царица тайно сговорилась с государственными мужами
о том, что в большом парламенте (который вскоре должен был собраться)
они от имени своих провинций постараются убедить царя (который был
очень стар) поделить власть с Плангом, причем она уверила их, что не
только сама присоединится к этой просьбе, но и царь-отец отнесется
к ней благосклонно. Тем не менее, она настаивала, чтобы ничего не гово-
рили Плангу, ради него самого, не дай бог, если царь узнает, что его сына
заранее обо всем уведомили. Мужи (решившие, что охотно все сделают,
1 Протей — в греческой мифологии морское божество, морской старец, обла-
давший способностью принимать любой облик.
229
потому что любят Планга, и будут честны, потому что таково желание на-
рода, к тому же им как будто ничего не грозило, так как на их стороне та,
что правит царем) исполнили ее волю, и она тоже как будто сдержала свое
обещание, страстно убеждая царя в правоте парламента, но чем больше
она прилагала стараний, тем (она-то знала) больше царь боялся за себя и
ненавидел того, кто стал причиной его страхов. Сам Планг из скромности
отверг просьбу парламента. Однако чем решительнее он отказывался, тем
подозрительнее становился царь, убежденный, что честность его сына не
более чем лживая маска, поэтому не спешил исполнить желание своих
подданных, но при первом же удобном случае, подстроенном его женой,
бросил сына в темницу.
Царица подучила своего сообщника пойти к Плангу и (подкрепляя
свои речи уверениями в верности и внушая доверие к ним просьбой со-
хранить их в тайне) рассказать ему о заговоре против него, в котором
участвуют его мачеха и несколько знатных особ и который, одобренный
царем, будет осуществлен через несколько дней, то есть открыть Плангу
правду о кознях мачехи. Так как Планг и сам знал о заговоре, он должен
был поверить слуге. Все же, несмотря на уговоры злодея, Планг не захотел
бежать из страны, решив остаться и посмотреть, что будет дальше. В дру-
гой раз тот же самый слуга по велению своей госпожи сообщил Плангу
о том, что ночью царь призовет к себе заговорщиков для уточнения плана,
и предложил царевичу, если он желает, спрятать его поблизости, чтобы он
сам убедился в намерении отца, а также в том, что для него нет ничего
постыдного в бегстве. Несчастный Планг стал жертвой общего недостат-
ка всех благородных людей — доверчивости — и, вооружившись, так как
дело было ночью, явился в условленное место. Тем временем его мачеха
всем своим видом изображала неизбывную печаль и, не поддаваясь на
уговоры, едва не каталась по полу в своих покоях, пока не пришел ее муж,
которому она, немало протомив его, призналась (между рыданиями), что
не хочет жить, если для этого ей надо или допустить убийство отца, или
обвинить в злоумышлении сына, который был ей якобы дороже сына.
Надолго умолкая и заливаясь слезами, она поведала царю, что Планг
в память их прежней любви потребовал от нее помощи в убийстве царя,
пообещав за это, вопреки всем земным законам, взять ее в жены, когда
сам станет царем.
Она еще не успела сказать и половины, так как постоянно прерывала
себя жалобными причитаниями, когда в комнату вбежал ее доверенный
слуга, которого она посылала к Плангу. Едва переведя дух, он бросился
в ноги царю, умоляя его поберечься, так как в соседнем покое спрятался
человек с мечом. Испуганный царь кликнул стражников, и они обнару-
жили в соседнем покое Планга, который и впрямь держал руку на рукоя-
ти меча, но не собирался его обнажать. Тем не менее, отравленный по-
дозрениями отец, не мог не заподозрить худшее, хотя Планг уверял его,
будто схватился за меч, лишь услышав шум; однако царь не пожелал его
слушать и приказал отвести сына в тюрьму, а утром казнить на рыночной
площади.
230
Едва утро отверзло глаза и уши друзей Планга, как они соединились
в небольшое войско, вошли в город и силой освободили царевича, по-
тому что нашлось много других, введенных в заблуждение лживыми ре-
чами, которые обнажили оружие за царя. Несмотря на то что Планг с
помощью своих друзей мог бы отомстить царю и завладеть короной, из
сыновней любви и из нежелания превращать ложь в правду он пред-
почел добровольное изгнание и таким образом оказался при дворе
Тиридата, мать которого приходилась сестрой его отцу. В Армении он
жил лет одиннадцать-двенадцать, не теряя надежды вернуть себе благо-
воление отца и рассчитывая в этом на заступничество Тиридата и свои
немалые заслуги. А потом случилась война с Эроной, о которой моя се-
стра уже рассказала.
Поселив подозрительность в своем сердце, отец Планга не поверил,
что бегство сына говорит скорее о его покорности и преданности, чем
о своеволии и виновности, и до того распалил свою ненависть, что за-
одно возненавидел и своего племянника Тиридата, и свою племянницу
Артаксию за предоставленный Плангу приют. Он не оставлял попыток
погубить сына, и в одной из них главным действующим лицом стал бес-
честный слуга царя, получивший приказ отравить царевича. На этот раз
хитрость не спасла злодея, он попал в руки бдительных слуг Планга; его
схватили, и, когда стали пытать, он во всем признался, после чего был
казнен.
Тиридат снарядил посольство, которое с положенной торжествен-
ностью вручило царю-отцу признание его слуги, но это ничего не из-
менило. К тому времени царь передал бразды правления своей жене и
даже не взглянул на бумаги, которые тотчас перешли в ее руки. Из-за
смерти слуги ненависть царя и царицы к Плангу разгорелась еще силь-
нее. Правда, бегство Планга и их лживые речи заметно остудили пылкие
чувства изменчивого народа к царевичу, но для этого пришлось также
найти подходящих людей, чтобы те сеяли рознь между подданными,
а заодно уменьшить налоги; но в конце концов добившись народного
благоволения, царь объявил своего сына Палладия наследником пре-
стола, тем самым окончательно порвав с Плангом, который служил
Тиридату во время войны с Эроной, а потом сопровождал Артаксию до-
мой, о чем уже рассказала моя сестра. А когда Эрона из-за предательства
Антифила...»
На этом Памела умолкла, так как, не в силах больше переносить
одиночество, к ним присоединился Базилий, с улыбкой пеняя Зелмане,
мол, он испугался, что она убежала, похитив его дочерей, и предложил
всем вернуться в покои, следуя примеру солнца, которое уже собиралось
скрыться за горизонтом. Дамы подчинились, но Зелмана все же реши-
ла, пусть в другой раз, но разузнать о несчастье Эроны, которой она со-
чувствовала, а также о предательстве Антифила. Улучив минуту, Мисо
тоже вставила словцо и с ехидством, на какое только была способна,
принялась разглагольствовать о дерзости Амфиала. Но Базилия интере-
совало лишь мнение Зелманы, в которой благородство возобладало над
231
ненавистью, и она попросила Базилия простить извинительное для юно-
ши преступление. К тому же Амфиал был известен как один из самых
храбрых рыцарей на свете, да и он уже раскаялся в содеянном. Воздав
велеречивые хвалы Зелмане, ее воле к победе и милосердию к побежден-
ному, Базилий приказал, желая доставить ей удовольствие, более не вспо-
минать о происшедшем.
Глава шестнадцатая
Итак, Базилий повел всех в покои царицы, где, оказавшись между
ним и ею, бедняжка Зелмана провела утомительный вечер, так как чужая
любовь мучила ее не меньше собственной. Не умея скрывать свои чув-
ства, Базилий был не в силах увести свой язык с тропинки неумеренных
похвал, которых, как обычно считает глупый воздыхатель, он слишком
мало говорит своей возлюбленной, в то время как на самом деле они за-
полняют все пространство до небес. В это время Гинесия, более приучен-
ная женской скромностью к узде, пользовалась преимуществами своего
пола и то и дело целовала сидевшую на ее кровати Зелману, подбрасывая
благовония в огонь, на котором сгорало ее сердце. Стоило Зелмане поше-
велиться, и Базилий с Гинесией (словно куклы, приводимые в движение
ее волей) — один услужливыми жестами, другая жадным взглядом — сле-
довали за ней. Гинесии было нетрудно понять Базилия, и, наверное, она
посмеялась бы над ним, если бы ей не мешала веселиться ее собственная
участь. Зато Базилий видел в Гинесии лишь ревнивую жену. А бедняжка
Зелмана была похожа на несчастного ребенка, которого отец бьет, уверяя,
будто делает это исключительно из любви, или на больного, которому
лекарь дает горькое лекарство, но клянется, что оно сладкое. Их любовь
была Зелмане ненавистна, их ухаживания утомительны, их присутствие
лишало ее возможности приблизиться к той, которая стала солнцем ее
жизни и самой ее жизнью. «Ах, милый Дор, — думала Зелмана, — разве
можно сравнить твои муки с моими? Тебе приходится иметь дело с пасту-
хами, которые досаждают тебе завистливой и чрезмерной заботой, а меня
(мне только не хватало Мисо, худшей из твоих дьяволиц, свалившейся
мне на голову) стерегут цари, за мной неусыпно следят глаза любви и рев-
ности. Увы, несравненная Филоклея, ты смотришь на меня, но ты не ви-
дишь меня. Ты благосклонно внимаешь всему, что я осмеливаюсь сказать,
но я не смею сказать тебе самого главного. Ах, кто еще, подобно мне, бы-
вал заточён, оставаясь на свободе, не существовал, существуя? Для кого
любящие его были тюремщиками, а честь — рабством?»
Тем временем, бесшумно ступая, явилась ночь, и они расстались (если
могли расстаться, живя и дыша друг другом), дабы в своих постелях задоб-
рить сон, не желавший закрывать им глаза, которые не желали закрываться
добровольно, и прежде всего это относилось к Гинесии. Когда после долгих
метаний Базилий наконец-то заснул, царица сняла с себя маску безмятеж-
ного веселья, встала на колени на своем ложе, чтобы исстрадавшимся серд-
цем и нежным голосом проклясть день, когда она родилась; а потом легла
ничком и развела в стороны руки, словно обнимая кровать.
— О, непорочная кровать, — шептала она, — до сих пор ты не могла
обвинить меня ни в одной непристойной мысли, а теперь терпишь пере-
мену во мне! Счастливы, о счастливы те, у кого нет никаких мыслей, и
твое благословение в том, что ты не чувствуешь в себе никаких чувств. —
233
В отчаянии царица вырвала из головы прядь прекрасных волос. — Возь-
ми их, о забытая мной добродетель, прими мою жалкую жертву Пока
моя душа одевалась в скромные одежды, мои волосы были ей достойным
украшением, а теперь негоже природе украшать столь бесчестную голову,
которая в отчаянии оттого, что не может стать еще бесчестнее.
Гинесии пришлось замолчать, потому что проснувшийся Базилий об-
нял ее и попытался утешить, думая, будто причина ее горя в ревнивой
любви к нему. Возможно, если бы Гинесия постаралась удержать его бла-
горасположение, его новая влюбленность поблекла бы, но он заметил, что
царица невпопад отвечает на его вопросы, и предоставил ее самой себе,
радуясь тому, что утром, когда она будет спать (потому что на рассвете
изнуренные печалью слезы обессилят и не смогут покинуть ее глаз), он
улучит минутку и поговорит с Зелманой, которая, мучимая обоими влюб-
ленными, сама мучилась, не имея возможности излить душу и день ото
дня все более ощущая силу переполнявших ее желаний, — речной поток
тем полноводнее, чем большее препятствий у него на пути.
Желая набраться сил, истощаемых любовными страданиями, Зелмана
иногда уходила туда, где впервые узнала счастье, увидав ту, которая ста-
ла причиной ее печали. Она целовала землю, благодарила деревья, бла-
гословляла воздух, покорно благоговела перед всем, что окружало ее
в день первого свидания, чтобы потом вновь вернуться к своим мыслям.
Иногда отчаяние мрачило ее мечты, иногда любовь веселила ее надеж-
дой об избавлении от обоих назойливых обожателей. В то утро добрый
старый Базилий не мешал ее уединению. Причесавшись и одевшись
куда тщательнее, чем он делал это лет сорок назад, он пришел к Зелмане
и, так как застал ее, к своему великому удовольствию, музицировавшей,
то спрятался за деревом, желая послушать, как она нежным голосом поет
страстные вирши.
В любви живу и по любви тоскую,
Любя, я гибну, словно не любя.
В жестокости о милости взыскую,
Тебя ищу, любовь, бегу тебя,
Огнем горю, тушу пожар чужой,
Что осуждаю, то же и творю:
Лежу без сил, страсть прогнала покой,
Мне душно от любви. Уйди, молю.
О бог слепой, ведь в этом ты виновен,
Мальчишка, хоть тебе уж сотни лет.
Вот так ребенок с птичкой, час неровен,
Возьмет играть, а в ней уж жизни нет.
Тебя, дитя Амур, молю, несчастный:
Мне дай любовь иль не терзай напрасно1.
1 Перевод Л. Володарской.
234
Базилий не спешил выйти из своего укрытия, пока не убедился, что
Зелмана больше не собирается петь. Но уж тогда, не склонный терять
драгоценное время, он бросился перед ней на колени и простер к ней
руки, подобно изображенной на картине няньке Данаи, вдруг увидавшей
золотой дождь1.
— О, небесная женщина или земная богиня, — воскликнул Базилий, —
пусть мое появление не огорчит тебя, и моя смиренная просьба не отя-
готит твой слух. Удостой взглядом жалкого старика, который и жив-то,
чтобы стать еще одной жертвой твоей красоты. Ты покорила меня, но
в моем поражении моя слава. Не презирай свою власть надо мной, но
взгляни с жалостью на того, чья жизнь послужит твоему прославлению.
Сохраняя вопросительное выражение на лице, словно не понимая,
о чем идет речь, Зелмана сказала, что ей не к лицу быть столь восхваля-
емой царем, но еще более не к лицу выговаривать тому, кого она глубоко
почитает, ибо высоко ценит его мудрость и потому с великим почтением
относится к его речам, хотя на сей раз не понимает их смысл.
— Смысл? — переспросил Базилий, гордый тем, что наконец-то до-
бился своего. — Какой смысл? Я хочу успокоить свою душу, остудить жар
в крови, насладиться твоими совершенствами, которые поддерживают
во мне жизнь и отгоняют смерть.
— Значит, — произнесла Зелмана, поднимая голову, словно он смер-
тельно ранил ее, — из любви ко мне ты устраивал празднества? Не пре-
зрение ли ко мне, не суждение ли о моей доступности породили столь
низкие мечты? «Насладиться»! Подумать только! Разве наслаждение до-
стается тем, кто молит о наслаждении?
Бедный Базилий так перепугался, что у него подогнулись колени и
взгляд отразил желание немедленно провалиться сквозь землю, вся его
старая кровь бросилась ему в сердце, и он задрожал всем телом. Но в то
мгновение, когда царь уже хотел, несмотря ни на что, ответить Зелмане,
ей пришло в голову извлечь пользу из его глупости, поэтому, немного
смягчив выражение лица, она сказала:
— Твои речи, могущественный царь, недостойны ни моего слуха, ни
твоих уст, однако ты, видно, и вправду любишь меня, поэтому обещаю
забыть о твоем заблуждении. Скажу лишь, что те же речи из уст госпожи
Филоклеи, то есть одной женщиной предназначенные другой женщине,
даже произнесенные наедине, звучали бы, верно, пристойнее, и, возмож-
но, я внимала бы им с большей нежностью.
Базилий (чьи чувства под влиянием страсти обострились и мысли
под влиянием любви замелькали быстрее) пропустил мимо ушей поло-
вину сказанного Зелманой, и словно от этого зависела его жизнь, во всю
мочь помчался за Филоклеей, которую нашел под присмотром бдитель-
ной матери и под надзором любопытной Мисо, поручившей в точности
такую же службу своей дочери Мопсе, но в отношении Памелы. Отозвав
Фил оклею в сторонку, Базилий всеми словами, какие только страсть
1 Распространенный сюжет в эпоху Возрождения.
235
могла измыслить, а он как отец выговорить, стал заклинать ее спасти
жизнь тому, кто дал ей жизнь, спасти его седины от позора, а старость от
отчаяния. Он говорил, что если ей не наскучило его общество, если она
не думает, будто он зря попирает землю, то в ее силах остудить сжигающее
его горе, потому что это во власти только ее дыхания; и наконец, он за-
явил, что, какой он ни на есть, он такой, каким его захочет видеть Зелмана,
и отныне вся его жизнь зависит лишь от нее, так что если ей будет угодно
постоянно являть жестокость, то ему этого не вынести, ведь и земля не
может плодоносить, совсем не видя солнца. Закончил же он свою прось-
бу тем, что у Фил оклей появился случай отплатить ему за все его добро
и она не вправе пренебречь никакой услугой, потому что никакая услуга
не может быть слишком низкой, если она оправдана именем отца.
Чувствуя себя счастливее, чем когда бы то ни было, так как ей пред-
стояла встреча с Зелманой наедине, Филоклея не изменила своей невин-
ности, ибо ничто нечистое не коснулось ее мыслей, когда она робко от-
ветила отцу, что ей не нужны его обещания и посулы; мол, она и без них
сделает все, что в ее силах, ради него и, не изменяя своей добродетели,
постарается вернуть отцу благоволение Зелманы; к тому же, она не хочет
слишком глубоко проникать в его мысли, потому что знает, он все делает
правильно, а если нет, пусть он молчит, иначе ей придется из послушания
выказать непослушание, дабы не ослушаться его повеления (требующе-
го от нее быть целомудренной) ради случайного требования, рожденного
сиюминутной страстью, но противоречащего тому, что ей привычно.
Довольный тем, чего он добился, коли не получилось большего, и ре-
шивший, что будет неплохо, если с помощью Филоклеи ему удастся при-
близиться к Зелмане, Базилий с благодарностью принял отповедь до-
чери, желая как можно скорее вернуть себе покой; и Филоклея ушла,
а за ней было последовала Мисо, словно Алекто1 за Прозерпиной, но
Базилий остановил ее и даже на нее прикрикнул, потому что она собира-
лась ослушаться его, сославшись на приказ Гинесии, а еще она сказала,
и справедливо, что он плохо поступил, оставив свою дочь без присмотра.
Однако Базилий поклялся, что вырвет ей глаза, если она посмеет досаж-
дать Филоклее, и таким образом вынудил ее хотя бы на время оставить
царевну в покое.
1 Алекто — в греческой мифологии одна из эриний, богинь мести.
Глава семнадцатая
Филоклея ушла, получив неожиданный простор для мучительных
размышлений; она отлично поняла, что отец стал ее соперником, но все-
таки судьбой ей назначено любить его, и судьба ее судьбы такова, что это
не повредит, но и вряд ли поможет.
Вскоре она увидела Зелману, которая лежала на высоком берегу
Ладона, вглядываясь в его воды (и слезы стекали в него с ее щек), так что
можно было подумать, будто она начала таять, чтобы слиться с бежавшей
внизу рекой. Но тут Зелмана заговорила, словно давая понять, что она
жива и печальна:
— Прекрасный Ладон, если твои чистые воды удостоили показать
мне мое заплаканное лицо, так пусть мои слезы остановят тебя нена-
долго, чтобы ты пожалел меня, чтобы не все радости бежали от меня. Но
если твой повелитель— родник приказывает тебе торопиться, чтобы ты
исполнил свой долг перед великим царем-морем, тогда унеси мои сло-
ва с собой и пусть они станут известны повсюду. Любовь, более чистая,
чем даже ты, отдана любви, боюсь, более холодной, чем ты. Ее чистота
окутывает меня ночным мраком печали, а холодность разжигает во мне
вселенское пламя.
С этими словами Зелмана отломила ветку ивы и написала на песке
несколько стихов.
Над влагой, что упала тяжело
С ресниц (очам усталым облегченье),
Склоняю в облаченье туч чело —
От солнца не растает их скопленье.
Одни в других слезах отражены,
И тем печали запечатлены.
Печали — помыслов моих темницы,
Лишь вздохи исторгают их на свет;
Сквозь воздух звукам тяжело пробиться,
Но миру Эхо выдает мой бред —
В нем слышу то, о чем молчать желала,
И спрятанное горе явным стало.
От тяжких дум избавь меня, песок,
Отринь мрак дум, что воплотились в слово;
Узоры созерцая этих строк,
Я зрю лишь ум творца — и нет в них злого.
Вода, эфир, песок, мой взор и слух
Огнь раздувают — как бы он потух?
237
Однако стоило Зелмане поставить точку, и новые мысли нахлынули
на нее, так что она чуть было не стерла написанное движением ноги и не
похоронила в песке только что родившиеся строчки. Но тут Филоклея,
в которой жажда наслаждения победила робость, неожиданно предстала
перед глазами Зелманы, ослепив ее своей красотой, так что Зелмана не
могла смотреть на нее, но и не могла отвести от нее взгляд. В конце кон-
цов Филоклея, уже успевшая немного поразмыслить о том, как ей раз-
резать ниточку между своей безнадежной любовью и необузданными на-
деждами отца, решилась заговорить, и ее взгляд, ланиты, губы вели свои
партии, творя гармонию стыдливости:
— Моему отцу я обязана своей жизнью, поэтому...
Тут Зелмана, которой женская одежда внушила смелость, отдала свою
жизнь губам Филоклеи и сама ожила от ее сладких поцелуев, нежно по-
просив ненадолго воздержаться от речей, рожденных в раю ее разума,
ведь амазонка все знала о поручении Базилия, которого в скором време-
ни ждал достойный ответ. А пока нельзя было терять драгоценное время,
так как Зелмане предстояло открыть свое сердце и отдать свою смертель-
ную муку на суд Филоклее, чтобы ее уста, по крайней мере, знали, кого
они судят. Филоклея с готовностью согласилась ее выслушать, но, сделав
берег местом действия, а реку — прекрасной декорацией, сотворенной
самой природой, Зелмана медлила, не зная, с чего начать, хотя мысленно
все уже рассказала возлюбленной царевне, и все-таки она опасалась, как
бы ее речи не оказались недостойными ушей Филоклеи, однако в конце
концов превозмогла себя и заговорила:
— Прекрасная госпожа, твои несравненные совершенства (не слу-
чайные, благодаря твоему высокому рождению) и суть нашего разговора
(от которого зависит моя жизнь) требуют как подробного вступления, так
и многочисленных пояснений по ходу моего рассказа - столь же дерзкого,
сколь несмелого. Прихоть завистливого случая (ненавистная любовь не
спускает с меня злобного взгляда) и чрезмерность моей любви (которая,
если не выплеснется словами, то затопит мне сердце) требуют не только
поскорее воспользоваться дарованным случаем, но и пренебречь обще-
принятыми любезностями во имя жизни несчастного существа, судьбу
которого тебе решать. Клянусь, впредь я никогда не пренебрегу положен-
ными знаками внимания, однако теперь позволь мне сказать, о чем дума-
ет мой сбитый с толку разум. Если ты когда-нибудь слышала о любви и
тебе известно, с какой легкостью она завоевывает самые стойкие сердца
и берет самые неприступные крепости, тогда смотри, перед тобой одна
из таких трагедий, соединившая в себе все известные горести, и поверь,
такое еще случается, потому что пример у тебя перед глазами. Смотри на
живой образ любви, а я расскажу тебе историю того, что любовь может
сделать, если задумает кого-нибудь погубить.
Ах, язык, что ты делаешь? И ты, сердце, как решилось открыть свою
тайну? Оставь, страх, ты опоздал, зло уже совершилось. Несравненная
царевна, я вновь прошу тебя, вглядись в несчастное чудо любви. Ты ви-
дишь перед собой Пирокла, царевича Македонии, которого ты сделала
238
игрушкой судьбы и обрекла на немыслимое преображение, которого ты
заставила забыть о родной стране, об отце и даже о Пирокле, о том самом
Пирокле, который, как ты слышала, был обманом заведен на корабль и
который якобы погиб в волнах, когда корабль сгорел. А ведь верно! Мои
глаза-обманщики завели меня на корабль страсти, который пылает без
передышки, эти самые глаза, да, да, они, обманщики, не покинут меня,
пока я не утону. Не будь, о, не будь, прекрасная госпожа (природа со-
творила тебя путеводной звездой!), скалой, о которую разобьется мой ко-
рабль! Добродетель сотворила тебя царицей счастья, так не будь вестни-
цей горя. Я сам выбрал тебя богиней жизни, так не обрекай, о, не обрекай
меня на смерть. По твоему лицу видно, как ты напугана моими речами.
Но подумай, как напуган тот, который дает им жизнь, ведь никакие слова
не в силах выразить его чувства. Пусть моя страсть будет взвешена на ве-
сах чести, и пусть весы будут в руках добродетели. Если высокая любовь
не может не обратить низкого человека к красоте, то, верю, твоя красота
не может не ведать жалости. Но если ты (ах, пусть этого не случится) ду-
маешь иначе, моя смерть не будет мучительной, ведь я приму ее по твоему
приговору.
Радость, охватившая Пигмалиона, когда возлюбленная статуя начала
теплеть в его объятиях, стала счастьем, ведь женщина совершенной кра-
соты (не менее совершенной, чем красота статуи) ожила в е,го объятиях.
В точности такие же чувства, пока Зелмана говорила, заполняли сердце
Филоклеи, даря ей блаженство, когда она осознала их истинную суть и
ее надежды превзошли самих себя. И все-таки сомнение не давало по-
коя ее мыслям, которые жаждали подтверждения того, что Зелмана — это
Пирокл. Однако сама любовь сказала свое слово и убедила царевну в том,
что ложь не осквернила уста Зелманы. Тут Филоклея вспомнила о своей
чести и испугалась, ведь она была наедине с тем, с кем, единственным,
ей хотелось быть; ее мысли сталкивались в противоречиях, но так всегда
бывает с теми, кто не взошел на вершину добродетели, но и не погрузил-
ся в пучину порока. Неприятные мысли как появились, так и исчезли,
по крайней мере, от них было не больше света, чем от свечи на солнце;
царевна как будто заболела от избытка счастья и боялась неведомо чего —
подобно человеку, который нашел несметные сокровища и не знает, слу-
чилось это во сне или наяву; или подобно пугливому оленю, который тем
чаще озирается, чем богаче выбранное им пастбище, — она содрогалась
всем телом, но все же нашла для ответа ласковые слова.
— Ах, моим разбежавшимся в разные стороны мыслям трудно соеди-
ниться, чтобы дать тебе достойный ответ! Как одолеть привычную стыд-
ливость и признаться в сокровенном? Как связать слова, если не знаешь,
к кому они обращены? Сказать: «Зелмана!» Нет, теперь это невозможно.
Сказать: «Царевич Пирокл!» Но твое обличье говорит мне, несчастной,
другое. Вот что, да, вот что я, Филоклея, оставаясь прежней, должна была
бы сказать, тебя нет или будь Зелманой; ведь ты никогда не посмел бы
пойти на такое, если бы тебя не подталкивала надежда, и ты ни за что
не открылся бы, если бы знал, что это безнадежно. Но, боюсь, я сама
239
виновата, моя несдержанность подала тебе надежду и моя любовь — уве-
ренность в себе. Я в самом деле думаю, что из-за моей слабости ты решил,
будто твоя маска сослужит тебе добрую службу, а когда убедился в моей
слабости, то решил поднять забрало. Как же мне поступить? Неужели
тоже хитрить? Неужели расписывать под мрамор руины мыслей? Или
на словах изображать простодушие, когда от простоты в моих девичьих
мыслях не осталось и следа? Это правда, увы, правда, о Зелмана (мне нра-
вится звать тебя так, потому что я полюбила тебя Зелманой и моя любовь
навсегда останется укрытой в тени этого имени), пока ты был Зелманой
(не знаю уж, кто меня сглазил), я больше любила сама, чем желала быть
любимой. А что сказать теперь? Жаль, что ты не Зелмана? Или моя лю-
бовь должна стать ненавистью, коли ты Пирокл? Почему, когда ты был
Зелманой, больше всего меня терзало желание, чтобы ты не был ею? Ты
победил, но не забывай о добродетели. Твоя добродетель завоевала меня,
но и удержи меня добродетелью. Ты любишь меня? Тогда позволь мне
быть достойной твоей любви.
Филоклея придержала язычок и потупилась, спохватившись, что
нечаянно выстрелила из лука своей любви и гораздо раньше выставила
напоказ свои мысли, чем собиралась это сделать. Пирокл же, не помня
себя от счастья, которым не поменялся бы и с богами, вручил Филоклее
несколько поистине царских украшений в качестве знаков своей любви
и своего царского происхождения, а кроме того, показал ей письма сво-
его отца, царя Эварха, которые спас как самую большую драгоценность
во время кораблекрушения. Однако та, которая скорее усомнилась бы
в себе, чем не поверила бы Зелмане, не нуждалась в доказательствах.
И объятиями, в которых души влюбленных стремились соединиться,
и поцелуями, в которых встречались не только их губы, но и сердца, они
давали друг другу клятву стать мужем и женой, однако если Пирокл был
не прочь скрепить клятву печатью страсти, то Филоклея решила иначе.
Она попросила, не желая упустить ни минуты из отпущенного им
с Зелманой времени, рассказать о том, что случилось с Пироклом и Му-
зидором после того, как они расстались с Эроной, так как о том, что было
до этого, она знала от сестры.
— Мне известно, почему ты и твой благородный кузен Музидор поки-
нули Фессалию, мне известно о ваших приключениях, столь же опасных,
сколь и славных, прежде чем вы явились на помощь царице Эроне, и, чем
закончилась эта война, я знаю, потому что нам рассказал об этом царевич
Планг. Но что было с тобой после этого и прежде, чем ты явился сюда
покорить меня, бедняжку, мне неизвестно; даже слухи, дошедшие до нас,
столь отрывочны, что из них не составить целостной картины. Поэтому,
милый Пирокл (что может быть слаще для моих ушей, чем твой рассказ
о себе!), поведай мне, чем ты прославился на весь мир, и без колебаний
говори о грозивших тебе опасностях, потому что сейчас ты здесь со мной,
значит вспомнить о них, верно, будет приятно.
Пирокл сразу догадался, что Филоклея пожелала лаской удержать его
от ласк; и любовь обернулась трусишкой, отступившим из страха нанести
240
обиду. Нет, на самом деле любовь показала себя смельчаком, который ме-
чом почтительного долга остановил войско яростных желаний. Понимая,
что рассказ о прошедшем помешает более прямому разговору, Пирокл
все же не посмел ничего возразить и, вынужденно поцеловав розгу, с ра-
достью взялся за исполнение воли возлюбленной Филоклеи, страстным
вздохом усмирив страсти, бушевавшие в его сердце.
— Прекрасная властительница моей жизни, никакие трофеи, триум-
фы, памятники, хроники не могли бы сотворить из моей славы прият-
ную музыку для моих ушей, если бы не твое желание слушать о Пирокле,
и только потому, что это твой Пирокл. Я горжусь тем, что мой рассказ
достоин быть услышанным, ибо ты удостаиваешь его своим внимани-
ем. Итак, моя единственная, моя великая мечта, знай, что после гибели
Тиридата и воцарения Эроны (лишь после этого) мы отправились даль-
ше; и если (как я понял из твоего вчерашнего рассказа) предательство
неблагодарного мужа ниспровергло Эрону, об этом я, по правде говоря,
ничего не слышал и, конечно же, не мог этого предвидеть, ибо только
извращенный ум Антифила мог, верно, допустить, что такой красавице,
как Эрона (вправду красавице), не удержать его любви, а ее беспримерно-
му великодушию не удовлетворить его тщеславия. Воистину порочность,
что бездонная пропасть, в нее легче не упасть, чем, упав, не падать все
ниже и ниже. Что же до моего царственного брата и меня, то у нас были
причины покинуть Эрону.
16 Заказ 1414
Глава восемнадцатая
— У смелого и могущественного Эварда, которого мне было суждено
убить на поединке, защищая Эрону, остались три племянника — сыновья
его сестры, весьма прославленные умом, способным на неожиданные ре-
шения, и силой, способной эти решения воплощать в жизнь. Особенно
был знаменит старший, Анаксий, которого многие рыцари удостоили бы
высокими похвалами, если бы он не хвалил себя сам, следуя своему нраву
и не дожидаясь, когда о нем скажут другие. И столь невоздержанной была
его гордыня, что даже когда его деяния могли пробудить зависть, он всем
своим видом вызывал лишь презрение. И если правда, что титаны ходи-
ли войной на небеса1, то он мог бы быть у них достойным знаменосцем.
Для него не было ничего трудного, тем более невозможного, и не было
ничего несправедливого, если на то было его желание. Тиридату он отка-
зал в помощи, потому что не мог перенести предпочтения, выказанного
благородному Плангу. Не признавая никаких достоинств, кроме тех, что
определяются копьем и мечом, он считал, что превосходит в них Планга,
а значит, Тиридат должен был предпочесть его.
Когда до Анаксия дошла весть о гибели его дяди от моей руки, пола-
гаю, больше из ненависти к тому, кто одолел его дядю, чем из родствен-
ных побуждений (чуждых душам спесивцев), он стал искать случая ото-
мстить, но, должен признать, не нарушая рыцарского обычая. Анаксий
послал мне вызов и предложил встретиться в Лисий, где собирался дока-
зать, что я одолел его дядю, которого не могли бы одолеть и сотни таких,
как я, с помощью предательской уловки, а не в честном бою. Юный и
удачливый, я бы с радостью принял любой вызов, не говоря уж об этом;
ведь до меня тоже дошли слухи о том, что твой родственник Амфиал,
который уже несколько лет считался первым рыцарем на земле, не раз
бился с Анаксием и не мог одолеть его, тем самым подтверждая, что если
Анаксий и уступает ему в учтивости, то в воинской доблести они ровня;
правда, сам Анаксий считал себя достойнее Амфиала. Ну вот, я должен
был отправиться в Лисию, но один, так как знал наверняка, что он тоже
будет один, к тому же должен признаться, мне хотелось совершить что-
нибудь в одиночку, без помощи несравненного Музидора, потому что я
чувствовал, как бы ни восхваляли меня за мои деяния, силы я черпал ско-
рее в нем, нежели в самом себе. Я убежден, всем хорошим в себе я обязан
единственно Музидору. Он учил меня словом и более примером, так что
передо мной всегда был живой образ добродетели, и невежество не могло
настолько затуманить мне глаза, чтобы я был не в состоянии разглядеть
и полюбить ее. Чем, о небеса, отплатить мне за такую дружбу и заботу?
Я ощущал такую зависимость от него, что когда его не было рядом, мне
казалось, я становлюсь слабее и неувереннее в себе, словно меня лишили
1 Речь идет о восстании титанов против Зевса.
242
надежной опоры. Стоило мне это понять, и я стал бороться с собой; не
то чтобы я не хотел прислушиваться к его мнению, — но не из слабости
же, которая хоть и привязывала меня к нему, поделала недостойным его.
Итак, я решил ехать один и сделал, как решил, да и Музидор, доверяя
мне, считал, что мое доброе имя важнее его любви ко мне; однако, когда
я уехал, он, как я узнал потом, тайно последовал за мной, чтобы в случае
нечестной игры прийти мне на помощь. Эрона никак не желала отпускать
нас от себя, наверное, предвидя свои будущие несчастья. Но я (совершен-
но избавленный от бремени доброты и в полудне пути до того места, где
Анаксий назначил поединок) попал в переделку, о которой, хотя сама по
себе она и не была значительной, я расскажу тебе подробно, ведь из-за
нее на меня потом свалились такие трудности и такие опасности, из ко-
торых мало кто вышел бы живым.
Когда я скакал по дороге, по обеим сторонам которой так густо росли
деревья, что одинокому ездоку нечего было и мечтать встретиться с кем-
нибудь, кроме дикого жителя леса, то время от времени с правой стороны
до меня доносились крики, судя по громкости, человеческие, хотя в са-
мом голосе не было почти ничего человеческого. Однако я все-таки по-
шел на голос и почти сразу увидел под деревом человека со связанными
руками и ногами, причем связанными с таким расчетом, что он мог ка-
таться по земле, вставать, садиться, но не мог ни убежать, ни оказать со-
противление. Над ним, словно орлицы над добычей, склонились девять
дам, должен признать, прелестных. Каждая держала в руке по кинжалу,
которым колола рыцаря, безоружного и защищенного одной лишь ру-
башкой. Истекая кровью, бедняга плакал, кричал, молился, а они развле-
кались, причиняя ему боль, и получали удовольствие, слушая его мольбы,
словно свидетельства своей победы.
Меня тронула жалкая участь рыцаря, тем более что он воззвал ко мне,
прося или убить его, или защитить от мучительниц. Но пока я раздумы-
вал, как мне поступить, передо мной возникли семь или восемь рыцарей;
и один из них потребовал, чтобы я немедленно удалился и не мешал да-
мам в их законной мести, причем потребовал с надменностью, которая,
по правде говоря, пришлась мне не по нраву, и я ответил, что не знаю,
буду ли защищать рыцаря от дам, зато знаю, как мне поступить с ним
самим, и мы стали сражаться. Победив его, я был вынужден драться сразу
со всеми остальными рыцарями (их манеры были еще хуже), из которых
одни были убиты, другие разбежались. Испугавшись моего сокрушитель-
ного гнева, дамы тоже скрылись с глаз, кроме одной, столь разгоряченной
своим злодейством, что и во время боя и после него не давала передышки
жестокости, а продолжала маленьким кинжалом болезненно ранить свою
жертву и уже была готова выколоть рыцарю глаза (чего они до тех пор не
сделали, только чтобы сильнее помучить его своим видом), когда я при-
близился к ней и с большим трудом склонил к переговорам. Мне потре-
бовалось много времени, чтобы она услышала меня, еще больше — чтобы
заговорила со мной, и еще больше — чтобы, разговаривая со мной, за-
была о кинжале. В конце концов, когда я снял шлем и покорно попросил
16*
243
простить рыцаря или хотя бы рассказать, в чем его вина, она, задыхаясь
скорее от ярости (которая сама себя подстегивала), чем от горя, поведала
мне о своем несчастье.
«Рыцарь, — сказала она, — я не хочу терять время, отпущенное мне на
мщение этому ничтожеству, которое изображало мужа, лишь когда обма-
нывало женщин. Ноя вижу, ты молод и, чего доброго, принесешь женщи-
нам еще больше горя, чем он, поэтому я согласна на его примере дать тебе
урок добродетели. Этого человека зовут Памфилом, и, должна признать,
он из знатного рода (хотя ему не впрок гордое имя предков, которое он
покрыл позором), и лицом, как видишь, он не некрасив (воистину имен-
но такая маска нужна презренной лжи), в беседе по-умному приятен и
приятно игрив, у него открытый веселый взгляд и его речи — задушевные
и искренние. Разве подумаешь, что в такой голове могут родиться злые
мысли? Он с удовольствием занимается тем, что, доставляя удовольствие,
делается желанным в любом доме, где любят музыку, танцы, охоту, пиры.
Короче говоря, если держать его на расстоянии, то лучшего приятеля
и желать не надо!
Увы, эти достоинства служат маской ядовитому существу, поверь
мне. Он так одарен судьбой и природой, что его повсюду принимают,
и он вползает... нет, хуже, он впархивает в доверие глупым дамам, в чем
мне было бы очень стыдно признаться, если бы мои руки не познали
месть, как прежде щеки познали стыд. Обманывая нас, он наслаждался
в душе, а мы никак не могли быть предостережены против него, более
того, одна попавшая в силки птичка служила приманкой для другой, ибо
чем больше он получал, тем большую жертву якобы приносил новой воз-
любленной, нарушая данные прежде клятвы. Умение льстить, пускать
слезу и давать обещания — далеко не самые крепкие нити в его сетях.
Но пробудив в нас страсть и сделавшись над нами властелином, он ме-
нял тактику, заставляя нас ревновать, завидовать, гордиться тем, чем мы
владели, желать большего, торжествовать, считая его, повелителя мно-
гих, своим подданным, страшиться потери, замечая его отсутствующий
взгляд. Он не принадлежал никому; но бывал покорен и внимателен, пока
не доводил каждую из нас до такой грязи, которую нельзя было смыть,
и уж тогда становился тираном, изощренным тираном. Он так ловко
пользовался своей властью, что мы трепетали, испытывая сладкий ужас,
и не могли отказаться от надежды. Самое странное, могу признаться
с запоздалым раскаянием, что, даже пребывая в величайшем смятении
чувств, я никогда не считала его образцом совершенства, но тем не менее
желала пленять и удерживать его возле себя, словно единственно в этом
было мое счастье. Подобно всем остальным, я сознавала, что эта игра
в мяч становилась слишком серьезной, и все-таки, подобно всем осталь-
ным, полагала, что это всего лишь игра.
Правда, для всех нас она заканчивалась горьким поражением: разби-
тым сердцем, промотанным состоянием, потерянной честью — отчасти
по нашей собственной вине, но, главным образом, по его вине, потому
что он использовал наши недостатки себе во благо. Вряд ли найдется на
244
свете другой человек, который так же сумеет вечером валяться у дамы
в ногах, а наутро осыпать ее насмешками, вечером прославлять ее соне-
тами, а наутро позорить ее с нерыцарской отвагой; он столь естественно
непостоянен, что уж не знаю, как его душа еще не убила его тело, которое
ей приходится терпеть. Он так обходился с нами, несчастными дурочка-
ми, что невозможно сказать, к чему он больше стремился — насладиться
нами или забыть нас. Однако, украшая себя позорным лавром, этот ры-
царь не любил, если ему отказывали в доброте, и торжествовал, если взы-
вали к его милосердию; он был убежден, что на фоне руин, оставшихся от
его бывших возлюбленных, еще ярче сияет его красота; а мы, несчастные,
запутавшиеся, даже не решались жаловаться, боясь, как бы нас не осу-
дили. И все-таки каждая сама по себе размышляла о том, чтобы вернуть
его на путь добра, пока он чуть ли не ежедневно присылал к нам новых
подруг по несчастью, совсем забыв о чести и верности. Но вот он якобы
решил покончить с дурными делами и обручился с дамой, которая, долж-
на признаться, была достойна любви, если это может служить оправда-
нием недостойному непостоянству, и тем самым он не оставил нам ниче-
го, кроме раскаяния в прошлом и отчаяния в будущем. Общая беда заста-
вила нас объединиться, хотя он настраивал нас друг против друга, и тогда
мы решили, что, подтвердив женитьбой свою любовь к этой даме, он под-
вергнет нас еще более суровому осуждению. Отчаяние превратило страх
в храбрость, месть успокоила стыд, и мы, которых ты видел тут, приду-
мали, как нам завлечь его в ловушку (он ни в чем не заподозрил нас, ко-
торых так часто обижал, что и подумать не мог, будто ему что-то грозит
с нашей стороны), и чуть ли не сам предоставил нам удобный случай.
По нему видно, как скоро властителей начинает одолевать гордыня,
а, поддавшись гордыне, как скоро они глупеют. Он явился к нам такой
надутый, словно мы должны были благодарить богов за то, что когда-то
послужили его удовольствию. Пока мы по очереди и довольно учтиво вы-
сказывали ему свои обиды, он, даже осознавая, как нас много, принимал
позу уверенного в себе оратора и, ничего не отрицая, оправдывал свое же-
стокое вероломство, да еще с насмешками и оскорблениями, вроде того
что если невозможно было обидеть нас посильнее, то ему хотя бы удалось
пробудить в нас сильные чувства.
Воистину мне никогда не забыть, как он доказывал нам, что не непо-
стоянство принуждало его бросать одну возлюбленную за другой, а как
раз великое постоянство, ибо то, что мы называем постоянством, на са-
мом деле есть непостоянство. «Я, — говорил он, — со всем постоянством
люблю получать удовольствие и всегда получаю удовольствие от того, что
люблю, поэтому, когда мне подворачивается случай, я использую его.
А ваши постоянные дураки, которых вы превозносите и которые любят
даму, даже если ее изуродовала болезнь или наказала судьба, повинны
в самом нелепом непостоянстве, какое только может быть; ибо прохо-
дит время, и они любят уже не красоту, а уродство, не очарование, а его
противоположность, подобно человеку, не пожелавшему покинуть друга,
но с готовностью предавшему себя в руки его смертельного врага — я же
245
(которого вы называете непостоянным) постоянен в отношении к (чу-
жой) красоте и к (своему) удовольствию». С насмешливой бравадой он
говорил о каждой из нас, будто одну покинул за ее своенравие, другую —
за смирение, третью — за недостаточную веселость, четвертую — за из-
лишнюю игривость, пятую — за тоску, шестую — за глупую ревнивость,
седьмую — за нежелание передать письмо своей сопернице, восьмую —
за болтливость, девятую — за предрассудки, ну а меня, Дидону (которую
судьба, увы, свела с лживым Энеем), он, неблагодарный, не нашел, в чем
обвинить, поэтому сказал, что не мог отказаться от других женщин, ко-
торые красивее меня.
Пока он таким образом разыгрывал беззаботного господина (наши
слуги, которых ты так быстро одолел, стояли наготове), мы схватили
его и принялись мучить. За этим ты нас и застал, а ведь мы собирались
всерьез покалечить его, чтобы он не мог больше никого обидеть. Ты про-
гнал моих подруг, но что до меня, то зло, совершенное им, сделало меня
равнодушной к любой опасности. Ему было недостаточно обмануть меня
и этим обманом оскорбить, а потом и забыть вовсе, так он еще перед все-
ми посмел сказать, будто я некрасива! Неужели на свете много дам кра-
сивее меня? Даже на твой суд, рыцарь, если твои глаза не обманывают
меня, я красива и знаю, кто бы ни утверждал другое, немного найдется
дам красивее меня. И кто же посмел оболгать меня? Тот, кому это отлич-
но известно! Пусть мои подруги забудут обиды, я не забуду их и, помня
о них, не перестану мстить, ибо моя обида самая тяжкая!»
С этими словами она опять бросилась к связанному господину и, ко-
нечно же, выколола бы ему глаза (ибо он, устыдившись, лежал тихо, разве
лишь изредка стонал от страха), если бы я не соскочил с коня и силой
и мольбами не умерил ее ярость.
Пока я взывал к ее кротости, откуда-то появились друзья господи-
на, и он завопил, чтобы они убили предавшую и опозорившую его жен-
щину Тут уж мне пришлось забыть о знамени, под которым я сражался
до тех пор, и приложить все силы для спасения дамы, что я и сделал, да
столь удачно, что в конце концов помог заключению прочного мира, под-
твержденного обеими сторонами. Оставив даму, как она полагала, в без-
опасности, я поехал дальше, навстречу Анаксию, которого был вынужден
прождать в условленном месте два дня, ибо он, не желая ждать меня, от-
правился в путь, лишь узнав, что я жду его.
;
Глава девятнадцатая
Я терпеливо дожидался его, отчего он немало злорадствовал, но
в конце концов явился (один, как обещал) — и чтобы не сказать слишком
мало, ибо о нем следует много говорить, — как храбрый рыцарь, готовый
одолеть любую опасность. Стоило ему приблизиться, как он с яростью,
кстати, искусно управляемой яростью, помчался на меня, но я выдер-
жал его натиск как нельзя лучше, потому что был готов к нему; однако
понял, что он может похвалиться лишь таким умением в военном деле,
которому его научили гордыня и гнев. Ну вот, мы пустили коней во весь
опор и копьями нанесли друг другу удары в голову. Думаю, мой удар был
чувствителен для него. Я же, должен признаться, таких ударов еще не
получал, но хотя мои чувства застыли в удивлении, разум приказал им
пошевеливаться, потому что я знал, как мало расположения склонен про-
являть мой соперник, когда речь идет о военной выгоде. В самом деле, он
уже повернул коня и вновь мчался на меня, обнажив меч, так как наши
копья не выдержали — сломались при первом же столкновении. На этот
раз я действовал проворно, так что и не знаю, кто из нас ударил первым.
Но чей бы этот удар ни был, за ним сразу же последовал второй. Должен
сказать правду, несравненная госпожа, некоторое время мы бились на
равных, и Анаксий, клянусь богом, мог бы стать одним из самых слав-
ных рыцарей, если бы не его высокомерие. Переходя с места на место
в череде побед и поражений, мы в конце концов поменялись местами,
и тут его конь наступил на сломанное копье, которое (застряв вертикаль-
но в земле) пронзило ему сердце. Анаксий был вынужден спешиться,
после чего принялся кричать, грозя мне, мол, если я не сойду с коня, то
он поступит с ним так же, как судьбе было угодно поступить с его конем.
Отчасти из-за его криков, отчасти из-за нежелания воспользоваться слу-
чайным преимуществом, я подчинился.
Мы вновь сошлись в бою, но уже пешие, и успели несколько раз ра-
нить друг друга, как вдруг появился тот самый непостоянный Памфил,
которого я спас (его легко было узнать из-за открытого забрала), в со-
провождении дюжины вооруженных людей; а впереди на лошади ехала
Дидона, та дама, которая особенно жестоко наказывала его, и он соб-
ственноручно изо всех сил стегал ее прутьями, тогда как она плакала
и взывала о помощи. Зрелище было весьма печальным, и я предложил
Анаксию отложить наш поединок на другой день, чтобы исполнить ры-
царский долг по отношению к несчастной даме. Однако он привык под-
чиняться только своим страстям (называя их разумом) и потребовал от
меня не обращать внимания на даму, мол, он убьет меня, а потом помо-
жет ей. Мне же было ясно, что наш поединок затянется надолго, поэтому,
желая выручить бедняжку Дидону, я ударил его изо всех сил (как бы вы-
разиться получше), пригвоздил к месту и бросился со всех ног к коню, ко-
торый трусил за Памфилом и другими всадниками. Доспехи мешали мне
247
бежать, причиняя боль, но та же боль вынуждала меня бежать быстрее.
Я бежал за конем, Анаксий — за мной, а так как гордое сердце Анаксия
страдало от такого презренного преследования, то мне удалось его опере-
дить и вскочить на коня, хотя, должен признаться, меня охватывал стыд
при виде проходивших мимо селян, которые кричали и гикали мне вдо-
гонку, словно я отъявленный трус, который повернулся спиной к врагу.
Уже сидя на коне (а действовал я с такой быстротой, что все вопили: «Ой,
смотрите, у него от страха выросли крылья!»), я обернулся к Анаксию и
громко пообещал возвратиться на наше место, едва справлюсь с пресле-
дователями несчастной дамы. Он же в ответ ругал меня всеми дурными
словами, какие только ему подсказывала злая ярость, на что я сказал:
«Анаксий, не думай, что я боюсь твоих ударов или твоих речей». Итак,
имея из всего рыцарского снаряжения одни лишь шпоры, я помчался
(как я думал) за Памфилом, но (как думали все) от Анаксия, из-за чего,
пока я мог слышать, слышал такой смех и такие шутки, что не один раз
хотел повернуть коня.
Однако несчастье дамы перевешивало заботу о собственном добром
имени, и я скакал дальше по бездорожью (сквозь такие густые заросли,
что только благодаря чутью моего коня мне удавалось находить верную
тропинку), и лишь через шесть часов, уже под вечер, догнал даму и ее му-
чителя возле старого мрачного замка, где, как я понял, Памфил собирался
сотворить нерыцарское дело. Он и его спутники уже принялись срывать
с дамы одежды, когда я ворвался в их круг и поразил копьем первого же
из подвернувшихся мне негодяев. Чистота моих помыслов придала мне
сил, и на них всех (чей дух был ослаблен неправедным делом) мне потре-
бовалось не больше времени, чем на сражение с одним Анаксием, так что
я спас Дидону от издевавшихся над ней негодяев, из которых оставшиеся
в живых разнесли по свету весть, что не все тайные злодеяния остают-
ся безнаказанными. Что до Памфила, то, как оказалось, он хорошо за-
помнил меня и постарался держаться подальше, а потом, не дожидаясь,
когда побегут его спутники, побежал первым и вскоре был слишком да-
леко, чтобы вознаградить их за труды. Дама же, обретя с моей помощью
свободу тела и мыслей, не сразу поверила в свое избавление от Памфила,
вознамерившегося убить ее, и только спустя некоторое время сумела
рассказать мне, как она решила возвратиться к отцу и, не усомнившись
в клятве лживого Памфила, взяла с собой совсем немного людей, которых
он перебил. Ее же со всей жестокостью, как я видел, пригнал сюда, чтобы
предать позорной смерти на глазах отца, которого уже известил, что со
стены замка (этого самого замка, подтвердила она) он сможет наблюдать
за казнью единственной дочери; и так это случилось бы, если бы не мое
неожиданное появление (ибо меня, сказала она, Памфил испугался сра-
зу же, как только узнал мои доспехи), которое избавило ее от жестокой
смерти. Я был рад, что сумел помочь прекрасной даме, тем более помочь
во второй раз, но в схожих обстоятельствах. Тем временем ночь вынужда-
ла нас искать пристанище, и благородная дама, немало смущаясь, при-
гласила меня в замок своего отца.
248
«Рыцарь, я так обязана тебе, что не могу выразить словами свою бла-
годарность, ведь я жива и уже во второй раз получила жизнь из твоих рук,
поэтому не буду говорить, что всегда готова служить тебе, но все-таки по-
мни, что я твоя служанка и в любое время буду рада отплатить тебе за спа-
сение. На сей раз я могу лишь предложить тебе провести эту ночь в замке,
ибо время позднее, а здешние места, по правде говоря, кишат убийцами
и ворами, потому не стоит доверять им свой сон. И все же должна тебе
признаться, если благодарность побуждает меня предложить тебе ночлег,
то она же вынуждает меня стыдиться (я говорю не из вежливости, а по-
тому что это правда) того, что мы никак не сможем тебя развлечь».
Она сказала, что не намерена скрывать от меня правду даже о своем
отце, по имени Крэм, который был самым богатым человеком в округе, но,
то ли от природы, то ли по убеждению, преданным немыслимой скупости;
не разрешая себе никаких удовольствий, он отказывался даже от самого
необходимого, тратя ровно столько, чтобы хватало на поддержание жиз-
ни, и не притрагивался к своим богатствам, лицезрение которых достав-
ляло ему единственное наслаждение. Из-за этого госпожа Дидона была
вынуждена отдаться под покровительство знатной дамы, отчего навлекла
на себя несчастье и поставила под угрозу свою честь и честь своей семьи.
А отец, якобы выказывая мудрость, делал вид, пока от него не требовали
денег, будто не знает о дурной славе дочери, которая была хуже, чем Дидона
заслуживала, хотя она и не отрицала, что не считает себя скромницей.
В конце концов, Дидона заявила, что в замке я, по крайней мере, буду
в безопасности, и уверила меня, что сумеет позаботиться о соблюдении за-
конов гостеприимства и я ни в чем не почувствую недостатка.
Поскольку я привык ценить еду и удобства в зависимости от испыты-
ваемых мною голода и усталости, то, мучимый тем и другим, не заставил
себя долго упрашивать и последовал за Дидоной в замок, который по-
казался мне вполне неприступным, ибо вокруг него был даже вырыт и
заполнен водой ров; короче говоря, бывший хозяин со знанием дела воз-
водил замок, из-за расточительности его сына перешедший в руки отца
Дидоны. Мост оказался поднятым, и мы долго кричали, прежде чем нам
ответили, а потом еще долго препирались, прежде чем мост опустили.
Скорее соблюдая приличия, чем от радости видеть дочь, которую он со-
всем недавно видел на пороге смерти, скорее из чувства долга, о котором
он вспомнил, услышав, что его называют отцом, чем по сердечной добро-
те, владелец замка впустил нас; правда, к этому времени мне порядком
надоело ждать, и я вступил на мост, только благодаря настойчивым уго-
ворам Дидоны. Крэм оказался тощим, говорливым стариком с трясущи-
мися головой и руками; судя по всему, он уже одной ногой стоял в могиле,
но все еще жадно цеплялся за жизнь, к тому же не пылал желанием вы-
разить мне свою благодарность, думаю, из боязни, как бы это не повлек-
ло за собой лишних расходов; но тем не менее он глухо пробормотал не-
искреннее приветствие, а перехватив взгляд, брошенный им на Дидону,
я подумал, что неудовольствие принимать рыцаря перевешивало в нем
удовольствие видеть свою дочь.
249
Он привел меня в почти пустой дом, представлявший собой картину
счастливой скупости и нищего богатства, где прислуга состояла из де-
ревенских мужланов, потных и грязных, по-видимому, взятых от земли;
короче говоря, как он сказал, выгодных работников. Что же до еды и по-
стели, то они у любого вызвали бы отвращение к скупости как самому
низкому из пороков. Да и говорил отец Дидоны только о своей бедно-
сти, видимо, из страха, как бы я не попросил у него чего-нибудь. Словом,
никакой враг не мог бы пожелать этому человеку ничего хуже того, что
у него было. Я же отлично усвоил, что значит быть нежеланным гостем
в доме негостеприимного хозяина, так как он то и дело выговаривал до-
чери за то, что она приводит в дом разорительных гостей. Тем временем
Дидона, несмотря на печаль, стремилась выведать, как меня зовут и кто
я такой, вероятно, отчасти чтобы запомнить имя спасшего ее рыцаря, от-
части чтобы умилостивить скупого отца. В конце концов она прямо спро-
сила, как меня зовут, и сделала это с такой серьезностью, что я (у которого
любовь еще не отняла имени и который был тем, кем был) честно отве-
тил на вопрос, и ее отец обрадовался не меньше, чем она, как я понял по
злобно-веселому выражению, впервые появившемуся на его лице.
Однако обрадовались они по разным причинам. Пастух и мясник тоже
с одинаково довольным видом глядят на овцу, но пастух ради заработка
сохраняет ей жизнь, а мясник убивает ее; вот и Дидона обрадовалась тому,
что я, великий царевич, связал себя с нею дружескими узами, и обрадо-
валась искренне; а он обрадовался, как я потом, оказавшись в опасности,
понял, потому что царица Артаксия объявила немалую плату за убийцу
ее брата Тиридата: сто тысяч крон тому, кто приведет меня к ней живым.
И старый негодяй (в котором уже не осталось ничего человеческого), хотя
у него было много денег, куда больше обещанной суммы, все же, любя
деньги превыше всего, решил предать меня (послужившего ему) ради де-
нег, которыми он все равно не собирался воспользоваться. Выведав, что
утром я собираюсь возвратиться туда, где меня дожидался Анаксий, он
послал слугу с известием об этом к начальнику ближайшего гарнизона,
который, служа царю Иберии, был склонен к разгульной жизни и, следо-
вательно, нуждался в деньгах, поэтому ни секунды не усомнился, стоит
ли ему участвовать в предательстве ради половины платы за четвертую
часть работы. Той же ночью они договорились об удобном месте, где меня
не составит труда захватить врасплох, и презренный старик вдруг преис-
полнился такой учтивости, что предложил проводить меня несколько
миль под тем предлогом, будто нам с ним по дороге. Это должно было
меня насторожить, будь я от природы подозрительным, ведь скряга учтив
только в том случае, если хочет на чем-то нажиться или кого-то обмануть.
Итак, я позволил ему проявить учтивость, и он выехал из замка в сопро-
вождении своих шутов в допотопных доспехах и на полудохлых клячах,
а мне тогда пришло на ум, что если это и есть богатство, то пусть уж луч-
ше никто из моих друзей и подданных не богатеет. Что до дочери скряги,
нежной Дидоны, то она (но как будто не из злых побуждений) затягивала
наше прощание.
250
Наконец мы отправились в путь, и, закосневший в своей порочности,
старик, как ни в чем не бывало, смотрел мне в глаза и разговаривал со
мной, хотя сделка уже была заключена. Итак, мы ехали, пока дорога не
пошла под уклон и не привела нас на то место, где справа и слева можно
было спрятать в лесу сколько угодно конных и пеших воинов. Выскочив
из укрытия, они стали требовать, чтобы я сдался на милость царицы
Артаксии. Ничего хуже нельзя было придумать, ведь я знал, как Артаксия
относится ко мне! Поэтому, взяв в руки меч необходимости и щит пра-
восудия, я, как мог, воспользовался другим оружием тоже и, даю слово,
не к радости тех, что надеялся на свою многочисленность больше, чем на
храбрость, и деньги ценил больше справедливости, короче говоря, я им
показал, что не всегда простое дело притеснить невинного. Что до Крэма,
то он держался в сторонке, все еще золотя свое мерзкое тщеславие надеж-
дой на вознаграждение и радуясь тому, что я стану его добычей.
Постепенно силы стали мне изменять, и я держался уже более из яро-
сти, когда появился несравненный Музидор, который все время, с тех
пор как я прервал поединок с Анаксием, следовал за мной и приблизился
к дому скряги, когда его жгли и разрушали селяне, смертельно ненави-
девшие алчного хозяина; они воспользовались удобным случаем, зная,
что в замке почти никого не осталось, и излили на него свою злобу; но
Музидор не стал ни поощрять их, ни корить, а пришпорил коня и пом-
чался за мной вдогонку, так как все в один голос кричали ему, что меня
не ждет ничего хорошего, если скряга поехал вместе со мной; и Музидор
в самом деле нашел меня в трудном положении. Мне же, когда я увидел
своего кузена, показалось, будто у меня удвоились силы, и если до его
появления у меня мелькали мысли о достойной гибели для себя, то после
его появления я думал только о достойной победе для нас. Разве можно
чего-то бояться, когда рядом Музидор! Я бы с удовольствием рассказал
тебе, как он выручил меня, как спас мне жизнь, убивая моих врагов (уди-
вительно даже не количество побежденных им рыцарей, удивительны
удары, которыми он заслуженно отнимал у них жизнь), но я и так слиш-
ком многословен. Хотя, по правде говоря, именно там Музидор явил не-
сравненную доблесть.
Однако врагов было слишком много, и не знаю, чем бы закончился
бой, если бы не появился царь Иберии, отец достойного Планга, кото-
рого ты не раз с удовольствием вспоминала. Царь (несмотря на почтен-
ный возраст, он оставался верен сельским радостям, особенно соколиной
охоте) оказался поблизости (следуя за своим кобчиком) и узрел творив-
шуюся несправедливость, а так как с ним была многочисленная свита,
то солдаты, тотчас узнав его, отступили.
Начальник гарнизона сам рассказал, что побудило его к злодейству;
и царь, разгневавшись от того, что нападение совершено в его владе-
ниях да еще на столь высокородных рыцарей, и возмутившись тем, что
оно совершено именем его племянницы, которую он (должен признать,
несправедливо) ненавидел, потому что думал, будто она и ее брат на-
страивали Планга против него, тотчас приказал отрубить начальнику
251
гарнизона голову, а Крэма повесить, хотя я (искренне) просил царя не
отнимать у старика жизнь, помня, что ел его хлеб. Еще об одном я хочу
сказать, что было достойным завершением его презренной жизни. Ни
смерть дочери, случайно (бедняжка) убитой вместе с его шутами, когда
(с храбростью, удивительной для слабого пола) она пыталась оттащить
их от меня, ни свою близкую позорную смерть он не оплакивал так, как
оплакивал разграбленные сокровища и сожженный замок, чем вызывал
не слезы, а смех у всех, кто его слышал.
Глава двадцатая
— Справедливость восторжествовала, и царь со всей положенной
учтивостью пригласил нас во дворец, который был неподалеку, и там
принял нас так, что я всегда буду считать себя в долгу перед ним, хотя
вода втом источнике была не такой сладкой, как родниковая. Миновали
несколько дней (мы подлечили свои раны), а пока я сделал все, чтобы
разыскать Анаксия, но узнал лишь, что он покинул страну и на сво-
ем пути всем и каждому похвалялся тем, как обратил меня в бегство.
Мы с Музидором удостоились чести быть представленными царице
Андромане, которую царевна Памела так ярко живописала вчера, что,
мне кажется, она стоит у меня перед глазами именно такой, какой я сам
ее видел.
Нет необходимости рассказывать тебе, какая это женщина, скажу
лишь, что сначала она взяла в руки бразды любви, после этого бразды
правления и стала полновластной хозяйкой над мыслями своего мужа,
который в первое время не хотел, а потом уже не мог править, коли она
не правила им. Он решил более не утруждать свой разум и в полной мере
предаться удовольствиям, доверив жене ведение государственных дел.
Может быть, он счел, что ему выпало редкое счастье повстречать на своем
пути женщину с героическим умом, поэтому, не ведомый мудростью и не
преследуемый удачей, он жил себе, ни о чем не заботясь и следуя лишь ее
неразумному разумению; не прошло и нескольких лет, как его подданные
поняли, что ждать добра и бояться вреда надо от нее, а его добродетели
не столь сильны, чтобы искоренить укоренившийся порок. Ни с чем не
споря, потому что был всем доволен или был всем доволен, потому что не
спорил, царь едва ли представлял, что делалось даже в его собственных
покоях, за исключением тех случаев, когда ей зачем-то нужно было явить
их родство.
Итак, нас представили царице, когда мы подлечили самые опасные
раны, а после представления (произошедшего скорее, чем мы ожидали)
она стала нас преследовать, и вскоре мы распознали в ее поведении при-
знаки сильной страсти. С удивлением мы видели, как властный, злой ум,
наскучив привычными страстями, придумывает себе новые. Ее с одина-
ковой силой влекло и ко мне, и к Музидору, а так как она в своем царском
величии презирала стыдливость, то была готова сделать признание нам
обоим. Не однажды срывая с себя маску скромности, она, казалось, выс-
шим удовольствием почитала бесчестие и не раз доказывала это к вящему
позору своего супруга, заполняя уши всех мужчин, за исключением царя,
постыдными для него речами; он же, обманутый своей добротой, один-
единственный не знал, как она бесславит его. Для начала она выставила
напоказ свои прелести (не то чтобы непривлекательные, но уж слишком
откровенно выставленные и оттого теряющие в привлекательности как
произведение искусства), чтобы, как рыбок, поймать нас на крючок.
253
Кроме того, щит ее страсти держали1 в руках несколько весьма старатель-
ных служителей, которые слишком часто мучили наш слух хвалами ца-
рице и наставляли нас, как завоевать ее благосклонность. Когда же она
поняла, что мы глухи для них и немы для нее, то не пожелала остаться на
дальних рубежах, а бесстыдно перешла в атаку и позволила себе намек-
нуть, что в своей стране она полновластная хозяйка, потому (будучи в ее
воле) мы можем, в зависимости от ее настроения, или сохранить свободу,
или потерять ее, однако некоторое время она не говорила об этом прямо,
отчего мы предполагали худшее.
Когда же мы залечили раны и решили продолжить путь, царица, по-
няв, что мы намерены любой ценой вырваться из дворца, принялась на-
стойчиво домогаться того, чего желала, но не могла получить. Воистину,
несравненная госпожа, ты бы изумилась, услышав, с какой любовью она
говорила о прекрасном, правда прекрасном, смуглом лице Музидора и
о моем лице, которое, ослепленная страстью, она тоже называла пре-
красным; ее взгляд ненасытно, словно обжора на пиру, шнырял от одного
к другому; начиная фразу, она обращалась к одному, и заканчивала ее,
глядя на другого, ей не было стыдно, хотя она знала о нашей дружбе, сде-
лать одного из нас посредником между ней и другим, словно речь шла
о награде за победу в теннисе; ей хотелось, чтобы на ней сошлись линии
нашей дружбы, чтобы ею, как узлом, были связаны наши сердца. Я так
много рассказываю о ней, моя возлюбленная госпожа, чтобы ее неудача
подтвердила благородство моей любви к тебе и оправдала твою благо-
склонность ко мне.
Филоклея улыбнулась и кивнула.
— Однако, — продолжал Пирокл, — когда она поняла, что ничего не
добьется просьбами, то, побуждаемая непомерной страстью и подталки-
ваемая безграничной дерзостью, она нашла способ убедить царя, будто
мы вознамерились свергнуть его с престола. Из-за наших удач во Фригии,
в Понте и Галатии это не показалось ему невероятным, ибо, оставив за со-
бой лишь беглое знакомство с предъявляемыми ему делами, он уже давно
привык во всем полагаться на жену, а она приказала бросить нас в тюрь-
му, предварительно, пока мы спали, разоружив нас. Заключение в тюрьму
было оскорбительным, потому что тюрьма есть тюрьма; но оно же, не-
сомненно, свидетельствовало о страсти царицы, ибо в тюрьме нас ждали
удобства, какие нечасто встретишь в таком месте, к тому же и располага-
лась тюрьма так, что царица (никем не замеченная, хотя ей, по-видимому,
это было безразлично) в любой час могла приходить к нам.
Настал день, когда она решила угрозами добиться желаемого, и мы
оказались в большом затруднении, недостойно загнанные в угол, но все
же загнанные любовью, на которую благородный рыцарь должен как-то
(не знаю уж, как) ответить. Но и трогая нас своей любовью, гораздо
сильнее она отталкивала нас своей лживостью, и ее красота не могла
1 Метафора из сферы геральдики: щит с изображением оружия, поддерживае-
мый мифическими существами; здесь: ее красоту восхваляли ее слуги.
254
соперничать с ее бесстыдством. Тем не менее она держала нас в тюрьме,
и это было несправедливо по отношению к царю, спасшему нас; а что
до любившей нас царицы, то осуждать ее за ее любовь мы считали не-
достойным; однако понимали, что ни царь, ни царица не позволят нам
покинуть тюрьму, где звучали слова, которые оскорбили бы твой слух,
но которыми она говорила с нами; и все-таки не раз стыдливость по-
крывала ее щеки румянцем, а внезапная тоска заставляла скромно опу-
скать глаза. Далекие от того, чтобы ответить ей любовью, мы пытались
убедить ее в невозможности отплатить ее мужу предательством за спа-
сение; он же до такой степени доверял жене, что в конце концов по ее
наущению послал сказать нам, чтобы мы под угрозой смерти исполняли
все ее приказания; бедняга, он думал, будто ее помыслы направлены на
защиту его царства. Когда мы пожалели его, но не выразили желания
подчиниться, она принялась униженно молить нас о любви, словно
принуждение может стать школой любви или честный храбрец — со-
вершить дурное, вместо того чтобы ему противостоять. И все же нам
было трудно судить ее, хоть мы и изнемогали от досады, теряя время
в мучительном бездействии.
Пока мы с тоской вспоминали прошлое и рассуждали о будущем,
любовь (которая иногда забавляется тем, что травит меня розами и ле-
чит полынью) послала нам средство к спасению, и, хотя она помогла мне
в несчастье, увы, закончилось все так, что лучше бы мне было погиб-
нуть в кораблекрушении. У царя с царицей был сын, совсем еще маль-
чик, но подававший большие надежды, их радость и, как говорила из-
менчивая молва, наследник отцовской короны, которой он был так же
достоин (если иметь в виду его собственные достоинства), как был недо-
стоин, если вспомнить о несправедливости, постигшей благороднейше-
го Планга, чьи великие заслуги, если не были забыты, то вспоминались
с неблагодарностью царскими слугами, которые наполняли паруса вет-
ром, возвышая юного царевича, хотя, возможно, в душе они этого не хо-
тели, но на словах выражали полное согласие с царем, воздавая Плангу
(который еще несколько лет назад был их любимцем) жалостью — горь-
ким утешением в беде.
Так вот, царевич Палладий полюбил девицу, которая выросла при
дворе его отца, Зелману, дочь злосчастного интригана Плексирта (его я
уже поминал и еще буду поминать недобрым словом), из-за своих запу-
танных дел оставившего ее на царском попечении, так как был едино-
утробным братом царицы Андроманы. Увы, любовь не всегда вызывает
ответную любовь, и Зелмана, хотя у нее было довольно причин полюбить
Палладия, не могла принудить свое сердце к любви, причиняя царевичу
такую боль, какую дано познать лишь любящему безответно. Но все-таки
Палладий был неизменно учтив и услужлив, надеясь верностью заслу-
жить ее любовь и не желая ввергать себя в ад безнадежности. Так было до
нашего появления при дворе, а когда нас водворили в тюрьму, это приве-
ло к развязке, из-за которой я испытываю скорбь выше той, что выражает
себя слезами.
255
Моей недоброй судьбе было угодно, чтобы юная Зелмана (подобно
не очень умному, но щедрому человеку, предпочитающему делать по-
дарки, нежели платить долги) выбрала одарить (вот жалость) своей лю-
бовью меня (столь же не заслуживавшего ее, сколь и не желавшего),
нежели вознаградить того, чья любовь (даже в суде чести) была бы при-
знана достойной взаимности. Случилось так (жаль, конечно), что (нет
ничего естественнее, чем желание защитить и одарить, вызванное непри-
творной любовью) Зелмана страдала вместе со мной из-за моей несвобо-
ды и хотела излечить мою боль, которая стала и ее болью; и для этого она
не нашла ничего лучшего, как обратиться за помощью к Палладию, кото-
рый (воистину, он любил ее), сообразив, что надо действовать, не задавая
лишних вопросов, немедленно подчинился ее приказаниям (она утаила
от него свою любовь, выдав ее за сострадание) и сделал все, чтобы осво-
бодить нас. Его не остановило даже то, что он был любимым сыном своей
матери, конечно, лживой матери, но ведь не по отношению к нему. Он
решил самолично сделать то, чего не смог добиться просьбами, а так как
ему было позволено посещать нас — мы содержались то более, то менее
строго, в зависимости от накала царицыной страсти, — то он постарался
улучить удобный момент.
Глава двадцать первая
— День свадьбы царя с царицей отмечали каждый год и с большой
пышностью. Царь, безгранично любя жену, а придворные, услужливо де-
монстрируя любовь, желали показать всему свету, как она любезна наро-
ду. Среди развлечений самыми приятными и благородными были бои на
мечах и копьях, которые продолжались семь дней кряду и в которых уча-
ствовали все пожелавшие этого рыцари. В устройстве праздника преуспе-
ли так, что даже из соседних стран являлись рыцари, чтобы себя показать
и на других посмотреть.
В тот раз прибыло несколько знаменитых рыцарей из Коринфа, где
царствовала Елена, чьей славе до того не терпелось ее восхвалить, что она
у всех мужчин позаимствовала губы, дабы они одновременно возвещали
о красоте царицы. Если Елена превзошла красотой всех дам, достойных
соперничать с нею — за исключением двух сестер из Аркадии, которые
выше любых сравнений, — то ее правление было не менее приятно суж-
дению мужчин, чем их взглядам — ее красота. Воспитанная, как прили-
чествует наследнице престола, юная дама, прекрасная дама царила над
людьми гордыми, которые прежде имели дело с суровыми правителями,
но и им подчинялись не иначе, как под угрозой меча, а она сумела за не-
сколько лет так поставить себя, что они обожали ее и, несмотря на ее
естественную слабость, не презирали. В то время во многих странах ки-
пели войны (из-за старых распрей они могли докатиться и до Коринфа),
но Елена повела дело так, что угрозы оборачивались против тех, кто ей
грозил; а поскольку она всегда была готова на полезные компромиссы,
то ее народ, живший в мире, все считали воинственным, ее придворных,
любивших поединки, — просвещенными, ее дам, предававшихся лю-
бовной страсти, — целомудренными. Введя постоянные, но бескровные
упражнения, она сделала так, что ее рыцари в совершенстве владели кро-
вавым ремеслом. Придуманные ею игры были богаты знаниями, но неот-
делимы от удовольствия, поведение ее и ее дам было целомудренным, но
не из своенравия, а из благоразумия, ее двор в самом деле стал местом, где
брачными узами связывали себя любовь и добродетель, и сама она была
Дианой в одеждах Венеры.
Все это мне известно от других, потому что я сам никогда не видел
ее, но все же мне хочется говорить с тобой о ней, хотя, знаю, тебе из-
вестно о ней не меньше, чем мне, ведь она ближайшая ваша соседка,
и на ее примере (она и мудра, и любима) ты могла убедиться, что не без-
рассудство — начало пылкой любви и не позор — ее конец. Никогда еще,
кажется, женщина не стремилась к любви с большей решимостью, раз
и навсегда признав достоинства твоего двоюродного брата Амфиала, но
никто не сомневается в ее мудрости и никто не позорит ее честное имя.
О боже, разве не мудро выбрать себе достойного возлюбленного? Разве не
благонравно любить того, кто достоин любви? И разве не великодушно
17 Заказ 1414
257
хранить верность тому, кого однажды полюбишь? Но тогда еще почти
никто не знал о ее любви, еще был жив Филоксен, и она не странствова-
ла по свету, преследуя Амфиала; тогда она еще позволяла себе посылать
многих достойных рыцарей на турниры, чтобы они привозили ей рас-
сказы о своих победах и своими победами прославляли ее красоту.
В тот раз ее рыцари за три дня одолели многих противников, и Пал-
ладий, никогда не выходивший на поле с оружием в руках, воспользовал-
ся случаем и, сказав, мол, они проделали долгий путь, единственно чтобы
бесчестить слуг царицы Андроманы, уговорил мать (ради нее самой) дать
нам коней и оружие, дабы он вместе с нами мог постоять за честь цар-
ского дома. Царица согласилась, взяв с нас клятву не отъезжать дальше,
чем ее сын, и вообще не оставлять его одного. Но сделала она это не ради
сына, а для того, чтобы удержать нас при себе, и, не довольствуясь на-
шей клятвой, приказала всадникам присмотреть, чтобы мы не нарушили
установленных ею ограничений. Нам же захотелось отблагодарить царе-
вича, который, как мы видели, полюбил нас, поэтому мы на четвертый
день явились на поле, где, насколько я помню, наутро были назначены
поединки на копьях, а после полудня — большое сражение между чуже-
земными рыцарями и рыцарями царицы.
Первым выехал на поле славный рыцарь в цепях, которого вела за со-
бой нимфа. Против него под звуки волынки вместо рога вышел рыцарь
из Иберии, а впереди него вместо пажа шел пастушок, следом же дюжина
одетых пастухами, но гораздо богаче, воинов с копьями, которые были до-
статочно крепкими, чтобы наносить сильные удары, но внешне напоми-
нали пастушеские посохи. Поверх доспехов рыцарь надел широкий пасту-
шеский плащ, богато расшитый дорогими каменьями, которые были так
искусно расположены, что в голову сразу приходила мысль о союзе высше-
го с низшим. На щите у него была дегтем намалевана овца и чернел девиз:
«Запятнан и узнан». О его замысле я сейчас расскажу (хотя он был вопло-
щен в жизнь, когда соревнования уже закончились). Прежде чем дамы по-
кинули турнир — а среди них была, как говорили, Звезда, указывавшая ему
путь, — два пастуха, сопровождавшие Филисида1, стали ходить между ними
и запели эклогу, перекликаясь друг с другом, тогда как остальные заиграли
на флейтах вместо свирелей, согласуя мелодию с пением. Представление
всем очень понравилось, эклога имела огромный успех, но мне запом-
нились лишь восемь строчек: удивляясь тому, что один из их приятелей-
пастухов стал рыцарем, и порассуждав на эту тему, они пропели так:
Он промахнулся — вот чем удивил!
Когда бы цель копьем он поразил,
Дивился б я — никто в ристаньях хуже
Не бил в мишень, чем этот неуклюжий.
1 Это первое появление Филисида как рыцаря-пастуха. Он напоминает Астро-
фила, влюбленного в Звезду (Стеллу) из цикла сонетов Ф. Сидни «Астровил и Стел-
ла», который был написан примерно в то же время, когда Сидни писал второй ва-
риант «Аркадии».
258
Поэтому, хоть бил он мимо цели,
«Неплох удар» — смотревшие шумели.
В уменье всем по-разному везет:
Что одному позор, другим сойдет.
Но я отклонился в сторону, а все потому, что рыцарь-пастух мне очень
понравился. Когда он помчался навстречу Лелию, было похоже (хотя они
любили друг друга), что они сражались по-настоящему. Филисид сломал
свое копье, но с великой точностью, а Лелий, который не знал соперни-
ков в этом искусстве, пронес копье над головой Филисида и — на опыт-
ный взгляд — обнаружил больше умения, промахнувшись, чем иные —
в точном попадании в цель; его копье с кокетливой грациозностью про-
плыло над самым шлемом Филисида, словно несло в себе поцелуй, а не
удар Марса. Филисид смутился, оттого что Лелий якобы выказал презре-
ние к его юным летам, и Лелий (который хотел сделать как лучше, так
как был его другом) объяснил ему, что той, которая связала его волю, чья
немилость милостива, что ее совершенствам он должен отплатить за свои
страдания, лишь поступая по чести.
Лелий своим неслучайным поражением подарил победу иберийцам, но
победил в следующем поединке с искусным рыцарем, который к тому же
был в такой дружбе с музами, что не раз селяне ради его песен бросали свои
дела и удовольствия, тем не менее он ловко проделал упражнения, будто
никогда не держал в руках ничего, кроме копья. Одетый, как дикарь, хотя
его взгляд выдавал в нем прирученного человека, он украсил себя сухими
листьями, которые, правда, не падали, но могли упасть в любой момент.
На щите у него была изображена лошадь, ходившая по кругу на мельнице,
и девиз гласил: «Data fata secutus»1. Потом победа надолго перешла к корин-
фянам, и особенно отличился один из самых знатных рыцарей Коринфа,
выбравший себе девизом отсутствие какого бы то ни было девиза. Весь
в белом, он был похож на новичка (и был им на самом деле), однако его
неопытность посрамила многих весьма опытных рыцарей. Был там и еще
один рыцарь, из шатра которого, помнится, вылетела птичка, безошибоч-
но вручившая его послание одной из дам, так что никто не понял, настоя-
щая это птичка или искусственная, и если настоящая, то как он научил ее
этому фокусу, а если искусственная, то как он сотворил ее? Потом появил-
ся еще один рыцарь, вместе с конем до поры до времени скрывавшийся
в огромной, почти как живой птице Феникс. Огонь был направлен до того
искусно, что поглотил птицу, тогда как рыцарь предстал перед всеми будто
бы возродившимся из пепла. Против огненного рыцаря выступил снеж-
ный рыцарь, заледеневший от отчаяния; его доспехи действительно были
похожи на ледяные, и все его снаряжение в точности соответствовало его
замыслу, так что он понравился мне больше остальных.
Однако приятные воспоминания отвлекли меня ненужными по-
дробностями. Позволь мне, несравненная госпожа, завершить рассказ
1 «Идущий за своей судьбой» (лат.).
17*
259
о турнире тем, что на четвертое утро, как и прежде, коринфяне одержи-
вали верх. Палладий не утруждал ни себя, ни нас до полудня, когда долж-
но было состояться большое сражение, правда, с затупленным оружием.
В бою Палладий (следуя за Музидором и чувствуя мою поддержку) вел
себя не как новичок, отчего победа досталась иберийцам — и на другой
день, утром и вечером, тоже. Наконец (решив, что трудно найти более
подходящее время) он позвал нас следовать за ним, чему мы, связанные
клятвой и побуждаемые собственным желанием, охотно подчинились.
Стражники не посмели ему перечить; мы же пришпорили коней и вскоре
добрались до небольшого дома в ближнем лесу, в котором, как он считал,
мы будем в безопасности, пока не появится возможность сбежать подаль-
ше от ярости его матери, ибо она вызывала в нем столько же гнева и сты-
да, сколько Зелмана — желания услужить ей.
Однако его мать, как я потом понял, узнав от стражников, что сын
увез нас за собой, забыла о величии, оставила скромность для более под-
ходящего случая, выбежала вон из дворца, кликнула своих людей и сама
отправилась за нами в погоню. Поступая так, она повиновалась скорее
страсти, чем разуму, поэтому, влекомая страстью, споткнулась на бегу
и, упав, не смогла осуществить свое намерение. Ее приказания следова-
ли одно за другим, но никто не понимал, чего она хочет, а тем временем
стало очевидно, что мы успеем пересечь границу, прежде чем она догонит
нас. Так и получилось. Царица настигла нас в Битинии, куда ворвалась,
забыв о стыде и опасности, в сопровождении примерно шестидесяти
всадников, которым немедленно приказала, не обращая внимания на
угрозы сына, взять нас живыми, что они и попытались сделать, сначала
прибегнув к уговорам, потом к силе. Мы не поддались на их красноречие
и не испугались их воинственности, но доверились своим мечам в спра-
ведливой защите против множества несправедливых посягателей на нашу
свободу. С невероятной храбростью Музидор отбивался от главных сил
противника, оставив нам с Палладием не самое трудное дело — удержи-
вать тех, кто послабее.
Мы побеждали, стараясь не проливать кровь, когда Палладий, разго-
ряченный битвой и разгневанный поведением своей матери, так набро-
сился на наших преследователей, что один из них (который, как я потом
узнал, до нашего появления пользовался особой симпатией Андроманы
и ненавидел нас за то, что мы отняли у него ее любовь), приняв юного ца-
ревича за Музидора или за меня, предательским ударом убил его, и он пал
на наших глазах — он, который подарил нам свободу. А теперь рассуди,
прекрасная госпожа, разве в таком случае гнев не может быть праведным
судом? Тотчас многие из иберийцев пали мертвыми, чтобы стать верны-
ми слугами царевича Палладия в другом мире.
С раздражением, во много раз умноженным яростью ее яростной
любви, Андромана дожидалась конца сражения, а увидев нас склонив-
шимися над беспомощным Палладием, сама набросилась на нас, изрыгая
не меньше угроз, чем прежде, когда действительно могла причинить нам
вред. Поняв же, что ее единственный сын ранен и его рана так тяжела, что
260
жизнь уже покинула разум и чувства, в несчастье она осознала уродство
своих поступков, она поняла, что наделала и к чему пришла, тем более
когда увидала на наших лицах не жалость к ней (из-за гибели юного царе-
вича), а отвращение и непоколебимую решимость покинуть ее, все сде-
лавшую, чтобы удержать нас при себе. Потерянная, со смертной тоской
в глазах, она выхватила кинжал своего сына и, прежде чем мы опомни-
лись (кто бы выдержал такое?), нанесла себе смертельную рану. В нас
пробудилась жалость, но не к ней, а к ее любви, и я подошел к ней, пока
Музидор тщетно старался помочь Палладию. Однако ее рана была бы не
по силам и более искусному хирургу, чем я, так что я лишь услышал ее
последние слова: она прокляла свою несчастную любовь и меня, если
я когда-нибудь полюблю, призвав на меня все беды и несчастья, какие
только можно. Вот чего я боюсь, правда, боюсь! А вдруг небеса отклик-
нутся на ее мольбы? Тем временем селяне услышали шум битвы и донесли
о ней рыцарям, которые тотчас явились и, не усомнившись в совершен-
ной против нас несправедливости, отпустили нас, а мы попросили их от-
везти мертвую царицу и мертвого царевича во дворец к царю Иберии.
Филоклея заметила слезы на глазах Пирокла, вызванные воспомина-
нием о Палладии, но когда слез стало больше, она поцелуями осушила
его глаза, а он — ее губы, отчего она зарумянилась и еще раз поцеловала
его. Пирокл выразил желание продолжить это занятие, но она с нежной
суровостью воспротивилась его намерениям, и он не решился восстать
против нее, хотя ему пришлось одержать нелегкую победу над собой ради
сохранения мира, к тому же он должен был продолжить рассказ, ибо так
повелела Филоклея, и он не посмел ее ослушаться.
Глава двадцать вторая
— Итак, — сказал Пирокл, — покинув место сражения задолго до
того, как солнце покинуло зенит, мы увидели сидевшую на песчаной
отмели (на самом жарком месте) прекрасную даму, которая в великой пе-
чали простирала вверх руки и не обращала внимания на телесную боль,
когда ее лучшая часть, ее разум, претерпевал смертельную муку; она была
поглощена своими страданиями, поэтому не заметила нас и не знала, что
мы слышим ее причитания. Она то умолкала, то опять принималась пла-
кать: «Ты убиваешь меня злой ложью, но мне не жалко умирать, мне жал-
ко, что ты убийца. Ужаснее моих мук для меня твой грех. Бог свидетель,
мне не страшно принять смерть ради тебя, но страшно принять смерть
от тебя. Ты обманывал меня, Памфил, лгал мне, несчастной. Как часто
ты клялся, что скорее солнце покинет небо и горы начнут кувыркаться,
словно малые дети, чем ты нарушишь данную мне клятву и расстанешься
со мной. Так скройся же, солнце, и вы горы, пускайтесь в пляс, потому
что Памфил нарушил клятву! Нет же, солнце сияет по-прежнему и горы
стоят смирно. О, какая я глупая! Я-то думала, будто смогу поймать ветер
и удержать воду в ладонях! Почему я не спросила о тебе у других, пока еще
моя любовь помогала тебе обманывать меня, почему предпочла испить яд
до дна? Тебе надо было лучше подумать, прежде чем забыть несчастную
Левсиппу. Мне-то теперь все равно. Ты выбрал Вакху, и пусть она ото-
мстит за меня! Не позволяй, Вакха, быть Памфилу счастливым, когда я
умру».
Она причитала бы еще долго, но я (ибо у меня был случай позна-
комиться с Памфилом) приблизился к ней, желая ее успокоить, и, хотя
успокоить ее мне не удалось, я все же узнал, что она и есть та самая
Левсиппа, с которой обручился Памфил, вызвав гнев тех дам, о которых я
рассказывал тебе. Однако ни ее достоинства (воистину немалые), ни его
страдания из-за нее (обычно усиливающие любовь) не умерили его непо-
стоянство; и, еще прежде чем был назначен день свадьбы, он взял в жены
ту самую Вакху, о которой я еще раньше слышал, будто во всей Азии ни
одна женщина не может сравниться с ней бесстыдной властью над не-
счастными мужами, которые охотно участвуют в ее безумствах и приво-
дят к ней других мужей, так что она, гордая и дерзкая в своей порочности,
стала вроде полководца, умеющего увлечь за собой храбрых солдат; по-
жалуй, всему, что было в ней плохого, я мог бы противопоставить лишь
относительную привлекательность, которую портили бегающие глаза и
необдуманные речи. Тем не менее, ради нее Памфил бросил Левсиппу
и нарушил клятву, данную им той, которая своей красотой, если судить
по справедливости, превзошла многих, не говоря уж о щедро дарованных
ей природою добродетелях. Не только страдания Левсиппы, но и память
о несчастной Дидоне разожгли во мне желание отомстить, но я пони-
мал, что для него будет подарком судьбы погибнуть в поединке со мной,
262
поэтому предоставил его собственной участи. Мы препроводили Левсип-
пу в обитель монахинь-весталок, которая располагалась поблизости и
в которой она решила провести остаток жизни (вероятно, долгий, судя
по ее юным летам), оплакивая себя и все же молясь за злодея.
Наутро, когда (стараясь обогнать восход солнца) мы едва успели уда-
литься от высоких башен монастыря, как нас догнал на вид юный рыцарь,
на самом деле прекрасная госпожа, прелестная Зелмана, дочь Плексирта,
которую тайное влечение (к несчастью, обращенное на меня) побудило
поступиться присущей ей скромностью; отказавшись от приличествую-
щих ей нарядов и воспользовавшись замешательством, вызванным по-
гоней Андроманы, она отправилась следом за нами, одевшись пажом,
безжалостно отрезав волосы (так что ее благородную головку украшали
теперь лишь короткие кудри, которые она прятала под великолепным
шлемом), повесив за спиной щит и взяв в руки копье, ее единственное
оружие. Сверкая поломанными застежками на серебристых доспехах, она
сидела на сильном и красивом коне, которому давала опасную волю, изо
всех сил стараясь делать то, что, как она знала, она не знала, как делать;
однако ее красота придавала очарование ее жестам и даже некрасивое де-
лало красивым, так что глаза убеждали разум, будто ее неумение достойно
всяческой похвалы.
Направившись прямиком ко мне, она в немногих словах (меняясь
в лице, словно помогая словам убедить меня) высказала страстное жела-
ние служить мне, постаравшись внушить, будто является сыном знатного
иберийца, что зовут ее Даифант, что, увидев, как я сражаюсь, она сбежала
от отца и последовала за мной. Я подробно расспросил ее об Андромане,
и она ничего, кроме своего девичества, не скрыла от меня, однако мне
показалось, что я уже где-то видел ее лицо, но другая обстановка и дру-
гая одежда не позволили мне вспомнить Зелману. Юный рыцарь, за ко-
торого она себя выдала, мне понравился, и я оставил при себе Даифанта,
доказавшего, что никто не мог бы служить мне лучше него, потому что
он служил из любви ко мне. Зелмана родилась с царской кровью в жи-
лах, росла в холе и неге, не приученная к ратному делу (ибо была жен-
щиной), но привыкшая к неожиданностям (так как жила в чужом доме),
и любовь сделала ее такой заботливой, что никакой паж, тем более раб, из
страха исполняющий приказы, не мог бы сравниться с юной царевной.
Как часто, увы, ее глаза говорили мне о любви, но я, ни о чем подобном
не подозревая, был глух к ее красноречивым посланиям! Как часто она
потихоньку подходила ко мне, радуясь тому, что я рядом, и боясь обидеть
меня! Помнится, меня изумляли ее вздохи, когда она внимала моим при-
казаниям, и ее радость, когда она исполняла мои приказания: иногда она
отвечала мне загадками, в которых я усматривал лишь детское просто-
душие, но теперь, когда я мысленно возвращаюсь к тем временам, мне
многое становится яснее. Прости меня, моя дорогая госпожа, за это сла-
вословие, но ее нежность заслуживает нежных излияний.
Зелмана служила мне два месяца, пока мы были в Битинии, где нам
удалось добрым миром завершить жестокую войну между царем Битинии
263
и его братом. Несравненный Музидор и я (став по разные стороны) на-
шли способ, подвергнув себя тяжелому испытанию, заручиться их пол-
ным доверием и привести к великому миру между собой и великой люб-
ви к нам, приведшим их к миру. Покончив с этим, мы вознамерились
через Галатию ехать во Фракию, чтобы успокоить отца и мать, которые,
мы были в этом уверены, из-за кораблекрушения и прочих, выпавших на
нашу долю приключений, не знали покоя в разлуке с нами.
Однако не успели мы пересечь границу, как услышали грозный шум
битвы и оказались в прекрасной долине, похожей на величественный
цирк в каком-нибудь большом городе, где народ наслаждается зрелищем
скачек. По обеим сторонам высоко поднимались зеленые холмы, словно
сама природа задумала устроить на склонах места для зрителей. И как раз
там нашим глазам явился жесточайший поединок двух рыцарей, какой
когда-либо украшал военную историю; и, должен признать, если сначала
мы не могли двинуться с места от изумления, то потом не шевелились от
удовольствия видеть столь редкую храбрость, пока, наконец, не замети-
ли потоки крови, грозившие утопить обоих соперников. Мы бросились
к ним, чтобы развести их, но нас опередила дюжина воинов, нет, про-
столюдинов, которые разом напали на сражавшихся, пользуясь тем, что
силы начали им изменять. Объединенные общей опасностью, рыцари
забыли о вражде и, убиваемые слабостью, но оживляемые отвагой, всту-
пили в новую битву. С нашей помощью часть врагов полегла, часть об-
ратилась в бегство, а главного из них мы захватили живым. Решив разо-
ружить славных рыцарей, мы с удивлением узнали храбрых и знаменитых
братьев Тидея и Теленора, чья судьба — как сообщил нам неблагодарный
негодяй — сложилась следующим образом.
Благородный царевич Леонат, унаследовав от отца престол в Галатии,
решил забыть прежние обиды и возвысил неблагодарного Плексирта, ибо
был добр и предпочитал обмануться, нежели, подобно Плексирту, обма-
нуть; но в один прекрасный момент, благодаря случайности, он убедился,
что Плексирт хочет его отравить, призвал его к себе, не веря, что право-
судие может быть выше доброты, и сказал: «Плексирт, зло вышло наружу.
Даже моей доброте не удалось победить твое зло. Мне советуют лишить
тебя жизни, которая чревата опасностью для других. Но я не могу на это
пойти, потому что помню, кем был твой отец. Возможно, необузданное
тщеславие лишает тебя разума, поэтому я намерен удовлетворить его
и, не исключено, укротить твои недобрые помыслы. Недалеко отсюда
стоит великий город Требизонд, который со всеми прилегающими земля-
ми исстари принадлежал нашей короне, но потом был несправедливо от-
торгнут от нас и обижен теми, у кого нет ни царских прав, чтобы владеть
им, ни добродетелей, чтобы управлять им. Я дам тебе воинов и уступлю
свои права. Иди и не будь бессердечным, насыщая там свое тщеславие,
а потом, если получится, научись быть добродетельным».
Мешая притворные извинения с лживыми обещаниями, Плексирт
радостно ухватился за предложение Леоната и, не мешкая, послал за
обоими братьями (которые в это время вместе с нами помогали доброй
264
царице Эроне), а потом с их помощью или, скорее благодаря им, поко-
рил Требизонд. Братья возвысились, и, хотя царил Плексирт, на самом
деле городом управляли Тидей и Теленор. Одни славили их, потому что
они заслуживали славы, другие — якобы желая доставить удовольствие
Плексирту, потому что знали, сколь многим он обязан им; а братья, ни
о чем не подозревавшие и уверенные в себе, к тому же защищенные друж-
бой с Плексиртом, все принимали за чистую монету, не сомневаясь, что и
Плексирт не заподозрит их ни в чем дурном, так как они были верны ему
душой и телом.
Однако Плексирт (который по себе знал, что ничего не делается без
выгоды) вдруг испугался и, невесть в чем заподозрив братьев, тотчас их
возненавидел за силу и за мудрость. Но, ненавидя и боясь их, могуще-
ственных своей доблестью и-любовью окружающих, он не осмелился от-
крыто выступить против самых лучших, самых достойных рыцарей в го-
роде, потому что расправиться с ними было бы непросто, ведь все время
их окружали искуснейшие и благороднейшие рыцари; и тогда этот страш-
ный человек задумал дьявольскую хитрость, без колебаний решившись
обратить их дружбу в оружие, которое должно было убить обоих. Для это-
го он дал понять Тидею и Теленору (каждому в отдельности), зная, что
им известно о его вражде с новым царем Понта (как известно и о нашей
с Леонатом помощи), что он и царь Понта договорились тайно сразить-
ся в условленном месте; и, хотя такое не приличествует царям, он, мол,
не мог отказаться, не поступившись своей честью, а потом, притворив-
шись больным, в преддверии назначенного часа призвал к себе братьев
(порознь) и потребовал, чтобы они заняли его место, однако прежде взял
с обоих клятву никому ни о чем не рассказывать, даже друг другу. Итак,
он дал обоим одинаковые указания, разве лишь Тидею сказал, что царь
будет его ждать в синих доспехах, а Теленору, что доспехи будут черными.
С изощренной дотошностью, заранее все продумав, он потребовал, чтобы
Тидей отправился на поединок в черных доспехах, а Теленор — в синих;
кроме того, он подробно рассказал им, какой дорогой они должны ехать
в долину, чтобы не встретиться по пути, и взял с них клятву, что они будут
все время молчать, иначе царь догадается, что перед ним не Плексирт.
Помимо этого, он спрятал в засаде нескольких убийц, чтобы они прикон-
чили того, кто победит в поединке, правда, им он тоже не очень доверял
и надеялся, что немногие останутся в живых после встречи даже с одним
из братьев.
Об этом нам рассказал предводитель шайки убийц после смерти храб-
рых братьев, которые не уступали друг другу ни в храбрости, ни в брат-
ской любви; но не меньше узнали мы и из жалобных причитаний бра-
тьев, когда они (несмотря на лечение) словно соревновались, кто быстрее
добежит до смерти; они оплакивали друг друга и каждый более умирал
в другом, нежели в самом себе, проклиная свои руки за содеянное и свое
тело за то, что оно не поспешило первым подставить себя под копье. Они
с отвращением вспоминали свою службу неблагодарному тирану и осуж-
дали себя за глупую доверчивость (какой тиран может искренне любить
265
ближнего, если он не любит искренность?), предостерегая нас, чтобы
мы были осторожнее, если хотим завязать отношения иначе, нежели на
условиях добродетели; ни долгая дружба, ни общие тайны, ни деньги не
смягчают жестокое сердце — никто не может быть добр к другим, если
нет доброты в его сердце. Пока еще теплилась надежда, Тидей просил нас
позаботиться о Теленоре, а Теленор — о Тидее; а когда и они и мы поняли,
что надежды нет, они пожелали лечь рядом и, обнявшись, даровали друг
другу прощение, в котором каждый отказывал себе, явив нам печальное
зрелище своей смерти и оставив в этом мире немногих, кто мог бы срав-
ниться с ними, а ведь им не потребовалось много времени, чтобы узнать
суть и пределы дружбы. С грустью в душе мы отвезли их в ближайший
город Битинии, где и узнали все то, о чем я тебе рассказал, и где злодей
историограф1 собственной заслуженной смертью поставил точку в этой
истории.
1 Главарь шайки, то есть тот, кто рассказал эту историю.
Глава двадцать третья
— Должен тебе сказать, что тогда я обратил внимание на странное
выражение скорби на лице Даифанта, и, конечно же, меня удивило
(особенно после того, как миновал первый приступ горя), как — я ведь
тогда ничего не знал — может потрясти смерть чужого человека. Суть
же в том, что Зелмана восприняла рассказ о виновности отца отчасти со
стыдом и печалью, а отчасти со страхом, как бы моя ненависть к нему
не очернила и ее в моем мнении, если я узнаю, чья она дочь. И до того
бедняжка расстроилась, что румянец сошел с ее лица и она стала таять
день ото дня, не в силах справиться с невеселыми мыслями, о которых
я часто пытался ее расспросить. Но она, столь же боясь, сколь любя,
хранила свою тайну и продолжала, несмотря на цветущие лета, таять,
однако то, что отнимала у нее болезнь, моя жалость ей возвращала. Изо
всех сил она старалась служить мне с терпением и заботой, которым мо-
жет научить лишь любовь.
Когда мы были на пути к кораблю, которому предстояло доставить
нас обратно в Грецию, стало известно, что могучий Отан (брат Барзана,
убитого Музидором в сражении шести царственных рыцарей) вторгся
в пределы Понта, желая захватить царский престол и отомстить царю
(которого, как ему было известно, мы любили) за смерть брата, предпола-
гая (не без причины), что, где бы мы ни были, мы обязательно прибудем
в Понт, услыхав о его появлении там. К тому же он рассчитывал на по-
беду, надеясь, правда, не столько на свои добродетели и свою силу, сколь-
ко на поддержку двух могучих великанов, чьи родители умерли в тех же
краях. В прошлые времена их не было в Понте, но, вернувшись из дальних
странствий, они с готовностью стали служить Отану, еще сильнее, чем он,
ненавидя и нас и царя Понта. Действительно, мы развернули коней, од-
нако по дороге случилось несчастье, о котором я всегда буду вспоминать
с печалью, пока во мне будет оставаться хоть что-то человеческое.
Бедняжка Даифант совсем разболелся, но заставлял себя превозмо-
гать слабость и служил мне, пока однажды нам не повстречался всадник,
в великой спешке разыскивавший Тидея и Теленора, весть о смерти ко-
торых еще не распространилась по свету. Он желал сообщить им (будучи
их слугой и зная, как искренне они любили Плексирта), что господину
Плексирту грозит смертельная опасность, от которой его может спасти
лишь храбрость самых славных рыцарей на земле. Ни о чем его не рас-
спрашивая и радуясь лишь тому, что, узнав о своей потере, Плексирт
поймет, сколь невыгодное предательство совершил, мы отпустили гонца,
даже не сообщив ему о вине лживого Плексирта.
Увы, эта беда (нанеся удар телу, страдавшему от крайней слабости),
заполонив мысли Даифанта, ввергла его в беспамятство, так что он
приходил в себя, разве лишь для жалобных причитаний, непонятных
нам, ведь мы с Музидором не догадывались о его тайне. Вскоре, увидав
267
печать смерти в его глазах, мы со всей возможной поспешностью отвезли
Даифанта в ближайший город, и, еще прежде чем уложили его на кровать,
у нас не осталось сомнений в том, что приспешники торопящейся смерти
уже приготовили прекрасные покои своей госпоже, и Даифант принимал
это даже с радостью, будто примирившись со своей участью. Подозвав
нас подойти ближе и попросив всех остальных удалиться, он бескровны-
ми, но все еще прекрасными (несмотря на бледность) устами прошептал:
«Теперь или никогда, ведь если не теперь, то когда? Я благодарю смерть
за то, что могу открыть тайну, скрывая которую я будто острыми шпорами
торопила себя на пути к смерти. Знайте же, господа, и ты, мой господин
Пирокл, что твой паж Даифант на самом деле несчастная Зелмана, кото-
рая ради твоего спасения уговорила влюбленного в нее Палладия, своего
кузена, покинуть двор отца, отчего и он и его матушка, сестра моего отца,
расстались с жизнью. Ради тебя я из царевны превратилась в пажа, отка-
завшись от женского обличья и (если твой суд не будет милостив ко мне)
от женской скромности».
Нас поразила речь Зелманы, и тогда мы по-новому переосмыслили
то, о чем прежде не задумывались: мы узнали Зелману, которую прежде
видели при дворе царя Иберии. Ее горе пробудили во мне печаль и жа-
лость, и я, как мог, стал утешать ее, с нежностью обещая, хотя сам в это не
верил, возвращение к жизни. Но она уже принимала послов деспотичной
смерти, которая вскоре собиралась прибыть сама.
«Нет, мой возлюбленный господин, — сказала она, — я не хочу жить.
Я знаю, ты никогда не полюбишь меня. — С этими словами она запла-
кала. — Увы, это невозможно, потому что я недостойна тебя. Для меня
довольно и того, что мое необычное поведение навсегда запечатлеется
в твоей памяти свидетельством моей любви, а мое сердце, разбившееся
еще до того, как я открылась тебе, верно, убедит тебя в том, что я не была
очень нескромной. Вспоминай обо мне, мой возлюбленный господин,
и твои воспоминания подарят мне еще одну жизнь. — Она не сводила
с меня печального взгляда. — Заклинаю тебя моими умирающими гла-
зами (которым жаль умирать лишь оттого, что больше им не смотреть на
тебя), моими остриженными волосами (которые, когда были длинными,
служили мне украшением, а теперь свидетельствуют о моей верности),
моей службой тебе (которую, бог свидетель, я несла с любовью), всегда
думай обо мне с нежностью, коли не можешь думать с любовью. Когда
же ты, осчастливив какую-нибудь госпожу заслуженным вниманием,
решишь рассказать ей о моем безрассудстве, молю тебя, говори обо мне
с жалостью, а не с презрением».
Уверяю тебя (прекрасная хозяйка моей жизни, как может быть ина-
че?), ее слова и то, как она их произносила, вкладывая в них всю свою
любовь, так глубоко пронзали мне сердце, что, кажется, никогда прежде,
хоть и прежде у меня бывали разные горести, я не знал, до чего печаль
ослабляет как будто неколебимый дух; я не смог сдержать горькие сле-
зы и, искренне страдая, отдал бы за нее свою жизнь, будь это возможно.
От Зелманы не укрылись мои слезы.
268
«Боже мой, — проговорила она, — сколь щедро вознаграждена я за
свои утраты! Но позволь мне кое о чем попросить тебя».
Я обещал ей, что все сделаю, даже если придется заплатить за это
жизнью, и она повеселела.
«Сначала, — сказала она, — прости моего отца за все обиды и сейчас,
один-единственный раз, помоги ему в беде, потому что я верю, он должен
понять свою неправоту, ведь он не только лживый Плексирт, но еще и
отец Зелманы. Потом, когда ты будешь в Греции, назовись именем, хотя
и несчастливым, Даифанта, и пусть все называют тебя этим именем, то-
гда я буду знать, что ты помнишь обо мне. А благородный Музидор пусть
назовет себя Палладием, чтобы воздать должное несчастному царевичу,
имя которого будет носить храбрый рыцарь. Тогда, беседуя между со-
бой, вы непременно вздохнете о твоем незадачливом паже. И последнее.
Похорони меня тут, подальше от людских глаз, и никому из моих друзей
не говори о моей смерти, пока не возвратишься домой, а тогда вели пере-
нести мои кости на свою родину и там похорони их. Прошу тебя, выбери
такое место, куда ты хоть изредка мог бы приходить».
Ах, до чего же мало ей было нужно, но она умоляла меня так, словно
я мог не исполнить ее просьбу! Наконец, она поцеловала меня и на моих
руках, еще несколько раз попросив, чтобы я не судил ее строго за без-
рассудство, отпустила свою чистую душу в чистые небеса, оставив меня
в таком горе, на какое лишь нежность, жалость и печаль могут обречь
честное сердце. Должен признаться, если бы звезды не предназначили
меня тебе, я мог бы ее полюбить, и — что совсем странно — я все же по-
любил ее после ее смерти, но не стоит этому удивляться, ведь она сво-
им обликом напоминала тебя, правда, уступала тебе в красоте, подобно
тому как сама она, умиравшая, походила на себя в расцвете сил, недаром,
увидев твой портрет, я сразу вспомнил о ней, и мое сердце открылось на-
встречу тебе, не в силах противиться неодолимой власти твоей красоты.
Исполняя ее просьбу, мы, печальные, похоронили ее в уединенном
месте, а потом, расспросив об ее отце, узнали, что помощь ему нужна не-
медленно, иначе он умрет и тогда уж никакая помощь не понадобится.
Мы решили разделиться. Я (исполняя клятву) должен был отправиться
к Плексирту, а Музидор — мчаться к царю Понта, который был в не ме-
нее трудном положении. Когда мы прощались, явился гонец, долго раз-
ыскивавший нас, и сообщил, что, вверяя нам свою судьбу, царь Понта
объявил о битве с Отаном и обоими великанами, причем день битвы уже
назначен. Я не мог одновременно помогать Плексирту и быть там, куда
меня звала не только моя честь, но и (следуя странной прихоти неспра-
ведливой судьбы) нежелание расставаться с Музидором, которого я лю-
блю больше самого себя, ради спасения человека, которого я имел все
основания ненавидеть. Но я дал слово, дал слово Зелмане, умиравшей
Зелмане, и это перевесило все, даже дружбу с Музидором, хотя, конечно
же должен признаться, эта дружба для меня превыше всего. Кстати, ис-
полнение обещания мне облегчил Музидор, не пожелавший, чтобы я на-
рушил его. С тяжелыми мыслями, более озабоченные судьбой друг друга,
269
чем своей собственной, мы расстались, и я отправился в замок старого
рыцаря, взявшего Плексирта в плен и твердой рукой управлявшего как
замком, так и прилегавшими землями, не признавая никого господином
над собой, кроме себя самого; он возненавидел Плексирта после того, как
тот, еще будучи в Галатии, злодейски убил его родственника, заподозрив
в попытке вернуть престол его добродетельному брату Леонату.
Горя желанием отомстить, старый рыцарь воспользовался для до-
стижения своей цели хитростью, подсказанной ему обстоятельствами,
о которых я тебе расскажу. Когда-то юный Плексирт взял в жены мать
Зелманы, но она умерла первыми родами, и тогда он, вдовец и еще не
царь, явился в Армению, где (умеющий понравиться) добился любви
Артаксии, но вскоре его призвал к себе отец. Потом он преступно захва-
тил власть и забыл о своей возлюбленной, пока, сброшенный с нашей
помощью с трона, на котором еще не успел хорошенько расположиться,
не перебрался в Требизонд. Уже будучи там, он узнал, что Артаксия после
смерти брата стала царицей Армении, и, естественно, возобновил ухажи-
вания, да еще с большей пылкостью, нежели прежде.
Прознав об этом, старый рыцарь сочинил письмо, в котором
Артаксия якобы просила Плексирта немедленно (но тайно) приехать
к ней, обещая скорую свадьбу, чего на самом деле она никак не могла ему
обещать, потому что еще прежде объявила, что станет женой только того
царя, который убьет нас с Музидором и предоставит ей убедительные до-
казательства нашей смерти. Плексирт же (одинаково скорый на мечты и
слепой в суждении) попался на крючок и, ничего никому не сказав, по-
мчался к Артаксии, а на полпути его встретил старый рыцарь с куда бо-
лее многочисленной свитой. Он захватил Плексирта и осудил его на
смерть, что в общем-то было жестоко, если справедливость может быть
жестокой. Перед казнью Плексирта держали в самой страшной темнице,
а в назначенный день его поджидало ужасное чудовище, вооруженное,
как носорог, сильное, как слон, свирепое, как лев, проворное, как лео-
пард, жестокое, как тигр, которого старый рыцарь сам растил с младен-
чества за крепкими запорами. Рыцарь не сомневался в том, что выставил
достойного противника — звероподобное чудовище — против чудовищ-
ного тирана, тем не менее объявил, мол, если найдется человек, до того
любящий Плексирта, что готов вместо него рискнуть жизнью в поединке
с чудовищем, да еще выиграет бой, то Плексирт будет жить, и не име-
ет значения, сколько людей будет сражаться с чудовищем. Старик верил
в его силу, но втайне мечтал заполучить в замок великих храбрецов Тидея
и Теленора, которых ненавидел не меньше, чем Плексирта, потому что
они послушно исполняли волю негодяя.
Осмелюсь предположить, что, знай Зелмана, какой опасности под-
вергает меня, она скорее позволила бы погибнуть своему отцу, чем мне —
испытать подобное приключение. Но я дал слово, и, честное слово, труд-
ности для меня что-то вроде шпор, ведь я никогда не предполагал, будто
путь к славе может быть безопасным. Итак, явившись в замок и при-
няв меры, чтобы Плексирт в самом деле был освобожден в случае моей
270
победы, я ринулся в бой. Не желая, прекрасная госпожа, утомлять твой
слух ужасными подробностями, скажу лишь, что мои слабые силы полу-
чили благословение свыше, иначе мне не удалось бы, оставшись невре-
димым, убить чудовище, к которому и сто человек не посмели бы подсту-
питься. Своей победой я доставил удовольствие всем, кто следил за нами
с безопасного расстояния, а старый рыцарь даже приказал запечатлеть
битву с чудовищем в скульптурах и на картинах, чтобы о ней узнали по
всей Азии. Он полюбил меня за храбрость и весьма сокрушался оттого,
что я рисковал собой ради спасения еще худшего чудовища, чем то, кото-
рое было мною убито, однако, как обещал, освободил Плексирта, после
чего решил сам сопровождать меня в Понт, куда я спешил, мечтая успеть
к назначенному сражению и надеясь, что с ним повременят несколько
дней. Увы, все закончилось прежде, чем я добрался до Понта, и закончи-
лось таким образом.
Добродетельный Леонат, не желая подвергать опасности обоих своих
друзей, сам участвовал в сражении вместо одного из нас и явил себя не
меньшим храбрецом, чем царь Понта. Однако и тот и другой были тяже-
ло ранены, и несравненный Музидор один завершил битву, убив обоих
великанов и взяв в плен Отана. Когда же он подарил Отану жизнь, то по-
лучил взамен благородного друга, ибо Отан дал слово быть ему другом,
а ведь он более известен как хозяин своего слова, чем как хозяин своих
владений.
В Понт, прознав, что мы там, съехались многие знаменитые рыца-
ри и даже особы царской крови, в особенности те, которым мы сумели
в разное время помочь. Там были цари Фригии, Битинии, раненые цари
Понта и Галатии, Отан, плененный и освобожденный Музидором, туда
же явились Плексирт из Требизонда и Антифил, тогдашний царь Лисий,
и еще многие другие, привлеченные нашими победами и желанием вы-
разить свою благодарность за то, что мы сделали для них. Наверное, в тех
краях несколько сотен лет не видели такого блистательного собрания, не
пренебрегшего никакой малостью в том, чтобы воздать нам почести, все
почести, какие только они (командующие кошельками и умами) могли
измыслить; нас со всех сторон одаривали по-царски, и мы (чтобы не про-
слыть неблагодарными, не заставляли себя долго упрашивать) принима-
ли все, но, не удовлетворяясь этим, цари вновь и вновь заверяли нас, что
помнят, кому обязаны своими коронами. Нам были оказаны и другие вы-
сокие почести, о которых я мог бы рассказать, да жаль времени, которого
у нас совсем немного.
Глава двадцать четвертая
— Однако, вскоре утомившись почестями, мы вновь поспешили
в Грецию, исполняя желание наших родителей, но, главным образом,
потому что я знал: пороча меня неправдой, Анаксий повсюду ищет меня
и уже добрался до Пелопоннеса, где путешествует от двора к двору, вы-
спрашивая, не знает ли кто, где я, и совершая благородные поступки,
которые, может статься, поддерживают несправедливое мнение обо мне.
Мы отправились в путь со всей возможной поспешностью, желая побы-
вать в еще одной стране, столь известной во всем мире, что ни один царь
не мог быть слишком высок, а побирушка слишком низок, чтобы не слы-
шать о ней, известной всем, и не столько благодаря славословиям древ-
ним, сколько благодаря Аргалу и Амфиалу, рыцарям редкой отваги, с ко-
торыми мы очень хотели встретиться, правда, не совсем из-за них самих,
хотя мне не хотелось бы сравнивать, но более из-за красоты двух сестер,
которая всех непредубежденных судей заставляет говорить о твоей стране
как о башне двух богинь.
Желая побывать в Аркадии, мы в сопровождении всех царей (за ис-
ключением Антифила, возвратившегося домой, ибо, судя по его словам,
он не мог быть долго вдали от Эроны) прибыли в ближайший порт и уви-
дели по-царски убранный корабль Плексирта, который сумел все устро-
ить как нельзя лучше и для нашей безопасности, и для нашего удобства,
отчего все остальные цари принялись его нахваливать; да и сам Плексирт
казался другим человеком, в его глазах мы читали раскаяние, в жестах ви-
дели одно дружелюбие, его уста произносили лишь добродетельные речи,
так что мы, обещавшие Зелмане простить его, не только его простили,
но начали благоволить к нему, с юношеской доверчивостью говоря себе,
что, может быть, все было не так плохо, как нам казалось, и даже постара-
лись забыть кое-что из прошлого. Провожая нас, цари проливали много
слез, особенно благородный Леонат и царь Понта, которые, конечно же,
отправились бы вместе с нами, но мы (помня о молодой жене одного и
неустроенных делах обоих) отговорили их от этого. Они бы непременно
послали несколько флотилий для нашей охраны, но мы хотели появиться
в Греции, не привлекая к себе внимания, и они отказались от своего на-
мерения, видя наше неудовольствие. Вручая себя ненадежным ветрам, мы
(уже тогда решившие, что, ступив на землю Греции, тотчас возьмем себе
имена Даифанта и Палладия, потому что так обещали Зелмане и потому
что хотели сохранить в тайне наше появление там) покинули азиатский
берег, на котором цари опускались на колени и страстно молили богов за-
щитить нас; и среди них самым неистовым был (вероломный) Плексирт.
Мы плыли два дня, не думая ни о чем, кроме цели нашего путеше-
ствия. На третий день к нам подошел невеселый человек (который, как
мы заметили, пользовался особым доверием Плексирта и которого он
отправил вместе с нами как нашего главного сопровождающего) и с вы-
272
ражением стыда и раскаяния на лице сказал, что полюбил нас за нашу
молодость и славу, отчего, несмотря на свое положение слуги, к тому
же доверенного слуги, знавшего тайны Плексирта, какие не знал боль-
ше никто, хочет открыть нам все, не желая губить тех, к кому не может
относиться иначе, как с почтением. Мы узнали, что Плексирт (в надеж-
де заполучить в жены Артаксию и с нею великое царство) приказал ему,
когда мы приблизимся к Греции, найти удобный случай и убить нас, но
предупредил, что нас надо застать спящими, потому что он видел, на что
мы способны, когда бодрствуем.
«Нет, господа, лучше я тысячу раз расстанусь с жизнью, чем отравлю
оставшиеся мне годы памятью о таком злодеянии. Поэтому, — продолжал
он, — если бы я один получил приказ царя, мое непослушание стало бы
залогом вашей безопасности. Но есть еще один человек, капитан наше-
го корабля, которому Плексирт доверил тайну убийства, хотя, я думаю,
причиной он выставил скорее какую-нибудь старую обиду, не упомянув
о своем желании взять в жены Артаксию. Это я виноват, ибо я сам (пре-
жде чем ваши достоинства пробудили во мне любовь и жалость) все это
и придумал. Прошу вас, позаботьтесь о своей безопасности, и я обещаю
сделать все, что в моих силах (если в дело пойдут мечи)».
Мы отблагодарили его, как он того заслужил, но с оружием больше не
расставались и спали только по очереди, так что слуги Плексирта медли-
ли с исполнением приказа в ожидании удобного случая.
Когда мы приблизились к Греции на расстояние полдневного пере-
хода, капитан решил, что настала пора действовать, и, подойдя к наше-
му благожелателю — помню, это произошло во время первой вахты, —
что-то прошептал ему на ухо. Тот стал возражать, но капитан (который
в юности был пиратом и привык убивать) громко крикнул, что, будь на
то воля Плексирта, он убил бы и самого господа бога, после чего призвал
матросов и приказал именем царя взять нас живыми или мертвыми, во-
одушевляя их тем, что они смогут поживиться нашими вещами, среди ко-
торых, сказал он (и это правда), было немало драгоценностей. Наш бла-
гожелатель, помня о своем обещании, потребовал, чтобы они держались
от нас подальше, обещая защиту царя, но разъяренный капитан завопил:
«Сначала мы расправимся с предателем!» — нанес ему жестокий удар по
голове, и между ними завязалась драка.
Мы поняли, что откладывать больше нельзя, пора обнажить мечи,
и бросились к капитану, вокруг которого сгрудились солдаты и матросы.
К счастью, в корабельной команде нашлись люди, которые верили наше-
му благожелателю, сомневались в царе и благоволили к нам; вот они-то
и стали на нашу сторону, так что вскоре было не разобрать, где свои,
а где чужие. Из-за тесноты, темноты и невозможности отделить друзей
от врагов не люди направляли удары мечей, а неистовые мечи расчища-
ли дорогу людям; что же до нас, то ни в одном сражении нам не прихо-
дилось трудиться меньше, потому что мы, лишь защищаясь и отбиваясь,
наносили удары; не зная в точности, кто за нас и кто против нас, счита-
ли, что лучше отпустить врага, чем ранить друга. На всем корабле сверху
18 Заказ 1414
273
донизу не было места, где бы ни слышались крики разящих и сраженных.
С капитаном мне все-таки пришлось обменяться ударами, но я бросил
его, едва услыхал крик нашего благожелателя, смертельно раненного по
ошибке кем-то из наших же сторонников.
Те, что были поразумнее, призывали начать переговоры и заключить
мир, но стоило им произнести это, и злодеи безжалостно убивали их, от-
рабатывая свое вознаграждение. Ни у кого не было ни малейшей надежды
на спасение, разве только остаться последним в кровавой схватке, и каж-
дый старался убить всех, попадавшихся под руку, расчищая место вокруг
себя. Немало людей взошло на корабль в порту, а в живых остались еди-
ницы, да и из них некоторые, устав сражаться, бросились к привязанной
шлюпке, однако, пока одни рубили канаты, другие в панике попрыгали
в нее и утопили себя вместе с нею.
Но даже когда нас осталось совсем мало, мы, как дети Кадма1, про-
должали убивать друг друга, пока не вспыхнул пожар (может быть, кто-то
поджег корабль в злобном отчаянии или намереваясь бежать, а может
быть, это вышло случайно, когда все стояло вверх дном). Не исключено,
что пожар вспыхнул давно, и мы просто-напросто его не замечали (за-
нятые мыслями о спасении и мести), и вскоре он полыхал уже повсюду,
быстро пожирая корабль. Внутренние раздоры немедленно прекраща-
ются перед лицом общего врага, вот и мы, как один (словно нас кто-то
нанял тушить пожар), соединили свои силы и свое умение против разъ-
яренного пламени, но было слишком поздно, огонь уже охватил корму
и шкафут, отбросив нас на самый нос; и все-таки мы продолжали, как
это свойственно человеку, искать любую возможность, чтобы продлить
нашу жизнь, хотя, если честно, зрелище было ужасное: высокий столб
пламени столь быстро поднялся в море, в ночной тьме, словно он был
явлен, дабы осветить нам путь в иной мир. Тем временем сгорела мачта,
которая до этого гордо несла свою службу (ветер, казалось, наслаждался,
дыша на нас огнем и кровью), и упала за борт, после чего огонь подступил
к нам совсем близко; он был страшен своим видом и страшен нестерпи-
мым жаром.
Не в силах дольше терпеть, мы, сбросив одежду и избавившись от до-
спехов, привязали себя к уцелевшим доскам, чтобы плыть на них к берегу
(который пока еще был слишком далеко), и бросились в море. Я проплыл
совсем немного, когда почувствовал слабость из-за ран, но тут заметил
мачту со сгоревшими парусами — она плавала рядом с кораблем, — сумел
добраться до нее и едва уселся на ней, как мне в руки попал меч, который
я еще прежде бросил за борт и который, запутавшись в парусах, оказался
привязанным к мачте. Не передать, как я обрадовался, вновь обретя его,
но еще больше я обрадовался, когда увидел, что капитан корабля, вино-
вник наших несчастий, воспользовался длинным копьем и напрягает все
1 Кадм — основатель города Фив. В указанном дельфийским оракулом месте
вступил в борьбу с драконом, который растерзал его спутников. Убив чудовище
камнями, по совету Афины засеял поле его зубами, из которых выросли вооружен-
ные люди (спарты), которые тут же убивали друг друга.
274
силы, чтобы добраться до мачты, желая влезть на нее с другого конца.
Я спросил его: «Злодей, неужели ты надеешься пережить стольких чест-
ных людей, которых твое предательство обрекло на смерть?»
Сидя верхом на мачте, как мальчишка, если ты видела когда-нибудь,
как они скачут на необъезженных лошадях, я стал понемногу подбирать-
ся к нему, и он, все сразу поняв, однако, будучи человеком хоть и бесчест-
ным, но храбрым, приготовился отразить мое нападение, хотя мне все же
удалось одним ударом сбросить его с мачты, отправив на съедение рыбам.
Потом я плыл и плыл, пока не попал в плен к пиратам, и они привезли
меня в Лаконию.
— Что сталось с Музидором? — спросила Филоклея.
— Я потерял его, — ответил Пирокл.
— Ах, мой Пирокл, вот ты и попался. Даже влюбленные не всегда го-
ворят правду. Думаешь, мне неизвестно о твоем кузене, ставшем пастухом
Дором?
— Желанная Филоклея, все, что принадлежит мне, даже моя душа,
все твое, но тайны моего друга мне не принадлежат. Однако если тебе уже
известно о Доре, тогда я скажу так: он потерян с тех пор, как перестал
принадлежать себе. Наверное, вы с сестрой очень дружны, значит, ты
должна беречь ее тайны.
— Продолжай, милый Пирокл, я хочу знать обо всем, что было с то-
бой до того, как ты встретил меня; думаю, осталось самое интересное.
— Ах, прелестная Филоклея, неужели ты полагаешь, будто отпу-
щенное нам бесценное время лучше всего заполнять рассказами? Разве
твои глаза не та книга, которую мне сейчас больше всего хочется читать?
Неужели моя любовь годится только на роль неторопливого историогра-
фа? Сжалься, милосердная Филоклея!
Он уже был готов вспомнить, что забыл себя, но Филоклея, выка-
зав очаровательную непокорность, пожелала, чтобы ее желания с той
минуты и навсегда стали для него законом, и ничто не запятнало бы их
любовь, которая совсем скоро, по крайней мере, ей так хотелось, долж-
на была стать законной в глазах всего света. Пирокл попытался было
сделать вид, что не слышит ее, однако она пригрозила ему своим гне-
вом, и бедный влюбленный не посмел ей противоречить, не посмел —
и всё тут.
— Нет, нет, прошу тебя, милый Пирокл, — проговорила Филоклея, —
позволь мне узнать все до конца.
— Прекрасная царевна, дай моим мыслям короткую передыщку,
и, если ты не против, ведь время все равно проходит впустую, я буду
меньше огорчен, когда ты вознаградишь меня своим рассказом и по-
ведаешь мне, что за предательство ввергло царицу Эрону в беду и
почему Планг искал меня. Воистину, меня заботят несчастья царицы
Эроны.
— Хорошо, — с улыбкой отозвалась Филоклея, — но дай слово, что
твои руки тоже станут внимать моим словам.
— Ничего другого им не остается.
18*
275
Филоклея повела рассказ с такой очаровательной, восхитительной
важностью, изменив выражение лица соответственно своему повествова-
нию, что Пирокл не смог не ослушаться ее и не поцеловать. Отвернувшись,
Филоклея продолжала говорить, и, хотя она говорила, он, словно вкушая
ее слова, не переставал целовать ее, так что в конце концов ей пришлось
от него отодвинуться.
— Как мне рассказывать, если ты не даешь воли моим губам?
Пирокл подчинился, однако взял ее руки в свои.
— Им, — сказал он, — я отомщу за свою вину.
И он целовал и ласкал их, пока ее рассказ и его радость не были пре-
рваны появлением Мисо, которая, воспользовавшись невниманием
Базилия, побежала на берег и заявила Филоклее, мол, желает знать, чего
ради она сбежала от матери (которая очень беспокоится о ней) и про-
водит время с чужестранками. Филоклея же сослалась на приказ отца,
и Мисо пришлось удалиться. На обратном пути она не переставала бур-
чать о том, что пусть ей сломают спину, плечи, шею, но, пока у нее шеве-
лится язык, она будет служить Гинесии.
Глава двадцать пятая
Мисо возвратилась к Гинесии, которая пребывала в ужасном смяте-
нии из-за привидевшегося ей сна. Вроде, она попала куда-то, где было
много колючек, и они причиняли ей такую боль, что она не могла ни сто-
ять на одном месте, ни сделать хотя бы шаг. Потом показалась Зелмана
(на высокой горе, прекрасной и с пологим склоном), которая звала ее
к себе, а когда она с трудом поднялась на вершину, Зелмана исчезла,
и Гинесия увидела мертвеца, очень похожего на ее мужа, который сна-
чала как будто заразил ее странным запахом, так что она приготовилась
к смерти, а потом обнял ее и произнес: «Гинесия, оставь все, ибо здесь ты
обретешь покой».
На этом Гинесия проснулась с громким криком:
— Зелмана! Зелмана!
Однако она быстро опомнилась, к тому же увидала Базилия (ее пре-
ступная, но пока еще ни в чем не заподозренная душа стала весьма по-
дозрительной) и принялась звать Филоклею. И тогда храбрая в своей
сварливости Мисо, не сводя взгляда с Базилия и словно говоря, что все
выскажет, даже если потом ей суждено умереть, сообщила, что Филоклея
уже целый час разговаривает с Зелманой наедине.
— Меня твои дочери не слушают, ведь они воспитаны не знающими
страха, но я сказала Филоклее, что ты будешь недовольна.
Словно услыхав отходный колокол, Гинесия изменилась в лице и
прошептала, отвернувшись:
— О боже, зачем они вместе?
Базилий, не поняв Гинесию, улыбнулся и обнял ее.
— Милая жена, я благодарю тебя за заботу о нашей дочери, но для нее
опасны молодые люди из другого металла, нежели Зелмана.
— Но!.. — воскликнула Гинесия и замолчала, а в душе у нее вступили
в схватку яростная любовь и ревнивая ярость.
Много раз ей хотелось доставить удовольствие своему мучителю раз-
уму и рассказать Базилию, что Зелмана совсем не та, за кого себя выдает,
но ее останавливали бесчисленные возражения, подсказанные страстной
любовью. С радостью она лишила бы свою дочь счастья, но не могла от-
казаться от собственных надежд. И вот, словно от этого зависела ее жизнь,
она, несмотря на слабость, поднялась с кровати, хотя Базилий (с жа-
лостью, льющейся из фонтана безжалостности, ибо он желал, как можно
больше времени предоставить своей дочери) попробовал было удержать
ее и даже сказал, что она плохо выглядит и ей может повредить свежий
воздух.
Однако великой и несчастной госпоже Гинесии, которую раздирали
на части демоны любви и ревности, удалось освободиться от своего на-
зойливого супруга, и она в одиночестве отправилась туда, где находились
Филоклея с Зелманой.
277
— О ревность, — говорила она сама себе, — безумие мудрецов, добро-
желательная злоба и злобная заботливость, самобичевание за чужую вину
и несчастье из-за чужого счастья, ты — сестра зависти, дочь любви, мать
ненависти, как ты смогла проникнуть в беспокойное сердце Гинесии?..
Той Гинесии, — вздохнула она, — что, говорят, была мудрой и доброде-
тельной. Увы, твой всевластный стрелец указал тебе путь. Пламенная
агония любви вызывает такой приступ злой лихорадки, что и природа
отступает; зрелость моей дочери оборачивается моей старостью, благо-
словения матери внушены проклятиями соперницы, и прелестное лицо
Филоклеи ужаснее для меня, чем лик смерти.
Тут ей припомнилась песня, которая, как ей казалось, точно выража-
ла ее мысли.
Два пламени мою сжигают плоть —
Один любви и ревности другой.
Мне не унять их и не обороть,
Они ж соединились меж собой,
И не постигнешь, где огонь какой:
Любовь, измучась, ревностью глядит,
А ревность, отдохнув, любовь родит.
Час от часу свирепей два огня,
Они летают на моих крылах,
Живую обращают в тень меня,
Взмыв в высоту, меня ввергают в прах,
Их пыл все нарастает, мой исчах.
И почему еще горят огни?
Ведь жертву в прах давно сожгли они.
Однако ее встревоженная память успела подсказать ей не больше
десятка слов; она бежала слишком быстро для своих ног, но слишком
медленно для мыслей и наконец увидела Филоклею и Зелману, кото-
рые, после ухода Мисо оставив воспоминания, стали думать, что сказать
Базилию. Бедняжка Филоклея пришла в полное замешательство (ее со-
весть впервые узнала, отчего появляется на щеках румянец), едва увидела
мать, глядевшую на нее с таким же насмешливым презрением, с каким
Афина Паллада глядела на бедняжку Арахну1, которая дерзнула соревно-
ваться с ней в ткачестве; и все же любовь, владевшая Гинесией, не по-
зволила ей в присутствии Зелманы отругать соперницу-дочь, которой она
лишь приказала идти домой к скучающему в одиночестве отцу.
После ее ухода Гинесия едва не открыла перед Зелманой кладезь
своих страданий, но донесшиеся до них возмущенные крики толпы по-
зволили Зелмане учтиво прервать ее (ибо она поняла, что крики не дру-
1 Арахна — в греческой мифологии дочь красильщика тканей; была превраще-
на богиней Афиной в паука, так как посмела вызвать ее на состязание в ткачестве.
278
жественные), и они со всей возможной быстротой отправились следом
за Филоклеей. Примерно шагах в двадцати от дома Зелману и Гинесию
окружила толпа буйных простолюдинов, которая, словно яростный по-
ток, влеклась неведомо куда. Едва разглядев обеих дам, бунтовщики, по-
добно взбесившимся животным, не испытывая ни почтения к их званию,
ни жалости к их полу, принялись наскакивать на Гинесию и Зелману, слов-
но закоренелые злодеи, видимо, полагая своим великим достоинством
способность дерзить. Сколько бы их там ни собралось, всякий был сам
себе голова1, и вместе их соединяло лишь завладевшее ими помешатель-
ство. Одни кричали: «Держи!» Другие: «Убей!» Третьи: «Спаси!» Но даже
те, которые кричали: «Спаси!» — бежали вместе с теми, которые кричали:
«Убей!» Все приказывали, никто не подчинялся, и тот казался главным,
кто был свирепее других.
Зелмана, чья добродетельная доблесть не знала покоя, тотчас взялась
за меч и обратила его против плохо вооруженных буянов; сколько раз она
подняла меч, столько было ран, сколько ран — столько смертей; молние-
подобной храбростью и громоподобной суровостью она сдерживала на-
тиск мужланов, пока обе дамы не укрылись в доме, из которого вышел
Базилий (давно не надевавший доспехи), чтобы продемонстрировать
подданным свою власть или хотя бы рискнуть жизнью рядом с обожае-
мой возлюбленной, которой он принес щит, на глазах трепещущих дам,
наблюдавших за опасным приключением. Тем временем Зелмана пока-
зала нападавшим разницу между орлом и воздушным змеем, действуя
с такой проворной решимостью и таким решительным проворством, что,
пока один в страхе бежал прочь, другой уже падал, раненный в живот.
Положение Зелманы улучшилось, и ее дух укрепился, когда прибежал
Дор, который, сооружая загородку для хозяйских овец, услыхал ужасные
крики обезумевшей толпы. Любовь немедленно представила его взору
картину страшной опасности, в которой могла оказаться душа его души,
и он бросился к дому Памелы, однако отыскал ее в пещере неподалеку
вместе с Мопсой и Даметом, который в эту минуту не открыл бы дверь и
родному отцу. Убедившись в их безопасности, ибо это убежище не было
известно толпе, да и запоры там были прочные, Дор побежал дальше
и, застав своего друга в беде, с гневом и презрением (требующими совета
лишь у храбрости) бросился в толпу с одним только пастушеским посо-
хом, но уже у первого негодяя, который упал, не выдержав его натиска, он
отнял двуострый меч и навсегда избавил его владельца от стыда за соде-
янное. Высоко подняв бесстрашную голову, опаляя лица злодеев ужасом,
он пошел между ними, и отрубленные руки-ноги стали падать на землю,
жалуясь ей на небережливость хозяев. Все же толпа увеличивалась, и ге-
рои, устав убивать, начали опасаться, что в пылу сражения, побеждая, бу-
дут побеждены, поэтому повернули обратно к дому, но шли так, что страх
бежал впереди них; так храбрый мастифф, когда хозяин оттаскивает его
1 Намек на латинскую пословицу «Tot homines, quot sententiae» («Сколько го-
лов/людей, столько умов/мнений»).
279
от медведя, с которым он сошелся в страшном объятии; хотя он и пя-
тится потихоньку, но весь нацелен на врага, зубами и глазами грозя ему
еще пуще, чем когда наступал; вот и рыцари, стремясь к дому, не делали
ни шага назад, пока не отвоевывали в безраздельное владение землю, по
которой ступали.
Некий опрятно одетый человек из бунтовщиков, портной, вдруг рас-
храбрился, когда царственные рыцари стали отступать, и, подогнув коле-
ни, как это делают фехтовальщики, начал подбираться к Зелмане. Он уже
был совсем близко, но тут Базилий, крутя над головой мечом, случайным
ударом отрубил ему нос, и (будучи поклонником дочери другого портно-
го и очень огорчившись потерей носа) тот стал искать свой нос на земле,
потому что слышал, если быстро вернуть его на место, он приживется.
Но, пока портной шарил по земле, Зелмана ударом меча послала его го-
лову вслед за носом. Это увидал мясник, один из самых ярых бунтовщи-
ков (который в этот день за стаканом вина клялся в братских чувствах
портному), и, подняв над головой железный крюк, принялся поносить
Зелману всякими ругательствами из мясницкого обихода. Но Зелмана
увернулась от крюка и сама ударила его по щеке, да так, что от лица мяс-
ника не осталось ничего, кроме нижней челюсти, в которой язык все еще
шевелился, и, наверное, мог бы говорить, если бы его хозяину не отшиб-
ло память.
— Надо же! — вскричал полупьяный мельник. — Поглядите, как по-
везло бедняге.
С этими словами он, держа вилы наперевес, побежал к Дору, но из-за
вина его голова бежала быстрее ног, и он упал прямо к ногам царственно-
го пастуха, который, поставив одну ногу ему на шею (хотя мельник пред-
лагал ему за свою жизнь двух молочных коров и четырех жирных свиней),
мечом проделал дыру от уха до уха, которые восприняли это без удоволь-
ствия, так как прочувствовали свое новое положение, прежде чем услы-
шали о нем, но вместо того, чтобы услышать о нем, были принуждены
прочувствовать его. Оставив мельника изрыгать душу вместе с вином и
кровью, Дор еще кого-то разрубил пополам, а этот кто-то накануне во сне
видел себя раздвоенным и, решив, что сон к женитьбе, утром бахвалился
им перед соседями. Полученный удар изумил беднягу художника, стояв-
шего рядом с копьем в руках. Ему предстояло живописать битву кентав-
ров и лапитов1, и потому он хотел посмотреть на жестокие раны, чтобы
получше изобразить их. Подхваченный толпой, глупец с удовольствием
наблюдал страдания других, а тут и вовсе застыл на месте, подставив Дору
обе руки, которые тот отсек одним движением. Вот так художник возвра-
тился домой, обогатив себя знанием, но потеряв возможность обогатить
этим знанием искусство.
1 В греческой мифологии пьяное сражение на свадьбе царя Пирифоя. Излю-
бленный сюжет художников эпохи Возрождения.
280
Глава двадцать шестая
Итак, рыцари вошли в дом, оставив толпу глазеть снаружи на дере-
вянную стену. Однако бунтовщики (хоть и поостывшие, но осмелевшие
из-за отсутствия сопротивления) стали ходить вокруг и около, кирками и
ломами нанося удары в стену и поджигая ворота, чтобы проложить себе
дорогу внутрь. Страх и любовь владели Гинесией и Филоклеей — особен-
но Филоклеей, которая, заполучив Зелману, мешала ей (своей неразумной
любовью) защищать ее. Тем временем Зелмана, не видя другого выхода и
не имея времени на раздумья (ибо росло число бунтовщиков и с их числом
росло их безумие), решила храбрым маневром обмануть ожидания толпы
и угрозой отвратить угрозу, поэтому открыла ворота. Дор и Базилий были
уже наготове. Удары, которые Зелмана успела нанести, прежде чем при-
соединиться к ним, хоть и были торопливыми, дали возможность Дору
и Базилию перевести дух, а потом встать на защиту Зелманы, так что ей
хватило времени взойти на судейский трон, который, согласно обычаю
этой страны, находился напротив ворот. Зелмана помедлила немного, де-
лая успокоительные знаки толпе, а потом крикнула, что имеет сообщить
нечто приятное. В ответ бунтовщики закричали еще громче и даже при-
нялись бросать в нее камнями, но подойти ближе не посмел никто.
Наконец молодой селянин (к мнению которого прислушивались
остальные и которому как будто понравилась Зелмана), надеясь завоевать
ее расположение, призвал своих сотоварищей быть настоящими мужчи-
нами и выслушать женщину.
— Стыдно, приятели, стыдно, — проговорил он. — Что скажут о нас
наши девушки, если сильные мужчины боятся речей красавицы? Не ста-
ну клясться детьми, которых у меня нет, но лучше мне лишиться своего
стада, чем показать себя неучтивым деревенщиной. Да и старики говорят
правильно: мудр тот, кто много слушает и мало говорит.
Его нравоучительная речь подействовала, и толпа притихла. Тогда
Зелмана (такая прекрасная и величественно-спокойная в страшный час,
что чем дольше смотрела на нее одичавшая толпа, тем дольше желала
смотреть) повела речь так:
— Немало радости будет мне, если, сообщив вам кое-что для вашей
же пользы, я увижу, что имею дело с настоящими храбрецами, ибо только
такие люди, познав насилие, пока сопротивление питает гнев, пока не-
известная причина пробуждает гнев, а гнев побуждает к действию руки,
могут остановиться хотя бы ненадолго, прежде чем решиться на новое на-
силие. Итак, сначала (прежде чем повести речь о главном) я должна ска-
зать: в этом доме находится ваш царь Базилий, и он — один из тех троих,
от кого немногие из бившихся нынче ушли живыми. Это он послал меня
к вам (она сказала это не потому, что сомневалась, будто сие кому-то не-
известно, а потому что хотела внушить всем, будто царь сомневается, зна-
ют ли они об этом), он послал меня к своим благонадежным подданным,
281
нет, любящий отец послал меня к своим чадам, желая узнать, что стало
причиной ссоры, кто посмел обидеть вас, чем вы недовольны и чего вам
не хватает. Об этом он спрашивает вас, и, зная вашу преданность, прика-
зывает вам теперь же все обдумать и выбрать того, кто изложит ему ваши
печали или требования.
Речи Зелманы (так как бунтовщики не ожидали подобной милости
от своего господина) развеяли ярость толпы и утихомирили недавних
буянов; немало этому помог и молодой селянин, который вознамерил-
ся, помимо прочего, потребовать Зелману себе в жены. Когда же люди
принялись обсуждать свои беды, поднялся шум, с которым не сравнит-
ся и бессмысленное гудение пчелиного роя: горожане не желали платить
налоги, селяне жаждали увеличения общинных земель, одни требовали,
чтобы царь поселился в одном месте, другие — в другом. И все кричали,
что царь должен взять себе новых советников, но никто не знал, каких
новых, потому что новые, которых называли, нравились им не больше
теперешних. И еще они требовали так распоряжаться казной, чтобы во-
обще не было никаких поборов. Наконец, они договорились до того, что
стали друг другу противоречить. Ремесленники желали снижения цен на
хлеб и вино на веки вечные, тогда как виноградари, фермеры и их работ-
ники громко возражали против этого. Селяне заявляли, что в больших
городах все люди должны быть свободными, но это не устраивало горо-
жан. Крестьяне хотели уничтожить благородное сословие, но горожане
(в особенности повара, цирюльники и прочие, зарабатывавшие свой хлеб
на господах) соглашались лишь немного поприжать их. Каждый стоял на
своем, и соседи искали грехи у соседей.
Но больше всего споров вызывали личные пристрастия: одни ру-
гали тех, кого хвалили другие, или требовали наказать тех, кого другие
превозносили. Не меньше шума было, когда принялись обсуждать, кто
станет представителем толпы. Горожане, занимавшие более высокое по-
ложение, то есть купцы, подмастерья, суконщики, из-за своего богатства
пренебрегали теми, кто был победнее, а те из-за своей многочисленности
пренебрегали интересами богачей; и все вместе они презирали селян за
их невежество, тогда как селяне в свою очередь подозревали их в ковар-
стве, так что Зелмана (заметив, что от прежней общей ярости ничего не
осталось, и ярость, пробудившаяся в них друг к другу, ослабила ярость,
направленную против нее) вновь стала делать знаки (словно заботясь
о людях и тревожась, как бы они все не переругались), чтобы они послу-
шали ее. И вот, ревнуя друг друга (промедление разделило бунтовщиков,
а разделив, выставило напоказ их слабость), теперь толпа желала слу-
шать Зелману, некоторые даже старались показать, что желают слушать
ее больше, чем другие, и Зелмана, скоро (благодаря своему знакомству
с людьми подобного нрава) почувствовав это, заговорила с безгневной
храбростью и бесстрашной кротостью:
— Необычно это, и доселе в Аркадии не случалось, чтобы женщина
во всеуслышание давала советы мужчинам, чужестранка — гражданам
Аркадии, да еще завладев царским троном в присутствии самого царя.
282
Однако из-за ваших небывалых действий следует использовать во благо
то, к чему я была побуждена насилием. В самом деле, женщина может го-
ворить с мужчинами, если они забыли о мужском поведении, чужестран-
ка может сообщать свои соображения жителям Аркадии, если они пре-
небрегают своими гражданскими обязанностями. И разве удивительно,
что трон занят мною, если ваш царь после тридцати лет царствования не
смеет показаться своим верным подданным? Слушайте меня, граждане
Аркадии, и пусть вам будет стыдно.
Против кого взлелеяли вы в себе такую ярость? Против кого обрати-
ли оружие мужчин? В этом тихом жилище нет аргийцев, ваших давних
врагов, нет лаконийцев, ваших грозных соседей. Здесь нет ни притесни-
телей землевладельцев, ни обманщиков ростовщиков. Это жилище при-
надлежит тому, кого вы должны любить и не должны ненавидеть, здесь
нет никого, кроме вашего царя, царицы и их дочерей, не считая меня.
Может быть, против меня, граждане Аркадии, направлена ваша ярость?
Не я ли мишень для ваших злых стрел? Если моя невиновность не в силах
обуздать вашу ярость, если закон гостеприимства (долго и свято соблю-
давшийся вами) не в силах защитить чужестранца, прибежавшего к вам
за помощью, наконец, если храбрость многих доблестных мужчин вос-
пламеняется на беду одной глупой женщины, я согласна принести свою
жизнь в жертву вашему гневу. Выплескивайте на меня ваше возмуще-
ние, чтобы оно не повредило другим, и я с удовольствием заплачу своей
жизнью за то великое гостеприимство, какое снискала в вашей стране;
я отдаю мою жизнь вам, граждане Аркадии, если она вам нужна, чтобы
вы, которых все называют мудрыми и мирными, в пустом тщеславии не
посягнули на других, вызвав возмущение остальных граждан вашей стра-
ны; чтобы вы не пошли на поводу у неблагодарности и не забыли о плодах
многолетней мирной жизни; чтобы не нарушили человеческие законы и
не очернили своей яростью священное имя вашего законного царя. Мне
известно, что подобное дьявольское наваждение никогда прежде не за-
владевало вашими сердцами, и вы никогда не злоумышляли против царя,
ибо этого ни один наследник (хотя бы и не гневливый) не оставит (во имя
своей безопасности) неотмщенным.
Да вы и не сможете так низко пасть, чтобы вместо царя, данного вам
многими поколениями венценосных предков, принять деспотическое
ярмо вашего же друга-приятеля, внутреннее убожество которого породит
звериную алчность, а его новое положение — жестокую подозрительность.
Подумайте, какую радость вы доставите врагам, если собственными рука-
ми ослабите свою страну? Что сказали бы ваши предки, если бы они были
сейчас тут и видели, как их потомки превращают в руины совершенную
постройку, с мудростью возведенную ими ценой их пота и крови? Не счи-
тайте их дураками, когда они провидели, что не будет у вас ни вина, ни
скота, ни жен, ни детей, если во главе страны не будет настоящей власти.
А какая власть без судьи, и какой судья без повиновения, и какое пови-
новение там, где каждый на свой страх и риск толкует дела правителей?
Извлеките же урок из содеянного. Что хорошего, если говорить по чести,
283
в вашем теперешнем положении? Кем вы замените лучшего из лучших,
если потеряете Базилия? Кто поведет вас в сражение, если нападут враги?
Если вы не можете договориться о том, кто должен говорить от вашего
имени, то как вы договоритесь о том, кто будет биться за вас? Кто-то из
вас боится, не знаю уж чего, кто-то опечален случившейся с ним неспра-
ведливостью. Но скажите, неужели солнце, которое дарует вам богатый
урожай, не бывает иногда слишком жарким, неужели оно всегда ласково
с вами? И ваши дети не бывают подчас обременительны для вас? И ваши
родители никогда не ворчат? Так что же, проклянем солнце, возненави-
дим детей или восстанем против родителей? Но к чему слова? По вашим
лицам, теперь уже спокойным и благожелательным, я вижу, что вы люби-
те того и повинуетесь тому, кто правит вами для вашего же блага. За все,
что вы сделали, он не только прощает вас, но и благодарит, ибо судит дела
разумом, но не разум — делами. Ваши печали и желания, будь они вы-
сказаны ему, он обдумает, ибо к его разумению вам должно обращать их.
Итак, последнее: наверное, странное уединение царя вынудило вас взять-
ся за оружие. Теперь же, когда вы убедились, что все в порядке, сложите
оружие. Если вы сделаете это, а я знаю, что сделаете, царь воспримет это
не иначе, как страстный, признаю, слишком страстный порыв любви.
Зато ваше упорство будет свидетельствовать о злом умысле. Нет, я знаю,
этого не будет; ретиво начатое закончится миром.
Поведение Зелманы было прекрасно естественностью, украшен-
ной искусством: ее жесты, пока слова выражали мысли, словно тени,
делали картину из слов более живой и выпуклой; она то поднимала чи-
стый звонкий голос, то так же естественно опускала его, как того тре-
бовали природа слова и смысл речи — все это вместе с очарованием ее
личности (ее доблесть люди познали на себе, а ее красота сумела про-
бить глухую стену их чувств) проложило дорогу ее речам к слуху диких
и невежественных людей (побежденных восхищением, словно она не
была смертной женщиной, остуженных своим молчанием и познав-
ших сомнение), так что вместо возмущенных криков теперь слышалось
лишь смущенное бормотание, мол, надо или не надо следовать совету
Зелманы, ведь всем было страшно продолжать противостояние, но и не
хотелось уходить ни с чем. Многие уже признавали, что не стоило ниче-
го затевать, но завершить затеянное им (боявшимся друг друга) казалось
еще труднее, так как теперь они понимали, что завязывать узлы проще,
чем их развязывать. Однако Зелмана не видела ничего плохого в том,
чтобы дать бунтовщикам возможность сослужить такую службу, которая
(как они думали) перевесит совершенное ими злодеяние, и таким обра-
зом понадежнее завладеть мыслями людей, которые могли бы позднее
опять поддаться сомнениям.
— Законопослушные граждане Аркадии, — воззвала она к ним, —
я предлагаю вам возможность показать, что вы осознали свой долг. Пусть
все, кто держит в руках оружие, предназначенное для защиты царя, по-
вернутся спиной к воротам и направят свое оружие против тех, кто хочет
зла его священной особе.
284
— Как можно доверять многоголовой толпе, которую непостоянство
приводит то к злу, то к добру? Как можно доверять людям, потерявшим
стыд и перекладывающим вину на соседа? — спрашивал стоявший в тол-
пе умник Клиний, наблюдая за развитием событий.
Едва Зелмана умолкла, как все радостно закричали:
— Боже, храни Базилия!
Многие с готовностью бросились его защищать, хотя совсем недавно
злоумышляли против него.
Глава двадцать седьмая
Упомянутый Клиний много учился в юности, но скорее постигал
слова, нежели нравы, и в словах — более их количество, нежели поря-
док, к тому же он часто играл в трагедиях, благодаря которым позна-
комился (помимо велеречивости) со многими страстями и умением из-
менять свое лицо для их изображения; он давно привык к публике и
единственным недостатком считал стыдливость, более того, от природы
он был трусом, но, когда дело касалось его самого, становился безрас-
судно храбрым.
Доверенный слуга Цекропии, матери Амфиала, он был посвящен во
все интриги, которые она замышляла с целью погубить Базилия и его
дочерей ради возвышения своего сына; и хотя его образование научило
его красноречию, любовь к обману приучила к немногословию, но по
наущению своей госпожи (после странного удаления Базилия) он рас-
пускал всякие слухи, а нынче, воспользовавшись возбуждением толпы,
подбил ее на бунт — без ведома Амфиала, который ни за какие царства не
подверг бы опасности жизнь Филоклеи. Заметив, что ярость толпы по-
шла на убыль, Клиний счел за благо опередить всех и принялся громко
славить Базилия. А так как еще оставалось несколько бунтовщиков, то
Клиний велел своим помощникам поднять его над толпой, после чего,
словно желая сказать речь, он принялся с осторожной степенностью про-
сить внимания. Немного нашлось таких, кто обратили к нему свой слух,
и тогда он вдруг стал неистово жестикулировать, как будто собираясь со-
рвать звезды с неба, после чего завопил так, что не только Зелмана, но
и Базилий услышали его:
— О несчастные, вы безумнее титанов, пожелавших сбросить с не-
бес Юпитера! Долго ли еще будете яриться? Почему бы вам не бро-
сить оружие и не подчиниться нашему доброму царю, нашему добро-
му Базилию, в мудрости равному Пелопсу и Миносу1? Поверьте же на-
конец мне и другим честным людям, которые всеми силами старались
смирить вашу ярость.
В эту минуту терпение изменило селянину, которому понрави-
лась Зелмана. Если поначалу он рассчитывал выставить свои условия
и получить богатую добычу (в том числе и Зелману), то потом увидел,
что толпа катится вниз с высокой горы гнева и, верно, не остановит-
ся, пока не окажется на дне абсолютного повиновения, так что сам он
ближе к наказанию, чем к успеху, будучи одним из тех, кто еще не под-
дался на речи Зелманы. Начал он с того, что достоин презрения чело-
век, который заделывается проповедником, когда на самом деле был
зачинщиком бунта, а закончил тем, что ранил Клиния мечом в лицо.
1 Так называемая похвала наоборот, ибо хитрости Пелопса обернулись траге-
дией для его потомков, а Минос известен своим Минотавром.
286
Трусливый негодяй упал на землю, моля о помощи, и пополз между ног
к трону. Пришлось Зелмане брать его под свою защиту и успокаивать,
пока он, платя кровью за прошлое, дрожал всем телом от страха за буду-
щее.
Но селянин, словно царь Эол, который открыл дверь и выпустил
ветры на свободу, своим поступком развязал всем руки, и сосед стал
убивать соседа, пока тот не убил его самого. Разделенные в мыслях,
но не разделенные расстоянием, те, которые подчинились Базилию,
перемешались с теми, которые не желали ему подчиняться; одни были
убеждены, что умирают из-за своей стойкости, другие навлекали на
себя смерть, желая завоевать благосклонность царя своей переменчи-
востью, и, если по справедливости, то сами себя наказывали. Раньше
других пали зачинщики бунта, которые сами же подучили толпу бунто-
вать. Не один раз выходило так, что свой убивал своего, ибо гнев побуж-
дал руки к действию, а сомнение учило торопливости. Но вот в толпу
вошла Зелмана, за ней последовали Базилий и Дор; и они, объединяя
своих сторонников и разъединяя противников, нанесли такой урон вра-
гам (среди которых был и селянин, пораженный в самое сердце мечом
Зелманы, как прежде был поражен ее взглядом), что в самом скором вре-
мени те были вынуждены отступить. Укрылись они в пограничном лесу,
где питались лесными дарами и утоляли жажду водой, неся наказание
за пьяный бунт: но многие были убиты, не добежав до леса, и спаслось
лишь человек двадцать. Когда же бывшие бунтовщики, ставшие солда-
тами царя, возвратились после погони, Базилий призвал их к себе отча-
сти из политических соображений, но, главным образом, из-за Зелманы
(ибо сказанное ею значило для него больше даже небесных указаний)
и объявил всем прощение, потребовав взамен, чтобы его подданные
разошлись по своим домам и впредь были осторожнее в своих поступ-
ках; после чего все в самом деле разошлись, унося на себе нешуточные
отметины в память о случившемся. Считая Клиния одним из тех, кто
помог изменить настроение толпы, Базилий особенно горячо поблаго-
дарил его и пожелал, чтобы он поведал ему, как и почему безумие завла-
дело жителями Аркадии.
Намериваясь обо всем честно рассказать, если не считать роли
Цекропии и своей собственной, Клиний намазал палец кровью из своей
раны и произнес:
— Клянусь кровью, которая мне теперь дороже всего остального, ибо
я пролил ее за тебя, что мой язык (может быть, несчастливый, но не лжи-
вый) не обманет тебя, мой царь, мой возлюбленный царь.
Потом он вытянул перед собой руку и, явив соответствующее выра-
жение на лице, чтобы подготовить слушателей к своей речи, сказал:
— Вчера, в день твоего рождения, на зеленом лугу возле города
Эниспа, который в двух милях отсюда, собрались, чтобы воздать тебе по-
чести, четыре или пять тысяч человек всех сословий, как я думаю, желая
провести день в плясках и других увеселениях, а вечером расположиться
в шатрах и под кустами, чтобы пображничать за твое здоровье. Знающие
287
люди говорят, будто Вакх родился под громовые раскаты, поэтому, мол,
он беспокоен и задирист. Воистину, первый сигнал подал Вакх. По своему
невежеству и дикости люди думают, будто можно чествовать пороком и
грубостью доказывать любовь, поэтому большинство принялось мерить
глубину своих чувств глубиной винных бочек. Разогрев же себя вином,
проведя ночь и утро в соревновании, кто больше выпьет, и расхрабрив-
шись, благодаря твоему отсутствию, они принялись судить и рядить обо
всем подряд, даже о том, о чем никакого понятия не имеют. Я знаю, что
говорю, и призываю в свидетели богов, которые наказывают лжесвиде-
телей, сам я был против их бесстыдства и не скрывал этого, а когда они
не прислушались ко мне, то заткнул уши, не желая участвовать в их бо-
гохульстве, тем не менее, они силой заставили меня осквернить глаза и
уши. Мешая государственные дела с собственными обидами, они все как
один изображали мудрецов, рассуждая о том, как плохо жить в Аркадии,
и эту брань они почитали свободой, тогда как молчание принимали за
высшую меру невежества.
В конце концов они взялись рассуждать о твоей священной особе
(«Ах, зачем я дожил до того, чтобы услышать такое! Как хватает мне духу
говорить такое! Желание исполнить твое приказание не только побуж-
дает меня терпеть боль, но придает мне силы!»), да-да, захмелев, они
рассуждали о твоей священной особе. Заносчивые речи разбухали у них
в животах, пренебрежительные попреки твоему величию якобы прида-
вали величия их куцым мыслям, пока разнузданные речи не разожгли
такой пожар у них в мозгах (всезнающих, потому что, бог свидетель,
в них нет знаний, которые могли бы уличить их в отсутствии знаний),
что они взялись (о всевечная самоуверенность!) рассуждать о твоем
уединении. Теперь не имеет смысла вспоминать их дурацкие умозаклю-
чения. Однако вывод они сделали такой: ты их презираешь, хотя без их
труда у тебя не было бы твоих богатств, и никто не звал бы тебя царем,
если бы у тебя не было твоего народа! Вот тут-то самые неудачливые и
самые скудоумные, которым нечего терять, заговорили о том, что не-
плохо бы проверить, насколько справедливый ты как правитель, на что
идут налоги, которые ты с них собираешь, и почему в твоем совете лишь
знатные и богатые, словно простые люди слишком глупы, чтобы знать
их мнение, хотя на их крови и поте зиждется твое благополучие. И кто
знает, не обманом ли тебя заманили в твое уединение, жив ли ты еще или
уже умер? Вот они решили сами пойти и убедиться в том, что ты жив,
а если жив, то узнать у тебя, почему ты не отказываешься от царства
(если Аркадия стала тебе ненавистна), ведь немало нашлось бы желаю-
щих заменить тебя в твоем завидном положении. Если страна принадле-
жит народу и правители принадлежат стране, почему бы народу не взять
на себя опеку над правителями? «Да, пожалуй, стоит только начать, —
говорили они, — и нас поддержит вся Аркадия. Защитим же нашего царя
от опасностей, а себя — от опасной жизни без царя. Надо сделать то,
о чем все думают. Пусть скажут, что мы не побоялись мишурных титу-
лов, которые без нас лишь пустой звук».
288
Наконец, сказано и услышано было слишком много и это стало
опасным не менее, чем реальный поступок, но и для поступка они наш-
ли себе оправдание в славном имени свободы. Похоже было, будто ура-
ган опустошил их и без того полупустые головы. И я, и другие честные
люди ничего не могли сделать. Удерживать их было все равно, что, на-
брав в рот воздух, плыть против мощного течения или руками поддер-
живать падающую стену. Людей охватило безумие, и не требовалось бить
в барабаны, когда все кричали, стараясь перекричать друг друга, так что
разноголосица стала приметой их временного соглашения. Пиршество
привело к побоищу, пьяное веселье — к кровавому неистовству, благост-
ные молитвы за твое здравие — к чудовищным угрозам твоему благо-
состоянию, и празднество в честь твоего дня рождения могло бы закон-
читься твоими похоронами.
Однако в пьяном раже люди хотя и свирепы, но страдают недомыс-
лием: чем больше они хотят навредить, тем меньше думают о том, как
это сделать; поэтому они не позаботились об оружии, а взяли, что попа-
лось под руку, — мечи, копья, алебарды; вилы и грабли из орудий труда
стали орудиями убийства, и даже вертелы, полезные для жизни, должны
были нести смерть. И котлы, из которых пили за твое здоровье, пошли
в ход, ибо их тоже вознамерились использовать в сражении с тобой. Вот
так вооружившись и никому не подчиняясь, принуждая противников и
ободряя союзников, разъяряя разъяренных и спешкой еще сильнее раз-
жигая пылавшие страсти, они явились сюда, но, смею заметить, ни один
человек не знал в душе, что будет делать, когда окажется с тобой лицом
к лицу.
Поскольку в природе зла заложено то, что одно зло порождает другое
и ком зла растет до тех пор, пока не достигает своего предела, после чего
валится под собственной тяжестью, то и эти люди, единожды позволив
своим мыслям выйти за пределы послушания, все более открывали их
для преступления, так что те, кто поначалу хотел оставить тебя царем,
но воспитать по-своему (я говорю об этом со всей откровенностью, хотя
мое сердце обливается кровью), в итоге увидели единственную гаран-
тию своей безопасности в твоей смерти. Так, если бы боги (которые
сохранили тебе жизнь ради сохранения Аркадии) не явили свою вол-
шебную силу и не использовали в качестве ее орудия твою храбрость
(о которой не умеет должным образом рассказать мой недостойный
язык) и храбрость нескольких, если по чести, добропорядочных людей
(увы, мне не пристало об этом вспоминать, ведь мы не исполнили и
сотой части своего долга), то нашими руками (даже подумать об этом
нельзя без дрожи) было бы разрушено все, из-за чего мы радуемся, на-
зывая себя гражданами Аркадии.
Тут Клиний заломил руки и выжал из себя слезу, чтобы понравить-
ся Базилию, который плохо разбирался в лгунах — и он понравился
Базилию, благодаря хвалам, возданным его возлюбленной Зелмане.
Жалея раненого, Базилий отпустил его, но приказал припомнить, не
пропустил ли он что-нибудь важное, и за это обещал его вознаградить.
19 Заказ 1414
289
Прежде чем Клиний ушел, явились пастухи (ибо на этот день было на-
значено празднество), и Базилий послал одного из них к Филанаксу,
а другого — к другим государственным мужам Аркадии с приказом тща-
тельно расследовать случившийся бунт и для защиты царя разместить во
всех близлежащих городах и деревнях гарнизоны, чтобы в случае надоб-
ности они могли разжечь костер или ударить в колокол, предупреждая
царя об опасности.
Глава двадцать восьмая
Клиний (все замечавший и все слышавший) поспешил к Цекропии,
чтобы она успела принять меры и обезопасить себя в предвидении рас-
следования, которое наверняка предпримет Базилий. Остальные радо-
вались избавлению от беды и восхваляли доблесть Зелманы, с которой
даже ее красота была не в силах сравниться. Злые лица (пока она вразум-
ляла неразумных бунтовщиков) казались приставленным к горлу ножом,
и тем невыразимее была радость царского семейства (помимо того, что
все остались живы), когда стало очевидно, что зло наказано и наказано
стараниями той, которая была для всех средоточием восторгов. Любые
примеры мудрости и доблести, когда-либо являвшие Грецией, меркли
в сравнении с геройством теперешней заступницы царской власти!
Еще Базилий и все остальные не вышли из состояния упоительной
радости, как послышались фальшивые звуки гитары, сопровождавшие
хриплый голос (певший в оскорбление Муз, но певший, несмотря ни на
что, весело) и привлекшие внимание к неблагозвучной песне:
В ком дух вражды — враждою здравы,
А кровопийц излечит кровь;
Балбесам глупости — забавы;
Забитый чает тумаков.
Но кто лишь мудростью степенной
Спасал людей? Я, несомненно!
Спесивец чтит свои рубцы.
«Где раны — там герой», — он судит.
Пусть славу им поют льстецы,
Когда земной их срок пребудет.
Но кто глаза от лезвия,
От криков уши спас? Лишь я.
Вскоре появился Дамет, который высоко держал голову, словно это
он шагал по телам врагов; правда, он считал, что поступил мудро, исполь-
зовав предоставленное ему природой убежище в пещере. Не в его прави-
лах было приближаться к берегу, не убедившись, что на небе ни облачка,
ибо он знал закон: после бури тоже льется дождь, прежде чем тучи совсем
развеются. Однако Памела, осознавшая, как заботливо влюбленное серд-
це, воспользовалась его уходом, чтобы успокоить себя видом родителей
и Филоклеи, а на самом деле ублажить взгляд видом счастливо избегнув-
шего опасности пастуха.
Заметив Памелу (о которой он почти забыл, занятый другой), Базилий
тотчас впал в благоговейное восхищение, вспомнив предсказание ора-
кула, которое в полном согласии с льстивой натурой лживых надежд он
19*
291
толковал по-своему и в свою пользу, и в добровольной любовной слепоте
(ибо его мысли были полностью поглощены Зелманой) пребывал в уве-
ренности, что боги говорили ему о Памеле.
Пока он пребывал в глубокой задумчивости, явился пастух и сооб-
щил, что прискакал Филанакс с сотней всадников. Случайно оказавшись
поблизости, Филанакс услышал шум и поспешил, собрав, сколько мог,
людей, на помощь своему господину. Базилий был рад узнать об этом, но,
не желая, чтобы он или другие знатные мужи увидели его возлюбленную,
сам выехал ему навстречу, желая отдать необходимые приказания насчет
гарнизонов и самому проследить за их исполнением. Филанакс же, вос-
пользовавшись случаем и нисколько не кривя душой, принялся умолять
Базилия отказаться от опасного уединения.
— Хорошо, — сказал Базилий, — может быть, я скоро удовлетворю
твою просьбу. А ты тем временем сделай все возможное, чтобы защитить
мой дом. Кстати, помнишь, ты писал мне, чтобы я не верил предсказа-
нию, которое побудило меня к уединению?
— Очень хорошо помню, — ответил Филанакс, — хоть ты и не открыл
мне, в чем его суть. Но все предсказания, уверен, достойны друг друга,
поэтому мне достаточно знать, что ты из-за него поселился тут.
— Ладно, теперь я открою тебе то, о чем прежде не считал нужным
говорить. Когда все сбудется, а кое-что уже начало сбываться, я напомню
тебе о твоей недоверчивости.
И он проговорил:
Дочь старшую из царственного рода
Возьмет один, чем свяжет вас тесней.
А младшую благословит природа
Любить любовью, ненавистной ей.
И двое те, что станут их мужьями
К твоей могиле, как на суд, придут,
Дабы с твоими говорить врагами.
Твой трон чужие языки займут,
Но прежде, чем расстанешься с короной,
Ты в грех войдешь с твоей женой законной.
— Помнишь, я сказал тебе, что некая неземная сила посылает мне
странные видения, которые подтверждаются не менее странными про-
исшествиями, после чего я отправился в Дельфы, где мне было дано
пророчество, а ты ответил, что все неземные силы — соки1 моего тела,
и в них причина грустных снов. Они, мол, повлияли на мой разум, ко-
торый стал в случайном усматривать неслучайное; и ты, повторяю, ты
написал мне письмо о том, что нельзя верить предсказателям; но теперь
у меня есть подтверждение, о котором мы позднее подробно поговорим
с тобой. Теперь же знай: то, чего я больше всего боялся, свершилось —
1 Основные соки — кровь, флегма, желчь, черная желчь, или меланхолия.
292
чужеземец должен был занять мой престол. И это произошло. Зелмана
сидела на моем троне, но она заняла его не ради моей погибели, а ради
моего спасения.
Стоило Базилию один раз произнести имя Зелманы, и он, словно
запустив заводной механизм, не мог остановить поток восхвалений, ко-
торые (подумал Филанакс) были более изысканными, чем если бы речь
шла только о восхищении ее добродетелями; и восставшее против этого
верное сердце Филанакса побудило его поскорее удалиться и заняться де-
лом, порученным ему Базилием.
Царь же вернулся к себе, продолжая раздумывать над толковани-
ем пророчества, которое гласило, что его старшая дочь будет похищена
каким-то царем, но не будет потеряна для него, и это исполнилось, ибо
Зелмана в самом деле отобрала у него заботу о его перворожденной доче-
ри, которая, однако, не потеряна для него, ибо в его сердце сохранилось
для нее место, а его младшая дочь с благословения природы, по его при-
казанию и на его благо, завоюет любовь Зелманы, на что природа разо-
злится, но разозлится из-за ревности к нему матери Филоклеи. Зелмана
уже восседала на его троне, следовательно, как он полагал, пророчество
отчасти исполнилось. Но более всего ему нравилось его толкование бу-
дущей неверности, за которую, как думал Базилий, он разделит вину
с Зелманой, своей будущей женой. Что же до замужеств дочерей, то, по-
скольку они грозили ему смертью, он решил им препятствовать, держа,
пока он жив, царевен при себе. Таким образом, считая, что пророчество
разгадано, Базилий вознамерился в течение трех дней совершать покло-
нение Аполлону и сразу же пропел, вместе с женой и дочерьми, гимн,
который они пели раз в год:
Великий Аполлон льет свет на мир огромный,
Но просвещает он и наш мирок укромный;
Он вечен, но от нас земною тенью скрыт —
Иль тьмою наших душ бывает луч убит...
Бог, юность ты провел под пятнами Пифона
(Сим знаньем побежден грех мира беззаконный);
Латонин сын, ты был в страданиях рожден —
Сим роженицы труд к делам добра причтен.
Жизнь — непрестанный труд: на малых расстояньях
Под бег песка в часах бежим мы в задыханьях.
Но прозорливый ум нам даруй, Аполлон,
Чтоб знание твое нам стало как закон.
Природа пусть нальет плоды нам сладким соком
И сердце в нас хранит, не запятнав пороком.
И нашей мудрости смиренной быть вели —
Небес ей не достичь, но пусть бежит земли.
Как только они закончили петь (к этому времени собрались все
призванные пастухи), Базилий, отлично зная, что может положиться
293
на Филанакса, пожелал подсластить сельским праздником горечь бун-
та. Пастухи начали готовиться к празднику, а Базилий подозвал к себе
Филоклею и с торопливостью, словно охотник, хватающий дичь, ловил
слова, выспрашивая у нее, насколько ей понравилась Зелмана. Филоклея
смущенно отвечала, следуя договоренности с Зелманой, что та в конце
концов согласилась, вопреки прежнему решению, выслушать царя, когда
ему будет угодно, но более того, сказала Филоклея, Зелмана ничего не
пожелала слушать, поэтому она больше ничего не говорила и не про-
сила. Базилий расцеловал Филоклею с благодарностью и более, нежели
отцовской нежностью и сразу же (подобно получившему свободу узни-
ку) захотел воспользоваться согласием Зелманы и открыться в своей бо-
лезни единственно возможному лекарю. Однако Зелмана (которая еще
не решила, как ей вести себя) в нескольких словах дала ему понять, что,
окруженный многими людьми, он выбрал не лучшее время для беседы,
а чтобы ему было, о чем подумать, сказала, мол, знает от его дочерей
о бедах Эроны (с которой ей довелось познакомиться в своих путеше-
ствиях и к которой она очень привязалась), и попросила его рассказать
остальное, что он сам слышал от Планга, потому что, как она сказала
(и сказала искренне), она очень беспокоится об этой госпоже, чья судь-
ба, если не считать ее недостойного выбора, никак не предполагала быть
несчастливой. Обрадованный тем, что Зелмана приказывает ему, и еще
более обрадованный тем, что она просит прощения за отказ и назначает
другое время, Базилий безропотно подчинился.
Глава двадцать девятая
— Госпожа, — сказал он, — по правде говоря, с тех пор как годы на-
учили меня, чему следует и чему не следует сострадать, я ни разу не видел
ничего такого, что пробудило бы во мне более страстное сочувствие, чем
положение государыни, которая, выстояв в несчастьях (великих несча-
стьях, о которых ты, насколько я понял, уже наслышана), стала из-за сво-
ей искренней и благородной страсти жертвой другой беды, причем такой
несчастной жертвой, что я не мог не посвятить ей несколько строк, о чем
тебе, вероятно, известно1. Итак, не повторяя того, что мои дочери уже
поведали тебе, я, вероятно, доставлю тебе удовольствие, рассказав, коли
ты желаешь знать, что Антифил был коронован. После этого знаменитые
рыцари Музидор и Пирокл расстались с ним (намериваясь ответить на
вызов Анаксия, который теперь находится где-то в Греции, ища и бесче-
стя несравненного Пирокла, без времени погибшего), и, как я уже сказал,
коронованному и оставшемуся без друзей, чьи добродетели (пока друзья
были рядом), словно добрые учителя, подавляли его тщеславие, Антифилу
не хватило ума помедлить и не обнаруживать сразу, каков он есть на самом
деле. Увы, подобно всякому, кто, будучи неожиданно заброшен судьбой
столь высоко, забывает, как выглядит земля внизу, Антифил в своих мыс-
лях поднялся гораздо выше, чем того стоил, и забыл обо всем, кроме того,
что он царь, тем более забыл, что он царит над разумными существами,
которые не замедлят заметить его глупость и возроптать на него за обиды.
Считая правом царя делать, что он считает необходимым, а считать не-
обходимым то, что ему приятно, он быстро превратил свое царство в тен-
нисный корт, а своих подданных в мячи, не из злости, а якобы по праву
царя оскорбляя их, тем не менее думая, что его поступки одобряются на-
родом, нет, более того, его недостатки признаются достоинствами лишь
потому, что он царь. По своей природе он был не в силах осмыслить ве-
ликие дела и, неожиданно оказавшись в неведомом океане неограничен-
ной власти, поплыл в нем без руля и ветрил, становясь жертвой любого
дуновения страстей. Более всего этому способствовала ядовитая сладость
лести, которой одни потчевали его без меры из-за природного убожества
своей души, так собаки, виляют хвостом перед теми, кто сильнее; а дру-
гие, втайне ненавидя его и презирая за незаслуженное возвышение, но
безудержно — во имя его падения, как птичка, которая взлетает повыше,
держа в клюве моллюска, чтобы разбить раковину, бросив его на камни.
Разум Антифила оказался податливым материалом, которому простран-
ные речи могли придать любую форму, и новоиспеченный царь лихо от-
плясывал под фальшивые напевы, так что вскоре и вправду возомнил себя
самым мудрым, самым достойным и самым любимым правителем, какой
когда-либо оказывал честь царскому титулу Общеизвестно, что он не мог
1 См.: Книга 2, глава 12.
295
похвастаться высоким происхождением, тем не менее нашлись бесстыд-
ные составители родословных, которые сделали его не только потомком
царей, но и законным наследником, несправедливо лишенным трона
предками Эроны. Подобно глупой птице, что прячет голову под крыло и
думает, будто ее никто не видит, он вообразил, будто никто не знает о его
предках, если он сам отвернулся от них.
Таким образом суетность, недобрая подружка благодарности, побу-
дила его с презрением относиться к Эроне, которой он якобы ничем не
обязан, так что через полгода он уже обвинял ее в бесплодии, и для начала
издав беззаконный закон о том, что мужчине не возбраняется иметь не-
сколько жен, стал (не прогоняя Эрону) тайно, с помощью писем, искать
расположения Артаксии, которая ненавидела его не меньше, чем люби-
ла (вот уж неудачный выбор) недостойного царя Плексирта, но, чтобы
добиться своего, вероломно дарила его надеждами, пока он не возомнил
себя в скором будущем царем Армении и многих других царств, словно
слепая удача прозрела единственно для него, чтобы холить его и леле-
ять. В это время должно было состояться собрание многих великих ца-
рей Азии. Они хотели воздать почести Музидору и Пироклу, для которых
любых почестей было бы недостаточно, и он тоже собрался ехать туда,
но не для того, чтобы засвидетельствовать свою благодарность (которая
должна бы быть не меньше, чем у других), а чтобы возвыситься над вели-
кими царями, как он возвысился над обижаемыми подданными. Однако
большинство доблестных царей отнеслись к нему скорее с презрением,
чем как-то иначе, и он вскоре (внутренне не уверенный в своей право-
те) потерял покой, пока самодовольные льстецы не убедили его в зави-
сти и страхе царей из-за его будущего величия; и он сбежал из собрания,
без дальнейшего промедления назначив Артаксии день встречи, столь
ослепленный своим царским величием, что и подумать не мог, будто ца-
рица не захочет делить мужа с законной супругой. Бедняжка Эрона во
всем подчинялась Антифилу; то ли страстная любовь склоняла ее к столь
недостойному послушанию, то ли овладевшее ею из-за неожиданного
поворота судьбы отчаяние, то ли нежелание принимать решение (та-
кое случается даже с великими людьми, когда им некого винить в сво-
их ошибках, кроме самих себя). Увы, в своей любви несчастная царица
превзошла всех, кто когда-либо обращал свою любовь на недостойного
человека; собственной рукой она написала письмо Артаксии, в котором
выражала согласие ради всеобщего блага стать второй женой Антифила и
уступала ей первое место, более того, она восхваляла своего мужа и про-
сила Артаксию не отказывать ему.
Смертельно ненавидевшая их обоих, Артаксия до поры до времени
прятала свою ненависть и делала вид,- будто в гибели брата винит лишь
Музидора и Пирокла, которые могут служить примером добродетели; она
даже встретилась с царственной четой, словно простила ей убийство бра-
та, словно не Антифил и Эрона были главными виновниками его гибели,
словно они сделали то, что сделали, из-за простительной необходимости;
и она так ловко повела дело, что сама не обещала ничего, зато Антифил
296
наобещал себе все, что она молчаливо позволила наобещать. Был назна-
чен день. Но, как говорят поэты, Гименей не облачился в шафранный
плащ1. Когда Антифил вошел в покои Артаксии и пожелал ее обнять, го-
товый скорее снизойти к ее просьбам, нежели просить самому, заранее
спрятанные там рыцари (им было легко прятаться, потому что Антифил
не сомневался в любви Артаксии) вышли из своего укрытия и, будучи
в численном превосходстве, а также превосходя его людей доблестью и
умением, перебили почти всю его свиту, и лишь немногим удалось бе-
жать. И Антифила и Эрону царица Артаксия приказала заковать в цепи
и, не медля, привести на могилу ее брата, где она пожелала предать их
смерти, поставив любовь к брату между собой и душевными порывами,
с которыми она и от природы-то не была накоротке.
Перемена в положении Антифила и Эроны тотчас показала, кто
из них чего стоит. Не будучи великим, но носивший маску величия,
Антифил, едва ее сорвали, был готов падать быстрее, чем его гнали уда-
ры судьбы, напрасно выпрашивая себе жизнь (хотя здравый смысл мог
бы подсказать ему, что его смерть предрешена) и бессильно кляня судьбу;
сей приятной музыкой он ублажал слух врагов, что-то без конца обещая,
да еще пытаясь протестовать. Зато Эрона, естественно, печальная, вела
себя как человек, привыкший к печальным переменам в жизни (как те,
у кого отняты все сердечные радости), и, казалось, была даже рада близ-
кому завершению своих мучений; она почти ничего не говорила, но если
говорила, то защищала Антифила, убеждала Артаксию и ее рыцарей в его
невиновности, вспоминала, что он был пленником армянского царя, ко-
гда Музидор и Пирокл убили Тиридата; и мужчинам становилось стыдно,
так как она выказывала больше мудрости в своих ожиданиях и больше
твердости в ниспосланных ей испытаниях.
Ее разум, украшенный молодостью, ее страдание, украшенное высо-
ким рождением, ее печаль, украшенная красотой, принудили благород-
ного царевича Планга, который (почти не разлучавшийся со своей дво-
юродной сестрой Артаксией) участвовал в пленении Эроны, по-новому
взглянуть на воплощение красоты, еще более совершенной в горе, чем
в радости (так живописное изображение кажется более ярким, благо-
даря игре теней, чем ярким краскам); глядя на нее, он влекся к ней,
а, увлекшись — влюбился, влюбившись же — ощутил желание, непремен-
но сопутствующее любви, услужать и оберегать. Подстегиваемый мало-
стью отпущенного ему времени, он поспешил признаться в своей любви,
но в ответ Эрона (когда он заговорил о ее жизни, до которой ей как будто
не было дела, словно речь шла о чем-то незначительном) попросила его
спасти Антифила. Ей мир казался скучной сценой, на которой она, во-
преки своей воле, продолжала играть лазначенную ей роль2, поэтому она
умоляла Планга не растрачивать бесполезно свою любовь на существо,
1 См.: Вергилий. Метаморфозы (X, 1).
2 Эта фраза Сидни напоминает будущий афоризм Шекспира: «Весь мир театр,
и люди в нем — актеры».
297
которое и себя-то любить не может, но доказать правдивость своих речей
и ради ее спокойствия спасти Антифила.
Планг рассказывал мне, как корил ее за заботу о том, кто бесстыд-
но предал ее и глупо распорядился собой, однако она не только стара-
лась, как могла, выгородить его, но и, когда у нее не осталось ни одного
разумного довода, ее любовь стала ее доводом; она отказывалась слу-
шать, но не соглашалась с обвинениями, предъявляемыми Антифилу,
и в конце концов Планг (в ком любовь, завладевшая душою, подчини-
лась любимой) с горечью сказал «да» и с неохотой, но взялся вызволить
Антифила, которого ненавидел как предателя, погубившего Эрону,
и которому завидовал как мужчине, любимому Эроной. Любовь одер-
жала верх над сердцем Планга и заставила его стать слугой соперника;
и тут он превзошел самого себя, изыскивая способы повлиять на Ар-
таксию, рассчитывая на свою близость к ней, на их родство и свои до-
бродетели. Однако дело оказалось нелегким, ибо ненависть уже сули-
ла Артаксии сладость мести, и она отвергла все попытки Планга, даже
стала строже обходиться со своими пленниками, намереваясь в день
рождения Тиридата (который приближался) казнить Антифила в своей
столице, а в день смерти Тиридата (еще через полгода) казнить Эрону.
Влюбленный Планг дошел до того, что стал выяснять, не собираются ли
лисийцы послать войско в помощь своей царице, но, увы, ближайший
претендент на корону (согласно правилам игры, в которой разыгрыва-
ются царства), едва его госпожа попала в плен, занял ее место, сделав
все, чтобы народ возненавидел ее, и даже постарался лишить Эрону по-
следней надежды, послав к Артаксии гонца с просьбой судить царицу,
поскольку, будь она признана преступницей, никто не посмеет оспари-
вать законность его восшествия на престол.
Потерпев неудачу, Планг на этом не успокоился и с несколькими
друзьями попытался освободить Антифила, потому что до его казни оста-
валось совсем немного времени и потому что его жизнь висела на той же
ниточке, что и жизнь Эроны; Планг постарался все предусмотреть, и хотя
по велению Артаксии супруга Эроны охраняли старые слуги Тиридата,
Плангу все же удалось, благодаря своему высокому положению, сообщить
Антифилу точный час, когда, убив одного из стражников, он с друзьями
попытается его освободить.
Когда все было улажено и Планг по доброй воле навлек на себя страш-
ную опасность, Антифил (который, как надутый пузырь, мог лететь куда
угодно, пока его нес ветер удачи, зато в несчастье был готов подчинить-
ся кому угодно), едва появился шанс избежать казни, от страха ослабел
сердцем и, жалкий дурак, не знавший, кому верить и кого бояться, решил
предательством заслужить прощение: незадолго до прихода Планга он
обо всем рассказал стражнику, обливаясь никчемными слезами и уверяя,
что ему лучше умереть по приказу Артаксии, чем обрести свободу про-
тив ее воли; он вымаливал себе жизнь, соглашаясь на самые жесткие и
унизительные условия, какие только могли прийти в голову Артаксии.
Стражник поверил ему, и Планг был бы схвачен, если бы не почуял
298
неладное и, кликнув друзей, не вверил себя их защите, приготовившись
отстаивать свою жизнь, опасаться за которую имел все основания, так как
армянская царица (сочтя его чудовищно неблагодарным, ведь и ее брат,
и она сама не только защищали его от злоумышлении его отца, но и отно-
сились к нему, более принимая во внимание его высокое происхождение,
нежели его переменчивую судьбу) послала за ним своих воинов. Однако
благодаря прошлым военным заслугам Планг пользовался такой любовью
среди воинов, что ему не приходилось бояться злобы царицы, и даже
в сердцах присланных за ним воинов ему удалось пробудить сострадание
к несчастной Эроне.
Все же никто не захотел помогать Антифилу, но не из ненависти
к нему, а из презрения, поэтому Артаксии не составило труда осуще-
ствить свое желание и (при молчаливом согласии всех женщин города)
отдать Антифила на суд тем, кто смертельно ненавидел царя за его закон
о многоженстве. После долгих пыток его вынудили броситься с высокой
пирамиды, возведенной над могилой Тиридата. Таким образом было по-
кончено с двуличным царем, который, если что и умел в жизни, так это
приносить людям горе.
Отлично понимая, что Артаксия ждет лишь назначенного дня, чтобы
прах прекрасной Эроны послужил страшным свидетельством ее неиз-
бывной печали, Планг, хоть и был чужестранцем, собрал немало друзей,
привлеченных к нему его добродетелями, и решил силой освободить
Эрону. Гнев придал больше храбрости Артаксии, чем это свойственно ее
полу, к тому же она использовала свою царскую власть, чтобы подавить
бунт и исполнить заветное желание, которое считала достойным своего
царского титула. Тем не менее Плангу (кто угодно может подтвердить, что
он один из лучших, один из самых доблестных и мудрых полководцев, ка-
кие только обучались в школе Марса) удалось одолеть воинов Артаксии,
хотя их было много больше числом, и взять в плен недостойного сына
ее брата, которого она обожала, после чего он послал сказать ей, что ее
племянника ждет та же участь, какую она уготовила Эроне; и это была
счастливая для Эроны угроза, потому что иначе Артаксия попросту уско-
рила бы ее казнь под предлогом беспорядков.
Итак, было решено (не без поддержки некоторых влиятельных лю-
дей) даровать прощение и свободу всем узникам, за исключением Эроны,
которую постановили перевезти в хорошо укрепленный замок одного из
самых знатных рыцарей Армении, и объявили: если за два года Пирокл и
Музидор, якобы предательством погубившие Тиридата, не одолеют двух
рыцарей Артаксии, в первый же день третьего года после гибели Тиридата
царица Эрона будет предана огню, а если одолеют, ей будет возвращена
свобода, но до того дня она остается пленницей Артаксии. Обе стороны
торжественно поклялись хранить верность договору и заключили мир.
Планга уговорили смириться, но он и сам был готов к этому, зная, что
благородные царевичи не откажутся от участия в благородном деле, а их
натиска не выдержат даже дважды два рыцаря. Артаксии же установив-
шийся мир был еще более по душе, потому что она получила известие от
299
Плексирта и, зная о его намерении убить Пирокла и Музидора, не сомне-
валась в своей победе.
Бедному Плангу ни о чем таком не было известно, поэтому, видя, что
его сторонники (как почти всегда бывает в таких случаях) готовы на лю-
бые условия во имя мира, он тоже смирился с договором, но добился раз-
решения у владельца замка посетить Эрону, которую нашел погруженной
в печаль, оплакивающей не несовершенства или дурные дела Антифила,
не его смерть (естественное завершение всякого земного пути); нет, она не
желала забыться, не желала, чтобы поблекли воспоминания о ее любви,
нет, она упивалась своим несчастьем, нарочно избегала покоя и получала
удовлетворение, лишь творя собой картину несчастья. Когда Планг при-
шел к ней, она едва не умерла, словно увидела в нем смерть Антифила, по-
тому что он не спас его; и все же (когда ее добродетели вступили в борьбу)
она одновременно признала себя обязанной ему и обиженной им. Вместо
того чтобы осознать неизбежность происшедшего и написать Музидору и
Пироклу, как настаивал Планг, она лишь молила о скорой смерти, чтобы
последовать (хоть он и вызывал у всех справедливую ненависть) за воз-
любленным Антифилом.
Итак, поцеловав нехотя протянутую руку, Планг поспешил в Грецию,
куда, как было известно, отплыли Музидор и Пирокл. По пути ему слу-
чайно удалось перехватить письма Артаксии к Плексирту, в которых она
подтверждала свое желание взять его в мужья, ибо всегда отличала его,
но особенно стала отличать в последнее время, когда он выполнил по-
ставленное ему условие и погубил ее врагов. В ее письмах было слиш-
ком много велеречивых похвал морю, и Плангу не составило труда до-
гадаться, что речь идет о каком-то предательстве на корабле Плексирта.
Чтобы дознаться до правды, он сам нанял корабль и явился в Лаконию,
где принялся всех расспрашивать и узнал, что корабль в самом деле за-
тонул в результате случившегося на нем побоища, а потом пожара, и, на-
сколько известно, не спасся ни один человек. Не было сомнений в гибели
Пирокла и Музидора, ведь хотя бы раз прозвучав, особенно в Греции, их
имена быстро доказали бы обратное.
Опечаленный гибелью героев, из-за которой мир стал менее совер-
шенен, и еще более опечаленный из-за Эроны, которую теперь некому
было защитить, Планг получил известие из Армении, усилившее его горе.
Известие было от того самого знатного рыцаря, в замке которого жила
Эрона, и рыцарь сообщал, что после отъезда Планга царица Артаксия,
нарушив мирный договор, осадила замок, требуя выдачи той, которую
он, не обесчестив себя, не мог выдать до назначенного дня, даже если
бы пришлось заплатить за это жизнью. Однако у рыцаря не хватало сил,
чтобы держаться долго, и он предвидел падение замка из-за отсутствия
провизии, которой он не запасся, поверив царице; поэтому он просил
Планга поспешить ему на помощь и привести с собой войско побольше,
так как все, кто поддерживал его в Армении, истреблены Артаксией, став-
шей еще могущественнее, благодаря браку с Плексиртом, теперешним
законным царем, который гордился убийством Пирокла и Музидора,
300
считая, что имел на это основания — смерть его сестры Лндроманы, ее
сына Палладия и его собственной дочери Зелманы. В их смерти он не-
справедливо обвинил Пирокла и Музидора, после чего, не стесняясь,
признался в совершенной им мести.
Растерянный Планг не знал, что предпринять, ибо возвращаться,
когда все его друзья низвержены, не имело смысла. Ему пришла в голову
мысль об отце, но после смерти мачехи и брата он пытался завоевать его
благосклонность — и безрезультатно. У тех подданных, которые в свое
время примкнули к Андромане, не было желания видеть его вновь, по-
этому они старались держать его подальше, своими наветами поддержи-
вая в царе непреходящую ненависть к сыну. Итак, Планг оставил устрой-
ство своей жизни до лучших времен, так как спасение Эроны не терпело
отлагательства, и отправился к могущественному и благородному царю
Эварху, который незадолго до этого прославился тем, что одолел своих
врагов и установил справедливое правление в их странах. От него Планг
надеялся получить помощь, что послужила бы не только освобождению
Эроны, но и мести за детей Эварха, павших в результате отвратительно-
го предательства. Торопясь к нему, Планг проезжал по моим владениям,
и я повстречался с ним, самым несчастным рыцарем, какого мне вряд
ли придется еще увидеть. Казалось, он постоянно представлял Эрону
на костре и так боялся за нее, что, несмотря на все мои ухищрения, не
переставал стенать, поэтому я боялся отпустить его, пока он не рассказал
мне все то, о чем ты теперь знаешь от моих дочерей и от меня. Жаль, но
мне нечем было помочь Плангу, ведь моя жизнь изменилась с некоторых
пор, однако я дал ему в сопровождающие несколько сильных воинов. Его
речи меня тронули и запали мне в память, и потом, как я уже говорил
тебе, я сочинил диалоги наподобие тех, которые ты уже знаешь. Итак,
несравненная госпожа, я был вам покорен и до конца рассказал историю
Планга, чтобы вы, если вам угодно, могли задуматься о странной власти
любви и пределах ее власти и явили истинное благородство, воздав долж-
ное несчастному историографу.
Вздохнув из-за Эроны, Зелмана вскоре успокоилась, убедив себя
втом, что Эварх, не медля, предпримет все для ее освобождения и отмще-
ние Артаксии с Плексиртом за своих детей, поэтому, получив от Базилия
желаемое и желая избегнуть его признаний, она пригласила собравшихся
пастухов начинать праздник.
Эклоги
Неожиданный бунт жителей Эниспа подсказал честным пасту-
хам начать праздник с пляски, которую они назвали стычкой Рассудка
и Страстного Порыва. Семеро пастухов (исполнявшие роли разумных
пастухов) сошлись вместе, четверо из них изобразили квадрат, еще двое
встали немного подальше с двух сторон, изображая фланги, и еще один
(седьмой), обреченный на гибель, занял место впереди, чтобы принять
первый бой. В точно таком же порядке построились, напевая в такт ша-
гам и наигрывая на разных музыкальных инструментах, семь пастухов,
изображавших страсть и ритмичным напевом помогавших себе держать
шаг. Сначала запел стоявший впереди пастух, представлявший рассудок:
Рассудок: С дороги прочь, бунтарь. Знай: я здесь господин.
Ему отвечал стоявший напротив пастух, который изображал страст-
ный порыв:
Порыв: Посторонись, тиран! Здесь правлю я один.
Рассудок: С каких же пор меня считают здесь тираном?
Порыв: С тех самых пор, как я был признан нежеланным.
Рассудок: Рассудок должен всем во всем повелевать.
Порыв: Всех потчевать хочу и вина разливать!
Рассудок: Порыву — воля, мне — благое рассужденье.
Порыв: Ты волей пренебрег — она мое владенье.
Рассудок: Кем властвует порыв, того погубит он.
Порыв: Кто смерти ищет сам, тот к ней приговорен.
Рассудок: Природа так велит: я— властный, ты — повинный.
Порыв: Мы двойня: в миг один секли нам пуповины.
Рассудок: Порывистым присущ обычно вздорный нрав.
Порыв: Тоскливо в мире жить, порывы прочь отгнав.
Рассудок: Порыв — слепец, тропой ступающий неторной.
Порыв: Рассудок зрит лишь след своих деяний черный.
Рассудок: В огне рассудка ты не выживешь, порыв.
Порыв: Угаснешь ты, узнав живых страстей прилив.
Рассудок: Страстям кладет конец незыблемая слава.
Порыв: Что слава на земле, как не глупцов забава?
Рассудок: Чтоб нашу мощь сломить, ты немощен и тощ.
Порыв: Что с виду немощь, то на самом деле мощь.
Рассудок: С бесчинством совладать рассудок помогает.
Порыв: Подобной выгодой порыв пренебрегает.
Рассудок: Удел таких, как мы, вседневная борьба.
Порыв: Услада и игра — таких, как мы, судьба.
Рассудок: Борьба окончится, и заживем мы дружно.
302
Порыв: Борьбы я не хочу, и дружбы мне не нужно.
Рассудок: Я сильный, потому кровь не желаю лить.
Порыв: Ты слаб и предпочел миролюбивым слыть.
Рассудок: Пусть мы не победим, но дело наше право.
Порыв: Нам вовсе не нужны ни правота, ни слава.
Рассудок: Законам разума все ж подчинится страсть.
Порыв: Что выиграем мы, придя под вашу власть?
Рассудок: Вы станете умней, себя возьмете в руки.
Порыв: Восплачем горько мы от нестерпимой скуки.
Рассудок: Восплачете? Ну, что ж! Блаженство есть в слезах.
Порыв: Блажен едва ли тот, в унынье кто зачах.
Рассудок: О радостях страстям сказать лишь разум в силах.
Порыв: Как выразит их тот, кто сам не пережил их?
Рассудок и Порыв: Небесный выше нас незыблемый закон:
Им страсть укрощена, рассудок посрамлен.
Закончив петь, они обнялись и подошли к царю, который похвалил
их, угождая Зелмане, чьи взгляды и мысли, ничем не ограниченные,
стремились к нежной Филоклее, отвечавшей ей тем же, хоть она и зна-
ла, сколь ненавистно сие для ее ревнивой матери. Однако Дик (которому
давно нравился своими добродетелями, несмотря на юный возраст, Дор)
решил получить удовольствие, отведав от плодов его ума, хотя бы и дав
волю теме, которую он презирал более других, и он заговорил с ним, как
свидетельствует следующая эклога:
Дик—Дор
Дик: Скажи мне, Дор, что эхо замолчало,
Твоим стенаньем сонный лес не будит?
Святыня умерла иль веры мало?
Верь, о любви свидетельствовать будет
Без устали, всечасно и всеместно,
Кто ей придал значенье идеала.
Дор: Подозревать меня едва ли честно,
Что не храню я веры непреложной.
Грешно нам о другом судить нелестно!
Непостоянен мой металл, возможно,
Но луч ее на нем писал так чудно!
Подобной силе изменить — безбожно.
Дик: Признанье доблестным сердцам нетрудно.
Кто благороден — говорит открыто,
Молчащий — полон низости подспудной.
Кто славен сам — любовь их знаменита.
303
А кто скрывает страсть, страшась огласки,
Понур душою, словно пес побитый.
Искусство строф и голос, полный ласки,
Принявший в дар! Начни повествованье:
Любовь — враг смелый иль обманщик в маске?
Дор: Коль солнцу в стыд носить свое названье
И кажется овце трава безвкусной,
То кисло, грубо и любви признанье.
Но если отвечает светоч дивный
На крик овцы, как знать? Ведя губами
По дудке, не зажгу ль я взор прекрасный?
Но высшее — возвысишь ли словами?
Не сомневайся! У нее в плену я
И мощь теряю, встретясь с ней глазами.
Дик: Пьян, слов твоих изведав глубину, я.
Любовь обнесена любовным светом!
Не умолкай же! Внемлю и ликую.
Итак, любовь была твоим предметом:
Ее вовнутрь ты принял в обитанье —
Как можешь ею быть извне задетым?
Дор: В ней корень — зренье, мысль — произрастанье,
Ребячество в ней — блеск, неловкость — чары,
В ней юность — хмель, а зрелость — чувств томленье,
Ночь сна — унынье, утро — натиск ярый.
В опрятность любо ей, как в плащ, рядиться.
В ней, книге красоты, страницы — чары.
Лазутчик взор, но сторожа ресницы.
Ее величье — щедрой силы руки,
Желанья — крылья, боль — силок для птицы.
Но свет она иль ков, творящий муки,
Берет обманом или добрым словом —
Об этом спорят школы и науки.
Дик: Овца богата мясом и покровом —
Она нам и сдой и шубой служит.
Так и любовь где простотой, где ковом
Наперсников своих обезоружит.
Жена, тебя чарующая ныне,
Другому завтра голову закружит...
Дор: Блаженно имя, данное богине,
Чьи раны как бальзам, чье иго сладость,
В пороках свет, добро в ее гордыне,
304
Слух, зренье, сердце в ней отыщут радость.
Всех не исчислят свойств ее искусства,
Пространство, время, мудрость, старость, младость.
Яр лик ее. Но спелых ягод куст твой
Полн не от солнца ль? Скрылась, отлетела?
Что ж! Солнца нет — в прохладе дня присутствуй!
Но свет послать любовь коль восхотела,
Весь небосвод горит ее лучами.
Дары Венера шлет ей без предела,
Веля ей без конца делиться с нами.
В ней искупленье всех моих страданий,
Дни счастья были все ее дарами;
Глаза ее — вожди моих деяний,
Свет нашей жизни и наставник правый,
Любовь пасет от злобных пожеланий.
Дик: Твой замок рухнет и тебя придавит —
Что на словах основано, то шатко.
Коль бледен ты от женских взоров гневных,
Ты раб, прислужник эфемерных чувств!
Безумье слабость принимать за силу,
Раскаешься ты в глупости опасной.
Дор: Кощунственник, не оскорбляй святыню!..
Грудь остриям отдать, а душу аду
Все легче мне, чем осквернить свой слух
Словами низкими из уст нечистых!
Стада, остерегайтесь! Здесь в округе
Волк рыщет, не похожий на других:
Не слабых режет он, а самых сильных
Обарывает и вминает в землю!
Подпаски, злобных уст остерегайтесь,
В которых яд для чувств и для души!
Спасайтесь бегством от таких гадюк,
Чьи речи — лестница и мост бесчестья,
Кто честь и доблесть зрит в одних убийствах!
Дик: Ты далеко зашел в укорах, Дор!
На разум твой любовь ловушки ставит.
Теперь пора прервать нам наши песни,
Чреватые раздором. Лишь замечу:
Безумца ярость будит состраданье,
Не то что вздорный гнев. И говорю я:
Храни на перемену упованье,
Звезду благую над тобою зрю я;
Природа исцелит, любовь желанье
20 Заказ 1414
305
Твое исполнит. Трезвенный рассудок
Мнит истиною самого себя,
А я ручаюсь нашей давней дружбой.
Дор: Всегда в чрезмерном рвении ошибка
Хоть добросовестная, но таится:
Совсем не дружеское это дело -
Бесчестить ядовитыми словами
Ту, чье лицо как небосвод в зерцале.
Ее утративший и сам потерян,
От цели наслаждений он отбился,
Подхваченный неразберихи вихрем!
Как ты за гневный натиск мой решился
Воздать добром, так об одном молюсь я —
Чтобы увидеть мне, как ты влюбился!
Ты говоришь, что без ветрил ношусь я,
Но лучше быть безумным — лишь бы с нею!
Всецело покорюсь ее веленьям...
От всех недугов зрю в ней панацею;
В ее руках ремни для управленья
Моею волей, с ней — собой владею.
Ничто не вызовет в ней противленья.
Все то, что ей противно, я злословлю,
Все то, что не угодно ей, хулю я!
Смерть — радость, но ее не тороплю я,
Притечь не тщусь к небытию под кровлю:
Мне больно жить, но лишь живой люблю я
И к зыби дух незыблемым готовлю!
Они доставили огромное удовольствие слушателям, особенно Зел-
мане, которая никогда не забывала по-доброму отозваться о своем друге
Доре, и Базилий позвал Ламона, чтобы он завершил праздник своим рас-
сказом о Стрефоне и Клае, предвкушая удовольствие, которое получит
Зелмана, тем более что он уже говорил с ней об этом. Но так случилось,
что болезнь помешала Ламону прийти на праздник, поэтому юные па-
стухи Хистор и Дамон приняли имена своих друзей соперников, чтобы
развлечь Базилия их жалостными эклогами и сначала вот этой:
Стрефон — Клай1
Стрефон: Вы, боги, что стада ведете в горы,
Вы, нимфы, чей приют — ручьи и долы,
1 Эта и следующая эклоги первоначально были помещены в четвертую кни-
гу как часть плача об умершем Базилий. Двойная сестина состоит из двенадцати
строф, шесть стихов которых заканчиваются одними и теми же шестью словами
в разном порядке. В последних трех строках есть все шесть слов.
306
И вы, веселые сатиры в чащах,
Послушайте унылые напевы:
Я петь начну, когда наступит утро,
И все пою, пока не снидет вечер.
Клай: Меркурий, предвещающий нам вечер,
Диана-дева, чьи владенья — горы,
Прекрасная звезда, чье время — утро,
Пока мой голос оглашает долы,
О, слушайте унылые напевы,
Что Эхо повторяет в диких чащах.
Стрефон: Я некогда был рад свободе в чащах,
Где тень мне полдень нес, утехи — вечер;
Когда-то славились мои напевы,
А днесь, изгнанник, вознесен я в горы
Отчаянья, сошел к унынью в долы,
И, как сова, я проклинаю утро.
Клай: Я прежде радовал любое утро,
Охотился в непроходимых чащах
И голосом моим шумели долы,
А ныне мрачен я, мне день — что вечер,
Кротовьи норы круты мне, что горы,
И стоны исторгаю, не напевы.
Стрефон: И лебединые мои напевы,
Которыми оплакиваю утро,
Давно взлетают, полны смерти, в долы,
И в мыслях заблудился, словно в чащах,
И всем отрадам наступает вечер,
Достоинство с высот нисходит в долы.
Клай: Давно все те, кто населяют долы,
Меня молили прекратить напевы,
Что отравляют им и день и вечер;
Ночь ненавижу, ненавижу утро,
Терзают мысли, словно звери в чащах...
Когда б меня похоронили горы!
Стрефон: И мнится мне, что царственные горы
Обращены в заброшенные долы;
И мнится мне, что совы в темных чащах
Внушают соловьям свои напевы;
И мнится мне, что благостное утро
Превращено в смертельно тихий вечер.
307
Клай: И мнится мне: настал дождливый вечер,
Когда рассветом озарились горы;
И мнится мне: когда настанет утро,
Цветы зловоньем наполняют долы;
И мнится мне, чуть слышу я напевы,
Что это вопли жертв разбоя в чащах.
Стрефон: Хотел бы я поджечь деревья в чащах,
Я солнцу шлю проклятья каждый вечер,
Я проклинаю нежные напевы,
Завистник злобный, ненавижу горы
И всей душою презираю долы,
Мне мерзки ночь и вечер, день и утро.
Клай: Проклятьями я привечаю утро,
Мой огнь грозней бушующего в чащах,
Стал ниже я, чем низменные долы,
Последним я считаю каждый вечер,
К позору моему привыкли горы.
Боюсь, меня с ума сведут напевы.
Стрефон: Ведь та, что гармоничней, чем напевы,
Чья прелесть ослепительней, чем утро,
Та, что величественнее, чем горы,
Та, чей стройнее стан, чем кедры в чащах,
Меня отныне ввергла в вечный вечер;
Двух солнц ее не видят больше долы.
Клай: Она, в сравненье с кем и Альпы — долы,
Рождающая в небесах напевы,
Она, чей облик солнцем полнил вечер,
Несущая в своем обличье утро, —
Ее теперь не видно больше в чащах,
И запустеньем стали наши горы.
Стрефон: Нам это горы подтвердят и долы,
Клай: И в чащах слышны горькие напевы.
Стрефон: То нам на утро гимн...
Клай: ...и песнь на вечер.
Однако, словно не устав, а едва разохотившись, Стрефон вновь заго-
ворил десятистрочными строфами, которые вместе с ответами Клая со-
ставляли то, что в поэзии называется венком.
308
Стрефон — Клай
Стрефон: Я горю рад; я радость прочь гоню;
Не дай мне бог изведать облегченье!
Все чары обрезаю на корню,
Их смертью тешу я воображенье.
Чем непереносимей ощущенье,
Тем нестерпимей жажда ощутить.
У сердца гибель я свою храню;
Я слеп, мне красок дня не возвратить;
Живу на пепелище, для страданья;
Не с горем - с жизнью чаю расставанья.
Кяай: Не с горем — с жизнью чаю расставанья,
И жизнью названный постыл мне срок.
Дни, данные Природой, — срок терзанья, —
Об них и Смерть свой затупит клинок,
Чтоб хлад се познать я вживе мог.
Так, сговорясь о мне, Жизнь, Смерть, Природа
В ткань сердца врезали мне знак страданья.
Пусть так. Благоуханная свобода,
Прощай! Зову могилы гнусный смрад.
Одни несчастья звезды мне сулят.
Стрефон: Одни несчастья звезды мне сулят,
Я ублажаю то, что стало мною;
Коль в жилы мне вольют целебный яд,
Восторжествует скорбь такой ценою,
Поскольку весь я полон ей одною.
Себя во мне любить угодно ей,
Лишь ей — меня другие не хотят.
Что ж, Скорбь, прибегну к помощи твоей:
Тобой лишь я богат, а ты богата
Всем тем, что душу губит без возврата.
Клай: Всем тем, что душу губит без возврата,
Вихрь, на меня накинувшийся, полн;
Не слезы — град; не крики — шум раската;
Душа — та даль, что скрыта мраком волн,
И та пучина, что приемлет челн,
И вихрь, деревьев строй с корнями рвущий.
Надежда лишь отчаяньем чревата.
Выносит, впрочем, этот вихрь всяк сущий —
Меня ж ничье усердье не спасет:
Я собственных терплю обломков гнет.
309
Стрефон: Я собственных терплю обломков гнет.
Причины, следствия, концы, начала —
Все суть во мне. Так кто меня спасет?
Моя ладья (я сам) любви искала,
Но мачта Утешенья в волны пала,
Надежда порвала ума канат,
Воображенья груз ко дну идет,
И ветер гонит палубу назад;
Стараний доски буря расщепила:
Скала Отчаянья — блаженств могила.
Клай: Скала Отчаянья — блаженств могила.
Я пахарь, и Желание — мой плуг,
А семя — правда слов моих и сила.
Браздами мыслей я покрою луг,
И, полем став, он мне воздаст сам-друг.
Вот время незаметно пробежало,
И надо к жатве приступить уж было,
Но Нищету и Зло земля рождала.
Хоть зреньем слаб я, Правда на виду:
В Отчаянье награды нет труду.
Стрефон: В Отчаянье награды нет труду.
Я рыбу мнил волшебную Торпедо
Поймать на Воли тонкую уду.
Хоть Упованье опытно и седо,
Фантазия, ребенок-привереда,
Упрямой оставалась, как скала:
Уду с добычей я назад веду,
И чревеса она надорвала.
Личиной смерти был прелестный лик —
И самого себя ловец настиг.
Клай: И самого себя ловец настиг.
Лобзаньями я покрывал поляну,
Где василиск прекрасный сей возник.
О, этот миг я клясть не перестану.
Мой взгляд струил ей нежность несказанну —
Ее являл лишь удивленье взгляд.
И сердце с места сорвалось в тот миг,
Как будто впив ее сладимый яд:
Меня оставив Смерти, мчалось к ней.
Так Жизни наступил конец моей.
Стрефон: Так жизни наступил конец моей;
Смерть забрала меня как такового —
Но Жизнь цвела в моем стремленье к ней,
310
Я зрел ее, я был под властью Кова —
Она ж ни взора для меня, ни слова.
Уже мертвец, я распадался в прах,
Но Дух во мне томился тяжелей,
Чем страждет плоть: он был не в облаках,
Но плен влачил в безжизненном составе,
Кромешный ад претерпевая въяве.
Клай: Кромешный ад претерпевая въяве,
Чтоб кончить пытку, я согласен был
Земной и горней изменить державе.
Но как бы я конец ей положил?
Я в жизни был мертвец — я в смерти жил.
Прекрасная, единственная, ты ли
Причастна к этой мерзостной отраве?
Ты солнце в небе, но твои застыли
На мне лучи; я рай игрушкой мню;
Я горю рад; я радость прочь гоню.
Стрефон: Я горю рад; я радость прочь гоню.
Обоим нам сужден конец без славы.
Как ты, дыханьем лес я бременю,
И песнь свирелей наших сушит травы.
И так эти печальные жалобы соответствовали настроению царствен-
ных слушателей, что, сравнивая услышанное с собственной судьбой, они
долго молчали, погрузившись в грустные размышления. Заметив и осудив
это, старик Герон пожелал доказать, что мудрым старикам под силу менять
настроение (которое считал капризом) молодых людей, однако не говоря
об этом впрямую, он наклонился к юному пастуху по имени Филисид1 (ко-
торый не плясал и не пел, но все время в глубокой задумчивости пролежал
под кипарисом, подставив под голову руку, так что ни одно из его чувств не
доносило до разума удовольствия от происходящего на празднике). Герон
похлопал его по плечу со стариковским изяществом, но с необычной для
его возраста живостью, после чего начал новую эклогу.
Герон — Филисид
Герон: Филисид, скорбь на волю отпусти!
Уступишь ей — сильней терзать начнет.
И, дабы ей не подчинить сердец,
Давай споем! Песнь разгоняет страсти,
А дать тебе совет в моей же власти.
Филисид: Едва ли больше прав кто потопил
В забавах внешних внутреннюю скорбь,
1 Филисид — псевдоним самого Филипа Сидни, а следующая эклога перво-
начально была помещена в первую книгу «Старой Аркадии».
311
Чем тот, кто маслом мнит залить костер
Или склонить мечтает к нежной дружбе
Того, кто держит сто злодейств на службе.
Герои: Все на земле имеет свой конец:
Беда теперь жива, потом умрет!
Предай себя добру; поверь, оно
Твоей душой займется не без прока:
Спасались в нем и демоны порока.
Филисид: Как пушкой не владея, город брать —
Так и меня упрямого учить!
Добро слезам небеспричинным друг.
Все там, в конце — и скорбь, и утешенье,
И то, о чем еще ты рек, — спасенье.
Взрастишь ли древо там, где нет семян?
Как быть, когда совет не по уму?
Да ты хоть разъясни мне, в чем беда!
Когда напасть сменяется напастью,
То знак, что звезды повернулись к счастью.
Филисид: Дай мне Фортуна лучший свой дворец
Иль будь я взыскан каждою звездою,
Все будет так же — мне один конец,
Я корм беды и лучшего не стою
С тех пор, как госпожой моей судьбы
Та, чьи и звезды, и Судьба рабы.
Герон: Подумай, не было ли так всегда,
Что тем мы боле пользы извлекаем,
Чем причиняют боле нам вреда?
Но если мы совета убегаем,
Свой разум уводя из света в тьму,
Мы на спасенье тщетно уповаем.
Все явленное взору твоему
Унынья сквозь ты адом зришь, не раем:
Огнь, воду, твердь, подземную тюрьму.
Мы неодушевленный мир пытаем —
Как может он понять, что нас гнетет?
А кабы знал, какими мы бываем,
Он нас низвел бы с царственных высот.
Тиранку призови к смиренью строго,
Мятежных мыслей опрокинь оплот:
Служебна мысль, не позволяй ей много.
Любовь? Да то ли ты ей имя дал?
К беде не приведет любви дорога.
Послушай! Должно, чтобы ты восстал
312
И пред людьми явился в полной власти.
Нельзя, чтоб нам слабейший диктовал.
Пахал волну, на ветер ставил снасти
И строил на песке свое жилье
Кто жизнь вложил в персты любовной страсти.
Предать ли мужу мужество свое?
Мужское носит разве что обличье
Кто, взяв жену, не обуздал се.
Неверность — имя первое девичье.
Лишь тем, что тешим их, они горды.
Знай, непреложно двух полов различье.
Филисид: О старый дурень, сколько же воды
Ты льешь вотще! Скорей устройте, боги,
Чтоб взялся он за нужные труды!
Блажен кто скрылся в дальние чертоги
Еще учась, а не других уча.
Язык седин что шип змеи во стоге!
Не задал вовремя я стрекача —
И вот внимаю (дай мне, бог, терпенья),
Как кровь была в их годы горяча,
Как пышны мантии и словопренья;
Но правда здесь — снятое молоко,
А сливки — ложь да преувеличенья.
Глупца средь прочих распознать легко:
Он все твердит: «Когда я был моложе...»
По ум ходить в дни детства далеко!
На ловле хищник, злой исполнен дрожь
В язык и чрево обратится сплошь,
А он, Герон, мешок костей и кожи.
За дряхлого одра мы платим грош;
Построив новый дом, ломаем старый;
Дуб древний только на костре хорош;
Седой баран отринут от отары —
Но старец женится на молодой — •
Трухлявый пень и поросль — чем не пара?
Кто обзавелся белой бородой,
Уже седин своих не изживает,
Так пусть же не позорит возраст свой!
Уж если старших юность уважает,
То старших по уму, не по годам,
Тех, кто и добр, и страх Господень знает.
Герои: Будь ты под маской или слеп я сам,
Сыскал бы все ж к душе твоей я двери —
Судить возможно и по словесам.
313
Ты судишь о других, как судят звери
О людях — пламенных сынах земли,
Чей дух тем выше, чем больней потери.
Вы молодость для жизни сберегли,
Так незачем над старостью ругаться,
К которой вы уж ближе подошли.
Вы сгоряча готовы злу предаться,
А не радеть за дело правоты.
Я стар и хладен, грех мне обижаться,
Хоть вздорных много слов прорек мне ты.
Не гневом я ответствую — советом,
Как из любовной смысл извлечь тщеты.
Страсть разжигать — какая мудрость в этом?
Глазами выпученными смотрит тот,
Кто выставляет жизнь свою пред светом.
Чуть гордый ум подует — страсть в полет,
Она игрушка легкая — не боле,
Хоть горестей рои с собой несет.
Пустышку эту разломаешь коли,
Ты убедишься вскоре со стыдом,
Что сам же был своей причиной боли.
Пусть книги делятся с тобой умом,
Как в злом ее и добром разобраться;
Займись делами разными потом:
Иди в поля за страшным зверем гнаться,
Лови силком и клеем птиц лесных,
Еще лису приручишь, может статься.
А бдений лучше избегать ночных,
Но по утрам в горах сбирая травы,
Лови под вечер рыбок золотых;
Днем поросль нежную лесной дубравы
Привить стремись к садовому стволу —
Сколь сладок урожай от сей забавы!
Из чащи в улей завлекай пчелу,
Но боле стаду отдавай вниманья.
Кто трудится, доступен мене злу.
Филисид: О старческие эти назиданья...
Единственный и благосклонных взор
Всех дел верней излечит от страданья.
Герои изменился в лице, обнаружив, что речи, которые он считал
мудрыми, оказались столь мало полезными для юноши, и, поглядев на
своего старого приятеля Мастикса (одного из самых ворчливых стариков
на свете, который, если кого и удостаивал своим вниманием, то лишь
неодобрительным), заявил, будто мир плохо устроен, но он не знает, как
314
его переделать, и время от времени стал опускать глаза долу, обиженный
пренебрежением к его сединам. Потом он поискал взглядом двух псов,
из которых старшего звали Мелампом, а младшего Лелапсом (сокровища
его жизни) и которые, как раз в это время поссорившись, громко лаяли
друг на друга. Понаблюдав за ними, Герон вновь взял себя в руки и, выго-
варивая Мелампу, заговорил с собаками, словно они могли показать при-
мер послушания невоспитанным юношам.
Герон — Мастике1
Герон: Молчи, Меламп, молчи! Твой друг дерется?
Я стадо не затем доверил вам!
Овец блюдите! Серый встрепенется!
Лишь псы послушные страшны волкам,
А ваш раздор им смелости прибавит;
Где нет согласья, нет и силы там.
И если Лелапсу судьба доставит
Часть лучшую, смирись иль попроси,
А кто завистлив, волка не затравит.
И ты гордыню, Лилапс, угаси!
Ты друга оборол? Заслуга ль это?
К случайности удачу отнеси.
Хвала, что ты от света и до света
Врага моих овец без сна стерег —
Но не оставь и друга без привета.
Окраски волчьей у Мелампа бок
И волком глянуть он подчас умеет,
Но волк насилу от него утек...
Болван же я! Пес речью ли владеет?
Присядь, Мастике! Уж два десятка лет
С тобой бок о бок солнышко нас греет.
Что на твоем лице улыбки нет?
Я поучал тебя? На то старик я!
Но — юность, правь! Смирись, кто стар и сед.
Мастике: Не диво, что строптивый ученик я!
Внимал я наставленьям без числа,
Но немощь всех наставников постиг я.
Спесь наша лишь в спокойный час смела;
Пока затишье, выспаться мы рада,
Но рвем и мечем, как овца ушла.
Вот так моряк спесивый для награды
Рад шляпу снять пред каждым из купцов
И робок он, как встанут волн громады.
Я, как и ты, своих ласкаю псов,
Эта эклога также первоначально была в первой книге «Старой Аркадии».
315
Когда они становятся нужнее,
Не то, как шавок, прочь их гнать готов.
То их луплю, то ласки нет нежнее —
То и другое, впрочем, от души!
Сам не пойму, который я мерзее.
Иль наших первых спор — взглянуть спеши,
С каким бесстыдством худшие пороки
Являют всем они. Так малыши
Пришедши в класс, не выуча уроки,
Друг друга пред учителем срамят:
«Вот он!» — «Нет, ты!» — покуда прут жестокий
Всех не накажет... Дни пастухов летят
В одних забавах: салки, жмурки, прятки —
«Убить бы только время», говорят,
Ни дать, ни взять, как малые ребятки!
Что ж время, как не жизнь? Пойди, смекни!
Прошло — и смерть хватает нас за пятки.
Так к старости свою весну они
Примчат, отбыв на свете срок свой жалкий,
Что рыбки в тинистой своей тени.
И дети путь не шаткий и не валкий
Наш повторят: пример плохих отцов
Все ж лучше, чем учительские палки.
А мы стараться рады для птенцов,
В которых видим жен мужеобразных
И женственных мужей в конце концов.
Герон: Фи, сколько слов я слышал безобразных!
Я все же лучше был в твои лета.
Во всем плоды я вижу мыслей праздных!
Букашка, мушка, если не проста
И не под стать живет своей природе —
Так чище жабы мерзостной уста.
Вот попугай. Толкуют так в народе,
Что к знати вхож он в золотой чертог.
В златой он клетке грезит о свободе!
На чьих губах все сладость да медок,
Глупышкой прослывет, коль не болваном,
Хоть уродись он тучен и высок.
Иль вот. Красавец лебедь несказанным
Иль вот. Красавец лебедь несказанным
Когда-то пеньем превзошел друзей.
И голос и краса! Ну, как бакланам
Тягаться с ним? Мгновенно из князей
Павлин уволен. Галка — что? Болтушка!
Не ханжество ль в степенности гусей?
316
Орел жесток, дурная мать кукушка,
Чиж ветрен, зимородок неумен,
И так ли голубку верна подружка,
Как все твердят? Мир птичий посрамлен.
Тут мысль явилась дичи огорченной
Созвать парламент и издать закон,
Дабы на основании закона
Был у спесивца чудный голос взят
И жил он так, безмолвыо обреченный.
Прислушайся, что притчи говорят!
Пусть твой язык не будет вздорной спичкой,
Ведь злая речь страшней, чем меч иль яд.
Свой видеть грех возьми себе привычкой:
В себя всмотрясь, ты изумишься сам,
Что проглядел слона, следя за птичкой;
Поймешь, как счет велик твоим грехам —
Пятнист что леопард, коль глянуть строго!
Весь мир судить таким ли судиям!
Прощай! Грехов твоих не так уж много.
Ко мне, собаки! Далека дорога.
Герон вместе со своими собаками удалился в уверенности, что за ним
осталось последнее слово, и все засмеялись, удивляясь бодрости старика,
который не переставал ворчать, мол, в молодости он заткнул бы за пояс
двадцать таких юнцов. Базилий же, никогда не слышавший Филисида,
хотя редко пропускал подобные праздники, пожелал, чтобы тот взял себе
в пару кого-нибудь из пастухов и спел в привычной для них манере. Юноша
с большой неохотой, но, повинуясь царю, предложил Тирсу присоединить-
ся к нему, однако Тирс наотрез отказался, так как через несколько дней
должен был взять в жены прекрасную Калу — его желание почти испол-
нилось, и петь ему было незачем. Тогда царь попросил Филисида расска-
зать о себе, ибо он был чужестранцем и никто ничего о нем не знал, но тут
отказался Филисид, извинившись, мол, на празднике негоже предаваться
воспоминаниям о несчастьях. Однако, не желая сердить Базилия, пастух
все же спел эклогу, в которой как бы участвовали он сам и Эхо, причем те
слова, которые принадлежали Эхо, он выделял более высокими звуками
и таким образом изобразил свою беседу в гекзаметрах:
Филисид — Эхо1
Милые скалы, рощи, ручьи, дождусь ли еще покоя? — Покоя...
Странно... Здесь нет никого... Кто же мог произнесть? — Есть.
1 В переделанном варианте, то есть в «Новой Аркадии», Сидни отдал эту эклогу
«некоему печальному пастуху», собираясь, по-видимому, свести до минимума роль
Филисида (то есть свою роль), но его сестра, графиня Пембрук, в издании 1593 года
вернула эклогу Филисиду, как это было первоначально в «Старой Аркадии».
317
Не отдаляйся, приблизься, поговорим! — Поговорим
Что меня ждет, если в душу впущу я несчастье? — Несчастье.
Чем, скажи, излечу я недуг, угрожающий смертью? — Смертью.
Может быть, пусть отравное зелье мне будет дано? — Оно.
Но подожди... Тот, кто вытянул яды из трав... — Здрав!
Все же не лучше ли ум утопить мне в веселье? — Зелье!
Сильный рассудок любое желанье избудет. — Будет!
Снадобье где, если разум стремится на дно? — Одно.
Чем исцелюсь, зараженный навеки любовью? — Любовью.
Что они ищут, забавами скрасить ища дни несчастья? — Счастья.
Где же цель, для которой согласны они
На страданье? — Страданье.
Тем, кто честен в любви, достаются ль победы? — Беды.
Беды? Готов я и к смерти — любовь не пускает. — Пускает.
Знать, влюбленных с тобою сводит природа сама. — С ума.
Как же мне быть? ты мне ничего не сказала. — Сказала.
Ну, а страданий предел указать кто-то мне может? — Не может.
Так кого же в наставники звать для меня
для слепого? — Слепого.
Что за слепцов изберу я, наперсник фантазий? — Фантазий.
Разве прозреют они? Иль ведомый рухнет с горы? — С горы.
Значит, причиною смерти быть может пустяк? — Так.
Где же причина тому, что смерть глядит мне в глаза? — Глаза.
Что меня побуждает испытывать к жизни презренье? — Зренье.
Что же еще обрекает меня на мученье? — Ученье.
Значит, искусство, познанье — они мне враги? — Враги.
Что же исходит от них, что может страданью обречь? — Речь.
В том ли беда, что язык мой искусен в словах? — В словах.
Разве не Божий избранник слагает песню, сонет? — Нет.
Та, кому я пою, ответит песней мне скоро. — Нескоро.
Горько слышать... Но в мыслях она меня помянет? — Нет.
Значит, душа к ней стремится напрасно тогда? — Да.
Будет печальна она, если бури и шторм мне награда? — Рада.
Но ведь ставят в пример ее добродетель всегда. — Да.
Значит, ей имя Обида, Невзгода и Горе. — Горе.
Кажется, мы рассуждать начинаем с тобою согласно. — Ясно.
Все же верю: на этом пути улыбнется мне счастье. — Несчастье.
Проклята будь ты, что счастье мое прокляла. — Прокляла.
В мире, лишенном желаний, что есть ее красота? — Красота.
Что непреклонными быть заставляет их? Гордость? — Их гордость.
Если они прекрасны, то гордость им не нужна. — Нужна.
Ты на святыню хулу непотребную льешь! — Ложь!
Лживое эхо! В красе одна добродетель и правда! — И правда.
Это сокровище впору бессмертным богам, не иначе. — Иначе.
Кто же виновен, что я предпочел свет Красоты
небесам? — Ты сам.
318
Кто же она, чей образ мне стал дороже небес? — Бес.
Бес? Если так, в преисподнюю сразу меня отведи. — Иди.
Все принялись хвалить Филисида за придуманное им эхо, однако он
не обращал внимания на похвалы, ибо не до них было тому, кто вручил
свою честь недостойной подруге. Видя его печальную отрешенность и не
замечая, чтобы кто-нибудь желал петь, Зелмана отпустила на волю свои
долго сдерживаемые чувства (желая лишь, чтобы ее голос был услышан
Филоклеей) и утешила себя песней в духе Анакреонта1:
О муза, что со мною?
Я тайну тайн нарушил.
Увы, немного славы
Петь о своем разоре,
Увы, не радость это —
Бросать слова на ветер,
Увы, не мудро раны
Казать, а не лечить.
О муза, что со мною?
Взор мутен, в членах трепет,
Глас хриплый, пламя в горле,
Язык к гортани липнет,
Слог темен, тьма на сердце,
Жизнь увяданья жаждет,
Душа торопит гибель —
Так весь я сгублен страстью:
Нарыв жестокий зреет,
Его же страшно вскрыть.
О муза, что со мною?
Уж если к песне клонит,
Пой, как погибли Фивы,
Пой конских чудищ битвы,
Жизнь Гектора и гибель,
И стань певицей славы.
Любовью вдохновишься —
Пой о Европе нежной,
Адонисе несчастном,
Эндимионе вещем —
Приятной будет песнь.
О муза, что со мною?
Я тайну тайн нарушил;
1 Анакреонт (ок. 570—478 до н.э.) — лирический поэт Древней Греции.
319
Плоды жестокой муки
Красуются, румянясь,
Песнь — стон последней воли,
Кричат слова и звуки,
Лишь о певце все песни —
Нет радости в них миру,
И не открыто взорам
Ни славы, ни услад.
О муза, что со мною?
Ответствует: «Вот, здесь я,
Твоим страданьем стражду,
В твое вникаю сердце,
Испепеляясь жаром,
Кладу на свой твой голос,
И вот она, в которой
Всех мук твоих несметных
Источник, — к ней взываю:
Тебя избавит пусть».
Пой, муза. Уступаю.
Но тут прервется песня.
В любви вся сущность жизни,
Любви же суть вся в смерти.
Ни жизнь не дорога мне,
Ни смерти не бегу я:
В руках моей богини
И жизнь моя, и смерть.
Когда Зелмана умолкла, Базилий простерся на земле и возблагодарил
богов за то, что они позволили ему дожить до этого часа и услышать ме-
лодию, которую лишь они могли вложить в смертные уста. Потом он при-
нялся молить Зелману, чтобы она спела еще что-нибудь, и молил до тех
пор, пока она (взяв из руки Базилия лиру) не запела фалекием Катулла1:
Скажи мне, Разум, будет ли разумно
Противиться, когда идет на приступ
Полк Чистоты, Фортуной оснащенный,
Где грации штандарт подъемлют гордый,
А Красота командует атакой?
Что ты советуешь, скажи мне, Разум?
Ее власы разметанные — пули,
Движения — разведка, груди— пики,
1 Фалекий — прием нанизывания однородных строк. Гай Валерий Катулл
(ок. 87—54 до н. э.) — римский лирический поэт.
320
Ее уста, скрывающие перлы,
Отменно служат полковой казною,
А ноги движут весь прелестный лагерь, —
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.
Ее глаза — орудия, мои же —
При первом залпе рухнувшие стены,
И мозг мой тотчас же взлетел на воздух,
Подорван речью, что пронзает мысли.
Я сам себя ослабил, нет подмоги —
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.
И слава, чести истинный глашатай,
Устами всех людей вещает ныне,
Что сущего владычица, Природа,
Повелевает всем склонить колена
Перед ее любимицей единой, —
Что ты советуешь, скажи мне, Разум.
Вздыхая, Разум наконец ответил:
Нет сил у Разума в делах небесных.
Что ж, я сдаюсь тебе, алмаз Природы,
Перл чистый, я и душу сдам и чувства,
Боль сладкая, все сдам, чем обладаю.
Спасайся, Разум! Я служу богине1.
Дор долго, как ему казалось, молчал, воздерживаясь от прославления
той, в которой слава нашла свое воплощение (он был в этом уверен), но
тут и он запел стихами, названными асклепиадовыми.
О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Здесь вечно волен разум человеческий
Повиноваться гласу добродетели,
Видна здесь чувствам стройность мироздания,
А мысли постигают суть Создателя.
Тут Созерцания престол единственный:
Безбрежное, крылом надежды поднято,
Оно взлетает к звездам над Природою.
Тебе покорно все и не смутит ничто,
Все мысль рождает (мысль же — всем наукам мать),
А птицы певчие дарят мелодии,
Деревьев сень — тебе защита верная,
И лишь в тебе самом — тебе опасности.
1 Перевод В. Рогова.
21 Заказ 1414
321
О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Здесь не таится взор змеиный зависти,
Измена не прикинется невинностью,
Льстецы не брызжут скрытою отравою,
Не путаются мненья хитроумием,
Не губит вежливое ростовщичество,
И пустословью не родить невежество;
Нет чванства, нет и долга беспричинного,
Не ослепляют титулы тщеславные,
И раем цепь из золота не кажется.
Здесь кривды нет, здесь клевета — чудовище,
От века поношенья здесь неведомы,
И кто к стволу привил бы ветвь двуличия?
О рощи, милый край уединения!
О, как любезно мне уединение!
Но ежели душа в прелестном облике,
Нежней фиалки и прекрасней лилии,
Стройна, что кедр, и Филомела голосом;
Кому нигде не ведомы опасности,
Мудра, как воплощенье философии,
Добра, как ликованье безыскусности,
Та, что погасит взор змеиный зависти,
Лесть обессилит, клевете уста замкнет —
Когда она возжаждет одиночества,
И взор ее и поступь встретим радостно;
Не повредит она уединению,
Украсит нам она уединение1.
Другие пастухи пожелали перейти к спортивным соревнованиям, од-
нако от ночи уже незаметно минула половина, и царь этому воспротивил-
ся. Зелману отнесли в ее покой, хотя она с удовольствием сама отнесла бы
Филоклею, и все отправились обманываться сном, ведь из-за мучитель-
ных мыслей не могли насладиться настоящим сном. Они лежали в своих
постелях (мечтая в одиночестве о тех, кто питал их желания) почти до
полудня, после чего Базилий продолжил моления Аполлону, а все осталь-
ные — размышления о тайных желаниях.
КОНЕЦ ВТОРОЙ КНИГИ
1 Перевод В. Рогова.
ТРЕТЬЯ КНИГА
Глава первая
Опасности прошедшего дня заставили любящую Памелу осознать,
сколь много она потеряла бы, если бы Дор погиб, и в ней пробудилась
такая нежность к нему, что она больше не могла помешать своей любви
являть себя во взглядах и словах, хотя прежде держала ее узницей в сво-
ем сердце. Не только в его речах и письмах, но и в жалобном слоге его
томных жестов и незамысловатой тайнописи печальных взглядов Памела
распознала отчаяние, которое грозило Дору гибелью, и была готова его
пожалеть, более того, показать ему, что жалеет его, растопив свою преж-
нюю холодность теплым сиянием и внимая рассказам о его приключени-
ях (когда он прибегал к это уловке в третьей ипостаси Музидора); и так
далеко она зашла в своих намерениях, что заявила, полюби ее переоде-
тый царь, она бы ответила на его честную любовь честной любовью, ибо
уверовала в душе, что лишь добродетельный рыцарь может любить по-
настоящему; и еще долго она со страстью рассуждала о благородстве и
искренности.
Удивительно, но, когда этот неожиданный свет впервые воссиял Дору,
он (подобно закоченевшему на морозе человеку, вдруг оказавшемуся воз-
ле жаркого огня) был скорее подавлен, чем обрадован свалившимся на
него счастьем. Правда, вскоре природа взяла свое, и он ощутил сладость
победы, но тут опять, будучи сыном страсти, не знакомым с заурядными
чувствами, он не сумел правильно определить границы своего счастья и
пожелал для себя неограниченную монархию. Счастье захлестывало его
и земля уходила из-под ног, оттого он не удержался и совершил ошиб-
ку, которая вздохами извергла из его сердца восторг, а слезами смыла
со щек веселье. Благосклонность Памелы наполняла его надеждами, на-
дежды потворствовали страстям, а страсти лишь искали удобного случая,
и однажды (когда мать позвала Мопсу, и он остался наедине с Памелой)
неожиданная удача кликнула Любовь, которая, не медля и не спросив
разрешения у разума, побудила влюбленного Дора обнять Памелу и по-
целовать ее, чтобы, как говорят, получить победный трофей.
21*
323
Но Памела (словно собираясь отпить великолепного вина и неожи-
данно обнаружив в нем яд, оттолкнула его) возвела очи к небу, будто изу-
мившись своею ошибкой, а потом столь жестоко наказала Дора, сколь
могли наказать лишь разгневанная любовь и запятнанная красота. Она
посмотрела на него с презрением, с брезгливым презрением, и прогово-
рила:
— Прочь! Ты недостоин любить и быть любимым! Запомни, я нена-
вижу себя за то, что позволила обмануть себя, а теперь слушай, как я от-
плачу тебе за обман. Никогда больше я не увижу тебя, ибо ты позор моего
ума и пятно на моей совести.
Не дожидаясь ответа (которым стал поток слез), Памела, сделав вид,
что ничего не заметила (и не смягчилась), кликнула Мопсу и выбранила
ее за то, что та оставила ее одну.
Изумление, печаль, едва ли не смерть завладели Дором, который не-
пременно убил бы себя в ту же минуту, если бы страх (вопреки ее при-
казанию) продлить свое пребывание в ее покоях не сохранил ему жизнь.
Он убежал с ее глаз в лес, упал там на землю под каким-то деревом, но
не жаловался на судьбу (ибо не жалел себя) и не роптал (ибо не на кого
было роптать), но проклинал свою жизнь, потому что Дор возненавидел
себя. Он был не просто несчастным влюбленным, он был влюбленным,
низвергнутым с вершины счастья и низвергнутым не по чужой, а по сво-
ей вине, и виноват он был не перед кем-нибудь, а перед Памелой, и Дор
не жалел себя, а презирал, с жадностью припоминая все самое для себя
мучительное. Два дня он оставался в лесу, отказывая телу в пище и разуму
в покое и почитая в себе лишь любовь к Памеле, которая боролась с его
неизбывным страданием, доказывая ему, что, погубив Дора, он погубит
и ее образ, который живет в нем. Когда это проникло в его мысли, то
в нем понемногу вновь окрепла верность святому образу, заставившая его
оплакивать не себя (которого он ненавидел), но гибель великой любви.
Со временем он так далеко зашел в своих мечтаниях, что стал рассчиты-
вать на прощение Памелы, однако ему и в голову не приходила мысль об
отмене наказания, поэтому он позволил себе уповать на то, что Памела
пожалеет о нем после его смерти, так как причиной его преступления
была любовь, а не бесстыдство.
Когда же эта мысль прочно укоренилась в его голове, Дор, потеряв
право видеть Памелу, задумался о письме, в котором мог бы признать-
ся ей в своих чувствах и покаяться в совершенном преступлении. И вот,
получив необходимое, он решил, что имеет смысл изменить почерк (из
боязни, что, узнав его почерк, она не станет читать письмо) и облечь свое
послание в стихи, ибо это дает надежду, что она дочитает его до конца.
Итак, Дор выбрал, пожалуй, самую подходящую форму для выражения
скорби — элегию. Никогда еще перо не дрожало так в его руке, выполняя
свою работу, никогда еще так усердно не орошал он бумагу чернилами и
слезами, никогда еще слова не медлили так перед тем, как лечь на бумагу,
никогда еще Музы не уставали так от бесконечных переделок и поправок,
ибо Дор боялся неправильно закончить послание, еще не решив, чем его
324
начать — он сомневался в каждом слове и приговаривал к уничтожению
едва ли не каждую фразу. Одно слово казалось ему безликим, другое —
простоватым, третье — двусмысленным, четвертое — непонятным; то он
выражал недостаточно печали, то ее было слишком много; то искусство
ущемляло право страсти, то страсть брала верх, не вызывая достаточно
сострадания.
Наконец, немало попортив свое послание поправками и вымарыва-
нием лучшего ради худшего, Дор поставил точку, но, поставив точку, мно-
го раз был готов разорвать свое письмо, пока здравый смысл не подсказал
ему, что чем больше он исправляет, тем хуже результат. Тогда он стал мо-
литься о том, чтобы Памела отнеслась к нему благосклонно, потом улу-
чил момент, когда все, кроме Мопсы, ушли обедать в другой дом, и, про-
скользнув в покои Памелы, положил письмо на ее чернильный прибор
(который поцеловал, умоляя сохранить письмо) в надежде, что Памела
заметит его, едва ей понадобится что-нибудь написать. Для большей на-
дежности (вновь ощутив себя узником печали) он переставил прибор по-
ближе к изголовью кровати и оказался прав.
Возвратившись после обеда к себе, Памела увидела чернильный при-
бор не на своем месте и развернула послание. Сердце подсказало ей, от
кого оно, поэтому она немедленно бросила его и отошла подальше, слов-
но бумага была заразной; но прошло немного времени, и она пожалела,
что не прочитала послание Дора, хотя бы ей этого и не хотелось.
— Неужели я, — воскликнула Памела, — оправдаю бесстыдство Дора,
если всего-навсего прочитаю его самонадеянные вирши? К тому же, —
убеждала она себя, — он не видит меня и не станет бесстыднее, да и от-
куда мне знать, что стихи дерзкие, если я их не читала?
Послание от Дора, поэтому оно недостойно того, чтобы его читали,
но бумага-то не виновата. Так размышляла Памела. В конце концов она
решила, что не будет большой беды, если заглянуть в письмо, ведь то-
гда она сможет с новым основанием предъявить Дору свои претензии.
Памела развернула письмо и тотчас вновь бросила его, потом опять взяла
в руки и опять бросила, и так продолжалось до тех пор, пока она не обна-
ружила, что ее глаза уже читают строчку за строчкой.
Бедной душе, исстрадавшейся страстью безмерной,
Силы уже не дано верить в спасенье свое.
Взор один подари изваянью собственной скорби
Ты в его превращенье повинна (больше никто).
Добро-жестокая, не восприми, молю я, превратно
Просьбы моей — будто жалость силюсь внедрить
Долгим перечнем ран в досель ей чуждое сердце.
В сердце твоем состраданье, как дома, живет
(С ним в соседстве живут еще добродетелей много:
Мир, святая любовь, благодарность, сердечный привет),
Но почему же они к людям не выйдут из дома?
Скорби полон вопрос — таким же будет ответ.
325
Многие (я не один) твою изведали твердость:
Мраморам царским она, лучшим алмазам сродни.
Эти зеницы (они омытым слезами печали
Взорам людским не чета) — они непреклонны, как ты.
Эти глаза надо мной усмехаться лишь могут:
Столько чернил перевел и бумаги зазря замарал.
Вот я чего не пойму, хоть в этом мое же блаженство
(Не в долголетии Нестора и не на троне царя),
Вот я чего не пойму: если мышь на высоты дерзнула,
Ждать снисхожденья от горнего тигра возможно ли ей?
Словно проклятию преданный, душу излить я желаю —
Не исцелюсь никогда, не буду понят никем.
К смерти лишь доступ обрящу, смягчившись душою,
С миром простясь и с отрадой единой моей.
Сердце словно кипит, распалясь от пламени взора —
Горя пары исторгает кипенье его.
Жизнь и любовь страдальца — обе конца взыскуют —
С жизнью, которою жил, расстаться пришел черед.
Чудная, это ль безмерной твоей красы изволенье?
Смертью ли быть красоте? Затем ли в мире она,
Чтобы его изумить превращеньем таким безобразным?
Если голубка из кроткой станет свирепой как тигр,
Мир перестанет любви поклоняться, и боле —
Возненавидит любовь, мстить поклянется любви.
Как? За меня ли, презренного, ей, совершенной, отмщенье?
Разве за муку червя воздают наказанье звезде?
О, если кто-то за гибель мою вознесет ей отмщенье,
Мерой стократною пусть люди ему воздадут.
Я был повинен в любви, пусть любовь же меня и осудит —
Высшим возмездьем своим да покарает меня.
Все ж если грех любовь, то фех же быть столь прекрасной;
Губит меня не любовь — вид твой, достойный любви.
Ты — причина беды? Но ведь тень обвинить невозможно,
Что нераздельно бывает близ тела она.
Все же скрывать учись красоту, коль брезгуешь чувством,
Засти покровом густым обворожительный взгляд.
О глупец! Эти очи сверкали во мраке глубокой пещеры,
Что им покров, если чудо они из чудес?
Как рассыпалась дивно при каждом ветра порывы
Локонов этих волна, вервий неволи моей.
О глупец! Когда б я нашел лишь один ее волос,
Должен был бы понять, что он опутал раба.
К древу смерти твоей пригвождаем снова улыбкой
Портит она (в ней злоба любви) твою красоту.
Что говорю я негодный! Ее ли можно испортить?
326
Взор ли пристрастный людской солнечный лик очернит?
Пусть лучше тьма киммерийская мне обиталищем станет,
Выйдут глаза из орбит, мозг повредится больной,
Прежде чем целой земле вред нанести я успею,
Клад несравненный ее дерзкой пятная хулой.
Ты лишь такую любовь делить изъявляешь готовность,
Чтобы, смиренью учась, убегала замыслов злых.
О простодушная, где ей возьмется наставник в смиренье?
В школу, к учителю с розгой не ходит шалун Купидон.
Впрочем, виновен и я: был сломлен страстью рассудок,
В ярость выросла страсть, к отмщенью ярость влекла.
Но за какие грехи была наказана вера,
Чистая, истовая, без червоточин внутри?
Должен ли я навсегда и самую память изгладить
Мест и времен, где вкусил дивных забав я сполна?
Разве же милость твоя не являлась как дар человеку,
Коий теперь от тебя имеет напасти одни?
Память клоню к словесам, что она мне прежде шептала.
Переменились ли мир иль сердце ее?
Был я достоин всех благ, теперь всех зол я достоин,
Мил был, стал пренебрегнут, близок — ныне далек.
Пахло роз лепестками губ розовых этих дыханье
С возгласом: «Что у меня есть, чем ты обделен?»
Всем обделен я теперь — не обделен лишь презреньем,
Горечью не обделен, обидой, колкостью злой,
И от уколов ее мне нельзя искать исцеленья,
Ибо она не велит, чья воля сердцу закон.
Если хоть ты «прощай» сказать мне дозволишь,
Молвлю: «Прощай навсегда, горе и счастье мое».
Глава вторая
Памела еще сама не разобралась, какие чувства пробудило в ней по-
слание Дора, и ее разум еще не уладил спор меду благосклонностью и
осуждением, как Филоклея и Мисо позвали ее развлекать Зелману, при-
шедшую навестить сестер, над которыми, словно над двумя полюсами,
сияло небо красоты. В это время Гинесия изнуряла свою постель пе-
чальной болезнью и заставляла сварливую Мисо (подобно духу, стерегу-
щему сокровище, стоять стражей между Зелманой и всеми остальными)
быть наместницей ее ревности. И Гинесия и ее супруг довели Зелману
до ужасного состояния (из-за невозможности и ответить на их чувства
и отвергнуть их), так что единственный выход она видела в том, что-
бы избегать общения с ними. Итак, в тот день, который был четвертым
днем после бунта (когда Базилий в покое своей больной жены обсуж-
дал с ней собранные Филанаксом и его соратниками сведения, которые
уличали Цекропию в том, что она либо подогрела бунтовщиков, либо
разожгла из искры пламя), Зелмана отправила свои чувства на поиски
разума, ибо он давно покинул ее, постоянно пребывая возле Филоклеи,
а та с робкой радостью (словно стыдясь того, что не может печалиться)
позвала сестру, чтобы как можно приятнее использовать нечаянно вы-
давшийся досуг.
Пока они придумывали, как бы добавить перьев крыльям времени,
к дому подошли шесть девиц в одинаковых алых юбках, едва доходивших
им до колен и украшенных листьями. На черных шелковых шнурках, за-
вязанных повыше обнаженных лодыжек, у них звенели колокольчики,
и точно такие же колокольчики были повыше локтей на обнаженных ру-
ках. Венками из роз и левкоев они украсили свои головки, а волосы заче-
сали так, что венки, соединяясь с ними, будто прятались в них, и было не-
понятно, то ли волосы украшали венки, то ли венки — волосы. Их груди
были открыты взглядам. И лица, даже не поражая красотой, доставляли
удовольствие своим очарованием и могли бы быть прекрасными, если бы
жадный Феб не целовал их так часто и так крепко. Двигались они граци-
озно и торжественно, и их жесты могли бы красотой соперничать с их об-
ликом, своенравно застенчивым и соблазнительно безмятежным. Каждая
из девиц держала в руках музыкальный инструмент, чьи прелестные звуки
могли бы стать обвинением в бесчувственности любому, кто не пленил-
ся бы ими. Когда мелодия проникла в покой, дамы пожелали взглянуть,
откуда явилась столь приятная гостья, и вышли из дома, но прежде чем
у них зародились сомнения, тем более прежде чем они успели вымолвить
хоть слово, самая прекрасная из девиц (весело, но с осмотрительностью)
заговорила так:
— Прекрасные дамы (ваши совершенства побуждают города зави-
довать здешним лесам и признавать уединение самым приятным обще-
ством), выслушайте нас, ибо наши речи — посланцы любви и пославшие
328
их достойны любви. Зная о том, что местные пастухи довольно часто
устраивают здесь, в запретном для всех остальных месте, свои праздники,
которыми и вы не пренебрегаете, девицы Аркадии, мы, побуждаемые со-
перничеством и любовью, тоже решили устроить что-нибудь для вашего
удовольствия; поэтому с верой в то, что добрые намерения и безобидная
женственность послужат оправданием нам, нарушившим запрет, нас при-
слали пригласить царя с царицей и прекрасных царевен на состязания,
которые будут устроены на поляне в полумиле отсюда, чтобы вы почтили
их своим вниманием. Мы уже побывали у царя Базилия, но он сейчас за-
нят более важными делами, однако мы надеемся, что вы не откажетесь
озарить сиянием ваших глаз наш праздник.
Некоторое время дамы пребывали в сомнении, не зная, как им по-
ступить, и опасаясь вызвать недовольство Базилия. Однако Мисо (кото-
рая никогда не бывала на сельских праздниках и очень хотела доставить
удовольствие своему старому сердцу) заявила, мол, нечего раздумывать,
идти или не идти, потому что надо идти, иначе простые люди сочтут вы-
соких дам привередами, о чем они и так уж поговаривают. Радуясь, что
можно оправдаться решением Мисо, дамы с беспечностью подчинились
ему, и лишь Памела поискала взглядом, не видно ли где Дора (который,
бедняжка, бродил по лесу, почти теряя разум и умоляя о прощении ту,
которая не могла его слышать), пожалев, что его нет рядом, ибо нанесен-
ная ему рана прошла и через ее сердце тоже. Итак, мягко шагая под му-
зыку, три дамы и Мисо отправились следом за шестью нимфами, не взяв
с собой лишь Мопсу, которая заплакала, уродуя слезы своим лицом, ибо
ее мать не решилась ввести ее в круг прелестных девиц. До названного
места царевны, как им показалось, дошли вдвое быстрее, благодаря ча-
рующим мелодиям и приятным речам, которыми их развлекали девицы.
Действительно, в густом лесу показалась небольшая квадратная поляна,
на которой были разложены сладчайшие плоды обожженной солнцем
осени. Музыкантши пригласили дам сесть и отведать виноград, люби-
мый детьми Вакха и столь разнообразный цветом, что прежде услаждал
взгляд, а уж потом вкус; и в ожидании состязаний они, не пренебрегая
угощением, выпили немного прохладного вина, которое, казалось, было
счастливо коснуться прелестных уст.
Подкрепившись фруктами, они ожидали обещанных поэтических
выступлений, как вдруг из-за деревьев выбежали двадцать вооруженных
воинов, окружили их и схватили Зелману, прежде чем она успела вынуть
меч из ножен. Отобрав меч и надев дамам на головы колпаки, воины
посадили их на лошадей и куда-то повезли. Напрасно сестры взывали
о помощи, напрасно надрывалось сердце Зелманы яростью и презрением
к себе. Проехав четыре или пять миль, воины бросили Мисо с заткну-
тым ртом и связанными руками-ногами на произвол судьбы, а сестер и
Зелману (к тому времени сама ночь своей тишиной уже пособничала пре-
дателям) привезли в замок, стоявший милях в десяти от царского дома,
однако пришлось еще воспользоваться поджидавшей их лодкой, потому
что замок стоял посреди озера на высокой скале и, отчасти благодаря
329
мастерству строителей, но главным образом благодаря природе, считался
неприступным.
Возле ворот замка, когда со всех трех дам сняли колпаки, царевны
при свете факелов увидели и узнали свою родственницу Цекропию, от-
чего смертельно испугались, ведь, попав к ней в руки, не могли ждать для
себя ничего, кроме смерти; однако, подойдя к ним, грозная Цекропия
скрыла свою злобу под маской гостеприимства и предложила племянни-
цам чувствовать себя, как дома, якобы слуги и замок в их полном рас-
поряжении. Филоклея (сияя, несмотря на страх, влюбленными глазами)
попросила Цекропию не причинять им зла, которого они не заслужили,
тогда как царственно-величественная Памела, предпочитая смерть сми-
рению, сказала:
— Заклинаю тебя, тетушка, поскорей исполни задуманное тобой.
Мне не нужны услуги там, где я нахожусь не по своей воле.
Не промолвив в ответ ни слова, Цекропия препроводила всех трех дам
в отведенные им покои (сердце Зелманы разрывалось от досады, так что
она не могла говорить) и оставила одних, не забыв отобрать у них ножи,
чтобы они не причинили себе вред, прежде чем будет решена их судьба,
после чего слуги получили приказ ни в чем не отказывать узницам, кроме
свободы и покоя, а Цекропия отправилась к своему сыну Амфиалу, ко-
торый еще не оправился от нанесенной ему Зелманой раны, желая рас-
сказать, кто оказался в его власти. Амфиал возвратился из дальних стран,
где смелостью и благородством заслужил бессмертную славу незадолго до
того, как встретился с царевнами и Зелманой, и не имел ни малейшего
представления о недобрых замыслах Цекропии, которых никогда не под-
держал бы, будучи (подобно розе, выросшей на кусте шиповника) добро-
детельным сыном порочной матери. Итак, выслушав ее и удивившись
так, словно солнце упало на землю, Амфиал попросил ее еще раз расска-
зать все с самого начала.
— Сын, — отвечала Цекропия, — я сделаю это с удовольствием, ведь
все мои помыслы только о тебе, и я ничего не хочу скрывать от тебя.
Может быть, мне было бы стыдно рассказывать об этом чужим людям,
которые сочли бы меня злодейкой, но все, что сделано для тебя (каким
бы злодеянием это ни показалось другим), я считаю добродетелью. Начну
с начала. Слабоумный Базилий, нынешний царь Аркадии, не женился
почти до шестидесяти лет (всеми своими поступками и речами свиде-
тельствуя, что не женится никогда), поэтому никто не сомневался, что
твой отец, его единственный брат, который был тридцатью годами млад-
ше него, станет его преемником, ибо он, воистину, был достоин короны
и никогда не довольствовался малым, если мог получить больше, тогда
как этот гусак (ты же знаешь), чуть что, прячет голову под крыло. Будучи
законным наследником царя Аркадии, твой отец попросил моей руки и
получил согласие моего отца, царя Аргоса, который дал его, подталкивае-
мый торжественными заверениями Базилия, что он не намерен женить-
ся, а иначе, будь уверен, ни царь Аргоса, ни его дочь не запятнали бы себя
положением царских подданных.
330
Итак, я прибыла сюда в качестве царевны, жены наследника, и была
соответственно принята здешними дамами. Своим поведением и пыш-
ностью нарядов я была достойной дочерью царя Аргоса, так что в моем
присутствии у них отсыхали языки и оживали уши, да и те оживали лишь
затем, чтобы стать пленниками моего языка. Придворные восхищались
моим величием и были счастливы, если я ненадолго дарила их своим
вниманием. Даже боги, казалось, с нетерпением ждали, когда я воздам
им почести в церкви. А когда мне приходило в голову развлечься, то и
прогулки становились праздником, потому что вокруг меня собиралась
толпа и все наперебой старались мне угодить. О моих снах расспраши-
вали, мои утренние пробуждения сопровождались салютами, важные
люди ждали у дверей моего дома и радовались, если я принимала их
приношения. Ты родился в это счастливое время, и сама земля словно
простиралась перед тобой, чтобы ты топал по ней как ее повелитель;
а добродетели моего мужа (с моей помощью) в короткий срок завоевали
столько сердец, что был составлен заговор и нам не пришлось бы пре-
бывать в тягостном ожидании естественной кончины Базилия, если бы
небеса (видно, завидуя моему великому счастью) не остановили в одно
мгновение дыхание твоего отца, когда он дышал лишь одним желанием
обрести царскую власть. И все-таки твое сиротство и мое вдовство не
лишили нас блестящего будущего, право на которое дается лишь высо-
ким рождением, хотя ожидание связывало нас непременным послуша-
нием.
И вот, мой сын, прежде чем ты повзрослел настолько, чтобы узнать
сладость власти, этот гусак (о котором я даже подумать не могу спокой-
но), предатель и глупец, взял в жены юную Гинесию и посадил ее выше
меня на пирах и боком ко мне на торжественных приемах. Право, не так
обидно, когда верх берут враги, а не союзники. Подумай, каково мне
было тогда, ведь всем известно, что тяжелее спускаться с первой ступе-
ни на вторую, чем со второй хотя бы и на самое дно. Сердце у меня тем
сильнее разрывалось от ярости, что мне приходилось подавлять ее в мол-
чании и пренебрегать ею в смирении. Но хуже всего стало, когда две до-
чери Базилия, твои теперешние узницы, своим рождением убили всякую
надежду на твое возвышение. Мне было невмочь опускать глаза перед ца-
рицей, невмочь видеть, как ей внимают с большей почтительностью, чем
мне, невмочь думать, что не только для меня, но и для тебя это несчастье
на всю жизнь и солнце не увидит моего старшего сына царем. Даже будь я
святой, я не могла бы не искать перемены для той перемены в моей жиз-
ни, когда никого не осталось со мной из множества людей, добивавшихся
моего внимания, когда тишина воцарилась возле моих дверей, и вокруг
меня оказалась пустота. Прежде все стремились угадать мои даже невы-
сказанные желания, а потом перестали исполнять даже те, которые я вы-
сказывала. И на тебя, мой милый сын, на тебя смотрели, как на обыкно-
венного человека (сотворенного из человеческой грязи).
Еще тогда (помня, что только дурак плачет в несчастье, а мудрый дей-
ствует) я предприняла множество шагов, чтобы вытащить нас из болота
331
зависимости. И хотя судьба постоянно изменяла мне, сама я никогда себе
не изменяла. Поблизости в пещере у меня были дикие звери, которых
прикармливали по ночам на том месте, где обычно устраивали пастуше-
ские праздники (я все еще жила недалеко от царских хором), чтобы вы-
пустить их (голодных), когда туда придут царевны. Но слепой случай, не-
навидящий продуманные планы, к сожалению, убил их. Потом по моему
наущению наш слуга Клиний поднял жителей одного из городов на бунт,
но, увы, деревенщины ужасно неуклюжи и не подходят для тонких по-
ручений. Наконец, опасаясь Филанакса, я решила или добиться удачи,
или оставить свои затеи, и с помощью моей многоумной Артезии и дру-
гих девиц непременно послала бы добродетельных наследниц Аркадии
в царство Плутона, но, к счастью для них, ты успел поведать мне о своей
детской страсти. Поэтому я велела привезти их сюда; но все же я пред-
почла бы видеть в твоих глазах ненависть, а не любовь. Ненависть обык-
новенно одерживает победу, любовь, как правило, ведет к поражению.
Правда, я полагала, что в ловушку попадутся и царь с царицей, но этого
не случилось, потому что мои девушки побоялись долго задерживаться
возле царских домов. Но и того, что есть, довольно, так как теперь (если
царевны исчезнут) ты — единственный наследник, да и Базилий вряд ли
переживет утрату.
— О, матушка, — отозвался Амфиал, — не говори мне, что хочешь
причинить зло царевнам, ведь это все равно, что причинить зло моим
глазам или моему сердцу, потому что нет ничего важнее глаз и сердца.
Пусть другие ищут радость в вечном страхе, если они так пугливы, а я
буду считать себя возвышенным до небес, если Филоклея назовет меня
своим слугой.
— Что ж, — проговорила Цекропия, — жаль, что ты плод моего чрева,
но не моего ума, тогда ты не пал бы ниже всякой низости. Но коли ты
в самом деле связал свои мысли таким узлом, я все сделала правильно,
и ты насладишься любовью, которая подарит тебе корону.
— Ах, сердцем я уже готов благодарить тебя за то, что ты открыла мне
путь к счастью, но страх убивает благодарность, не давая ей родиться.
Если недовольна Филоклея, как могу быть доволен я? Если она считает
твой поступок недобрым, разве я могу стать для нее добрым? Наверное,
она проклинает меня за за свое пленение, так чему же мне радоваться?
Наверное, ее прекрасное лицо, которое я люблю, теперь залито горючи-
ми слезами, так с чего же мне веселиться?
— Ты прав, — притворно согласилась Цекропия. — Я тотчас отошлю
ее обратно, чтобы она не проклинала тебя.
— Нет, нет, добрая матушка! — воскликнул Амфиал. — Коли она уже
здесь, то пусть здесь останется. Ни за какие блага жизни я не принудил бы
ее явиться сюда, но теперь скорее умру, чем соглашусь ее отпустить.
— Как у тебя все запутано, — сказала Цекропия. — Ладно, подни-
майся. Посмотрим, как ты с ней справишься, пока я побеседую с ее се-
строй. Потом у нас не будет времени, ведь придется держать оборону,
если Базилий осадит замок.
332
Неожиданно спохватившись, Цекропия обернулась к сыну и спроси-
ла, как он собирается поступить с Зелманой, ведь ей-то уж, точно, следует
отомстить за поражение?
— Она заслужила, чтобы я отнесся к ней с почтением, так как она
(я слышал) в чести у Филоклеи. Почему бы не поселить их вместе?
— Ну, нет, — возразила Цекропия. — Вместе они будут решительнее.
В одиночестве утомляешься собственными мыслями и скорее соглаша-
ешься на разумные условия.
Глава третья
Амфиал (взяв у матери ножи Филоклеи, которые были дороги ему тем,
что касались ее рук) встал с ложа и крикнул, чтобы ему принесли самые
богатые одежды, но все они показались ему недостаточно роскошными
для глаз его госпожи; дорогие одежды были аляповатыми, изысканные —
плохо сшитыми. С такой же привередливостью он выбирал и расцветку:
если надеть слишком яркое, то Филоклея может подумать, будто он гор-
дится ее бедой, если темное — она испугается. В конце концов, Амфиал
остановил выбор на достойном своего положения, но не бросающемся
в глаза одеянии из черного бархата, богато расшитом жемчугами и други-
ми драгоценными каменьями, между которыми присобранный черный
атлас напоминал черные тучи, сквозь которые неярко светили звезды.
Поверх Амфиал надел великолепный широкий воротник, полосы которо-
го были искусно украшены бриллиантами, жемчужинами и белой эмалью
и напоминали горящий лед, а также рубинами и опалами, сверкавшими,
как пламя; и это должно было сказать Филоклее о двух страстях — страхе
и желании, державших Амфиала в своих цепях. Из-за раны Амфиал все
еще прихрамывал, хотя и старался придать своей походке, сколько воз-
можно, изящества.
Итак, Амфиал явился к Филоклее и увидел (ее комната была очень
светлой), что она сидит на кровати, отвернувшись от окна, так что на нес
падает тень, какой хороший художник укрыл бы Венеру, в сени деревьев
оплакивающую смерть Адониса. Она сидела, сцепив руки и не шевелясь,
в накинутом на голову шарфе, спадавшем ей на глаза, и ее лучистый
взгляд, устремленный на стену, был неподвижен, словно она не видела
смысла переводить его с предмета на предмет: Филоклея еще долго сиде-
ла так после того, как вошел Амфиал, потому что он не смел потревожить
ее, а она не замечала его, пока что-то (изменившееся течение мыслей или
напряжение чувств) не подсказало ей, будто она слышит шуршание одеж-
ды; и тогда, обратив внимание на двоюродного брата, Филоклея подня-
лась, но в ее облике, как в прекрасной книге, можно было прочитать лишь
о печали, ибо доброта стерлась с ее страниц, а злобы никогда не было.
Амфиал, который доверил своей памяти длинную приветственную
речь, вдруг понял, что его возлюбленная заперта на ключ страха, и он
ничего не может просить у нее, разве чтобы она поглядела на происшед-
шее с хорошей стороны и не боялась бесчестья. На это Филоклея ответи-
ла лишь тем, что расцепила пальцы (отвела взгляд в сторону и тихонько
вздохнула), давая понять Амфиалу, что находит его речи неуместными и
не видит смысла в ответе; тогда Амфиал опустился на колени, поцело-
вал ей руку (она стерпела это с видом, говорящем скорее о покорности,
нежели о добром отношении) и попросил пожалеть того, чью любовь не-
возможно постичь разумом и тем менее возможно выразить словами. Он
сказал, что в ее руках весы его жизни и смерти, и малейшее движение
334
может определить его судьбу; мол, она давно уже хозяйка его жизни и
он — ее вечный раб; а потом с искренней страстью принялся уговаривать
ее сказать хоть что-нибудь, и тогда она позволила своему нежному дыха-
нию обратиться в слова:
— Ах, кузен, что может мой язык, если уши слышат одно, а глаза видят
другое? Ты молишь о жалости и поступаешь жестоко, ты говоришь о люб-
ви и ведешь себя как враг. Ты утверждаешь, что твоя смерть в моих руках,
и ты же подвел меня так близко к смерти, что стоит тебе пожелать, и меня
не станет. И не надо говорить, что я хозяйка твоей жизни, потому что я
не хозяйка и своей жизни. Ты называешь себя моим рабом, а на самом
деле я — твоя рабыня. Будь насилие, оскорбление, страх и потеря того,
что дороже жизни, то есть свободы, посланцы любви, тогда, не сомневай-
ся, ты легко убедил бы меня. Если наше родство еще способно пробудить
в тебе раскаяние, если ты вправду лелеешь в себе чувство, которое назы-
ваешь любовью, тогда избавь меня от позорного заточения, не терзай мне
сердце досадой на злодейство и страхом худшего. Пусть не страдают из-за
меня мои мать с отцом, верни меня самой себе, и я буду знать, что ты дал
мне меня. Однако все, что я говорю о себе, относится также к моей сестре
и моей подруге Зелмане, ибо мне не будет счастья, если они не смогут
разделить его со мной.
После этих слов слезы полились из небесно-голубых глаз Филоклеи
на нежные лепестки ее ланит.
Амфиал же напоминал несчастную женщину, которая любит приру-
ченную олениху больше всех на свете, давно держит ее при себе, кормит
с рук, но из-за голода (ибо от стада уже никого не осталось, и хозяйка
впала в жестокую нищету) вынуждена убить свою любимицу, иначе ей не
выжить; не сводя с нее жалобного взгляда, она то и дело заносит руку,
но ударить не может. Именно так голодная страсть Амфиала побуждала
его к насилию, и та же страсть заставляла с жестокой горечью осознавать
собственную недоброту, увы, он находил в своем сердце оправдание не-
свободы царевны. В конце концов, не в силах ни одарить, ни отвергнуть,
он так сказал Филоклее:
— Возлюбленная госпожа, я не буду говорить (хотя это было бы спра-
ведливо), что не я замыслил и не я помог совершиться злодеянию, ибо я
не исправляю зло и, значит, виноват так же, как если бы совершил его.
Но я скажу тебе (и пусть небеса слышат меня и покарают смертоносной
молнией, если солгу), что в душе я желал бы никогда не видеть света или,
нет, я желал бы не иметь отца, давшего жизнь такому сыну, лишь бы не
знать, что по моей вине твои прекрасные глаза залиты слезами, что по
моей вине твоя небесная добродетель омрачена печалью. Горе мне, не-
сравненная госпожа, ибо я ничего так не хочу, как служить тебе; воистину,
мои уши внимают каждому твоему слову с не меньшим почтением, чем
царственным и непререкаемым приказам. Но, увы, деспотичная любовь
(завладевшая моей жизнью и моими мыслями) не слышит ничего. Моя
любовь, а не я не желает подчиниться тебе. Это все, что я могу сказать, не
я, который готов устлать собою твою дорогу, рискнуть своей жизнью, нет,
335
отдать свою жизнь по твоему единому слову, не я преграждаю тебе путь
к свободе, а любовь, та любовь, которая связала тебя твоими же веревка-
ми. Ты сама виновата в своей неволе, из-за твоей красоты ты заключена
в эти стены, твои глаза навлекли на тебя беду. И тебе ничего не остается,
как снизойти до удовлетворения любовной страсти, а так как источник
ее в тебе, то ты, без сомнения, гораздо быстрей (нежели я) договоришься
с нею.
От этих слов Филоклея вся затрепетала, и живая белизна ее кожи пре-
вратились в мертвенную бледность. Амфиал испугался, как бы с ней не
случился смертельный припадок, и взял ее руку в свои, тотчас ощутив,
что она (первая подстрекательница Купидоновых проказ) заледенела;
тогда он принялся смиренно молить Филоклею отринуть страх и поклялся
именем бога, что постарается завоевать ее любовь единственно любовью
и послушанием. Это обещание вернуло Филоклее силы, и она, словно не-
хотя подняв на него глаза с выражением учтивым, хотя и печальным, ска-
зала ему, что, поступив так, он поступит хорошо, в согласии с истинной
любовью, но если пока она еще готова отнестись к нему по-доброму, то
едва он изменит своему слову, как она возненавидит даже воспоминание
о нем; к тому же хотя его мать и отобрала у нее ножи, в доме смерти много
дверей и какая-нибудь из них откроется перед ней, если ее чести будет
грозить опасность.
Посыпав холодным пеплом осмотрительности угли страсти и оставив
с Филоклеей одну из служанок своей матери, ощущая себя узником соб-
ственной узницы и из гордости делая скамеечку покорности, Амфиал воз-
вратился к матери и в словах, подсказанных любовью, но произнесенных
со страхом, поведал обо всем, что произошло между ним и Филоклеей,
после чего принялся умолять ее поговорить с Филоклеей, пока он будет
готовиться к встрече с Базилием. Цекропия успокоила его, ибо не сомне-
валась, что у них еще много времени, да и Филоклее для начала, как она
думала, неплохо побыть наедине со своими чувствами.
Глава четвертая
Итак, призвав к себе Клиния и других советников, Цекропия и Ам-
фиал обсудили с ними создавшееся положение. Амфиал написал письма
тем богатым и знатным гражданам страны, которых родство или дружба
с ним могли отвернуть от исполнения долга, не забыл он и о тех, кого
юношеские лета или юношеский разум наполняли беспредельными же-
ланиями, кого неудовлетворенность побуждала мечтать о переменах,
кого расстроенные дела подталкивали к гражданской войне; и каждому
(по совету матери) он писал, потакая его чувствам. Обращаясь к друзьям,
Амфиал взывал о дружеской поддержке, честолюбцам сулил великие по-
чести, недовольным обещал мщение, жадным — поживу, подогревая на-
дежды всех с таким искусством, чтобы они вообразили себя соратниками,
не приманутыми обещаниями, которые раздавались из нужды. Написал
он и брату своей матери, царю Аргоса, правда, тот был втянут в собствен-
ную войну, поэтому помощи от него ждать не приходилось.
Поскольку Амфиалу было известно, как слухи наполняют паруса на-
родных пересудов и как мало на свете людей, которые могут сами отли-
чить правду от правдоподобия, видимость от сути, он повелел сочинить
оправдательную бумагу, которая во множестве копий разлетелась по стра-
не. В ней за блеском вероятностей пряталось предательство, а из правди-
вых фактов делались ложные выводы. Начав с того, сколь велик долг че-
ловека перед своей страной по сравнению со всем остальным, хотя бы он
и включал в себя все остальное, как во имя него следует забывать об узах
родства и дружбы, а также о привычных убеждениях (скорее взращенных
на незнании, чем на истине), шаг за шагом он показывал, что если цель
благороднее средств ее достижения, то и общее благо важнее блага одного
человека или одного магистрата, и это соображение якобы подвигло его
(хотя он ближе всех к Базилию) беспристрастно взглянуть на жизнь ты-
сяч людей, которыми правит Базилий, не позволив родственной любви
ввести его в заблуждение до такой степени, чтобы спокойно взирать на
гибель царства. Заботе о царстве следует лечь на плечи царских управите-
лей, которые должны служить не царю, а народу. Увы, даже ему, который
принадлежит к царскому роду и является единственным наследником по
мужской линии, природа не раньше открыла глаза, чем грязь, которую он
видел вокруг, едва не замарала ему руки; правда, он постоянно был на-
стороже, поэтому теперь, осознав, что его дядюшка не только снял с себя
бремя забот о стране, но и передал его Филанаксу (который ниже многих
по рождению и недостоин возвышения из-за своих пороков, гордыни и
пристрастности), а кроме того, и дочерей (судьбой которых все озабоче-
ны не меньше царя, ибо в их руки со временем должна перейти Аркадия)
поселил в неподходящем и плохо охраняемом месте, так что оно опасно
не только для них самих, но и (если бы их выкрали и увезли в другую
страну) может стать пагубным для всех. Заботясь об этом, он, Амфиал,
привез их в собственный укрепленный замок, желая таким способом,
пусть и странным, показать всем, что новые проблемы требуют новых
решений; однако он клянется, что царевнам служат и будут служить с ве-
ликим почтением, достойным их царского рода, пока всеобщий сход не
решит, кого им следует (для их блага и блага страны) взять себе в мужья;
сам он тоже верой и правдой служит отцу и дочерям и никогда не позво-
лит себе преступить закон. Если же, прежде чем сход скажет свое слово,
его замок подвергнется нападению, ему придется взять в руки оружие для
защиты, и он зовет всех, кто осознает грозящую стране опасность и сто-
ит за справедливость, присоединиться к нему в его правом деле. И если
царь станет призывать к себе сторонников, чтобы идти против Амфиала,
то он просит рыцарей не подчиняться царю, как если бы он умолял по-
дать ему яд, чтобы свести счеты с жизнью. Так как все, совершаемое
Амфиалом, совершается им на благо царя, то что бы он ни говорил, под-
чиняясь Филанаксу, Амфиал будет противостоять Филанаксу, но никак
не Базилию.
Вот так, сдобрив свое послание многословными доводами и приме-
рами, разукрасив его цветами риторики, Амфиал во множестве разослал
его во все концы земли, и после этого некоторые из тех, кто сначала де-
лает, а потом думает, присоединились к нему, чтобы разделить его судьбу,
а другие поостыли в своем желании сражаться против него и, придержи-
ваясь вероломного бездействия, стали ждать, чья чаша перевесит. А пока
Амфиал, используя любые возможности для ослабления противника, не
упускал ничего ради укрепления своих позиций. В первую очередь он
(не желая поражения) позаботился о защите замка, что должно было дать
ему дополнительное время, ведь время — отец многих перемен. Об этом
он думал, обращая взгляд наружу и внутрь и стремясь свести в соревнова-
нии искусство и природу, и трудно сказать, чему укрепления были более
обязаны своей надежностью. Природа позаботилась об удобном месте, но
искусство возвело каменное строение, к которому нельзя было подвести
подкоп, к тому же для отражения открытых нападений Амфиал, последо-
вав совету мастеров, сделал подступы к замку и окрестности озера если
не вовсе неуязвимыми, то почти неуязвимыми, и для этого, помимо про-
чего, расположил у стен замка и вокруг озера укрытия для воинов, кото-
рые должны были первыми встретить врагов. Он не забыл ни одну мелочь
обороны как таковой и обороны нападением, доставив орудия обмана
туда, где легче всего было провести обманные операции. Не пренебрег он
и заботой о провизии, об его общем количестве, а также о размещении не
предназначенных и предназначенных для хранения продуктов, продумав
едва ли ни каждодневный рацион воинов.
Амфиал проникал мыслями в самые неприметные проблемы, пони-
мая, что нет ничего важнее, что в них его главное оружие и главная сила,
которые помогут ему довести задуманное дело до конца, ведь умение каж-
дого отдельного человека — по сути квинтэссенция искусной деятельно-
сти любого удачливого правителя, будь то во время войны или мира. Он
отобрал много, но не слишком много (из страха перед болезнями) вои-
338
нов, которым заготовленной провизии должно было хватить на два года;
все они были крепкие, но не достаточно умные, чтобы командовать, да
Амфиалу и не требовалось много командиров, так как для большинства
предпочтительнее умение подчиняться. Однако каждому воину полага-
лось твердо знать, кем он командует и кому подчиняется, где его место
и в каком деле он участвует; своим людям Амфиал старался подобрать
задание в соответствии с их наклонностями, потому что знал: ни любовь,
ни опасность, ни дисциплина не в силах изменить человеческую натуру.
Смирного человека он не ставил туда, где требовалась изворотливость,
щедрого — туда, где распределялась пища, доброго — туда, где наказы-
вали, но использовал добродетели своих людей там, где они были наибо-
лее полезны, более всего заботясь о том, чтобы лично знать каждого. Не
забывал он и о физических возможностях воинов: один был незаменим
в наблюдении, другой умел терпеливо переносить голод, третий — рабо-
тать, не покладая рук, и эти способности он тоже обращал себе на пользу,
никого не заставляя напрягаться сверх мочи.
Всему Амфиал назначил свое время, и в этом так же, как во всем
остальном, не терпел оплошностей, чтобы потом не жаловаться на про-
счеты. Даже из человеческих пороков он извлекал пользу. Поэтому тру-
соватого Клиния он поставил старшим над часовыми, зная, что страх
заставит его быть начеку. Не дожидаясь начала военных действий, он
сам распустил о себе дурные слухи, в которых было больше злобы, чем
справедливых разоблачений, несомненно, из осторожности — чтобы
узнать, кто из его воинов не совсем надежен, но главным образом, чтобы
его воины усомнились в его вине потом, когда он в самом деле совершит
что-нибудь ужасное. И постоянно (задолго до того, как мелькнуло вблизи
лицо врага, внушившее ужас), без скидок на мирное время, требовал от
воинов выполнять все обязанности, словно опасность уже нависла над
ними; однако требуя, он сам подавал пример, а не мучил наставления-
ми, к тому же исполнял не менее тяжелую работу и получал не больший
паек, чем любой солдат, — для него не было позорной или непосильной
работы.
Единственная разница между ним и остальными заключалась в том,
что, когда остальные отдыхали, он вздыхал, когда остальные перево-
дили дух, он предавался думам, скрестив на груди руки. Пока он одо-
левал опасности и сокрушал себя в работе, любовь не давала ему забыть
о сладостном желании и прекрасном образе. Часто, отдавая приказы, он
умолкал на полслове, словно кто-то внутри него отвлекал его от дела,
а едва закончив с распоряжениями (к немалому удивлению окружаю-
щих), вновь возвращался к беседе с самим собой. Бывало, он поднимал
руку, чтобы что-то сделать, и, словно увидав голову горгоны Медузы, ка-
менел на месте и долго стоял с застывшим взглядом и поднятой рукой,
пока в конце концов не приходил в себя; и тогда он оглядывался, про-
веряя, не заметил ли кто его промашку. Тогда он ругал и даже мысленно
проклинал тех умников, которые осмеливаются утверждать, будто источ-
ник любви в праздности.
22*
339
— Ax, — восклицал он, — вы, порочащие мудрость неблагодарным
поруганием украшений природы, разве я отдыхаю под сенью деревьев?
Разве нега владеет мною? Разве не ненависть впереди меня и не сомне-
ние — позади? Разве не опасность с одной стороны и не стыд — с другой?
Разве я живу не болью и не тяжелым трудом? И все-таки любовь сильнее.
Чем больше я занят насущными делами, тем ярче пламя любви в моем
сердце. Чем больше я размышляю, тем сильнее мои мысли разжигают
аппетит страсти. О прекрасная Филоклея... — Упомянув ее имя, Амфиал
обычно поднимал глаза к небу, и в них появлялись слезы, словно чтобы
промыть их перед ее возможным появлением. — О Филоклея, твой небес-
ный лик — моя астрономия, твои милые добродетели — моя философия,
так позволь мне руководствоваться ими, оставив прочие соображения.
Увы, разум предчувствует беду, потому что твои планеты отвернулись от
меня. О горе, горе, они грозят мне смертью! И кому? Мне, который любит
их. Каким оружием? Моей любовью? О милые глаза-убийцы, неужели
смерть не позолотит свою стрелу золотом Купидоновой стрелы? Неужели
смерть не воспользуется помощью красоты? О любимая и ненавидящая
Филоклея, как жестокость проникла в твое доброе сердце? Но если ты
жестока, почему твоя жестокость кажется мне прекраснее доброты? Или
это мой удел творить жестокость из доброты? Подобно злому сосуду, пре-
вращающему сладкое вино в уксус, я, несчастный, превращаю твою до-
броту в жестокость.
Так Амфиал упражнялся в красноречии, когда Филоклея не могла его
слышать, и молчал, когда ее присутствие предоставляло ему возможность
говорить, поэтому он искал покоя в советах и утешениях Цекропии, же-
лая, чтобы та, чьи мысли были просты, выступила его посредницей.
Глава пятая
Как ни нестерпимо было для гордой Цекропии звание просительни-
цы, она, понимая, что от ее усилий зависит жизнь сына, взялась за дело,
не сомневаясь в легкой победе над наивной девственницей; ведь удалось
же ей хитростью и бесстыдством пошатнуть устои царства. Сравнив речи
Филоклеи с собственными мыслями в юности, Цекропия еще раз утвер-
дилась в том, что ей не составит труда заставить девицу выпить яд в слад-
ком вине, который она сама, понемногу пьянея, глотала с жадностью.
Итак, она отправилась к Филоклее и в приотворенную дверь увидела,
что та сидит на подушке, брошенной на пол, и у нее такой отчаянный
вид, будто немота, одиночество и печаль явились к ней под знаком беды,
чтобы выкинуть удовольствие из его привычного пристанища — красоты.
Слезы лились у нее из глаз, словно проливной дождь в солнечный день,
но она не трудилась вытирать их, и они падали на щеки и губы, как на
вишневое дерево, в обилии усыпанное плодами. В ее прическе и одежде
Цекропия не заметила и следа заботливого искусства или искусственной
беззаботности, но даже такое небрежение не могло унизить совершенства
царевны; как ни брось кости, результат не изменить. Однако Цекропии
была ведома лишь жалость к сыну, и, подталкиваемая ею, она надела ма-
ску доброжелательности, прежде чем переступила порог узилища.
— О чем плачет прелестная госпожа? — спросила Цекропия. — Что
за нужда портить слезами красивые глазки? Не дай бог, они унесут с лица
красоту, которой в Аркадии завидуют все женщины и по которой то-
скуют все мужчины. Оставь печаль, неподходящую твоим юным летам.
Посмотри на себя, ну зачем такой красавице чахнуть с тоски? Подумай,
ведь если твои ручки (с этими словами Цекропия взяла руку Филоклеи,
поцеловала ее и поглядела на нее так, словно была очарована ею) потеря-
ют белизну, которая так и тянет прикоснуться к ним, и нежность, которая
пробуждает желание, не отрываясь, смотреть на них, если они станут су-
хими, желтыми и тощими, то все подумают, будто ты прежде прибегала
к неизвестному другим искусству, а потом забыла его, потому что красота,
данная природой, не исчезает так скоро. Возьми зеркало и погляди сама,
неужели слезы идут твоим глазам, хотя, должна признать, твои глаза мо-
гут сделать прекрасными даже слезы.
— Ах, госпожа, — ответила Филоклея, — не знаю, идут ли слезы моим
глазам, но знаю, что отныне они — моя судьба.
— Твоя судьба, если бы могла сама наряжаться, надела бы теперь луч-
шее из лучших платьев. Я вижу, хоть это горько и (скажу откровенно) не-
приятно, что ты все неправильно истолковываешь. Тебе кажется, будто
тебя обидели, а на самом деле тебя защитили, ты считаешь себя узницей,
а на самом деле ты — госпожа, ты боишься ненависти, а на самом деле ты
нашла тут любовь. По правде говоря, мне бы хотелось кое о чем расска-
зать тебе, но я вижу, что этого не стоит делать, потому что ты упорствуешь
341
в печали и лишь печаль приемлешь благосклонно. Лучше я промолчу и не
буду утруждать себя заботами о тебе.
Она действительно умолкла, думая, что Филоклея проявит женское
любопытство, однако Филоклея, которая предпочла бы не знать и того,
что она уже знала, дабы не обременять свое сердце еще более неприят-
ным знанием, желала единственно, чтобы Цекропия сжалилась над ней
и, если вправду она не желала ей зла, отпустила бы ее на свободу, пока
скорбь и страх не стали ее палачами.
— Клянусь тебе своим царским родом, — продолжала Цекропия, —
ты будешь свободна, как только свобода перестанет грозить тебе смер-
тельной опасностью, ведь и сюда тебя привезли единственно, чтобы пре-
дотвратить зло, о котором ты и не подозреваешь. Если хочешь, чтобы я
относилась к тебе, как к дочери, тогда слушай меня и не позволяй себе
упорствовать. Я говорю дело и, надеюсь, убедить тебя в своей правоте,
милая племянница, — продолжала она. — Прошу тебя, представь, что
в несчастье, которое кажется тебе таким ужасным, что ты вздыхаешь и
молишь о скором спасении, даже в таком несчастье (послушай меня)
тебе может явиться небесный дух, который позовет тебя переступить по-
рог и последовать за ним в сад, уверяя, что вернет тебя к твоей дорогой
матушке и ко всем удовольствиям, какие только твой разум признаёт за
удовольствия, так неужели ты (милая племянница) откажешься последо-
вать за ним и порадоваться желанной свободе под тем предлогом, что он
ведет тебя не через главные ворота? Неужели ты не станешь пить вино,
мучая себя жаждой, если оно налито не в твой любимый бокал? Скажи
мне (дорогая племянница), нет, я сама скажу, потому что знаю, такая при-
вередливость не более свойственна твоим мыслям, чем бесчестие твоей
красоте. Твоя мудрость непременно подскажет тебе, как попасть в цель,
не придавая значения тому, из тиса лук или нет и куда стрелять. Если так,
а я уверена, так оно и есть (моя дорогая племянница), представь, что я —
тот самый ангел, который, сострадая тебе в твоем страдании и не в силах
более выносить вздохи, рождаемые твоим сладким дыханием, пришел,
чтобы повести тебя не только к желанному, воображаемому счастью, но и
к истинному, реальному счастью, не только к свободе, но и к свободе при-
казывать. Я укажу тебе путь, и пусть эта калитка выбрана не тобой, но она
приведет тебя в сад со всеми удовольствиями, даруемыми нам жизнью,
нет, с теми удовольствиями, которые делают эту жизнь жизнью. Мой
сын (не сочти позором, что я называю сыном того, кто называется пле-
мянником царя, потому что и я дочь не последнего из царей), мой сын,
говорю я тебе, движимый, помимо родственных чувств, еще и побужде-
ниями доброй воли, старается сравняться своей несравненной страстью
с твоей несравненной красотой, и через меня дарит тебе свободу, чтобы
вместе с этим даром ты приняла и другой, более великий, этот замок и
все остальное, что он имеет в достойном количестве, закрепив свое со-
гласие принять дары согласием принять и его самого в собственность.
Я бы могла много говорить о его добродетелях и красоте, но кто кричит
о том, что солнце светит? Твоя выгода очевидна, любой скажет тебе; и ты
342
со своей прозорливостью не можешь не понимать этого. Милая племян-
ница, пусть твоя благодарность станет моей заступницей, а твоя добро-
та — моим красноречием, и позволь мне подарить покой страждущему
сердцу.
Филоклея взглянула на Цекропию и вновь опустила глаза.
— Тетушка, — проговорила она, — мне жаль, что я не могу быть на-
столько госпожой своих мыслей, чтобы ответить согласием на предложе-
ние твоего сына, если я тебя правильно поняла. В душе я решила (она
запнулась) до смерти хранить невинность и уже дала обет безбрачия.
— Небеса этого не допустят. Говоришь, ты дала обет? Нет, нет, дорогая
племянница, природа сотворила тебя женщиной и дочерью женщины,
поэтому лучшее, что ты можешь сделать, стать матерью. Она дала тебе
красоту, чтобы ты пробуждала любовь, она дала тебе разум, чтобы ты по-
знала любовь, и она дала тебе прекрасное тело, чтобы ты вознаграждала
за любовь и чтобы это добровольное вознаграждение увенчалось невы-
разимым счастьем. Связывая того, кто получает, любовь делает счаст-
ливым того, кто дает; она не обделяет берущего, но обогащает дающего.
О сладкое имя матери! О радость из радостей видеть, как растет твой ре-
бенок, в котором ты продолжаешь свою жизнь! Если бы ты только могла
представить головокружительную радость наблюдать, как твои малыши,
спасаясь от страха, бегут укрыться в твоей любви, как твои уменьшенные
копии несут в себе часть тебя; когда-нибудь ты осознаешь свою жесто-
кость оттого, что хотя бы в мыслях посягнула на эту радость. Возможно,
я живописую для тебя это блаженство, подобно полководцам, велеречиво
рассказывающим о победе своим солдатам, которые должны идти к ней
через боль, горе и опасности. И я даже соглашусь, если ты не примешь
мой совет, если этот путь покажется тебе не самым приятным.
— Не понимаю, — ответила прекрасная Филоклея, опасаясь, как бы
ее молчание не было неверно истолковано, — о каком согласии ты гово-
ришь. Самое лучшее, что ты можешь мне предложить (я говорю), тяжелое
ярмо замужества.
— Ах, милая племянница, как ты заблуждаешься! Мы все, это прав-
да, несем ярмо, что положено нам от рождения, но в замужестве оно
не становится тяжелее, может быть, даже становится легче, потому что
у тебя будет сотоварищ, который разделит с тобой ношу. Будьте моими
свидетельницами, вдовьи ночи! Как часто, увы, я обнимаю осиротевший
край кровати, на котором уже разгладился отпечаток тела моего дорогого
супруга, и мои слезы знают, как я наслаждаюсь моей свободой, свободой
изгнанницы, которая, если желает, может объехать весь свет, но не может
вернуться в родной дом; у меня теперь такая же свобода, как у голубки1
с завязанными глазами, которую сокольничий сначала лишил зрения,
а потом отпустил в небо. Поверь мне, племянница, поверь, опыт мужчи-
ны — зрение женщины. Видела ли ты когда-нибудь розовую воду в чи-
стом бокале, помнишь, как она ароматна и прекрасна, пока заключена
1 Голубей использовали, чтобы тренировать соколов для охоты.
343
в красивый сосуд? Но разбей ее тюрьму, дай ей свободу, и разве она, сме-
шавшись с пылью, не перестанет быть красивой и чистой? Воистину то
же самое происходит и с нами, если у нас нет опоры, нет, не в тюрьме,
а в добродетельном супружестве. Мое сердце смягчается при воспоми-
нании о тех благах счастливого времени, когда у меня не было нераз-
деленных забот и не было радости, не отражавшейся в глазах друга. Что
мне сказать о сердечной радости, которая не боится упреков совести и
людского суда? Разве так уж хороша одинокая жизнь? Разве одна струна
может сотворить такую же музыку, как целый оркестр, разве один цвет
может подарить настоящую красоту? Но, наверное, тебя отвращает не
супружество вообще, а супружество с моим сыном? Мой сын — это мой
сын, и я должна признать, что не могу не смотреть на него материнскими
глазами, но, если они меня не обманывают, он не из тех, кто вызывает
презрение. Он хорош собой, благороден, богат, но, помимо красоты, бла-
городства и богатства, важно еще и то, что он любит тебя; любимый мно-
гими дамами, он тем не менее любит одну тебя. Не отвергай его любовь,
прекрасная госпожа, не дай другой госпоже горделиво хвастаться тем, что
она украла у тебя верного и достойного слугу.
Отдельные слова и фразы долетали до ушей Филоклеи, но она вос-
принимала их как надоедливое жужжание, мешавшее ей внимать чудес-
ной музыке, ибо ее мысли, отдав уши в рабство, сами умчались посмот-
реть (насколько им позволяли глаза воображения) на Зелману, которую,
будь это ее речи, Филоклея слушала бы с благодарной радостью. Не желая
спорить о том, что для нее было решено раз и навсегда, но и не собираясь
открывать свои мысли, юная царевна сказала лишь, что, будучи пленни-
цей, не может принимать увещевания, хотя бы и обоснованные, иначе
как по принуждению, а если это принуждение, то она не может отнестись
к нему иначе как с отвращением, хотя, возможно, будь она свободной,
увещевания Цекропии убедили бы ее своей разумностью, и она с ра-
достью ответила бы на страстные речи матери Амфиала, но лишь будь она
свободной.
Глава шестая
Однако никакой разумный или более чем красноречивый ответ, слетев
с таких губок, не мог убедить Цекропию, как уговоры Цекропии не могли
убедить Филоклею отречься от ее клятвы и покинуть пленницу Зелману
ради полководца Амфиала. На этом противницы, желающие взять, но не
желающие дать, прервали переговоры. Однако, как бы Цекропию ни зли-
ла неудача, она не выдала своих чувств, ради сына изобразив доброту и не
упустив ни одного шанса засвидетельствовать его любовь и вызвать к ней
сочувствие. С щедростью и усердием было сделано все, что только могло
придумать воображение для услады девицы. Под ее окном звучала музы-
ка (печальная вестница), обращавшая мысли к предметам печальным,
но приятным; чувствительные песенки рассказывали о любви Амфиала,
и каждое слово служило в них для украшения его имени. День за днем
Филоклея получала подарки, подобно рассерженному божеству, которое
хотят умилостивить жертвами, и в этих подарках искусная форма сопер-
ничала с богатством материала, выдумка и старательность состязались
во имя совершенства; но они были словно бесконечное повествование
о бесчестии Амфиала и совершенствах Филоклеи — богатство зазывало
посмотреть на них, искусство побуждало разглядеть их, а целью затеи
было постоянное напоминание о несчастье дарителя, с благоговением
служащего даме, что было тем очевиднее, чем очевиднее была его власть.
Что же до неволи Филоклеи, то он сделал все, дабы она поняла: если это
и неволя, то клеткой служит любовь.
Музыка в самом деле пробуждала печаль в сердце Филоклеи, пони-
мавшей теперь из всех языков лишь один, но печалилась она оттого, что
находилась во власти Амфиала, и песенка, назначенная напоминать ей
об Амфиале, напоминала о Зелмане; подарки обременяли мыслями о не-
избежной расплате, а услужливость, чем она была усерднее со стороны
Амфиала, тем казалась постыднее Филоклее в ее, как ей казалось, недо-
стойном положении, ведь, думала она, даже услужливый Амфиал имел
право ей приказывать, истолковывая свое служение лишь со своей точки
зрения, считая его своим и по справедливости горьким правом, хотя все
стрелы (как бы умело он их ни направлял) пролетали мимо, унесенные
ураганом ее нелюбви. Царевич Амфиал чах от любви, а Цекропия в своем
злобном коварстве как будто не замечала тщетности своих усилий.
Если Цекропии и хотелось отомстить, то она понимала, что боль,
причиненная Филоклее, станет горем для ее сына, поэтому она решила
попытать счастья с Памелой в надежде, что Амфиал предпочтет покой
с благодарной красавицей терзаниям с прекрасной мучительницей. Итак,
с новыми силами предавшись злому замыслу, отнесясь к нему с тем боль-
шим тщанием, что уже познала поражение, и веря, что, потерпев пораже-
ние от одной сестры, другую непременно победит, Цекропия отправилась
в узилище Памелы и (следуя своей отвратительной привычке действовать
345
хитростью) сначала, прислушиваясь, постояла возле ее двери, чтобы пра-
вильно рассчитать первый шаг в предстоящем разговоре.
До нее донеслись звуки шагов, потому что Памела шагала из угла
в угол, погруженная в глубокие раздумья. Однако она не обнаруживала
нетерпения, ее непроницаемое лицо, спокойные жесты, размеренная по-
ступь не выдавали отчаяния, и в конце концов, видимо, придя какому-то
решению и укрепившись в нем, она проговорила:
— Ладно, лучше все равно ничего не придумаешь, я уверена, и как
бы они ни обманывали меня, бога им не обмануть. Тьма не застит ему
глаза, решетки не преграждают путь. Кого же еще, кроме него, молить
мне о помощи? — С этими словами Памела опустилась на колени. —
О всевидящий свет и вечная жизнь всего сущего, никто не может быть
столь великим, чтобы противостоять тебе, и столь малым, чтобы ты пре-
небрег им; взгляни, милосердный, на мои страдания и своей беспредель-
ной властью отпусти мне столько свободы, сколько ты пожелаешь. Не
дозволяй, Господи, обиде торжествовать надо мной. Помоги мне в моей
слабости, не дай моему недругу быть вершителем твоего справедливого
суда. И еще, Господи, если ты в своей мудрости считаешь это правиль-
ным наказанием за мою непростительную вину, если мое низкое поло-
жение — наказание за слишком высокие мечты, если ты караешь меня за
гордыню и непокорство, о господи, я вверяю себя твоей воле и с радостью
приемлю страдания, которые ты посылаешь мне. Но позволь мне молить
тебя (услышь, о Господи, мои молитвы, хотя бы страдания мои ты сам по-
слал мне), молить тебя равно благороднейшим званием, которым в моем
величайшем горе я могу называть себя (ибо я твое творение), и твоей
благостью (тобою самим), освети мне разум лучом твоего величия, что-
бы он всегда следовал твоим заветам. Пусть беда станет испытанием, но
не казнью моей добродетели, пусть мои враги побеждают, но не убивают,
пусть я буду их добычей, пусть мое горе сделает сладкой их месть, пусть
они (если сие в твоей воле) вечно карают меня, но, господи, не допусти,
чтобы они в злобе лишили меня чистоты души и тела. — Памела немного
помолчала. — И еще, милосердный Боже, что бы ни было со мною, спаси
и сохрани добродетельного Музидора.
Цекропия все хорошо слышала, кроме последней мольбы о Музидоре,
которую Памела не доверила губам, храня воспоминание о нем как драго-
ценность в своем сердце. Мольбы этого небесного существа были с такой
горячностью и грацией обращены к небу, словно набожность одолжила
тело царевны, желая явить себя в прекраснейшем облике; обращенные
к небу глаза словно летели навстречу подругам-звездам, из взметнувших-
ся вверх обнаженных руки правая как будто была воплощением Усердия,
а левая — Покорности, и они соединялись вместе, словно в поцелуе,
чтобы их мольбы дошли до господа, наконец, ее чувства были более сим-
волами, нежели орудиями ее внутренних побуждений, — во всем этом
была какая-то странная и могущественная сила, так что даже жестоко-
сердная, коварная Цекропия если не полюбила Памелу за добродетель,
то пришла в замешательство, и если не раскаялась, то не могла не осудить
346
в себе дурные намерения и решила отказаться от задуманного. Ей ста-
ло ясно, что в такую минуту, не будучи хотя бы подобием добродетели,
нельзя пленить разум Памелы, а как сыграть роль добродетели, ей было
неведомо, и сердце не могло ничего ей подсказать.
Все же Цекропия дала волю своему красноречию, не забыв ни одного
довода, который мог бы завоевать расположение Памелы: ни справедли-
вого довода о ее предназначении быть супругой, ни довода о достойном
супруге, тем более о ее положении, которое могло бы стать не только луч-
ше, но и счастливее, а кроме этого, она внушала Памеле, что ее сестра
была бы счастлива любовью Амфиала, которой прежде пренебрегала, от-
мечая при этом невыгодность для Памелы брака Амфиала и Филоклеи,
ибо, обретя поддержку кузена, Филоклея может заявить о своих пре-
тензиях на престол, пользуясь тем, что Памела находится в заточении, и
тотчас принялась многословно уверять ее, что Амфиал страстно влюблен
в нее, Памелу, а не показывал свою любовь из-за чрезмерного почтения
к ней, да и она как мать запретила ему это, когда поняла, что он не в силах
умерить свою страсть. Все то, о чем Цекропия говорила с Филоклеей, она
пустила в ход и в разговоре с Памелой, постаравшись и подарками и дру-
гими способами склонить ее мысли к Амфиалу и добиться от нее согласия
на брак или хотя бы сочувственного к нему отношения. Кстати, будучи
узницами, одна сестра не знала о сватовстве к другой и думала, будто
только ее добивается Амфиал, прибегнув к помощи Цекропии, но если
Филоклея отклонила атаку, оставаясь покорной и ласковой, то Памела
отбила ее с поистине царственной добродетелью.
Глава седьмая
Однако в этот раз беседу прервал дозорный, стоявший на центральной
башне, который увидал огромное облако пыли (поднявшееся над землей,
словно земля тоже пожелала заиметь облака, подобно небу) и разглядел,
когда пыль (в которую облачился ветер) отнесло в сторону, блеск метал-
ла, как всполохи молнии, родившейся из тучи. Позолотив своими лучами
оружие, солнце придало ему вид, приятный для всех, кроме ожидавших
нападения. Дозорный не замедлил поднять солдат, знавших, что делать,
и они, не ощутив страха или не подав вида, что испугались, приступили
к исполнению своих обязанностей.
Лишь Клиний и Амфиал действовали не как остальные: один был за-
морожен страхом, другой разгорячен отвагой. Когда враги стали угрожать
крепости, Клиний (храбрый лишь в наушничанье и даже в наушничанье
более полагавшийся на хитрость, считая, что его нельзя перехитрить, чем
на храбрость, даже если бы кто-то захотел его перехитрить) не видел и не
слышал ничего такого, о чем не доносил бы своему устрашенному разуму
в многократном преувеличении. Еще прежде, чем противник появился,
Клиний частенько содрогался от ужаса в ожидании его, и его разум (ста-
раясь освободиться от бремени страха) придумывал разные препятствия
на пути Базилия, например неожиданную смерть или раздоры со знатью,
иначе (когда и то и другое оказывалось беспочвенным) природа случай-
ного начинала видеться ему как неотвратимость; но, бывало, слыша храб-
рые речи, Клиний успокаивался и убеждал себя, что пусть дело дойдет до
дела, и тогда он тоже станет храбрым. Непосредственная опасность дока-
зывала, что дерзкое деяние — единственный способ предотвратить угрозу
беды, но тот, кто увидел бы Клиния в грозный момент, наверное, подумал
бы, что глаза у него повернулись внутрь, а душа улетела прочь, так ужасно
подействовал на него запах опасности. Ему чудилось, что озеро слишком
мелкое, а стены слишком тонкие, что вокруг одни предатели, а в будущем
одни несчастья; он воображал и реальные беды и такие, каких не могли
бы напророчить все планеты, взятые вместе; к тому же он немедленно
начал вооружаться (хотя заранее было решено, что ему не придется вы-
ходить за ворота) и искать подвал, в котором он мог бы спрятаться, когда
враги займут крепость. Ему очень хотелось, чтобы все, кроме него, храбро
сражались, поэтому он боялся показать, что боится, и из-за страха, не же-
лая пугать остальных, скрывал свой страх; но чем больше он старался, тем
больше слабый прерывающийся голос и бледное лицо, когда он пытался
воодушевить других, выдавали его.
Совсем иначе вел себя Амфиал, который до появления врагов был
осторожен, предусмотрителен и не очень уверен в успехе дела, но, при-
ближаясь, опасность, все сильнее будоражила его (словно светляка), так
что в конце концов храбрость забурлила в желчи и с нетерпением ждала
случая излиться на врагов. Амфиал приказал спустить лодки, ждавшие
348
своего часа, взял с собой самых надежных воинов и отправился к укреп-
лению на берегу озера, считая, что оно первым подвергнется нападению,
потому что защищало дорогу, по которой в крепость везли провизию и
другие припасы. В это укрепление, охранявшееся всадниками, он повел
еще двести всадников и пятьсот пеших воинов, поставил пехоту на скло-
не холма за деревьями, а сам с всадниками проехал четверть мили, чтобы
поближе рассмотреть многочисленное воинство Базилия, искавшее ме-
сто для лагеря.
Словно магнит, враги притягивали к себе храброго Амфиала, и он,
не умея сдержать себя и оставив друзей, помчался вперед, таким образом
одновременно объявляя войну противнику и требуя поддержки у солдат,
поскакавших следом за ним; под яростными ударами копыт застонала
земля, и врагов охватила ярость, хотя они и не знали, кто скачет им на-
встречу. Среди рыцарей Базилия был юноша с нежным безбородым ли-
цом, младший брат Филанакса, разум которого не знал безнадежности и
страха, а речи искрились весельем, потому что недавно он стал счастли-
вым любовником. Звали его Агенором и был он самым красивым из ры-
царей Базилия; ведя приятную беседу, Агенор ехал впереди, в доспехах,
но с поднятым забралом, чтобы легче было дышать; когда же он увидал
довольно далеко оторвавшегося от своей свиты Амфиала, то, не ожидая
приказа, не опустив забрала, пришпорил коня и с юношеской безогляд-
ностью поднял над головой копье, потом опустил его на плечо, бес-
покоясь об изяществе своих движений, словно его целью было кольцо,
а зрителями — дамы. Тем временем копье Амфиала, нацеленное в голову
Агенора, уже начинало свое смертельное движение, однако в последнее
мгновение Амфиал разглядел, как молод и красив его противник, и жа-
лость победила в нем гнев, он опустил копье, чтобы оно не попало в не-
защищенное лицо юноши, но попало в пластину, прикрывавшую руку;
и поединок должен был бы закончиться бескровно, если бы осколки без-
жалостного копья не попали все-таки в лицо Агенору, более подходящее
для Венериных поединков, и не принесли юноше мгновенную смерть,
ничего не оставив от его красоты; поводья выскользнули у него из рук
и ноги не удержались в стременах — Агенор упал с коня. Его лучший
друг Леонтий, который пытался удержать Ангенора от безрассудства, по-
чувствовал, как его раздирают жалость к Ангенору и жажда мести. Глядя
на друга и подняв руку на врага, так не вовремя раздвоившись, Леонтий
не смог оказать достойного сопротивления устремленному к победе
Амфиалу, который заметил его несогласованные движения и сделал сво-
им должником, прежде чем самому стать его должником. Леонтий упал
вслед за другом, счастливый тем, что к концу жизни и любви он и Агенор
подошли в один час и в одном месте.
В яростной битве сошлись враги, приветствуя друг друга воинствен-
ными кличами и скрещивая оружие вместо рукопожатия. В зависимости
от крепости металла и искусства воинов, копья покрывались кровью или
разлетались вдребезги и, падая на землю, как будто грозили небесам.
На смену копью приходил меч (царь над всем прочим оружием), или
349
тяжелая булава, или кусачая секира, которые, охотясь за добычей, иска-
ли себе работу там, где слабело сопротивление. Лязгающий металл, ло-
мающиеся древки, сшибающиеся тела, звучные удары — вот первая часть
музыкальной какофонии, сопровождаемая ужасом кровопролития, ту-
чами пыли, смертельными падениями и стонами раненых. Даже кони,
разъяренные яростью своих хозяев, с любовью и покорностью перени-
мали их воинственность и сражались так, словно тоже мечтали о славе.
Некоторые падали мертвыми под мертвыми хозяевами, несправедливо
наказанные за верную службу. Другие падали на своих хозяев, удостоив-
шись чести проехать на тех, кто ездил на них при жизни. Третьи же, поте-
ряв хозяев и обезумев из-за безумия людей, мчались, не разбирая дороги,
неведомо куда. Земля (привыкшая быть могилой) теперь сама была похо-
ронена под трупами, ее лицо было скрыто под мертвыми телами, к кото-
рым смерть пришла под разными личинами. В одном месте лежали голо-
вы, лишенные своих природных подданных, в другом — тела с головами,
но с отверстыми сердцами, в третьем — тела с уродливо развороченными
животами. Валялись руки с еще шевелящимися пальцами, и ноги, кото-
рые, вопреки здравому смыслу, отяжелели, лишившись тяжелой ноши.
Однако ни одному мечу не удалось заплатить царству вечного покоя та-
кую дань человеческими душами, как Амфиалову мечу; его хозяин был
похож на тигра, у которого стая волков искала похитить добычу, отчего
он (зная, что они явились за Филоклеей) сражался так, что его храбрость,
сила, злость, гнев не уступали его беспредельной любви.
От руки Амфиала погиб старый рыцарь Эсхил, который по своим ле-
там мог бы служить людям мудростью, а не храбростью, но он был силен
телом и весел сердцем и отвечал шуткой на угрозы времени, а может быть,
годы так тихо подкрадывались к нему, что он не слышал их шагов, все еще
был пригож лицом и быстр в движениях (не по возрасту); но особую хра-
брость ему придавало давнее пророчество, будто умрет он на руках сына,
поэтому он не боялся руки врага. Когда же меч Амфиала пронзил ему гор-
ло, Эсхил было почувствовал себя обманутым, но его сын, увидев падаю-
щего отца, подхватил его и держал до тех пор, пока чья-то безжалостная
булава не размозжила и ему голову, отчего отец и сын стали близнецами
в своем втором, не знающем смерти, рождении.
Что до Дриала, Мемнона, Ниса и Поликрата, то первый сначала ли-
шился глаз и потому не смог достойно встретить подкравшуюся к нему
смерть; второй поверил тому же предсказателю, что и Эсхил (ибо мно-
гие его пророчества сбывались), будто он будет убит друзьями, и оттого
никто не мог сравниться с ним в храбрости при встрече с врагами и в по-
дозрительности при встрече с друзьями, словно он шел на битву, как
в постель, а в постель, как на битву, под охраной, которой не очень до-
верял, опасаясь за свою жизнь. Амфиал помог Мемнону избавиться от
подозрений, ибо свалил его с коня прямо под ноги поспешившим ему
на помощь друзьям. Нис бросился на Амфиала и был убит кинжалом.
Поликрату, из страха долго медлившему вступать в битву и не сбежав-
шему только из опасения прослыть трусом, Амфиал одним ударом снес
350
голову, и тот, в смертельной конвульсии пришпорив коня, храбро ворвал-
ся в гущу врагов, так что потом долго говорили: стоило Поликрату ли-
шиться головы, и он сразу же расхрабрился.
Лишь Фебилу удалось избежать смерти от руки Амфиала. Он давно
уже любил Филоклею, но, не будучи знатного рода, не смел ей открыться
и теперь, узнав Амфиала, вступил с ним в жестокий поединок, перенеся
весь пыл соперничества на острие своего меча. Когда же Амфиалу удалось
обезоружить его, и он поднял меч, чтобы нанести последний удар, Фебил,
поняв, что пришла его смерть, воскликнул: «О Филоклея, я счастлив, что
умираю за тебя!» Услыхав имя Филоклеи, Амфиал сначала придержал
меч, хотя тотчас от души возненавидел Фсбила, а потом и вовсе отвел его,
не причинив рыцарю никакого вреда, но лишив его чести умереть за воз-
любленную даму. Бедняге Фебилу не повезло, ведь, избегнув смерти от
руки рыцаря, он, безоружный, пал, сраженный простым воином.
Глава восьмая
Доблестный Амфиал почти одержал победу, нотутподоспел Филанакс,
командовавший царским воинством, и было смирившиеся с поражением
солдаты вновь воспряли духом. Взывая к ним, вопрошая, не лучше ли
им драться, повернувшись лицом к врагу, Филанакс сам бросился в гущу
воинов, заставляя силу и ярость прислуживать благоразумию и хладно-
кровию, отчего сразу стал похож на храброго льва, который учит львят
преследовать добычу, соединяя храбрость с умением. И тут удача, словно
она собрала достаточную жатву с одной стороны кровавого поля, пере-
метнулась на другую сторону, положив не меньше сторонников Амфиала,
чем до этого — Филанакса; и воины Амфиала стали отступать так же бы-
стро, как прежде наступали, оставляя на ненадолго захваченной земле тех,
кто потерял жизнь, удерживая эту землю. Те, кто совсем недавно убивал,
наследовали участь тех, кого они убивали. Жестокая смерть принудила
смиренно лежать рядом воинов, яростно искавших смерти друг друга,
и многие, убитые первыми, с радостью встречали тех, кто следом за ними
спешил к лодке Харона.
Мечу Филанакса удалось лишить жизни Кодра, Ктезифона и Мило.
Но больше других заслужил жалости оруженосец Йемен, который сражал-
ся рядом со своим господином Амфиалом и в свои юные лета совершал
подвиги, достойные зрелого мужа. Когда удача отвернулась и только до-
блесть Амфиала удерживала его воинов от позорного бегства, Йемен уви-
дел, что под Амфиалом убит конь, поэтому, испросив совет у храбрости и
верности, немедленно соскочил со своего коня и с помощью преданных
слуг поднял Амфиала. Но в суматохе, происшедшей в обоих воинствах,
когда одни пришли на помощь преследователям, а другие — спасителям
Амфиала, Йемен попал под руку Филанаксу, принесшего много потерь во-
инству Амфиала. Заметив Филанакса, юный оруженосец пожелал увенчать
себя славой. Ему удалось зацепить Филанакса за ногу, когда тот мчался
мимо, и Филанакс обернулся, однако увидав юного и пригожего воина, по-
жалел его и решил взять пленником, чтобы потом отдать его в свиту своему
брату Агенору, схожему с ним годами и красотой. Но пока он раздумывал
об этом, разглядывал Йемена, его взгляд остановился на мертвых Агеноре
и его друге Леонтии, распростертых едва ли не под ногами оруженосца.
Опечалясь не только своей печалью, но и будущей неизбывной печалью
матери (которая, плача и вздыхая, провожала Агенора в поход вместе со
старшим братом), Филанакс забыл о жалости и, направив на Йемена коня
(пока Йемен наносил ему скорее храбрые, нежели удачные удары), прон-
зил ему грудь со словами: «Пусть другие матери тоже оплакивают безвре-
менную гибель сыновей!» Ослепленный яростью, но красивый, красивый
и умирающий юноша, не в силах стоять, упал на землю, забился на ней,
возроптав на судьбу, и еще долго сопротивлялся смерти, которой тоже не
хотелось забирать с собой его юную мятущуюся душу.
352
Да и сам Филанакс, должно быть, пожалел о том, что сделал, когда
увидал, как опускается на землю Йемен — словно румяное яблоко, кото-
рое, не созрев, падает на землю вместе со сломанной бездельником вет-
кой. Но, вспомнив о смерти брата, Филанакс забыл и об Йемене, и о себе
самом; в горячке преследуя врагов, он умчался далеко вперед (прежде чем
осознал это), где его воины не могли ему помочь и где его одолел Амфиал,
который, воодушевленный удачей, вновь бросился на врагов, приказав
своим воинам увести Филанакса.
Тем временем, потеряв Филанакса, его воины, словно потеряли ис-
точник своего мужества, истощили запасы храбрости и, передоверив честь
своим спинам, очень не вовремя вспомнили о покорности; но тут один,
без свиты, появился (суровый, как его конь, который более страшился
шпор, нежели меча) рыцарь в черных, как ночь, доспехах без украшений,
словом, не было ни людей, ни знаков, которые могли бы подсказать, кто
он и откуда. Однако его добродетели были тотчас признаны, и всеобщее
восхищение высоко вознесло его, поэтому, не признав его, воины призна-
ли, что им следует ему повиноваться, и в сопровождении самых храбрых
из них он стал прокладывать дорогу трусливым. Став на сторону против-
ников Амфиала, он поливал кровью сторонников Амфиала своего коня
и свое оружие. Его рука наносила удары ровно столько раз, сколько на-
носила раны, и наносила раны ровно столько раз, сколько рыцарей пада-
ло замертво. Ужасна была его мощь, сравнимая лишь с его проворством,
и суд был скор: меч поднимался и опускался быстрее, чем мог уловить
взгляд. От его руки пали Сарпедон и Плистонакс, Строфил и Ипполит,
исправные воины, в тот день сопровождавшие Амфиала. Стремясь за-
щитить его, они сдали крепости, в которые природа поселила их самих.
Потом лишился жизни Мегал, незадолго до этого бахвалившийся свои-
ми доспехами, залитыми кровью врагов, но, когда его кровь смешалась
с их кровью, он понял, что жестокость недолго радуется дешевой славе.
Следом пал тот самый Палемон, который, по-дурацки петушась, обещал
убить десять врагов; и когда, убив девятерых, он задумался о том, как ис-
полнить (почти исполненное) обещание, черный рыцарь помог ему са-
мому стать десятым.
Вот так волею изменчивой удачи вновь стали меняться краски битвы.
Если сначала, хоть она и казалась ужасной, но ужас прятался за богатыми
одеждами, сверкавшим оружием, сиявшими доспехами, красивыми фла-
гами, которые притягивали взгляд, не оставляя место страху, то теперь все
вокруг было осквернено грязью, кровью, обломками оружия, искалечен-
ными телами, маска была сорвана, отчего ужас предстал в своем перво-
зданном виде. Однако храброго Амфиала не пугали опасность и урод-
ства, он не видел их, потому что перед его ослепленным страстью взором
стоял прекрасный образ Филоклеи; поэтому (более возбужденный, чем
обеспокоенный появлением новой опасности, он был рад найти нового
соперника) он помчался навстречу незнакомому рыцарю, который, по-
добно своенравному богачу, приказывающему сравнять с землей дома со-
седей, чтобы улучшить вид из своего окна, обеспечил себе такой простор
23 Заказ 1414
353
своим мечом, что Амфиалу не пришлось особенно трудиться, отыскивая
его. Оценив урон, нанесенный его воинству, он очень разгневался, но и
немало взревновал к пользе, принесенной рыцарем другой стороне. Они
стали сближаться, и подобно тому как любовь пробуждает в двух людях
стремление соединиться, так ненависть пробуждает в храбрецах желание
испытать себя и противника.
Начался поединок, достойный большего простора и более спокойных
зрителей, потому что, подстегиваемые удалью и почтением друг к другу,
противники все же держали себя в руках, хоть и сгорали от желания по-
бедить, но не забывали о том, как надо побеждать. Даже слуги Цереры1
не работали цепом с такой точностью и аккуратностью. Левой шпорой
посылая своего коня вперед, правой рыцари придерживали чужого коня,
иногда даже ухитряясь прижимать ногу противника, в это же время левой
(рулевой) рукой направляя послушное и отважное животное — все де-
лалось так искусно, что, казалось, царь-разум посылает мудрых и усерд-
ных гонцов во все подвластные ему части тела. Чем дольше затягивался
поединок, тем сильнее противникам хотелось победить, чем дольше они
наносили друг другу удары, тем меньше их ощущали, еще немного —
и было бы ясно, кому благоволит удача, но неожиданно между ними встал
старый наставник Амфиала, храбрый и заботливый воин, который нанес
сильный удар в бедро черному рыцарю, когда тот и не помышлял об этом,
а другим ударом убил под ним коня. Амфиал закричал, что старик обе-
счестил его.
— Ты правильно говоришь, — ответил ему рыцарь, — если считаешь,
что ты сам по себе и этот поединок только твое дело. Но посмотри, как
раз сейчас Базилий отрезает тебе дорогу в крепость.
Амфиал оглянулся и увидел, что царские воины, обойдя его, собира-
ются помешать его возвращению, поэтому он приказал трубить отступ-
ление, и его наставник повел воинов в обратный путь, тогда как он сам
замыкал строй, словно у ворот шлюза наблюдал, чтобы вода текла равно-
мерно. Явив мужество и благоразумие, Амфиал (хоть и потерял многих)
возвратился в крепость живой и довольный тем, что сумел показать вра-
гам, сколь небезобиден меч воздыхателя Филоклеи. Его противники были
опечалены пленением Филанакса и исчезновением неузнанного Черного
Рыцаря, который, будучи серьезно ранен, не пожелал быть узнанным, взял
коня, оставшегося без хозяина, и, когда его противник начал отступать,
тоже отступил, хотя месть не давала покоя его сердцу так же, как боль —
ране. Не сумев захватить Амфиала, Базилий занялся обустройством лагеря,
время от времени слыша (и огорчаясь, так как его день прошел не лучшим
образом) радостные крики своих подданных, доносившиеся из крепости.
Что же до Амфиала, то, будучи любим народом, он был встречен как побе-
дитель; его юность придавала блеск его достоинствам, а врожденное благо-
родство облагораживало деяния.
1 Церера — в римской мифологии богиня плодородия и земледелия.
354
Глава девятая
После своего возвращения Амфиал первым делом отправился к Фи-
локлее, решившись наконец открыть ей свой сон, который он видел на-
кануне того дня, когда влюбился в нее, а чтобы действовать наверняка,
приправил свою песню большой долей печали.
Вот эта песня1:
Когда небесный свод великое светило
Покинуло и в тьме полуночной светило
Немного тусклых звезд, чей свет бы день убил,
И всяк, кто искре сей усладою служил
(Сей искре имя жизнь), на отдых отправлялся,
И ей любезный взор от дремы закрывался,
И в тишь влюбленный слух молчаньем был объят
(Так музыка сладка тому, кто любит лад),
И мать земля, дыша под скорбною травою,
Смерть нашу целовать желала всей душою, —
Я, бедствующий, вдруг избавился от бед,
Жизнь обрела покой: ни скорбных мыслей нет,
Ни сердце не болит от всякого биенья,
И, здравый, естеству я воссылал хваленья;
Другим желанное меня уж не влекло,
Всему я цену знал, чем прикровенно зло;
Земные надо мной теряли власть тенеты,
Небесный дар прочь гнал нечистые заботы;
Уже в грехах не мог себя я обвинять,
И угрызения престали совесть мять;
Как стебель, что венца держать не может боле,
Надломленный, кладет тяжелый цвет на поле
Иль птица, для гнезда оставив высоту,
Об отдыхе одном хранит в душе мечту —
Так я, забыв и свет, и мысли, и обиды,
Под тяжесть век убрал пленительные виды
И сущее одной лишь мыслью постигал,
А чувства от трудов и нег оберегал.
Уплыл мечтаний сонм, что в прошлом был изведан,
Я, труп живой, во власть сна мертвого был предан.
Да, я был труп живой, но мысль во мне жила
1 Первоначально, в «Старой Аркадии», ее пел Филисид в честь Миры, своей
«обожаемой дамы». Тема песни — забытая вера в планетарных богов — популярна
для времени Сидни и, возможно, имеет отношение к изменившейся астрономиче-
ской концепции. Джордано Бруно написал «Spaccio della bestia Trionfante», где речь
также идет об этом, около 1585 года и подарил трактат Сидни.
23*
355
(Ее, небесной, смерть похитить не могла);
Все плотское забыв, небесною стезею
Мысль устремлялась ввысь, одна владея мною.
Казалось мне, что я в могучий лес вступил,
То, думается мне, край Соматеи был,
Примером чести всем чьи жители служили
И в добродетели до лет преклонных жили.
Природы пастбище раскинулось у ног —
Пасомый, чувства я во здравии берег;
Я познавал ее, вникал в ее красоты,
Труждаясь, понимал закон ее работы:
Движеньям точным свет небесный обречен,
Миры летят, земля стоит веков спокон.
Бессмертные к земле откуда сходят души?
Что образует жизнь во влаге и на суше?
Создатель вне земли — или во мгле земной?
Всем этим занят был ум одинокий мой.
Насущное поправ, я в суть вещей вдавался,
И — чудо! — шум тогда чудовищный раздался,
Как будто стройный столп от бури пал во прах
Или свирепый гром раздался в высотах.
Расселась пополам луна, и из средины —
Как соколы на зов свергаются с вершины —
Карета дивная спустилась бурь быстрей,
Влекома воробьев чредой и голубей.
Я в изумленье стыл и думал: суд жестокий
Постиг ад, землю, рай и все земные сроки.
Тут из кареты вниз вдруг женщина сошла,
За ней другая вслед, и д e в а их ждала.
Одежда жен была не той, что подобала:
Одна из них подол, как нимфа, подбирала
До самых до колен и тщилась лук согнуть,
Нагими у нее была рука и грудь,
Но поступь женщины была такой тяжелой,
Что не вязался с ней охоты дух веселый.
Другая в мастерстве, пожалуй, превзошла
Искусниц, что соблазн творят из барахла:
Прелестницы лицо, кудрявыми узлами
Запутались власы, зато блестят, как пламя —
Художник ей помог... Под стать сестре сестра
В столь грозный вторглась мир: мышь родила гора.
«Пойдем, Венера!» — вдруг рекла полунагая.
«Пойдем, Диана!» — в такт произнесла другая.
Великие меня смутили имена
(Хоть слава сих имен теперь посрамлена).
Я продолжал следить. Диана подходила
356
К той деве, что красой своей превосходила
Все виденное — так жемчужина одна
Затмит и панцирь свой, и мелкий жемчуг дна.
Покой, гармонию и граций обаянье
В избытке ей дала природа в обладанье;
И одеяние владелице под стать:
Презрела б облик свой, но можно ль презирать?
Она пошла на зов, и в это же мгновенье
Открылась мне вполне краса — любви владенье.
И чудно опустив светило зренья — взгляд,
Смиренно слушала, что госпожи велят.
«Восторг души моей, пленительная Мира,
Кем подтверждается, что власть дала я миру, —
Диана начала, — тебе дано одной
Нас провождать сюда, к тому же в час такой.
Поэтому молчи теперь, и впредь — ни слова.
Все, что ты видишь здесь, не повторится снова...»
И Мира поклялась хранить молчанье впредь,
И образ Миры стал душой моей владеть.
И, гневный взор затем оборотив к Венере,
Диана молвила: «Сестра, мы в лунной сфере,
Здесь мой удел... Ты знаешь, с давних пор
Между тобой и мной непримирим раздор,
Что каждая из нас другую поносила
И против наших царств гнев смертных обратила,
И нами, наконец, совсем пренебрегли:
Имен умолкнул звук, и храмы спят в пыли.
Где жертвы? Где алтарь? Все попрано бесстыдно;
Прогнали всех жрецов, и тысячи в безвидной
Пустыне брошено прекрасных алтарей;
Мы имена планет, не боле, для людей;
Чему служили мы — краса и благородство —
Теперь в глазах людей распутство и уродство,
Служанки, говорят, мы глине и червям...
Раздор наш породил такую славу нам,
Покуда ревностью кипели мы враждебной.
Но то, что разорил раздор наш непотребный,
Согласье заключив, нам возродить пора —
Так возраст наш велит, любезная сестра!
Ведь колесо вращать уже устало время:
Воспомни, как Сатурн лет стариковских бремя
Не превозмог и пал — а небом правил он!
Пока научит нас премудрый Аполлон,
Как юность нам вернуть (горазд он, я слыхала),
Давай разделим мир между собой сначала...
Нет власти в двух руках, и должно рассудить,
357
Чья будет власть, а кто обязан уступить.
Пустое равенство — для новых распрь дорога,
Так победительница пусть стяжает много,
Владея чистотой и прелестью вполне:
Возобладаю я — ты дар отдашь твой мне,
Ты ль победишь — верши дела, что я вершила...
Но справедливость где ж, которая б решила,
Кто и державный скиптр и дар двойной возьмет...
А впрочем, посмотри, вон юноша идет,
Не истина ли с ним присутствует на небе?
Пусть здравый смысл решит, а не капризный жребий,
Кто на престол взойдет, из рук моих беря
Янтарный сей венец (венец из янтаря
Сверкал в ее перстах)». — «Да, что судьба решила,
Провозглашать ему», — Венера подтвердила.
Самонадеянно Венеры взор блистал,
Как в день, когда меж трех ее Парис избрал.
«Я спора не ищу, любезная Диана,
Не ненависть, любовь от века мне желанна.
За ветренность меня ты поделом коришь,
И чистоту твою я уважаю лишь...
Век любит доброту — а кто ж меня добрее?
Отпраздновать наш мир хотела б я скорее.
Пусть будет нам судьей, коль послан он судьбой...»
И стали убеждать меня наперебой
(Не так они легко друг дружке уступали),
Что клятву в этот миг они мгновенно дали,
Мой слыша приговор, обуздывать свой гнев.
Я ужас испытал, впервые их узрев,
Но, обольщенный тем, что честь мне оказали,
Иными их уже я видел, чем вначале.
И, клятву Стиксову с обеих взяв сперва,
Мой приговор облек в такие вот слова:
«Раздор ваш нехорош, но трудно отрешиться
От грусти, что даров одна из вас лишится.
Я нимфе молодой, той, что стоит вон там,
Янтарный сей венец поэтому отдам».
Тогда из уст богинь исторгся крик невольный:
«Фу! Что мы сделали! Мятежник своевольный!
Но мы уж поклялись — и уступаем ей,
Хоть в том, что решено, нет честности твоей...
Ты у нее в плену! — произнесла сурово
Венера, — судию избрали мы слепого!»
Диана же рекла: «Себе не изменю,
Останусь честной, жизнь тебе сохраню.
Но знай: за то, что суд ты совершил негодный,
358
Не будешь видеть ты сей девы благородной!»
И Миру каждая дарами наградя,
Две прокляли меня богини, уходя.
Что дальше, не скажу. Я в тот же миг очнулся,
Мучительно дрожа... Коль я от сна проснулся,
То страшное со мной соделал этот сон:
Незримое для глаз показывал мне он.
Сон, созданный нам быть лечебником, охраной,
Зачем ты вызвал то, что стало смертной раной?
Предатель Купидон! Бесчестен твой подвох:
Ты беззащитного меня застиг врасплох...
Положив к ее ногам не только победы, но и свое сердце победите-
ля... <...>'.
Филоклея приняла Амфиала, как всегда, печальная (ее не тронули его
слова), отчего его триумф показался ему красивым памятником на скорб-
ной могиле, и радость обернулась горечью, ибо Филоклея не разделила
ее с ним.
Все еще пребывая в уверенности, что Цекропия поможет ему, Амфиал
приказал привести к себе Филанакса, которого ненавидел всегда, а те-
перь из-за гибели Йемена возненавидел еще сильнее. Кроме того, он счи-
тал Филанакса одним из виновников своего бунта и был склонен (чтобы
еще более усугубить свою вину и запачкать своих помощников) осудить
его на смерть, тем более этого добивались Цекропия и другие советники,
ненавидевшие Филанакса единственно за то, что он более, нежели они,
был достоин любви.
Пока советники обсуждали судьбу Филанакса, согласуясь более со
своими чувствами, чем с разумом, Филоклея, узнав о злой участи Фи-
ланакса, послала одну из приставленных к ней служанок сказать Амфи-
алу, что если ее любовь что-нибудь для него значит, он не причинит
большего вреда Филанаксу, чем заключение под стражу. Служанка пере-
дала Амфиалу слова Филоклеи как раз в тот момент, когда Филанакс
входил в хозяйские покои, предупрежденный, что его позвали, желая со-
общить о смертном приговоре. И вот тут-то ему, приготовившемуся му-
жественно выслушать приговор (который он считал несправедливым, но
не унизительным), Амфиал вдруг заявил о своей благодарности, так как
с помощью Филанакса якобы обрел счастье услужить своей даме, и сооб-
щил, что с удовольствием отпускает его на все четыре стороны, не только
сняв все обвинения, но и уверив его в своей преданности, правда, взамен
он все же попросил рассказать о планах и намерениях царя Базилия.
— Если по чести, — ответил Филанакс, — то, буде мне известны тайны
моего господина, разглашение которых могло бы повредить ему, я не стал
бы сохранять себе жизнь ценой неверности, ибо предательство слишком
1 Пропуск в тексте.
359
дорогая плата за несколько лет жизни. Но поскольку у моего господина
нет тайных намерений и он собирается открыто воевать с тобой, я не ста-
ну препираться и в нескольких словах расскажу, о чем ты просишь.
Филанакс начал с того, в какое замешательство повергло Базилия
и Гинесию исчезновение их дочерей и Зелманы, как они подозревали
сначала Зелману, потому что она была чужестранкой, потом подозрение
легло на недавних бунтовщиков, и это подозрение усугубилось, когда
селяне наткнулись на полумертвую от голода Мисо — от Мисо узнали,
как женщин хитростью выманили из дома и насильно куда-то увезли.
А через несколько дней сам Амфиал рассеял последние сомнения, когда
с помощью писем решил обрести сторонников среди рыцарей Аркадии.
Осаду Базилий не снимет, пока не возьмет крепость и не отомстит за на-
несенную обиду. Он рассчитывает на время и на голод и не хочет идти на
штурм, потому что знает, как много в крепости храбрых рыцарей, однако
он уже послал за подкреплением из добровольцев, да каждый день ему
будут доставлять необходимое оружие и провизию.
— Поэтому, мой господин, — завершил Филанакс свой рассказ, — по-
зволь мне, по твоей милости вновь обретшему жизнь, дать совет, кото-
рый сохранит тебе жизнь и честь, ведь, несмотря ни на что, я люблю тебя,
племянника моего господина, и желаю тебе удачи во всем, кроме того
дела, которое ты теперь задумал. Тебе известно, что Базилию от природы
свойственно прощать так же, как царской власти свойственно подчинять.
Твой проступок извинителен: любовь требует, и юноша подчиняется ее
требованиям. Однако не стремись победить с оружием в руках, постарай-
ся учтивостью заслужить то, что вряд ли завоюешь силой.
По лицу Амфиала было ясно, что его гнев вот-вот вырвется наружу,
и сдерживает его лишь мысль о Филоклее, которая стала преградой меж-
ду гневом и последствиями гнева. Филанаксу он ответил, что не склонен
утруждать его советами и, если тот желает, то может немедленно отправ-
ляться восвояси. Счастью Филанакса не было предела, ведь он получил
свободу и остался незапятнанным, поэтому покорно последовал к воро-
там в сопровождении стражников и удалился, не повидавшись с царев-
нами, понимая, что такая просьба лишь разозлит Амфиала и ничем не
поможет тем, кого можно освободить не иначе, как силой.
Несчастным дамам не было позволено встречаться ни друг с друж-
кой, ни с кем бы то ни было, кто не пел под дудку Цекропии, которая, не
пропуская ни одного дня и ловя любую возможность удовлетворить жела-
ние сына и лишить пленниц твердости, одинаковыми доводами убеждала
обеих сестер, считая, что добившись согласия одной, другую (без ведо-
ма сына) уберет с дороги при помощи яда. Однако одинаковые доводы
она высказывала по-разному, в зависимости от того, насколько чувства
сестер были склонны к их восприятию. На этот раз Цекропия долго раз-
говаривала с Филоклеей, всячески расхваливая послушание своего сына,
так как он действительно освободил Филанакса, однако ответом ей было
лишь целомудренное молчание, но столь очаровательно двусмысленное,
что оно одновременно выражало и непокорность и смирение.
360
Глава десятая
Мысленно угрожая Филоклее более суровым обхождением, Цекропия
отправилась к ее сестре Памеле, которая (устав от чтения и всем сердцем
отвергая общество дам, приставленных к ней, ибо считала их тюремщи-
цами) вышивала на кошеле розы и лилии, и по ее искусной работе было
видно, что все свои печали она воплотила в цветах, которые были так на-
сыщены жизнью, что и самый искусный живописец мог бы поучиться
мастерству у ее иглы, столь мило прыгавшей туда-сюда, словно она не хо-
тела удаляться от своей госпожи, но желала как можно скорее вернуться
обратно, да и материя глядела на нее, не в силах наглядеться, и с любовью
принимала наносимые ей раны. Ножницы тоже как будто ждали, когда
она обратится к ним, чтобы отрезать нитку, но если Памела откусывала
нить, то, казалось, ее губы творят сразу много роз, пока руки трудятся над
одной, тогда как лилии берут белизну у ее рук, а не у нити, которой они
вышиты, и все цветы как будто распускаются под лучами солнц, ее глаз,
и шевелятся от невольного вздоха, тревожащего беспокойно-спокойный
воздух. Памела искусно подобрала цвета для фона — не только темные
и не только яркие, но те и другие в точной пропорции, а ведь это, не-
смотря на вложенный труд, был всего лишь орнамент для основной рабо-
ты, — удивительно, как ее разум, являвший внешнее безразличие к уда-
рам судьбы, смог сосредоточиться на столь незначительной детали. Точно
так же не пренебрегла Памела и своим одеянием, но, словно собираясь
обвенчаться с несчастьем, она была склонна помнить скорее о своем до-
стоинстве, нежели о недостойном супружестве. Нельзя было не заметить,
что она не отказалась от услуг зеркала, и ее руки с удовольствием платили
дань истинного искусства совершенным творениям природы.
В этом Памела разительно отличалась от сестры, которая страдала от-
того, что ее печаль облачена в прекрасную форму, и не желала развлекать
непрошеную гостью. Памела внушила Цекропии неожиданную надежду,
так как собственный опыт подсказывал ей, что тщательно ухоженная кра-
сота подобна гостеприимному порту. Воодушевленная этим, она подсела
к Памеле и, взяв у нее из рук кошель, с преувеличенным любопытством
принялась рассматривать его.
— Счастлив тот (если ему ведомо его счастье), — сказала она, — кому
предназначен сей кошель, вышитый твоими руками. По правде говоря,
он должен принять его не как кошель для сокровищ, но как сокровище
само по себе, достойное храниться в кошеле его сердца.
— Ты действительно так думаешь? — едва заметно улыбаясь, спросила
Памела. — Клянусь, я работала над ним, чтобы докучливые часы повери-
ли, будто я их не замечаю, а теперь это просто кошель, и больше ничего.
— Воистину красота вызывает восхищение, даже не желая того.
— Я и не думала, будто то внешнее, что называется красотой, кото-
рую ты изволишь приписывать мне (как мне кажется) безосновательно,
361
может быть чем-то иным, нежели соединением природных красок, при-
ятных для взгляда, как музыка приятна для слуха без каких-либо ухищре-
ний, ведь такой же красотой обладают звери, и даже камни и деревья тоже
могут быть прекрасными.
— Они обладают частью красоты, — возразила Цекропия, — и это
не мешает совершенству быть совершенным, несмотря на то что звери,
деревья и камни тоже могут быть прекрасными. Однако разумно и то,
что красота человека выше их красоты, ибо только человеку дано судить
о красоте, а среди разумных существ, как мне кажется, наш пол имеет
преимущество, и этим преимуществом природа компенсирует другие
щедроты, которыми могла бы наделить человечество. Подумай сама,
мужчины увенчивают себя славой, силой заставляют окружающих при-
знавать их умственное превосходство или долгой учебой и умными ре-
чами убеждают других в том, в чем хотят их убедить! Но посмотри, как
прекрасная женщина командует, не применяя насилия, и убеждает, не
произнося ни слова. Ей не надо требовать внимания к себе, ибо стоит
мужчинам увидеть ее, и они готовы ей внимать. Мужчины рискуют свои-
ми жизнями ради победы, она же побеждает, ничем не рискуя. Ей служат
и ей подчиняются, и это прекрасно, потому что повелевают не законы,
нет, женщины сами становятся законом для покорных мужчин, кото-
рыми повелевают не в силу знатности своего рода, а во имя самих себя.
Женщине не надо думать, как повелевать, страхом или любовью, пото-
му что любовь пробуждает в мужчине страх, а страх усиливает любовь;
ей не надо нападать или защищаться, потому что ее уста стоят десяти
тысяч щитов, и десять тысяч стрел способны метнуть ее глаза. Красота,
красота, милая племянница, венчает женское превосходство, и если этот
дар дан женщине (скупыми) небесами, ей следует, не рассуждая, восполь-
зоваться им для благородной цели, для которой он предназначен — не
только для завоевания, но и для сбережения, ибо нет счастья выше, чем
даровать счастье.
— Тетушка, — ответила Памела, — боюсь, теперь я буду считать себя
красивее, чем я есть на самом деле, а свою красоту куда более ценной,
чем мне случалось вообразить. До сих пор мне казалось, что завоевания,
о которых ты говоришь, скорее происходят по слабости побежденного,
а не благодаря силе победителя, говорят ведь, что журавли разбивают
войска пигмеев1 не потому, что очень храбрые, а потому что пигмеи — это
пигмеи, и дети полагают свои куклы красивыми, а куклы — всего лишь
куклы. Но если ваши зрелые лета и зрелый ум находят, что красота до-
стойна ни с чем не сравнимого почитания, я думаю, к ней должно от-
носиться как к драгоценности в соответствии с ее совершенством и не
допускать ее осквернения, подобно прочим, дорогим нам вещам.
— Осквернения? — воскликнула Цекропия. — Что ты, Господь не до-
пустит, чтобы мои речи велись с такой ужасной целью! Я хочу соединить
твою красоту с любовью и твою юность с радостью. Правда, зачем нужны
1 Овидий. Метаморфозы. Кн. 6, строка 90.
362
краски, если некому любоваться ими, и красота ни к чему, если нет влюб-
ленных глаз, созерцающих ее. Разве я веду речь об осквернении? Нет,
о чествовании, о сохранении красоты, ибо она уходит со временем, и где
сохранится воспоминание о ней, как не в сердце влюбленного? Такое
сердце у моего сына, чья любовь покорна тебе, и он скорее откажется от
тебя, чем обидит.
— Мне приятно, что он любит меня так, а не иначе, но я уже говорила
тебе и могу повторить еще раз: Амфиал должен получить согласие моих
родителей, и только потом я смогу ответить ему, чтобы не согрешить про-
тив Господа.
— Ах, милая девочка, — воскликнула Цекропия, — тебе ли говорить
о боге? Нет, нет, дорогая племянница, оставь нам, старикам, мысли о не-
бесном, а сама наслаждайся дарами юности, подобно рачительной хо-
зяйке, которая старается поскорее найти применение тому, что не может
храниться долго; наслаждайся всем тем, что тебе дано, а не то будешь
плакать, когда зеркало покажет морщины на твоем лице. Вспомни, как
богата цветами весна, как она украшается ими, не думая об осени. И тебе
следует извлечь из этого урок: в апреле надо жить так, как велит апрель.
Не позволяй, чтобы те, кто близок к могиле и, возможно, завидует недо-
ступным радостям, уговорил себя отказаться от того, от чего не следует
отказываться, чем можно и нужно воспользоваться, ведь откажешься се-
годня, а завтра будет поздно. Ты знаешь, что твой отец отказал всем вели-
ким царям, желавшим взять тебя в жены? Разве не обидно тебе отдавать
свою красоту на волю его старческого брюзжания?
— Если даже мой отец брюзга, — сказала Памела, — он все-таки мой
отец, и я его дочь, несмотря на всю мою красоту, поэтому Господь требует
от меня послушания, ведь я не судья моему отцу.
Искренность Памелы склонила Цекропию к мысли, что правильнее
всего — подобно тому, как она (по ее разумению) заставила Памелу об-
ратить внимание на свою красоту, убеждая не растрачивать ее впустую, —
постепенно увести ее от небесных устремлений, и тогда ей не составит
труда направить племянницу по кривой дорожке. Она поднапрягла свой
изворотливый ум и, заговорив искренне, потому что говорила то, что ду-
мала, сказала:
— Милая племянница, нет, милая дочь (если бы мои чувства и же-
лания могли осуществиться), как же сильно, поверь мне, как искренне
я рассчитываю на сие благословенное супружество, в котором твои до-
бродетели соединятся с его страстным влечением; не может быть лучшей
узды, как считают здравомыслящие люди, чтобы направлять на благо
умы мужчин! Подобно тому, как дети, страшась поначалу, познают то,
что, будучи познанным, доставляет им радость, общепринятое мнение
было придумано как пугало, чтобы уберечь людей от ошибок, на которые
их могут толкнуть мирская суета и собственные слабости. Но, племянни-
ца, твои совершенства не нуждаются в одобрении толпы; да и вряд ли ты
любишь добродетель рабской любовью, из страха, не знаю уж, чего или
кого, тебе неведомого, лучше люби ее за явленные тебе добрые плоды.
363
Страх, по правде говоря, глупый страх, и пугливое невежество создали
божественные образы, ведь, заслышав гром и не ведая его физической
природы, люди думали, будто кто-то сердитый грозит им с неба; и чем
меньше они понимали, тем больше сочиняли. Все, чему они не могли
найти объяснения, сразу становилось чудом; глупые людишки не замеча-
ли, что изменениям предшествует некая причина, а в целом все остается,
как есть. Вчера было как сегодня, и завтра пройдет поступью своих пред-
шественников: разве это не говорит о том, что у всего есть свой естествен-
ный путь и лишь человек, стремясь, благодаря своему богатому вообра-
жению, к сверхъестественному, теряет дарованное ему природой счастье.
Будь умной, тогда твой ум сам станет богом. Будь довольна жизнью, и ты
обретешь рай, потому что считать, будто небесные силы (если такие есть)
милостиво внимают нашим молитвам или гневаются на нас за наши про-
ступки, все равно, что всерьез представлять, будто мухи озабочены мне-
нием людей о том, какая из них лучше гудит или проворнее летает.
Цекропия не остановилась бы на этом и добавила в свое рассуждение
еще доводы, чтобы вывод звучал основательнее, однако Памела, у кото-
рой щеки окрасились прелестным цветом добродетельного гнева, а глаза
сверкнули презрением, прервала ее.
— Замолчи, грешница, замолчи, ты недостойна жить, если не призна-
ешь того, кто дал нам жизнь; ты недостойна говорить, ибо говоришь про-
тив того, кто дал тебе речь. Не выставляй напоказ свою болезнь, которая
заражает все вокруг, как брызги, летящие от собаки, когда она сушит шку-
ру, выкупавшись в грязи. Ты сказала, будто вчера было похоже на сегодня.
Ах, глупая женщина, тем более глупая, что из-за своей хитрости стано-
вишься еще глупее! Разве это не означает, что все мы покорны верному
себе, вечному владыке? Разве лучше иметь непостоянного бога, если мы
человека называем глупым за его непостоянство? Ты говоришь, будто его
никто не видел, но разве он был бы богом, если бы являлся твоим греш-
ным глазам, которые могли бы многое увидеть, если бы ты не была по-
хожа на тех, которые с удовольствием завязывает себе глаза, чтобы легче
переносить удары. Хотя я говорю с тобой, не имея ни малейшей надежды
заронить благое зерно в скверну твоей души, хотя нет тут никого, кто мог
бы здраво судить о моих речах, ты, неволя, будь мне порукой: не по моей
вине мои уши внимали поношениям Создателя.
Ты говоришь, нам неизвестны причины многих вещей, поэтому страх
стал отцом наших суеверий. Нет, как раз зная то, что в природе все имеет
свою причину, мы искренне и радостно веруем. Он сотворил нас и все су-
щее, его частица в нас, и думать иначе — значит лишать себя чуда, перед
которым все случайное бессильно. Если есть нечто вечное (ты как будто
тоже веришь в него), то в нем нет моста случайности. Случайно то, что
происходит с нами, и если это происходит теперь, то могло произойти и
прежде, а могло и не произойти, это и есть случайность в противополож-
ность вечности. Смешно думать, будто то, что имеет начало, берет нача-
ло в случайном, ведь случайность не может ничего сотворить из ничего,
значит, до того тоже были материи, которые случайно встретились, что-
364
бы сотворить нечто, и так получается целое нагромождение нелепостей.
Эти материи тоже откуда-то взялись и потому они вечны, а то, что веч-
ное дает начало случайному, столь же абсурдно, как то, что солнце творит
тьму. Случайное — значит, необязательное, следовательно, без начала и без
конца. Но мы во всех вещах видим и причину и следствие, поэтому если
ты хорошенько подумаешь, то поймешь, что у всего обязательно есть свое
начало.
Наконец, случайность изменчива, иначе она не звалась бы случай-
ностью; мы же видим, что это творение постоянно и неизменно. Если бы
только случайность соединяла в себе все сущее, то все тяжелое упало бы,
а легкое поднялось ввысь, и они никогда не встретились бы, чтобы соз-
дать красоту вокруг нас. Прежде чем возникли небо или земля, не было
ни неба высоко вверху, ни земли, которой суждено было стать центром
по отношению к небесной полусфере1. И последнее. Если совершенный
порядок, совершенная красота, совершенное постоянство — дети случая,
или удачи, тогда мудрость — прародительница пороков, а вечность —
плод ее непостоянства.
Ты можешь сказать, так присуще природе, но это все равно, что ска-
зать, это так, потому что это так. Если же ты имеешь в виду множество
творцов, что трудятся вместе, как в народном правлении, чтобы обустро-
ить это прекрасное место, подобно элементам и эфирам, определяющим
в своем городе-доме границы своей власти, то будь уверена, чья-то муд-
рость должна была соединить их, ибо, будучи совершенно разными от
природы, они скорее искали бы гибель друг друга, нежели служили со-
гласию между собой для создания неизреченной гармонии. Невозможно,
чтобы противоположности соединялись для сотворения совершенства
без вмешательства высшей силы или мудрости, если, конечно, ты опять
не прибегнешь к отринутому оправданию всего и вся случайностью.
Однако ты можешь сказать, например, что вся природа, вечная приро-
да составлена в прекрасное целое из множества частей. Если ты имеешь
в виду мудрую, прекрасную, предусмотрительную природу, которая знает,
что делает, тогда скажи то, чего я жду от тебя, но не повторяй богохуль-
ства, которыми ты осквернила свои уста и мои уши. Если же ты имеешь
в виду природу, то есть огонь, который, сам не зная почему, устремляется
вверх, или море, которому свойственны приливы и отливы, словно оно
танцует, не зная музыки, то это такая же нелепица, но под другим назва-
нием, ибо слово Одно, приложимое к тому, что есть Всё, обозначает одно,
составленное из многих частей, очень многих. Вот тебе пример: когда мы
говорим об одном царстве, состоящем из многих городов, или об одном
городе со многими жителями, то граждане (не будь над ними высшей вла-
сти и мудрости) могли бы заботиться лишь о себе согласно своей природе;
и ни на что бы большее они не были бы способны, ведь вода тоже легко
гасит огонь и заливает землю. Если бы не изначальная небесная природа,
1 Речь идет о Птолемеевой системе: воздух и огонь как более легкие элементы
должны подниматься вверх, а вода и земля оказываться посередине.
365
которая, словно лишая их природной сути, обуздывает их, они не смогли
бы ужиться вместе.
Однако так же нелепо думать, будто от природы, от единого целого,
могут отделиться противоположные друг другу части и сохранить един-
ство подобно тому, как из определенного числа противоположностей по-
лучается целое. Послушай, если ты изгонишь уникальное и общее, тогда
(если твой приземленный ум сможет подняться так высоко) ты поймешь,
как высшее и совершенное (то есть вечность) может стать низким и по-
рочным, почти ничем, то есть сущностью, которая не может радоваться
своему существованию. Я не призываю в свидетели твои чувства, кото-
рые не слышат и не видят того, что представляет собой очевидную оче-
видность невыразимой мудрости; все сущее направлено к одной цели,
и эта цель — сохранение достойных плодов высшего ума, подобных речи
и смеху человечества.
Безумная ярость мутит тебе сознание, если ты считаешь нас, смерт-
ных и грешных, имеющими разум, а вселенной (в которой мы лишь ни-
чтожные частички) отказываешь в разуме, как будто можно сказать: нога
у меня умная, а сам я глупый. Мне уже приходилось слышать подобное
от такого же безбожника, как ты, который упрямо стоял на том, будто
отдельный человек был бы лучше целого мира, если бы мог получить зна-
ние, которого он лишен; он искал (не в силах дать прямой ответ), как бы
извернуться: если то, что он сказал, верно, то должен быть дух, который
умеет читать и писать, следовательно, мир учится, ибо именно это в нас
достойно похвалы. Несчастный глупец, он не понимал, что книги — всего
лишь склады пороков и, восхваляемые как таковые, они потворствуют
нашим желаниям, поэтому не могут быть допущены к вечному знанию,
которое не нуждается в отдельных мнениях, чтобы подтвердить себя;
солнцу ведь тоже не нужен воск, чтобы сиять чудесным светом.
Слово не может являться иначе, как по велению мудрого разума, ко-
торый направляет его; если позволишь, я назову его создателем (которым
он является), или душой и владыкой. Он управляет всем и все создает,
его власть — выше его творений и его подданных. А если его власть выше
всего, что мы знаем, тогда она должна быть бесконечной, ведь над ним
нет ничего, что бы его ограничивало; то, что не ограничивается сверху,
становится безграничным и бесконечным. Если же его власть безгра-
нична, то безграничны и его знания, ведь иначе было бы безграничное
превосходство власти, которой неизвестно, как пользоваться, и думаю,
даже ты понимаешь, до чего это было бы бессмысленно; в то же время
если его знание безгранично, тогда ничто, даже мушиное царство (над
которым ты потешалась с отвратительным пренебрежением) не может
избегнуть его внимания. Будь иначе, его знание было бы ограниченным
и не было бы бесконечным. Если же его власть и знание безграничны,
тогда его благость и справедливость должны быть такими же, ибо бес-
конечность разума и власти без такой же бесконечной благости неизбеж-
но привели бы к разрушению и гибели, а не к украшению и сохранению
мироздания.
366
Поскольку бог есть всезнающий бог, то он проникает в самую тьму
природных тайн, что есть сердце человека, проникает в самую глубину
тайных мыслей, проникает еще прежде, чем они становятся мыслями; по-
скольку он справедлив в пользовании своим могуществом и могуществен
в установлении справедливости, то запомни, грешная женщина (твой ум
так развращен, что ты не в силах скрыть свою болезнь от других, которых
заражаешь своей развращенностью), запомни, что я скажу тебе (ибо то,
что я скажу, обусловлено вечным и неизменным), придет время, когда ты,
осознав свой позор, постигнешь его власть и его мудрость, и тогда ты, на
краю гибели, уверуешь в создателя.
Глава одиннадцатая
Так говорила Памела, так она закончила свою речь, и столько было
красоты и величия в ее неподдельной добродетели, что, казалось, рабство
вершит суд над тиранией. Нечестивость предстала во всей своей мерзо-
сти, освещенная сиянием незапятнанной веры, и (то ли Цекропия видела
это на самом деле, то ли страх повинной совести затмил ей глаза), но со-
вершенства Памелы предстали перед ней в неземном свете. Тем не менее
(подобно летучей мыши, у которой есть глаза, чтобы видеть солнце, но
такие глаза, что ей не дано радоваться солнцу) узнав правду, Цекропия
не приняла ее. Подобно всем могущественным людям, которые имеют
обыкновение из сотворенного ими зла творить еще большее зло, она не
позволила разуму возвыситься, но позавидовала достойной Памеле, не
склонилась перед ней, но возненавидела ее тем более, что нашла в ней
противницу, надежно защищенную от ее сетей. И все-таки, пока Памела
говорила (хотя глаза у Цекропии чуть не вылезали из орбит, как у закусив-
шей удила лошади, и щеки горели красным пламенем сквозь желтизну),
она сидела неподвижно, но не спокойно, а вместо ответа лишь пробор-
мотала что-то, ибо сжигавшая ее злоба пробудила гордыню, толкавшую
ее забыть о хитрости и лицемерии. Ничего толком не сказав, сославшись
лишь на то, что ей нужно время на обдумывание речей Памелы, Цекропия
удалилась, ропща, но не раскаиваясь, по-всякому браня, как она считала,
слабость и покорность сына и обещая себе подтолкнуть его к более ре-
шительным действиям. Столкнувшись с величием и добродетелью одной
и молчаливой робостью другой, она решила забыть о роли просительни-
цы. Однако сын был склонен судить себя и наказывать печалью, поэтому
Цекропия стала искать, как облегчить его страдания, ведь он (будучи по-
бежденным в душе), был разгневан тем, что не мог выплеснуть ярость на
окружавших его врагов.
Наученный испытаниями прошедшего дня и убедившись, сколько
опасностей могут навлечь на все воинство несколько героев, Базилий
предпочел лопату мечу, а меч обязал защищать лопату, которой было по-
ручено окружить рвами Амфиалову крепость. Его люди взялись за дело
на некотором расстоянии от крепости и не покладали рук, пока не при-
близились к ее стенам, и тут он велел возвести форты один против дру-
гого в соответствии с военной наукой, которая ставила строительство
на службу разрушению и требовала, чтобы осаждающий был защищен
не хуже осажденного. Сколько бы вылазок ни предпринимал Амфиал,
желая отвлечь внимание от строительных работ (внушавших ему то ме-
ланхолию, то раздражение1), ему пришлось смириться с особенностями
рельефа, которые давали возможность небольшому гарнизону устоять
1 Охлаждая кровь и горяча се, то есть принуждая попеременно к обороне и
атаке.
368
перед натиском превосходящих сил противника, но и превосходящим
силам сподручнее было с помощью укрепленных позиций отражать атаки
немногочисленных отрядов, до поры до времени позабыв о мести. Все же
те и другие довольно часто наносили удары, используя небольшие отряды
и надежные укрытия, и поднимали много шума, скорее желая досадить
врагу, чем надеясь на победу.
Все это мучило нетерпеливого Амфиала и навевало на него скуку,
пока слухи о разразившейся войне не привели к стенам его крепости
многих чужестранцев и аркадцев царского происхождения. Доблестный
Фалант, обуздывавший себя на службе у Базилия (которого он чтил
за возданные себе почести), провел некоторое время в наблюдениях за
воинской учебой, строительством укреплений и военными действия-
ми и понял, чем в управлении и подчинении воинство Аркадии от-
личается от всех прочих, а также, внимательно вслушиваясь в приказы
Базилия, узнал, как отрезать крепость от какой бы то ни было подмо-
ги, зато самим получать подкрепление, сколько требуется. Все же он
(устав, не имея причин для усталости) со всем юношеским пылом жаж-
дал совершить подвиг и прославиться (но его сдерживала воинская дис-
циплина) ради возлюбленной Артезии, чтобы ей стало известно, как
храбр тот, кого она с легкостью забыла. Итак, заручившись согласием
Базилия, он приказал герольду надеть полагающиеся доспехи с симво-
лами мирного вестника и послал его к воротам крепости, чтобы тот вы-
звал Амфиала на поединок. Когда герольда с почестями и под охраной
доставили к Амфиалу, тот отвесил царскому племяннику низкий по-
клон и вручил послание, напомнив, что он всего лишь посланец сочини-
теля.
Амфиал повел себя учтиво, своим видом и речами уверив герольда
в том, что его месть изберет для себя более высокую цель. Распечатав по-
слание, он прочитал:
«Фалант из Коринфа приветствует Амфиала из Аркадии с дружествен-
ной враждебностью. Любовь к военному искусству, но не нелюбовь
к тебе привела меня к твоим врагам, однако не к единомыслию с ними,
и теперь, изнывая от скуки, я желаю освежить свой разум военным
единоборством, которое может послужить к прославлению рыцарей
и удовольствию зрителей. Поэтому, если есть в твоем стане герой, ко-
торый из любви к славе или для прославления любви, в доспехах и на
коне, с мечом и копьем, рискнет победой или поражением и готов от-
дать себя во власть победителя, я буду ждать его на рассвете с героль-
дом и оруженосцем на острове посреди озера, ибо нет места удобнее
для поединка. Остров хорошо виден из крепости, так что дамы будут
иметь удовольствие наблюдать за нами; и хотя остров легко простре-
ливается из крепости, я буду чувствовать себя в безопасности, зару-
чившись твоим словом. В ожидании ответа желаю тебе удачи, достой-
ной твоей славы, в служении справедливости, но не в воинственном
служении неправому делу».
24 Заказ 1414
369
Амфиал прочитал послание, не меняя веселого выражения лица, по-
том немного подумал и, крикнув, чтобы принесли чернила и бумагу, на-
писал ответ:
«Амфиал из Аркадии желает Фаланту из Коринфа всего, что тот сам
желает себе, кроме того, что может быть губительным для Амфиала.
Суть твоего послания указывает на благородный ум, а форма достой-
на благородной сути, отчего я подумал, сколь мог бы быть счастлив,
если бы имел такого друга, который полагал бы за немалое счастье
встретиться в бою с благородным противником. Твой вызов принят
на твоих условиях. Что до твоей безопасности (за неимением до-
стойного тебя заложника), я даю тебе свое слово, которым дорожу
превыше всего. Готовь оружие, но не озлобляйся сердцем, ибо ис-
тинная доблесть не нуждается в другом точиле, нежели стремление
к славе».
Написав и запечатав послание, Амфиал отдал его герольду, после
чего снял с шеи великолепную цепь и тоже отдал ему. Надежная охрана
сопровождала герольда до самых ворот замка, и когда он ушел, Амфиал
показал матери и некоторым из ближайших советников оба послания,
упомянув, что намерен сам принять вызов. Тотчас все стали отговаривать
его: Цекропия — заклинаниями, подсказанными материнской любовью,
старый воспитатель, чередуя мольбы с порицаниями, заявил, что Амфиал
гонится за славой храброго рыцаря, тогда как ему больше пристало быть
мудрым полководцем, Клиний упал к его ногам и напомнил ему о том,
что целый город нуждается в его защите. Но Амфиал (у которого сердце
пылало храбростью, зажженной любовью) властно остановил их и по-
дробно рассказал, что каждый из них и в каких обстоятельствах должен
делать, особенно в отношении дам, если его постигнет неудача, и, кроме
того, он попросил Цекропию привести Филоклею к окну, чтобы она мог-
ла наблюдать за поединком.
Итак, едва утренняя заря начала собирать росу с нежных листьев,
чтобы омыть свой лик перед появлением дышащего жаром солнца, Ам-
фиал отправился на конюшню и сам выбрал коня, которого (хотя ему
было почти двадцать лет) он за надежность предпочел всем остальным,
даже молодым. Гнедой в яблоках, с белой звездой во лбу и белым пят-
ном на левой передней ноге, с густой черной гривой и таким же хвостом,
этот могучий конь отличался еще и прекрасным пропорциональным
сложением. Амфиал возложил на него великолепное седло, украшенное
золотисто-коричневой и золотой эмалью и драгоценными каменьями,
а под седлом покрыл попоной с изображением веток с опадающими
листьями, причем листья были вышиты столь искусно, что когда конь
двигался, казалось, они летят, подхваченные ветром — неяркая золотая
парча была красива напоминанием о красоте осенних полей. Того же зо-
лотистого оттенка доспехи украшал другой рисунок — языки пламени,
взмывавшие вверх и темневшие в усилии вырваться из дымной тюрьмы.
370
На щите был изображен Скат1. Покончив с экипировкой, Лмфиал с ге-
рольдом и оруженосцем (заменившим погибшего Йемена) переправился
на остров, как нельзя лучше подходивший для поединка, ровный, без ку-
стов и пригорков и достаточно большой для сражения и с копьем и ме-
чом. С одной стороны он довольно близко подходил к замку, с другой —
к лагерю Базилия и со всех сторон был окружен водой, что исключало
тайное предательство и позволяло обеим сторонам хорошо подготовить-
ся к отражению атаки.
Фалант уже поджидал Амфиала, сидя на молочно-белом коне, хол-
ка и круп которого были усыпаны красными пятнами, напоминавшими
клубнику в блюде со сливками, грива и хвост были выкрашены в крас-
ный цвет, а поводья имели вид двух виноградных лоз, и на утолщении,
где они соединялись у мундштука, висела как будто гроздь винограда,
поэтому, когда конь закусывал удила, казалось, он хочет съесть се и от-
того с его губ падает слюна. Сбруя представляла собой словно переплете-
ние виноградных лоз и создавала впечатление, будто конь стоит посреди
виноградника, такими аппетитными гляделись рубиновые грозди на его
боках. Доспехи Фаланта были голубыми, как небо, и золотились иод сол-
нечными лучами. Щит украшало изображение борзой, обгоняющей дру-
гих собак, и хватающей зайца, но не убивающей его. Девиз гласил: «Не
добыча, но слава».
Едва Амфиал ступил на остров, он послал к Фаланту герольда ска-
зать, что явился рыцарь, готовый выслушать его, но Фалант заявил, что
ответ будет на языке копий. И оба рыцаря стали ждать сигнала герольдов,
который тем предстояло подать по распоряжению четырех судей, обме-
рявших поле. Молодой конь молодого хозяина резвился, подчиняясь, од-
нако, воле Фаланта и сверкая красотой, как в ясный день солнце сверкает
в море, тогда как конь Амфиала бил копытом землю, словно растравляя
себя на пользу своего хозяина. Едва герольды протрубили начало поедин-
ка, всадники одновременно вонзили шпоры в бока своих коней, одно-
временно взяли копья в руки, одновременно подняли их, одновременно
нацелили их на противников. Это было упоительное и грозное зрелище,
прекрасное для глаз совершенным согласием в смертельном противо-
речии и подобное музыке, искусно сотворенной из диссонансов. Кони,
в точности исполняя волю седоков, проскакали мимо друг друга, опалив
друг друга яростным дыханием. Копья пришли в движение в тот самый
миг, когда цель была более всего уязвима, и копье Фаланта, пронзило
нижнюю пластину на копье Амфиала, защищавшую руку, так что, когда
показалось копье противника, можно было подумать, будто Амфиал по-
пал в беду, но нет, он тоже ударил копьем, но в латный воротник Фаланта,
выбил несколько пластин, отчего Фалант откинулся назад, почти коснув-
шись головой крупа коня.
1 Скат — часто встречается в мифологии эпохи Возрождения как рыба, кото-
рая (согласно Плинию) парализует гнев того, кто ее ловит.
24*
371
Усмиряя ярость коней, противники отвели от их боков шпоры и на-
тянули поводья, отбросили сломанные копья и обнажили мечи в ожида-
нии грозного сигнала герольдов, а, заслышав его, тотчас пустили коней
легким галопом, и когда сошлись на расстояние копья, Амфиал, более
полагаясь на силу своего коня, чем на его проворство, неожиданно при-
шпорил его, и тот уперся головой в бок коню Фаланта, усилив удар дви-
жением корпуса. Амфиал в это время с такой силой ударил Филанта ме-
чом по голове, что у того помутилось в глазах и зашумело в ушах, однако
Фалант (не привыкший оставаться в долгу) нанес Амфиалу удар в лицо
и выбил бы ему челюсть, если бы его не защитило забрало. Так они сра-
жались, более гневаясь из-за сражения, чем сражаясь из гнева, пока конь
Амфиала не стал теснить коня Фаланта, и тогда конь Фаланта, не желая
ему уступать, вдруг взвился в привычном курбете; в этот миг Амфиалу
удалось использовать свое преимущество, он послал своего коня впе-
ред, и конь Фаланта опрокинулся на спину, придавив собой всадника.
Увидев это, Амфиал хотел было помочь Фаланту, но конь, повинный
более в неуместной демонстрации своей ловкости, чем в недостатке
силы, сам избавил себя от своей ноши, так что Фалант (высвободивший-
ся из стремян) всего лишь получил пару ссадин, встал на ноги да еще
спросил находившегося рядом Амфиала, не придержал ли тот коня, по-
могая ему.
— Нет, — ответил Амфиал.
— Сказать по правде, я спросил об этом, потому что мне не хотелось
бы драться со своим спасителем. Но прежде чем мы продолжим, позволь
узнать твое имя. До сих пор ни от одного рыцаря мне не приходилось тер-
петь подобное.
Не пожелав назвать себя, Амфиал сказал лишь, что он рыцарь и что
Амфиал дал ему свои доспехи и коня, но что он еще ни разу не участвовал
в достойных упоминания поединках.
— Что? — в ярости вскричал Фалант. — Еще не хватало, чтобы юнец
оттачивал на мне свое мастерство!
Он забыл о боли, об усталости и словно лишь теперь вступил в сра-
жение; когда же возмущение, закипевшее в его сердце, разлилось по ру-
кам, он ударил Амфиала так, словно это был его последний удар. Однако
Амфиал (которого многие сражения научили тому, что нельзя все силы
вкладывать в один удар, если хочешь, чтобы их осталось достаточно для
другого удара) отразил бурный порыв Фаланта и нанес ему ответные уда-
ры, ловко маневрируя, пока не понял, что настал его черед (ибо Фалант
забыл о защите), и так ударил юного рыцаря по колену, что бедняга упал
без чувств.
Жалея благородного храбреца, Амфиал подошел к нему и снял с него
шлем, чтобы ему было легче дышать, после чего пришедший в себя ры-
царь (не желавший покупать жизнь унижением) потребовал, чтобы про-
тивник воспользовался своим правом.
— Тебе не о чем просить, — ответил Амфиал, — разве что я попрошу
тебя о расположении ко мне.
372
Побежденный более добротой, нежели силой, Фалант вновь попро-
сил рыцаря, столь неистового в сражении и столь сдержанного в неис-
товстве, открыть свое имя, и Амфиал назвался, добавив, что к его имени
прибавится славы, если он сможет назвать Фаланта своим другом. Едва
узнав, кто его ранил, Фалант утешился, ибо поражение от руки столь до-
блестного противника не могло быть для него бесчестием. Уверив друг
друга в своем расположении, рыцари расстались, и Фаланта (от которого
Амфиал не потребовал ничего) унесли в лагерь Базилия, но он не задер-
жался среди врагов Амфиала, а отправился бродить по свету в поисках
приключений.
Глава двенадцатая
Что до Амфиала, то в крепости его встречала ликующая толпа, хотя
в глазах победителя (с покорностью обращенных к окну, возле которого
стояла Филоклея) можно было прочитать мольбу, а не торжество, чем не
преминула воспользоваться Цекропия, находившаяся рядом с Филоклеей
и оставившая Памелу в соседней комнате, где она также могла следить за
поединком. Цекропия сказала:
— Прекрасная госпожа, теперь ты видишь, что мой сын достоин люб-
ви, и он готов броситься к твоим ногам, когда у его ног один из самых
храбрых рыцарей.
— Ах, — вздохнула Филоклея, — самый простой способ услужить
мне — поражать рыцарей, которые хотят мне помочь. Если это называет-
ся любовью, путь будет так, но ее дела, признаюсь, мне ненавистны.
Цекропию до глубины души возмутили недобрые слова Филоклеи;
и, не в силах дольше сдерживаться, она сказала, что Филоклея похожа
на тех людей, которые не ценят, когда им мягко стелют, поэтому пусть
только Амфиал послушается совета матери, и с дочерью Базилия будут
обращаться совсем по-другому. На этом Цекропия предпочла удалиться.
Тем не менее, зная, как огорчится Амфиал, если узнает правду, она
придумала для него благодарные слова, пересыпала их обнадеживаю-
щими фразами, и Амфиал так обрадовался, что (хотя и против жела-
ния приближенных) приказал немедленно известить рыцарей Базилия,
мол, если они желают последовать примеру Фаланта, он готов принять
любой вызов. После этого многие храбрейшие рыцари по собственному
почину или раззадоренные Базилием попытались сразиться с царским
племянником, выставив, говорят, каждый свою причину: один обви-
нял Амфиала в измене, другой считал, что более него достоин служить
Филоклее, третий возносил красоту своей дамы выше красоты обеих се-
стер, четвертый бесславил любовь, называя ее помутнением рассудка,
бунтом против здравого смысла, предательством благородных замыслов,
осквернением мыслей, гибелью великодушия, похвалой пороку, рабой
слабости, болезнью юнцов, умопомрачением стариков, проклятием жиз-
ни и позором смерти. Пятый полагал, что если бранить, так всех сразу,
и назвал причиной своего вызова всех виновниц любви: они-де оплош-
ка природы, позор разума, неисправимые трусихи, пристрастившиеся
к тирании рабыни, лавки с безделушками, позолоченные ветреницы,
якобы вместо совести у них капризы, вместо верности — непостоянство,
а благодарности и вовсе нет в помине. На все вызовы (как бы хорошо они
ни были обоснованы) Амфиал отвечал так, что некоторые своей смертью
дали урок другим, будучи больше не в состоянии брать уроки; другие, по-
терпев поражение, своим унижением заплатили за святотатство к велико-
му горю Базилия, который видел, как бунтовщик одерживает победу за
победой, увенчивая себя заслуженной славой.
374
Мечтая о возмездии и не видя другого способа одолеть Лмфиала, ибо
его лучшие рыцари были повержены, Базилий послал гонца к Аргалу, чью
храбрость и силу, известные многим, он (не без причины) высоко ценил.
В письме он просил Аргала взять на себя заботу о его деле, от чего воздер-
живался прежде, зная о недавней женитьбе Аргала; однако ждать больше
было нельзя, теперь лишь Аргалу под силу защитить честь и (возможно)
счастье царя, поэтому Базилий не может и дальше отказываться от его
службы.
Гонец не медлил ни минуты. Аргала он нашел в его замке рядом с пре-
красной Парфенией; он читал ей о Геракле, а она внимала ему, и пока он
смотрел в книгу, она смотрела ему в глаза и время от времени задавала
какой-нибудь вопрос, но не столько для того, чтобы он разрешил ее со-
мнения, сколько давая ему повод поглядеть на нее. Счастливая чета: он
был счастлив ею, она была счастлива собою, но собою, лишь потому что
была счастлива им, и они оба делались богаче, одаривая друг друга, и оба
вдвое продлевали свою жизнь, так как две жизни соединяли в одну, в ко-
торой получали полное удовлетворение, но удовлетворение не приводило
к пресыщению; Аргал властвовал, потому что Парфения покорялась, но,
покоряясь, она властвовала над ним.
Когда в покои вошел гонец с посланием от Базилия, по его виду
Парфения сразу догадалась, что он очень торопился, и она испугалась,
еще не зная, чего ей бояться, но как раз этого и испугалась больше всего.
Встав со своего места и отойдя в сторонку, пока гонец передавал послание
Аргалу; она переводила взгляд с одного на другого, и тот страх, который
поначалу пробудил в ней нежелание знать причину страха, теперь побу-
дил ее искать причину охватившего ее страха. Она поняла, что случилась
беда, потому что на лице мужа увидела выражение, отражавшее его неже-
лание подчиниться чему-то и в то же время решимость подчиниться, не-
смотря ни на что; стоило ему обратить взгляд на Парфению и встретиться
с ней взглядами, как он покраснел, отчего она тоже покраснела, потом
побледнела, не зная, отчего он покраснел. Прочитав послание, выслушав
и отослав гонца с обещанием вскоре отправиться следом (как человек,
которого даже любовь не в силах заставить забыть о чести), Аргал подо-
шел к Парфении и, как нельзя более огорченный разлукой, но еще более
огорченный ее огорчением, отдал ей послание Базилия.
С пугающей медлительностью Парфения взяла его в руки и с пугаю-
щей быстротой прочитала, а, прочитав, воскликнула:
— Ах, мой Аргал, не поспешил ли ты с ответом? Скоро же ты поки-
даешь меня!
Аргал ответил, что его честь (которая дорога ему, но дорога и ей тоже)
не позволяет ему оставаться дома, и ее помраченный страданием разум
помешал ей сразу же ответить ему, но дал волю вздохам и слезам, отчего
Аргал, не в силах это вынести, оставил любимую жену и отправился, не
мешкая, готовиться к отъезду.
К тому времени, когда он, уже в доспехах и с оружием в руках, был
готов ехать к Базилию, Парфения немного опомнилась, вышла из замка
375
и, увидав, что он лишь ждет се прощальных слов, подбежала к нему, схва-
тила за руку и, не обращая ни на кого внимания, опустилась перед ним
на колени.
— Мой Аргал, мой Аргал, не покидай меня. Вспомни! Вспомни о моей
любви. Ты не должен так рисковать ею. Всем известна твоя храбрость. Ты
много сделал для своей страны, и, кроме тебя, есть рыцари на свете, чья
жизнь не так драгоценна, как твоя. Горе мне! Что станется со мною, когда
ты покинешь меня? У тебя было время искать приключения, пока ты был
один и тебе не о ком было заботиться, кроме себя самого. А теперь прости,
что я требую своего. Ты мой, и один, без меня, ты не смеешь подвергать
себя опасности. Бери с собой твою Парфению! Парфения будет рядом
с тобой в сражении, Парфения будет болеть твоей болью, Парфения бу-
дет истекать твоей кровью.
— Милая Парфения, — сказал Аргал, — в первый раз ты воспроти-
вилась моей воле. Я благодарю тебя, но остановись, пусть не будут слезы
любимых глаз предсказанием того, что не должно случиться. Я вернусь
к тебе живой, ибо слишком велика радость быть с тобой, чтобы так скоро
покинуть тебя. Жди меня с победой. Готовь радостную встречу, и другого
триумфа мне не надо.
Парфения молчала, словно пораженная громом, ибо истинная лю-
бовь заставила ее вспомнить о послушании, что превыше всего остально-
го. Но когда он обнял ее, чтобы оставить печать своего сердца на ее устах,
она упала без чувств, и ему пришлось отдать ее на попечение служанок.
Итак, Аргал, понукаемый тиранией чести, хоть и поминутно оглядываясь
и тяжело вздыхая, поскакал к Базилию и от него узнал о многих победах
Амфиала, после чего решил дать ему несколько дней отдыха, не желая
позорить себя слабостью противника, но в эти дни всеми силами (ибо
вел с ним переговоры) старался убедить его не продолжать бунт. Однако
Амфиал не поддался на уговоры, и, сообщив об этом Базилию, Аргал по-
слал Амфиалу вызов:
«По праву славный Амфиал, если мое обращение к твоему разуму и
твоим чувствам достигнет цели, ты изберешь более достойный способ
исполнить свое желание. Тогда многие храбрые враги станут твоими
верными слугами, и твоя слава вознесется к небесам на крыльях до-
блести и справедливости, из которых тебе пока недостает справедли-
вости. Но если ни моя просьба, ни мой совет не найдут в тебе откли-
ка, не откажи принять вызов на смертельный поединок от человека,
который ниже тебя в добродетели и которому столь же нравишься ты
сам, сколь не нравятся твои дела. Готовься к бою, благородный ры-
царь, не будь неосмотрителен перед встречей со слабейшим из тех,
кто когда-либо брал в руки справедливый меч».
Ответ не заставил себя ждать:
«Славнейший из славных Аргал, меня никогда не пугали угрозы, но
я трепещу твоего благородства, ибо мне хорошо известно, с каких
376
вершин добродетели оно явится мне на погибель. Однако оправды-
вающая несправедливость любовь, в коей ты обвиняешь меня, вдох-
новляет меня против всех опасностей, ибо я нахожусь во власти того
чувства, которым и ты (если меня не обманули) был когда-то побеж-
ден. Я встречу тебя на острове, вооруженный любовью, и она будет
единственной честью мне в случае победы и не будет бесчестьем, если
я паду от руки Аргала».
Вызов был оглашен и принят, и Аргал облачился в белые доспехи,
украшенные узлами из золотистых женских волос, которые ниспадали со
шлема и покрывали его всего. Сбруя была в виде орла, чей клюв (из дра-
гоценного камня) крепился к седлу, хвост покрывал круп коня, крылья —
бока, и когда конь бежал, казалось, орел летит. Нагрудник и поводья тоже
были украшены рисунком в виде перьев. На правую руку Аргал надел
нарукавник, подаренный ему его милой Парфенией в те времена, когда
турниры не грозили их любви; и хотя нарукавник был расшит истекаю-
щими кровью сердцами, он не был предназначен для кровавого действа.
На щите были герб Аргала в виде двух растущих рядом пальм1 и девиз:
«В этом преуспеяние». Горячий гнедой конь Аргала с черными ногами и
черной полосой на крупе начинал воинственно раздувать ноздри задолго
до того, как видел врага, и бил то одним, то другим копытом, словно жа-
лел, что природа создала его земным существом.
Не успел Аргал осмотреть остров и определить выгодные для себя по-
зиции (если они были), как со стороны замка причалила лодка и появил-
ся готовый к бою Амфиал. Противники послали друг к другу своих ору-
женосцев, чтобы самым почтительным образом подтвердить свое участие
в поединке, и герольды возвестили начало боя. Кони легко пустились
вскачь, с готовностью выполняя резкие команды. Рыцари сближались,
и когда разгоряченный конь Аргала наклонил голову для атаки, Амфиал
заметил это и, понимая, что, подставив бок, окажется в невыгодном по-
ложении, тоже направил коня в атаку. Кони рухнули наземь, едва не при-
давив рыцарей, которые, будучи проворны и сильны, искусны и опытны,
поднялись на ноги целые и невредимые и, не медля, прекрасные и от-
важные, выхватили мечи, тщась показать, что не пострадали и рады рас-
считывать лишь на собственную доблесть.
Правда и то, что Амфиал быстрее встал на ноги, но Аргал быстрее
вытащил меч, и они сошлись в жесточайшем из когда-либо виденных
поединков. Сначала их мечи, словно пушечные ядра, обрушились на
преграждавшие им путь доспехи, всякий раз пробивая бреши, и давая
дорогу полчищу ранений. Аргал нанес удар по незащищенному лицу
Амфиала (правда, ослабленный щитом), после которого Амфиал, нена-
долго обратив взгляд к окну, возле которого стояла Филоклея, словно
набираясь от нее сил, сделал вид, будто тоже хочет ударить противни-
ка в лицо, но повернул меч и со всего маха опустил его на правую руку
1 Символ любви в браке.
377
Аргала, и вероломное железо поддалось целеустремленному напору
клинка. Как бы кровь ни уличала Аргала, сам он ни единым жестом не
признал своего ранения, но стоял, прикрывая себя щитом и размерен-
ными ударами стараясь уравняться в потерях, что ему вскоре удалось, так
как Амфиал, не желая упускать удачу, так набросился на Аргала, что его
щит едва не развалился на куски, но Аргал сделал упор на правую ногу
и снизу ударил Амфиала в живот. Этот удар был бы смертельным, если
бы Амфиал не потерял равновесия, не рассчитав предыдущий выпад,
и не упал на землю, тем самым уберегши себя от смерти, потому что меч
Аргала скользнул по его боку, не причинив большого вреда.
Увидев, что противник упал, Аргал, размахивая мечом, начал кри-
чать, требуя, чтобы Амфиал сдался, и когда тот попытался, ничего ему не
отвечая, подняться, изо всех сил ударил его по голове. Однако раненая
рука плохо слушалась Аргала, и удар получился не очень сильный, так что
Амфиал, хоть и был оглушен, все же смог подняться. Увидев это, Аргал
бросился на него, и они, схватившись, покатились по земле. В конце
концов, разорвав неласковые объятья, оба побежали к своим мечам, но
обоим достался меч противника, и Аргал, разглядев на мече свою кровь,
распалился сердцем, пожелав этим мечом отомстить Амфиалу, чтобы
кровь Амфиала смешалась с его кровью. Но угасавшие силы уже не мог-
ли не сказаться на его разуме; и удары один за другим дырявили его до-
спехи, которые были покрыты кровью сверху донизу, словно краснели за
то, что уже не могли защитить своего хозяина. Амфиал же, сопоставляя
неприязнь и рыцарскую честь обоих, хотел, чтобы Аргал пожалел себя.
Чем дольше бился Аргал, тем больше слабел, однако чем больше он сла-
бел, тем сильнее ярился, наполняя свои жилы желчью вместо крови и за-
ставляя храбрость торжествовать над слабостью (подобно свече, которая,
прежде чем погаснуть, разгорается ярче); он собрал все силы, отбросил
то, что осталось от щита, взял меч в обе руки и нанес такой удар, что рас-
сек Амфиалу щит, доспехи и руку до кости.
Вот тут-то, забыв обо всем на свете, Амфиал принялся наносить удар
за ударом, так что кровь заново покрыла доспехи Аргала, и наносил их до
тех пор, пока его рука не замерла от крика, что донесся до его слуха, и,
обернувшись на жалобный крик, он увидел прекрасную даму, которая бе-
жала со всех ног, а так как желала бежать еще быстрее, но не могла, то по-
сылала вперед свой молящий о помощи голос. Прошло немного времени,
прежде чем оба рыцаря узнали Парфению (которая ночью увидела во сне
мужа в точно таком виде, в каком видела его теперь, отчего и поспешила
следом за ним) и очень удивились. Парфения же бросилась между ними,
ибо любовь пересилила в ней природу, и упала к их ногам, чтобы пре-
кратить поединок, пока она не отдышится и не сможет обратиться к ним
со скорбными речами, а когда дыхание (которое она от страха не могла
успокоить) стало с рыданиями возвращаться в ее запертую горем грудь,
она долго произносила лишь:
— Ах, мои несчастные глаза! Ах, что я вижу! Ах, черный день!
Наконец она обратила страдальческий взгляд на Амфиала.
378
— Мой господин, — проговорила она, — говорят, ты влюблен, поэто-
му заклинаю тебя твоей любовью, остановись. Если твое сердце может
найти покой в любви, умоляю тебя твоим покоем, остановись; но если ты
решил совершить убийство, то сжалься надо мной и убей сначала меня,
чтобы я не видела, как будет умирать Аргал.
Амфиал хотел было ей ответить, но разгневанный своей неудачей и
еще более разгневанный тем, что Парфения видит его неудачу, Аргал вос-
кликнул:
— Моя Парфения, никогда еще не было твое появление столь не-
желанно. Неужели ты собираешься вымаливать мне жизнь? Как же мне
жить после этого? Разве такая жизнь по мне?
С этими словами он отошел в сторону, боясь задеть ее, и был готов
заново начать сражение. Но Амфиал, не только подвластный тому, что
царило над его мыслями, но и умиленный в своем благородном серд-
це зрелищем явленной ему страсти, опустил руки, чтобы Аргал мог без
помехи убить того, кто искал его расположения. Вот такой пример был
подан добродетелью, когда победитель искал дружбы побежденного,
а побежденный не желал простить победителя, и оба любили друг друга
за готовность простить, но не желали принять прощение и вечное бес-
честие. Уже не столько борясь с Амфиалом (был бы Амфиал на его месте,
он вел бы себя точно так же), сколько с собственной слабостью (которую
презирал), Аргал из последних сил пошел на соперника, однако огонь,
раздутый его собственной яростью, воспламенил его кровь, и она вновь
побежала из ран, так что Аргалу пришлось остановиться и опереться на
меч. Все завертелось в смертельной пляске у него перед глазами, потом
его ослепила яркая вспышка, он погрузился во мрак, и, полагая, что са-
дится на землю, упал без чувств. Не раздумывая, Парфения и Амфиал
бросились к нему. Амфиал снял с него шлем, а Парфения положила его
голову себе на колени и, разорвав рукава платья и шарф, принялась бин-
товать ему раны, еще она сорвала кружева с головы и вырвала бы волосы,
если бы не прибежали судьи и оруженосцы со всем необходимым, и все
это время она оплакивала себя с такой милой трогательностью, что могла
бы опечалить счастливца и оставить по себе память в душе, выкованной
из самого твердого металла.
— Ах, Парфения! Нет больше Парфении, — причитала она. — Где ты?
Что ты видишь? Где твое счастье? Только что ты была счастливее всех,
а теперь ты всех несчастнее. О боже, за что ты наказываешь меня? Если я
виновата, то почему караешь его? Ах, жизнь-скиталица, в какую пусты-
ню ты ведешь меня? Великое Горе, верю, ты спасешь меня. Аргал, Аргал,
я иду за тобой, я иду за тобой.
Тут Аргал пришел в себя, поднял тоскующие глаза (которые тягост-
ный покой и свинцовый сон старались закрыть) и посмотрел на ту, в ко-
торой, даже умирая, он жил, однажды найдя для себя столь прекрасное
жилище, отчего кровь прилила к его щекам и они разгорелись (так вспы-
хивают почти потухшие угольки, если на них подуть), и он проговорил,
теряя последние силы:
379
— Любимая моя, любимая моя, лучшая моя половина, увы, настал
час нам с тобой расстаться. Клянусь твоими прекрасными глазами и пре-
лестной ручкой, что ни о чем не жалею, кроме того, что должен поки-
нуть тебя, что больше не придется мне исполнять твои желания из любви
к твоим бесчисленным достоинствам. Но таково желание господа, чьи
мудрость и благость ведут нас по жизненному пути; верь ему, и когда-
нибудь мы вновь соединимся, чтоб уж больше никогда не расставаться.
А пока живи счастливо, милая Парфения, потому что моя душа будет
счастлива твоим счастьем. Люби воспоминание о своей любви и о верно
любившем тебя Аргале. И пусть мой теперешний позор (он вздохнул) не
внушит тебе мысль, будто у тебя был недостойный супруг.
Последние слова Аргала было почти невозможно разобрать, потому
что смерть уже предъявила права на его сердце, да и Парфения не в силах
была ответить из-за муки, переполнявшей ей грудь. Пока Аргал искал,
как усмирить неизбывную боль, Парфения дарила ему счастье своими
поцелуями и ловила устами его последние вздохи.
Едва поняв, что его душа отлетела, она, опечаленная, потеряла спо-
собность говорить, впала в отчаяние и безумие, принялась царапать лицо,
рвать на себе волосы, словно со смертью Аргала у нее исчезла надобность
в красоте, и Амфиал (который был так растроган жалостью к ней, что сле-
зами почтил смерть соперника) с помощью приехавшей с ней служанки
заставил ее войти (почти отнес ее) в лодку, в которую положили тело Ам-
фиала, с которым она не желала расставаться. Прибыв с острова в царский
лагерь, Парфения была встречена со всеми возможными военными поче-
стями, со штандартами и печальными маршами, тогда как сам Базилий —
с утешениями на устах и печалью на лице — искал, чем успокоить измучен-
ный разум Парфении. Но ей не было покоя, и его усилия лишь растравляли
ее раны, а воздаваемые ей почести были триумфом побежденной, так что
успокоение она находила в страдании, да и сама думала, что возненави-
дит себя, если успокоится. Проходя по лагерю, она могла слышать великие
хвалы ее супругу, не дававшие ей забыть о ее потере. Но чем выше возно-
сили его, не находя, кого предпочесть ему во всей Греции, тем выше ветер
похвал поднимал крылья Амфиаловой славы; однако (так уж получилось)
все его победы, громоздившие один трофей на другой, возводили памят-
ник рабства, ибо Амфиал был в такой милости у Филоклеи, что чем ближе
он подходил к ней, тем дальше она уходила от него, чем он был удачливее,
тем она — печальнее; и Амфиал, возможно, вовсе утратил бы покой, если
бы не его мать, которая шла на все, лишь бы ободрить его.
Пока его слава уравновешивалась его смятением, он чуть было не
стал жертвой предательства, которое (несмотря на свою нелепость) могло
закончиться для него плачевно.
Глава тринадцатая
Среди тех, кто сопровождал Базилия в походе, был и Дамет, который
хотел быть то ли поближе к нему, то ли подальше от Мисо, но при этом,
конечно же, и в мыслях не имел, чтобы чья-то вдова прокляла его меч.
Итак, он находился в лагере, где любая беседа была не беседой, если не
отдавала долг славе Амфиала, но частенько, как в речах о рае упоминает-
ся ад, случалось, что замечательная храбрость Амфиала вызывала в памя-
ти (от противного) трусость Клиния, так что она даже вошла в поговорку:
«Труслив, как Клиний». В конце концов Дамет пришел к выводу, что, вы-
зови он Клиния на поединок, тот не будет с ним драться, но таким обра-
зом он, Дамет, добьется большего расположения Базилия.
Об этом он рассказал юному рыцарю из свиты Филанакса, в дру-
жеских чувствах которого не сомневался, потому что тот не чурался его
общества и частенько смеялся его шуткам, немало превознося при этом
прелести Мопсы. Рыцарю намерение Дамета так пришлось по душе,
словно он увидел сидящего зайца, и, обсудив его с Филанаксом, юноша
принялся подзуживать Дамета и даже, боясь, как бы Дамет не передумал,
самолично написал вызов и принес его приятелю. Склонившись головой
ему на плечо и чему-то улыбаясь, Дамет прочитал написанное и сказал,
что вызов ему нравится, однако неплохо бы добавить в него возвышен-
ных выражений, после чего получилось следующее:
«Ах, Клиний, Клиний, самый ничтожный из ничтожных червяков,
который когда-либо ходил на двух ногах, самый мелкий из мелких
обманщиков, кипящий горшок с пороками, я, Дамет, главный смо-
тритель царского стада и воспитатель Памелы (которую твой хозяин
бесчестно выманил из моих владений), вызываю тебя на смертельный
бой на кинжалах и пиках. Ежели ты осмелишься взять в руки оружие,
то, будь уверен, я заставлю твою душу покинуть бренное тело».
Юный рыцарь, изобразив несказанное восхищение, взялся немед-
ленно отнести вызов, пока у Дамета не угас пыл, поэтому отпросился
у Базилия (чьи муки всем хотелось облегчить) и отправился в крепость,
как то делали герольды до него. Там же в присутствии Амфиала он от-
дал послание Клинию, желая получить ответ, достойный его репутации.
Клиний развернул послание, стал его читать, и кровь, словно опасаясь
оставаться в столь опасном месте, отхлынула от его щек, чтобы спрятать-
ся подальше, даже слова (словно они тоже испугались) стали медленно
уползать с его губ, но все же, задыхаясь, он приказал посланцу передать
вызвавшему его нахалу, что презирает его и не желает иметь с ним ни-
какого дела. Тогда Амфиал, уловив суть происходящего, отвел Клиния
в сторонку и принялся вполне серьезно уговаривать его, чтоб он не по-
зорил себя, желая таким образом позабавить Фил оклею, тем не менее
381
ему не удалось ничего добиться от Клиния, и он отпустил юного рыцаря,
пообещав дать ответ на другой день.
Огорченный промедлением, юный рыцарь возвратился к Дамету,
который не один раз тяжело вздохнул, боясь, как бы Клиний не принял
вызов. Когда же из слов верного гонца стало ясно, что промедление, ско-
рее всего, станет отказом, так как Клиний не расположен драться, тогда,
о, тогда Дамет заговорил громким голосом, напыжился, принялся шагать
взад-вперед и, шагая, поднимать ноги выше обычного, клянясь всем, чем
только мог, мол, трусу не удастся спрятаться от него за высокими стенами,
он вытащит его из норы; а потом нетерпеливее, чем обычно, потребовал
себе коня и доспехи, заявив, что отправится на остров, желая показаться
своей питомице Памеле. Тотчас множество услужливых рук принялись
помогать ему с поводьями, нагрудником для коня и всем прочим, что до-
сталось Дамету от разных рыцарей и потому ни цветом, ни формой не
подходило друг к другу, однако Дамету как раз это и было по вкусу, ибо
он думал, что таким образом убедит всех, будто у него много разных до-
спехов.
Потом он приказал художнику украсить щит изображением плуга
с распряженными волами, а также меча, множества отрубленных рук и
ног и, наконец, целого воинства перьев, чернильниц и книг. Так как ему
ни к чему было держать в тайне смысл всего этого, то вскоре всем стало
известно, что он, Дамет, оставил плуг ради меча и кровавых подвигов, за-
печатлеть которые призваны чернильницы и книги. Когда же его спроси-
ли, почему он не придумал себе девиз, Дамет ответил, что не желает по-
ходить на художника, который объясняет: «Здесь пес, а здесь заяц». И он
так весело и искренне рассмеялся, что это понравилось его слушателям.
Вспомнив, однако, что Мисо не понравилась бы его забывчивость по от-
ношению к ней, он все-таки приказал написать по краю: «Мисо, свинуш-
ка моя, о Дамете услышишь ли ты?»1
Достойно все уладив, Дамет принялся с опрометчивым нетерпением
ждать утра, когда он вновь сможет ощутить себя центром всеобщего вни-
мания, то и дело спрашивая тех, кто старался ему услужить, не обидно ли,
что такой трус, как Клиний, топчет трусливыми ногами лицо земли?
Но едва юные рыцари водрузили его, к его немалой славе, на спи-
ну коня, прибыл паж Амфиала, с смиренной улыбкой и легким покло-
ном подавший Дамету послание от Клиния, которого Амфиал вынудил
принять вызов сначала уговорами (мол, Дамет, наверняка, не явится на
остров и все почести достанутся ему), а потом угрозой выгнать его из кре-
пости, после чего он непременно попадет в руки Базилия и будет казнен
как предатель, так что сиюминутный страх (для труса самый страшный)
пересилил другой страх, все же не лишавший Клиния надежды на то,
что Дамет может заболеть или струсить. Дамету же, едва он услыхал имя
Клиния, сразу стало ясно, чем обернется дело, и он приказал пажу, слов-
но капризный мальчишка, нести послание назад, мол, нет настроения его
1 Пародийный гекзаметр.
382
читать. Однако юный рыцарь сначала успокоил Дамета тем, что Клиний,
наверное, уверяет его в своей покорности, а затем взял на себя смелость
сломать печать и прочитал вслух:
«Мерзкий болтун, недостойный своим именем подписать послание,
написанное рукой воина, неужели ты вообразил, будто Клиний из
страха промедлил с ответом тебе? Нет, негодяй, нет, я действовал,
как тот таран, которому надо подать назад, чтобы ударить с еще
большей силой. Знай поэтому, как только ты появишься на острове
(если осмелишься!), я повторяю, как только ты появишься на остро-
ве (о, счастлив ты будешь, если не появишься!), я обрушусь на тебя
со всей мощью и раскромсаю тебя на куски (запомни это) для вяще-
го устрашения всех самонадеянных негодяев. Подумай, что ты дела-
ешь, ибо я говорю тебе, страшная мука и боль станут твоим уделом,
если ты сделаешь такую глупость (для которой я не давал тебе повода)
и явишься на встречу со мной».
Клиний писал так грозно, надеясь остудить пыл Дамета, и он до-
стиг цели, потому что Дамет, тяжело вздыхая, внимал громовым раска-
там его угроз. Когда же юный рыцарь дочитал послание до конца, Дамет
заявил, что, по его мнению, ответ опоздал, поэтому теперь он вполне мо-
жет пойти и снять доспехи, тем более что противник учтиво предостере-
гает его против появления на острове. Однако стоявшие рядом рыцари
не позволили ему сойти с коня, более того, сами отвели коня к лодке и
перевезли коня с Даметом на остров. Дамета приводил в ужас звон даже
собственного оружия, и он, на чем свет стоит, мысленно клял своего бес-
сердечного приятеля за то, что тот вовлек его в столь неподходящее дело.
Ждать ему пришлось совсем недолго (в это время сопровождавший его
рыцарь учил его, как держать меч и копье, тогда как сам Дамет глядел
в сторону, ища местечко, куда можно было бы сбежать, и проклиная все
острова на свете за их неудачное расположение), потому что с другой сто-
роны под бравурную музыку труб к острову пристала лодка с Клинием,
всю дорогу ломавшего голову, чем он провинился перед Амфиалом, что
тот втравил его в такую переделку. Время от времени его разум подсказы-
вал ему какой-нибудь выход, но от страха даже в самом удачном решении
он находил для себя опасность. Страх (в отличие от других пороков) по-
нуждал его тем лучше думать о противнике, чем хуже он думал о себе,
и Клиний мысленно слагал фразы, с какими (поверженный) он отдаст
себя во власть Дамета, не думая о том, как самому победить Дамета, ибо
это просто не приходило ему в голову. То и дело опуская взор долу и жа-
лобно сетуя на то, что человек высоких достоинств, каким он себя считал,
в лучшие годы жизни будет погублен каким-то мужланом, Клиний хотел
было помолиться, но, очерствев сердцем, увы, не верил в молитву. Блеск
доспехов и звуки труб пробивали такую брешь в его неверных чувствах,
что он не просто боялся, он был в ужасе и не понимал, что ему делать
дальше. Наконец двое судей (выбранных для этого поединка) подали
383
знак трубам умолкнуть, и оба героя поклялись, что будут биться честно,
после чего их развели в разные стороны.
Протрубили начало поединка, и конь, привыкший повиноваться сиг-
налу (тогда как Дамет, еще ничего не успел сообразить) рванулся вперед,
отчего Дамет сильно откинулся назад и натянул поводья. Не привыкший
к тугой узде конь на мгновение замер, а потом стал прыгать, и Дамету
пришлось бросить копье, чтобы обеими руками вцепиться в переднюю
луку и держаться за нее, пока конь то иноходью, то скачками тащил его
вперед, навстречу Клинию, боявшемуся промахнуться и потому наце-
лившему копье еще до начала гонки. Кстати, он как будто не собирался
участвовать в поединке, но кто-то (из стоявших позади) при звуках трубы
стукнул коня, и тот помчался вскачь. Ветер развернул копье, отчего оно
стало поперек груди Клиния и плашмя ударило Дамета, вылетевшего из
седла и занявшегося привычным для себя делом, то есть стал пахать зем-
лю, правда, теперь не плугом, а гребнем шлема. Оставив Дамета позади и
не зная, что с ним сталось, но боясь, как бы тот не оказался у него за спи-
ной, Клиний резко обернулся и, увидав Дамета на земле, решил, что на-
стал его час (теперь или никогда) и он может раздавить Дамета копытами
коня, а еще, если удастся, продырявить его копьем, которое не сломалось,
потому что удар был не сильным. Клиний направил коня на Дамета, но
слишком низко опустил копье, и, когда подъехал к противнику, который
как раз вновь поднимался в седле, его конь споткнулся и упал, подмяв
под себя всадника. Видя это, Дамет вытащил меч и стал примериваться,
как бы ему получше ударить Клиния в спину. Однако лежавший на хо-
зяине конь все время дергался, и Дамет стал медленно приближаться, не
смея быстро подойти вплотную, но тут разгоряченный конь поднялся и
забил копытами, отпугнув Дамета и дав Клинию время встать на ноги.
Правда, Клиний, ощущая боль во всем теле и рану в сердце, собрался
было просить о пощаде, для чего направился к Дамету, выставив перед
собой меч, чтобы, подойдя поближе, повернуть его эфесом к противнику.
Дамет же, увидев советника Амфиала с мечом в руке и не подозревая о его
намерении, со всех ног бросился наутек. Тут-то Клинию и пришло в го-
лову, что еще не все потеряно и есть шанс стать победителем, поэтому он,
как торжествующий трус, помчался следом, догнал советника Базилия и
повалил его, отчего тот принялся кричать, сначала — чтобы его не тро-
гали, потом — что он умирает, потом — что пожалуется Базилию, и, спа-
саясь от ударов, все отступал и отступал, пока не оказался одной ногой
в воде.
Тут он испугался, что утонет, и, не смея больше отступать, но не имея
сил осмотреться (удары сыпались на него) или взмолиться о пощаде
(из-за угроз Клиния), позволил страху взять над собой верх, отчего его
охватило безрассудное отчаяние и он (крепко зажмурившись) принялся
наносить ответные удары, а так как рука у него (сызмальства привыкшая
к цепу) оказалась нелегкой, то бедный Клиний, заметив кровь, едва не
лишился чувств, прежде чем потерял пол-унции, отчего громко взмолил-
ся о пощаде.
384
— Брось меч, — приказал Дамет, продолжая его бить, — и я сохраню
тебе жизнь.
Клиний тотчас повиновался и, моля о пощаде, сказал, что меча нет.
Тогда Дамет впервые открыл глаза, убедился, что его противник в самом
деле безоружен, заставил его отойти подальше и лечь на землю. Клиний
опять повиновался, но Дамет (не считавший себя в безопасности, пока
Клиний жив) стал размышлять, не вскочит ли тот на ноги и не отомстит
ли ему, если он ударит его мечом и не убьет с первого раза. Поэтому он
решил встать возле Клиния на колени и (сначала сняв с него шлем) боль-
шим ножом перерезать ему горло, как он с немалой ловкостью проделы-
вал это стелятами. Но, пока он искал нож, а найти его под доспехами было
мудрено, пока Клиний лежал с поистине бараньей покорностью, словно
радовался, что ему перережут горло (из боязни большей беды), подошли
судьи и оттащили Дамета, внушая ему, что он идет против рыцарских за-
конов, ибо уже обещал Клинию жизнь в обмен на его меч. Однако угово-
рить Дамета им удалось только тогда, когда они твердо заявили о конце
поединка и скорее силой, чем уговорами заставили отпустить Клиния,
над которым Дамет торжествовал победу и которому приказал больше не
попадаться ему на глаза. Итак, поединок двух трусов закончился, и побе-
дитель Дамет был встречен в своем лагере музыкой и весельем, и не было
никого, кто ни стремился бы услужить триумфатору.
25 Заказ 1414
Глава четырнадцатая
Тем временем Клиний (которому не хватило смелости избежать по-
зора, все же достало ума понять, что он опозорен) роптал не столько из-за
стыда, сколько из-за связанных с ним неудобств. Он правильно полагал,
что поражение станет препятствием в его делах и поводом для многих
оскорблений, поэтому (замечая, что все над ним насмехаются) вознена-
видел причину своего позора, а ненависть в сердце труса может погасить
только смерть. Стоило ему вспомнить, какой опасности он подвергал
себя, ибо в его памяти опасность оставалась все такой же нестерпимой,
как и тогда, когда в самом деле грозила ему, и (несмотря на привычное
притворство) в выражении его лица можно было распознать тайное не-
довольство. Выказывая по отношению к Амфиалу еще более навязчивую
услужливость, он не мог сдержать злобных взглядов, улыбаясь ему в лицо
(хотя улыбаться не было причин), брюзжал за его спиной, оспаривая его
приказы; сделавшись двуличным, он и льстивые слова произносил те-
перь медленно и хрипло, помимо воли показывая, в какой узде ему при-
ходится держать свое сердце. Презираемый за трусость и из-за этого не
приближенный к властителю, Клиний стал гораздо свободнее в своих
действиях и с отчаянным безрассудством взялся за дело. Постоянные
опасности, которым подвергал себя Амфиал, побуждали Клиния искать
того, кто рано или поздно ниспровергнет Амфиала — участь, грозившая
и ему самому, если он промедлит и не искупит прежнее предательство
в отношении Базилия новым предательством в отношении Амфиала.
Главной заботой Клиния было найти среди приверженцев Амфиала
того, кто из страха, тягот осады или неудовлетворенного честолюбия
был бы готов участвовать в заговоре. Среди богачей — того, кто потерял
терпение; среди непостоянных юношей — того, кто не обрел быструю
славу, на которую рассчитывал. И кое-кого ему удалось поймать на крю-
чок. Более других его внимание привлекала Артесия, сестра погибшего
Йемена и главная из шести девушек, выманивших царевен на печальный
праздник. Ее острый ум (как он полагал) превосходил недостатки, свой-
ственные ее полу. Она предприняла опасный поход, поверив Цекропии,
будто бы стоит удалить царевен, и Амфиал возьмет ее в жены. Благодаря
зеркалу, солгавшему ей о ее несравненных достоинствах, и благодаря бла-
госклонности Амфиала к ее брату Йемену, которую она (подобно всем
самовлюбленным девицам) принимала на свой счет, Артесия легко по-
палась на крючок.
Артесия сделала то, чего от нее ждали, однако царевен никто не со-
бирался убивать и даже одной из них, вероятно, предстояло стать ее гос-
пожой, а она своей службой не заслужила ничего, кроме слов благодар-
ности, даже надежды на будущее, до того Амфиал был поглощен другой.
И тогда презрение к возможному презрению, ярость из-за обманутых на-
дежд и, не исключено, неутоленная страсть обернулись злобой в ее бес-
.386
порядочных мыслях. Еще большую власть забрала над ней злоба после
гибели Йемена, которому, как она полагала, никто не помог в сражении
с Филанаксом и за которого никто не отомстил Филанаксу. Эти искры
были раздуты не без помощи Зелманы, с которой Артесия проводила мно-
го времени. Заметив, что печальную Филоклею ее общество не веселит,
а величественную Памелу — тяготит, она стала чаще бывать у Зелманы,
которая поначалу едва терпела виновницу своих мучений, но, научив-
шись притворству в школе несчастья, вовремя изобразила понимание.
Обнаружив себя почти в безвыходном положении, свое тело взапер-
ти, свою храбрость обузданной, ум обманутым, желания под запретом,
любовь плененной, зло случившимся и еще худшее зло возможным,
Филоклею в беде, а себя не в силах ей помочь, Зелмана все же, благодаря
своим душевным качествам, была далека от отчаяния, хотя в душе она
роптала и презирала себя, но в мыслях едва могла поверить, что попала
в беду, и в ее глазах постоянно сверкала угроза, словно стены могли их
испугаться. Тем не менее, путы рабства, становившиеся со временем все
нестерпимее, заставили ее осознать минусы своего положения и малую
пользу от ропота, и вот тут-то горе завладело ее ослабевшим разумом,
сладкие воспоминания о прежних радостях стали вызывать слезы, а так
как она никому не могла помочь, но могла плакать, как все, ее одинокие
страдания постоянно совершали круговорот, выходя из уст и возвращаясь
в уши. Потом она начертала имя Фил оклей на оконном стекле и, соглас-
но глупой науке поклонения, едва написав, влюбилась в него, а влюбив-
шись, преисполнилась жалостью. Все привычные хвалы, которыми она
восхваляла Филоклею, теперь стали риторическими фигурами и усилива-
ли ее боль, от которой она спасалась, оставаясь одна, бранными речами,
выстраивая их в зависимости от своей бушующей печали.
Когда же Артесия стала частой посетительницей Зелманы, она от-
дала свою храбрость во власть разума и была довольна их сближением
тем больше, чем больше Артесия погружалась в едва скрываемое недо-
вольство. Зелмане доставляло радость освежать свой рот славословиями
в честь сестер и особенно восхвалять их за то, что они никогда не забыва-
ют о благодарности, если им оказывают услуги, призывать справедливых
богов, чтобы они не допустили долгое их пребывание вдали от людей, и не
без злости упрекать Артесию в том, что она обесчестила себя бесчестным
поступком, правда, на это Артесия (притворяясь) отвечала, будто ее тоже
обманули, и она знала лишь о празднике; но, судя по ее сетованиям на
несправедливость, легко было понять, что удручало ее не злое дело само
по себе, а отсутствие вознаграждения. Однако, взявшись за гуж, Зелмана
стойко поддакивала ей и превозносила ее заслуги, лишь бы Артесия по
доброй воле согласилась освободить ту, которую, возможно, невольно
лишила свободы. Зелмана не упускала ни одного случая пощекотать ее
честолюбие и поговорить об отмщении. Вот так Артесия, которую под-
толкнул к предательству Клиний, подхваченная Зелманой, была втяну-
та в заговор. Что же до Зелманы, то она мечтала лишь об одном, чтобы
в ее покои откуда-нибудь свалились доспехи и оружие, и тогда она, не
25*
387
раздумывая, сделала бы все, даже невозможное, но подсказанное страст-
ной любовью и внушенное всепобеждающей храбростью, чтобы освобо-
дить возлюбленную Филоклею.
Тем временем Клиний, которому не было дано понять суть храбрости,
уговорил Артесию (в назначенное время), когда подкупленная стража по
его сигналу откроет ворота врагу, отравить Амфиала, что не составило бы
для нее труда, так как в ее обязанности входило готовить бульоны и отва-
ры для уставшего или раненого рыцаря. Все уже было готово и надо было
лишь исполнить задуманное, когда Клиний и Артесия решили открыть-
ся прекрасным царевнам, не сомневаясь в высочайшем одобрении, что-
бы сестры, поставленные в известность об их заслугах, спасли Артесию
и Клиния от ярости победителей, которых Клиний, несмотря ни на что,
все же опасался. Таким образом, посвятив царевен в свои планы, они рас-
считывали связать их обещанием будущей милости. Клиний отправился
к Филоклее, и в тот же час Артесия пришла к Памеле. Клиний простран-
но изложил Филоклее, какой подвиг собрался совершить ради нее, одна-
ко Филоклея, в чистых помыслах которой не было места предательству,
заявила, что будет рада, если он уговорит ее кузена освободить ее, и ни-
когда не забудет этой услуги, но пожелала ему оставить злые мысли, ибо
(что касается нее) она предпочитает вечное заточение убийству Амфиала,
который, как ей известно, ее любит, хотя и поступает по отношению к ней
несправедливо. Клиния ошеломил ее неожиданный ответ, и он не нашел
ничего лучшего, как опуститься перед Филоклеей на колени и просить ее
не выдавать заговорщиков, ибо они задумали то, что задумали, лишь ради
нее, но если ей это не по вкусу, то они не будут ничего предпринимать.
Филоклея успокоила его, пообещав молчать, и сдержала свое обещание.
Однако от этого не было пользы, ибо Артесия точно так же открылась
Памеле, и ненавистница пороков, в чьих мыслях добродетель правила
скипетром знания, вскричала в ответ:
— Порочная женщина, ты не раскаялась, но решила предательством
исправить предательство, однако теперь ты своей хитростью поймала
себя в свои же сети. Что до меня, пусть боги делают со мной, что хотят,
лишь бы им не пришло в голову вести меня к свободе твоим путем.
Она произнесла это громче, чем следовало, и была услышана Цекро-
пией, так как та (раньше, чем предполагала Артесия) явилась к Памеле,
чтобы вести ее к окну, из которого та могла бы посмотреть на стычку
в царском лагере (как она думала) между своими. Будучи опытным лов-
цом в мутной воде, она сразу — по голосам и жестам — поняла серьез-
ность случившегося и потребовала объяснений у Памелы.
— Спроси ее, — ответила Памела, — и узнаешь, что тот, кто обманы-
вает господина, учит обману слуг.
Больше она не произнесла ни слова. Но Цекропия увела с собой
Артесию, и та под страхом пытки во всем призналась, так что Зелману
стали охранять еще строже, а Клиния вместе с остальными заговорщи-
ками казнили. Что же до Артесии, то ее всего лишь — из любви Амфиала
к Йемену — заперли в ее покоях.
388
Глава пятнадцатая
Шум в царском лагере, услышанный в крепости, случился из-за по-
явления знаменитого царевича Анаксия, племянника могучего Эварда,
убитого Пироклом. Царевич был невероятно силен и до того искусен и
удачлив в военном деле, что никто не мог превзойти его, к тому же, он
не знал страха — и все это по отдельности заслуживало бы похвалы, если
бы эти качества, сложенные вместе, не покорствовали гордыне и не слу-
жили несправедливости. Из-за странного состояния его ума вряд ли кто
лучше него мог распознать то, что потом превращалось в зло, и вряд ли
кто хуже него мог отделить доблесть от насилия в собственных поступках;
а в своей гордыне он не мог удержаться от Фрасоновой1 похвальбы, хотя
(столь неудачное жилище было у его добродетелей) его похвальба всегда
соответствовала его деяниям; он несправедливо считал свою гневную не-
уступчивость доблестным постоянством и полагал, что страх и ужас про-
ворней, нежели любовь и уважение, стяжают восхищение.
Анаксий уже четырежды сражался с Амфиалом, но Марс, беспри-
страстный судья, не отдавал предпочтения ни тому, ни другому. В конце
концов случилось так, что Анаксий повстречался с Амфиалом, когда тот,
неузнанный, был в великой опасности, и спас его, после чего, возлюбя
собственную доброту, принялся славить его тем безудержнее (восхваляя
себя), что не мог не полюбить того, кого счел ровней себе, и вскоре они
подружились настолько, насколько позволяло гордое сердце Анаксия.
Пребывая в странствиях (он искал Пирокла, чтобы отомстить ему за ги-
бель дяди), Анаксий услыхал об осаде и, не пожелав разбираться в при-
чине (как человек, для которого его желание — бог и рука — закон), взял
с собой своих братьев (которые почти не уступали ему в военном деле)
и две сотни отборных конников (с которыми был готов завоевать весь
мир), а остальным приказал идти следом и неожиданно с тыла ворвал-
ся в лагерь Базилия. Многие приняли жестокую смерть от его руки, не
успев понять, кто их убил; вот тогда-то Анаксий продемонстрировал
свою великую силу. Однако верный и доблестный Филанакс с рассчитан-
ной стремительностью дал ему отпор и, наверное, сумел бы показать, как
легко храбрец может упасть в яму, не имея в поводырях мудрость, но в эту
минуту из крепостных ворот выскочил Амфиал и с налета захватил одно
из небольших укреплений, построенных царем Базилием, освободив до-
рогу своему другу Анаксию. Немало рыцарей погибло в этой схватке, осо-
бенно среди сторонников Базилия, — вот такие выдающиеся памятники
поставили два меча своим, несомненно, достойным господам.
В крепости Амфиал с почтением, соответствующим статусу Анаксия,
с достойными его почестями и любезностью, сопутствующей дружбе,
принуждал себя (насколько это возможно в осажденном городе) внушать
1 Фрасон — солдат, персонаж из пьесы Теренция «Евнух», тип хвастуна.
389
Анаксию, что не столь необходима его помощь, сколь желанно его по-
явление. Дав улицам и домам засвидетельствовать свое гостеприимство,
а солдатам и горожанам — свою радость, Амфиал повел Анаксия к ма-
тери, которую просил принять гостя с любовью и заботой как человека,
однажды спасшего ее сына от смерти и теперь явившегося ради спасения
его жизни и чести.
— Эх, одного мне жаль, — заявил Анаксий, глядя на братьев, — будь
у стен крепости еще полудюжина царей, вот тогда я действительно мог бы
показать, на что способен.
Братья улыбнулись, словно Анаксий чрезмерно поскромничал,
оценивая свои силы. И только после этого, уступая учтивым просьбам
Амфиала, он снял с себя доспехи, хотя горел желанием немедленно сра-
зиться с врагами и всех обратить в бегство, прежде чем солнце зайдет за
горизонт. Взяв себя в руки, Амфиал предложил ему нанести визит царев-
нам.
— По правде говоря, — прошептал ему на ухо Анаксий, — милый друг
Амфиал, хоть я не принадлежу к тем, кто любит хвастаться, но еще не
было случая, чтобы, познакомившись со мной, дама не отдала мне свое
сердце. И мне не хотелось бы, так как в душе я презираю их за капризность
и ничтожество и считаю недостойными моих добродетелей, обидеть тебя,
ведь до меня дошли слухи, что ты унижаешь себя любовью к ним.
Учтивый Амфиал едва не рассердился на Анаксия за эти слова, но,
зная его, предоставил ему плясать под свою дудку и сам принялся весе-
лить его и его братьев, сколь это было возможно для жертвы несчастли-
вой любви. Он передал Анаксию управление своей крепостью, открыл
ему пароль и позволил награждать воинов по своему усмотрению. Тем же
вечером, после ужина, во время которого Амфиал всеми силами услужал
Анаксию, он приказал разместить музыкантов на озере в лодках якобы
для развлечения Анаксия, хотя на самом деле тот исполнял роль абрико-
ля1, несущего прелестную мелодию Филоклее.
Играли два рожка, перекликавшиеся друг с другом в чарующем со-
ревновании во славу музыки; мелодия ударялась о гладкую поверхность
неподвижного озера и летела к крепостной стене, от которой гордо взмы-
вала вверх, и, казалось, прежде чем звуки достигали уха, они обогаща-
ли себя в путешествии, и сама природа дарила мелодию мелодичному
инструменту. А когда сии инструменты привлекли всеобщее внимание,
к ним присоединились пять виол и столько же мужских голосов, из ко-
торых каждая виола рассказывала о любви своего господина в песне, об-
ращенной к той, которая думала о другом.
Зря мой удел, огонь сильней пылает;
Эфир дождем оплакал жребий мой;
К отливу море волны обращает;
Земля не шлет сокровищ в род людской.
1 Абриколь — непрямой неожиданный удар в настольном теннисе.
390
Молвь бессловесной стала;
Бег убыстрился лет,
И место обнищало,
И ночь идёт — за нею утра нет.
Она меня не пожалеет,
В холодном целомудрии застыв;
Упадок мой лишь славу ей содеет;
Так жги меня, мне масло в огнь излив.
Огонь, дотла состав испепели мой;
Эфир, дыхание мое прерви;
Скрой, море, взгляд от жизни нестерпимой;
Твердь, место истреби моей любви.
Молвь — обо мне ни слова;
Дней, время, не тяни;
Покой, прими прах новый;
Огнь, персть, молвь, воздух, море, место, дни —
Их сила надо мной, увы, не властна;
Я весь ее, и Смерть пред ней дрожит.
Боишься, Смерть, напрасно:
Нимало мной она не дорожит.
Утомленный еще прежде чем закончилась песня, Анаксий заявил
Амфиалу, что всякой музыке предпочитает конское ржание, трубный глас
и мольбы врагов, к тому же утром он намерен напасть на Базилия в том же
месте, где они бились сегодня, чтобы царским воинам побыстрее надоела
осада. Не считавший себя менее храбрым, Амфиал не дал волю гордыне
и немедленно согласился с Анаксием. Следующий день начался обман-
ным движением на дальней стороне царского лагеря, когда Амфиал по
просьбе Анаксия остался в крепости наблюдать за порядком, а Анаксий
с братьями Ликургом и Зрилом и своими лучшими воинами ринулся
в бой. Накануне, почему-то оказавшийся неподготовленным к сраже-
нию, Базилий позаботился о павшем и вновь отвоеванном укреплении,
так что оно стало неприступным со стороны врагов. Но и Анаксий на этот
раз превзошел самого себя и трижды со своими доблестными братьями
поднимал знамя над лагерем врага, хотя трижды, благодаря многочислен-
ности противников и благоприятным особенностям местности, а также
доблести трех новоявленных рыцарей, был отброшен назад. Многие в тот
день отдали жизнь или покорились славному мечу Анаксия, но большин-
ство имен из-за давности событий и несправедливости историков погру-
зилось во тьму забвения. Не померкло лишь имя Трессения, потому что,
когда все побежали от Анаксия, он один пошел против него и сохранил
отвагу в сердце, даже потеряв ногу. Жестокий Ликург, брат Анаксия, убил
его, отчего сам Анаксий больше не пожелал иметь с ним ничего общего.
В третий раз Анаксий взял верх, и у царских воинов храбрость пе-
реместилась в ноги, так что напрасно Базилий и Филанакс старались
391
остановить паническое бегство и образумить струсивших; и Амфиал,
видя благоволение победы, вышел из крепостных ворот со своим вой-
ском, надеясь покончить с осадой.
Однако все стремительно переменилось, когда с другой стороны
появились три рыцаря, из которых один был облачен в белые доспехи,
другой — в зеленые, а третий, известный многим своими черными доспе-
хами и девизом, был тот самый рыцарь, который в первый день осады не
давал отдыха удаче своими подвигами вообще и поединком с непобеди-
мым Амфиалом в частности. Едва оробевшие воины увидали его, как по-
заимствовали у него храбрость и ринулись на врага, словно молодые орлы
за добычей — ведомые матерью. Три искателя приключений и не думали
удерживать их, но поскакали между ними и схватились с тремя доблест-
ными братьями. Не сразу стало ясно, кому благоволит удача. Однако
сторонники Базилия, воодушевленные храбростью незнакомцев, приня-
лись с такой силой теснить воинов Амфиала, что те были рады побыстрее
укрыться за крепостными стенами — но только не Анаксий, которого ни
здравый смысл, ни страх, ни чужой пример не могли смягчить в яростной
схватке, пока один из воинов Базилия (чье имя недостойно упоминания,
поскольку он вел себя по-предательски и действовал исподтишка, ко-
гда Анаксий не смотрел в его сторону) едва не отрубил ему ногу, и тогда
Анаксий упал, проклиная небо за то, что оно употребило свою власть,
дабы он был повержен; и смерть завладела бы его гордым сердцем, если
бы Амфиал не встал вместо него против Черного Рыцаря, давая возмож-
ность слугам унести Анаксия и отдавая таким образом долг — жизнь за
жизнь.
Любовь и пример Амфиала вдохнули новые силы в бушевавшую бит-
ву, но Базилий (решив, что достаточно для одного дня) приказал трубить
отступление, опасаясь, как бы в запале наступления не потерялись до-
блестные рыцари, имена которых он хотел знать. А рыцари, едва услыхав
сигнал трубы и понимая (хотя были устремлены вперед), что храбрость
без дисциплины ближе к скотству, чем к мужеству, вложили мечи в нож-
ны, несмотря на то что еще жаждали крови, особенно Черный Рыцарь,
который, узнав Амфиала, не мог удержаться, чтобы не сказать ему: пусть
он дважды ускользнул от него, вскоре все равно придется платить по сче-
там. Амфиалу тоже было ясно, что пора уходить (почти все из его воинов
были ранены и пали духом), он отступил спокойно, не выражая ни гнева,
ни страха и лишь ответив Черному Рыцарю, что когда тот придет со сче-
том, его ждет встреча с хорошим казначеем.
Глава шестнадцатая
Когда битва затихла и противники разошлись в разные стороны, царь
Базилий послал Филанакса звать к нему неизвестных рыцарей, чтобы он
воздал им должное. Однако рыцари отказались от почестей, пожелав сна-
чала прославиться делами, а уж потом открыть свои пока недостойные
имена, и хотя посланец говорил с ними учтиво, как они того заслужи-
вали, все же (поняв, что непрошенная учтивость становится своего рода
оскорблением) был вынужден отступиться; и рыцари удалились в шатер,
который поставили недалеко от лагеря, чтобы сохранить свою тайну,
а тем временем внимание Филанакса привлек еще один странный ры-
царь, ибо странным было его неожиданное появление и не менее стран-
ным — появление само по себе.
Впереди ехали верхом четыре девицы, и позади их ехало столько же,
все в трауре, а по обеим сторонам от каждой из них шли служанки —
и тоже в скорбных одеяниях. Доспехи самого рыцаря были раскрашены
с таким знанием светотени, что напоминали раскрытую могилу, сбруя его
коня была как будто вся из кипарисовых ветвей, которыми в старые вре-
мена покрывали только что насыпанный холм. Ножные латы доходили
рыцарю чуть не до лодыжек и были украшены лишь вышитыми черны-
ми червями, которые словно ползали вверх и вниз, готовые пожрать его.
На щите было изображение младенца с двумя головами, из которых одна
казалась мертвой, а другая живой, но как будто ищущей смерть. Девиз
гласил: «Смертью смерть поправ».
Сей Рыцарь Могилы (солдаты так нарекли его) послал к Базилию
просить, чтобы он позволил одной из девиц войти в крепость и вызвать на
бой Амфиала, как то делали другие рыцари. Базилий позволил (доволь-
ный, что кто-то готов взять на себя обязанность, которой никто в его ла-
гере больше не желал себя обременить), и девица с рыданиями передала
Амфиалу вызов Рыцаря Могилы. Попытавшись успокоить достойную де-
вицу и узнать имя рыцаря (страдалица не ответила ему), Амфиал принял
вызов и попросил передать рыцарю, что если его мысли соответствуют
его девизу, то для вражды у них слишком много общего. Через некоторое
время, когда Рыцарь Могилы с девицами и судьей уже были на острове,
Амфиал, не мешкая, направился к ним, но прежде чем сразиться, поже-
лал, не изменяя своему доброму нраву, поговорить с рыцарем.
Однако Рыцарь Могилы молча отвел своего коня на исходную пози-
цию, не желая ни слушать Амфиала, ни говорить с ним и лишь копьем
подавая знак, что ему тоже стоит подготовиться к бою, так что в ожида-
нии нападения незнакомого рыцаря Амфиалу тоже пришлось пришпо-
рить коня. Но когда копье в его руке уже было готово опуститься и пораз-
ить противника, подъехавшего совсем близко, учтивый Амфиал заметил,
что копье рыцаря покачнулось, и тогда он с щеголеватым изяществом
бросил его поверх головы то ли друга, то ли врага. Потом остановил коня
393
и, поворачивая его, вознаградил себя взглядом на окно, за которым хотел
увидеть Филоклею; но тут заметил, что рыцарь соскочил с коня и (раз-
гневанный неудачей) отшвырнув копье, вытащил меч, чтобы исправить
ошибку. Амфиал тоже вытащил меч, более уважая завоеванную, неже-
ли дарованную случаем победу, поэтому, когда противник приблизился
к нему, выставил щит и меч и сошелся с ним в поединке, в котором мечи
говорили поначалу с одинаковой яростью.
Однако Амфиалу, которому почти не оставалось ровни на земле, вся-
кий раз удавалось выбирать более удобную позицию и лучше использо-
вать ее; и он проделал много дыр в доспехах своего противника, в кото-
рые легко могла бы войти смерть, поэтому, не изменяя своей благородной
природе и не желая, чтобы наказание было тяжелее нанесенной обиды,
он отступил на шаг со словами:
— Погляди, сэр рыцарь, бог на моей стороне. Лучше поверни свою
доблесть против тех, кто желает тебе зла, я же ничем не заслужил твою
ненависть.
— Ты лжешь, двуличный предатель, — сердито, но едва слышно про-
изнес Рыцарь Могилы.
Оскорбленная жалость уступила место злобной ярости, и Амфиал
вскричал:
— Ах ты, жалкий невежа, оскорблять ты не боишься, но ничего, скоро
я увижу, так ли ты смел сердцем, как боек на язык.
Амфиал с новой силой принялся наносить удары Рыцарю Могилы и
вскоре ранил его в шею; потом приблизился к нему вплотную и повалил
на землю, а когда тот падал, Амфиал смертельно ранил его в грудь и на-
клонился над лежавшим на земле рыцарем, чтобы снять с него шлем и
либо заставить его признать лживость оскорблений, либо отсечь ему го-
лову.
Едва шлем упал, как на плечи поверженного «рыцаря» легла золотая
волна волос, по которой так же, как по прекрасному лицу, Амфиал узнал
Парфению, несчастную и добродетельную жену Аргала, чья красота, од-
нако, не пострадала ни от пережитого горя, ни от близкой смерти, более
того, сверкала во всем своем совершенстве. Разве лишь ее глаза покрасне-
ли из-за непрерывных слез и чуть заметно подрагивали прелестные пух-
лые губки, словно целовавшие приблизившуюся к ним смерть, да понем-
ногу бледнели румяные щеки; и на шее, алебастровой шее, зияла рана, из
которой лилась чистая кровь, затоплявшая белизну, и вот уже заструилась
полноводная река, а там, где еще оставались белые островки алое и бе-
лое как бы оттеняли друг друга. Во всем облике Парфении появилась не-
поддельная томность, которая с точки зрения строгого ценителя должна
была бы уродовать ее, а на самом деле лишь прибавляла ей красоты, хотя
и в другом роде; по крайней мере для сострадательного взгляда она ста-
ла еще прекрасней, и Амфиал, сраженный печалью, жалостью, стыдом,
проклял судьбу, подарившую ему злосчастную победу.
Он снял шлем и латную рукавицу, опустился на колени возле
Парфении и, слезами подтверждая свою скорбь, предложил (прокля-
394
тые им самим) руки ей в помощь, уверяя ее, что своей жизнью и своей
властью готов оказать ей любые почести. Но Парфения, зная о близости
желанной смерти, лишь взглянула на него и тотчас отвела в сторону поч-
ти невидящий взгляд, словно его вид был ей неприятен, после чего она
медленно произнесла несколько слов, которые ее дыхание, не желавшее
покидать прелестные уста, едва донесло до него:
— Господин, молю тебя, если позволено молить врагов, разреши моим
девушкам самим, без твоей помощи, унести меня отсюда. Единственная
почесть, которую ты можешь мне оказать — это не оказывать никаких
почестей. Аргал не потерпел бы, чтобы убившие его руки помогали мне.
А я уже получила (и не только прощаю, но и благодарю тебя за это) из
твоих рук все, что желала. Теперь я ухожу к нему, ведь после его смерти я
только и делала, что умирала. — Парфения умолкла, ненадолго потеряв
сознание, потом очнулась и продолжала: — О, прекрасная жизнь, я рада
тебе. Я уже не чувствую уз жестокой смерти, которые так долго сковывали
меня. Ах, жизнь, ах, смерть, подтвердите, что ни разу в разлуке с Аргалом,
разве во сне, мои мысли не были так спокойны. Я иду, мой Аргал, иду
к тебе. О боже, милостью твоей прости мне мои грехи и позволь, я знаю,
ты позволишь, позволь нам, успокоенным твоей вечной любовью, вечно
любить друг друга. О боже...
Атропа1 не дала ей договорить. Парфения воздела к небесам руки и
с именем бога на устах и поистине небесным смирением отпустила свою
душу (можно с уверенностью сказать) в небесный рай.
Опечаленный Амфиал удалился, следуя ее воле, после чего судьи,
коих переполняла жалость, сняли с Парфении доспехи, тогда как девуш-
ки с жалобными причитаниями еще пытались врачевать смертельные
раны. Парфения умерла тихо, незаметно, но смерть, отделившая душу от
тела, была не властна над ее красотой. Когда же не осталось сомнений
в ее смерти, одна из девушек чуть не убила себя, но слуга Амфиала удер-
жал ее руку. Другие, столь же сильно любившие ее, но менее решитель-
ные, разорвали на себе одежды, посыпали головы прахом, упали на зем-
лю и стали оплакивать свою прекрасную госпожу, словно этим они могли
вернуть ее душу с небесного праздника к земной печали. Они то вспоми-
нали ее благочестие, целомудрие, красоту, добрый нрав, то винили себя
в том, что, обманутые ее речами, послушались ее (а она говорила им, буд-
то ей открылось, что исполнится ее заветное желание, когда она сразится
с Амфиалом), неверно истолковав ее слова; забыв обо всем, они целовали
ее холодные руки и ноги, потому что она была для них всем на свете. Даже
небеса покрылись тучами, словно выражая свою печаль из-за такой утра-
ты, и молва (которая по своей природе с радостью пересказывает подоб-
ные редкие события) не могла без грусти говорить о Парфении, печаль-
ная весть вскоре облетела всех в царском лагере: сам воздух был как будто
насыщен скорбью, и никто не мог противостоять ей, необычность про-
исшедшего соединила (обычно не соединяемые) жалость и восхищение.
1 Одна из трех парок — богинь судьбы в римской мифологии.
395
Царь Базилий сам вышел навстречу печальной процессии вместе
с прекрасной Гинесией, которая приехала в лагерь якобы для встречи
с супругом и чтобы разузнать о дочерях, но на самом деле Зелмана была
той святой, ради которой Гинесия задумала свое паломничество. Она
проклинала, благословляла, завидовала и мысленно целовала стены, что
окружали узницу. Базилий с Гинесией, Филанакс и другие приближенные
воздали высшие почести бездыханной Парфении, перенеся прекрасное
тело (под которое сам Базилий подставил свое плечо) в расположенную
в миле от лагеря церковь, где уже был погребен доблестный Аргал ; Базилий
сам предал земле священные останки верной и чистой любви, после чего
приказал изваять мраморные образы Аргала и Парфении, всячески укра-
сить надгробие и выбить на нем эпитафию собственного сочинения:
Он без нее бы был ничем,
Она с ним становилась всем.
Одной усладой наслаждались,
Одной невзгодой убивались;
Одна рука, одна стрела
Их обе жизни прервала.
Одна стоит из камня стела
Там, где зарыты два их тела.
АРГАЛ И ПАРФЕНИЯ
Глава семнадцатая
Со слезами на глазах и хвалами на устах Базилий, Гинесия и осталь-
ные возвратились в лагерь, еще сильнее возненавидев Амфиала, который,
бедняга, горевал больше всех. Сие благородное сердце опечалилось бы,
даже услыхав о подобном происшествии, а что говорить, когда он был его
виновником; рассудок рыцаря обессилел, сдерживая чувства, и Амфиал,
взяв в руки меч, который считался лучшим на земле (и который он в кро-
вавой битве отобрал у побежденного им великана), разбил его на кусоч-
ки (о чем позже ему пришлось горько пожалеть), приговаривая, что этот
меч не достоин служить благородному делу и даже прикасаться грешно
к нему, погубившему прекрасную даму. С этим он возвратился в свои по-
кои и, темнее тучи, лег в постель, не столько чтобы успокоить беспокой-
ные мысли, но чтобы избежать встречи с кем бы то ни было, так мучи-
тельно было ему видеть людей.
Из-за неприятных воспоминаний пышным цветом расцветшее уны-
ние вызвало в памяти Амфиала невзгоды, выпавшие на его долю, под-
водя тем самым итог его прежним страданиям и предсказывая будущие;
его сердце, опечаленное сверх меры, пробудило в памяти даже самые
ничтожные неудачи, пополняя список несчастий и заставляя мысли все
глубже погружаться в горькое прошлое. Ночь напролет, в кромешной
тьме, Амфиал не сомкнул глаз, а наутро, когда солнечные лучи верну-
ли привычные краски всему, что есть на земле, не раздвинул занавеси,
чтобы не впускать радость нового дня, не желая ни утешения, даруемого
светом, ни покоя, приходящего во тьме. Так он лежал, пока не пришла
Цекропия (не знавшая другой любви, кроме любви к сыну) и не приня-
лась с нежной заботливостью пенять ему на то, что он позволяет слабой
печали одержать верх над сильными добродетелями; и он прерывающим-
ся голосом (словно буря, разразившаяся в его груди, мешала ему гово-
рить) начал перечислять невзгоды, выпавшие ему в юности, злодейства,
совершенные им самим, вспоминать о бунте, вызывавшем в нем стыд,
и о стыде, усиливавшемся из-за постыдных деяний, о смерти Филоксена
и о смерти Парфении, случившихся из-за ненависти к нему высших сил,
но особенно (словно все остальное было ничтожно в сравнении с этим)
о своей роковой любви к Филоклее, которую он не мог одолеть и которой
не мог сдаться в плен, ибо был одновременно рабом и тюремщиком: он
чуть было не выбранил свою мать за никчемный результат великих по-
сулов, тем более теперь, будучи так унижен, он и вовсе не считал себя
достойным лучшей участи.
Однако его мать, приведя многие примеры, заставила его поверить,
что он не виноват или почти не виноват в своих бедах, поэтому ему не
стоит мучиться или почти не стоит мучиться; когда же, заговорив о са-
мом больном, она поняла, что не сможет играть на прежних обещани-
ях (Амфиал даже слышать не желал о промедлении), она откровенно
397
призналась, что не преуспела в своих переговорах, но обвинила в этом
его, он-де сам все испортил, умоляя юную девицу дать ему то, что он
должен взять сам — нелепо строить высокие лестницы, чтобы пересечь
равнину, и столь же неуместно, даже глупо, умолять ее, когда следует
приказать, если возносить сверх меры мольбами и внушать даме горде-
ливое превосходство, то ничего нет естественнее, как получить отказ.
— О Боже! — воскликнул Амфиал. — Так я и думал! Но запомни,
я скорее вырву себе глаза, но не взгляну на божественную Филоклею ина-
че, чем на небеса, которые берут у нее свой свет и которые подвластны
ей. Если они прольют на меня утешение, я — о! — я буду счастлив, но
если жертвы верного сердца окажутся напрасными, тогда я буду томить-
ся и вянуть томясь, и горевать увядая, но не возропщу ни на мгновение.
Матушка, о матушка, вожделение может стать тираном, но истинная лю-
бовь бывает только служанкой. Пусть я буду проклят еще страшнее, чем
теперь, если когда-нибудь приближусь к ней, не холодея от страха, но и
не сгорая от страсти. Было ли когда-нибудь, чтобы любящий мужчина
увидел божественную чистоту, сияющую сквозь прекрасную оболочку,
и не сделался (как положено) ее рабом? Разве это рабский девиз: «Моя
воля и моя услада»?
— Спокойно, спокойно, мой сын, — произнесла Цекропия. — Если
ты говоришь, что любишь, и все же боишься, то ты боишься ее обидеть.
Что значит обидеть? Откуда тебе знать, что ты обидишь ее? Она отверг-
нет тебя? Отвергнет! По правде говоря, если бы не твоя печаль, я бы от
души посмеялась над тобой, ведь тебе неведомо, что «нет» в устах женщи-
ны — еще не отказ. Сын, поверь мне, ведь я тоже женщина. Скромный
возлюбленный гораздо чаще заслуживает похвалу, чем любовь, и если
нам нравится скромность, то нравится так, что из-за нее мы не позво-
ляем себе идти дальше. Всякая добродетель хороша в свой час. Если ты
приказываешь солдату идти вперед, а он пропускает других из учтивости,
похвалишь ли ты его за скромность? Любовь — твой полководец, велит —
исполняй. Неужели Амфиал окажется трусом? Вот тебе пример. Как ты
думаешь, заполучил бы Тесей амазонку Антиопу, если бы сидел, сложа
руки, и вздыхал? Нет, он взял ее силой, амазонку взял силой, отчего по-
том с презрением относился ко всем женщинам. Он овладел ею, и она
родила ему сына. Больше я ничего не скажу, разве что, говорят, такого
не бывает без взаимного желания. Геракл убил отца Иолы и ее взял про-
тив ее воли, но прошло совсем немного времени, и эта осиротевшая,
взятая силой дама весело накидывала на свои прекрасные плечи шкуру
льва и играла с булавой нежными ручками; она так быстро не простила
бы Геракла, если бы ей не понравилось орудие насилия. Но еще лучше
Елена, дочь Юпитера, которая с самого начала терпеть не могла своего
учтиво-скучного Менелая, ибо презирала его за смирение и ненавидела
за мягкость. Однако ей понравилось то, что в ее силах сделать сильным
Париса, и она все претерпела ради него. А потом? Потом Менелай взял
себя в руки, силой возвратил ее, силой увез домой, силой взял ее, и она
(которая не полюбила его за услужливость) полюбила его за насилие. Что
398
может быть приятнее, чем насилием оправдать грех страсти и соединить
воедино желанное наслаждение и оправдание его? Истинная же причина
заключается в том, что (простите меня, дамы, за то, что открываю тайну
моему сыну) мы не находим огня там, где нет хотя бы искорки ярости.
Когда-то я знавала одну высокородную даму, которой долго домо-
гались самые знатные, самые умные, самые красивые, самые любезные
кавалеры и от которой они ничего не добились из-за своей излишней
учтивости; и та же дама отдалась тому, кто был недостоин их всех, но кто
владел той властной уверенностью в себе, которую природа дает мужчи-
не, возвышая его над женщиной. По правде говоря, мой сын, мы по своей
природе служанки, а кто взывает к благосклонности слуг, никогда не до-
бьется от них послушания; верховая лошадь подчиняется лишь тому, кто
требует от нее подчинения, и становится строптивой, едва почувствует
трусливого седока. Развеселись, милый Амфиал, и поверь мне, она отвер-
гает тебя, чтобы набить себе цену. Если она плачет, бранится и негодует
до того, как дело сделано, она может точно так же плакать, браниться и
негодовать потом. Знай лишь, она не будет сопротивляться, ибо испыты-
вает тебя, так что, милый Амфиал, будь мужчиной, докажи, что ты муж-
чина, а женщина, поверь мне на слово, всегда женщина.
Глава восемнадцатая
Амфиал не успел ничего ответить матери, потому что пришел слуга
и доложил о гонце из царского лагеря. Не медля, Амфиал призвал гонца
к себе, распечатал послание и прочитал:
«Тебе, Амфиал из Аркадии, неизвестный рыцарь желает здоровья и
храбрости, ибо от моей руки ты, возможно, понесешь наказание за
предательство, ведь ты сам предложил поединки; и с недоброй целью,
но гордо бросил всем вызов, от которого преступно не отказываешься.
Я готов встретиться с тобой (если твой разум не внушил тебе робость
из-за своей же вины) на твоем острове и на тех же условиях, на кото-
рых бились с тобой другие рыцари. Если же тебя не устраивают время,
место или оружие, я приму любые разумные требования, лишь бы ты
не отказался от поединка. Отвечай мне так, чтобы я знал: ты еще не
совсем забыл о чести. И береги свою жизнь до нашей встречи».
Прочитав послание, Амфиал тяжело вздохнул, словно опечалился и
даже как будто осудил себя, принимая предъявленные ему обвинения.
Но сколь бы податливым ни делала его печаль, доблесть, не привыкшая
к подобным нападкам, призвала на помощь ярость, чтобы из-под пера
Амфиала вышел достойный ответ:
«Неизвестный рыцарь, своей безымянностью ты даешь право рыца-
рю моего рождения и моего положения отказать тебе, но не пугайся,
ты не будешь отвергнут. Отвечаю тебе без промедления, как отвечал
всем до тебя. На остров я явлюсь, вооруженный твоими угрозами,
и не вспомню о страхе, потому что тот, кто силен в слове, слаб в деле.
Ты недолго задержишься на острове в ожидании доказательства, что
не стоило тебе возлагать надежды на мою гибель. Пока же прощай».
Когда ответ был написан и запечатан, гонец сказал Амфиалу, что его
господин хотел бы, если Амфиал не возражает, привести с собой еще двух
рыцарей. Амфиал согласился. Избавив себя таким образом от докучли-
вых уговоров матери, он облачился в доспехи, но не в те, которые на нем
видели обычно. На этот раз, словно желая показать, что у него на сердце,
он и себя и коня одел во все черное, похожее на лохмотья, столь искусно
скрепленные драгоценными каменьями, что они производили впечатле-
ние нарядной небрежности или богатой бедности; и так точно создатель
воплотил свою идею, что и оружие Амфиала было как будто покрыто
ржавчиной, но все же любой сказал бы, что перед ним не неряшливая ра-
бота, а произведение искусства, символизирующее неоцененную красоту
и новую древность. На щите была изображена Ночь, причем искусно изо-
бражена искусным художником в виде тени на солнце, и на ней был на-
400
чертан девиз, из которого явствовало, что Лмфиал отлучен от наслажде-
ния находиться рядом с источником его жизни: «Отвержен семь». В верх-
ней части щита, вместо украшения, были ножи Филоклеи, единственный
знак ее вынужденного внимания.
Итак, Амфиал переправился на остров в сопровождении двух братьев
Лнаксия, где его уже ждал неизвестный рыцарь в доспехах таких черных,
какой может быть только печаль, увидевшая себя в самом черном из зер-
кал, и украшенных изображением таких же черных воронов, глотающих
падаль: лишь поводья были сделаны наподобие змей, вылезающих одна
за другой и головками сходящихся к удилам, словно они хотели укусить
коня, а конь, когда жевал удила, словно хотел укусить их, и казалось, бе-
лая пена стекает с его губ, как будто из-за ядовитой ярости в разгар сра-
жения. На щите было изображение Католепты1, который лежит на зем-
ле бездыханный, пока не воссияет луна (любимая им). Девиз же гласил,
что не луна не светит, а зверь не видит ее сияния. К шлему был привязан
хлыст, свидетельствовавший о самобичевании и раскаянии. Оба рыцаря
сидели на угольно-черных конях, и не было ни одной звездочки, чтобы
осветить эту черноту. Казалось, будто они оба сыновья печали и пришли
сражаться за невеселое наследство.
Очевидное сходство чувств так тронуло Амфиала, что он, уже не-
сколько смягченный любовными страданиями, не стал поднимать копье
и вытаскивать меч, но сам приблизился к неизвестному рыцарю, желая
отменить поединок, который внушал (более обычного) опасения его за-
грустившему сердцу.
— Благородный рыцарь, — сказал Амфиал, — мы оба рыцари и долж-
ны знать, зачем делаем то или другое, так скажи, что побуждает тебя сра-
жаться со мной?
— Я утверждаю, — ответил рыцарь, — что ты бунтовщик и обидчик
прекрасных дам, которым рыцари должны служить.
— Тебе не следует из-за этого сражаться со мной, потому что я со-
гласен с твоими словами, ведь красота дамы пробудила во мне любовь,
и любовь призвала на помощь силу.
— Тогда я говорю тебе, ты недостоин любви.
— С этим я тоже согласен, — ответил Амфиал. — Земля не столь мно-
госчастлива, чтобы рождать лишь достойных. Но я не более недостоин,
нежели другие, ибо нет на свете любви, достойнее моей.
— Нет, моя любовь достойнее, потому что, хоть я и заслуживаю пре-
зрения, но ты заслуживаешь и презрения и ненависти.
Тогда Амфиал решил (решил неправильно, но они оба ошибались),
что перед ним его соперник. О примирении было забыто, мысли замель-
кали у него в голове с быстротой молнии, и, не дожидаясь знака судьи
или сигнала трубы, даже не вспомнив о копье, Амфиал выхватил меч и со
словами: «Ты лжешь, негодяй!» — обрушил на неизвестного рыцаря один
1 Католепта — мифический зверь, упоминаемый в «Естественной истории»
римского историка Плиния.
26 Заказ 1414
40 I
за другим множество ударов, похожих на удары грома после ослепитель-
ной молнии. Однако для такого сева он нашел не бесплодную почву,
и в ответ ему пришлось собирать такой урожай, что, хотя разум и изу-
мление редко сходятся вместе, все же и самый разумный взгляд, увидав
сие, был бы изумлен. Еще никто не играл в смертельную игру лучше них,
никогда ярость не была такой доблестной. Обходительный Вулкан, куя
(по просьбе своей, еще более обходительной жены) оружие Энею, не так
громко стучал молотом, как благородные рыцари мечами, им не нужно
было разжигать огонь в горне, ибо они высекали его, ударяя мечом о меч;
и новые силы они обретали в крепостном окне, стараясь почаще глядеть
на него, ибо для обоих было важнее смотреть на него, чем следить за
солнцем и ветром; но если бы изумленные взгляды созерцателей не были
отвлечены сим дивом, они бы обратили внимание на то, что и солнце и
ветер застыли в неподвижности, созерцая поединок. Рыцари все равно
не уследили бы за движением солнца и не почувствовали бы перемену
ветра, потому что ветер замер, словно боясь, что не успеет проскочить
между мечами, а может быть, был так поглощен зрелищем, что глядел
во все глаза и забыл открыть рот.
Битва же была тем более жестокой, что Любовь и Ненависть как буд-
то сговорились показать свой нрав, и, трудно сказать, чей рог звал гром-
че — Любви или Ненависти. Рядом с Ненавистью встали Злоба, Ярость,
Надменность, Стыд, Месть, а по другую сторону были жаждущая любви
Страсть, непобедимая Надежда и бесстрашное Отчаяние с соперницей
Ревностью, которые (хотя и взросли в школе Купидона) выказывали не
меньше проворства, чем прочие из воинства Марса, дабы прославиться
в славной битве. Оба противника были уверены в себе, ибо не знали пора-
жений и не сомневались в победе, ибо умели побеждать; нанося ужасные
удары, оба не забывали об искусном управлении конями и теснили друг
друга или неожиданно отскакивали в сторону, чтобы преуспеть в успеш-
ном возвращении. Сила шла против силы, мастерство против мастерства,
и нелегко было сказать, что рыцарям удавалось лучше — атака или обо-
рона, ибо они одновременно наносили и получали удары, и их охваты-
вала не меньшая ярость, когда они наносили удары, чем когда получа-
ли удары. Подобно огню, который тем более ненасытен, чем больше его
кормят, они тоже, чем дольше бились, тем более хотели биться. Доспехи
уже давно успели развалиться, но плоть терпеливо сносила удары, слов-
но была менее чувствительна к боли, чем бесчувственное железо, и кровь
заливала черные одежды, словно желая заменить черный цвет печали на
более живой — красный.
Так долго бились рыцари, равные в доблести и в удаче, что не стерпело
пытки измученное сердце Амфиала, и он решил поскорее довести дело до
конца, поэтому с доблестным неистовством вложил все силы в удар, рас-
четливо направив его в голову противника, так что память покинула раз-
громленное жилище и рыцарь почти лишился чувств. Он широко взмах-
нул руками и едва не упал, даже меч выскользнул у него из руки и остался
при нем лишь потому, что был прикреплен цепью к запястью. Используя
402
преимущество, Амфиал удвоил усилия, отчего конь, пострадавший не
меньше хозяина, отскочил вместе с неизвестным рыцарем в сторону и
не приблизился, пока тот не пришел в себя. Кто видел неизвестного ры-
царя в эти минуты, легко мог заметить краску стыда у него на щеках и
жажду мести в глазах. Стиснув в гневе зубы, он бросился на Амфиала,
вытянув вперед руку с зажатым в ней мечом, рассчитывая разрубить про-
тивника надвое. Но Амфиал, чтобы избегнуть удара, подался вместе с ко-
нем немного вправо, и неизвестный рыцарь, вложив в удар все силы, но,
не достигнув цели, сам с трудом удержался в седле. Однако известно, чем
плод запретнее, тем он вожделеннее. Пренебрегая противостоящей ему
силой и удачливостью, неизвестный рыцарь так пришпорил коня, соби-
раясь вновь напасть на Амфиала, что тот от боли встал на дыбы и едва
не опрокинулся на спину, тогда как Амфиал, видя это, натянул уздечку,
вонзил шпоры в бока коню и ударил рыцаря в плечо с такой мощью, что
соскользнувший меч поразил еще и коня в шею; конь и всадник упали на
землю, но рыцарь тотчас вскочил на ноги, показывая, что если ему и из-
менила удача, то доблесть лишь приумножилась.
Учтивый Амфиал извинился перед неизвестным рыцарем за то, что,
помимо воли, убил его коня.
— Винись за черные дела, — крикнул в ответ неизвестный рыцарь, —
а пока не упусти удачу, потому что скоро она тебе понадобится.
— Пусть ты глуп, но я не забываю о чести, — заявил Амфиал и, от-
ъехав в сторону, соскочил с коня, потому что не желал, чтобы его победу
приписали удаче.
Такая учтивость смирила бы сердце неизвестного рыцаря, будь кто-
нибудь другой на месте тюремщика его госпожи, но это обстоятельство
помешало его сердцу смягчиться, и не успел Амфиал спешиться, как ры-
царь набросился на него, и вновь продолжилось жестокое побоище, какое
едва ли кто-нибудь видел или мог вообразить, да и слова слишком бедны,
чтобы рассказать о нем. То, что рыцари совершили, пока были верхом,
можно считать лишь закуской для желудка в сравнении с тем, что они со-
вершили, спешившись. Еще ни один обжора, увидев новое лакомое блю-
до (хоть мог отчасти утолить свой голод раньше), не набрасывался на него
с такой жадностью, как эти двое (встав на ноги) накинулись друг на друга,
когда многие подумали, будто они уже насытились сражением.
Будучи выше ростом, Амфиал довольно долго стоял на одном месте,
выставив вперед правую ногу и высоко подняв щит и меч. Когда же он
наносил удары, то каждый из них был как будто последним — его рука
вела себя словно вестница смерти. Но не менее искусным оказался и
неизвестный рыцарь, но в ином роде; он все время двигался, сохраняя
безопасное расстояние между собой и мечом Амфиала, его глаза управ-
ляли его ногами, ноги — руками, а так как природа создала его ниже рос-
том, чем Амфиал, он искусно использовал природу и, не противореча ей,
старался увернуться от ударов, а не отражать их, как хитрый мастифф,
который, зная, сколь остры рога и сильны копыта у оленя, нападает по-
низу, используя свое преимущество и на силу отвечая проворством, но
26*
403
все же время от времени выказывает великолепную мощь, в которой ни-
кому не желает уступать. Короче говоря, удары неизвестного рыцаря были
сильными, выпады частыми, защита умелой, и в конце концов (полагая,
что слишком долгий путь к победе уже есть отчасти поражение) он нанес
Амфиалу такой сильный удар, что тот вовсе не из смирения упал на одно
колено. Но едва Амфиал ощутил себя поверженным, да еще повержен-
ным неведомым соперником, стыд вошел в одну его руку, презрение —
в другую, ярость заполонила глаза, мщение — сердце, и он, забыв о красо-
те и расчетливости, с таким безрассудно бросился на неизвестного рыца-
ря, что и тот, забыв о хитрости, отдал себя во власть ярости; оба испытали
презрение к себе (потому что ненависть не оставляет места восхищению),
встретив равное сопротивление.
«Как, — мысленно возмутился Амфиал, — разве не передо мной за-
мертво падали чудовища и великаны, когда я всего лишь праздно искал
приключений? Разве могут передо мной устоять рыцари, когда я сража-
юсь на глазах Филоклеи и во имя Филоклеи? Или вместе со свободой я
лишился и своей храбрости? Неужели у меня не только участь раба, но и
сердце раба? Да если бы на глазах Филоклеи вышло даже целое войско,
разве оно могло бы устоять против меня? О дьявол, передо мной всего
один человек, к тому же соперник! Или я больше не Амфиал? Неужели
страсть убила меня, о, я несчастный, и мне не по силам вернуть свою до-
блесть?»
Неизвестный рыцарь ругал себя с неменьшей злобой: «Разве не ослу-
шался ты повеления твоей госпожи, явившись сюда, и теперь ведешь
себя, как трус, на ее глазах? Разве Азия и Египет затем отдали тебе до-
бычу, чтобы тебя унизил предатель? О благородный Барзан, твоя душа
будет устыжена оттого, что твой победитель не может справиться с од-
ним противником! О несравненный Пирокл, тебя огорчит позор твоего
друга сильнее, чем твое пленение, когда ты узнаешь о том, как мало я
смог сделать для твоего освобождения и освобождения божественных
царевен. Разве достоин я, немощный, быть другом самого доблестного
царевича из всех, кого когда-либо называли доблестными? Нет, опозо-
ренный Музидор, паси лучше овец, возвращайся к пастушескому посоху,
коли разучился владеть мечом».
Так оба поносили себя, припоминая все новые и новые оскорбления,
желая распалить и без того распаленные чувства, подобно льву, который
бьет себя хвостом, чтобы посильнее разозлиться. Оскорбления множили
силы рыцарей, но еще сильнее раззадоривали их злые мечи, которые те-
перь были облачены в одежды жестокости: кровь стекала ручьями по до-
спехам, и, видя это, зрители уже готовы были лишиться чувств, тогда как
сами противники держались бодро и, казалось, будто их раны доставляли
больше мучений зрителям, нежели им самим. Гнев и отвага мешали здра-
вому смыслу подать знак разуму1 об их состоянии; боль, усталость, сла-
бость не смели напомнить о себе (хотя бы уже и граничили со смертью)
1 Здравый смысл как бы собирает данные и поставляет их разуму.
404
в присутствии жестокой ярости, которая, наполняя жилы гневом вместо
крови и принуждая разум воодушевлять тело, еще долго заставляла ры-
царей биться, подобно тому как выпущенная из лука стрела летит вверх,
хотя, будь она в согласии со своей природой, упала бы на землю. У неиз-
вестного рыцаря ран было больше, зато раны Лмфиала были тяжелее, ибо
его противник действовал искуснее и осмотрительнее. Если кому-то при-
ходилось видеть сражение многовесельной галеры с высокомачтовым ко-
раблем, он может представить противоборство рыцарей, лучше которых
вряд ли можно было сыскать на всей земле. Амфиал как будто превосхо-
дил силой, зато неизвестный рыцарь превосходил проворством, но силе
одного было не занимать проворства, а проворству другого не занимать
силы, тем не менее у обоих уже не оставалось ни силы, ни проворства
и лишь немереная храбрость все еще продолжала бой. Трижды, нанося
тяжелые удары, Амфиал вынуждал неизвестного рыцаря отступить, но
каждый раз тот платил болью за боль и позором за позор. В конце концов,
то ли получив повод, то ли поддавшись самоуверенности (слишком по-
спешив с оценкой непобежденного храбреца), неизвестный рыцарь вдруг
принялся уговаривать себя, будто в этом поединке преимущество на его
стороне, хотя все преимущество заключалось в том, что, умри его против-
ник первым, он умер бы вторым; однако надежда и ненависть (скрыть ко-
торую так же невозможно, как и любовь) не позволили ему промолчать,
и, отступив на шаг, он сказал Амфиал у:
— Ну, Амфиал, на этот раз, а он уже третий, тебе не уйти от меня; толь-
ко смертью ты можешь заплатить за свое преступление, за мою ненависть,
за жестокое убийство благородного Аргала и прекрасной Парфении.
— По правде говоря, — ответил ему Амфиал, — ты самый достойный
из всех рыцарей, с которыми мне приходилось сражаться, и я даже хотел
бы подарить тебе жизнь, если бы ты был столь же умен, сколь храбр, но ты
обвиняешь меня (помимо всего остального) в том, что я совершил против
моей воли. А уж в твоих ли руках моя жизнь, пусть тебе скажет вот это...
С этими словами он обрушил на неизвестного рыцаря удар, который
надвое расколол его щит, а так как разбитые доспехи уже не могли оказать
сопротивления, то меч продырявил и грудь, словно хотел выпустить на
волю запертую в ней любовь.
Однако с болью жизнь в соперниках не то, что не убывала, а как будто
пробуждалась, и неизвестный рыцарь, покрепче упершись правой ногой,
мечом ткнул Амфиалу в живот с такой силой, что у того кишки вывали-
лись наружу. Но и тогда Амфиал (боясь смерти, потому что она означа-
ла поражение) собрал оставшиеся силы для последнего удара. Обеими
руками подняв меч, он обрушил его на голову неизвестного рыцаря,
и меч разлетелся вдребезги. Но, словно служа последнюю важную служ-
бу, Амфиал продержался, пока неизвестный рыцарь не упал, на мгнове-
ние расставшись и с любовью, и с ненавистью; и Амфиал (ощутивший
такую слабость, что уверовал в скорую смерть) обрадовался победе, но,
не надеясь насладиться ею, поднял забрало на шлеме неизвестного рыца-
ря, чтобы нанести ему последний удар кинжалом, однако вместо смерти
405
подарил ему жизнь, ибо свежим воздухом оживил его чувства. Придя
в себя и осознав нависшую над ним опасность, он, как жизнь, побеждаю-
щая смерть, схватил Амфиала за ногу и, приподнявшись, опрокинул его
на спину. Однако Амфиал вновь поднялся с земли. Оба рыцаря совсем
ослабели, и их движения теперь напоминали скорее последние порывы
ветра после бури, чем самое бурю.
В эту минуту Амфиал мог бы раскаяться в том, что по доброй воле сло-
мал свой добрый меч, ибо неизвестный рыцарь (который из-за великой
и справедливой ненависти и близкой безжалостной смерти убил в себе
всякую учтивость) бросился на него с таким неистовством, что пусть его
удары были слабыми, но слабые удары, нанесенные слабому противнику,
оборачивались такой силой, что Амфиал, раз или два попытавшийся от-
ветить ему, получал рану за раной и в конце концов упал, не в силах бить
врага стоя; больше он не подавал признаков жизни, разве лишь как будто
собираясь присягнуть на верное служение смерти.
Едва это увидали суровые братья Анаксия, не заботившие себя ни за-
конами поединков, ни назначением рыцарства, они бросились защитить
своего друга или отомстить за него. Но дорогу им преградили два храбрых
спутника неизвестного рыцаря. Из них один был весь в зеленом (и доспе-
хи и упряжь), словно прекрасный сад, в котором росли апельсиновые де-
ревья с золотыми плодами, искусно выточенными и вышитыми и весьма
украшавшими приятный для глаз зеленый фон. На щите была изображена
овца, пасущаяся на зеленом лугу, и девиз гласил: «Не зная ни страха, ни
зависти», — отчего рыцарь получил прозвище Овечьего Рыцаря1. Доспехи
другого были молочно-белыми с прорезями в виде звезд, сиявшими се-
ребром при малейшем движении. На его щите были изображены одни
лишь звезды, а девиз гласил: «Лучшее в будущем»2. Итак, четыре рыцаря,
наследовав ненависть своих друзей, начали жестокое сражение. Не в си-
лах помочь своим сторонникам, неизвестный рыцарь опустился на зем-
лю из-за слабости не подчиняющегося ему тела. Храбрецы же, ища честь
в чужом бесчестье, спасение — в чужой гибели, дали новую пищу пре-
сыщенным взглядам зрителей. Кровь текла по их доспехам, тем не менее
никто не мог взять верх в сражении, разве что Овечий Рыцарь выказывал
больше проворства, чем остальные, и потому больше других привлекал
внимание зрителей. В это время Цекропия послала на остров воинов, дав
им приказ убить трех рыцарей, из которых один не имел сил защитить
себя.
Но его друзья явили удивительное мужество и верность. Повернувшись
друг к другу спиной и загородив собой неизвестного рыцаря (который так
долго был без чувств, что ничего не чувствовал), они сражались и против
воинов, и против обоих братьев, которые вели себя не по-рыцарски, пока
Филанакс (со вниманием следивший за предательскими действиями
другой стороны) не отправил на остров искуснейших воинов, которые,
1 Овечий Рыцарь, т. е. Филисид.
2 Возможно, этот рыцарь — Клитофон, сын Каландера.
406
добравшись до места на лодках и вплавь, не медля, многих предали мечу.
В живых остались лишь братья Анаксия и несколько храбрецов, унес-
ших Амфиала, — они бы скорее погибли, чем бросили его на произвол
судьбы.
Неизвестного рыцаря тоже уложили на плащи и переправили в цар-
ский лагерь, однако двое его друзей, зная, как он не хотел быть узнанным,
укрыли его от любопытных глаз и унесли в свой шатер; сам Базилий по-
давил в себе желание видеть его, боясь навлечь на себя неудовольствие
человека, мужественно защищавшего его интересы. Однако молва про-
славила за глаза того, кто не хотел, чтобы слава светила ему в лицо; ни
один человек не промолчал о нем, щедро восхваляя героя, превзошед-
шего самого почитаемого рыцаря на свете. Все молились, чтобы господь
продлил ему жизнь и, молясь за него, молились за себя. Сам же он, бла-
годаря усердным заботам друзей и искусству хирургов, соединив тело и
разум, вновь принялся воевать со своими мыслями, напрасно обвиняя
себя в малодушии и трусости, ибо даже самый бесчестный клеветник не
позволил бы себе этого. До тех пор (привыкший к победам как к праву,
данному ему природой) мужественный рыцарь легко одолевал любое со-
противление, и на этот раз он обещал себе не только победить Амфиала,
но разрушить крепостные стены и освободить Памелу; и хотя сделал он
больше, чем можно было бы ожидать, все же им владело такое недоволь-
ство собой, что он стыдился смотреть на солнце, якобы видевшее его сла-
бость; он не желал никого принимать и отказывался от почестей (считая
себя недостойным), умоляя своих благородных друзей увезти его в замок,
располагавшийся неподалеку, где он мог бы залечить раны и остаться не-
узнанным, пока не загладит свою вину победой, которую (как он думал)
ему не удалось одержать. Они без слов подчинились неизвестному рыца-
рю и покинули царя Базилия и его воинов, опечаленных расставанием,
ибо связывали с тремя храбрецами надежды на победу.
Глава девятнадцатая
Когда рыцари покинули лагерь, Базилий и Филанакс отдали мудрый
приказ укрепить оборонительные сооружения, чтобы обезопасить себя
на случай неожиданных нападений наподобие того, что было совершено
Анаксием. Их противники (учитывая раны Анаксия и тем более Амфиала)
решили, не ослабляя наблюдения и охраны крепости, вылазок больше не
предпринимать и полностью довериться Зоилу и Ликургу. Анаксию еще
не хватало сил покинуть покои, а что касается Амфиала, израненного те-
лом и душой, то трудно было сказать, то ли он торопит свидание со смер-
тью, то ли она — с ним. Когда неусыпные заботы искусных лекарей вер-
нули его к жизни, Скорбь и Стыд (подобно продажным слугам) стали на
страже, убеждая его отдать себя в руки смерти. Они открывали ему глаза
на его положение, которое живописали в черном цвете; они говорили ему
о безнадежности его любви, о поражении, запятнавшем его славу; так что
если прежде он томился, потому что не мог исполнить свое желание, то
теперь он сокрушался оттого, что не смел желать его исполнения.
— Трусливый Амфиал, — говорил он себе, — неужели ты посмеешь
назвать себя возлюбленным Филоклеи, ты, не ставший ни преданным
трусом, ни храбрым бунтовщиком, но ставший бунтовщиком и трусом,
которого не оправдает закон и не пожалеет могила? Ах, жизнь, сколь
мало радости от тебя, не давшей мне ничего, кроме стыда и поражения.
Почему, милая Филоклея, я не умер, прежде чем твои глаза увидели меня
поверженным, тогда бы ты, возможно, вздохнула и признала, что потеря-
ла верного слугу. А теперь, о несчастный, все, что я совершил, послужит
славе моего соперника.
Свои речи он сопровождал жестами, выражавшими досаду, но еще
более резкими из-за душившей его ярости, не раз заставлявшей его меч-
тать, чтобы опять открылись его раны; он отказывался от лекарств и
еды, и сбитая с толку Цекропия — к своему великому неудовольствию
и еще большему раздражению сына — была вынуждена силой успокаи-
вать его, пока, в конце концов, он не обещал не причинять себе вред,
но при условии, что никто не будет его беспокоить, кроме лекарей; его
скорбь не желала общения, и даже лекари и слуги не смели заговорить
с ним. Единственное, о чем он молил свою мать, когда она возвращала ему
жизнь, чтобы она исполнила его мечту, а без этого он не желал ее видеть.
Цекропия, вся любовь которой сосредоточилась на Амфиале, окру-
жила его людьми, полностью подчиненными ей, и запретила им что-либо
рассказывать о жизни в замке (пока не заживут раны на теле сына), то-
гда как сама, заполучив бразды правления в свои руки, постановила или
добиться согласия царевны и удовлетворить желание сына или наказать
царевну и удовлетворить свою мстительность. Но сначала, желая отде-
латься от осаждавших замок, она послала в царский лагерь гонца объ-
явить Базилию, что она на его глазах отрубит головы всем трем пленен-
408
ным дамам, если он немедленно не снимет осаду. Л, желая посильнее его
напугать, она приказала привести царевен и Зелману на крепостную стену,
где заранее воздвигли эшафот, который был хорошо виден в лагере, и там
держать их, пока не будет ответа от Базилия. Такое зрелище не могло не
вызвать жалость. Три дамы (наделенные совершенствами, какими только
могла наградить природа: очаровательно-величественная Памела, благо-
родная скромница Филоклея и по-мужски храбрая, прекрасная Зелмана)
терпели унижение по воле чудовищно несправедливой судьбы. По лицу
Памелы было видно, что она готова умереть, но не жить по чужой воле,
и время от времени царственное негодование сверкало в ее глазах при
мысли, что ей суждена смерть от руки врага. У Филоклеи щеки разрумя-
нились из-за мучившего ее страха, но это был страх робкого от природы
ребенка, потому что, боясь, она больше боялась за Зелману, чем за себя,
но даже если и за себя, то из-за того, что Зелмана ее потеряет. Что же до
Зелманы, то со связанными руками (Цекропия не посмела рискнуть, зная
храбрость Зелманы, тем более что ее окружали люди, которые могли бы и
взбунтоваться) она являла собой образ плененной храбрости и не знаю-
щего утоления гнева. Ее грудь вздымалась, кровь шла носом, щеки были
бледнее обычного и глаза опущены долу, словно она обижалась на небе-
са за немыслимое поругание. Видевшие ее были тронуты ее страданием,
и им еще больше не нравилось то, что они делали, правда, они продолжа-
ли делать то, что им не нравилось. Одним хотелось поскорее избавиться
от неудобств осадной жизни, другим — сократить путь Амфиала к короне
(ибо они зависели от него), третьим, и их-то было больше всего, приходи-
лось делать то, что делали другие, и мучиться оттого, что им никто (разве
что совесть) не препятствовал в неправедном деле.
Когда Базилий прочитал послание, — а печальные приготовления
на крепостной стене подтвердили намерения Цекропии, — царь призвал
к себе ближайших советников, среди которых самыми доверенными
были Филанакс и явившийся по его приказанию Каландер, который
устал от одиночества, соскучился по сыну и ничего не слышал о своих
милых гостях с тех самых пор, как они покинули его. Пребывая в сомне-
нии, Базилий пожелал выслушать совет Каландера.
— Господин, ты приказываешь мне говорить, — сказал Каландер, —
потому что желаешь сохранить благородный и достойный обычай не при-
нимать серьезных решений, не выслушав мнения других, а не потому, что
действительно (ибо есть только один выход) нуждаешься в совете, посему
я говорю тебе, что согласен с твоим решением и не буду приводить возра-
жений против возможных других решений. Зачем изображать изощрен-
ного грамотея и ставить вопрос, жить твоим несравненным дочерям или
умереть, если ты пришел сюда освободить их, но не стать причиной их
гибели? Что может быть бессмысленнее раздумий о том, что делать, если
забыть, ради чего это делаться? Поэтому поступай, как, уверен, ты хо-
чешь поступить. Снимай осаду, а потом думай, как достигнуть того, чего
ты не смог достигнуть силой; и если в этом тебе понадобится мой совет, я
всегда готов услужить тебе. Короче говоря, выиграть время в отчаянном
409
положении иногда означает выиграть жизнь, а что может быть хуже для
тебя, чем смерть твоих дочерей? Не стоит больше рассуждать; от добра
добра не ищут, к тому же я верю в твой разум. Ты мудрый человек и ты —
отец.
Он умолк, потому что не посмел даже намекнуть на брак дочери
Базилия и Амфиала, оставив это до следующего раза. Однако Базилий
подал знак Филанаксу, который, помедлив в нерешительности, будто был
сбит с толку, в конце концов все же высказал свое мнение:
— Если мне когда-то и хотелось, чтобы моя преданность не была ис-
пытана, а совет принят, так это теперь, когда, по правде говоря, я дол-
жен признаться, что был бы согласен ценой позора купить себе право
молчания. Но ты приказываешь, и я подчиняюсь. Позволь мне сказать,
что я подчиняюсь не отцу прекрасных царевен, а моему царю, и царю
я осмеливаюсь дать совет. Итак, как царю я говорю тебе, что мудрый и,
я уверен, искренний совет благородного Каландера подоспел бы вовремя,
когда ты только взялся за оружие и твои подданные еще не узнали о твоем
намерении, когда еще не пролилось много крови и когда твоим врагам
еще не пришлось прибегнуть к угрозе как к последнему средству. Но если
ты отступишь перед угрозой, зачем вообще взялся ты за оружие, ведь не
мог же ты не знать, чем в случае нужды твои враги будут грозить тебе?
Если умный человек берет в руки оружие, которое одним словом можно
выбить у него из рук, то, на мой взгляд, он поступает непродуманно, ведь
в первую очередь он должен был предвидеть последствия. Бунтовщики
грозят тебе казнью твоих дочерей. А если бы они пообещали, что с по-
честями пришлют их к тебе, если ты снимешь осаду, ты поверил бы им?
Уверен, ты можешь не бояться их угроз, ибо угрозы менее достойны до-
верия, чем обещания.
Рассудительный правитель должен учитывать не обещания и угрозы
своих врагов, а то, к чему эти обещания и угрозы могут привести, поэтому
нам надо понять, в чем их суть. Они грозятся убить твоих дочерей, если
ты не снимешь осаду, но ты уверен, что царевен не убьют, если ты уйдешь,
ведь их цель расчистить честолюбивому Амфиалу путь к трону, значит,
ничего не изменится после твоего ухода, зато бунтовщики почувствуют
себя увереннее, когда тут никого не останется, к тому же им станет легче
собирать вокруг себя друзей. Если же речь идет только об их безопасно-
сти, то, поскольку результат зависит от причины, ради своей безопасно-
сти они сохранят царевнам жизнь. Правда, можно возразить, что никто
не может знать в точности, на что способен отчаявшийся человек. Но и
в этом случае не помогут ни благоразумие, ни хитрость; бунтовщики жи-
вут среди опасностей, которые не под силу исчислить даже мудрецам.
А вот если избавить их от отчаяния, например, даровав прощение, то
дамы могут быть освобождены. Пусть твои подданные поверят тебе, сво-
ему царю, но ты не доверяй им, ибо изменившие хотя бы однажды не за-
служивают доверия. Если же им придет в голову, что ты глуп, так как увел
свое войско, то они еще не один раз своими угрозами подвергнут тебя
унижению.
410
Если ими движет любовь, то любовь удержит их от убийства, а если
честолюбие — то они останутся честолюбивыми, будешь ты близко или
далеко, поэтому не уводи воинов, которые не препятствуют любящим, но
удерживают от насилия честолюбцев. Судя по посланию, наши противни-
ки сейчас как испуганные дети, и подчиняться им недостойно взрослых
мужей, но все же надо хорошо подумать о том, что они могут предпри-
нять. Полагаю, ты сумеешь противостоять их отчаянию, ибо нет ничего
страшнее отчаяния, а ты еще можешь удержать их от него. Короче говоря,
ты — царь и отец своего народа, глаз мудрости, рука твердости, сердце
справедливости, поэтому забудь о своих чувствах ради общего блага.
Филанакс хотел еще что-то сказать, но прибежала Гинесия, которая,
боясь за Памелу, но еще больше за Зелману, бросилась в ноги Базилию
и стала умолять его, чтобы он не мешкал, жалобно протягивала к нему
руки, не в силах говорить; и Базилий (в иных случаях излишне податли-
вый) тотчас согласился снять осаду, которую считал опасной для жизни
своих дочерей, но на самом деле заботясь о судьбе Зелманы (плененная
Зелмана окончательно пленила несчастного старика). Чтобы немного
забыться, Базилий быстро удалился, прежде распустив войско. Вновь
передав командование Филанаксу, он вместе с Гинесией отправился в не-
приступную крепость, где стал думать, как освободить (в первую очередь)
Зелману, которую называл несчастной чужестранкой; поэтому, представ-
ляя дело так, будто им движет лишь закон гостеприимства, он послал гон-
цов к Цекропии.
Глава двадцатая
Избавившись от непосредственной опасности, Цекропия (пожелав-
шая, чтобы Зоил и Ликург до выздоровления своего брата заботились
о снабжении провизией и всем прочим, а также о привлечении рыцарей
на случай будущих трудностей, так как сама она не желала вступать в пе-
реговоры с Базилием, пока он не даст согласие на брак своей дочери с ее
сыном, которое он рано или поздно будет вынужден дать) сосредоточила
усилия своего злобного ума на том, как бы исполнить желание сына, от
чего, как она понимала, зависела его жизнь. В течение некоторого вре-
мени она использовала проникновенные уговоры и льстивые увещева-
ния, прибавляя к ним то подарки, то угрозы, пока надеялась, что откро-
венным или скрытым запугиванием ей удастся одолеть неприступность
царевен. Уделяя одинаково много внимания Памеле и Филоклее, мать
Амфиала разговаривала с ними по-разному, учитывая благородное вели-
чие одной и очаровательную скромность другой. Зная, что сердце сына
отдано Филоклее, но, наблюдая не уступающую ей ни в чем Памелу, она
надеялась, что прекрасное «да» излечит его от прекрасного «нет», и тем
временем, жестокосердная, обдумывала, как с помощью яда ей избавить-
ся от одной из царевен, едва другая продаст свою любовь.
Однако она напрасно изощрялась в суетном красноречии.
Неприступность Памелы была обеспечена таким высоким постаментом,
что ее не достигала ни одна стрела; Филоклея же (хоть и скромница) была
окружена прекрасными реками такой незамутненной добродетели, что ее
нельзя было ни поколебать, ни подчинить. На хитрости своей тетки ца-
ревны отвечали мудрыми суждениями, на красноречие — любезностью,
на угрозы — презрением и покорностью; подарки не принимали или
принимали из послушания, но, не беря на себя обязательств. Поэтому
Цекропия, властная от природы, жестокая из честолюбия, ненавидящая
из давней зависти к Гинесии, да еще озлобленная из-за невозможности
одержать победу над девчонками (какими она считала царевен) и, на-
конец, подталкиваемая любовью к сыну и своей тиранической властью,
склонилась к тому, чтобы не сдерживать свой уродливый нрав, и, умно-
жая и приумножая свои угрозы, решила кое-что исполнить, для начала
лишив царевен слуг. Однако царевнам, всему обученным, домашняя на-
ука пошла на пользу, и они на собственном опыте убедились, как трудное
учение облегчает борьбу с несчастьем. Принужденные довольствоваться
малым в еде и удобствах, они должны были пойти на попятную. Но если
узы несвободы мешали им прежде разглядеть красоту навязанного им жи-
лища, они же побуждали предвидеть будущие неудобства. Не добившись
желаемого, Цекропия пошла дальше, попыталась пугать царевен ужас-
ными криками вблизи их покоев, к тому же ночью, когда одиночество
и темнота делают человека особенно уязвимым. Однако Добродетель и
Любовь сопротивлялись и поддерживали друг дружку в трудные минуты.
412
Тем временем Цекропия не скупилась на посулы, лишь бы добиться от
девиц обещания хотя бы в будущем изменить свои мысли и чувства, но
царевнам претила ее настойчивость, даже когда с ними обращались мяг-
ко, а уж теперь — и говорить нечего.
Вознамерившись пойти на любую низость, лишь бы одержать победу,
Цекропия не пропускала ни одного дня, чтобы не внести путаницу в мыс-
ли сестер и не прибавить новые трудности к уже имеющимся; и чем боль-
ше упорствовали царевны, тем больше распалялась мать Лмфиала; и вот,
доведенная до крайности собственными преступлениями, она прибегла
к невиданной жестокости. Вместе с несколькими старухами (завистли-
вого нрава и из зависти жестоких к молодости и красоте), лица которых
были обезображены ненавистью, она прибежала к нежной Филоклее;
и они набросились на царевну, как коршуны на белую голубку, размахи-
вая руками и осыпая ее ужасными угрозами, а Цекропия схватила прут
(словно фурия — полено, которым сожгла храм Дианы1) и принялась сте-
гать им прекраснейшее тело. Напрасно любовь пряталась за щитом кра-
соты от слепой жестокости. Солнце скрылось за тучами, чтобы не видеть
этого; даже каменные стены увлажнились, глядя на такое мучительство;
все, что считалось бесчувственным, жалело несчастную, зато люди, как
будто чувствительные от природы, являли бесчувственность. Добродетель
редко ощущает себя такой беззащитной, и плакавший Купидон сказал
своей плакавшей матери, что желал бы быть слепым и глухим, лишь
бы не ведать о подобном надругательстве. Рыдая (когда уставшая, но не
смягчившаяся Цекропия дала ей передышку), Филоклея бросилась перед
ней на колени (мольба на ее лице облагородилась красотой, страдание —
вдохновением) и стала просить, чтобы та взяла ее жизнь, если уж до того
ненавидит ее (хотя, видит бог, она не знает, за что), но не тешила себя ее
мучениями.
— Если обычная человечность чужда тебе, если, заперев меня в этих
стенах, ты не знаешь ни жалости, ни сострадания, не вспоминаешь ни
о нашем близком родстве, ни (как бы ни было плачевно мое нынешнее
положение) о моем царском звании, то во имя любви твоего сына, о ко-
торой ты твердила мне, во имя нее, кажется, ты могла бы подарить мне
быструю смерть. Не так долго я жила на свете и, надеюсь, не так уж много
накопила грехов, чтобы не искупить их смертью. Разве я о многом тебя
прошу, когда прошу о смерти? Молю тебя. Что же до всего остального, то
знай, ты зря теряешь время, ибо с каждым днем я все менее склонна стать
женой того, кто обращается со мной, как с рабыней.
Однако ее слова, не пробудив сострадания, еще сильнее разгневали
Цекропию, и адские чудища вновь принялись мучить (ангелоподобную)
Филоклею, которую Цекропия называла не иначе как неблагодарной
гордячкой и приговаривала, мол, научит ее различать, что для нее хо-
рошо, а что плохо, если она сама этого не понимает. Филоклее ничего
1 Имеется в виду храм Дианы в Эфесе, одно из семи чудес света, который сго-
рел в ту ночь, когда родился Александр Великий.
413
не оставалось, как защищаться от безжалостных старух покорностью и
молчанием (терпеливо молчат сверкающие доспехи под молотом неуме-
лого кузнеца), пока, предназначив ее для чего-то другого, нежели смерть,
Филоклею не бросили одну, оставив размышлять о своей беспомощно-
сти и беззащитности, ведь Зелмана тоже была в плену и совсем впала бы
в отчаяние (на грани которого находилась), если бы знала, сколь недо-
стойно дьявольские создания обошлись с ее ангелом; одному богу извест-
но, как она страдала, когда в ее сердце бились слова: Филоклея страдает,
а она не может ей помочь. Зелмане было известно, как Филоклея верила
в нее, но колесо бесчувственной судьбы не знает пощады. Ах, если бы
одна душа могла обо всем рассказать другой душе, если бы их мысли
могли встретиться, несмотря на железные запоры, и даже без ведома их
самих, мечтающих о соединении своих любовных мечтаний. Из всех зем-
ных утешений лишь одно дарило Филоклее покой; она знала, что умрет,
любимая Зелманой, и умрет, но не изменит Зелмане. Так прелестная ним-
фа облегчала свои страдания, думая о страданиях Зелманы, и почти за-
была о страданиях тела из-за страданий разума; она угасала, желая лишь,
чтобы поскорее наступил конец затянувшейся трагедии.
Однако ее на некоторое время оставили в покое, потому что настал
черед Памелы испытать на себе жестокость Цекропии, душа которой уже
не столько жаждала добиться чего-то от царевны, сколько насладиться му-
чительством. Но если когда-нибудь лучи совершенства сияли сквозь тучи
несчастья, если когда-нибудь добродетель облачалась в плоть, чтобы явить
свою непостижимую красоту, то это могла быть только Памела. Если разум
говорил ей, что защищаться нечем (ибо сердце стремилось к справедливой
обороне), то с божественным спокойствием и величавым молчанием она
терпела выпавшие на ее долю мучения; и когда терзали ее тело, казалось,
она не столько покорялась, сколько направляла мучительниц. Когда же
Цекропия опустила хлыст и спросила, не желает ли она согласиться на
то, что от нее требуется, Памела едва заметно улыбнулась, и ее улыбка,
лишенная чар любви, все равно была чарующей.
— Ужасная женщина, — сказала она, — делай свое дело, пока можешь;
нет предела твоей власти. Ты можешь убить мое глупое тело, но тебе все
равно не взять надо мной верх. Я не доставлю тебе удовольствия просьбой
о смерти, но знай, моя честная жизнь и честная смерть станут позором тво-
ей отвратительной тирании.
Так, побеждая зло страданием, пока Цекропия изощрялась, как уме-
ла, в мучительстве, не желая тем не менее смерти сестер (до тех пор, пока
у нее сохранялась надежда сделать одну из них женой Амфиала), доброде-
тельная Памела терпеливо сносила боль и сокрушалась о несчастье, в ко-
торое была ввергнута; лишь изредка ее мысли смягчались, когда, распра-
вив крылья, они летели к Музидору. Она думала о том, как он огорчился,
узнав о ее несчастье, и она, ни разу не заплакавшая о себе, плакала слеза-
ми Музидора, которые он лил из-за нее. Нежной любви легче плачется,
чем добродетели. Памела вспоминала, как рассталась со своим бедным
пастушком, и она, которая желала смерти себе, боялась за его жизнь, она,
414
которая осуждала печаль в себе, считала обоснованной свою печаль из-за
его печали, она, которая мечтала об их супружеском соединении, теперь,
в ожидании смерти, от души молилась, чтобы их жизни еще долго были
разделены.
— Живи долго, мой Музидор, — шептала она. — Пусть мое имя жи-
вет на твоих устах, и память обо мне живет в твоем сердце. Живи долго
и долго люби чистую любовь твоей умершей Памелы.
Ей не хотелось, чтобы другая женщина завладела его сердцем; но она
не успела даже мысленно произнести эти слова, как упрекнула себя в не-
справедливости по отношению к прекрасному Музидору, которого едва
не пожелала лишить земных благ. Памела укрепила свою решительность
мыслями о худшем, попросив совета у добродетели и покоя у любви.
Глава двадцать первая
В самую бездну несчастья, какую только могли вообразить вражеское
сердце и измыслить женская злоба, бунтовщики низвергли драгоценные
создания природы, которые должны были стать ее главными творения-
ми в глазах мужчин, лучшим украшением земли и царицами счастья. Изо
дня в день, так или иначе, Цекропия мучила их ужасными пытками или
страхом перед еще более ужасными пытками, превращая самый страх
в тяжелейшую пытку, чтобы в конце концов, измученные телесными
страданиями, они сдались на милость победительницы.
Однако как в трудах: чем больше делаешь, тем больше можешь сделать
и тем больше чувствуешь сил, отчего то, что вначале казалось невозмож-
ным, потом становится легко достижимым, — то же самое произошло и
с царевнами, равными друг другу и лучшими в целом свете. Страдая, они
обрели привычку к страданию, и все страхи и ужасы были для них как
звук трубы, зовущий к сражению, победа в котором, как они знали зара-
нее, будет за ними. Страдания приносили им боль, но сама боль станови-
лась трофеем; так что Цекропия лишь отдалялась от своей цели.
Если поначалу она, может быть, и уговорила бы сестер навестить ее
сына и подбодрить Амфиала в болезни, уводящей его в пределы царства
смерти, то теперь обе сестры заявили, что из-за несправедливо жестокого
обращения, какого и представить прежде не могли, они будут говорить
с ним не иначе, как с врагом.
В черством сердце Цекропии прорастали ядовитые семена, ей каза-
лось, будто она пытается ладонями вычерпать воду, но чем больше стара-
ется, тем меньше шансов у нее на успех. Зайдя слишком далеко в своей
жестокости, она и в мыслях не допускала возвращения к былой мягко-
сти, и всеми своими чувствами восставала против этого. В конце концов,
посоветовавшись с одной из старух (настолько погрязшей в злодействе,
что совсем потеряла совесть и даже гордилась этим), она решила, что из-
биения и другие пытки рождают в женском сердце не уступчивость, но
ненависть, враждебную уступчивости и облачающую нежные сердца в до-
спехи упрямства (так говорил им их развращенный разум, слепой на све-
ту добродетели и зрячий, как сова, в греховной тьме), и поэтому больше
нет смысла в жестоких истязаниях. Что же до страха смерти (ведь смерть
они заслужили), то царевны до того часто слышали угрозы, что привыкли
к ним и перестали обращать на них внимание. Оставалось последнее
средство, по-видимому, самое действенное: став свидетельницами приго-
товлений к казни друг друга, они должны понять, что Цекропия не наме-
рена даром терять время, и тогда девичья душа решится на многое, лишь
бы не расстаться с прелестным телом.
Итак, Цекропия отправилась к Филоклее и сказала ей, что намерена
сыграть финал пьесы; и хотя Филоклея со своим женским упрямством
оказалась неспособной отозваться ни на нежную любовь, ни на жесто-
416
кое насилие, все же, прежде чем прибегнуть к последней мерс, она, то
есть Цекропия, попыталась завоевать расположение ее сестры в надеж-
де, что Лмфиал со временем удовлетворится любовью столь прекрасной
дамы, тем не менее и та оказалась не склонной к согласию, и вот теперь
Цекропия считала, что смерть одной сестры послужит предостережением
другой не обижать впредь достойных людей, ибо сие может оказаться не-
приятнее для обидчицы, чем для обиженного. Однако для се сына более
привлекательна Филоклея, и сама она склонна пожалеть царевну, хотя
она этого не заслуживает, отчего решила начать со старшей сестры, кото-
рой нынче же, после полудня, отрубят голову на глазах Филоклеи. Если
в оставшееся время одна из царевен не снимет одежд неблагосклонности,
другой возможности, поклялась Цекропия, у нее не будет.
Еще ни разу речи Цекропии не западали так глубоко в душу пре-
красной Филоклеи, ведь прежде предвидение (вместе со своим полко-
водцем — бесстрашием) ставило заслон мукам и опасностям, а теперь
впервые она не знала, как поступить — из-за любви к сестре. Однако со-
мнения мучили ее недолго, потому что ей в голову пришло, если она сама
желает для себя смерти, а не унижения, то должна — как подсказывает
любовь — желать того же и для сестры. Тогда, скрестив на груди руки и
глядя в пол, Филоклея сказала:
— Поступай с нами, как знаешь, но что до меня, то скорее небо рас-
тает, чем я изменюсь. Если же хочешь знать мой совет, то ради себя самой
(ибо молители за меня слабы) позволь моей казни послужить предостере-
жением сестре, которая, может быть, не так решительно настроена против
Амфиала; и тогда ты не только по справедливости накажешь меня (кото-
рая ненавидит и тебя, и твоего сына), но и поступишь благородно, если
это волнует тебя, спасая ту, что более достойна жизни, и убивая другую,
жаждущую смерти. В конце концов, уговорив ее занять место Филоклеи,
несчастливой и капризной, ты соединишь своего сына с самой совершен-
ной из женщин.
Однако Цекропия (уже знавшая, как поступит), не стесняясь в словах
и жестах, заявила, что Филоклеи не стоит слишком хлопотать о смерти,
потому что, если смерть сестры ничему ее не научит, она очень скоро от-
правится следом за ней. Если их не может заполучить Амфиал, то для его
спокойствия лучше знать, что они обе не достижимы для кого бы то ни
было. И если ни уговорами, ни угрозами Филоклею не взять, пусть она
готовится смотреть новую пьесу, представление которой состоится через
несколько часов в одной из зал замка.
Зала, о которой говорила Цекропия, лучше некуда подходила для
столь неподходящего дела: ее пол был на уровне земли, потолок — не
ниже самой высокой крыши замка, а вокруг располагались удобные по-
кои. В одной стороне на втором этаже была заключена Филоклея, и на
том же этаже, но в другой стороне — Памела, над которой было узилище
Зелманы, однако каменные стены и иолы, толстые и непроницаемые, не
позволяли им слышать друг друга. В каждой из темниц было пробито ма-
ленькое окошко в общей с залой стене, однако завешенное с внешней
27 Заказ 1414
417
стороны, так что они не могли дотянуться до них руками и дать волю
своим глазам, чтобы утешиться видом друг друга. Когда же настал час
трагедии, занавески с окошек Зелманы и Филоклеи были отдернуты,
так как зрелище казни должно было склонить их к сдаче своих позиций.
Некоторое время спустя в сопровождении дюжины вооруженных воинов
в залу вошла дама со связанными впереди руками, которую поддержива-
ли с двух сторон два воина; от лба до губ ее лицо скрывал белый платок,
зато шея от подбородка до плеч была обнажена; даму возвели на эшафот,
покрытый красным бархатом. Пи Зелмане, ни Филоклее не надо было
говорить, кто она такая: по платью они узнали прекрасную Памелу, да
и необычайная белизна шеи подтверждала догадку смятенных чувств.
Взошедшую на эшафот даму заставили опуститься на колени, после чего
суровые воины покинули ее, а Зелмане и Филоклее показалось, что она
хочет что-то сказать (и бедняжка Филоклея стала изо всех сил прислу-
шиваться, чтобы, возможно, изменить свое решение, сердце едва не вы-
скакивало у нее из груди, так ей хотелось спасти сестру), но едва несчаст-
ная дама сумела произнести от силы три слова, палач сделал свое дело,
принудив меч сослужить злую службу и не допустив слова одной к слуху
другой. Все же безжалостный меч пожалел красавицу и в первый раз опу-
стился плашмя на ее шею, но от этого было мало толка, потому что оше-
ломленная дама все равно упала, и тогда жестокий мучитель нанес ей еще
один удар, расторгнув счастливый брак тела и головы.
Все произошло так быстро, что казнь обогнала печаль Филоклеи (пе-
чаль не смогла так быстро добраться до ее сердца, и вначале на него обру-
шилась буря отчаяния); но когда глаза увидели то, что увидели, они, слов-
но осуждая себя, пожелали ничего больше не видеть, и душа Филоклеи,
переполнившись горем, едва не покончила с земным существованием,
но ожидавшие этого тюремщики с жестокой жалостью вернули ей жизнь,
и хотя Филоклея еще много раз расставалась с жизнью как будто навсе-
гда, в конце концов, возвращенная силой, жизнь соединилась с беспре-
дельной печалью, и Филоклея оплакала Памелу:
— Памела, моя сестра, сестра моя Памела, горе мне, почему я не умер-
ла вместо тебя? Никогда нам больше не свидеться, никогда мне больше
не радоваться твоим милым речам и мудрому совету. Ах, ты ушла и теперь
украсишь собой небо, а меня оставила здесь, недостойную, но любящую
тебя, чтобы я оплакивала тебя до конца моих дней. Пусть все добрые
люди запомнят этот день как самый несчастливый. Пусть о нем нико-
гда не упоминают, разве лишь в проклятиях, и да будут прокляты те, кто
сотворил сие несчастье, и да будут прокляты мои глаза, видевшие твою
смерть. Возлюбленная Памела, отрублена мудрая голова, убито тело,
которое было живой книгой добродетели. Милая Памела, зачем ты по-
кинула меня в гнездилище порока и несчастья? Пока ты жила, ты и мне
давала силы жить и надеяться. О Памела, я больше чтила тебя, чем нашу
мать, и любила тебя сильнее, чем себя. Никогда мне не лежать рядом с то-
бой, никогда нам не купаться в одной реке, никогда мне не видеть тебя
в наряде пастушки. Ты ушла! Л как же теперь я? Памела мертва, а я живу?
418
О боже... — Филоклея опять лишилась чувств, и прошло много времени,
прежде чем удалось вернуть ее к жизни. — Ах, злые женщины, если вы
дали мне столько смертей, то уж не мучайте меня жизнью, ради бога, по-
звольте мне уйти и больше не омывайте руки моей кровью. Позвольте мне
последовать за Памелой, как я всегда следовала за ней. Ах, Памела, меня
не пускают к тебе. Но если они сдержат свое обещание, мы скоро встре-
тимся. Разве затем я родилась на свет, чтобы страдать и быть причиной
чужих страданий? Нет, пусть еще хоть тысяча несчастий выпали бы на
мою долю, лишь бы ты жила, моя Памела. Моя сестра Памела!
Так, подобно стенающей Филомеле, оплакивала Филоклея неправед-
ную казнь своей сестры, и если она не пробудила в закосневших во зле
мучителях жалость к себе, то надоела им своею тоской, поэтому, оставив
немногих следить, чтобы она не сотворила что-нибудь с собой, остальные
ушли держать совет с Цекропией, как им с выгодой использовать крова-
вое преступление.
Глава двадцать вторая
Одна из прислужниц, которая обычно присматривала за Зелманой,
сообщила Цекропии, будто у нее есть много неопровержимых доказа-
тельств, что ни одна женщина на свете еще не любила другую женщину
так, как Зелмана любит Филоклею. Оттого-то отдернули занавесь с окна
Зелманы, чтобы она посмотрела спектакль, предназначенный Филоклее,
и испугалась за ту, которую любила; и тюремщики попали в цель, ибо
никогда еще им не доводилось видеть подобное отчаяние. Зелмана без-
мерно жалела Памелу, но неизмеримо больше испугалась за Филоклею.
Поэтому прислужнице пришло на ум посоветовать Цекропии, чтобы та
разрешила Зелмане поговорить с Филоклеей; если уж их связывает такая
страстная дружба, возможно, есть шанс убедить Зелману, чтобы она скло-
нила Филоклею на их сторону. Цекропии понравился совет прислуж-
ницы, поэтому она приказала ей договориться с Зелманой и клятвенно
заверить ее, что Цекропия намерена поступить с Филоклеей так же, как
с Памелой, если та не согласится удовлетворить любовь Амфиала; и при-
служница все в точности исполнила. Даже прибавила много разумных до-
водов (как она думала) в пользу Амфиала.
Однако Зелмана (до которой иногда доходили вести о жестоком обра-
щении с сестрами, а теперь еще ее собственные глаза были уязвлены каз-
нью одной из них) пребывала в смятении (ее храбрость восставала про-
тив разума и требовала силой добиться невозможного), и если ее желания
пока вынужденно подчинялись силе, то разум был затуманен желанием,
ибо слепая любовь и не знавшая поражений доблесть продолжали вопить,
что нет такой беды, от которой Зелмана не могла бы спасти Филоклею —
увы, разум, подчинившийся доблести перестал следовать своему назначе-
нию. Однако смерть (оказавшаяся способной привести в порядок мысли
Зелманы) теперь всерьез угрожала Филоклее и разве лишь немного ото-
двинулась во времени или пока была заменена другой смертью. Зелмана
задумалась и попросила немного времени на размышление. Ей была
дана одна ночь — ночь, которая и наполовину не была так мрачна, как
ее мысли, и наполовину не была так тиха, как это требовалось в смятен-
ном состоянии Зелманы. В конце концов он, который не пожалел бы и
тысячи жизней для Филоклеи, не мог смириться с тем, что она расстанет-
ся с одной, своей, и ради себя самой! Он, который с легкостью расстал-
ся бы со своей жизнью ради дела чести, был почти готов забыть о чести
ради жизни Филоклеи, ибо его сердце не желало подчиниться мысли о ее
смерти и с губ не мог сорваться вздох, согласный со смертью Филоклеи.
Всю ночь он размышлял о том, каким образом предотвратить то, что было
почти так же ужасно, как смерть, то есть брак Филоклеи с Амфиалом (как
вырваться из власти Цекропии), и не нашел ничего лучшего, как пред-
ложить Филоклее притворно уступить Цекропии, и в беседе с Амфиалом,
давая ему честные, но туманные обещания, потребовать освобождения
420
Зелманы, которая мечтала лишь о том, как бы поскорее вернуться в за-
мок с мечом, и ни мгновения не сомневалась в том, что она всех победит
и освободит Филоклею, так низко стояли в ее глазах здешние воины, на
которых она смотрела с высоты возведенной ею башни любви.
С этими мыслями, но со связанными руками Зелману привели к Фи-
локлее; и она уже знала, как будет себя вести, поэтому пришла к ней
с глазами и сердцем, жертвующими собой на алтаре скорби ради любви.
Она увидела привлекательно непривлекательную Филоклею... ту самую
Филоклею (которой великая печаль придала понурый вид), но со следами
жестоких испытаний на прекрасном лице, красота которого, несмотря ни
на что, казалась еще совершеннее. Когда Зелмана села рядом с Филоклеей
и прислужница удалилась (посчитав, что царевну будет легче уговорить,
если рядом не останется тех, кто слышал, как она клялась, что ее нельзя
уговорить), сначала заговорили их глаза и заплакали сердца — у печали
свой язык, и ей не нужен язык-переводчик. Наконец Зелмана нарушила
молчание, но ее красноречие было красноречием отчаяния, потому что
все заранее заготовленные слова были забыты.
— Возлюбленная Филоклея, в особенных обстоятельствах не следу-
ет... ах, я несчастная, дожила до такого дня... Беру в свидетели небо и зем-
лю, что ничего...
Ее сердце разрывалось, переполненное горем и негодованием, кото-
рые дыхание не могло перевести в слова. И тогда прелестная Филоклея,
которая уже один раз умерла в Памеле, очнулась под влюбленным взгля-
дом Зелманы и как будто поняла ее мысли:
— Мой Пирокл, я знаю, великая радость видеть тебя дана мне не про-
сто так; нет, я знаю, тебя заставили прийти ко мне и уговорить, чтобы
я спасла свою жизнь ценой своей чести. Вряд ли есть человек, который
меньше тебя годился бы на эту роль, но, может быть, именно ты до сих
пор сохранял мне жизнь.
— Твоя честь? — воскликнул Пирокл. — Боже упаси, чтобы я когда-
нибудь посягнул на нее. Но почему бы тебе не притвориться, пока время
или моя свобода не придут тебе на помощь... только в этом, если я сумею
одолеть смятение, я готов убеждать тебя.
— Зачем, мой Пирокл? Какая корысть в несчастливой жизни? Разве
я забыла Памелу? Неужели столь драгоценна жизнь пленницы? Разве
с моих губ смогут слететь слова любви, обращенные не к Пироклу?
Неужели мой язык предаст мое сердце и скажет, что я люблю не Пирокла?
Да и зачем мне это? Чтобы жить? О Памела, моя сестра Памела, зачем
мне жить? Только для тебя, Пирокл, я сохранила бы жизнь, но я знаю, что
для тебя мне не жить, а если так, неужели твоя любовь столь ничтожна,
мой Пирокл, что ты заставишь меня жить? Что же до притворства, мой
Пирокл, то я с моей простотой и по прямой дороге шла не без труда, как
же мне идти по извилистой? Нет, тут не сможет притвориться и искусни-
ца, ведь им нужен немедленный ответ, а потом немедленное подтверж-
дение согласия. О смерть, неужели ты так страшна? Нет, мой Пирокл,
я благодарна тебе и моя душа благодарна тебе, потому что моя любовь
421
к тебе — моя главная добродетель. Поэтому не мучай меня, милый
Пирокл, и не заставляй меня умирать во второй раз, испытывая мою ре-
шимость. Если я не смогу быть с тобой, я умру ради тебя. Только помни
обо мне, милый Пирокл, люби память обо мне, и, если мне позволено
просить так много, пусть я буду твоей последней любовью, потому что,
хоть я и недостойна тебя, самого лучшего из мужей, все же помни, что я
любила тебя достойной любовью.
Пирокл был так удручен (мудрость и добродетель Филоклеи были йе
менее совершенны, чем ее доброта), что слова стыдились покидать его
уста, словно искупая неспособность выразить мысли своего господина,
и в комнате воцарилось гробовое молчание, тем более безнадежное, что
безутешное.
Потом пришли служанки узнать о результатах Зелмановых усилий.
В их присутствии Зелмана вновь начала уговаривать Филоклею, правда,
сама не знала в чем, на самом деле мечтая лишь об отсрочке расставания.
Однако Филоклея мягко, но неколебимо отстаивала свое, в конце концов
наказав назойливую Зелману молчанием, так что та была вынуждена от-
ступить. Тем не менее, страстно мечтая о следующем свидании, она полу-
чила и его, и другие свидания, пока Цекропия не сочла их бесполезными
и не постановила следовать своим путем. Все еще желая выиграть вре-
мя (любыми средствами), измученная печалью и не знающая, когда мо-
жет случиться худшее, Зелмана, не в силах помочь Филоклее, заставила
свою, на весь свет прославленную доблесть отступить, бросилась к ногам
Цекропии и стала молить ее об отсрочке казни, пока она окончательно не
убедится в бесполезности своей затеи.
Казалось, Цекропия была тронута настойчивостью Зелманы, и пре-
красная Филоклея получила еще несколько мучительных дней, в течение
которых Зелмана тешила себя надеждой на спасение, особенно рассчи-
тывая на помощь Музидора, ибо не сомневалась, что он не мог остаться
равнодушным к происшедшему. Но однажды утром, когда усталое тело
украло немного сна у бдительного разума, Зелману разбудил шум, и она,
вспомнив о своих опасениях, бросилась к окошку в залу (шум доносил-
ся с этой стороны) и увидела (окошко не было занавешено после казни)
на эшафоте шесть или семь человек и золотое блюдо, все в крови, а на
нем голову прекрасной Филоклеи. Это было так ужасно, что Пирокл не
сразу поверил своим глазам; он прижался лицом к окошку, да, это была
Филоклея, прекрасная и словно живая, с сияющими, как прежде, гла-
зами. Когда же ему показалось, что он заметил в них движение, у него
мелькнула мысль, что смерть прибавила им красоты, столько прелести и
доброты было во взгляде Филоклеи.
Не жалость, не отчаяние, не печаль, а ярость предсмертной агонии
завладела Пироклом, и он крикнул:
— О деспотичное небо, предательская земля, слепая судьба, как мог-
ла без суда свершиться эта расправа? Как вы стерпели это? Неужели ни-
кто не управляет этим миром? А если управляет, то пусть он ниспошлет
на меня все беды земли и посмотрит, стану ли я от этого несчастнее, чем
422
теперь. Разве такая судьба была уготована ее красоте? Разве об этом я мо-
лился? Отвратительна рука, совершившая сие; мерзок дьявол, повелев-
ший совершить сие; проклят свет, осиявший сие! Но если проклят свет,
что же тогда мои глаза, видевшие это? Я видел мертвую Филоклею, и я
еще жив? Я был жив и не спас ее, я всего лишь говорил о ней. И я все еще
говорю?..
С этими словами, увлекаемый безумием ярости и не имея другого
способа покончить с собой, Пирокл разбежался, чтобы изо всех сил уда-
риться головой о стену. Но он поспешил и оттого промедлил. В последний
момент он споткнулся и удар вышел не таким сильным, чтобы убить его,
но достаточно сильным, чтобы он упал и лишился чувств, утешившись
своим ушибом, ибо перестал что-либо чувствовать.
Когда же он пришел в себя, то услышал или ему показалось, что он
услышал клич: «Месть, месть!» Однако он не понял, был это добрый ан-
гел, желавший спасти его от противоестественного самоубийства или его
заблудившиеся чувства озарились желанной мыслью, а так как из-за сла-
бости Пирокл не был уверен в себе, то решил, что ему это послышалось.
Тем не менее его добродетель очнулась, и с нею ее доблестный слуга-гнев,
и они удержали его от гибели, воззвав к его разуму и мужеству, умоляя
сначала убить мужчину, женщину и ребенка, которые связаны кровными
узами с теми, кто совершил жестокость, а потом сравнять с землей замок
и возвести пышную гробницу для ее сестры и еще более пышную для нее,
после чего исполнить свое желание и умереть на могиле возлюбленной.
Решив так, Пирокл, на время забыв о смерти, стал думать о том, как ему
вырваться из тюрьмы, чтобы совершить задуманное, и вновь подошел
к окошку, чтобы взглядом прикоснуться к любимой, но не увидел ничего,
кроме эшафота, покрытого красной тканью, и ни одного человека рядом;
он оплакивал свое несчастье наедине с самим собой.
Тут горе вылилось из его сердца, растеклось по всему телу, объявило
о своей власти стенаниями и слезами и выплеснулось наружу более сдер-
жанной печалью.
— Ах, зачем так быстро убрали с моих глаз ее голову? О мои глаза, мо-
жет быть, они завидуют совершенству вашей печали? В самом деле, теперь
слезы всем заменят глаза, и горе мне, если хоть один человек превзойдет
меня в скорби! Я заклинаю вас, мои чувства, помните отныне лишь об-
раз печали, и позор вам, если вы пожелаете покоя. Несчастные глаза, вы
видели слишком много, чтобы захотеть для себя света. Несчастные уши,
никогда больше не слышать вам музыку ее голоса. Несчастное сердце, ты
несчастно, потому что дожило до такого несчастья. Земля, ты совершила
худшее из зол и будь ты проклята, ты уже проклята, потому что хуже все-
го тебе самой. Исчезла Красота — так пусть теперь тебя украшают лишь
глупые рожи. Овдовевшая Музыка, пусть твоими мелодиями отныне
станут вопли и рыдания. Осиротевшая Добродетель, расправь крылья и
лети следом за ней на небеса, здесь нет для тебя места. Ах, зачем я жил?
Зачем любил? Чтобы умереть в злосчастье? Чтобы меня возненавидело
небо? Ненавидь и не жалей, потому что самый страшный удар ты уже
423
нанесло мне. Прекрасная Филоклея ушла из жизни унесла с собой мою
любовь, но оставила мне свою любовь, и я, несчастный, живу, я живу,
чтобы медленно умирать, пока исполненная месть не позволит мне уме-
реть, и тогда я умру, моя Филоклея, мое сердце клянется в этом. Конечно
же, он не смотрел на тебя, тот, кто нанес тебе жестокий удар, потому что
человеческие глаза не выдержали бы, глядя на такую красоту, повержен-
ную таким несчастьем. Ах, зачем они разлучили такую головку с таким
телом? Всякое другое тело было бы недостойно такой головы, и всякая
другая голова была бы недостойна такого тела. И все же если бы я мог
попрощаться с нею, если бы мог поцеловать умирающие уста! Где ты,
Надежда, которая обещает не покидать человека, пока он жив? Скажи,
на что еще надеяться? Нет, лучше скажи, на что надеяться мне? Желать
власти, которая не имеет пределов? Но зачем? Она ушла, и с нею ушли
мои надежды и мои желания. Любовь, стыдись называться Любовью: же-
стокая Ненависть, невыразимая Ненависть взяла над тобою верх. Кто же
теперь оправдает твое тиранство, оправдает твою страсть? О жестокий
развод для самого прекрасного супружества, какое только было в при-
роде! Филоклея умерла, и с нею умерли ее доброта, ее красота, ее со-
вершенство. Филоклея умерла, но жизнь, не стыдясь, продолжается.
Филоклея умерла: О смертоносное слово, ты несешь в себе величайшее
из всех несчастий. Но ты будешь счастливым словом, когда тебя скажут
обо мне, а этого теперь недолго ждать.
Глава двадцать третья
Вздохи преграждали дорогу словам, слезы топили вздохи, ярость осу-
шала слезы, и Пирокл долго сидел, погруженный в раздумья, а на самом
деле в свое несчастье, много раз он бросался на пол или на кровать, под-
нимался, ходил до изнеможения, когда любое движение вызывало уста-
лость, а отдых — отвращение. Он не ел и не спал, весь день и всю ночь
оплакивая Филоклею, вздыхая по Филоклее, взывая к Филоклее, пока
(в то время он лежал на кровати) не услыхал в рассветной полутьме какое-
то движение в своей комнате, похожее на шорох платья, и тогда он серди-
то спросил, кто и зачем явился к нему.
— Несчастная женщина, — услыхал он в ответ, — желает тебе долгих
лет жизни.
— А я желаю тебе скорой смерти за твое проклятие.
— Недобрый ответ, хоть и недостоин твоего ума, естествен для тво-
его поведения. Почти всю ночь я слушала (ибо была тут, но ты не заме-
чал меня, так далеко твой разум разошелся с твоими чувствами), но не
слышала Зелману в Зелмане, не слышала ничего, кроме жалких причи-
таний, более подходящих деревенской няньке, нежели столь знаменитой
даме.
— О боже! — вскричал Пирокл. — Твое счастье, что ты не мужчина!
Сказать такое! Я безутешен и говорю тебе, что всегда буду безутешен, как
бы ты и остальные ни желали видеть меня веселым.
— И все же, — сказала дама, — не исключено, что Филоклея, о кото-
рой ты так сокрушаешься, не умерла.
— Я хотел бы умереть вместе с нею.
— Твоя страсть безумна. Как будто ты сможешь быть ближе к ней,
если умрешь, когда она жива, чем ты есть, живой, к ней, мертвой. И если
даже она умерла, то она родилась, чтобы умереть. О ком ты убиваешь-
ся? Уж верно, не о ней, которая все равно должна была рано или поздно
умереть, не исключено, прожив совсем недолго. Мне кажется, ты больше
сокрушаешься об этом мире, чем о Филоклее.
— О, благородные сестры, теперь, когда вас, возвышавших женский
род, больше нет, что осталось остальным, кроме болтовни и хозяйства?
— Тем не менее я еще немного побеспокою тебя.
— Прошу тебя, сделай это, — сказал Пирокл. — В оставшийся мне
короткий срок я уже не жду ничего, кроме несчастья и муки, и с готов-
ностью принимаю тебя как одну из них.
— Что это ты, — откликнулась дама, — себе воображаешь? Даже са-
мым крепким замкам и старым царствам рано или поздно приходит ко-
нец, и только твоя Филоклея (потому, что она твоя) должна жить вечно?
На самом деле ты оплакиваешь себя, ибо потерял подругу, ведь не мо-
жешь же ты оплакивать ту, которая спасла свою честь и оставила другим
несчастья этого мира?
425
— О, женская философия, детское недомыслие! Как будто я оплаки-
ваю себя, не имея на то причины! Да разве я не потерял больше, чем лю-
бое царство, больше, чем свою жизнь?
— Ах, успокойся. Создав этих сестер, природа не забыла свое ис-
кусство, и ты найдешь еще много женщин, во всем превосходящих твою
Филоклею, и может быть (когда откроешь глаза), ты будешь любить их
сильнее, чем ее.
Тут Пирокл, отвергнув учтивость, вскочил с кровати и вознамерился
побить даму, но, оказавшись рядом (утро тем временем отвоевало поле
сражения у тьмы), он увидел или решил, что видит лицо Филоклеи: тоже
очарование, та же прелесть, та же красота, — отчего впал в священный
ужас и упал к ее ногам.
— Благословенный ангел, — проговорил Пирокл, — ты хорошо сде-
лал, что принял ее облик, коли тебе пришлось унизить себя до земно-
го обличья, ибо более совершенного обличья тебе все равно было бы
не найти. Ах, заклинаю тебя ее красотой, любимой мною, ответь, зачем
сие небесное создание, чей облик ты принял, было предназначено не-
бесами для столь безвременной кончины? Зачем восторжествовала не-
справедливость? Неужели Филоклея явилась в этот мир, чтобы вскоре
покинуть нас? Почему бы ей не жить долго и не учить мир совершен-
ству?
— Не обманывай себя, — ответила дама, — я не ангел. Я — Филоклея,
та самая Филоклея, которая любит тебя и любима тобою.
— Если так, — недоверчиво произнес Пирокл, — и ты в самом деле
душа Филоклеи, ты правильно поступила, сохранив ее облик, потому что
небесам не под силу создать более прекрасное тело. Но зачем ты поки-
нула блаженный престол и вернулась в это несчастливое место ко мне,
несчастному, а не сделала так, чтобы я мог прийти к тебе и вечно зреть и
любить твою красоту? Тебе ведомо, я знаю, как мне желанна смерть, но я
отсрочил ее, чтобы по чести воздать бесчестным убийцам.
— Милый Пирокл, я — твоя Филоклея, — повторила дама, — я жива,
я не убита, хоть ты и поверил в казнь, так что утешься.
С этими словами она протянула ему руку.
Однако его смущенный рассудок воспринял ласковое прикоснове-
ние ее руки как божественной прикосновение, и Пирокл лишь сильнее
укрепился в прежнем заблуждении, пока Филоклея своими пылкими за-
верениями (желая убедить его) не заставила его уступить, с сомнением,
но уступить, постепенно поддаться утешениям. Осознав, что Филоклея
жива, он не сумел сдержаться.
— Но как же мне теперь верить моим глазам? Или ты явилась ко мне
лишь затем, чтобы спасти меня от отчаяния? Ведь я видел казнь прекрас-
ной Памелы, я видел твою голову (вершину искусства природы) на зо-
лотом блюде, слишком бедном алтаре, клянусь богом, для такой драго-
ценности. Неужели я видел это, любовь моя, и ты все-таки жива? А если
ничего не было, как мне верить моим глазам? Но если не верить, то как
принять благословенную весть, которую они теперь даруют мне?
426
— Мой Пирокл, правда то, что ни я, ни моя сестра не были казне-
ны, хотя хитроумная Цекропия сделала все, чтобы мы в это поверили.
Напрасно растратив свое злокозненное красноречие и лестью не прину-
див ни одну из нас уступить ее сыну, Цекропия поняла, что ей не поко-
лебать нашу решимость ни красноречием (ни богатыми подарками), ни
пытками, которые она потом предпочла, ибо подвергла наши тела жесто-
ким истязаниям, и решила убедить меня в смерти Памелы, а Памелу —
в моей смерти в надежде, что тогда мы забудем о добродетели. Сначала
мне показали печальный спектакль казни моей сестры (как я тогда дума-
ла), хотя это была Артесия, та самая, которая искусно заманила нас в беду.
По правде сказать, мне жаль бедняжку, хотя она справедливо наказана
за двойную ложь. Узнать ее было нелегко, тем более что на эшафот она
поднялась в платье моей сестры (которое у той отобрали под предлогом,
что принесут другое). А когда и меня, благодаря тебе, мой Пирокл, не уда-
лось одолеть ни силой, ни страхом, Цекропия повторила спектакль для
Памелы и привела на эшафот меня, а там (заставив меня просунуть голо-
ву в отверстие, заранее проделанное в полу) надела мне на шею золотое
блюдо без дна и как будто политое кровью; и ты видел, как я играла роль
умершей Филоклеи (одному богу ведомо, как хотелось мне тогда и вправ-
ду умереть). Я стояла, поднявшись на цыпочки, и все равно едва могла
дышать, не то что говорить; продержи они меня так немного дольше,
и меня бы задушили, не имея намерения обезглавить. Когда я вернулась
в свое узилище, то мою благородную сестру (из-за ее великой любви
ко мне) нашли в таком горе, что она поклялась своим мучителям пре-
терпеть любую жестокость, но больше не принимать пищу из рук убийц.
Таким образом, найдя нас в отчаянии и едва ли способными прожить еще
хоть несколько часов, причем Памела была в еще худшем состоянии, чем
я, ибо ее сильное сердце тяжелее переносило подобные гнусности, «до-
брая» Цекропия (жалея нас, подобно тому как крестьяне жалеют птиц,
откармливая их на убой) раскрыла перед нами свой обман и позволила
навещать друг друга. Нашу радость ты, который испытал то же самое, мо-
жешь представить, и лишь одно омрачало нас: жизнь нам сохранили не
для счастья, поэтому нас, наверно, надо пожалеть, а не поздравить.
Что до меня, то я не сомневаюсь: это всего лишь отсрочка, чтобы по-
сильнее испугать нас будущими мучениями. Правда, одна из моих страж -
ниц внушает мне, будто сие исходит от нашего милого братца Амфиала,
будто, узнав о плохом обращении с нами, он призвал матушку к своему
ложу, с которого еще не поднимается из-за ран, и ее любовью к нему умо-
лял и заклинал обращаться с нами по-доброму, обещая всем, что только
приходило ему в голову покончить с собой, если я буду терпеть какие-
нибудь неудобства, кроме несвободы. Добрая женщина поклялась мне,
что он убьет свою мать, если узнает о ее жестокости, но Цекропия все
держала в тайне от него. Он же случайно услышал чей-то разговор, в ко-
тором упоминалось мое имя и (от избытка, по-видимому, благородной
любви) решил позаботиться о нас, поэтому-то я смогла прийти сюда.
Но мне слишком хорошо известно их хитроумие (они ничего не упустят,
427
чтобы купить мою честь), чтобы я поверила хоть одному их слову, и, мой
милый Пирокл, меня не оставляют мысли о худшем, так что оно не за-
станет меня врасплох.
Все же, должна сознаться, я рада, что урвала у смерти и несчастья ра-
дость повидать сестру и еще большую радость повидать моего Пирокла.
Вот так я оказалась в твоем узилище и с радостью, о боже, услышала, как
ты сокрушаешься о бедной Филоклее! Подумать только, я, живая, слы-
шала, как меня оплакивают! И кто? Мой милый Пирокл. Теперь я знаю;
что и смерти не под силу забрать у меня любовь! О, мой Пирокл, ты воз-
наградил меня за все страдания, благодаря тебе весела моя печаль, и я
рада всем несчастьям, коли желанна тебе. Ах, как я жалела тебя, когда
ты жалел меня. И мне не хотелось останавливать тебя, я даже несколько
раз поплакала вместе с тобой, столь кроткими были твои стенания, что
я тоже стенала, словно сама глядела, как умирает бедняжка Филоклея.
В конце концов я заговорила с тобой и постаралась развеять твою печаль,
но ты чуть не побил меня.
Филоклея, хотя в глазах у нее стояли слезы, чарующе улыбнулась,
испытывая то ли грустную радость, то ли веселую печаль, словно легкий
Зефир ронял на прекрасные цветы редкие апрельские дождинки. Однако
Пирокл, переполненный (одновременно) надеждой и отчаянием, не знал,
настроить ему разум на радость или на печаль. И не найдя полного осно-
вания для той и для другой, отдался на волю своему воображению, а свое
воображение подчинил слуху и зрению. Он видел Филоклею живой и ра-
довался, он видел ее плачущей и печалился, он слышал ее утешительные
речи, и для него не было ничего веселее этого, он слышал, как она рас-
суждает о своей смерти, и для него не было ничего печальнее этого. Когда
же он немножко перевел дух и стал вместе с Филоклеей размышлять о ее
положении, то принялся успокаивать ее тем, что буря будто бы осталась
позади, что их мучители уже сотворили самое худшее, и хуже этого им
ничего не измыслить и не вообразить, а если бы они в самом деле хотели
убить сестер, то уже исполнили бы это; но вместе с тем он искренне со-
ветовал Филоклее, сопровождая свои советы страстными мольбами, не
лишать надежды Амфиала, чтобы добиться свободы для Зелманы, обещая
ей при этом все, что влюбленный храбрец дерзал обещать себе самому.
Глава двадцать четвертая
Однако тот, кто пожелал бы точнее передать эти речи, должен был
бы живописать светлыми красками любви, кладя на них глубокую тень
печали и ища красоту в слезах где-то между надеждой и страхом. В конце
концов Филоклея пожелала получить поцелуй Пирокла, а потом отпра-
вилась (ибо путь был свободен) к сестре. Некоторое время она оставалась
с Памелой, и они укрепляли друг друга (Филоклея умеряла справедли-
вое негодование Памелы, а Памела восхваляла прелестную скромность
Филоклеи), когда пришел Амфиал, который, подслушав разговоры о Фи-
локлее, никак не мог успокоиться, хотя никто (больше опасаясь гнева
его матери, чем его самого) не открыл ему правду; многих слуг он посы-
лал разузнать о Филоклее, но все рассказывали ему то, что было угодно
Цекропии, пока его сердце (переполнившись печалью), внушая ему все
больше и больше беспокойства, не побудило его, с трудом переждав ночь,
рано утром подняться с ложа, несмотря на раны (то есть несмотря на
опасность для себя самого), одеться и с выражением величайшей скорби
на лице и пойти к сестрам. В покоях Памелы он едва смог преклонить ко-
лена и попросил простить его, если обращение с царскими дочерьми в его
замке не соответствовало их достоинству и его долгу. Оправдываясь в ме-
лочах, бедняга понятия не имел о том, что происходило на самом деле.
Гордая Памела, смертельно возненавидевшая Лмфиала за боль, при-
чиненную ей и ее сестре, едва заставляла себя смотреть на него, не говоря
уж о том, чтобы слушать его оправдания, и потому перебила его на по-
луслове:
— Ты, предавший собственную кровь, нарушивший клятвы любви и
верности, не оскверняй наш слух своими оправданиями, будь и впредь
таким же жестоким, какими вы были до сих пор, ты и твоя мать. Что до
меня, то, поверь, я говорю и за сестру, ибо знаю, что она думает, — я не
больше мечтаю о спасении, чем о твоей гибели.
Пораженный ее словами, Амфиал с робкой печалью поглядел на
Филоклею:
— И ты, прекрасная госпожа, тоже мечтаешь об этом?
Прелестная Филоклея заплакала, потому что любила его как близко-
го родственника и любила его любовь, хотя не могла полюбить его как
мужа. По своей доброте она оплакивала совершенные им преступления и
из жалости к его судьбе не сразу смогла заговорить, но ее ответ был таким
же, как ответ сестры. Ничего не сказал Амфиал, лишь тяжело вздохнул,
поднялся с колен и покинул сестер, после чего под угрозой пыток заста-
вил одну из прислужниц рассказать ему, что пришлось вытерпеть царев-
нам. Амфиал только и смог вымолвить: «Боже мой!» А больше он ничего
не сказал (потому что слова тяжким грузом легли ему на сердце), и у него
не было нужды в судье, так как он сам приговорил себя к жесточайшему
наказанию.
429
Пребывая в ужасном отчаянии, какое только доступно виноватой со-
вести, своим видом наводя страх на слуг и зная, что его мать находится
в верхних покоях, Лмфиал отнял меч у одного из воинов и, не позволив
никому встать у него на пути, бросился к ней, забыв обо всем, кроме
своего гнева. Тем временем Цекропия обдумывала, как распутать затя-
нувшийся узел, и решила на людях как можно лучше обхаживать своих
племянниц, но в тайне отравить их, потому что если невозможно сломить
их волю, то нет иного способа облегчить муки влюбленного сына.
Увидав меч в руке Амфиала и выражение его лица, еще более устраша-
ющее, чем обнаженный меч, Цекропия вспомнила о своих преступлениях,
но все же из-за известной всем сыновней почтительности рыцаря не очень
испугалась, пока тот не подошел к ней совсем близко и не крикнул:
— Проклятая, только такое несчастное чудовище и может быть твоим
сыном!
Тут Цекропию настиг страх, ей показалось, будто Амфиал хочет уда-
рить ее (хотя на самом деле он собирался убить себя в ее присутствии),
и она попятилась, не заметив, как оказалась на лестнице; она потеряла
равновесие и покатилась вниз, чтобы принять поцелуй смерти, но и тут
счастье обошло ее стороной, ибо она умерла не сразу и перед смертью,
в адской агонии (в отчаянии, но не в раскаянии), призналась, что имела
намерение дать сестрам яд, поняв, как несчастен ее сын (которого она
любила). С радостью предрекая Цекропии близкую смерть, никто из при-
ближенных не пожелал сохранить ей верность.
После неожиданной смерти Цекропии, как это ни было невозможно,
горе благородного Амфиала стало еще тяжелее. Едва он увидел, как она
падает с лестницы, от его ярости не осталось и следа.
— Разве не был я несчастен? Почему мне привелось стать еще и па-
лачом матери? Какой бы порочной она ни была, наказание не моих рук
дело! Ах, Амфиал, злополучный Амфиал, ты предал смерти своего лучше-
го друга Филоксена, который был тебе ближе всех, и его отца, который
заменил тебе родного отца. Ты дошел до того, что своими руками убил
прекраснейшую, чистейшую Парфению. На твоих глазах погиб защи-
щавший тебя Йемен, но и ему ты не помог. Ты был трусом, когда на глазах
своей дамы потерпел поражение от неизвестного рыцаря. Ты поднял ору-
жие против своего законного государя и своего дяди. Благородные дамы
назвали тебя, и справедливо, предателем. Ты принес смерть той, которая
дала тебе жизнь. Злополучный Амфиал, ради тебя и твоим именем му-
чили Филоклею. О небеса, Филоклею мучили в замке Амфиала, где все
подвластны Амфиалу! Мучили? О, боль моей души, Филоклея, тебе при-
чиняли боль в замке Амфиала, а он до того стремится к наслаждениям
жизни, что все еще жив! Наверно, эта рука, привыкшая нести зло, думает,
будто для нее слишком большая честь очистить от меня землю, а может
быть, грязная рука, ты способна убивать лишь женщин и боишься уда-
рить мужчину? Не бойся, трусливая рука, ведь ты убьешь всего-навсего
трусливого предателя, напротив, возрадуйся, ведь ты убьешь того, кого
ненавидит Филоклея.
430
С этими словами Амфиал разорвал на себе одежды и, уперев руко-
ять меча в пол, грудью бросился на него. Однако меч оказался добрее
к нему, чем он сам к себе, и, скользнув по полу, лишь немного задел его
сбоку, но, когда Амфиал упал, открылись другие раны, и кровь хлынула
из них с такой силой, что удержала бы на плаву и ладыо Харона, которого
он молил прийти за ним. Из разорванных одежд Амфиала упали на пол
ножи Филоклеи, которые Цекропия, когда-то отняв у нее, отдала сыну и
которые Амфиал с тех пор носил возле сердца. Теперь, заметив их рядом
(поднять меч он не мог из-за слабости), Амфиал взял один нож в руки
и осыпал его поцелуями, а потом с такой же страстью полил слезами рас-
каяния и злости.
— О милые ножи, вы явились вовремя, чтобы отомстить мне за муки,
причиненные вам, за то, что разлучил вас с вашей госпожой и держал при
себе, не получив на то ее разрешения. Будьте же свидетелями (вы може-
те, потому что всегда были возле моего сердца), что я мечтал, как ваша
госпожа будет жить в моем бедном замке, окруженная почетом, а теперь
ее уста осудили меня на смерть. Ах, другую, совсем не такую надежду
подавала мне страсть, но Филоклея по-своему распорядилась мной. Ах,
Филоклея! — Слезы хлынули у него из глаз, словно вознамерясь смыть
кровь. — Если бы ты знала, как я люблю тебя. Недостойный, несчастный,
лживый, я не лгал тебе. И все же я предатель, коли желаю оправдать осуж-
денного! Мне больше нечем услужить тебе, разве только наказать твоего
обидчика; вот, милый нож, и выполняй приказ твоей благородной гос-
пожи.
Амфиал принялся колоть себя ножом в грудь и в горло, пока кровь
из старых и новых ран не доставила его к безразличным воротам смерти.
В это время один из его слуг (не решавшихся войти из страха перед
гневом хозяина) все же открыл дверь (предпочтя почтительную любовь
робкой почтительности) и увидел, что Амфиал плавает в луже крови —
печальное зрелище, в котором победа означала смерть победителя, а са-
моубиение — триумф в его сражении с самим собой. Бездыханный рыцарь
и ужасное действо устрашили всех, кто вошел в покои следом за слугой;
а вскоре печальная весть распространилась по всему замку, и множество
людей всех возрастов сбежались взглянуть на любимого рыцаря, пони-
мая, что их безопасность изошла его кровью и честь умерла его смертью.
Глава двадцать пятая
Когда печальная весть дошла (долетела) до ушей Лмфиалова друга,
гордого Анаксия, который к тому времени более или менее оправился от
ран, но еще ни разу не покинул свои покои, считая недостойным разгова-
ривать с кем-либо, кроме Амфиала, то его охватила жалость, нет, скорее
его подчинил себе (гордое сердце не знает жалости) гнев на Амфиала за
то, что рыцарь, удостоенный чести называться другом Анаксия, мог из-
брать такую смерть. Он вышел из покоев с лицом, красным от ярости и
гордыни, с широко открытыми глазами, и всех, кто попадался ему на-
встречу, подозрительно осматривал с головы до ног. Ступал он так, слов-
но ждал, что земля содрогнется, не снимал руки с меча; говорил корот-
ко, отвечал презрительно, братьям приказал от его имени принять при-
сягу у всех воинов и жителей города-крепости и с них тоже взял клятву
отомстить Базилию за смерть Амфиала, после чего отправился в покой
Амфиала, призвал туда всех лекарей и хирургов, поглядел на рыцаря и
поклялся повесить всех, если его не поставят на ноги. Однако лекари,
осмотрев раны Амфиала, упали к ногам Анаксия и уверили его, что раны
смертельные и им неведомо средство продлить Амфиалу жизнь больше,
чем на два дня. В нерешительности стоял Анаксий, раздумывая убить ле-
карей или оставить в живых, выбирая между собственной яростью и их
непокорностью. Однако обеих сестер, ставших причиной гибели его дру-
га, он пообещал убить собственными руками, когда явились его братья и
сообщили, что без особых трудностей привели всех к присяге, ибо одни
(их было большинство) боятся доблестных братьев и их сильного войска,
другие (их тоже было немало) принимали слишком деятельное участие
в бунте против Базилия и не хотели оказаться в его власти, а несколько
человек, посмевшие пойти против большинства, убиты на месте.
Кроме того (и это было главным), братья сообщили Анаксию, что
в замок с многочисленной свитой прибыла царица Елена, почтительно
ожидающая позволения повидать Амфиала, которого она искала по все-
му свету, но не нашла, а недавно возвратившись домой, узнала и об осаде,
и о поединке с неизвестным рыцарем, и о тяжелом ранении Амфиала.
Преисполненная любовью (о которой она была готова объявить всему
свету, несмотря на неблагодарное поведение Амфиала), она попросила и
получила согласие Базилия провезти через его лагерь раненого Амфиала,
ибо желала показать его самому искусному хирургу, который жил в ее
царстве, но был так стар, что уже не мог путешествовать, однако дал сво-
ей госпоже мази, которые должны были спасти рыцаря от смерти в пути;
а Базилий, хоть Амфиал и попадал таким образом в его руки, обещал от-
пустить племянника с миром — то ли из-за природной доброты, возоб-
ладавшей над обидами, то ли (что более вероятно) из желания отправить
его подальше от своей страны и дочерей. Обо всем этом Ликург рассказал
брату, передав настоятельную просьбу Елены допустить ее к Амфиалу,
432
чтобы она могла хотя бы попрощаться с ним. Злясь на всех женщин
(из-за ненависти, вспыхнувшей в нем к сестрам, которых он считал убий-
цами Амфиала), Анаксий все же уступил брату, и бедняжка Елена, пред-
полагая худшее, но все еще сгорая от страсти, пошла, едва переставляя
ноги, к Амфиалу, который с каждым вздохом приближался к смерти.
Когда Елена увидала его в столь жалком состоянии, превзошедшем
самые жалостливые картины, которые рисовала ей печаль, она опусти-
лась на колени. Глаза отказались ей служить, и, не в силах вынести по-
добное зрелище, она, лишившись чувств, упала Амфиалу на грудь, слов-
но желая умереть от его ран. Когда же ее дыхание, истощившись вза-
перти, отворило тюремные двери — прекрасные уста и сознание вместе
со слугами-чувствами возвратилось в отворенные природой покои, вме-
сте с дыханием вырвались на волю и печальные слова:
— Ах, Амфиал, что за ужасная беда! Я так долго искала тебя по все-
му свету, а нашла — и вот! Не думала, что мои глаза будут смотреть на
Амфиала и горевать оттого, что я заполучила тебя без славы и обнимаю
без радости. Как часто в своих молитвах я просила бога, чтобы ты был
рядом! И вот несчастье приблизило тебя ко мне! Часто, ах, как часто ты
пренебрегал моими слезами, а теперь, мой милый Амфиал, тебе не спря-
таться от них, ведь моим глазам только и остается, что оплакивать тебя,
потому что тебе больше никогда не дарить им радость и не отлучать их от
печали. Если бы ты любил их, то был бы сейчас жив. Горе мне, ибо твое
благородное сердце полюбило ту, которая ненавидит тебя, и возненави-
дело ту, которая тебя любит! Почему моей верности оказалось не под силу
скрыть мои недостатки, ведь я только и мечтала, что отдать тебе мой трон
и стать твоей служанкой? Это все, к чему стремилось мое честолюбие. Но
ты пренебрег мной, чтобы, о несравненный, служить той, которая пре-
небрегла тобой. Ах, Филоклея, где бы ты ни была, прости, если неправа
моя измученная душа; ты, верно, и вправду совершенство (если он лю-
бил тебя), но безжалостность к тому, чьей виной были одни достоинства,
нельзя простить. О боже, почему, почему ты отвергла достойного тебя?
Я бы пошла в служанки к тебе, чтобы мое поражение стало твоим сча-
стьем, лишь бы он не умирал. Сколько нелегких дорог я прошла следом
за тобой, Амфиал, жалуясь на твою недоброту! Ах, как бы мне хотелось,
чтобы ты жил, даже недобрый ко мне! Ах, почему ты не приказываешь
мне склонить Филоклею к любви? Кто смог бы (никто) лучше меня рас-
сказать ей о твоих совершенствах? Кто смог бы лучше меня пробудить
в ней жалость к тебе, ведь у меня есть не только слова, но и слезы, вы-
званные тобой, и ты не изменил бы своему пренебрежению да еще вос-
пользовался бы моей службой.
Елена покачнулась, испустила смертельный стон и склонилась к лицу
Амфиала, чтобы покрыть его поцелуями.
— О, я несчастная, — крикнула она, — лишь из рук несчастья смогла
я принять радость!
Елена была готова вновь удариться в слезы и причитания, но к ней
подошел мудрый пожилой господин и напомнил царице о ее звании,
мудрости и чести, добавив при этом, что разумнее было бы доказать свою
любовь, увезя Амфиала к знаменитому хирургу, тем временем дав ему
привезенные лекарства, чем изливать свои чувства в бесполезных стена-
ниях. Царица послушалась его, хоть и была в смятении чувств, и оставив
с Амфиалом лекарей, чтобы они одели его для неблизкой дороги, сама
отправилась к Анаксию, склонилась перед ним с почтительностью, лю-
безной его гордыне, и сказала, что, поскольку здешние лекари отказа-
лись от Амфиала, она хочет увезти его с собой. Если ему все равно грозит
смерть, то пусть он умрет в ее царстве, где умрет в любящих объятиях и
где над ним будет воздвигнута высокая гробница, достойная ее любви
и его добродетелей. Еще она попросила Анаксия, так как ей предстояло
пересечь земли врагов (где она больше доверяла доблести Анаксия, не-
жели слову Базилия), сопроводить ее до границы. Если Анаксия тронули
ее речи, то окончательно его убедила эта просьба о помощи, которую он
тотчас обещал исполнить, если только господин его меча не расстанется
с жизнью. Счастливая в несчастье, услышавшая от своих лекарей столь
же мало утешительного, сколь от чужих, Елена приказала со всеми предо-
сторожностями перенести Амфиала в свои носилки, и тут все, кто оказал-
ся поблизости, принялись плакать и рыдать, словно впервые теряли сво-
его господина. Если бы они не боялись Анаксия, то скорее взбунтовались
бы, чем разрешили увезти Амфиала.
Анаксий с самыми избранными рыцарями ехал впереди носилок,
и люди боялись даже плакать, хотя едва не плакали от страха; но каждый
старался воздать Амфиалу почести, так как это было позволено; одни, не
помня себя, бросались на землю, другие рвали на себе одежду, третьи по-
сыпали землей головы, а кое-кто даже наносил себе раны, кропя кровью
воздух.
Глава двадцать шестая
Печальную процессию сопровождали музыканты и певцы, которые
наигрывали печальные мелодии и пели печальные песни и были столь
искренни в своем горе, что даже те (если такие были), кто не горевал
о потере, начинали горевать, с состраданием глядя на прекрасного юно-
шу, который казался еще прекраснее, благодаря его великой славе и еще
славнее, благодаря его великой доблести, неизмеримо более великой,
благодаря его благородству. Он лежал неподвижно, томясь во власти
смерти, не ставшей ему утешением в его безутешном горе. Когда же но-
силки миновали ворота крепости, то все жители (кроме сопровождавших
своего господина), не смевшие идти дальше, заплакали как один, словно
у них были одна общая жизнь и одно общее горе.
Это настолько тронуло Анаксия (более склонного к мести, чем к кро-
тости), что он не медля, приказал братьям неотступно стеречь пленниц и
никого не пускать к ним до его возвращения, а к царевнам послал учти-
вого гонца с вестью, что он собственноручно, когда вернется, отрубит им
головы, чтобы послать их Базилию.
Гонец явился к царевнам, когда они, услышав о смерти Амфиала, вме-
сте с Зелманой обсуждали, что им теперь делать. И поскольку ожидание
смерти становится мучительнее, когда решимость ослаблена надеждой,
то новая опасность, не опровергнув их неизменного решения, повергла
их в сомнение из-за изменившихся условий. Первой овладела своими
чувствами Памела и, заботясь о младшей сестре, сказала:
— Видишь, сестра, как много действий в нашей трагедии, похоже,
судьбе еще не надоело нас преследовать. Ну и что? Корабль не считается
проверенным на крепость, если он выдержал всего одну бурю. Вот и для
нас опять звучит рожок смерти, который, возможно, играет нам в послед-
ний раз; так давай извлечем выгоду из прошлых несчастий, в которых мы
научили себя желать смерти.
— Ты права, милая сестра, — откликнулась Филоклея. — Меня из-
мучила злая жизнь, и хотя мне не хватает мужества отвергнуть ее радо-
сти, все же моя слабость побудила меня сильно наскучить ее мучениями.
Должна признаться, мелькнувшая было надежда заставила меня взбун-
товаться. Даже в этой ужасной тьме мне видится обнадеживающий свет,
и я не могу сбиться с пути, если вижу впереди следы Памелы. Мне бы
лишь хотелось (о, если бы моему желанию было суждено исполниться!),
чтобы моя учительница была живой и увидела, как я хорошо выучила
урок.
— Разве это жизнь, моя Филоклея? — воскликнула Памела. — Нет,
нет, пусть приходит смерть и пусть наденет самую страшную маску, но
и в ней она не больше, чем пугало. Мне радостно видеть в тебе реши-
мость; но если земля не нуждается в нас, то пусть остается без нас. И толь-
ко (вздохнув, она помедлила), только (она наклонилась к уху Филоклеи
28*
435
и понизила голос) Музидор, мой пастушок, стоит между мной и смертью,
чтобы я не думала о ней, ведь я знаю, он не хочет моей гибели.
Филоклея тоже вздохнула, но ничего не сказала, лишь посмотрела на
Зелману, которая ходила по комнате из угла в угол с тех пор, как услыхала
угрозу Анаксия; а поскольку она была наслышана о нем, то не сомнева-
лась, что он исполнит угрозу, и прежнее беспокойство завладело ее мыс-
лями. Размышляя о том; как предотвратить неизбежное, Зелмана ушла
в свои мысли, ничего не говоря, да и не зная, что сказать теперь, когда им
вновь грозила неминуемая гибель. Однако они были вместе и радовались
хотя бы тому, что могли быть вместе: гордая Памела, нежная Филоклея,
печальная, отчаявшаяся Зелмана — отвергнувшие сон, который, как они
думали, скоро станет вечным.
Тем временем, благополучно проводив Елену, возвратился Анаксий,
хотя иначе и быть не могло. Многие рыцари из лагеря Базилия хотели бы
испытать на Анаксий свои силы и освободить царских дочерей, но на их
пути стоял Филанакс, получивший приказ Базилия, который умел держать
свое слово. Да и успевший подлечить раны Черный Рыцарь не знал о вояже
Анаксия. Он был занят тем, что собирал войско для освобождения дамы
сердца. Тем не менее Анаксий посчитал верность обещанию за трусость и
за еще одно подтверждение собственной доблести, поэтому, возвратившись
в замок, сразу же призвал к себе братьев и отправился (не смягчившись
сердцем) к пленницам, полный решимости собственными руками убить
сестер и послать их головы царю Базилию, правда, его братья (рассуждав-
шие иначе) попытались удержать его, но оставили уговоры из почтения
к могучему рыцарю. Едва Анаксий вошел в комнату, готовый разразить-
ся угрозами, его взгляд в первый раз упал на Памелу, которая, услыхав его
шаги и предвидя свою смерть, решила встретить его с царским величием,
сияние которого достигло его глаз, обдав его гордыню таким холодом, что
даже если гнев не мог так быстро стать любовью, а гордыня — честью, обо-
им пришлось признать, что перед ними совершенство.
Так как Анаксий молчал, то Зелмана (заранее продумавшая, что и как
сказать) выступила вперед и с твердостью, но без гнева или заискивания,
пренебрежения или робости, произнесла:
— Анаксий, даже если слава не льстит тебе, ты известен как один
из самых доблестных рыцарей, поэтому я вызываю тебя на бой, так что
вспомни о добродетели и пусть она станет нашим судьей. Я утверждаю,
что к своим добрым делам ты теперь прибавляешь злое дело, так как
ищешь безопасной мести за гибель того, чью жизнь, подвергнув себя
опасности, ты мог бы защитить. Но ты поступаешь, как трус, ища смер-
ти прекрасных дам, чтобы избегнуть справедливого наказания, которо-
му они (ибо они больше, чем их отец или еще кто-нибудь, преуспели бы
в собирании войска) могли бы подвергнуть тебя; и еще хуже то, что ты
вознамерился стать палачом, да еще прекрасных дам, — служба, позорная
для рыцаря и в справедливом деле, а тем более позорная в несправедли-
вом. Коли ты палач, то недостоин называться рыцарем и быть принятым
среди рыцарей. Мне незачем приводить мудрые и справедливые доводы,
436
потому что, насколько я знаю, ты презираешь их узы, но у меня есть же-
лание испытать добродетели, которыми ты так гордишься, — защищайся,
и пусть смерть рассудит, кто из нас прав. Выбирай оружие по своему вку-
су. У меня лишь одно желание: чтобы дамы, которых я защищаю, могли
беспрепятственно наблюдать за поединком.
Едва Зелмана заговорила, ее совершенная красота и изящные мане-
ры привлекли внимание Анаксия. Кроме того, урок, преподанный ему
Памелой, тоже кое-чему его научил. Но когда Зелмана заговорила о до-
блести, ему поначалу пришло в голову, что она сошла с ума, но потом,
убедившись в связности ее речей, перешедших в прямой вызов, Анаксий
выпрямился и застыл с высоко поднятой головой, изредка оглядывая ее
то так то эдак, выше всякой меры изумляясь тому, что он, никогда не слы-
шавший ничего подобного от мужчин, сносит оскорбления от женщины
и в изумлении продолжает сносить их. Когда же она умолкла, он, не гово-
ря ни слова, но с улыбкой повернулся к своему брату Зоилу.
Зелмана поняла.
— Анаксий, верно, ты не пожелаешь мне ответить, потому что я жен-
щина, и ты полагаешь, будто мне не по силам сражаться с тобой? А я гово-
рю тебе, что с детства занималась военным искусством и столь успешно,
что победила многих рыцарей, которые были похрабрее тебя. Всем из-
вестно, что в военном искусстве я не уступлю Пироклу, а он убил твоего
доблестного дядю, могучего Эварда.
Напоминание о смерти дяди как будто рассердило Анаксия, и он от-
ветил Зелмане:
— Воистину, нет на свете женщины, которая не могла бы сравниться
в храбрости с трусливым мальчишкой, ведь Пирокл единственно веро-
ломством одолел моего дядю, а потом сбежал с честного поединка. Пять
тысяч таких, как он, не могли бы победить Эварда, разве что обманом.
Я искал Пирокла по всей Азии, следовал за ним от одной его норы до
другой, пока не оказался в этой стране и не узнал, что мой друг осаж-
ден в своем замке, и я прискакал сюда, чтобы разогнать досаждавших ему
негодяев. Но, куда бы ни сбежал от меня шкодливый мальчишка, его не
спасут ни рай, ни ад, я своими руками вырву его сердце.
— Твой язык лжет, — возразила Зелмана. — Где бы ни появлялся
юный рыцарь, везде он творил добро, о котором ты со своей гордыней не
можешь и помыслить, где уж тебе совершать его! Но, чтобы еще сильнее
порадовать тебя своей особой, скажу, что нет никого ближе ему по крови,
чем я, и мы так любим друг друга, что он более был бы удручен моей смер-
тью, чем своей, ведь я — дочь его отца и амазонки. Вряд ли тебе удастся
придумать ему лучшую месть, чем моя смерть, так сразись же со мной,
и если убьешь меня на рыцарском поединке, что ж, так тому и быть. Но
если ты убьешь этих несравненных дам и меня, отвергнув честный поеди-
нок, я говорю твоим рыцарям, земле и небу (им не скрыть твой позор),
что ты — самый трусливый, самый подлый негодяй, ты бесчестишь зем-
лю, по которой ходишь, а если я переживу тебя, то сам буду ездить по
свету и всем об этом рассказывать.
437
Конечно же, после такого Анаксий не мог сохранить спокойствие, но
проговорил лишь следующее:
— Мир устрашится, если я отвечу тебе бранью, а тем более буду драть-
ся с тобой. Но что до них (он указал на царевен), то я дарую им жизнь. —
С этими словами он подошел к Памеле, намереваясь взять ее за подборо-
док. — А ты, миленькая, если покоришься моей воле, то не только избег-
нешь смерти, но и заживешь счастливо...
Он хотел было сказать что-то еще, но Памела, возмущенная его сло-
вами, его предложением и манерами, отвела руку рыцаря своей прекрас-
ной рукой и сказала:
— Спесивое животное, комедию ты разыгрываешь еще хуже, чем тра-
гедию. Уверяю тебя, поскольку судьбой мне предназначено постоянно
быть между жизнью и смертью, я скорее взяла бы тебя в палачи (ты для
этого больше подходишь), чем в мужья.
Гордыня и ярость не замедлили бы жестоко отомстить Памеле за та-
кие речи, но Купидон уже натянул лук, поэтому Анаксий, не привычный
к учтивости, но позабывший о высокомерии, поспешно удалился, что-то
бормоча себе под нос то ли угрожающе, то ли просительно, а его братья
задержались, и старший, Ликург, стал оказывать внимание Филоклее,
а Зоила привлекла Зелмана, по крайней мере, они развлекали себя, уго-
варивая дам поверить в это. Более тщеславный и более похожий на брата,
Ликург начал с того, что стал похваляться не только своими родичами, их
подвигами, их пренебрежительным отношением ко многим известным
своей красотой дамам, но и тем, как сильно они привязываются к дамам,
которые сами этого желают. Короче говоря, своими речами он хотел по-
казать себя дарующим блаженство, но не испрашивающим его. Приятно
провели бы время те (кто получает удовольствие от добродетельной игры),
кто посмотрел бы, с каким остроумным непониманием Филоклея отвеча-
ла ему, как, признавая его достоинства, делала вывод о его безопасности
для дам. Когда же Ликург затруднялся с ответом, то переходил на жесты,
по-прежнему любуясь собой в зеркале самолюбования. Стыдливость и
робость Филоклеи стали ей защитой не менее надежной, чем гнев и пре-
зрение, и, хотя она ни в чем не уступила рыцарю, он посчитал, что легко
одержит над ней победу, и оставил на потом дальнейшее наступление.
Что до Зелманы, то она неотрывно следила за Ликургом и все запоми-
нала, чтобы потом отомстить, пока Зоил (менее чванливый) настойчиво
осаждал ее и даже попытался пойти на приступ.
Глава двадцать седьмая
Ничего не добившись, братья удалились, призванные Анаксием (ко-
торый блуждал между новыми желаниями и презрением к себе, прези-
раемому), Зелмана (без лишних эмоций, спокойно оценив нынешнее по-
ложение) принялась со всей искренностью убеждать сестер в том, что,
желая избежать обид, они должны приспособить свое поведение к новым
обстоятельствам и выиграть время, которое, если не преподнесет чего-
нибудь похуже, может подарить неожиданное избавление.
— Зачем нам, — спросила Памела, — чего-то бояться? Почему мы
должны радоваться, будучи мячиками в руках злой судьбы, если наши
родители безраздельно владеют нами, а наши подданные предательски
обижают нас? Конечно же, в нашем положении утешительно думать, что,
попав в руки к мужланам, мы, по крайней мере, избежим несчастий, ко-
торые приготовили нам наши друзья. Больше всего меня огорчает то, что
ты, благородная госпожа Зелмана, которой мы должны воздавать всевоз-
можные почести, заразилась несчастьем от нашего несчастья. Ну, а нам
с сестрой высокое рождение велит позаботиться о благородной кончине
и не совершить ничего такого, о чем наши души пожалели бы при рас-
ставании с телом, Надежда, подлая предательница здравого смысла, под
маской дружбы отнимает у него главное оружие — решимость.
— Благородная и прекрасная госпожа, — ответила ей Зелмана, — ты
сказала правду, и эта правда — одна из составных в гармонии твоих мыс-
лях. Но время (которое должно согласовываться с нею) еще не пришло,
и, пока оно еще может одарить нас добром, не отворачивайся от него,
потому что ты всегда успеешь благородно умереть, если станет невозмож-
ной благородная жизнь.
Зелмана так настойчиво уговаривала обеих сослаться на необхо-
димость получить согласие отца (до получения которого должно было
пройти, как они понимали, немало времени) и таким образом смягчить
гордых воздыхателей, что Памела в конце концов признала разумность ее
доводов, и Филоклея признала их разумность, потому что это были дово-
ды Зелманы.
Таким образом, когда их вновь обеспокоили малоприятными по-
сягательствами, Памела заставила себя ответить Анаксию, что должна
получить согласие отца и отнесется к нему как к небесному повелению,
коли у нее нет другого выхода. Анаксию (не сомневавшемуся в успехе
у Памелы) не пришло в голову усомниться в согласии Базилия, он даже
решил сам стать просителем за себя, поэтому выбрал одного из самых
преданных слуг (которого считал мудрее других, ибо тот никогда не со-
мневался в правильности решений своего господина) и направил его
послом к Базилию, повелев сообщить, что, если Базилий хочет видеть
свою дочь живой и счастливой, а своим зятем рыцаря, который не только
может защитить его от врагов, но и (ежели ему угодно) дать ему власть
439
над всем миром, то он должен ответить согласием на просьбу Анаксия,
впервые обращающегося с просьбой к кому бы то ни было. Однако если
Базилий посмеет ответить отказом, тогда Анаксий силой получит желае-
мое, и никто ему в этом не помешает. Подобострастно улыбаясь, слуга
призвал бога, чтобы он укрепил его память и она сохранила в себе богат-
ство мудрой речи Анаксия, более того, он попросил Анаксия повторить
ее, чтобы его разум получше осознал священный смысл произнесенного,
и, когда его просьба была милостиво удовлетворена, у него исчезли со-
мнения даже в том, что он сумеет перенять изящество речи господина,
следовательно, сможет уговорить и каменноголовых на их беду, настоль-
ко он был уверен в том, что сумеет склонить Базилия к желанию небес,
открывшемуся ему, пока он внимал Анаксию. С важностью одобрив его
домысел, Анаксий отослал слугу, пообещав, что доверит ему воспитание
своего второго сына, рожденного Памелой.
Не мешкая, посланец изложил Базилию волю своего господина,
и тот, будучи хладнокровным от рождения и недоверчивым из суеверия,
не пожелал ввязываться в военный конфликт, так как до тех пор тер-
пел в сражениях неудачу, хотя Филанакс настойчиво убеждал его в том,
что, показывая спину, он провоцирует Анаксия на новые оскорбления.
Заблудившись между страхом перед могучим Анаксием, своей страстной
любовью к Зелмане и заботой о короне, Базилий не был способен вы-
брать что-нибудь одно и возложил на бога ответственность за свое ре-
шение. Под всякими предлогами задерживая посланца, он постановил
испросить совета у Аполлона, а так как сам отлучиться не мог, то пере-
доверил это дело надежному Филанаксу, который (принадлежа к людям,
чтящим послушание) отправился в Дельфы; там был допущен к тайному
алтарю святилища, на котором принес необходимые жертвы; и дух, за-
владев прорицательницей, в священном гневе, не ожидая его расспросов,
но словно обвиняя в неверии, сказал ему (не иносказательно по обык-
новению, а вполне недвусмысленно), зачем он явился, а потом приказал
вернуться к Базилию и передать ему, чтобы тот не отдавал своих дочерей
Анаксию и его братьям, потому что они предназначены тем, кто пользу-
ется большим расположением богов, но и не боялся за них, так как они
скоро вернутся к нему целыми и невредимыми. И еще прорицательница
подтвердила, что Базилий должен вернуться к уединенному образу жиз-
ни, пока они — Филанакс и Базилий — не сойдутся в понимании преды-
дущего предсказания. С этим Филанакс был отпущен, правда, получив
еще одно наставление: не преклоняться перед человеческой мудростью,
но отдавать ей должное.
Решив, что разум не может явить себя более разумно, нежели оста-
вив размышления о вещах, не поддающихся разумению, Филанакс воз-
вратился к своему господину и, как человек, предпочитающий правду
угадыванию чужих мыслей, ничего не скрыл от Базилия, не смея боль-
ше отговаривать его от небесных, как он понял, предначертаний; однако
сам постарался восстановить управление, насколько это было возможно,
в разрушенной разногласиями стране и укрепить оба царских жилища,
440
проявив известное искусство, отчего они стали почти неприступными,
а потом он оставил Базилия сокрушаться о дочерях и оплакивать плене-
ние Зелманы. Свято следуя прорицанию, Базилий решительно отказал
посланцу Анаксия, все это время ожидавшему его ответа, однако в учти-
вых речах пожелал, чтобы Анаксий поступил согласно своему рождению
и званию благородного рыцаря, не вынуждая его действовать силой, но,
как того требует рыцарская честь, возвратил дам их родителям — и тогда
оскорбителем останется Амфиал, а освободителем прославят Анаксия.
Посланец возвратился к Анаксию и, привычно подсластив непри-
ятный ответ, сообщил своему господину, что, когда Базилий услыхал
о его притязаниях, он понял, что они превысили все его ожидания и для
него слишком большая дерзость внимать даже посланцу человека, кото-
рого так любят боги, не выслушав совета богов; поэтому он послал своего
ближайшего советника в Дельфы, правда, постаравшись сохранить это
в тайне, но какие могут быть тайны от усердного слуги Анаксия, поста-
вившего его благо выше всего остального? Советнику же было сказано,
что Базилий не должен отдавать свою дочь в жены тому, кто зачислен
в полубоги, и уж, точно, он не должен требовать ее назад.
Однако Анаксий, который прежде обожествлял удачу и силу, теперь
открыл для себя другую, более высокую мудрость. Пока его слуга ждал
ответа Базилия, он и его братья ухаживали за дамами так, словно наме-
ревались взять их в жены, однако теперь он решил не терять зря время и
сделать насилие просителем за себя, коли ничего не смог добиться угово-
рами. Анаксий сказал об этом братьям, а они ничего другого и не желали,
лишь ждали его позволения, что еще сильнее пришпорило его желание.
Недостойные, не признающие добродетель ни в себе, ни в других, бра-
тья уже стремились к позорному союзу страсти и силы, когда Анаксию
сообщили, что с башни замечены вооруженные люди, движущиеся в на-
правлении крепости; и он, приказав слугам и воинам идти к воротам и на
стены, остался один со своими братьями — мысли Анаксия до того были
заняты близкой добычей, что даже громкая труба Марса оказалась не
в силах его отвлечь.
Глава двадцать восьмая
Пока Анаксий отдавал распоряжения, его младший брат Зоил, доволь-
ный своим поручением, отправился к сестрам, чтобы именем Анаксия
сообщить им, будто Базилий согласился отдать своих дочерей на любьрс
условиях, так что теперь с ними не будут церемониться, но тем не менее
им предоставляется решить, то ли они подчиняются добровольно, то ли
их берут силой. Памела тотчас ответила, что в деле, от которого зависит
вся ее жизнь, она подчинится воле родителей, но ей кажется разумным
желание узнать их волю от них самих или от собственного посланца, а не
от доверенного слуги Анаксия, поэтому ответ остается неизменным; если
же братья решат, забыв о чести, прибегнуть к силе, то сестры верят, бог
защитит их или заберет к себе.
— Ладно, ладно, — проговорил Зоил, — сейчас придут братья, и пусть
они сами говорят с вами, а я займусь своим делом.
С этими словами он подкрутил усы и, тяжеловесно пританцовывая,
направился к Зелмане. Однако Зелмана (приложившая много усилий,
пока Анаксий ждал своего гонца, чтобы удержать прекрасных дам от
смерти, ибо они видели в ней спасение от низких негодяев, пленница-
ми которых оказались) все еще верила, что Музидор сумеет освободить
их, поэтому собственным примером и разумными доводами принужда-
ла царевен не обращать внимание на дерзость заносчивых воздыхате-
лей, которые считали себя весьма любезными оттого, что не соверша-
ли тяжкое насилие; и теперь, вновь попав в затруднительное положе-
ние, она испугалась за царевен, не желая им ни смерти, ни бесчестья,
и если бы не ее героическое самообладание, она впала бы в безумие,
а так держалась до последнего, пока не почувствовала прикосновение
мужских усов к своему лицу. Зоил причмокнул, предваряя поцелуй,
и сказал:
— Прекрасная Зелмана, пусть твое сердце наполнится радостью,
и пусть радость засветится в твоих прекрасных глазах, ибо сегодня ты за-
владела Зоилом, которым многие хотели бы владеть, но не будет владеть
никто, кроме Зелманы, Ах, меня охватывает блаженство при одной мыс-
ли, какие у нас с тобой будут дети! Клянусь небом, для них будет мало
всей земли!
С этими словами Зоил хотел обнять Зелману за шею, но она отшат-
нулась от него.
— Мой господин, — сказала Зелмана, — радостью наполнены твои
речи, но не скрою, когда я родилась, предсказатель, который еще ни разу
не ошибся, напророчил, что у меня никогда не будет детей. Если же ты
все равно удостаиваешь меня чести твоего высокого покровительства,
то я желаю лишь одного — исполнить клятву, данную мной моим сопле-
менницам, знаменитым амазонкам и стать женой того, кто устоит против
меня в бою. Поэтому, прежде чем я подчиню свои желания твоим, ты дол-
442
жен позволить мне надеть доспехи и взять в руки оружие, чтобы одним-
двумя ударами меча я могла подтвердить мою клятву.
Громко расхохотавшись, Зоил попытался насильно обнять Зелману,
пробормотав только, что если ей угодно посмотреть, каков он в бою, то
он незамедлительно это продемонстрирует, и, не обращая внимания на
царевен, набросился на нее.
Мудрую Зелману охватило отвращение, а удобный случай дал волю
ее гневу. Не желая больше медлить, чтобы не забыть о Пирокле (хотя и
переодетом), к тому же гораздо более проворная, чем Зоил, Зелмана под-
ставила ему подножку, и он растянулся на полу. Но на этом она не соби-
ралась останавливаться и (выхватив у Зоила меч, с которым он никогда
не расставался, хотя и не смогла нанести ему удар, потому что он сбежал
к братьям, прихорашивавшимися перед встречей со своими возлюблен-
ными) последовала за ним; а когда он в поисках укрытия уже был готов
спрятаться за братьями, с такой силой ударила его по пояснице его же ме-
чом, что едва не разрубила его пополам, освободив путь душе и отправив
ее к Прозерпине, ненавистнице похитителей.
Став свидетелем бесславной кончины брата, Анаксий, более раздоса-
дованный, чем разгневанный, и более разгневанный, чем опечаленный,
нерадостно посмотрел на Ликурга и сказал:
— Брат, накажи эту злюку, а я схожу вниз, пока еще чего-нибудь не
случилось.
С этими словами он отправился к дамам, не зная, какие неожиданно-
сти ждут его там. Поскольку же дамы, как всегда, упорствовали, он запер
большие железные двери, через которые только и можно было попасть
в эту часть замка, сделав это скорее для того, чтобы скрыть позор брата,
убитого женщиной, чем предотвратить новые беспорядки, после чего по-
шел обратно, предвкушая радость от приведенного в исполнение (он не
сомневался в этом) смертельного приговора Зелмане.
Понимая, что братья не отпустят ее, не отомстив, Зелмана метнулась
к щиту, ибо всегда считала, что главное в доблести — надежная защита.
Пользуясь отсутствием Анаксия, она не стала ждать милости от Лигурга,
но, не говоря ни слова (слова она считала бесполезными, когда сомнения
уступали место твердой решимости), доставила себе удовольствие напасть
на него первой. Будучи от природы беспечным, а благодаря счастливому
преодолению многих опасностей и самоуверенным, Ликург пошел на-
встречу Зелмане с намерением завладеть ею, а не сражаться с ней; он был
так далек от страха, что гнушался защитой. Но когда ее меч оказался убе-
дительнее слов, когда она прижала его к стене, и причиной этого была
вовсе не слепая ярость, а ловкость и сила, его самовлюбленность впервые
отделилась от гордыни и он понял, что он не единственный, достойный
рыцарь на свете, что ему необходимо жесткому нападению противопо-
ставить столь же жесткую защиту. Лигург и Зелмана обменялись парой
ударов, которые и самому Марсу пришлись бы по душе.
Зелмане было ясно, что в ее положении промедлить с победой все
равно, что потерпеть поражение, поэтому, крича от ненависти, она
443
раздувала в себе пламя доблести. Ликург изо всех сил нанес ей удар по
голове, но она заслонила голову щитом, а когда щит раскололся на две
половины, Зелмана бросилась на противника, целясь ему мечом в грудь,
но он спрятался за щитом, после чего вновь поднял меч. Ничего не оста-
валось Зелмане, как, отбросив щит, ухватиться за рукоять чужого меча
и вырвать его из руки Ликурга, прежде чем чувства донесли его разуму
то, что он должен был предвидеть заранее. Вооружившись двумя меча-
ми против одного щита и не собираясь упускать удачу, пока Ликург не
сообразил, что остался безоружным, да еще с такой стремительностью,
Зелмана ударила его по голове, и Лигургу не удалось защититься, так что
он упал, пораженный болью и объятый страхом. Понимая, что Зелмана
готова подтвердить свою победу его смертью, он повернулся к ней лицом,
на котором теперь никто не заметил бы и следа былой гордыни.
— Хватит, хватит, прекрасная госпожа, ты победила, так не лишай же
себя свидетеля своей победы. Ты уже похитила у мужчин доблесть, так
вспомни о милосердии. Я выкуплю у тебя свою жизнь, оказав тебе не-
малую услугу, ибо берусь уговорить Анаксия исполнить все твои приказа-
ния. Молю тебя, подари мне жизнь ради своей славы и ради того земного
создания, которого ты любишь больше других.
Зелмане удалось ненадолго обуздать свое сердце то ли потому, что она
прониклась презрением к жестокости, то ли потому, что прониклась жа-
лостью к противнику, и она уже собиралась уступить мольбам о состра-
дании, но тут заметила на одной из умоляюще поднятых рук подвязку
с драгоценным камнем (подарок Пироклу от его тетушки из Фессалии,
которым он очень дорожил), подаренную Филоклее; и с яростью, пред-
вещающей ненависть, Зелмана представила, как заносчивый Ликург от-
нимает подвязку у Филоклеи, быть может, даже причиняя ей боль. Это
видение, словно символ всех пережитых Филоклеей оскорблений, про-
будило память Зелманы, и она, охваченная ненавистью, растоптала в себе
ростки жалости. Со словами: «Умри, негодяй! Это Филоклея платит тебе
за твою любовь» — Зелмана напоила меч кровью его сердца, хотя Ликург,
извиваясь на полу, всем своим видом молил о пощаде и напрасно старал-
ся отдалить свидание со смертью.
Ничто не могло остановить руку Зелманы, даже вопль Анаксия, ко-
торый, заперев железную дверь, поднялся по лестнице в то самое мгно-
вение, когда вопреки ожиданиям, увидал брата, валявшегося в ногах
у Зелманы и пытавшегося удержать ее руку. Анаксий просил, обещал,
угрожал, но предсмертный стон брата был ответом на его впустую рас-
траченное красноречие. От жалости к брату на глазах Анаксия выступи-
ли слезы, но их высушила ярость; гнев вызвал приток слов, но презрение
запечатало ему уста; в душе он слал проклятия небесам за то, что поте-
рял над собой власть; он стыдился того, что должен убить женщину, он
стыдился смерти брата от женской руки и негодовал от того, что смерть
брата еще не отомщена и что из мести ему предстоит убить женщину.
Ничего не сказав членораздельного, он с отчаянным воплем, который
часто становится языком скорбной ярости, бросился на Зелману, при-
444
выкший драться, а не размышлять о том, как надо драться. Действуя, не
размышляя, но не неосмысленно, Анаксий теснил Зелману, но не забы-
вал об обороне, так что ей еще никогда не были столь кстати ее провор-
ство и храбрость. Исполинского роста, Анаксий не был обижен и силой,
еще более он отличался смелостью, которая под влиянием природных
особенностей его ума и тела превращалась в чудовищную свирепость и
могла испугать любого, кто не был искренне и навсегда предан закону
чести.
Однако Пирокл, чью душу еще можно было разлучить с телом, но
нельзя было заставить забыть, что приличествует рыцарю, если пона-
чалу и неправильно оценил своего противника (с которым однажды
попробовал свои силы, но теперь признал его яростную напористость),
подавил в себе страх, и его добродетели не ослабли, а окрепли в сраже-
нии, подобно вину, которое становится крепче, если его встряхнуть. Вот
так, сильные душой и телом, они сражались в пустых покоях, и это был
такой бой, который по праву требовал армии зрителей. Но зрители не
обязательны там, где мужество трубит в рог и радость победы пьянит не
меньше славы. Там сила противостояла ловкости, ярость — решимости,
гнев — добродетели, самоуверенность — доблести, гордыня — благород-
ству; любовь породила обоюдную ненависть, а желание Анаксия ото-
мстить за брата было равно желанию Пирокла отомстить за Филоклею.
Если бы кто-нибудь увидел одного из них, то решил бы, что ему нельзя
противостоять, но, поглядев на другого, не поверил бы, что ему можно
сопротивляться. Так, прилив и отлив по отдельности могут с легкостью
унести несметное количество кораблей с матросами, и ничто не в си-
лах устоять перед ними, но когда они встречаются и, мешая свои воды,
вступают в борьбу, никогда нельзя сказать заранее, который из них по-
бедит. Вот и эти двое — явись даже сама Паллада, и она не смогла бы
решить, кого лучше воспитала для бранного дела. Ирландская борзая и
английский дог, меч-рыба и кит, носорог и слон могли бы составить по-
добие, но лишь подобие этого поединка.
Анаксий был лучше вооружен для обороны, потому что (кроме креп-
кого и хвастливо разукрашенного шлема, которым он защитил свою го-
лову) у него был прочный щит (вероятно, не меньше того, который Ахилл
выставлял под бледневшими стенами Трои), и он целиком прикрывал его
тело. У Пирокла же вовсе не было щита, зато у него было преимущество
в нападении, потому что он держал в обеих руках по мечу и одинаково лов-
ко ими управлялся. По-разному вооруженные, они и дрались по-разному.
Анаксий больше отражал удары, а Пирокл больше уворачивался от ударов
противника; оба хотели побыстрее закончить поединок, и оба то и дело
медлили, выжидая удобный момент. Привычка так усовершенствовала их
ощущение времени, расстояния и движения, что они казались друзьями,
а не врагами; оба понимали мысли друг друга и знали, как противостоять
тому, что задумал противник, и силы изменили им, прежде чем изменило
мастерство, а дыхание — прежде сил. Им стало трудно дышать, прежде
чем у них появился повод пожаловаться на потерю крови.
445
Глава двадцать девятая
Итак, вынужденные согласиться на передышку, чтобы восстановить
дыхание, они разошлись в разные стороны, и Анаксий, опершись на меч
и обратив свирепый взгляд на Зелману, словно погрузился в задумчивость.
Это не осталось незамеченным Зелманой, которая в согласии с природой
Пирокла, глядела веселее, чем в начале поединка.
— О чем задумался, Анаксий? — спросила она. — Уж не участь ли
братьев наводит на тебя мысли о позорном прошлом и грядущем нака-
зании?
— Я думаю о том, — ответил Анаксий, — что бог, видно, злится на
меня или завидует моей славе, если заставляет участвовать в такой не-
справедливости, в которой твоя смерть не утолит мою месть и твое по-
ражение не принесет мне славы.
— Ты правильно заговорил о небесном провидении, ибо благодаря
ему даже в искусстве, которым ты гордишься более всего, твоя гордыня
будет наказана слабой и презираемой тобой женщиной.
Отдышавшись, они вновь сошлись в поединке и с еще большей яро-
стью, словно проворные скакуны, которые на первом и втором прыжке
лишь разогреваются, пробуждают и горячат мышцы и лишь потом явля-
ют совершенные прыжки. Во время отдыха у обоих нашлось время обду-
мать действия друг друга и те преимущества, которые они могли извлечь
из проволочек противника и своего оружия, и теперь Анаксий и Пирокл
повторили урок, но гораздо лучше, ибо знали его наизусть. Пользуясь
своей огромной силой и радуясь ей, Анаксий стал чаще наносить удары,
а потом, прячась за щитом, возвращал себе силы, тогда как более провор-
ный Пирокл выжидал удобное мгновение для удара; и, так как его тело
немедленно исполняло команды, подаваемые зрением, он, предотвра-
щал вред, который ему мог бы причинить Анаксий и скоро покончил бы
с Анаксием, если бы не его великолепное искусство. Что только ни делал
Пирокл, чтобы загнать Анаксия в угол, но тот сохранял непревзойденное
спокойствие и не поддавался на уловки, видел главное и добивался сво-
его, искусно направляя свою силу. Так они провели много времени, стре-
мясь к настоящим действиям и этим изнуряя себя сильнее, чем самими
действиями. Наконец Зелмана оказалась совсем рядом с Анаксием, всего
в одном шаге, и он, собрав все силы, решил нанести ей удар в лицо, но
Зелмана, резко отведя его руку своим мечом в правой руке, сделала упор
на левую ногу и левой рукой нанесла ему быстрый удар в правый бок, от
которого Анаксий не успел увернуться. Анаксий устыдился, ибо ничего
подобного с ним прежде не случалось1.
1 На этом заканчивается «Новая Аркадия». Далее до главы 35 следует издатель-
ская вставка, впервые появившаяся в фолио 1621 года. Авторский, но не переделан-
ный текст, то есть «Старая Аркадия», начинается с главы 35.
446
Огонь ярости и жгучее презрение вырвались из груди Анаксия языка-
ми пламени, полыхнувшими в глазах и вышедшими дымом изо рта; его
обуяло ужасающее безумие (вся телесная сила ушла в руку для одного-
единственного удара), которое неколебимая Зелмана наблюдала с расчет-
ливой и ничего не боящейся смелостью, как вдруг Анаксия отвлек шум,
на который, если знать характер Анаксия, он отзывался в любое время.
Шум (поднятый наступлением осаждавших и беспорядочным бегством
осажденных) дал ему представление о том, какая кровавая драма разы-
грывается в стенах крепости (где он должен был играть первую роль);
и хотя его взгляд, предвестник удара, уже наметил цель для занесенной
руки, его ноги стремительно похитили тело, так что даже его собствен-
ные мысли, не говоря уж о мыслях Зелманы, не поспели за неожиданным
бегством — бегством конечно же не от сражения с одним противником,
а ради сражения со многими противниками, в котором он мог бы выбрать
объект, достойный своего гнева. Итак, когда Анаксий исчез, словно под-
хваченный ураганом, Зелмана не смогла или не захотела бежать следом,
презирая легкий успех бесчестных ударов, которые хоть и несли позор
беглецу, не прибавляли славы преследователю.
Буря, подхватившая Анаксия, стремительно увлекла его вниз по лест-
нице, потом к входным дверям, и он до тех пор прокладывал себе путь
мечом, пока его взгляд не натолкнулся на сверкание мечей немногочис-
ленных воинов, которые, похоже, были скорее захвачены в замке, нежели
захватили его. И все же им довольно быстро удалось отвоевать большое
пространство, оспаривая границы, до которых дотягивались их мечи:
и враги повели счет этих воинов не по числу, а по их достоинству (не по-
читая их вторыми, а почитая подобно цифрам, когда их оценивают те, над
кем они возносятся), оценив Черного Рыцаря и его спутников не тем чис-
лом, каким они были сосчитаны, а тем, какого они были достойны. Этих
трех рыцарей сразу же признали и за их искусство, и за храбрость. В зале
двоим было драться сподручнее, чем в поле, ибо отсутствие пространства
не позволяло ускользать от опасности, и не было другого выхода, как
идти на врага, так что даже самые отъявленные трусы рвались вперед не
хуже храбрецов; страх придавал смелость тем, кто не видел другого спа-
сения, кроме как в сражении, и оттого сражение было особенно жесто-
ким, а у противников появлялись дополнительные стимулы убивать друг
друга.
У сторонников Амфиала к ярости из-за неожиданного поражения
и к нежеланию сдавать замок из-за собственных интересов и публично
данных клятв (дабы придать праведный вид неправедным намерениям)
прибавилась месть (как они считали) за убийство их господина, ведь
Черный Рыцарь был тем человеком, который похоронил их надежды,
сразив Амфиала, чему они были праздными свидетелями. Они отчаян-
но старались усладить взгляд Анаксия своей победой, прежде чем до его
слуха дошла недобрая весть, и с его появлением воспылали храбростью,
зажженной факелами его глаз, которые, как чудовищные кометы, были
предвестниками кровавых потоков.
447
Преследуемые преследователи (кто, начиная сражение на острове,
сжигает корабли, чтобы отрезать путь к отступлению), они знали, что не
смогут ни продвинуться вперед, ни отступить иначе, как по телам своих
врагов, к тому же предпочитали верить в победу, нежели поддаваться
страху. Черный Рыцарь, хотя все титаны, восставшие против богов, каза-
лось, собрались в замке, не сомневался в том, что они не помешают ему
дойти до того места, куда стремилось его сердце, и победить, ибо награ-
дой ему должно было стать освобождение его дамы и его друга, бесцен-
ных сокровищ, дарованных ему судьбой, из которых любое было ему до-
роже жизни, — спасти их он считал делом чести, поэтому являл не только
чудеса доблести, но и красоту души; и его великодушие соответствовало
возвышенной цели. Однако ни любовь, ни храбрость не лишали рыцаря
здравомыслия в ведении боя, и вместе с двумя другими рыцарями он дер-
жался поближе к стене, чтобы избежать окружения, хотя позволял себе
время от времени дерзкие выпады. Это не ускользнуло от Анаксия, и он
выбранил своих воинов за то, что они оказались недостойными его, ибо
по-предательски встретили и по-подлому не выпроводили ничтожную
(по его мнению) шайку; он потребовал, чтобы все разошлись и уступили
ему дорогу, ибо он один выкинет врагов за стену или вколотит в стену,
ведь в его глазах они представляли слишком малую плату за умиротворе-
ние его ярости. Не надо было утруждаться Алекто1, чтобы воспламенить
его душу ядовитым дыханием, ибо его душа могла бы напитать все адские
неистовства собственным неистовством и все равно превзошла бы их
в неистовстве. Из-за ярости и презрения, сжигавших его изнутри, он не
говорил, а рычал, словно намеревался голосом сдуть с лица земли все окру-
жавшее его, но еще более громкий свист меча заглушал и это рычание.
Первому же, кто встал перед ним с поднятой для удара рукой и от-
крытым для крика ртом, он, упредив ответом, разрезал рот до ушей, слов-
но отверзнув ему уста, но заставив умолкнуть навечно. Овечий Рыцарь за-
нял место отверженного рыцаря, став наследником его мести, и начал, не
уступая, обмениваться с Анаксием ударами, как вдруг стрела (неведомой
руке обязанная этой честью) вонзилась ему в бедро, и он, не зная, кому
возвращать долг, принялся платить всем, кто попадал ему под руку, да еще
с невиданно высокими процентами, и кое-кого отправил к праотцам, не
желая оставлять неоплаченной ни капли своей крови.
Наконец, Черный Рыцарь (в самом деле черный для своих врагов)
увидал доблестного рыцаря Анаксия (с которым, соперничая в славе,
всего лишь один раз сошелся в поединке), вселявшего ужас во многих, но
в него вселившего удовольствие, ибо мог украсить его победу (в которой
он ни на миг не усомнился), и его торжество стало бы славнее, потому что
славным был бы противник, и с ним Музидор, предпочитая его многим,
постарался сойтись, мечом освобождая место для поединка.
Однако в это время стремительное движение Анаксия было останов-
лено внезапной суматохой у него за спиной, где была прорвана оборона.
1 Алекто — одна из фурий, богинь мести.
448
И в этом не было ничего удивительного, хотя многие именно так по-
думали, потому что два меча Зелманы жадно требовали простора. Она
следовала за Анаксием, нет, скорее (как увлеченный охотой сокол) лете-
ла следом за Анаксием по лестнице, не в силах догнать его, но не сводя
с него взгляда, пока его не окружила толпа, и тогда Зелмана (как львица,
недавно вырвавшаяся на свободу, а до этого долго голодавшая в неволе)
бросилась за своей добычей, но, подобно хитрой собаке, которая из всего
стада оленей выделяет одного-единственного, лишь к нему испытывая
вражду (потому что капелька его крови навела ее на все стадо), она не же-
лала драться с другими и сметала всех со своего пути, гонясь за Анаксием,
которому, едва ее жадный взгляд отыскал его в толпе, Зелмана крикнула:
— Низкий трус, ты бесчестишь мир, являясь лишь тенью рыцаря, ис-
кусной в бою, но лишенной доблести. Ты дважды лишил себя права на
узурпированный тобою титул честного рыцаря: в первый раз — когда по-
пытался силой взять женщину, во второй раз — когда бежал от справедли-
вой женской кары, стремясь (укрытый щитом верного воина) в толпу, где
легко спрятаться среди отважных мужей. Но от меня тебе не уйти! Тебе не
уйти от справедливого наказания!
Задетый этими речами больнее, чем если бы все мечи земли скрести-
лись над его головой (страстно желавший, чтобы Зелмана была мужчи-
ной, даже целым воинством мужчин), Анаксий оглянулся, и такое пре-
зрение было в его взгляде, словно им он хотел убить женщину. Тем вре-
менем он вложил всю свою ярость в достойный его удар, разрубивший
голову до плеч оказавшегося рядом воина, то есть подарил ему две головы
или обезглавил его. Однако, заметив, что Зелмана уже совсем близко, он,
не ожидая от нее благорасположения и не желая бесчестья (стыд разжи-
гал его ярость, а ярость затыкала рот разуму), приказал Армагину, своему
племяннику и доблестному рыцарю, запереть глупых пленниц, посмев-
ших без его разрешения искать приключений в замке, и не выпускать их
без его разрешения, чтобы они не могли бежать; после чего, кружась по-
близости и искоса бросая взгляды на Зелману, он наконец подал ей знак,
повелительный и угрожающий (запретительно-пригласительный), чтобы
она следовала за ним, и Зелмана сделала это с такой радостью, с какой
когда-то Венера спешила на свидание с Марсом. В это мгновение Венера
и Марс сошлись в ее мыслях, но не для любовной, а для бранной утехи.
Всех, кто стоял на их пути, смело буйное дыхание Анаксия, и некому
было помешать им: ему, которого все до смерти боялись, и ей, к которой
никто не питал ненависти. К тому же их уединение вдвоем — мужчины и
женщины — ни у кого не вызвало подозрений, потому что враждебность,
написанная на лицах обоих, свидетельствовала о том, что ненависть вела
их к славе, а не любовь — к бесславию.
Место, предназначенное судьбой стать прославленным, благодаря
славной битве, было задним двором, оказавшимся безлюдным, так как
сильные ушли биться, а слабые побежали прятаться. Золотая середина не
является добродетелью там, где в опасности проявляются главные каче-
ства.
29 Заказ 1414
449
Зелмана и Анаксий пришли в этот двор одни, и им никого больше
не требовалось, потому что они были первыми, оставившими далеко по-
зади всех вторых; и оба настолько не сомневались в своих силах, что не
могли не доверять друг другу. Как будто слова были не в силах передать их
ярость и лишь мечам они доверяли выразить свои мысли, рыцари начали
с того, чем надеялись закончить; и ни один из них не мог, познав правду
на опыте, с презрением отнестись к противнику.
Дав волю ярости и сжигавшей его жажде крови, Анаксий предал свои
руки привычной им расточительности, которая, противореча природе
сего порока, была болезненна для получателя и прибыльна для транжи-
ры. Однако Зелмана, хорошо зная, с кем имеет дело, вела себя осмотри-
тельно и продуманно расходовала драгоценные силы, не швыряясь ими,
но все-таки не щадила их, когда выпадал удобный случай. Трудно сказать,
был Анаксий щедрее или Зелмана благодарнее, но ответный подарок ни
разу не заставил себя ждать, часто даже шел не в очередь, так что полу-
чающий имел больше, нежели желал бы, а даритель все равно оставал-
ся недоволен. Казалось, разум, глаза, руки, ноги обоих были подчинены
одному побуждению и под музыку битвы стремились к гармонии ужаса.
Никогда еще храбрость не имела в помощниках такого искусства и такую
силу, а искусству и силе не сопутствовала такая храбрость, и удары одного
рыцаря как будто соревновались не только с ударами противника, но и
между собой, отчего последний (еще не забытый) старался затмить собой
память обо всех прежних.
Казалось, не двое покинули главное сражение, а сражение переме-
стилось вместе с ними. Глазами можно было видеть лишь двоих, но ушам
не верилось, что столь мощные удары наносили мечи не целой армии
воинов. Печальные из-за отсутствия зрителей, окна замка словно опла-
кивали свое безглазие, которое лишало их счастья насладиться зрелищем
веселого ужаса и ужасного веселья.
Более недовольный собой, нежели врагом из-за того, что вынужден
так долго сражаться, когда от победы он ждал лишь позора, Анаксий все
силы отдал в подчинение гневу и храбрости и выразил свои чувства в та-
ких словах:
— Какой злой бог, возревновавший к моему величию или позавидо-
вавший моей славе, послал ко мне дьявола в женском обличье (подобном
облаку, что вместо Юноны, отправилось на свидание к Иксиону1), чтобы
выставить меня на посмешище? Но все равно, будь ты дьявол в обличье
женщины или даже множество дьяволов в одном обличье, клянусь моим
ударом, что отправлю тебя обратно в ад к устрашению тамошних обита-
телей.
С этими словами он обрушился на Зелману с такой сокрушительной
силой, что хоть одним из мечей она успела отвести удар от своей головы,
1 Иксион — в греческом мифе царьлапидов, был удостоен приглашения Зевса
на Олимп, и там стал добиваться любви Геры (Юноны). Тогда Зевс создал призрак
Геры. За свои преступления Иксион был наказан мучениями в подземном царстве:
он был прикован к вечно вращающемуся огненному колесу.
450
но плечо оказалось задетым. Однако это не смутило ее, лишь подтверди-
ло (ибо не могло еще больше укрепить) ее решение. Не в силах стать еще
храбрее, она призвала на помощь всю возможную ярость и беспрерывно
наседала на Анаксия, чтобы добиться перевеса; частенько она исполь-
зовала обманные приемы; так, сделав вид, будто собирается пронзить
ему грудь, она выставила вперед правую руку с мечом, и Анаксий ударил
по ней, желая продвинуться вперед с правой стороны, но Зелмана, рез-
ко подавшись влево, нанесла удар левой рукой, и ее меч вернулся к ней
с куском доспехов с той стороны, на которую был направлен необманный
удар.
Оба противника уже были в крови и все же дрались, чтобы сравнять-
ся друг с другом ранами, на которые (из-за их множества) они обращали
меньше внимания, чем прежде. Если вначале их одеяния не были по-
хожи, то теперь стали одного цвета, более им подходящего как слугам
одного господина и соперникам, сражающимся за его благосклонность.
Потоки крови не могли утихомирить гневную бурю, которая разыгра-
лась вовсю и не стихла до тех пор, пока слабость не убедила обоих в том,
что они смертны; и хотя ни один из них не превзошел другого, смерть
могла превзойти их обоих. Битву возобновило отчаяние, присоединив-
шееся к храбрости, но не на равных, а как слуга, ибо храбрость нико-
гда не впадает в отчаяние, зато отчаяние может набраться храбрости.
И Анаксий и Зелмана были настроены решительно: если не победить, то
не пережить победу другого, и если стать победным трофеем, то лишь для
смерти.
Главной печалью для одного было принять смерть от руки женщи-
ны, а для другого — умереть, представляясь женщиной, — и одеждой,
и неумением (как он полагал) сражаться — от руки мужчины, победив-
шего до этого много мужчин. В конце концов, когда удары с обеих сторон
немного поутихли, Зелмана опустила один меч на землю, то ли почув-
ствовав приступ слабости, то ли провокационно угрожая выпадом. Видя
это, Анаксий (собрался с силами и был готов убить ее, но сначала скло-
нился, чтобы по-рыцарски проститься) бросился на Зелману с отчаянной
яростью (надеясь, что она не в состоянии противостоять его неодолимой
силе), однако она вновь подняла опущенный было меч и пронзила им
сердце Анаксия (вернее, его сердце само наткнулось на меч), но и ей не
было спасения от меча Анаксия, оба соперника упали на землю — до-
блестная вспышка гаснущего света, громовой раскат промелькнувшей
молнии! Анаксий победил своего победителя, не упав до тех пор, пока
тот держался на ногах, и хотя он был побежден, некому было праздно-
вать над ним победу. Грудью он упал на руку, сжимавшую меч, как будто
не хотел один уходить в другой мир, и после смерти не перестав обожать
своего идола; мертвым телом он придавил Зелману, выдавливая из нес
остатки жизни, но она продолжала бороться за свою жизнь и в борьбе
сломала меч, один кусок оставив под телом Анаксия, другой — в сво-
ем теле. Ей было трудно победить мертвого Анаксия и невозможно —
живого.
29*
451
Глава тридцатая
Поднявшись с земли, Зелмана вытащила меч из тела Анаксия, вся
сосредоточившись на этом и не замечая ничего вокруг; а потом пошла
туда, где полыхала битва, держа по мечу в обеих руках и с куском меча
в груди — своим победным трофеем и знаком поражения; впервые столь
хорошо вооруженная и столь плохо годящаяся для сражения; как вдруг
сторонники Анаксия, обескураженные его отсутствием, но еще больше
напуганные присутствием Черного Рыцаря (Армагин пал славной смертью
от его руки), пришли в замешательство и решили спасать себя, отчаяв-
шись защитить замок.
Черный Рыцарь передоверил преследование бежавших другим вои-
нам как безопасное и недостойное себя занятие, а сам, опасаясь за своего
друга и не видя его рядом, пошел туда, куда повели его глаза и уши, то
есть на задний двор, куда удалились два героя; и он увидел там свое вто-
рое «я», шагавшее, как Паллада после победы над титанами.
Едва глазам Пирокла — нет, его душе — предстал Музидор, новые
силы влились в усталые члены и сие лекарство (воспринятое разумом) по-
бедило телесную немощь. Пирокл отбросил мечи (которые можно было
отобрать у него лишь добром) и вытащил тот, что застрял у него в груди,
чтобы ничто не мешало ему обнять отражение своей души, отвечавшее
ему тем же. Ведомые небесной любовью, их души соединились прежде,
чем соприкоснулись тела. Но, ах, пока они стояли, заключив друг друга
в объятия (как два привоя на одном дереве), и высокая волна всеобъем-
лющей любви замкнула их языки изумлением, так что они были не в со-
стоянии выразить невыразимое, Пирокл, ослабленный потерей крови
(то был итог ненависти) и в слабости изнемогавший под тяжестью друже-
ских объятий (итог любви), оказался не в силах вынести столь противо-
речивые чувства. Покрывшая его лицо бледность говорила о том, что со-
знание покидает его, и не в силах удержать, но не желая его отпустить
Музидор упал вместе с ним. Из-за внезапного счастья или тяжелого не-
счастья Музидор стал похож на человека, который нечаянно соскользнул
с большой высоты и оказался между небом и землей, прежде чем успел
сообразить, откуда и куда он падает. Когда он оказался сброшенным
с вершины счастья в пучину горя, в голове у него все перепуталось, и он,
живой, помертвел, в то время как его друг, как будто жил, хотя и казался
мертвым. В конце концов, вытащив свои разбитые чувства из-под облом-
ков, несчастный и слабый Музидор собрал в себе достаточно сил, чтобы
попытаться сделать невозможное — высказаться:
— О, какое же я несчастное чудовище! Даже в счастье несчастный;
как только для меня вспыхивает утешительный свет молнии, за ним тот-
час гремит гром смятения. Дважды мои удачи на суше (уж лучше бы их
смыло навсегда) поглощали ненавистные волны, а между тем смягчив-
шейся судьбе, если она сожалеет о судьбе своих приговоров и готова
452
приостановить их исполнение, лучше было бы утопить меня в капле это-
го моря, ибо сейчас меня готов поглотить целый океан печали. О, триж-
ды я был бы счастлив погибнуть, коль скоро я все равно был несчастлив!
Отвергнутый пастух, своим существованием наносивший обиду совер-
шенному миру, я едва мог (раздавленный презрением) стать достойным
даже этого презрения, ибо для презренного быть презренным тоже знак
милости. О, почему боги не пожелали, чтобы я умер в забвении? И пусть
моя жизнь жила бы знаменитой ради других, а смерть умерла бы вместе
со мной в неизвестности, и мое бесчестье тоже осталось бы неизвестным
даже тогда, когда я вышел на поединок, но вышел один в присутствии
многих, сражавшихся во имя одной, которая мне милее всех на свете.
Горе мне, ибо я несчастен оттого, что не могу быть еще несчастнее! Столь
губительной отравой было отмечено время моего рождения, что про-
мельк счастья осветил мне лишь дорогу к смерти! Я был вознесен высоко
над пропастью, чтобы на этой высоте мог осознать, как низко мне при-
дется падать. Даже теперь я столь же далек от страха, сколь и от надежды,
которая в мечтах все же владеет моими желаниями; и даже минуту назад
я был вооружен решением не бояться ужасов смерти и презирать искуше-
ния жизни, но — словно всего того, что уже причиняло мне боль, недо-
статочно — теперь меня мучают не мои муки, но страдания того, чьими
страданиями я еще живу.
Но его муки (словно жалея, что их прервала его речь), распаляя себя,
питаясь размышлениями о самих себе и будучи абсолютными властите-
лями его сердца, скорее разорвали бы его, чем вырвались наружу.
Без чувств опустился Музидор на бесчувственное тело друга, словно
стараясь во всем походить на него, как вдруг ощутил биение его сердца,
а потом увидел незатуманенный взгляд, не оставлявший слабые попытки
засиять вновь, и услышал от него такое приветствие светлому дню:
— Где я?
— Рядом с тем, — ответил ему Музидор, — кто спешит вместе с тобой
умереть.
— Не надо, — заявил Пирокл, — я спешил, чтобы жить рядом с то-
бой.
— Пусть жизнь или смерть присоединяются к нам, потому что ни той,
ни другой не по силам нас разлучить.
Тут, с трудом поднявшись, Пирокл твердо встал на ноги, но Музидор,
словно ревнуя к ним столь драгоценную ношу, поддержал его, и его силы
придали сил Пироклу, но слабость Пирокла ослабила Музидора.
С помощью воина, который хорошо знал замок, Музидор и Пирокл
принялись искать место, где Пирокл мог бы отдохнуть, и подлечить свои
раны, полученные в недавнем поединке (его тело было плохо защищено,
зато отменно оборонялось); они шли по галерее, когда услыхали из при-
мыкающего к ней покоя печальный голос, едва вырывавшийся из чьей-
то груди, полузадушенный рыданиями, утопленный в слезах, так изме-
нившийся из-за мук той, которой принадлежал, что стал неузнаваемым;
однако он сильнее ранил разум Пирокла, чем его собственные раны, и он
453
пожалел о чужом горе, даже не зная, чье оно и из-за чего. О, как душа,
склонная к восприятию впечатлений всеобъемлющего разума, постигает
непостижимое! То скорбела несчастная Филоклея.
После исчезновения Зелманы, когда их оглушил ужасный шум, дамы
со страхом подошли к окну, выходившему во двор, и стали свидетель-
ницами кровавого побоища, которого они были безвинной причиной.
Розы на их ланитах сменились лилиями, и бледность свела бы на нет да
красоту, если бы их красота не была столь непобедимой, что и бледность
сделалась прекрасной; их наученная горьким опытом память успокои-
ла разум тем, что достигшее предела несчастье не может длиться вечно,
а должно когда-то смениться радостью, поэтому они не ждали ухудшения
своей участи.
Памела не могла заставить себя не думать о том, что Музидор при-
шел ее освободить, но она скорее согласилась бы продолжать свой плен,
чем подвергнуть его опасности, тем не менее, единожды уверовав, что он
в замке, она уже чувствовала на себе удары, причинявшие ему боль, всей
душой жалея побежденного и не радуясь за победителя, наверное, оттого
что печаль более свойственна слабому полу или оттого что победа, на-
сколько ей было известно, не таила в себе опасность.
Что до Филоклеи, то, нежная от природы, она страдала за любого че-
ловека, оказавшегося в опасности, а при воспоминании об опасности,
грозившей ее драгоценной Зелмане (которая, как она знала, не привыкла
оставаться безучастной зрительницей, когда речь шла о серьезных играх),
множество мыслей, безыскусных от природы, искусно живописали страх
на ее лице и точили тоской сердце. Они стояли рядом — Памела, напрас-
но старавшаяся соединить величие с любовью, но всем своим видом гово-
рившая о смятенном величии и величавом замешательстве, и Филоклея,
чьи горе и страх легко соединились в печали, с увлажнившимися глазами,
которые, словно солнца, сиявшие сквозь дождь, слабо освещая омрачен-
ное печалью лицо. И вдруг громко прозвучал приказ освободить дам, ибо
замок пал. Однако, хорошо знакомые с гримасами и улыбками судьбы,
царевны, не давали восторжествовать одним и не желали становиться
пленницами других; к тому же это известие все равно не могло сделать их
счастливыми, пока они не увидали своих властителей, ибо свое сладост-
ное рабство ценили дороже бесценной свободы; вынужденная несвобода
тела не ослабляет добровольного плена ума.
Ах, наступившая тишина сделала их еще более чувствительными
к надвигавшейся буре, один из порывов которой донес весть о гибели
Зелманы, обрушившуюся на них, как раскат грома. Памела (напоминая
скалу в бушующем море, которая стоит неподвижно, несмотря на ветер
и волны) восприняла это жестокое известие, не изменив печального вы-
ражения лица и лишь ее остановившийся взгляд свидетельствовал о дви-
жении ее мыслей, но она не произнесла ни единого слова и не пролила ни
единой слезинки, словно стыдилась показать слабость в столь великом
несчастье. Наверное, так вела себя Ниобея, узнав о смерти своих детей,
пока не превратилась в камень; и так ведут себя все, кто (когда величие
454
торжествует над горем) скорее сломается внутри, чем позволит жалким
жестом облегчить себе ношу.
Но, увы, пораженная известием, не такая сильная Филоклея, приняв
сей страшный удар (если в ее сестре благодарная доброта и сострадание
пробудили лишь печаль, то бушевавшая в Филоклее любовь обратилась
в бесконечное страдание), под его тяжестью упала на землю.
Забыв о своем несчастье, Памела обратила любовь с возлюбленного
на более чем возлюбленную сестру, которой в то мгновение ее помощь
была нужнее, поэтому она постаралась привести ее в чувство, то есть вер-
нуть ее к печали. Сначала ни язык, ни глаза не были в силах выразить
перенесенное Филоклеей потрясение; она била себя кулаками в грудь,
чего не посмел бы сделать даже последний варвар, приносила в жертву
ему, мертвому, вырванные волосы, услаждавшие его, когда он был жив,
царапала себе лицо, чудо природы, вызывавшее всеобщее восхищение.
Памела старалась удержать сестру (из больной превратившись во врача),
но Филоклея сказала ей:
— Ах, сестра, ты не представляешь, какое сокровище я потеряла, со-
кровище, которое было мне дороже всего света. Прости меня ты, которого
даже смерть не в силах убить в моей душе. Прости меня, хранившую твою
тайну и теперь перед всеми открывшую свою, потому что пока я жива
(моя жизнь может быть лишь короткой, и долгой ей быть не суждено),
я буду всем рассказывать о том, о чем прежде стыдилась говорить, о твоих
совершенствах и о моей любви. Мне все равно, что подумают обо мне,
ибо не стало глаз, для которых я желала быть красивой, нет слов, которые
я ценила. Смерть может положить конец моей жизни, но не любви, ко-
торая бесконечна, значит бессмертна. Я бы с радостью покончила с моей
несчастной жизнью, но после такого несчастья для меня позор, если не
хватит печали, чтобы убить меня.
После этих слов небесно-прекрасное лицо Филоклеи (два солнца за-
тмились) покрылось бледностью, и она ничком упала на землю.
Глава тридцать первая
Представляя, какие вести могут дойти до сестер и к чему это приведет,
Пирокл (желая доставить лекарство исстрадавшейся душе Филоклеи,
а уж потом заняться своим лечением) вошел в покои царевны и увидел
ее, которую обнимала Памела (чьи слова и жесты соперничали в доб-
роте).
— Никогда еще твой приход не был так желанен, — сказала она, —
хотя ты всегда желанная гостья для нас, непобедимая Зелмана; но как
тебе и на этот раз удалось не стать добычей смерти?
— Прекрасные дамы, — ответила Зелмана, — кто же откажется сра-
жаться за таких небесных красавиц, как вы? И у кого хватит сил сражать-
ся против вас?
Филоклея (у которой сознание было затуманено от горя и которая по-
началу или не расслышала, что сказала Памела, или заподозрила в ней же-
лание успокоить себя — они обе боялись поверить в то, чего больше всего
желали) не поняла слов сестры. Она подняла на нее взгляд, словно про-
веряя свой слух, но прикосновение Зелманы сделало ненужными и гла-
за и уши, ибо дало ей бесспорное доказательство; прежде чем Филоклея
успела подумать о том, чтобы обнять Зелману, Зелмана уже обнимала ее,
отчего она сразу же вознеслась на небеса счастья, как незадолго до этого
низверглась в адские глубины печали, сама не своя от великого счастья и
безмерного горя. Заметив кровь на одеянии Зелманы и не зная, чья это
кровь, Филоклея побледнела, потом, взглянув на сестру, покраснела, ду-
мая, что та думает, будто ее бледность (сопоставив ее с нежными причита-
ниями) говорит не только о дружеской привязанности. Однако Зелмана,
боясь последствий ее страха, сказала, что ждала поздравлений с победой,
а не соболезнований по поводу миновавшей опасности, и Филоклея по-
старалась оправдать себя безмолвным, но любящим взглядом и страст-
ным пожатием руки.
Потом Памела стала расспрашивать об опасном пути к последней по-
беде, и Зелмана ответила, что мысль о судьбе царевен была более надеж-
ным оружием, чем ее доблесть, и, помня о красоте сестер, она не могла не
побеждать, поэтому сначала разделалась с братьями Анаксия, а потом и
с самим Анаксием (когда бог укрепил ее в ее слабости, чтобы она нака-
зала его за их обиды); но она не могла произнести слово «победа», и не
потому, что стыдилась признать ее, хотя Анаксий погиб, а потому, что не
считала, будто бы превзошла его, ибо видела, как он умирал в победном
порыве и с мыслью о победе, и лишь смерть помешала ему узнать, чем за-
кончился его последний и успешный выпад. Редкое счастье — его жизнь
и судьба слились в одно целое.
Обе сестры высоко оценили храбрость Зелманы, восхитились ее
скромностью и, радуясь своему освобождению, которое приписывали ис-
ключительно ей (их мысли вовсю старались выразить себя без слов, но как
456
можно яснее), благодарили ее радостью на лицах и сиянием глаз; однако
Зелмана (не гонясь за благодарностью, от которой она предпочитала бе-
жать, но как человек, который с помощью зеркала направляет солнечный
луч в другую сторону) запротестовала самым искренним образом, говоря,
что не желает присваивать себе то, что принадлежит другому, особенно
в его присутствии, и, повернувшись к Черному Рыцарю, который все это
время простоял неподвижно, словно ее слуга (вооруженный, но трепещу-
щий от страха при виде невооруженной дамы, которая вряд ли испугалась
бы и целого вооруженного воинства), она с удовольствием произнесла:
— Вот наш освободитель, вернувший нам всем свободу, которому мы
обязаны собой, если свобода делает нас самими собой.
Только тогда Черный Рыцарь, ободренный улыбкой царевны, снял
шлем и, боясь так, как не боялся во время сражения, приблизился к Па-
меле, чтобы поцеловать ей руку; Зелмана же увела Фил оклею подальше,
счастливая, что может побыть с ней наедине и дать возможность другу
поговорить с Памелой, которая тотчас (пока розы его губ сливались с ли-
лией ее руки в один цветок любви) узнала своего Дора; и неожиданность
его поцелуя сказалась в том, что ее мысли отразились на ее лице, кровь
то отливала от щек, то приливала к щекам, но все же она позаимствовала
маску у ненависти, чтобы спрятать любовь, и бросилась в атаку на того,
кто уже сложил оружие:
— Как ты посмел явиться, когда я приказала этого не делать? Ты за-
служил самое страшное наказание, какое только может придумать разум
и исполнить ярость! Или мое униженное положение подвигло тебя на-
рушить мою волю?
Тогда Музидор, заимствуя смелость у отчаяния, так ответил Памеле:
— Твоя правда, госпожа моей жизни и смерти, тогда я был достоин
того, чтобы исчезнуть с лица земли. Но что значит для меня земля земель?
Ты прогнала меня со своих глаз, и (что страшнее всего) заслуженно. Мне
не безразличны твои слова, ведь я пришел, чтобы засвидетельствовать
тебе свою покорность, а иначе покорность ты могла бы расценить как
трусость. Такую любовь, как моя, не разлучную с добродетелью, ничто
не подтолкнет к неверности, чреватой непослушанием, этим незаконным
отпрыском бездумной страсти; непослушанием, в котором и моя совесть
не обвинила бы мои мысли и от которого я пришел отречься. Итак, ис-
полнив все, что было в моих силах, и, пролитой кровью засвидетельство-
вав тебе мою любовь, которую я мог бы засвидетельствовать всей кровью,
что течет в моих жилах, я хочу, чтобы ты, владычица моей судьбы, поняла:
я иду прямым путем и никакая сила не в силах ни к чему меня принудить;
тем более вдали от тебя, потому что лишь твой приказ я чту и чту как свя-
тая святых. А теперь, когда ты знаешь, что я сделал то, что сделал, не из
страха перед другими, а из почтенияк тебе, то пусть не для собственного
удовольствия, но мне в наказание, преследуя того, кто тебе ненавистен,
прикажи мне провести остаток моих несчастных дней где-нибудь вдали
от всех, ибо я не могу показаться на глаза никому, коли я отвержен тобою.
Однако я надеюсь изменить твое мнение обо мне, и после моей смерти ты
457
признаешь, что я был достойным рыцарем, хоть и оказался недостойным
твоей любви.
Когда он, покорившись своей любви, униженно побрел прочь, Па-
мела (решив, что достаточно испытывала его, но все еще не вполне ему
доверяя, сама измученная, но с виду равнодушная), словно только что
вспомнив, сказала, де не хотела бы, чтобы Дамет из-за нее потерял слу-
гу, а Мопса — поклонника, и если он хочет возвратиться к ним, то пусть
сначала все же дождется ее распоряжений. И Дор (подобно человеку, уже
коснувшемуся дна, но выплывшему на поверхность и успокоившемуся
при виде берега, хотя опасность еще не миновала) воспрял духом и даже
повеселел с виду. Но прежде чем его мысли (пришедшие в замешатель-
ство) смогли выразить себя в словах, Памела, предупреждая неистовую
стремительность превращения, обратилась к сестре, упрекая ее и себя
в неблагоразумии, ибо разговорами они мешают своим освободителям
заняться собой. Филоклее ничего не оставалось, как согласиться, к тому
же она сама дрожала от страха из-за ран Зелманы.
Раненные этой учтивостью, Дор и Зелмана покорно, но безрадостно
ей подчинились, более почитая желания дам, нежели свои собственные.
Памела, словно из одной лишь любви к Зелмане, предложила ей разде-
лить покои царевен или занять их самой, но Зелмана, хотя ее язык высту-
пил против сердца, отказалась от того, чего страстно желала, сделав вид,
будто не хочет стеснять девиц. Тогда царевны решили проводить своих
освободителей в их покои, но друзья ответили обычными любезностями
на несколько преувеличенную заботу, и Зелмана, поборов себя, решила
уйти, как пришла, вместе с Дором, однако у обоих был такой вид, словно
они с радостью оставили бы дамам свои сердца и глаза впридачу.
Глава тридцать вторая
Как только друзья оказались наедине в одном из покоев замка,
Зелмана сняла доспехи, и Черному Рыцарю, более искусному в нанесе-
нии ран, чем в их лечении, но все же кое-что знавшему по собственному
недавнему опыту, пришлось стать лекарем. Запасясь всем необходимым,
он осмотрел друга и не нашел опасных ран (кроме последней, на груди),
да и эта не была смертельной. Тогда, соединив свои мысли в беседе, они
оба удвоил свою радость радостью другого.
Потом Черный Рыцарь ненадолго удалился. Заперев за собой дверь,
он отправился во двор поглядеть, не требуется ли его помощь, чтобы
погасить последние искры недавнего пожара, ведь противная сторона
(словно от оружия не было прока и нужно было вооружиться еще и сте-
нами) побежала спасаться в домах, в которых каждому воину приходи-
лось полагаться лишь на себя. Музидор (считавший неудачей свою удачу,
пока не узнал, что его друг тоже удачлив в сражении, так как без этого
он не мог быть счастливым) поручил остатки вражеского воинства сво-
им двум соратникам, тогда как сам пошел посмотреть, так же ли все хо-
рошо в других местах; рыцари быстро обнаружили (ибо от страха стыла
кровь в жилах и плавились сердца у разбежавшихся противников), что
к их ногам бросилось больше безоружных врагов, чем они вдвоем были
в состоянии выслушать и простить, поэтому они устали от помилова-
ний, хотя были довольны больше, чем если бы им пришлось заняться
наказаниями.
Некоторые воины Амфиала, более ловкие или, может быть, более
трусливые, кричали из окон, что сдадутся, если им пообещают оставить
жизнь, но рыцари, презирая трусов, не одолевших их в сражении, и нена-
видя все, что могло быть истолковано как принуждение, не равняли этих
людей с теми, кто сдался без всяких условий, полагаясь лишь на добрую
волю победителей. Исполнив, что положено (то ли полагаясь на добро-
детели других, то ли не доверяя собственным), Овечий Рыцарь удалил-
ся (его рана сильно кровоточила, а так как была нанесена отравленной
стрелой, то у него началась лихорадка); но другой рыцарь, получив ключи
от ворот, отправил знатных пленников в узилища до решения Овечьего
Рыцаря, который без промедления всех отпустил на тех условиях, кото-
рые счел подходящими. После этого поставили дозорных на стены и на-
значили часовых на ночь, но тут пришел посланец их друга, желавшего
с ними попрощаться; его решение удивило и огорчило обоих рыцарей, но,
не теряя времени на слова, они поспешили к нему. Когда же они встрети-
лись и остались одни, он глубоко ранил их души такими речами:
— Мои милые друзья, справедливо называемые мною друзьями, хотя
я до сих пор не знаю ваших имен, мне кажется, я уже сыграл свою роль,
и настала пора опустить занавес. Единственно, смерть может положить
конец настоящей дружбе, и она не любит праздных речей. На турнире
459
в моей родной Иберии, посвященном годовщине свадьбы царицы Ан-
дроманы, я, тогда еще совсем юнец, участвовал в сражении против ко-
ринфских рыцарей, которые превосходили нас в мнении зрителей, пока
воистину блистательные Музидор и Пирокл под водительством юного
царевича Палладия не вернули нам преимущество, совершив достойные
Марса подвиги, если бы он вдруг оказался там, где были они, или их удо-
стоил чести быть призванными туда, где находится он. Потом, когда по
воле случая они покинули страну (рассказ об этом занял бы много вре-
мени и потребовал бы от меня больше сил, чем оставили мне небеса), их
слава не давала мне покоя, сжигая меня изнутри; и я тоже решил уехать
(ибо моя страна была мала для меня), чтобы попытать счастья и добиться
славы или умереть в безвестности, поклявшись не возвращаться домой,
пока Музидор и Пирокл не станут свидетелями моей доблести.
Что было, то было, и пусть об этом вспоминают другие. В конце кон-
цов, влекомый судьбою, я очутился в этой несчастной стране, которая
вошла в мое сердце, а теперь и в мое тело; когда впервые, подчиняясь лю-
бопытству — болезни юности, — я отправился на пастушеское праздне-
ство, желая отдохнуть, но вместо этого потерял покой. Там, ослепленные
созерцанием, измученные счастьем, мои ненасытные глаза не могли ото-
рваться от совершенной красоты, от воплощенного достоинства, от наи-
божественной божественности, от Филоклеи. Ах, мои безрассудные глаза!
Они никак не могли всласть насмотреться и вознесли ее на алтарь моего
сердца, где я мог мысленно поклоняться их избраннице. Предав презре-
нию невежество глаз, легко позволивших лишить себя полюбившегося
им образа, мои мысли пожелали спрятать его в более укромном месте,
и, запомнив каждую черточку этого образа, поместили его на веки вечные
в душе. Какое-то время я влачил свои дни как чужеземный пастух под
именем известного вам Филисида, и, как у других, у меня была возмож-
ность излиться ей в своем красноречии, но не в разговоре с ней — мало
добыть руду, ее еще надо превратить в благородный металл; и я решил не
бросать кости, выбирая между надеждой и отчаянием, чтобы не отдавать
себя во власть чужой воле. Нет, я решил, что она никогда не узнает о сво-
ей власти надо мной, пока я не узнаю, что она думает обо мне; и если она
не пожелает осчастливить меня, то и унизить меня отказом ей не удастся;
если мне не суждено пробудить в ней сострадание, то и ее презрения я не
желал испытать на себе.
В моем сердечном высокомерии я был уверен, что нет ничего невоз-
можного, поэтому посмел дать себе клятву, что, добившись славы подви-
гами, мог бы почтительными речами завоевать ее любовь. Тогда я с ра-
достью присоединился к вам, чтобы принять участие в завершившейся
нынче войне. Хотя я мечтал о славе, все же цель у меня была другая,
и этой целью была Филоклея. Но если у меня, живого, не было возмож-
ности осчастливить царевну Филоклею, как я о том мечтал, то и своею
смертью я не желаю ее огорчать. Я рад, что умираю, не успев проник-
нуться надеждой, и она не пожалеет о том, кто принадлежал ей без ее
ведома.
460
Едва он договорил, как другой рыцарь1 бросился прочь, чтобы опла-
кать свое горе в уединении, а Черный Рыцарь со слезами на глазах обнял
Филисида, открыл ему свое имя и признался, как он рад, что Филисид
исполнил свою клятву и что ему довелось быть соратником, а не про-
тивником, и он не испытал на себе опасную доблесть друга. Довольная
улыбка озарила лицо Филисида, и, поцеловав своих друзей, он пожелал
себе остаться в их памяти, а им так же радоваться жизни, как он радовался
смерти. Филисид умер счастливым, оставив своих друзей несчастными,
ибо они знали его как зеркало храбрости и учтивости, образованности и
доблести, словно его отцом был Марс, а матерью — одна из муз.
Весьма расстроенный невосполнимой потерей, Музидор еще боль-
ше расстроился, вспомнив об опасно раненном друге, поэтому, отослав
всех к Звездному Рыцарю, сам отправился к больному, которого нашел
лежащим, но не отдыхающим, не спящим, но и не грезящем в полусне.
Едва услыхав шаги Музидора, он встрепенулся, словно очнулся от сна,
и поглядел на него (огорченный печалью на его лице, причину которой
не знал) с удивлением и любопытством. Однако Музидор, избегая всего,
что могло бы вызвать бурю, согнал тучи с лица и сказал, что не желает
причинять другу боль.
— Разве, — спросил до глубины души встревоженный Пирокл, — мо-
жет быть у Музидора что-то такое, что мне было бы не интересно?
— Ах, — вздохнул тот, — конечно же нет! Мое горе, возможно, пода-
рит тебе радость, ибо я потерял друга, ты же — соперника.
И Музидор рассказал о том, что произошло. Жалость украсила по-
хвалу, а похвала усилила жалость, и великодушие победило непобедимого
Пирокла; он оплакал того, кого не знал живым, нет, кого он никогда не
полюбил бы живым и кому, несомненно, не пожелал бы иной участи. То,
что прежде могло огорчить его, теперь обрадовало, ибо его правота была
подтверждена любовью достойного рыцаря.
Потом Музидор и Пирокл легли на одну кровать, и так как дружба де-
лала их откровенными, а отсутствие свидетелей храбрыми, то они расска-
зали друг другу обо всем, что произошло во время долгой разлуки. Потом
пришла служанка, посланная сестрами проведать Зелману, и, услышав
двоих там, где она полагала найти одну, к тому же, судя по голосу, вторым
был мужчина, она немедленно возвратилась и рассказала дамам (которые
возлежали на одной кровати) о том, о чем с уверенностью донесли ей ее
уши. Вспыхнувшая Памела с неожиданным волнением заявила сестре:
— Удивительно, до чего странно ведут себя чужеземцы, странствующие
по свету, особенно те, которые принадлежат к нашему полу. Рожденные,
чтобы прожить в четырех стенах, они не могут удержать себя даже в гра-
ницах царства, так что о границах скромности и говорить не приходится.
И все же, хотя мне это не нравится, уважение к ней и еще более уважение
к нам самим, в чьем обществе она появлялась (чтобы слухи о ее позоре,
да еще со всякими подробностями, не расползлись по свету), заставляет
1 Звездный Рыцарь.
461
меня молчать о ее бесстыдстве, иначе нам придется краснеть. Однако ни-
чего не поделаешь: или мы избавимся от нее, или она — от бесстыдства.
— Ох, — вздохнула (еще более кроткая, чем всегда) Филоклея, — не
след нам, сестра, поспешно осуждать тех, кого мы прежде заслужен-
но восхваляли, чтобы не случилось нам переменить свое суждение.
Несомненно, из-за нездоровья Зелмане нужен кто-то, кто был бы рядом.
Может быть, служанка ошиблась, но даже если в одном покое с ней дей-
ствительно находится мужчина, тебе неведомо, зачем он там. Будучи здо-
ровой, она ни с кем не свела знакомство и уж вряд ли сумела бы сделать
это, будучи больной.
— Что может быть легче для женщины, привыкшей обманывать и
скрытничать? Да это, видно, и не новое знакомство. Неужели ты не заме-
тила, что с рыцарем, с которым она пришла к нам, она обходилась скорее
дружески, чем учтиво; значит, их прежняя близость проступила сквозь
видимую вежливость, и ни о долге, ни об учтивости не может идти речь
там, где есть более близкая связь.
Наконец- то Филоклея все поняла и едва удержалась от смеха.
— В этом ты права. Не буду отрицать, нет, даже осмелюсь подтвердить
(и будь уверена, что я не стала бы ничего подтверждать, не утвердившись
в этом сама), что сей рыцарь — человек мудрый1 и Зелмана искренне его
любит, но все же я знаю, ни он, ни она не подвергнут опасности ее честь,
о которой ты заботишься.
Филоклея нанесла сестре такую чувствительную рану, что Памела по-
началу не могла выговорить ни слова, но ее (уже готовую швырнуть свое
сердце с высокой скалы немилости или утопить в собственных слезах)
успокоили другие речи Филоклеи:
— Милая сестра, если бы я могла сказать, как ты мила мне, но словом
более милым! Твое отношение ко мне не только как к сестре, но и как
к подруге, ибо ты даришь меня самым высоким доверием, заставляет
меня устыдиться собственной недоверчивости, и я не хочу, чтобы ты не от
меня узнала мою тайну. Наверное, своей сдержанностью я могу оправдать
твою недоброту, ведь ты, не зная, осуждаешь то, что, уверена, сама скры-
вала бы от других и, может быть, даже одобрила бы. Доверяя тебе свой
секрет, я надеюсь обрести в тебе союзницу, прежде чем другие сделают из
тебя судью. Смелей же, мой язык, и пусть краснеют мои щеки, за кото-
рыми ты прячешься. Не стыдись, нет, гордись, произнося: Зелмана — на
самом деле царевич Пирокл, тот самый, имя которого ты так часто (к его
чести) слышала, а чтобы ты получше припомнила, еще и друг Музидора,
к которому ты сейчас его ревнуешь; это они лежат сейчас рядом, и они
очень любят друг друга. Мне не надо тебе объяснять, почему он предста-
ет переодетым перед людьми и почему я откровенна с тобой. Один и тот
же бог преобразил обоих, одного сделал пастухом, другого — женщиной,
и лишь мы с тобой можем вернуть их самим себе и всему миру, чтобы они
по-прежнему украшали его своими славными делами.
1 Можно также перевести: человек мира.
462
Тут Филоклея, словно поменявшись ролями с сестрой, умолкла, по-
грузившись в свои мысли, и погрустнела, а Памела повеселела (решив,
что достаточно отомщена за прежнюю обиду, и получив от сестры в за-
лог ее тайну) и принялась сокрушаться о жестоком решении отца, пред-
положив, что он сам позаботится их погубить, если ему удастся что-то
разузнать, наверняка, он постарается помешать их любви и даже погу-
бить царевичей, что будет великой потерей не только для царевен, но
и (о чем она более всего сокрушалась) для всего света, который лишится
доблестных мужей, во всех делах являвших свою совершенную природу и
вдохновлявших других следовать за ними дорогой чести, следовательно,
обоим рыцарям надлежит позаботиться о себе и отнестись к этому со всей
серьезностью. Обе царевны погрузились в размышления, и хотя ночь на-
бросила сеть сна на их глаза, ей не удалось увести их мысли от тех, кого
они любили, о ком постоянно думали, когда бодрствовали, и кого видели
в снах, когда спали.
Глава тридцать третья
Еще прежде чем начала бледнеть утренняя звезда1, уступая место
более великому светилу, о чьем приходе (в качестве предвестницы) она
предупреждает мир, сестры проснулись, сетуя на медлительную ночь
и страстными речами выпроваживая тьму, которой они тоже надоели;
царевны поднялись с кровати и торопливо оделись, возможно, не так
изысканно, как прежде, но тщательно и к лицу. После этого, изобразив
озабоченность, а на самом деле сгорая от нетерпения увидеть своих воз-
любленных, они отправились навестить больную. Незадолго до их прихо-
да Музидор покинул Пирокла, чтобы отдать распоряжения о похоронах
Филисида и (выполняя настойчивое желание Пирокла) Анаксия, чья до-
блесть наконец-то получила высшее признание, которому, пока он был
жив, он сам мешал своим бахвальством. Когда царевны подошли к поко-
ям Пирокла, они услыхали, как он пробует голос, намереваясь негромко
спеть рожденную печалью песню, и решили не мешать ему, а послушать,
что у него на сердце.
Не смерти, а любви опасней сила,
Их стрелы мне знакомы с неких пор:
Но смерть, меня поранив, не убила;
Любовь стреляет мыслию в упор.
От смерти лекарь нас спасет, возможно,
От хвори же любовной не сбежать;
Смерть будет тело истязать дотошно,
Любовь же разум счастием пытать.
Ни для кого у смерти нет различий,
Разборчивей любовная стрела!
У смерти милосерднее обычай,
Любовь же и в жестокости мила.
Смерть — избавление, любовь — тюрьма,
Не смерть, любовь вольна казнить сама2.
Едва Пирокл замолчал, как Памела открыла дверь и поздоровалась
с ним, назвав его (чтобы не выдать себя) Зелманой, после чего спросила,
как Зелмана себя чувствует, и Пирокл ответил ей:
— Разве могу я болеть, когда меня пришли утешить ангелы. Какая мо-
жет быть боль, когда я вижу лица, дарящие небесное блаженство?
— Поскольку тебе выпало несчастье оказаться среди нас, — продол-
жала Памела, — и ты, рискуя жизнью, вернула нам свободу, когда мы
1 Венера.
2 Перевод Л.Володарской.
464
случайно, не желая этого, стали причиной твоих бед, то как нам не счи-
тать твою боль своей и не печалиться, когда ты страдаешь?
— О чудные, достойные восхищения создания! — воскликнула
Зелмана. — Пока я жива, всегда буду считать высочайшей милостью то,
как вы почтили меня своим присутствием. Здешние же мои труды возна-
градили меня с избытком, ибо я не могла мечтать о большем, чем доста-
вить вам удовольствие.
Говоря так, взволнованная Зелмана завладела рукой Филоклеи, ко-
торая не отрывала от ее лица красноречивого взгляда (через некоторое
время, однако, скромно потупив его), а потом пришел Черный Рыцарь,
отчего волнение, все время занимавшее мысли Памелы, передались ее
взору. Следом за Черным Рыцарем явился посланец Базилия, который,
исполнив свой долг по отношению к дамам и сообщив им о том, что их
родители пребывают в добром здравии (приглашенный их вопрошающим
вниманием), рассказал, что первый гонец, которого щедрая молва при-
слала к царю (и который сам торопил себя, чтобы принести добрую весть
в ожидании благодарности или вознаграждения), сообщил царю лишь
о взятии замка и об освобождении царских дочерей Черным Рыцарем,
первым положившим конец победам Амфиала. Взглянув на Музидора,
Памела зарделась, и он (ничем не выдав своей радости) возликовал, но
не потому, что его похвалили, а потому, что она слышала, как его похва-
лили. И еще гонец сообщил царю о поединке, в котором Зелмана убила
Анаксия, но и сама недолго прожила после этого.
Тут царь (который был столь милосерден, что предпочитал спасти
одного друга, нежели погубить всех врагов), словно освобождение доче-
рей было слишком малозначительным событием и несопоставимым с ве-
ликой потерей, отдал свою душу во власть печали, пожалуй, даже слиш-
ком сильной для великого царя, добродетельного правителя и разумного
человека. При этих словах на губах Зелманы появилась едва заметная
улыбка; улыбнулась и Филоклея. Но когда посланец заговорил об еще бо-
лее сильном горе Гинесии, они побледнели, испугавшись, как бы ее слезы
не утопили их обоих.
Гинесия (продолжал посланец), словно сойдя с ума, заперлась в своих
покоях, никого не допуская к себе, и придворные стали гадать, что могло
ослабить ее железную волю, коль скоро ее дочери живы, и искать при-
чину неожиданного безумия — смерть чужеземки или горе мужа? Второй
посланец, который был лучше осведомлен, подсластил первое донесе-
ние, сообщив, что Зелмана жива, и царица покинула свои покои, правда,
словно после тяжелой бури: небеса ее лица очистились от туч и воссияли
ярче прежнего. Царь хотел сам явиться к своим дочерям, но его угово-
рили послать вместо себя Филанакса со свитой, чтобы он принял клю-
чи от замка и взял дам под свою охрану. Вскоре Базилию сообщили, что
Зелману лечит рыцарь, освободивший замок и никому не доверивший за-
боту о ней, и Базилий огорчился оттого, что приближенная к нему дама
попала в подобную неприятность и должна была довериться обыкновен-
ному лекарю.
30 Заказ 1414
465
— В это время, — продолжал свой рассказ посланец, — появилась ца-
рица и, достав из шкатулки царский бальзам, наказала, чтобы ты прило-
жила его к своим ранам, прекрасная Зелмана. Еще она просила сказать,
что с этим лекарством ты скоро поправишься, а пока должна соблюдать
покой и воздерживаться от шумного общества в ожидании, когда она
сама займется твоим здоровьем. Поэтому даже вас, своих дочерей (двой-
ное чудо природы) она просила не надоедать Зелмане, чтобы ваш добрый
пример (плохой пример может воодушевить низкорожденных) стал за-
коном для остальных, а меня предупредила о тайном шпионе, который
донесет ей о вашей покорности. Вот такую заботу наша царица проявила
о здоровье прекрасной Зелманы.
Зелмана и Филоклея отлично поняли, кому предназначена угроза
Гинесии. Предписанное ей уединение вновь ввергло Зелману в печаль,
и она еще сильнее ощутила свое нездоровье в результате жестокого ле-
чения. Ее печаль окрепла, едва она вспомнила о причине этого (еще до-
вольно мягкого) послания, о злой буре, которая кипела в груди Гинесии,
и о том, что ждет их в скором будущем. Желая исчезнуть из замка до
появления Филанакса, Черный Рыцарь представил царевнам своего со-
ратника Звездного Рыцаря, чтобы тот разделил с ним славу победителя,
и, поцеловав дамам руки, не забыл преуменьшить свои и преувеличить
его заслуги. Те, что сами полны высших достоинств, не завидуют чужим
достоинствам. Потом, отведя рыцаря в сторонку, посоветовал ему подго-
товиться к отъезду, после чего с неподдельным почтением, робея, напра-
вился к кумиру своей души, желая узнать волю Памелы. Сказав, что все,
сделанное им, сделано исключительно ради нее, он продолжил, заявив,
что ему не нужна благодарность ни от кого другого, и он не хочет быть
признан кем-нибудь другим, пока не признан ею. А Памела (ее лицо све-
тилось скорее любезностью, нежели любовью) пожелала, чтобы он вер-
нулся к своему прежнему господину и вновь завоевал положение, кото-
рого лишился по своей вине, выразив надежду, что впредь он будет вести
себя более сдержанно, если не желает вызвать ее возмущение и стереть
всякое воспоминание о нем из ее памяти.
Музидор, радуясь, как человек, который из ада вознесся в рай, страст-
ными речами постарался вновь завоевать доверие царевны и поклялся,
что если нарушит клятву, то будет готов к ее проклятию (если его раз-
ум когда-нибудь осенит несчастливая мысль, которая могла бы огорчить
ее) и умрет, прежде чем она узнает об этом. И (как осторожный игрок,
который, раз выиграв, больше не рискует), желая запечатать свой слух
приятными речами, покинул Памелу, оставив ей свое сердце и забрав ее
сердце с собой. Не скрывая радости, он пришел к Пироклу и, сообщив
о своем незамедлительном и нежеланном отъезде, отложил все разгово-
ры до встречи в беседке. Потом выслушал учтивые пожелания Филоклеи
относительно неугодной ему службы и, отдав последний долг Филисиду
и Анаксию, уехал из замка вместе со своими воинами, как все думали, на-
встречу Филанаксу, и, пока он не скрылся в облаках пыли, Памела стояла
у окна, провожая его взглядом.
466
Глава тридцать четвертая
Вскоре после того, как Музидор с войском покинул замок, прибыл
Филанакс, именем царя взявший замок под свою власть, и тотчас при-
нялся разыскивать рыцаря, чей подарок (хотя и не из его рук) он принял.
Будучи человеком здравомыслящим, он считал, что царям следует пла-
тить долги (любому человеку, стоящему ниже и сделавшему одолжение)
и не чувствовать себя обязанными кому бы то ни было; поэтому, узнав,
что Черный Рыцарь удалился из замка, он стал расспрашивать о нем и
воздавать ему почести, свидетельствуя, как высоко он ценит его доблесть.
Поздоровавшись с царевнами, Филанакс навестил Зелману и сообщил ей
о том, сколь обеспокоен его господин лечением ее ран, которые она полу-
чила, служа ему, и как ему не терпится выразить ей свои чувства. В ответ
Зелмана сказала, что хотя пролитая кровь и заставила ее слечь, но любез-
ность царя предвосхитила и превысила возможную благодарность. После
этого Филанаксу, который не любил, когда речи соперничают с делами,
ничего не оставалось, как выразить пожелание, чтобы Зелмана, если ей
позволяет здоровье, подготовилась к отъезду вместе со всеми или, если
не позволяет, задержалась в замке на столько времени, на сколько она
сама желает.
Едва Филанакс удалился, Зелмана встала, оделась и принялась ходить
по комнате, отчасти проверяя, готова ли она к путешествию, но главным
образом — есть ли у нее силы насладиться визитом к царевне, к которой
она вскоре, неудержимо влекомая своими мыслями, отправилась, но не
так скоро, как ей самой и Филоклее этого хотелось. Придя к ней (в это
время Памела в другой комнате предавалась размышлениям), она сказала
Филоклее:
— Любовь моя, известно ли тебе, в какой океан несчастий влекут
нас наши чувства и как далеки мы от надежной бухты? Увы, наша тепе-
решняя свобода грозит нам еще большим рабством: мы освободились из
плена, чтобы вновь стать пленниками, и если захватившие нас считали,
что этих бесчувственных стен достаточно, чтобы надежно стеречь нас, то
уж теперь-то за нами будет следить больше глаз, чем у Аргуса, и они бу-
дут ревнивее глаз Юноны. Я бы с удовольствием увез тебя туда, где мог
бы наслаждаться тобою, а ты — моим царством, но сначала этому поме-
шало мое нездоровье, а потом прибытие Филанакса. Пока, в ожидании
удобного случая, я должен вооружить себя против безумия твоего отца,
которое легко обмануть, и ярости твоей матери, которой можно противо-
поставить лишь маску покорности, но носить ее надо с особым искус-
ством. Не доверяй моему виду, будь уверена, что ты одна владеешь моим
сердцем.
Филоклея отвечала, мол, ей все равно, где быть, лишь бы быть с ним,
и все равно, что делать, лишь бы он руководил ею, и она скорее даст сго-
реть себе, чем станет приютом сомнения, что бы ни случилось, она не
позволит себе подумать дурно о своем прекрасном рыцаре. Они расстава-
лись так, словно им предстояло жить в разных царствах.
Наутро, услыхав зов трубы, царевны и Зелмана приготовились к от-
ъезду и без промедления были перевезены через озеро, а потом также без
промедления и под бдительным взором Филанакса расселись на коней
и проскакали всего две-три мили, прежде чем увидели встречавшего их
Базилия. В первую очередь царь обнял своих дочерей, но не потому что
очень соскучился по ним, а потому что хотел оставить все остальное вре-
мя для Зелманы, которую целовал глазами, еще не оторвав губ от дочерей.
Выказав ей столько чувств, сколько позволяли приличия и присутствие
множества людей, он сказал, что больше всего жаждал ее вызволения из
плена, что на свете нет ничего ценнее ее спокойствия и что он огорчен,
ибо не ему выпало счастье подарить ей свободу, хотя он тоже мечтает сра-
зиться за нее как простой рыцарь и таким образом объявить всем о своей
любви.
Зелмана возразила ему, напомнив, что он великий царь, от которого
зависят многие люди, поэтому неблагоразумно рисковать своей жизнью
ради той, чья смерть не погубит никого, кроме нее самой.
— Погубит тебя? — откликнулся Базилий. — Нет, пусть губит сна-
чала меня, потому что мне все равно тебя не пережить. И не думай, что
Черный Рыцарь или какой-нибудь другой рыцарь отважатся ради тебя
на большее, нежели я. Все-таки у царей несчастливая участь, а ведь они
обычные люди с обычными чувствами.
Конец путешествия положил конец их беседе. Подождав, когда все
спешатся, Гинесия сначала — долг восторжествовал над любовью — не-
брежно поцеловала Памелу, потом, едва сдерживая презрение, Фил оклею
и наконец со страстью — Зелману, после чего стала расспрашивать ама-
зонку о ее ранах, и Зелмана учтиво поблагодарила ее (хотя избыточная
учтивость ничего ей не сулила) за присланную мазь, и Гинесия ответила,
что если б не было другого средства, она бы вырвала из груди сердце и
отдала его Зелмане. Их беседа была прервана Базилием, который подо-
шел, чтобы снять тяжесть со своей души и нагрузить руки, то есть помочь
Зелмане сойти с коня.
К Памеле приблизился Дамет, подпрыгивая, как расшалившийся ре-
бенок, и, едва она спешилась, сразу же повел речь о том, сколь многим
она обязана ему, явившему больше мужества и воли, чем кто-либо другой
во всем царстве, после чего он поклялся, что ни для кого на свете не ри-
сковал так, как рисковал ради нее.
— Ах, — похвастался он, — даже Дор куда-то запропастился, а ведь
слыл храбрецом, так нет же, нашел себе дело подальше от шумной бит-
вы. Он вроде искал заблудившихся овец, но на самом деле прятался, пока
из-за моих подвигов все войско смеялось от радости. Во все то тревожное
время, о котором я не могу вспоминать без дрожи, до меня ни разу не до-
шла весть о нем, разве лишь недавно он прислал весточку с пастухом, ко-
торого встретил по дороге, мол, с большим трудом, но он все же отыскал
отбившихся овец и, не торопясь, ведет их сюда, чтобы они опять не поте-
468
рялись. Ладно, пусть только придет, обещаю, что накажу его за трусость,
ведь он бросил меня, когда у меня самого душа убегала в пятки от страха.
— О нет! — воскликнула Памела. — Тебе не стоит обижаться, не мо-
гут же все быть такими храбрыми, как ты. Наверное, он плохой воин, но
пастух ведь хороший, и надеюсь, ты побережешь его, чтобы он поберег
овец, хоть ему и не по силам убивать людей.
— Честно тебе скажу, ты не изменилась, такая же мудрая, какой была
прежде. Бить его я не стану, но выбранить — выбраню, как следует.
Когда все вошли в дом, где был накрыт ужин, Гинесия первым делом
пожелала заняться ранами Зелманы, чтобы Базилий увидел их уже забин-
тованными. Своей докучливостью он сдерживал страсти Гинесии, кото-
рые, однако, могли в любую минуту обрушиться на нее с еще большей
силой. Тем не менее нынешнее, хоть и временное, избавление от Базилия
было для Зелманы большой радостью, хотя оно напоминало избавление
от одного яда с помощью другого, ибо амазонка не больше уставала от
царя, чем боялась царицы.
Потом все собрались за ужином, более удивлявшим своим изобилием
глаза, чем насыщавшим тело; с пугающей откровенностью Базилий по-
жирал глазами Зелману, отводя взгляд лишь под грозным взглядом жены
и не сомневаясь в ее жестокой ревности, которая якобы порождена его
поведением; но как раз о его поведении Гинесия (занятая другими), все
замечая, вовсе не думала. Один ее глаз, словно неподвижная звезда, вгля-
дывался в Зелману, а другой (словно летящая комета, сеющая ужас) шны-
рял от Зелманы к Филоклее и обратно, ловя брошенные украдкой взгля-
ды дочери. Томный вид Зелманы вызывал у сидевших за столом зависть,
тогда как она сама не сводила взгляда со стола, словно не желала смотреть
ни на кого, если не могла смотреть на ту, которую любила. Прикованная
мыслями к Зелмане, Филоклея была печальна ее печалью и своей тоже,
но все-таки (как искусный художник, который, насытив глаза любимым
обликом, уходит в себя, чтобы понадежнее запечатлеть его в своей памяти
с помощью воображения) время от времени исподтишка ловила жесты
Зелманы, чтобы получше подражать ей. У Памелы был обычный величе-
ственный вид, хотя она не была там, где была, будучи там, где ее не было.
После ужина было произнесено несколько двусмысленных речей, кото-
рые присутствующие, боясь истолковать неправильно, истолковали дво-
яко или вовсе не связывали с мыслями говорившего (ибо все говорили,
словно во сне, и не то, что думали, а скорее то, чего от них ждали), и все
разошлись по своим покоям, но прежде Базилий пригласил домочадцев
смотреть утром пастораль, которую намеревались представить пастухи,
желая поздравить царевен с благополучным возвращением.
Глава тридцать пятая1
Базилий (в согласии с предсказанием оракула) вернул домой своих
дочерей и вновь зажил в привычном уединении, когда минуло совсем
немного дней и полностью восстановленный в хозяйском доверии Дор,
дождавшись, когда Зелмана одна направилась к беседке, отпросился
у Дамета и последовал за нею. Они встретились возле беседки, уселись
среди прекрасных цветов под широколистным платаном и повели рас-
сказ о странном паломничестве своих страстей, ничего не упуская из
того, чем имеют обыкновение делиться сердечные друзья — ни радо-
стей, ни печалей. Воистину нет более сладостного мгновения в дружбе,
чем то мгновение, когда души соединяются в сочувствии и утешении,
и опечаленный разум уже не столь печален, поскольку есть друг, который
искренне опечален его горем, да и в радости он тоже не один и, зная, что
ему не завидуют, может спокойно делиться ею, ибо видит неискаженное
отражение своей радости (в чистом зеркале искренней дружбы) и живую
картину собственного счастья.
Немало было ими сказано, прежде чем Дор (который никак не мог
сладить со своим сердцем и рассказать то, ради чего он пришел, ибо ему
было необходимо как-то помягче сообщить другу о своем недобром на-
мерении), наконец, слово за слово, поведал Зелмане, как Памела, пове-
рив его страстным клятвам ни к чему не принуждать ее, пока он не при-
везет ее в Фессалию, снизошла до того, что согласилась тайно бежать
в ближайший порт, потому что, помимо странного умонастроения сво-
его отца, которое все более овладевало им, видела и то, что он все оче-
виднее и бессмысленнее ограничивает ее свободу (по неведомой причи-
не, разве что из необоснованной ревности). Это не могло не прибавить
в ней ненависти к ее образу жизни, к тому же она доверяла добродетели
своего возлюбленного, но самое главное, что подтолкнуло ее к реши-
тельным действиям — недавно пережитый страх потерять Дора, кото-
рый Памела не желала пережить еще раз (лучше умереть), но который
был вполне возможен, если бы подобное существование продлилось;
поэтому теперь они лишь ждут удобного момента, когда рядом не будет
трех отвратительных соглядатаев, чью подозрительность подстегивает
глупость.
— Вот, — продолжал Дор, — милый брат (начало нашей дружбе по-
ложила природа, воспитание укрепило ее, а добродетель сделала вечной),
теперь ты знаешь, на чем зиждется моя жизнь. Стань же судьей между
мной и моей судьбой. Тебе тоже ведома власть любви, и, я знаю, ты не
откажешь мне в сочувствии. Все же радость покидает мое сердце, едва я
подумаю о том, что мы опять расстаемся! Небо свидетель, из-за бегства
1 Далее повествование продолжается в соответствии с авторской рукописью
«Старой Аркадии».
470
меня не будут мучить угрызения совести. Колдовское желание, не даю-
щее мне покоя, взяло такую власть надо мной, что я стал его рабом и не
свободен даже в своих решениях. Мои мысли поглощены одним, как бы
мне увезти отсюда мое бесценное сокровище. И все же, мой возлюблен-
ный брат, если ты считаешь, что я оскверняю святость истинной дружбы,
которой я, недостойный, связан с тобой, только скажи слово, и я оста-
нусь. Возможно, твое приказание так повлияет на мое сердце, как не мо-
жет повлиять мой разум. Боги запрещают отвратительное слово разлука,
и верный Музидор подчинится Пироклу! Но если ты в силах обойтись без
меня, когда мое присутствие ничем не помогает тебе, да и удаленность
наших жилищ не позволяет нам часто видеться; нет, если ты сочтешь,
что, уехав, я смогу быть тебе полезнее, например приведя сюда войско,
чтобы принудить Базилия волей или неволей осчастливить себя и отдать
тебе Филоклею, тогда я с радостью отправлюсь с этим поручением и буду
думать, что половина дела уже сделана, коли начало положено в счастли-
вый час дружеского согласия.
Речи Дора не были такими связными и безыскусными, как обычно,
ибо прерывались тяжелыми вздохами, да и щеки у него то бледнели, то
краснели, так сильно его сердце чувствовало свою вину перед дружбой,
которой оба дорожили. Радостно внимавшая рассказу друга о его счастье,
Зелмана едва услыхала о планах Дора и застыла в глубоком потрясении.
Ее мысленному взору явились, смягченные горем, образы ее собствен-
ной судьбы: мучительные желания, отчаяние, обременительные капри-
зы Базилия, яростная ревность Гинесии, да и положение царевича без
свиты, мужчины в женском обличье, отвратительно любимого и опасно
влюбленного, а теперь в довершение всего еще и это — одиночество, ко-
гда друг оставляет тебя и усиливает боль разлуки недобрым намерением.
Подумав немного, она решительно отмела свои возражения и, желая сча-
стья другу, несмотря на свои несчастья, сказала, глядя на него прямо и
спокойно:
— Если бы я любил тебя, добродетельный Музидор, ради себя само-
го и наша дружба крепла бы лишь для того, чтобы я был счастлив таким
другом, теперь мне было бы очень больно терять тебя, и я призывал бы
землю и небо в свидетели того, как жестоко с твоей стороны лишать меня
моего величайшего утешения, да еще оправдывать это моей страстью. Но
ведь я люблю тебя ради тебя и знаю, сколь ты достоин любви, поэтому
готов возвести здание моей радости на фундаменте твоего благополу-
чия, и назову счастье моей дружбы великим, когда увижу тебя, которого
люблю, счастливым. Скажи мне лишь, что ты еще любишь меня — нет
другой цены истинной дружбы! Уезжай, достойный Музидор, пусть тебя
ведет добродетель и удача служит тебе! Пусть твоя любовь будет любимой,
желания осуществленными, бегство безопасным, путешествие легким.
Пусть ничто не препятствует тебе в пути. Что до меня, то разлука не со-
трет твой образ с моих глаз, мои несчастья не помешают мне радоваться
твоей удаче и подневольное сердце никогда не изгонит тебя оттуда, где ты
пребудешь вечно.
471
Дор был бы рад ответить Зелмане, признать, что она оказалась выше
него в дружбе, но отчасти печаль из-за разлуки с тем, которого он любил,
отчасти забота о том, в каком состоянии он оставляет друга, привели его
мысли в смущение, и он не один раз пожалел, что задумал такое, да еще
открыл Пироклу свое тайное намерение. Однако Пирокл, который от-
лично понимал Дора, решил во что бы то ни стало успокоить его.
— Мой единственный друг, — сказала Зелмана, — если твоя добрая
судьба ведет тебя к счастью, не позволяй узам нашей любви мешать тебе.
Мне радостно, если ты рядом, но будет еще радостнее, если ты будешь
счастлив. Иначе дружба похожа на вражду, когда один ставит свои чувства
выше счастья друга. Меня огорчает лишь то, что я ничем не могу тебе по-
мочь.
— О Зелмана, — воскликнул Дор, и на глаза ему навернулись сле-
зы, — я бы не стал заранее сообщать тебе о своих планах, если бы не хотел
узнать, что ты о них думаешь. Твое доброе расположение побудило меня
к этому, и оно укрепило меня в моем решении. Не могу не воздать тебе
хвалу, ибо ты ловишь меня в сети любви, а мою любовь — в сети мудрости.
Знай, добро обратится злом и неблагодарность будет приметой правдиво-
го сердца, когда в моей душе не станет места для Пирокла и моим губам
надоест с благоговением произносить имя Пирокла.
Наверное, они еще долго не решались бы на злую разлуку и на пе-
чальные слова прощания, если бы Зелмана не заметила вдали старого
Базилия, который, принеся жертвы Аполлону за счастливое возвращение
своих дочерей и, главным образом, возлюбленной, теперь повсюду искал
ее. Войдя в поле ее зрения, он постарался придать себе более привлека-
тельный вид, стал по-молодому поднимать ноги, пригладил бороду и вы-
прямил спину.
— Увы, — вздохнула Зелмана, — вон идет злая первопричина твоего
несчастного бегства. Я вижу одну из фурий, которая неустанно преследу-
ет меня. Прощай, прощай, мой Музидор. Да пошлют боги судьбу служить
твоим добродетелям и помогут мне перейти это озеро несчастий.
Дор схватил Зелману за руку и разразился слезами.
— Нет, нет, — сказал он, — я с завязанными глазами иду туда, куда
меня ведет мое злосчастье, потому что теперь, когда уже слишком позд-
но, сердце подсказывает мне, что наша разлука не окончится для меня
добром. Но если я останусь жив, жди меня тут с войском.
Итак, устрашенные и опечаленные разлукой (но еще прежде решив-
шие ни при каких условиях не называть своих имен, чтобы не запятнать
честь царских фамилий, но оставить себе имена Даифанта и Палладия),
Музидор и Пирокл разошлись в разные стороны: Дор направился в сто-
рону царских покоев, где надеялся немного развеселить мрачный взор,
а Зелмана — навстречу Базилию, мысленно говоря себе с усмешкой:
«Пока еще удача не лишила меня приятного общества». После долгих
поисков Базилий увидел Зелману, и тут сомнение и желание вступили
в яростную схватку в его мыслях. Прежний опыт научил его сомневать-
ся, а искренняя любовь — бояться сомнений, но желание очень скоро
472
выиграло сражение, и царь обратился к Зелмане в самой подобостраст-
ной манере, на какую только был способен:
— О богиня, — сказал он, — пред тобой я более всего трепету и про-
шу тебя, не сердись за дары, принесенные мной Аполлону, ведь он зна-
ет (если хоть что-то знает), что в моем сердце куда больше благоговения
перед тобой, нежели перед любым другим божеством.
— Не обманывайся на мой счет, — отозвалась Зелмана. — Не мне со-
перничать с Аполлоном, и хула ему не может быть похвалой мне.
Тогда Базилий достал из-за пазухи написанные им стихи и, прекло-
нив колена, подал их Зелмане. Вот они:
Прощай, о Феб! Тебе я изменил
С богиней восхитительней тебя.
Я все твое забыл — я не забыл
Той, кем свобода зиждется моя,
В чьем взоре приговор мой вижу я.
Прощай, о Феб! Тебе я изменил;
Ты так далек, на высоте твой трон —
В ней власть земной красы, не горних сил.
Тобой пленяюсь я, в нее влюблен;
Боюсь тебя, ей вольно подчинен.
Феб, ты моих не самодержец дум:
Твой образ грозный растворился в ней.
Теперь, коль местью возбужден твой ум
К ней, свергнувшей твой храм в душе моей,
Встречь бег ее направь моих сетей.
Любовь ко мне унизит пусть ее —
Вот месть за поражение твое.
— Этот гимн я посвятил тебе, — сказал Базилий, — он достался мне
не от предков, а родился в моей груди. Храм, в котором он звучит изо дня
в день — моя душа, а жертва, которую я приношу тебе — я сам.
Зелмана, всегда считавшая, что в речах Базилия есть привкус горько-
го лекарства или яда, будь ее воля, лишь презрительным взглядом ответи-
ла бы на его вирши, однако царь вновь принялся осыпать ее множеством
жалобных причитаний и в конце концов обвинил свое несчастное уеди-
нение в том, что оно мешает исполнению его желаний. Поэтому, прогово-
рил он, коль скоро злая сила, заставившая его покинуть двор, побеждена
(он не сомневался, что Филанакс поддержит его), а недавние несчастья
научили, как опасно царю жить в плохо охраняемом месте, он-де решил
возвратиться в свой дворец в Мантинее, мол, там у него есть надежда по-
казать ей, как сильно его желание отдать ей все, что у него есть; и еще
много сладких слов произнес он, которые мое перо не в силах запечат-
леть на бумаге. Зелмана едва осталась жива; доброе начало ее отношений
473
с Филоклеей побуждало к настойчивому их продолжению, пока не ис-
полнятся ее желания; и она смертельно боялась переезда в более людное
место, где под пристальными взглядами многочисленных глаз с нее рано
или поздно будет сорвана маска, что лишит ее надежды и даже тепереш-
них радостей. Зелмана молчала, раздумывая о ежедневных неожиданных
поворотах в лабиринте своей судьбы, но, в конце концов решив, что ей
лучше всего удержать царя от переезда, постановила заставить его всяки-
ми любезностями полюбить свое уединение, в котором он должен быть
окружен постоянным вниманием, так как невнимание побуждает его же-
лать отъезда.
Итак, лукаво взглянув на него, Зелмана сказала:
— Правильно говорят, что годы холодят кровь. Как быстро, милый
друг, ты предаешься страхам, когда обид еще нет и в помине! Разве ты не
знаешь, что сдержанность дана нам природой, да, женщину трудно заво-
евать — но в этом единственное оправдание того, что она в конце концов
сдается. Тебе кажется, будто ты не можешь владеть мной или я не могу
подарить тебе себя, но ведь и мне не хочется, чтобы мной завладевали из
придворного тщеславия. Неужели я буду с большим почтением относить-
ся к мужчине, если ему прислуживает целая рать красавцев, которую он
боится отослать от себя?
Видели бы вы, как Базилий покорно сдержал себя, опустил глаза и
стал переминаться с ноги на ногу — так сильно на него подействовали ее
слова.
— О Геракл! — воскликнул он. — Это Базилий-то боится! И кровь
у него такая холодная, что кипит, будто на огне! Мне все равно, кто еще
рядом со мной, когда я блаженствую возле тебя, и место, где я нахожусь,
богато или убого в зависимости от твоей похвалы или хулы. Позволь мне
надеть доспехи твоего благословения, и я вызову на поединок любого,
кто пожелает сразиться со мной. Нет, нет, твоя любовь сильна, и меня мой
возраст не лишил сил.
Зелмана подумала, что для царского желудка не очень полезно по-
лучать сразу столько внимания, поэтому, решив, что для первого раза до-
статочно, ибо теперь Базилию незачем срываться с места, она грациозно
кивнула головой и покинула его, сказав на прощание, что оставляет его,
желая посмотреть, как ему удастся справиться с щедрым даром ее благо-
склонности. Базилию, для которого и капля была освежающим потоком,
не достало смелости настаивать, и он со старомодной учтивостью предо-
ставил ей наслаждаться пиршеством из ее собственных желаний.
Глава тридцать шестая
Едва Базилий скрылся из вида, как Зелмана направилась к дому
Памелы в надежде встретиться там со своим другом Дором, чтобы по-
радовать себя еще одним мучительным прощанием и посоветоваться
с ним о своем собственном положении, так как прежде она была слиш-
ком печальна, чтобы о нем думать. Но, подойдя совсем близко, она за-
метила вход в пещеру, сотворенную, по-видимому, природой, отвергшей
искусство и самолично украсившей богатым мрамором свод снаружи.
Под ногами блестела золотыми вкрапинами руда, как будто река нес-
ла золото с песком в море. В пещере оказалось много красивых и про-
сторных залов, какие более всего нравятся людям, любящим удобства.
Посередине плескалась прелестная речушка, ненадолго оставившая свет
ради узкого ложа в темном, но красивом дворце, который с первого же
взгляда побудил печальную Зелману дать волю своим мыслям. Усевшись
у входа, она излила грусть в недавно сочиненной ею песне, которая
звучала так:
С тех пор, как страсти яростная тьма
(Всё омрачил красы соседней свет)
В темницу ввергла разум мой, где тьма, —
Мой разум, чьим водителем был свет;
С тех пор как вещи, славшие мне свет,
Питаются плодами грез, где тьма,
И внутренние окна, в коих свет
Был для меня, унынья застит тьма;
С тех пор как и в уме, и в чувствах тьма
Царит, и помощи не шлет им свет,
Чей луч лишь учит, как ужасна тьма,
Но тьму пресуществить не может в свет, —
С тех пор я счастлив здесь. Я знаю: тьма
В ум не заронит мысль, чье имя свет.
Вместо музыки она сопровождала свою песню тем, что заламывала
руки, закрывала усталые глаза и прерывисто вздыхала, мешая свободно-
му и естественному излиянию звуков. Пока Зелмана молчала, размыш-
ляя о своей песне и стараясь поднять себе настроение, понимая, что се-
тования в одиночестве не помогут тому, кто не в силах помочь себе сам,
она услыхала слабый голос, доносившийся до нее из глубины пещеры.
Он усиливался, подобно духовым инструментам, и понемногу Зелмане
удалось разобрать слова, звучавшие под аккомпанемент неблагородной
лиры:
475
О призраки, о адских фурий хор!
Мне угрожает мощная беда,
Сил беспощадных яростный напор —
Знать, небом я разлюблен навсегда.
Я, как обломок, брошен на простор,
Я слаб и мал, кругом бурлит вода;
О грот, о гроб, о смерть, ко мне, сюда —
Давно я к вам мою мечту простер.
Что жизнь, когда в объятьях смерти я,
Несчастья воздух впитывает грудь,
Не только взор ослеп — вся плоть моя!
Заказан помыслам высоким путь.
Уперлись в смерть все тропы бытия,
Живым я отбыл в смертные края.
Голос ненадолго умолк, а потом под печальную мелодию пропел
октаву:
Как люди те, чья суть извращена
И сладких яств вкусней им кислота,
Так я: душа моя заключена
В оковы страсти; радость, красота —
Их дружба светлая мне не нужна,
А боль знакома мне и не страшна.
Я болен смертью, но ее перста
Касанье сладко; смерть — моя мечта.
— О Венера, — воскликнула Зелмана, — кому так хорошо известны
мои страдания, что он смог создать из них живой портрет? Верно, это
дух, назначенный позаботиться обо мне и теперь в темноте присоеди-
нившийся к моим жалобам. Однако если у неба во все времена есть мера
наказаний, какие оно посылает нам в гневе, наверняка, на мою долю их
уже выпало столько, что остальному человечеству причитается слишком
малая часть, чтобы вызывать столь громкие стенания. Кто бы ты ни был,
я разыщу тебя, ведь твоя песня говорит мне, что мы с тобой подмастерья
у одного и того же злого господина.
С этими словами она встала и пошла на голос, пока не увидала за-
жженную свечу на камне, а рядом с ней лист бумаги со стихами, по-
видимому совсем недавно записанными:
Как солнце в небе, чьи лучи блестят,
Причиной ночи, где не видит взгляд?
Как я, чьи члены как в огне горят,
Хоть проклял боль, но обожаю яд?
476
Рассудка выкладки химер творят,
Рождают чувства яростных менад;
Рассудок с чувством мира не хотят,
Кто ни осилит — в плен я буду взят.
Пусть облака мне видеть не велят,
Пусть в небе будет тьма все дни подряд,
От вздохов гаснут пусть лучи услад,
Цвет дней отчаянием будет смят.
Перо мое ржавеет, мысли спят,
Язык к гортани навсегда прижат.
Под сонетом были еще такие строчки:
Темно в пещере, но когда ж был свет?
Воск убыли не чувствует своей.
Слова являют боль, но не болят.
Я сумрачен, а был — яснее нет.
Не убывает сердце без скорбей.
Я жалуюсь — и скорби полон взгляд.
Бессильны вы: пещера, воск, слова —
Вместить, явить, сказать, чем боль жива.
Зелмана недолго вчитывалась в стихи, потому что невдалеке, в тем-
ном углу, увидала лежавшую ничком женщину — Зелмана не могла ее раз-
глядеть, но и она не могла разглядеть Зелману. Тем не менее человеческой
природе свойственно любопытство, да и печаль всегда рада найти себе
подругу. Зелмана подошла поближе и, ступая как можно тише, услыхала
страстные рыдания, сквозь которые прорывались такие слова:
— О тьма, мне кажется, с тобой я лучше вижу, что творится во тьме
моей груди, тебя я взяла в тайные свидетели моей печали, так дай мне на-
дежное убежище и пусть моя печаль не наскучит тебе; если это возможно,
разреши мне излить ее в словах и облегчить себе сердце. Ах, печаль, ты
уже завладела мною, так передохни, не сжигай вновь свою добычу! О про-
клятый разум, у тебя много глаз, чтобы видеть зло, которое ты творишь,
но они ничего не видят, нет, они слепы, когда надо предотвратить порок!
Несчастная, пусть я погибну, уж коли порок торжествует, так нет, тяже-
лое обвинение предъявляет мне притесненная добродетель. Я разрезана
пополам, как мне выстоять? Я повержена, кто поднимет меня? Порок —
всего лишь нянька будущих мучений, а добродетель, от которой я отвер-
нулась, делает ненавистное сравнение еще ненавистней. Нет, нет, добро-
детель, или во мне всегда была лишь тень тебя, или ты сама тень. Как же
одинока моя душа! Напрасны мои старания! Мучительны мои желания,
ибо они безнадежны, но даже если есть надежда, она обернется бедой.
О, удивительное свойство человеческого ума: в нем осталось доброго ров-
но настолько, чтобы сокрушаться из-за совершаемого зла. Адские фурии
(слишком поздно мне будить мою умершую добродетель или просить
477
покоя у рассерженных богов), вы, адские фурии, услышьте меня и по-
могите той, которая посвящает себя служению вам; утолите мою ярость,
тогда и вы будете довольны. Не бойтесь слишком осчастливить меня, ибо
ничто не успокоит жгучую боль преступной совести. Мне бы лишь унять
адский пламень моих желаний. Несчастная Гинесия!
Едва Зелмана услыхала имя Гинесии, как ее прошиб холодный пот,
словно она чудом не наступила на смертоносную гадюку; она отпря-
нула, но так как из-за переполнивших ее чувств двигалась не так бес-
шумно, как прежде, Гинесия, услыхала ее и тотчас вскочила — в самом
деле это была Гинесия, забредшая в пещеру (ту самую, в которой Дамет
прятал Памелу во время недавнего бунта), чтобы переменой места усми-
рить свою боль. А так как ее мысли были постоянно заняты Зелманой,
то от любящего взгляда не укрылось, что это она и есть. Заметив же, что
она готова бежать, Гинесия бросилась ей в ноги и, схватив за руку, вос-
кликнула:
— Ах, куда и от кого ты бежишь? Самых свирепых зверей можно при-
ручить, и нет такого камня, который нельзя было бы смягчить. Отчего же
Гинесия недостойна даже твоего взгляда? Неужели любовь не возвышает?
О, не думай, что жестокость и неблагодарность — порождения добро-
го разума! Так полюбуйся же, полюбуйся новыми безумствами могучей
страсти, которая, пренебрегая моим положением, моим полом, бросает
меня просительницей к твоим ногам. Счастливицей, которая выносила
тебя, радостями твоего сердца и твоим наслаждением умоляю, погляди
на меня, пожалей меня и помоги мне теперь, чтобы не оплакивать меня
после моей смерти, ежечасно угрожающей мне.
Прибавив эту встречу ко множеству неудач, постигших ее в последнее
время, Зелмана нетерпеливо произнесла:
— Без сомнения, сударыня, если желание может быть удовлетворе-
но и если оно высказано столь достойной дамой, для отказа должна быть
веская причина; но когда сие невозможно с самого начала, то единствен-
ным ответом может быть утешение, но не помощь, да еще печаль для нас
обеих: для тебя — потому что ты не можешь взять, для меня — потому что
я не могу дать.
— О, — воскликнула Гинесия. — сколь искусна твоя насмешка.
Неужели Гинесия заслужила такого презрения? Неужели я для тебя лишь
отвратительный червяк? Ну нет, не думай, жестокосердный тигр, я не
буду единственной актрисой в нашей трагедии! Если мне придется пасть,
то своими обломками я придавлю еще кое-кого. Если придется сгореть,
моим злобным ближним тоже достанется от моего пожара. Неужели ты
не понял, что мой взгляд проник за твою обманчивую личину? Разве я
не говорила тебе, о глупец (хотя я глупее тебя!), что знаю, какую обиду
ты наносишь нам своим видом? Ну, ты все еще внимаешь влюбленному
женскому сердцу? Девчонка, избранная тобой в возлюбленные, верно,
защитит тебя, когда Базилий узнает, как ты обманом затуманил ему раз-
ум и обманом замыслил обесчестить его дом! Верь мне, верь мне, злой
человек, великой местью я положу конец моим страданиям, проклятая
478
моя кровинка узнает боль моей раны, ты — своей власти, а я (признаю) —
своей мести.
Зелмана давно предполагала, что ее тайна раскрыта, а теперь узнала
это наверняка и стала похожа на того (по пословице), кому что огонь,
что полымя. Отвергнуть Гинесию — и ее любовь превратится в нена-
висть; пойти ей навстречу — но сердце Зелманы отдано Филоклее, и это
тяжелее тысячи смертей. Все же она должна была принять решение, по-
тому что угрозы Гинесии не давали ей отсрочки, и если бы, правда, тайна
Зелманы вышла наружу, то это грозило бы не только великой опасностью
Филоклее, но и ее собственным чаяниям пришел бы конец. Кроме того,
амазонке припомнились речи Базилия, его готовность переменить жизнь
и вернуться ко двору, тем самым лишив ее последних надежд. И наконец,
Зелмане пришло в голову, что бегство Дора, наверняка, изменит ее жизнь.
Итак, столкнувшись с неожиданными трудностями, Зелмана постаралась
придумать что-нибудь, чтобы спасти себя и добиться исполнения сво-
его единственного желания. У нее не оставалось другого выхода, кроме
как покориться, ведь сопротивление вызвало бы еще большую досаду
у Гинесии, а так будет плыть по течению, возможно, ее само собой вы-
бросит на берег из потока кипящих страстей.
Глава тридцать седьмая
Раздираемый на части любовью и дружбой и отдалившийся от дру-
га ради возлюбленной, Дор, хотя никогда не считал себя связанным по
рукам и ногам дружеской верностью (которая не мешает добиваться удо-
влетворения желаний), все же строго судил себя и изо всех сил старался
придумать, как ему поскорей вернуться, чтобы выручить друга. Однако
сначала надо было решить, каким образом бежать из Аркадии, потому что
он уже получил согласие Памелы (как бы от имени Мопсы и в ее при-
сутствии). Дор пользовался этим прикрытием, когда ему нужно было
о чем-то попросить Памелу, и зависть Мопсы стала инструментом дости-
жения того, чему она завидовала. Таким образом, одолев первую и наи-
более опасную преграду, Дор задумался о том, как ему собрать богатый
урожай своих желаний, о котором имел самое счастливое представление.
Отпросившись на несколько дней у своего хозяина Дамета (который уже
видел в нем мужа своей дочери), он обошел окрестности в поисках та-
кой дороги в ближайший порт, о которой все забыли. Когда эта цель была
достигнута, Дор нанял барк и лошадей и вернулся домой. Ему осталось
последнее — придумать, как обмануть опостылевшую подозрительность
трех постоянных стражей; и он мудро решил ко всем троим подойти по-
разному, в зависимости от ума и желаний каждого. Путаница в голове
Дамета, например, лучше всего управлялась жадностью, злобное серд-
це Мисо — ревностью, как у всех, кто не верит в добродетель. Что же до
юной госпожи Мопсы, то, зная о ее любопытстве, Дор решил на любо-
пытстве ее и поймать.
В первую очередь он занялся Даметом. Целый день Дор работал за де-
сять миль от дома (в противоположной стороне от той, в какую собирался
бежать с Памелой), копая землю возле старого дуба и делая это таким об-
разом, чтобы как можно дольше продержать Дамета в жадном ожидании,
а потом пришел к нему, изображая радость и нетерпение, и взял его за
правую руку, словно желая поделиться великой тайной.
— Господин, — сказал Дор, — я никогда не думал, что боги отдадут
мой разум, взращенный свободным, во власть неотвязного желания слу-
жить тебе; а они к тому же надумали богато одарить тебя, ибо ты возлюб-
лен ими, насколько я могу судить по твоей честности. Вот почему совесть
велит мне открыть то, что, уверен, предназначено тебе, дабы ты был воз-
награжден в согласии с твоими заслугами.
Дор умолк, давая Дамету время пораскинуть мозгами, и тот, еще не
сообразив, к чему ведет его слуга, но поняв, что его речи не сулят ему
ничего плохого, захотел узнать, о чем тот говорит, так как навообразить
мог, что угодно. Итак, стянув с головы колпак, чего он никогда прежде не
делал, и пообещав Дору отдать ему Мопсу, даже если она будет с головы
до ног в парче и золоте, Дамет попросил не длить его неведение, ибо ему
трудно сладить со своим сердцем.
480
— Хозяин, — ответил Дор, — ты так обрадовал меня обещанием бла-
женства, о котором я только и мечтаю, что, даже если бы не внушенный
мне свыше долг, я бы все равно считал себя щедро вознагражденным то-
бой. Твоими будут мое везение и плоды моих трудов.
Тогда-то Дор и рассказал Дамету, как, выкопав небольшую ямку под
старым дубом (место он пометил, и его легко отыскать), нашел много
ценных медалей, а копнув поглубже, наткнулся на большой камень, ко-
торый, судя по тому, как глухо зазвенела лопата, закрывал вход в подзе-
мелье. На камне стояла кипарисовая шкатулка с вырезанным на крышке
именем доблестного Аристомена, а внутри шкатулки хранились стихи,
в которых было сказано, что если копать дальше, то сыщешь богатство,
которое он спрятал, потому что ему пришлось бежать из Аркадии из-за
случившихся в стране распрей. С этими словами Дор вручил Дамету не-
сколько золотых медалей, давно хранившихся у него, и спросил (так как
дело было тайное, а управиться с ним за день ничего не стоило и одному
человеку), не пожелает ли Дамет послать его раскапывать клад — пока
он этого не делал, намереваясь прежде выяснить намерения хозяина и
обещая принести все, что он только найдет в подземелье, или же Дамету
лучше пойти самому и первому насладиться столь приятным зрели-
щем.
Всякому ясно, что выбрал Дамет, который уже воочию видел несмет-
ные богатства и возненавидел напарника, прежде чем отыскал их. На-
грузив лопатами и мотыгами сильную лошадь и рассчитывая привести
ее назад с совсем другим грузом, Дамет поспешил к дубу, никого ни
о чем не предупредив и лишь попросив Дора хорошенько присмотреть
за царевной Памелой, кстати, наобещав ему золотые горы, но не со-
бираясь исполнять свое обещание, то есть ведя себя как дурак, не по-
думавший о том, что человека, не пожелавшего взять все богатство, не
прельстить его частью. Он уехал, воображая, какие понастроит дворцы,
какие роскошные блюда ему будут подавать и, среди прочего, сколь-
ко денег придется потратить на сундуки для хранения богатств. Десять
миль показались ему длиннее двадцати и все-таки, вопреки всему, не-
утомительными. То и дело он клял свою лошадь за то, что она не же-
лает бежать быстрее, когда у него такое важное дело, и жалел, что его
спина не такая крепкая, как у осла, не то он помог бы лошади увез-
ти богатства (неудачник, которому надо было бы пожелать себе другую
голову).
Добравшись наконец до дуба, который, как он надеялся, принесет
ему золотые желуди, Дамет снял с лошади лопаты и мотыги и принялся
долбить безобидную землю, время от времени ловясь на птичий клей обе-
щанных медалей, которые служили прекрасной приманкой; так он ко-
пал много часов, постоянно натыкаясь на булыжники, затруднявшие ему
работу, пока, весь вспотевший, не увидел большой камень, но, господь
свидетель, не похожий на тот, что должен был скрывать вход в подземе-
лье, хотя на нем стояла кипарисовая шкатулка с именем Аристомена на
крышке и стихами внутри:
31 Заказ 1414
481
Несчастный тот, чей внутренний разлад
Желанного лишил его предмета,
Скрыл здесь надежду цепь своих утрат
Прервать, спрося у мудрости совета.
Что здесь лежит — незаменимо это,
В нем отдых, жизнь и роскошь всех услад,
Оно даримая за труд монета,
Ты б отдал за него все блага света.
Скажи теперь, какой зарыт здесь клад
И что сокровища его сулят?
Дамет открыл шкатулку, прочитал стихи, обрадовался и с новыми си-
лами взялся за работу.
А между тем не успел Дамет отъехать и на полмили, Дор отыскал
Мисо, которая сидела возле камина, что-то бормотала себе под нос и
всем своим видом выражала невыносимую усталость; она не только не
верила в будущее, но, не зная никого, кто привлек бы ее умом или обли-
чьем и помог ей успокоиться, давно возненавидела всех, кто ее окружал,
и теперь начинала ненавидеть себя. Перед этой-то добродушной дамой
и предстал Дор, сложив губы в улыбку, которая одновременно изобража-
ла угодливую радость и вынужденное сожаление.
Для Мисо чужая радость всегда была источником зависти, так что она
тотчас обратила внимание на Дора и, одарив его взглядом, напоенным
давно взлелеянной злобой, произнесла:
— Черт бы побрал негодяев, которым не надоедает смеяться над тем,
что я не такая красивая, как госпожа Мопса! Только посмотрите, как этот
щенок уставился на меня!
Дор не упустил удачный момент.
— Дорогая госпожа, — отозвался он, — мне не ты смешна, а те, кого нет
рядом с тобой. Нет, правда, не поразвлечься ли нам, как это делают другие?
— С этими словами он притянул к себе Мисо и принялся мять ее в своих
объятиях. — А что, госпожа, самое время устроить хорошую ночку, пока
другие занимают твое законное место да еще в твое законное время.
Всегда готовая подозревать худшее, злобная Мисо, чтобы удовлетво-
рить свое любопытство, прикинулась кроткой и нежно попросила Дора
рассказать все, что ему известно.
— ...потому что, — заявила она, — с меня хватит вранья моего неоте-
санного деревенщины.
Дор сделал вид, будто не имел в виду ничего плохого, и долго отне-
кивался, подстегивая ее нетерпение и подготавливая доверчивость, но
в конце концов посерьезнел, словно в нем заговорила совесть, и сказал:
— Госпожа, я сам сбит с толку и не знаю, как поступить, но мой разум
всегда советовал мне поступать честно, так что теперь и не знаю, какие
тайны честные и их надо свято хранить, а какие нечестные и, значит, хра-
нить их не надо, и в особенности что делать с моей тайной, потому что
ежели ее открыть, то можно предотвратить зло или, по крайней мере, его
482
исправить. Пожалуй, я положусь на тебя, ведь ты не злоупотребишь тем,
что я скажу, и скорее воспримешь чужие грехи как возможность просиять
своими достоинствами, а не мстить за обиды. Так вот, госпожа, — продол-
жал Дор, — вчера я гнал овец на большую гору, которая рядом с городом
Мантинеей, и случайно увидал в небольшой ложбине, укрытой от ярост-
ного солнца, юную девушку замечательной красоты; но еще прекрасней
она показалась мне оттого, что была прекрасна от природы, а не заботами
искусства. Судя по одежде, это была дочь пастуха, и ее волосы свободно
ниспадали на плечи, но когда им случалось заслонять чистые звезды ее
глаз, она откидывала их назад и за уши, вновь открывая истинное сокро-
вище красоты. На коленях у нее лежала голова пастуха, лицо которого
скрывали складки ее одежды, и пока я разглядывал девушку и парня, ее
голос завладел моим слухом. Она пела:
Мое он сердце взял, а я его,
Так справедливый совершен обмен.
Во век не потеряем мы того,
Чем каждый от другого был почтен.
Вот так храним друг друга мы сердца:
Мое путеводитель для него,
И будет им владеть он до конца;
Его же сердце мне родней всего.
Я взглядом сердце ранила ему,
Вид раны этой ранил сердце мне;
И оттого так больно моему,
Что боль случилась по моей вине.
В обмене болью правды торжество:
Мое он сердце взял, а я его.
Пастух, голова которого лежала у нее на коленях, словно ожил от
ее дыхания, и едва она умолкла, как он ответил ей деревенской песней:
О речь — медвяная роса с высот!
О вздохи — сладость лучшего плода!
О языка пленительного мед!
О голос с песней певчего дрозда!
Вы подтверждаете: не лжет она,
Что мне принадлежит, что мне верна.
О волосы — что осень в листопад,
Уста — как бок черешни наливной,
Глаза — как у оленей и телят,
И грудь, что с агнцем спорит белизной, —
Скрепили вы печатью, что она
Мне принадлежна будет и верна.
31*
483
О, плоть ее, что глаже валунов,
И шерсти отполосканной нежней,
И тяжелей, чем мускулы борцов,
Покрыта кожей, творога свежей!
Я взыскан четырьмя и четырьмя,
Но ты, девятая, помилуй мя!
Умолкнув, он обнял ее колени со словами: «О прекрасная Чарита,
когда же ты подаришь усладу моим утомленным мыслям? И когда я на-
конец получу обещанное блаженство?» Тут я подобрался к ним поближе
и увидел (потому что он поднял голову, чтобы заглянуть в ее прекрасные
глаза), что это мой хозяин Дамет...
Тут Мисо прервала Дора и выбранила Дамета в таких выражениях,
о существовании которых я и не подозревал.
Словно обидевшись на нее за нетерпеливость, Дор долго не желал
продолжать рассказ, пока Мисо не пообещала сидеть тихо.
— Если тебя так разгорячили первые удары в барабан, — сказал он, —
то что станется с тобою, когда дело дойдет до дела?
И он поведал ей, как после многих забав (похваставшись, что ему
доверяет сам царь, разложив перед девицей много дорогих подарков
и пообещав еще больше подарков) Дамет в конце концов уговорился
с Чаритой о свидании в тот же вечер часов в десять часов в Мантинее на
Заброшенной улице в доме ее дядюшки. Тут Дамет заметил Дора и, по-
дозвав его, хвастливо поведал ему о своем счастье, приказав ему, Дору,
возвратиться к старой ведьме Мисо (именно так, о моя добрая и веселая
госпожа, он назвал тебя) и придумать что-нибудь правдоподобное, чтобы
оправдать его отсутствие. «Если бы ты знала, — проговорил он, целуя Ча-
риту, — что за жизнь у меня была с вонючей сукой, ты бы из одной жало-
сти раскрыла мне свои объятия».
— Так что теперь, госпожа, — продолжал Дор, — испытай свое благо-
разумие. Будь я уверен в тебе, то посоветовал бы идти в Мантинею, чтобы
(притаившись до назначенного времени в доме какой-нибудь из твоих
подружек) поймать их, когда они будут вместе, и, простив хозяина, вер-
нуть его к благочестию.
Больше всего Мисо разозлили похвалы Дора красоте Чариты, ко-
торые разожгли ее ревность, отравленную завистью. И еще сильнее она
взревновала, когда Дор сказал о подарках Дамета (это известие про-
брало ее до самых печенок); ее глубоко сидящие глаза вспыхнули так
ужасно, что можно было подумать, будто Плутон задешево завладел ее
душой. По мере того как внутри у нее разгоралось злое пламя, тому, кто
хотел бы знать, как выглядит Алекто, или пожелал бы представить лицо
убивающей своих детей Медеи, для удовлетворения своего желания до-
статочно было бы посмотреть на Мисо. Она (которая прежде едва ковы-
ляла на костылях) теперь летала по дому на крыльях ярости, и не было
мести, о какой она когда-либо слыхала, чтобы та не пришла ей в голову.
Выдавив из себя всего несколько слов (и их-то она едва сумела произ-
484
нести из-за расходившегося сердца), Мисо сбежала вниз по лестнице,
собственными руками запрягла кобылу, которая еще семь лет назад не
была знакома с седлом, и помчалась в Мантинею, рассуждая сама с со-
бой, как бы ей получше пристыдить и наказать своего проклятого мужа.
Однако не стоит она того, чтобы я слишком долго повествовал о ее чув-
ствах.
Пора заняться госпожой Мопсой (последней, на которой Дор соби-
рался испытать свою хитрость), ведь в отсутствии родителей она должна
была присматривать за царевной Памелой, поселенной в доме Дамета,
насколько было известно Мопсе, из-за возникших у Базилия подозре-
ний. В согласии со своей низкой природой (таким людям в радость ви-
деть страдания тех, кого они считают счастливчиками) Мопса весьма
возгордилась и принялась с особым усердием совать нос во все, что де-
лала Памела. Для слабого сердца нет ничего губительнее власти, которая
словно крепкий напиток для хрупкого сосуда; к тому же Мопса завидова-
ла красоте Памелы и часто говорила себе, что, родись она царевной, как
Памела, и ее совершенства не остались бы незамеченными.
Вот с такой женщиной и в таких декорациях Дор должен был сыграть
последнюю роль. Он быстро справился бы, попросту связав Мопсу, чтобы
она не мешала ему, однако добродетельная Памела (поняв, что он заду-
мал) взглядом запретила это и решительно заявила, что не желает сеять
зло, поскольку сама объясняет свое бегство причиненным ей злом. Итак,
Дору пришлось вспомнить первоначальный план. Они сидели все вме-
сте: Памела размышляла о странном бегстве, на которое она снизошла
согласиться, Мопса неотрывно разглядывала себя в зеркале, а Дор, устро-
ившись между ними, смотрел в потолок. Через какое-то время Дор при-
нялся дрожать всем телом и то и дело сползать на пол, чтобы дать Мопсе
(суетливой, как пчелка, если ей хотелось что-то разузнать) повод спросить
своего возлюбленного Дора, почему он так странно ведет себя; но Дор
не отвечал ей, словно погрузившись в размышления о чем-то неземном,
и тер лоб, содрогаясь всем телом, таким образом вызывая у нее неодоли-
мое любопытство, и она скорее готова была забыть девичий стыд, чем и
дальше оставаться в неведении.
А Дор не отвечал, продолжая держать ее в нестерпимом неведении.
— О Геракл! — воскликнул он наконец. — Разреши мои сомнения.
Дерево, исполняющее желания! Уж не из-за него ли царь ведет уединен-
ную жизнь? А мне что делать? И так нехорошо, и этак. Я несчастен отто-
го, что не знаю, как поступить!
Эта беседа Дора с самим собой еще сильнее разожгла любопытство
Мопсы, и прелестная свинушка, обняв его за шею, попросила:
— Миленький Дор, повтори, что ты сказал, или я не знаю, что со мной
будет. Ненаглядный Дор, ну же, повтори!
Поняв, что он полностью завладел мыслями девицы, Дор сказал:
— Возлюбленная Мопса, мы имеем дело с материей столь великой,
что у меня не хватает слов, но ежели тебе так уж хочется узнать, в чем
дело, может быть, ты поможешь мне найти слова.
485
И Дор поведал ей нечто несусветное: будто много миллионов лет
назад Юпитер, рассердившись на Аполлона, изгнал его с небес и лишил
божественной сути, так что бедняжке пришлось влачить незавидное су-
ществование из-за непривычки к работе и попрошайничеству; короче
говоря, он стал пастухом у Адмета1 и как-то раз (взявшись переправить
из Аркадии выведенную там породу овец) забрался в самую глушь, где те-
перь живет Базилий, устал и устроился на отдых в ветвях большого ясеня,
который по сей день стоит недалеко от царского дома. Многими жалост-
ливыми словами он выпросил себе прощение у своего отца Юпитера и
прямо с дерева был вознесен в золотые сферы. А так как богам не свой-
ственна неблагодарность, то он наградил Адмета двойной жизнью, а за-
одно и дерево, ставшее часовней для его молений, он тоже наградил: вся-
кий, кто, подобно ему, надев пастушеское платье, станет молиться в вет-
вях, получит все, что ни пожелает. Об этом оракул поведал Базилию. Вот
почему Базилий одевается, как пастух, и хочет быть похожим на пастуха,
однако он напрасно старается, вот и пришлось ему открыть свою тайну
Дамету, а еще он заставил Дамета поклясться, что тот загадает желание
вместо него.
— Так как, — продолжал Дор, — в то время Аполлон был в большом
горе и бродил, закрывая лицо красным плащом, подаренным ему Адметом,
то и те, кто хочет загадать желание, должны надевать красные плащи, вот
мой хозяин Дамет и отправился на поиски такого плаща, и завтра он воз-
вратится. Моя госпожа, не могу сказать как, но тоже разузнала об этом
и поехала в Мантинею, чтобы прежде него обзавестись красным плащом
и первой загадать желание. Перед отъездом хозяин под большим секре-
том рассказал мне обо всем и приказал присмотреть, чтобы никто не за-
лезал на дерево. Но у меня, моя Мопса, — продолжал Дор, — тоже есть
такой плащ, и я не дурак, чтобы не испытать дерево сам. Останавливает
меня лишь то, что ничего в мире мне не надо, кроме тебя и твоей благо-
склонности, поэтому я подумал, что лучше мне все-таки заполучить тебя
по твоей доброй воле, нежели колдовством. Так что выбирай (а я тебя все
равно заполучу), как тебе больше нравится.
Вряд ли даже ребенку так хочется новую игрушку, как Мопсе захоте-
лось оказаться на ветке волшебного дерева, поэтому, не раздумывая, по-
обещав Дору исполнить все, что он пожелает, она принялась всячески
просить и умолять его, чтобы он разрешил ей первой залезть на чудо-
дерево, уверяя, что он сможет завладеть ею, и не лазая по деревьям. Дору
нельзя было терять время, и он не стал долго отнекиваться, а помог Мопсе
залезть едва ли не на вершину, чтобы она не могла спуститься вниз без
чужой помощи, к тому же он так обмотал ей лицо, что освободиться са-
мой ей было не под силу. Напоследок Дор сказал, что она должна обра-
титься мыслями к Аполлону и не шуметь, тогда часов через двенадцать
1 Адмет — в греческой мифологии фессалийский герой, царь Фер. Аполлон,
искупая убийство киклопов, служил пастухом у Адмета и помог ему добыть не-
весту.
486
она услышит голос, который трижды назовет ее по имени, и до третье-
го раза ей лучше не отвечать, «зато потом постарайся поумнее просить
и, в каком бы виде он ни явился к тебе, говори смело, тогда твое желание
будет исполнено; это так же верно, как я хочу твоей любви».
С этими словами Дор покинул Мопсу, которая в мыслях уже стала
первой дамой на земле и с этого дня собиралась есть кашу только на мо-
локе и со специями.
Глава тридцать восьмая
Вот так Дор сбыл с рук всех трех мучителей и помчался за наградой;
посадил любезную Памелу на доброго коня, купленного специально для
нее, и повез ее нехожеными тропами, где заранее оставил метки, в бли-
жайший порт; но прежде укутал Памелу в шарфы, хотя не сомневался,
что им никто не встретится до самого корабля, ожидавшего их ближе
к ночи. Однако Памелу, которую гнала вперед любовь, мучил неотступ-
ный страх, и ей недоставало холодной решимости, чтобы решить, хорошо
ли она поступает, поэтому по закону любви она передала заботу о себе
тому, кому отдала себя самое. Но теперь, когда надежда несколько усми-
рила желание и страхи почти исчезли, разум вновь взял власть над ее
сердцем, заставив Памелу заглянуть в себя и рассудить, на каких крыльях
она упорхнула из родного гнезда и что подвигло ее на это. Укрепленная
близостью возлюбленного, любовь крепко владела сердцем Памелы, пока
ее рука лежала на плече преданного слуги, но вдруг, застенчиво опустив
глаза долу, правда все еще прижавшись к возлюбленному (как подзащит-
ный, который вверяет свою честь надежному адвокату), Памела с нежной
кротостью произнесла:
— Царь Музидор... я знаю, что по справедливости должна называть
тебя так, ведь ни с кем другим мое сердце не позволило бы мне бежать,
и если я неправильно называю тебя, то все остальные слова столь же бес-
полезны, сколь несчастлива моя затея, и я столь же неудачлива, сколь ты
опасен... мой царь Музидор, я так называю тебя. Теперь, когда страстные
свидетельства твоей верной любви принудили меня ответить тебе, хотя
и против законов разума, отдать в твои руки мой титул, мою жизнь, мою
честь, настал твой черед подтвердить свою любовь, чтобы я знала — ты
не только добродетельный завоеватель, но и добродетельный хранитель,
и твоя верность одинакова — что в плену, что на воле. Будь сдержан и
управляй своей любовью так, чтобы я оставалась достойной твоей любви.
Помни о своем обещании, которое вышними дарителями добродетели
заклинаю тебя сдержать. Пусть я буду твоей, ведь я уже твоя, но не как до-
быча бесчестного победителя. Пусть наша радость, которая должна быть
вечной, останется чистой в наших душах. Пусть даже тень раскаяния не
проникнет в наше счастье. Я согласна быть твоей женой, но подожди,
пока я не стану твоей женой по закону — не дай пороку отяготить мне
сердце. Что мне еще сказать? Если я сделала правильный выбор, то все
сомнения остались в прошлом, но лишь ты своими делами можешь под-
твердить, поступила я правильно или неправильно, последовав за тобой.
Музидор (в сердце которого было больше радости, чем у Улисса, ко-
гда он похитил роковой Палладий1, как считалось, единственную релик-
1 Палладий — изображение вооруженного божества, считавшееся хранителем
города. Наиболее известен троянский Палладий, подаренный Зевсом Трое и укра-
денный Одиссеем, или Улиссом.
488
вию, оберегавшую Трою) взял руку Памелы в свои, много раз поцеловал
ее и сказал:
— Каков я, полагаю, боги скоро предоставят судить тебе самой, а что
до моего отношения к тебе, то пусть время станет залогом того, что твое
расположение дороже мне всего остального, поэтому не сомневайся в на-
мерениях того, чьи мысли стремятся в рабство к тебе, чтобы ты направляла
их по своему усмотрению. Ты несправедлива по отношению к себе, если
думаешь, будто низкий человек может помышлять о возвышенном и по-
рочный разум оценить твои добродетели. Единственное, признаюсь тебе,
чего я никогда не смогу сделать, это заставить мир признать, что ты выбра-
ла достойного мужа, ибо во всем мире нет рыцаря, достойного тебя.
В такой приятной беседе Музидор и Памела совершали путешествие,
утверждая в своих сердцах воистину гармоничную любовь и посвящая друг
друга в тайники своей души, пока царевна не устала от непривычной езды;
и тогда они спешились, чтобы отдохнуть в прекрасной чаще, не пожалев-
шей для них своих красот. Сосны сходились в небе вершинами, даруя земле
приятную тень, а между ними тут и там вырывались на поверхность сладкие
родники. На прекрасный ковер из зеленой травы Музидор выложил много
фруктов и всякой еды, прибереженной им для такого случая, но Памеле
больше хотелось бродить между деревьями, и она оставляла на коре имена
Музидора и Памелы, соединяя и изменяя их на Памедора и Музимелу, так
она давала волю своему неуемному воображению, которое слишком долго
держала в узде. А одному дереву (более прочих понравившемуся Памеле)
она доверила сокровище своих мыслей:
Не презирай, о гордая сосна,
В тебя вонзившегося острия.
Я тот, кем плоть твоя уязвлена,
Ты та, кем ранена душа моя.
И высь ствола, и долгость лезвия —
В них ранящая больно прямизна:
Твою кору как уберег бы я,
Когда моя душа уязвлена?
Живи еще, будь, как теперь, стройна:
Свидетельствует пусть твоя кора,
Как ты к страдальцу не была добра.
Пройдет увечье — хлынет строк волна.
Перо — для сердца, сердце — для пера,
Даренью так дарящая сестра.
На корне же, выступающем из земли, Памела начертала двустишие:
Сладчайший корень всех желаний ты,
Наряд любви на теле чистоты.
489
Обратив внимание, сколь приятному занятию предалась Памела,
Музидор присоединился к ней и явил свою страсть в стихах, которые
тоже вырезал на коре:
О сосны, вы прекрасны и стройны,
Близ неба вы качаете главами,
Дары еще вам на земле даны,
Но счастье больше их пребудет с вами.
Блаженны вы (и благословлены)
Тем, что ее прекрасными перстами
Вам на кору слова нанесены,
С другими не сравнимые словами.
Теперь молю вас: будьте мне друзьями;
Да будут рядом напечатлены
Слова, беднее тех, — но разве даме
И слову дамы слуги не нужны?
И мысль моя рабыня, нет сомненья,
Той, раньше ранившей кору сосны,
Да все ее исполнит повеленья:
Кто ниже родом, те служить должны.
Но самым высшим — нет им возвышенья;
Одна возможность есть для них — паденья.
Усевшись под деревом, Памела стала составлять букет из расцветших
поблизости цветов и ублажать слух Музидора неземной мелодией, кото-
рую он никогда прежде не слыхал, еще раз завоевав замок его сердца, уже
однажды павший к ее ногам; и Музидор, чтобы подтвердить это, в ответ
на ее прелестную песню пропел несколько негромких, но милых стихов.
Итак, сначала ее песня, а потом его ответ.
Памела: Цветов разнообразных съединенье
Ковром чудесным покрывает луг;
Различно также лепестков строенье,
Но вид узора стал прекрасным вдруг.
Все свойства сердца носят чин заслуг,
И правы помыслы в своей заботе:
Свой труд у каждого и свой досуг,
Но все ведет к добру в конечном счете.
И сколь ни есть во мне форм, свойств, сторон —
Все зрит своею собственностью он.
Музидор: Все зрит своею собственностью он
В тебе, рожденной мира быть зеницей,
490
Кометою взлететь на небосклон,
В зенит на крыльях восковых стремится.
С природой слабой смертного ужиться
Могла ль такая прихоть искони?
Реки: ты мой — и впору мне гордиться,
Поработи — и я вознагражден.
Нельзя своею правотой кичиться —
Все на земле к погибели стремится.
Мы двое у тебя: я верный друг,
А ты себе награда вне заслуг.
И Музидора, и Памелу радовала эта добродетельная игра. Когда же
Памела, отведав фруктов, задремала (устав от долгого бдения перед пу-
гавшим ее испытанием) и положила голову на колени возлюбленному,
Музидор принялся убаюкивать ее песней:
О веки, опуститесь: свет времен
Храните в красоте ее очей.
Так разуму ее потребен сон:
Мощь духа превышает разум в ней.
Пока на страже ты ее лучей
(Сих стрел любви — кто ими не пронзен?),
Сон, сбереги ее от всех скорбей,
Чтоб ход твой не был снами возмущен.
Но сны, коль непреложен ваш закон
И нерушим в редчайших средь людей,
В чей мир входить вам любо, как на трон,
То сослужите службу мне скорей:
Реките, к ней входя, приняв мой вид:
«Мне день как ночь, пока твой взор горит!»
Памела погрузилась в приятный сон, и Музидор мог без помехи лю-
боваться совершенной красотой царевны. Ее чистый лоб он сравнил с по-
лем, на котором сошлись все его желания, а каждый волос на ее голове —
с прочной цепью, приковавшей его к возлюбленной. Ее прекрасные веки,
скрывающие еще более прекрасные глаза, — с жемчужными раковинами,
которые ценны сами по себе, но прячут еще более ценные сокровища. Он
порадовал свой взгляд прелестной палитрой ее щек; потом розы ее губ
(которые, разделяясь, дарили его мудрыми речами) притянули его взгляд
к себе, чтобы он полюбовался, как прелестны они, когда, сомкнувшись,
соединяют воедино свою красоту; а за ними его мысленный взор увидел
(как в засаде) два ряда воинов в ослепительно белых доспехах, держащих
безукоризненный строй. А чтобы ее красота не показалась творением
искусного мастера, наружу пробиралось теплое дыхание, свидетель ее
491
внутренней прелести, но пробиралось украдкой, потому что не хотело
навсегда покинуть любезное обиталище, а желало возвратиться обрат-
но в надежно запертый рай; и оно взяло такую власть над Музидором,
что он наклонился как можно ниже и стал радостно ловить ее дыхание,
решив, что лучше всех живет хамелеон1, если может наслаждаться такой
пищей.
Однако недолго пришлось радоваться Музидору, потому что, откуда
ни возьмись, появились шутовского вида простолюдины, вооруженные,
кто чем, а лицами и одеждой весьма смахивавшие на дикарей; и они (сами
несчастливые, умножали свои беды, мучая других) кричали так громко,
что разбудили Памелу, отчего Музидор в ярости обернулся к ним, как ти-
грица, у которой украли детенышей.
1 Считалось, что хамелеон питается воздухом. То же сравнение в трагедии
Шекспира «Гамлет» («I eat the air, promise crammed»).
Глава тридцать девятая
Однако Зелмана, которую я покинул в пещере в трудном положе-
нии (противостоящей недюженному уму и бушующим страстям), вновь
требует от меня одолжить ей перо, чтобы узнать, сколь ловко она суме-
ла избежать опасность. Поскольку Зелмане надо было одновременно
защитить себя от ярости Гинесии и превзойти ее в уме (ведь она имела
дело с дамой, разум которой всегда бодрствовал и уступал свои позиции
лишь в любовной беде), она увидела единственный выход в том, чтобы
подать ей надежду и уму противопоставить наивность. Однако торопить-
ся не следовало, иначе Гинесия получила бы слишком большое преиму-
щество, поэтому амазонка решила действовать постепенно и испод-
воль.
— Твои мудрые, но малопонятные речи, прекрасная госпожа, столь
замысловаты, — для начала сказала она, — что я не знаю, как мне по-
лучше ответить, ведь твои мольбы смешались с угрозами и любовь спря-
талась под именем мести, родной дочери смертельной ненависти. Тебе не
нравится мой облик, но другой тебе понравился бы еще меньше. Без вся-
кой надежды (единственного спасения неустойчивого разума) ты жаж-
дешь моей любви, так как уверена, будто она дарована другой. Ты пы-
таешься быть жестокой, еще не завладев мною, желая ревниво удержать
то, что еще не заполучила. Но самое неприятное в твоей ревности — не-
справедливость (ты не желаешь, чтобы твоей дочери достался тот, кого ты
считаешь достойным) и бессмысленность, потому что ты и твоя дочь в не
одинаковом положении и вы не можете помешать друг другу. У меня нет
права (если я тот, за кого ты принимаешь меня) взять тебя в жены, но это
единственное, что я могу сделать, дабы завладеть другой, однако женить-
ба на твоей дочери не помешает мне с благодарностью относиться к той
чести, которой ты своей любовью удостоила меня.
Страдания побуждали Гинесию с радостью принимать любую пере-
дышку, и она, быстро сообразив, что слова Зелманы звучат утешитель-
но, решила показать, что никакая сила не заставит ее причинить вред
Зелмане, если она ответит ей взаимностью.
— Увы, возлюбленная Зелмана, мысли — всего лишь дети разума,
а язык — слуга мыслей. Поэтому не удивляйся противоречию в моих
словах, ибо в голове у меня постоянно воюют армии смертельных вра-
гов. Ах, если бы я могла быть разумной, тогда мне не пришлось бы как
неразумной попасть в беду; но благоразумие покинуло меня, и я не
в силах исправить мое неразумие. Позаботься же о моем разуме, которо-
му нет покоя, и не позволяй ему из-за твоего невнимания пускаться во
все тяжкие. Мне нужно одно, чтобы ты ответила на мою любовь, нужно,
чтобы моя любовь нашла у тебя достойный отклик. Если так случится, то
знай, моя любовь быстро научит меня, как доставить тебе удовольствие,
и я признаю, моя дочь — невысокая цена за то, чтобы пища моей души
493
всегда была при мне. Но будь осторожна, смотри, чтобы твое презрение
не ввергло меня в отчаяние, которое непременно приведет к беде.
Зелмана (поняла, что приняла правильное решение, ибо ярость
Гинесии несколько поутихла), не видя другого способа развеять ее подо-
зрения (подстегиваемые постоянными болезненными укорами страсти),
решила наивностью завоевать доверие царицы, которое потом могла бы
использовать, призвав на помощь ловкость. Поэтому, глядя на Гинесию
с большей, чем обычно, любезностью и изображая немыслимую робость,
якобы боясь признаться в своей вине, она сказала:
— Достойная госпожа, я никогда не думала, что из-за жалости пре-
дам себя и мудрую решимость моего тела сумеют поколебать чьи-то речи.
Но, видно, меня околдовали твои речи и зачаровала твоя милость. Твоя
доброта побуждает меня открыть сердце и дать волю мыслям. В доказа-
тельство я поведаю тебе мою тайну, о которой ты могла бы догадаться, но
узнать которую тебе никогда не удалось бы, и твоя надежда вечно пре-
бывала бы в болезненном неведении, потому что у тебя никогда не было
бы полной уверенности на мой счет. Послушай, я открою тебе правду,
а потом суди меня, может быть, и повелевай мною. На самом деле я муж-
чина, да, более того, я рожден царевичем. А чтобы ты правильно поняла,
зачем я тут, не буду отрицать, что привело меня сюда доброе отношение
к госпоже Филоклее. Разве могло мне прийти в голову, что небеса про-
льют на меня дождь твоей любви, а в отношении нее у меня была как буд-
то твердая надежда, самая утешительная советчица в любви. Что же до
моего маскарада, то два года назад я был в стране амазонок, где, пытая
свою неудачливую доблесть, не встретил ни одной, которая не была бы
сильнее меня, пока в конце концов в присутствии их царицы Марпесии я
(надеясь победить) не вызвал на конный поединок старую женщину лет
восьмидесяти; вот она-то, победив, вынудила меня ради сохранения моей
жизни поклясться, что я буду путешествовать в обличье безоружной ама-
зонки, пока у меня не вырастет спасительница борода.
Зелмана умолкла, желая понять, что творится в мыслях царицы, ибо
своими речами она намеревалась завоевать доверие Гинесии и, оговорив
себя, охладить (если возможно) ее любовь. Поначалу это как будто уда-
валось, однако Гинесия полюбила Зелману не за доблесть в сражениях,
поэтому ее любовь (пустившая глубокие корни) не могла угаснуть, да и,
кроме того, она своими глазами видела доказательства замечательной до-
блести Зелманы, так что, искусно обойдя молчанием воображаемое бес-
честье, но ухватившись за признание в том, что она мужчина, продолжи-
ла свое скорбное сватовство со стыдливым взглядом любовницы, которая
уже многого добилась, но томима желанием добиться большего.
— Боги, — сказала она, — вознаградят тебя за твое добродетельное
снисхождение к моей изнывающей под тяжким бременем душе, которая
обрела некоторое утешение в твоих словах и уже ободрила истомившуюся
надежду. Ах, как я похожа на того, кто желает обогатиться за счет добытой
руды: сначала нужно отыскать золотоносную жилу, но и когда она, к его
великой радости, найдена, каждое непредвиденное препятствие застав-
494
ляет добытчика тем сильнее печалиться, ведь мелькнувшая было надежда
прибавляет ему мучений; вот и я (счастливая или несчастливая — это за-
висит от твоего благоволения) то ли получу награду за труды, то ли воз-
вращусь во тьму, которая станет для меня еще страшнее после несколь-
ких мгновений слепящего света моего солнца. О Зелмана, не топчи душу,
простертую у твоих ног. Не унижай меня еще пуще в твоих глазах, но суди
меня по тому, что я есть и чем была, и вечным именем любви прости мне
мои ошибки.
После этих слов, изображая ярость, Гинесия принялась рвать на себе
одежды, обнажая прекрасное тело и, несомненно, провоцируя любовную
атаку (не будь сердце Зелманы занято так, что в нем не осталось места для
еще одной гостьи). Зелмана же тем более укреплялась в своем решении,
чем очевиднее была угроза, и не забывала о том, что должна быть столь
же стойкой, сколь учтивой, поэтому обняла Гинесию и несколько раз по-
целовала ее.
— Милая госпожа, — проговорила она, — тот стал бы врагом само-
му себе, кто отказался бы от счастья, обладать которым мечтал бы любой
мужчина. Чем я отплачу тебе за твою благосклонность? Мне нечего дать
тебе, кроме самого себя, так возьми же сей — должен признать — неве-
ликий, но свободный дар. Будь у меня другая, я бы оставил ее ради та-
кой красавицы, к тому же взывающей к благодарности. Боги не допустят,
чтобы я, как дурак, не увидел и, как негодяй, не понял, сколь малы мои
заслуги в сравнении с твоим несказанным великодушием. Нет, все-таки
счастливым было мое несчастье среди амазонок, если бесчестие стало
верной дорогой к почестям и мое новое обличье — утешением для разума.
Госпожа, властью надо мной успокой свое сердце. Осуши красивые глаз-
ки, чтобы они могли служить более благородному делу. Теперь, я пола-
гаю, сказано достаточно, чтобы ты успокоилась на мой счет и чтобы моя
радость от обретенных сокровищ стала и твоей радостью. Пора покинуть
это место, пока тебя не хватились, и отныне не думай ни о чем, я сам
(с великой радостью) позабочусь обо всем, и через пару дней подарю тебе
радость, а себе блаженство.
Сказав так, Зелмана вывела Гинесию из пещеры, потому что видела,
как кипят чувства царицы, быстро оценившей преимущества уединенно-
го места. Однако данное Зелманой обещание в скором времени устроить
свидание, да скромность, нескладная наперсница женского естества, вы-
нудили Гинесию удовлетвориться достигнутым, несмотря на мучитель-
ную радость и горькое утешение, которые она испытала, подобно приго-
воренному к смерти узнику, который страшится близкой казни, но узнает
об обещанном, но еще не подписанном помиловании. Итак, не успели
Гинесия и Зелмана покинуть пещеру, а Гинесия уже убедила себя (о, слаб
человек!) в том, что ей принадлежит любовь Зелманы. Увы, мы все такие:
стоит нам влюбиться, и мы сами обманываем себя, легко ловимся на чу-
жую ложь и легко убеждаем себя в любви любимого человека.
Что до Зелманы, то, вынужденная бороться за свою мечту, она по-
нимала, сколь коротка отсрочка (а дав обещание, она и вовсе назначила
495
предельный срок своего испытания), и задумалась о том, как ей лучше
поступить; ее мысли метались от одной возможности к другой, стараясь
найти лучший путь для достижения заветного желания. Ей было понят-
но, что обман можно поддерживать лишь обманом, но для того чтобы
обманывать подозрительные взгляды и удовлетворять, не удовлетворяя,
обнадеженные желания, требуется немалое искусство. Однако и царице
и Зелмане пришлось отвлечься от своих размышлений из-за Филоклеи и
Базилия, который возлежал на прекрасном, хотя и природном ложе из зе-
леной травы, следил за солнцем, спешно покидавшим запад ради трудов
в другом полушарии, и под влиянием своих тайных порывов пел мадри-
гал, положенный на его лучшую мелодию:
Что скрылась от меня,
Титания, дарительница дня?
Шлешь западу ли весть,
Какими звездами восток богат?
Боязнью ль дух объят,
Что солнце над землей другое есть?
Не худо бы расчесть,
Что за дары стяжают ей права,
Вглядеться, какова
Частица неба в рубище земном...
Не мыслишь, не глядишь — спешишь бегом,
Скользнув по ней едва.
Терпимо ль той, чьей властью свет мы зрим,
Запятнанною светом быть чужим?
Закончив петь, Базилий попросил Филоклею:
— Милая Филоклея, спой и ты, прогони тоску из моих мыслей.
Послушная Филоклея, которая и сама была не против излить тайную
страсть, запела нежным голосом:
О время, устроитель промедленья
(Ведь промедленье — пытка для алчбы),
Как жаждешь ты моих надежд крушенья,
Надежд, наперсниц радостной судьбы.
Моих надежд. Звук сладкого реченья
Для сердца как для пса рожок гоньбы.
Но что стоит за силой выраженья?
Слова повапленные суть гробы.
О время, стань мне легкой колесницей,
Примчи блаженство скорое мне в дом —
Несчастием отсрочка обратится.
496
Удачи сотвори себя отцом,
Чтоб скоро чудная отроковица
Проведала меня с тобой вдвоем.
Филоклея оборвала песню, едва приблизились ее мать с Зелманой,
и с милой робостью поднялась, зная о ненависти к себе своей матери и
волнуясь от встречи с тем, чья любовь превращала страдания в прекрас-
ные цветы на ее любимом венке... Да нет, ее любовь крепла в страданиях.
Подобно тому как появление врагов заставляет укреплять город, и можно
сказать, что враги становятся причиной его силы, так и утвердившийся
в своем решении разум, несмотря на чужие попытки изменить его реше-
ние, лишь учится собираться с силами и из многих возможностей выби-
рать единственное решение.
Но Филоклее не пришлось увидеть знаков любви, потому что Зелмана
не подала их. Ей даже показалось, что Зелмана смотрит на нее иначе, чем
прежде, смелее и безразличней (хотя до этого ее взгляд загорался, стои-
ло появиться прекрасной Филоклее), да и ее учтивость теперь говори-
ла более о воспитанности, нежели о любви; но что было еще страшнее,
так это спокойная уверенность Зелманы, естественно, объясняемая ее
решимостью, нежели внезапно вспыхнувшей страстью. От внимания
Филоклеи не ускользнул интерес Зелманы к ее матери, и она решила, что
хорошо знакомое ей лицо любви повернулось в другую сторону. Она ви-
дела красоту Гинесии и знала о ее любви. То и другое, объединившись
в ее мыслях (еще неискренних в болезненной тайне страсти), побудили
царевну внимательнее присмотреться к поведению Зелманы, которая
в самом деле (хотя и терзаясь и осуждая себя за святотатство по отноше-
нию к прелестной святой, которая жила, укрывшись ото всех, в храме ее
груди) старалась (ибо это был самый надежный способ заставить Гинесию
проглотить наживку) обратить на царицу те знаки любви, которые пре-
жде предназначались царевне, и своей игрой ей удалось обмануть обеих.
Что до Гинесии, то чрезмерная радость от победы над соперницей тешила
ее безмерной радостью. Зато нежная Филоклея, которая в своей робости
была неспособна на воинственное соперничество, испытала такую боль,
что, почти теряя сознание, с трудом добралась до своих покоев и, изне-
могая под тяжелой ношей страданий, бросилась на кровать; и ее горе про-
рвалось наружу потоком слез. Потом она закрыла глаза, словно все, что
она видела, напоминало ей о ее несчастье, и, повернувшись на левый бок,
не обращая внимания на боль в груди, постаралась собраться с силами
и обдумать свое будущее, оплакивая его в таких словах:
— Ах, Филоклея, не это ли цена твоих страданий? Не это ли награда
за твой отказ от свободы? Неужели ответом на покорность служит жесто-
кость, и близость порождает отчуждение? Неужели, выбрав себе друга,
я предрешила свое одиночество, а, исполнив его желания, свои желания
обрекла на забвение? Ах, презренная Филоклея, почему не сохранила ты
бесхитростность в мыслях? Тебе следовало любить лишь свою доброде-
тель, уж она-то никогда не обманула бы тебя! Ах, неискушенная дурочка,
32 Заказ 1414
497
ты искала в нем искренность, а он сам признался в своей лживости, ты
искала в нем честность, а он до сих пор в чужой личине. Говорят, самые
большие обманщики скрываются под маской безупречных правдолюб-
цев. Какую же адскую порочность лелеет в глубине души тот, кто даже
облачен в неподобающие одежды? Нет, нет, мой мерзкий язык, как ты
смеешь хулить украшение земли, сосуд добродетелей? О, несчастная,
зачем я гневлю богов, возводя хулу на их лучшее творение? О нет, нет,
я одна виновата; как я могла подумать, будто взгляд столь великого чело-
века может опускаться так низко? Неужели столь высокое совершенство
станет пятнать себя, обратившись ко мне, недостойной? Ах, как мне не
пришло в голову, что я слишком слаба и не смогу удержать при себе та-
кое сердце, не смогу поставить предел его величию, не знающему преде-
ла? Разве трудно было понять, что его мысли не смогут долго оставаться
с одной Филоклеей? Ах, глупенькая душа, как тебя угораздило поддаться
неисполнимым мечтам? От него зависит счастье многих людей. Как я по-
верила, что могу стать пределом его желаний? Он не сделал тебе ничего
плохого, Филоклея, ничего плохого. Это твоя вина, что ты вообразила,
будто солнце может посылать свои лучи лишь тебе одной!
И все же, царевич Пирокл, мне легче возненавидеть тебя, чем убить
свою любовь, но зачем тебе эта победа? Какую выгоду получишь ты, неза-
служенно низвергнув меня? Разве ты не мог найти более подходящего про-
тивника, чем ничтожный ум бедной девушки, которая с первого взгляда
желала тебе всяческого счастья? Ведь скажут, мол, образец мужественно-
сти погубил безобидную девицу. О Пирокл, Пирокл, позволь мне позвать
тебя судьей на суд твоей добродетели. И пусть я буду истицей в деле, в кото-
ром речь пойдет о моей жизни. Зачем тебе понадобилось прятать лицо под
колдовской маской нарисованной страсти? Зачем тебе понадобилось укре-
плять свои совершенства утонченным искусством? Неужели чтобы своим
искусством разоблачить наше искусство? Зачем тебе понадобилось забыть
о своем достоинстве и перенять привычки слабых женщин? Неужели толь-
ко для того, чтобы захватить неукрепленный замок твоей подруги и разру-
шить его? Неужели тебя увлекла столь незаметная победа? И даже ее позор
не остановил тебя? О, я несчастная, что еще сказать? Моя любовь нена-
видит меня, моя добродетель стыдит меня, и он плохо поступает со мной,
хотя его поступки я никогда не признаю плохими. Вот и все.
С этими словами прелестная Филоклея повернулась на своей не-
счастливой кровати и заметила лютню, на которой Гинесия написала
слова песни, сочиненной ею, когда Базилий якобы пробудил ее ревность
своей запоздалой любовью. Под этим предлогом царица (желая скрыть
неутихающую муку) сделала из лютни памятник своим мыслям, на кото-
рые Филоклея до этого дня не обращала внимания, но теперь она боялась
соперницу, тогда как прежде ее не тревожили чувства матери.
Вот эти стихи.
О лютня, чистой музыки река,
Песнь госпожи твоей на крик походит;
498
От долгих мук полумертва рука,
Душа ни в чем спасенья не находит.
Как цвет чернил, темна ее тоска,
Пером моим сама погибель водит.
С гармонией в разладе голос мой —
Так будь же темой искони немой.
Аккорд нестройный горя и недуга
Присутствует в коловращенье дней.
Не отличающий врага от друга,
Мир неразумен, как игра детей.
Как золото, ко дну идет заслуга,
Зато всплывают пробка и репей.
И низкий лад берет верхов звучанье,
А звук басов походит на журчанье.
Филоклея прочитала стихи и отшвырнула лютню.
— Так вот какое наследство ты завещаешь мне, моя добрая матушка!
— воскликнула она. — Для этого ты родила меня на свет? Или ты носила
меня, чтобы теперь свести в могилу? Неплохое приобретение ты сделала
из своего позора: ограбить дочь, чтоб погубить себя! Неразумные птахи и
те достаточно разумны, чтобы лепить гнезда для своих птенцов. А моя же-
стокая мать выпроваживает меня из родного дома. Ах, не стоит плакать,
все равно некого звать. Да и от кого ждать помощи? Они ведь мои убий-
цы! А тот, кто любил меня и бросил? Он-то уж точно убил в себе всякую
жалость! Увы, не у кого мне искать заступничества, и он знает, что я при-
надлежу ему. Замкнуться в себе самой? Горе тебе, презренной, ты предала
и самое себя!
С этими словами бедняжка принялась бить себя в грудь, словно та
была виновата в ее бедах, и не помышляла ни о мести, ни о защите, дав
полную свободу горю, отчего несколько дней не покидала свои покои, не
имея нужды притворяться больной, потому что у нее нестерпимо болела
душа. Однако Гинесия не обратила на это внимание, не обратила тогда,
когда Филоклея удалилась к себе, не обратила и тогда, когда болезнь за-
ставила ее спрятать прекрасный лик — любовь взяла верх над природой.
32*
Глава сороковая
Однако ты, которая знаешь, каким чувствительным делает любовь
сердце влюбленного, как он измеряет свои радости ее удовольствием,
как внимательно следит за ее отношением к своим поступкам, суди же,
прошу тебя, о том, как смешались мысли Зелманы, когда неожиданно
опечалившаяся Филоклея ушла, лишив собравшихся своего милого при-
сутствия, и ей не стоило труда догадаться (несчастливая любовь горазда
на счастливые догадки), что причиной этой перемены стало ее, Зелманы,
поведение. Даже самая глупая и чадолюбивая мать (та, которая побьет
своего ребенка и первая же поплачет над ним, и поступая так, как ей не-
навистно поступать, раскаивается еще прежде, чем наказывает) не чув-
ствует и половины того, что чувствовала Зелмана, вынужденная нанести
удар своей страсти и некоторое время поухаживать за Гинесией, чтобы
потом добиться всего, чего так страстно желала. Ее недоброта, которая,
как она понимала, обидела Филоклею, ей тоже ранила душу; каждая
слеза, пролитая Филоклеей, топила в себе и ее покой. Теперь Зелмана
часто разговаривала с воображаемой Филоклеей, которая жила в ее воз-
вышенных помыслах и властвовала над ними, и страстно клялась ей,
что не забывает данное ею по доброй воле обещание, призывая царев-
ну заглянуть в сердце Пирокла, ибо он вовсе не собирался отдавать его
другой.
— Ах, Филоклея, — вздыхала Зелмана, — единственная Филоклея,
отчего нет у тебя уверенности в своих силах, ведь ты должна знать, что
никто не может завладеть твоими владениями! Разве тот, кто околдован
луной, сможет приучить глаза к солнцу? Разве может жадность к желудям
обуять того, кто наслаждался изысканными плодами в саду? О Филоклея,
Филоклея, будь столь же милосердной, сколь и самовластной хозяйкой
моих мыслей, и у меня будет столько же оснований для счастья, сколько
у тебя для уверенности во мне. О нет, нет, когда мужчина отдает в залог
свое сердце, когда его мысли подтверждают его клятвы, наконец, когда
он становится собственным тюремщиком, мало шансов, что он не оправ-
дает доверия, или того хуже — сбежит.
В этой борьбе сомнений разум (подкрепленный страстным желани-
ем добиться для себя в скором времени блаженства) в конце концов вос-
торжествовал над вскипевшим в душе сочувствием к Филоклее, хотя, как
я уже сказал, борьба была очевидной; и Базилий с Гинесией, внимательно
следившие за Зелманой, обратили внимание на ее, более чем обыкно-
венную, задумчивость, отчего Зелмана, поняв, что они это поняли, сра-
зу же отвлеклась от прежних мыслей и стала думать, как доставить удо-
вольствие Гинесии (чьи суждения и желания заботили ее всего больше).
Наклонившись к уху царицы, Зелмана сказала:
— Госпожа, я долго думала и теперь знаю, как решить наше дело
к твоей радости и моему счастью.
500
На лице Гинесии отразилось благодарное ликование, переполнившее
ее сердце, и она заявила, что пора дать отдых телам, уставшим из-за кон-
ной прогулки накануне и позднего бодрствования за пением эклог.
Итак, все отправились в свои покои, и на прощание Зелмана разыгра-
ла такую любовь по отношению к царю и царице, что оба не помнили себя
от радости и совсем забыли о ревности; особенно радовался Базилий, ко-
торый совсем потерял надежду; он держал руку Зелманы в своих руках
и время от времени пожимал ее, он шел рядом с Зелманой и чувствовал
себя таким счастливым, каким, верно, давно не чувствовал, поэтому со-
всем растаял и едва замечал присутствие Гинесии. Наконец (сладостраст-
нее, чем обычно), попробовав голос, воодушевившись и по-прежнему
не отрывая глаз от Зелманы (которую свет полной луны украсил еще
более), словно ее глаза были песенником, выразил свои чувства в таких
стихах:
Когда два солнца всходят,
Они с собою чудеса приводят:
Принц мертв или сменен.
Я вижу два пленительных сиянья,
И больно от сознанья,
Что сердцем страшно изменился он.
Се, ночь на небосклон
В своих покровах неприглядных всходит;
Страх на нее наводит
Тот, в чьих лучах не сможет жить она,
И взорам смертных ткется пелена.
«Нет, нет, — луна сказала, —
Будь даже ярче солнца я, луна,
И то ущерба я б не причинила
Тому, чьей красоты безмерна сила».
В это время они подошли к дому и навестили прелестную Филоклею,
хотя ее родители явили гораздо меньше любви, чем сие было бы естествен-
но, а Зелмана — гораздо меньше доброты, чем обычно, после чего все от-
правились спать, доверив тяжкие сомнения мягким подушкам. Больше
всего беспорядка было в мыслях Зелманы; ее мучили любовь деятельная
и бездеятельная, но еще сильнее забота о том, как получше использовать
отпущенное ей время, поумнее и поуспешнее отвратить от себя ненужную
благосклонность обоих царственных влюбленных. В затеянном Зелманой
деле единственной ее советчицей была ночь, и она до утра предавалась
размышлениям, но не решила окончательно, как подпустить их поближе,
не допуская до себя, поэтому обиделась, когда утро бесцеремонно вошло
в ее покои, как будто оно приносило ей одни несчастья. Итак, взяв в руки
кифару, Зелмана не замедлила предъявить обвинение Авроре:
501
Аврора, вот он, твой румяный цвет
(На упованье ставимая снасть,
Когда они выводят нас на свет,
От мук алчбы уже готовых пасть),
Стыдом окрасился твой пышный цвет:
Покоя нет, ловца повсюду снасть,
Стада забот (сверх меры) полнят свет,
Зверь скорбной муки раззевает пасть.
Сквозь терний не пробьется счастья цвет,
Сомнений столб — жестокой пытки снасть;
Лишь знание о том, что где-то свет
Опасности дает забыть напасть.
Но зная, чем мне может завтра стать,
Страшусь я зреть красу твою и стать.
— Ах, — воскликнула Зелмана, — в какую же бездну меня затянуло,
если ради любви я должна причинять боль той, которую люблю, и убла-
жать тех, которых ненавижу. О, моя единственная Филоклея, красоту
твоего лица можно сравнить лишь с несказанной красотой твоего ума;
и если ты догадалась, какой пытке подверглась моя измученная душа, то
не подумаешь, будто я еще раз изменил себе.
Сказав так, Зелмана торопливо оделась и покинула свою комнату,
словно перемена места могла помочь ее затее. Итак, она вновь отправи-
лась в пещеру, где, как она считала, удобнее всего совершить задуман-
ное ею трудное дело, о котором у нее уже начало складываться некото-
рое представление, хотя она не представляла всех подробностей. Но, как
художник, который сначала наносит грубые контуры, а потом искусной
рукой добавляет к изображению все новые и новые черты, Зелмана в сво-
их мыслях, постоянно крутившихся вокруг главного замысла, установила
лишь его фундамент, не продумав до конца свои действия. Итак, навестив
пораньше утреннюю богиню в прекрасной пустоши, Зелмана явилась
к царю и царице и сказала, что для совершения некоторых обрядов (для
которых требуется одиночество) она просит дозволения на несколько
дней удалиться в пещеру, где сможет наслаждаться удивительной для
жаркой Аркадии прохладой, и им не стоит утруждать себя посещениями
(потому что эту привилегию она испрашивает для себя ненадолго), разве
лишь в то время, когда она будет специально дожидаться их — каждый
день в определенный час.
Царь и царица (уже научившись с готовностью подчиняться ее же-
ланиям) изобразили на лицах удовольствие, чтобы подтвердить: ее же-
лание — закон для них. Но они и впрямь были довольны решением
Зелманы: Базилий надеялся извлечь пользу из ее уединения и тайно
встречаться с той, которая добрым выражением лица в последнее вре-
мя поощряла его смелость, а Гинесия обрадовалась еще сильнее, чем ее
502
супруг, решив, что это и есть пролог к пьесе, которую Зелмана обещала
для нее поставить.
Оба, теша себя надеждами, позвонили в колокольчики, предназна-
ченные для вызова служанок (которые обычно находились в хижинах
неподалеку, но не смели являться без звонка), приказали им перене-
сти кровать Зелманы и прочую мебель в пещеру и, поелику возможно,
украсить ее, чтобы отрада их души могла обрести там покой и дать от-
дых своему телу. Все было исполнено с большим старанием, и Зелмана
вскоре перебралась в новое жилище, где она, как девственницы Весты,
несколько дней пребывала почти в полном уединении, лишь единожды
в день, исполняя долг, встречалась с царем и царицей, в которых эти не-
частые свидания пробудили еще более страстные желания, хотя и менее
нетерпеливые, поскольку Зелмана не давала им поводов для сомнений.
Гинесия, видя полное безразличие Зелманы к ее дочери Филоклее, уже
предвкушала единоличное владение ее сердцем, верила в будущее счастье
и запасалась терпением. Однако и она, и Базилий самым тщательным
образом следили за входом в пещеру, мешая друг другу получить тайное
свидание у Зелманы.
Тем временем прекрасная Филоклея (забытая отцом, презираемая ма-
терью и, по-видимому, покинутая Зелманой) отдала свою душу во власть
печали и не из мстительности, свойственной более сильному и мудрому
сердцу ее матери, а из кротости стала никнуть под тяжестью своего горя
и быстро слабеть телом. По этой причине, а также из-за невозможности
повидаться с Зелманой и выразить ей (откровеннее, чем ей, может быть,
хотелось бы), как тяжело ее любви в тюрьме печали, она обрекла себя на
пребывание в своих покоях, а вскоре (заболев от горя) и совсем перестала
вставать с постели. Хотя у Зелманы и появилась возможность обдумать,
как довести дело до успешного конца, но она так часто терялась из-за
множества трудностей, что иногда ей хотелось увезти Филоклею силой,
хотя бы это грозило смертью ее отцу с матерью, а иногда — бежать вместе
с Музидором, чтобы собрать войско и возвратиться за Филоклеей.
В конце концов в тот самый день, когда Музидор, обманув всех тро-
их тюремщиков, украл царевну Памелу (то ли любовь сделала друзей по-
хожими друг на друга, то ли пример Музидора подстегнул изобретатель-
ность Зелманы, то ли она решила подождать и посмотреть, как ее друг
исполнит задуманное), но в тот самый день, говорю я, она постановила
одновременно выманить своих надоедливых обожателей из их покоев и
ночью же увезти Филоклею (она не сомневалась, что ради любви та пой-
дет на это так же легко, как ее сестра); правда, из-за их торопливого про-
щания, она не спросила Музидора, куда он собирается держать путь, но
надеялась отыскать его, а если не получится, то ехать в один из городов
возле границы с Аркадией, где илоты вновь восстали против знати и, на-
верняка, будут так же рады принять Пирокла, как он — укрыться под их
защитой.
Начав необходимые приготовления к бегству, Зелмана в первую
очередь надела под женское платье легкий мужской костюм (которым
503
запаслась заранее) и искусно привела себя в порядок, чтобы стать кра-
ше прежнего, потому что на свое последнее испытание она хотела пойти
в самом привлекательном виде. Итак, надев на лицо маску кротости, ко-
торая сулила собеседнику нежный отклик (в соответствии с ее поведе-
нием в последние дни), она покинула приятный мрак своего грустного
убежища и отправилась на обед с царем и царицей, чтобы дать обоим воз-
можность усладить себя видом хозяйки их желаний. Как персы издавна
приветствуют каждый восход солнца, и чем ярче его лучи, тем сильнее
они радуются, ибо видят в этом знамение будущих удач, так и они, едва
Зелмана являла себя царским взорам, зажигали в глазах сверкающую пре-
данность, и чем добрее глядела на них Зелмана, тем больше они радова-
лись в глубине своих жадных душ. И та маска, которую Зелмана надела
намеренно, маска доброты так завладела ее несчастливыми обожателями,
что (подобно детям, которые бросаются на шею вернувшегося из долго-
го странствия нежного отца, но все же с опаской следят за выражением
его лица — как далеко они могут зайти в своих шалостях) они услужли-
во следили за взглядом Зелманы, который словно управлял их жестами,
и двигались они так, словно были во власти колдовской силы. Вкусив
немного от плодов богатой Аркадии, а также усластив трапезу беседой,
какую обыкновенно ведут влюбленные, желая скрыть свои чувства от
окружающих, Зелмана вняла жаркой просьбе Базилия и, для начала по-
приветствовав на виоле, тяжело висевшей на ее плече, муз, потом обрати-
лась с песней к обоим нежеланным поклонникам:
Вид Красоты улавливает зренье,
А зренье будит всех фантазий зло;
Фантазию родит страстей движенье —
Оно не раз Рассудок в плен брало.
Мой взгляд прельстился от другого взгляда,
Фантазия недуг восприняла,
С душой измученной не стало слада —
Но выстоял Рассудок против зла.
Страсть оборов, сомненье лишь питаю:
Вещам награды так ли вручены?
Я Помыслы и Мудрость призываю
Раздать по чести ленты и чины.
Но их ответ: «Все так, менять не надо,
А для Любви сама Любовь награда».
Умолкнув, Зелмана с нарочитой скромностью опустила глаза, словно
совесть в ответ на тайную похвалу ума набросила на нее покрывало робо-
сти. Базилию показалось, что настало время быть настойчивее, поэтому
он попросил жену навестить заболевшую Филоклею, и таким образом не-
надолго избавившись от нее (ибо она была готова исполнить его любое
504
желание, чтобы потом иметь такую же свободу), движением, выдававшем
силу его страсти, опустился на колени со словами:
— Если бы, о госпожа моей жизни, терзающая меня смертельная мука
могла отступить или я впервые говорил бы тебе о ней, я бы удержался от
напоминаний о моем несчастье и не стал требовать от тебя ответа, а ждал
бы, пока время и жалость заступятся за меня. Но, увы, я не преувеличи-
ваю ни свои мучения, ни свой несчастный страх, о котором тебе извест-
но, так почему же мой язык не может прийти на помощь моему сердцу?
Почему я должен бояться дыхания моих слов, если все время ощущаю
пламень твоих деяний? Прошу тебя, обрати милостивое внимание на мои
муки. И знай, в тебе их причина. Не пора ли что-нибудь изменить. Ах, не
позволяй надуманным законам, выражающим всего лишь мнения людей,
отвращать свой мудрый разум от благодарности и сострадания, законы
которых природа вложила в наши души. В твоих руках моя смерть, смерть
того, кто любит тебя, смерть человека, чью жизнь ты еще в силах спа-
сти. Произнеси свой приговор, ибо сама надежда мучительна для того,
кем довлеет страх; и даже если ты решишь быть жестокой, мне желанней
пусть даже несчастливый, но скорый суд.
Зелмана уже продумала порядок действий и, зная, что обычно храб-
рится тот, кто готов сдаться, не меняя выражения лица, так ответила
царю:
— Благородный царь, не так уж измучен твой разум, если в состоянии
породить столь стройные речи, и, благодарение богам, по твоему лицу
не видно, будто что-то грозит твоей жизни. Слишком уж выспренно ты
изъясняешься и придаешь большое значение пустякам, которые и гроша
ломаного не стоили бы, не укрась ты их внешними приметами любви.
На самом деле, она стала бы совсем непривлекательна, будь хотя бы впо-
ловину так смертоносна, как вы, влюбленные (и все еще живые), утверж-
даете. Мне даже думается, что в том, как одно желание завладевает душой
и вытесняет все другие желания, пока само собой не иссякает, есть что-то
от детской горячности. Ты слишком нетерпелив для человека, который
признается в мучительности надежды и считает свое желание столь недо-
стойным, что не прочь от него избавиться; своей слишком обременитель-
ной любовью ты напрашиваешься на скорый отказ.
— Отказ! — вскричал Базилий, испуганный и пораженный речами
Зелманы в самое сердце. — Будь уверена, что, произнося это слово, ты
выносишь мне смертный приговор. Ты увидишь, как скоро душа, иссу-
шенная мукой, перестанет выполнять обязанности, на которых зиждет-
ся жизнь. Но до чего ж жестоко мучить, да еще думать, будто мучаешь
недостаточно! Самые ужасные тираны ни об одном убитом ими челове-
ке не сказали бы, что он не умер, и ни об одном наказанном не сказали
бы, что он избежал кары. Какая может быть надежда на милосердие там,
где не знают боли? Вот с такой же жестокостью и мои слова, рожденные
пылающим сердцем, ты принимаешь за речи холодного рассудка. Если я
молчу, то сам душу себя и от этого мне не легче; если говорю просто, ты не
обращаешь на меня внимания; если несвязно - ты меня не понимаешь.
505
Если же, собрав душевные силы, я в красках живопишу свои чувства, то-
гда моя якобы веселость становится знаком (вот уж!) того, что мои мыс-
ли не очень обременены заботами. Итак, молчание безнадежно, глупость
наказуема, ум подозрителен — значит, не стоит больше ничего говорить,
потому что слова не вызывают доверия. Прошу тебя, госпожа, прими ре-
шение. Признаюсь тебе, у меня больше нет сил выносить борение в мыс-
лях, поэтому поскорее дай мне знать, что ты надумала. Тебе, верно, труд-
но представить, какой это ад, когда нечего ждать от разума.
— Но, — отвечала Зелмана. — если я соглашусь, то на собственном
примере покажу, что отношусь к священной девственности как к преду-
беждению, надуманному закону (так ты это назвал), а не верному уста-
новлению природы, осуществляющей благородную власть над человече-
ством, если исходить из учения разума, подтвержденного чувством. Нет,
брачное ложе станет могилой Зелманы, прежде чем моя душа примирится
с позором, прежде чем я примирюсь с непростительным прегрешением.
И все же, должна признать, если что-то и могло тронуть мою душу, так это
твой рассказ о несчастье, в котором ты живешь из-за меня. Если говорить
по правде, природа не дала нам, своему вырождающемуся потомству, ни-
каких заповедей, кроме одной — помогать друг другу, то есть сочувство-
вать ближнему в несчастье. Однако не будь мне по сердцу беседы с тобой
(никогда больше, о Базилий, не ищи встреч со мной), то не знаю, как бы
ты избежал ревнивого внимания твоей жены, которая своей подозритель-
ностью может запятнать мою честь.
Крохотные паруса любовной надежды Базилия под силу было бы на-
дуть и легкому бризу; царь столь же быстро воодушевился надеждой, как
прежде был подавлен угрозой отказа. Насупившись, словно не его сердце
переполнялось радостью, Базилий воскликнул:
— Как? Разве моя жена хозяйка мне? Разве все прошедшие годы не я
властвовал над нею? Я посажу эту женщину в тюрьму, и она пробудет там,
пока не потеряет все перья, которые смеет топорщить против меня!
С этими словами он вскочил на ноги и принялся мерить шагами ком-
нату, на ходу кивая головой и возмущаясь предположением, будто он не
может приказать жене.
Тут Зелмана решила, что пора заканчивать разговор.
— Я не сомневаюсь ни в твоей мудрости, ни в твоем мужестве, но это-
го для меня недостаточно, ибо ими ты не усмиришь чужие языки и не
запретишь свободомыслие, а лишь они могут стать свидетелями благоче-
стия и судьями бесчестья. Но ты поймешь, как я ценю твою любовь, если
сегодня ночью, когда твоя жена заснет (а я заклинаю тебя твоей любовью
позаботиться об этом), ты незаметно проскользнешь ко мне в пещеру и
там я готова говорить с тобой так долго, как ты пожелаешь. Однако пом-
ни, ты не должен добиваться большего, потому что иначе ты обманешь
себя и навеки потеряешь меня.
Достаточно старый, чтобы знать, женщины не назначают тайных сви-
даний по ночам для заключения земельных сделок, Базилий уже считав-
ший, что добьется исполнения своих желаний, поцеловал Зелмане руку
506
и, закатив глаза в знак того, что награда превзошла его ожидания, ничего
больше не сказал, чтобы, не дай бог, ничего не испортить.
Оставив его лелеять свою радость, Зелмана ушла, сказав на проща-
ние, что покидает его, дабы холить в душе надежду на свидание, а сама
направилась к госпоже Филоклее. Переступив порог ее покоев и сохра-
няя на лице ставшее привычным с недавних пор суровое выражение, она
спросила (с внутренней мукой, но выражая скорее приличествующую
случаю почтительность, нежели любовь), как Филоклея себя чувствует,
потом отвернулась от нее, причиняя этим нестерпимую боль и себе и ца-
ревне, подошла к царице и, не мешкая, увела ее в оконную нишу, решив
пока не открывать умной Гинесии все до конца в якобы придуманном для
нее плане, мол, недостаток времени не позволяет Зелмане обдумать все
неясности. Улыбаясь глазами и изливая на нее любовь с той же старатель-
ностью, с которой она притворялась равнодушной к Филоклее, Зелмана
повела более доверительные, нежели искусные речи, уделив много вни-
мания своим мечтам и чести Гинесии, и заключила их тем, что ближай-
шая ночь кажется ей удобной для исполнения их общих желаний, одна-
ко необходимо, чтобы сон сделал свое дело с супругом царицы, а потом
кое-кто пришел к кое-кому в пещеру, на то место, где они кое-что впер-
вые обещали друг другу, однако Зелмана, мол, не искала с ней встреч
в последние несколько дней, ибо перемена жилища наверняка не оста-
лась бы незамеченной царем, а теперь этого не случится, ибо он привык
к переменам.
— Итак, прекрасная госпожа, — сказала Зелмана, — после ужина от-
правь царя к Филоклее, а сама притворись нездоровой и ложись спать,
чтобы он не очень задерживался. Тем временем я пойду к себе и буду
ждать тебя с не меньшим нетерпением и, надеюсь, удачнее, чем Тисба
ждала любимого и любящего Пирама1.
Яркий румянец залил прекрасное лицо Гинесии, и он был ее един-
ственным ответом Зелмане, но в нем легко читалось радостное согласие,
подтвержденное тем, что царица схватила Зелману за руку, закрыла глаза
и опустила голову, словно хотела сказать, что знает о своей вине, но не
может противиться злу.
1 В обработанном Овидием греческом мифе Тисба пришла на свидание и, уви-
дав львицу, убежала, оставив покрывало. Потом пришел Пирам, увидел разорван-
ное львицей покрывало, решил, что Тисба погибла, и закололся. Увидев мертвого
Пирама, Тисба тоже покончила с собой. Этот миф был использован Шекспиром
в комедии «Сон в летнюю ночь», а также до известной степени в трагедии «Ромео
и Джульетта».
Глава сорок первая
Заключив сие тройственное соглашение, все трое промаялись целый
день, пока он с неизбежностью не уступил место ночи. За ужином царь
с царицей очень торопились, а потом, изображая неодолимую сонли-
вость, Гинесия повела Базилия и Зелману навестить Филоклею, все еще
не встававшую с постели, но более измученную своими мыслями, нежели
телесными болезнями, и еще сильнее страдавшую, нежели утешавшую-
ся во время подобных посещений. Пожелав Филоклее доброго отдыха,
Зелмана вроде бы до утра покинула царское семейство, а за ней Гинесия,
притворившись нездоровой, оставила Базилия у кровати дочери, ска-
зав, будто из-за нездоровья хочет поскорее лечь в постель (на самом деле
страстно желая вновь ускользнуть из дома) к великому удовольствию
Базилия, который не остановил свою супругу, не меньше нее мечтая по-
быстрее завладеть долгожданной добычей. Оба обманывали друг друга,
предвкушая выгоду за счет банкротства другого.
Однако Гинесия повела Зелману в свою спальню, чтобы немного по-
говорить о сжигавшем их любовном блаженстве, и Зелмана вдруг, словно
никогда ни о чем подобном даже не помышляла, воскликнула:
— Нет, бог не допустит, чтобы дама твоего положения пришла ко мне,
подвергая себя опасности, или же я, положившись на волю случая, втянул
тебя в беду — вдруг страсть выдаст тебя или твой муж неожиданно проснет-
ся? Нет, если у истинной любви и есть какие-то преимущества, ты должна
радоваться им, а если ей грозят опасности (поскольку мне принадлежит
мысль, как устроить наше свидание), я должен их предотвратить. Оставь
мне ключи от калитки, а сама накинь мой плащ, чтобы из дома Дамета тебя
не узнали и приняли за меня. Я же лягу сейчас на твое место и так закутаюсь
(ты ведь больна), что царь ни за что меня не узнает. Как только он заснет,
я буду (так мне больше приличествует) ждать тебя. Но если случится худ-
шее, уверяю тебя, скорее царь расстанется с жизнью, чем ты — с честью.
С этими словами Зелмана скинула плащ, не давая Гинесии времени
как следует вникнуть в новый план, и она, не находя подходящих воз-
ражений и не имея лишней минуты на споры (помня, кроме прочего, что
дающий определяет способ даяния), быстро согласилась, и не самой по-
следней причиной было жгучее желание сделать заблуждение мужа еще
более очевидным.
Итак, как было условлено, Зелмана разделась, легла на место Гинесии
и укрылась с головой, как это обычно делают несчастные или больные
люди. А царица, надев плащ Зелманы, сначала отправилась в туалетную
комнату и там, торопясь, все же решила надеть свои самые лучшие дра-
гоценности, словно собиралась на вечерний прием. Перебирая взглядом
свои сокровища, к которым она не прикасалась с тех пор, как Зелмана
захватила власть над ее мыслями, царица обратила внимание на золотой
флакон, на котором были выгравированы стихи:
508
Тот, в чьих объятиях тебе свернуться сладко, —
Налей питье ему, пусть выпьет без остатка.
Гинесия вспомнила, что цари Кипра издавна хранили этот флакон
как огромную ценность и он был подарен ей матерью, когда она, совсем
юная, стала женой мужчины, гораздо старше ее; именно тогда ее мать
(убежденная, что жидкость во флаконе имеет власть над любовной си-
лой) отдала флакон дочери в подарок, хотя волшебное воздействие ле-
карства было скорее данью древним верованием и ничем не подтвержда-
лось. Гинесии же (как свойственно не только женщинам, хотя они грешат
этим в большей степени — не ценить того, что имеешь, и не тратить лиш-
них усилий) ни разу не пришло в голову дать зелье мужу, чьей любви она
предоставила полную свободу. Зато теперь, когда выбранный ею рыцарь
пробудил ее чувства и неправедность этой любви раздула пламя страсти,
она приоделась и вылила из флакона почти все содержимое, наполнив им
прелестную чашу, украшенную бриллиантами. На что только не решится
любовь, побуждаемая сладострастием и покровительствуемая ночью?
Потом Гинесия отправилась в пещеру, не думая ни о чем, кроме как
о скором блаженстве, и путь ей освещала луна. Гинесия, которая всегда
ненавидела уединенную жизнь, навязанную ей царственным супругом,
теперь жаждала еще большего уединения, чтобы наслаждаться обще-
ством Зелманы. Она, которая никогда прежде не уходила из дома одна,
тем паче ночью, теперь гордилась своей храбростью и радовалась самой
возможности одолеть страх. Так, едва ли не бегом, Гинесия добралась до
пещеры, открыла для себя, для своего наслаждения ложе Зелманы и ты-
сячу раз поцеловала ее подушку, хранившую на себе отпечаток любимой
головы. С замиранием сердца царица прислушивалась к каждому шо-
роху ветра, и ей все время казалось, что она слышит шаги Зелманы; она
легла на кровать и долго гладила ту ее сторону, которая предназначалась
Зелмане, пока (она сосчитала, сколько шагов от дома до пещеры и время
от времени пеняла амазонке за опоздание) к ней не пришел неожиданный
гость.
После того как Гинесия удалилась под предлогом болезни, Базилий,
оставаясь с Филоклеей и давая царице время улечься, заметно мучился,
развлекая дочь беседой, и был похож на игрока, которого посреди игры
отвлекают пустячными вопросами. Он все время оглядывал комнату, пе-
реходил с места на место, начинал фразу и обрывал себя на полуслове,
а в ответ на речи Филоклеи как бы встряхивался, поднимал голову, но
не мог составить ни одной стройной фразы; слишком он был погружен
в свои раздумья, оттого вел себя беспокойно и нерешительно. С мукой
отбыв у Филоклеи столько времени, сколько требовали приличия, Бази-
лий в темноте добрался до своих покоев, стараясь ступать как можно
тише. Но чем он был осторожней, тем громче, как ему казалось, скрипел
пол, а так как его мысли были заняты совсем другим и глаза не служили
ему в темноте, то все шкафы и сундуки по пути приветствовали его удара-
ми в ногу или руку, хотя иногда и он мстил им ударами головой. Наконец,
509
в спальне, боясь, как бы не проснулась Гинесия, он стал так тихо сни-
мать одежды, как (думаю) делал это Пан, когда в постели Иолы1 попал
в грубые объятия Геракла. Базилий лег в постель, и вовсе не дыша, по-
добно новобрачной, полежал немного, затаив дыхание и прислушиваясь
к каждому вздоху лежавшей на боку мнимой жены. Иногда он сам тяжело
вздыхал, словно этой музыкой старался навеять сон на ту, что лежала ря-
дом, и очень скоро, убедившись, что Гинесия спит (Зелмана так же ис-
кусно разыгрывала роль спящей супруги, мечтая избавиться от него не
меньше, чем он стремился сбежать), Базилий потихоньку соскользнул
с кровати, накинул халат и, где ощупью, где наугад, добрался до двери,
а потом вверил себя путеводительнице Луне.
Так, одолевая многие трудности, Базилий шел к той, от которой бе-
жал, довольно хитро проведя ту, ради которой шел на хитрости. Когда же
путь перед ним оказался (как он подумал) наконец свободен, он очень об-
радовался и все препятствия стал воспринимать как ничтожные по срав-
нению со своей удачей; из своего любовного желания он построил такую
высокую башню, что даже говорить об этом скучно. И его сердце не могло
не отозваться торжествующей песней:
О горе, червь души моей, сюда!
Прощайте слезы, горьких душ отрада,
И опыт, помогавший иногда
В исканьях клада.
Сойди на нет, беспомощности вздох;
Иссохни, влага слез (беды не стало);
Домыслись, мысль— ты долго, видит бог,—
Мозг утруждала.
Надежда, дай веселью бытие;
Отдохновение, явись как счастье;
Желанье, исполнение свое
Вкуси отчасти.
Вздох трудный в звук приятный обрати;
Зажги лучи в моих глазах плаксивых;
Не мыслям, но блаженству дай пройти
В души извивах.
Весь отдавшись своей радости, Базилий бежал, едва касаясь ногами
земли, и, как старый битый воин, который знает, что великие полко-
водцы не тратят время на слова, когда дело доходит до дела, стоило ему
войти в пещеру, как он сразу направился к кровати (к молча ликовавшей
Гинесии) и, даже не вспомнив о своем обещании довольствоваться бе-
1 Иола — возлюбленная Геракла.
510
седой, прыгнул в постель с той стороны, что была оставлена для более
желанного гостя, и самым нежным образом обнял Гинесию.
— О Зелмана, — шепнул он, — обними своего покорного слугу.
Помоги мне удержать в груди сердце, которое рвется к тебе.
Что подумала бедняжка Гинесия, узнав голос своего супруга и почув-
ствовав, как он прижимается к ней, об этом, милые дамы, лучше судить,
призвав на помощь воображение, нежели опыт. Ее разум был оскорблен
отчасти неутоленным желанием, но, главное, подозрением, что Зелмана
выдала ее мужу, не говоря уж об укусах ревности: она ведь прекрасно
представляла, чем в это время может заниматься ее дочь. С другой сто-
роны, ее любовь, поддавшись на убеждения Зелманы, подсказывала ей
не терять надежды, поэтому она подумала, что пока ей лучше, не называя
себя, понаблюдать за Базилием, который (и словом и делом доказал, что
принял ее за Зелману) не совсем лишал ее надежды, что вся затея при-
надлежит ему, а Зелмана не предотвратила ее, чтобы не выдать планов,
которые могли осуществиться и в другой раз. Эти мысли подсказывало
поведение Базилия, который казался Гинесии более веселым и изобрета-
тельным, чем много лет назад, а также воспоминание о болезни дочери
и ее странном отношении к Зелмане в последнее время. Размышляя так
(не желая признать свое поражение), Гинесия изображала страстное ли-
кование и одновременно робость, не позволяя Базилию усомниться в том,
что он имеет дело с нежной и уступчивой Зелманой, отчего тот, бедняжка,
приходил в неописуемый восторг, тогда как Гинесией владело уныние.
Глава сорок вторая
Пирокл (которому не надо было играть роль Зелманы) дышал так тихо
и ровно, что Базилий не усомнился в том, что он спит глубоким сном, но
ему пришлось после ухода царя довольно долго пролежать, с беспокой-
ным спокойствием осуществляя намеченный план, однако, как только по
грохоту, который производил Базилий, натыкаясь на разные предметы,
равнодушно встававшие у него на пути, он понял, что Базилий не вернет-
ся, то крадучись, последовал за ним до ворот (не выпуская из рук меч и все
еще опасаясь случайности, которая могла вернуть Базилия). Ворота он не
просто запер, но задвинул засов и укрепил всем, что было под рукой, ведь
предстояло не только уговорить Фил оклею, но и дать ей время собраться,
прежде чем их хватятся. Дальше этого влюбленный и отважный Пирокл
не заглядывал, стоя на том, что, если продумывать каждую мелочь, зате-
вая великое дело, то лучше сидеть дома и ни за что не браться.
С решимостью исполнив первую часть задуманного, Пирокл подошел
к двери Филоклеи в предвкушении (как он уверял себя) скорого счастья.
Все муки и опасности, которые он одолевал, в особенности дерзких па-
жей любви: сомнение, беду, меркнущую надежду, грозящее отчаяние, —
он вспомнил, чтобы близкое счастье стало еще счастливее, чтобы послу-
жить соусом, своей горечью оживляющим вкус блюда, которое вкушало
его воображение. Величие его отца, его собственная слава казались ему
пустой безделицей, имеющей значение лишь в глазах других в сравнении
с истинным покоем, который он нашел в глубинах собственного разума,
а от мысли о несчастье, которым могло завершиться сие радостное при-
ключение, он отмахивался как от мелочи, из-за которой не стоило отка-
зываться от возможного блаженства. Мысленно он вместе со своей дамой
уже одолел все опасности и счастливо добрался до прекрасного дворца
в Пелле, вокруг него с поздравлениями суетились радостный отец и друзья
и уже было отдано распоряжение о царском празднике в честь Филоклеи,
о пышных представлениях и торжествах в честь бракосочетания царевича
с аркадской царевной. При мысли об этом Пирокла охватила отчаянная
радость, и ему показалось, что в этой отчаянности есть некая радостная
мука, потому что сердце у него как будто увеличилось сверх всякой меры,
а чувства сошлись в одной точке, отчего нарушилась их обычная работа,
и произошло это не без приятного препятствия, ставшего на их пути сво-
бодного исполнения своих обязанностей.
Итак, опечаленный слишком большой радостью, Пирокл помедлил
возле двери, которой суждено было стать вратами счастья, пока не услы-
шал заключительные слова песни, которую Филоклея (как одинокий со-
ловей1, который оплакивает наказание без вины и несчастье без надежды)
1 Намек на греческий миф о Филомеле, которую Терей подверг насилию и ко-
торая была превращена богами в печального соловья. Ср.: «В лесу стенанье Фило-
мелы...» (стихотворение В.А.Жуковского «Вечер»).
512
пела, никому не позволяя судить свою страсть, кроме собственной со-
вести. Филоклея подыгрывала себе на сладкозвучной лютне, а в ее словах
были тайные и жестокие печали, которые занимали теперь ее сердце и
разум.
Один-два-три, один-два-три
Стать, краснорсчье, ум жгут, мнут, ввергают в трепет
Один-два-три, один-два-три
Пленя слух, зренье, дух восторгом, чудом, страстью
Один-два-три, один-два-три
Одно, и два, и три сплотят, сзнакомят, сцепят
Один-два-три, один-два-три
Поступки, платье, вид с рассудком, нравом, властью
Один-два-три, один-два-три
Честь, обаянье, вкус вполне, всецело, с силой
Один-два-три, один-два-три
Арканят, ловят, пьют пристрастье, чувства, мненье...
Один-два-три, один-два-три
Но спесь, неправда, лесть вилась, лгала и льстила
Один-два-три, один-два-три
Скверня, гоня, губя долг, верность и влеченье.
Один-два-три, один-два-три
Родят, творят, зовут несчастье, горесть, мука
Один-два-три, один-два-три
Презренье, ярость, гнев — понятный, честный, правый
Один-два-три, один-два-три
Но, ах, увы, вотще: уход, побег, разлука
Один-два-три, один-два-три
Глаз, помыслов, души от слов, обличья, взгляда
Один-два-три, один-два-три
Взять, загасить, убить дни, люди, мир не властны
Один-два-три, один-два-три
Тюрьму, огонь, недуг — гнет, выбор, свет мой ясный
33 Заказ 1414
513
Сила любви для влюбленных бедолаг заключает в себе определенную
странность, но не менее странно и то, что суждение влюбленного крепко
приковано к той, которая держит в руках поводья от его разума, и возно-
сит до небес все, что бы она ни делала. И даже если от этого совершенства
она по прихоти изменчивой жизни обращается к чему-то иному, то это
тоже становится совершенством; если природа для своих творений при-
знает лишь один идеал, то для влюбленного как будто нет совершенства
на земле. Если возлюбленная сидит неподвижно, это прекрасно, потому
что налицо тайный сговор ее красот ради создания одного совершенного
образа. Если она прогуливается, это тоже прекрасно, и не только потому,
что своей красотой она осчастливливает не одно место, но и потому, что
движение придает приятное оживление ее природным совершенствам.
Если она молчит, то и вовсе не может быть ничего лучше, потому что
взгляд не отвлекается от наслаждения ее очарованием. Но если она заго-
ворит, он тотчас поклянется, что лучше быть не может и его влюбленная
душа с жадностью впитывает каждое слово.
Примером такого влюбленного стал Пирокл, который, тяжело ды-
ша и время от времени вздыхая (но не из-за печали, которая исторгает
вздохи, сжимая как в тисках грудь, а из-за нетерпения и неуверенности
в как будто надежных надеждах), стоял у двери, прислушиваясь к голосу
Филоклеи (который, он был уверен, если философы не врут о небес-
ной семисферной гармонии, не только давал представление о ней, но и
превосходил ее) и услаждая взгляд ее красотой, ибо царь, уходя, не за-
крыл дверь. Из-за жары, привычной для этой страны, Филоклея лежала
на постели, прикрытая лишь богатой рубашкой (сотканной из золотых
нитей и пепельного шелка), повернувшись на правый бок и оставив на
обозрение Пирокла (сквозь отдернутый полог) прелестные линии бедра
и ноги, освещенные ярким светом изысканной лампы, словно лунным
светом, пробивавшимся сквозь ставни. Итак, Пирокл был остановлен
множеством стрел, выпущенных в него Купидоном, и забыл обо всем,
наслаждаясь своим счастьем, он мог бы потерять много времени и из-за
своей великой любви пренебречь всем, что затеял во имя любви, если
бы жалобные упреки Филоклеи не привели его в чувство. Подложив
руку под прелестную щечку, на которой незаметно собирались в руче-
ек прелестные капельки печальных слез, она так проговорила, допев до
конца жалобную песню:
— Неужели жестокий Пирокл заслуживает, чтобы я посвящала ему
свои лучшие песни и все время (плача) приносила ненужные жертвы?
Неужели моя душа до сих пор готова оказывать такие почести его безжа-
лостной тирании, ведь оплакивая его потери, я превозношу его и унижаю
себя? Он не слышит тебя, глупенькая Филоклея, он не слышит тебя, но
если бы и слышал, есть сердца, что становятся тем черствее, чем больше
власти получают над другими. О глухие небеса, пусть обида убьет мою
любовь или любовь предаст забвению обиду.
После этих слов Филоклея жалобно вскрикнула и, вновь взяв в руки
лютню, запела сонет, который мог послужить объяснением предыдущему:
514
Любовь в душе — что красоты печать,
В покров невинности облачена,
Стенаний громких не могла сдержать,
Ведь ныне презираема она.
Вот так. Вот так, чем крепче я люблю,
Тем горше мне неправый приговор,
С тоской приходит злость, как ни терплю,
Та с яростью ведет свой вечный спор.
Чем зло сильней, тем больше дум о том,
Кого я ненавижу, и тогда
О добром вспоминаю я добром,
Любовь опять берет в полон меня.
Где снадобье найти — очистить кровь,
Чтоб гнев не распалял мою любовь1.
Услыхав, как его винят и осуждают уста, которые Пирокл любил боль-
ше всего на свете (и больше самого себя), он взял себя в руки и принялся
торопливо (истинная любовь страшится потерять и мгновение) оправды-
вать себя (мысленно) тем, что был отвлечен исполнением задуманного.
Поднимаемый к высотам и сбрасываемый в глубины противоборствую-
щими страстями, словно доблестный Эней в сражении с троянцами,
когда они противостояли ветрам, выпущенным Эолом, Пирокл явился
к Филоклее, как учит почтительный страх, встал на колени, с приготов-
ленной длинной речью на устах, но едва его взор наполнился ею (если бы
он только мог вечно удерживать ее прелестный облик), его сердце дрог-
нуло и язык потерял дар речи, так что Пироклу ничего не осталось, как
предоставить глазам выразить его чувства. Но Филоклея, потрясенная
тем, что видит Пирокла в столь неурочный час, устыженная наготой сво-
его прелестного тела, отдала ножки под ненадежную охрану покрывал
и, изобразив на лице жалкий гнев, словно чувствовала себя виноватой,
так как ей было, в чем его упрекнуть, отвернулась от него и проговорила:
— О Зелмана или Пирокл (неважно, каким именем я называю тебя,
потому что под первым ты обманул меня, а под другим предал), какой
странный порыв твоего жестокого разума привел тебя ко мне? Ты решил,
что для меня недостаточно мучений дня и позавидовал ночному покою?
Неужели ты не дашь мне передышки в моих печалях, неужели, показы-
вая мне, как много я потеряла, ты хочешь убедить меня в том, как пра-
ва я в своих стенаниях? Неужели твое сердце так переполнено злобой,
что ты хочешь накормить свои глаза жалким зрелищем поверженного
врага и удовлетворить недостойную ярость, явив им зрелище беспомощ-
ных обломков несчастной жизни? О Пирокл, Пирокл, ради собственной
1 Перевод Л. Володарской.
33*
515
добродетели не позволяй страданиям звучать сладкой музыкой для твоего
слуха и будь доволен, что можешь хотя бы отчасти оправдать себя незна-
нием, до чего твое непостоянство, нет, твоя ложь довела меня.
Для Пирокла каждое из ее слов было словно ударом молнии в его
сердце, и он разрывался между страхом и горем, приведенный в замеша-
тельство неожиданным препятствием, огорченный ее страданием и тер-
заемый своей виной. У него задрожали губы, и он совсем упал духом.
— Увы, божественная госпожа, твое недовольство не заслужено мною
и твои речи неожиданны для меня, так что я едва осмеливаюсь говорить
с тобой о том, от чего зависит моя жизнь. Мое слово неизменно, а мое
сердце надежный свидетель его незапятнанной верности, и нет во мне
ни одного уголка, в котором могло бы произрасти подобное святотат-
ство, мне нечего предоставить в свою защиту, кроме искренних и страст-
ных заверений в верности. Но все слова напрасны, если с обеих сторон
утверждения и предположения голословны. Столь совершенна моя лю-
бовь к тебе, что всякие вопросы излишни и обидны для нее. Если бы моя
душа была осквернена предательством, она бы приготовила немало кра-
сивых слов для оправданий, но поскольку она зиждется на чистой сове-
сти и неприкосновенном долге, то, должен признаться, она совершенно
безоружна перед твоей несправедливой жестокостью. Ах, пусть мучения,
которые я претерпел, услужая тебе, не оскорбят тебя. Пусть опасная хит-
рость, какой я хотел порадовать тебя, не будет для тебя изменой. Если я
для твоего блага обманул тех, кого ты боишься, не губи меня ради них.
Что мне делать без тебя, когда так близко желанное счастье? Я все приго-
товил для нашего бегства. Я выманил твоих родителей из дома, и никто не
увидит и не услышит нас, кроме вышних сил, которых я призываю под-
твердить мою невиновность и засвидетельствовать добрые намерения.
Если я когда-либо допустил в мыслях, что моя любовь может ослабнуть,
если я не гнался постоянно и со все большим пылом за твоей милой бла-
госклонностью, если ты заметила, будто я лгу тебе, пусть на меня падут
самые страшные беды: пусть моим глазам не видать больше света, ибо
они унизили небесные лучи, поразившие их; пусть мой лживый язык от-
ныне лишь оплакивает меня, несчастного; пусть мое сердце, отравлен-
ное презренной изменой, станет приютом проклятой печали, и моя душа
пусть мучает самое себя.
— О лживые люди! — вскричала прекрасная Филоклея. — Как можно
пасть столь низко, чтобы и теперь обманывать меня? Как мне поверить
обещаниям, коли нарушены клятвы? Нет, нет. Кто оскорбил неизменную
справедливость богов, тот с легкостью оскорбит и их имена, а тот, кто, по-
ступив бесчестно, не боится кары, не побоится призвать ее на свою голо-
ву, давая ложные клятвы. Увы, ни к чему все это! Или ты хочешь разыграть
еще одну пьесу и думаешь обмануть меня как Пирокл, а не только как
Зелмана? Может быть, уже предав меня и как Зелмана, и как Пирокл, ты
собираешься прикинуться еще кем-нибудь, чтобы соблазнить простушку
Филоклею? Радуйся, радуйся своей победе, но знай, что и твоим хитро-
стям есть предел. Что до меня, жестокий Пирокл, я буду защищать себя
516
тем, что больше не поверю ничему; мое утешение в моей невинности,
и наказанием тебе пусть будет твоя совесть.
Несправедливые обвинения Филоклеи сокрушили разум Пирокла
(который понял, что у него нет времени доказывать свою правоту делами,
а чем искуснее он подбирал слова, тем более его подозревали в ловкой
лжи), и, лишенный способности рассуждать, безутешный, сурово нака-
занный за свои заслуги, отлученный от своих надежд, он не искал под-
держки в себе самом. От горя его сердце так сжалось, что дыхание изме-
нило ему, глаза закрылись, и он упал возле ложа Филоклеи, успев лишь
прошептать:
— Ах, Филоклея, зачем ты убиваешь меня?
Не ожидавшая ничего подобного, Филоклея выпрыгнула из постели,
как Венера из материнских объятий моря; не столько сраженная страхом
и огорчением из-за своей ошибки, сколько поднятая силой любви и же-
ланием помочь, она бросилась на Пирокла, но, вместо того чтобы плес-
нуть ему в лицо воды или побить его по щекам, омочила его потоком слез,
исцеловала его щеки прелестными губками и при этом, не переставая,
причитала:
— О, несчастная подозрительность, с твоей помощью легко потерять
то, что страшнее всего потерять! О, недобрая моя доброта, воображаемое
зло ты превращаешь в живую боль! Глупая я, если, вместо того чтобы
молить, затеваю ссору, а ненависть определяю в посредницы любви!
Неразумная Филоклея, не выбросила ли ты жемчужину, в которой была
твоя гордость? Не слишком ли быстро ты забыла обо всем?
Филоклея вновь принялась целовать Пирокла, но жизнь не возвра-
щалась к нему, и она удвоила стенания:
— О, небесная душа, своей добродетелью ты заслужила самое высо-
кое место на небесах, если для моей вечной муки навсегда покинула это
прекрасное обиталище, но прежде чем я накажу себя, как Тисба, за свою
опрометчивость, послушай: причина всего дурного, что я сделала, ис-
кренняя и всевластная любовь, которая, ведомая жалким жребием, пере-
родится в смертельную ненависть ко мне самой, и, если так будет, моя
душа станет твоим могильным камнем.
Сказав это, она почувствовала боль в голове, слабость во всем теле и
упала бы без чувств, если бы Пирокл, едва приоткрыв глаза, не понял ка-
кая ей грозит опасность (для него она значила больше, чем его собственная
смерть), и изо всех сил постаравшись взять себя в руки, он спас ее, под-
нял на руки и положил свою прелестную ношу на кровать. Так Филоклея
из лекаря сделалась больной, а Пирокл, для которого ее слабость оберну-
лась помощницей, принялся лечить ее с самой сердечной заботой, какую
лишь заботливая любовь способна излить на единственное любимое суще-
ство, и вскоре Филоклея уже была в состоянии (хотя ее силы не восста-
новились полностью) со вниманием выслушать то, что Пирокл хотел ей
поведать.
Улегшись рядом с Филоклеей и взяв ее за руку. Пирокл так нежно
упрекал ее в жестокости, словно (упрекая ее) обвинял себя. Он рассказал
517
ей по порядку обо всем, что произошло между ним и его докучливыми
обожателями: как он одаривал их знаками внимания и как ему удалось
обмануть и Базилия и Гинесию, которые видели причину своих неудач
друг в друге, но не в себе самих, как все его ухаживания имели целью уве-
сти обоих подальше от дома, а его наигранное равнодушие должно было
помочь ему обрести давно обещанное блаженство. И все получилось, те-
перь им ничто не мешает и лишь от слова Филоклеи зависит, предпримут
ли они счастливое путешествие; тут Пирокл принялся молить Филоклею
ее любовью к нему, чтобы она не теряла зря время, но разделила с ним по-
чести, на которые имеет право благородный царевич Македонии и всех
других владений, которые оставит ему Эварх, тем более что в своей по-
следней затее он зашел слишком далеко, и отступление грозит ему бедой
и бесчестьем. Ему не пришлось тратить много слов, потому что упомина-
ние о беде и бесчестье так подействовало на Филоклею, что она (словно
ее тело могло торопить мысли, а мысли укреплять тело), забыв обо всем
на свете и страшась лишь вновь обидеть Пирокла, решила следовать за
ним. Однако, приподнявшись на кровати и поняв, что ей не под силу
даже самые простые движения, она сказала:
— Мой Пирокл! — На глаза ей выступили слезы, а на лице появи-
лось несчастное выражение, свидетельствовавшее о том, что она никогда
не отказала бы ему, если бы была в состоянии подняться. — Если ты мо-
жешь унести меня отсюда, то пусть самая страшная опасность, которая
грозит мне, будет свидетельством того, что я ничего не боюсь ради твоего
счастья.
Однако силы окончательно изменили Филоклее, и она не смогла
произнести больше ни слова, а Пирокл уже и не думал об ответе, потря-
сенный ее обмороком, он всеми силами пытался ее оживить, призывал
на помощь все нежные ухищрения, какие только мог придумать, хотя
его самые высокие надежды упали ниже самого глубокого отчаяния, но
все же не желая огорчать ее печальным выражением лица, он улыбнулся,
подыскивая хоть какую-нибудь разумную причину, чтобы не печалиться.
В нежной душе Филоклеи (которая полностью доверилась его словам и
не проникала глубже, чем выражение его лица) воцарился покой, и этот
покой так подействовал на тело, что сон (с помощью своих предвоз-
вестников — слабости, усталости и бессонницы) быстро завладел ее чув-
ствами.
А Пирокл сидел рядом и осуждал себя за торопливость и нерассуди-
тельность, с какой он, не поставив в известность друга и не испросив
согласия Филоклеи на бегство из Аркадии, не приняв в расчет ее тепе-
решнее состояние, безоглядно пустился во все тяжкие, убедив себя, что
от успеха его затеи зависит все его будущее. Однако решив, что не сто-
ит задумываться о том, чего нельзя исправить, а надо подумать о том,
что еще можно сделать, он перестал корить себя и принялся искать, что
можно исправить, а когда не нашел, то постарался представить, чего сле-
дует ждать утром. Перебрав в уме все варианты (тщательно), он в конце
концов остановился на том, что если Гинесия не предаст его (а он думал,
518
что она этого не сделает, во-первых, оберегая свою честь и безопасность,
а во-вторых, надеясь, что еще не все потеряно, ибо влюбленные до по-
следнего цепляются за надежду), то все можно будет обернуть в шутку и
вновь разгорячить влюбленного Базилия. Сердцу, исполненному горечи,
естественно с жадностью хватать и самый малый глоток утешения, вот
и Пирокл, не рассуждая, ухватился за эту мысль, подавшую ему надеж-
ду, если не уверенность в благополучном исходе, пока, раздумывая над
этим все больше и больше, он не осознал, что не в силах разрешить но-
вые сомнения и избежать новых трудностей (к тому же, ночь подходила
к концу). Его мысли, устав от собственного бремени и не находя верной
дороги, пребывали в состоянии неопределенности. И тут его рассудок,
который суть нашего внутреннего знания, покинул его тело, и Пирокл
с невиданной прежде жадностью предался сну, чтобы поддержать жиз-
ненные силы, которые истощились из-за его беспредельной печали. В со-
гласии с природой печали, ибо она идет вслед за заботами, ведь заботы
будоражат мысли и истощают силы, лишая покоя, а те горести, от кото-
рых нет спасения, вскармливают такую глухую муку, что она с легкостью
облекает себя в сон. Итак, Пирокл и прекрасная Филоклея лежали совсем
рядом и не могли не обнять друг друга, так что, казалось, любовь пришла,
чтобы стать прообразом живописного изображения смерти, то есть счаст-
ливого (если придет смерть) соединения душ.
Эклоги
Не тратя понапрасну притворных слов и лживых обещаний, Тирс за-
воевал благосклонность возлюбленной Калы простым и искренним при-
знанием в любви; он не лез вон из кожи, чтобы купить ее чувства, но пре-
подносил ей прелестные подарки, которые не могли разорить его и оби-
деть ее. Тирс всегда посылал Кале первую землянику на чисто вымытом
блюде, букетики весенних цветов, обернутые в шелковые лоскуты, чтобы
Кала могла украсить ими платье. Самые сладкие сливки и самую лучшую
лепешку, испеченную его матерью, Тирс сохранял для Калы. Ему не жаль
было заколоть для нее и барашка, если Кала соглашалась встретиться
с ним, но видели бы вы, какой чистотой сиял его дом, и он старался даже
не разводить огонь, чтобы дым не раздражал Калу. Любовные песни ли-
лись рекой, когда она слушала его, а когда не слушала, он привычно мол-
чал. Когда Кала шла в церковь, Тирс оказывал ей всяческие почести, так
что все в приходе говорили, что никогда еще ни одну девушку так не убла-
жали, а во время майских плясок ни одну так часто не приглашали, как
Калу, к тому же Тирс, сделав несколько прыжков, чтобы показать свою
удаль, все остальное время плясал только с ней. Да и об овцах ее отца он
заботился не меньше, чем о своих собственных, чтобы Кала могла отды-
хать и веселиться, положившись на честного Тирса. Однако стоило ему
увидеть, что какая-то овечка нравится его Кале больше остальных, и он
тоже начинал относиться к ней нежнее и стриг ее (в положенное время)
аккуратнее, а пока она была нестриженной, прятал в ее шерсти стихи
(к которым у Тирса был особый талант), превращая ничего не подозре-
вающую овцу в письмоносицу. Вот так он в конце концов, хотя и не был
красив, завоевал сердце самой честной девушки во всей округе. И с со-
гласия родителей (без которого Тирс не посмел бы просить ее стать его
женой, а она дать согласие) был назначен день свадьбы, попавший как
раз на то время, о котором шла речь, отчего, думаю, не будет неуместным
напомнить в нескольких словах о пастухах, пока великие мира сего спали
или тревожились.
День свадьбы Тирса был назначен, и соседи, не дожидаясь пригла-
шений, явились к нему, так как все любили Тирса и хотели выказать ему
свою любовь. Они не налетали на него, словно голодные гарпии, но нес-
ли кто жирную свинью, кто нежного козленка, кто огромного гуся, а сыр,
молоко и масло Тирсу подарили его крестные. Из не аркадских пастухов
был лишь печальный Филисид, потому что добродетельный Кориден
уже давно не появлялся ни на каких праздниках. Не было и Стрефона
с Клаем, которые, потеряв свою возлюбленную, впали в такую печаль, что
едва терпели дневной свет, тем более взгляды людей. Что же до пастухов,
рожденных в Аркадии, то пришли добрый старый Герон, юный Нистор —
против желания — и честный Дик, веселый Пас и красивый Нико. Дамета
пригласить не посмели (из-за его гордыни), а без Дора решили обойтись.
520
В саду был сплетенный из веток навес (потому что дом Тирса не вме-
стил бы всех), и гостей рассадили за столом в зависимости от возраста.
Девушки — по обычаю — держались вместе, желая хорошенько повесе-
литься, что иначе им не удалось бы из-за их болезненной застенчивости;
были там и степенные пожилые женщины, подававшие добрые советы
Кале, которая, бедняжка, плакала от страха перед тем, о чем мечтала.
Среди пастухов царила добрая вольность, и никто не боялся сплетен, ко-
торые охотятся на добычу покрупнее; никто даже в мыслях не держал ни
единой сплетни, и все беседовали о том, как пахать землю и пасти скот.
Самой возвышенной темой застольных бесед стала святость брака, чему,
едва торжественный обед подошел к концу, Дик посвятил песню, пропе-
тую им звонким голосом и с веселым выражением на лице:
Благой прибыток торжествуя свой,
Пусть уберет земля цветами лоно,
Да сгубит злые помыслы покой,
Любовь простая — плутни Купидона,
Да будет прочность в оной:
Так нежных птицы две
Сливаются в едином существе
И не грозит им перемена.
Упрочься брак их волею Гимена.
О Небо, светлый облик твой яви,
Не прячь красы за тучею унылой,
Присутством бодрым воодушеви
Ты новобрачного с невестой милой,
Дабы любовь сроднила,
Как мощный вяз с лозой,
Двоих, представших сущностью одной.
Будь счастье их нетленно;
Упрочься брак их волею Гимена.
О музы, к целомудренным добры,
И Тирса вы к искусствам приобщали.
Хочу, чтоб ваши щедрые дары
Ему и в браке не оскудевали,
А скверну изгоняли,
Подобьем двух лилей
В сиянье беспорочных дней
Пусть процветут блаженно —
Упрочьте брак их волею Гимена.
Вы, нимфы, повелительницы вод,
Тирс услаждал вам слух в часы пред ночи,
Так смилуйтесь: когда их час придет
521
(Нет, не хочу, чтоб стал их век короче!),
Но как сомкнутся очи —
Что реки под землей,
В могиле пусть одной
Смесится прах их бренный —
Упрочьте брак их волею Гимена.
Родитель Пан, овец смиренных бог,
Число их множится твоей заботой,
Не ради них одних ты их берег —
От них же в мире множатся щедроты,
Так покажи нам, кто ты!
Что у овец ягнят,
Пошли им много чад,
Пусть крепнут их колена —
Упрочь же брак их волею Гимена.
Добро, пусть ты не бог, но часть его,
Но узел, два связующий обета —
Ему главой, ей сердцем быть его,
Быть слабой ей, ему любить в ней это,
Как дуб с омелой в лето —
В нем сила, нежность в ней;
Зреть их вдвоем приятней для очей —
Все рядом нощно, денно —
Упрочь же брак их волею Гимена.
Ты ж, Купидон, подале от очей
Неси свой лук с отравленной стрелою,
Блестит она, но ржавчина на ней:
Нескромность с подозрительностью злою;
Не обольщать красою,
Но лаской притягать
Да будут и от стрел твоих бежать,
Жить чисто и степенно.
Упрочь же брак их волею Гимена.
Взор раздраженный, вздорных слов игра,
В себя уход, друг против друга злоба,
Непостоянство — первый враг добра,
Иль первыми когда хотят быть оба —
Бегите их до гроба!
О муж, с соседом ты
Не ссорься — будь превыше суеты,
Вскипел — мирись мгновенно.
Упрочься брак твой волею Гимена.
522
Пускай не внидст в дом павлинья спесь,
Беспечная пред видом разоренья,
Иначе дом тогда падется весь,
Останутся и дети без владенья!
Прочь, мерзость нераденья!
А также пусть жена
Забывчива не будет и грязна —
Да будут крепки стены —
Упрочься брак их волею Гимена.
Но ты, о Ревность, к ним не смей входить —
Зол зло, несправедливости причина
(Питая подозрения, любить
Свою супругу может ли мужчина?)
Прочь, взгляд и нрав змеиный;
Я верю, ты сама
Не смеешь вкрасться в чистые дома,
О гнусная гиена...
Упрочься брак их волею Гимена.
Земля даст зелень, небо ясность дней,
От муз дары придут, от нимф здоровье,
От Пана милых множество детей,
Ты ж, Купидон, ступай в свое становье —
Вот счастия условье:
Гордыню бичевать,
Неряшливость, беспечность, глупость гнать —
И леность беспременно.
Упрочься брак их волею Гимена.
— Честный Дик, — сказал Нико, — хоть в прошлый раз ты и не вручил
мне заслуженную награду, все же должен сказать, пел ты славно.
Пас тотчас же попросил присутствовавших засвидетельствовать, что
Нико впервые в жизни произнес мудрые слова.
— Я расскажу его отцу, и он будет счастлив услышать об этом.
— Нет уж, — откликнулся Нико, — лучше тебе этого не делать, уж
он-то позаботится, чтобы ты прожил не больше часа, и то желая услыхать
от тебя хоть одно разумное слово.
— Молю тебя, милый Нико, скажи, по какому несчастью у тебя за-
велись подобные мысли?
— Женитьба одного доброго болвана, ругавшего ревность, отврати-
тельную предательницу любви, что рядится в любовные одежды.
— Пустые слова, пустые слова! — вскричал Пас. — Ну и умники те-
перь<пошли! Хороший же совет ты даешь мужу — не ревновать!
— Хороший, — стоял на своем Нико, — потому что я совсем недавно
видел отличный пример того, о чем не стоит здесь говорить.
523
— Ну, ну, не привередничай. Я-то знаю, тебе больше хочется гово-
рить, чем нам тебя слушать.
Тем не менее Нико запел только тогда, когда все гости попросили его
об этом. Весело, под стать празднику, он поведал им свою историю, ибо
пел лучше, чем говорил:
Когда-то мой сосед (пусть неизвестный
Пребудет он, чтоб дожил век в чести),
Женился на красавице чудесной —
Такую всякий рад бы обрести.
Да вот беда: он был такой противный,
Перста не стоил чаровницы дивной.
Не знаю уж, себе ль он цену знал
Иль в прелести ее не видел блага,
Но только он от ревности сгорал,
И если покидал ее, бедняга,
То сразу начинал подозревать
Все то, чего нет нужды объяснять.
Она была немного шаловливой,
Не умышляя, впрочем, ничего.
Но раз вошел в их дом пастух, счастливый
Тем, что сам принц пожаловал его;
И в играх, и в искусстве пасторали
Ему весьма другие уступали —
И принц его устроил при дворе,
И стал он зваться пастухом придворным...
Вот бедный наш герой в своей норе
Счастливца принял с тщанием проворным,
Стол приготовить повелел родне
И в услуженье быть велел жене.
Она благонамеренно служила
Красавцу гостю, тот же был польщен
Вниманием такой хозяйки милой;
Муж был в душе безумно оскорблен,
Но с гостем знатным он боялся ссоры —
Лишь ей пришлось выслушивать укоры.
Он злобится, ворчит, потом и бьет
(А кроткого была красотка нрава)
И говоря: «Что, сладок его рот?» —
Толкает сам ее на путь неправый.
(Видать, особенная сладость есть
В том, для чего теряют жены честь!)
524
Так пробудилось в сердце дерзновенно
Желание запретный плод узнать;
Она уж не была женой смиренной,
Но пищу стала для огня искать,
И хитрости такой она искала,
Чтобы ревнивца проучить сначала.
И как-то раз она к нему вошла,
Приблизилась, поникнув головою...
«Ты должен мне помочь! — она рекла, —
Иль будем мы запятнаны молвою».
«В чем дело?» — сразу встрепенулся он.
«Негодный этот гость в меня влюблен!»
Выходит зря питал он подозренья —
Она умеет честь свою хранить.
Ее целуя, между тем решенье
Вынашивать он стал, как поступить,
Чтоб с принцем не испортить отношений
И оградить жену от поношений.
«Мой муж, скажи, что я впадаю в грусть,
Все в сторону его смотрю украдкой,
Засим он наш предел покинет пусть —
Иначе то, о чем помыслить гадко,
Тебе и мне изведать предстоит.
Скажи, что эта мысль и мне претит.
Не оскорбляй его лишь подозреньем,
Черни меня — таков уж мой удел!»
Муж выслушал плутовку с одобреньем
И все исполнил, хоть им страх владел,
Что гость почтенный может осердиться —
Вступать же в споры с ним едва ль годится!
Любезный гость весьма был удивлен:
Она такою скромницей казалась!
С презрением о муже думал он,
Хоть понимал, где распря завязалась,
Ему не место. Впрочем, положил
Не отъезжать и по соседству жил.
Жены поступком быв обезоружен,
«Диана!» — восклицал ревнивец сей.
А ей теперь был только случай нужен,
И случай быстро подвернулся ей:
525
Его позвали в суд на заседанье —
Возможны ль тут отказ иль опозданье?
И за три дня как разлучиться им,
Она любви посланье сочинила,
Напечатлела почерком чужим,
Подождала, чтоб высохли чернила,
Потом, поставив и сорвав печать,
Дала письмо супругу прочитать.
И вот в слезах (к которым приучила
Лукавый взгляд) она взопила: «Он,
Твой гость! О стыд!» И муж, вздохнув уныло,
Прочел посланья обе стороны.
«Единственная» — было обращенье;
«Весьтвой, кольты позволишь» — заключенье.
А между ними: «О, моя звезда!
Ты светом в душу мне покой вливаешь!
Пусть приумножатся твои стада!
Пусть свет горит везде, где ты ступаешь!
Дальнейшее прочти без грозных слов:
Для этих букв я черпал сердца кровь!
Давно люблю (о, ты того достойна),
Давно люблю (единое в мечтах!).
Давно люблю — но сердце неспокойно...
Единственное имя на устах...
Молю, прочти и не спеши с ответом:
Жизнь или смерть моя в ответе этом.
Ревнивец твой поедет скоро в суд —
Он должен быть под страхом наказанья;
Тогда вдвоем останемся мы тут
И возместим мученье ожиданья,
Итак, любимого к себе впусти,
А заодно ревнивцу отомсти!»
Поняв, что муж не может быть спокоен,
Жена еще решила дать совет:
«Ты видишь, он доверья недостоин,
Он вломится ко мне, сомненья нет!
Снеси ему его письмо, чтоб точно
Он знал, что я верна и непорочна».
Придворного ревнивец отыскал,
Шумел, грозил до короля добраться...
526
Счастливец понял: час его настал!
Пришло супругам время расставаться,
Хозяин за порог — он тут как тут
(Вот мы тебя проучим, глупый шут!)
И вот чего боялся муж спесивый,
То ненароком на себя навлек.
И если вы, как мой сосед, ревнивы,
Рассказом сим преподан вам урок,
Что ревность средство самое плохое,
Коль сердцем отдались друг другу двое.
— Послушайте, — сказал Пас, — у него же получается так на так.
История как будто учит мужа не ревновать, а на самом деле, послушав
ее, и святой станет ревнивцем, если уж женщины до того искусны в сво-
их проделках. Нет, вот я сейчас спою, и от Нико мокрого места не оста-
нется.
И, не дожидаясь просьб, он запел:
Кто хочет целомудренной жены,
Тот должен быть правдив, по крайней мере.
И будут пусть их доблести равны...
Вот чем не будь, чтобы снискать доверье:
Мужланом грубым; жалким простаком;
Тираном злым; шутом пред госпожою;
Надсмотрщиком; невидящим глупцом;
Крутой рукой; ослабленной вожжою!
Недонапрячься или пережать
(Сломавший, давший волю — все неправы) —
Тем злоязычным значит пищу дать,
Кто в злоключеньях ближних ищет славы.
Дерзай — тебе помогут времена,
Фортуна, добродетель, честь, жена.
— Хорошо сказано! — воскликнул Нико. — Свое дело муж сделал,
а остальное, мол, дело жены. Вот женись сам, и пусть она благоразумно
водрузит на твою голову украшение Лктеона.
Паса разозлило это пожелание (потому что он как раз собирался же-
ниться), и они едва не подрались, но тут Дик попросил Филисида (ко-
торый, словно чужой, сидел среди них, то и дело возвращаясь мыслями
к урагану несчастий, налетевшему на него) порадовать собравшихся
какой-нибудь песней, которые поют у него на родине. Понимая, что
невежливо было бы с его стороны ломаться, уж коль скоро он принят
как свой, Филисид запел о том, чем были заняты его мысли, а чтобы
527
показать, что он чужой самому себе, то стал называть себя в третьем
лице, вот так:
Филисид-пастушок
Возле ручья прилег.
Цвели густые за ручьем поля.
Пред ним его дуда,
Да вдовый голубок,
Подругу потерявший навсегда,
Да кроткие стада.
Злых, милых ряд картин
Рождали мысли в нем
Все только об одном:
Он брошен Мирой, он теперь один;
Слеза на грудь стекла,
И рек он — или грусть его рекла:
«Земля, ответ мне дай!
Как прелестью твоей
Гордится северный и южный край,
Так Миры чудный вид —
Услада мест и дней:
Она на ад твой свет небес струит,
Но коль тебя бежит
Феб, облаков пастух,
Скажи: унынья дух
Не овладеет ли тогда тобой
И, выйдя из себя,
С тех пор не станешь чахнуть ли, скорбя?
Ты, резвый ручеек!
Как берега твои
Всегда другими зрит шумящий ток,
Так всякий раз другой,
В твои смотрясь струи,
Себя зрит Мира, крася облик твой.
И вот теперь домой
К родному морю ты сбегаешь с круч,
Оно ж не укорит
Тебя за резвый вид.
Но вот, скажи, когда иссякнет ключ,
Пульс неустанный твой,
Как возродит себя поток живой?
Любезные лугам
Подснежник, первоцвет!
Весенний воздух лег в объятья к вам,
528
Там хорошо лежать
И прочь стремленья нет.
Роса полей вас будет освежать,
Печали вам не знать,
Пусть Мира вас сорвет,
Из вас сплетет венок,
Положит возле ног.
Но если май, любовник ваш, уйдет,
Оставит вас одних —
С досады вы не сгинете ли в миг?
Немудрая дуда!
Тебе всегда нужда
В тряпице чистой, отсыреешь чуть.
Иль половинки две
Уст-вишен иногда
Разделятся на счастливой главе.
Питает слух она,
Что к музыке привык, -
Заливистый твой крик
Ловя, хоть знала лучшие тона.
Скажи, без этих уст
Не станет ли твой день и глух и пуст?
Барашек золотой,
Встарь за твоим руном
В чужую даль ходил корабль большой.
Но век, другой проплыл —
Днесь Мира ходит в нем...
О, если б волк убил
Ту, кем ты счастлив был,
Иль если бы пастух
Вас с нею разлучил —
К спокойствию вернулся бы твой дух?
Иль смерть ты будешь звать,
В отчаянии блеять и стенать?
Ты, верный голубок,
Возлюбленной твоей
Как позабыть потерю ты бы мог?
Или с твоим птенцом,
Возлюбленной моей
Согретой на груди,
Случится что потом —
Что если тать придет —
Брат у него в плену,
529
Сестрицу же одну
Оставит изнывать — скажи, отец сирот,
Зеленый этот луг
Как не проклясть за память всех разлук?
Дуда, агнц, голубь, персть, ручей, цветы,
Скажите все и я:
«Для тех, кто любит, хуже смерти ты,
Разлука с тем, кто мил.
Сижу, слезу лия,
Кряж горный Миру от меня сокрыл.
Овца, что волк убил,
Блаженней нас сейчас:
Удар один — и нет.
Именью, жизни вред
Стерплю скорей, чем жизнь без этих глаз.
Прибыток где от слез?
Вот песнь мою летучий встр понес:
С Голландской стороны
До нас ему добраться довелось —
Коснется пусть посланник он весны
С лобзаньем ушек двух,
Да поразит он слух
Той, кем душа хозяина больна...
Сказать вам, кто она?
Пастушка та, сквозь мглу чей светит взгляд,
Что кормит лишь корой своих ягнят».
Печальный свой напев,
Вздыхая, кончил он,
Встал на ноги нетвердо, ослабев,
Он как-то жалок был,
Бескровен, изможден,
От пытки мыслями совсем без сил;
Вдруг он остановил
Свой взор на овне том,
Обманутом овцой, —
Врага он звал на бой.
Вот и ему бы пасть в бою таком!..
И с завистью смотрел
На запад он, где поздний Феб горел.
Ухватившись за удобный случай, все стали наперебой просить
Филисида, чтобы он рассказал о себе, но как-нибудь попроще, чего ему
не хотелось делать (ведь он знал, что его рассказ больше подошел бы по-
хоронам, чем свадьбе), и он запел песню, которую выучил, прежде чем
отдал себя во власть не хозяина, а хозяйки.
530
День гас; гуляя за моей дудой,
Над Истром стадо малое белелось.
Почти сокрылось солнце за горой,
Под сводом шалаша мне быть хотелось,
И вся природа в черный плащ оделась;
Один светляк горел в сей поздний час —
Товарищ всех, кто бодрствовал иль пас.
И скудной мерой небо доставляло
Монеты в дымных облаков казну —
Звезд мелких горстку. Вся земля дремала.
Для гротов темных горную страну
Покинули стада. Клонясь ко сну,
Умолкли птахи. Соловей их хору
Не шел на смену. Август был в ту пору.
Я от волненья был едва живой,
Ничто хоть не внушало опасенья,
Но, за овец ручаясь головой,
Дрожал за эти слабые творенья
Так, как за жизнь мою со дня рожденья
Не трепетал. Вот на траву я сел
И, чтоб не заблудиться им, запел.
Ту песнь я знал от пастуха Лангита;
Меж тех, кто приводил на Истр стада,
Его же имя было знаменито,
Он человек был чести и стыда,
И юношей воспитывал всегда
В любви к Тому, кто трон меж звезд поставил,
И горним миром с высоты той правил.
И музыку учил он чтить, чей лад
Дает согласье меж умом и волей,
Чьи ноты верхние в Раю парят,
А низкие не тонут в злой юдоли;
Он пел, как жили пастухи на воле,
Дружили, холили свои стада
И сильно враждовали иногда.
Меня любя, он все же опасался,
Не будет ли мне юность западня,
Хоть на мою правдивость полагался.
Потом, состарясь, на закате дня
Он Коригену передал меня...
Но вот его рассказ, который ныне
Я овцам повторил в ночной пустыне.
531
Давно когда-то (не скажу когда)
Земля (и матерь наша, и могила)
Не знала тех, кто строит города,
Одних зверей в обилии плодила;
Тем подобала кротость, этим сила;
День их был прост: еда, скитанья, сон —
Никто им свыше не чинил препон.
Они благоразумно, мудро жили,
Зато и правда на земле была;
Львы, тигры с овцами еще дружили,
Оленю леопард не делал зла,
Не страшен был вид змия и орла:
Так пользуются волей невозбранно
Сенаторы в отсутствие тирана.
Но то ли ропот между них возник
(Сердца же слабых зависть посещает),
То ль слишком каждый к своему привык
(Ведь даже самку зверь и ту меняет),
Но хор посланцем к богу приступает:
Рычанье слышно, ржанье, щебет, лай,
Блеянье, писк — царя им подавай!
Царя! — сказали всеми языками
(Тогда была их совершенна речь),
И птахи закивали головами,
Юпитера спеша на зов привлечь,
Лишь филин тщился их предостеречь:
«Раскаетесь потом, но будет поздно!»
Все тщетно. Скрылся он в пустыне звездной.
Юпитер (мудрый мудро говорит)
Тогда им рек: Я рад вам даровати,
Что просите. Бог щедро вас дарит,
Напоминая редко об отплате,
Огнем небесным. Ну а что вам кстати,
Что нет — должны вы сами разрешить.
Подумайте. Не следует спешить.
Такая весть зверей развеселила,
И стал Юпитер раздавать дары.
Льву — сердце, леопарду — прыть и сила,
Стать лошади, синице дар игры,
А соловью ночных рулад пиры,
Слону могучий дар запоминанья,
А попугаю речь для подражанья.
532
Лисице хитрость, льстить уменье псу,
Ослу и мулу кроткое терпенье,
Орлу паренье, телке глаз красу,
Мартышке малой — точное движенье,
Медведю залезать на ствол уменье,
Пушистый белый горностаю мех,
Оленю робость и красивый спех.
Содеял муравья рабочим скромным,
Бег зайцу дал, задумчивость коту,
Наставил аиста к делам духовным,
Искусство строить даровал кроту,
Дал цапле дар стоянья на посту,
Хамелеону угождать науку,
Венец орудий обезьяне — руку.
И каждый горд дарованным, и рад,
Лишь ждет царя под стать себе на троне,
Те говорят — пусть будет он иернат,
Те — быстр и резв, как лани или кони,
Те — пусть как дуб растет себе на склоне.
Но властью бог того решил облечь,
Кому дана единственному речь.
Так наступило царство человека,
И он командовать зверями стал,
Назначил каждому свое от века,
Чтоб всяк ел, пил и наготу скрывал.
И тем себя средь ближних выделял,
Что говорил не «я», а «мы», включая
В себя весь мир. Вот власть его какая!
Он на седалище своем воссел
Так, что прогнать его не помышляли,
И мир железом грозным овладел,
Орудья красоту земли терзали,
Чтоб недра тучные хлеба давали,
И ни расплакаться, ни застонать
При том не смела всех живущих мать.
Меж тем все чаще ссорились соседи,
И звери благородные тогда
(Пантеры, леопарды, львы, медведи),
Презрев мир слабых, словно господа,
В пустыню удалились, а туда
Шел голод. Царь сказал: «Творите злое!»
Чтоб их потом казнить число большое.
533
Еще ожесточился сильных род,
И много сотворилось дел негодных;
И царь меж слабых выделил господ —
Уже не хищников, но благородных,
Стада и хлеб на нивах плодородных
Пес, конь и сокол вместе стерегли:
Сгубили многих, многих и спасли.
Но знатные — и эти одичали,
И дух сопротивленья в них возрос,
Лучи их славы тоже гаснуть стали,
В ошейник голову просунул пес,
Конь сбрую тяжеленную понес,
А сокола в неволе жить отдали,
О чем немало птахи горевали.
Но самым слабым было хуже всех —
Они не знали от царя защиты;
Сперва лишь перья брал он, шерсть и мех,
Теперь же плоть им разрывал, несытый,
А то иные были перебиты
Уже без смысла всякого, зазря,
Для развлеченья праздного царя.
О человек, земли тиран ужасный,
Ты честию и словом пренебрег!
Ты сам из крови — кровь не лей напрасно!
Тебя страшит конец — не будь жесток!
А смерть растений небу ль не упрек?
Что ж, глядя, как кладут под нож твой шеи
Овца и птица, ты не стал добрее?
Так восемь я часов играл и пел.
Нет, не умом, но сердцем разумели
Мои овечки повесть страшных дел.
Уже за Истром сумерки густели,
И я повел их, сытых, на постели.
Из черного стал серым неба свод —
Знак пастуху, что новый день грядет.
Поскольку слух у всех людей разный, то и суждения тоже были разные;
одни восхваляли голос Филисида, другие — слова, подходящие для пасто-
рали, третьи — неожиданный сюжет, гадая, что он хотел сказать. Лишь ста-
рый Герон (который завидовал Филисиду с тех пор, как в одной из эклог
тот резко одернул его) воспользовался случаем, чтобы отомстить, и сказал,
будто никогда ему не приходилось слышать ничего более непристойного,
534
и не дело на подобном соревновании вести рассказ о невесть каких зверях,
когда надо петь о любви, а если не о любви, то на веселый лад.
— Молодые всегда думают, будто они, ой, какие умные, — заявил
Герон, — а когда говорят, то так мудро, что и сами-то себя не понимают.
Печальный пастух одинаково не обращал внимание ни на хулу, ни
на похвалу, ибо его честь осталась там, где ее сильнее всего презирали.
Атак как он вновь вернулся к своим невеселым размышлениям, то Герон
предложил Хистору ответить эклогой, ведь тот был долго влюблен в пре-
красную Калу, но, обойденный Лалом, проникся отвращением к браку.
И они запели.
Герон — Хистор
Герон: Твое напрасно, Хистор, промсдлснье!
Священный брак есть наилучший путь
Дурное узаконить вожделенье.
На Лала ты не хочешь ли взглянуть?
Давно ль отказывался он от пищи?
Теперь его свободно дышит грудь!
Не благо ль разделить свое жилище
С веселой, милой, любящей женой?
А одинокий — все равно что нищий;
Дитя без игр, без снадобья больной,
Еда без насыщенья, власть без силы —
Таков без брака наш удел мужской.
Хистор: Да, годы одиночества унылы;
Кто золотое пастбище снискал,
Пасти на нем уж будет до могилы!
Нет, Феникса бы я не упускал;
И кабы не жужжанье и не жало,
Всем мушкам я б осу предпочитал.
Но золотых полей на свете мало;
Единствен Феникс, а ворон не счесть;
Оса из шаловливой станет шалой.
Коль много Кал на этом свете есть,
И я вступил бы в брак, подобно Лалу
И душу не дал бы тоске изъесть,
Но только где найти вторую Калу?
Нет ни одной и близкой к идеалу!
Чуть что, скулят, беснуются, вопят,
Как будто кожу с них с живых сдирают,
С собою близость превращая в ад.
А то весь день и рта не раскрывают,
Все мужу делают наперекор:
Он кормит пса, она кота ласкает;
535
Она брюзглива там, где он остер;
Ей час игры, когда он гонит стадо.
«Поедем в гости» — а сама в шатер.
Рассориться с его родными рада,
И из былых друзей врагов творит,
А уж безделки любит — нет с ней слада!
И грош, что мужним потом раздобыт,
Заплачен будет продавцу товара:
Отдашь, подумав, что тебе грозит!
Взопит: «Достался мне не муж, а кара!
Так стражду я, как ни одна из жен,
Недаром все твердят, что мы не пара...»
Но тут еще покладистость и тон,
А сколько необузданных и злобных,
Себе ни в чем не ставящих препон,
Приставникам разнузданным подобных!
К ним в дом войти, что в клетку к птицам злым,
Что гнев срывают в возгласах утробных.
А слуги в доме — каково-то им
Страдать за малый промах иль безвинно!
Счастливей их бездомный пилигрим!
Такой бывает наша половина...
Бог от обузы нас храни такой.
Влачить мне легче мой удел пустынный.
Герои: Добра иметь не будет под рукой,
Кто неопределенности страшится.
Знать наперед нельзя судьбы людской.
Не может дождь златой с небес пролиться;
Добро свое ищи средь недобра.
Пока наш малый мир царем хранится,
Грустить и унывать нам не пора.
Удел наш под вождением природы
Жить от утра до нового утра.
Пожары и чума казнят народы,
Для этих гроб земля, для тех вода —
Но мы не отказались от свободы
И, как Природой велено, всегда
Все делаем для пользы нашей скорой.
В долгу у неба каждая звезда.
Удержится ль отец твой от укора,
Коль им продленный род ты оборвешь
И внук перед его не встанет взором?
Всем сродникам ты муку принесешь:
Ты жизни их хранителем родился —
И ты все их потомство вдаль убьешь.
536
Из года в год твой путь вотще влачился,
Коль, гордостью объят, отринул ты
То, чем бы этот путь в веках продлился.
Жив бог — и женщины не те скоты,
Что помышляешь ты о них пристрастно;
Страшащийся не молвит правоты,
Слепым быть лучше, чем судить напрасно.
Пять на десять со мною лет жена,
И я скажу, что женщина прекрасна.
Моя царить над миром рождена,
А мне во всем повиноваться рада.
Хозяйка в доме по делам видна;
Делить с ней бремена — одна отрада.
Поверь, все дни, что жили мы вдвоем,
Ни слова злого не было, ни взгляда.
Ты в вихре закружился озорном:
Любви там нет, простор игре и фразам,
Но грянул час раскаянья, как гром.
Ты принца изумил своим рассказом
Про то, как буйствует слепой божок —
Но игры эти все прервешь ты разом.
Хочу, чтоб Купидон тебя повлек
Туда, где облик он иной являет,
И в женах зреть ты добродетель мог.
Когда хозяйка домом управляет,
Ей служит мудрых правил строгий свод;
В ней рабства нет — брак роли разделяет:
Муж принесет — жена убережет,
Страданье наш удел, их — исцеленье,
Наш мир широк, но ими дом живет.
Скорее, Хистор, принимай решенье:
Дом процветет иль запустеет твой?
Кто даст подобьям Хистора рожденья,
Введет представить принцу чередой?
Родительские успокой печали,
Дай умереть отцу в семье большой.
Женись, чтоб толпы от тебя отстали
Страстей, коварных юности подруг,
Простительно внимать им лишь вначале.
Хистор: Ты прав, все дни мне было недосуг.
Теперь я направляюсь в дом к невесте,
Чтоб все свободно обсудить на месте.
Хистор пропел это с такой страстью, что любопытный сразу догадал-
ся бы — судьба Тирса нравится ему гораздо больше, чем сам Тирс. Но тут
537
мужчины поднялись со своих мест и направились к женщинам, чтобы
весь оставшийся день и добрую часть ночи плясать, петь и веселиться,
пока не пришло время оставить Тирса там, где он давно мечтал остаться,
но сначала он с искренней благодарностью попрощался с каждым гостем.
Однако кое-кто из гостей, которым пришлось идти между двумя царски-
ми домами, увидели даму, горько плакавшую над простертым мужем, ка-
завшимся мертвым. Но, прошу прощения, меня зовет Дамет. Если я не
поспешу утешить его, он бросит искать золото, которое уже стоило ему
многих трудов.
КОНЕЦ ТРЕТЬЕЙ КНИГИ
ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА
Глава первая
Всемогущая мудрость (для которой удовольствие показывать миру,
что великой цели можно достичь непривлекательными средствами, чтобы
смиреннее был человеческий разум и охотнее вверял себя святому прови-
дению), эта всемогущая мудрость поначалу ввела Дамета в царский карна-
вал, где он играл порученную ему роль, а потом, когда подошло время раз-
вязки, его глупость сделала средством разоблачения того, что изощренный
разум старался скрыть. Вышло так, что Дамет целый день усердно работал
там, куда его отправил Дор, но не ощущал усталости, разве лишь когда на
пути его жадности возникало какое-нибудь препятствие, и с превеликим
усилием вытащил камень, под которым ожидал найти клад, оставленный
добрым человеком, а нашел лишь два стиха на большом куске пергамента:
Тот преуспел, кто сбыл свой труд быстрей —
Землей и всем, что есть в земле, владей.
Никакие слова не в силах выразить замешательство господина Да-
мета, когда вместо драгоценного золота он нашел ничего не стоящие сти-
хи (которыми никогда не интересовался), разве что стоит представить
себя на месте Дамета или, скажем, Мидаса, который, познав великую
честь как судья богов, в награду был украшен ослиными ушами. Все же
неколебимая вера в великое богатство не могла сразу поблекнуть, успев
пропитать собою неповоротливые мозги Дамета, поэтому он еще долго
ворочал пустую и ни в чем не повинную землю, пока с наступлением
ночи, устав от бесполезного труда, не решил, что приятнее предаваться
недовольству дома. Так как лошадь он нагрузил всякими инструмента-
ми, то самому ему пришлось идти пешком, отчего с его губ срывались та-
кие жалобные причитания, какие более благородный разум посвятил бы
(придав им большее благородство) утрате возлюбленной. Наполнив душу
ожиданием того, что он почитал за счастье, Дамет ощущал себя таким же
несчастным, как если бы в самом деле потерял богатство.
539
Итак, наказанный в своем самомнении и рассудительности, насчет
которой немало ошибался, Дамет возвратился домой и тут узнал о насто-
ящем несчастье вместо воображаемого: в три часа ночи войдя в свой дом,
он вместо светлого лика Памелы (одно присутствие которой украшало
собой любой дом так, что ему позавидовал бы и самый пышный дворец)
и благодарных речей Дора, который своим остроумием скрашивал сие
безлюдное место приятной беседой, вместо громкой брани Мисо и сует-
ливого топота Мопсы (которые, хоть и не были прекрасны, как Памела,
зато шумели, как никто) он нашел лишь пустоту и темноту, которые, есте-
ственно, пробуждают страх, а в Дамете пробудили настоящий ужас, ибо
он вспомнил о своем долге, нарушение которого грозило ему смертью.
Итак, он зажег свечу и обыскал все углы с таким тщанием, что и мышь не
могла бы от него спрятаться. Когда же до него дошло, что ему не найти ту,
о которой он больше всего тревожился, то превратился в живое изобра-
жение горя и страха; рыдая и биясь головой об стену, он жалобно стенал,
но никто его не слышал, и даже страх не мог вернуть ее, тем более он не
знал, как ее вернуть. В конце концов, подобно козе, потерявшей козлен-
ка, он, чувствуя себя несчастнее всех на свете, во весь дух помчался вон из
дома, как будто лишь теперь до его сознания дошло, что ему не миновать
виселицы.
Дамет бежал и бежал так, что, похоже, был бы рад убежать от самого
себя, и тут его вновь настигла его глупая судьба: в свете луны он разглядел
кого-то, стоявшего между ветвей прекрасного ясеня. В эту минуту Дамет
не погнушался бы спросить совета и у собаки, поэтому задрал голову,
словно на приеме у зубодера, и, поднапрягши зрение, узнал Мопсу, удоб-
но устроившуюся в ожидании мудрости и величия. Не могу сказать, что-
бы с радостью (как он мог быть радостным, когда в своем воображении
был уже не во дворце, а на виселице?), но все же с некоторой надеждой
Дамет крикнул:
— Эй, Мопса, моя любимая курочка, это я, твой папаша Дамет, если
ты мне не поможешь, мне прямая дорога на виселицу.
Однако Мопса молчала в ожидании великих событий, и это стало
еще одним ударом для бедняги Дамета, который решил, что весь мир зло-
умыслил против него, и, потеряв голову от страха, злобно заорал:
— Эй, подлая Мопса, мое отцовское проклятье падет на тебя, если ты
будешь молчать!
Однако ни благословение, ни проклятье не подействовали на Мопсу,
которая была тяжела ожиданием майского волшебства и от которого не
чаяла разрешиться, разве что в третий раз услыхав свое имя. Это в скором
времени и произошло, так как Дамет, ободрав себе локоть, затопал но-
гами и захныкал, но, видя, что и это не помогает, принялся кидать вверх
камни и звать дочь не иначе, как проклятой Мопсой. Едва он в третий раз
произнес ее имя, и Мопса (даже колокол не мог бы быстрее отозваться
на бой часов), совершенно уверенная, что с нею голосом отца говорит
бог, широко раскинула руки, не думая о том, что стоит почти на вершине
дерева, камнем повалилась вниз (словно сокол с колпачком на голове)
540
и вполне могла бы сломать себе шею, если бы не густая крона; так что
она съезжала с ветки на ветку, пока, вся исцарапанная, не встретилась —
не слишком дружественно — с землей. Как только она оказалась внизу,
Дамет бросился к ней, увидел, что она туго спелената, и сорвал с нее крас-
ный плащ — очень вовремя, потому что испытавшей ужас падения Мопса
необходимо было глотнуть побольше воздуха, а не то она отдала бы свою
глупую душу Плутону.
Не мешкая, Дамет напомнил дочери, как драл ее в детстве (о чем, он
был уверен, она забыла), и стал пытать ее о Памеле.
— Ах, милостивый Аполлон, — ответила ему Мопса, — если ты когда-
нибудь любил мать Фаэтона, дай мне в мужья царя.
— Зачем тебе Фаэтон? — вскричал Дамет. — Если ты не поможешь
мне найти Памелу, меня, твоего отца, завтра повесят!
— Ну и пусть повесят, — сказала Мопса. — Сделай Дора царем и по-
зволь ему быть моим мужем, милостивый Аполлон, потому что меня тол-
кает к нему.
— Чертова Мопса, — вышел из себя Дамет, — где твое соображение?
Ты что, не помнишь, как выглядит твой отец? Может, ты и себя не по-
мнишь?
— Мой бог, я же не прошу для себя ума, — отвечала Мопса, — но я
вижу, ты хочешь, чтобы я позаботилась о моем отце и забыла о себе самой.
Нет, нет, я хочу мужа!
— Да будет у тебя, сколько хочешь, мужей, только сначала ответь на
мой вопрос.
— О, благодарю тебя! И пусть они все будут царями.
Видя, что иначе ему ничего не добиться, Дамет упал на колени.
— Мопса, Мопса, — взмолился он, — не будь жестокой и не мучай
меня. Я уже наказан. Помоги мне или скажи прямо, что не хочешь по-
мочь.
Не желая отставать от Аполлона в учтивости, Мопса тоже опустилась
на колени.
— Я не перестану мучить тебя, пока ты не исполнишь мое желание.
Буду громко кричать, что ты клятвопреступник, и пусть меня услышит
сам Юпитер.
— Молю тебя силами, которые помогают тебе, спаси мне жизнь, —
плакал Дамет.
— Прекрасным ясенем, на котором ты вернул себе счастье, прошу
тебя, исполни сжигающее меня желание.
— Где Памела?
— Хочу великого мужа!
Окончательно уверившись, что дочь сошла с ума, Дамет принялся
отчаянно оплакивать свою жизнь, как вдруг понял, что держит Мопсу
в объятиях, и только решил посмотреть, вдруг еще не все потеряно, как
получил увесистый удар по спине и, услыхав голос, безошибочно узнал
свою жену Мисо, которая ругала его, на чем свет стоит, называла неве-
жей и спрашивала, неужели она хуже Чариты? Надо сказать, что Мисо,
541
последовав совету Дора, отправилась в Мантинею и просидела в гостях
у своей давней знакомой ровно до десяти часов (никуда не выходя и все
время пребывая в таком же веселом настроении, как ревнивая Юнона,
которая сидела, скрестив ноги, дабы не допустить рождения сына воз-
любленной своего мужа1), а в десять часов, крича и ругаясь, отправилась
к судье и, осыпая всех бранью, которую пришпоривала ярость, а не крас-
норечие, требовала, чтобы судья помог ей поймать Дамета, презревше-
го свой долг по отношению к царю и его дочери ради прелюбодеяния
с Чаритой в доме ее дяди. Никто не мог вспомнить женщину по имени
Чарита, да и об улице с названием Заброшенная никто не слыхал. Тем
не менее такова была нелюбовь к неправедно вознесшемуся Дамету, что
все хотели участвовать в его разоблачении, поэтому, производя много
шума, крича и смеясь, жители Мантинеи облазали весь город, и Мисо
вдохновляла их поносными речами, своим усердным гавканьем подсте-
гивала их охотничий азарт, пока не навлекла на мужа и на себя столько
позора, сколько может навлечь в подобном положении невоздержанный
язык; а так как ей не удалось отыскать того, кого нельзя было найти, то
она вернулась к своей кобыле, не умерив ни своей подозрительности, ни
своей ярости.
Домой (оставив позади довольно веселую комедию из трагических
фантазий) Мисо возвращалась в уверенности, что только благодаря слу-
чайному стечению обстоятельств, а не невиновности мужа, она не нашла
его в Мантинее. Ее сердце было готово холить и лелеять все самое ужас-
ное, поэтому она, не мешкая, осудила Дамета, и если бы кто-то заглянув
в душу Мисо, то не отыскал бы в ней ничего, кроме дьявольского пре-
зрения и ревнивой ненависти. Таким образом, изливая в словах злобу,
Мисо подъехала к дереву, когда Дамет безуспешно старался договориться
с глупой Мопсой. Едва Мисо услыхала голос мужа, она искренне реши-
ла, что настигла-таки развратника, поэтому, едва дыша, слезла с лошади
и, то вставая на цыпочки, то замирая, подобралась к Дамету сзади, когда
он (думая, что, и без того недалекая, его дочь окончательно спятила) обнял
ее в надежде воздействовать на ее чувства, чтобы они призвали к порядку
остаток разума. Мисо же, глаза которой застила желчь мстительного гне-
ва, заранее обвинив Дамета в обмане, решила, что Мопса — это Чарита,
о которой ей рассказал Дор, и, пробормотав что-то хриплым голосом, как
я уже сказал, приветствовала мужа ударом палки по спине.
Чувствительный к побоям, Дамет повернул к жене залитое слезами
лицо, похожее на необтесанную деревяшку.
— Эй, женщина, — завопил он, — чем твой несчастный муж заслу-
жил твое недовольство? Он и без того несчастлив. Памелы нет, слышишь,
Памелы нет!
Однако Мисо никак не могла забыть о своей ревности.
1 В греческой мифологии сюжет, предшествующий рождению Геракла. (Юно-
на в римской мифологии — то же, что Гера — в греческой.)
542
— Какое мне дело, ничтожество, до твоей Памелы! Ты лучше поду-
май, как будешь отвечать за оскорбление супружеских законов! Разве не
я рожала тебе детей, разве не я была тебе верной женой — и все для того,
чтоб ты обманул меня на старости лет?
Свои слова Мисо сдабривала жестокими ударами, и бедный Дамет
решил, что или все посходили с ума, или ему привиделось несусветное.
Однако боль, которую он чувствовал при каждом ударе, говорила ему, что
никаких видений нет и в помине, поэтому, еще раз повернувшись к жене,
хоть и не понимая, чего она хочет от него, он сказал:
— Мисо, делай со мной потом все, что тебе заблагорассудится, но
сначала ответь мне, где Памела?
— Нет уж, сначала я узнаю, что за потаскуху ты держишь в объятьях, —
ответила Мисо и принялась изо всех сил колотить Мопсу, принимая ее за
Чариту.
Вот тут-то Мопса, рассерженная тем, что Мисо помешала ее беседе
якобы с Аполлоном, подпрыгнула и схватила мать за горло, едва не заду-
шив ее, так что Дамету из осужденного пришлось стать судьей и разнять
жену и дочь — ну и драка, скажу я вам, была, и в ней каждый противосто-
ял двоим. Изловчившись, Дамет свалил обеих женщин на землю, после
чего, почувствовав себя в безопасности (и то сказать, из всех троих он был
самым большим трусом), опять возобновил мольбы.
Смешно было смотреть, как глубоко фантазии Дора запечатлелись
в воображении Дамета, Мисо и Мопсы, удерживая над ними власть, вот
и Мисо, уже узнав Мопсу, никак не могла выбросить из головы Чариту,
отчего продолжала задавать непонятные вопросы Дамету, а он (не пони-
мая ее) не мог избавиться от изумления, которое подстегивало ее недо-
верчивость. Что до Мопсы, то она сразу, не рассуждая, приняла Дамета
за Аполлона и решила, будто ее мать помешала ей заключить сделку
с богом, поэтому она много раз переспрашивала об одном и том же, пока
туманное обиталище ее мыслей не просветлело и она не удостоверилась,
что перед ней ее отец; тем не менее прежнее заблуждение еще долго не
изглаживалось из ее памяти, и она искренне верила, что отец и мать при-
бежали к ясеню, чтобы первыми загадать желания. Поэтому, о чем бы они
ни спрашивали, Мопса молчала, лишь крепче обнимала дерево, словно
боясь, как бы оно не убежало.
— Нет, — повторяла она, — сначала я закажу желание, потому что я
была тут первая.
Дамет и Мисо ничего не понимали, во всяком случае, не больше, чем
понимал Дамет, когда Мисо заговаривала о Чарите, но в конце концов
Дамет уговорил жену и дочь, которых проще было убедить вместе, чем по
отдельности, возвратиться домой и посмотреть, что они потеряли из-за
своей нерадивости.
Там-то они наконец осознали, в какую попали беду, и, забыв об игруш-
ках, стали думать, чем им грозит ближайшее будущее, когда царь узнает об
исчезновении Памелы. Дамы немедленно принялись перекладывать вину
друг на дружку, однако Дамет, опасаясь, кроме всего прочего, что и этот
543
гром ударит в него, предложил потихоньку убраться, но сделал это с такой
постной миной, которая могла бы скорее вызвать смех, нежели жалость.
— О, честная Аркадия, — повторял он (вырывая из головы клочья
волос, а иногда еще от избытка чувств неуклюже взбрыкивая), — как ты
носишь на себе такого преступника и предателя? А вы, лживые деревья,
почему вы не зашумели, чтобы все узнали о ее бессовестном бегстве? Ах,
Памела, Памела, как часто, когда я приносил тебе букетики ярких цве-
тов, ты хлопала меня по щеке и даже говорила, что не останешься в дол-
гу. Неужели ты думала тогда о паре виселиц? Ах, невоспитанный Дор, ты
явился сюда, чтобы обучиться хорошим манерам, но разве я учил тебя
сгонять с хозяина семь потов, а самому тем временем убегать с госпожой?
О, моя бурая коровушка, с тех пор как ты, помахивая хвостом, убежала от
меня, я все время ждал чего-то плохого! Разве не я видел, как орел клевал
кукушку? И разве это не было очевидным предсказанием, что Памела по-
губит меня? О, мудрая Мисо (если бы я мог называть тебя так в глаза),
зачем тебе понадобилось подозревать своего мужа, который любой жен-
щине предпочитает кусок сыра? А ты, малышка Мопса, наследница от-
цовского позора, ты не нашла лучшего времени лазать по деревьям, на
одном из которых меня скоро вздернут? О, если бы я мог жить вечно или
умереть, прежде чем узнал об этом! О сердце, почему у тебя нет рук, чтобы
ты могло приказать им вырвать тебя из груди? О руки, почему вы хотите,
чтобы сердце само убило невежественного дурака?
Вот так Дамет поносил все и вся, то решая бежать, пока на дворе ночь,
то страшась чужой стороны пуще смерти (для него весь мир был в ов-
чарне). Когда из страха перед виселицей он изъявлял желание повесить-
ся, то понимал (как это и есть на самом деле), что страх гораздо мучитель-
нее для труса, чем смерть для храбреца. Руки отказывались ему служить,
и он не настаивал, искренне и безраздельно любя себя.
В конце концов, ведомый куда более властной звездой, чем его соб-
ственная, он вспомнил, что не был еще в другом доме, куда, возможно,
Памела удалилась на ночь. Едва переступая на подгибающихся ногах,
Дамет доплелся до того дома, но когда попытался отпереть дверь своим
ключом (который царь в знак особого, хотя и незаслуженного доверия,
вручил ему), то обнаружил, что ни эта, ни другие двери не поддаются,
и остается лишь одна дверь, что ведет в подвал и неизвестна Пироклу, по-
этому она была обойдена его вниманием. Зато Дамет, знавший кладовую,
пожалуй, лучше жилых комнат, сначала спустился вниз, а потом поднял-
ся наверх (стараясь не шуметь) в комнату Филоклеи (где рассчитывал
отыскать Памелу). Дверь оказалась открытой, и Дамет при свете лампы
увидел рядом с Филоклеей еще кого-то, кого он, хотя и принял за Памелу,
но чтобы удостовериться (все-таки речь шла о его голове), решил разгля-
деть получше, поэтому подошел ближе к постели несчастливых влюблен-
ных, которые в этот час, незадолго до рассвета (то ли будучи слишком
потрясены, чтобы довести до конца задуманное, то ли переполнившая их
печаль заглушила все остальные чувства), мирно спали в объятиях друг
друга, будучи одновременно лозой и опорой и являя зрителю совершен-
544
ную картину любви. Держа в руке лампу, Дамет (взирая совсем не так на
прекрасных влюбленных, как Психея глядела на своего неведомого воз-
любленного1) дал свободу своим трусливым глазам и узнал Зслману, не
только не похожую на Памелу, которую он искал, но еще менее похожую
на ту Зелману, которую знали все, в чем он быстро убедился из-за перемен
в ее обличье.
Довольный своим открытием и считая неразумным будить спящего
льва, Дамет ушел, прихватив с собой меч Пирокла (единственное оружие,
которое было при нем, когда он отправился к Филоклее), прежде убедив-
шись, что другого оружия в комнате не осталось. Он покрепче запер дверь
снаружи, надеясь, что, раскрыв сей более опасный (как он решил) заго-
вор, сумеет преуменьшить свою вину или, по крайней мере, так задурить
им голову царю, что тому будет не до него (так дурак не понимает, что чем
сильнее ярость, тем страшнее наказание). Итак, он побежал в спальню
царя, и, не найдя его там, бросился вон из дома, крича что есть мочи, мол,
царя предали, а его дочь обесчещена Зелманой. Его крики (а Дамет умел
покричать), присоединившись к визгу Мисо и воплям Мопсы, привлекли
пастухов, которым он (не думая о том, что сначала должен быть извещен
царь) все и выложил, клянясь, чем умел, что он и подумать не мог, будто
Зелмана (которую все принимали за женщину) такой же мужчина, как
он сам, чему он видел достаточно доказательств, одним словом, винт и
гайка, иначе не скажешь.
1 Имеется в виду миф о Психее и Аполлоне.
35 Заказ 1414
Глава вторая
Бедные пастухи, ревностно относившиеся к чести царя, были гото-
вы с оружием в руках войти в дом, но медлили, желая сначала послушать
самого царя, как вдруг к ним подошли другие пастухи (которые с ис-
пуганным видом что-то кричали) и опечалили их еще сильнее известием
о смерти царя. Все бросились к пещере, где, судя по всему, он лежал мерт-
вый, и в это время солнце послало на землю свои первые лучи, словно
боясь пропустить назревавшие трагические события. Что до Базилия,
то проведя ночь скорее в счастливом созерцании, нежели в действии,
он был в приподнятом настроении, благодаря нежным воспоминаниям
о том, как обнимал давно желанную Зелману, и, опасаясь, как бы в тем-
ной пещере не прозевать наступления утра, решил, что пора вернуться
в свою постель, ибо не забыл о данном Зелмане обещании соблюдать при-
личия и не давать Гинесии повода для ревности. Однако он не пожелал
уйти, не оставив после себя достойных слов, запечатанных множеством
поцелуев — дар его любви той, которую он считал своей возлюбленной;
потом он отошел от кровати, чтобы одеться, и, когда одевался, не удержав
в узде свою радость, произнес:
— Будь благословенна ночь, укрывшая меня сладостными крылами
в долине блаженства. Ты — первое дитя времени, и день неправедно за-
хватил твое счастливое наследство. Ты даруешь покой живым существам.
Ты останавливаешь сражения и даешь передышку в ратных трудах.
Сказав так, он пропел сонет, в котором повторил свои хвалы:
О ночь, ты от забот отдохновенье,
Услада для влюбленных, время страсти,
Ты нам несешь покой в любой напасти,
Дневных мечтаний тихое свершенье.
Что Феб? Златое облаченье?
На блеск его смотря, в его мы власти,
И он земную жизнь лишает сласти,
Ее ввергая в самоуниженье.
Сияющие звезды, сон невинный
И тишина (мать мудрости бессмертных),
Все знают: ночью даже солнце тает.
В пустынной жизни ты — приют единый,
Душа светлее в сумерках заветных,
На сердце рай, да и добра хватает.1
1 Перевод Л. Володарской.
546
Но его радость продолжала рваться наружу.
— О Базилий, — сказал он, — вся твоя прошлая жизнь была сном,
и только теперь ты начинаешь жить, только теперь познаешь настоя-
щее блаженство. Неужели узы брака не пустят тебя в рай, неужели косые
взгляды помешают тебе исполнить свой долг по отношению к природе и
любви? О, кто бы мог подумать, что женщины так непохожи друг на дру-
га! Не ревнуй, Гинесия, но смирись с превосходством другой. Если твои
ноги станут такими же мраморно-гладкими, как у нее, если твои груди
будут похожи на алебастровые чаши, как у нее, то с твоим титулом ты
можешь надеяться вернуть мою угасшую любовь. Но, увы, Гинесия, даже
тебе это не по силам, и потому напрасны твои мольбы.
Не пропуская ни одного слова из речей Базилия, Гинесия надела
плащ Зелманы, подозревая ее в обмане, и следом за царем приблизилась
к выходу из пещеры, мысленно осыпая себя проклятиями за свою вину.
С одной стороны, понимая, что царь принимает ее за Зелману, она по-
думала, что, может статься, это он помешал Зелмане, а не Зелмана лов-
ко обманула ее, и подумала, что месть ей не поможет, наоборот, ее честь
окажется в такой же опасности, как жизнь Зелманы, поэтому ей пришло
на ум самым нежным обращением привести царя в восторженное со-
стояние, а там, выяснив, что же все-таки произошло, решить, что делать
дальше. Но так было сначала, а потом она, неузнанная, услыхала, с какой
страстью он порочит ее, превознося ее же, поняла, как фантазия может
затемнить разум и обмануть чувства, убедилась, что суждениями влю-
бленного управляет предвзятость, и ее острый ум получил хороший урок.
Она встала перед Базилием, степенная, величественная и молчаливая,
а когда он (который из-за темноты в первые минуты принял ее за Зелману
и хотел приласкать как Зелману) увидел ее лицо (благодаря прокравше-
муся в пещеру свету, которым утро победило ночь), то понял свою ошиб-
ку и отпрянул от царицы, на что она со сдержанной горечью сказала:
— Ах, мой господин, в твоих речах я слышу твои мысли, а твои жесты
подтверждают твои речи! Сколь отвратительной должна быть женщина,
от которой так отшатывается мужчина, и сколь нелюбимой должна быть
та жена, которой муж предпочитает незнакомку! Неужели моя верность
долгу внушила тебе, что у тебя вовсе нет недостатков? Неужели то, что
заслуживает благодарности, — причина твоего презрения? Неужели тебе
стало ненавистно имя матери Памелы? Если я хоть один раз в прошлые
времена вызвала у тебя подозрение, если моя оскверненная преданность
заслужила наказания, я не отказываюсь подвергнуться самой жестокой
пытке твоего недовольства, не отказываюсь от несчастья, ниспосланного
в награду за постоянство. Должна сказать (хотя прежде я не думала, что
у меня будет повод говорить это), тяжела судьба женщины, ведь испы-
танием ее добродетели становится любовь к тому, кто лезет из кожи вон,
чтобы не быть любимым! Если бы юные лета Зелманы не скрывали рас-
судительность за свежим личиком, а твои седины не маскировали юную
живость желаний и ты раскаялся бы в порочных мыслях, то мог бы с куда
большим правом презирать Гинесию.
35*
547
Базилий (пойманный таким образом, был гораздо более смущен, чем
Вулкан, потративший немало стараний, чтобы стать рогоносцем) при-
нялся нелепо оправдываться, однако обстоятельства не позволяли ему
обелить себя (все произошло неожиданно, и у него не было времени ни-
чего придумать), поэтому он, утверждая одно, постепенно сбивался на
другое и начинал сам себе противоречить; то он все отрицал, то, заика-
ясь, преуменьшал свою вину (чередуя дерзость с покорностью), отчего
Гинесия (жестокая рана подвигла ее на жестокость) с удовольствием сде-
лала последний стежок на узоре своей ярости:
— Да, да, мой господин, хорошо бы тебе научиться управлять собой,
чтобы ты мог управлять и мной тоже и тебе не требовалось выслушивать
мои суждения о тебе, чтобы ты был мне мудрым господином, а не сму-
щенным просителем. Подумай, ты причинил зло не только мне, но и сво-
им детям, рожденным мною, и своей стране, если твои подданные ураз-
умеют, что ими властвует человек, не умеющий сдерживать собственные
непристойные желания, да, в конце концов, и самому себе, поскольку из
этого зла ты строишь для себя башню позора. Если от красоты (которую
тебе вручили мои царственные родители) меня избавили твои дети и про-
шедшие годы, да и ты, согласись, тоже виноват в этом; а что до времени,
то оно и тебя не обошло своим неодолимым вниманием. Правда, правда,
мой господин, не вовремя зажегся в тебе пожар. Для нас обоих пришел
черед торжества разума. Не стоит пересаживать цветы, которым настала
пора вянуть.
Базилий не пожалел бы жизни, лишь бы покончить со всем этим,
попросил у жены прощения и поклялся, что, мол, сошел со своей сте-
зи, лишь подчинившись власти Аполлона; но теперь, как оказавшийся
в далекой стране путешественник учится любить родину, так и он хоро-
шо усвоил урок сердечной любви к жене, поэтому пообещал ей заплатить
свой нечаянный долг такими почестями, каких она не знала прежде.
— Мне нечего тебе прощать, мой господин, — сказала Гинесия, —
и ты не должен мне никаких почестей. Искренняя любовь к тебе сделала
меня смелой, и я поведала тебе свою печаль, более заботясь о твоем благе,
нежели о своих желаниях. Мне ведь известно, если в твоей жизни поря-
док, то и в моей тоже, да и не могу я, даже если бы хотела, думать о себе
отдельно от тебя. Потому я ничего не прошу, лучше подумай о себе, ведь
моя жизнь, моя воля, моя честь и все прочее — лишь тень тебя.
Чем сильнее корила Базилия его совесть, чем яснее читал он в своей
душе осуждение, тем легче неожиданная мягкость Гинесии забирала в плен
его сердце, которое в иных обстоятельствах могло бы стать отчаянно без-
различным. Обняв жену, Базилий признал, что ее добродетель воссияла над
его пороком, и даже от души поклялся, что, пока он, недостойный, жив,
она будет целью и пределом его желаний. Он возблагодарил судьбу, которая
прославила ее, устыдив его, и устроила так, что его постыдные устремления
закончились ничем, тем вернее наставив его на праведный путь.
Немного успокоившись, Базилий обратил внимание на окружав-
шие их вещи, и злая судьба навела его взгляд на золотую чашу, которую
548
Гинесия наполнила для Зелманы, а теперь хотела унести обратно. То ли
от горя, то ли от непривычных треволнений Базилия охватила жажда,
и он взял чашу из рук Гинесии, хотя она не скрыла от него, кто дал ей это
питье и каково его действие, частично ею проверенное, но скрыла лишь,
для кого оно предназначалось.
Однако царь, в утробе которого не было ушей, а сильная жажда не
позволяла дождаться того, кто обычно пробовал царские кушанья, от-
пил немного для пробы и, оставшись доволен, выпил все, оставив лишь
немного на донышке. Увы, прошло совсем немного времени, и вредные
пары проникли из желудка ему в кровь, отчего Базилий болезненно вы-
гнулся и принялся зевать, потом весь пожелтел, и холодный смертный
пот выступил у него на висках и на всем теле; он покачнулся (силы ухо-
дили у него из коленей и ноги больше не держали его) и тяжело упал, на-
глядно продемонстрировав, чем может грозить неизвестный напиток. Он
стонал от боли и страшно вращал глазами, но вскоре руки и ноги у него
онемели, и ему едва хватило сил прошептать:
— О Гинесия, я умираю. Позаботься...
О ком и как позаботиться, осталось неизвестным.
Наблюдая происходившие в Базилий изменения, Гинесия все же не
ожидала такой быстрой смерти, однако не могла не подумать, что, воз-
можно, так даже лучше. Когда же она осознала, что все кончилось и ни-
какими криками, никакими ласками Базилия не оживить, немыслимые
сожаления уродливой чередой прошли перед ее мысленным взором,
поначалу даже лишив ее не только дара речи, но и дара здравомыслия,
словно она была заживо похоронена в могиле несчастий. Память тотчас
представила ей правдивые образы минувших бед, разум возмутился про-
тив мерзкого восстания греховных чувств, готовый рвать себя на части
за отсутствие сопротивления, совесть, опасная свидетельница недавних
событий, все еще не давала забыть о последнем споре, а сожаление, не
имея теперь цели, отчасти пробуждало печаль, но главным образом вело
к неизбежному падению злых мыслей. Гинесии было очевидно, что суро-
вый закон обречет ее на позорную смерть, тем более нестерпимую, что не
заслуженную, но все же, как она считала в глубине души, отчасти заслу-
женную, и оттого она еще сильнее жалела себя. В конце концов, позволив
языку выразить безрадостные мысли, она с грустью в голосе произнесла:
— О, бездонный ров печали, я не могу погрузиться в тебя со всеми
еще не сдавшимися страстями; я падаю и не могу упасть на дно! Но и
очиститься я тоже не могу, навсегда связав себя вечным воспоминани-
ем о них. Где искать мне защиты в моем недостойном падении? В земле?
Но в ней нет жизни, да и ждет не дождется она, как обогатить себя моим
опозоренным прахом. У людей? Но они всегда суровы к вине ближне-
го и в падении других находят маску для своей притворной добродетели.
У небес? О, невыразимые муки совести, не позволяющей мне даже под-
нимать на них глаза! Там нет места греху! Оскверненному разуму туда за-
казан вход. Куда же ты поведешь свою пленницу, о коварное отчаяние?
Увы, увы мне, разве не высшие силы вручили мне проклятый яд? Разве
549
мне было обещано держать в объятиях мертвое тело? О матушка, что за
смертельное зелье ты дала мне? О Филоклея, Филоклея, смотри, как моя
мать отомстила за мою нематеринскую ненависть к тебе. О Зелмана, тебе
(прежде чем несчастье убьет меня) достанутся последние блестки пре-
зренной любви, и если ты (а я уверена, так оно и есть) обманула меня,
тебя ожидает прекрасное зрелище: ты увидишь трагический конец своей
нежеланной возлюбленной.
С этими словами она дала волю потокам слез, полившим из прекрас-
ных глаз, прежде сухих, ибо воспоминания сушили их яростным огнем
ненависти к себе самой; любовь, как ей свойственно, растворилась в свер-
кающем половодье страсти. Вновь взглянув на мертвое тело супруга,
Гинесия припомнила сон, который видела недавно, когда ей показалось,
что Зелмана зовет ее, и она, пройдя мучительный путь, вдруг наткну-
лась на мертвеца, который сказал ей, что лишь в нем она обретет покой.
Гинесия ухватилась за это воспоминание, но не раньше, чем решила,
что сон показал ей правдивую картину ее конца, а тогда уж постановила
отдать себя на волю смерти, едва та явится за ней, не стремясь длить не-
счастную жизнь. Покрыв поцелуями холодное лицо Базилия, она про-
шептала:
— Я тоже скоро отдохну, соединив мою повинную душу с твоей, если
злые боги не воспрепятствуют мне.
Глава третья
Пока Гинесия была занята этой смертельной помолвкой, солнце под-
нялось над горизонтом и пастухи, которые видели царя в пещере и слыша-
ли вопли Дамета о госпоже Филоклее, прибежали к Дамету с жалостны-
ми причитаниями, и он немедленно поспешил вместе со всеми к пещере,
где лежал мертвый царь. Что до Дамета, то он больше тешился надеждой
избежать наказания, чем огорчался сиротством народа Аркадии, поте-
рявшего любимого царя. А в Гинесии природа возобладала над разумом,
и стыд, который охватил ее, на время заставил забыть о принятом ею ре-
шении, отчего она, увидав приближающихся пастухов, бросилась бежать,
чтобы спрятаться в ближайшей роще, правда, она сама не понимала, за-
чем это делает. Дамет увидел ее в плаще Зелманы и принял за Зелману, от-
чего решил, что все духи ада собрались в здешних лесах, желая разыграть
трагедию — так странно все переменилось вокруг в последние часы: мерт-
вый царь у входа в пещеру, исчезнувшая, как он думал, царица, Памела,
сбежавшая с Дором, помешавшиеся, правда, каждая по-своему, Мисо и
Мопса. Однако более остальных его теперь занимала Зелмана, которая
из женщины неожиданно превратилась в мужчину и, выбравшись из за-
пертой комнаты, ухитрилась опередить Дамета у пещеры, окончательно
лишив его способности соображать, что не преминули заметить все со-
бравшиеся. Вот тут, вместо того чтобы заняться необходимыми делами,
Дамет принялся описывать круги и принимать все известные ему меры
защиты от дьяволов, о которых он когда-либо слышал. Однако другие па-
стухи, у которых было побольше мозгов и веры, разделились: одни бро-
сились следом за Гинесией, считая, что бегством она подтвердила свою
вину, а другие — к царю, чтобы вернуть Базилия к жизни или воздать ему
надлежащие почести в смерти.
Побежавшие за царицей вскоре догнали ее, но она уже ничего не
боялась и решение умереть вновь завладело ее мыслями. Правда, стои-
ло пастухам узнать свою царицу, которую они почитали из чувства дол-
га, любили за учтивость и благожелательность, которой восхищались за
ее мудрость и добродетель, как они остановились и принялись просить
ее, чтобы она простила их за преследование, а еще просили, чтобы она и
впредь оставалась их доброй госпожой, какой была всегда. Однако цари-
ца (которая в эти мгновения жаждала избавиться от жизни, ибо всеми си-
лами ненавидела себя) с убежденностью, какая появляется у людей, кото-
рые уже избавились от стыда и познали муки смерти, сказала им так:
— Продолжайте, продолжайте, мои друзья, ибо то, что вы делаете,
лучше того, что вы говорите. Делами вы восстаете против фанатичной
преданности, словами же — против недостатка преданности. Если вы
любили вашего царя, пока он был жив и творил добро, за которое то-
гда вы не могли его отблагодарить, отблагодарите его сейчас перед всем
миром, когда не осталось никакой надежды. Вспомните, вспомните, вы
551
потеряли Базилия, царя, который берег вас, отца, который заботился
о вас, приятеля, который принимал участие в ваших праздниках, друга,
который помогал вам в ваших бедах. Если вы любили его, покажите же,
что ненавидите его убийцу. Это я, верные жители Аркадии, отняла у стра-
ны ее защитника. Я — одна я — стала причиной его безвременной смерти.
Обагрите же руки моей кровью, чтобы ни у кого не возникло сомнений
в вашей непричастности, и не думайте о том, что я царица, вспомните,
ведь это он сделал меня царицей. А если вы думаете о том, что я сделала
для вас, то вспомните и о том, что это его заслуга, а я была всего лишь
орудием в его руках. Что останавливает вас, пастухи, когда ушел от вас
ваш великий пастырь? Вы не должны бояться женщины и чтить убийцу
вашего господина, тем более жалеть ту, которая сама себя не жалеет.
С этими словами она обнажила прекрасную шею и, обращаясь к од-
ному по имени, к другим знаками, стала молить их совершить справед-
ливость, исполнить долг перед царем, сохранить свою честь и оказать ей
услугу. Непривычные судить о царских делах и попавшие в сложное поло-
жение, бедняги переглядывались, ведь им приходилось выбирать между
мертвым царем и живой царицей. Несмотря ни на что, они решили, что
она вольна идти, куда пожелает (сама мысль коснуться ее царственной
особы была для них сродни святотатству).
— Ладно, — сказала она, — видно, мне отпущено еще помучиться. Но
я не доставлю себе удовольствия умереть по-своему. И если ничего дру-
гого не остается, страдания захлестнут меня, и будьте счастливы тем, что
больше страданий быть не может.
Но и на это добрые пастухи никак не решались откликнуться, разве
что обильными слезами и причитаниями, отчего Гинесии пришлось са-
мой вести их, и процессия кому угодно показалась бы странной — то ли
царица была в руках пастухов, то ли узница вела своих стражников, без
свидетелей и обвинителя приговорив себя к смерти. Вскоре они встре-
тились с другими пастухами, которые все предприняли, чтобы вернуть
царя к жизни, но их усилия оказались напрасными, и они загоревали еще
сильнее оттого, что дали волю надежде. Кроме всего прочего, им хотелось
узнать причину смерти своего царя, и они, обнаружив злосчастную чашу,
дали остатки зелья собаке Дамета, и с той очень быстро случилось то же,
что случилось с царем, хотя Дамет все сделал, желая оживить псину, даже
выбил ей мозги.
Итак, пастухи вместе с Гинесией (желавшей вызвать у них ненависть
и потому не перестававшей втолковывать им, как тяжела их потеря) пре-
дались стенаниям, которые печаль рождает в честных, но изнеженных
душах, особенно если есть повод опасаться, что смерть царя отзовется
в жизни многих подданных. По традиции древних греков одни вспом-
нили о знатном происхождении Базилия и о том, как он следовал заве-
там предков; другие восхваляли его самого, потому что, хотя он и не был
совершенством, однако заслужил любовь народа, став совершенством
в их воспоминаниях; третьи прославляли его мирное правление (которое
более всего устраивает людей, желающих жить по-своему); четвертые —
552
его мягкость, хотя она и не могла распространяться на всех, но счита-
лась главной из его добродетелей; пятые подвергали сомнению величие
его власти, отчего жалели его еще сильнее (печально вспоминая, как он
умерял свое величие простым и учтивым обхождением, так что люди
пользовались плодами его величия, не сталкиваясь с его царским высо-
комерием); и все в согласии друге другом наделяли Базилия священными
титулами доброго, справедливого, милостивого правителя, отца народа,
жизнедателя страны; все кружили вокруг его тела, рвали на себе воло-
сы, рвали одежды, взывали к небесам, придумывали новые причитания;
а многие клялись покончить собой на царских похоронах, тем самым
подтверждая, что люди — существа любящие, если несчастья не сбивают
их с проложенного природой пути, и царю, который стал царем по праву
наследования, легче легкого проникнуть в души своих подданных, став
живым памятником, в отличие от усыпальницы царя Мавзола1.
Пока сердечная скорбь аркадцев изливалась в громких воплях, солн-
це, самый лучший указатель времени, уже совершило двухчасовое путе-
шествие по дневному кругу; и в это время эхо донесло плач пастухов до
слуха верного рыцаря Филанакса, который как раз направлялся к царю
в сопровождении многих благородных рыцарей Аркадии, вместе с ним
объезжавших окрестности ради безопасности Базилия, что после мятежа
Филанакс делал регулярно, а после возвращения царевен стал делать
с еще большим тщанием. Вот и теперь, после обычной проверочной
поездки, он решил, что ему необходимо (благо, ехать было недалеко) по-
лучить от царя дальнейшие указания, и вместе со всей свитой, о которой
уже было сказано, с утра пораньше отправился к Базилию, когда стран-
ные крики внушили ему смутное опасение. Вскоре он увидел простертое
на земле тело глубоко почитаемого им царя и услышал вопли Гинесии,
которая совсем не походила на горлинку, оплакивающую вечную разлуку
с единственным другом; нет, она проклинала свою порочность и заодно
свою жизнь и, казалось, только потому не желала себе смерти, чтобы не
явить любовь к чему бы то ни было.
Пастухи, в первую очередь Дамет, зная Филанакса как второго чело-
века в Аркадии, рассказали ему, что им было ведомо, а также о несчастном
поведении царских дочерей. Глубоко опечаленный смертью своего госпо-
дина, Филанакс с горьким вздохом сошел с коня, приблизился к царю
и преклонил колени. Он понял, что пастухи уже сделали все возможное и
царю не помочь, поэтому, следуя верным советам разума, оказавшегося,
тем не менее, не в силах сразу осознать беду, произнес:
— Ах, мой господин, зачем всемогущему судии понадобились пере-
мены в нашем царстве? До чего же скоро — хоть ты жил долго, и надолго
переживет тебя заслуженная тобой слава, и еще дольше будет жить твоя
душа в вечных пределах — но все же слишком скоро, на нашу погибель,
ты покинул хрупкий корабль твоего государства! О, если бы то, что я
1 Усыпальница царя Мавзола — галикарнасский мавзолей, построенный вдо-
вой царя Мавзола, одно из семи чудес света.
553
говорил тебе из чувства долга, когда ты только поселился в своем уеди-
нении, могло уберечь тебя, а я был убежден в этом, может быть, тогда
твоему слуге Филанаксу не пришлось бы оплакивать твою гибель и свое
поражение. — Тут Филанакс постарался взять себя в руки. — Хотя горе
позволяет мне причитать по-женски, ведь у меня в самом деле был хоро-
ший царь, но скорее это моя любовь к самому себе оплакивает потерю.
Нет, истинная любовь должна быть подтверждена достойными почестя-
ми и справедливым отмщением твоим неправедным и бессердечным вра-
гам; гораздо почетнее для твоего надгробия будет пролитая кровь убийц,
нежели слезы друзей. Если твоя душа взирает сверху на несчастную зем-
лю, я не сомневаюсь, она предпочитает заслуженное наказание виновных
более, чем печаль и даже смерть тех, кого ты удостоил своей любовью.
Пусть плачут те, кто сплел паутину плача. Пусть убийцы оплачут твою
смерть своей смертью.
С выражением суровой печали и мстительной решимости на лице
Филанакс поднялся на ноги и, отправляя несправедливое правосудие, так
посмотрел на несчастную безвинную царицу, будто его глаза стали глаша-
таями смертельной ненависти. Гинесия же (из-за фурий любви, огня со-
вести, стыда перед людьми, потери супруга, которого, презирая себя, она
вновь полюбила; а также из-за воспоминаний о вещем сне убежденная,
что боги назначили ей такую позорную смерть как начало будущего покоя
и думавшая лишь о смерти) говорила с Филанаксом, как прежде говорила
с пастухами, требуя, чтобы он видел в ней не женщину, а чудовище, не
царицу, а предательницу, не супругу Базилия, а его убийцу. Она заявила,
мол, все ждут от Филанакса доказательств его преданности царю, и, если
он забудет о своем долге, то все поймут, что он любил не Базилия, а свое
благополучие, как те паразиты, которые пьют кровь живого человека,
и бросают его, едва он умирает. Несчастная царица старалась, хотя этого
и не требовалось, вдохновить того, кто и сам по себе смертельно ненави-
дел ее и выразил это в таких словах:
— Госпожа, хорошо, что ты ненавидишь себя, ибо вряд ли тебе уда-
лось бы найти для своей ненависти более достойную цель, и так как нам
известен твой жестокий нрав, у нас нет сомнений в том, что ты способна
на самое худшее, на такое, что и представить невозможно. Однако не бой-
ся. Недолго тебе осталось терпеть свою злую душу. Поэтому постарайся,
насколько возможно, очистить себя покаянием.
Филанакс приказал доставить из Мантинеи большое количество
шатров для приема знатных подданных Базилия (в Аркадии, когда уми-
рал царь, на том самом месте, где он встречал свою смерть, немедленно
принимались меры для дальнейшего законного правления страной; где
совершилось убийство, должна была восторжествовать справедливость
еще до погребения царского тела), чтобы они могли действовать сообща,
а так как большая часть знати уже приехала вместе с Филанаксом, то он
передал царицу под охрану рыцарю, который заслуживал доверия. Что
же до Дамета, то у него отобрали ключи от обоих домов, назвали молью,
поедавшей владения царя, и единственным черным пятном на его прав-
554
лении; после чего Филанакс велел заковать его вместе с женой и дочерью
в такие тяжелые цепи, какие им только под силу поднять, и жестоко по-
роть их каждые три часа, пока суд не разберется в происшедшем. Потом
Филанакс разослал гонцов во все концы страны на поиски Памелы, хотя
у него не было надежды догнать ее, а сам со свитой отправился в дом, где
несчастные влюбленные ожидали решения своей долгой, трудной, а в по-
следнее время и вовсе мучительной любви.
Глава четвертая
Только плутовские глаза Дамета знали об обмане Пирокла. Едва он
увидел влюбленных (это зрелище в других глазах могло пробудить, что
угодно, но только не осуждение), как запер обоих (сделав их узниками
из-за любви, как прежде они были узниками любви). Но когда он уходил
(то ли из-за поднятого им шума, то ли из-за прокравшегося внутрь луча
солнца, то ли из-за тревожного сна усыпленного горем юноши), Пирокл
вскочил и первый знак грозящей ему и царевне беды увидел в пропаже
меча, с которым никогда не расставался, и даже в эту ночь, оказавшись
сначала в царской кровати, а потом в кровати Филоклеи, надежно (как
он думал) спрятал его, ибо всегда рассчитывал лишь на свою храбрость
и на свой меч. Воистину, уверенность в себе — кормилица великодушия,
хотя и самоуверенности не мешает заботиться о защите, поэтому Гомер
вооружил Ахилла лучше всех остальных греков. Но это, как я уже сказал,
был первый дурной знак. Вскоре Пирокл понял, что стал узником, хотя и
не был взят под стражу, потому что дверь, которую он оставил открытой,
теперь была крепко заперта снаружи, и у него не хватило сил поправить
непоправимое.
Тогда Пирокл посмотрел, нельзя ли ему вместе с его милой дамой бе-
жать через окно. Увы, сразу же стало ясно, что и этот путь закрыт, так
как им вряд ли удалось бы сломать решетки, да и, кроме того, это ни-
чего не меняло, потому что Дамет уже успел собрать пастухов, которым
рассказал, кого нашел в комнате госпожи Филоклеи. Пироклу ничего не
оставалось, как внимательно прислушаться к болтовне Дамета, и он вы-
яснил, что тот узнал предостаточно. Окончательно убедившись, что о его
свидании с госпожой Филоклеей стало известно и, по глупой жестокости
или жестокой глупости Дамета, честь царевны серьезно задета, Пирокл
вспомнил о суровых законах Аркадии, которые осуждали на смерть всех
(без исключения), кто был замечен (как рассказывал Дамет) в брачных от-
ношениях, но не был связан священными узами брака; к тому же Пирокл
не сомневался, что царь и царица еще сильнее возненавидят свою дочь,
обнаружив, что он оставил их в дураках; наконец, он осознал, что им обо-
им грозит смерть, более того, они уже пойманы в смертельную ловушку,
и Пирокл, с сердечной болью глядя на свою чистую любовь, несравнен-
ную Филоклею (чья невинная душа, уверенная в его честности, не ведала
об опасности для своего прекрасного, объятого сном тела), укрепил свой
разум добродетелью и взял в поводыри любовь, отчего скоро и безоши-
бочно оценил условия, в которых оказался.
Точно вычислив долю своего участия в свалившейся на них беде, ко-
торая едва ли не всей тяжестью должна была пасть на не заслужившую
такой участи Филоклею, Пирокл понял, что его неудача, а не просчет
в планах станет причиной смерти существа, которое, как он думал, делало
честь этому миру. Ему стало ясно, что слабое людское разумение навер-
556
няка осудит порок в той, которая никогда не расставалась с доброде-
телью; и так же часто, как милый магнит, притягивал его взгляд, его до-
блестное сердце охватывал невыразимый ужас из-за того, что в столь
юные годы столь совершенная красота — вместилище чистоты и невин-
ности — обречена скоро погибнуть, природные совершенства увянут до
времени, погубленные не природой, а невинность будет вознаграждена
позором. Не раз и не два принимаясь обвинять себя в небрежности, хотя
бы в том, что он недостаточно тщательно осмотрел дом, Пирокл все рав-
но не мог понять, каким образом Дамет проник к ним. Однако он отгонял
от себя эти мысли, ибо думать о том, что могло бы быть, недостойное за-
нятие для мудрого и храброго человека. Со смертельным ужасом Пирокл
смотрел на ту, что (еще недавно) была его счастьем, на Фил оклею, и ду-
мал о том, что следующий луч света, который упадет на нее, возможно,
станет последним в ее беззаботной жизни, что стоит ей поглядеть на него
своими прекрасными глазами, и она увидит отвратительного виновни-
ка своей ужасной гибели. Так как эта мысль глубже других засела в его
любящем разуме, то Пирокл быстро перебрал все вероятные способы
спасения, однако в ту минуту и в том месте не нашел ничего лучшего,
как умереть самому и тем самым сохранить жизнь любимой. Ему пришло
в голову, что, найдя мертвое тело (и имея лишь одного обвинителя Да-
мета, как было ясно из его слов), все решат, будто Филоклея убила его, за-
щищаясь, или он сам наложил на себя руки, ничего от нее не добившись,
и труп засвидетельствует его намерения и ее чистоту.
Немного поразмыслив над благородством такого решения и поста-
равшись заглянуть в будущее, храбрый Пирокл произнес:
— Пусть будет так. Никогда и никому не приходилось еще отдавать
свою жизнь с большей пользой и для более благородной цели. Если
мой проступок должен быть наказан смертью (а меня не остановила бы
смерть), то справедливости ради умереть должен я. И если я должен уме-
реть, пусть моими палачами будут мои руки, они были мне помощника-
ми, и они же накажут себя.
Но тут возникло новое препятствие. Дамет унес с собой все, что, как
он полагал, могло нанести вред такому неженке, как он сам, и Пироклу
не удалось отыскать ничего подходящего для смертельного удара. В кон-
це концов, решив поторопиться, пока не проснулась его дама, он взял
в руки железный прут от оконной решетки (заостренный с одного кон-
ца), который, как он надеялся, поможет ему оборвать тонкую нить его
жизни.
— О, моя судьба! — воскликнул он. — Воистину ты благоволишь мо-
ему врагу (это не позволит мне жить несчастным, но и не облегчит путь
к смерти), отныне я не стану больше беспокоить тебя! И все же благосло-
венна будь, о решетка, ведь ты хорошо стерегла комнату той, что прекрас-
нее всех живущих, и если ты не хочешь помочь мне вырваться отсюда, то
помоги хотя бы моей душе вырваться из моего тела.
Сказав так, Пирокл в последний раз позволил себе насытить взгляд
прекрасным обликом возлюбленной Филоклеи и, вновь опечалившись
557
тем, в каком плачевном состоянии покидает ее, опустился на колени
с мольбой:
— О, великий создатель и великий повелитель земли, тебе я жертвую
свою кровь, и пусть, о господи, уйдут с нею ошибки моей юности, но
пусть душа, тобою сотворенная и тебе покорная, не будет тобой отвергну-
та. Не суди меня строго за то, что я без твоего соизволения покидаю мое
тело (которое ты положил мне), ведь я не могу не думать, что ты своей во-
лей толкаешь меня к этому, ибо лишаешь меня всякой возможности доль-
ше пребывать в нем. У меня совсем нет времени, так ответь, создавший
мою душу для добра. Разве у меня нет права облагодетельствовать чело-
вечество (как ни мал я есть), сохранив для жизни твое лучшее создание и
его лучшее украшение? О, праведный боже, делай со мной, что хочешь,
но не причиняй боль невинному созданию! Я заплачу тебе за нее своей
жизнью. О, боже, дай мне знак, чтобы я мог умереть спокойно. — Пирокл
помолчал, словно в самом деле ожидая какого-нибудь знака. — Когда же
ей придет черед последовать в земную тьму, пусть наши души встретятся
и будут счастливы.
С этими словами он изо всех сил ударил себя железным прутом
в грудь, потом упал на него, желая пронзить свое сердце, однако оружие
оказалось слишком тупым, хотя и, пропоров Пироклу кожу, надломило
ребро, отчего он все же едва не испустил дух.
Пирокл упал, и шум прогнал сон от его возлюбленной Филоклеи,
чью нежную душу слишком рано стали потрясать смертельные зрелища.
Незадолго до того, как ею завладел сон, она с большим трудом избавилась
от безмерной печали, и теперь вот ее глазам вновь предстала жестокая кар-
тина, какую едва ли по силам вынести человеческой природе, тем более
что Филоклея не ведала причину, толкнувшую Пирокла на самоубийство.
Однако любовь подсказала ей, что промедление смерти подобно. Поэтому
она торопливо высвободила слабое, но уже послушное ей тело из сладост-
ного плена постели (так из богатой шкатулки торопливо вынимают брил-
лиант), после чего, не стесняясь наготы своих прелестных ножек, стреми-
тельно подхваченная любовью, как некогда Дафна — страхом, она броси-
лась к Пироклу, которого нашла не совсем в добром здравии, отбросила
в сторону железный прут и заключила любимого в самые нежные объятия.
— Мое утешение, моя радость, моя жизнь, отчего ты торопишься
убить свою Филоклею, — вскричала она, — да еще самой злой казнью,
какая выпадала когда-либо на долю женщины? Неужели ты еще не уразу-
мел, что твоя боль — моя смерть и твоя смерть — мой ад? Ах, если ты вдруг
разлюбил меня (а другой причины я не вижу) и оттого возненавидел себя,
если моя вина или моя слабость пробудили в тебе гнев, пусть я до конца
узнаю его горечь, пусть мне воздастся по заслугам, пусть мир убережется
от горя, а я утешусь тем, что умираю от благороднейшей руки, когда-либо
державшей меч.
Опечаленный своей судьбою, которая не позволила ему одним махом
покончить со всеми бедами, решил, что жизнь ему оставлена, дабы он по-
служил несчастливым вестником будущих страданий.
558
— Ax, — вздохнул он, — моя единственная звезда, зачем ты говоришь
о каких-то слабостях, несправедливо пороча бога, себя и меня? Нет, нет,
ты безвинна, прекрасная госпожа, это твои совершенства заставляют
меня торопиться навстречу смерти. Я отдаю должное природе, которая
(вопреки моей природе) требует от меня сохранения лучшего из ее творе-
ний. Позволь, о позволь мне умереть! Иначе мне не спасти твою жизнь,
которая, как никакая другая, заслуживает спасения, но спасти тебя я могу,
лишь погибнув сам.
Потом Пирокл немногословно, но со страстью (это было для него не-
приятнее и мучительнее, чем даже близкая смерть, но необходимо, ибо
он думал склонить ее к тому, что считал ее спасением) пересказал ей речи
Дамета, услышанные им, а остальное объяснил без слов, показав, что им
не выйти из комнаты. Потом он вновь принялся искать способ лишить
себя жизни, но Филоклея немалыми усилиями остановила его и застави-
ла выслушать себя, своим примером показывая, сколь невелика разница
между обыкновенным незнанием зла и разумной привычкой к доброде-
тели. Пусть иначе, чем Пирокл, с неколебимым великодушием презрев-
ший смерть, однако целомудренно и безгрешно, не рассуждая о том, по-
чему она должна бояться, вручая незапятнанную душу богу (искренняя
любовь к Пироклу, помогла ей понять, что без него ей не будет жизни),
Филоклея так же спокойно осмыслила все обстоятельства, как доброде-
тельный Пирокл. Прелестной бледностью (оставившей молочные пятна
на розовых щеках), заплатив долг естественному страху, она взяла царе-
вича за руку и поцеловала рану, которую он нанес себе.
— О, жизнь моей жизни, коли так вышло, то смерть принесет мне мно-
го больше утешения. Как ты мог подумать, что я куплю себе жизнь ценой
твоей жизни? Нет, ты бы сделал мою смерть еще страшнее, если бы я про-
медлила, пережив свое счастье. Неужели ты думаешь, что я сравню мгно-
вение смерти с несказанной мукой, которую моя душа была бы обречена
терпеть каждый раз, когда я вспоминала бы о Пирокле, ведь я вспоминала
бы о нем так же часто, как дышала? Неужели эти глаза, узрев твою смерть,
могли бы направлять мои шаги? Неужели эти руки, не отведя такого не-
счастья, могли бы кормить меня? Неужели сердце не разорвалось бы у ме-
ня в груди и отсчитывало бы время моих страданий? О нет! Если нам суж-
дено умереть, то пусть и в смерти мы будем неразлучны! По правде гово-
ря, мой Пирокл, я слыхала, как мой отец и другие мудрые мужи говорили,
будто самоубийство всего лишь ложная храбрость и его причина в страхе
перед грядущим злом, мучением или позором. В ожидании неминуемого
зла человек не может не думать, что это зло принесет ему, и лишь надеж-
да более, чем что-либо в этом мире, способна противостоять страху, зна-
чит, самоубийца лишает себя надежды и скорее всего в страхе причина его
поступка. Что бы (как говорят) ни рождало отчаяние, это не может назы-
ваться доблестью, которая должна быть поднята выше всего и может оста-
ваться на этой высоте даже в годину несчастий. Наконец, говорят, господь
назначил нам под начало наши телесные укрепления, которые не могут
быть сданы, пока этого не потребует создатель, иначе мы предадим его.
559
Пирокл (который считал законом для себя не разочаровывать Фи-
локлею), хотя не отступил от своего намерения и знал, как мало у него
времени, но, не слыша шума (пастухи побежали к Базилию), со спокой-
ным и смиренным выражением на лице, как человек, который говорит
о вещах, его не заботящих, со взглядом, который подтверждал, что лишь
мысль о возлюбленной, а не забота о собственной судьбе, отягчала его
сердце, страстно обнимал Филоклею, извлекая пользу из промедления,
и так отвечал мудрой в своей невинности царевне:
— О госпожа, достойная дарованной тебе жизни, но и достойная быть
жизнью всего сущего, ты даришь меня любовью превыше всех моих за-
слуг, любовью ты хочешь победить судьбу и осчастливить меня; тем более
я должен хотя бы из обыкновенной любви к ближнему (не говоря уж о той
любви, с которой я не могу и не хочу расстаться), должен искать способ
доказать, что я благодарен тебе; а чтобы доказать это (ведь твоим добро-
детелям несть числа), я сделаю все, что смогу, и воздам тебе своей жизнью
(это все, что у меня есть), хотя она (и считать нечего) не стоит тебя, но все
же тогда я не умру в долгу у собственного долга. Воистину чем сильнее ты
старалась удержать меня от задуманного мною (гораздо более ужасного
в воображении, чем на самом деле), тем яснее я видел, что должен пре-
дотвратить страшную потерю для Аркадии и для всей земли, если такое
деревце, которое даже по первому году прекрасно и цветами и плодами,
может быть срублено под корень.
Поэтому, возлюбленная моя госпожа, я хотел бы ради нас обоих, что-
бы это было моим последним словом к тебе; согласись, ведь ты с твоей
мудростью не можешь не понимать (хотя сама не понимаешь, сколь ты
совершенна), что лучше умереть одному, нежели обоим. А поскольку ты
уже достаточно доказала свою любовь ко мне, то позволь мне умолять
тебя своей любовью, дай мне умереть в согласии с собой, а не в смуте,
с чистой радостной совестью, а не с отчаянными проклятиями оттого, что
я, никчемный негодяй, стал причиной того, что человечество не узрит
истинный пример добродетели. А так как мне ничего не осталось, разве
лишь воображать, чего бы мне больше всего хотелось, то больше всего я
хочу, чтобы ты сохранила местечко в твоих мудрых мыслях для памяти
о Пирокле, поэтому я согласен еще немножко пожить и, отвечая на твои
милые возражения, может быть, убедить тебя (почему бы и нет?) в том, что
не стоит обсуждать мой поступок, ибо я совершу его не в порыве страсти.
Ты вспомнила, что твой отец обычно говорил, будто подобные по-
ступки чаще совершают из страха перед будущим злом или позором, чем
из храбрости. Но правда и то, что довольно странно говорить так о тех, кто
уже никогда не сможет рассказать о себе сам. Что до меня, то призываю
в свидетельницы всевечную правду: никакой страх перед мучениями не
может запугать меня, ибо я видел всякую смерть и давно научился не при-
давать особого значения телесным страданиям. Ну а позор? Мне ли сты-
диться того, за что моя благонамеренная совесть будет отвечать перед бо-
гом, а твоя всепобеждающая красота — перед людьми? Но даже если допу-
стить, если предположить, будто сей поступок совершается, дабы избежать
560
(большей) боли и бесчестия (ибо страхом, этим отвратительным именем
страсти, называют то, что совершается по зрелому размышлению); если
предположить, говорю я, что это лишь попытка избежать худшего, то я
полагаю, истинная стойкость (если вглядеться с глубокой убежденностью
во все человеческие поступки и не дать отвлечь себя ни тем, что приносит
радость, ни тем, что вызывает неприязнь); так вот, истинная стойкость не
умаляет себя различением степени зла, напротив, это единственная до-
бродетель, которая с уверенностью и спокойствием может избежать боль-
шего зла тем, что бесстрашно отдает себя в руки зла меньшего. Для спо-
койствия своей страны такой человек пожертвует жизнью, для спасения
ноги не пожалеет богатств, для спасения своей жизни поступится ногой,
тогда как слабый человек скорее умрет, чем посмотрит в лицо хирургу;
вот он-то и мог бы сказать, что сильный ждет болезненную операцию из
страха еще большей боли, а он в согласии с собой готов к смерти. Но и то
и другое неправильно, поскольку в первом случае человека ведет не страх,
а хорошо рассчитанное разумение, а во втором — не согласие с собой,
а единственно страх: не имея сил пойти на муки, он смиряется с большим
несчастьем. Тем, кто действует, требуется много сил, а слабым легче стра-
дать. Но если так обстоит с муками телесными, то это тем более верно для
мук душевных, для стыда и бесчестия, и не надо нам (ибо храбрость —
добродетель, а добродетель имеет границы) испытывать их пределы и ду-
мать, будто храбрый человек будет с радостью терпеть все, что угодно,
потому что даже терпение иногда бывает верным доказательством недо-
статка храбрости. А неохотнее всего мы миримся с позором, потому что,
заботясь о своей чести, человек ненавидит ее противницу, и не из страха,
а по разумному выбору. Приходится выбирать: или лишиться нескольких
лет жизни (их может быть отпущено много или мало), или отдать себя на
растерзание мерзкой муке, которую изберут глупые люди.
Что до их представления о том, будто страх противостоит надежде, то
я не стал бы защищать страх или слишком доверять надежде, потому что
излишняя склонность к тому или другой говорит о немощном разуме, ко-
торый нуждается в поддержке. Кто строит дом на фундаменте надежды,
должен постоянно бояться отчаяния.
Однако все в моих мыслях восстает против последнего утвержде-
ния — о небесных силах, поскольку всуе поминается величайшее имя.
Я знаю одно, коли бог что-то и предоставил нам во владение, так это нашу
жизнь, от которой мы можем (не причиняя зла другим) избавляться, когда
нам угодно. Иначе почему бы не признать, что у нас нет права избавлять-
ся от каких-то частей нашего тела, не испросив на то согласия господа,
поскольку они тоже сотворены не нами; а если это не так, то величина по-
тери зависит от серьезности причины. Если мы замещаем господа в своей
маленькой крепости, разве нам следует ждать его распоряжений, прежде
чем сложить с себя обязанности, когда он не дает нам возможности жить
так, как мы считаем правильным?
— Нет, конечно же, нет, — ответила печальная Филоклея, — ибо не
в нашей власти требовать от него, могущественного и великого, помощи
36 Заказ 1414
561
по нашему усмотрению. Самое великое событие в нашей жизни не так
велико для него, чтобы он мог пойти на поводу у смертного. Поэтому
перечить его воле значит сомневаться в благости того, кто есть благость.
Когда же он посылает нам смерть в болезни или как-то иначе, разве мы не
понимаем, что таково его желание, и не признаем за благо ниспосланное
им? Нам нельзя притязать на то, чтобы быть всевластными господами
самим себе, поскольку мы не сотворили и не купили себя, у нас нет дру-
гого права, кроме права на его дар, который он может ограничивать, как
ему заблагорассудится. И нет связи между потерей ноги и потерей жизни,
потому что потеря ноги сохраняет жизнь, а потеря жизни ведет к потере
всего; потеря ноги лишает человека разума, который руководит его по-
ступками, ради которых он послан в мир, потеря же жизни лишает всякой
возможности участия в земной жизни.
По правде говоря, милый Пирокл, должна признаться, что не счи-
таю твою защиту достаточной даже по законам добродетели. Она была
бы достаточной и даже прекрасной, если бы речь шла о внешних вещах,
и тогда по воле своей природы можно было бы выбирать между позором
и болью, теперешней мукой или еще большей мукой в будущем. Но к это-
му (помимо сравнения ценностей) добавляется и злой поступок, который
нарушает равновесие; добродетельный человек (каково бы ни было его
горе) никогда не совершит ничего, не уверившись прежде в правильно-
сти своего решения перед лицом вечной праведности, но скорее всего
рассудит, что честь и бесчестье (которые определяются лишь суждением
других людей, правильным или ложным), страдания или возможность
избежать их (так или иначе им не дано затронуть душу) — все это ни-
что в сравнении с незапятнанной совестью. И насколько мне помнится,
я слыхала, как добрые люди подтверждали эти доводы тем, что поступки
проистекают из какой-то иной скрытой страсти, если человеку неведома
истинная добродетель.
Пирокл не столь был убежден, сколь очарован ее продуманной и лас-
ковой речью, но когда она умолкла в печали, словно запечатала прелест-
ные уста слезами, бежавшими одна за другой бесценными жемчужинами,
он решил, что настал его черед говорить:
— Пусть будет по-твоему (сказал он), добродетельная красавица, но
только даже сам господь не убедит меня в том, что нехорошо ценою жиз-
ни Пирокла спасать благороднейшую Филоклею. Пусть об этом напишут
на моем надгробье, и мне не придется завидовать славе Кодра1.
С этими словами Пирокл вновь взялся за железный прут, решив,
что если у него опять ничего не получится, то он размозжит себе голову
о стену, однако перепуганная Филоклея бросилась перед ним на коле-
ни, обняла его ноги так, что, не причинив ей боль (чего он ни за что не
сделал бы), он не мог освободиться из ее рук, и принялась страстны-
ми мольбами, которые только могла измыслить любовь, заклинать его,
1 Кодр — царь Афин, погибший в битве ради исполнения предсказания, гово-
рившего, что та сторона победит, чей царь будет убит.
562
чтобы он не покидал ее, не оставлял без защиты в беде, которую сам на
нее накликал, потому что тогда она всей душой проклянет его за пре-
дательство, тогда у нее будет причина проклясть ту минуту, когда она
услыхала имя Пирокла, чего иначе она не сделает даже под страхом
смерти.
— Неужели ты покинешь меня в бесчестье, — вопрошала Филоклея, —
как будто опозоренную тобой, да еще как твою убийцу? Неужели заста-
вишь меня (перед моей смертью) увидеть этот ад и позволишь мне смо-
треть на мертвое тело того, кого я люблю больше жизни?
Филоклея поклялась самой страшной клятвой, что, если Пирокл бу-
дет упорствовать в своем жестоком решении, она (хоть это и неправда)
не только признается отцу, что он сделал это с ее согласия, но, если этого
будет недостаточно, вырвет себе глаза, что станут свидетелями его смерти
и сама предаст себя такой ужасной казни, какую только сможет выдумать,
чтобы телесная боль уравновесила душевную муку.
— А теперь убивай себя, и твой добродетельный поступок будет увен-
чан позором. Убей себя, и я (которую ты, как говоришь, любишь), пока
буду жива, не стану восхищаться тобой, но буду презирать и ненавидеть
даже твое имя. И ты получишь, что хочешь, ибо вместо одной смерти
у меня их будет тысяча, да еще ты лишишь меня божьей помощи, на ко-
торую иначе я все же могу надеяться.
Столь ясно высказанная любовь тяжелым грузом легла на сердце
Пирокла, который, обнаружив, что решение Филоклеи неколебимо и его
смерть нарушит их теперешнее согласие, но не избавит от грядущего зла,
как человек, который решился на нее не из-за неожиданной вспышки
страсти, а по зрелому размышлению, предпочитая жизнь Филоклеи сво-
ей, теперь, когда он понял, что его решение никуда не годится, отказался
от него так же спокойно, как прежде защищал его; как человек, для кото-
рого решение убить себя или не убить не затрагивало душу, он сохранил
ясным и непотревоженным свой рассудок. Поэтому, отбросив подальше
прут и подняв Филоклею, образец красоты, с пола, недостойного того,
чтобы она лежала на нем, Пирокл позволил своим чувствам насытиться
любимым зрелищем, которого, как он был убежден, они скоро будут ли-
шены, и сказал:
— Будь по-твоему, возлюбленная госпожа, твоим покоем я дорожу
больше, чем своим, и твое суждение для меня важнее, чем мое собствен-
ное, поэтому я подчиняюсь тебе. Боги не хотят, чтобы ты умерла. Что ж,
беру их в свидетели того, что, подчиняясь твоему приказанию промед-
лить со смертью, я поступаю правильнее, чем иной — соглашаясь по-
жертвовать жизнью. Однако теперь, когда я уступил твоему желанию, ты
должна вознаградить меня и убедить в том, что твоя любовь умеет дарить
не хуже, чем твоя власть добиваться подчинения. Я покорно прошу тебя
сказать, что я ворвался в твою комнату силой — на этом я решил стоять,
и так будет лучше для нас обоих, — но ни в коем случае не называй меня
моим именем, что бы со мной ни случилось, мой род не должен быть обе-
счещен.
36*
563
Глава пятая
Опасаясь, как бы ее отказ не побудил Пирокла вновь настаивать на
своем, Филоклея сделала жест, который можно было принять за согла-
сие, тем более что она действительно решила исполнить вторую часть его
просьбы. Однако говорить им больше не пришлось, так как в дом вошли
Филанакс и еще двадцать благородных рыцарей Аркадии. Из почтения
к даме оставив остальных дожидаться внизу, Филанакс один, стараясь не
шуметь, подошел к двери в спальню царевны, открыл ее, и на него обра-
тились взоры несчастных влюбленных. Скромница Филоклея вновь спря-
тала свою красоту в постели, а Пирокл взял в руки прут, решив умереть,
но не допустить, чтобы прекрасная Филоклея подверглась оскорблениям.
Восхищенный красотой Пирокла, которого он прежде не видел, к тому
же не забыв, как тот своей смелостью и красноречием спас Базилия и,
может быть, всю страну от гибели, Филанакс помедлил и даже несколько
смягчился. Однако он вспомнил о смерти своего господина, к которой,
как он решил, Пирокл приложил руку вместе с царицей, и сочувствие
сменилось страстной ненавистью, так что Филанакс одновременно ис-
пытывал жалость и жажду мести, приязнь и отвращение.
— О боже, — произнес он, как будто разговаривая с самим собой, —
что за чудеса совершает природа в наше время, придавая пороку столь
прекрасное обличье! Но самое непонятное бывает, когда у порока и до-
бродетели один хозяин.
Видя Филанакса в нерешительности и не зная ни его самого, ни цели
его прихода, однако заранее не ожидая ничего хорошего, Пирокл сказал
так:
— Господин, что привело тебя в покои моей госпожи Филоклеи? Ты
пришел, чтобы защитить ее от насилия, на которое я мог бы решиться?
Если так, то, воистину, ты пришел напрасно, потому что она сама в си-
лах защитить себя своей добродетелью, ей достаточно ее неодолимого
целомудрия. Ее совершенный ум делает неуязвимым тело, в чем я убе-
дился (ибо здесь меня встретил недобрый прием), но я не смог уйти, по-
тому что был заперт, не знаю кем, едва переступил порог ее покоя, и мне
пришлось остаться тут, где я был стреножен самым страшным стыдом,
какой когда-либо пришлось испытать человеку, увидавшему небесную
красоту, которую он чуть было не испачкал грязными мыслями. Если
ты пришел из-за меня, то, уверяю тебя, твоя задача выполнена. Но если
ты пришел, чтобы подвергнуть меня наказанию, каким бы оно ни было,
за мою непростительную самонадеянность, то, клянусь, меня так му-
чает совесть, что я сам с удовольствием предам себя в твои руки. Лишь
позволь просить, чтобы ты подтвердил перед царем мои слова и защи-
тил царевну от отцовской ярости, ибо в этой госпоже ты видишь со-
вершенное создание природы, и мне ничего не остается, как ее чистей-
шему совершенству противопоставить мое грешное несовершенство.
564
Я все сказал. Ты только погляди, как она прекрасна, вспомни, кто она
по рождению, подумай, как она молода, и рассуди верно о ее добро-
детелях, тогда, не сомневаюсь, твой благородный разум станет тебе на-
дежным советчиком в этом, я сказал бы, несчастье, случившемся с нею
из-за моей необузданной наглости.
Филанакс не препятствовал Пироклу говорить, но не потому, что со-
чувствовал ему, а потому, что хотел побольше узнать об истинной причи-
не и цели убийства царя. Услышав же, что Пирокл говорит о Базилии как
о живом, он усмотрел в этом скорее уловку, нежели неведение.
— Юноша, — сказал он, — я мог бы с полным правом возненавидеть
тебя, еще не будучи знаком с тобою, а теперь ты стараешься сделать вид,
будто признаешься, признаваясь в малом, дабы я поверил, что ты неви-
новен в большем. Но, как бы там ни было, все одно к одному, и у нас еще
будет время подвергнуть тебя пыткам, чтобы узнать правду, если любовь
к правде не поможет тебе избежать пыток. Что до моей госпожи Фило-
клеи, то если все так, как ты говоришь, то ей по ее летам и благородному
происхождению не пристало нарушать законы добродетели, даже если ее
красота под плохим присмотром. А тебе не пристало учить аркадца почте-
нию и долгу по отношению к царскому дому. Не сопротивляйся и пойдем
со мною, потому что сопротивление тебе не поможет, а покорностью ты
еще можешь снискать к себе жалость.
— Жалость! — повторил Пирокл с горькой усмешкой, возмущенный
такой грубостью. — Да, да, рыцарь, я очень пожалею себя, если буду столь
несчастен, что ты подаришь мне жизнь. Моя просьба лишь об этой не-
винной госпоже, и, пока ты не поклянешься мне в ее безопасности, будь
уверен, первый же, кто дотронется до нее, расстанется с жизнью за свя-
тотатство.
Смеясь про себя над Пироклом в уверенности, что Пирокл и царица
или, по крайней мере, один Пирокл злоумышлял против царя, Филанакс
сказал:
— Пожалуй, ты слишком много говоришь о царе. Так вот, я клянусь
тебе моей любовью к нему, что ей (что бы там ни было) будет не хуже, чем
ее отцу с матерью.
— Я верю твоему слову и уступаю, — откликнулся несчастный Пирокл,
обманутый тем, кто не собирался его обманывать.
После этого Филанакс передал Пирокла в руки одного из рыцарей
своей свиты, хотя каждый хотел взять его под свою опеку, потому что
приятная наружность (в которой сияла доблесть) царевича пробужда-
ла восхищение во всяком, кто смотрел на него. Сам Филанакс остался
с Филоклеей, чтобы, расспросив ее, найти подтверждение своим домыс-
лам. Прелестное создание, она из стыдливости отдалилась от Пирокла
(будучи столь открыта взгляду, что ее скромность не могла этого вынести)
и ждала прихода отца, отчего была полностью поглощена раздумьями
о том, как ей вести себя с ним, чтобы спасти и себя, и возлюбленного;
а потом, когда Пирокла неожиданно увели из ее комнаты и от нее, она так
испугалась, что (подобно тем, кто видит страшный сон и хочет кричать
565
от страха, но не может) пролежала какое-то время, не в силах не только
говорить, но и шевелиться. Когда же Филоклея осознала, что Пирокла
в самом деле больше нет рядом с ней и начала понемногу приходить
в себя, она, не зная, что будет дальше с любимым, но (следуя природе
любви) боясь худшего, заломила руки и дала волю слезам, словно пред-
варив ими свои речи, с которыми в конце концов обратилась к жестоко-
сердому Филанаксу, повернув к нему увенчанную янтарем головку.
— О Филанакс, Филанакс, я знаю, как мой отец верит тебе, и нет дру-
гого человека, чью мудрость он почитал бы больше и чьей преданности
больше доверял бы. Вспомни, как часто ты клялся служить мне, как ча-
сто давал повод убедиться, что был бы рад моей благосклонности, и если
воспоминание не неприятно тебе или может помочь мне, вспомни, что
когда-то я была достойна твоей службы. Теперь моя судьба перемени-
лась, но пусть останется прежней твоя верность. Покорная и несчастная
просительница, я вверяю себя твоей воле и прошу, но прошу немногого:
я хочу жить лишь той жизнью, которую признают для меня достойной.
Если моя кровь может смыть позор с Аркадии, пусть будет так, хотя опо-
зорена Аркадия не мною. Я прошу только одного, и ты пообещаешь мне,
что, пока я жива, ты не разлучишь меня с тем, с кем я соединена богами,
и ты не поступишь с ним более жестоко, чем со мной. Если ты по спра-
ведливости рассудишь случившееся (а боги, что должны были стать сви-
детелями нашей свадьбы, стали свидетелями нашей невинности), тогда
ты позволишь нам быть вместе. Если же мой отец решит, что нас соеди-
нила общая вина (если такая была), то ты позволишь нам вместе принять
наказание.
Не было на свете человека, который искреннее, чем Филанакс любил
бы своего царя и все, что принадлежало ему. Поэтому он огорчился до
глубины души, видя, что после смерти Базилий стал еще (если так мож-
но выразиться) несчастнее. И ничто не могло бы удержать Филанакса
от нежной жалости, ведь он помнил, как Филоклея спасла жизнь ему,
взятому в плен Амфиалом, кроме выстраданного убеждения, что ее про-
ступок как-то связан со смертью царя, чему он теперь из-за ее непонят-
ных слов о браке поверил еще больше. И он пробурчал так, чтобы она
не слышала:
— Итак, насилие, о котором здесь говорил рыцарь, уже превратилось
в брак. Тот призывал Марса, эта говорит о Венере. О, мой несчастный
господин! Все твоя прекрасная ведьма Гинесия! Это она отослала одну
дочь, развратила другую и отравила тебя, чтобы погубить царский дом
Аркадии.
Потом Филанакс сказал Филоклее:
— Если бы твой отец, госпожа, мог теперь говорить с тобой, воистину,
у тебя не было бы более страстного защитника, чем я. Ибо я постарал-
ся бы, чтобы твоя вина (хоть она и велика) стерлась из моей памяти, не
забывшей твою прежнюю жизнь, а также того, что ты сделала для меня,
и того, что ты дочь такого отца. Но так как вы, сговорившись между
собой, вышвырнули из жизни его, который, единственный, имел право
566
миловать, придется вам теперь пожинать плоды своих дел и не искать
большего, чем вам назначит буква безжалостного закона. Что до меня, то
я любил тебя за чистоту, а где она теперь? Я любил тебя ради себя, но это
ничто в сравнении с потерей, понесенной Аркадией. Я любил тебя ради
твоего отца, а вы, несчастные, отняли его у нас.
Разумная Филоклея ничего не поняла из сказанного Филанаксом,
поэтому пожелала, чтобы он объяснил ей, почему говорит так мрачно об
ее отце и господине, чье недовольство для нее горше любого наказания;
мол, ее совесть чиста, и она ни в чем не виновата перед ним, даже в якобы
случившемся ночью, и если у него достанет терпения выслушать ее, он
поймет, что ее выбор не был неудачным.
Филанакс, как будто видя ее слова, написанными на прекрасном
лице, подумал, что с таким лицом невозможно обманывать, и от этого
пришел в еще большее замешательство.
— Зачем, госпожа, ты уверяешь меня, будто не знаешь о бегстве
Памелы и убийстве твоего отца?
Прелестная Филоклея вскрикнула, еще раз подтвердив, что на ее лице
и в ее сердце много свидетелей ее невиновности.
— Ах, Филоклея, ты погибла, — жалобно простонала она, — теперь
мне и в самом деле пора хоронить надежду на спасение. Милый отец, по-
чему в твой последний миг меня не было рядом, чтобы я могла в печали
последовать за тобой?
Убедившись в искренности Филоклеи, Филанакс с радостью оправ-
дал ее в своем сердце, отчего ему страстно захотелось присоединиться
к ее непритворным причитаниям. Однако он вспомнил, что на нем лежит
бремя власти и наказания убийц, и произнес:
— Что ж, госпожа, сам я ничем не могу тебе помочь. А что решат жи-
тели Аркадии, того я не знаю. Твои речи убедили меня в твоей невино-
вности, но я не знаю, как оправдать то, что ты отдала свое тело мужчине,
который (а это явное доказательство его измены) отдал свои одежды тво-
ей несчастной матери, чтобы она совершила подлое убийство. Вас будут
судить вместе, ведь ты сама накрепко связала себя с ним.
— Но я и хочу быть с ним вместе, — заплакала Филоклея. — Все, что
вы сделаете с ним, сделайте и со мной. Мне ведомо, из добродетельно-
го источника не добыть ничего, кроме добродетели. Когда ты найдешь
его невиновным, еще неизвестно, сочтет ли он тебя достойным своего
благосклонного внимания, и не возводи на догадках здание моего бес-
честья.
Чувствуя, как тает его сердце, Филанакс мысленно вернулся к сво-
ему мертвому господину и, пришпорив таким образом мстительный дух,
неожиданно, не говоря ни слова, покинул безутешную царевну, которой
судьба как будто всерьез грозила безвременной смертью или, в лучшем
случае, незаслуженным позором. Тем временем Филанакс поставил
вокруг дома надежную охрану, а сам отправился взглянуть, как содер-
жатся другие узники, которых неожиданно для него оказалось довольно
много.
567
Глава шестая
Благородная Памела, избавившись от груза своих забот, благодаря
естественному покою освежающего сна, и вручив свой разум и тело на-
дежной защите царственного пастуха, вдруг проснулась из-за неистовых
воплей каких-то бродяг; и тотчас разгневанный Музидор вскочил на
ноги, недоумевая, что можно искать в лесу, и злясь на досадную помеху.
Тем временем шуты, разбудив влюбленных, очень скоро разобрались, что
за гости явились к ним; ведь сами они были худшими из бунтовщиков, не
посмевшими доверить свои плакавшие по веревке шеи обещанию царя
простить всех до единого, и когда большинство по-бараньи покорилось
(следуя, как бараны, за вожаками), эти вверили свою безопасность лесной
чаще. Будучи по складу ума ближе к зверям, они зажили по-звериному,
приспособив жадные животы к дарам природы и видя единственную цель
в жизни — как можно дольше тянуть ее.
Вот так, кочуя с одного нехоженого места на другое, ведомые про-
видением (став своими палачами и своей жизнью предрекая себе жесто-
кую кару), к несчастью для себя и Музидора, они случайно наткнулись на
него. Едва он повернулся к ним лицом, они узнали сторонника Базилия,
пришедшего на помощь Зелмане и оставившего на большинстве из них
кровавые отметины своей доблести. Что до Памелы, то ее-то им не раз
случалось видеть. Сначала бродягами завладела низменная мститель-
ность, потом желание удовлетворить свои жалкие нужды грабежом, но,
подумав, они решили, что смогут добиться прощения, вернув царевну
отцу (ибо не сомневались, что сам он по доброй воле никогда не отпустил
бы ее от себя со столь малочисленной охраной), и тогда они все, не раз-
думывая, бросились на благородного Музидора. Но и он (будучи заранее
распален против них) оказал им достойное сопротивление. Покалечив
одних и распугав остальных, которых он заставил отойти подальше, он
позволял им кричать и вопить, словно шавкам, которые лаяли, но не ку-
сали; а сам тем временем перенес свою дрожавшую от страха даму побли-
же к одной из сосен, закрыл ее собой, демонстрируя нападавшим свою
храбрость и стараясь защитить царевну.
Получив второй урок того, как непросто сладить с мечом Музидора,
бродяги принялись метать дротики и кидать камни — только так они мог-
ли победить рыцаря, который, видя, что некоторые вот-вот прикоснутся
к госпоже Памеле, да и другие приближаются к средоточию его жизни
(так что вскоре кто-нибудь из них мог совершить непоправимое), оставил
свою даму одну и бросился в гущу врагов, вкладывая в удары надежду и
отчаяние, отчего его противники (словно кабаны, когда на них набрасы-
вается могучий мастифф) тотчас разбежались в разные стороны. Первому
Музидор, когда тот убегал от него, вытянув шею, одним ударом отрубил
голову, так что она скользнула у него между рук, и он упал на нее, будто
торопился поднять ее с земли. Второй со всего маха налетел на дерево
568
и упал на спину с исцарапанным лицом, не ожидая для себя ничего хо-
рошего, и справедливо, потому что Музидор отсек ему ногу и оставил
истошно вопить о загубленной походке. Третий, решив, что у него лени-
вые ноги и слабые руки, повернул назад и открыл было рот, чтобы молить
о пощаде, но не успел произнести ни слова, потому что Музидор воткнул
ему между зубов, в самое горло, меч, и бедняга навсегда остался лежать
с полным ртом крови и слов.
В ярости Музидор погнался было за другими негодяями, но услышал
крик Памелы и увидел, как три злодея (пока Музидор расправлялся с их
приятелями) пробрались незаметно за деревьями, неожиданно наброси-
лись на нее, угрожая ей смертью, если она посмеет кричать, и хотели ута-
щить царевну в чащу, пока ее возлюбленный был занят кровавым пресле-
дованием. Однако Памела, которая считала, что нет ничего страшнее, чем
разлучиться с тем, в ком было все ее счастье, жалобным криком позвала
Музидора на помощь; и он, которому померещилось множество наставлен-
ных на него самого кинжалов, на самом деле направленных на нее, со всех
ног устремился к ней. Однако один из злодеев, что был поумнее осталь-
ных, приставил нож к белой шее царевны, угрожая немедля убить ее, если
Музидор не бросит меч. Ни один ученик, заполучивший вместо учебника
игрушку и вынужденный расстаться с нею под устрашающим взглядом же-
стокого учителя, не был несчастнее храброго Музидора, выпускающего из
рук единственного своего защитника, чтобы спасти жизнь возлюбленной,
и поднимающего руки перед столь недостойными зрителями.
— О, жители Аркадии, — вскричал он, — это я виноват перед вами!
Она никогда не замышляла ничего против вас, а теперь и вовсе нет у нее
такой возможности. Обратите свой гнев на меня, потому что я заслужил
его, но не причиняйте боль ей, ибо это никогда, где бы вы ни были, вам
не простится!
Не поверившие ему бродяги потребовали, чтобы он отошел подальше
от меча, и Музидор послушно это исполнил, так велика была его любовь
по сравнению с другими чувствами. Потом собрались остальные, кото-
рых, хоть и было немного, все же оказалось немало, и свирепые сенаторы
стали держать совет насчет того, что им делать дальше: одни предлагали
отобрать драгоценности и отпустить беглецов на все четыре стороны, так
как были уверены, что от царя получат куда меньшую плату за службу,
другие, соскучившись по дому, предлагали отвести обоих к царю как за-
лог своей свободы, но не было недостатка и в таких, которые требова-
ли смерти обоих, полагая, что так будет лучше всего. Вот в такое унизи-
тельное рабство попали благородные и прекрасные влюбленные. Однако
большинство было против убийства царевны, предвидя, что после этого
им никогда не получить прощения, и склонялось скорее к ограблению,
нежели к убийству, когда потерявший ногу негодяй с помощью одного
из своих приятелей подполз поближе и стал плачущим голосом требовать
мести за свою кровь, ибо (он дрался вместе со всеми) он не хотел умирать
неотомщенным, а отомстить хотел своими руками, но с помощью дру-
гих, предав жестокой смерти своего убийцу; он бы все кричал и кричал,
569
однако большая потеря крови, вызванная его горячностью, задушила
в нем живые силы, так как он и в последний раз сделал не лучший выбор
между телом и душой.
Видя своего товарища умирающим, бродяги вновь впали в неистов-
ство и постановили убить Музидора, правда, никак не могли решить,
какую казнь выбрать. Они ожесточались все сильнее, придя к согласию
насчет казни Музидора, но не придя к согласию насчет вида казни, пока
не наступила минута, положившая предел их жестокости. Они останови-
лись на том, что каждый должен приложить руку к убийству и все должны
стать и судьями и палачами; но тут Памела упала им в ноги и стала рвать
на себе волосы, то робко моля их о милосердии, то обещая щедро запла-
тить за жизнь Музидора, что, как им было известно, она могла сделать.
Она то грозила отомстить и им, и их женам с детьми, если они убьют его,
а не ее, то внушала им, что, даже рассердив отца своим побегом, она не
потеряла его любовь, да и боги, если она останется в живых, не допустят,
чтобы она так низко пала и не смогла бы помучить их не хуже, чем это
получается у них; а потом опять возвращалась к мольбам и обещаниям,
мешая их с угрозами, и ей удалось убедить разбойников (которые поосты-
ли в отношении своего товарища, затихшего и больше не жаловавшегося
на судьбу), что у них нет другого выхода, как убить обоих или обоим со-
хранить жизнь. К этому времени бывшие бунтовщики уже уяснили, что
принуждены будут навсегда остаться в лесу, если пойдут на убийство,
и в конце концов постановили вернуть царю и Музидора и царевну, не
сомневаясь в щедрой награде, а кроме того, в освобождении от заслужен-
ного прежде наказания.
Таким образом, то ли подчиняясь власти случая, то ли склоняясь
перед добродетельными влюбленными, разбойники смягчили жестокие
сердца, усадили на коней царственных пленников и повезли их обратно.
Украсив свои головы лавровыми венками в уверенности, что совершают
нечто замечательное, лесные жители с песнями и криками бежали следом
за конями, рассчитывая в тот же день облагодетельствовать царя. Однако
не в силах наверстать потерянное время, они все же провели ночь в лесу,
не забыв выставить стражу. И хотя разбойники не спускали глаз с несчаст-
ных влюбленных, ночная мгла создала для них некое подобие уединения,
и Музидор, взяв в свои руки нежную ручку Памелы и оросив ее слезами,
в таких словах выразил свои чувства:
— Прекрасная госпожа, ты ведь знаешь, какой безжалостный приго-
вор я выношу своей душе теперь, когда (не понимаю), какой-то бог так
извратил мои добрые намерения, что вместо почестей, которые, я был
уверен (и не без оснований), Фессалия воздаст тебе, на тебя обрушились
несчастья, которых я стал безвинным виновником? Ничего подобного я
не предвидел! Моя преданность обернулась предательством, мое почти-
тельное отношение к тебе — твоим позором. Я призываю высшую и един-
ственную мудрость (которая, познав сердечные глубины, выносит спра-
ведливый приговор) свидетельствовать, что мои чувства, хотя и очень
сильные, не заставили меня забыть о разуме, и я, насколько возможно,
570
старался предотвратить любые случайности. Однако теперь, когда наше
злосчастье перечеркнули мои добрые намерения, больше всего меня му-
чает то, что я не в силах помочь тебе и (что еще хуже) не могу ничего по-
советовать. Как мне давать тебе советы, если из-за моего совета ты попала
в унизительное положение?
Прекрасная и мудрая Памела была несчастна, но, видя горе Музидора,
который горевал лишь о ней, сумела, благодаря истинной добродетели,
отмести все остальное и так ответила ему, но прежде поцеловала (в пер-
вый раз), повинуясь то ли любви (ведь им предстояла безрадостная раз-
лука), то ли жалости, повелевающей снисходить с открытым сердцем до
того, кто еще несчастнее:
— Милый моему сердцу Музидор, ты несправедлив, мучая себя из-за
причуд судьбы. Человеку дано действовать с умом, но если вверяешь себя
случаю, значит, будь готов ко всему. Но ты еще более несправедлив (если
можешь быть несправедливым) ко мне, думая, будто я малый ребенок и
не понимаю, что ты предан мне и не повинен в нашем несчастье, или
зная, что я все прекрасно понимаю, считаешь меня столь никчемной,
что я позволю моему сердцу разбиться, когда оно остается незапятнанно
чистым. Поверь мне, достойный Музидор, я люблю тебя ради тебя само-
го, и моя любовь так же не может погибнуть под градом несчастий, как
цветы — под апрельским дождем. Какого мне еще желать утешения, если
утешена и покойна моя незапятнанная добродетель? Каких еще искать
почестей, если Музидор (воплощение чести) воздает мне хвалы? У меня
нет причин чувствовать себя несчастной, потому что мнение дураков не
бесчестье для меня.
Музидор обратил взгляд к звездам и воскликнул:
— О, разум из разумов, живительная сила всего сущего, нет таких дел
на земле, которые остаются без твоего внимания, так обрати же свой бла-
госклонный слух к моей мольбе! Если я смогу продлить мое пребывание
на земле, которое называется жизнью, дай мне умение заслужить милость
моей госпожи, какой она одаривает меня, дай мне мудрость познать ее
мудрость и благость — еще более возлюбить ее благость, чтобы мои же-
лания остались прежними и над ними была ее воля. Кем бы я ни был,
позволь мне служить ей: я должен знать, что прощен, и ее добродетель яв-
ляет мне свою безмерную милость, потому что мне повезло заслужить ее
прощение. Но если близится мой последний час и мне остается недолго
пребывать среди смертных, сделай так, чтобы моя смерть послужила ей
во благо и я не дал ей повода раскаяться в том, что своим царственным
разумом она отличила Музидора.
Памела не могла не разделить такого отношения к их судьбе и страст-
но присоединилась к горячим мольбам возлюбленного, отчего ее глаза
увлажнились, но Музидор осушил их, и тихим голосом, словно больше
всего на свете она боялась, как бы кто-нибудь не стал свидетелем ее сла-
бости, она сказала:
— Вот видишь, мой царь и господин, что ты делаешь со мной, слиш-
ком сильно горюя по мне. Прошу тебя, знай, ты — моя единственная
571
радость, и если ты станешь воплощением печали, что же тогда мне де-
лать? Нам неведома наша судьба, но горем делу не поможешь. Поэтому
давай теперь подумаем о другом. Скажи мне, как бы ты хотел, чтобы я
вела себя завтра.
Понимая, что желание Памелы вызвано насущной необходимостью,
Музидор в первую очередь подумал о своем друге и брате Пирокле, с ко-
торым он задолго до этого условился, какими именами им называть себя
в случае, если обстоятельства принудят их открыть свое знатное проис-
хождение, но они не захотят открыться полностью. Поэтому, боясь, как
бы царевна не назвала его Музидором, потому что тогда молва, которая
соединяла обоих рыцарей, сразу же отыщет Пирокла, он, взяв ее руки
в свои, сказал:
— Не думал, прекрасная царевна, что мне придется еще о чем-то про-
сить тебя (ибо я и так уже навлек на тебя беду своим несчастным свя-
тотатством), и не знаю, чья скромность в состоянии столько выдержать.
Однако есть один юноша, которого я люблю больше всех на свете (после
тебя, но прежде меня), и он заслуживает только хорошего за свой выдаю-
щийся ум и не заслуживает ничего плохого от меня, ибо любит меня со
всей возможной преданностью, так вот, сочувствие к нему не дает мне
поступить иначе.
И Музидор к великому восхищению Памелы поведал ей всю исто-
рию, насколько сам знал ее, рассказал и о том, как, расставаясь в печали,
друзья постановили, что Музидор будет зваться Палладием, царевичем
Иберии, а Пирокл — Даифантом из Лисий.
— Теперь же, — продолжал Музидор, — он одет в женское платье и
называет себя Зелманой. Так вот (ибо считаю, что так лучше всего, с од-
ной стороны, для твоей чести, когда станет известно, что ты убежала не
с пастухом, а с царевичем; с другой стороны, для меня, ибо для меня не
так страшна смерть, как страшно предательство лучшего друга), учиты-
вая обстоятельства, я назовусь Палладием, потому что звание царевича
усмирит ярость твоего отца, и мне это имя будет служить не хуже, чем имя
Музидора, пока Пирокл не уладит свои дела, а уж тогда я без труда дока-
жу, что мне принадлежит Фессалия. Если же мой титул не смягчит твоего
отца, то, надеюсь, природа, сотворившая твою красоту, побудит его ради
тебя отнестись ко мне по-доброму. Мне же не страшен образ смерти, тем
более со мной будет то благо, что я не выдал и не подверг опасности сво-
его лучшего друга. Кроме того, поскольку, должен признаться, мне жаль
мою добродетельную матушку, лучше ей не знать о гибели сына, которая
останется сокрытой в имени Палладия. Пусть, сколько она проживет, а ей
немало лет, утешается надеждой дождаться меня домой.
Памела обещала ни при каких обстоятельствах не выдавать настоя-
щего имени Музидора и вдруг горько заплакала, словно ее глаза поста-
новили излить всю влагу теперь, когда речь пошла о смерти того, кто был
для ее глаз ярким светом. Музидор ласковыми утешениями вернул ей ее
обычную рассудительность, так что не раньше полуночи сон пробрался
в их невеселые думы и взял полную власть над ними, чтобы они, приняв
572
друг друга в нежные объятия, спокойно дождались утренней зари. Едва
свет прогнал тьму и заря в свой черед вышла на сцену, обремененная
(как вы сами слышали) многими и неслучайными жалобами, шутовские
стражи (которые всю ночь не спали и перебирали в памяти совершен-
ные после бегства злодеяния, а также судили и рядили о прекрасной
смерти своего товарища, который даже при последнем издыхании все
еще напрашивался в палачи) разбудили Музидора и Памелу и усадили
их на коней. И сияние их незапятнанной добродетели было само по себе
столь ослепительным, что даже в таких несчастливых обстоятельствах
оно пробуждало в злодеях почтение. Музидор, пока они ехали вместе
(над ним у злодеев не было власти, кроме как через Памелу), считая не-
достатком здравомыслия не использовать все, что можно, ради спасе-
ния жизни Памелы и своей жизни, беседовал со своими недостойными
стражниками, стараясь изъясняться попроще, чтобы заслужить их до-
верие.
— Господа, — говорил он, — ни один человек, если он умен, ничего
не сделает, не имея направляющей его цели, которой он следует, пока не
разочаруется в ней и не найдет цель получше. То, что вы умны, коли разо-
брались, кто дался вам в руки, я понял, и теперь меня разбирает любо-
пытство, зачем вы везете меня и царевну к ее отцу.
— Чтобы получить прощение, — сказал один.
— Чтобы получить награду, — отозвался другой.
— Что ж, — подытожил Музидор, — пусть будет и то и другое, хотя как
умные люди вы должны понимать, что и того и другого вместе не бывает.
Прощение зиждется на зле, потому что, прощая, человек помнит о при-
чиненном ему зле, а награда — на добре, и тот, кто награждает, помнит
о добре. Но в то, что один человек может одновременно судить кого-то
с позиций добра и зла, пусть даже его представление о прощении (если
он прощает) не исключает мысль о награде, поверить трудно, потому что
он или по справедливости наказывает за преступление, или награждает
за заслугу, или же в своем милосердии уравновешивает то и другое так,
что вознаграждением служит не наказание. Итак, вы сами понимаете, что
у вас нет определенной цели.
Однако уверяю вас, если вы поступите, как я скажу, то сможете по-
лучить и то и другое. Итак, подумайте, как вам лучше поступить, и я не
сомневаюсь, что ваша мудрость подскажет вам согласиться на более вы-
годное предположение. Вам наверняка известно, что лучше не желать
прощения, чем получить его, потому что прощение означает не только
уверенность в сохранении своей жизни, но и осознание заслуженной
смерти. Поэтому (кроме опасности, которая будет грозить вам, если го-
спожа Памела, законная наследница своего отца, когда-нибудь захочет
отомстить вам) наказание всегда будет дамокловым мечом висеть над
вами как над людьми, осужденными законом. Честные люди будут сто-
рониться вас, а ваших детей станут презирать еще сильнее, чем вас, и слу-
чится вам сделать что-то не так, как вас немедленно казнят, ведь однажды
вы уже были осуждены.
573
Но если вы повернете назад (а я не сомневаюсь, что повернете, ибо
вы мудры) и сопроводите мою госпожу Памелу туда, куда она направля-
лась до встречи с вами, там (в стране не хуже и не беднее, чем Аркадия,
с подобными вам людьми, разговаривающими на том же языке) вам не
придется трепетать за свою жизнь и думать о прощении, ибо мы оба
не забудем, что из ваших рук получили самое дорогое в этой жизни. А что
до вознаграждения, то судите сами, не лучше ли получить его там, где вы
не сделали ничего плохого, зато выказали несказанную и не заслуженную
нами доброту, чем здесь, где вашу заслугу воспримут как исполнение дол-
га, да еще запятнанную прежним злодеянием. Да, я клянусь прекрасными
глазами моей дамы, что в той стране вы будете выше всех. Вы обретете
богатство, свободу, удовольствия и вообще все, что полагается столь до-
стойным мужам, и вам не придется просить прощения за совершенное
вами добро. Вы, единственные из жителей Аркадии, вечно будете про-
славляемы за храбрость, а здесь, не исключено, вам предстоит висеть на
виселице за то, что вы искали свободу Аркадии.
Речи Музидора не оставили равнодушными тех (которые ничего не
делали из любви к благу, а потому быстро поняли, что Музидор сулит им
большую выгоду); одни уже хлопали в ладоши, чесали в затылках и кля-
лись, что лучшего и быть не может; другие, поумнее, вели торг, сколько-
де они получат и сколько заплатят, третьи вспоминали о женах и разду-
мывали, то ли послать за ними, то ли обзавестись новыми на новом месте;
а большинство, вовсе не умевшее думать, представляло, как повеселится,
и всего двое или трое, скорые на решения, с сожалением поглядывали
в сторону леса, из которого вышли. Тем временем они уже ступили на
поле недалеко от царских покоев, и, к несчастью, впереди показался от-
ряд всадников. Испугавшись, изменники забыли недавние мечты и про-
должали путь с песнями и радостными криками, чем привлекли внимание
посланных Филанаксом на поиски Памелы всадников, которые тотчас
повернули в их сторону, не понимая, как люди могут петь веселые песни,
когда вся Аркадия погружена в траур, более того, украшать себя лавро-
выми венками, символом победы, когда Аркадия гибнет. Но уж совсем
странным показался им вид двух всадников, разоруженных, словно плен-
ники, но восседавших на конях, словно полководцы. Приблизившись,
они узнали в одном из всадников даму, к тому же госпожу Памелу. Трудно
передать, как счастливы были воины Аркадии встретить ту, которую не
надеялись отыскать. Среди шутовского вида людей (которые поначалу
оказали им сопротивление, желая самолично доставить ко двору пре-
красных пленников) они признали недавних опасных бунтовщиков и ни
одного из них не оставили в живых под предлогом наказания за непод-
чинение, а на самом деле желая сделать вид, что сами отыскали царевну.
Троих, самых упорных, повесили на деревьях, ибо, случись над ними суд,
именно таков был бы приговор. Такой неожиданный конец справедли-
вость уготовила злодеям, ибо были казнены те, которые и сами не прочь
были казнить царственных влюбленных, и пусть беззаконно, но они по-
лучили то, что заслужили по закону.
574
Глава седьмая
Таким образом, дважды пленники, юный царь и царевна прежде за-
конного заключения под стражу избавились от незаконных тюремщиков,
но не от тюрьмы и скорее сменили одно несчастье на другое, чем получи-
ли передышку. Воины (которые, захватив их, едва промолвили несколь-
ко слов приветствия) поспешили доставить Музидора и Памелу к своему
господину Филанаксу, к которому явились, когда он (выйдя из комнаты
госпожи Филоклеи) шел к Пироклу, которого до этого поручил заботам
одного из самых знатных жителей Аркадии. По дороге в тюрьму Пирокл
встретил возвратившихся столь неожиданным образом Музидора и гос-
пожу Памелу, и его горе (если горе владеет разумом, который все рас-
пределяет в зависимости от природного достоинства) стало еще сильнее
из-за крушения слабой надежды на то, что бежавший Музидор своей
славой и своими делами поможет ему обрести счастье, и из-за того, что
теперь не меньше, нет, больше, чем его собственное, его волновало не-
завидное положение друга (воистину так всегда бывает, если доблесть и
верность счастливо соединены в одном сердце). Суть в том, что сильный
человек, зная худшее, что его может ждать, или полностью душит в себе,
или, по крайней мере, старается изгнать из своего сердца те чувства, ко-
торыми обычно сопровождается дурной поворот судьбы, но, зная мыс-
ли друга хуже, чем свои, и опасаясь, хватит ли у него сил справиться со
своей участью (с той материей, которая делает человека счастливым или
несчастливым), он считает его более уязвимым и оттого более достойным
сожаления. Едва воины привели Музидора к Филанаксу, как Пирокл, ис-
пугавшись, что им больше не позволят повидаться, и решив, что ничего
не выиграет, если притворится, будто незнаком с ним, вдруг вырвался
из державших его рук, словно верная любовь к Музидору прибавила ему
сил, растолкал всех и крепко сжал друга в объятиях. Потом, поцеловав его
в щеку, сказал:
— Ах, мой Палладий, пусть наши добродетели не оставят нас. Давай
докажем, что мы не рабы случайности и в беде торжествуем над бедой.
— Милый Даифант, — ответил Музидор, увидав своего друга в муж-
ском обличье, — спасибо тебе за заботу. Но не бойся. Слишком долго я
был твоим другом, чтобы теперь мне не хватило решимости. Мне отлично
известно, что нет зла, кроме того, которое в нас самих, а все остальное
принадлежит природе или случаю.
Сообразив, что они хорошо знакомы, Филанакс стал допрашивать их
по отдельности, но нашел в обоих такую твердость, что, несмотря на все
ухищрения, узнал не больше, чем они захотели рассказать, поэтому он
постановил за лучшее поместить их вместе и следить за их беседами и по-
ведением, чтобы таким образом побольше узнать о случившихся несча-
стьях, и с этой целью он передал их тому самому благородному господину
(по имени Симпат), которому еще прежде поручил охранять Пирокла;
575
а Симпат приказал одному из своих преданных слуг неотступно нахо-
диться рядом с друзьями.
Всякому, кто прошел школу любви, понятно, какой пыткой было для
Памелы разлучиться с тем, с кем она связала свою жизнь, однако, мыс-
ленно взвесив все за и против, она решила, что для ее чести лучше, если
они будут жить врозь, пока все не убедятся, что намерения влюбленных
чисты; поэтому она не показала огорчения, разве что выдала себя взгля-
дом, которым проводила Музидора до самого шатра, куда его повели
вместе с Пироклом. Потом с более высокомерным видом, чем ей было
обычно свойственно, но в соответствии с обычаем возвышенных сердец
(так пальмы устремляются тем выше, чем тяжелее их ноша), она прика-
зала Филанаксу проводить ее к отцу и матери, чтобы объяснить им свой
поступок.
Хмурясь, Филанакс изобразил почтительное отношение к Памеле как
к дочери ее царственного отца, но не пряча очевидную неприязнь к ней
самой из-за ее (с его точки зрения) недостойного поведения, и, лишь бы
что-нибудь сказать, потому что не сомневался в ее осведомленности, со-
общил, что произошло в ее отсутствие. Вот тут-то добрая душа Памелы
познала настоящее горе, которое, однако, она выказала, лишь скрестив на
груди руки и надолго уставив взгляд, полный слез, в землю. Но в конце
концов вспомнив о необходимости держать себя в руках и укрепив свое
мужественное сердце, Памела потребовала у Филанакса ответа на во-
прос, кто приказал ему взять под стражу законную наследницу и царевну
Аркадии? Филанакс же заявил, что ей-де должно быть известно: по зако-
ну Аркадии она не может быть допущена к власти, пока ей не исполнится
двадцать один год или пока она не изберет себе мужа.
— У меня есть муж, — отозвалась мудрая царевна, — и поэтому я тре-
бую от тебя верной службы.
— Боги запрещают приносить Аркадию в приданое таким мужьям.
Кроме того, Филанакс поведал царевне, что по всей Аркадии люди
волнуются из-за смерти ее отца, и по законам страны следует провести
расследование, прежде чем его тело с соответствующими почестями пре-
дадут земле. Только когда все будет исполнено, царевна может рассчи-
тывать на повиновение, которое закон приписывает гражданам Аркадии,
и он молит бога, чтобы она распорядилась страной лучше, чем собствен-
ной добродетелью.
Вокруг них собрались рыцари и простые жители Аркадии, так что
у Памелы появилось желание обратиться к ним, но Филанакс, опасаясь
беспорядков и боясь, как бы что-нибудь не помешало ему казнить убийц
царя (чего он хотел более всего на свете), поспешил отвести ее в дом, где
находилась Филоклея, и там оставил обеих сестер под охраной верных
ему солдат, хотя Памела обвинила его в насилии по отношению к ней и
даже в попытке бунта. Но все, что сделал Филанакс, оказалось как нельзя
кстати, потому что вся Аркадия уже опасно бурлила.
Это был яркий пример того, каким потрясениям подвержены монар-
хические правительства. Стоило царю и вождю покинуть земной предел,
576
как народ Аркадии, не способный управлять государством, искал и не
мог найти, кому теперь подчиняться. Аркадией всегда управлял один че-
ловек, и ее граждане не имели ни малейшего представления о том, что для
них хорошо, а что пагубно, и теперь все чудилось им либо крайне желан-
ным, либо чересчур опасным. Набеги соседей, внутренние распри, же-
стокость наследника и остальное, не менее ужасное для здравого смыс-
ла — дела известные, о которых трудно не знать, но с которыми нелегко
справиться. Оказавшись в таком положении, люди склонны верить лю-
бым слухам, подозревать самое худшее, осуждать тех, перед кем прежде
благоговели, распространять неправдоподобные сказки. Пока им грозит
опасность, они желают единственно сохранить свою жизнь, но едва они
убеждаются, что им ничего не грозит, как этого становится недостаточно,
и они желают получить удовлетворение за прошлые несправедливости
(хотя не разбираются ни в причинах, ни в последствиях), говоря в общем,
все соглашаются в том, что им «нравится» и «не нравится», но когда дело
доходит до частностей, все тут же расходятся во мнениях; это похоже на
падающую башню, все части которой: окна, каменные блоки, шпицы —
целы, а она разваливается на глазах. И как всегда бывает в таких случаях,
в Аркадии произошло столкновение совершенно различных устремлений:
высокородные вельможи объединялись, чтобы укрепить свою власть, из
остального дворянства одни старались примкнуть к таким союзам, другие
предпочитали рассчитывать на себя, а третьи жаждали свергнуть тех не-
многих, кто поднялся выше них; солдаты мечтали о беспорядках, надеясь
поживиться мародерством; бедняки также возлагали надежды на мятеж,
хоть и несколько иного рода; богатые боялись, умные осторожничали.
Такой клубок противоречий привел к опасному возбуждению, кото-
рое стало бы еще опаснее, если бы не образовалось так много партий, что
никто уже не знал, против кого выступает и с кем спорит. Были и такие,
которые кричали, что пора вообще все изменить, хватит с них царской
власти, вот спартанцами, мол, управляют несколько избранных сенато-
ров, а афиняне все решают большинством голосов. Однако они больше
кричали, нежели действовали, а если действовали, то в воображении,
а не в реальности. Те же, кто был ближе к власти (в стране, где не знали
другого правления, кроме как царского), сражались за свой выбор, и мно-
гие предпочитали царевну Памелу, хотя другие, недовольные тем, что она
(так сказать) бросила свою страну, ратовали за Филоклею, а третьи, не
доверяя юным царевнам, желали, чтобы Гинесия стала регентшей, пока
Памела не изберет себе достойного супруга. Но было немало и таких, кто,
не сомневаясь в справедливости Филанакса, хотели бы его сделать прави-
телем Аркадии, и это были в основном простые граждане, провидевшие
преимущества такого решения.
Однако знатные и могущественные мужи, давно завидовавшие воз-
вышению Филанакса, с негодованием отвергали его преимущество перед
ними и еще прежде со злобой доказывали, что этот выбор — ошибка царя,
который, судя по тому, как он доверился Дамету, легко ошибался в людях;
теперь же они боялись подтверждения царского выбора большинством
37 Заказ 1414
577
народа, ведь тогда им и вовсе ничего нельзя будет сказать. Готовые на
все, лишь бы помешать Филанаксу, они хотели прекратить (наперекор
ему) преследования, которые в другом случае не стали бы оспаривать.
Самому Филанаксу одинаково мешали и те, кто безудержно славословил
ему (чем навлекали на него еще больше зависти и подозрений), и те, кто
ему противостоял. Сам он неуклонно стремился к справедливости и чи-
стой совести, поэтому настойчиво добивался возмездия за гибель своего
господина, которое считал своим главным делом. Что же до остального,
то есть до власти, то он считал для себя возможным добиваться ее, но не
противореча закону.
Из знатных граждан Аркадии против Филанакса откровеннее других
выступал Тимот, рыцарь средних лет, но очень честолюбивый и из всех
благ единственным благом считавший власть (для завоевания которой
все средства хороши); он был бы весьма умен, если бы не превратил свой
разум в слугу необузданных страстей, но отличался ловкостью в завоева-
нии симпатий людей, которых ценил в зависимости от того, насколько
они могли ему пригодиться. Был он учен и воинскому искусству, которое
умел продемонстрировать, сопровождая свои действия непомерным хва-
стовством. Услужливый, но завистливый к вышестоящим, он был бесце-
ремонен со всеми, кого считал ниже себя; его называли мстительным, но
и в мести, и в награде он видел лишь собственную пользу или вред; он был
скорее бесстыден, нежели храбр, и в то же время более храбр в интригах,
чем в реальных делах. Этот человек мог быть плохим по собственному
усмотрению, но настолько, насколько это требовалось для его возвыше-
ния. Что же до добродетели, то ее он считал понятием отвлеченным.
Убедившись (с первой встречи) в великом расположении, которым
Филанакс пользовался у народа, Тимот решил для удовлетворения соб-
ственных амбиций присоединиться к нему, хотя его гордость едва это
стерпела, но все же другой его порок, имея перед собой очевидную цель и
будучи сильнее, обуздал ее. С многословными уверениями в дружбе, кото-
рые человек, не привыкший серьезно относиться к словам, обыкновенно
произносит без счета, Тимот предложил Филанаксу взять в жены одну из
сестер на выбор, а потом поспособствовать ему заполучить в жены другую
и таким образом поделить между собой Аркадию. Тимот посоветовал ему,
уж коли он так любил своего господина лишь за то, что тот был его гос-
подином (следовательно, он сам пробудил в себе эту любовь), сослужить
службу себе тоже (коли представилась такая возможность) и добиться чего-
то более реального, нежели дым призрачной славы, сохраняя неуместную
верность тому, кто уже не сможет за нее вознаградить, то есть постараться
и извлечь побольше выгоды, ведь лишь очень немногие воздадут ему по
достоинству за его преданность.
Однако Филанакс, ограничивавший свои устремления теми, что по-
читал добродетельными (он не знал зуда призрачной славы, но и не от-
вращал взор от того, что невежественный мир зовет благами), испытал
великое отвращение и ответил ему столь решительно — не без угрозы на
тот случай, если узнает, что Тимот все еще лелеет свою мечту, — что Тимот
578
ушел, затаив на него злобу, хотя и прежде не питал к нему особого рас-
положения. Меряя всех по себе, он решил, что Филанакс задумал какую-
то хитрость (желая заполучить все), вовсе не пленившись чарующей кра-
сотой его добродетели, чей образ настолько исказился в его собственной
душе, что он никак не мог распознать его в другом, поэтому стал ждать
подходящего случая, чтобы использовать его себе на благо и Филанаксу
на горе. Возвращение Памелы всколыхнуло жителей Аркадии, которые
разделились во мнениях (что они доказали глухим ропотом и созданием
множества группировок), и Тимот подумал, что настал его час — в мутной
водичке (говорит пословица) рыбка лучше ловится.
Держась высокопоставленных господ, которые, как было известно
Тимоту, являли собой противников Филанакса, он сплотил их и, яростно
нападая на все действия Филанакса, давал им самое злобное толкование,
какое только ненависть могла ему подсказать. Он говорил, что самое вре-
мя присмотреться к сорняку, который иначе перерастет всех, и что не вре-
мя обсуждать умершего царя, а пора подумать о живом, потому что к ним
втерся хитрый волк, который может превратить справедливость в маску
тирании, а любовь к умершему господину — в погибель для его детей.
— Разве вы не понимаете, — вопрошал Тимот, — сколь он порочен,
если такое множество мошенников объявляет его наследником и провоз-
гласило бы царем, если бы он не твердил им, что еще не время? Что же
до нас, то мы слишком богаты, поэтому, не в силах купить, он убьет нас.
Разве в Аркадии нет никого, кроме Филанакса? Разве Аркадия стала ма-
чехой для остальных и свое благословение дает лишь Филанаксу? Если
мы настоящие мужчины, то должны показать Филанаксу, что не желаем
идти в услужение к слуге! Надо показать ему, что мы достойны большего,
чем быть рабами такого господина! Подумайте, стал бы он так торопиться
с судом, если бы собирался отдать власть в другие руки? Подумайте, разве
посмел бы он стать тюремщиком царевны, если бы не задумал сделаться
ее господином или убийцей? И все это, конечно же, во имя доброй памяти
о царе, которого он оскорблял при жизни и вряд ли перестанет оскорблять
после смерти! О, несказанная любовь к отцу, ради которой можно убить
жену и лишить наследства детей! О, прямодушная скромность, которую
может удовлетворить лишь корона! Да, да, он все время притворяется,
желая достичь заветной цели. Нам же следует вспомнить, кто мы! Разве
мы не ровня ему, тем более что нас большинство? Нам следует освободить
царицу и царевен Аркадии! Нельзя оставлять их в его власти, ибо все его
поступки говорят о том, что, возможно, он сам убийца царя, а не сторож
его потомства.
Слова Тимота запали в души тех, кто уже и сам подумывал о чем-то
подобном, так что многие аристократы Аркадии соглашались с Тимотом
и даже были готовы на деле подтвердить свое согласие, когда явился
Филанакс и твердо, но почтительно потребовал, чтобы они не сводили
личные счеты, используя всеобщее замешательство. Признав, что он все-
го лишь человек и может ошибаться, Филанакс заявил, что готов в любое
время встретиться с тем, кто захочет с ним поговорить, и поскольку его
37*
579
цель служить справедливости, то он считает позором для себя бегать
от нее.
— Однако, господа, — сказал он, — мне бы не хотелось из-за брани
Тимота (который всем плохим в своей душе готов поделиться с другими)
лишаться вашего расположения. Подумайте, благо всегда располагается
между двух противоборствующих зол, и бросить порочащую тень даже на
общепризнанные добродетели не составляет труда. Тот, у кого недобрый
язык, не усомнится назвать суровость жестокостью, а верное усердье —
усердным честолюбием. Моя цель — не оправдать себя и не осудить
Тимота, к тому же и для оправданий, и для осуждений у нас еще будет
время. Сейчас у Аркадии другие заботы. И я требую от вас во имя вашей
чести, заклинаю вас вашим долгом перед родиной наказать согласно за-
кону убийц нашего господина и не допустить беспорядков, пока в стране
нет законного правителя. Кто бы ни взялся исполнить эти обязанности,
я буду доволен, если их исполнят по справедливости. Моей обязанностью
было все подготовить для того, чтобы вы могли решить, — так решайте.
Я призываю в свидетели небеса, что заботой моего сердца было отпла-
тить царю за все добро, которым я и многие из вас обязаны ему, но с его
смертью умерла моя любовь к государственным делам.
Едва Филанакс умолк, как к нему подбежал человек с испуганными
глазами и широко открытым ртом и торопливо сообщил, что множество
людей пришло отбить пленников и, судя по крикам, объявить их прави-
телями.
— Вот, — громко сказал Филанакс, оглядывая своих сограждан спра-
ведливо-гневным взглядом, — пока вы тут слушаете клеветника, чужаки
претендуют на корону и убийцы Базилия лезут на его трон! Если остались
среди вас верные сыны Аркадии, пусть они последуют за мной.
С этими словами он пошел прочь, сопровождаемый своей свитой
и некоторыми из знатных мужей Аркадии, тогда как другие остались
с Тимотом, задумавшим, пока суд да дело, освободить плохо охраняемую
Гинесию. Придя на место, Филанакс обнаружил там взволнованную тол-
пу, в основном из жителей Мантинеи, которая из городов Аркадии была
ближе всего к месту царского уединения. Главным среди этих людей по
своему положению и всеобщей любви к нему оказался Каландер, тот са-
мый Каландер, который принимал у себя обоих царственных рыцарей
и, хотя не очень хорошо знал их, был обязан им спасением своего сына и
племянника; да и их благородство пробудило такую любовь в его сердце,
что он со слезами на глазах расставался с ними, взяв с обоих обещание
еще раз навестить его, и все прошедшее время тщательно берег одежду
и драгоценности тех, кого почитал полубогами. Среди других он вошел
в тюрьму, узнал своих гостей и, опечаленный, проникся желанием им по-
мочь (он относился к ним, словно к собственным сыновьям), поэтому
призвал мантинейцев, рассказал им много хорошего о юношах и поклял-
ся, что уверен в милости богов, о какой они и думать не смеют. Каландер
потребовал, чтобы они подумали о будущем, в котором дети Базилия
должны встать во главе страны, а царевны уже сделали свой выбор, и вы-
580
бор этот таков, что весь мир может ему позавидовать, поэтому дело чести
встать на защиту божьей воли и счастья царевен. Другого способа обре-
сти покой и не пролить кровь нет, ведь в другом случае, увенчав Памелу
золотой короной, они вручат ей обесчещенный титул, и она об этом не
забудет, так что самое время взвесить все за и против.
— Такое благородное величие светится в их глазах и таким благород-
ным величием осиянны все их дела, — говорил Каландер, — что воистину
они царевичи по праву рождения и по разумению природы. Страна у нас
есть, а стране нужен муж, и проведение посылает нам мужа, принятого
в объятия царевной. Своими юными летами оба друга заслуживают со-
чувствия, своей красотой — восхищения, своей замечательной доброде-
телью — титул правителей мира, так неужели мы не обрадуемся снизо-
шедшему на нас благословению небес? Неужели мы выколем себе глаза,
потому что кто-то ослеп? Неужели мы уподобимся тем, кто волею случая
обрел много благ и думает, будто они во сне и не желают испытывать свое
счастье? Нет, нет, друзья мои, поверьте, я стараюсь быть беспристраст-
ным, ведь мне даже неизвестны имена рыцарей, которые покорили меня
своими добродетелями, но я уверен, боги благоволят Аркадии, коли по-
сылают ей такого правителя.
Так как все это говорил человек немолодой, уважаемый, приближен-
ный к царю, известный своей честностью, то он убедил мантинейцев,
и они все, как один, побежали освобождать царственных узников. Фи-
ланакс со своими людьми явился как раз вовремя, чтобы помешать им,
и так, во всеоружии, они стояли друг против друга, скорее ожидая повода
для кровавой стычки, нежели помехи; и Филанакс, предвидя это, распо-
рядился тайно увезти пленников и (если понадобится) убить их без суда,
нарушив видимость законности, чтобы они беззаконно (как он думал)
не заняли престол. Но тут возникло новое затруднение: рыцарь Симпат,
охранявший узников, проникся сочувствием к своим прекрасным подо-
печным, но, не нарушая своего обещания Филанаксу, не мог дать им сво-
боду, хотя и не желал оставлять их при себе, опасаясь, что им причинят
вред. Крики становились все громче, и солнце, думаю, устав наблюдать
за беспорядками в Аркадии, спряталось в своих западных покоях. Однако
что же делали в это время простые пастухи, которые всполошились пер-
выми?
Эклоги
Пастухи, почувствовав себя не у дел во всех этих треволнениях, тем
более что в их мирных сердцах (величайшим честолюбием которых было
сохранить себя в добродетели) не было к ним никакого тяготения, ушли
подальше от криков и шума; но так как в печали человек бежит оди-
ночества, то они все собрались на западном склоне холма, откуда, как
на ладони, были видны красоты Аркадии. Глядя на заходящее солнце,
бедняги сидели, размышляя о своих несчастьях, словно им стали тяже-
лы горькие слова, пока наконец добрый старик Герон (который доль-
ше других наслаждался преимуществами прежнего правления и оттого,
казалось, был сильнее других удручен смертью царя) не осушил глаза
и окладистую белую бороду, всю залитую слезами, и не принялся при-
читать:
— Ах, бедные овечки, до сих пор вы мирно паслись на сочных лу-
гах и ваша шерсть (помимо прочего) прославляла нашу страну, а теперь
кончились ваши денечки. Теперь вы станете наградой воинам, и навер-
ное, чужим воинам. Отныне вы будете бояться не своих волков, а чужих
львов, ведь умер, говорят, наш справедливый Базилий. Ах, милые луга,
неужели вас захватят солдаты (которым неведомо, что с вами делать)?
Неужели они, не знающие языка Аркадии, станут господами аркадских
пастухов? Ах, ждать нам теперь всякого зла, а все оттого, что ушел от нас
наш Базилий, наша единственная защита.
К грустным причитаниям Герона присоединили свои голоса и другие
пастухи, в первую очередь те, что родились в Аркадии, потому что другие,
хотя по доброте сердечной и жалели о смерти человека — тем более царя,
на земле которого нашли и убежище от несчастий и справедливость, —
все же не испытывали такого горя. Тем не менее как раз такой пастух по
имени Агеласт (известный своим искусством сочинять стихи, неизмен-
ной печалью и презрением к созданиям природы) выразил их общее горе
всестине1:
Стенание есть плод жестокой скорби,
И скорбь — итог деяний злой фортуны,
И злей всех зол — то, что для всех утрата,
И такова смерть принца для придворных;
Скорбь изъявить — не право ли природы?
Боль сердца внешне явлена в стенанье.
1 Сестина — итальянская стихотворная форма: стихотворение, состоящее из
шести строф (иногда из шести с половиной) по шесть стихов; заключительные сло-
ва каждого стиха возвращаются в каждой строфе, но в ином порядке; в заключи-
тельной полустрофе те же слова повторяются в середине и в конце стиха. Слово,
заканчивающее строфу, должно заканчивать и первый стих следующей строфы.
582
Как голос не сорвать в глухом стенанье?
Воистину сердца — престолы скорби.
Ведь случай наш из тех, когда природы
Бессилье дополняет зло фортуны,
А для нее трофей сердца придворных,
Ее трофей — то, что для нас утрата.
Плод сговора двух сил сия утрата.
Понятно все, и не спасет стенанье.
Вот принцу памятник от нас, придворных:
Плач, рвание волос и стоны скорби.
Взят перл Аркадии рукой фортуны,
Нет сына благородного природы.
Где очи были у тебя, природы?
Не потому ль постигла нас утрата,
Что ты пошла на поводу фортуны?
Твой сын почил, мир утонул в стенанье.
Гляди, дурная мать, на наши скорби!
Знай, образ твой померк в глазах придворных.
Морями сделались глаза придворных.
Язык стал бронзов волею природы,
Сердца и голос состоят из скорби,
В огонь преобразила дух утрата;
Они — могильщик свой, им песнь — стенанье,
Их мысль одна — о происке фортуны.
Как ни гневят нас мерзости фортуны,
Но в мир не выйдут из груди придворных
Глухая ярость, адское стенанье.
Окрепнет дух под бременем природы,
Но не восполнится ничем утрата —
Сердцам быть снедью на пирах у скорби.
Скорбь завершает происки фортуны.
Почтим утрату скорбью всех придворных.
Боится смерти кто живет в стенанье.
Жалобная песнь Агеласта, казалось, пробудила чувства пастухов
Аркадии, которые до этого были как будто не в себе из-за великой скорби,
и, когда он умолк, многие пожелали последовать его примеру и оплакать
потерю Аркадии, которая была матерью для рожденных ею и кормилицей
для чужестранцев. Один из них, считавшийся неплохим стихотворцем,
а в горе отточивший свое умение, громко запел грустную песню, которая
потом была записана:
583
Взят от живых пастух высокородный,
Любивший дудку пастуха простого.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
И вы, деревья (всем, что есть живого
В вас, обездвиженных) простой корою
Печального звук передайте слова.
Пусть вздох мой брызнет по ветвям росою -
Вздох, воплотившийся в слова томленья:
Так Скорбь моя воспримется землею.
И если древо есть средь вас, растенья,
Которого обличье скорби сродно, —
Пусть наших душ изобразит мученья.
Плакучей мирре горе соприродно —
О нашем горе пусть грустит в пустыне.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
Земля, Фортуной проклята ты ныне
Природы ради изнемочь, рыдая
О драгоценности и о святыне;
Пусть воронов твой лоб облепит стая,
Пусть морем слез твоих пребудет море,
Руду убийства породи, страдая,
Пусть ляжет ржа на золотом уборе,
Алмаз и перл от глаз пребудут скрыты,
Пусть свет в твоем не отразится взоре.
Цветы, вы тоже были родовиты,
Ведь на могилах знати велеродной
Все памятники вами перевиты.
Пусть черным станет цвет лилей холодный,
И Гиацинт пусть наречется Аем1.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
О Эхо, вновь мы шутку разыграем:
В ответы обращай мои вопросы
И брату твоему за дальним краем
Ответ мой перешли скорбноголосый,
Тогда же плач мой в мире не прервется:
Чащобы огласит он и утесы,
И выше, к небесам, перенесется,
Где звезд неверных точное движенье —
Пусть скорби песнь и среди них поется;
1 Гиацинт был любимцем Аполлона, который нечаянно убил его, попав в него
во время метания диском. Из крови Гиацинта выросли цветы гиацинты, как бы оба-
гренные кровью, на их лепестках вырисовывается восклицание «ай-ай!» — пред-
смертный стон прекрасного юноши.
584
И вот спроси, за что им предпочтенье:
Безжизнен свет их, но длинны их годы,
А светлым душам мир готовит тленье.
Иль слишком много добрых от природы
Меж знатью, что и пяди нет свободной?
Иль мор настал для доблестной породы?
Иль в ларь один все то, что благородно,
Заранее сложить решили тати?
Песнь скорби музам подхватить угодно.
Рекут, что скорбь умерить было б кстати,
Печаль улыбкой прерывать порою.
Нет, только плач уместен при утрате.
О солнце, красящее дни зарею,
Ты право, светоносный луч твой пряча,
Нам с черной легче быть твоей сестрою.
И Феб недаром, над землей маяча,
Скрывает лик. Он сделал превосходно —
Тем зрение он уберег от плача.
Пусть небо усыпальницей холодной
Смыкает свод над хладною главою.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
И честью оскорбленной, и борьбою
Свою стеснила грудь ты, Филомела.
Богатством звуков поделись со мною —
Иль слух мой твоему подобным сделай,
Чтоб пел в слезах я о невосполнимом
И в целом мире песнь моя звенела.
Вы, облака, своим тяжелым дымом
В эфир вселяющие духов мрака,
Дождем пролейтесь — скорби духом зримым.
О Солнце, в форме, для людского зрака
Доступной днями, ты по небу ходишь.
Сядь на закат — ясней нет миру знака,
Что скорбны дни, чем вид, как ты заходишь.
Добра лишась, все пусто и безгодно —
Ты это нам закатом в ум приводишь.
О ноты, надо вам сплестись свободно,
Чтоб песнью стройной разрешилось горе.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
О время, ты без возраста, как море,
И никогда тебе не завершиться;
Но человека жизнь прервется вскоре.
Змее дано вновь юной становиться,
585
Наряд отживший свой во прах ввергая;
Ко древу может черенок привиться —
Так мы их лечим, жизнь их продлевая.
Но век людской не может быть продолжен:
Беспомощны мы, все кругом спасая;
И тот, чья мудрость в мире непреложна
(Что опытом преклонных лет добыта) —
В дни совершенства смерть кормить он должен.
Построив прочно, не живем досыта;
Природе милосердие не сродно —
Чем спасена, то ею и убито.
Гордящаяся тем, что многоплодна,
Она свой лучший плод извечно губит.
Песнь скорби музам подхватить угодно.
Мне кажется, мой жалкий голос любит
Небеспричинные стенанья эти:
Сама же скорбь лады его голубит;
Всего однажды я живу на свете,
И все, что в жизни радостно и ново,
Все смерти лов, все поплывет к ней в сети.
С губ рвутся чередой за словом слово,
Их в мир выводит скорбь — души царица,
Не потому ль и речь моя сурова?
В борьбе стихий (так молвят) коренится
От века наша жизненная сила —
Что ж распря ль их для принца гробовщица?
Иль (тоже молвят) далеко могила
Для знающих искусство врачеванья;
Нет, если Атропос кого схватила,
Там снадобья, врачи — одни названья.
Коль нет у корня влаги земнородной,
Целителей бесплодны предписанья.
С тех пор, как взяли Эскулапа боги,
Песнь скорби музам подхватить угодно.
Итак, щедроты подвели итоги,
И справедливость, справедливость пала,
В лохмотьях пыльных доброта, как в тоге,
И пастухов собранье возрыдало —
Вот зрелище на ваше рассмотренье.
Жизнь лишь обман, а смерть нам домом стала —
И вот кого ждет ныне погребенье.
Он умер? Нет, лишь разлучен он с теми,
Что были сгинуть за него готовы.
586
Одним ударом обрубило время
Того, кто на войне являя хватку,
С достоинством носил и власти бремя,
С ним только вкус узнали мы к порядку:
Пример учил верней нас, чем укоры,
В друзьях отбил он вздорную повадку;
Враги давно не лезут с нами в споры.
Он был закон. Его мы здравьем здравы,
Недугами его мы были хворы,
И смерть его — нам смерть... Но, дочь забавы,
Ты выразишь ли, Муза, плач народный,
Его ж достоин сей избранник славы?
А восприяв стиль плачей, ныне модный,
Ты повод дашь язвить над болью нашей.
Прочь, Муза — смерти к нам войти угодно.
А ты прощай, чья жизнь цвела всех краше.
Многие хотели петь после него, но день уже подошел к концу, и лишь
одному из самых известных своими песнями пастухов позволили испол-
нить рифмованную сестину:
Прощай, о солнце, неба яркий свет;
Прощай, о жемчуг, неимущих клад;
Златой наш посох, малых сил совет;
Блаженство, что превыше всех услад;
Прощай, о мудрость, простеца оплот;
Прощай, кого боготворил народ!
Кому вручит любовь свою народ?
Чистейшей из лампад погашен свет.
Где сыщет помраченный ум оплот?
Забыто место, где закопан клад.
Смерть поглотила светоч всех услад.
Осиротелым, кто нам даст совет?
Кто сиротам отцовский даст совет?
Он пестовал и наставлял народ;
Он лучше для себя не знал услад,
Чем в наши души лить целебный свет —
Сей человек и в мирный день был клад
И в час войны надежнейший оплот.
Соседство наше — темных сил оплот.
Кто нам теперь подаст благой совет?
Стянулись все, чтоб умыкнуть наш клад.
За кем с любовью потечет народ?
587
На ком теперь сойдется клином свет?
Кто предпочтет страданье тьме услад?
Ушла пора веселья и услад.
Уже никто не будет нам оплот.
Мы, как слепые, потеряли свет,
Мы хромы — отнят посох наш, совет.
Навек любви лишился наш народ
И потерял свой драгоценный клад.
Пусть россыпь слез нам образует клад,
Звук имени заменит дни услад,
Возненавидит пусть себя народ,
Смерть будет помыслов его оплот,
К себе вражда да будет наш совет
И в сумерках пойдем искать свой свет.
Прощай, наш свет; прощай, бесценный клад;
Прощай, благой совет и час услад;
Прощай, оплот, в ком силу брал народ.
Ночь укрыла землю темным пологом, и пастухи, отягощенные печа-
лью, отправились по домам, надеясь забыться во сне и облегчить свои
страдания, но тут к ним подъехали двадцать всадников, и главный из них
спросил о царе, а узнав плохие новости, остался с ними ждать возвраще-
ния гонца, которого он спешно послал к Филанаксу.
КОНЕЦ ЧЕТВЕРТОЙ КНИГИ
ПЯТАЯ КНИГА
Глава первая
Из-за опасного несогласия в мыслях и гибельного разлада между
сословиями Аркадия оказалась на грани самой большой из когда-либо
грозивших ей бед — такие судороги случаются только тогда, когда власть
теряет свою жизнеспособность; и как раз в это время к мудрому и чест-
ному Филанаксу, разрывавшемуся между желанием отомстить за своего
господина и заботой о будущем страны, (неожиданно) прибыл македо-
нец, который коротко, но почтительно сообщил ему, что знаменитый
Эварх, царь Македонии, который собирался навестить своего старого
друга и союзника царя Базилия, находится примерно в полумиле, уже из-
вещенный пастухами о неожиданной смерти их царя. Эварх послал гонца
к Филанаксу (о влиятельности и преданности которого был наслышан),
желая, чтобы тот указал, где ему лучше остановиться на отдых в эту ночь
и также (если это позволено) предлагал помощь в организации похо-
рон своего давнего соратника и союзника. К этому гонец добавил, что
у Филанакса нет причин для беспокойства, ибо с Эвархом всего двадцать
рыцарей и он не собирается опрометчиво вступать в какие-либо военные
действия.
Уделив гонцу столько времени, сколько он смог выкроить в требовав-
шей его внимания неразберихе, Филанакс успел поразмыслить и решить,
что с его стороны было бы несправедливо не принять царя Македонии,
которого привела в Аркадию добрая воля, да и к тому же опасно (если
иметь в виду его великое могущество) давать ему законный повод для
обиды. Более того, вспомнив его великолепные и справедливые суды, ко-
торыми он прославился не меньше, чем победами, Филанакс подумал,
что, пожалуй, Эварху лучше других удастся установить мир в стране, ибо
его добродетели ни у кого не вызовут сомнений, а его величие — зависти.
Взвесив про себя все за и против и рассудив, что обуздать горячие головы
очень не просто, а, если учесть чудовищные обстоятельства, любой шаг
может стать рискованным и иметь последствия, которые не исправить
простым раскаянием, Филанакс все же постановил прежде узнать, как
589
к его предложению отнесутся жители Аркадии. Он отпустил рыцаря к его
царю и господину и передал ему просьбу (хотя ему это было неприятно)
еще на час или два задержаться там, где он остановился, пока не будет все
устроено для достойной встречи, сам же отправился сначала к противо-
стоявшим ему благородным рыцарям, а потом к Каландеру и, наконец,
к почтенным мантинейцам (которые решительнее остальных выступали
простив него) с просьбой собраться всем вместе, коли ночь удержала их
от кровопролития, ибо он должен сообщить им нечто важное.
Никто так не жаждет новостей, как человек, которого страшит за-
втрашний день, поэтому все (кого великое недоверие заставило заду-
маться о близком конце) без промедления согласились выслушать все,
что угодно, лишь бы избавиться от страха, особенно приближенные царя,
которым было, что терять, и которые ревниво относились к слухам о пе-
ременах, тем более что им уже не меньше надоело потворствовать чван-
ливому Тимоту, чем завидовать достойному Филанаксу. Что до Каландера
и Симпата, то один из добродетельной дружбы желал возвысить, а другой
из естественного сочувствия спасти прекрасных (и несчастливых) плен-
ников, отчего тоже не возражали против такого собрания и, считая свои
желания справедливыми, верили в оправдание юношей. Лишь Тимот по-
пытался возразить, крикнув, мол, пора заткнуть уши и не поддаваться ча-
рам честолюбивого Филанакса. Пусть-де сначала освободит Гинесию и ее
дочерей, которых тоже надо выслушать, а потом и для них самих наступит
черед поговорить, ведь Филанакс хитростью разжигает ссору за ссорой,
боясь ответа за свои злоупотребления, вот и теперь он наверняка приго-
товил умильные речи, решив всех обмануть. Но так как в словах Тимота
было больше злобы, чем справедливых обвинений, то немногие откры-
ли для них свои уши; большинство же благожелательно откликнулось
на предложение Филанакса, который (как человек, ставящий превыше
всего совестливость), не подбирая приятных слов и не лицедействуя, но
печально, как суровый отец, которого заставляет браниться любовь, ска-
зал так:
— Я пришел к вам с важным известием, но еще важнее то, что я хочу
услышать от вас, ведь после учиненного недавно злодейства нет ничего
такого, от чего я не мог бы попросить воздержаться. Теперь я вынужден
просить (как это принято у пиратов), чтобы вы сохранили жизнь челове-
ку, который не причинил вам зла. Я думаю, у меня есть основания, будь
вы даже циклопами и каннибалами, просить, чтобы тело вашего царя (за-
ботами которого мы тридцать лет жили в мире) не было растерзано на
куски и с жадностью съедено, а было (не оскверненное) предано земле.
Мне приходится обращаться не к жителям Аркадии, известным своей
верностью царю и любовью к родной стороне, а к заклятым врагам этой
прекрасной страны, и я прошу вас, если уж вы решили отдать престол
чужеземцам, не давать, по крайней мере, благословение на царство убий-
цам вашего благородного царя. И наконец, у меня есть причины, как
если бы я говорил с сумасшедшими, просить вас, чтобы вы были добры
к самим себе, ибо, господь свидетель, каких только варварских злодеяний
590
и противоестественных глупостей не вынашивали вы сегодня в мыслях.
Однако, говоря по правде, я слишком люблю вас, чтобы длить речи о ва-
ших провинностях. Мне хотелось бы, чтобы вы забыли о них и не по-
вторяли их впредь. А что до меня, то я охотнее стал бы глашатаем ваших
добродетелей.
А теперь (если вы непредвзятым суждением, а не предвзятым чув-
ством взвесите мои слова) я открою вам, какого благословенного мужа
послали нам боги, если только вы не отвергнете их милость. Полагаю,
среди вас не найдется никого, кто был бы столь юн годами или умом, что
не слышал о славе справедливого Эварха, царя Македонии, с которым
наш царь был в дружественном союзе. Да, да, он приехал к нам сегодня
с двадцатью рыцарями, надеясь найти добродетельного Базилия в добром
здравии, и теперь ждет в двух милях отсюда, желая воздать ему посмерт-
ные почести. Воистину, небесные силы вовремя привели его к нам, чтобы
он заново воссоединил нас. Поэтому что до меня, то я хочу, коли мы сами
не можем договориться, передать в его руки похороны царя и наказание
убийц, а также замужество и коронование наших царевен. Он опытен и
мудр и знает, что надо делать: он столь велик, что никто не посмеет ослу-
шаться его, и столь справедлив, что никто не побоится доверить ему себя.
Словом, у него есть все, чтобы помочь нам, и ничего (даже если бы он за-
хотел), чтобы навредить. Если вы не возражаете, то, поскольку по нашим
законам убийцы царя должны быть наказаны до того, как его тело будет
предано земле, мы могли бы попросить царя Эварха вынести приговор
завтра утром, а потом приступить к погребальному обряду.
Когда Филанакс в первый раз упомянул имя Эварха, поднялся недо-
вольный ропот, словно царь, воспользовавшись бедственным положе-
нием Аркадии, явился, желая подчинить ее себе. Осознав же, сколь не-
многочисленная у него свита, все принялись перешептываться и перегля-
дываться в ожидании, кто первым выскажет свое одобрение Филанаксу.
Наконец подал голос Симпат, за ним последовали другие знатные жители
Аркадии, Каландер тоже не возражал в надежде, что столь выдающийся
царь не может поступить немилосердно с двумя юными рыцарями, и его
слову, поддержавшему слово Филанакса, подчинились остальные ман-
тинейцы. Один Тимот, не в силах отказаться от своих поспешных при-
тязаний (не понимая, что никто не хочет раздоров, кроме тех, кому они
на руку), попытался было плыть против течения, крича, что Филанакс
наконец-то показал свое истинное лицо, отдавая страну чужеземцам. Но
и он очень скоро убедился, что, перестаравшись, может все потерять.
Люди (уставшие от распрей, в которых он был главным зачинщиком, и
узревшие вдали тихую гавань, тотчас возненавидели стоявшие на их пути
препятствия) начали спрашивать друг у друга, не тот ли это Тимот, чей
злой язык честит всех подряд, не тот ли Тимот, который своими мятежны-
ми речами попытался вызвать смуту, и не он ли, не спросив их согласия,
собрался, преумножая свалившиеся на них беды, освободить Гинесию?
Таким образом, натравив на него друг друга, они прогнали Тимота прочь
из собрания, а потом еще долго преследовали, забрасывая камнями и
591
палками, пока он, лишившись глаза, избитый и израненный, не бросил-
ся в ноги Филанаксу с мольбой о защите, преподав всем урок, состоящий
в том, что даже порок рано или поздно вынужден искать защиту у до-
бродетели. Филанакс же, которому были не по душе поступки Тимота,
ничего не имел против него самого, но знал, что справедливое наказа-
ние может быть воздано несправедливо, и, хотя в данном случае людская
ярость выплеснулась справедливо, если ее вовремя не остановить, бог
знает, к каким крайностям это может привести, поэтому он честно упо-
требил свою власть, взяв под охрану дрожавшего Тимота. Потом, заста-
вив всех дать клятву верности Эварху до тех пор, пока царевна не станет
совершеннолетней или пока все не уладится (если его действия не будут
противоречить законам Аркадии, ее свободам и обычаям), а особую клят-
ву взяв с Симпата (который был его слугою) со всей строгостью охранять
узников и никого не допускать к ним, Филанакс в сопровождении много-
численных всадников с факелами отправился к царю Эварху, который не-
случайно оказался в Аркадии.
Глава вторая
Печальный царевич Планг, не получив от Базилия никакой другой
помощи, кроме совета ехать к Эварху, помчался в Византии, где, как ему
было известно, (закончив свои войны завоеванием этого города) царь
оставался уже довольно долгое время. Одолев немалое расстояние, он
узнал, что Эварх уже несколько дней, как возвратился в Македонию,
и уже поспешил в ту часть страны, что располагалась на побережье ближе
к Италии; а виноваты в этом были латиняне, которые с помощью оружия
или союзнических договоров прибрали к рукам б лыиую часть Италии и
страстно желали поглотить также Грецию. Решив воспользоваться отсут-
ствием Эварха и уединением Базилия (двух царей, составлявших главную
силу Греции), они были готовы совершить несправедливость, которую
потом собирались украсить благородным именем победы. Для этой цели,
не объявляя войны, наоборот, усиленно выказывая свою дружбу, они от-
правляли в разные стороны военные корабли под видом торговых. Однако
постоянная погрузка кораблей вместе с другими военными приготовле-
ниями в портах, наиболее удобно расположенных для транспортировки
солдат, пробудила у Эварха (знакомого с подобными хитростями) подо-
зрение, так что он сначала внимательно понаблюдал за происходившим,
а потом стал искать способ предотвратить злодейство.
Пока противники скрывали свои враждебные намерения, Эварх,
пребывая в уверенности, что никто не начинает войну без особой на-
добности, делал вид, будто ни о чем не догадывается, а сам постарался
с помощью послов расшевелить греческие города и, объединив военные
силы, подготовиться к возможной опасности, всеми способами внушая
городским властям, что если, находясь подальше, им и удастся уцелеть
при первой штормовой волне, все равно они в одной лодке и крушения не
избежать никому. Зная могущественную власть примера, а также малую
результативность прекрасных рассуждений, не подкрепленных делами,
Эварх сам исполнил то, в чем убеждал других, предприняв в своих владе-
ниях все необходимое для защиты. Его первой заботой было подготовить
подданных к войне, и его опытные воины обучали тех, кто был неискусен
в военных упражнениях. Для того чтобы лучше организовать обучение,
а также во избежание неприятностей, случающихся в неспокойные вре-
мена в самых мирных поселениях, он поделил провинции своего царства
на более мелкие части, какие счел удобными, и поставил над ними тех,
кто был этого достоин и кому он доверял больше, чем другим, дав им до-
статочно власти, чтобы они набрали, сколько нужно, воинов для отраже-
ния неприятельского нашествия и пресечения внутренних беспорядков.
Подготовив тело и успокоив душу своей Македонии на случай воз-
можной беды, Эварх уделил внимание защите границ, приказал привести
в порядок все имевшиеся корабли и построить новые, а также укрепить
(особенно на побережье) все удобные бухты и те участки суши, которые
38 Заказ 1414
593
были наиболее уязвимыми и могли послужить к выгоде врага. Однако, не
будучи человеком, который считает, что достаточно сказать и все будет
сделано, он старался сам побывать везде и, подмечая у кого лень, у кого
усердие (наказывая одних и поощряя других), не позволял, чтобы дель-
ные советы из-за спешки и небрежения пропадали даром.
Так, заставляя один город за другим преуспевать в мудрости и добро-
детели, Эварх добрался до Олона, своего главного порта, когда несчаст-
ный Планг, измученный долгим странствием (желание помочь Эроне не
более облегчало ему путешествие, чем затруднял страх опоздать), печаль-
ным сообщением о смерти детей Эварха заставил его обратить свои силы
не на столкновение с внешним врагом, а на успокоение собственных
взбунтовавшихся чувств. Суть дела была столь ужасной, а деяние столь
преступным, гибель юных героев столь преждевременной, да еще во вре-
мена, чреватые опасностью для Греции, что огорчение и сострадание всех
(не слепых к свету добродетели и не глухих к голосу родины) мог бы опи-
сать лишь тот, кто искуснее меня в ярких красках. Однако лик Эварховой
печали (из родительского отношения к одному и отцовской любви к обо-
им осуждая весь мир в тем более недостойном убийстве прекрасных юно-
шей, что он сам был судьей их достоинств) даже самое искусное перо не
могло бы запечатлеть так, как может сделать завеса молчания. И правда,
Эварх с такой кроткой сдержанностью принял грустное известие, пода-
вив в себе все бессильные речи, что его великодушие, казалось, восторже-
ствовало над горем. Выслушав подробный рассказ Планга о Плексирте и
Артаксии и не только дав обещание помочь ему в освобождении Эроны,
но и со страстью заверив, что он не возвратится в Македонию, пока не
предаст убийц своих детей смерти, Эварх без промедления послал ко-
рабль в Византии, приказав правителю готовить все необходимое для
войны, ради которой он скоро прибудет.
На этом корабле отплыл нетерпеливый Планг, ибо он больше не мог
ждать, долгое время пребывая в неведении относительно судьбы своей
дамы. Вскоре, однако, Эварху донесли, что все корабли, задержанные
в Италии, возвратились домой, ибо латиняне (поняв, что Эварх своими
приготовлениями расстроил их планы, ведь после его спешного возвра-
щения они уже не могли сомневаться в его осведомленности и решили от-
ступить, не имея возможности нанести неожиданный удар) не только са-
мым дружественным образом предоставили морякам свободу плыть, куда
им заблагорассудится, но и на некоторое время забыли о своих планах,
решив ждать более удобного случая, так что Эварх, избавившись от одной
угрозы (которая могла задержать его), со всем флотом, который ему уда-
лось собрать за короткое время, отправился в Византии. Подгоняемый
свежим ветром флот довольно быстро одолел блыную часть пути, как
вдруг в одну из ночей случился страшный шторм, разметавший корабли,
так что и два из них вряд ли видели друг друга.
Что до царского корабля, то без команды, основательно помятый и
побитый, он едва сносил грубые шутки моря, но незадолго до утра смог
пристать к берегу. Когда рассвело, Эварх обнаружил, что оказался в не-
594
счастной Лаконии, ибо никакая другая страна не могла бы явить столько
свидетельств противоестественной войны, которая давно шла между бла-
городными гражданами и илотами и один раз уже была закончена миром
с помощью Пирокла, назвавшегося Даифантом; однако после его отъезда
возобновилась с еще большей силой, ибо царь, воспользовавшись отсут-
ствием вождя илотов, отказался выполнить условия мирного договора
на том основании, что мятежник силой вынудил подписать его, отчего
илоты вновь пошли против царя, да еще с такой ненавистью, что Эварх,
чужестранец, и то не чувствовал себя в безопасности там, где его не могли
защитить его немногочисленные воины и не мог уберечь от беды священ-
ный титул монарха. Поэтому, призвав к себе жителя Аркадии (того, ко-
торый прибыл с Плангом и оставался с Эвархом, желая стать свидетелем
военных действий), он поручил ему найти какое-нибудь другое место,
где можно было бы дождаться известий о кораблях и отремонтировать
тот, на котором находился сам Эварх. Житель Аркадии был рад услужить
Эварху и выказать почтение Базилию (к которому он намеревался приве-
сти желанного гостя), поэтому сказал, что если Эварх не против посетить
Аркадию, которую видно с того места, где они стояли, то еще прежде чем
наступит утро, он в сохранности доставит его к своему царю Базилию.
Необходимость, но более этого добродетельное желание отвратить
Базилия от намерения хоронить себя заживо в глуши и побудить его оста-
ток жизни посвятить благим делам, что есть истинное счастье человека,
подвигло Эварха на визит в Аркадию. Помимо несчастий, на которые
была обречена вся Греция, лишенная главной опоры, Эварх с жалостью
подумал о народе Аркадии, который пребывал в худшем положении, чем
если бы царь умер, потому что тогда кто-нибудь, но встал бы у кормила
власти. А так, царь есть, но ведет себя не по-царски, занимает трон и не
исполняет свой долг, отчего народ, не в силах принять меры против этой
беды, оказался в еще большей беде.
В первую очередь эти воистину мудрые и добродетельные соображе-
ния подвигли Эварха на визит в Аркадию, где он, приехав ночью и узнав,
к великой печали, о смерти царя, теперь ждал заверений в безопасности
от Филанакса, а тем временем устроился на отдых под деревом, являя ров-
но столько величия, сколько человек, знающий (как бы он ни был воз-
вышен), что в земле начало и конец его телесной оболочки. Едва завидев
царя, Филанакс соскочил с коня и подошел к царю со смирением, в кото-
рое рядится не только великое почтение, но и сознание собственной не-
значительности. Соблюдая приличия, Эварх поднялся ему навстречу со
всегдашней приветливостью, так как от него не укрылась озабоченность
Филанакса своим несчастным положением. Стоило Филанаксу поближе
взглянуть на Эварха и получше его разглядеть, как его почтенный облик
и почтенные лета (как у недавно скончавшегося, но навечно любимого
царя Аркадии) оживили его память и воскресили мысли о привычных ра-
достях, отчего он, вместо того чтобы заговорить с Эвархом, долго стоял
перед ним, словно забывшись в мыслях, совершая далекое путешествие
в прошлое, составляя в уме перечень своих потерь, воображая, что не
38*
595
было бы боли, если бы природа продолжала свое естественное течение,
и придумывая больше из любви, чем по зрелому размышлению, каким
прекрасным был бы этот мир, если бы не неожиданное несчастье. И так
безнадежно заблудился он в своем неистовом отчаянии, что его глаза, бо-
лее скорые, чем язык, дали волю потоку слез, и заглушили слова — до
того крепко был Филанакс привязан к Базилию, что, скончайся царь глу-
боким стариком, он и тогда счел бы его смерть безвременной. В конце
концов Филанакс сказал Эварху, объясняя причину своих рыданий:
— Я не хочу, достойнейший и прекраснейший царь, чтобы мое при-
сутствие стало тебе неприятно, а мои слова показались незначительными
из-за слез, ты не должен упрекать меня в слабости, ибо в последние дни
для нее есть веская причина; а так как у тебя с моим царем было много об-
щего, то это кажется мне законным основанием взывать к твоей жалости:
царь не может быть равнодушным к падению царя, поборник справедли-
вости — к несправедливой смерти. Позволь мне, славный Эварх, сказать
тебе, что я представляю в недавнем времени цветущую Аркадию, кото-
рая теперь плачет моими слезами, причитает моим языком и становится
перед тобой на мои колени, ибо твои ноги никогда не уставали нести тебя
туда, где требовалось защитить невинных. Представь, лишь представь,
мудрейший и добрейший царь, что ты своими глазами видишь печальное
представление трагедии, в которой я играю роль моей несчастной стра-
ны, лишившейся своего властелина; она, как корабль, что без капитана
не ведает свой путь и будет качаться на неверных волнах, пока не разо-
бьется о скалы, пока не будет низвергнута в небытие штормовым ветром
иноземного нашествия.
Аркадия, оказавшись в таких отчаянных обстоятельствах, (моими
устами) взывает к тебе не напрасно, могущественный царь, ибо она не
только лишилась своей естественной опоры, но лишилась ее столь вне-
запно, что у нее не было времени подумать о безопасности (беда напугала
всех, но злодеяние, ставшее его причиной, внушает ужас), и если ты пред-
ложишь ей руку, как мужчина пожалеешь ее народ, как добродетельный
человек накажешь порок, как царь защитишь ее жителей, которые все как
один подали за тебя голоса, значит, ты сможешь предотвратить грозящую
нам гибель. Из необходимости и из веры в тебя мы ищем у тебя помощи,
мы открыты тебе — известному своими справедливыми суждениями. Мы
оставляем за собой право только на детей Базилия, как это издавна пред-
писано нашими законами. Что же до остального, мы готовы все передо-
верить тебе, ибо мы избрали тебя защитником нашего царства и умоляем
тебя (пока ты не заложишь прочный фундамент мирной жизни) взять
в свои руки защиту нашего доброго имени и самого нашего существо-
вания.
Тонкости наших законов и смысл наших просьб тебе скоро станет
ясен. А теперь я лишь скажу, что наша страна — прекрасное место для до-
казательства того, что доброе дерево твоей добродетели может прижить-
ся на любой почве. Послушай, пусть здесь узнают, что страх не в силах
остановить тебя, а властолюбие — забыть о справедливости. И напосле-
596
док еще одно: от моей просьбы и твоего ответа зависит не только покой,
но и жизнь многих тысяч людей, которые, зная о нашем долгом союзе
и попав в трудное положение, желают, но не в ущерб твоим богатствам и
мирной жизни твоих подданных, единственно пользы от твоей мудрости,
ибо только от нее теперь зависят наша слава и процветание.
Эварх не предвидел подобной просьбы и поэтому с особым внима-
нием выслушал речи Филанакса, а потом долго молчал, обдумывая свое
решение. С одной стороны, он полагал, что природа велит ему быть под-
держкой себе подобным, и в его сердце не было страха, потому что его
жизнь приближалась к концу и многие годы он отдал самовластью вре-
мени, удовлетворив ожидания людей более чем ожидаемой славой, на-
конец, ублажив собственный разум ежедневным приношением из до-
бродетельных поступков, но (с другой стороны) он знал о справедливых
упреках к тем, кто с легкостью вмешивается в чужие дела, и люди могли
бы подумать, будто жажда власти, а не любовь к справедливости побудила
его ввязаться в то, что не имеет к нему никакого отношения, особенно
теперь, когда его собственные дела не в лучшем состоянии и требуют от
него возвращения домой. Но в конце концов мудрость, будучи величиной
абсолютной, а не относительной, заставила Эварха склониться к тому, что
было благом само по себе вне зависимости от того, будет или не будет это
воспринято как благо недостойными умами, и он решил, что хотя жители
Аркадии и не являются его подданными, все же ему принадлежит право
вершить добро (которое не зависит от мнения других людей), и если нуж-
да вынудила его отправиться в Аркадию, то нуждающаяся в нем Аркадия
по справедливости может требовать чего-нибудь и для себя. Кроме того,
тайная уверенность в своих достоинствах (которая никогда еще не была
столь украшена скромностью, но которая всегда проявляется у достой-
нейших из людей) тоже повлияла на его размышления, убеждая его в том,
что духовное богатство, дарованное ему небесами, следует расходовать
с пользой. Итак, приняв решение, Эварх все же, прежде чем идти дальше,
захотел поглубже вникнуть в сделанное ему предложение и поэтому с рас-
судительностью, какой бесстрастная природа одарила человечество, так
ответил на настойчивые мольбы Филанакса:
— Долгий опыт научил меня, что люди (и цари тоже, потому что они
всего лишь люди) подвержены всяким случайностям, да и сама наша
жизнь постоянно меняется, но все же меня приводят в смущение стран-
ные события, происшедшие в Аркадии, по крайней мере, они мне такими
показались. Немалые трудности пришлось мне одолеть на пути к моему
доброму другу, а тут я узнаю, что если и увижу его, то увижу мертвым.
Тогда я прошу твоего ручательства в моей безопасности, и вдруг оказы-
вается, что я должен стать судьей над чужими жизнями. Я был другом
Базилию, но я чужой в этой стране, и ты хочешь чужого человека произ-
вести в правители. Мне было бы нетрудно отказать тебе, сославшись на
слабость разума и тела, естественную для моих лет, или на объективную
необходимость заняться собственными делами, которыми меня обязы-
вает заниматься мое положение и которые нельзя откладывать в долгий
597
ящик. Но даже если бы я мог и взялся справиться с трудностями, чем ты
подтвердишь, что таково желание всего народа, у которого столько раз-
ных суждений, что их нельзя соединить вместе? Кто знает людей, тот
знает, что неожиданная идея способна вселить в них надежду, но стоит
эту надежду не оправдать, и они начинают ненавидеть; в зависимости от
того, куда их заводит воображение, они избирают и изгоняют, возвышают
и низвергают! Даже их поспешное влечение ко мне говорит о том, что они
точно так же поспешат отринуть меня, ведь торопливо берут и торопливо
бросают по одной причине, имя которой непостоянство. Не исключено,
что они услышали об Эвархе больше, чем следовало, но тогда их глаза
станут еще более придирчивыми судьями. Может быть, они из слухов со-
творили нечто такое, чего я не захочу или не смогу претворить в жизнь.
И тогда незаслуженные мною сожаления станут для меня большим по-
зором и большей болью, чем твое незаслуженное предложение — честью.
Короче говоря, я должен все знать о больном, прежде чем пообещаю на-
чать лечение.
Филанакс не был похож на тех современных правителей, которые
назначают чиновников из числа просителей; он считал, что достойный
человек, хотя и не выказывающий большого желания служить, больше
подходит для любой должности, чем ее недостойный искатель. Поэтому,
чем упорнее отказывался Эварх, тем более убеждался Филанакс в том, что
тот владеет высочайшим искусством капитана лавировать между грозных
скал, и тем настойчивее от имени всех жителей Аркадии просил его стать
временным правителем страны. Филанакс отверг отговорки Эварха, буд-
то тот ослабел с годами, ибо имел много свидетельств того, как его силь-
ный ум одолевал великие беды, а тело без труда подчинялось разуму,
и Филанакс не сомневался, покуда одно не расстанется с другим, Эварх
не сочтет себя слишком хрупким сосудом для добродетельных подвигов.
Филанакс признавал долг Эварха перед собственной страной, но если он
все так устроил, что нет причин опасаться неожиданных осложнений и
страна может обходиться без него, то не все ли равно его подданным, как
он проводит свое время. Что же до сомнений в постоянстве людей, обра-
тившихся к нему с просьбой, то Филанакс сказал, мол, таким сомнениям
можно подвергнуть все человеческие поступки. Но все же, если в чем-то
и можно быть уверенным, когда речь идет о политике (в которой невоз-
можна математическая точность), то очевидны народное единодушие и
заслуги царя Македонии, у народа — желание отдать себя во власть царя
и у царя — желание взять власть в свои руки, к этому же следует при-
бавить настоятельную необходимость, которая прежде всего связывает
людей. Короче говоря, Филанакс привел много доводов Эварху, уже гото-
вому взяться за доброе дело, и в итоге тот решил сам во всем разобраться
и убедиться, что жители Аркадии выбрали его не из-за вражды друг с дру-
гом, а по трезвому расчету.
Итак, Филанакс, Эварх и рыцари из его свиты вскочили на коней и
поспешили по направлению к царским домам, где, несмотря на поздний
час, нашли много людей, ожидавших результата Филанаксова посоль-
598
ства, потому что каждый думал, будто без него дело не сдвинется с места,
и свои глаза полагал самыми надежными стражами своих слов в столь не-
привычных обстоятельствах. Когда же эти люди увидали скачущего к ним
Филанакса и по правую руку от него царя Эварха, на которого они воз-
ложили тяжелый груз своих страхов, то радостными криками и рукопле-
сканиями возвестили им и всему миру, что один человек предпочтитель-
нее десяти тысяч — ибо многолюдная толпа обнаруживает крайности
в мнениях, которые плохо уживаются друге другом, а в искусно вылеплен-
ном характере хватает естественной властности. Все столпились вокруг
чужеземца, словно в жилах Эварха текла кровь аркадских царей и его имя
было известно долгим и добрым служением Аркадии, но и большинство,
отринув уныние и беспокойство, уже предалось тщеславным размышле-
ниям, кому в первую очередь повезет заручиться благосклонностью царя
Македонии. Со временем громкие крики сменились негромкими пере-
говорами: одни восхваляли Филанакса за его удачные хлопоты, другие —
Эварха, по его лицу судя о его летах и по летам — о его мудрости.
Эварх же ехал между ними как человек (не презирающий людей, но
и не радующийся лести), который всегда остается самим собой, и неко-
лебимая решимость читалась в его глазах. Спешившись, он потребовал
созвать всех, и это было сделано до того тихо и чинно, что и Нептуну не
удалось бы так же быстро усмирить бунтующие ветры, как выдающейся
добродетели, вызывающей всеобщее восхищение, удалось умерить пыл
разошедшейся толпы. Когда Эварха подняли высоко, чтобы все могли его
видеть, он сказал:
— Из речей господина Филанакса я понял, верные граждане Аркадии,
что вы единодушно согласны избрать меня судьей в тех бедах, что случи-
лись в Аркадии, властителем в сегодняшнем безвластии и, наконец, за-
щитником страны, пока в ней вновь не воцарится спокойствие.
Здесь он был вынужден замолчать, потому что народ завопил, вели-
чая его благородными титулами и желая ему всякого счастья. Но Эварх
сделал знак рукой и, когда шум стих, продолжал:
— Что ж, мне придется показать, а вам посмотреть, насколько хорош
ваш выбор. Но так как часто бывает, что мы, обманываясь в других, об-
манываем себя, поэтому хочу просить, во-первых, чтобы вы не ждали от
меня слишком многого (нет другого такого жестокого врага всяких начи-
наний), и не надеялись на немедленные чудеса; помните, что я обыкно-
венный человек, то есть существо, чей разум может затмеваться заблуж-
дениями. А во-вторых, не будьте предвзятыми в своем мнении, иначе
все, что я скажу или сделаю, вы оцените неправильно, ведь если у кого-
то разлитие желчи, то ему все видится желтым. В-третьих, обо всем, что
вы думаете, вы должны говорить открыто, помня, что даже умнейшие из
людей мыслят неодинаково; зачем разумному человеку, если ему нравит-
ся черное, ненавидеть того, кто одевается в белое, ведь разные мысли и
мнения — истинное украшение разума. И последнее, не судите поспешно
о вашем судье, а так как вы позвали меня повелевать, то ваш долг — пови-
новаться. В ответ я обещаю вам положить все силы, чтобы, следуя законам
599
природы, Греции и Аркадии (с которыми, полагаю, я неплохо знаком), не
только проследить за справедливым наказанием ваших обидчиков и вос-
становлением прежнего благополучия, а также за вашей безопасностью,
но и, если потребуется, помочь вам воинами и своим богатством. Ну, а те-
перь мой первый приказ. Ни один человек под страхом самого жестокого
наказания не смеет называть меня иначе, как защитником Аркадии, ибо
я ни под каким предлогом не позволю своим наследникам претендовать
на то, что вы своей свободной волей поручили моим заботам. Поэтому,
клянусь вам, что уйду, как только исполнится суд, будет предано земле
тело царя и возведен на трон законный наследник. Сначала я узнаю, кто
виновен в гибели царя и прочих злодейских преступлениях, потому что
этого требуют от меня ваши обычаи, и будет это не позже завтрашнего
утра, как только солнце позволит нам приняться за дело. А теперь отды-
хайте и будьте готовы к завтрашнему суду.
Глава третья
Речи Эварха были выслушаны с одобрением, а потом Филанакс (взяв-
ший на себя заботу о царе) отвел выбранного правителя в приготовленные
для него покои — и остальные (несмотря на тесноту) тоже отправились
спать. Когда же ночь, большею частью прошедшая в разных треволнени-
ях, стала уходить с земли, Эварх, заметив первые знаки приближающе-
гося утра и желая в первую очередь восстановить справедливость, при-
казал Филанаксу готовить место для вершения правосудия и, как только
соберутся (не расходившиеся по домам) жители Аркадии, привести туда
узников и принести тело погибшего царя, которое, взывая к народной
благодарной любви и напоминая судьям об их долге, по обычаю должно
было лежать на виду у всех, накрытое черным бархатом, до тех пор пока
суд не вынесет обвинительный или оправдательный приговор,. Считая,
что справедливая месть близка, Филанакс со всем тщанием исполнил
приказ.
Однако прежде нам было бы неплохо узнать, как скоротали долгую
ночь несчастные царственные узники. Никогда ни один тиран не терзал
так своего ненавистного врага, как Гинесия распинала собственную душу
из-за того, что ее сердечная измена стала причиной неожиданной смерти
супруга, ведь она вовсе не замышляла ничего подобного, но тем не менее
мысли ее вышли недобрыми и дела тоже, отчего она думала, будто спра-
ведливый господь обрек ее на муки, соединив мысли и дела. Это жгло
ей грудь, тем паче когда Филанакс отправил ее в узилище и она осталась
одна, чтобы без помех предаться сжигавшим ее мыслям, особенно после
того как стемнело, а у нее была лишь тусклая лампа, которая отбрасывала
страшные тени и пугала ее смущенный разум вместо того, чтобы успокаи-
вать мягким светом. Ее рассудок не выдерживал тяжелого груза страда-
ний, отчаяние вонзало в нее острые когти; и Гинесия страшилась высших
сил, к которым не испытывала почтения — не как дитя, а как враг. Она
богохульно прокляла день, когда появилась на свет:
— О боги, — кричала она, — зачем вы сотворили меня на погибель
другим? Если вам милы добрые люди, то почему не дали мне добрых мыс-
лей? Вы сами не дали их мне, и вы же казните меня! Разве мне по силам
идти против вашего могущества?
То ей казалось, будто она видит адские тени и слышит их вопли, то
она принималась громко звать на помощь, но так как к ней никто не при-
ходил, она желала сама убить себя, но не знала, как это сделать. Время
от времени тягостные видения притупляли ее чувства, и она ненадолго
засыпала, но тогда за нее принимались мучительные сны. Один раз ей
привиделось, что Филанакс схватил ее за волосы, вырвал глаза и чуть
было не бросил ее в горящий очаг. В другой раз ей привиделся Базилий,
жаловавшийся на нее Плутону, а вокруг адские силы яростно спорили,
к каким вечным мукам приговорить ее. И всякий раз в ее снах появлялась
601
Зелмана, отчего Гинесии начинало чудиться, будто она молит ее о жало-
сти, а та уходит прочь, не выказывая жалости к ее несчастной участи.
Когда же сон обрывался, Гинесия просыпалась (хоть предпочла бы
спать вечно), и ее мыслями завладевали новые видения, рожденные теми
же страданиями. Смерть страшила царицу и была желанна ей. В свое вре-
мя Гинесия презрела всякий стыд, и теперь стыд стал ее жестоким мучи-
телем. Она ненавидела Пирокла, ставшего причиной ее падения, и все же
любовь к нему повелевала ее чувствами.
— О Зелмана, — шептала она (не ведая, в какой смертельной опасности
находится сам Пирокл), — ты насытишь свой взгляд позором и смертью
своего врага. Врага? Ода, врага. Ведь ты сама показала мне, какой я долж-
на быть. Разве ты не могла попросту отказать мне, вместо того чтобы на-
девать одну маску на другую в двойном притворстве? Может быть, если
бы у меня совсем не было надежды, добродетель, которая когда-то была
мне близка, собралась бы с силами и не отдала меня в чудовищное раб-
ство пороку?
Благостные раздумья вновь сменялись отчаянием, и, когда оно без-
раздельно завладевало ею, Гинесия не искала другого утешения, кроме
как в смерти, которая все же вызывала в ней страх, стоило ей подумать об
уходе в другой мир. Тягостное отвращение к себе побуждало ее с нетерпе-
нием ждать утра, и она вновь решала вести себя, как прежде, то есть при-
знавать все, лишь бы ускорить свою смерть. И хотя она уже не надеялась,
что смерть избавит ее от страданий, почуяв начало адских мук; однако
природа мучений такова, что нынешняя боль всегда кажется самой не-
стерпимой, и Гинесия желала избавиться от нее, не думая о том, что по-
следует потом. Тем успокаивалась потерявшая покой Гинесия.
В такой же печали, хотя и не в таком отчаянии пребывали царевны
Памела и Филоклея, чье единственное преимущество заключалось в том,
что они, не зная за собой зла, оставались в мире с собой, к тому же не
страдали от одиночества и могли хотя бы время от времени делиться сво-
ими муками. Не обращая внимания на возмущение Памелы, Филанакс
силой посадил ее под замок, но не разлучил с Филоклеей, такой же не-
счастливой и такой же прекрасной; но если прежде сестры из робости и
недоверия не очень делились своими тайнами, то теперь (сокрушитель-
ный) страх и необходимость (торжествующая законница) побуждали
их открывать свои секреты — чувства до того переполняли их, что они
были готовы говорить даже с каменными стенами, только бы не молчать
о своих приключениях. Воистину даже те, у кого сердце из камня и кто не
обращает внимания на женские слезы (считая, что недолго ждать ясной
погоды), даже они смягчились бы и признали: чем чище бриллиант, тем
страшнее найти в нем изъян, но (и в этом не было сомнений) лица царе-
вен были скорее украшением печали, ибо печали оказалось не под силу
затмить их сияние.
После того как Памела и Филоклея (насколько им позволили соб-
ственные несчастья) с приличествующей печалью оплакали смерть отца,
они уселись рядышком, одетые в те же платья, в которых их настигла
602
беда, то есть Памела была в дорожном платье, которому теперь предсто-
яло сослужить иную службу, а Филоклея — в ночной рубашке, которая,
как она думала, станет ее смертным одеянием. Сестры повздыхали не-
много над общими несчастьями и, набравшись мужества, с прискорби-
ем поведали о своих горестях, в которых были так же близки друг с дру-
гом, как их рыцари (оба царевича, как Памела узнала от Музидора, до
того любили друг друга, что всегда были готовы взять на себя несчастья
другого), и это еще больше сближало сестер, но и усиливало их отчая-
ние, ибо они поняли, что несчастье одного сделает несчастным и друго-
го. Об этом царевны заговорили в первую очередь, затем они поведали
друг другу о страстном начале, тревожном продолжении и смертельно
опасном конце их вечной любви, и всякий раз без устали восхваляли
своих рыцарей, пока память не напоминала им, что чем более достойны
похвал их рыцари, тем более они достойны жалости. И вновь царевны
принимались лить слезы и заламывать руки, не в силах отрешиться от
своего горя, и так оно и шло — от разговоров к причитаниям, от при-
читаний к молитвам — тем паче Филоклея, которая, будучи моложе и не
помышляя о престоле, была более склонна предаваться отчаянию. Не
в состоянии подняться мыслями выше, как говорится, разумного дитя-
ти, она никак не могла понять, отчего Филанакс и его рыцари поступи-
ли с нею жестоко, ведь она никогда не делала им ничего плохого, и как
они посмели заключить в тюрьму такого человека, каким она вообража-
ла Пирокла, которого, она считала, все на земле должны были любить
так же, как любила она.
Памеле же, хотя она и была наделена целомудренной нежностью,
знание того, кто она и что предначертано ей судьбой, укрепило сердце
презрением к врагам, и в ней соединялись беспокойство за возлюбленно-
го и презрение к захватившим ее (как она думала) бунтовщикам, и мысли
о спасении Музидора мешались у нее с мыслями о мщении, если ей не
удастся его спасти. И словно в предсмертных муках, ее сильное сердце
тем более мучилось, чем более сопротивлялось, и ее разум тем сильнее
роптал, чем возвышеннее и благороднее были его мысли, и чем сильнее
он роптал, тем больше безнадежных ран наносил себе. Но когда большая
часть ночи миновала под печальную музыку причитаний прекрасных
дам, (не без борьбы с собой) Памела осознала, что заключенной в клетку
орлице следует вести себя по-орлиному; она вспомнила, что утром будут
судить тех, кто заключен в тюрьму, и сестры провели остаток времени за
писанием посланий, в которых искренность была под стать обстоятель-
ствам, а слова — под стать мыслям.
Тем временем Пирокл и Музидор находились под таким бдительным
присмотром, что понимали, если они попытаются бежать, то им придет-
ся заплатить за побег жизнью, и они как настоящие мужчины, упрочив
свою храбрость терпением, так окрепли духом, что скорее стали власти-
телями необходимости, чем слугами случайности, всеми помыслами они
были обращены к своим дамам и заботе друг о друге, в чем (если это было
возможно) их сердца обрели некоторое утешение. И все равно Музидора
603
время от времени одолевало уныние из-за участи, недостойной его друга,
и тогда он говорил:
— Мой Пирокл, сколь несчастлива Фессалия, которая обрекла тебя
на такое несчастье! Если бы ты воспитывался не в такой стране, море
не смогло бы разлучить тебя с твоим любимым отцом. Поэтому я жалею
(если сожаления приличны сердцу мужчины), что моя страна, имевшая
честь взрастить Пирокла, должна была стать ступенькой в его падении,
если, конечно, считать случайности падением для человека, который воз-
вышен добродетелью.
— Несравненный Музидор, — отвечал Пирокл, — неужели ты учишь
меня ссориться с самим собой и своей судьбой, если я получал от тебя
только одно хорошее, а ты от меня — сплошь мучения? К тебе и твоей
доброй матушке меня отослали за помощью, когда я был юн, а мой отец
сражался с врагами. В Фессалии я познал чарующие тайны философии.
В Фессалии у меня перед глазами был живой пример твоих поступков,
которому я научился следовать. Наконец, в Фессалии я познал твою
дружбу, которую никакое несчастье не принудит меня назвать иначе, как
счастьем. А теперь погляди, как моя судьба (но, боги свидетели, не моя
воля) вознаградила тебя за твою дружбу. Мой отец призвал тебя покинуть
твою страну, которую ты не оставил бы, если бы не наша дружба. А что
случилось потом, тебе самому известно. Моя любовь, а не твоя, задержа-
ла тебя здесь, и это я, а не ты, должен мучиться угрызениями совести.
— О, не хули небеса, милый Пирокл, — сказал Музидор. — Их движе-
ние неизменно во веки вечные, ничто не вершится без воли недостижи-
мого властителя, у которого на все есть свои причины. Сказать по правде,
мы явим неблагодарность по отношению к природе, если забудем о ее
дарах и будем помнить лишь то, что нам не нравится. Мы жили, да, жили,
чтобы творить благо для себя и для других. Наши души, помещенные
в суетный прах наших тел, совершили то, для чего они явились в этот мир.
Они познали и почтили разумением причину своего создания, и для мно-
гих людей — ибо теперь, здесь, в этих обстоятельствах мы имеем право
сказать то, что мы жили, было во благо. Если вечность не в соединении
тела и души, что мы потеряем, кроме времени? И если конец неизбежен,
он рано или поздно наступит, и тогда все прошедшее — ничто, а промед-
ление сулит нам лишь труды и заботы. Отчасти из-за моих лет, но, глав-
ным образом, из-за малости моих заслуг по сравнению с твоими я боль-
ше тебя заслуживаю смерти, так что не мучай меня речами о том, что ты
привел меня к этому несчастью, ведь любовь к тебе уравновешивает мои
телесные муки, которые и муками-то могут быть лишь для низких натур,
слишком привязанных к жалкой жизни. Я не собираюсь поддаваться чув-
ствам и оплакивать тебя, как бы ни сообразовалось это с моей безмерной
любовью к тебе, потому что воистину сие ничто по сравнению с твоими
несказанными добродетелями.
— Прибавь к своей благородной речи, мой милый брат, то, что, опла-
кивая свою участь или свою вину в бедах друг друга, мы выкажем рас-
каяние в нашей любви к несравненным созданиям или, по крайней мере,
604
сомнение, не слишком ли дорого эта любовь нам обходится. Л что до меня
(и я осмеливаюсь говорить также и за тебя), то призываю в свидетели всех
богов, я настолько далек от этого, что ни позор, ни пытка, ни смерть не
заставят меня отказаться от достойной мудрости, страстных чувств и са-
мой жизни, которыми я наслаждался рядом с безупречной Филоклеей.
— Ты во всем выше меня, но не в искренней любви, — откликнулся
Музидор, — и сама смерть не заставит меня признать, что я люблю не так
сильно, как ты.
— Об этом, — с тихой улыбкой ответил ему Пирокл, — я думаю, мы
поспорим с тобой в другом мире, если, конечно же, сохраним там память
о здешней жизни.
— Я согласен с тобой, — молвил Музидор, — хотя, как ты знаешь,
считается, что со смертью тела и чувств (которые есть не только источ-
ник, но и обиталище страстей, мыслей, фантазий) слабеют страсти, мыс-
ли, фантазии, а с ними слабеет память, которой они дают жизнь, а потом
и вовсе ничего не остается, кроме разума, который (лишенный морали,
зависящей от разного рода возмущений) живет в созерцательной добро-
детели и во власти всемогущей благости, так что постепенно становится
частью души душ и вселенской жизни великого творения, а поэтому со-
вершенно недоступен чувственным переживаниям.
— Мне нетрудно представить, что мы не будем помнить друг друга,
а тем паче, что с нами было и что прошло, ибо наш разум и чувства ис-
чезнут, а если не будет причины, то не будет и следствия. Не думаю, что
наша память останется такой же, как теперь; ведь она сущность наших
телесных ощущений или, скорее, печать этих ощущений, оставленная на
наших мыслях, но все же это будет живая сила той самой души, которая,
пока мы живем, занимает важнейшее место в нашей жизни и является
последним утешением, к которому мы во всех случаях мысленно взыва-
ем, следовательно, она не может быть несведуща в наших делах (хотя бы
она и бунтовала много раз), а когда не будет тюрьмы и мы возвратимся
во всевечную жизнь с безграничным знанием, она станет духом (по на-
званию и сути) всего, что было и есть, хотя и лишенным воображения,
но (может быть, став равным своему создателю) получившим безгранич-
ное духовное знание. Нам сейчас так же трудно осмыслить эту разницу,
как когда-то, когда мы были в чреве матери, понять (если бы кто-нибудь
нам сказал), какой свет мы увидим в этой жизни, какие знания получим.
И все же теперь мы не только ощущаем наше теперешнее бытие, но и
представляем, какими мы были прежде рождения, правда не столько бла-
годаря памяти, сколько познанию, кстати, без каких бы то ни было сожа-
лений по поводу тех огорчений, которые мы тогда претерпели. Наверное,
что-нибудь такое, даже больше, чем такое, будет в нашей другой жиз-
ни; избавленные от чувственной памяти или чувств, пробуждаемых па-
мятью, мы не различим цвета, но познаем жизнь всего сущего, какой она
была или может быть, и вновь познаем нашу дружбу (надеюсь), хотя и
без земных забот, соединимся в высшей небесной любви неиссякаемого
света.
605
Пирокл умолк, а Музидор, глядя на него с неземной радостью, за-
пел ту песню, которую сочинил еще до того, как любовь увлекла его музу
к другой теме:
Коль все в природе благо, может быть,
Смерть — труженик природы? Что ж бояться?
Коль страха назначенье — защитить,
Зачем неотвратимого пугаться?
Сам страх мучительнее всяких мук,
С ним разум часто мощь свою теряет,
И каждый образ в нас родит испуг,
Пусть чаще нас рассудок проверяет.
Страсть помрачила наш совиный взгляд,
И завтрашнего он не зрит рассвета.
Трезвей вперед посмотрим и назад,
И жизнь — одна в туманности планета.
Лишь дух спокойный может радость дать,
Коль в нас он жив, нам нечего терять.
Вот так, похожие на тихих лебедей, они отпевали себя и доброде-
телью укрепляли свой разум против всего, что еще, как они думали,
должно выпасть на их долю, в первую очередь постановив сделать все
возможное, чтобы взять вину на себя и обелить дам, о которых они ни-
чего не знали, как не знали и обо всем, случившемся после их заключе-
ния в тюрьму, несмотря на то что дружественно расположенный к ним
честный рыцарь Каландер, когда-то принимавший их у себя дома, искал
возможность помочь юношам, хотя бы поговорить с ними и сообщить,
кто будет их судьей. Однако бдительный слуга Филанакса под страхом
смерти запретил Каландеру входить в дом, потому что таков был приказ:
во избежание новых волнений никто не должен был вступать с узниками
в беседу. Каландеру пришлось уйти, но все же он договорился со слугой,
что передаст своим бывшим гостям их одеяния и драгоценности, которые
оставались у него в Мантинее и за которыми он еще накануне послал слуг
(мудро рассудив, что костюмы, которые они носили, скрывая свое проис-
хождение, вызовут еще большее раздражение у судей). Пирокл и Музидор
с благодарностью все приняли, отлично помня, откуда эти вещи, и, по-
становив называться Палладием и Даифантом, по-царски богато оделись
в ожидании утра.
Глава четвертая
В ожидании утра друзья предались размышлениям о том, как им за-
щищать себя, ибо они считали не менее глупым искать смерти, чем трус-
ливо прятаться от нее. Незадолго до рассвета обоих сморил сон, но вскоре
они были призваны к ответу, и расплатой за их поступки была объявлена
их жизнь. Вот как это было. Едва утро завладело землею, Эварх призвал
Филанакса и приказал ему поставить посреди зеленого луга перед цар-
ским домом трон судьи, на котором всегда восседал Базилий и который
по обычаю всегда носили за ним. Эварх мудро рассудил, что внешние
знаки царской власти произведут большее впечатление на людей, чем его
соображения о сути дела, поэтому, беря на себя столь сложные обязан-
ности, он не оставил без внимания ничего, что могло бы поддержать или
укрепить его позиции, ибо знал: тайна власти заключается главным об-
разом в пышных ритуалах. Старательный Филанакс все в точности ис-
полнил, и Эварх, весь в черном, уселся на трон, а вокруг встали рыцари,
которые, несмотря на малый срок, успели раздобыть для себя траурные
одежды. Собравшимся было приказано хранить молчание, и они подчи-
нились приказанию, отчасти желая увидеть справедливый суд, отчасти
потрясенные по-царски важным видом Эварха и в какой-то мере неслы-
ханным делом, которое должно было слушаться в их присутствии. Фила-
накс был почтен приглашением сесть рядом с Эвархом, но отказался, ибо
счел для себя неудобным занять место судьи, настаивая на своей роли об-
винителя.
Недолгим спорам о том, стоит ли привести на разбирательство юных
дочерей Базилия, положил конец Филанакс, чья любовь к господину
перешла на его детей; ведь он желал единственно возмездия тем, кто, как
он считал, был виновен в гибели и бесчестии его царя, и утверждал, что
выводить девиц на люди неразумно (как бы это ни привело к новым не-
доразумениям), и несправедливо позорить царевен, пока их вина не дока-
зана. Но вместе с тем он возражал против того, что, по законам Аркадии,
будто бы нельзя судить Памелу, даже если она до своего совершеннолетия
или замужества не имеет права на престол.
Когда тело царя, покрытое черным покрывалом, положили на возвы-
шение перед Эвархом, царь Македонии именем защитника Аркадии по-
слал за узниками — царицей и обоими царственными рыцарями, которые
не знали, что их будет судить человек, столь близкий им по крови, а не
житель Аркадии, избранный народом. Вот так удивительной волей небес
племянник и сын превратились в узников, да еще неведомых узников для
дяди и отца, который не видел их долгие годы. Пироклу к тому же пред-
стояло защищать свою жизнь перед троном, выступая с которого он неза-
долго до того спас жизнь царя Аркадии.
Первой привели Гинесию в тех самых одеждах, что были на ней на-
кануне, за исключением плаща Зелманы, в котором ее застали, теперь на
607
ней был другой плащ, почти до земли, из грубой красновато-коричневой
ткани, да еще прибавилась убогая шляпа, почти скрывавшая лицо; ее
прекрасные волосы (которые она не единожды рвала в отчаянии) рас-
сыпались по плечам, но в этом нельзя было усмотреть искусной небреж-
ности. Гинесия не смела поднять взгляд от земли, боясь заглянуть в глаза
Пироклу не потому, что из-за его недоброты так перевернулась ее жизнь,
а потому что она страшилась возвращения прежних чувств, которые как
будто погибли под тяжестью несчастий. Велико было сочувствие собрав-
шихся людей, когда они увидали, как изменилась и подурнела их царица
волею судьбы и своей собственной, ведь они привыкли относиться к ней
как к госпоже, достойной всяческих похвал.
Но почти тотчас взгляды зрителей привлекли два других узника.
Пирокл, ведомый Симпатом, был в доходившем ему до лодыжек грече-
ском одеянии из белого бархата с большими бриллиантовыми пуговица-
ми. Служившие воротником, кружева лишь слегка прикрывали его шею,
которая могла поспорить белизной с одеждами, почти не отличавшими-
ся (фасоном) от малиновых одежд наших рыцарей ордена Подвязки. На
ногах у него были сандалии, которые на старинный манер завязывались
шнурками под коленями и, украшенные красивыми бантами, полностью
закрывали ноги. Его прекрасные золотисто-каштановые волосы (которые
он носил длинными и которые представляли собой прекрасное зрелище,
ибо были послушны дуновениям ветра) были повязаны белой лентой
(в те дни заменявшей венец), и она несколько раз обхватывала верхнюю
часть лба и спадала на спину, а на ее обоих концах сияли великолепные
жемчужины, какие редко встретишь на земле. Следом за ним шел дру-
гой рыцарь, указывавший путь благородному Музидору в одеянии того
фасона, что мы называем апостольской мантией1, из пурпурного атла-
са — не того пурпура, что у нас теперь носят (нынче в моде подделки под
гетулианский пурпур, который всегда стоил дешевле и выглядел хуже),
а настоящего тирского пурпура, который не назовешь ни красным, ни
алым. Персидская тиара сверкала на его черных кудрях, вся усыпанная
дорогими рубинами, так что их одних было достаточно, чтобы все поня-
ли: судить предстоит не низкорожденного.
С высоко поднятыми головами шли взятые под стражу Пирокл и Му-
зидор, справедливо показывая, поскольку их тоже встретили сочувствен-
но, что сочувствие можно пробудить по-разному. Чем несчастнее выгля-
дела Гинесия (известная своим богатством и величием), тем более зрите-
ли были склонны оплакивать свидетельство людской слабости; но если
бы Пирокл и Музидор (которые не пользовались расположением толпы,
не знавшей их, и даже скорее, не говоря уж о ненависти к ним из-за при-
писываемого им преступления, вызывали раздражение как чужестран-
цы) были жалкими на вид, то вместо сочувствия вызвали бы презрение;
и поэтому им пришлось использовать, как я это называю, силу величия,
1 Апостольская мантия — одеяние, в котором художники эпохи Возрождения
обычно писали апостолов.
608
чтобы завоевать благожелательность зрителей к своей несравненной до-
бродетели. И они завоевали благожелательность, да такую, что зрители не
знали, кому отдать предпочтение. Музидор был выше Пирокла ростом,
насколько ему позволил один год разницы в летах, его щеки уже покры-
лись пушком, лицо было по-мужски красивым, загорелым, добрым и по-
царски гордым, а его серьезный вид говорил о привычке к размышлени-
ям. Пирокл был белее лицом, к тому же гляделся немного забавно, как
юноша с девичьим лицом или девица с прекрасным лицом мальчика. Его
робкий и нежный вид вызывал тем большее восхищение, что все знали
о несомненной храбрости юноши. Короче говоря, оба были прекрасны,
и если между ними и была разница, то Музидор был красивее, а Пи-
рокл — очаровательнее.
Едва Музидор понял, что пришел туда, где его могут услышать многие,
то, не сомневаясь в намерениях судей по отношению к царевне Памеле,
за которую он боялся больше, чем за самого себя, и не останавливаясь, он
громко закричал (хотя стражник пытался ему помешать):
— Жители Аркадии, неужели возможно, чтобы вы забыли о своем
долге перед царевной Памелой? Разве эта земля не принадлежала ее бла-
городным предкам? Неужели время не взрастило в ваших сердцах любовь
к ним? Где же ваша верность царскому роду, который не только спасал вас
в бедах, но и славил вас по всему миру? Где же справедливость, благодаря
которой процветали жители Аркадии и которая всем раздает по заслугам?
Неужели вы откажетесь от наследников царя, единственного законодате-
ля, главного судьи и хранителя справедливости? Неужели вы хотите сво-
ей волей в одночасье утвердить другую династию, когда это подвластно
лишь времени? Неужели вы воздадите детям Базилия ядовитой небла-
годарностью? Неужели вы поступитесь своим славным именем верных
подданных и станете предателями? Оплакивая своего царя, вы ведь не
хотите усугубить свою потерю горем его дочерей? Вы только представьте,
что ваш царь смотрит на вас с небес, и, как вы думаете, о чем он мечтает,
если не о вашем добром отношении к его детям? Молю вас, рассудите,
быть может, ваша благодарная память почтит его душу больше, чем те
торжественные почести, которые вы оказываете его телу? Что вы сделали
с царевной Памелой? С Памелой, законной наследницей вашего царя,
с той самой Памелой, о которой эта земля когда-нибудь будет счастлива
сказать, что дала ей жизнь, с вашим украшением, с вашей воспитанни-
цей, вашей единственной властительницей, чем вы воздадите себе за нее?
Воистину я не думаю, будто всем вам известно, что с ней теперь, но брил-
лиант может быть потерян и самый чистый огонь — угаснуть. Подумайте,
подумайте об этом, жители Аркадии! Не позволяйте с легкостью отнять
у вас ваше сокровище. Не будьте слугами честолюбцев, которые потом на
вас же наденут ярмо. Что бы вы ни решили сделать с нами, не смею отри-
цать, мы — лишь чужестранцы, но не позволяйте и дочерей Базилия пре-
вращать в чужестранок. В конце концов, как бы ни отлучали Памелу от
короны (а если вы готовы это сделать, то нет надежды на справедливость
там, где правит бунт), признайте за ней, по крайней мере, право дочери
39 Заказ 1414
609
отдать последний долг отцу. Признайте за вашим царем право на это сча-
стье (если в таких случаях можно говорить о счастье) ощутить напоследок
поцелуй любимой дочери.
Своими сбивчивыми речами, перемежая вопросы и требования,
Музидор желал, насколько он мог сделать это на ходу, побудить людей
к смягчению участи Памелы. Когда же юношей подвели на уготованное
им место, то Симпат и стражник уверили Музидора в том, что собрав-
шиеся не хотят (да и хотели бы, не могут) причинить зло царевне, в ко-
торой все видят свою правительницу, однако по обычаю Аркадии, пока
ей мало лет, страной должен управлять избранный защитник, который
теперь будет их судьей. От этих слов у Музидора стало спокойнее на душе,
ибо он убедился, что его возлюбленной ничего не грозит. Потом Пирокл,
стоя рядом с царицей с одной стороны и Музидором — с другой перед
самым троном судьи (они были разделены лишь возвышением, на кото-
ром лежало тело царя) и будучи не менее озабочен судьбой Филоклеи,
чем Музидор — судьбой Памелы, низко поклонился, словно проситель,
прежде чем обратиться к судье с такими словами:
— Прошу прощения, достопочтенный судья, что без разрешения об-
ращаюсь к тебе, но и для тебя, и для меня это совершенно необходимо.
Для тебя, в чьих руках находится священное правосудие, ничто не может
быть важнее свободной и неприкрашенной правды. Для меня же, со всех
сторон окруженного опасностями, что может быть желаннее, чем остать-
ся в мире с собой и, как полагается, облегчить душу искренним призна-
нием? Пойми же, пойми, что госпожа Филоклея (я не могу выразить,
как буду огорчен, когда мое имя запятнает ее чистейшую добродетель)
не должна быть осуждена, потому что она будет несправедливо осужде-
на за бесчестье, к которому я будто бы склонил ее. Как бы там ни было,
виноват я один, хотя ничем не хотел обидеть ее целомудрие. Что бы ни
произошло, в этом виноват я один, но и я не посягал на ее невинность.
Клянусь небесами (а богохульствовать у меня нет желания в таких обсто-
ятельствах), она даже не знала о том, что я приду в ее покои. Ты мудр и
должен понять: если бы я лгал тебе, то лгал бы ради своего спасения, ведь
я еще не стар и жизнь мне не надоела, но я знаю, какой тяжелой утратой
будет для тех, кто ценит доброту, если это чистое дитя добродетели станет
жертвой несправедливости, поэтому я свидетельствую против себя само-
го и беру на себя всю тяжесть совершенного мной зла. Будь милосерден
к сему светлому созданию, на которое по моей вине свалилось жестокое
несчастье, пусть твой справедливый суд поможет ей воспрять, ибо тот,
кто жестоко обойдется с нею, явит в себе ненавистника людского счастья
и завистника земного блаженства. Я молю тебя именем справедливости,
прежде чем ты будешь судить меня, скажи, что ты думаешь о ее благород-
ном, хотя и несчастном поступке, вынеси свой приговор.
Не успел Пирокл проговорить последние слова, как все, кто пришел
на судилище, люди высокого и низкого звания, поддержали его криками,
также пожелав узнать (из любви, которую все чувствовали к Филоклее),
на какое решение ее судьбы они могли бы надеяться. И тогда Эварх (не
610
обращая внимания на страстную мольбу узника и не слишком доверчиво
вслушиваясь в многоустый ропот, но все же не возражая завоевать всеоб-
щую любовь с помощью малозначительных уступок) согласился вначале
расследовать, насколько возможно, участие Филоклеи и происшедшем
несчастье, которое напрочь отверг Пирокл и, пусть вяло, но отрицал
Филанакс (он обратил свое свидетельство и свидетельство Дамета ей на
пользу, но, по правде говоря, высказывал разве что догадки). Мудро ре-
шив, что Филоклея не была вовсе безвинна, судья определил ей на всю
оставшуюся жизнь быть узницей среди женщин, посвятивших себя бо-
гам, например среди жриц богини Весты, и заплатить за поруганную честь
своего рода затворничеством. Как бы сие ни усугубило его собственную
участь, Пирокл ликовал, ибо добился того, что его госпоже сохранили
жизнь, да и в глубине души он не был огорчен тем, что в случае его смерти
никто не насладится его сокровищем.
После вынесения приговора прекрасной Филоклее (а по законам
Аркадии никакой царь уже не мог его отменить) Эварх, все еще назы-
вая себя защитником Аркадии, дал слово обвинителям Гинесии, ибо ей
надлежало быть судимой первой и как царице, и как главной участнице
в том великом преступлении, которое царю Македонии предстояло рас-
судить. Тотчас вперед вышел Филанакс, голодные глаза которого жажда-
ли ее крови, и он повел хорошо продуманную речь об омерзительной (как
он считал) порочности царицы. Однако Гинесия, стоявшая перед судьей
с повисшими, как плети, руками, пряча глаза под непристойно уродли-
вым головным убором, всем своим видом говорила о безысходном от-
чаянии, и, едва Филанакс принялся обличать ее, как она остановила его
такими словами:
— Постой, Филанакс, постой! Не оскверняй свои честные уста по-
стыдными речами, которыми ты готов заклеймить несчастную женщи-
ну — еще недавно твою госпожу. Пусть память о ее недавнем величии вер-
нет твоему сердцу немного почтительности, а зрелище того, как низко она
пала, пробудит в нем жалость. Возможно, что честность заставляет тебя
поступать нечестно, а любовь к справедливости делает несправедливым.
Поэтому не топчи (без н жды) беззащитные руины прежнего величия. Ты
получишь, чего добиваешься, но все же тебе не быть властелином над той,
которая все равно любит тебя за невиданную преданность твоему госпо-
дину. Я говорю это не для того, чтобы ты пожалел меня или сохранил мне
жизнь. Нет, нет, я говорю тебе, что не буду жить, но я не хочу, чтобы моя
смерть стала еще мучительнее из-за твоей несправедливости. Слишком
сурово я сама осудила себя, чтобы ждать пощады от других. Слишком
жестоко казнила свою душу, чтобы ждать отмены справедливого наказа-
ния. Ах, тот, кому ведома власть уныния, кто знает, какой пылающий ад
скрывается в самоосуждении, не станет опасаться, что охладит во мне,
несчастной, страстное желание навсегда избавиться оттого, что исчезает
со смертью. Поэтому я говорю тебе, справедливый судья, только я, одна
я виновата в смерти Базилия. Мои руки подали ему яд, отнявший жизнь
у него и его самого — у Аркадии. Я одна остановила естественный ход его
39*
611
немалых лет, осиротив его подданных, отняв у них царя-отца. Я, поддан-
ная, убила моего царя. Я, жена, отравила моего супруга. Я — плохая жена,
я погубила Аркадию и опозорила моих детей. Что ты можешь прибавить
к этому, Филанакс? Я сказала правду. Мне нечего больше сказать, разве
лишь что я хочу, чтобы ты, не медля, назначил кого-нибудь избавить меня
от моей жизни, не то я сделаю это своими руками, и поторопись, чтобы
мне недолго расставаться с жизнью, которая стала для меня кошмаром.
С этими словами она скрестила на груди руки, уселась на землю и
стала ждать ответа судьи. Прошло немало времени, прежде чем послыша-
лись жалостливые возгласы, так сильно речи Гинесии и ее облик тронули
сердца людей, склонив их к состраданию. По правде говоря, многие не
могли бы в точности сказать, о чем они больше жалели, о ее преступлении
или ее горе, о ее падении как царицы или ее падении как добродетельной
женщины. Но многие искренне отозвались на то, что видели своими гла-
зами, подчинив свои чувства жалости. Наконец все, смолкнув в почти-
тельном страхе перед Эвархом, стали ждать его решения. А он, разобрав-
шись в мерзости происшедшего, ибо услыхал в ее речах доказательство
ужасного злодеяния (признанного ею самою и засвидетельствованного
другими), а не страстного раскаяния (которое в ком-нибудь другом могло
бы пробудить жалость, но не тронуло его ум, ненавидевший зло, в какие
бы цвета оно ни рядилось), посовещался с самыми почтенными гражда-
нами Аркадии, дабы получить их одобрение, и изрек приговор:
— Эта женщина обвиняется в тяжком семейном и государственном
преступлении: в семейном (потому что супружество — самые святые узы,
на которых держится не только семья, но и все прочие людские сообще-
ства; не только общее имущество, но и общие дети соединяют людей
в прекрасный союз, и если он разрушается, это грозит несчастьем все-
му человечеству, и никто не сможет жить спокойно в близком соседстве
с виновником сего) — потому что она не просто разрушила семью, но
разрушила ее, совершив убийство, в котором сама призналась; и в го-
сударственном (потому что личность царя в любом царстве — главный
узел всеобщего благоденствия, яркий свет, что озаряет жизнь и поступки
людей, начало всего, чему подданные по совести и необходимости долж-
ны хранить верность) — потому что она предательски отравила царя, не
задумавшись ни о благе страны, ни о собственном долге, ни о строго-
сти законов. Поэтому (исходя из требований справедливости и законов
Аркадии, а также в назидание всем женам и подданным) ее следует по-
местить в самое надежное узилище и там содержать на хлебе и воде до
дня, назначенного для погребения ее супруга. В тот же день она будет по-
гребена вместе с ним, и ей придется остаться наедине с телом, с которым
она поступила столь жестоко, пока смерть не восстановит порушенные
узы супружества.
Приговор был выслушан не то чтобы с неудовольствием, но в вели-
ком смущении, ибо необычное преступление и необычная преступница
как будто не входили в рамки обычного разумения. Когда же люди сопо-
ставили приговор с чудовищным злодеянием, то не могли не признать
612
(хотя бы в глубине души), что в нем нет излишней жестокости. Что до
Гинесии (которая не просто хотела, а жаждала смерти, то теперь, в сво-
ем страдании, она радовалась покою, который, как она верила, дарует ей
смерть), она всем своим видом свидетельствовала, что уже испытала всю
тяжесть скорби и ее ничто не страшит; она поднялась с земли и вытянула
перед собой руки, чтобы их связали или не связали, как заблагорассудит-
ся стражникам, ни в коей мере не удрученная приговором, разве лишь
тем, что ее казнь отложена на слишком долгий, как ей казалось, срок.
Стражники отвели Гинесию в ее прежнее узилище, где их сменили другие
стражники, поболе числом, чтобы надежно стеречь ее до назначенного
часа, и ни один из сопровождавших ее стражников (хотя у многих из них
сердца давно очерствели от исполняемых ими обязанностей) оказался не
в силах сдержать слезы, выразив тем самым сострадание царице. Истин-
ная добродетель не покидает даже тех, кто ее предает, и потому кажется,
что злодей из злодеев может заслуживать лучшей участи.
Таким образом, госпожа Гинесия, прожив тридцать пять лет во все-
общем обожании и своего прекрасного ума, и своего прекрасного обли-
чья, ни разу не запятнав, насколько ей было известно, своей души, не
считая неумеренной любви к Зелмане, сначала из-за беззаветной страсти,
а потом из-за безысходности, которой она прониклась, полагая, что сам
господь судил так, что ее супруг скончался, а сама она обречена на стра-
дания, всячески стремилась погубить себя и лживым признанием обречь
на позор, которого она, соединив свою мудрость с истиной, могла бы,
вероятно, избежать.
Глава пятая
Потом Эварх спросил Филанакса, собирается ли он выступить с обви-
нением двух юных узников или займет место, предназначенное помощ-
нику судьи, и вместо него выступит кто-нибудь другой. На это Филанакс
сказал, как говорил прежде, что никто с большим правом или усердием не
сможет уличить в испорченности обоих юношей, к тому же он хочет со-
служить последнюю службу своему возлюбленному господину и испол-
нить приговор виновникам его смерти и позора, а потом обещает отойти
от государственных дел, ибо нет на свете другого человека, который про-
буждал бы у него любовь к ним.
Прежде чем Филанакс начал свою речь, юношам приказали на-
звать свои имена, и они, как между ними было договорено, назвались
Даифантом из Лисий и Палладием, царевичем Иберии, после чего они
потребовали сообщить им, по какому праву их собираются судить, если
они чужеземцы и подчиняются другим законам, к тому же наследные ца-
ревичи, следовательно, вовсе неподсудны. Однако им ответили, что на
территории Аркадии все подчиняются законам Аркадии, и чужеземцы
должны знакомиться с законами страны, прежде чем пересекают ее гра-
ницу; а уж коли они пересекли ее, то должны знать: созданное многими
людьми не может быть разрушено ради одного человека, тем более чуже-
земца, и потому не следует требовать преимуществ там, где их нет. Что же
до их царских званий, то есть они или нет, никому не ведомо, ведь они
слишком долго говорили неправду, чтобы заслуживать доверия. Но кто
бы они ни были, в Аркадию они явились по своей вольной воле и поэто-
му не имеют особых прав. Если они нарушили закон человеческий (чтоб
установить это, и речь обвинителя, и их речи будут рассмотрены), то на-
казание им будет назначено по законам человеческим, а если нарушили
закон Аркадии — то по закону Аркадии.
Пирокл и Музидор попытались настоять на своем, требуя времени
для доказательства их принадлежности к царским родам, но когда узна-
ли, что по закону Аркадии смерть царя предписывает незамедлительное
судебное расследование, вынуждены были подчиниться, рассудив, что
с помощью придуманных ими имен постараются как можно дольше от-
водить позор от своих царственных и любящих родичей и (если им бу-
дет вынесен обвинительный приговор) хранить от них тайну приговора,
в первую очередь от Эварха, которого таинственный путь справедливо-
сти вынудил творить правосудие над ними. Вот в таком сумраке, нет,
скорее в западне из тьмы живут люди, которые ничего не могут пред-
видеть и потому не знают, чего им бояться; они похожи на теннисные
мячи, которыми играет ракетка высших сил. Обе стороны приготови-
лись произносить речи, и было решено (поскольку юношей обвиня-
ли в разных преступлениях), что сначала Филанакс скажет свое слово
о Пирокле, которого называли Даифантом, а потом будет заслушано
614
следующее дело и вынесено сразу два приговора в соответствии с дея-
ниями юных рыцарей.
Однако Филанакс, у которого перехватило дыхание от великого воз-
мущения, сначала раз или два провел рукой по лбу, вытер глаза (то ли не
в силах сдержать слезы, то ли показывая, что он не в силах сдержать
слезы), поглядел на Пирокла, словно объявляя ему о своей ненависти,
потом почтительно повернулся к Эварху, который хранил молчание, тем
выражая глубокое внимание, и уж тогда заговорил:
— Каждый, кто берет на себя труд обвинителя, почтенный защитник
Аркадии, неизменно желает иметь столько же доказательств, сколько
преступлений он намерен разоблачить, но для меня это оказалось весь-
ма затруднительным. Количество совершенных этим юным негодяем
злодеяний столь велико и они столь чудовищны, что я не знаю, с чего
начать (мои мысли в смущении от такого множества преступлений), да
и твой добродетельный слух, полагаю, не выдержат такого отчета; нет,
лучше тебе вообразить, будто ты слушаешь трагедию с измысленными
злодеяниями, а не отчет о злодеяниях, совершенных на самом деле, ибо
в большинстве своем честные люди, если и в состоянии поверить в не-
честные поступки и даже в то, что некоторые в состоянии совершить их,
то, дойдя до какого-то предела... нет, скорее перейдя этот предел невооб-
разимого вероломства, не находят в себе довольно твердости поверить,
что человеческие существа могут столь сильно отличаться от остально-
го человеческого рода. Что касается меня, то безграничная преданность
моему господину оживит мою слабую память, а что до тебя, то великая
любовь к справедливости побудит тебя удостоить меня вниманием.
Само злодеяние яснее ясного, и твоим глазам явлены столь ужасаю-
щие свидетельства его, что мне следует лишь коротко перечислить их, не
множа красноречием. Поэтому в немногих словах, какие могут выразить
ужас происшедшего, я изложу суть несчастья, не вынося на твой суд мел-
кие доказательства виновности этого юноши, но лишь касаясь главных
прискорбных обстоятельств нашего дела.
Этот человек — начать с того, что я не знаю, как его называть, ведь
он явился в нашу страну без сопровождения, как одинокий путешествен-
ник, и тут из мужчины превратился в женщину, потом из женщины в ис-
кусителя женщин, потом в узника и теперь в царевича — эта Зелмана,
этот Даифант, этот, кем бы он ни был (кем только ни назовется тот, кто
потерял стыд), увидав, как уединенно живет мой покойный господин,
сообразив, как он доступен обману, своей первой лживой маской сделал
женское обличье (ибо женщина, будучи с виду проста и безобидна, тем
легче скрывает опасные намерения) и явился к моему господину, самому
учтивому из когда-либо живших царей; и тот принял его с такой любез-
ностью, какая не только могла бы связать человека узами благодарности,
но и смягчить сердце злобного недруга. Однако этот ядовитый змей про-
крался в сердце царя и, как зараза, которая всегда найдет себе дорогу, не-
долго думая, близко сошелся с дурной женщиной, которую ты только что
приговорил к справедливому наказанию и для которой он стал, попросту
615
говоря, правой рукой. Она смотрела на все его глазами, казалось, жила им
одним и была счастлива, что отыскался еще один лицемер ей под стать,
способный прикрыть свою испорченность скромным поведением.
Что соединило этих двух таких добродетельных людей, из которых
одна призналась в убийстве, а другой — в насилии, я оставляю на твое
мудрое разумение, потому что моя душа стремится побыстрее перейти
к несчастному убийству Базилия, для которого сия юная нимфа, воспи-
танная Дианой, придумала новые обряды — небывалое нечестие побуж-
дало его забыть о добре, и он не только не боялся богов (ибо они все видят
и наказывают безбожных негодяев), но и богохульничал, воспользовав-
шись святым именем для своих целей. Ведь это правда, что он выбрал пе-
щеру для неких обрядов, темную пещеру — словно в предвестии — желая
потрафить силам ада, потому что именно там, на алтаре лжи, проклятый
негодяй принес в жертву жизнь добродетельного Базилия. Чем он завлек
его туда, увы, мне неведомо, но если бы было ведомо, то я последовал
бы за моим господином и либо вместе с ним расстался с жизнью, либо
спас его от смерти, предав смерти преступника. Но и того довольно, что
в этой пещере, служившей предателю и домом и храмом (когда господин
пастух, его приятель, уже похитил законную наследницу Базилия), наш-
ли Гинесию возле бездыханного тела ее супруга, только что отравленного
ею, облаченную в одежды Зелманы и готовую — в этом нет сомнений —
бежать, как они заранее сговорились, если бы ее не задержали честные
пастухи. А в это время (ведь нельзя оставить на свободе ни одного бу-
дущего мстителя за кровавое преступление) сия благородная амазон-
ка силой ворвалась в покои госпожи Филоклеи, где, соединив ее позор
со своим преступлением, вполне могла принудить царевну к участию
в убийстве ее отца и с помощью обеих сестер (против кого, как они пола-
гали, мы никогда не пойдем) одним махом захватить в свои вероломные
руки власть над нашей могучей страной. Однако Господь все видит, и он
не позволил преступнику довести до конца злое дело, воспользовавшись
простолюдином Даметом и заперев на замок дом, он, казалось, все преду-
смотрел для собственной защиты и в котором чувствовал себя в полной
безопасности.
Теперь тебе, справедливейший из судей, известна короткая и простая
история бесславия, постигшего нашу страну, так как этот женоподоб-
ный юноша вверг нас в гораздо больший хаос, чем это когда-либо уда-
валось даже самым могущественным врагам. Все так и есть, как я сказал,
и в убийстве Базилия и в насилии над Филоклеей (в этих двух преступ-
лениях я обвиняю его). Кому придет в голову сомневаться, кто закроет
глаза на то, что яснее ясного, кто не признает очевидного? Если начать
с его более жестокого злодеяния, разве можно вообразить, что Гинесия
(женщина испорченная, но умная) не только попытается, но и исполнит
преступление — и рискованное, и злодейское, — не имея совета и под-
держки? Неужели не было у нее (когда она сама говорила, что ее мысли
были подчинены одному непонятному желанию — вопреки богу, природе
и своей женской сути, исполнить то, о чем и подумать-то нельзя без дро-
616
жи), не было у нее, скажем так, наставника? Или был наставник, но не
было заговора? А могли быть заговор без второго заговорщика? А если все
же был второй заговорщик, то кто он, кому она, я уверен, поведала свои
мысли, возможно, отдав и тело тоже? Не принимай ее слова о том, что
на ней одной вся вина, всерьез, потому что те люди, которые извергли из
своих душ все доброе, бывает, гордятся содеянным злом и, не в силах про-
славиться чем-нибудь другим, жаждут прославиться своей приверженно-
стью беззаконию, которому могут сохранять верность, Господь свидетель,
до последнего вздоха, покрывая своих сообщников, полагая великой до-
блестью изображать бесстрашие перед небесами и бесстыдство перед
людьми.
Пусть преступление Гинесии умрет вместе с нею, но тогда скажи, за-
чем он явился сюда? Почему явился один, если он царевич? И почему
так богато одет, если он не царевич? Почему он был женщиной, а те-
перь стал мужчиной? Почему теперь его зовут Даифантом, а прежде зва-
ли Зелманой? Зачем вся эта игра? Но если у игры была цель, то какая
еще могла быть цель, если не смерть моего возлюбленного господина?
Неужели его долгие тайные беседы с Гинесией, притворная любовь к под-
давшемуся на обман Базилию, пещера, ставшая жилищем, и жилище,
ставшее капищем, в конце концов, все переодевания и увертки, которые
ни один поэт не сумел бы поместить в одну поэму, разве все это не было
ради чудовищного убийства царя? О змеиное тщеславие, оно так может
извергнуться, что непременно проскользнет туда, куда ему больше все-
го хочется! О порочный человеческий разум, который подчиняется столь
мерзким желаниям! О, до чего же безнадежны те, кого не ужасает урод-
ство подобных противоестественных желаний!
Но даже если, оказав преступнику особую милость, предположить,
что во всем том, о чем я говорил, судьба сыграла свою великую роль,
судив столь несчастливый конец, предположить, что все хитроумные
уловки имели целью меньшее зло, я прошу тебя, твоя милость, госпожа
Даифант, скажи мне, как ты оправдаешь то, что уступила царице свое жи-
лище именно тогда, когда она приготовилась завершить мерзкое дело?
Чем прикроешь то, что укрыла ее своим плащом? Сошлешься на случай?
Уж не звезды ли заставили тебя наскучить своим жилищем и своими
одеждами именно тогда, когда нашему царю была назначена смерть? Что
ты скажешь на это, бесстыдный человек, бесчестящий и мужчин, и жен-
щин? Нет, увы мне, я трачу слишком много слов, когда дело яснее ясно-
го. Четыре необъезженных жеребца (которые по нашим законам должны
стать палачами царскому убийце) пусть решат это дело.
Нет, подожди, меня так увлекла моя преданность возлюбленному мо-
нарху, что я едва не забыл о втором обвинении и втором мерзком преступ-
лении этого человека — я говорю о насилии над госпожой Филоклеей,
которым, словно оно под стать женскому обличью, он пришел похва-
ляться сюда. По правде говоря, наши законы полагают за это не такую
жестокую казнь, но все равно казнь, как и за первое преступление. Если
все взвесить, не из одного ли грязного источника мы получили убийство
617
отца, позор матери и насилие над дочерью? Ах, почему милости моего
царя, законы природы и гостеприимства не смогли сдержать хотя бы
твою похоть? Если твое сердце привыкло платить — а это так и есть — не-
навистью за добро, неужели его смерть (страшнее не может быть платы)
не смогла утолить твою злобу, зачем тебе понадобилось бесчестить дочь?
Неужели у тебя каменные глаза и тигриное сердце и тебя не остановил
даже прекрасный облик чистой Филоклеи? О, несчастная Аркадия, здесь
навсегда запомнят имя мужчины блудницы, ставшего причиной твоей
великой утраты!
Нет, слишком далеко меня завело мое горе, мое непритворное горе,
потому что это преступление совершенно необъяснимо. Ты должен, спра-
ведливейший из судей, объявить свой приговор, и если есть надежда, что
сей юноша может оказаться полезным миру, он, который явился в суд,
превзойдя всех в роскоши, самый ловкий притворщик из притворщиков,
самый искусный актер из актеров, самый жестокий тигр из тигров, самое
неблагодарное чудовище из чудовищ, тогда сбереги его как бриллиант
для новых и еще более страшных преступлений. Если его юность меньше
обезображена предательством, чем старик обезображен старостью, тогда,
скажи, и пусть его юность пробудит в нас сострадание. Если он не все
сделал, чтобы погубить человеческое сообщество, если он совершил хоть
что-нибудь, достойное звания царевича, пусть то, что он назвался царе-
вичем, пробудит в нас почтение к его порокам. Если он нарушил не все
законы гостеприимства или сделал это не самым ужасающим образом,
пусть его положение гостя станет ему святой защитой в его кровожадно-
сти. Или, если его блудливая красота не совсем ясно говорит о его по-
рочности, пусть его лицо, запечатленное на столь ядовитом дереве, всем
показывает, какое неодолимое наслаждение доставляет нам внешний об-
лик. Но если он, каков он есть, — что еще я могу сказать? — воплощение
адской порочности, если за свои преступления он должен быть наказан,
а из-за своей порочности не может надеяться на снисхождение, тогда воз-
врати нам нашего царя, должным образом воздав душегубу, потому что сам
Базилий и его имя вновь оживут для нас только тогда, когда мы увидим,
как казнены его убийцы. Возврати честное имя прекрасной Филоклее,
похоронив ее бесчестье. И знай, что сегодня и здесь на тебя устремлены
взгляды всех людей, так что не сверни с пути истинного правосудия. Увы,
мне есть, что еще сказать, но я умолкаю, ибо слезы не дают мне говорить,
и я не в силах справиться с горем.
Вот так излив свою злость, Филанакс умолк под предлогом печали.
Но когда Филанакс изрыгал хулу на царственного Пирокла, все обратили
внимание, что его сердцу не привычно сносить подобные оскорбления,
а его мыслям труднее защищаться от позора, чем от чего бы то ни было
другого. То и дело Пирокл заливался румянцем, кровь то приливала к его
щекам, то отливала от них, устремляясь прочь, время от времени он за-
крывал глаза и прятал их за ладонью, а иногда глядел на Филанакса, слов-
но был уверен в том, что тот не посмел бы так говорить в другом месте,
и с нетерпением ждал конца его речи, а когда дождался, то, выказав
618
самую бесхитростную покорность судье и очевидное презрение к обви-
нителю, стал защищать свою честь такими речами:
— Только что рассказанная история свидетельствует, справедливый
судья, в сколь сложном положении, обвиненный во множестве преступ-
лений, я оказался. Потому что если он (показав, что его язык отлично
знаком с бранью) поначалу был в смятении из-за множества обвинений,
которые собирался мне предъявить, понимая тем не менее, что самое
ужасное для него невозможность причинить мне столько зла, сколько он
желал бы причинить, то представь мое затруднительное положение, ведь,
замешанный в стольких преступлениях, которые могут стоить мне жиз-
ни, я к тому же и сам себе защитник, у которого нет времени не только на
то, чтобы достойно ответить, но и даже предусмотреть вопросы обвини-
теля. Все, что было тут заявлено, суть искусная путаница, смесь правды
с вымыслом, фактов с догадками, событий важных с неважными, причи-
таний с бранью, и я ничего не могу ни принять полностью, ни отвергнуть.
Но и не могу понять, меня привели сюда на суд или на казнь прежде суда,
ведь меня принудили сносить такие недостойные поношения, какие я
считаю хуже смерти. Если в этой стране позволительно так распускать
язык, то это должно быть позволительно всем. Однако я без обиняков
отвечу на некоторые из обличений, которые мне кажутся достойными от-
вета. Надеюсь, судья, ты дашь мне возможность высказаться и тем дока-
жешь, что, ненавидя зло, даешь возможность невиновным оправдаться.
Итак, если ты помнишь его речи, то сопоставь их с тем, что ему удалось
доказать, ведь правда нага и незамысловата, и если бы он встал под ее
знамена, то ему не пришлось бы марать меня ложью, да еще прилюдно.
Придется мне быть красноречивым, потому что правда за мной, и я рас-
скажу все, что знаю о совершенном преступлении, и тогда, мудрый судья,
выслушав меня, ты увидишь разницу между правдивыми признаниями
и каверзными измышлениями.
Царевич Палладий и я, воспламененные любовью (страстью, кото-
рую много легче осудить, нежели обуздать) к двум несравненным до-
черям Базилия и понимавшие (по тому, как он отъединился от мира),
что в качестве царевичей мы не будем к нему допущены, приняли те
обличья, благодаря которым могли бы скорейшим образом открыться
в своих чувствах. Для царевича Палладия все обернулось так, что он
с согласия Памелы собирался вырвать ее из рабства, в котором она жила,
и сделать владычицей в более могущественной стране до тех пор, пока
не получил бы благословение ее отца. Моя участь была тяжелее, ибо я
не менее полюбил чистую Филоклею, но Базилий (введенный в заблуж-
дение моим обличьем) воспылал любовью ко мне, и из-за его назойли-
вости у меня не было времени добиться взаимности от целомудренной
Фил оклей, пока я не додумался завести (под предлогом некоторых обря-
дов) собственное жилище и заманить туда Базилия, желавшего обладать
мною, о чем я рассказал царице, чтобы она могла занять мое место и от-
крыть своему мужу его ошибку. Когда же я таким образом избавился от
обоих и запер дом (на случай, если невинная Филоклея снизойдет бежать
619
со мной), чтобы нам никто не помешал, то сам сделался узником, не знаю
уж, с чьей помощью, хотя (будучи отвергнут ее небесной добродетелью)
я менее всего был склонен куда-то бежать. Вот нить, которая может выве-
сти тебя из лабиринта, столь чудовищно изображенного прежним орато-
ром. Вот правда, из которой он, словно балаганщик, сотворил непотреб-
ство. Вот причина, по которой царица надела мой плащ, в лунную ночь
отправляясь в пещеру, она хотела, чтобы ее приняли за меня, а Филанакс
построил на этом обстоятельстве свои домыслы. И если двойным было
обвинение этого двуличного человека, то и моих ответов волей-неволей
будет два: я должен ответить на вопрос об убийстве Базилия и на вопрос
об осквернении неоскверненной Филоклеи.
Что касается первого обвинения, о небесные боги, кому придет в го-
лову, что уста могут быть столь жадными и выплевывать столь мало до-
казательств, да еще такого жестокого преступления! Первый довод моего
обвинителя зиждется на вопросе: кто мог бы вообразить, что Гинесия со-
вершила подобное преступление без помощника, а если помощник был,
то кто это, как не я? Воистину я был так далек от того, чтобы вообра-
жать такое, что, лишь увидев знаки траура и услышав признание Гинесии,
и вообразить не мог, будто царь умер. Видя, как неистово и скорее при-
страстно, нежели покаянно, царица судит себя, я понимаю, что приговор
ей был вынесен поспешный, особенно если признать, что мудрость и до-
бродетель, лелеемые столь долго, не могут исчезнуть в одночасье, уступив
место закоренелой порочности. Не знаю, что она совершила (как уже ска-
зал, я не верю в ее злонамеренную виновность), разве справедливо, чтобы
это отягчало мою вину? Она была в пещере, я — в доме (я уже объяснил,
почему на ней был мой плащ), она хотела (как вы утверждаете) бежать,
я же заперся в царских покоях; разве заговор, в который вовлечен один
несчастный чужеземец, мог так сразу подвигнуть ее на преступление,
и разве то, что я запер дом, укрепил его (как утверждает храбрый рыцарь),
помогло бы мне противостоять всей Аркадии?
Посмотри, как нечестно Филанакс старается отнять у меня мое глав-
ное оправдание, призывая не верить Гинесии, которая взяла всю вину на
себя. Куда как честно и непредвзято он судит о нас! Своими речами она,
мол, может обвинить себя, но не оправдать меня. Таким образом, не имея
сколь-нибудь правдоподобных обвинений, этот трус еще радуется мо-
ему несчастью, стараясь не упустить ни единого известного ему порока,
чтобы не приписать его моим юным летам. Стоит ли удивляться зловон-
ному дыханию, если расстроен желудок? Точно так же не стоит рассчи-
тывать на мед, если имеешь дело с мерзким пауком! Мне больше нечего
добавить! Удивительно, что в столь бесчеловечном преступлении (как он
сам признает) менее всего доверяют правдивым признаниям, тогда как
даже самые жестокие законы требуют предоставления ясных, как солн-
це, доказательств; редь утверждения Филанакса всего лишь накипь на
низкой злобе, а мои ответы искренние и правдивые. Если же есть хоть
малейшее сомнение (ведь приходится выбирать между его утверждени-
ем и моим опровержением), я предлагаю, нет, я прошу, покорно прошу
620
позволить мне решить наш спор поединком, и пусть он укроется броней,
а я выйду в одной рубашке, но я знаю, справедливость будет мне щитом,
а его сердце окажется столь же трусливым, сколь оно лживое.
Теперь о втором обвинении, которое касается юной госпожи и ко-
торое, в чем бы оно по вашему мнению ни заключалось, я уже говорил,
признаю его полностью, хотя всей душой сокрушаюсь о судьбе царевны.
Но если я насильник, то любовь еще большая насильница. Сопоставьте
красоту Филоклеи и мои лета, и мой поступок не вызовет удивления. Но
поскольку все случилось, как случилось, и правосудие учит нас не любить
наказание, но обращаться к нему по необходимости, лекарством для че-
сти дамы (на самом деле незапятнанной) должно стать наше супружество,
а не моя смерть, потому что супружество замкнет все уста, а моя смерть
лишь породит сомнения. Это дело не требует многих слов, и твой опыт
в разборе подобных дел (я надеюсь) не нуждается в них, а что до меня, то,
мне кажется, любовь к жизни уже заставила меня произнести слишком
много слов. Но лишь любовь к правде побудила меня отмести недостой-
ную ложь, да и любовь к справедливости не терпит ничего дурного ни
по отношению ко мне самому, ни по отношению к другим и уже теперь
побуждает меня желать, чтобы ты проникся состраданием в столь го-
рестном деле, а не попался на кровавые слезы этого крокодила, который
плачет, требуя смерти, но не оплакивает смерть. Мало чести будет могиле
Базилия, если на ней прольется невинная кровь, и судье легче переусерд-
ствовать в жестокости, нежели в милосердии. Это трудно дается, но нет
ничего лучше, если точно знаешь, когда нужно наказать, а когда помило-
вать. Что до меня, то если бы я знал, что заслуживаю смерти, ни за что не
стал бы желать себе жизни, а так как предвижу, что природа рано или позд-
но осудит меня на смерть, если этого не сделаешь ты, то не стану цеплять-
ся за жизнь дольше, чем смогу оставаться незапятнанным. Единственное,
чего я не могу и не хочу, так это отказаться от любви к Филоклее, своею
сильной властью пробудившей во мне сильную страсть.
Глава шестая
Подняв взгляд на судью и скрестив на груди руки, прежде простертые
к нему, Пирокл замолчал, являя всем собравшимся свою решительную
покорность тому, что ему будет назначено в наказание. Надо отметить,
что Филанакс, его непримиримый противник, внимательно вслушивал-
ся в его слова, разве лишь вначале его отвлекли письма, присланные ему
царевной Памелой и госпожой Филоклеей, которые всю ночь обсуждали
и оплакивали свое положение, а также положение своей матери (они и
предположить не могли, что она совершила такое преступление), но ре-
шили, что если ее подвергнут суду, то он, конечно же, будет законным и
справедливым, и ей не потребуется их помощь или она откажется от нее,
поэтому их мысли обратились на то, что им было ближе, и обе написали
письма в защиту тех, в ком заключалось их счастье.
Робкая сердцем Филоклея написала так:
«Господа, мне неведом ваш приговор мне, но ведомо, что я сама ре-
шила для себя: не долее я буду радоваться жизни, чем смогу радовать-
ся супружеству с тем, кого небеса на мое великое счастье предназна-
чили мне в супруги. Пусть те, кто осудят его, казнят и меня. Пусть моя
смерть насытит их страсть к убийству. Что он мог совершить такого,
чему я не была бы причиной? Посмотрите на него непредвзято, молю
вас, разве не сияют его глаза всеми известными на земле добродете-
лями? Посмотрите, неужели у него лицо убийцы? Если вы получше
узнаете его, то сами скажете, что бесчеловечно подозревать челове-
ка, столь превосходящего других в добродетелях. Подумайте сами,
неужели боги обманулись в своем творении? Даже смертные ваятели
используют мрамор лишь для благородной цели. Неужели вышние
силы подарили свой безупречный облик недостойному? О, погово-
рите с ним, выслушайте его, узнайте его, не погасите земной свет!
Неужели вы думаете обрадовать душу моего отца, убив его великую
любовь? Неужели из-за ложного подозрения вы забыли обо всем том,
что он сделал для царской семьи? Нет, пусть Аркадия не будет прокля-
та человечеством во веки веков за то, что погубила такого человека.
Перед вами великий царевич! Я говорю так, потому что знаю, пото-
му что видела тому доказательства. Почему мне не позволено прийти
к вам (я никого из вас не обидела, никому не отказала в помощи, ча-
сто смягчала гнев моего отца), ведь я всегда искала способ обратить
на вас милость царя? Я всегда любила вас как отцов и братьев, и вы не
отнимайте у меня того, кто мне дороже жизни. Не рвите то, что наве-
ки соединено в моей душе. Если он не нравится вам (о боже, неужели
такое возможно?), отдайте его мне, пусть он принадлежит мне. Вы
знаете, у меня нет права на власть, и это письмо я пишу не как царев-
на. Однако если вы в своем жестокосердии решите иначе (лучше мне
622
умереть, чем узнать об этом!), тогда я повторяю то, что уже написала
в начале: казните и меня тоже, если только, желая быть совсем без-
жалостными, вы не добиваетесь, чтобы я собственными руками убила
себя — дочь вашего царя».
Памела же (намереваясь отправить письмо высшему собранию знати,
ибо сестер так строго охраняли, что они не имели представления о новых
порядках) написала так:
«Господа, в том положении, на которое вы обрекли меня, я не могу
не писать, потому что не могу молчать. Как мне молчать, если у меня
остались только мои слезы, свидетельствующие о постигшем меня не-
счастье? И как мне не писать (ведь говорить я могу лишь с моим тю-
ремщиком), хотя я не знаю, что писать и кому. Мне одинаково трудно
понять, о чем писать и о чем не писать, так мало у меня надежды на
вашу благосклонность, ибо слишком много обид мне пришлось пре-
терпеть. Нет, я знаю, кому писать и как величать тех, кому я пишу.
Мои повелители? Вам придется сочинить новые законы, чтобы я мог-
ла засвидетельствовать вам свое почтение. Или мне унизиться и при-
знать вас ровней себе? Тогда покажите мне, умоляю вас, нашего гос-
подина и повелителя. Может ли наследница Базилия называть себя
вашей царицей? Увы, я ваша узница. Но кем бы я ни была и кем бы
ни были вы, вам я предназначаю эти печальные строки, я говорю вам
и говорю то, что всегда будет в моем сердце: как бы вы ни обошлись,
по-доброму или по-худому, с прекрасным царем, которого взяли под
стражу вместе со мной, а потом силой увели от меня, я всегда буду
помнить об этом, как если бы вы так обошлись со мной. Урожденный
царь, он достоин быть моим супругом, и он есть мой супруг, по до-
стоинству избранный мною. Поверьте, поверьте же мне, вы станете
изменниками, если убьете меня, но если сохраните мне жизнь, его
убийцы понесут наказание как изменники. Вы думаете, я ничего не
понимаю? Думаете, я еще дитя и не знаю, что вы, поднимая на него
руку, поднимаете руку и на меня тоже? Разве его позор не упрек мне?
Он не сделал ничего такого, чего я не одобрила бы. Вот ваше утеше-
ние мне в смерти моего отца — в нем много позора и нет печали. Разве
вы поступали бы так, если бы не желали убить меня и лишить власти?
Так убейте, молю вас. Самое время мне возненавидеть мою слишком
долгую жизнь, если вы возненавидели меня, когда я еще не стала ца-
рицей. Но я повторяю и готова повторять это вновь и вновь, без него
мне не жить, разве лишь чтобы отомстить вам за него. Или судите нас
по справедливости и сохраните жизнь обоим, или будьте мудрыми и
убейте обоих. Если я ваша царица, то приказываю вам сохранить ему
жизнь; если же я никто, тогда мы оба умрем. Я не лгу вам, за ним нет
никакой вины, кроме той, что он сопровождал меня в моем бегстве.
Поэтому я заканчиваю так: если вы судите его, то судите и меня. И не
думайте, что вы решаете, жить или не жить чужеземцу (хотя и как
623
чужеземец он заслуживал бы сострадания) или пастуху (принять это
низкое звание царь решился из любви ко мне), нет, вам придется ре-
шать, жить или умереть Памеле, дочери Базилия».
Много слез пролили прекрасные царевны на свои письма, много раз
исправляли их, рвали и переписывали заново, то думая, что в них чего-то
не хватает, то считая их слишком многословными, то боясь обидеть кого-
нибудь или (того хуже) побудить к отказу. В конце концов, наступивший
день вынудил их поторопиться, и они, призвав к себе одного из стражни-
ков (никто другой не смел приблизиться к ним), принялись слезно молить
его, чтобы он передал письма благородному собранию, потому что царевны
более полагались на сочувствие многих, не решаясь доверить кому-нибудь
одному столь дорогие им жизни. Однако юноша (верный назначившему
его в стражу Филанаксу) отдал советнику Базилия оба письма, как раз
когда Пирокл начал свою речь; и Филанакс, нечаянно раскрыв их, с пер-
вых же слов все понял и не захотел никому их показывать (боясь, как бы
справедливый Эварх не подверг опасности жизнь царевен или не сохранил
жизнь узникам, боясь того и другого и не зная, что хуже и что лучше), он
и сам не стал их читать, чтобы не смягчить сердце, требовавшее мести. Он
спрятал оба послания и со злобой обратил к Пироклу слух, а когда Пирокл
замолчал, с чистым сердцем пожелал, чтобы Эварх разрешил им сойтись
в поединке, хотя поединок не сулил ему ничего хорошего, ибо не было по-
близости воина, равного Пироклу, кроме, конечно же, Музидора.
Однако Эварх ответил Пироклу так:
— Телесная сила служит разуму, и было бы в высшей степени дико и
нелепо ставить силу судьей над разумом.
Филанакс хотел было возразить Пироклу, но Эварх знал, что они уже
все сказали, а он запомнил, что они сказали, поэтому приказал Филанаксу
предъявить обвинение второму узнику, после чего обещал вынести при-
говор сразу обоим.
Ничуть не стушевавшись из-за отповеди Пирокла, даже (в согласии
с природой спора, тем более злого ожесточенного спора) еще сильнее
распалившись, Филанакс начал свою речь против Музидора в такой яро-
сти, что забыл все правила ораторского искусства.
— Смотри, благородный судья и защитник Аркадии, до чего дошла
наша страна, если подобные люди могут вызывать на поединок самых
преданных и знатных рыцарей, если, заслужив позорную казнь, они сме-
ют называться супругами наших царевен. Конечно, господа, должен при-
знать, что усомнился бы в вашем вкусе, если бы вы предпочли смерть на
виселице супружеским радостям. Но вы заслужили виселицу, а дам опо-
зорили.
Однако теперь моя речь о тебе, добрый господин Дор, который на
самом деле волею Паллады недавно превратился в Палладия. Слишком
много внимания мы уделяем беглому рабу; не беседы надо бы с ним во-
дить, а бичом по немулройтись, каким и необъезженного жеребца можно
уломать. Не ты ли, мой господин, чей посох с крюком должен был стать
624
нашим скипетром, виновник всей трагедии? Может быть, те, кто ниче-
го не получил, были всего лишь орудиями убийства? Один ты, которому
причиталась вся выгода, ничего не знал. Подумать только, ничего не
знал! Неужели твой сообщник заразил тебя своим бесстыдством, и ты
будешь отрицать здесь то, что всем очевидно? Один ссылается на неве-
дение, другой, не сомневаюсь, будет оправдываться отсутствием. Один,
будучи рядом, ничего не знал, другой очень вовремя отлучился; ну уж нет,
он отличный полководец и знал, что для него безопаснее увезти царев-
ну из страны, потому что, окажись она вдали, и мы помчались бы за ней
с оливковой ветвью, моля о посредничестве, пали бы ему в ноги и моли-
ли, чтоб он бросил овец и дал согласие нотиранствовать над нами. Какие
у нас причины верить в то, что перед нами царевичи, как нам говорят
(впрочем, по нашим законам это не дает им никаких привилегий). Будучи
ловкими мошенниками, они, конечно же, наворовали, шатаясь по свету,
драгоценные камни, которыми украсили себя. Разве можно представить,
чтобы царевичи так долго путешествовали без свиты? Но даже будь они
царевичами, не значит ли это, что подданные были счастливы избавиться
от столь добродетельных правителей?
Пусть они будут, кем им угодно, ведь мы должны судить их по делам,
а не по званию. Они явились сюда, чтобы убить Базилия, и предательски
совершили убийство, хотя, не сомневаюсь, подобно твоему сообщнику,
ты тоже будешь это отрицать. Но как тебе отрицать то, что ты похитил
царевну Аркадии, и разве это не такое же предательство? Справедливые
боги все сделали, чтобы наказать злодеев, словно предвидели, что люди
не поверят свидетельствам их вины, и потому сделали так, что они сами
полностью выдали себя себе же на погибель. Я обвиняю этого вол-
ка, ставшего пастухом, этого обманщика царевича — помимо убийства
царя — еще и в том, что он вероломно, вопреки своим клятвам верности
(ибо он притворялся верным слугой и подданным), попытался похитить
нашу царевну, поэтому по праву должен быть наказан как изменник. Его
вина очевидна, да и он не отрицает ее, ибо был схвачен во время бегства и
возвращен под стражей. Преступление, которое он совершил, столь про-
тивоестественно, столь оскорбительно для человечества, столь противо-
законно, столь обидно для нас, столь вероломно, что если бы я и дальше
продолжал обличать его или что-то доказывать, то выказал бы незаслу-
женное сомнение или в твоей мудрости, или в твоей справедливости.
Я жду твоего приговора, внимаю ему (чтобы поучиться и утешиться) как
бессмертному примеру, который ты покажешь всем обманщикам, совра-
тителям, насильникам, убийцам и изменникам.
Пока Филанакс обвинял Пирокла и его самого, Музидор все время
оглядывался, словно искал, не может ли он как-нибудь добраться до него
и убить, такой жгучей яростью наполнили эти поношения его сердце.
Однако убедившись, что стражники не дремлют, он набрался терпения,
не имея возможности отомстить, хотя руки у него дрожали от желания
убить и жилы вздулись на висках, когда он, обратив взгляд на судейский
трон, произнес:
— О боги, неужели вы сохранили мне жизнь, чтобы я сносил подоб-
ную болтовню? Неужели в Аркадии это называется правосудием — предъ-
явить заведомо лживое обвинение, да еще осыпать бранью невинного?
Прошу вас, вспомните о неблагодарности этого негодяя, который забыл,
что мы сделали для него и его страны. Если рыцари напоминают о своих
благородных делах, то лишь для того, чтобы по справедливости защитить
себя от несправедливой злобы. Не буду говорить о нашей услуге Базилию
в войне с Амфиалом, вернувшей ему его дочерей живыми и невредимы-
ми, а ему самому сохранившей трон. Разве не мы убили диких зверей,
которые растерзали бы царевен, не приди мы им на помощь? Подумайте,
сделайте милость, разве он говорил бы сейчас о насилии, якобы совер-
шенном Даифантом, или о моей измене, если бы в тот раз погибли эти
драгоценные украшения земли? Подумайте, они уже тогда были бы мерт-
вы, а они живы и рядом с нами, тем не менее этот болтун все время повто-
ряет сказку об утрате, злонамеренно забывая о том, кто были спасители.
И не надо говорить, будто я хочу уравновесить сегодняшнее зло прежним
добром, потому что признаюсь, жизнь царевен уже награда за мои труды,
нет, я хочу лишь, чтобы вы поняли, сколь предубежден против нас сей
подлый клеветник.
Если мы изменники, то где был ты со своей верностью, храбрый на
язык господин, когда не только юная царевна, но и сам царь был спа-
сен от грозившей ему опасности отчасти мною, но большею частью сим
храбрым и мудрым юным рыцарем? Разве встали бы мы против сотен
вооруженных людей защитниками его жизни, если бы втайне замышля-
ли его отравить? Разве не показали мы тогда, что его жизнь нам дороже
нашей собственной — неужели для того, чтобы потом отнять ее и умереть
в позоре? Воистину господин оратор, кто бы ни нанял тебя разбираться
в этом деле (имея более честных слуг, чем ты), ему надо было бы снача-
ла потребовать отчета у тебя. Почему, когда у царя, которого ты якобы
так сильно любишь, была в тебе великая нужда, ты не пошел защищать
его как воин или, на худой конец, не обвинил в преступлении тех, кто
пренебрег своим долгом? Нет, для тех, кого спасают ноги, оружием слу-
жит язык. По правде говоря, весьма незамысловатой хитростью было бы
вручить свои жизни дочерям, убив их отца. Однако если сей господин,
стремясь прослыть велеречивым оратором, сказал все, что только мог из-
мыслить его больной разум, то мне придется объяснять (иначе зачем сло-
ва?), почему для любого разумного человека наша невиновность в смерти
царя очевидна.
Теперь, когда этот зазывала вывалил перед вами весь свой позолочен-
ный хлам, он переходит к вещам более серьезным и утверждает, что я по-
хитил царевну Аркадии. Она и вправду ваша царевна? Тогда я спрашиваю
вас, кому мне служить, как не той, которой я поклялся в любви и которая
была моей госпожой, пока я жил здесь? Спроси ее, почему она бежала со
мной, но не спрашивай меня, почему я служил ей. Если ты поверил, что я
царевич, ты не можешь судить меня, если же ты считаешь меня слугой, то
прими, как должное, то, что я служил ей. Ты можешь сказать, что я угово-
626
рил ее бежать вместе со мной, и я, конечно же, не буду с пеной у рта это
отрицать, зная, какие почести ждали ее в другой стране вместо рабства на
родине, на которое ее обрекли тебе подобные. Неужели из советов родит-
ся измена? Я мог ошибиться, но не мог обмануть, потому что желал для
себя того же, чего желал для нее. Кто же осмелится давать советы царю,
если о совете будут судить по результатам? Если совет неумен, неужели он
обязательно преступен?
Если я изменник, тогда, надеюсь, ты скажешь, кому я изменил, по-
тому что царевна, которую ты от меня защищаешь, уверен, засвидетель-
ствует мою верность ей, если только ты не скажешь, что я изменил ей, по-
кинув страну, или изменил стране, бежав вместе с нею. Не буду приводить
тут оправданий любовной страсти, потому что в твоей душонке нет для
нее места, но мужественные сердца, знающие, сколь послушна доброде-
тельная любовь добродетельным дамам (и для них это самые прекрасные
дары природы), сочтут сие простительным проступком, совершенным
с честными намерениями — честными даже для самых щепетильных рев-
нителей чести, из коих для нее не могло выйти никакого позора и никако-
го пренебрежения. Поэтому, о судья (надеюсь, знающий, что такое быть
судьей, чьей целью должно быть сохранение, а не уничтожение человека,
ибо законы созданы не для того, чтобы, подобно силкам или сетям, улав-
ливать прикоснувшегося к ним, а чтобы, подобно маякам, предупреждать
кораблекрушения и смерть не ведающих опасность путешественников),
то, что мы совершили, даже в самом суровом истолковании не более чем
ошибка, и ты можешь решить это дело ко всеобщему благу (поскольку
мы принадлежим к таким семьям, что никто не побрезгует породниться
с нами) и не станешь, я верю, поддавшись уговорам этого каверзника,
сжигать дом, чтобы избавиться от грязи, но, подобно мудрому отцу, даже
вину своих детей обратишь во благо, ибо сие есть суть мудрости и цель
правосудия.
Глава седьмая
Пока Музидор говорил, все, кто пришел на это судебное разбиратель-
ство, слушали его потрясенные, в глубоком молчании, боясь проронить
хоть слово. Сострадание тронуло и сердце благородного Симпата. Что же
до Каландера, то все, что говорилось его дорогими гостями в свою защиту
равно, как и все обвинения в их адрес, сразу отражались на его лице: то
на его глазах выступали слезы, то его взгляд загорался надеждой, а то он
принимался шептать что-то своим соседям, стараясь (уговорить их) спа-
сти царевичей. Однако многие ждали приговора Эварха, который, ничем
не выдавая своего отношения к речам Филанакса и царевичей, пропускал
мимо ушей цветистую риторику и запоминал лишь суть приводимых до-
водов. Он задал вопрос Гинесии (которая все так же брала вину на себя),
потом приказал Дамету, Мисо и Мопсе (которые по приказу Филанакса
содержались в самом страшном узилище) рассказать все, что им было
известно о недавних событиях, и, выяснив о разбираемом деле все, что
только было возможно, он (не откладывая дело в долгий ящик, ибо, бла-
годаря большому опыту Эварх приобрел опыт в разрешении подобных
дел) смог, не мешкая, вынести приговор:
— Сие сложное дело, о котором нам предстоит вынести наше сужде-
ние, сразу пробуждает серьезное сомнение в том, во-первых, можно ли
судить этих людей и, во-вторых, как их судить. Первое сомнение возни-
кает из-за того, что они называют себя наследными царевичами, а сие
звание священно, и если это так, то любое насилие окажется проявлени-
ем непочтительности. Разве будут соблюдаться законы, которые должны
удерживать в своих узах человеческое сообщество, если законодатели и
законоблюстители перестанут быть недосягаемыми в почтении к ним?
Но о звании наших подсудимых, хотя об этом уже много говорено, я все
же скажу еще кое-что: кем бы они ни были на самом деле, здесь они не
царевичи, потому что между царем и его подданными должны быть такие
же отношения, как между отцом и сыновьями, и если отец — отец лишь
своему ребенку, то царь является царем лишь своих подданных. Так что,
даже признав в них принадлежность к царскому роду, Аркадия не покоря-
ется им, если на это не будет решения тайного совета.
На это можно возразить, что всеобщее право, закон народов (все че-
ловечество — так сказать, сожители, то есть жители одной земли) выделя-
ет людей, которые в любом сообществе стоят наособицу, чтобы не толь-
ко в мирное время, но и во время войны, не только цари, но и трубачи
и глашатаи по всяким причинам были ограждены от посягательств. Это
справедливо, но справедливо до тех пор, пока, пользуясь своими преиму-
ществами, те же люди не нарушают закон; и тогда уж им нет смысла жало-
ваться на то, что ими же обиженный закон, им не помогает. Если царь, не
объявив войну, пересекает чужую границу, если он нарушает мирный до-
говор или совершает другие преступления, он должен заранее подумать,
628
что с ним будет, если он попадет в руки обманутых им людей, ведь ему
придется рассчитывать лишь на их добрый обычай. Сказанное тем более
относится к этим юношам, которые не только не вели себя как царевичи,
но и обличьем не были похожи на царевичей, когда явились в Аркадию
и стали жить тут как простые смертные, значит, они сами отказались от
того почитания, которое были вправе требовать к себе. Несправедливо
ведь, если, совершая зло, ты не царевич, зато становишься царевичем,
если тебе грозит опасность. Поэтому, следуя законам природным и че-
ловеческим, учитывая, что юные мужи сами отказались от своих свя-
щенных титулов, они не могут по справедливости избежать правосудия,
но, подобно простым людям, должны быть оправданы, помилованы или
осуждены.
Второе сомнение — как их судить. Сие должно быть не но правилам
свободных рассуждений, основанных на здравом смысле и философском
искусстве, а по законам Греции и законодательным актам Аркадии. Хотя
законы исходят из здравого смысла и философских посылок, все же рас-
суждение, в основе которого заложено лишь философское восприятие
мира, дает слишком большой простор для разных толкований, тогда как
законы, прилагаемые к определенным ситуациям, удерживают нас в точ-
ных границах: стоит их один раз нарушить, и уже никого не остановишь
внутри них. Поэтому судить юных рыцарей надо, и надо судить по ва-
шим законам. Теперь перейдем к обвинительным речам и ответам на них.
Обвинение носило двоякий характер. Первое — виноваты ли обвиняемые
в смерти царя, второе — как расценить действия обвиняемых. На пер-
вый вопрос юноши отвечают, полностью отрицая свою вину, на второй
вопрос отвечают с оговорками и оправданиями. Они отрицают убийство
царя и против почти неопровержимых доводов обвинения выставляют
правдоподобные объяснения, основательно укрепляя их тем, что царица
берет на себя всю вину. Конечно, если все доводы имеют равную силу,
нам нельзя принимать худшее и надо радоваться, что еще есть надежда и
люди не превратились в чудовища (несомненно, лучше спасти виновно-
го, чем погубить невинного), так что если бы во всем остальном они были
бы так же чисты, тогда и об этом можно было бы забыть. Однако если
они отягчили уже имеющиеся подозрения другим преступлением, тогда
не только эти подозрения, но и все прочие требуют тщательного рассле-
дования, но уже без поблажек, поскольку никто не может отрицать, что
сии юноши были, если не главными виновниками смерти царя Аркадии,
то случайными.
Теперь нам следует высказать суждение о прочих обвинениях, предъ-
явленных юным рыцарям. Они не отрицают того, что преступления были,
но отрицают или преуменьшают свою вину. Но сначала мне хотелось бы
вспомнить (хотя прежде они молчали об этом) об услугах, которые они
оказали царю Аркадии, воистину благородных и заслуживающих вели-
кой благодарности, но которые, однако, не могут перевесить последо-
вавших за ними злодеяний. Благодарностью воздается за благодеяние и
наказанием — за злодеяние, и не надо смешивать то и другое, как не надо
629
смешивать благо и зло. Оттого-то мудрость требует, чтобы ни один чело-
век не избежал наказания за совершенное им зло, и тем суровее должен
быть наказан тот, кто знает, как творить добро, потому что пренебрегает
своим знанием.
Итак, если расследовать их преступление само по себе, вне зависи-
мости от чувств и пристрастий, будет очевидно, что виноваты они одина-
ково. Пусть тот, кто называет себя Даифантом, отказался от мысли похи-
тить госпожу Филоклею, а другой уговорил госпожу Памелу бежать и сам
бежал с нею, все же если расследовать в этих посягательствах намерение,
которое, по справедливости, стоит за деянием, то оба рыцаря должны
быть признаны виновными и виновными в мерзком похищении. Пусть
они не похитили царевен силой, но они похитили их у того, кто был им
отцом и господином, а это по греческим законам карается отсечением го-
ловы, как самое отвратительное воровство. Если должно предавать смер-
ти тех, которые крадут наши богатства, то неизмеримо виновнее те, ко-
торые крадут у нас детей, наследников наших богатств. Таковы наши за-
коны в отношении простых людей, но насколько хуже те, которые крадут
царских детей, ибо они крадут, скажем так, благоденствие и благополучие
народа, залогом которого издревле служил закон не признавать над собой
ничьей власти, кроме власти ближайшего наследника. И пусть никого не
удивляет суровость наших предков, ибо финикиянка Европа и особенно
гречанка Елена показали, какое губительное пламя может разгореться из
подобных искр. И хотя Елена была женой, а мы говорим о дочерях, я не
вижу разницы, потому что мы берем себе жен, желая иметь детей.
Теперь посмотрим, как сии юные мужи (правдиво для людей, достой-
ных жалости, если только они жалеют себя по справедливости) смягча-
ют свою вину. Иные из оправданий, которые они приводят, одинаковы
для обоих, но некоторые высказаны лишь тем, кто выдавал себя за пас-
туха. Оба говорят о любовной страсти и, так сказать, об обеляющем их
намерении вступить в брак. Но если разнузданная страсть, называемая
ими любовью, может оправдать совершенную мерзость, то мы многие
ужасные злодеяния могли бы оправдать любовью, да, на свете не совер-
шается ни одно преступление, которое нельзя было бы отнести на счет
любви. Вор говорит о своей любви к деньгам, убийца — о любви к мести,
бунтовщик — о любви к власти, соблазнитель — о любви к женщинам,
и все они говорят о любви, которая, будучи им неподвластной, заставляет
подчиняться себе. Однако у любви не должно быть беспредельной вла-
сти. Прекрасное и возвышенное соединение душ, которое на самом деле
называют любовью, покоится на фундаменте добродетели, посему если
любовь настоящая, она не может побуждать к совершению недобрых по-
ступков.
Другой и более убедительный довод заключается в том, что оба юно-
ши хотели бы взять царевен в жены, чтобы честью искупить бесчестье, за-
пятнавшее в первую очередь их самих. Конечно, если бы речь шла о том,
что лучше для юных мужей и их возлюбленных, а не о том, что по спра-
ведливости предписывают неизменные законы, то тогда можно было бы
630
и поспорить. Но нам следует помнить, что наши законы направлены на то,
чтобы предотвращать подобные преступления в будущем, а не врачевать
раны уже совершенных преступлений. Если блюстители справедливости
станут мерить правосудие меркой удобства и выгоды, то будут рассмат-
ривать их не с всеобщей точки зрения, а с той, что более удовлетворяет
обидчиков. Юные, сильные и богатые с выгодой для себя используют на-
рушения, тогда как для прочих они станут гибельными. Возможно, юно-
шей устроило бы супружество, но оно вряд ли может устроить Аркадию,
которой ни к чему поощрять подобный способ сватовства. А ведь они как
раз супружеством хотят оправдаться.
Тот, кто бежал с царевной Памелой, заходит еще дальше, доказывая,
что был всего лишь советчиком, которому позволено высказывать свое
мнение: он был слугой и исполнял желание своей госпожи. Вне всяких
сомнений, советчики должны быть очень осторожны, когда предлага-
ют что-нибудь, не соответствующее установленным обычаям (особенно
когда делают это по собственному почину и без всеобщей поддержки),
а данный случай тем более очевиден, так как царевна еще не властвую-
щая царица (ее отец был жив, но даже будь он мертв, она все равно
еще не вошла в требуемые лета); значит, обвиняемый не был ее слугой
в смысле безоговорочного послушания, нет, он сам выбрал служить сна-
чала Дамету, а потом царю, и если не по законам Аркадии, то по зако-
нам домашнего устройства он ничего не должен был делать без согласия
Базилия. Итак, поскольку преступления, совершенные обоими, мерзки и
непростительны, именем справедливости и законами Аркадии я объяв-
ляю, что Даифанта должно сбросить с высокой башни, а Палладию долж-
но отрубить голову. Время назначаю до захода солнца. Казнь свершится
в Мантинее, палачом будет Дамет, и пусть до конца своих дней он оста-
нется палачом, ибо не пристало человеку забывать о долге.
Глава восьмая
Сказав так, Эварх повернулся к Филанаксу и двум другим рыцарям
и приказал им проследить, чтобы приговор был приведен в исполнение.
Более помешавшийся на своей добыче, чем охотник на своем трофее,
Филанакс немедленно бросился к прекрасным узникам, которые, взгля-
дами прощаясь друг с другом, являли своим видом столько неустрашимой
решимости, сколько по силам разве что самым отважным рыцарям. Но
если все же и произошла в них перемена, то Пирокл выказывал смуще-
ние, а Музидор — гнев, но оба были во власти благоразумия и твердости.
Когда Филанакс со многими воинами приблизился к ним и Музидор на-
чал было что-то говорить в оправдание Пирокла, он увидел Каландера,
который, крича и размахивая руками, приблизился к Эварху, ведя за руку
чужеземца, кричавшего еще громче Каландера и требовавшего, чтобы
его выслушали, прежде чем уведут узников. Даже благородный рыцарь
Симпат поддержал их и постарался с помощью подчиненных ему воинов
остановить Филанакса, уговорами и силой не позволяя ему увести царе-
вичей, пока чужеземец не сказал свое слово.
Вновь вернувшись на трон, судья обратил слух к страстным, нет, го-
рячечным речам чужеземца, который оказался, конечно же, Калодулом,
верным слугой Музидора; к нему его господин (когда, несмотря ни на
что, стал рабом страсти) послал пастуха Меналка, чтобы тот взял его под
стражу, а он сам мог воспользоваться одеждой пастуха и открыто появить-
ся в Аркадии, и Музидор был тогда очень доволен, потому что это оказа-
лось полезным для его любви, завладевшей его мыслями. Меналк чест-
но исполнил данное ему поручение и так же честно был взят под стражу
Калодулом; но едва сбитый с толку, верный Калодул исполнил долг перед
царевичем, как сообразил, что его господин использовал Меналка для
каких-то непонятных причуд. О подвигах, совершенных в Азии храбрым
Музидором и его двоюродным братом Пироклом, говорили с великой ра-
достью и восхищением в Фессалии и Македонии, и тем сильнее были там
напуганы их неожиданным исчезновением, когда вдруг стало известно,
что они без сопровождения отправились в море, ведь чем это закончи-
лось, никто не знал. Благодаря Меналку, Калодул понял, где находится
его господин, а также Пирокл, догадался о завладевшей ими любви, сопо-
ставил безнадежность задуманного предприятия и малые лета юношей и,
уразумев из этого сопоставления, чем может обернуться затея, некоторое
время не знал, что предпринять, одинаково страшась гибели царевичей и
их неудовольствия. Часто Калодул был готов выбрать самый безопасный
и честный путь и все открыть царю Эварху, чтобы тот своей властью пред-
упредил опасность, а сам он переждал грозу под его крылом; но, пред-
ставив, сколько времени потребуется для путешествия в Византии (где,
как он полагал, еще оставался Эварх) и сколько времени ему ничего не
будет известно о судьбе царственных братьев, Калодул в конце концов
632
решился написать обо всем Эварху, а самому тем временем отправиться
в Аркадию, не зная, что он будет там делать, но намериваясь сделать все
для своего возлюбленного господина, если только ему посчастливится
его найти.
Так получилось, что в самый день суда он приплыл в Мантинею и
стал, не теряя даром времени, прислушиваться к разговорам на улицах, из
которых узнал нечто совершенно невообразимое (как это обычно бывает,
когда столь редкие события обрастают слухами) о неких узниках и о суде
над ними. В один голос все советовали ему отыскать Каландера, почтен-
ного и богатого жителя Аркадии, которого он мог бы обо всем расспро-
сить. Калодул пришел (примерно на середине речи Эварха) на место суда,
где нашел множество народа и услыхал незнакомые имена — Палладий
и Даифант. Будучи не в состоянии пробиться к Эварху, он принялся рас-
спрашивать о Каландере, и вскоре его подвели к нему, отчасти потому, что
Каландера знали все, отчасти потому, что тот вышел из толпы, поняв из
речи Эварха, к чему тот ведет, и не в силах слушать обвинительный при-
говор своим гостям. Калодул спросил Каландера, почему собралось на
суд столько людей, и правда ли, что судьей тут Эварх, и в ответ Каландер,
проливая слезы, поведал ему печальную историю об амазонке и пастухе,
не преминув превознести их природные достоинства и горько сокруша-
ясь об их несчастном конце. По описанию Каландера в пастухе Калодул
тотчас узнал своего господина и понял, что другой, наверняка, Пирокл,
о чем он, нимало не медля, сообщил Каландеру, который, как он видел,
относился к юношам с состраданием, и они, не медля, бросились в толпу,
изумляя народ своими криками.
Пробившись к Эварху, Калодул бросился ему в ноги и сказал, что те,
кого он судил, были его собственный сын и племянник, один — радость
Македонии, другой — единственная надежда Фессалии. Он еще долго
говорил, хотя от человека, столь убежденного в своей правоте, этого и
не требовалось, так как в это же время Каландер сообщал всем, кем на
самом деле были узники, и еще он кричал, что они должны приветство-
вать своего отца и радоваться тому счастью, которое боги послали им —
и царевичи радовались не меньше, чем остальные удивлялись необыкно-
венному стечению обстоятельств. Смягчилось даже мстительное сердце
Филанакса, когда он увидел и радостную, и горькую встречу отца с деть-
ми после долгой разлуки. К тому же, слава Пирокла и Музидора склонила
его к искреннему сочувствию, и с его лица исчезли последние следы не-
давней свирепости.
Между тем Эварх долго молчал, словно храбрый рыцарь, на пути ко-
торого возникло неожиданное препятствие, ибо его поглотила отеческая
любовь к доблестным сыновьям, и он старался сделать невозможное —
решить, чего требует от него долг. В конце концов он торжественно и пе-
чально произнес:
— Жители Аркадии, я призываю в свидетели бессмертных богов,
ибо то, что я сказал сегодня, было подсказано мне моим представлением
о справедливости и ваших справедливых законах. Эти юноши были для
633
меня чужеземцами, но и тогда у меня не было желания причинить им
зло, и, отставив в сторону всякие домыслы о том, кто они, я рассматривал
дело, которое вы мне поручили, соотносясь единственно с непредвзятым
и высшим смыслом. Я приговорил их к смертной казни, ибо они осквер-
нили себя многими преступлениями против законов гостеприимства,
учтивости и добродетели. Теперь, совершенно неожиданно оказывается,
что один из них мой единственный сын, а другой племянник, для кото-
рых природа не пожалела даров и которые, на удивление и радость все-
му миру, до сих пор вели себя так, что подавали самые великие надежды,
какие только могут подавать юные рыцари, и наконец, говоря коротко,
были моим единственным счастьем, потому что в них я думал (стоя на
краю могилы) обрести новую жизнь.
Но, увы, неужели справедливость охромеет? Неужели она будет за-
крывать глаза на поступки одних и пристально следить за поведением
других? Все человеческие пристрастия должны уступить место ее свя-
тости. Пусть будет так. Пусть будет так. Посыплю пеплом седую голову.
Остаток дней проведу в одиночестве и для всего человечества стану жал-
ким пнем, но никогда, никогда не падет святой закон справедливости.
Он вечен. Его надо хранить вечно. Если я судил справедливо, значит,
справедливо судил своих детей, если только титул сына не имеет столько
власти, чтобы изменить неизменную справедливость. Да, да, Пирокл и
Музидор, я не пожалел бы ради вас свою жизнь, но ради справедливости
я не пожалею и вас. Оставайся вы самими собой, я бы с радостью стал
вашим щитом, но спасти вас от того, что вы совершили, я не могу, нет,
я не могу назвать вас теперь моими детьми, потому что у меня никогда
не было пастуха-племянника и сына-амазонки. Ваши пороки отлучили
вас от царской крови, вы сами уничтожили свое законное право, данное
вам от рождения. Поэтому, если осталось в вас еще хоть что-нибудь от
царственной добродетели, явите ее, расплатившись за то, к чему привели
ваши поступки, недостойные царевичей. Что до меня, скажу так: вы ви-
новаты в том, что отныне у меня нет детей. Итак, о Филанакс и вы, мои
советники из Аркадии, проследите, чтобы приговор был приведен в ис-
полнение в точности так, как было сказано прежде.
При этих словах, хотя Эварху очень не хотелось их произносить (вся-
кий мог видеть), слезы потекли по его длинной седой бороде, и сие пе-
чальное зрелище исторгло горестное стенание не только из Калодула и
Каландера, но и из остальных тоже, и даже Филанакс не смог удержаться
от искреннего сочувствия царевичам и заявил о том, что отказывается ис-
полнять приказ царя. Музидор, поверивший было в свое спасение и со-
единение с царевной Памелой (из-за которой он не хотел умирать), был
совершенно обескуражен, но все же более переживал за своего милого
Пирокла, о котором, как он давно постановил, будут его последние слова,
и, до глубины души возмутившись жестокосердием судьи, сказал:
— Радуйся своей кровавой победе, деспотичный Эварх, потому что
титул царя так же не подобает убийце, как детоубийце — память потом-
ков. Возвращайся домой и гордись, что смог предать Музидора позор-
634
ному убийству. Пусть твои велеречивые ораторы увенчивают тебя лав-
ровыми венками за то, что ты, старший в своем роде, погубил царевича
Фессалии. Что до меня, то я надеюсь, рыцари Фессалии не стали хуже
своих предков и отомстят тебе за мою обиду и за свою потерю. Я верю,
что моя смерть так же несправедлива для меня теперь, как она будет горь-
кой для тебя потом. Моя смерть восторжествует над твоей жестокостью.
Только теперь я сам не хочу жить, потому что не хочу быть обязанным
тебе своей жизнью. И все же, если твоя жестокость не настолько ослепила
тебя, что ты не видишь, как наносишь раны самому себе, и твое сердце не
настолько очерствело, что ты не совсем разучился страдать, тогда взгля-
ни на юного Пирокла глазами мужчины, коли не хочешь глядеть на него
глазами отцовской любви. Сделай так, чтобы не сказали: «Смотрите, боги
наказали его, и он пожрал самого себя!» Присмотрись к взглядам людей
и прислушайся к их голосам, не закрывай глаза на то, что видят все. Еще
раз взгляни на него! Даже самый дотошный искатель не отыщет в нем
ничего дурного, разве лишь то, что он твой сын. Поверь мне, твои же соб-
ственные подданные не простят тебя, если ты отнимешь у них царевича,
на которого они имеют не меньше прав, чем ты.
Он бы говорил еще, если бы Пирокл, который не раз пытался оста-
новить его, не потребовал, чтобы он не мучил его, при нем хуля его отца,
убеждая Музидора в том, что Эварх судил справедливо и причиной их
гибели станет их собственная вина. Он просил Музидора вспомнить об
их решении с честью принять возможные последствия, чему как будто
противоречит его горячность. Сказав так, он смиренно опустился на ко-
лени и обратился к Эварху с такими словами:
— Если бы в ответ на мои ежедневные молитвы всемогущие боги да-
ровали мне исполнение моих желаний, то теперь я был бы утешением
твоих мыслей, а не примером твоей справедливости, и моя жизнь стала
бы хранительницей памяти о тебе, а не моя смерть — памятником твоему
правосудию. Но если богам в их непостижимой мудрости понадобилось
сокрушить мое желание служить тебе и вместо этого сделать меня твоим
позором, если мое послушание я должен доказать смертью, тогда выслу-
шай меня, о мой отец (если несмотря на мою вину я еще могу так назы-
вать тебя), выслушай несколько последних слов, которые твой сын ска-
жет тебе, не злоупотребляя твоим терпением. Если память о моей добро-
детельной матери, которая когда-то была любима тобой, может смягчить
тебя, если имя Пирокла было когда-то дорого тебе, исполни мою просьбу
и не думай, что я попрошу тебя сохранить мне жизнь.
То, к чему тебя обязывает справедливость, ты исполнишь с моей
смертью. Отец, казнивший своего единственного сына, будет великим
примером для будущих времен. Моя кровь ублажит самого сурового по-
борника справедливости, даже самые черствые сердца в этой стране удо-
влетворятся моей кровью. Но спаси моего брата. Это все, о чем я прошу
тебя перед смертью. Как ты сможешь смотреть в глаза своей сестры, если
в благодарность за ее заботу обо мне в тяжелые для тебя времена ты от-
нимешь у нее — да еще с такой жестокостью! — того, кто ей дороже всех
635
в мире, ее последнее утешение в старости? О, не давай повод благород-
ным жителям Фессалии проклясть навеки союз своего царя с македон-
кой! Когда меня не станет, моя страна ничего не потеряет, потому что
у нее есть царь, который, возможно, даст жизнь другому, более достой-
ному наследнику. Но как ты и вся земля сможете возместить потерю не-
счастной Фессалии, которая послала к тебе (того, кого она берегла как
зеницу ока) своего царя, если ты, призвавший его к себе, казнишь его по-
зорной смертью? Представь, молю тебя, несчастные лица фессалийцев,
когда они узнают, что ты встретил своего племянника, и тотчас услышат,
что ты обезглавил его. Сколько слез они прольют, сколько жалоб слетит
с их уст, сколько справедливых проклятий падет на твою голову!
Остерегайся, мой отец (если я жизнью плачу за свою вину то, пока
жив, могу называть тебя этим дорогим мне именем), как бы тебя, искав-
шего строгой справедливости, не сочли несправедливым за то, что ты
ослабишь могущественную соседнюю страну, лишив ее единственной
опоры. Во мне, во мне начало беды, так пусть она и закончится мною.
Уверяю тебя, ни один человек не усомнится в том, что ты строго блю-
дешь законы, когда станет известно, что Эварх казнил Пирокла. Ну вот,
мое время истекло. Если ты решишь, что моей смерти достаточно за мою
вину, и не захочешь сделать мою смерть еще несчастнее, тогда пусть пред-
смертные слова того, кто был твоим сыном, достигнут твоего слуха. Пусть
Музидор живет, тогда и Пирокл будет жить в нем, и тебе не нужен будет
другой сын.
— Сын? — вскричал Музидор. — Тому, кто казнит Пирокла?
Он вновь принялся просить за Пирокла, а Пирокл просил за Музи-
дора, и каждый из них изощрялся, придумывая, почему именно он более
достоин смерти, вызывая восхищение у столпившихся вокруг них людей.
Многие, дав волю чувствам, уже обвиняли Эварха в жестокосердии (как
часто случается с прекраснейшими из людей, которые, будучи непра-
вильно поняты, чаще вызывают недовольство, чем радость), полагали,
что собственной непреклонностью он осиротил свое государство. Однако
Эварх (который страдал более других и все же продолжал любить спра-
ведливость больше самого себя) с печальной твердостью, подобно убив-
шему себя Катону1, когда понял, к чему клонят их речи, вновь приказал
увести узников и поднялся с трона (всем сердцем желая, чтобы он стал
его могилой), чтобы назначить стражу, отчего все попятились.
В это несчастное мгновение те, кто стоял возле смертного ложа царя,
услыхали довольно громкие стоны из-под бархатного покрывала. Они за-
стыли на месте от страха и были готовы (напуганные уже случившимися
бедами) подумать невесть что, когда под покрывалом началось какое-то
движение, тут они вовсе все перепугались, вспомнив, кто о духах, кто
о чуде, кто — неизвестно о чем. Лишь Филанакс и Каландер, чьи глаза
истинная любовь (хоть и к разным людям) держала открытыми, броси-
1 Марк Порицй Катон убил себя, не желая подчиниться Цезарю, когда Рим
стал республикой
636
лись к ложу и, сдернув покрывало, к своему удивлению, не говоря уж
о радости, обнаружили живого царя. Питье-то было не любовным (как
думала Гинссия) и не ядовитым (как решили лекари), хотя было иску-
сно — и не без колдовских чар — приготовлено и смогло усыпить царя на
тридцать часов, так что он не подавал признаков жизни.
Впервые это питье приготовила царевна Кипра, бабушка Гинесии
(которая была весьма учена, но даже при всей своей учености не могла
противостоять Купидону), когда страстно влюбилась в юношу, состояв-
шего при дворе ее отца, а он, страшась царского гнева, не смел ни от-
вергнуть ее любовь, ни принять ее, поэтому ей пришлось приготовить
сонное зелье и с помощью верного слуги (который пригласил юношу
в свои покои) усыпить его, ничего не подозревавшего. После этого юно-
шу, потерявшего способность к сопротивлению, тот же слуга тайно пере-
нес в очаровательный домик посреди сада, который царевна приметила
специально для такого случая, и там все время, пока он спал, она услажда-
ла себя созерцанием возлюбленного; а когда зелье перестало действовать
и он в великом изумлении очнулся, царевна предоставила ему выбор: или
взять ее в жены и бежать с нею на заранее поставленном под паруса ко-
рабле, или быть выданным страже, потому что она немедленно закричит
и поклянется, что он пришел силой завладеть ею. Благородный юноша
оказался в затруднительном положении, но победила красота царевны.
Он взял ее в жены, они бежали с Кипра, испытали множество приклю-
чений и в конце концов помирились с се отцом, после смерти которого
стали править на острове. Бабушка, с благодарностью вспоминая услугу,
оказанную ей зельем, бережно хранила его во флаконе (выточенном с не-
бывалым искусством, так что оно не выдыхалось) в немалом количестве и
с подробной надписью, неверно истолкованной женой ее сына, царицей
Кипра, которая подарила флакон своей дочери Гинесии, когда она долж-
на была стать супругой Базилия; и вот старый Базилий пробыл в беспа-
мятстве немного дольше, чем это случилось бы с молодым мужчиной.
Потребовалось еще немало времени, прежде чем Базилий окон-
чательно пришел в себя, тогда как Эварх (больше, чем власти над всем
миром, радуясь возможности избавиться от тягостной ноши и по зако-
ну подчиниться законному царю Аркадии) сошел со своего возвышения
и положил много усилий, чтобы растолковать Базилию суть запутанной
истории. Ох, и долго же пришлось втолковывать царю Аркадии, что Зел-
мана не женщина. В конце концов, вспомнив предсказание (которое ис-
полнилось, но не так, как он предполагал), обдумав все, что ему выпало
по воле провидения, и придя к выводу, что самая большая вина лежит на
нем самом, Базилий первым делом приказал со всей торжественностью
привести к нему Гинесию (бедняжка думала, что идет живой ложиться
в могилу), а когда она пришла, объявил всем о ее невиновности, о том,
что она ничем не запятнала себя в течение всей жизни, хоть и приготови-
лась к ужасной смерти, желая последовать за своим супругом. Он сказал,
что жена просила его не пить зелье, и таким образом перед всеми вос-
хвалив ее, перед всеми же попросил у нес прощения за все то зло, которое
637
ей причинил. Базилий поцеловал супругу и дал ей вкусить такую славу,
какой не знала ни одна царица на земле, ибо никто не усомнился (кроме
Пирокла и Филоклеи, не выдавшие ее) в том, что она была чистейшим
воплощением супружеской любви. И хотя в то время это не было ею за-
служено, всю оставшуюся жизнь она поступала, как должно, храня честь
и верность к вящей славе Греции. Вот вам и людской суд: один и тот же
человек обесславлен и прославлен — одинаково несправедливо.
Воздав царские почести Эварху и сказав много добрых слов Пироклу
(которого он продолжал нежно любить, хотя и более добродетельной
любовью), царь Базилий приказал играть две свадьбы к великой радости
Эварха (по отношению к которому Музидор признал свою вину). Фила-
накс за свою необычайную преданность, пока Базилий был жив, поль-
зовался его любовью; то же самое можно сказать и о Музидоре, который
стал его наследником, как подтвердил сам Базилий, подтвердив также
его положение второго человека в стране, которое укреплялось с года-
ми, и о Калодуле из Фессалии, и о Каландере, которого Базилий почитал
до его смерти, а потом приветил его сына Клитофона. Что до Симпата,
то Пирокл (которому Эварх в должное время отдал Фракию) не отпустил
его от себя, подарив ему от чистого сердца великий город Абдеру.
Свадебные торжества и аркадские пасторали со смешными приклю-
чениями сельских влюбленных, необыкновенные приключения, выпав-
шие на долю Артаксии и Плексирта, Эроны и Планга, Елены и Амфиала,
Меналка и дочери Калодула, а также любовь несчастного Филисида,
удивительная верность Клая и Стрефона и, наконец, сын Пирокла, на-
званный Пирофилом, и Мелидора, прекрасная дочь Памелы и Музидора
(которым уже при рождении было уготовано великое счастье), вероятно,
побудят кого-нибудь взяться за перо, потому что, признаюсь, мое уже за-
тупилось.
КОНЕЦ
Содержание
Великая мистификация Филипа Сидни.
Людмила Володарская 5
ПЕРВАЯ КНИГА 29
ВТОРАЯ КНИГА 149
ТРЕТЬЯ КНИГА 323
ЧЕТВЕРТАЯ КНИГА 539
ПЯТАЯ КНИГА 589
По вопросам приобретения книг обращайтесь:
Отдел продаж «ИНФРА-М» (оптовая продажа):
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31 в, стр. 1
Тел. (495) 380-4260; факс (495) 363-9212
E-mail: books@infra-m.ru
Отдел «Книга—почтой»:
тел. (495)363-4260(доб.232, 246)
ФИЛИП сидни
Оригинал-макет подготовлен в Издательском Центре РИОР
Подписано в печать 02.12.2009
Формат 60x90/16. Бумага офсетная.
Гарнитура «Newton».
Усл. печ. л. 40,0. Уч.-изд. л. 40,0
Тираж 1000 экз. Заказ № 1414.
Цена свободная.
Издательский Центр РИОР
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31 в.
E-mail: info@rior.ru
www.rior.ru
Издательский Дом «ИНФРЛ М»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31в
Тел.: (495) 380-05-40, 380-05-43. Факс: (495) 363-92-12
E-mail: books@infra-m.ru http ://www. infra -m
Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «ПК «Зауралье»
640022, г. Курган, ул. К. Маркса, 106
E-mail: zpress@zaural.ru; www.zpress.zaural.ru
Филип Сидни (1554-1586) - один из выдающихся
деятелей эпохи Возрождения, политик и воин, родо-
начальник английского романа и английской поэзии.
«Аркадия» - первый английский роман, вобравший все
элементы рыцарского, любовного, политического, фило-
софского и авантюрного романа.
«Аркадия» насыщена любовными коллизиями, ка-
жется, нет ни одного обсуждавшегося в XVI столетии
вопроса о любви мужчины к женщине и женщины к
мужчине, который не был бы здесь проиллюстрирован.
Книга впервые издается на русском языке.
SBN 978- S- 369- 00760- 0
9