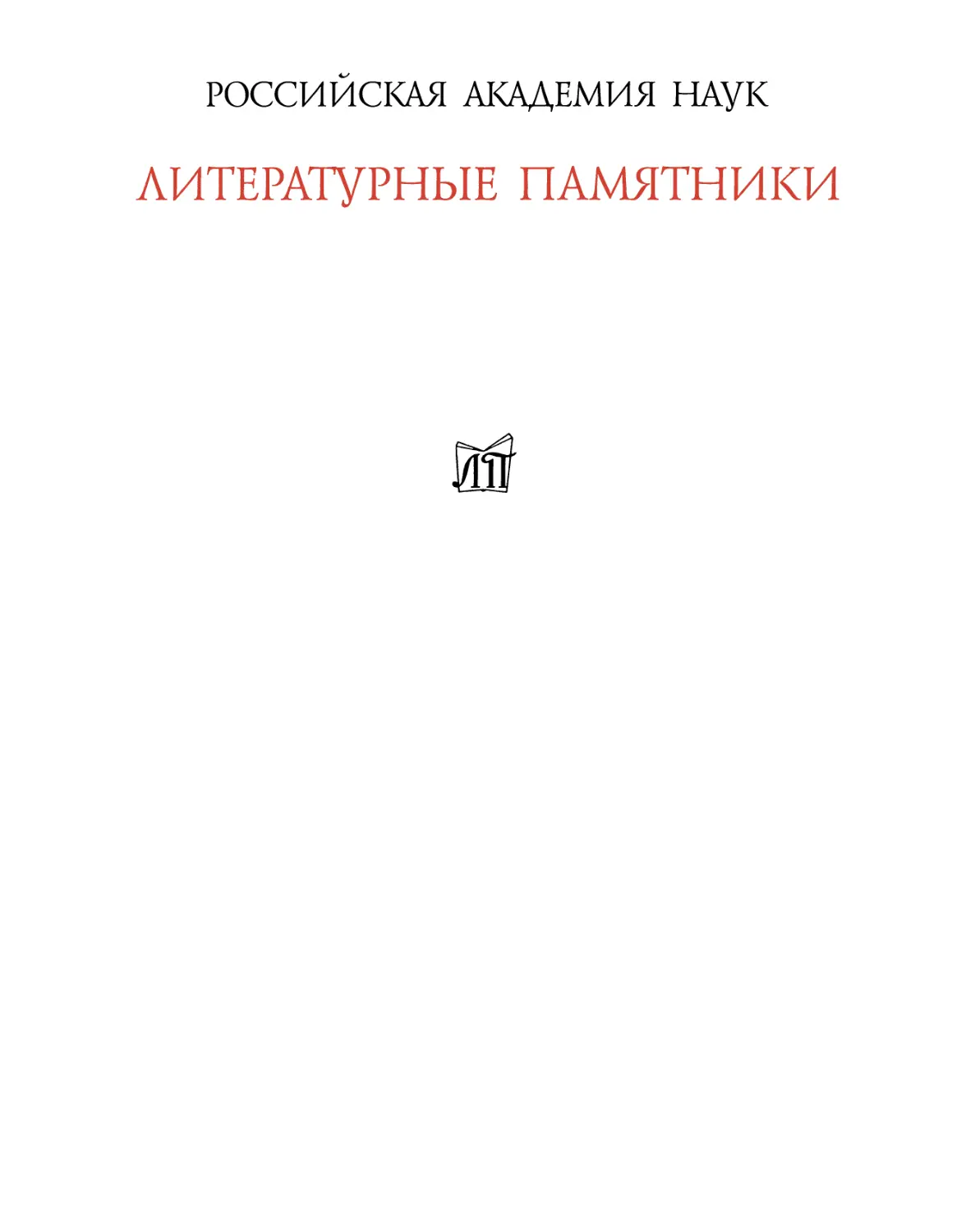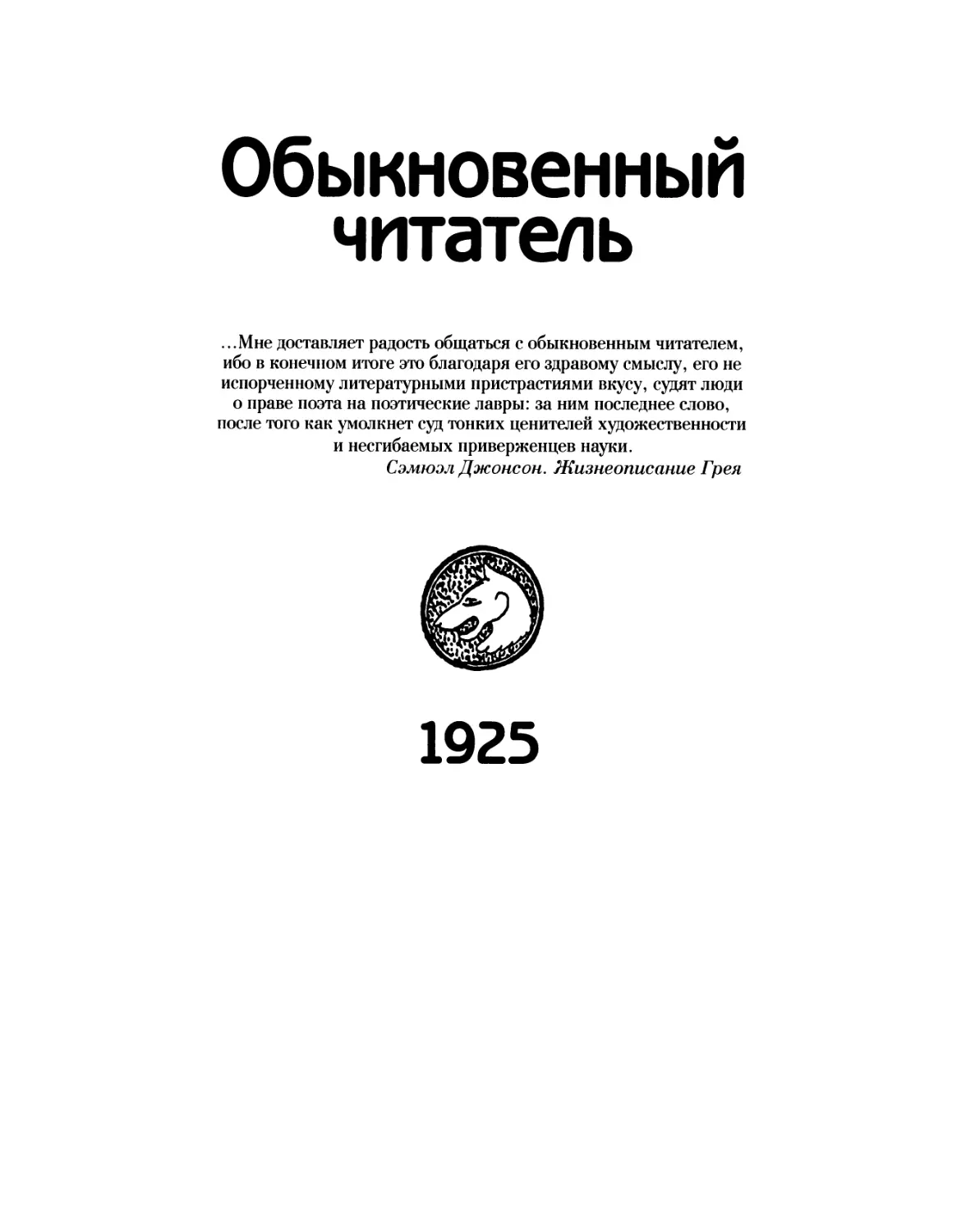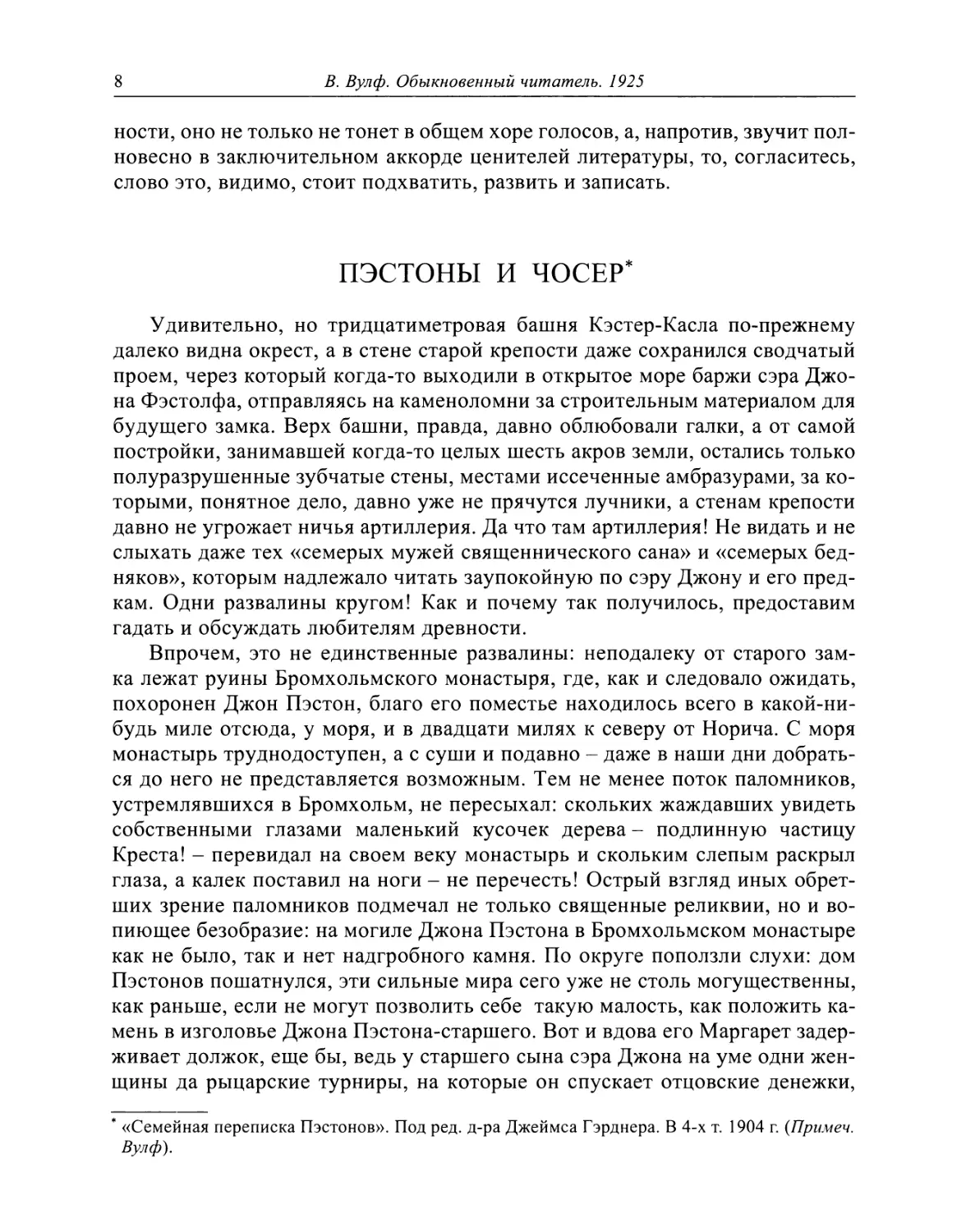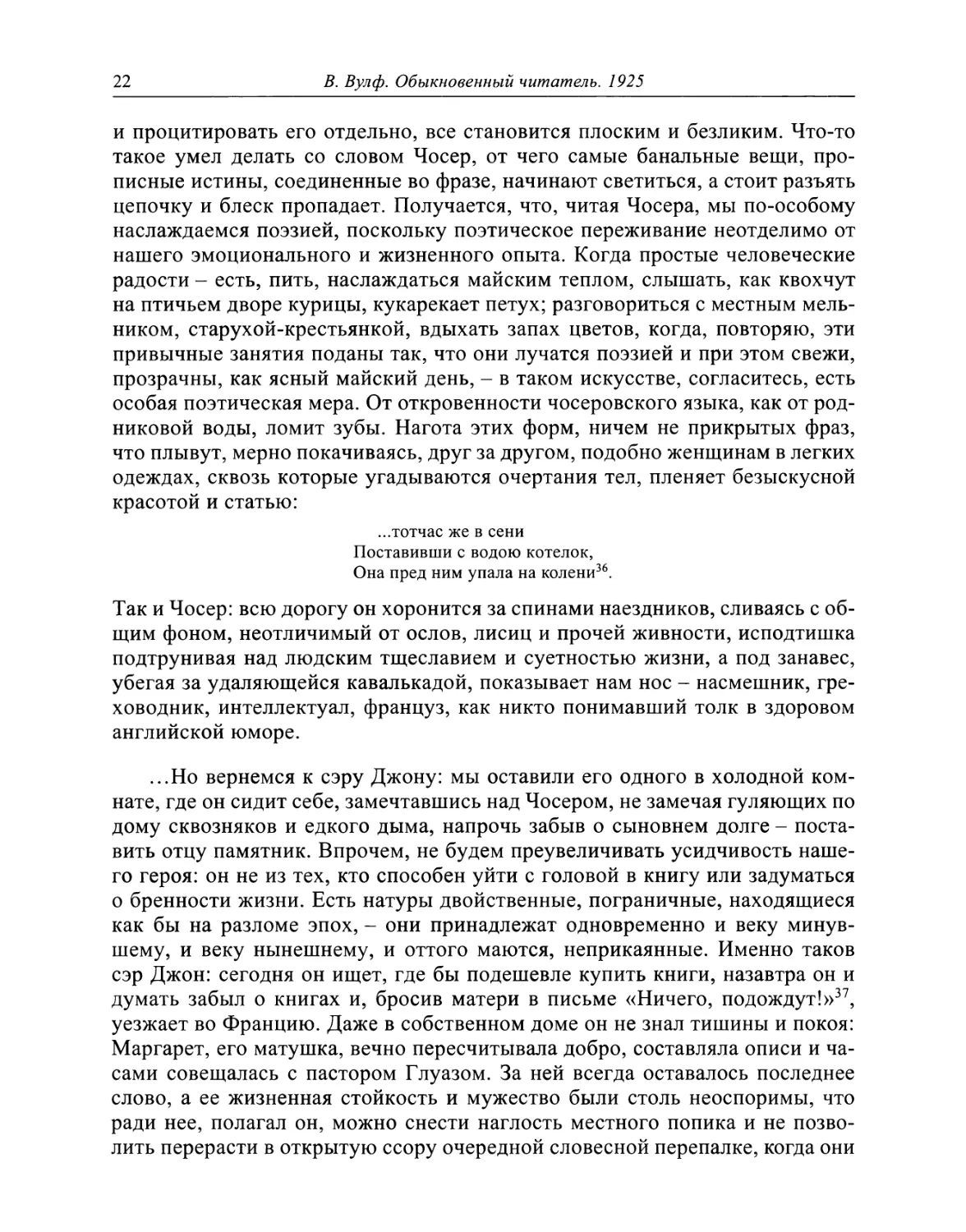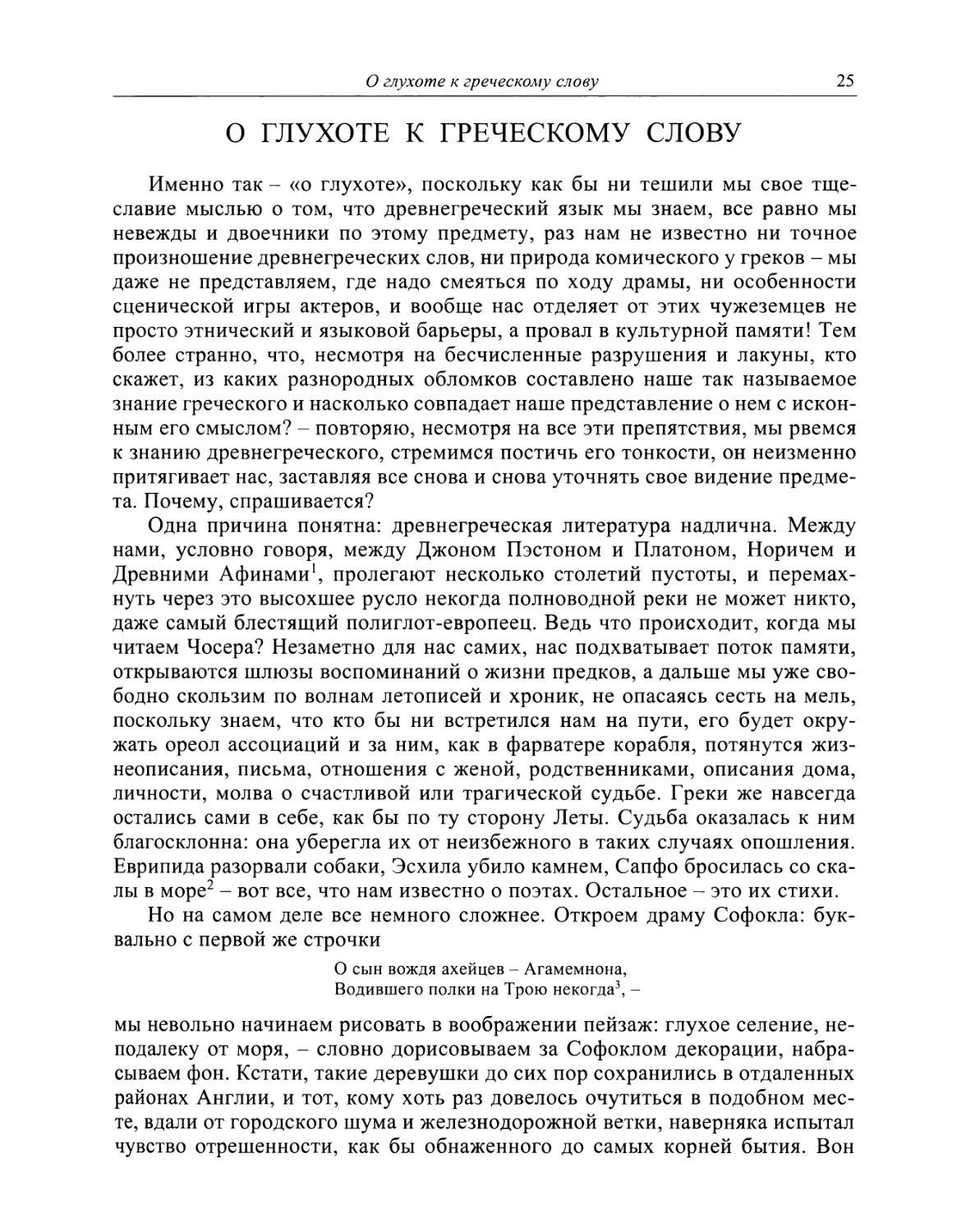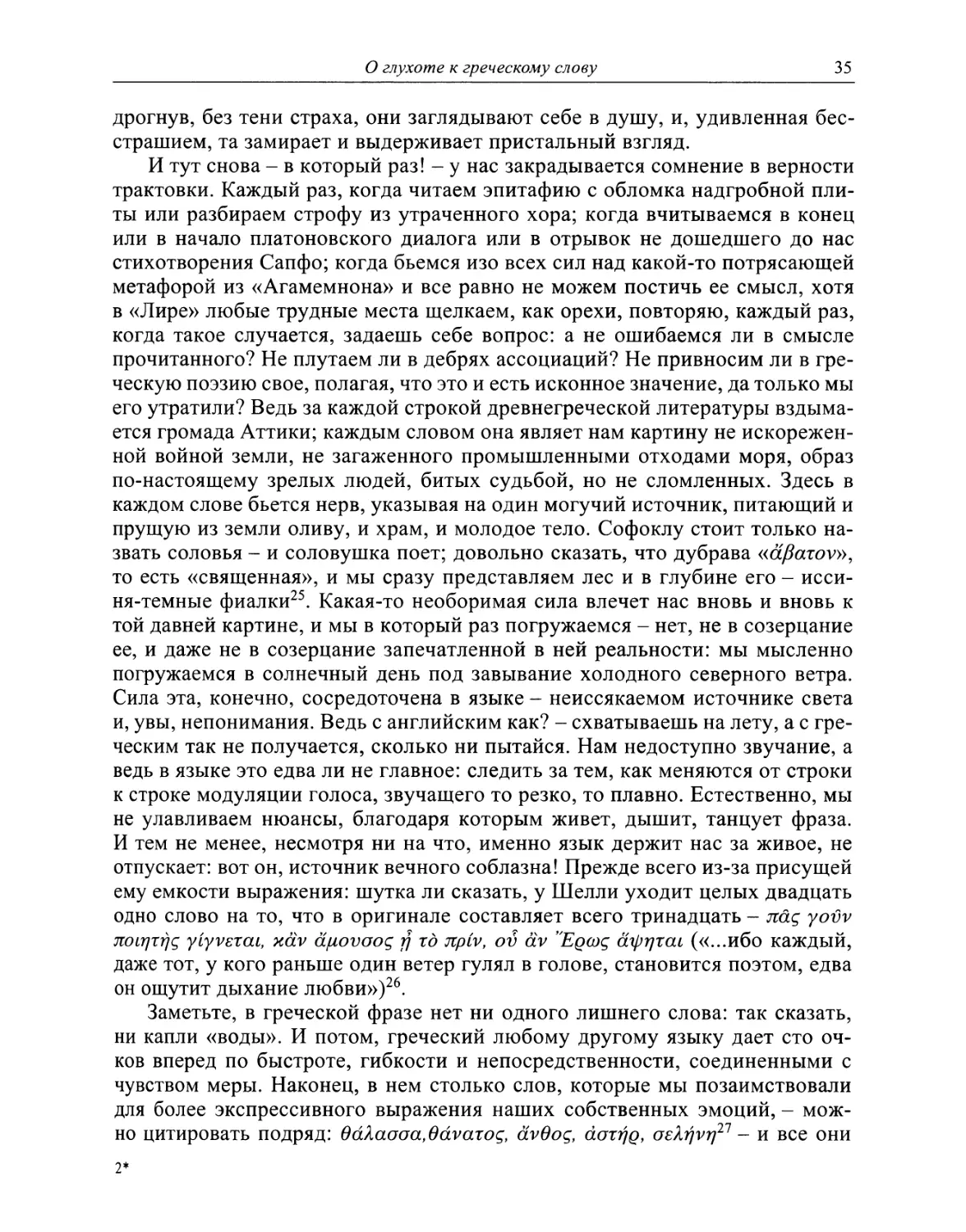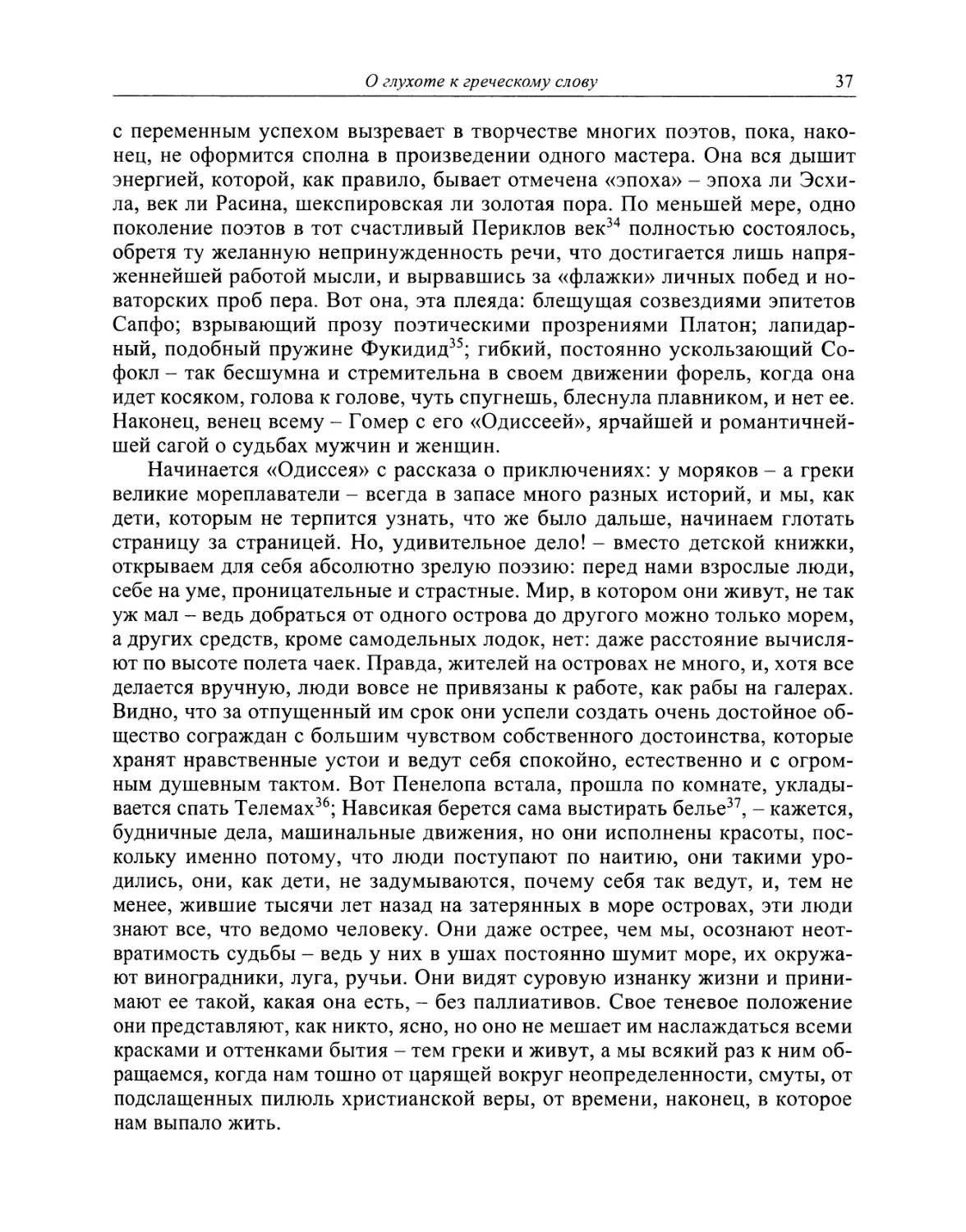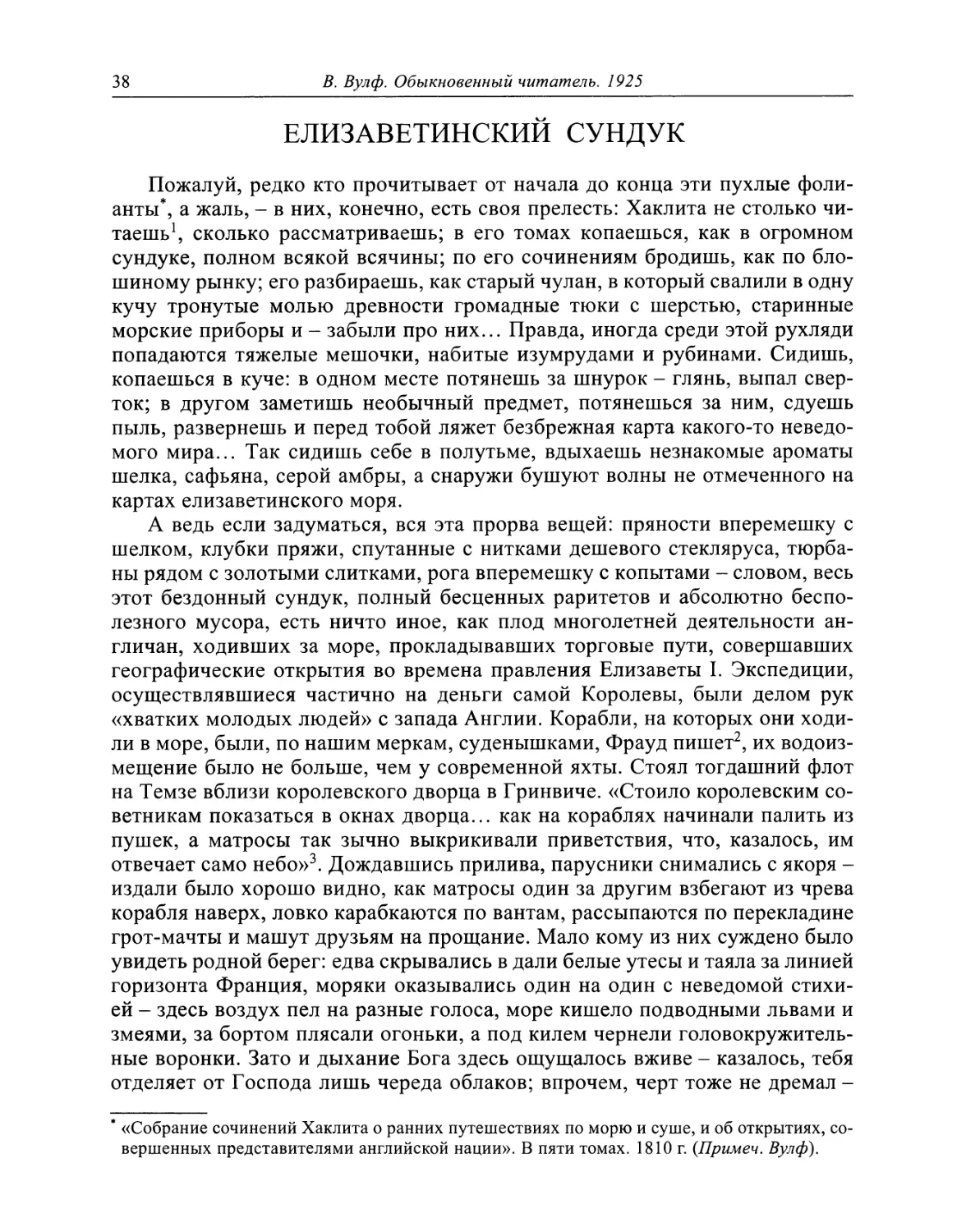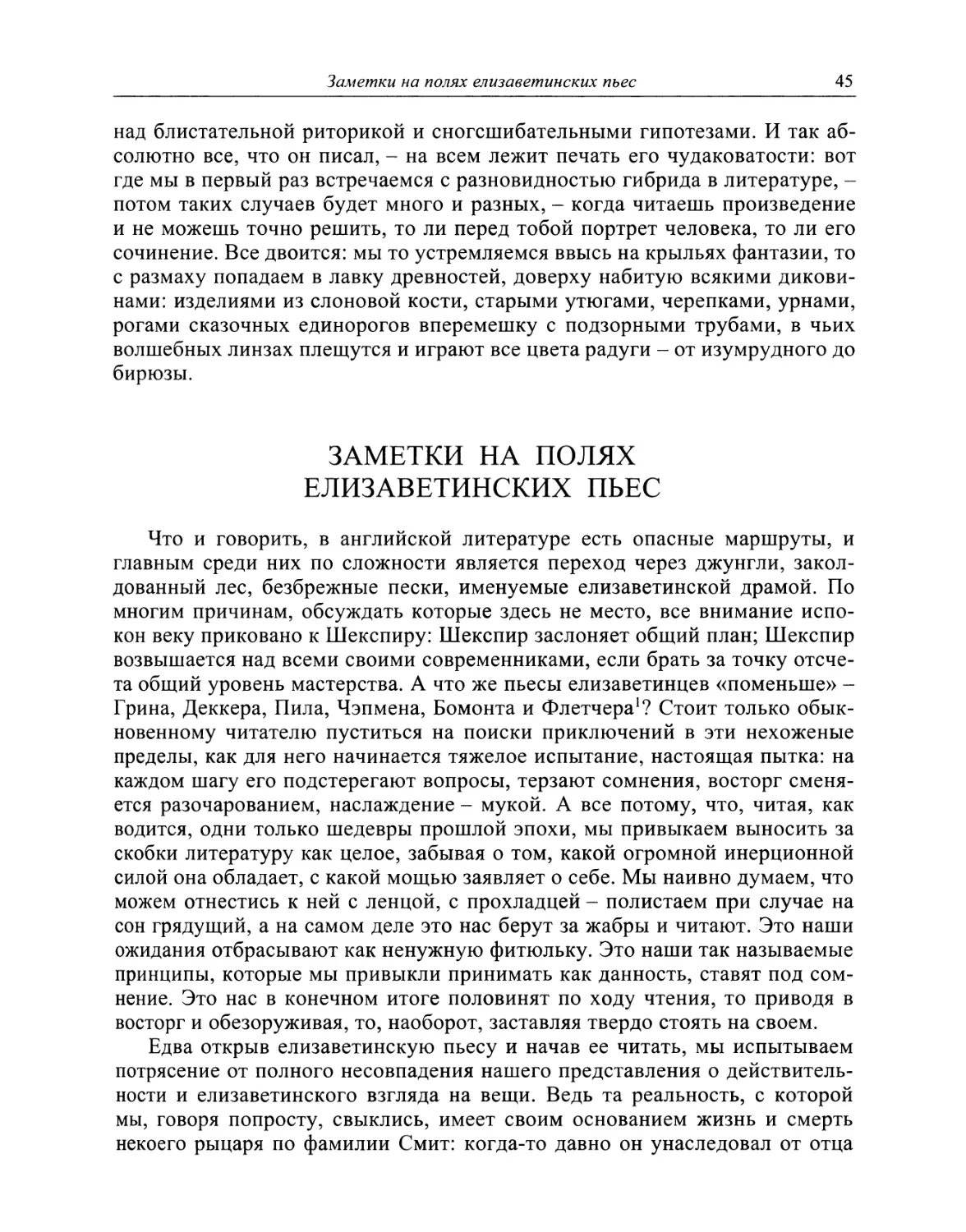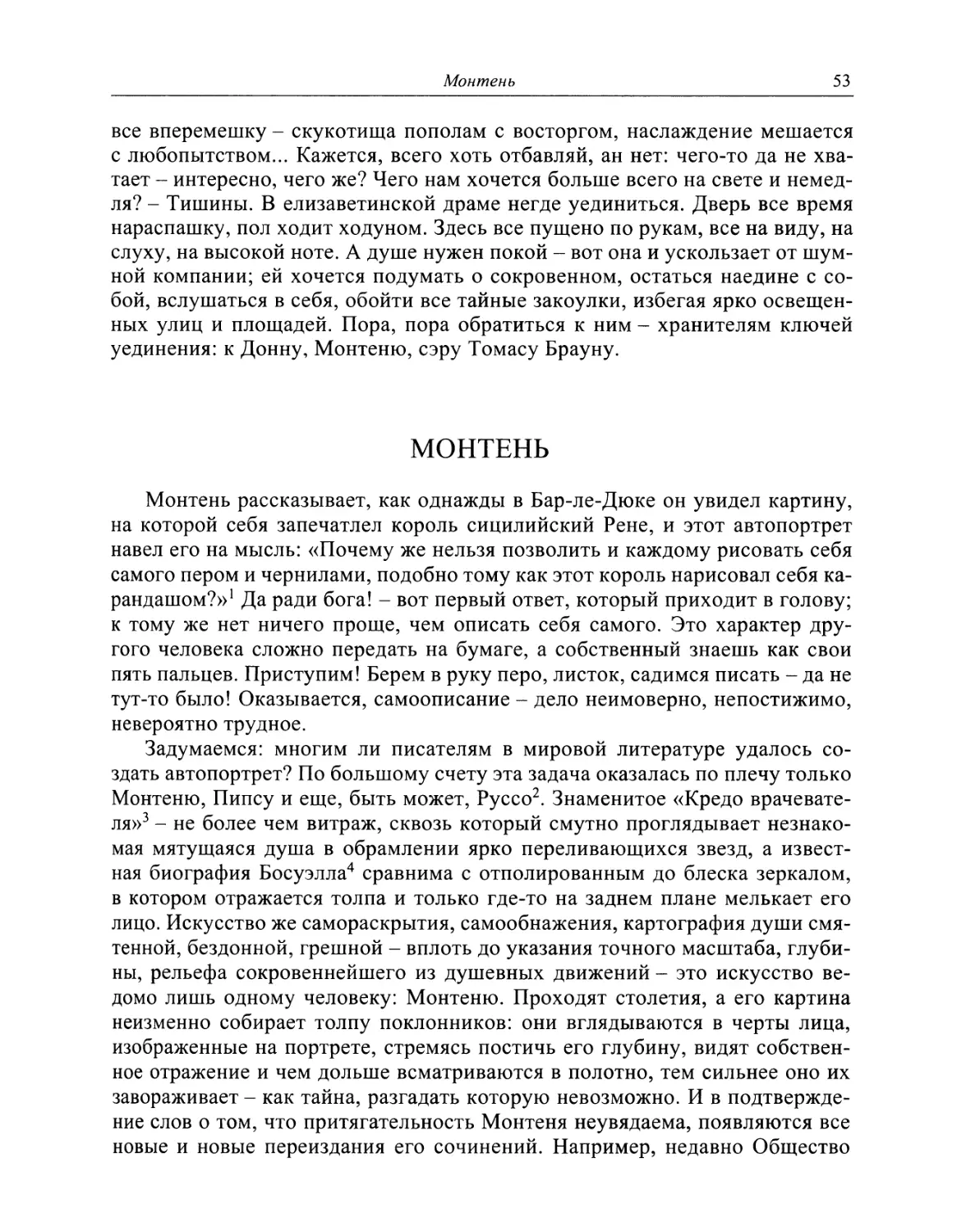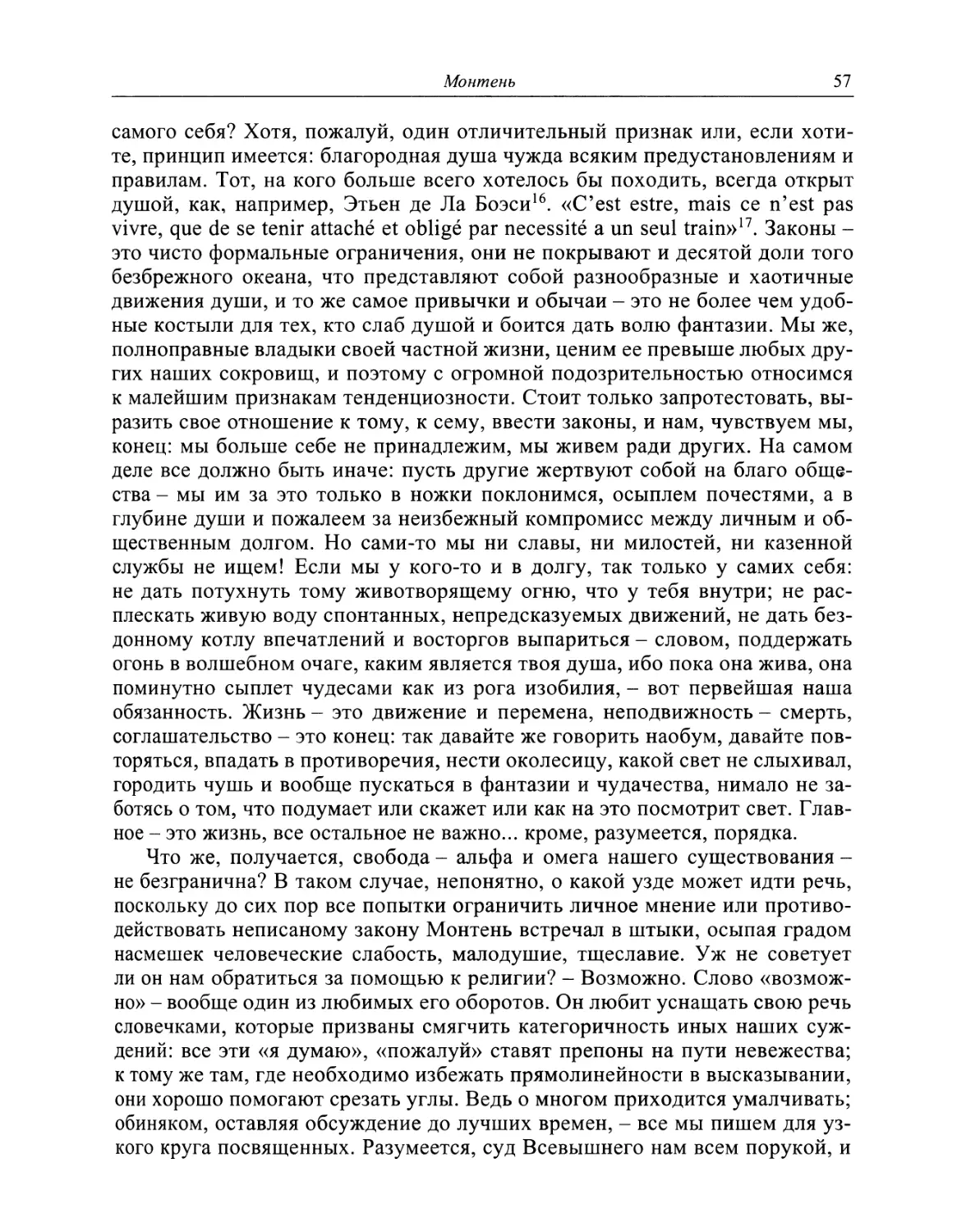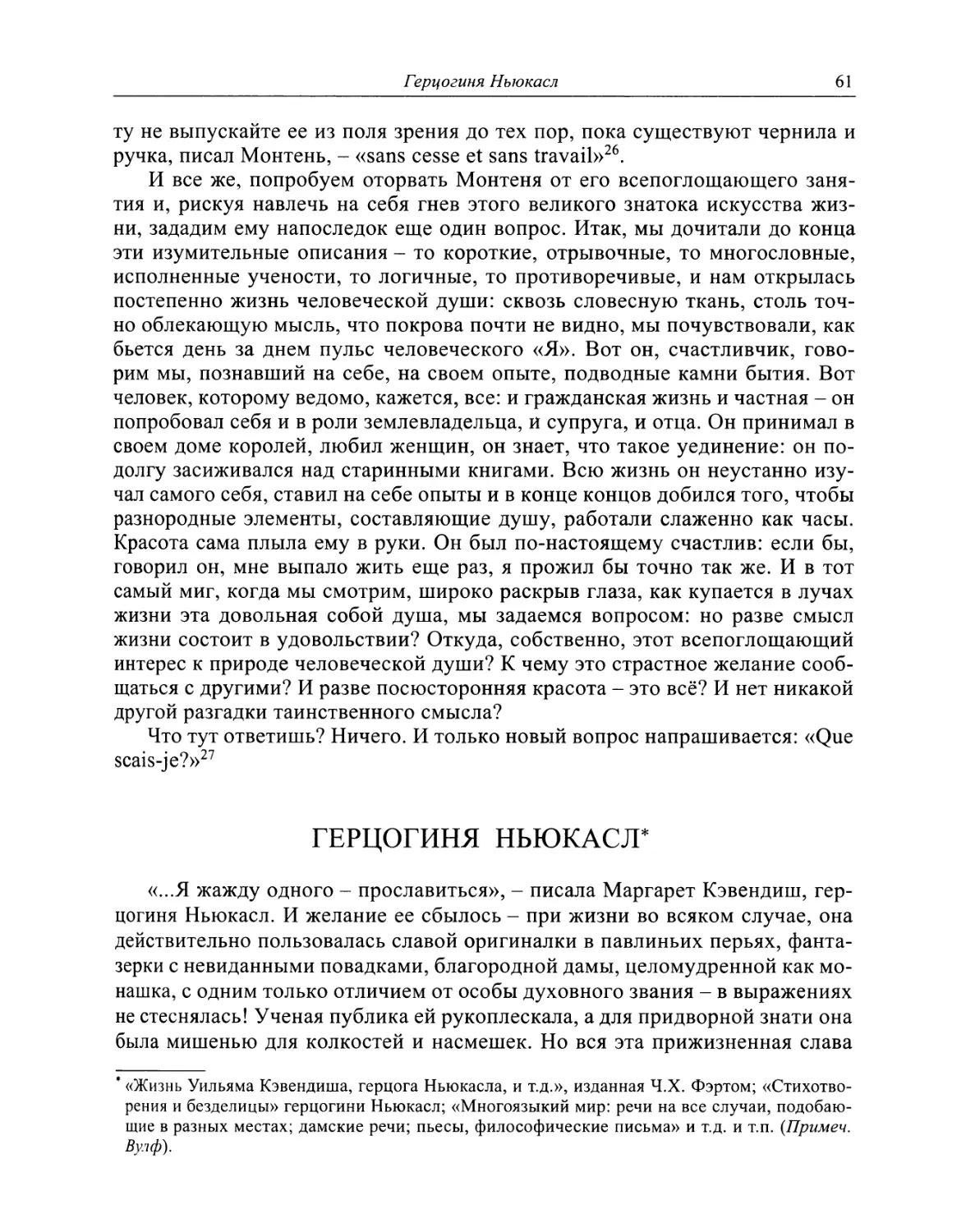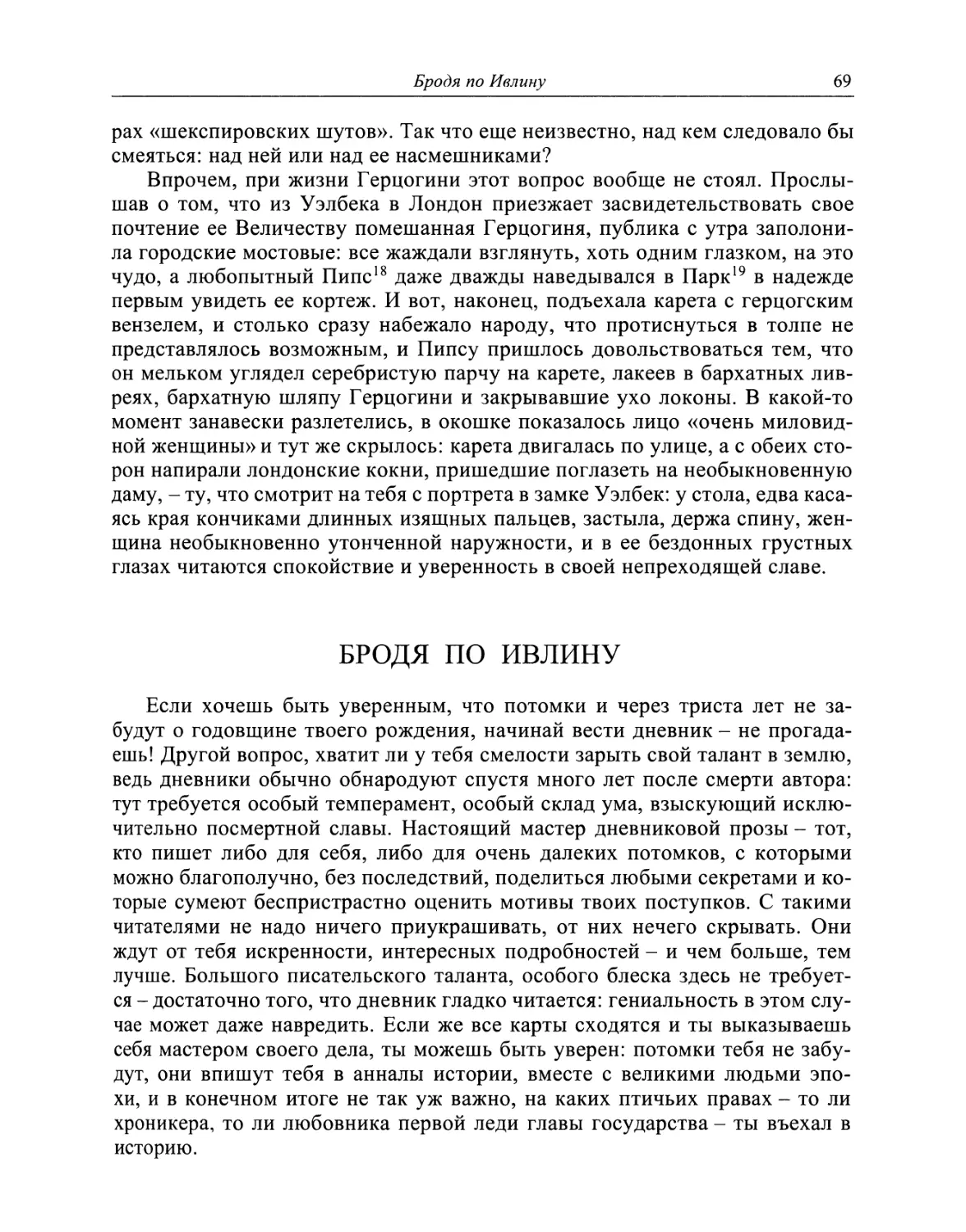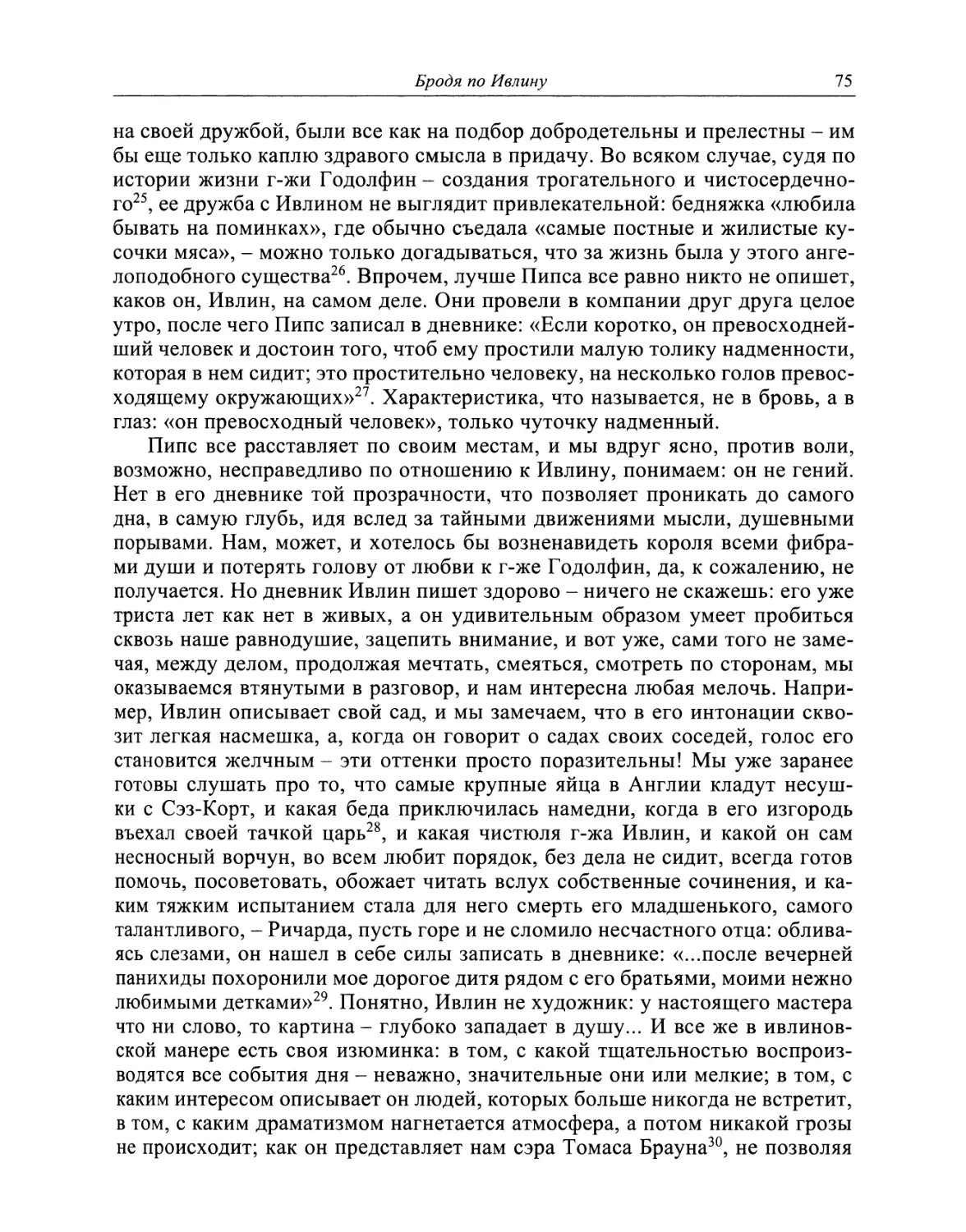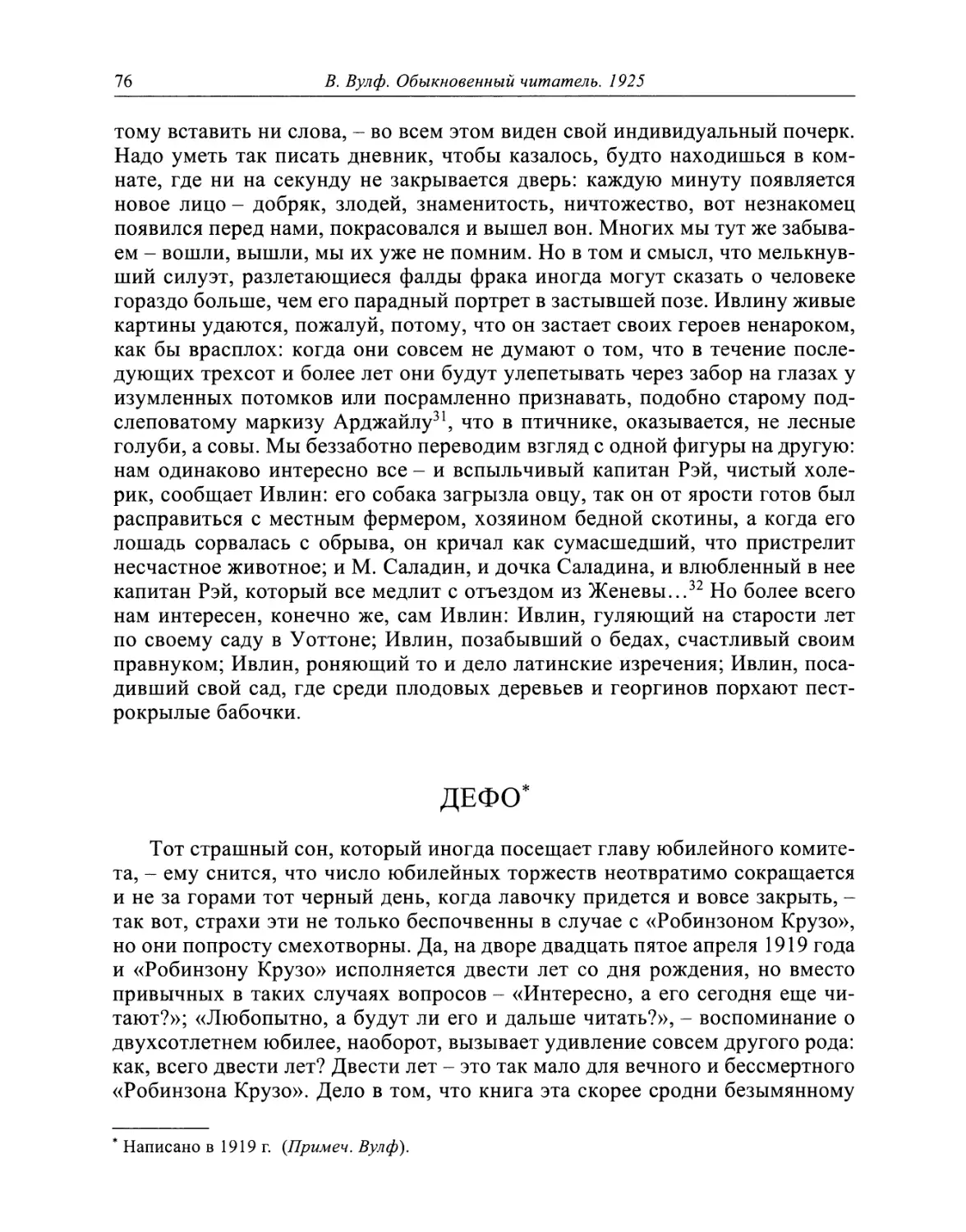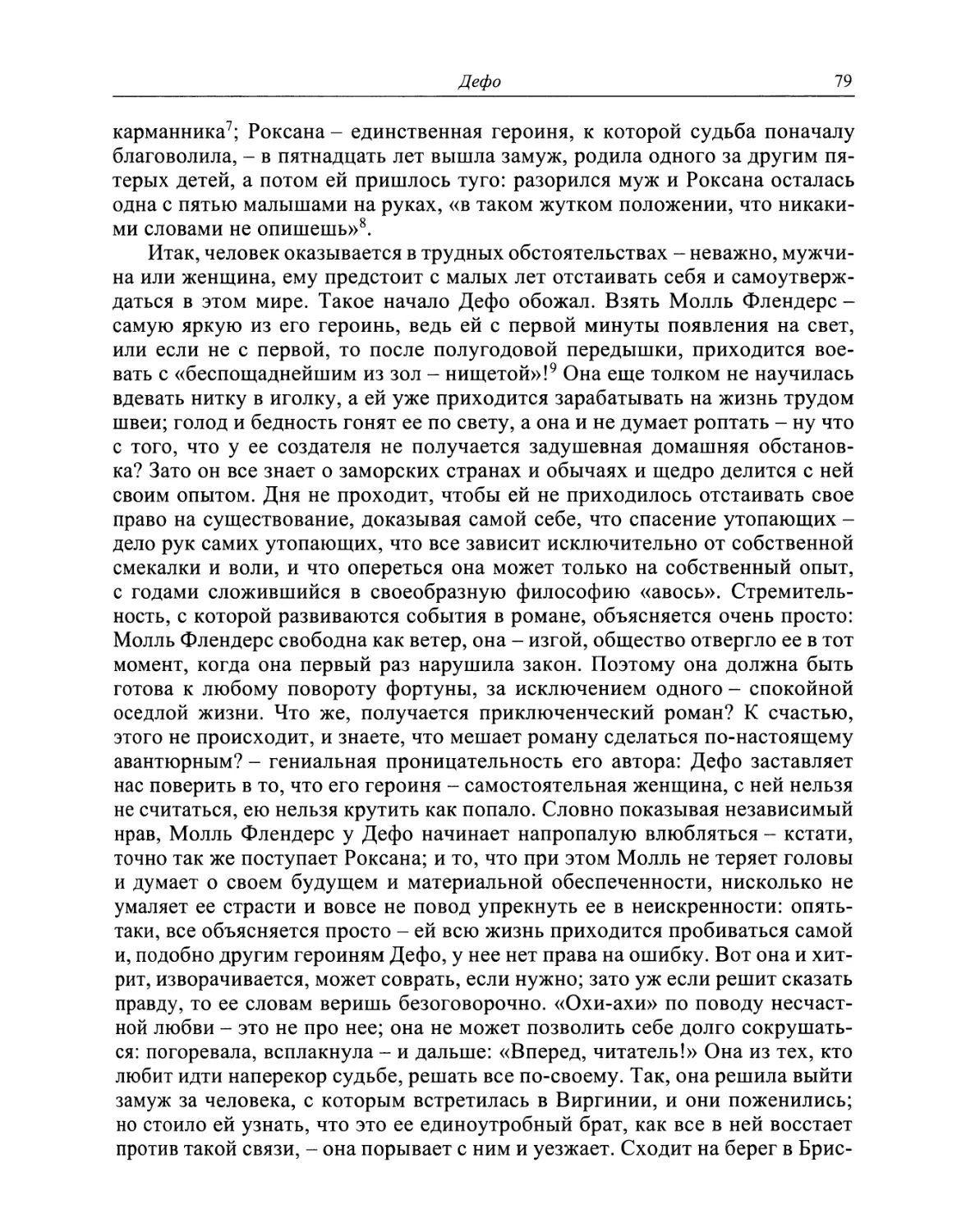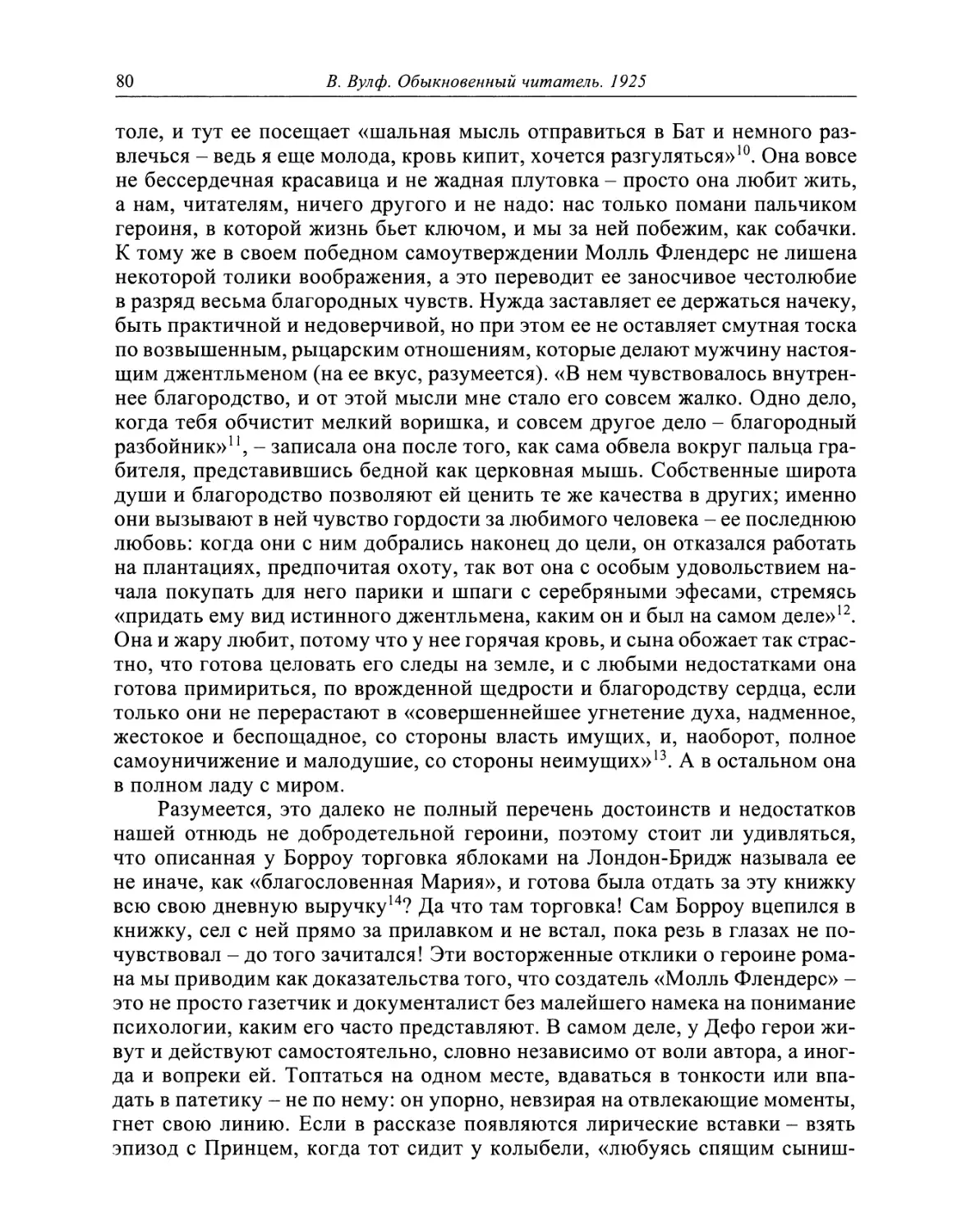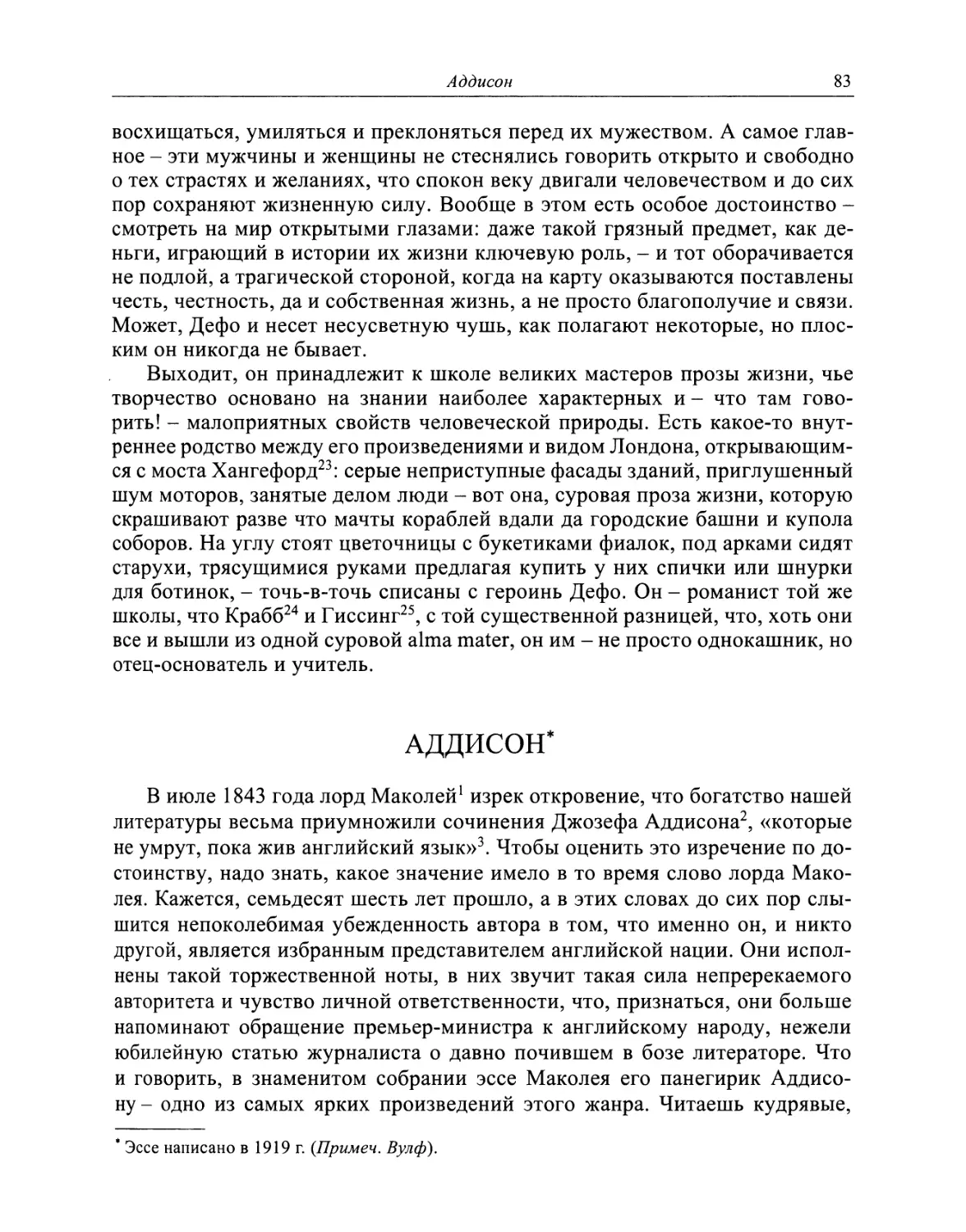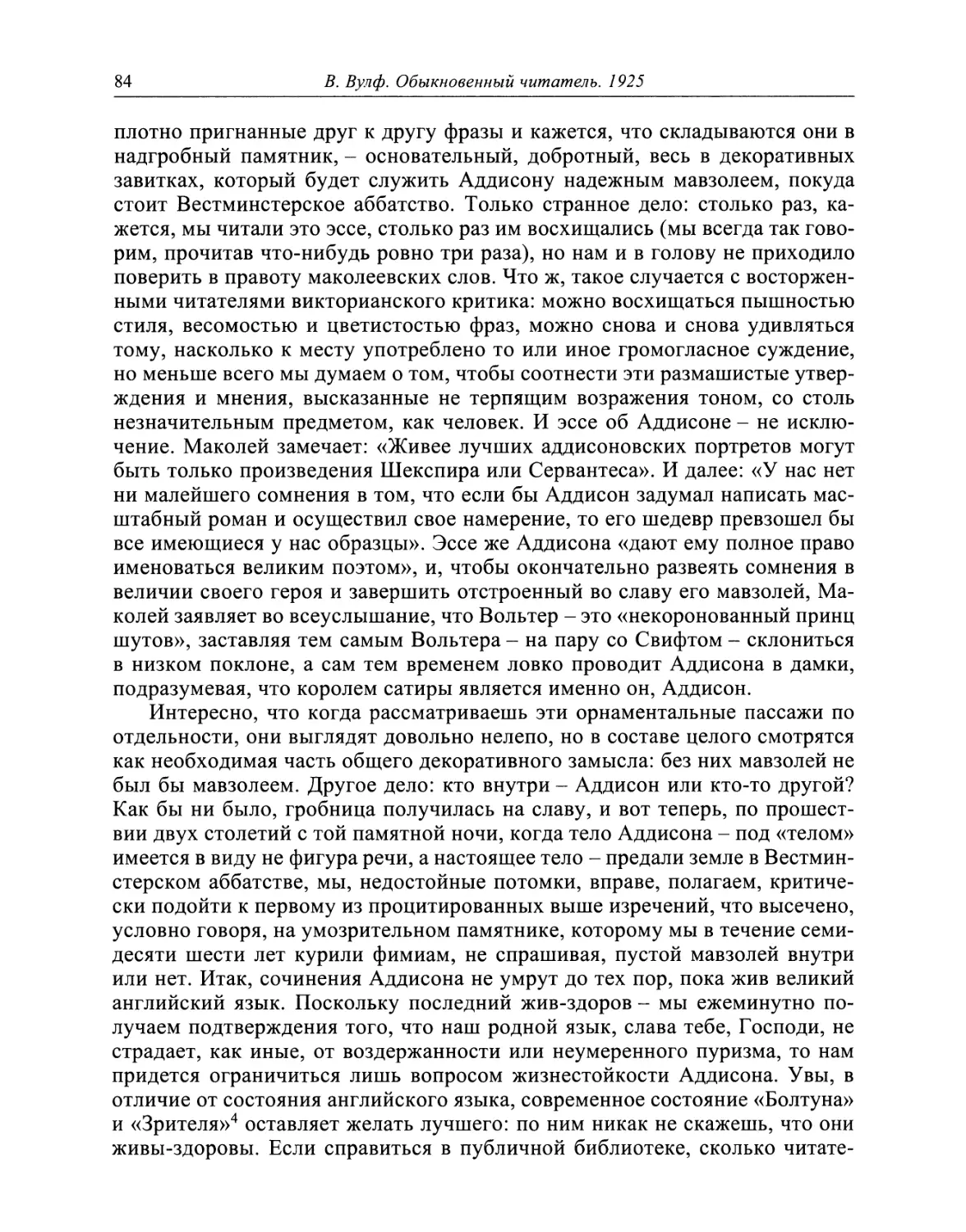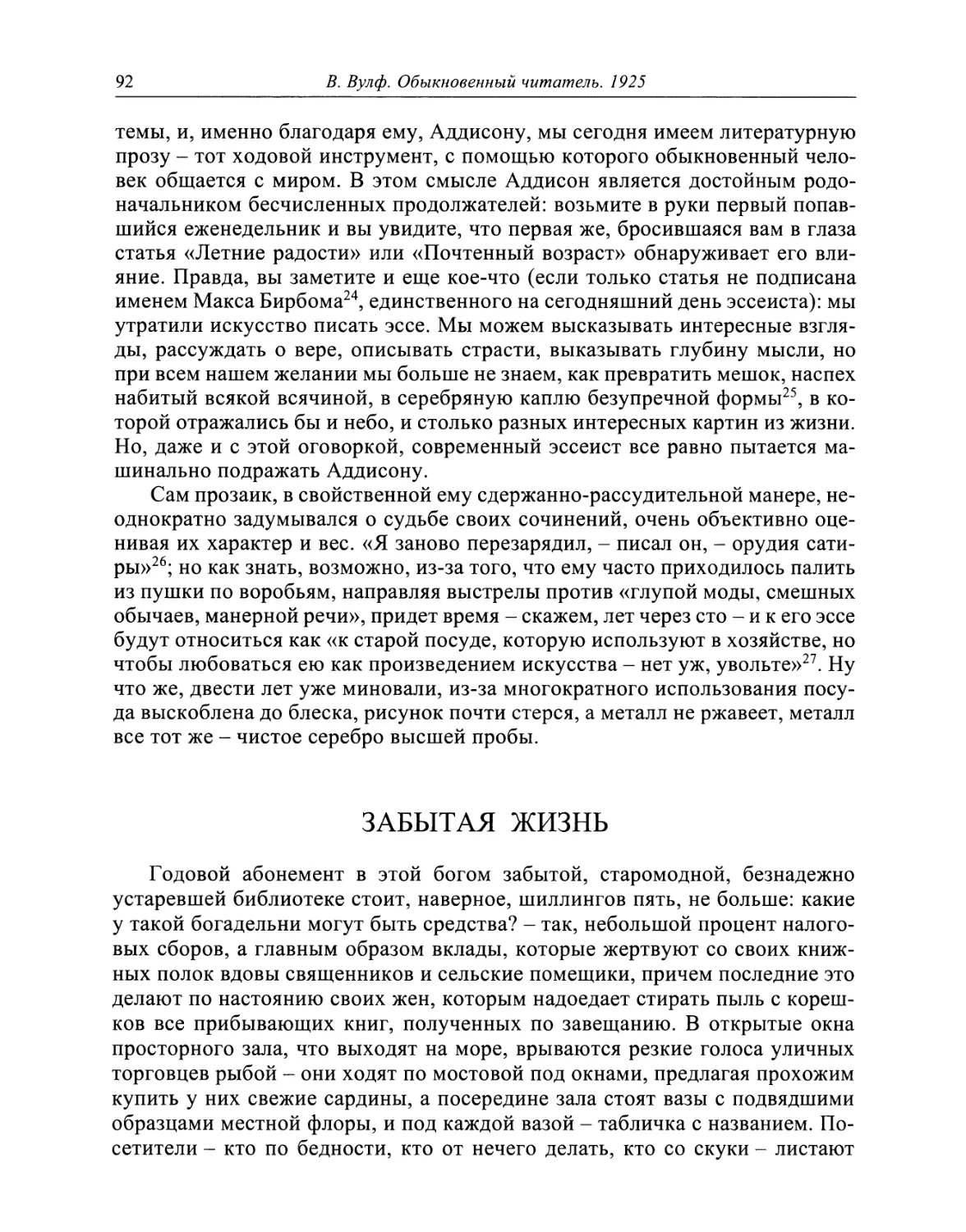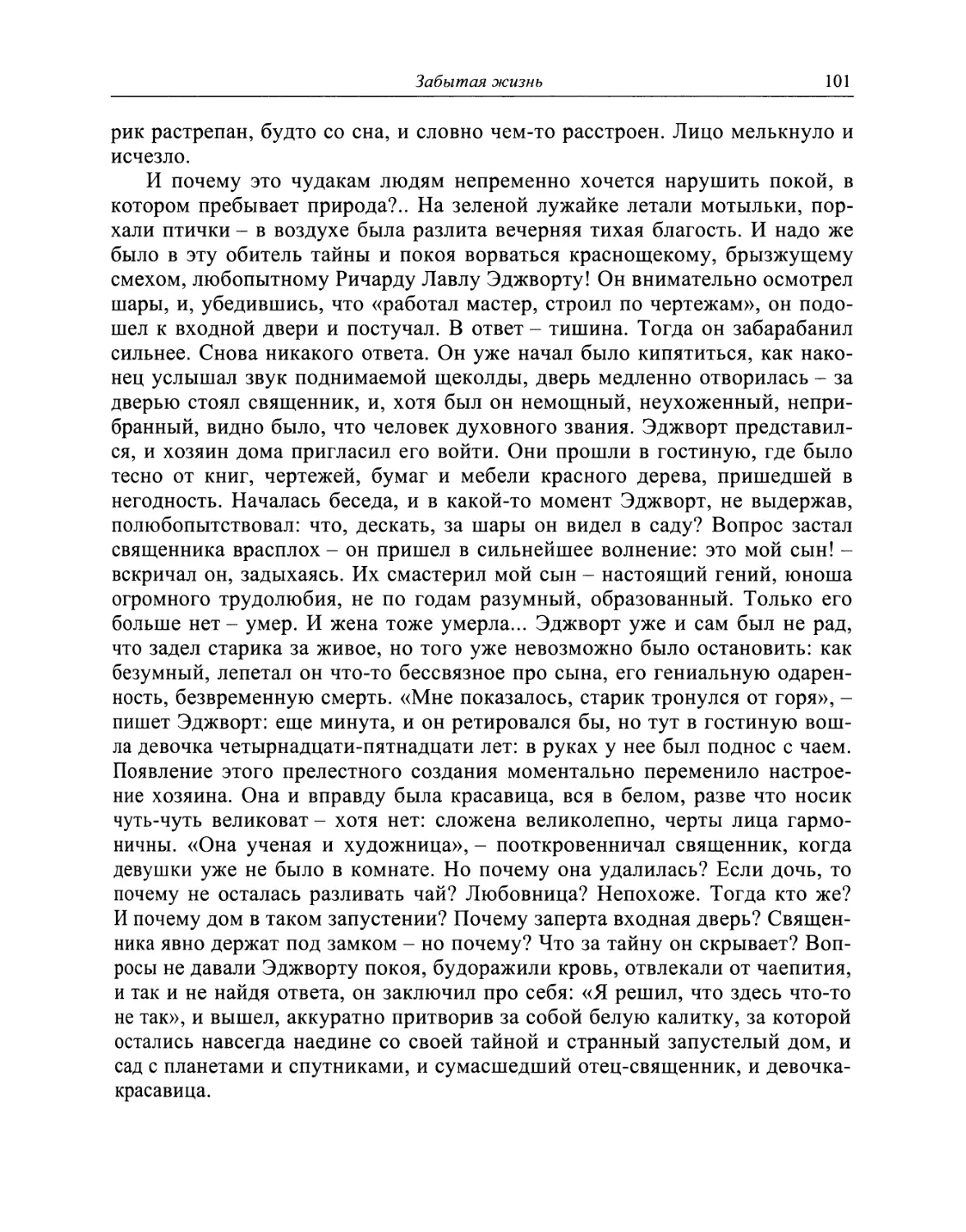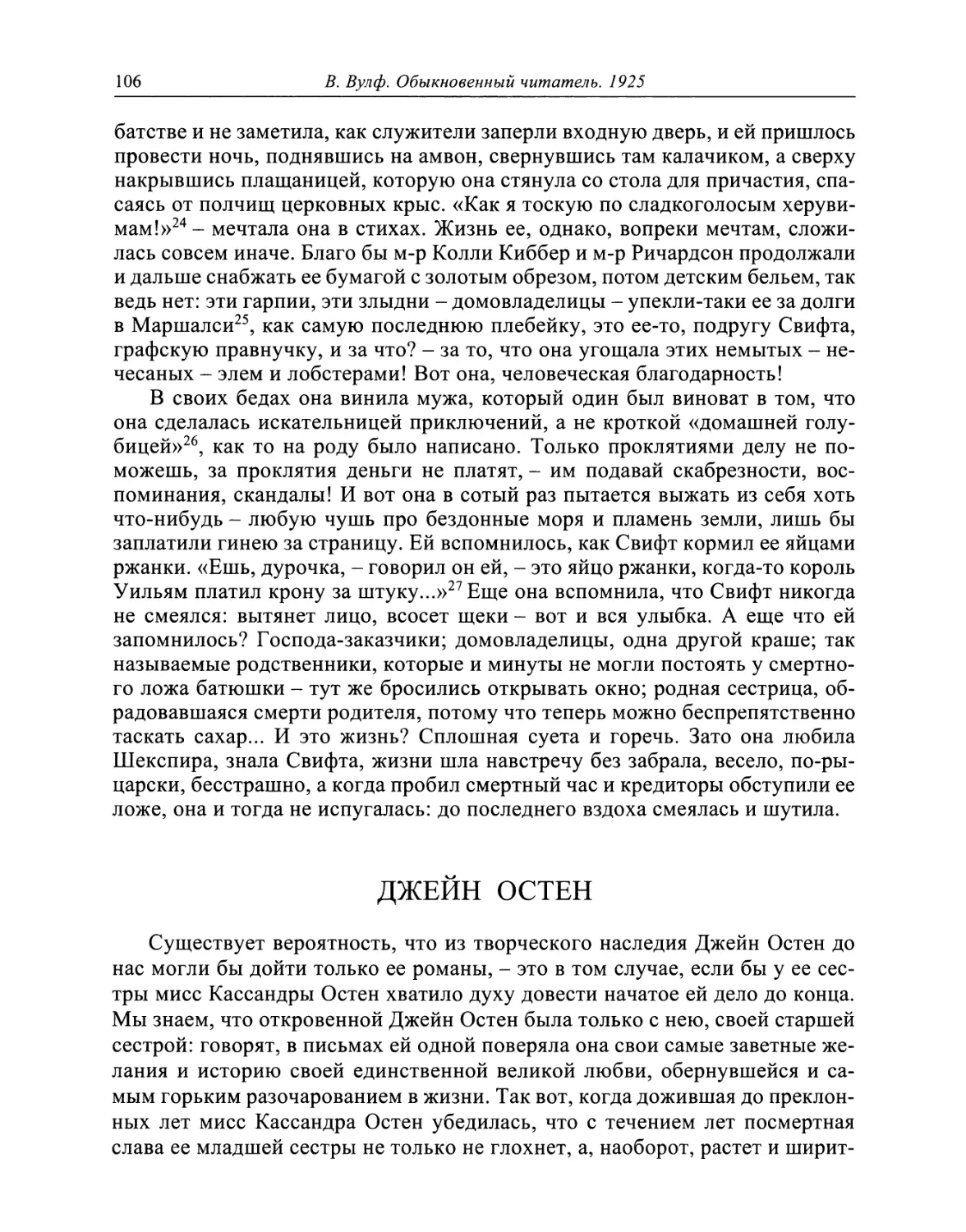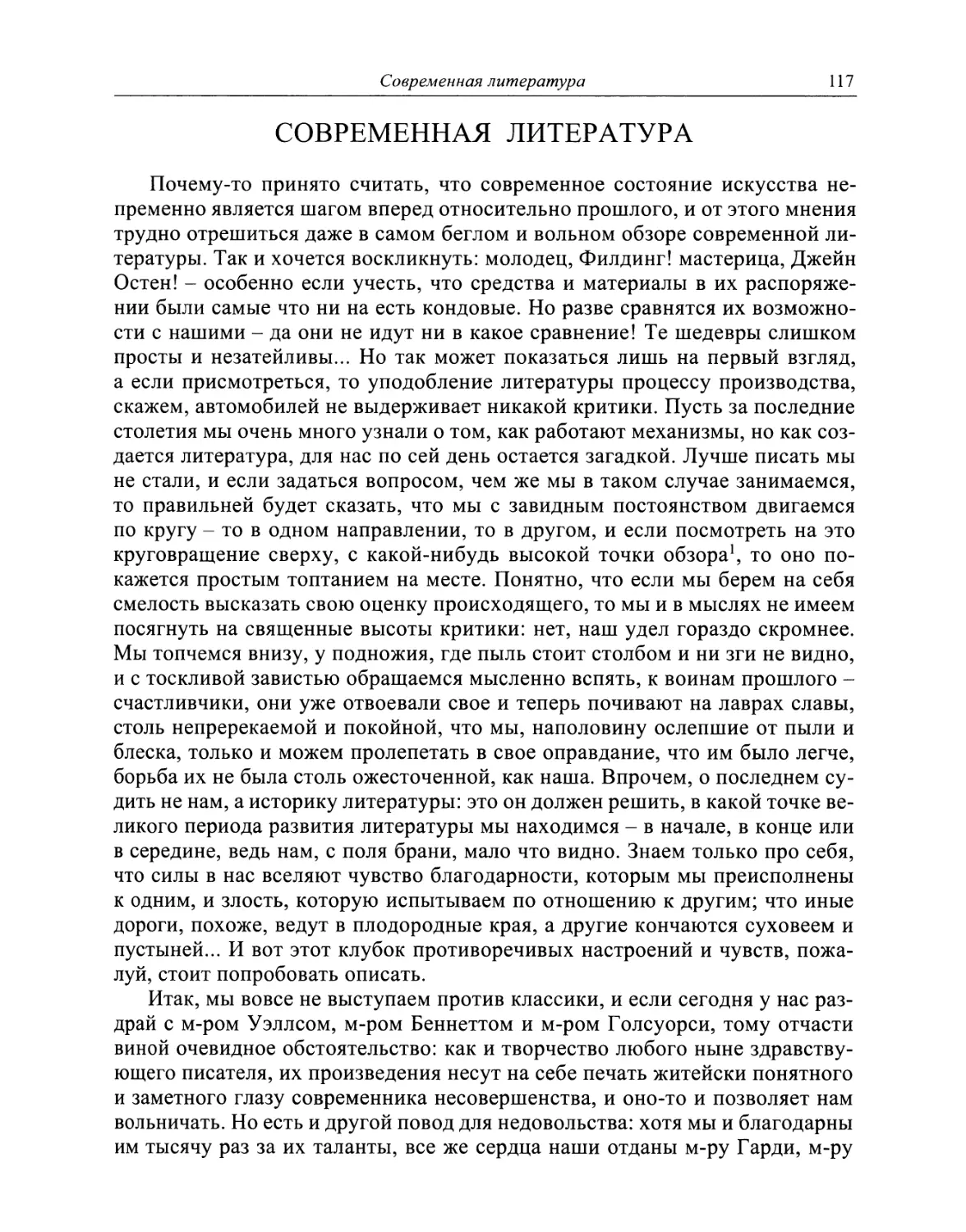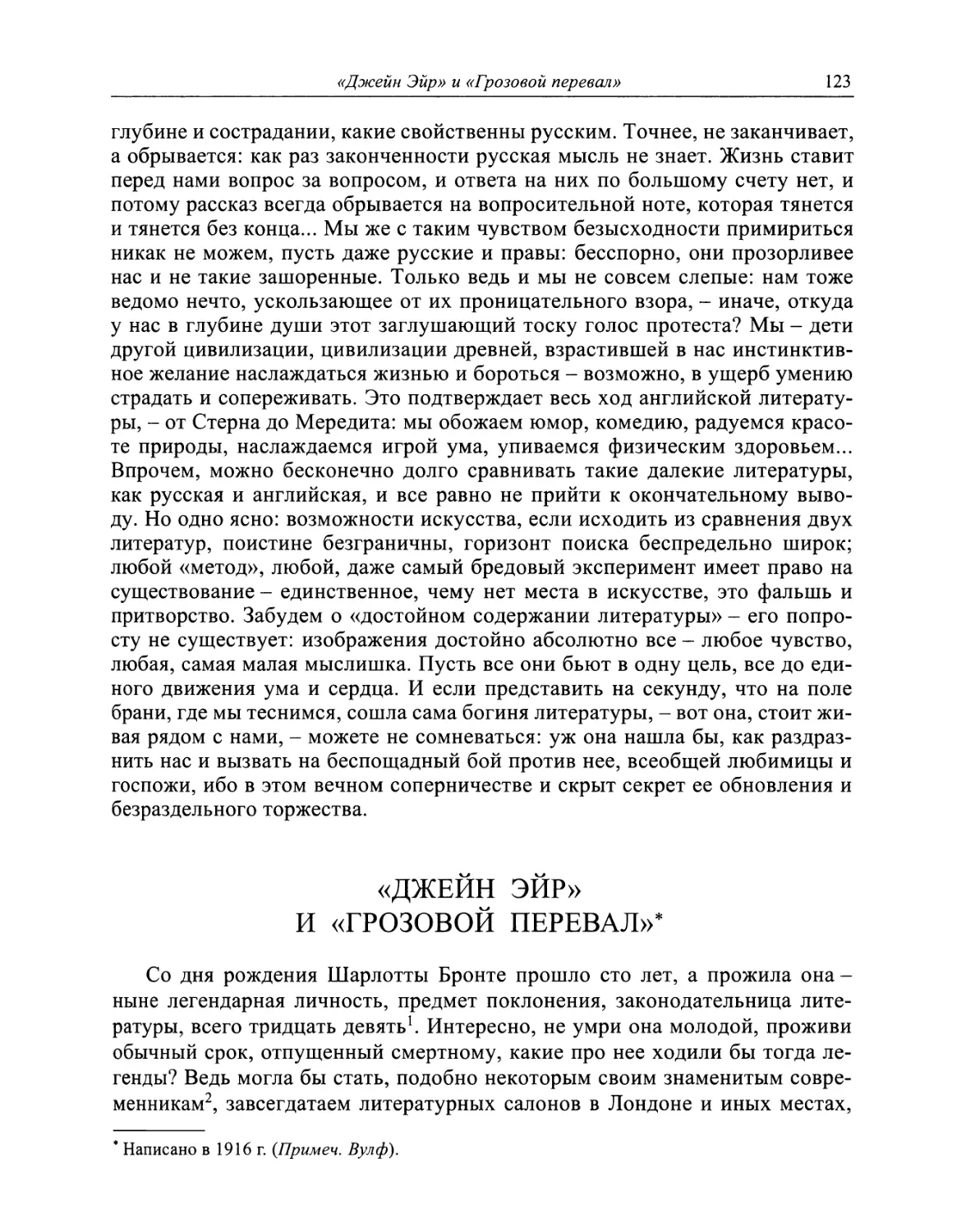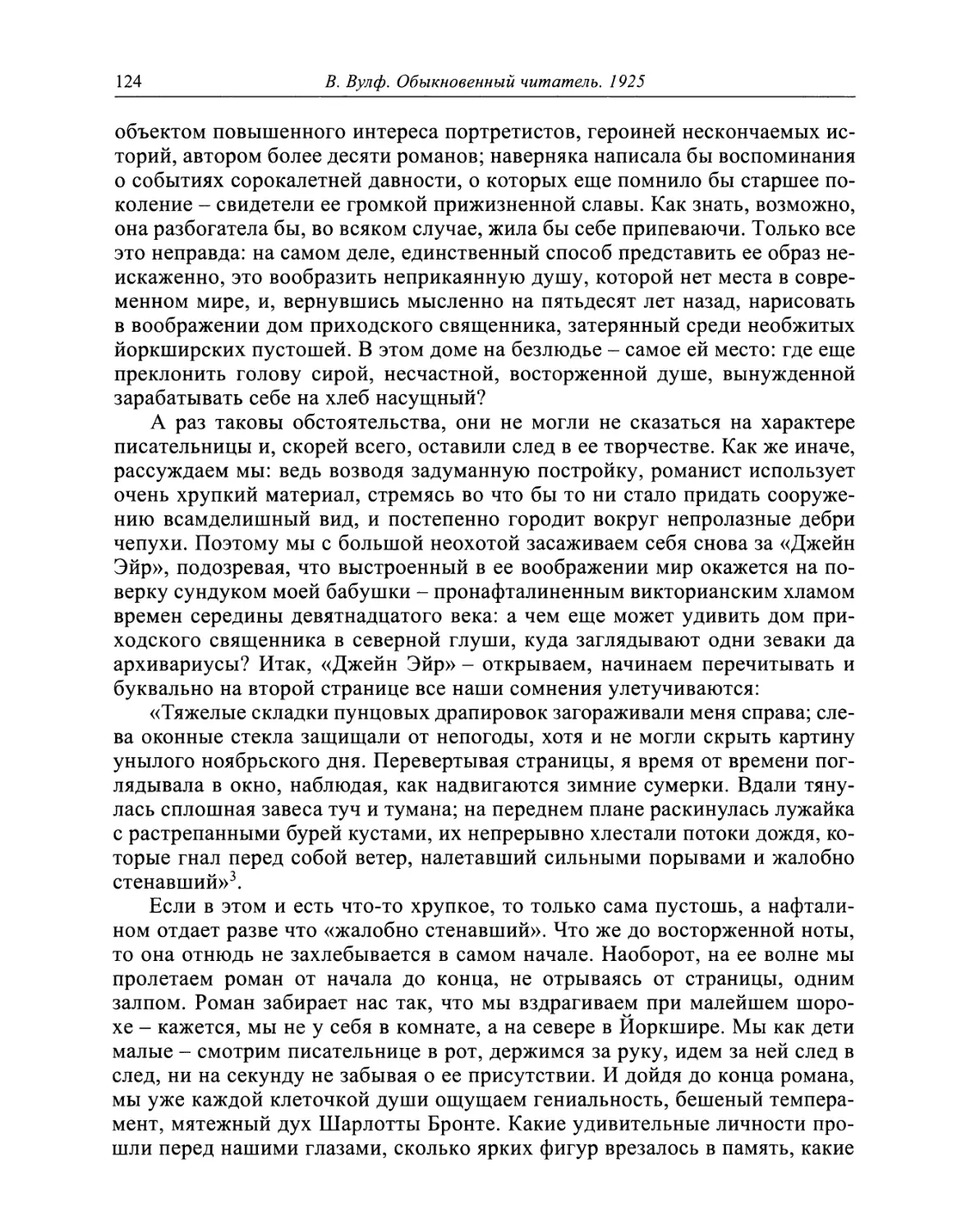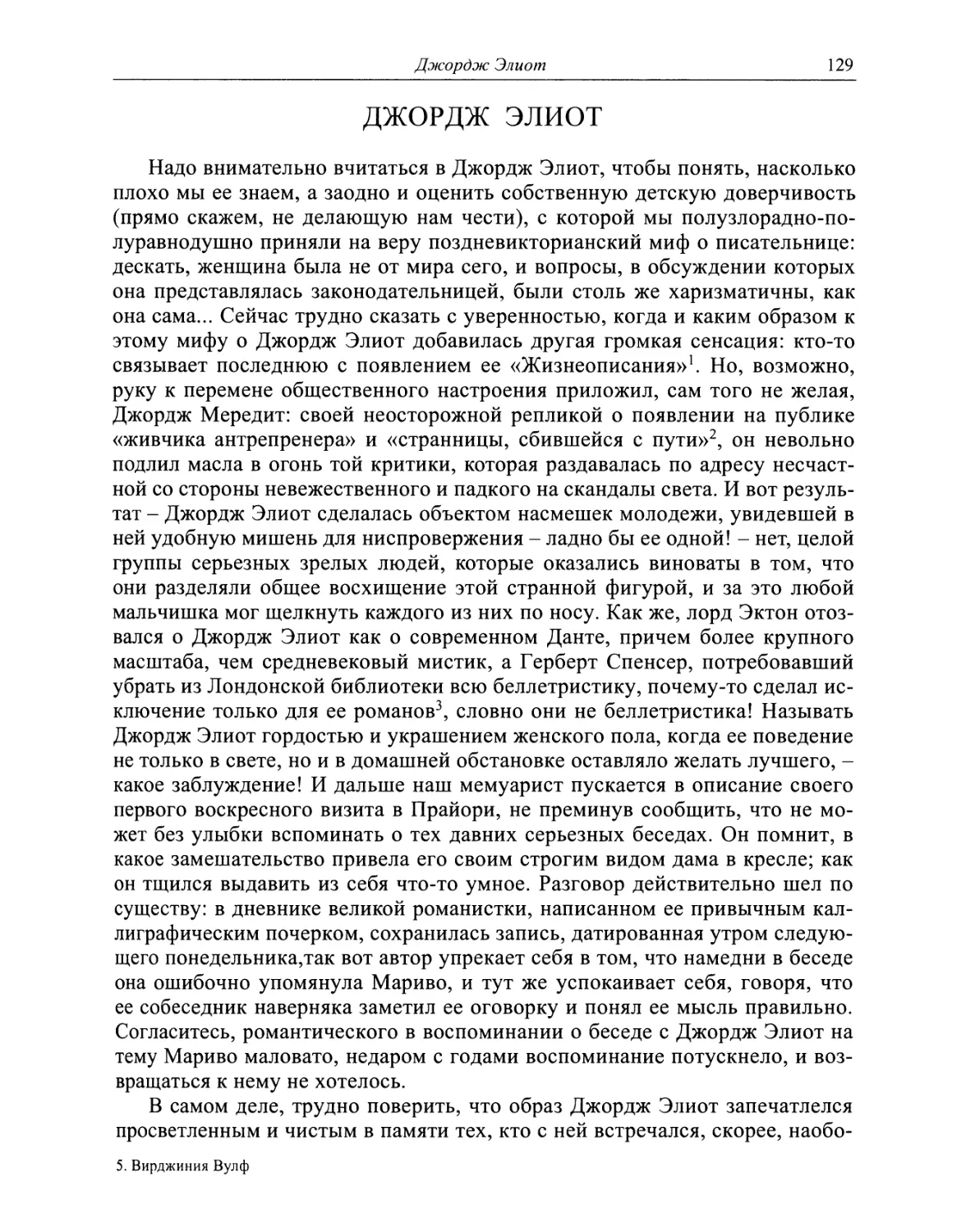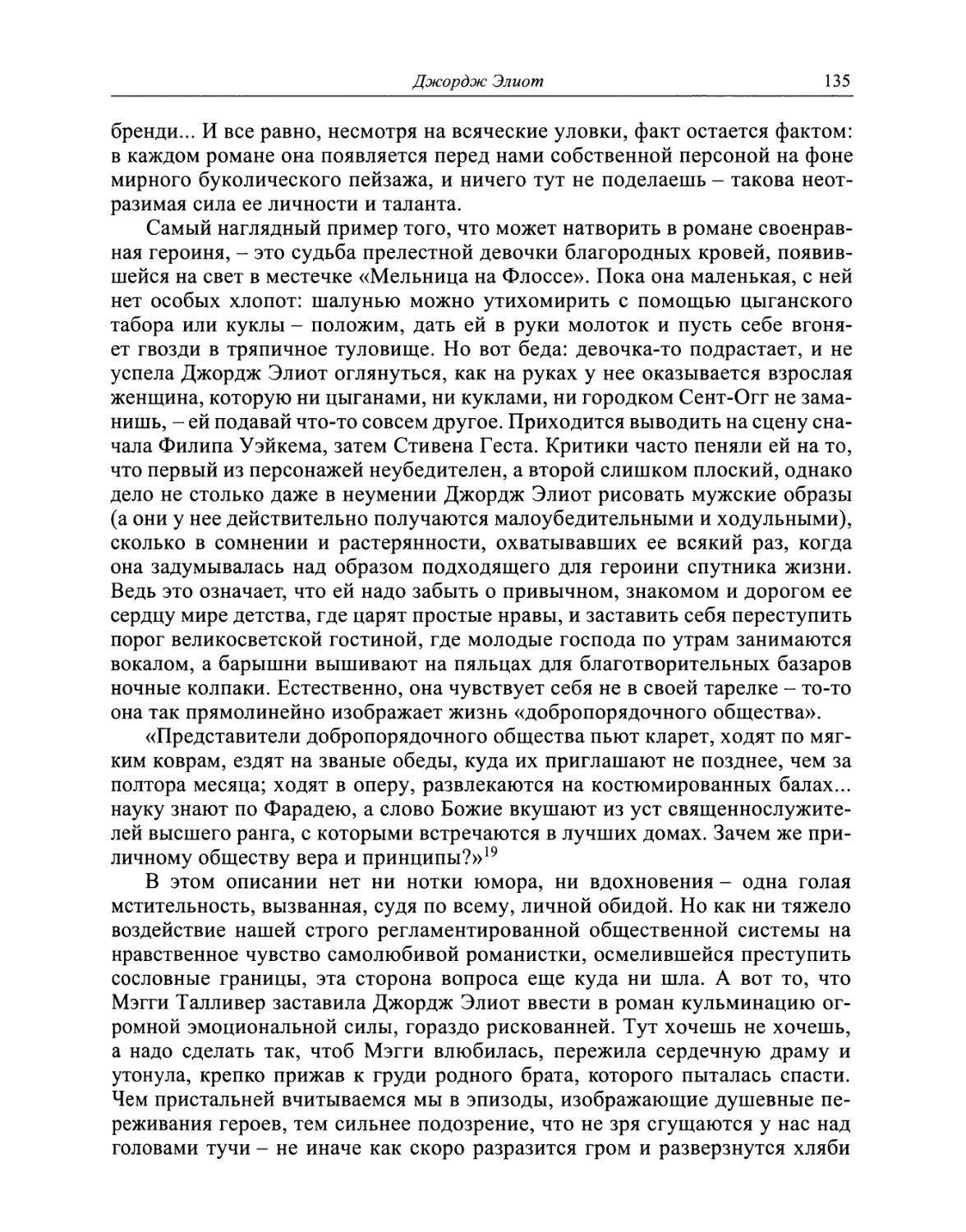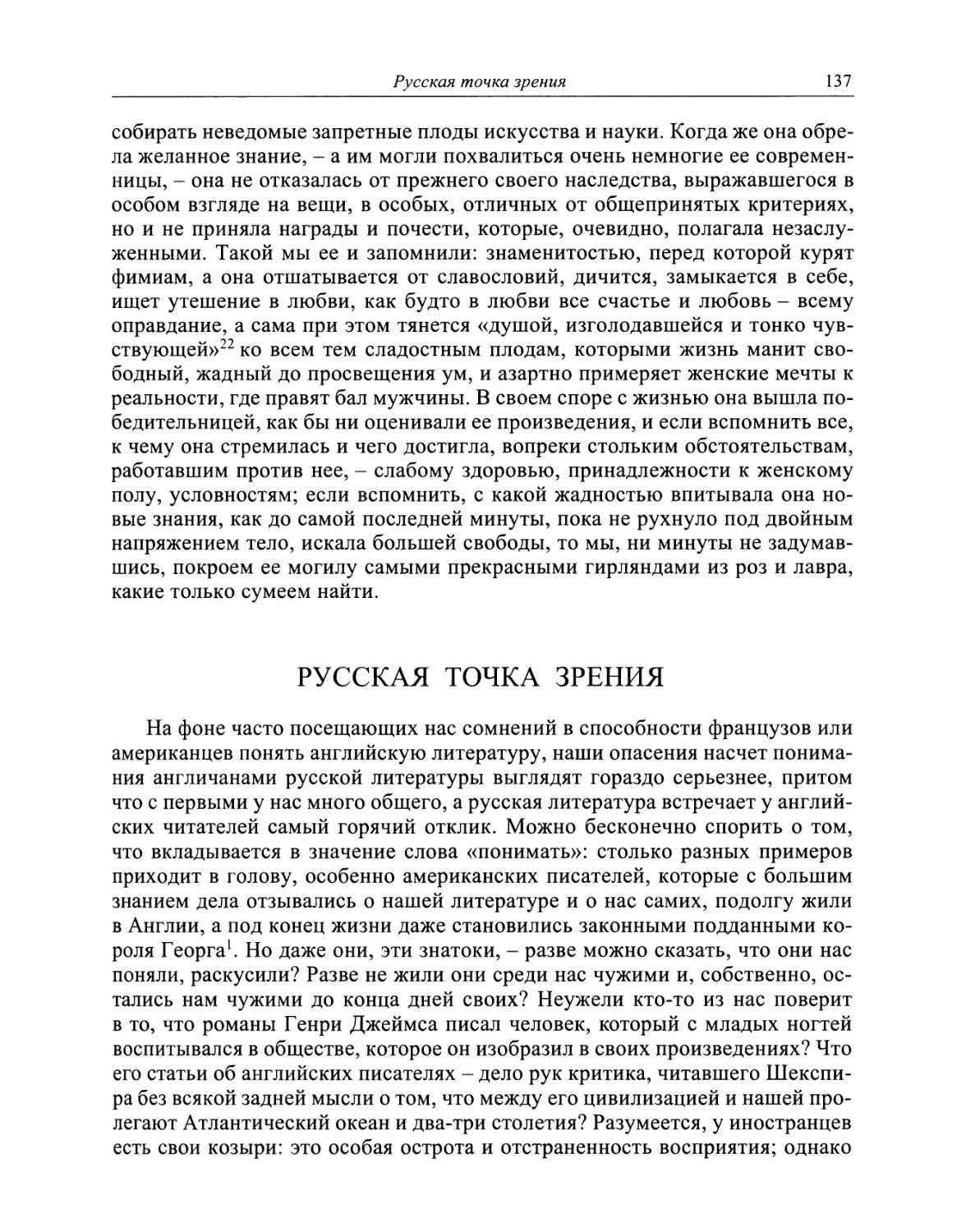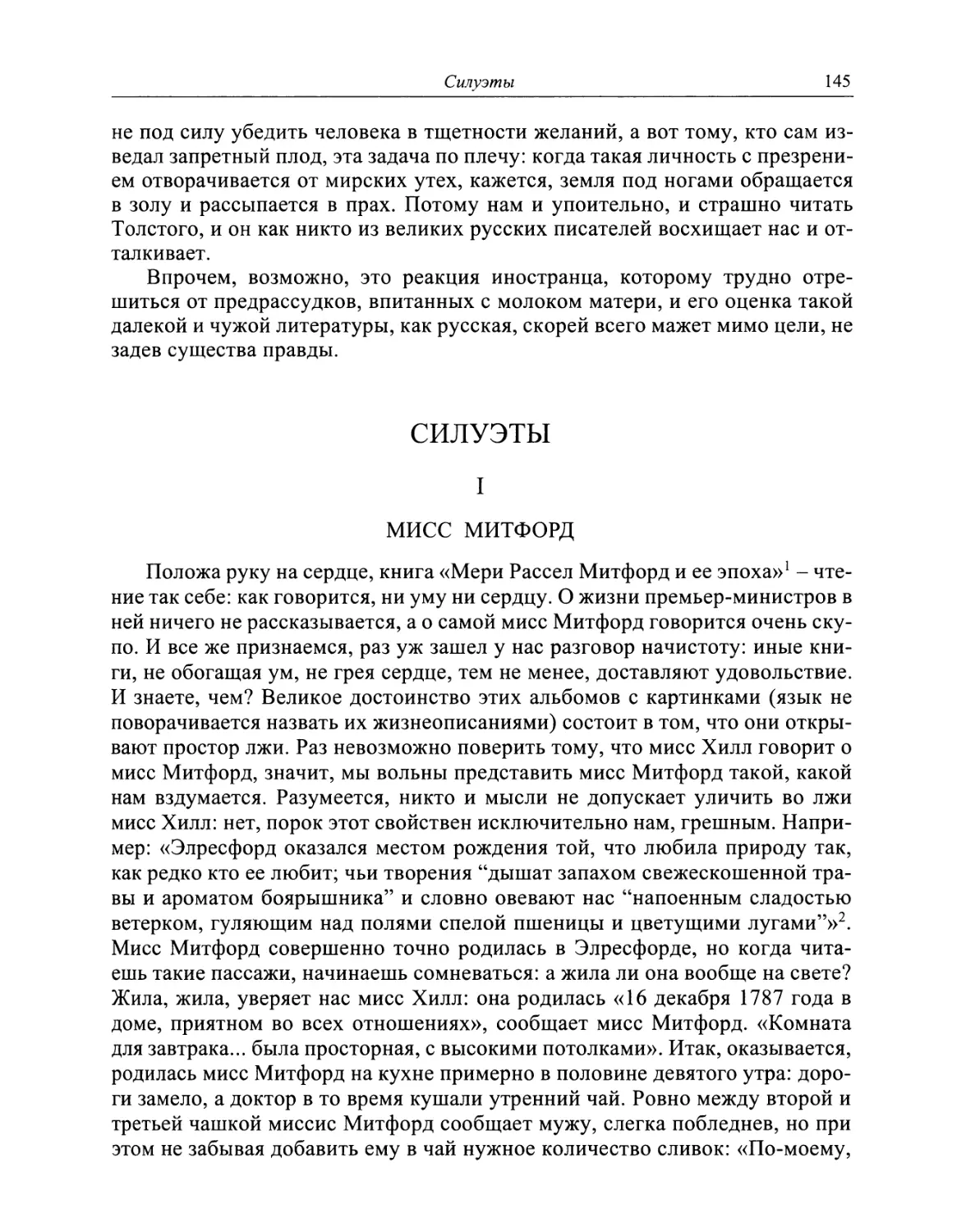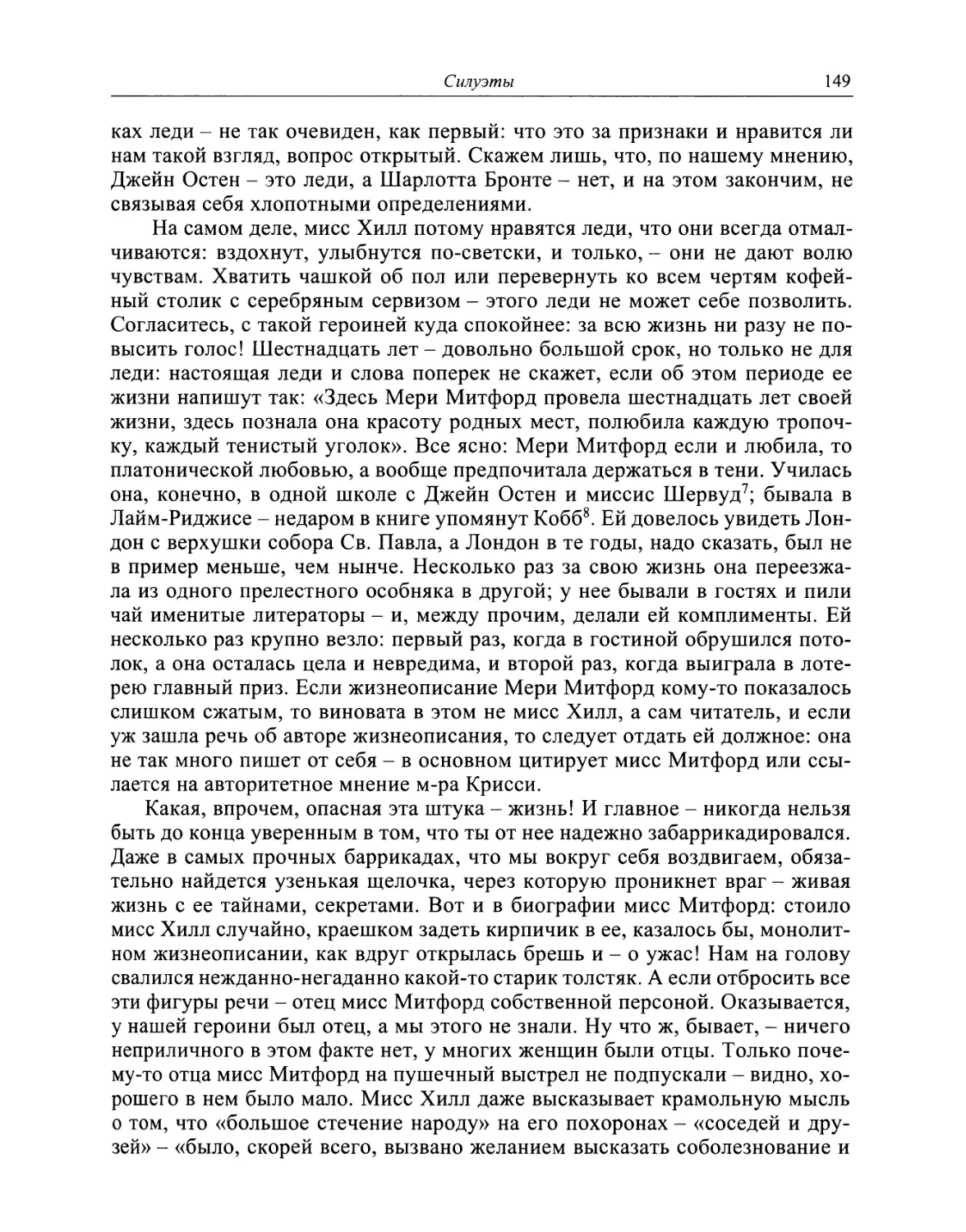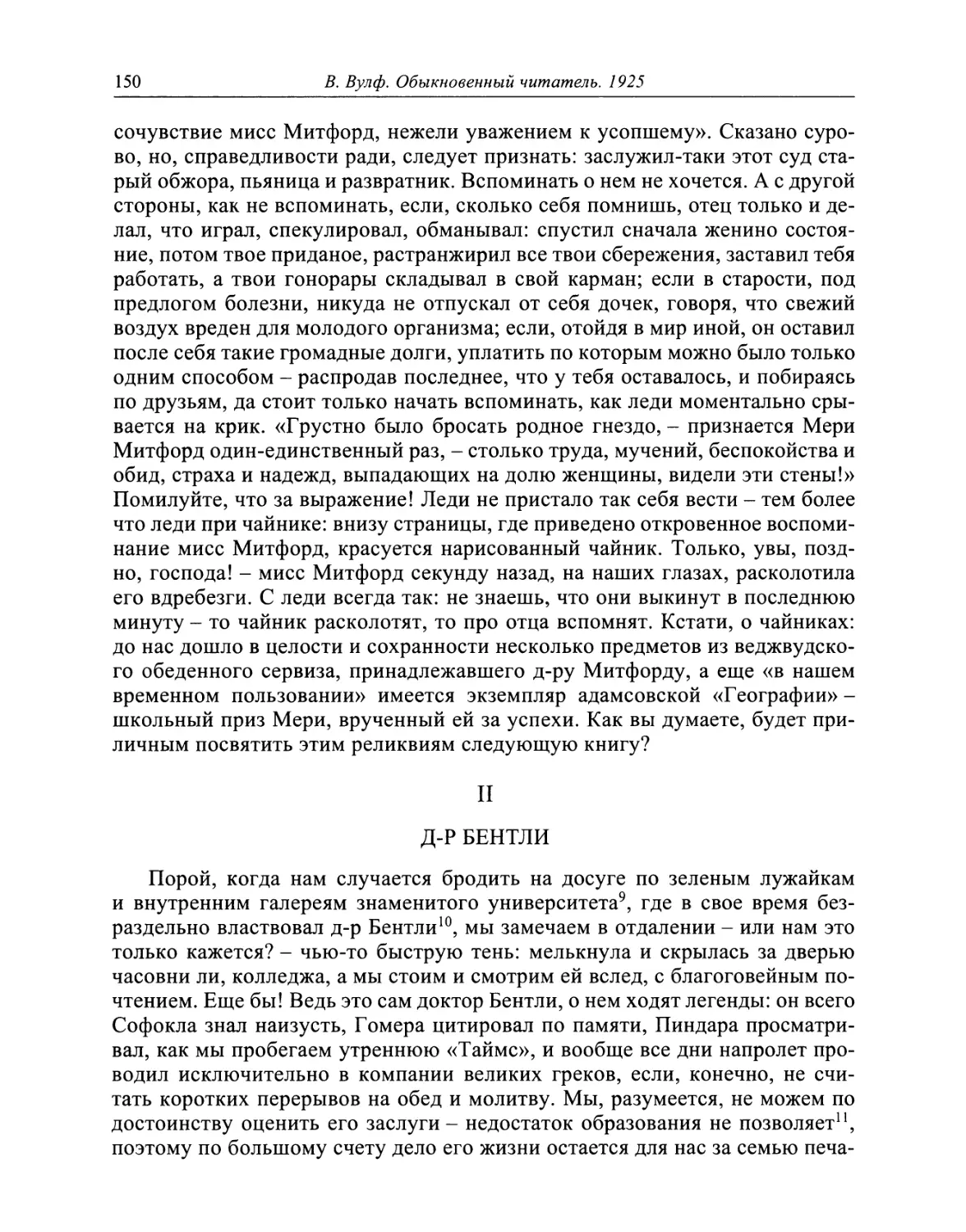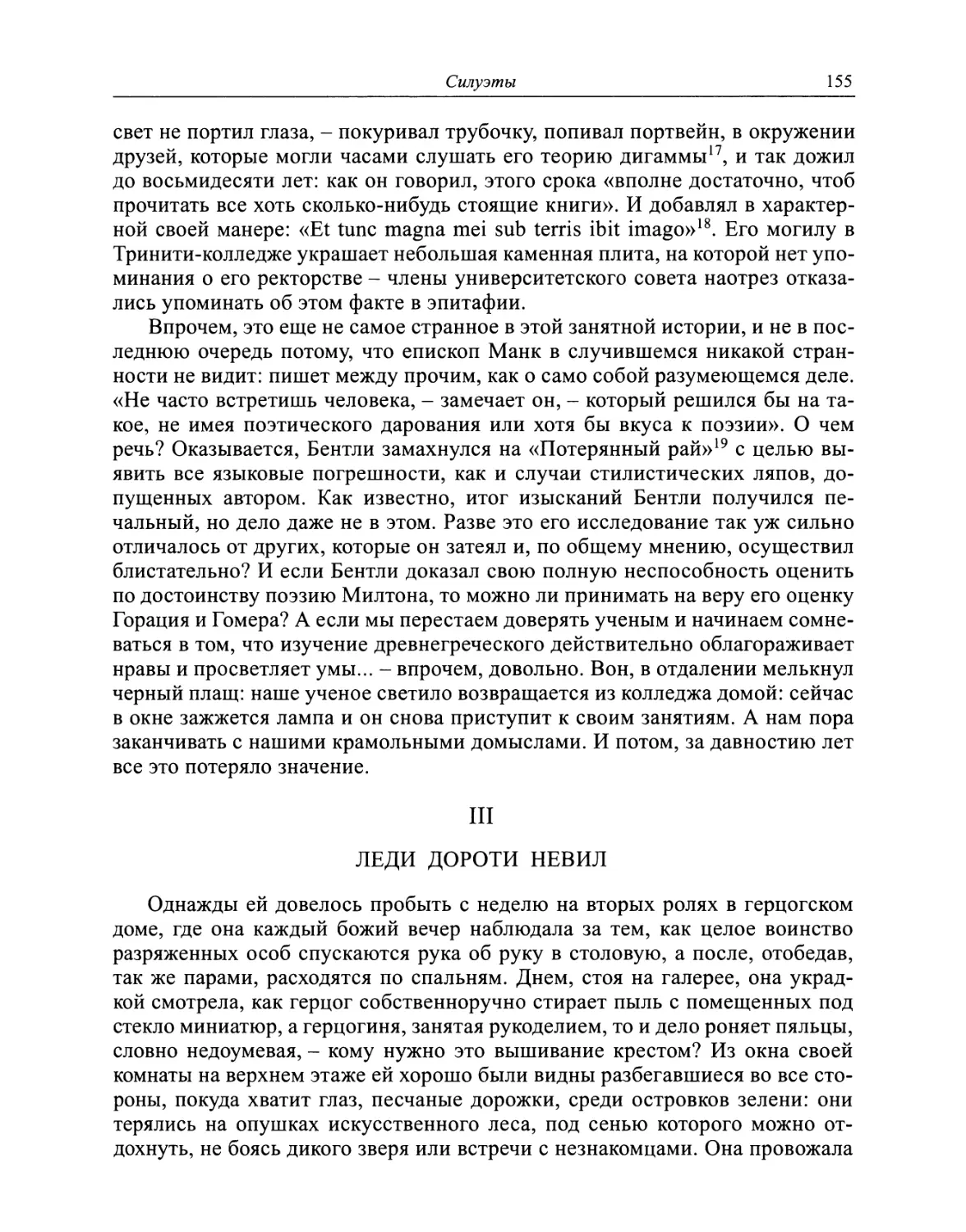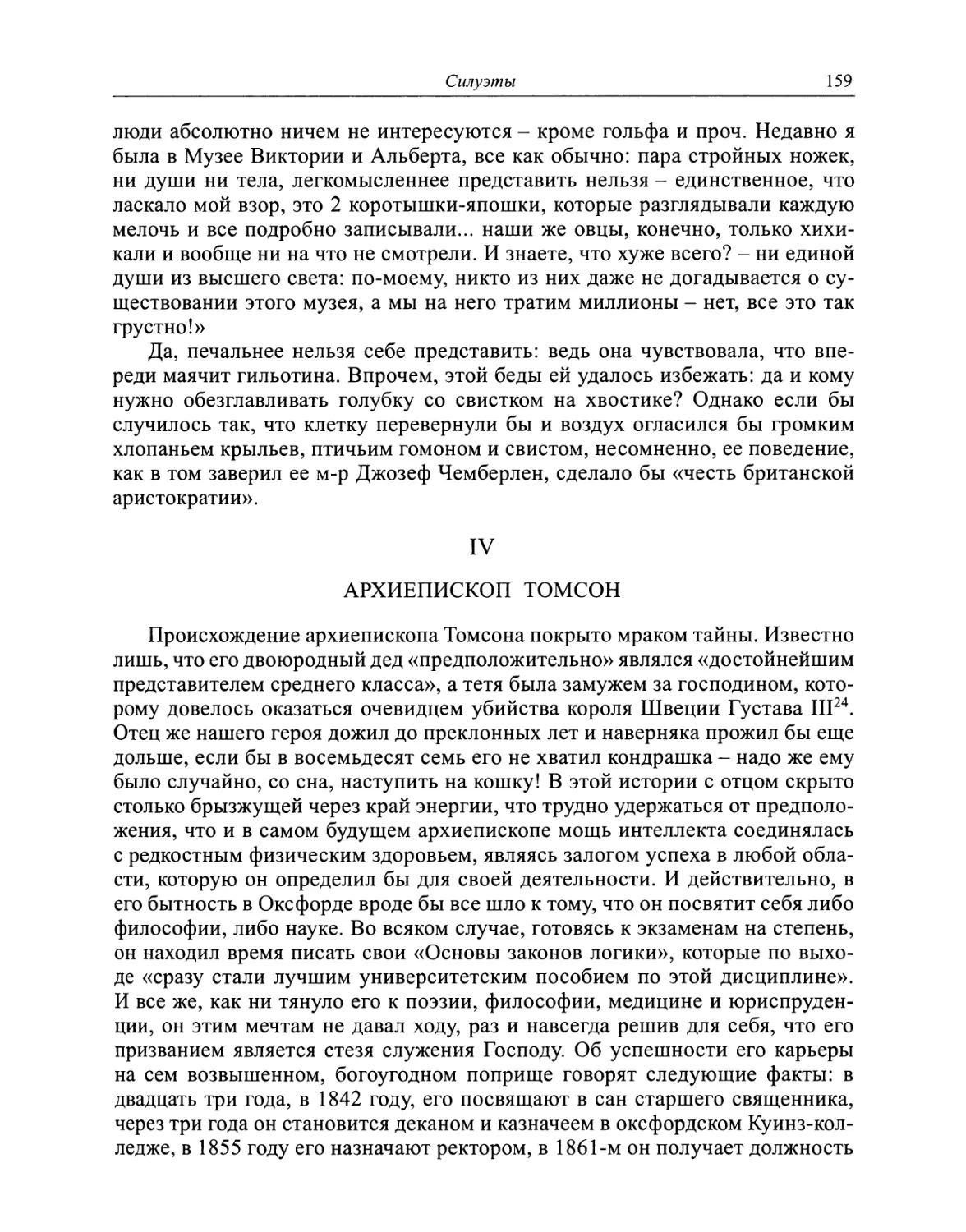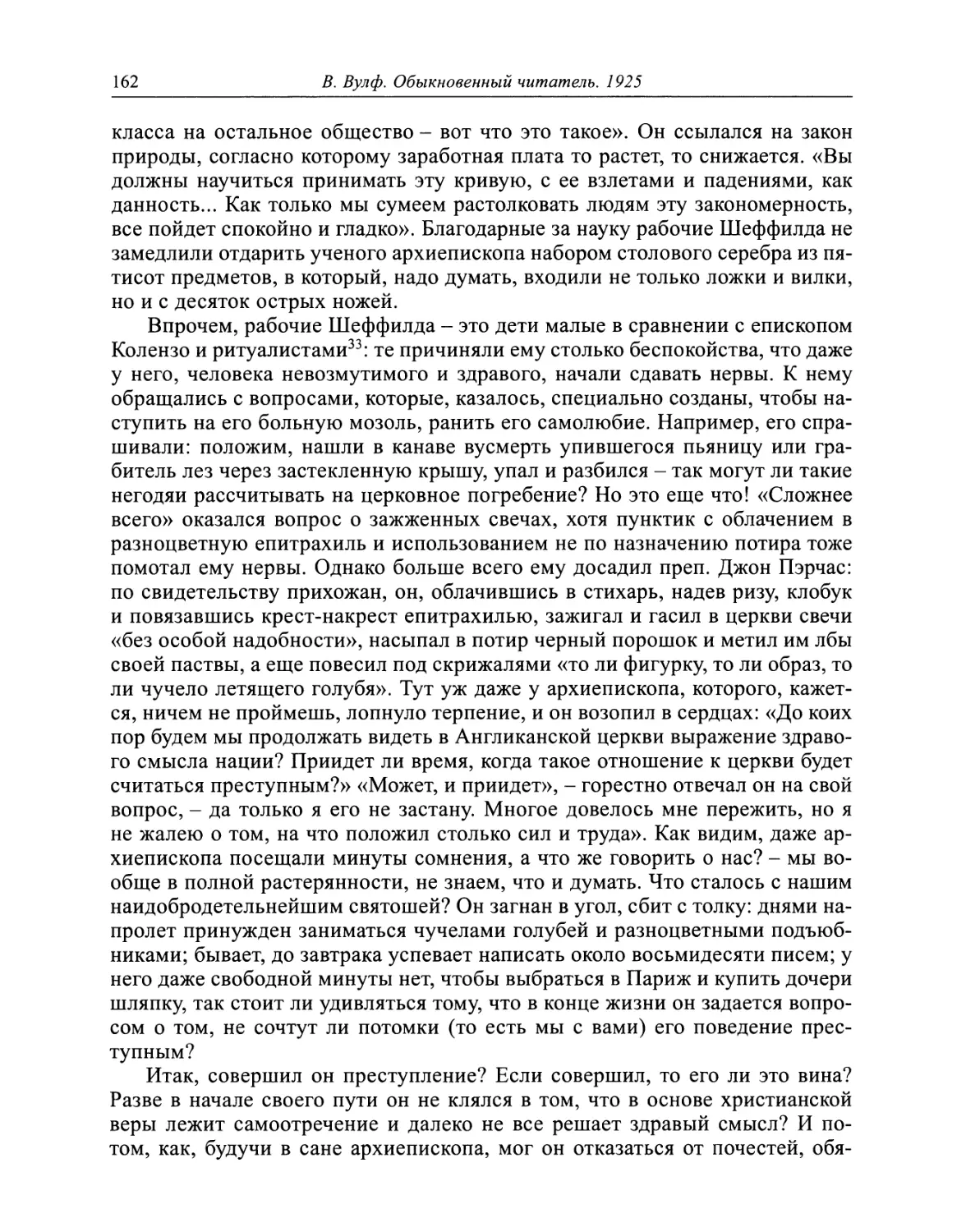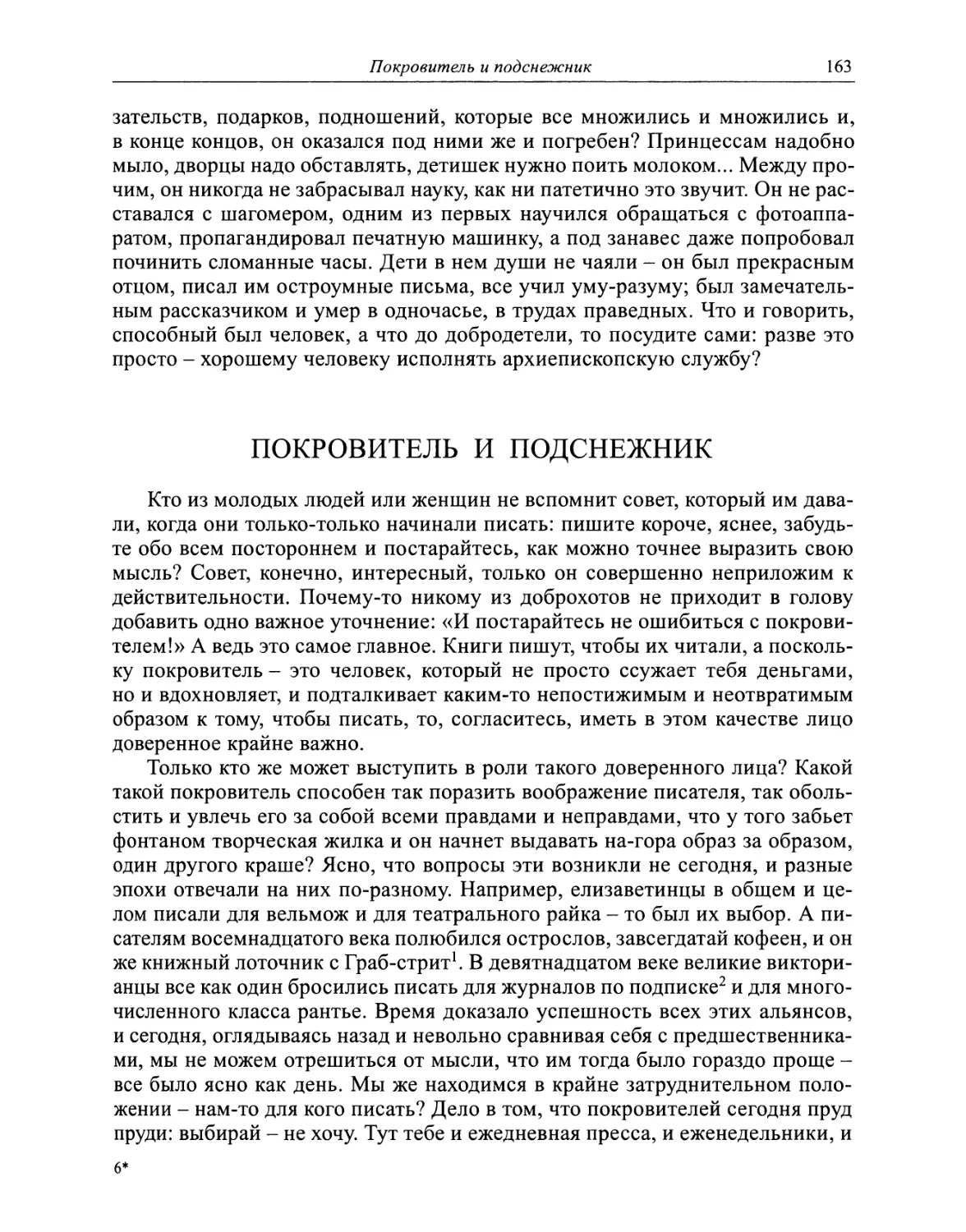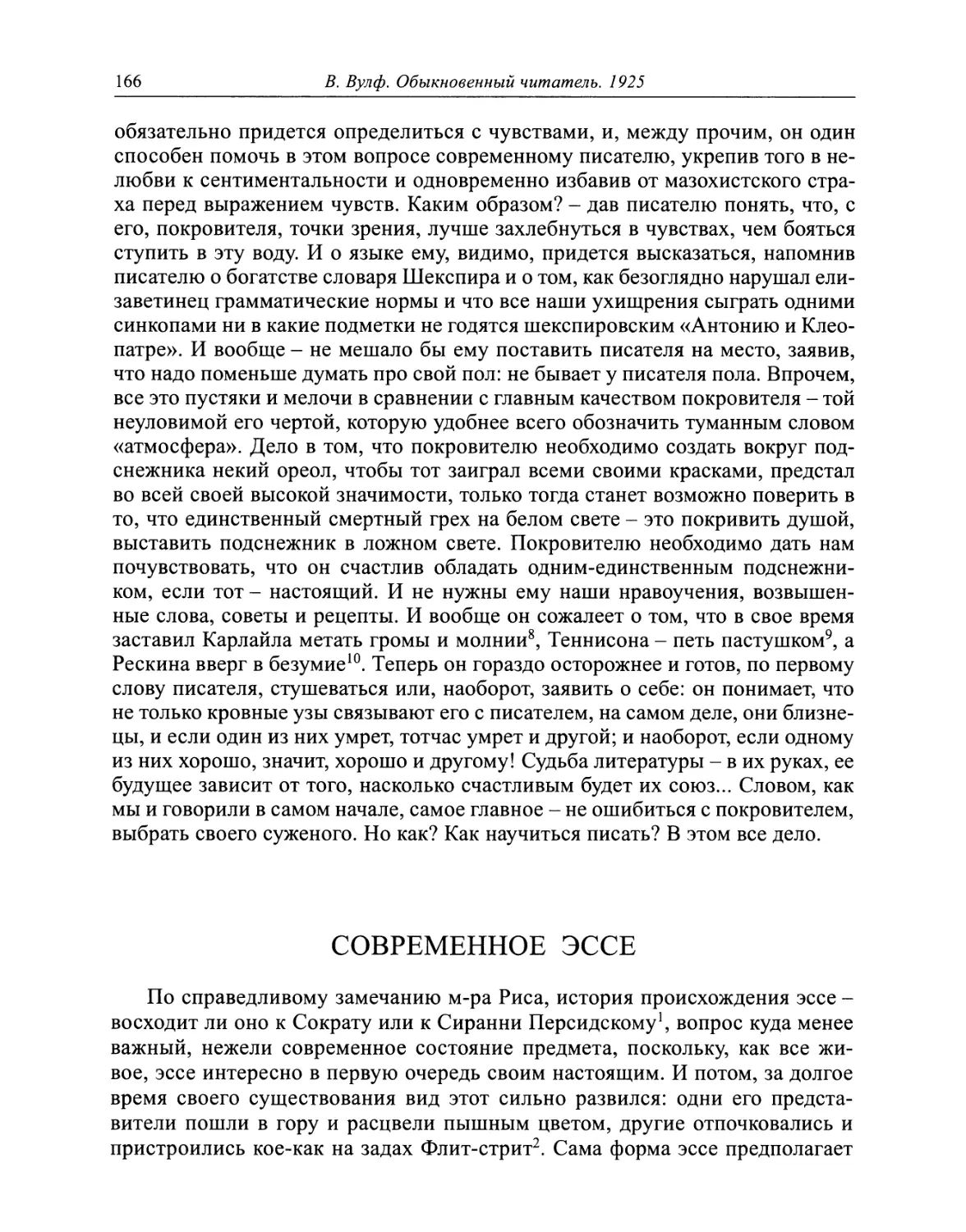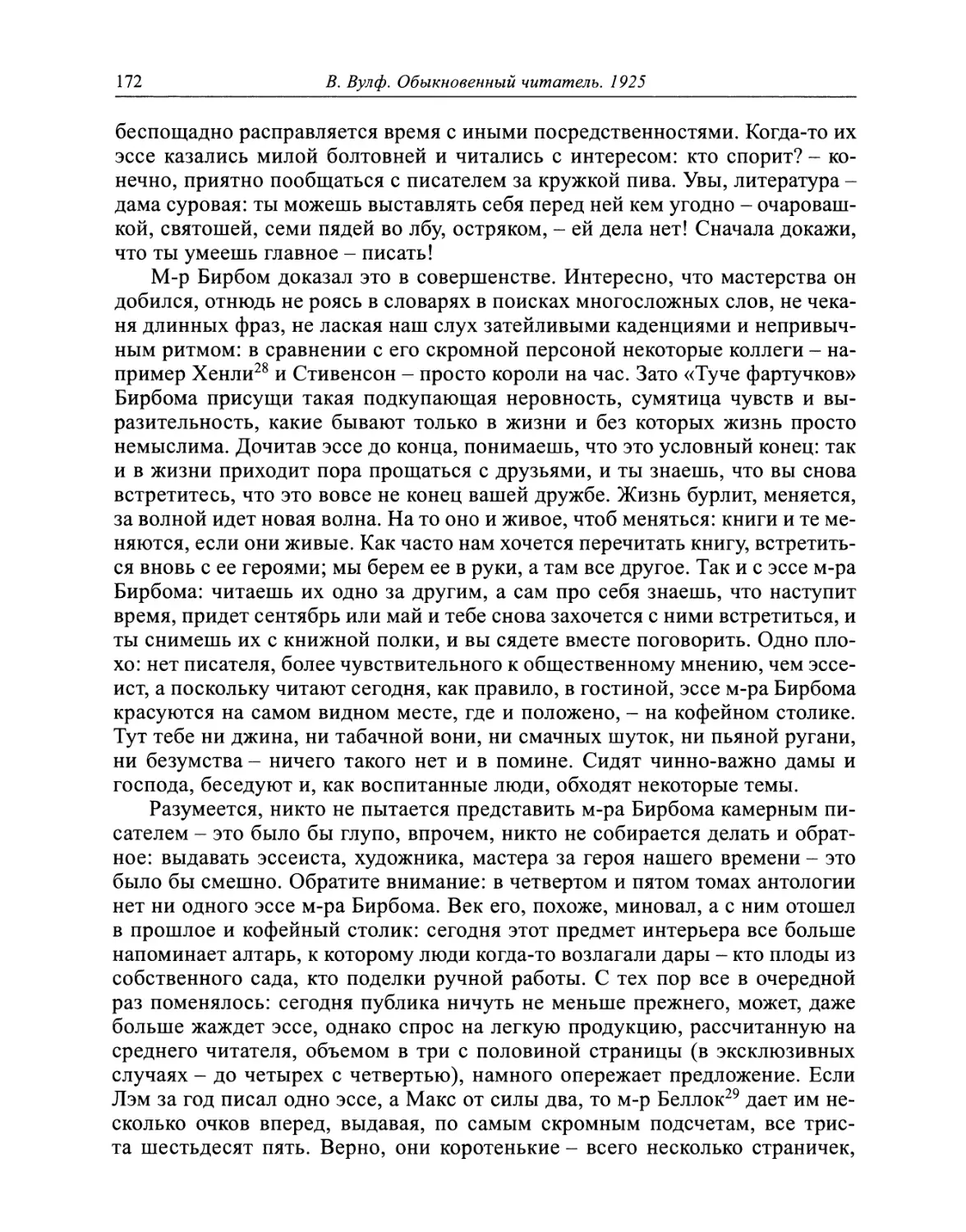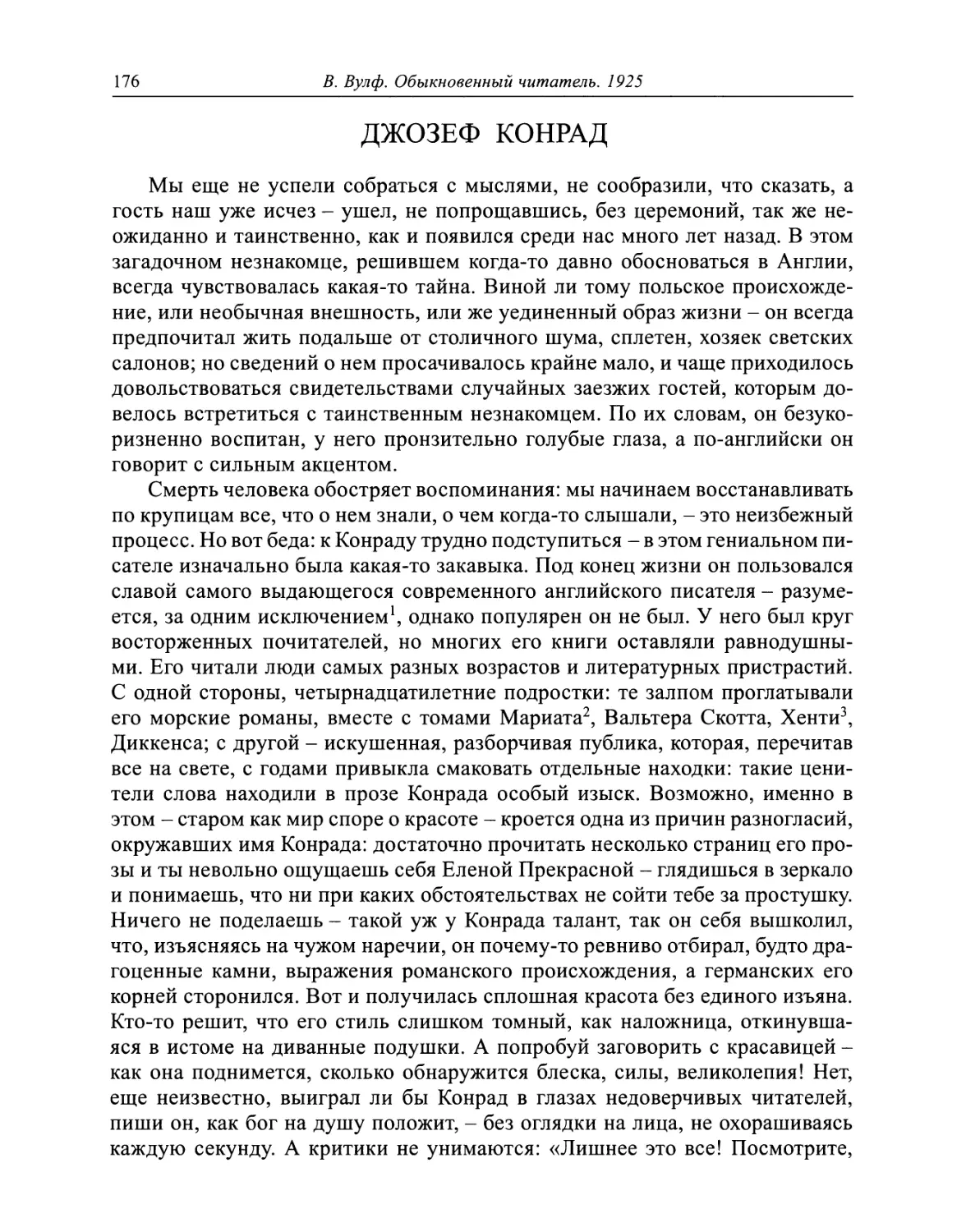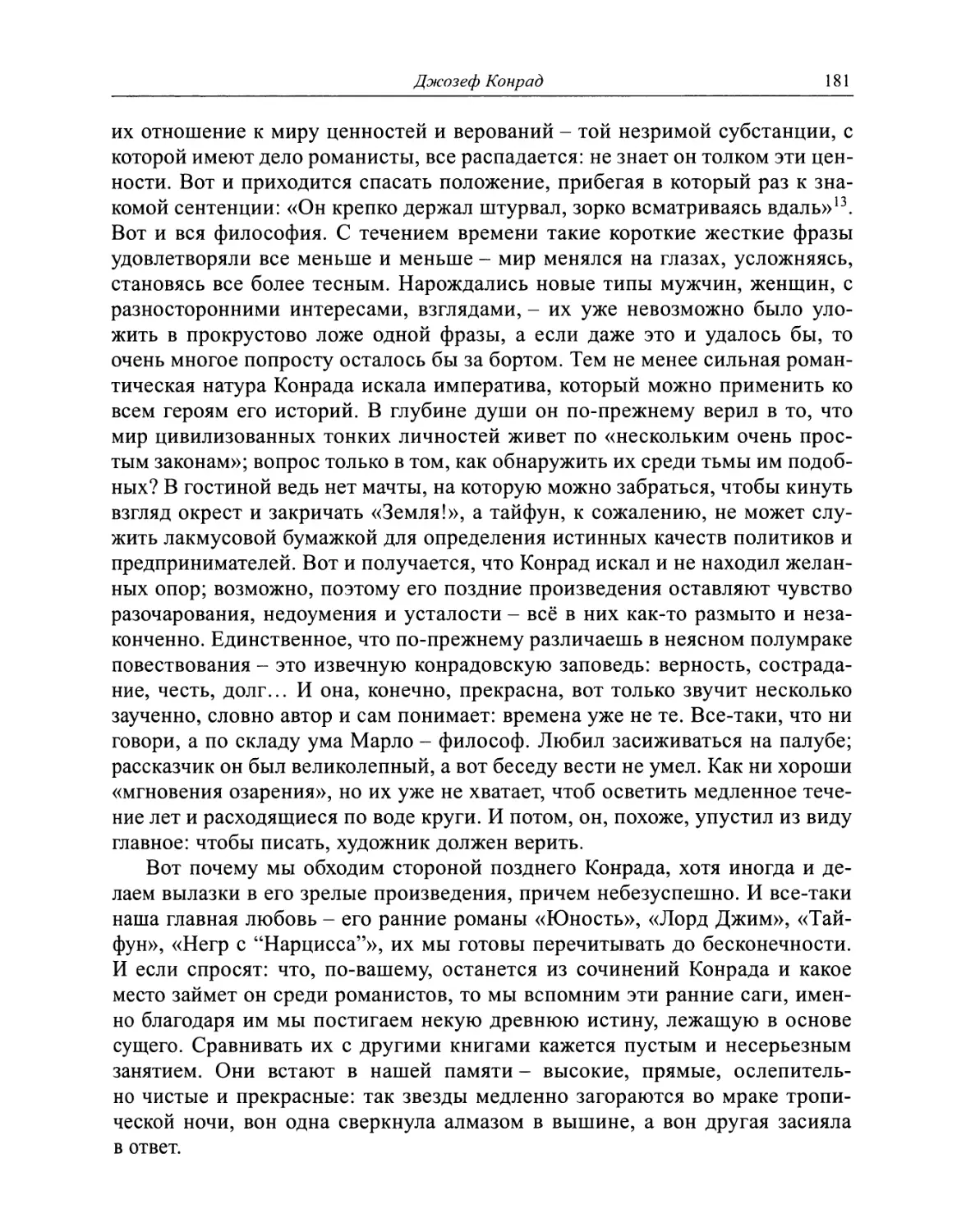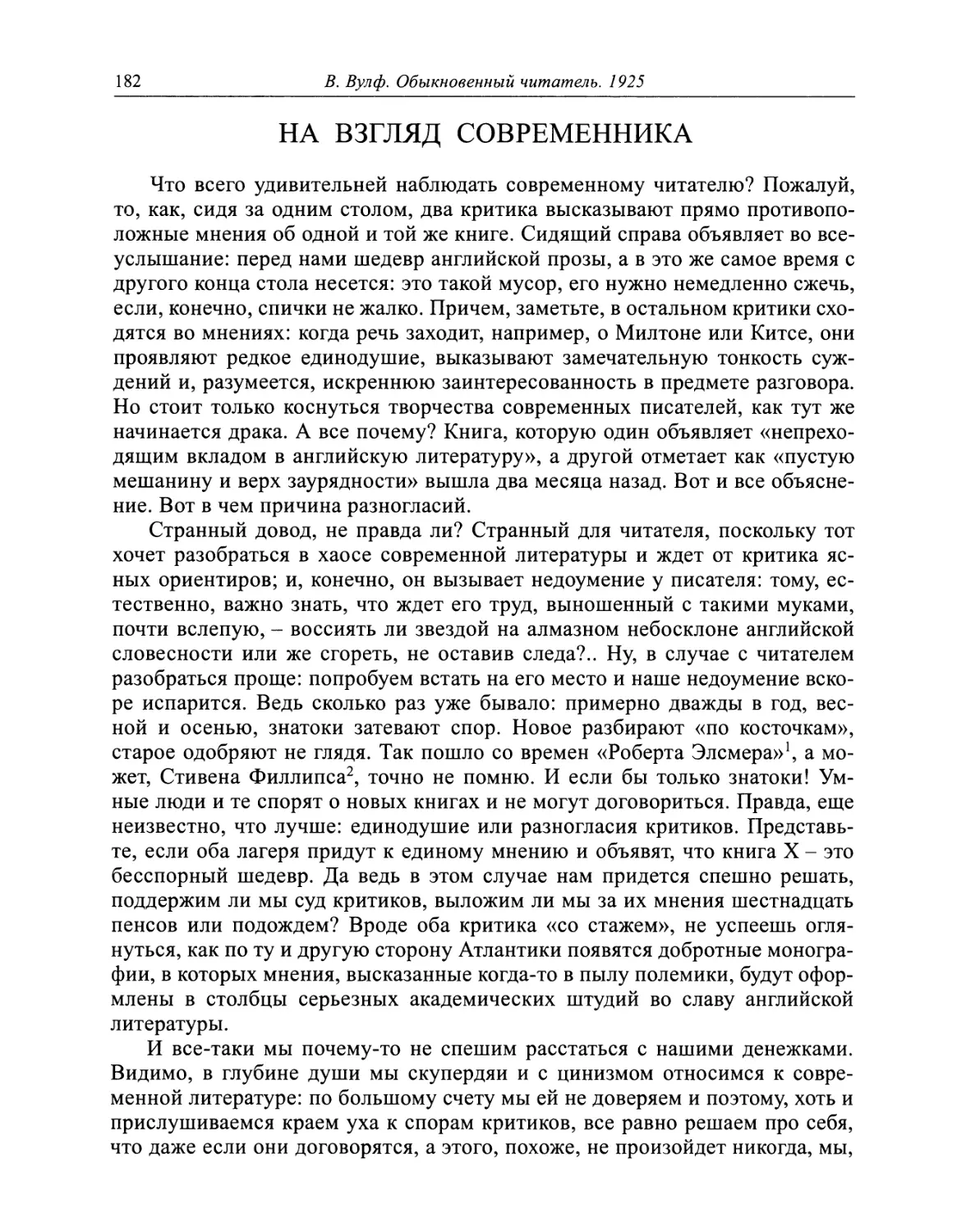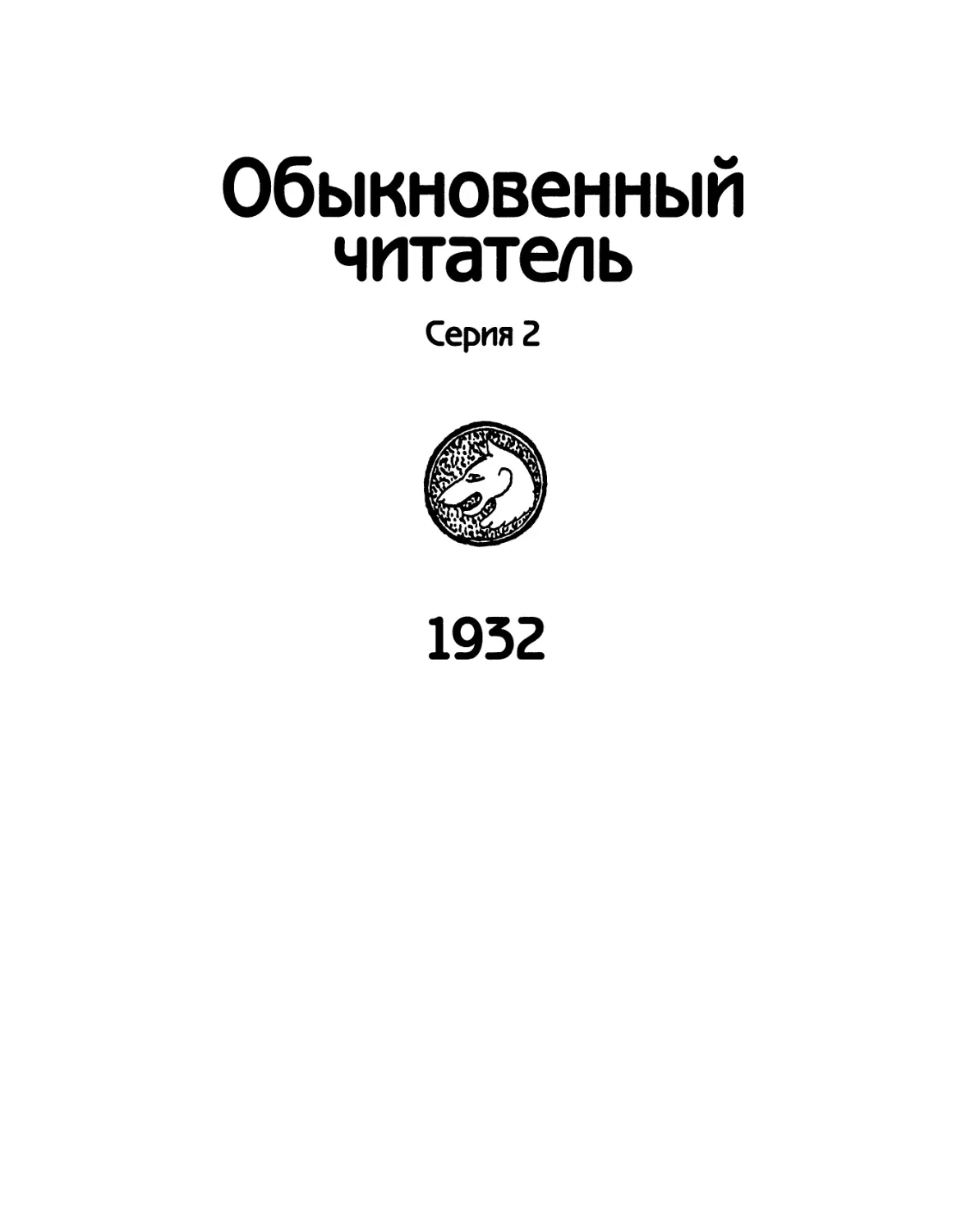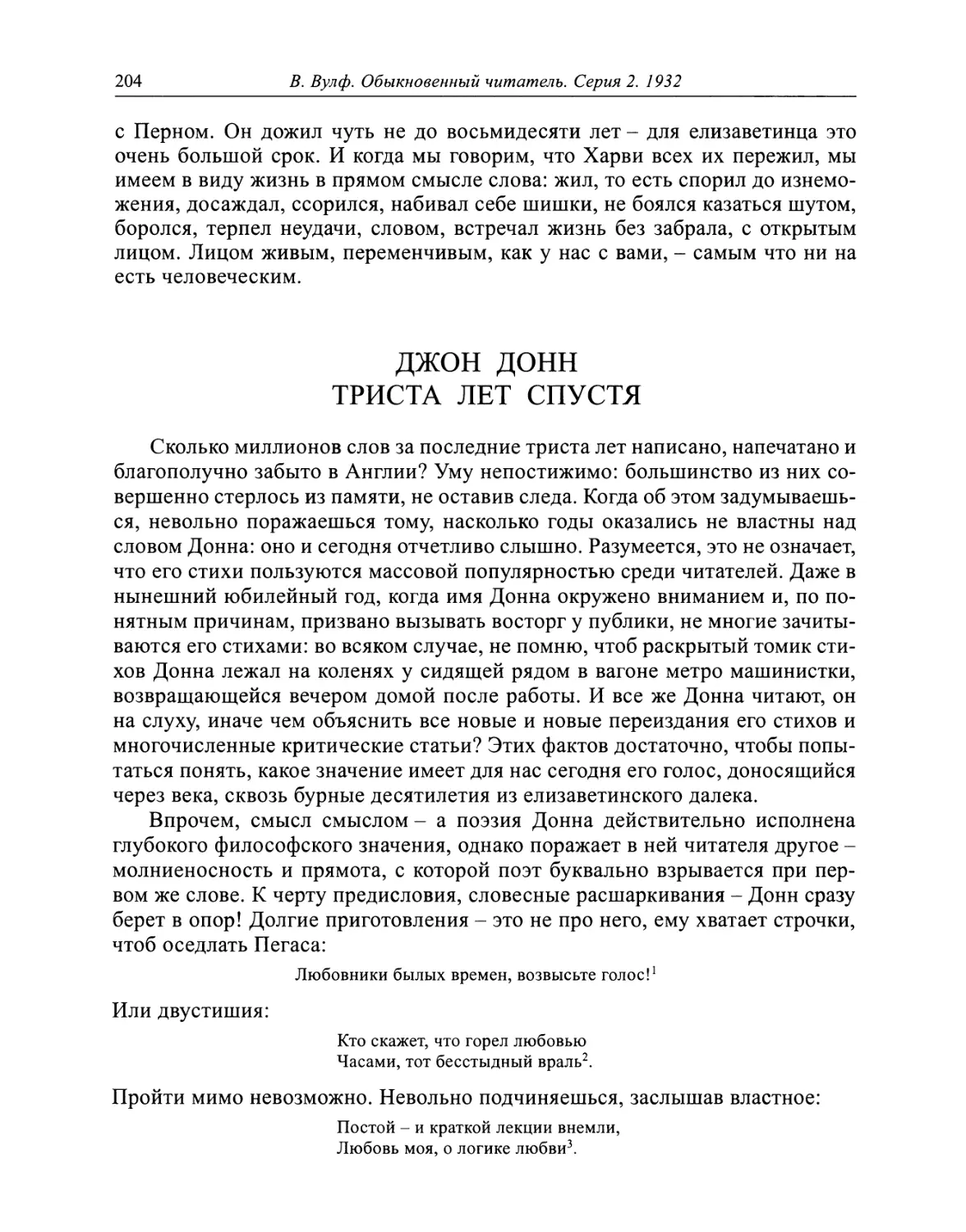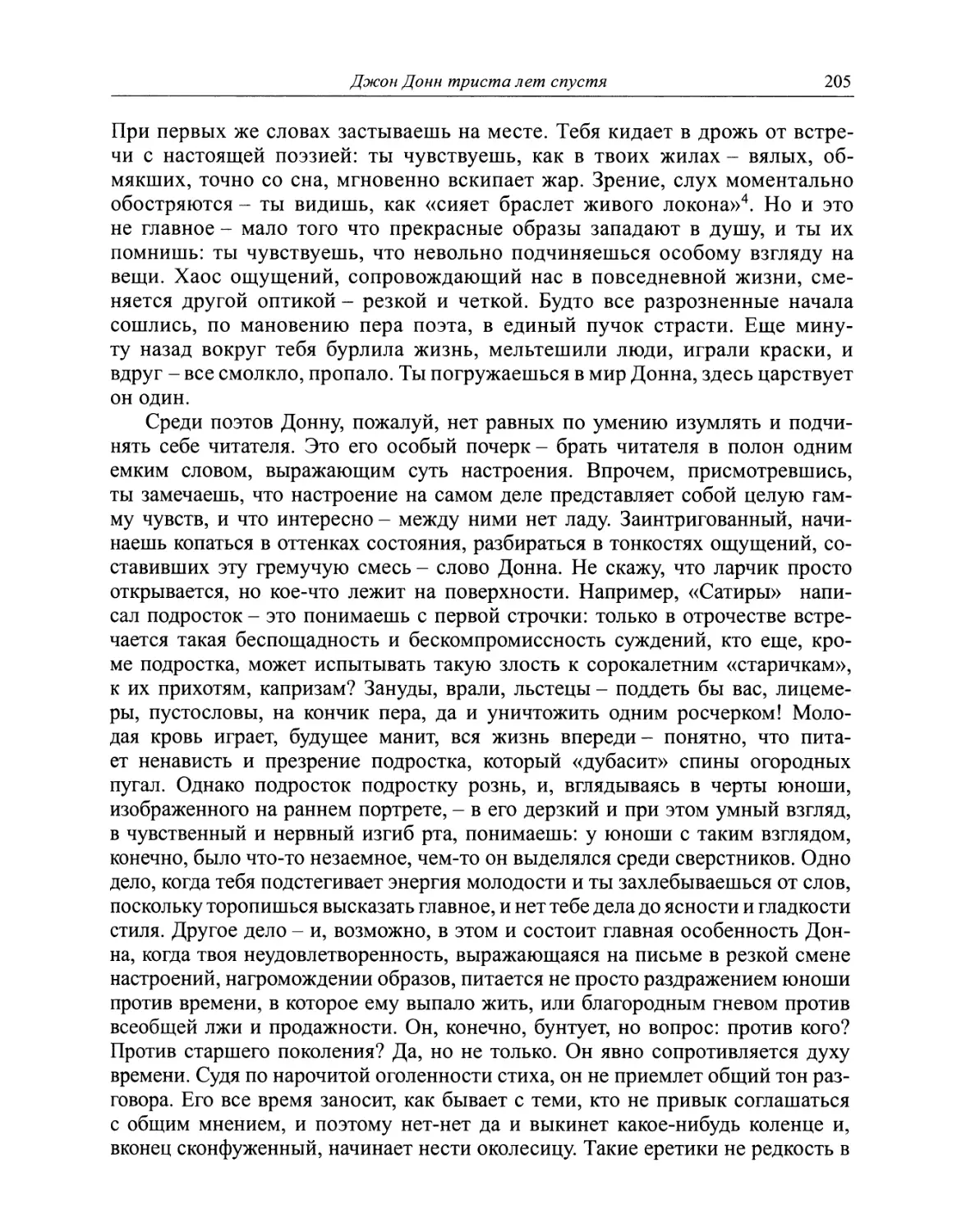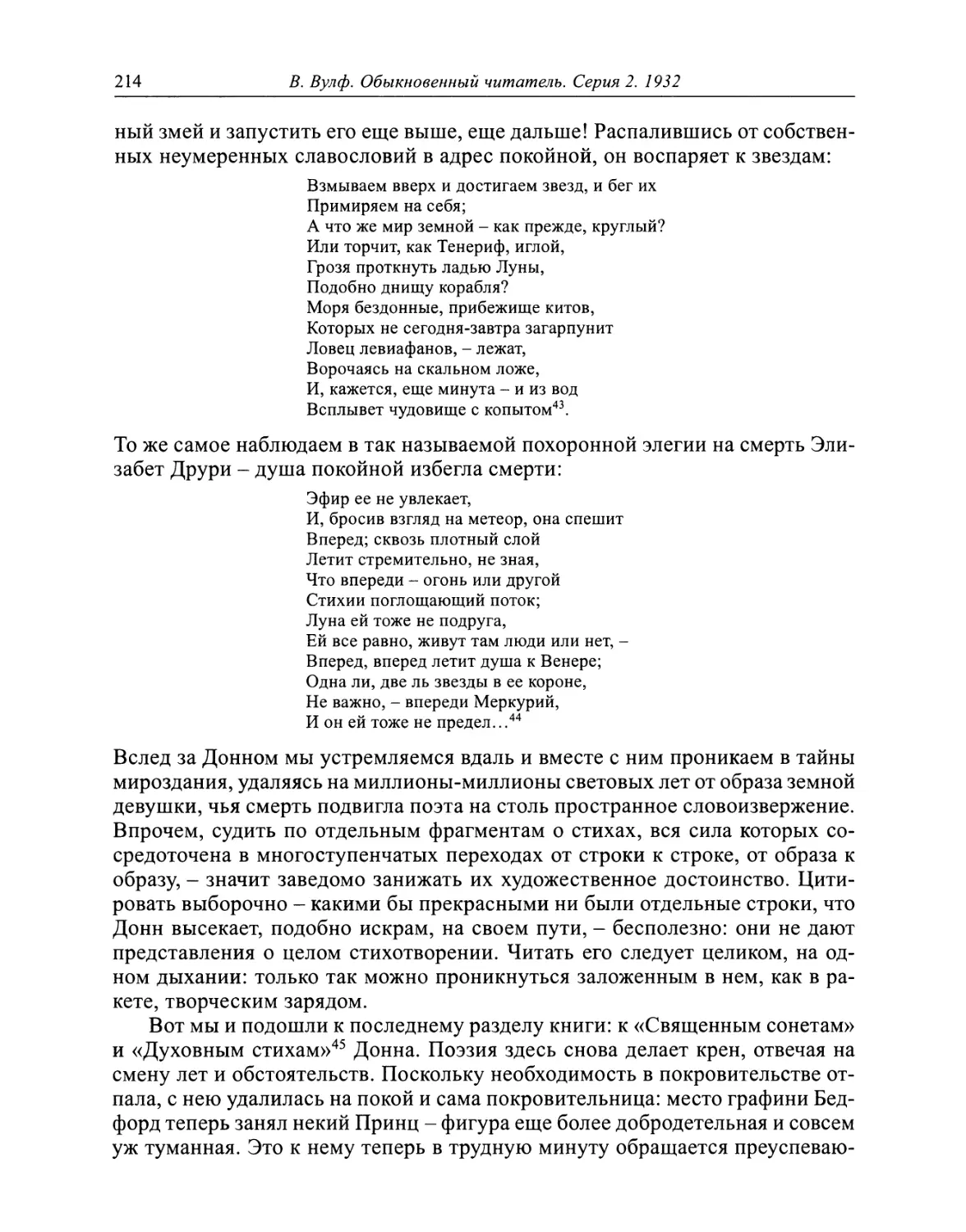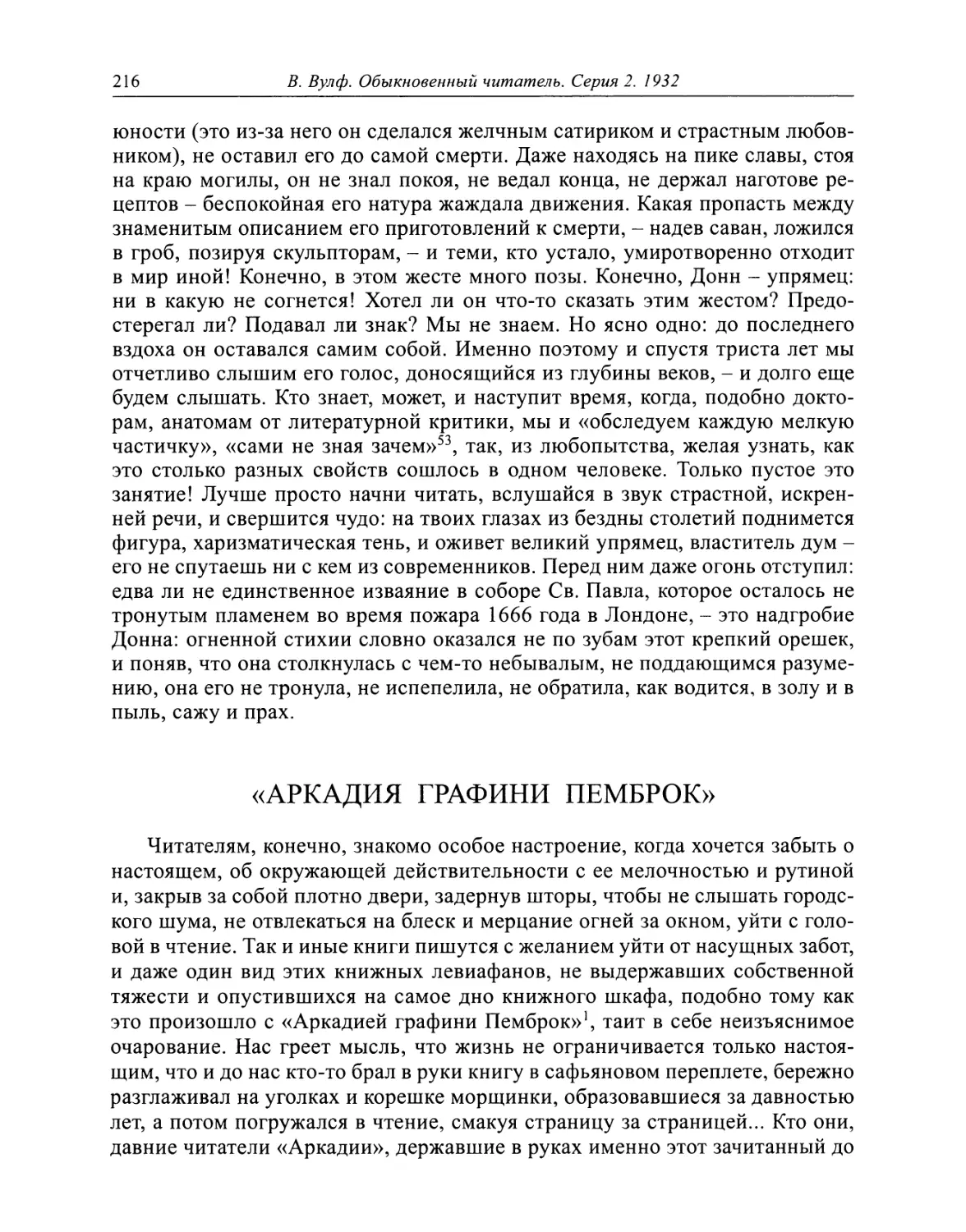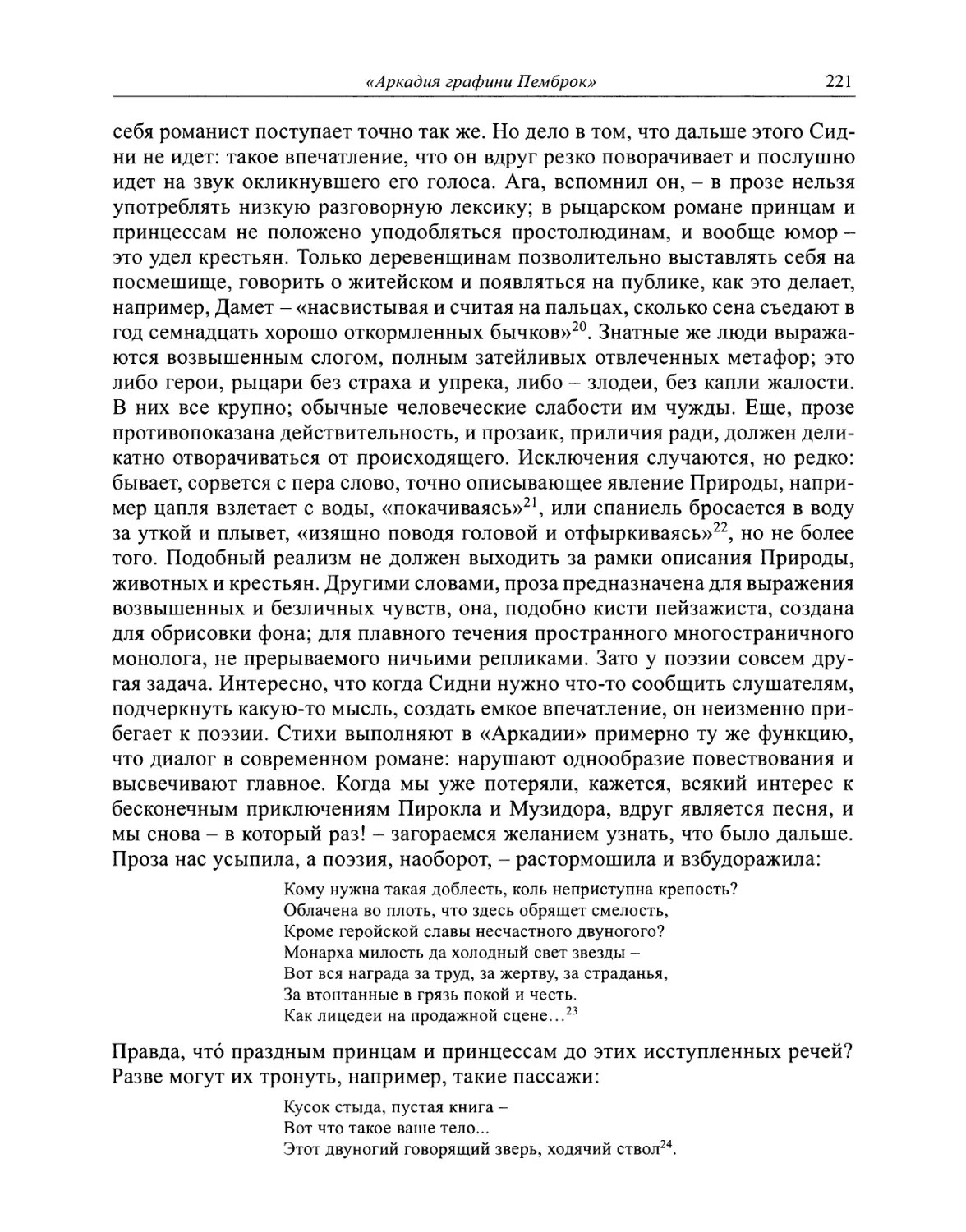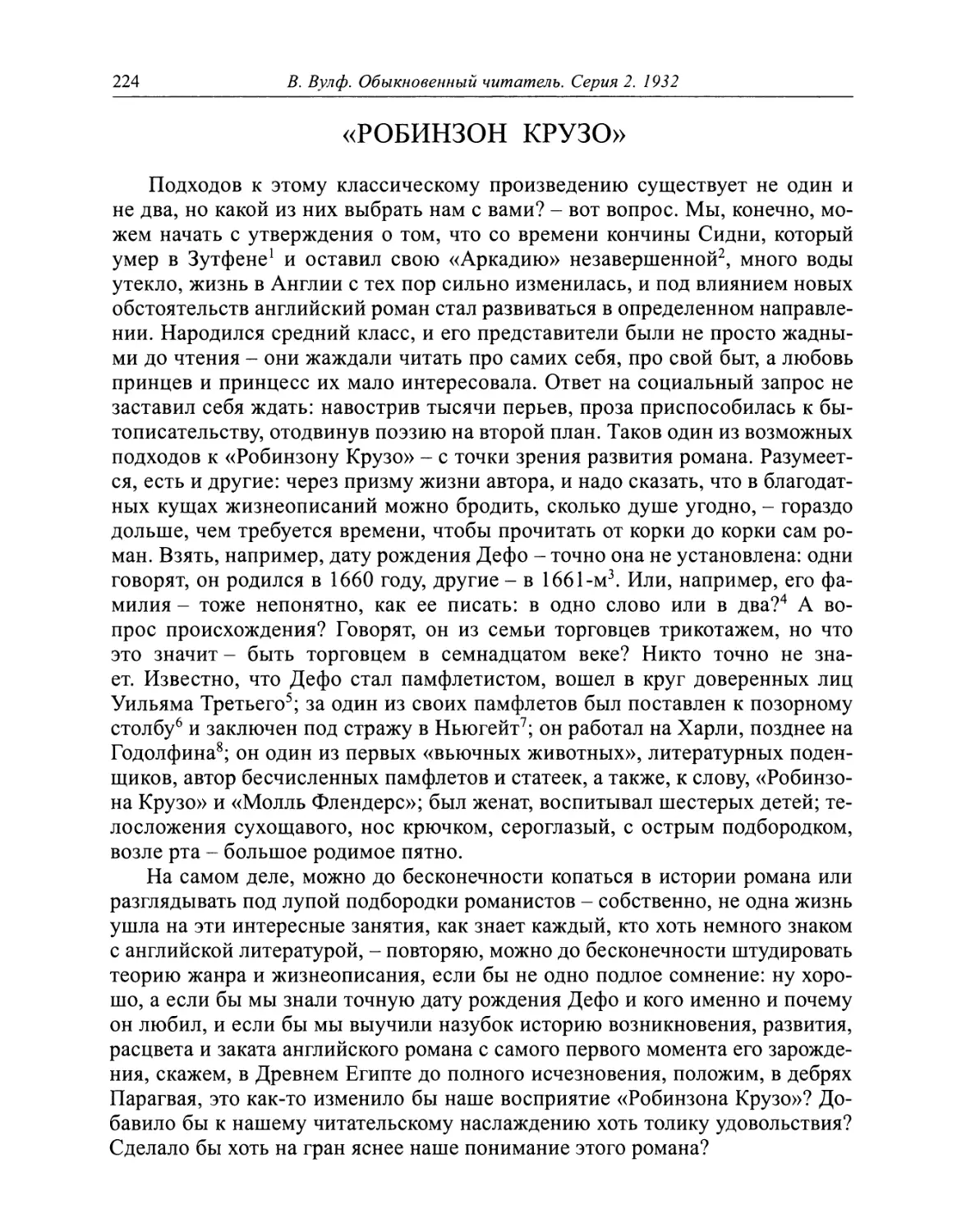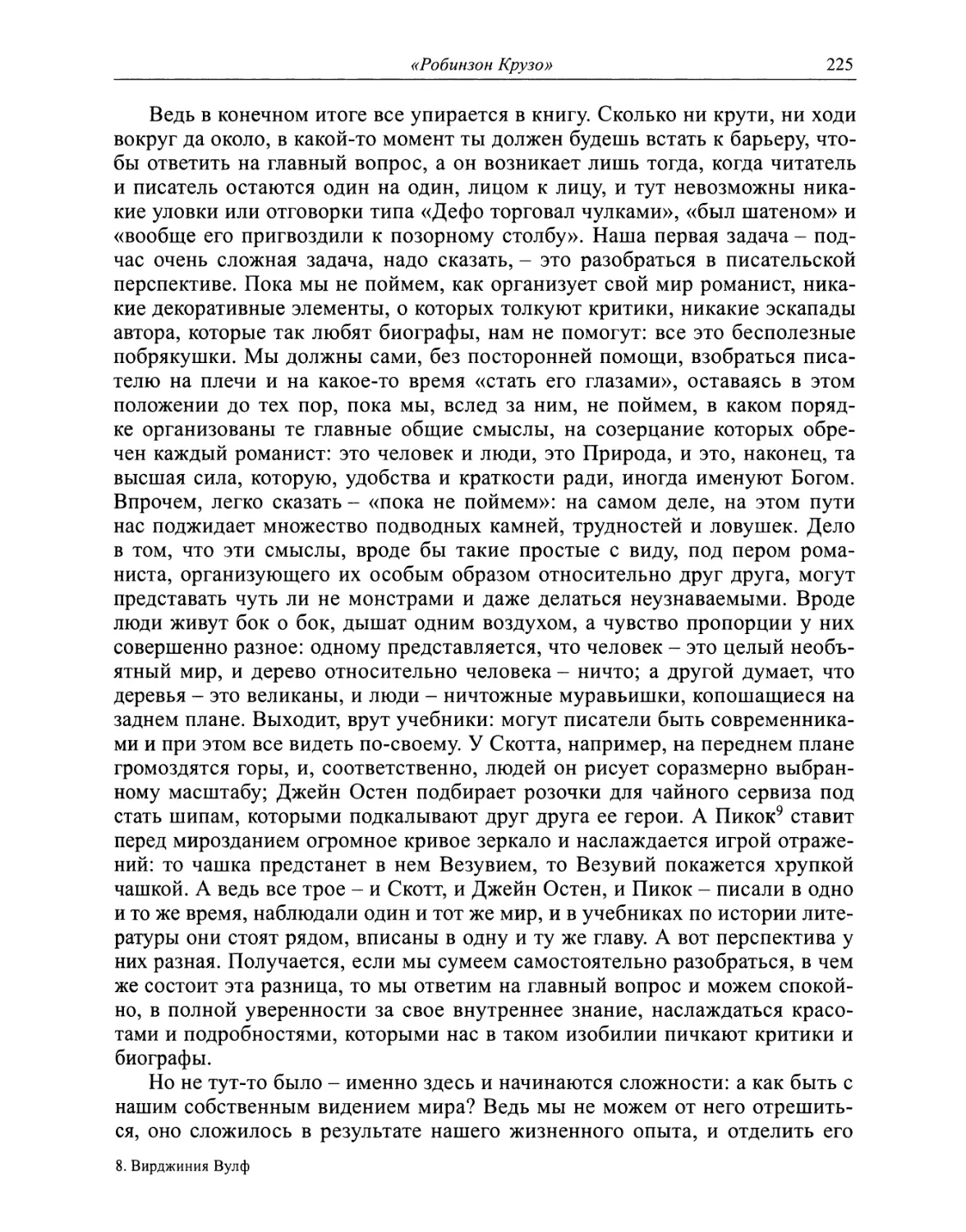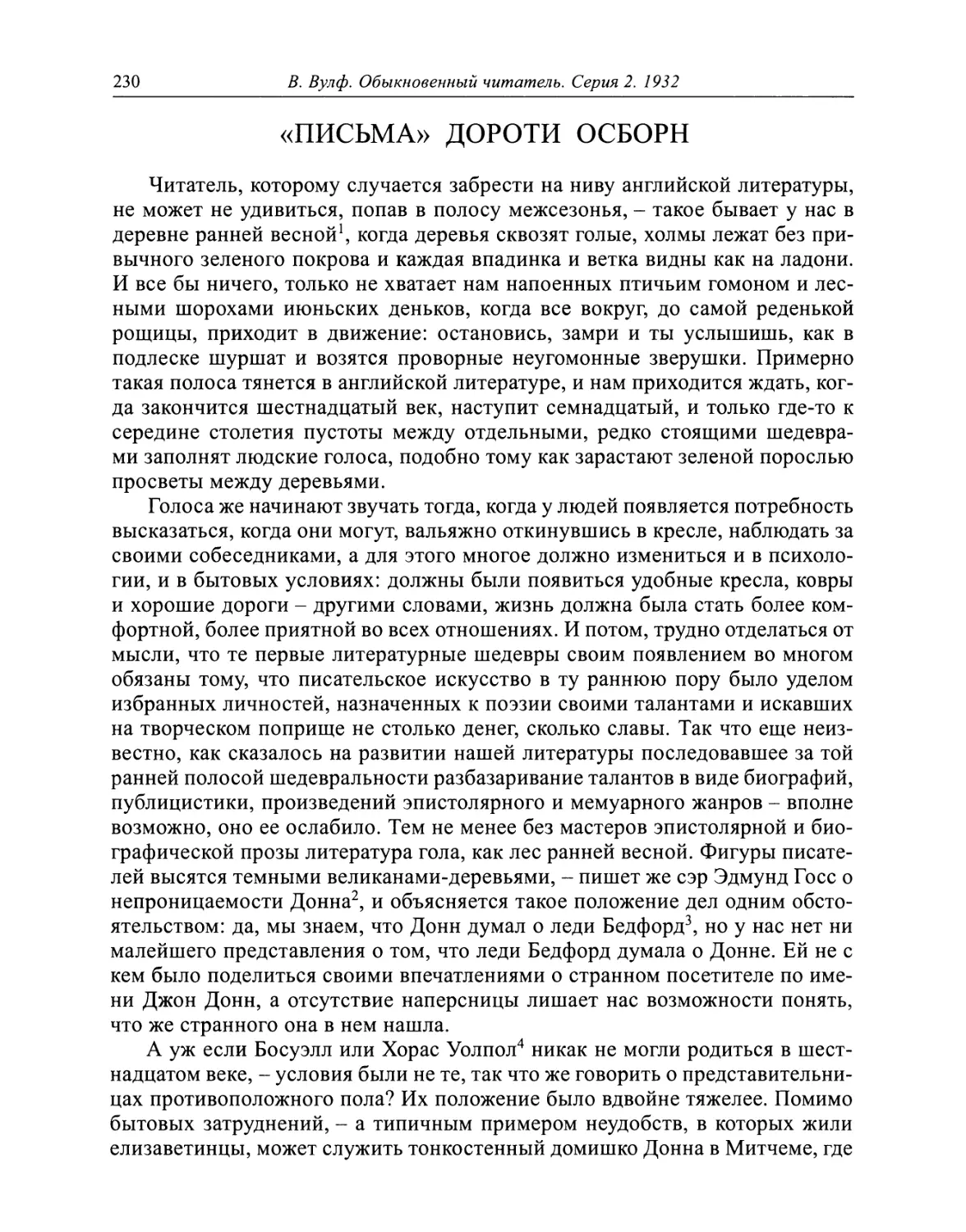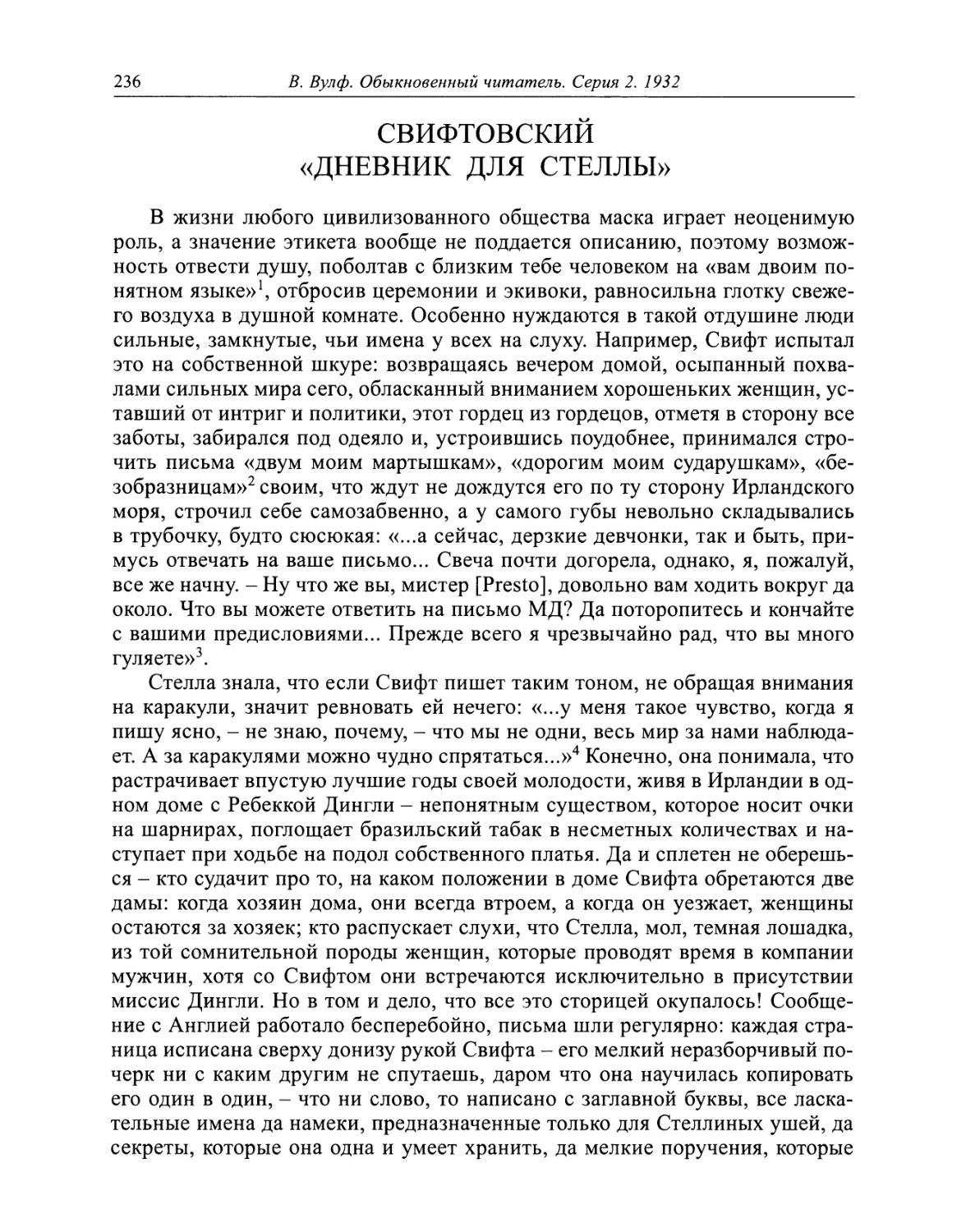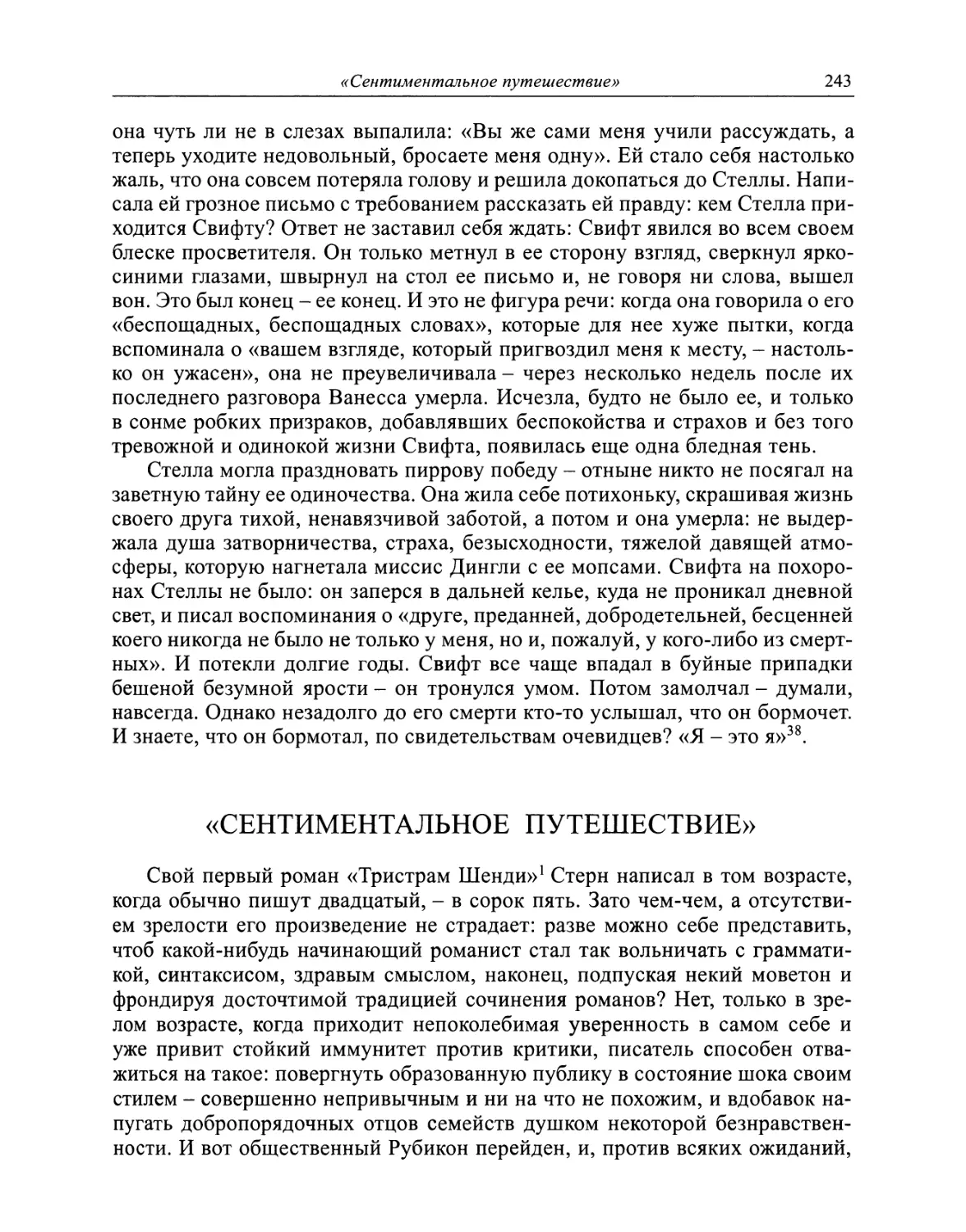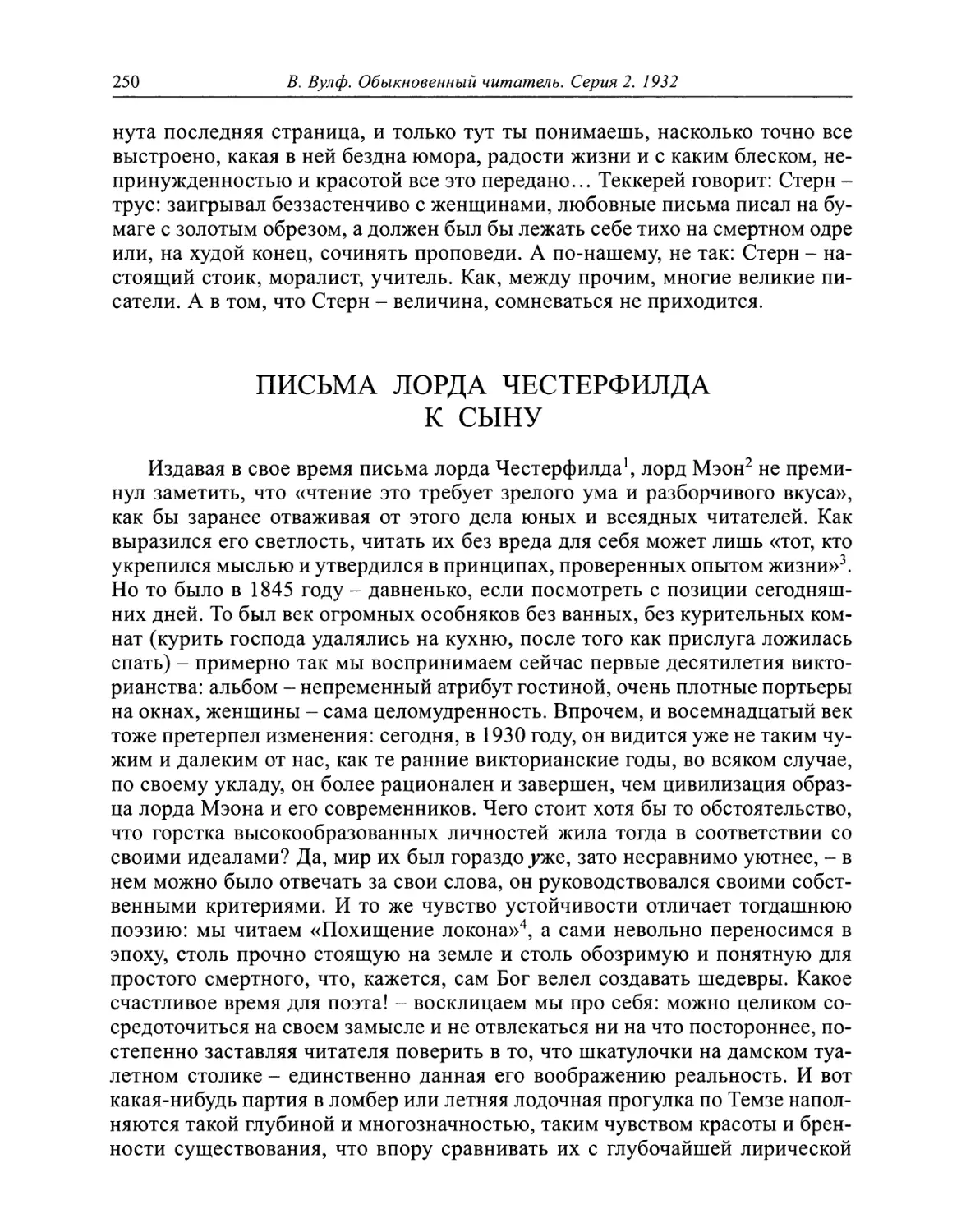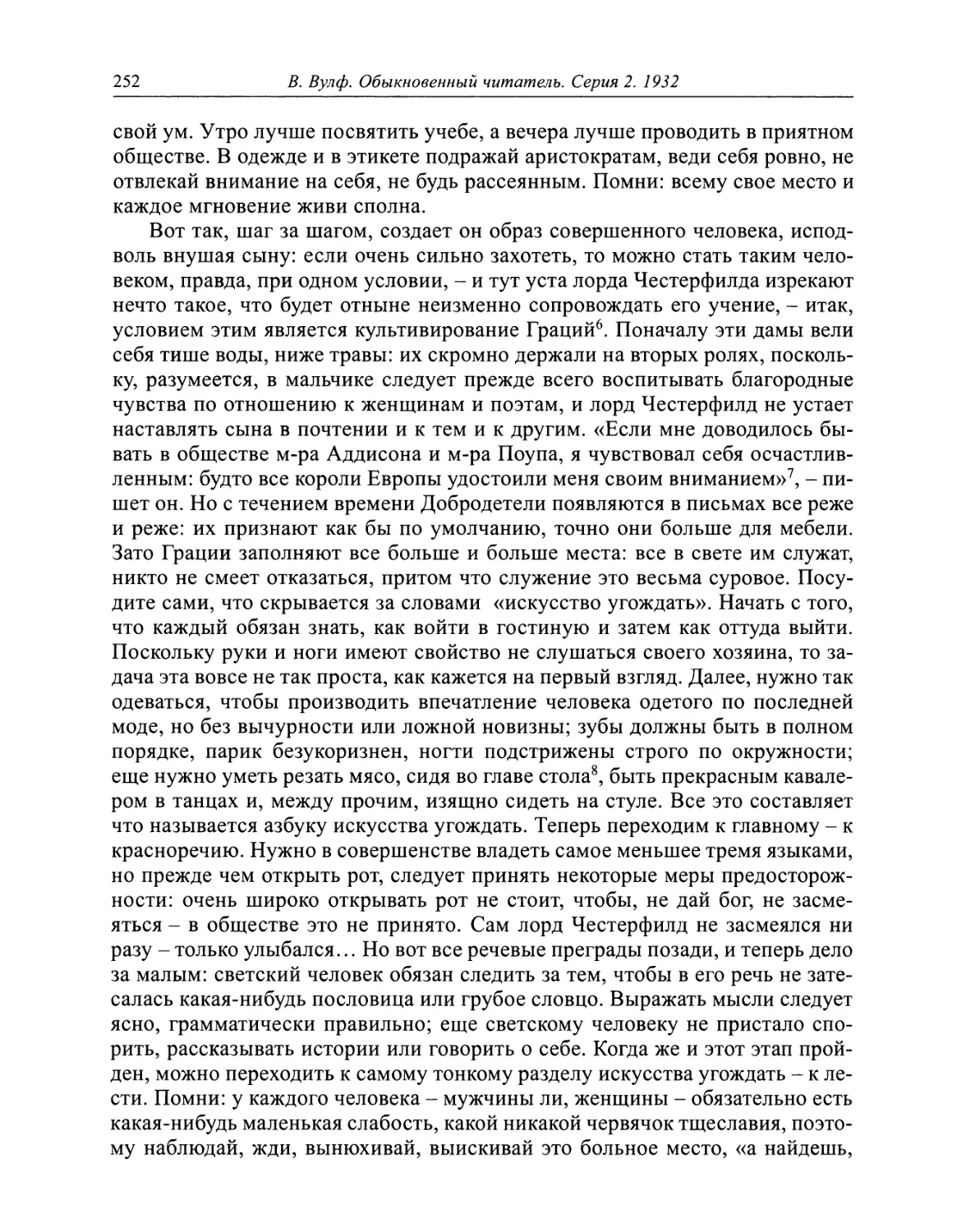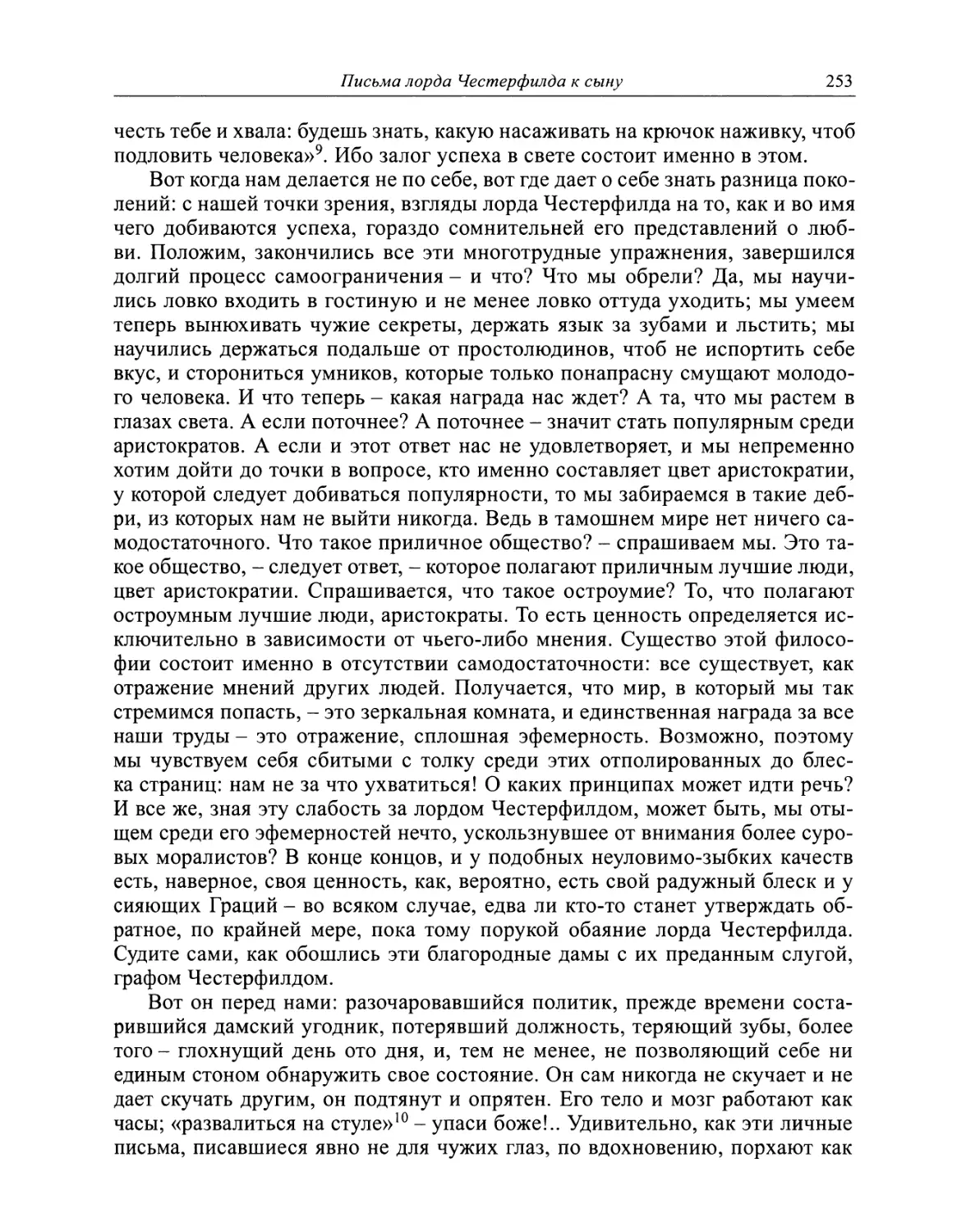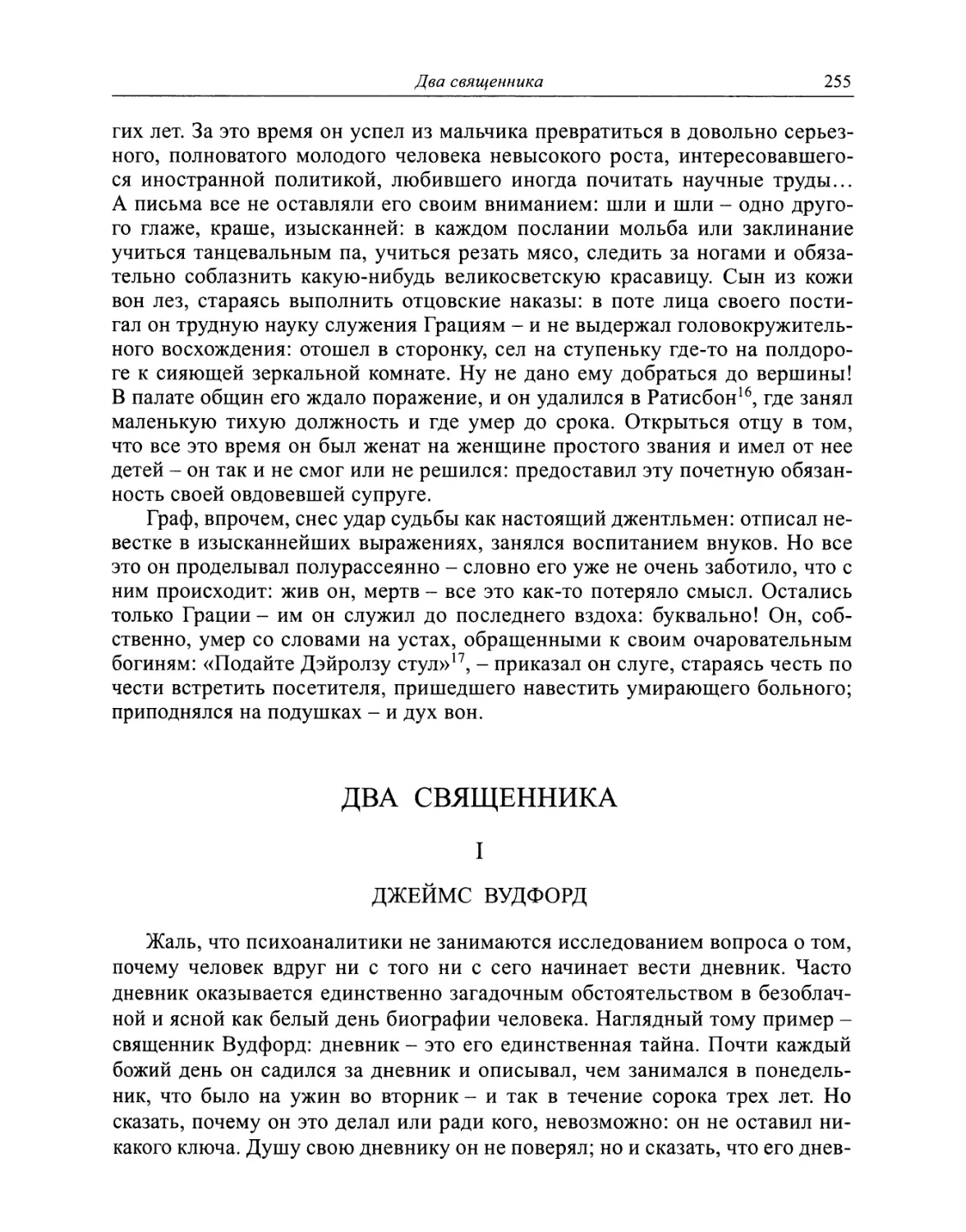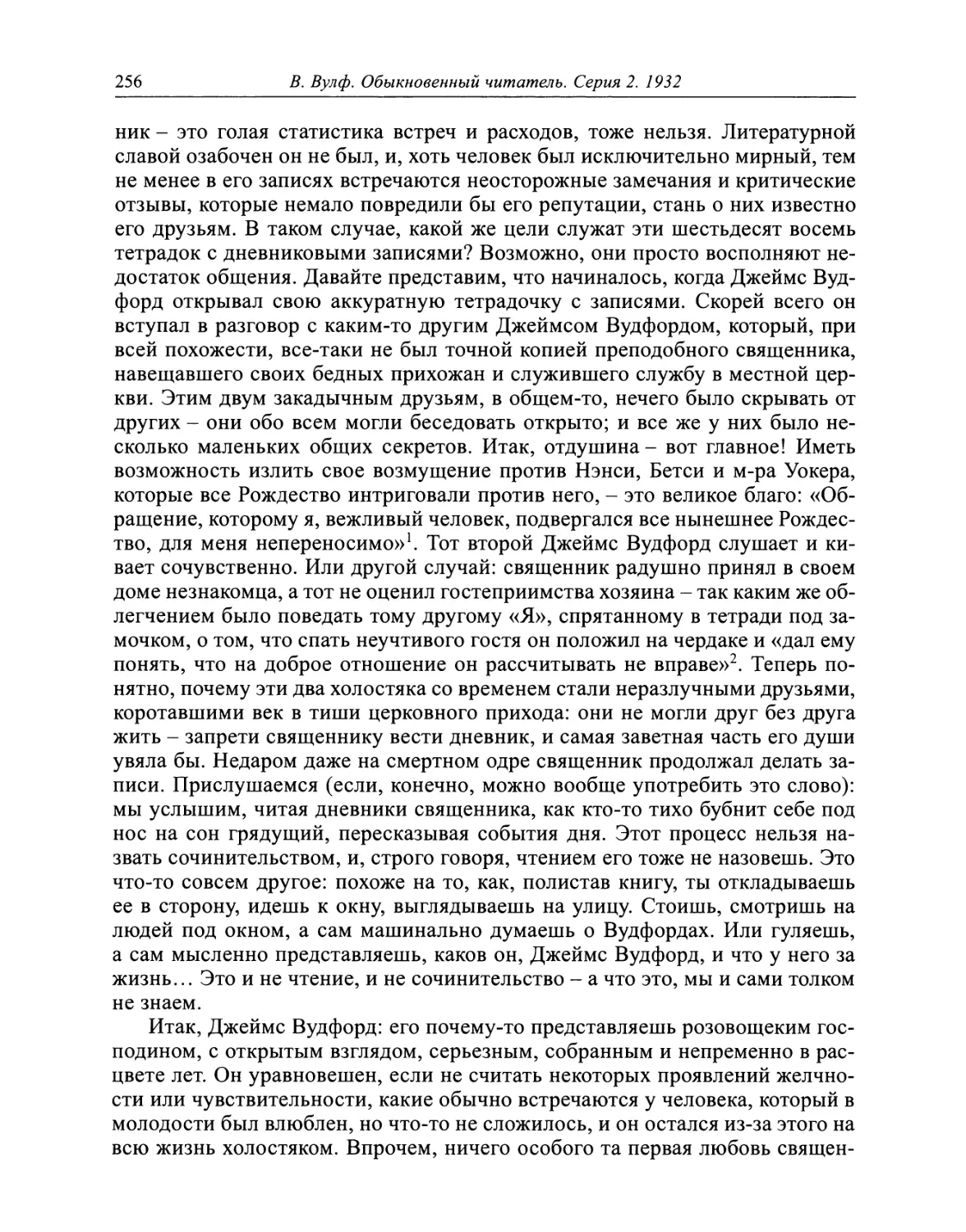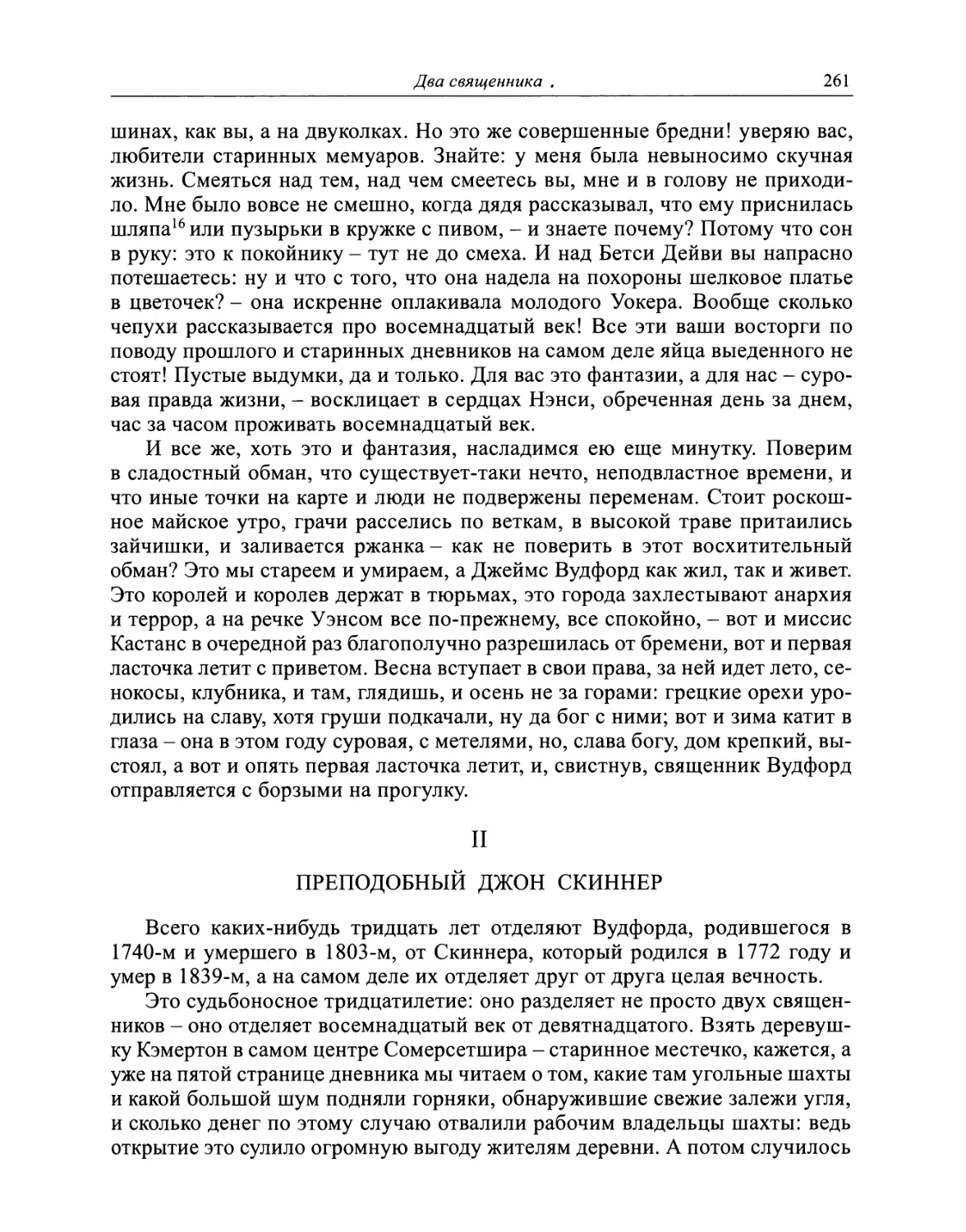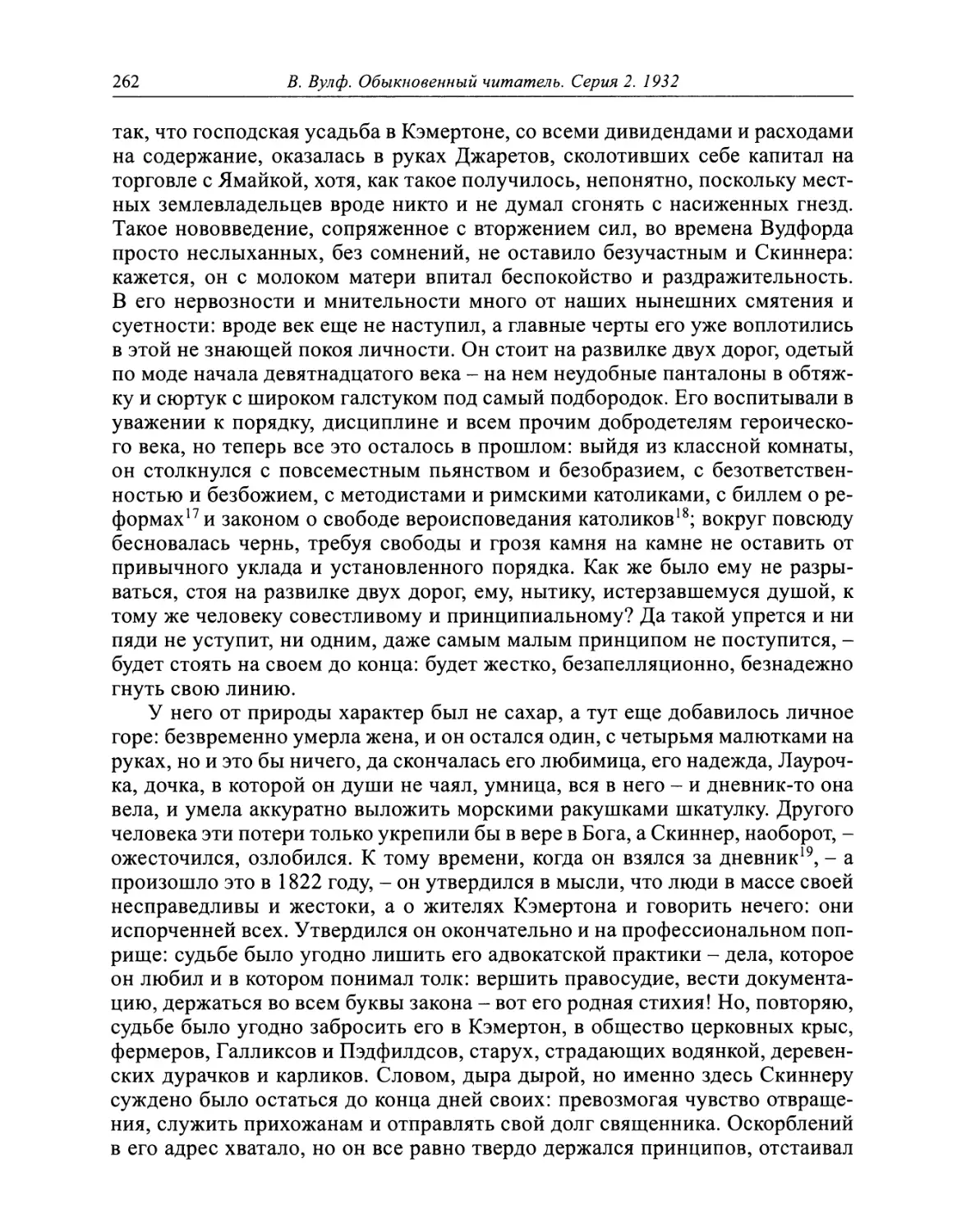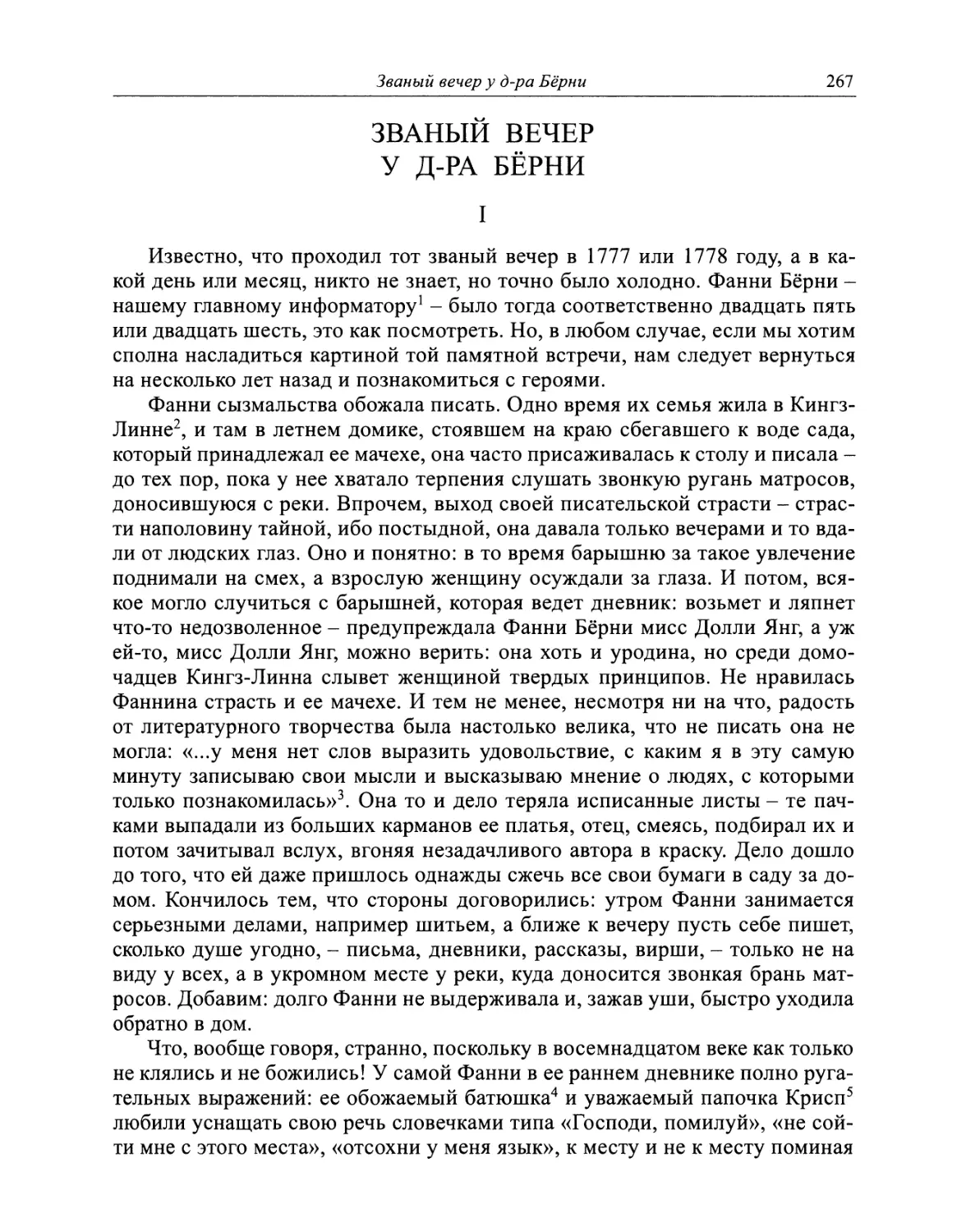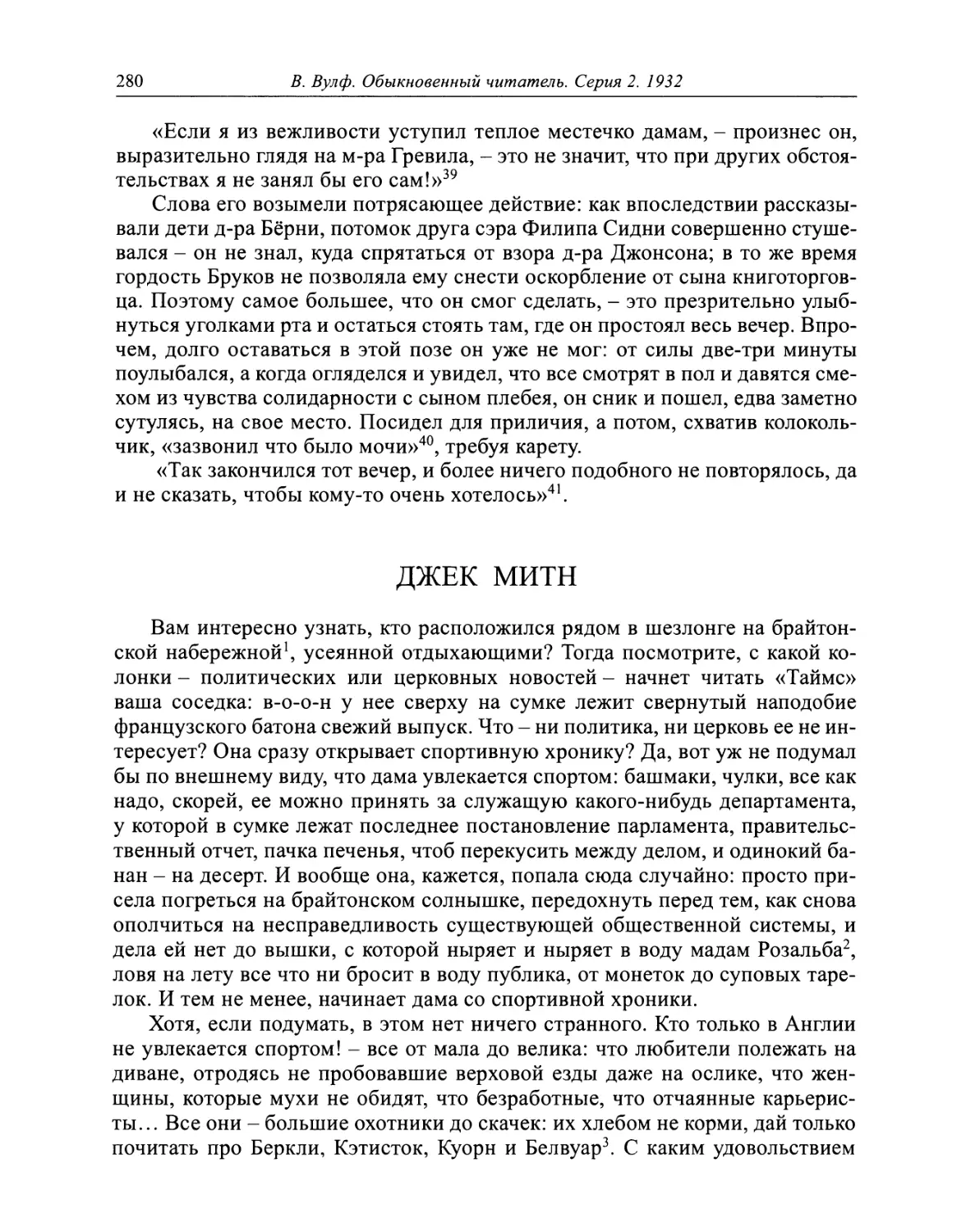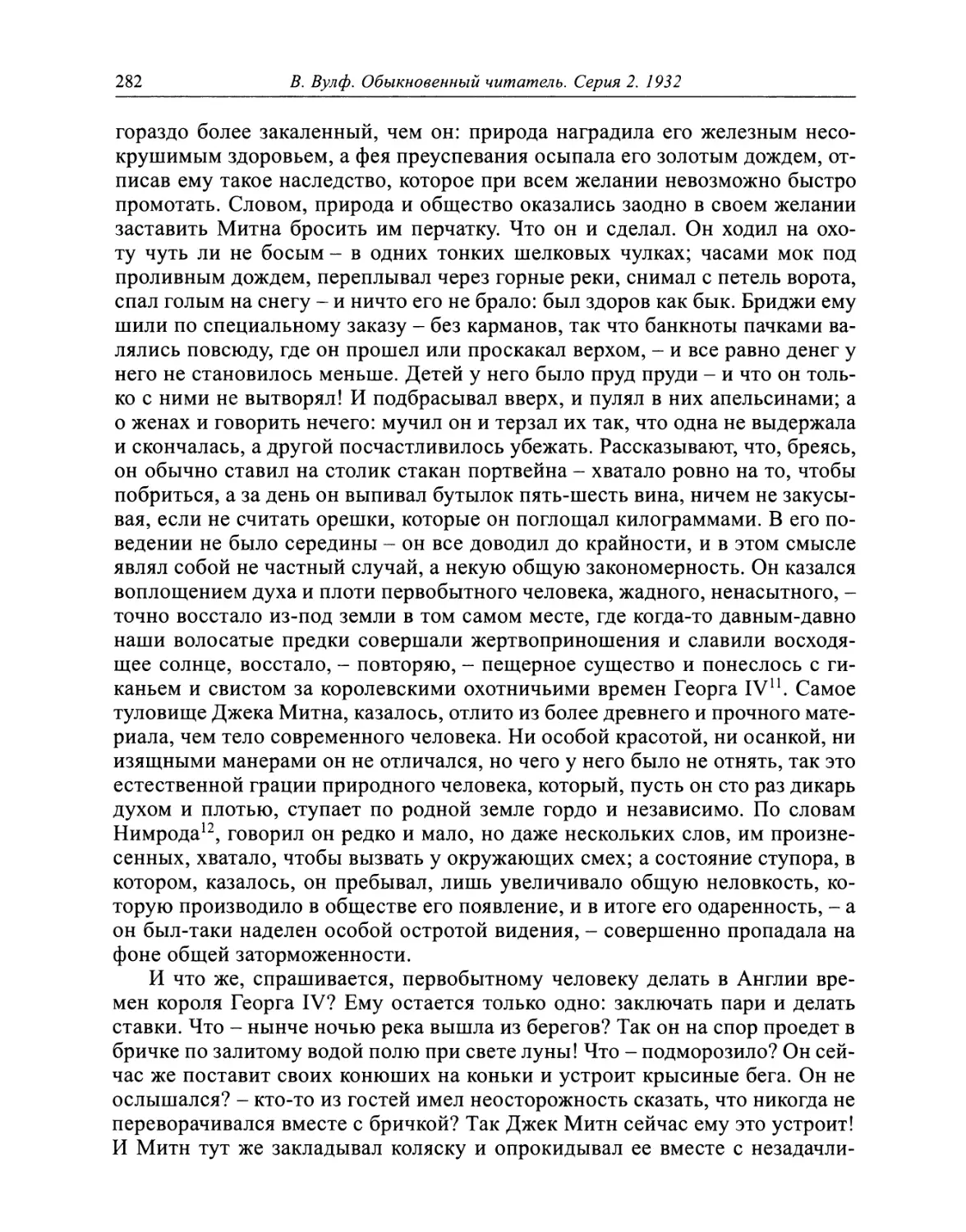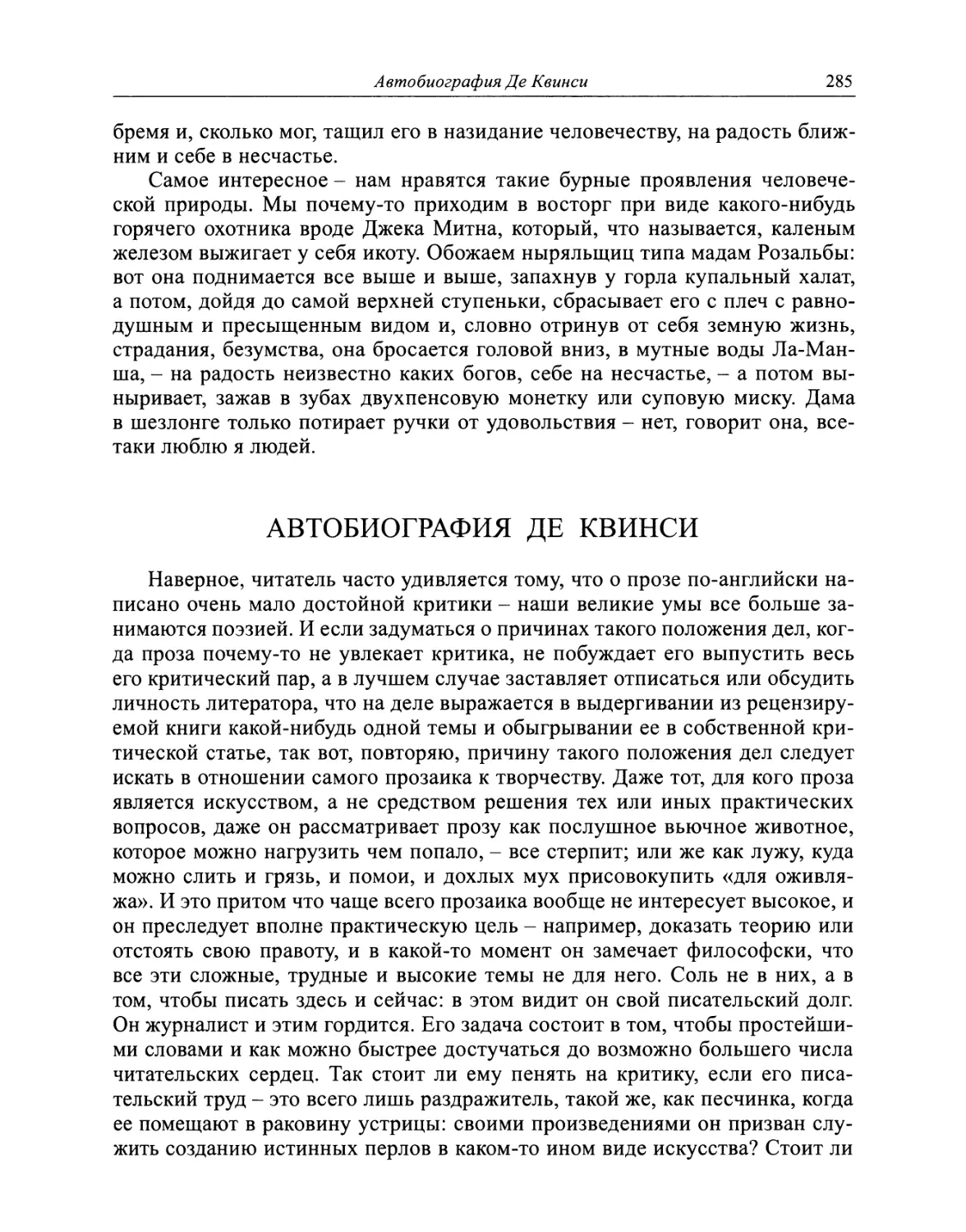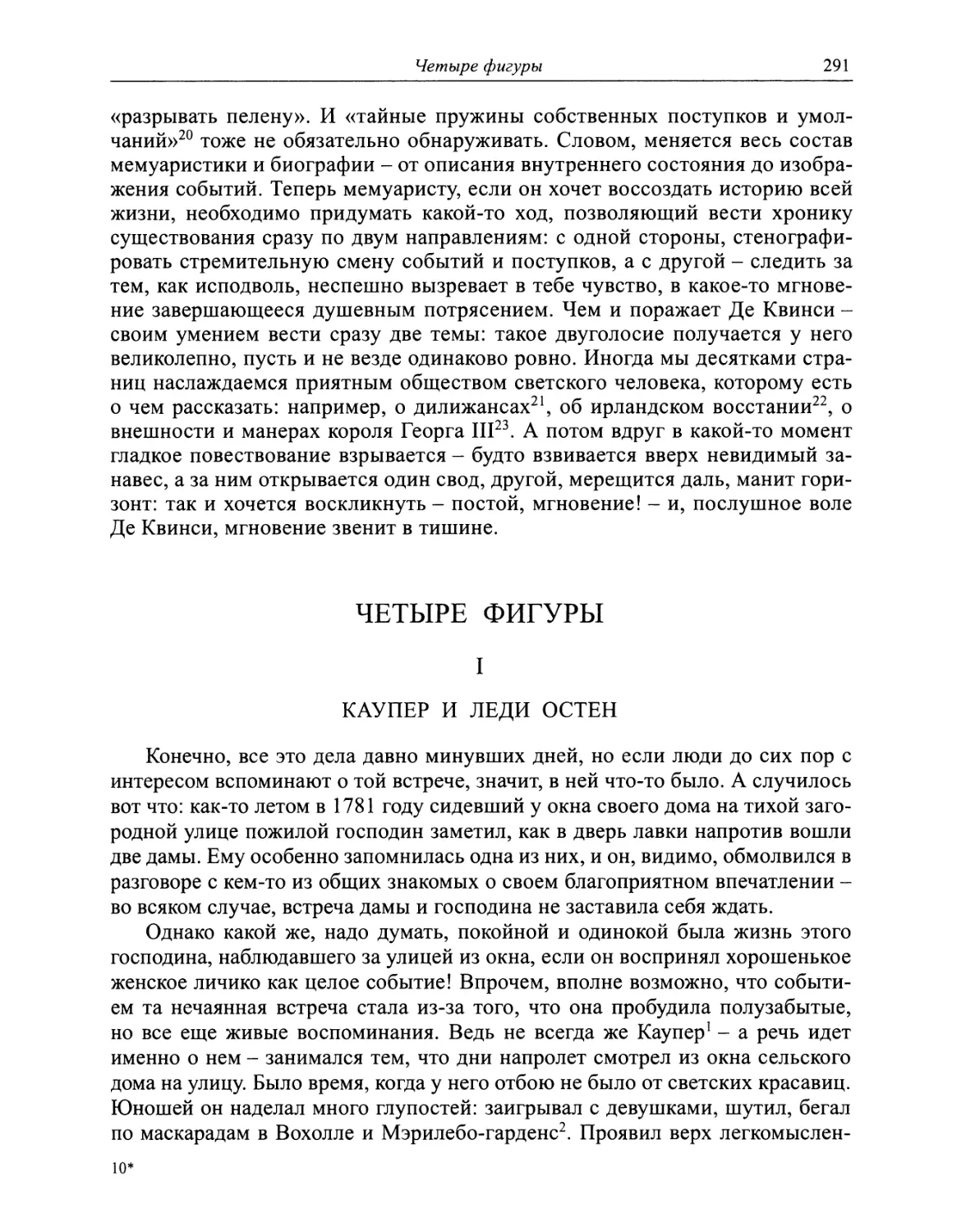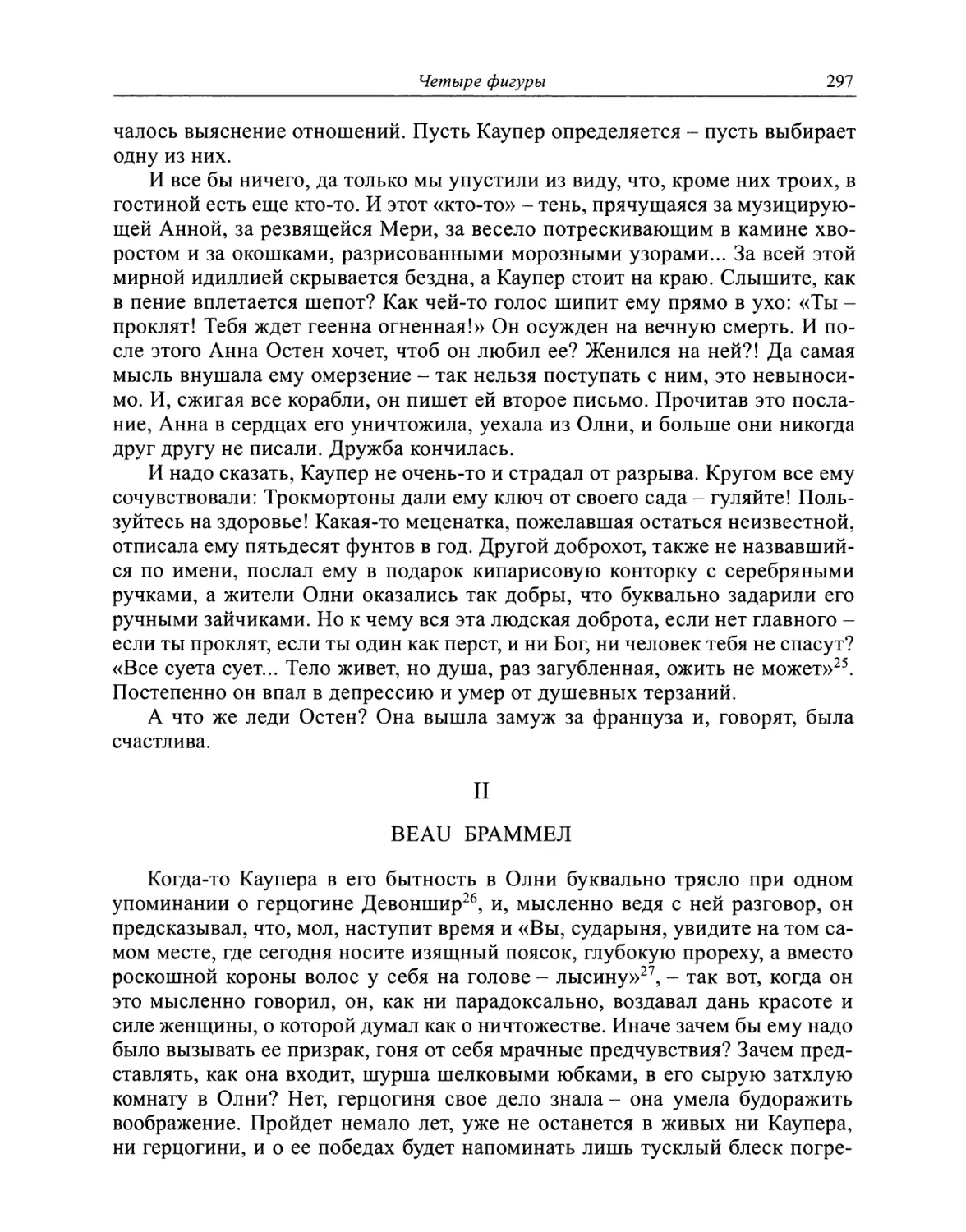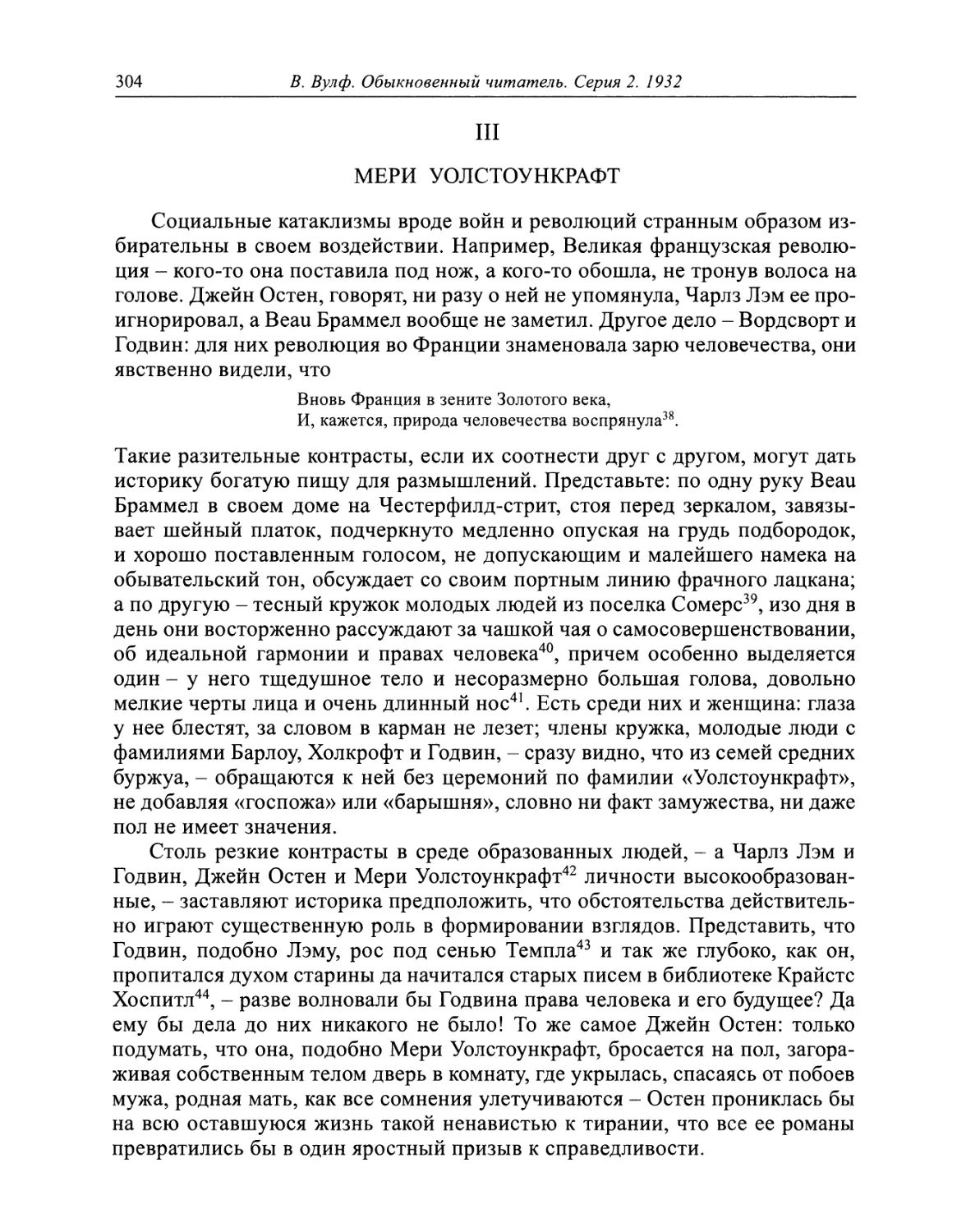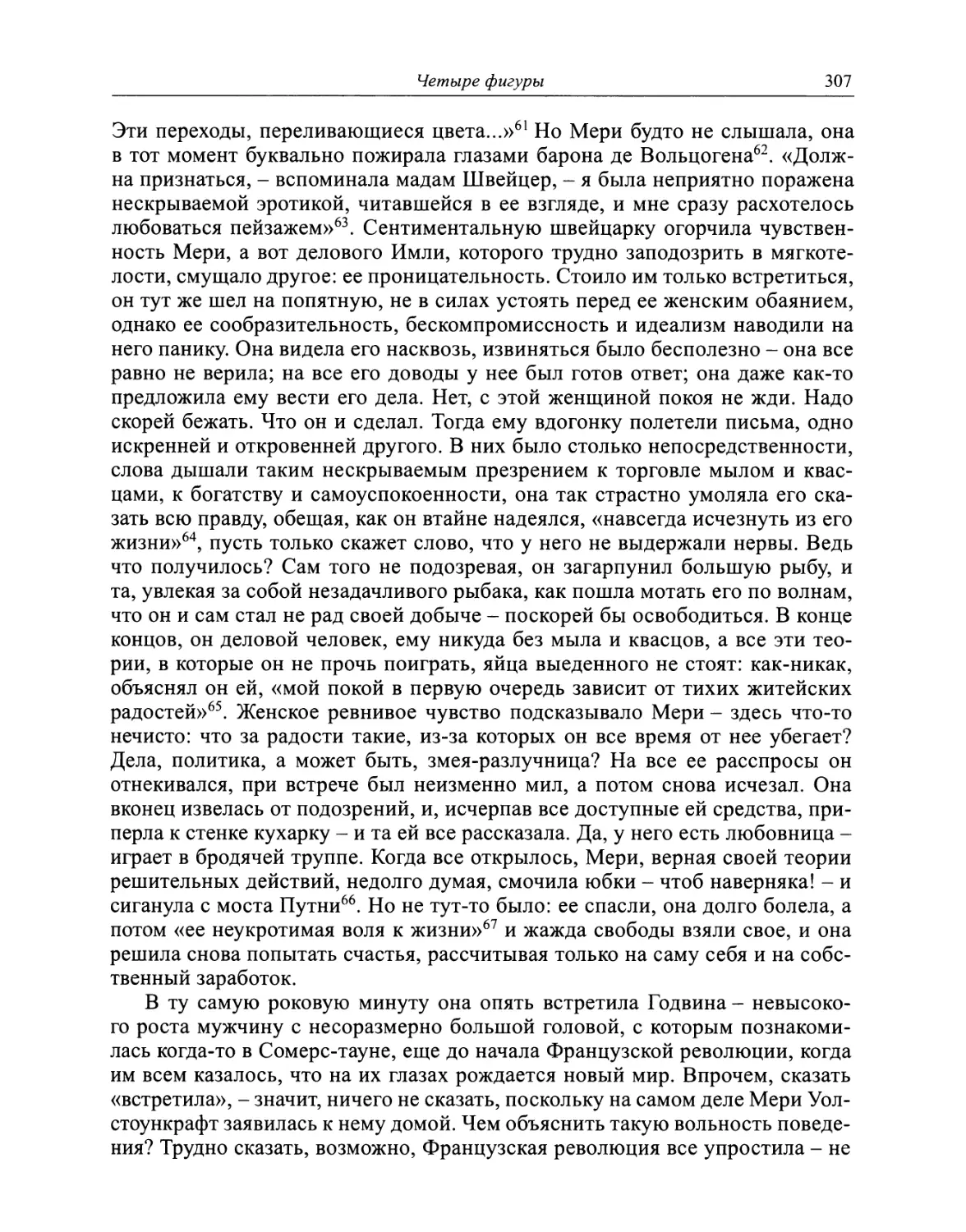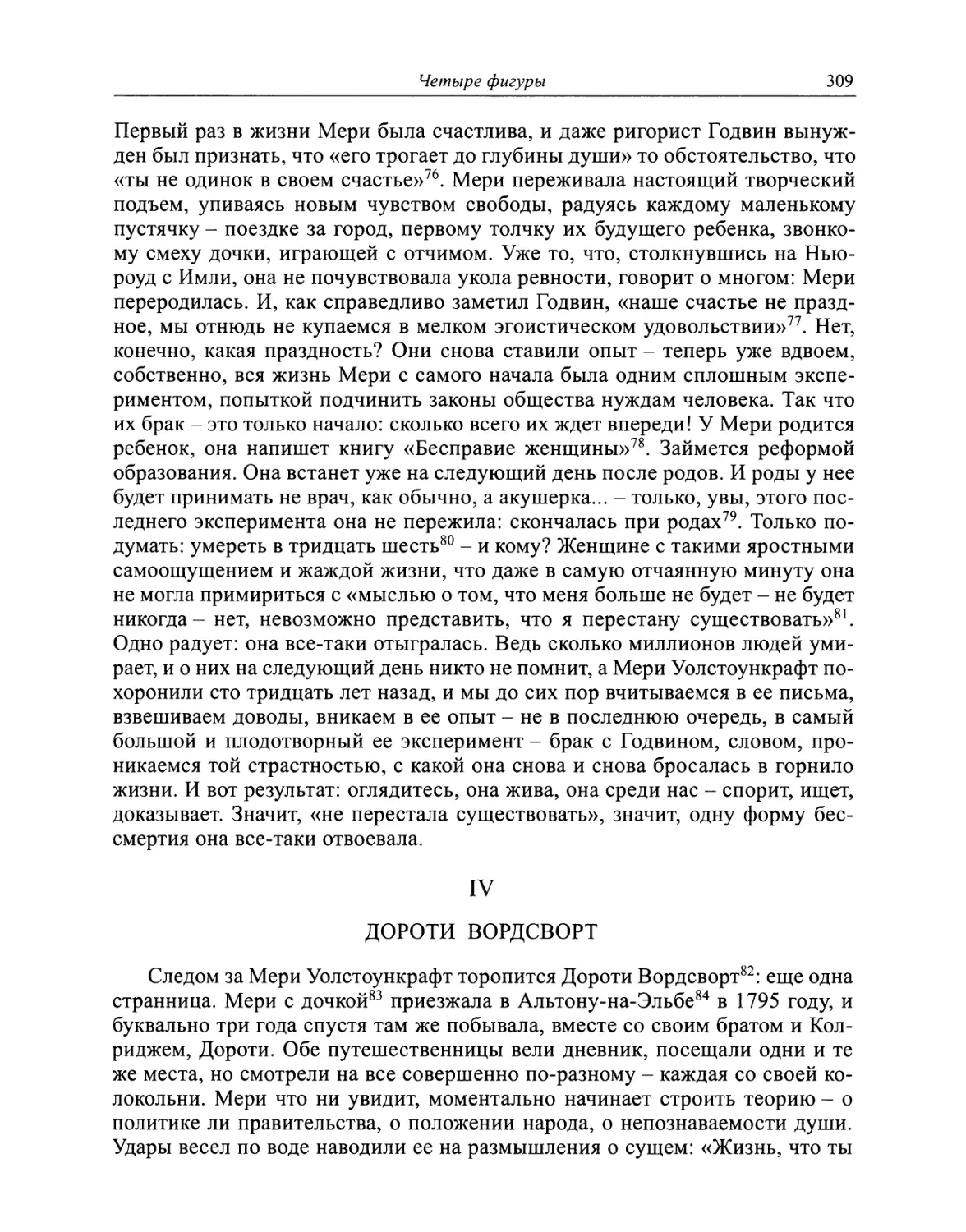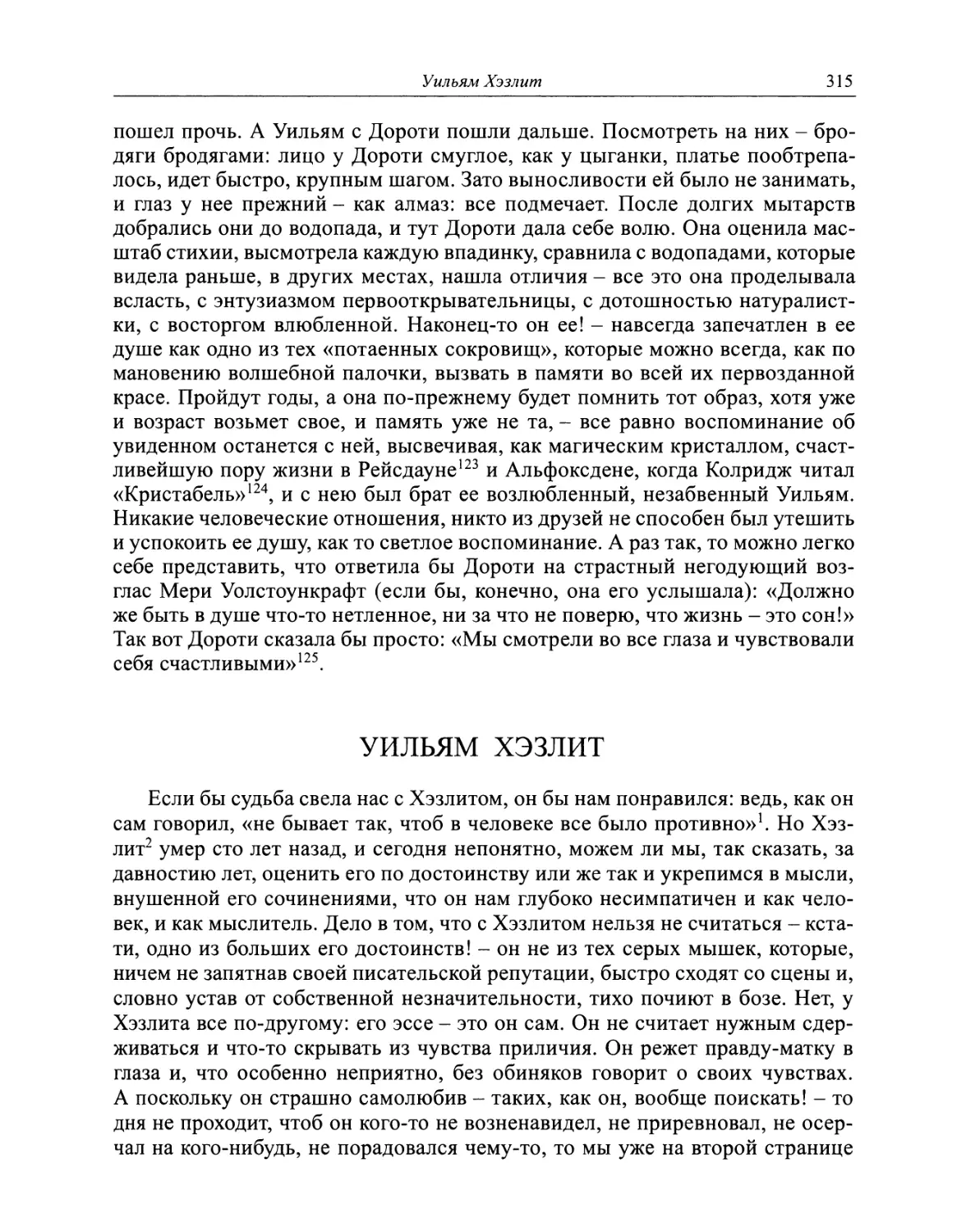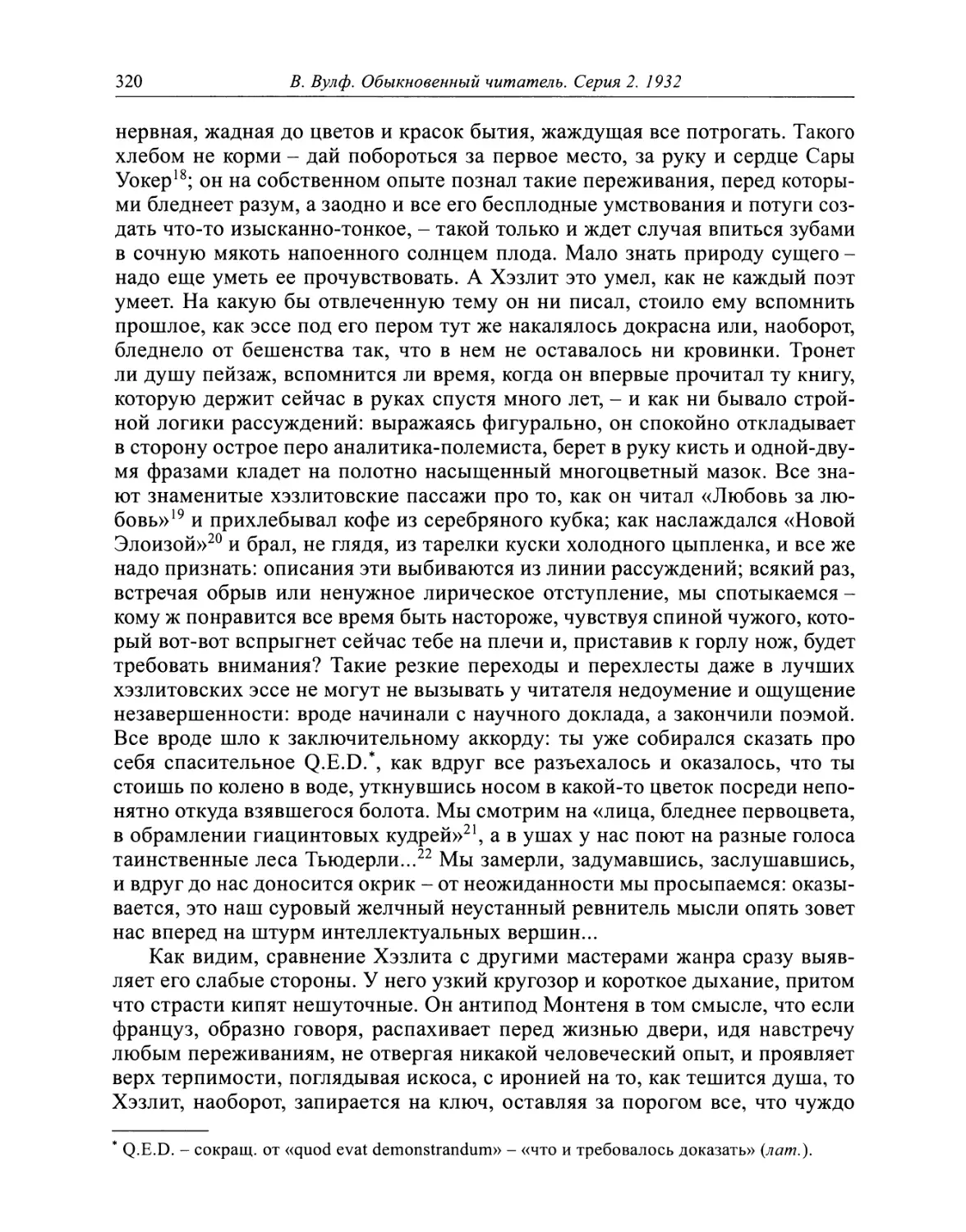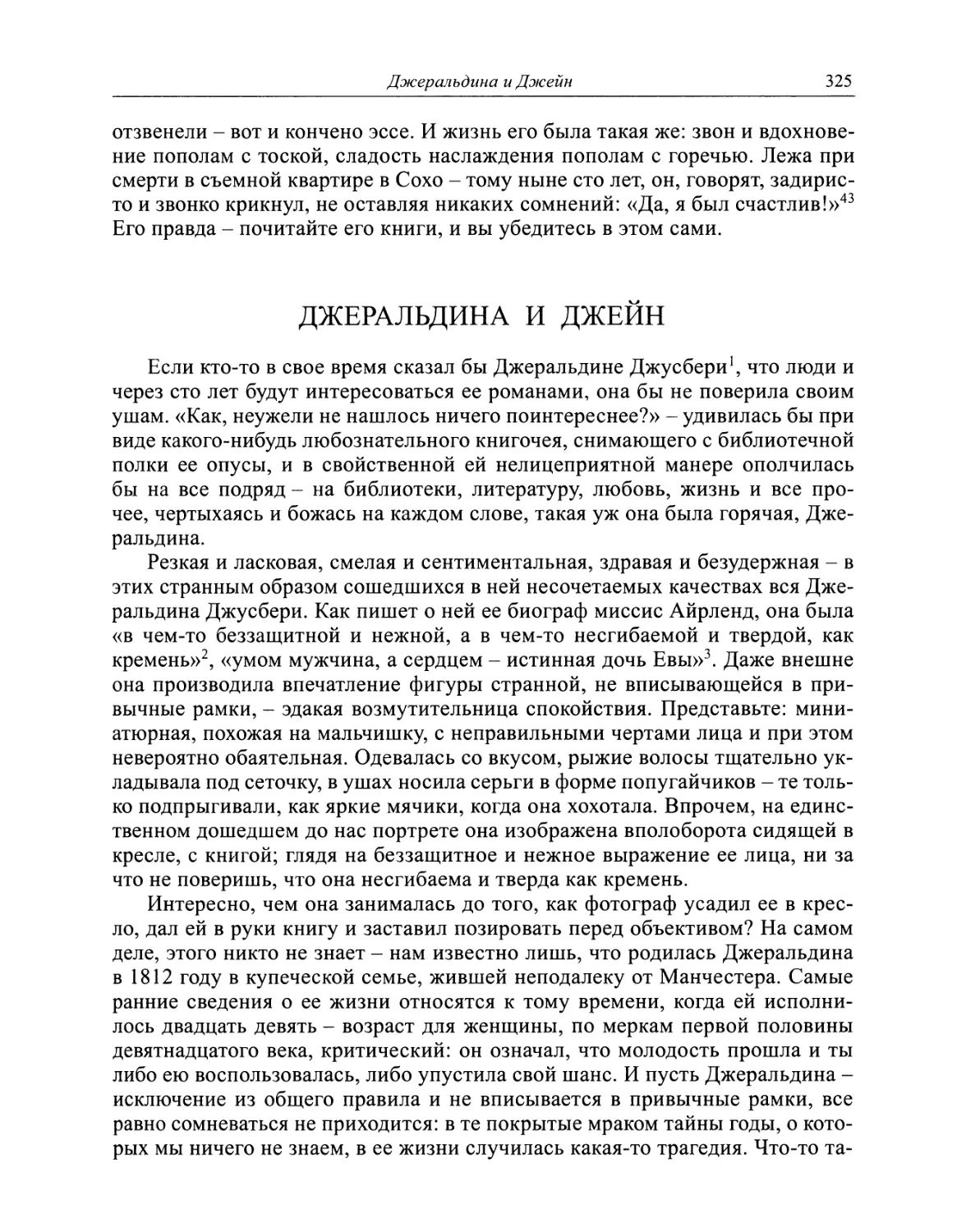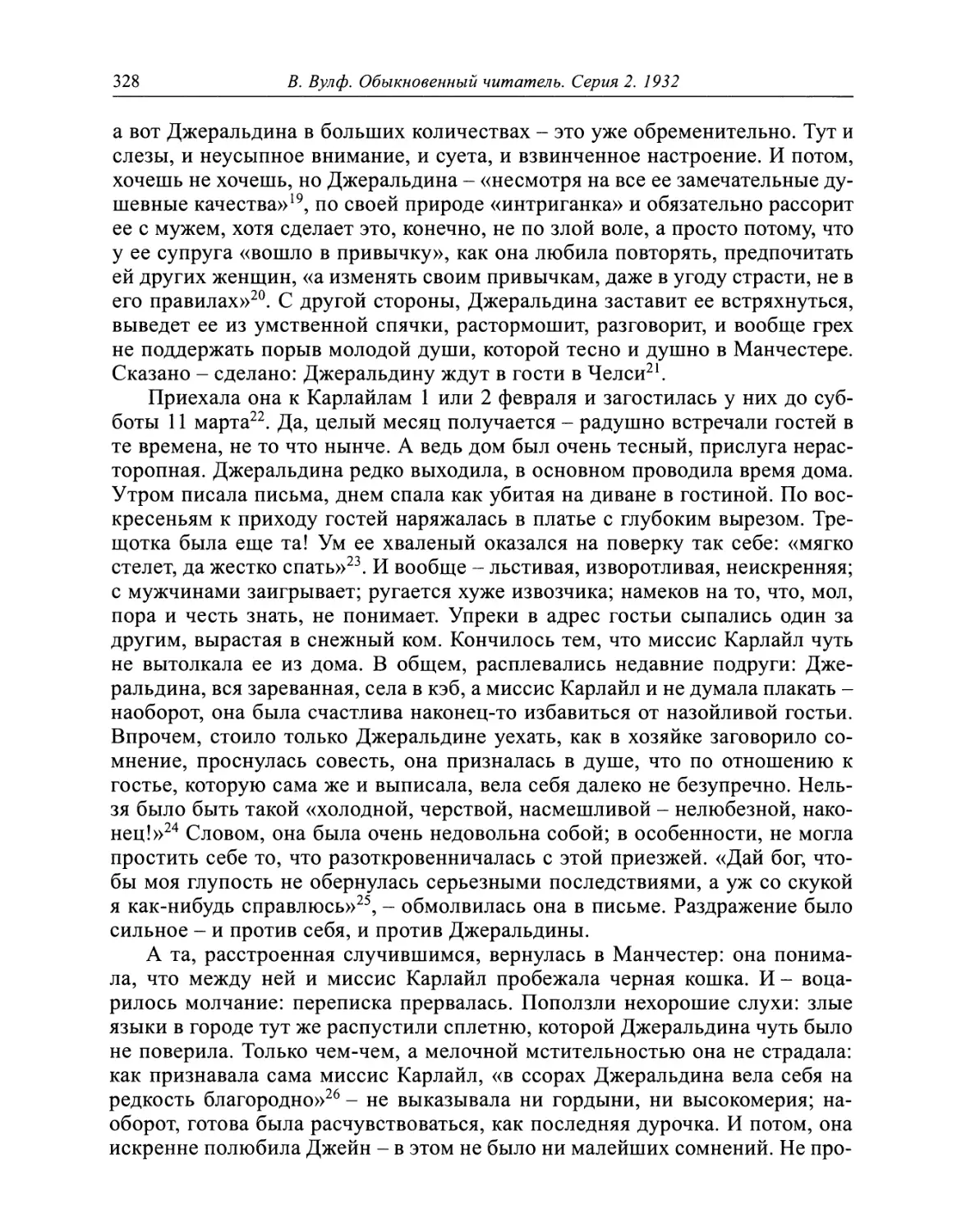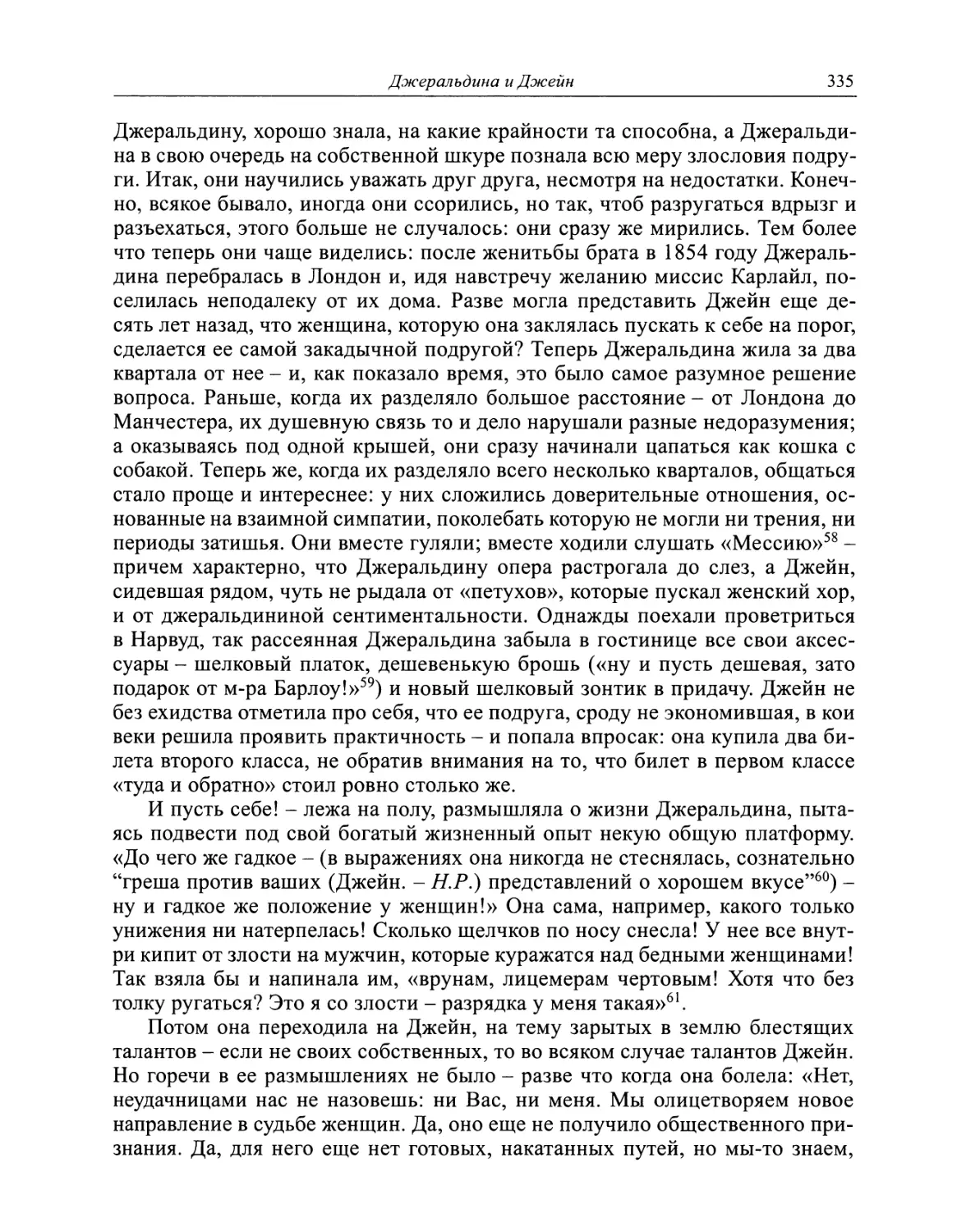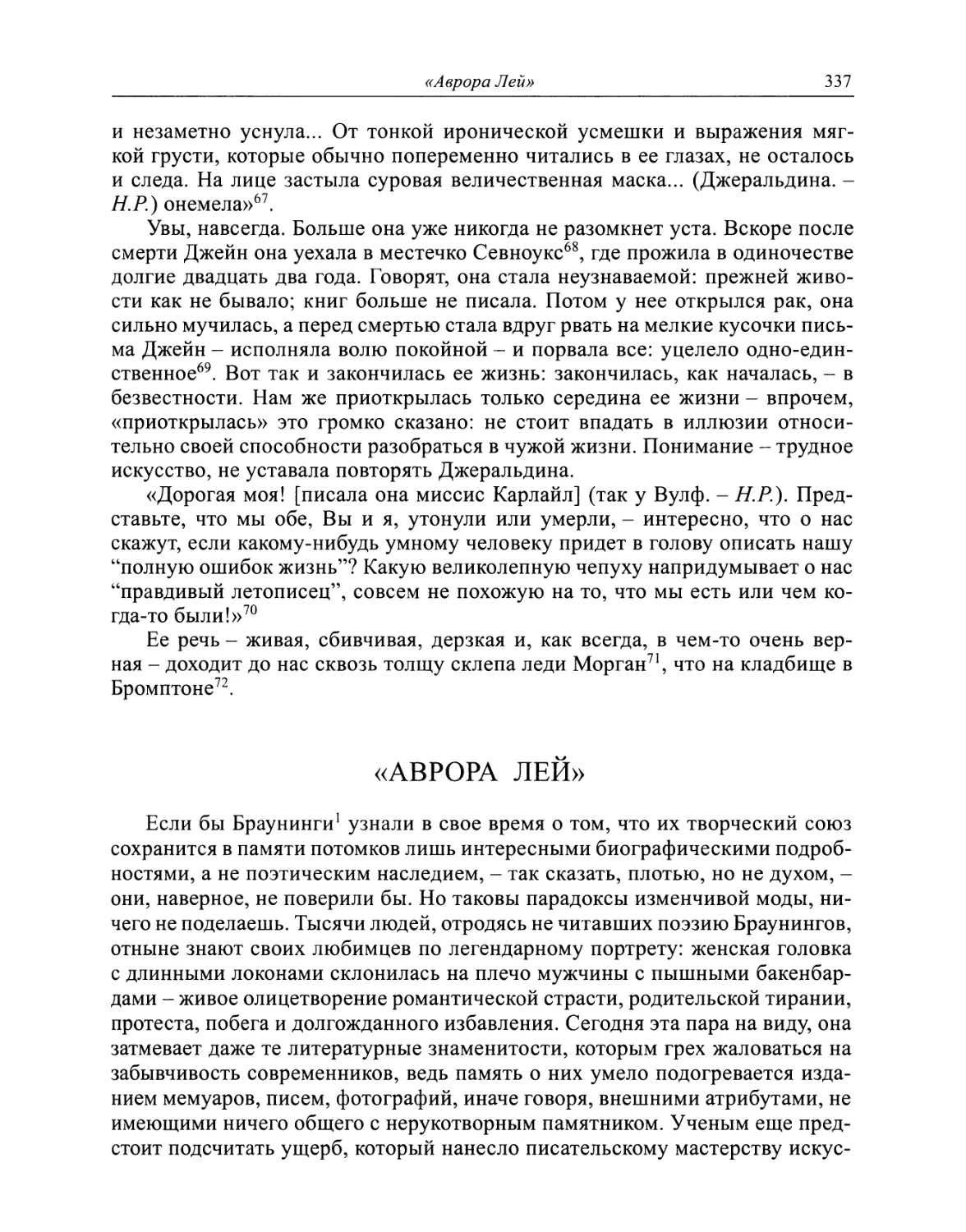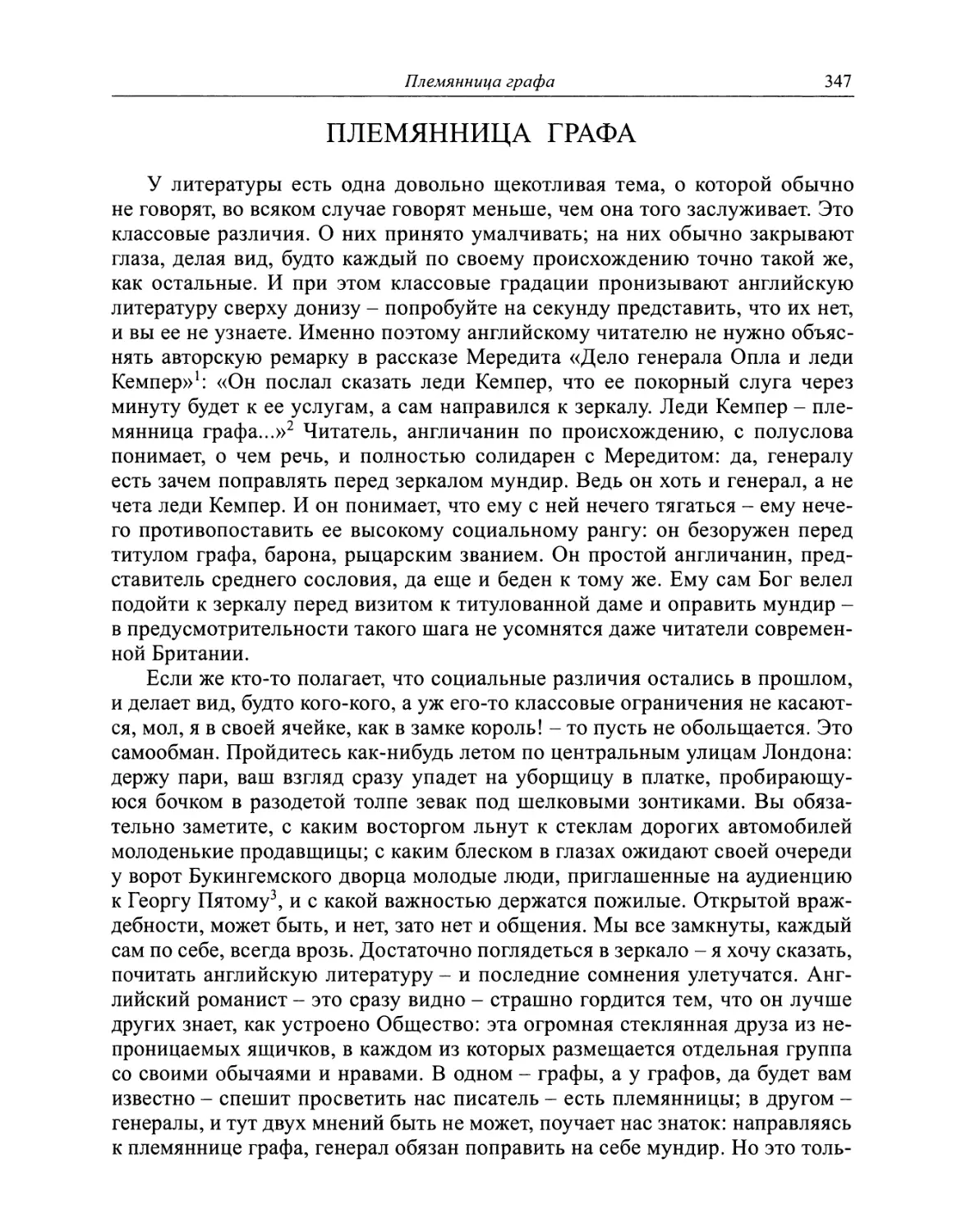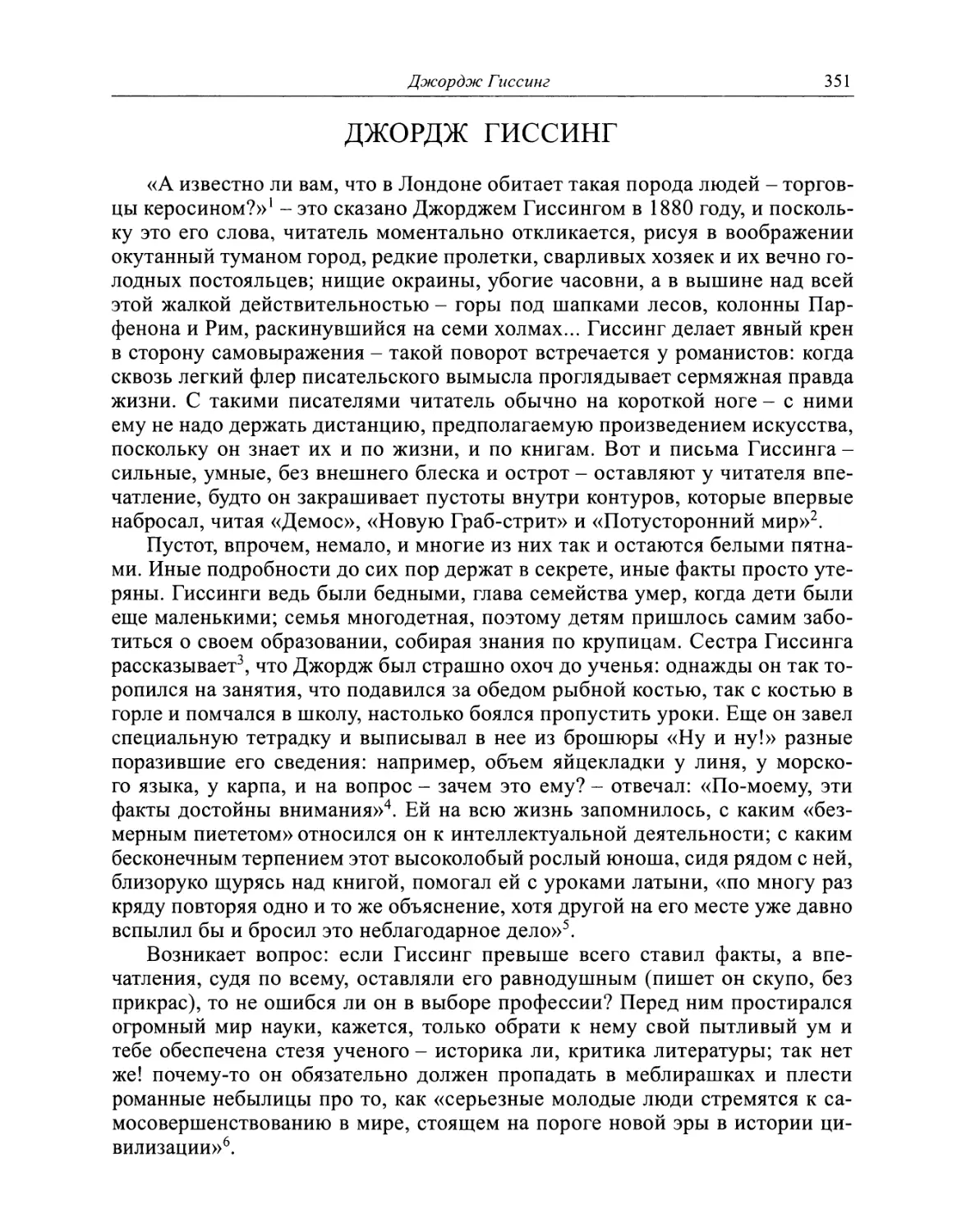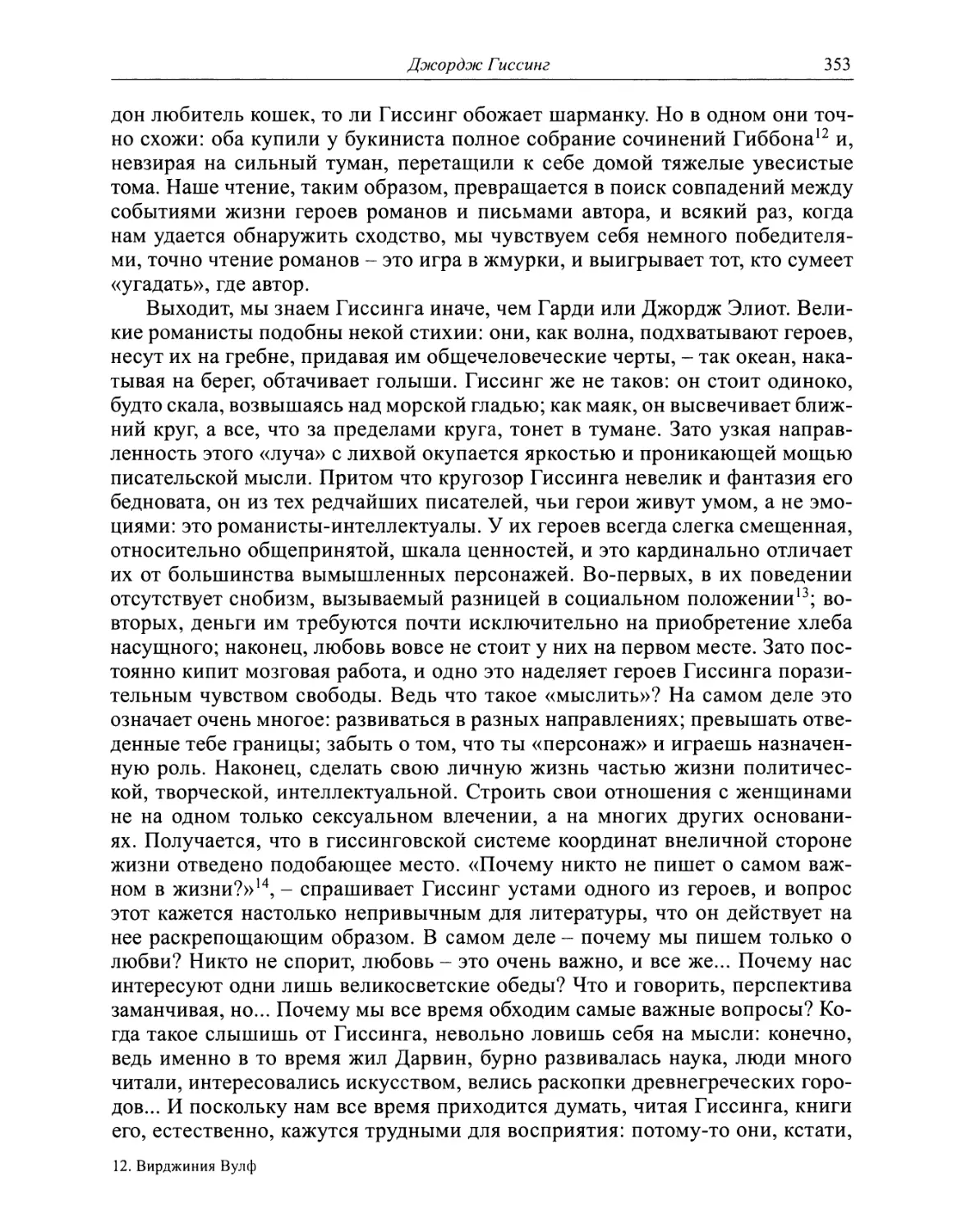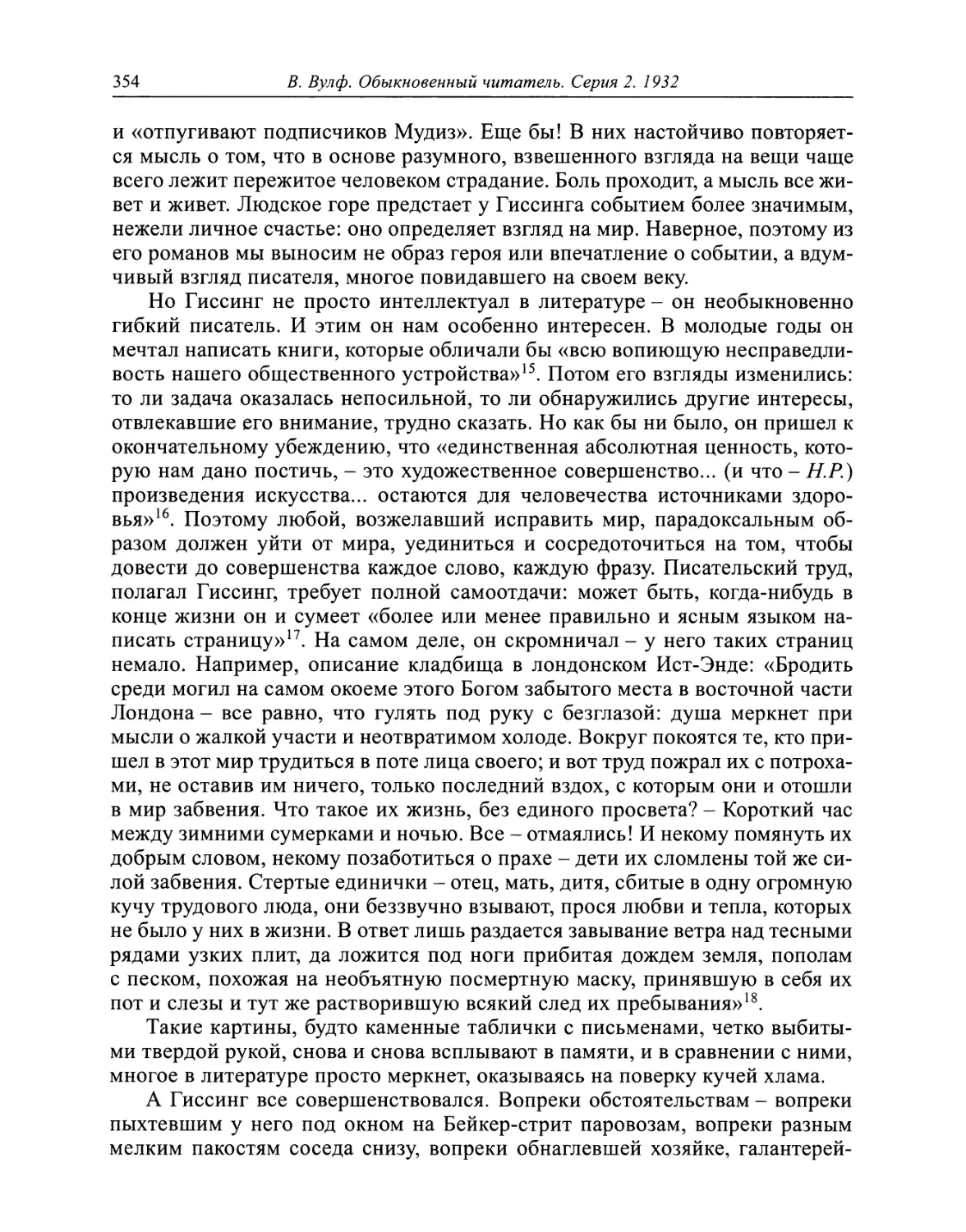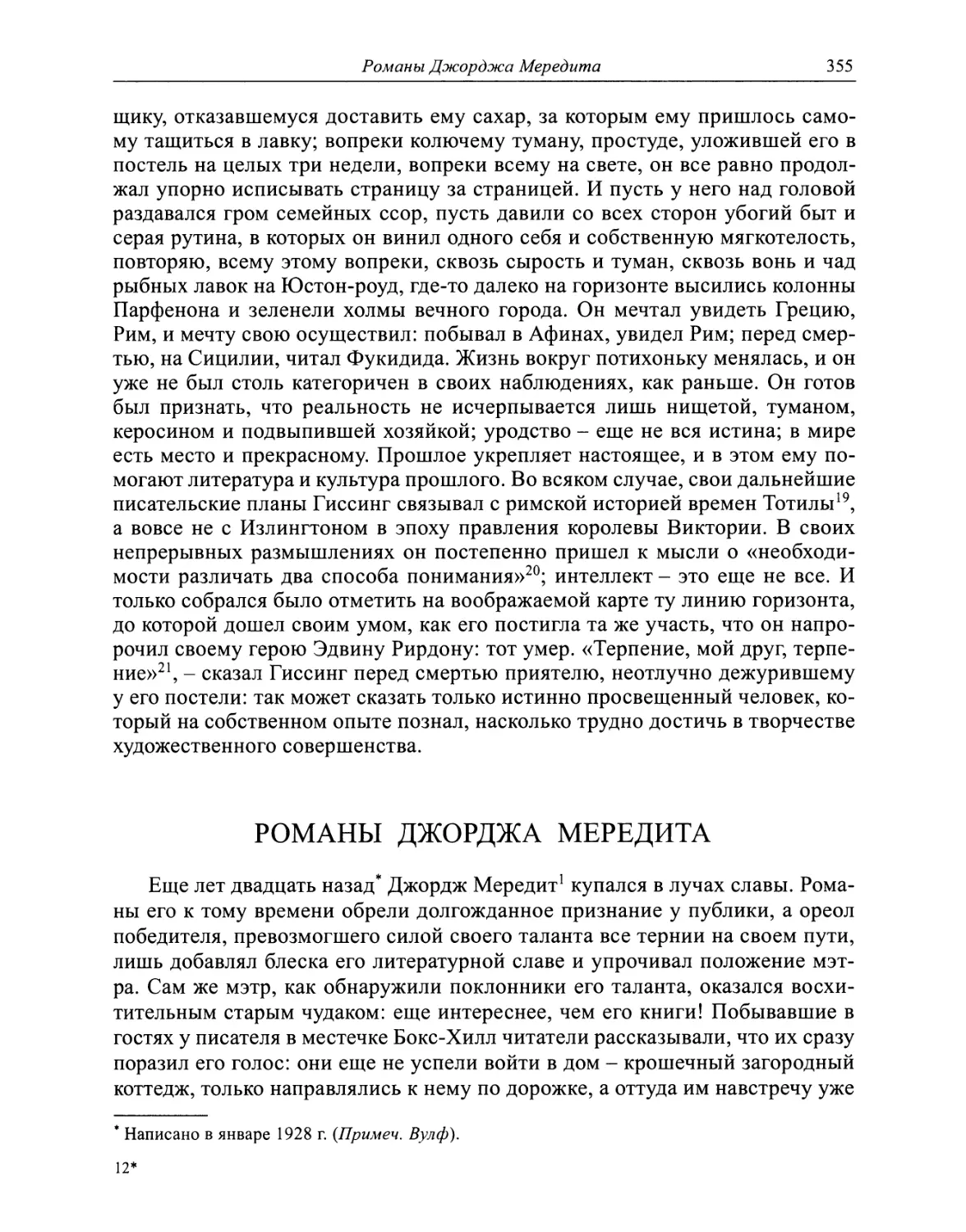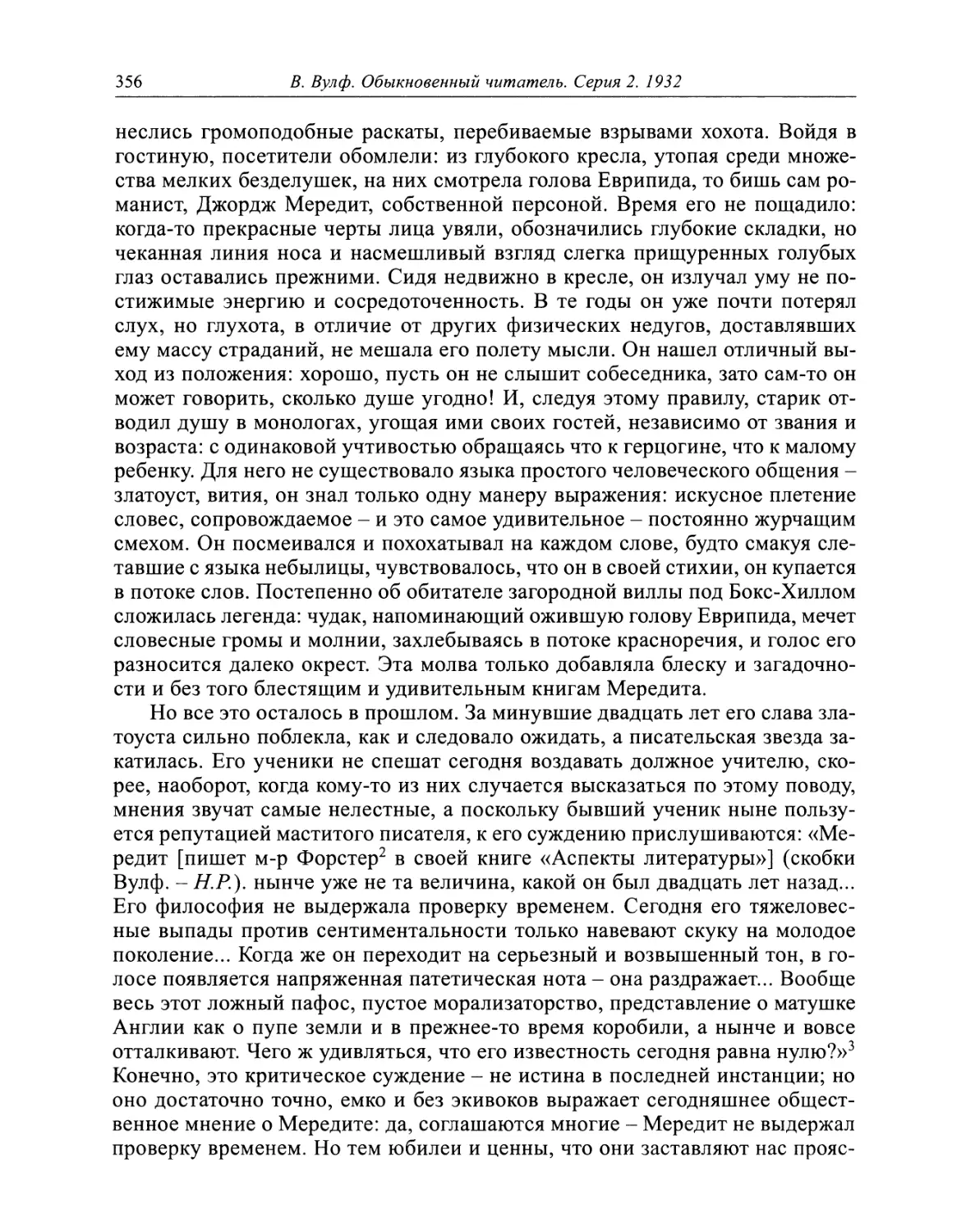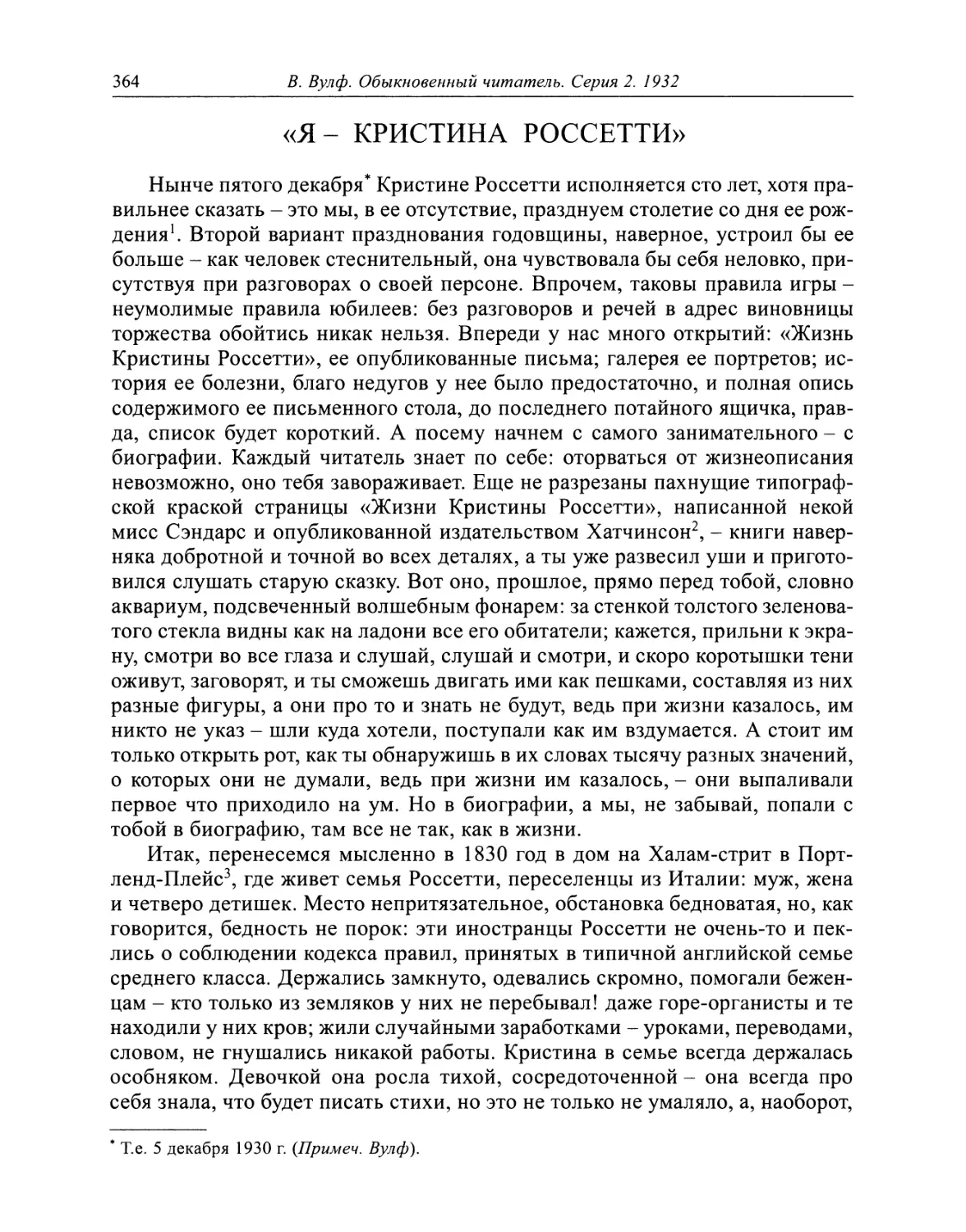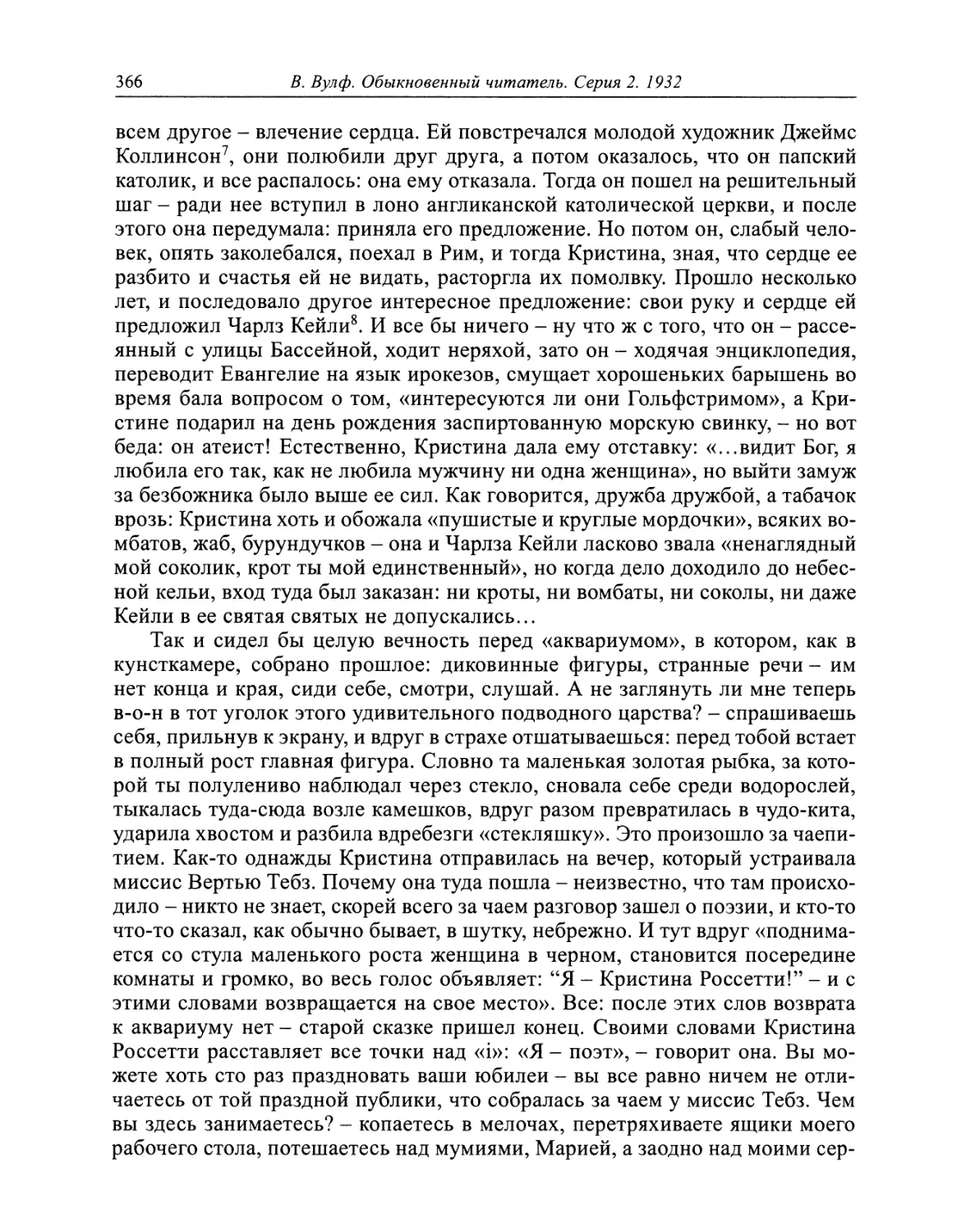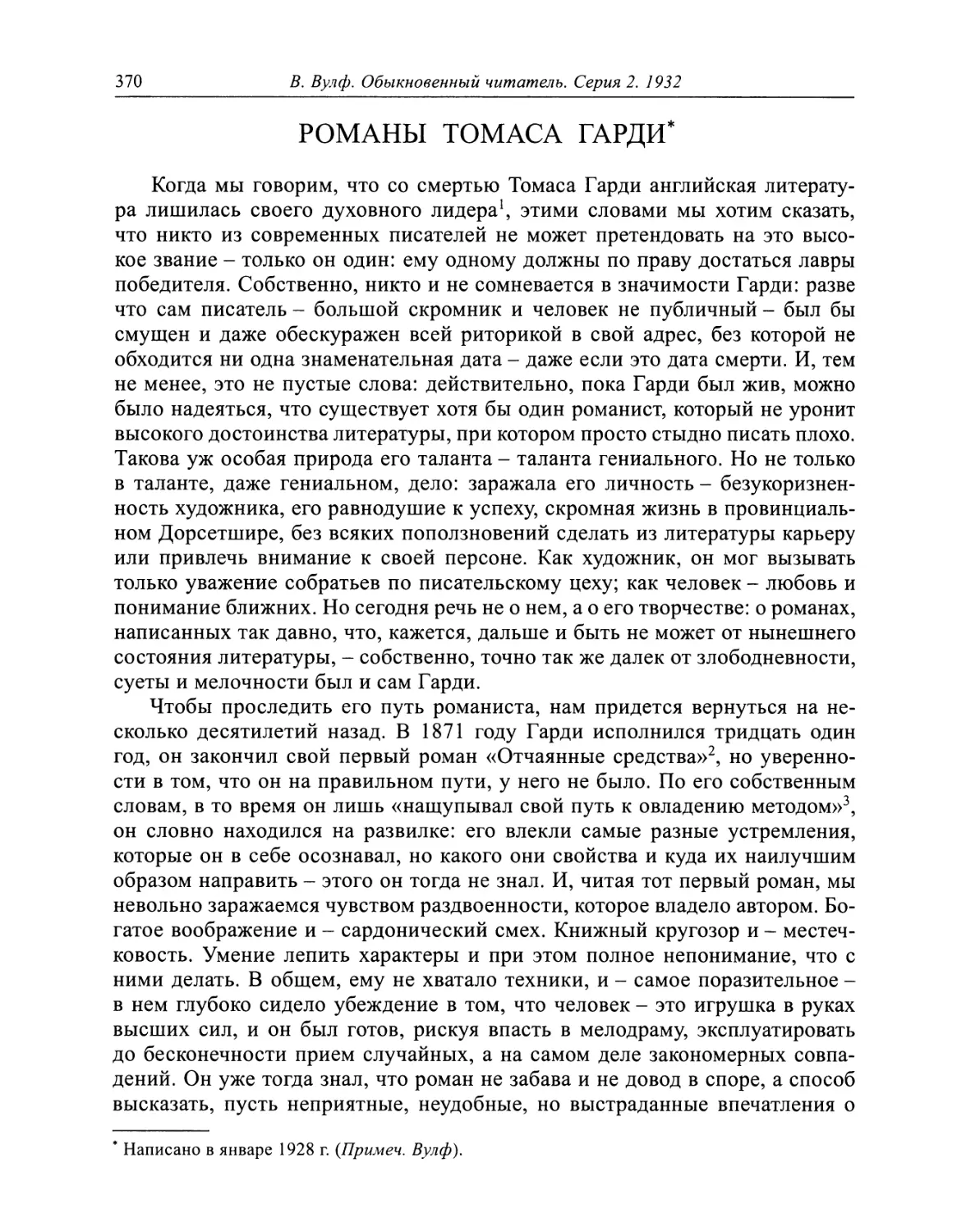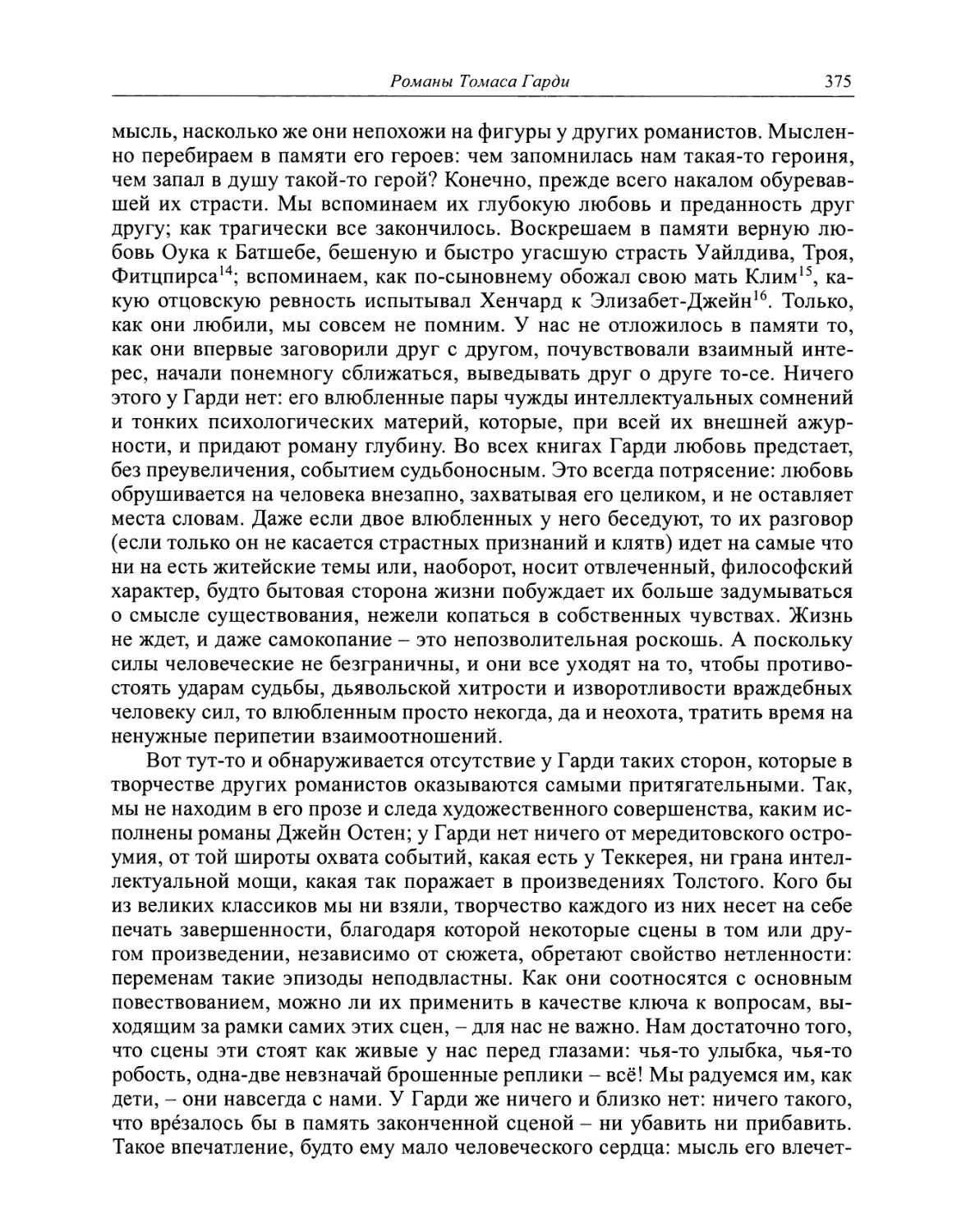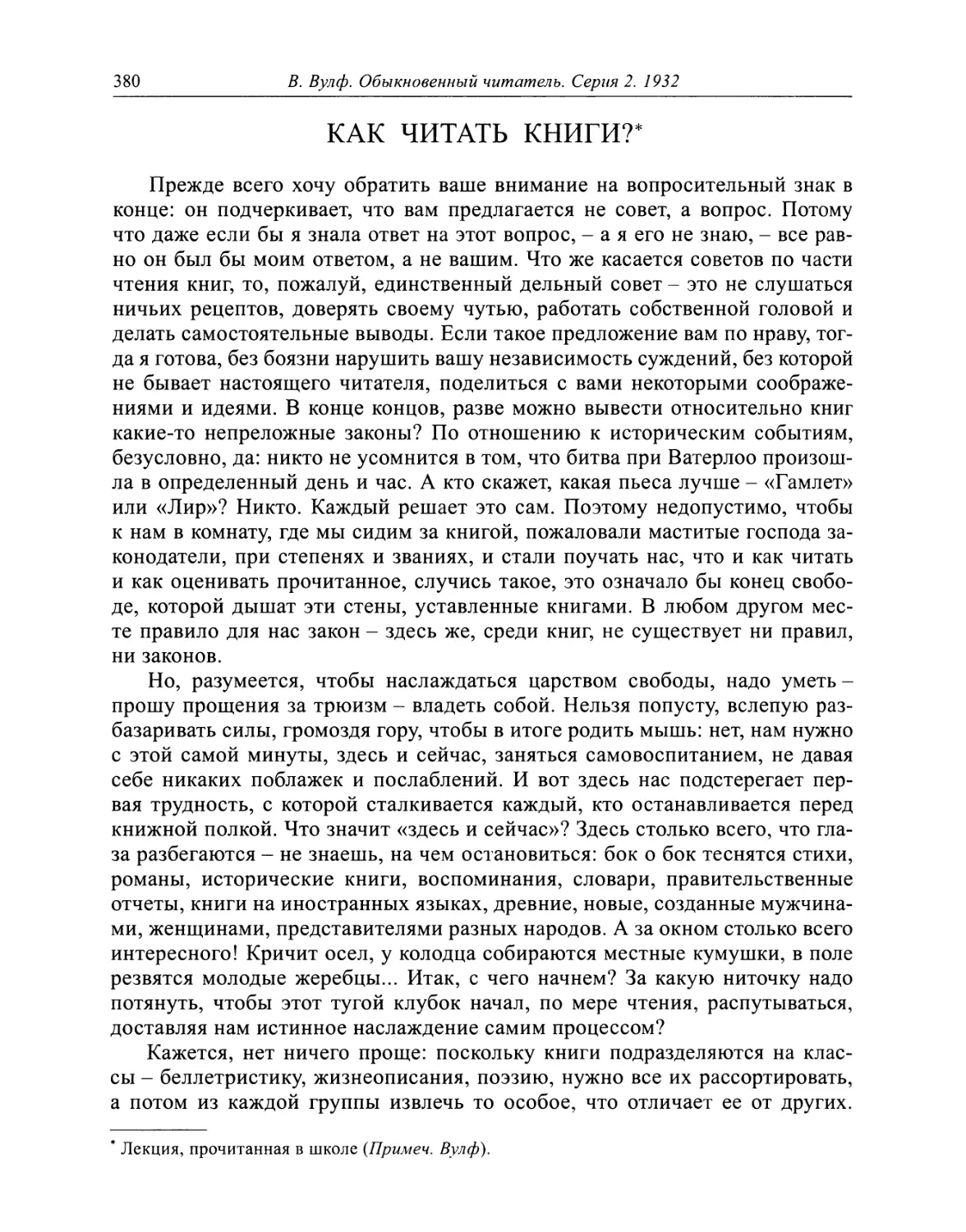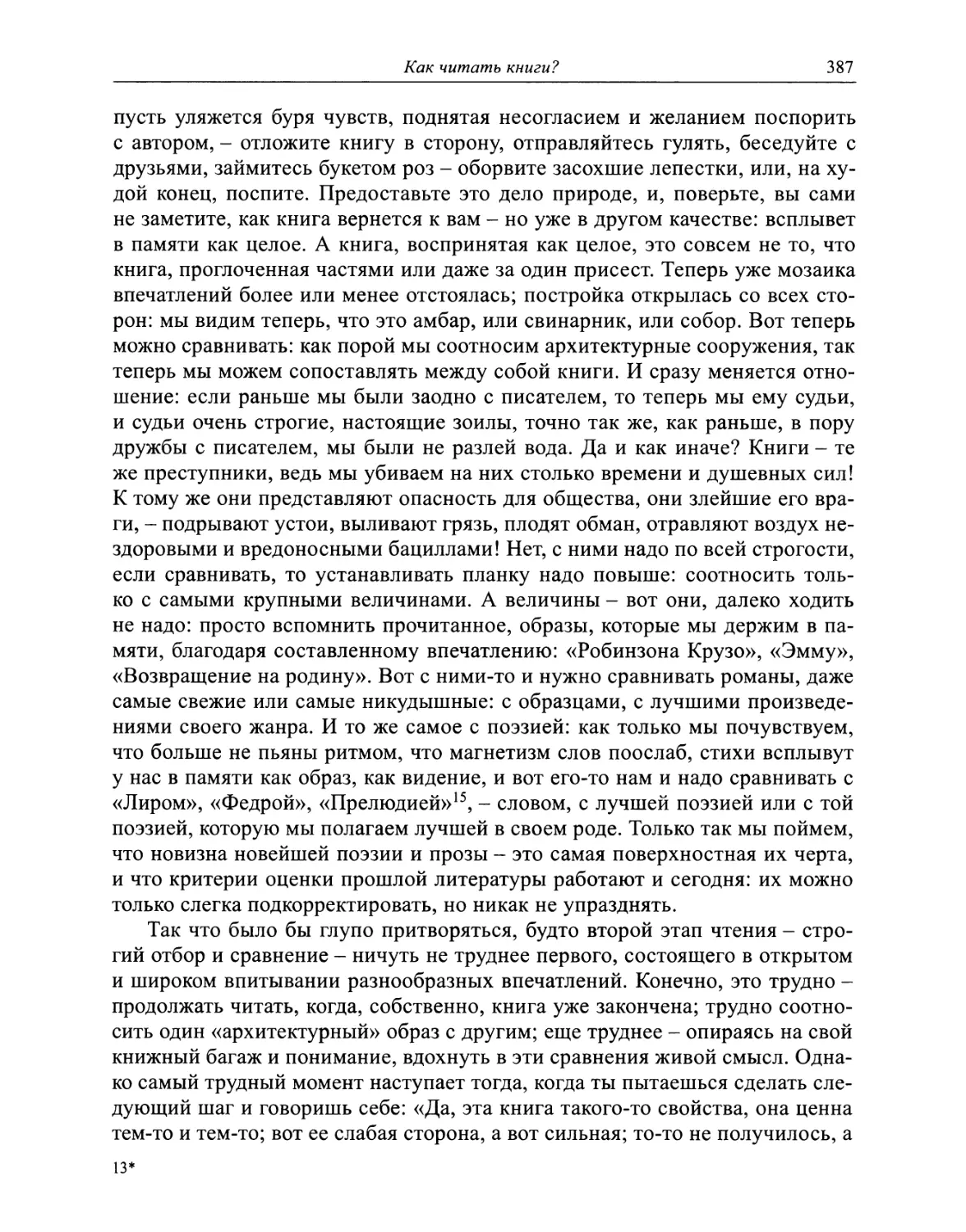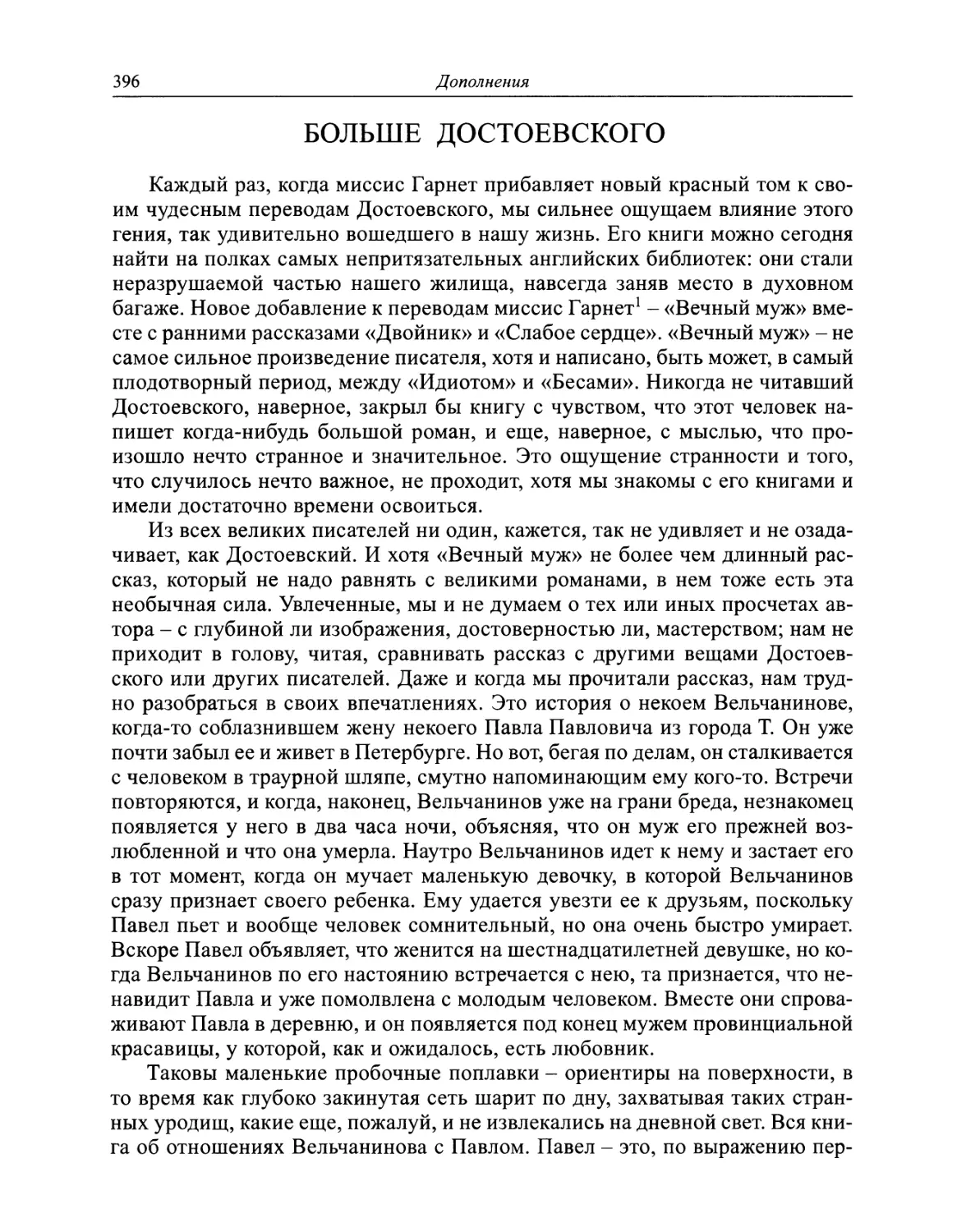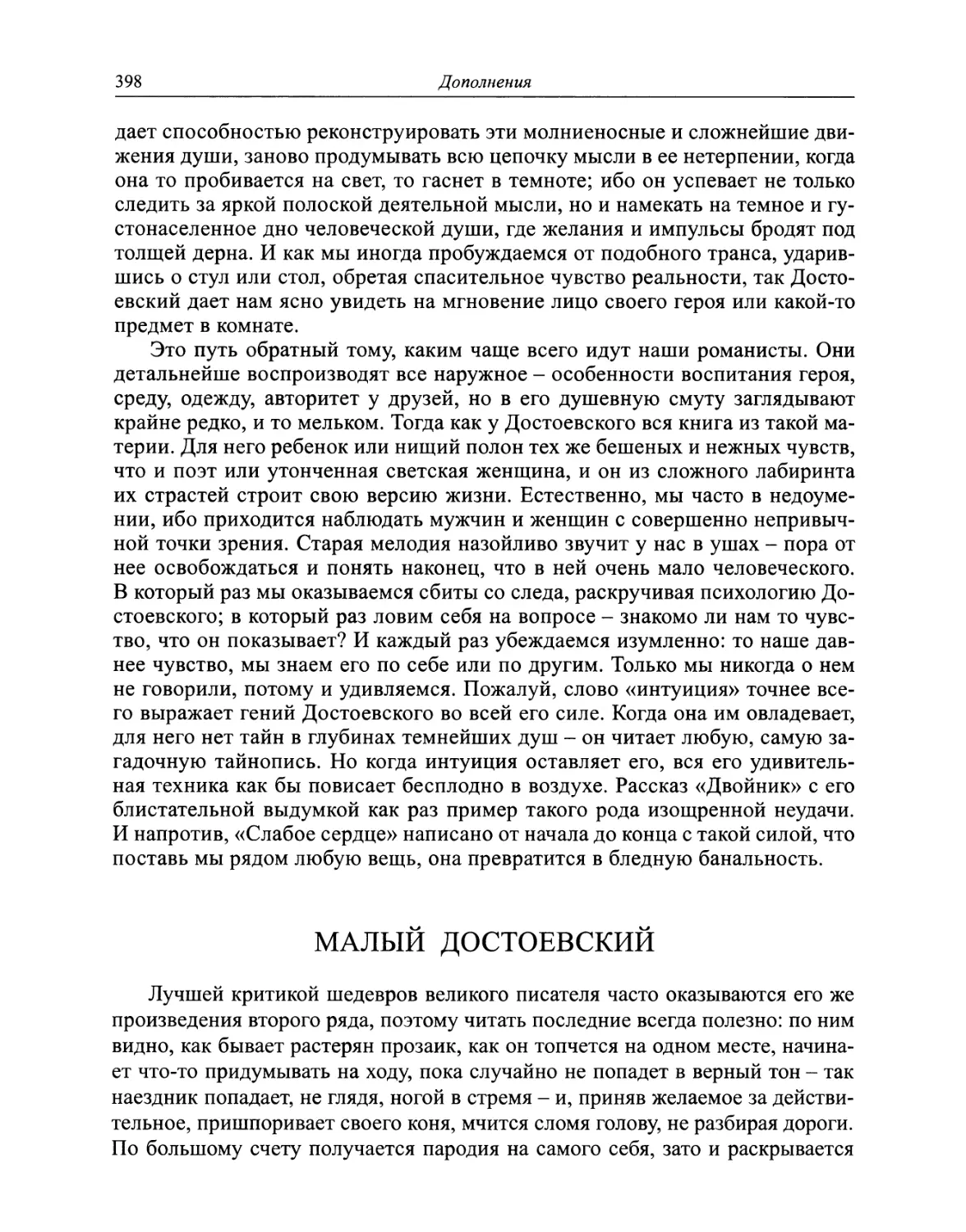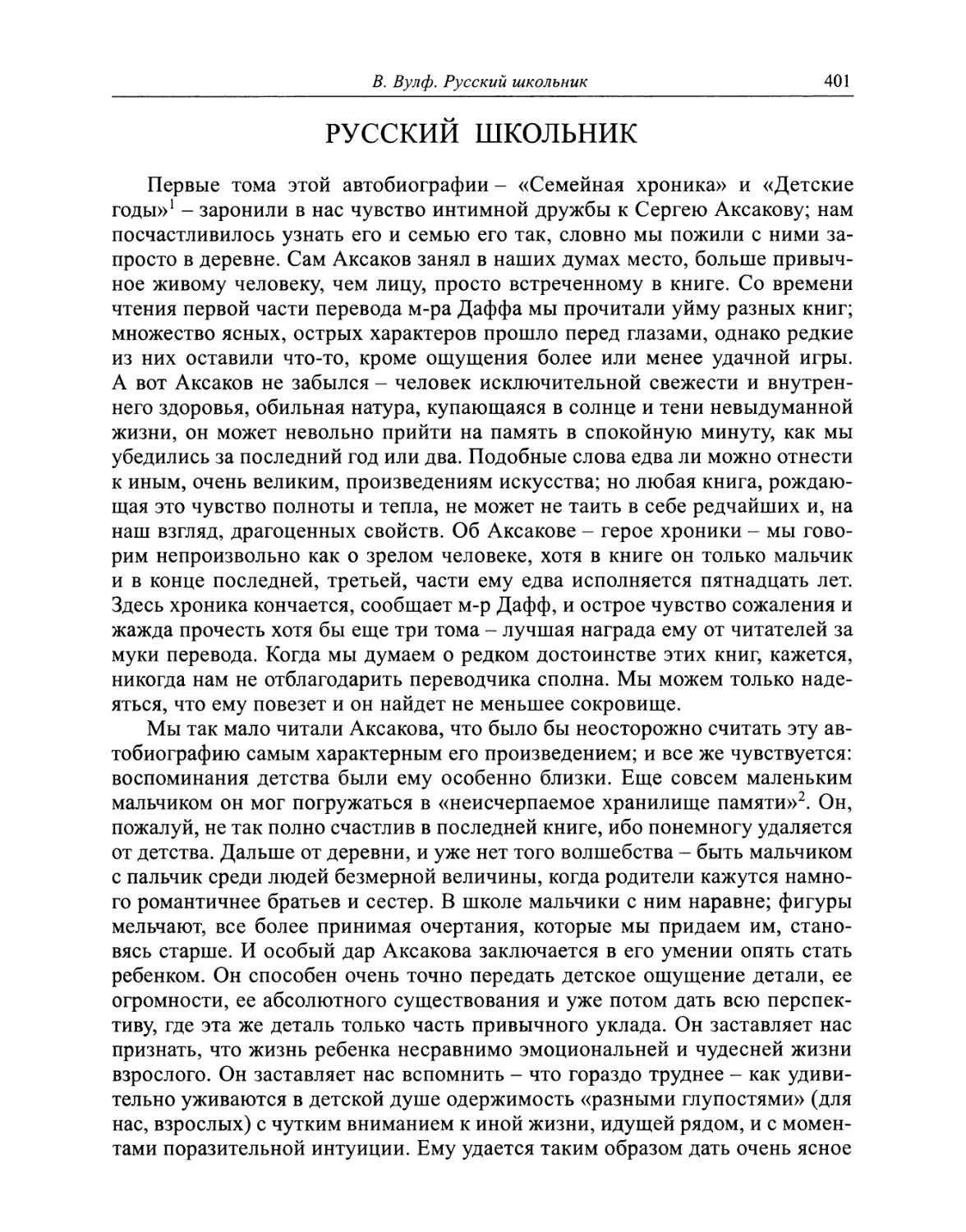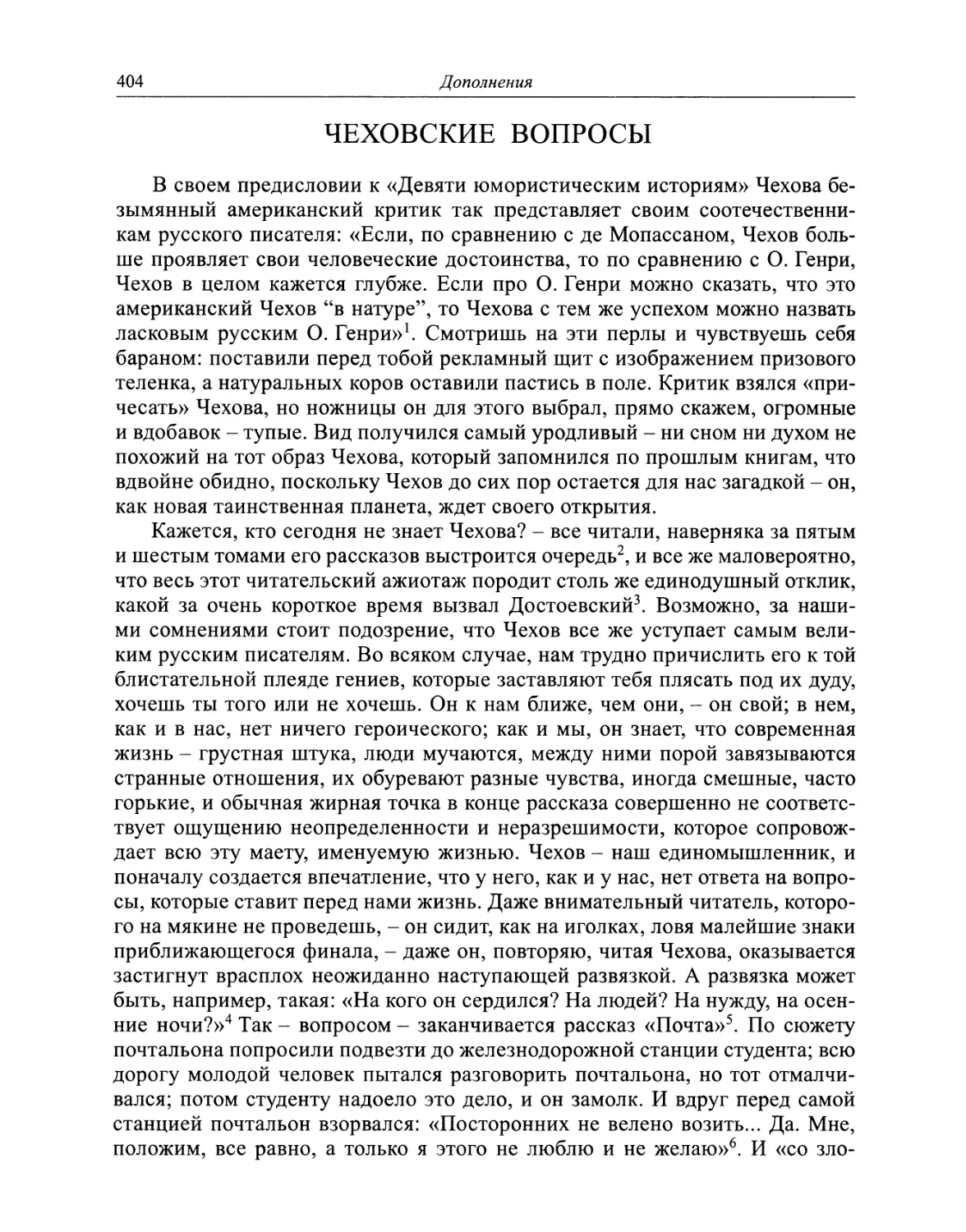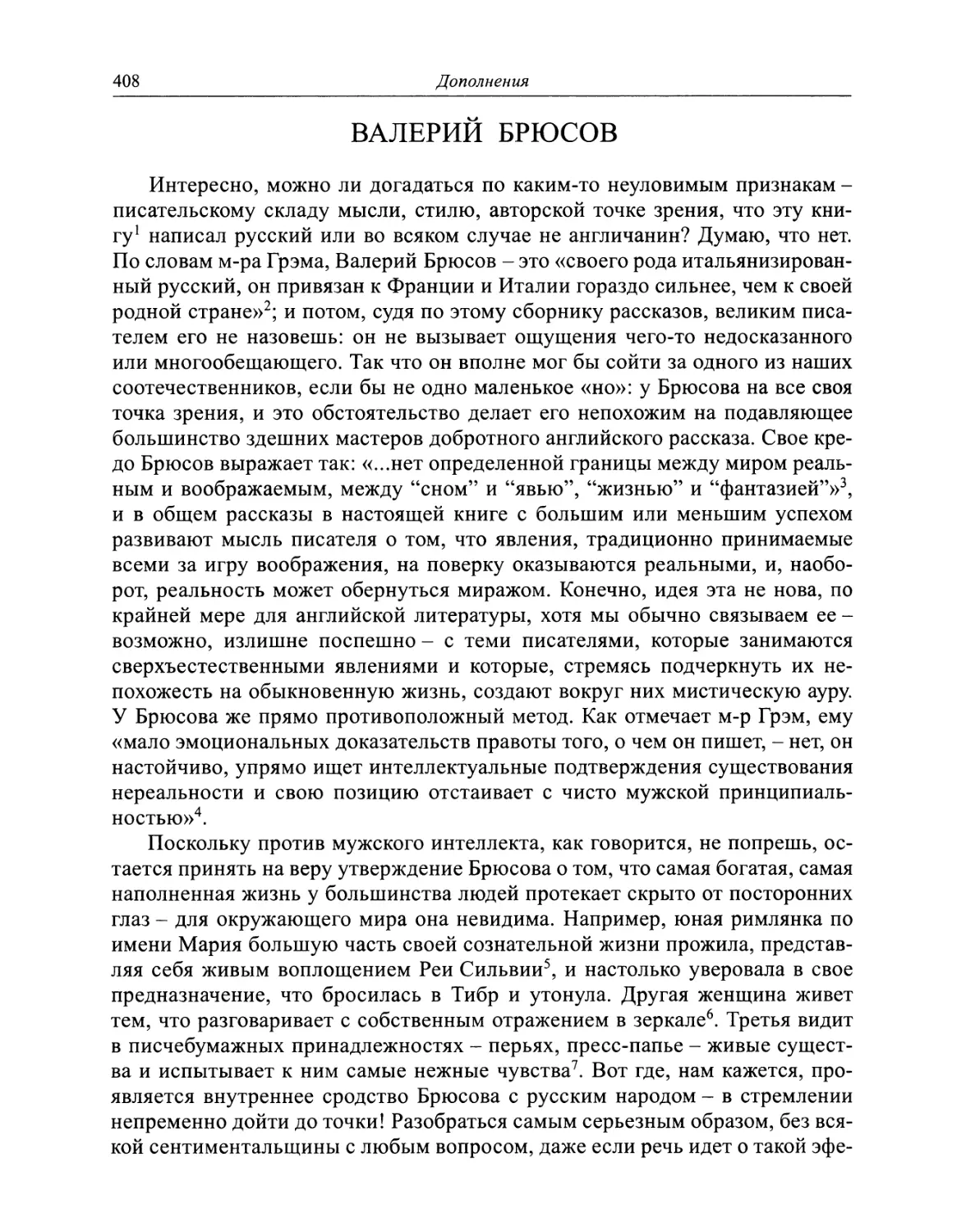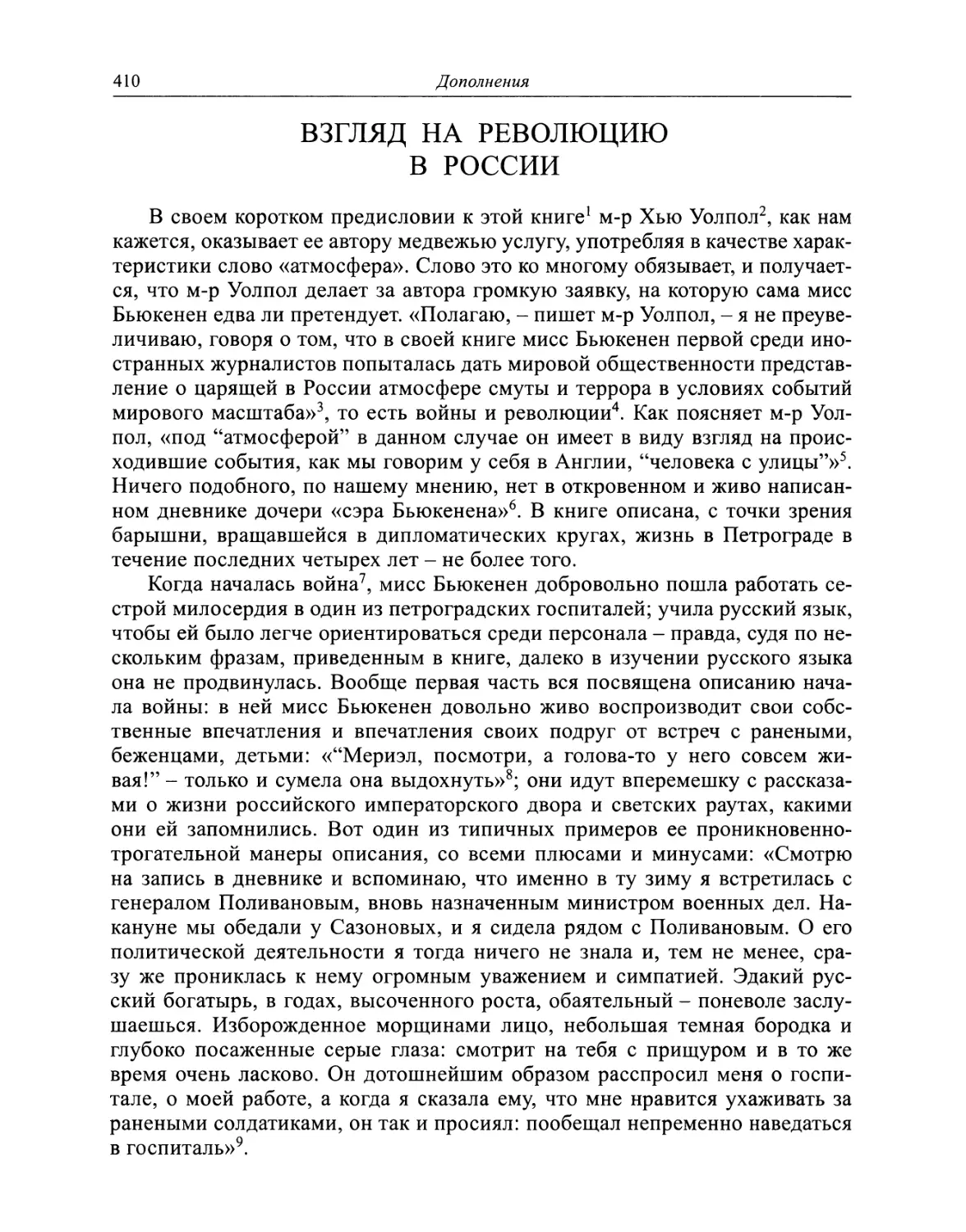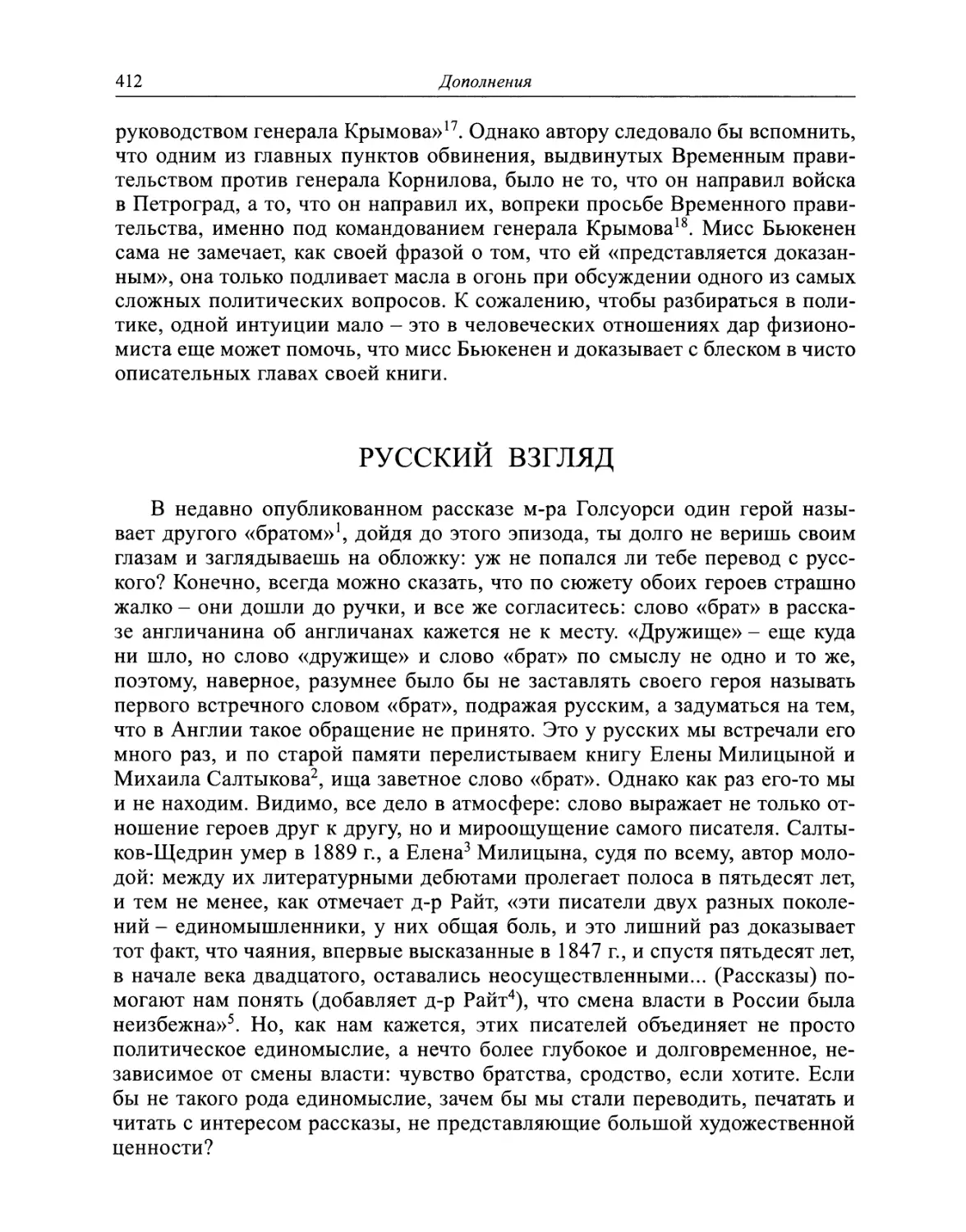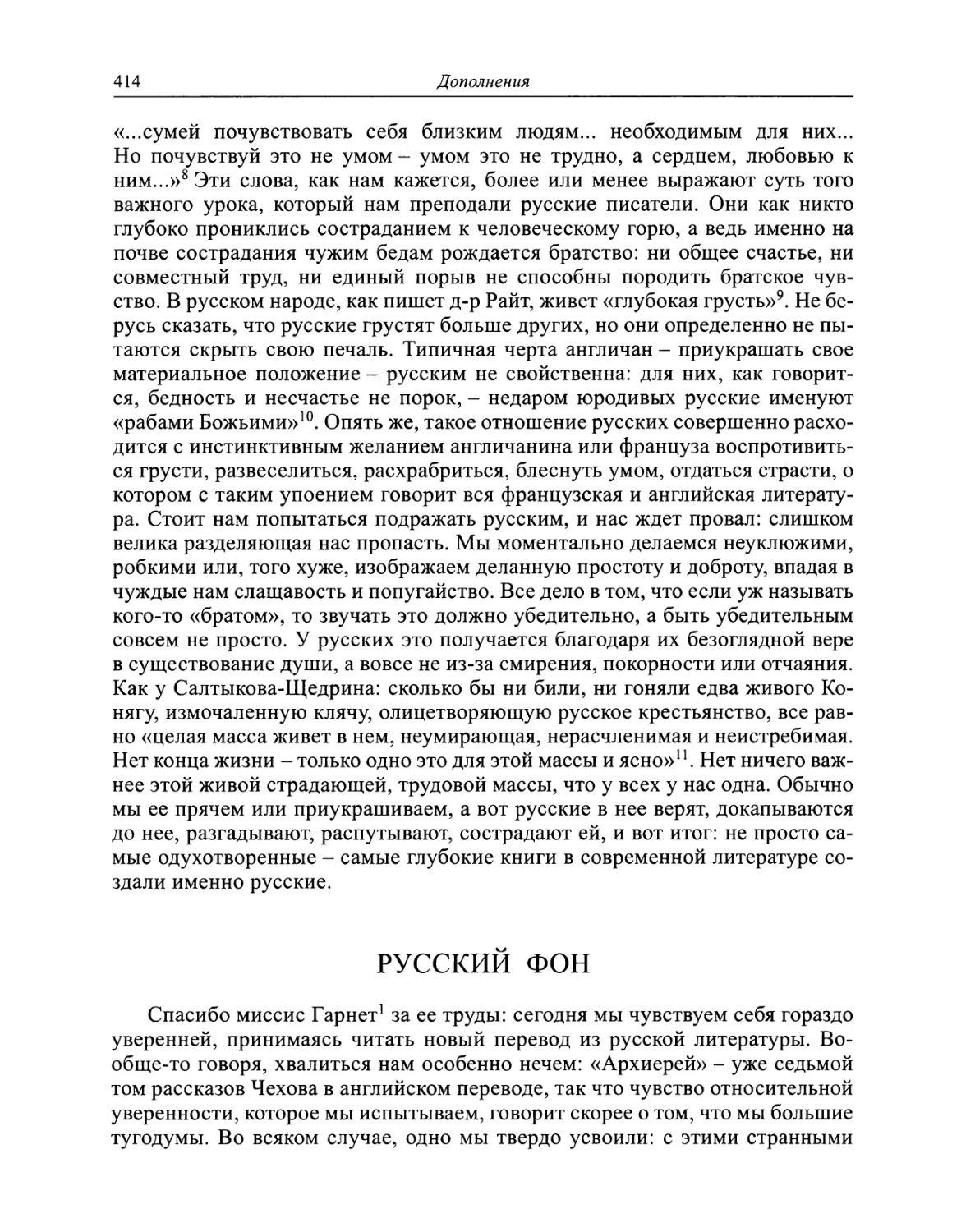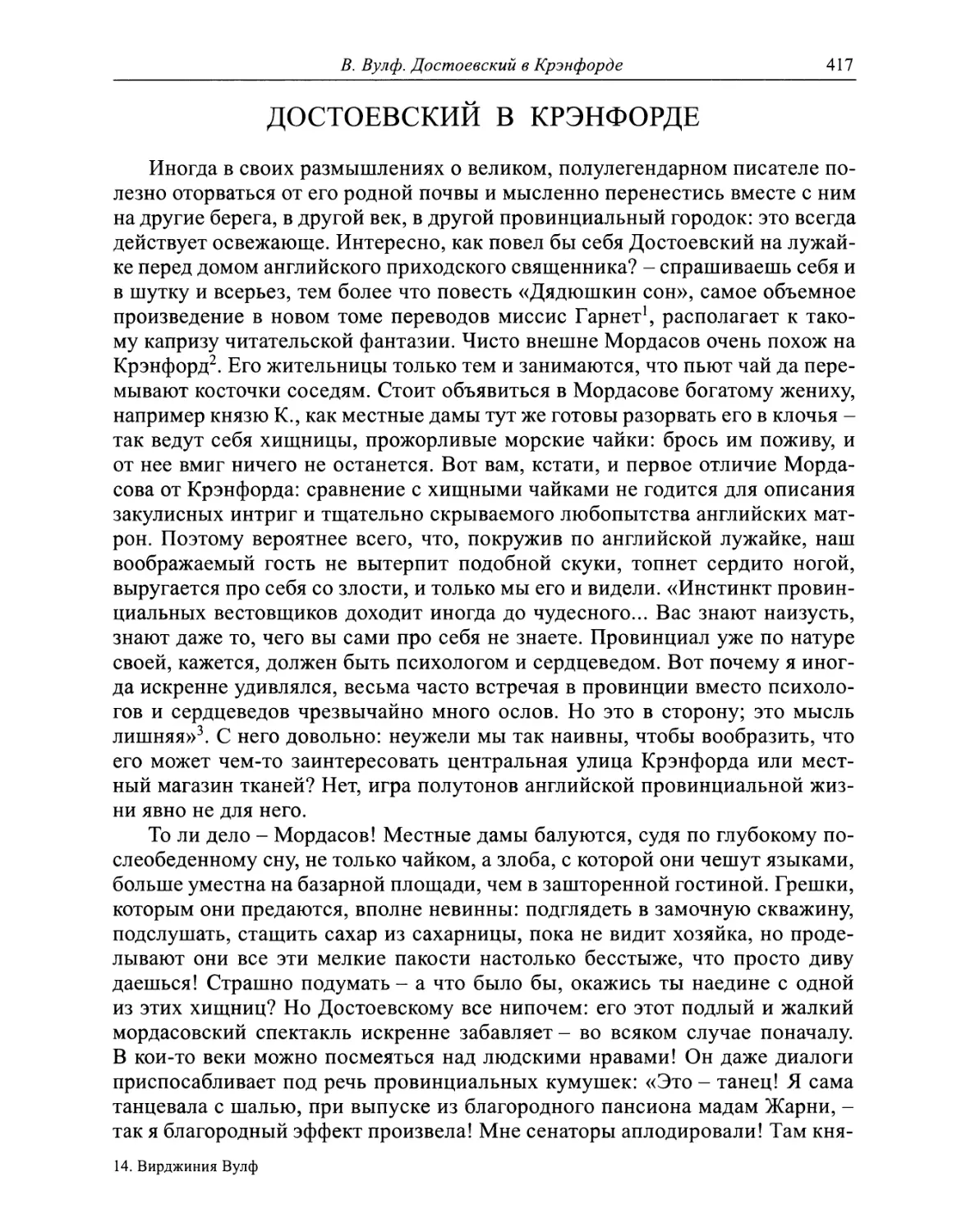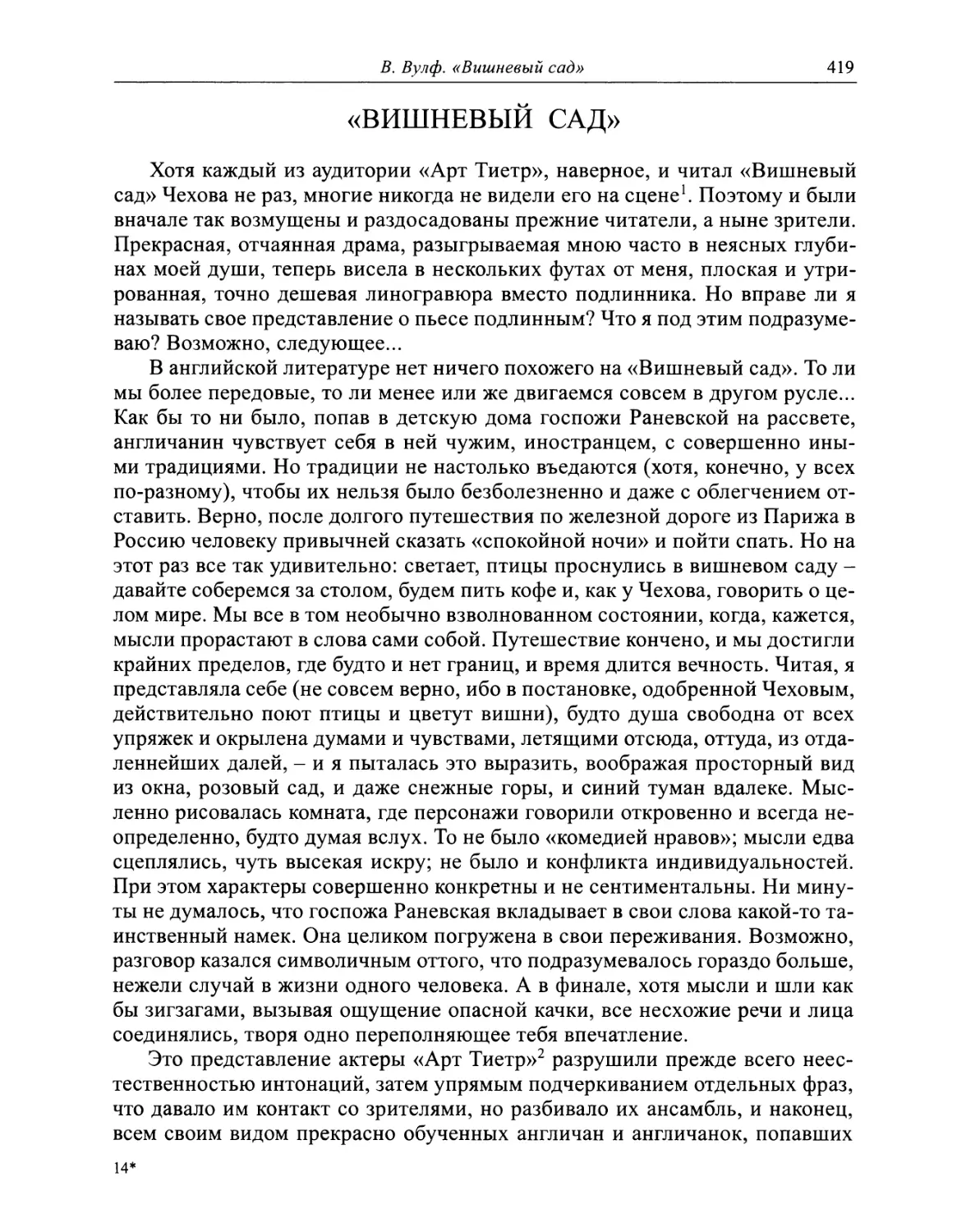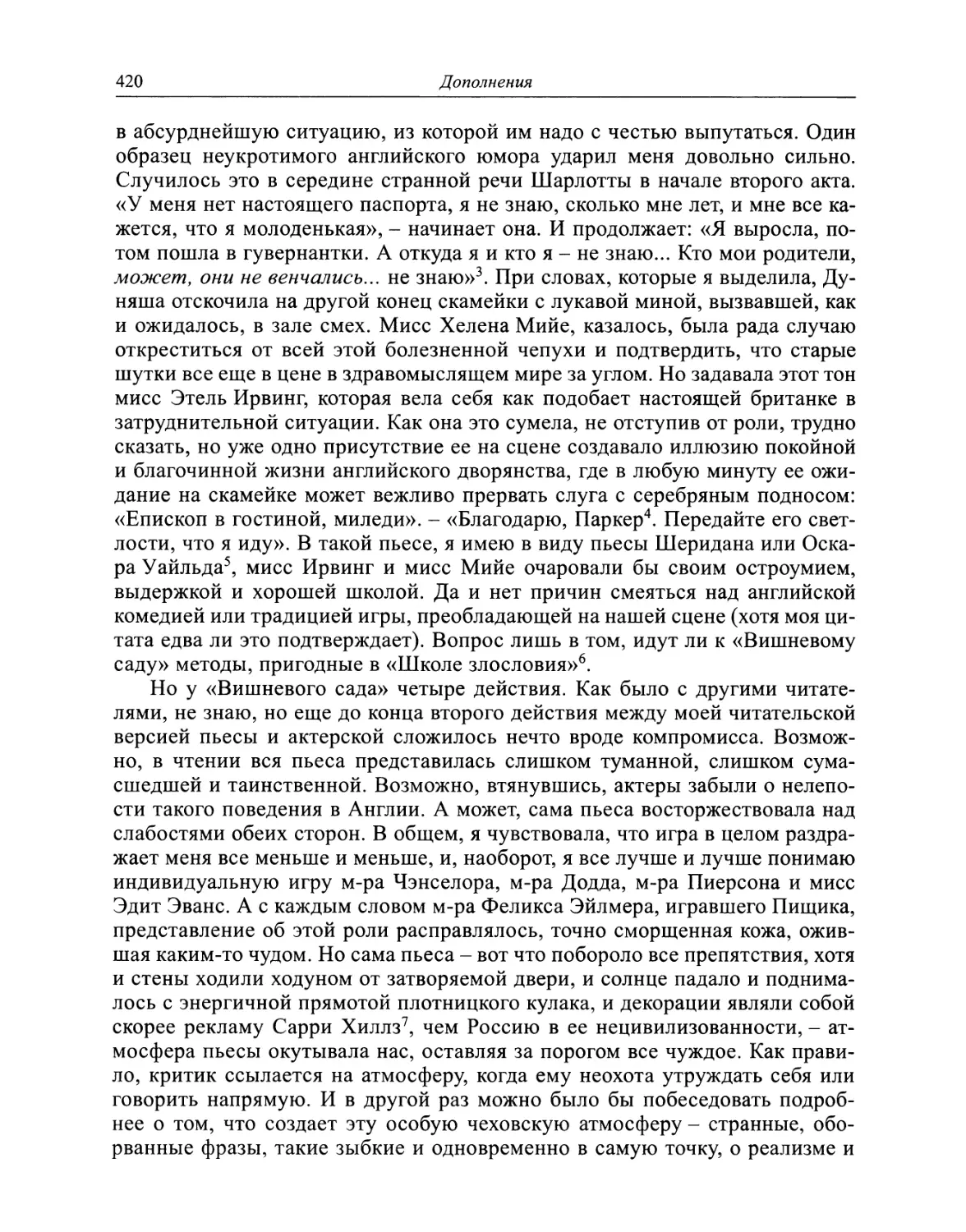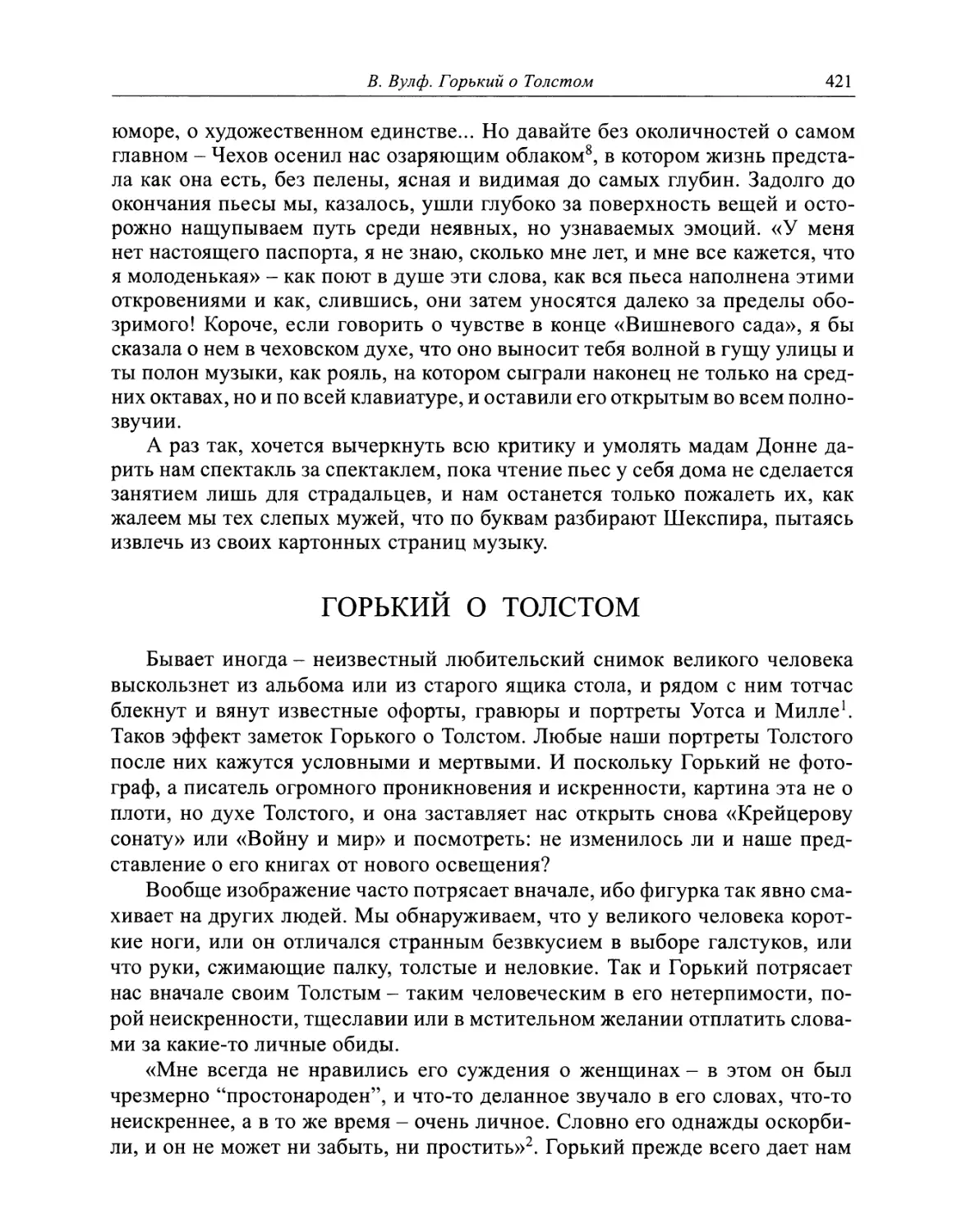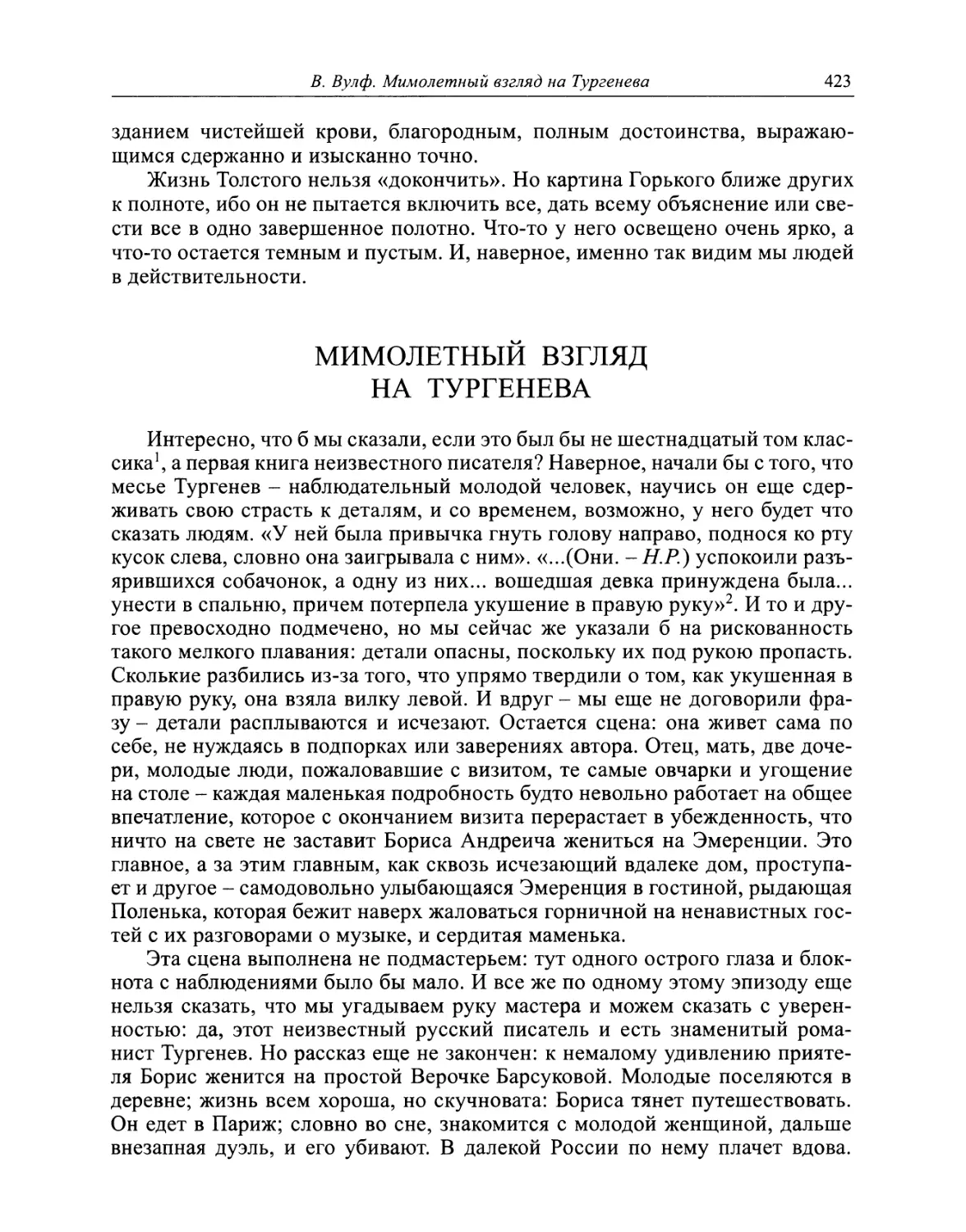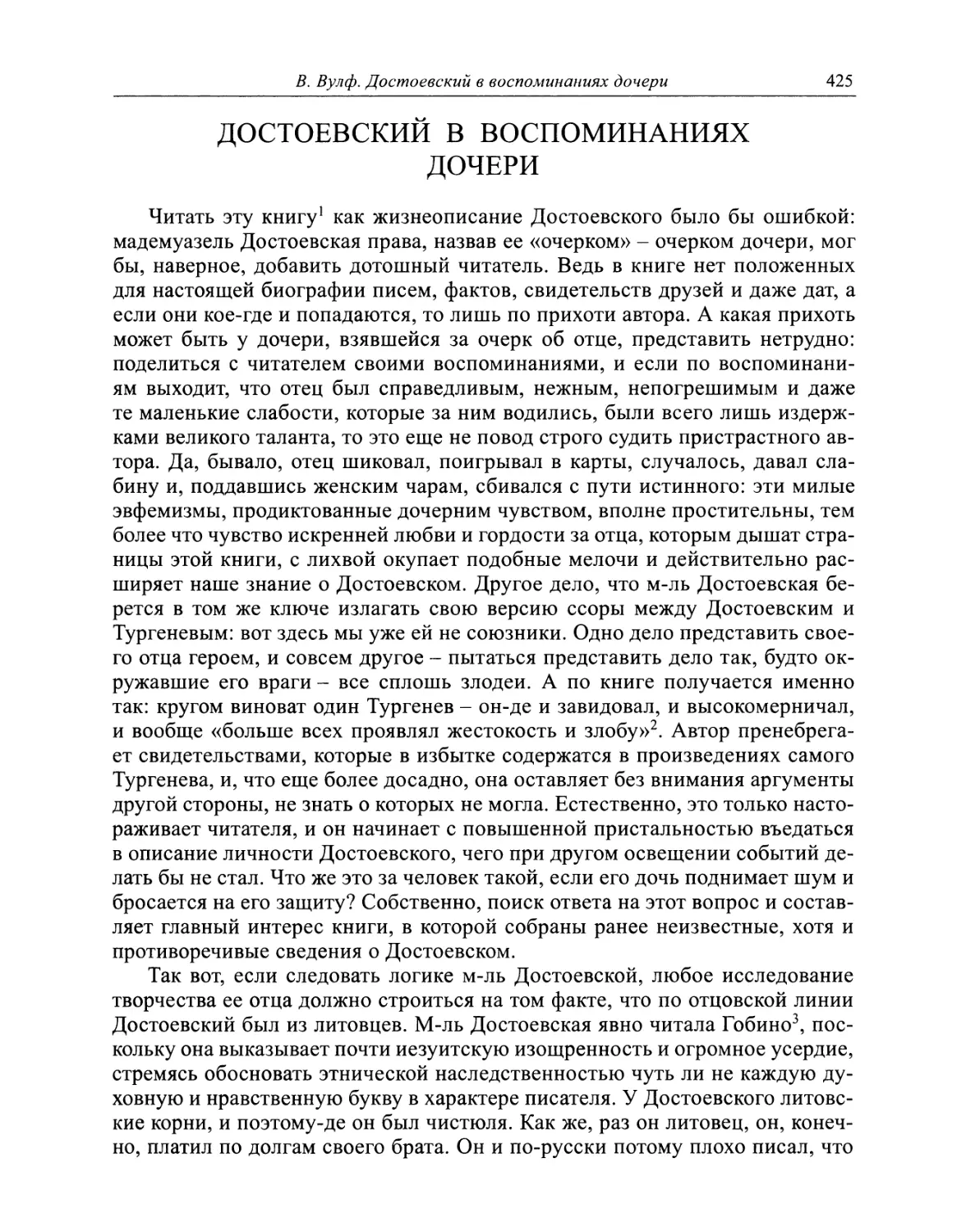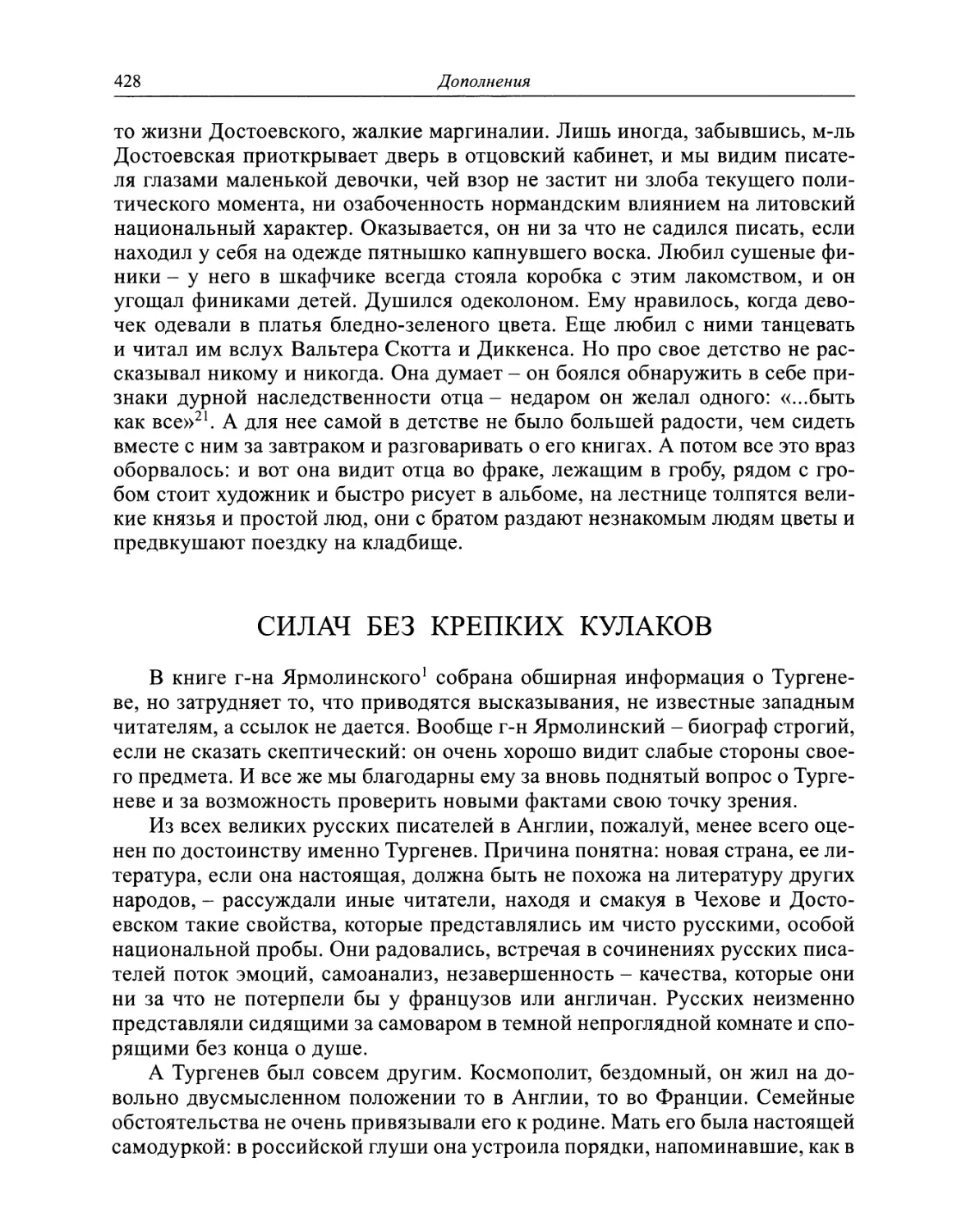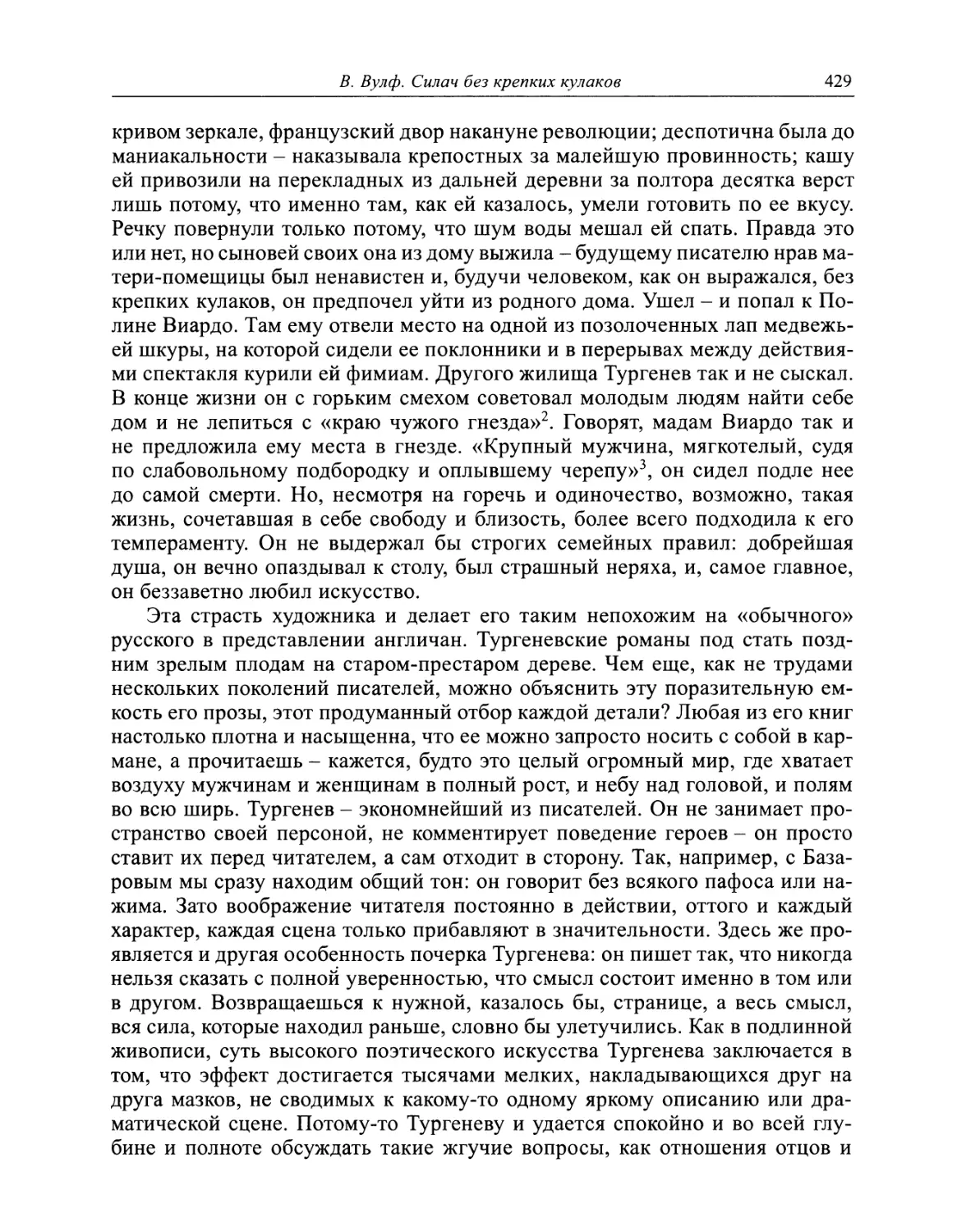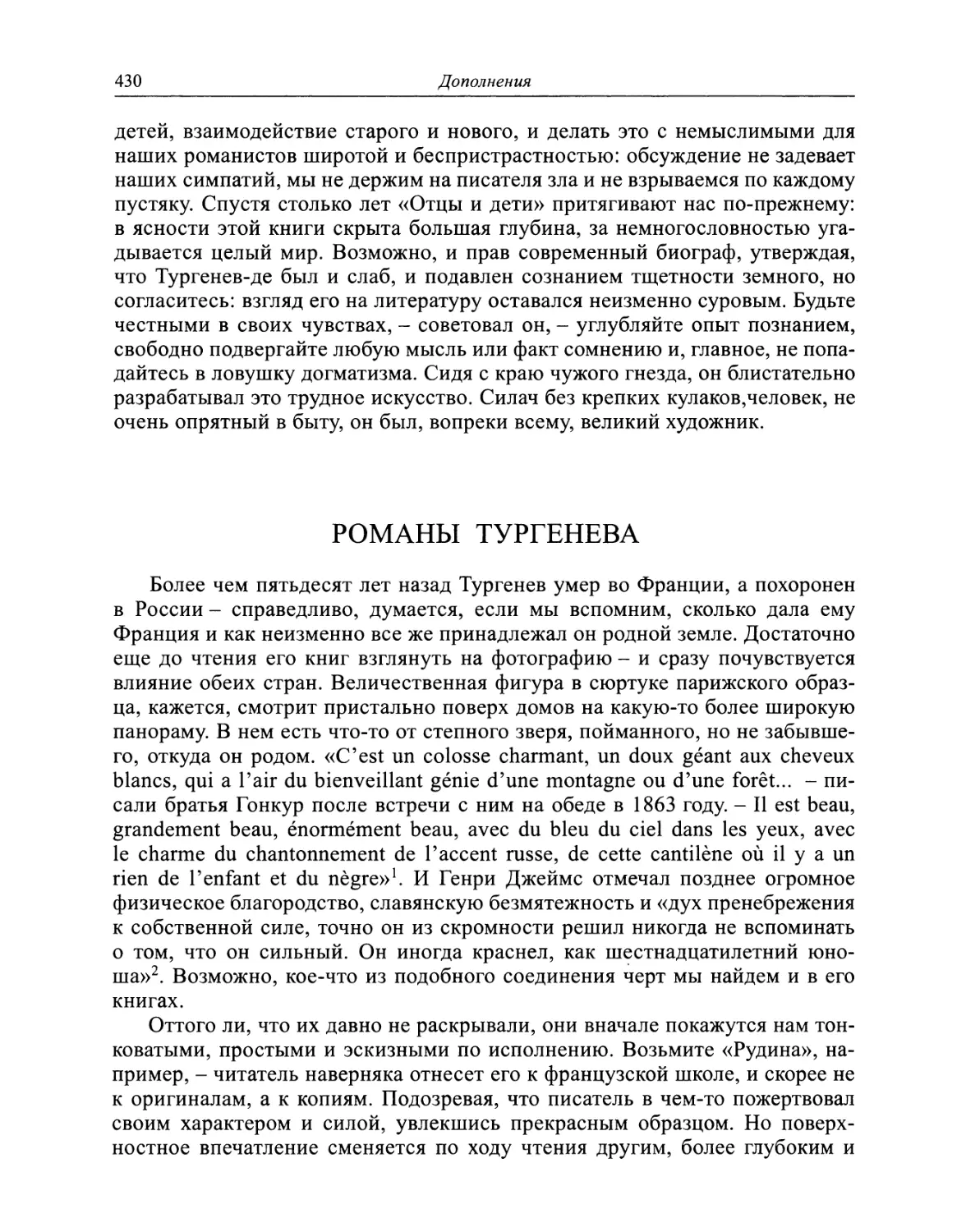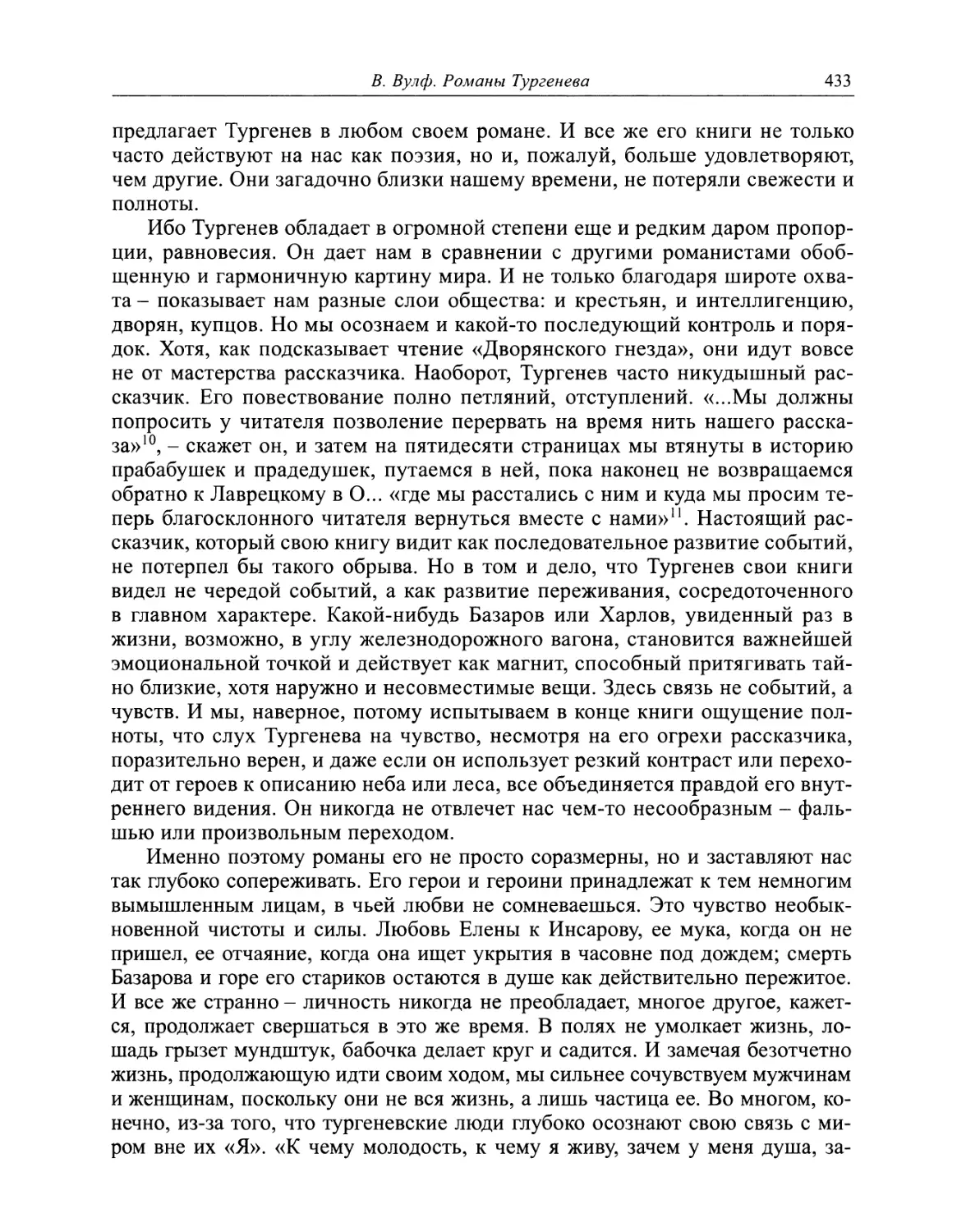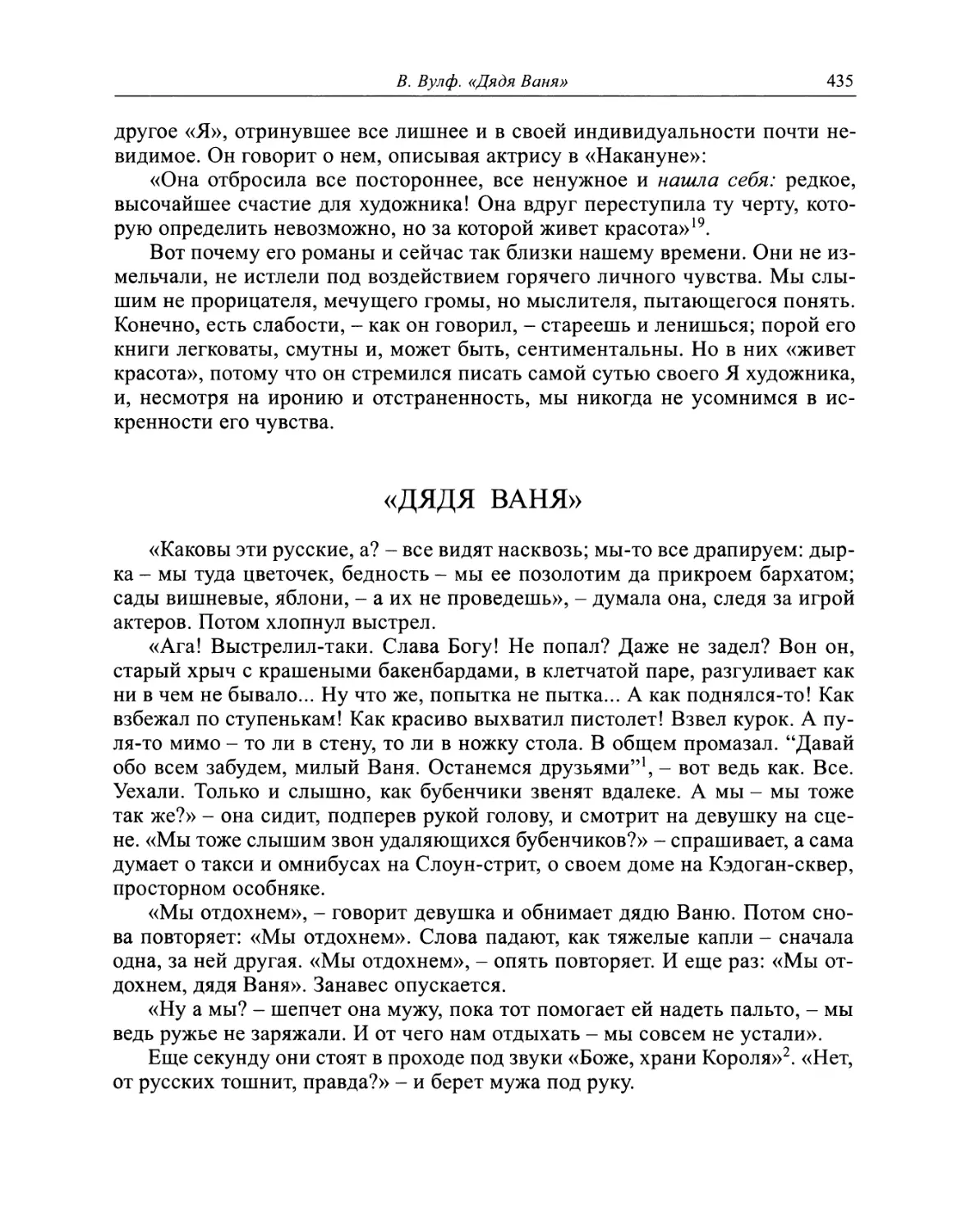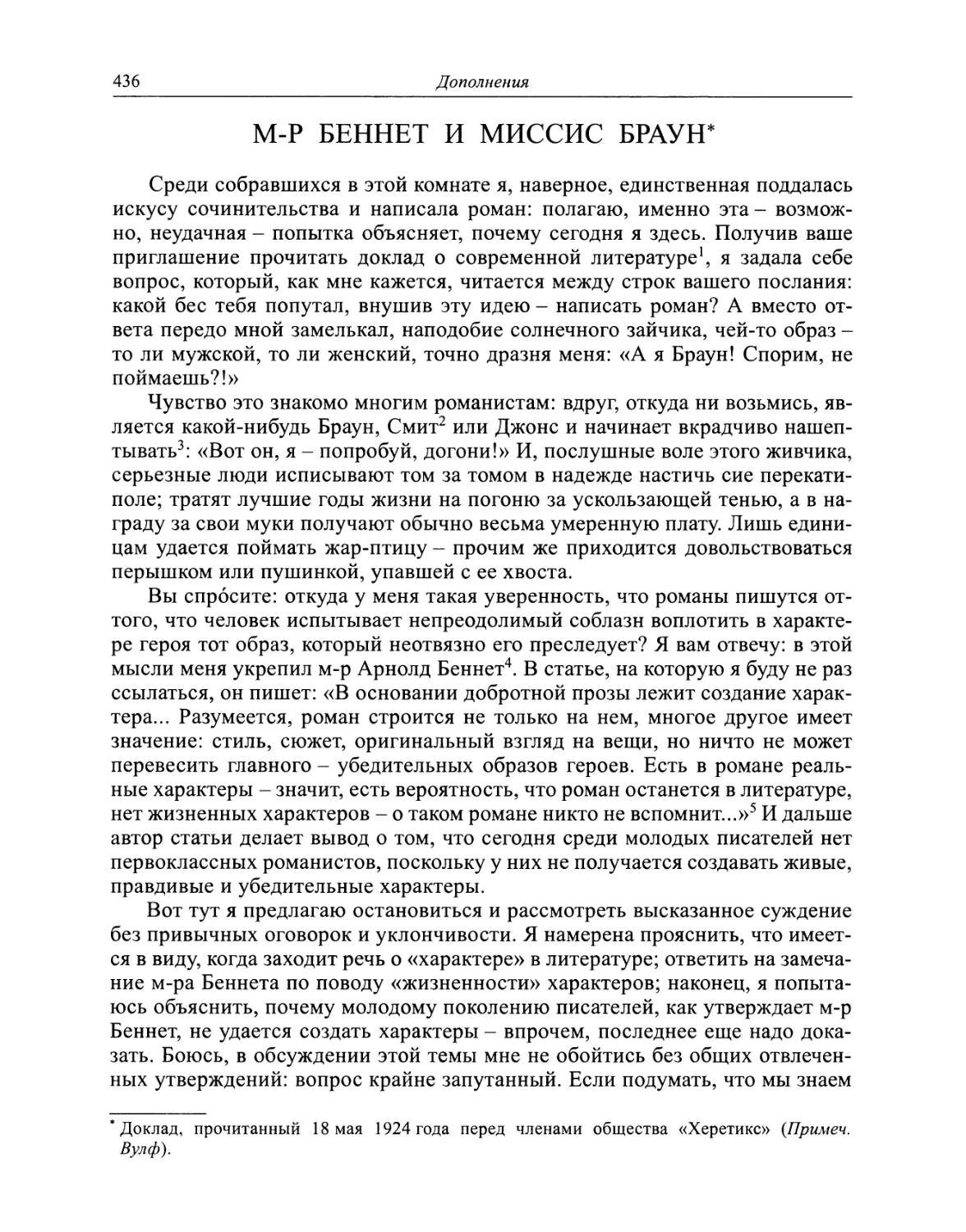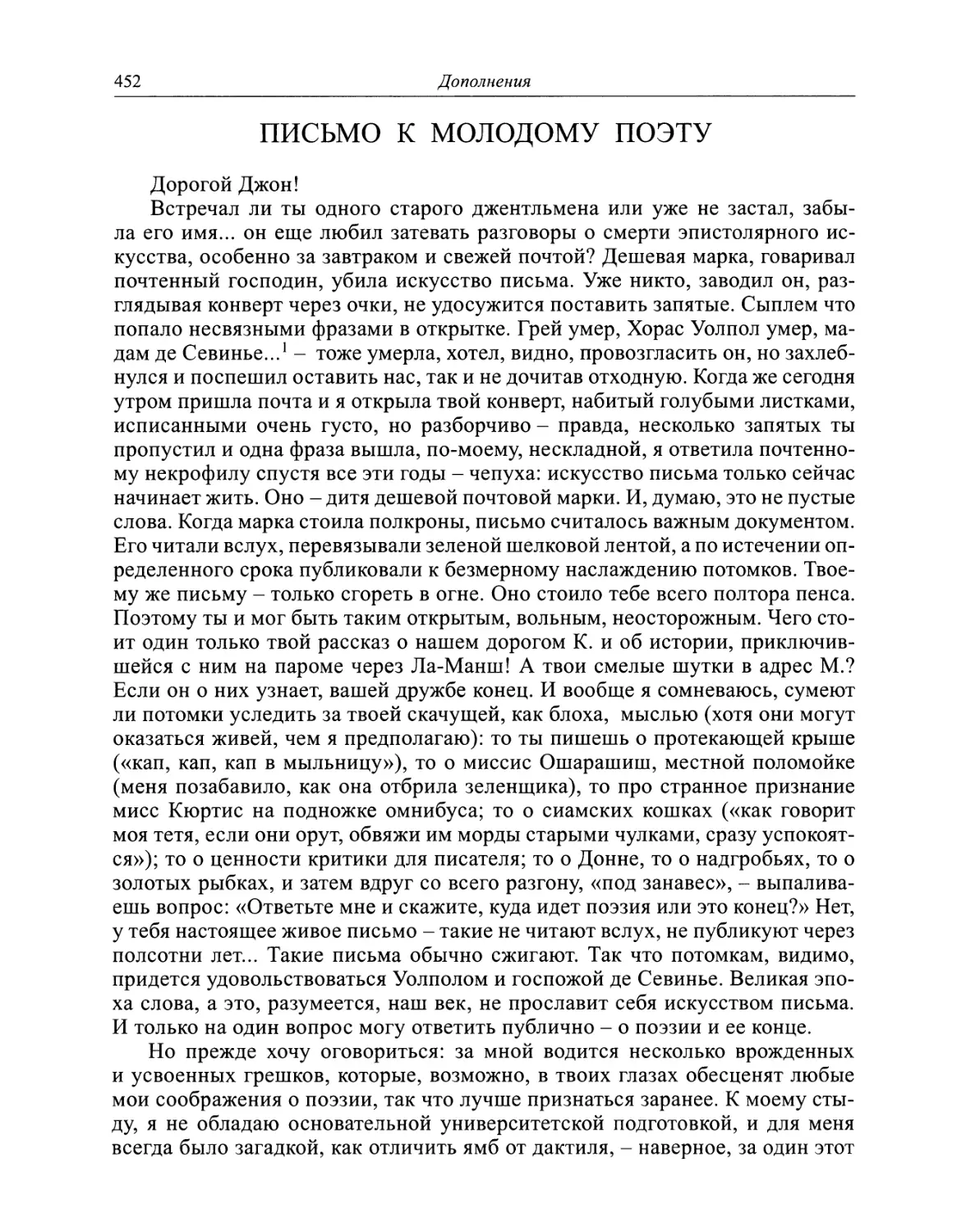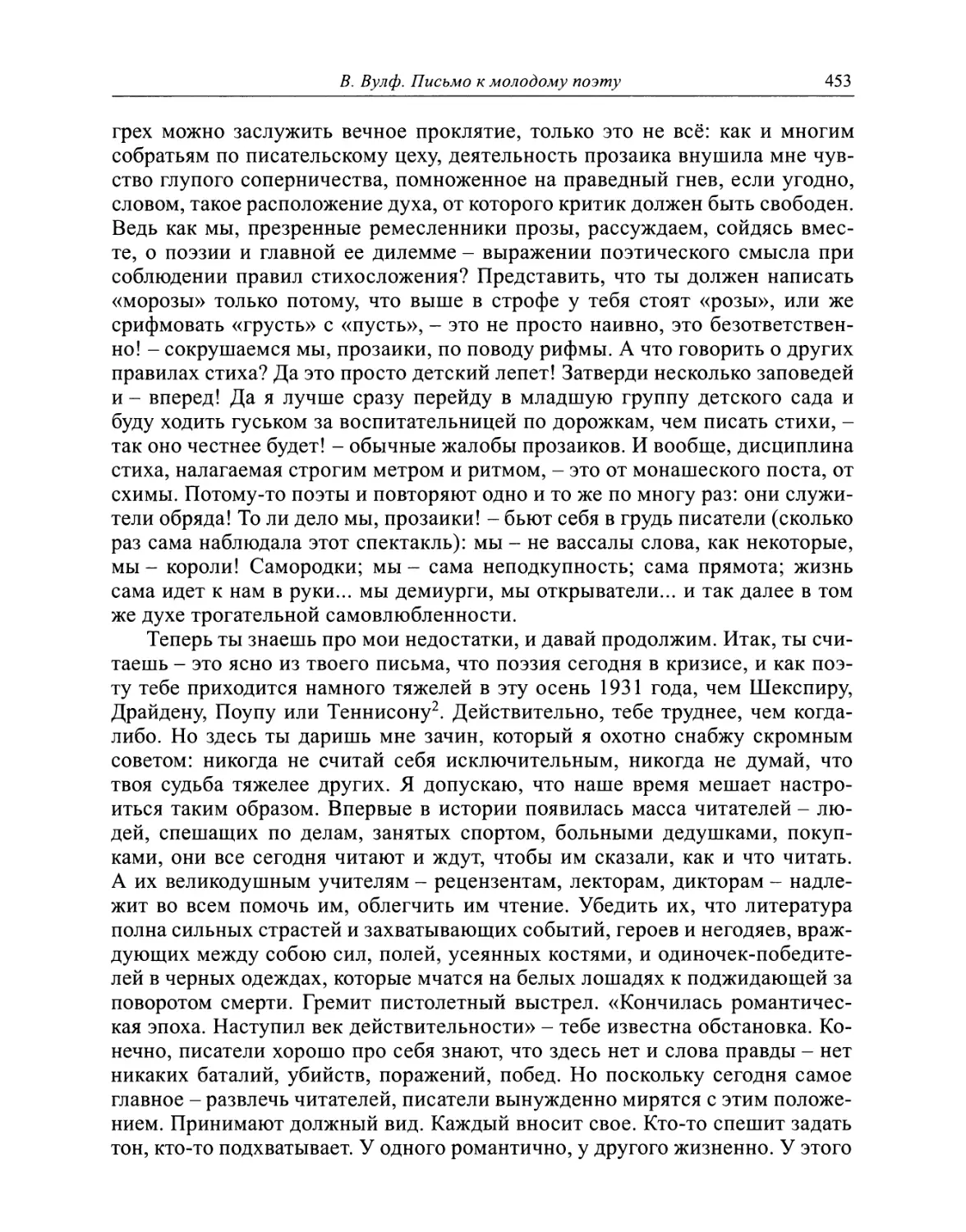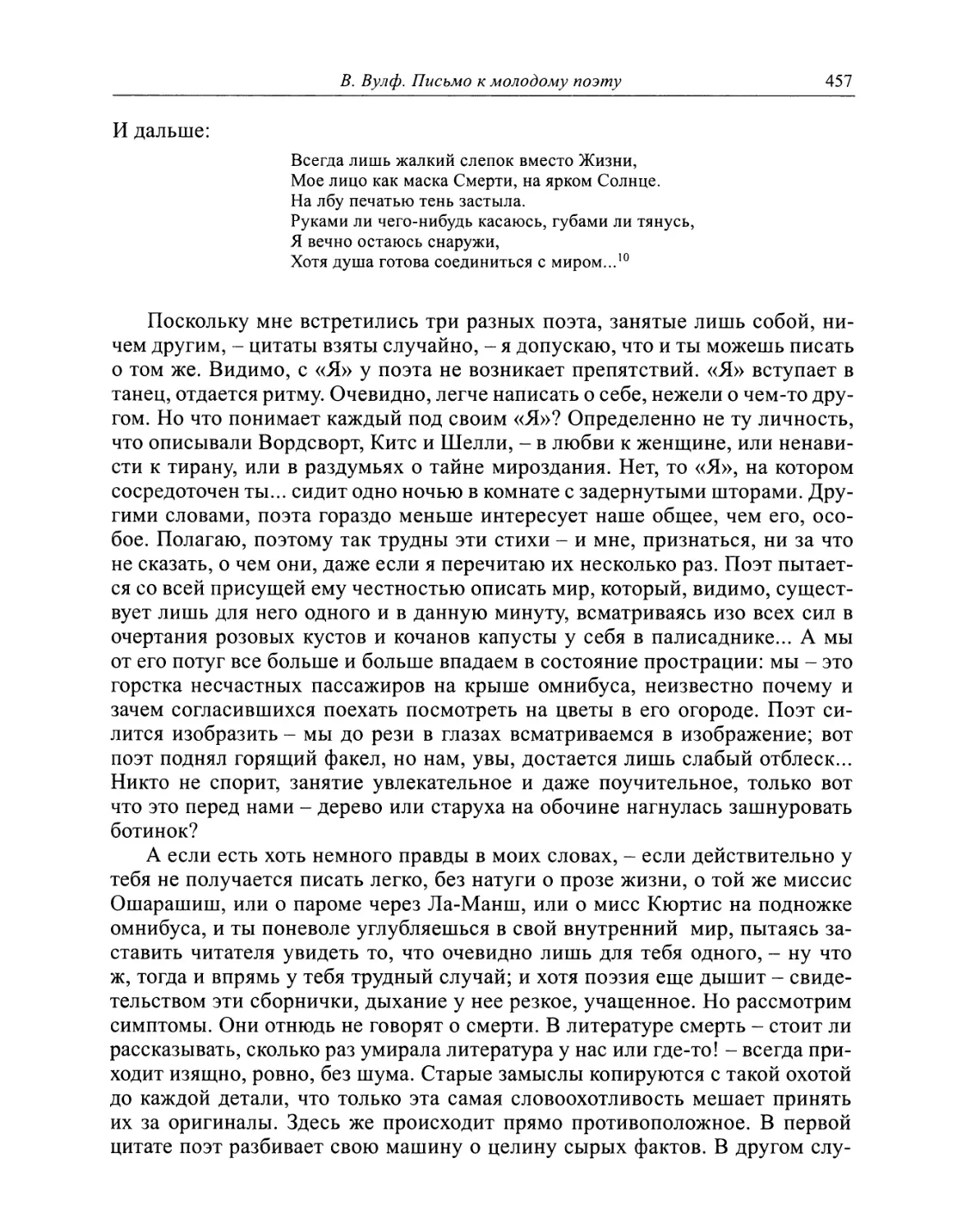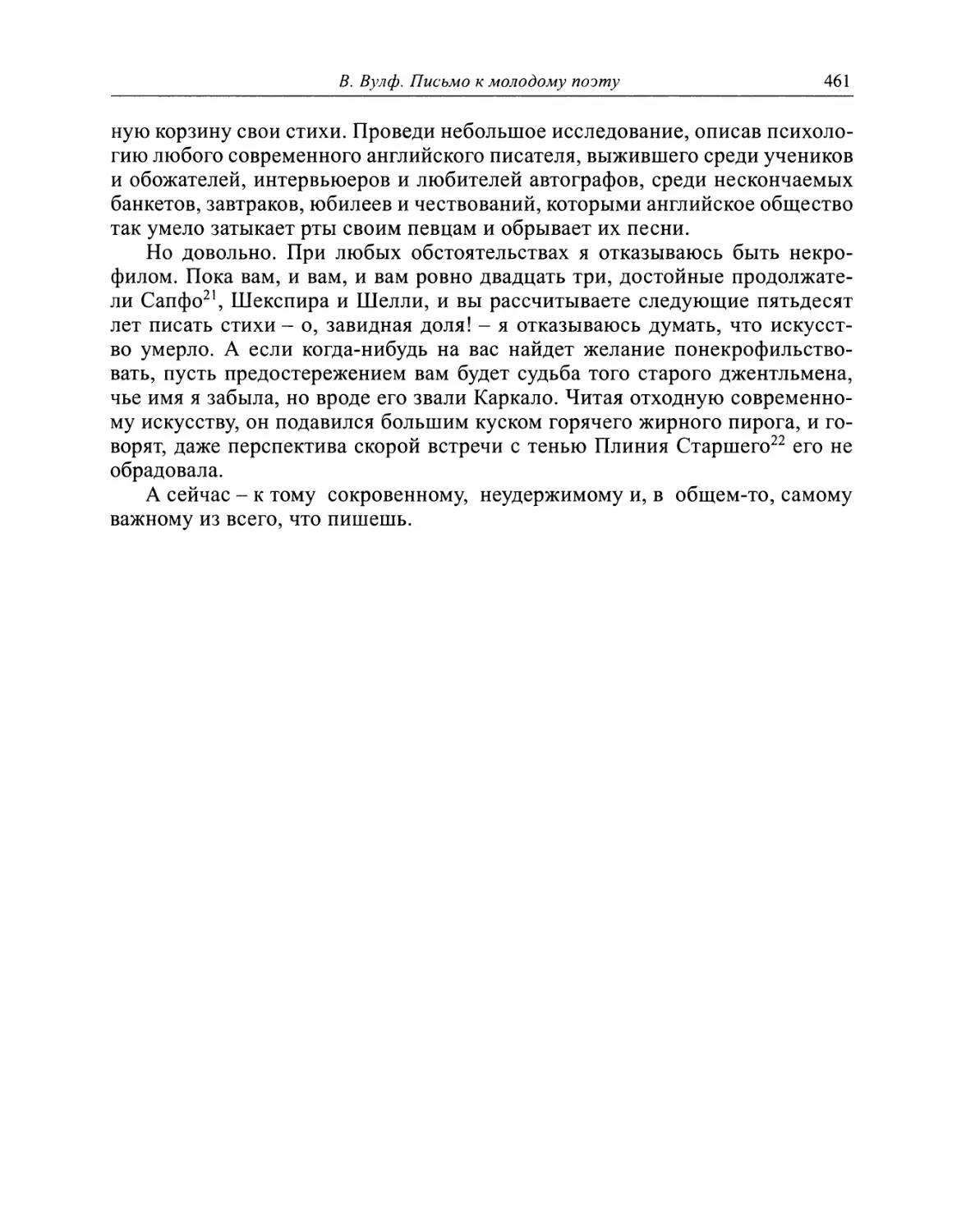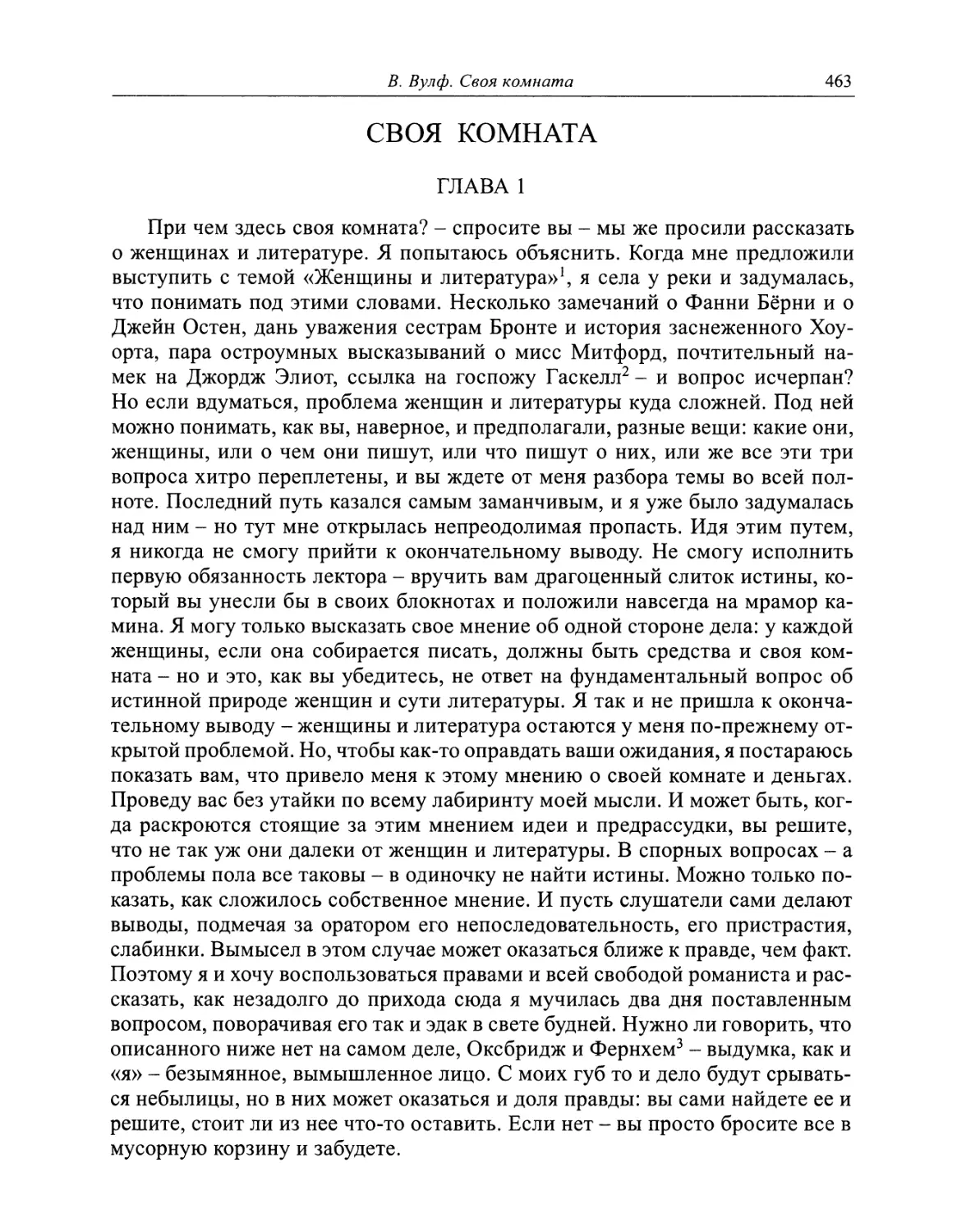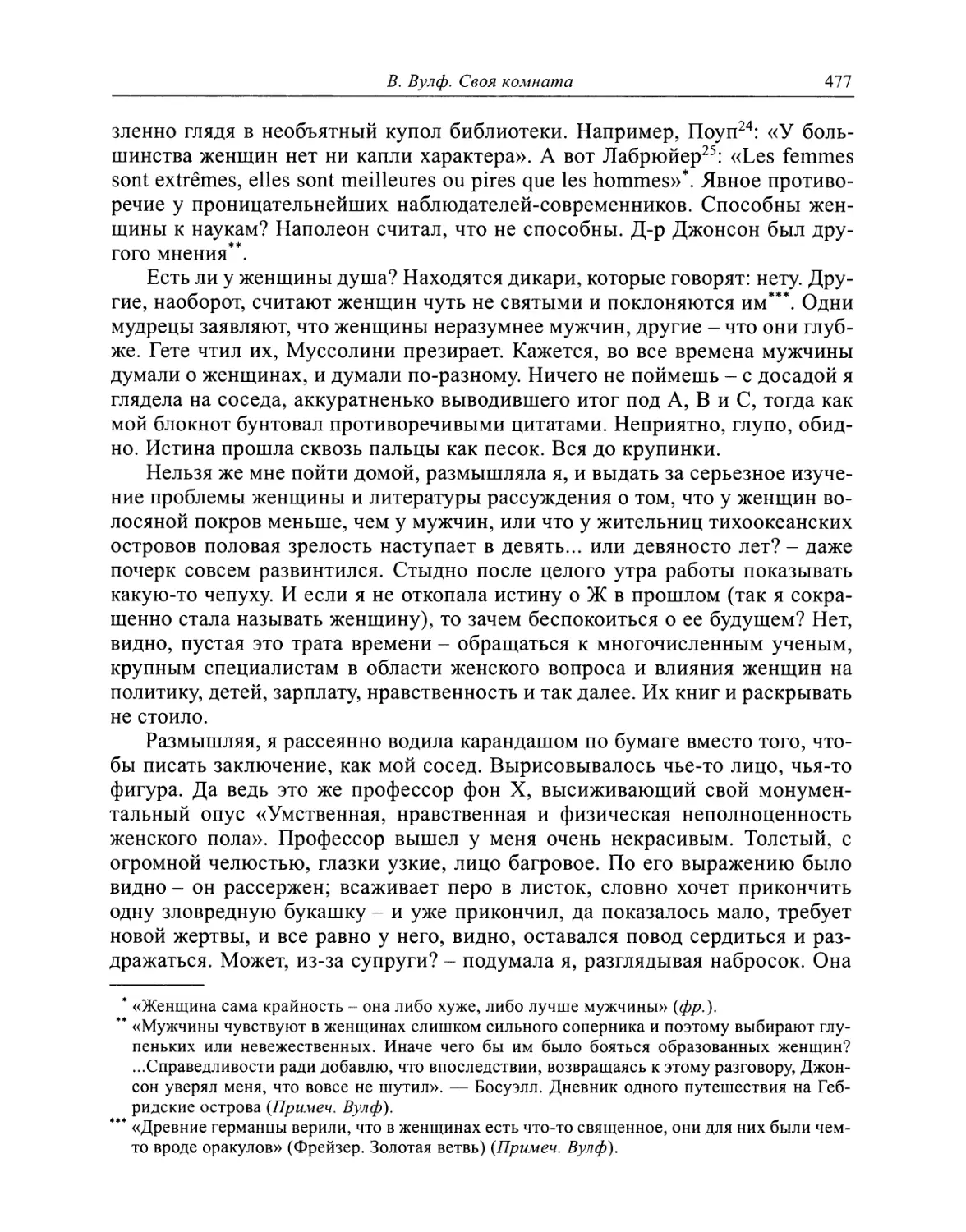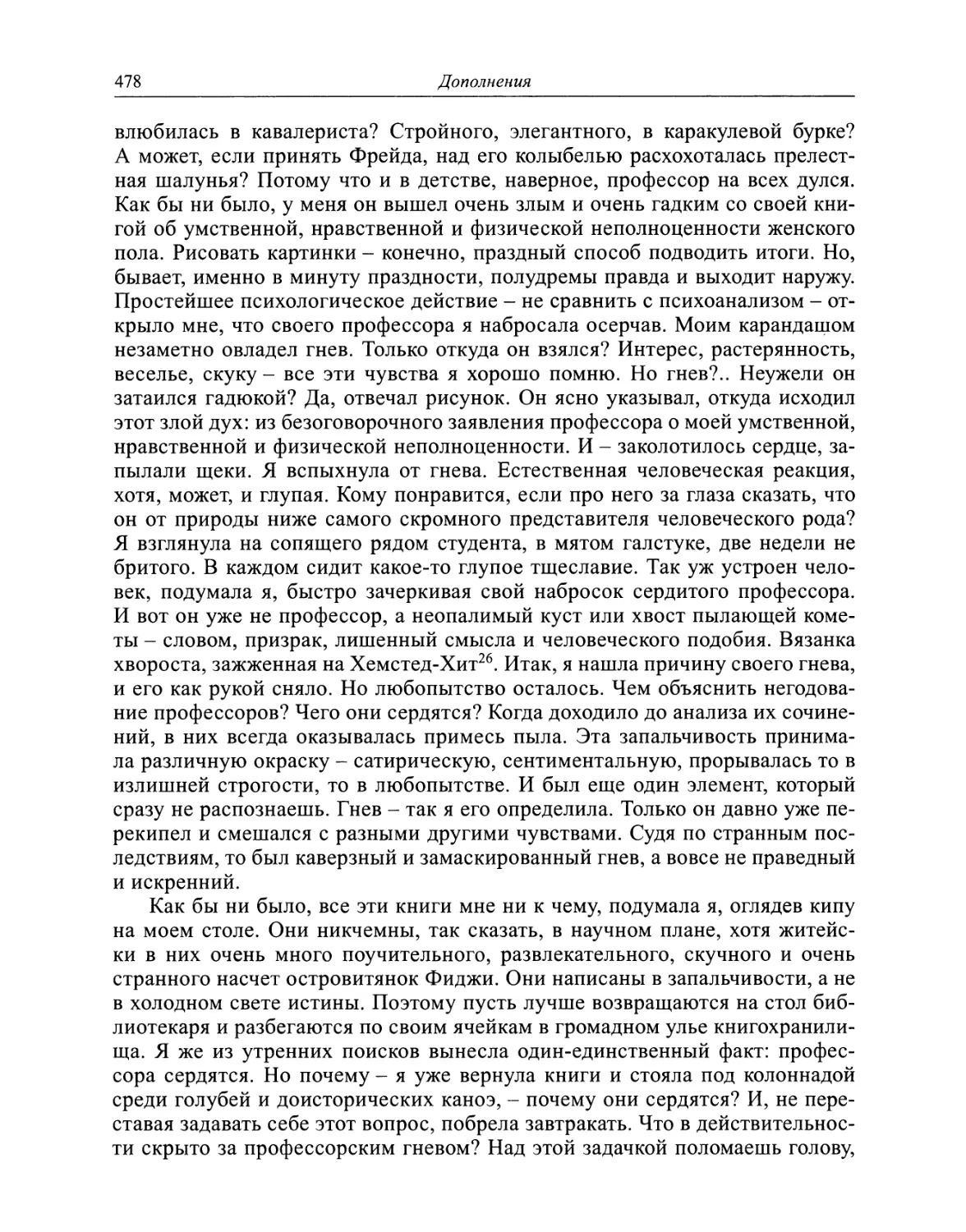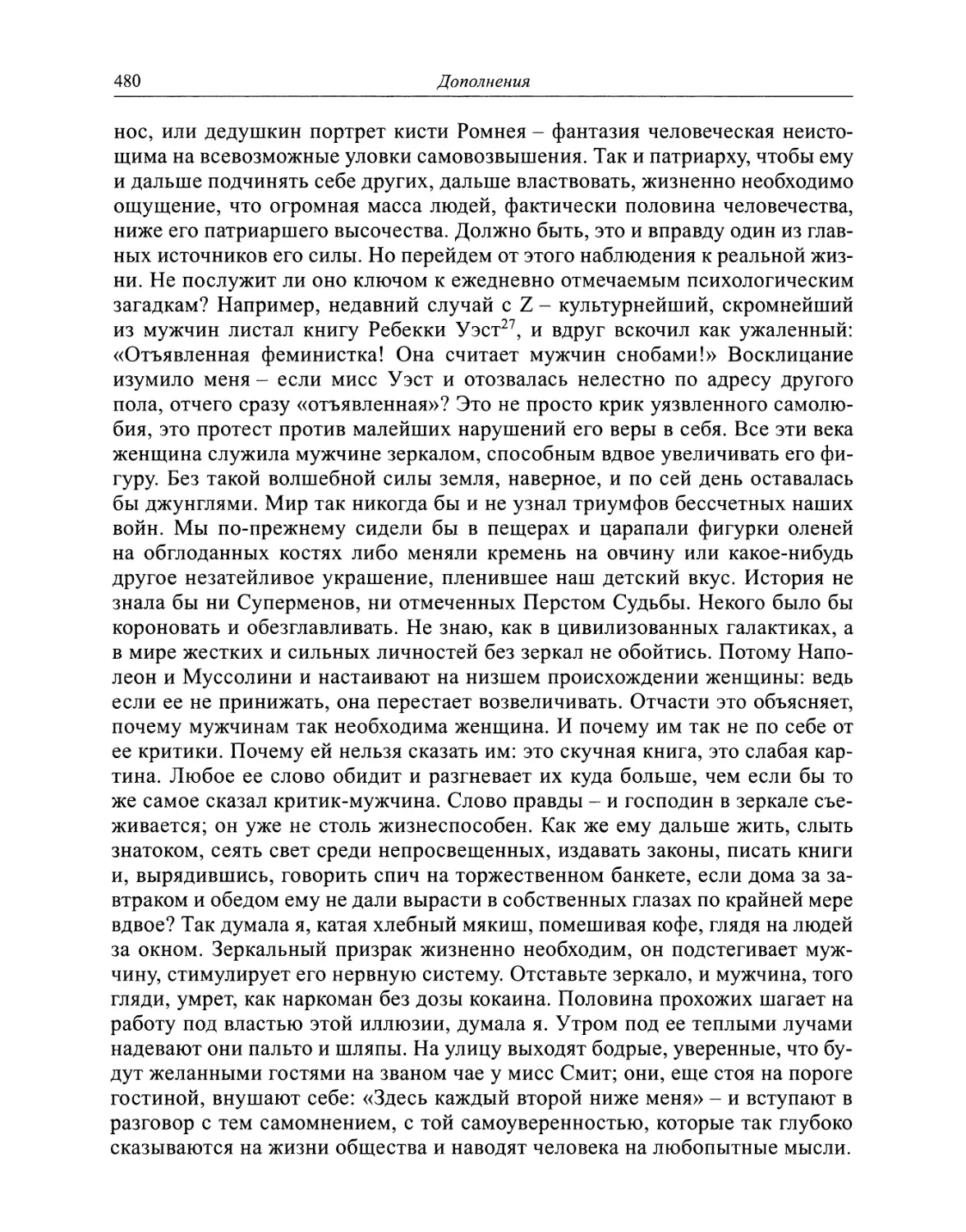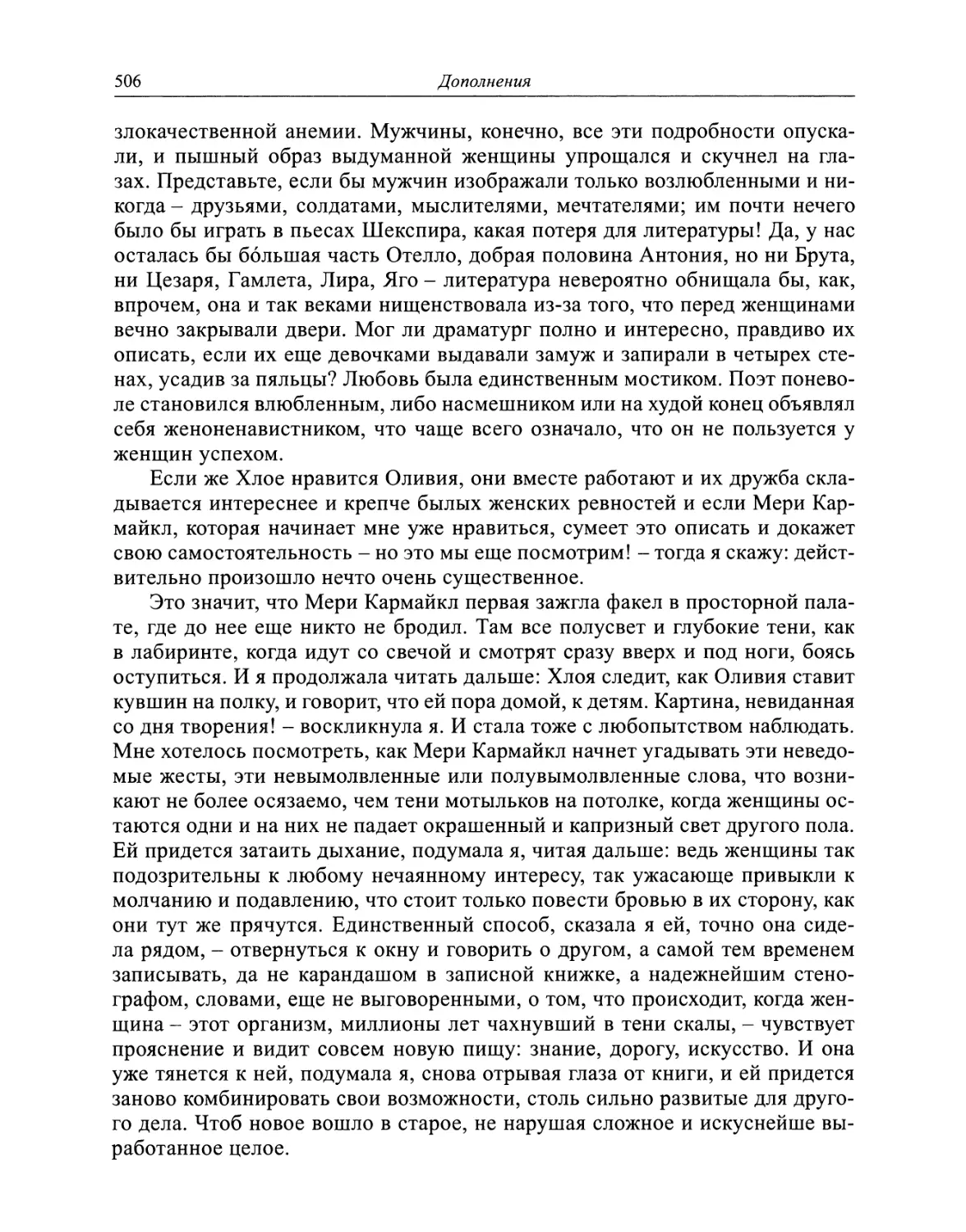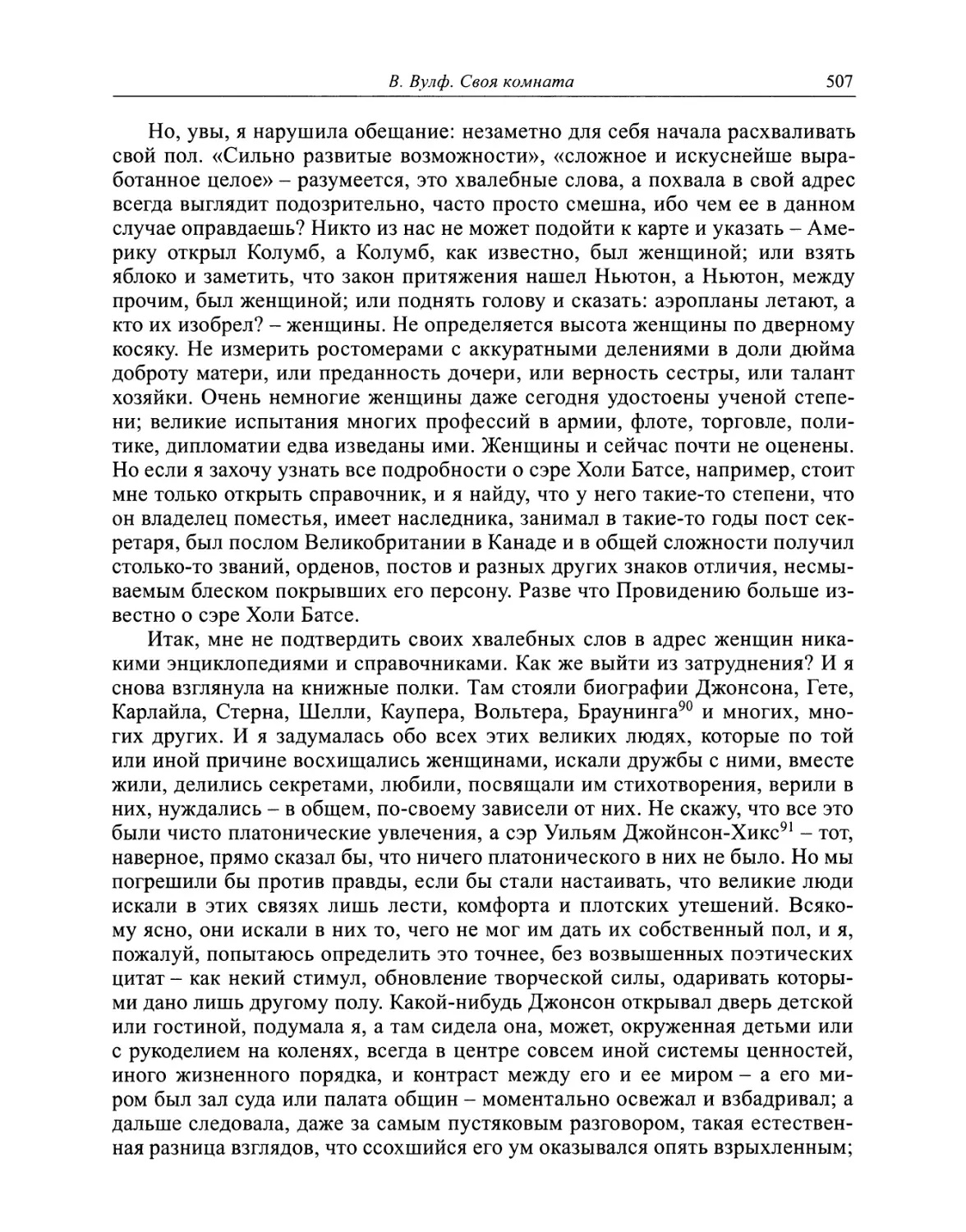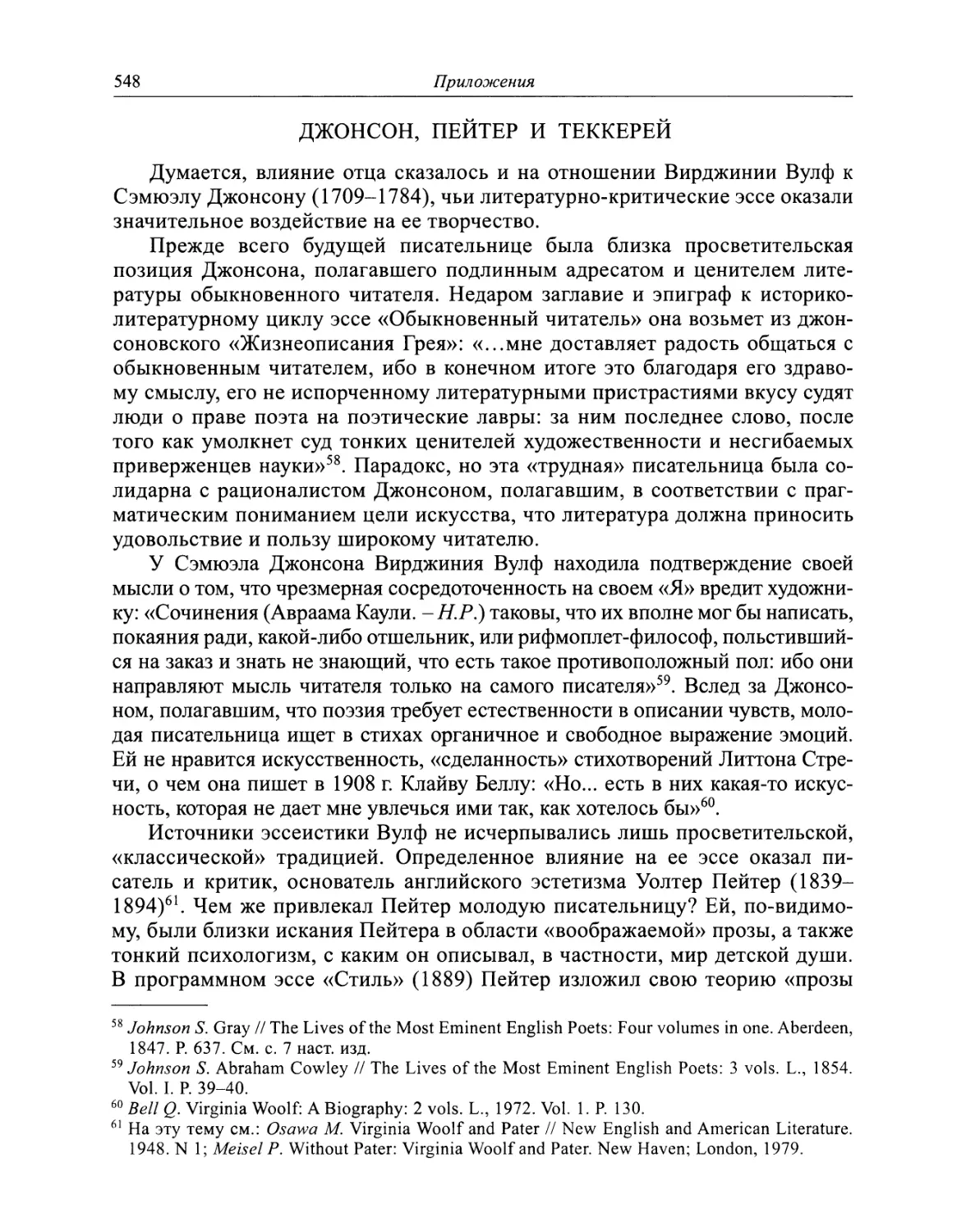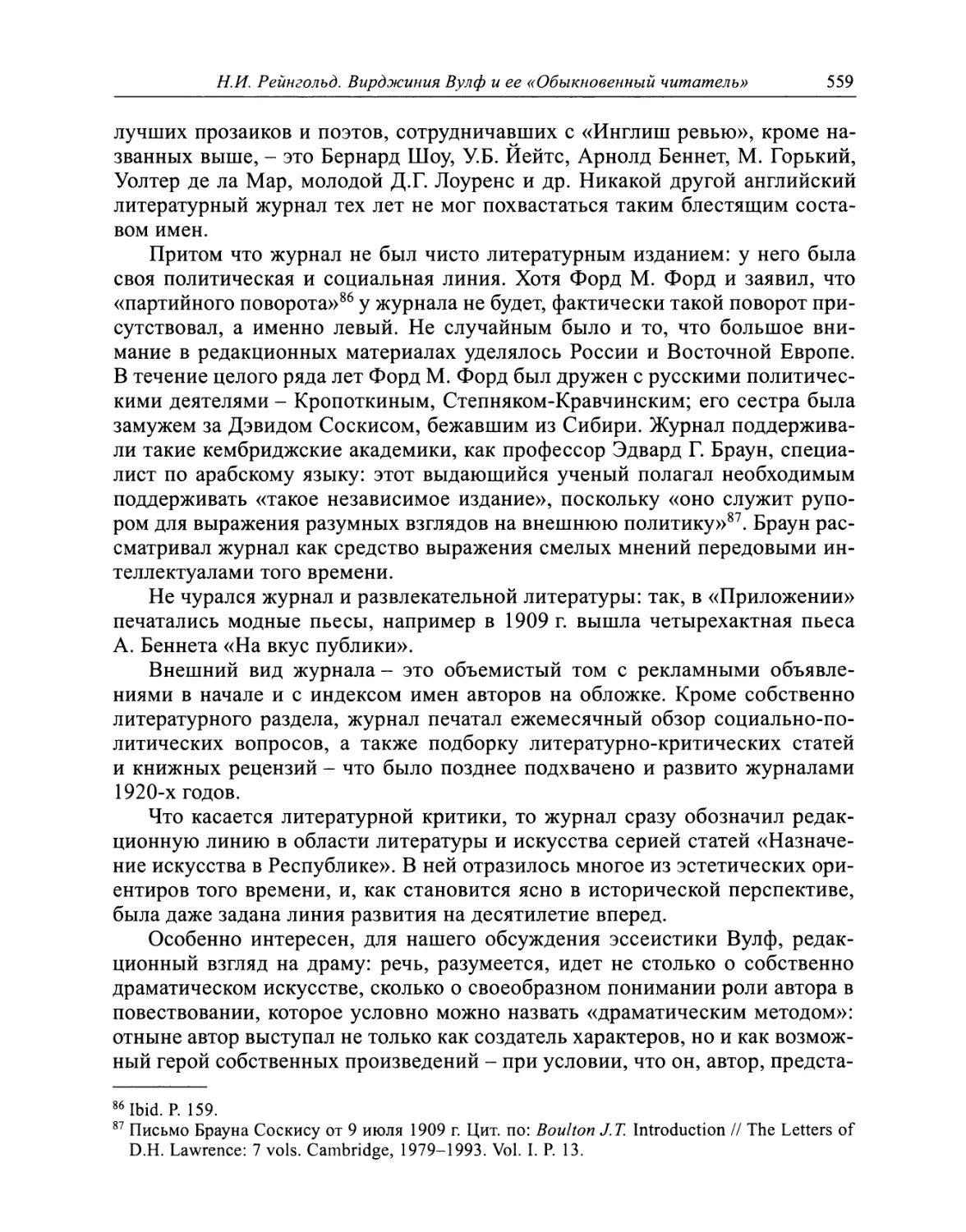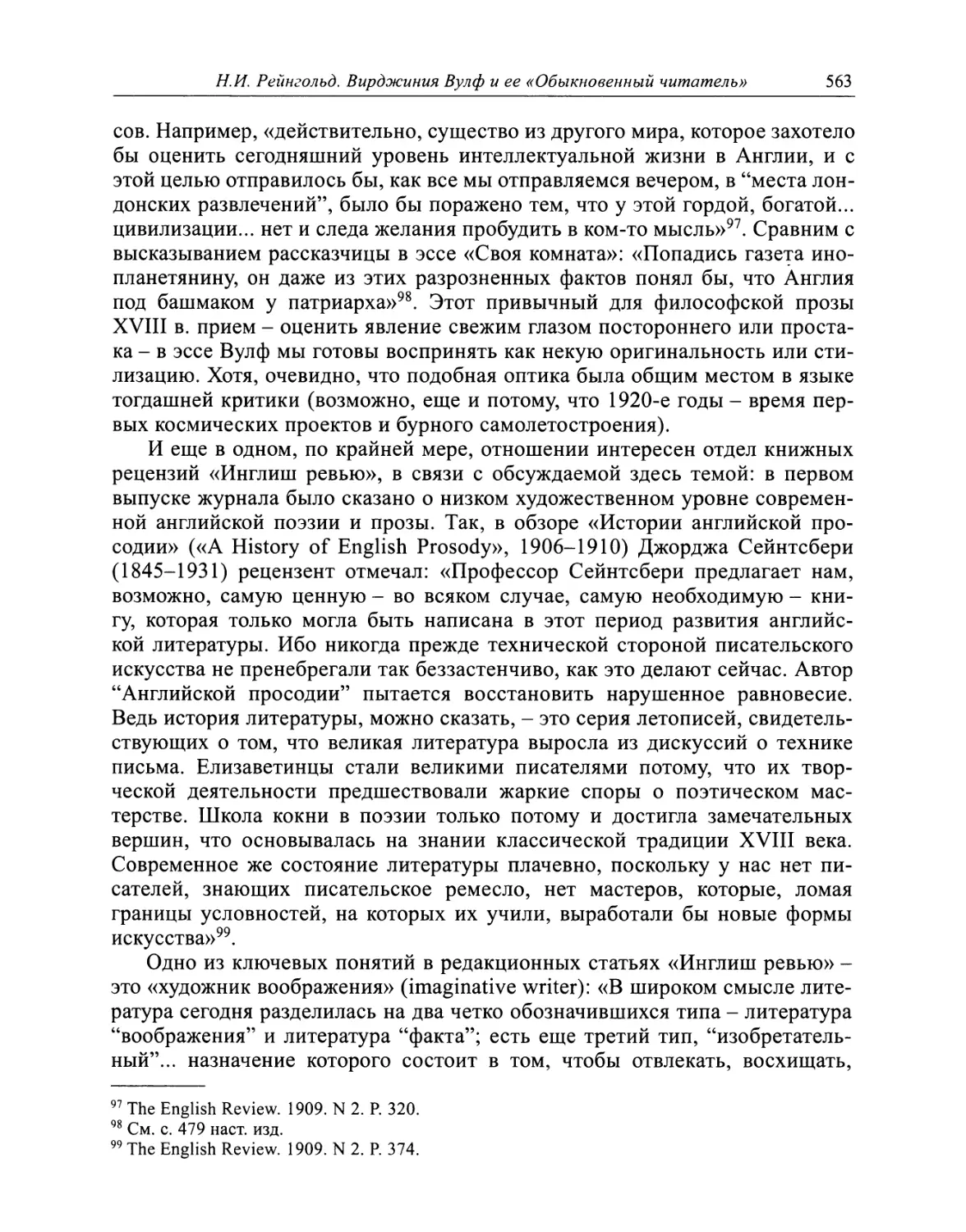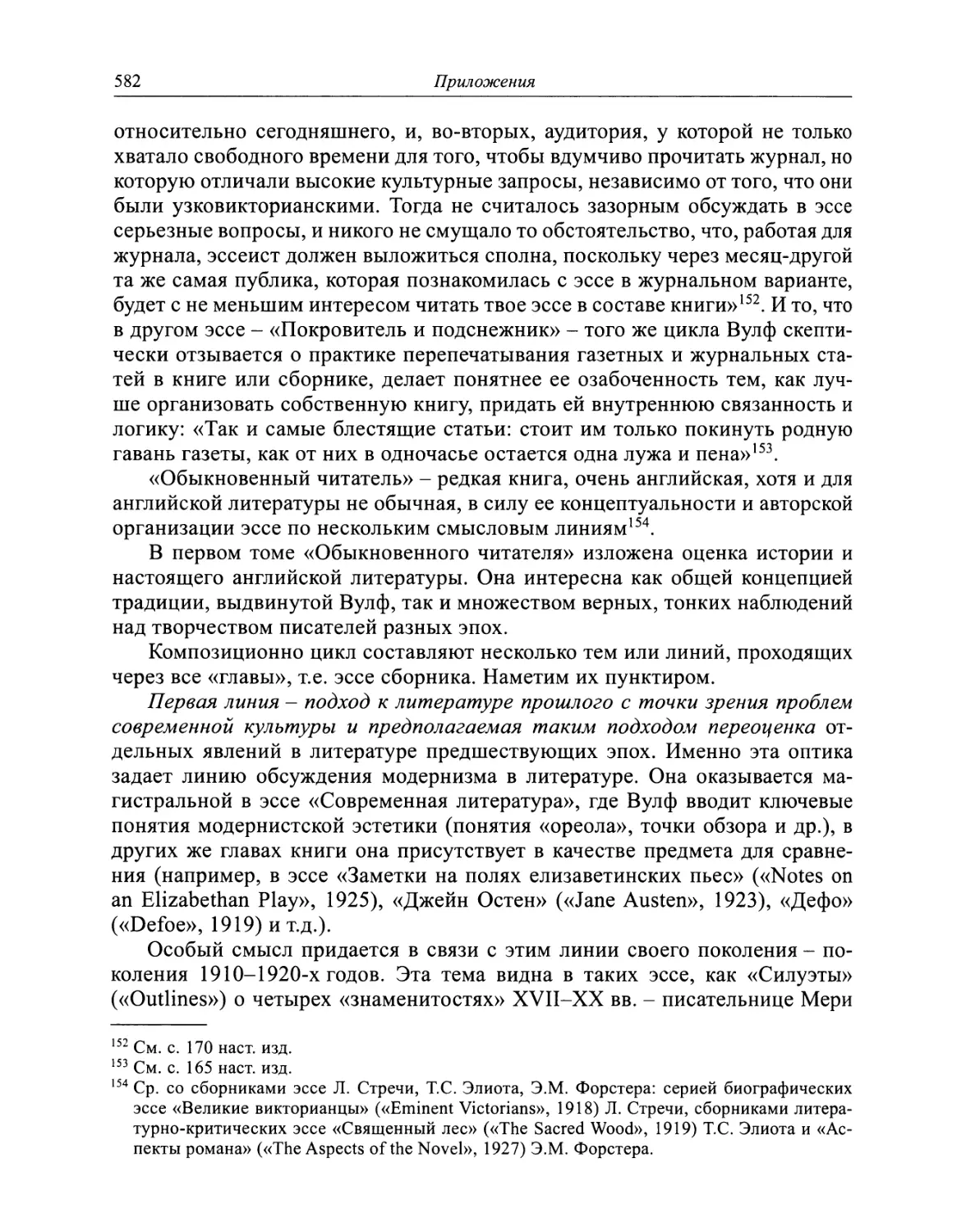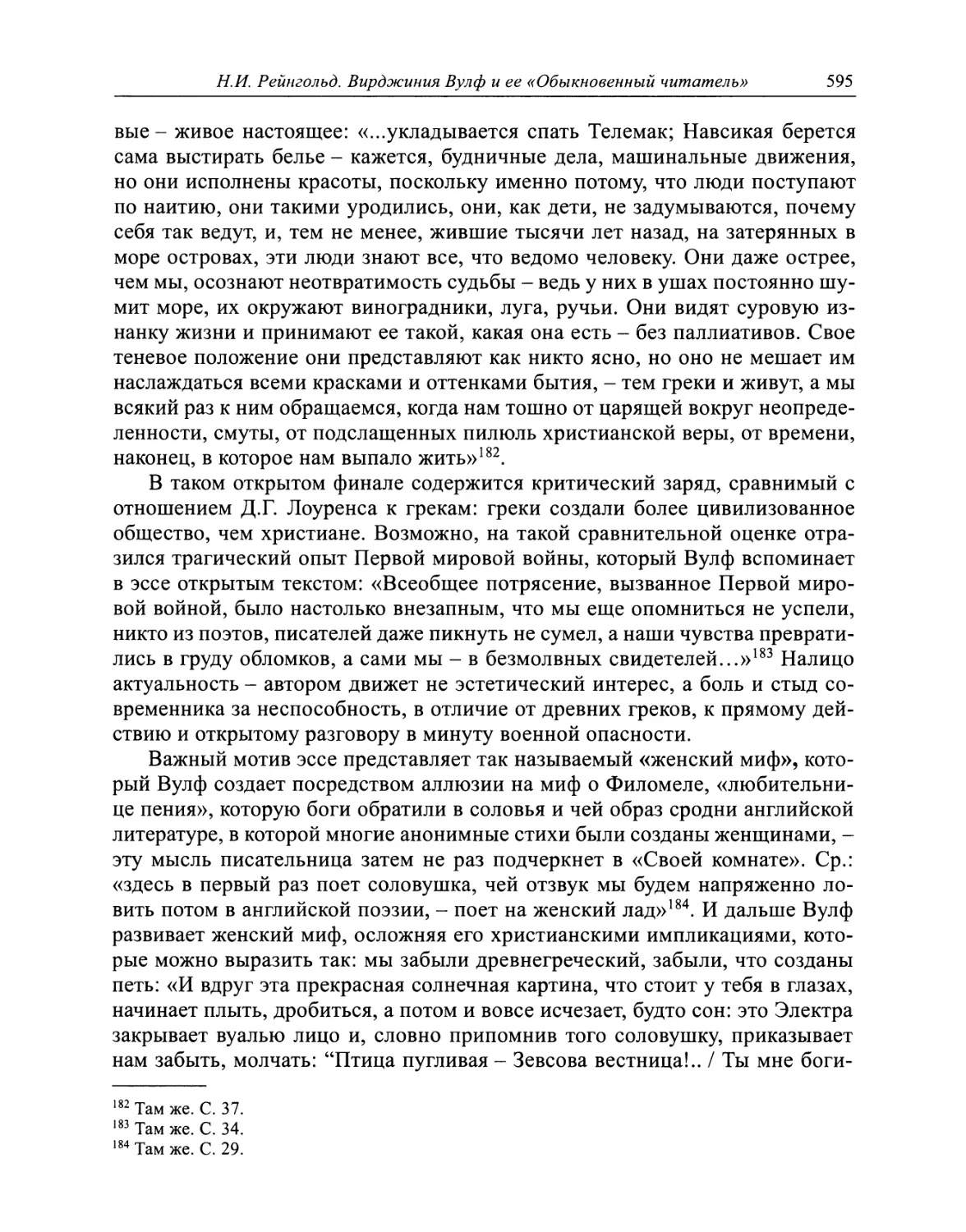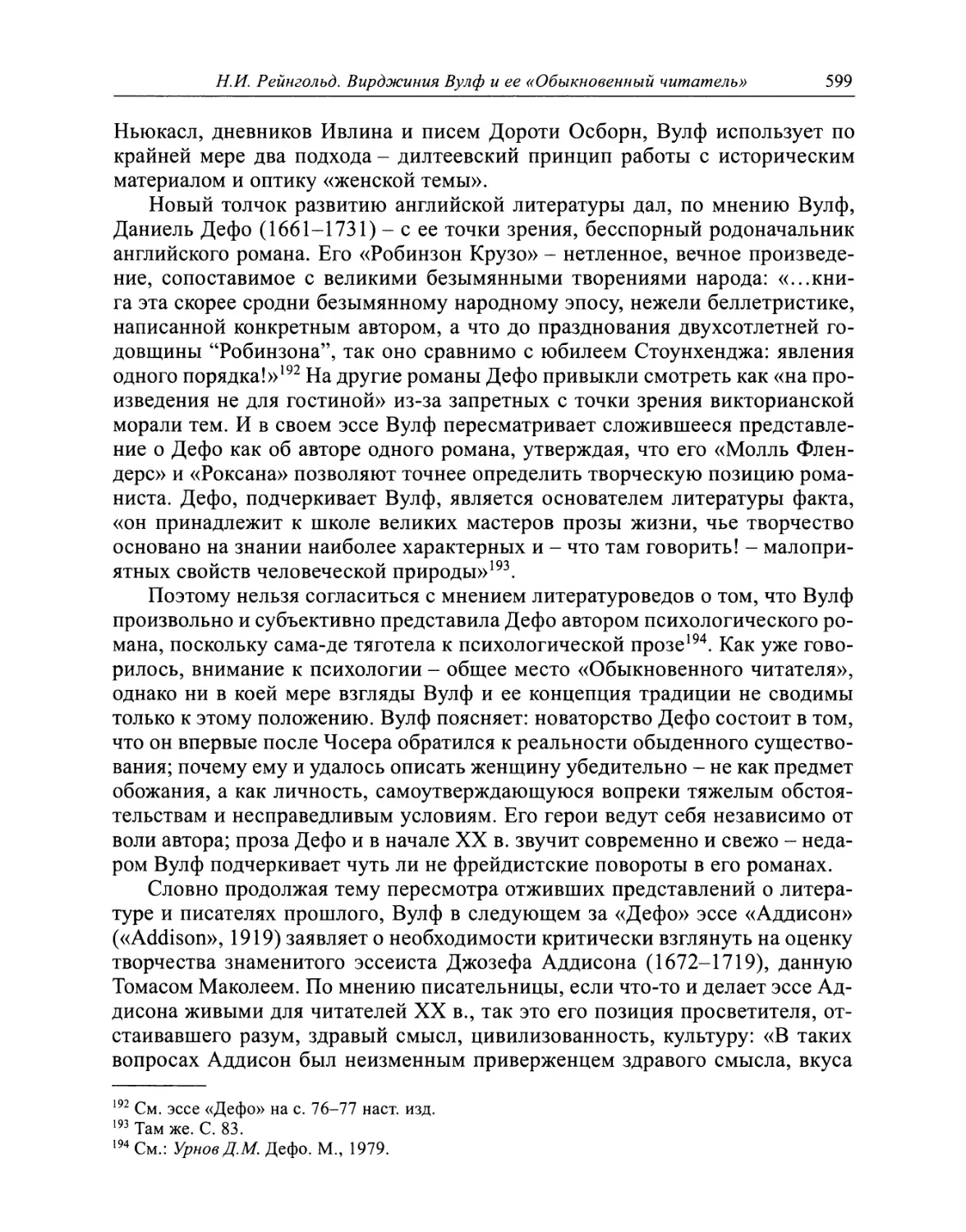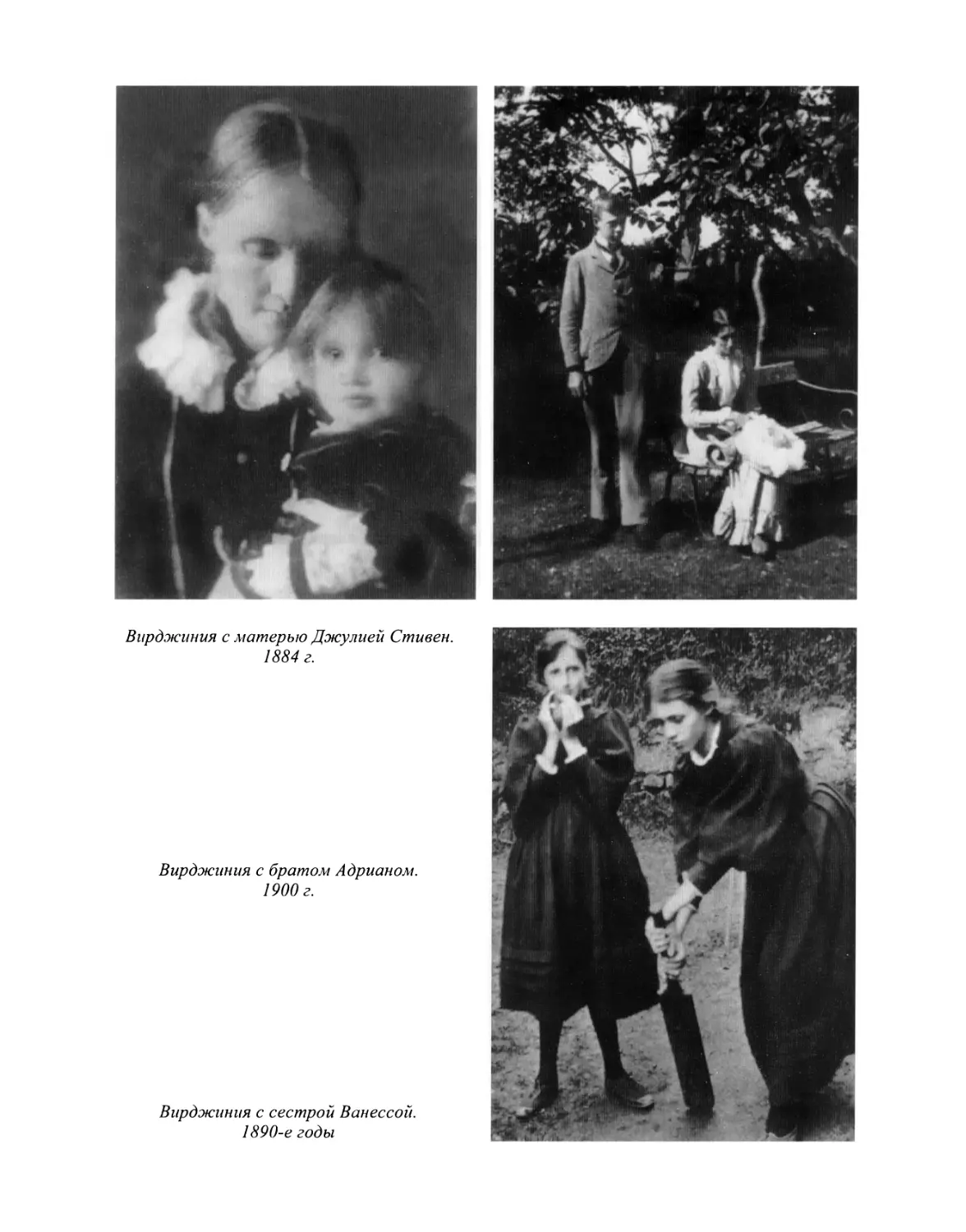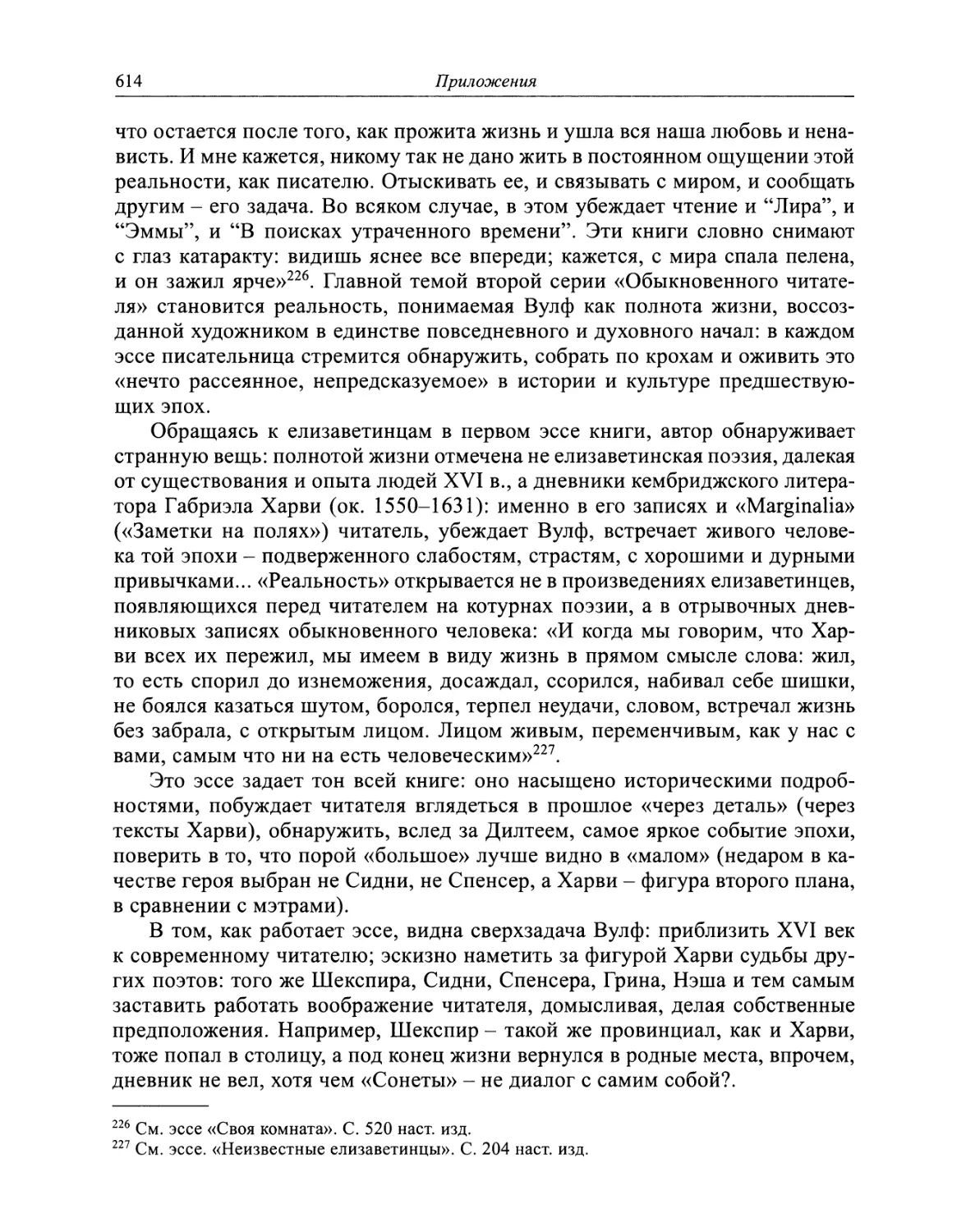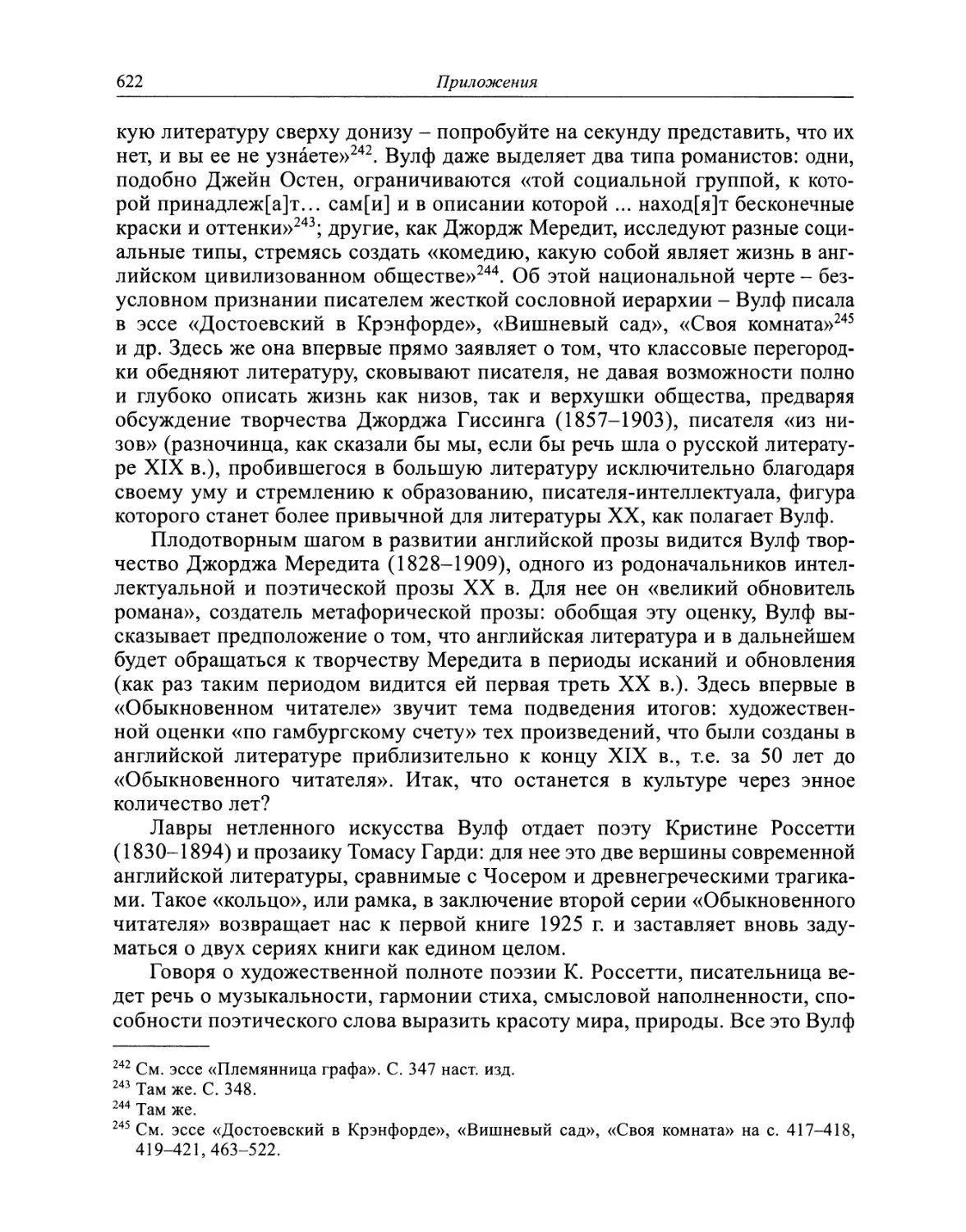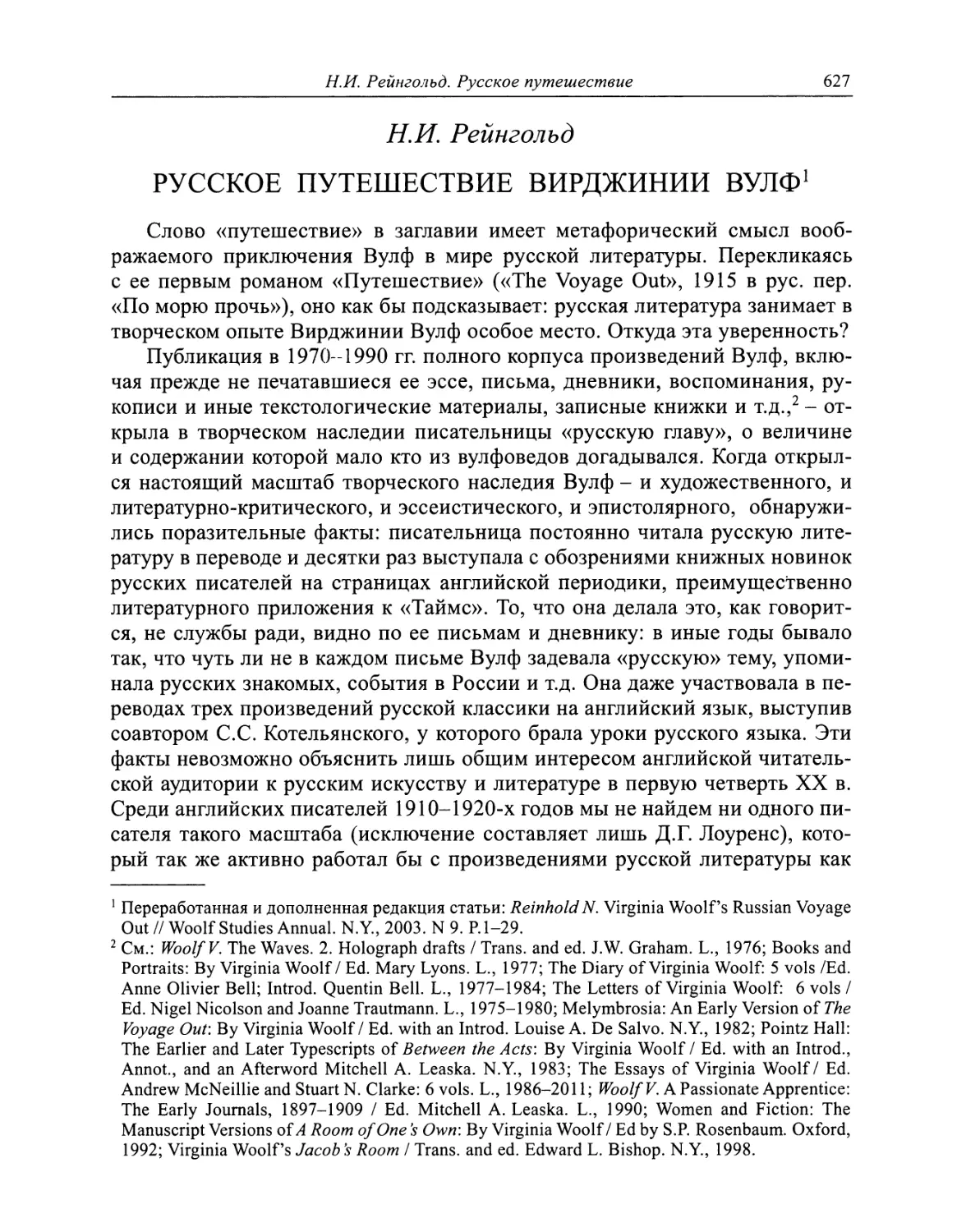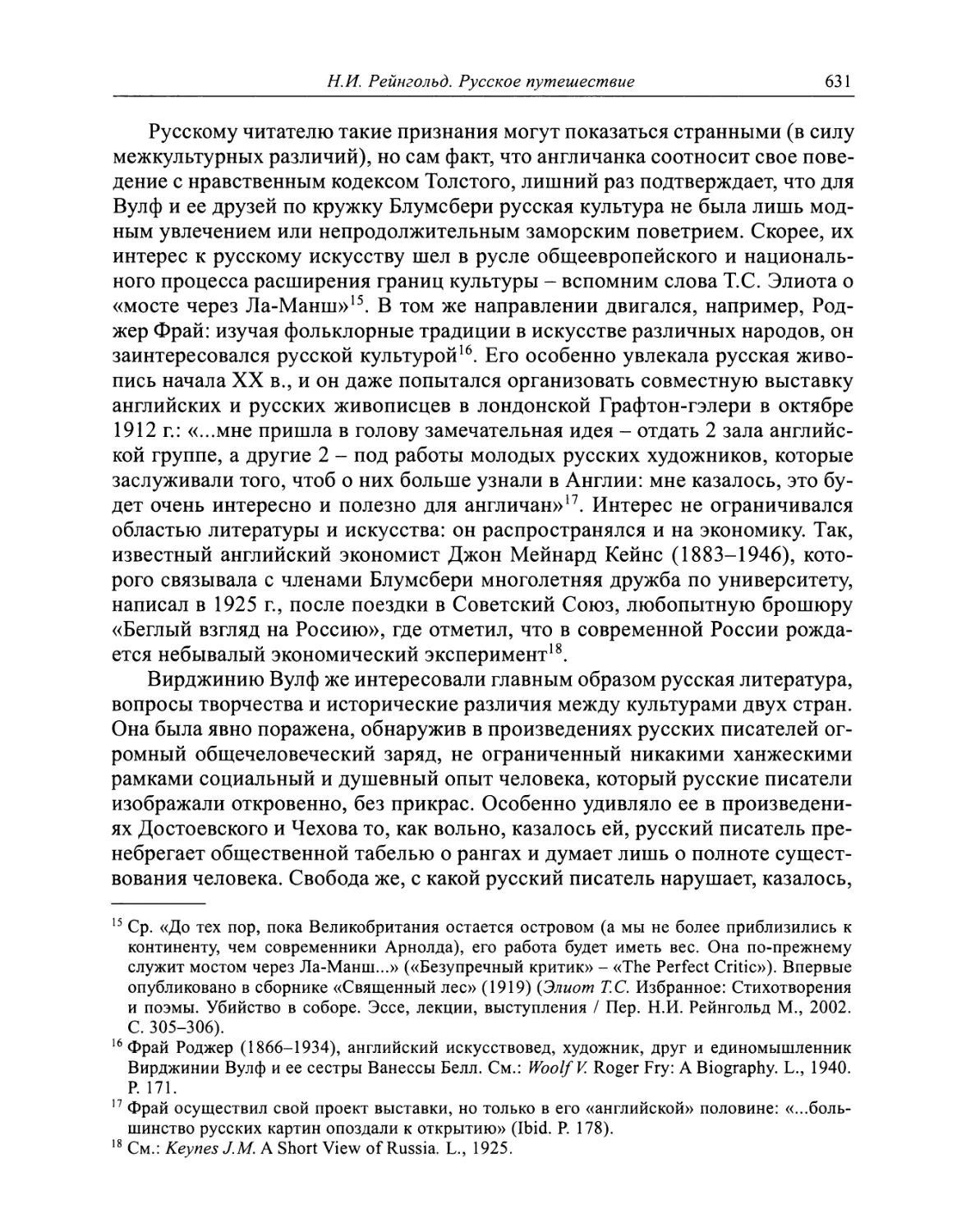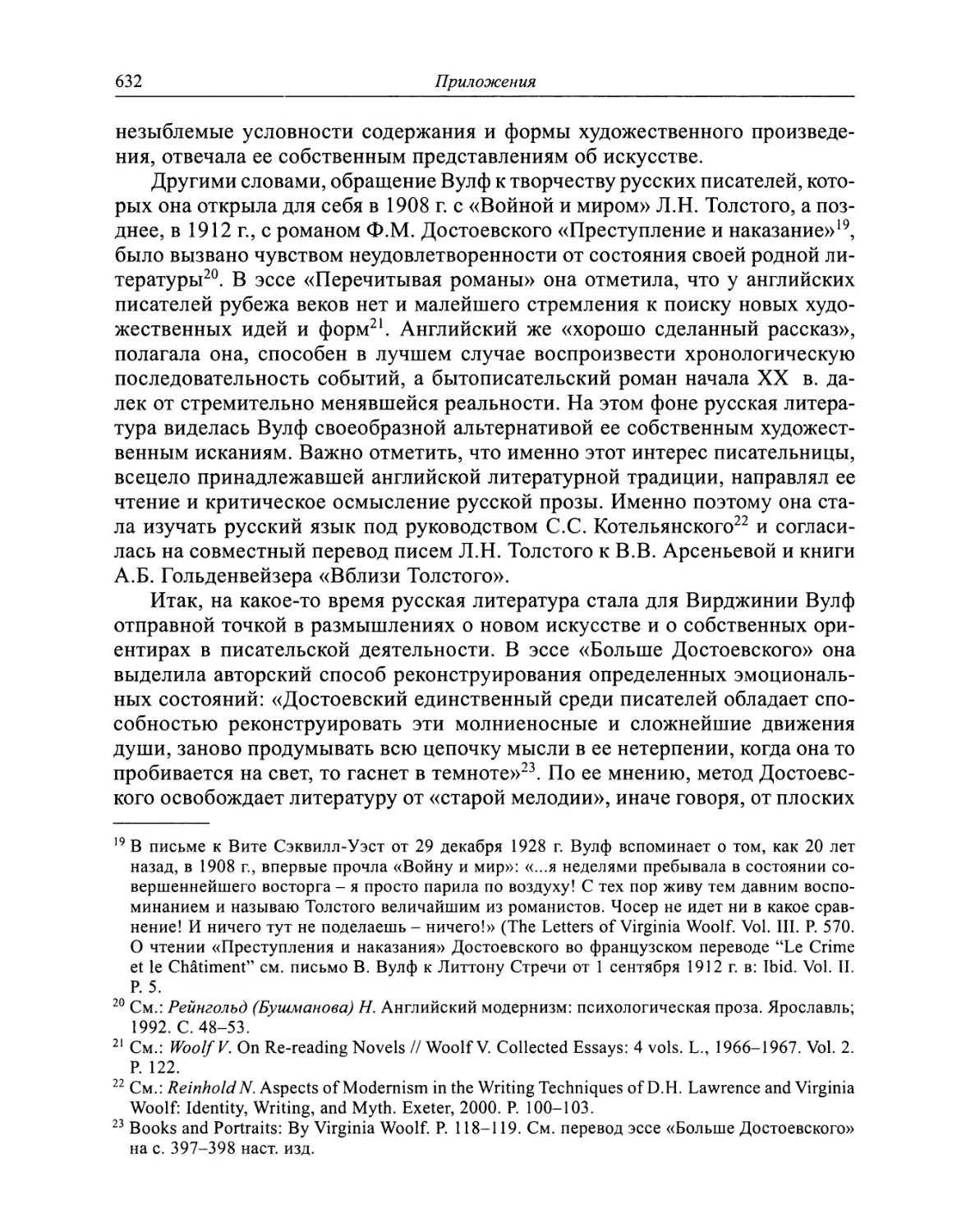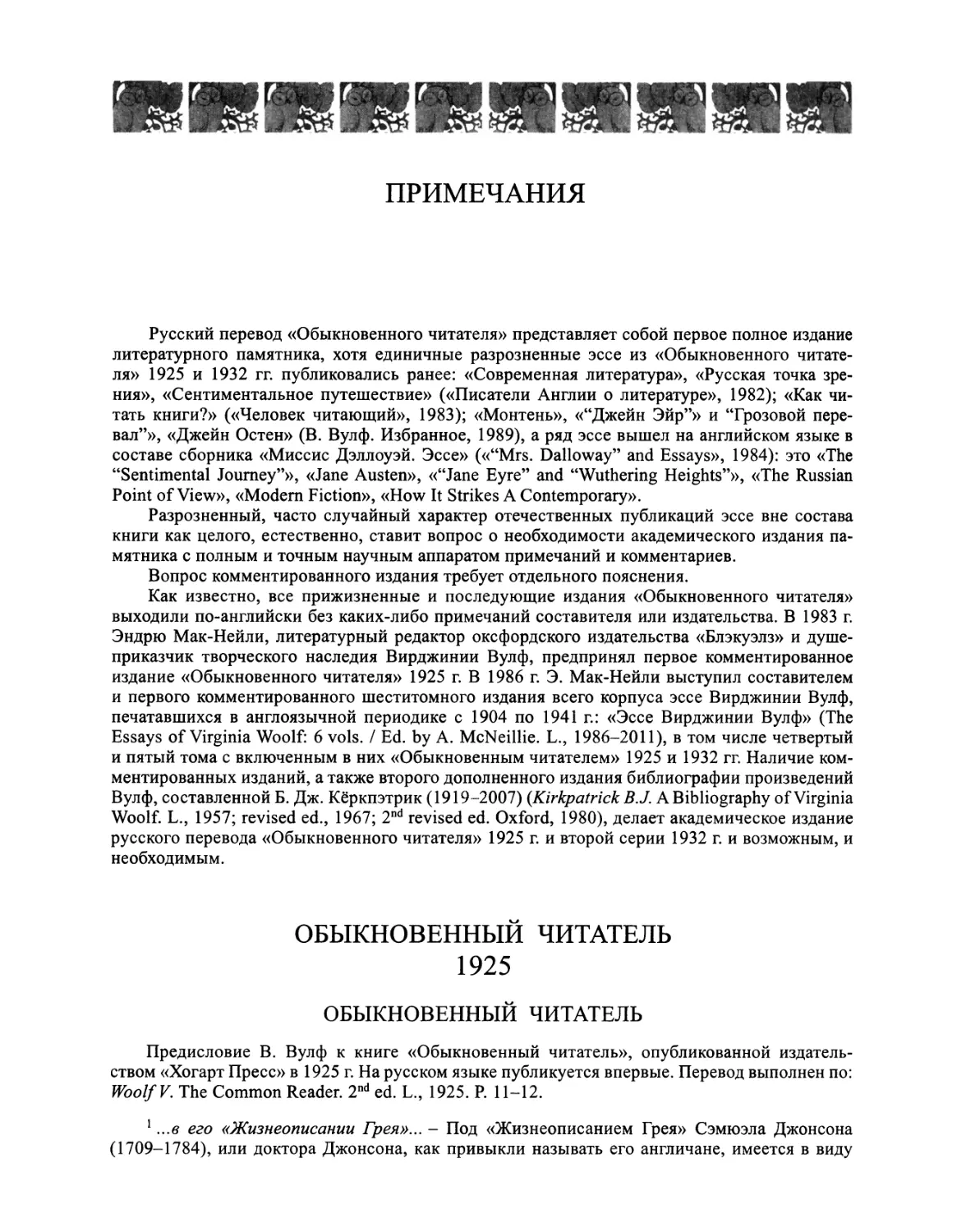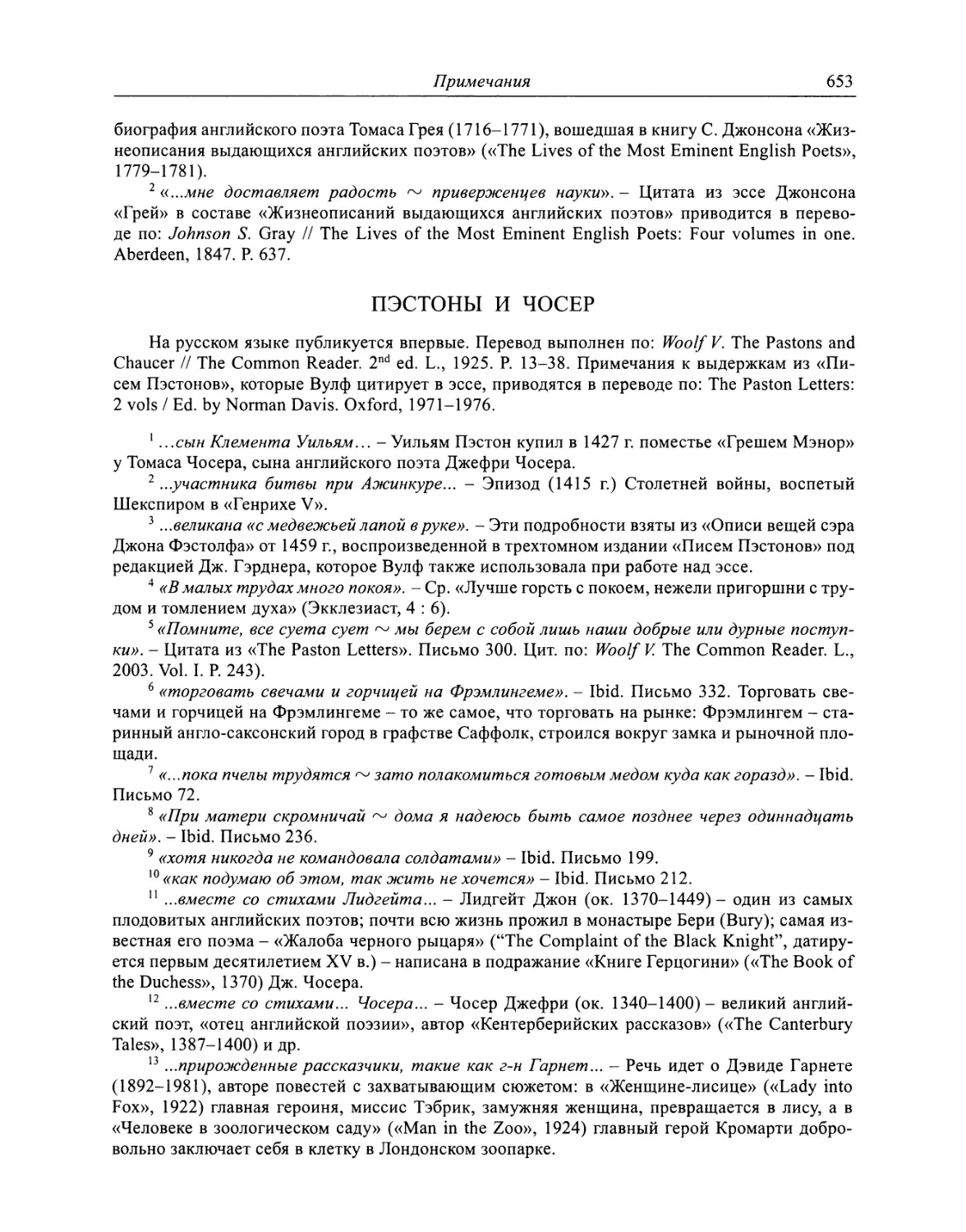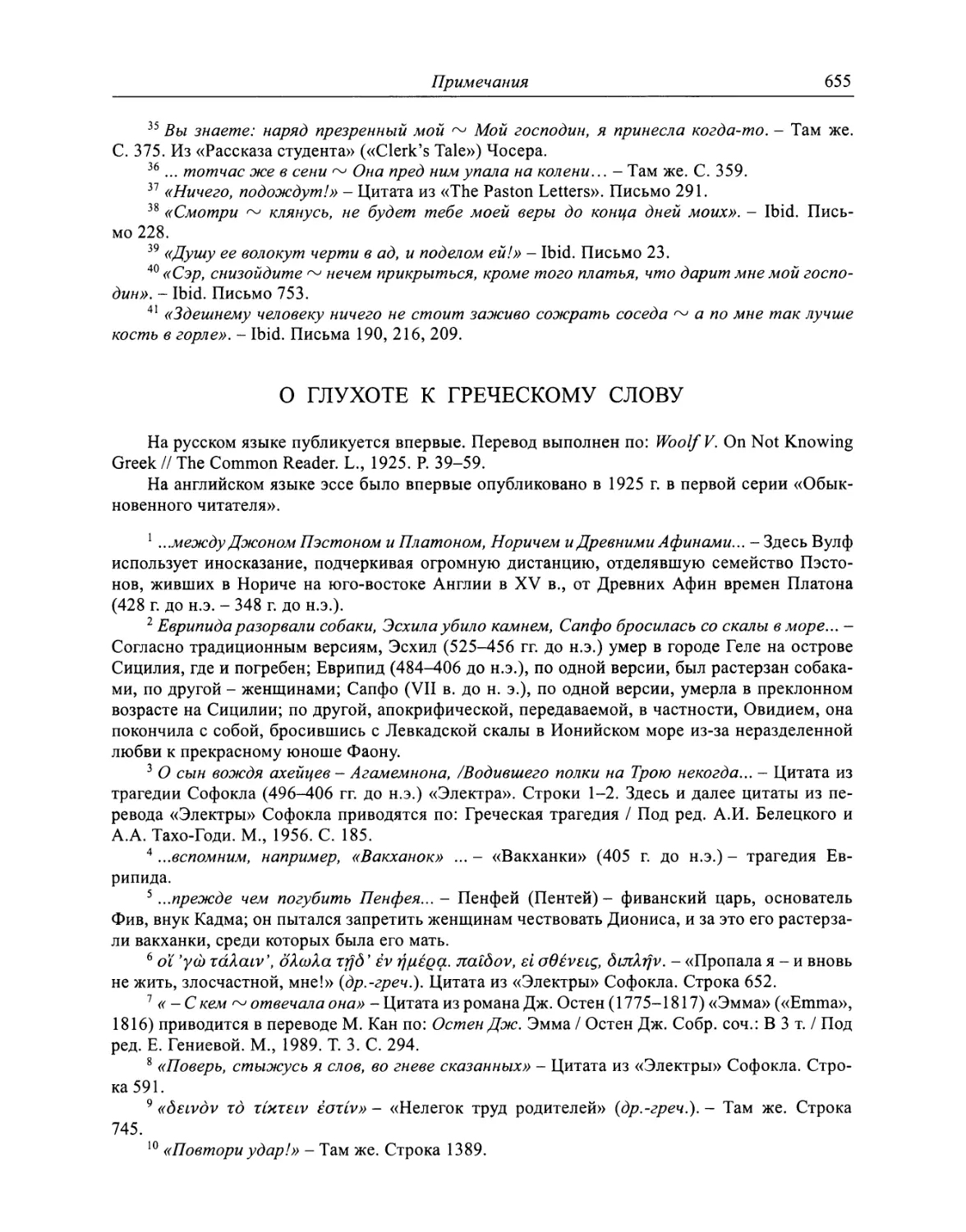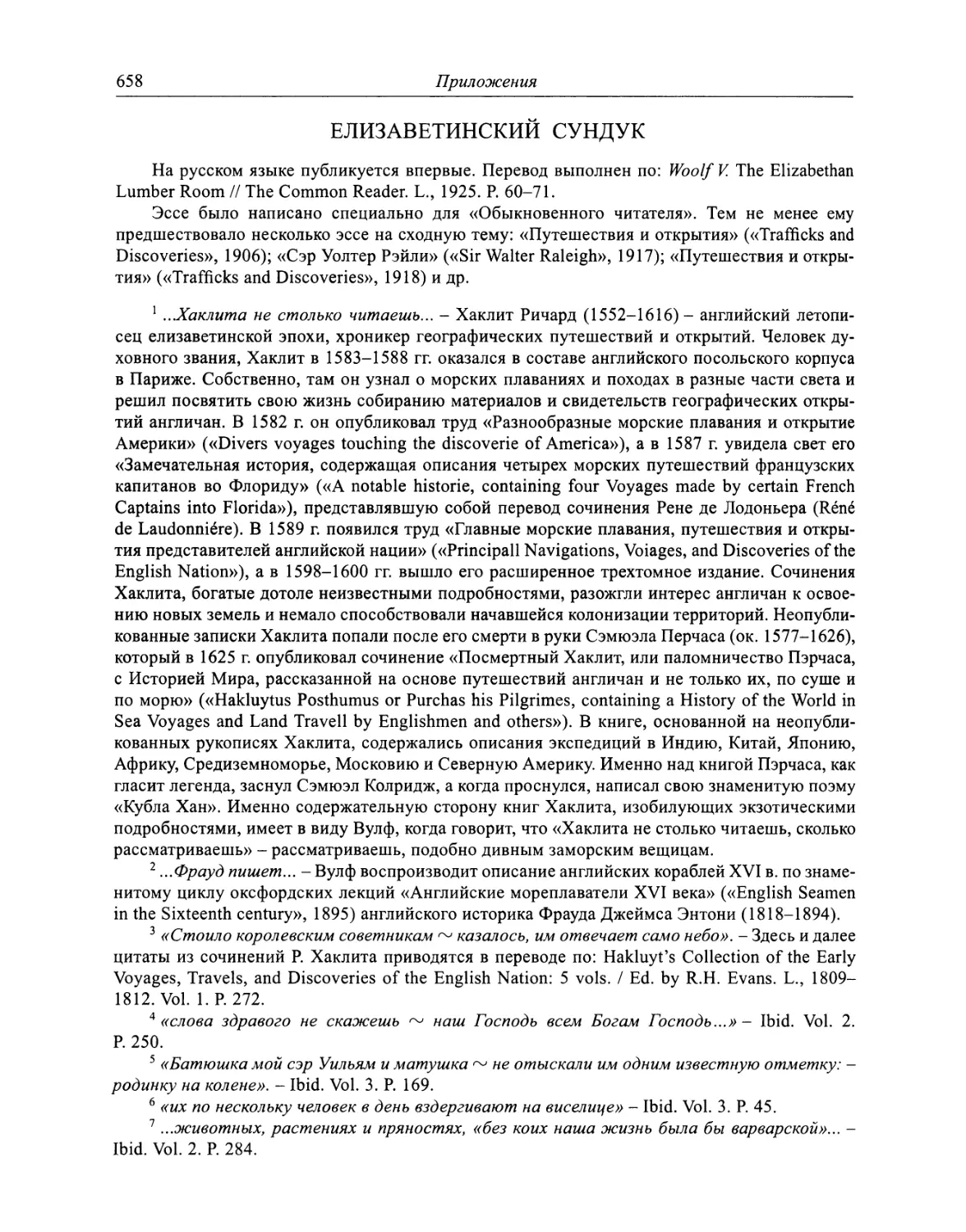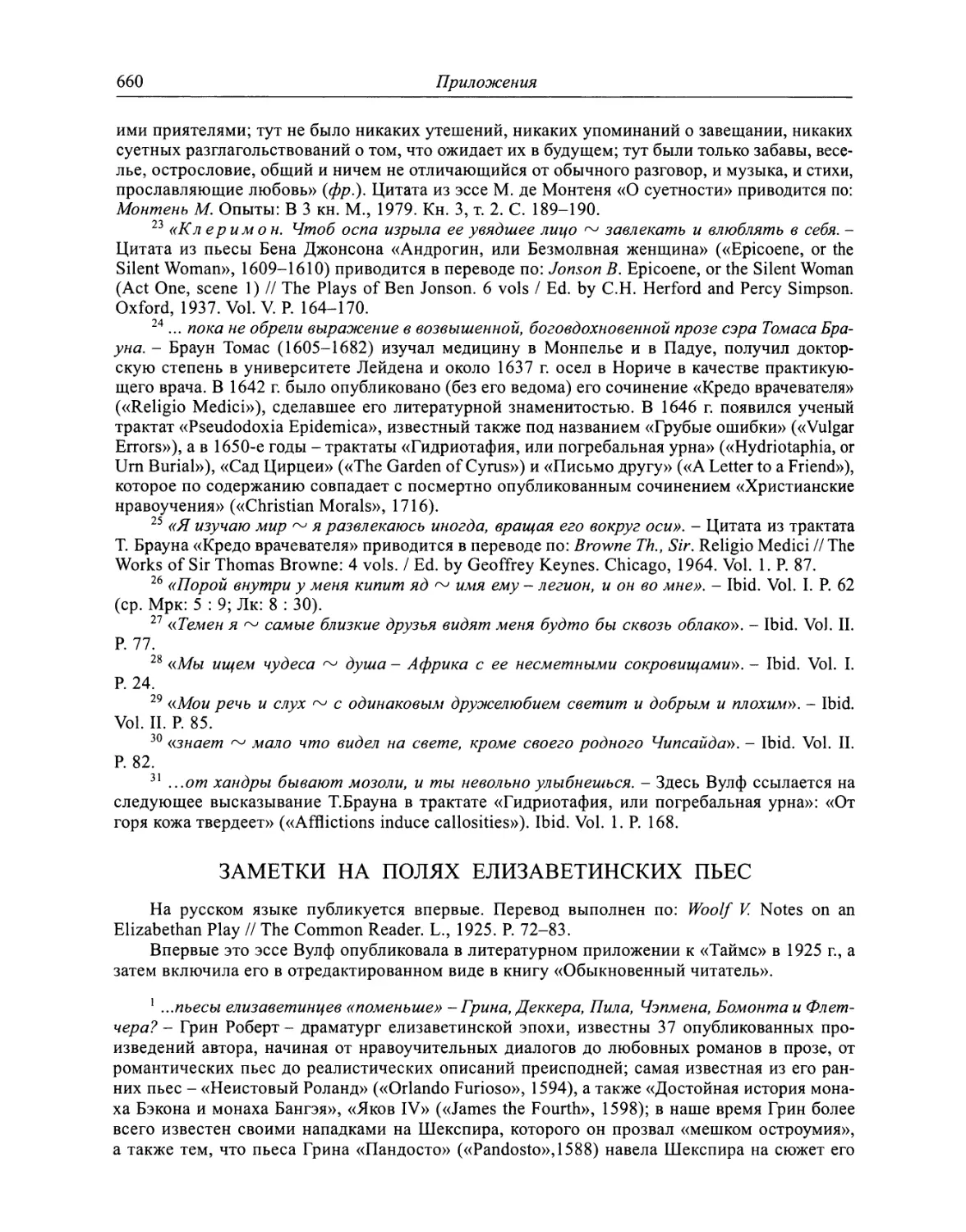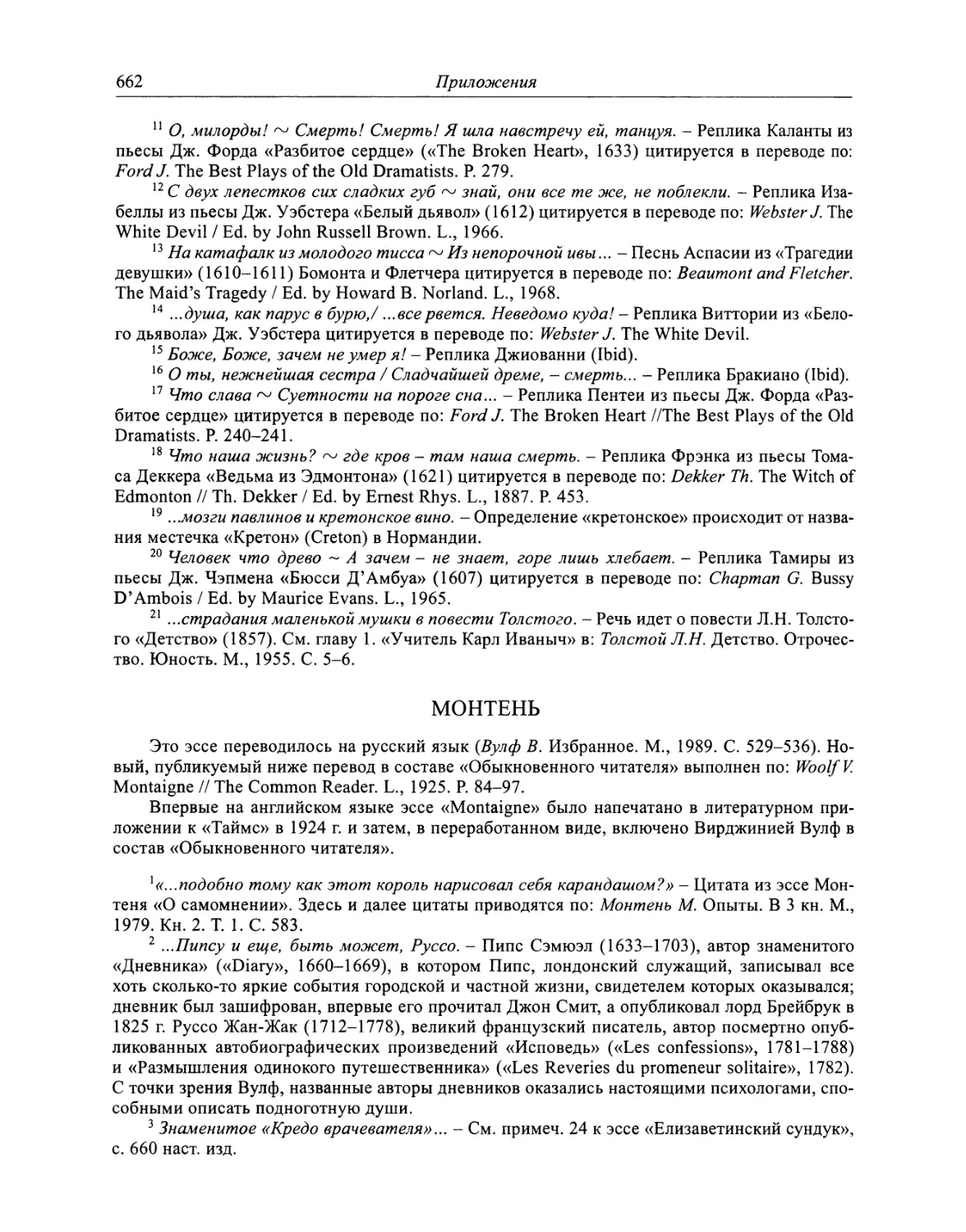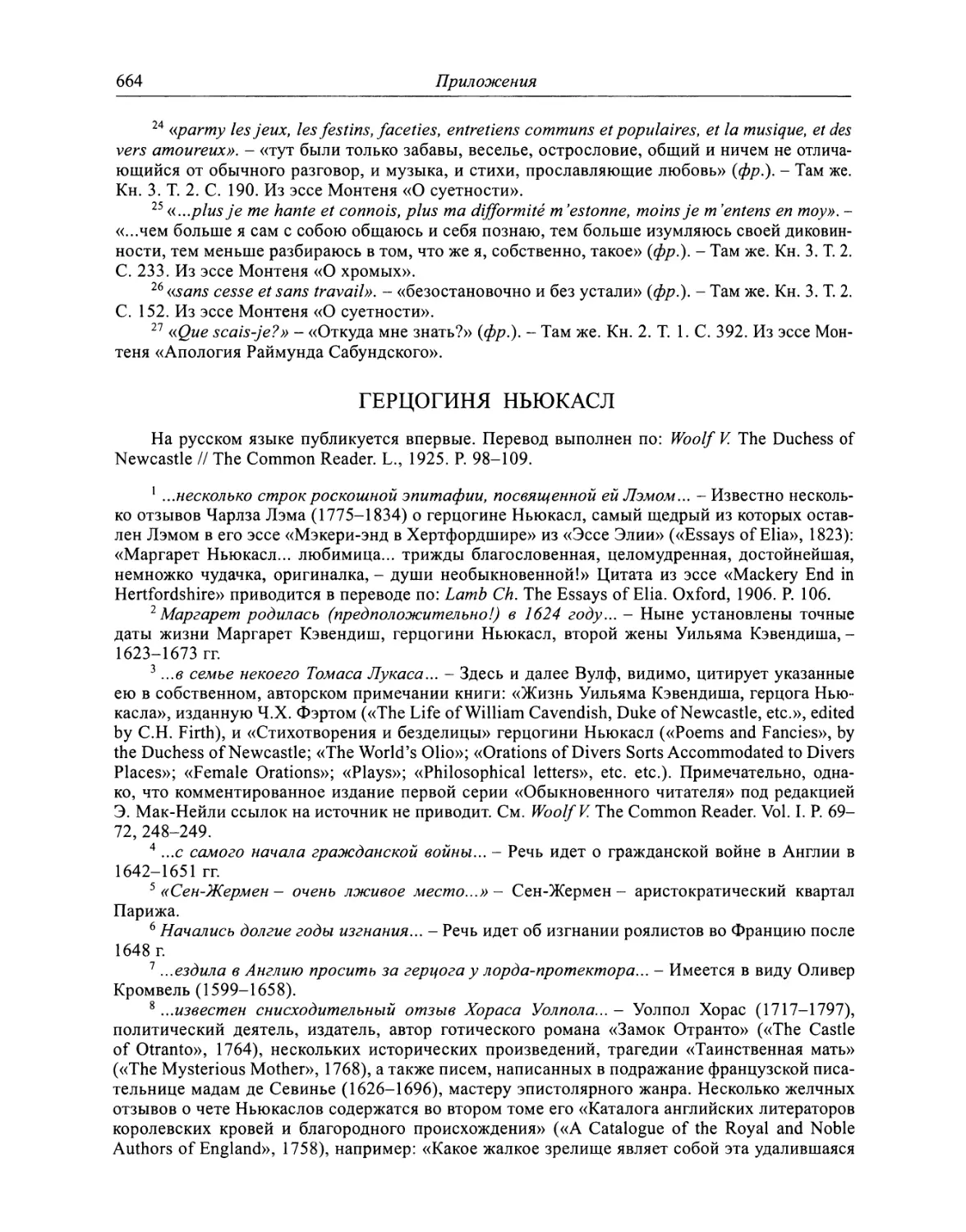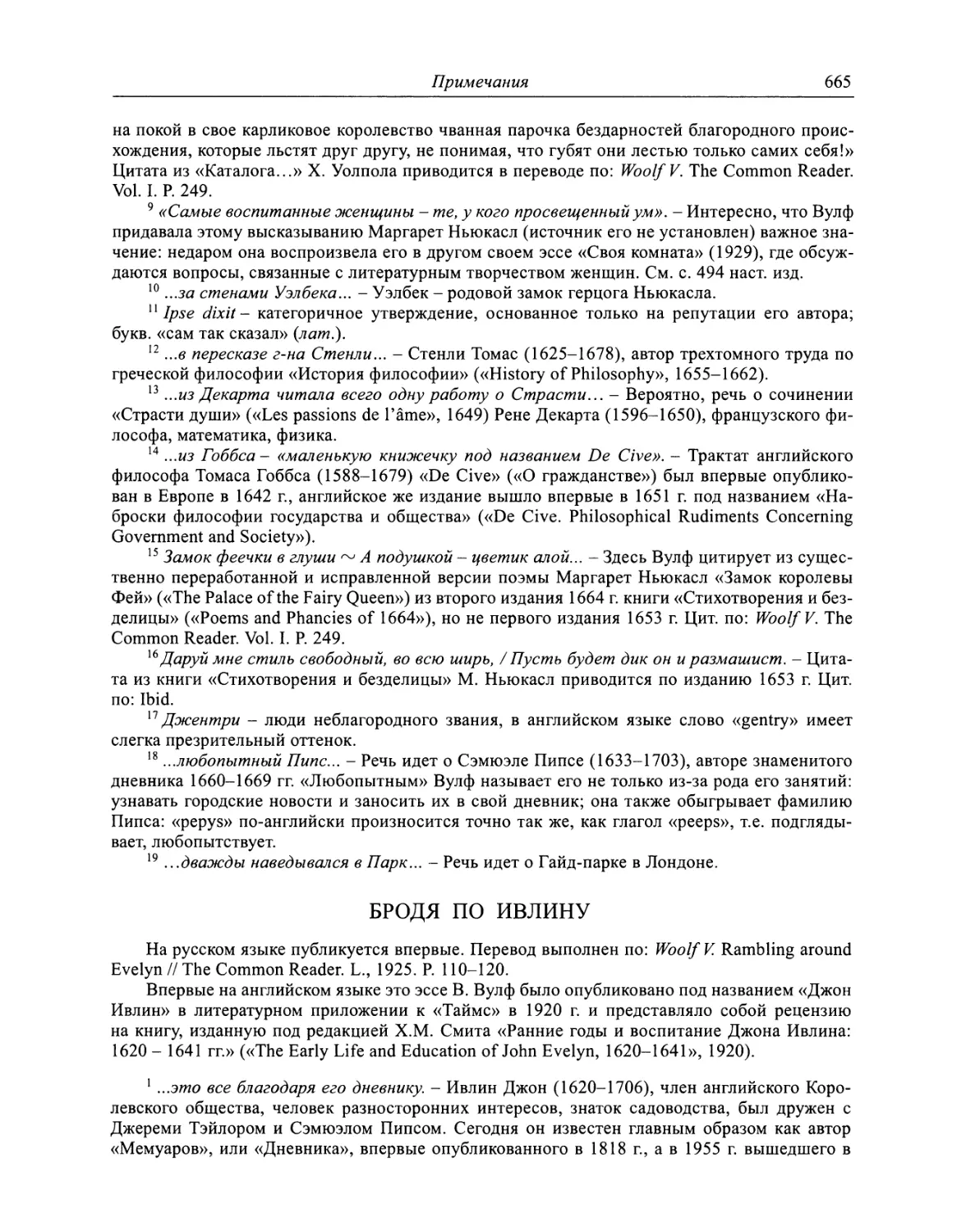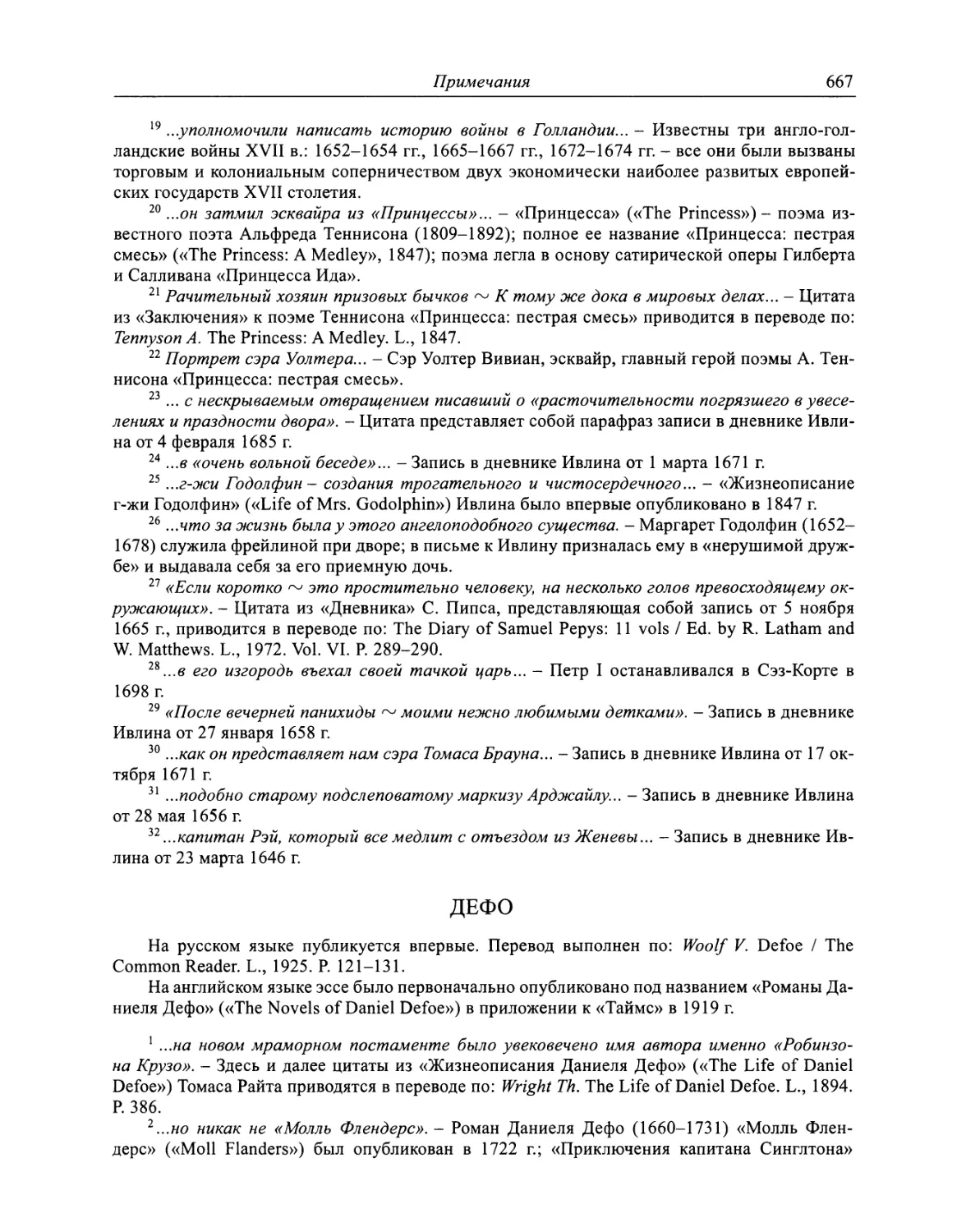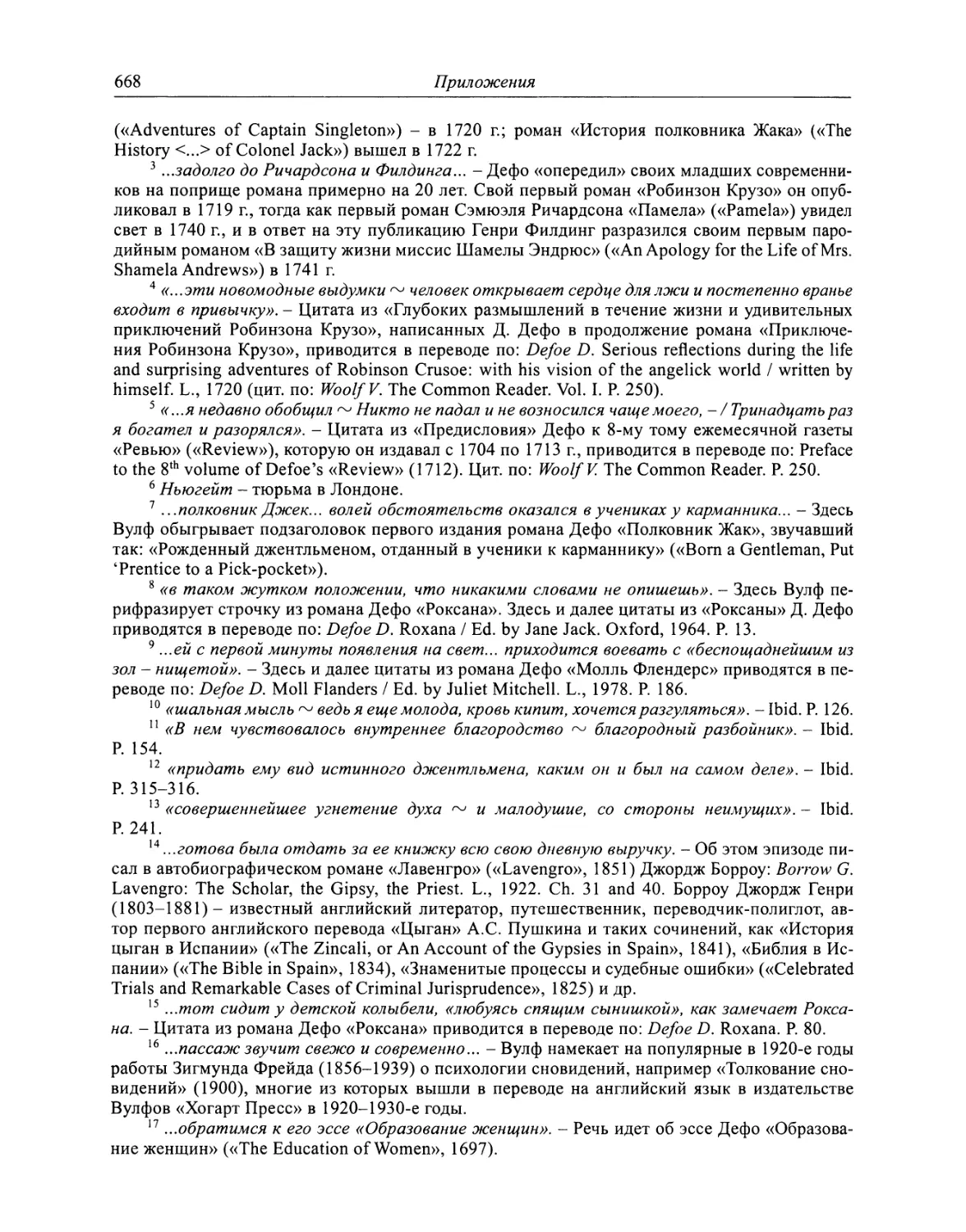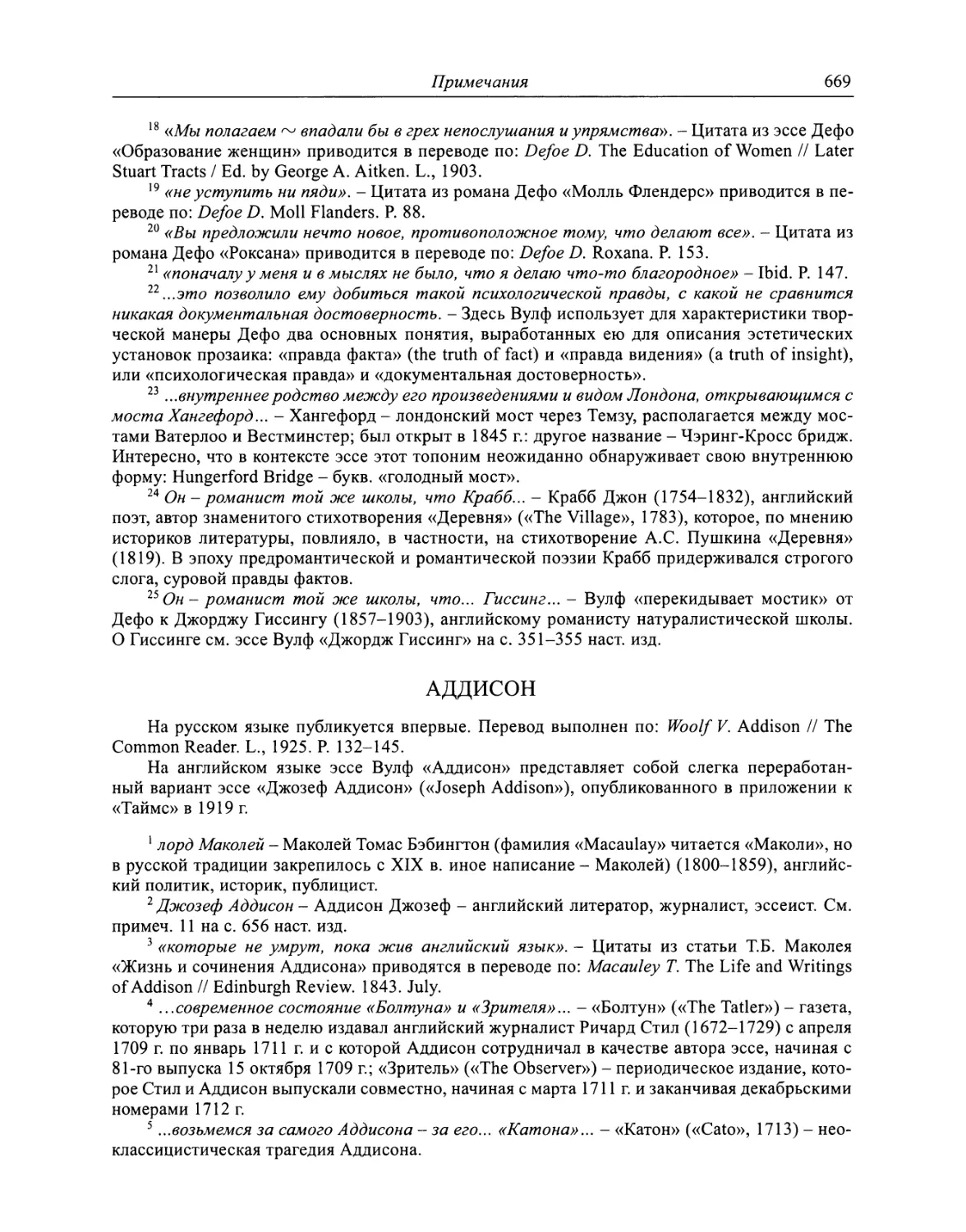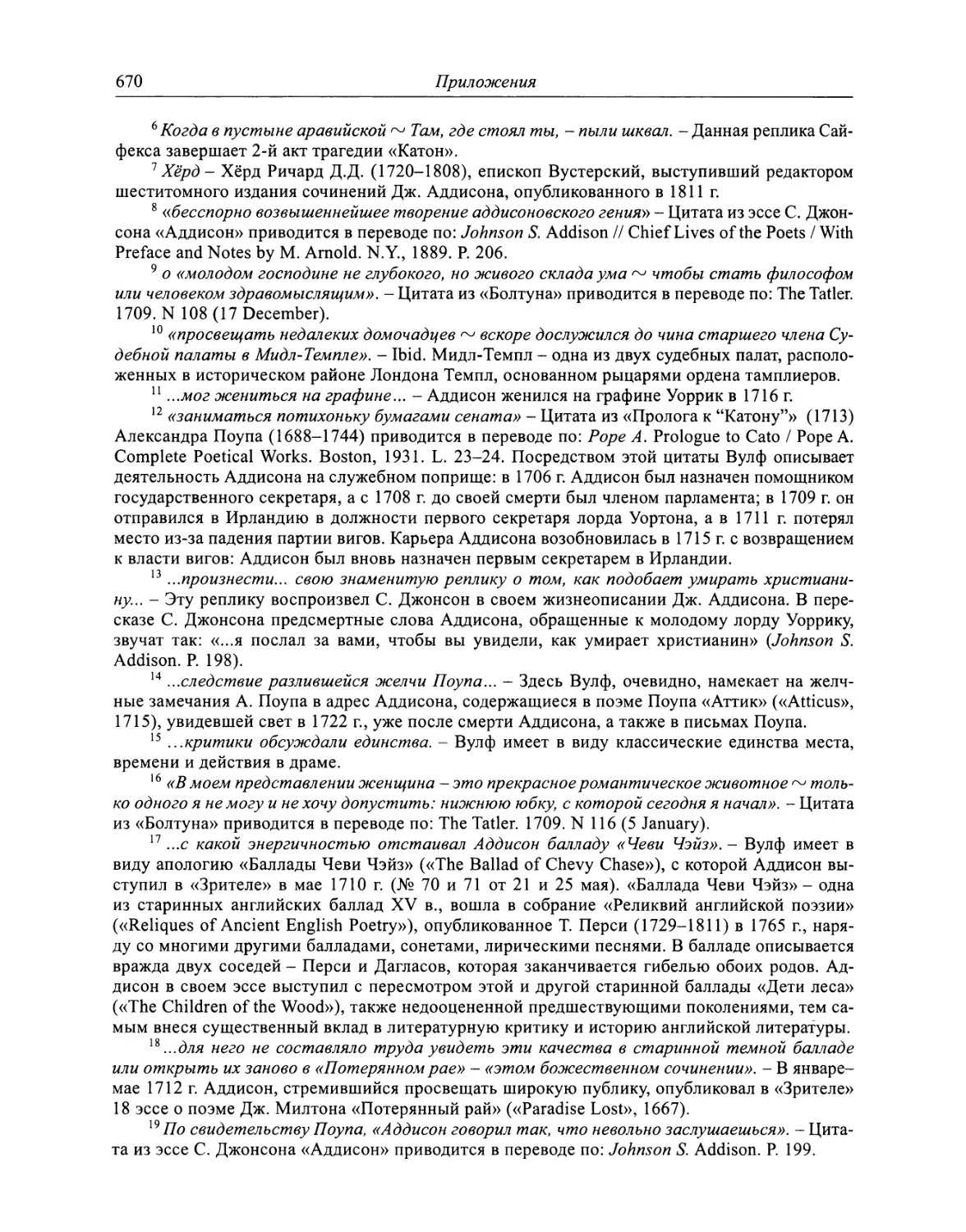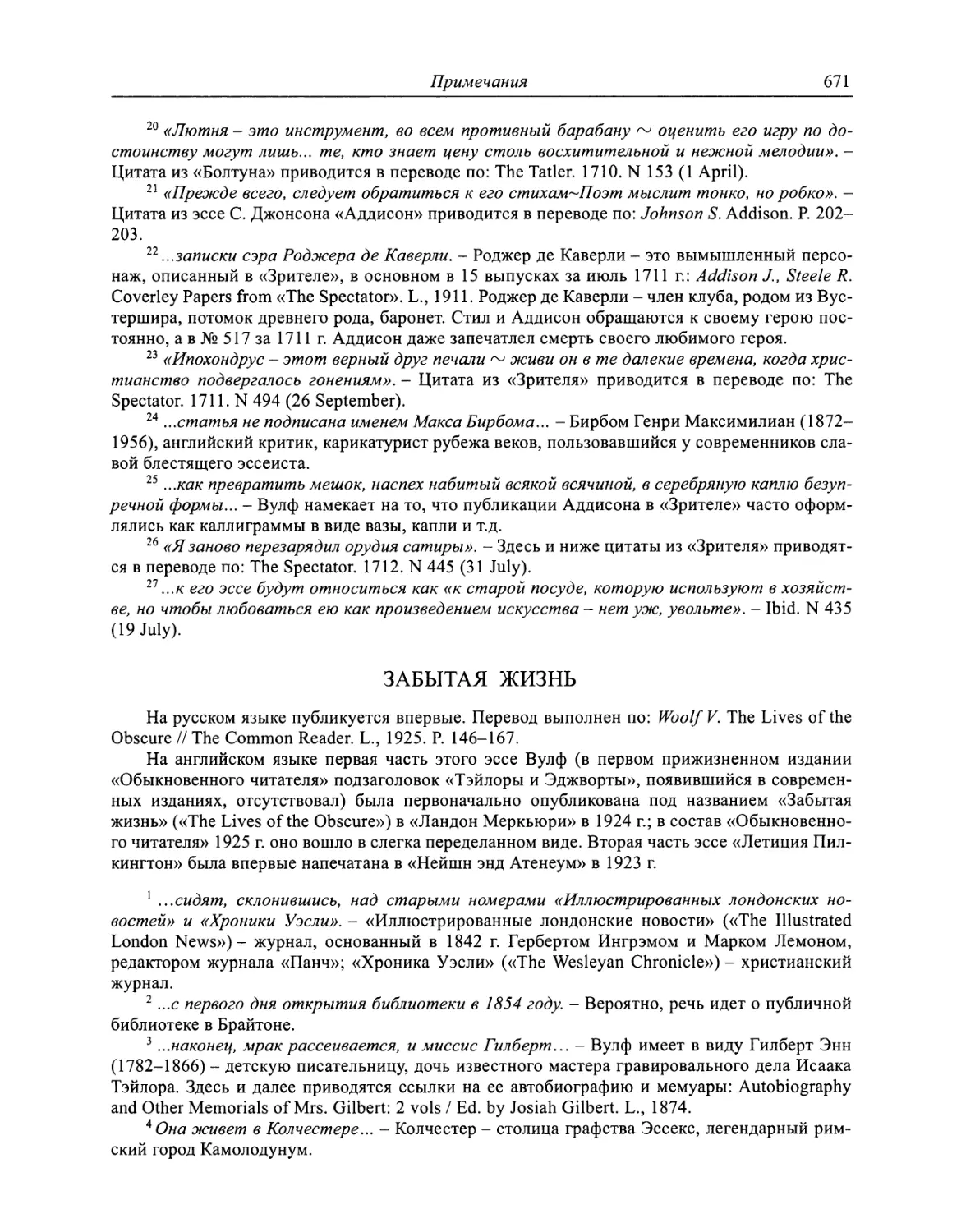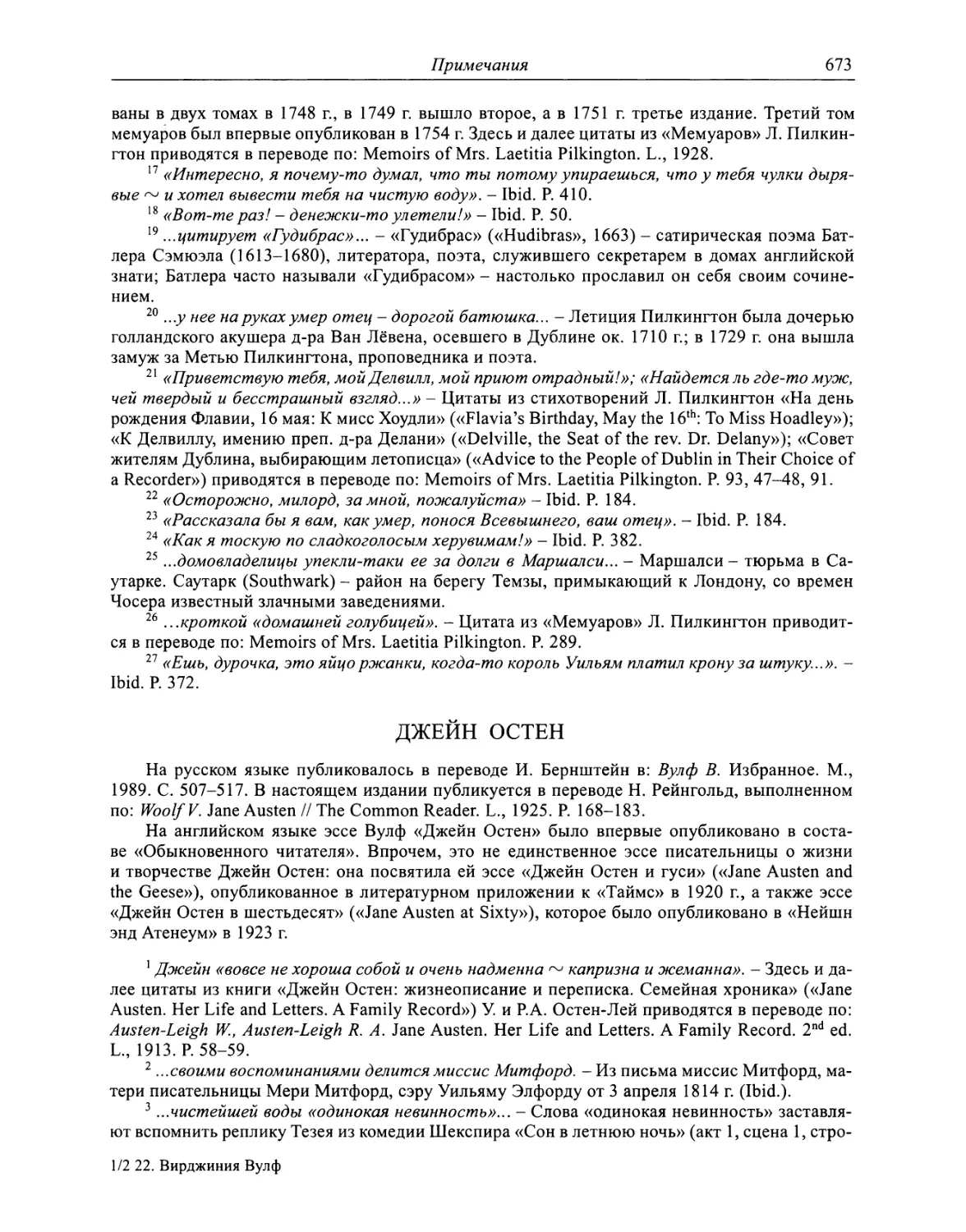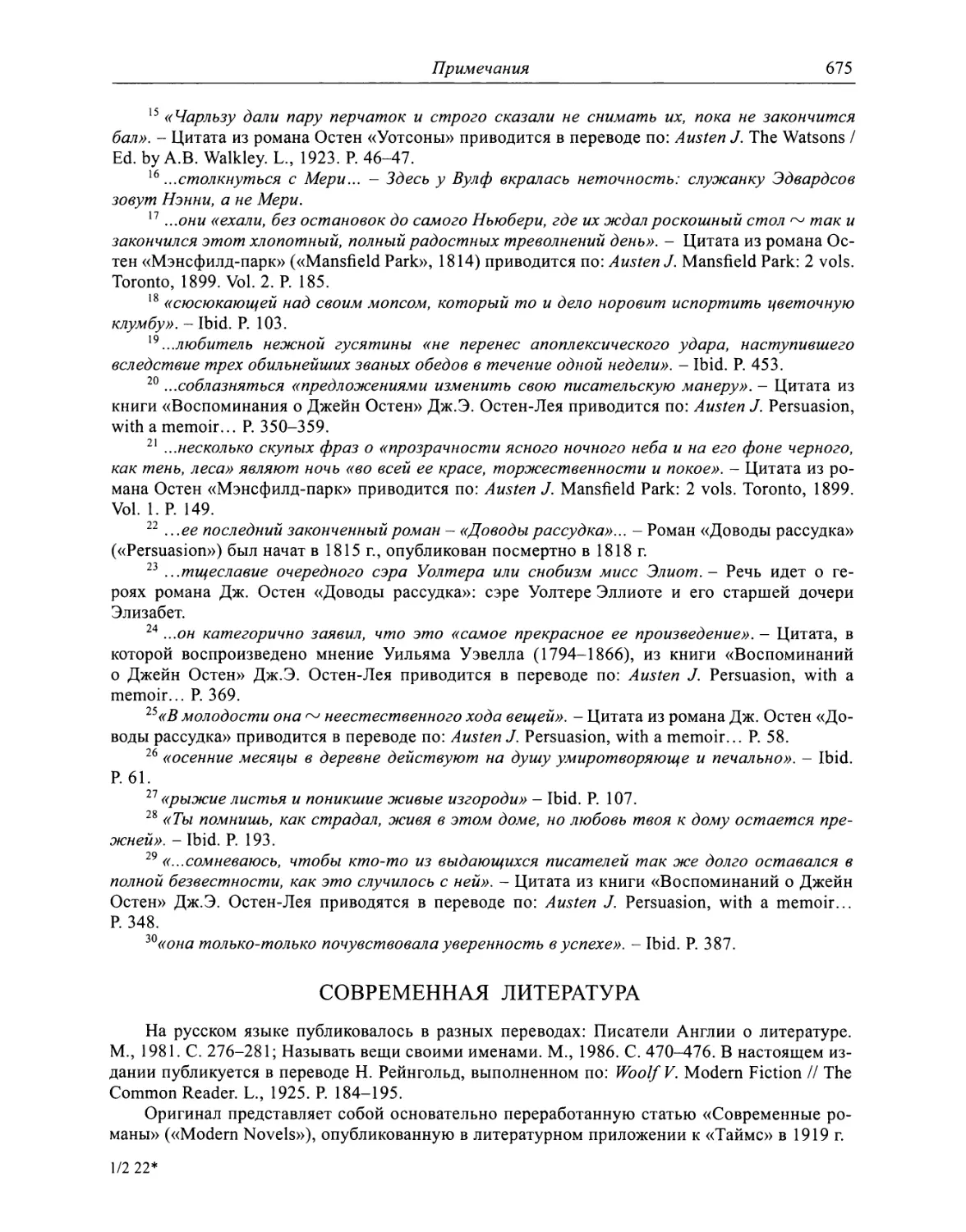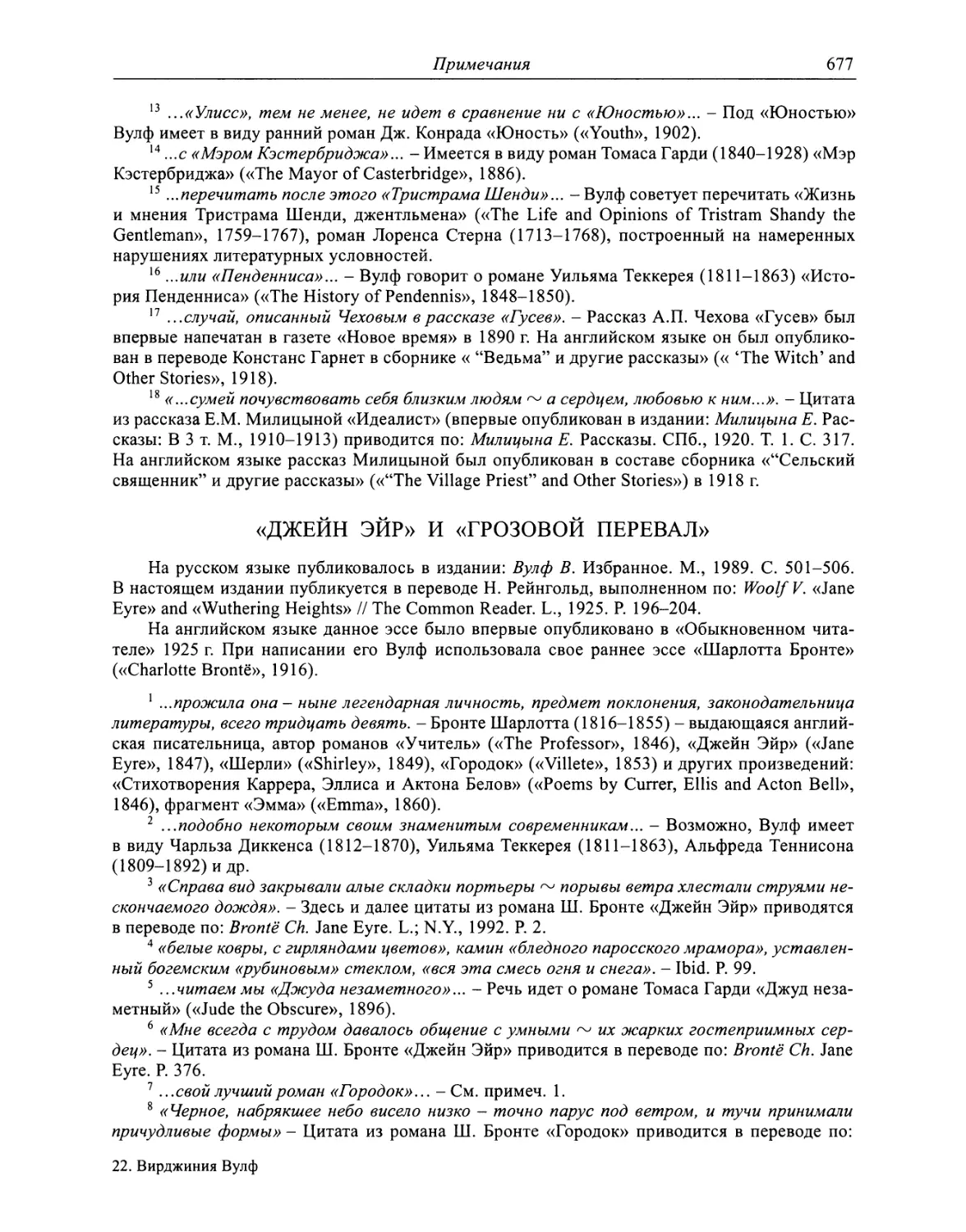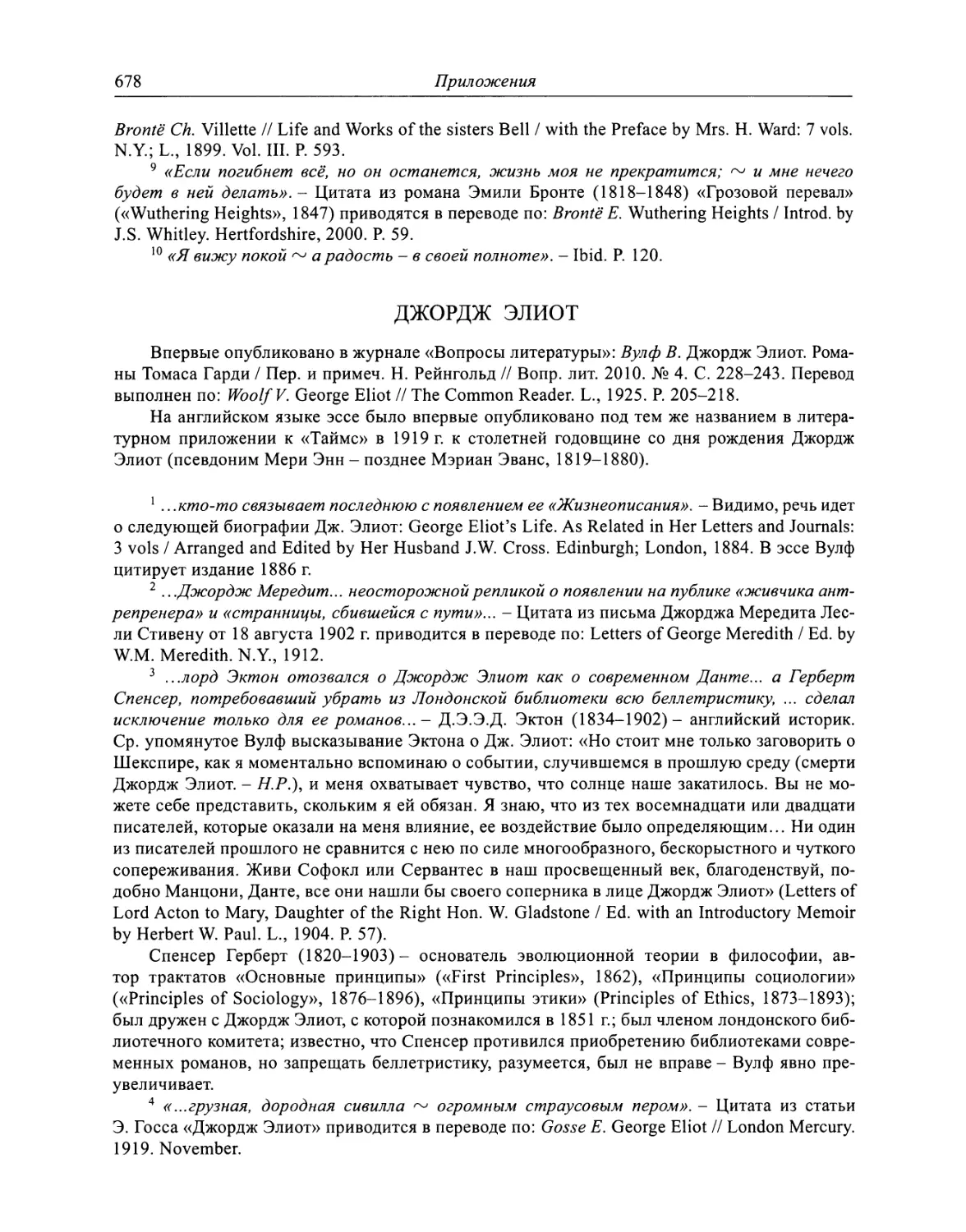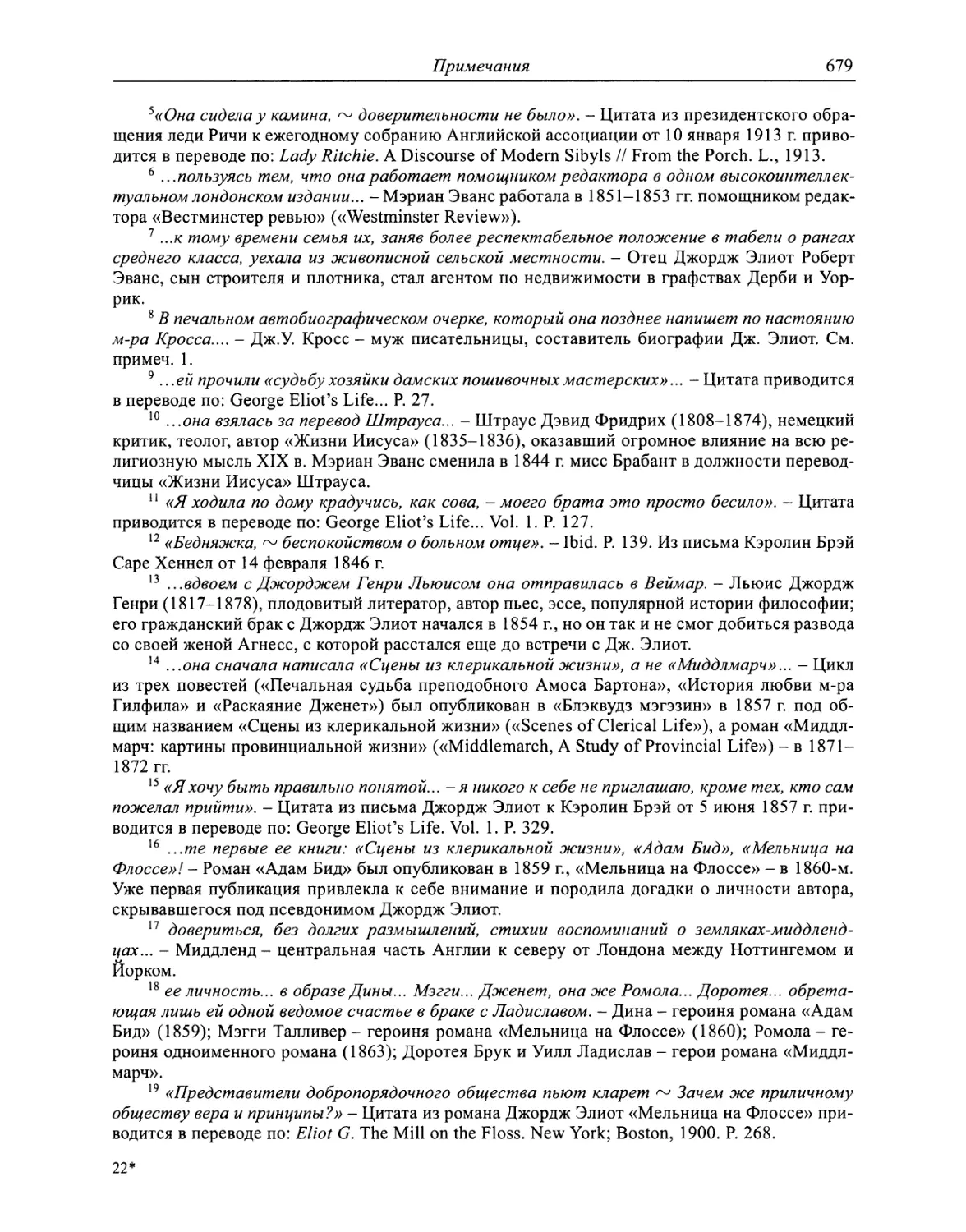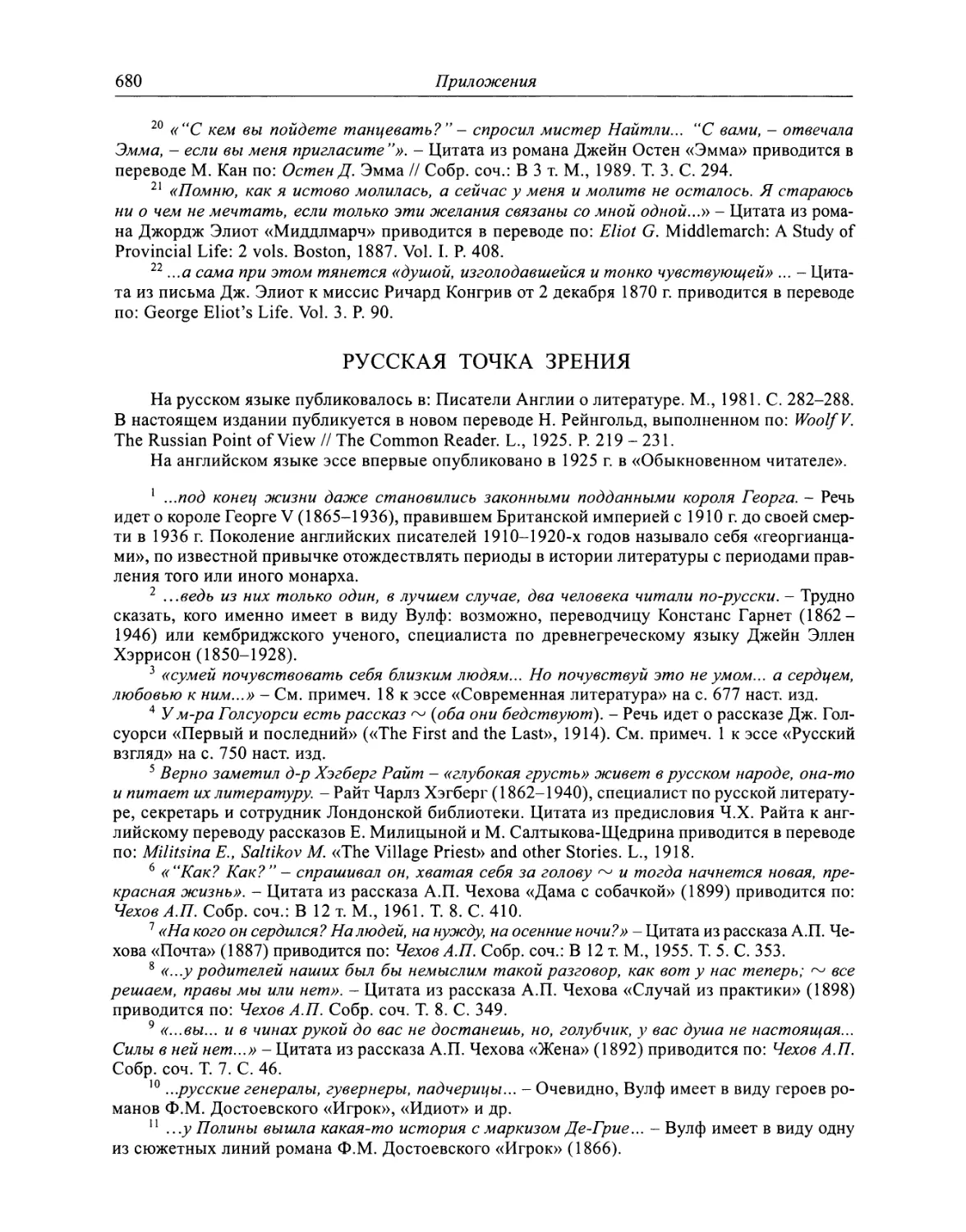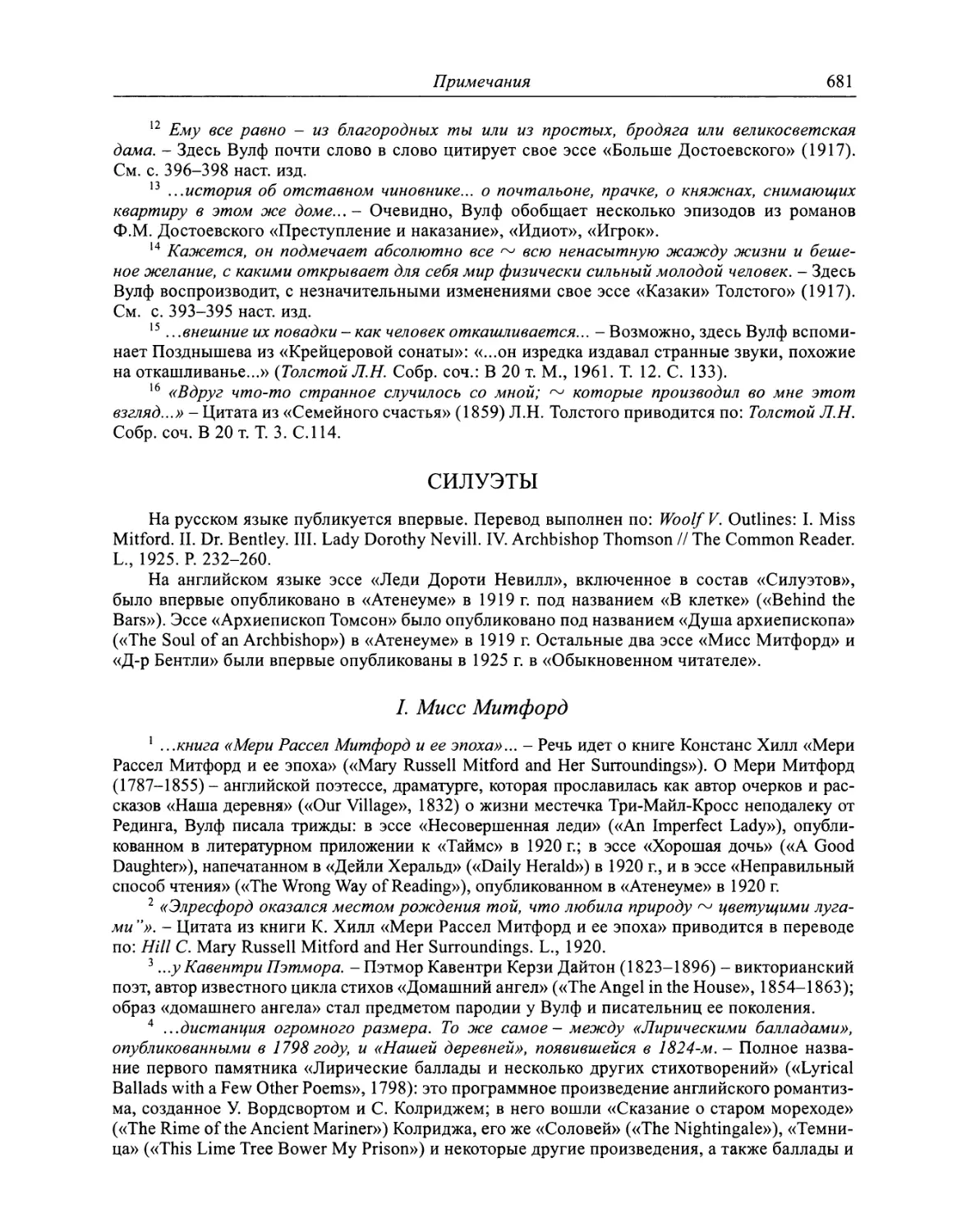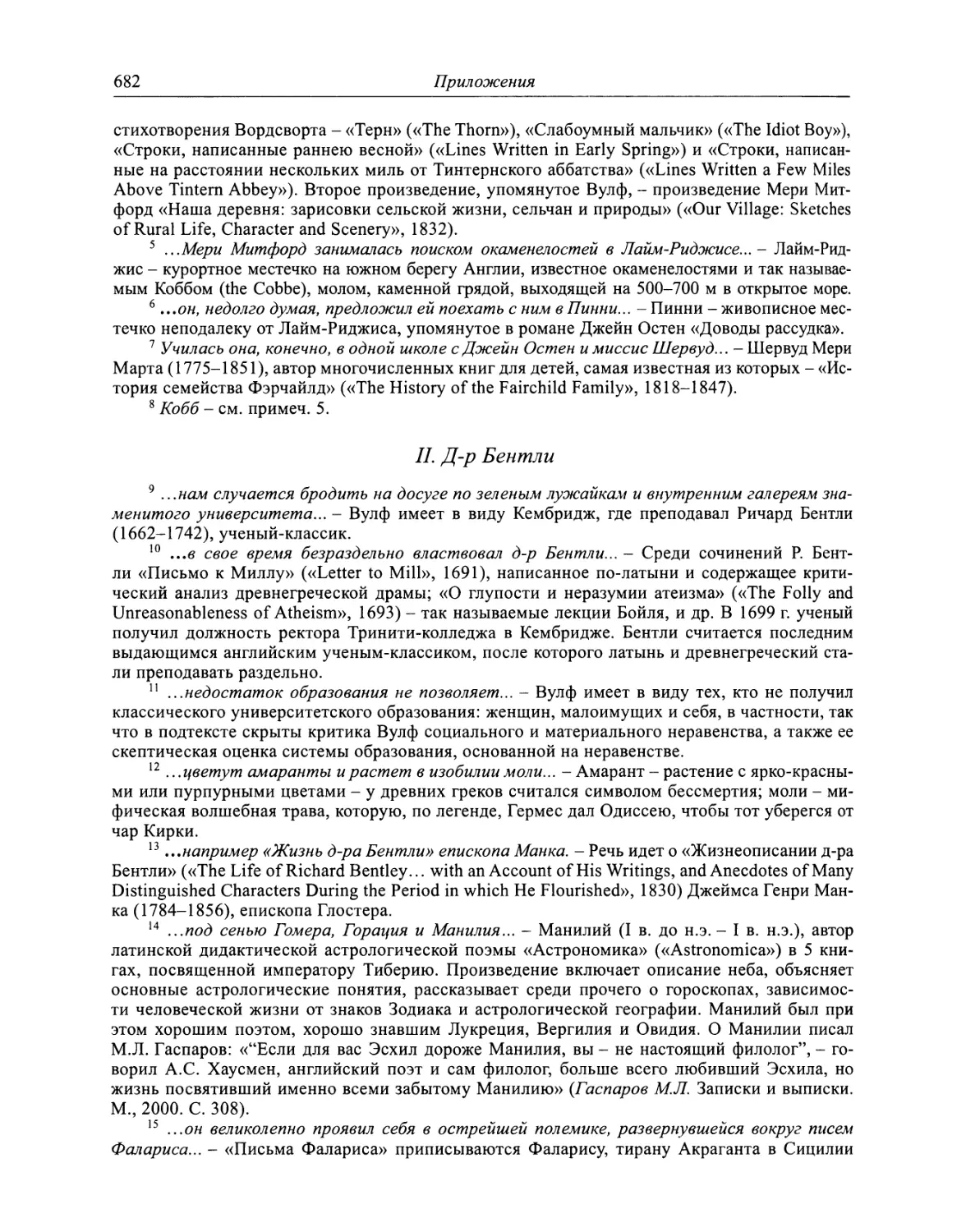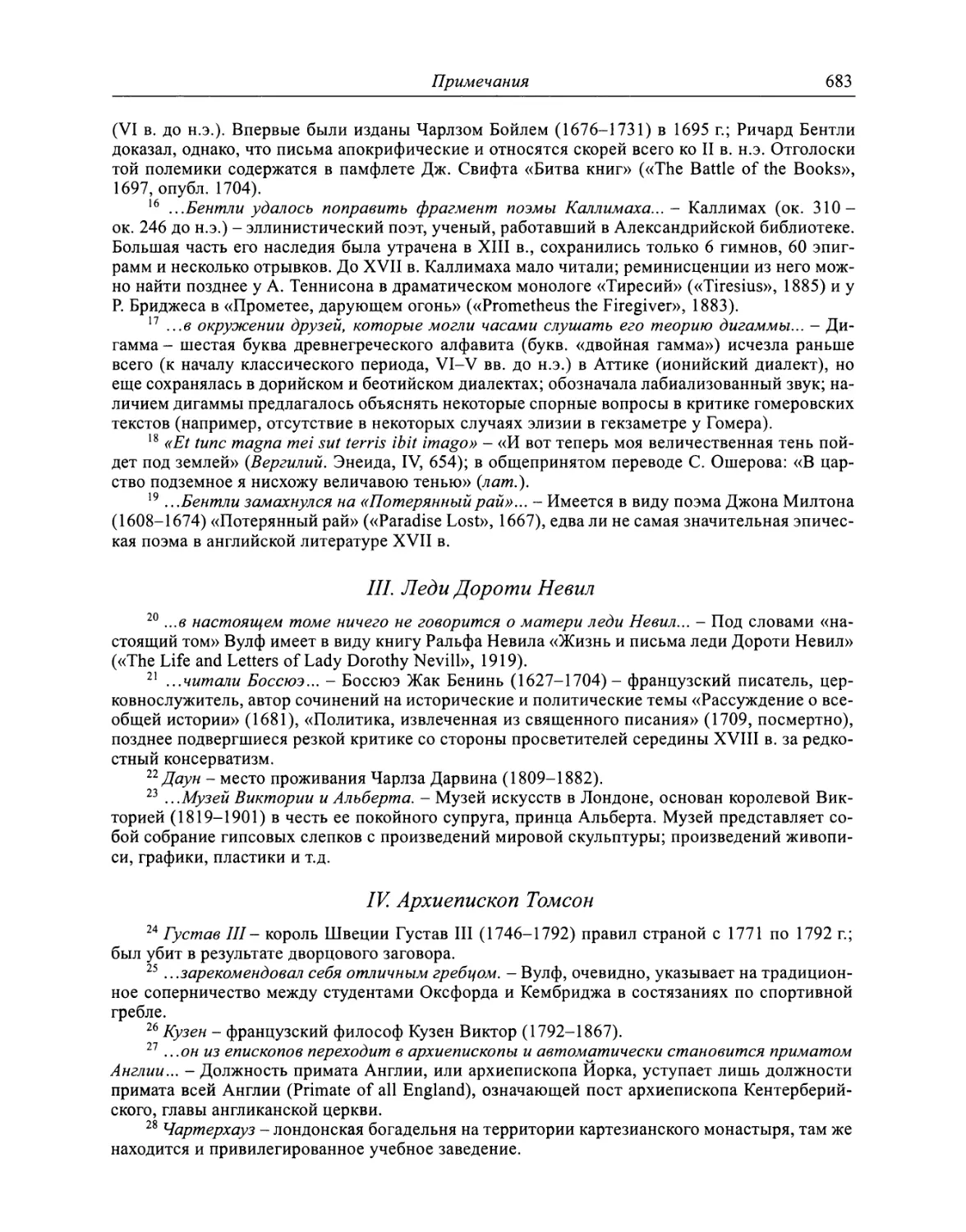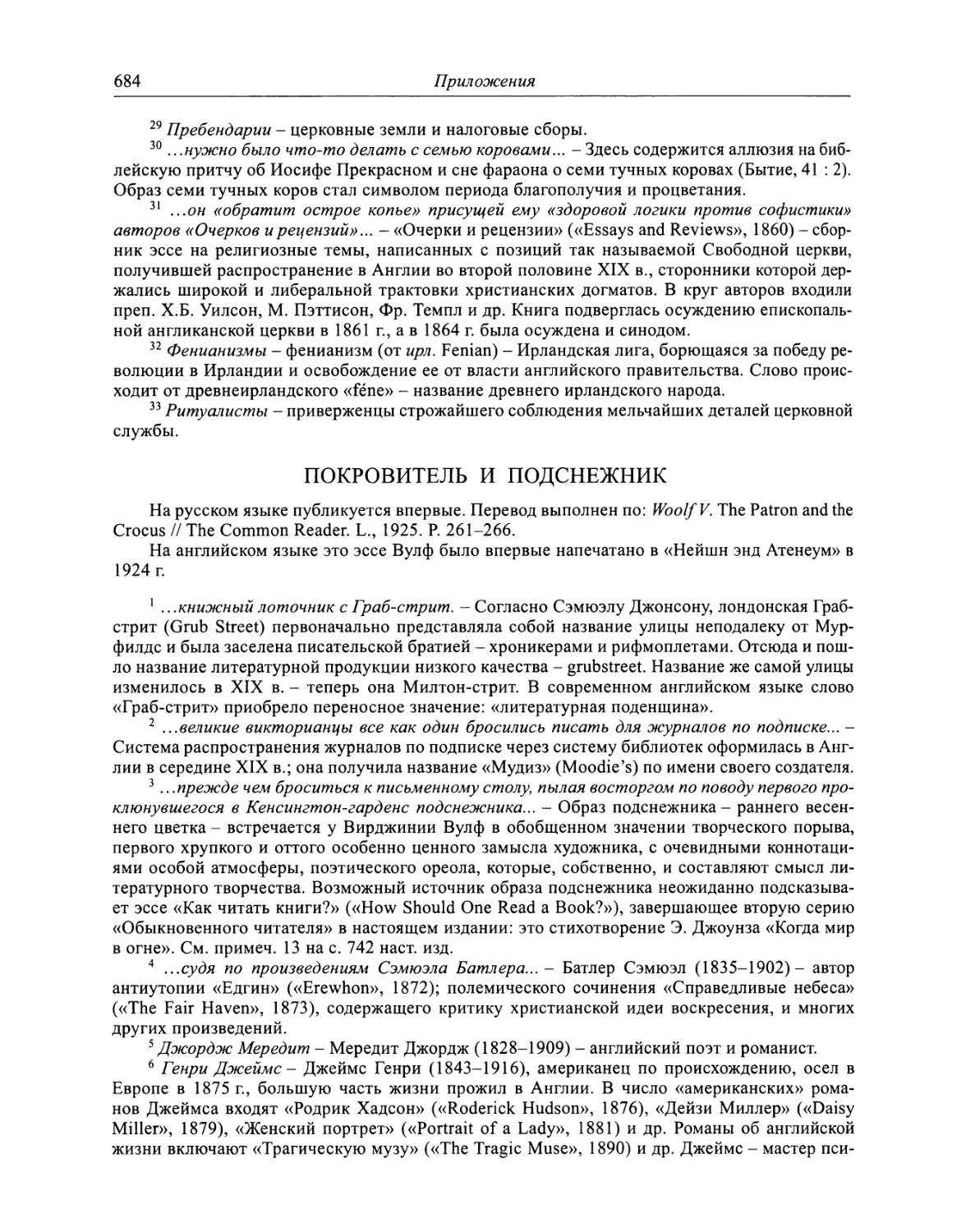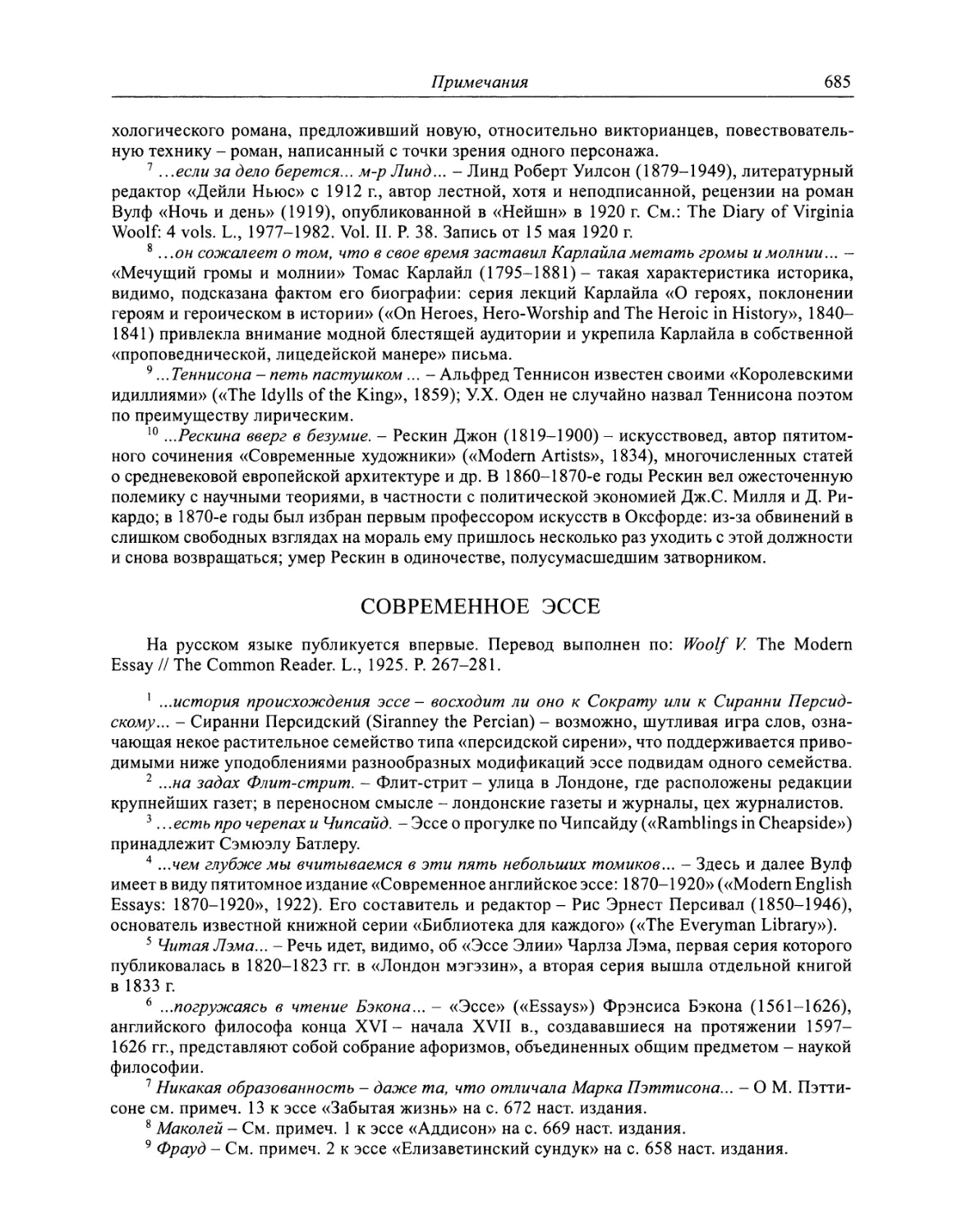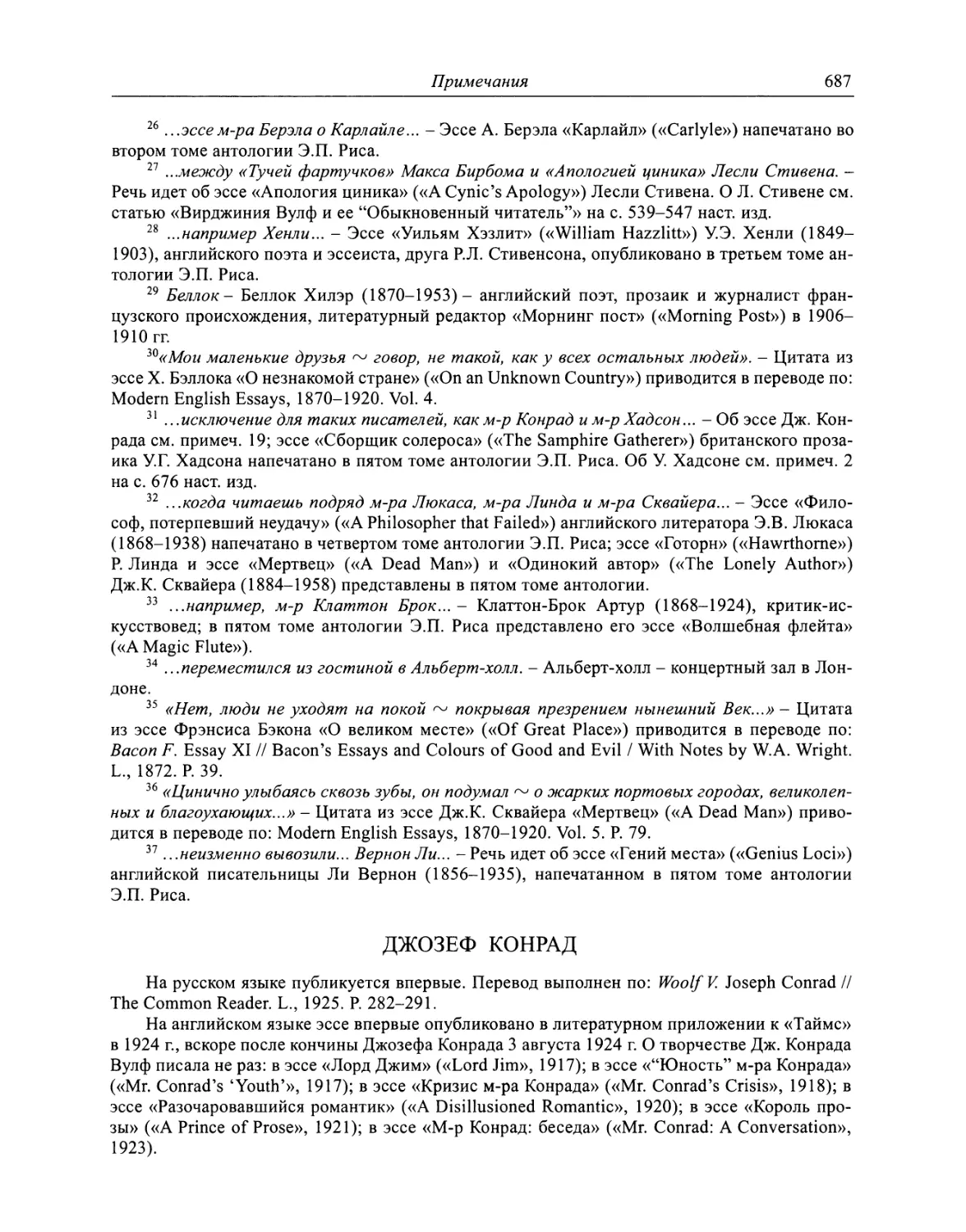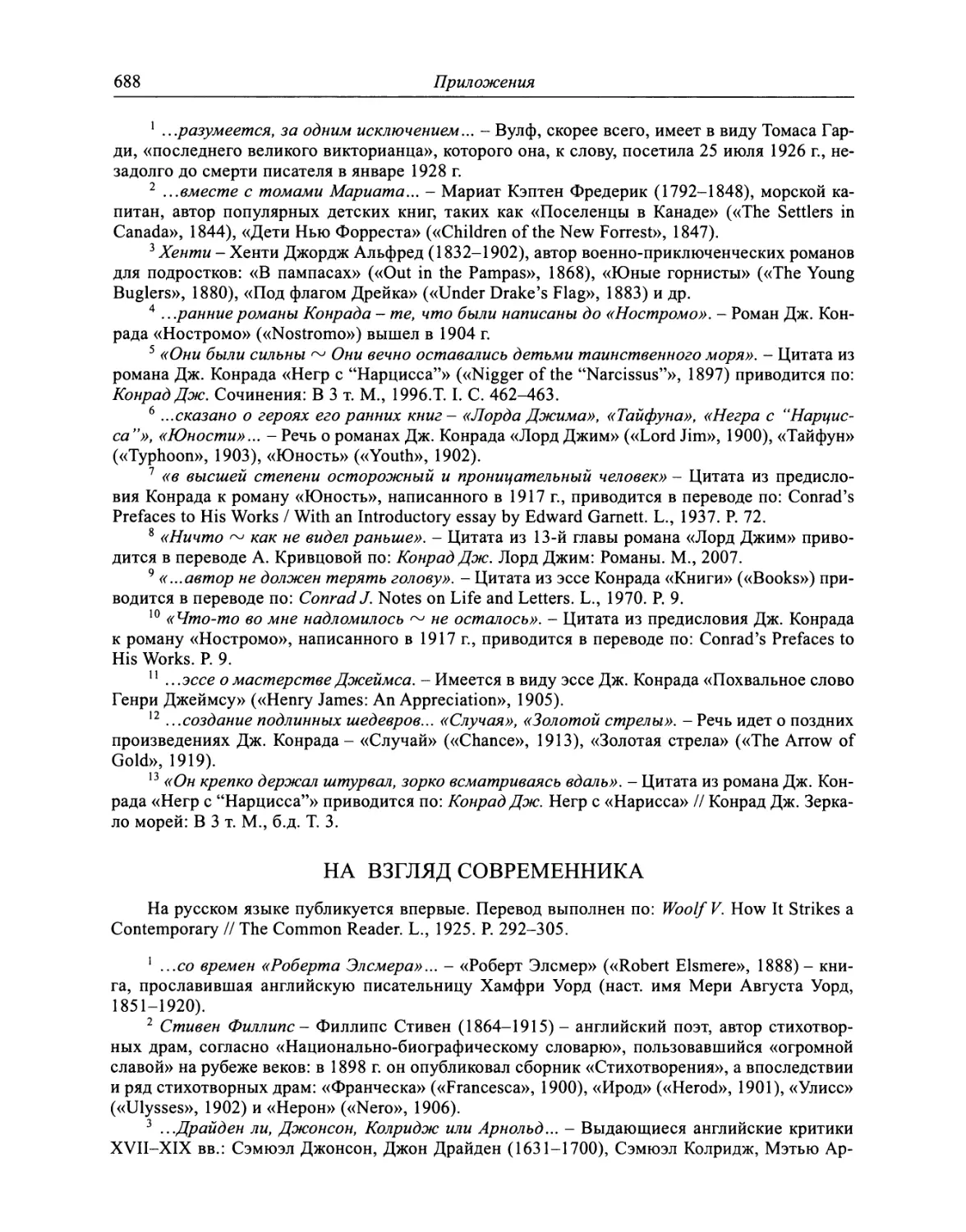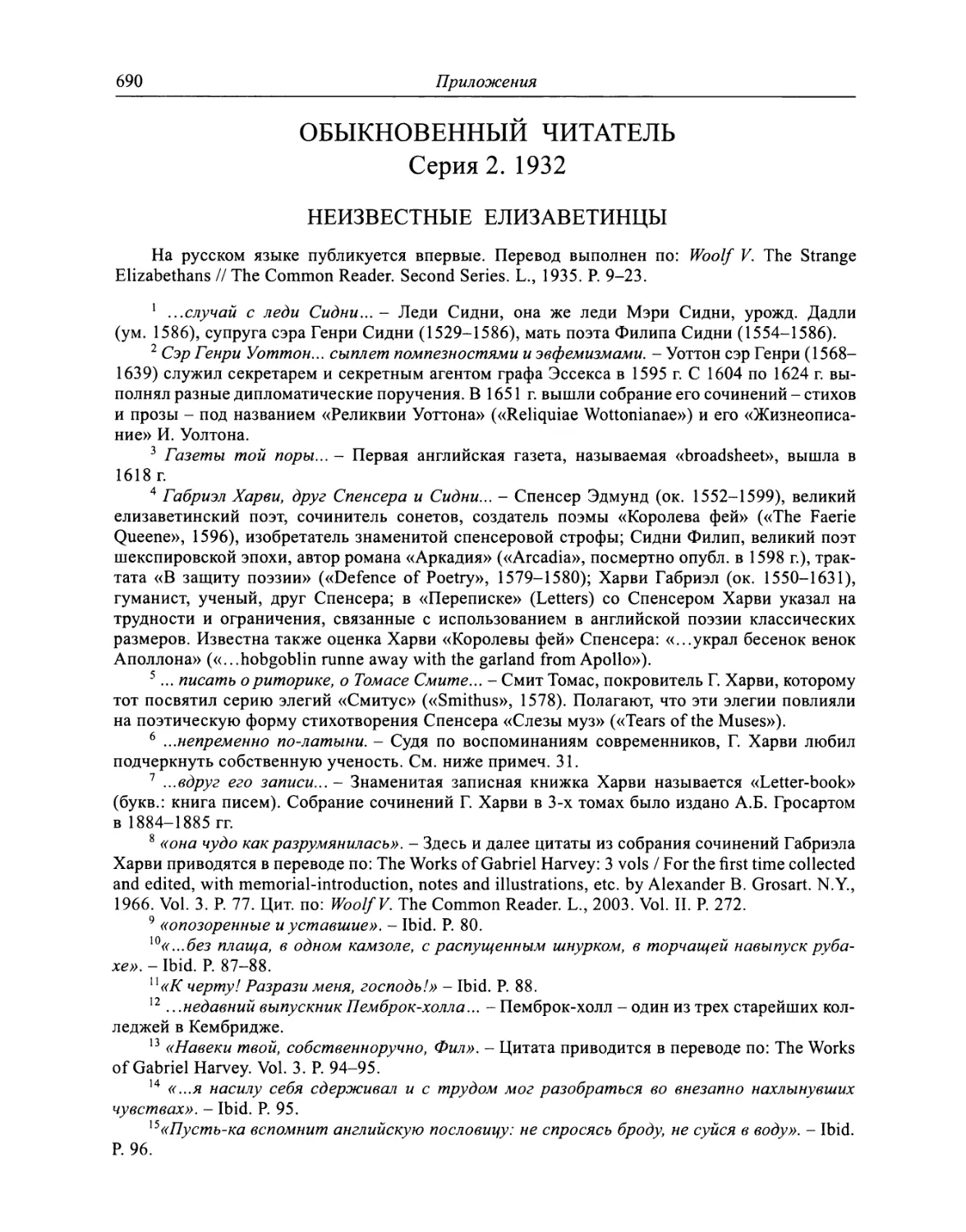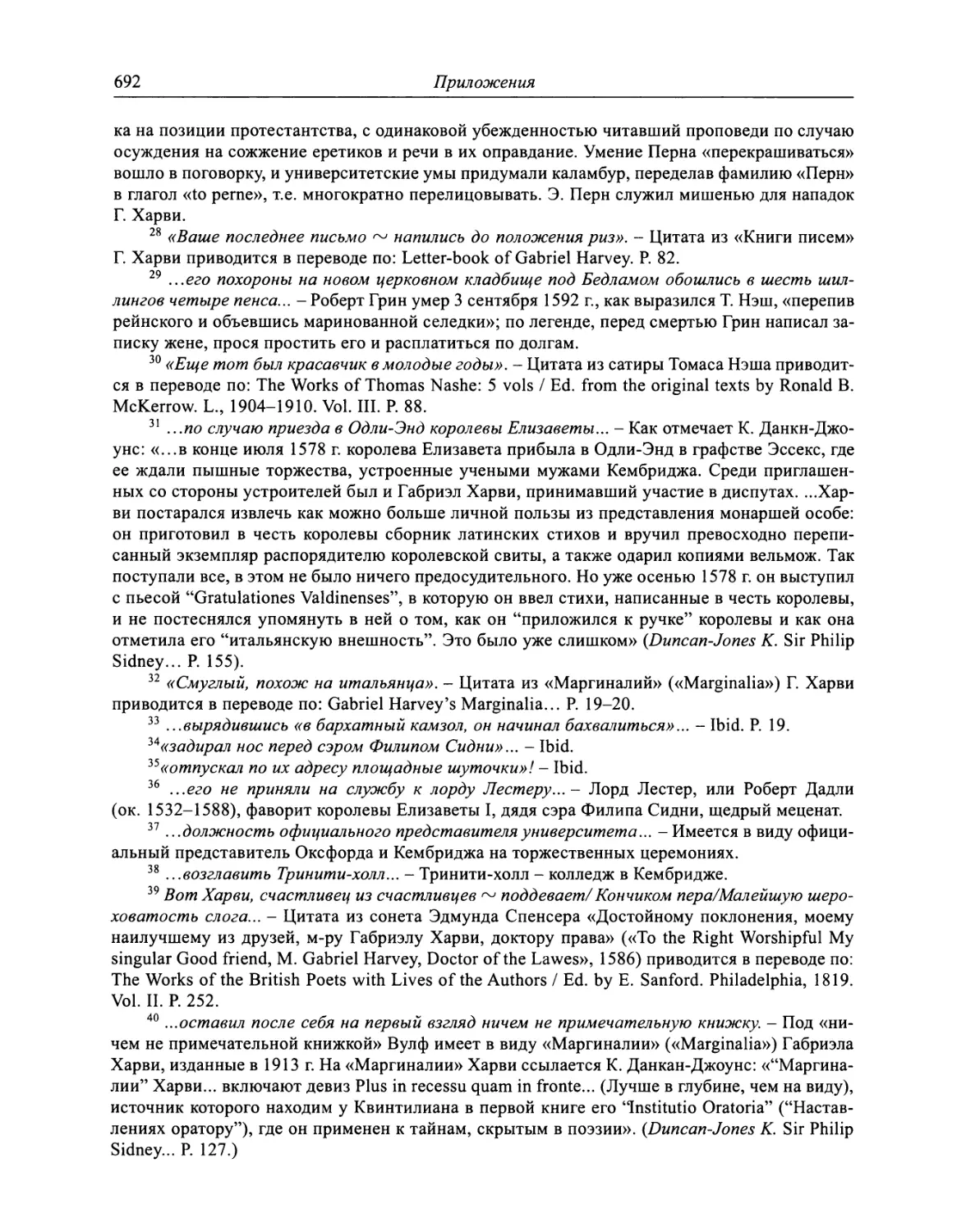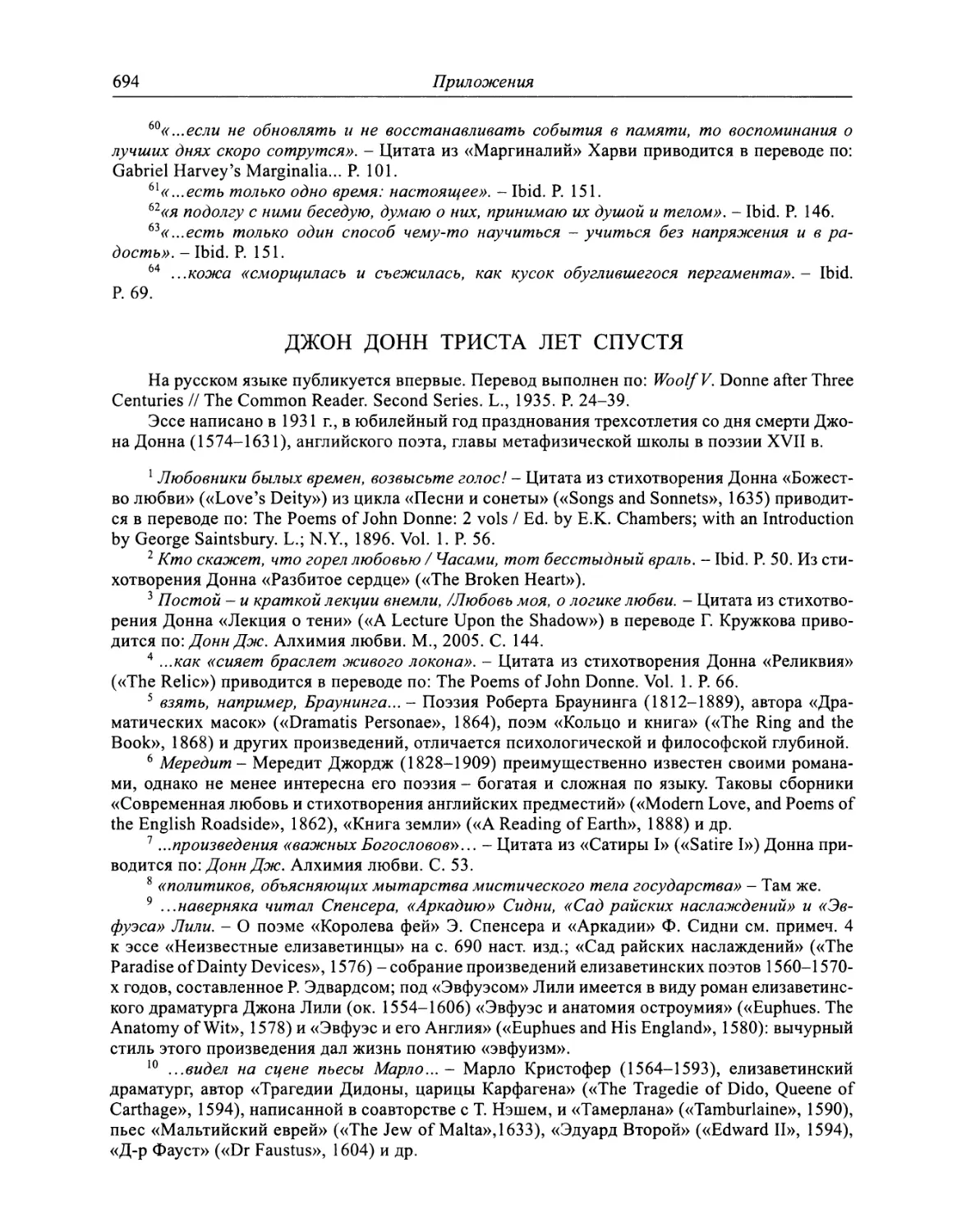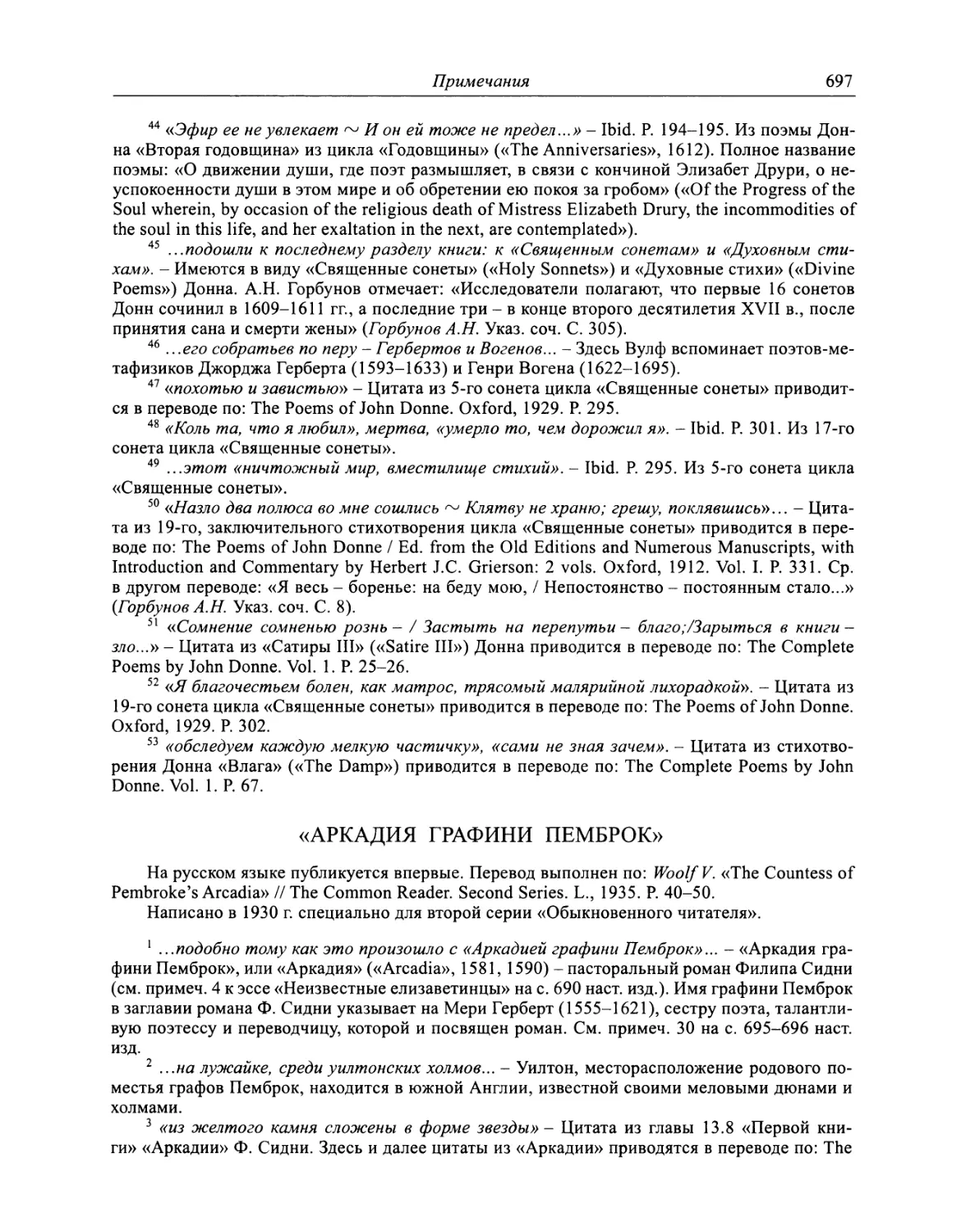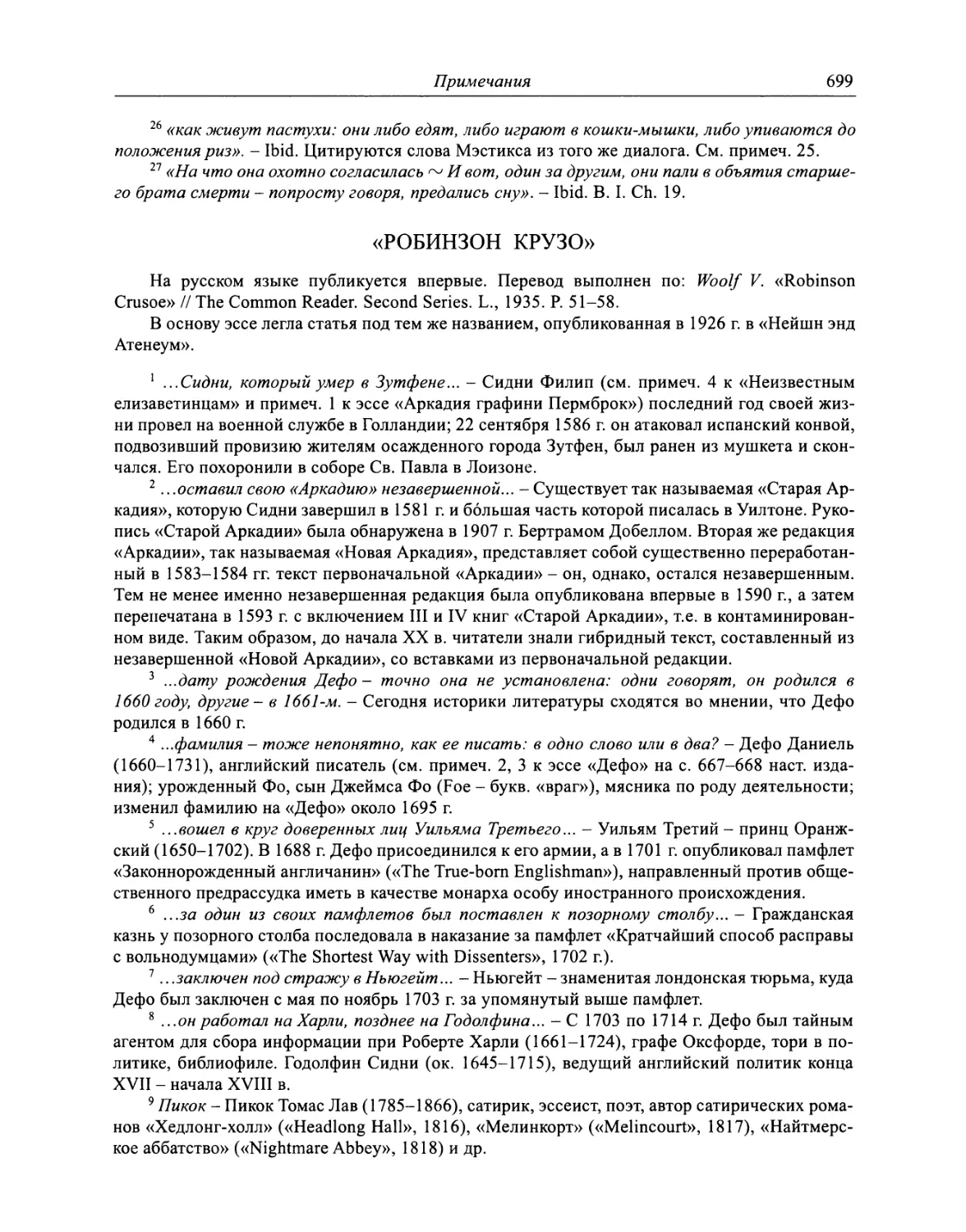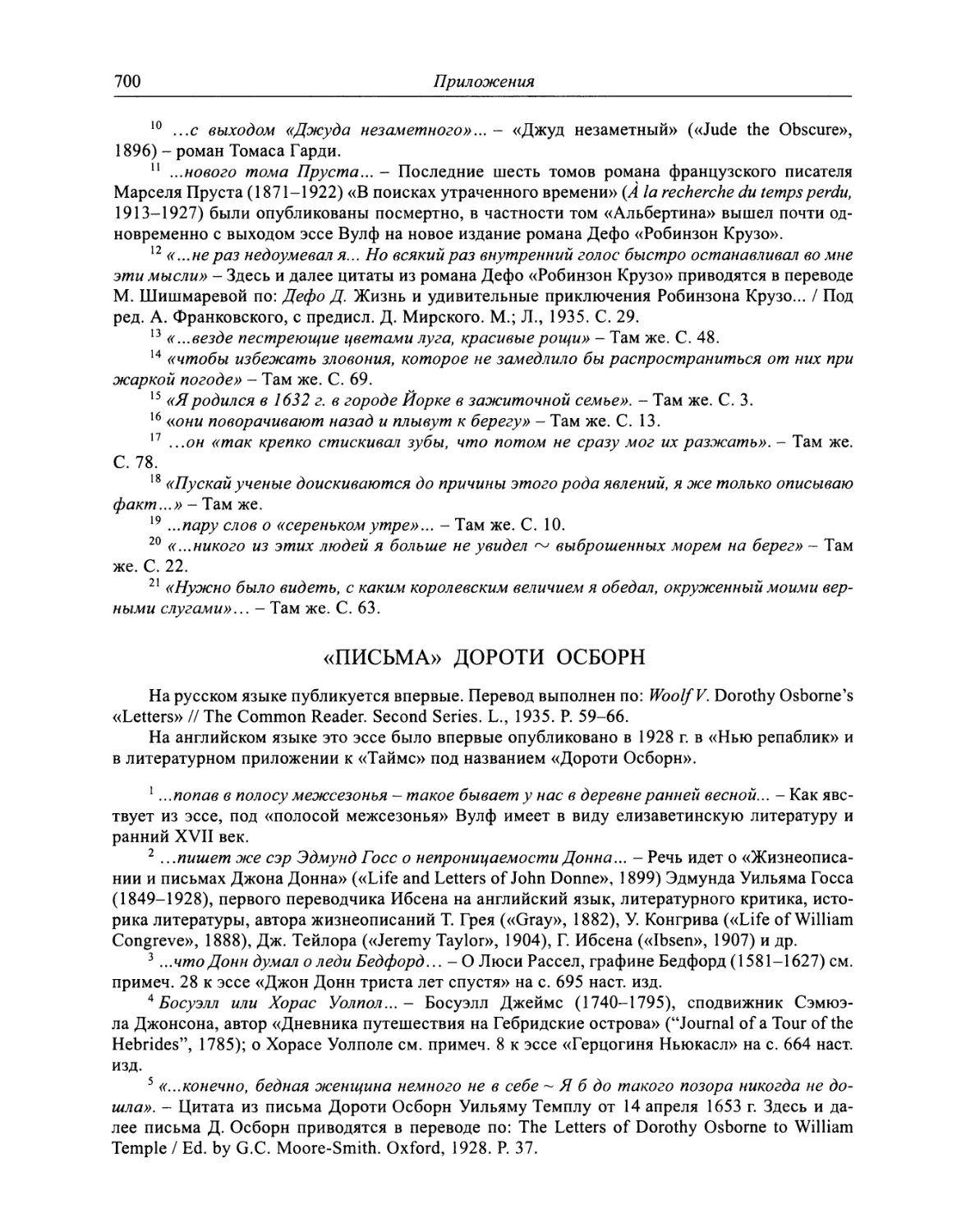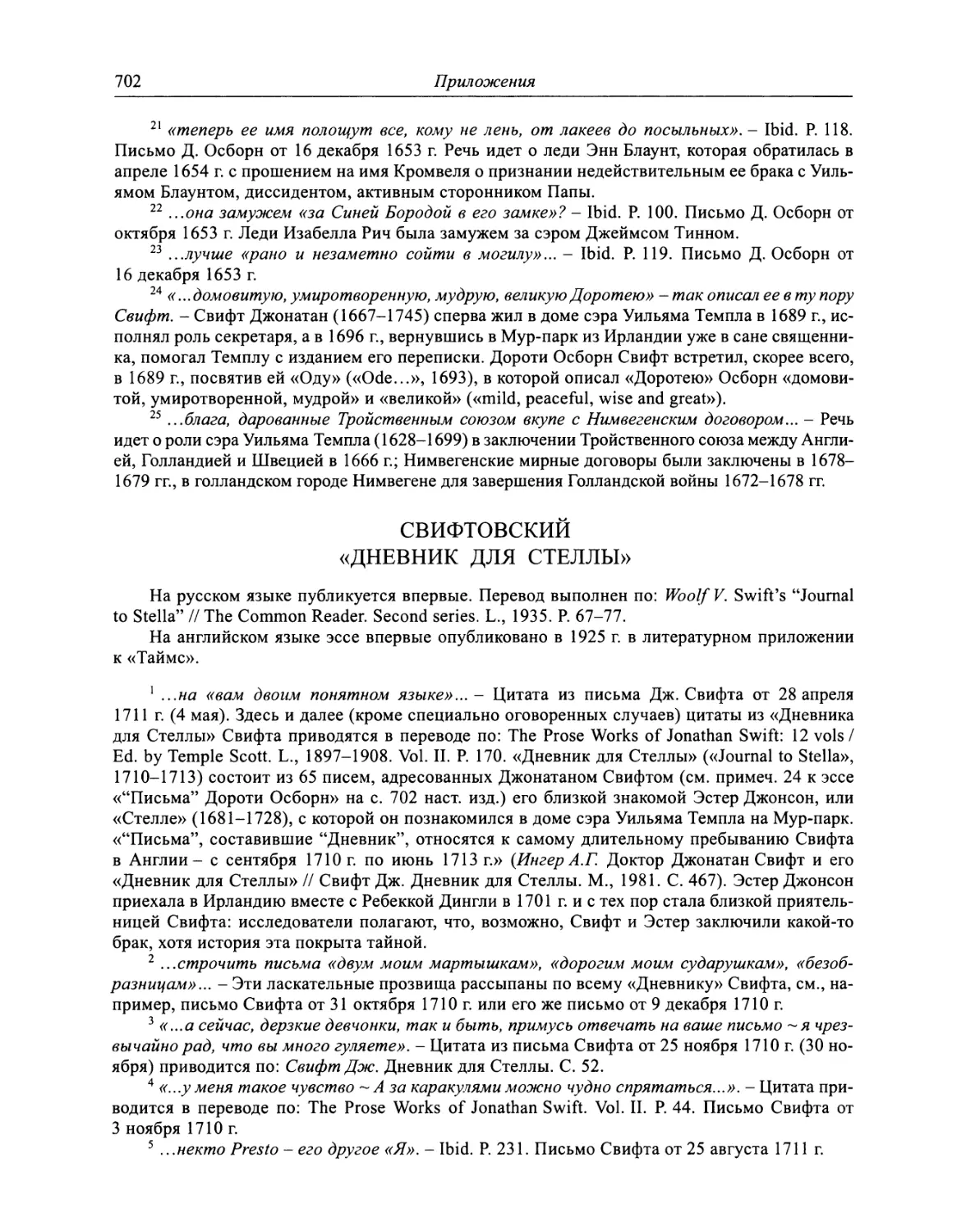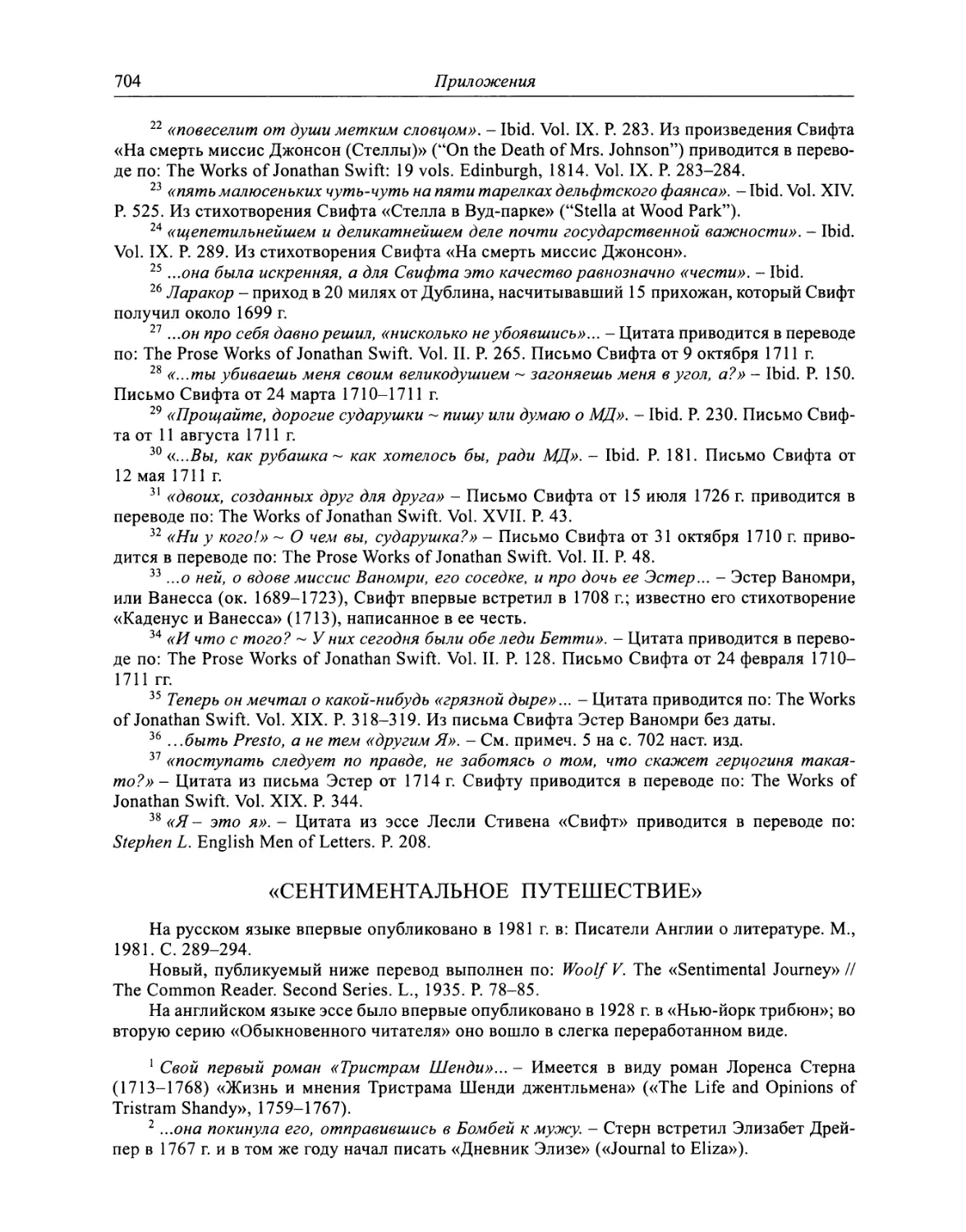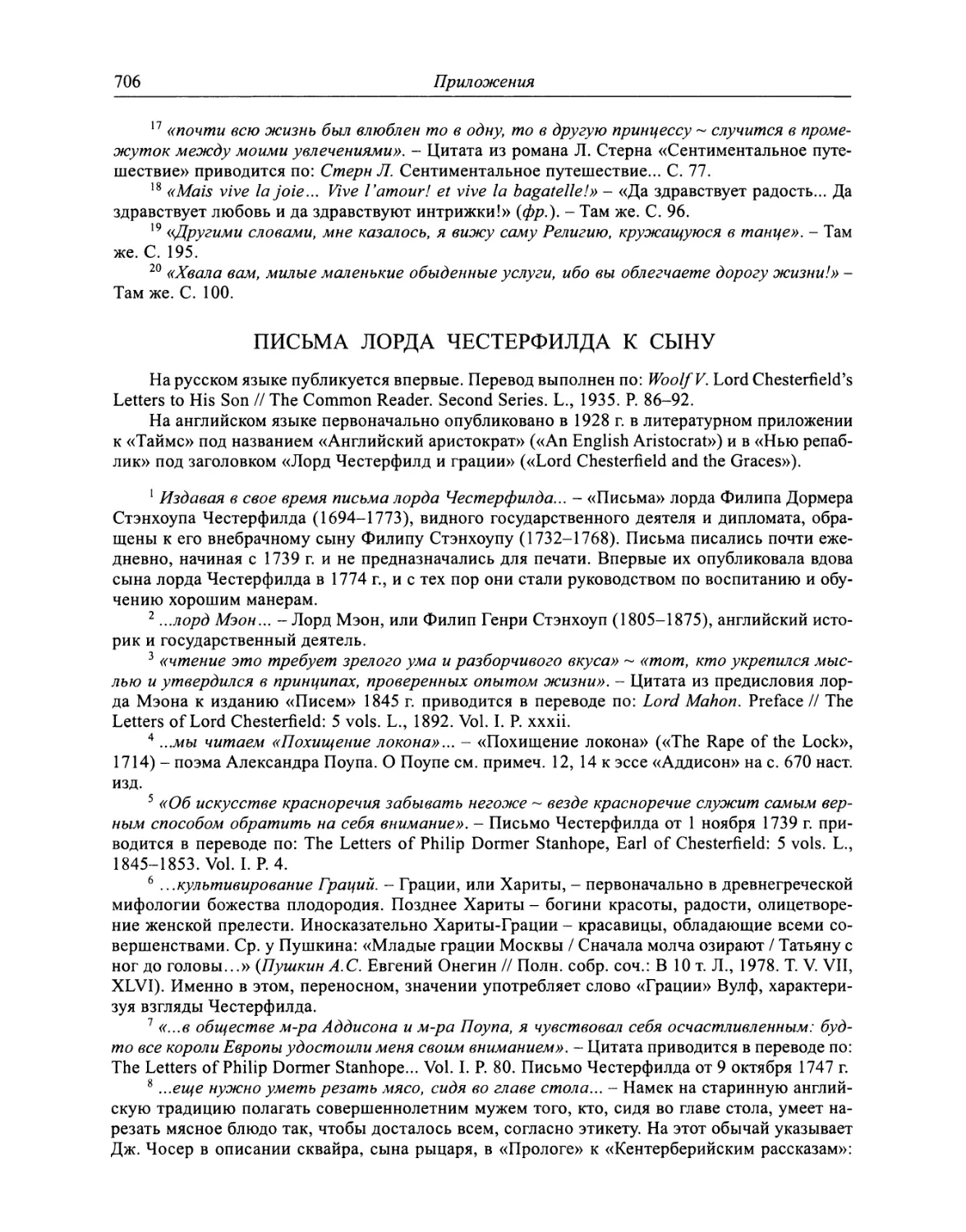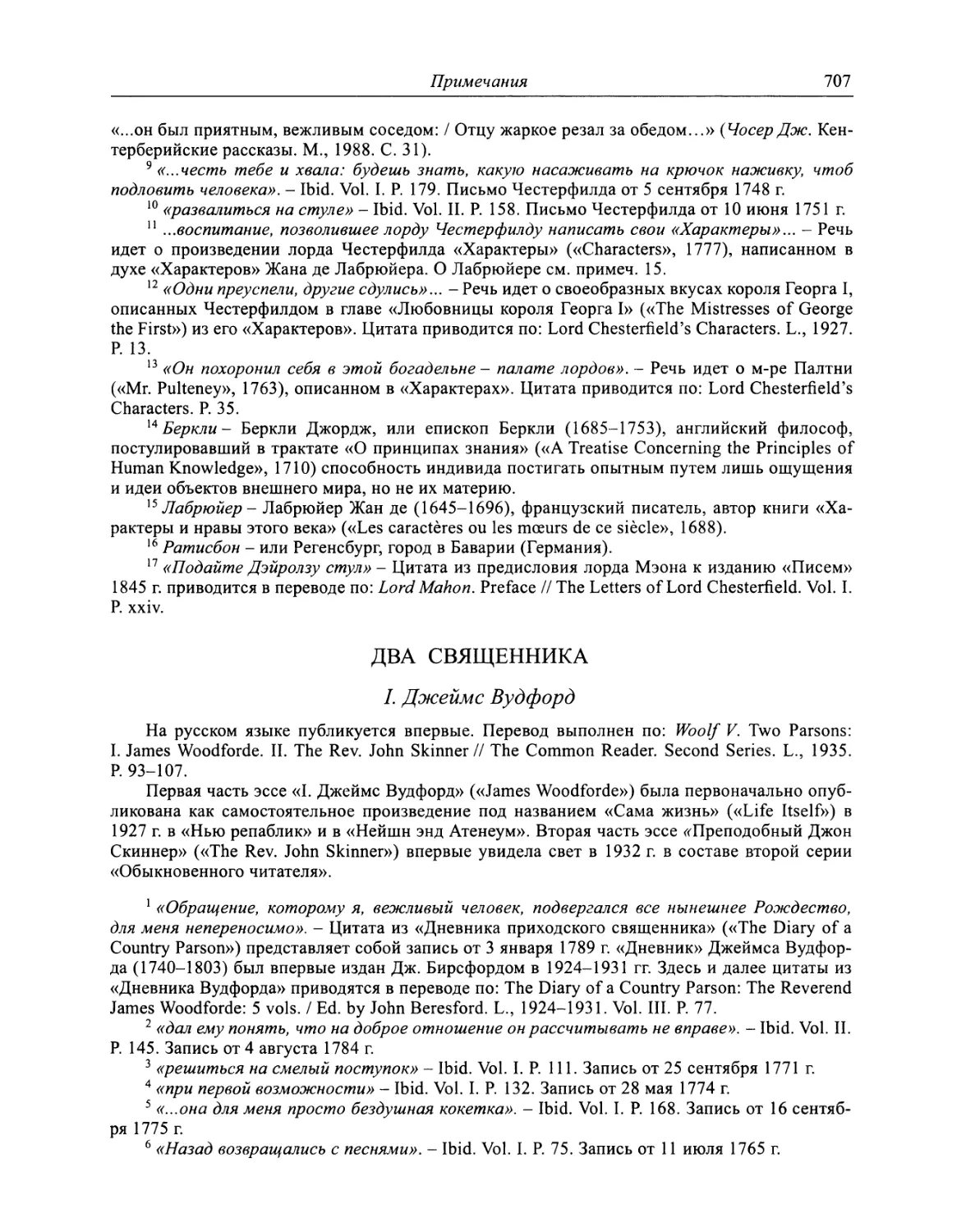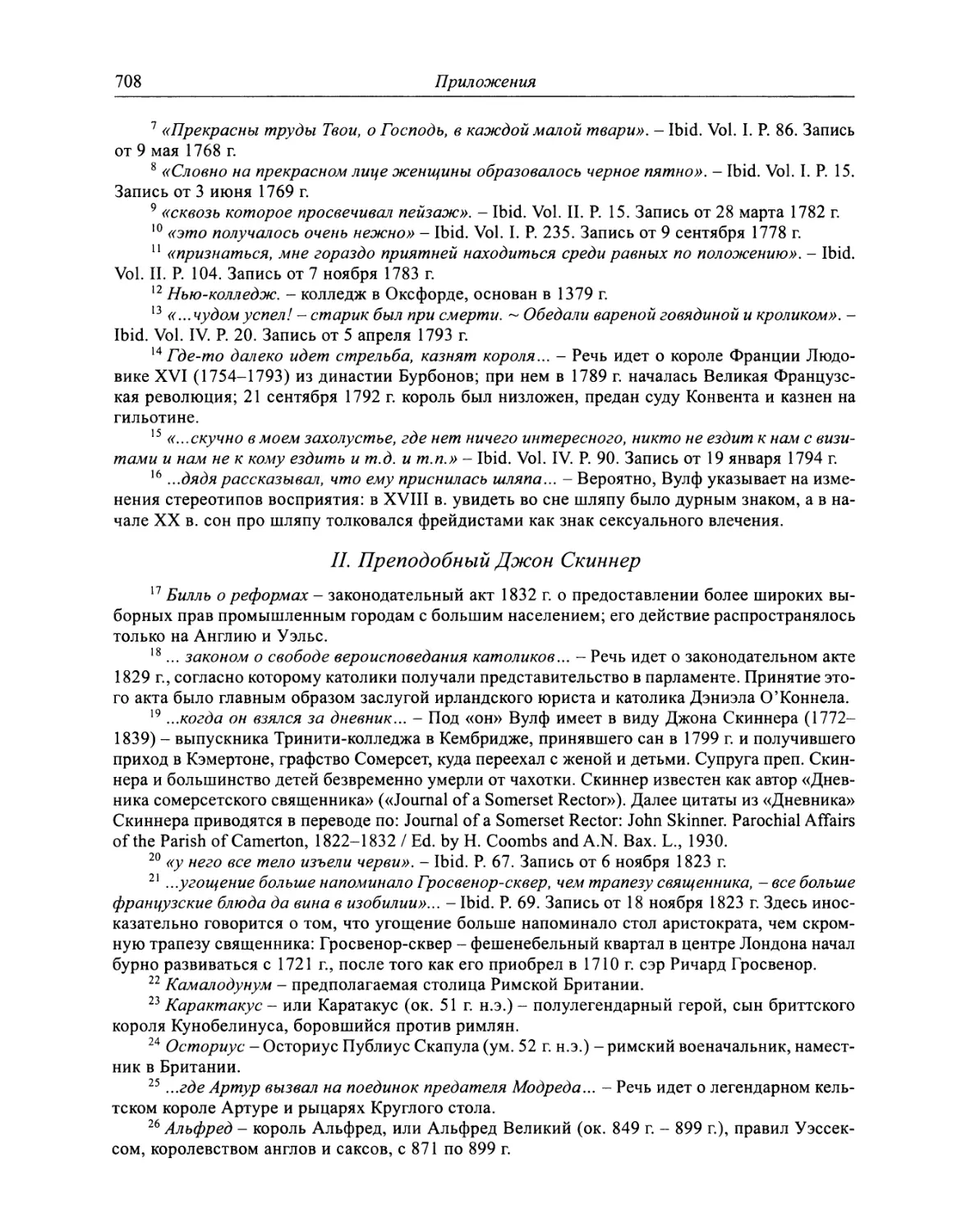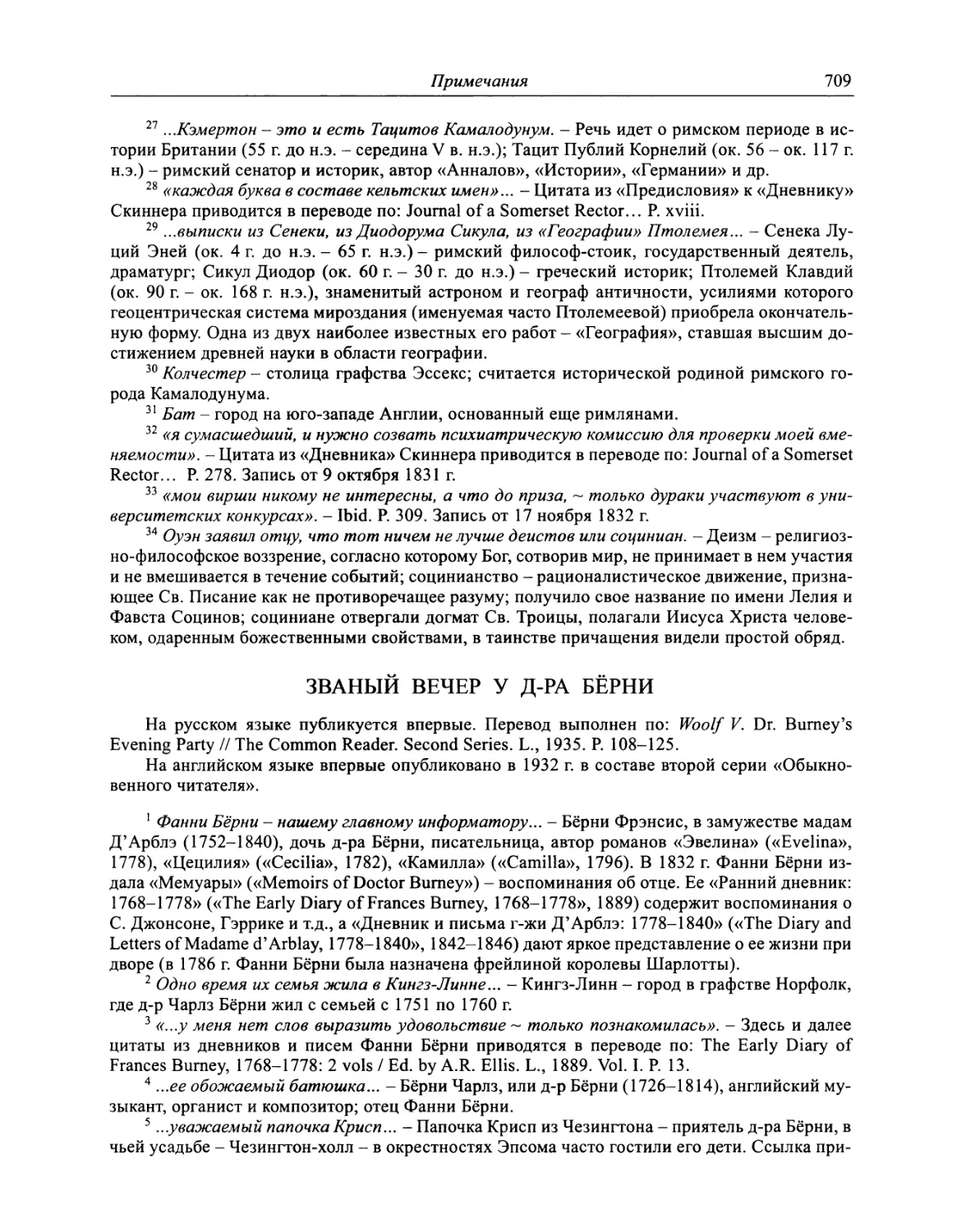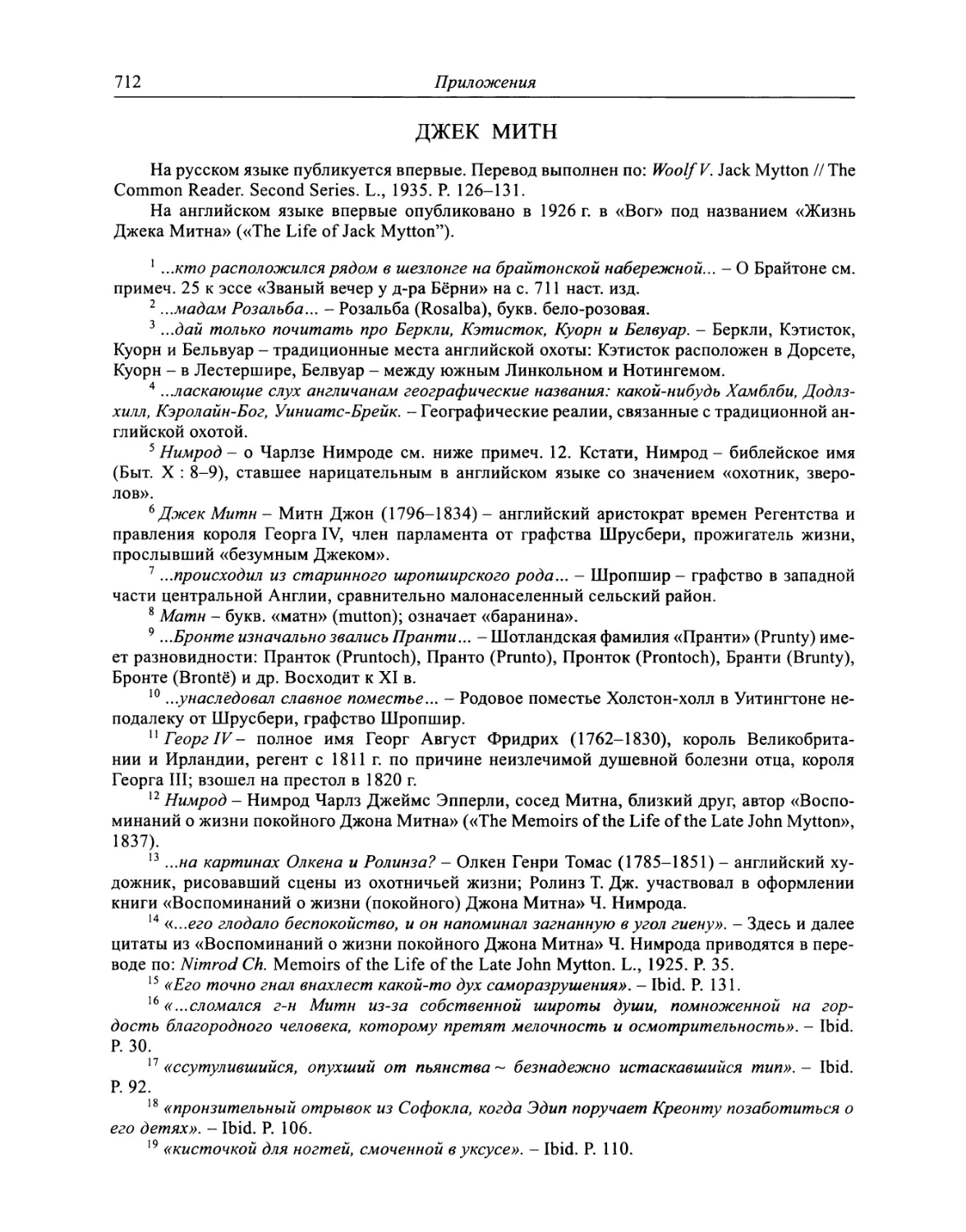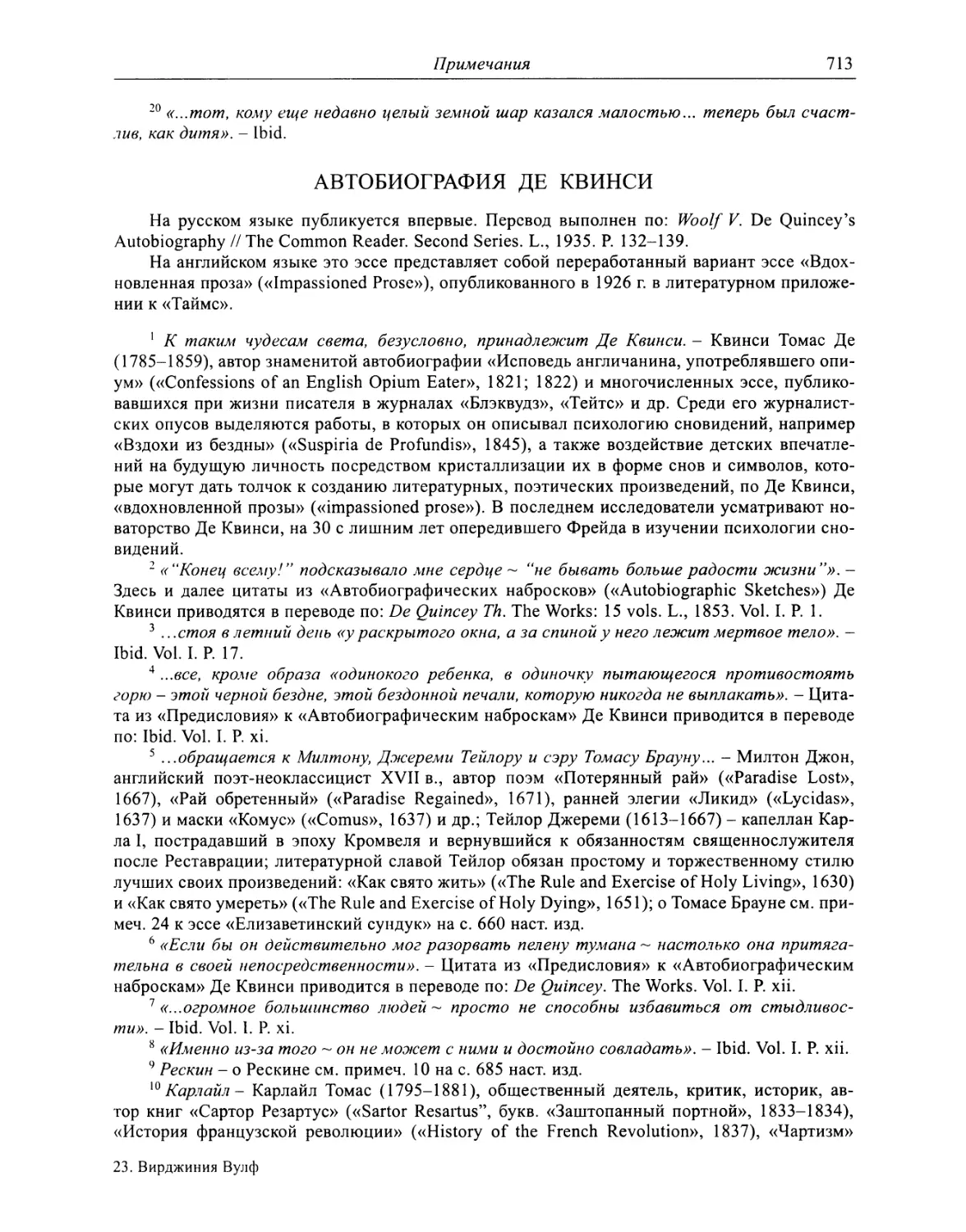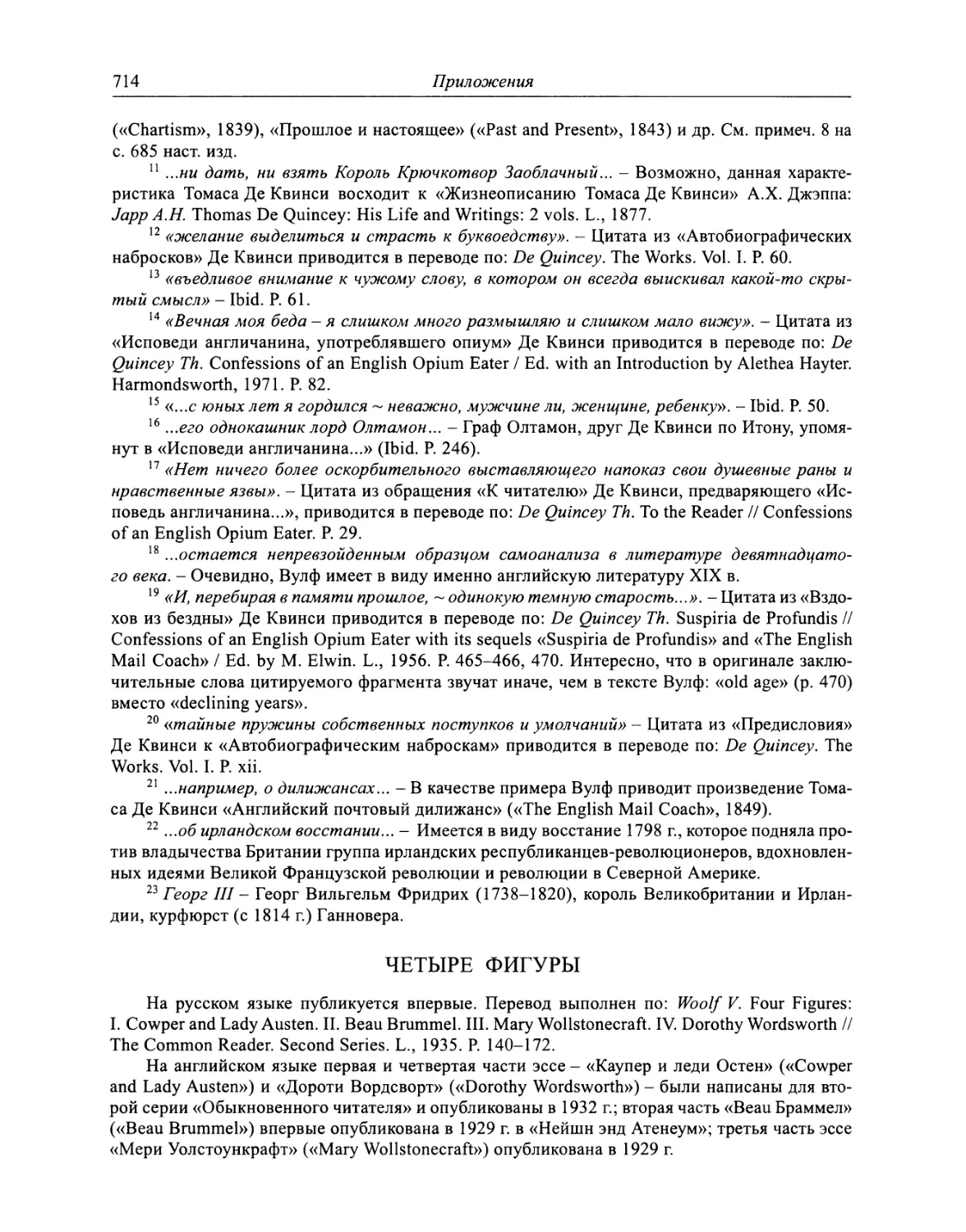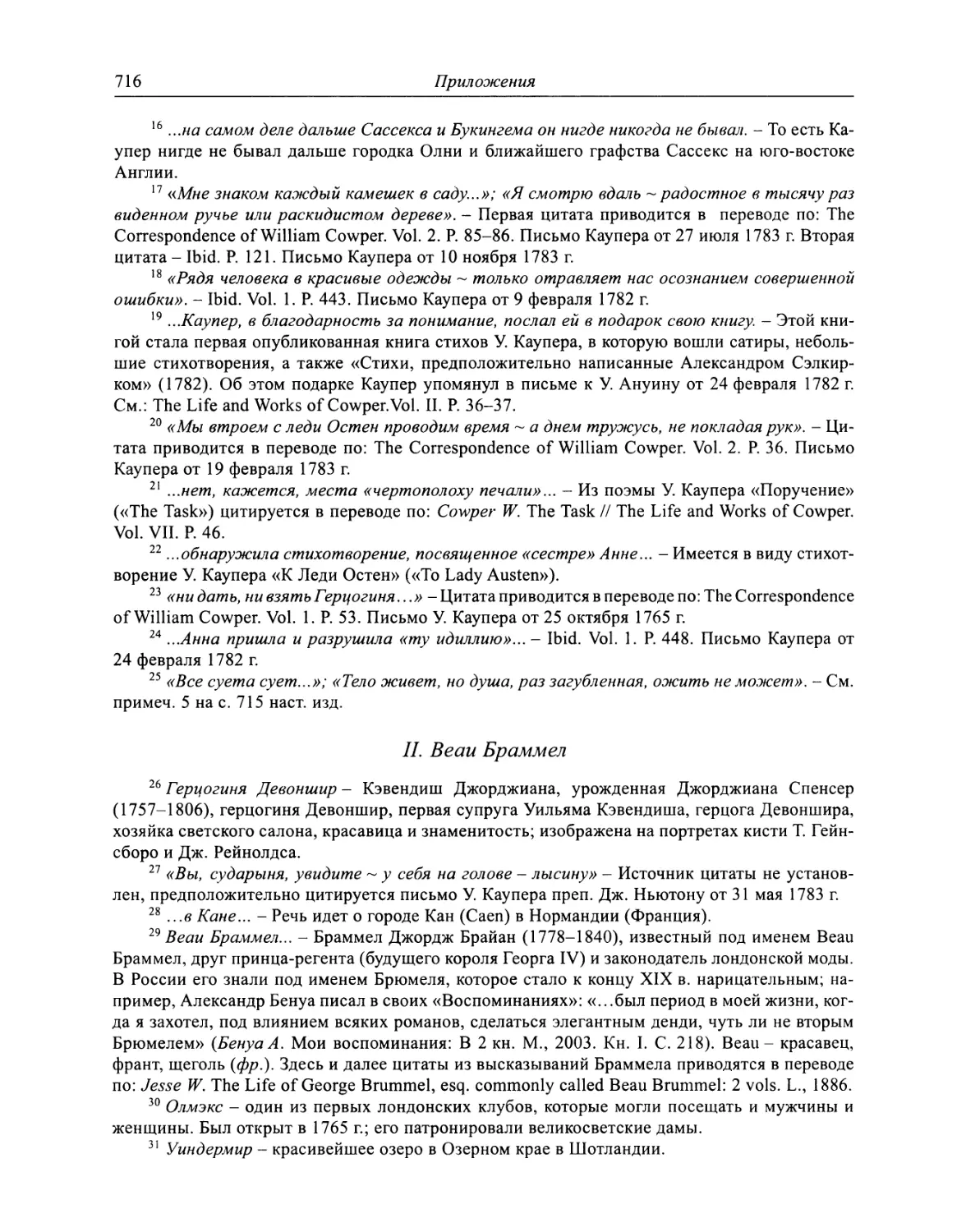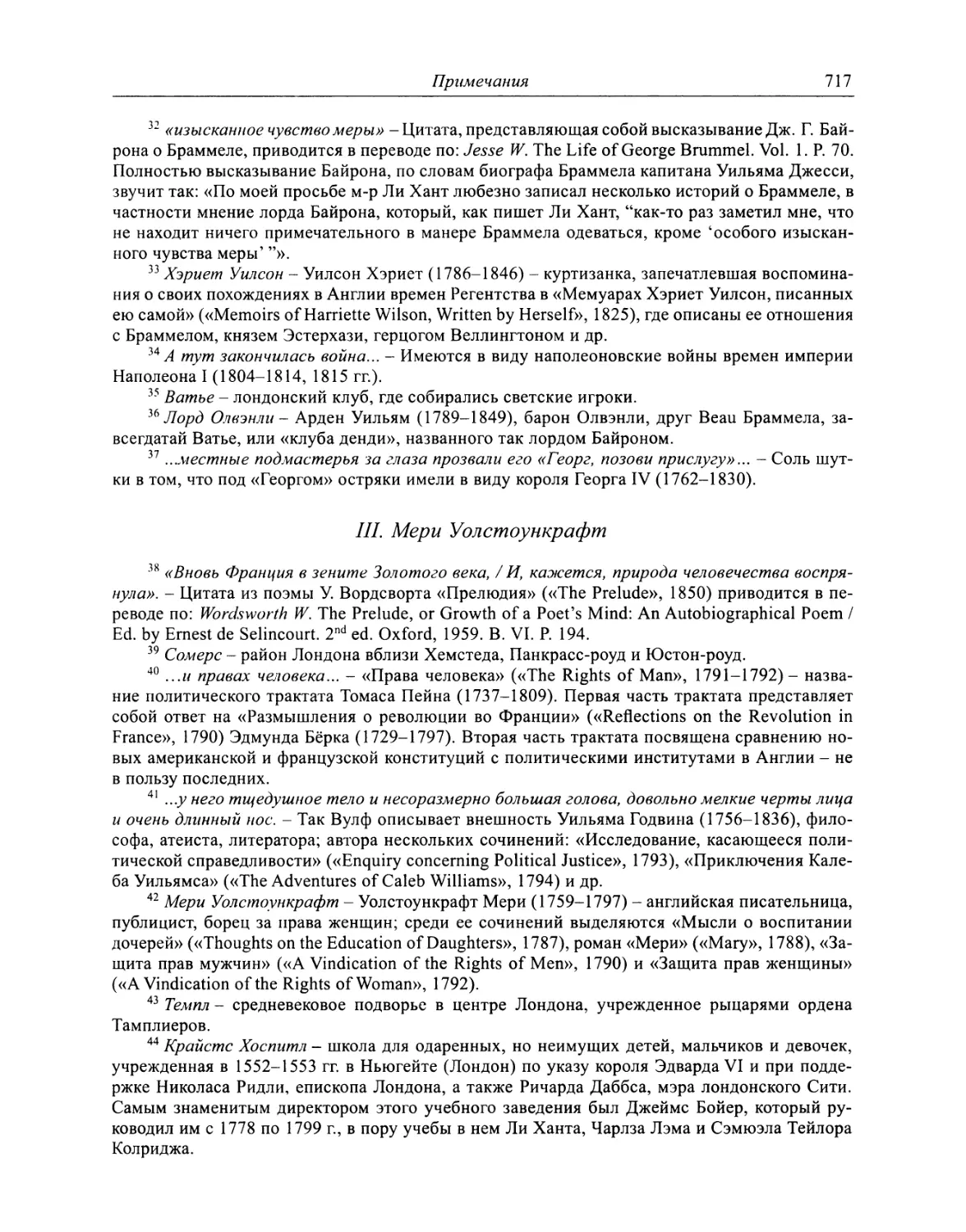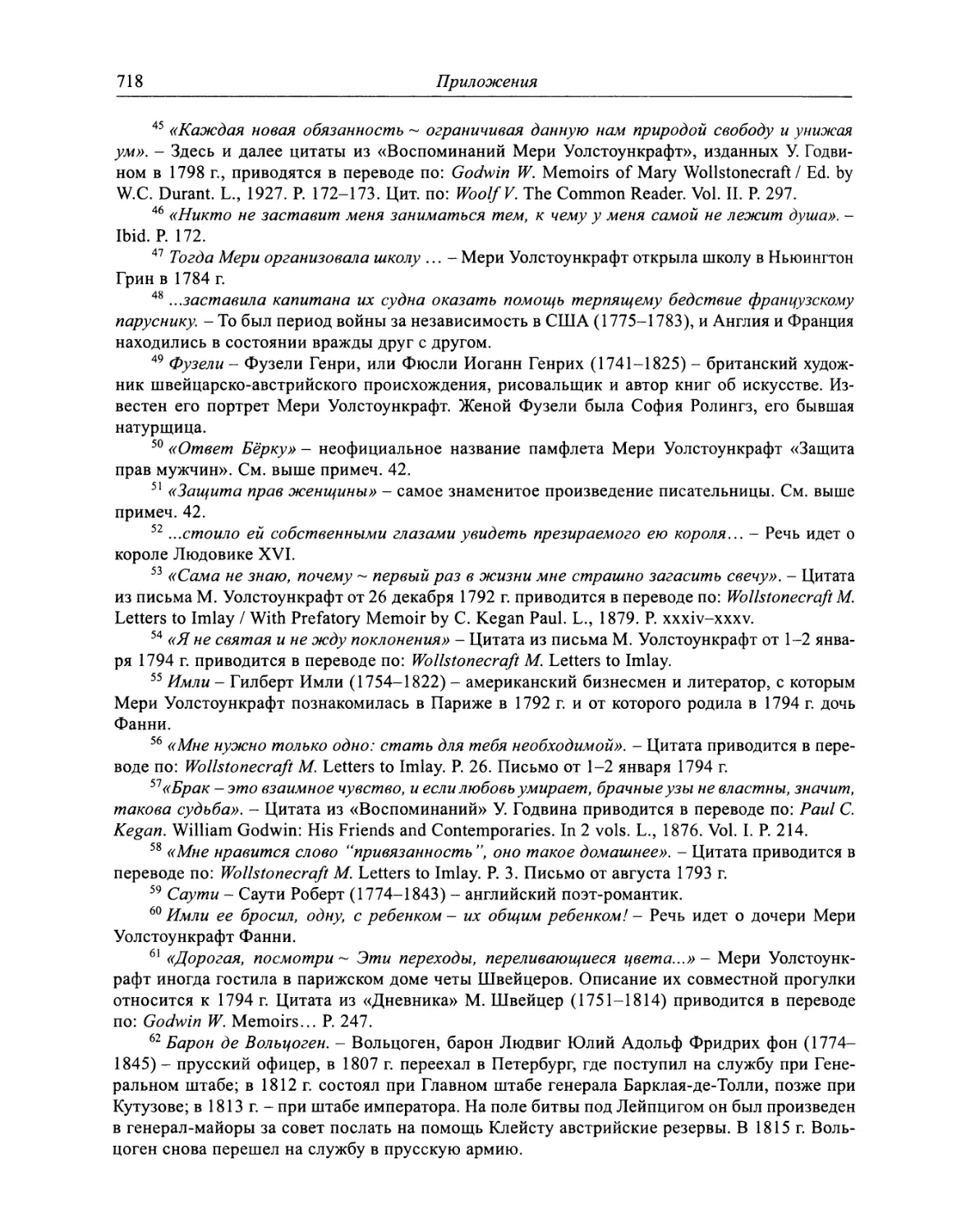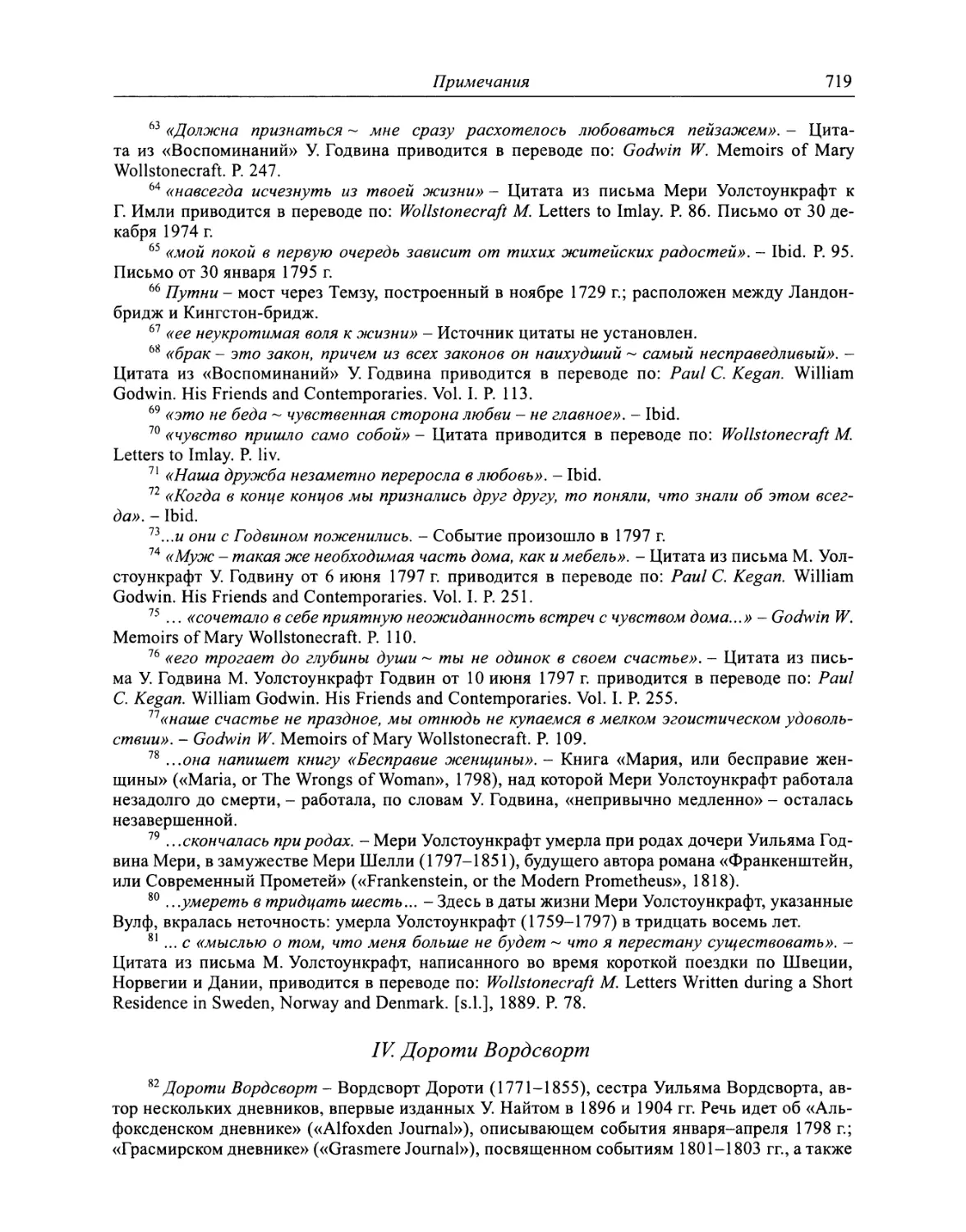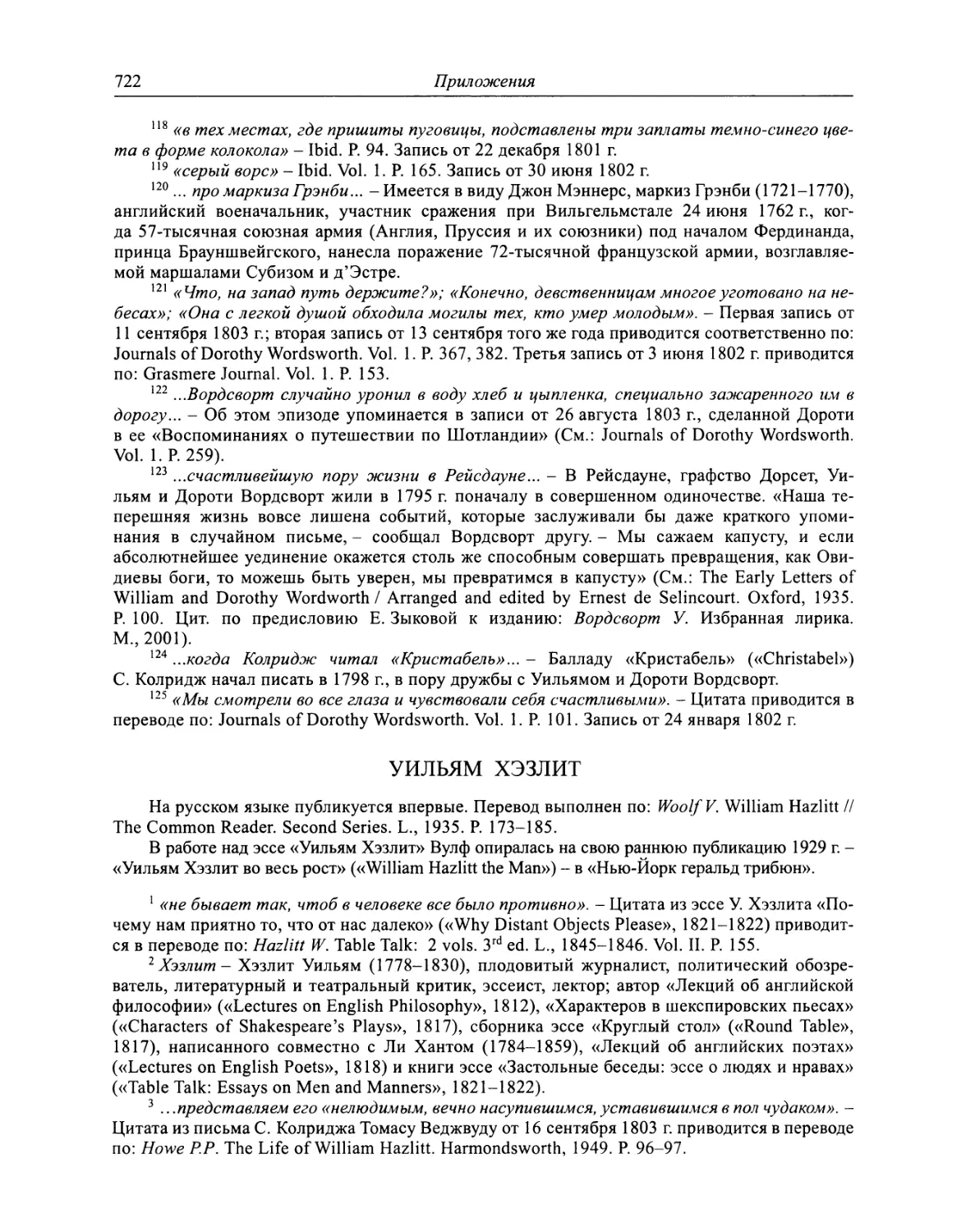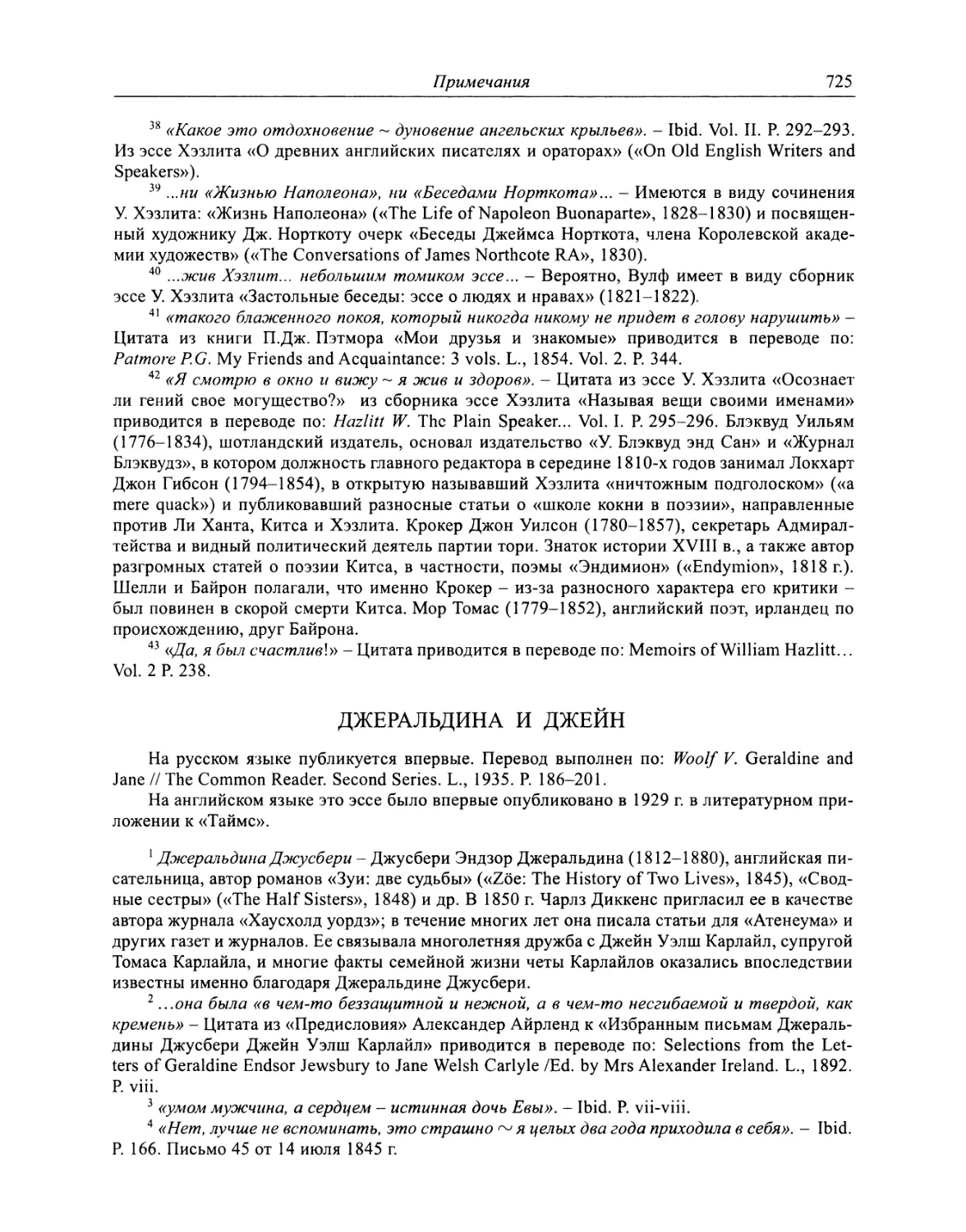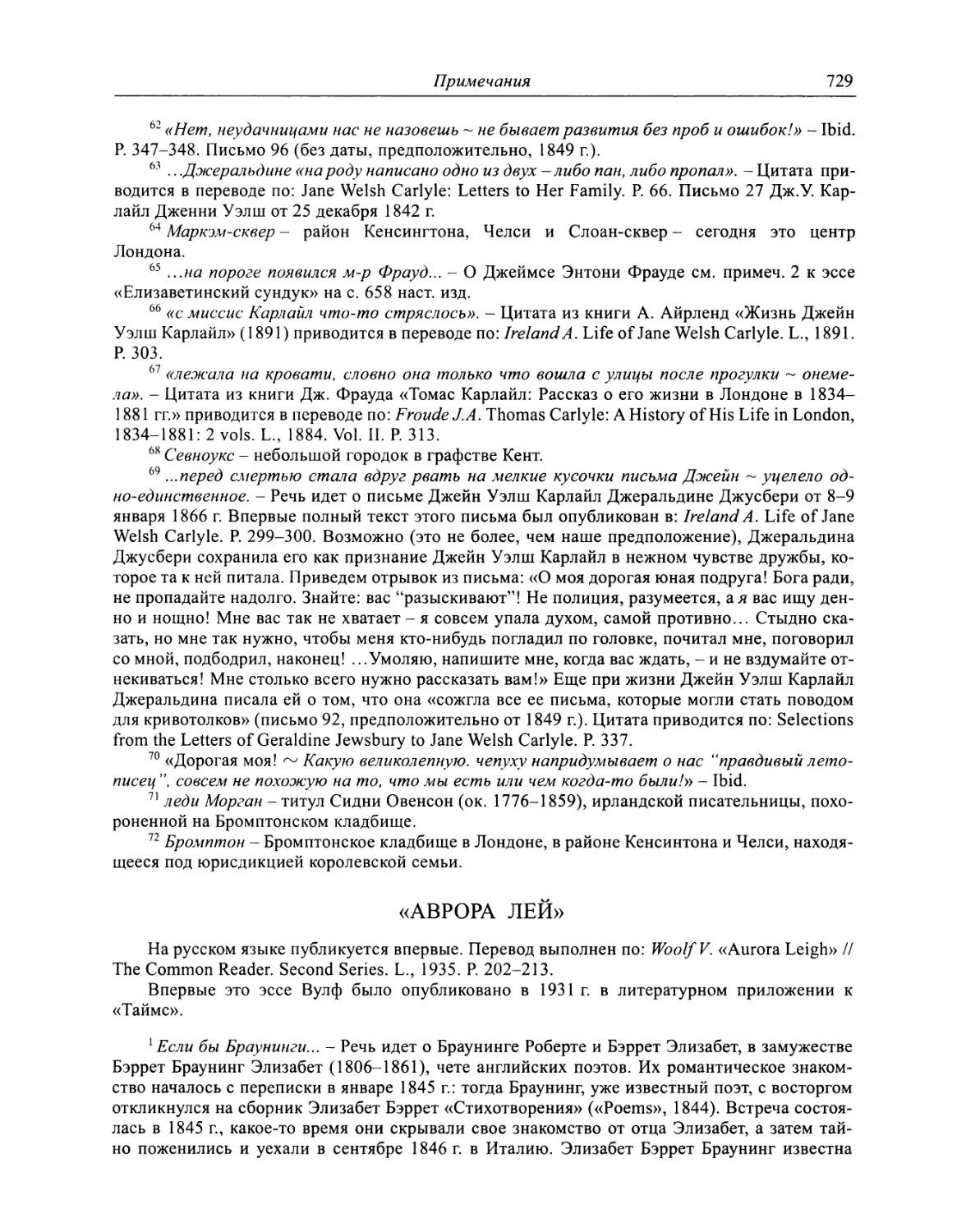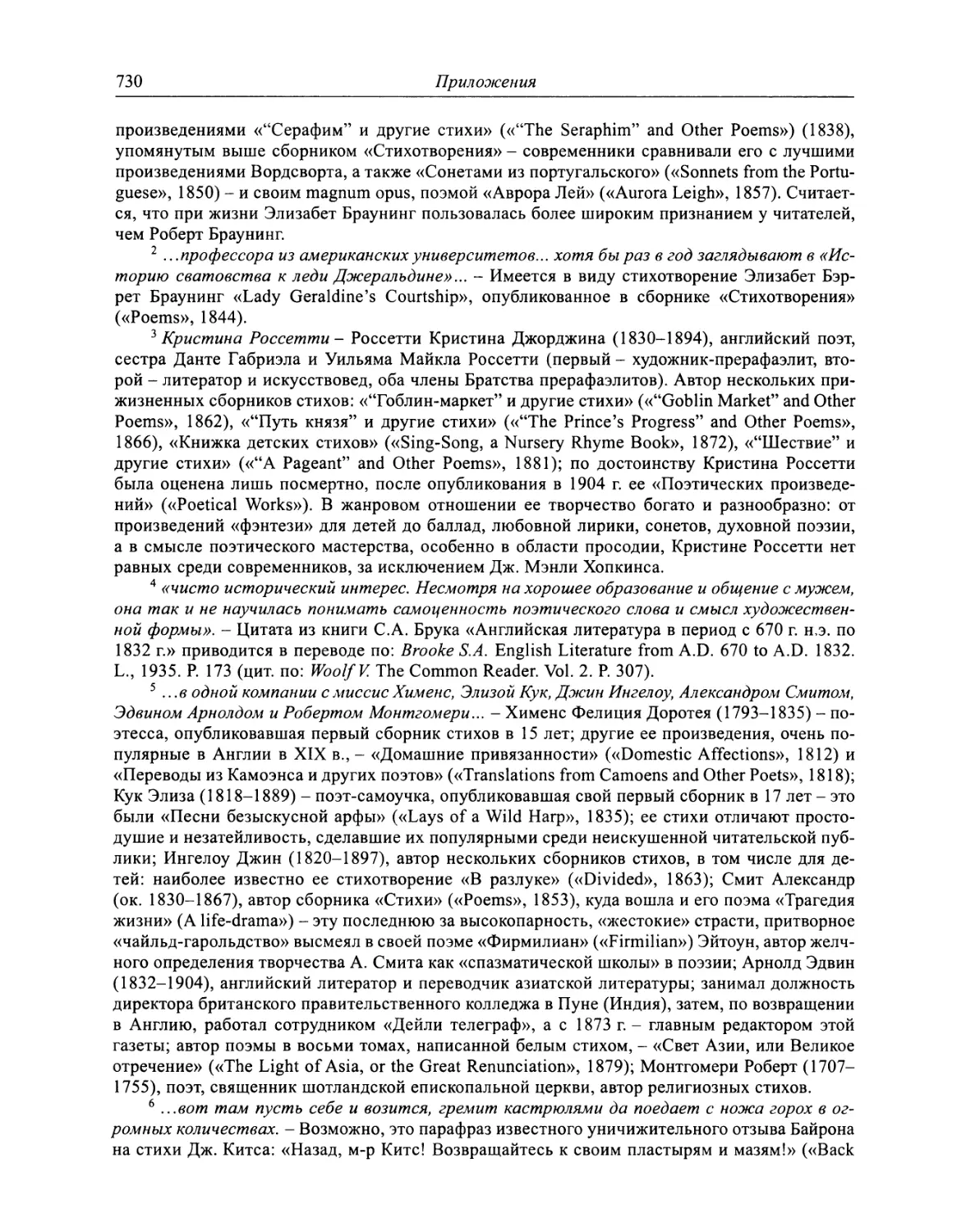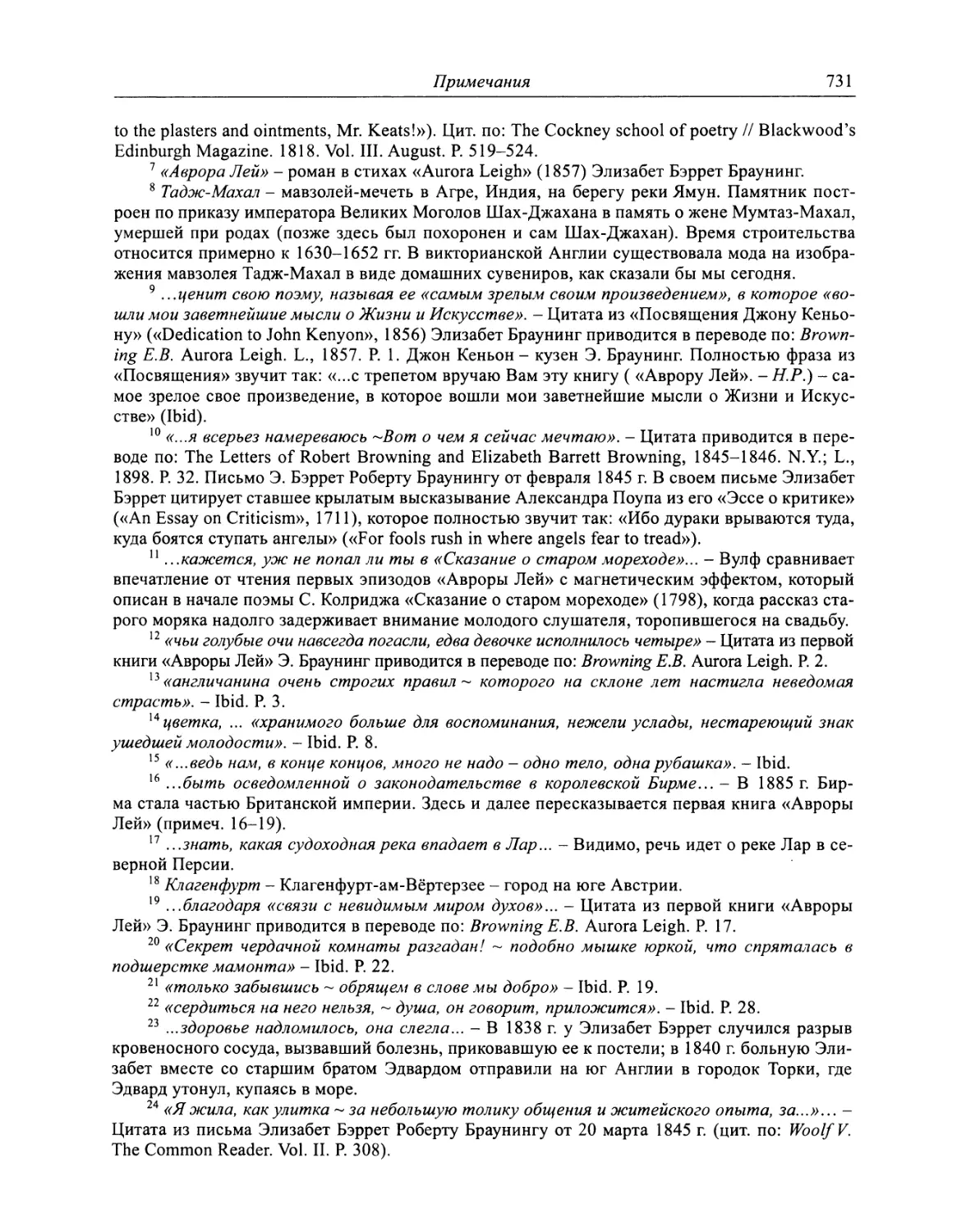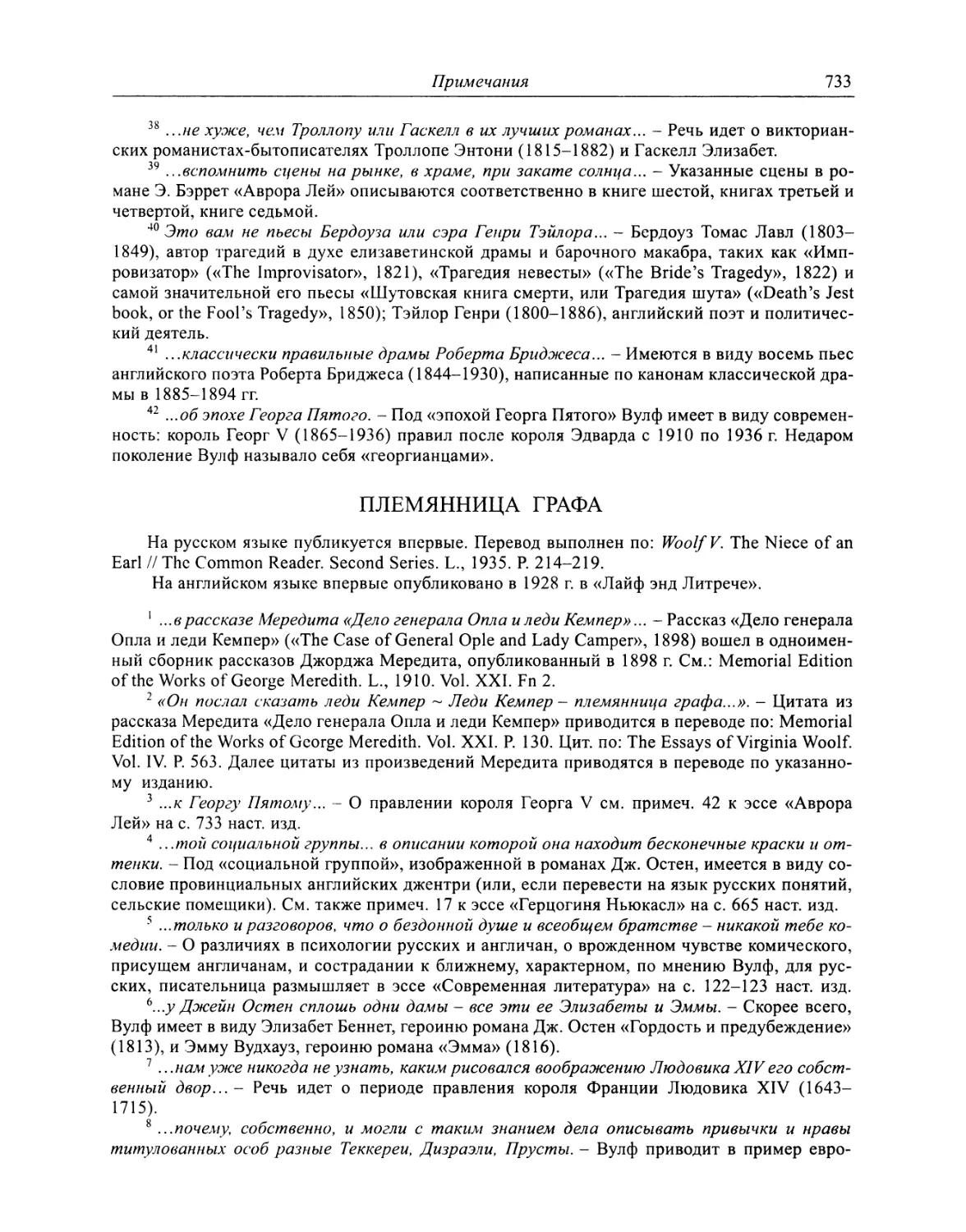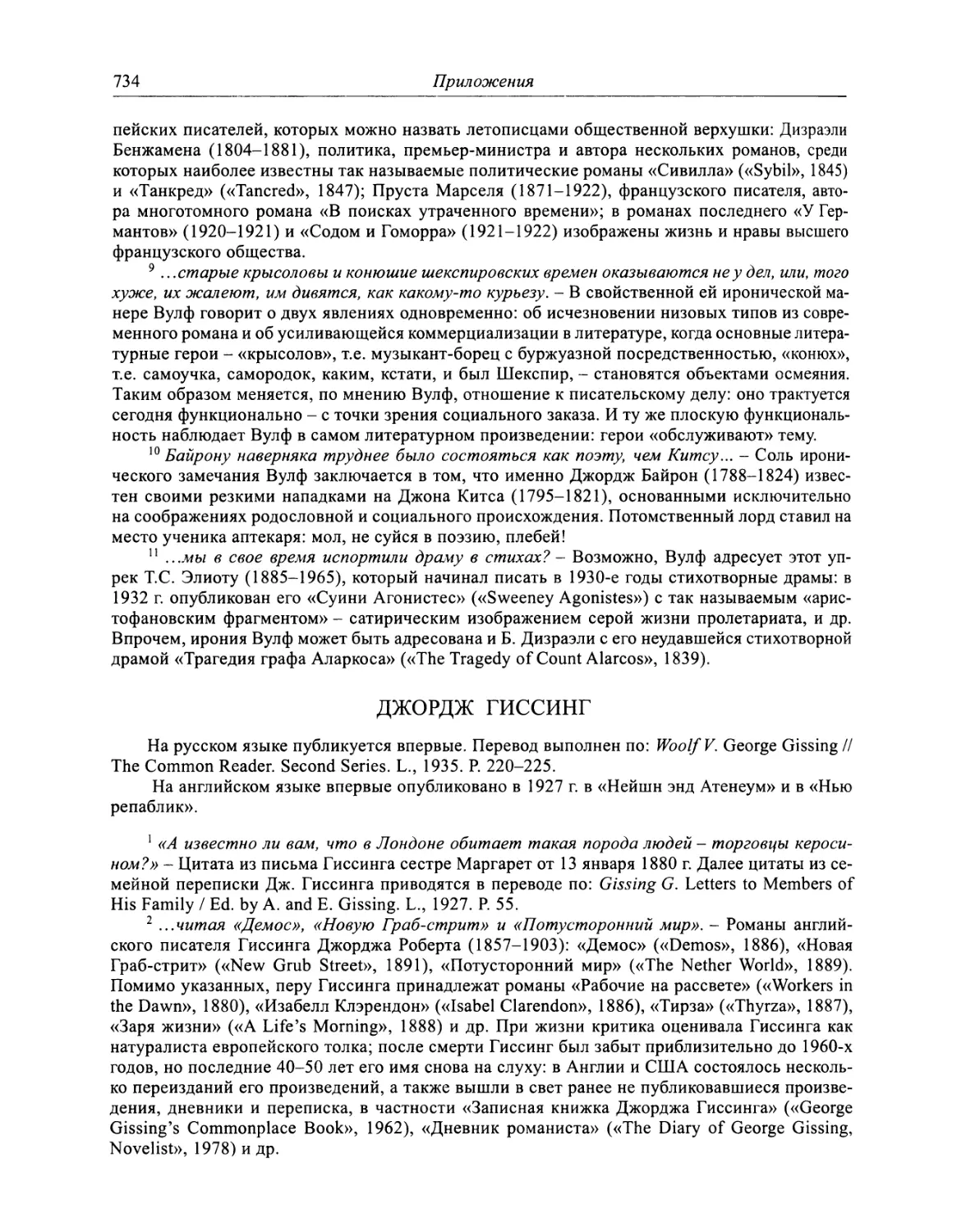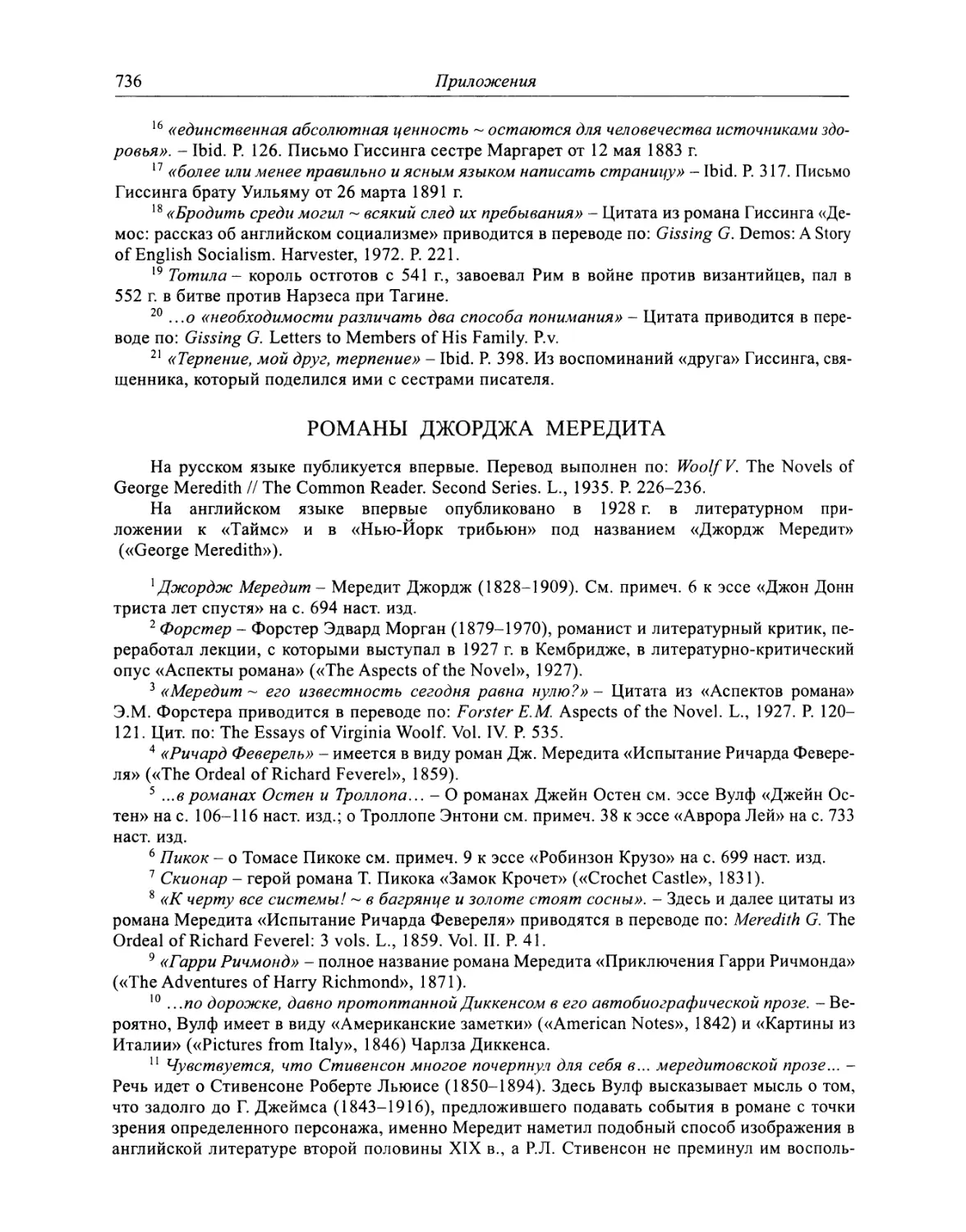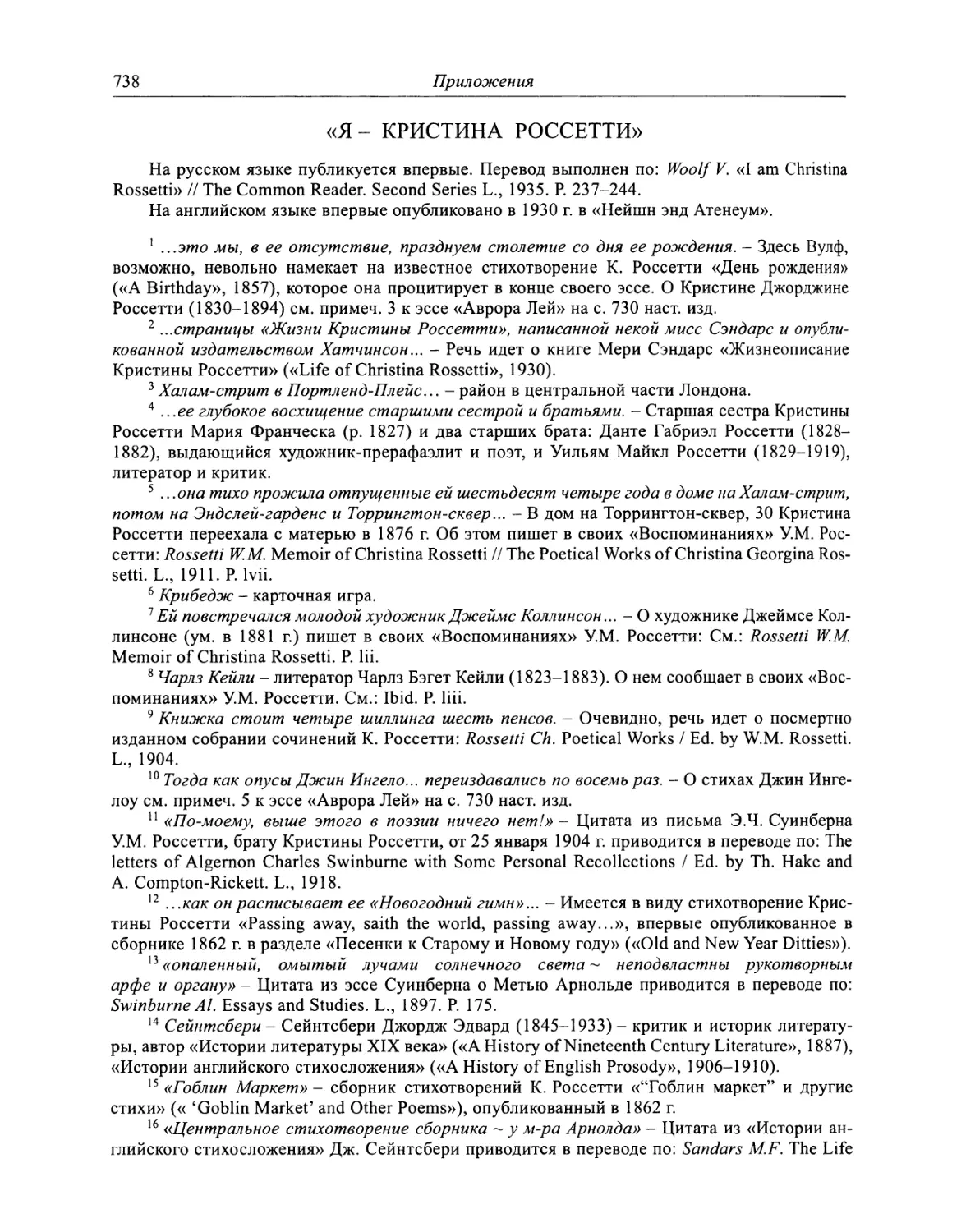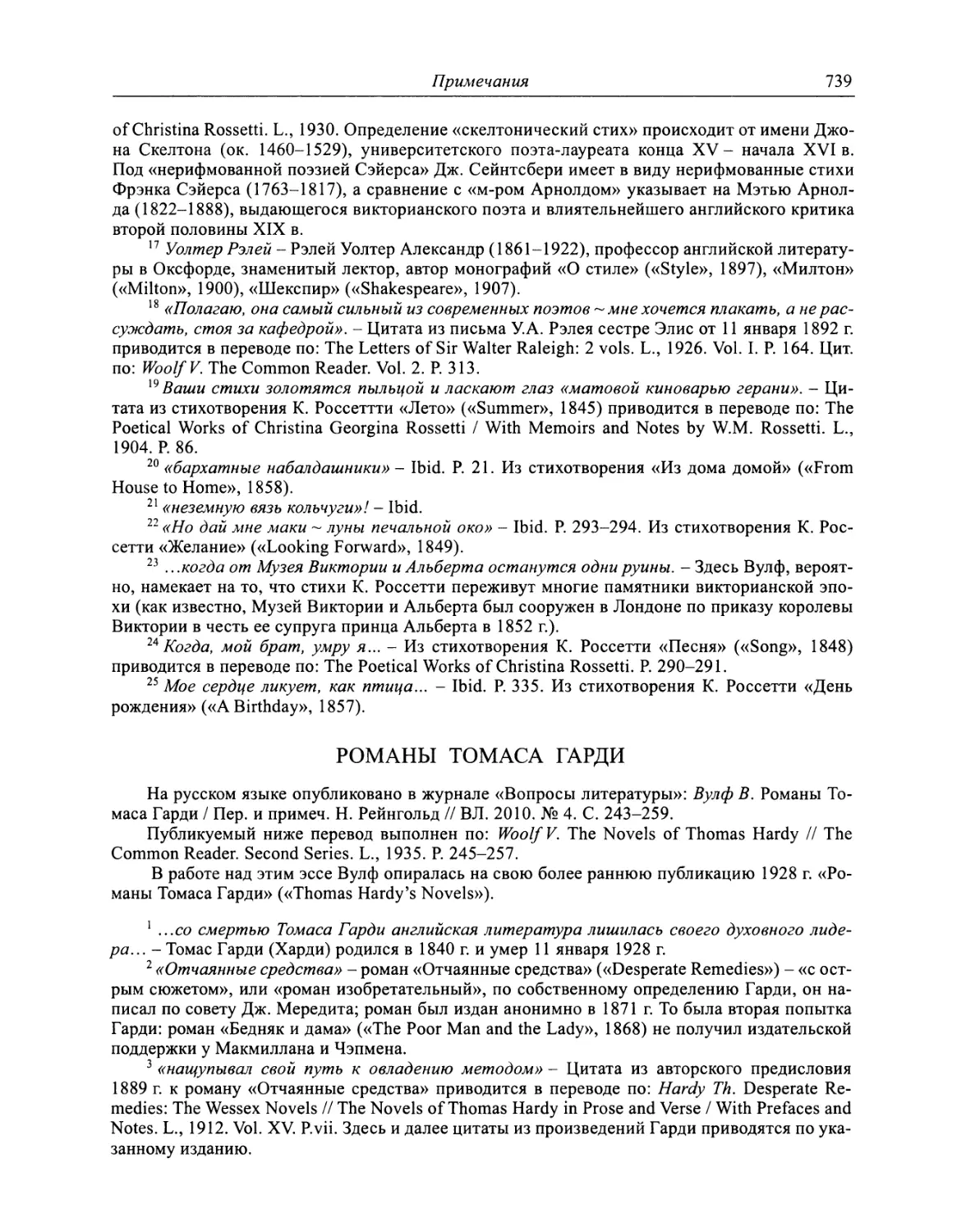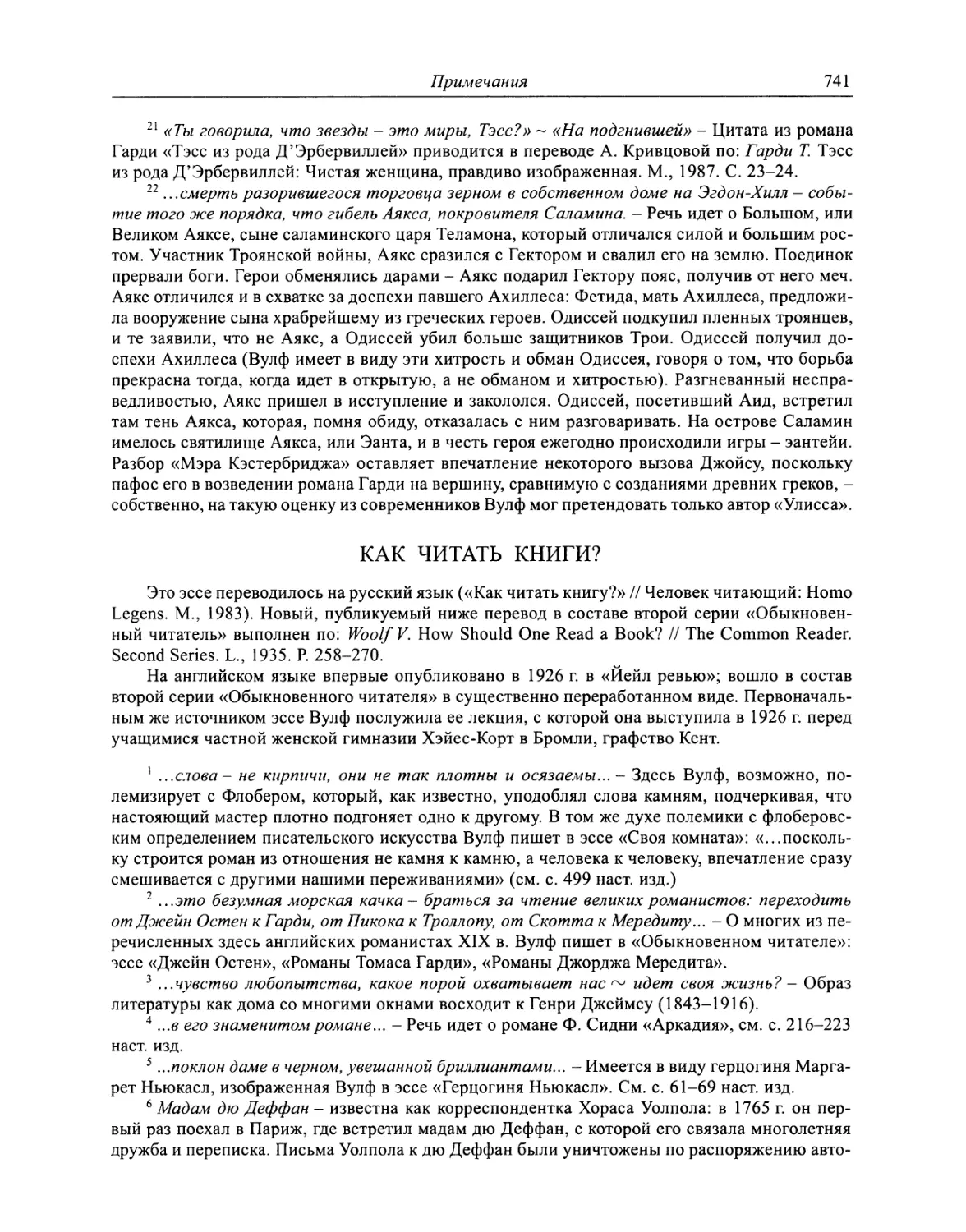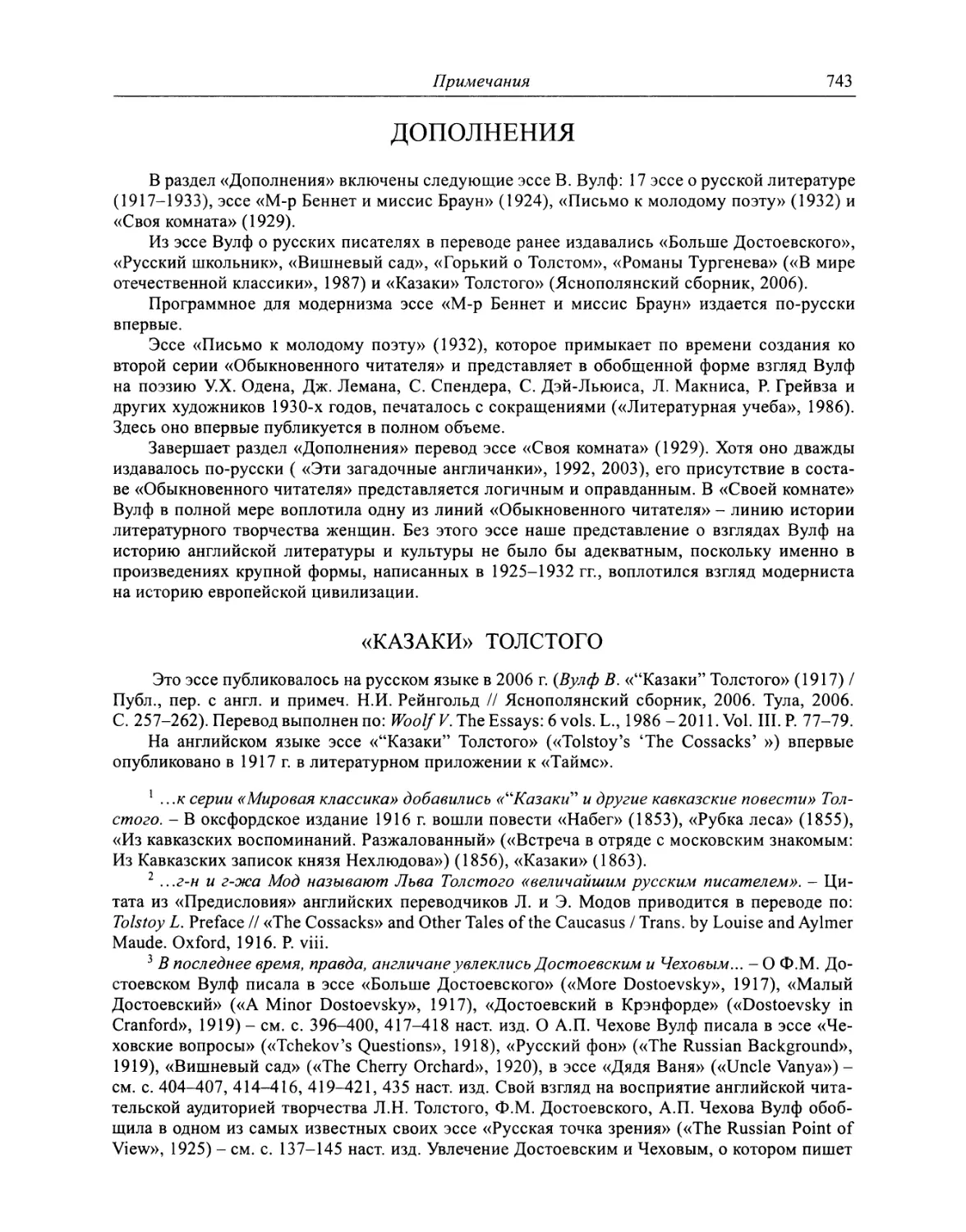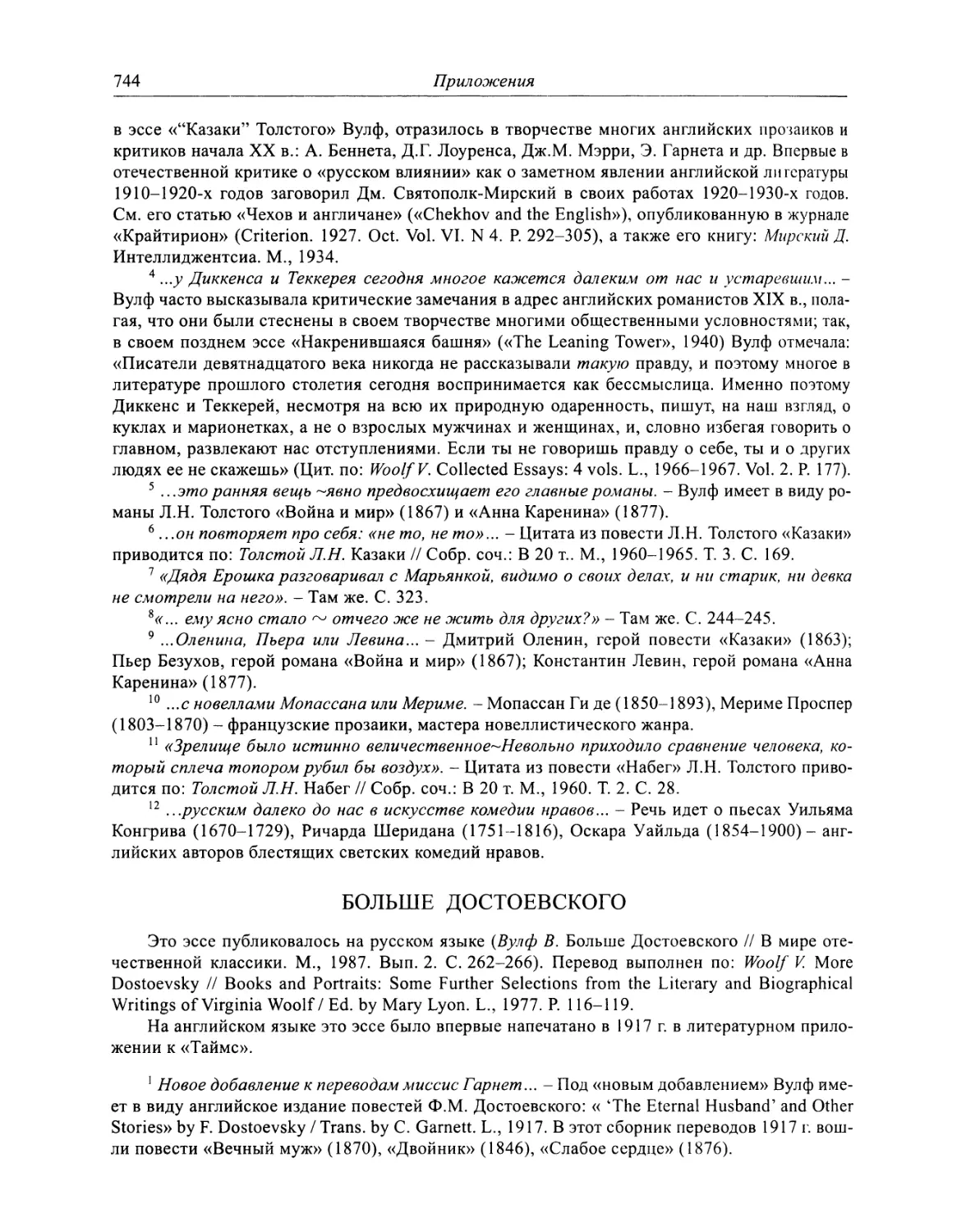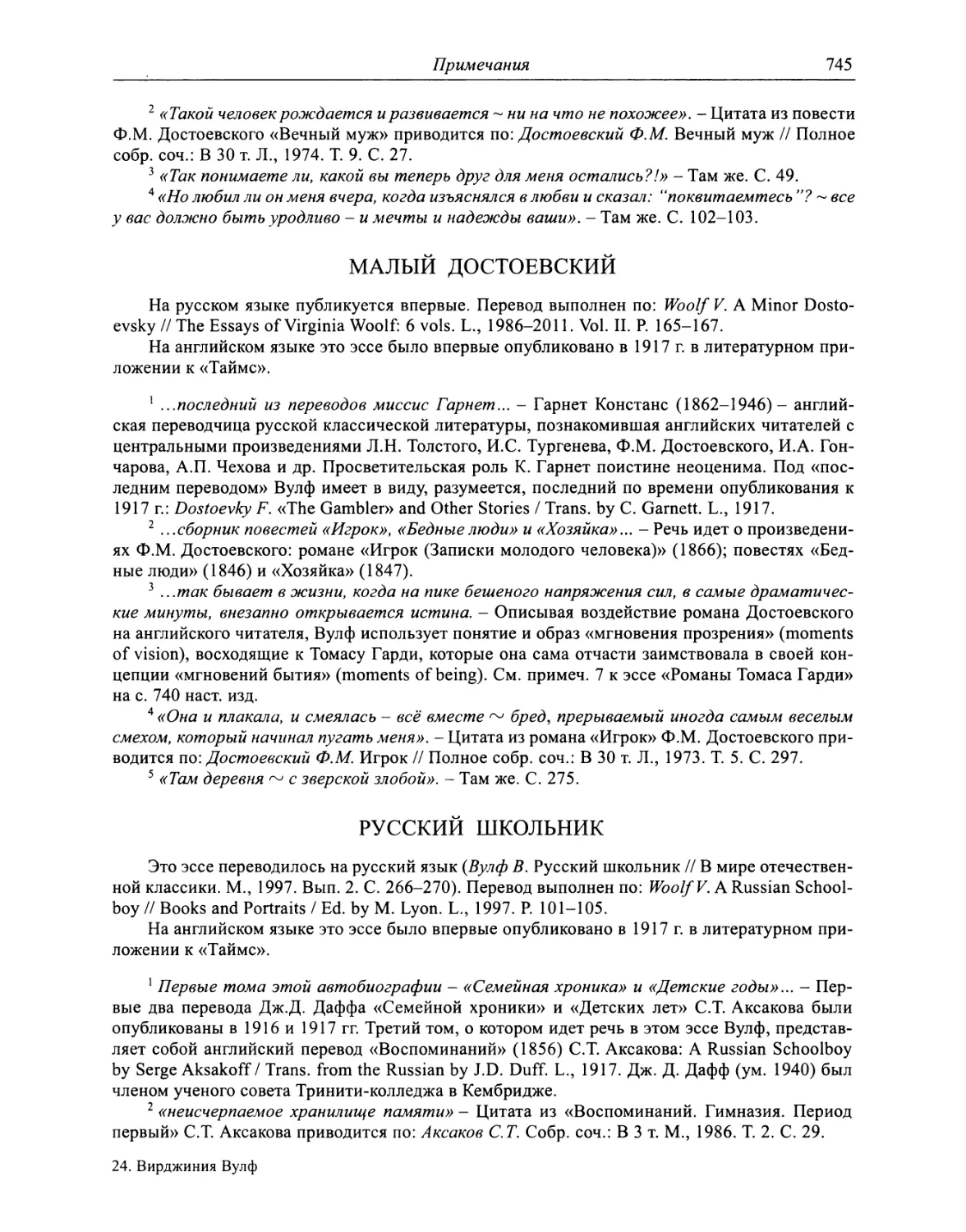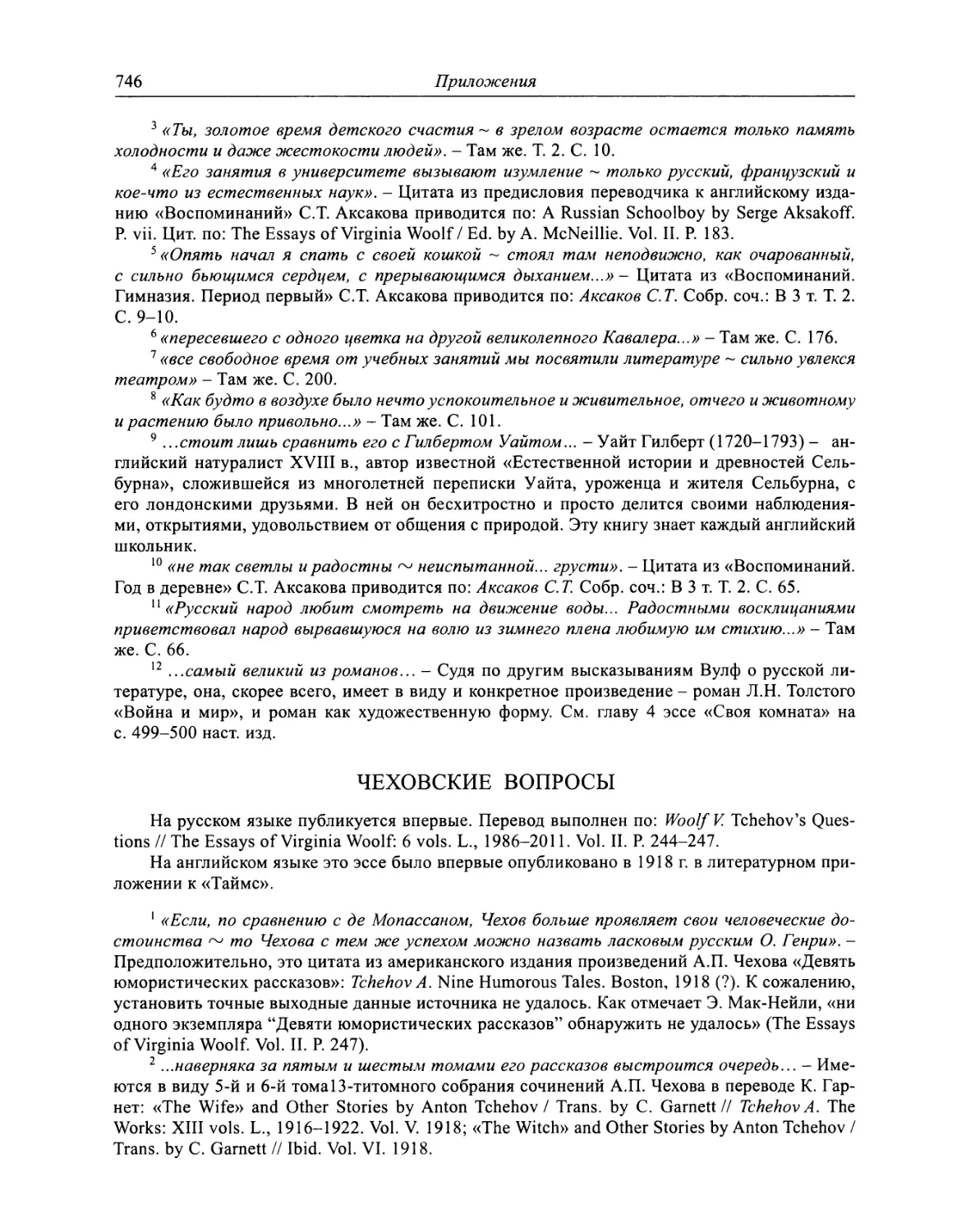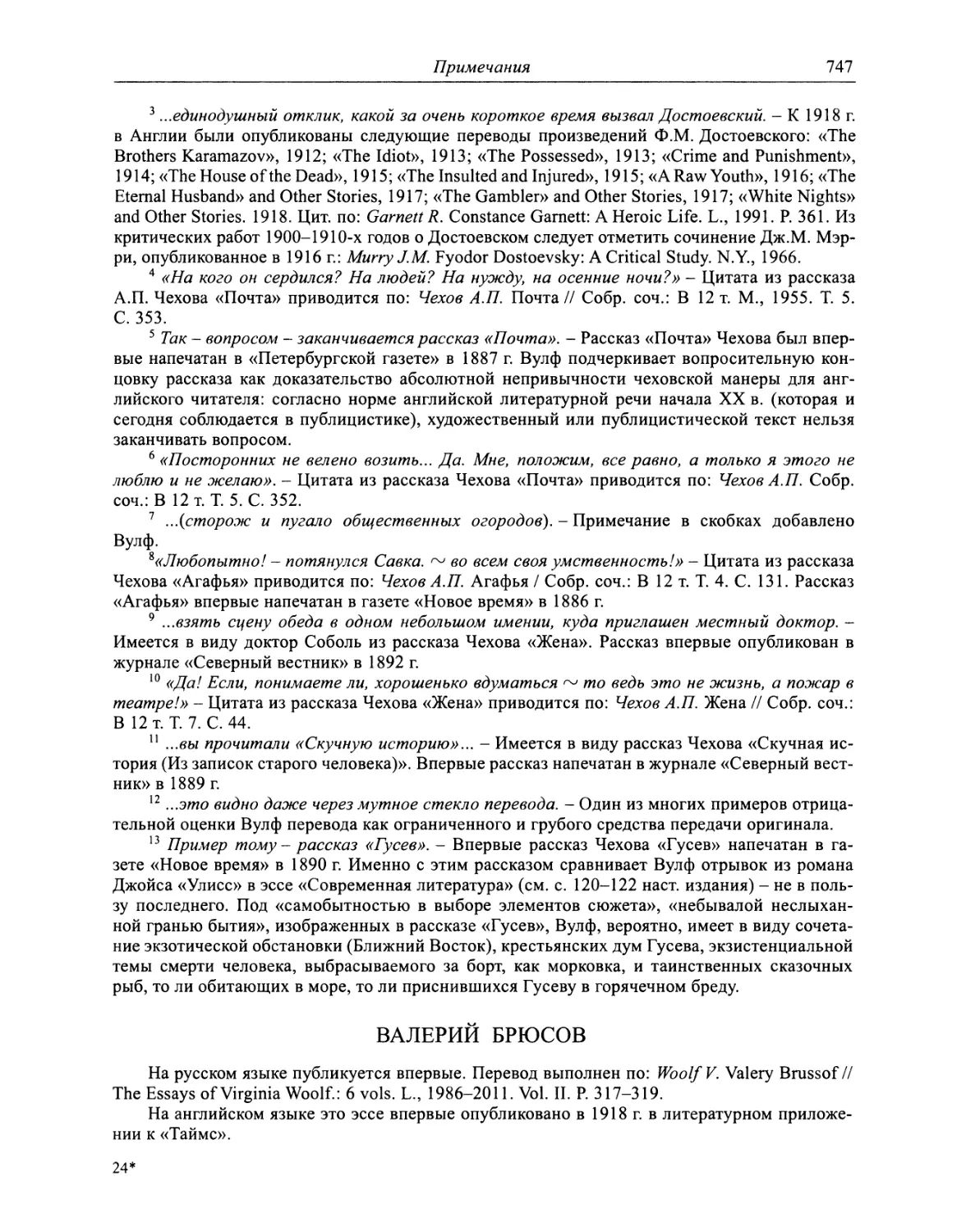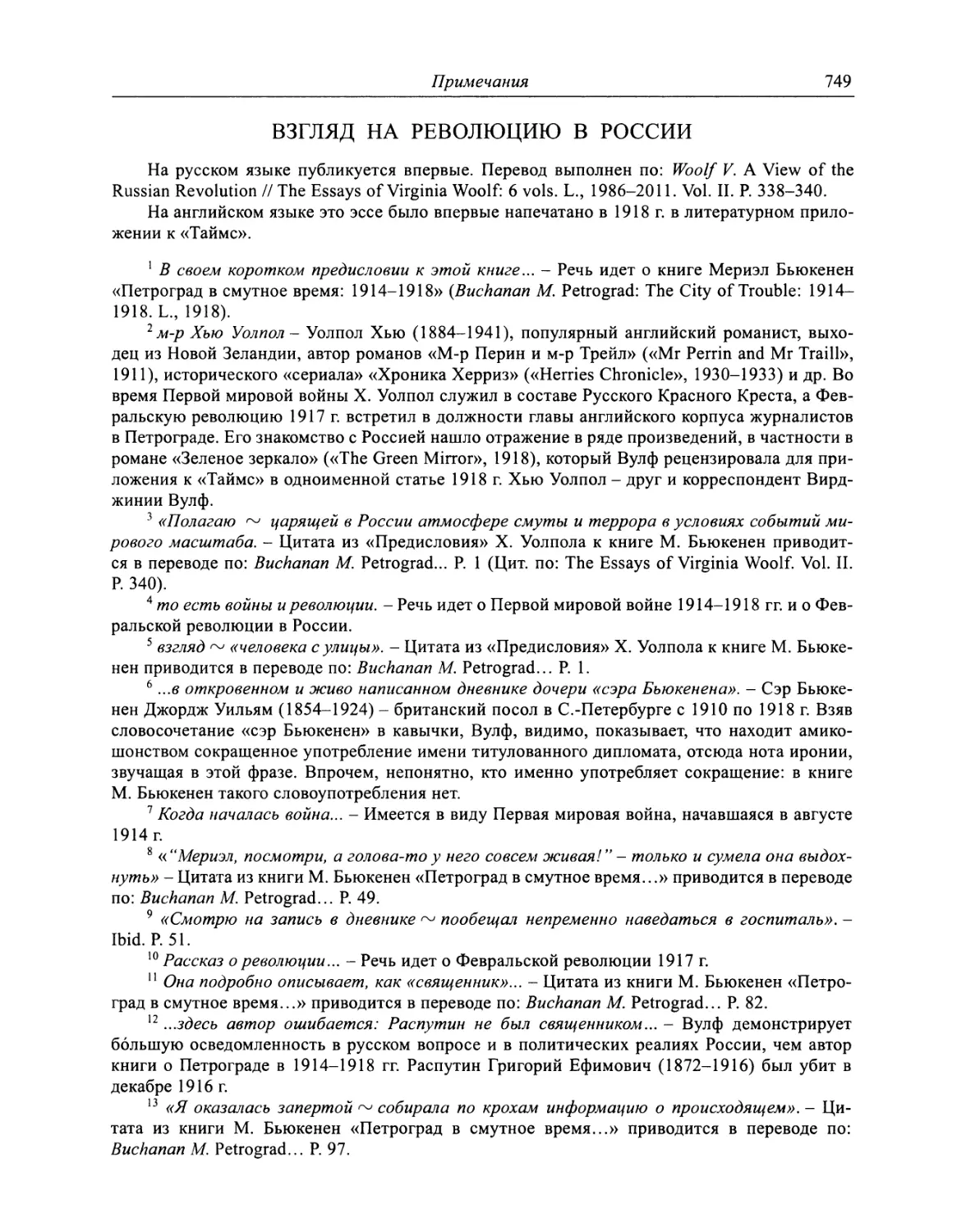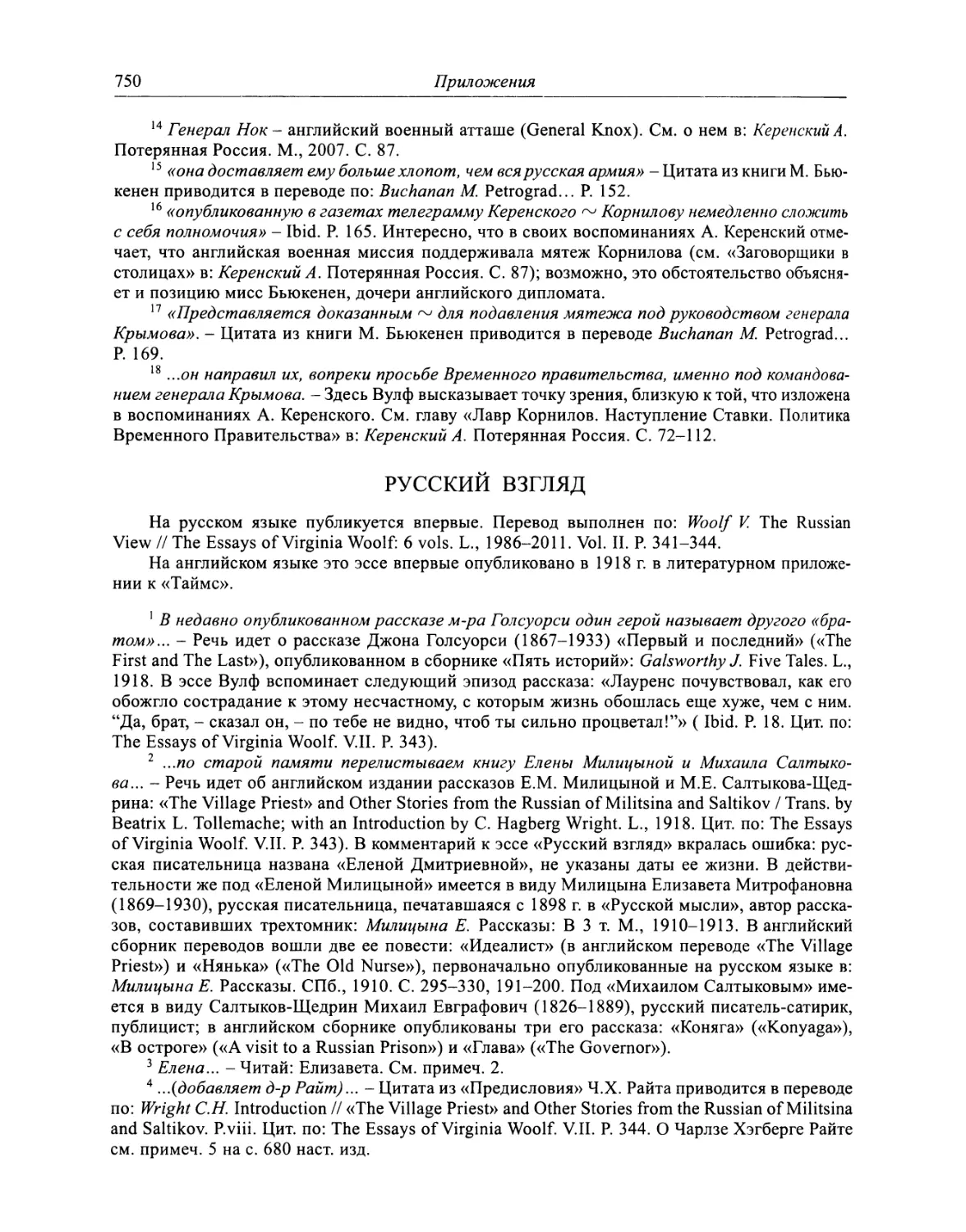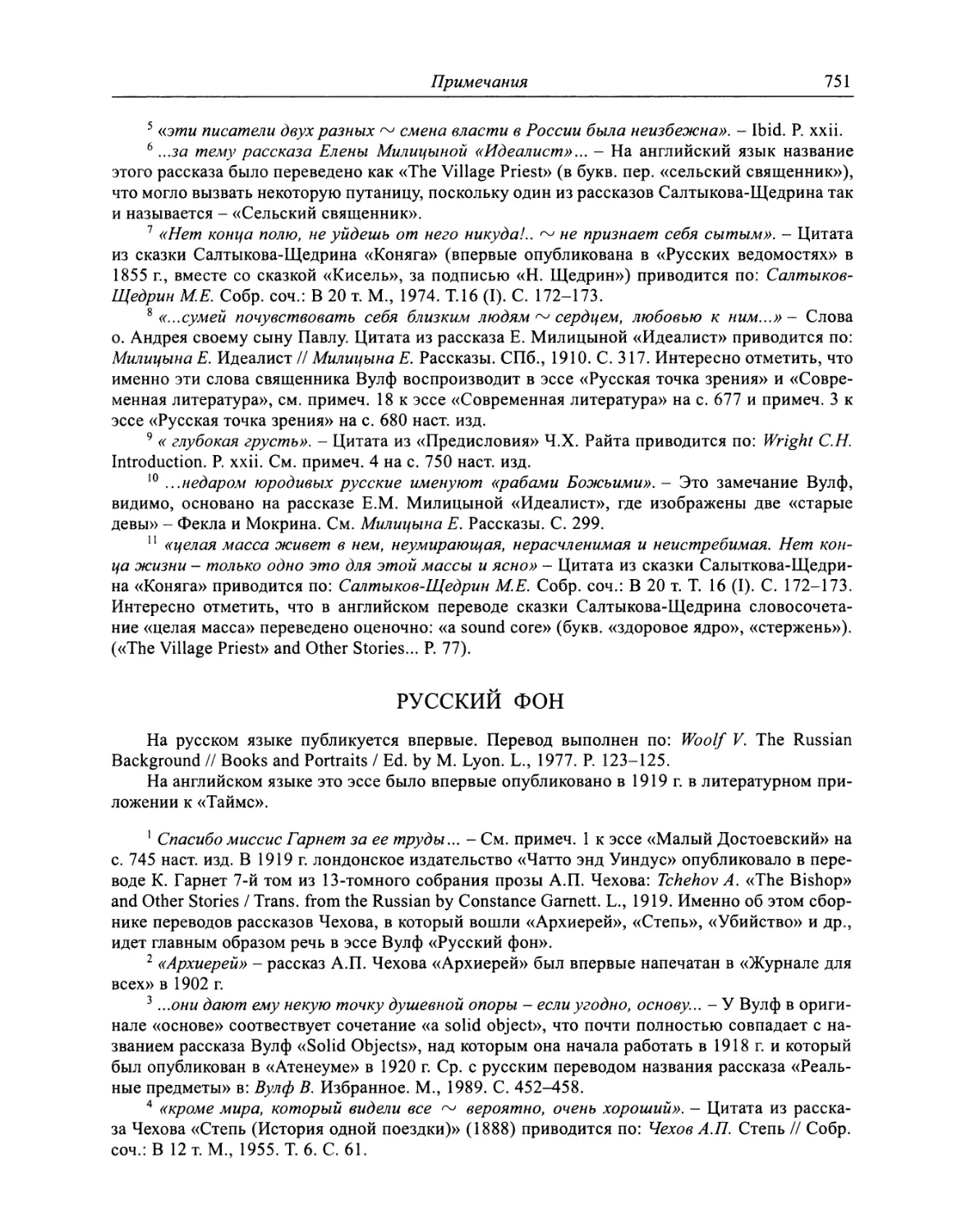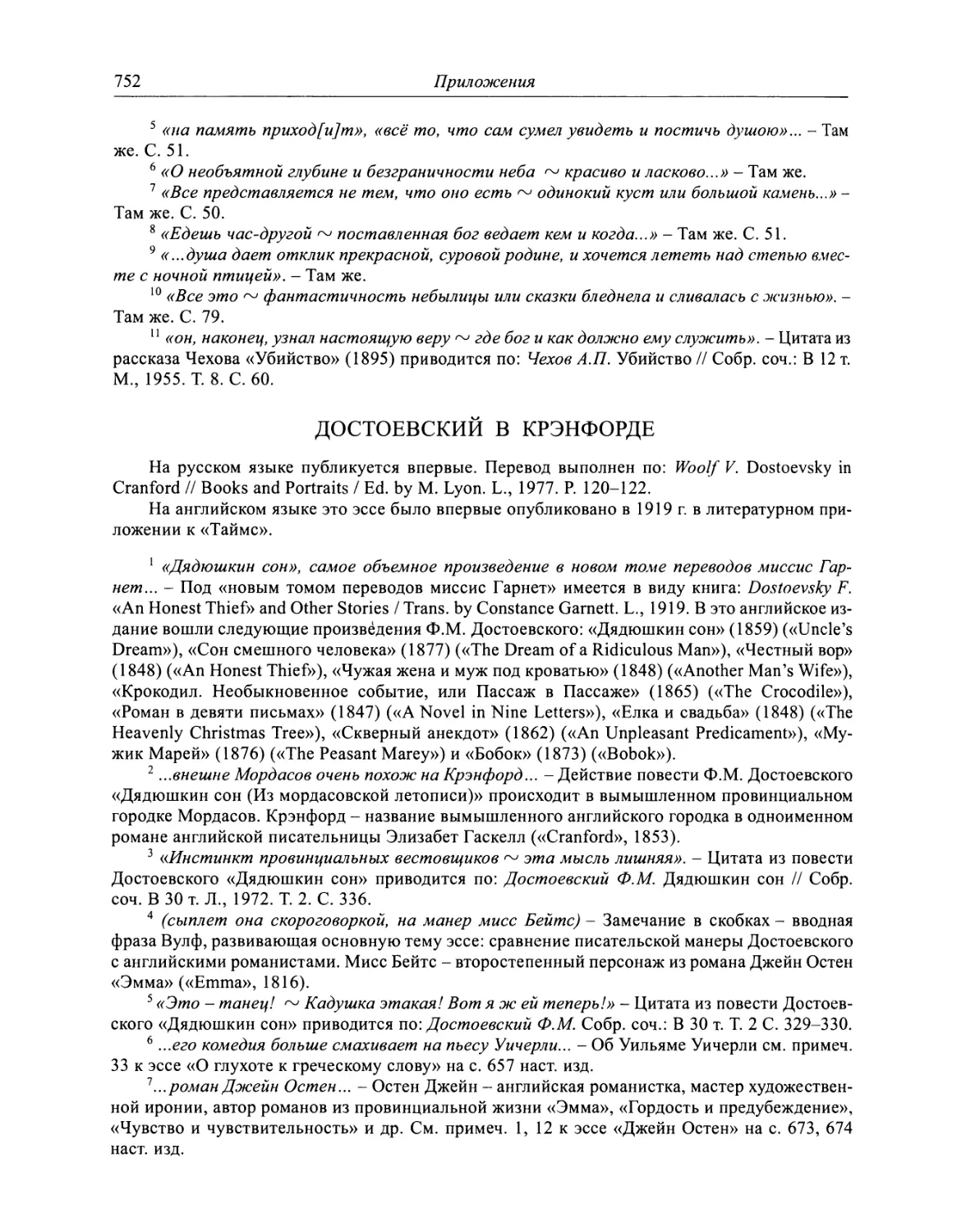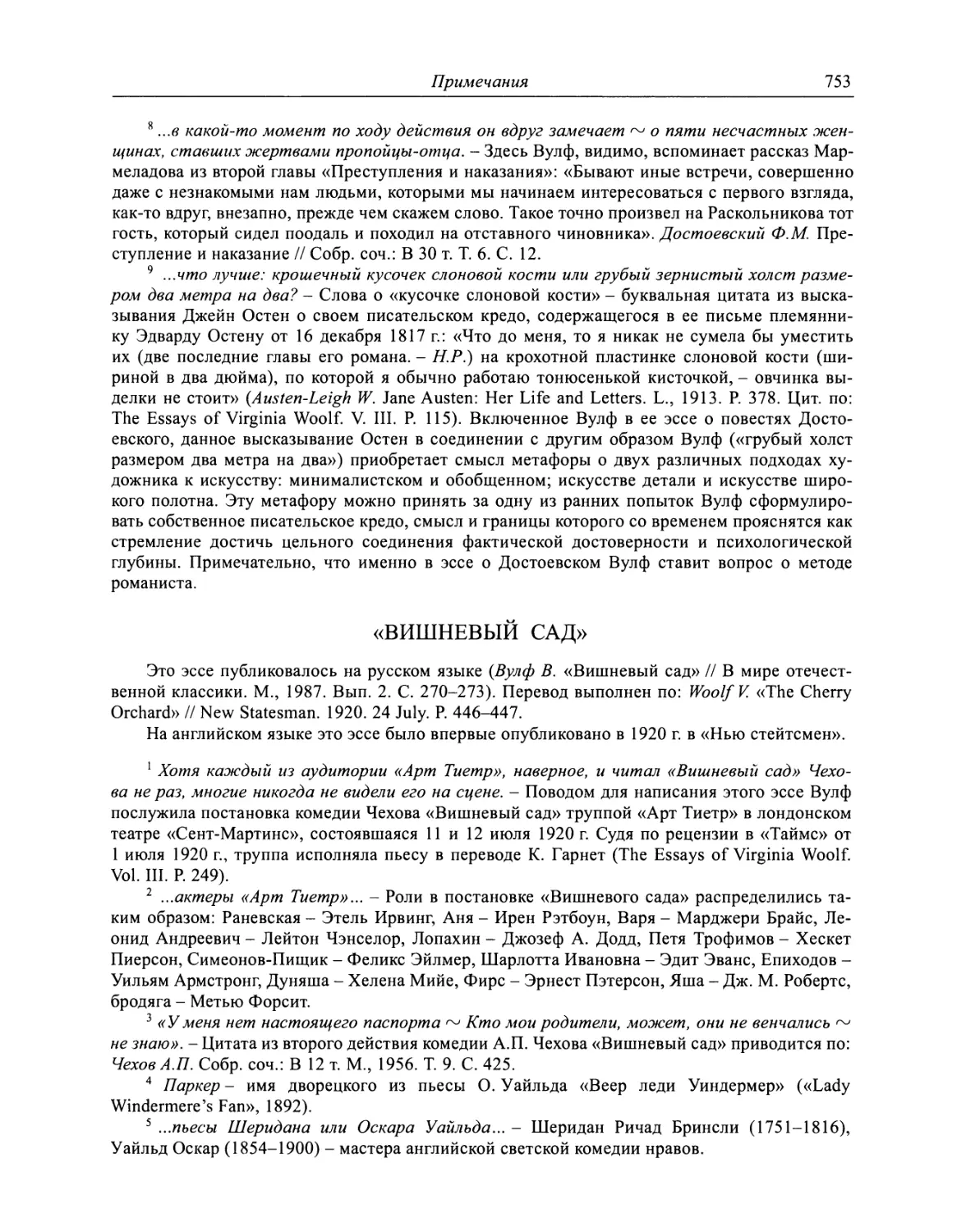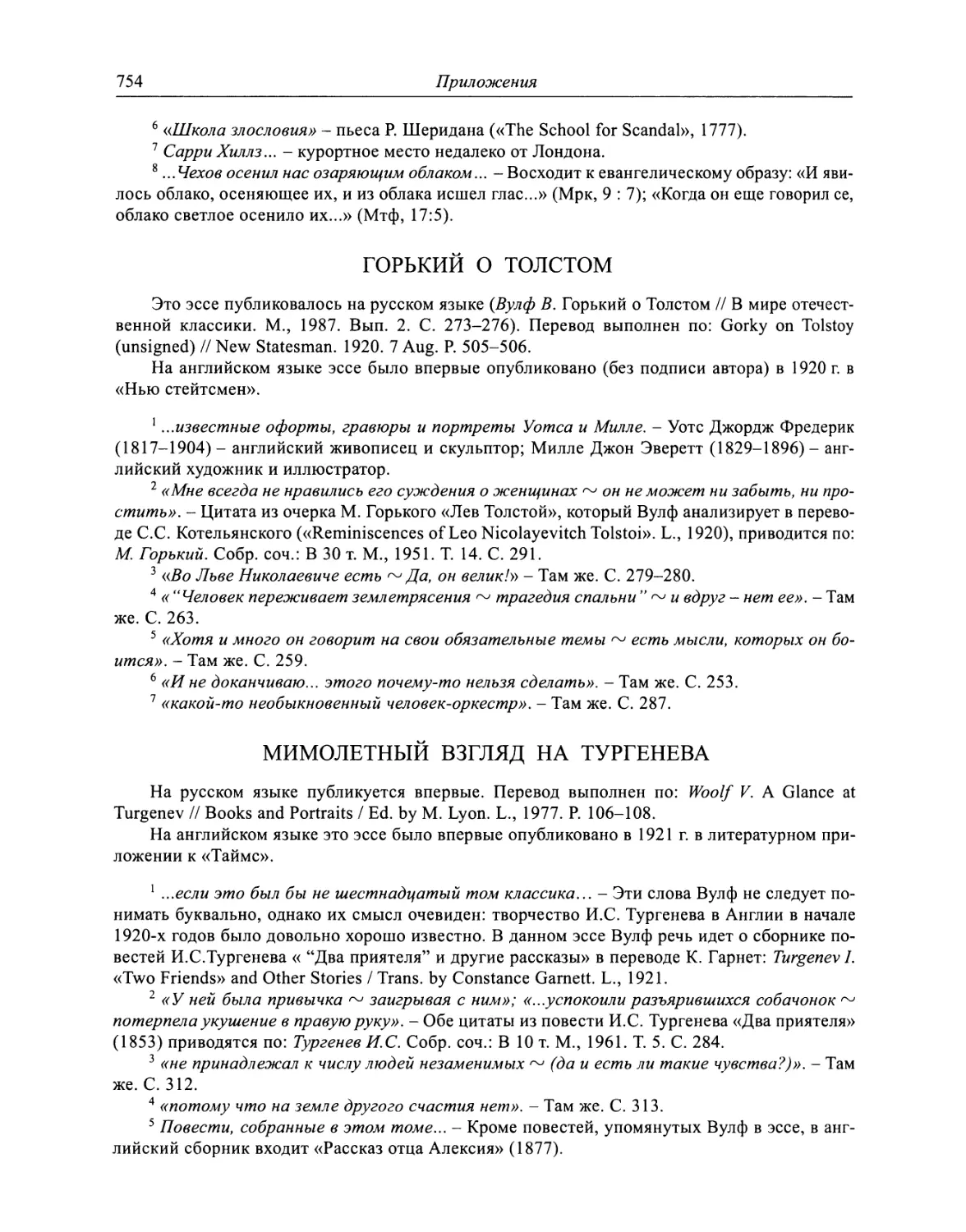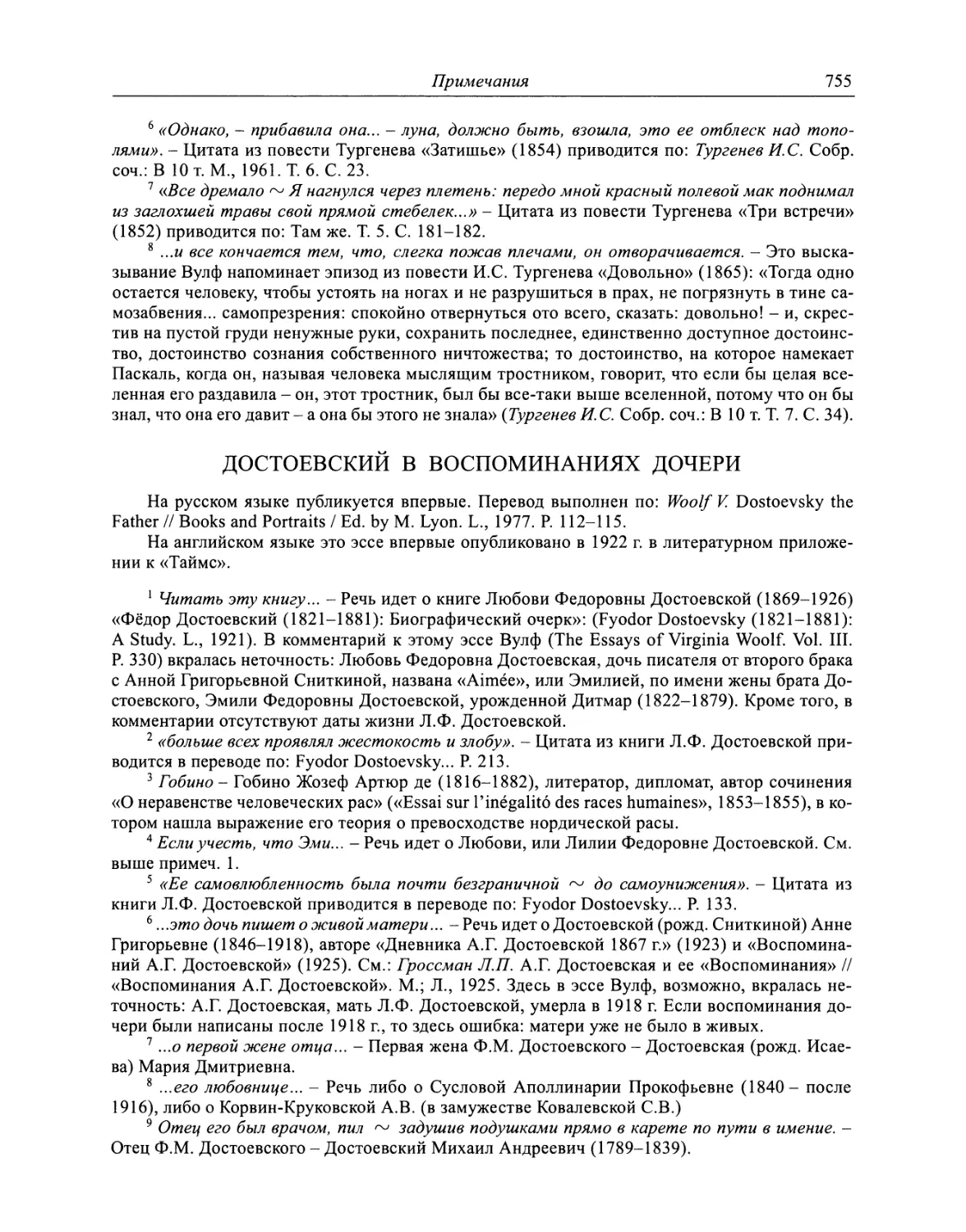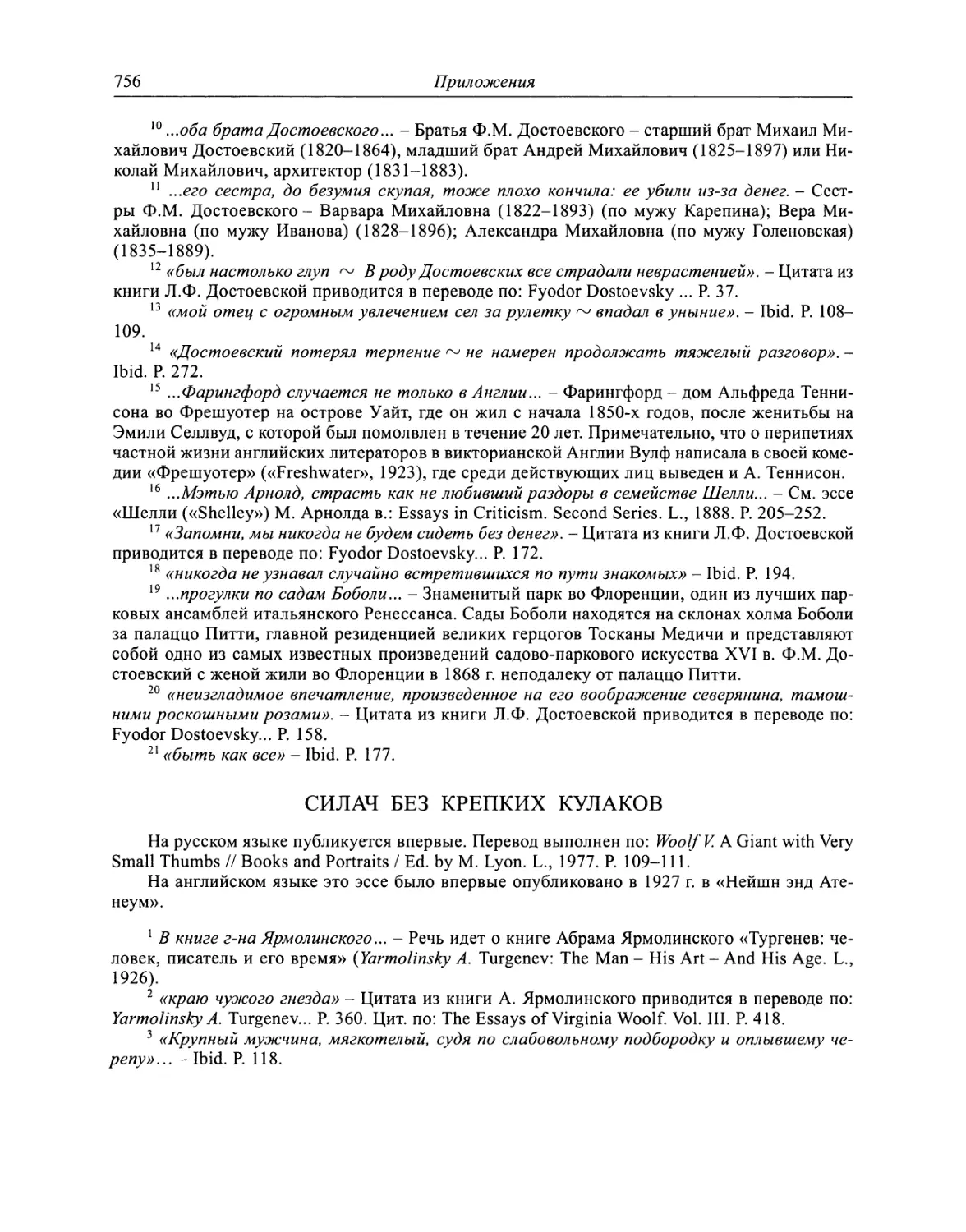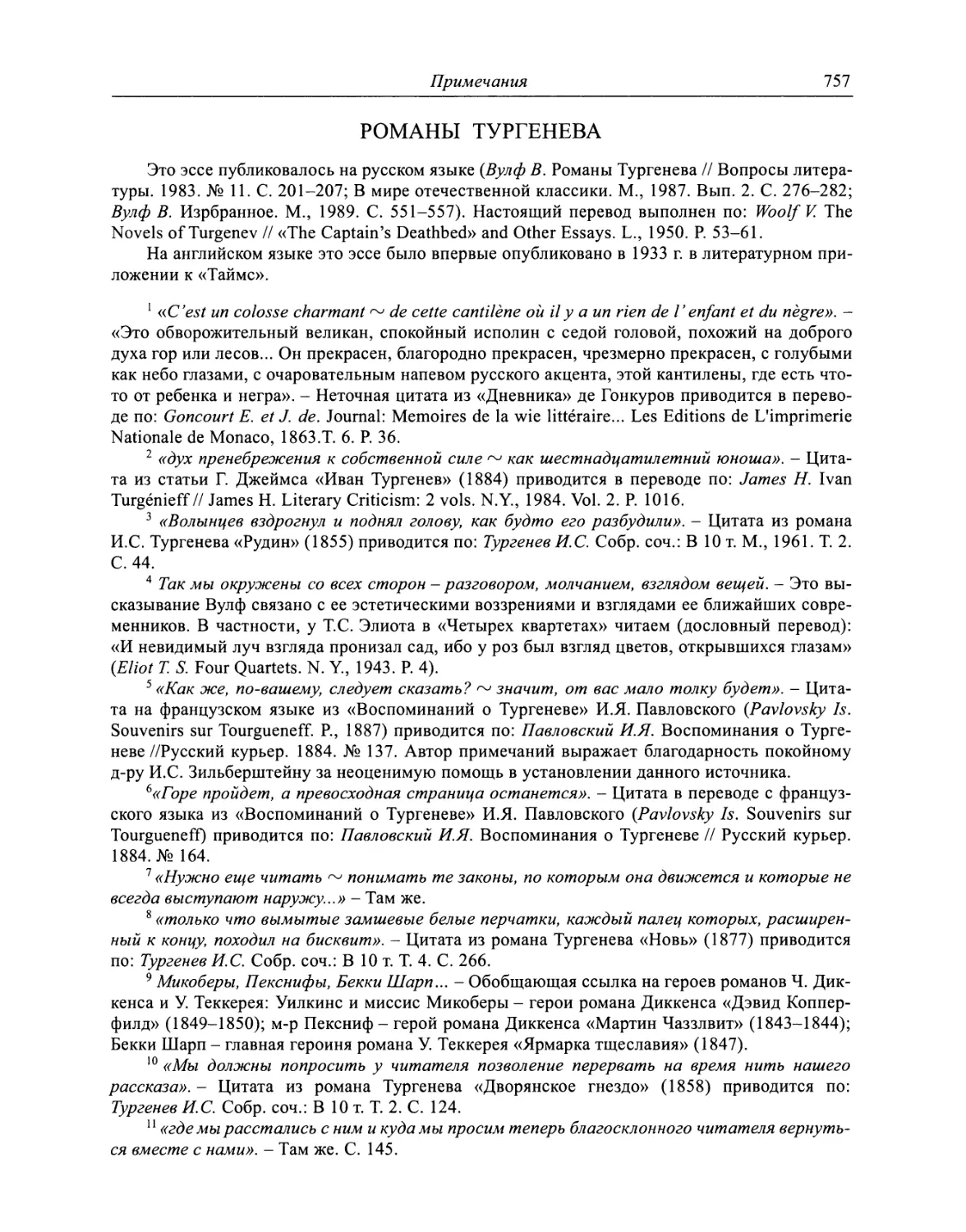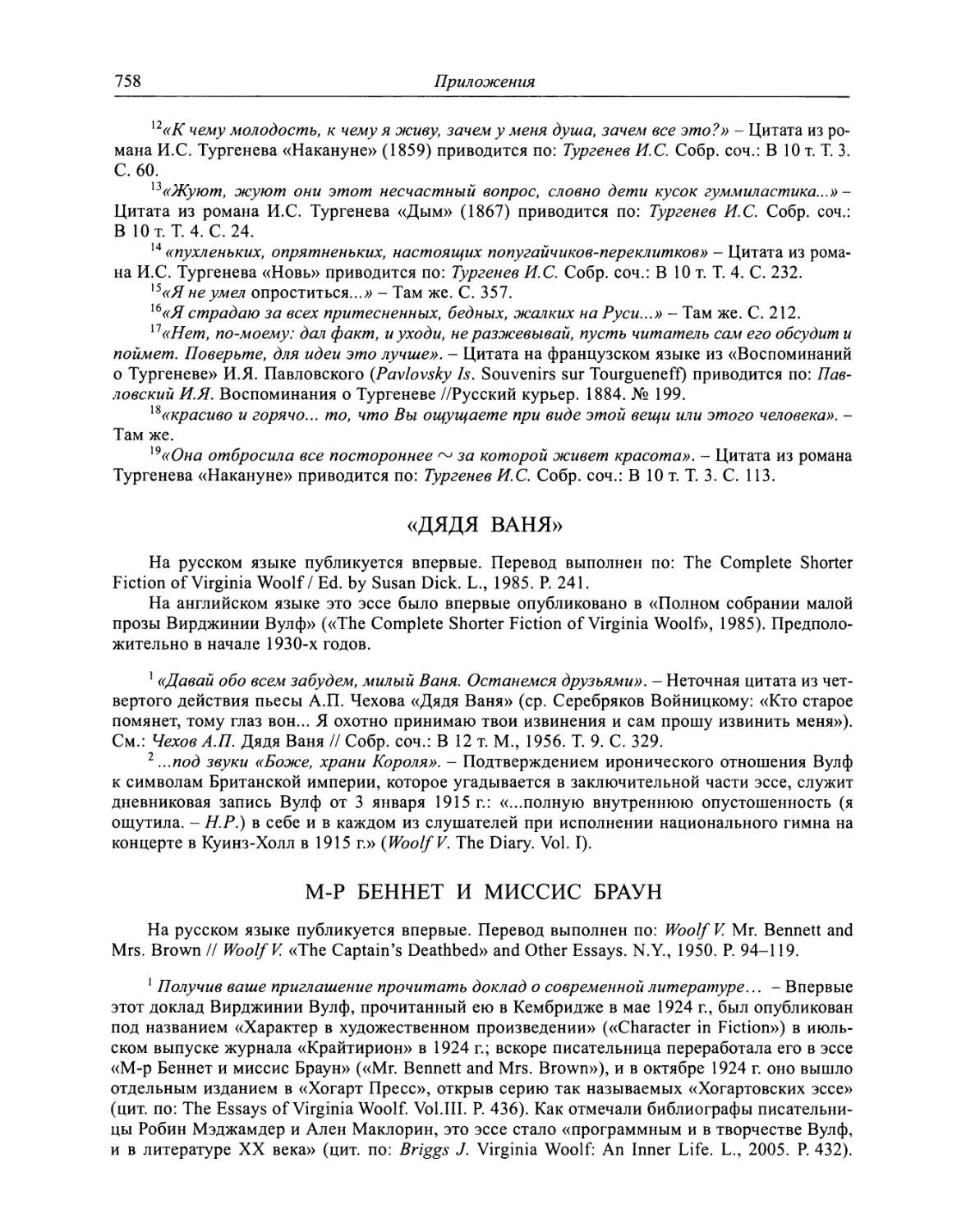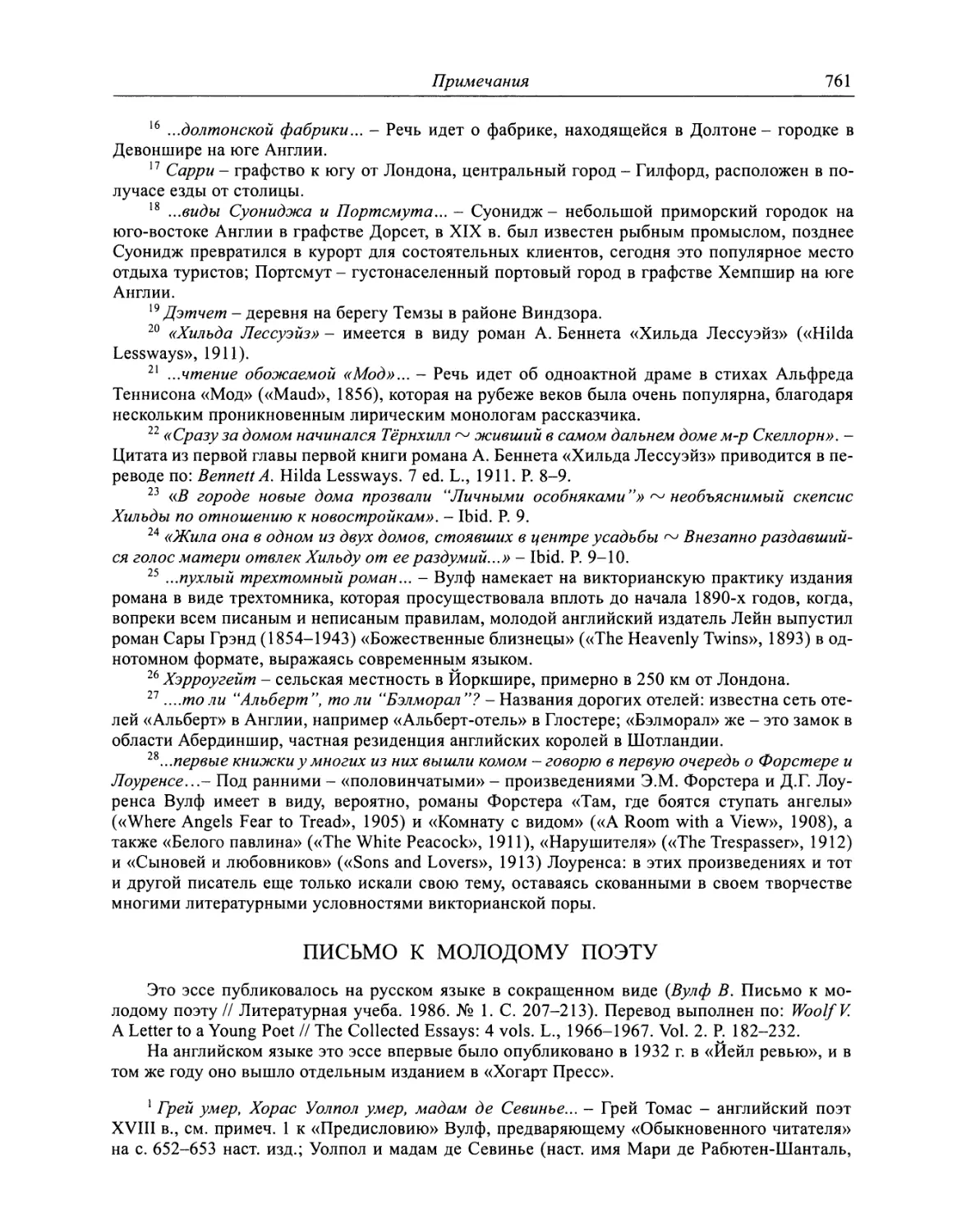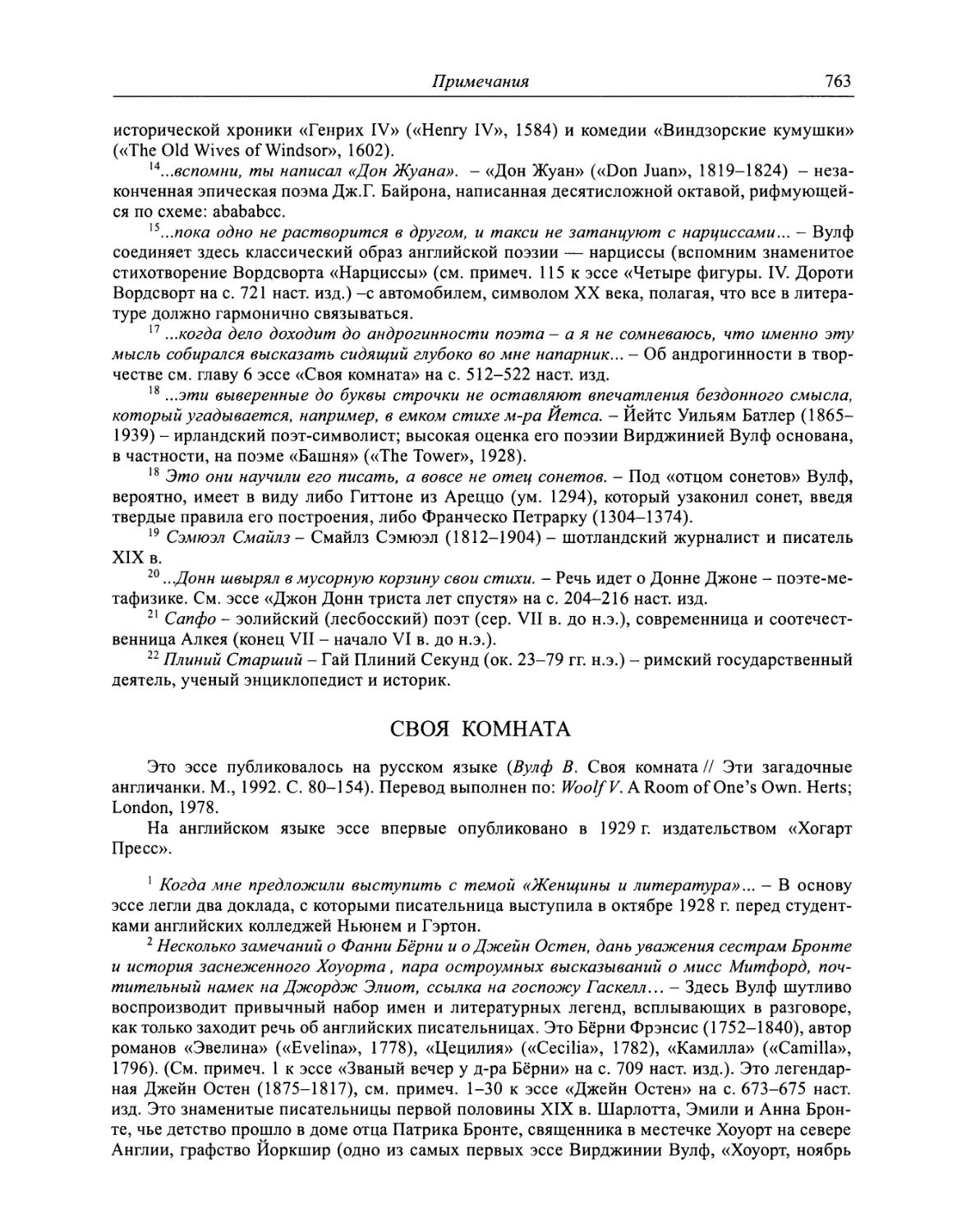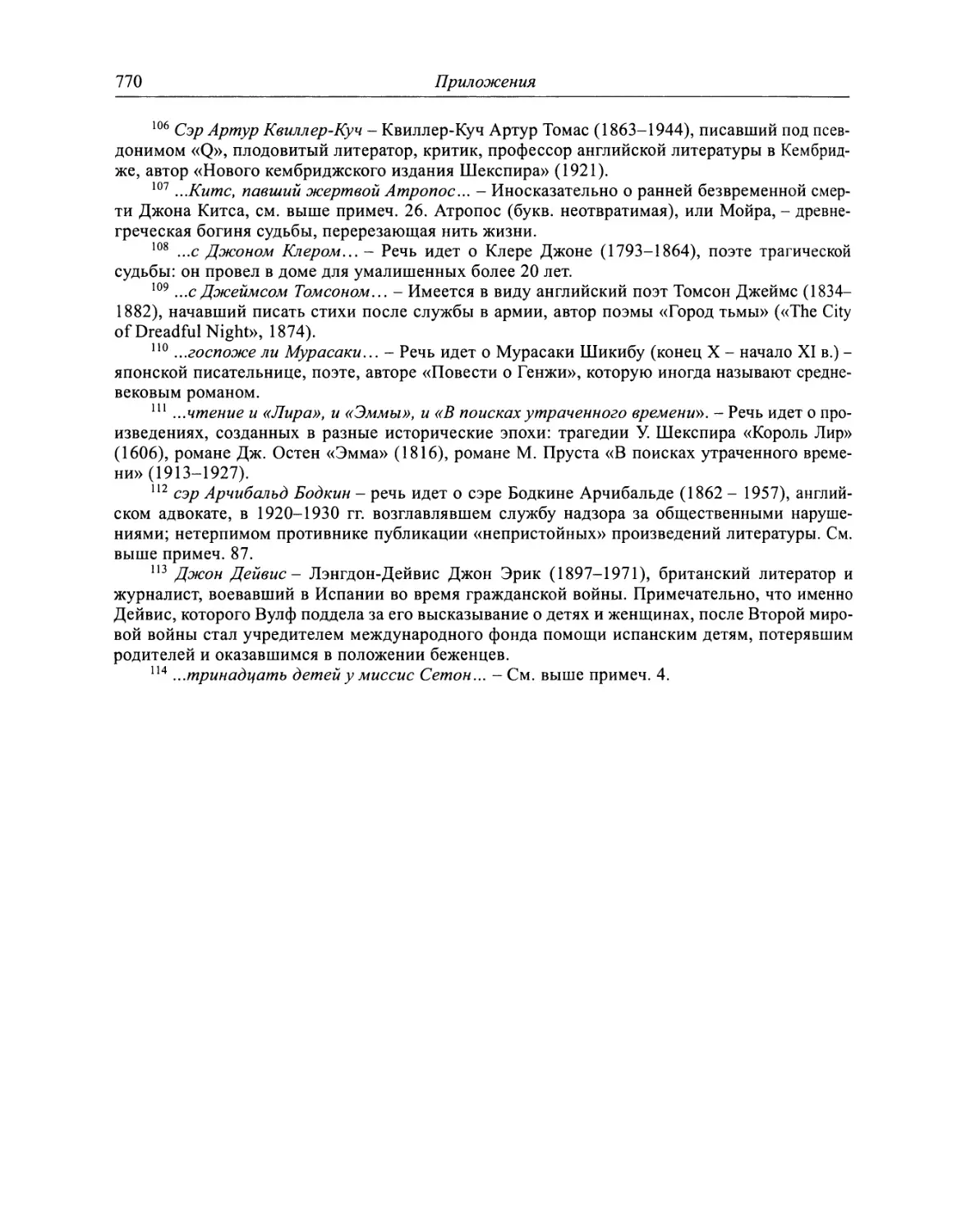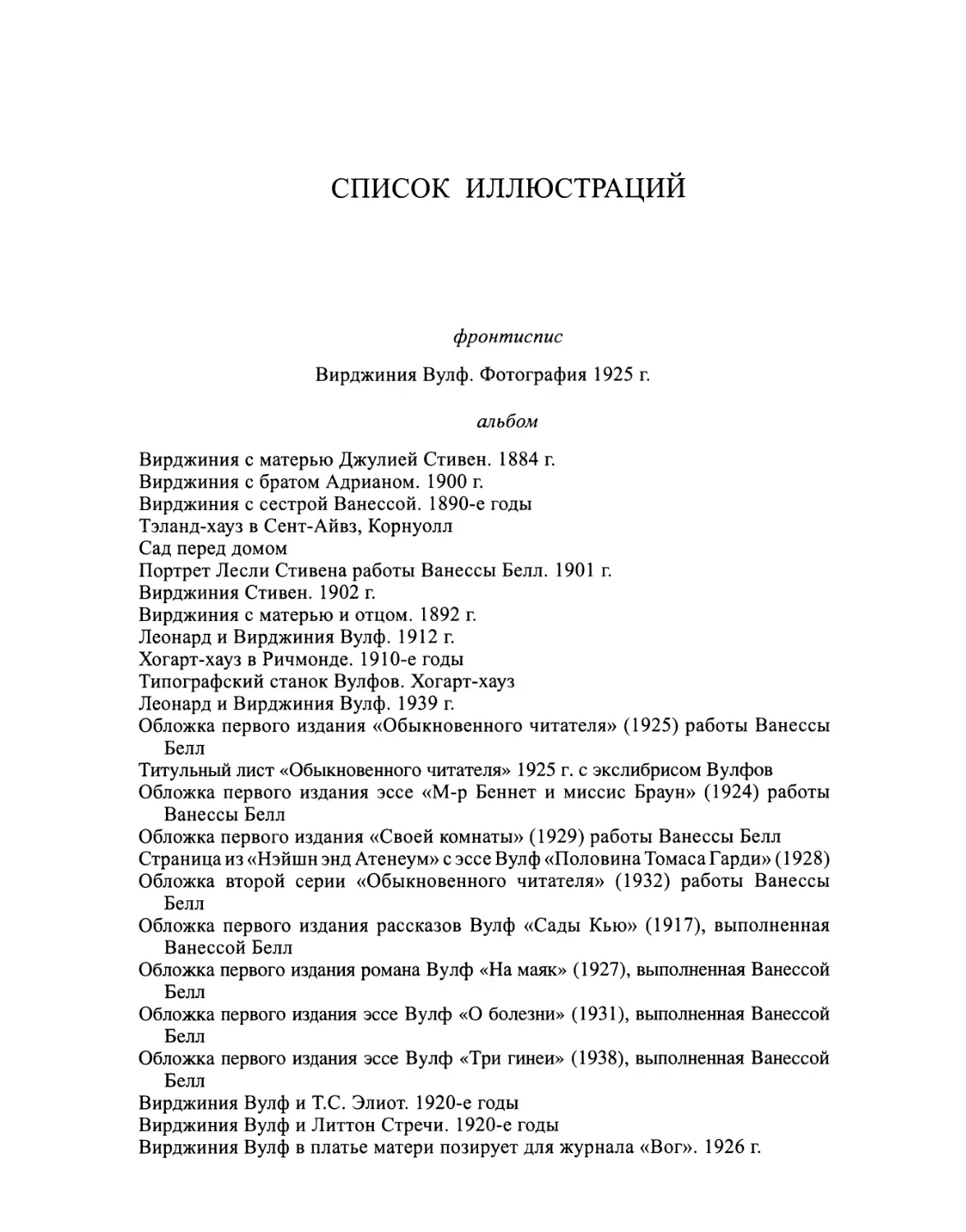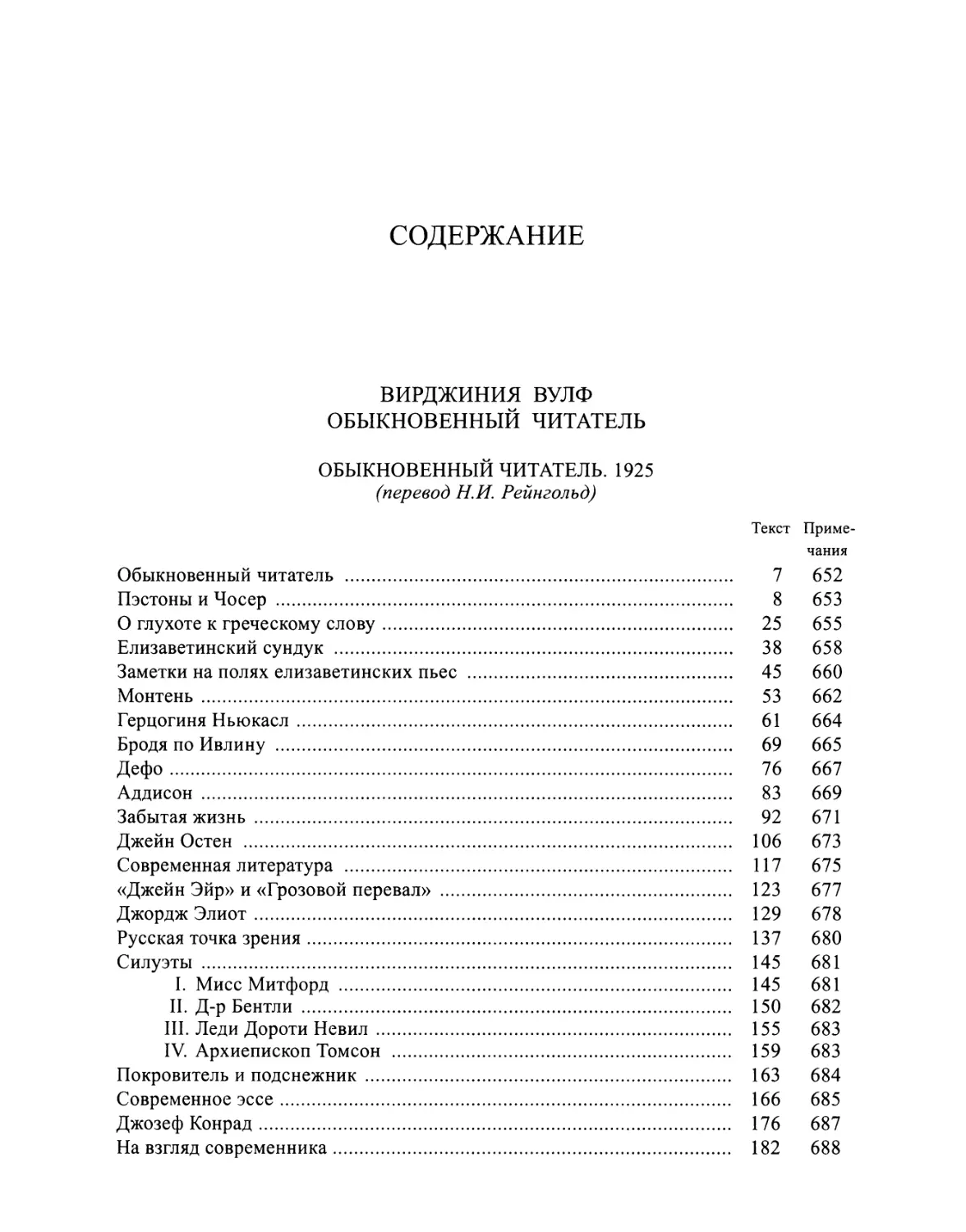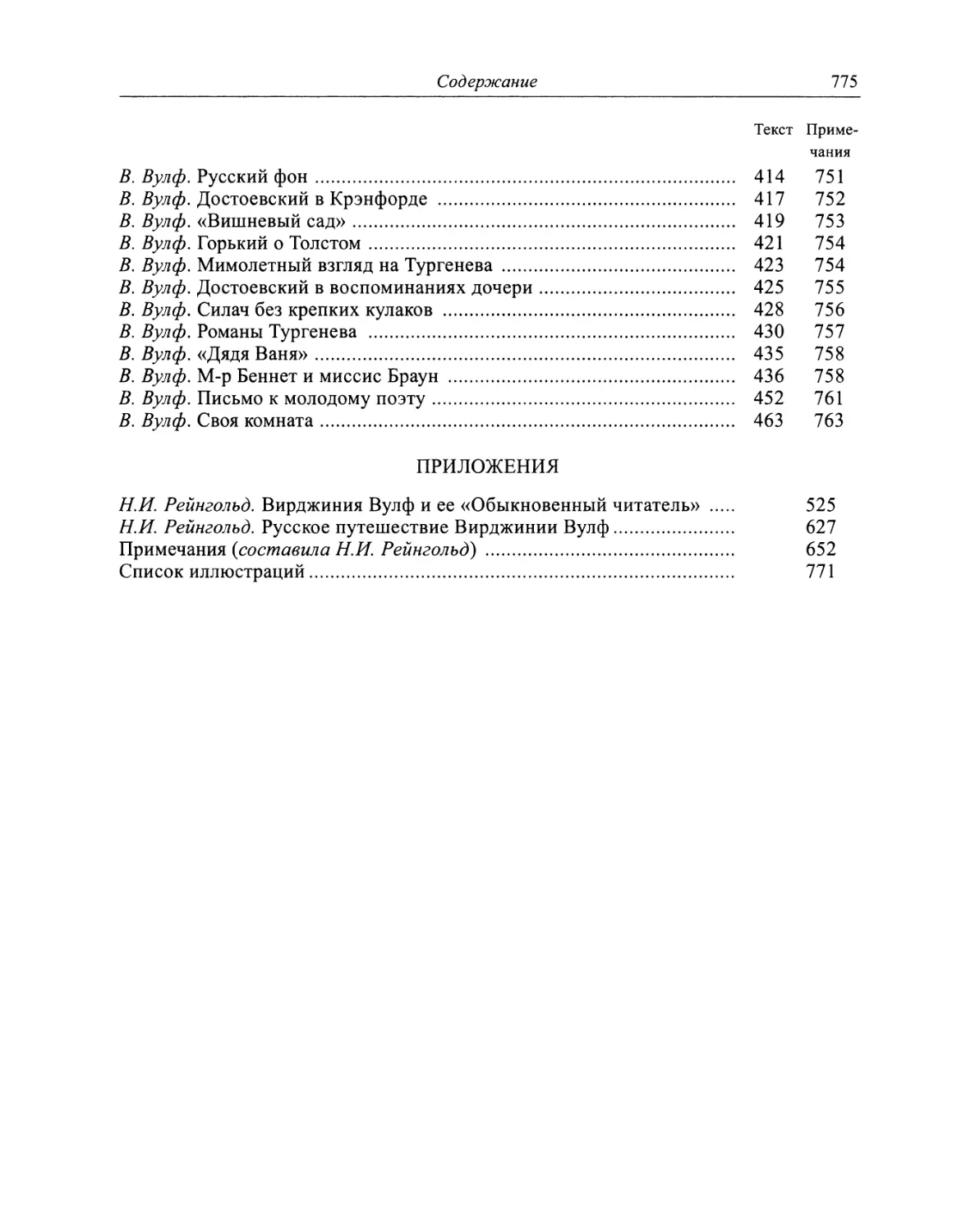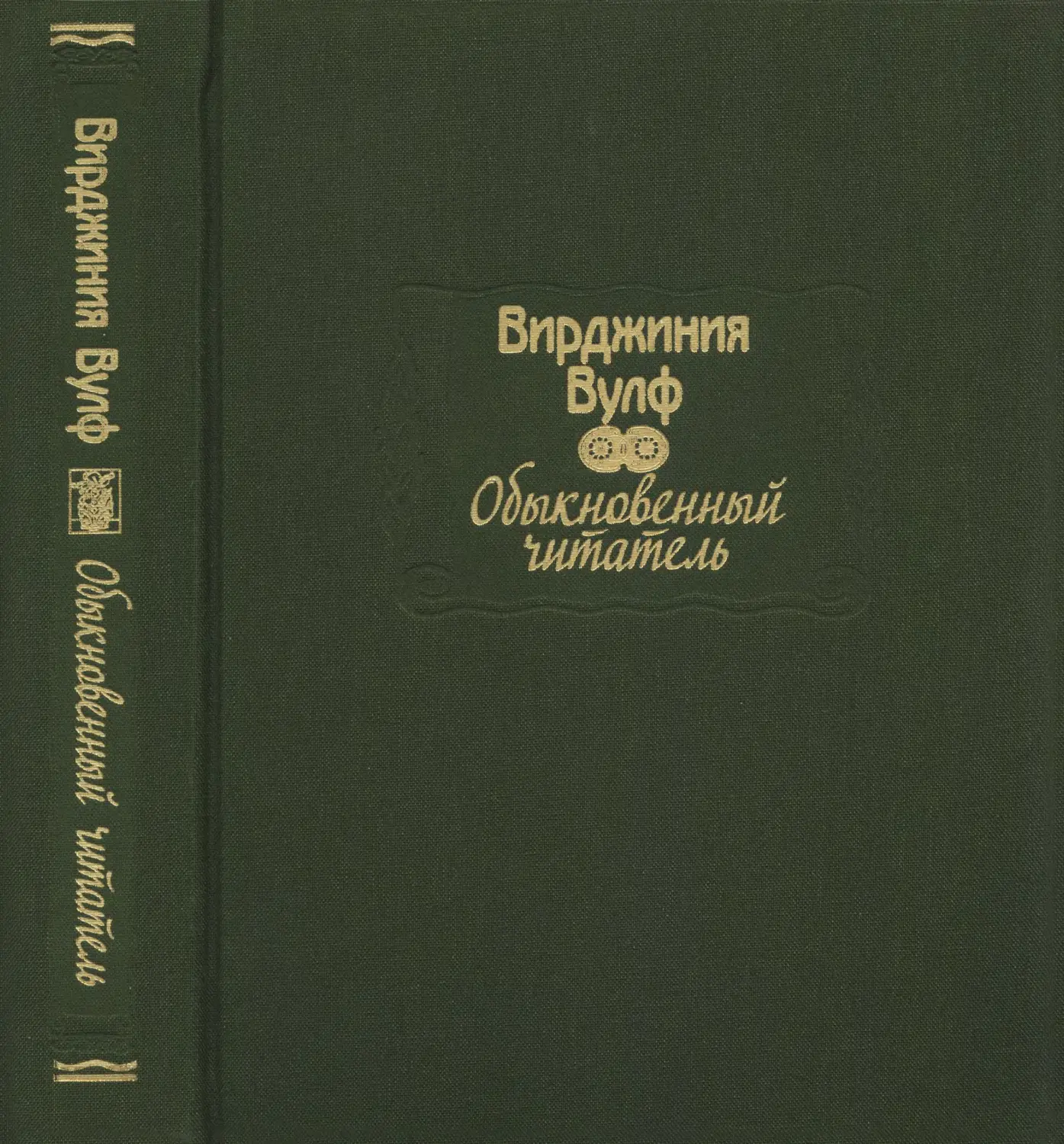Автор: Вулф В.
Теги: художественная литература на английском языке история и критика мировой литературы и литературы отдельных стран художественная литература литературные памятники
ISBN: 978-5-02-037542-0
Год: 2012
Текст
Вирджиния Вулф.
Фотография 1925 г.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ
Virginia
VF
• •
The Commm
tmdeï
Вирджиния
Вулф
ОомжкшияА
Шпамиь
Издание подготовила
Н.И. РЕЙНГОЛЬД
МОСКВА НАУКА 2012
УДК 821.111
ББК 83.3(4Англ)
В88
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ СЕРИИ
«ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПАМЯТНИКИ»
М.Л. Андреев, В.Е. Багно (заместитель председателя),
В.И. Васильев, А.Н. Горбунов, Р.Ю. Данилевский, Н.Я. Дьяконова,
Б.Ф. Егоров (заместитель председателя), Н.Н. Казанский,
Н.В. Корниенко (заместитель председателя),
А.Б. Куделин (председатель), А.В. Лавров, И.В. Лукьянеи,
Ю.С. Осипов, М.А. Островский, И.Г. Птушкина, Ю.А. Рыжов,
И.М. Стеблин-Каменский, Е.В. Халтрин-Халтурина (ученый секретарь),
А.К. Шапошников, СО. Шмидт
Ответственный редактор
А.Н. ГОРБУНОВ
Серия основана академиком
СИ. ВАВИЛОВЫМ
ISBN 978-5-02-037542-0 © Рейнгольд Н.И., составление, перевод, статьи,
примечания, 2012
О Российская академия наук и издательство «Наука»,
серия «Литературные памятники» (разработка,
оформление), 1948 (год основания), 2012
О Редакционно-издательское оформление.
Издательство «Наука», 2012
Обыкновенный
читатель
...Мне доставляет радость общаться с обыкновенным читателем,
ибо в конечном итоге это благодаря его здравому смыслу, его не
испорченному литературными пристрастиями вкусу, судят люди
о праве поэта на поэтические лавры: за ним последнее слово,
после того как умолкнет суд тонких ценителей художественности
и несгибаемых приверженцев науки.
Сэмюэл Джонсон. Жизнеописание Грея
1925
Литтону Стречи
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
У Сэмюэла Джонсона в его «Жизнеописании Грея»1 есть фраза,
достойная того, чтобы вынести ее на стену если не каждой домашней библиотеки -
это громко сказано, - то уж точно каждой комнаты, где тесно от книг и где
люди обычно проводят время за чтением. Вот эта фраза: «...мне
доставляет радость общаться с обыкновенным читателем, ибо в конечном итоге это
благодаря его здравому смыслу, его не испорченному литературными
пристрастиями вкусу, судят люди о праве поэта на поэтические лавры: за ним
последнее слово, после того как умолкнет суд тонких ценителей
художественности и несгибаемых приверженцев науки»2. В этом проницательном
наблюдении Джонсона скрыта точная характеристика природы читателя; к
тому же оно наделяет особым смыслом - как бы осеняет знаком
благоволения мэтра - невинное, хотя и весьма сомнительное времяпрепровождение:
ведь чтение книг, поглощая уйму времени, кажется, не оставляет никаких
вещественных следов.
Не путайте! - словно отделяя одно от другого, уточняет Джонсон:
обыкновенный читатель - это не критик и не ученый. Во-первых, он не так
хорошо образован, как они, а во-вторых, природа не одарила его теми
щедротами, какими осыпала при рождении этих счастливчиков. Читает он в свое
удовольствие, а не ради того чтобы поделиться знаниями или уличить
собратьев в неправильном суждении. Главное же, в отличие от критика и
ученого, читатель вечно стремится по наитию, неведомо из какого сора, сам для
себя создать нечто целостное: то соберет из обрывочных впечатлений
портрет, то набросает черты эпохи, то выведет целую теорию писательского
ремесла. Поглощенный чтением, он день за днем словно ткет полотно - пусть
оно не очень ладно скроено, местами лежит косо, кое-где просвечивает, как
рядно, зато занятие это каждый раз доставляет ему минутную радость от
того, что получается похоже: хочется полюбоваться, засмеяться, поспорить.
Да, он торопится, допускает неточности, он враг последовательности -
сегодня хватается за стихотворение, назавтра его увлекает какая-то старинная
диковинная форма, ему неважно, откуда они, с чем их едят, главное, они ему
в строку, складываются в единую картину. Ясно, что высокая критика здесь
и не ночевала. Однако если, как утверждает Джонсон, слово обыкновенного
читателя берут, тем не менее, в расчет при окончательном определении
поэтических достоинств, если, при всей внешней необязательности и ничтож-
8
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ности, оно не только не тонет в общем хоре голосов, а, напротив, звучит
полновесно в заключительном аккорде ценителей литературы, то, согласитесь,
слово это, видимо, стоит подхватить, развить и записать.
пэстоны И ЧОСЕР*
Удивительно, но тридцатиметровая башня Кэстер-Касла по-прежнему
далеко видна окрест, а в стене старой крепости даже сохранился сводчатый
проем, через который когда-то выходили в открытое море баржи сэра
Джона Фэстолфа, отправляясь на каменоломни за строительным материалом для
будущего замка. Верх башни, правда, давно облюбовали галки, а от самой
постройки, занимавшей когда-то целых шесть акров земли, остались только
полуразрушенные зубчатые стены, местами иссеченные амбразурами, за
которыми, понятное дело, давно уже не прячутся лучники, а стенам крепости
давно не угрожает ничья артиллерия. Да что там артиллерия! Не видать и не
слыхать даже тех «семерых мужей священнического сана» и «семерых
бедняков», которым надлежало читать заупокойную по сэру Джону и его
предкам. Одни развалины кругом! Как и почему так получилось, предоставим
гадать и обсуждать любителям древности.
Впрочем, это не единственные развалины: неподалеку от старого
замка лежат руины Бромхольмского монастыря, где, как и следовало ожидать,
похоронен Джон Пэстон, благо его поместье находилось всего в
какой-нибудь миле отсюда, у моря, и в двадцати милях к северу от Норича. С моря
монастырь труднодоступен, а с суши и подавно - даже в наши дни
добраться до него не представляется возможным. Тем не менее поток паломников,
устремлявшихся в Бромхольм, не пересыхал: скольких жаждавших увидеть
собственными глазами маленький кусочек дерева - подлинную частицу
Креста! - перевидал на своем веку монастырь и скольким слепым раскрыл
глаза, а калек поставил на ноги - не перечесть! Острый взгляд иных
обретших зрение паломников подмечал не только священные реликвии, но и
вопиющее безобразие: на могиле Джона Пэстона в Бромхольмском монастыре
как не было, так и нет надгробного камня. По округе поползли слухи: дом
Пэстонов пошатнулся, эти сильные мира сего уже не столь могущественны,
как раньше, если не могут позволить себе такую малость, как положить
камень в изголовье Джона Пэстона-старшего. Вот и вдова его Маргарет
задерживает должок, еще бы, ведь у старшего сына сэра Джона на уме одни
женщины да рыцарские турниры, на которые он спускает отцовские денежки,
* «Семейная переписка Пэстонов». Под ред. д-ра Джеймса Гэрднера. В 4-х т. 1904 г. (Примеч.
Вулф).
Пэстоны и Чосер
9
а младший (кстати, тоже Джон), хоть и не лишен рачительности, думает
больше об охоте, чем об урожае.
Конечно, паломникам верить нельзя: разве можно доверять словам людей,
у которых впервые открылись глаза при виде кусочка Креста Господня? Тем не
менее пущенный ими слух восприняли с интересом: дело в том, что Пэстоны
не были потомственными баронами; соседи помнили, что они выскочили «из
грязи в князи», поговаривали, что еще не так давно Пэстоны были простыми
крестьянами. Во всяком случае, имелись живые свидетели того, как дед Джона
Клемент своими руками возделывал землю и как уже потом сын Клемента
Уильям1 стал судьей и землю эту купил, а сын Уильяма Джон женился на богатой
и знатной и прикупил еще земли, а впоследствии получил в наследство и новый
замок в Кэстере с прилегающими угодьями и в придачу все земли сэра Джона
Фэстолфа в Норфолке и Саффолке. Шептались даже, что Джон подделал
завещание тестя, потомственного рыцаря. Неудивительно, болтали злые языки, что
у него на могиле до сих пор нет креста.
Впрочем, мало ли о чем люди болтают, а если судить по семейному
архиву Пэстонов, по их письмам, в которых раскрывается личность старшего
сына Джона, сэра Джона Пэстона, если оценить его воспитание, окружение,
взаимоотношения с отцом, то мы увидим, какое это было непростое дело -
поставить надгробный памятник отцу, и почему сына постоянно что-то
отвлекало от его святой обязанности.
Представим на минуту, что мы вдруг очутились в Богом забытой дыре
на окраине Англии: сидим одни в промозглом каменном доме - ни телефона
тебе, ни ванной, без водопровода, без уютных кресел и привычных газет. Все,
что у нас есть, это несколько книг - тяжелых дорогих фолиантов, причем и
те добыты с большим трудом, - вот и все развлечения. В окна нового, еще
не обжитого дома виднеются кое-где обработанные участки земли, какие-то
лачуги, да еще море вдали, а вокруг, покуда хватит глаз, тянется необъятная
гать. По ней идет единственная дорога, но и она, по словам работника с
фермы, просела: ровно посередине образовалась ямища - впору карете
провалиться. А еще, говорят, в лесу видели полуголого Тома Топкрофта,
безумного кирпичника: видно, опять помешался и теперь его не поймать - грозится
порешить всякого, кто осмелится к нему подойти... И так все вечера: в трубе
завывает ветер, по комнатам гуляют сквозняки, а они сидят за ужином и
пугают друг друга страшными историями. С заходом солнца слуги запирают
все входы и выходы, начинаются долгие унылые сумерки, а потом эти
несчастные запуганные мужчины и женщины, вооружившись внутренне
против напастей, поджидающих их на каждом шагу, опускаются благочестиво
на колени и молятся.
Но в пятнадцатом веке этот безрадостный дикий пейзаж начал
понемногу оживляться, благодаря пробивавшейся там и сям новехонькой каменной
кладке. Представляете: среди песчаных дюн и вересковых пустошей,
безраздельно властвующих на побережье графства Норфолк, вырос, словно из-под
10
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
земли, огромный каменный дворец, похожий на современный отель для
отдыхающих на каком-нибудь модном курорте вроде Ярмута. Правда, ни
площади, ни коттеджей, которые можно снять на пару недель, ни даже причала в тех
местах в то далекое время не было и в помине, и все это белокаменное
великолепие при въезде в город предназначалось для одного-единственного
бездетного господина - сэра Джона Фэстолфа, участника битвы при Ажинкуре2
и обладателя громадного состояния. Военной славы он, однако, не снискал:
полководцы оставались глухи к его советам, за его спиной говорили
колкости, он же, не пропуская ни одного замечания в свой адрес, терпеливо сносил
обиды, и от сознания безысходности у него все сильнее разливалась желчь.
Он был уже не молод, ожесточен в душе, но, как и встарь, горяч, вспыльчив и
властолюбив. Где бы он ни находился, на поле брани или при дворе, им
владела одна лишь страсть: вернуться на родину в Кэстер, обосноваться на земле
предков, выстроить большой дом и зажить в свое удовольствие.
Когда в воздух поднялись строительные леса и закипела работа,
Пэстоны были еще совсем юными и с самых первых своих шагов слышали
от отца (а Джон Пэстон отвечал за участок стройки) про камень, про то, как
продвигается строительство, про баржи, которым давно пора вернуться с
грузом из Лондона, про двадцать шесть личных покоев, про зал и про
часовню, цокольные этажи, чертежи и плутов-работников. Потом, через
много лет, уже взрослыми, они собственными глазами увидят собранные в
замке сокровища: случится это в 1454 году, в год окончания строительства и
воцарения сэра Джона Фэстолфа в своем родовом поместье. Они увидят
и им врежутся в память ломящиеся от золотой и серебряной посуды
столы. До отказа набитые комоды - платьями из бархата и атласа,
парчовыми скатертями, плащами с капюшонами, накидками, бобровыми шапками,
кожаными и бархатными жилетами. Горы пуховых подушек в наволочках
из зеленого и алого шелка. Покои с расшитыми занавесями. Широкие
кровати, стены спален, увешанные гобеленами, изображающими осаду
крепостей, охоту, господ на рыбалке, лучников со стрелами, дам, перебирающих
пальчиками струны арф, играющих на пруду с уточками, и еще великана
«с медвежьей лапой в руке»3. Чем не плоды разумно прожитой жизни?
Истинная цель человечества в том и состоит, чтобы покупать землю,
застраивать ее роскошными домами, свозя туда золотую и серебряную утварь (ну и
что с того, что нужник устроен прямо в спальне?). Именно этому
изнуряющему душу занятию посвятили большую часть жизни г-н и г-жа Пэстоны.
Страстью к накопительству страдали абсолютно все, и ни на минуту нельзя
было быть уверенным в сохранности своей собственности: только дурак или
слепой мог полагать, что он в безопасности. Особенно большому риску
подвергались отдаленные части владений. Скажем, герцог Норфолк мог легко
позариться на дальнюю усадьбу, а герцогу Саффолку могла приглянуться та,
что поближе. Резон же всегда найдется: пустит кто-нибудь пустой слушок
про то, что Пэстоны - из крестьян, вот тебе и повод захватить в отсутствие
Пэстоны и Чосер
11
хозяина их дом и умыкнуть с трудом нажитое добро. А разве возможно,
чтобы владелец Пэстона и Маутби, Дрейтона и Грешема находился
одновременно в пяти-шести местах, особенно нынче, когда ему отошел Кэстер-Касл и
он вынужден безотлучно находиться в Лондоне, пытаясь получить от короля
признание законности его прав собственности? Добиться же аудиенции у Его
Высочества не просто: король-то, сказывают, чудит - то собственное дитя не
узнает, то пускается в бега; в стране, того гляди, вспыхнет гражданская война.
А если случатся беспорядки, Норфолк в стороне не останется: местные бароны
обязательно ввяжутся в драку, графство-то - одно из самых беспокойных. Уж
кто-кто, а госпожа Пэстон могла бы при желании рассказать своим детям,
какого страху натерпелась в молодости, когда в Грешем посреди ночи ворвалась
дикая толпа мужланов, вооруженных луками и стрелами, с пылающими
головнями, и стала крушить все подряд на своем пути, а потом забаррикадировала
комнату, в которой она сидела одна, ни жива ни мертва от страху. Хотя с
женщинами и не такое случается в жизни, так что на судьбу госпожа Пэстон не
жаловалась и героиней себя не считала. Она вообще не писала о себе: в
длинных подробных, выведенных старательной рукой письмах мужу, который, как
всегда, был в отъезде, о ней самой нет ни слова - все о хлопотах по хозяйству:
то овцы попортили сено, то подручные Хейдена и Тадденема не вышли на
работу; то прорвало плотину, то украли вола. И еще у них кончились запасы
патоки, и потом - ей действительно нужна материя на платье.
Обратим внимание: о себе госпожа Пэстон не рассказывает.
Можно легко представить, какую картину наблюдали чуть не каждый
день юные Пэстоны: их мать часами исписывает страницу за страницей или
диктует местному писарю длинные-предлинные письма; и им в голову не
приходит оторвать родительницу от серьезного важного занятия: еще бы,
это был бы великий грех! Откуда же взяться в материнских посланиях отцу
детскому лепету, стишкам, школьным словечкам? Их нет и в помине: ведь
ее так называемые письма - это на самом деле отчеты добросовестного
управляющего своему хозяину, а у отчетов одна цель - объяснить, спросить
совета, сообщить новости, рассказать, на что потрачены деньги. Вот
Маргарет и старается, объясняет: на прошлой неделе у них случились ограбление
и убийство, арендаторы задержали выплату ренты, так что Ричарду Калле
удалось собрать меньше денег, чем они рассчитывали и т.д. и т.п. За
нескончаемыми хлопотами у Маргарет все никак не доходили руки до главной
обязанности, вмененной мужем: составить опись нажитого ими добра. Это
только на словах хорошо советовать не утруждать себя мирскими заботами,
как, бывало, это делала старуха Агнесса, строго указывая сыну в письмах:
«Помните, все суета сует. Недаром ваш отец говорил: "В малых трудах
много покоя"4. Сей мир - это юдоль страданий, и, оставляя ее, мы берем с собой
лишь наши добрые или дурные поступки»5.
Мысль о смерти действовала отрезвляюще. Так, старик Фэстолф, когда
почувствовал, что конец близок, и понял, что с его богатством рая ему не
12
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
видать, как своих ушей, стал живо рисовать в своем воображении геенну
огненную, и от этой жуткой перспективы он срывался на крик, исступленно
приказывая душеприказчикам не скупиться и уплатить священникам на
много лет вперед, чтоб те поминали его в своих молитвах in perpetuum*, надеясь
хотя бы таким способом отдалить муки чистилища. Судья Уильям Пэстон
тоже умолял не отпускать монахов из Норича сразу после похорон, а
упросить их остаться и молиться за упокой его души «во веки». С душой шутить
нельзя - это не игрушка, она, как живое тело, способна корчиться в вечных
муках, и снедающий ее огонь так же свиреп, как и пламя, что жарит у тебя в
очаге. И покуда это так, да пребудут во веки веков монахи, и город Норич,
и городская часовня Божьей Матери. Что и говорить, тогдашние суждения о
жизни и смерти были на редкость здравыми и твердыми.
Вся жизнь была расчерчена наперед, и детей воспитывали
соответственно заведенному порядку: то есть их нещадно колотили, чтоб каждый отрок
знал свое место; им вбивали в голову, что главная цель в жизни состоит в
преумножении земельной собственности и послушании родителям. Во
исполнение этой задачи каждой матери надлежало трижды в день награждать
дочь колотушками, а если та осмеливалась ослушаться, ее больно щипали.
Так, железной рукой, воспитывала свою дочь Елизавету Агнесса Пэстон,
родовитая знатная дама- не чета Маргарет Пэстон: та, к сожалению, дала
слабину, по собственной доброте, и что получилось? - дочь влюбилась в
управляющего имением Ричарда Калле и матери ничего не оставалось, как
выгнать ее из дому, хоть он и честный малый. Противились неравному браку
прежде всего братья: им казалась невыносимой мысль, что их родная сестра
будет «торговать свечами и горчицей на Фрэмлингеме»6. Отец же с
сыновьями был на ножах, и мать постоянно оказывалась между двух огней: сыновья
ей были милее дочек, а закон обязывал ее во всем слушаться мужа, -
выступать в этих условиях хранительницей мира в семье было невероятно трудно.
Как только ни выкручивалась Маргарет, стараясь предотвратить очередную
семейную ссору, - не допустить, чтобы старший сын Джон задел отца и,
наоборот, не дать отцу обидеть грубым словом их первенца! Глава семейства
то и дело взрывался, называя Джона «трутнем»: «...пока пчелы трудятся,
собирая по капле нектар в полях, трутень ничегошеньки не делает, зато
полакомиться готовым медом куда как горазд»7. В ответ сын все больше наглел,
а найти на него управу родители не могли: не было такого закона.
Конец семейной ссоре положила скоропостижная смерть отца, Джона Пэ-
стона-старшего: он умер в Лондоне 22 мая 1466 года, и гроб с телом
покойного привезли в Бромхольм, чтобы предать монастырской земле. Катафалк
сопровождали двенадцать слуг: выбиваясь из последних сил, они тащились
всю дорогу от Лондона, без остановки, только успевая менять зажженные
факелы. В день похорон, как принято, раздали милостыню, отслужили за-
* На вечные времена {лат.).
Пэстоны и Чосер
13
упокойную мессу, панихиду; отзвонили колокола. Были устроены богатые
поминки: гостей обносили блюдами из птицы, баранины, свинины,
потчевали их яйцами, хлебом и сливками, эль и вино текли рекой, а свеч сожгли
столько, что в церкви пришлось выставить две оконные рамы, чтоб
выветрился запах свечной гари. Беднякам раздали черную ткань по случаю
траура, и на могиле зажгли лампаду. Но с надгробным памятником отцу Джон
Пэстон-младший, - наследник - почему-то не спешил.
Когда умер отец, ему только-только исполнилось двадцать четыре -
совсем молодой человек! Он всегда тяготился размеренной сельской жизнью,
находя ее рутинной, и еще подростком, возмечтав о карьере придворного, он
убежал из родительского дома, чем и навлек на себя гнев отца. Но что бы ни
говорили злые языки о крови Пэстонов, а новоиспеченный владелец Кэстер-
Касла молодой сэр Джон был истинным джентльменом: богатый
землевладелец, законный наследник, обладатель всех тех лакомых сокровищ,
которые по крохам собирали, копили долгие годы его трудолюбивые
рачительные предки, - он, в отличие от них, был гораздо больше поглощен
радостями жизни, нежели заботами о преумножении богатства; к тому же, наряду с
бережливостью, унаследованной от матери, он странным образом был весь
в отца какой-то неукротимой амбицией. При этом сэр Джон оставался
самим собой: натурой широкой, склонной к праздности и веселью. Женщины
были от него без ума, он обожал светское общество; турниры, придворные
интриги, пари - вот его стихия! А еще он частенько читал книги.
Естественно, после смерти отца жизнь пошла совсем другая. Правда, внешне мало
что изменилось: бразды правления по-прежнему были у Маргарет, и она,
как раньше управлялась со старшими детьми, так и продолжала
воспитывать младших. Мальчишек розгами засаживала за ученье, чтоб набирались
от учителей уму-разуму; девчонок, которые вечно влюблялись не в тех, в
кого надо, направляла на верный путь и выдавала замуж за кого следует.
Билась с арендаторами, чтоб те вовремя платили, поскольку уйму денег
съедала тяжба за собственность Фэстолфа, которая тянулась годами, и конца ей
было не видно. Как, впрочем, и военным действиям: распря между домами
Йорков и Ланкастеров то затухала, то вспыхивала с новой силой. В округе
было неспокойно: Норфолк был наводнен беднотой, которая только и ждала
случая, чтоб сорвать на ком-нибудь недовольство, - в общем, отдыхать было
некогда и Маргарет трудилась, не покладая рук; только если раньше она это
делала ради мужа, то теперь на первом месте был сын, и если раньше она во
всем советовалась с мужем, то теперь ее советчиком выступал духовник.
Но хотя внешне все вроде бы осталось по-старому, внутренне жизнь
преобразилась. Такое впечатление, что кокон отвердел и по инерции висит на
прежнем месте, но внутри него бьется новая жизнь, чувственная и пылкая.
Недаром письма сэра Джона своему младшему тезке, живущему в Кэстере,
пестрят шутками, светскими сплетнями, пополам с деловыми новостями, и
частенько старший брат, как более опытный и искушенный дамский угод-
14
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ник, советует младшему, как тоньше повести себя в делах амурных. «При
матери скромничай, сколько тебе угодно, а с девицами особо скромничать
не надо, но и спешить тоже не след, и если не добился толку, не горюй.
И помни: я - твой лучший посредник, положись во всем на меня, где бы ты
с ней ни встретился - здесь, в Лондоне, или дома. Кстати, дома я надеюсь
быть самое позднее через одиннадцать дней»8. И дальше без перехода - про
сокола на охоте, про новую шляпу, про шелковое жабо для брата Джона, про
затянувшуюся тяжбу, и дальше по новому кругу, все напористей, все
бесшабашней: про то, как высоко пустил сокола, и про то, как «подмазывал»
судейских в земельной тяжбе Пэстонов...
На отцовской могиле давно уже погасла лампада, а сэр Джон все медлил,
все тянул с установкой надгробного памятника. И не то чтобы
беспричинно - нет, у него действительно было много дел: бесконечная тяжба,
служба при дворе, хозяйственные хлопоты, вызванные междоусобицей, все это
отвлекало и требовало немалых денежных средств. Но как бы ни пенял сэр
Джон на внешние обстоятельства, все равно главная причина крылась в нем
самом, в его любви к невинным утехам и прелестям лондонской жизни.
И разве не то же самое происходило с его сестрой Марджери, влюбившейся
в управляющего, и с Уолтером, который, учась в Итоне, увлекся сочинением
латинских стихов, и Джоном, что завел в Пэстоне соколиную охоту? Все они
жили в предвкушении радостей жизни. В отличие от старшего поколения,
они не были твердо уверены, в чем именно состоят права человека и долг его
перед Господом, какие ужасы уготованы грешникам после смерти и зачем
нужны надгробные камни. Перемена эта не могла укрыться от зоркого
взгляда Маргарет Пэстон, которая, на свое несчастье, пережила мужа и теперь
пыталась разобраться в причинах беспокойства, используя старое
проверенное средство - перо, которым она исписала немало страниц и исправила не
одну закавыку. Ее угнетала не тяжба (если понадобится, она
собственноручно станет защищать Кэстер, «хотя никогда не командовала солдатами»9), -
нет, ее пугала мысль о семье, с которой происходит что-то неладное с тех
пор, как не стало ее дорогого господина. Возможно, сын не достаточно
послушен Господу, выказывает слишком много гордыни, тратится на дорогие
подарки, а нищим на паперти не подает. Да мало ли какой грешок за ним
водится! Одно она знала твердо: сэр Джон тратит вдвое больше, чем его
отец, но и убытков терпит несравнимо больше; теперь они
расплачиваются с долгами чуть ли не землей, лесом и нажитым добром («как подумаю об
этом, так жить не хочется»10), а злые языки все клянут их за неуважение к
памяти Джона Пэстона. Конечно, семья давно могла бы поставить супругу
и отцу надгробный памятник, но все деньги, вырученные от продажи леса,
старинных кубков и гобеленов, уходят у сэра Джона на покупку всяких
новомодных глупостей - часов, безделушек или, того хуже, списков с
«Трактатов о рыцарстве», которые он заказывает какому-то лондонскому пройдохе
писарю. Вон их сколько скопилось в доме Пэстонов - целых одиннадцать
Пэстоны и Чосер
15
фолиантов, вместе со стихами Лидгейта11 и Чосера12: стоят в шкафу,
источая вокруг едва уловимый дух, абсолютно чуждый строгой атмосфере их
дома, - он, этот дух, как отрава, вселяется в мужчин, размягчает их волю,
делает их праздными, тщеславными, отвлекает от главного дела жизни -
преумножения семейного достатка, собственности, и вынуждает
легкомысленно относиться к священному долгу перед предками.
Сколько раз (сама видела!) сэр Джон засиживался за книгой среди бела
дня, вместо того чтобы ехать осматривать посевы или торговаться с
арендаторами. Бывало, усядется на жестком стуле возле окна и читает своего
Чосера - и дела ему нет, что в комнате уныло и пусто, что по дому гуляют
сквозняки и дым из трубы ест глаза: мысли его далеко, он замечтался,
неужели так опьяняюще действуют книги? Жизнь идет своим чередом -
грубая, безрадостная, однообразная, ничего не происходит. Трудишься денно и
нощно, а работе конца и края не видно: что дождю, барабанящему по крыше
за окном. А в стихах Лидгейта и Чосера все предстает свежим и выпуклым,
промытым, как стекло - тот же дождь, то же небо, поля, все, что когда-то
знал или видел: точно смотришь в зеркало и видишь, как молча, медленно,
завораживающе двигаются перед тобой фигуры. И не надо подолгу ждать
новостей из Лондона или напряженно вслушиваться в пересуды матери,
чтобы составить из обрывков фраз трагическую историю любви или сцену
ревности - вот он, готовый рассказ: лежит перед тобой на странице, как на
блюдечке. И потом он еще не раз, сидя за столом или скача верхом, вспомнит
какую-то сцену или фразу из прочитанного и поразится тому, насколько
точно выражает она его мысль или теперешнее состояние, и, словно
обожженный воспоминанием, он заспешит домой, отложив все дела, и схватится за
книгу, торопясь узнать, чем же все закончилось.
Удивительно, но нам и сегодня, когда читаем Чосера, не терпится узнать,
чем же закончится история. Чосер прежде всего великолепный рассказчик
каких мало, каких, увы, сегодня среди современных писателей просто нет.
У нас вообще все не так, как у предшественников: нас не занимает фабула;
даже если мы и рассказываем историю, на самом деле мы в нее не верим -
возможно, потому, что нас интересует другое и нам есть что сказать на эту
тему. Видимо, поэтому прирожденные рассказчики, такие как г-н Гарнет13,
сегодня почти перевелись и остались одни беллетристы, вроде г-на Мейс-
филда14. Это ведь особое искусство - искусство рассказчика: тут, кроме
страсти к фактам, нужно уметь так вести нить рассказа, чтобы ничего не
скомкать, не потерять главную линию. У читателя должно быть время
остановиться, оглядеться, подумать, и при этом ему не терпится узнать, что было
дальше. Чосеру, конечно, повезло с эпохой, и вдобавок у него перед
современными поэтами есть большое преимущество, которого им уже больше
никогда не видать: ему довелось жить в стране, не испорченной цивилизацией.
Только подумать: перед его взором расстилалась не тронутая, не искоре-
16
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
женная земля, сплошным зеленым ковром стелились травы, вставал стеной
лес - и только кое-где эту идиллию нарушали островки селений да замки в
строительных лесах. Ни тебе венца крыши над верхушками деревьев в
Кенте, ни дымящейся фабричной трубы на склоне. А ведь пейзаж, согласитесь,
играет в творчестве не последнюю роль: вспомним, как часто прибегают
поэты к картинам природы, создавая образ или передавая смену настроения, не
говоря уже о прямых пейзажных зарисовках в слове. Современный же поэт,
привыкший к урбанистическому пейзажу Бирмингема, Манчестера,
Лондона, воспринимает мир природы как чистейший родник нравственности,
тогда как город представляется ему вертепом. Это, конечно, иллюзия,
пустая фантазия - разве можно где-то спрятаться и проповедовать невинность
и добродетель? Уже у Вордсворта ощущается что-то болезненное в том,
с каким благоговейным трепетом относится он к Природе, а человеческим
общением пренебрегает15. Еще более явно этот сдвиг наблюдается у Тенни-
сона в его скрупулезных, почти научных зарисовках: кажется, поэт чуть ли
не с лупой в руке всматривается в малейшие изгибы лепестков роз и
бутоны лимонных деревьев - настолько предан он природе. А ведь мы говорим
о лучших мастерах, о великих художниках слова: природа для них - это не
ювелирный магазин, не антикварная лавка и не кунсткамера, где
выставлены экземпляры, к которым поэт обязан подобрать названия поизощренней,
позамысловатей. А что же говорить о менее талантливых? Им приходится
довольствоваться крохами: в их арсенале несколько плоских видов, сухое
птичье гнездо, горстка сморщенных каштанов, выписанных с дотошной
натуралистичностью. А что им еще остается, когда пейзаж безнадежно
испорчен, и вместо цветущего сада или луга их глазу открывается голая равнина и
отвесная скала? Нет больше перспективы.
Чосеру же природа рисовалась безмерной и настолько непокорной, что
он относился к ней даже с некоторой опаской. Бури и горные вершины его
не вдохновляли - как будто с ними были связаны тяжелые переживания и
он, по наитию избегая резких переходов, тянулся к светлому майскому дню,
когда природа улыбается и все вокруг расцветает. Живописать словом, как
умеют современные поэты, - это не про него, зато, если присмотреться
внимательней, ему нет равных в умении несколькими словами, без единого
эпитета создать ощущение воздуха, открытого пространства.
И травы мягче, и цветы душистей16, -
этим все сказано.
Суровая, неукротимая природа у Чосера отнюдь не служит
отражением внутреннего состояния человека - счастья или, наоборот, печали. Она
сама по себе; и, хотя порой ее простоватость раздражает, присутствие ее
ощущается на каждой странице: так она свежа, цельна и самодостаточна.
Впрочем, нас увлекают не только веселость и красочная пестрота
средневековой природы, но и прущая из земли жизнестойкость, бьющее через край
Пэстоны и Чосер
17
жизнелюбие чосеровских персонажей. Их в «Кентерберийских рассказах»
великое множество, но что интересно, сквозь все это разнообразие
пробивается один главный тип. Да, Чосер создал свой мир, он населил его юношами
и молодыми женщинами, сообразно собственному представлению о людях,
и, если вдруг одно из его созданий забредет случайно на шекспировскую
территорию, мы моментально определим его как чосеровский тип, а не
шекспировский. Скажем, решил Чосер описать молодую женщину и вот какой
она предстает под его пером:
Искусно сплоенное покрывало,
Высокий чистый лоб ей облекало.
Точеный нос, приветливые губки
И в рамке алой крохотные зубки,
Глаза прозрачны, серы, как стекло, -
Все взор в ней радовало и влекло17.
Дальше он начинает прорабатывать детали: она еще ребенок, девственница,
равнодушна к мужским ласкам:
В твоей я свите (знаешь хорошо ты)
Люблю свершать веселую охоту;
Меня влечет бродить в лесной чащобе,
А не детей вынашивать в утробе,
И не ищу я близости к мужчине18.
Поясняет:
Она, хотя умом не уступала
Самой Палладе, говорила мало.
Пустопорожних слов ее уста
На ветер не кидали никогда;
Нет, речь ее звучала благородно,
Проникнутая прелестью природной 19.
На самом деле, здесь приведен не один отрывок, а три разных, причем
взяты они из трех разных рассказов, и все равно, когда читаешь, трудно
отрешиться от мысли, что это части единого целого, разные описания одного
и того же персонажа, который, видимо, бессознательно всплывал в
воображении Чосера при мысли о молодой женщине: ведь недаром, стоит ей
только снова появиться в «Кентерберийских рассказах», пусть даже под другим
именем, как мы вспоминаем о ней как о старой знакомой. Такое возможно
лишь в том случае, если у поэта сложилось стойкое представление о
молодых женщинах и о том, в каком мире они живут, и куда идет этот мир,
и что он собой представляет, и о себе, о своем ремесле, о секретах своей
техники, - только так поэт оказывается волен лепить из материала все, что
ему вздумается. Чосеру и в голову не приходило приукрасить свою Гри-
зельду или вылепить ее иначе, чем он наблюдал ее в жизни. Нигде ничего
не смазано, во всем видна твердая рука мастера: ее образ никому ничего
не доказывает, она такая, какая есть, - и точка. Поэтому ее вспоминаешь
18
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
машинально, невзначай, как живого человека, и начинаешь мысленно
достраивать ее образ, наделять такими качествами, каких у нее, скорей всего,
и нет. Вот какова сила убеждения! Художественная убедительность- это
редчайший дар: из современных писателей по-настоящему убедителен один
Конрад, и то лишь в ранних своих вещах, а ведь умение убеждать - это
наиважнейший в искусстве закон: основа основ. Стоит только раз поверить в
героев Чосера, и у нас пропадает всякое желание что-то кому-то доказывать,
с чем-то бороться. Мы же знаем, что для Чосера есть добро, а что зло: так
зачем тратить слова? Пусть он лучше рассказывает дальше свою историю,
описывает рыцарей и сквайров, хороших жен и так себе, кухарок, моряков,
священников, а мы уж сами как-нибудь дорисуем пейзаж, придадим
паломникам жизненную достоверность, наделим их философией жизни и смерти и
превратим их веселое путешествие в Кентербери в паломничество к святым
местам и в богоискательство.
В те времена читателю было проще проникнуться доверием к Чосеру,
нежели нам сейчас, по той простой причине, что автору «Кентерберийских
рассказов» были не ведомы наши умолчание и фигуры речи. Он писал
откровенно, напрямую, свободно беря любую, нужную ему ноту в языке, и
его едва ли когда-то посещало разочарование, знакомое каждому
музыканту, когда он садится за расстроенный инструмент: он нажимает на клавишу,
а звука нет, берет еще - то же самое, тогда он ударяет сильнее и слышит
дребезжание, не в лад с остальной гармонией. У Чосера много
непристойного - пожалуй, в каждом рассказе наберется по нескольку строк, и оттого, чем
дальше читаешь, тем острее чувство, что стоишь голый на сквозняке, хотя
до этого всегда кутался. А поскольку определенная разновидность юмора
требует умения называть без всякого стеснения органы тела и обсуждать
их функции, то, согласитесь, с приходом благопристойности у литературы
словно атрофировалась одна из конечностей. Ей уже не под силу создать
батскую ткачиху20, кормилицу Джульетты21 и даже такое бледное подобие
этих двоих, как Молль Флендерс22. Непристойность у Стерна - это скорее
вынужденный камуфляж: он прикрывался ею из страха показаться
простоватым. Стерн каждым словом стремился доказать, что его конек - это
остроумие, а не юмор: он мастер тонкого намека, а не откровенных
скабрезностей. Свежий пример того же отношения к комическому - «Улисс»
Джойса23: трудно представить себе, что читатель этого романа будет хохотать от
удовольствия, как это случается с Чосером.
Но, видит бог, как вспомню я про это -
И осенью как будто снова лето.
Как в юности, все сердце обомрет,
И сладко мне, что был и мой черед,
Что жизнь свою недаром прожила я24.
Незабываемый голос чосеровской женушки так и поет у тебя в ушах.
Пэстоны и Чосер
19
Впрочем, удивительная свежесть «Кентерберийских рассказов», - а мы
по-прежнему веселимся от души, читая эту книгу, - объясняется еще одной
немаловажной подробностью. Притом что Чосер - поэт, ему и в голову не
приходило чураться прозы жизни. Кажется, какая поэзия в скотном дворе
или птичнике, загаженных навозом, усыпанных соломой, по которым
разгуливают петухи да курицы? Это не тема для поэзии! - восклицаем мы, видя, с
какой решительностью современные поэты изгоняют из своих стихов любое
упоминание о скотном дворе, если только, конечно, не переносят его в
Фессалию и не населяют мифологическими свиньями. А вот Чосер был другого
мнения: он обо всем говорил прямо -
Гуляли две свиньи у ней и хряк,
Две телки с матерью паслись на воле
И козочка, любимица всех, Молли25;
И так каждый раз:
Плетнем свой двор она огородила,
Плетень сухой канавой окружила26.
Его почему-то не смущали и не пугали «низкие» темы. Наоборот, он всегда
брал быка за рога, пристально вглядываясь в каждый предмет -
стариковский ли подбородок:
...Щетинистой своей щекой,
На рыбью чешую весьма похожей27;
или жилы на шее старика:
Все громче пел он, хрипло голося,
А шея ходуном ходила вся28.
Он всегда расскажет, во что одеты его герои, какая у каждого наружность,
кто что ест и пьет, словно поэзия только для того и существует, чтобы,
нимало себя не роняя, описывать события, происходившие не раньше не
позже, а именно во вторник 16 апреля 1387 года29. У него нет особого желания
углубляться в прошлое, в античность - в эпоху древних греков или римлян:
если он это и делает, то только если того требует сюжет. Он не любитель
рядиться в тогу патриция, скрываться под маской историка или привставать на
котурны всякий раз, когда в рассказе нужно употребить крепкое английское
словцо.
Так что хотя мы и говорим, что знаем, чем закончится путь паломников,
на самом деле, нам довольно трудно привести конкретные строки в
подтверждение своих слов. И это понятно: внимание Чосера было поглощено
дорогой, а не мечтами о лучшем будущем. Его вообще мало привлекало
философствование, а состязаться в мудрости с учеными и богословами он
отказывался, причем с какой-то забавной заносчивостью:
20
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Пусть богослов на это даст ответ,
Одно я знаю: полон муки свет30.
Что жизнь? И почему к ней люди жадны?
Сегодня с милой, завтра в бездне хладной!
Один как перст схожу в могилу я...31
«Богиня, злой кумир,
Что вечным словом сковываешь мир
И на плите из твердого алмаза
Навек законы пишешь и указы,
Мы все, твоей подвластные короне, -
Толпа овец, толкущихся в загоне»32.
Вопросы не дают покоя, он не перестает их задавать, вот только с ответами
не торопится - для этого он слишком поэт! Он оставляет их открытыми, не
настаивая на каком-то сиюминутном решении, и поэтому для новых
поколений они звучат так же взыскующе, как когда-то для него самого. Наверное,
он и в жизни плохо вписывался в ряды какой-то определенной
политической группировки, и поэтому нам трудно решить, кто он по убеждениям -
демократ ли, аристократ... Мы знаем, что он был глубоко религиозен, но это
не мешало ему насмехаться над священниками. Блестящий дипломат и
придворный, он придерживался более чем свободных взглядов на нравственную
сторону взаимоотношений полов. Нищета вызывала у него сострадание, но
ему и в голову не приходило заняться решением вопроса о благосостоянии
бедняков. Так что мы не погрешим против истины, если скажем, что ни
единым словом Чосер не повлиял на принятие какого-либо закона или на
закладку камня в основание того или иного общественного института, и тем не
менее именно с Чосером мы набираемся нравственного опыта, жадно
впитывая каждое слово. Писатели бывают двух типов: проповедники и
миряне; первые берут тебя за руку и без проволочек подводят к разгадке тайны,
а вторые не так - они облекают свои взгляды в плоть и кровь, творя целый
мир, в котором добро перемешано со злом и у добра вовсе нет особых
привилегий. К первосвященникам относятся, например, Вордсворт, Колридж,
Шелли: у них что ни стихотворение, то заповедь - можно повесить над
кроватью и читать на сон грядущий еженощно; что ни слово - то изречение,
которое нужно постичь умом и сердцем и сохранить в душе как талисман
против невзгод. Разве можно забыть эти строки:
Прощай, уединенная душа...33
Когда ты молишься за них
За всех, и малых и больших...34 -
они как заклинание или девиз - моментально всплывают в памяти. Но у Чо-
сера все не так: он дает нам полную свободу действий и выбора - мы сами
решаем, что нам делать, с кем общаться. Его философия заключается в
описании взаимоотношений обыкновенных мужчин и женщин. Мы присутству-
Пэстоны и Чосер
21
ем на их застольях, пируем вместе с ними, наблюдаем, как они ведут себя в
постели, и постепенно все это складывается в общую картину, мы невольно
проникаемся их образом мысли и без всякого указания сверху постигаем
их нравственный кодекс. Трудно вообразить более убедительную
проповедь, чем эта: когда перед тобой как на ладони развернута мозаика людских
поступков и страстей и ты волен поступать, как хочешь - подойти ближе,
всмотреться в отдельную деталь, отвлечься, задуматься о своем, не опасаясь
грозного окрика из-за плеча. Это и есть свобода диалога, искусство романа,
а сей запретный плод, как хорошо известно родителям и сотрудникам
библиотек, будет посильнее поэзии.
Итак, мы дочитали книгу до конца, и - удивительное дело! - у нас уже
готов, без всяких усилий с нашей стороны, критический комментарий: он
составился само собой из наших замечаний, размышлений, отступлений,
сделанных по ходу чтения. Причем впечатление не исчерпывается чувством
удовольствия (признаться, очень сильным) от того, что мы побывали в
приятной компании и познакомились с интересными людьми. И знаете, почему?
Всю дорогу, пока мы шли иноходью по всамделишной первозданной
равнине, слушая прибаутки и песни попутчиков, нас не покидало чувство, что
окружающая нас обстановка - притом что она почти как настоящая,
реальная наша жизнь, - все-таки есть нечто другое. Это воображаемый мир, мир
поэзии. Здесь все чуть-чуть не так, как в действительности: все происходит
быстрей, энергичней и слаженней, чем в жизни или в романе; все звучит
чуть более приподнято, более возвышенно и ровно, как бывает в речитативе.
Мы еще только собираемся с мыслями, а строки нас опережают на какую-то
долю секунды, и получается - мы читаем собственные мысли, еще не
оформившиеся в слове, согласитесь, такое бывает только в поэзии. Иные строчки
западают в душу, и ты к ним возвращаешься, перечитываешь их, снова и
снова проникаясь магией слова, что будет еще долго освещать их, подобно
ореолу. И держится весь этот грандиозный мираж, с переходами,
мостиками, связками, благодаря главному мозговому центру - мастеру композиции,
архитектору замысла. Но что интересно, хотя во всем видна направляющая
рука Чосера, доказать присутствие демиурга невозможно: цитаты здесь
бессильны. Этим Чосер отличается от большинства поэтов: те обычно легко
обнаруживают себя яркой метафорой или резким переходом. Чосер же на
удивление ровен, не спешен, не речист. Кажется, процитируй шесть-семь
строк подряд и ты уловишь нерв его стиха - ан нет! Не получается.
Вы знаете: наряд презренный мой,
Сменили вы на пышный и богатый,
Когда невестой увели с собой.
Лишь наготу и верность к вам в палаты,
Мой господин, я принесла когда-то35.
Когда этот пассаж читаешь в составе целого, он производит незабываемое
впечатление: такой неподдельной красоты исполнены слова; а если вырезать
22
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
и процитировать его отдельно, все становится плоским и безликим. Что-то
такое умел делать со словом Чосер, от чего самые банальные вещи,
прописные истины, соединенные во фразе, начинают светиться, а стоит разъять
цепочку и блеск пропадает. Получается, что, читая Чосера, мы по-особому
наслаждаемся поэзией, поскольку поэтическое переживание неотделимо от
нашего эмоционального и жизненного опыта. Когда простые человеческие
радости - есть, пить, наслаждаться майским теплом, слышать, как квохчут
на птичьем дворе курицы, кукарекает петух; разговориться с местным
мельником, старухой-крестьянкой, вдыхать запах цветов, когда, повторяю, эти
привычные занятия поданы так, что они лучатся поэзией и при этом свежи,
прозрачны, как ясный майский день, - в таком искусстве, согласитесь, есть
особая поэтическая мера. От откровенности чосеровского языка, как от
родниковой воды, ломит зубы. Нагота этих форм, ничем не прикрытых фраз,
что плывут, мерно покачиваясь, друг за другом, подобно женщинам в легких
одеждах, сквозь которые угадываются очертания тел, пленяет безыскусной
красотой и статью:
...тотчас же в сени
Поставивши с водою котелок,
Она пред ним упала на колени36.
Так и Чосер: всю дорогу он хоронится за спинами наездников, сливаясь с
общим фоном, неотличимый от ослов, лисиц и прочей живности, исподтишка
подтрунивая над людским тщеславием и суетностью жизни, а под занавес,
убегая за удаляющейся кавалькадой, показывает нам нос - насмешник,
греховодник, интеллектуал, француз, как никто понимавший толк в здоровом
английской юморе.
...Но вернемся к сэру Джону: мы оставили его одного в холодной
комнате, где он сидит себе, замечтавшись над Чосером, не замечая гуляющих по
дому сквозняков и едкого дыма, напрочь забыв о сыновнем долге -
поставить отцу памятник. Впрочем, не будем преувеличивать усидчивость
нашего героя: он не из тех, кто способен уйти с головой в книгу или задуматься
о бренности жизни. Есть натуры двойственные, пограничные, находящиеся
как бы на разломе эпох, - они принадлежат одновременно и веку
минувшему, и веку нынешнему, и оттого маются, неприкаянные. Именно таков
сэр Джон: сегодня он ищет, где бы подешевле купить книги, назавтра он и
думать забыл о книгах и, бросив матери в письме «Ничего, подождут!»37,
уезжает во Францию. Даже в собственном доме он не знал тишины и покоя:
Маргарет, его матушка, вечно пересчитывала добро, составляла описи и
часами совещалась с пастором Глуазом. За ней всегда оставалось последнее
слово, а ее жизненная стойкость и мужество были столь неоспоримы, что
ради нее, полагал он, можно снести наглость местного попика и не
позволить перерасти в открытую ссору очередной словесной перепалке, когда они
Пэстоны и Чосер
23
бросали друг другу в запальчивости: «Что, гордость заела, сквайр?»; «Что,
отец, жаба душит?» Все эти обстоятельства, помноженные на жизненные
неурядицы и безволие, вынуждали его искать развлечений на стороне,
неделями откладывать приезд, тянуть с письмами и годами оттягивать установку
камня на отцовской могиле.
Так промчались целых двенадцать лет, и все эти годы могила Джона
Пэстона стояла без надгробия. Первым не снес позора настоятель Бром-
хольмской обители: он сообщил Пэстонам, что плащаница обветшала, ему
пришлось собственноручно ее латать. Но даже это не так сильно уязвило
самолюбие Маргарет, как весть о том, что по округе ползут слухи о
неблагочестивом поведении ее семейства и что соседи - не чета Пэстонам по
знатности и богатству, - щедро жертвуют монастырю на поновление храма,
тогда как память о ее муже до сих пор не увековечена. Такого позора
Маргарет снести не могла, и под ее давлением сэр Джон, наконец, отвлекся от
турниров, Чосера и Анны Холт, этой бесстыдницы, и вспомнил о куске
золототканой парчи, которым на похоронах был покрыт отцовский гроб, и
распорядился продать его и на вырученные деньги поставить памятник. Все эти
годы Маргарет свято берегла дорогой покров, она его надежно припрятала и
предусмотрительно потратила двадцать марок на штопку. Как ни жалко ей
было расставаться с вещью, но делать нечего: отослала сыну, строго наказав
ему довести дело до конца и употребить деньги по назначению. «Смотри, -
писала она, - продашь и спустишь деньги, клянусь, не будет тебе моей веры
до конца дней моих» .
Но судьба распорядилась иначе, и сэру Джону не удалось довести это
дело до конца, как и многое другое в жизни. В 1479 году он сгоряча
отправился в Лондон утрясать спор с герцогом Саффолком, несмотря на
тревожные вести о том, что в столице свирепствует чума; там, в Лондоне, он и
скончался - один, в дешевой гостинице, - и был похоронен в церкви
францисканского ордена Белых Монахов, Уайтфраерз. По свидетельствам
очевидцев, его до последней минуты осаждали враги и кредиторы. Все, что от
него осталось - это внебрачная дочь и изрядное по тем временам число книг.
Но памятника на могиле отца сэр Джон так и не поставил.
Впрочем, судьба одного несчастного не делает погоды в семейной
истории Пэстонов: в объемистом четырехтомном издании писем жизнь сэра
Джона - это капля в море. Как любое собрание писем, эпистолярное
наследие семьи Пэстонов как бы исподволь внушает нам мысль о том, что не
следует сокрушаться о судьбах отдельных ее представителей. Жизнь семьи не
заканчивается со смертью сэра Джона - она идет своим чередом. Так уж
заведено, что год за годом копится семейная хроника, слой за слоем
оседают в письмах тысячи, казалось бы, ничтожных подробностей - крупица за
крупицей, перетираются никому не интересные сплетни и слухи. А потом
ты вдруг видишь перед собой чудо: словно просеяв не одну тонну руды,
натыкаешься на золотой слиток; так, прочитав десятки скучнейших посла-
24
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ний, вдруг отыскиваешь одно, а в нем, как в зеркале, сияет свежо и чисто
то давешнее утро: еще совсем рано и рядом с молодухами, занятыми
дойкой, шепчутся незнакомые мужчины. Или тот памятный вечер, когда на
паперти после службы жена Уорна прокляла во всеуслышание старую
Агнессу Пэстон: «Душу ее волокут черти в ад, и поделом ей!»39 А вот еще один
незабываемый штрих: осенью к сэру Джону пришла заплаканная Сесили
Дон с просьбой о теплой одежде: «Сэр, снизойдите и окажите милость: идет
зима, наступают холода, а мне нечем прикрыться, кроме того платья, что
дарит мне мой господин»40. Вот оно, время, встает из праха как живое, миг за
мигом.
Заметьте, речь не об эпистолярном мастерстве - его здесь нет и в
помине: разве стали бы Пэстоны браться за перо ради того, чтобы
выразить особое чувство радости или удовольствия, любви или близости? Все
это появится у англичан позднее, а пока, разве что в пылу гнева, острая
на язык Маргарет Пэстон может отвесить: «Здешнему человеку ничего не
стоит заживо сожрать соседа... Нам- корешки, другим- вершки...
Поспешишь- людей насмешишь: а по мне так лучше кость в горле»41.
Собственно, других поводов впасть в красноречие, кроме житейских невзгод, у
Маргарет нет. Сыновья - другое дело: те уже более гибко владеют пером:
им не чуждо чувство юмора, правда, шутят они по-прежнему плоско;
пробуют говорить намеками, хотя выходит у них это пока топорно;
пытаются разыграть сцену с разгневанным священником и, хотя это похоже на
деревенских кукольников, отрадно уже то, что они смело вводят одну-две
реплики, сказанные сгоряча святым отцом. А главное, Чосер в свою
бытность слышал именно такую речь - заземленную, без прикрас, больше
пригодную для рассказа, чем для стихов, не чуждую религиозной
высокопарности, привычную к площадному смеху и притом абсолютно глухую к
живому диалогу живых людей. Словом, из пэстоновских писем ясно,
почему Чосер написал «Кентерберийские рассказы», а не «Лира» или «Ромео
и Джульетту».
В общем, похоронили сэра Джона, и во главе семейства встал его брат,
Джон-младший, а письма как шли, так и идут. Жизнь в Пэстоне
продолжается, наперекор всему. Здесь все по-прежнему: все те же
неустроенность и неуют. Все та же привычка натягивать на грязные ноги тонкое
белье. Все так же гуляют по залам сквозняки. Все те же спальни пополам с
нужниками. Все так же над не обустроенной, не располосованной
землей дуют ветры. И все так же крепко стоит на шести акрах земли
каменный замок Кэстер. И все с той же неутомимостью топчут дороги
Норфолка трудолюбивые, простоватые на вид, рачительные Пэстоны. Всё
так же собирают, как пчелы, и несут в дом семейное добро, стремясь во
что бы то ни стало выжить и обустроить пока еще пустынные просторы
Англии.
О глухоте к греческому слову
25
О ГЛУХОТЕ К ГРЕЧЕСКОМУ СЛОВУ
Именно так - «о глухоте», поскольку как бы ни тешили мы свое
тщеславие мыслью о том, что древнегреческий язык мы знаем, все равно мы
невежды и двоечники по этому предмету, раз нам не известно ни точное
произношение древнегреческих слов, ни природа комического у греков - мы
даже не представляем, где надо смеяться по ходу драмы, ни особенности
сценической игры актеров, и вообще нас отделяет от этих чужеземцев не
просто этнический и языковой барьеры, а провал в культурной памяти! Тем
более странно, что, несмотря на бесчисленные разрушения и лакуны, кто
скажет, из каких разнородных обломков составлено наше так называемое
знание греческого и насколько совпадает наше представление о нем с
исконным его смыслом? - повторяю, несмотря на все эти препятствия, мы рвемся
к знанию древнегреческого, стремимся постичь его тонкости, он неизменно
притягивает нас, заставляя все снова и снова уточнять свое видение
предмета. Почему, спрашивается?
Одна причина понятна: древнегреческая литература надлична. Между
нами, условно говоря, между Джоном Пэстоном и Платоном, Норичем и
Древними Афинами1, пролегают несколько столетий пустоты, и
перемахнуть через это высохшее русло некогда полноводной реки не может никто,
даже самый блестящий полиглот-европеец. Ведь что происходит, когда мы
читаем Чосера? Незаметно для нас самих, нас подхватывает поток памяти,
открываются шлюзы воспоминаний о жизни предков, а дальше мы уже
свободно скользим по волнам летописей и хроник, не опасаясь сесть на мель,
поскольку знаем, что кто бы ни встретился нам на пути, его будет
окружать ореол ассоциаций и за ним, как в фарватере корабля, потянутся
жизнеописания, письма, отношения с женой, родственниками, описания дома,
личности, молва о счастливой или трагической судьбе. Греки же навсегда
остались сами в себе, как бы по ту сторону Леты. Судьба оказалась к ним
благосклонна: она уберегла их от неизбежного в таких случаях опошления.
Еврипида разорвали собаки, Эсхила убило камнем, Сапфо бросилась со
скалы в море2 - вот все, что нам известно о поэтах. Остальное - это их стихи.
Но на самом деле все немного сложнее. Откроем драму Софокла:
буквально с первой же строчки
О сын вождя ахейцев - Агамемнона,
Водившего полки на Трою некогда3, -
мы невольно начинаем рисовать в воображении пейзаж: глухое селение,
неподалеку от моря, - словно дорисовываем за Софоклом декорации,
набрасываем фон. Кстати, такие деревушки до сих пор сохранились в отдаленных
районах Англии, и тот, кому хоть раз довелось очутиться в подобном
месте, вдали от городского шума и железнодорожной ветки, наверняка испытал
чувство отрешенности, как бы обнаженного до самых корней бытия. Вон
26
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
там - дом батюшки, от него рукой подать до усадьбы, чуть поодаль ферма
с постройками: здесь каждый предмет имеет назначение - в церкви
молятся, в клубе встречаются, на поле играют в крикет. Жизнь предстает в
основных своих ипостасях: все заняты делом, все вместе трудятся на общее благо.
Среди местных выработался особый человеческий тип, сложились понятные
с полуслова взаимоотношения, здесь все знают друг про друга всё: и про
чудачества местного священника, и про своеволие помещиц, и про то, что
кузнец поссорился с молочником, и про то, кто из парней и девушек в кого
влюбился и кто с кем ходит парами...Жизнь в здешних местах как шла, так
и идет по проторенной колее, не нарушая привычного уклада; здесь что ни
холм или дерево, то легенда - и каждый старожил поведает тебе историю
края, расскажет о местных праздниках и забияках-соседях.
И все бы хорошо, да только климат не тот! Не вписывается Софокл в
здешний сырой туман, обложные дожди и северный смог. Вот если бы
четче обрисовать линию гор, вдохнуть красоту в каменистую почву,
приглушить изумрудные островки травы и леса, да еще представить, что солнце
днем стоит высоко - парит, безоблачно - и так месяц за месяцем, то,
конечно, жизнь сразу предстала бы в ином свете. Прежде всего нам пришлось
бы распахнуть двери дома и переместиться во двор, на улицу, а это, в свою
очередь, повлекло бы за собой привычку, известную всякому, кто бывал в
Италии - выносить сор из избы, обсуждать житейские вопросы, как умеют
только южане, не в гостиной, а на площади, и не шепотом, а во весь голос,
взахлеб, скороговоркой, пересыпая речь солеными шутками не в бровь, а
в глаз, что ни слово, то в яблочко, в общем, еще неизвестно, как бы нам
понравилась откровенная манера, ведь мы, северяне, люди медлительные,
сдержанные, привыкли к негромким полутонам, к созерцательности,
внутренней сосредоточенности.
Но этим древнегреческая литература нас и завораживает - своим
дразнящим, вольным, неукротимым духом, которому подвластна и тронная речь, и
болтовня кумушек. Что далеко ходить: в этой самой драме Софокла стоят у
ворот царицы и царевны и, как обыкновенные сельчанки, перебрасываются
словами, и так у них это задорно получается, с таким наслаждением смакуют
они слова, с таким победным азартом чеканят фразы, что страшно
делается - а вдруг попадешься им на язычок! Это тебе не безобидные шутки
наших добродушных почтальонов и весельчаков-таксистов. От насмешек
мужчин, караулящих на углу, скисает молоко: столько в них аттической соли!
Наша английская брутальность - это «цветочки» по сравнению с
жестокостью древнегреческой трагедии: вспомним, например, «Вакханок»4 -
прежде чем погубить Пенфея5, достойнейшего из достойных, боги выставляют
его на всеобщее посмешище. И происходит эта сцена с насмешницами не
где-нибудь, а на виду у всех, среди бела дня - под гудение шмелей,
жужжание пчел, когда ветер играет одеждами, и в женщин будто черт
вселился. За перебранкой напряженно следит многотысячная аудитория зрителей,
О глухоте к греческому слову
27
расположившихся на ступеньках амфитеатра, веером окружающего сцену:
благодатный летний полдень, солнце стоит высоко, воздух опьяняет. Здесь
от поэта ждут яркого, лапидарного пересказа с детства знакомой истории,
а не нового сюжета, за развитием которого читатель будет следить в
тишине кабинета или гостиной, истории, повторяю, настолько знакомой и
захватывающей, что семнадцатитысячная аудитория зрителей, как один человек,
разом обратится в зрение и слух и готова будет час за часом не двигаться с
места, следя за развитием действия, хотя в другой ситуации эти же самые
амазонки и атлеты не усидели бы на одном месте и десяти минут. Поэту не
обойтись без музыки и танцев, и он, естественно, остановит свой выбор на
какой-нибудь популярной легенде, известной в общих чертах каждому
греку, - что-то вроде наших «Тристана и Изольды», зная, что сюжет обеспечит
ему огромный потенциальный заряд зрительской симпатии, зато смысловые
акценты он волен будет расставить по-своему.
Как, например, поступает Софокл? Он берет известнейший сюжет об
Электре и полностью переделывает его под себя. И что в результате мы
видим - мы, современные читатели, при всей нашей зашоренности,
искаженном восприятии и т.д.? Что Софокл - это гений, да; что это гений, который
во всем идет до конца, да: если уж он выбрал сюжет, то на карту ставится
все - коль суждено провалиться, то с треском, с громом и молниями, а не
сидя в какой-нибудь заштатной луже. А если посчастливится завоевать у
зрителей успех, то, уж будьте уверены, он каждым словом проймет тебя до
печенок, душу вынет и обессмертит ее в мраморе. Его Электра стоит перед
нами спеленутая, будто кокон, кажется, ни рукой, ни ногой не пошевелить.
Но эта стесненность дорогого стоит: здесь малейшее движение подобно
разорвавшейся бомбе, и потому до поры до времени она будет стоять, как
солдат на посту, как кукла, связанная по рукам и ногам, без права на намек,
оговорку, реплику в сторону. И даже в минуту кульминации мы услышим от
нее только вскрик - крик горя, радости, ненависти:
oï 'у ri) rdXatv', oXtoXa Tfjô'èv rjpiéga
Tialoov, el oOéveiç, ôtnXrjv6.
Но этот плач Электры подобен крику раненой птицы, взмаху резца
скульптора: с ним трагедия обретает смысл, все лишнее отсекается. Из
английских писателей так выстраивать действие умеет только Джейн Остен -
разумеется, совсем на другом материале и совершенно по-своему.
Наступает кульминационный момент: « - С кем вы пойдете танцевать? - спросил
мистер Найтли. - С вами, - отвечала она» (Эмма7. - H.R), и мы понимаем,
что за этими словами, безыскусными, брошенными словно невзначай, стоит
напряженнейшая интрига всей книги. Читая Остен, мы тоже испытываем
чувство, будто ее герои стеснены в движениях, хотя, по сравнению с
Софоклом, стропы не так затянуты. Интересно, что Джейн Остен, автор скромных
28
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
бытописательских романов, выбрала сложнейший путь в искусстве: подобно
Софоклу, она пишет так, будто знает - один неверный шаг и все погибло.
Возвращаясь к Электре - трудно сказать, что именно придает ее
вскрикам такую мощь, глубину и боль. Возможно, нам их подсказывает интуиция:
мы уже успели узнать героиню, по отдельным намекам и репликам
изучили черточки ее характера, мы хорошо представляем, как она выглядит - по
ее же словам о том, что она совсем за собой не следит; мы чувствуем, как
она страдает, негодует, в ней все кипит и рвется наружу и при этом, как
признается она сама («Поверь, стыжусь я слов, во гневе сказанных»8), она
оскорблена и раздавлена своим униженным положением незамужней
дочери, оказавшейся невольной свидетельницей мерзкого предательства матери
и вынужденной позорить родную мать, бесчестить ее перед всем народом.
Опять же, мы посвящены в тайну Клитемнестры: она вовсе не закоренелая
преступница, иначе не проговорилась бы она: «ôstvdv тд tiktclv sariv», -
«нелегок труд родителей»9. Так что это еще вопрос, кого убивает Орест в
родном доме, подстегиваемый сестрой: «Повтори удар!»10, во всяком
случае, не жестокую, не искупившую грех преступницу. Другими словами,
перед нами не классические скульптуры и не гипсовые копии мужских и
женских торсов, а живые люди из плоти и крови, со всеми их человеческими
слабостями, какими их видели в лучах полуденного солнца
расположившиеся на склоне горы зрители.
Впрочем, если кто-то скажет, что мы испытываем потрясение от чувства
собственного тщеславия - как же! мы сумели прочувствовать героев
Софокла!, - позволю себе не согласиться. Стоило бы корпеть над анализом
«Электры», если у Пруста на шести страницах можно обнаружить больше
психологии, чем во всей Софокловой трагедии. Нет, нас потрясает в «Электре» и в
«Антигоне» что-то другое, стихия, куда более мощная, - героизм человека,
верность в ее чистом виде. Вот что заставляет нас снова и снова обращаться
к грекам, превозмогая всякого рода трудности: это человек в истинном его
смысле, твердый в своих поступках, постоянный в чувствах. Лишь
катаклизм способен явить его суть, но когда такое случается - смерть ли тому
виной, предательство или еще какая беда, тут уж Антигона, Аякс, Электра
не заставят себя ждать: они поступят именно так, как желали бы поступить
мы, случись с нами такое же горе, как всякий повел бы себя в подобных
обстоятельствах. Вот почему нам их легче понять и принять, чем персонажей
«Кентерберийских рассказов»: греки воплощают род человеческий, тогда
как герои Чосера представляют богатство его видов.
Что и говорить: эти представители рода человеческого - стоики цари,
преданные дочери, трагические царицы, бредущие через века одной и той же
царственной походкой, приподнимающие край хламиды одним и тем же
заученным жестом, в котором давно уже не осталось ничего искреннего, - на
самом деле они жуткие зануды, да и ведут себя, прямо скажем, самым
разлагающим образом: перечитайте пьесы Аддисона, Вольтера11 и иже с ними.
О глухоте к греческому слову
29
Всё так. Но лишь до того момента, пока они не обратятся к нам
по-древнегречески: с этой минуты все меняется до неузнаваемости. Уж на что,
кажется, Софокл скуп на слова, но их у него ровно столько, сколько требуется его
героям, чтоб заявить о себе громко, прямо, без пены. Недаром среди
ученых-классиков Софокл славится особой плотностью художественной речи:
иногда кажется - брось в море щепоть его несравненной аттической соли,
и ее хватит с избытком, чтобы окрасилась, фигурально выражаясь,
океанская толща «воды», которую по большей части являет собой
добропорядочная драматургия. В этом мире первопричин и первопоступков люди говорят
языком еще не обесценившихся чувств; здесь в первый раз поет соловушка,
чей отзвук мы будем напряженно ловить потом в английской поэзии, - поет
на женский лад12; здесь в первый раз играет на кифаре Орфей, укрощая
диких зверей и увлекая за собой в дорогу путников. Чисто, прозрачно звучат
голоса; кажется, ты видишь перед собой загорелых олимпийцев среди олив,
пронизанных солнцем, а вовсе не те бескровные тела, застывшие в изящных
позах на барельефах, украшающих безликий интерьер Британского музея.
И вдруг эта прекрасная солнечная картина, что стоит у тебя в глазах,
начинает плыть, дробиться, а потом и вовсе исчезает, будто сон: это Электра
закрывает вуалью лицо и, словно припомнив того соловушку, приказывает
нам забыть, молчать:
«Птица пугливая - Зевсова вестница!.. Ты мне богиней отныне пребудь, Ниобея-страдалица,
- Что там, во гробе каменном, - / Увы, увы, - все слезы льешь.. .»13
Электра умолкает с жалобой на устах, а мы пребываем в сомнении,
продолжая биться над неразрешимой загадкой поэзии и ее природы, мучаться
вопросом, почему ее слова, едва успев отзвучать, обретают чекан
бессмертия. Оттого ли, что написаны на древнегреческом и нам не дано узнать, как
в точности они звучат; оттого ли, что выражают отказ от естественных
источников радости, выражают безыскусно, надлично, никак не характеризуя
ни говорящего, ни пишущего? Как бы ни было, слова остаются, и, раз
сказанные, они пребудут вовеки.
И все же в пьесе, жанровый характер которой требует, чтобы актеры
вживе стояли на сцене, терпеливо ожидая выступления, и в момент действия
начинали двигаться и говорить, используя все богатство телодвижений и
мимики, повторяю, в драме поэтические пассажи и обобщения, подобные тем,
что позволяет себе Электра, чрезвычайно рискованны. Ведь именно поэтому
лучше читаются, а не смотрятся на сцене поздние пьесы Шекспира, в
которых преобладают поэтические монологи и сценическое действие сведено к
минимуму14, мы их лучше понимаем, если отвлекаемся от фигур живых
актеров, двигающихся на сцене и требующих зрительского внимания.
Впрочем, можно слегка ослабить жесткие путы сценических ограничений, если
найти, как высвободить, - не нарушая драматического действия, -
сопровождающий его поэтический комментарий, некий общий аккомпанемент.
30
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Вот для чего нужен хор женщин или стариков, прямо не участвующих в
действии: вести голосовую партию, заполняя паузы пением, подобно птицам, чей
щебет нам слышен, едва стихнет ветер. Дело хора - комментировать,
подводить итоги, выражать точку зрения поэта или, наоборот, оспаривать ее и
предлагать другую. Без этого голоса не получается выстроить произведение,
где герои выступали бы от своего имени, а автор, его создавший, оставался
бы в тени, невидим. Единственное исключение - Шекспир: он вообще снял
хор (если, конечно, не считать таковым шутов и сумасшедших в его пьесах).
Но романистов, тем не менее, этот элемент драматургии заботит, иначе не
предлагали бы они дублеров вместо хора: Теккерей самого себя под видом
рассказчика, Филдинг - себя в роли Пролога, обращающегося к публике
перед началом спектакля. В общем, если хочешь понять смысл пьесы, хор
незаменим. Без этой подсказки состояние восторга, порой охватывающее героев
греческой драмы, их безумные и внешне бессвязные речи, житейская правда,
которую они высказывают к месту или не к месту, сказать трудно, наконец,
значение всей пьесы, все это без хора осталось бы для нас загадкой.
Впрочем, по большому счету так оно и есть: ведь чаще хоровую партию
приходится восстанавливать слово за словом, а поскольку там очень много
неясностей, реконструкция получается относительная. Похоже, у Софокла
хор больше используется для воспевания либо добродетели, либо красоты
места, где разворачивается действие, чем для обсуждения тем, прямо с
сюжетом не связанных. Видимо, поэтому его хор свободно переходит от одной
темы к другой: от белого Колона15 к соловью, потом к любви, что необорима
в битве. Его хоровые партии - нежные, воздушные, безмятежные - словно
сами собой вырастают из поворотов сюжета, незаметно для нас меняя
настроение. У Еврипида же все не так: события у него не самодостаточны,
скорее, они передают атмосферу сомнения, предчувствия, тревоги, и, что
интересно, партии хора вовсе не служат средством усиления или развития этих
чувств. Например, в «Вакханках» мы с первой же сцены погружаемся в мир
пограничных психологических состояний: когда человеческий ум, не
смущаясь, переиначивает факты, а знакомые привычные стороны жизни
выставляет в новом, далеко не бесспорном свете. Кто такой Вакх? Кто такие боги?
И в чем состоит долг человека перед богами? Какими правами располагает
человеческий рассудок? - на эти вопросы хор Еврипида молчит, а если
отвечает, то насмешливо или запутанно: кажется, Еврипид нарочно дурачит хор,
словно знает заранее, что жесткие рамки трагедии не способны вместить
всю глубину неразрешимых философских вопросов. Времени отпущено так
мало, а мне так много нужно сказать, что вы просто обязаны позволить мне
высказывать два положения подряд, одно за другим, без видимой связи, и не
ждать дальнейших разъяснений, иначе вам придется удовольствоваться не
трагедией, а голой схемой. Вот и все доводы. Потому-то Еврипида и можно
читать в тишине кабинета или комнаты и вовсе не обязательно
наслаждаться им, сидя на склоне горы на виду у всех и глядя вниз на сцену, тогда как с
О глухоте к греческому слову
31
Софоклом, и тем более с Эсхилом, такие шутки не пройдут. А объясняется
все просто: Еврипида можно разыграть про себя, в уме; он не чурается
злободневности; его популярность в большей степени, чем у других
древнегреческих драматургов, зависит от характера эпохи.
Выходит, у Софокла драматургия сосредоточена в самих фигурах
действующих лиц, а у Еврипида пьесу двигают и поэтические откровения, и
неразрешимые вопросы бытия. Эсхил же свои короткие драмы (в
«Агамемноне» 1663 строки, а в «Короле Лире» Шекспира - 2600) нагружает до предела,
и вот каким образом: фразу он, как ноту, тянет до последнего звука, потом
начиняет порохом, превращая в метафору, и пускает, как ракету, далеко-
далеко, после чего находит, поднимает и уносит со сцены - растерявшую
весь запал, перегоревшую, опустошенную. Другими словами, Эсхил требует
не столько знания древнегреческого, сколько понимания существа поэзии:
умения, не оглядываясь на слова, смело шагнуть в открытое пространство, -
собственно, того же требует Шекспир. Слова вообще ненадежная опора для
такой взрывоопасной штуки, как поэзия: их, как при запуске ракеты,
разбрасывает в разные стороны и потом приходится собирать по словечку, пытаясь
восстановить сверкающее чудо поэтического смысла, которое отдельными
словами ни за что не выразить. Пока следим за полетом мысли, понимаем с
ходу, без слов, а попытайся расшифровать, да еще своими словами, ничего
не получится. Настоящая поэзия всегда многомерна, значение ее не сводимо
к точному знанию. Взять, например, «Агамемнона» Эсхила:
o/ujuâTcov ô ' êv âxrjvicuç ëggei жао ' 'Aççoôira16.
Смысл этой фразы лежит у самой линии горизонта языка. Лишь в самые
вдохновенные или отчаянные мгновения нам дано проникать, потрясенно,
без слов, в сокровенный смысл изречений, подобных эсхиловскому: с
Достоевским (жаль, что его сковывает проза, а нас - перевод!), который один
умеет перемахнуть через все барьеры чувства и явить сокровенное, не
называя; и еще с Шекспиром, который мысль ловит на лету.
Эсхил, таким образом, работает со словом иначе, чем Софокл: если
последний вкладывает в уста своих героев то, что каждый мог бы сказать в
похожей ситуации, то Эсхил непостижимым образом обобщает и заостряет
смысл, сообщая слову действенную силу и поднимая его до символа. На
Еврипида, однако, Эсхил тоже не похож: тот расширяет камерное пространство
драмы за счет сочетания несочетаемого, так зеркала, поставленные в
неожиданных местах, увеличивают небольшую по объему комнату. Нет, у Эсхила
свой инструмент: он работает метафорой, разит ею направо и налево; смело,
стремительно, без остановки, успевая столько разного задеть на пути, что
пространство пьесы превращается в огромный симфонический оркестр, где
все гудит, аукается, отражается: ясно и мощно звучит главная тема, а ей
вторят десятки других, распадаясь, в свою очередь, на рукава и ручейки.
32
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Как видим, никто из тогдашних драматургов не трудился над
оттачиванием смысла, над выпиливанием мельчайших деталей произведения, над
ювелирной обработкой слова, как это делает современный романист и, в
какой-то степени, каждый, кто занимается печатным словом: сцена этого
не требовала, зато требует процесс медленного, вдумчивого чтения и
перечитывания книги. В древнегреческой трагедии, созданной для театра,
каждая фраза должна была, как гром, поражать воображение и слух зрителей,
независимо от красоты ее художественного содержания и тех ассоциаций,
которые она потом уже, в финале, могла вызвать у публики. Словом, не
сумей Эсхил потрясти нас до глубины души обнаженным воплем в
«Агамемноне»:
ôxoxoxol лолоь ôâ. со iiokkov, со jtoXXov11',
поверьте, никакие стилистические изыски, редкие метафоры, тонкие
аллюзии и образы не спасли бы пьесу. Древнегреческие драматурги просто
обязаны были потрясать аудиторию: у них не было другого выбора.
Но не одни только лето и солнце знали давешние селения - приходило
время, и наступала зима, и тогда горные склоны надолго погружались в
темноту и стужу. Люди укрывались в домах (наверняка им было где спрятаться
от зимнего холода и летнего зноя), коротая время за едой, вином, отдыхом
и беседой. Об этой частной бытовой жизни греков мы знаем от Платона: он
обычно начинает свои «Диалоги» с описания встречи друзей, их
незамысловатого застолья с бокалом вина. Слово за словом Платон рассказывает, как
кто-то в их компании, скорей всего юноша приятной наружности, решался
задать вопрос или цитировал чье-то суждение, и тут вступает в беседу
Сократ, подхватив тему, он начинает рассуждать: повернет ее то так, то эдак,
посмотрит сначала под одним, потом под другим углом, воззрится
пристально, а затем несколькими точными ударами отсечет все лишнее и ложное, и
дальше начнет кружить, шаг за шагом подводя присутствующих к
постижению истины, пока, наконец, не скажет: «Вот, смотрите!» Это изнурительный
путь: ломать голову над точным значением каждого слова, взвешивать «за»
и «против» каждого нового предложенного поворота; напряженно следить,
не теряя трезвости мысли, за тем, как изменяется, уточняется исходное
суждение, обретая убедительность и силу правды. Удовольствие и добро - это
одно и то же? Можно ли научить добродетели? Добродетель - это знание?
Вопросам нет конца, и под напором испытующей мысли Сократа трудно
устоять тому, кто устал или не хочет думать. Но даже если, положим, ты
потерпел в споре фиаско, даже если ты не извлек никакой пользы из Платона,
все равно ты не стал от этого меньше любить знание - наоборот, ты
полюбил его еще сильнее. Ведь самое важное в споре, где рождается истина, не
то, кто выиграет, кто проиграет - Протагор или Сократ, важен не счет, не
результат, а то, каким образом мы пришли к истине18. На этом тернистом
пути мы все едины: та же неукротимая честность, те же смелость и любовь
О глухоте к греческому слову
33
к правде, что движут Сократом, влекут и нас, идущих ему вслед, к вершине,
и для нас, как и для него, нет выше счастья, чем добраться до самого пика и
постоять наверху хотя бы мгновение.
Впрочем, возможно, что студент, которому в ожесточенном споре
доказали истину, испытывает совсем другие чувства, и наши восторги покажутся
ему неуместными. Ведь правда многолика, она принимает тысячи обличий,
рядится в разные одежды, и постигаем мы ее не только разумом.
Представим: зимний вечер, в доме Агафона накрыты столы, девушка играет на
флейте; приглашенный в гости Сократ совершил омовение, уже надел сандалии,
но задержался в передней, а когда за ним послали, наотрез отказался идти.
И действительно, не двинулся с места, пока не закончил спор с Алкивиадом.
Но вот беседа окончена; Сократ, посмеиваясь, прощается с юношей; в ответ
тот достает ленту, повязывает ею голову «этого удивительного человека»19
и начинает славить Сократа: «Наружная красота для него ровно ничего не
значит, ибо он полагает, что самое ничтожное в мире - это внешние
атрибуты преуспевания, как-то: красота, богатство или слава, вообще все то, что в
глазах большинства людей делает человека счастливым. Он же эти "блага"
почитает за чистое ничто, а заодно и нас, им поклоняющимся, и живет он
среди людей так, словно предметы их вожделения и восторга созданы
только для того, чтобы он их вышучивал. Но я не знаю, ведает ли кто-либо из
вас, что за дивные образы сокрыты в нем, ибо являет он их лишь в минуты
откровенной и серьезной беседы. Мне самому посчастливилось их узреть, и
поверьте, они столь прекрасны, солнечны, божественны и чудесны, что
любому слову Сократа следует подчиняться, как голосу одного из верховных
Богов»20. Все это слышится в диалогах Платона: смех, шум; кто-то встал,
вышел, уже полночь, а спор в самом разгаре, спорят до хрипоты, кто-то шутит,
чтоб разрядить обстановку, глянь, уже светает. Похоже, истина и впрямь
многолика, и поиск истины требует от нас великого напряжения сил. Так что
же - отказаться от увеселений, дружеских объятий, шуток, если стремишься
к истине? Что, истина дастся быстрее, если будешь рано ложиться спать и
перестанешь слушать музыку, пить вино, спорить до хрипоты долгими
зимними ночами? Нет, конечно. Потому-то мы и обращаемся не к строгому
отшельнику, уединившемуся в келье, а к человеку бывалому, чего только не
повидавшему на своем веку: такого трудно чем-то удивить, он всему знает
истинную цену и отличает по-настоящему достойное.
Словом, диалоги побуждают нас стремиться всеми фибрами души к
истине, ибо таков Платон с его гениальной драматической жилкой. Именно
благодаря ей Платон обладает особым мастерством - умением буквально
одной-двумя фразами обрисовать обстановку, создать атмосферу, а затем
непринужденно, без малейшего нажима, ввести нас в происходящий спор и,
не нарушая его спокойного живого течения, сухо обнажить его суть в одной
посылке, а дальше, увлекшись, устремиться, увлекая и нас за собой, в такие
заоблачные выси, которые подвластны лишь самым смелым поэтам, - по-
2. Вирджиния Вулф
34
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
вторяю, именно благодаря особому драматическому дару, Платон так
многообразно воздействует на нас, мобилизуя все наши внутренние ресурсы,
что это состояние сравнимо лишь с тем, как бывает в чрезвычайных
жизненных ситуациях.
Впрочем, не будем спешить с аналогиями. Как говорит Алкивиад,
Сократ ровно ни во что не ставил «наружную красоту», и под этими словами
Сократ, видимо, понимал красоту украшательскую. А когда народ многое
воспринимает на слух, сидя ли в театре под открытым небом, следя ли за
спором на рыночной площади, он вряд ли станет, подобно нам, находить в
произведении отдельные красоты и ими только восхищаться. Собственно,
именно таковы афиняне: у них не было привычки растаскивать искусство на
цитаты, как делаем мы, издавая хрестоматийные изречения Гарди,
классические фразы Мередита или крылатые слова Джордж Элиот.
Древнегреческий драматург был сосредоточен на целом, а не на деталях. Поскольку драму
исполняли под открытым небом, то упор, естественно, делался на фигуре
актера, его стати, телодвижениях: красоты же стиля, художественное
оформление - те стороны представления, которые могли привлечь слух или взгляд
зрителей, просто не принимались в расчет. Поэтому-то, когда мы
цитируем или приводим выдержки из произведений древнегреческих философов
и драматургов, мы наносим им гораздо больший вред, чем своим
соотечественникам. Древнегреческой литературе присущи нагота и резкость,
которые нас, воспитанных на печатном слове, скорее раздражают как некоторая
простоватость и даже топорность. Но так происходит только из-за того, что
мы просто разучились широко мыслить, нам трудно представить
произведение целостно, крупно, мы все больше видим детали, риторические приемы.
Греки же, не в пример нам, мыслили скорее скульптурно, чем декоративно;
отводить глаза, смотреть куда-то вбок было не в их правилах: в искусстве,
как и в жизни, они брали быка за рога, называли вещи своими именами,
описывали без прикрас такие чувства, которые нас в наше время смущают и
заставляют прятать глаза. Всеобщее потрясение, вызванное Первой мировой
войной, было настолько внезапным21, что мы еще опомниться не успели,
никто из поэтов, писателей даже пикнуть не сумел, а наши чувства
превратились в груду обломков, а сами мы - в безмолвных свидетелей,
наблюдающих за ними искоса, со стороны. Из поэтов было слышно только тех, кто
писал на манер Уилфреда Оуэна и Зигфрида Сассуна22 - исподтишка,
сатирически. Стоило только кому-то заговорить открытым текстом, и
моментально появлялась натянутость, любой намек на чувства воспринимался как
слащавость. А греков открытость высказывания не смущает - они говорят так,
словно впервые нарекают чувства словами: «Пусть мертвые, они не
умерли»23. Бросают слово, как перчатку: «Если слава героя требует пасть на поле
брани, значит, будем благодарны судьбе за ее выбор. Мы спешили увенчать
Грецию короной свободы, так не увянет же наша доблесть в веках!»24 И не
О глухоте к греческому слову
35
дрогнув, без тени страха, они заглядывают себе в душу, и, удивленная
бесстрашием, та замирает и выдерживает пристальный взгляд.
И тут снова - в который раз! - у нас закрадывается сомнение в верности
трактовки. Каждый раз, когда читаем эпитафию с обломка надгробной
плиты или разбираем строфу из утраченного хора; когда вчитываемся в конец
или в начало платоновского диалога или в отрывок не дошедшего до нас
стихотворения Сапфо; когда бьемся изо всех сил над какой-то потрясающей
метафорой из «Агамемнона» и все равно не можем постичь ее смысл, хотя
в «Лире» любые трудные места щелкаем, как орехи, повторяю, каждый раз,
когда такое случается, задаешь себе вопрос: а не ошибаемся ли в смысле
прочитанного? Не плутаем ли в дебрях ассоциаций? Не привносим ли в
греческую поэзию свое, полагая, что это и есть исконное значение, да только мы
его утратили? Ведь за каждой строкой древнегреческой литературы
вздымается громада Аттики; каждым словом она являет нам картину не
искореженной войной земли, не загаженного промышленными отходами моря, образ
по-настоящему зрелых людей, битых судьбой, но не сломленных. Здесь в
каждом слове бьется нерв, указывая на один могучий источник, питающий и
прущую из земли оливу, и храм, и молодое тело. Софоклу стоит только
назвать соловья - и соловушка поет; довольно сказать, что дубрава «âfîaxov»,
то есть «священная», и мы сразу представляем лес и в глубине его - исси-
ня-темные фиалки25. Какая-то необоримая сила влечет нас вновь и вновь к
той давней картине, и мы в который раз погружаемся - нет, не в созерцание
ее, и даже не в созерцание запечатленной в ней реальности: мы мысленно
погружаемся в солнечный день под завывание холодного северного ветра.
Сила эта, конечно, сосредоточена в языке - неиссякаемом источнике света
и, увы, непонимания. Ведь с английским как? - схватываешь на лету, а с
греческим так не получается, сколько ни пытайся. Нам недоступно звучание, а
ведь в языке это едва ли не главное: следить за тем, как меняются от строки
к строке модуляции голоса, звучащего то резко, то плавно. Естественно, мы
не улавливаем нюансы, благодаря которым живет, дышит, танцует фраза.
И тем не менее, несмотря ни на что, именно язык держит нас за живое, не
отпускает: вот он, источник вечного соблазна! Прежде всего из-за присущей
ему емкости выражения: шутка ли сказать, у Шелли уходит целых двадцать
одно слово на то, что в оригинале составляет всего тринадцать - nâç yovv
TïOirjTTjç уiyvexai, xàv âjuovaoç rj xô itptv, ov àv "Egœç âtprjxat («...ибо каждый,
даже тот, у кого раньше один ветер гулял в голове, становится поэтом, едва
он ощутит дыхание любви»)26.
Заметьте, в греческой фразе нет ни одного лишнего слова: так сказать,
ни капли «воды». И потом, греческий любому другому языку дает сто
очков вперед по быстроте, гибкости и непосредственности, соединенными с
чувством меры. Наконец, в нем столько слов, которые мы позаимствовали
для более экспрессивного выражения наших собственных эмоций, -
можно цитировать подряд: 0àkaooaf6âvaxoç, âvOoç, аохщ, oeXrjvrj21 - и все они
2*
36
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
настолько ясные, определенные и выразительные, что, кажется, нет ничего
лучше греческого, если хочешь выразить мысль просто и по сути, не
смазывая острых углов и не мельча тему. Так что в переводах с древнегреческого
нет никакой особой пользы28. Все, что могут предложить переводчики, - это
лишь приблизительное подобие, и понятно почему: в языке перевода, как в
колодце, малейшее слово отдается отзвуком или вспоминанием. Положим,
обронил слово «тусклый» профессор Макэйл29, а оно моментально вызывает
у нас в памяти эпоху Бёрн-Джонса30 и Морриса. И потом, перевод
бессилен передать более тонкие нюансы - ударения, подъем и понижение слов в
строке: перед такой задачей пасует даже самый искусный ученый-классик.
Сравните перевод:
...Что там, во гробе каменном, -
Увы, увы, - все слезы льешь...31
с оригиналом:
âr' èv тафа) жехдаСсо
alei ôaxgveiç32 -
согласитесь - не то.
Но и на этом наши сомнения и трудности не заканчиваются - возникает
еще один важный вопрос: а в каких местах нужно смеяться, когда мы
читаем греков? В одном месте в «Одиссее» тебя начинает разбирать смех, но
как представишь, что рядом стоит Гомер и смотрит, так поневоле
сдерживаешься. Выходит, непроизвольно смеяться получается только по-английски
(и еще, пожалуй, с Аристофаном), и в этом нет ничего удивительного: в
конце концов, комическое тесно связано с ощущением телесности. Когда ты
хохочешь над смешными сценами Уичерли33, ты сам того не замечаешь, как
твое тело сотрясают волны того раскатистого хохота, какой раздавался
когда-то на деревенском выгоне: так смеялись наши предки. А вот француз, или
итальянец, или американец - тот другого замеса, он так смеяться не станет;
он, наоборот, помедлит, проверяя, не совершил ли какой оплошности, точь-
в-точь, как мы, когда читаем Гомера, и это промедление смерти подобно:
оно убивает смех. Увы, но это первое, чем мы жертвуем, переходя на
иностранный язык: чувство юмора, и точно так же, как бывает с человеком после
долгого голодания - он набрасывается на еду, так и мы: начитавшись греков
и досыта намолчавшись, хватаемся за родную английскую литературу, чтоб
отвести душу и вдоволь посмеяться. Таков уж наш громогласный век: он и
начался-то, кажется, с раскатов хохота.
При всех осложняющих моментах - непонимании, искаженном
восприятии, романтических восторгах, рабском подражании, эстетском снобизме,
выявляется некий общий уровень согласия, очевидный даже для
непосвященных. Греческая литература надлична, она представляет собой собрание
шедевров; это литература без школ, предтеч и последователей. Нет
очевидных направлений, невозможно вычленить тенденцию, которая постепенно,
О глухоте к греческому слову
37
с переменным успехом вызревает в творчестве многих поэтов, пока,
наконец, не оформится сполна в произведении одного мастера. Она вся дышит
энергией, которой, как правило, бывает отмечена «эпоха» - эпоха ли
Эсхила, век ли Расина, шекспировская ли золотая пора. По меньшей мере, одно
поколение поэтов в тот счастливый Периклов век34 полностью состоялось,
обретя ту желанную непринужденность речи, что достигается лишь
напряженнейшей работой мысли, и вырвавшись за «флажки» личных побед и
новаторских проб пера. Вот она, эта плеяда: блещущая созвездиями эпитетов
Сапфо; взрывающий прозу поэтическими прозрениями Платон;
лапидарный, подобный пружине Фукидид35; гибкий, постоянно ускользающий
Софокл - так бесшумна и стремительна в своем движении форель, когда она
идет косяком, голова к голове, чуть спугнешь, блеснула плавником, и нет ее.
Наконец, венец всему - Гомер с его «Одиссеей», ярчайшей и
романтичнейшей сагой о судьбах мужчин и женщин.
Начинается «Одиссея» с рассказа о приключениях: у моряков - а греки
великие мореплаватели - всегда в запасе много разных историй, и мы, как
дети, которым не терпится узнать, что же было дальше, начинаем глотать
страницу за страницей. Но, удивительное дело! - вместо детской книжки,
открываем для себя абсолютно зрелую поэзию: перед нами взрослые люди,
себе на уме, проницательные и страстные. Мир, в котором они живут, не так
уж мал - ведь добраться от одного острова до другого можно только морем,
а других средств, кроме самодельных лодок, нет: даже расстояние
вычисляют по высоте полета чаек. Правда, жителей на островах не много, и, хотя все
делается вручную, люди вовсе не привязаны к работе, как рабы на галерах.
Видно, что за отпущенный им срок они успели создать очень достойное
общество сограждан с большим чувством собственного достоинства, которые
хранят нравственные устои и ведут себя спокойно, естественно и с
огромным душевным тактом. Вот Пенелопа встала, прошла по комнате,
укладывается спать Телемах36; Навсикая берется сама выстирать белье37, - кажется,
будничные дела, машинальные движения, но они исполнены красоты,
поскольку именно потому, что люди поступают по наитию, они такими
уродились, они, как дети, не задумываются, почему себя так ведут, и, тем не
менее, жившие тысячи лет назад на затерянных в море островах, эти люди
знают все, что ведомо человеку. Они даже острее, чем мы, осознают
неотвратимость судьбы - ведь у них в ушах постоянно шумит море, их
окружают виноградники, луга, ручьи. Они видят суровую изнанку жизни и
принимают ее такой, какая она есть, - без паллиативов. Свое теневое положение
они представляют, как никто, ясно, но оно не мешает им наслаждаться всеми
красками и оттенками бытия - тем греки и живут, а мы всякий раз к ним
обращаемся, когда нам тошно от царящей вокруг неопределенности, смуты, от
подслащенных пилюль христианской веры, от времени, наконец, в которое
нам выпало жить.
38
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СУНДУК
Пожалуй, редко кто прочитывает от начала до конца эти пухлые
фолианты*, а жаль, - в них, конечно, есть своя прелесть: Хаклита не столько
читаешь1, сколько рассматриваешь; в его томах копаешься, как в огромном
сундуке, полном всякой всячины; по его сочинениям бродишь, как по
блошиному рынку; его разбираешь, как старый чулан, в который свалили в одну
кучу тронутые молью древности громадные тюки с шерстью, старинные
морские приборы и - забыли про них... Правда, иногда среди этой рухляди
попадаются тяжелые мешочки, набитые изумрудами и рубинами. Сидишь,
копаешься в куче: в одном месте потянешь за шнурок - глянь, выпал
сверток; в другом заметишь необычный предмет, потянешься за ним, сдуешь
пыль, развернешь и перед тобой ляжет безбрежная карта какого-то
неведомого мира... Так сидишь себе в полутьме, вдыхаешь незнакомые ароматы
шелка, сафьяна, серой амбры, а снаружи бушуют волны не отмеченного на
картах елизаветинского моря.
А ведь если задуматься, вся эта прорва вещей: пряности вперемешку с
шелком, клубки пряжи, спутанные с нитками дешевого стекляруса,
тюрбаны рядом с золотыми слитками, рога вперемешку с копытами - словом, весь
этот бездонный сундук, полный бесценных раритетов и абсолютно
бесполезного мусора, есть ничто иное, как плод многолетней деятельности
англичан, ходивших за море, прокладывавших торговые пути, совершавших
географические открытия во времена правления Елизаветы I. Экспедиции,
осуществлявшиеся частично на деньги самой Королевы, были делом рук
«хватких молодых людей» с запада Англии. Корабли, на которых они
ходили в море, были, по нашим меркам, суденышками, Фрауд пишет2, их
водоизмещение было не больше, чем у современной яхты. Стоял тогдашний флот
на Темзе вблизи королевского дворца в Гринвиче. «Стоило королевским
советникам показаться в окнах дворца... как на кораблях начинали палить из
пушек, а матросы так зычно выкрикивали приветствия, что, казалось, им
отвечает само небо»3. Дождавшись прилива, парусники снимались с якоря -
издали было хорошо видно, как матросы один за другим взбегают из чрева
корабля наверх, ловко карабкаются по вантам, рассыпаются по перекладине
грот-мачты и машут друзьям на прощание. Мало кому из них суждено было
увидеть родной берег: едва скрывались в дали белые утесы и таяла за линией
горизонта Франция, моряки оказывались один на один с неведомой
стихией - здесь воздух пел на разные голоса, море кишело подводными львами и
змеями, за бортом плясали огоньки, а под килем чернели
головокружительные воронки. Зато и дыхание Бога здесь ощущалось вживе - казалось, тебя
отделяет от Господа лишь череда облаков; впрочем, черт тоже не дремал -
«Собрание сочинений Хаклита о ранних путешествиях по морю и суше, и об открытиях,
совершенных представителями английской нации». В пяти томах. 1810 г. {Примеч. Вулф).
Елизаветинский сундук
39
чуть ли не в открытую показывал тебе свои козлиные копыта. Англичане
по-свойски защищали своего Бога перед турецким, говоря, что тот «слова
здравого не скажет, и помочь не поможет в трудную минуту... Но нам до их
Бога дела нет, а вот наш Господь всем Богам Господь...»4 «С нами
Всевышний, - божился сэр Хамфри Гилберт, заклиная разбушевавшуюся стихию, -
он с нами на море и на суше», как вдруг свет качнулся, волна накрыла сэра
Хамфри, и только его и видели: парусник его бесследно канул в морской
пучине. Или взять сэра Хью Уиллоуби: он отправился искать
Северо-Западный путь, и с концами. А история с командой барона Камберленда? Две
долгие недели они болтались у берега Корнуолла, оказавшись игрушкой в
руках врагов - ни к берегу подойти, ни от берега отплыть, и кончилось дело
тем, что обезумевшие от жажды моряки слизывали росу с грязной палубы.
Но бывало и так, что в двери дома в сельской стороне мог постучаться
оборванный, исхудавший человек и назваться именем подростка, покинувшего
отчий дом много лет назад и отправившегося искать счастья в море.
«Батюшка мой сэр Уильям и матушка моя отказывались признать в нем сына,
пока не отыскали им одним известную отметку - родинку на колене»5. Но
вернулся блудный сын не с пустыми руками: привез с собой черный, с
золотыми прожилками камень, а может, бивень слоновой кости или слиток
серебра, и послушать его рассказы про усыпанный золотым песком берег -
точь-в-точь, как усеяно камнями поле в их родной деревне, собиралась вся
сельская детвора. Провал одной экспедиции вовсе не означает, что пути в
Эльдорадо - сказочную страну несметных сокровищ - не существует: надо
только чуть дальше пройти берегом. Что если пределы известного нам мира
служат воротами в другой, еще более прекрасный? Ведь рассказывают же
очевидцы, что как-то, устав после долгого перехода, они бросили якорь на
великой реке Ла-Плата; команда разбрелась по извилистым тропам,
забираясь все глубже в материковую часть суши, спугивая на своем пути мирно
пасущиеся стада оленей, дикарей, которые, завидев чужаков, моментально
скрывались в чаще; они тогда набили карманы камнями, вперемешку с
песком, напоминавшими изумруды и золото. А когда они возвращались к
кораблям, то заметили вдали на горизонте вереницу дикарей - те медленно
спускались к берегу, неся кто на голове, кто на плечах тяжелые мешки с
сокровищами для короля Испании.
Молва о сказочных странах гуляла тогда по всему западу Англии и, надо
сказать, немало способствовала вербовке «хватких молодых людей»,
которых не надо было долго уговаривать бросить рыболовецкие сети и плыть за
золотом. Впрочем, не только жажда обогащения заставляла англичан,
бросив все, устремляться в плавание: давала о себе знать и здоровая
коммерческая жилка - в глубине души все они были верными подданными Королевы,
хорошими купцами, умели и любили торговать, преумножая собственный
достаток и благосостояние сограждан. Вот капитанам и вменялось в
обязанность: найти рынки сбыта английской шерсти, привезти травы, из которой
40
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
получают голубые красители, и, главное, разузнать способы изготовления
растительного масла, поскольку домашнее производство его из семян
редьки себя не оправдало. Капитанов призывали свято помнить о жалкой участи
английских бедняков, которых нищета толкает на преступления, и «их по
нескольку человек в день вздергивают на виселице»6, - пора положить
конец этому безобразию. Мореплавателям напоминают об их соплеменниках,
совершивших в прошлом открытия, которые пошли на благо отечества: д-р
Линакер завез в Англию семена тюльпанов и дамасской розы, а уж о
завезенных из-за границы животных, растениях и пряностях, «без коих наша жизнь
была бы варварской»7, и говорить не приходится. И вот летят в разные
концы «хваткие молодые люди» в поисках рынков сбыта и товаров, в надежде
поймать удачу за хвост и прославиться. Иных судьба забрасывала на север,
где им ничего не оставалось, как в окружении снегов и хижин дикарей
налаживать жизнь небольшой колонии соотечественников, учиться торговать с
местными жителями и попутно собирать сведения об этой части света - так,
в борьбе с полярной темнотой, проходил целый год, до следующей летней
навигации, когда можно было сняться с якоря и отправиться домой. Один из
таких северян-смельчаков, заручившись верительной грамотой
представителя лондонской компании, добрался аж до Московии: там ему
посчастливилось лицезреть императора, который, «держа в левой руке золотой жезл
тончайшей работы, восседал, увенчанный короной, на государевом троне»8.
Он во всех подробностях описывает церемонию, на которой ему довелось
побывать, и картина эта, увиденная глазами купца-англичанина9, по
свежести и яркости красок сравнима с тем, как если бы во время раскопок нашли
римскую вазу и, прежде чем забрать ее в музей, где от взглядов миллионов
посетителей она запылится и потеряет блеск, ее оставили бы на секунду на
открытом солнце. Удивительно, как красота Москвы, красота
Константинополя цвели столетиями на окраине земли, а мы о них и не ведали10. Наш
герой англичанин был подобающе одет, вел «трех чистокровных мастиффов
в алых ливреях» и при себе имел письмо от королевы Елизаветы, «писанное
чернилами на бумаге, распространявший тончайший аромат камфары,
амбры и мускуса»11.
Но были и другие мореходы - те, кто волею судеб оказался в
тропиках, зная, с каким нетерпением дома ждут трофеев из удивительного
нового мира12, умудрялись посылать не только «шпагу» единорога, куски серой
амбры, побасенки о появлении на свет китов и «диспутах» между слонами
и драконами, чья кровь, если одну с другой смешать, сгущается в киноварь,
повторяю, они умудрялись посылать в подарок домашним и кое-что
похлеще: живой экземпляр, так сказать, живого дикаря, пойманного где-нибудь
у берегов Лабрадора13, - пусть в Англии потешатся, глядя на посаженного
на цепь туземца. Через год они повезли аборигена назад, прихватив заодно
туземку, полагая, что вдвоем им будет веселей. Но вышло все иначе: увидев
друг друга, мужчина и женщина покраснели до корней волос, а матросы,
Елизаветинский сундук
41
хотя и заметили это обстоятельство, не поняли причину. Через некоторое
время туземцы устроили на палубе общее хозяйство, очень трогательно
заботились друг о друге и при этом сохраняли полное целомудрие, как не
преминули с удивлением заметить матросы.
Естественно, эта новая реальность - сменявшие друг друга, подобно
волнам, шедшие на смену новые слова, новые представления, рассказы о
туземцах, приключениях, все это легко перекочевывало на подмостки
театров на южном берегу Темзы. Жадно ловившая каждое слово публика живо
откликалась на экзотические подробности и возвышенные описания в новых
пьесах, моментально увязывая
Фрегаты с палубами из сандала,
С шатрами из ливанских шкур14, -
с тем, что они знали, слышали от сыновей и братьев, вернувшихся из
дальних странствий. Да и как иначе? Вот, например, у Верни15 сын: парень
отбился от рук, нанялся на пиратское судно, примкнул к неверным, очутился
в Турции, там и умер, а перед смертью послал родным на память в Клейдон
кусок шелка, тюрбан и посох паломника. Если подумать, целая пропасть
отделяла суровый быт женской половины семейства Пэстонов от утонченных
вкусов елизаветинских придворных дам: те, по свидетельству Хэррисона,
на старости лет зачитывались хрониками, или «писали собственные
сочинения, или переводили чужие на английский или латынь»16. Фрейлины
помоложе развлекали себя пением и игрой на музыкальных инструментах, лютне
и лире. Вот откуда пошла характерная елизаветинская тяга к неумеренному
украшательству: с увлечения придворных танцами и музицированием! - все
эти скачкообразные переходы в пьесах Грина17, напоминающие о
старинных танцах «козликом» и «дельфинчиком»18, гиперболы Бена Джонсона19,
которого вообще-то трудно упрекнуть в стилистических излишествах -
настолько у него твердый и энергичный слог. Скоро вся елизаветинская
литература засверкала золотисто-серебряным блеском, заискрилась интересом к
гвианской экзотике и наполнилась вздохами по Америке: «Ах, моя Америка!
Земля моя обетованная!»20; отныне слово «Америка» не просто обозначало
новый материк на карте, а символизировало неизведанные широты души. Во
всяком случае, для Монтеня - точно: его пытливый ум устремлялся за океан,
к неведомому манящему миру дикарей, людоедов, вопросам общественного
устройства и политике правительств.
Кстати, упоминание о Монтене - французе - наводит на мысль, что для
английской прозы последствия заморских странствий вовсе не были столь же
благотворными, какими они оказались для развития английской поэтической
музы: ту, видно, сильно поразил сундук с чучелами морских чудовищ,
рогами, слоновой костью, старинными картами и навигационными приборами.
Увидев эти сокровища, муза вдохновилась, пришла в сильнейшее волнение,
и еще неизвестно, удалось ли бы ей справиться с нахлынувшими чувствами,
42
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
если б не выучка - размер и рифма. У прозаика же подобной
самодисциплины не было, и он впадал в многословие, перебивая рассказ пространными
каталогами, постоянно путался и спотыкался на каждом слове. Всю разницу
между елизаветинской и французской прозой того времени легко увидеть на
сравнении отрывка из «Защиты поэзии» Сидни с фрагментом эссе Монтеня:
насколько плохо слушается инструмент англичанина и насколько хорошо
отлажен он в руках француза!
«Поэт приходит к вам не с туманными определениями, которые,
объясняя, затемняют суть предмета и поселяют в вас сомнения, но с
расположенными в чарующей пропорции словами, настроенными на волшебное
искусство музыки. Он приходит к вам с выдумкой, с такой, право, выдумкой,
которая заставляет детей забыть про игры, а стариков про камин. Ни на что
более не претендуя, он стремится отвратить разум человека от порока и
направить его к добродетели. Вот так же ребенку дают лекарство, прежде
спрятав его в приятное на вкус кушанье, потому что если попытаться объяснить
ему пользу ревеня или алоэ, то он скорее засунет лекарство себе в уши, чем
в рот. Так и взрослые (ведь многие из них лучшим в себе до самой могилы
обязаны детству). Они радуются рассказам о Геракле»21.
И так далее, в том же духе, еще на полстраницы. Проза Сидни - это
сплошной монолог без пауз, не лишенный творческих находок, авторских
удач: он плавно переходит в ламентации и нравоучения, в многословное
перечисление примеров, но чего нет в его партитуре, так это живости,
легкости, полета мысли, точно схваченной и гибко настроенной на
определенный душевный лад. Монтень, рядом с Сидни, - настоящий виртуоз, он
свободно владеет инструментом, доподлинно знает его сильные и слабые
стороны, забирает исподволь и так глубоко, как поэзии и не снилось; у него
свои ритмы и каденции, не менее благозвучные, чем у поэта, и ему
подвластны такие тонкие душевные струны, о которых елизаветинская проза
и не догадывается. Вот он задумался над тем, как иные древние встречали
смерть:
«...ils l'ont faicte couler et glisser parmy la lascheté de leurs occupations
accoustumées entre des garses et bons compaignons; nul propos de consolation,
nulle mention de testament, nulle affectation ambitieuse de constance, nul discours
de leur condition future; mais entre les jeux, les festins, facecies, entretiens
communs et populaires, et la musique, et des vers amoureux»22.
По сравнению с Монтенем, Сидни отстает на целый век: их разделяет
эпоха. Рядом с французами англичане - просто мальчишки.
Но чего не отнять у этих елизаветинских юнцов, баловавшихся прозой,
так это свежести восприятия и вольности в обращении со словом. В том же
эссе у Сидни есть немало пассажей, где он поступает с языком, как ему
вздумается, и у него это получается мастерски и свободно - метафоры так и
сыплются. Чтобы такую прозу довести до совершенства (а уже у Драйдена
почти безупречная проза), требовалась лишь сценическая дисциплина и чувство
Елизаветинский сундук
43
самоиронии. Недаром лучшие образцы елизаветинской прозы попадаются в
пьесах, особенно в комических сценках. Можно сказать, что именно на
театральных подмостках английская проза встала на ноги, научилась ходить,
и объясняется это очень просто: на сцене люди встречаются, злословят,
каламбурят, говорят наперебой, судачат обо всем на свете.
«К л е р и м о н. Чтоб оспа изрыла ее увядшее лицо! Чума съела остатки
красоты! Виданное ли дело - мужчин держать за дверью, пока она, фу ты ну ты,
мажется, пудрится, душится, моется, красится. Одно исключение делает -
для безусого мальчишки: всего обцеловала своими напомаженными
губками! Тьфу! Я на эту тему куплет сложил - послушай.
(Поет)
Не стучи - я не готова,
Вот оденусь, вот умоюсь...
Тру вит. А по мне так это правильно: нет ничего лучше красавицы,
почистившей перышки. Не женщина, а благоуханный цветок, да не один, а целый
букет - то зардеется розой, то глазки увлажнит, как фиалка: зеркальце
всегда подскажет ей, что ей к лицу. Красивые ушки - она их откроет,
роскошные волосы - распустит, ножки стройные - покажет, пальчики
музыкальные - поиграет ими! Все средства хороши, когда надо благоухать, сверкать
зубками, играть бровками, завлекать и влюблять в себя»23.
На таких диалогах построена «Безмолвная женщина» Бена Джонсона: с
живыми перебивками, острыми поворотами, без пауз и длиннот, без
нагромождений и сумбура. Впрочем, публичный характер драматургии и
постоянное присутствие на сцене второго актера далеко не всегда оказывались
благом для литературы; постепенно они даже вошли в противоречие с
нараставшим интересом человека к самому себе, к потаенным уголкам души,
приоткрывающимся в минуты уединения и парения духа, - все эти
настроения с течением лет вызревали в недрах литературы, пока не обрели
выражение в возвышенной, боговдохновенной прозе сэра Томаса Брауна24. Его
интерес к собственному «Я» поистине не знал границ и оказался очень
мощным стимулом для всех последующих создателей психологических романов,
автобиографий, исповедей, а также прочих любителей покопаться в
подробностях частной жизни, скрытой от посторонних глаз. Именно он первым
переключил внимание со светской жизни человека на его внутреннее бытие.
«Я изучаю мир, который есть я сам: я вглядываюсь в микрокосм моего
существа; для прочих же забав мой мир служит мне глобусом - я развлекаюсь
иногда, вращая его вокруг оси»25. Этому первопроходцу, пробиравшемуся
с зажженным фонарем по катакомбам человеческой души, все
представлялось мрачным и загадочным. «Порой внутри у меня кипит ад: я чувствую,
что в моей душе воцарился Люцифер и правит бал; имя ему - легион, и он
во мне»26. В той пустыне одиночества, что он познавал в себе, не было ни
поводырей, ни спутников. «Темен я для всего мира, и даже самые близкие
44
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
друзья видят меня будто бы сквозь облако»27. Внешне он оставался самым
здравомыслящим из смертных и пользовался репутацией лучшего медика в
Нориче, но трудно даже представить, что за странные мысли витали у него
в голове и какие чудные фантазии посещали его во время врачебной
практики. Вдруг ни с того, ни с сего ему захотелось умереть. Неожиданно его взяло
сомнение во всем сущем: а что если жизнь - это сон, радости жизни - всего
лишь грезы? Проходя мимо таверны, услышал музыку, узнал в колокольном
звоне молитву «Аве Мария»; увидел черепки, которые выкопал в поле
рабочий, - он тут же останавливается как вкопанный, словно его пригвоздила к
месту внезапно явившаяся мысль о безграничных просторах воображения.
«Мы ищем чудеса вовне, а они внутри нас: душа - Африка с ее несметными
сокровищами»28. На любой предмет внешнего мира он взирает как на чудо,
окруженное светящимся ореолом, бережно направляя свой фонарик то на
цветок, то на букашку, то на стебелек под ногами, стараясь ни единым
движением не нарушить таинственный процесс их хрупкого существования. И
точно так же - с благоговейным вниманием к малейшим подробностям -
наносит он на карту те острова и континенты, что день за днем открывает в
самом себе. Оказывается, он щедр, способен на смелые поступки, ничему не
противится, сочувствует другим и безжалостен к себе. «Мои речь и слух
обращены ко всем, как солнышко, которое с одинаковым дружелюбием светит
и добрым и плохим»29. Он - настоящая ходячая энциклопедия: владеет
многими языками, осведомлен о законах, обычаях, политике нескольких
государств, знает названия всех созвездий и большинства растений своего края,
и при этом он настолько широко мыслит, настолько относительными
представляются ему любые горизонты, что в собственных глазах он -
крошечный муравьишка, который «знает, что ничего не знает, или знает меньше,
чем знал, когда умел считать до ста, и мало что видел на свете, кроме своего
родного Чипсайда»30.
Браун - наш самый первый автобиограф. Кто еще умеет так, как он,
взмывать на крыльях фантазии, паря высоко над землей, и мысленно чистить
перышки, охорашиваться? Я среднего роста, сообщает он нам, у меня большие
выразительные глаза, смуглая кожа, я легко краснею. Одеваюсь просто, я не
смешлив. Коллекционирую монеты, держу личинки в банках, препарирую
легкие лягушек, не падаю в обморок от вонючего китового жира, терпимо
отношусь к евреям, не брошу камня в толстуху жабу и, даром что ученый-
скептик, имею несчастье верить в существование ведьм. Короче говоря, он
чудак, а чудаками мы обычно называем тех, над чьими милыми
странностями мы невольно смеемся и кого обожаем больше всего на свете: Браун
первым убедил нас в том, что если любишь человека, то поверишь любой
его фантазии, даже самой невероятной. Кажется, что может быть мрачнее
«Погребальной урны», а он вдруг обмолвится, что от хандры бывают
мозоли, и ты невольно улыбнешься31. А раз улыбнувшись, не заметишь, как
через несколько страниц, читая «Кредо врачевателя», уже хохочешь вовсю
Заметки на полях елизаветинских пьес
45
над блистательной риторикой и сногсшибательными гипотезами. И так
абсолютно все, что он писал, - на всем лежит печать его чудаковатости: вот
где мы в первый раз встречаемся с разновидностью гибрида в литературе, -
потом таких случаев будет много и разных, - когда читаешь произведение
и не можешь точно решить, то ли перед тобой портрет человека, то ли его
сочинение. Все двоится: мы то устремляемся ввысь на крыльях фантазии, то
с размаху попадаем в лавку древностей, доверху набитую всякими
диковинами: изделиями из слоновой кости, старыми утюгами, черепками, урнами,
рогами сказочных единорогов вперемешку с подзорными трубами, в чьих
волшебных линзах плещутся и играют все цвета радуги - от изумрудного до
бирюзы.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ
ЕЛИЗАВЕТИНСКИХ ПЬЕС
Что и говорить, в английской литературе есть опасные маршруты, и
главным среди них по сложности является переход через джунгли,
заколдованный лес, безбрежные пески, именуемые елизаветинской драмой. По
многим причинам, обсуждать которые здесь не место, все внимание
испокон веку приковано к Шекспиру: Шекспир заслоняет общий план; Шекспир
возвышается над всеми своими современниками, если брать за точку
отсчета общий уровень мастерства. А что же пьесы елизаветинцев «поменьше» -
Грина, Деккера, Пила, Чэпмена, Бомонта и Флетчера1? Стоит только
обыкновенному читателю пуститься на поиски приключений в эти нехоженые
пределы, как для него начинается тяжелое испытание, настоящая пытка: на
каждом шагу его подстерегают вопросы, терзают сомнения, восторг
сменяется разочарованием, наслаждение - мукой. А все потому, что, читая, как
водится, одни только шедевры прошлой эпохи, мы привыкаем выносить за
скобки литературу как целое, забывая о том, какой огромной инерционной
силой она обладает, с какой мощью заявляет о себе. Мы наивно думаем, что
можем отнестись к ней с ленцой, с прохладцей - полистаем при случае на
сон грядущий, а на самом деле это нас берут за жабры и читают. Это наши
ожидания отбрасывают как ненужную фитюльку. Это наши так называемые
принципы, которые мы привыкли принимать как данность, ставят под
сомнение. Это нас в конечном итоге половинят по ходу чтения, то приводя в
восторг и обезоруживая, то, наоборот, заставляя твердо стоять на своем.
Едва открыв елизаветинскую пьесу и начав ее читать, мы испытываем
потрясение от полного несовпадения нашего представления о
действительности и елизаветинского взгляда на вещи. Ведь та реальность, с которой
мы, говоря попросту, свыклись, имеет своим основанием жизнь и смерть
некоего рыцаря по фамилии Смит: когда-то давно он унаследовал от отца
46
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
семейное дело по ввозу крепежного леса, торговле брусом и экспорту угля,
весьма преуспел и стал уважаемым человеком в обществе, заняв место в
попечительских комитетах, обществе трезвости, благотворительных
организациях, совершил много добрых дел в пользу неимущих Ливерпуля и, увы,
скоропостижно скончался в прошлую среду от воспаления легких, которое
подхватил, гостя у сына на Масуэл-хилл. Никакой другой мир, кроме этого,
нам не ведом, и именно его призваны описывать и толковать наши поэты и
романисты как единственно доступную нам реальность. И потому, открыв
первую попавшуюся елизаветинскую пьесу и прочитав про то, как
В горах Армении
Я встретил ювелира: выслеживал
Единорога он, пытаясь завладеть
Венцом его главы, - тот в ярости
Отбросил наглеца копытом,
Оборотился, бросил гневный взор
И рогом царственным пронзил обидчика2,
мы спрашиваем ошеломленно: а где же Смит? Где Ливерпуль? А в ответ
только эхо разносится по елизаветинским кущам: «Где-е-же, где-е-же-е,
где-е-е...» Да, какое наслаждение, какая неземная радость для ума и
сердца - бродить себе вольно по заморским странам, населенным единорогами
и ювелирами, чувствуя себя своим среди герцогов и грандов, всех этих Гон-
зало и Беллимпирий3, которые разят своих недругов направо и налево,
постоянно интригуют; в зависимости от пола, переодеваются мужчинами ли,
женщинами, встречают привидения, лишаются рассудка и по всякому
поводу и без повода отдают Богу душу несть числа, не забыв при этом в ту самую
минуту, когда испускают дух, разразиться пылкой инвективой или зайтись
отчаяннейшим плачем в форме классической элегии! И все же чем дальше
читаешь елизаветинцев, тем все громче ропот сомнения - да и как иначе?
Разве может он не звучать в душе читателя, который воспитан не только
на современной английской литературе, но и французскую, и русскую тоже
знает? - так вот, когда читаешь елизаветинцев, тебя неотступно преследует
вопрос: почему эти старинные пьесы, будоражащие воображение и кровь,
наводят большей частью такую смертную тоску? Может, действительно
литературное произведение нужно строить вокруг Смита, если хочешь, чтобы
читатель не заснул к концу пятого акта и дочитал пьесу до конца, сохраняя
бодрость духа? Может, и вправду литература, подобно балерине, должна
одним носочком касаться земли - того же, условно говоря, Ливерпуля, а
другим тянуться вверх, устремляясь как можно дальше от так называемой
реальности? Мы же не настолько наивны, чтобы полагать, что Смит «реален»
уже потому, что его так зовут и он живет в Ливерпуле. Нет, мы прекрасно
понимаем хамелеонскую природу реальности, когда ближе всего к правде
оказываются на первый взгляд невероятные вещи, а проза жизни, наоборот,
предстает плоской и далекой от истины; когда пробным камнем писатель-
Заметки на полях елизаветинских пьес
47
ского мастерства оказывается умение подручными средствами - выражаясь
фигурально, с помощью нескольких клочков облаков и нитей паутины -
создать действие высокой плотности, откуда слова не выкинешь. Весь сыр-бор,
таким образом, происходит из-за того, что якобы где-то на полпути между
небом и землей располагается точка обзора, с которой лучше всего видны и
Смит, и Ливерпуль; что истинно великий художник тот, кто знает, в каком
месте надо поставить смотровую площадку, чтобы с нее открывалась
подвижная панорама событий; что подлинно большой писатель всегда
соизмеряет Ливерпуль с общей перспективой действия. Выходит, елизаветинцы
потому навевают на нас скуку смертную, что у них вместо Смитов
действуют герцоги, а вместо Ливерпуля они напридумывали волшебные острова
и генуэзские палаццо. Вместо того чтобы держаться поближе к земле, они
уносятся в заоблачные эмпиреи, а там ничего не разглядеть, кроме
причудливо меняющих свои очертания облаков: человеческому взгляду не за что
зацепиться. Вместо того чтобы заставить работать наше воображение,
елизаветинцы душат его заоблачными картинами. Как тут не зевать со скуки?
Впрочем, скука скуке рознь. Если сравнить елизаветинскую пьесу с
драмой девятнадцатого века, скажем пьесами Теннисона4 или Генри Тэйлора5,
то нельзя не заметить разницу если не в силе, то в характере скуки, которую
навевают на нас и та и другая. У елизаветинцев буйство образов и
безудержная риторика таковы, что, даже и набивая оскомину, они пышут жаром - так
язычок пламени вмиг пожирает целую газету. Даже в самых слабых
елизаветинских пьесах слышится шум ревущей галерки, это он заставляет тебя
подпрыгивать на месте, забывая о том, что ты сидишь в покойном кресле у
камина, и мысленно переноситься в раек, ловить на лету слова, стоя в толпе
конюхов и цветочниц, подхватывать хором строчки, свистеть и топать,
заходясь от восторга... И совсем другое дело - чопорная викторианская драма.
Ее писали в тиши кабинета, под звук мерно тикающих часов, среди собраний
сочинений классиков, расставленных на полках аккуратными рядами томов
в кожаных переплетах. Никакого тебе свиста, никакого топанья - всё
чинно, благопристойно. Ясно, что такая пьеса публику не зажжет. Это только
елизаветинцы, при всех их огрехах, умели устраивать словесный фейерверк,
подбрасывая в воздух риторические фигуры, исполненные пафоса,
подхватывать их на лету, отвечать экспромтом, создавая впечатление неожиданно
разыгравшейся на сцене перепалки. А в наши дни такое редко кому
удается - пишут всё больше в одиночестве, в соответствии с замыслом. То ли дело
в елизаветинскую эпоху: тогда публика трудилась наравне с драматургами.
Впрочем, это спорное преимущество: вмешательство публики чаще
всего пагубным образом сказывалось на качестве драматургии. Именно оно
породило наше главное проклятие - сюжет елизаветинской пьесы: это
чудовищное нагромождение каких-то несвязанных, цепляющихся друг за друга
сцен, возможно, шумному райку из полуграмотных подмастерьев оно и
нравилось, но читателя, который держит перед глазами текст, такое действие
48
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
только путает и утомляет. Это не значит, что мы против сюжета как
такового: пьесы без действия просто не бывает. Но мы вправе требовать, чтобы
происходящее на сцене преследовало какую-то цель - во всяком случае, у
греков это получалось великолепно. Ничто так не заставляет сопереживать
зрителя, не запечатлевает в его воображении драматическое действие и не
воодушевляет актеров, как наличие в пьесе сверхзадачи. Ведь почему
невозможно забыть сюжет «Антигоны»? Потому что действие настолько тесно
увязано с нашим сопереживанием, что одно от другого отделить
невозможно: стоит только вспомнить действующих лиц, как тут же в голову приходит
сюжет. А кто помнит, что происходит в «Белом дьяволе» или в «Трагедии
девушки»6? Даже если и вспомнить последовательность событий, никакого
сопереживания у нас это воспоминание не вызовет. Так что же говорить о
менее известных елизаветинцах, таких как Грин и Кид? - в их пьесах
столько сюжетных хитросплетений и такая нарастающая от сцены к сцене
жестокость, что актеры просто превращаются в механические орудия убийства и
играть им по большому счету нечего: вместо чувств, которые, как нам
кажется с колокольни современной драматургии, должны испытывать
персонажи и которые заслуживают подробнейшего описания и самого
пристального анализа, мы встречаем сплошные ходульности. И вот результат: за
исключением Шекспира и еще, возможно, Бена Джонсона, в елизаветинской
драме нет характеров - есть лишь орудия насилия и мести, одетые в
мужское и женское платья, которые нас совсем не трогают и чья судьба нам не
интересна. Взять любого героя или героиню ранней елизаветинской
драматургии - например Беллимпирию из «Испанской трагедии»: положа руку на
сердце, разве можем мы сказать, что сопереживаем этой несчастной,
испившей полную чашу страданий и в конце концов заколовшей себя кинжалом?
Нет, конечно! Нам до нее не больше дела, чем до ходячей швабры, и если
уж на то пошло, швабры не украшают пьесы про отношения людей.
Впрочем, «Испанская трагедия» - не более чем первая грубая заготовка будущих
великих трагедий7, и ценность ее главным образом первопроходческая: при
всей неотесанности формы, в ней уже угадываются очертания
елизаветинской драмы, над которой будет трудиться резец будущего драматурга.
Говорят, Форд8 принадлежит к школе Стендаля и Флобера: Форд - это психолог,
Форд - тонкий аналитик. По словам м-ра Хэвлока Эллиса, «это настоящий
знаток женской души: он пишет о женщинах не как драматург или
любовник, а как сердцевед, изучивший все их потаенные уголки»9 и
прочувствовавший каждую тайную струнку.
Такой вывод критик делает на основе пьесы «Жалко, она шлюха»10, где
противоречия в характере главной героини Аннабеллы изображены как
следствие резких поворотов колеса фортуны. Пьеса начинается с признания
в любви Аннабелле ее брата, затем Аннабелла признается брату во взаимном
чувстве; вскоре героиня забеременела; она решает выйти замуж за Соранцо;
ее выводят на чистую воду; она кается; в конце концов, ее убивают, причем
Заметки на полях елизаветинских пьес
49
убивает любовник, он же родной брат. Если представить, что через весь этот
огонь, воду и медные трубы проходит обыкновенная женщина с нормальной
психикой, то описание ее внутреннего состояния должно занять по меньшей
мере несколько томов. У драматурга, разумеется, все по-другому, и он
поневоле вынужден ужимать описание. Но даже с этими оговорками, у него
достаточно возможностей, чтобы многое объяснить, на многое намекнуть, а
уж об остальном мы и сами догадаемся... Так что же нам известно о
личности Аннабеллы? Она живая - вот единственное, что мы можем сказать, если
сильно не вдаваться и не ломать голову: помните, как она отбрила мужа,
когда тот начал ее ругать; как она поет итальянские песни, какая у нее
смекалка, с какой наивной радостью отвечает она на любовные ласки?.. Только
к характеру (в том смысле, в каком понимаем это слово мы) все это не имеет
никакого отношения. Каким образом она принимает то или иное решение,
для нас так и остается загадкой: мы видим только, что она решилась на что-
то. Мы не знаем, что о ней думают другие; она появляется перед нами
всегда во власти чувства, а что внушило ей эту страсть, мы и ведать не ведаем.
Сравнить ее с Анной Карениной: сколько жизни, какой темперамент, какая
бездна ума, какая сила чувства, какая стать в этой русской женщине!
Рядом с ней наша англичанка Аннабелла - просто карикатура, кукла, трафарет,
личико на игральной карте: никакой душевной глубины, никакого блеска,
никакой харизмы... Но постойте-ка! А вдруг мы что-то упустили? И пьеса
растеклась как вода? Мы не заметили, как постепенно, исподволь
накапливается эмоциональное состояние, и накапливается оно там, где мы меньше
всего ожидали. Ну да, мы же сравнивали драму с прозой, а елизаветинская
драма написана в стихах - это поэзия!
Давайте попробуем отвлечься от деталей и соотнесем одну
литературную форму с другой, отдавая себе отчет в существующих между ними
различиях, в особенностях каждой, помня, что и то и другое произведение -
художественное целое. Различия обнаружатся сразу же: роман - это
произведение длинное, требует спокойного разбега, а пьеса - вещь короткая и
сжатая. Если в романе чувство рассеяно и в единое целое сплетается не
сразу, а постепенно, медленно увязываясь со многими другими нитями
повествования, то в пьесе все наоборот: чувство задано сразу, обобщенно и на
самой высокой ноте. Сколько ярости и блеска в драматическом действе:
О, милорды!
Я завлекала вас нарядом шутовским,
А смерть стояла рядом невидимкой.
Смерть! Смерть! Я шла навстречу ей, танцуя11.
Или вот еще:
С двух лепестков сих сладких губ
Ты пил фиалковую свежесть
И мед коринки: знай, они все те же, не поблекли12.
50
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Невозможно представить, чтобы Анна Каренина, при всем ее жизнеподобии,
могла невзначай обронить такое:
«С двух лепестков сих сладких губ
Ты пил фиалковую свежесть».
Выходит, и ей не все подвластно: выходит, есть такие бездны души, куда и
Каренина не заглядывает. Запредельные страсти вообще плохо поддаются
романисту; симбиоз музыки и смысла - не его епархия; как ни хочется ему
впрячь в одну телегу коня и трепетную лань, а не получается, он вынужден
замедлять шаг, смотреть под ноги, брать читателя в полон описанием, но не
откровением. Ему бы запеть:
На катафалк из молодого тисса
Набросьте ожерелье из цветов;
Венок, подруги, мне сплетите
Из непорочной ивы...13 -
а он вместо этого должен натужно описывать, как осыпаются на могиле
хризантемы и как гнусавят подмастерья гробовщиков, сопровождая катафалки.
Да разве сопоставима тягомотина прозы, называемая искусством, с поэзией?
На какие бы хитрости, большие и малые, ни пускался романист, стремясь
заставить нас поверить в реальность происходящего и потрястись судьбой
одного отдельного человека, драматург поднимается над частным и
случайным, являя нам не просто влюбленную Аннабеллу, а саму любовь. У него не
Анна Каренина бросается под поезд, а сама гибельная
...душа, как парус в бурю,
...все рвется. Неведомо куда!14
Чем не жирный восклицательный знак в конце елизаветинской пьесы,
поставленный после того как мы дочитали и закрыли книгу? А с каким чувством
переворачиваем мы последнюю страницу «Войны и мира»? Точно - не со
вздохом разочарования! Нам и в голову не приходит сетовать на то, что
художественная форма романа поверхностна и упрощенна. Наоборот, мы как
никогда остро осознаем неисчерпаемое богатство психологии: если в пьесе мы
сталкиваемся с общечеловеческими сторонами личности, то роман поражает
индивидуальностью. Если пьеса требует, чтобы ты собрал волю в кулак и
бросился вплавь, то роман не таков: он ждет от тебя домысливания, чтения между
строк, медленного накапливания разнообразных впечатлений, возникающих
по ходу чтения, и увязывания их в единое целое... В общем, в голове теснится
столько мыслей и образов, а опыт человеческий настолько превосходит
выразительные возможности языка, что любое сравнение литературных форм в
пользу той или другой кажется относительным: скорее ни одна из них не в
состоянии справиться с обилием материала, и поэтому нам остается только
ждать и надеяться, что в недалеком будущем возникнут новые формы
искусства и они избавят нас от непосильного груза невысказанного.
Заметки на полях елизаветинских пьес
51
А пока время освобождения не наступило, будем продолжать читать
наших младших елизаветинцев, махнув рукой на скуку, ложный пафос,
выспренность и сюжетную мешанину, будем резвиться на пару с ювелиром в
заморских землях, где обитают единороги. На наших глазах растают в воздухе
знакомые очертания фабричных труб промышленного Ливерпуля, и нам уже
будет трудно догадаться о кровных узах, связывающих рыцаря, что
занимался, пока не умер от воспаления легких на Масуэл-хилл, ввозом
строительного бруса, с его предтечей - армянским герцогом, пронзившим себе
грудь, на манер древних римлян, мечом под звуки ухающей в кустах совы и
стенаний служанок, хлопочущих возле герцогини, разродившейся мертвым
младенцем. Если мы хотим перекинуть мосты от одного мира к другому и
распознать за разными обличьями одного и того же человека, нам никак не
избежать определенных переделок. И если очень постараться и произвести
перестановки в перспективе, наполнить полотно психологическим
содержанием, которое столь мастерски разработали модернисты? если вместо
худосочных звуковых и зрительных образов, которые никак не даются
современному художнику, ввести старинную палитру красок, радующих глаз, да
еще найти подходящие слова - не знаки, напечатанные чернилами на
странице, а живую, брызжущую смехом и остроумием речь? если держать
перед мысленным взором и ни на минуту не упускать подвижные мимику и
жесты не манекенов, а живых людей? словом, если переместиться с одной
ступени читательского опыта на другую - заметьте, вовсе не обязательно
менее продвинутую, то нам откроются некоторые неоспоримые достоинства
елизаветинской драмы. Например, сила художественного воздействия -
бесспорно, это сильная сторона елизаветинцев. Другая - их словотворческий
гений: мысль елизаветинцев не знает пределов - глядишь, окунулась в воду
и будто заново родилась, выходит новоявленной Кипридой. Еще - здоровое
чувство юмора, оно у них абсолютно низовое, телесное: а как еще, скажите
на милость, можно было заражать смехом целый зал, если не снимать
покровы? И все это на фоне того, что можно, за неимением лучшего
определения, назвать ощущением присутствия богов: оно создавало если не
единство, то некую общую основу. Едва ли кто-то из критиков возьмет на себя
смелость утверждать, будто у разномастной и разнокалиберной компании
елизаветинских стихоплетов была общая вера, но и противоположное
суждение представляется издержкой малодушия: мол, не было за ними никаких
общих верований и целая литературная эпоха, отмеченная общими чертами,
не более чем выпущенный из-под гнета пар, умело организованный способ
обогащения, интеллектуальная забава, если угодно, удавшаяся из-за
стечения обстоятельств. Джунгли джунглями, пески песками, а стрелка компаса
показывает в правильном направлении:
Боже, Боже, зачем не умер я!15
52
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Поэзию наполняет неизбывный стон:
О ты, нежнейшая сестра
Сладчайшей дреме, - смерть...16
театр, и весь этот великолепный пир ума и сердца - не более чем
Что слава
И величье человека? Ничто - порыв
И тень бесследные: фарс,
Сыгранный молокососом, миг
Суетности на пороге сна17...
Умереть, уснуть, оставить этот мир - вот предел их желаний; по ком звонит
колокол елизаветинской драмы - ясно: он звонит по земной жизни и ее
утехам:
Что наша жизнь? Мы шаг за шагом
Бредем домой: где кров - там наша смерть 18.
Все тлен, суета, смерть - смерть без конца и края: вот суровый приговор,
каким встречает одна половина елизаветинской драмы другую ее половину,
олицетворяющую жизнь, - все эти груженые сосновой древесиной и
слоновой костью фрегаты, все эти дельфины и брызжущие соком июльские
цветы, молоко единорогов и дыхание пантер, жемчужные ожерелья, мозги
павлинов и кретонское вино19. На весь этот ослепительный блеск и изобилие у
елизаветинцев один ответ:
Человек что древо: вверх растет без цели,
Корни вглубь пускает, вширь топорщит ветви,
А зачем - не знает, горе лишь хлебает20.
Так и аукаются попеременно два полюса елизаветинской пьесы, в которой
ощущается незримое присутствие богов - пусть и нет ему названия. А мы
тем временем все бредем себе и бредем через джунгли, через
заколдованный лес, через безбрежные пески; с кем только не сводит нас
злодейка-фортуна- с императорами, клоунами, ювелирами, единорогами, мы со всеми
водим компанию: хохочем, восторгаемся, дивимся на ослепительное,
небывалое, уморительное действо, разыгрывающееся у нас перед глазами.
Когда же занавес падает, мы, кажется, готовы первого встречного разорвать на
клочки в приступе благородной ярости; и если мы этого не делаем, то
оттого лишь, что нам до смерти скучно и тошно от набивших оскомину
фокусов и развесистой клюквы. Не поверите, но дюжина трупов в последнем
акте елизаветинской трагедии нас не так трогает, как страдания маленькой
мушки в повести Толстого21. Бывает, конечно, что посередине
какой-нибудь особенно невероятной и занудной пьесы нас поразит проникновенная
деталь, осенит откровение, тронет душу безыскусный и тонкий мотив.
Таков мир елизаветинской драмы: в нем все через край - хохот, поэзия, блеск,
Весь мир -
суета сует.
Монтень
53
все вперемешку - скукотища пополам с восторгом, наслаждение мешается
с любопытством... Кажется, всего хоть отбавляй, ан нет: чего-то да не
хватает - интересно, чего же? Чего нам хочется больше всего на свете и
немедля? - Тишины. В елизаветинской драме негде уединиться. Дверь все время
нараспашку, пол ходит ходуном. Здесь все пущено по рукам, все на виду, на
слуху, на высокой ноте. А душе нужен покой - вот она и ускользает от
шумной компании; ей хочется подумать о сокровенном, остаться наедине с
собой, вслушаться в себя, обойти все тайные закоулки, избегая ярко
освещенных улиц и площадей. Пора, пора обратиться к ним - хранителям ключей
уединения: к Донну, Монтеню, сэру Томасу Брауну.
МОНТЕНЬ
Монтень рассказывает, как однажды в Бар-ле-Дюке он увидел картину,
на которой себя запечатлел король сицилийский Рене, и этот автопортрет
навел его на мысль: «Почему же нельзя позволить и каждому рисовать себя
самого пером и чернилами, подобно тому как этот король нарисовал себя
карандашом?»1 Да ради бога! - вот первый ответ, который приходит в голову;
к тому же нет ничего проще, чем описать себя самого. Это характер
другого человека сложно передать на бумаге, а собственный знаешь как свои
пять пальцев. Приступим! Берем в руку перо, листок, садимся писать - да не
тут-то было! Оказывается, самоописание - дело неимоверно, непостижимо,
невероятно трудное.
Задумаемся: многим ли писателям в мировой литературе удалось
создать автопортрет? По большому счету эта задача оказалась по плечу только
Монтеню, Пипсу и еще, быть может, Руссо2. Знаменитое «Кредо
врачевателя»3 - не более чем витраж, сквозь который смутно проглядывает
незнакомая мятущаяся душа в обрамлении ярко переливающихся звезд, а
известная биография Босуэлла4 сравнима с отполированным до блеска зеркалом,
в котором отражается толпа и только где-то на заднем плане мелькает его
лицо. Искусство же самораскрытия, самообнажения, картография души
смятенной, бездонной, грешной - вплоть до указания точного масштаба,
глубины, рельефа сокровеннейшего из душевных движений - это искусство
ведомо лишь одному человеку: Монтеню. Проходят столетия, а его картина
неизменно собирает толпу поклонников: они вглядываются в черты лица,
изображенные на портрете, стремясь постичь его глубину, видят
собственное отражение и чем дольше всматриваются в полотно, тем сильнее оно их
завораживает - как тайна, разгадать которую невозможно. И в
подтверждение слов о том, что притягательность Монтеня неувядаема, появляются все
новые и новые переиздания его сочинений. Например, недавно Общество
54
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Наварры в Англии переиздало пятитомник* «Опытов» Монтеня в переводе
Коттона5, а во Франции издательство Луиса Конара готовит к публикации
полное собрание его произведений под редакцией и с критическими
комментариями д-ра Арменго6, который посвятил изучению творчества
Монтеня целую жизнь.
Непростое это дело - говорить правду о своей душе, не отпуская ее от
себя ни на шаг.
«Так писали о себе (говорит Монтень) всего лишь два или три древних
автора... С тех пор никто не шел по их стопам. И неудивительно, ибо
прослеживать извилистые тропы нашего духа, проникать в темные глубины его,
подмечать те или иные из бесчисленных его малейших движений - дело
весьма нелегкое, гораздо более трудное, чем может показаться с первого
взгляда. Это занятие новое и необычное, отвлекающее нас от повседневных
житейских занятий, от наиболее общепринятых дел»7.
Прежде всего, трудность заключается в самом высказывании. Все мы
любим предаваться странному, но приятному времяпрепровождению,
называемому размышлениями, но когда доходит до желания поделиться своими
мыслями с сидящим напротив собеседником, мы разводим руками - нам
нечего сказать! Что-то привиделось и тут же растаяло в воздухе, прежде чем
ты сумел ухватиться за мелькнувшую мысль. А бывает и по-другому:
шевельнется в душе какая-то догадка, ты ждешь - вот-вот наступит озарение, а
чуда не происходит, и душа снова погружается в потемки. В разговоре еще
куда ни шло: тут высказаться помогают мимика, интонация, тембр голоса -
они придают словам особые вес и красноречивость. Но письмо - искусство
суровое: оно скрыто за семью печатями, и постичь его законы и ограничения
может далеко не каждый. К тому же это опасное оружие: слабых оно
превращает в пророков, а изреченную мысль лишает ее естественной сбивчивости
и заставляет чеканить шаг в плотном строю рядовых, имя которым легион.
А вот Монтеня не поставишь под ружье - для этого он слишком живой, он
выбивается из общего ряда. Вот почему мы ни на секунду не сомневаемся в
том, что его книга - это он сам. Он ни в какую не хотел никого учить,
проповедь - это не по нем, он все время повторял, что он такой же, как все. Его
единственным помыслом было описать самого себя, поделиться мыслями,
высказать правду, а это - «тернистый путь, каких мало».
Ведь главная трудность заключается даже не в том, чтобы высказаться
начистоту или поделиться мыслями с другими: самое сложное - это быть
самим собой. Между душой, или тем, что у тебя внутри, и тем, что вовне,
царит постоянный разлад. Попробуй, наберись смелости, спроси себя, о чем
ты думаешь, и ты увидишь, что в душе ты всегда думаешь противоположное
тому, что говорят другие. Люди, например, давно уже про себя решили, что
* "Essays of Montaigne" в переводе Чарльза Коттона, в 5 томах. Общество Наварры. Цена:
6 фунтов, 5 шиллингов {Примеч. Вулф).
Монтень
55
немощным старикам надо сидеть дома и показывать пример супружеской
верности. А душа Монтеня, наоборот, просилась на волю, подсказывая
ему, что если вообще путешествовать, то в старости, а что до брачных уз,
то они, как правило, имеют свойство превращаться к концу жизни в
пустую формальность, ибо редко когда скреплены чувством любви, и
поэтому лучше их разорвать к обоюдной пользе. Или другой пример: политика.
Государственные мужи на все лады прославляют империю и кадят ладан
христианскому долгу сеять просвещение среди дикарей. А Монтеня эти
сладкие речи приводят в ярость. «Столько городов разрушено до
основания, столько народов истреблено до последнего человека... и богатейшая
и прекраснейшая часть света перевернута вверх дном ради торговли
перцем и жемчугом: бессмысленная победа!»8 И тот же Монтень спрашивает
себя после разговора с местными крестьянами - те пришли к нему
доложить, что они нашли в лесу человека, истекающего кровью, и бросили его
на произвол судьбы, опасаясь, как бы им не приписали убийство: «Что я
мог им сказать? Несомненно, им пришлось бы пострадать, прояви они
человечность. ...Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза ошибок,
как законы»9.
В этих словах слышится душевное смятение: возмущенная мысль
Монтеня бунтует против двух заклятых его врагов - приличий и протокола. Но
стоит ему только расположиться у камина во внутренних покоях башни рядом
с домом, с которой видно далеко-далеко окрест, как душа его обретает
равновесие и покой. Да, удивительное это создание - душа! Ни капли героизма,
переменчива, будто флюгер: «...я нахожу в себе и стыдливость и наглость;
и целомудрие и распутство; и болтливость и молчаливость; и трудолюбие и
изнеженность; и изобретательность и тупость; и угрюмость и добродушие;
и лживость и правдивость; и ученость и невежество; и щедрость и скупость
и расточительность»10, в общем, душа - существо настолько капризное и
непредсказуемое, настолько далекое от расхожего представления о душе,
бытующего среди людей, что напасть на ее след необычайно трудно: на поиски
может уйти вся жизнь, и тогда пиши пропало - твоя карьера! Зато какое
безбрежное наслаждение доставляет сам процесс поиска, сторицей
вознаграждая тебя за возможные издержки: ведь если человек осознает самого себя,
он независим, ему отныне не ведома скука, и сожалеет он лишь о том, что
жизнь слишком коротка, ибо им владеет глубокое и ровное ощущение
счастья. Он один, можно сказать, живет, тогда как другие люди - рабы
приличий - существуют, будто во сне, не замечая, что жизнь уходит. Но стоит тебе
только раз дать слабину и поступить как все, не задаваясь вопросом, зачем
и почему, как твоя душа впадает в летаргический сон. Еще недавно живая и
ранимая, она вдруг делается вульгарной и пустой: так незаметно для себя ты
душевно грубеешь, становишься вялым и толстокожим.
Поэтому если спросить у этого великого чародея совета, как жить, то он
наверняка предложит нам уйти в себя и, уединившись в башне одиночества,
56
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
погрузиться в чтение книг, предаваясь прихотям фантазии, а хлопотное дело
управления обществом предоставить другим. Уединение и размышление -
вот его рецептура, как нам кажется. Однако мы, похоже, ошиблись: Мон-
тень - не сторонник прямого действия. Этот тонкий, слегка ироничный,
печальный человек с тяжелыми веками и мечтательно-пытливым взглядом не
любит давать простые советы. Дело в том, что жизнь в деревне, наедине с
книгами, огородом и садом, на поверку невыносимо скучна; к тому же он не
из тех, кого можно убедить в том, что его зеленый горошек уродился
лучше, чем у соседей. Все равно больше всего на свете его влек к себе Париж -
«jusques à ses verrues et à ses taches»11. Что же до книг, то он никогда не мог
себя заставить просидеть над книгой больше часа, а память у него, по его
словам, настолько дырявая, что, выйдя из комнаты, он тут же забывал, о чем
думал. Люди напрасно гордятся книжной премудростью, - как и в научных
достижениях, в ней нет ничего особенного. Он с детства привык вращаться
среди умных людей - в их семье был культ просвещения, но, по его
наблюдениям, самые умные и образованные люди мало чем отличаются от
фанатиков, особенно когда они в ударе, их осеняет вдохновение или они
рассуждают о своих идеях. Присмотритесь к себе: сейчас вас опьяняет восторг, а в
следующую секунду вы готовы сорваться из-за разбитого стакана. О чем это
говорит? - любые крайности опасны и лучше всего держаться золотой
середины: как говорится, лучше в общей куче, чем с боку или с краю. На письме
хороши слова обыкновенные, без выспренности и краснобайства; опять же,
поэзия - особая статья, поэзия упоительна, и нет лучшей прозы, чем та, что
исполнена лиризма.
Уж не демократическую ли простоту имеет в виду Монтень? Сколько бы
мы ни наслаждались уединением в башне, с уютно устроенной библиотекой,
увешанной картинами, - грех забывать о работнике, копающемся в саду:
сегодня утром он похоронил отца, а ведь именно такие, как он, ближе всего к
правде жизни, и язык у них незаемный. В таких наблюдениях, безусловно,
есть доля истины: на дальнем конце стола, где обычно сидят слуги, умеют
пустить словцо, да и по человеческим качествам необразованная публика
может дать несколько очков вперед ученому сословию. И все же что за
мерзкая эта братия- чернь! «Мать невежества, несправедливости и
непостоянства! Не бессмысленно ли жизнь мудреца ставить в зависимость от суда
глупцов и невежд?»12 Слабовольная, тупая, неспособная к сопротивлению масса.
Глухи к учению - шагу не сделают без поводыря! Смотреть на вещи трезво -
это не про них. Только благородная душа способна постичь истину: «l'âme
bien née»13. В таком случае расскажите нам, просветите нас, г-н Монтень, что
же это за благородные души такие - так хотелось бы им подражать!
Увы. «Je n'enseigne poinct; je raconte»14. В конце концов, как он может
влезть в чужую душу, если о своей собственной он не может ничего сказать
«просто, цельно и основательно... единым словом, без сочетания
противоположностей»15? Если с каждым днем он все меньше и меньше понимает
Монтень
57
самого себя? Хотя, пожалуй, один отличительный признак или, если
хотите, принцип имеется: благородная душа чужда всяким предустановлениям и
правилам. Тот, на кого больше всего хотелось бы походить, всегда открыт
душой, как, например, Этьен де Ла Боэси16. «C'est estre, mais ce n'est pas
vivre, que de se tenir attaché et obligé par nécessité a un seul train»17. Законы -
это чисто формальные ограничения, они не покрывают и десятой доли того
безбрежного океана, что представляют собой разнообразные и хаотичные
движения души, и то же самое привычки и обычаи - это не более чем
удобные костыли для тех, кто слаб душой и боится дать волю фантазии. Мы же,
полноправные владыки своей частной жизни, ценим ее превыше любых
других наших сокровищ, и поэтому с огромной подозрительностью относимся
к малейшим признакам тенденциозности. Стоит только запротестовать,
выразить свое отношение к тому, к сему, ввести законы, и нам, чувствуем мы,
конец: мы больше себе не принадлежим, мы живем ради других. На самом
деле все должно быть иначе: пусть другие жертвуют собой на благо
общества - мы им за это только в ножки поклонимся, осыплем почестями, а в
глубине души и пожалеем за неизбежный компромисс между личным и
общественным долгом. Но сами-то мы ни славы, ни милостей, ни казенной
службы не ищем! Если мы у кого-то и в долгу, так только у самих себя:
не дать потухнуть тому животворящему огню, что у тебя внутри; не
расплескать живую воду спонтанных, непредсказуемых движений, не дать
бездонному котлу впечатлений и восторгов выпариться - словом, поддержать
огонь в волшебном очаге, каким является твоя душа, ибо пока она жива, она
поминутно сыплет чудесами как из рога изобилия, - вот первейшая наша
обязанность. Жизнь - это движение и перемена, неподвижность - смерть,
соглашательство - это конец: так давайте же говорить наобум, давайте
повторяться, впадать в противоречия, нести околесицу, какой свет не слыхивал,
городить чушь и вообще пускаться в фантазии и чудачества, нимало не
заботясь о том, что подумает или скажет или как на это посмотрит свет.
Главное - это жизнь, все остальное не важно... кроме, разумеется, порядка.
Что же, получается, свобода - альфа и омега нашего существования -
не безгранична? В таком случае, непонятно, о какой узде может идти речь,
поскольку до сих пор все попытки ограничить личное мнение или
противодействовать неписаному закону Монтень встречал в штыки, осыпая градом
насмешек человеческие слабость, малодушие, тщеславие. Уж не советует
ли он нам обратиться за помощью к религии? - Возможно. Слово
«возможно» - вообще один из любимых его оборотов. Он любит уснащать свою речь
словечками, которые призваны смягчить категоричность иных наших
суждений: все эти «я думаю», «пожалуй» ставят препоны на пути невежества;
к тому же там, где необходимо избежать прямолинейности в высказывании,
они хорошо помогают срезать углы. Ведь о многом приходится умалчивать;
обиняком, оставляя обсуждение до лучших времен, - все мы пишем для
узкого круга посвященных. Разумеется, суд Всевышнего нам всем порукой, и
58
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
все же если живешь своим умом, то лучшего судии, чем внутренний критик
или невидимый цензор - «un patron au dedans»* - не сыскать: он один знает
правду, и поэтому его суда боишься больше всего на свете, зато и похвалы
нет слаще, чем его одобрение. Так что подчинимся суду нашего
внутреннего критика - он один поможет нам достичь той благодати, которой
отмечена благородная душа: внутреннего порядка и ясности. Ибо «C'est une vie
exquise, celle qui se maintient en ordre jusque en son privé»18. Но действует
критик всегда сам: он долго настраивается, пока не обретает, наконец, той
подвижной точки равновесия, которая и не дает сместиться центру тяжести,
и одновременно не стесняет свободу душевных движений и поиска. Жить
в мире с самим собой без такого самонастраивающегося инструмента и без
образца для подражания гораздо труднее, чем жить просто в обществе.
Этому искусству каждый учится на собственном опыте, хотя, возможно, среди
древних и найдутся два-три достойных мастера, например Гомер, Александр
Македонский и Эпаминондас19, а из современников - Этьен де Ла Боэси.
По сложности это искусство ничем не уступает другим, а материя у него
сверхтонкая - изменчивая и загадочная: одно слово, человеческая природа.
Отрываться от нее нам негоже: «...il faut vivre entre les vivants»20. Нельзя
допустить, чтобы из-за какого-нибудь чудачества или минутной блажи мы
потеряли благорасположение соотечественников. Нет большей
благодати, чем запросто судачить с соседями о том о сем: кто чем увлекается, как
идет строительство, кто с кем поссорился, наслаждаясь от души общением
с людьми простого звания, плотниками и садовниками. Мы созданы, чтобы
общаться; в жизни есть две большие радости - дружба и застольная беседа;
и даже радость чтения состоит не в том, чтобы увеличивать свои познания
или зарабатывать на жизнь, а в расширении круга нашего общения вне
времени и пространства. В мире столько невиданных чудес: и птица алкион, и
неведомые страны, где живут люди с собачьими головами, которые держат
свои глаза в шкатулке, и где законы и обычаи намного цивилизованнее
наших. Возможно, жизнь - это сон; возможно, где-то существует иной мир,
доступный существам с богатой фантазией, которую мы на сегодняшний
день утратили.
Так вот о чем эти эссе, если отвлечься от многих оговорок и
противоречий: это опыт самораскрытия, опыт передачи сокровенного. И, надо
сказать, свое намерение Монтень высказывает со всей определенностью.
Он не ищет популярности, он не озабочен посмертной славой, воздвигать себе
памятник на рыночной площади он тоже не собирается - у него
единственное желание: раскрыть перед собеседником душу. Опыт сообщения самого
сокровенного делает нас чище, он прививает нам привычку говорить
правду, он делает нас счастливыми. Мы созданы для того, чтобы делиться
своими открытиями: если уж мы решились заглянуть в самые потаенные уголки
* Внутренний голос (фр.).
Монтенъ
59
своего сердца, то надо не побояться и вынести на свет все то болезненное,
что накопилось на дне души, не надо ничего скрывать, не надо
притворяться - не знаешь чего-то, так и скажи; если любишь своих друзей, признайся
им в своем чувстве: «...car, comme je scay par une trop certaine expérience,
il n'est aucune si douce consolation en la perte de nos amis que celle que nous
aporte la science de n'avoir rien oublié a leur dire et d'avoir eu avec eux parfaite
et entière communication»21.
Иные люди, путешествуя, отгораживаются от окружающих и
замыкаются в себе - «se défendans de la contagion d'un air incogneu»22. Они требуют,
чтоб им подавали точно такие же блюда, какие они привыкли есть у себя
дома; им все не ладно - и вид не тот, и обычаи скверные, а все потому, что в
их родной деревне по-другому. Такие горе-путешественники мечтают
только об одном: поскорей бы вернуться домой. На самом деле, все должно быть
наоборот. Отправляясь в путь, ты не знаешь толком, где ты заночуешь или
когда вернешься назад, ведь главное - это само путешествие. Очень
важно, - если, конечно, повезет, а это бывает не часто, - найти хорошего
спутника, под стать себе, такого же заядлого искателя приключений и
благодарного собеседника, с которым можно делиться всем, что придет в голову:
ведь одинокому человеку и радость не в радость!.. Еще не надо бояться
рисковать: положим, простудился или заболела голова - такие легкие
недомогания только добавляют азарта опытному путешественнику: «Le plaisir est des
principales espèces du profit»23. К тому же, делая то, что нам нравится, мы
всегда действуем себе во благо, а если подобной гедонизм вызывает у кого-то
возражение - если врачи и философы полагают, что он вредит физическому
и духовному здоровью, ну что же, тут ничего не поделаешь: врачуйте и
философствуйте себе на здоровье, а нам, простым смертным, позвольте жить
на полную катушку, упиваясь всеми чувствами, которыми одарила нас
матушка Природа, за что ей вечное спасибо! Предоставьте нам самим решать,
в каком направлении нам двигаться, в какую сторону меняться, идя вслед
за солнцем на звук чарующего голоса, поющего Катулла, спеша до захода
солнца насладиться всеми радостями жизни, не отказывая себе ни в чем, ни
в малейшем удовольствии! Ведь каждое мгновение бытия исполнено
глубокой радости: неважно, дождик ли идет, солнце ли светит, пьешь ли красное,
белое вино, общаешься с друзьями или сидишь один - каждое время года
хорошо по-своему. Даже сон, крадущий у нас драгоценные часы жизни, - и тот
обогащает нас видениями, а что же говорить о делах житейских, будничных?
Бывает, что короткую прогулку, случайную встречу, миг наедине с самим
собой в саду - каждое из этих мгновений, если задуматься, можно растянуть
во времени и наполнить смыслом. Красота разлита в мире, а от прекрасного
до добра один шаг. Поэтому давайте не будем, во имя разума и продолжения
жизни, зацикливаться на конце путешествия. Пускай смертный час пробьет,
когда ты копаешься у себя в огороде, на капустной грядке, или мчишься
верхом, во весь опор, или, на худой конец, пусть чья-то незнакомая рука закроет
60
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
тебе глаза, среди чужих людей, в чужом доме, куда ты скроешься, чтобы не
слышать рыданий слуг и самому не разрыдаться от прикосновения родной
руки. А еще лучше, если умрешь как бы нечаянно, за обычными делами, в
окружении девушек и молодых людей, которые не будут устраивать шума,
не будут предаваться горю, - лучше, если смертный час застанет нас «parmy
les jeux, les festins, facéties, entretiens communs et populaires, et la musique, et
des vers amoureux»24. Впрочем, хватит о смерти: жизнь - вот что главное.
И надо сказать, по мере того как достигают не то чтобы конца, но
свободного парения эти эссе, все яснее, все отчетливее проступают контуры
жизни. Именно жизнь, перед лицом приближающейся смерти, - а под
словом «жизнь» понимаются твое «Я», твоя душа, каждая малая подробность
твоего существования: зимой и летом носишь шелковые чулки, разбавляешь
вино водой, подстригаешься после ужина, пьешь непременно из стакана, не
носишь очков, у тебя громкий голос, привык ходить со свежесрезанным
прутиком, часто прикусываешь язык, сучишь ногами, любишь потирать мочку
уха, мясо ешь хорошо прожаренное, чистишь зубы (слава богу, крепкие!)
салфеткой, привык спать под балдахином и, странное дело, в детстве любил
редиску, потом разлюбил, а теперь, на старости лет, снова ешь с
удовольствием, - все эти «пустяки» забирают тебя все сильнее и сильнее. На самом
деле, оказывается, что мелочей-то нет, и мало того что существуют факты,
и они интересны сами по себе, но мы еще можем необъяснимым образом
изменить силой воображения существо предмета. Посмотрите, как по-разному
организует наша душа игру света и тени, высвечивая мелочи и, наоборот,
затушевывая главное; как погружается она в мечты при свете дня; в какое
волнение ее приводят не только реальные события - это понятно, но и
призраки, и как какой-нибудь пустяк может отвлечь ее в последнюю
предсмертную минуту. Как умеет она изворачиваться, ловчить: услышит о смерти
друга и пожалеет, а про себя тайно позлорадствует, что горе приключилось не
с ней, а с другими. Как бывает: ты веришь и не веришь в душе...
Посмотрите, насколько впечатлительна душа- особенно в молодости! Богач, уже
будучи взрослым человеком, ворует только потому, что в детстве отец
держал его на скудном пайке, не давая денег на карманные расходы. А этот
возводит стену не потому, что любит строить, а потому, что строителем был
отец. Короче говоря, душа наша - сплошной клубок нервов и переживаний:
стоит задеть какую-нибудь струнку и движение ее мгновенно меняется; но
как все это точно происходит и что вообще это такое - душа
человеческая - для нас, трусишек и лентяев, по-прежнему потемки. Хотя на дворе уже
1580-й год, мы все еще очень смутно представляем себе эту тонкую и
сложную материю, и единственное, что мы можем сказать о своем внутреннем
мире: это величайшая загадка, чудо из чудес, чудовище, каких свет не
видывал: «...plus je me hante et connois, plus ma difformité m'estonne, moins je
m'entens en moy»25. A потому: наблюдайте за душой без устали, ни на мину-
Герцогиня Ньюкасл
61
ту не выпускайте ее из поля зрения до тех пор, пока существуют чернила и
ручка, писал Монтень, - «sans cesse et sans travail»26.
И все же, попробуем оторвать Монтеня от его всепоглощающего
занятия и, рискуя навлечь на себя гнев этого великого знатока искусства
жизни, зададим ему напоследок еще один вопрос. Итак, мы дочитали до конца
эти изумительные описания - то короткие, отрывочные, то многословные,
исполненные учености, то логичные, то противоречивые, и нам открылась
постепенно жизнь человеческой души: сквозь словесную ткань, столь
точно облекающую мысль, что покрова почти не видно, мы почувствовали, как
бьется день за днем пульс человеческого «Я». Вот он, счастливчик,
говорим мы, познавший на себе, на своем опыте, подводные камни бытия. Вот
человек, которому ведомо, кажется, все: и гражданская жизнь и частная - он
попробовал себя и в роли землевладельца, й супруга, и отца. Он принимал в
своем доме королей, любил женщин, он знает, что такое уединение: он
подолгу засиживался над старинными книгами. Всю жизнь он неустанно
изучал самого себя, ставил на себе опыты и в конце концов добился того, чтобы
разнородные элементы, составляющие душу, работали слаженно как часы.
Красота сама плыла ему в руки. Он был по-настоящему счастлив: если бы,
говорил он, мне выпало жить еще раз, я прожил бы точно так же. И в тот
самый миг, когда мы смотрим, широко раскрыв глаза, как купается в лучах
жизни эта довольная собой душа, мы задаемся вопросом: но разве смысл
жизни состоит в удовольствии? Откуда, собственно, этот всепоглощающий
интерес к природе человеческой души? К чему это страстное желание
сообщаться с другими? И разве посюсторонняя красота - это всё? И нет никакой
другой разгадки таинственного смысла?
Что тут ответишь? Ничего. И только новый вопрос напрашивается: «Que
scais-je?»27
ГЕРЦОГИНЯ НЬЮКАСЛ*
«...Я жажду одного - прославиться», - писала Маргарет Кэвендиш,
герцогиня Ньюкасл. И желание ее сбылось - при жизни во всяком случае, она
действительно пользовалась славой оригиналки в павлиньих перьях,
фантазерки с невиданными повадками, благородной дамы, целомудренной как
монашка, с одним только отличием от особы духовного звания - в выражениях
не стеснялась! Ученая публика ей рукоплескала, а для придворной знати она
была мишенью для колкостей и насмешек. Но вся эта прижизненная слава
* «Жизнь Уильяма Кэвендиша, герцога Ньюкасла, и т.д.», изданная Ч.Х. Фэртом;
«Стихотворения и безделицы» герцогини Ньюкасл; «Многоязыкий мир: речи на все случаи,
подобающие в разных местах; дамские речи; пьесы, философические письма» и т.д. и т.п. {Примеч.
Вулф).
62
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
давным-давно отшумела, и если сегодня что-то и живо от былой известности
герцогини, то лишь несколько строк роскошной эпитафии, посвященной ей
Лэмом1, а все остальное - ее стихи, ее пьесы, ее философические мысли, ее
речи и беседы, в которых, как она любила говорить, и заключена истинная
квинтэссенция ее жизни, все эти томики в половину и четверть листа
пылятся нечитаные в подвалах публичных библиотек: из немереного океана слов в
памяти потомков осело разве что пять-шесть, остальные испарились,
подобно духам, которых осталось во флаконе несколько капель, с наперсток - вот
тебе и вся квинтэссенция! Так что если даже какой-нибудь дока студиозус,
вдохновившись восторженным отзывом Лэма, и захочет проникнуть в
святилище герцогини, он скорей всего не пойдет дальше порога: приоткроет
дверь, заглянет внутрь и, устрашенный представшей его глазам картиной
книжного развала, тихонько отойдет в сторону.
Но и самый беглый взгляд, брошенный в сторону герцогини,
обязательно отметит черты личности вдохновенной. Маргарет родилась
(предположительно!) в 1624 г.2 в семье некоего Томаса Лукаса3 и была самым младшим
ребенком. Отца она не помнила: он умер, когда ее еще качали в колыбели, и
своим воспитанием Маргарет была целиком обязана матери - женщине
волевой, с осанкой королевы, над чьей красотой, «казалось, не властно время».
«Она была на редкость практична: сдавала в аренду недвижимость,
торговала земельными участками, держала собственный двор, отдавала
распоряжения слугам и все прочее». Накопленные же лизинговой практикой немалые
средства она отнюдь не откладывала, как можно было бы предположить, на
приданое дочерям, а щедро тратила на воспитание своих детей, «поскольку
была убеждена, что если станет экономить на нашем образовании и
просвещении, то мы вырастем хищниками». Плоды просвещения не заставили
себя ждать: ее сыновья и дочери, а их у нее было восемь, не знали, что такое
порка - на них воздействовали только методом убеждения; они всегда были
ярко и со вкусом одеты; им не разрешали вступать в разговоры с прислугой,
объясняя этот запрет тем, что у слуг «по большей части дурные манеры и
низкое происхождение». Дочерей учили привычным для того времени
женским занятиям, но больше «для проформы, чем для пользы дела», и опять-
таки тон в этом вопросе задавала мать: она не находила большого смысла в
игре на скрипке, пении, «щебетании на нескольких иностранных языках»,
полагая, что женщине в жизни пригодятся совсем другие ценные качества -
сила духа, вера в счастье и честность.
И такова была сила материнского убеждения, что Маргарет без
всякого принуждения, с великой охотой принялась культивировать в себе
задатки и вкусы, тем более что проявились они очень рано. Еще девочкой она
поняла, что читать любит больше, чем вышивать крестиком, а еще
больше - наряжаться и «придумывать фасоны», но больше всего на свете она
обожает писать. От той поры сохранились шестнадцать безымянных
тетрадей, исписанных вдоль и поперек ее размашистым почерком - видно, что
Герцогиня Ньюкасл
63
рука не поспевала за ее стремительной мыслью, и эта первая проба пера
служит наглядным доказательством того, какие плоды принесло вольное и
раскованное материнское воспитание. Имелись, впрочем, и другие плоды
просвещения: их семью сблизила и сплотила обстановка счастья и радости
в доме, созданная матерью. Как позднее писала Маргарет, они с братьями
и сестрами всю жизнь «держались вместе», и это притом что у всех давно
уже были собственные семьи. Они выделялись в обществе - своей красотой,
статью, открытым выражением лица, каштановыми волосами (без признака
седины), крепкими белыми зубами, «приятным голосом» и безыскусной
манерой выражаться. При посторонних они обычно молчали, но в своем
тесном кругу они чувствовали себя раскрепощенно; стоило им только остаться
одним, неважно, в какой обстановке - во время ли прогулки по Гайд-парку
или Спринг-гарденс, за музицированием или за ужином в кают-компании,
как языки у всех развязывались, и они «веселились от души... обсуждали все
на свете, щедро раздавая похвалы и проклятия».
Атмосфера семейного счастья своеобразно сказалась на характере
Маргарет. В детстве она, бывало, часами гуляла одна, погрузившись в
размышления, мечтания, сосредоточенно обдумывая «собственные чувства».
Физическая деятельность ее не увлекала, игрушки ее не интересовали; учить
иностранные языки или наряжаться, как прочие барышни, ей не хотелось.
И единственной страстью ее в те годы было придумывать для самой себя
такие фасоны одежды, которые никто не смог бы повторить, «...ибо, -
поясняла она, - я всегда любила все исключительное, не только в манерах, но
даже в экипировке».
При таком замкнутом и одновременно вольном образе жизни девушке
очень просто сделаться синим чулком, старой девой и, радуясь своему
затворничеству, произвести на свет божий томик писем или переводов из
классической литературы, о которых мы умиленно вспоминали бы всякий раз,
когда требовалось доказать, что среди наших прабабушек были грамотные
люди. И так, скорей всего, и случилось бы с Маргарет, если бы не ее
неукротимый нрав, сумасбродство и любовь к блеску и славе. Стоило ей
прослышать о том, что королева с самого начала гражданской войны4 испытывает
недостаток во фрейлинах, как она тут же «загорелась желанием»
присоединиться к монаршей свите. Вся семья была против такого шага,
справедливо полагая, что поскольку Маргарет ни разу не покидала родной кров и всю
жизнь провела под крылышком матери, то ей трудно придется при дворе
и она может оскандалиться. Тем не менее мать ее отпустила. Уже позднее
Маргарет признавалась: «Я и в самом деле оскандалилась, ведь я была
такой застенчивой, что, оставшись одна, без матери, братьев и сестер... я с
непривычки не смела поднять глаз, заговорить, стояла истуканом и смотрела
в пол! Естественно, все меня приняли за полную дуру». Дальше - больше:
при дворе над ней стали открыто потешаться, а она платила обидчикам той
же монетой. Тогда ее стали осуждать: мужчины за то, что слишком умна, а
64
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
женщины за то, что она выскочка. Справедливости ради следует заметить,
что никому, кроме нее, не приходило в голову размышлять на прогулке над
такими философскими вопросами, как природа материи и наличие зубов у
улиток. Ей бы спокойно задуматься над исключительностью своего
положения, а она не выдержала насмешек и стала проситься обратно к матери. Но
та отказала, и правильно сделала, как показали дальнейшие события:
прослужив еще два года фрейлиной (с 1643 по 1645 г.), Маргарет отправилась
в составе королевской свиты в Париж и там, на одном из приемов,
познакомилась с маркизом Ньюкаслом, который, находясь в изгнании, пришел
засвидетельствовать свое почтение королеве. К всеобщему изумлению
придворных, этот аристократ голубых кровей, еще недавно командовавший
войсками короля и пусть не одержавший победу, но, тем не менее, проявивший
чудеса героизма, влюбился в застенчивую, тихую, чудно одетую фрейлину.
По словам Маргарет, то были не «амурные дела, а честная чистая любовь».
Блестящую партию составить она ему не могла: при дворе ее давно записали
в ханжи и оригиналки. Все терялись в догадках: что могло заставить такого
родовитого аристократа пасть к ногам этой выскочки? Естественно, на нее
посыпались со всех сторон презрительные насмешки и сплетни. «Боюсь, -
писала она маркизу, - окружающие постараются сделать все, чтобы
помешать нашему счастью, пусть даже сами мы в это не верим и думаем, что
никакая сила не в состоянии нас разлучить». И дальше: «Сен-Жермен - очень
лживое место5, здесь полагают, что мне не следует так часто Вам писать».
«Умоляю, не верьте слухам, - предостерегала она в другом письме, - их
распускают мои враги». Но какие бы козни ни строили недоброжелатели, было
ясно, что герцог и Маргарет идеально подходят друг другу. Знаток поэзии,
музыки, сочинитель пьес, начитанный в философии, убежденный в том, что
«истинную причину не знает никто и знать не может», романтик, человек
необычайной душевной щедрости, герцог, естественно, видел в Маргарет
свою вторую половину. Ведь она сама тоже писала стихи, увлекалась теми
же философскими идеями, что и он: как истинный товарищ по
поэтическому цеху, она всей душой разделяла его творческие порывы и вдобавок с
не меньшим душевным тактом и чуткостью, чем у него, давала ему понять,
насколько она ценит его щедрое покровительство и понимание. «Он с
сочувствием отнесся к моим девическим строкам, - писала она, - не то, что
другие... и хотя меня страшило супружество- ведь сколько себя помню, я
всегда избегала общества мужчин, но отказать ему... я была не в силах».
Начались долгие годы изгнания6, и неизменно она находилась рядом с мужем,
стараясь если не понять, то морально поддержать его: герцог занимался тем,
что приобретал чистопородных скакунов и объезжал их с таким искусством,
что приезжие испанцы крестились и кричали «Miraculo!»*, глядя на
выделываемые лошадьми прыжки и пируэты. По ее словам, животные так его лю-
* Чудо - от miraculum {лат.).
Герцогиня Ньюкасл
65
били, что, едва завидев его в манеже, начинали от радости «бить копытом».
Она же специально ездила в Англию просить за герцога у
лорда-протектора7, а когда после восстановления монархии им представилась возможность
вернуться на родину, в период Реставрации, они поселились вдвоем в
отдаленнейшем замке и жили себе в полном уединении в гармонии: сочиняли
пьесы, стихи, философические трактаты, читали их с упоением друг другу,
восторгались, а если случалось узнать о каком-то новом явлении природы,
они подолгу обсуждали ее чудеса и таинства. У современников эта странная
пара вызывала улыбку, а у потомков - насмешку: известен снисходительный
отзыв Хораса Уолпола8. И тем не менее, герцог и герцогиня были абсолютно
счастливы - только слепой мог этого не видеть.
У Маргарет была теперь полная свобода: хочешь - предавайся
сочинительству; хочешь - колдуй, сколько вздумается, над фасонами платьев для
себя и своих служанок; хочешь - исписывай горы бумаги, не утруждая себя
заботой об аккуратном и разборчивом почерке. Пожалуйста, ты можешь
совершить такое чудо - добиться постановки твоих пьес на лондонской сцене,
ты можешь даже сделать так, чтобы ученые покорно склонились над
страницами твоих философических опусов. Но вот итог: полка с томиками в
книгохранилище Британского музея, от которых веет духом личности живой,
увлекающейся, и, увы, несмотря ни на что, стесненной. Герцогиня не знала
ни самодисциплины, ни строгой логики и последовательности в изложении
мысли. Она не боялась критики: какая-то детская беззаботность сочеталась
в ней с высокомерием титулованной дамы - такой взбредет в голову
фантазия и - пиши пропало! - закусив удила, она будет доказывать ее
состоятельность. Мысли у нее бегут наперегонки, обгоняют друг дружку, ум кипит в
волнении, кажется, еще минута, и мы услышим ее голос: «Джон, а Джон!
Меня осенило!» - обращается она к мужу, который сидит в соседней
комнате и что-то пишет. А что ее осенило? - бог весть, да это и не важно: все
пойдет в ход - смысл, бессмыслица, догадки о женском воспитании:
«...женщины живут, как Мыши или Совы, пашут, как рабочая Скотина, и умирают,
словно Твари... Самые воспитанные женщины- те, у кого просвещенный
ум»9; какие-то вопросы, пришедшие ей в голову во время прогулки: почему
у свиней бывает свинка?; почему собаки от радости виляют хвостом?; из
чего сделаны звезды и какая бабочка появится из куколки, что принесла
намедни ей служанка, а она спрятала ее в теплом месте? Вот так она и порхает:
от вопроса к вопросу, от одной темы к другой, перескакивает, нимало не
заботясь о связности рассказа, не утруждая себя правкой: «...ведь гораздо
интереснее писать, чем переписывать», - и все, что ни придет ей в голову, она
заносит к книгу: подумает о войне - напишет о войне; вспомнит про
школы-интернаты - выскажется про интернаты; увидит, как рубят деревья - не
преминет пройтись и по этому вопросу; задумается о языке и нравах -
обязательно выразит свое мнение; зайдет речь о чудовищах и британцах -
непременно подденет на перо; услышит про опиум - ударится в пространные
3. Вирджиния Вулф
66
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
рассуждения о пользе небольших доз опиума для лечения лунатиков; потом
ни с того ни с сего перескочит на музыкантов и задумается, отчего они все
безумные. Поднимет глаза вверх - и устремится мыслью в заоблачные дали:
откуда взялась Луна? И почему звезда похожа на медузу? Потом опустит
глаза долу - и задумается: интересно, знают ли рыбы, что вода в море
соленая? Откуда в наших головах взялись феи и почему Бог любит их не меньше,
чем нас? Интересно, существуют ли еще миры, помимо нашего, и что если
какой-то путешественник откроет мир, нам не известный? Короче, «мы -
полные невежды», и все же какое же это наслаждение - мыслить!
Естественно, что когда плоды ее мысли, рожденные за стенами Уэлбе-
ка10, появлялись на свет в виде опубликованных сочинений, критика
встречала их в штыки - дело обычное, и ей поневоле приходилось в предисловии
к каждой последующей книге либо оправдываться, либо, в зависимости от
настроения, отметать замечания критиков, а иногда и отстаивать свою точку
зрения. В чем только ее не упрекали! Например, вменяли в вину то, что она
не сама пишет книги, поскольку в них-де попадаются ученые слова и
«говорится о материях, в которых она совершенно несведуща». В отчаянии она
бросалась к мужу, ища защиты, а он только подливал масла в огонь, отвечая
за нее: герцогиня «никогда не вела бесед с учеными людьми, за
исключением меня и своего брата». К тому же назвать герцога ученым можно было
с большой натяжкой. Он не скрывал: «Я давно вращаюсь в высшем свете и
привык думать самостоятельно, нежели повторять мнения ученых мужей: и
я не дам водить себя за нос ни нынешним "знатокам", ни античным
мудрецам. В моем случае ipse dixit11 не пройдет». Тогда герцогиня пробует
защититься сама, берет в руку перо и с детской непосредственностью начинает
убеждать ученый мир в том, что она невежественна по чистоте душевной.
Да, она встречалась с Декартом и Гоббсом, но беседовать с ними не
беседовала; да, действительно однажды она пригласила Гоббса на обед, но он
не смог приехать, и вообще она имеет обыкновение не слушать то, о чем
ей говорят; французского языка она не знает, хотя и прожила пять лет во
Франции; античных философов читала только в пересказе г-на Стенли12; из
Декарта читала всего одну работу о Страсти13 - и то только до середины, а из
Гоббса - «маленькую книжечку под названием De Cive»14. И вся эта
канонада устроена с одной целью: убедить ученую публику в своей природной
одаренности, в том, что проницательность ее настолько безгранична, что любое
внешнее вмешательство, даже с самыми благими намерениями, может лишь
навредить ей, а внутренняя порядочность не позволяет ей пользоваться
плодами чужого ума. Пафос ее речи, таким образом, сводился к тому, что она
решила выстроить с чистого листа, исключительно на основе своих
природных способностей, самостоятельную философскую систему, которая должна
была затмить все остальные. Увы, результат не оправдал ожиданий. Ее
природный хрупкий дар не выдержал тяжести философских конструкций, и та
Герцогиня Ньюкасл
67
свежая чистая нота, что звучала в ее первой книге стихов о королеве Маб и
Стране фей, очень быстро смолкла, точно ее и не бывало:
Замок феечки в глуши,
Из ракушек и слюды,
Занавешен семицветным
Покрывалом из парчи;
Спальня вся из янтаря,
Дух смолистый камелька, -
В глубине под балдахином
Колыбель из лепестка;
Ей пушинка покрывалом,
А подушкой - цветик алой15, -
так Маргарет писала в молодости, а потом ее добрые феи начали потихоньку
увядать, а те, что сохранились и выжили, превратились в баобабы - видно,
Бог буквально внял ее молитве:
Даруй мне стиль свободный, во всю ширь,
Пусть будет дик он и размашист16.
Она научилась кудряво писать, «загибать» барочные концепты и возводить
многоярусные метаморфозы - вот пример не самых длинных и витиеватых
ее виршей:
Уподоблю голову городу,
Рот представлю рыночной площадью:
Как на рынке толпится народ,
Так и рот наш набитый жует,
А мосток над рекой точно брови дугой.
Она упорно набивала руку, сравнивая без разбору всё и вся: море - с
цветущим лугом, моряков - с сельскими пастухами, мачту - с праздничным
майским деревом. Мушка под ее пером укрупнялась до размеров взрослой
птицы, деревья вырастали в сенаторов, дома превращались в корабли, и даже ее
любимые феи - предмет ее обожания, с ними мог тягаться только герцог, -
даже они рассыпались, будто по мановению волшебной палочки, на
малейшие крупицы, называемые тупыми и острыми атомами, и начинали
кружиться в диком хороводе, словно в такт барабанной дроби, которую она отбивала
своей дирижерской палочкой, разыгрывая этот вселенский спектакль. Вот
уж действительно «странный рассеянный ум у моей госпожи Sanspareille»*.
Кончилось тем, что она взялась за драму - и это притом что у нее не было ни
крупицы драматического таланта! Ей самой казалось, это очень просто -
писать пьесы: возьми да переиначь невнятные мысли, которые бродят у тебя в
голове, в сэра Золотую Жилу, в плебейку Молли, в сэра Тузика и так далее;
посади их рядком вокруг ученой и мудрой госпожи, которая будет с
легкостью разрешать их споры о строении души или, например, о добродетели и
* Несравненная, бесподобная (фр.).
т*
68
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ее отличии от порока накопительства, и всякий раз указывать им на ошибки
непререкаемым тоном законодательницы (голос этот, кстати, мы уже где-то
слышали!), и - дело в шляпе - пьеса готова!
Впрочем, герцогиня не только сочиняла: ей случалось и выезжать в свет.
Бывало, разодетая в пух и прах, сверкая бриллиантами, она наносила визиты
местным джентри17, а потом записывала свои впечатления об этих
«вылазках»: леди N - «в присутствии гостей отдубасила мужа», а сэр X, «как ни
печально, настолько низко пал, что, как я слышала, женился на собственной
кухарке»; «барышню NN не узнать - она стала набожной, как постный день:
волос не завивает, мушек боится как огня, туфли и ботинки на высокой
шнуровке называет не иначе, как вратами в преисподнюю, - как же, теперь у нее
одна забота: в какой позе лучше всего молиться?». Свой ответ
новоявленной монашке герцогиня не сообщает - видно, пустила в сердцах непечатное
словцо. «Отъездилась!» - записывает она в дневнике после очередных
«посиделок». Тут между строк ясно читается, что ни желанной гостьей, ни
радушной хозяйкой герцогиня не была. Она знала за собой дурную привычку
«похваляться», знала, что отпугивает гостей, но изменить своим привычкам
не считала нужным. Ей было покойно в Уэлбеке; своим уединением она не
тяготилась - наоборот, оно было ей приятно, тем более что разделяли они
его вдвоем, на пару с герцогом: супруги жили душа в душу, читали друг
другу свои пьесы и философические сочинения, и муж всегда был рад помочь с
ответом на вопрос или дать отпор клеветникам. И все-таки жизнь
затворницей не преминула сказаться на ее манере выражаться: пройдет время и сэр
Эджертон Бриджес придет в ужас от словечек, которые «позволяла себе
Герцогиня»: его оскорбляла грубость из уст «женщины высшего общества,
воспитанной при дворе». Он, правда, не учел, что данная особа к тому времени
давно уже не появлялась при дворе и общалась главным образом с феями,
за неимением друзей, отошедших в мир иной. Так что стоило ли обижаться
на ее грубоватую манеру? И потом, пускай ее философия пуста, а пьесы
невыносимо плоски, да и стихи большей частью скука смертная, тем не менее
в ней жило настоящее поэтическое чувство: оно-то и освещает, и согревает
все, ею написанное. Это оно заставляет нас забыть о сумасбродствах
капризной женщины и, забросив дела, бежать за мерцающим дразнящим огоньком,
глотая страницу за страницей. При всех чудачествах в этой благородной
душе есть что-то от Дон Кихота: ей ведом высокий полет мысли. Или,
скорее, она напоминает лукавого, беззаботного, очаровательного эльфа - так
она непосредственна, открыта и нежна по отношению к феям и животным.
И пусть «они» - злые языки, зоилы - всё никак не успокоятся с тех самых
пор, как она застенчивой фрейлиной боялась взглянуть в лицо своим
обидчикам, факт остается фактом: почти ни у кого из ее недоброжелателей
почему-то не хватило ума помыслить о происхождении вселенной, проявить
сочувствие к страданиям зайчонка, раненного на охоте, задуматься о фигу-
Бродя по Ивлину
69
рах «шекспировских шутов». Так что еще неизвестно, над кем следовало бы
смеяться: над ней или над ее насмешниками?
Впрочем, при жизни Герцогини этот вопрос вообще не стоял.
Прослышав о том, что из Уэлбека в Лондон приезжает засвидетельствовать свое
почтение ее Величеству помешанная Герцогиня, публика с утра
заполонила городские мостовые: все жаждали взглянуть, хоть одним глазком, на это
чудо, а любопытный Пипе18 даже дважды наведывался в Парк19 в надежде
первым увидеть ее кортеж. И вот, наконец, подъехала карета с герцогским
вензелем, и столько сразу набежало народу, что протиснуться в толпе не
представлялось возможным, и Пипсу пришлось довольствоваться тем, что
он мельком углядел серебристую парчу на карете, лакеев в бархатных
ливреях, бархатную шляпу Герцогини и закрывавшие ухо локоны. В какой-то
момент занавески разлетелись, в окошке показалось лицо «очень
миловидной женщины» и тут же скрылось: карета двигалась по улице, а с обеих
сторон напирали лондонские кокни, пришедшие поглазеть на необыкновенную
даму, - ту, что смотрит на тебя с портрета в замке Уэлбек: у стола, едва
касаясь края кончиками длинных изящных пальцев, застыла, держа спину,
женщина необыкновенно утонченной наружности, и в ее бездонных грустных
глазах читаются спокойствие и уверенность в своей непреходящей славе.
БРОДЯ ПО ИВЛИНУ
Если хочешь быть уверенным, что потомки и через триста лет не
забудут о годовщине твоего рождения, начинай вести дневник - не
прогадаешь! Другой вопрос, хватит ли у тебя смелости зарыть свой талант в землю,
ведь дневники обычно обнародуют спустя много лет после смерти автора:
тут требуется особый темперамент, особый склад ума, взыскующий
исключительно посмертной славы. Настоящий мастер дневниковой прозы - тот,
кто пишет либо для себя, либо для очень далеких потомков, с которыми
можно благополучно, без последствий, поделиться любыми секретами и
которые сумеют беспристрастно оценить мотивы твоих поступков. С такими
читателями не надо ничего приукрашивать, от них нечего скрывать. Они
ждут от тебя искренности, интересных подробностей - и чем больше, тем
лучше. Большого писательского таланта, особого блеска здесь не
требуется - достаточно того, что дневник гладко читается: гениальность в этом
случае может даже навредить. Если же все карты сходятся и ты выказываешь
себя мастером своего дела, ты можешь быть уверен: потомки тебя не
забудут, они впишут тебя в анналы истории, вместе с великими людьми
эпохи, и в конечном итоге не так уж важно, на каких птичьих правах - то ли
хроникера, то ли любовника первой леди главы государства - ты въехал в
историю.
70
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Вот почему сегодня, триста лет спустя, мы вспоминаем о Джоне
Ивлине*: это все благодаря его дневнику1. Местами он напоминает мемуары,
местами - календарь, но никак не исповедь: чего-чего, а сердечных излияний
мы здесь не найдем, и поэтому можем со спокойной совестью читать его,
если захотим, на сон грядущий своим детям. Другой вопрос, зачем вообще
читать погонные метры добротной дневниковой прозы? Положа руку на
сердце, скажем так: во-первых, дневники - это в прямом смысле слова дневное
чтение, мы читаем дневники, чтобы отвлечься от болезни, от нечего делать,
катаясь верхом; читаем, чтобы не думать о страхе смерти... Во-вторых, за
дневники, о которых сказано столько хороших слов, мы беремся в минуту
отдыха или полудремы: лежим себе в гамаке, наблюдаем полусонно за
бабочками, порхающими среди цветов, - словом, предаемся абсолютно
бесполезному, с точки зрения критиков, времяпрепровождению (то-то ни один
из них не удостоил его своим вниманием), чье благотворное воздействие
способен оценить разве что учитель. Умный педагог не только не найдет
ничего предосудительного в невинном безделье за чтением дневника, но он,
наоборот, обратит внимание публики на благотворное воздействие этого
занятия на юную душу: именно благодаря ему, а не нравоучениям и
проповедям, многие потенциальные преступники или вероотступники не пошли по
дурной дорожке.
Задержимся еще на минуту, прежде чем углубиться в книгу, и
попробуем выяснить, в чем разница между современным пониманием счастья и
представлением Ивлина. Конечно, разница колоссальная; конечно, все дело
в просвещении: разве вообще можно сравнивать его невежество и нашу,
пусть относительную, образованность? И все же, читая его рассказ о
путешествии за границей, невольно начинаешь завидовать тому, с каким
простодушием и энергичностью он входит во все вопросы. Взять простой пример в
качестве доказательства, насколько мы с ним разные. Проведем небольшой
эксперимент: посадим на цветок бабочку и попросим садовника встать
рядом и погромыхать немного своей тележкой - бабочка и усиком не поведет,
будет сидеть, как приклеенная; но стоит только навести на ее крыло тень, вы
только ее и видели - взяла и упорхнула, ты даже не заметил, в какой момент
это произошло. Отсюда мы делаем вывод: бабочки видят, но не слышат - и в
этом случае наши с Ивлином мнения совпадают. Но чтобы хвататься за нож
при виде красного адмирала2 и отсекать этим самым ножом голову
несчастной жертве, как это наверняка проделывал с насекомыми Ивлин, - нет уж,
извините: ни один здравомыслящий ботаник в двадцатом веке на такое не
решится3. Пусть даже каждый из нас по отдельности знает сегодня не
больше, чем Ивлин в его время, но наш коллективный разум вырос настолько,
что мы давно уже охладели к подобным лабораторным экспериментам. Нам
подавай энциклопедию, а не нож! За две минуты мы узнаем столько, сколько
Эссе написано в 1920 г. {Примеч. Вулф).
Бродя по Ивлину
71
Ивлину и не снилось узнать за всю его долгую жизнь, причем объем
информации настолько велик, что мы подумаем - а стоит ли вообще собирать ее
по крупицам? А теперь сравните с Ивлином: тот, справедливо убежденный
в своем невежестве, стремился не просто собственноручно раздвинуть
горизонты своих скромных познаний, нет, он искренне верил в то, что опытным
путем способствует просвещению человечества! И поэтому, не щадя
живота своего, он занимался всеми искусствами и науками подряд, объездил за
десять лет всю Европу, с лупой в руках обследовал волосяной покров на
теле туземок, изучал мыслительные способности собак, собирал по крохам
факты и наблюдения, которые сегодня можно встретить разве что в
пересудах бабушек у деревенской водокачки. Нынче осенью такая большая луна, -
судачат местные светила, - не видать, значит, нам грибов, а у плотничихи
наверняка будет двойня. Ивлин дальше этих разговоров не пошел, а ведь он
был членом Королевской академии, человеком большого ума, высочайшей
культуры, но даже он дотошно отмечал в дневнике приближение кометы
и разные предзнаменования: когда однажды в верховья Темзы заплыл кит,
Ивлин счел это дурным знаком. Дескать, когда-то, в 1658 году, заметил он
в дневнике, в Темзу тоже заплыл кит, «и именно в тот год умер Кромвель»4.
Кажется, звезды в семнадцатом столетии делали все, чтобы укрепить веру
адептов науки во всевозможные природные катаклизмы, насылая бури,
разливы рек и засуху, - интересно, что в веке двадцатом почему-то все гораздо
спокойнее. А тогда и Темза замерзала, и небо рассекали кометы! Да что там
природная стихия! - стоило кошке окотиться на кровати Ивлина, и
народившийся котенок неизменно оказывался восьмилапым, шестиухим, двуголо-
вым и двухвостым.
Однако, возвращаясь к счастью: складывается впечатление, что мы
понимаем эту материю совсем не так, как наши предки, и этим мы в корне
отличаемся от них. Мы с ними по-разному оцениваем одни и те же вещи: не
из-за того ли, что мы знаем то, чего не знали наши прапрадеды? Впрочем,
вправе ли мы вообще допускать предположение о том, что незнание
изменяет психологию и привычки? Ведь в этом случае нам пришлось бы признать,
что мы не только не почли бы за счастье жить среди елизаветинцев, но,
напротив, решили бы, что нас обрекли на невыносимые мучения.
Представляете - избегать общества Шекспира только из-за того, что у него не такие
привычки, как у нас, или отказываться от приглашения пожаловать на ужин
к королеве Елизавете? Кто знает, может, так оно и есть. Во всяком случае,
Ивлин нас удивляет: разумный, наивоспитаннейший человек, а бежит
поглазеть на пытки с той же охотой, с какой мы смотрим на кормление хищников
в зоопарке:
«...Вначале ему крепко-накрепко связали руки, причем один конец
веревки или каната пропустили через железное кольцо, вмурованное в стену
на высоте четырех футов от пола, и завязали узлом. Другим канатом,
соединенным с кольцом, вмурованным в пол на расстоянии примерно пять футов
72
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
от кончиков пальцев несчастного, связали ноги. Получилось, что тело
висит, растянутое над полом; после чего под веревку, которая связывала ноги,
загнали деревянного коня, естественно, веревка при этом натянулась как
струна, и сухожилия у бедняги буквально лопнули, вместе с
подштанниками - единственным его одеянием...»5 И так далее. Ивлин не ушел, пока не
досмотрел пытку до конца, а после в дневнике записал, что «зрелище было
настолько малоприятным, что дальше я смотреть не стал», - так мы,
обходя зверинец, в какой-то момент решаем, что нам надоел грозный рык львов
и нас слегка тошнит от вида сырого мяса, и пойдем лучше посмотрим на
пингвинов. Ивлиновское ощущение дискомфорта во время пытки понятно,
и все же существует огромная разница между тем, как он понимает боль и
как понимаем ее мы, так что еще не известно, воспринимаем ли мы одно и
то же зрелище одинаково, руководствуемся ли схожими соображениями при
женитьбе и оцениваем ли поведение людей по одним и тем же меркам.
Только представьте: спокойно сидеть и смотреть, как на твоих глазах у
несчастного лопаются сухожилия, трещат кости, и не дрогнуть в тот момент, когда
он оказался практически распят из-за того, что деревянного коня загнали
еще дальше под веревку, а палач все не унимался - принес рог и влил в
горло жертве два ведра воды, прекрасно зная, что человек страдает безвинно,
осужденный по подозрению в краже, которую он отрицал, нет, всего этого
достаточно, чтобы поместить Ивлина (поместить, разумеется, мысленно) в
клетку, подобную тем, что есть в Уайтчэпл6, где, говорят, держат всяких
подонков. Только не совершаем ли мы ошибку, записывая Ивлина в
дикари? Собственно, какие у нас основания утверждать, что, в отличие от него,
мы настолько ценим справедливость и так болезненно реагируем на чужое
страдание, что одно это уже доказывает более высокую степень развития
инстинктов, чем у него, и наше врожденное человеколюбие? Ведь в этом
случае нам пришлось бы признать, что мир совершенствуется, а вместе с ним и
мы становимся лучше. Обратимся-ка лучше к дневнику.
В 1652 году Ивлин возвращается после долгих странствий на родину:
возвращается, заметим, в тот момент, когда положение в стране, хоть и
стабилизировалось, но не в пользу роялистов - «все в руках мятежников»7;
возвращается с женой, со всем своим хозяйством - с коллекцией венецианского
стекла, с таблицами строения вен и артерий, с прочими раритетами,
добытыми в Европе, и поселяется в Дептфорде, на правах сельского помещика, не
скрывающего своих политических симпатий к роялистам. Начинается
размеренная жизнь: утром - в церковь, днем - в город по делам, потом домой -
заниматься плодовыми деревьями: «В новолуние, при западном ветре я
посадил в Сэз-Корте саде»8, - записывает он в дневнике. На первый взгляд его
жизнь мало чем отличалась от нашей, за одним исключением: глаза у него,
кажется, никогда не закрываются - не то, что у нас. Подробность эту
довольно трудно уловить, если выхватывать из текста отдельные цитаты, но если
внимательно читать весь дневник, то, судя по наблюдениям, сделанным там
Бродя по Ивлину
1Ъ
и сям, он жадно впитывал мир именно глазами: перед ним словно все время
стояла картина. Нам сегодня это непонятно: мир красок, цветов и зримых
форм для нас, обыкновенных читателей, давно потускнел, и поэтому,
когда мы слышим об архитектуре, садах, о статуях или о резьбе, мы пугаемся,
словно нас гонят из дому на улицу или, наоборот, загоняют в музейный зал.
Самое большее, на что мы способны - это воспринимать один-два
небольших полотна на стене. Все. Конечно, у нас есть тысяча оправданий, однако
интересно, что первый раз случилось так, что это мы оправдываемся перед
Ивлином, а не наоборот. Стоило только Ивлину узнать, что неподалеку от
места, где он находится, хранится картина Джулио Романо9, или Полидора10,
или Гвидо11, или Рафаэля, или Тинторетто, или расположено замечательное
произведение архитектуры, или пролегает проспект, или разбит чудесный
парк, как он останавливал своего кучера, знакомился с
достопримечательностью, а после записывал в дневнике свое впечатление. Так, 27 августа
Ивлин, вместе с д-ром Реном12 и другими коллегами, занимался осмотром
собора Св. Павла: он записал, что его поразило, «насколько обветшал старинный
досточтимый храм»13; как оказалось, у д-ра Рена было схожее впечатление,
и тогда у них родился план, отличный от того, что предлагали коллеги, -
увенчать собор «благородным куполом, придав храму изысканную форму,
дотоле не известную в Англии»14, и д-р Рен поддержал эту идею. А шесть
дней спустя в Лондоне случился пожар15, неожиданно ускоривший их
планы. Или другой случай. Во время прогулки по окрестностям родного
прихода Ивлин наткнулся на «ветхий домик под соломенной крышей, стоявший
на отшибе»16 и из любопытства заглянул в окошко: видит, за столом сидит
молодой человек и вырезает из дерева распятие. Ивлин так воодушевился,
что уговорил юношу показать свою работу при дворе. Так он открыл миру
Гринлинга Гиббонса17, за что ему, конечно, честь и хвала.
В самом деле, можно сколько угодно щепетильничать, обсуждая
страдания насекомых и формы наказания проштрафившимся слугам, но как же,
наверное, приятно перебирать в памяти, с закрытыми глазами, один за
другим кварталы, улицы, проспекты городов, вызывать в воспоминаниях одно
за другим палаццо, виллы, особняки. Сомкнешь веки - и перед тобой
стоит алый цветок, золотятся розовые яблоки в лучах полуденного солнца...
А вот другая прелестная картина: особенно хорошо передан характер деда,
и все семейство, поднявшееся из такой канавы, смотрится весьма
достойно... Всплывают в памяти, дробятся картина за картиной - яркие островки
красоты на общем фоне донельзя серого унылого века. Мы обвиняем
Ивлина в жестокости, а была бы у него возможность нам ответить, он
наверняка показал бы с нескрываемым презрением на новые кварталы тогдашних
окраин- Бэйзуотера и Клэпема18; возвысил бы голос против современных
ему нравов, против утраты соотечественниками твердости и богобоязни; он
наверняка вознегодовал бы против местных фермеров, которые больше не
считают нужным ставить возле постели открытый гроб в качестве memento
74
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
mori, и еще неизвестно, сумели бы мы достойно отразить ивлиновские
инвективы. Ну да, в отличие от него, нам нравится английский пейзаж, и мы
смотрим в небо, тогда как он не отрывал глаз от земли.
Однако вернемся к теме. После Реставрации Ивлин развернулся во всю
мощь своих разнообразных дарований - сегодня в эпоху узкой
специализации разносторонность его интересов впечатляет. Посудите сами:
человек подвизался на государственной службе, совмещая ее с деятельностью
на посту секретаря Королевского общества; писал пьесы и стихи; среди
соотечественников слыл главным знатоком в вопросах садоводства и посадки
деревьев; он разработал план перестройки Лондона, изучал вопрос о
загрязнении столицы дымом и способы очистки воздуха, говорят, что результатом
его научных изысканий явилась посадка липовых деревьев в Сент-Джеймс-
парке. Но и это не все! Его уполномочили написать историю войны в
Голландии19, - так он и это совершил! Другими словами, своими
разнообразными достижениями он затмил эсквайра из «Принцессы»20, чей образ, заметим,
он во многом предвосхитил:
Рачительный хозяин призовых бычков,
Выращивает дыни, ананасы,
Облагодетельствовал дюжины домов;
Он разбирается в зерне, навозе,
К тому же дока в мировых делах 21.
Портрет сэра Уолтера22, кажется, списан с Ивлина, причем, помимо сходства
интересов, наших героев роднит еще одно качество, о котором Теннисон
умалчивает. Ивлин, похоже, был чуть-чуть занудой - придирчивым, слегка
надменным, чересчур уверенным в собственных достоинствах и не
склонным эти самые достоинства замечать в других людях. Трудно определить,
что именно в нем нас смущает: избыток ли какого-то душевного начала или,
наоборот, недостаток его, но, возможно, отчасти он сам виноват в том, что
мы испытываем некоторые сомнения на его счет. Все дело в его
непоследовательности, которую было бы неправильно назвать лицемерием, и все же
какая-то заноза сидит: он осуждал пороки своего времени, а в самом себе
их не видел. Человек, с нескрываемым отвращением писавший о
«расточительности погрязшего в увеселениях и праздности двора»23; о
безнравственности отношений, которую он усмотрел в «очень вольной беседе»24 госпожи
Нелли и короля Карла - как-то случайно увидел, как эта дама, перегнувшись
через садовую ограду, щебетала с королем, стоявшим на залитой солнцем
дорожке и смотревшим на нее снизу вверх, - господин этот так и не
решился расплеваться с двором и удалиться, как он писал, в «мою скромную
уединенную обитель», на самом деле, «обителью» он называл роскошную
загородную виллу, предмет его особой гордости и заботы. Вот и дочку свою
Мери, кажется, так любил, так горевал по ее безвременной кончине, а в день
похорон не забыл пересчитать все до одной кареты, запряженные
шестериком, что стояли у церкви, пока шло отпевание. Дамы, которые дарили Ивли-
Бродя по Ивлину
75
на своей дружбой, были все как на подбор добродетельны и прелестны - им
бы еще только каплю здравого смысла в придачу. Во всяком случае, судя по
истории жизни г-жи Годолфин - создания трогательного и
чистосердечного25, ее дружба с Ивлином не выглядит привлекательной: бедняжка «любила
бывать на поминках», где обычно съедала «самые постные и жилистые
кусочки мяса», - можно только догадываться, что за жизнь была у этого
ангелоподобного существа26. Впрочем, лучше Пипса все равно никто не опишет,
каков он, Ивлин, на самом деле. Они провели в компании друг друга целое
утро, после чего Пипе записал в дневнике: «Если коротко, он
превосходнейший человек и достоин того, чтоб ему простили малую толику надменности,
которая в нем сидит; это простительно человеку, на несколько голов
превосходящему окружающих»27. Характеристика, что называется, не в бровь, а в
глаз: «он превосходный человек», только чуточку надменный.
Пипе все расставляет по своим местам, и мы вдруг ясно, против воли,
возможно, несправедливо по отношению к Ивлину, понимаем: он не гений.
Нет в его дневнике той прозрачности, что позволяет проникать до самого
дна, в самую глубь, идя вслед за тайными движениями мысли, душевными
порывами. Нам, может, и хотелось бы возненавидеть короля всеми
фибрами души и потерять голову от любви к г-же Годолфин, да, к сожалению, не
получается. Но дневник Ивлин пишет здорово - ничего не скажешь: его уже
триста лет как нет в живых, а он удивительным образом умеет пробиться
сквозь наше равнодушие, зацепить внимание, и вот уже, сами того не
замечая, между делом, продолжая мечтать, смеяться, смотреть по сторонам, мы
оказываемся втянутыми в разговор, и нам интересна любая мелочь.
Например, Ивлин описывает свой сад, и мы замечаем, что в его интонации
сквозит легкая насмешка, а, когда он говорит о садах своих соседей, голос его
становится желчным- эти оттенки просто поразительны! Мы уже заранее
готовы слушать про то, что самые крупные яйца в Англии кладут
несушки с Сэз-Корт, и какая беда приключилась намедни, когда в его изгородь
въехал своей тачкой царь28, и какая чистюля г-жа Ивлин, и какой он сам
несносный ворчун, во всем любит порядок, без дела не сидит, всегда готов
помочь, посоветовать, обожает читать вслух собственные сочинения, и
каким тяжким испытанием стала для него смерть его младшенького, самого
талантливого, - Ричарда, пусть горе и не сломило несчастного отца:
обливаясь слезами, он нашел в себе силы записать в дневнике: «...после вечерней
панихиды похоронили мое дорогое дитя рядом с его братьями, моими нежно
любимыми детками»29. Понятно, Ивлин не художник: у настоящего мастера
что ни слово, то картина - глубоко западает в душу... И все же в ивлинов-
ской манере есть своя изюминка: в том, с какой тщательностью
воспроизводятся все события дня - неважно, значительные они или мелкие; в том, с
каким интересом описывает он людей, которых больше никогда не встретит,
в том, с каким драматизмом нагнетается атмосфера, а потом никакой грозы
не происходит; как он представляет нам сэра Томаса Брауна30, не позволяя
76
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
тому вставить ни слова, - во всем этом виден свой индивидуальный почерк.
Надо уметь так писать дневник, чтобы казалось, будто находишься в
комнате, где ни на секунду не закрывается дверь: каждую минуту появляется
новое лицо - добряк, злодей, знаменитость, ничтожество, вот незнакомец
появился перед нами, покрасовался и вышел вон. Многих мы тут же
забываем - вошли, вышли, мы их уже не помним. Но в том и смысл, что
мелькнувший силуэт, разлетающиеся фалды фрака иногда могут сказать о человеке
гораздо больше, чем его парадный портрет в застывшей позе. Ивлину живые
картины удаются, пожалуй, потому, что он застает своих героев ненароком,
как бы врасплох: когда они совсем не думают о том, что в течение
последующих трехсот и более лет они будут улепетывать через забор на глазах у
изумленных потомков или посрамленно признавать, подобно старому
подслеповатому маркизу Арджайлу31, что в птичнике, оказывается, не лесные
голуби, а совы. Мы беззаботно переводим взгляд с одной фигуры на другую:
нам одинаково интересно все - и вспыльчивый капитан Рэй, чистый
холерик, сообщает Ивлин: его собака загрызла овцу, так он от ярости готов был
расправиться с местным фермером, хозяином бедной скотины, а когда его
лошадь сорвалась с обрыва, он кричал как сумасшедший, что пристрелит
несчастное животное; и М. Саладин, и дочка Саладина, и влюбленный в нее
капитан Рэй, который все медлит с отъездом из Женевы...32 Но более всего
нам интересен, конечно же, сам Ивлин: Ивлин, гуляющий на старости лет
по своему саду в Уоттоне; Ивлин, позабывший о бедах, счастливый своим
правнуком; Ивлин, роняющий то и дело латинские изречения; Ивлин,
посадивший свой сад, где среди плодовых деревьев и георгинов порхают
пестрокрылые бабочки.
ДЕФО*
Тот страшный сон, который иногда посещает главу юбилейного
комитета, - ему снится, что число юбилейных торжеств неотвратимо сокращается
и не за горами тот черный день, когда лавочку придется и вовсе закрыть, -
так вот, страхи эти не только беспочвенны в случае с «Робинзоном Крузо»,
но они попросту смехотворны. Да, на дворе двадцать пятое апреля 1919 года
и «Робинзону Крузо» исполняется двести лет со дня рождения, но вместо
привычных в таких случаях вопросов - «Интересно, а его сегодня еще
читают?»; «Любопытно, а будут ли его и дальше читать?», - воспоминание о
двухсотлетнем юбилее, наоборот, вызывает удивление совсем другого рода:
как, всего двести лет? Двести лет - это так мало для вечного и бессмертного
«Робинзона Крузо». Дело в том, что книга эта скорее сродни безымянному
* Написано в 1919 г. {Примеч. Вулф).
Дефо
11
народному эпосу, нежели беллетристике, написанной конкретным автором,
а что до празднования двухсотлетней годовщины «Робинзона», так оно
сравнимо с юбилеем Стоунхенджа - явления одного порядка! Во всяком случае,
мы это так воспринимаем, возможно, из-за того, что нам всем читали
«Робинзона Крузо» в детстве, и мы сызмальства привыкли думать о Дефо и его
истории примерно так же, как, наверное, древние греки о Гомере. Нам и в
голову не приходило, что на свете жил-был такой человек - Даниель Дефо,
и если бы нам в детстве рассказали о том, что «Робинзона Крузо» написал
конкретный человек - написал, как положено, сидя за письменным столом,
водя гусиным пером по бумаге, - мы бы, скорее всего, возмутились,
сочтя это беззастенчивой ложью, или же пропустили бы это сообщение мимо
ушей. Ведь детские впечатления - самые прочные и глубокие, и мы до сих
пор удивляемся в глубине души, по какому такому праву имя Даниеля Дефо
стоит на обложке «Робинзона Крузо» и вообще зачем устраивать шум по
поводу двухсотлетней годовщины? «Робинзон Крузо», подобно Стоунхенд-
жу, - всегда был, есть и будет.
Огромная слава книги несколько задвинула в тень самого автора: он
превратился в полулегендарную фигуру, и книга приняла на себя, так сказать,
всю полноту читательского интереса, а ведь у Дефо есть и другие романы, и
их нам, будьте уверены, в детстве не читали. Следы такого перекоса
обнаружились в 1870 году: когда тысячи маленьких английских мальчиков и
девочек откликнулись на просьбу главного редактора «Кристиан Уолрд»
пожертвовать деньги на восстановление пострадавшего от удара молнии памятника
на могиле Дефо, то на новом мраморном постаменте было увековечено имя
автора именно «Робинзона Крузо»1, но никак не «Молль Флендерс»2. Мы,
конечно, можем возмущаться такой несправедливостью, но на самом деле
ничего удивительного в этой купюре нет: достаточно сравнить сюжет
«Робинзона Крузо» с темами других произведений Дефо - той же «Роксаны»,
тех же «Капитана Синглтона», «Полковника Жака» и других. Эти книги не
предназначены «для чтения в гостиной», писал биограф Дефо г-н Райт, и,
пожалуй, он был прав. Мы можем спорить о том, насколько мнения,
высказанные в гостиной, являются истиной в последней инстанции,
возможно, для кого-то так и есть, - но печальный факт остается фактом: эти книги
оказались незаслуженно преданы забвению то ли из-за их внешней
натуралистичности, то ли из-за безграничной популярности романа о Робинзоне.
На самом же деле, «Молль Флендерс» и «Роксана» только делают честь их
автору, и на каждом уважающем себе памятнике эти названия
необходимо высекать так же четко, как и имя их создателя - Дефо. Их место - среди
тех немногих английских романов, которые считаются бесспорно великими.
Почему это так, в чем именно состоит их значительность, в которой, кстати
сказать, очень много общего с величием всеобщего любимца - «Робинзона»,
этими вопросами самое время заняться в год празднования двухсотлетия их
более удачливого собрата.
78
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Дефо взялся писать романы уже человеком бывалым, много повидавшим
на своем веку, он задолго до Ричардсона и Филдинга3 стал одним из
пионеров романного жанра, который и форму-то свою обрел, и состоялся во
многом благодаря его стараниям. Впрочем, нет особой надобности подчеркивать
заслуги Дефо - упомянуть о них стоит разве что в связи с тем
обстоятельством, что именно положение первопроходца заставило Дефо выработать
некоторые представления об искусстве романа, которым он занялся на
старости лет. Он полагал, что существование романа оправдано в том случае, если
в нем рассказывается правдивая, невыдуманная история, которая может
послужить читателю достойным нравственным уроком. Как писал Дефо, «эти
новомодные выдумки являются самым злостным преступлением - человек
открывает сердце для лжи и постепенно вранье входит в привычку»4.
Поэтому сам он не перестает подчеркивать, используя для этого малейшую
возможность - в предисловиях ли к романам или же по ходу повествования,
что в его книгах нет ничего выдуманного - он опирается только на факты, и
что главной его целью было наставить заблудшие души на путь истинный и
предостеречь невинных. К счастью, эти принципы не шли вразрез с его
собственными творческими наклонностями, а шестидесятилетний опыт
изменчивой фортуны научил его считаться с фактами не принципа ради, а для
большей художественной правды. Как он однажды заметил: «...я недавно
обобщил События моей жизни в таком двустишии:
Никто не падал и не возносился чаще моего, -
Тринадцать раз я богател и разорялся»5.
Провести полтора года в Ньюгейте6, ежедневно общаясь с ворами,
пиратами, разбойниками и фальшивомонетчиками, а потом написать историю
жизни Молль Флендерс - в этом весь Дефо. Но, конечно, одно дело - быть
игрушкой в руках Фортуны и стать невольной жертвой обстоятельств, и
совсем другое дело - идти навстречу судьбе, не страшась любых ее
поворотов, и до конца дней своих сохранить дух авантюризма и
правдоискательства. Мало того что Дефо на себе испытал тяжесть нищеты и мог влезть в
шкуру тех, кто всю жизнь мыкался, но его как художника влекла стихия
жизни: он черпал вдохновение в таких жизненных историях, когда человек
оказывался один на один со стихией, выживал вопреки обстоятельствам; в
этом противостоянии, казалось Дефо, и заключена вся соль искусства.
Каждый свой великий роман он начинает с того, что бросает своего героя или
героиню на дно жизни, и отныне судьба этого мужчины или женщины в
романе становится борьбой за выживание, причем в таких неимоверных
условиях, что диву даешься, как им вообще повезло, что они ухитрились
выкарабкаться из той ямы, в которой очутились. Так, Молль Флендерс выпало
родиться в тюрьме Ньюгейт у матери, осужденной за преступление;
капитана Синглтона в детстве похитили и продали цыганам; полковник Жак -
«человек благородных кровей», волей обстоятельств оказался в учениках у
Дефо
79
карманника7; Роксана - единственная героиня, к которой судьба поначалу
благоволила, - в пятнадцать лет вышла замуж, родила одного за другим
пятерых детей, а потом ей пришлось туго: разорился муж и Роксана осталась
одна с пятью малышами на руках, «в таком жутком положении, что
никакими словами не опишешь»8.
Итак, человек оказывается в трудных обстоятельствах - неважно,
мужчина или женщина, ему предстоит с малых лет отстаивать себя и
самоутверждаться в этом мире. Такое начало Дефо обожал. Взять Молль Флендерс -
самую яркую из его героинь, ведь ей с первой минуты появления на свет,
или если не с первой, то после полугодовой передышки, приходится
воевать с «беспощаднейшим из зол - нищетой»!9 Она еще толком не научилась
вдевать нитку в иголку, а ей уже приходится зарабатывать на жизнь трудом
швеи; голод и бедность гонят ее по свету, а она и не думает роптать - ну что
с того, что у ее создателя не получается задушевная домашняя
обстановка? Зато он все знает о заморских странах и обычаях и щедро делится с ней
своим опытом. Дня не проходит, чтобы ей не приходилось отстаивать свое
право на существование, доказывая самой себе, что спасение утопающих -
дело рук самих утопающих, что все зависит исключительно от собственной
смекалки и воли, и что опереться она может только на собственный опыт,
с годами сложившийся в своеобразную философию «авось».
Стремительность, с которой развиваются события в романе, объясняется очень просто:
Молль Флендерс свободна как ветер, она - изгой, общество отвергло ее в тот
момент, когда она первый раз нарушила закон. Поэтому она должна быть
готова к любому повороту фортуны, за исключением одного - спокойной
оседлой жизни. Что же, получается приключенческий роман? К счастью,
этого не происходит, и знаете, что мешает роману сделаться по-настоящему
авантюрным? - гениальная проницательность его автора: Дефо заставляет
нас поверить в то, что его героиня - самостоятельная женщина, с ней нельзя
не считаться, ею нельзя крутить как попало. Словно показывая независимый
нрав, Молль Флендерс у Дефо начинает напропалую влюбляться - кстати,
точно так же поступает Роксана; и то, что при этом Молль не теряет головы
и думает о своем будущем и материальной обеспеченности, нисколько не
умаляет ее страсти и вовсе не повод упрекнуть ее в неискренности: опять-
таки, все объясняется просто - ей всю жизнь приходится пробиваться самой
и, подобно другим героиням Дефо, у нее нет права на ошибку. Вот она и
хитрит, изворачивается, может соврать, если нужно; зато уж если решит сказать
правду, то ее словам веришь безоговорочно. «Охи-ахи» по поводу
несчастной любви - это не про нее; она не может позволить себе долго
сокрушаться: погоревала, всплакнула - и дальше: «Вперед, читатель!» Она из тех, кто
любит идти наперекор судьбе, решать все по-своему. Так, она решила выйти
замуж за человека, с которым встретилась в Виргинии, и они поженились;
но стоило ей узнать, что это ее единоутробный б»рат, как все в ней восстает
против такой связи, - она порывает с ним и уезжает. Сходит на берег в Брис-
80
В. Вулф. Обыкновенный читатель. J925
толе, и тут ее посещает «шальная мысль отправиться в Бат и немного
развлечься - ведь я еще молода, кровь кипит, хочется разгуляться»10. Она вовсе
не бессердечная красавица и не жадная плутовка - просто она любит жить,
а нам, читателям, ничего другого и не надо: нас только помани пальчиком
героиня, в которой жизнь бьет ключом, и мы за ней побежим, как собачки.
К тому же в своем победном самоутверждении Молль Флендерс не лишена
некоторой толики воображения, а это переводит ее заносчивое честолюбие
в разряд весьма благородных чувств. Нужда заставляет ее держаться начеку,
быть практичной и недоверчивой, но при этом ее не оставляет смутная тоска
по возвышенным, рыцарским отношениям, которые делают мужчину
настоящим джентльменом (на ее вкус, разумеется). «В нем чувствовалось
внутреннее благородство, и от этой мысли мне стало его совсем жалко. Одно дело,
когда тебя обчистит мелкий воришка, и совсем другое дело - благородный
разбойник»11, - записала она после того, как сама обвела вокруг пальца
грабителя, представившись бедной как церковная мышь. Собственные широта
души и благородство позволяют ей ценить те же качества в других; именно
они вызывают в ней чувство гордости за любимого человека - ее последнюю
любовь: когда они с ним добрались наконец до цели, он отказался работать
на плантациях, предпочитая охоту, так вот она с особым удовольствием
начала покупать для него парики и шпаги с серебряными эфесами, стремясь
«придать ему вид истинного джентльмена, каким он и был на самом деле»12.
Она и жару любит, потому что у нее горячая кровь, и сына обожает так
страстно, что готова целовать его следы на земле, и с любыми недостатками она
готова примириться, по врожденной щедрости и благородству сердца, если
только они не перерастают в «совершеннейшее угнетение духа, надменное,
жестокое и беспощадное, со стороны власть имущих, и, наоборот, полное
самоуничижение и малодушие, со стороны неимущих»13. А в остальном она
в полном ладу с миром.
Разумеется, это далеко не полный перечень достоинств и недостатков
нашей отнюдь не добродетельной героини, поэтому стоит ли удивляться,
что описанная у Борроу торговка яблоками на Лондон-Бридж называла ее
не иначе, как «благословенная Мария», и готова была отдать за эту книжку
всю свою дневную выручку14? Да что там торговка! Сам Борроу вцепился в
книжку, сел с ней прямо за прилавком и не встал, пока резь в глазах не
почувствовал - до того зачитался! Эти восторженные отклики о героине
романа мы приводим как доказательства того, что создатель «Молль Флендерс» -
это не просто газетчик и документалист без малейшего намека на понимание
психологии, каким его часто представляют. В самом деле, у Дефо герои
живут и действуют самостоятельно, словно независимо от воли автора, а
иногда и вопреки ей. Топтаться на одном месте, вдаваться в тонкости или
впадать в патетику - не по нему: он упорно, невзирая на отвлекающие моменты,
гнет свою линию. Если в рассказе появляются лирические вставки - взять
эпизод с Принцем, когда тот сидит у колыбели, «любуясь спящим сыниш-
Дефо
81
кой»15, как замечает Роксана, то складывается впечатление, что лирика эта
больше трогает нас, читателей, нежели Дефо. А если случаются отвлечения
другого рода, например, увлекся автор и начинает распространяться о том,
что бывает разумнее поделиться с кем-то важным делом, чем проговориться
о нем неожиданно во сне, как это произошло с вором в Ньюгеите, причем
пассаж звучит свежо и современно16, то Дефо обязательно извинится за
отступление от темы. Он, видимо, настолько глубоко вжился в своих героев,
что невольно отождествлял себя с ними, не мыслил себя отдельно от них, и
поэтому, как обычно бывает у художника, одаренного богатой интуицией,
в его произведениях скрыта бездна смысла, а близорукие современники эту
золотую жилу не то что раскопать - разглядеть не сумели.
Поэтому скорее всего Дефо с недоверием отнесся бы к нашему
толкованию образов его героев: еще бы, ведь мы обращаем внимание на такие
подробности, в которых он ни за что не признался бы самому себе. Так, вместо
того чтобы обвинять Молль Флендерс, мы ею восхищаемся; нам трудно
поверить в то, что он про себя точно определил меру ее виновности и что он не
отдавал себя отчета в том, что своей повестью о судьбах отверженных он
задел много острых тем, и более того - наметил способы их обсуждения, если
не решения, причем способы эти весьма далеко расходились с
проповедуемыми им же самим принципами. Чтобы не быть голословными, обратимся к
его эссе «Образование женщин»17: мы увидим, насколько глубоко задавался
он вопросом о дарованиях женщин - в этом отношении он намного
опередил свой век, поскольку ставил их способности очень высоко, и с какой
прозорливостью указывал он на жесточайшую несправедливость их положения:
«Мы полагаем, что являемся страной цивилизованной и христианской,
однако посмотрите, с какой решительностью отказываем мы женщинам в плодах
просвещения. Дня не проходит, чтоб мы не упрекнули противоположный
пол в непослушании и глупости, тогда как я убежден в обратном: имей они
равные с нами возможности пользоваться плодами просвещения, они
гораздо реже нашего впадали бы в грех непослушания и упрямства»18.
Возможно, нынешним защитникам прав женщин и в голову не придет
вписать Молль Флендерс и Роксану в свои «святцы»
матерей-покровительниц, однако ясно, что Дефо задумывал их образы не только из желания
высказать свои - повторим, звучащие очень современно, - взгляды на
предмет положения и воспитания женщин, но и с тем художественным расчетом,
чтобы читатель непременно сопереживал его героиням, поставленным в
столь бедственные обстоятельства. Чего недостает женщинам, так это
отваги, заявляет Молль Флендерс, им необходима сила воли, чтоб «не
уступить ни пяди»19, и, недолго думая, она доказывает делом, какие блага сулит
такая неуступчивость. Против супружеского рабства выступает и Роксана,
служительница той же профессии, что и Молль Флендерс: только делает она
это гораздо тоньше. Как выразился один купец, обращаясь к Роксане: «Вы
предложили нечто новое, противоположное тому, что делают все»20. Однако
82
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
кого-кого, а Дефо невозможно обвинить в голом морализаторстве. Ведь мы
потому и сопереживаем Роксане, что та ни сном ни духом не думает о роли,
которую ей поручено играть, - наставницы грядущих поколений женщин, и
когда она сама удивляется про себя, мол, «поначалу у меня и в мыслях не
было, что я делаю что-то благородное»21, то мы ей верим. Оттого, что она
лишена чувства собственной непогрешимости и с каждым поступком
стремится честно разобраться в самой себе, как обычно бывает с теми, кто знает
за собой слабости, образ ее не только не теряет свежести и человечности, -
наоборот, имеет счастливую способность жить своей жизнью в воображении
читателя, в то время как столько персонажей - страдальцев или пионеров
авторских идей - давно уже превратились в деревянные ходульные схемы.
И все же мы не потому восхищаемся Дефо (точнее сказать, мы не в
силах сопротивляться своему чувству восхищения), что в нем можно увидеть
идейного предтечу Мередита или автора, перу которого принадлежит
несколько сцен, которые при желании можно легко переделать (неожиданная
параллель!) в пьесы Ибсена. Ведь его взгляды на положение женщин
естественно вытекали из его главного достоинства- сосредоточенности на
самых значимых, непреходящих ценностях, при полном безразличии к
сиюминутным увлечениям. Да, местами он невыносимо скучен; страницами идут
дотошнейшие описания мельчайших подробностей в духе записок ученого
путешественника, от которых мы приходим в уныние: Господи, внуши его
перу что-нибудь поживее, чем голые факты! Да, растительный мир в его
книгах отсутствует полностью, а мир человеческий представлен с
большими пробелами. Все это так, впрочем, у кого из великих мастеров не
случается подобных и более серьезных огрехов? Главное - то, что в «сухом
остатке»: оно не размывается никакими изъянами. Дефо начал с того, что очертил
для себя круг тем и умерил писательское честолюбие: это позволило ему
добиться такой психологической правды, с какой не сравнится никакая
документальная достоверность22. Он ведь заинтересовался Молль Флендерс и
компанией не в силу, так сказать, «жанровой живописности» и не из-за того,
что они являли собой, как он утверждал, наглядное воплощение дурного
образа жизни, осуждение которого поможет излечить общественные пороки.
Нет, его заинтриговало другое: природное мужество этих людей, которые
за годы лишений становились только крепче на изломе. Прощения ждать им
было неоткуда; мечтать о том, чтобы укрыться под сенью благодетеля, они
не могли, поэтому ничто не затуманивало ясность их намерений. Их всему
научила нищета. И так называемое осуждение Дефо - не более чем
риторика: на самом деле, он был сражен храбростью и волей к жизни этих
несгибаемых упрямцев. Он чувствовал себя как дома в их остроумной компании,
где любили меткое словцо, травили интересные истории, где все были
заодно и жили по своим неписаным законам и правилам чести. Жизнь
вышибала их из седла бессчетное число раз; они прошли огонь, воду и медные
трубы, а поскольку он познал такую жизнь на собственной шкуре, то не мог не
Аддисон
83
восхищаться, умиляться и преклоняться перед их мужеством. А самое
главное - эти мужчины и женщины не стеснялись говорить открыто и свободно
о тех страстях и желаниях, что спокон веку двигали человечеством и до сих
пор сохраняют жизненную силу. Вообще в этом есть особое достоинство -
смотреть на мир открытыми глазами: даже такой грязный предмет, как
деньги, играющий в истории их жизни ключевую роль, - и тот оборачивается
не подлой, а трагической стороной, когда на карту оказываются поставлены
честь, честность, да и собственная жизнь, а не просто благополучие и связи.
Может, Дефо и несет несусветную чушь, как полагают некоторые, но
плоским он никогда не бывает.
Выходит, он принадлежит к школе великих мастеров прозы жизни, чье
творчество основано на знании наиболее характерных и - что там
говорить! - малоприятных свойств человеческой природы. Есть какое-то
внутреннее родство между его произведениями и видом Лондона,
открывающимся с моста Хангефорд23: серые неприступные фасады зданий, приглушенный
шум моторов, занятые делом люди - вот она, суровая проза жизни, которую
скрашивают разве что мачты кораблей вдали да городские башни и купола
соборов. На углу стоят цветочницы с букетиками фиалок, под арками сидят
старухи, трясущимися руками предлагая купить у них спички или шнурки
для ботинок, - точь-в-точь списаны с героинь Дефо. Он - романист той же
школы, что Крабб24 и Гиссинг25, с той существенной разницей, что, хоть они
все и вышли из одной суровой aima mater, он им - не просто однокашник, но
отец-основатель и учитель.
АДДИСОН*
В июле 1843 года лорд Маколей1 изрек откровение, что богатство нашей
литературы весьма приумножили сочинения Джозефа Аддисона2, «которые
не умрут, пока жив английский язык»3. Чтобы оценить это изречение по
достоинству, надо знать, какое значение имело в то время слово лорда Мако-
лея. Кажется, семьдесят шесть лет прошло, а в этих словах до сих пор
слышится непоколебимая убежденность автора в том, что именно он, и никто
другой, является избранным представителем английской нации. Они
исполнены такой торжественной ноты, в них звучит такая сила непререкаемого
авторитета и чувство личной ответственности, что, признаться, они больше
напоминают обращение премьер-министра к английскому народу, нежели
юбилейную статью журналиста о давно почившем в бозе литераторе. Что
и говорить, в знаменитом собрании эссе Маколея его панегирик Аддисо-
ну - одно из самых ярких произведений этого жанра. Читаешь кудрявые,
* Эссе написано в 1919 г. {Примеч. Вулф).
84
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
плотно пригнанные друг к другу фразы и кажется, что складываются они в
надгробный памятник, - основательный, добротный, весь в декоративных
завитках, который будет служить Аддисону надежным мавзолеем, покуда
стоит Вестминстерское аббатство. Только странное дело: столько раз,
кажется, мы читали это эссе, столько раз им восхищались (мы всегда так
говорим, прочитав что-нибудь ровно три раза), но нам и в голову не приходило
поверить в правоту маколеевских слов. Что ж, такое случается с
восторженными читателями викторианского критика: можно восхищаться пышностью
стиля, весомостью и цветистостью фраз, можно снова и снова удивляться
тому, насколько к месту употреблено то или иное громогласное суждение,
но меньше всего мы думаем о том, чтобы соотнести эти размашистые
утверждения и мнения, высказанные не терпящим возражения тоном, со столь
незначительным предметом, как человек. И эссе об Аддисоне - не
исключение. Маколей замечает: «Живее лучших аддисоновских портретов могут
быть только произведения Шекспира или Сервантеса». И далее: «У нас нет
ни малейшего сомнения в том, что если бы Аддисон задумал написать
масштабный роман и осуществил свое намерение, то его шедевр превзошел бы
все имеющиеся у нас образцы». Эссе же Аддисона «дают ему полное право
именоваться великим поэтом», и, чтобы окончательно развеять сомнения в
величии своего героя и завершить отстроенный во славу его мавзолей,
Маколей заявляет во всеуслышание, что Вольтер - это «некоронованный принц
шутов», заставляя тем самым Вольтера - на пару со Свифтом - склониться
в низком поклоне, а сам тем временем ловко проводит Аддисона в дамки,
подразумевая, что королем сатиры является именно он, Аддисон.
Интересно, что когда рассматриваешь эти орнаментальные пассажи по
отдельности, они выглядят довольно нелепо, но в составе целого смотрятся
как необходимая часть общего декоративного замысла: без них мавзолей не
был бы мавзолеем. Другое дело: кто внутри - Аддисон или кто-то другой?
Как бы ни было, гробница получилась на славу, и вот теперь, по
прошествии двух столетий с той памятной ночи, когда тело Аддисона - под «телом»
имеется в виду не фигура речи, а настоящее тело - предали земле в
Вестминстерском аббатстве, мы, недостойные потомки, вправе, полагаем,
критически подойти к первому из процитированных выше изречений, что высечено,
условно говоря, на умозрительном памятнике, которому мы в течение
семидесяти шести лет курили фимиам, не спрашивая, пустой мавзолей внутри
или нет. Итак, сочинения Аддисона не умрут до тех пор, пока жив великий
английский язык. Поскольку последний жив-здоров - мы ежеминутно
получаем подтверждения того, что наш родной язык, слава тебе, Господи, не
страдает, как иные, от воздержанности или неумеренного пуризма, то нам
придется ограничиться лишь вопросом жизнестойкости Аддисона. Увы, в
отличие от состояния английского языка, современное состояние «Болтуна»
и «Зрителя»4 оставляет желать лучшего: по ним никак не скажешь, что они
живы-здоровы. Если справиться в публичной библиотеке, сколько читате-
Аддисон
85
лей в год берут почитать сочинения Аддисона (что, конечно, не является
абсолютно точным подсчетом!), то мы узнаем с некоторым разочарованием,
что за девять лет первый том «Зрителя» спрашивали не более двух раз в год.
Интересно, сколько же читателей интересуются вторым томом? Но это так,
к слову, а в целом результаты проверки совсем неутешительные. Судя по
комментариям на полях и карандашным пометкам, оставленным редкими
преданными поклонниками, их интересуют одни только знаменитые
изречения, да и те - пусть это не сочтут наглостью с нашей стороны -
являются наименее интересными. Нет, если Аддисон и жив, то явно не в
публичных библиотеках. Его ровное, едва слышное дыхание ощущается разве что
в тиши кабинетов, где царит уединение, за окнами цветет сирень, а стены
личной библиотеки заставлены потемневшими от времени томиками: где же
еще, как не в подобном покойном месте, придет сегодня в голову мужчине
или женщине почитать на сон грядущий Аддисона, на исходе летнего дня,
перед заходом солнца?
Только ведь Англия большая, и в ней, будьте уверены, найдется немало
людей, кто время от времени, иногда с длительными перерывами, не
зависящими от того, какое время на дворе, читает Аддисона. Ибо это в высшей
степени полезное чтение: только поймем мы это, когда откажемся от соблазна
полистать то, что написали об Аддисоне Поуп, Маколей, Теккерей и
Джонсон, и возьмемся за самого Аддисона - за его «Болтуна», «Зрителя», «Като-
на»5, а потом прочитаем и оставшиеся шесть небольших томиков. Только
тогда мы поймем, каков настоящий Аддисон - не Аддисон Поупа или чей-то
еще, а та самостоятельная, независимая личность, чей образ и сегодня, в
одна тысяча девятьсот девятнадцатом году, способен ясно запечатлеться,
как в зеркале, в современном, не знающем покоя, искривленном сознании.
А это уже немало, поскольку именно ясности, как правило, недостает в
судьбе менее крупных писателей прошлого: их очертания расплываются,
искажаются... Попытки же воскресить образы второстепенных литераторов,
очеловечить их в своем сознании кажутся напрасными хлопотами, поскольку
результат обычно нулевой: открытия все равно не происходит. Все давно
ушло в песок, поросло травой забвения, черты их стерлись за давностью
лет, и вообще может оказаться так, что мы стараемся, раскапываем, как нам
кажется, скульптуру золотого века, а, на самом деле, наградой нам за все
наши труды - обломок старого горшка. Впрочем, даже не это самое трудное
в чтении писателей второго ряда: критерии изменились - вот что главное.
Им нравилось одно, а нам нравится другое, и поскольку вкус в этом деле
играет гораздо более важную роль, нежели идеи - нам должен
импонировать аромат эпохи, - то разница в писательской манере может оказаться
фатальной. В случае с Аддисоном это, кстати, одна из самых существенных
помех. Некоторые качества он ставил очень высоко: например, у него было
абсолютно четкое представление о том, что мы привыкли называть
«светским» поведением мужчины или женщины. Так, Аддисон не уставал повто-
86
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
рять, что мужчинам не следует быть атеистами, а женщинам негоже носить
пышные юбки. Наша первая реакция на такие заявления - не столько
неприязнь, сколько ощущение огромной разницы во взглядах. Мы судорожно
пытаемся представить, к какой же аудитории были обращены эти нравоучения.
Первый номер «Болтуна» вышел в 1709 году, а годом или двумя позднее -
«Зритель»: что представляла собой в то время Англия? Почему Аддисон так
настойчиво указывал соотечественнику на необходимость здорового и
приемлемого в свете религиозного чувства? Почему он постоянно, и в
основном беззлобно, пенял женщинам на их недостатки и призывал исправиться?
Почему его так огорчала порочная политика правящей партии? Разумеется,
для историка не составит труда ответить на эти вопросы; только звать на
помощь историка не хотелось бы. Мы вправе ожидать от писателя чего-то
побогаче, чем голые сентенции: нам хочется богатого букета прозы, густого
и терпкого, как вино, тогда как разъяснения - это, простите, «вода». Тем не
менее нам ничего другого не остается, как принять за данность, что советы
Аддисона обращены к дамам в платьях с обручами и господам в париках -
словом, канувшей в Лету аудитории, которая усвоила преподанный ей урок
и отошла в мир иной, вместе со своим учителем. Потомкам остается только
улыбнуться, пожать плечами и разве что - полюбоваться нарядами.
Только ведь это не чтение. Если, читая, беспрестанно думать о том, что
наши предки заслуженно получали уколы и обожали выслушивать
нравоучения; что красноречие, которое нам сегодня кажется деревянным, они
иначе как божественным не называли, а в философии, которую мы расцениваем
как плоскую, видели глубину мысли; если вообще относиться к подобным
проявлениям старины со страстью коллекционера, то литература
превращается в предмет антиквариата, место которой - в шкафу, под стеклом,
подобно разбитому кувшину сомнительного эстетического достоинства, зато
обладающего бесспорной археологической ценностью... «Катон», между
прочим, сегодня читается именно благодаря такому очарованию старины.
Когда Сайфекс восклицает:
Когда в пустыне аравийской
Опустится над станом ночь,
Знай, чужестранец, - ты окутан
Не южным пологом красот, -
Самумом, смерчем смертоносным
Тебя сразит сей ураган:
Там, где стоял ты, - пыли шквал6, -
можно себе представить, какой трепет пробегал по зрительским рядам в
переполненном театре, как ритмично покачивались в знак одобрения
страусовые перья на головах сидящих в ложах дам, а джентльмены в партере от
восторга наклонялись вперед и били наконечниками тростей в пол и все как
один выражали восхищение и кричали: «Браво!» Но лш-то здесь причем?
Нам-то от чего приходить в восторг? И какое нам дело до епископа Хёрда7
Аддисон
87
и его «тонко подмеченного» и «высказанного с удивительной точностью,
взвешенностью» и прозорливостью наблюдения о том, что «пройдет
нынешняя мода на идеализацию Шекспира» и наступит век «Катона», вот тогда
«все глубокие и строгие критики и воздадут ему единодушную хвалу»? Все
это, конечно, очень весело, и мы невольно радуемся перемене,
наступившей в состоянии умов со времен наших предков: их увлекали словесные
кружева, нас - прямота и раскованность. Но, в любом случае, между нами
и современниками Аддисона не складывается беседа равных, не говоря о
том особом, желанном диалоге с автором, который заставляет нас забыть о
разнице лет и создает впечатление, что мы с автором заодно. Иногда в «Ка-
тоне» попадаются свежие строки, однако они тонут в общей массе: увы, но
трагедия, которая, по мнению д-ра Джонсона, являет собой «бесспорно
возвышеннейшее творение аддисоновского гения»8, давно перешла в разряд
антиквариата.
Дело осложняется тем, что большинство читателей относится к очеркам
Аддисона с предвзятостью, заранее предполагая, что от них ждут некоторой
снисходительности по отношению к автору: они словно боятся столкнуться
с этаким светским львом (в лице Аддисона), настолько привязанным к
этикету, манерам и вкусам, что с ним ни о чем, кроме погоды, поговорить нельзя.
Есть у нас такое легкое подозрение, что «Зритель» и «Болтун» - это светские
пересуды в безупречной английской манере о количестве солнечных дней в
нынешнем году по сравнению с дождливыми днями в прошлом. В чем
именно состоит трудность общения с Аддисоном на равных, хорошо видно по
одной истории, которую тот поведал читателям в одном из первых
выпусков «Болтуна». История эта о «молодом господине не глубокого, но живого
склада ума, - юноша поднахватался некоторых знаний, взяв ровно
столько, сколько нужно, чтобы стать атеистом или человеком свободных
взглядов, но которых совершенно недостаточно, чтобы стать философом или
человеком здравомыслящим»9. Далее этот молодой человек приезжает к отцу
погостить в его имении и начинает «просвещать недалеких домочадцев; и
настолько он в этом деле преуспел, что заразил своими застольными
беседами сначала дворецкого, а потом поколебал и веру своей старшей сестры...»
В общем, договорился он до того, что «однажды, болтая о своей охотничьей
собаке Трей, выпалил отцу, что "...не питает ни малейших сомнений насчет
того, что у Трей такая же бессмертная душа, как и у остальных членов
семейства" и что он-де даже "готов умереть, как собака". Тот пришел в
сильнейшее волнение и, не выдержав, воскликнул в сердцах: "Ах так, сударь!
Ну так собаке- собачья смерть!" Схватил трость и отдубасил негодника.
Это возымело такое благотворное действие, что, оправившись, молодой
человек засел за дельные книги и вскоре дослужился до чина старшего члена
Судебной палаты в Мидл-Темпле10». История типично аддисоновская: по
ней видно, что он всегда с подозрением относился к «темным и щекотливым
вопросам» и, наоборот, с уважением отзывался о «принципах, которые упро-
88
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
чивают счастье и славу всех членов общества, способствуя и личному
счастью каждому человека»; видно, что его симпатии на стороне дворецкого и
что, с его точки зрения, нет более подобающего занятия для молодого
энергичного человека, чем штудировать дельные книги и получить должность
старшего члена Судебной палаты в Мидл-Темпле. Такой Аддисон - Адди-
сон, сочинивший эту историю, вполне мог жениться на графине11,
«заниматься потихоньку бумагами сената»12, а незадолго до смерти произнести, в
присутствии молодого лорда Уоррика, за которым специально послал, свою
знаменитую реплику о том, как подобает умирать христианину13, - жаль
только, что сегодня его слова воспринимаются не так, как ему хотелось бы:
общество явно подурнело, поскольку наше сочувствие сегодня на стороне
молодого, глупого и выпившего, к тому же, лорда, но никак не закосневшего
в правилах старого ригориста, который и на смертном одре не может
отказать себе в удовольствии отчитать провинившегося повесу.
Впрочем, подобные анекдотичные примеры душевной черствости,
возможно, не более чем следствие разлившейся желчи Поупа14 или же
повышенной чувствительности викторианца Маколея, поэтому если освободить
Аддисона от аберраций восприятия современников или потомков, подобно
тому как очищают от грязи и пыли старинную картину, то, пожалуй, и на
наш век кое-что останется. Причем останется, надо сказать, немало.
Во-первых, Аддисон по-прежнему легко читается - и это спустя двести лет!
Действительно ему есть чем гордиться - у него гладкий, хорошо обкатанный
слог: читая, будто скользишь с горки на саночках, при этом успеваешь
смотреть по сторонам и подмечать разные приятные мелочи, оживляющие
пейзаж. Здесь уловишь легкую иронию, там поймаешь намек, еще кое-где
оценишь игру воображения - да мало ли какие штучки есть в запасе у опытного
эссеиста, которыми он расцвечивает свои строгие нравоучения! И
постепенно тебе в душу закрадывается сомнение: а так ли уж чопорен и
неприступен этот поджавший губы ригорист? Уж не лукавит ли он, не смеется ли
исподтишка, не разыгрывает ли тебя, наивного читателя? Он ни минуты не
дремлет: его цепкий взгляд выхватывает то дамскую муфточку, то парчовые
подвязки, то перчатки с пышной оторочкой - он все видит, все подмечает,
ничто, кажется, не укроется от его лукавого острого взора. Да и ведь и век-то
был какой веселый - благодать для наблюдательного журналиста! В
лондонских кофейнях допоздна засиживались политики - спорили до хрипоты
о королях и императорах, и дела им не было до собственных обязанностей.
В опере публика еженощно аплодировала итальянским певцам, ни слова не
понимая по-итальянски. Драматические критики обсуждали единства15.
Кавалеры швыряли тысячи фунтов за жалкую горсть тюльпанов - заметьте,
не цветов, а луковиц. Что же говорить о женщинах? Капризам и прихотям
«прекрасного пола», как говаривал Аддисон, нет числа. Он описывал
женские слабости с дотошностью влюбленного, от которой Свифт приходил в
ярость, хотя на самом деле зря - получалось это у Аддисона легко, без вся-
Аддисон
89
кого нажима, это видно, например, по такому пассажу: «В моем
представлении женщина - это прекрасное романтическое животное, и ее нужно кутать
в меха, украшать перьями, оттенять ее красоту жемчугом и бриллиантами,
наряжать в золотую парчу и шелк. Все стремятся услужить ей: рысь бросает
к ее ножкам свою шкурку, жертвуя мех на подбой плаща; павлины, попугаи,
лебеди не скупятся на отделку муфты; море одаривает ее жемчужинами,
горы - самоцветами, - словом, вся природа работает на то, чтобы получше
украсить свое прелестное дитя, венец создания. И пусть себе, пусть тешится,
я совершенно не возражаю, - только одного я не могу и не хочу допустить:
нижнюю юбку, с которой сегодня я начал»16.
В таких вопросах Аддисон был неизменным приверженцем здравого
смысла, вкуса и светскости. Каждое столетие порождает особое маленькое
братство единомышленников - сообщество строгих и преданных
ценителей искусства, литературы, музыки, эти люди редко на виду, зато без них
ни одно общество не обходится. Так вот Аддисон как раз из такого цеха:
проницательный, вдумчивый, принципиальный и увлеченный, он на
удивление современен. Такому критику да представить на суд свою рукопись,
выслушать его замечания - это не просто громадное удовольствие, но и
великая честь, и неоценимая польза. Что бы ни говорил Поуп, а такой мастер,
как Аддисон, чувствуем мы, не может не быть взвешенным в своих
оценках, не может не мыслить широко, не интересоваться новыми поворотами, и
при этом в конечном счете он ни на йоту не отступит от высоких критериев
искусства. Это сочетание принципиальности и смелости видно в том, с
какой энергичностью отстаивал Аддисон балладу «Чеви Чэйз»17. Он
настолько ясно представлял себе, что он имеет в виду под «самым духом и душой
изящной словесности», что для него не составляло труда увидеть эти
качества в старинной темной балладе или открыть их заново в «Потерянном рае» -
«этом божественном сочинении»18. К тому же он не был ценителем одних
лишь застывших, мертвых образцов прошлого - нет, он внимательно
следил за современной литературой: резко критиковал свой век за готический
«вкус», неусыпно защищал права и достоинства литературного языка,
неизменно выступал за безыскусность и ясность стиля. Именно такого Аддисо-
на помнят у «Уиллза энд Батонза»: если ему случалось засидеться допоздна
и выпить лишнего, он постепенно преодолевал свою обычную молчаливость
и начинал говорить - в такие минуты он «гипнотизировал присутствующих,
его слушали, затаив дыхание». По свидетельству Поупа, «Аддисон говорил
так, что невольно заслушаешься»19. И этому можно поверить: ведь лучшие
его эссе по ритму повторяют тон легкой непринужденной изящной беседы,
когда улыбка на ходу гасится и смех не перерастает в хохот; когда разговор
легко обходит подводные камни фривольности, не забирается в дебри
абстракций, а течет себе ровно, как по маслу, не мешая игре воображения и
свободному обмену идей. Кажется, Аддисон говорит первое, что придет в
голову, без всякого нажима, не возвышая голоса, не случайно сам он уподобил
90
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
свою манеру музыкальной партии лютни: действительно, это очень точное
сравнение:
«Лютня - это инструмент, во всем противный барабану: на лютне
можно исполнять соло или играть очень небольшим составом. У нее
необычайно чистый звук, он легко теряется среди множества других
инструментов - даже несколько ударных могут его заглушить, поэтому в него нужно
вслушиваться. Лютня лучше всего звучит в квинтете, а барабану подавай
оркестр из пятисот различных инструментов - только так он может заявить
о себе в полную мощь. Поэтому мастер игры на лютне, как правило,
музыкант тонкого строя, созерцатель, человек приятный в общении, - оценить
его игру по достоинству могут лишь истинные знатоки, те, кто знает цену
столь восхитительной и нежной мелодии»20.
Таким мастером игры на лютне и был Аддисон. Выходит, славословие
Маколея совершенно не по адресу: назвать Аддисона великим поэтом,
основываясь на его эссе, или же приписать ему масштабный несуществующий
роман и на этом основании заявлять, что этот шедевр «превзошел бы все
имеющиеся у нас образцы», значит перепутать инструменты - лютню
спутать с барабаном и трубой! Значит, не просто перехвалил, а ошибся критик!
В отличие от Маколея, д-р Джонсон в свойственной ему манере точнейшим
образом выявил, как припечатал, суть поэтического дарования Аддисона:
«Прежде всего следует обратиться к его стихам: увы, приходится признать,
что они редко радуют нас тем благозвучием, которое придает речи блеск,
или той живостью мысли, что единственно придает стиху парение. Ни
пылкости, ни неистовства, ни полета - ничего этого в его стихах нет. Они редко
поднимаются до высот истинной трагедии и не часто достигают верха
изящества. Поэт мыслит тонко, но робко»21.
На первый взгляд ближе всего к роману у Аддисона стоят записки сэра
Роджера де Каверли22. Вы спросите, почему «на первый взгляд»? Потому что
на самом деле главное достоинство этих очерков надо искать не в том, что
они написаны в подражание кому-то или открывают новую страницу в
истории жанра или предвосхищают какое-то явление: нет, они хороши сами по
себе - самодостаточны, цельны, закончены. Видеть в них первую пробу пера
будущего великого прозаика, значит, совершенно не понимать их
своеобразия, а оно заключается в том, что это зарисовки со стороны, выполненные
тонким, внимательным наблюдателем. Когда читаешь их подряд, они
складываются в семейный портрет сквайра и его домочадцев, причем каждый
член семейства изображен в характерной для него позе - один с хлыстиком
в руке, другой в окружении борзых собак, но что удивительно: можно без
всякого вреда для общего строя картины или образа главного героя выбрать
любую фигуру на портрете и рассматривать только ее, отдельно от
остальных. В романе это невозможно, для романа такие «купюры» фатальны: ведь
там каждая следующая глава опирается на предыдущую или добавляет веса
последующей, так что сбить темп, скомкать действие, нарушить равнове-
Аддисон
91
сие частей - это катастрофа для романиста. У Аддисона такой строительной
техники нет, зато у него есть другое: метод эссеиста, который имеет целый
ряд весомых преимуществ. Например, высочайшую степень законченности:
образы героев в каждом эссе доведены до почти акварельной
прозрачности - с такой филигранной точностью они обрисованы. Естественно, в эссе,
которое по объему занимает три-четыре страницы, не разбежишься: особой
психологической глубины или сложности изображения здесь ждать не
приходится. Тем не менее посмотрите, с каким чувством юмора и как уверенно
пишет Аддисон очередной портрет в «Зрителе»:
«Ипохондрус - этот верный друг печали - полагает своим непременным
долгом грустить и быть безутешным. Стоит кому-то рядом громко
рассмеяться, он вздрагивает, словно его оскорбили в лучших чувствах
христианина. От самой невинной шутки он краснеет как девушка. Поведает кто-то
о благородном человеке, представленном к почетному званию, он тут же
возденет руки к небу и закатит глаза, а случится кому-то в его присутствии
восторженно отозваться о светском рауте, неодобрительно покачает
головой; крестится при виде богатого выезда. Оно и понятно: все эти ничтожные
потуги украсить свою жизнь - от лукавого, пустое тщеславие. Веселие -
порок, а умничанье - святотатство. Он прячется в чулан от падкой на
выдумки молодежи, затыкает уши, чтоб не слышать звонких детских голосов.
На крестинах и свадьбах сидит как в воду опущенный; ждет не дождется
конца смешной истории и принимает постный вид ровно в ту минуту, когда
всем остальным делается весело. Ничего не поделаешь: Ипохондрус -
набожный человек и, наверное, стал бы святым, живи он в те далекие времена,
когда христианство подвергалось гонениям»23.
Романа, согласитесь, на этом материале не построить по той простой
причине, что тут и строить нечего; портрет же в заданных ему рамках - само
совершенство, ни убавить ни прибавить. И, надо сказать, таких маленьких
шедевров, написанных в одной и той же безыскусно-шутливой манере, по
«Зрителю» и «Болтуну» наберется не один десяток, так что у читателя даже
закрадывается сомнение в целесообразности столь узкого подхода.
Впрочем, сама форма эссе предполагает определенного рода совершенство, и
какого оно масштаба, не так уж важно: иная капля стоит целой Темзы. Можно
обвинить Аддисона во всех смертных грехах: и скучны-то его эссе, и
поверхностны, и аллегории устарели, и набожность фальшивая, и нравоучения
избитые, все равно факт остается фактом: его эссе - это произведения мастера.
В любом искусстве наступает такой счастливый момент, когда, кажется, все
звезды благоприятствуют художнику и все, что выходит из-под его пера,
отмечено естественной радостью творчества, которое последующие
поколения воспринимают уже как данность. Так вот и Аддисон: день за днем он
писал свои эссе, нимало не сомневаясь в своем знании того, как это делается.
Его не волновало, высокий ли это жанр или низкий, насколько эпос глубже,
а лирика эмоциональней, чем эссе, он писал, не отвлекаясь на посторонние
92
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
темы, и, именно благодаря ему, Аддисону, мы сегодня имеем литературную
прозу - тот ходовой инструмент, с помощью которого обыкновенный
человек общается с миром. В этом смысле Аддисон является достойным
родоначальником бесчисленных продолжателей: возьмите в руки первый
попавшийся еженедельник и вы увидите, что первая же, бросившаяся вам в глаза
статья «Летние радости» или «Почтенный возраст» обнаруживает его
влияние. Правда, вы заметите и еще кое-что (если только статья не подписана
именем Макса Бирбома24, единственного на сегодняшний день эссеиста): мы
утратили искусство писать эссе. Мы можем высказывать интересные
взгляды, рассуждать о вере, описывать страсти, выказывать глубину мысли, но
при всем нашем желании мы больше не знаем, как превратить мешок, наспех
набитый всякой всячиной, в серебряную каплю безупречной формы25, в
которой отражались бы и небо, и столько разных интересных картин из жизни.
Но, даже и с этой оговоркой, современный эссеист все равно пытается
машинально подражать Аддисону.
Сам прозаик, в свойственной ему сдержанно-рассудительной манере,
неоднократно задумывался о судьбе своих сочинений, очень объективно
оценивая их характер и вес. «Я заново перезарядил, - писал он, - орудия
сатиры»26; но как знать, возможно, из-за того, что ему часто приходилось палить
из пушки по воробьям, направляя выстрелы против «глупой моды, смешных
обычаев, манерной речи», придет время - скажем, лет через сто - и к его эссе
будут относиться как «к старой посуде, которую используют в хозяйстве, но
чтобы любоваться ею как произведением искусства - нет уж, увольте»27. Ну
что же, двести лет уже миновали, из-за многократного использования
посуда выскоблена до блеска, рисунок почти стерся, а металл не ржавеет, металл
все тот же - чистое серебро высшей пробы.
ЗАБЫТАЯ ЖИЗНЬ
Годовой абонемент в этой богом забытой, старомодной, безнадежно
устаревшей библиотеке стоит, наверное, шиллингов пять, не больше: какие
у такой богадельни могут быть средства? - так, небольшой процент
налоговых сборов, а главным образом вклады, которые жертвуют со своих
книжных полок вдовы священников и сельские помещики, причем последние это
делают по настоянию своих жен, которым надоедает стирать пыль с
корешков все прибывающих книг, полученных по завещанию. В открытые окна
просторного зала, что выходят на море, врываются резкие голоса уличных
торговцев рыбой - они ходят по мостовой под окнами, предлагая прохожим
купить у них свежие сардины, а посередине зала стоят вазы с подвядшими
образцами местной флоры, и под каждой вазой - табличка с названием.
Посетители - кто по бедности, кто от нечего делать, кто со скуки - листают
Забытая жизнь
93
газеты или сидят склонившись над старыми номерами «Иллюстрированных
лондонских новостей» и «Хроники Уэсли»1. В читальном зале стоит тишина,
нарушаемая только шепотом присутствующих, и так было всегда, с первого
дня открытия библиотеки в 1854 году2. По стенам, прислоняясь друг к
дружке, валясь с ног от усталости, спят неизвестные: корешки потрескались,
позолота стерлась, названий не разобрать. Стоит ли нарушать их покой? Зачем
ворошить прошлое? - смотрит с недоумением, поверх очков, библиотекарь -
пусть себе спят спокойно в своем колумбарии на полках! Потом, вздохнув,
подчиняется с видимым неудовольствием своему и впрямь нелегкому
служебному долгу и начинает искать среди безымянного праха три урны под
№ 1763, 1080 и 606.
I
Есть что-то романтическое в том, чтобы представить себя спасателем,
который, вооружившись, условно говоря, фонариком, преодолевает
расстояние в несколько десятков световых лет, спеша на выручку какой-то забытой
тени из прошлого: вот она, неизвестная миссис Пилкингтон, вот он,
преподобный Генри Элман или какая-нибудь миссис Энн Гилберт - они тянут к
тебе руки, ждут, надеются, что ты придешь и спасешь их от сгущающегося
мрака забвения. Может, они и вправду слышат звук приближающихся шагов
и, предвкушая скорое освобождение, начинают ерзать на полке,
прихорашиваться, взбрыкивать? Вспоминать старые секреты? Сгорать от нетерпения
поскорее вступить в разговор? И вот, наконец, мрак рассеивается, и миссис
Гилберт3 появляется из темноты, и это второе рождение, надо сказать,
действует на нее самым благотворным образом: кто-кто, а мы ей совершенно
неинтересны! У нее своя жизнь. Она живет в Колчестере4, на дворе 1800 год,
а Колчестер в то время, да будет вам известно, для молодых Тэйлоров был
«самым настоящим Элизиумом5» - как когда-то для их матери блаженным
местом на земле был Кенсингтон6. В Колчестере жизнь в ту пору крутилась
вокруг нескольких семей - Стратов, Хиллов и Степлтонов: молодежь
писала стихи, увлекалась философией, занималась гравированием. Тэйлоров
с детства приучали к тяжелому труду, и ничего зазорного в том не было,
если после тяжелого дня работы над отцовскими гравюрами, они заходили к
Стратам пообедать: законное право на отдых! В то время они уже были
призерами конкурса Дартона и Харви7 на лучшее карманное издание. Кто-то из
Стратов сказал, что знаком с Джеймсом Монтгомери8, и пошло-поехало:
стали обсуждать, прямо за столом, под недреманным оком Мавра и его гадюк -
а Мавр, то бишь старик Бен Страт, был еще тот злодей: ни с кем не общался,
дочкам своим мясо запрещал есть, недаром они все поумирали от чахотки, -
так вот, начали обсуждать идею публикации общего с Монтгомери журнала
под названием «Сообщество менестрелей», в котором мог бы сотрудничать
если не сам Роберт, то Джеймс. И Степлтоны поучаствовали бы: они тоже
94
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
увлекаются поэзией. Даже Мойра и Бетеа пристрастились к стихам9:
каждый божий вечер шли из города, поднимались на вершину Болкерн Хилл и
читали стихи под луной. Да, пожалуй, с поэзией они тогда в Колчестере в
1800 году переборщили. Уже много времени спустя Энн, оглядываясь назад
с высоты семейного благополучия, достигнутого немалым трудом, с
грустью вынуждена была признать, что многие ее друзья, подававшие в юности
блестящие надежды, сломались, пропали. Совсем молодыми умерли Степл-
тоны - умерли вообще-то жалкой смертью, никем не понятые; Джейкоб, у
которого с лица не сходила «гордая презрительная усмешка», который как-
то поклялся, что ради оброненного Энн браслета готов всю ночь ползать в
траве, так вот этот самый Джейкоб исчез, и «последнее, что я о нем слышала,
это то, что он живет в римских трущобах, давно превратившись в
развалину». Однако самая печальная участь постигла семейство Хиллов. Конечно,
со стороны Фанни креститься в реке было легкомысленным шагом, но это
еще куда ни шло. Но выйти замуж за капитана М. - это уже слишком! Надо
было быть совсем слепой, чтобы не понимать, что представляет собой этот
капитан. Взяла и прыгнула к нему в карету - только ее и видели. Сколько лет
с тех пор прошло, она не помнит, но как-то вечером - Тэйлоры уже к тому
времени жили в Онгаре - сидят они по-стариковски у камелька: девять
часов, взошла луна, они вспоминают, как условились, о своих детях, уже
упорхнувших из гнезда, и вдруг раздается стук в дверь. Миссис Тэйлор пошла
посмотреть, кто там, и кого же она видит на пороге? Бедную измученную
женщину, которая вдруг запричитала: «Неужели вы не помните Стратов и
Степлтонов? Вы еще предупреждали меня насчет капитана М.!» Оказалось,
это Фанни Хилл, бедняжка Фанни, оборванная, несчастная, а ведь когда-
то она была первая хохотушка! Фанни рассказала, что живет неподалеку от
Тэйлоров, в доме на отшибе, в услужении у любовницы собственного мужа,
капитана М., который обобрал ее и сломал ей жизнь.
Сама Энн, как вы понимаете, такой глупости не сделала, она вышла
замуж за г-на Г. - ну как же, разумеется... И так, страница за страницей, том
за томом - удары колокола раздаются все громче, все настойчивей. Ведь тот
густонаселенный мир, куда нас впускают авторы воспоминаний, живет
общим нешуточным чувством неизбежного: вот волна подхватила маленькую
храбрую флотилию и несет ее неизвестно куда... Задумаемся: перед нами
Колчестер 1800 года - молодые люди пишут стихи, читают Монтгомери, так
начинается жизнь; не успели оглянуться, вокруг никого нет - Хиллы, Сте-
плтоны, Страты, все, с кем начинали, все исчезли. Но Энн-то, спустя
столько лет, по-прежнему пишет, и не далее, как сегодня, она принимает в
своем доме Монтгомери собственной персоной, и, протягивая ему ребенка, она
просит поэта ввести ее дитя в храм поэзии, просто подержав его на руках,
а тот отказывается (не могу, я холост) и взамен приглашает ее прогуляться;
они выходят на улицу, и в этом момент раздается гром: Энн кажется, что
это артиллерия пошла в атаку, на что поэт возглашает незабываемым голо-
Забытая жизнь
95
сом- никогда, никогда ей не забыть его!- «Да! Небесная артиллерия!»
В этой повторяемости и предсказуемости - вся прелесть воспоминаний,
написанных неизвестными мемуаристами: ибо в отличие от людей
выдающихся, которые всегда стремятся подчеркнуть свою индивидуальность, голоса
этих безвестных свидетелей сливаются в общем хоре; обложки и титульные
страницы их воспоминаний растворяются в памяти, а пухлые тома
выстраиваются в нескончаемую череду лет, можно оторваться от книги, поднять
голову, откинуться и смотреть вверх на проплывающую мимо жизнь - век за
веком, поколение за поколением. Вот сложилась картина - мы видим группу
людей: молодой м-р Элман беседует с мисс Биффен, дело происходит в
Брайтоне. У мисс Биффен нет ни рук, ни ног: ее носит на руках слуга. Она обучает
сестру м-ра Элмана технике миниатюры. А вот уже м-р Элман в дилижансе
едет к Оксфорд, его попутчик - Ньюмен10. Ньюмен всю дорогу молчит, и, тем
не менее, Элман полагает возможным отметить про себя с удовлетворением,
что ему посчастливилось встретиться со всеми великими людьми своего
времени. И так без конца, то забегая вперед, то оглядываясь назад, ведет он свое
повествование среди угодий Сассекса, пока не оказывается в конце концов в
своем пасторском доме: он уже глубокий старик, сидит в кресле, предается
воспоминаниям о Ньюмене, мисс Биффен и, утехи ради, плетет веревочные
сумки для миссионеров. И что дальше? Ничего - продолжаем наблюдать.
Ничего особенного не происходит, но реденький полумрак удивительно
освежающе действует на глаза. Давайте понаблюдаем за миниатюрной мисс
Френд, которая вместе с отцом гуляет по Стрэнду11. Вот с ними раскланялся
господин с пронзительно светлыми глазами: «М-р Блейк» -
отрекомендовал его дочери м-р Френд. А сейчас мы видим, как миссис Дайер наливает
гостям чай в Клиффордз-Инне. Минуту назад сюда на чашку чая заходил
м-р Чарлз Лэм. Знаете почему, спрашивает миссис Дайер, я вышла замуж
за Джорджа? Не могла смотреть, как прачка его обсчитывает, - обдирала
бедного, как липку!.. Плывут, плывут над головой облака забвения-
торжественно, неспешно, как бывает погожим летним вечером, когда
опускаются сумерки, только забвение это не глухое - в нем, как в вечереющем
небе, роится звездная пыль бесконечного космоса человеческих судеб.
Иногда пелена вдруг рассеивается, и в открывшемся бездонном проеме
появляется жалкое суденышко, какие обычно курсировали между Англией и
Ирландией в середине девятнадцатого века. Мы безошибочно определяем
время - 1840 год: просмоленная посудина, волосатые чудовища в зюйд-вест-
ках, палуба ходит ходуном, а они только поплевывают, шагают вразвалочку
и нет-нет да поглядывают не без мужской сдержанной заботливости на
одинокую женскую фигурку в шали и в шляпе с высокой тульей - часами стоит
пассажирка на палубе, всматриваясь вдаль. Нет-нет! Она не пойдет в
каюту - спасибо! - ей и здесь хорошо. «Будучи не в силах сопротивляться своей
безудержной страсти к морю, эта верная супруга и образцовая мать
семейства вынуждена была время от времени ускользать из дома. Об истинной при-
96
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
чине ее исчезновений знал только муж, а дети лишь много времени спустя
узнали о том, куда же пропадала, не сказавшись, их матушка - оказывается,
она пускалась в короткое морское плаванье...» После «побега» она месяцами
трудилась, не покладая рук, в благотворительной организации Мидленда,
помогая бедным, и все ради того, чтобы загладить чувство вины перед
близкими. А потом снова накатывала волна неизбывной «страсти к морю», и,
признавшись в грехе своему мужу, она исчезала на несколько дней. Да, это
мать сэра Джорджа Ньюнза12.
Хочется сказать - счастливые люди, живут себе, не зная своей судьбы, и
ничто им не интересно, кроме собственных дел! - но не тут-то было. Вдруг,
откуда ни возьмись, появляются мрачные тени - их напряженные,
смертельно-бледные лица смотрят на нас исподлобья, словно гипнотизируя своим
желанием во что бы то ни стало войти в историю: это неудачники,
упустившие шанс прославиться и теперь жаждущие сатисфакции, такие личности,
как Хейдон, Марк Пэттисон и преп. Бланко Уайт13. Но даже они -
властители дум своего поколения - не в состоянии оторваться на секунду от
житейской суеты и всмотреться в грозный лик судьбы, задуматься о смысле скорого
конца, который настигнет каждого - не успеет оглянуться - среди мирских
забот, толкотни, ругани, ссор, размолвок с любимыми в саду. В целом мире
есть только один человек, на это способный, - догадайтесь, кто он? Не
знаете? А кто, например, смастерил в восемнадцатом веке колесо для спуска с
горы в Беркшире? Вон оно, несется под гору с бешеной скоростью, внезапно
из него на полном ходу выскакивает какой-то юноша, а колесо летит
дальше, ударяется со всего размаху о каменоломню и разбивается вдребезги. Это
дело рук Эджворта - Ричарда Лавла Эджворта14, вулканического
темперамента зануды.
Он и вправду похож на незатухающий вулкан - приходим мы к мысли,
листая двухтомник его воспоминаний: приятель Байрона, друг Дэя15, отец
Марии, без пяти минут изобретатель телеграфа, придумавший машину для
уборки репы, лазанья по стенам, перехода по узким мосткам, преодоления
препятствий посредством поднятия колес - словом, человек-танк,
передовой, энергичный и, тем не менее, судя по дневникам, редкий зануда. От
природы наделенный неукротимой энергией, он был натурой исключительной:
кажется, у него кровь в жилах пульсировала в двадцать раз быстрее, чем у
нормальных людей; круглолицый, краснощекий, бонвиванистый - мысль у
него не перестает работать ни на секунду, рот не закрывается. Четыре раза
был женат, девятнадцать раз становился отцом, романистка Мария Эдж-
ворт - его дочь. Со всеми знаком, все на свете перепробовал. Для него не
существовало закрытых дверей и чужих неразгаданных секретов. Например,
он обнаружил, что бабушка его жены каждый день куда-то таинственно
уходит из дома. Тогда он ее выследил - оказалось, что она исступленно
молится перед распятием, обливаясь слезами и стеная. Выходит, она римская
католичка, но что за грех она замаливает? Он не успокоился, пока не узнал
Забытая жизнь
97
окольными путями, что муж ее был убит на дуэли и что она вышла замуж за
убийцу мужа. И единственное глубокомысленное замечание, которое мог по
этому поводу отпустить Дик Эджворт, притворяя за собой дверь храма, это
следующее: «Утешающее и устрашающее действия религии абсолютно
одинаковы». Или история с прекрасной молодой незнакомкой в заброшенном
замке среди лесов Дофини. Случилось так, что Эджворт ворвался в замок и
обнаружил там полупарализованную пленницу, зарывшуюся в книги, - она
едва слышно говорила и все время читала. Замок производил страшное
впечатление: по залам гуляли сквозняки, поднимая гобелены, которыми были
увешаны стены, а в подвалах с потолка свисали вонючими гроздьями летучие
мыши - «пятьдесят тысяч омерзительных существ, издававших гнилостный
запах». Обитатели замка не понимали ни слова прекрасной незнакомки, но
с ним, Эджвортом, девушка разговорилась, и они часами беседовали о
книгах, о политике, религии. В его лице она нашла благодарного слушателя и,
разумеется, интересного собеседника. Он был вне себя от изумления,
только чем же он может ей помочь? Увы, делать нечего, он вынужден оставить
ее на попечение стариков, в окружении экзотических бивней и арбалетов,
наедине с нескончаемыми книгами: время не ждет, Эджворт занят страшно
важным делом - он изменяет русло Роны, поворачивает реку вспять. Позже
он напишет в своих мемуарах: «Тогда я твердо решил совершенствоваться в
искусстве понимания».
Романтическая обстановка, в которой ему случалось оказываться, на
него совершенно не действовала: любой жизненный опыт он воспринимал
как средство укрепления воли - нужно постоянно размышлять, наблюдать,
только так человек совершенствуется. Своим детям он внушал, что
необходимо каждый день своего существования подчинить задаче
самосовершенствования. «Он любил повторять, что, владея искусством
самосовершенствования, они со временем смогут стать кем угодно, а вот без него они
очень скоро превратятся в ничто». На самом деле, это был великий эгоист,
чья самоуверенность крепла день ото дня, благодаря его поразительной
невозмутимости и неустанности. Интересно, что по ходу своей шумной
суетливой деятельности на благо самосовершенствования он подцепляет и
выносит на свет судьбы робких застенчивых личностей, которые, если бы не
он, так и погрязли бы во мраке. Пожилая женщина, замаливавшая грехи, чье
уединение он грубо нарушил, - далеко не единственный пример того, как
отскакивают в сторону, давая дорогу этому прущему напролом танку, этому
паровозу - г-ну Ричарду Лавлу Эджворту - удивленные немые персонажи
истории: даже сегодня, спустя столько лет, мы безошибочно определяем их
изумление при виде добропорядочного господина, который полагает в
порядке вещей врываться к ним в комнату и нарушать их молитву. Мы
смотрим на него глазами этих немых свидетелей - видим его так, как он и
мечтать не смел. Как же он тиранил свою первую жену! Как она настрадалась!
А ведь она ни о чем не рассказывала - мы догадываемся о ее горе, слушая
4. Вирджиния Вулф
98
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Дика Эджворта, которому невдомек, что своим рассказом он обнаруживает
всю свою подноготную. «У моей женушки была поразительная черта, - как
ни в чем не бывало, откровенничает с нами Эджворт, - она не
выказывала ни малейшего беспокойства по поводу моих близких отношений с сэром
Френсисом Делавалем и, однако, с самого начала невзлюбила м-ра Дэя.
Подобная непоследовательность удивительна, поскольку трудно представить
более опасного и соблазнительного спутника, чем Делаваль, и, наоборот,
более нравственного и самосовершенствующегося компаньона, чем Дэй».
И вправду: чудеса, да и только!
Ведь первая супруга м-ра Эджворта была бесприданницей, росла в семье
разорившегося дворянина, который от безысходности, не зная, как
поправить дела, проводил вечера впустую, сидя перед камином: подберет с полу
упавший уголек, бросит его в огонь и приговаривает: «Эх-х! Эх-х!» Выросла
дочка без образования; нескольким словам научил ее заезжий писарь.
Естественно, встретив Дика Эджворта, - в ту пору он был студентом, приехал
домой на каникулы из Оксфорда, - она влюбилась и вышла за него замуж
в надежде покончить с бедностью, с семейным позором и завести, как все
женщины заводят, собственную семью и детей. А что получилось? Ничего
хорошего! Да и что хорошего в чертовом колесе, которое пускают под гору,
посадив в него сына местного каменщика? Что хорошего в плавучих
переправах, которые срываются с места и чуть не ломают четыре дилижанса?
Что хорошего в машине для рубки репы? - рубит-то она рубит, да не так,
как следует. Ее сынишка растет как трава, с позволения папочки, - бегает
по округе, как нищий, босой, не обученный грамоте. Зато каждое утро к
завтраку является м-р Дэй и до самого обеда говорит и говорит о научных
принципах и о законах природы...
Так бродим мы в потемках по руинам прошлого, пока не начинаем
понимать, какие подводные камни таит под собой это блуждание: мы имеем дело
с доподлинно известными личностями, но нам почему-то трудно держаться
в рамках суровой правды факта, - нас так и подмывает вообразить картины,
пускай никогда не имевшие места, пускай в ущерб фактической точности,
зато позволяющие нам вживе представить прошлое. Такой типаж, например,
как Томас Дэй, - его биография настолько невероятна, что наше изумление
не знает предела: хочется выплеснуть его в грезах, фантазии, поскольку
факты ничего нового не добавляют, - так бывает с перенасыщенным раствором:
каждая следующая порция вещества оседает на дно, не растворяясь. И
потом, жизнь преподносит такие сюрпризы, что педанту-историку изобразить
их не под силу - тут требуется талант художника, рука живописца.
Только представить, например, какая драма разыгрывалась каждый день в душе
бедной миссис Эджворт: вот она растерялась, почувствовала себя лишней,
одинокой, - она постепенно впадает в отчаяние, от безысходности
начинает спрашивать себя: «...а какая, собственно, польза от машин для лазанья по
стенам?» и дальше, обмирая от страха, смущаясь и краснея, она доказывает
Забытая жизнь
99
джентльменам, что репу проще всего резать ножом, без всяких
механических приспособлений, а в ответ слышит насмешки, уколы, и все это
вместе порождает в ней ужас перед ежедневными визитами высокого молодого
человека с кислой миной на надменном лице, изрытом оспинами, с густой
шапкой темных нечесаных волос, - чистоплотного до маниакальности.
Говорить он мог часами, без остановки, - и все о философии, о природе, о
месье Руссо. Но ведь дом-то был ее, и ей как хозяйке приходилось угощать
гостя, а аппетит у него был не маленький, хотя он и ел с таким выражением,
будто спит на ходу. Жаловаться мужу было бесполезно: у Эджворта на все
один ответ - «не надо ныть по пустякам». «И вообще, - возвышал он
голос, - нытье женщины, с которой мы живем, дом не украшает».
Заканчивалось все тем, что он спрашивал ее в лоб: чем, собственно, она недовольна?
Что, он когда-то оставлял ее одну? За пять-шесть лет совместной жизни он
всего пять или шесть раз не ночевал дома: пусть м-р Дэй подтвердит. А тот
и рад - поддакивает м-ру Эджворту, который в свою очередь во всем
слушается м-ра Дэя с его завиральными экспериментами. Это ведь он, м-р Дэй,
убедил ее мужа не учить сына грамоте, и ему наплевать, что говорят соседи.
Короче, это он виноват во всех бедах их семейства, это из-за него жизнь
стала миссис Эджворт в тягость.
А теперь представим другую картину - страдалица видела ее незадолго
до смерти. Они с м-ром Дэем возвращались из Лиона - ему было поручено
сопровождать ее, и все время следования их пакетбота до Дувра она не
переставала поражаться неординарной внешности ее спутника: стоит себе на
носу корабля, высокий, прямой, как подзорная труба, - подбородок задран
вверх, большой палец заложен за борт глухо застегнутого пальто, волосы
развеваются на ветру, - одет он, прямо скажем, странно, зато по последней
моде - вольно, романтично, с претензией на властность. И надо же: это
пугало огородное, этот женоненавистник, которому поручено сопровождать
молодую женщину на сносях, удочерил двух сирот и поставил целью завоевать
руку и сердце мисс Элизабет Снейд, каждый день вставая к балетному
станку, чтобы научиться танцевать. Даже сейчас, стоя на палубе, он
машинально тянет носок, потом, опомнившись, оглядывается вокруг: видит нависшие
тучи, в лицо летят соленые брызги волн, замечает туманный Альбион на
горизонте и, спустившись на бренную землю, отдает команду тоном
бывалого человека, прошедшего через огонь, воду и медные трубы. Матросы,
конечно, морщатся, но приказу подчиняются: есть в этом парне с горделивой
осанкой какое-то подкупающее простодушие, какая-то внушающая
уверенность человечность, во всяком случае, миссис Эджворт поклялась больше
никогда над ним не смеяться. Но мужчин трудно понять, а жизнь тяжелая, и
неизвестно, что было бы дальше, - только, сойдя на берег в Дувре, миссис
Эджворт благополучно разрешилась от бремени, родив дочку, но родов не
перенесла - скончалась.
4*
100
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Дэй тем временем направился в Личфилд просить руки Элизабет Снейд,
а та наотрез ему отказала: как потом рассказывали, сердито топнула
ножкой и со словами: «Мне дорог Дэй разбойник, но противен Дэй светский
ухажер!» - бросилась вон из комнаты. А дальше, говорят, случилась жуткая
история. Не в силах снести поражение, обезумевший Дэй решает свататься
к собственной падчерице, Сабрине Сидни, - получается, что он воспитывал
ее для себя. Приезжает к ней в Саттон Колфилд, видит ее, в порыве
охватившей его страсти разряжает пистолет, извергает на нее поток нецензурной
брани и, надавав ей пощечин, убегает. Когда об этом услышал м-р Эджворт,
он только развел руками: «Даже я на такое не способен!» И больше никто
от него слова не слышал о м-ре Дэе. Он так и остался для Ричарда Эджворта
гением, страстным, полным противоречий, человеком трагической судьбы,
и всякий раз, вспоминая своего друга, - а ближе друга у него не было, -
Эджворт умолкал.
Собственно, это единственное, что могло заставить его замолчать: во
всем остальном он был категорически не способен ни уединяться, ни
каяться, ни предаваться размышлениям. Он и воспоминания свои пишет
между разговорами: у него жена, друзья, дети - все кружатся в общем
хороводе нескончаемой беседы. И, надо сказать, что никакой другой фон, кроме
светской болтовни, не помог бы высветить углы в драматическом эпизоде с
его первой женой или передать игру света и тени в характере Томаса Дэя -
незадачливого философа, в котором много чего было перемешано:
человечности и жестокости, жажды нового и узколобости. Причем его талант
бытописателя не ограничивается рамками семьи: он так точно описывает
пейзаж, толпу, светскую жизнь, что картины эти существуют сами по себе,
помимо его воли, и мы можем, не дожидаясь его комментариев, изучать их
во всех подробностях, как душе угодно. К тому же живости им добавляет
то обстоятельство, что его оценки и присутствие разительным образом
расходятся с тем, что мы видим на картине: запечатленное им событие живет
самостоятельной жизнью, оно отмечено тайной, в нем скрыта особого рода
красота, чего никак не скажешь о самом Эджворте. Наглядный пример -
его описание сада в Чешире, сада при пасторском доме, местечке странном,
но уютном.
Ты толкаешь белую калитку и оказываешься на зеленой лужайке,
обсаженной кустами роз и виноградной лозой со спелыми гроздьями. А в
центре зеленого круга ты вдруг замечаешь причудливые предметы - что это,
скажите на милость? Что это огромный белый шар виднеется в сумерках?
А вот еще один, и еще - кажется, это планеты и спутники расположены на
разном расстоянии от главной сферы. Но кто, скажите, пожалуйста,
расставил их здесь? И зачем? Ты смотришь в глубину сада и видишь дом: там тихо,
оконные рамы плотно закрыты, в доме никакого движения. Правда, спустя
какое-то время из-за занавески выглянуло благообразное лицо старика - ста-
Забытая жизнь
101
рик растрепан, будто со сна, и словно чем-то расстроен. Лицо мелькнуло и
исчезло.
И почему это чудакам людям непременно хочется нарушить покой, в
котором пребывает природа?.. На зеленой лужайке летали мотыльки,
порхали птички - в воздухе была разлита вечерняя тихая благость. И надо же
было в эту обитель тайны и покоя ворваться краснощекому, брызжущему
смехом, любопытному Ричарду Лавлу Эджворту! Он внимательно осмотрел
шары, и, убедившись, что «работал мастер, строил по чертежам», он
подошел к входной двери и постучал. В ответ - тишина. Тогда он забарабанил
сильнее. Снова никакого ответа. Он уже начал было кипятиться, как
наконец услышал звук поднимаемой щеколды, дверь медленно отворилась - за
дверью стоял священник, и, хотя был он немощный, неухоженный, непри-
бранный, видно было, что человек духовного звания. Эджворт
представился, и хозяин дома пригласил его войти. Они прошли в гостиную, где было
тесно от книг, чертежей, бумаг и мебели красного дерева, пришедшей в
негодность. Началась беседа, и в какой-то момент Эджворт, не выдержав,
полюбопытствовал: что, дескать, за шары он видел в саду? Вопрос застал
священника врасплох- он пришел в сильнейшее волнение: это мой сын! -
вскричал он, задыхаясь. Их смастерил мой сын - настоящий гений, юноша
огромного трудолюбия, не по годам разумный, образованный. Только его
больше нет- умер. И жена тоже умерла... Эджворт уже и сам был не рад,
что задел старика за живое, но того уже невозможно было остановить: как
безумный, лепетал он что-то бессвязное про сына, его гениальную
одаренность, безвременную смерть. «Мне показалось, старик тронулся от горя», -
пишет Эджворт: еще минута, и он ретировался бы, но тут в гостиную
вошла девочка четырнадцати-пятнадцати лет: в руках у нее был поднос с чаем.
Появление этого прелестного создания моментально переменило
настроение хозяина. Она и вправду была красавица, вся в белом, разве что носик
чуть-чуть великоват- хотя нет: сложена великолепно, черты лица
гармоничны. «Она ученая и художница», - пооткровенничал священник, когда
девушки уже не было в комнате. Но почему она удалилась? Если дочь, то
почему не осталась разливать чай? Любовница? Непохоже. Тогда кто же?
И почему дом в таком запустении? Почему заперта входная дверь?
Священника явно держат под замком - но почему? Что за тайну он скрывает?
Вопросы не давали Эджворту покоя, будоражили кровь, отвлекали от чаепития,
и так и не найдя ответа, он заключил про себя: «Я решил, что здесь что-то
не так», и вышел, аккуратно притворив за собой белую калитку, за которой
остались навсегда наедине со своей тайной и странный запустелый дом, и
сад с планетами и спутниками, и сумасшедший отец-священник, и девочка-
красавица.
102
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
II
ЛЕТИЦИЯ пилкингтон
Давайте еще раз побеспокоим библиотекаря и попросим достать нам с
полки, - предварительно смахнув пыль, - вон ту коричневую книжицу:
однотомное издание трехтомных «Мемуаров миссис Пилкингтон»16,
опубликованное Питером Хоуи в Дублине в год MDCCLXXVI. Ее задвинули
в самый дальний угол - то-то пыли в палец толщиной; страницы
разрезаны только до середины, будто кто-то, скорее всего дама, пытался
проникнуть в склеп: приподнял крышку гроба, заглянул внутрь и то ли
устрашился открывшегося непристойного вида, то ли Бог наказал, и любопытного
как громом поразило: скончался несчастный на месте, как бы ни было, за
мемуары брались только один раз, в начале девятнадцатого века, о чем
свидетельствует заложенный в середине книги в качестве закладки
пожелтевший список товаров и продуктов, которые надо купить. И это
судьба Летиции Пилкингтон- первой защитницы прав женщин! Кто же она
такая?
Попробуйте вообразить гремучую смесь - нечто среднее между Молль
Флендерс и леди Ричи, помесь городской бой-бабы и утонченной
титулованной дамы: представили? Это и есть Летиция Пилкингтон собственной
персоной (1712-1759) - обманщица, разбойница, авантюристка, и при этом
до мозга костей женщина в том, что касается искусства слова: подобно
дочери Теккерея, подобно мисс Митфорд, мадам де Севинье, Джейн Остен и
Марии Эджворт, она писала с одной-единственной целью - развлечь
собеседника. Другое дело, что в «Мемуарах» ей то и дело приходится нарушать
собственную заповедь, наступать на горло своей песне, и это каждый раз
вызывает у нее поток извинений: смахнув слезу и проглотив обиду, она
просит простить ее за нарушение приличий, за то, что не утерпела и дала волю
гневу, вспомнив о невыносимых преследованиях м-ра П-на, о злобной, чтоб
не сказать хуже, ненависти леди К-т. Ибо кому как не правнучке графа Кил-
малока знать о том, что настоящая леди ни при каких обстоятельствах не
должна обнаруживать свои чувства? Словом, перед нами
представительница славной династии английских писательниц: мы призваны развлекать,
нам негоже жаловаться. Пусть у нее бедная комнатка рядом с лондонской
биржей, пусть стол устлан старыми счетами - вместо скатерти, пусть
масло у нее подают на деревянном круге, а за разбавленным пивом м-р Уордс-
дейл ходит с чайником, все равно она королева, все равно все слушатели ее.
И если язык у нее чуточку грубоват, то что же? Каковы учителя, таковы
ученики: училась-то ведь она у самого Свифта.
Куда бы ни забрасывала ее судьба, как бы плохо ей ни приходилось, она
всегда мысленно возвращалась к далеким дням своего детства в Ирландии,
когда ей посчастливилось встретить Свифта, преподавшего ей несколько хо-
Забытая жизнь
103
роших уроков. Застав ее как-то в своем кабинете, когда та рылась в
ящиках стола, он дал ей несколько затрещин, вымазал щеки жженой пробкой,
чтоб не повадно было, потом приказал ей скинуть башмаки, чулки и встать
к стенке - ему нужно измерить ее рост. Сперва она отказалась, потом
пошла на попятную. «Интересно, - заметил автор "Гулливера", - я почему-то
думал, что ты потому упираешься, что у тебя чулки дырявые или ноги
грязные, и хотел вывести тебя на чистую воду»17. В ней всего-то оказалось три
фута и два дюйма, сообщил он ей результаты своего обмера; хотя сама
Петиция была другого мнения: это она от испуга сжалась, почувствовав, как ей
на голову легла тяжелая рука Свифта. Впрочем, спорить она не собиралась:
как знать, возможно, именно за малый рост и полюбил ее Свифт? Он всю
жизнь прожил среди великанов - пора познакомиться с карликами; и повел
малышку в библиотеку. «Ну что же, - сказал он ей, обводя рукой книжные
полки, - все эти сокровища я накопил за годы церковной службы, - смотри,
не стащи ничего отсюда». «"Сэр, обижаете", - ответила я ему; тогда он
открыл конторку и показал пустые ящики. "Вот-те раз! - изумился, -
денежки-то улетели!"»18. Ее удивление было настолько неподдельным, а смирение
столь бесхитростным, что с той встречи они подружились. Она терпеливо
сносила его насмешки, колотушки, унижения: когда тот оглох, кричала ему
в ухо; позволяла глумиться над собственным мужем, платила извозчику;
делала вид, что не замечает, как он прячет золотые в имбирные пряники; как
он снисходительно улыбается при мысли, что даже у такой мошки, как она,
может быть своя личная жизнь и свое собственное мнение. А все почему?
Рядом с ним она чувствовала себя человеком: на нее словно переходила его
гениальность. Поэтому она никогда не спорила и послушно снимала чулки,
если он приказывал. Перебарывала чувство страха перед его пером
сатирика; садилась рядом с ним, как он велел, за стол в обеденном зале напротив
огромного зеркала и весь вечер, вместе с ним, молча следила за тем, как
дворецкий прикладывается к господскому пиву, думая, что его никто не видит,
хотя зеркало было повешено именно с этой целью - следить за дворецким,
и все это она проделывала только потому, что понимала: нет большего
счастья, чем гулять вместе с ним по саду, слушать, как он рассказывает о м-ре
Поупе и цитирует «Гудибраса»19, а потом вместе мчаться домой под
дождем, экономя на извозчике, а после обсыхать у камина в комнате,
рассказывая взахлеб его экономке миссис Брент про то, какой Декан чудак и какой
он щедрый, ведь тот шестипенсовик, что они сэкономили на извозчике, он
потом отдал хромому старику, торговавшему имбирем на паперти, а самой
краем уха прислушиваться - не упал ли, не зашибся ли Декан, который
придумал интересный способ согреться после ливня: бегать что есть мочи вверх
и вниз по лестнице.
Жаль только, что воспоминания о великих людях не являются
панацеей от бед. Они как маяк: светят, но не греют, - то вспыхнут, то погаснут,
то поманят, то обманут. В общем, воспоминаниями о Свифте сытой не бу-
104
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
дешь, поняла Летиция, когда над ее головой сгустились тучи: муж бросил ее
и ушел жить к вдове У-рр-н; у нее на руках умер отец - дорогой батюшка20;
сколько она натерпелась от пристава и его ищеек - кому только рассказать!
Кончилось тем, что она оказалась брошена на произвол судьбы в пустом
доме с двумя детками, которых надо кормить, а тут ни чаю попить (даже
заварку приставы вынесли), ни в саду погулять (ворота заперты), ни купить
еды в долг (вот лежит гора неоплаченных счетов). И все равно - где наша не
пропадала! - она молодая, симпатичная, веселая, без памяти любит писать
стихи, зачитывается книгами. Кстати, за то и поплатилась. Попала ей как-то
в руки увлекательная книжка, из новых - не оторваться! - а владелец ни в
какую не соглашался оставить ее на пару дней, вот она и зачиталась
допоздна, потому что вернуть книгу надо было в ту же ночь, - хозяин сидел тут
же в ее комнате и ждал, когда она закончит. Вот сидят они вдвоем у нее в
спальне, как ни в чем не бывало, - это уже после она будет сетовать на свою
неосмотрительность! - и тут вдруг через окно в кухне вламываются
двенадцать дюжих молодцов во главе с м-ром Пилкингтоном, как сейчас помнит,
у него на шее был повязан тонкий платок. Шпаги наголо, головы летят, она
пытается остановить рукоприкладство, оправдываясь тем, что засиделась,
зачиталась - какое там! Разве м-р Пилкингтон и его дружная рать поверят в
эту детскую сказку? Подумайте-ка - зачиталась! Засиделась за новой
книжкой! Слышали мы эти женские бредни! Естественно, приставы поверили
м-ру Пилкингтону и его непристойной лжи, благо у него были «свидетели».
Но вам-то, вам-то, книгочеям, ценителям знания, не надо ничего
доказывать, вам-то ведомы и эта страсть, и пагубные последствия, к которым она
приводит.
И что теперь прикажете делать? Да, чужие книги сыграли с ней злую
шутку, но писать-то ей никто не запретил. Она с детства, едва научившись
писать, сочиняла с невероятной быстротой и немалым изяществом оды,
эпистолы, апострофы к мисс Хоудли, к дублинскому архивариусу, к
загородному дому д-ра Делвилла. Ей только подскажи тему, и стихи польются сами
собой. Например: «Приветствую тебя, мой Делвилл, мой приют отрадный!»
Или другой пример: «Найдется ль где-то муж, чей твердый и бесстрашный
взгляд...» и т.д.21 Недолго думая, она решает попытать счастья на
эпистолярном поприще, едет в Англию, заранее заготовив рекламу примерно такого
содержания: подательница сего быстро и в срок изготовит любое письмо или
прошение, кроме юридического, за 12 пенсов наличными, оплата по факту
исполнения. В Лондоне она селится напротив кондитерской Уайта, и вот
однажды вечером, поливая на балконе цветы, она видит, как какой-то
господин в окне напротив поднимает в ее честь бокал вина и посылает ей в
подарок бутылку бургундского, а часом позже она слышит за дверью причитания
старого полковника, у которого снимает комнаты: «Осторожно, милорд, за
мной, пожалуйста»22 - это он ведет к ней по темной лестнице г-на М-льб-ро.
Высокий гость, оказавшийся милейшим господином (тот редкий случай, ко-
Забытая жизнь
105
гда титул и личность взаимно украшают друг друга), поцеловал ей руку и в
знак благодарности за сочиненную ею оду в честь сэра Фрэнсиса Чайльда
преподнес ей банковский билет достоинством в пятьдесят фунтов. От
подобных похвал и подношений ее перо готово было захлебнуться
изъявлениями благодарности. И, наоборот, стоило какому-нибудь господину нелестно
отозваться о ее услугах или если какая-то дама позволяла намек на некое
нарушение приличий, надо было видеть, что делалось с ее фонтанообраз-
ным пером: оно корчилось от ненависти, дышало злобой, исходило желчью.
«Рассказала бы я вам, как умер, понося Всевышнего, ваш о-ц»23, - так
начиналась одна из ее абсолютно непечатных филиппик. Особенно доставалось
титулованным дамам - тех она обвиняла во всех смертных грехах, а
мальчиками для битья у нее неизменно оказывались священники, за исключением
тех немногих, что понимали толк в поэзии. Оно и понятно: м-р Пилкингтон
был лицом духовного звания - об этом она никогда не забывала.
Правнучка графа Килмалока медленно, но верно опускалась на
социальное дно: вскоре она съехала с Сент-Джеймс-стрит и поселилась на Грин-
стрит, сменив общество благодарных благодетелей на компанию хозяев
рангом пониже - valet de chambre* лорда Стэра и его жену, стиравших на
важных господ. Это раньше она флиртовала с герцогами, а теперь была рада
и такой малости, как приглашению на кадриль в компании лакеев, прачек и
писак с Граб-стрит, которые между плясками пили портер, прихлебывали
зеленый чай и курили табак, отпуская соленые шутки по адресу своих
хозяев и их женушек. Вообще-то злачное место, с которым ее примиряло
только одно - смачный юмор тамошних завсегдатаев. Именно там Летиция
поднабралась непристойных анекдотов про великосветскую жизнь, которыми
щедро уснащала страницы своих воспоминаний, взяв за привычку ставить
прочерки вместо непечатных выражений - то-то у нее страницами, бывает,
идут сплошные тире! - можно себе представить, во что превращался ее
диалог с насолившей ей домовладелицей или обманувшим ее заказчиком. Что и
говорить, тяжелая жизнь: вспомнить, как топала в самый снегопад в одном
ситцевом платьишке до Челси, и все ради жалкой полукроны, которую
бросил ей сэр Ханс Слоун, чтобы отбояриться, - да, тогда ей не повезло. Зато в
другой раз она дотащилась до Ормонд-стрит и буквально вырвала из глотки
этого мерзкого типа д-ра Мида два золотых - правда, тут же их и потеряла:
на радостях подбросила в воздух, и они провалились между половиц. А как
терпела постоянные унижения от лакеев, как, бывало, садилась вечером
перед кружкой кипятка, делая вид, что пьет чай, чтоб хозяйка не догадалась,
что ей не на что купить щепотку заварки, - вспоминать об этом больно.
Дважды она хотела наложить на себя руки - один раз ночью в Сент-Джеймс-
ком парке, под цветущими липами, в другой раз - на берегу пруда Розамонд.
А однажды она замечталась среди надгробных плит в Вестминстерском аб-
* Камердинер (фр.).
106
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
батстве и не заметила, как служители заперли входную дверь, и ей пришлось
провести ночь, поднявшись на амвон, свернувшись там калачиком, а сверху
накрывшись плащаницей, которую она стянула со стола для причастия,
спасаясь от полчищ церковных крыс. «Как я тоскую по сладкоголосым
херувимам!»24- мечтала она в стихах. Жизнь ее, однако, вопреки мечтам,
сложилась совсем иначе. Благо бы м-р Колли Киббер и м-р Ричардсон продолжали
и дальше снабжать ее бумагой с золотым обрезом, потом детским бельем, так
ведь нет: эти гарпии, эти злыдни - домовладелицы - упекли-таки ее за долги
в Маршалси25, как самую последнюю плебейку, это ее-то, подругу Свифта,
графскую правнучку, и за что? - за то, что она угощала этих немытых -
нечесаных - элем и лобстерами! Вот она, человеческая благодарность!
В своих бедах она винила мужа, который один был виноват в том, что
она сделалась искательницей приключений, а не кроткой «домашней
голубицей»26, как то на роду было написано. Только проклятиями делу не
поможешь, за проклятия деньги не платят, - им подавай скабрезности,
воспоминания, скандалы! И вот она в сотый раз пытается выжать из себя хоть
что-нибудь - любую чушь про бездонные моря и пламень земли, лишь бы
заплатили гинею за страницу. Ей вспомнилось, как Свифт кормил ее яйцами
ржанки. «Ешь, дурочка, - говорил он ей, - это яйцо ржанки, когда-то король
Уильям платил крону за штуку...»27 Еще она вспомнила, что Свифт никогда
не смеялся: вытянет лицо, всосет щеки - вот и вся улыбка. А еще что ей
запомнилось? Господа-заказчики; домовладелицы, одна другой краше; так
называемые родственники, которые и минуты не могли постоять у
смертного ложа батюшки - тут же бросились открывать окно; родная сестрица,
обрадовавшаяся смерти родителя, потому что теперь можно беспрепятственно
таскать сахар... И это жизнь? Сплошная суета и горечь. Зато она любила
Шекспира, знала Свифта, жизни шла навстречу без забрала, весело,
по-рыцарски, бесстрашно, а когда пробил смертный час и кредиторы обступили ее
ложе, она и тогда не испугалась: до последнего вздоха смеялась и шутила.
ДЖЕЙН ОСТЕН
Существует вероятность, что из творческого наследия Джейн Остен до
нас могли бы дойти только ее романы, - это в том случае, если бы у ее
сестры мисс Кассандры Остен хватило духу довести начатое ей дело до конца.
Мы знаем, что откровенной Джейн Остен была только с нею, своей старшей
сестрой: говорят, в письмах ей одной поверяла она свои самые заветные
желания и историю своей единственной великой любви, обернувшейся и
самым горьким разочарованием в жизни. Так вот, когда дожившая до
преклонных лет мисс Кассандра Остен убедилась, что с течением лет посмертная
слава ее младшей сестры не только не глохнет, а, наоборот, растет и ширит-
Джейн Остен
107
ся, она предположила, что не за горами тот день, когда в доме появятся
чужие люди - журналисты, ученые - и начнут рыться в бумагах, читать
письма; и тогда она, обливаясь слезами, решила сжечь всю личную переписку,
содержащую хоть малейшие подробности их частной жизни, оставив только
те письма, в которых, как она полагала, не было ничего важного или
интересного для чужих глаз. Так она и поступила.
Поэтому сегодня в нашем распоряжении три источника сведений о
Джейн Остен: несколько сплетен, дюжина писем и ее книги. Если кто-то
сомневается насчет сплетен, то это зря: хорошая сплетня дорогого стоит -
если оказалась жизнестойкой, то в сплетне определенно что-то есть, из нее
можно извлечь пользу, если, конечно, подойти к ней умно. Например,
маленькая Филадельфия Остен сплетничает о своей кузине: Джейн «вовсе не
хороша собой и очень надменна, так двенадцатилетние девочки себя не
ведут: Джейн капризна и жеманна»1. А вот своими воспоминаниями делится
миссис Митфорд2: она знавала женскую половину семейства Остен, когда
те были еще совсем юными, - так ей Джейн всегда казалась
«прехорошенькой, глупенькой, влюбчивой бабочкой, у которой на уме одно только
замужество». Дальше - больше: пожелавшая остаться неизвестной знакомая
мисс Митфорд сообщает, что «нынче Джейн не узнать, она превратилась
в чопорнейшую педантшу: держит спину, словно проглотила аршин, слова
лишнего не скажет, в общем, чистейшей воды "одинокая невинность"3, что
до выхода в свет "Гордости и предубеждения" никто и предположить не
мог, что у этой прямой как палка, неразговорчивой особы за душой большой
талант, - в свете на нее обращали не больше внимания, чем на кочергу или
каминную решетку... Теперь же все переменилось,- продолжает
доброжелательная дама, - она хоть и осталась кочерга кочергой, только теперь все
ее боятся! ...Одно дело, когда человек острит, это нормально, но когда он
поддевает тебя на странице, выводя в образе какого-то смешного персонажа,
это хоть кого напугает!» Опять же, не забудем про семейство Остен, - этот
народ редко когда себя расхваливал, и, тем не менее, говорят, что братья
«души не чаяли в сестре и очень ею гордились. Она для всех них была
образцом для подражания - талантлива, добродетельна, обаятельна, и каждый
из братьев втайне про себя мечтал о том, что какая-то из его дочерей или
племянниц наследует черты его дорогой сестры, понимая при этом, что
полного сходства все равно не добиться»4. Итак, что мы имеем? Очаровательно-
чопорную особу; любимицу дома и пугало для посторонних; обаятельного,
острого на язык и доброго в душе монстра - сплошные противоречия,
которые, тем не менее, как-то уживаются в словесном портрете, и, что самое
удивительное, с похожими парадоксами мы сталкиваемся и в романах Джейн
Остен.
Начать с того, что пройдет несколько лет и та самая надменная
двенадцатилетняя барышня, показавшаяся Филадельфии не по возрасту капризной и
жеманной, напишет удивительную и совсем недетскую повесть под названи-
108
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ем «Любовь и друшба»*5 - сегодня трудно поверить, что такую вещь можно
написать в пятнадцать лет. И тем не менее, это так: автор явно пишет для
своих сверстников, посвящая одну из историй, рассказанных в книге, своему
брату, причем делает это с шутливой торжественностью; а другая история
в книге идет с «комментариями» сестры - серией женских головок,
выполненных акварелью. Некоторые шутки определенно перекочевали в книгу из
семейных анекдотов, а сатирические стрелы, которых в повести немало,
потому точно бьют в цель, что наверняка много раз оттачивались братьями и
сестрами, постоянно вышучивавшими томных дам, которые только и
делают что «вздыхают на диване и падают в обморок».
Надо думать, что творилось в комнате, когда Джейн Остен читала вслух
свой последний опус про дамские слабости, - каким хохотом встречали
братья и сестры ее остроумные выпады против жеманства, которое они
терпеть не могли. «Несчастная страдалица, я умираю от горя, не вынеся потери
Огастеса. Еще один обморок, и я больше не очнусь. Лаура, дорогая, не надо
больше обмороков; рви на себе волосы, сходи с ума, только прошу тебя -
в обморок не падай- пощади!..»6 И дальше в том же духе, на одном
дыхании, она шпарила без остановок про невероятные приключения Лауры и
Софии, Филандера и Густава, про хозяина дилижанса, который мотается из
Эдинбурга в Стерлинг и обратно, про деньги, выкраденные из секретера,
про голодающих матерей и сыновей, играющих в «Макбете». Слушатели,
конечно, животы надрывали, слушая эти истории, и, тем не менее, ясно как
день, для кого писала, укрывшись в уголке общей комнаты, наша
шестнадцатилетняя барышня: уж точно не на потеху братьев и сестер и, разумеется,
не для узкого круга домочадцев. Она писала для всех, для каждого, ни для
кого в особенности, для нас, потомков, для современников - словом, писала,
потому что не писать не могла, и так было с самого начала. Это видно по
ритму фразы - она строит предложения, не обрезая углы. «Она
представляла собой обыкновенную молодую женщину - в меру воспитанную, милую,
любезную: таких, как она, нельзя не любить, не ненавидеть, их можно
только презирать»7. Согласитесь, такое не пишут, чтобы развлечь гостей на
рождественских каникулах, автор явно стремится создать нечто большее, чем
«стихи на случай». Причем это не вырванная из контекста сентенция - вся
повесть «Любовь и друшба» написана в таком ключе: азартно, вдохновенно,
с блеском, с бравадой, переходящей в ребячество, и что особенно
интересно: читая, не можешь отделаться от чувства, будто на заднем плане звенит и
звенит какой-то тоненький звоночек. Что за чудеса? А звоночек этот - смех:
это пятнадцатилетняя девушка, сидя в укромном уголке, заливается тихим
смехом, наблюдая за поведением взрослых.
Это нормально - когда девочки в пятнадцать лет, не переставая,
смеются: возраст такой! Смеются по каждому поводу и без повода: потянулся
* «Love and Freindship». Изд-во «Чатто энд Уиндус» (Примеч. Вулф).
Джейн Остен
109
м-р Бинни за солонкой вместо сахарницы - хихикают; плюхнулась старуха
Томкинс на стул, а там кошка, - чуть не умирают со смеху. Правда, смех
очень быстро переходит в слезы, а все потому, что у пятнадцатилетних
девочек, как правило, не бывает внутренней убежденности в том, что в любом
человеке от природы есть что-то неизбывно смешное, отчего каждый
мужчина и каждая женщина может оказаться предметом насмешки - хочет он
того или нет. Девочкам не приходит в голову, что не бывает бальных залов
без леди Гревилл, которая любит всех ставить на место, и бедной Марии,
которой обязательно укажут, где ей сесть. А вот Джейн Остен об этом
знала с колыбели: не иначе как дар одной из тех добрых волшебниц-фей, что
присутствовали при ее рождении, - едва Джейн появилась на свет, та,
наверное, взяла ее на руки и облетела с ней весь подлунный мир, а потом снова
положила в колыбельку. Так что с самого рождения Джейн Остен не только
хорошо представляла себе мир, но и точно знала, каким королевством будет
править. Она заранее дала слово, что не будет зариться на чужие земли, при
условии, что приглянувшиеся ей владения навсегда останутся за ней.
Поэтому никаких иллюзий по поводу окружающих и самой себя у нее к
пятнадцати годам не было. Что бы она ни писала, имело свои границы, свой поворот и
свою соотнесенность с миром, - нет, конечно, не с мирянами, не с приходом,
где распоряжался батюшка, - а с миром сущего. В ее пределах все
безлично, все - тайна. Ведь что получается? В своей книге писательница Джейн
Остен дает, скажем, замечательную зарисовку разговора леди Гревилл8 и,
заметьте, ни сном, ни духом не поминает в ней собственное разочарование,
пережитое, когда ей, дочери священника, дали щелчок по носу, поставили на
место. Ничего подобного в книге нет: Джейн Остен говорит только о сути, и
мы, вслед за ней, прекрасно понимаем, о какой человеческой сути идет речь.
А все почему? Потому что Джейн Остен держит слово: она твердо держится
положенных границ. Пусть ей только пятнадцать, она все равно ни за что
не позволит себе впасть в самоуничижение, скомкать язвительную реплику
только оттого, что в горле стоит ком и хочется сочувственно зарыдать или
напустить лирического туману там, где требуется четкая линия горизонта.
Тут нужно особое мастерство: решимость указать эмоциям на дверь;
способность раз и навсегда решить для себя, что лирике и рыданиям нет места, и
твердо держаться выбранной позиции. Опять же, это вовсе не означает,
будто для нее не существует ни луны, ни гор, ни замков - отнюдь! У нее тоже
есть свои романтические увлечения: например, Мария Стюарт, которой она
искренне восхищалась. «Героическая личность»9, - писала она о королеве
Шотландии, - «неотразимая принцесса! В жизни у нее был один верный
друг, герцог Норфолк, а сейчас есть несколько преданных слуг - м-р Уите-
кер, миссис Лефруа, миссис Найт и я»10. Вот так, несколькими словами, с
легкой самоиронией, выражает Джейн Остен свою привязанность: не правда
ли, звучит иначе, чем славословие герцогу Веллингтону11, которым несколь-
no
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
кими годами позже разразились сестры Бронте, еще в бытность пребывания
их на севере, в доме отца, приходского священника?
Но, как помним, надменная девочка выросла, превратилась в
«прехорошенькую, глупенькую, влюбчивую бабочку, у которой на уме одно только
замужество», по воспоминаниям миссис Митфорд, а заодно и автора романа
«Гордость и предубеждение»: рукопись этого романа, писавшегося
украдкой, под прикрытием скрипевшей входной двери12, много лет пролежала без
движения13. Чуть позже, полагают, Джейн Остен взялась писать другую
историю - «Уотсонов», но не закончила14, отложила: видно, что-то в ней ее
не устроило. Вообще говоря, нет лучшего способа критически оценить
шедевры великого писателя, чем внимательно прочитать его неудавшееся
произведение: так, по «Уотсонам» хорошо видно, с какими трудностями
сталкивалась Джейн Остен и каким образом она их преодолевала, - по зрелым
вещам ведь этого не скажешь, там все концы очень искусно спрятаны в воду.
А здесь уже в первых главах видно, что Джейн Остен из тех писателей, что
решительно берут быка за рога в первом же черновом варианте, - недаром
начало «Уотсонов» читается туговато, скованно, - а потом переписывают,
переписывают, пока вещь не задышит, как живая. Как именно Джейн Остен
собиралась вдохнуть жизнь в этот роман, сказать невозможно: он остался
незаконченным, и мы не знаем, какие перестановки, сокращения,
дополнения она посчитала бы необходимым ввести в текст. Но то, что она чудесным
образом преобразила бы рукопись, - в этом нет сомнений: уж она нашла бы,
как расцветить скучную историю из жизни одной семьи, длившуюся долгие
четырнадцать лет, превратив ее в захватывающую, написанную на одном
дыхании увертюру, и уж поверьте, никогда никто б не догадался, каких ей
это стоило усилий, сколько страниц она исписала, прежде чем добилась этой
кажущейся легкости. Тут мы понимаем: она не кудесница; ей так же, как и
другим писателям, приходилось много работать над тем, чтобы создать
такой инструмент, при котором ее талант заиграл бы всеми красками. У нее
стало получаться далеко не сразу, огрехи налицо: тут она замешкалась, там
скомкала фразу, а вот здесь вдруг сыграла чисто, и дальше все пошло как по
маслу. Взять эпизод с Эдвардсами: семейство собирается на бал; под окнами
проехала карета Томлинсонов - значит, им тоже пора. Нам сообщают, что
«Чарльзу дали пару перчаток и строго сказали не снимать их, пока не
закончится бал»15. Мы наблюдаем, как в укромном уголке пристроился с бочонком
устриц довольный Том Масгрейв: он и знать ничего не хочет про бал - ему
и здесь хорошо. По этой сцене видно: Джейн Остен развернулась, вошла во
вкус; мы, читатели, тоже сидим как на иголках, охваченные непередаваемым
ожиданием какого-то события. Но подождите - что такого есть в этой сцене,
что она западает в душу? Описывается загородный бал, в зале встречаются и
расходятся танцующие пары, кавалеры предлагают дамам прохладительные
напитки, угощение, а в качестве кульминации выступает эпизод с мальчи-
Джейн Остен
111
ком, которого одна молодая леди ставит на место, зато другая обласкивает.
Никакой трагедии, ничего героического, а проходной, казалось бы, эпизод
почему-то выдвигается на первый план, обнаруживая свою значительность.
Мы невольно задумываемся: на балу Эмма вела себя очень достойно, а ведь
это всего лишь бал - невесть какое событие; а случись ей столкнуться с
нешуточными жизненными испытаниями? - какой недюжинный ум, сколько
такта и сочувствия она тогда, наверное, проявила бы. Джейн Остен на
поверку оказывается тонким психологом, а все потому, что побуждает нас читать
между строк: пустяковый эпизод, кажется, а - западает в душу, обрастает
живыми подробностями, и вот уже внешне незначительное событие
наполняется глубоким смыслом. Притом что все увязано с характером. Нам
делается страшно интересно, как поведет себя Эмма при встрече с лордом Ос-
борном и Томом Масгрейвом, которые собираются нанести ей визит без пяти
минут три, и обязательно столкнутся с Мери16, - та явится, как обычно,
некстати, со своим вечным подносом и подставкой для ножей. Ситуация очень
щекотливая, ведь молодые люди привыкли к рафинированной обстановке:
вдруг Эмма сконфузится, опростоволосится, стушуется? И вот начинается
диалог, мы напряженно следим за ходом разговора: ловим каждую реплику,
каждое слово, при этом мысленно забегаем вперед - что дальше?.. И когда
под конец беседы мы понимаем, что наши ожидания полностью
оправдались - Эмма не уронила себя ни словом, мы радуемся так, будто
присутствуем при событии исключительной важности. Да так оно и есть на самом деле:
ведь в этой незаконченной и по большому счету неудавшейся повести видны
все главные линии остеновского дарования - все, что делает произведение
литературой. Попробуем мысленно убрать из «Уотсонов» событийную
канву, жизнеподобие, и мы увидим, что произведение от этого не обеднело - в
нем сохраняется главное: тончайшее соотношение человеческих ценностей.
Уберем и этот план - у нас все равно останется возможность наслаждаться
особого рода мастерством, благодаря которому эпизод на балу дышит
подлинным чувством, а все части его гармонично уравновешены, такое
искусство сродни поэзии: оно ценно само по себе, независимо от служебного
назначения - быть мостиком в рассказе.
Но вернемся к сплетням о Джейн Остен: говорят, она была чопорнейшей
педантшей, скрытной и злой - «все, как огня, боятся ее острого словца».
Что есть, то есть: она умела быть беспощадной - другую такую насмешницу
в литературе только поискать. По ней никак не скажешь, что она гений от
Бога, - посмотрите, как она неловко рубит сплеча в начальных главах
«Уотсонов». Это вам не Эмили Бронте - той стоит только открыть дверь, и она
моментально населяет собой пространство. Нет, Джейн Остен, как
скромная пташка, - собирает по травинке, по веточке, строит свое гнездо,
аккуратно кладя прутик к прутику, соломку к соломке: пусть веточки подсохли
и слегка запылились - что с того? Вот тут большой дом, там поменьше; за
чаепитием следует званый обед, потом пикник - жизнь идет заведенным по-
112
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
рядком: дружат домами, сообразно достатку, ездят друг к другу в гости по
раскисшим дорогам; бывает, барышни возвращаются домой пешком,
промочив ноги, уставшие; и держится все это хозяйство на пустяшной завязке, без
всяких трагических финалов, - на крепком замесе семейного воспитания в
зажиточных домах английского поместного дворянства. Пороки, авантюры,
страсти - это не про них, не про здешнюю размеренную жизнь. Тут она
полновластная хозяйка: от ее зоркого глаза не укроется ни одна деталь, ни один
конец в ее многодельном хозяйстве не останется неподвязанным. Все-то
она терпеливо, подробно объяснит: как они «ехали, без остановок до самого
Ньюбери, где их ждал роскошный стол; после, отобедав, точнее, отужинав,
они отошли ко сну. Вот так и закончился этот хлопотный, полный
радостных треволнений день»17. Она и условности блюдет не формы ради, а
потому, что верит в них, принимает всем сердцем. Это особенно видно по
описаниям служителей церкви, например Эдмунда Бертрама, или людей военной
профессии, скажем моряков: она с таким пиететом относится к делу,
которому они служат, что стесняется направлять против них свое главное оружие -
стрелы иронии, и в итоге впадает или в славословие, или в скучный пересказ.
Впрочем, такое случается редко: большей частью ее отношение заставляет
вспомнить крик души дамы, пожелавшей остаться неизвестной: «...хоть кого
напугает, когда она подденет тебя на странице, выведя в образе какого-то
смешного персонажа!» Джейн Остен не занимается перевоспитанием, она
никому не мстит на странице - она просто молча всматривается в лица, и
от этого делается по-настоящему страшно. Она выводит на сцену одного
за другим своих «героев» - шутов, ханжей, бонвиванов: всех этих господ
коллинзов, сэров уолтеров эллиотов, матрон беннетт; молча рассаживает их
по местам, а потом хлесткими фразами начинает их одного за другим
припечатывать, и они застывают, будто пригвожденные к месту: человеческие
типажи, эмблемы, символы. Их не осуждают, не оправдывают, не милуют:
их просто уничтожают одной убийственной репликой. Так она
расправляется с Джулией и Марией Бертрам - от них остается пустое место; с леди же
Бертрам она поступает по-другому: о той просто забывают, и она остается
вечной тенью, «сюсюкающей над своим мопсом, который то и дело норовит
испортить цветочную клумбу»18. Каждому воздается по заслугам. Взять д-ра
Гранта - начинал за здравие, кончил за упокой: любитель нежной гусятины
«не перенес апоплексического удара, наступившего вследствие трех
обильнейших званых обедов в течение одной недели»19. Иной раз кажется, герои
Остен появляются на свет только для того, чтобы доставить своей
создательнице удовольствие аккуратненько их обезглавить. Она и вправду довольна;
оглядывает с удовлетворением дело рук своих: ни убавить ни прибавить -
всё на месте, всё целесообразно в этом восхитительнейшем из миров.
Нам тоже нечего добавить: даже если бы мы и захотели из чувства
оскорбленного достоинства или по соображениям нравственной
справедливости попытаться исправить свет, погрязший во лжи, глупости, низости,
Джейн О стен
113
нам эта задача оказалась бы не по плечу. Люди таковы, каковы они есть: в
пятнадцать лет Джейн Остен об этом прекрасно знала, а, став зрелой
писательницей, она это еще и доказала. Леди Бертрам не умирают: и сегодня, в
эту самую минуту, какая-нибудь леди Бертрам трясется над своей клумбой,
пытаясь согнать с нее собачку; в итоге Чэпмен, которую она посылает-таки
помочь мисс Фанни, приходит слишком поздно. Оцените, как точно
расставлены акценты; как уместна саркастическая нота, притом что мы ее почти не
замечаем. Человеческая мелочность никак не педалируется, ненависти,
кажется, и следа нет - ничто не отвлекает нас от вдумчивого чтения.
Странным образом удовольствие мешается с иронией: они, конечно, чудаки, -
думаем мы о героях Остен, - но сердиться на них невозможно.
На самом деле, то, что нам кажется игрой - желанием уйти от прямого
ответа, складывается из многих, очень многих разных посылок,
уравновесить которые дано лишь редкому таланту. Остроумие у Джейн Остен
всегда сочетается с безупречным чувством меры: если у нее появляется шут,
так это настоящий шут гороховый; появляется сноб - так это точно сноб, и
причина здесь одна: писательница настолько ясно представляет, что такое
разум и здравый смысл, что любое отклонение от образца ею
безошибочно определяется и передается читателю, пусть даже в комической форме.
Никогда еще романисту не удавалось так здорово применить на практике
точное представление о человеческих ценностях - в полной мере это
удалось только Остен. Ее внутренний камертон настолько чист и точен, вкус
ее столь безупречен, нравственное чувство настолько сурово, что для нее,
кажется, не составляет никакого труда высвечивать малейшие отклонения
человеческого духа от идеалов доброты, правды, искренности, причем
делает она это без всякого морализаторства, на радость читателю. Именно таким
способом рисует она барышень типа Мэри Крофорд - со всеми их
достоинствами и недостатками. Спокойно слушает, как Мэри честит на все корки
священников, мечтает вслух о титуле баронессы с десятитысячным годовым
доходом, а потом вставляет негромким голосом меткую реплику, и все
радужные мечты барышни лопаются как мыльный пузырь. Картина
получается объемной, глубокой и сложной: в такой многозначности есть своя красота
и особая царственная сила, которые не только не противоречат остроумию
писательницы, но и составляют с ним единое целое. Впервые Джейн Остен
приоткрыла свое тайное могущество в «Уотсонах»: то-то, читая роман, мы
все время удивлялись, почему обыкновенное проявление доброты обретает
под ее пером такой глубокий смысл. Постепенно она в совершенстве
овладела искусством многозначности и в своих лучших произведениях
пользуется им просто мастерски. Взять любой ее зрелый роман: ничего особенного
не происходит, все как всегда - обыкновенный день в Нортгемптоншире,
унылый молодой человек поднимается по лестнице вместе с хрупкой на вид
молодой женщиной - каждый идет к себе переодеться к обеду; они говорят
друг другу какие-то слова на глазах у снующих туда-сюда служанок. Только
114
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
отчего-то вдруг эти малозначащие, вроде бы дежурные фразы наполняются
глубоким смыслом, и мгновение это становится для обоих самым памятным
в жизни. Вот оно - блеснуло, ожило, засияло - дрожит перед тобой
влажное, чистое... Прошла служанка, и нет ничего: наполненная до краев чаша,
в которой, как в капле воды, сошлось все счастье мира, качнулась и потекла
дальше своим ходом привычная, ничем не примечательная жизнь.
Так спрашивается: если Джейн Остен умела с такой проникновенностью
и глубиной писать о житейских мелочах вроде провинциального бала,
пикника и званого обеда, разве этого было мало? Она и не думала соблазняться
«предложениями изменить свою писательскую манеру»20, которые
поступали ей от принца-регента или м-ра Кларка. Она прекрасно знала: чтобы
высветить суть происходящего на лестнице в провинциальном доме так, как
она это видела, ей совсем не нужны ни любовный или авантюрный романы,
ни политические сплетни или интриги. В лице Джейн Остен принцу-регенту
и хранителю его библиотеки попался очень крепкий орешек: все их благие
намерения обламывались о ее нравственную неподкупность - ничто не
могло поколебать ее внутреннюю убежденность в своей писательской правоте.
Как пятнадцатилетним подростком она попробовала писать отточенными
фразами, так она и продолжала писать всю жизнь, и принц-регент и
хранитель королевской библиотеки тут ни при чем: писала-то она не для них, а для
широкого читателя. Она хорошо знала свои сильные стороны и точно
представляла материал, который позволил бы ей развернуться и показать, как
говорится, товар лицом, а мастер она была наитребовательнейший. За
некоторые темы она никогда не взялась бы, поскольку они выходили за рамки
знакомого ей материала; иные переживания приводили ее в замешательство,
она не знала, как их подать, как к ним подступиться. Так, ей совсем не
удавались восторженные монологи девушек о воинской доблести и христианской
добродетели: получалось натужно и искусственно. И романтические
переживания - тоже не ее стихия: она всегда находила способ уйти от описания
страстных признаний. Пейзажи и красоты природы внушали ей некоторое
недоверие, и она подходила к ним бочком: описывает чудную ночь и ни
слова не говорит о луне. Но и без луны несколько скупых фраз о «прозрачности
ясного ночного неба и на его фоне черного как тень леса» являют ночь «во
всей ее красе, торжественности и покое»21 - при всей простоте описания,
кажется, по-другому ночь и не представить.
Грани ее писательского дарования пребывали в состоянии полной
уравновешенности: ее законченные романы - сплошь шедевры, ни одной
неудачи, редкая глава выбивается из общего ряда как откровенно слабая. А ведь
ей было всего сорок два, когда она умерла: самый расцвет творческих сил!
И она нигде не повторялась, до конца сохранив способность удивлять
новыми поворотами, которые, кстати, часто делают заключительный этап
писательской деятельности самым интересным. Если б не смерть, она, конечно,
писала бы и дальше - с ее-то кипучим, неотразимым даром комического,
Джейн Остен
115
и еще неизвестно, как изменилась бы ее писательская манера. Да, границы
были заданы: горы, замки, лунные ночи - все это находилось по ту сторону
заранее очерченного круга. И, тем не менее, разве не хотелось ей преступить
заповедную черту? Разве не начала она под конец готовить свою веселую
блестящую флотилию, чтоб пуститься первооткрывательницей в плавание?
Взять ее последний законченный роман - «Доводы рассудка»22:
интересно заглянуть в него, как в магический кристалл, и попробовать увидеть те
книги, которые она могла бы написать, если б не ранняя смерть. В «Доводах
рассудка» есть своя красота и есть своя особого рода утомленность: такой
утомленностью обычно отмечен переходный этап от одного периода
творчества к другому. Писательница немного рассеянна; такое впечатление, что
она настолько хорошо изучила повадки своих «подданных», что ей уже не
очень интересно - нет той свежести восприятия, что была раньше. В
комических сценах появляется некоторая жесткость, она наводит на мысль, что
Остен больше не веселит тщеславие очередного сэра Уолтера или снобизм
мисс Эллиот23. Сатира получается злой, комедия - карикатурной. Милые
житейские пустяки больше не радуют, - кажется, писательница думает о своем,
забыв о теме. Нас не покидает ощущение, что Джейн Остен проделывала все
то же много раз и с гораздо большим успехом; но мы понимаем и другое:
она пытается сделать что-то небывалое. В этом романе появляется новый ли
поворот, новая грань, во всяком случае, именно «Доводы рассудка»
привели д-ра Уэвелла в восторг, и он категорично заявил, что это «самое
прекрасное ее произведение»24. В этом романе она заново открывает для себя мир,
будто раньше не подозревала о том, насколько он огромный, таинственный
и романтичный. Мы понимаем, что, говоря об Энн, она имеет в виду и себя:
«В молодости она против своей воли усвоила благоразумие, а когда стала
старше, открыла для себя мир романтических переживаний. Ну что ж,
естественное следствие неестественного хода вещей»25. Все чаще пишет о
красоте и осеннем увядании природы; весна ее больше не вдохновляет. Говорит
о том, что «осенние месяцы в деревне действуют на душу умиротворяюще
и печально»26. Замечает «рыжие листья и поникшие живые изгороди»27,
роняя как бы между прочим: «Ты помнишь, как страдал, живя в этом доме, но
любовь твоя к нему остается прежней»28. И что интересно: происшедшая
перемена видна не только в ее отношении к природе - изменилось ее
отношение к жизни, вот что главное. То, что в романе происходящее описывается
глазами несчастной женщины, которая, настрадавшись в жизни, сострадает
другим и в счастье и в горе, - а причина ее повышенной способности
сопереживать окружающим не раскрывается полностью до самого конца, - все
это делает роман не вполне типичным для Джейн Остен: в нем мало фактов
и много переживаний. В эпизоде с концертом чувства выплескиваются
наружу; а чего стоит знаменитая тирада о женском постоянстве? - эти сцены
со всей определенностью доказывают, что Джейн Остен не только познала
муки любви, но и - что гораздо важнее - перестала бояться о них рассказы-
116
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
вать. Пережитое должно отстояться; нужно выждать, пока притупится боль,
перестанет ранить горечь потери, только тогда она сможет свободно писать
о былом. И такое время наконец пришло - в 1817 году. К тому же и
обстоятельства медленно, но верно менялись: известность была не за горами. Как
пишет м-р Остен-Лей: «...сомневаюсь, чтобы кто-то из выдающихся
писателей так же долго оставался в полной безвестности, как это случилось с
ней»29. Еще несколько лет и все переменилось бы: ездила бы в Лондон,
выезжала бы в свет, ходила бы на званые завтраки и обеды, встречалась со
знаменитыми людьми, завела знакомства, читала новые книги, путешествовала,
а потом возвращалась бы, обогащенная впечатлениями, в свой тихий
загородный домик - писать.
И как, интересно, - давайте помечтаем, - новая жизнь подействовала бы
на полдюжины романов, которые Джейн Остен могла бы написать, но не
написала? Она едва ли переключилась бы на криминальные, любовные или
авантюрные сюжеты, а издательские заказы, которые, скорей всего,
посыпались бы на нее как из рога изобилия, вряд ли сказались бы отрицательно на
тщательной отделке ее произведений; дифирамбы же друзей наверняка
оставили бы ее равнодушной. Но что точно изменилось бы, так это ее
кругозор: он, конечно, расширился бы. И она уже не чувствовала бы себя в полной
безопасности, как прежде. Это ослабило бы комическую сторону ее романа,
зато она меньше полагалась бы на диалог (как она уже попробовала делать
в «Доводах рассудка») и все больше углублялась бы в характеры своих
героев. Ведь знаменитая остеновская скоропись, ее потрясающий минимализм
хороши тогда, когда необходимо двумя-тремя фразами, воспроизводящими
светскую болтовню, навсегда запечатлеть в сознании читателей образ
какого-нибудь адмирала Крофта или какой-нибудь миссис Мазгроув; когда
можно целые главы анализа психологического состояния героев убрать в
подтекст. Однако этот метод перестает работать, как только ты ставишь целью
передать всю сложность человеческой природы. Поэтому Джейн Остен
пришлось бы искать новую манеру письма: столь же ясную и взвешенную, как
прежде, только намного глубже и многозначнее, манеру, которая не только
емко передавала бы то, о чем говорят герои, но и то, о чем они умалчивают;
не только раскрывала бы характеры людей, но и описывала бы саму жизнь.
А это значит - ей пришлось бы научиться видеть своих героев со стороны
и показывать их не крупным планом, по отдельности, а общим, групповым.
Это придало бы большую остроту и злость ее перу сатирика, заставив ее
реже, зато резче пускать свое оружие в ход. Она стала бы предшественницей
Генри Джеймса и Пруста... - впрочем, довольно. Что толку мечтать, если
гениальная писательница, мастер художественного слова, автор бессмертных
книг умерла в тот момент, когда «она только-только почувствовала
уверенность в успехе»30.
Современная литература
117
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
Почему-то принято считать, что современное состояние искусства
непременно является шагом вперед относительно прошлого, и от этого мнения
трудно отрешиться даже в самом беглом и вольном обзоре современной
литературы. Так и хочется воскликнуть: молодец, Филдинг! мастерица, Джейн
Остен! - особенно если учесть, что средства и материалы в их
распоряжении были самые что ни на есть кондовые. Но разве сравнятся их
возможности с нашими - да они не идут ни в какое сравнение! Те шедевры слишком
просты и незатейливы... Но так может показаться лишь на первый взгляд,
а если присмотреться, то уподобление литературы процессу производства,
скажем, автомобилей не выдерживает никакой критики. Пусть за последние
столетия мы очень много узнали о том, как работают механизмы, но как
создается литература, для нас по сей день остается загадкой. Лучше писать мы
не стали, и если задаться вопросом, чем же мы в таком случае занимаемся,
то правильней будет сказать, что мы с завидным постоянством двигаемся
по кругу - то в одном направлении, то в другом, и если посмотреть на это
круговращение сверху, с какой-нибудь высокой точки обзора1, то оно
покажется простым топтанием на месте. Понятно, что если мы берем на себя
смелость высказать свою оценку происходящего, то мы и в мыслях не имеем
посягнуть на священные высоты критики: нет, наш удел гораздо скромнее.
Мы топчемся внизу, у подножия, где пыль стоит столбом и ни зги не видно,
и с тоскливой завистью обращаемся мысленно вспять, к воинам прошлого -
счастливчики, они уже отвоевали свое и теперь почивают на лаврах славы,
столь непререкаемой и покойной, что мы, наполовину ослепшие от пыли и
блеска, только и можем пролепетать в свое оправдание, что им было легче,
борьба их не была столь ожесточенной, как наша. Впрочем, о последнем
судить не нам, а историку литературы: это он должен решить, в какой точке
великого периода развития литературы мы находимся - в начале, в конце или
в середине, ведь нам, с поля брани, мало что видно. Знаем только про себя,
что силы в нас вселяют чувство благодарности, которым мы преисполнены
к одним, и злость, которую испытываем по отношению к другим; что иные
дороги, похоже, ведут в плодородные края, а другие кончаются суховеем и
пустыней... И вот этот клубок противоречивых настроений и чувств,
пожалуй, стоит попробовать описать.
Итак, мы вовсе не выступаем против классики, и если сегодня у нас
раздрай с м-ром Уэллсом, м-ром Беннеттом и м-ром Голсуорси, тому отчасти
виной очевидное обстоятельство: как и творчество любого ныне
здравствующего писателя, их произведения несут на себе печать житейски понятного
и заметного глазу современника несовершенства, и оно-то и позволяет нам
вольничать. Но есть и другой повод для недовольства: хотя мы и благодарны
им тысячу раз за их таланты, все же сердца наши отданы м-ру Гарди, м-ру
118
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Конраду и в значительно меньшей мере м-ру Хадсону, автору «Багровой
земли», «Зеленых усадеб» и «Давным-давно, далеко отсюда»2. М-р Уэллс,
м-р Беннетт и м-р Голсуорси столько раз обнадеживали нас и так упорно
обманывали наши ожидания, что хочется сказать им спасибо не за то, чего они
достигли, а за то, чего они не создали, хотя могли бы, - нам такое, конечно,
было бы не по плечу, да только мы и не взялись бы. Впрочем, одна фраза не
может вместить всю меру разочарования или упреков, которые накопились
у нас в душе против их масштабного, поражающего воображение своей
массой и уймой достоинств и недостатков творчества3. И все же если
попытаться одним словом обобщить наше отношение к этим трем писателям - они
материалисты. И разочаровались мы в них из-за их вечной озабоченности
материальным, но не духовным содержанием - жизнью не духа, а плоти,
что укрепило нас в мысли: чем быстрее английская литература с ними
вежливо распрощается и отплывет куда угодно, хоть в пустыню, тем лучше для
ее же блага. Разумеется, любое обобщение - оружие тупое, им трудно
попасть в яблочко, когда речь идет о трех самостоятельных писателях. Насчет
м-ра Уэллса, например, мы скорей всего промахнулись, хотя краем, как нам
кажется, задели одно узкое место в его гениальных творениях, этакий
небольшой, но зловредный сучок на отполированной до блеска поверхности.
Впрочем, главная вина лежит не на Уэллсе, а на м-ре Беннетте - самом
большом труженике из их троицы. Вот уже кто работает на совесть! Так плотно
компонует книги, что комар носу не подточит: никакому критику-зоилу не
подкопаться под монолитную постройку, отыскав малюсенькую щелку или
трещину, в которой может завестись плесень или гниль. Оконные рамы так
основательно подогнаны друг к другу, что никакой сквозняк не страшен, да
и в полу нет ни единой дырки. Вот только... жизнь-то вообще здесь
ночевала? Вот в чем загвоздка, что бы ни говорил в свое оправдание автор
«Повести о старых женщинах»4, создавший Джорджа Кэннона, Эдвина Клейхенге-
ра5 и иже с ними. Пусть характеры его героев проявляются многообразно,
подчас неожиданно, но вопрос остается: как и зачем они живут?.. Уж не
затем ли, - начинаем мы подозревать, - чтобы, уехав из своей цитадели в
Пяти Городах, сесть в вагон первого класса6 и, откинувшись на мягкие
подушки, в обстановке роскоши и покоя, начать названивать в разные места,
нажимая поочередно на всевозможные блестящие кнопки, уносясь к главной
цели своего путешествия, - а она обозначается все яснее и яснее, - к
вечному блаженству, обрести кое можно только в самом фешенебельном отеле
Брайтона?.. В отличие от м-ра Беннетта, м-ра Уэллса трудно назвать
материалистом в том смысле, что он так же упивается добротностью своего
сооружения. Нет, для этого он слишком широкий и отзывчивый человек: он не
будет долго возиться, наводя в своем хозяйстве порядок, блеск и чистоту.
Он - материалист по доброте душевной: взвалил на свои плечи
титанический труд, который призваны исполнять по долгу службы чиновники, и так
заработался, выдавая на-гора идеи и прогнозы, что то ли недооценил, то ли
Современная литература
119
упустил из виду своих героев, и они получились у него плоскими и
топорными. Однако для критика, который берется оценить созданный романистом
рай на земле, важным оказывается именно то, кто будет жить в этих
райских кущах, и когда выясняется, что населять их будут ныне и присно и во
веки веков эти самые ходульные Джоаны и Питеры7, - увы, пощады ждать
не приходится. Как же, они настолько пошлы и банальны, что, конечно,
запятнают сотворенные для них с таким размахом и щедростью идеалы и
общественные институты! И то же самое разочарование испытываем мы, читая
м-ра Голсуорси: при всем уважении к его безукоризненной и
человеколюбивой позиции, мы не находим в его книгах то, что ищем.
Итак, под словом «материалисты», если мы наклеиваем этот ярлык на
произведения всех трех писателей, имеется в виду одно общее: они пишут о
пустяках, пускают в ход все свое искусство и делают невероятные усилия,
стремясь представить мелкое и преходящее истинным и нетленным.
Наверное, это суровый суд и, что интересно, нам трудно объяснить, во
имя чего мы проявляем подобную суровость. В разное время мы задаем
вопрос по-разному, но он все равно всплывает в тот момент, когда мы в
сердцах захлопываем книгу: и что? И зачем? В чем смысл? Что если м-р Беннетт
с его потрясающей техникой улавливания жизни все-таки ошибся на пару
дюймов и из-за тех неуловимых колебаний, которые человеческий дух
совершает время от времени, бабочка-психея упорхнула? Не дается жизнь в
руки писателю, а творчество, лишенное жизни, не имеет смысла. «Жизнь» -
неопределенная, мало что выражающая фигура речи, но даже если заменить
ее словом «реальность», как это делают обычно критики, картина не
станет яснее. Поэтому остается принять размытость определений, бытующую
в критике романа как неизбежное зло, и высказать осторожное
предположение, что все дело в этой ставшей ныне модной литературной форме: роман
себя больше не оправдывает, все чаще мажет мимо цели. А цель, как бы мы
ее ни назвали - жизнью ли, духом, правдой ли, реальностью - словом,
заветная квинтэссенция смысла, как капризная девушка, - то ли упрямится, то ли
у нее ветер в голове, - в любом случае, она наотрез отказывается рядиться
в те неудобные одежды, которые мы ей по привычке подсовываем. Мы же,
делая вид, что ничего не замечаем, продолжаем старательно, на совесть, на
века собирать свои привычные тридцать две главы, согласно плану, не
желая признавать, что план - это одно, а образ в наших душах - совсем другое.
Трудиться над тем, чтобы доказать достоверность и жизнеподобие
рассказанной тобой истории, - это не просто мартышкин труд8, это ложная
попытка обрубить сук, на котором сидишь: собственноручно задвинуть в тень и
утопить во мраке свет идеи. Такое впечатление, будто писатель не по своей
доброй воле, а по велению какого-то грозного неутомимого тирана,
сковавшего его невидимой цепью, обязан во что бы то ни стало скроить сюжет,
стачать комедию или трагедию, сплести любовную интригу и потом сшить все
это накрепко нитью художественной иллюзии, чтобы все было как в жизни:
120
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
дотронься до его героев волшебной палочкой и они мигом оживут, и
окажется, что и одеты по последней моде, и застегнуты на все пуговицы.
Тиран доволен: еще бы, роман получился на славу. Но нас-то чем дальше, тем
все больше берет сомнение: разве жизнь такая? Разве так пишутся романы?
И все внутри нас начинает бунтовать против ровных, гладко причесанных
страниц.
Загляните в себя и вы увидите, что жизнь совсем «не такая».
Задумайтесь на секунду - что у обыкновенного человека в обыкновенный, ничем
не примечательный день творится в душе? Ему западают в душу десятки
тысяч впечатлений: пустяки мешаются с фантазиями, мимолетные образы
путаются с врезавшимися в память картинами. Они обрушиваются на него
со всех сторон, обстреливая градом бессчетных атомов; и что интересно:
складываясь в очередной прожитый понедельник ли, вторник9, атомы
впечатлений, подобно песчинкам, образуют каждый раз новый рисунок,
отличный от прежнего, с другим смыслом. Так если бы писатель был свободной
птицей, а не пленником, не рабом привычки, и писал бы вольготно, а не как
ему велят, если б он только мог опереться в работе на собственное чутье, а
не на общепринятые условности, то не было бы тогда никаких сюжета,
комедии, трагедии, любовной интриги и драматической развязки, как требуется
в соответствии с жанром, а герои не были бы застегнуты на все пуговицы, -
как знать, возможно, пуговиц не было бы вовсе, во всяком случае, пришиты
они были бы точно не так, как у модных мастеров с Бонд-стрит. Жизнь - это
не цепочка слепящих прожекторов, симметрично расставленных по краю
рампы; нет, это лучащийся ореол, матово-прозрачное облако, окутывающее
нас с первой искры сознания до конца10. И разве задача романиста не в том
состоит, чтобы передать, как можно чище, без примеси, без прикрас, это
изменчивое, неведомое, не знающее пределов и границ сияние - каких бы
трудов и потерь ему это не стоило? Речь не идет о какой-то особой доблести
или искренности: мы просто высказываем предположение, что настоящий
предмет литературы - не совсем то, что мы привыкли думать.
Во всяком случае, что-то в таком духе отличает, на наш взгляд,
творчество молодых писателей, самый заметный из них - м-р Джеймс Джойс,
от предшественников. Они не боятся взглянуть жизни в глаза и с
предельной точностью и искренностью описать то, что их заинтересовало, задело,
и, если приходится жертвовать какими-то литературными условностями, их
это не смущает. Так будем же смелее записывать все, что западает в душу, -
все до последнего атома, в точной последовательности! И да не убоится рука
свободно набрасывать те внешне бессвязные, лишенные смысла письмена,
которые запечатлеваются в сознании с каждой увиденной картиной, с
каждым эпизодом. Не надо думать, будто жизнь с заведомо большей полнотой
проявляется в масштабных, по общему мнению, событиях, нежели в
пустяках, точнее, в том, что принято полагать пустяками. Такой вывод
напрашивается у всякого, кто читал «Портрет художника в юности»1 х или «Улисса» -
Современная литература
121
произведение еще более интересное, отрывок из которого недавно появился
в «Литл ревью»12. Разумеется, по отрывку трудно делать выводы об общем
замысле м-ра Джойса, однако в одном можно не сомневаться: его намерения
предельно искренни и, каким бы сложным и неприятным ни был результат,
его значимость бесспорна. М-р Джойс, в отличие от тех, кого мы назвали
материалистами, писатель духовный: всеми правдами и неправдами он
стремится поймать трепетание того потаенного язычка свечи, что посылает
сообщения в мозгу, и его желание во что бы то ни стало донести сигнал столь
велико, что он храбро отметает любые помехи на своем пути, будь то
требования достоверности, доходчивости или иносказательности - словом, все те
условности, к которым прибегали писатели многих поколений, помогая
читателю представить то, чего нельзя потрогать или увидеть. Например, сцена
на кладбище: в ней столько блеска, грязи, невнятицы, глубочайших
молниеносных озарений; так точно схвачен самый нерв сознания, что назвать
эпизод шедевром не кажется натяжкой - во всяком случае, по первому чтению.
Мы жаждали жизни, как она есть, и мы ее получили: вот она, перед нами.
Так почему же в таком случае мы мнемся, не знаем, что сказать? Нам чего-
то недостает, мы пытаемся разобраться, почему такая самобытная вещь, как
«Улисс», тем не менее, не идет в сравнение ни с «Юностью»13, ни с «Мэром
Кэстербриджа»14, если ориентироваться на самые высокие образцы
литературы. Ответить можно было бы просто и коротко: в провале повинно
относительно скудное писательское воображение - и тема закрыта. Но,
возможно, это не единственная причина, и хорошо бы спросить себя: а не связаны
ли наши обманутые ожидания, - думали, возрадуемся, воспрянем, а
оказались заперты в четырех стенах ярко освещенной и узкой, как пенал,
комнаты, - не связано ли чувство разочарования с известной ограниченностью
самого творческого метода, а не только с бедноватой фантазией? Что если
это метод не дает воображению развернуться в полную силу? Что если это
из-за него нам ни жарко, ни холодно, ни радости не испытываем, ни парения
души, наоборот, нам кажется, нас поместили под стеклянный колпак, и как
мы ни трепыхаемся, но путь вовне - вверх или вниз - нам заказан. А может,
несколько нарочитый упор на непристойность усиливает общее впечатление
замкнутости и некоторой надсады? Или это обычная реакция современника:
обязательно уколоть автора сверхоригинального произведения - мол, нет
пророков в своем отечестве?.. Так или иначе, неправильно это - оставаться
в стороне и рассуждать о «методах». Любой прием хорош, всякая
писательская техника достойна, если выражает замысел (это с точки зрения
писателя) или помогает донести авторскую мысль (это с точки зрения читателя).
Тот метод, о котором идет речь, вплотную приближает нас к так называемой
жизни, как она есть, за что ему честь и хвала: ведь сколько всего нового,
заповеданного открыли мы для себя с чтением «Улисса»! Правда, не меньшим
потрясением было перечитать после этого «Тристрама Шенди»15 или «Пен-
122
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
денниса»16и убедиться в существовании не просто других, но гораздо более
важных сторон жизни.
Как бы ни было, сегодня романист стоит перед главным вопросом:
любыми способами обрести свободу писать то, что нравится, - и так, полагаем
мы, было всегда. Иметь смелость сказать: меня это больше не интересует,
мне интересно «другое» - вот задача романиста, ибо только из «другого»
и может родиться творчество. Для современных писателей этим «другим»
предметом интереса оказываются, по-видимому, темные глубины
психологии. А раз так, то сразу же меняется тон, иначе расставляются акценты:
вперед выдвигается то, что раньше находилось в тени, словом, возникает
необходимость перестраивать всю форму: как именно перестраивать, мы и сами
не очень понимаем, а для предшественников это вообще темный лес.
Только нашему современнику - возможно, только русскому - интересен случай,
описанный Чеховым в рассказе «Гусев»17. В судовом лазарете парохода,
возвращающегося в Россию, лежат больные русские солдаты. Мы слышим
обрывки разговоров, догадываемся, о чем они думают; потом один солдат
умирает, его уносят прочь. Следуют еще несколько реплик, и вот умирает
сам Гусев: его тело, похожее «на морковь или редьку», швыряют за борт.
Акценты в рассказе расставлены таким непривычным образом, что поначалу
кажется - их нет вовсе; только когда глаз постепенно привыкает к полутьме,
какая бывает под вечер в комнате, и все приобретает резкие очертания,
только тогда мы понимаем всю меру завершенности рассказа, всю его глубину,
всю точность соответствия его замыслу Чехова: писатель берет то-то, то-то
и то-то и компонует все по-новому. Назвать рассказ комическим или
трагическим нельзя: более того, мы даже не уверены, можно ли его и рассказом-
то назвать - слишком все неясно и отрывочно, и потом нас всегда учили, что
рассказ должен быть сюжетным и законченным.
Даже в самом беглом обзоре современной английской литературы нельзя
не коснуться русского влияния, а стоит только русских назвать, как
появляется чувство раздосадованности: зачем понапрасну тратить слова, когда
писать надо только о русской литературе! Где еще мы найдем столь же
глубокое понимание души и подноготной человека? Нам претит наш собственный
материализм, а у русских даже заурядный прозаик - и тот питает
врожденное уважение к духовному в человеке: «...сумей почувствовать себя близким
людям... необходимым для них... Но почувствуй это не умом - умом это не
трудно, а сердцем, любовью к ним...»18 Сдается, что в каждом великом
русском писателе сидит святой, если понимать под святостью сострадание к
ближнему, любовь к братьям, стремление дойти до цели, которая отвечала
бы самым взыскующим духовным запросам. Перед лицом такой святости
русских нас охватывает чувство собственной ничтожности и бездуховности;
что такое, в сравнении с русскими, наши так называемые великие романы?
Так, безделица, пустышки! Естественно, русская мысль всегда заканчивает
на щемяще тоскливой ноте: трудно ждать чего-то иного при тех бездонных
«Джейн Эйр» и «Грозовой перевал»
123
глубине и сострадании, какие свойственны русским. Точнее, не заканчивает,
а обрывается: как раз законченности русская мысль не знает. Жизнь ставит
перед нами вопрос за вопросом, и ответа на них по большому счету нет, и
потому рассказ всегда обрывается на вопросительной ноте, которая тянется
и тянется без конца... Мы же с таким чувством безысходности примириться
никак не можем, пусть даже русские и правы: бесспорно, они прозорливее
нас и не такие зашоренные. Только ведь и мы не совсем слепые: нам тоже
ведомо нечто, ускользающее от их проницательного взора, - иначе, откуда
у нас в глубине души этот заглушающий тоску голос протеста? Мы - дети
другой цивилизации, цивилизации древней, взрастившей в нас
инстинктивное желание наслаждаться жизнью и бороться - возможно, в ущерб умению
страдать и сопереживать. Это подтверждает весь ход английской
литературы, - от Стерна до Мередита: мы обожаем юмор, комедию, радуемся
красоте природы, наслаждаемся игрой ума, упиваемся физическим здоровьем...
Впрочем, можно бесконечно долго сравнивать такие далекие литературы,
как русская и английская, и все равно не прийти к окончательному
выводу. Но одно ясно: возможности искусства, если исходить из сравнения двух
литератур, поистине безграничны, горизонт поиска беспредельно широк;
любой «метод», любой, даже самый бредовый эксперимент имеет право на
существование - единственное, чему нет места в искусстве, это фальшь и
притворство. Забудем о «достойном содержании литературы» - его
попросту не существует: изображения достойно абсолютно все - любое чувство,
любая, самая малая мыслишка. Пусть все они бьют в одну цель, все до
единого движения ума и сердца. И если представить на секунду, что на поле
брани, где мы теснимся, сошла сама богиня литературы, - вот она, стоит
живая рядом с нами, - можете не сомневаться: уж она нашла бы, как
раздразнить нас и вызвать на беспощадный бой против нее, всеобщей любимицы и
госпожи, ибо в этом вечном соперничестве и скрыт секрет ее обновления и
безраздельного торжества.
«ДЖЕЙН ЭЙР»
И «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»*
Со дня рождения Шарлотты Бронте прошло сто лет, а прожила она-
ныне легендарная личность, предмет поклонения, законодательница
литературы, всего тридцать девять1. Интересно, не умри она молодой, проживи
обычный срок, отпущенный смертному, какие про нее ходили бы тогда
легенды? Ведь могла бы стать, подобно некоторым своим знаменитым
современникам2, завсегдатаем литературных салонов в Лондоне и иных местах,
* Написано в 1916 г. {Примеч. Вулф).
124
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
объектом повышенного интереса портретистов, героиней нескончаемых
историй, автором более десяти романов; наверняка написала бы воспоминания
о событиях сорокалетней давности, о которых еще помнило бы старшее
поколение - свидетели ее громкой прижизненной славы. Как знать, возможно,
она разбогатела бы, во всяком случае, жила бы себе припеваючи. Только все
это неправда: на самом деле, единственный способ представить ее образ
неискаженно, это вообразить неприкаянную душу, которой нет места в
современном мире, и, вернувшись мысленно на пятьдесят лет назад, нарисовать
в воображении дом приходского священника, затерянный среди необжитых
йоркширских пустошей. В этом доме на безлюдье - самое ей место: где еще
преклонить голову сирой, несчастной, восторженной душе, вынужденной
зарабатывать себе на хлеб насущный?
А раз таковы обстоятельства, они не могли не сказаться на характере
писательницы и, скорей всего, оставили след в ее творчестве. Как же иначе,
рассуждаем мы: ведь возводя задуманную постройку, романист использует
очень хрупкий материал, стремясь во что бы то ни стало придать
сооружению всамделишный вид, и постепенно городит вокруг непролазные дебри
чепухи. Поэтому мы с большой неохотой засаживаем себя снова за «Джейн
Эйр», подозревая, что выстроенный в ее воображении мир окажется на
поверку сундуком моей бабушки - пронафталиненным викторианским хламом
времен середины девятнадцатого века: а чем еще может удивить дом
приходского священника в северной глуши, куда заглядывают одни зеваки да
архивариусы? Итак, «Джейн Эйр» - открываем, начинаем перечитывать и
буквально на второй странице все наши сомнения улетучиваются:
«Тяжелые складки пунцовых драпировок загораживали меня справа;
слева оконные стекла защищали от непогоды, хотя и не могли скрыть картину
унылого ноябрьского дня. Перевертывая страницы, я время от времени
поглядывала в окно, наблюдая, как надвигаются зимние сумерки. Вдали
тянулась сплошная завеса туч и тумана; на переднем плане раскинулась лужайка
с растрепанными бурей кустами, их непрерывно хлестали потоки дождя,
которые гнал перед собой ветер, налетавший сильными порывами и жалобно
стенавший»3.
Если в этом и есть что-то хрупкое, то только сама пустошь, а
нафталином отдает разве что «жалобно стенавший». Что же до восторженной ноты,
то она отнюдь не захлебывается в самом начале. Наоборот, на ее волне мы
пролетаем роман от начала до конца, не отрываясь от страницы, одним
залпом. Роман забирает нас так, что мы вздрагиваем при малейшем
шорохе - кажется, мы не у себя в комнате, а на севере в Йоркшире. Мы как дети
малые - смотрим писательнице в рот, держимся за руку, идем за ней след в
след, ни на секунду не забывая о ее присутствии. И дойдя до конца романа,
мы уже каждой клеточкой души ощущаем гениальность, бешеный
темперамент, мятежный дух Шарлотты Бронте. Какие удивительные личности
прошли перед нашими глазами, сколько ярких фигур врезалось в память, какие
«Джейн Эйр» и «Грозовой перевал»
125
необыкновенные черты поразили воображение! Но что интересно - видели
мы их только ее глазами, только пока она была рядом. А как ушла со
сцены - нет никого: мы одни. Стоит вспомнить Рочестера, как сразу
вспоминается Джейн Эйр. Мелькнет в памяти пустошь, и опять перед нами Джейн
Эйр. Даже если вспоминается гостиная*, «белые ковры, с наброшенными на
них пестрыми гирляндами цветов», камин «бледного паросского мрамора»,
уставленный богемским «рубиновым» стеклом, «вся эта смесь огня и
снега»4, все равно ясно, что это мир, где безраздельно царит Джейн Эйр.
Быть Джейн Эйр - совсем не просто, и уязвимые стороны этой роли
видны невооруженным глазом: согласитесь, что иметь амплуа гувернантки,
помноженное на роль влюбленной барышни, в мире, где люди играют совсем
другие роли, значит, заведомо ограничивать свои возможности.
Насколько богаче и многостороннее получаются характеры у той же Джейн Остен
или того же Толстого, а все потому, что их герои живут и действуют среди
многих себе подобных, и эти последние, подобно зеркалам, высвечивают в
каждом персонаже разные грани его личности. Герои этих писателей живут
самостоятельной жизнью, независимо от воли их создателей, и настолько
самодостаточным кажется населяемый ими мир, что мы можем сами,
запросто, войти в него и свободно в нем расположиться. Совсем не то у Шарлотты
Бронте: по силе личности и избирательности взгляда она сравнима разве что
с Томасом Гарди, от которого, впрочем, многое ее и отличает. Например,
читаем мы «Джуда незаметного»5 - там нет стремительной развязки, как в
«Джейн Эйр»; наоборот, мы нет-нет да отвлечемся от текста, задумаемся
над вопросами, подсказанными судьбой героев, хотя сами они ни о чем
подобном не думают. Люди простые, «от сохи», они, тем не менее, побуждают
нас размышлять о смысле жизни, искать ответы на самые сложные вопросы
бытия, создавая впечатление, что главные действующие лица в его романах
всегда безымянные. Ничего подобного у Шарлотты Бронте нет:
взыскующий дух, мощь философского обобщения - все это не ее. Она не
пытается разрешить проблемы бытия, вполне возможно, она и не догадывается об
их существовании. Единственное, во что она вкладывает всю себя - и
делает это с потрясающей силой, не размениваясь на мелочи, - это крик души
«Я люблю!», «Я ненавижу!» «Мне больно!».
* У Шарлотты и Эмили Бронте схожее чувство цвета. «...Мы увидели - и ах! Как это было
прекрасно! - роскошную залу, устланную алым ковром, кресла под алой обивкой, алые
скатерти на столах, ослепительно белый потолок с золотым бордюром, а посредине его - каскад
стеклянных капель на серебряных цепочках, переливающихся в свете множества свечечек»
(«Грозовой перевал»). «Но это была всего лишь красиво убранная гостиная с альковом, оба
помещения устланы белыми коврами, на них словно наброшены пестрые гирлянды цветов;
белоснежные лепные потолки все в виноградных лозах, а под ними контрастно алели
диваны и оттоманки, и на камине из бледного паросского мрамора сверкали рубиновые сосуды
из богемского стекла; высокие зеркала в простенках между окнами многократно повторяли
эту смесь огня и снега» («Джейн Эйр». - Примеч. Вулф).
126
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Дело в том, что писатели с ярко выраженным личностным началом,
замкнутые в самих себе, обладают душевной энергией такой высокой
плотности, какая и не снилась художникам более свободным и терпимым. Эти
впечатлительные натуры цепко держатся за каждый клочок воспоминаний,
запавший им в душу; они неохотно расстаются с заветными мечтами, а если
и случается, то их не спутаешь с чужими мыслями - на всем лежит печать
именно их и только их таланта. Другие писатели им не указ: они не
усваивают даже то малое, что вроде бы перенимают. Создается впечатление, будто
и Гарди, и Шарлотта Бронте взяли за основу стиля неестественный и
вычурный язык газетчиков: во всяком случае, в их прозе сохраняется некоторая
неуклюжесть и туговатость. Однако отдадим им должное: они с таким
усердием и упорством били в одну точку, так упрямо гнули свое, стараясь
подчинить слова образу мысли, что, в конце концов, создали язык, один в один
выражающий их замысел: язык, по-своему прекрасный, могучий и
стремительный. В нем нет и следа читательского опыта - Шарлотта Бронте точно
ничего не использовала из своего багажа читательницы. Она так и не
научилась, по примеру профессиональных литераторов, гладкой, накатанной
речи, то напористой, то витиеватой. «Мне всегда с трудом давалось
общение с умными, тонкими, внимательными собеседниками или
собеседницами, - начинает она тоном, напоминающим передовицу в провинциальном
журнале, однако постепенно ее голос крепнет, согревается, обретает
гибкость и богатство модуляций, - но стоило мне сломать лед светских
приличий и перебороть собственную нерешительность, как я отвоевывала себе
местечко в глубине их жарких гостеприимных сердец»6. А это уже ее
епархия - сердечная душевная атмосфера, ею пронизана буквально каждая
страница. Другими словами, конек Шарлотты Бронте - не тонко обрисованные
характеры: нет, все ее герои пылки и прямолинейны; и не комическая
сторона сюжета - напротив, в ее историях нет ничего легкого или смешного; и
не философский взгляд на вещи - она же до мозга костей дочь своего отца,
приходского священника. Нет, истинная ее стихия - это лирика. Возможно,
таков удел всякой творческой личности - недаром про таких в жизни
говорят: не хочешь, а заметишь. Есть в них что-то неукротимое - какой-то
творческий зуд, мешающий им стоять в стороне безучастными наблюдателями:
вечно он заставляет их идти наперекор устоявшемуся порядку. Именно этот
мятежный дух вынуждает их забыть о полутонах и прочих мелких деталях и
устремиться в бурное море страстей человеческих, отметая в сторону
рутину, житейские заботы обывателей. Такие становятся поэтами; а случись им
писать прозу, они не будут мириться с ее условностями. Не случайно Эмили
с Шарлоттой чуть что - сразу обращаются к природе: им обеим необходим
мощный символ тех беспредельных вулканических страстей в душе
человека, которые едва ли можно выразить словом или поступком. Недаром свой
лучший роман «Городок»7 Шарлотта заканчивает сценой бури: «Темное,
набрякшее небо висело низко над волнами - точно парус под ветром, и тучи,
«Джейн Эйр» и «Грозовой перевал»
127
шедшие с запада, принимали причудливые формы»8 - еще бы: природа в
этом случае призвана описать настроение, которое по-другому выразить
нельзя. Заметим, однако, что пейзаж как предмет, достойный наблюдения,
сестер совсем не увлекает: они не стремятся, как Дороти Вордсворт, к точному
его описанию или к тонкой зарисовке, как Теннисон. Нет, они хватаются за
те природные явления, которые сопредельны их собственному настроению
или состоянию героев, потому что все эти бури, пустоши, редкие просветы
чистого летнего неба - не декоративный прием, не яркое пятно, призванное
оживить сцену, и не похвальба собственной зоркостью: нет, они несут
эмоциональный заряд, высвечивая смысл книги.
Постичь же смысл произведения, как правило, довольно сложно,
поскольку выражается он чаще всего не в том, что описывается, и не в том, как
изъясняются герои, а в том не лежащем на поверхности сопряжении внешне
далеких явлений, которое имел в виду писатель. Особенно сложно бывает с
такими поэтами прозы, как сестры Бронте: у них смысл неотделим от
языка, да и о смысле-то можно говорить с большой натяжкой, скорее о
настроении, о чем-то неуловимом. И чем сильнее, талантливее поэт, тем труднее
поддается пониманию его идея: именно поэтому разобраться в «Грозовом
перевале» Эмили намного труднее, чем в «Джейн Эйр». Если для Шарлотты
писать было равнозначно темпераментному, яркому, безудержному
самоизлиянию: «Я люблю!», «Я ненавижу!», «Мне больно!», и это очень похоже
на то, как мы в обыкновенной жизни выражаем свои чувства, хотя по силе
переживания наш опыт не сравнится с душевной драмой Джейн Эйр, то в
«Грозовом перевале» все совсем не так. Там нет ни героини, изливающей
душу, ни гувернанток, ни хозяев. Любовь там, правда, есть, но то не любовь
между мужчиной и женщиной: какая-то иная, более общая идея служила
Эмили источником вдохновения. Ее не увлекали собственные страдания или
болячки: она не находила в них поэзии. Но вот картина мира, расколотого
надвое, пребывающего в состоянии вселенского хаоса, - это ей по нраву:
она верит, что ей по плечу восстановить распавшуюся связь вещей. В ее
романе видно титаническое стремление сдвинуть глыбу с мертвой точки,
разрешить дилемму: когда устами своих героев она не просто изливает душу -
«Я люблю!», «Я ненавижу!», - но от лица всего человечества бросает вызов
холодным вечным стихиям, мы поражаемся убежденности, с какой она
заставляет нас поверить в свою силу! И что с того, что вызов, брошенный
звездам, не был услышан, что фраза оборвана на полуслове, борьба закончилась
поражением? По-другому и быть не могло, зато сколько скрытой мощи
таится в полукосноязычном признании Кэтрин Эрншо: «Если погибнет все,
но он останется, жизнь моя не прекратится; но если все другое
сохранится, а его не будет, вся вселенная сделается мне чужой, и мне нечего будет в
ней делать»9. Даже перед лицом смерти не дрогнет эта сила: «Я вижу покой,
которого не потревожить ни земле, ни адским силам, и это для меня залог
128
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
бесконечного, безоблачного будущего - вечности, в которую они вступили,
где жизнь беспредельна в своей продолжительности, любовь - в своей
душевности, а радость- в своей полноте»10. Собственно, почему ее роман и
занимает столь высокое место среди прочих: в нем словно прозревается, за
внешними поступками людей, существование такой силы духа, которая
поднимает житейское до уровня истинного величия... Но почему роман? Разве
поэзии мало? Действительно, в стихах, которые, возможно, переживут века,
Эмили Бронте в нескольких строках запечатлела и крик души, и свое кредо.
И все же талант романиста не давал ей покоя: хотелось попробовать себя на
более трудном и менее благодарном поприще - в прозе, где приходится, как
известно, лепить характеры, неусыпно следить за нитью действия, создавать
реалистические зарисовки жизни на ферме, в усадьбе; воспроизводить
живую речь мужчин и женщин, совершенно на тебя не похожих. И, надо
сказать, ей это удалось: мы сопереживаем героям не оттого, что они изливают
душу или сыплют тирадами, а опосредованно: вот слышится старинный
мотив, который напевает девочка, качаясь на ветке дерева; вот на наших
глазах отара овец поднимается по склону, щипля траву; вот ветер прошелестел
в траве. Перед нами, как на ладони, жизнь йоркширской фермы, несуразная,
хлопотная, - для многих из нас это диво дивное. И что очень важно:
никто нам не запрещает сравнить жизнь, описанную в «Грозовом перевале»,
с житьем-бытьем на настоящей ферме, или, скажем, сравнить Хитклиффа
с живым человеком. Естественно, у нас возникает вопрос: если мы в
жизни не видали таких людей, какие изображены в «Грозовом перевале», то с
какой стати говорить об убедительности, глубине и тонкости их образов?
Только вот какая штука: при всей правомерности наших вопросов, трудно
не согласиться с тем, что только в Хитклиффе Кэтрин могла увидеть
кровного ей по духу брата. Да, таких, как он, не бывает, и, тем не менее,
другого, столь же убедительного подростка в литературе просто не сыскать!
То же самое - образы обеих Кэтрин: в жизни мы таких не встречали,
женщины так себя не ведут, это совсем не женские чувства, отмечаем мы про
себя, читая. И все равно, образов, прелестней, чем эти двое, в английской
литературе нет. Такое впечатление, будто Эмили Бронте вырвала с корнем
все внешние атрибуты представителей рода человеческого и наделила
бестелесных духов такой неукротимой жаждой жизни, что они существуют по
ту сторону реальности. А если так, то она - романист от бога: ей ничего не
стоит взять и выпустить жизнь на волю, освободив ее от оков обстоятельств.
Одним взмахом пера обрисовать душу и отпустить на все четыре стороны
тело - за ненадобностью. С полуслова привести в движение ветер и поднять
бурю.
Джордж Элиот
129
ДЖОРДЖ ЭЛИОТ
Надо внимательно вчитаться в Джордж Элиот, чтобы понять, насколько
плохо мы ее знаем, а заодно и оценить собственную детскую доверчивость
(прямо скажем, не делающую нам чести), с которой мы
полузлорадно-полуравнодушно приняли на веру поздневикторианский миф о писательнице:
дескать, женщина была не от мира сего, и вопросы, в обсуждении которых
она представлялась законодательницей, были столь же харизматичны, как
она сама... Сейчас трудно сказать с уверенностью, когда и каким образом к
этому мифу о Джордж Элиот добавилась другая громкая сенсация: кто-то
связывает последнюю с появлением ее «Жизнеописания»1. Но, возможно,
руку к перемене общественного настроения приложил, сам того не желая,
Джордж Мередит: своей неосторожной репликой о появлении на публике
«живчика антрепренера» и «странницы, сбившейся с пути»2, он невольно
подлил масла в огонь той критики, которая раздавалась по адресу
несчастной со стороны невежественного и падкого на скандалы света. И вот
результат - Джордж Элиот сделалась объектом насмешек молодежи, увидевшей в
ней удобную мишень для ниспровержения - ладно бы ее одной! - нет, целой
группы серьезных зрелых людей, которые оказались виноваты в том, что
они разделяли общее восхищение этой странной фигурой, и за это любой
мальчишка мог щелкнуть каждого из них по носу. Как же, лорд Эктон
отозвался о Джордж Элиот как о современном Данте, причем более крупного
масштаба, чем средневековый мистик, а Герберт Спенсер, потребовавший
убрать из Лондонской библиотеки всю беллетристику, почему-то сделал
исключение только для ее романов3, словно они не беллетристика! Называть
Джордж Элиот гордостью и украшением женского пола, когда ее поведение
не только в свете, но и в домашней обстановке оставляло желать лучшего, -
какое заблуждение! И дальше наш мемуарист пускается в описание своего
первого воскресного визита в Прайори, не преминув сообщить, что не
может без улыбки вспоминать о тех давних серьезных беседах. Он помнит, в
какое замешательство привела его своим строгим видом дама в кресле; как
он тщился выдавить из себя что-то умное. Разговор действительно шел по
существу: в дневнике великой романистки, написанном ее привычным
каллиграфическим почерком, сохранилась запись, датированная утром
следующего понедельника,так вот автор упрекает себя в том, что намедни в беседе
она ошибочно упомянула Мариво, и тут же успокаивает себя, говоря, что
ее собеседник наверняка заметил ее оговорку и понял ее мысль правильно.
Согласитесь, романтического в воспоминании о беседе с Джордж Элиот на
тему Мариво маловато, недаром с годами воспоминание потускнело, и
возвращаться к нему не хотелось.
В самом деле, трудно поверить, что образ Джордж Элиот запечатлелся
просветленным и чистым в памяти тех, кто с ней встречался, скорее, наобо-
5. Вирджиния Вулф
130
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
рот: глядя на длинное, вытянутое лицо, что смотрит на нас с форзаца книги,
мы не можем не ощутить исходящую от всей ее фигуры тяжелую, мрачную,
почти крестьянскую силу. Вот как пишет о ней м-р Госс, которому довелось
увидеть ее в Лондоне в открытом экипаже: «...грузная, дородная сивилла, с
опущенными веками, неподвижная; слоноподобные черты ее лица, которое
в профиль кажется мрачноватым, плохо сочетались с широкополой шляпой,
украшенной, по последней парижской моде, огромным страусовым пером»4.
С неменьшим мастерством рисует ее портрет в домашней, более теплой
обстановке леди Ричи: «Она сидела у камина в блестящем черном атласном
платье, рядом, под рукой, на столике с зажженной лампой под зеленым
абажуром, лежали книги с немецкими названиями, брошюры и разрезальные
ножи слоновой кости. Она была само тихое благородство: я сидела,
завороженная ее нежным голосом, чувствуя на себе внимательный взгляд ее острых
глаз. В ее расположении сквозило что-то дружеское, радушное, хотя
настоящей доверительности не было»5. Сохранился отрывок беседы с ее репликой:
«Нам следует осторожнее относиться к своему влиянию. Мы по себе знаем,
как сильно воздействуют на нашу жизнь другие люди, и мы обязаны
помнить о том, что и мы в свою очередь оказываем на кого-то не менее сильное
впечатление». Можно себе представить, как ревниво оберегал эту реликвию
ее собеседник, хранил в памяти, вспоминал, а когда потом через тридцать
лет перечитал сентенцию, то неожиданно для себя расхохотался.
По сохранившимся свидетельствам видно, что любой мемуарист всегда
держал с ней дистанцию, даже в живом общении: увлечься ею или даже
просто прочитать ее поздние романы сквозь призму прелестного,
обворожительного женского образа, такого манящего, никому и в голову не приходило.
Обаяние в литературе - великая вещь, ведь писатель невольно раскрывается
в своем произведении, и критики, а большинство их представители
другого пола, подспудно ждут от писательницы проявления этого самого
желанного и притягательного свойства - женского обаяния. А когда не находят,
сильно досадуют. Так вот, Джордж Элиот ни обаятельной, ни женственной
не назовешь, и все те милые ужимки и капризы, которые обычно придают
художнику трогательную наивность, - говорят же о многих: «он сущий
ребенок», - ей были чужды. Наверное, поэтому многие, подобно леди Ричи,
находили «что-то дружеское, радушное» в ее расположении, но «настоящей
доверительности» не испытывали. Однако, если присмотреться
внимательнее, все эти воспоминания в общем-то повторяют друг друга: все они
рисуют портрет немолодой знаменитой женщины в черном атласном платье,
откинувшейся на подушки в собственном экипаже; видно, что она много в
жизни боролась, многого добилась и теперь хотела бы помогать людям, но
сближаться не собирается, ей вполне хватает тесного кружка друзей ее
молодости. Правда, об этой странице ее жизни - молодости, нам почти ничего
не известно, кроме того, что ее образованность, познания в философии, ела-
Джордж Элиот
131
ва и влиятельность выросли на очень скромном общественном фундаменте:
дед ее был плотником.
В первом томе биографии нарисована безрадостная картина отчаянных
попыток молодой девушки вырваться из душного провинциального мирка,
пользуясь тем, что она работает помощником редактора в одном
высокоинтеллектуальном лондонском издании6 и сотрудничает с Гербертом
Спенсером (к тому времени семья их, заняв более респектабельное положение в
табели о рангах среднего класса, уехала из живописной сельской местности7).
В печальном автобиографическом очерке, который она позднее напишет по
настоянию м-ра Кросса8, этап за этапом описывает она свою тогдашнюю
непростую жизнь. В молодости ей прочили «судьбу хозяйки дамских
пошивочных мастерских»9, а она затеяла благотворительную компанию по сбору
средств на восстановление храма, началом которой послужил
собственноручно составленный экскурс в историю христианской церкви. Завершился
этот этап кризисом веры, который настолько потряс ее отца, что тот
отказался было жить с дочерью под одной крышей. Потом она взялась за перевод
Штрауса10, и мало того что труд сам по себе оказался утомительным и, по
ее словам, «душевно отупляющим», так тяжесть его еще усугублялась
обычными женскими хлопотами по дому и уходом за больным отцом: те годы
отложились в ней стойким убеждением, что любовь и внимание близких,
уважение родного брата дороже ей судьбы синего чулка. Она вспоминала:
«Я ходила по дому крадучись, как сова, - моего брата это просто бесило»11.
«Бедняжка, - делилась своим впечатлением подруга, которой довелось
наблюдать, как та корпела над Штраусом, поставив перед собой статуэтку
воскресшего Христа, - мне иногда ее жалко. Надо же себя так изводить
многочасовыми бдениями, жуткими мигренями, беспокойством о больном отце»12.
Читая ее биографию, сострадаешь ей всей душой: натерпелась, намучилась,
неся свой крест, - сколько сил, здоровья, красоты загублено зря! И тут же
ловишь себя на мысли, что страдания эти были не напрасны и жалость наша
ни к чему: ведь ценой лишений она поднималась все выше и выше на
культурный Олимп. Да, она двигалась мелкими шажками, неуклюже,
неуверенно, зато неуклонно: ее вело глубокое и благородное стремление к высшей
цели. Никакие препятствия ей были не страшны. Она всех знала, все читала
и, в конце концов, одержала победу - покорила интеллектуальную вершину.
Молодость прошла, зато и с муками юности было покончено: сильная,
свободная женщина, в свои тридцать пять она сделала шаг, перевернувший всю
ее - и в каком-то смысле нашу с вами - жизнь: вдвоем с Джорджем Генри
Льюисом она отправилась в Веймар13.
Вскоре из-под ее пера вышли книги, - если хотите, плод ее союза с
Льюисом, - которые в полной мере выражают обретенную ею, благодаря
личному счастью, свободу: настоящий пир ума и сердца. Но интересно
отметить связь между ее первыми романами и некоторыми жизненными
обстоятельствами: стоя на пороге нового для себя литературного творчества, она
5*
132
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
почему-то обращалась к прошлому, к детским воспоминаниям, тихим
сельским радостям, красоте природы, словно хотела отвлечься от себя,
нынешней, и своего положения. Становится понятно, почему она сначала написала
«Сцены из клерикальной жизни», а не «Миддлмарч»14: их с Льюисом союз
дал ей эмоциональное удовлетворение, но из-за известных обстоятельств и
общественных условностей их гражданский брак сделал ее изгоем. «Я хочу
быть правильно понятой, - написала она в 1857 году, - я никого к себе не
приглашаю, кроме тех, кто сам пожелал прийти»15. Позднее она скажет, что
«перестала существовать для так называемого света», и совсем о том не
жалеет. Однако, став заметной фигурой - сначала невольно, из-за
обстоятельств, затем благодаря своей славе, она лишилась возможности свободно,
на равных общаться с современниками, а для романиста, согласитесь, это
серьезная потеря. Впрочем, когда мы читаем «Сцены из клерикальной
жизни», ощущения потери отнюдь не возникает: наоборот, такое впечатление,
будто купаешься в теплых лучах солнца, чувствуя, с каким наслаждением
щедрая, зрелая мысль Джордж Элиот, вновь окунувшись в мир «далекого-
далекого прошлого», буквально расправляется каждой своей складочкой,
впитывая чувство свободы. Такой богатой душе, как у нее, все идет впрок:
каждое новое впечатление она пропускает через себя, и оно откладывается,
образуя слой за слоем опыт ума и сердца, питающий и поддерживающий ее.
Что же касается отношения Джордж Элиот к литературе, то, поскольку нам
мало что известно о ее жизни, с уверенностью можно говорить лишь о том,
что она глубоко усвоила определенные истины, прежде всего ту печальную
истину, что нет большей добродетели, чем терпимость: люди обычно
постигают ее к концу жизни, а для многих она так и остается втуне. Джордж
Элиот же, кажется, всегда была на стороне людей кротких, обыкновенных,
и ее вполне устраивало повествование о жизни семьи с ее повседневными
радостями и тревогами. В ней не было ни на йоту того романтического
напора, который рождается из чувства собственной индивидуальности,
чувства ненасытного и неукротимого, которому надо во что бы то ни стало
пробиться, выделиться на общем фоне, блеснуть. Это все равно что сравнивать
серенькие мысли старого священника, который клюет носом над
стаканчиком виски, распространяя вокруг запах табака и свечного воска, с
подобным комете, огненным темпераментом Джейн Эйр. Насколько прекрасны те
первые ее книги: «Сцены из клерикальной жизни», «Адам Бид», «Мельница
на Флоссе»16! О достоинствах Пойзеров, Додсонов, Гилфилов, Бартонов, их
родственных связях, домочадцах, обстановке и т.д. можно говорить
часами, а все потому, что они живые, как мы с вами, - люди из плоти и крови:
мы живем с ними одной жизнью, иногда нам делается скучно, иногда мы
им сочувствуем до глубины души, ни минуты не сомневаясь в том, что это
именно их слова, их поступки, - согласитесь, это верный признак
подлинности! Как река естественно заполняет свое русло, точно так же, стремительно
и щедро, наделяет писательница одного за другим своих героев детскими
Джордж Элиот
133
воспоминаниями, шутками, обживая эпизод за эпизодом, пока не воспрянет
под ее пером на странице как живая, во всем своем богатстве и
многокрасочности добрая старая Англия. Нам остается только упиваться этой картиной:
наш внутренний критик благодушно спит. Мы ощущаем разлитую вокруг
атмосферу добра и духовной свободы, даровать которые дано лишь великим
писателям, наделенным творческим воображением. Столько лет прошло с
тех пор, как мы последний раз читали эти книги, а они, вопреки
ожиданиям, как встарь, заряжают нас той же энергией, так же воодушевляют, как и
прежде: так бы сидел себе и сидел, греясь возле них, как в лучах солнца, что
стекают жаркой волной по садовой ограде красного кирпича. Кажется, это
самое верное в данных обстоятельствах: довериться, без долгих
размышлений, стихии воспоминаний о земляках-миддлендцах17, тамошних фермерах,
их женах... Это такой бездонный человеческий мир, что копаться в
собственных впечатлениях просто неохота. А ведь если задуматься, - мир этот,
мир Шеппертона и Хейслоупа, настолько от нас далек по времени, а образ
мысли того же фермера или, положим, скотника настолько непредставим,
не то что для нас - для большинства читателей самой Джордж Элиот! - что,
естественно, возникает вопрос: почему же нам так легко и приятно выйти
из дома и отправиться на кузню или, посидев в гостиной, пойти гулять в
пасторский сад? Объяснить это можно только одним - духом сопереживания,
которое Джордж Элиот испытывает к своим героям, увлекая за собой и нас,
читателей, ибо в ее отношении к ним нет ни малейшей снисходительности
или нездорового любопытства. Она же не сатирик; комедия - не ее жанр:
там мысль должна двигаться молниеносно и отточенно. Зато она умеет так
много всего разного черпать в человеческой природе и, не пролив ни капли,
предлагать тому столь вольное и широкое истолкование, что, перечитывая,
диву даешься: как только ей все это удается - и сохранить свежесть и
живость характеров, и придать им нечто такое, что вызывает у нас смех сквозь
слезы? Взять знаменитую миссис Пойзер. Можно легко себе представить, до
какого абсурда довел бы описание ужимок и причуд этой матроны любой
другой писатель, будь он на месте Джордж Элиот, у нее же разве что чуть
лишку переложено одной и той же краски. Только вот какая штука:
прочитали мы роман, отложили, а наша память, независимо от нас, выносит на
поверхность незамеченные, но важные подробности - как порой случается
и в жизни. Да, припоминаем мы, она ведь частенько недомогала; бывало,
сидела, словно воды в рот набрав. Терпеливая, - как ухаживала за больным
ребенком! В Тотти души не чаяла... И так до бесконечности: сидим,
перебираем в памяти милые подробности душевного облика того, другого героя
или героини Джордж Элиот. И что интересно: даже в самом эпизодическом
персонаже у нее угадывается тайна, над которой она сама не властна, как
говорится, чужая душа потемки - это сказано про героев Джордж Элиот.
Но, притом что ранние романы исполнены стихии терпимости и
сострадания, в них есть внутренний драматизм. Да, она показывает себя маете-
134
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ром большой формы, способным охватить широкий круг персонажей и тем:
и деревенских дурачков, и неудачников, и матерей с детишками, и собак,
и цветущие миддлендские луга, и фермеров за кружкой эля - то
философствующих, то в стельку пьяных, и торговцев лошадьми, и хозяев постоялых
дворов, и поддъяков, и плотников... Все окутано легкой романтической
дымкой - дымкой прошлого: между прочим, это единственная ее поблажка
романтическому чувству. Все до одного романы читаются поразительно легко,
без всякой натянутости. Но если посмотреть на них в целом, в перспективе,
то станет ясно, что флер воспоминаний постепенно тает. И дело вовсе не в
том, что слабеет ее перо: как раз наоборот - на наш взгляд, ее талант как
нигде мощно проявился в «Миддлмарче», а он был написан в зрелые годы:
это великая книга, несмотря на все огрехи, один из немногих английских
романов для взрослых, зрелых людей. Нет, дело в другом: просто сама
писательница потеряла интерес к миру сельской природы, как, собственно, и в
жизни ее пристрастия тоже переменились. Как ни приятно предаваться
воспоминаниям о прошлом, от себя не убежишь: даже в самых ранних романах
прорывается беспокойный дух томления, поиска, разочарования и
неудовлетворенности, который может принадлежать только одному человеку -
самой Джордж Элиот. И если в «Адаме Биде» ее личность только угадывается
в образе Дины, то в Мэгги из «Мельницы на Флоссе» она открывается с
обезоруживающей полнотой и откровенностью. В «Раскаянии Дженет» она,
понятное дело, сама Дженет, она же Ромола, она же Доротея, жаждущая
мудрости и обретающая лишь ей одной ведомое счастье в браке с Ладиславом18.
Такие alter ego могут запросто настроить читателей против автора, и не без
оснований: ведь это из-за них нам кажется, что она ведет себя дурно, то
и дело попадает впросак, тушуется, берет менторский тон и обнаруживает
нрав простолюдинки. Однако не будь в ее романах таких сестер-близнецов,
от них мало что осталось бы, хотя, наверное, на художественном мастерстве,
на праздничной и домашней атмосфере соответствующих сцен такая
гипотетическая утрата сильно не сказалась бы. Неудача же, постигшая Джордж
Элиот с ее героинями, - если мы вообще вправе говорить о неудаче, -
явилась следствием того, что прозу она начала писать только в тридцать семь
лет, когда у нее уже сложилась болезненная привычка самоотторжения.
В течение долгого времени она гнала от себя всякую мысль о самой себе, а
когда занялась литературой и первый творческий запал прошел и появилось
чувство уверенности в собственных силах, она уже усвоила
повествовательную манеру от первого лица и иначе писать не могла, хотя делала это всегда
с оглядкой, без той непринужденности, какая бывает у писателя в молодые
годы. Стоит только какой-нибудь ее героине обмолвиться о чем-то, что ей
близко самой, как в речи тут же появляется натянутость. Как только ни
старалась она скрыть это внутреннее родство! И наделяла своих героинь
красотой и богатством (коими сама не обладала), и придумывала разные
невероятные способы самомаскировки, например пристрастие своих женщин к
Джордж: Элиот
135
бренди... И все равно, несмотря на всяческие уловки, факт остается фактом:
в каждом романе она появляется перед нами собственной персоной на фоне
мирного буколического пейзажа, и ничего тут не поделаешь - такова
неотразимая сила ее личности и таланта.
Самый наглядный пример того, что может натворить в романе
своенравная героиня, - это судьба прелестной девочки благородных кровей,
появившейся на свет в местечке «Мельница на Флоссе». Пока она маленькая, с ней
нет особых хлопот: шалунью можно утихомирить с помощью цыганского
табора или куклы - положим, дать ей в руки молоток и пусть себе
вгоняет гвозди в тряпичное туловище. Но вот беда: девочка-то подрастает, и не
успела Джордж Элиот оглянуться, как на руках у нее оказывается взрослая
женщина, которую ни цыганами, ни куклами, ни городком Сент-Огг не
заманишь, - ей подавай что-то совсем другое. Приходится выводить на сцену
сначала Филипа Уэйкема, затем Стивена Геста. Критики часто пеняли ей на то,
что первый из персонажей неубедителен, а второй слишком плоский, однако
дело не столько даже в неумении Джордж Элиот рисовать мужские образы
(а они у нее действительно получаются малоубедительными и ходульными),
сколько в сомнении и растерянности, охватывавших ее всякий раз, когда
она задумывалась над образом подходящего для героини спутника жизни.
Ведь это означает, что ей надо забыть о привычном, знакомом и дорогом ее
сердцу мире детства, где царят простые нравы, и заставить себя переступить
порог великосветской гостиной, где молодые господа по утрам занимаются
вокалом, а барышни вышивают на пяльцах для благотворительных базаров
ночные колпаки. Естественно, она чувствует себя не в своей тарелке - то-то
она так прямолинейно изображает жизнь «добропорядочного общества».
«Представители добропорядочного общества пьют кларет, ходят по
мягким коврам, ездят на званые обеды, куда их приглашают не позднее, чем за
полтора месяца; ходят в оперу, развлекаются на костюмированных балах...
науку знают по Фарадею, а слово Божие вкушают из уст
священнослужителей высшего ранга, с которыми встречаются в лучших домах. Зачем же
приличному обществу вера и принципы?»19
В этом описании нет ни нотки юмора, ни вдохновения - одна голая
мстительность, вызванная, судя по всему, личной обидой. Но как ни тяжело
воздействие нашей строго регламентированной общественной системы на
нравственное чувство самолюбивой романистки, осмелившейся преступить
сословные границы, эта сторона вопроса еще куда ни шла. А вот то, что
Мэгги Талливер заставила Джордж Элиот ввести в роман кульминацию
огромной эмоциональной силы, гораздо рискованней. Тут хочешь не хочешь,
а надо сделать так, чтоб Мэгги влюбилась, пережила сердечную драму и
утонула, крепко прижав к груди родного брата, которого пыталась спасти.
Чем пристальней вчитываемся мы в эпизоды, изображающие душевные
переживания героев, тем сильнее подозрение, что не зря сгущаются у нас над
головами тучи - не иначе как скоро разразится гром и разверзнутся хляби
136
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
небесные, излившись потоками разочарования и пустых словес. Отчасти это
происходит из-за того, что ей плохо дается диалог, если только он не идет
на местном говоре, а еще сказывается возраст: ей трудно держать
эмоциональное напряжение, и она подспудно боится драматических сцен. Потом,
она позволяет своим героиням много болтать - и это при отсутствии у нее
настоящего вкуса к художественному слову. Нет у нее того чутья, которое
позволяет безошибочно выбрать фразу и вложить в нее глубинный смысл
всей сцены. « "С кем вы пойдете танцевать?" - спросил мистер Найтли... "С
вами, - отвечала Эмма, - если вы меня пригласите"»20. Этим все сказано -
ничего лишнего. Совсем не то у Джордж Элиот: ее миссис Кейсобон
проговорила бы целый час, а мы бы сидели, скучая, и смотрели в окно.
Только вот какой получается парадокс: положим, поставили мы крест на
героинях Джордж Элиот, загнали мы ее в угол «старинной» сельской
Англии и в итоге не только занизили значение, но и утратили самую
«изюминку» ее творчества. А то, что значимость ее романов велика, сомневаться не
приходится: открывающаяся перспектива столь широка, образы главных
героев обрисованы такой уверенной рукой, атмосфера в ранних романах столь
подкупает, а стремление постичь смысл жизни и философская глубина в
поздних вещах настолько искренни, что мы не спешим переворачивать
страницу, и мысль наша витает далеко-далеко. И все же самое притягательное в
ее романах - это героини. «Сколько себя помню, я всегда искала, во что
верить», - говорит Доротея Кейсобон. «Помню, как я истово молилась, а
сейчас у меня и молитв не осталось. Я стараюсь ни о чем не мечтать, если только
эти желания связаны со мной одной...»21 Эти слова могла бы сказать любая
героиня Джордж Элиот: ведь каждая решает один и тот же вопрос - вопрос
веры. Каждая встает на путь богоискательства в раннем детстве; каждая
обуреваема одной пламенной женской страстью - творить добро, и, собственно,
именно благодаря этому обстоятельству ее путь, полный мучений и поисков,
становится сердцевиной книги - тихим потаенным местом, подобным келье,
где вроде бы и можно молиться, да только некому. Ее героини ищут цель -
кто в познании, кто в повседневном женском труде, кто в служении
ближнему... Цели они так и не находят, и это не удивительно: древнее сознание
женщины, отягощенное страданиями и чувствами, веками пребывающее в
немоте, кажется, достигло критической точки насыщения, подобно налитой
до краев и переполнившейся чаше, - оно жаждет чего-то, что, скорей всего,
не совместимо с фактами существования. Бороться с ветряными
мельницами Джордж Элиот не пыталась - для этого у нее слишком ясный ум, а
закрывать глаза на правду не позволял характер, суровый и честный. Так что,
при всем благородстве порыва, борьба для ее героинь заканчивается либо
трагедией, либо, что еще печальнее, компромиссом. Впрочем, судьба их -
это незаконченная история судьбы самой Джордж Элиот. Ей, как и им, было
мало познать всю тяжесть и мучительность женского существования:
непременно хотелось вырваться из предписанного женщине мирка и начать самой
Русская точка зрения
137
собирать неведомые запретные плоды искусства и науки. Когда же она
обрела желанное знание, - а им могли похвалиться очень немногие ее
современницы, - она не отказалась от прежнего своего наследства, выражавшегося в
особом взгляде на вещи, в особых, отличных от общепринятых критериях,
но и не приняла награды и почести, которые, очевидно, полагала
незаслуженными. Такой мы ее и запомнили: знаменитостью, перед которой курят
фимиам, а она отшатывается от славословий, дичится, замыкается в себе,
ищет утешение в любви, как будто в любви все счастье и любовь - всему
оправдание, а сама при этом тянется «душой, изголодавшейся и тонко
чувствующей»22 ко всем тем сладостным плодам, которыми жизнь манит
свободный, жадный до просвещения ум, и азартно примеряет женские мечты к
реальности, где правят бал мужчины. В своем споре с жизнью она вышла
победительницей, как бы ни оценивали ее произведения, и если вспомнить все,
к чему она стремилась и чего достигла, вопреки стольким обстоятельствам,
работавшим против нее, - слабому здоровью, принадлежности к женскому
полу, условностям; если вспомнить, с какой жадностью впитывала она
новые знания, как до самой последней минуты, пока не рухнуло под двойным
напряжением тело, искала большей свободы, то мы, ни минуты не
задумавшись, покроем ее могилу самыми прекрасными гирляндами из роз и лавра,
какие только сумеем найти.
РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
На фоне часто посещающих нас сомнений в способности французов или
американцев понять английскую литературу, наши опасения насчет
понимания англичанами русской литературы выглядят гораздо серьезнее, притом
что с первыми у нас много общего, а русская литература встречает у
английских читателей самый горячий отклик. Можно бесконечно спорить о том,
что вкладывается в значение слова «понимать»: столько разных примеров
приходит в голову, особенно американских писателей, которые с большим
знанием дела отзывались о нашей литературе и о нас самих, подолгу жили
в Англии, а под конец жизни даже становились законными подданными
короля Георга1. Но даже они, эти знатоки, - разве можно сказать, что они нас
поняли, раскусили? Разве не жили они среди нас чужими и, собственно,
остались нам чужими до конца дней своих? Неужели кто-то из нас поверит
в то, что романы Генри Джеймса писал человек, который с младых ногтей
воспитывался в обществе, которое он изобразил в своих произведениях? Что
его статьи об английских писателях - дело рук критика, читавшего
Шекспира без всякой задней мысли о том, что между его цивилизацией и нашей
пролегают Атлантический океан и два-три столетия? Разумеется, у иностранцев
есть свои козыри: это особая острота и отстраненность восприятия; однако
138
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
избавиться от внутренней зажатости, добиться легкости,
непринужденности, компанейского чувства общих ценностей - это им не удается ни при
каких обстоятельствах, а ведь именно эти последние являются залогом
раскрепощенного, естественного, ненатужного диалога.
Добавьте ко всем этим препятствиям, отделяющим нас от русской
литературы, еще одно - языковой барьер, а ведь это камень преткновения
посерьезнее прочих. Сколько соотечественников наслаждались последние
двадцать лет Толстым, Достоевским, Чеховым, находя в их книгах настоящий
праздник ума и сердца, а ведь из них только один, в лучшем случае, два
человека читали по-русски2. Получается, что наше представление о
художественных достоинствах русской литературы создали критики, не знающие ни
слова по-русски, никогда не бывавшие в России и не слышавшие русской
речи, - словом, критики, слепо полагавшиеся на переводчиков.
А это означает, что о литературе целого народа мы рассуждаем голо, вне
стиля. У нас нет ничего, кроме приблизительной грубой заготовки
смысла, которую нам вручили после того, как каждое русское слово в
предложении заменили английским, где-то слегка изменив значение, где-то поменяв
интонацию, в чем-то утяжелив всю фразу, а в чем-то, наоборот, облегчив
ее. После такой операции великие русские писатели напоминают жертвы не
то землетрясения, не то железнодорожной катастрофы: мало того что они
остались голышом, без клочка одежды, они лишились главного - оттенков
речи, лица «необщего выражения». Кое-что, впрочем, сохранилось от их
первоначального облика: во всяком случае, судя по неизменному
восхищению английских читателей, это «кое-что» производит мощное неизгладимое
впечатление, но опять же, нет уверенности, что мы не искажаем, не
понимаем превратно, не вчитываем в произведения русских писателей чуждый им
ложный поворот, и все из-за этих уродских переделок.
Они попали в какую-то жуткую передрягу, вот и обобрали их до
нитки, - повторяем мы про себя, пытаясь этой фигурой речи передать всю
пронзительную простоту и человечность, с какой действует на нас русская
литература, лишенная привычных паллиативов, хотя почему так, мы не знаем:
то ли сказывается перевод, то ли причина зарыта глубже. Как бы ни было,
русская литература вся, вне зависимости от величины писательского
дарования, проникнута духом человечности. «Сумей почувствовать себя
близким людям, я бы хотел даже сказать - необходимым для них... Но
почувствуй это не умом - умом это не трудно, а сердцем, любовью к ним...»3 «Это
кто-то из русских», - сразу скажет англичанин, где бы он ни прочитал эти
слова. В нашем сознании русская литература увязана с отсутствием позы,
искренностью, готовностью признать, что в мире, полном людского
страдания, главная наша задача - понять ближнего, и «не умом - умом это не
трудно, а сердцем, любовью к ним»: вот та духовная аура, что окутывает
русскую литературу, как мы ее представляем, и настолько притягательно ее
воздействие, что мы готовы забросить наши чистенькие делянки и плавя-
Русская точка зрения
139
щиеся под колесами автомобилей магистрали и бежать в ее тенистые кущи,
под сень благодатного облака - правда, бежать себе в убыток. Ибо стоит нам
только выпасть из привычной среды обитания, как сразу появляется
натянутость, мы чувствуем себя не в своей тарелке: писать, чтобы произвести
впечатление людей простых и добрых, нам до невероятности тошно. Да и о чем
говорить, когда даже слово «брат» язык у нас не поворачивается сказать
искренне и в простоте душевной? У м-ра Голсуорси есть рассказ, где один
герой так обращается к другому - «брат» (оба они бедствуют)4. И что
получается? - моментально все становится натянутым и искусственным. В
английском языке русскому слову «брат» соответствует «mate», т.е. «дружище» -
слово с совершенно другим значением, в котором есть что-то сардоническое
и непередаваемо смешное. Поэтому, слушая этих двух «братьев» англичан,
оказавшихся на краю, мы точно знаем, что они в скором времени найдут
себе работу, постепенно сколотят капитал, встретят старость
преуспевающими господами в полном достатке и роскоши и перед смертью
обязательно позаботятся о том, чтоб бедолаги с набережной Темзы не называли себя
братьями, завещав на это благое дело кругленькую сумму. Ведь братское
чувство рождается не из всеобщего счастья или труда на общее благо и не
из единого порыва: нет, его рождает общая боль. Верно заметил д-р Хэгберг
Райт - «глубокая грусть» живет в русском народе, она-то и питает их
литературу5.
Конечно, обобщение такого рода - пусть даже верное по отношению ко
всей литературе - сразу усложняется, когда за дело берется мастер:
моментально появляются вопросы. Очевидно, что «позиция» вовсе не так проста,
как кажется: наоборот, она - плод высокого искусства. Эти люди, о которых
мы говорим, что они стали жертвами железнодорожного крушения, что они
зябнут без пальто, что все они кажутся на одно лицо, - люди эти говорят
суровые, жесткие, неприятные, неудобные вещи, и резкость их слов не
смягчает даже красота и отрешенность, к которым людей приучило несчастье.
Самое первое впечатление от Чехова - недоумение, а вовсе не ощущение
безыскусности. Что он хочет этим сказать? где здесь, собственно, рассказ? -
спрашиваем мы озадаченно, читая историю за историей. Влюбился человек
в замужнюю женщину, они расстались, потом снова начали встречаться, и
в конце описывается, как они мучаются своим положением, ломают
голову, как освободиться от «этих невыносимых пут»: «"Как? Как?" -
спрашивал он, хватая себя за голову. - Как? И казалось, что еще немного - и
решение будет найдено, и тогда начнется новая, прекрасная жизнь»6. Все - конец
рассказа. Или везет почтальон студента на железнодорожную станцию,
молодой человек всю дорогу пытается разговорить почтальона - тот молчит.
А потом вдруг ни с того ни с сего почтальон взрывается: «Посторонних не
велено возить... Не дозволено!» - и ходит по платформе, со злобой на лице.
«На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?»7 Это конец
рассказа.
140
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Но какой же это конец? - спрашиваем мы недоуменно. Одно из двух:
либо мы вчитали в рассказ то, чего в нем нет, либо восприняли конец как
резкий обрыв мелодии, поскольку не услышали привычных
заключительных аккордов. «Это незаконченные рассказы!» - заявляем мы с
убежденностью знатоков, которые точно знают, каким должен быть финал у рассказа,
и, к сожалению, не видим того, что подобные критические оценки лишают
нас читательской проницательности. Когда мелодия знакома и конец
известен - любовь торжествует, злодеи наказаны, заговор раскрыт, тут ошибки
быть не может, мы всегда оказываемся на высоте; но стоит только нам
услышать непривычную мелодию - как у Чехова, вопросительную ли
интонацию в конце рассказа или повисшую в воздухе фразу о том, что герои сидят
и разговаривают, как привычные решения обессмысливаются, отпадают, и
ты понимаешь, что тут особый случай, когда требуется абсолютный
литературный слух, позволяющий нам безошибочно услышать мелодию - в
особенности заключительные звуки, устанавливающие гармонию целого. Нам,
видно, придется прочитать не один десяток рассказов, если мы хотим быть
уверенными - а это ли не главное условие читательского удовлетворения? -
что ясно слышим тему и что Чехов не просто наугад, бессвязно берет
аккорды, а вслушивается в каждую взятую ноту, стремясь как можно точнее
выразить главную мысль.
Да, нам придется немало потрудиться, чтобы понять, в чем соль этих
необычных рассказов, и лучший наш помощник в этом деле - сам Чехов: его
наблюдения задают верное направление поиска: «...у родителей наших был
бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; по ночам они не
разговаривали, а крепко спали, мы же, наше поколение, дурно спим, томимся, много
говорим и все решаем, правы мы или нет»8. Мы знаем это состояние по
нашей общественной сатире и психологической прозе: обе они - плод
дурного сна и нескончаемых разговоров; однако, согласитесь, между Чеховым и
Генри Джеймсом или Чеховым и Бернардом Шоу - огромная разница.
Вопрос - в чем она, эта разница? Чехов ведь тоже осознает пороки и
несправедливость, царящие в обществе, его ужасает положение крестьян, и все же
реформаторский пыл у него не главное: выделять эту тему нам не следует. Его,
конечно, страшно интересует психология, он - тончайший сердцевед,
мастерски вскрывающий подноготную отношений. Впрочем, и это не главное:
похоже, и здесь мы снова - мимо. А что если дело в другом - что если
Чехова интересует не взаимодействие душ, а душевное здоровье человека, т.е.
состояние его души относительно добра? Ведь во всех его рассказах речь
идет о притворстве, позе, неискренности: женщина ли оказывается в ложном
положении, мужчина ли сломлен противоестественными условиями
существования... Каждый раз Чехов будто констатирует: душа больна; душа
излечилась; душа неизлечимо больна.
И как только мы это поняли, как только глаз наш пообвык в
полутемной комнате, моментально половины наших «выводов» о литературе как ни
Русская точка зрения
141
бывало! - они улетучились, растворились в воздухе, словно искусственно
подсвеченный дым, мишурный блеск, пустые словеса. На фоне чеховских
рассказов расхожая последняя глава, в которой герои женятся или умирают,
где с пафосом провозглашаются непреходящие ценности, вся эта
заключительная канонада звучит манерно и грубо. Ведь на самом деле - знаем мы
по себе - ничего не разрешилось, ничего не удалось по-настоящему увязать.
Другое дело, что чеховский метод, поначалу казавшийся нам таким
неряшливым, незаконченным, пустяшным, теперь представляется преоригиналь-
ной творческой манерой, продиктованной большим вкусом, смелостью и
безошибочным чутьем автора, сравниться с которым по искренности и
честности подхода могут разве что сами русские. И пусть наши вопросы
остаются без ответа, главное - во что бы то ни стало удержаться от соблазна
таким образом обыграть факты, чтобы в итоге получилось нечто складное,
пристойное, тешащее наше самолюбие. Да, наверное, это не лучший способ
обратить на себя внимание публики: в конце концов, читательское ухо
настроено на более громкий лад и быстрый темп, чем у Чехова; зато мелодию
свою он записал «с голоса», как она звучала, не переврав в ней ни одной
ноты. Вот откуда ощущение раздвигающегося горизонта, это ни с чем не
сравнимое чувство свободы, обретаемое нами по ходу чтения коротких
чеховских историй ни о чем.
С Чеховым постоянно ловишь себя на слове «душа»: оно всплывает по
ходу чтения, встречается чуть не на каждой странице. Излюбленное словечко
старых пьяниц: «...вы... и в чинах, рукой до вас не достанешь, но, голубчик,
у вас душа не настоящая... Силы в ней нет...»9 И в самом деле, душа- вот
главный персонаж русской литературы. Причем если у Чехова это
тончайший, чувствительнейший инструмент необыкновенной полноты звучания,
который ничего не стоит вывести из строя, то у Достоевского это
бушующая, глубокая, безбрежная, лихорадочная стихия - и все равно она у него на
первом месте. Возможно, именно поэтому английскому читателю так
трудно заставить себя перечитать «Братьев Карамазовых» или «Бесов»: не знает
он, с чем едят эту самую «душу». Это что-то чуждое, противное его природе;
у души нет чувства юмора, с ней не пошутишь. Это что-то неоформленное,
существующее помимо интеллекта; нечто путаное, зыбкое, горячечное, не
поддающееся рациональному объяснению или алгебре стиха. Романы
Достоевского - это кипящий водоворот, жаркий самум, это смерч, налетающий
на тебя неизвестно откуда, подхватывающий и несущий бог весть куда. Они
есть воплощенная душа, чистая, беспримесная: противиться им нету сил -
ты еще ни ахнуть, ни вздохнуть не успел, а тебя уже взяли в оборот, бросили
в гущу событий, оглушили, ослепили, привели в совершеннейший восторг.
Достоевский как никто заражает читателя - кроме него, так умеет, пожалуй,
только Шекспир: не успеешь открыть дверь, а в нее уже ломится народ:
русские генералы, гувернеры, падчерицы10, кузены и кузины - словом, все кому
не лень, и каждый норовит перекричать другого, не стесняясь, в открытую,
142
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
говоря о самом заветном и наболевшем. Где мы, кстати? Романисту
вообще-то не мешало бы уточнить место действия: то ли мы в гостинице, то ли
на квартире, то ли в меблирашках... Какое там! - здесь это никого не
интересует. Мы - души, бедные, несчастные, истерзанные, которым надо только
одно - выговориться, обнажить сокровенное, исповедаться, вывернуть
самое себя наизнанку, каких бы нервов и здоровья нам это ни стоило, чтобы
открылись те липкие, стыдные грехи, что наросли, подобно полипам, на дне
наших сердец. Мы вслушиваемся напряженно, и вот постепенно где-то на
горизонте забрезжил свет: нам бросили спасительный канат - мы ухватили
суть монолога; вцепились, держимся из последних сил, пока нас болтает
туда-сюда в водовороте страстей. Все круче, все лихорадочней наша одиссея:
нас то накрывает с головой, то вдруг озаряет такой пронзительной догадкой,
какая нам никогда и не снилась, - только успевай отмечать про себя
невиданные, небывалые вещи, как то случается в жизни в самые напряженные
моменты. Увлекаемые вихрем событий, мы подмечаем все: как зовут
героев, какие между ними отношения, что остановились они в одном из отелей
Рулетенбурга, что у Полины вышла какая-то история с маркизом Де-Грие11,
впрочем, и это все не важно, душа - вот главное! В ней одной - весь смысл,
в этой страстной, бешеной, неописуемой смеси красоты и низости. И что с
того что, читая, мы то хохочем до колик в животе, то заходимся от рыданий?
Это естественная реакция, тут никакие разъяснения не требуются. Когда
летишь на всех парусах и только ветер свистит в ушах, главное - это
потрясающее чувство полета. Ведь если идти на полной скорости, душа
обнажается до самого дна: не отдельными своими сторонами - то комической, то
страстной, как мы к тому привыкли, с нашей английской медлительностью,
а вся разом, скопом, без разбору: обжигающая, путаная, непонятная. Вот где
сознание являет новые горизонты! Старые схемы обессмысливаются: люди
одновременно и мерзавцы и святые; мы любим и ненавидим в одну и ту же
секунду. Четкой границы между добром и злом, как мы привыкли думать, не
существует. Часто случается так, что тот, к кому ты испытываешь самые
нежные чувства, оказывается величайшим преступником, а грешник из
грешников трогает тебя до глубины души, пробуждая чувство любви.
Как рыба, взлетевшая на гребень волны, шмякается о скалистый берег
и лежит, распластавшись, тяжко поднимая жабры, так и английский
читатель Достоевского чувствует себя явно не в своей стихии. Все перевернуто
с ног на голову; все не так, как обычно представляется в родной английской
литературе. Положим, решили мы поведать читателям о любовной истории
генерала (кстати, не прыснуть бы при слове «генерал»!) - первое, с чего мы
бы начали, это описали бы его семью, дом, окружение. И только после этого,
аккуратно все подготовив, перешли бы к самому чиновному лицу. К тому же
в Англии все крутится вокруг чайника, а не самовара: времени в обрез, места
мало, в голове теснятся разные другие мнения, другие книги, даже эпохи.
Общество поделено на низший, средний и высший классы, за каждым из ко-
Русская точка зрения
143
торых стоят свои традиции, обычаи и в определенном смысле свой особый
язык. Не учитывать эти различия английский романист не может - неважно,
нравятся они ему или нет, - отсюда навязываемые ему порядок и форма,
его вынужденная склонность к сатире, нежели состраданию, к стороннему
наблюдению общественных нравов, нежели к стремлению понять каждого
отдельного человека.
Совсем другое - у Достоевского: он от подобных ограничений свободен.
Ему все равно - из благородных ты или из простых, бродяга или
великосветская дама12. Какого бы звания ты ни был, главное - у тебя есть душа, этот
утекающий сквозь пальцы неостановимый поток, эта неведомая,
поднимающаяся как на дрожжах, драгоценная субстанция. Ее в положенные рамки не
введешь: она все равно найдет свое собственное русло, сольется с душами
других людей. Ведь как получается: незамысловатая история об отставном
чиновнике, которому нечем заплатить за бутылку вина, на наших глазах
неожиданно перерастает в повесть о его тесте и пяти любовницах, которых
тесть постоянно третирует, о почтальоне, прачке, о княжнах, снимающих
квартиру в этом же доме13, - кажется, нет такого уголка, который
укрылся бы от зоркого глаза Достоевского: ему подвластно все, причем, если он
утомляется, то, не сбавляя хода, идет дальше. Удержу Достоевский не знает,
обрушивая на наши головы эту обжигающую горючую смесь, этот
восхитительный страшный навязчивый кошмар - душу человеческую.
И напоследок обратимся с тем же вопросом к величайшему (иначе не
назовешь) романисту всех времен и народов - автору «Войны и мира»: что,
Толстой тоже производит впечатление далекого от нас и трудного для
понимания чужака? Что, в его взгляде на вещи тоже скрывается нечто такое,
что заставляет нас с чувством подозрения и смущения держаться на
расстоянии - во всяком случае, на первых порах, пока мы не подпали под влияние
учителя и не забыли, откуда мы родом? Как бы то ни было, первые же
сказанные им слова внушают нам чувство уверенности: с этим человеком у нас
много общего; он, как и мы, идет не от внутреннего к внешнему, а от
внешнего к внутреннему. В мире, где он живет, почтальон, как и у нас, звонит
в дверь в восемь утра, а спать там ложатся между десятью и одиннадцатью.
Он - мужчина, без малейших замашек дикаря или простодушного дитя
природы: воспитан, образован, многое повидал на своем веку. Истинный
аристократ, сполна осуществивший отпущенные ему от рождения
возможности. Гражданин мира, без ноты провинциализма. Мыслитель во всеоружии
обостренных и сильных чувств. Да когда этакая крупная личность, этакий
атлет пускается искать ответ на главные вопросы существования, трудно
удержаться от горделивой мысли - это поединок равных! Кажется, он
подмечает абсолютно все: от его острого глаза невозможно укрыться. Именно
поэтому он один в состоянии так упоительно и точно воспеть красоту
жеребцов, опьянение охотой, всю ненасытную жажду жизни и бешеное желание,
с какими открывает для себя мир физически сильный молодой человек14.
144
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Каждая травинка, каждое перышко моментально запечатлевается в его
мозгу. Он все видит и слышит: синий ли, алый цвет детского платьица, взмах
лошадиного хвоста, откашливание, судорожные движения человека,
который пытается спрятать руки в карманы, забыв, что они зашиты, все эти и
подобные жесты Толстой молниеносно и безошибочно увязывает с каким-то
скрытым мотивом поведения, поэтому нам, читателям, кажется, что мы
доподлинно знаем всех героев: ведь нам ведомы не только их любовные
переживания, политические взгляды и думы о бессмертии души, но и внешние
их повадки - как человек откашливается15 или чихает. Неудивительно, что,
читая, мы забываем о переводе, нас не покидает чувство, будто мы сидим
на вершине горы с подзорной трубой в руках: ясность и четкость
открывающейся дали необыкновенны. Мы дышим полной грудью, наслаждаемся
панорамой, слегка поеживаясь на холоде, промытые, как стекло, как вдруг,
откуда ни возьмись, на первый план вылезает какая-то мелочь, - положим,
чья-то голова - и заполняет собой все пространство, словно деваться
некуда от полноты жизни. «Вдруг что-то странное случилось со мной; сначала я
перестала видеть окружающее, потом лицо его исчезло передо мной, только
одни его глаза блестели, казалось, против самых моих глаз, потом мне
показалось, что глаза эти во мне, все помутилось, я ничего не видела и должна
была зажмуриться, чтоб оторваться от чувства наслаждения и страха,
которые производил во мне этот взгляд...»16 Каждый раз, перечитывая
«Семейное счастье», мы переживаем вместе с Машей; зажмуриваемся, чтоб
оторваться от чувства наслаждения и страха, чаще наслаждения. В этой повести
есть две сцены, где передано ощущение счастья: это описание Машиной
прогулки с женихом по ночному саду и эпизод, когда молодые, от полноты
переполняющего их чувства восторга, начинают шагать по гостиной,
стараясь попадать нога в ногу, так вот, чувство упоительного счастья выражено в
обоих случаях с такой нестерпимой остротой, что всякий раз, дойдя до того
или другого места, ты невольно захлопываешь книгу, стремясь примерить
на себя описываемое чувство. У Толстого оно, впрочем, всегда мучительно,
и нам, как и Маше, хочется убежать от его проницательного взгляда.
Отчего так? - оттого ли что долго жить на пике счастья невозможно, - мы знаем
это по себе, - что за головокружительным восторгом непременно идет беда?
А может, оттого что в самой упоительности наших желаний есть что-то
сомнительное, недаром Позднышев в «Крейцеровой сонате» задается
вопросом: «А жить зачем?» Да, похоже, Толстому не дает покоя загадка бытия,
как Достоевскому - тайна души: словно в чашечке цветка, такого
желанного, влажного, переливающегося всеми цветами радуги, Толстой обязательно
отыщет червячка, червячка сомнения: «А жить зачем?» Возьмите любую его
книгу - там непременно в центре повествования стоит пытливый молодой
человек - Оленин ли, Пьер ли, Левин: жадно вбирая впечатления, упиваясь
жизнью, увлеченно познавая мир, он, однако, не перестает мучиться
вопросами смысла жизни и достойной цели существования. Священнику обычно
Силуэты
145
не под силу убедить человека в тщетности желаний, а вот тому, кто сам
изведал запретный плод, эта задача по плечу: когда такая личность с
презрением отворачивается от мирских утех, кажется, земля под ногами обращается
в золу и рассыпается в прах. Потому нам и упоительно, и страшно читать
Толстого, и он как никто из великих русских писателей восхищает нас и
отталкивает.
Впрочем, возможно, это реакция иностранца, которому трудно
отрешиться от предрассудков, впитанных с молоком матери, и его оценка такой
далекой и чужой литературы, как русская, скорей всего мажет мимо цели, не
задев существа правды.
СИЛУЭТЫ
I
мисс МИТФОРД
Положа руку на сердце, книга «Мери Рассел Митфорд и ее эпоха»1 -
чтение так себе: как говорится, ни уму ни сердцу. О жизни премьер-министров в
ней ничего не рассказывается, а о самой мисс Митфорд говорится очень
скупо. И все же признаемся, раз уж зашел у нас разговор начистоту: иные
книги, не обогащая ум, не грея сердце, тем не менее, доставляют удовольствие.
И знаете, чем? Великое достоинство этих альбомов с картинками (язык не
поворачивается назвать их жизнеописаниями) состоит в том, что они
открывают простор лжи. Раз невозможно поверить тому, что мисс Хилл говорит о
мисс Митфорд, значит, мы вольны представить мисс Митфорд такой, какой
нам вздумается. Разумеется, никто и мысли не допускает уличить во лжи
мисс Хилл: нет, порок этот свойствен исключительно нам, грешным.
Например: «Элресфорд оказался местом рождения той, что любила природу так,
как редко кто ее любит; чьи творения "дышат запахом свежескошенной
травы и ароматом боярышника" и словно овевают нас "напоенным сладостью
ветерком, гуляющим над полями спелой пшеницы и цветущими лугами"»2.
Мисс Митфорд совершенно точно родилась в Элресфорде, но когда
читаешь такие пассажи, начинаешь сомневаться: а жила ли она вообще на свете?
Жила, жила, уверяет нас мисс Хилл: она родилась «16 декабря 1787 года в
доме, приятном во всех отношениях», сообщает мисс Митфорд. «Комната
для завтрака... была просторная, с высокими потолками». Итак, оказывается,
родилась мисс Митфорд на кухне примерно в половине девятого утра:
дороги замело, а доктор в то время кушали утренний чай. Ровно между второй и
третьей чашкой миссис Митфорд сообщает мужу, слегка побледнев, но при
этом не забывая добавить ему в чай нужное количество сливок: «По-моему,
146
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
у меня...» Так, вкрадчиво, исподволь проникает в наши поры ложь. Чего
стоит, например, небольшая, но, без преувеличения сказать, историческая
подробность насчет сливок, ведь известно, что кругленькую сумму в 20 000
фунтов выиграла в ирландской лотерее Мери, и д-р Митфорд до последнего
пенни потратил выигрыш на веджвудский сервиз, изготовленный на заказ:
на донышке каждой суповой тарелки был выгравирован номер счастливого
билета, украшавший собой ирландскую арфу, а над ней - родовой герб
семейства Митфорд, и по кругу, в виде вензеля, шел девиз сэра Джона
Бертрама, рыцаря времен Вильгельма Завоевателя, которого Митфорды почитали
за своего основателя. «Обратите внимание, - нашептывает Ложь, - с каким
достоинством Доктор кушают свой чай и как бедная хозяйка, прежде чем
выйти из комнаты, умудряется сделать книксен». Помилуйте, какой чай? -
переспрашиваю я, живо представив дородную фигуру хозяина и в
особенности багровый шишковатый нос и свисающий складками над белоснежным
кружевным жабо тройной подбородок малинового оттенка, как у индюка.
«Теперь, когда дамы удалились из комнаты...» - гнет свою линию Ложь,
отметая всякие сомнения и плодя все новые и новые небылицы, которые со
всей очевидностью доказывают тот факт, что у д-ра Митфорда была
содержанка и он снимал для нее квартиру на окраине Рединга, а сам представлял
дело так, будто вкладывает деньги в разработку нового способа освещения и
обогрева жилых домов, придуманного маркизом де Шаванном. Понятно, что
как веревочке ни виться, кончик все равно найдется: кончилось дело там, где
и следовало, - на скамье подсудимых в Верховном суде. Дойдя до этого
места, читатель, разумеется, ждет, что ему сейчас же поведают о литературных
и исторических подробностях, связанных с судебным производством, - ан
нет, не тут-то было: Ложь отворачивается, смотрит в окно и
глубокомысленно замечает, что снегопад все продолжается. Сколько, однако, очарования
скрыто в доброй старинной метели! Как все меняется! - кажется, прошло
всего несколько десятилетий, а изменились и погода, и люди... В старину
снежинки имели более четкий рисунок и были гораздо пушистее, чем
нынешний снег, да и нравы в восемнадцатом веке были совсем не такие, как
сегодня: что уж сравнивать с теми пышными и темпераментными буренками,
которые паслись на заливных елизаветинских лугах!.. Вообще на эту
сторону литературы мало кто обращал внимание, а ведь она весьма существенна.
Наше блестящее молодое поколение твердит о поиске темы:
спрашивается, зачем далеко ходить? - возьмите и поизучайте год-другой образ коров
в литературе, снегопада в поэзии, маргаритки у Чосера и у Кавентри Пэтмо-
ра3. А снег, кстати, все идет и идет: вот уже и порстмутский почтовый
дилижанс сбился с дороги, в море затонуло несколько судов, и причал в Маргей-
те пошел вразнос. В Хэтфилд Певрел от голода погибли сразу двадцать овец,
местное население кормится корешками, которые выкапывают из-под снега,
а тут еще прошел слух, что на дороге в Колчестер застряла в снегу карета
французского короля... На дворе 16 февраля 1808 года.
Силуэты
147
Бедная миссис Митфорд! Она вышла из комнаты ровно двадцать один
год назад и до сих пор ни слуху ни духу о ее ребеночке. Даже Ложь - уж
на что бесстыдное создание - несколько смутилась, вспомнив, что пишет
«Мери Рассел Митфорд и ее эпоху», и принялась успокаивать нас, уверяя,
что все будет в порядке: просто нужно немного подождать. Карета
французского короля уже недалеко от Бокинга, а в Бокинге живут лорд и леди
Чарлзы Мэрри-Эйнсли, и, к слову сказать, лорд Чарлз очень застенчив. Он
всегда был таким. Рассказывают, что однажды - Мери Митфорд было тогда
пять лет, значит, случилось это за шестнадцать лет до того, что погибли
овцы и французский король поехал в Бокинг, - так вот, однажды Мери
«вогнала лорда Чарлза в краску, по ошибке подбежав к его креслу, а не к
сидевшему рядом papa». Лорд Чарлз тогда смутился и вышел вон. Но мисс Хилл
мало этой истории: она почему-то обожает общество лорда и леди Чарлзов
и непременно хочет продлить удовольствие, «рассказав еще об одном
случае, связанном с лордом и леди Чарлзами, который произошел в феврале
1808 года». А причем здесь мисс Митфорд?- спрашиваем мы устало
(надоело нам ходить вокруг да около). А притом, - сообщает мисс Хилл, - что
леди Чарлз приходится родственницей мистеру и миссис Митфорд, и
вообще лорд Чарлз застенчивый. Доводы, прямо скажем, жидкие, но Ложь и на
таких условиях готова плести очередную историю; тогда как для нас
главное - поскорей перейти к делу. Пусть мисс Митфорд и не великая
писательница - и даже не второго эшелона, если уж говорить начистоту, - однако
работа рецензента накладывает определенные обязательства.
Начнем с того, что существуют такие понятия, как английская
литература и английская поэзия - так вот, чувство красоты природы из английской
словесности никогда не уходило, как бы сильно ни менялась от века к веку
английская корова. Тем не менее между Поупом и Вордсвортом в этом
вопросе - дистанция огромного размера. То же самое - между «Лирическими
балладами», опубликованными в 1798 году, и «Нашей деревней»,
появившейся в 1824-м4. Первые написаны стихами, вторая - прозой, так что, строго
говоря, почвы для сравнения тут нет, хотя затеять сопоставление было бы
нелишним, причем заняло бы оно несколько томов. Дело в том, что мисс
Митфорд, как и ее великий предшественник, деревню любила больше, чем
город, и в связи с этим не грех было бы задержаться на секунду на короле
Саксонии, Мери Эннинг и ихтиозавре. Мало того что Мери Эннинг и Мери
Митфорд- тезки, так они еще если и не встречались (доподлинно факт
встречи не установлен), то, во всяком случае, точно могли бы
встретиться (такая вероятность существует). Одно время Мери Митфорд занималась
поиском окаменелостей в Лайм-Риджисе5, а Мери Эннинг пятнадцать лет
спустя на том же самом месте обнаружила интересный образец. В 1844 году
в Лайм-Риджисе оказался проездом король Саксонии: заметив в витрине
магазинчика Мери Эннинг череп ихтиозавра, он, недолго думая, предложил ей
поехать с ним в Пинни6 и обследовать утесы. И вот когда они вдвоем лазали
148
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
по скалам, ища окаменелости, в королевский экипаж села пожилая
женщина - есть предположение, что это была Мери Митфорд. По правде сказать,
такого быть не могло, но, опять же, отрицать тот факт, что Мери Митфорд
не раз говорила о своем желании познакомиться с Мери Эннинг, никто не
станет, так что можно только сожалеть о том, что знакомство их не
состоялось. Вот так незаметно для самих себя мы подошли к 1844 году: Мери
Митфорд уже пятьдесят семь лет, а мы о ней знаем только то, что она никогда
не встречалась с Мери Эннинг, в метель не попадала, ихтиозавра не нашла
и короля Франции в глаза не видела, и все это мы знаем, благодаря Лжи и
лукавым ее повадкам.
Самое время свернуть этой врушке шею и начать все заново.
Чем же руководствовалась мисс Хилл, когда решила начать писать
«Мери Рассел Митфорд и ее эпоху»? Среди многих причин выделяются три
основные: во-первых, мисс Митфорд - женщина; во-вторых, она родилась в
1787 году и, в-третьих, запас женских персонажей для жизнеописания,
откуда автор может выбрать героиню, по разным причинам, очень невелик.
Например, Сапфо - о ней известно очень мало, а то немногое, что известно, не
делает ей чести. Или леди Джейн Грей: достойный предмет для биографии,
однако фактов никаких. Жорж Санд - особый случай: о ней чем больше
узнаешь, тем меньше нравится. Джордж Элиот - жертва философии, увлекшей
ее на дорожку греха. Сестрам Бронте, при всей их гениальности, недостает
чего-то такого, что отличает настоящих леди. Хэрриет Мартино - атеистка;
миссис Браунинг - замужняя женщина; про Джейн Остен, Фанни Берни и
Марию Эджворт уже писали, так что остается одна Мери Рассел Митфорд.
Что же касается исторической достоверности, то, поскольку на обложке
книги стоит слово «эпоха», необходимость соблюдать историческую
точность отпадает: ясно, что описывается восемнадцатый век. Дойдя же до
фразы (ее трудно не заметить в тексте) о том, что, как «устремив взгляд на
лестницу, что ведет из кабинета вниз, в гостиную, мы воочию видим, как одну
за другой одолевает ступеньки маленькая крошка», мы ни секунды не
сомневаемся в том, что знаем эти ступеньки как свои пять пальцев, и никто не
посмеет втирать нам очки, говоря, что эта лестница находится в Афинах,
или в елизаветинской Англии, или в Париже. Нет, она принадлежит только
восемнадцатому веку - никакой другой эпохе, и ведет она из старинного
кабинета, отделанного деревом, в тенистый сад, где, по легенде, играл
ребенком Уильям Питт, и если уж на то пошло, безветренным летним утром там,
в саду, до сих пор можно услышать (если, конечно, очень захотеть)
барабанную дробь наполеоновской армии, доносящуюся с французского берега.
Наполеон - это, разумеется, предел мечтаний, как и Монмут: самые смелые
фантазии связаны именно с этими историческими личностями, и не дай бог
воображению увлечься принцем Альбертом или углубиться в эпоху короля
Джона. Впрочем, фантазия знает свое место, и место это всецело
принадлежит восемнадцатому веку. А вот второй вопрос - об отличительных призна-
Силуэты
149
ках леди - не так очевиден, как первый: что это за признаки и нравится ли
нам такой взгляд, вопрос открытый. Скажем лишь, что, по нашему мнению,
Джейн Остен - это леди, а Шарлотта Бронте - нет, и на этом закончим, не
связывая себя хлопотными определениями.
На самом деле, мисс Хилл потому нравятся леди, что они всегда
отмалчиваются: вздохнут, улыбнутся по-светски, и только, - они не дают волю
чувствам. Хватить чашкой об пол или перевернуть ко всем чертям
кофейный столик с серебряным сервизом - этого леди не может себе позволить.
Согласитесь, с такой героиней куда спокойнее: за всю жизнь ни разу не
повысить голос! Шестнадцать лет - довольно большой срок, но только не для
леди: настоящая леди и слова поперек не скажет, если об этом периоде ее
жизни напишут так: «Здесь Мери Митфорд провела шестнадцать лет своей
жизни, здесь познала она красоту родных мест, полюбила каждую
тропочку, каждый тенистый уголок». Все ясно: Мери Митфорд если и любила, то
платонической любовью, а вообще предпочитала держаться в тени. Училась
она, конечно, в одной школе с Джейн Остен и миссис Шервуд7; бывала в
Лайм-Риджисе - недаром в книге упомянут Кобб8. Ей довелось увидеть
Лондон с верхушки собора Св. Павла, а Лондон в те годы, надо сказать, был не
в пример меньше, чем нынче. Несколько раз за свою жизнь она
переезжала из одного прелестного особняка в другой; у нее бывали в гостях и пили
чай именитые литераторы - и, между прочим, делали ей комплименты. Ей
несколько раз крупно везло: первый раз, когда в гостиной обрушился
потолок, а она осталась цела и невредима, и второй раз, когда выиграла в
лотерею главный приз. Если жизнеописание Мери Митфорд кому-то показалось
слишком сжатым, то виновата в этом не мисс Хилл, а сам читатель, и если
уж зашла речь об авторе жизнеописания, то следует отдать ей должное: она
не так много пишет от себя - в основном цитирует мисс Митфорд или
ссылается на авторитетное мнение м-ра Крисси.
Какая, впрочем, опасная эта штука - жизнь! И главное - никогда нельзя
быть до конца уверенным в том, что ты от нее надежно забаррикадировался.
Даже в самых прочных баррикадах, что мы вокруг себя воздвигаем,
обязательно найдется узенькая щелочка, через которую проникнет враг - живая
жизнь с ее тайнами, секретами. Вот и в биографии мисс Митфорд: стоило
мисс Хилл случайно, краешком задеть кирпичик в ее, казалось бы,
монолитном жизнеописании, как вдруг открылась брешь и - о ужас! Нам на голову
свалился нежданно-негаданно какой-то старик толстяк. А если отбросить все
эти фигуры речи - отец мисс Митфорд собственной персоной. Оказывается,
у нашей героини был отец, а мы этого не знали. Ну что ж, бывает, - ничего
неприличного в этом факте нет, у многих женщин были отцы. Только
почему-то отца мисс Митфорд на пушечный выстрел не подпускали - видно,
хорошего в нем было мало. Мисс Хилл даже высказывает крамольную мысль
о том, что «большое стечение народу» на его похоронах - «соседей и
друзей» - «было, скорей всего, вызвано желанием высказать соболезнование и
150
В. Вулф. Обыкновенный читатель. J925
сочувствие мисс Митфорд, нежели уважением к усопшему». Сказано
сурово, но, справедливости ради, следует признать: заслужил-таки этот суд
старый обжора, пьяница и развратник. Вспоминать о нем не хочется. А с другой
стороны, как не вспоминать, если, сколько себя помнишь, отец только и
делал, что играл, спекулировал, обманывал: спустил сначала женино
состояние, потом твое приданое, растранжирил все твои сбережения, заставил тебя
работать, а твои гонорары складывал в свой карман; если в старости, под
предлогом болезни, никуда не отпускал от себя дочек, говоря, что свежий
воздух вреден для молодого организма; если, отойдя в мир иной, он оставил
после себя такие громадные долги, уплатить по которым можно было только
одним способом - распродав последнее, что у тебя оставалось, и побираясь
по друзьям, да стоит только начать вспоминать, как леди моментально
срывается на крик. «Грустно было бросать родное гнездо, - признается Мери
Митфорд один-единственный раз, - столько труда, мучений, беспокойства и
обид, страха и надежд, выпадающих на долю женщины, видели эти стены!»
Помилуйте, что за выражение! Леди не пристало так себя вести - тем более
что леди при чайнике: внизу страницы, где приведено откровенное
воспоминание мисс Митфорд, красуется нарисованный чайник. Только, увы,
поздно, господа! - мисс Митфорд секунду назад, на наших глазах, расколотила
его вдребезги. С леди всегда так: не знаешь, что они выкинут в последнюю
минуту - то чайник расколотят, то про отца вспомнят. Кстати, о чайниках:
до нас дошло в целости и сохранности несколько предметов из веджвудско-
го обеденного сервиза, принадлежавшего д-ру Митфорду, а еще «в нашем
временном пользовании» имеется экземпляр адамсовской «Географии» -
школьный приз Мери, врученный ей за успехи. Как вы думаете, будет
приличным посвятить этим реликвиям следующую книгу?
II
Д-Р БЕНТЛИ
Порой, когда нам случается бродить на досуге по зеленым лужайкам
и внутренним галереям знаменитого университета9, где в свое время
безраздельно властвовал д-р Бентли10, мы замечаем в отдалении - или нам это
только кажется? - чью-то быструю тень: мелькнула и скрылась за дверью
часовни ли, колледжа, а мы стоим и смотрим ей вслед, с благоговейным
почтением. Еще бы! Ведь это сам доктор Бентли, о нем ходят легенды: он всего
Софокла знал наизусть, Гомера цитировал по памяти, Пиндара
просматривал, как мы пробегаем утреннюю «Тайме», и вообще все дни напролет
проводил исключительно в компании великих греков, если, конечно, не
считать коротких перерывов на обед и молитву. Мы, разумеется, не можем по
достоинству оценить его заслуги - недостаток образования не позволяет11,
поэтому по большому счету дело его жизни остается для нас за семью печа-
Силуэты
151
тями, но мы все равно бережно храним в памяти клочок воспоминаний - или
собственной фантазии? - о фигурке в черном плаще, точно это не ученый-
филолог промелькнул и скрылся у нас на глазах, а жар-птица пролетела над
головами промозглым ноябрьским вечером, и нам посчастливилось
проводить ее мысленно в дальний путь, где цветут амаранты и растет в изобилии
моли12, - вот насколько ярок и светел его дух. Что и говорить, ученые - это
самые загадочные и величественные особы из всех смертных. А поскольку
нам не суждено быть и близко допущенными к их августейшим персонам и
лицезреть нечто более объемное, чем подол плаща, увиденный с большого
расстояния, то нам не остается ничего другого, как знакомиться с ними через
жизнеописания - например «Жизнь д-ра Бентли» епископа Манка13.
Вопреки ожиданиям, эта книга не только не укрепляет нас в
благоговейном почтении к д-ру Бентли, а, наоборот, повергает нас в полное
недоумение. Если верить ее автору, наше светило из светил, наш великий ученый,
который по-древнегречески читал не хуже иных знатоков родного
английского языка - то есть не просто со знанием грамматики и значений слов, а с
тем языковым чутьем и потрясающей интуицией, которые позволяют видеть
внутренние связи в языке, определять многозначность слов и на их основе
восстанавливать утраченные строки, вдыхать вторую жизнь в немногие
уцелевшие фрагменты, повторяю, человек, которого прекрасное, казалось бы,
должно было переполнять (если правда то, что пишут о классике), подобно
тому как мед наполняет доверху горшочек, повторяю снова, человек этот,
напротив, был сутягой из сутяг.
«Думаю, немного известно случаев, когда человек в течение трех лет
выступал истцом по шести различным делам, представленным в Королевский
суд», - замечает биограф д-ра Бентли. Еще меньше случаев известно, -
продолжая его мысль, - когда человек выигрывал все шесть судебных
процессов. Трудно не согласиться с мнением автора книги о том, что из д-ра Бентли
мог бы выйти первоклассный адвокат или великий полководец, жаль
только, что «подобных демаршей меньше всего ждешь от ученого богослова».
Впрочем, не во всех тяжбах д-ра Бентли была повинна его любовь к слову.
В большинстве случаев ему пришлось защищать свою честь от обвинений,
которые выдвигались против него как главы Тринити-колледжа в
Кембридже. В вину ставили то, что он увиливает от церковных обязанностей; что
расходы на строительство и собственное хозяйство превышают допустимую
норму; что он скрепляет печатью решения ученого совета, которые
принимаются без необходимого в этих случаях кворума из шестнадцати человек,
и т.д. Короче говоря, его жизнь в должности главы Тринити представляла
собой одну сплошную тяжбу- на него нападали, он отбивался, причем в
этой многолетней схватке с ученым советом Тринити-колледжа Бентли
обращался с коллегами примерно так же, как в уличной потасовке ребятишек
ведет себя взрослый мужчина. Ах, вот как! - кто-то полагает, что лестницу
в жилом помещении колледжа расширять не следует, поскольку по ширине
152
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
она и так вмещает четверых? И на этом основании кто-то смеет отказывать
ему в просьбе выделить деньги на строительство новой лестницы?! Ну так
они об этом пожалеют! После чего разговор переносится на вечер: Бентли
ждет окончания вечерней службы, и когда члены совета выходят во двор
часовни, он начинает их умасливать. Те - ни в какую. Тогда он резко меняет
тактику и заявляет с угрозой в голосе: «В таком случае - дуэль! Вам, видно,
не терпится попробовать мою боевую шпагу!» Разумеется, никому из
присутствовавших - ни м-ру Майклу Хатчинсону, ни его коллегам - не хотелось
испытать это оружие на собственной шкуре, и они, недолго думая, надавили
на старших. В итоге чек на сумму 350 фунтов стерлингов был оплачен, и
Бентли заручился поддержкой большинства. Впрочем, он и без них закончил
бы строительство лестницы - не очень-то ему нужно было их согласие.
Шли годы. Политика выкручивания рук, к которой Бентли привык,
далеко не всегда оправдывалась грандиозностью его замыслов - обустроить берег
реки за зданиями колледжей, возвести обсерваторию, создать лабораторию -
и очевидной выгодой этих проектов. С той же жесткостью он «продавливал»
любую мелочь: положим, понадобился ему уголь для отопления квартиры,
хлеб или эль, - мадам Бентли тут же шлет на склад слугу,
предусмотрительно вручив ему мужнину табакерку в качестве удостоверения личности
просителя, и таким образом д-р Бентли пользовался за счет университета куда
большим количеством благ, нежели ему положено по должности. То же
самое происходило, когда у него квартировали четыре студента, - между
прочим, исправно платя за жилье: все расходы на их проживание оплачивал
университет, по мановению все той же всесильной табакерки. Любые намеки
типа «пора бы и честь знать» Бентли отметал как беспочвенные: кому как не
ему, великому ученому-классику, знать, что такое мера! Тем не менее его
довод в пользу того, что «несколько буханок университетского хлеба», которые
пошли на прокорм молодых патрициев, вернулись университету сторицей в
виде трех подъемных окон, устроенных в их комнатах на его личные деньги,
довод этот почему-то не убедил членов университетского совета. А когда на
Троицу в 1719 году ученым мужам подали прокисший напиток под видом
знаменитого университетского эля, их терпение лопнуло, и они потребовали
к себе дворецкого: тот объяснил, что эль варят по рецепту Доктора, из
солода Доктора, который хранится у Доктора в амбаре и, хотя солод в этом году
оказался слегка подпорчен «насекомым, то бишь долгоносиком», покупают
его по очень высокой цене, установленной господином Доктором.
Впрочем, все эти житейские баталии не стоят и выеденного яйца:
гораздо важнее для нашего исследования профессиональная деятельность д-ра
Бентли. Ведь только там, под сенью Гомера, Горация и Манилия14, мог
развернуться его гений: только отринув суетные заботы о кирпичах, стройке,
хлебе, пиве, студиозусах и окнах, мог он свободно сосредоточиться на
своих штудиях, доказывая благотворнейшую природу того влияния классики,
что и сейчас доходит до нас через века. Увы, он и на этом благородном по-
Силуэты
153
прище чести мертвым языкам не делает. Никто не спорит - он великолепно
проявил себя в острейшей полемике, развернувшейся вокруг писем Фалари-
са15: он был сама кротость, а ученостью превосходил остальных участников.
Однако за сокрушительной победой последовали диспуты, во время
которых, на глазах у изумленной публики, разыгрывались удивительные вещи:
когда ученые мужи, светила теологии, светочи университетской мысли, с
пеной у рта доказывали свою правоту, тыча пальцем в латинский или
греческий текст, бия себя в грудь, бранясь, как собаки, и обзывая друг друга хуже,
чем торговки на базаре. Причем не один Бентли страдал недержанием речи
и капал желчью - недуги эти, к сожалению, сопровождали всех соратников
по цеху Когда-то давно, еще в 1691 году, на заре его ученой карьеры, некто
Хоуди, капеллан, собрат по профессии, рассорился с Бентли из-за того, что
тот написал прозвище «Malelas» с окончанием «s», а не просто «Malela», как
привык Хоуди. Разгорелась полемика, в процессе которой Бентли выказал
себя человеком начитанным, остроумным, а Хоуди - бездарным кляузником.
В итоге капеллан был посрамлен, но, видимо, изжить до конца причиненную
ему тогда обиду из-за пустячного повода он так и не сумел. Да, из-за одного
спорного слова рушилась дружба. Целых десять лет Бентли служил
объектом нападок некоего Джеймса Гроновиуса из Лейдена, которого называл не
иначе, как «homunculus eruditione mediocri, ingenio nullo»*, и все из-за того,
что Бентли удалось поправить фрагмент поэмы Каллимаха16, а его коллеге с
этим не повезло.
Разумеется, случай с Гроновиусом - не единственный пример
озлобленности, которую один ученый питает по отношению к другому и которую не
способны смягчить ни убеленные сединой волосы коллеги-соперника, ни его
сорокалетний опыт издания классики. По всем краям и весям Европы сидят
зоилы, подобные скандально известному де Пау из Утрехта - «настоящему
проклятию словесности, от которого надо бежать как от чумы»: не успеет
появиться какая-то новая теория или новое издание, как они сворой
набрасываются на ученого и начинают унижать и высмеивать. Как пишет о де Пау
епископ Манк: «...судя по его сочинениям, это настоящий мерзавец,
лишенный всякого понятия о чести, благородстве, - абсолютно лживый и злобный;
он соединяет в себе все недостатки и отрицательные качества, какие только
можно себе представить у критика или комментатора, и вдобавок у него есть
еще одна особенность: он обожает делать неприличные намеки». Стоит ли
удивляться, при таких-то нравах и привычках ученой братии, случаям
самоубийства среди ученых в ту пору: доведенные до ручки общей злобой,
нищетой и всяческим небрежением, они часто накладывали на себя руки - так,
например, Джонсон, всю жизнь корпевший над страницей в поисках
мельчайших просчетов в композиции, не выдержал напряжения, сошел с катушек
и утопился в окрестностях Ноттингема. Другой случай: 20 мая 1712 года
* «Существо посредственных знаний, совершенно бесталанное» (лат.).
154
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
преподавателей и студентов Тринити-колледжа повергло в ужас известие о
том, что «несколько часов назад, еще засветло» обнаружили тело д-ра Сайка,
профессора иврита - он повесился в окне собственной квартиры. Про Касте-
ра тоже ходили слухи, будто он покончил с собой. И, скорей всего, так оно и
было: когда вскрыли тело, «то в нижней полости живота обнаружили
спекшийся песок. Я полагаю, он скопился за долгие годы, проведенные
несчастным в очень неудобной позе за низким столиком. Как к нему ни придешь -
вечно одна и та же картина: сидит, перегнувшись пополам, над страницей и
строчит, держа листок чуть ли не у пола, чтоб можно было легче и быстрей
искать ссылки в книгах, которыми он обкладывался со всех сторон, -
получалось три, а то и четыре круга». У бедных директоров школ сознание
мутилось от многолетних штудий латыни, при полном вакууме общения: как
рассказывает Джон Кер из опальной Академии, которому однажды выпала
честь быть приглашенным на обед в дом к д-ру Бентли, за столом зашел спор
об употреблении слова «equidem*, учителя настолько разволновались, что,
придя домой, тут же бросились разыскивать в справочниках все случаи
использования слова «equidem», которые расходились с мнением д-ра Бентли,
потом побежали к нему обратно на квартиру, рассчитывая на теплый прием,
а вместо этого нарвались на глухое высокомерное молчание доктора,
который как раз отправлялся на званый обед к архиепископу Кентерберийскому;
но учителей было уже не унять, и они в священном раже ревнителей науки
помчались было за ним по улице, но в ответ не получили даже дружеского
«до свидания!» - одно холодное раздраженное недовольство; с тем и
отправились несолоно хлебавши по домам и, затаив обиду на доктора, начали
готовиться к реваншу.
А доктор своим поведением только подливал масла в огонь,
восстанавливая против себя мелкую сошку. Прошли те времена, когда он вел
полемику, соблюдая куртуазный тон и выказывая всяческую доброжелательность
к оппоненту, «...атмосфера неприкрытой враждебности и годами
культивировавшаяся привычка давать волю чувству возмущения сделали свое дело,
лишив его былого такта и взвешенности суждений, прежде отличавших его
в споре», и он уже не стеснялся обзывать своего противника,
показавшегося ему темной лошадкой, и «паразитом», и «тварью», и «мерзкой крысой», и
«дурьей башкой», хотя предметом спора был греческий текст Нового Завета;
он даже не гнушался намекать на то, что его коллега-священник не в своем
уме, поскольку отпустил бороду до пояса.
Тем не менее, при всей нетерпимости, беспринципности и склочности,
д-р Бентли благополучно пережил все жизненные бури и потрясения и
преспокойно доживал свой век в университетской квартире, уже не будучи
главой колледжа. Жил Бентли на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая,
ничем себя не стесняя, - даже в доме не снимал широкополую шляпу, чтобы
* Доподлинно, право {лат.).
Силуэты
155
свет не портил глаза, - покуривал трубочку, попивал портвейн, в окружении
друзей, которые могли часами слушать его теорию дигаммы17, и так дожил
до восьмидесяти лет: как он говорил, этого срока «вполне достаточно, чтоб
прочитать все хоть сколько-нибудь стоящие книги». И добавлял в
характерной своей манере: «Et tunc magna mei sub terris ibit imago»18. Его могилу в
Тринити-колледже украшает небольшая каменная плита, на которой нет
упоминания о его ректорстве - члены университетского совета наотрез
отказались упоминать об этом факте в эпитафии.
Впрочем, это еще не самое странное в этой занятной истории, и не в
последнюю очередь потому, что епископ Манк в случившемся никакой
странности не видит: пишет между прочим, как о само собой разумеющемся деле.
«Не часто встретишь человека, - замечает он, - который решился бы на
такое, не имея поэтического дарования или хотя бы вкуса к поэзии». О чем
речь? Оказывается, Бентли замахнулся на «Потерянный рай»19 с целью
выявить все языковые погрешности, как и случаи стилистических ляпов,
допущенных автором. Как известно, итог изысканий Бентли получился
печальный, но дело даже не в этом. Разве это его исследование так уж сильно
отличалось от других, которые он затеял и, по общему мнению, осуществил
блистательно? И если Бентли доказал свою полную неспособность оценить
по достоинству поэзию Милтона, то можно ли принимать на веру его оценку
Горация и Гомера? А если мы перестаем доверять ученым и начинаем
сомневаться в том, что изучение древнегреческого действительно облагораживает
нравы и просветляет умы... - впрочем, довольно. Вон, в отдалении мелькнул
черный плащ: наше ученое светило возвращается из колледжа домой: сейчас
в окне зажжется лампа и он снова приступит к своим занятиям. А нам пора
заканчивать с нашими крамольными домыслами. И потом, за давностию лет
все это потеряло значение.
III
ЛЕДИ ДОРОТИ НЕВИЛ
Однажды ей довелось пробыть с неделю на вторых ролях в герцогском
доме, где она каждый божий вечер наблюдала за тем, как целое воинство
разряженных особ спускаются рука об руку в столовую, а после, отобедав,
так же парами, расходятся по спальням. Днем, стоя на галерее, она
украдкой смотрела, как герцог собственноручно стирает пыль с помещенных под
стекло миниатюр, а герцогиня, занятая рукоделием, то и дело роняет пяльцы,
словно недоумевая, - кому нужно это вышивание крестом? Из окна своей
комнаты на верхнем этаже ей хорошо были видны разбегавшиеся во все
стороны, покуда хватит глаз, песчаные дорожки, среди островков зелени: они
терялись на опушках искусственного леса, под сенью которого можно
отдохнуть, не боясь дикого зверя или встречи с незнакомцами. Она провожала
156
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
глазами карету герцога, мелькавшую в просветах между деревьев на
главной аллее, а несколькими часами позже встречала ее снова - но уже с
заднего хода. И каково же ее впечатление спустя неделю неотрывных бдений? -
«сумасшедший дом».
Конечно, что еще можно ждать от горничной? Да попадись она на
глаза хозяйке дома, герцогине леди Дороти Невил, та непременно расставила
бы все по своим местам, указав ей на то, что это «две большие разницы» -
служить и быть титулованной леди. «Моя мать никогда не упускала случая
попенять работницам, продавщицам и прочим барышням на
непозволительную вольность, с которой те именуют себя "леди". При этом слове она
всегда морщилась, как от дурного тона и вслух называла это "пошлостью"».
Ну что на это возразишь? Можно, конечно, напомнить леди Дороти Невил,
что при всех выгодах своего положения она так и не выучилась грамоте,
писала всю жизнь с ошибками, и, прожив на белом свете долгие восемьдесят
семь лет, она, собственно, коптила небо - сладко кушала да вышивала
золотом. Только, боюсь, что, давая волю праведному гневу, мы мечем бисер
перед свиньями, вместо того чтобы просто согласиться с нашей горничной в
том, что родовитость - это форма врожденного безумия, что аристократ - это
страдалец, расплачивающийся за грехи и болезни отцов, и что жизнь его -
это судьба стоика в сумасшедшем доме (заметьте, очень комфортабельном и
покойном доме), по традиции именуемом английским поместьем.
Правда, потомственными герцогами Уолполы не были: мать Хораса Уол-
пола - в девичестве мисс Шортер, и хотя в настоящем томе20 ничего не
говорится о матери леди Невил, зато прабабушка ее, актриса миссис Олдфилд,
названа громко и, к чести леди Дороти, она этим родством «ужасно
гордится». Таким образом, острой формой аристократизма леди Невил, очевидно,
не страдала, соответственно и жила не в палате для умалишенных, а в
птичьей клетке: смотрела на мир через прутья своей райской темницы и пару раз
даже отважилась полетать на просторе. Более живую, веселую и яркую
щебетунью-затворницу трудно себе представить, иногда даже закрадывается
сомнение: а может, жизнь в неволе не так уж и плоха, и истинно мудрые
люди, знающие, что суждено им жить на земле всего один-единственный
раз, выбирают именно такой способ существования? В конце концов, быть
свободным значит быть изгоем - быть зрителем на празднике жизни: то, что
на всяких леди дороти сыплется как из рога изобилия с самого рождения,
простые смертные зарабатывают тяжелым трудом в течение всей жизни.
Леди же Дороти появилась на свет в 1826 году в доме номер 11, Беркли-
сквер, и этим все сказано. В том доме когда-то жил Хорас Уолпол, правда, ее
отец лорд Орфорд спустил знаменитый особняк за одну ночь за карточным
столом: это случилось через год после ее рождения. Но оставался Уолтер-
тон-Холл в Норфолке, тамошние гостиные буквально ломились от
предметов старины, а знаменитая поляна в саду была обсажена деревьями редких
пород - чем не романтическая обстановка для повести о двух прелестных де-
Силуэты
157
вочках, которые росли в уединении, читали Боссюэ21 с гувернанткой, а в дни
сбора налогов гарцевали на маленьких пони впереди кавалерийского отряда?
Какая находка для романиста, а? Предметом же особой гордости леди
Дороти вполне могла быть мысль о том, что один из ее предков написал письмо
такого содержания (оно было адресовано Библейскому обществу в Нориче,
в ответ на предложение лорду Орфорду стать президентом собрания): «Я
заядлый картежник, недавно пристрастился к гольфу; ко всему прочему, я
старый богохульник. Религиозную литературу никогда не распространял. Все
это хорошо известно Вам и членам Вашего общества. И, тем не менее, Вы
полагаете возможным просить меня удостоить Вас чести стать во главе
Вашего общества. Да простит Вам Господь такое лукавство!» Как видим, в той
ситуации на высоте оказался лорд Орфорд, а другие проявили зашоренность.
Жаль, история на этом не заканчивается. У лорда Орфорда был еще один
загородный дом, Илзингтон-Холл, в графстве Дорсет, и там леди Дороти
впервые увидела шелковицу, а позднее познакомилась и с м-ром Томасом Гарди.
Вот когда первый раз в ее жизни замаячила будущая клетка! Нам нисколечко
не интересны портовые приюты для матросов, зато нам очень нравятся
шелковичные деревья; правда, когда дело доходит до оскорблений в адрес тех,
кто их нещадно срубает, а потом использует как строительный материал, -
«Подумать только, какие вандалы!» - или мастерит из туи скамеечки для ног,
украшая их надписями типа «Здесь чаевничал король Георг III» (читай: под
этой самой скамеечкой, то есть шелковицей, из которой она сделана), тут уж
наше терпение лопается, и мы робко поднимаем голос: «Вы, наверное,
хотели бы видеть имя Шекспира?» Но, как следует из замечаний леди Дороти о
м-ре Гарди, она вовсе не имела в виду Шекспира. Она «с теплотой
относилась» к произведениям м-ра Гарди и часто сетовала на то, что «из-за своей
глупости соседи-помещики не в состоянии оценить по достоинству его
гениальность». Помилуйте! - чаепития Георга III, неспособность помещиков
оценить м-ра Гарди, нет, леди Дороти точно потеряла чувство реальности.
И все же лучшим доказательством того, что леди Дороти все больше
обвыкала в своей клетке, служит история о Чарлзе Дарвине и о «темной». Дело
в том, что в числе многих развлечений леди Дороти было и разведение
орхидей, благодаря которому она, собственно, и свела знакомство с «великим
натуралистом». Приглашая леди Дороти погостить у них в доме, миссис
Дарвин с завидной простотой отметила, что слышала от людей сведущих о том,
что светские львы и львицы, завсегдатаи лондонских салонов, обожают,
когда им устраивают темную. «Увы, боюсь, что в таком случае мы не сможем
оказать Вам должный прием», - заканчивалось ее письмо. Трудно сказать,
что именно произошло: то ли чета Дарвинов всерьез обсудила вопрос о том,
каким образом можно устроить темную приезжающей к ним в Даун22
гостье, то ли миссис Дарвин дала мужу понять, что не стоит ему трепать свое
имя всуе в компании с королевой орхидей, как бы ни было, на наших глазах
сталкиваются два мира, и, поверьте, хрупким оказывается отнюдь не дарви-
158
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
новский. Чем дальше, тем все чаще приходится нам наблюдать, как порхает с
ветки на ветку в своей огромной просторной, роскошно отделанной птичьей
клетке леди Дороти: тут клюнет зернышко, там - семечко, то зальется
трелью, то запоет рулады, нет-нет да подлетая к куску сахара и востря о него
свой клювик. А развлечений в той клетке было не меряно! Можно
раскрашивать листья в гербарии, восстанавливая по прожилкам первоначальную
форму почти до конца утраченных образцов; можно слушать лекции об
улучшении породы ослов; можно с головой уйти в вопрос шелкопрядов, чуть ли
не наводнить ими всю Австралию и «в конце концов получить достаточно
шелка для пошива целого платья». Опять же, она первая открыла, как
можно, при небольших затратах, пускать дерево, поросшее мхом, на
изготовление прелестных шкатулочек; она же занялась вопросом разведения грибов
и восстановила в правах забытый всеми английский трюфель; она ввозила
редкие породы рыб; билась над тем, чтобы в Сассексе размножались аисты и
корнуольские клушицы - увы, напрасно; рисовала по фарфору; расписывала
геральдические гербы, и даже открыла способ, как создать музыкальный
эффект, производя впечатление «воздушного оркестра»: надо всего лишь
привязать к хвостам голубей свистки и пустить их на волю! Если честь открытия
рецепта приготовления блюда из морских свинок принадлежит герцогине
Сомерсет, то одной из пионерок этого дела стала леди Дороти: она
собственноручно приготовила кушанье из этих маленьких созданий для званого
обеда, который давала у себя на Чарлз-стрит.
И ведь все это время клетка стояла открытой! Леди Дороти регулярно
наезжала в «Верхнюю Богемию», как выражается м-р Невил, и вывозила
оттуда «литераторов, журналистов, актеров и актрис и прочую модную и
забавную публику». Вели они себя смирно, так что в выборе она, видимо, не
ошиблась, а некоторые вообще становились ручными и писали ей «очень
изящные письма». Раз или два она даже рискнула вылететь из клетки, о чем
потом писала, делясь впечатлениями о жизни среднего класса, которую
видела краешком глаза: «Эти чучундры такие умные, а мы, по сравнению с ними,
просто тупицы! И ничего удивительного здесь нет: они получают
превосходное образование, а наши дети знают только одно - тратить родительские
денежки!» Да, тут было над чем задуматься - вот она и думала. Что-то явно
не так в датском королевстве, и виновато в происходящем, хотя бы отчасти,
ее собственное сословие: этого она не могла не признать, с ее-то
проницательностью и честностью. «Хотя бы читать-то она умеет?» - отзывалась она
о даме высшего света, называвшей себя культурной; про другую писала так:
«Любопытное существо, может подойти для открытия благотворительных
базаров». Но, пожалуй, самую замечательную свою вылазку она
совершила за год-два до смерти, и местом ее «десанта» оказался Музей Виктории и
Альберта23.
«Я совершенно с вами согласна (писала она), - хотя я не должна так
говорить, - высший класс настолько... даже не знаю, как сказать... в общем, эти
Силуэты
159
люди абсолютно ничем не интересуются - кроме гольфа и проч. Недавно я
была в Музее Виктории и Альберта, все как обычно: пара стройных ножек,
ни души ни тела, легкомысленнее представить нельзя - единственное, что
ласкало мой взор, это 2 коротышки-япошки, которые разглядывали каждую
мелочь и все подробно записывали... наши же овцы, конечно, только
хихикали и вообще ни на что не смотрели. И знаете, что хуже всего? - ни единой
души из высшего света: по-моему, никто из них даже не догадывается о
существовании этого музея, а мы на него тратим миллионы - нет, все это так
грустно!»
Да, печальнее нельзя себе представить: ведь она чувствовала, что
впереди маячит гильотина. Впрочем, этой беды ей удалось избежать: да и кому
нужно обезглавливать голубку со свистком на хвостике? Однако если бы
случилось так, что клетку перевернули бы и воздух огласился бы громким
хлопаньем крыльев, птичьим гомоном и свистом, несомненно, ее поведение,
как в том заверил ее м-р Джозеф Чемберлен, сделало бы «честь британской
аристократии».
IV
АРХИЕПИСКОП ТОМСОН
Происхождение архиепископа Томсона покрыто мраком тайны. Известно
лишь, что его двоюродный дед «предположительно» являлся «достойнейшим
представителем среднего класса», а тетя была замужем за господином,
которому довелось оказаться очевидцем убийства короля Швеции Густава III24.
Отец же нашего героя дожил до преклонных лет и наверняка прожил бы еще
дольше, если бы в восемьдесят семь его не хватил кондрашка - надо же ему
было случайно, со сна, наступить на кошку! В этой истории с отцом скрыто
столько брызжущей через край энергии, что трудно удержаться от
предположения, что и в самом будущем архиепископе мощь интеллекта соединялась
с редкостным физическим здоровьем, являясь залогом успеха в любой
области, которую он определил бы для своей деятельности. И действительно, в
его бытность в Оксфорде вроде бы все шло к тому, что он посвятит себя либо
философии, либо науке. Во всяком случае, готовясь к экзаменам на степень,
он находил время писать свои «Основы законов логики», которые по
выходе «сразу стали лучшим университетским пособием по этой дисциплине».
И все же, как ни тянуло его к поэзии, философии, медицине и
юриспруденции, он этим мечтам не давал ходу, раз и навсегда решив для себя, что его
призванием является стезя служения Господу. Об успешности его карьеры
на сем возвышенном, богоугодном поприще говорят следующие факты: в
двадцать три года, в 1842 году, его посвящают в сан старшего священника,
через три года он становится деканом и казначеем в оксфордском Куинз-кол-
ледже, в 1855 году его назначают ректором, в 1861-м он получает должность
160
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
епископа Глостера и Бристоля, а еще через год он становится архиепископом
Йорка. Таким образом, ему еще не исполнилось и сорока трех лет, а он уже
занял пост, выше которого лишь должность самого архиепископа Кентербе-
рийского, неудивительно, что многие прочили ему и этот наивысший сан, но,
как позднее оказалось, прочили ошибочно.
Разумеется, к этому послужному списку относиться можно по-разному:
в зависимости от темперамента и веры - либо с пиететом, либо с
равнодушием. Это ведь как посмотреть: в глазах одних тиара архиепископа - это
символ богоизбранничества, а в глазах других она - знак богооставленнос-
ти. Если же вы, как и ваш покорный слуга, по простоте душевной
думаете, что внешний порядок вещей соответствует их внутреннему содержанию,
другими словами, викарий - хороший человек, а каноник - еще лучше,
архиепископ же - вообще самый замечательный, то вы согласитесь, что жизнь
архиепископа Томсона - предмет в высшей степени поучительный. Подумать
только: отказаться от поэзии, философии и юриспруденции в пользу
добродетели. Посвятить всего себя служению Господу. Весь свой душевный запал
употребить на то, чтобы из старших священников перейти в деканы, из
деканов в епископы, из епископов - в архиепископы, и всю эту
головокружительную карьеру совершить за какие-нибудь двадцать лет! А поскольку на
всю Англию есть только две архиепископские должности, то вывод
напрашивается сам собой: архиепископ Томсон - второй среди равных,
подтверждением тому - размер его шляпы. Ни у кого не было головного убора такого
большого размера, как у него: у Гладстона меньше, у Теккерея тоже
меньше, даже у Диккенса - и у того меньше, по словам его шляпника,
сделавшего необходимые замеры (разве можно не поверить цифрам?), у
архиепископа Томсона голова, как он выразился, «круглая восьмерка». А ведь начинал
скромно, как все! Как-то в порыве ярости заехал старшекурснику, был за эту
провинность временно отчислен; написал пособие по логике;
зарекомендовал себя отличным гребцом25. Это уже после посвящения в духовный сан он
сузил круг своих интересов, если верить его дневнику. Он много
размышлял о своей душе, о «Симонии - этой чудовищной опухоли на теле
церкви», об обновлении духовенства и о смысле христианства. Пришел к выводу,
что «в основе христианской веры и христианской морали лежит
самоотречение... Нет превыше мудрости, нежели та, что способна пробудить и укрепить
в человеке дух самоотречения. Поэтому (противно Кузену26) я утверждаю,
что религия стоит выше философии». Правда, один раз по старой памяти он
упоминает в дневнике химиков и капиллярность, но вскользь, без
энтузиазма: видно, что наука и философия его уже больше не интересуют. А вскоре
его дневник и вовсе не узнать: «складывается впечатление», замечает его
биограф, «что он все время куда-то торопится, времени писать у него нет».
Он записывает только график встреч и званых обедов, а ездит он обедать
почти каждый вечер. Как вспоминал сэр Генри Тэйлор, который встретился
с архиепископом во время очередного застолья, это был «простой, твердый,
Силуэты
161
положительный, весьма способный и обходительный человек». Трудно
сказать, что именно в характере архиепископа Томсона внушало сильным мира
сего уверенность в том, что в его лице они нашли истинного сына церкви, -
то ли сочетание твердости с «ученым складом ума», то ли его воспитанность
вкупе с внушительными габаритами. Казалось, сама природа, наделившая
его «здоровой логикой» и могучим телосложением, подготовила
достойного борца, которому по плечу эта сложнейшая задача (сколько славных
воителей ставила она в тупик!) - примирить научные открытия века с религией
и, более того, доказать, что «иные из этих открытий являются весомейшими
аргументами в пользу ее истинности». Никто, кроме Томсона, с этой задачей
не справился бы: тут требовались практическая хватка, трезвость мысли и
никакой мечтательности - все эти деловые качества Томсон выказал, еще
будучи главой своего колледжа. В мгновение ока он из епископов переходит в
архиепископы и автоматически становится приматом Англии27, главой Чар-
терхауза28 и Кингз-колледжа в Лондоне: в его руках сосредоточено не
много не мало - сто двадцать приходов, включая всю церковную собственность
архидиаконов Йорка, Кливленда и Ист-Райдинга, вместе с доходами
каноников и пребендариями29 собора в Йорке. Один только Бишопторп представлял
собой целый дворец, и новоиспеченному архиепископу сразу пришлось
решать «непростую задачу»: либо купить его на корню, вместе во всей
обстановкой - «большей частью рухлядью», либо обставить резиденцию заново,
что влетело бы ему в копеечку. Вдобавок нужно было что-то делать с семью
коровами30, которые полагались архиепископу и которые паслись
неподалеку от дома, впрочем, эту задачу упрощало наличие у них с супругой девяти
детишек. А тут еще новые расходы: пожаловал с визитом принц Уэльский,
и архиепископу пришлось взять на себя подготовку апартаментов для
принцессы. Он специально ездил в Лондон купить восемь новомодных ламп с
регулятором подачи керосина, два испанских канделябра в форме женских
фигурок и «мыло для принцессы» (чуть не забыл об этой важной детали,
сетует он в дневнике). Впрочем, все это были цветочки по сравнению с гораздо
более серьезными вопросами, требовавшими безотлагательного и
решительного действия. Так, от него ждали, что он «обратит острое копье» присущей
ему «здоровой логики против софистики» авторов «Очерков и рецензий»31,
и он оправдал ожидания, ответив трактатом под названием «Столпы веры».
Другая забота - это промышленный город Шеффилд, расположенный
неподалеку и представлявший собой рассадник скепсиса и недовольства, которые
распространяло полуграмотное население. Архиепископ не мог отказать себе
в удовольствии наставить невежественную толпу на путь истинный: он
обожал наблюдать за прокаткой броневой стали для военных кораблей и никогда
не упускал случая обратиться к рабочим-металлургам с проповедью. «Итак,
что есть такое все эти ваши Нигилизмы, Социализмы, Коммунизмы, Фени-
анизмы32 и Тайные Общества?» - задавал он риторический вопрос. И сам
без запинки отвечал: «Эгоизм! В основе их лежит натравливание одного
6. Вирджиния Вулф
162
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
класса на остальное общество - вот что это такое». Он ссылался на закон
природы, согласно которому заработная плата то растет, то снижается. «Вы
должны научиться принимать эту кривую, с ее взлетами и падениями, как
данность... Как только мы сумеем растолковать людям эту закономерность,
все пойдет спокойно и гладко». Благодарные за науку рабочие Шеффилда не
замедлили отдарить ученого архиепископа набором столового серебра из
пятисот предметов, в который, надо думать, входили не только ложки и вилки,
но и с десяток острых ножей.
Впрочем, рабочие Шеффилда - это дети малые в сравнении с епископом
Колензо и ритуалистами33: те причиняли ему столько беспокойства, что даже
у него, человека невозмутимого и здравого, начали сдавать нервы. К нему
обращались с вопросами, которые, казалось, специально созданы, чтобы
наступить на его больную мозоль, ранить его самолюбие. Например, его
спрашивали: положим, нашли в канаве вусмерть упившегося пьяницу или
грабитель лез через застекленную крышу, упал и разбился - так могут ли такие
негодяи рассчитывать на церковное погребение? Но это еще что! «Сложнее
всего» оказался вопрос о зажженных свечах, хотя пунктик с облачением в
разноцветную епитрахиль и использованием не по назначению потира тоже
помотал ему нервы. Однако больше всего ему досадил преп. Джон Пэрчас:
по свидетельству прихожан, он, облачившись в стихарь, надев ризу, клобук
и повязавшись крест-накрест епитрахилью, зажигал и гасил в церкви свечи
«без особой надобности», насыпал в потир черный порошок и метил им лбы
своей паствы, а еще повесил под скрижалями «то ли фигурку, то ли образ, то
ли чучело летящего голубя». Тут уж даже у архиепископа, которого,
кажется, ничем не проймешь, лопнуло терпение, и он возопил в сердцах: «До коих
пор будем мы продолжать видеть в Англиканской церкви выражение
здравого смысла нации? Приидет ли время, когда такое отношение к церкви будет
считаться преступным?» «Может, и приидет», - горестно отвечал он на свой
вопрос, - да только я его не застану. Многое довелось мне пережить, но я
не жалею о том, на что положил столько сил и труда». Как видим, даже
архиепископа посещали минуты сомнения, а что же говорить о нас? - мы
вообще в полной растерянности, не знаем, что и думать. Что сталось с нашим
наидобродетельнейшим святошей? Он загнан в угол, сбит с толку: днями
напролет принужден заниматься чучелами голубей и разноцветными подъюб-
никами; бывает, до завтрака успевает написать около восьмидесяти писем; у
него даже свободной минуты нет, чтобы выбраться в Париж и купить дочери
шляпку, так стоит ли удивляться тому, что в конце жизни он задается
вопросом о том, не сочтут ли потомки (то есть мы с вами) его поведение
преступным?
Итак, совершил он преступление? Если совершил, то его ли это вина?
Разве в начале своего пути он не клялся в том, что в основе христианской
веры лежит самоотречение и далеко не все решает здравый смысл? И
потом, как, будучи в сане архиепископа, мог он отказаться от почестей, обя-
Покровитель и подснежник
163
зательств, подарков, подношений, которые все множились и множились и,
в конце концов, он оказался под ними же и погребен? Принцессам надобно
мыло, дворцы надо обставлять, детишек нужно поить молоком... Между
прочим, он никогда не забрасывал науку, как ни патетично это звучит. Он не
расставался с шагомером, одним из первых научился обращаться с
фотоаппаратом, пропагандировал печатную машинку, а под занавес даже попробовал
починить сломанные часы. Дети в нем души не чаяли - он был прекрасным
отцом, писал им остроумные письма, все учил уму-разуму; был
замечательным рассказчиком и умер в одночасье, в трудах праведных. Что и говорить,
способный был человек, а что до добродетели, то посудите сами: разве это
просто - хорошему человеку исполнять архиепископскую службу?
ПОКРОВИТЕЛЬ И ПОДСНЕЖНИК
Кто из молодых людей или женщин не вспомнит совет, который им
давали, когда они только-только начинали писать: пишите короче, яснее,
забудьте обо всем постороннем и постарайтесь, как можно точнее выразить свою
мысль? Совет, конечно, интересный, только он совершенно неприложим к
действительности. Почему-то никому из доброхотов не приходит в голову
добавить одно важное уточнение: «И постарайтесь не ошибиться с
покровителем!» А ведь это самое главное. Книги пишут, чтобы их читали, а
поскольку покровитель - это человек, который не просто ссужает тебя деньгами,
но и вдохновляет, и подталкивает каким-то непостижимым и неотвратимым
образом к тому, чтобы писать, то, согласитесь, иметь в этом качестве лицо
доверенное крайне важно.
Только кто же может выступить в роли такого доверенного лица? Какой
такой покровитель способен так поразить воображение писателя, так
обольстить и увлечь его за собой всеми правдами и неправдами, что у того забьет
фонтаном творческая жилка и он начнет выдавать на-гора образ за образом,
один другого краше? Ясно, что вопросы эти возникли не сегодня, и разные
эпохи отвечали на них по-разному. Например, елизаветинцы в общем и
целом писали для вельмож и для театрального райка - то был их выбор. А
писателям восемнадцатого века полюбился острослов, завсегдатай кофеен, и он
же книжный лоточник с Граб-стрит1. В девятнадцатом веке великие виктори-
анцы все как один бросились писать для журналов по подписке2 и для
многочисленного класса рантье. Время доказало успешность всех этих альянсов,
и сегодня, оглядываясь назад и невольно сравнивая себя с
предшественниками, мы не можем отрешиться от мысли, что им тогда было гораздо проще -
все было ясно как день. Мы же находимся в крайне затруднительном
положении - нам-то для кого писать? Дело в том, что покровителей сегодня пруд
пруди: выбирай - не хочу. Тут тебе и ежедневная пресса, и еженедельники, и
б*
164
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ежемесячные издания. Хочешь, пиши для английской публики, хочешь - для
американской. Есть любители бестселлеров - пожалуйста, пиши для них, а
претит тебе писать на потребу дня, пиши для строгих ценителей
литературы, которые презирают коммерческий успех. Есть аудитория
читателей-интеллектуалов, и есть такая, которая требует хлеба и зрелищ. Причем каждое
сообщество читателей прекрасно осознает свои запросы, имеет возможность
не только ясно и громко заявить о них, но и выразить автору, в зависимости
от ситуации, свое полное одобрение или презрительное «фи». Так что
прежде чем броситься к письменному столу, пылая восторгом по поводу первого
проклюнувшегося в Кенсингтон-гарденс подснежника3, писателю на самом
деле не мешало бы выбрать из пестрой толпы соперничающих покровителей
такое лицо, которое станет его поверенным. Ведь сколько ни тверди, - мол,
«забудь, выбрось все из головы, думай только о своем подснежнике», - толку
не будет, ибо литература - это способ общения, и до тех пор, пока твой
подснежник живет только в твоей голове и ты о нем никому не рассказал, ни с
кем не поделился, он так и останется втуне. Человек может, конечно, писать
для себя, но только в том случае, если он первый или последний
представитель человечества на земле, а это, согласитесь, исключительная и в общем
нежелательная ситуация, когда тебя некому читать, кроме береговых чаек,
которые, как известно, не отличаются любовью к слову.
На что возвышенные умы, скорей всего, возразят: даже если вы и правы
в том, что каждый писатель пишет с оглядкой на ту или иную читательскую
аудиторию, все равно, при любых условиях, читатель - его покорный
слуга, он смиренно и с благодарностью принимает любые крохи с барского, то
бишь писательского стола. Ну что же, наблюдение на первый взгляд
справедливое, однако на поверку оно оказывается очень и очень скользким. Ведь
если мы его принимаем, то, значит, соглашаемся с тем, что писатель и
поверяет свои мысли читателю, и одновременно ставит себя выше его, а это, судя
по произведениям Сэмюэла Батлера4, Джорджа Мередита5 и Генри
Джеймса6, неудобное и ложное положение. Все трое презирали читательский успех,
и всем троим он был необходим как воздух. Все трое делали судорожные
попытки заинтересовать читателя, и все трое потерпели на этом поприще
сокрушительную неудачу, вымещая на бедном читателе обиду за свой провал:
чем дальше шло время, тем они все больше нагнетали в своих
произведениях тяжелую, темную, душную и враждебную атмосферу, чего, разумеется,
не позволил бы себе ни один писатель по отношению к своему доверенному
лицу и равному партнеру. Вот и получились у них не подснежники -
пушистые яркие весенние солнышки, а жалкие облезлые птенцы со
скособоченными головами. Эх, пустить бы их на травку- сразу распушились бы!..
Только что же это получается? Мы из одной крайности бросаемся в другую?
Уже готовы, несмотря ни на что, пусть чисто теоретически, принять лестное
предложение редакторов «Тайме» и «Дейли Ньюз»: «Платим двадцать
фунтов за лучший двухстраничный рассказ о подснежнике. Присылать не позд-
Покровитель и подснежник
165
нее 9.00 завтрашнего утра. Публикацию миллионным тиражом с указанием
имени автора гарантируем»?
Но нам не нужен миллион! Нам хватит одного подснежника -
маленького, но своего! И потом, не много ли за один скромный цветок - целых
двадцать фунтов, да еще за подписью автора? А вдруг весеннего его солнышка
не хватит на такой огромный тираж - что тогда? Газетчики, конечно, доки,
знают, как правильно растираживать подснежник. Только цветочки-то эти
газетные, если приглядеться, мало общего имеют с тем ярко-желтым или
фиолетовым крепышом, что каждый божий год проклевывается ранней весной в
Кенсингтон-гарденс. Цветок журналиста - явление особое. Во-первых, он ни
на дюйм не выбивается из отведенного ему объема. Во-вторых, он блестит,
как золотой, и блеск у него мягкий, теплый, ласковый. И вообще он -
произведение искусства: по-другому и не может быть, если за дело берется «наш
критик номер 1 » из «Тайме» или м-р Линд7 из «Дейли Ньюс» - у них что ни
статья, то шедевр. Не каждому дано заставить миллион котелков вариться
одновременно в девять часов утра - тут требуется особое искусство:
искусство поманить за собой миллион пар глаз чем-то ярким, блестящим,
завлекательным. Одно плохо: с наступлением темноты эти однодневки вянут.
Знаете, как «гаснут», теряя блеск, морские камешки, когда их вынешь из воды
и они у тебя на глазах превращаются в гальку? Как великие примадонны,
стоит только запереть их в телефонной будке, начинают выть и царапаться,
подобно гиенам? Так и самые блестящие статьи: стоит им только покинуть
родную гавань газеты, как от них в одночасье остается одна лужа и пена.
С журналистикой всегда так: перепечатанная в книге она не интересна.
Итак, наш идеальный поверенный - тот, кто не дает увянуть нашим
цветам. На самом деле, найти такого очень не просто: это настоящая проверка
на прочность самого автора, поскольку образ покровителя меняется от века
к веку, и от писателя требуются огромная выдержка и твердость духа, чтоб
не польститься на внешний блеск и не пойти на поводу у толпы,
соревнующейся наперегонки за его, писателя, внимание и интерес. Ведь знать, для
кого пишешь, равносильно умению писать. Впрочем, кое-какие черты
современного покровителя очевидны: сегодня писатель ищет скорее
книжника, чем театрала; причем не просто любителя книг, но всеядного книгочея,
начитанного в литературе разных времени и народов. Но и это не все.
Некоторые его черты отвечают нашим сегодняшним слабостям и повадкам. Взять
охватившую современных писателей лихорадку непристойности: ведь их
трясет так, как никогда прежде, - сравнить с теми же елизаветинцами.
Значит, у покровителя должен быть к непристойности стойкий иммунитет: ему
необходимо безошибочно определять, где ошметок навоза, по случайности
приставший к нежно-зеленому стеблю подснежника, а где намеренная грязь
и бравада. Еще он должен хорошо разбираться в общественных
тенденциях, поскольку они играют очень большую роль в современной литературе:
какие из них ей во благо, на пользу, а какие во вред и только ее сушат. Ему
166 В. Вулф. Обыкновенный читатель. J 925
обязательно придется определиться с чувствами, и, между прочим, он один
способен помочь в этом вопросе современному писателю, укрепив того в
нелюбви к сентиментальности и одновременно избавив от мазохистского
страха перед выражением чувств. Каким образом? - дав писателю понять, что, с
его, покровителя, точки зрения, лучше захлебнуться в чувствах, чем бояться
ступить в эту воду. И о языке ему, видимо, придется высказаться, напомнив
писателю о богатстве словаря Шекспира и о том, как безоглядно нарушал ели-
заветинец грамматические нормы и что все наши ухищрения сыграть одними
синкопами ни в какие подметки не годятся шекспировским «Антонию и
Клеопатре». И вообще - не мешало бы ему поставить писателя на место, заявив,
что надо поменьше думать про свой пол: не бывает у писателя пола. Впрочем,
все это пустяки и мелочи в сравнении с главным качеством покровителя - той
неуловимой его чертой, которую удобнее всего обозначить туманным словом
«атмосфера». Дело в том, что покровителю необходимо создать вокруг
подснежника некий ореол, чтобы тот заиграл всеми своими красками, предстал
во всей своей высокой значимости, только тогда станет возможно поверить в
то, что единственный смертный грех на белом свете - это покривить душой,
выставить подснежник в ложном свете. Покровителю необходимо дать нам
почувствовать, что он счастлив обладать одним-единственным
подснежником, если тот - настоящий. И не нужны ему наши нравоучения,
возвышенные слова, советы и рецепты. И вообще он сожалеет о том, что в свое время
заставил Карлайла метать громы и молнии8, Теннисона - петь пастушком9, а
Рескина вверг в безумие10. Теперь он гораздо осторожнее и готов, по первому
слову писателя, стушеваться или, наоборот, заявить о себе: он понимает, что
не только кровные узы связывают его с писателем, на самом деле, они
близнецы, и если один из них умрет, тотчас умрет и другой; и наоборот, если одному
из них хорошо, значит, хорошо и другому! Судьба литературы - в их руках, ее
будущее зависит от того, насколько счастливым будет их союз... Словом, как
мы и говорили в самом начале, самое главное - не ошибиться с покровителем,
выбрать своего суженого. Но как? Как научиться писать? В этом все дело.
СОВРЕМЕННОЕ ЭССЕ
По справедливому замечанию м-ра Риса, история происхождения эссе -
восходит ли оно к Сократу или к Сиранни Персидскому1, вопрос куда менее
важный, нежели современное состояние предмета, поскольку, как все
живое, эссе интересно в первую очередь своим настоящим. И потом, за долгое
время своего существования вид этот сильно развился: одни его
представители пошли в гору и расцвели пышным цветом, другие отпочковались и
пристроились кое-как на задах Флит-стрит2. Сама форма эссе предполагает
Современное эссе
167
бесконечное разнообразие подвидов: есть эссе короткие, есть длинные, есть
серьезные, есть пустяки; есть эссе о Боге и Спинозе, а есть про черепах и
Чипсайд3. Но при всей кажущейся неупорядоченности, рост этот не
полностью хаотичен - он подчиняется определенным принципам: чем глубже мы
вчитываемся в эти пять небольших томиков*4, где представлены эссе 1870-
1920-х годов, тем четче проступает за полувековым периодом что-то вроде
поступательного хода истории.
Впрочем, к эссе мало применимы подобные громкие слова -
«поступательный ход истории»! Этим, кстати, оно отличается от всех других
литературных форм. У эссе одна, очень простая цель - доставить удовольствие
читателю. Когда ты машинально тянешься к книжной полке за томиком эссе,
знай: тебя тянет почитать ради удовольствия. Вот на эту главную задачу и
направлена каждая деталь эссе. С первого же слова эссе берет тебя в полон
и не отпускает до самого конца: только перевернув последнюю страницу,
ты просыпаешься, как по мановению волшебной палочки, - посвежевший,
точно после крепкого здорового сна. «Во сне» с тобой происходило всякое:
ты то веселился, то удивлялся, то загорался интересом, то негодовал.
Читая Лэма5, ты уносился на крыльях фантазии в заоблачные дали, а
погружаясь в чтение Бэкона6, приникал к источнику мудрости. И только одного тебе
не довелось испытать - волнения. Оно и понятно: эссе тогда хорошо, когда
оно качает тебя, как в колыбельке, и заставляет забыть обо всех житейских
невзгодах.
Впрочем, последнее - почти недостижимый идеал, и виной тому в
равной степени и читатель, и писатель, чей вкус притупили привычка и
состояние дремоты. Что ни роман, то с сюжетом, что ни стихотворение, то в
рифму, а на какое мастерство может подвигнуть писателя эссе - коротенькая
зарисовка в прозе? да еще так, чтоб читателя «зацепило» и он воспрянул
к жизни, выйдя из привычного ступора, ощущая каждой своей клеточкой,
как проникает в его поры, подобно солнечным лучам, блаженное состояние
наслаждения? Достичь этой цели можно при одном условии - если умеешь
писать. Никакая образованность - даже та, что отличала Марка Пэттисона7,
не поможет писателю, если у него не получается претворить свое знание в
волшебную ткань прозы, где нет ни выпирающих наружу фактов, ни
кричащих догм. У кого это очень хорошо получалось, причем по-разному и не от
случая к случаю, а постоянно, так это у Маколея8 и у Фрауда9. Что у того,
что у другого, одно эссе по глубине воздействия на кругозор читателя
стоит многих и многих глав сотен и сотен учебников. Когда же за дело берется
Марк Пэттисон, и мы видим, каких трудов ему стоит ужимать свой рассказ
о Монтене10 до тридцати пяти страничек, мы понимаем, что университета
под названием «Грюнфоман» Марк Пэттисон не кончал. А зря! М-р Грюнфо-
* «Современное английское эссе». Под ред. Эрнеста Риса. В 5 т. Изд-во «Дент» {Примеч.
Вулф).
168
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ман известен тем, что выпустил когда-то сырую книжку. За это ему вечное
спасибо от благодарных потомков: сиди и изучай с лупой в руке сию
поучительную окаменелость. Процесс, разумеется, не легкий: он требует времени
и усидчивости, а ими Пэттисон, похоже, не обладал в должной мере. Как
вышел у него сырой патиссон, так он и бросил его нам на стол, а кушать это
блюдо нельзя- не разгрызть, не прожевать! Того глядишь, зубы сломаешь.
В какой-то степени это касается и Мэтью Арнолда, и известного
переводчика Спинозы11. Эссе не годится для чистосердечных признаний и публичного
осуждения преступника ради его же блага - в том и дело, что пишется эссе
исключительно во благо читателя и еще для вечности, но никак не для
мартовского выпуска «Фортнайтли ревью»12. А если обвинительный тон в эссе
неуместен, то что говорить о другой напасти, которая иногда постигает эссе,
подобно тучам саранчи? Я имею в виду развинченную манеру человека,
который бродит-бродит вокруг да около: то одно слово подберет, то другое,
хватается за первую попавшуюся мысль, как это, скажем, делает м-р Хат-
тон13 в следующем отрывке:
«Добавьте к этому то, что его супружеский век оказался очень недолгим,
всего каких-нибудь семь с половиной лет, - потом его брак неожиданно
оборвался, - и что истовое его поклонение светлой памяти и духу супруги - его
"религия", как он сам говорил, было таково, что в глазах остального
человечества, как он и сам прекрасно понимал, такая страсть за гробом должна
была казаться чрезмерной, более того, - болезненной, и, тем не менее, его
обуревало непоколебимое стремление воплотить свою страсть со всей
возможной нежностью и возвышенностью в речах, которые трудно ожидать от
человека, пользующегося заслуженной репутацией "скупого на слова"
мастера, и которые лишь подчеркивают то, что с человеческой точки зрения
карьера м-ра Милля была отнюдь не безоблачной»14.
Еще в книге такая клюква развесистая - куда ни шло, но для эссе она
фатальна. На самом деле, единственное подходящее для такого пассажа
место - это двухтомная биография (мы имеем в виду, конечно, прежнюю
викторианскую биографию большого объема): там есть где разгуляться, есть куда
вставить аллюзию, ссылку, там вся эта тяжелая артиллерия теряется в общей
словесной массе и даже, между прочим, по-своему полезна. Однако эссе от
такой «пользы», привносимой читателем, который, как плохой
контрабандист, тащит в книгу отовсюду, что попало, повторяю, эссе от такой «пользы»
одна погибель.
Оно, как хорошее вино, не терпит примеси. Всеми
правдами-неправдами, потом ли, кровью, талантом или каким другим невероятным способом,
но эссе должно сохранять прозрачность - оно должно быть чистым, как
слеза, как вино без осадка: ни песчинки, ни соринки, ни мути, ни пятнышка.
Судя по первому тому, эта непростая задача оказалась по плечу только
Уолтеру Пейтеру с его «Заметками о Леонардо да Винчи»15: видно, что когда он
садился писать это эссе, в голове у него уже все выстроилось. Пейтер - чело-
Современное эссе
169
век ученый, но он не подавляет нас своими знаниями о Леонардо, а создает
незабываемый образ, как в хорошем романе, где все работает на то, чтоб
замысел автора воплотился в единое целое. Именно эссе, форма крайне
лапидарная и прямолинейная в смысле использования фактов, оказывается
оселком писательского таланта, поскольку заставить работать на себя жесткие
жанровые ограничения может только такой прирожденный мастер, как
Уолтер Пейтер. Заложенную в эссе тягу к истине он поставит на службу своего
авторитета; лаконичность подчеркнет и усилит; наконец, найдет место и тем
витиеватостям, которые так любили старые мастера, а мы уничижительно
называем украшательством и излишествами. Сегодня ни у кого не хватит
смелости повторить ставшее в свое время знаменитым описание
возлюбленной Леонардо, госпожи его сердца, той, что «изведала тайны загробной
жизни, глубоко черпала в бездонных водах и знает всю горечь поражения; той,
что странствовала с восточными купцами в поисках заморской пряжи; той,
что в образе Леды стала матерью троянской царицы Елены, а в образе святой
Анны прародительницей Марии...»16. Отрывок настолько темен, что связь с
целым не сразу угадывается. Она как бы подразумевается, и лишь в тот
момент, когда мы доходим до слов о «женской улыбке и о равнодушно катящих
волны бездонных водах»17, о «скорбном достоинстве мертвых, восседающих
в одеждах землистого цвета, оттененных дымчатыми камнями»18, только
тогда мы вдруг осознаем, что у нас есть уши, у нас есть глаза, и английский
язык отнюдь не исчерпывается односложными словами, а заполняет ряд за
рядом пухлые, убористо набранные тома. Другое дело, что заглядывает в
эту кладовую разве что англичанин польского происхождения19, остальные
держатся сегодня от нее подальше. Конечно, у словесного воздержания есть
свои плюсы: оно удерживает нас от ненужных пафоса, риторики, пышно-
словия и витания в облаках, и все же еще не известно, стоит ли, в угоду
поднявшимся в цене трезвости мысли и прозаичности изложения, поступаться
блеском и великолепием сэра Томаса Брауна и неукротимостью Свифта.
Впрочем, в большей, чем у биографии или художественной прозы,
приверженности эссе к резким поворотам, метафорам и тщательной отделке
каждой мелкой детали скрыта и определенная опасность. Эссе очень легко
превратить в безделку - в безделушку. Достаточно течению замедлить ход -
тому течению, что, подобно кровеносной системе, питает литературу, - и вот
уже слова, вместо того чтобы вспыхивать в ночи, подобно маяку, или
заряжать тебя не видной глазу, мощной энергией, свертываются в красивые
рождественские шарики: такие повисят ночью на елке, а наутро от них
останется покрывшаяся пылью мишура. Безделицу всегда хочется разукрасить.
Кажется, чем может «зацепить» читателя рассказ о походе или веселой
прогулке по Чипсайду - какое ему дело до черепах в витрине магазинчика м-ра
Суитинга? Темы мелкие, житейские, а заинтересовать читателя хочется, вот
Стивенсон и Сэмюэл Батлер и придумали, как это сделать, причем
совершенно разными способами20. Стивенсон, как всегда, в своем репертуаре - он
170
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
берет поделку и начинает ее выпиливать со всех сторон, шлифовать, доводит
до блеска, на манер эссеистов восемнадцатого века. Пустячок получается
восхитительный, только в какой-то момент, на середине эссе, нам
делается страшно: а вдруг хрупкий материал не выдержит, треснет? Безделица-то
пустячная, а труда в нее вложено - не меряно. Видимо, поэтому нам кажется,
что овчинка выделки не стоит: мы еще не дочитали до конца, а многие
пассажи в эссе представляются выхолощенными по содержанию, например вот
этот: «Посидеть спокойно, поразмышлять... Вспомнить лица женщин - и не
испытать при этом никакого волнения; воздать должное великим
свершениям путешественников - и не почувствовать укола зависти; сопереживать
всему и везде - и при этом всегда и везде оставаться собой»21, - ну чем не
чистая абстракция?.. Батлер же, в противоположность Стивенсону,
действует по-другому, он словно каждым словом убеждает тебя думать
самостоятельно и выражать свои мысли буквально. Во всяком случае, батлеровский
образ черепах в витрине, которые, будто тесто, расползаются из-под
панцирей, говорит о том, что автор твердо держится определенной идеи. Следом за
ним и ты дрейфуешь от одной идеи к другой, покрывая немалые расстояния:
отметив, что пятно на репутации стряпчего - это очень серьезное дело, ты
перескакиваешь на Мери Стюарт, которая, оказывается, носит
ортопедическую обувь и, бывает, падает в обморок возле «Подковы» на Тотнем-корт-ро-
уд22; затем констатируешь факт, что Эсхил сегодня никого не волнует, и так
постепенно, с шутками-прибаутками, пересыпанными софизмами, наконец,
добираешься до главного, а оно заключается в том, что двенадцать страниц,
заказанные автору «Юниверсал ревью»23 для описания прогулки по Чипсай-
ду - двенадцать и ни строчкой больше - подошли к концу, и ему пора
закругляться. При всех различиях, и Батлер, и Стивенсон одинаково ревностно
пекутся о том, чтобы читатель остался доволен, чтобы эссе их были отмечены
лица не общим выражением и чтобы при этом никто не спутал их с большой
литературой, а это, согласитесь, куда сложнее в стилистическом отношении,
чем писать, как Аддисон, и называть свои сочинения шедеврами.
Действительно, викторианских эссеистов трудно перепутать -
настолько они яркие - и, тем не менее, у них было много общего: во-первых,
большой объем текста - во всяком случае, больший относительно сегодняшнего,
и, во-вторых, аудитория, у которой не только хватало свободного времени
для того, чтобы вдумчиво прочитать журнал, но которую отличали высокие
культурные запросы, независимо от того, что они были узковикторианскими.
Тогда не считалось зазорным обсуждать в эссе серьезные вопросы и
никого не смущало то обстоятельство, что, работая для журнала, эссеист должен
выложиться сполна, поскольку через месяц-другой та же самая публика,
которая познакомилась с эссе в журнальном варианте, будет с не меньшим
интересом читать твое эссе в составе книги. С той поры многое переменилось
и, главное, изменилась аудитория: место не большой по численности,
хорошо образованной читательской публики заняла куда более многочисленная
Современное эссе
171
и гораздо менее просвещенная армия читателей. Не сказать, чтобы перемена
была целиком к худшему: напечатаны же в третьем томе эссе м-ра Берэла24 и
м-ра Бирбома25. Более того, наблюдается явное возрождение классического
эссе: современное эссе подобралось, подсохло, в нем поубавилось былой
риторики, и сегодня оно сильно смахивает на эссе Аддисона и Лэма. Во всяком
случае, налицо огромная разница между эссе м-ра Берэла о Карлайле26 и тем
эссе, которое мог бы написать о нем Карлайл, если был бы жив; равно как
и между «Тучей фартучков» Макса Бирбома и «Апологией циника» Лесли
Стивена27. Но главное: эссе живет и не думает умирать. Ну и что с того, что
изменяются условия? Эссеист, как существо, в высшей степени
чувствительное к общественному мнению, тут же приспособится к новым условиям, а
уж что из этого выйдет, бог весть: все зависит от того, умеет человек писать
или нет. Если хорошо пишет, значит, перемена пойдет ему на пользу; плохо,
значит, туда ему и дорога. Взять м-ра Берэла: он всегда писал хорошо, а
теперь стал писать еще лучше - «похудел» почти наполовину, и удар лучше
держит, и мыслит гибче. Сложнее с м-ром Бирбомом: что он привнес в эссе и
как оно его обогатило? Повторяю, это куда более сложный вопрос, ведь мы
говорим об опытнейшем эссеисте, мастере своего дела.
Конечно, главное, что привнес в эссе м-р Бирбом, это он сам. После
смерти Чарлза Лэма этот монтенев дух забыл дорогу в наше эссе, хотя до
того иногда посещал наши пределы. Мэтью Арнолду и в голову бы не
пришло стать на одну доску с читателями, а про Уолтера Пейтера и говорить
нечего: он никогда не был своим для широкой публики. Чего-чего, а этого они
нам не дали, притом что одарили нас многим другим. Поэтому когда в 1890-е
раздался голос человека, который запросто, на равных обращался к
читателю, публика сильно удивилась: еще бы, ведь все давно привыкли к другому
тону - менторскому, поучающему, осуждающему. А этот новый голос
принадлежал тому, у кого явно были свои, личные беды и радости, и человек
этот не собирался никого ни учить, ни поучать. Он был самим собой,
просто и откровенно, и ему это нравилось: быть самим собой. Вот так мы снова
повстречали эссеиста, чуть что сразу пускающего в ход самое привычное
обоюдоострое оружие - собственное «Я». Он без всякой стеснительности и
оговорок ввел в литературу личность - и сделал это настолько подчеркнуто
и чисто, что нам нет дела до того, как связаны (и связаны ли вообще) эссеист
по имени Макс и человек по фамилии Бирбом. Главное: все, что он пишет, от
первого до последнего слова, проникнуто духом личности. Вот где
торжествует стиль! Ведь ввести в литературу свое «Я» можно одним-единственным
способом - умея писать: ибо нет у литературы другого такого же грозного
противника, как авторское «Я», притом что оно составляет неотъемлемую ее
часть. Самое сложное в писательском деле заключается в том, чтобы
никогда не быть самим собой и в то же время быть только собой и никем другим.
Положа руку на сердце, эта задачка оказалась не по зубам некоторым
эссеистам, представленным в антологии м-ра Риса. Признаться, тошно видеть, как
172
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
беспощадно расправляется время с иными посредственностями. Когда-то их
эссе казались милой болтовней и читались с интересом: кто спорит? -
конечно, приятно пообщаться с писателем за кружкой пива. Увы, литература -
дама суровая: ты можешь выставлять себя перед ней кем угодно - очароваш-
кой, святошей, семи пядей во лбу, остряком, - ей дела нет! Сначала докажи,
что ты умеешь главное - писать!
М-р Бирбом доказал это в совершенстве. Интересно, что мастерства он
добился, отнюдь не роясь в словарях в поисках многосложных слов, не
чеканя длинных фраз, не лаская наш слух затейливыми каденциями и
непривычным ритмом: в сравнении с его скромной персоной некоторые коллеги -
например Хенли28 и Стивенсон - просто короли на час. Зато «Туче фартучков»
Бирбома присущи такая подкупающая неровность, сумятица чувств и
выразительность, какие бывают только в жизни и без которых жизнь просто
немыслима. Дочитав эссе до конца, понимаешь, что это условный конец: так
и в жизни приходит пора прощаться с друзьями, и ты знаешь, что вы снова
встретитесь, что это вовсе не конец вашей дружбе. Жизнь бурлит, меняется,
за волной идет новая волна. На то оно и живое, чтоб меняться: книги и те
меняются, если они живые. Как часто нам хочется перечитать книгу,
встретиться вновь с ее героями; мы берем ее в руки, а там все другое. Так и с эссе м-ра
Бирбома: читаешь их одно за другим, а сам про себя знаешь, что наступит
время, придет сентябрь или май и тебе снова захочется с ними встретиться, и
ты снимешь их с книжной полки, и вы сядете вместе поговорить. Одно
плохо: нет писателя, более чувствительного к общественному мнению, чем
эссеист, а поскольку читают сегодня, как правило, в гостиной, эссе м-ра Бирбома
красуются на самом видном месте, где и положено, - на кофейном столике.
Тут тебе ни джина, ни табачной вони, ни смачных шуток, ни пьяной ругани,
ни безумства - ничего такого нет и в помине. Сидят чинно-важно дамы и
господа, беседуют и, как воспитанные люди, обходят некоторые темы.
Разумеется, никто не пытается представить м-ра Бирбома камерным
писателем - это было бы глупо, впрочем, никто не собирается делать и
обратное: выдавать эссеиста, художника, мастера за героя нашего времени - это
было бы смешно. Обратите внимание: в четвертом и пятом томах антологии
нет ни одного эссе м-ра Бирбома. Век его, похоже, миновал, а с ним отошел
в прошлое и кофейный столик: сегодня этот предмет интерьера все больше
напоминает алтарь, к которому люди когда-то возлагали дары - кто плоды из
собственного сада, кто поделки ручной работы. С тех пор все в очередной
раз поменялось: сегодня публика ничуть не меньше прежнего, может, даже
больше жаждет эссе, однако спрос на легкую продукцию, рассчитанную на
среднего читателя, объемом в три с половиной страницы (в эксклюзивных
случаях - до четырех с четвертью), намного опережает предложение. Если
Лэм за год писал одно эссе, а Макс от силы два, то м-р Беллок29 дает им
несколько очков вперед, выдавая, по самым скромным подсчетам, все
триста шестьдесят пять. Верно, они коротенькие - всего несколько страничек,
Современное эссе
173
не чета прежним, зато какая ловкость, какой глазомер! Сегодня от
опытного эссеиста требуется уметь использовать по назначению каждый сантиметр
страницы: начинаете с самого верху, точно рассчитываете объем - тут абзац,
там полстрочки, здесь ловкий переход, там резкий поворот и точка! - ровно
в том месте, где требует редактор, ни слова больше. Читаешь такое - и дух
захватывает от головокружительных пируэтов. И все бы ничего, только от
личности к концу ничего не остается, а ведь м-р Беллок от нее зависит не
меньше, чем Бирбом. В итоге уже нет той естественности речи, того
богатства модуляций, которые еще недавно звучали в эссе, вместо голоса,
согретого человеческой интонацией, мы слышим истеричного, захлебывающегося,
доходящего до визга, срывающегося на крик диктора: такие обычно
пытаются перекричать в мегафон толпу, собравшуюся на улице в ветреный день.
«Мои маленькие друзья, - обращается Беллок к читателям в эссе
"Неизвестная страна", и продолжает, - встретил я на днях на Финдон Фэр одного
пастуха; он пришел на ярмарку из восточных краев, через Льюис, и привел
с собой овец: в глазах у него застыла тоска - по ней сразу можно отличить
взгляд пастуха и жителя гор от всех прочих людей... Я подошел поближе
послушать, о чем он рассказывает, - ведь у пастухов особый говор, не такой, как
у всех остальных людей»30.
К счастью, тот пастух не был словоохотлив, и о Неизвестной стране
ничего толком не сказал: даже после неизбежной в таких случаях кружки пива
язык у него не развязался, что доказывает одно из двух - либо это был
никудышный поэт, переодетый пастухом, либо весь этот маскарад - дело рук,
точнее, авторучки самого м-ра Беллока. Что же, нынче записному эссеисту
приходится расплачиваться именно такой монетой: рядясь в чужие одежды.
Ему некогда быть самим собой; времени вживаться в образы других людей
у него нет. Вот и приходится скользить по поверхности, предлагая водичку
вместо выдержанного вина. Еще бы! Ведь ему каждую неделю нужно во что
бы то ни стало бросить нам кость - затертое грошовое эссе, хотя он мог бы с
гораздо большим успехом одаривать нас раз в год чистым золотом.
И ведь если бы один м-р Беллок пострадал от изменившихся условий!
Судя по эссе 1920-х годов, завершающим антологию, пусть далеко не
лучшим и не самым показательным для авторов, постоянно работающих в этом
жанре (сделаем исключение для таких писателей, как м-р Конрад и м-р Хад-
сон31, по случайности причисленных к славному цеху эссеистов), - перемены
им явно не к лицу. Для того, кто понимает толк в литературе и чует халтуру
за версту, это душераздирающее занятие, жуткое кишкомотательство -
каждую неделю, а то и каждый день выдавать газетную колонку, иначе говоря,
писать для деловых людей, по утрам спешащих на поезд, а вечером
возвращающихся со службы усталыми домой. Писать-то эссеист пишет, но делает
это, скрепя сердце, машинально срезая острые углы, чтобы не раздражать
капризную публику, и ловко скрадывая все заветные мысли, чтобы, не дай
бог, они не оказались втоптанными в грязь. Поэтому тебя не покидает ощу-
174
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
щение, когда читаешь подряд м-ра Люкаса, м-ра Линда и м-ра Сквайера32,
что наступила пора общей серости. Современным эссеистам и не снилось,
что они могут так же свободно роскошествовать на странице, как в свое
время это делал Уолтер Пейтер; они и помыслить не в состоянии о том, чтобы
впасть в праведный гнев, подобно Лесли Стивену. Еще бы! Только попробуй
излить в отведенных тебе полутора колонках свое чувство прекрасного и дух
бесстрашия, как твое эссе моментально превратится в шашку с динамитом,
а если к нему еще подключить мысль, то она сработает, подобно бикфордову
шнуру, и разнесет статью ко всем чертям. Нет, сегодня эссеисты
осторожничают, пишут для размякшей, уставшей, равнодушной массы читателей, так
что остается только удивляться, что в этих условиях они еще пытаются
писать хорошо.
Впрочем, далеко не все страдают от изменившихся условий: например,
м-р Клаттон Брок33 вовсе не нуждается в нашем сочувствии - новая
ситуация явно пошла ему на пользу. Причем без особых усилий с его стороны: он
очень плавно перешел от традиционного эссе, выражающего личное
мнение автора, к новой эссеистике, служащей рупором общественного мнения,
так сказать, плавно переместился из гостиной в Альберт-холл34. То, что эссе
при этом «похудело», парадоксальным образом способствовало широте
индивидуальности: мы потеряли «Я» Макса и Лэма, зато получили
общественное «Мы» коллектива и отдельных высокопоставленных личностей. Отныне
не «Я» хожу в оперу слушать Моцарта, а «Мы» ходим на «Волшебную
флейту»; она не «Меня» духовно обогащает, а «Мы» коллективно извлекаем из нее
пользу; и, вообще, оказывается, это «Мы» все вместе ее когда-то написали.
И это логично: если ты хочешь, чтобы твой голос дошел до самых
отдаленных уголков Альберт-холла, ты должен предложить общую формулу для
музыки, литературы и искусства. Так что на самом деле «Мы» должны
испытывать законное чувство удовлетворения, слыша, как искренний и
незаинтересованный голос Клаттона Брока разносится далеко окрест и, нимало
не потакая вкусам массы, становится общим достоянием. Теперь наше «Мы»
может только раздаваться вширь, а вот для «Я» настали трудные времена,
хотя подавить это гордое существо не представляется возможным: «Я»
хлебом не корми, дай ему только самому думать и чувствовать. Оно ни за что не
согласится есть и пить из общего котла, какими бы образованными и
доброжелательными ни были соседи и соседки по столу. Внимать вместе со всеми
и «хором» извлекать пользу из услышанного - это не для нашего
индивидуалиста: он незаметно ретируется куда-нибудь в лес, в поле, сядет под кустик
и будет часами рассматривать былиночку или жевать в гордом одиночестве
картошку.
Выходит, если судить по пятому тому антологии современного эссе, где
собраны произведения 1920-х годов, писать в удовольствие и писать
мастерски нас как-то больше не увлекает. Справедливости ради, впрочем, и из
уважения к современникам давайте спросим себя: а не хвалим ли мы зна-
Современное эссе
175
менитостей прошлого только в силу авторитетности общественного
мнения и еще потому, что они давно почили в бозе, и мы вне конкуренции на
Пикадилли-стрит? Давайте определимся с критериями: что значит «они
умели писать и доставлять удовольствие»? Давайте сравнивать,
давайте оценивать не за глаза, а по существу - берем конкретное эссе и
разбираем по косточкам: в одних случаях мы, наверное, скажем - написано
точно, убедительно, с фантазией, мастерство налицо, как, например, в этом
отрывке:
«Нет, люди не уходят на покой, когда потребно; они не слушают голос
Разума, даже когда их одолевают старость и болезни; Уединение им претит,
поскольку никто не хочет жить в тени: подобно городским старожилам, они
сидят дни напролет у ворот своих домов с кислыми минами на лицах, будто
покрывая презрением нынешний Век...»35
А в других случаях, когда что-то написано сыро, невнятно,
монотонно, мы заметим: «Плохо! Никуда не годится!», как, например, в таком
описании:
«Цинично улыбаясь сквозь зубы, он подумал о тихих девичьих
спальнях, о шепоте волн лунной ночью, о террасах, с которых вечерами льется
музыка, о материнских объятиях и цепком взгляде стареющих любовниц, о
дремлющих на солнце полях; о безбрежном океане, томно вздыхающем под
напоенными теплом небесами; о жарких портовых городах, великолепных и
благоухающих...»36
Это еще не конец, а тебя уже клонит в сон от монотонного ритма: чувства
притупляются, слабеет слух... Сравнение двух отрывков наводит на мысль,
что писательское мастерство - это всегда плод яростной приверженности
идее. Во все времена путь один: изо всех сил держаться заветных идеи,
кредо, веры - они единственные придают смысл словам, а там, глядишь, они
тебя вывезут, как неизменно вывозили и Лэма, и Бэкона, и Бирбома, и Хад-
сона, и Верной Ли37, и Конрада, и Лесли Стивена, и Батлера, и Пейтера...
В принципе выехать можно при любом таланте, главное, не тормозить, не
глушить свою идею: дать ей свободно излиться в слове. У всех получается
по-разному: кто-то топчется на месте, а кто-то ждет не дождется попутного
ветра - ни то ни другое в конечном итоге не беда. Беда в другом: когда у
человека нет за душой никакой своей идеи и эта пустота становится
проклятием современной жизни. Именно ею маются м-р Беллок, м-р Люкас и м-р
Сквайер. Как они ни тщатся, им нечем заполнить дыру безверия, и она мстит
им, не давая эфемерным звукам прорваться сквозь туманности языка в
царство вечного смысла, где они сойдутся в нетленном союзе на веки вечные.
Пусть это звучит неопределенно, однако хорошего эссе не бывает без
широкого жеста под занавес: когда все звенья цепи сходятся и ты оказываешься
частью единого целого.
176
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
ДЖОЗЕФ КОНРАД
Мы еще не успели собраться с мыслями, не сообразили, что сказать, а
гость наш уже исчез - ушел, не попрощавшись, без церемоний, так же
неожиданно и таинственно, как и появился среди нас много лет назад. В этом
загадочном незнакомце, решившем когда-то давно обосноваться в Англии,
всегда чувствовалась какая-то тайна. Виной ли тому польское
происхождение, или необычная внешность, или же уединенный образ жизни - он всегда
предпочитал жить подальше от столичного шума, сплетен, хозяек светских
салонов; но сведений о нем просачивалось крайне мало, и чаще приходилось
довольствоваться свидетельствами случайных заезжих гостей, которым
довелось встретиться с таинственным незнакомцем. По их словам, он
безукоризненно воспитан, у него пронзительно голубые глаза, а по-английски он
говорит с сильным акцентом.
Смерть человека обостряет воспоминания: мы начинаем восстанавливать
по крупицам все, что о нем знали, о чем когда-то слышали, - это неизбежный
процесс. Но вот беда: к Конраду трудно подступиться - в этом гениальном
писателе изначально была какая-то закавыка. Под конец жизни он пользовался
славой самого выдающегося современного английского писателя -
разумеется, за одним исключением1, однако популярен он не был. У него был круг
восторженных почитателей, но многих его книги оставляли
равнодушными. Его читали люди самых разных возрастов и литературных пристрастий.
С одной стороны, четырнадцатилетние подростки: те залпом проглатывали
его морские романы, вместе с томами Мариата2, Вальтера Скотта, Хенти3,
Диккенса; с другой - искушенная, разборчивая публика, которая, перечитав
все на свете, с годами привыкла смаковать отдельные находки: такие
ценители слова находили в прозе Конрада особый изыск. Возможно, именно в
этом - старом как мир споре о красоте - кроется одна из причин разногласий,
окружавших имя Конрада: достаточно прочитать несколько страниц его
прозы и ты невольно ощущаешь себя Еленой Прекрасной - глядишься в зеркало
и понимаешь, что ни при каких обстоятельствах не сойти тебе за простушку.
Ничего не поделаешь - такой уж у Конрада талант, так он себя вышколил,
что, изъясняясь на чужом наречии, он почему-то ревниво отбирал, будто
драгоценные камни, выражения романского происхождения, а германских его
корней сторонился. Вот и получилась сплошная красота без единого изъяна.
Кто-то решит, что его стиль слишком томный, как наложница,
откинувшаяся в истоме на диванные подушки. А попробуй заговорить с красавицей -
как она поднимется, сколько обнаружится блеска, силы, великолепия! Нет,
еще неизвестно, выиграл ли бы Конрад в глазах недоверчивых читателей,
пиши он, как бог на душу положит, - без оглядки на лица, не охорашиваясь
каждую секунду. А критики не унимаются: «Лишнее это все! Посмотрите,
Джозеф Конрад
111
разве не утяжеляют, не тормозят, не отвлекают от главного эти ваши
изыски?» - говорят они, тыча пальцем в выхваченные из контекста цитаты: у них
вошло в привычку разбирать произведение на эпизоды и сравнивать их
между собой - так цветочницы составляют букеты из срезанных цветов. «Здесь
слабо, здесь плоско, тут вычурно! И вообще, его завораживал собственный
голос, а на беды человечества ему было наплевать», - придираются зоилы.
Ну что ж, обвинения известные, и противопоставить им что-то
убедительное так же трудно, как доказать глухому гениальность Моцарта. Глухой все
равно не поймет: он видит перед собой оркестр, до него доносится какой-то
шум, из-за которого ему почему-то приходится переходить на шепот;
естественно, он раздражен и с каждой минутой все больше укрепляется в мысли,
что для всех было бы лучше, если бы эти пятьдесят бездельников скрипачей,
вместо того чтобы пиликать концерт Моцарта, отправились на мостовую
укладывать брусчатку. Пользы, во всяком случае, было бы гораздо больше.
Глухому ведь не объяснишь, что музыка - тоже благо, что музыка требует
строгой самодисциплины, что в музыке обучающее начало неотделимо от
красоты звука. Остается одно: читать Конрада не по хрестоматии, а целиком,
отдавшись на волю его ритма, чуть замедленного, плавного, исполненного
торжественности, достоинства, головокружительно свободного и высокого.
И если после этого ты не проникся мыслью о добре, верности, чести и
доблести, пускай Конрад и озабочен только одним - явить нам красоту ночного
океана, то, значит, ты не только на ухо тугой, но и вообще тугодум. Впрочем,
пустое это занятие - толковать музыку: все равно что пытаться ложкой
измерить море, уместить океан в мензурку. Так и с Конрадом: вне могучей
волшебной стихии его речи, без постоянной проверки слов на прочность - этой
основы основ его прозы - любые наши откровения кажутся вялыми,
плоскими и никчемными.
Ведь чем подкупали юного читателя ранние романы Конрада - те, что
были написаны до «Ностромо»?4 Немногословностью, сдержанностью,
постоянной проверкой на прочность, причем достоинства эти
читатель-подросток невольно переносил на автора. Ему импонировали конрадовские герои -
открытые, мужественные, и ему не было дела до того, что автор, человек
изощренного ума и затейливой писательской манеры, - полная
противоположность его кумирам. Сердце читателя было заведомо отдано его морским
волкам, в одиночестве бороздившим океаны, бросавшим вызов суровой
стихии и не знавшим разлада ни с собой ни с другими. Эти люди соперничали
с природой, проявляя в схватке со стихией редкостные доблесть, верность,
великодушие, как и подобает мужчинам. И, как положено, они влюблялись в
прекрасных девушек, таких же сильных духом и верных, как они сами.
Солью же земли были такие, как капитан Уолли и старик Синглтон - они
прошли огонь, воду, медные трубы и не сломались, не сдались, это настоящие
178
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
герои, без бахвальства, никогда не искали славы и этим гордились, Конрад не
упускал случая помянуть их добрым словом: «Они были сильны, как сильны
те, кто не знает ни сомнений, ни надежд. Они были нетерпеливы и
выносливы, буйны и преданны, своевольны и верны. Благонамеренные люди,
пытаясь изобразить их, утверждали, будто они вечно ныли над каждым глотком
пищи и работали в постоянном страхе за свою жизнь. Но на самом деле это
были люди, которые знали труд, лишения, насилие, разгул, но не знали
страха и не носили в сердце злобы. Этими людьми было трудно командовать, но
зато ничего не стоило воодушевить их; они были безгласны, но достаточно
сильны, чтобы заглушить презрением сентиментальные голоса,
оплакивавшие в глубине их сердец суровость выпавшей им на долю судьбы. Это была
единственная в своем роде судьба - их собственная судьба; одна
возможность нести ее на своих плечах уже казалась им привилегией избранных.
Жизнь этого поколения была бесславна, но необходима. Они умирали, не
познав сладости нежных привязанностей или отрады домашнего очага, но,
умирая, не видели перед собой мрачного призрака узкой могилы. Они вечно
оставались детьми таинственного моря»5.
Это сказано о героях его ранних книг- «Лорда Джима», «Тайфуна»,
«Негра с "Нарцисса"», «Юности»6: все они, несмотря на перемены и
поветрия, давно заняли достойное и прочное место среди нашей классики.
Согласитесь: чтобы добиться такого успеха, мало быть просто приключенческой
литературой - ведь почему-то Мариат и Фенимор Купер до сих пор не
числятся по разряду классиков. Ответ ясен: только писатель с двойной оптикой
может так страстно, беззаветно и опьяняюще восторженно преклоняться
перед героями «морского» жанра и прославлять скитальческий образ жизни.
Для этого ему нужно находиться одновременно внутри и вовне
описываемых событий. Первая задача - найти верный тон: ведь сами моряки о себе не
рассказывают. Второе - знать не понаслышке, что такое усталость, и уметь
передать колоссальную нагрузку и выдержку. И еще: надо уметь жить с Уол-
ли, Синглтонами на равных, одновременно скрывая от их подозрительных
взглядов именно те качества, которые помогают тебе их понять. Ни у кого,
кроме Конрада, не было этой двойной оптики, а у него она появилась
благодаря тому, что в нем жили два человека: рядом с морским капитаном
неотлучно находился прозорливый, тонкий аналитик, которому Конрад придумал
имя «Марло», - «в высшей степени осторожный и проницательный
человек»7, это он о нем так отзывался.
Такие прирожденные наблюдатели, как Марло, лучше всего чувствуют
себя в укрытии. Расположиться на палубе, устроиться в каком-нибудь
укромном местечке на берегу Темзы, посасывать трубку и предаваться
воспоминаниям - да разве может что-то с этим сравниться? Сидишь себе, покуриваешь,
вспоминаешь, философствуешь, пускаешь, вслед за табачным дымом, восхи-
Джозеф Конрад
179
тительные колечки слов, и они тают в летней ночи, понемногу завораживая
всю честную компанию. Марло не меньше капитана уважал товарищей, с
которыми ходил в море, зато, в отличие от старшего, видел и их смешные
стороны. Он нюхом чуял сухопутных паразитов, прилипал, знающих, как
примазаться к старым бывалым морякам, списанным на берег за ненадобностью,
и умел мастерски их описывать, до мельчайших подробностей. От его
острого взгляда не могла укрыться ни одна человеческая слабость; он любого мог
поддеть. Да и табачный дым был ему не помеха - он любил раскрыть вдруг
широко глаза и устремить взгляд на какой-то предмет: на лежащую рядом
кучу мусора, на портовый причал вдали, на прилавок в магазине, и предмет
этот, выхваченный его острым взглядом, как бы вспыхивал в темноте,
подобно яркому кончику сигары, и уже не пропадал, запоминался навсегда. Марло
знал за собой эту способность и, будучи человеком аналитического склада
ума, пытался разобраться, что к чему; говорил: на меня находит. Как-то раз,
например, случайно услышал, как офицер с французского судна
пробормотал: «Mon Dieu, как время-то идет!», и поразился: «Ничто (комментирует он)
не могло быть банальнее этого замечания, но для меня оно совпало с
моментом прозрения. Удивительно, как мы проходим сквозь жизнь с
полузакрытыми глазами, притуплённым слухом, дремлющими мыслями. ...Однако лишь
очень немногие из нас не ведали тех редких минут пробуждения, когда мы
внезапно видим, слышим, понимаем многое - всё, пока снова не погрузимся
в приятную дремоту. Я поднял глаза, когда он заговорил, и увидел его так,
как не видел раньше»8.
Таким образом, все, что он ни рисовал, высвечивалось на темном фоне -
картина за картиной. Прежде всего, разумеется, корабли - разные, в разных
ракурсах, на якоре, в бурю, в гавани; потом пошли морские пейзажи:
закаты, рассветы, ночное море, море утреннее, море при разном освещении;
потом он увлекся зарисовками портовой жизни: запестрели яркие краски
Востока, портреты мужчин, женщин, интерьеры, зарисовки быта. Рисовальщик
он был классный, настоящий профессионал - за ним чувствовалась
хорошая школа: он знал, что нельзя «отступать ни на йоту от того, что видишь
и чувствуешь»; при «...любом творческом порыве, - писал Конрад, - автор
не должен терять голову»9. Именно это мы и наблюдаем на его «полотнах»:
посреди буйства красок Марло обязательно оставит неброскую, но точную
эпитафию - чтоб не забывали о темном фоне, о грядущем мраке.
Воспользуемся рабочей гипотезой о двух друзьях, живших в душе
писателя: комментаторе Марло и художнике Конраде. Как ни плоха теория, но
она, при всей ее зыбкости, поможет нам разобраться в том, что за
перемена произошла, по словам Конрада, в тот момент, когда он поставил точку в
последнем рассказе из сборника «Тайфун»: «Что-то во мне надломилось...
Я вдруг подумал, что писать больше не о чем. Ничего интересного в жизни
180
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
не осталось»10. Посмотрим на это признание писателя с точки зрения
отношений двух закадычных приятелей: может, в них что-то изменилось?
Представим на минуту: старый сказочник перебирает в памяти рассказанные им
истории и с грустью и удовлетворением признается - лучше описать шторм,
чем он когда-то это сделал в «Негре с "Нарцисса"», ему вряд ли удастся, да
и воздать должное выдержке британских моряков он уже вряд ли сумеет так,
как у него получилось в «Юности» и «Лорде Джиме». А рядом на палубе
сидит старый болтун Марло и на жалобы приятеля отвечает, невозмутимо
посасывая трубку: все мы когда-то стареем, это естественно, пора бросать
плавать. Только совсем уж списывать со счетов тяжелые годы морских
походов не следует - осталось много воспоминаний. И тут, надо полагать, Марло
делает ход конем, подмигнув расчувствовавшемуся приятелю: мол, пусть ты
и сказал последнее слово о капитане Уолли и его тернистом пути под
звездами, но ведь на берегу остается немало мужчин и женщин, чьи судьбы вполне
достойны твоего пера, может быть, не в таком суровом ключе... А если еще
представить, что в кают-компании их судна завалялся томик Генри Джеймса
и Марло подсунул его приятелю на сон грядущий, то вот вам в руки и
доказательство того, почему в 1905 году Конрад написал очень сочувственное эссе
о мастерстве Джеймса11.
Так Марло стал играть первую скрипку в их диалоге, и продолжалось
это несколько лет. Кое-кто и сегодня убежден, что их двойственный союз
той поры вылился в создание подлинных шедевров - «Ностромо», «Случая»,
«Золотой стрелы»12. Как же, - указывают ценители, - душа человеческая -
потемки, это омут, в глубинах души обитают жуткие чудовища; только
романисту подвластна эта стихия внутренней жизни, ведь подлинный
соперник человека - он сам; наша Голгофа - это не одиночество, а другие. Таким
читателям особенно нравится, когда острый взгляд рассказчика устремлен
не на пустынную гладь океана, а на бедную, корчащуюся в муках душу.
Согласитесь, однако: поворот был сделан резкий, если Конрад и вправду
последовал совету Марло изменить угол видения. Дело в том, что «оптика»
романиста - инструмент сложный и глубоко персональный. Сложный потому,
что приходится каждый раз подолгу настраивать фокус, чтобы «поймать»
героев и точно дать стоящий за ними и существующий помимо них фон.
А избирательный он потому, что у романиста, как у каждого человека со
своим особым видением, не такой уж безграничный круг обзора и есть всего
несколько сторон жизни, которые он может представить со всей
достоверностью и убедительностью. Сбить эти настройки очень легко - во всяком случае,
Конрад во второй половине жизни так и не смог вернуть точный фокус,
чтобы герои и фон не разъезжались. Когда он принялся живописать сложные
характеры своих новых героев, он уже не верил в них так, как верил когда-то
в своих бывалых мореходов. Только попробует выстроить связь, определить
Джозеф Конрад
181
их отношение к миру ценностей и верований - той незримой субстанции, с
которой имеют дело романисты, все распадается: не знает он толком эти
ценности. Вот и приходится спасать положение, прибегая в который раз к
знакомой сентенции: «Он крепко держал штурвал, зорко всматриваясь вдаль»13.
Вот и вся философия. С течением времени такие короткие жесткие фразы
удовлетворяли все меньше и меньше - мир менялся на глазах, усложняясь,
становясь все более тесным. Нарождались новые типы мужчин, женщин, с
разносторонними интересами, взглядами, - их уже невозможно было
уложить в прокрустово ложе одной фразы, а если даже это и удалось бы, то
очень многое попросту осталось бы за бортом. Тем не менее сильная
романтическая натура Конрада искала императива, который можно применить ко
всем героям его историй. В глубине души он по-прежнему верил в то, что
мир цивилизованных тонких личностей живет по «нескольким очень
простым законам»; вопрос только в том, как обнаружить их среди тьмы им
подобных? В гостиной ведь нет мачты, на которую можно забраться, чтобы кинуть
взгляд окрест и закричать «Земля!», а тайфун, к сожалению, не может
служить лакмусовой бумажкой для определения истинных качеств политиков и
предпринимателей. Вот и получается, что Конрад искал и не находил
желанных опор; возможно, поэтому его поздние произведения оставляют чувство
разочарования, недоумения и усталости - всё в них как-то размыто и
незаконченно. Единственное, что по-прежнему различаешь в неясном полумраке
повествования - это извечную конрадовскую заповедь: верность,
сострадание, честь, долг... И она, конечно, прекрасна, вот только звучит несколько
заученно, словно автор и сам понимает: времена уже не те. Все-таки, что ни
говори, а по складу ума Марло - философ. Любил засиживаться на палубе;
рассказчик он был великолепный, а вот беседу вести не умел. Как ни хороши
«мгновения озарения», но их уже не хватает, чтоб осветить медленное
течение лет и расходящиеся по воде круги. И потом, он, похоже, упустил из виду
главное: чтобы писать, художник должен верить.
Вот почему мы обходим стороной позднего Конрада, хотя иногда и
делаем вылазки в его зрелые произведения, причем небезуспешно. И все-таки
наша главная любовь - его ранние романы «Юность», «Лорд Джим»,
«Тайфун», «Негр с "Нарцисса"», их мы готовы перечитывать до бесконечности.
И если спросят: что, по-вашему, останется из сочинений Конрада и какое
место займет он среди романистов, то мы вспомним эти ранние саги,
именно благодаря им мы постигаем некую древнюю истину, лежащую в основе
сущего. Сравнивать их с другими книгами кажется пустым и несерьезным
занятием. Они встают в нашей памяти - высокие, прямые,
ослепительно чистые и прекрасные: так звезды медленно загораются во мраке
тропической ночи, вон одна сверкнула алмазом в вышине, а вон другая засияла
в ответ.
182
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
НА ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА
Что всего удивительней наблюдать современному читателю? Пожалуй,
то, как, сидя за одним столом, два критика высказывают прямо
противоположные мнения об одной и той же книге. Сидящий справа объявляет во
всеуслышание: перед нами шедевр английской прозы, а в это же самое время с
другого конца стола несется: это такой мусор, его нужно немедленно сжечь,
если, конечно, спички не жалко. Причем, заметьте, в остальном критики
сходятся во мнениях: когда речь заходит, например, о Милтоне или Китсе, они
проявляют редкое единодушие, выказывают замечательную тонкость
суждений и, разумеется, искреннюю заинтересованность в предмете разговора.
Но стоит только коснуться творчества современных писателей, как тут же
начинается драка. А все почему? Книга, которую один объявляет
«непреходящим вкладом в английскую литературу», а другой отметает как «пустую
мешанину и верх заурядности» вышла два месяца назад. Вот и все
объяснение. Вот в чем причина разногласий.
Странный довод, не правда ли? Странный для читателя, поскольку тот
хочет разобраться в хаосе современной литературы и ждет от критика
ясных ориентиров; и, конечно, он вызывает недоумение у писателя: тому,
естественно, важно знать, что ждет его труд, выношенный с такими муками,
почти вслепую, - воссиять ли звездой на алмазном небосклоне английской
словесности или же сгореть, не оставив следа?.. Ну, в случае с читателем
разобраться проще: попробуем встать на его место и наше недоумение
вскоре испарится. Ведь сколько раз уже бывало: примерно дважды в год,
весной и осенью, знатоки затевают спор. Новое разбирают «по косточкам»,
старое одобряют не глядя. Так пошло со времен «Роберта Элсмера»1, а
может, Стивена Филлипса2, точно не помню. И если бы только знатоки!
Умные люди и те спорят о новых книгах и не могут договориться. Правда, еще
неизвестно, что лучше: единодушие или разногласия критиков.
Представьте, если оба лагеря придут к единому мнению и объявят, что книга X - это
бесспорный шедевр. Да ведь в этом случае нам придется спешно решать,
поддержим ли мы суд критиков, выложим ли мы за их мнения шестнадцать
пенсов или подождем? Вроде оба критика «со стажем», не успеешь
оглянуться, как по ту и другую сторону Атлантики появятся добротные
монографии, в которых мнения, высказанные когда-то в пылу полемики, будут
оформлены в столбцы серьезных академических штудий во славу английской
литературы.
И все-таки мы почему-то не спешим расстаться с нашими денежками.
Видимо, в глубине души мы скупердяи и с цинизмом относимся к
современной литературе: по большому счету мы ей не доверяем и поэтому, хоть и
прислушиваемся краем уха к спорам критиков, все равно решаем про себя,
что даже если они договорятся, а этого, похоже, не произойдет никогда, мы,
На взгляд современника
183
на всякий случай, прибережем наши денежки, а современных гениев
лучше почитаем в библиотеке. Вопрос, тем не менее, остается, и самое
лучшее - это обратиться напрямую к критикам. Господа, скажите, неужели
сегодняшнему читателю не на кого опереться? Заметьте, речь не о писателях
прошлого - к святым мощам отечественной литературы читатель и так
относится с пиететом, и тут помощники ему не нужны. Но как быть с
литературой современной? Его все время терзают сомнения в том, что должна
же быть некая живая связь между поклонением нашим литературным
«святыням» и пониманием современности. В ответ оба критика качают
головами и, произведя, на всякий случай, беглый обзор современной литературы,
разводят руками: увы, опереться здесь решительно не на кого. Какова же
тогда цена их взволнованным мнениям о новых книгах? Уж, конечно,
не шестнадцать пенсов. В свое оправдание критики ту же начинают сыпать
примерами, рассказывая о чудовищных ошибках зоилов прошлого, о
преступных случаях близорукости критиков. Они выгораживают себя,
утверждая, что, если бы они сегодня допустили подобные ляпсусы в отношении
писателей прошлого, их тут же выгнали бы с работы и замарали их доброе
имя. Так что уж тут говорить о современной литературе? Есть только один
совет: руководствуйтесь собственным чутьем, доверьтесь своей
читательской интуиции - она вас никогда не подведет, не то что какой-нибудь
критик-щелкопер или, того хуже, рецензент. И перечитывайте, перечитывайте
классику.
Спасибо, конечно, - мысленно благодарим мы наших советчиков, -
только ведь так было не всегда. Было время, когда великую читательскую
республику направляла уверенная рука мэтра - не чета нынешней критике. Речь
не о том, что какой-то один влиятельный критик - Драйден ли, Джонсон,
Колридж или Арнолд3, непогрешимый в своих оценках современной
литературы, определял собой все: высказал мнение о книге как припечатал, и
читателю больше нечего добавить, и думать ему не надо. Это не так: мы все
знаем, как жестоко ошибались порой великие критики в отношении своих
современников. Однако самим фактом своего существования эти
тяжеловесы расставляли все по своим местам. Случись такое сейчас, будьте уверены:
безнадежный спор за столом постепенно перешел бы в здоровое русло, а
необязательная болтовня о какой-то книге обрела бы вес, которого сейчас ей
так не хватает. Это не значит, что прекратился бы спор приверженцев разных
школ: наоборот, он продолжался бы не менее ожесточенно, чем раньше, зато
у каждого читателя появилась бы внутренняя уверенность в том, что
существует, по крайней мере, один человек, один критик, который не теряет из
виду основные принципы литературы. И если обратиться к такому человеку
с вопросом о какой-нибудь литературной новинке, он сумеет соотнести ее с
устоявшимися ценностями и определит ее вес независимо от хвалы и хулы,
184
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
и пальбы мнений, так сказать, по самому высокому счету*. Только нелегкое
это дело - создать критика: тут и природе надо постараться, и обществу не
подкачать. А при нынешнем состоянии умов, когда каждый за столом сам по
себе, да еще постоянно ловит что-то, отвлекается, тонет в разных течениях,
в такой ситуации нам требуется не просто крупная личность, а великан,
богатырь. И дело даже не в росте: высоких много - нет фигуры. Ревьюеров пруд
пруди, а критика не сыскать. Повсюду знающие неподкупные полицейские,
а судьи не видно. Ученые, - небесталанные, обладающие вкусом, - заняты
тем, что поучают молодых да кадят классикам. И все бы ничего, да
только деятельность их такова, что ныне из-за лесу деревьев не видно: исписав
горы бумаги и затупив перья, они и не заметили, как, образно говоря,
растащили по кусочкам живую ткань литературы, а тело препарировали так,
что обнажились связки и сухожилия. Неудивительно, что все в прошлом: и
драйденовская стать, и природное изящество Китса, помноженное на
потрясающую зоркость и трезвость мысли; и, конечно, флоберовская преданность
слову, равной которой просто нет, и, конечно, особый колриджевский склад
ума, когда в голове, как в котле, кипит и бурлит, и льет через край поэзия,
и мысль, разогретая сотнями прочитанных страниц, высекает, подобно
искрам, глубокие умозаключения, исполненные философской мудрости, как бы
обнажая душу книги.
Так и есть, разводят руками критики: нет у нас такой фигуры.
Великий критик - вообще редкость. А скажите на милость, - спросят они не без
ехидства, - если бы вдруг случилось невероятное и такой критик объявился
бы, что, интересно, вы могли бы ему предложить? Большие критики, они же
крупные художники, появляются, как правило, на гребне эпохи, когда есть
с кем скрестить шпаги, когда можно возглавить новую литературную
школу или, наоборот, камня на камне не оставить от старой. А наше время? Оно
скучно и уныло: ни одного выдающегося имени, ни одного мастера, у
которого захотели бы поучиться писательскому ремеслу начинающие, молодые.
Гарди давно отошел от дел, а Конрад - слишком большой оригинал, хотя и
гений: кумиром, властителем дум он так и не стал, всегда держался
особняком, независимо от всех. Остальные же - а их немало, все очень энергич-
* О накале страстей можно судить по двум высказываниям. Вот первое: «Его ["Рассказ
идиота"] следует читать с тем же вниманием, что "Бурю" или "Путешествия Гулливера",
поскольку даже если художественный талант мисс Маколей и уступает в возвышенности
автору "Бури", а чувство иронии у нее не столь глубоко развито, как у создателя "Путешествий
Гулливера", то уж, поверьте, мудрости и чувства справедливости ей не занимать» («Дейли
ньюс»). А вот мнение критика из другой статьи, опубликованной на следующий день после
приведенной выше заметки: «Остается добавить, что г-н Элиот напрасно вздумал писать
на разговорном английском. Из-за этого его "Бесплодная земля", при всех ученых и
литературных потугах, просто ворох исписанной бумаги: порвать да выбросить» («Мэнчестер
гардиан») {Примеч. Вулф).
На взгляд современника
185
ны, в гуще творческой деятельности, повторяю, остальные не могут
похвастаться ни одной серьезной заявкой: нет среди них писателя, пользующегося
влиянием у современников, чьи книги - не однодневки, а нечто большее.
Заглянем на сто лет вперед - невесть какой срок с точки зрения вечности -
и спросим себя: что спустя столетие останется из современной английской
литературы? Оказывается, нам не только затруднительно прийти к
единодушному мнению относительно той или иной книги, но мы и книгу-то
затрудняемся назвать. Мы живем в век фрагментов. Если еще недавно, желая
выразить главную идею эпохи, предъявляли «автора» или его произведение,
то сегодня мы цитируем строфу-другую, пару страниц, главу отсюда, главу
оттуда, начало того романа, конец сего. И, надо сказать, одно другого стоит.
Однако как посмотрят на наши «выборочные места» потомки? Хватит ли у
будущих читателей терпения просеять всю литературу и отобрать из кучи
мусора несколько драгоценных перлов? Вот какие вопросы могли бы задать
наши критики своим соседям по столу - прозаикам и поэтам.
Вначале, скорей всего, с писательского фланга последует сдержанный,
но решительный отпор. Да, скажут писатели, согласны, урожай небогатый,
но ведь и век какой! До шедевров ли?.. Затем, подумав, начнут сравнивать
свое время с временами столетней давности и вынуждены будут честно
признать, что сравнение совсем не в их пользу. Сто лет назад, в течение двадцати
с небольшим лет- с 1800-го по 1821 год, были опубликованы «Уэйверли»,
«Прогулка», «Кубла Хан», «Дон Жуан», эссе Хэзлита, «Гордость и
предубеждение», «Гиперион» и «Освобожденный Прометей»4. Наш век тоже не из
ленивых, но, если судить по числу шедевров, получается на первый взгляд, что
пессимисты правы: предъявить нам особо нечего. Такое впечатление, будто
за веком гениев идет столетие чистюль: отцы наследили, надебоширили, а
мы за ними прибираем и разбираем завалы. Честь и хвала, конечно,
санитарам, которые пожертвовали бессмертием ради порядка и чистоты в доме. И
все же, как насчет шедевров? Где их искать? Будем надеяться, что кое-что из
современной поэзии останется: например, несколько стихотворений Йейтса,
Дейвиса, Де л а Мара5. Случаются озарения у Лоуренса6 - правда, редкие
проблески гениальности тонут в потоке мрака. По-своему блестящ Бирбом7,
жаль только, что блеск этот не лучшего свойства. «Давным-давно, где-то
далеко»8, - можно цитировать целыми страницами, - каковыми, надо полагать,
они и отойдут потомкам. Памятной неудачей стал «Улисс»: а какой
грандиозный был замысел!.. Можно еще долго вспоминать, сравнивать, выбирать то
одно, то другое, отобрав, посмотреть на свет, увидеть достоинства, изъяны,
и все равно в конечном итоге мы признаем свое поражение: какие бы
доводы мы ни приводили, все они лишь подтверждают общее мнение критиков о
том, что мы живем в век обломков и мусора, когда никому нет дела до
кропотливой сосредоточенной творческой работы, поэтому и сравнивать наше
время с прошлыми эпохами заведомо бесполезно.
186
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
Но едва мы согласились с общим мнением, подыграли критикам,
польстили их самолюбию, как все внутри нас взбунтовалось: не верим ни
единому слову! Можно сколько угодно ныть: скудный век, истощенный век, век
исчерпанных возможностей; нам остается только завидовать предкам - все
равно в окно шумит весна, мир просыпается к жизни. И пусть рядом то и
дело трещит телефон, постоянно прерывая нашу серьезную беседу, пусть
он не дает нам договорить, высказать до конца наши заветные мысли -
согласитесь, в этом тоже есть своя романтика. И пусть люди ведут ни к чему
не обязывающий разговор - все равно им не войти в историю, зато они
могут говорить откровенно, высказывая прямо то, что думают, и за словами их
слышится уличный шум, угадываются огни, всплывают дома, встают
фигуры - красивые, карикатурные, и весь этот гомон навсегда вплетается в
человеческие голоса... Да, но то жизнь, а мы ведь говорим о литературе.
Смешивать их нельзя, надо, наоборот, постараться развести их как можно более
тонко, точнее обосновав внезапный всплеск радости, охвативший нас,
вопреки очевидной неутешительной перспективе.
Хорошо, пусть наша радость - инстинктивное движение души, не более
того. Мы просто радуемся чудесному весеннему дню, наслаждаясь вином и
беседой. Мы счастливы тем, что жизнь каждый день преподносит
сюрпризы, открывает такое, что словами не опишешь, и поэтому, при всем нашем
восхищении почившими в бозе предками, мы предпочитаем их славе жизнь
здесь и сейчас. Согласитесь, есть в настоящем нечто такое, что мы ни за
какие коврижки не променяем на самую выдающуюся эпоху прошлого. То же
самое и современная литература - при всех ее несовершенствах, она крепко
сидит в нас, и оторваться от нее мы не в силах. Она для нас как домочадец,
с которым хочешь не хочешь, а приходится жить бок о бок: и третируешь, и
изводишь его, а жить без него все равно не можешь. Современная литература
замечательна одним свойством: мы с ней одно целое, у нас одна судьба, одно
общее время - тогда как все остальное, пусть самое распрекрасное, чуждо
и посторонне. А у нашего поколения есть еще и своя причина увлекаться
современниками: от поколения отцов нас отрезала война, а с нею вырвались
наконец на свободу те, кого столетиями держали в подчинении, - массы,
трудящиеся. Все сдвинулось с привычных мест - мы оказались отчуждены от
прошлого и, возможно, слишком заворожены настоящим. Дня не проходит,
чтоб ты не ловил себя на мысли, слове, поступке, которые ни при каких
обстоятельствах не могли прийти в голову, быть сказаны или совершены
нашими родителями. И эту разницу мы осознаем куда острее, нежели
многажды отмеченное внешнее сходство. Отчасти поэтому мы с такой жадностью
набрасываемся на новые книги: мы ищем в них отражение произошедшего
сдвига, сместившихся ценностей; надеемся получить обратно высветленным,
собранным в пучок света, преображенным, как подвластно одной
литературе, все то, что так поражает нас в жизни своей абсурдностью и новизной -
На взгляд современника
187
ситуации, мысли, мешанину впечатлений. И, надо сказать, в этом большое
наше преимущество перед литературой прошлого. Ни одна эпоха не
сравнится с нами по решимости, с какой писатели-современники стремятся
подчеркнуть свою непохожесть и упорно делают вид, что не имеют никакого
отношения к предшественникам. Не будем приводить примеры, дабы никого
не обижать, но по смелости и искренности нашему веку точно нет равных:
чтобы понять это, даже не надо вчитываться в современную литературу -
достаточно просто заглянуть в несколько романов, стихотворений, биографий,
и мы поразимся общей оригинальности разговора. Впрочем, радость наша
длится недолго: листаем мы одну за другой книги, и чем дольше, тем острее
разочарование - такое чувство, что тебя поманили, а выполнить обещание
не выполнили, интеллектуально обокрали, завлекли чисто внешним жизне-
подобием, а творчески это не переработали. Лучшее из написанного сегодня
производит впечатление либо вымученности, либо судорожной спешки: да,
жесты и мимика героев переданы с удивительной живостью - они мелькают
перед нами, как на экране, однако вскоре свет гаснет, и мы остаемся ни с чем.
Радостное ожидание сменяется горечью несостоявшихся надежд.
Итак, мы снова на прежних позициях, и нас опять ждет качка, как на
море, когда тебя швыряет из стороны в сторону, а минутный восторг
сменяет леденящая тоска... В общем мы снова не знаем, что же в итоге сказать
о современниках. Мы обращались за помощью к критикам, но те в ответ
только пожали плечами. Ну что ж, остается последовать совету - вспомнить
шедевры прошлого и, пользуясь ими как аршином, попытаться найти
золотую середину. Вообще-то мы и сами, без всяких советов, испытывали
внутреннюю потребность в обращении к прошлому - не из желания примирить
противоречия, а из острой необходимости в наше время перемен обрести
точку опоры. Правда, поначалу сравнение настоящего с прошлым повергает
в уныние - что ни говори, а великие произведения на редкость занудны.
Читаешь страницу за страницей Вордсворта ли, Скотта ли, Джейн Остен и
чувствуешь, что тебя клонит в сон - засыпаешь над книгой! У авторов столько
возможностей, а они их будто не замечают. Здесь бы надо положить тень, там
заострить - нет, им это не интересно. Такое впечатление, что они намеренно
обходят стороной то сокровенное, что больше всего занимает писателей
нового поколения: чувство цвета, чувство звука, остроту прикосновения и,
самое главное, полноту существования - глубину и разнообразие восприятия
человека, сложность его душевного мира, его растерянность, словом, его
самого, его «Я». Ничего подобного в шедеврах Вордсворта, Скотта, Остен нет
по большому счету. Откуда же в таком случае берется в нас чувство
надежности и устойчивости, которое мало-помалу, по мере чтения, забирает нас и,
к великой нашей радости, подчиняет себе? Все дело в силе веры этих
писателей: нам передается их убежденность. Особенно это видно по Вордсворту,
поэту философского склада. Но и в беспечном Вальтере Скотте, до завтрака
188
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
строчившем гениальные небылицы, и в скромной женщине, старой деве,
писавшей урывками, украдкой, в свое удовольствие, - в них обоих живет то
самое органичное чувство уверенности: жизнь идет своим чередом. У них
есть свои моральные принципы; они знают, как относятся люди друг к другу
и ко всему на свете. Правда, спроси их об этом прямо, ни тот ни другой,
наверное, не нашли бы, что ответить, и тем не менее, от силы их убежденности
зависит абсолютно все. Так и хочется сказать: верьте - и все остальное
приложится. Вы только поверьте - поверьте, например, в то, как милая барышня
(взять простой пример из недавно опубликованных «Уотсонов»9) по
естественному зову души пытается смягчить чувства мальчика, которого на балу
поставили на место, щелкнули по носу, так вот, если вы сами в это
поверите, поверите безоговорочно и бесповоротно, то вашим героям и сто лет
спустя читатели будут сопереживать, отзываясь всеми струнами души. Только,
чтобы так писать, нужна внутренняя убежденность, а она приходит с
освобождением от судорожной сосредоточенности на самом себе: обрести
свободу значит поверить в то, что твои личные впечатления распространяются и
на других... Тут нужна такая мера свободы, какая была у Вальтера Скотта,
когда он со страстью, не поддающейся описанию, - мы и сегодня не можем
перед ней устоять, - исследовал каждый закоулочек в огромной вселенной
рыцарских подвигов и любовных переживаний. Свобода - это первый шаг и
в том сложном искусстве, которому так верно служила Джейн Остен, когда
выбирала малую толику воспоминаний, вживалась в них, проникалась ими,
смотрела со стороны, взвешивала, точно определяя им место в общей
перспективе, а дальше уже свободно творила, каким-то непостижимым образом,
тот целостный мир, который и есть литература.
Выходит, все беды наших современников оттого, что они разуверились.
Даже самые искренние рассказывают только о том, что произошло с ними
самими, а создать воображаемый мир они не могут - слишком зависят от
мнений других людей. Они разучились рассказывать истории, поскольку сами в
них не верят. У них не получается обобщать: они скорее полагаются на язык
чувств и эмоций, чем на голос разума, который еще нужно уметь услышать
и правильно истолковать. При таком положении дел они вынуждены
отказываться от многого, что есть в арсенале писателя: выражаясь фигурально, ни
тяжелая артиллерия, ни тонкости военного искусства им не годятся. У них
в запасе несметные сокровища английской речи, а в ходу - сплошь
затертые медяки: перелистайте книги! Им выпала свежая карта в старой как мир
игре, а они что делают? - вместо того чтобы разыграть новую партию, они
по листочку вырывают из записной книжки и с болезненной дотошностью
фиксируют неуловимые отблески - интересно, отблески чего, на чем? - и
мимолетные миражи, которые, скорей всего, никогда не воплотятся... Но тут
вмешиваются критики, и, надо сказать, не без оснований.
На взгляд современника
189
Хорошо, говорят они, положим, в такой оценке современной литературы
действительно что-то есть, и определяют ее не только положение сидящих за
столом и чисто вкусовое отношение к перечницам и вазам: одним нравится
перец, другим цветы; только в этом случае, - продолжают критики, - мы как
никогда сильно рискуем ошибиться в своих суждениях. Ладно бы, попали
мимо цели - это еще куда ни шло. Вообще, надежнее было бы
ретироваться, как советовал Мэтью Арнолд, с поля брани современности и укрыться в
спокойной гавани классики. «Когда берешься за близкую тебе по времени
поэзию, - отмечал викторианский критик, - например стихи Байрона,
Шелли, Вордсворта, рискуешь обжечься, поскольку их сопровождают не просто
личные мнения, но мнения, высказанные с пристрастием»10. А ведь Арнолд
это писал, подчеркивают критики, в 1880 году. Поэтому лучше, советуют
они, поостеречься, не спешить класть под микроскоп кусочек ленты - еще
неизвестно, какую петлицу в будущем эта ленточка украсит; лучше
подождать - все само собой устоится; терпение и только терпение, а пока
займитесь изучением классики. Тем более что жизнь коротка, на носу столетие со
дня смерти Байрона, и вообще сегодня самый актуальный вопрос - женился
он на своей сестре или нет? Итак, подводя итоги, - хотя, конечно, о каких
итогах может идти речь, когда все разом кричат и уже пора выходить? -
получается, что самое мудрое, что могли бы сделать современные писатели,
это отказаться от своих притязаний на создание шедевров. Ведь что такое
их так называемые стихи, пьесы, биографии, романы? Просто рабочие
записи, и очень скоро Время, как строгий и справедливый учитель, соберет эти
черновики, отметит в них пустоты, каракули, подтирушки, а потом возьмет
и порвет их пополам; но, вместо того чтобы выбросить обрывки в мусорный
ящик, сложит их аккуратной стопочкой: пусть будущие поколения студентов
учатся на ошибках предшественников. Ведь шедевры, как граны, добывают
из многих тонн «руды» - текущей литературы. Как верно заметили критики,
искусство литературы вечно, оно претерпело на своем веку столько
изменений, что только близорукий невежда станет преувеличивать опасность бу-
рунчиков на воде, как бы сильно те ни раскачивали лодки. Это ведь только
снаружи штормит и окатывает волной, а в глубине, где свершается
неспешная работа, все спокойно.
И еще: давайте попросим критиков, выступающих обозревателями
книжных новинок, - людей, прямо скажем, трудной, опасной и малоприятной
профессии, - не скупиться на поощрения молодых авторов, а вот похвал в виде
лавровых венков и корон раздавать как можно меньше, чтобы потом,
спустя полгода, когда венки осыплются, а золоченые короны облезут, не было
стыдно увенчанным победителям. Хорошо, если в критике устоится более
широкое, менее пристрастное отношение к современной литературе и на
писателей будут смотреть по-мастеровому, как на артель, занятую возведением
какой-то необъятной постройки: ведь когда здание общими усилиями будет
190
В. Вулф. Обыкновенный читатель. 1925
закончено, вовсе не обязательно, чтобы каждое имя осталось на скрижалях.
И еще хорошо бы критикам поскорее оставить вольготную компанию, что не
знает недостатка ни в сладком чае, ни в бутербродах с маслом, и прекратить,
хотя бы на время, чесать языками по поводу Байрона и его женитьбы на
родной сестре - страсть какая интересная тема! - и, не подсаживаясь к столу,
где мы сплетничаем о литературе, удалиться к себе и подумать, что можно
сказать интересного о современности. А мы, провожая их глазами, давайте
пожелаем им: пожалуйста, помните о леди Эстер Стенхоуп11 - эта
аристократка вошла в историю благодаря одной маленькой подробности. Уверовав
в приход мессии, она держала наготове в конюшне белоснежную кобылу, и
не проходило и дня, чтоб она не вглядывалась пристально в очертания гор,
отмечая малейшие знаки, которые могли свидетельствовать о его
приближении. Так вот, помните о неутомимой даме и следуйте неуклонно ее примеру:
всматривайтесь в линию горизонта, воспринимайте прошлое как мостик к
будущему, и да приидут истинные шедевры.
Обыкновенный
читатель
Серия 2
1932
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЕЛИЗАВЕТИНЦЫ
Мало что сравнится с удовольствием вернуться мысленно назад лет эдак
на триста-четыреста и представить себя елизаветинцем. Понятно, что все
это иллюзия, каприз фантазии, игра ума, и не более того, - все эти
попытки «вжиться в образ елизаветинца», вчитаться в сочинения шестнадцатого
века с тем же живым интересом и ожиданием определенности, с какими мы
читаем современную литературу. Наше произношение почти наверняка
показалось бы тогдашним англичанам диким, и они нас не поняли бы, а наше
представление о так называемой елизаветинской эпохе, основанное на
наших собственных фантазиях, скорей всего, заставило бы их от души
повеселиться. И все же удержаться невозможно: в их сочинениях столько жизни и
свежести, что желание пересиливает любые сомнения, и мы готовы терпеть
унижение и насмешки.
На вопрос же, почему нас так тянет именно в ту область английской
литературы, а не в какую-то другую, ответ очевиден: елизаветинская проза,
при всех ее красотах и богатстве, - инструмент очень несовершенный. Она
оказалась почти полностью непригодна для дела, которому, собственно, и
призвана служить проза: помогать людям общаться на житейские темы. Это
сегодня, в наш позитивистский век, проза - незаменимое средство:
благодаря ей, мы точно знаем, чем люди занимаются между завтраком и ужином,
как они ведут себя, оставшись наедине, когда им ни жарко ни холодно -
когда они не сердятся, не влюбляются, не горюют, не веселятся. Поэзии эти
серые полутона не интересны: переройте хоть всю драматургию Шекспира, вы
ничего особенного о елизаветинском быте не найдете, так что
студенту-социологу по большому счету там нечем поживиться. А когда еще и проза
поворачивается к тебе спиной, тут хоть караул кричи: последний канал связи с
жизнью людей другой эпохи оказывается недоступен! Конечно,
елизаветинской прозе, еще толком не отпочковавшейся от могучего ствола поэзии, нет
равных по величию, с каким обсуждаются большие темы - кратковечности
бытия, неизбежности смерти; красоты майских дней, холод зимней стужи...
В конце концов, все эти пышные многоярусные фразы, венчающие трюизмы
о жизни и смерти, объясняются очень просто - нежеланием размениваться на
мелочи. Другое дело, что уже после, спустившись на бренную землю, проза
вынуждена расплачиваться за свое витание в эмпиреях, и процесс этот
весьма болезненный. Вспомнить, например, случай с леди Сидни1: бедняжка так
7. Вирджиния Вулф
194
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
намерзлась в своей спальне, что решилась просить лорда Чемберлена
подыскать ей при дворе более теплые покои. Так вот, читая ее прошение,
невольно думаешь: а ведь любая горничная ее лет изложила бы суть дела намного
ловчее и понятнее. И так происходит всякий раз, когда мы, по всегдашней
привычке чуть что обращаться за помощью к биографам, романистам,
газетчикам (если надо подвести основание под творчество Поупа ли, Теннисона,
Конрада), обращаемся к елизаветинской прозе и... спотыкаемся на ровном
месте. Что представляла собой жизнь обыкновенных мужчины и женщины
во времена Шекспира? - задаем мы вопрос. А ответа нет! Дошедшие до нас
письма картину не проясняют. Сэр Генри Уоттон держится с нами чопорно -
сыплет помпезностями и эвфемизмами2. Знаменитые исторические хроники
не в счет: в них только трубы да барабанный треск. Газеты той поры3 твердят
на один и тот же лад о смерти и бессмертии души... Единственный способ
застать елизаветинцев врасплох и подружиться с ними - это попытаться найти
какого-нибудь тихоню, который сидит себе в уголке, в споры не вмешивается,
больше слушает, наблюдает, кое-что записывает. Другое дело, что найти
такого скромника не просто. На эту роль мог бы подойти Габриэл Харви, друг
Спенсера и Сидни4, только он, к сожалению, поддался конъюнктуре (если
таковая была в то время) и решил, что чем записывать застольные беседы
Спенсера и Филипа Сидни, правильнее будет писать о риторике, о Томасе
Смите5, о королеве Елизавете, причем непременно по-латыни6. Хорошо еще,
в нем сидела эта заноза, сродни нынешнему зуду собирательства,
заставляющему коллекционера хранить разные мелочи, снимать с писем копии,
записывать на полях гениальные мысли. Как знать, а вдруг его записи7 помогут
нам если не протоптать дорожку в елизаветинский век, то, на худой конец,
оставить накатанную колею, сойти на обочину и толкнуться в дверь первой
попавшейся таверны, откуда доносится громкий смех пирующих поэтов?
А может, нам повезет и мы встретим деревенских девушек, которые доят
себе коров, влюбляются и им в голову не приходит, что живут они в золотой
век английской литературы и что в эту самую минуту на набережной Темзы
прогуливается Шекспир, и если его остановить, то можно узнать, кому он
посвятил свои сонеты и что он хотел сказать своим Гамлетом.
Нам действительно везет: мы встречаем доярку - ее зовут Мёрси, она
сестра Габриэла Харви. Как-то зимой 1574 года она вдвоем со старухой
доила коров на отдаленном хуторе у Сэфрон Уолден, и вдруг видит: подходит
незнакомец, предлагает отведать пирожные и мальвазию. Присели они
втроем на опушке, угостились, старуха отправилась собирать хворост, а молодой
человек стал объяснять, зачем он пожаловал. Оказалось, что приехал он по
поручению своего господина лорда Сэрри: тот, хоть и ровесник Мёрси - ему
тогда было около восемнадцати, а уже женат. По словам слуги, Мёрси
приглянулась его господину, а заметил он ее в поле, когда играл в шары: тогда
еще поднялся ветер, сорвал с ее головы чепчик, и «она чудо как
разрумянилась»8. Короче говоря, лорд Сэрри воспылал к ней любовью и посылает ей
Неизвестные елизаветинцы
195
со слугой перчатки, шелковый поясок и фамильный перстень из финифти,
подаренный ему тетей леди У, вообще-то он носил его на шляпе, а тут
сорвал в порыве страсти и отдал слуге: «Вези, мол». Но Мёрси на подарки не
польстилась: она бедная деревенская девушка, а он - вельможа; слуга давай
ее уговаривать, и под конец она все-таки согласилась встретиться с лордом
в доме, где жила с родителями. И вот под Рождество - ночь была туманная,
хоть глаз выколи, - лорд Сэрри прибыл со своим лакеем в Сэфрон Уолден.
Прокрались они на солодовню, заглянули в окошко - нет Мёрси, одна мать
с младшими дочерьми; заглянули в залу - там одни ее братья. Все
обыскали- нет Мёрси! С тем и вернулись, несолоно хлебавши- «опозоренные и
уставшие»9. Снова слуга стал обхаживать Мёрси, и та наконец согласилась
встретиться с лордом Сэрри наедине под покровом ночи, втайне от
родителей, в доме по соседству. И что же? Входит она в комнату, а он ей навстречу:
«...без плаща, в одном камзоле, с распущенным шнурком, в торчащей
навыпуск рубахе»10. Он попытался ею овладеть, но она закричала- на шум
прибежала хозяйка, как и было между ними условлено, постучала в дверь и
спросила, не нужно ли чего. Взбешенный лорд Сэрри вскинул к небу кулаки,
проклиная все на свете: «К черту! Разрази меня господь!»11 Потом начал
судорожно шарить по карманам, вытряхнул все деньги - набралась кучка в
тринадцать шиллингов золотыми и шестипенсовиками, и он дал ей их потрогать:
авось, соблазнится! Но нет- Мёрси опять вывернулась, не давшись в руки,
отговорившись тем, что обязательно придет к нему в Рождество. А наутро,
в канун Рождества, встала затемно, и только ее и видели: к заутрене она уже
была далеко от родной деревушки, хотя погода стояла жуткая - то снег, то
дождь, дома подтопило, и господскому слуге П. пришлось чуть не вплавь, в
деревянных сабо, добираться до условленного места. Так дотянули до
конца Рождества, и еще неизвестно, как Мёрси удалось бы спасти свою честь и
чем закончилась бы вся эта история, если бы не случай. Через неделю после
описанных событий, под новый год, брат Мёрси Габриэл, недавний
выпускник Пемброк-холла12, возвращаясь в Кембридж после каникул, встречает по
дороге земляка, с которым познакомился в родительском доме, пока гостил
у отца. Им обоим по пути, они судачат о том о сем, и вдруг попутчик
сообщает, что у него для Габриэл а письмо. Тот берет в руки конверт, читает:
«Моему любимому брату м-ру Г.Х.», - вроде письмо действительно ему, но
когда он вскрыл конверт, оказалось, что это подлог: письмо адресовано не
Габриэлу, а самой Мёрси. Начиналось оно с обращения: «Моя обожаемая
Мёрси», а внизу стояла подпись: «Навеки твой, собственноручно, Фил»13.
По словам Габриэла, он чуть не задохнулся от ярости, читая послание: «...я
насилу себя сдерживал и с трудом мог разобраться во внезапно
нахлынувших чувствах»14. Благо письмо было бы безобидной любовной игрой, так
ведь нет: послание дышало страстным желанием во что бы то ни стало
сделать Мёрси своей, тем более что она сама согласилась встретиться. В
конверт был вложен золотой. Габриэл, стараясь не выдать себя ни единым жес-
7*
196
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
том, отдал письмо вместе с монетой земляку и велел вручить их его сестре
в Сэфрон Уолдене, и еще передать ей от него на словах: «Пусть-ка вспомнит
английскую пословицу: не спросясь броду, не суйся в воду»15. Вернувшись
в Кембридж, Габриэл написал молодому лорду длинное письмо, намекнув
учтивейшим образом, что игра проиграна. Не бывать сестре Габриэла Харви
игрушкой в руках женатого аристократа! Он уже нашел ей место горничной
в доме леди Смит на Одли-стрит - что может быть лучше для
«трудолюбивой, исполнительной, порядочной девушки»?16 Так закончилась
романтическая история Мёрси; снова горизонт затянуло облаками: мелькнули и
пропали бесследно доярка со старухой, слуга, змея подколодная, - подкрался к
бедной девушке, когда та доила коров, решил, что за пирожные, мальвазию,
колечки да ленточки она поступится своей честью! Как же, держи карман
шире! Видали таких!
История, в общем-то, обыкновенная: со столькими девушками
случалось то же самое - налетит ветер, сорвет чепчик, а руки у сельчанки заняты:
она корову доит, да при виде разрумянившейся молодухи у молодого
аристократа кровь в голову бросается, он срывает в порыве страсти бриллиант
со шляпы и шлет его с гонцом к деревенской красавице. Необыкновенна же
эта история с Мёрси тем, что сохранились ее собственные письма и что о
случае с лордом мы знаем от нее самой, по рассказу, который она поведала
старшему брату. Другое дело, что особой пользы нам от ее слов нет: они
не помогают лучше представить елизаветинский пейзаж, елизаветинский
дом, быт. Нам, конечно, ничего не стоит и самим нарисовать в воображении
сельскую доярку, деревенский луг, старуху, собирающую хворост; труднее,
правда, увязать эту картину с дождем, снегом, разлившимися реками. Да и
то мы можем запросто «прикобылить» одно к другому, используя извечный
трюк елизаветинских рифмоплетов. Только стоит ли? Зачем превращать
чтение в коллекционирование музейных экспонатов? А если незачем, то, увы,
Мёрси в нашем деле нам не помощница. Посудите сами: простая сельская
девушка; заперлась на чердаке, запалила грошовую свечу и пишет любовное
послание. Вопреки нашим ожиданиям, она выражает свои чувства с таким
неподдельным изяществом и красноречием, что и титулованная дама,
понимающая толк в литературе, почла бы за честь быть автором такого письма.
О чем это говорит? Только об одном: о колоссальном влиянии
елизаветинской риторики, о заражающей силе поэтического слова! Ведь как Мёрси
отвечает на увещевания лорда Сэрри:
«Уступи я Вам, милорд, и я совершила бы великий грех перед Богом,
низко пала бы в глазах людей, огорчила бы безмерно своих близких,
опозорилась бы перед самой собой и, по моему разумению, нанесла бы
оскорбление и Вашей чести, Ваша милость. Мой батюшка не раз повторял: "Нет
прекраснее цветка в девичьем саду, чем чистота, и нет лучшего приданого за
бедной девушкой, чем честь, кою она сберегла..." Говорят же добрые люди,
что честь - она как время: пропала, не воротишь»17.
Неизвестные елизаветинцы
197
Видно, что девушке доставляет огромное наслаждение сам процесс
сочинительства: слова так и поют под ее пером! Какое точное сравнение она
находит, например, для выражения разницы между своим общественным
положением - она всего лишь бедная сельчанка, и высоким общественным
статусом супруги лорда - ведь та аристократка, титулованная дама: «Милорд,
зачем ехать далеко за простецким деревенским добром, если у вас дома, под
боком, такая красота - король позавидует!»18 Она даже не чурается
незатейливых виршей, которые выходят у нее гораздо бледнее, чем проза, зато
лишний раз доказывают, что писательское дело - это искусство, а не просто
способ описания событий. Поэтому ей мало высказаться: ей обязательно надо
ввернуть яркую, запоминающуюся фразу, и тут в ход идет все, что когда-то
запало в душу, - и присловье, слышанное от отца, и библейские образы из
воскресной проповеди: «Что сталось бы со мной, беззащитной голубицей,
отданной на растерзание хищнику орлу, - одна погибель да горе
неизбывное для моих близких!»19 Короче говоря, если деревенская девушка Мёрси
берется за перо, то она пишет в непринужденной возвышенной манере, и,
уж будьте уверены, ни одна грубость не слетит с ее пера, как, впрочем, и ни
одно теплое человеческое слово. Прочитать воздыхателю лекцию о
тщетности земных услад, о прелести целомудрия, о кратковечности богатства,
которое сегодня есть, завтра - нет, это пожалуйста! А вот обронить живое слово
о чувстве, которое испытывает конкретная девушка Мёрси по отношению к
конкретному человеку по имени Филип, - ни за что! И разве не то же самое
происходит, когда у кого-то из елизаветинцев возникает необходимость без
лишних слов решить житейскую проблему? когда, например, жене сэра
Генри Сидни, дочери герцога Нортамберленда20, нужно попросить предоставить
ей теплые покои, и она обращается с письмом к управляющему. Так коряво,
так безграмотно писать, как она, даже служанке не пристало! Она
вымучивает каждое слово, сообщает тысячу ненужных подробностей - словом, тянет
кота за хвост, вместо того чтобы ясно и коротко изложить суть вопроса. Вот
и получается, что независимо от того, насколько человек умеет выразить на
бумаге свои мысли - гладко ли, как простая сельчанка Мёрси Харви, или
коряво, как аристократка Мэри Сидни, дочь герцога Нортамберленда, - узнать
о них самих нам почти ничего не удается. Елизаветинская жизнь, как песок,
утекает сквозь пальцы.
* * *
Однако последуем за Габриэлом Харви в Кембридж: авось, там нам
повезет, и мы отыщем такие житейские подробности, которые приблизят к нам
этих неведомых елизаветинцев. Мы уже знаем, что Габриэл - хороший сын и
преданный брат, и теперь нам предстоит узнать о другой стороне его
личности: ведь он посвятил свою жизнь интеллектуальным занятиям и
намеревался во что бы то ни стало выйти в люди. Правда, университетские приятели
198
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
недолюбливают его за то, что он пашет как вол и редко развлекается, однако
на то есть веские причины. Во-первых, далеко не просто сочетать живой
интерес к возможностям английской поэзии и потенциальному богатству
английской речи с карточной игрой, травлей медведя и прочими забавами.
Во-вторых, Аристотель для него - вовсе не истина в последней инстанции.
И потом, ему интересно засиживаться допоздна в компании
единомышленников и спорить до хрипоты о поэзии, метре, о придании презренной
английской речи и скудной английской литературе приличествующего им веса,
наравне с великими языками и литературами мирового значения. Слушаешь
доводы елизаветинцев в пересказе Харви и кажется, что присутствуешь при
споре в каком-нибудь новом американском университете. Молодые поэты-
елизаветинцы, стесняясь собственной заносчивости, заявляют во
всеуслышание: «Никогда еще Англия не видывала таких умников, смельчаков,
тружеников и остряков, как мы!»21 При этом быть англичанином- чуть ли не
преступление: «Все самое презренное, низкое, подлое в мире приписывается
именно англичанам»22. И в том, как елизаветинцы устремляют свои взоры к
будущему, как чувствительны они к тому, что про них думают представители
более древних цивилизаций, - кстати, сегодня мы наблюдаем то же самое у
наших более молодых соседей: ту же устремленность в будущее, ту же тягу
к неведомым землям, которые им вот-вот предстоит открыть, - повторяю, во
всем этом есть что-то сродни увлеченности, с которой нынешнее поколение
английских писателей, отличающееся пылким воображением, относится к
науке23. Ты мысленно рисуешь аудитории Кембриджского университета году
эдак в 1570-м - представляешь, какие там, поди, кипели споры, какие
разыгрывались баталии, и эти картины заражают тебя энергией. И тем более
досадно признать, что прочитать записи Харви целиком, подряд, от начала до
конца невозможно - никакого терпения не хватит. Такое впечатление, будто
слова разбегаются, как муравьи, в разные стороны, и собрать их во что-то
осмысленное не удается - хоть плачь! Он, как заезженная пластинка,
повторяет одну и ту же мысль: «Разве бывают в мастерской верховного ваятеля -
Природы - цветы без сорняков? Фруктовые деревья без вредных насекомых?
Зерна без плевел? Богатые рыбой пруды без лягушек? Свет без тьмы?
Светоч знаний без невежества? Простой смертный без слабостей? Выгода без
никчемности?»24 - и так до бесконечности: оглушенные риторикой, мы
ходим как заведенные по кругу, пережевываем одно и то же, и вдруг в какой-то
момент нас осеняет, что написанное вовсе не предназначено для чтения про
себя - это надо читать вслух, декламировать! Все эти словесные кружева и
повторы, риторические вопросы, вызывающие в памяти проповедь, во время
которой священник для пущей убедительности стучит кулаком по амвону,
вся эта «тяжелая артиллерия» предназначена для «слухачей», любителей
музыкальной фразы, которые звук ставят выше смысла, смакуют каждую ноту;
которым нужно не просто слышать оратора, но и видеть его, следить за его
мимикой, жестами, поскольку эти дополнительные краски делают речь ярче,
Неизвестные елизаветинцы
199
помогая ей быстрей найти путь к сердцу слушателя. Именно поэтому - из-за
того, что мы воспринимаем слово Харви только глазами, - мы теряемся и
не видим смысла в его диатрибах, направленных против Нэша25, или в его
письмах Спенсеру, где обсуждается поэзия26. Малейший ничтожный факт,
всплывший по ходу дела, для нас уже зацепка, как соломинка для
утопающего: ага, курьера зовут миссис Кёрк - хорошо, запомним; Перн27 держит
у себя на квартире в Питерхаузе медвежонка забавы ради - ну что ж,
возьмем на заметку; Харви отмечает, что «Ваше последнее письмо... получил
из рук хозяйки, сидя в тесном кругу честных верных друзей, которые в тот
момент еще не напились до положения риз»28, - интересно! Оказывается,
Грин помер, так и не дождавшись от миссис Изам «кружечки мальвазии»,
в рубашке с чужого плеча (свою единственную посконную рубашку отдал
постирать), и его похороны на новом церковном кладбище под Бедламом
обошлись в шесть шиллингов четыре пенса...29 Итак, похоже, мрак
рассеивается... Но нет, какое там! Только тебе почудится, что ты схватил елизаветин-
ца за хвост - вот он, неуловимый Шекспир, стоит перед тобой как живой, а
Спенсер собственной персоной чеканит в твоем присутствии нетленные
слова, - Харви снова впадает в такое непроходимое красноречие, что ты в нем
барахтаешься, как в густом тумане - тяжелом, липком, вязком, как бездонная
трясина. Нет, восклицаешь в сердцах, ни за что мне не понять этих елизаве-
тинцев! А потом вдруг что-то складывается, из обрывков ли разговоров,
ненароком брошенных взглядов, и вот на твоих глазах из развесистого тумана
и непроходимых дебрей поднимается навстречу тебе фигура, проясняются
черты лица того, кто, не будучи по хрестоматийному определению «елизаве-
тинцем», представляет собой, тем не менее, очень интересную, сложную и
самобытную личность.
Мы уже немного знаем его по отношениям с сестрой. Мы, конечно, не
забыли, как он скакал верхом в Кембридж, торопясь на занятия в колледже, а
его родная сестра тем временем доила коров на дальнем хуторе в компании
нищей старухи. Нас еще тогда позабавило, что молодой человек, видимо,
кичась ученым званием, печется о том, чтобы его сестра вела себя
пристойно, как и подобает человеку его круга. Образование действительно вырыло
пропасть между ним и его семьей. Ведь он вырос в деревенской глуши, и в
Кембридж попал просто чудом, если учесть, что отец его был
ремесленником - плел пеньковую веревку, а мать всю жизнь работала на солодовне. При
всем том ни низкое происхождение, ни честолюбивое стремление
выбиться в люди не сказались на его уважении и любви к родителям - они лишь
обострили его самолюбие, гордость, сделали его нетерпимым к малейшему
проявлению сервилизма по отношению к сильным мира сего: это видно по
истории с сестрой. Отец его был, конечно, личностью незаурядной: суметь
послать трех сыновей учиться в Кембридж; заказать резчику по дереву
барельеф, изображавший его за работой, и повесить портрет над очагом -
согласитесь, такое не каждый может: видно, человек ценил свой труд и ничего
200
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
зазорного в нехитром ремесле плетения веревок не видел. Братья Габриэла
тоже были хоть куда: и в Кембридж поступили, и ему были всегда верными
союзниками. Даже Мёрси - и та внушала чувство семейной гордости: стал
бы вельможа срывать со шляпы фамильный бриллиант и бросать его к ногам
деревенской барышни, если бы та не была красавицей! Да и сам Габриэл
был не лыком шит: он знал себе цену как человек, который до всего дошел
своим умом, который заставлял себя садиться за книги, когда вся остальная
честная компания резалась в карты; для которого не существовало
неписаных авторитетов; который и с Самим Аристотелем готов был поспорить -
последнее обстоятельство, впрочем, едва не стоило ему ученой степени и
многих в Кембридже настроило против него. Единственное, о чем можно
сожалеть, - ему пришлось с младых ногтей отстаивать свои права и
доказывать свои недюжинные способности. А поскольку правда была на его
стороне - он действительно был талантливее и образованнее многих, все
схватывал на лету, вдобавок был хорош собой, это признавали даже враги (Нэш,
например, как-то процедил сквозь зубы: «Еще тот был красавчик в молодые
годы»30), он, естественно, полагал, что вправе рассчитывать на успех и все
его беды происходят от завистливых, падких на злые происки коллег. Ценой
огромного напряжения сил и демонстрации интеллектуальных достоинств
ему удалось-таки сломить сопротивление ученой братии и получить
желанную ученую степень: на какое-то время враги были посрамлены, а сам он
возликовал. Еще бы! Теперь он читал лекции, его пригласили ко двору для
участия в диспуте по случаю приезда в Одли-Энд королевы Елизаветы31, и,
как говорили, она даже обратила на него свой благосклонный взор по
знаку одного из приближенных: «Смуглый, похож на итальянца»32, - заметила
Елизавета. Но праздновать победу было рано: на смену торжества шло
разочарование. У Харви не было по большому счету ни уважения к себе как
члену университетского сообщества, ни внутреннего тормоза. Он навлекал на
себя насмешки врагов, а друзей ставил в неловкое положение. Только
представить, как, вырядившись «в бархатный камзол, он начинал бахвалиться»33
перед друзьями - то лебезил, то вдруг ни с того ни с сего «задирал нос перед
сэром Филипом Сидни»34, то заигрывал с дамами, то «отпускал по их адресу
площадные шуточки»!35 А что с ним сделалось, когда сама королева
выделила его среди присутствующих! - от радости у него, что называется, дыханье
сперло, и он понес такую околесицу, что стоявшие рядом недруги
потешались над смесью нижегородского с французским, то бишь деревенского
английского с итальянским, а друзья готовы были от стыда провалиться сквозь
землю. С этой минуты звезда его закатилась: его не приняли на службу к
лорду Лестеру36, должность официального представителя университета37
прошла мимо него, и возглавить Тринити-холл38 ему тоже не дали. Зато он
весьма преуспел на другом поприще: на поприще английской словесности.
В задушевной компании друзей - Спенсера и других молодых поэтов,
обсуждавших возможности языка и будущее английской поэзии, Харви давно
был своим. Здесь никому не пришло бы в голову над ним насмехаться - на-
Неизвестные елизаветинцы
201
оборот, в этом маленьком сообществе поэтов, озабоченных судьбой
английской литературы, с ним все считались, все принимали его как равного.
Казалось, он создан для роли критика и мэтра. Поэзию он любил бескорыстно,
ума у него - палата: можно представить, что чувствовал Спенсер, слушая
взвешенные суждения Харви о количестве слогов, метре, о греческом
стихосложении, об итальянцах, о возможностях английского стиха, какими
надеждой и любопытством, надо думать, загорались его глаза, как
будоражила его воображение эрудированная речь ученого, который, разбирая каждое
свежее стихотворение, словно дает понять, что вот он - итог исканий
нескольких смельчаков, объединенных одной общей целью. Именно таким
запечатлел его Спенсер:
Вот Харви, счастливец из счастливцев,
Сидит дозорным на великом
Театре жизни, поддевает на острие пера
Малейшую шероховатость слога39.
Поэты нуждаются в таких «дозорных», вахтенных, впередсмотрящих,
которые, стоя «над схваткой», все видят и подмечают. Слушает Спенсер Харви,
слушает, а потом в какой-то момент забудется, отвлечется, размечтается над
стихами, пришедшими на ум, а яростный неистовый голос все трубит и
трубит... Одна беда: дозорный может засидеться и потерять чувство реальности.
Есть опасность, что он сильно увлечется собственными теориями и начнет
подгонять под них неупорядоченную бесформенную стихию жизни.
Собственно, это и случилось с Харви: стоило ему перейти от теории к практике
стиха, как из-под его пера выходил либо тоненький ручеек бесцветных
пресных стихов, либо разливались широким потоком елейные масленые речи.
В общем, поэта из него не вышло, и, если задуматься, из него вообще ничего
не вышло: ни придворного, ни профессора, ни директора колледжа. За что
бы он ни брался, все заканчивалось неудачей, кроме одного: его дружбы со
Спенсером и Филипом Сидни.
К счастью, Харви оставил после себя на первый взгляд ничем не
примечательную книжку40, куда он по привычке записывал разные посещавшие
его мысли. Так вот, если ее читать, переводя взгляд со страницы на
маргиналии и обратно, переходя, так сказать, с его публичного «Я» на «Я» частного
человека, то мы увидим, что обе половины его лица ровно освещены и - что
редко случается наблюдать у елизаветинцев - выражение его лица
постоянно меняется. Мы начинаем догадываться, что за наружным Харви прячется
его двойник, и он, как тень, наводит на того, внешнего Харви сомнения,
тоску, усталость. А поскольку книжка небольшая по объему и поле для записи
узкое (даже при относительно большом формате елизаветинского фолио), то
Харви поневоле приходилось быть кратким; к тому же писал он для себя,
под влиянием минуты или воспоминания, и поэтому написанное читается
так, будто он разговаривает сам с собой. «Да, правда...», «...помню, как...»,
202
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«...почему я этого не сделал!»- читаешь и представляешь, как он,
оставшись наедине с собой, кивает в знак согласия, задумывается, недоумевает.
Вот когда нам открывается драматизм елизаветинской жизни - невидимый
глазу конфликт между Харви, толкавшимся среди людей, и тем Харви,
который мудро предпочитал сидеть дома за книгой. Один мечется и страдает,
другой читает и думает - и первый то и дело обращается ко второму: за
советом и пониманием.
На самом деле Харви нуждался в обоих. Жизнь его никогда не была
легкой и простой. Сын ремесленника мог, конечно, храбриться и даже
бравировать своим низким происхождением, но в компании людей благородных
он чувствовал себя не сладко - наверное, кожей ощущал социальную
разницу. А внутренний голос того, другого Харви подсказывал ему: «Не злись,
вспомни, скольким людям пришлось пробиваться в жизни, и ничего -
доказали свое! Вспомни об Александре, Юноше Незрелом»41, о Давиде («малец,
а одолел силача великана»42), о Юдифи, о папе Иоанне и их героических
деяниях...43 Вспомни, наконец, о «доблестной воительнице... Жанне д'Арк,
достойнейшей неустрашимой молодой девице: если девичья смелость города
берет, то разве есть такая сила, которая остановила бы умного энергичного
мужчину?»44. А потом новая напасть: золотая молодежь в Кембридже
смеется над сыном ремесленника, не получившим благородного воспитания.
Умный Габриэл тут же подсказывает: «Прерви свои занятия, они съедают
слишком много времени... Ты уже от них очумел»45. Займись-ка лучше искусством
красноречия и риторики - заткни всех за пояс! Начни светскую жизнь,
научись фехтовать, ездить верхом и стрелять: ты все это освоишь за неделю...
А потом началась полоса влюбленности, и горячий, но неопытный
любовник стал советоваться со своим мудрым рассудительным «братом» насчет
амурных дел. В ответ тот посоветовал обратить внимание на манеры:
хорошие манеры - залог успеха в отношениях с женским полом, мужчине
следует проявлять осторожность и сдержанность. Благородного человека
видно по повадке, - внушал ему наш доброхот. «Выучи правила хорошего тона
в общении с титулованными дамами и женщинами благородного звания.
И запомни: никакой фамильярности в обращении»46, - последний совет,
безусловно, навеян воспоминанием о какой-то досадной промашке,
допущенной по незнанию или неопытности в Одли-Энд. Еще, не пренебрегай
здоровьем и личной гигиеной: «Мы, ученый народ, низводим свои плоть и дух
до мерзкого состояния»47. А должно быть все наоборот: «Нельзя позволять
себе валяться по утрам в кровати - нужно вспрыгивать как огурчик»48; в еде
следует соблюдать меру, больше двигаться, делать физические упражнения,
как N, «который хотя бы раз в день обязательно выгуливает свою собаку»49.
О «попойках и схоластике»50 надо забыть. Ученость вовсе не исключает
светскости. Возьми себе «за правило каждый день ездить верхом, проводить
время в приятной компании - словом, радоваться жизни»51. А если кому-то это
не нравится, если твои недруги ворчат, пыжатся и насмехаются над тобой,
Неизвестные елизаветинцы
203
то лучшим ответом им будет «обезоруживающая Ирония»52. Главное, не
вздумай обижаться: «Это большая глупость и верный признак ребячества -
обижаться. На обиженных воду возят»53. И что с того, что время идет, а тебя
все обходят по службе, денег нет, светит долговая яма, хозяйка поедом ест
«плати да плати!», - все равно знай наших: «Бедность - не порок»54. Даже
если всё против тебя и нет никаких просветов; если опускаются руки: «Не
жизнь, а сплошная борьба»55; если «сердце сдавливает тяжесть» и в жизни
не осталось ничего, кроме «капли надежды»56, все равно твой мудрый
советчик тебя не оставит, не даст тебе сложить оружие. Помни, говорил он себе,
«носи платье - не складывай, терпи горе - не сказывай»57.
Вот такой вымышленный диалог ведут между собой два Габриэла
Харви - Харви, человек общественный, и Харви, частное лицо,
Харви-мыслитель и Харви-шут. Сказать, что эти половинки сложились в единое целое и
союз их был счастливым, не поворачивается язык. Посудите сами: тот
юноша, который когда-то скакал во весь опор в Кембридж, и его распирало от
собственной гордости, надежд, страха за сестру, повторяю, тот юноша
вернулся уже стариком, не нажив никакого состояния, в родную деревню.
Можно сказать, похоронил себя в Сэфрон Уолдене. Понемногу врачевал - лечил
местных бедняков, жил впроголодь, питался чем бог послал - корнеплодами
да свиными ножками, и все равно, несмотря ни на что, не сдался, не предал
своих мечтаний. О чем он думал? - копаясь в своем огороде, одетый в
старую черную бархатную куртку, перешитую из попоны, заметьте, краденой,
с барского седла, как позлорадствовал Нэш, - о власти, о славе, о Стьюкли
и Дрейке58 - о «золотом Эльдорадо и о купающихся в золоте владыках»59;
о прошлом - а воспоминаний у него было хоть отбавляй! Как он писал:
«...если не обновлять и не восстанавливать события в памяти, то
воспоминания о лучших днях скоро сотрутся»60. Но рабом прошлого он не был -
для этого он слишком любил жизнь, его влекла кипучая деятельность,
слава, приключения. Как он отметил в одной из записей: «...есть только одно
время: настоящее»61. Поэтому судьба книжного червя ему не грозила; удел
коллекционера - тоже не его стезя. Он любил книги, как всякий настоящий
читатель, - ради них самих: они для него были все равно, что живые люди -
«я подолгу с ними беседую, думаю о них, принимаю их душой и телом»62.
В груди старого разочарованного служителя науки жил поразительно
человеческий взгляд на образование: «...есть только один способ чему-то
научиться, - писал он, - учиться без напряжения и в радость»63. Собственно,
он и жил-то мечтами о золотом Эльдорадо и о купающихся в золоте
владыках, о доблести, о славе, и какой бы фантастикой ни казались эти
мечтания нищего старика, которому и выпить-то не на что, который кормится тем,
что собирает лечебные травы да сажает репу в огороде, - именно они, когда
одряхлело тело и кожа «сморщилась и съежилась, как кусок обуглившегося
пергамента»64, поддерживали в нем жизнь. И в конце концов он вкусил
сладость победы: пережил их всех - друзей и недругов, Спенсера, Сидни, Нэша
204
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
с Перном. Он дожил чуть не до восьмидесяти лет - для елизаветинца это
очень большой срок. И когда мы говорим, что Харви всех их пережил, мы
имеем в виду жизнь в прямом смысле слова: жил, то есть спорил до
изнеможения, досаждал, ссорился, набивал себе шишки, не боялся казаться шутом,
боролся, терпел неудачи, словом, встречал жизнь без забрала, с открытым
лицом. Лицом живым, переменчивым, как у нас с вами, - самым что ни на
есть человеческим.
ДЖОН донн
ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ
Сколько миллионов слов за последние триста лет написано, напечатано и
благополучно забыто в Англии? Уму непостижимо: большинство из них
совершенно стерлось из памяти, не оставив следа. Когда об этом
задумываешься, невольно поражаешься тому, насколько годы оказались не властны над
словом Донна: оно и сегодня отчетливо слышно. Разумеется, это не означает,
что его стихи пользуются массовой популярностью среди читателей. Даже в
нынешний юбилейный год, когда имя Донна окружено вниманием и, по
понятным причинам, призвано вызывать восторг у публики, не многие
зачитываются его стихами: во всяком случае, не помню, чтоб раскрытый томик
стихов Донна лежал на коленях у сидящей рядом в вагоне метро машинистки,
возвращающейся вечером домой после работы. И все же Донна читают, он
на слуху, иначе чем объяснить все новые и новые переиздания его стихов и
многочисленные критические статьи? Этих фактов достаточно, чтобы
попытаться понять, какое значение имеет для нас сегодня его голос, доносящийся
через века, сквозь бурные десятилетия из елизаветинского далека.
Впрочем, смысл смыслом - а поэзия Донна действительно исполнена
глубокого философского значения, однако поражает в ней читателя другое -
молниеносность и прямота, с которой поэт буквально взрывается при
первом же слове. К черту предисловия, словесные расшаркивания - Донн сразу
берет в опор! Долгие приготовления - это не про него, ему хватает строчки,
чтоб оседлать Пегаса:
Любовники былых времен, возвысьте голос!1
Или двустишия:
Кто скажет, что горел любовью
Часами, тот бесстыдный враль2.
Пройти мимо невозможно. Невольно подчиняешься, заслышав властное:
Постой - и краткой лекции внемли,
Любовь моя, о логике любви3.
Джон Донн триста лет спустя
205
При первых же словах застываешь на месте. Тебя кидает в дрожь от
встречи с настоящей поэзией: ты чувствуешь, как в твоих жилах - вялых,
обмякших, точно со сна, мгновенно вскипает жар. Зрение, слух моментально
обостряются - ты видишь, как «сияет браслет живого локона»4. Но и это
не главное - мало того что прекрасные образы западают в душу, и ты их
помнишь: ты чувствуешь, что невольно подчиняешься особому взгляду на
вещи. Хаос ощущений, сопровождающий нас в повседневной жизни,
сменяется другой оптикой - резкой и четкой. Будто все разрозненные начала
сошлись, по мановению пера поэта, в единый пучок страсти. Еще
минуту назад вокруг тебя бурлила жизнь, мельтешили люди, играли краски, и
вдруг - все смолкло, пропало. Ты погружаешься в мир Донна, здесь царствует
он один.
Среди поэтов Донну, пожалуй, нет равных по умению изумлять и
подчинять себе читателя. Это его особый почерк- брать читателя в полон одним
емким словом, выражающим суть настроения. Впрочем, присмотревшись,
ты замечаешь, что настроение на самом деле представляет собой целую
гамму чувств, и что интересно - между ними нет ладу. Заинтригованный,
начинаешь копаться в оттенках состояния, разбираться в тонкостях ощущений,
составивших эту гремучую смесь - слово Донна. Не скажу, что ларчик просто
открывается, но кое-что лежит на поверхности. Например, «Сатиры»
написал подросток - это понимаешь с первой строчки: только в отрочестве
встречается такая беспощадность и бескомпромиссность суждений, кто еще,
кроме подростка, может испытывать такую злость к сорокалетним «старичкам»,
к их прихотям, капризам? Зануды, врали, льстецы - поддеть бы вас,
лицемеры, пустословы, на кончик пера, да и уничтожить одним росчерком!
Молодая кровь играет, будущее манит, вся жизнь впереди- понятно, что
питает ненависть и презрение подростка, который «дубасит» спины огородных
пугал. Однако подросток подростку рознь, и, вглядываясь в черты юноши,
изображенного на раннем портрете, - в его дерзкий и при этом умный взгляд,
в чувственный и нервный изгиб рта, понимаешь: у юноши с таким взглядом,
конечно, было что-то незаемное, чем-то он выделялся среди сверстников. Одно
дело, когда тебя подстегивает энергия молодости и ты захлебываешься от слов,
поскольку торопишься высказать главное, и нет тебе дела до ясности и гладкости
стиля. Другое дело - и, возможно, в этом и состоит главная особенность
Донна, когда твоя неудовлетворенность, выражающаяся на письме в резкой смене
настроений, нагромождении образов, питается не просто раздражением юноши
против времени, в которое ему выпало жить, или благородным гневом против
всеобщей лжи и продажности. Он, конечно, бунтует, но вопрос: против кого?
Против старшего поколения? Да, но не только. Он явно сопротивляется духу
времени. Судя по нарочитой оголенности стиха, он не приемлет общий тон
разговора. Его все время заносит, как бывает с теми, кто не привык соглашаться
с общим мнением, и поэтому нет-нет да и выкинет какое-нибудь коленце и,
вконец сконфуженный, начинает нести околесицу. Такие еретики не редкость в
206
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
поэзии, взять, например, Браунинга5 или Мередита6: и тому и другому
непременно нужно подчеркнуть неортодоксальность своих суждений, потешить
самолюбие каким-то чудачеством. А вот что вызывало неприязнь к своему веку у
Донна? - это вопрос не из легких. Тут потребуется воображение - мы должны
домыслить, обратившись к книгам, которые он наверняка читал в молодости,
что именно повлияло на его ранние стихи.
По собственному признанию поэта, его настольными книгами были
произведения «важных Богословов»7, философов, «политиков, объясняющих
мытарства мистического тела государства»8, и летописцы. Список не
оставляет сомнений в приверженности Донна к фактам и доказательствам. А
стихи - если и попадаются в его списке, так все с пометой «пустые фантазии».
Выходит, Донн смеялся над современной ему поэзией, во всяком случае, он
прекрасно знал, что ему в ней не по душе. А ведь то был рассвет английской
поэзии! Он наверняка читал Спенсера, «Аркадию» Сидни, «Сад райских
наслаждений» и «Эвфуэса» Лили9. Не упускал возможности пойти в театр, иначе
не написал бы: «Рассказываю ему о новых постановках», - значит, видел на
сцене пьесы Марло10 и Шекспира. Причем не только читал их пьесы и стихи,
но наверняка встречался и со Спенсером, и с Сидни, и Шекспиром, и Беном
Джонсоном11. А раз бывал в центре Лондона, ночевал на постоялых дворах,
то обязательно участвовал в застольях и слышал разговоры о новых пьесах,
веяниях в поэзии, наверняка спорил до хрипоты о богатстве родной речи и
о том, что ждет английскую поэзию в будущем. Впрочем, биография Донна
этого не подтверждает: у нас нет свидетельств его общения с собратьями по
перу или знакомства с их виршами. Выходит, в лице Донна мы имеем редкий
тип творца, которому окружающая среда не только не в масть, а, наоборот,
помеха и постоянный раздражитель. Опять-таки, это хорошо видно в «Сатирах».
С какой жадностью и дерзостью поэт обследует все вокруг! Любой задевший
его пустяк он готов обсасывать во всех подробностях, лишь бы передать
испытанное им потрясение. Положим, остановил его на улице прохожий: ах ты,
старый гриб, надо хорошенько поддеть тебя, чтоб вышел как живой:
Его джеркин и черный и простой,
Быв бархатным когда-то, так истерся,
Что лишь воспоминания о ворсе
Хранит - и скоро будет кружевным,
Пока совсем не истончится в дым12.
Еще он любит разные сочные словечки, подслушанные на улице:
«Сэр! - лопнувшей струною взвизгнул он. -
Беседовать о принцах - высший тон!»
Я отвечал: «Могильный есть смотритель
В Вестминстерском аббатстве; захотите ль -
Он вам расскажет все о королях,
Притом покажет, где хранится прах
Всех наших Эдвардов и наших Гарри;
Он бесподобно врет, когда в ударе»13.
Джон Донн триста лет спустя
207
Во внимании к мелочам кроются и слабость, и сила Донна. Выбрав
понравившуюся ему диковинку, он всматривается в нее, пока не уплотнит до
нескольких слов:
Моей любимой нежные персты -
Как жимолости снежные цветы,
Твоей же - куцы, толсты и неловки,
Как два пучка растрепанной морковки14, -
но вписать деталь в общую картину, увидеть ее в перспективе ему не дано.
Он не может отойти на расстояние и охватить взглядом всю панораму-
именно поэтому его образ всегда сродни яркой вспышке, зато общий план
чаще не получается. С такими данными за драму лучше не браться - не
бывает пьесы без конфликта. Остается что-то одно: монолог, сатира или
психологический портрет. Если тебя это интересует в поэзии, то, разумеется,
ни Спенсер, ни Сидни, ни Марло тебе не помощники. Ведь каков типичный
елизаветинский поэт? Он обожает риторику, его увлекает словотворчество,
он привык преувеличивать и обобщать. Его стезя - это бескрайняя равнина,
рыцарская доблесть и величавые силуэты героев на горизонте или на поле
брани. И проза в ту пора была такая же - витиеватая и пышная. Помните у
Деккера15 описание смерти королевы Елизаветы весной 1603 года? Он ведь
ничего не говорит о том, как именно умирала королева или какая стояла в тот
год весна. Нет, он рассуждает о смерти и о весне вообще:
«...весь день куковала Кукушка, облетая, как одинокий Трубач, таверну
за таверной. В долинах резвились ягнята, по холмам скакали козы, пастух
играл на дудочке, повсюду раздавались песни молодых сельчанок,
влюбленные слагали в честь возлюбленных сонеты, а те плели для них венки из
полевых цветов. Вся природа радовалась весне, веселились горожане... А когда
настала полночь и в кустах заухала сова, то некого было пугать на сельских
тропах - жители мирно спали. И в полдень не слышно было барабанного
боя в городах: все замерло, как перед бурей, все притихло, словно стихии
сговорились не нарушать покой. Небеса сияли ровной синевой, подобно
куполу Дворца, а земля казалась райским садом. О кратковечное людское
счастье! О мир земной, как хрупок и недолог твой век!»16 В общем, отдала Богу
душу Елизавета, и что толку спрашивать у Деккера, какими словами
помянула королеву старуха-служанка, приходившая к нему в тот день прибираться
в комнате, да много ли собралось народу той памятной ночью на рыночной
площади в Чипсайде, - все равно он не ответит. Его дело - обобщать,
витийствовать и приукрашивать.
У Донна же все наоборот: его епархия - это мелочи, штрихи. От
пристального взгляда не укроется ни один прыщик, ни одна морщинка на
розовой щеке возлюбленной, а главное - ему страшно интересно разобраться в
своих душевных переживаниях по этому поводу: что он чувствует при виде
изъянов красоты? Как смотрятся прекрасное и безобразное на фоне друг
208
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
друга? Какие новые оттенки рождает их игра? Вот что делало Донна
непохожим на современников: они витийствовали, а он докапывался до сути; они
подмечали сходства, стремясь создать внешне гармоничное и законченное
целое, а его влекли несообразности, ломающие привычный ход вещей; те
писали попеременно о любви и ненависти, а он ввергал читателей в
горнило кипевших страсти, злости, желчи. Поводом для эмоционального взрыва
могло стать что угодно - прогулка, уличный зевака, прохиндей-адвокат,
придворный щеголь... А если Донн взрывался по любому пустяшному поводу,
то что говорить о любви? Каждый раз его ждало потрясение. Что только не
испытывал он, влюбляясь! И муку, и презрение, и разочарование, и восторг -
и между прочим освобождение: освобождение от необходимости
приукрашивать и врать. В этом он полная противоположность типичному лирику-
елизаветинцу: другого такого правдолюбца, автора песен, элегий, любовных
посланий в английской поэзии того времени нет. Мы все, конечно, помним
елизаветинский идеал, о который сломалось не одно гениальное перо:
подобно маяку в бурю, он горит - не гаснет; тело ее бело как алебастр, ноги
ее будто изваяны из слоновой кости, волосы - золотая скань, а ланиты - что
жемчуга с Востока17. Не говорит - поет, выступает павою: и тебе мила, и
игрива, и ветрена, и нежна, и жестока, и преданна. Кажется, всем хороша, одно
плохо: пресна, как рисовая каша, впрочем, все идеалы таковы. У Донна же
муза совсем другая. То барышней прикинется, то крестьянкой; то
неприступна, то болтает без умолку; то черна от загара, то бела; недоверчива, набожна,
слезлива, замкнута - словом, не уступает самому Донну в тонкости и
сложности душевной организации. А если вы решили, что эта дама -
единственный предмет воздыханий Донна, так сказать, идеал на все времена, то вы
ошиблись: какой же мужчина в трезвом рассудке и твердой памяти, в пылу
разыгравшейся фантазии и в раже самокопания станет себя стреноживать и
врать в угоду чьим-то вкусам и ложным приличиям? Ужель «Разнообразие»
не «самый сладкий плод любви»?18 И разве не правда, что «Изменчивость -
источник всех отрад, / Суть музыки и вечности уклад?»19, пусть век и
предписал любовнику робеть, вздыхая только по одной женщине. Донн не
скрывал, что завидует и восхищается древними, «не видевшими в том беды, что
любишь сразу многих»:
Но с той поры закон сей не в чести, -
Обеты верности храним мы20.
Нам больше не дано быть причисленными к аристократам духа - мы
презрели собственную природу, позабыв о ее заветах.
Вглядимся в зеркало донновской поэзии - что мы там видим? Перед нами
одна за другой медленно проплывают фигуры тех, кого он любил и
ненавидел. Какая-то четче, другая тусклее - как в зеркале, покрытом патиной
времени: вот простушка Джулия, до которой он снисходил; за ней глупышка, над
которой он бился, «пока не научил... премудростям любви»21, а вот та, что
Джон Донн триста лет спустя
209
замужем за старой развалиной, храпящей «в кресле перед очагом»22. А вот
прелестница, которую так неусыпно сторожит отец, что любовнику
приходится пускаться на разные уловки и хитрости, чтобы пробраться на свидание
с нею. Следом идет та, что каждый раз обмирает оттого, что ей приснилось,
как воздыхателя убили во время перехода через Альпы и он лежит, раненый,
в крови и пыли. Замыкает вереницу прекрасная незнакомка, титулованная
дама, предмет не столько страсти, сколько обожания Донна. Все они как на
ладони: знатные, из простых, матроны, барышни, глупышки, умницы, дамы
благородных кровей, дворовые девки... И что интересно, у каждой свой нрав,
и каждая словно требует себе под стать любовника, хотя мужчина-то один и
тот же, да и женщины, если внимательно присмотреться, сливаются в один
женский образ: да, он меняется с годами, и все же по большому счету это
один и тот же женский лик, а не разные женщины, каждая со своим
характером... Да, многое, надо думать, отдал бы Донн, уже в бытность свою
настоятелем собора Св. Павла, за возможность переписать некоторые из тех
ранних элегий и песен. С какой готовностью, надо полагать, вымарал бы он
одного из тех давешних рифмачей-любовников - скажем, автора «Любовной
войны» или «На раздевание возлюбленной»23. А зря. Ведь накал страстей
сообщает его любовным стихам не только темпераментность и силу, но и
качество куда более редкое для обычного амплуа героя-любовника -
духовность. Разве можно полюбить душой, не полюбив каждой клеточкой тела?
И разве можно, полюбив без оглядки, до одури, поддавшись всем соблазнам
сразу, не прийти наконец к тому единственному, главному, что составляет
суть вещей? И держаться изо всех сил этой альфы и омеги, и открывать ее
каждый раз заново, преодолевая сопротивление, чтобы войти наконец в то
царство истины, что существует независимо от «него» и «нее»? В минуты
самого безудержного веселья, предаваясь самым запретным наслаждениям,
Донн все равно знал, что наступит другая пора и придет любовь,
мучительная, тяжелая, единственная и неповторимая. Сколько бы он ни насмешничал,
ни ругался, ни острил, он всегда знал, что существует нечто, неподвластное
измене и разлуке, нечто, связующее двоих даже на расстоянии:
Рви нас в клочки - не разлучишь,
Одною мы душою стали,
Довольно нам воспоминаний,
Записок, сладких дум и грез24.
И снова:
Тех двоих, что живы лишь друг другом,
Не разлучить вовек25.
И в сотый раз:
Теперь одним нас именем зови -
Ведь стали мы единым существом
Благодаря любви26.
210
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Его манил запредельный, прекрасный мир, который, чувствовал он,
существует, и то, что желанный мир совсем не похож на мир обыденный, не
давало ему покоя и повергало в уныние. Его язвило сознание того, что где-то за
всеми минутными радостями и безобразиями скрыто истинное чудо:
любовникам, этим двоим, дано, пусть на мгновение, познать единение душ, минуя
время, разницу полов, веление плоти. Им одним дано сотворить на миг этот
храм - как в стихотворении: двое лежат на берегу -
Тела застыли, где легли,
Как бессловесные надгробья...
Да, наш восторг не породил
Смятенья ни в душе, ни в теле;
Мы знали, здесь не страсти пыл,
Мы знали, но не разумели,
Как нас любовь клонит ко сну
И души пестрые мешает
При обоюдовдохновенье
Добудут, став одной душой,
От одиночества спасенье
И внемлют, что и мы к тому ж,
Являясь естеством нетленным
Из атомов, сиречь из душ,
Не восприимчивы к изменам.
Но плоть - ужели с ней разлад?..27
Но тут, увы, он прерывается, и от неожиданности мы стряхиваем
наваждение: конечно, понимаем мы, нельзя ждать, что Донн замрет на одной ноте -
это совсем не в его характере, как бы нам ни хотелось продлить состояние
блаженства, восторга, в который нас поверг хлынувший поток чистой
поэзии. Да, застывать на месте не в его характере. Пожалуй, это вообще
противоречит природе вещей. Потому Донну и удается остановить мгновение, что
он прекрасно знает: через секунду все изменится, гармонию разрушит хаос.
Во всяком случае, обстоятельства складывались так, что пребывать в
состоянии блаженства ему было попросту некогда. Женился тайно, рано стал
отцом, средств к существованию - это ясно из его стихов - почти не было:
он жил с женой и детишками в пригороде Лондона, в домике с вечно
сырым подвалом, а честолюбия-то у него было хоть отбавляй! Дети часто
болели, плакали, возились за стенкой - весь этот посторонний шум не давал
Донну спокойно работать. Естественно, он искал отдушину и, как водится,
за возможность уединиться вынужден был платить. Хочешь сытно обедать,
отдыхать в роскошном саду, сделай одолжение - развесели хозяйку; а его
принимали у себя леди Бедфорд, леди Хантингтон, г-жа Герберт28. Пожил в
доме у рачительного хозяина - сделай милость, поведай миру о его радушии
и достатке. Вот и получилось, что желчного сатирика и безудержного
любовника постепенно сменил раболепный, умеющий гнуть перед сильными
Джон Донн триста лет спустя
211
мира сего спину слуга, автор хвалебных эклог в честь маленьких девочек.
С этой минуты наши с Донном дорожки расходятся. Ведь что нас
объединяло с ним в сатирах и сонетах? Там было нечто, что сближало нас больше, чем
с любым другим его современником: то ли душевный настрой, то ли особая
психологическая тонкость... Мы чувствовали, что от его собратьев нас
отделяет целая пропасть - наши беды их не волнуют, а нам безразличны их
вселенские страсти. Даже если мы ошибаемся и выдумываем сходство там,
где его нет, все равно с Донном нас роднят и готовность признать
противоречия, и тяга к открытости, и душевная организация, к которой нас приучили
романисты своей неспешной, тонкой, аналитической прозой... Мы потому
и шли за ним, что чувствовали общность, но теперь точка - отныне нам с
ним не по пути. Он отдалился от нас, стал неприступен и темен, как никто
другой из елизаветинцев. А может, это дух века взыграл в былом озорнике и
мятежнике? И то, что прежде презирал и попирал, в нем самом возобладало?
Как бы ни было, мы говорим «прощай» и откровенному юноше, ругавшему
свет, и ненасытному любовнику, который упорно искал в любви - и что уж
там скрывать? порой обретал - таинственную запредельную близость. Надо
же было так суметь совратить неподкупнейшего из поэтов! Так и хочется
проехаться по адресу донновских благодетелей и благодетельниц! А может
быть, мы спешим с выводами? Ведь каждый поэт пишет для своего круга, и
еще не факт, что Донну не повезло с Бедфордами, Друри29 и Гербертами: кто
знает, как сегодня обошлись бы с ним библиотечные и газетные магнаты -
наши с вами нынешние «покровители»?
Да, сравнивать нелегко. Ведь мы можем судить только по стихам, а в них
отражается лишь слабое подобие или малая толика из того, что связывало
Донна с его благодетельницами аристократками, которые, как нам кажется,
привносят инородный элемент в его поэзию. Не стоит забывать: Донн жил
в то время, когда еще не наступил расцвет мемуарного и эпистолярного
искусства. И женщины, если писали стихи, - а по свидетельствам
современников, и леди Пемброк30, и леди Бедфорд были незаурядными поэтессами, - то
авторство свое признать не решались, и поэтому об их творчестве ничего не
известно, и судить о нем мы не можем. К счастью, до нас дошло несколько
дневников - единственная возможность услышать голос самой
покровительницы и увидеть ее без романтического флера. Так, например, из дневника
леди Энн Клиффорд, дочери некоего Клиффорда и женщины, которую в
девичестве звали Рассел, мы узнаем, что ей не «разрешали учить иностранные
языки, потому что этого не одобрял отец»31, хотя девочка она была живая,
практичная, тянулась к знаниям. Так вот, хотя образования она не получила,
тягу к литературе питала острую (это ясно из дневника), и, подобно матери,
в свое время покровительствовавшей поэту Дениелу32, она тоже
испытывала потребность помогать людям искусства. Дитя своего века, она усвоила не
только страсть приумножать унаследованное богатство - земли,
недвижимость, капитал, но и любовь к художественному слову: у нее вошло в при-
212
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
вычку читать хорошие книги - это все равно что кушать здоровую пищу, а уж
в сортах мяса, будьте уверены, она знала толк! Она была настоящая
придворная дама: читала «Королеву фей», «Аркадию» Сидни33, играла у Джонсона
в знаменитых балетах-масках34, которые он ставил при дворе, и при этом не
гнушалась стихами старого греховодника Чосера, нимало не боясь прослыть
«синим чулком». Привычка - великое дело, это признак хорошего тона,
показатель спокойной, размеренной жизни. Уже достигнув предела мечтаний -
став полновластной хозяйкой поместья в Ноуле35 и отстаивая свои права на
большую собственность, она не оставила привычки читать или, на худой
конец, слушать, как читают другие. Когда руки были заняты рукоделием,
обожала слушать, как муж читает вслух Монтеня; если же супруг был занят и
не мог отвлекаться на книги, сама не теряла времени даром - штудировала
Чосера. Тогда она еще не знала, что спустя годы, на склоне лет, утомленная
тяготами жизни, страдая от одиночества, она вновь обратится к его стихам
и испытает глубокое чувство удовлетворения: «Как славно, что у меня есть
Чосер - его веселая книга служит мне утехой, - писала она, - иначе, верно,
мне не пережить было бы горе, а с Чосером мне ничего не страшно, я
забываю о своих бедах, словно свет его души осеняет и меня, несчастную»36.
Эти слова сказаны не хозяйкой литературного салона или основательницей
библиотеки - они принадлежат женщине, полагавшей своим долгом чтить
поэтов, написавших «Кентерберийские рассказы» и «Королеву фей»,
невзирая на то что люди они простого звания и состояния не имели. Так стоит ли
удивляться тому, что гостивший одно время в Ноуле Донн молился на
хозяйку? Ведь это на ее средства в Вестминстерском аббатстве установили первый
памятник Эдмунду Спенсеру, и что с того что в речи на открытии
надгробного постамента в честь своего старого наставника она больше превозносила
саму себя, чем поэта? Главное, что родовитая аристократка публично
высказала дань уважения творцам слова. На стенах ее кабинета, где она изо дня в
день считала свои денежки, висели изречения из произведений великих
писателей, поэтому она не кривила душой, говоря, что они сопровождают ее
всю жизнь, подобно тому как великие умы окружали Монтеня в его
библиотеке, устроенной в башне бургундского замка.
Напрашивается вывод: отношение Донна к графине Бедфорд и наши
предположения о том, как сегодня могли бы строиться взаимоотношения
поэта и аристократки, имеют мало общего. Скорее всего отношение Донна было
сдержанно-почтительным. В его глазах она была «воплощением
добродетели, сравняться с коей невозможно»37. Что бы она ни представляла собой как
личность, одно ее положение в обществе поневоле заставляло преклоняться,
а вознаграждение из ее ручек приводило в трепет. Он стал ее
поэтом-лауреатом, и за стихи, слагаемые в ее честь, его часто приглашали погостить у нее
в Туикнеме38, где встречались в приятной обстановке на дружеской ноге те
сильные мира сего, от которых зависела карьера честолюбивого молодого
человека, а Донн был безмерно честолюбив, причем предметом его мечта-
Джон Донн триста лет спустя
213
ний были не поэтические лавры, а высокое положение в обществе.
Поэтому не стоит обольщаться насчет поэтических сравнений, которыми сыплет
Донн: за словами о том, что леди Бедфорд - это «творение рук самого
Господа»39, что она красавица, каких не знал свет, стоит сермяжная проза жизни:
мастер расшаркивается перед аристократкой. Страсти нет и в помине: один
холодной расчет. Надо полагать, графине Бедфорд требовалась вся ее
женская проницательность, чтобы извлечь из набожнейших восхвалений своего
придворного певца хоть малую толику наслаждения или простой
человеческой радости. И, вправду, редкостная тонкость, и изощренность стихов
Донна во славу покровителей и покровительниц не оставляют сомнений в том,
что писать для такого круга значило оттачивать и без того филигранный стих.
Если получается вычурно и вымученно, то это, наоборот, хорошо: лишний
повод убедить даму сердца в том, что поэт готов ради нее на любые пытки.
Такой плод учености не стыдно показать и государственным мужам, и
людям с положением: сразу видно, что автор - не пустой рифмоплет, а человек
серьезный и ответственный. И если многие другие поэты не выдержали
испытания изменой собственному вдохновению (яркий пример - «Королевские
идиллии» Теннисона40), то Донн, поэт изощренного ума и богатой
внутренней жизни, лишь вырос как художник. Читаешь его пространные хвалебные
послания в адрес графини Бедфорд или во славу Элизабет Друри (доннов-
скую «Анатомию мира» или «Движение души») и невольно удивляешься:
оказывается, большому поэту есть что сказать и тогда, когда пора любви
миновала. Большинство поэтов в зрелом возрасте бросают стихи, а если кто-то и
продолжает писать о любви, то чаще не в такт. Донн же, в отличие от многих,
с годами не кончился как лирик, и помог ему в этом пытливый и страстный
ум. Он, сгубивший «много сил» «на сорняки сонетов», «вдохнувший
немало пыла в репьи сатир»41 и «охладевший к виршам»42, своих возможностей,
однако, не исчерпал. Теперь его влекла к себе тайна сущего: хотелось
познать ее, докопаться до истины. Донн и в юности был большим
интеллектуалом и предмет своей страсти обычно разбирал по косточкам, доходя до сути
вещей, а уж в зрелости-то, естественно, обратился к анатомии природы и,
начав с личного, постепенно приходил к познанию надличного хода вещей.
Этот новый поворот, сложившийся в нем с годами, с опытом, способствовал
высвобождению творческой энергии, не имевшей прежде выхода в сатирах,
направленных против конкретного частного лица, или в посланиях,
адресованных конкретной даме. Точно воспрянув после зимней спячки, его
воображение уносится в поздних стихах в такие запредельные дали, что уследить за
полетом фантазии не представляется возможным... Впрочем, ничто не
вечно, и полет донновской фантазии тоже не бесконечен - он прерывается; весь
этот головокружительный салют гаснет, осыпаясь нам на головы дождем
«шутих» - вычурных барочных сравнений, ученой витиеватости,
полузабытых легенд. Однако у Донна хватает сил снова поднять в воздух свой красоч-
214
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ный змей и запустить его еще выше, еще дальше! Распалившись от
собственных неумеренных славословий в адрес покойной, он воспаряет к звездам:
Взмываем вверх и достигаем звезд, и бег их
Примиряем на себя;
А что же мир земной - как прежде, круглый?
Или торчит, как Тенериф, иглой,
Грозя проткнуть ладью Луны,
Подобно днищу корабля?
Моря бездонные, прибежище китов,
Которых не сегодня-завтра загарпунит
Ловец левиафанов, - лежат,
Ворочаясь на скальном ложе,
И, кажется, еще минута - и из вод
Всплывет чудовище с копытом43.
То же самое наблюдаем в так называемой похоронной элегии на смерть
Элизабет Друри - душа покойной избегла смерти:
Эфир ее не увлекает,
И, бросив взгляд на метеор, она спешит
Вперед; сквозь плотный слой
Летит стремительно, не зная,
Что впереди - огонь или другой
Стихии поглощающий поток;
Луна ей тоже не подруга,
Ей все равно, живут там люди или нет, -
Вперед, вперед летит душа к Венере;
Одна ли, две ль звезды в ее короне,
Не важно, - впереди Меркурий,
И он ей тоже не предел...44
Вслед за Донном мы устремляемся вдаль и вместе с ним проникаем в тайны
мироздания, удаляясь на миллионы-миллионы световых лет от образа земной
девушки, чья смерть подвигла поэта на столь пространное словоизвержение.
Впрочем, судить по отдельным фрагментам о стихах, вся сила которых
сосредоточена в многоступенчатых переходах от строки к строке, от образа к
образу, - значит заведомо занижать их художественное достоинство.
Цитировать выборочно - какими бы прекрасными ни были отдельные строки, что
Донн высекает, подобно искрам, на своем пути, - бесполезно: они не дают
представления о целом стихотворении. Читать его следует целиком, на
одном дыхании: только так можно проникнуться заложенным в нем, как в
ракете, творческим зарядом.
Вот мы и подошли к последнему разделу книги: к «Священным сонетам»
и «Духовным стихам»45 Донна. Поэзия здесь снова делает крен, отвечая на
смену лет и обстоятельств. Поскольку необходимость в покровительстве
отпала, с нею удалилась на покой и сама покровительница: место графини
Бедфорд теперь занял некий Принц - фигура еще более добродетельная и совсем
уж туманная. Это к нему теперь в трудную минуту обращается преуспеваю-
Джон Донн триста лет спустя
215
щий, влиятельный, познавший земную славу настоятель собора Св. Павла.
Впрочем, разница между его духовными стихами и духовной поэзией его
собратьев по перу - Гербертов и Вогенов46 - очень значительна. Донн-про-
поведник терзается воспоминаниями о грехах молодости: с каким стыдом он
вспоминает, что был снедаем «похотью и завистью»47, прелюбодействовал,
высокомерничал, играл, предавался страстям, раболепствовал, тешил
самолюбие! Да, он добился своего, но какой ценой! - он, как кляча или
затравленный бык, выбился из сил. Ко всему он еще и одинок. «Коль та, что я любил»,
мертва, «умерло то, чем дорожил я»48. Отныне мысль его устремлена «к
делам небесным». Впрочем, возможно ли, чтобы Донн - этот «ничтожный мир,
вместилище стихий»49 - был увлечен лишь одной целью?
Назло два полюса во мне сошлись,
Колеблемое постоянство моей
Привычкой стало: обету верен,
Клятву не храню; грешу, поклявшись50.
Нет, конечно. Невозможно, чтобы поэт, который с такой дотошностью
подмечал, как течет, меняется, бурлит человеческая жизнь; который так жаждал
знания и ни во что знание не ставил:
Сомнение сомненью рознь -
Застыть на перепутье - благо;
Зарыться в книги - зло...51
Поэт, который клялся в верности всем напропалую - принцам, плоти,
королю, англиканской церкви, невозможно, чтобы такой поэт обрел состояние
цельности и внутренней гармонии: для этого он был слишком земным,
слишком человеком. Его откровения - и те лихорадочны, торопливы, сумбурны
и мучительны: «Я благочестьем болен, как матрос, трясомый малярийной
лихорадкой»52. Все повторилось снова. Когда-то его любовные стихи,
написанные на пике страсти, буквально взрывались желанием потустороннего
единения «помимо Него и Нее». Когда-то его исполненные почтительности
послания вельможным дамам вдруг в один миг превращались в интимные
письма молодого влюбленного земной женщине из плоти и крови. Таков и
этот последний духовный цикл: здесь восхищение прерывается падением,
шум сменяет тишина. Такое впечатление, будто дверь храма то
приоткрывается, и тогда в церковь врывается уличный гомон, то вновь захлопывается,
и в приделе снова воцаряется тишина. Не потому ли духовные стихи Донна
до сих пор находят читателя - читать их местами интересно, местами
противно, мы то ужасаемся, то восхищаемся по ходу чтения? Оказывается, в
настоятеле до сих пор жив прежний любопытный юноша. Донн и в
старости испытывал необоримый соблазн говорить правду, бросая вызов всему
миру, несмотря на то что взял от мира все возможное и невозможное. Как
встарь, он упорствовал в своем неистребимом желании докопаться до
истины в собственных ощущениях. Зуд самоанализа, не дававший ему покоя в
216 В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
юности (это из-за него он сделался желчным сатириком и страстным
любовником), не оставил его до самой смерти. Даже находясь на пике славы, стоя
на краю могилы, он не знал покоя, не ведал конца, не держал наготове
рецептов - беспокойная его натура жаждала движения. Какая пропасть между
знаменитым описанием его приготовлений к смерти, - надев саван, ложился
в гроб, позируя скульпторам, - и теми, кто устало, умиротворенно отходит
в мир иной! Конечно, в этом жесте много позы. Конечно, Донн - упрямец:
ни в какую не согнется! Хотел ли он что-то сказать этим жестом?
Предостерегал ли? Подавал ли знак? Мы не знаем. Но ясно одно: до последнего
вздоха он оставался самим собой. Именно поэтому и спустя триста лет мы
отчетливо слышим его голос, доносящийся из глубины веков, - и долго еще
будем слышать. Кто знает, может, и наступит время, когда, подобно
докторам, анатомам от литературной критики, мы и «обследуем каждую мелкую
частичку», «сами не зная зачем»53, так, из любопытства, желая узнать, как
это столько разных свойств сошлось в одном человеке. Только пустое это
занятие! Лучше просто начни читать, вслушайся в звук страстной,
искренней речи, и свершится чудо: на твоих глазах из бездны столетий поднимется
фигура, харизматическая тень, и оживет великий упрямец, властитель дум -
его не спутаешь ни с кем из современников. Перед ним даже огонь отступил:
едва ли не единственное изваяние в соборе Св. Павла, которое осталось не
тронутым пламенем во время пожара 1666 года в Лондоне, - это надгробие
Донна: огненной стихии словно оказался не по зубам этот крепкий орешек,
и поняв, что она столкнулась с чем-то небывалым, не поддающимся
разумению, она его не тронула, не испепелила, не обратила, как водится, в золу и в
пыль, сажу и прах.
«АРКАДИЯ ГРАФИНИ ПЕМБРОК»
Читателям, конечно, знакомо особое настроение, когда хочется забыть о
настоящем, об окружающей действительности с ее мелочностью и рутиной
и, закрыв за собой плотно двери, задернув шторы, чтобы не слышать
городского шума, не отвлекаться на блеск и мерцание огней за окном, уйти с
головой в чтение. Так и иные книги пишутся с желанием уйти от насущных забот,
и даже один вид этих книжных левиафанов, не выдержавших собственной
тяжести и опустившихся на самое дно книжного шкафа, подобно тому как
это произошло с «Аркадией графини Пемброк»1, таит в себе неизъяснимое
очарование. Нас греет мысль, что жизнь не ограничивается только
настоящим, что и до нас кто-то брал в руки книгу в сафьяновом переплете, бережно
разглаживал на уголках и корешке морщинки, образовавшиеся за давностью
лет, а потом погружался в чтение, смакуя страницу за страницей... Кто они,
давние читатели «Аркадии», державшие в руках именно этот зачитанный до
«Аркадия графини Пемброк»
217
дыр, пожелтевший от времени том? - взываем мы к именам, отмеченным на
обложке, пытаясь нарисовать образы их владельцев: вот Ричард Портер -
он «проглотил» «Аркадию», явно ослепленный блеском елизаветинцев; вот
Люси Бэкстер - та прочитала ее по-своему, «пережевывая» каждую деталь
в духе свободных нравов эпохи Реставрации; вот Том Хайк - судя по тому,
что его имя замыкает список, он явно зачитался: с таким прямым и изящным
росчерком пера, как у него, можно было жить только в далеком и достойном
восемнадцатом столетии. Очевидно, что все они читали по-своему, в чем-то
свободно, в чем-то зашоренно, обнаруживая и проницательность и
ограниченность своего поколения. И таким же субъективным будет, надо полагать,
и наше толкование «Аркадии». Одно дело - прочитать Сидни в 1655 году, и
совсем другое - в 1930-м! Мы наверняка очень многое упустим. Зато
обязательно обратим внимание на то, чем пренебрегли читатели эпохи
Просвещения. Но главное даже не в этом: главное - встать в хвост длинной очереди
читателей «Аркадии», и прочитать ее по возможности непредвзято, не
претендуя на непогрешимость своего истолкования, чтобы было что передать
следующему - тому, кто идет за тобой.
Так и видится: сидит на лужайке, среди уилтонских холмов2, пред
светлыми очами леди Пемброк Филип Сидни и смотрит вдаль. И видит он страну,
нареченную Аркадией: там живописные долины и заливные луга; там дома
«из желтого камня сложены в форме звезды»3; там живут наследные
принцы и простые пастухи; там нет другого дела, как влюбляться и пускаться на
поиски приключений; там в полях, покрытых алыми коврами роз, резвятся
нимфы, и время от времени их спугивают львы да медведи; там в
пастушеских хижинах затворницами держат принцесс; там вечный маскарад, там в
одежде пастуха гуляет принц, а в женском платье - мужчина, там... - короче
говоря, там может случиться все, что угодно, кроме тех событий, которые
действительно имели место в Англии в 1580 году. Теперь понятно, почему
улыбнулся Сидни, вручая эту фантасмагорию сестре и прося ее быть
снисходительной: «Читайте на досуге, когда хочется повеселиться и лень
осуждать пиита за глупости, которые обязательно отыщет на этих страницах Ваш
светлый ум»4. Даже вельможным Сидни и Пемброк жизнь не казалась
сказкой. И, тем не менее, небылицы, что мы порой себе придумываем, плетем на
досуге, дремля в кресле, совершенно не заботясь о внешнем правдоподобии,
повторяю - небылицы эти дышат какой-то первозданной красотой и
душевной энергией: часто именно в них, в этих волшебных грезах,
обнаруживается искаженный, приукрашенный смысл наших тайных и вполне серьезных
желаний. Так что ничего удивительного нет в том, что, распрощавшись с
фактами, «Аркадия» обрела реальность другого рода. Не на это ли намекал
Сидни, говоря друзьям, что книга им понравится своей писательской
задумкой? Наверное, он хотел этим сказать, что они найдут в «Аркадии» то, что
нельзя было высказать ни в какой другой форме, - так играющие на дудочке
у реки пастухи «то зальются радостным смехом, то заунывно заплачут, то за-
218
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
спорят друг с дружкой, а иногда вдруг такое выскажут на эзоповом языке, в
чем они никогда ни при каких обстоятельствах не признались бы»5. Вполне
возможно, под маской «Аркадии» прячется реальный человек, и он пытается
говорить о своем, глубоко личном, заветном. Только книга от этого
нисколько не проигрывает - начало, во всяком случае, читается так свежо, что нам
довольно и маскарада: мы смотрим, раскрыв глаза.
Итак, весна, песчаный берег - «против острова Цитеры»6,
расположившиеся кружком пастухи, и мы вместе с ними. Вдруг видим: что-то плывет по
воде. Вглядываемся: оказывается, это человек, мужчина, - к груди он
прижимает квадратный ящичек. Мужчина молод и красив - «будь он обнажен,
прекрасней не было бы платья, чем нагота»7, зовут его Музидор, он
безутешен: пропал его друг Пирокл. Пастухи, не переставая музицировать,
приводят юношу в чувство, садятся в лодку и отправляются на поиски пропавшего
Пирокла; тут в море появляется пятно, изрыгающее искры и серу.
Оказывается, это горит корабль, на котором плыли два принца, Музидор и Пирокл; к
небу поднимается огненный столб, в море плавают тела, обломки и ценный
груз. «В общем, полный разгром - без неприятеля, без единого выстрела:
кораблекрушение на ровном месте, в штиль; напрасно, даром траченный пожар
в открытом море»8.
Всего несколько строк, но в них уже задана общая канва повествования,
напоминающего красочный гобелен: живописный фон, умиротворенная
атмосфера, затем следует «наплыв» - медленное, спокойное движение из
глубины картины, в такт пастушескому песнопению. «Наплыв», как правило,
сопровождается звучной запоминающейся фразой, например: «...напрасно,
даром траченный пожар в открытом море», или: «На лицах их застыло
ожидание печали»9. Иногда на передний план выходит хор, и действие
прерывается подробным затейливым описанием: «Куда ни кинешь взор, везде
виднелись пастбища, с отарами овец, кормившихся неспешно, без опаски, да
прелестные ягнята оглашали окрестности тонким блеянием, ища утешения
у матки; на зеленых взгорках удобно устроились со своими дудочками
пастухи, игравшие с такой беспечностью, будто юность будет длиться вечно, а
рядом, напевая, пряли пряжу милые пастушки, и голоса их ритмично
повторяли движения рук, а пальцы двигались в такт мелодии»10. Рисунок этого
отрывка таков, что невольно вспоминается более позднее по времени,
знаменитое описание в «Письмах» Дороти Осборн11.
Живописность, ритм фразы, благозвучие - вот та животворящая стихия,
что позволяет Сидни себе на радость, в усладу души вести повествование.
Нас потому и влекут нехоженые тропы этого сказочного мира, что поэт сам
упивается восторгом, бродя по извилистым дорожкам. Такое впечатление,
что у него голова кружится от простого проговаривания слов по слогам.
Самый ритм перекатывающихся от строки к строке фраз заражает его - и нас! -
немыслимым восторгом. И на этой волне упоения музыкой слова он будто
взывает к нам: «Посмотрите! Разве вы не видите, какие россыпи ослепитель-
«Аркадия графини Пемброк»
219
ных слов лежат у нас под ногами и ждут, когда мы обратим на них внимание?
Чего же мы ждем? Давайте смелее черпать из этой сокровищницы!» И он
черпает, пригоршнями, всласть. Ягнята у него «оглашают окрестности
тонким блеянием, ища утешения у матки»; барышни у него не просто
раздеваются - они «сбрасывают затмевающий их красоту убор»; кипарис не просто
отражается в ручье - «казалось, он смотрится в бегущую по камешкам воду,
как в зеркало, расчесывая свои зеленые кудри»12. Вы скажете: «Это нелепо!»
И пусть, отвечу я. Существует огромная разница между тем, как пишет
Сидни - пишет страстно, словно дивясь тому, какие образы слетают с его пера,
и тем, как будут писать позже, когда с языка сойдет первозданная росистая
влага. Почувствуйте, как дрожит и поет, точно тугая струна, фраза Сидни,
и какой плоский параллелизм выдали бы, косясь на елизаветинца, пуристы
поздней эпохи: «И рухнул наземь юноша могучий да прекрасный,
прекрасный да раненный насмерть; и в исступлении грыз он землю, проклиная свою
участь, гоня от себя смерть, а та тоже вроде замешкалась, не торопилась
забирать его молодую страждущую душу»13. Этот живой прерывистый ритм
фразы - как сквознячок на страницах сидниевой «Аркадии»: благодаря ему,
мы пробегаем эпизод за эпизодом на одном дыхании, иногда еле сдерживая
смех, иногда отказываясь верить словам, и чем дальше, тем все больше
предаваясь чистому журчанию звуков, не вдумываясь в смысл, просто вбирая в
себя этот неистовый многоголосый хор, похожий на утренний заливистый
птичий гомон.
Впрочем, довольно о былой экзотике, ее все равно не вернуть - она
утрачена навсегда. Сидни действительно написал «Аркадию» отчасти забавы
ради, отчасти чтобы расписаться, отчасти из желания поупражняться в
новой для английской поэзии просодии. И что интересно: как ни прекрасна
созданная им Аркадия (не забудем, он мужчина во цвете лет), на тамошних
дорогах попадаются колдобины, там случаются аварии, то и дело
переворачиваются кареты, дамы получают травмы в виде вывиха плечевого сустава;
даже наследные принцы Пирокл и Музидор подвержены страстям, а Памела
и Филоклея при любых обстоятельствах остаются женщинами, способными
влюбляться, пусть и одеты они в атласные, цвета морской волны платья и
головные уборы в виде сеточки, украшенной жемчугом. Поэтому мы то и дело
спотыкаемся на эпизодах, которые и для опытного романиста оказались бы
крепким орешком, а уж для поэта тем более. Вот, например, Сидни встает в
тупик, раздумывая, что сказал бы мужчина или как повела бы себя
женщина, окажись они в подобном положении; вот он «взрывается», будучи не в
состоянии сдержаться, и на какую-то долю секунды идиллический пейзаж
освещает неподдельная страсть. Именно в такие минуты и рождается сид-
ниева «гремучая смесь»: в полумрак, где горят свечки, врывается дневной
свет, а пастухи и пастушки ни с того ни с сего посреди пения разражаются
совсем не пасторальной речью: «...сколько раз, прислонившись к той
Пальме, я восхищался ее терпением: ведь являя собой любовь, она никогда не
220
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
выказывает боли; сколько раз, наблюдая на лугу за скотиной Хозяина, я
видел, как молодой Бычок выражает свою любовь - повадкой исключительно
горделивой и радостной. И тогда я говорил себе: О, ничтожные людишки!
Вместо того, чтоб стать хозяевами своей судьбы, вы предаете собственную
благодать: звери лучше нас - эти дети природы кротко принимают ее дары,
мы же, как отродье, как пираты, живем в горе и страдании. Братья наши
меньшие не жалуются на лишения, а радуются всякой мелочи; мы же
терзаемся понятием чести и угрызениями совести»14.
В устах рафинированного денди Музидора эта инвектива звучит чудно:
в ней явно ощущаются гнев и боль самого Сидни. Впрочем, не долго - очень
скоро в нем просыпается романист, и мы снова смотрим на мир глазами
рассказчика. Музидор наблюдает, как Памела берет жемчужину в форме
краба, показывая тем самым, что понимает его игру: подобно крабу, который
«смотрит в одну сторону, а пятится в другую»15, Музидор лишь
притворяется влюбленным в Мопсу - на самом деле его сердце отдано ей, Памеле.
От его взгляда не ускользнуло, каким жестом она берет в руки жемчужину:
«Она делает это с безмятежной беспечностью, будто говоря: "Я никого не
держу" (так мы беседуем с людьми, с которыми нас ничто не связывает - ни
дело, ни родство), а для меня ее безразличие, соединенное с истинно
королевской невозмутимостью, - точно нож в сердце...»16 Уж лучше бы она его
презирала или ненавидела!
«Всё лучше, чем эта ее ледяная невозмутимость, не перерастающая ни в
неприязнь, ни в расположенность; эта ее ровная, ничем не нарушаемая
доброжелательность; эта ее учтивость, не оставляющая сомнений в том, что
учтива она лишь потому, что так велит ей добродетель, окружающие же ни при
чем... Одно слово- небожительница! А мне остается лишь страдать и
мучиться невозможностью приблизиться к богине или обратить на себя ее
небесный взор...»17 - так проникновенно и тонко может писать только тот, кто
сам познал муки любви. Это открытие на мгновение приближает к нам эти
бескровные легендарные тени - Гинецию, Филоклею и Зельману; на их
неподвижных лицах вспыхивает неподдельная страсть; Гинеция, осознав, что
влюблена в возлюбленного дочери, поднимается до высот подлинной
трагедии, «вдруг зарыдав: "Зельмана, помоги мне! О Зельмана, сжалься надо
мной!"»18; а маразматик Король, в чьей обмякшей душе проснулось вдруг
любовное чувство при виде прекрасной неизвестной амазонки, выставляет
себя круглым дураком, «то и дело смотрясь в зеркало, охорашиваясь и
прыгая козликом, словно давая понять, что есть еще порох в пороховницах»19.
Но открытие длится недолго - не успели мы оглянуться, как принцы
опять застыли в привычных для них позах, а пастухи снова взялись за свои
дудочки. И все же момент озарения не был напрасным: многое в этой
книге прояснилось. Теперь мы лучше понимаем, какие пределы установил для
себя в творчестве Сидни: вот ему бросилась в глаза какая-то деталь, он
подметил ее и аккуратнейшим образом записал - и сегодня любой уважающий
«Аркадия графини Пемброк»
221
себя романист поступает точно так же. Но дело в том, что дальше этого
Сидни не идет: такое впечатление, что он вдруг резко поворачивает и послушно
идет на звук окликнувшего его голоса. Ага, вспомнил он, - в прозе нельзя
употреблять низкую разговорную лексику; в рыцарском романе принцам и
принцессам не положено уподобляться простолюдинам, и вообще юмор -
это удел крестьян. Только деревенщинам позволительно выставлять себя на
посмешище, говорить о житейском и появляться на публике, как это делает,
например, Дамет - «насвистывая и считая на пальцах, сколько сена съедают в
год семнадцать хорошо откормленных бычков»20. Знатные же люди
выражаются возвышенным слогом, полным затейливых отвлеченных метафор; это
либо герои, рыцари без страха и упрека, либо - злодеи, без капли жалости.
В них все крупно; обычные человеческие слабости им чужды. Еще, прозе
противопоказана действительность, и прозаик, приличия ради, должен
деликатно отворачиваться от происходящего. Исключения случаются, но редко:
бывает, сорвется с пера слово, точно описывающее явление Природы,
например цапля взлетает с воды, «покачиваясь»21, или спаниель бросается в воду
за уткой и плывет, «изящно поводя головой и отфыркиваясь»22, но не более
того. Подобный реализм не должен выходить за рамки описания Природы,
животных и крестьян. Другими словами, проза предназначена для выражения
возвышенных и безличных чувств, она, подобно кисти пейзажиста, создана
для обрисовки фона; для плавного течения пространного многостраничного
монолога, не прерываемого ничьими репликами. Зато у поэзии совсем
другая задача. Интересно, что когда Сидни нужно что-то сообщить слушателям,
подчеркнуть какую-то мысль, создать емкое впечатление, он неизменно
прибегает к поэзии. Стихи выполняют в «Аркадии» примерно ту же функцию,
что диалог в современном романе: нарушают однообразие повествования и
высвечивают главное. Когда мы уже потеряли, кажется, всякий интерес к
бесконечным приключениям Пирокла и Музидора, вдруг является песня, и
мы снова - в который раз! - загораемся желанием узнать, что было дальше.
Проза нас усыпила, а поэзия, наоборот, - растормошила и взбудоражила:
Кому нужна такая доблесть, коль неприступна крепость?
Облачена во плоть, что здесь обрящет смелость,
Кроме геройской славы несчастного двуногого?
Монарха милость да холодный свет звезды -
Вот вся награда за труд, за жертву, за страданья,
За втоптанные в грязь покой и честь.
Как лицедеи на продажной сцене...23
Правда, что праздным принцам и принцессам до этих исступленных речей?
Разве могут их тронуть, например, такие пассажи:
Кусок стыда, пустая книга -
Вот что такое ваше тело...
Этот двуногий говорящий зверь, ходячий ствол24.
222
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Ведь ясно, что поэту претят самодовольство и спесь разряженных молодых
хлыщей, его душит гнев, и, тем не менее, он обязан их развлекать. Как поэт,
Сидни всему знает истинную цену - он же сызмальства наблюдал нравы
соотечественников, потому и пишет со знанием дела о «пчелином рое, мудро
обороняющемся злыми жалами»25, и о том, «как живут пастухи: они либо
едят, либо играют в кошки-мышки, либо упиваются до положения риз»26.
Но, несмотря на это, он должен в угоду публике бубнить про Планга и Эро-
ну, королеву Андроману и интриги Амфиала и его матери Кекропии. Как ни
парадоксально, но елизаветинскую публику, отличавшуюся жестокими
нравами (вспомнить историю заговоров и отравлений), хлебом не корми, дай
послушать сахарные речи, возвышенные монологи да небылицы, одну
невероятнее другой. Прервать же рассказ можно только одним способом: если,
например, встреча Зельманы со львом закончится не в ее пользу, она упадет,
оглушенная ударом его лапы, и Базилию волей-неволей придется отложить
жалобу Клаиуса до завтрашнего утра: «На что она охотно согласилась, видя,
что за песней время пролетело незаметно, а Ламон только-только вошел во
вкус и заканчивать не собирается, тем более что все очарованы его
рассказом. И вот, один за другим, они пали в объятия старшего брата смерти -
попросту говоря, предались сну»27.
На этом сказка не заканчивается, она течет своим ходом, одна история
сменяет другую, как весна - лето, лето - осень, и так без конца, а нас чем
дальше, тем все больше тянет последовать примеру наших героев и пасть
в раскрытые объятия старшего брата смерти: сон смежает веки, мы зеваем,
мы почти спим... Что же получается? Где пьянящее чувство свободы, с
которым мы начинали читать «Аркадию»? Мы же хотели забыться, уйти от
окружающей действительности, а в итоге попались: увяз коготок. А ведь как
чудесно все начиналось! Казалось, нет ничего проще: сочинить сказку,
повеселить сестру, как упоительно, забыв о том, что происходит здесь и сейчас,
устремиться на всех парусах в сказочный мир лютней и роз! Увы, не тут-то
было: ноги отчего-то делаются ватными, повсюду репьи да колючки. Мы
изголодались по простым словам, и нам до смерти надоела манерная
искусная речь, которая поначалу - есть грех! - казалась восхитительной. Причину
перемены настроения угадать нетрудно: Сидни слишком понадеялся на то,
что его вывезет возвышенный высокопарный слог. Он и понятия не имел, в
какую дорогу пускается. Ему казалось достаточным простое плетение
словес: сказывай одну сказку за другой - и все сложится. Однако, если не
поставить себе цель, направление теряется, пропадает самый смысл поиска.
Кроме того, его изначальный замысел - поделить героев на плохих и хороших и
не допустить смешения - заведомо лишил его возможности разнообразить
повествование за счет сложности и глубины обрисовки характера. Потому
он и оказался вынужден прибегать к мистификации, что действие
становилось все более и более натужным и монотонным. Иначе зачем нужны все эти
переодевания, зачем принцам рядиться крестьянами, мужчинам - женщина-
«Аркадия графини Пемброк»
223
ми, если во всем этом нет никакой психологической подкладки? Только ради
одного: хоть чуть-чуть разрядить обстановку, а то берет тоска - люди
собрались, а говорить им не о чем. Впрочем, и этот наивный маскарад - не
панацея, он быстро наскучивает, и тогда все вконец разъезжается: кто говорит, о
чем говорит, к кому обращается - непонятно! Такое впечатление, будто
Сидни бросил вожжи - пусть герои сами разбираются, а к середине вообще
забыл, зачем он тут нужен: то ли это «Я» автора, который говорит от своего
имени, то ли «Я» героя? А когда писатель теряет интерес к тому, что думает
читатель, и недвусмысленно обрывает диалог, то, согласитесь, никакого
читателя за книгой не удержишь. И мало-помалу «Аркадия» зарастает травой
забвения, превращаясь в богом забытое пустынное место, где в густой
траве лежат разбитые статуи, на аллеях лужи, мраморные ступени покрылись
мхом, а на цветочных клумбах бушуют сорняки. Впрочем, старинный сад
по-прежнему хранит былое очарование, по-прежнему манит тенистыми
аллеями и тропками: ведь столько раз во время бесцельных блужданий ты
натыкался на прелестное личико в траве, на яркий цветок, столько раз в кустах
сирени заливался и щелкал соловей!
Вот мы и подошли к концу, точнее, к той заключительной странице
«Аркадии», где Сидни, утомившись от бесплодных попыток завершить свое
творение, поставил точку. Задержимся на секунду - не будем
торопиться водворять пухлый том на прежнее место в самом низу книжного шкафа.
В «Аркадии», как в каком-то полупрозрачном светящемся сосуде, лежат и
ждут своего часа все семена английской литературы. Это золотой запас ее
возможностей: выбирай любую! Хочешь- обращайся к Древней Греции, к
афинским царям и царицам, следуй с наивысшим благородством
классической стати и безличности формы! Хочешь- держись строгих линий эпоса,
изображай движения масс, живописуй исторический фон! А может, тебя
интересует то, что происходит у тебя на глазах, и ты хочешь описать
настоящее как можно точнее и полнее? А может, твои герои - это Дамет и Мопса,
обыкновенные люди низкого звания, изъясняющиеся по-простому, и тебе
интересны их нравы и быт? А может, ты отметешь все эти мелочи в сторону и
займешься мучительной и страшной судьбой какой-нибудь несчастной
женщины, терзающейся чувством запретной любви, или заинтересуешься
выходками старого маразматика, у которого, как говорится, седина в бороду - бес
в ребро? Углубишься в их психологию и душевные искания?.. В «Аркадии»
весь этот спектр возможностей налицо: тут тебе и любовно-авантюрный
роман, и роман реалистический; поэтическая проза, психологическая... Сидни
же, словно зная, что задел предмет, непосильный для своих юных лет,
поступил очень мудро: отложил в сторону перо, решив не доводить до конца свой
труд - пусть остается как есть, со всеми красотами и нелепостями, на благо
потомков, а сам, устроившись поудобнее в кресле, продолжал тешить
небылицами сестру, коротая долгие уилтонские вечера и дни.
224
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«РОБИНЗОН КРУЗО»
Подходов к этому классическому произведению существует не один и
не два, но какой из них выбрать нам с вами? - вот вопрос. Мы, конечно,
можем начать с утверждения о том, что со времени кончины Сидни, который
умер в Зутфене1 и оставил свою «Аркадию» незавершенной2, много воды
утекло, жизнь в Англии с тех пор сильно изменилась, и под влиянием новых
обстоятельств английский роман стал развиваться в определенном
направлении. Народился средний класс, и его представители были не просто
жадными до чтения - они жаждали читать про самих себя, про свой быт, а любовь
принцев и принцесс их мало интересовала. Ответ на социальный запрос не
заставил себя ждать: навострив тысячи перьев, проза приспособилась к
бытописательству, отодвинув поэзию на второй план. Таков один из возможных
подходов к «Робинзону Крузо» - с точки зрения развития романа.
Разумеется, есть и другие: через призму жизни автора, и надо сказать, что в
благодатных кущах жизнеописаний можно бродить, сколько душе угодно, - гораздо
дольше, чем требуется времени, чтобы прочитать от корки до корки сам
роман. Взять, например, дату рождения Дефо - точно она не установлена: одни
говорят, он родился в 1660 году, другие - в 1661-м3. Или, например, его
фамилия - тоже непонятно, как ее писать: в одно слово или в два?4 А
вопрос происхождения? Говорят, он из семьи торговцев трикотажем, но что
это значит- быть торговцем в семнадцатом веке? Никто точно не
знает. Известно, что Дефо стал памфлетистом, вошел в круг доверенных лиц
Уильяма Третьего5; за один из своих памфлетов был поставлен к позорному
столбу6 и заключен под стражу в Ньюгейт7; он работал на Харли, позднее на
Годолфина8; он один из первых «вьючных животных», литературных
поденщиков, автор бесчисленных памфлетов и статеек, а также, к слову,
«Робинзона Крузо» и «Молль Флендерс»; был женат, воспитывал шестерых детей;
телосложения сухощавого, нос крючком, сероглазый, с острым подбородком,
возле рта - большое родимое пятно.
На самом деле, можно до бесконечности копаться в истории романа или
разглядывать под лупой подбородки романистов - собственно, не одна жизнь
ушла на эти интересные занятия, как знает каждый, кто хоть немного знаком
с английской литературой, - повторяю, можно до бесконечности штудировать
теорию жанра и жизнеописания, если бы не одно подлое сомнение: ну
хорошо, а если бы мы знали точную дату рождения Дефо и кого именно и почему
он любил, и если бы мы выучили назубок историю возникновения, развития,
расцвета и заката английского романа с самого первого момента его
зарождения, скажем, в Древнем Египте до полного исчезновения, положим, в дебрях
Парагвая, это как-то изменило бы наше восприятие «Робинзона Крузо»?
Добавило бы к нашему читательскому наслаждению хоть толику удовольствия?
Сделало бы хоть на гран яснее наше понимание этого романа?
«Робинзон Крузо»
225
Ведь в конечном итоге все упирается в книгу. Сколько ни крути, ни ходи
вокруг да около, в какой-то момент ты должен будешь встать к барьеру,
чтобы ответить на главный вопрос, а он возникает лишь тогда, когда читатель
и писатель остаются один на один, лицом к лицу, и тут невозможны
никакие уловки или отговорки типа «Дефо торговал чулками», «был шатеном» и
«вообще его пригвоздили к позорному столбу». Наша первая задача -
подчас очень сложная задача, надо сказать, - это разобраться в писательской
перспективе. Пока мы не поймем, как организует свой мир романист,
никакие декоративные элементы, о которых толкуют критики, никакие эскапады
автора, которые так любят биографы, нам не помогут: все это бесполезные
побрякушки. Мы должны сами, без посторонней помощи, взобраться
писателю на плечи и на какое-то время «стать его глазами», оставаясь в этом
положении до тех пор, пока мы, вслед за ним, не поймем, в каком
порядке организованы те главные общие смыслы, на созерцание которых
обречен каждый романист: это человек и люди, это Природа, и это, наконец, та
высшая сила, которую, удобства и краткости ради, иногда именуют Богом.
Впрочем, легко сказать - «пока не поймем»: на самом деле, на этом пути
нас поджидает множество подводных камней, трудностей и ловушек. Дело
в том, что эти смыслы, вроде бы такие простые с виду, под пером
романиста, организующего их особым образом относительно друг друга, могут
представать чуть ли не монстрами и даже делаться неузнаваемыми. Вроде
люди живут бок о бок, дышат одним воздухом, а чувство пропорции у них
совершенно разное: одному представляется, что человек - это целый
необъятный мир, и дерево относительно человека - ничто; а другой думает, что
деревья - это великаны, и люди - ничтожные муравьишки, копошащиеся на
заднем плане. Выходит, врут учебники: могут писатели быть
современниками и при этом все видеть по-своему. У Скотта, например, на переднем плане
громоздятся горы, и, соответственно, людей он рисует соразмерно
выбранному масштабу; Джейн Остен подбирает розочки для чайного сервиза под
стать шипам, которыми подкалывают друг друга ее герои. А Пикок9 ставит
перед мирозданием огромное кривое зеркало и наслаждается игрой
отражений: то чашка предстанет в нем Везувием, то Везувий покажется хрупкой
чашкой. А ведь все трое - и Скотт, и Джейн Остен, и Пикок - писали в одно
и то же время, наблюдали один и тот же мир, и в учебниках по истории
литературы они стоят рядом, вписаны в одну и ту же главу. А вот перспектива у
них разная. Получается, если мы сумеем самостоятельно разобраться, в чем
же состоит эта разница, то мы ответим на главный вопрос и можем
спокойно, в полной уверенности за свое внутреннее знание, наслаждаться
красотами и подробностями, которыми нас в таком изобилии пичкают критики и
биографы.
Но не тут-то было - именно здесь и начинаются сложности: а как быть с
нашим собственным видением мира? Ведь мы не можем от него
отрешиться, оно сложилось в результате нашего жизненного опыта, и отделить его
8. Вирджиния Вулф
226
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
от наших личных симпатий, самообольщений и предрассудков
невозможно. Как невозможно не почувствовать себя задетым и оскорбленным,
когда тебе кажется, что все над тобой смеются и ты чувствуешь, как рушатся
стены твоего уютного мира. Вот почему с выходом «Джуда незаметного»10
или нового тома Пруста11 газеты буквально взрываются возмущенными
откликами: майор Гиббс из Челтенема готов пустить себе пулю в лоб, лишь
бы доказать, что жизнь совсем не такая, какой ее рисует Гарди, а мисс Уиггс
из Хемстеда заявляет со всей ответственностью, что реальный мир, слава
богу, не имеет ничего общего с искаженным представлением
француза-извращенца, хотя, разумеется, она в восторге от искусства Пруста. Другими
словами, эти господа пытаются подогнать перспективу романиста под себя -
сделать так, чтобы она совпала с их собственным взглядом на вещи. Одного
они не понимают: великого писателя масштаба Гарди или Пруста не
окоротить - он идет напролом, невзирая ни на какие права частной
собственности; не щадя живота своего, он творит из хаоса свой мир: тут он вкопает
дерево, там у него будет стоять человек, а еще дальше или, наоборот,
ближе - это уж как ему заблагорассудится - он поместит образ божества. И чем
яснее картина мира, чем плотнее в ней все увязано, - вот он, верный
признак шедевра! - тем очевидней, что писатель гнет свою линию с такой
неумолимой последовательностью, что у нас в душе все переворачивается от
мысли, что скоро от нашего уютного мирка камня на камне не останется.
Рушатся последние опоры - естественно, нам делается страшно, а еще...
скучно: подумаешь, новая идея - что в ней интересного, с чем ее едят? Но как
бы мы ни возмущались, ни боялись, ни зевали, изображая скуку, мы не
можем отрицать тот факт, что порой нам воздается сторицей за все наши
читательские муки.
«Робинзон Крузо» - одна из таких редких удач, бесспорный шедевр
Дефо, и во многом это связано с тем, что на протяжении всего романа
писателю ни разу не изменяет чувство перспективы. Иначе говоря, он на каждом
шагу сбивает нас с толку и щелкает по носу. Как это происходит, станет
понятно, если свободно и открыто взглянуть на сюжет, сравнив его с нашими
ожиданиями. Как мы знаем, это история человека, заброшенного волею
судеб, после долгих испытаний и приключений, на необитаемый остров. Сама
сюжетная канва - кораблекрушение, одиночество, безлюдный остров - уже
рождает в нашей душе некое смутное представление о богом забытом клочке
земли на краю света: мы представляем, как там восходит и садится солнце,
а человек сидит и размышляет в гордом одиночестве о природе общества и
неисповедимых путях человеческих. Мы еще не открыли книгу, а в голове
уже нарисовали картину, представили, с каким настроением будем читать.
И вот открываем первую страницу, а там все другое: никаких тебе закатов
и рассветов, никакого одиночества, никакой гордой души - один здоровый
глиняный котелок, и ничего больше. Другими словами, нам рассказывают
про то, что на дворе 1 сентября 1651 года, героя зовут Робинзон Крузо и
«Робинзон Крузо»
227
его отец страдает подагрой. То есть на первый план выходят факты, быт -
словом, грубая действительность. Ясно, что нам нужно срочно перестроиться,
изменить масштаб, перекроить пропорции: очевидно, что Природе не
понадобятся роскошные краски - она здесь всего лишь источник засухи и осадков;
человек поставлен в положение животного, пытающегося выжить в трудных
условиях, а Бог - это только название, на самом деле он мало чем отличается
от мирового судьи, чье слово, хоть и весит немало, но совсем не является
истиной в последней инстанции. Стоит нам только высунуть нос, чтобы
полюбопытствовать, как обстоит дело с опорными точками перспективы - Богом,
человеком, Природой, как нас бесцеремонно осаживают, каждый раз
напоминая о здравом смысле и заставляя спуститься на бренную землю. Вот
Робинзон Крузо думает о Боге: «...не раз недоумевал я, почему провидение губит
свои же творения... Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во
мне эти мысли»12, - то есть Бога не существует. Вот Робинзон размышляет о
Природе: «...везде пестреющие цветами луга, красивые рощи»13, - но, на
самом деле, рощи его интересуют только в одной связи: в них полно попугаев,
которых можно приручить и научить говорить, значит, и Природы не
существует. Вот он рассуждает про убитых дикарей: трупы нужно поскорее зарыть,
«чтобы избежать зловония, которое не замедлило бы распространиться от них
при жаркой погоде»14, - выходит, смерти тоже не существует. Мир держится
только на одном - на глиняном котелке. В конце концов, нам не остается
ничего другого, как отбросить собственные ожидания и домыслы, и
довериться Дефо.
Итак, начнем с начала: «Я родился в 1632 году в городе Йорке в
зажиточной семье»15. Кажется, самый обыкновенный зачин - проще не бывает: нам
предлагают здраво оценить те блага, которые человеку среднего сословия
сулит праведная, упорядоченная жизнь. Нас уверяют, что если ты родился
в Англии в зажиточной семье, считай, тебе повезло: это гораздо лучше, чем
появиться на свет вельможей или нищим - ведь первый всю жизнь зависит
от монаршей прихоти, а второй вынужден побираться; тогда как истинное
счастье заключается в золотой середине, в умеренности, терпимости,
душевном равновесии и телесном здоровье - вот желаннейшие добродетели! А
потому вдвойне досадно, когда юноша из добропорядочной зажиточной семьи,
точно преследуемый злым роком, заражается неизлечимой страстью к
приключениям... Вот так, ни шатко ни валко, предельно заземленно движется
рассказ, и одновременно складывается незабываемый образ героя - такого
на мякине не проведешь, такой, не спросясь броду, в воду не полезет, у
такого все разложено по полочкам, все ладно и достойно; словно
заговоренные, мы смотрим ему в рот и незаметно для себя оказываемся в бушующем
море, но и здесь твердо держимся взгляда Робинзона Крузо. Что бы ни
попало в круг обзора - волна ли, моряки, небо, тонущий корабль - все
ощупываем острым смекалистым глазом человека, до мозга костей практического.
8*
228
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
От этого взгляда невозможно укрыться - он проникает повсюду и лепит мир
по своему образу и подобию: сверхосторожно, с прищуром, обстоятельно,
прочно. Загореться воодушевлением - это не для Робинзона. Он слегка
морщится при виде красот природы, как от чего-то приторного. Ему и в
Провидении мерещится ненужный пафос. Он настолько занят и сосредоточен на
главном, что замечает лишь десятую часть происходящего. Он уверен: всему
есть свое разумное объяснение - надо только время, чтобы его найти. Когда
ночью его шлюпку окружают «свирепые животные чудовищных размеров»,
мы пугаемся куда больше его, он же, «немного струхнув», моментально
хватается за ружье, стреляет в них, и они поворачивают назад и плывут к
берегу16, а кто это - львы или какие другие звери, ему невдомек. От изумления
у нас, что называется, отвисает челюсть, и мы сидим, разинув рот,
проглатывая такие обальдемонсы, над которыми - попадись они нам в рассказе
какого-нибудь враля-путешественника - мы бы громко расхохотались. А здесь
мы все принимаем за чистую монету: вот что значит убежденность в своей
правоте человека среднего сословия. Он только и умеет, что считать свои
бочонки да прикидывать, сколько у него осталось в запасе пресной воды,
и пойди поймай его врасплох! - он ни одной подробности не упускает. Вот
ему понадобились свечи - ага! думаем мы, - небось забыл, что у него на
шлюпке был припасен большой кусок воску? Ан нет, не забыл! Только от
того большого куска, какой был на странице двадцать три, мало что
осталось к странице тридцать восемь: ведь он из него делал свечи еще во
время скитаний у берегов Африки. Даже когда вдруг обнаруживается какая-то
нестыковка, повисает неподвязанный конец, - например, почему козы на
острове такие пугливые, если дикие кошки почти ручные? - мы сохраняем
невозмутимость, ибо знаем: на все есть своя причина, значит, и этому факту
найдется веское объяснение - было бы время им заняться. А дело это
нешуточное: заниматься обустройством своего жилища на необитаемом острове.
Тут не до слез - все нужно предусмотреть: а вдруг молния ударит и
уничтожит весь твой порох? - тут не до восторгов по поводу Природы, тут нужно
не мешкая искать безопасное место и переносить туда свои запасы. И так во
всем: он гнет свою линию, рассказывая правду по-своему, этот великий
художник, который знает, на что можно закрыть глаза, а во что нужно вперить
взгляд и не спускать глаз до тех пор, пока не возьмет верх его
первостепенное качество рассказчика - чувство реальности, и тогда самые житейские
поступки предстанут облагороженными, а в самых обыденных предметах
обнаружится красота. Кажется, чего проще - вскопать огород, выпечь хлеб,
посадить дерево, построить жилище? - но на самом деле, ничего серьезнее
этих поступков нет. Тесаки, ножницы, бревна, топоры - сколько поэзии в
этих основных орудиях труда. Вот так, с обезоруживающей прямотой, без
комментариев, движется уверенной поступью рассказ. И если задуматься,
то еще неизвестно, какую роль в общем впечатлении сыграли бы
комментарии, если бы таковые имелись: ведь Дефо - не психолог, у него принципи-
«Робинзон Крузо»
229
ально другой способ изображения - через воздействие чувства на
физическое состояние человека, а не на душу. Впрочем, по выразительности его
скупые характеристики не уступают иным многостраничным описаниям.
Чего стоит, например, подробность, когда он в отчаянии с таким
напряжением сжимает ладони, что, кажется, положи между ними что-то пушистое -
раздавил бы в лепешку, или другая деталь - когда он «так крепко
стискивал зубы, что потом не сразу мог их разжать»17. В обоих случаях он очень
точно схватывает машинальные движения. «Пускай ученые, - замечает
он, - доискиваются до причины этого рода явлений, я же только описываю
факт...»18 А это, согласитесь, дорогого стоит, потому что если ты- Дефо,
твоим фактам можно верить. Именно благодаря тому, что Дефо - это
гений факта, он достигает таких художественных высот, какие под силу лишь
величайшим мастерам пейзажной прозы. Он только обронит пару слов о
«сереньком утре»19, и перед нами живо встает холодный рассвет. Скажет
несколько вроде бы банальнейших слов: «...никого из этих людей я больше
не увидел; от них и следов не осталось, кроме трех шляп, одного
колпака да двух непарных башмаков, выброшенных морем на берег»20, а более
горькой картины опустошения после гибели твоих товарищей трудно себе
представить. Поэтому стоит только в его голосе зазвучать даже мимолетной
нотке торжества: «Нужно было видеть, с каким королевским величием я
обедал, окруженный моими верными слугами»21 - любимым Попкой,
собакой, двумя кошками, как мы проникаемся абсолютной верой в то, что здесь,
за этим столом на необитаемом острове собралось все человечество, хотя
Дефо не был бы Дефо, если бы тут же не заставил нас спуститься на
бренную землю, уточнив, что кошки были не теми кошками, которых он привез
с корабля: те давно околели, а это было новое потомство, которое, кроме
этих двух ручных кошек, одичало и неимоверно расплодилось,
доставляя ему массу хлопот, тогда как собаки, неизвестно почему, не
размножались вовсе.
Выходит, Дефо заставил нас поверить в дальние страны и неизбывное
одиночество души, неустанно выдвигая в качестве точки отсчета простой
глиняный котелок. И такова сила его убежденности в этой первооснове, что,
соизмеряя с ней все и вся, он и вселенную подчиняет своему стройному замыслу, водя
ее за собой, как на веревочке. Так почему же, спрашиваем мы, захлопнув книгу,
нас не удовлетворяет в полной мере та перспектива, которую, как мы поняли,
налагает на нас простой глиняный котелок, как, впрочем, не удовлетворяет
нас и образ сына человеческого, возвышающегося во всем его величии до
самых звездных небес, среди разрушенных до основания гор и взбаламученного
океана?
230
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«ПИСЬМА» ДОРОТИ ОСБОРН
Читатель, которому случается забрести на ниву английской литературы,
не может не удивиться, попав в полосу межсезонья, - такое бывает у нас в
деревне ранней весной1, когда деревья сквозят голые, холмы лежат без
привычного зеленого покрова и каждая впадинка и ветка видны как на ладони.
И все бы ничего, только не хватает нам напоенных птичьим гомоном и
лесными шорохами июньских деньков, когда все вокруг, до самой реденькой
рощицы, приходит в движение: остановись, замри и ты услышишь, как в
подлеске шуршат и возятся проворные неугомонные зверушки. Примерно
такая полоса тянется в английской литературе, и нам приходится ждать,
когда закончится шестнадцатый век, наступит семнадцатый, и только где-то к
середине столетия пустоты между отдельными, редко стоящими
шедеврами заполнят людские голоса, подобно тому как зарастают зеленой порослью
просветы между деревьями.
Голоса же начинают звучать тогда, когда у людей появляется потребность
высказаться, когда они могут, вальяжно откинувшись в кресле, наблюдать за
своими собеседниками, а для этого многое должно измениться и в
психологии, и в бытовых условиях: должны были появиться удобные кресла, ковры
и хорошие дороги - другими словами, жизнь должна была стать более
комфортной, более приятной во всех отношениях. И потом, трудно отделаться от
мысли, что те первые литературные шедевры своим появлением во многом
обязаны тому, что писательское искусство в ту раннюю пору было уделом
избранных личностей, назначенных к поэзии своими талантами и искавших
на творческом поприще не столько денег, сколько славы. Так что еще
неизвестно, как сказалось на развитии нашей литературы последовавшее за той
ранней полосой шедевральности разбазаривание талантов в виде биографий,
публицистики, произведений эпистолярного и мемуарного жанров - вполне
возможно, оно ее ослабило. Тем не менее без мастеров эпистолярной и
биографической прозы литература гола, как лес ранней весной. Фигуры
писателей высятся темными великанами-деревьями, - пишет же сэр Эдмунд Госс о
непроницаемости Донна2, и объясняется такое положение дел одним
обстоятельством: да, мы знаем, что Донн думал о леди Бедфорд3, но у нас нет ни
малейшего представления о том, что леди Бедфорд думала о Донне. Ей не с
кем было поделиться своими впечатлениями о странном посетителе по
имени Джон Донн, а отсутствие наперсницы лишает нас возможности понять,
что же странного она в нем нашла.
А уж если Босуэлл или Хорас Уолпол4 никак не могли родиться в
шестнадцатом веке, - условия были не те, так что же говорить о
представительницах противоположного пола? Их положение было вдвойне тяжелее. Помимо
бытовых затруднений, - а типичным примером неудобств, в которых жили
елизаветинцы, может служить тонкостенный домишко Донна в Митчеме, где
«Письма» Дороти Осборн
231
он ютился с женой и малолетними детьми, - женщину, имевшую склонность
к писательству, останавливало стойкое убеждение в том, что женщинам не
подобает заниматься литературой. Еще титулованные дамы, куда ни шло, -
пусть пишут и публикуют свои сочинения: титул служит им порукой в
терпимом отношении света, даже если терпимость эта мнимая и за ней скрывается
низкая лесть услужливых «друзей». Однако женщине незнатного
происхождения писать не пристало. Как заметила Дороти Осборн по выходе одной из
книг герцогини Ньюкасл: «...конечно, бедная женщина немного не в себе,
иначе зачем бы она стала писать, да еще стихи, делая из себя посмешище»,
добавив при этом, уже от себя: «Я б до такого позора никогда не дошла»5.
И что примечательно: это мнение высказывает женщина огромного
литературного дарования, у которой на роду было написано стать романисткой,
родись она на двести лет позднее, в 1827 году (правда, если б она родилась
раньше на сто лет, в 1527 году, о ее таланте никто б не догадался, поскольку
она не написала бы ни слова). Однако факты - упрямая вещь: Дороти Осборн
родилась ни раньше ни позже, а в 1627 году6, когда женщине, быть может, и
не пристало писать книги, зато в сочинении писем никто не находил ничего
предосудительного. И вот мало-помалу лед тронулся - зажурчали ручейки,
послышались шорохи: впервые за время существования английской
литературы мы слышим, как неспешно течет беседа - у камина разговаривают
двое, он и она.
Впрочем, эпистолярное искусство на заре своего существования было
совсем не похоже на то, в каком упражняются уже не один век авторы многих
захватывающих томов писем. Тогда было принято обращаться к
корреспонденту со всей чопорностью - «сэр», «мадам», а язык был настолько
высокопарен и возвышен, что невозможно было представить, чтобы он, как
нынешний его собрат- поистине язык без костей! - изощрялся на полстраничке
тетрадного листа. Ведь под маской эпистолярной формы часто скрывается
эссе. Но как бы то ни было, именно в эпистолярном жанре женщина в те
далекие времена могла творить, не уподобляясь мужчине. Письма можно было
писать где угодно и когда угодно: у постели больного отца, урывками, за
будничными делами; их можно было не подписывать, и при этом утешать себя
мыслью, что твое письмо может оказаться полезным адресату. Интересно,
что те бесчисленные и большей частью утерянные письма по
наблюдательности, легкости и остроумию вовсе не уступают «Эвелине» и «Гордости и
предубеждению»7, несмотря на некоторое внешнее отличие в форме.
Конечно, это всего лишь письма, и, тем не менее, чувствуется, что они
составляют предмет авторской гордости. Дороти явно оттачивала свое мастерство
(хотя никогда в этом не призналась бы), и у нее был свой взгляд на
своеобразие эпистолярной формы: «...великие Ученые - не самые лучшие авторы
(я имею в виду, не лучшие авторы писем, - о книгах судить не берусь)... по-
моему, письма всегда пишутся свободно и легко, как течет речь»8. Она
разделяла дядино отношение к слову, а дядя ее прославился тем, что, будучи уже
232
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
не молодым человеком, запустил чернильницей в своего секретаря за то, что
он, вместо того чтобы сказать просто и ясно «писать», выразился витиевато:
«навострить перо»9. Впрочем, иная простота хуже воровства, не преминула
тут же заметить Дороти: «...много красивостей, сваленных в одну кучу»10
больше уместны в разговоре, чем в письме. В итоге мы имеем самобытную
литературную форму (да простит нам Дороти эти громкие слова!), и можно
только пожалеть о том, что мы ее, похоже, безвозвратно утратили.
Дело в том, что Дороти Осборн, любившая пристроиться с бумагой и
пером где-нибудь у камина или у постели больного батюшки, не просто
исписывала от нечего делать огромные альбомные листы: как истый
летописец, она самым серьезным и при этом неподражаемым
доверительно-шутливым тоном делилась происходящим с одним-единственным, на редкость
благодарным и тонким слушателем, - такое не снилось никакому романисту
или историку. Помня данное возлюбленному обещание держать его в курсе
событий, происходящих у них в доме, она несколькими штрихами
обрисовывает сватающегося к ней вдовца (у него четыре дочери на выданье и
огромный мрачный особняк в Нортемптоншире): зовут солидного господина
сэр Юстиниан Ишем, а она про себя называет его сэр Соломоново Решение.
«Господи, как жаль, что у меня нет его письма, писанного по-латыни, - чего б
я только ни отдала за то, чтоб тебе его показать!» - досадует она в своем
письме и дальше рассказывает, как в том латинском послании оксфордскому
другу «жених» особенно хвалил ее за то, что она «способна составить ему
компанию и поддержать его разговор»11. Ей во что бы то ни стало нужно
записать, как ее страшно мстительный кузен Молл12 вскочил как-то утром в
панике, решив, что у него водянка, и помчался в Кембридж к доктору; она не
успокоится, пока не опишет, как намедни гуляла вечером по саду,
источавшему запах «Жасминна»13, «и он ее совсем не радовал» - ведь рядом не было
ее дорогого Темпла. И так все - любая мелочь записывается и тут же
отсылается возлюбленному: то-то он порадуется! Говорят, графиня Сандерленд
снизошла и согласилась выйти замуж за безродного м-ра Смита, который
обращается с ней, как с королевой, правда, сэр Юстиниан полагает, что это
дурная школа жен. Сама же новоиспеченная королева заявила во
всеуслышание, что замуж вышла из жалости, - «право, горько такое слышать»14, тут же
комментирует Дороти. Чувствуете? - завязывается интрига: мы уже
перезнакомились со всеми домочадцами и близкими Дороти и теперь жадно ловим
каждую новую подробность.
Любопытно, что именно отрывочность картины подогревает наш
интерес к жизни маленького светского салона в Бедфордшире семнадцатого века:
вот перед нами мелькнули и тут же скрылись сэр Юстиниан, леди Диана,
м-р Смит со своей графиней, и мы не знаем, встретим мы их еще раз или
нет, и если встретим, то когда. И тем не менее, при всей фрагментарности
«Писем», в них есть свое поступательное движение, как, собственно, в
каждом настоящем произведении эпистолярного жанра: мы словно угнездились
«Письма» Дороти Осборн
233
где-то в душе Дороти и наблюдаем из укромного местечка за
разворачивающимся на страницах ее писем действом. И происходит это в силу бесспорно
присущего ей особого дарования, которое для эпистолярного жанра важнее
и остроумия, и блеска, и свободы общения с сильными мира сего: мы
говорим о ее умении быть самой собой. Именно потому, что она всегда и везде
сама собой, без натуги и ложного пафоса, все эти разговоры о том, о сем
сбегаются, подобно ручейкам, в одно большое русло. Все дело, конечно, в
личности: Дороти очень обаятельна, и в ней есть какая-то тайна. Чем больше
мы вчитываемся в ее письма, тем яснее мы это понимаем: ей не интересны
привычные дамские занятия, те, что ценились в ее время; она ни слова не
говорит о шитье или кулинарии. Она всегда была немного рассеянная: могла
часами листать французские куртуазные романы, любила ходить на выгон,
слушать, как поют деревенские девушки, гулять в саду у ручья, «сидеть и
мечтать, что ты рядом». Сидя в компании у камина, могла ни с того ни с сего
замолчать, замечтаться и проснуться только при слове «летать» - так
однажды она насмешила брата расспросами о том, что значит «летать»: ей,
видите ли, пришло в голову, что если научиться, то можно улететь к Темплу. Она
всегда была задумчивой и не по годам серьезной: мать говорила, - у тебя
взгляд, будто все друзья перемерли. Ее угнетало понимание неотвратимости
судьбы, тщетности и бесплодности попыток что-либо изменить. Мать и
сестра были тоже женщины неординарные: сестра прославилась своими
письмами, правда, книги она любила больше, чем приятное общество, а мать,
«женщина мудрая, на то и англичанка»15, отличалась желчным характером.
Дороти вспоминала, как мать любила поворчать: «Я достаточно долго живу
на свете и вижу, что хуже думать о Людях, чем они есть, нельзя. Поживи с
мое, и ты в этом сама убедишься»16. Чтобы избавиться от сплина, Дороти
даже ездила на минеральные источники в Эпсом и пила обогащенную
железом воду.
Естественно, при подобной расположенности к меланхолии ее «гумор»17,
перебродив, превратился в колючую иронию. Она подсмеивалась над своим
возлюбленным, от души потешалась над людской чопорностью и
церемонностью в обращении. Откровенно смеялась над кичливостью знати и
обожала пускать шпильки в адрес надутых от важности стариков. Терпеть не
могла занудных проповедей, политические интриги видела насквозь,
никогда ни с кем не церемонилась, а столичный лоск и светские манеры
почитала за ничто. И все же было у нее одно уязвимое место, от которого ее не
спасала даже ее феноменальная проницательность: она панически боялась
общественного мнения. Родня - все эти тетушки, братья, от которых спасу
нет, угнетали ее до чрезвычайности. «Куда бы от них деться, - молила она, -
хоть в дупло полезай». Если при ней муж на публике целовал супругу, ей
казалось - «позора не оберешься». Как люди оценивают ее внешность или
ум, ей было все равно - «не все ли равно, как тебя зовут: Элиз или Дор»18, а
вот мысль о том, что кто-то на публике будет полоскать ее имя, приводила ее
234
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
в трепет, поэтому заставить себя вслух признаться в том, что любит бедняка
и готова выйти за него замуж, было выше ее сил. «Боюсь, - оправдывалась
она, - мой гумор таков, что выставить себя на всеобщее посмешище я не
могу»19. Она готова «довольствоваться самым малым при моем положении
в обществе», но сносить насмешки не в ее власти. Ей претила любая
крайность, способная навлечь на нее неодобрение света, - на эту слабость ей
потом не раз попеняет Темпл.
Кстати, его личность проступает все явственнее с каждым новым
письмом Дороти, что лишний раз доказывает ее незаурядный литературный
талант. Только настоящий мастер способен так проникнуться обаянием
личности адресата, что по письмам можно легко представить его образ. Именно
это мы и обнаруживаем в письмах Дороти: манера ее рассуждений, логика
мысли таковы, что между строк читается и ход размышлений ее избранника,
который, судя по всему, был во многом ее антиподом. Ясно, что он терпеть
не мог разные мерехлюндии, а она, как нарочно, грустила еще больше; он,
видимо, доказывал ей положительные стороны брака, а она от этого только
сильнее сомневалась. По сравнению с Дороти, Темпл был, конечно, здоровее,
оптимистичнее, хотя и он не без греха: жестковат, надменен - недаром брат
Дороти его недолюбливал, за глаза называя «гордецом, властолюбцем,
грубияном, каких свет не видывал»20. Но для Дороти дороже ее Темпла не было
никого - остальные ухажеры ему в подметки не годились: заурядные
помещики, лопающиеся от важности мировые судьи, городские щеголи, готовые
бежать за каждой юбкой, заезжие французы, да будь он хоть сколько-нибудь
похож на этих посредственностей, она бы моментально дала ему отставку.
Он же был совсем не таков в ее глазах: обаятельный, чуткий, не как другие, -
ему можно писать, о чем вздумается; с ним она счастлива, она его любит, он
вызывает у нее чувство уважения. И вдруг, ни с того ни с сего, она
объявляет, что отказывается выйти за него замуж. Ей противна сама идея брака, и в
подтверждение своих слов она сыплет примерами несчастливых семейных
союзов: если люди знакомы до супружества - все разваливается, делает она
вывод. И виной тому страсть, самое низменное и жестокое чувство. Это за
свою страсть леди Энн Блаунт поплатилась тем, что «теперь ее имя полощут
все, кому не лень, от лакеев до посыльных»21. Это страсть сгубила красавицу
леди Изабеллу: и кому нужна теперь ее красота, когда она замужем «за
Синей Бородой в его замке»22? Нет, уж лучше «рано и незаметно сойти в
могилу»23, чем выслушивать упреки брата, мириться с ревностью Темпла и
трепетать перед мнением света. Пожалуй, только Темпл с его решительностью
мог преодолеть ее сомнения и переломить сопротивление брата, за что ему,
конечно, честь и хвала, да только не надо бы нам такой чести. Ведь ее брак с
Темплом обернулся тем, что она перестала ему писать, - письма сразу
прекратились. Весь тот огромный мир, что Дороти создала своими ручками, -
мир этот исчез, и, только потеряв его навсегда, мы понимаем, каким он был
живым, наполненным, многоголосым. Согревавшее ее чувство любви к Тем-
«Письма» Дороти Осборн
235
плу позволило ей расписаться, а просиживая долгими вечерами у постели
больного отца, она привыкла писать, на чем попало - подвернулось старое
письмо, и пошла строчить на оборотной стороне, так она научилась писать
непринужденно и с подобающим ее веку достоинством обо всех этих Ише-
мах, леди Дианах, тетушках, дядюшках: как приехали, как уехали, что
сказали, чем ей понравились, чем не понравились, что у них нового, что
по-старому. Изливая душу Темплу, она успевала высказаться и о наболевшем - ее
сильно донимает брат, и о сокровенном - о чем ей мечтается, что ее печалит,
о том, как сладко гулять поздним вечером в саду, сидеть отрешенно у реки,
ждать посыльного с письмом и - дождаться! Мыслями мы давно с Дороти,
живем ее жизнью, понимаем с полуслова, и вдруг - обрыв. Пустота. Все
кончено: Дороти теперь замужняя дама, ее мужу прочат блестящую
дипломатическую карьеру, а где муж, там и жена - в Брюсселе, Гааге, куда пошлют.
У нее семеро детей, а еще семеро, «едва появившись на свет», умерли. Вот
такая нелегкая судьба выпала молоденькой девушке, которая когда-то
потешалась над людской чопорностью и церемонностью в обращении, любила
уединение и мечтала о том, как заживут они вдвоем «в нашем домике»,
вдали от суеты, «и тихо состарятся». А теперь на ней держится богатый мужнин
дом в Гааге, который ломится от роскошной посуды и столового серебра;
она - главная мужнина советчица и помощница в тяжелом деле продвижения
по служебной лестнице. Однажды ей даже пришлось задержаться в
Лондоне, улаживая вопрос о выплате задолженности по мужниному жалованью.
На обратном пути в Голландию их судно попало под вражеский обстрел, но
она не испугалась: по словам короля, ее смелости мог бы позавидовать сам
капитан. В общем, образцовая супруга дипломата, а впоследствии и
образцовая жена отставного чиновника. Потом, как водится, навалилась старость,
пришли беды: сначала похоронила дочь, потом сын покончил с собой - он
был в мать, тоже меланхолик, - бросился с моста в Темзу, а чтобы не спасли,
положил в ботинки для тяжести камни... Так шли годы, неся радости
пополам с горестями, а Дороти все молчала.
Правда, был один случай - появился как-то у них в доме на Мур-парк в
должности секретаря молодой человек: довольно тяжелый в общении,
грубоватый, вспыльчивый. Так вот именно его глазами мы в последний раз видим
Дороти: «...домовитую, умиротворенную, мудрую, великую Доротею», - так
описал ее в ту пору Свифт24. Но нам его слова ни о чем не говорят - мы эту
матрону не знаем. Она не увязывается в нашей голове с той девушкой, что
когда-то изливала душу суженому. «Умиротворенная, мудрая, великая?» -
нет, это не о ней: та Дороти, которую мы видели в последний раз, совсем
другая. Поэтому, отдавая должное образцовой жене посла, поставившей
свою жизнь на службу мужниной карьере, мы, не задумываясь, отдали бы
все блага, дарованные Тройственным союзом вкупе с Нимвегенским
договором25, за ненаписанные письма Дороти.
236
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
СВИФТОВСКИЙ
«ДНЕВНИК ДЛЯ СТЕЛЛЫ»
В жизни любого цивилизованного общества маска играет неоценимую
роль, а значение этикета вообще не поддается описанию, поэтому
возможность отвести душу, поболтав с близким тебе человеком на «вам двоим
понятном языке»1, отбросив церемонии и экивоки, равносильна глотку
свежего воздуха в душной комнате. Особенно нуждаются в такой отдушине люди
сильные, замкнутые, чьи имена у всех на слуху. Например, Свифт испытал
это на собственной шкуре: возвращаясь вечером домой, осыпанный
похвалами сильных мира сего, обласканный вниманием хорошеньких женщин,
уставший от интриг и политики, этот гордец из гордецов, отметя в сторону все
заботы, забирался под одеяло и, устроившись поудобнее, принимался
строчить письма «двум моим мартышкам», «дорогим моим сударушкам»,
«безобразницам»2 своим, что ждут не дождутся его по ту сторону Ирландского
моря, строчил себе самозабвенно, а у самого губы невольно складывались
в трубочку, будто сюсюкая: «...а сейчас, дерзкие девчонки, так и быть,
примусь отвечать на ваше письмо... Свеча почти догорела, однако, я, пожалуй,
все же начну. - Ну что же вы, мистер [Presto], довольно вам ходить вокруг да
около. Что вы можете ответить на письмо МД? Да поторопитесь и кончайте
с вашими предисловиями... Прежде всего я чрезвычайно рад, что вы много
гуляете»3.
Стелла знала, что если Свифт пишет таким тоном, не обращая внимания
на каракули, значит ревновать ей нечего: «...у меня такое чувство, когда я
пишу ясно, - не знаю, почему, - что мы не одни, весь мир за нами
наблюдает. А за каракулями можно чудно спрятаться...»4 Конечно, она понимала, что
растрачивает впустую лучшие годы своей молодости, живя в Ирландии в
одном доме с Ребеккой Дингли - непонятным существом, которое носит очки
на шарнирах, поглощает бразильский табак в несметных количествах и
наступает при ходьбе на подол собственного платья. Да и сплетен не
оберешься - кто судачит про то, на каком положении в доме Свифта обретаются две
дамы: когда хозяин дома, они всегда втроем, а когда он уезжает, женщины
остаются за хозяек; кто распускает слухи, что Стелла, мол, темная лошадка,
из той сомнительной породы женщин, которые проводят время в компании
мужчин, хотя со Свифтом они встречаются исключительно в присутствии
миссис Дингли. Но в том и дело, что все это сторицей окупалось!
Сообщение с Англией работало бесперебойно, письма шли регулярно: каждая
страница исписана сверху донизу рукой Свифта - его мелкий неразборчивый
почерк ни с каким другим не спутаешь, даром что она научилась копировать
его один в один, - что ни слово, то написано с заглавной буквы, все
ласкательные имена да намеки, предназначенные только для Стеллиных ушей, да
секреты, которые она одна и умеет хранить, да мелкие поручения, которые
Свифтовский «Дневник для Стеллы»
237
никто лучше Стеллы не выполнит. К письму обыкновенно прилагались
подарки: для Дингли - табак, для Стеллы - шоколад и шелковые фартуки. Нет,
пусть люди судачат о чем угодно, а дело стоящее!
В свете никто и не догадывался, что у непреклонного Свифта есть
некто Presto - его другое «Я»5. Свету было ведомо лишь то, что Свифт опять
отбыл в Англию с обращением к новому правительству тори от имени
ирландской церкви по поводу тех самых податей, отменить которые он тщетно
упрашивал вигов6. Свою миссию Свифт вскоре успешно завершил; Харли и
Сент-Джон не знали, как выразить ему переполнявшие их чувства сердечной
благодарности и симпатии, и свет не успел опомниться, как вынужден был
лицезреть такое зрелище, которое даже в те далекие времена закрытых
салонов и великих чудаков-одиночек не могло не поражать воображение -
«безумного священника»7, который еще несколько лет назад ходил
непризнанным гением по лондонским кофейням, а ныне оказался допущен в святая
святых государственного совета; мальчишку без гроша в кармане, которому
еще совсем недавно не разрешалось сидеть за одним столом с сэром
Уильямом Темплом8, а теперь он, видите ли, обедает с верховными министрами Его
Величества, герцоги у него на побегушках, а от просителей отбою нет, и его
слуга занят тем, что ищет, под каким бы предлогом не пустить человека на
порог. Самому Аддисону9 пришлось притвориться должником, пришедшим
заплатить по счету, - только так и сумел прорваться через заслоны. Да, было
время, когда Свифт был чуть ли не всесильным: деньги не имели над ним
власти, его пера боялись как огня. Он принят при дворе - «я страшно
польщен тем, что лорды все как один подошли ко мне засвидетельствовать свое
почтение»10. Сама королева пожелала слушать его проповедь, к ее просьбе
присоединились Харли с Сент-Джоном, но Свифт отказался. А когда
государственный секретарь позволил себе во время вечернего приема обойти его
вниманием, Свифт незамедлительно нанес ему визит и попросил «впредь
не выказывать мне подобной неучтивости, ибо я никому не позволю
обращаться с собой как с мальчишкой... Он спокойно меня выслушал, нашел мои
слова резонными... предложил уладить дело, вместе отобедав у брата
миссис Мэшем, только я отклонил его предложение. Может, напрасно, но
отклонил»11. Все это выплескивалось в письмах к Стелле без всякого
самодовольства или бахвальства, ведь ни ему, ни ей не надо было доказывать, почему
он вправе отдавать распоряжения, ставить условия - словом, держать себя
с вельможами как равный, заставляя их закрывать глаза на разницу в
общественном положении. Кто-кто, а Стелла, знавшая Свифта много лет с той
первой встречи в доме на Мур-парк, когда он не дал себя в обиду перед сэром
Уильямом Темплом, давно догадалась о масштабе его личности, а о своих
планах и надеждах он сам ей не раз рассказывал. Кому же, как не ей, знать
о том, как причудливо соединяются в его душе дурное и хорошее, со всеми
его чудачествами и крайностями поведения? Он фраппировал лордов своей
скаредностью: не успеет закончиться званый ужин, он выбирает из камина
238
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
недогоревшие куски угля , полпенса на извозчика не потратит, зато она одна
знала, сколько добрых дел он совершил втайне от всех именно благодаря
введенной им строжайшей экономии: снабдил малышку Пэтти Ролт
«пистолетом, чтоб ей было не страшно в случае нападения - ведь она перебирается
за город»13; отнес двадцать гиней юному поэту Хэррисону14, «доходившему»
в своей каморке под крышей. Ей одной было известно, какая ранимая душа,
какие глубокие чувства скрываются за внешней резкостью обращения этого
«умника» - на самом деле, она ни в ком и близко не встречала подобной
человечности. Им незачем притворяться друг перед другом, они изучили друг
друга вдоль и поперек: и плохое, и хорошее, и настоящее, и наносное
угадывали с полуслова - вот почему он так дорожил редкими мгновениями
общения с нею: вернувшись домой за полночь или встав поутру, первым делом
изливал в письме к ней свою душу, перебирая в памяти события
прошедшего дня, точно размышляя вслух, - тут тебе и милость божья, и людская
подлость, и нежные слова, и амбиции, и обманутые надежды, все вперемешку.
Какие уж тут поводы для ревности, когда у Стеллы на руках
вещественное доказательство нежной привязанности и полного доверия этого
самого Presto, о чьем существовании никто в целом мире не догадывается? Тут
совсем обратная реакция: Стелла все больше и больше влюблялась в него,
читая мелко исписанные страницы и живо представляя себе, как он
держится, говорит, какое впечатление производит его речь на избранную публику.
Да если бы только избранную! - кажется, его общества и расположения
искали все нуждавшиеся. Тот же «юный Хэррисон»: он не мог себе позволить,
чтобы поэт сидел больной без гроша - распорядился перевезти его в Найт-
сбридж15, и только собрался отвезти ему сто фунтов, как узнал, что тот час
назад скончался... «Такое горе! Ты меня понимаешь... Тут не до обеда с
государственным казначеем, когда кусок в горло не лезет. Только к вечеру
немного поел»16. Ей было не трудно представить, как ноябрьским утром, когда
стало известно, что герцог Гамильтон убит в Гайд-парке, Свифт, не мешкая,
отправился к герцогине и просидел у нее два часа, давая ей
выговориться, выплакаться, а потом, видя ее потрясенное состояние, стал сам
распоряжаться о предстоящих похоронах, словно никто в минуту скорби не мог
его заменить. Как он писал: «Герцогиня тронула меня до глубины души»17.
Узнав о смерти молодой леди Эшбернам, он взорвался: «К черту жизнь! Если
она преподносит такие сюрпризы, она мне отвратительна! Подумать только,
сколько тысяч никчемных созданий коптят небо, а такие, как она, умирают
во цвете лет, - нет, Бог создал жизнь не благословения ради!»18 И тут же, по
всегдашней своей привычке камня на камне не оставлять от собственных
слабостей, как бы горько ему ни было, он набрасывается на скорбящих
близких, расталкивает мать и сестру несчастной, плачущих в два ручья,
раздосадованный тем, что «люди больше делают вид, чем по-настоящему страдают,
и оттого истинного горя они не знают»19.
Свифтовский «Дневник для Стеллы»
239
Все это под настроение выплескивалось на страницу без утайки - когда с
унынием, когда сердито, когда по-доброму, когда резко, а когда и с огромным
наслаждением тихими радостями жизни. Ему нравилось по-отечески опекать
Стеллу, изображать из себя старшего брата: он посмеивался над ошибками
в письмах, поругивал за то, что не следит за своим здоровьем, руководил ее
финансовыми операциями. Любил посплетничать, посудачить, ведь у них
было столько общих воспоминаний - столько счастливых часов они когда-
то провели вдвоем! «А помнишь, как я утром входил в комнату, сгонял тебя
со стула и заставлял растапливать камин и пыхать "Уф-ф! Уф! Уф!"»20 Она
часто занимала его мысли: гуляет, а сам про себя думает: «Где-то она
сейчас?» Приор возмущается непотребством его шуток, а он невольно
вспоминает непристойные каламбуры Стеллы, по сравнению с которыми его
шутки- просто невинные забавы21; нет-нет да задумается о своей лондонской
жизни, и вдруг такая тоска его возьмет по дому, по родной Ирландии... Вот
как на Свифта, окруженного лондонскими острословами, действовала
Стелла! Каким же огромным, надо думать, было влияние Свифта на Стеллу,
которая жила как перст одна (если не считать Дингли) в глухом ирландском
селении! Ведь всему, что она знала, научил ее он, когда они вместе росли в доме
на Мур-парк: она маленькой девочкой, он - юношей. Легче сказать, на что
он не повлиял в ее жизни: ее мысли, привязанности, любимые книги, манера
выражать свои мысли на бумаге, друзья и отвергнутые ухажеры - все было
окрашено его влиянием. В каком-то смысле он создал ее как личность.
Но бессловесной рабой его избранница не была: женщина с характером,
она умела самостоятельно думать. В этой изящной и отзывчивой барышне
жил строгий независимый критик, который мог и зубы показать, если надо:
назвать вещи своими именами, вскипеть, высказать собеседнику в лицо все,
что о нем думает. Правда, о ее талантах мало кому было известно: из-за
слабого здоровья, скромных средств к существованию и сомнительного
положения в обществе жизнь ее не была яркой. Вокруг нее собирался небольшой
кружок знакомых, приходивших главным образом провести приятный вечер
в компании милой воспитанной женщины, которая тебя внимательно
выслушает, постарается понять да еще «повеселит от души метким словцом»22,
сказанным со сладкой улыбкой. Ведь именно так ее учили в детстве. Хрупкое
здоровье не позволило ей заняться чем-то основательно и, хотя бралась она
за многие предметы, а в литературе разбиралась как немногие, прочитанное
не задерживалось у нее в голове. В молодости она была большой мотовкой,
швыряла деньгами направо и налево, потом образумилась и впала в другую
крайность: начала экономить на всем подряд, шутка ли сказать, ее ужин -
это «пять малюсеньких чуть-чуть на пяти тарелках дельфтского фаянса»23.
Одевалась очень скромно, хотя ей было что показать, притом что
красавицей ее не назовешь, - чудесные темные глаза, иссиня-черные волосы, бездна
обаяния; и, понемногу откладывая, она накопила кое-какие сбережения, из
которых она с удовольствием тратила на благотворительность и на «прелес-
240
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
тнейшие подарки» друзьям (с этой своей слабостью она ничего не могла
поделать). Кстати, Свифт полагал, что равных ей в этом «щепетильнейшем и
деликатнейшем деле почти государственной важности»24 просто нет.
Вдобавок она была искренняя, а для Свифта это качество равнозначно «чести»25,
и еще в ее хрупком теле жил «настоящий герой-смельчак»: однажды к ней в
дом попытался влезть грабитель, так она не растерялась и выстрелила в него
в упор. Как тут не замечтаться, сидя над письмом! - вот Свифт и уносился
мыслями к своей единственной и неповторимой: смотрел в окно, за которым
распускались деревья в парке Сент-Джеймс, а сам думал о своем фруктовом
саде и ивах в Ларакоре26; слушал споры политиков в Вестминстере, а у
самого в ушах раздавался всплеск форели в студеной протоке... Об этой его
отдушине никто из лондонских политиков и не догадывался, а он про себя давно
решил, «нисколько не убоявшись»27 этой перспективы: если министры еще
раз его обманут, если он еще раз возьмется таскать из огня жареные
каштаны для кого-то из своих друзей, а потом останется с носом, то он бросит все
к черту и уедет в Ирландию к Стелле.
Правда, сама Стелла и не думала настаивать на своих правах: кому, как
не ей, было знать о том, насколько обожает Свифт и власть, и мужскую
компанию, и насколько несравненно больше ценит он блеск и суету
лондонской жизни, чем все вместе взятые студеные реки с форелью и фруктовые
деревья, хотя, случается, и он размякает в минуту слабости, а иногда готов
и войной идти на проклятое светское общество - так оно ему противно.
Самое же главное - он не переваривал, когда вмешивались в его дела. Стоило
кому-то покуситься на его свободу и, не дай бог, попытаться ограничить его
независимость, как он налетал на обидчика или обидчицу, подобно ястребу
или дикарю, невзирая на лица и титулы. Харли однажды имел
неосторожность предложить ему деньги, а мисс Уоринг опрометчиво намекнула на то,
что последние препятствия на пути их брака устранены, так ведь он обоих
подверг моральной порке, причем женщине досталось куда больнее. Нет, у
Стеллы хватало ума не нарываться на подобные конфликты: она умела ждать,
она научилась быть осторожной. Даже в таком деле, как жизнь на два дома -
в Лондоне и в Ирландии, она оставляла решение за ним. Ей самой ничего
было не нужно, а заканчивалось тем, что она получала гораздо больше, чем
могла рассчитывать, если бы просила. Естественно, Свифта это раздражало:
«...ты убиваешь меня своим великодушием, я ведь знаю, что ты изводишься
одна, без своего Presto, думаешь, он нарушил слово: обещал приехать через
три месяца, и все никак не едет, и так всегда, Стелла знала, что так будет, и к
чему, мол, теперь такая спешка, только МД травить и т.д. Ну не
безобразница ли ты, что загоняешь меня в угол, а?»28 Однако этим-то она и привязывала
его к себе, иначе стал бы он пускаться в подобные нежности: «Прощайте,
дорогие сударушки, драгоценные вы мои! Мир вам и покой на пару с МД, а все
прочее суета... Прощайте еще раз, безобразницы мои! И знайте: счастлив я
только в те минуты, когда пишу или думаю о МД29. ...Вы, как рубашка - бли-
Свифтовский «Дневник для Стеллы»
241
же к телу ничего у меня, кроме вас, нет; одна беда - не так я богат, как
хотелось бы, ради МД»30. Сладкие речи! Одно только обстоятельство не давало
ей возможности насладиться ими сполна: оно было ей как ложка дегтя в
бочке меда- Presto всегда обращался к ней на «вы»: «дорогие сударушки,
драгоценные вы мои», а под «МД» неизменно подразумевал их обеих - Стеллу
и миссис Дингли. Свифт и Стелла никогда не оставались наедине. Но даже
если такой порядок был заведен исключительно ради приличия, даже если
присутствие миссис Дингли, вечно бренчащей связкой ключей,
трясущейся над своим мопсом, занятой собой и только собой, тоже было необходимо
приличия ради, то кому нужны такие приличия? Зачем создавать
напряжение, которое разрушает и без того хрупкое здоровье и отравляет жизнь?
Зачем разлучать «двоих, созданных друг для друга»31, которые не знают иного
счастья, как быть вместе? Зачем? Было, однако, зачем: был один секрет, о
котором знала только Стелла, а она хранила его как зеницу ока, - им двоим
не суждено соединиться. А раз между ними невозможны брачные узы, раз
она боялась задеть своего друга и малейшим заявлением о своих правах, она,
конечно, ревновала - и чем дальше, тем все больше: жадно ловила каждое
его слово, следила за каждым движением, стараясь угадать его настроение и
подметить любую мелочь. Она знала: пока он делится с ней своими
секретами о «фаворитках» и притворяется владыкой, которому женщины посланы в
услужение, который читает наставления светским дамам и снисходит до их
заигрываний, ей беспокоиться нечего - все идет своим чередом. И пусть себе
леди Беркли прячет от него его шляпу, а герцогиня Гамильтон плачется ему
в жилетку, Стелла, никогда не державшая зла на женщин, готова была
повеселиться и поплакать с ним за компанию.
Но иногда ощущается в «Дневнике» эдакий сквознячок, словно повеет
вдруг откуда-то опасным духом товарищества и задушевной близости.
Представим, что в жизни Свифта появилась женщина одного с ним общественного
положения, молодая, горячая, проклинающая серую жизнь, в которой ничего
не происходит, жаждущая разобраться, где правда, а где ложь, брызжущая
остроумием, талантливая и совсем-совсем юная - словом, такая, какой была
сама Стелла, когда ее впервые встретил Свифт: так вот, если такая женщина
действительно появилась на горизонте, то это опасная соперница. Только
существовала ли она? - вот вопрос. Если да, то, конечно, в «Дневнике» о ней
не было бы ни слова, наоборот, письма лились бы сплошным велеречивым
потоком и лишь иногда спотыкались на ровном месте, точно их автор и хотел
бы о чем-то сказать, да не мог. Такие запинки больше всего настораживали
Стеллу; поэтому однажды, когда Свифт, еще и двух месяцев не пробывший в
Англии, в одном из писем «запнулся», «замялся», Стелла спросила его
прямо: у кого из соседей он теперь обедает? «Ни у кого! - выпалил Свифт. -
Ни с какими соседями я не обедаю. Что за чушь! Ты лучше меня знаешь, у
кого я обедаю каждый день с тех пор, как уехал в Лондон. О чем вы,
сударушка?»32 Только лукавил Свифт: ему ли было не знать, о чем, точнее, о ком
242
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
спрашивает его Стелла, конечно, о ней, о вдове миссис Ваномри, его соседке,
и про дочь ее Эстер...33 «Ваны» потом не раз всплывут в «Дневнике»: Свифту
было стыдно за свое лукавство, поэтому он больше не скрывал, что
видится с матерью и дочерью, однако в девяти случаев из десяти старался
вывернуться. Мол, шел по Саффолк-стрит, а навстречу Ваномри в экипаже - вот
и подвезли его до Сент-Джеймс-стрит. Другой случай: он переехал в Челси,
а свою парадную мантию и парик оставил у них на лондонской квартире -
так удобнее. А вчера у них задержался, потому что днем было душно,
сегодня - из-за ливня; то в карты заигрались, то он остался помочь молодой леди
Эшбернам, которая поразительно похожа на Стеллу. То у них засидится из-за
усталости, то заработается допоздна - у них ведь все запросто, - писал он, -
без церемоний. Однако стоило только Стелле отозваться о Ваномри чуть-
чуть снисходительно - мол, птицы невысокого полета, как Свифт
взвивался: «И что с того? Зато они настоящие светские львицы, а я - светский лев.
...У них сегодня были обе леди Бетти»34. Короче говоря, как ни горько, но
писать по-старому - все, что заблагорассудится, - больше не получалось.
Вообще все усложнилось: Свифт, который, отродясь, не переваривал
фальшь, Свифт, любивший правду больше самого себя, вынужден был с
некоторых пор вилять, запираться и оправдываться. Теперь он мечтал о
какой-нибудь «грязной дыре»35, укромном местечке, где можно забыться,
расслабиться и быть Presto, а не тем «другим Я»36. Идеальный вариант - это,
конечно, Стелла, но Стелла далеко, в Ирландии, а Ванесса близко - рукой
подать. И потом, она моложе, неопытней Стеллы, и тоже по-своему
очаровательна. Он будет учить ее уму-разуму, как учил когда-то Стеллу, - ведь
плоды его благотворного просвещения налицо. Так что можно попробовать
жить на два дома - то в Ирландии, наслаждаясь обществом Стеллы, то в
Лондоне под крылышком Ванессы, ради блага их обеих и без ущерба для
репутации каждой из женщин. Такое решение казалось возможным, во
всяком случае, он отважился на эксперимент. В конце концов, Стелла каким-то
образом мирилась со своим положением в течение многих лет и никогда не
жаловалась на судьбу.
Только Ванесса - не Стелла: она моложе, у нее более пылкие чувства, она
несдержанней, и она не так мудра, как Стелла. Ей не с кем посоветоваться,
ее некому урезонить - то ли дело миссис Дингли! И потом, Стелле есть что
вспомнить, ее согревают воспоминания, а у Ванессы их нет. Она не знает,
какая это радость - получать каждый день от него письма. Да, собственно,
и не нужны Ванессе эти тихие радости: она любила Свифта и не понимала,
почему она должна скрывать свои чувства, разве он сам не внушал ей, что
«поступать следует по правде, не заботясь о том, что скажет герцогиня
такая-то?»37. Поэтому, только представился случай - заскрытничал ли Свифт,
или заупрямился, она, недолго думая, учинила ему допрос. «Скажите на
милость, что за грех такой - появляться в доме несчастной молодой вдовы на
правах советчика? Ума не приложу». И видя, что тот продолжает запираться,
«Сентиментальное путешествие»
243
она чуть ли не в слезах выпалила: «Вы же сами меня учили рассуждать, а
теперь уходите недовольный, бросаете меня одну». Ей стало себя настолько
жаль, что она совсем потеряла голову и решила докопаться до Стеллы.
Написала ей грозное письмо с требованием рассказать ей правду: кем Стелла
приходится Свифту? Ответ не заставил себя ждать: Свифт явился во всем своем
блеске просветителя. Он только метнул в ее сторону взгляд, сверкнул ярко-
синими глазами, швырнул на стол ее письмо и, не говоря ни слова, вышел
вон. Это был конец - ее конец. И это не фигура речи: когда она говорила о его
«беспощадных, беспощадных словах», которые для нее хуже пытки, когда
вспоминала о «вашем взгляде, который пригвоздил меня к месту, -
настолько он ужасен», она не преувеличивала - через несколько недель после их
последнего разговора Ванесса умерла. Исчезла, будто не было ее, и только
в сонме робких призраков, добавлявших беспокойства и страхов и без того
тревожной и одинокой жизни Свифта, появилась еще одна бледная тень.
Стелла могла праздновать пиррову победу - отныне никто не посягал на
заветную тайну ее одиночества. Она жила себе потихоньку, скрашивая жизнь
своего друга тихой, ненавязчивой заботой, а потом и она умерла: не
выдержала душа затворничества, страха, безысходности, тяжелой давящей
атмосферы, которую нагнетала миссис Дингли с ее мопсами. Свифта на
похоронах Стеллы не было: он заперся в дальней келье, куда не проникал дневной
свет, и писал воспоминания о «друге, преданней, добродетельней, бесценней
коего никогда не было не только у меня, но и, пожалуй, у кого-либо из
смертных». И потекли долгие годы. Свифт все чаще впадал в буйные припадки
бешеной безумной ярости - он тронулся умом. Потом замолчал - думали,
навсегда. Однако незадолго до его смерти кто-то услышал, что он бормочет.
И знаете, что он бормотал, по свидетельствам очевидцев? «Я - это я»38.
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
Свой первый роман «Тристрам Шенди»1 Стерн написал в том возрасте,
когда обычно пишут двадцатый, - в сорок пять. Зато чем-чем, а
отсутствием зрелости его произведение не страдает: разве можно себе представить,
чтоб какой-нибудь начинающий романист стал так вольничать с
грамматикой, синтаксисом, здравым смыслом, наконец, подпуская некий моветон и
фрондируя досточтимой традицией сочинения романов? Нет, только в
зрелом возрасте, когда приходит непоколебимая уверенность в самом себе и
уже привит стойкий иммунитет против критики, писатель способен
отважиться на такое: повергнуть образованную публику в состояние шока своим
стилем - совершенно непривычным и ни на что не похожим, и вдобавок
напугать добропорядочных отцов семейств душком некоторой
безнравственности. И вот общественный Рубикон перейден, и, против всяких ожиданий,
244
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
успех получился бешеный. Публика ревела от восторга: лондонский высший
свет, самые строгие ценители - все курили Стерну фимиам, а чтение
книги сопровождалось взрывами хохота и громкими аплодисментами. Впрочем,
раздавались и другие голоса: среди публики попроще, менее искушенной и
куда более многочисленной, слышались возмущенные отклики в адрес
священника, устроившего публичное непотребство, и призывы к архиепископу
Йоркскому поставить на вид ослушавшемуся сыну церкви. Но
архиепископу, похоже, было все равно, а вот самого Стерна критика явно задела за
живое, хотя виду он не подал. Дело в том, что уже после опубликования «Три-
страма Шенди» случилось событие, глубоко ранившее Стерна: он потерял
обожаемую Элизу Дрейпер - она покинула его, отправившись в Бомбей к
мужу2. И Стерн решает в следующей своей книге описать свои душевные
переживания и тем самым доказать, что он не просто блестящий острослов и
большая умница, но и человек глубоких чувств. Как он писал, «это скромное
путешествие сердца в поисках... тех приязненных чувств, что... побуждают
нас любить друг друга - а также мир - больше, чем мы любим теперь»3.
Воодушевленный такими благими намерениями, Стерн засел за повествование
о короткой поездке во Францию, которое назвал «Сентиментальным
путешествием».
Но если еще манерам можно научиться, то поправить стиль - дело
безнадежное: Стерн в этом отношении неисправим. Стиль - его вторая натура,
точно так же, как большой нос или блестящие глаза. С первых же слов -
«Во Франции, - сказал я, - это устроено лучше»4, - мы погружаемся в мир
«Тристрама Шенди», мир, в котором может случиться все, что угодно. Мы
и знать не знаем, какая шутка, какая прихоть, какая искра поэтической
фантазии вдруг вырвется в следующее мгновение из-под стернова
стремительного пера, сметая оборонительные укрепления, которыми окружила себя
английская проза. А сам Стерн? Интересно, сам-то он знает, какое словечко
вырвется у него в следующую минуту, как ни божился он вести себя на этот
раз наипристойнейшим образом? Непроизвольность и быстрота, с которой
следуют одно за другим порывистые, взрывные предложения, сравнимы с
ослепительным каскадом красноречия, который обрушивает на наши
головы блестящий собеседник. Даже знаки препинания больше напоминают
устную речь, а не письменную, воспроизводя тембр и модуляции голоса. Самый
строй идей, возникающих внезапно, вразнобой, без видимой связи,
оставляет впечатление жизненной достоверности, нежели литературы. В этой
беседе есть такая интимность, которая позволяет касаться очень скользких
тем, на публике такие щекотливые вопросы не только не остались бы не
замеченными, но и были бы расценены как предосудительные. В общем, у этой
книги настолько необыкновенный стиль, что она лучится
матово-прозрачным ореолом: обычных церемоний и условностей, которые заставляют
читателя и писателя держаться на расстоянии, нет и в помине, - мы вплотную
приблизились к жизни5.
«Сентиментальное путешествие»
245
Создать такую художественную иллюзию Стерн сумел лишь великим
напряжением сил и благодаря невероятному мастерству - это видно
невооруженным глазом: не надо даже заглядывать в рукопись - и так все ясно.
Конечно, каждый писатель свято верит про себя, что ему дано каким-то
образом превозмочь ограничения и условности, накладываемые на него
литературной формой, и обратиться к читателю напрямую, без церемоний, и, тем
не менее, стоит один раз попробовать, чтобы убедиться: труднее подобного
эксперимента ничего нет - ты или вообще бросаешь писать, или
отсиживаешься, плодя мешанину, которая тут же расплывается туманом. Стерн же
сумел сочетать несочетаемое: у него, как ни у кого другого из писателей,
проза достает до самых печенок, свободно облекает самые потаенные уголки
души, тонко улавливает оттенки настроения, отзывается на малейшие
прихоть и каприз ума, и при этом - вот она, поразительная амальгама! -
создается общее впечатление единства и связанности. Сумел-таки Стерн, как
говорится, впрячь в одну телегу коня и трепетную лань! Впечатление сравнимо
с тем, какое оставляет волна, когда, накатывая на берег во время прилива,
она потом отходит назад, а на песке застывают, как в мраморе,
волнообразные следы.
Конечно, свобода быть самим собой нужна была Стерну как воздух: он
не из тех писателей, кто может, подобно Толстому, вылепить характер,
который будет жить своей жизнью, независимо от воли своего создателя, - то дар
особый, надличный. Стерн же не таков: он всегда должен находиться рядом с
читателем, собственной персоной, и чуть что подталкивать разговор, если он
застопорился. Что осталось бы от «Сентиментального путешествия», если
изъять из него то, что именуется Стерном? Ведь не богатством знаний и не
логикой философских рассуждений он силен. Как он признается, он «так
спешил, уезжая из Лондона, что (ему. - Н.Р.) ни разу не пришла на ум война,
которую (они. - Н.Р.) тогда вели с Францией»6. Ему нечего сообщить нам ни
о французской живописи, ни о тамошних храмах, а уж чем живет
французская глубинка - бедствуют там жители или процветают, он и ведать не ведает.
Да, он вроде бы путешествует по Франции, но его путь чаще пролегает по
материку его собственной души, а самые интересные приключения
случаются с ним на сердечном фронте, а вовсе не во время военных баталий или
горных переходов.
Такая смена угла зрения сама по себе была очень смелым шагом Стерна.
До него путешественники, как правило, придерживались масштаба и
перспективы. В любом путеводителе собор изображался как величественное
здание, а человек у соборной стены соответственно представал фигуркой,
уменьшенной во много раз. Однако у Стерна все не так: он может вообще
забыть про Нотр-Дам, и окажется, что девушка с зеленым атласным
кошельком7 несравненно интереснее собора. Он как бы подсказывает нам:
универсальной шкалы ценностей не существует. Может статься, что девушка
интереснее храма, а вид мертвого осла куда поучительней, чем беседа с живым
246
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
философом, - все зависит от того, как посмотреть на эти вещи. Стерн всегда
смотрел так, что в его памяти мелочи запечатлевались гораздо отчетливей,
чем крупные величины8. Для него послушать болтовню парижского
цирюльника о буклях парика - самый верный способ постичь французский
национальный характер: совсем не то, что слушать речи государственных мужей
Франции:
«Мне кажется, я способен усмотреть четкие отличительные признаки
национальных характеров скорее в подобных нелепых minitiae*, чем в самых
важных государственных делах, когда великие люди всех национальностей
говорят и ведут себя до такой степени одинаково, что я не дал бы девятипен-
совика за выбор между ними»9.
Поэтому если есть желание постичь существо вещей в духе
сентиментального путешественника, искать нужно не среди бела дня на широких
мостовых, а украдкой в темных подворотнях. Нужно так натренировать руку в
известной скорописи, чтоб мимолетный взгляд или едва заметный жест
можно было сразу перевести на ясный язык слов. Стерн, во всяком случае, очень
долго упражнялся в этом непростом искусстве:
«Лично я вследствие долгой привычки делаю это так механически, что,
гуляя по лондонским улицам, всю дорогу занимаюсь таким переводом; не
раз случалось мне, постояв немного возле кружка, где не было сказано и трех
слов, вынести оттуда с собой десятка два различных диалогов, которые я мог
бы в точности записать, поклявшись, что ничего в них не сочинил»10.
Вот так он переключает наше внимание с внешнего на внутреннее.
Путеводитель тут ни при чем - спрашивать надо только себя: только ты сам
можешь сказать, какова относительная ценность того же собора, осла, той
же девушки с зеленым атласным кошельком. И надо сказать, что такой
расклад- когда предпочтительней оказывается не путеводитель с избитыми
маршрутами, а твоя душа и ее потемки, - делает Стерна удивительно
созвучным нашему времени. Он - наш предшественник, предтеча модернистов -
именно потому, что его больше интересует молчание: не слова, а то, что за
ними скрыто. Поэтому он нам гораздо ближе, чем кто-либо из его великих
современников - разных Ричардсонов и Филдингов11.
Впрочем, кое в чем мы и расходимся. Стерн действительно проявлял к
психологии большой интерес, однако, по сравнению с сегодняшними
мастерами этой сидячей школы12, он производит впечатление живчика и
верхогляда. В конце концов, он рассказывает историю, описывает путешествие, пусть
с многочисленными лирическими отступлениями и «заворотами». Даже
давая сильный крюк, мы все равно умудряемся за несколько страниц доехать
от Кале до Модана. Другими словами, интерес Стерна к тому, как смотреть
на вещи, вовсе не отменял его интереса к самим вещам. Пусть его взгляд
избирателен и прихотлив, но как художник он даст сто очков вперед любо-
* Мелочи (фр.).
«Сентиментальное путешествие»
247
му реалисту по умению блистательно передавать мимолетное впечатление.
«Сентиментальное путешествие» - это портретная галерея: вот монах, вот
дама, вот кавалер ордена, торгующий pâtés*, вот барышня в книжной лавке,
вот Ла Флер в новых штанах - картины следуют одна за другой. И хотя
авторская мысль перескакивает с предмета на предмет, как стрекоза, которая,
кажется, без всякой видимой причины, перелетает, танцуя, с цветка на
цветок, тем не менее ясно, что делается это не наобум и что каждое движение
подсказано или безошибочным чувством ритма, или вдохновенным
желанием непременно внести диссонанс в набившую оскомину мелодию. Читая, ты
то хохочешь, то рыдаешь, то сострадаешь, то потешаешься - словом, тебя
захлестывают эмоции, ты даже не успеваешь следить за тем, как одно чувство
сменяется другим. Это умение Стерна парить над действительностью, лишь
изредка - и то мимолетно - спускаясь на бренную землю; его полное
безразличие к упорядоченному повествованию, к последовательной смене
эпизодов - все это граничит с поэтической вольностью, позволяющей ему
непринужденно выразить в прозе то, что другому романисту и не снилось, причем
такими словами, какие под пером заурядного писателя показались бы дивом
дивным, если, конечно, он вообще смог бы такое придумать:
«Я чинно подошел в запыленном черном кафтане к окну и, поглядев в
него, увидел, как все от мала до велика в желтом, синем и зеленом несутся на
кольцо наслаждения. - Старики с поломанным оружием и в шлемах,
лишенных забрала, - молодежь в блестящих доспехах, сверкающих, как золото, и
разубранных всеми яркими перьями Востока, - все - все бросаются на него
с копьями наперевес, как некогда зачарованные рыцари на турнирах
бросались за славой и любовью»13.
У Стерна много таких поэтических пассажей: их можно без ущерба
изъять из текста и читать отдельно; однако на то он и мастер блистательных
контрастов, чтобы расположить эти лирические отступления на странице
так, чтобы они не выбивались из общего стройного ряда. Именно благодаря
таким перебивкам, Стерн поддерживает свежесть, упругость повествования,
не переставая удивлять и поражать нас, читателей. Ведь что он делает?
Подведет нас к самому краю, за которым открывается бездна души
человеческой, - мы только глянем одним глазком, а он тут же оттаскивает нас в
сторону и как ни в чем не бывало начинает нахваливать цветущие заливные луга
на другом берегу.
Но чувство напряжения возникает у нас не от этого, если вообще
возможно говорить о напряжении. И виноват здесь не столько Стерн, сколько
публика: это она визжала, что он шокировал ее своим «Тристрамом Шенди»,
и требовала, чтобы автора-циника лишили рясы. Стерн же, к сожалению, не
смолчал, посчитал необходимым ответить на обвинения:
* Пирожками (фр.).
248
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«Из-за того что я написал "Тристрама Шенди" (говорил он лорду Шел-
берну), мир вообразил, что я гораздо больший шендианец, чем я когда-либо
был в действительности... Если его ("Сентиментальное путешествие") не
сочтут целомудренной книгой, да будет с теми, кто прочел его, милость
господня - ведь воображение у них и вправду пылкое!»14
И вот результат: в «Сентиментальном путешествии» нам ни нам минуту
не дают забыть о том, какой Стерн, помимо всего прочего, чувствительный,
отзывчивый, человечный, как ценит он, помимо всего прочего, душевную
простоту и благопристойность. А у нас его попытки оправдаться вызывают
обратную реакцию: мы моментально «делаем стойку». Он хочет убедить нас
в том, что ему не чужды определенные человеческие качества, - и слегка
пережимает, перебарщивает, так сказать, и получается не юмор, а фарс, не
чувство, а чувствительность. Все наоборот: он хочет, чтобы мы поверили
в его доброе сердце - кстати, кто бы сомневался на этот счет в «Тристраме
Шенди»? - а мы мнемся, чувствуя, что Стерн сосредоточен не на предмете
разговора, а на том, что мы думаем о нем самом в связи с обсуждаемой
темой. Например, эпизод с нищими, когда он дает pauvre honteux* больше, чем
рассчитывал: ведь он не только и не столько о нищих думает, сколько о нас
и о том, какое впечатление производит его щедрость. Поэтому, дойдя до
заключительной фразы: «...и мне показалось, что он благодарен мне больше,
чем все остальные»15, - поставленной, как восклицательный знак, в конце
главы, мы морщимся, чувствуя, что Стерн пересластил, так бывает, когда в
чай переложишь сахару, и последняя капля на донышке кажется особенно
приторной. На самом деле, это главный недостаток «Сентиментального
путешествия» - слишком уж Стерн печется о том, как бы чего плохого не
подумали о его добром сердце. Ведь даже блеск бриллиантов может надоесть,
если он ни с чем не сочетается, - так и повышенная забота Стерна о нежных
чувствах читателей: она набивает оскомину, точно автор посадил нас на
диету, отказавшись от любимых соли и пряностей. Есть что-то неестественное
в атмосфере повышенной сердечности, нежности и сочувствия, недаром мы
с ностальгией вспоминаем о сочном, смачном, искрометном юморе
«Тристрама Шенди». Желание Стерна во что бы то ни стало подчеркнуть в
«Сентиментальном путешествии» собственную чувствительность заставило его
попридержать язычок, и что получилось? - нас на каждом шагу
останавливают и просят оценить жест - когда скромности, когда простоты, когда
добродетели, - но поскольку жест слишком затянут, задерживаться не хочется.
Интересно, однако, что сегодня в Стерне нас раздражает не его
распущенность, а сентиментальность: вкусы явно изменились! В девятнадцатом
веке романы Стерна воспринимали исключительно через призму его
общественной репутации семьянина, не скрывавшего своих любовных связей, и
возмущенный Теккерей, например, полагал себя вправе бичевать Стерна, за-
* Застенчивый бедняк (фр.).
«Сентиментальное путешествие»
249
являя во всеуслышание о том, что «в сочинениях Стерна нет ни единой
страницы, в которой не было бы чего-нибудь, что следовало бы изъять, - скрытой
развращенности, намека на непристойность»16. В наше время высокомерие
викторианца представляется по меньшей мере таким же преступным, каким
в восемнадцатом веке выглядело в глазах общественности поведение
священника, за которым водились кое-какие грешки. Викторианцам мозолили
глаз фривольность и чудачества Стерна, а нас нынче приятно удивляют
смелость и блеск, с какими он обращает в шутку любые жизненные невзгоды.
Действительно, в «Сентиментальном путешествии» - произведении,
казалось бы, легковесном, написанном для красного словца, - проглядывает
глубокая жизненная философия. Другое дело, что в викторианскую эпоху
такая философия - философия наслаждения - была не в чести. Еще бы! Ведь
она требует от человека одинаково достойного поведения как в больших
делах, так и в малых; утверждает, что лучше стремиться к наслаждению, чем
страдать, даже если речь идет о других людях. Старый бесстыдник даже не
стеснялся заявлять, что «почти всю жизнь был влюблен то в одну, то в
другую принцессу», добавляя при этом, что «(надеется. - Я.Р.), так будет
продолжаться до самой моей смерти, ибо (я - Н.Р.) убежден в том, что если я
сделаю когда-нибудь подлость, то это непременно случится в промежуток
между моими увлечениями»17. Несчастный дошел до того, что имел
неосторожность воскликнуть устами одного из своих героев: «Mais vive la joie...
Vive l'amour! et vive la bagatelle!»18 Облаченный в рясу, он мог без
малейшего почтения и смиренности, глубокомысленно заметить, наблюдая, как
танцуют, высоко подпрыгивая, французские крестьяне и крестьянки, что ему
открывается возвышенность духа, которая вовсе не является причиной или
следствием простого веселья: « Другими словами, мне казалось, я вижу саму
Религию, кружащуюся в танце»19.
Только очень смелый священник мог позволить себе усмотреть связь
между религией и наслаждением. Впрочем, оправдание у него было: ведь
для него самого следовать философии счастья оказалось настоящим
испытанием. Представьте, что вы уже давно не молоды, по уши в долгах, что у
вас карга жена и что, путешествуя на перекладных по Франции, вы каждую
минуту приближаетесь к смерти, ибо неизлечимо больны чахоткой, -
согласитесь: в этих условиях стремиться к счастью отнюдь не легко. И, тем не
менее, только это и остается делать: порхать с места на место, наперекор
всему, заглядываться, подсматривать, отчаянно флиртовать, раздавать
последние гроши и греться на солнышке, если, конечно, повезет. А еще шутить,
пусть даже не самым пристойным образом, и никогда не забывать, посреди
заевшей тебя жизни, воскликнуть ликующе: «Хвала вам, милые маленькие
обыденные услуги, ибо вы облегчаете дорогу жизни!» 25 А еще - впрочем,
довольно о делах насущных: Стерн не очень-то их жаловал. Пора оценить
по достоинству художника, который ни в чем себе не изменил, не сломался,
твердо следовал своему взгляду на вещи: книга дочитана до конца, перевер-
250
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
нута последняя страница, и только тут ты понимаешь, насколько точно все
выстроено, какая в ней бездна юмора, радости жизни и с каким блеском,
непринужденностью и красотой все это передано... Теккерей говорит: Стерн -
трус: заигрывал беззастенчиво с женщинами, любовные письма писал на
бумаге с золотым обрезом, а должен был бы лежать себе тихо на смертном одре
или, на худой конец, сочинять проповеди. А по-нашему, не так: Стерн -
настоящий стоик, моралист, учитель. Как, между прочим, многие великие
писатели. А в том, что Стерн - величина, сомневаться не приходится.
ПИСЬМА ЛОРДА ЧЕСТЕРФИЛДА
К СЫНУ
Издавая в свое время письма лорда Честерфилда1, лорд Мэон2 не
преминул заметить, что «чтение это требует зрелого ума и разборчивого вкуса»,
как бы заранее отваживая от этого дела юных и всеядных читателей. Как
выразился его светлость, читать их без вреда для себя может лишь «тот, кто
укрепился мыслью и утвердился в принципах, проверенных опытом жизни»3.
Но то было в 1845 году - давненько, если посмотреть с позиции
сегодняшних дней. То был век огромных особняков без ванных, без курительных
комнат (курить господа удалялись на кухню, после того как прислуга ложилась
спать) - примерно так мы воспринимаем сейчас первые десятилетия викто-
рианства: альбом - непременный атрибут гостиной, очень плотные портьеры
на окнах, женщины - сама целомудренность. Впрочем, и восемнадцатый век
тоже претерпел изменения: сегодня, в 1930 году, он видится уже не таким
чужим и далеким от нас, как те ранние викторианские годы, во всяком случае,
по своему укладу, он более рационален и завершен, чем цивилизация
образца лорда Мэона и его современников. Чего стоит хотя бы то обстоятельство,
что горстка высокообразованных личностей жила тогда в соответствии со
своими идеалами? Да, мир их был гораздо .уже, зато несравнимо уютнее, - в
нем можно было отвечать за свои слова, он руководствовался своими
собственными критериями. И то же чувство устойчивости отличает тогдашнюю
поэзию: мы читаем «Похищение локона»4, а сами невольно переносимся в
эпоху, столь прочно стоящую на земле и столь обозримую и понятную для
простого смертного, что, кажется, сам Бог велел создавать шедевры. Какое
счастливое время для поэта! - восклицаем мы про себя: можно целиком
сосредоточиться на своем замысле и не отвлекаться ни на что постороннее,
постепенно заставляя читателя поверить в то, что шкатулочки на дамском
туалетном столике - единственно данная его воображению реальность. И вот
какая-нибудь партия в ломбер или летняя лодочная прогулка по Темзе
наполняются такой глубиной и многозначностью, таким чувством красоты и
бренности существования, что впору сравнивать их с глубочайшей лирической
Письма лорда Честерфилда к сыну
251
поэзией, призванной тронуть самые потаенные струны человеческой души.
А уж если поэт в ту пору решался употребить все свое мастерство, весь свой
недюжинный талант на описание взмаха ножниц и дамский завиток, то что
говорить об аристократе, который, воплощая собой плоть от плоти
светского общества и его ценности, берется изложить точные правила воспитания
своего сына? Ведь в том подлунном мире царили немыслимые с нашей точки
зрения определенность и уверенность в завтрашнем дне. Хватило
нескольких исторических катаклизмов, чтобы мир изменился до неузнаваемости к
двадцатому веку: сегодня мы читаем письма лорда Честерфилда и не
испытываем ни малейшего чувства неловкости, а если бывает и поморщимся, то
в таких местах, которые у лорда Мэона в его время не вызывали никакого
смущения.
Первые письма относятся к тому времени, когда их адресату, Филипу
Стэнхоупу, единокровному сыну лорда Честерфилда, рожденному от
голландской гувернантки, исполнилось семь лет. И, пожалуй, единственное
сомнение, которое мы могли бы высказать, состоит в том, что слишком уж
высокая планка задана отцом в его моральных сентенциях отроку столь
нежного возраста. «Вернемся к риторике», - возвышает голос суровый муж,
обращаясь к семилетнему мальчику. «Об искусстве красноречия забывать
негоже. Без него мужчина не может проявить себя ни в Парламенте, ни на
духовном поприще, ни в юридической профессии - везде красноречие служит
самым верным способом обратить на себя внимание»5, - развивает мысль
наставник, словно маленький мальчик уже завтра собирается определять
свою судьбу. Действительно, складывается впечатление, будто отец
совершает общую для всех выдающихся людей ошибку (если, конечно, это
вообще можно полагать ошибкой): самим им не удалось добиться значительного
успеха, на который они рассчитывали в молодости, так они теперь во что бы
то ни стало торопятся дать своим чадам - а Филип единственный сын! - все
те возможности, которых были лишены сами. Читая письмо за письмом, ты
в какой-то момент понимаешь, что писал их лорд Честерфилд не только с
целью наставить сына на путь истинный, - он еще и получал большое
наслаждение, вспоминая пережитое, перетряхивая книжный багаж, делясь знанием
света. В его письмах чувствуются неподдельная живость и увлеченность -
верный признак того, что автор по-настоящему отводит душу: так и видишь,
как, устав от чиновных забот, разочарованный, неудовлетворенный, берет он
в руку перо и, забыв обо всем на свете - даже о том, что корреспондент его
всего лишь школьник, который при всем желании не может понять и
половины того, о чем ему рассказывает отец, отдается стихии свободного общения.
Опять же, ничего страшного не происходит: в том образе неведомого мира,
который легонько набрасывает в своих письмах лорд Честерфилд, нет
ничего отталкивающего: автор во всем проповедует умеренность, терпимость и
взвешенность суждений. Никогда не осуждай за глаза целые народы, -
советует он; уважай все религии, не осмеивай ничью веру, неустанно просвещай
252
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
свой ум. Утро лучше посвятить учебе, а вечера лучше проводить в приятном
обществе. В одежде и в этикете подражай аристократам, веди себя ровно, не
отвлекай внимание на себя, не будь рассеянным. Помни: всему свое место и
каждое мгновение живи сполна.
Вот так, шаг за шагом, создает он образ совершенного человека,
исподволь внушая сыну: если очень сильно захотеть, то можно стать таким
человеком, правда, при одном условии, - и тут уста лорда Честерфилда изрекают
нечто такое, что будет отныне неизменно сопровождать его учение, - итак,
условием этим является культивирование Граций6. Поначалу эти дамы вели
себя тише воды, ниже травы: их скромно держали на вторых ролях,
поскольку, разумеется, в мальчике следует прежде всего воспитывать благородные
чувства по отношению к женщинам и поэтам, и лорд Честерфилд не устает
наставлять сына в почтении и к тем и к другим. «Если мне доводилось
бывать в обществе м-ра Аддисона и м-ра Поупа, я чувствовал себя
осчастливленным: будто все короли Европы удостоили меня своим вниманием»7, -
пишет он. Но с течением времени Добродетели появляются в письмах все реже
и реже: их признают как бы по умолчанию, точно они больше для мебели.
Зато Грации заполняют все больше и больше места: все в свете им служат,
никто не смеет отказаться, притом что служение это весьма суровое.
Посудите сами, что скрывается за словами «искусство угождать». Начать с того,
что каждый обязан знать, как войти в гостиную и затем как оттуда выйти.
Поскольку руки и ноги имеют свойство не слушаться своего хозяина, то
задача эта вовсе не так проста, как кажется на первый взгляд. Далее, нужно так
одеваться, чтобы производить впечатление человека одетого по последней
моде, но без вычурности или ложной новизны; зубы должны быть в полном
порядке, парик безукоризнен, ногти подстрижены строго по окружности;
еще нужно уметь резать мясо, сидя во главе стола8, быть прекрасным
кавалером в танцах и, между прочим, изящно сидеть на стуле. Все это составляет
что называется азбуку искусства угождать. Теперь переходим к главному - к
красноречию. Нужно в совершенстве владеть самое меньшее тремя языками,
но прежде чем открыть рот, следует принять некоторые меры
предосторожности: очень широко открывать рот не стоит, чтобы, не дай бог, не
засмеяться - в обществе это не принято. Сам лорд Честерфилд не засмеялся ни
разу - только улыбался... Но вот все речевые преграды позади, и теперь дело
за малым: светский человек обязан следить за тем, чтобы в его речь не
затесалась какая-нибудь пословица или грубое словцо. Выражать мысли следует
ясно, грамматически правильно; еще светскому человеку не пристало
спорить, рассказывать истории или говорить о себе. Когда же и этот этап
пройден, можно переходить к самому тонкому разделу искусства угождать - к
лести. Помни: у каждого человека - мужчины ли, женщины - обязательно есть
какая-нибудь маленькая слабость, какой никакой червячок тщеславия,
поэтому наблюдай, жди, вынюхивай, выискивай это больное место, «а найдешь,
Письма лорда Честерфилда к сыну
253
честь тебе и хвала: будешь знать, какую насаживать на крючок наживку, чтоб
подловить человека»9. Ибо залог успеха в свете состоит именно в этом.
Вот когда нам делается не по себе, вот где дает о себе знать разница
поколений: с нашей точки зрения, взгляды лорда Честерфилда на то, как и во имя
чего добиваются успеха, гораздо сомнительней его представлений о
любви. Положим, закончились все эти многотрудные упражнения, завершился
долгий процесс самоограничения - и что? Что мы обрели? Да, мы
научились ловко входить в гостиную и не менее ловко оттуда уходить; мы умеем
теперь вынюхивать чужие секреты, держать язык за зубами и льстить; мы
научились держаться подальше от простолюдинов, чтоб не испортить себе
вкус, и сторониться умников, которые только понапрасну смущают
молодого человека. И что теперь - какая награда нас ждет? А та, что мы растем в
глазах света. А если поточнее? А поточнее - значит стать популярным среди
аристократов. А если и этот ответ нас не удовлетворяет, и мы непременно
хотим дойти до точки в вопросе, кто именно составляет цвет аристократии,
у которой следует добиваться популярности, то мы забираемся в такие
дебри, из которых нам не выйти никогда. Ведь в тамошнем мире нет ничего
самодостаточного. Что такое приличное общество? - спрашиваем мы. Это
такое общество, - следует ответ, - которое полагают приличным лучшие люди,
цвет аристократии. Спрашивается, что такое остроумие? То, что полагают
остроумным лучшие люди, аристократы. То есть ценность определяется
исключительно в зависимости от чьего-либо мнения. Существо этой
философии состоит именно в отсутствии самодостаточности: все существует, как
отражение мнений других людей. Получается, что мир, в который мы так
стремимся попасть, - это зеркальная комната, и единственная награда за все
наши труды - это отражение, сплошная эфемерность. Возможно, поэтому
мы чувствуем себя сбитыми с толку среди этих отполированных до
блеска страниц: нам не за что ухватиться! О каких принципах может идти речь?
И все же, зная эту слабость за лордом Честерфилдом, может быть, мы
отыщем среди его эфемерностей нечто, ускользнувшее от внимания более
суровых моралистов? В конце концов, и у подобных неуловимо-зыбких качеств
есть, наверное, своя ценность, как, вероятно, есть свой радужный блеск и у
сияющих Граций - во всяком случае, едва ли кто-то станет утверждать
обратное, по крайней мере, пока тому порукой обаяние лорда Честерфилда.
Судите сами, как обошлись эти благородные дамы с их преданным слугой,
графом Честерфилдом.
Вот он перед нами: разочаровавшийся политик, прежде времени
состарившийся дамский угодник, потерявший должность, теряющий зубы, более
того - глохнущий день ото дня, и, тем не менее, не позволяющий себе ни
единым стоном обнаружить свое состояние. Он сам никогда не скучает и не
дает скучать другим, он подтянут и опрятен. Его тело и мозг работают как
часы; «развалиться на стуле»10 - упаси боже!.. Удивительно, как эти личные
письма, писавшиеся явно не для чужих глаз, по вдохновению, порхают как
254
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
бабочки вокруг одной-единственной темы, а она, оказывается, с годами не
только не теряет своей свежести, но даже не становится смешной.
Возможно, так получается оттого, что искусство угождать в чем-то совпадает с
ремеслом писателя: им обоим - что писателю, что дамскому угоднику - есть
резон быть вежливыми, обходительными, сдержанными, не выпячивать свое
«Я» и скромно держаться в тени.
Конечно, что ни говори, а воспитание, позволившее лорду Честерфилду
написать свои «Характеры»11, дорогого стоит. Пусть в этих точных и
изящных мизансценах есть что-то от старинного менуэта, главное -
симметричные па настолько срослись с артистом, настолько стали для него
естественны, что он может прервать танец, когда ему вздумается, - никакого обрыва
или натянутости не возникает, хотя, окажись на его месте имитатор,
обязательно возникло бы ощущение фальши. Лорд же Честерфилд может быть
каким угодно коварным, остроумным, афористичным, но одного у него не
отнять - это чувство такта, как только музыка заканчивается, он
останавливается, как вкопанный. «Одни преуспели, другие сдулись»12, - это он о
любовницах Георга I: король обожал толстушек. Или вот еще перл: «Он
похоронил себя в этой богадельне - палате лордов»13. Заметьте: он не смеется - он
только улыбается. Ему, конечно, сильно повезло с эпохой: восемнадцатый
век есть восемнадцатый век, и каким бы любезным ни был лорд Честерфилд
по отношению ко всем и вся - хоть к самим звездам и к философии
епископа Беркли14, но, как истый сын своего века, он наотрез отказывался играть
в игры с бесконечностью или верить в то, что действительность не столь
определенная, как кажется. Ему мир представлялся вполне сносным и
достаточно просторным, чтобы в нем хватило места для всех. Этот
приземленный взгляд на вещи лишает его широты обзора, если хотите, из-за него он
мелко плавает, хотя с позиции здравого смысла он рассуждает безупречно.
Ни одна из его максим не отзывается в памяти и не пронзает тебя так, как
десятки афоризмов Лабрюйера15. Впрочем, он первый стал бы
открещиваться от какого-либо сходства с великим писателем, и, наверное, был бы прав:
чтобы писать, как Лабрюйер, нужно во что-то верить, а во что тут можно
верить, когда тебя то и дело отвлекают Грации! Так, слегка пошутить, уронить
слезинку - это самое большее, а вообще-то даже такие проявления чувств
предосудительны.
Но вот что интересно! Наслаждаясь обществом блестящего собеседника,
внимая его жизненной философии, мы краешком глаза замечаем стоящую
в сторонке фигуру - это Филип Стэнхоуп: стоит столбом, точно воды в рот
набрал, в дальнем углу страницы. Он, собственно, всегда там и был, никуда
не девался. Верно, он ни разу не проронил ни слова, но присутствие его мы
ощущали всегда: так и видишь, как где-нибудь в Дрездене, в Берлине, в
Париже, получает он письмо, смотрит остолбенело в исписанные страницы, а
вокруг вырастают горы толстых конвертов, которые, начиная с семилетнего
возраста, он неукоснительно получал по почте каждый день, в течение мно-
Два священника
255
гих лет. За это время он успел из мальчика превратиться в довольно
серьезного, полноватого молодого человека невысокого роста,
интересовавшегося иностранной политикой, любившего иногда почитать научные труды...
А письма все не оставляли его своим вниманием: шли и шли - одно
другого глаже, краше, изысканней: в каждом послании мольба или заклинание
учиться танцевальным па, учиться резать мясо, следить за ногами и
обязательно соблазнить какую-нибудь великосветскую красавицу. Сын из кожи
вон лез, стараясь выполнить отцовские наказы: в поте лица своего
постигал он трудную науку служения Грациям - и не выдержал
головокружительного восхождения: отошел в сторонку, сел на ступеньку где-то на
полдороге к сияющей зеркальной комнате. Ну не дано ему добраться до вершины!
В палате общин его ждало поражение, и он удалился в Ратисбон16, где занял
маленькую тихую должность и где умер до срока. Открыться отцу в том,
что все это время он был женат на женщине простого звания и имел от нее
детей - он так и не смог или не решился: предоставил эту почетную
обязанность своей овдовевшей супруге.
Граф, впрочем, снес удар судьбы как настоящий джентльмен: отписал
невестке в изысканнейших выражениях, занялся воспитанием внуков. Но все
это он проделывал полурассеянно - словно его уже не очень заботило, что с
ним происходит: жив он, мертв - все это как-то потеряло смысл. Остались
только Грации- им он служил до последнего вздоха: буквально! Он,
собственно, умер со словами на устах, обращенными к своим очаровательным
богиням: «Подайте Дэйролзу стул»17, - приказал он слуге, стараясь честь по
чести встретить посетителя, пришедшего навестить умирающего больного;
приподнялся на подушках - и дух вон.
ДВА СВЯЩЕННИКА
I
ДЖЕЙМС ВУДФОРД
Жаль, что психоаналитики не занимаются исследованием вопроса о том,
почему человек вдруг ни с того ни с сего начинает вести дневник. Часто
дневник оказывается единственно загадочным обстоятельством в
безоблачной и ясной как белый день биографии человека. Наглядный тому пример -
священник Вудфорд: дневник - это его единственная тайна. Почти каждый
божий день он садился за дневник и описывал, чем занимался в
понедельник, что было на ужин во вторник - и так в течение сорока трех лет. Но
сказать, почему он это делал или ради кого, невозможно: он не оставил
никакого ключа. Душу свою дневнику он не поверял; но и сказать, что его днев-
256
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ник - это голая статистика встреч и расходов, тоже нельзя. Литературной
славой озабочен он не был, и, хоть человек был исключительно мирный, тем
не менее в его записях встречаются неосторожные замечания и критические
отзывы, которые немало повредили бы его репутации, стань о них известно
его друзьям. В таком случае, какой же цели служат эти шестьдесят восемь
тетрадок с дневниковыми записями? Возможно, они просто восполняют
недостаток общения. Давайте представим, что начиналось, когда Джеймс Вуд-
форд открывал свою аккуратную тетрадочку с записями. Скорей всего он
вступал в разговор с каким-то другим Джеймсом Вудфордом, который, при
всей похожести, все-таки не был точной копией преподобного священника,
навещавшего своих бедных прихожан и служившего службу в местной
церкви. Этим двум закадычным друзьям, в общем-то, нечего было скрывать от
других - они обо всем могли беседовать открыто; и все же у них было
несколько маленьких общих секретов. Итак, отдушина- вот главное! Иметь
возможность излить свое возмущение против Нэнси, Бетси и м-ра Уокера,
которые все Рождество интриговали против него, - это великое благо:
«Обращение, которому я, вежливый человек, подвергался все нынешнее
Рождество, для меня непереносимо»1. Тот второй Джеймс Вудфорд слушает и
кивает сочувственно. Или другой случай: священник радушно принял в своем
доме незнакомца, а тот не оценил гостеприимства хозяина - так каким же
облегчением было поведать тому другому «Я», спрятанному в тетради под
замочком, о том, что спать неучтивого гостя он положил на чердаке и «дал ему
понять, что на доброе отношение он рассчитывать не вправе»2. Теперь
понятно, почему эти два холостяка со временем стали неразлучными друзьями,
коротавшими век в тиши церковного прихода: они не могли друг без друга
жить - запрети священнику вести дневник, и самая заветная часть его души
увяла бы. Недаром даже на смертном одре священник продолжал делать
записи. Прислушаемся (если, конечно, можно вообще употребить это слово):
мы услышим, читая дневники священника, как кто-то тихо бубнит себе под
нос на сон грядущий, пересказывая события дня. Этот процесс нельзя
назвать сочинительством, и, строго говоря, чтением его тоже не назовешь. Это
что-то совсем другое: похоже на то, как, полистав книгу, ты откладываешь
ее в сторону, идешь к окну, выглядываешь на улицу. Стоишь, смотришь на
людей под окном, а сам машинально думаешь о Вудфордах. Или гуляешь,
а сам мысленно представляешь, каков он, Джеймс Вудфорд, и что у него за
жизнь... Это и не чтение, и не сочинительство - а что это, мы и сами толком
не знаем.
Итак, Джеймс Вудфорд: его почему-то представляешь розовощеким
господином, с открытым взглядом, серьезным, собранным и непременно в
расцвете лет. Он уравновешен, если не считать некоторых проявлений
желчности или чувствительности, какие обычно встречаются у человека, который в
молодости был влюблен, но что-то не сложилось, и он остался из-за этого на
всю жизнь холостяком. Впрочем, ничего особого та первая любовь священ-
Два священника
257
ника собой не представляла. Как-то однажды - дело было еще в Сомерсете -
он решил прогуляться до Шептона и повидать знакомую барышню -
«добрейшую» Бетси Уайт. Причем не просто повидать, а «решиться на смелый
поступок»3: предложить ей свою руку и сердце. И ведь решился! Сделал
девушке предложение - «при первой возможности»4, и Бетси его приняла.
А дальше вышла заминка: время идет, вот уже четыре года прошло, а
продолжения никакого не следует, и вскоре Бетси переехала в Девоншир,
встретила там м-ра Уэбстера, у которого был годовой доход в пятьсот фунтов, и
выскочила за него замуж. Когда через какое-то время Джеймс Вудфорд, гуляя
по окрестностям, столкнулся с молодоженами нос к носу, он «от смущения»
проглотил язык, но в дневнике записал - и, будьте уверены, эти слова на всю
оставшуюся жизнь стали его версией произошедшего: «...она для меня
просто бездушная кокетка»5.
Но тогда он был молодой, горячий, а чем дальше шло время, тем все
меньше хотелось ему думать о женитьбе - почему-то такое впечатление
складывается по его дневнику, и все больше привлекала его мысль о том, как
поселятся они вдвоем с племянницей Нэнси в Уэстон-Лонгвиле и заживет
он наконец в свое удовольствие. Опять же, сказать, что он вкладывал в эти
слова «зажить в свое удовольствие», мы не можем.
Ведь Джеймс Вудфорд ничем особым не выделялся: просто плыл по
течению. Никаких особых талантов у него не было, за ним не водилось ни
странностей, ни слабостей, моральных или физических. Сказать, что он
ревностный священник, тоже нельзя: Бог на небесах был для него примерно
тем же, что король Георг на земле, - милостивым монархом, чью волю он
прославлял в воскресной проповеди и за чье здоровье выпивал в
положенный день рюмочку и палил из мушкетона. Если случалось что-то
непредвиденное, - положим, лошадь сбросила мальчика, тот разбился и умер, - то
наш священник моментально откликался по долгу службы: «Надеюсь, Боже
милостивый призрел отрока», а потом добавлял от себя в дневнике: «Назад
возвращались с песнями»6. Но это ровно ничем не отличалось от того, как,
всплеснув руками при виде судейского павлина, распускающего хвост
«благородной расцветки», Джеймс Вудфорд возносил хвалу Всевышнему:
«Прекрасны труды Твои, о Господь, в каждой малой твари»7. И опять же, в этом
нет ни фанатизма, ни увлеченности, ни лирического чувства - все эти
проявления эмоций Джеймсу Вудфорду совершенно чужды. Представить, что
среди десятков и сотен страниц, аккуратно разделенных на колонки, каждая
из которых до буковки заполнена убористым бисерным почерком, - так и
видишь, как ходит по кругу изо дня в день хорошо обученная лошадь, - так
вот, среди всей этой бумажной массы попадается одна-единственная
поэтическая фраза об исчезнувшей с небосклона Венере. Она звучит так: «Словно
на прекрасном лице женщины образовалось черное пятно»8. Сами по себе
слова довольно плоские, но на фоне безбрежно расстилающейся ровной
прозы Вудфорда фраза эта сияет, подобно яркой звезде: тот же эффект можно
9. Вирджиния Вулф
258
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
наблюдать в заболоченной местности - сарай или дерево представляется там
вдвое выше, чем есть на самом деле. Однако сказать, что именно заставило
нашего священника той летней ночью впасть в такие поэтизмы, мы не
можем. Едва ли он был под мухой - сам пенял не раз брату Джеку на грех
возлияния. По складу характера он сангвиник и топить горе в вине не умел.
Вообще, задумываясь об этой паре, дяде и племяннице Вудфордах, почему-то
неизменно представляешь их за столом: потирая руки, они ждут не дождутся
угощения. И вот наконец на стол водружают мясное блюдо - сочную
лопатку или баранью ногу, они, не мешкая, принимаются работать ножами и
вилками: они поистине священнодействуют, поглощая кусок за куском, в
полном молчании, прерываемом лишь просьбой передать гарнир или соус. Так
вот они и жуют себе, в свое удовольствие, день за днем, год за годом, и если
подсчитать, то за всю жизнь они на двоих поглотили, наверное, целое стадо
овец и быков, не один выводок домашней птицы, пару-тройку дюжин
лебедей, несколько пудов яблок и слив. А уж сколько киселей и пудингов
вычерпано ложками за эти годы - и сказать страшно: горы! Египетские пирамиды!
Китайские пагоды! Дневник просто ломится от обилия еды - другую такую
напичканную кулинарией книгу только поискать. А чего стоят
составленные со знанием дела и выверенные до точки счета на продукты? Это
просто рог изобилия какой-то! На обед форель и цыплята, баранина с мозговым
горошком, свинина под яблочным соусом; на ужин еще несколько мясных
блюд, приготовленных собственноручно самой хозяйкой по старинному
английскому рецепту из отборных сортов мяса своей же, на собственном дворе
выращенной скотины, за исключением тех случаев, когда их приглашала на
обед в Уэстон-холл миссис Кастанс, любительница всяких новомодных
лондонских деликатесов: например, однажды она потчевала их желе в форме
пирамиды, «сквозь которое просвечивал пейзаж»9. Иногда после обеда, под
занавес, миссис Кастанс, к которой Джеймс Вудфорд проявлял рыцарскую
преданность, играла на «Sticcardo Pastorale»*, и у нее «это получалось очень
нежно»10, а иногда доставала шкатулку с рукоделием и показывала
пальчиком, как в ней все хитро и удобно устроено, правда, такое бывало редко:
миссис Кастанс все больше проводила время наверху, в спальне, мучаясь
очередными родами. Священник и крестил, и частенько хоронил господских
детишек: выживали немногие. К господину Кастансу священник относился
с глубоким уважением: они настоящие сельские джентри - немного падки
на интрижки с женщинами, но эта маленькая слабость с лихвой окупалась в
его глазах их щедростью по отношению к беднякам прихода, доброй заботой
о Нэнси и широкими барскими жестами в его, священника, адрес -
например, приглашениями отобедать у них в доме, вместе с высокими гостями.
Джеймс, правда, недолюбливал общество высоких гостей: при всем своем
* Музыкальный инструмент (ит.).
Два священника
259
уважении к знатным людям, писал он в дневнике, «признаться, мне гораздо
приятней находиться среди равных по положению»11.
Но священник Вудфорд не только хорошо знал свои приязни и
неприязни: к этому редкому дару, отпущенному матушкой Природой, добавлялось
еще одно не менее редкое качество - он умел быть довольным жизнью. Век
такому настрою, надо сказать, способствовал. Один день сменяет другой, за
понедельником идет вторник, за вторником среда, и каждый новый день
наполнен тихой радостью. Жизнь не суетна - она приятно разнообразна:
многое по дому приходилось мастерить своими руками, чередуя физический
труд с умственным, как-никак Джеймс Вудфорд был выпускником Нью-кол-
леджа12. Весь дом был в его распоряжении: в кабинете он писал проповеди,
в столовой трапезничал, в кухне занимался стряпней, в гостиной играл в
карты. А когда ему наскучивало сидеть дома, он надевал пальто, брал в руку
палку и отправлялся со своими борзыми в поле. Шли годы, и постепенно на
его плечи легли все хозяйственные заботы по обеспечению дома всем
необходимым - по утеплению его перед зимними холодами, по наблюдению за
тем, чтоб дом не рассохся в летний зной. Он, как главнокомандующий,
делал «рекогнисцировку» погодных условий и вовремя пополнял запасы угля,
дров, говядины, пива, стараясь как можно лучше укрепить свою маленькую
крепость на случай возможной осады. Ясно, что при таком образе жизни
его день складывался из мало совместимых занятий: одной рукой крестил
младенцев в купели, другой - закалывал поросенка к обеду; утром навещал
больных да немощных в своем приходе, а вечером плотно обедал; хоронил
покойника и - варил пиво; поспевал на собор - и еще ухитрялся накануне
дать буренке лекарство. Все перемешано: жизнь, смерть, конец,
бессмертие - все в дневнике идет одним сплошным потоком и, надо сказать, этому
веришь: «...чудом успел! - старик был при смерти. Совершенно
невменяемый, из горла вырывался предсмертный хрип. Обедали вареной говядиной и
кроликом»13. Все правильно: это и есть жизнь.
Да, так и есть, так и есть: свершилось! Дождалось человечество
долгожданной передышки, и произошло это здесь, в Норфолке, в церковном
приходе, под конец восемнадцатого века. Вот оно, желанное мгновение -
человек доволен судьбой, все уравновешено в его жизни: и дом ему под стать,
и дерево деревом, и стул стулом - на нем сидят - и всему есть место, и все
своему месту соответствует. Если посмотреть на окружающий мир
глазами священника Вудфорда, то и жизнь других представится упорядоченной
и устойчивой. Где-то далеко идет стрельба, казнят короля14, а здесь в
Норфолке все спокойно - ни один грач не шевельнется на ветке. Вот что значит
другое чувство перспективы! До Европы отсюда не близко - как ни
всматривайся, ничего, кроме туманного пятна на горизонте, не увидишь; об
Америке здесь почти не слышали; про Австралию никто не знает. Зато все, что
находится поблизости, в родном Норфолке, предстает с поразительной
четкостью, как под лупой: каждая былиночка в поле, каждая тропка, рытвина на
9*
260
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
дороге, каждая складка на лице крестьянина - видны как на ладони. Каждый
дом отстоит от других ровно настолько, сколько нужно человеку, чтобы
почувствовать свою самостоятельность и независимость. Никаких тебе
телеграфных столбов - между деревнями нет проводной связи. Тишина вокруг -
ни души. Собственное тело ощущается остро и явственно, без паллиативов.
Если что-то болит, то физическую боль не смягчит никакая анестезия: ты
знаешь, что если над раной занесен скальпель хирурга, значит, он рано или
поздно вонзится в твое тело, и боли не избежать. Придет зима - и дом твой
выхолодит так, что малым не покажется: в крынках замерзнет надоенное
молоко, вода в умывальном тазу покроется толстым слоем льда. В зимнюю
стужу даже перебираться из комнаты в комнату в доме приходского
священника и то затруднительно. На дорогах замерзают нищие да бездомные.
Почта часто не доходит, газет не завозят неделями, в гости никто не едет. Дом
священника стоит один как перст, посреди побитого морозом поля... Но вот,
слава богу, опять затеплилась жизнь: появился какой-то заезжий купец с ма-
дагаскарской макакой, потом забрел фокусник - показывал склянку с
заспиртованным зародышем, у которого четко выделялись две головы; еще прошел
слух, будто в соседнем Нориче собираются запускать воздушный шар.
Любое мало-мальски интересное событие отражено в дневнике предельно ясно
и точно. Даже рутинная поездка в Норич предстает маленьким
приключением: всю дорогу священнику приходится шагать за лошадью, подталкивая
пробуксовывающую повозку; над изгородью высятся деревья; животные в
полях медленно поднимают головы, провожая взглядами процессию;
наконец из-за бугра показались шпили норичских церквей...А какими дорогими
и близкими проступают на общем фоне лица нескольких наших друзей - Ка-
стансов, м-ра дю Кэна! Дружба ведь так просто не завязывается: требуется
время, чтоб знакомство перешло в нерушимую драгоценную связь
преданных друг другу людей.
Нэнси, правда, помоложе, и ее то и дело заносит, ей кажется, что в жизни
ей чего-то не хватает, что-то она упускает. Как-то она пожаловалась дяде на
то, что ей ужасно скучно: «...скучно в моем захолустье, где нет ничего
интересного, никто не ездит к нам с визитами и нам не к кому ездить и т.д. и
т.п.»15, и от ее слов ему сделалось не по себе. Он, конечно, быстренько
вразумил ее коротенькой нотацией о том, что если думать, что тебе чего-то не
хватает и т.д. и т.п., так это только Бога гневить. Посмотри, - подхватываем
мы слова священника, - посмотри, к чему приводят твои капризы «и т.д. и
т.п.»: половина европейских стран лежат на боку - все обанкротились; куда
ни глянь, везде понастроили красные виллы, а дороги в Норфолке черны
как деготь, - не успеешь оглянуться, тут же полетят красные петухи: вот
тебе и «визитеры». Только Нэнси палец в рот не клади: у нее и на это готов
ответ: вы живете прошлым, а я настоящим. Вы полагаете, распаляется она,
что родиться в восемнадцатом веке - большое счастье, а все потому, что вас
умиляет, что первоцвет мы называли «барашками», и ездили мы не на ма-
Два священника .
261
шинах, как вы, а на двуколках. Но это же совершенные бредни! уверяю вас,
любители старинных мемуаров. Знайте: у меня была невыносимо скучная
жизнь. Смеяться над тем, над чем смеетесь вы, мне и в голову не
приходило. Мне было вовсе не смешно, когда дядя рассказывал, что ему приснилась
шляпа16 или пузырьки в кружке с пивом, - и знаете почему? Потому что сон
в руку: это к покойнику - тут не до смеха. И над Бетси Дейви вы напрасно
потешаетесь: ну и что с того, что она надела на похороны шелковое платье
в цветочек? - она искренне оплакивала молодого Уокера. Вообще сколько
чепухи рассказывается про восемнадцатый век! Все эти ваши восторги по
поводу прошлого и старинных дневников на самом деле яйца выеденного не
стоят! Пустые выдумки, да и только. Для вас это фантазии, а для нас -
суровая правда жизни, - восклицает в сердцах Нэнси, обреченная день за днем,
час за часом проживать восемнадцатый век.
И все же, хоть это и фантазия, насладимся ею еще минутку. Поверим
в сладостный обман, что существует-таки нечто, неподвластное времени, и
что иные точки на карте и люди не подвержены переменам. Стоит
роскошное майское утро, грачи расселись по веткам, в высокой траве притаились
зайчишки, и заливается ржанка- как не поверить в этот восхитительный
обман? Это мы стареем и умираем, а Джеймс Вудфорд как жил, так и живет.
Это королей и королев держат в тюрьмах, это города захлестывают анархия
и террор, а на речке Уэнсом все по-прежнему, все спокойно, - вот и миссис
Кастанс в очередной раз благополучно разрешилась от бремени, вот и первая
ласточка летит с приветом. Весна вступает в свои права, за ней идет лето,
сенокосы, клубника, и там, глядишь, и осень не за горами: грецкие орехи
уродились на славу, хотя груши подкачали, ну да бог с ними; вот и зима катит в
глаза - она в этом году суровая, с метелями, но, слава богу, дом крепкий,
выстоял, а вот и опять первая ласточка летит, и, свистнув, священник Вудфорд
отправляется с борзыми на прогулку.
II
ПРЕПОДОБНЫЙ ДЖОН СКИННЕР
Всего каких-нибудь тридцать лет отделяют Вудфорда, родившегося в
1740-м и умершего в 1803-м, от Скиннера, который родился в 1772 году и
умер в 1839-м, а на самом деле их отделяет друг от друга целая вечность.
Это судьбоносное тридцатилетие: оно разделяет не просто двух
священников - оно отделяет восемнадцатый век от девятнадцатого. Взять
деревушку Кэмертон в самом центре Сомерсетшира - старинное местечко, кажется, а
уже на пятой странице дневника мы читаем о том, какие там угольные шахты
и какой большой шум подняли горняки, обнаружившие свежие залежи угля,
и сколько денег по этому случаю отвалили рабочим владельцы шахты: ведь
открытие это сулило огромную выгоду жителям деревни. А потом случилось
262
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
так, что господская усадьба в Кэмертоне, со всеми дивидендами и расходами
на содержание, оказалась в руках Джаретов, сколотивших себе капитал на
торговле с Ямайкой, хотя, как такое получилось, непонятно, поскольку
местных землевладельцев вроде никто и не думал сгонять с насиженных гнезд.
Такое нововведение, сопряженное с вторжением сил, во времена Вудфорда
просто неслыханных, без сомнений, не оставило безучастным и Скиннера:
кажется, он с молоком матери впитал беспокойство и раздражительность.
В его нервозности и мнительности много от наших нынешних смятения и
суетности: вроде век еще не наступил, а главные черты его уже воплотились
в этой не знающей покоя личности. Он стоит на развилке двух дорог, одетый
по моде начала девятнадцатого века - на нем неудобные панталоны в
обтяжку и сюртук с широком галстуком под самый подбородок. Его воспитывали в
уважении к порядку, дисциплине и всем прочим добродетелям
героического века, но теперь все это осталось в прошлом: выйдя из классной комнаты,
он столкнулся с повсеместным пьянством и безобразием, с
безответственностью и безбожием, с методистами и римскими католиками, с биллем о
реформах17 и законом о свободе вероисповедания католиков18; вокруг повсюду
бесновалась чернь, требуя свободы и грозя камня на камне не оставить от
привычного уклада и установленного порядка. Как же было ему не
разрываться, стоя на развилке двух дорог, ему, нытику, истерзавшемуся душой, к
тому же человеку совестливому и принципиальному? Да такой упрется и ни
пяди не уступит, ни одним, даже самым малым принципом не поступится, -
будет стоять на своем до конца: будет жестко, безапелляционно, безнадежно
гнуть свою линию.
У него от природы характер был не сахар, а тут еще добавилось личное
горе: безвременно умерла жена, и он остался один, с четырьмя малютками на
руках, но и это бы ничего, да скончалась его любимица, его надежда, Лауроч-
ка, дочка, в которой он души не чаял, умница, вся в него - и дневник-то она
вела, и умела аккуратно выложить морскими ракушками шкатулку. Другого
человека эти потери только укрепили бы в вере в Бога, а Скиннер, наоборот, -
ожесточился, озлобился. К тому времени, когда он взялся за дневник19, - а
произошло это в 1822 году, - он утвердился в мысли, что люди в массе своей
несправедливы и жестоки, а о жителях Кэмертона и говорить нечего: они
испорченней всех. Утвердился он окончательно и на профессиональном
поприще: судьбе было угодно лишить его адвокатской практики - дела, которое
он любил и в котором понимал толк: вершить правосудие, вести
документацию, держаться во всем буквы закона - вот его родная стихия! Но, повторяю,
судьбе было угодно забросить его в Кэмертон, в общество церковных крыс,
фермеров, Галликсов и Пэдфилдсов, старух, страдающих водянкой,
деревенских дурачков и карликов. Словом, дыра дырой, но именно здесь Скиннеру
суждено было остаться до конца дней своих: превозмогая чувство
отвращения, служить прихожанам и отправлять свой долг священника. Оскорблений
в его адрес хватало, но он все равно твердо держался принципов, отстаивал
Два священника
263
правых, защищал неимущих, наказывал провинившихся. К тому моменту,
когда этот несчастный, издерганный человек начал вести дневник, он уже
много лет подвизался на поприще служения ближнему.
Наверное, трудно назвать деревушку Кэмертон, какой она была в ту
пору - в 1822 году, типичным примером английского сельского уклада: все-
таки угольные шахты и промышленный бум, с ними связанный, встречались
далеко не везде. Поэтому трудно себе представить, следуя мысленно за его
Преподобием, который каждый Божий день совершал осмотр своего
прихода, чтобы он отдыхал душой, предаваясь приятным грезам о чудной и милой
сердцу сельской Англии. Взять недавний случай: прибежали, зовут его
помочь миссис Гуч - слабоумной женщине, которую заперли одну в доме, а она
нечаянно устроила пожар, и, конечно, страшно обгорела. «Помогите! -
кричит она священнику. - Да помогите же мне!» И священник знает: если
женщина так кричит и корчится в муках, она не виновата. Она всю жизнь
надрывалась, пытаясь наладить хозяйство, но все ее попытки были впустую, с горя
она запила, тронулась умом, а кто ей поможет? Пока чиновники из ведомства
по делам бедноты вели тяжбу с ее родственниками о том, кто возьмется ее
содержать - муж все деньги спускает на выпивку, бедная женщина была
предоставлена самой себе, одна-одинешенька, вот по недомыслию и обгорела
да померла. И кто виноват? Мировой судья м-р Пернелл, скупердяй, каких
мало, требующий сократить размер пособия по бедности? Или, может, Хикс
из Отдела призрения бедных, известный на весь приход своей жесткостью?
А может, владельцы питейных заведений? Или методисты? Или еще
кто-нибудь?.. По крайней мере, приходской священник делает свое дело. И пусть
его за это ненавидят, он все равно будет, как и прежде, на стороне униженных,
и рот ему никто не заткнет - как он раньше осуждал людей за творимое ими
зло, так он и будет их осуждать. Да-да, он не спустит миссис Сомер, которая
содержит публичный дом и дочек своих туда водит. И про фермера Липеатта
он не смолчит: всем известно, как он вышел за полночь из пивной «Красная
почтовая», в стельку пьяный, заплутал, свалился в карьер, переломал себе
все ребра и умер от ран... Куда ни глянь, сплошные страдания, вызванные
людской жестокостью. Взять, например, м-ра и миссис Хикс из Отдела
призрения бедных: эта парочка бросила на произвол судьбы несчастного
калеку - десять дней бедняга промучился в доме призрения бедных без какой-
либо медицинской помощи: «...у него все тело изъели черви»20. Оказалось,
в сиделки ему отрядили дряхлую старуху, за которой самой впору ходить,
как за малым ребенком. Слава богу, нищий долго не мучился. А сколько
несчастных случаев происходило на шахте! - вспомнить смертельный случай
с шахтером Гарратом: словно мало зла от нищеты, холеры и пьянства! Люди
на шахте калечились постоянно, а способы лечения оставались самыми
примитивными. Ведь как получилось с Гарратом? - на него в забое обрушилась
порода, ему перебило позвоночник; местный костоправ приложил руку, и
несчастный еще почти год мучился, с января по ноябрь, но потом смерть
264
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
таки прибрала его. Справедливости ради следует вспомнить, что и суровый
настоятель, и веселая хозяйка усадьбы не скупились на милостыню, на
благотворительный супчик, на лекарства, и больных вниманием не оставляли.
Стоит, однако, оценить по достоинству врожденный скептицизм и желчный
нрав м-ра Скиннера: действительно, сто лет назад деревушка Кэмертон
могла предстать идиллическим местом только умиленному взору бытописателя,
взирающего на мир сквозь розовые очки. В Кэмертоне без
благотворительного супа и милостыни было не обойтись, а проповеди и общественное
обличение только растравляли раны.
В этой ситуации отдушиной его Преподобию служили не возлияния, как
у некоторых его соседей, и не охота, которой тоже многие баловались. Пару
раз он съездил на обед к коллеге священнику, - правда, потом в дневнике
появилась кислая запись, что угощение «больше напоминало Гросвенор-сквер,
чем трапезу священника, - все больше французские блюда да вина в
изобилии»21, и еще раздосадованно отметил, что домой вернулся уже к ночи.
Иногда он гулял вместе с детьми, когда те были еще маленькими, мастерил
для них игрушечные кораблики, вспоминал школьную латынь, придумывая
шуточные эпитафии на смерть любимой собаки или ручного голубя. Бывало,
сидел, откинувшись в кресле, заслушавшись пением миссис Фенуик: та, под
аккомпанемент мужниной флейты, мастерски исполняла корнуолльские
напевы. Но даже эти тихие радости отравляла его маниакальная
подозрительность. Почему на него нагло уставился фермер, когда он проходил мимо? Кто
метнул из окна камень? Какой злой умысел вынашивает лицемерно
улыбающаяся миссис Джарет? Нет, единственное спасение от всех напастей Кэмер-
тона заключалось в Камалодунуме22. Чем больше он думал над этим
вопросом, тем сильнее укреплялся в мысли, что ему необыкновенно повезло: он
поселился в том самом месте, где когда-то обитал отец Карактакуса23, где
во времена оны основал колонию Осториус24, где Артур вызвал на
поединок предателя Модреда25 и где бывал Альфред26, когда его настигла
полоса несчастий. У Скиннера не оставалось никаких сомнений: Кэмертон - это
и есть Тацитов Камалодунум27. Он самозабвенно работал с документами в
тиши кабинета - переписывал их, сравнивал, выводил закономерности:
словом, отдыхал душой, можно сказать, был счастлив. К тому же он
проникся уверенностью в том, что стоит на пороге величайшего этимологического
открытия, которое заключалось в доказательстве того, что «каждая буква в
составе кельтских имен»28 таит в себе некое глубинное значение. В своей
маленькой келье, наедине со старинными рукописями, Скиннер чувствовал,
что он царь и бог - куда до него архиепископу с его дворцовыми покоями!
Благодаря своим штудиям, Скиннер несколько раз побывал в Стауэрхеде,
родовом поместье сэра Ричарда Хора, и там наконец познакомился с людьми
своего круга, общих с ним интеллектуальных интересов, которые, подобно
ему, занимались изучением Уилтширской старины. В любую погоду - и в
холод, и в дождь - Скиннер мчался во весь опор в Стауэрхед; и, несмотря на
жуткую простуду, просиживал часами совершенно счастливый в тиши биб-
Два священника
265
лиотеки, делая выписки из Сенеки, из Диодорума Сикула, из «Географии»
Птолемея29, или занимался тем, что разбивал в пух и прах скоропалительные
и поверхностные доводы коллеги краеведа, который имел неосторожность
заявить, что Камалодунум исторически располагался в Колчестере30.
Отгородившись от всех, он вгрызался в свои выписки, теории, доказательства, и
переубедить его было невозможно: кто-то из прихожан послал ему в шутку
подарок - ржавый гвоздь, перевязанный ленточкой, так он даже не обратил
внимания. Его радушный хозяин сэр Ричард как-то попенял ему беззлобно:
«Ох, Скиннер, все-то вы возводите к Камалодунуму! Успокойтесь, вы и так
уже многое открыли - если сильно фантазировать, факты потеряют
убедительность». В ответ Скиннер разразился шестым по счету письмом,
изложенным на тридцати четырех страницах. Сэр Ричард ведь не представлял
себе, чем стал Камалодунум для ожесточившегося человека, который
каждый день по долгу службы обязан был встречаться с Хиксом из Отдела
призрения, и с мировым судьей Пернеллом, и входить во все подробности жизни
местных борделей, пивных, общин методистов, а еще заниматься водянкой
и остеохондрозом - этими болезнями страдали многие старожилы.
Согласитесь, жить становилось легче, когда ты мог посмотреть на вышедшую из
берегов реку и философски заметить, что, собственно, именно так и выглядел
Камалодунум во времена Римской Британии.
Так незаметно для себя он заполнил три железных сейфа без малого
сотней томов рукописей - для точности, девяноста восьмью. Правда, чем
дальше, тем все реже фигурировал в его записях Камалодунум, а на первый план
все чаще и чаще выдвигался сам Джон Скиннер. Конечно, установить
историческую правду о Камалодунуме очень важно, однако не менее важным
представляется установление исторической правды и о Джоне Скиннере.
Когда его дневники опубликуют спустя пятьдесят лет после его смерти, люди
узнают не только о том, что Джон Скиннер был великим знатоком старины,
но и о том, что он был великим страдальцем, претерпевшим многие муки
от своих ближних. Другими словами, его дневник постепенно превратился
в мартиролог и одновременно стал орудием борьбы. Например, он обращал
к дневнику риторический вопрос: разве он не был заботливейшим отцом?
Ведь он не жалел для своих сыновей ни сил, ни времени: он послал их
учиться в Уинчестер и Кембридж, а какой черной неблагодарностью заплатил ему
его родной сын Джозеф? И когда? Именно теперь, когда фермеры вконец
обнаглели, не платят десятину и так и норовят подсунуть тебе ягненка с
перебитым хребтом или лишить тебя твоей законной доли сена, - именно
теперь, ни раньше, ни позже, его сын отказывается помочь отцу! Говорит, что
в Кэмертоне все смеются над Скиннером, что он держит детей за слуг и
мнителен выше меры - во всем видит злой умысел. А потом его Преподобие
случайно распечатывает письмо и обнаруживает счет за сломанную
двуколку, и хоть бы один из его сыновей извинился или помог ему с оформлением
рисунков - нет, они предпочитают слоняться из угла в угол и курить дорогие
сигары! Да как же после этого терпеть их в собственном доме - естественно,
266
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
он выставил их в порыве ярости за дверь: скатертью дорожка - пусть себе
катятся в Бат31! Потом, правда, он остыл, понял, что погорячился, но было
уже поздно - сыновья покинули отцовский дом. Во всем, как всегда,
виноват его несносный характер; впрочем, и поводов для раздражения хватало:
то под его окнами ночь напролет кричал павлин, принадлежавший миссис
Джарет, то служки в церкви начинали без надобности бить во все колокола,
действуя ему на нервы. Как бы ни было, он попытался загладить вину
перед своими сыновьями Джозефом и Оуэном и предложил им вернуться. Что
те и сделали с радостью. Только снять накопившееся раздражение Скиннер
уже не мог: он опять «начал им выговаривать», что они, мол, бездельники,
закладывают за воротник, и все это кончилось жуткой ссорой, во время
которой Джозеф сломал в гостиной стул. Оуэн взял сторону брата, и точно так
же поступила дочь Анна. В общем, дети его ни во что не ставили, особенно
Оуэн: тот во всеуслышание объявил, что «я сумасшедший, и нужно созвать
психиатрическую комиссию для проверки моей вменяемости»32. Более того,
Оуэн ранил его до глубины души тем, что надсмеялся над его стихами,
дневниками и археологическими теориями. Он заявил, что «мои вирши никому
не интересны, а что до приза, который я получил, будучи студентом Трини-
ти-колледжа, так, по его словам, только дураки участвуют в университетских
конкурсах»33. Они снова вдрызг разругались, и отец опять проклял своих чад
и прогнал их из дому. Но тут Джозефа подкосила наследственная болезнь -
чахотка, и отец моментально сменил гнев на милость: послал за врачами,
предложил ему отправиться вместе с ним в морское путешествие и, надо
сказать, осуществил свое намерение - они поехали в Уэстон и оттуда морем
в Ирландию. Семья снова была вместе. Только длилось семейное
благоденствие недолго: вздорный, повышенно требовательный отец, по-своему
любивший своих детей - любивший искренне, постоянно выводил их из себя.
Очередная ссора не заставила себя ждать: она возникла на почве религии,
когда Оуэн заявил отцу, что тот ничем не лучше деистов или социниан34. А тут
еще Джозеф подлил масла в огонь: сославшись на болезнь, отказался
вступить в спор, а когда отец захотел показать ему свои рисунки и помолиться за
его выздоровление, тот не пустил его в комнату, сказав, что «он готов
беседовать с кем угодно, только не со мной». Получается, что в самую трудную
минуту даже родные дети от него отвернулись, хотя ближе отца у них
никого нет. Жизнь потеряла для него всякий смысл. Ну почему, спрашивается,
все его ненавидят? Что он кому сделал плохого? Почему фермеры называют
его сумасшедшим? Откуда Джозефу знать, будут читать его сочинения после
смерти или нет? С какой стати односельчане привязывают пустые жестяные
банки к хвосту его собаки? Зачем надо напускать на него ночью павлина?
Зачем бить его по голове ударами колокола? Почему люди так немилосердны,
почему у них нет ни капли уважения и любви? Эти вопросы звучат в
дневнике с болезненной настойчивостью, но ответа нет... Вместо ответа раздался
выстрел: ранним утром в декабре 1839 года священник взял ружье, пошел в
березовый лесок неподалеку и застрелился.
Званый вечер у д-ра Бёрни
267
ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР
У Д-РА БЁРНИ
I
Известно, что проходил тот званый вечер в 1777 или 1778 году, а в
какой день или месяц, никто не знает, но точно было холодно. Фанни Бёрни -
нашему главному информатору1 - было тогда соответственно двадцать пять
или двадцать шесть, это как посмотреть. Но, в любом случае, если мы хотим
сполна насладиться картиной той памятной встречи, нам следует вернуться
на несколько лет назад и познакомиться с героями.
Фанни сызмальства обожала писать. Одно время их семья жила в Кингз-
Линне2, и там в летнем домике, стоявшем на краю сбегавшего к воде сада,
который принадлежал ее мачехе, она часто присаживалась к столу и писала -
до тех пор, пока у нее хватало терпения слушать звонкую ругань матросов,
доносившуюся с реки. Впрочем, выход своей писательской страсти -
страсти наполовину тайной, ибо постыдной, она давала только вечерами и то
вдали от людских глаз. Оно и понятно: в то время барышню за такое увлечение
поднимали на смех, а взрослую женщину осуждали за глаза. И потом,
всякое могло случиться с барышней, которая ведет дневник: возьмет и ляпнет
что-то недозволенное - предупреждала Фанни Бёрни мисс Долли Янг, а уж
ей-то, мисс Долли Янг, можно верить: она хоть и уродина, но среди
домочадцев Кингз-Линна слывет женщиной твердых принципов. Не нравилась
Фаннина страсть и ее мачехе. И тем не менее, несмотря ни на что, радость
от литературного творчества была настолько велика, что не писать она не
могла: «...у меня нет слов выразить удовольствие, с каким я в эту самую
минуту записываю свои мысли и высказываю мнение о людях, с которыми
только познакомилась»3. Она то и дело теряла исписанные листы - те
пачками выпадали из больших карманов ее платья, отец, смеясь, подбирал их и
потом зачитывал вслух, вгоняя незадачливого автора в краску. Дело дошло
до того, что ей даже пришлось однажды сжечь все свои бумаги в саду за
домом. Кончилось тем, что стороны договорились: утром Фанни занимается
серьезными делами, например шитьем, а ближе к вечеру пусть себе пишет,
сколько душе угодно, - письма, дневники, рассказы, вирши, - только не на
виду у всех, а в укромном месте у реки, куда доносится звонкая брань
матросов. Добавим: долго Фанни не выдерживала и, зажав уши, быстро уходила
обратно в дом.
Что, вообще говоря, странно, поскольку в восемнадцатом веке как только
не клялись и не божились! У самой Фанни в ее раннем дневнике полно
ругательных выражений: ее обожаемый батюшка4 и уважаемый папочка Крисп5
любили уснащать свою речь словечками типа «Господи, помилуй», «не
сойти мне с этого места», «отсохни у меня язык», к месту и не к месту поминая
268
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
черта и сатану. Возможно, на этом фоне разборчивость Фанни в языке и
кажется несколько чрезмерной. Слова имели над ней огромную власть, правда,
не так, как у Джейн Остен: та слова закручивала в тугую пружину,
заостряла наподобие стрелы. Фанни же обожала громкую кудрявую фразу, которая
шла прямо от сердца и заполняла страницу за страницей - особенно
страницу печатную. Стоило ей прочитать «Расселаса»6, как из-под ее пера потекли
развесистые периоды в духе д-ра Джонсона. Еще она очень рано научилась
обходить при письме фамилию «Томкинс»7, поскольку, не в пример другим
барышням, не пропускала мимо своих ушей ничего из того, что ей
доводилось слышать в летнем домике у воды, и, что еще интересно, у нее был не
только тонкий слух, но и ранимая душа, откликавшаяся на малейшую
грубость. Слишком уж воспитанной была наша Фанни: ни Томкинса упомянуть,
ни встретить с открытым забралом суровую правду жизни со всей ее грязью
и рутиной она не могла - не тот у нее характер. Ведь что не устраивает
читателя в ее ранних дневниках - таких, казалось бы, живых и ярких? Словесный
поток поразительным образом закругляет и сглаживает фразы, а из-за
общего благодушного настроя автора даже самая смелая мысль лишается острых
углов. Другими словами, когда до ушей Фанни доносилась божба и ругань
матросов, она сразу уходила в дом, хотя, будь на ее месте ее сводная сестра
Мария Аллен, она-то наверняка осталась бы да еще и послала
проплывавшим морякам воздушный поцелуй - во всяком случае, мы вправе это
допустить, зная, что с ней случилось после.
Итак, Фанни уходила в дом, и если вы думаете, что делала она это ради
того, чтобы помечтать в одиночестве, вы ошибаетесь. В их доме всегда было
шумно: неважно, жили ли они в Линне или в Лондоне, кстати, большую часть
года семья все равно проводила на Поулэнд-стрит8. Кто-нибудь обязательно
играл на клавикордах, кто-то распевался; из кабинета д-ра Бёрни доносился
гул, напоминавший жужжание пчелиного роя, - это самозабвенно работал,
обложившись нотными записями, мэтр - д-р Бёрни, а из-за дверей детских
и спален доносилась болтовня, прерываемая взрывами хохота: - это шумела
вернувшаяся после трудового дня молодежь. Фанни обожала вечерние часы,
когда все семейство бывало в сборе: ей нравилось, что домашние шутливо
дразнят ее «старушкой» за ее застенчивость; что их веселят ее шутки; что
не надо беспокоиться о нарядах; что они понимают друг друга с полуслова,
смеются над семейными анекдотами («а парик-то подмоченный», -
любили они повторять, подмигивая друг другу) - кстати, такое взаимопонимание
«без слов», скорей всего, сложилось из-за того, что мать их умерла, когда
они были маленькие, росли погодками, конечно, братьям и сестрам было о
чем пошептаться друг с другом, пощебетать, пооткровенничать. Все, как на
подбор, талантливы: что Сьюзан, что Джеймс, что Чарлз, что Фанни, Хетти,
что Шарлотта. Чарлз9 занимался классической филологией, Джеймс был
комиком, Фанни - писательницей, Сьюзан пошла по музыкальной части -
словом, все члены семьи добавляли каждый свое в общую семейную копилку
Званый вечер у д-ра Бёрни
269
талантов. Они знали себе цену, а поскольку отец их был очень известным
человеком, они были счастливы вдвойне: благодаря компанейской натуре и
благородному происхождению отца, они могли запросто общаться и с
лордами, и с переплетчиками, и вообще жить вольготно, как душа пожелает.
Что же касается самого д-ра Бёрни, то с ним дело обстоит сложнее: на
расстоянии многое видится иначе, и если бы нам сегодня довелось с ним
встретиться, мы бы, наверное, не выразили ему сочувствия. Зато и избежать
встречи с ним мы бы не смогли: его наперебой приглашали бы хозяйки
салонов, заваливали бы записками поклонники; не смолкая, звонил бы
телефон... И это понятно: ведь в свое время он был нарасхват- занятой
человек! Одна нога здесь, другая там. Пообедать порой было некогда: обходился
парой бутербродов, причем съедал их на ходу, в карете. Бывало, уходил из
дома в семь утра, а возвращался с уроков музыки около одиннадцати ночи.
Он был такой душка, что «его обаянию и обходительным манерам»10 не мог
противиться никто. И даже некоторые неряшливость и рассеянность, ему
свойственные, - представляете, совал в ящик стола, не глядя, все подряд:
записки, деньги, рукописи; однажды его вчистую ограбили, хорошо, друзья
помогли - компенсировали украденное; как-то возвращался морем из
Франции, штормило, он возьми да засни прямо в каюте, и не заметил, как судно
отправилось из Дувра обратно к берегам Франции, откуда ему снова
пришлось возвращаться морем, в общем, ни дать ни взять рассеянный с улицы
Бассейной! Но окружающим как раз нравилось, что он не от мира сего, -
они его жалели. Это нам сегодня он, возможно, кажется безответственным
из-за своей феноменальной забывчивости: все пишет и пишет бесконечные
статьи, заметки, книги; запрягает дочерей в качестве литературных рабов,
а сверху на него сыплются как из рога изобилия записки, письма,
приглашения, их столько, что он не в состоянии ни прочитать их, ни вникнуть в
смысл, ни ответить, их накапливаются горы, а он все надеется когда-нибудь
собрать, прокомментировать и издать свой архив, но вот последняя надежда
испаряется, и он исчезает за словесным туманом. Умер д-р Бёрни в возрасте
восьмидесяти восьми лет, и его преданным дочерям ничего другого не
оставалось, как сжечь весь накопившийся за долгие годы бумажный прах. Даже
Фанни не нашлась, что возразить. Впрочем, ее чувство к отцу не имеет
ничего общего с нашими потугами определить свое отношение к д-ру Бёрни: отца
она безоговорочно обожала. Сколько бы раз он ни попросил ее отложить
свою рукопись и заняться переписыванием его трудов, она неизменно шла
ему навстречу - ей его просьбы были только в радость. И он, надо признать,
платил ей тем же. Пусть он питал глупую честолюбивую мечту о
придворной карьере для Фанни, которая, к слову, чуть не стоила ей жизни, но когда
она воскликнула при виде ненавистного ей ухажера: «О, сэр! Мне никого не
надо, позвольте только жить подле вас!» - ее сентиментальный папаша
ответил: «Свет очей моих! Да живи в моем доме, сколько душе угодно. Неужели
ты решила, что я хочу от тебя избавиться?» Говоря это, он чуть не плакал, и,
270
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
что удивительно, он больше никогда упоминал о м-ре Барлоу. Да, счастливое
было семейство, правда, немножко странное из-за сочетания несочетаемого:
ведь помимо Бёрни, в семье были еще и Аллены, и сводные братья и сестры,
и все они жили одним шумным домом.
Шли годы, и постепенно семья разрослась насколько, что дом на Поу-
лэнд-стрит не мог вместить их большое семейство. Начался переезд: сначала
переехали на Куин-стрит, а потом, в 1774 году, в дом на Сент-Мартин-стрит
в районе Лестер-филдз, который когда-то занимал Ньютон: в доме
сохранились его обсерватория и комната с разрисованными деревянными панелями.
Вот на этой-то тесной улочке в самом центре Лондона и обосновалось
семейство Бёрни. Правда, в жизни Фанни мало что изменилось с переездом:
она по-прежнему строчила в свое удовольствие, поскольку - признавалась
она - «не могу не записывать разные случайные мысли, что приходят
иногда в голову, - желание это сильнее меня»11. Только теперь, вместо летнего
домика, она использовала в качестве укрытия ньютоновскую обсерваторию.
В их новом доме на Мартин-стрит перебывало множество знаменитостей:
одни приходили порепетировать с д-ром Бёрни; другие - настроиться перед
спектаклем, как, например, великий Гэррик12: актер приходил со своим
парикмахером, и, пока тот трудился над его роскошной гривой волос, Гэррик
беседовал с доктором; кто-то оставался обедать - их семейные застолья
славились на весь Лондон живой непринужденной атмосферой; кого-то,
наоборот, привлекали более строгие музыкальные вечера, в которых участвовали
все дети д-ра Бёрни, игравшие на разных инструментах, тогда как сам он
«наяривал» на клавикордах, а какой-нибудь заезжий выдающийся музыкант
исполнял соло, словом, столько гостей повидал на своем веку их дом, что
память вылавливает только самые броские, самые неординарные фигуры.
Как не вспомнить, например, Агьяри с ее несравненным сопрано: говорили,
что в «младенческом возрасте ее покалечила свинья, и ей вынуждены были
приставить серебряный бок»13. А как не вспомнить путешественника
Брюса, который страдал поразительнейшим расстройством? «Стоило ему
заговорить, как желудок его приходил в сильнейшее волнение, издавая скрип,
оханье и вздохи, наподобие расстроенного органа. Никакого секрета он не
делал, говоря, что заболел в Абиссинии. Правда, был случай, когда это
состояние длилось у него дольше обычного, он находился в страшном
возбуждении, а "революция в желудке" была столь громкой, что гости не на шутку
встревожились»14. Описания гостей настолько живые, что невольно
задумываешься и об авторе: в зарисовках содержится автопортрет самой Фанни -
вроде легкомысленная девица, то с гостями посидит, то упорхнет, выхватит
какую-нибудь мелочь своими глазками слегка навыкате и тут же съежится,
стушуется. Но на самом деле, за внешней робостью и повадками полусонной
мухи скрывались большая зоркость и невероятная памятливость. Едва вечер
заканчивался, и гости расходились, Фанни поднималась в обсерваторию и по
свежим следам записывала все до последнего словечка, до малейшего жес-
Званый вечер у д-ра Бёрни
271
та в многостраничных посланиях своему любимому папочке Криспу,
жившему в Чезингтоне. Этот старый отшельник, в свое время оставивший свет
ради скромного уединения, был ужасно охоч до светских новостей, хотя он
и клялся Фанни в том, что не променяет ни на какие светские увеселения
бутылку хорошего вина у себя в погребе, лошадь в конюшне и партию в
триктрак на сон грядущий. Все-то ему расскажи, иначе он обидится на свою Фан-
никин, и не просто расскажи, а запиши на едином дыхании, в полную силу,
не пришпоривая пера.
Особенно интересовали Криспа «м-р Гревил и его идеи»15.
Действительно, к этой фигуре - м-ру Гревилу - были прикованы любопытствующие
взоры современников. Если бы не время, все затягивающее травой забвения, мы
бы, наверное, сегодня знали гораздо больше о м-ре Гревиле, а так, на
поверхности видны лишь самые очевидные черты его внешности, характера,
происхождения: так у полузатонувшей в пруду статуи торчит один нос. Известно,
что Фьюк Гревил был потомком одного из друзей сэра Филипа Сидни, и м-р
Гревил, судя по многократным упоминаниям, придавал этому факту большое
значение. Еще бы, ведь «его чело почти что украшала» корона пэров!
Роста он был высокого, хорошо сложен; «черты и цвет его лица дышали
мужской красотой»; «его повадка и стать выдавали благородство и достоинство»,
а движения были исполнены «сдержанности и изящества»16. К сожалению,
эти дарования и задатки, к которым следует добавить искусство верховой
езды, фехтование, умение блестяще танцевать и играть в теннис, повторяю,
задатки эти были сведены на нет очень серьезными изъянами:
высокомерием, эгоизмом и беспринципностью. К тому же он совершенно не умел
владеть собой и легко впадал в ярость. Достаточно сказать, что он согласился
познакомиться с д-ром Бёрни только из желания удостовериться, способен
ли музыкант составить приличную компанию джентльмену. Когда же он
обнаружил, что молодой Бёрни17 не только в совершенстве играет на
клавикордах, но изящно держит пальцы и движения его рук округлы; речь его
немногословна - только «да, сэр», «нет, сэр», - явный признак, что музыка
интересует его больше, чем благорасположение покровителя; что он знает
свое место - разговорился только после того, как Гревил напел что-то по
памяти и явно не в такт, поэтому Бёрни деликатно сменил тему, словом, только
после того, как Гревил убедился, что молодой Бёрни и талантлив, и
воспитан, и умен, и при этом не кичится своими достоинствами, он отнесся к нему
как к другу и как к ровне. На самом деле, Бёрни чуть не стал его жертвой.
Дело в том, что для потомка друга сэра Филипа Сидни существовал только
один смертный грех, именуемый словечком «fogrum»18. В это выразительное
слово Гревил, очевидно, вкладывал все свое презрение к достоинствам
буржуа - расчетливости, респектабельности, которые в его глазах не имели
ничего общего с аристократическими замашками, именуемыми словом «ton»*.
* Хороший тон (фр.).
272
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Последнее означало, что жить следует ярко, смело, напоказ, даже если такой
образ жизни сопряжен с огромными денежными затратами, даже если они
кому-то кажутся неоправданными или ненужными - например гостям,
которые обескураженно бродили по его владениям, вымученно превознося
введенные им новшества, или же архитектору, который равнодушно выполнил
заказ. Главное - уберечься самому и уберечь своих друзей от заразы,
именуемой «fogrum». Вот он и бросил никому не известного молодого музыканта
в водоворот Уайтса и Ньюмаркета19, а сам с любопытством наблюдал, стоя
на берегу, утонет или выплывет его приятель. Тот же не только выплыл, но
и показал завидные качества пловца, чем потомок друга сэра Филипа Сидни
остался весьма доволен. Вскоре из протеже Гревила Бёрни был произведен
в чин его наперсника, и, надо сказать, что лучшей кандидатуры в
доверенные лица блестящего аристократа нельзя было и желать. Ибо в душе Гревил
был одним из тех вечно сомневающихся несчастных, что живут раздвоенной
жизнью, терзаемые противоположными искусами, - будь у нас возможность
расчистить траву забвения, скрывающую от нас его личность, мы бы в этом
убедились. С одной стороны, желание быть на гребне моды и иметь «самое-
самое», каких бы денег или душевных сил оно ни стоило; с другой - тайный
червячок сомнения, нашептывающий ему, что «его ум рожден для
метафизики»20. Возможно, связующим звеном между двумя стремлениями, между
миром ton и миром fogrum служил именно Бёрни: благородное воспитание
было ему порукой в том, что люди крови принимают его за своего, и при
этом он - творческая личность, музыкант, рассуждает о высоких материях, и
в доме у них полно умников.
В общем, Гревил давал понять семейству Бёрни, что они с ним на
одной ноге, иначе он не стал бы бывать в их доме, что, кстати, часто
создавало неудобства для хозяина, милейшего д-ра Бёрни, поскольку визиты
нашего аристократа нередко заканчивались совершенно безумными выходками и
ссорами. Легче вспомнить, с кем Гревил в свое время не разругался. Ему не
везло в карты, он проигрался в пух и прах; репутация его в свете была
сильно подмочена; семья была на грани развала. Самое терпеливое существо на
свете, его жена, от природы мягкая, незлобивая, истончившаяся до
состояния прозрачности, так что впору, казалось, позировать портретисту в роли
«проницательной, могущественной и насмешливой королевы фей», даже
она устала от его бесконечных измен. Правда, результат получился
неожиданный: она написала знаменитую «Оду к равнодушию», «которая вошла во
все английские собрания стихотворений "на случай"» и (передаю слова
мадам Д'Арблэ) «увенчала ее чело неувядаемой благоуханнейшей гирляндой».
Впрочем, мужу женина слава была как кость в горле - как-никак он тоже
писал: его перу принадлежал целый том «Максим и характеров». Опубликовав
сей труд, он «с достоинством ждал, когда же его осияет слава - ждал
спокойно, без волнения»21, но, похоже, ждал напрасно: слава все не приходила, все
мешкала. А желания общаться с умными людьми не убавлялось, почему и
Званый вечер у д-ра Бёрни
273
затеяли, во многом по просьбе Гревила, тот вечер на Сент-Мартин-стрит:
вечер, как оказалось, исторический, и происходил он в холодную-прехолодную
ночь то ли 1777-го, то ли 1778 года.
II
В те времена Лондон был очень невелик - не чета нынешнему, и
людям было тогда гораздо проще прослыть известными, причем без каких-либо
особых усилий с их стороны: людская молва сама делала за них дело. Стоило
появиться на публике миссис Гревил, как все моментально вспоминали, что
это она написала «Оду к равнодушию», а если заходила речь о м-ре Брюсе,
то все знали, что это тот самый Брюс, который с такими последствиями для
здоровья путешествовал по Абиссинии. Поэтому стоит ли удивляться, что о
доме на Стретхеме, принадлежавшем некой миссис Трэйл22, было известно
всем и каждому? Несмотря на то что оды означенная дама не писала, с
туземцами не якшалась и не могла похвастаться ни титулами, ни огромным
состоянием, тем не менее миссис Трэйл слыла знаменитостью. Слава ее была
особого рода - какого именно, определить довольно трудно, для этого надо
было прийти к ней в гости, посидеть у нее за столом, поддавшись
очарованию тысячи разных мелочей, тонких намеков, смелых выпадов, знаков
внимания - словом, всего того фейерверка обаяния, жизнь которого исчисляется
одной секундой: короче говоря, у миссис Трэйл была слава непревзойденной
хозяйки дома. Она слыла таковой далеко за пределами своего круга. Человек
мог не быть знакомым с миссис Трэйл, ни разу ее не повстречать, и при этом
обсуждать достоинства ее салона и ее лично. Всем хотелось знать, какая она
из себя и правда ли, что она столь остроумна и начитана, как о ней говорят.
А может, она только притворяется? Не бесчувственна ли? Неужели любит
мужа, простого пивовара, с виду глуповатого? Вообще, зачем она за него
вышла? А д-р Джонсон, интересно, волочится за ней или нет? Словом, всем
хотелось знать, в чем секрет ее успеха, почему она имеет над людьми такую
власть. Да, у нее власть - иначе и не скажешь.
Но в чем именно она выражается, эта власть, сказать очень трудно.
Миссис Трэйл обладала одним редким неуловимым качеством, которое не
поддается определению, и при этом всегда вызывает споры: это умение быть
личностью. Например, в семействе Бёрни никто из молодежи в глаза не видел
миссис Трэйл и в доме ее на Стретхеме не бывал, но «круги по воде»,
оставленные о ней молвой, доходили и до них. Иначе почему бы они стали
наперебой расспрашивать отца о миссис Трэйл, едва тот вошел в дом после
первого урока музыки, который дал на Стретхеме дочери хозяйки, мисс Трэйл?
А что, она действительно так хороша собой, как ее описывают? Она
добрая или бессердечная? Ему она понравилась?.. Уже то, что д-р Бёрни был в
превосходном настроении, говорило о произведенном впечатлении - дальше
можно было бы не продолжать, но разве Фанни остановишь? Она, не стес-
274
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
няясь, приписывает отцу слова о том, что миссис Трэйл - «это звезда
первой величины среди женщин по остроумию; что она не только оправдывает,
но и превосходит приписываемую ей репутацию женщины,
необыкновенно одаренной, которой посчастливилось не зарыть свои таланты в землю, а
сделать их общим достоянием, выходящим далеко за пределами ее круга»23.
Простим Фанни - она писала это на старости лет, когда и стиль ее поблек, и
листья падали на землю один за другим, образуя толстый прелый слой.
Доктор, конечно, ничего этого не говорил: скорей всего он бросил домочадцам
на ходу, спеша по делам, что ему страшно понравилось у миссис Трэйл, она
умнейшая женщина, весь урок не давала ему слова сказать; без сомнений,
очень остра на язык - но он готов руку дать на отсечение, что в глубине души
она женщина добрая. А дети его все теребили, прося рассказать, какая она
из себя. Ну он и описал: выглядит моложе своих лет, а ей в то время было
под сорок, пышечка, миниатюрная, белокурая, голубоглазая, на губе то ли
шрам, то ли ссадина. Румянится - совершенно напрасно, заметил д-р Бёрни:
у нее от природы здоровый цвет лица. Очень живая, веселая и милая. Как
он выразился, она «большая проказница» - в ней нет ничего от «синего
чулка»: доктор терпеть не мог этот тип ученой женщины. Еще, если хорошенько
приглядеться, - она очень наблюдательная: это угадывается по ее шуткам;
она способна увлечься так, что теряет голову, - просто в доме на Стретхеме
ни у кого не было повода в этом убедиться; ее совершенно не заботит то, что
она слывет женщиной остроумной и образованной - она готова поделиться
своей славой, а то и вовсе подарить ее кому-нибудь, но вот ее родословная
составляет предмет особой гордости. Она очень ревностно относится к тому,
что вышла из старинной уэльской фамилии (не чета безродным Трэйлам!)
и в ее жилах, если верить ученым Хэралдз-колледжа24, течет кровь Адама
Зальцбурга.
Разумеется, не одна миссис Трэйл обладала этими достоинствами - ими
могли похвастаться многие женщины, однако о них почему-то никто не
помнит, а вот миссис Трэйл вошла в историю. И все благодаря таланту,
которого ни у кого, кроме нее, не было: она пользовалась дружбой д-ра Джонсона.
Если бы не это обстоятельство, жизнь ее скорей всего вспыхнула бы с
треском, как шутиха, и сгорела бы без следа. Но в паре с д-ром Джонсоном имя
миссис Трэйл приобрело весомость, устойчивость и какую-то особую
значимость, подобно произведению искусства. Достичь же этого, будучи
просто хорошей хозяйкой, невозможно: тут требуются куда более редкие
дарования. Вспомним, как начиналась их дружба: Джонсон впервые появился в
доме Трэйлов в состоянии жуткой подавленности - у него вырывались такие
страшные, такие отчаянные слова, что слышать их и не сострадать ему было
невозможно, и тогда миссис Трэйл взяла его руку и прижала ладонь к губам,
заставляя смолкнуть. Физическое его состояние было не лучше: он страдал
астмой и водянкой; ему было не до манер; его было слишком много; платье
грязное, парик подпален с одного боку, нижнее белье не свежее, и вообще
Званый вечер у д-ра Бёрни
275
он казался страшным грубияном. И вот это чудовище миссис Трэйл взяла в
свои ручки, увезла с собой в Брайтон25, а потом поселила у себя в доме на
Стретхеме, устроив для него комнату с отдельным входом, где он мог
спокойно проводить в их доме по нескольку дней в неделю. Верно, ее действия
могли быть продиктованы простым любопытством светской львицы, готовой
примириться с любыми неудобствами, лишь бы заполучить великого чудака
и оригинала д-ра Джонсона, на которого в Англии любой хотел бы поглазеть.
Только на миссис Трэйл это непохоже - эта дама была гораздо умнее и
тоньше. Она каким-то невероятным женским чутьем поняла, что д-р Джонсон -
редкий человек, крупная личность, масштабная фигура и что дружба с ним
делает тебе честь, хотя и сопряжена с известными трудностями. А ведь в то
время это было вовсе не так очевидно, как теперь. Тогда просто сообщали,
что к обеду ждут д-ра Джонсона, и у хозяйки сразу же возникали вопросы:
кого приглашать? Если кого-то из кембриджских, значит, жди ссоры; если
кого-то из партии вигов, будет спектакль, а если среди приглашенных гостей
окажется шотландец, поручиться ни за что нельзя - такие уж у знаменитого
гостя пристрастия и предрассудки. Следующий вопрос - что подавать к
столу? Ведь ни разу не было так, чтобы д-р Джонсон не проехался насчет
качества подаваемых блюд, и упаси боже хозяйку нахваливать пищу! - даже такую
изысканную, как мозговой горошек из собственного сада. Как-то раз миссис
Трэйл спросила его: «Не правда ли, приятный мозговой горошек?» Так что,
вы думаете, ответил ей этот странный человек? Он только что умял
несметное количество воздушных пирожков со свининой и олениной и, вместо
благодарности, отвесил: «Очень может быть, если ты поросенок». Еще один
важный вопрос - какие темы обсуждать на званом вечере? Живопись и
музыка его не интересуют, и, если о них зайдет речь, он скорей всего
отмахнется от разговора о таких несерьезных материях. То же самое - рассказы
путешественников: он верит только собственным глазам. Если же кого-то
угораздит в его присутствии выразить сочувствие по какому-то поводу, то
жди с его стороны обвинений в неискренности.
«Помнится, однажды я всплакнула о кузене, которого убили в Америке.
"Помилуйте, дорогая, - отозвался он, - не лицемерьте: представьте,
поубивали бы всех ваших родственников, как голубков, и зажарили бы к ужину,
так что же - мир от этого стал бы хуже?"»26
Короче говоря, званый вечер с д-ром Джонсоном сулил большие
хлопоты: если все хорошенько не продумать, можно сесть в калошу.
Если бы миссис Трэйл была обыкновенной охотницей за
знаменитостями, не стала бы она возиться с д-ром Джонсоном: ну поиграла бы с ним
сезон другой, угостила бы публику этой диковиной, и - до свидания. Но в том
и дело, что ей что-то подсказывало: надо смириться с его тычками,
выпадами, поддразниванием, жесткостью суждений, потому что... ну хотя бы
потому, что не было другой такой силы, которая способна осадить этого молодого
наглеца, этого выскочку Босуэлла27: стоит только Джонсону цыкнуть, и тот
276
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
идет на место, как двоечник или поджавшая хвост собачка! Где еще такое
увидишь? А сама она почему, бывает, сидит с ним до четырех часов утра,
подливает ему чаю? Нет, тут такая сила духа, перед которой пасует даже
надменный вьюноша, а опытная светская дама просто немеет, хотя в любой
другой ситуации ей палец в рот не клади. Всякий раз, когда он начинал бранить
ее за бессердечность, она не могла не признать его правоту: ведь кто, как не
он, тратил на себя всего лишь семьдесят фунтов в год, а остальную часть
дохода отдавал на содержание своих дряхлых и неблагодарных домочадцев?
Пусть он неряшлив за столом, груши ест прямо с дерева, но опять-таки кто,
как не он, неукоснительно уезжает на выходные в Лондон, чтобы проследить
за тем, что несчастные его родственники сыты и довольны? И это притом
что он настоящий кладезь знаний. Кажется, заговори с ним учитель танцев,
Джонсон и его за пояс заткнет. А как он расписывал в цветах и красках
лондонское дно, кишащее пьяницами и побирушками, от которых спасу нет -
обязательно дай им денежку на разживу! Многое из сказанного им походя
западало в душу, но располагало к нему даже не это - не его
феноменальная эрудиция и добродетель, а его милое эпикурейство, его страх
заделаться обыкновенным книжным червем, кабинетным ученым, и его жажда жить
полной жизнью и много общаться. А еще миссис Трэйл чисто по-женски
уважала его за смелость: как-то на ее глазах он разнял двух свирепых псов,
схлестнувшихся не на живот, а насмерть прямо в гостиной м-ра Бокларка, а
другой раз в театре он просто поднял обидчика вместе с креслом и
швырнул в оркестровую яму; и был еще один случай, когда он полуослепший,
замученный тиком, отправился верхом на охоту в Брайтельмстоун Даунз28
и провел там целый день, резвясь как щенок - если вообще можно так
сказать о страдающем от собственных тучности и болячек дородном господине.
И потом, она всегда чувствовала, что между ними есть какое-то внутреннее
родство: она умела его разговорить - с ней он делился такими секретами, о
которых никогда ни с кем не заговорил бы. Ходили слухи, что он даже
открыл ей какую-то тяжелую тайну своей юности, которую она унесла с собой
в могилу. И, наконец, самое главное - оба были страстные говоруны: хлебом
не корми, дай побеседовать.
Короче говоря, если приглашать д-ра Джонсона, то через миссис Трэйл,
а на меньшее, чем на встречу с Джонсоном, м-р Гревил не соглашался. Как
известно, свое знакомство с именитым гостем д-р Бёрни возобновил
благодаря миссис Трэйл, когда начал учить музыке ее дочь, и получилось так,
что первый же урок проходил в присутствии д-ра Джонсона, «пребывавшего
в благодушнейшем настроении». А вообще-то знакомство они свели много
лет назад, когда д-р Бёрни написал д-ру Джонсону письмо и поздравил его с
выходом словаря29. Джонсон об этом знаке внимания помнил; не забыл он и
о другом случае: когда д-р Бёрни пришел к нему домой с визитом, не застал
и, не растерявшись, срезал несколько прутиков с веника возле входной двери
и послал отсутствовавшему хозяину - в знак признательности и как напоми-
Званый вечер у д-ра Бёрни
277
нание о несостоявшейся встрече. Когда же они снова увиделись много лет
спустя в доме на Стретхеме, д-р Джонсон моментально проникся симпатией
к д-ру Бёрни, и вскоре последовал ответный визит: д-р Джонсон, в
сопровождении миссис Трэйл, пожаловал к Бёрни, чтоб посмотреть его книги.
Поэтому Бёрни было относительно легко пойти навстречу горячему желанию
м-ра Гревила встретиться с д-ром Джонсоном и миссис Трэйл, для чего и был
устроен званый вечер в один из дней в самом конце зимы то ли 1777-го, то ли
1778 года. Выбрали день и разослали приглашения.
Хотя мы не знаем точную дату той встречи, но можно предположить, что
отмечена она была в календаре хозяина дома жирным вопросительным
знаком. Почему? - спросите вы. Да потому, что ожидать можно было чего
угодно. Когда сходятся такие одиозные и полярные личности, вечер может
выйти на славу или, наоборот, - закончиться полным провалом. Посудите сами,
какая получалась гремучая смесь - устрашающий интеллект д-ра Джонсона
вкупе со снобизмом м-ра Гревила, помноженные на тщеславие миссис Гре-
вил и особого рода известность миссис Трэйл. Во всяком случае, событие
намечалось неординарное - это было ясно как божий день. Публика
замерла в ожидании, остряки заточили перья... Нельзя сказать, чтобы д-р Бёрни
оставался глухим к предостережениям - нет, он попытался, что называется,
подстелить соломку, но как-то неумело, неумно, что ли. Вроде и энтузиаст,
добряк, всегда нарасхват, голова, как письменный стол, набита партитурами,
а ясного понимания ситуации нет. Контуры человеческих характеров в его
представлении размыты и напоминают клочки розового тумана. Он
наивно полагал, что музыка служит панацеей от всех бед: музыку нельзя не
любить, она помогает решить все проблемы. Почему он и пригласил синьора
Пьоцци30.
И вот долгожданный вечер настал, затопили камин, в гостиной
расставили стулья - словом, все было готово к приему гостей. Однако с самого начала
стали сбываться худшие предчувствия д-ра Бёрни: гости еще не успели
рассесться, а в зале уже воцарилась неловкость. Д-р Джонсон пожаловал на
вечер в лучшем своем парике, всем своим видом давая понять, что предвкушает
интересную беседу в приятной компании. А м-р Гревил, вопреки
ожиданиям, очевидно, испугался старого льва и решил лучше не ввязываться в спор
и благоразумно подождать, предоставив маститому литератору право сказать
первое слово. Видимо, поэтому, пробормотав что-то невнятное про зубную
боль, он «напустил на себя надменный отрешенный вид и, скрестив на груди
руки, встал, подобно римской статуе, у камина, спиной к жаркому огню»31.
Стоял и безмолствовал. Миссис Гревил, может, и хотелось отличиться, но
она сочла неприличным начинать раньше д-ра Джонсона и поэтому тоже
решила отмолчаться. Растопить лед, конечно, могла бы миссис Трэйл, но ей,
видно, не захотелось играть первую скрипку, и она решила оставить это
право за главными персонами. Дочка Гревилов, прелестная, живая миссис Кру,
вообще не предполагала выступать - она пришла провести приятный вечер
278
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
в обществе умных людей, так что, естественно, она сидела, как воды в рот
набрав. Все молчали. Стояла гробовая тишина. Тут д-р Бёрни, не иначе как
похвалив себя за предусмотрительность, вспомнил о заранее заготовленном
спасительном круге: он кивнул сидящему напротив синьору Пьоцци, тот
подошел к инструменту и запел. Он исполнял aria parlante*, аккомпанируя себе
на клавикордах. Он был в тот вечер в голосе и пел великолепно. Казалось бы,
его пение должно снять царившее напряжение и развязать языки сидящим в
гостиной, однако получилось все наоборот: музыка еще сильнее
«заморозила» гостей. Все сидели, будто языки проглотив, ожидая, что вот-вот сейчас
д-р Джонсон начнет. А д-р Джонсон все не начинал, да и не мог начать: увы,
присутствовавшие на свою беду не знали о маленькой подробности -
единственное, чего д-р Джонсон в своей жизни никогда не делал, это начинать
первым. Он всегда ждал, что кто-то сделает первый шаг, заявит тему, а там
как получится: либо он поддержит интересный разговор, либо камня на
камне не оставит от предложенной темы. И сейчас было то же самое: он ждал,
когда ему покажут красную тряпку. Но почему-то этого не происходило, все
молчали, никто не решался сломать лед. А синьор Пьоцци продолжал
разливаться соловьем. Видя, что вечер безнадежно испорчен - треск клавикордов
не прекращается, д-р Джонсон отвернулся от инструмента и сидел,
погрузившись в задумчивость, глядя из-под полуприкрытых век на огонь. Рулады
разливались рекой, и тут у миссис Трэйл лопнуло терпение. Не из-за музыки,
а из-за беспардонного поведения м-ра Гревила: тот стоял как истукан,
спиной к камину и «молча, не скрывая саркастической усмешки, наблюдал за
всей честной компанией»32. По какому такому праву он один греется у
камина, да еще позволяет себе насмехаться над гостями? Ну и что с того, что он
потомок друга сэра Филипа Сидни? И тут в ней вдруг взыграла собственная
гордость: разве в ее жилах не течет кровь Адама Зальцбурга? Разве она чем-
то уступает голубым кровям рода Гревилов? Да она еще несколько очков
вперед даст им по голубизне! И такая в ней вскипела обида, что она поднялась
со своего стула и на цыпочках подкралась к клавикордам. Синьор Пьоцци ее
не видел - она стояла у него за спиной - и продолжал страстно петь,
аккомпанируя себе на инструменте. И что, вы думаете, делает миссис Трэйл? Она
начинает, как мартышка, повторять его жесты: то пожмет плечами, то закатит
глаза, то поведет головой точь-в-точь, как он. Естественно, ее телодвижения
не остались не замеченными - гости прыснули, раздалось сдавленное
хихиканье, как потом рассказывали, этот спектакль, устроенный миссис Трэйл,
«обсуждали по всему Лондону, в каждом салоне, с добавлением все новых и
новых пикантных подробностей»33. Свидетели же этой комедии усматривали
прямую связь между разыгравшейся в тот вечер сценой и обнаружившейся
вскоре после преступной любовной интригой, судача о том, что та встреча
у д-ра Бёрни оказалась прелюдией к «совершенно потрясающей любовной
* Речитатив, скороговорка (ит.).
Званый вечер у д-ра Бёрни
279
драме»34, из-за которой миссис Трэйл лишилась уважения друзей и детей и
была вынуждена бесславно покинуть Англию и больше никогда надолго не
возвращаться в Лондон, другими словами, то было завязкой неблаговидной
и необъяснимой страсти миссис Трэйл к заезжему музыканту35. Впрочем,
не будем забегать вперед. Во время описанных выше событий никто из
гостей и не догадывался, на какое коварство способна эта веселая дама. В тот
момент - она все еще добропорядочная супруга состоятельного
лондонского пивовара. Хорошо еще, что д-р Джонсон, сидевший спиной к музыканту,
ничего не видел. Зато д-р Бёрни видел все как на ладони и стерпеть такого
позора не мог. Его потрясло, что к гостю - пусть он хоть трижды
иностранец и музыкант - проявили неуважение в столь оскорбительной форме, и он,
бочком придвинувшись к миссис Трэйл, вежливо, но твердо прошипел ей в
ухо, что так себя не ведут, что в зале она не одна. Ничуть не смутившись, та
кивнула в знак согласия и вернулась на свое место. Но, как говорится, мавр
сделал свое дело: большего от нее ждать было нечего. Пускай они теперь
выкручиваются как хотят, а она умывает руки, и, сев на стульчик, «как
послушный ребенок»36 (ее слова, сказанные уже после), она приготовилась досидеть
до конца «скучнейшего вечера в ее жизни»37.
Что же до д-ра Джонсона, то едва ли кто-нибудь из гостей стал бы
досаждать ему теперь, когда прием уже подошел к концу. И он, по-видимому,
решил для себя, что вечер безнадежно убит; во всяком случае, по части беседы.
Не исключено, что он ругал себя за выходное платье - не нарядись он,
непременно захватил бы с собой в кармане книгу: сейчас было бы чем заняться. А
так, делать нечего: остается копаться в собственных познаниях, а поскольку
они бездонны, то мысль его безостановочно работала, хотя со стороны могло
показаться, что он дремлет, сидя спиной к клавикордам, являя собой саму
серьезность, достоинство и сдержанность.
Наконец, aria parlante закончилась, синьор Пьоцци раскланялся и тихо
сел в уголке: говорить было не с кем. Тут уже и д-р Бёрни смекнул, что
музыка - не панацея, однако менять что-то в программе вечера было поздно. Раз
гости молчат, пусть за них скажет слово музыка! И предложил дочерям спеть
дуэтом. Те спели и, за неимением лучшего, спели еще раз на бис. Синьор
Пьоцци к тому времени заснул, а может, притворился, что спит; д-р Джонсон
по-прежнему копался в бездонном кладезе своих познаний, а м-р Гревил как
стоял, так и продолжал стоять истуканом, спиной к камину. Холодало.
Впрочем, если кто-то наивно полагал, что д-р Джонсон дремлет в
покойном кресле, не замечая того, что происходит у него под носом, ибо он
слишком занят своими мыслями, да к тому же стар и подслеповат, - тот глубоко
ошибается: не знает он д-ра Джонсона. Его так называемые «прозрения»38
были всегда внезапны и ничего хорошего окружающим не сулили. Так
вышло и на этот раз. В какой-то момент д-р Джонсон открыл глаза, выпрямился
и отчеканил слова, которые публика ждала от него целый вечер.
280
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«Если я из вежливости уступил теплое местечко дамам, - произнес он,
выразительно глядя на м-ра Гревила, - это не значит, что при других
обстоятельствах я не занял бы его сам!»39
Слова его возымели потрясающее действие: как впоследствии
рассказывали дети д-ра Бёрни, потомок друга сэра Филипа Сидни совершенно
стушевался - он не знал, куда спрятаться от взора д-ра Джонсона; в то же время
гордость Бруков не позволяла ему снести оскорбление от сына
книготорговца. Поэтому самое большее, что он смог сделать, - это презрительно
улыбнуться уголками рта и остаться стоять там, где он простоял весь вечер.
Впрочем, долго оставаться в этой позе он уже не мог: от силы две-три минуты
поулыбался, а когда огляделся и увидел, что все смотрят в пол и давятся
смехом из чувства солидарности с сыном плебея, он сник и пошел, едва заметно
сутулясь, на свое место. Посидел для приличия, а потом, схватив
колокольчик, «зазвонил что было мочи»40, требуя карету.
«Так закончился тот вечер, и более ничего подобного не повторялось, да
и не сказать, чтобы кому-то очень хотелось»41.
ДЖЕК МИТН
Вам интересно узнать, кто расположился рядом в шезлонге на брайтон-
ской набережной1, усеянной отдыхающими? Тогда посмотрите, с какой
колонки - политических или церковных новостей - начнет читать «Тайме»
ваша соседка: в-о-о-н у нее сверху на сумке лежит свернутый наподобие
французского батона свежий выпуск. Что - ни политика, ни церковь ее не
интересует? Она сразу открывает спортивную хронику? Да, вот уж не подумал
бы по внешнему виду, что дама увлекается спортом: башмаки, чулки, все как
надо, скорей, ее можно принять за служащую какого-нибудь департамента,
у которой в сумке лежат последнее постановление парламента,
правительственный отчет, пачка печенья, чтоб перекусить между делом, и одинокий
банан - на десерт. И вообще она, кажется, попала сюда случайно: просто
присела погреться на брайтонском солнышке, передохнуть перед тем, как снова
ополчиться на несправедливость существующей общественной системы, и
дела ей нет до вышки, с которой ныряет и ныряет в воду мадам Розальба2,
ловя на лету все что ни бросит в воду публика, от монеток до суповых
тарелок. И тем не менее, начинает дама со спортивной хроники.
Хотя, если подумать, в этом нет ничего странного. Кто только в Англии
не увлекается спортом! - все от мала до велика: что любители полежать на
диване, отродясь не пробовавшие верховой езды даже на ослике, что
женщины, которые мухи не обидят, что безработные, что отчаянные
карьеристы... Все они - большие охотники до скачек: их хлебом не корми, дай только
почитать про Беркли, Кэтисток, Куорн и Белвуар3. С каким удовольствием
Джек Мити
281
смакуют они непривычные, чудные, ласкающие слух англичан
географические названия: какой-нибудь Хамблби, Додлз-хилл, Кэролайн-Бог, Уиниатс-
брейк4. Читая про то, как они «шли ноздря в ноздрю», как «переходили на
бешеный галоп», наши охотники уносятся в воображении в заоблачные дали
(трясясь в вагоне метро после работы или гоняя чаи за утренней газетой у
себя на даче). Перед их мысленным взором расстилаются луга, в ушах
раздаются стук копыт и отчаянный визг борзых собак, открываются
необъятные дали Лестершира, а вечером они, усталые и довольные, разъезжаются
по домам, представляя, как в окнах окрестных ферм загораются огни... Да,
английские мастера охотничьего жанра - и Бекфорд, и Сент-Джон, и Сер-
тиз, и Нимрод5 - дело свое знают: пишут так, что только искры летят из-под
пера, только пыль столбом из-под копыт! Разумеется, их опусы не могли не
сказаться на состоянии языка: вся эта верховая езда, эти трюки, то ветер, то
дождь, то ты весь в грязи с головы до пят - все это въелось в самую ткань
английской прозы и придало ей ту самую порывистость и угловатость, те
головокружительные образы «от фонаря» (то бишь схваченные на лету, на
марше, вскачь, во весь опор), которые так разительно отличают ее от
французской словесности, заметьте, не в пользу отечественной. Здесь не место
задаваться вопросом о том, насколько английская поэзия оказалась
зависимой от охоты и звероловства, хотя все знают, что даже Шекспир был
наездник хоть куда, и факт этот не требует доказательств. Так стоит ли удивляться,
что современная англичанка предпочитает политической болтовне новости
спорта, и что ж ругать ее за то, что, сложив газету и спрятав ее в сумку, она
достает оттуда не правительственный отчет, как мы предполагали, а книжку
в яркой суперобложке, и под улюлюканье толпы, напряженно следящей за
прыжками мадам Розальбы, под барабанный бой уличного оркестра и плеск
зеленой волны Ла-Манша о каменный парапет, ударяется в жизнеописание
Джека Митна6?
Достойным этого героя назвать трудно. Он, верно, происходил из
старинного шропширского рода7 (исконное имя его предков - Матн8, так ведь
и Бронте изначально звались Пранти9), почему и унаследовал славное
поместье10 и значительное состояние. Ему, появившемуся на свет в 1796 году,
было на роду написано продолжить славную политико-спортивную
традицию, которую до него в течение пятисот лет успешно развивали его предки.
Однако в жизни семейств случается всякое - это как времена года: одна
полоса сменяет другую. За проливными дождями и сыростью - или, продолжая
сравнение, за десятилетиями преуспевания и благополучия - наступает
период бурь, как во время равноденствия: дни и ночи напролет дует страшный
ветер, вырывая с корнем фруктовые посадки и уничтожая будущий урожай.
Бывает, что и молния ударит в крышу, и тогда «красный петух» в одночасье
может спалить всю постройку. Так вот, у колыбели Джека Митна сошлись,
похоже, две благодетельницы - Природа и Фортуна, и сговорились они
возложить на его младенческие плечи бремя, которого не вынес бы и человек,
282
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
гораздо более закаленный, чем он: природа наградила его железным
несокрушимым здоровьем, а фея преуспевания осыпала его золотым дождем,
отписав ему такое наследство, которое при всем желании невозможно быстро
промотать. Словом, природа и общество оказались заодно в своем желании
заставить Митна бросить им перчатку. Что он и сделал. Он ходил на
охоту чуть ли не босым - в одних тонких шелковых чулках; часами мок под
проливным дождем, переплывал через горные реки, снимал с петель ворота,
спал голым на снегу - и ничто его не брало: был здоров как бык. Бриджи ему
шили по специальному заказу - без карманов, так что банкноты пачками
валялись повсюду, где он прошел или проскакал верхом, - и все равно денег у
него не становилось меньше. Детей у него было пруд пруди - и что он
только с ними не вытворял! И подбрасывал вверх, и пулял в них апельсинами; а
о женах и говорить нечего: мучил он и терзал их так, что одна не выдержала
и скончалась, а другой посчастливилось убежать. Рассказывают, что, бреясь,
он обычно ставил на столик стакан портвейна - хватало ровно на то, чтобы
побриться, а за день он выпивал бутылок пять-шесть вина, ничем не
закусывая, если не считать орешки, которые он поглощал килограммами. В его
поведении не было середины - он все доводил до крайности, и в этом смысле
являл собой не частный случай, а некую общую закономерность. Он казался
воплощением духа и плоти первобытного человека, жадного, ненасытного, -
точно восстало из-под земли в том самом месте, где когда-то давным-давно
наши волосатые предки совершали жертвоприношения и славили
восходящее солнце, восстало, - повторяю, - пещерное существо и понеслось с
гиканьем и свистом за королевскими охотничьими времен Георга IV11. Самое
туловище Джека Митна, казалось, отлито из более древнего и прочного
материала, чем тело современного человека. Ни особой красотой, ни осанкой, ни
изящными манерами он не отличался, но чего у него было не отнять, так это
естественной грации природного человека, который, пусть он сто раз дикарь
духом и плотью, ступает по родной земле гордо и независимо. По словам
Нимрода12, говорил он редко и мало, но даже нескольких слов, им
произнесенных, хватало, чтобы вызвать у окружающих смех; а состояние ступора, в
котором, казалось, он пребывал, лишь увеличивало общую неловкость,
которую производило в обществе его появление, и в итоге его одаренность, - а
он был-таки наделен особой остротой видения, - совершенно пропадала на
фоне общей заторможенности.
И что же, спрашивается, первобытному человеку делать в Англии
времен короля Георга IV? Ему остается только одно: заключать пари и делать
ставки. Что - нынче ночью река вышла из берегов? Так он на спор проедет в
бричке по залитому водой полю при свете луны! Что - подморозило? Он
сейчас же поставит своих конюших на коньки и устроит крысиные бега. Он не
ослышался? - кто-то из гостей имел неосторожность сказать, что никогда не
переворачивался вместе с бричкой? Так Джек Митн сейчас ему это устроит!
И Митн тут же закладывал коляску и опрокидывал ее вместе с незадачли-
Джек Мити
283
вым седоком в ближайшую канаву. Кажется, поставь на его пути любое
препятствие, и он непременно перемахнет через него, переправится, преодолеет
его, а не преодолеет, так изрубит в щепки, даже если ему это будет стоить
сломанной ключицы или перевернутой брички. Спасовать перед опасностью
или застонать от боли - это не про него. Он не переставал изумлять шроп-
ширских крестьян (помните на картинах Олкена и Ролинза?13): то вдруг
вырастет в воротах собственного дома и, схватив под уздцы переднего
жеребца, остановит на полном скаку весь цуг; то оседлает медведя и ну кататься
на нем верхом по гостиной; то полезет с голыми кулаками на бульдога; то на
спор вытянется между передних ног нервной лошади, а то еще найдет
«забаву» - раненый, со сломанными ребрами вызовется прокатиться верхом, да
так, чтоб не издать ни звука, хотя ясно, что малейшее движение причиняло
ему нестерпимую боль. Конечно, земляки изумлялись, возмущению их не
было предела - по округе ползли слухи о его выходках, изменах и поистине
королевской щедрости, но почему-то ни один судебный пристав ни в одном
из четырех соседних графств не решался арестовать возмутителя
спокойствия. Похоже, в глазах окружающих Джек Митн был исключением из
правил - не человек, а кремень, угроза существованию, и они взирали на него не
без благоговения, хотя большей частью презирали и жалели.
Однако сам Джек Митн - ему-то каково было? Что, он катался как сыр
в масле, жил на полную катушку - и никаких тебе колебаний, никаких
уколов совести? Судя по всему, варвар, живший в нем, был доволен, хотя
интересно, что Нимрод, которого трудно упрекнуть в особой
проницательности, пожалуй, не был бы так категоричен, отвечая на риторический вопрос:
«Действительно ли покойный г-н Митн жил в свое удовольствие, купаясь в
роскоши?» По мнению Нимрода, и да и нет. Да, у Джека Митна было все, что
может только пожелать смертный, но «радости жизни» он не знал. Ему все
наскучило, ничто его не радовало. Как пишет биограф: «...его глодало
беспокойство, и он напоминал загнанную в угол гиену»14. Он хватался за все
подряд, жадно предвкушая наслаждение, только почему-то плоды этого самого
наслаждения, едва он прикасался к ним, теряли вкус и аромат. Положим,
дома его ждал изысканный обед, а он, вместо того чтобы подождать
немного до положенного часа, ехал на ферму и обжирался там окороком, заливая
его пивом, а потом отчитывал своего повара, что тот-де не умеет готовить.
И все равно, он и обед в себя впихивал, хотя аппетит был испорчен,
сдабривая еду крепким бренди, поскольку портвейн казался уже слабым и
безвкусным, пытаясь таким образом вздрючить дряблый организм. «Его точно гнал
внахлест какой-то дух саморазрушения»15. В каждом жесте он был
по-своему великолепен, силен и расточителен до невероятности, «...сломался г-н
Митн из-за собственной широты души, - пишет Нимрод, - помноженной на
гордость благородного человека, которому претят мелочность и
осмотрительность»16.
284
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Как бы ни было, к тридцати годам Джеку Митну удалось невозможное -
обыкновенный человек этого не сумел бы: из человека с железным
здоровьем он превратился в развалину, спустив почти до последнего гроша все свое
громадное состояние. Точнее, состояние своих предков, поскольку родовое
поместье, откуда он с позором был выставлен, принадлежало нескольким
поколениям его отцов, дедов и прадедов. Когда его выдворяли из родного
гнезда, он ничем не напоминал первозданного человека, пышущего
здоровьем и брызжущего энергией, напротив, это был «ссутулившийся, опухший
от пьянства, нетвердо стоящий на ногах, еще не старый, но безнадежно
истаскавшийся тип»17: его погрузили на судно, вместе с другими искателями
приключений, и отправили в Кале. Но он и там, в компании бродяг и прочих
темных личностей, не мог не ощущать себя Джеком Митном: ему
обязательно нужно было покрасоваться, затмить всех и вся. Упаси господь, кому-то из
собутыльников панибратски назвать его «Джонни» или предложить отвезти
домой на извозчике - на меньшее, чем на четверку лошадей, он не согласен!
Либо подавай ему цуг, либо он идет до дому пешком. А потом приключилась
такая история: вечером в спальне схватила его икота, и он, недолго думая,
взял с камина горящий подсвечник, поджег на себе рубаху и вышел, шатаясь,
в коридор эдаким ярким факелом - смотрите, мол, как Джек Митн
расправляется со злодейкой икотой! Вам все мало, люди? На что еще, боги, вы
желаете обречь свою жертву? Он чуть не сжег себя заживо - какие после этого
у общества могут быть к нему претензии? Всё! Больше первородного
человека не существует. Не пора ли теперь Джеку Митну явить свое второе «Я» -
«Я» цивилизованного человека, которое жило в нем все эти годы наряду с
варваром? Когда-то он учил древнегреческий, и, видно, не забыл, несмотря
на ожоги и беспробудное пьянство: лежа в постели, он процитировал по
памяти «пронзительный отрывок из Софокла, когда Эдип поручает Креонту
позаботиться о его детях»18. Во всяком случае, древнегреческую
хрестоматию Джек Митн еще помнил. Потом его перевезли на морской курорт, и там
он увлекся собиранием морских ракушек: радовался им, как малый ребенок,
и с трудом досиживал до конца обеда, так не терпелось ему заняться своими
поделками, которые он промывал «кисточкой для ногтей, смоченной в
уксусе»19. Как пишет его биограф: «...тот, кому еще недавно целый земной шар
казался малостью... теперь был счастлив, как дитя»20. Увы, обратного хода
не было: Софокл, ракушки, покой и умиротворенность - все это, конечно,
хорошо, но процесс разрушения зашел слишком далеко, остановить его было
нельзя: организм был вконец изношен, деньги кончились, он все больше
впадал в детство. Поэтому, когда по решению Королевского суда его заключили
в тюрьму, дни его были сочтены: там он и умер в возрасте тридцати восьми
лет. В день похорон все было как надо: и безутешная вдова рыдала,
повторяя, что «любит его, подлеца», и гроб стоял на катафалке, запряженном
четверкой лошадей, и три тысячи бедняков шли за гробом, оплакивая кончину
смертного, который, по воле богов, взвалил на себя непомерное, чудовищное
Автобиография Де Квинси
285
бремя и, сколько мог, тащил его в назидание человечеству, на радость
ближним и себе в несчастье.
Самое интересное - нам нравятся такие бурные проявления
человеческой природы. Мы почему-то приходим в восторг при виде какого-нибудь
горячего охотника вроде Джека Митна, который, что называется, каленым
железом выжигает у себя икоту. Обожаем нырялыциц типа мадам Розальбы:
вот она поднимается все выше и выше, запахнув у горла купальный халат,
а потом, дойдя до самой верхней ступеньки, сбрасывает его с плеч с
равнодушным и пресыщенным видом и, словно отринув от себя земную жизнь,
страдания, безумства, она бросается головой вниз, в мутные воды
Ла-Манша, - на радость неизвестно каких богов, себе на несчастье, - а потом
выныривает, зажав в зубах двухпенсовую монетку или суповую миску. Дама
в шезлонге только потирает ручки от удовольствия - нет, говорит она, все-
таки люблю я людей.
АВТОБИОГРАФИЯ ДЕ КВИНСИ
Наверное, читатель часто удивляется тому, что о прозе по-английски
написано очень мало достойной критики - наши великие умы все больше
занимаются поэзией. И если задуматься о причинах такого положения дел,
когда проза почему-то не увлекает критика, не побуждает его выпустить весь
его критический пар, а в лучшем случае заставляет отписаться или обсудить
личность литератора, что на деле выражается в выдергивании из
рецензируемой книги какой-нибудь одной темы и обыгрывании ее в собственной
критической статье, так вот, повторяю, причину такого положения дел следует
искать в отношении самого прозаика к творчеству. Даже тот, для кого проза
является искусством, а не средством решения тех или иных практических
вопросов, даже он рассматривает прозу как послушное вьючное животное,
которое можно нагрузить чем попало, - все стерпит; или же как лужу, куда
можно слить и грязь, и помои, и дохлых мух присовокупить «для оживля-
жа». И это притом что чаще всего прозаика вообще не интересует высокое, и
он преследует вполне практическую цель - например, доказать теорию или
отстоять свою правоту, и в какой-то момент он замечает философски, что
все эти сложные, трудные и высокие темы не для него. Соль не в них, а в
том, чтобы писать здесь и сейчас: в этом видит он свой писательский долг.
Он журналист и этим гордится. Его задача состоит в том, чтобы
простейшими словами и как можно быстрее достучаться до возможно большего числа
читательских сердец. Так стоит ли ему пенять на критику, если его
писательский труд - это всего лишь раздражитель, такой же, как песчинка, когда
ее помещают в раковину устрицы: своими произведениями он призван
служить созданию истинных перлов в каком-то ином виде искусства? Стоит ли
286
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
сетовать на то, что, послужив благому делу и достигнув желанной цели, его
страницы, как любой другой отработанный материал, преспокойно
отправляются на свалку?
Но порой случаются чудеса - мы сталкиваемся с таким языком прозы,
который был подсказан совсем другим писательским замыслом, нежели
намерением с кем-то поспорить, обратить кого-то в свою веру или просто
рассказать историю. Случается, что мы вчитываемся в сами слова, и нам этого
хватает: мы не ищем скрытый смысл, читая между строк, не отправляемся в
долгое плавание, ища разгадку в психологии самого писателя. К таким
чудесам света, безусловно, принадлежит Де Квинси1. Стоит нам задуматься о его
творчестве, и в памяти моментально всплывают мерные чеканные пассажи,
как, например, вот этот:
«''Конец всему V подсказывало мне сердце, ведь чуткое детское сердце
не обманешь - оно знает про себя, как порой иной мудрец не ведает, что в
двери постучалась беда. "Конец всему] Все кончено]" прорывалась невольно
сквозь вздохи мысль, как бы сама себе не веря, боясь и желая ошибиться, а
внутренний голос, шедший из самой глубины души, будто бухающий где-то
вдалеке летними сумерками колокол, повторял и повторял беззвучно,
безостановочно страшную весть, о которой в целом мире знало одно лишь мое
детское сердце: "...не бывать больше радости жизни"»2.
В автобиографических заметках Де Квинси такие описания не редкость,
они органично вписываются в повествование, поскольку речь в них идет о
сновидениях и мечтаниях, а не о поступках или ярких событиях. И что
интересно - читая, мы почему-то не думаем о самом Де Квинси. Если
попытаться разобраться в собственных ощущениях, мы, наверное, придем к выводу,
что воздействие его прозы сравнимо с музыкой: ум читателя спит, зато
разбужены чувства. Каденции фраз убаюкивают тебя и уносят как на крыльях,
куда-то далеко-далеко, за черту сиюминутного и суетного. И это так
вольготно действует на твое душевное состояние, что ты незаметно для самого
себя открываешься навстречу идеям, которые Де Квинси неспешно, одну за
другой, в мерной последовательности, передает читателю: идею солнечной
полноты бытия, величия раскинувшегося над головой неба, великолепного
ковра цветов под ногами - все это он отмечает, стоя в летний день «у
раскрытого окна, а за спиной у него лежит мертвое тело»3. Раз прозвучав, тема эта
дальше развивается, варьируется, обогащается новыми оттенками. Мысль о
скоротечности сущего, внушающая трепет и желание поймать мимолетное,
лишь усиливает общее впечатление покоя и вечности, разлитых в мире:
колокола звонят к вечерне, ветер, печальный вековечный ветер, шевелит
верхушки пальм - эти сменяющие друг друга волны эмоций поддерживают в
нас одно и то же настроение. Какое именно настроение, нигде не говорится,
скорей, повторяющиеся образы подсказывают, что за чувство нами владеет,
постепенно обыгрывая, высвечивая его, пока оно наконец не явится перед
нами во всей своей многослойности и законченности.
Автобиография Де Квииси
287
В прозе редко кто решается на такое, и редко у кого из писателей
получается завершенное описание. Ведь завершенность ничем не оправдана: она
ничего не добавляет к нашему впечатлению о середине лета, смерти,
бессмертии - мы так и не узнаем, чьи же это чувства, кому принадлежат
слуховые и зрительные ощущения. Таков замысел Де Квинси: скрыть от нас все,
кроме образа «одинокого ребенка, в одиночку пытающегося противостоять
горю - этой черной бездне, этой бездонной печали, которую никогда не
выплакать»4, тем самым побуждая и нас погрузиться в то же чувство и
исследовать его до самых корней. А это, согласитесь, общий, не частный случай.
Почему, собственно, замысел Де Квинси и идет вразрез с обычными
намерениями и этикой прозаика: художник ставит своего читателя перед сложной
задачей - разобраться в смысле, порожденном не столько рассудком,
сколько эмоциональным опытом; постичь не только тот факт, что ребенок стоит
возле постели, но и представить себе мертвую тишину, солнечный свет,
цветы, бег времени и непреложность смерти. Такое простыми словами, строго
по порядку, не передать: видимая простота и ясность лишь исказят и
извратят подлинный смысл. Сам Де Квинси, конечно, прекрасно осознавал, какая
пропасть отделяет его как художника с такими идеями от современников: не
случайно он рано отказывается от гладкописи, принятой в его время, и
обращается к Милтону, Джереми Тейлору и сэру Томасу Брауну5 - вот откуда
у него это длинное, многослойное, упругое предложение, оно то распустит
кольца, то сожмется в пружину, увлекая нас за собой к неведомой вершине.
Естественно, такая сверхзадача требовала от художника строжайшей
самодисциплины, постоянной проверки слуха - и слух требовался
действительно абсолютный: на звучание каденций, на долготу пауз, на число повторов,
на созвучия, консонансы... В этом деле не может быть мелочей: если хочешь
развернуть перед читателем сложность явления в его полноте и
законченности, ты будешь художником в каждой детали.
Если, после всего сказанного, вернуться к отрывку, который произвел
на нас столь глубокое впечатление, и посмотреть на него критически, то
обнаружится, что создавался он во многом так же, как писал стихи, положим,
Теннисон: то же бережное отношение к звуку, то же богатство ритмических
модуляций, та же игра длиной и весом фразы. Только у Де Квинси все эти
приемы не так очевидны, как у Теннисона, и, кроме того, они рассосредото-
чены на более широком пространстве, поэтому и переход от нижних
регистров к регистрам более высоким осуществляется постепенно, как бы мелкими
шажками, что позволяет читателю без особого напряжения сил достигать
невероятных высот смысла. Отсюда же другая особенность, которая роднит
прозу Де Квинси с поэзией: как и в любом стихотворении, у него бывает
трудно определить значимость отдельной строки в составе целого, а
рассматривать отрывки вне контекста и вовсе бесполезно, поскольку смысл их
выявляется лишь в связи с теми предложениями, что прозвучали много
раньше, на предыдущих страницах. К тому же, в отличие от некоторых своих
288
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
учителей, Де Квинси не был королем экспромта: его гений заключался в
другом - будить в читателе какие-то смутные видения, вызывать в воображении
невиданные миражи, рисовать лица без черт - голые как коленка; передавать
ужас летней полуночной тишины; сжимать сердце жутким предчувствием
летящих полчищ и потрясаться сознанием неизбывности страдания.
Вы скажете: у Де Квинси короткое дыхание, если его хватает только на
отдельные фрагменты! Но это не так. Будь он просто мастером блестящих
пассажей, его достижения в прозе были бы минимальными. Он же, помимо
всего прочего, замечательно проявил себя в повествовательной,
исповедальной прозе, и, надо сказать, его взгляды на искусство автобиографии очень
интересны, если опираться на его высказывания 1833 года. Судя по всему, он
превыше всего ценил откровенность.
«Если бы он действительно мог разорвать пелену тумана, скрывающую
даже от него самого тайные пружины его поступков и умолчаний, то под
оболочкой умственных усилий ему открылась бы такая неуловимая
неугомонная стихия жизни, что не проникнуться к ней интересом, глубоким,
серьезным и порой захватывающим, было бы просто невозможно, - настолько
она притягательна в своей непосредственности»6.
Под исповедальной же прозой он понимал историю не только событий и
поступков, то есть внешней стороны жизни, но и эмоциональную ее
сторону, более глубокую, скрытую от глаз. Еще он прекрасно понимал,
насколько трудно писать о сокровенном: «- огромное большинство людей
физически не способно быть откровенными, даже когда они осознают, что никакие
сдерживающие начала им не нужны: они просто не способны избавиться
от стыдливости»7. Незримые цепи перехватывают горло, невидимые чары
сушат гортань. «Именно из-за того, что человек не в состоянии постичь
таинственные силы, парализующие его волю, он не может с ними и достойно
совладать»8. Парадоксально, но при таких глубоких взглядах Де Квинси на
исповедальный жанр, он, тем не менее, не вошел в число великих наших
мемуаристов. Разумеется, не из-за косноязычия или безволия, к тому же по
части выразительности ему не было равных. Нет, его подводило другое -
поверхностность и безмерное безудержное краснобайство. Так что Де
Квинси оказался зависим от недуга, которым страдали очень многие английские
писатели девятнадцатого века, - имя ему недержание речи: болезнь
хроническая и тяжелая. Причем если бесформенность произведений Рескина9 и
Карлайла10, ставшая притчей во языцех, - чего только в их книгах не
напихано! - можно было еще как-то оправдать - пророки все-таки, то у Де
Квинси такой спасительной отговорки не было. И потом, он, наоборот, отличался
повышенной требовательностью к манере исполнения: каждый звук у него
проинтонирован самым тщательным образом, каждая каденция выверена до
точки. Но вот какая странность: обнаруживая поразительное
художественное чутье во всем, что касалось звуковых или ритмических сочетаний, Де
Квинси оказывался совершенно глух, когда дело доходило до композиции,
Автобиография Де Квинси
289
до объединения элементов в единое архитектурное целое. Тут он просто
опускал руки и спокойно смотрел, как его книга, выглаженная до блеска
в каждом отдельном слове и предложении, начинает пухнуть, раздаваться
вширь, проседать, теряя стройность, пропорции и связность частей: ни дать
ни взять Король Крючкотвор Заоблачный11, как прозвал его в детстве брат за
«желание выделиться и страсть к буквоедству»12. В нем действительно
поразительным образом уживались две особенности: «въедливое внимание к
чужому слову, в котором он всегда выискивал какой-то скрытый смысл»13, и
привычка напускать такого туману, комментируя то или иное место в любом,
самом простеньком рассказе, что за многочисленными оговорками,
лирическими отступлениями и примерами терялся, как в заоблачной выси, самый
предмет разговора.
К этим фатальным для мемуариста велеречивости и неумению
увязывать произведение в единое целое добавлялась еще одна черта: Де
Квинси любил поразмышлять на отвлеченные темы. Он сам признавал: «Вечная
моя беда- я слишком много размышляю и слишком мало вижу»14. Как ни
странно, но из-за точечной оптики, к которой он привык, общая картина
расплывалась перед глазами сереньким скучным пятном. К тому же он на все
набрасывал легкий приятный флер воспоминаний, грез, рассеянных
мечтаний. О чем говорить, если он часто даже не видел, кто перед ним? Ему
ничего не стоило обратиться на «Вы», как джентльмен к джентльменам, к двум
омерзительного вида, дошедшим до скотского состояния подонкам, с
которыми он столкнулся, когда, гуляя, по ошибке забрел в лондонские трущобы.
Со сладчайшей улыбкой на устах он перепрыгивал через ступеньки
социальной лестницы, не замечая, что под ногами у него настоящий разогретый
вулкан: в Итоне беседовал на равных с молодыми аристократами, на рынке мог
запросто вступить в разговор с семьей рабочих, стоявших в очереди за
мясом. Он даже ставил себе в заслугу подобный демократизм, говоря, что «...с
юных лет я гордился тем, что мог запросто, more Socratico*, обратиться к
первому встречному- неважно, мужчине ли, женщине, ребенку»15. Правда,
если вчитаться в его описания этих самых мужчин, женщин и детей, станет
ясно, что он потому так запросто с ними общался, что они все были для него
на одно лицо. Соответственно, и писал он их одной краской. Что его
однокашник лорд Олтамон16, что проститутка Энн, - между прочим, самые
близкие ему люди, - со всеми он держался одинаково церемонного и
доброжелательного тона. Люди на его портретах немного напоминают героев Вальтера
Скотта - те же статичные позы, размытые контуры, не прописанные черты
лица. Собственно, и его автопортрет такой же - в нем та же
недоговоренность: будто мысль о необходимости сказать о себе правду отпугивала Де
Квинси, и он как воспитанный англичанин старался сохранить лицо. То, что
нас завораживает в исповеди Руссо - непосредственность и решимость, с
* В духе Сократа {лат.).
10. Вирджиния Вулф
290
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
которыми он выворачивает наизнанку свою душу, не боясь показаться
смешным или признаться в низких поступках и грязных помыслах, для Де Квинси
граничило с мерзостью. Он писал: «Нет ничего более оскорбительного для
чувства самоуважения англичанина, чем картина человека, выставляющего
напоказ свои душевные раны и нравственные язвы»17.
Очевидно, Де Квинси многое в себе самом мешало, и, создавая исповедь,
он вынужден был многое преодолевать в себе: многословие, привычку
повторяться, оторванность от жизни, рассеянность, старомодную чопорность
и нежелание расставаться с прописными истинами. Зато ему и дано было как
никому другому постигать загадочную судьбоносность иных душевных
состояний, когда одно мгновение стоит целых пятидесяти лет, и по мастерству,
с каким он входил в эти тонкие материи, с ним не сравнятся даже самые
прославленные сердцеведы - разные Вальтеры Скотты, Джейн Остены,
Байроны... Глубина самопроникновения, которой он достигает в отдельных своих
зарисовках, остается непревзойденным образцом самоанализа в литературе
девятнадцатого века18:
«И, перебирая в памяти прошлое, я потрясен тем, как часто самые
потаенные наши мысли и чувства посещают нас наподобие слепка из самых
невероятных элементов, - что-то вроде сложно закрученного завитка
(позволю себе употребить такое выражение), вобравшего разнообразный опыт,
разложить который "по полочкам" невозможно, - таких случаев гораздо
больше, чем отвлеченных состояний, на которые мы взираем со стороны...
Без сомнений, человек един благодаря какому-то тонкому узлу, некой
системе связей, постичь которые нам не дано: они тянутся от новорожденного
младенца к выжившему из ума старику; но что удивительно, - если учесть
все те привязанности и страсти, которые прорывались в человеке в разные
периоды жизни, - он отнюдь не един, а скорее представляет собой
прерывистое создание, то оказываясь у черты, то опять в начале: в этом смысле
человек един, лишь покуда длится страсть. Иное чувство, например, плотская
любовь одной своей половиной принадлежит небесам, а другой половиной -
миру земному и животному. Долго такие чувства не живут. Благословенна
лишь целиком святая любовь, какая случается, например, меж двух детей, -
ей одной дано освещать короткими вспышками воспоминаний одинокую
темную старость...»19
Когда перед тобой разворачивается такой анализ пережитых когда-то
давно и глубоко прочувствованных мгновений, которые с течением лет не
только не стерлись из памяти, а, наоборот, приобрели еще больший смысл,
заставляя вникнуть и разобраться в тогдашнем душевном смятении,
повторяю, когда такое происходит, тогда искусство мемуаров в том виде, в каком
его знал восемнадцатый век, бесповоротно меняется. Заодно преображается
и искусство жизнеописания. Теперь уже никто не сможет доказывать с пеной
у рта, что для создания убедительного жизнеописания, в котором была бы
заключена вся правда жизни, биографу или мемуаристу вовсе не обязательно
Четыре фигуры
291
«разрывать пелену». И «тайные пружины собственных поступков и
умолчаний»20 тоже не обязательно обнаруживать. Словом, меняется весь состав
мемуаристики и биографии - от описания внутреннего состояния до
изображения событий. Теперь мемуаристу, если он хочет воссоздать историю всей
жизни, необходимо придумать какой-то ход, позволяющий вести хронику
существования сразу по двум направлениям: с одной стороны,
стенографировать стремительную смену событий и поступков, а с другой - следить за
тем, как исподволь, неспешно вызревает в тебе чувство, в какое-то
мгновение завершающееся душевным потрясением. Чем и поражает Де Квинси -
своим умением вести сразу две темы: такое двуголосие получается у него
великолепно, пусть и не везде одинаково ровно. Иногда мы десятками
страниц наслаждаемся приятным обществом светского человека, которому есть
о чем рассказать: например, о дилижансах21, об ирландском восстании22, о
внешности и манерах короля Георга III23. А потом вдруг в какой-то момент
гладкое повествование взрывается - будто взвивается вверх невидимый
занавес, а за ним открывается один свод, другой, мерещится даль, манит
горизонт: так и хочется воскликнуть - постой, мгновение! - и, послушное воле
Де Квинси, мгновение звенит в тишине.
ЧЕТЫРЕ ФИГУРЫ
I
КАУПЕР И ЛЕДИ ОСТЕН
Конечно, все это дела давно минувших дней, но если люди до сих пор с
интересом вспоминают о той встрече, значит, в ней что-то было. А случилось
вот что: как-то летом в 1781 году сидевший у окна своего дома на тихой
загородной улице пожилой господин заметил, как в дверь лавки напротив вошли
две дамы. Ему особенно запомнилась одна из них, и он, видимо, обмолвился в
разговоре с кем-то из общих знакомых о своем благоприятном впечатлении -
во всяком случае, встреча дамы и господина не заставила себя ждать.
Однако какой же, надо думать, покойной и одинокой была жизнь этого
господина, наблюдавшего за улицей из окна, если он воспринял хорошенькое
женское личико как целое событие! Впрочем, вполне возможно, что
событием та нечаянная встреча стала из-за того, что она пробудила полузабытые,
но все еще живые воспоминания. Ведь не всегда же Каупер1 - а речь идет
именно о нем - занимался тем, что дни напролет смотрел из окна сельского
дома на улицу. Было время, когда у него отбою не было от светских красавиц.
Юношей он наделал много глупостей: заигрывал с девушками, шутил, бегал
по маскарадам в Вохолле и Мэрилебо-гарденс2. Проявил верх легкомыслен-
ю*
292
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ности, ухватившись за место в Королевском суде, с нищенским жалованьем,
хотя собственных средств у него не было, и этот его шаг не на шутку напугал
его друзей. Вдобавок влюбился в свою кузину - Теодору Каупер. В общем,
юноша без царя в голове. А потом, так сказать, средь шумного бала жизни
случилось нечто, перевернувшее его судьбу. Обнаружилось вдруг, что вся эта
его бесшабашность на самом деле есть ничто иное, как форма проявления
какой-то скрытой болезненности, запрятанной глубоко внутри и связанной,
очевидно, с травмированной личностью и жуткой фобией, выражавшейся в
физической невозможности ни заниматься какой-либо деятельностью, ни
жениться, ни показываться на публике. Любая попытка уговорить его или
заставить себя преодолеть этот страх вызывала в нем безотчетное желание
бежать куда глаза глядят, даже под страхом смерти, а ведь ему предстоял долгий
путь продвижения по служебной лестнице в палате лордов. Теперь же, когда
наступило прозрение, он готов был утопиться, лишь бы его оставили в
покое. Однако утопиться не получилось - на пристани все время находились
люди; выпить смертельную дозу опиума тоже не удалось - чья-то
невидимая рука загадочным образом вырвала у него из рук стакан; нож, которым
он хотел зарезаться, сломался, и даже последняя его попытка свести счеты с
жизнью закончилась неудачей: порвалась веревка, на которой он собирался
повеситься. В общем, Каупер был обречен - обречен на существование.
Так что в то июльское утро, когда в магазин за покупками вошли две
дамы, у окна в доме напротив сидел не тот прежний Каупер, каким он был
когда-то, а исстрадавшийся, изведавший бездны отчаяния немолодой
человек, который, наконец, обрел и тихую гавань заштатного городка, и
душевный покой, вкупе с размеренным образом жизни. Жил он уже несколько
лет подряд в доме некой миссис Ануин3, вдовы, на шесть лет старше его.
Она по-матерински, очень мудро его опекала: вызывала на разговор,
внимательно выслушивала его жалобы, вникала в переживания, и постепенно,
исподволь ей удалось поселить в его душе мир и согласие. Так вдвоем они
прожили много лет, и ничто не нарушало тихого однообразного распорядка,
заведенного в доме. Вставали рано, читали друг другу из Священного
Писания, потом вместе шли в церковь, перед обедом расходились - один
уединялся в комнате с книгой, другая шла гулять, после обеда беседовали на темы
веры или пели священные гимны; затем, если погода стояла ясная, вместе
гуляли, а пасмурные дни коротали в гостиной за чтением и беседой, а
потом, помолившись, почитав из псалтири, отходили ко сну. Так по
накатанной колее, уже много лет текла, под крылышком Мери Ануин, жизнь
Каупера. Когда ему попадалось в руки перо, строчки сами собой складывались в
гимн, а если он брался за письмо, то исключительно ради того чтобы
помолиться о спасении чьей-то заблудшей души - например, брата своего
Джона, учившегося в Кембридже. Впрочем, теперешняя его истовость была в
чем-то сродни прежнему легкомыслию: как и раньше, Каупер снова
пытался обмануть самого себя, заглушив (теперь уже набожностью) глубоко запря-
Четыре фигуры
293
тайные в нем чувства беспокойства и безотчетного ужаса. А потом в один
момент идиллия оборвалась. Февральской ночью 1773 года зверь вырвался
на свободу и нанес сокрушительный удар: Кауперу во сне был голос свыше,
и голос тот объявил, что Каупер проклят, на нем лежит страшное заклятие,
и среди людей он отныне - отверженный. Каупер был просто раздавлен
случившимся. Он перестал молиться: даже за общей трапезой, когда сидевшие
за столом возносили хвалу господу, он демонстративно брал в руки нож и
вилку, показывая, что не вправе присоединиться к молящимся. Объяснить
весь таинственный ужас сновидения он не мог - его не понимала даже
миссис Ануин. В чем его исключительность, почему из всего рода человеческого
выделен именно он и именно на нем лежит печать проклятия - этого не дано
было понять никому. Однако одиночество, в котором он оказался,
возымело неожиданное действие: поскольку отныне он изгой, значит, никто ему не
указ - он свободен! Преподобный Джон Ньютон4 более не властен ни над его
пером, ни над его музой. Раз Страшный суд свершился и его ждет ад, значит,
можно спокойно ловить по кустам зайчишек, выращивать огурцы на
огородной грядке, предаваться деревенским сплетням, заниматься плетением
словес, ремеслами - словом, делать все что угодно, лишь бы заполнить пустоту
оставшихся лет, не имея никакого морального права ни просвещать других,
ни принимать чью-либо помощь. Никогда еще в своей жизни не писал
Каупер своим друзьям столь вдохновенно, дерзко и весело, как теперь, когда он
ясно осознал свою обреченность. Лишь иногда в письмах Ньютону или
Ануин давал он волю чувству ужаса, жившего в глубине его существа, и тогда у
него вырывался вопль: «Дни мои проходят в пустом тщеславии... Тело
живет, но душа, раз загубленная, ожить не может»5. Но такое случалось
относительно редко - большей частью он производил впечатление счастливейшего
из смертных: во всяком случае, эта мысль посещала каждого, кто видел, как
он беззаботно проводит дни за приятными занятиями, или вот как сейчас,
наблюдает из окна за происходящим на улице. Вон Гири Болл направляется
в «Роял Оук» пропустить стаканчик - для него это обычное дело, ритуал, как
для Каупера чистить зубы... Ara, а вот это что-то новенькое: в магазинчик
тканей напротив зашли две женщины. Интересно!
Одна из дам была ему знакома - это миссис Джонс, жена священника,
жившего по соседству. Но ее спутницу он точно никогда не видел: статная,
гибкая, темноволосая, с большими карими глазами, она оказалась вдовой
сэра Роберта Остена, причем вовсе не занудой. Ее легко разговорить и
рассмешить - это маленькое открытие Каупер сделал во время их первого
совместного чаепития: «...она так заразительно смеется, что ты тоже невольно
начинаешь смеяться, и беседа с ней течет непринужденно»6. Очень живая,
проницательная женщина, она долгое время жила во Франции, повидала
мир, и у нее обо всем есть свое мнение: по ее словам, «люди очень
простодушны»7. Вот первое благоприятное впечатление Каупера об Анне Остен.
Сама же Анна с не меньшим воодушевлением отнеслась к чудной паре, жив-
294
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
шей в особняке на главной улице провинциального городка. Оно и понятно:
Анна от рождения была натурой увлекающейся. И потом, в целом мире у
нее не было ни друзей, ни родных, которые были бы ей симпатичны -
притом что она действительно много путешествовала и была женщиной
состоятельной: ее принадлежал большой дом на Куин-Энн-стрит. Кроме того, ей
было с чем сравнивать: ее сестра жила в деревне Клифтон Рейне, так там
жители были настолько грубыми и неотесанными, что женщине нельзя было
оставаться одной в доме - того гляди, ворвутся и устроят погром. Поэтому
леди Остен было не по себе, она металась в поисках общества, при этом ей
хотелось устроить свою жизнь прочно и всерьез. Ни Клифтон Рейне, ни
Куин-Энн-стрит не соответствовали полностью ее запросам. И вдруг, по
случайному и, как оказалось, счастливому совпадению, она знакомится с очень
милой, воспитанной парой: эти люди могут оценить по достоинству то, что
она имеет предложить их обществу, и вдобавок сами не против пригласить
ее разделить с ними тихие радости деревенской жизни. Конечно, она не
только готова их разделить, но и преумножить самым восхитительным образом!
И действительно: с появлением леди Остен их дни наполнились шумом и
весельем. Она устраивала пикники: они отправлялись веселой компанией в
Спинни8, завтракали в экзотическом месте - в выдолбленном стволе
огромного дерева, а потом все вместе пили чай, рассевшись вокруг тачки,
поставленной на попа. Потом, правда, пришли осенние холода и загнали их в дом,
но все равно Анна Остен скрашивала их будни, как никто другой: ведь это
она вдохновила Уильяма на создание стихотворения про диван9, и про
Джона Гилпина10 рассказала ему тоже она - надо было видеть, как слегший было
от очередного приступа мерехлюндий Каупер вскочил с постели, держась от
хохота за живот! И что было особенно приятно наблюдать Кауперу и миссис
Ануин - живость не мешала Анне быть серьезной. Она не лукавила, когда
говорила, что жаждет покоя и тишины: «...в ней уживаются и веселость, и
мудрость»11, - писал Каупер.
Да и в нем самом, перифразируя его же слова, уживались и меланхолик,
и повеса. Он сам не раз повторял, что от рождения вовсе не затворник. Да
и внешне он не походил на аскета-отшельника: коренастый, розовощекий,
чуть полноватый. В молодости он немало вращался в свете, а этот опыт
даром не проходит, если, разумеется, подходить к нему критически. Во всяком
случае, он даже слегка кичился своим благородным происхождением, и в
Олни12 старался поддерживать подобие светского этикета: нюхательный
табак держал в изящной табакерке, туфли носил только с серебряными
пряжками, а если надевал шляпу, то непременно «модную, ладную, которая
сидит на голове как влитая - не то что какой-нибудь круглый плоский блин»13.
И те же безмятежность, ясность взгляда, легкую насмешливость находим в
его многостраничных написанных безукоризненной прозой эпистолах.
Поскольку почтальон в Олни появлялся только трижды в неделю, у Каупера было
предостаточно времени, чтобы доводить до совершенства описание каждо-
Четыре фигуры
295
го пустяшного случая. Обо всем-то он расскажет: и как намедни свалился с
телеги фермер, и как сбежал зайчишка - из тех, что жили у них на подворье,
и как заходил м-р Гренвил, и как они попали под дождь и потом обсыхали в
доме у миссис Трокмортон, каждую неделю что-то да приключалось в Олни,
и Кауперу это было только на руку: неиссякаемый источник тем для
разговора! Но даже если ничего не происходило и дни тянулись, «точно вата»14, не
оставляя следов, его воображение питалось слухами, которые в избытке
проникали из внешнего мира. Так, все вдруг заговорили о летательном аппарате,
и Каупер не преминул изложить на нескольких страничках все, что думает о
вредности этой затеи; впрочем, в том же духе он высказался и о другом зле -
румянах, украшающих щечки иных неправедных англичанок. Потом
переходил на Гомера и Вергилия; бывало, даже что-то переводил из классики. Ну
а когда наступало затяжное ненастье и из дому нельзя было носу высунуть,
Каупер открывал заветную книгу путешествий и уносился в мечтах далеко-
далеко, воображая себя в составе команды Кука или Энсона15, хотя на самом
деле дальше Сассекса и Букингема16 он нигде никогда не бывал.
Собеседником он был прелестным - это видно по его письмам.
Остроумный, занимательный, уравновешенный, обходительный, он должен был
очень нравиться дамам - недаром каждое утро в одиннадцать леди Остен
ждала его с визитом. Но мало того что он был душка - в нем чувствовался
какой-то особый шарм: женщин он притягивал к себе. В него была влюблена
его кузина Теодора, и, надо сказать, она тайно продолжала любить его
спустя много лет; он покорил сердце миссис Ануин, и вот теперь, похоже, настал
черед Анны Остен: та с удивлением отмечала про себя, что Каупер вызывает
у нее более сильное чувство, чем просто дружба. Что это за туго натянутая
струна дрожит внутри, наполняя сладким безумным восторгом тихие
утренние часы, проведенные вместе, и придавая их беседе такую остроту, какой
не знают ее разговоры с другими мужчинами, - так замирает в звенящей
тишине над цветущей веткой дерева бабочка-сфинкс? «Мне знаком каждый
камешек в саду, - писал Каупер. - Я смотрю вдаль, и каждая травинка в поле
для меня живая - каждый день я открываю что-то новое, радостное в тысячу
раз виденном ручье или раскидистом дереве»17. Вот почему стихи его
незабываемы, при всей их занудной нравоучительности, - очень уж зоркий
запечатлен в них взгляд! Он, как луч, вспарывает прозаическую ткань
«Поручения», оставляя в ней зияющие прорехи, в которые врывается солнечный свет.
И беседа с ним была такой же - чреватой откровениями: вдруг в какой-то
момент его посещало видение или необыкновенная мысль. Конечно, это только
добавляло очарования и какой-то пронзительной ноты задушевным
разговорам у камина и ежедневным утренним визитам. Только Анне следовало бы
знать, - как когда-то на собственном горьком опыте в этом убедилась
Теодора, - что страсть, владевшая Каупером, не распространялась на мужчин или
женщин: то была страсть вообще. Каупер в этом смысле был редкий человек:
плотская любовь его не интересовала.
296
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Кое о чем Анна Остен, конечно, догадывалась. Еще в самом начале ее
дружбы с Каупером она имела неосторожность, со свойственной ей
пылкостью, выразить ему свое восхищение. На что тот не замедлил
доброжелательно, но твердо ответить, указав ей на легкомысленность ее поступка.
В письме к ней он строго заметил: «Рядя человека в красивые одежды, как
подсказывает нам наша фантазия, мы творим себе кумира... а это ни к чему
хорошему не ведет - только отравляет нас осознанием совершенной
ошибки»18. Прочитав письмо, Анна топнула ножкой и в сильном раздражении
укатила прочь. Но ссора длилась недолго: вскоре друзья снова помирились,
Анна признала свою вину, а Каупер, в благодарность за понимание, послал
ей в подарок свою книгу19. Друзья воссоединились, и все трое зажили
совсем по-родственному. Буквально через месяц после того как состоялось
примирение Анны и миссис Ануин, - женщины тогда тепло обнялись, - Анна
расторгла договор об аренде городского особняка и быстренько сняла часть
дома приходского священника по соседству с Каупером, заявив, что отныне
у нее нет другого дома, кроме Олни, и Каупер с миссис Ануин - это
единственные ее друзья в целом свете. После чего последовало торжественное
открытие садовой калитки, разделявшей оба владения. Ужинать стали
поочередно то у Каупера с миссис Ануин, то в доме Анны. Уильям звал Анну
«сестрой», а она его «братом». Ну чем не идиллия? «Мы втроем с леди Остен
проводим время то в ее chateau*, то у нас. Утром я иду гулять то с одной
дамой, то с другой, а днем тружусь, не покладая рук»20, - писал Каупер, в
шутку уподобляя себя Геркулесу и Самсону. Потом наступал вечер, а герой наш
обожал зимние сумерки, когда можно сесть у камина, помечтать, наблюдая
за тем, как по потолку скачут страшные тени и на каминную решетку
опадает слой за слоем зола... Потом служанка вносит лампу- в гостиной
разливается ровный свет, можно заняться плетением словес или шарадами - что
больше нравится... Анна поет, аккомпанируя себе на клавикордах, а Мери с
Уильямом играют в воланы. Мир и согласие царят в доме - и нет, кажется,
места «чертополоху печали»21, который, как его ни отдирай, писал Каупер,
обязательно прицепится к человеческому счастью; и раздорам вроде
взяться неоткуда... Но женщины есть женщины, с них, видимо, все и началось.
Конкретно неизвестно, что пробудило ревность Мери: то ли она заметила у
Анны оправленную в бриллианты ладанку с прядью кауперовых волос; то
ли она обнаружила стихотворение, посвященное «сестре» Анне22, в котором
Уильям выражал свои нежные чувства несколько более пылко, чем положено
брату... - трудно сказать. Только ведь Мери - не деревенская простушка: она
образованная, начитанная женщина; посмотришь на нее - «ни дать ни взять
Герцогиня»23; не для того она много лет подряд нянчилась и опекала
Уильяма, чтобы какая-то Анна пришла и разрушила «ту идиллию»24, которую они
оба так любили. Естественно, в какой-то момент женщины сцепились - на-
* Загородный дом (фр.).
Четыре фигуры
297
чалось выяснение отношений. Пусть Каупер определяется - пусть выбирает
одну из них.
И все бы ничего, да только мы упустили из виду, что, кроме них троих, в
гостиной есть еще кто-то. И этот «кто-то» - тень, прячущаяся за
музицирующей Анной, за резвящейся Мери, за весело потрескивающим в камине
хворостом и за окошками, разрисованными морозными узорами... За всей этой
мирной идиллией скрывается бездна, а Каупер стоит на краю. Слышите, как
в пение вплетается шепот? Как чей-то голос шипит ему прямо в ухо: «Ты -
проклят! Тебя ждет геенна огненная!» Он осужден на вечную смерть. И
после этого Анна Остен хочет, чтоб он любил ее? Женился на ней?! Да самая
мысль внушала ему омерзение - так нельзя поступать с ним, это
невыносимо. И, сжигая все корабли, он пишет ей второе письмо. Прочитав это
послание, Анна в сердцах его уничтожила, уехала из Олни, и больше они никогда
друг другу не писали. Дружба кончилась.
И надо сказать, Каупер не очень-то и страдал от разрыва. Кругом все ему
сочувствовали: Трокмортоны дали ему ключ от своего сада - гуляйте!
Пользуйтесь на здоровье! Какая-то меценатка, пожелавшая остаться неизвестной,
отписала ему пятьдесят фунтов в год. Другой доброхот, также не
назвавшийся по имени, послал ему в подарок кипарисовую конторку с серебряными
ручками, а жители Олни оказались так добры, что буквально задарили его
ручными зайчиками. Но к чему вся эта людская доброта, если нет главного -
если ты проклят, если ты один как перст, и ни Бог, ни человек тебя не спасут?
«Все суета сует... Тело живет, но душа, раз загубленная, ожить не может»25.
Постепенно он впал в депрессию и умер от душевных терзаний.
А что же леди Остен? Она вышла замуж за француза и, говорят, была
счастлива.
II
BEAU БРАММЕЛ
Когда-то Каупера в его бытность в Олни буквально трясло при одном
упоминании о герцогине Девоншир26, и, мысленно ведя с ней разговор, он
предсказывал, что, мол, наступит время и «Вы, сударыня, увидите на том
самом месте, где сегодня носите изящный поясок, глубокую прореху, а вместо
роскошной короны волос у себя на голове - лысину»27, - так вот, когда он
это мысленно говорил, он, как ни парадоксально, воздавал дань красоте и
силе женщины, о которой думал как о ничтожестве. Иначе зачем бы ему надо
было вызывать ее призрак, гоня от себя мрачные предчувствия? Зачем
представлять, как она входит, шурша шелковыми юбками, в его сырую затхлую
комнату в Олни? Нет, герцогиня свое дело знала- она умела будоражить
воображение. Пройдет немало лет, уже не останется в живых ни Каупера,
ни герцогини, и о ее победах будет напоминать лишь тусклый блеск погре-
298
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
бального венка, а призрак ее все еще будет тревожить кого-то далеко-далеко
от былых мест. Представим: сидит в кресле, клюет носом старик в богом
забытой дыре в Кане28; отворяется дверь, и вошедший слуга объявляет:
«Герцогиня Девоншир!» При этих словах старик - а это Beau Браммел29 -
поднимается, идет к двери и склоняется в низком поклоне, который сделал бы
честь Сентджеймскому двору. Оглядывается старик - а вокруг никого:
только сквозняк задувает с лестницы постоялого двора. Герцогиня давно мертва,
это просто померещилось старому, выжившему из ума Beau Браммелу, что
он опять в Лондоне, дает очередной бал. Да, сбылось предсказание Каупера:
герцогиня давно гниет в могиле, а Браммел, чьим щегольским нарядам
когда-то завидовали короли, доживает свой век в одной-единственной латаной-
перелатаной паре брюк, пряча обрясившиеся края под видавшим виды
пальто. Вместо волос - бритая голова: распоряжение доктора.
И все же герцогине и лондонскому денди есть что вспомнить! - пусть
хоть сто предсказаний выскажет с кислой миной на лице мученик Каупер.
Когда-то их имена гремели в свете! Причем восхождение Браммела иначе
как головокружительным не назовешь: ведь начинал он юношей без имени,
с более чем скромным достатком. Что там говорить, - дед его сдавал
комнаты на Сент-Джеймс-стрит. У Браммела в начале его баснословной карьеры
было всего тридцать тысяч фунтов, и его сильно портил сломанный нос, так
что о красоте в полном смысле слова говорить не приходится. И, тем не
менее, этот человек, не совершивший ни единого благородного поступка,
ничего значительного в жизни не достигший, человек этот выделяется на
общем фоне: он, если хотите, символ эпохи - его призрак до сих пор бродит
среди нас. И хотя сегодня уже довольно трудно понять, откуда, собственно,
такая слава: что, неужели из-за доведенного им до совершенства искусства
завязывания шейного платка и отточенности высказывания? - тем не менее
все слышали историю про то, как однажды Браммел закинул голову назад, а
потом медленно-медленно опустил подбородок на грудь, и о чудо!
получился завязанный без единой морщинки шейный платок. И как потом Браммел
часами простаивал перед зеркалом, пытаясь повторить успех, - то
завязывал платок, то развязывал и бросал его в корзину, если он хоть где-то
морщил или складки получались шире или, наоборот, уже требуемого, а принц
Уэльский сидел рядом, напряженно следя за действом... Впрочем,
прославился Браммел, конечно, не только благодаря ловкости пальцев и
отточенности речей. Своим успехом в обществе он обязан прежде всего
сочетавшимся в нем необычным образом и остроумию, и вкусу, и дерзости, и духу
независимости (кем-кем, а лизоблюдом Браммел никогда не был). Назвать
эту гремучую смесь жизненной философией, наверное, было бы слишком
громко, но цели своей она достигала. Во всяком случае, среди
однокашников в Итоне Браммел был ходячей легендой - каждый мальчишка старался
скопировать неподражаемую браммелову манеру отпускать шуточки сквозь
зубы, не дрогнув ни единым мускулом лица, наподобие того как произошло
Четыре фигуры
299
однажды на прогулке, когда мальчики дружно решили бросить местного
лодочника в реку. Так вот, Браммел тогда якобы сказал: «Друзья мои, оставьте
его на берегу, не бросайте несчастного в воду - разве вы не видите? Он весь
покрылся испариной и от вашей холодной ванны наверняка простудится».
И таким же макаром - весело, дерзко, шутя - он завоевывал любое
общество, в котором оказывался. Ему прощали все: даже на вопиющее
разгильдяйство в бытность его капитаном Десятого гусарского полка сослуживцы
и начальство смотрели сквозь пальцы, хотя вверенную ему кавалерийскую
часть Браммел знал лишь по «огромному сизому носу» одного из гусар.
Выйдя в отставку по той причине, что его полк направили в Манчестер -
«представляете, Ваше Королевское Высочество, в Манчестер! - при всем своем
желании я не мог похоронить себя в этой дыре!», - он обосновался на
лондонской Честерфилд-стрит, и в одночасье злые языки заговорили о его доме
как о самом изысканном недоступном салоне того времени, а о Браммеле
как о законодателе лондонской моды. Например, рассказывают, как однажды
Браммел на балу в Олмэксе30 стоял и беседовал о чем-то с лордом N. Среди
приглашенных гостей была и герцогиня К.: она вывозила в свет свою
младшую дочь леди Луизу. Заметив г-на Браммела, герцогиня тут же шепнула на
ушко дочери: если к ним подойдет и заговорит с ними тот господин у двери,
пусть милочка постарается произвести на него благоприятное впечатление -
ведь «это сам господин Браммел!» Наверное, леди Луиза недоумевала про
себя, что такого особенно нашли в этом г-не Браммеле и вообще почему
дочь герцога должна постараться понравиться какому-то Браммелу. Однако
стоило этому господину к ним приблизиться, как все стало на свои места.
Поступь, стать, наклон головы - все в этом господине дышало
изысканностью и благородством. Рядом с ним все другие казались либо
разряженными куклами, либо безвкусно одетыми простаками, либо просто неряхами.
На нем же все сидело так, словно одна деталь незаметно перетекала в
другую, не выбиваясь ни кроем, ни цветом. Без малейшего нажима он
приковывал к себе внимание - все завороженно следили за его поклоном, за тем,
как он открывает левой рукой табакерку. Воплощение свежести, чистоты и
порядка! Глядя на его безукоризненный пробор, ты невольно думал о том,
что стихия над этим человеком не властна: волосок лежит к волоску, на
туфлях ни единого пятнышка - будто каким-то чудесным образом в его уборную
был доставлен портшез, а затем его перенесли по воздуху прямо в Олмэкс.
Когда же Браммел обратился с вопросом к леди Луизе, она обомлела - такой
душка, такой милый, обходительный, такая вкрадчивость в голосе! - и
быстро смутилась. Он говорил с ней так, будто прямо сейчас собирается сделать
ей предложение, и при этом даже в самой наивной девичьей головке не могла
зародиться мысль о том, что он говорит серьезно. Его серые глаза говорили
одно, а губы - совсем другое: легкий прищур глаз заставлял сомневаться в
искренности расточаемых им комплиментов. А как он злословил на чужой
счет! Не то чтобы остроумно или желчно, но так искусно, так метко - не в
300
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
бровь, а в глаз! - против твоей воли его слова застревали в памяти, тогда
как вещи более значительные не задерживались, забывались... Он не
побоялся самого принца-регента поставить на место, спросив его как бы между
прочим: «Кто этот ваш толстяк приятель?», а уж с людьми рангом пониже -
особенно с ханжами или занудами - и вовсе не стеснялся. «Что же я мог
поделать, дружище? Конечно, мне ничего другого не оставалось, как порвать с
ней, - объяснял он приятелю свою неудачную попытку сосвататься к
титулованной даме. - Оказалось, леди Мери любит капусту!» Или другой случай:
кто-то из лондонских знакомых пристал к нему с расспросами про его
поездку в Шотландию: непременно скажи ему, какое озеро Браммелу
особенно понравилось. Вместо ответа Браммел рассеянно спрашивает своего
слугу: «Как называлось то озеро?» - «Уиндермир, сэр». - «Ах, да - Уиндермир,
так и есть- Уиндермир»31. И все в таком духе: легкого,
полунасмешливого, полудерзкого необязательного разговора, в котором, тем не менее,
всегда сохраняется золотая середина и по ней можно было легко отличить,
когда Браммел лжет, а когда говорит правду, - его ложь всегда была чуть-чуть
преувеличена. Невозможно себе представить, чтобы он сказал, обращаясь к
принцу-регенту: «Уэльс, позови лакея», - это все равно что вообразить его
в немыслимом ярком жилете или кричащем галстуке. То самое «изысканное
чувство меры»32, которое лорд Байрон отмечал в умении Браммела
одеваться, отличало все его существо: рядом с этим насмешливым светским
щеголем все остальные казались просто мужланами, от которых за версту несло
конюшней - разумеется, Браммел туда ни ногой, - и которых интересовала
одна охота, а Браммел ее терпеть не мог. Естественно, к концу беседы с ним
леди Луиза сидела как на иголках - так ей не терпелось произвести
благоприятное впечатление. Еще бы! В мире титулованных барышень мнение г-на
Браммела ценилось на вес золота.
Во всяком случае, пока мир этот не полетел в тартарары, власть
Браммела казалась незыблемой: этот красавец, этот бездушный циник Beau
безраздельно правил бал. Неизменно безупречный вкус, неизменно завидное
здоровье и атлетическая фигура - казалось, ни годы, ни повороты судьбы над
ним не властны. Вот уже и Великая французская революция прошла
колесом, не задев ни единого волоса на его голове, и целые империи возникли
и пали, не оставив следа, а он все упражнялся с шейным платком и
совершенствовал покрой фрака. Вот уже и битва при Ватерлоо отшумела, и настал
долгожданный мир. И вот тут-то жизнь подставила ему подножку: война его
не коснулась, а мир оказался для него фатальным. Уже несколько лет, как он
занялся карточной игрой и, по свидетельству Хэриет Уилсон33, несколько раз
проигрывался в дым, но затем, к ее неудовольствию, снова все отыгрывал.
А тут закончилась война34, армию комиссовали, и на Лондон обрушились
полчища изголодавшихся по зрелищам и удовольствиям бывалых вояк. Куда
им было деваться? Они, конечно, первым делом набросились на игорные
дома. Картежники они было что надо, резались в карты с размахом, азартно,
Четыре фигуры
301
и они быстро втянули Браммела в крупную игру. Тот сыграл раз - проиграл,
тут же отыгрался и зарекся ставить еще раз, но - не удержался. Ему не
повезло - он проиграл все подчистую, все последние десять тысяч фунтов.
Пытаясь отыграться, занимал тысячами направо и налево, пока ему не перестали
давать в долг. А тут еще как назло он потерял свой талисман - счастливый
шестипенсовик с дырочкой: видимо, по ошибке дал незнакомому извозчику,
как он говорил, это мошенник Ротшильд его обманул, завладел его
талисманом, и теперь пиши пропало - не везет! Это он сам так объяснял
произошедшее, а в глазах окружающих он вовсе не был безобидной овечкой. Как бы ни
было, все закончилось 16 мая 1816 года: известен не только день, но и час, и
все мелкие подробности того памятного дня - как он поужинал в
одиночестве у Ватье35 холодной птицей и бутылкой кларета, сходил в оперу, а потом
отправился в Дувр. Извозчик гнал всю ночь, и уже на следующий день Брам-
мел был в Кале. Больше в Англию он не возвращался.
Собственно, с этого момента начинается распад. Создается впечатление,
что это чопорное лондонское общество - образование, в высшей степени
искусственное, держало Браммела в форме, не позволяя ему распускаться,
служа как бы оправой для этого бриллианта. Когда же оправы не стало, все
то мелкое, наносное, что пряталось в глубине и составляло истинную суть
великого Beau, вышло наружу, и оказалось, что блестеть-то, собственно,
нечему, что блеск этого бриллианта создавало окружение. Впрочем,
обнаружилось это не сразу. Его друзья еще много раз будут пересекать Ла-Манш в
надежде увидеться с ним, угостить обедом и непременно оставить дня него
у его банкира маленький денежный презент. Он, конечно, по мере сил
поддерживал заведенный порядок: утром принимал у себя визиты; в
отведенные часы занимался туалетом, тщательно одевался; тер хиной зубы;
выщипывал у себя волоски серебряными щипчиками; завязывал галстук всем на
загляденье и ровно в четыре пополудни выходил на променад по Ру-Рой-
аль, точно это Сент-Джеймс-стрит, да еще с таким видом, словно идет под
руку с самим принцем-регентом. Только, увы, Ру-Ройаль - не Сент-Джеймс-
стрит, и старуха контесса, сплевывавшая на пол, - не герцогиня Девоншир;
и добряк сосед, угощавший его жареным гусем в четыре часа дня, - не лорд
Олвэнли36; и пусть он очень быстро завоевал в округе титул Roi de Calais*
и местные подмастерья за глаза прозвали его «Георг, позовите прислугу»37,
тем не менее нужно было быть слепым, чтобы не понять, что почет этот
относительный, нравы грубые и развлечений в Кале как кот наплакал.
Быстро оценив свое положение, Beau решил спасаться своими силами. Ума ему
было не занимать: знавшая его леди Эстер Стэнхоуп вообще полагала, что
он мог при желании сделать ученую карьеру, на что Beau замечал: мог бы, да
не стал, а все потому, что он в жизни рано понял простую истину, что
«прославиться и отделиться от того быдла, которое он всегда презирал», можно
* Король Кале (фр.).
302
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
единственным способом- став денди! Теперь тот же способ- выделиться
любой ценой! - он применил в своих занятиях искусством, и, надо сказать,
небезуспешно: многие восхищались его стихотворением «Похороны
бабочки», он неплохо пел, рисовал. Только все это мало помогало ему заполнить
долгие летние дни, которым, казалось, и конца и края не было. Он
попытался занять себя мемуарами, купил подрамник и просиживал перед ним
по нескольку часов в день, составляя мастерские композиции из портретов
выдающихся личностей и прекрасных дам, каждый из которых «украшал»
аллегорическими изображениями добродетелей и пороков в виде гиен, ос
и купидончиков. Коллекционировал мебель в стиле «буль», писал в
свойственной ему вычурной витиеватой манере письма знакомым дамам. Но все
это его не спасало. Сказывались годы полного умственного безделья -
голова уже не работала. Но и это был еще не конец: забарахлил другой орган -
сердце. Надо было видеть, как повеса, всю жизнь только игравший в любовь
и очень ловко избегавший даже подобия страсти, на склоне лет начал вдруг
усиленно ухаживать за девицами, годившимися ему в дочери. Он писал
такие страстные письма некой мадемуазель Эллен в Кане, что она не знала, что
и думать - то ли рассмеяться ему в лицо, то ли рассердиться. На всякий
случай, она выбрала второе - обиделась, и Боже! что стало с нашим Beau! Он,
когда-то круживший головы дочерям герцогов, буквально размазал себя
перед простой сельчанкой. Но все было напрасно: даже деревенскую
простушку воздыхателю трудно увлечь, если он не может подкрепить свои
признания материальными доказательствами, поэтому Браммелу оставалось одно:
излить свою нежность на братьев наших меньших. Три недели подряд он
оплакивал своего терьера Вика, свел дружбу с мышью, жившей под полом,
взял под свое крыло всех бездомных кошек и собак в Кане. Рассказывают,
что как-то в разговоре с дамой он обмолвился: случись ему увидеть, как в
одном пруду тонут человек и дворняга, он бы скорее бросился на помощь
собаке - разумеется, если вокруг не было бы зевак. Впрочем, он по-прежнему
думал, что находится в центре внимания и ревностно заботился о
соблюдении внешних приличий, что, несомненно, придавало его выдержке просто
стоический характер. Только представить себе: человека за обедом хватил
удар, и он, не подав виду, молча вышел из-за стола; в кармане ни гроша, в
долгу как в шелку, а сам идет по мостовой на носочках, стараясь не ступать
по булыжникам, чтоб не продрать подошвы... Посадили за долги в
тюрьму, так он даже за решеткой срывает аплодисменты убийц и воров своим
хладнокровным и полным достоинства видом. Одно плохо: продолжать
играть роль лондонского денди можно лишь при очень крепких тылах - когда у
тебя есть запас ваксы, литры eau-de-Cologne и три дневные смены белья. Эти
«мелочи» требовали колоссальных расходов, и хотя его старые друзья были
очень щедры, а он весьма настойчив в своих просьбах, когда-то да должен
был наступить конец их терпению. И вот пришел черный день, когда
Браммелу объявили: пожалуйста, удовлетворитесь одной дневной сменой белья
Четыре фигуры
303
и содержанием, допускающим только предметы первой необходимости. Но
когда же это Браммел обходился только необходимым? Неужели кто-то
думает, что его можно посадить на хлеб и воду? Показывая, что положение
очень серьезное, но сдаваться он не собирается, Браммел впервые в жизни
повязал шейный платок черного шелка. Дело в том, что черные шелковые
платки всегда вызывали у него отвращение. Словом, то был знак беды,
неминуемой развязки. И действительно: конец не заставил себя ждать -
внутренние подпорки очень скоро рухнули, и Браммел совершенно разъехался.
Ему все стало все равно - лишь бы кто-то заплатил за обед, а кто - не важно.
Память слабела, он одну и ту же историю мог повторять бессчетное число
раз, рискуя сильно надоесть местным жителям. От его изящных манер не
осталось и следа: прежний чистюля перестал мыться и зарос грязью.
Постояльцы гостиницы отказывались сидеть с ним рядом за обедом. Он впал в
детство - ему всюду мерещилась герцогиня Девоншир. В конце концов, у
него и желаний никаких не осталось, одна только непомерная жадность в
еде. Ради коробки реймсского печенья он готов был отдать последнее - свою
бесценную табакерку. И вот настал момент, когда капризного, слюнявого,
отвратительного маразматика по имени Браммел оставалось лишь передать
на попечительство монахинь в местном приюте для умалишенных. Вскоре к
нему призвали священника. «Молись, сын мой», - обратился тот к Браммелу.
«Я стараюсь», - ответил он и добавил что-то нечленораздельное. - «Я даже
засомневался, понял ли он мои слова». Стараться-то он, конечно, старался, -
раз священник просит, было бы невежливо с его стороны отказываться, а
он всегда был вежлив: и с ворами, и с герцогинями, и с самим Всевышним.
Только пустые это хлопоты: при всем своем старании Браммел, - точнее, то,
что от него осталось, - был уже не в состоянии проникнуться верой во что-
либо, кроме теплой ванны, сладкого печенья и еще, если позволите, одной
маленькой чашечки кофе. Ничего не поделаешь, конец известен:
швырнули, точно мешок костей, неподражаемого Beau - щеголя, франта, дамского
угодника - в общую могилу, вместе с нищими, не разбирая, кто модник, кто
неряха, кто денди, кто мужлан... Ну как тут не вспомнить о том, что Байрон
в пору его увлечения дендизмом «неизменно произносил имя Браммела со
смешанным чувством ревности и восхищения».
[Примечания (Вулф. -Н.Р.): М-р Бери с Сент-Джеймс-стрит любезно
обратил мое внимание на тот факт, что Beau Браммел таки раз наведывался в
Англию в 1822 году. 26 июля 1822 года он зашел в знаменитый магазин вин
и по всегдашней привычке попросил, чтоб его взвесили. Вес его тогда
равнялся 10 стоунам 13 фунтам, то бишь 69 кг 300 г. Последний раз до этого он
взвешивался 6 июля 1815 года, и вес его тогда составлял 12 стоунов 10
фунтов, т.е. 80 кг 620 г. М-р Бери добавил, что не располагает сведениями о
приезде Браммела в Англию после 1822 года.]
304
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
III
МЕРИ УОЛСТОУНКРАФТ
Социальные катаклизмы вроде войн и революций странным образом
избирательны в своем воздействии. Например, Великая французская
революция - кого-то она поставила под нож, а кого-то обошла, не тронув волоса на
голове. Джейн Остен, говорят, ни разу о ней не упомянула, Чарлз Лэм ее
проигнорировал, a Beau Браммел вообще не заметил. Другое дело - Вордсворт и
Годвин: для них революция во Франции знаменовала зарю человечества, они
явственно видели, что
Вновь Франция в зените Золотого века,
И, кажется, природа человечества воспрянула38.
Такие разительные контрасты, если их соотнести друг с другом, могут дать
историку богатую пищу для размышлений. Представьте: по одну руку Beau
Браммел в своем доме на Честерфилд-стрит, стоя перед зеркалом,
завязывает шейный платок, подчеркнуто медленно опуская на грудь подбородок,
и хорошо поставленным голосом, не допускающим и малейшего намека на
обывательский тон, обсуждает со своим портным линию фрачного лацкана;
а по другую - тесный кружок молодых людей из поселка Сомерс39, изо дня в
день они восторженно рассуждают за чашкой чая о самосовершенствовании,
об идеальной гармонии и правах человека40, причем особенно выделяется
один - у него тщедушное тело и несоразмерно большая голова, довольно
мелкие черты лица и очень длинный нос41. Есть среди них и женщина: глаза
у нее блестят, за словом в карман не лезет; члены кружка, молодые люди с
фамилиями Барлоу, Холкрофт и Годвин, - сразу видно, что из семей средних
буржуа, - обращаются к ней без церемоний по фамилии «Уолстоункрафт»,
не добавляя «госпожа» или «барышня», словно ни факт замужества, ни даже
пол не имеет значения.
Столь резкие контрасты в среде образованных людей, - а Чарлз Лэм и
Годвин, Джейн Остен и Мери Уолстоункрафт42 личности
высокообразованные, - заставляют историка предположить, что обстоятельства
действительно играют существенную роль в формировании взглядов. Представить, что
Годвин, подобно Лэму, рос под сенью Темпла43 и так же глубоко, как он,
пропитался духом старины да начитался старых писем в библиотеке Крайстс
Хоспитл44, - разве волновали бы Годвина права человека и его будущее? Да
ему бы дела до них никакого не было! То же самое Джейн Остен: только
подумать, что она, подобно Мери Уолстоункрафт, бросается на пол,
загораживая собственным телом дверь в комнату, где укрылась, спасаясь от побоев
мужа, родная мать, как все сомнения улетучиваются - Остен прониклась бы
на всю оставшуюся жизнь такой ненавистью к тирании, что все ее романы
превратились бы в один яростный призыв к справедливости.
Четыре фигуры
305
Во всяком случае, Мери Уолстоункрафт не надо было рассказывать, что
такое радости замужества - она с детства познала их на примере
несчастной матери. (И сестра ее Эверина тоже вкусила горечь супружеской жизни -
шутка ли сказать, с досады разломала на мелкие кусочки обручальное
кольцо, пока ехала в карете.) Мери долгое время пришлось обеспечивать брата,
а когда пошла с молотка отцовская ферма и ему надо было все начинать с
начала, она молча пошла зарабатывать горький хлеб гувернантки в богатом
доме - и все для того чтобы помочь человеку без чести и совести, с вечно
опухшим красным лицом, грязными всклокоченными волосами и
несносным характером. Короче говоря, Мери не знала, что такое счастье, и в
объяснение жалкого устройства человеческого существования создала теорию,
пафос которой составляет мысль о том, что единственная ценность в
жизни - это независимость. «Каждая новая обязанность, которой награждают
нас наши близкие, ложится на наши плечи дополнительной ношей,
ограничивая данную нам природой свободу и унижая ум»45. Женщине как воздух
необходима свобода; поэтому она должна воспитывать в себе прежде всего
энергичность, смелость, решимость довести начатое дело до конца, а вовсе
не обаяние или милосердие. Ты молодец, если можешь сказать себе:
«Никто не заставит меня заниматься тем, к чему у меня самой не лежит душа»46.
И это не пустые слова! У Мери, молодой тридцатилетней женщины, опыта
сопротивления обстоятельствам было побольше, чем у иного зрелого
мужчины. Так, ей стоило невероятных усилий снять дом для своей подруги
Фанни, а потом оказалось, что Фанни дом больше не нужен - у нее изменились
обстоятельства. Тогда Мери организовала школу47, убедила Фанни выйти
замуж за Скейза, а когда подруга смертельно заболела, она бросила все и
помчалась в Лиссабон ухаживать за несчастной. Фанни спасти не удалось - она
умерла у нее на руках. Возвращаясь домой, Мери, под угрозой разоблачения,
заставила капитана их судна оказать помощь терпящему бедствие
французскому паруснику48. Потом она влюбилась в Фузели49 и открыто заявила его
жене, что хочет жить с ее мужем, на что жена твердо сказала «нет», и тогда
Мери, вспомнив о своем принципе решительных действий, отправилась в
Париж зарабатывать на жизнь литературным трудом.
Ясно, что женщина такого неукротимого мятежного склада и саму
революцию не могла не воспринимать как событие, близкое ей лично. Ей ли
было не знать, что такое внутренний бунт? - когда все внутри тебя
восстает против тирании, закона, приличий. Всю жизнь в этой бунтарке зрело
великое желание исправить человечество, причем двигателем ее неистовства
преобразовательницы выступали и любовь и ненависть - поровну. Поэтому
когда во Франции свершилась революция, она в ней узнала некоторые самые
заветные свои мысли и убеждения, и на волне этого небывалого
исторического момента она вдохновенно написала две очень дерзкие книги - «Ответ
Бёрку»50и «Защиту прав женщины»51: если сегодня мы не находим в них
ничего смелого или нового, то потому лишь, что воспринимаем их как аксио-
306
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
му - нам нечего возразить против высказанной в них правды. Но интересно
другое: стоило ей собственными глазами увидеть презираемого ею короля52
под конвоем Национальной гвардии, - а случилось так, что его везли как раз
мимо того дома в Париже, где она снимала комнату, - и воочию убедиться
в том, что король держится с большим чувством собственного достоинства,
чего она не ожидала, как она чуть не расплакалась: «Сама не знаю, почему, -
признавалась в письме. - Спокойной ночи, я иду спать, и в первый раз в
жизни мне страшно загасить свечу»53. Все оказывалось сложнее, чем думалось
поначалу: даже в себе самой было трудно разобраться. У нее на глазах
вершилось долгожданное правосудие, а ей почему-то хотелось плакать.
Кажется, к ней пришли и слава, и независимость, она обрела желанную свободу
действий, а удовлетворения как не было, так и нет - хотелось чего-то
другого. «Я не святая и не жду поклонения»54, - писала она американцу Имли55,
в которого влюбилась без памяти. «Мне нужно только одно: стать для тебя
необходимой»56. Ведь он был к ней так добр! А как же ее теория свободной
любви? - «Брак - это взаимное чувство, и если любовь умирает, брачные
узы не властны, значит, такова судьба»57. Ей же хотелось и чувствовать себя
свободной, и одновременно быть уверенной в своем возлюбленном. «Мне
нравится слово "привязанность", - делилась она в письме, - оно такое
домашнее»58.
Вся эта внутренняя борьба противоположных устремлений как в зеркале
отражается в ее лице: общий решительный настрой «гасится» выражением
мечтательности; чувственный рот сочетается с высоким светлым лбом, а
чудесные, уложенные в косы волосы прекрасно гармонируют с мягким блеском
бездонных глаз, про которые Саути59 говорил, что выразительнее не
встречал. Можно представить, какой бурной была жизнь этой женщины. Каждое
утро вставать с новой мыслью о том, что твои мечты разбиваются вдребезги
о людские предрассудки. Каждый божий день чувствовать, что в тебе
рождается нечто противное твоим же теориям, значит, надо заново их
пересматривать, если не хочешь превратиться в зануду и сухаря. По ее теории
свободной любви получалось, что никаких законных обязательств перед ней у
Имли нет - ведь она сама отказалась выйти за него замуж; когда же Имли ее
бросил, одну, с ребенком - их общим ребенком!60- все в ней восстало против
такой вопиющей несправедливости.
Конечно, обманщика Имли можно было сгоряча обвинить во всех
смертных грехах - только едва ли было справедливо требовать от него понимания
того, в чем она сама не могла толком разобраться: она была сплошной клубок
противоречий - один порыв сменялся другим, рассудительность мешалась с
капризами. Даже самые верные друзья, которых ничто не могло поколебать
в их чувстве симпатии, - и те не на шутку встревожились. Все знали, как
яростно, до боли Мери влюблена в природу, и вот как-то, наблюдая за игрой
красок в ночном небе, Мадлен Швейцер воскликнула, обращаясь к
подруге: «Дорогая, посмотри - зрелище как раз для тебя! Какая чудная картина!
Четыре фигуры
307
Эти переходы, переливающиеся цвета...»61 Но Мери будто не слышала, она
в тот момент буквально пожирала глазами барона де Вольцогена62.
«Должна признаться, - вспоминала мадам Швейцер, - я была неприятно поражена
нескрываемой эротикой, читавшейся в ее взгляде, и мне сразу расхотелось
любоваться пейзажем»63. Сентиментальную швейцарку огорчила
чувственность Мери, а вот делового Имли, которого трудно заподозрить в
мягкотелости, смущало другое: ее проницательность. Стоило им только встретиться,
он тут же шел на попятную, не в силах устоять перед ее женским обаянием,
однако ее сообразительность, бескомпромиссность и идеализм наводили на
него панику. Она видела его насквозь, извиняться было бесполезно - она все
равно не верила; на все его доводы у нее был готов ответ; она даже как-то
предложила ему вести его дела. Нет, с этой женщиной покоя не жди. Надо
скорей бежать. Что он и сделал. Тогда ему вдогонку полетели письма, одно
искренней и откровенней другого. В них было столько непосредственности,
слова дышали таким нескрываемым презрением к торговле мылом и
квасцами, к богатству и самоуспокоенности, она так страстно умоляла его
сказать всю правду, обещая, как он втайне надеялся, «навсегда исчезнуть из его
жизни»64, пусть только скажет слово, что у него не выдержали нервы. Ведь
что получилось? Сам того не подозревая, он загарпунил большую рыбу, и
та, увлекая за собой незадачливого рыбака, как пошла мотать его по волнам,
что он и сам стал не рад своей добыче - поскорей бы освободиться. В конце
концов, он деловой человек, ему никуда без мыла и квасцов, а все эти
теории, в которые он не прочь поиграть, яйца выеденного не стоят: как-никак,
объяснял он ей, «мой покой в первую очередь зависит от тихих житейских
радостей»65. Женское ревнивое чувство подсказывало Мери - здесь что-то
нечисто: что за радости такие, из-за которых он все время от нее убегает?
Дела, политика, а может быть, змея-разлучница? На все ее расспросы он
отнекивался, при встрече был неизменно мил, а потом снова исчезал. Она
вконец извелась от подозрений, и, исчерпав все доступные ей средства,
приперла к стенке кухарку - и та ей все рассказала. Да, у него есть любовница -
играет в бродячей труппе. Когда все открылось, Мери, верная своей теории
решительных действий, недолго думая, смочила юбки - чтоб наверняка! - и
сиганула с моста Путни66. Но не тут-то было: ее спасли, она долго болела, а
потом «ее неукротимая воля к жизни»67 и жажда свободы взяли свое, и она
решила снова попытать счастья, рассчитывая только на саму себя и на
собственный заработок.
В ту самую роковую минуту она опять встретила Годвина -
невысокого роста мужчину с несоразмерно большой головой, с которым
познакомилась когда-то в Сомерс-тауне, еще до начала Французской революции, когда
им всем казалось, что на их глазах рождается новый мир. Впрочем, сказать
«встретила», - значит, ничего не сказать, поскольку на самом деле Мери Уол-
стоункрафт заявилась к нему домой. Чем объяснить такую вольность
поведения? Трудно сказать, возможно, Французская революция все упростила - не
308
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
все ли равно, самой отправиться с визитом в Сомерс-таун или ждать, когда
Годвин пожалует в гости на Джадд-стрит-уэст? Эти мелочи кажутся
неважными после того, как ты своими глазами видела кровь на мостовой и
слышала рев разъяренной толпы. Видимо, люди пережили тогда такую
встряску, что даже Годвин, которого, казалось бы, ничто не могло выбить из седла,
ничто не могло заставить изменить привычный образ мыслей; человек, в
котором мелочность соединялась с великодушием, эмоциональная холодность
с глубиной переживания, - ведь воспоминания о жене написаны с
несвойственными ему проникновенностью и сердечностью! - повторяю, даже
Годвин полагал, что Мери поступила правильно, придя к нему домой, отринув
идиотские условности, сковывающие жизнь женщины. У Годвина на все
было свое собственное мнение, в частности на взаимоотношения полов. Он
полагал, что даже к любви мужчины и женщины следует подходить
рассудочно, поскольку в этом чувстве есть духовное содержание. Это его слова:
«Брак - это закон, причем из всех законов он наихудший... Брак - это
договор о собственности, причем из всех договоров самый несправедливый»68.
Он был убежден, что если мужчина и женщина любят друг друга, они
должны жить вместе, одним домом, а еще лучше - на два дома, по соседству,
поскольку постоянная близость притупляет чувства. Но и это не все: Годвин
договорился до того, что если вашу жену полюбит другой мужчина - «это
не беда. Можно спокойно общаться втроем, умные люди ведь прекрасно
понимают, что чувственная сторона любви - не главное»69. Правда, написано
это было тогда, когда Годвин еще не знал, что такое любовь. Теперь же ему в
первый раз предстояло изведать это чувство. Они с Мери и не заметили, как
полюбили друг друга - «чувство пришло само собой»70 за разговором в Со-
мерс-тауне, когда они, вопреки приличиям, сидели одни в комнате, обсуждая
все на свете. «Наша дружба незаметно переросла в любовь»71, - писал
Годвин. «Когда в конце концов мы признались друг другу, то поняли, что знали
об этом всегда»72. Понятно, что о многом они судили одинаково: так, их
обоих устраивал гражданский брак - они не собирались съезжаться. Но потом
Природа взяла свое, Мери забеременела, и возник вопрос: стоит ли, теории
ради, жертвовать близкими тебе людьми? Мери решила, что не стоит, и они
с Годвином поженились73. А потом и другая теория затрещала по швам - о
том, что мужу и жене лучше всего жить раздельно. Теория теорией, а как же
быть с теми неизведанными ощущениями, которые Мери с радостью
отмечала в себе и которые ставили под сомнение, казалось бы, давно решенный
вопрос? Она сама не ожидала - оказалось, в душе она великая домоседка:
«Муж, - писала она, - такая же необходимая часть дома, как и мебель»74. А
раз так, то зачем держаться ложной теории, когда можно жить вместе?
Работать, обедать с друзьями, общаться - всем этим при желании можно
заниматься порознь, тем более что у Годвина есть отдельная студия неподалеку.
В общем, все складывалось чудесно: их новое жизнеустройство «сочетало в
себе приятную неожиданность встреч с чувством дома, теплом и уютом»75.
Четыре фигуры
309
Первый раз в жизни Мери была счастлива, и даже ригорист Годвин
вынужден был признать, что «его трогает до глубины души» то обстоятельство, что
«ты не одинок в своем счастье»76. Мери переживала настоящий творческий
подъем, упиваясь новым чувством свободы, радуясь каждому маленькому
пустячку - поездке за город, первому толчку их будущего ребенка,
звонкому смеху дочки, играющей с отчимом. Уже то, что, столкнувшись на Нью-
роуд с Имли, она не почувствовала укола ревности, говорит о многом: Мери
переродилась. И, как справедливо заметил Годвин, «наше счастье не
праздное, мы отнюдь не купаемся в мелком эгоистическом удовольствии»77. Нет,
конечно, какая праздность? Они снова ставили опыт - теперь уже вдвоем,
собственно, вся жизнь Мери с самого начала была одним сплошным
экспериментом, попыткой подчинить законы общества нуждам человека. Так что
их брак - это только начало: сколько всего их ждет впереди! У Мери родится
ребенок, она напишет книгу «Бесправие женщины»78. Займется реформой
образования. Она встанет уже на следующий день после родов. И роды у нее
будет принимать не врач, как обычно, а акушерка... - только, увы, этого
последнего эксперимента она не пережила: скончалась при родах79. Только
подумать: умереть в тридцать шесть80 - и кому? Женщине с такими яростными
самоощущением и жаждой жизни, что даже в самую отчаянную минуту она
не могла примириться с «мыслью о том, что меня больше не будет - не будет
никогда- нет, невозможно представить, что я перестану существовать»81.
Одно радует: она все-таки отыгралась. Ведь сколько миллионов людей
умирает, и о них на следующий день никто не помнит, а Мери Уолстоункрафт
похоронили сто тридцать лет назад, и мы до сих пор вчитываемся в ее письма,
взвешиваем доводы, вникаем в ее опыт - не в последнюю очередь, в самый
большой и плодотворный ее эксперимент - брак с Годвином, словом,
проникаемся той страстностью, с какой она снова и снова бросалась в горнило
жизни. И вот результат: оглядитесь, она жива, она среди нас - спорит, ищет,
доказывает. Значит, «не перестала существовать», значит, одну форму
бессмертия она все-таки отвоевала.
IV
ДОРОТИ ВОРДСВОРТ
Следом за Мери Уолстоункрафт торопится Дороти Вордсворт82: еще одна
странница. Мери с дочкой83 приезжала в Альтону-на-Эльбе84 в 1795 году, и
буквально три года спустя там же побывала, вместе со своим братом и Кол-
риджем, Дороти. Обе путешественницы вели дневник, посещали одни и те
же места, но смотрели на все совершенно по-разному - каждая со своей
колокольни. Мери что ни увидит, моментально начинает строить теорию - о
политике ли правительства, о положении народа, о непознаваемости души.
Удары весел по воде наводили ее на размышления о сущем: «Жизнь, что ты
310
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
такое? И куда улетучивается мое дыхание? А мое "Я" - такое живое? С
какой стихией оно сольется, кому отдаст свою энергию, для кого станет
источником жизни?»85 - задумавшись о своем, забывшись, она смотрела
прямо на барона Вольцогена86. Дороти же, наоборот, всматривалась в приметы
окружающего мира и записывала все до точки, до буквочки, в мельчайших
подробностях. «Дорога от Гамбурга до Альтоны очень приятная. Открытые
поляны, обсаженные деревьями, везде тропинки, посыпанные гравием...
Противоположный берег Эльбы выглядит заболоченным»87. Дороти и в
голову бы не пришло бунтовать против «тирании, у которой из-под платья
торчит раздвоенное копыто Люцифера»88, или задавать «мужские вопросы» об
экспорте и импорте: ведь одно дело - ее душа, и совсем другое - небо. Она
всегда твердо отделяла «мое, такое живое "Я"» от внешнего мира - деревьев,
мелкой растительности. Она знала, что если между ее глазом и тем объектом,
на который она смотрит, встанет что-то постороннее - ее ли собственная
персона, женские ли права, бесправие, страсти, страдания, то в следующую
минуту она уже и не заметит, как луну назовет «Царицей Ночи», рассвет у
нее превратится в «луч Востока», и, вместо того чтобы найти точный образ
для лунной дорожки, бегущей по воде, она размечтается, заслушается,
унесется мыслью в эмпиреи. Тогда уж ей точно никогда не сказать, что рябь на
воде «серебрится, как идущая на нерест сельдь»89 - все заслонит ее
бесценное «Я». Вот и вся разница: Мери набивала себе шишки, надрывно крича:
«Должно же быть в душе что-то нетленное, ни за что не поверю, что жизнь -
только сон!»90, а Дороти дотошно подмечала первые признаки наступавшей
в Альфоксдене91 весны: «Зацвел терн, зазеленел боярышник, еще недавно
черневшие лиственницы в парке опушились бирюзовым - и все это за
последние два-три дня»92. А на другой день, 14 апреля 1798 года, «вечером был
сильный ветер, мы остались дома. Получили жизнеописание Мери Уолсто-
ункрафт и проч.»93. А еще через день, гуляя по окрестностям, они заметили,
что «Природа преуспела в украшении того, что изуродовала рука человека, -
развалин, хижин и др.»94. Заметьте, ни слова о Мери Уолстоункрафт: такое
впечатление, будто ее бурную мятежную жизнь просто взяли и смели в
самый дальний подвал страницы. Зато следующая фраза читается как
невольный комментарий: «К счастью, нам не дано перекраивать ландшафт в угоду
нашей фантазии»95. Нет, конечно, нет: бунтовать и реформировать вообще
не в нашей власти, мы можем только попытаться принять и понять послание
Природы. И так день за днем, запись за записью.
Миновала весна, наступило лето, за летом осень, потом зима, а там,
глядишь, снова зацвел терновый куст, зазеленел боярышник, и наступила весна.
Только было это уже на Севере, в Шотландии, и жили они теперь вдвоем с
братом в небольшом коттедже в Грасмир96 высоко в горах. Наконец-то,
после долгих мучений и разлуки, брат с сестрой обрели собственную крышу
над головой97, и теперь им ничто не мешало жить наедине с Природой,
прислушиваться к ней день за днем, пытаясь постичь великую тайну. Средства,
Четыре фигуры
311
слава Богу, позволяли им жить безбедно, не думая о хлебе насущном; дети
у них по лавкам не плакали, служить они нигде не служили. Дороти могла
днями напролет бродить по горам, и всю ночь, до рассвета, беседовать с Кол-
риджем - никакая тетя теперь не стала бы ругать ее за непозволительное для
барышни поведение: вокруг на много миль никого! Счастливые, они часов
не наблюдали, время принадлежало им безраздельно - от восхода до
заката, и они вольны были распоряжаться собой, как угодно, смотря по погоде.
В ясные дни можно было вообще не заходить в дом, а если шел обложной
дождь, то и вставать незачем. Ложись, когда хочешь. Обед стынет - ну и что
с того? Обождет: пусть сначала докукует кукушка98, и Уильям найдет точное
слово, которое никак ему не дается. Воскресный день ничем не отличался
от будней: все в их жизни - привычки, распорядок - подчинено было
сосредоточенному, самоуглубленному, неустанному вслушиванию в Природу
и занятиям поэзией. На это уходили все силы. Уильям, бывало, до головной
боли искал верное слово; часами бился над одной-единственной строчкой,
когда такое случалось, Дороти знала, что лучше не встревать с советами:
одна мельком оброненная фраза могла надолго засесть у него в голове, сбить
с настроения. Сколько раз бывало: спустится к завтраку, а там слово за
слово - вспомнится что-то из увиденного, она расскажет ему, - и он тут же «в
рубашке без воротничка, в расстегнутом жилете»99, забыв о еде, подсядет к
столу и начнет писать стихотворение - так было с мотыльком100, на ходу
правя написанное, изматывая себя поиском созвучий.
Удивительно, как живо все это предстает перед нами: дневник Дороти,
кажется, ничем не отличается от кратких записей, которые ведут
домохозяйки, - вроде все одно и то же: про сад, про настроение брата, про смену
времен года. Вот она пишет: вчера лило целый день, а сегодня влажно и
парит. В поле ей повстречалась корова: «Буренка посмотрела на меня
исподлобья, наши глаза встретились, и с этой минуты стоило мне сделать шаг,
она тут же прекращала жевать»101. Или, положим, попался ей навстречу
старик, шагавший с двумя палками102, - вот и все события за несколько дней!
Жующая жвачку корова да незнакомый прохожий. Спрашивается, зачем
вести дневник? На это у нее был свой очень простой ответ: «Не хочу разлада
с собой, и потом, я знаю - вернется Уильям домой, ему будет приятно
послушать»103. Далеко не сразу начинаешь понимать огромную разницу
между этими скупыми записями и обычным дневником: требуется время, чтобы
они распустились, подобно почкам на деревьях, в нашей памяти, - только
тогда внутреннему взору откроется простирающийся далеко окрест пейзаж;
только тут мы поймем, что сказанное ею в простоте на самом деле настолько
емко выражает существо разговора, что если проследить траекторию полета
ее мысли, мы воочию увидим то, что видела она сама. «Горные склоны
выбелило лунным светом, будто снегом»; «Воздух замер; гладь озера застыла,
как слюдяное окошко; горы потемнели. В топкие, тающие в тумане берега
вонзились заливчики. Овцы спят. Вокруг тишина»; «Все водопады звучали в
312
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
унисон - в воздухе стоял несмолкаемый водяной звон - воздух пел»104. При
всей сжатости, в этих описаниях чувствуется упругость мысли - заметьте,
мысли поэтической, не бытописательской: только поэт способен так
расставить, казалось бы, простые приметы, что перед нам встают, во всем величии
и полноте, гладь озера, горные вершины в ночи. И ведь что интересно! - она
отнюдь не пейзажист в привычном смысле этого слова. Ее главной заботой
была достоверность: для нее правда превыше изящества и гармонии, -
правда вообще превыше всего на свете! А все потому, что Дороти знает: если
исказить облик озерной глади, как она предстала перед тобой, под легкой
рябью от дуновения ветра, то ты рискуешь навлечь на себя гнев того духа, что
творит все сущее. Это он гложет, будоражит, держит ее в напряжении, будто
натянутую струну. Западет ей что-то в душу - вид ли, звук ли, и она никак не
успокоится до тех пор, пока не отыщет источник и не выразит свое чувство
либо в слове, пусть самом неуклюжем, либо в образе, каким бы корявым он
ни показался. Природа - суровая школа. Она требует, помимо точного
изображения повседневных деталей, умения создать «воздух» - широкое
миражное полотно. И тут нет выбора: пускай горные вершины плывут вдалеке, тая
в дымке как сон, как недостижимая мечта, а она все равно будет
выписывать с доскональной точностью «блестящую серебристую змейку, бегущую
по спинам овец»105 и внимательно отмечать про себя, как «вороны, отлетев
от нас на небольшое расстояние, замелькали белоснежными пятнышками,
серебрясь на солнце, потом слились в одно яркое пятно, будто кто воду
расплескал над зеленым лугом»106. Ее неустанный труд постепенно сделал свое
дело: она так натренировала глаз, что ей одной прогулки хватало, чтоб
насытить воображение уймой разных интересных подробностей, из которых
потом на досуге можно отобрать самое важное. Как забавно, например,
выглядели солдаты вперемешку с овцами на горе Дамбартон Касл107! Овцы
почему-то казались в натуральную величину, а солдаты больше походили на
кукол108. И двигались овечки естественно и без всякой опаски, тогда как
солдаты, издали казавшиеся карликами, бессмысленно топтались на месте. Все
это представлялось ей очень странным. Бывало, лежа в постели, она
поднимала глаза к потолку и словно впервые замечала отполированные до
блеска перекладины: «Они чернели, как утесы под шапками льда на солнце»109.
Да, точно, они «переплелись почти так же плотно и причудливо, как, помню,
сплелись в одно сухое гнездовье нижние ветки огромной старой березы, до
которых не добирался ни один солнечный луч... Похоже на подземный грот
или храм в катакомбах - слышно, как где-то капает вода, сверху собирается
влага, откуда-то проникает лунный свет, и на всем лежит тусклый
перламутровый отблеск. Я лежала с открытыми глазами и смотрела вверх, пока не
догорел камин... Так и не заснула»110.
Такое впечатление, что она вообще никогда не смыкала глаз. Все пытала и
пытала глазами - не то чтобы из любопытства, больше из чувства почтения к
какой-то великой сокровенной тайне, недоступной обычному людскому взо-
Четыре фигуры
313
ру. Читаешь ее, и кажется, что руку ее то и дело перехватывает от волнения,
но она быстро справляется, - и точно то же впечатление, по воспоминаниям
Де Квинси111, производила ее речь: прерывистая,
лихорадочно-исступленная, осекающаяся на полуслове. Да, эта женщина умела властвовать собой.
Какие бы чувства в ней ни бушевали, какие бы «безрассудство и азарт» ни
читались в ее взгляде, - а натура она была глубокая, страстная от природы, -
она справлялась с волнением, подавляла душевную смуту, а все потому, что
знала - на карту поставлено главное: твой глаз - алмаз. Справишься, не дашь
волю чувствам, и тогда Природа сторицей тебя вознаградит. «Райдэл
великолепен, - писала она, - его отвесные, холодные грани напоминают стальные
пики... Смирись, душа! Мне по-прежнему грустно»112. Еще бы! Ведь Кол-
ридж прошел полстраны, торопясь к ней, постучался поздно ночью, - разве
не греет ее его письмо, которое она спрятала в своем сердце?
Так и шли наполненные трудами праведными дни - в неустанном
сообщении с Природой, которая питала Дороти и которая, кажется, сама
черпала из ее вдохновенного служения: они будто срослись, слились,
переплелись, и в их взаимопроникновении не было ни умствования, ни праздного,
травяного существования, ни мистицизма, а только одна всепроникающая,
согревающая все любовь Дороти к «брату ее возлюбленному» - истинному
источнику вдохновения. Они ли не единое целое - Уильям, Природа и сама
Дороти? Свободная, самодостаточная, питающая саму себя троица, не
связанная ни местом, ни временем года? Положим, сидят они с Уильямом дома:
«...около десяти вечера, тихо вокруг. В камине потрескивает огонь, рядом
тикают часы. Я ловлю дыхание брата моего возлюбленного: вот он
поудобнее устраивается с книгой, вот перевернул страницу...»113 А вот апрельский
день: прихватив старое пальто, они вдвоем идут в Джонову рощу - полежать
на траве: «Мы оба лежали тихо, не шевелясь и не видя друг друга, хотя
Уильям слышал, как я дышу и как что-то шуршит в траве. Он потом сказал мне,
что ему хотелось бы вот так же лежать в могиле, и чтобы доносились звуки
мирной сельской жизни, и ты знал, что где-то рядом твои близкие друзья. На
озере ни звука - только одна рыбачья лодка»114. Странная это была любовь -
глубокая, без слов, точно брат и сестра с самых первых дней росли вместе
и у них было так много общего, что им и говорить не надо было, - они
чувствовали заодно: увидит кто-то один нарциссы или спящий город115, и тут
же увиденное аукнется в другом. Единственная разница: Дороти передавала
настроение прозой, а Уильям, вслед за ней, перекладывал слова в стихи. Они
не могли друг без друга: им нужно было быть вместе, чувствовать и думать
заодно. И так всегда: полежав на траве, они поднимались, шли в дом, вместе
пили чай, потом Дороти садилась писать Колриджу, затем они вместе шли
сажать красную фасоль, потом Уильям садился править своего «Собирателя
пиявок»116, а Дороти переписывала набело. Настоящая сага: вдохновенная,
без «лирики», раскованная и при этом выдержанная в каждой мелочи - от
314
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
головокружительного эпизода «на траве» до описаний выпеченного хлеба,
выглаженного белья, стола, накрытого к ужину.
Дом их с садиком, взбегавшим по склону горы, стоял прямо у дороги, и
Дороти в окно было видно все, что происходит на улице: вот бредет по
дороге нищенка с заплечным мешком, в котором сидит ее дитятко; вот ковыляет
мимо служивый; вот катит открытое ландо с королевской короной на
дверце, а в нем сидят и с любопытством пялятся одетые в прогулочные
костюмы дамы117. Бог с ними, важными да богатыми господами: Дороти до них
было примерно так же, как до величественных соборов, картинных галерей,
столичных городов - все это ее мало интересовало; но отказать себе в
удовольствии пригласить в дом нищего, накормить его и расспросить о житье-
бытье она никогда не могла. Откуда он? Что видел? Есть ли дети? Сколько?..
Нищие для нее - те же горы, она нутром чувствовала в них какую-то тайну и
пыталась вызнать, выпытать всю подноготную. Пока какой-нибудь бродяжка
поглощал холодное мясо, оставшееся после ужина, она смотрела на него во
все глаза, напоминая звездочета, пытающегося по звездам разгадать судьбу:
на бедняге старое латаное пальто - «в тех местах, где пришиты пуговицы,
подставлены три заплаты темно-синего цвета в форме колокола»118, а
двухнедельная щетина похожа на «серый ворс»119. Еще она всегда очень
внимательно вслушивалась в рассказы путников о том, как их забирали в рекруты, как
они нанимались юнгами, про маркиза Грэнби120, - стараясь подметить в
каждой повести фразу или словцо, которое, бывает, дороже всей рассказанной и
тут же позабытой истории. Например, «Что, на запад путь держите?» Или:
«Конечно, девственницам многое уготовано на небесах». Или вот еще: «Она
с легкой душой обходила могилы тех, кто умер молодым»121. Все бедняки в
душе - поэты, точно так же, как горы - сплошная музыка. Но вольнее всего
ее фантазии дышалось не взаперти, а на открытом воздухе - в дороге, среди
пустошей. Она не знала большего счастья, чем идти под дождем по горной
тропе, ведя под уздцы норовистую лошадь, не зная, где они сегодня
найдут ночлег, чем поужинают. Ей довольно было знать: что-то впереди маячит,
роща ли, водопад ли. Они все шли и шли молча, только Колридж, который
вызвался быть третьим в их компании, время от времени взрывался и
начинал обсуждать исконное значение слов «великолепный», «возвышенный»,
«грандиозный». Пешком топать им пришлось из-за лошади: она ни с того
ни с сего понесла, опрокинула их экипаж, а захомутать ее толком им больше
не удалось - нечем было, только бечевка да носовой платок. К тому же они
сильно проголодались: Вордсворт случайно уронил в воду хлеб и цыпленка,
специально зажаренного им в дорогу122, и они остались не солоно хлебавши.
Куда идти, они точно не знали, ночлега у них подготовлено не было - они
знали только, что где-то впереди водопад. Колридж не выдержал первым.
От сырости у него разыгрался ревматизм, проку от двухколесного
ирландского экипажа все равно никакого не было - дождь лил как из ведра; а тут
еще его спутники как воды в рот набрали. С него хватит! Он развернулся и
Уильям Хэзлит
315
пошел прочь. А Уильям с Дороти пошли дальше. Посмотреть на них -
бродяги бродягами: лицо у Дороти смуглое, как у цыганки, платье
пообтрепалось, идет быстро, крупным шагом. Зато выносливости ей было не занимать,
и глаз у нее прежний - как алмаз: все подмечает. После долгих мытарств
добрались они до водопада, и тут Дороти дала себе волю. Она оценила
масштаб стихии, высмотрела каждую впадинку, сравнила с водопадами, которые
видела раньше, в других местах, нашла отличия - все это она проделывала
всласть, с энтузиазмом первооткрывательницы, с дотошностью
натуралистки, с восторгом влюбленной. Наконец-то он ее! - навсегда запечатлен в ее
душе как одно из тех «потаенных сокровищ», которые можно всегда, как по
мановению волшебной палочки, вызвать в памяти во всей их первозданной
красе. Пройдут годы, а она по-прежнему будет помнить тот образ, хотя уже
и возраст возьмет свое, и память уже не та, - все равно воспоминание об
увиденном останется с ней, высвечивая, как магическим кристаллом,
счастливейшую пору жизни в Рейсдауне123 и Альфоксдене, когда Колридж читал
«Кристабель»124, и с нею был брат ее возлюбленный, незабвенный Уильям.
Никакие человеческие отношения, никто из друзей не способен был утешить
и успокоить ее душу, как то светлое воспоминание. А раз так, то можно легко
себе представить, что ответила бы Дороти на страстный негодующий
возглас Мери Уолстоункрафт (если бы, конечно, она его услышала): «Должно
же быть в душе что-то нетленное, ни за что не поверю, что жизнь - это сон!»
Так вот Дороти сказала бы просто: «Мы смотрели во все глаза и чувствовали
себя счастливыми»125.
УИЛЬЯМ хэзлит
Если бы судьба свела нас с Хэзлитом, он бы нам понравился: ведь, как он
сам говорил, «не бывает так, чтоб в человеке все было противно»1. Но
Хэзлит2 умер сто лет назад, и сегодня непонятно, можем ли мы, так сказать, за
давностию лет, оценить его по достоинству или же так и укрепимся в мысли,
внушенной его сочинениями, что он нам глубоко несимпатичен и как
человек, и как мыслитель. Дело в том, что с Хэзлитом нельзя не считаться -
кстати, одно из больших его достоинств! - он не из тех серых мышек, которые,
ничем не запятнав своей писательской репутации, быстро сходят со сцены и,
словно устав от собственной незначительности, тихо почиют в бозе. Нет, у
Хэзлита все по-другому: его эссе - это он сам. Он не считает нужным
сдерживаться и что-то скрывать из чувства приличия. Он режет правду-матку в
глаза и, что особенно неприятно, без обиняков говорит о своих чувствах.
А поскольку он страшно самолюбив - таких, как он, вообще поискать! - то
дня не проходит, чтоб он кого-то не возненавидел, не приревновал, не
осерчал на кого-нибудь, не порадовался чему-то, то мы уже на второй странице
316
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
понимаем, что столкнулись с неординарной личностью. Сварливость
уживается в Хэзлите с возвышенными чувствами; низость с благородством;
редкостный эгоизм соседствует с окрыленностью и искренней заботой о правах и
свободах человечества.
Зазор между личностью Хэзлита и его эссе настолько мал, что мы,
читатели, без особого труда можем нарисовать его образ. Вслед за Колриджем,
мы представляем его «нелюдимым, вечно насупившимся, уставившимся в
пол чудаком»3. Так и видишь, как он входит в комнату, загребая ногами, ни
на кого не смотрит; если здоровается за руку, то ладонь подает плоско,
«лодочкой»; может целый вечер просидеть в углу, бросая мрачные взгляды
исподлобья. «Он очень дурно воспитан»4, - отзывался о нем Колридж. И все
же иногда его словно подменяли: на лице появлялась одухотворенная
улыбка умнейшего человека, и в каждом его движении тогда сквозили
сочувствие и понимание. Чем внимательнее вчитываемся мы в его эссе, тем яснее
становится картина его жизни, полной лишений и горьких разочарований.
Жил он в основном по гостиницам, все больше один, не зная женской ласки
и тепла. Расплевался со всеми своими друзьями, за исключением разве что
Лэма5. Как он сам объяснял, вина его заключалась только в том, что он
твердо держался своих принципов и «не пошел на поклон к правительству»6.
Для газетчиков он был все равно что красная тряпка для быка:
обозреватели «Блэквудза» за глаза дразнили его «прыщавым Хэзлитом»7, хотя то была
откровенная ложь - кожа у него была гладкая, как у девушки. Тем не менее
клевета проникла в прессу, ей поверили, и после этого Хэзлит стал избегать
друзей: какие визиты, если каждый лакей, показывая на тебя, тычет пальцем
в газету, а горничная хихикает за спиной? Никто не отрицал, что Хэзлит
умнейшая голова и пишет он, как бог: среди прозаиков ему нет равных. Только
как ему это может помочь в отношениях с женщинами? Успеха у светских
дам человек ученый, как правило, не имеет, про горничных и говорить
нечего... - такие жалобы на судьбу у Хэзлита прорываются постоянно,
вызывая у нас чувство досады и разочарования. И все же, вопреки всему, в нем
читается такая безоглядная вольность, такая за ним чувствуется бездна ума,
тонкого вкуса и вдохновения, особенно в те минуты, когда он, забыв о себе,
увлекается другими материями, что от первоначальной неприязненной
реакции не остается и следа, и взамен ее появляется другое чувство -
воодушевления и понимания сложности предмета. Хэзлит прав: «То, чего мы так
страшимся и что внушает нам такую неприязнь, на самом деле всего лишь
маска. Трудно поверить, что за ней не стоит ничего человеческого. Короче
говоря, те представления, которые мы создаем о людях, наблюдая за ними на
расстоянии или зная их только с какой-то одной стороны, или основываясь
на догадке, - все эти примитивные суждения, лишенные всякой сложности,
и они не имеют ничего общего с действительностью. Идеи же, почерпнутые
из опыта, всегда неоднородны и, как правило, создают о человеке
благоприятное впечатление - они и есть единственно верные»8.
Уильям Хэзлит
317
Примитивные, лишенные всякой сложности суждения, - это, конечно, не
про Хэзлита. Ему на роду было написано терзаться вечным сомнением по
поводу выбора жизненного предназначения: то ли заняться литературой,
писать эссе, то ли посвятить себя живописи и философии. Недаром его вначале
тянуло к рисованию: видно, отстраненное безмолвное искусство живописи
казалось чем-то сродни его смятенному духу. Он не скрывал чувства зависти
к художникам, полагая, что у тех счастливая старость - они «до последнего
сохраняют ясный ум»9; его манила природа - так и подмывало, взяв кисти,
краски, холст, отправиться в лес, в поле, чем сидеть взаперти перед чистым
листом бумаги и чернильницей. При этом что-то и смущало в безмятежном
созерцании наружной красоты - хотелось чего-то более отвлеченного... В
четырнадцать лет ему случайно довелось присутствовать при споре о границах
веротерпимости, который его отец, убежденный служитель униатской
церкви10, вел с пожилой прихожанкой, - дело происходило на ступенях
паперти после службы, и, как позднее вспоминал Хэзлит, «тот случай перевернул
мою жизнь, определив всю дальнейшую судьбу». Он заставил его «взглянуть
по-новому... на систему политических прав и общего законодательства». Ему
захотелось «разобраться в причинах положения вещей»11. С тех пор в жизни
Хэзлита постоянно сталкивались эти два противоположных идеала: идеал
мыслителя, который стремится как можно яснее и точнее сформулировать
«причины положения вещей», и идеал художника, жадно всматривающегося
в голубец и киноварь, вдыхающего воздух полной грудью и купающегося в
гедонистических ощущениях. При всей противоположности и
недостижимости этих идеалов, они рвались наружу, громко заявляя о себе. Хэзлит
прислушивался и к тому и к другому голосу, склоняясь то в одну то в другую
сторону. В то время он подолгу жил в Париже, копируя в Лувре старых
мастеров; потом ехал домой и неотрывно, в поте лица своего, работал над
портретом старухи в чепце, пытаясь понять секрет Рембрандтова мастерства; но
портрет ему не давался - возможно, не хватало техники, и в конце концов,
промучившись безуспешно, он изрезал полотно вдоль и поперек и
зашвырнул подрамник подальше в угол. Зато «Эссе о принципах человеческих
поступков»12, которое он писал одновременно с портретом, стало самым
любимым его детищем. И в общем, понятно почему: ведь он руководствовался
одной-единственной целью - дойти до сути вопроса. Его не интересовали ни
деньги, ни общественное мнение, ни полемический блеск, ни отточенность
формы - он писал ясно, просто, по существу. Как и следовало ожидать, его
«книга вышла из печати мертворожденной»13. Не лучше обстояло дело и с
его политическими расчетами: он-то надеялся, что пришел конец власти
короля-тирана и грядет век свободы, но надежды не оправдались. Друзья его
предали - подались в чиновники, и он остался один на баррикадах -
отстаивать принципы свободы, братства и революции, не имея никакой другой
поддержки, кроме чувства собственной правоты.
318
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Вот такая у человека судьба: два разных призвания, разбитые надежды
и счастье, оставшееся навеки позади. Он рано укрепился в своих мыслях, и
печать его первых детских впечатлений легла на все, написанное
впоследствии. Даже в минуты блаженства он задумывался не о будущем, а о
прошлом - обращаясь мыслями к детству, к родным местам: к голубым шроп-
ширским холмам, к цветущему саду, к широким просторам, где ему когда-то
казалось, что весь мир принадлежит ему одному, где царил безбрежный
покой и где можно было, подняв глаза от мольберта или книги и увидев
расстилавшиеся без конца и края поля и леса, принять их за отражение того
умиротворенного состояния, что носил он в себе. Он снова и снова обращается
мысленно к Руссо, к Бёрку, к «Письмам Юниуса»14: эти книги, прочитанные
в отрочестве, оставили неизгладимое впечатление в его воображении -
впечатление, не сравнимое ни с одной книгой, попавшей ему в руки в зрелом
возрасте, и это понятно: ведь юношей он читал ради удовольствия, а потом
все кончилось, и юношеская пора с ее чистыми радостями и сильными
увлечениями осталась навсегда позади.
Разумеется, он женился - было бы странно, если бы этого не произошло:
ведь он питал большую слабость к женской половине, и брак этот оказался
несчастливым, опять же, было бы странно, если бы вышло иначе: ведь он
ничего другого не ждал от «своей уродливой фигуры, рожденной на всеобщее
посмешище»15. Как-то однажды у Лэмов он встретил мисс Сару Стоддарт, и
в тот момент она подкупила его своей практичностью: пока Мери думала,
что и как подать на стол, Сара взяла и быстренько согрела чаю. Но, увы,
первое впечатление оказалось обманчивым: домовитостью Сара не отличалась;
годового дохода, что за ней дали родители, на семейную жизнь не хватало, и
вот Хэзлиту, за восемь лет написавшему восемь страниц и собиравшемуся
и дальше продолжать в том же духе, пришлось срочно податься в
журналисты и научиться быстро и в установленный срок писать все, что ни попросят,
вдобавок соблюдая точный объем, - политические статьи, пьесы, очерки,
книги. Он сам не заметил, как исписал каминную доску в гостиной
всевозможными задумками для будущих эссе: жили они тогда с Сарой в старинном
доме на Йорк-стрит - одно время он принадлежал Милтону. Уже по одной
этой привычке записывать как попало, где придется, лишь бы не упустить
мелькнувшую мысль, видно, что в доме у них не было ни порядка, ни
уютной бонвиванской атмосферы, которая порой стоит иной чистоты. Хэзлитам
было не впервой встать в два часа пополудни, позавтракать чем бог послал:
камин у них стоял нерастопленный, и занавесок на окнах не было. Питать
какие-то иллюзии насчет своего мужа миссис Хэзлит давно бросила -
женщина она была здравая и все беды лечила одним - прогулками на большие
расстояния. Она знала, что муж ей изменяет, и относилась к его эскападам с
редкостной терпимостью, которая порой заходила слишком далеко, судя,
например, по такой записи в ее дневнике: «Он говорит, что я всегда с
презрением относилась к нему и к его таланту»16. Естественно, брак их, в котором не
Уильям Хэзлит
319
было ни грана любви, распался, и, стряхнув с себя брачные узы и вздохнув
освобожденно, Сара Хэзлит натянула походные ботинки и отправилась
пешком по Шотландии; Хэзлит же, необласканный, безутешный, переехал жить
в гостиницу - собственно, так и началась его полная неустройства,
унижений и разочарований холостяцкая жизнь постояльца «на колесах». Именно
тогда он пристрастился к крепко заваренному гостиничному чаю и пил этот
английский чифирь маленькими глоточками, в одной руке держа чашку,
другой сжимая в объятиях дочку хозяина гостиницы. И тогда же он и написал
свои эссе, которые, по общему мнению, принадлежат к самым
блистательным нашим шедеврам.
Сразу оговоримся: шедевры эти не без изъяна, если сравнивать их с эссе
Монтеня или Лэма - в отличие от последних, эссе Хэзлита не будоражат
мысль и не задерживаются надолго в памяти. Он редко достигает того
совершенства и целостности, которые как раз отличают сочинения великих
мастеров этого жанра. Возможно, такова природа эссе - оно требует всего тебя без
остатка: необходимы полная внутренняя сосредоточенность и душевная
гармония. Одно неверное движение, и вся постройка летит к чертям. Если в эссе
Монтеня, Лэма, даже Аддисона, при всей их открытости, присутствует некая
сдержанность, которая происходит от внутренней собранности авторов,
которая не позволяет им болтать лишнее и раскрывать до конца свои карты, то
с Хэзлитом дело обстоит по-другому. Даже в самых распрекрасных его эссе
всегда есть какие-то надлом и диссонанс, точно трудился над ними не один
человек, а двое, и они всю дорогу ссорились, так и не найдя общего языка.
Один из этих двоих - любознательный юноша, стремящийся постичь
причины мироустройства: он в этом тандеме за мыслителя. Чаще всего именно ему
поручают выбрать вопрос для обсуждения. Он почему-то особенно любит
рассуждать на отвлеченные предметы, например о Зависти, Эгоизме, Разуме,
Воображении, каждый раз уходя с головой в свободную дискуссию об этих
материях, исследуя все до мельчайших закоулков и скользких мест, точно это
не разговор об абстрактных сущностях, а крутой горный подъем,
взбираться по которому и хочется и колется. Словом, атлетическое упражнение для
ума, по сравнению с которым опусы Лэма напоминают полет бабочки: то она
сядет на цветок, то непонятно зачем перепорхнет на крышу амбара, то
опустится на бортик тачки. У Хэзлита же каждое предложение работает на
главную идею: он ни на минуту не выпускает из поля зрения поставленную цель
и продвигается к ней, невзирая на мелкие препятствия, «легким слогом
разговорной прозы»17, который, замечает он, дается гораздо труднее, чем
книжный литературный стиль.
Без сомнений, таких спутников, как Хэзлит-мыслитель, только поискать:
и могуч, и бесстрашен, и знает, куда ведет, и собеседник что надо - умен,
речист, для газеты это просто находка! Ведь читатели - народ сонный, им
непременно надо чего-то яркого, иначе их не проймешь. Однако не забудем: у
мыслителя есть верный спутник - Хэзлит-художник: личность чувственная,
320
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
нервная, жадная до цветов и красок бытия, жаждущая все потрогать. Такого
хлебом не корми - дай побороться за первое место, за руку и сердце Сары
Уокер18; он на собственном опыте познал такие переживания, перед
которыми бледнеет разум, а заодно и все его бесплодные умствования и потуги
создать что-то изысканно-тонкое, - такой только и ждет случая впиться зубами
в сочную мякоть напоенного солнцем плода. Мало знать природу сущего -
надо еще уметь ее прочувствовать. А Хэзлит это умел, как не каждый поэт
умеет. На какую бы отвлеченную тему он ни писал, стоило ему вспомнить
прошлое, как эссе под его пером тут же накалялось докрасна или, наоборот,
бледнело от бешенства так, что в нем не оставалось ни кровинки. Тронет
ли душу пейзаж, вспомнится ли время, когда он впервые прочитал ту книгу,
которую держит сейчас в руках спустя много лет, - и как ни бывало
стройной логики рассуждений: выражаясь фигурально, он спокойно откладывает
в сторону острое перо аналитика-полемиста, берет в руку кисть и одной-дву-
мя фразами кладет на полотно насыщенный многоцветный мазок. Все
знают знаменитые хэзлитовские пассажи про то, как он читал «Любовь за
любовь»19 и прихлебывал кофе из серебряного кубка; как наслаждался «Новой
Элоизой»20 и брал, не глядя, из тарелки куски холодного цыпленка, и все же
надо признать: описания эти выбиваются из линии рассуждений; всякий раз,
встречая обрыв или ненужное лирическое отступление, мы спотыкаемся -
кому ж понравится все время быть настороже, чувствуя спиной чужого,
который вот-вот вспрыгнет сейчас тебе на плечи и, приставив к горлу нож, будет
требовать внимания? Такие резкие переходы и перехлесты даже в лучших
хэзлитовских эссе не могут не вызывать у читателя недоумение и ощущение
незавершенности: вроде начинали с научного доклада, а закончили поэмой.
Все вроде шло к заключительному аккорду: ты уже собирался сказать про
себя спасительное Q.E.D.*, как вдруг все разъехалось и оказалось, что ты
стоишь по колено в воде, уткнувшись носом в какой-то цветок посреди
непонятно откуда взявшегося болота. Мы смотрим на «лица, бледнее первоцвета,
в обрамлении гиацинтовых кудрей»21, а в ушах у нас поют на разные голоса
таинственные леса Тьюдерли...22 Мы замерли, задумавшись, заслушавшись,
и вдруг до нас доносится окрик - от неожиданности мы просыпаемся:
оказывается, это наш суровый желчный неустанный ревнитель мысли опять зовет
нас вперед на штурм интеллектуальных вершин...
Как видим, сравнение Хэзлита с другими мастерами жанра сразу
выявляет его слабые стороны. У него узкий кругозор и короткое дыхание, притом
что страсти кипят нешуточные. Он антипод Монтеня в том смысле, что если
француз, образно говоря, распахивает перед жизнью двери, идя навстречу
любым переживаниям, не отвергая никакой человеческий опыт, и проявляет
верх терпимости, поглядывая искоса, с иронией на то, как тешится душа, то
Хэзлит, наоборот, запирается на ключ, оставляя за порогом все, что чуждо
* Q.E.D. - сокращ. от «quod evat demonstrandum» - «что и требовалось доказать» (лат.).
У ил ъям Хэзлит
321
его первым впечатлениям, отложившимся в его душе неизменными
догматами веры. Лэм для него тоже не образец: обыгрывать характеры друзей, как
то делает Лэм, представляя их в гротескном или поэтическом свете, явно не
по нему - нет, он рисует своих героев как заправский портретист,
несколькими точно схваченными штрихами, быстро взглядывая исподлобья. Кружить
вокруг да около, как обычно делают эссеисты, - не его стиль: он упрямо, в
силу убеждений и неискоренимого индивидуализма, держится одного
времени, одного места, одного предмета разговора. Нас ни на секунду не покидает
мысль о том, что это Англия начала девятнадцатого века, что мы ютимся в
«Саутгемптон Билдингзе»23 или скучаем в Уинтерслоу24: из окна видны
прибрежные дюны и центральная улица... Хэзлит как никто умеет расположить к
себе, создав иллюзию, что мы его современники. И постепенно, вчитываясь
в его многотомное собрание сочинений, написанных с азартом, но без
писательского зуда, нам все меньше и меньше хочется сравнивать его с другими
эссеистами. Ведь по большому счету это не эссе, а скорее фрагменты
какого-то фундаментального труда, представляющего собой исследование
мотивов человеческих поступков или же основ общественных институтов.
Просто случайно они вышли из-под пера такими куцыми, а то, что они оказались
расцвечены пышными образами и яркими красками - так это исключительно
из почтения к публике и ее вкусам. Ни при каких обстоятельствах в «Эссе
Элии» или «Сэре Роджере де Каверли»25 не могла бы появиться фраза,
которую Хэзлит повторяет на разные лады, обозначая ею ту форму, которой, будь
его воля, он бы только и придерживался: «Здесь я намерен более подробно
рассмотреть вопрос, а потом перейти к примерам и иллюстрациям, которые
мне кажутся наиболее подходящими»26. Он обожает копаться в странностях
психологии и углубляться в первопричины миропорядка; ему нет равных в
умении отыскать за обычным словом или чувством какие-то скрытые тайные
пружины, а его богатый книжный багаж просто поражает - кажется, у него
на все случаи жизни отыщется пример или довод. Хэзлит не лукавил, говоря,
что за двадцать лет о многом передумал и сильно настрадался: он на
собственной шкуре испытал то, о чем пишет: «О чем только ни передумаешь,
что только ни перечувствуешь, сидя день-деньской за книгой, в сотый раз
пережевывая горькие мысли!»27 Убеждения стали его второй натурой; идеи
вызревали в нем медленно, годами, подобно тому как собирается, капля за
каплей, на стенках подземного грота вода, образуя сталактиты. Он каждую
свою идею вымерял ногами тысячи раз, бродя один, без спутников. Каждую
из них он многажды перепроверил на прочность в частых спорах за ужином
в каком-нибудь трактире или на одном из постоялых дворов Саутгемптона,
сидя в дальнем углу и скалясь на собеседников. Так что «подправлять» свои
идеи ему было незачем: они принадлежали только ему, он их выносил и
выверил до точки.
Поэтому на самые затертые и отвлеченные темы, например «Лед и
пламень», «О зависти», «О жизненном пути», «О живописном и идеальном»28, он
11. Вирджиния Вулф
322
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
всегда находил что сказать по существу. Расслабиться или закамуфлировать
мелкую сентенцию пышной фразой - а он на такие дела был мастак, - это по
большому счету не про него. Даже когда он не в настроении и вымучивает
эссе, взбадривая себя крепким чаем, - это сразу видно по снисходительной
интонации и заявлениям «в лоб», вопросы, поставленные ребром,
моментально прочищают мозги. В его эссе все движется, кипит, шумит и спорится,
точно наплаву его удерживает самая противоречивость его увлечений - эта
гремучая хэзлитовская смесь из ненависти, любви, мучительных
размышлений. Такому с властью было, конечно, не по пути - такой никогда не
согласился бы пожертвовать в угоду общественному мнению своей
индивидуальностью. Поэтому многим читателям его эссе просто не по зубам - слишком
высокая поднята планка. Мало того что написаны они суховато,
динамично, образно, Хэзлит постарался применить на практике собственный девиз:
«Нет- посредственности, душевной вялости и скуке!»29- и уже одно это
многих от него отпугивает, так он еще в каждое эссе вносит момент истины,
момент откровения. Его проза изобилует свежими, незатертыми мыслями,
афоризмами, оригинальными суждениями. Взять, например, вот это: «Все,
что есть ценного в жизни, - это ее поэзия»30. Или вот это: «Знать бы правду,
так самые неприятные личности показались бы ангелами»31. Или вот еще:
«Сидя на запятках дилижанса, следующего из Лондона в Оксфорд, вы
узнаете гораздо больше полезного, нежели за год общения со старшекурсниками
или деканами этого прославленного университета»32. Хэзлит то и дело
подбрасывает какую-нибудь ересь, а мы ее запоминаем и после обдумываем на
досуге.
Но не одними эссе ценно наследие Хэзлита: ему принадлежат и
несколько томов литературной критики. Шутку ли сказать, ведь он прошелся почти
по всей английской литературе и высказался едва ли не обо всех самых
выдающихся произведениях, где-то выступая в роли лектора, где-то книжного
обозревателя. У него дерзкое стремительное перо, порой оно, правда,
заедает, и тогда вместо аккуратного почерка получаются каракули, ну да это не
удивительно, если вспомнить, в каких стесненных условиях работал Хэзлит-
критик. Он должен успеть за какой-нибудь час дать общий литературный
фон, предельно ясно сформулировать свои положения, ибо обращается не
к читателям, а к слушателям в зале, и, наконец, разложить все по полочкам,
расставив на умозрительном полотне главные крепости и дав яркими
пятнами на заднем плане блестящие башенки. Но даже в самом беглом книжном
обзоре видна хватка настоящего зубра-критика: далеко не каждый историк
литературы умеет, как он, держать тему за хвост и не терять чувство
перспективы. Он из тех редчайших мастеров, которые так много думали о
литературе, что читать им необязательно. Что с того, что Хэзлит прочитал только
одно стихотворение Донна? Что сонеты Шекспира, полагает он, не
поддаются пониманию? Что после тридцати он не прочел ни одной книги? Что,
наконец, он вообще разлюбил читать? Такие, как он, если читают, то всю душу
Уильям Хэзлит
323
вкладывают в чтение. А поскольку первым долгом критика, по его мнению,
является «отразить цветовую гамму, игру света и тени, душу и плоть
литературного произведения»33, то ясно, что в критике он ценит прежде всего азарт,
темперамент, напор, а вовсе не тонкость художественного анализа или
исследовательскую основательность. Он не скрывал своей цели - заразить
читателя собственным воодушевлением по поводу обсуждаемой книги.
Поэтому каждой свой опус он начинает с того, что дает крупным планом личность
писателя, рядом - для сравнения - ставит фигуру другого литератора, и
затем легкими воздушными штрихами набрасывает голубую дымку, звездную
пыль, другими словами, сообщает свое впечатление от прочитанной книги.
Один-другой взмах кисти - и стихотворение воссоздано во всей его
первозданной красоте: «Оно опьяняет божественным ароматом, как подвластно
лишь гению; оно преображает все, светясь золотистым облаком; оно
источает мед, который склеивает его печатью поэтического слога, подобно сладкой
капле в чашечке первоцвета»34. А поскольку Хэзлит-мыслитель всегда
находится где-то рядом, он не дает богатой фантазии живописца разыграться -
напомнит читателю о вневременном, нетленном в литературе, то укажет на
необходимость точно определить, в чем смысл обсуждаемой книги, каково
ее место в общей перспективе литературы, и эта постоянная забота критика
направляет его энтузиазм в нужное русло, придавая обсуждению остроту и
не позволяя ему растечься мыслию по древу. Выделит у автора главную
особенность и тут же найдет для нее точную характеристику: у Чосера это
«глубокое, внутреннее, широкоохватное чувство»35, а Крабб - «единственный из
поэтов, кто попробовал себя в жанре трагедийного натюрморта и сделал
это успешно»36. В его критическом отзыве о Скотте нет ни грана вялости,
дряблости, пустой описательности - во всем видна мера смысла и
воодушевления. А если такая критика и не критика вовсе в ее буквальном понимании
окончательного и бесповоротного суждения о литературе, а скорее
деятельность просветительского и вдохновляющего толка, то списывать со счетов
мастера, который умеет одной фразой разжечь интерес читателя к
путешествиям, чтобы тот сам пустился на поиски приключений, согласитесь,
рановато. Если кого-то нужно подтолкнуть к чтению Бёрка, то лучшего
предисловия, чем хэзлитовское, не найти: «У Бёрка зигзагообразный, как молния,
пышный, как хвост кометы, и вкрадчивый, как у змея, стиль» 37. Опять же,
если кто-то пребывает в сомнении, браться или нет за какой-нибудь
старинный фолиант, то, почитавши Хэзлита, он отбросит все колебания и с
головой уйдет в чтение: «Какое это отдохновение - испить из кладезя мудрости
древних! Видеть у себя на столе одно из великих имен, а не только
наслаждаться лицезрением собственных инициалов; забыть о себе и пуститься в
путь под видом какого-то халдея, еврея или египтянина; чувствовать, как
на полях страницы таинственно покачиваются верхушки стройных пальм, и
вдалеке, на расстоянии трех тысяч лет, медленно движутся караваны
верблюдов, - что может быть более поучительного? Чувствуя себя затерянными
и*
324
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
среди песков древности, мы набираемся мужества, терпения и незнакомой
нам дотоле ненасытной жажды знания. Мы видим разрушенные памятники,
погребенные под песками города, угадываемые только по обломкам, среди
которых притаилась змея; мы касаемся губами студеных источников, видим
ярко-зеленые оазисы, слышим завывание ветра, рык льва, чувствуем
дуновение ангельских крыльев»38. Это, конечно, не критика, - это занятие совсем
другого свойства: это значит расположиться в кресле перед камином и,
глядя на танцующие язычки пламени, рисовать в своем воображении картины
из прочитанной книги. Это - значит быть влюбленным и вольничать так, как
умеют только влюбленные. Это - значит быть Хэзлитом.
Впрочем, если Хэзлиту и суждено остаться в литературе, то уж точно ни
лекциями, ни путевыми очерками, ни «Жизнью Наполеона», ни «Беседами
Норткота»39, хотя и написаны все эти произведения с большим запалом и
убежденностью, и у них, кажется, есть все, чтобы стать прообразами будущих
шедевров. Тем не менее жив Хэзлит не ими, а небольшим томиком эссе40 -
это в нем спрятан, подобно всевластному джину в закупоренной бутыли,
могучий хэзлитовский дух, которым в жизни он так часто разбрасывался,
разбазаривал его почем зря и который только здесь, в этом фиале, обрел наконец
мир и согласие с самим собой. Возможно, нам нужно отправиться за город
в ясный летний день или сыграть в мячик, если мы хотим, чтобы тот
счастливый союз повторился - теперь уже для нас, потомков! Трудно сказать, от
чего зависит это чудо: ведь телесное начало неотделимо от творчества Хэз-
лита. Но если нам повезет, то мы увидим, как могучий этот дух
просыпается разом от глубокой спячки и, расправив крылья, взвивается вверх и парит
на воздусях в состоянии «такого блаженного покоя, который никогда никому
не придет в голову нарушить»41, - как писал Пэтмор. В такие минуты мысль
Хэзлита текла без сучка, без задоринки - гладко, стремительно,
безоглядно: страницы стекали с его пера одна за другой. В такие мгновения мысль
его разливалась соловьем, славя сущее - книги, любовь, античную красоту,
земные утехи, а заодно и те, что сулит нам будущее, грозя в самое
ближайшее время угостить нас куропаткой с пылу с жару да парой сочных
колбасок, которые так аппетитно шипят в печи на сковородке: «Я смотрю в окно
и вижу - прошел дождь: зазеленели поля, над серым утесом распустилась
розовая тучка; на пруду прихорашивается лилия, одетая в прелестное белое
платьице с зеленой оторочкой; вон пастух спешит к своей милой с коробкой
свежевыкопанного дерна для ее дружка жаворонка, который прилетает к ней
каждое утро посидеть на зеленой травке с маргаритками... Печали мои, слава
Богу, растаяли, политические страсти улеглись, голова моя цела - я к вашим
услугам, м-р Блэквуд - мое почтение, м-р Крокер - да, м-р Т. Мор, я жив и
здоров»42. В такие минуты разлад ли, горечь снимало как рукой: все
складывалось помимо воли и увязывалось само собой. Работа спорилась:
предложение за предложением звонко ложилось на бумагу - так кузнец знай себе
бьет молотом на наковальне. Слова идут жаркие, искры летят... Промчались,
Джеральдина и Джейн
325
отзвенели - вот и кончено эссе. И жизнь его была такая же: звон и
вдохновение пополам с тоской, сладость наслаждения пополам с горечью. Лежа при
смерти в съемной квартире в Сохо - тому ныне сто лет, он, говорят,
задиристо и звонко крикнул, не оставляя никаких сомнений: «Да, я был счастлив!»43
Его правда - почитайте его книги, и вы убедитесь в этом сами.
ДЖЕРАЛЬДИНА И ДЖЕЙН
Если кто-то в свое время сказал бы Джеральдине Джусбери1, что люди и
через сто лет будут интересоваться ее романами, она бы не поверила своим
ушам. «Как, неужели не нашлось ничего поинтереснее?» - удивилась бы при
виде какого-нибудь любознательного книгочея, снимающего с библиотечной
полки ее опусы, и в свойственной ей нелицеприятной манере ополчилась
бы на все подряд - на библиотеки, литературу, любовь, жизнь и все
прочее, чертыхаясь и божась на каждом слове, такая уж она была горячая,
Джеральдина.
Резкая и ласковая, смелая и сентиментальная, здравая и безудержная - в
этих странным образом сошедшихся в ней несочетаемых качествах вся
Джеральдина Джусбери. Как пишет о ней ее биограф миссис Айрленд, она была
«в чем-то беззащитной и нежной, а в чем-то несгибаемой и твердой, как
кремень»2, «умом мужчина, а сердцем - истинная дочь Евы»3. Даже внешне
она производила впечатление фигуры странной, не вписывающейся в
привычные рамки, - эдакая возмутительница спокойствия. Представьте:
миниатюрная, похожая на мальчишку, с неправильными чертами лица и при этом
невероятно обаятельная. Одевалась со вкусом, рыжие волосы тщательно
укладывала под сеточку, в ушах носила серьги в форме попугайчиков - те
только подпрыгивали, как яркие мячики, когда она хохотала. Впрочем, на
единственном дошедшем до нас портрете она изображена вполоборота сидящей в
кресле, с книгой; глядя на беззащитное и нежное выражение ее лица, ни за
что не поверишь, что она несгибаема и тверда как кремень.
Интересно, чем она занималась до того, как фотограф усадил ее в
кресло, дал ей в руки книгу и заставил позировать перед объективом? На самом
деле, этого никто не знает - нам известно лишь, что родилась Джеральдина
в 1812 году в купеческой семье, жившей неподалеку от Манчестера. Самые
ранние сведения о ее жизни относятся к тому времени, когда ей
исполнилось двадцать девять - возраст для женщины, по меркам первой половины
девятнадцатого века, критический: он означал, что молодость прошла и ты
либо ею воспользовалась, либо упустила свой шанс. И пусть Джеральдина -
исключение из общего правила и не вписывается в привычные рамки, все
равно сомневаться не приходится: в те покрытые мраком тайны годы, о
которых мы ничего не знаем, в ее жизни случилась какая-то трагедия. Что-то та-
326
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
кое произошло в Манчестере, о чем ей потом не хотелось вспоминать: «Нет,
лучше не вспоминать, это страшно. После тех черных дней я целых два года
приходила в себя»4. Она хоть и не говорит, но на заднем плане
просматривается чей-то зловещий силуэт: уж не коварный ли соблазнитель преподал ей
горький урок - никому в жизни не доверяй; жизнь - тяжелая штука; для
женщины это сплошной обман? Как бы ни было, переживания тех лет
отложились в ее душе тяжким грузом воспоминаний, и она обращалась к ним, когда
ей становилось совсем невмоготу или когда с ней советовались. Бывало, дни
тянулись, как «затяжной пасмурный ноябрь, когда небо - сплошная туча, и
никакого просвета»5. Она изо всех сил сопротивлялась мрачному
настроению, но «все было без толку»6. Именно тогда она прочитала всего Кадворта7
и, твердо решив не сдаваться, написала эссе о материализме. Такие эскапады
молодой восторженной женщины могут показаться странными, хотя на
самом деле в них не было ничего неожиданного: самоуглубление и
сосредоточенность были ее второй натурой. Как ни тяжело было у нее на сердце, она
не сдавалась и уходила с головой в вопросы «материи, духа, происхождения
жизни»8. Постепенно у нее набралась целая коробка разных выписок,
тезисов, выводов, которую она хранила наверху, в спальне. Хотя по
большому счету - какие могут быть выводы у женщины, которую бросил любимый
человек, оказавшийся к тому же подлецом? Вывод один: будь что будет -
раз все против тебя, надо плыть по течению и не высовываться; все равно
плетью обуха не перешибешь, тучу не одолеешь. Сколько раз она об этом
думала! Возьмет вязание, спицы, приляжет на кушетку, надвинув на глаза
зеленый козырек: от яркого света у нее болели глаза... У нее вообще была
тысяча болячек - слабое зрение, частые простуды, беспричинная усталость; да
и жила она в промозглом месте, в Гринхейз - это пригород Манчестера, там
у ее брата был дом, и она вела хозяйство. Вид из окна ее комнаты был уны-
лый-преунылый: «...грязь, слякоть, туман, белесое поле в кочках - и
пробирающая до костей сырость»9. Бывали дни, когда она буквально едва таскала
ноги - передвигаться по комнате и то было трудно. А тут еще постоянные
хлопоты по хозяйству: нагрянет к обеду нежданный гость, и она вставай,
беги на кухню, ощипывай гуся, готовь жаркое. Напоила, накормила -
снимает фартук, надвигает на глаза козырек и снова принимается за книгу: читала
запоем все подряд - философию, путевые очерки, современные, старинные;
особенно ей нравились замечательные сочинения м-ра Карлайла10.
И вот зимой 1841 года отправилась она в Лондон специально для того,
чтобы лично выразить великому писателю свое восхищение. Так она
повстречала миссис Карлайл11. Женщины подружились сразу же, без предисловий:
не прошло и нескольких недель, как Джеральдина обращалась в письмах к
миссис Карлайл не иначе как «моя дорогая Джейн». В ту первую встречу
они, видимо, успели обсудить все на свете: и прошлое, и настоящее, и
поговорили «за жизнь», и коснулись отдельных «личностей», которые питают
нежные чувства к Джеральдине - или, во всяком случае, ей казалось, что пи-
Джеральдина и Джейн
327
тают. И настолько велико было обаяние личности миссис Карлайл -
умнейшей женщины, блестящей столичной дамы, видевшей людей насквозь, что,
едва успев вернуться в Манчестер, молодая женщина - явно под
впечатлением доверительной беседы, которая состоялась у них на Чейн-роу, - сразу
же принялась строчить письма своей новой знакомой. Начинала Джеральди-
на обычно так: «Как однажды обронил в разговоре со мной один человек -
между прочим, имевший у женщин le plus grand succès*, о таком любовнике
можно только мечтать: страстный, с изысканными манерами, человек
тонкого поэтического вкуса...»12 Иногда она брала философский тон: «Возможно,
мы, женщины, созданы лишь для того, чтобы они - представители сильного
пола - плодилися и размножалися в мире. Наш удел - любовь, а их судьба -
это борьба и труд, конец же у всех один - смерть. Наверное, вы с этим не
согласитесь, только я спорить не буду - у меня сейчас сильно болят глаза, я
ничего не вижу»13. Джейн наверняка не согласилась бы с подобной чепухой:
ведь она на одиннадцать лет старше, и ее совершенно не волнуют
отвлеченные материи типа происхождения жизни; и вообще трудно найти более
проницательную, практичную и здравомыслящую женщину, чем Джейн. И,
тем не менее, было одно «но»: так совпало, что познакомилась Джейн Уэлш
Карлайл с Джеральдиной как раз в ту пору, когда она впервые призналась
себе (не без ревнивого и неловкого чувства) в том, что прежние отношения
дали трещину, образуются новые связи, и все это результат упрочившейся
мужниной славы. Можно не сомневаться в том, что во время той первой
долгой и памятной встречи на Чейн-роу Джеральдина что-то подметила,
услышала вздох сожаления, уловила ропот и сделала для себя кое-какие выводы.
Она вовсе не была восторженной дурочкой, как можно было бы подумать, -
нет, отнюдь, она была умна, очень прозорлива, привыкла жить своим умом
и больше всего на свете ненавидела «приличия» - все то, что миссис
Карлайл за глаза называла «чепухой». К тому же с первой минуты встречи ее
странным образом потянуло к миссис Карлайл. По ее словам, в ней родилось
«неясное безотчетное стремление служить Вам»14. «Позвольте мне быть
при Вас, прошу Вас, распоряжайтесь мной!»15- повторяла она без конца.
«Я молюсь на Вас, как католик молится на святыню»16, - продолжала она.
«Вы будете смеяться, но я люблю Вас не дружеской любовью, а как молодой
пылкий влюбленный!»17 Прочитав эти признания, миссис Карлайл
снисходительно улыбнулась: ее и позабавило, и тронуло восторженное отношение
провинциалочки.
А потом вышло вот что: как-то зимой в начале 1843 года Карлайл сам
неожиданно завел разговор о том, что неплохо было бы пригласить Джераль-
дину погостить у них в доме, и миссис Карлайл, взвесив все «за» и
«против», согласилась. Джеральдина в маленьких дозах не помешает, рассуждала
она сама с собой, наоборот, это даже «внесет оживление в их жизнь»18,
* Огромный успех (фр.).
328
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
а вот Джеральдина в больших количествах - это уже обременительно. Тут и
слезы, и неусыпное внимание, и суета, и взвинченное настроение. И потом,
хочешь не хочешь, но Джеральдина - «несмотря на все ее замечательные
душевные качества»19, по своей природе «интриганка» и обязательно рассорит
ее с мужем, хотя сделает это, конечно, не по злой воле, а просто потому, что
у ее супруга «вошло в привычку», как она любила повторять, предпочитать
ей других женщин, «а изменять своим привычкам, даже в угоду страсти, не в
его правилах»20. С другой стороны, Джеральдина заставит ее встряхнуться,
выведет ее из умственной спячки, растормошит, разговорит, и вообще грех
не поддержать порыв молодой души, которой тесно и душно в Манчестере.
Сказано - сделано: Джеральдину ждут в гости в Челси21.
Приехала она к Карлайлам 1 или 2 февраля и загостилась у них до
субботы 11 марта22. Да, целый месяц получается - радушно встречали гостей в
те времена, не то что нынче. А ведь дом был очень тесный, прислуга
нерасторопная. Джеральдина редко выходила, в основном проводила время дома.
Утром писала письма, днем спала как убитая на диване в гостиной. По
воскресеньям к приходу гостей наряжалась в платье с глубоким вырезом.
Трещотка была еще та! Ум ее хваленый оказался на поверку так себе: «мягко
стелет, да жестко спать»23. И вообще - льстивая, изворотливая, неискренняя;
с мужчинами заигрывает; ругается хуже извозчика; намеков на то, что, мол,
пора и честь знать, не понимает. Упреки в адрес гостьи сыпались один за
другим, вырастая в снежный ком. Кончилось тем, что миссис Карлайл чуть
не вытолкала ее из дома. В общем, расплевались недавние подруги:
Джеральдина, вся зареванная, села в кэб, а миссис Карлайл и не думала плакать -
наоборот, она была счастлива наконец-то избавиться от назойливой гостьи.
Впрочем, стоило только Джеральдине уехать, как в хозяйке заговорило
сомнение, проснулась совесть, она призналась в душе, что по отношению к
гостье, которую сама же и выписала, вела себя далеко не безупречно.
Нельзя было быть такой «холодной, черствой, насмешливой - нелюбезной,
наконец!»24 Словом, она была очень недовольна собой; в особенности, не могла
простить себе то, что разоткровенничалась с этой приезжей. «Дай бог,
чтобы моя глупость не обернулась серьезными последствиями, а уж со скукой
я как-нибудь справлюсь»25, - обмолвилась она в письме. Раздражение было
сильное - и против себя, и против Джеральдины.
А та, расстроенная случившимся, вернулась в Манчестер: она
понимала, что между ней и миссис Карлайл пробежала черная кошка. И -
воцарилось молчание: переписка прервалась. Поползли нехорошие слухи: злые
языки в городе тут же распустили сплетню, которой Джеральдина чуть было
не поверила. Только чем-чем, а мелочной мстительностью она не страдала:
как признавала сама миссис Карлайл, «в ссорах Джеральдина вела себя на
редкость благородно»26 - не выказывала ни гордыни, ни высокомерия;
наоборот, готова была расчувствоваться, как последняя дурочка. И потом, она
искренне полюбила Джейн - в этом не было ни малейших сомнений. Не про-
Джералъдина и Джейн
329
шло и нескольких месяцев после ссоры, как из Манчестера в Лондон
полетели письма, причем, как заметила обескураженная миссис Карлайл, писала
Джеральдина «с утроенным рвением и обезоруживающим великодушием»27.
Она беспокоилась о состоянии ее здоровья, умоляла сообщить ей правду -
только, ради бога, не надо ей никаких острот, всего лишь одну будничную
фразу о том, как она себя чувствует. Ведь что там скрывать? Пока
Джеральдина гостила на Чейн-роу, она кое-что подметила и вовсе не собиралась об
этом молчать - кстати, не потому ли ей дали от ворот поворот? «Рядом с
вами нет человека, который о вас заботился бы»28, - писала она. «Вы все
терпите, все сносите, будто святая какая, а чем вам платят за всю вашу
беззаветную преданность? Черной неблагодарностью!»29 И она обрушивается с
жаром на Карлайла: «Небожитель! Обыденная жизнь не по нему - еще бы!
Разве сфинкс позволит себе снизойти до обитательниц гостиной?! Да
никогда!»30 Но бушевала она, конечно, напрасно. Как она сама философски
заметила, «чем больше любишь, тем яснее понимаешь свою беспомощность»31.
Единственное, что она была в состоянии сделать, - это наблюдать на
расстоянии, из Манчестера, феерический калейдоскоп, который представляла
собой жизнь ее лондонской знакомой, и невольно сравнивать его со своей
тихой гаванью, где тоже, конечно, случались бури, но в основном мелкого
масштаба; и что интересно - сравнение оказывалось почему-то не в пользу
блестящей светской жизни Джейн, притом что уделом Джеральдины было
прозябание, в полной безвестности.
И долго еще, наверное, тянулась бы эта вялая переписка, и долго еще,
наверное, жаловалась бы Джеральдина, которой «надоело до смерти писать
в пустоту, фактически самой себе, не надеясь на дружеский отклик»32, если
бы не Мудиз33. Тут требуется пояснение: Мудиз, или мудизм, как шутила
Джеральдина, играли огромную, хотя и недооцененную роль в жизни
женской половины викторианского общества. В нашем случае в роли Мудиз
оказались две барышни, Элизабет и Джульетта: «...толстые, лупоглазые,
флегматичного вида гордячки»34, - так описывал их Карлайл; они свалились как
снег на голову, пожаловав нежданно-негаданно на Чейн-роу, после
случившегося в семье несчастья - у них скоропостижно умер отец, директор школы
в Данди35, очень достойный человек, автор книг по естественной истории,
и глупая вдова, оказавшись без средств к существованию, не нашла ничего
лучше, чем отправить своих дочек в Лондон к Карлайлам. Вот и получилось,
что они прибыли к ним в дом, судя по всему, прямо посреди обеда. Ну да этим
англичанку девятнадцатого века не смутишь - она пойдет на любые
неудобства, лишь бы пристроить новоявленных Мудиз. Другое дело, что проблему
нужно решать быстро: как помочь барышням? Где приискать для них место?
У кого есть богатые связи? И тут миссис Карлайл вспомнила о Джеральдине:
та всегда готова похлопотать. И вот ей пишется письмо с просьбой
подыскать в Манчестере подходящее местечко для Мудиз. К чести Джеральдины,
откликнулась она моментально. Джульетту ей удалось пристроить сразу же,
330
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
а вскоре нашлось место и для Элизабет, о чем она и сообщила миссис
Карлайл. Та в спешном порядке прерывает свой отдых на острове Уайт, едет
в Лондон, покупает для будущей горничной «приданое» - корсет, платье,
юбку, все как положено, забирает Элизабет, едет с ней в половине восьмого
вечера через весь город на Юстон-сквер, откуда отправляются дилижансы
на Манчестер; поручает присмотреть за барышней седовласому толстяку-
соседу по дорожной карете; и удостоверившись, что ее письмо Джеральди-
не надежно спрятано в корсете подопечной, она благословляет барышню и
с чувством исполненного долга едет домой - измученная, но довольная тем,
что все вроде бы благополучно разрешилось. Только вот - благополучно ли?
С Мудиз всегда так - никогда нельзя быть уверенной в успехе. Будет ли
девочкам хорошо на новом месте? Как-то сложится их жизнь? А вдруг что-то не
заладится, и она же окажется виноватой? Как бы ни было, через пару дней на
Чейн-роу обнаружили блох, и все дружно решили, что их занесла Элизабет,
хотя прямых доказательств тому не было. Но на том история не закончилась.
Четыре месяца спустя Элизабет снова появилась на горизонте: оказывается,
ее выгнали «ввиду полной неспособности к какому-либо труду»,
выразившейся в том, что она «прошила черный фартук белыми нитками», на что ей
мягко попеняли, так она «забилась на полу в истерике, будто ее режут».
«Естественно, ее выставили без долгих разговоров»36. На этом история
умолкает: куда делась Элизабет? Пошла ли она дальше подшивать черные фартуки
белыми нитками, биться в истерике и получать отказ за отказом? Что с ней
сталось? - никто этого не знает. Вообще судьба бедных Мудиз покрыта
мраком тайны: такое впечатление, что их просто стирают с лица земли, и они,
вместе со многими своими сестрами, проваливаются в тартарары. Впрочем,
не все, не все - например, сестре Элизабет Джульетте, можно сказать,
повезло: ее взяла на поруки Джеральдина и везде где можно ею руководила,
помогала, советовала. Первоначальное место не подошло - Джеральдина
сама взялась подыскать другое. В одном доме требовалась горничная, и вот
Джеральдина отправилась вместе с Джульеттой на «смотрины» к хозяйке.
Та, поджав губы, с ходу объявила («чопорная старушонка!»), что в
обязанности Джульетты входит крахмалить белоснежные жабо, гладить без единой
складочки манжеты, стирать и утюжить нижние юбки. От таких перспектив
Джульетте стало дурно, и, всплеснув руками, она воскликнула, что не умеет
ни того ни другого - ни крахмалить добела, ни утюжить! Тогда Джеральдина
не поленилась - устроила встречу с дочкой хозяйки, и вдвоем они
договорились о том, что нижние юбки будут отдавать гладить «на сторону», а
Джульетте останутся манжеты и жабо. Но и на этом Джеральдина не успокоилась:
она договорилась со своей шляпницей, что та преподаст барышне
несколько уроков «кройки и шитья». Не оставляла Джульетту вниманием и миссис
Карлайл: написала ей ласковое письмо, прислала подарок. В общем, суеты
хватало: новые предложения, новые хлопоты, новые «чопорные
старушонки», новые смотрины... Тем временем Джульетта написала роман, дала его
Джералъдина и Джейн
331
почитать какому-то господину, тот отозвался очень лестно; потом она
поделилась с мисс Джусбери своими опасениями: возвращаясь как-то из церкви
домой, она заметила, что за ней увивается незнакомый господин... Но все
это были мелочи - девушка она милая, никто о ней слова плохого не сказал,
только вдруг почему-то в 1849 году как отрезало: ни слова о Джульетте. Все
как воды в рот набрали - видимо, оступилась наша Мудиз. Что ее подвело -
роман ли, очередная чопорная старушонка, сладкие речи господина, шляпки
с колпачками, нижние юбки, крахмал? Неизвестно. «Эти несчастные, -
писал Карлайл, - в слепоте своей брели, спотыкаясь, не ведая слов разума, не
ведая, что творят, - брели неотвратимо к своей погибели и пропадали без
надежды на спасение»37. Какими бы благими намерениями ни
руководствовалась миссис Карлайл, она вынуждена была признать: мудизм - дело труба.
Однако именно он, мудизм, принес неожиданные результаты: женщины
снова сблизились. Пусть Джейн сто раз высмеивала перед Карлайлом Дже-
ральдину - эту ветреницу, этот «пучок перьев»38, - теша свое и его
самолюбие, тем не менее она не могла не признать, что та «приняла судьбу девочек
близко к сердцу, как свою: даже я так не смогла»39. Значит, не все у нее пух да
перья - есть и внутренний стержень. Иначе разве стала бы миссис Карлайл
хлопотать об издании «Зуи», первого романа Джеральдины40, рукопись
которого та послала ей по почте (как писала Джейн: «...если сейчас не помочь
бедняжке, потом будет поздно - нагрянет старость, одиночество, у нее
опустятся руки»41)? Хлопоты оказались не напрасны - первое же издательство
«Чэпмен энд Холл», куда обратилась миссис Карлайл, ответило согласием:
их рецензент, как они выразились, «прочитал рукопись на одном дыхании»42.
Печатали книгу медленно; издатели много раз советовались с миссис
Карлайл. А та, хоть и прочитала первоначальный вариант «с чувством, близким
к панике, - такой талантище, а на что потрачен, неизвестно!»43, тем не менее
находилась под большим впечатлением от прочитанного: «Прямо скажу: я
не ожидала от Джеральдины подобной глубины мысли и дерзости суждений.
В этой книге встречаются эпизоды, которые сделали бы честь самой Жорж
Санд, не говоря о менее крупных писательницах... И все же публиковать
роман нельзя- неприлично!»44 Неприличной миссис Карлайл сочла
«излишнюю вольность в вопросах духовных»45, полагая, что подобная
несдержанность покоробит благородную публику. Вероятно, ей удалось убедить
Джеральдину в своей правоте, и та, поворчав - мол, «нет у меня склонности
к приличиям»46, внесла предложенные изменения в рукопись - практически
переписала книгу, и наконец в феврале 1845 года роман был опубликован.
Книгу заметили: как всегда бывает, пошумели, поспорили - кому-то роман
понравился, кого-то он, наоборот, шокировал. «В "Реформ-клубе"
развизжались и стар и млад- ах, какая непристойность]»41 Издатель, естественно,
встревожился, но увидев, что скандал только способствует продажам,
быстро успокоился, а Джеральдина сделалась литературной знаменитостью.
332
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Конечно, сегодня представляется загадкой, из-за чего тогда разгорелся
сыр-бор. Листаешь один томик с пожелтевшими страницами, второй,
третий, и невольно спрашиваешь себя: и что ж такого интересного нашел для
себя читатель, отчеркнувший на полях какое-то место? Что это за
таинственная эмпатия побудила читателя вложить между страниц с описанием
любовных признаний цветок фиалки, с годами почерневший и скукожившийся?
Мы ничего такого не находим: роман читается на удивление ровно - глазу
не за что зацепиться, сплошной розовый туман. Немного пообвыкнув, глаз
различает незаконнорожденную девушку по имени Зуи, загадочного пастора
Эверхарда, сына римской католической церкви; загородный замок;
полулежащих на кушетках, обитых небесно-голубым шелком, прекрасных дам;
декламирующих юношей; вышивающих шелковые сердечки барышень... Ага,
а вот и действие: что-то сжигают; кто-то кого-то сжимает в объятиях;
пауза - следуют бесконечные разговоры. И, наконец, кульминация: пастор
воздевает к небу руки: «Несчастный! И зачем я только родился!»48 - и с этими
словами смахивает в ящик стола письмо от Папы, в котором тот предлагает
ему издать перевод основных сочинений отцов церкви, созданных за
первые четыре века нашей эры, и туда же священник бросает, даже не взглянув,
сверток с золотой цепью, присланный ему учеными мужами Гетингенского
университета. И знаете, почему? - Зуи, видите ли, поколебала его веру. Ну
хорошо, положим так, только что непристойного находили в этом
безобидном сочинении члены «Реформ-клуба», и какой такой «талантище» потрясал
воображение миссис Карлайл, которую, вообще-то говоря, трудно чем-то
поразить и, уж конечно, на мякине не проведешь, - хоть убей! понять этого
сегодня невозможно. За восемьдесят лет, истекших с момента опубликования
романа, краски в нем, увы, успели потускнеть, и сегодня, вместо свежих
ярких роз, мы видим бледно-розовый линялый ситчик, а от былого роскошного
благоухания остался лишь неясный след в виде увядшей фиалки да
слабого запаха прогорклого бриллиантина. Так и хочется воскликнуть: вот что с
людьми делает время! Но не все, не все стирается с годами - что-то да
остается. Так и с романом Джеральдины. Да, от былых страстей и риторики, в
которую впадали ее герои, не осталось и следа; все эти Зуи, Клотильды, Эвер-
харды кажутся сегодня просто чучелами, посаженными в ряд на жердочках;
но главное - не ими одними жив ее роман; кроме них, есть еще кто-то, и этот
«кто-то» - вольная душа-психея, вольтерьянка и насмешница, которой
нипочем кринолины и корсеты. Сибаритка, глупышка, мечтательница, она до сих
пор будоражит мысль. Нет-нет, да и выдаст что-то такое, от чего хоть стой,
хоть падай. Например, как вам нравится такое наблюдение: «Как здорово
жить правильно без религии!»? Или сие тонкое замечание: «Не понимаю, как
это священники могут верить в то, что проповедуют, - да если бы это было
действительно так, разве могли бы они спокойно спать в своей постели»?
Или вот еще: «Безнадежно только одно - слабость». Или вот это: «Высшая
мораль, до которой додумалось человечество, - это бескорыстная любовь».
Джералъдина и Джейн
333
А как ненавидела она «аккуратненькие разумненькие теории, придуманные
мужчинами»! 49 Разве жизнь такая? В чем ее смысл, зачем дана она
человеку? Вопросы эти, конечно, выше разумения сидящих по жердочкам чучел: те
давно уже отошли в мир иной, зато Джеральдина-то, слава богу, жива и
здорова! Знай себе - строчит самозабвенно, страницу за страницей, и сам черт
ей не брат, когда, зажав в зубах сигару, она толкает собеседнику свои идеи о
любви, морали, вере, отношениях полов.
С публикацией «Зуи» связан и другой интересный поворот: дело было
уже на мази, когда вдруг обнаружилось, что миссис Карлайл то ли не помнит,
то ли не хочет вспоминать о своей обиде на Джеральдину. Еще бы! Ведь та
помогала ей с Мудиз, не щадя живота своего, и потом, всегда упорно
доказывала ей «и, надо сказать, почти убедила меня в том, что испытывает ко мне
какое-то непонятное, страстное... необъяснимое влечение, в общем, почти
заставила меня поверить в свою старую сказку»50. Между женщинами
возобновилась переписка, и, как ни клялась миссис Карлайл никогда больше не
наступать на старые грабли, судьба снова свела их в одном доме в Сифорд-
хаузе под Ливерпулем в июле 1844 года, где они вместе отдыхали. Вскоре
миссис Карлайл представился случай убедиться в том, что чувство, о
котором говорила ей Джеральдина, - никакая не «сказка», а самый что ни на есть
достоверный и чудовищный в своей реальности факт. Как-то утром она
заметила, что Джеральдина на нее дуется, но значения этому не придала; та
капризничала целый день, а ночью заявилась к ней в спальню и устроила сцену,
«которая потрясла меня до глубины души: ничего подобного я и
предположить не могла ни в Джеральдине, ни в ком-либо из смертных! Я и не
догадывалась, какую бешеную любовную ревность может испытывать женщина к
женщине»51. Миссис Карлайл тогда сильно расстроилась, даже разозлилась
на Джеральдину и не нашла ничего лучше, как успокоить бедное дитя,
проявив к ней снисхождение и жалость. А сама приготовила для мужа
красочную историю. Но и этим дело не закончилось. Через несколько дней миссис
Карлайл выставила Джеральдину перед знакомыми, угостив их следующей
шуткой: «Представляете! Сама целый вечер флиртовала перед моим носом
с другим мужчиной и еще рассчитывала, что я ей это спущу!»52 Да, это был
удар ниже пояса, рассчитанный на публичное унижение. Но Джеральдине
и это было нипочем- неисправимое создание! Прошел год, и все началось
сызнова: снова Джеральдина дулась на кого-то, ревновала и нисколько этим
не смущалась, заявляя, что вправе так поступать, ведь «никто в целом свете
не любит меня сильнее, чем она»53; и снова миссис Карлайл вскакивала при
этих словах как ошпаренная, и, всплеснув руками: «Ну когда, Джеральдина,
вы научитесь держать себя в рамках!»54, выбегала из комнаты. И снова
слезы, извинения, обещания исправиться...
Но сколько бы миссис Карлайл ни призывала Джеральдину образумиться,
сколько бы ни насмешничала по ее поводу, сколько бы раз они ни ссорились
и ни обрывали переписку, все равно все их размолвки заканчивались оди-
334
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
наково: подруги снова сходились. Джеральдина знала - это ясно как божий
день, что она в подметки не годится Джейн: та и мудрее, и сильнее, и добрей,
чем она. Джейн была необходима ей, как воздух: кто, кроме Джейн, помогал
бы ей каждый раз выпутываться из передряг, в которые сама Джейн никогда
не попадает - на то она и благоразумная Джейн? Но была и обратная сторона
их отношений. Умнице Джейн порой тоже требовался и совет, и помощь, и в
такие минуты не было у нее никого ближе ее взбалмошной беспечной
подруги. Зачем тратить время, убеждала ее Джеральдина, на перешивание старых
халатов? Почему не заняться чем-то по-настоящему серьезным, почему не
употребить свой талант на стоящее дело? Начните писать, советовала она
миссис Карлайл. У вас обязательно получится: вы такая мудрая,
рассудительная - напишите, подскажите женщинам, как им быть «в их
многотрудной, обремененными столькими обязанностями жизни»55. Скажите же свое
слово, это ваш святой долг перед женщинами! Только, ради бога, -
бесстрашно продолжала Джеральдина, - «...не ищите поддержки у д-ра Карлайла, он
мастер устраивать людям холодный душ. Уважайте свою работу, отстаивайте
свою позицию»56. Совет этот был очень кстати, ведь Джейн боялась
малейших возражений со стороны Карлайла - дело доходило до того, что она не
знала, соглашаться ей или нет на предложение Джеральдины посвятить ей
свой новый роман «Сводные сестры»57: а вдруг Карлайл не одобрит? Так что
остается только пожалеть, что совету подруги она так и не вняла. Все-таки
из них двоих маленькая Джеральдина оказалась посмелей да построптивей.
И еще одна черта в Джеральдине выгодно отличала ее от Джейн -
большой интеллектуалки и умницы - это ее поэтическая жилка, полет фантазии,
мечтательность. Джеральдина, бывало, часами листала старинные книги,
переписывала романтические описания аравийских пальм и восточных
пряностей, а потом, запечатав свои штудии в конверт, отсылала их утренней
почтой на Чейн-роу, где их частенько обнаруживал Карлайл, первым
спустившись к завтраку: то-то было кривотолков и смеху! Разумеется, здравая,
прямая, практичная Джейн была полной противоположностью
Джеральдины. Ее конек - это люди. Почему, собственно, ей и нет равных в
эпистолярном жанре: от нее не укроется никакая мельчайшая подробность - как
ястреб зависает над чистым полем и камнем падает вниз, завидев жертву, так
и Джейн Уэлш подмечает соколиным глазом каждый мало-мальский факт.
Человека она видит насквозь - до самого дна. Но вот поэзия ей не давалась;
Китса она вообще не поняла - почитала и захлопнула, пожав плечами. Нет,
что-то, видно, передалось по семейной линии этой дочери сельского врача из
шотландской глубинки - какая-то узость и пуританская чопорность. Рядом с
ней куда менее талантливая Джеральдина кажется человеком гораздо более
широких взглядов.
Словом, они прекрасно дополняли друг друга, и эта взаимная
необходимость навсегда связала двух женщин. Никакие размолвки и ссоры уже не
могли оборвать соединявшую их пуповину: Джейн, досконально изучившая
Джеральдина и Джейн
335
Джеральдину, хорошо знала, на какие крайности та способна, а
Джеральдина в свою очередь на собственной шкуре познала всю меру злословия
подруги. Итак, они научились уважать друг друга, несмотря на недостатки.
Конечно, всякое бывало, иногда они ссорились, но так, чтоб разругаться вдрызг и
разъехаться, этого больше не случалось: они сразу же мирились. Тем более
что теперь они чаще виделись: после женитьбы брата в 1854 году
Джеральдина перебралась в Лондон и, идя навстречу желанию миссис Карлайл,
поселилась неподалеку от их дома. Разве могла представить Джейн еще
десять лет назад, что женщина, которую она заклялась пускать к себе на порог,
сделается ее самой закадычной подругой? Теперь Джеральдина жила за два
квартала от нее - и, как показало время, это было самое разумное решение
вопроса. Раньше, когда их разделяло большое расстояние - от Лондона до
Манчестера, их душевную связь то и дело нарушали разные недоразумения;
а оказываясь под одной крышей, они сразу начинали цапаться как кошка с
собакой. Теперь же, когда их разделяло всего несколько кварталов, общаться
стало проще и интереснее: у них сложились доверительные отношения,
основанные на взаимной симпатии, поколебать которую не могли ни трения, ни
периоды затишья. Они вместе гуляли; вместе ходили слушать «Мессию»58 -
причем характерно, что Джеральдину опера растрогала до слез, а Джейн,
сидевшая рядом, чуть не рыдала от «петухов», которые пускал женский хор,
и от джеральдининой сентиментальности. Однажды поехали проветриться
в Нарвуд, так рассеянная Джеральдина забыла в гостинице все свои
аксессуары - шелковый платок, дешевенькую брошь («ну и пусть дешевая, зато
подарок от м-ра Барлоу!»59) и новый шелковый зонтик в придачу. Джейн не
без ехидства отметила про себя, что ее подруга, сроду не экономившая, в кои
веки решила проявить практичность - и попала впросак: она купила два
билета второго класса, не обратив внимания на то, что билет в первом классе
«туда и обратно» стоил ровно столько же.
И пусть себе! - лежа на полу, размышляла о жизни Джеральдина,
пытаясь подвести под свой богатый жизненный опыт некую общую платформу.
«До чего же гадкое - (в выражениях она никогда не стеснялась, сознательно
"греша против ваших (Джейн. - Н.Р.) представлений о хорошем вкусе"60) -
ну и гадкое же положение у женщин!» Она сама, например, какого только
унижения ни натерпелась! Сколько щелчков по носу снесла! У нее все
внутри кипит от злости на мужчин, которые куражатся над бедными женщинами!
Так взяла бы и напинала им, «врунам, лицемерам чертовым! Хотя что без
толку ругаться? Это я со злости - разрядка у меня такая»61.
Потом она переходила на Джейн, на тему зарытых в землю блестящих
талантов - если не своих собственных, то во всяком случае талантов Джейн.
Но горечи в ее размышлениях не было - разве что когда она болела: «Нет,
неудачницами нас не назовешь: ни Вас, ни меня. Мы олицетворяем новое
направление в судьбе женщин. Да, оно еще не получило общественного
признания. Да, для него еще нет готовых, накатанных путей, но мы-то знаем,
336
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
что они существуют, мы-то встали на новый путь, сделали первые шаги, мы
поняли, что старый путь для женщины не годится - она достойна лучшего,
более яркого удела... За нами придут другие, они лучше нас оценят меру
полноты, которой достойна женщина. Я не переоцениваю себя: что я такое? -
так, первый слабый отблеск будущей идеи, будущих замечательных
достоинств и возможностей, которые раскроются в женщинах, а все те глупости,
ошибки, чудачества, что я натворила в своей жизни, ну так как же без них!
не бывает развития без проб и ошибок!»62 И так далее и тому подобное в
том же духе. Слушающая ее миссис Карлайл посмеивалась, кивала, иногда
вставляла замечания - а вот здесь поточнее, пожалуйста, Джеральдина! Без
ругани, милая! - но общее ее отношение к собеседнице было сочувственное.
Конечно, не дай бог, в разгар их беседы в комнату войдет Карлайл, а для него
независимая женщина жоржсандовского толка все равно, что красная тряпка
для быка. И все же в словах Джеральдины есть доля правды - отрицать этого
она не станет; она всегда знала, что Джеральдине «на роду написано одно из
двух - либо пан, либо пропал»63. Это она с виду легкомысленная, а на самом
деле - ума палата.
Правда, сказать точно, что именно занимало мысли Джеральдины, мы не
можем: у нас очень смутное представление о том, что она делала по утрам,
как коротала зимние лондонские сумерки, что вообще такое была ее жизнь
на Маркэм-сквер64? Очевидно одно: с годами она все больше уходила в тень,
зато вперед выдвигалась ярко освещенная фигура Джейн - так сильное
пламя костра затмевает слабый, дрожащий на ветру язычок свечи. С переездом
Джеральдины в Лондон необходимость в переписке отпала; в доме Карлай-
лов она стала своей - чуть что, Джейн звала ее написать под диктовку
письмо или записку, поскольку у самой распухли пальцы; или отнести на почту
письмо - правда, по рассеянности Джеральдина вечно забывала о мелких
поручениях. Такое впечатление, чем дальше листаешь письма, что общение
этих двух навеки соединенных несовместных личностей постепенно свелось
к кухонным разговорам за чашкой чая, в покойных креслах под довольное
мурлыканье кошки... Шли годы, и вот однажды 21 апреля 1866 года миссис
Карлайл решила устроить очередное чаепитие; ждали гостей, и она
попросила Джеральдину помочь ей с приемом. Карлайл был в отъезде, в Шотландии,
и, решив воспользоваться его отсутствием, миссис Карлайл спешила
разделаться до его возвращения с кое-какими необходимыми светскими
формальностями, приняв в доме почитателей его таланта: Карлайл не любил приемы.
Итак, в тот вечер Джеральдина уже собралась было идти на Чейн-роу, как в
дверь вдруг постучали, и на пороге появился м-р Фрауд65 с только что
полученным известием, что «с миссис Карлайл что-то стряслось»66. Не теряя ни
минуты, они вдвоем поспешили в больницу «Сент-Джордж». И там, пишет
Фрауд, их глазам предстала такая картина: миссис Карлайл, по всегдашнему
обыкновению, безукоризненно одетая, «лежала на кровати, словно она
только что вошла с улицы после прогулки, присела на край кровати отдохнуть
«Аврора Лей»
337
и незаметно уснула... От тонкой иронической усмешки и выражения
мягкой грусти, которые обычно попеременно читались в ее глазах, не осталось
и следа. На лице застыла суровая величественная маска... (Джеральдина. -
Н.Р.) онемела»67.
Увы, навсегда. Больше она уже никогда не разомкнет уста. Вскоре после
смерти Джейн она уехала в местечко Севноукс68, где прожила в одиночестве
долгие двадцать два года. Говорят, она стала неузнаваемой: прежней
живости как не бывало; книг больше не писала. Потом у нее открылся рак, она
сильно мучилась, а перед смертью стала вдруг рвать на мелкие кусочки
письма Джейн - исполняла волю покойной - и порвала все: уцелело
одно-единственное69. Вот так и закончилась ее жизнь: закончилась, как началась, - в
безвестности. Нам же приоткрылась только середина ее жизни - впрочем,
«приоткрылась» это громко сказано: не стоит впадать в иллюзии
относительно своей способности разобраться в чужой жизни. Понимание - трудное
искусство, не уставала повторять Джеральдина.
«Дорогая моя! [писала она миссис Карлайл] (так у Вулф. - Н.Р.).
Представьте, что мы обе, Вы и я, утонули или умерли, - интересно, что о нас
скажут, если какому-нибудь умному человеку придет в голову описать нашу
"полную ошибок жизнь"? Какую великолепную чепуху напридумывает о нас
"правдивый летописец", совсем не похожую на то, что мы есть или чем
когда-то были!»70
Ее речь - живая, сбивчивая, дерзкая и, как всегда, в чем-то очень
верная - доходит до нас сквозь толщу склепа леди Морган71, что на кладбище в
Бромптоне72.
«АВРОРА ЛЕЙ»
Если бы Браунинги1 узнали в свое время о том, что их творческий союз
сохранится в памяти потомков лишь интересными биографическими
подробностями, а не поэтическим наследием, - так сказать, плотью, но не духом, -
они, наверное, не поверили бы. Но таковы парадоксы изменчивой моды,
ничего не поделаешь. Тысячи людей, отродясь не читавших поэзию Браунингов,
отныне знают своих любимцев по легендарному портрету: женская головка
с длинными локонами склонилась на плечо мужчины с пышными
бакенбардами - живое олицетворение романтической страсти, родительской тирании,
протеста, побега и долгожданного избавления. Сегодня эта пара на виду, она
затмевает даже те литературные знаменитости, которым грех жаловаться на
забывчивость современников, ведь память о них умело подогревается
изданием мемуаров, писем, фотографий, иначе говоря, внешними атрибутами, не
имеющими ничего общего с нерукотворным памятником. Ученым еще
предстоит подсчитать ущерб, который нанесло писательскому мастерству искус-
338
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. J932
ство фотографии, а литераторам, занимающимся жизнеописаниями, видимо,
придется ответить за то, что человечество отвыкнет в скором будущем читать
стихи, удовлетворившись чтением книг об их авторах. Во всяком случае,
посмертная судьба Браунингов свидетельствует о поразительной способности
этой семейной четы вызывать сочувствие и пробуждать неподдельный
интерес читателей. Не надо далеко ходить за примерами: хорошо, если найдутся
два профессора из американских университетов, которые хотя бы раз в год
заглядывают в «Историю сватовства к леди Джеральдине»2; история же о
мисс Бэррет - как долгие годы она была прикована к постели, как однажды
осенним утром ускользнула из темного дома на Уимпол-стрит и обрела
здоровье, счастье и свободу в объятиях Роберта Браунинга, поджидавшего ее в
церкви неподалеку, - история эта сегодня известна каждому школьнику.
Как бы ни было, посмертная писательская судьба миссис Браунинг менее
удачна, чем ее легендарный образ. Как поэт она сегодня, можно сказать,
забыта: ее не читают, о ней не спорят, никого не волнует, какое место занимает
она в литературе. Совсем не то, что Кристина Россетти3 - у той литературная
репутация не в пример выше, чем у миссис Браунинг, которая сегодня явно
сходит с поэтического Олимпа, в то время как Кристина Россетти,
наоборот, неуклонно приближается к вершинному положению среди английских
поэтесс. Элизабет же плетется в хвосте, хотя при жизни ей рукоплескали
несравнимо громче. Нынче же авторы школьных хрестоматий
предпочитают отзываться о ней самым ругательным образом. По их словам, ее поэзия
имеет сегодня «чисто исторический интерес. Несмотря на хорошее
образование и общение с мужем, она так и не научилась понимать самоценность
поэтического слова и смысл художественной формы»4. Короче говоря,
единственное достойное место, куда ее не стыдно определить, в том пресловутом
дворце, имя которому «Литература», - это кухня, помещение для слуг: там
ей самое место - в одной компании с миссис Хименс, Элизой Кук, Джин Ин-
гелоу, Александром Смитом, Эдвином Арнолдом и Робертом Монтгомери5, -
вот там пусть себе и возится, гремит кастрюлями да поедает с ножа горох в
огромных количествах6.
Поэтому если рука и тянется взять с книжной полки «Аврору Лей»7, то
из желания не столько прочитать, сколько полистать от нечего делать
любопытный памятник ушедшей эпохи - мы с тем же настроением теребим подол
старинного платья из сундука нашей бабушки или рассматриваем гипсовые
бюсты династии Тадж-Махал8, в свое время украшавшие гостиные наших
дедушек. А ведь еще каких-нибудь полвека назад это была настольная книга
у многих викторианцев: шутка ли, тринадцать переизданий выдержала
«Аврора Лей» к 1873 году! Да и сама миссис Браунинг, судя по посвящению, не
скрывала, что высоко ценит свою поэму, называя ее «самым зрелым своим
произведением», в которое «вошли мои заветнейшие мысли о Жизни и
Искусстве»9. По ее письмам видно, что она много лет вынашивала замысел, а
форму он обрел, видимо, в момент или незадолго до ее встречи с Браунин-
«Аврора Лей»
339
гом - во всяком случае, впервые она поделилась своими творческими
планами именно с возлюбленным: так чаще всего и бывает - влюбленные делятся
друг с другом своим самым сокровенным: «...я всерьез намереваюсь
(признавалась она) написать что-то вроде романа в стихах... чтобы он был плотью
от плоти наших конвенций и при этом смело вторгался в обыденную жизнь
людей - туда, куда "боятся ступать ангелы", являя лики человечества без
лукавства и притворства, называя вещи своими именами, просто и ясно. Вот о
чем я сейчас мечтаю»10. Однако, по понятным причинам, на осуществление
задуманного у нее ушло десять лет - десять долгих лет, совпавших с
бурными событиями, перевернувшими всю ее жизнь: побегом из
родительского дома, нежданно-негаданным счастьем... Роман в стихах, появившийся на
свет в 1856 году, в каком-то смысле действительно вобрал в себя все лучшее
из поэтического и жизненного опыта Элизабет Браунинг - во всяком случае
она так думала. Открывая книгу, мы и ведать не ведаем, какая это
сокровищница; хотя, если задуматься, иначе и быть не могло, ведь собранные в ней
богатства накапливались и отлеживались годами. Как бы ни было, первые
двадцать страниц «Авроры Лей» прочитываешь на одном дыхании, не
отрываясь, - на минуту даже кажется, уж не попал ли ты в «Сказание о старом
мореходе»11 и старый морской волк пригвоздил тебя к месту своим
рассказом, хотя откуда здесь взялся старый мореход? Почему он забрел именно
сюда, а не в какую-то другую книгу? Непонятно - в общем, ты слушаешь,
как малый ребенок, раскрывши рот, историю Авроры Лей о девяти книгах,
изложенную белым стихом. Что в ней завораживает, так это темп, напор,
решительность и самообладание, с какими ведет свою линию поэт. Не
выдержав натиска, мы сдаемся на волю рассказчицы, а ей только того и надо: она
с упоением сообщает, что Аврора - дочь итальянки, «чьи голубые очи
навсегда погасли, едва девочке исполнилось четыре»12, и «англичанина очень
строгих правил, умудренного познаниями в юриспруденции и теологии,
которого на склоне лет настигла неведомая страсть»13. Вслед за матерью
умирает отец, и сироту отсылают из Италии обратно в Англию, на воспитание
к тете. И вот мы видим: на крыльце своего загородного дома стоит одетая
во все черное тетушка Лей, старинной английской фамилии: каштановые с
проседью волосы заплетены в косу, уложенную над узковатым лбом; взгляд
ясный, губы сжаты; выцветшие глаза и высохшая до прозрачности кожа на
дряблых щечках, похожая на лепесток цветка, заложенного между страниц,
«хранимого больше для воспоминания, нежели услады, нестареющий знак
ушедшей молодости»14. Живет тетушка уединенно, уповая на Бога и
занимаясь вязанием чулок да штопкой нижнего белья: «...ведь нам, в конце концов,
много не надо - одно тело, одна рубашка»15. Аврору она держит строго,
приучает к домашнему труду, воспитывает, как и положено воспитывать
женщину - разносторонне: знать немного по-французски, уметь считать, быть
осведомленной о законодательстве в королевской Бирме16, знать, какая
судоходная река впадает в Лар17, быть в курсе результатов переписи пятого года,
340
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
проведенной в Клагенфурте18; уметь рисовать греческих наяд в хорошеньких
туниках; а еще выдувать стекло, набивать чучела и мастерить цветы из
воска. Тетушке нравится, когда женщина ведет себя сообразно полу: вечерами
Аврора вышивает крестиком, и однажды до того замечталась над пяльцами,
что взяла по ошибке не те нитки, и у нее вышла розовоглазая пастушка! Ну и
пытка, эта ваше женское воспитание! в сердцах восклицает Аврора:
женщины от него чахнут, умирают, а если кто и выживает, как наша героиня, то
исключительно благодаря «связи с невидимым миром духов»19, а еще потому,
что она мечтательница, вежлива с кузенами, слушается викария и за столом
разливает чай. Есть у Авроры и своя светелка: в ней салатные обои, на полу
зеленый ковер, над кроватью - балдахин цвета морских водорослей, все в
тон английскому сельскому пейзажу. Здесь ее убежище, ее читальня.
«Секрет чердачной комнаты разгадан! Там книги моего отца хранятся в ящиках, /
Больших и малых, и в них зарывшись с головой, / подобно мышке юркой,
что спряталась в подшерстке мамонта»20, она глотает книги. Бывает, у нашей
мышки вдруг вырастают крылья (такую уж, видно, особую породу мышей
развела у себя миссис Браунинг), и она воспаряет, ибо «только забывшись, /
В победном, торжествующем полете / Души к высотам знания, за
воплощенной в книге красотой и истиной, / - лишь так обрящем в слове мы добро»21.
Обычно от книги ее отрывает кузен Ромни - приходит звать ее на прогулку,
или местный художник Винсент Каррингтон: тот обычно стучит в окно -
«сердиться на него нельзя, / Он полагает достаточным / изобразить достойно
тело, а душа, он говорит, приложится»22.
Мы и не заметили, как проглотили, забывшись, по совету Авроры, «в
победном, торжествующем полете», первую книгу «Авроры Лей».
Разумеется, по одной части трудно судить обо всем романе, и все же некоторые
выводы напрашиваются, к тому же хочется упорядочить первые сумбурные
впечатления. Во-первых, бросается в глаза «Я» самой писательницы: забыть
о нем невозможно, оно постоянно напоминает о себе. Во-вторых, трудно не
заметить в голосе Авроры нотки, характерные именно для Элизабет Бэррет
Браунинг. И потом, автора все время захлестывает то ее собственное «Я»,
то обширный материал, с которым она явно не справляется, а это,
согласитесь, художественный просчет уже самой миссис Браунинг, указывающий
на то, что граница между искусством и жизнью нарушена и жизнь
вторгается в пределы, ей недозволенные. Ведь что мы видим на страницах
«Авроры Лей», которые успели прочитать? Аврора, лицо вымышленное, то и дело
комментирует поступки реального человека - Элизабет Браунинг. Отчасти
такой сдвиг объясняется тем, что замысел поэмы возник, как мы помним,
в начале тысяча восьмисот сороковых, а в то время литературное
творчество женщины было неразрывно связано с ее жизненными обстоятельствами;
связь была настолько плотной, что даже самому строгому критику обычно
не удавалось ограничиться чисто литературными вопросами - ему то и дело
приходилось «резать по-живому». Это в особенности касается Элизабет Бэр-
«Аврора Лей»
341
рет: ее судьба, как мы знаем, была исключительной и, конечно, это не могло
не сказаться на ее поэзии - Музе тонкой и хрупкой. Мать Элизабет умерла,
когда та была ребенком; читала она все подряд, причем втайне от взрослых;
у нее на глазах утонул любимый брат, здоровье надломилось, она слегла23,
и тиран-отец не нашел ничего лучше, как держать ее чуть не в заточении в
четырех стенах в доме на Уимпол-стрит. Впрочем, что пересказывать всем
известные факты? Лучше послушаем саму Элизабет Бэррет - как она
оценивает воздействие обстоятельств на свое творчество: «Я жила, как улитка,
в самой себе (писала она), и сильные чувства мне заменяла печаль. Даже до
болезни я жила очень замкнуто, и в целом мире не нашлось бы другой такой
молодой женщины, которая, подобно мне, ничего не видела, не слышала, не
знала об обществе, в котором живет. Теперь я уже далеко не молода. Росла
я в деревне, ни с кем не общалась; общество мне заменяли книги и стихи -
их я читала взахлеб; дни и ночи проводила в мечтах и грезах - другого
опыта я не знала. Так проходило время... Потом я заболела, и мне сказали, что
больше я не покину свою комнату (одно время болезнь казалась
неизлечимой), и мне стало так горько... Я подумала: скоро я покину этот мир, а что я
видела в жизни? Ничего! Людей я не знаю, мои братья и сестры по жизни -
это просто слова; я не представляю, что значит высокая гора, полноводная
река - я их вообще никогда не видела... А мои занятия поэзией? - разве они
не пострадали от моего невежества? И если уж мне суждено еще какое-то
время пожить на белом свете, как же я могу мириться с затворничеством?
Разве не понятно, что я и так пишу, вопреки обстоятельствам -
обстоятельствам, абсолютно ненормальным? Что я в каком-то смысле слепой поэт! Да,
конечно, и у этого положения есть некоторые выгоды: богатая внутренняя
жизнь, привычка все подвергать сомнению, анализу; наконец, умение видеть
людей... Но как поэт я знаю, что отдам с превеликой радостью свой немалый
книжный багаж, добытый с таким трудом, за небольшую толику общения и
житейского опыта, за...»24 Дальше идет многоточие, следует небольшая
пауза - самое время вновь вернуться к «Авроре Лей».
Итак, какой же урон понесла поэзия Элизабет Браунинг из-за выпавших
на долю женщины условий? Совершенно очевидно, что немалый. Ведь не
надо далеко ходить, чтоб понять одну важную особенность ее дарования:
творческая мысль, столь непринужденно выплеснувшаяся в этой сумбурной
поэме о всамделишных мужчинах и женщинах, по природе своей не была
настроена на волну уединенного существования; в этом достаточно убедиться,
сравнив во многом повторяющие друг друга «Аврору Лей» и «Письма»
Элизабет. Да будь ее поэтическая мысль любого другого склада - лирического,
философского, чисто художественного, в этом случае замкнутость и
уединение только помогли бы раскрыться ее таланту! Тот же Теннисон, например, -
для него не было ничего более желанного, чем уединиться с книгами в
глуши, в деревне. Совсем не то - Элизабет Бэррет! Совершенно другой склад
ума - живой, светский, насквозь ироничный и без малейшей претензии на
342
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ученость. Книги для нее - не самоцель, а способ заполнить эмоциональную
лакуну. Изголодавшись по свободе, она глотала том за томом. Билась в
одиночку над Аристотелем и Платоном по одной простой причине: ей не с кем
было спорить. Она обожала Бальзака, Жорж Санд и других «бессмертных
бесстыдников»25 только потому, что когда ты прикован к постели и не
можешь двинуться с места, «они не дают тебе окончательно увянуть»26. Так
стоит ли удивляться тому жару, с каким она бросилась в водоворот
тогдашней жизни, едва успев вырваться на свободу из заточения? Нет, конечно. Она
полюбила открытые кафе - часами сидела и смотрела на прохожих; готова
была спорить обо всем на свете - о политике, социальных вопросах.
Правда, ее не очень интересовали история, археология, раскопки, которые велись
тогда в Италии, зато она входила во все подробности медиумической теории
м-ра Хьюма или, скажем, политики Наполеона, объявившего себя
французским императором. Она могла «растаять» перед картинами итальянских
мастеров или умилиться древнегреческой поэзии, однако получалось у нее это
как-то деревянно и плоско - совсем не так, как она откликалась на текущие
события: свежо и раскованно.
А раз так, - по природе своей она человек общественный, - нет ничего
удивительного в том, что она очень рано определила свою тему: это
современность. Другое дело, что писать она не спешила - и правильно делала!
(Впрочем, она и не могла иначе поступить, из-за болезни.) Через несколько
лет, когда к ней придет освобождение, она о многом узнает и сможет уточнить
свои прежние представления. Но как бы то ни было, факт остается фактом:
долгое затворничество не прошло даром - и пагубно сказалось на ее
творчестве. Ведь она долго жила взаперти, отрезанная от внешнего мира, а человек
в таком положении быстро становится мнительным, привыкает «раздувать»
свои чувства. Вот и она так же: пропала ее любимая собака Флаш и она
загоревала так, как горюет мать, потерявшая ребенка; застучала по оконной
раме ветка ивы, а ей уже кажется, что это деревья стонут в бурю.
Больничная окружающая обстановка, в которой она жила годами на Уимпол-стрит,
так раздражающе действовала на ее психику, что малейший звук приводил
ее в трепет, а любое незначительное происшествие воспринималось как
потрясение основ. Понятно, что когда она вырвалась в конце концов из плена,
чтобы «смело вторгнуться в обыденную жизнь людей... и явить лики
человечества без лукавства и притворства, называя вещи своими именами,
просто и ясно»27, то столкновение с реальностью оказалось для нее испытанием
непомерным. Она приходила в возбужденное, даже восторженное состояние
от того, что была все время на людях, и как человек очень впечатлительный,
после нескольких часов такой «публичности» она чувствовала себя
измочаленной, выжатой как лимон: впечатлений было столько, что разобраться в
них, тем более разложить их по полочкам, не представлялось возможным.
Именно поэтому «Аврора Лей», задуманная как роман в стихах, «не
дотягивает» до шедевра. Скорее она его прообраз - как дух, витающий над
«Аврора Лей»
343
водой в поисках оболочки для воплощения; как нераскрывшийся плод,
замерший в ожидании, когда же коснется его высшая сила, пробуждая к жизни.
Роман и увлекает, и быстро наскучивает; и потрясает, и отпугивает; местами
он написан крайне неряшливо, а местами очень выразительно; в чем-то он
изыскан, в чем-то уродлив - словом, редкостная мешанина, и, тем не менее,
он пробуждает интерес и вызывает уважение читателя. Хотя миссис
Браунинг и наломала дров, но смелость проявила недюжинную - это ясно с
каждой новой страницей: мало кто из писателей рискнет, как она, броситься с
головой в пучину жизни, что течет независимо от их воли и амбиций и
взывает к их участию. Так что ее «намерение» и по сей день не утратило своей
силы: замысел с лихвой искупает изъяны художественного исполнения.
Звучит это предложение так (если отвлечься от деталей): истинная задача поэта,
рассуждает Аврора в пятой книге, состоит не в том, чтобы описывать эпоху
Карла Великого, а в обращении к современности. Подлинные страсти
сегодня кипят в гостиной, а не в ущелье Ронсенваля, где когда-то билась кучка
рыцарей во главе с Роландом28. «Если поэт бежит от модниц, рюшек и
бантов на платьях и требует тунику с римской тогой, то это путь погибельный
и - глупый»29. Ведь у современного искусства нет другого предмета, кроме
реальной жизни, и нам не дано познать иное существование, кроме своего
собственного. А если так, то какая форма, спрашивает она, лучше всего
подойдет для поэмы о современности? Драматургия здесь не годится,
поскольку единственные пьесы, обреченные на успех у публики, как правило,
бывают либо эпигонскими, либо развлекательными. И потом - о наболевшем (не
забудем: это писалось в 1846 году!) не скажешь «во всеуслышание со сцены,
устами загримированных актеров, под суфлерский шепот и шипение газовых
рожков; душа - вот наша авансцена!»30 И как быть в таком случае? Это
сложный вопрос: уровень исполнительского мастерства - это очевидно - отстает
от замысла, хотя каждая страница давалась ей мучительно; что же до
остального - «Позволь мне меньше думать о внешних формах. Доверься духу...
Пока горит огонь, да не иссякнет щедрое тепло»31. В общем, огонь бушевал
и жар кружил голову.
Разумеется, не одна мисс Бэррет обращалась в стихах к современности.
Ту же цель всю жизнь преследовал, по его словам, и Роберт Браунинг.
Попытками ввести современность в поэзию - заметим, попытками более ранними
по времени, чем «Аврора Лей», были поэмы «Домашний ангел» Кавентри
Пэтмора и «Бози» Клау32. Так что сама идея давно витала в воздухе, и
романисты, например, прекрасно претворяли ее в прозе. За какие-нибудь
тринадцать лет, с 1847 по 1860 год, почти одновременно появились четыре романа о
современности: «Джейн Эйр», «Ярмарка тщеславия», «Дэвид Копперфилд»
и «Ричард Феверел»33. Да, современность по-своему интересна и
значительна: в этом поэты были солидарны с Авророй Лей. Действительно, зачем
отдавать свой хлеб на откуп прозаикам? Зачем заранее сдаваться и уходить «в
пустыню», разыгрывая баталии времен Карла Великого и Роланда, рядясь
344
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
в римские тоги на фоне идиллических аркадий, когда современность, вот
она - ждет не дождется твоего внимания: радости и горести сельской
жизни, светские нравы, клубные страсти, городское дно! Верно, прежняя форма
изображения современности в стихах - драматическая поэма - отжила свое;
но почему не поискать новую? И настолько уверовала миссис Браунинг в
божественную природу поэзии, что, не долго думая, взяла и выплеснула свой
нехитрый жизненный опыт, на удивление всем Бронте и Теккереям, в девяти
книгах, написанных белым стихом. Да-да, именно так: белым стихом рапсо-
дировала она про Шордич и Кенсингтон34, тетушку и приходского
священника, Ромни Лея и Винсента Каррингтона, Мэриан Эрл и лорда Хоу; пышные
свадьбы и убогий пригород; чепчики и бакенбарды; дилижансы и железную
дорогу. Чем воспевать прекрасных дам и рыцарей, средневековые замки и
башенки, - бросала она в запальчивости, - не лучше ли поэту спуститься на
бренную землю и заняться повседневностью? Действительно, почему бы и
нет? Только стоит ли? Давайте посмотрим, что происходит, когда поэту
случается забрести на чужую территорию - в заповедные кущи романиста, и
подстрелить там дичь, которую нельзя назвать ни лирикой, ни эпосом:
скорее рассказом в лицах о стремлениях и страстях викторианцев второй
половины девятнадцатого века.
Итак, рассказ. Иначе говоря, от поэта ждут историю, и для начала
неплохо было бы сообщить о том, что нашего героя пригласили на обед. Но как
это сделать? Понятно, что если за дело берется романист, нет ничего проще:
он бросает, например, такую фразу- «...только я припал, опечаленный, к
ее руке, затянутой в перчатку, как вдруг входит слуга с запиской от ее отца:
тот в самых любезных выражениях просит меня пожаловать к ним завтра
на обед». В романе такую фразу проскакиваешь, не замечая, а вот поэту над
этим местом приходится потрудиться:
В печали я прощаюсь с ней,
А тут с запискою лакей:
Ее папа мне шлет поклон -
Я зван к обеду завтра в семь35.
Получается смешно. Вроде обыкновенные слова, а звучат деланно и
фальшиво. И это еще не самое трудное. Например, как поэту справиться
с диалогом? Сама же миссис Браунинг подчеркивала, что в современной
жизни главная драма разыгрывается в душе и шпагу давно уже заменило
слово: именно в словесном поединке, то есть в драме, происходит
столкновение характеров и выражается конфликт. Однако поэтическая форма
страшно сковывает поэта всякий раз, когда он пытается воспроизвести стихами
живую речь. Послушайте, как Ромни, обращаясь к своей прежней
возлюбленной Мэриан, родившей ребенка от другого мужчины, пытается
справиться не столько с охватившим его волнением, сколько - элементарно -
со словами:
«Аврора Лей»
345
Дай Бог такой же мне любви,
Какую я ему дарю.
Не дай ему осиротеть,
Как я сиротствую давно.
Мы вместе делим хлеб и кров,
За мать и няньку я ему.. .36 -
и так далее в том же духе. Короче говоря, Ромни долдонит не хуже любого
из елизаветинских героев, которых таким величественным жестом
королевы миссис Браунинг выставила за дверь своей новомодной гостиной. Давно
известно: живая речь не терпит белого стиха. Как только разговор
переходит на стихотворную волну, слова моментально раздуваются от собственной
пышности и важности, и если срочно не «подключить» действие, то конца и
края словесной риторике не будет: сознание читателя просто меркнет. Поэт
же, под барабанную дробь стиха, за которой не слышно чувств героев, все
больше и больше впадает в обобщение и пустословие. Загипнотизированная
ритмом, миссис Браунинг уже не обращает внимания на более тонкие,
скрытые оттенки настроения, которые для романиста, наоборот, составляют тот
драгоценный материал, из которого и создается характер героя. Увы, поэту
не до тонкостей: движение чувств, развитие характера, взаимодействие
героев - все это остается «за кадром». И постепенно роман в стихах сужается до
одного пространного монолога, с одним единственным персонажем и одной-
единственной судьбой - самой Авроры Лей.
Что получается? Если миссис Браунинг задумывала роман в стихах в
триедином ключе - как лабораторию характера, сердцеведческий анализ
взаимоотношений героев и как увлекательный рассказ, со своими
кульминацией и развязкой, то она потерпела полное фиаско. Если же у нее было иное
намерение - создать картину жизни в целом, описать, как ее современники,
подданные королевы Виктории, бьются над решением насущных вопросов
времени, и все это высветить, укрупнить, заострить в поэтическом слове, то
миссис Браунинг молодец: она добилась успеха. Ее Аврора Лей - истинная
дочь своего века: так увлекаться социальными вопросами, мучиться
противоречием между женским естеством и стремлением стать художницей, так
страстно жаждать знаний и воли - могла только англичанка середины
девятнадцатого века. И Ромни, конечно, ей под стать: истинный викторианец
среднего сословия, обуреваемый высокими идеалами, глубоко озабоченный
вопросами общественного переустройства, основавший, на свою голову,
коммуну в Шропшире37. Образ тетушки, трясущейся над своей мебелью в
чехлах, ее усадьба, которая Авроре хуже, чем тюрьма, - все это изображено
с такой достоверностью, что и сегодня с успехом идет на книжных развалах
Тотнем-корт-роуд. Миссис Браунинг замечательно удались зримые формы
викторианской идеологии - ничуть не хуже, чем Троллопу или Гаскелл38 в
их лучших романах.
346
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
И действительно: если начать сравнивать роман, написанный прозой, с
романом в стихах, то успех далеко не всегда оказывается на стороне
прозаика. Глотая страницами стихотворный роман, с удивлением отмечаешь
большую «плотность» повествования: эпизоды, которые романист
«обсасывал» бы по отдельности, в романе стихотворном уплотнены до одной сцены,
как и многостраничные описания, у поэта часто сбитые в одну строчку, - в
обоих случаях поэт, похоже, заткнул за пояс романиста. То же самое
касается и образов героев: образы гротескные, карикатурные, лишенные
психологической глубины и внутреннего драматизма, поэту удаются лучше, чем
прозаику, - под его пером они обретают обобщенность и символичность,
какие и не снились романисту, который прежде всего сосредоточен на
динамике характера. Вообще пейзажная сторона романа-поэмы необычайно
хороша: вспомнить сцены на рынке, в храме, при закате солнца39 - они
выполнены с такой сочностью и таким блеском, благодаря емкому и сжатому
языку стиха, что романист с его каталогом тщательно подобранных деталей
должен чувствовать себя посрамленным. Поэтому не будем заранее
сбрасывать со счетов «Аврору Лей»: несмотря на все огрехи, книга эта живет,
находит своего читателя, на нее откликаются. Это вам не пьесы Бердоуза или
сэра Генри Тэйлора40, от которых за версту веет холодом, и даже не
классически правильные драмы Роберта Бриджеса41, к которым почему-то мы все
реже и реже обращаемся сегодня. Нет, Элизабет Бэррет - это другое:
ворваться в гостиную и выпалить, что поэт творит здесь и сейчас, и - точка! - в
этом жесте виден гений. Во всяком случае, в «Авроре Лей» ее смелость
оправдала себя полностью: широкое полотно стихотворного романа
скрадывает аляповатость, нагромождение эпизодов, композиционные просчеты -
весь этот сумбур тонет в толще произведения, не оставляя пробоин; зато во
всем блеске раскрываются сильные стороны поэта - темперамент, богатое
воображение, талант живописца, наконец, ясный и насмешливый ум, - все
это заражает читателя! Мы хохочем до изнеможения, машем руками,
отбиваемся как можем: нет, так нельзя! Так не бывает! Это явная натяжка! Здесь
явный перебор! - и, тем не менее, не выпускаем книгу из рук, пока не
дочитаем до конца. Чего еще, кажется, желать автору? А вот чего: как так
получилось, спрашиваем мы, что у «Авроры Лей» не оказалось преемников? И
этот наш вопрос, конечно, лучшая награда художнику. Права Элизабет
Бэррет: нет в современности ничего зазорного для музы; поэт только выиграет,
если обратит свой взор к гостиной или к улице. Тогда почему же до сих пор
нет продолжения «Авроры Лей» - первого наброска, который с ходу выдала,
едва успев встать с больничной койки, по пути в гостиную, Элизабет Бэррет?
То ли из-за робости, то ли по инерции поэты по-прежнему уверены в том,
что современность - это удел прозаиков. Вот и нет у нас до сих пор романа в
стихах об эпохе Георга Пятого42.
Племянница графа
347
ПЛЕМЯННИЦА ГРАФА
У литературы есть одна довольно щекотливая тема, о которой обычно
не говорят, во всяком случае говорят меньше, чем она того заслуживает. Это
классовые различия. О них принято умалчивать; на них обычно закрывают
глаза, делая вид, будто каждый по своему происхождению точно такой же,
как остальные. И при этом классовые градации пронизывают английскую
литературу сверху донизу - попробуйте на секунду представить, что их нет,
и вы ее не узнаете. Именно поэтому английскому читателю не нужно
объяснять авторскую ремарку в рассказе Мередита «Дело генерала Опла и леди
Кемпер»1: «Он послал сказать леди Кемпер, что ее покорный слуга через
минуту будет к ее услугам, а сам направился к зеркалу. Леди Кемпер -
племянница графа...»2 Читатель, англичанин по происхождению, с полуслова
понимает, о чем речь, и полностью солидарен с Мередитом: да, генералу
есть зачем поправлять перед зеркалом мундир. Ведь он хоть и генерал, а не
чета леди Кемпер. И он понимает, что ему с ней нечего тягаться - ему
нечего противопоставить ее высокому социальному рангу: он безоружен перед
титулом графа, барона, рыцарским званием. Он простой англичанин,
представитель среднего сословия, да еще и беден к тому же. Ему сам Бог велел
подойти к зеркалу перед визитом к титулованной даме и оправить мундир -
в предусмотрительности такого шага не усомнятся даже читатели
современной Британии.
Если же кто-то полагает, что социальные различия остались в прошлом,
и делает вид, будто кого-кого, а уж его-то классовые ограничения не
касаются, мол, я в своей ячейке, как в замке король! - то пусть не обольщается. Это
самообман. Пройдитесь как-нибудь летом по центральным улицам Лондона:
держу пари, ваш взгляд сразу упадет на уборщицу в платке,
пробирающуюся бочком в разодетой толпе зевак под шелковыми зонтиками. Вы
обязательно заметите, с каким восторгом льнут к стеклам дорогих автомобилей
молоденькие продавщицы; с каким блеском в глазах ожидают своей очереди
у ворот Букингемского дворца молодые люди, приглашенные на аудиенцию
к Георгу Пятому3, и с какой важностью держатся пожилые. Открытой
враждебности, может быть, и нет, зато нет и общения. Мы все замкнуты, каждый
сам по себе, всегда врозь. Достаточно поглядеться в зеркало - я хочу сказать,
почитать английскую литературу - и последние сомнения улетучатся.
Английский романист - это сразу видно - страшно гордится тем, что он лучше
других знает, как устроено Общество: эта огромная стеклянная друза из
непроницаемых ящичков, в каждом из которых размещается отдельная группа
со своими обычаями и нравами. В одном - графы, а у графов, да будет вам
известно - спешит просветить нас писатель - есть племянницы; в другом -
генералы, и тут двух мнений быть не может, поучает нас знаток: направляясь
к племяннице графа, генерал обязан поправить на себе мундир. Но это толь-
348
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ко азы, главная наука - впереди. И вот на нескольких страницах Мередит
убедительно доказывает, насколько сложный это предмет: мало того что у
графов есть племянницы, так, оказывается, у генералов есть кузены и
кузины; а у тех, в свою очередь, есть друзья, а у друзей служат кухарки, а те
замужем - нет, вы не поверите, за кем же замужем эти самые кухарки, что
служат у генеральских кузенов: за плотниками! Картина осложняется тем,
что каждый из вышеозначенных типов занимает свой собственный
стеклянный ящичек и отличается от остальных ему одному присущими
особенностями, и все-то они должны учитываться романистом! Так что пресловутый
монолит среднего класса на поверку вовсе не таков. Получается, что он весь
иссечен прожилками и канальцами, пролегающими внутри мужского ли
сообщества, женского ли; и в итоге человеческое общение, в идеале подобное
полноводной реке или мощному каскаду, сковано, будто льдом, из-за каких-
то не поддающихся разумению препон в виде родословной или возрастного
ценза. Но даже и в том случае, если нам удалось аккуратненько разложить по
полочкам социальные группы и сообщества, от племянниц графа до
приятелей генеральского кузена, все равно впереди маячит обрыв - зияющая
пропасть по другую руку умозрительной реки - это рабочий класс, трудящиеся.
Почему-то мастеров и художников слова в ту сторону обычно не тянет: та же
Джейн Остен, например, туда ни ногой; ей вполне достаточно той
социальной группы, к которой принадлежит она сама и в описании которой она
находит бесконечные краски и оттенки4. Однако не все такие осторожные, как
Джейн Остен: Мередита, например, - писателя дерзкого и пылкого, -
постоянно влекли неисследованные пределы. Он вдоль и поперек изучил
общественную породу англичан: проверил на излом каждый ее выступ, каждую
впадинку и ухитрился писать так, что граф ли, повар ли, генерал или фермер
говорят у него каждый на свой манер, и каждый играет свою роль в той
комедии, какую собой являет жизнь в английском цивилизованном обществе.
Закономерный шаг для такого писателя, как Мередит! Романист
комического дарования не может не смаковать каждый пустячок, подсказанный
классовыми различиями: на таких «мелочах» все держится, в них вся соль.
Уберите из романа графских племянниц и генеральских кузенов, и во что
превратится английская литература? - в пустыню без единой колючки! Очень
похоже, между прочим, на русскую: там только и разговоров, что о
бездонной душе и всеобщем братстве, - никакой тебе комедии5! Так что не приведи
господь потерять нам графскую племянницу и генеральского кузена - нам
без них никуда! Правда, теша себя игрой в социальную сатиру, делая вид,
что мы не замечаем ни срезанных углов, ни закругленных мест, мы нет-нет
да усомнимся: а стоит ли оно того? Не слишком ли высокую цену мы платим,
ставя романиста в крайне затруднительное положение? В двух коротеньких
рассказах Мередит стремится достичь невозможного: закрыть все зияющие
бреши, а заодно и навести мосты между классами. То заговорит под
племянницу графа, то под жену плотника. Получается, прямо скажем, не очень
убедительно. Его титулованным особам почему-то не веришь (возможно, на-
Племянница графа
349
прасно): слишком уж они у него резки, своенравны, остры на язык -
аристократы обычно ведут себя гораздо сдержаннее. Впрочем, они еще ничего - по
сравнению с плебеями: те ему вовсе не удаются. Великанши-кухарки, пыш-
нотелые, велеречивые; грубоватые краснощекие фермеры - в обрисовке этих
фигур Мередит явно перебарщивает и переигрывает: их панибратскому тону
не веришь. Нет в их образах той раскрепощенности, что дается писателю
лишь знанием и любовью к своему предмету.
А если так, то получается, что романист, в особенности романист
английский, как никакой другой художник страдает одним серьезным недугом:
социальной зависимостью. В своем творчестве он не свободен от того круга,
к которому принадлежит от рождения. Его планида - безошибочно знать и
описывать во всех подробностях именно свой круг и никакой другой. Иначе
говоря, ему ни за что не убежать из той клетки, в какой он вылупился.
Окинем взглядом английскую литературу - что мы видим? Среди героев
Диккенса нет ни одного человека благородных кровей; у Теккерея - ни одного
рабочего. Назвать Джейн Эйр дамой не поворачивается язык, зато у Джейн Остен
сплошь одни дамы - все эти ее Элизабеты и Эммы6. Мы можем «прочесать»
все до одного английские романы - и все равно не найдем среди них такого,
где описывались бы оба полюса: аристократы и мусорщики. Вывод
плачевный и неутешительный: мало того что обеднен сам роман, но и мы, читатели,
лишены возможности следить за тем, что происходит как в верхах, так и в
низах общества, а ведь, в конце концов, романисты - это великие
толкователи общественных вопросов. Так что о настроениях сильных мира сего мы
судим практически вслепую. О чем думает король? - не знаем. Какого
мнения придерживается герцог? - ни малейшего представления. Верхи вообще
не любители писать, а уж о себе и подавно. Мы упустили прошлое - нам уже
никогда не узнать, каким рисовался воображению Людовика XIV его
собственный двор7, а теперь рискуем упустить и будущее: положим, отойдет в мир
иной английская аристократия или, того гляди, сольется с простым людом, а
мы и знать не будем, что она собой представляла.
Но ладно аристократия! - если мы и не знакомы с жизнью высшего
общества, то, по крайней мере, можем нарисовать ее в своем воображении, зато
в вопросах жизни рабочего класса мы просто темные. Во все времена цвет
английской и французской аристократии кичился приглашенными к столу
знаменитостями, почему, собственно, и могли с таким знанием дела
описывать привычки и нравы титулованных особ разные Теккереи, Дизраэли,
Прусты8. К сожалению, жизнь такова, что литературный успех всегда
предполагает продвижение вверх по социальной лестнице и никогда - движение
обратное, то есть вниз; случаи же расширения общественного диапазона
писателя - кстати, самый желательный вариант! - можно вообще пересчитать
по пальцам одной руки. Разве придет в голову модному романисту заглянуть
на огонек к местному водопроводчику и пропустить в компании с ним и его
женой по стаканчику джина? Боже упаси! Он не пишет ни о чем таком, что
заставило бы его искать встречи с фермером, поставляющим сырье для про-
350
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
изводства кошачьего корма или вступить в переписку со старухой,
разложившей свой нехитрый товар - спички да шнурки для ботинок - у входа в
Британский музей. Как же - он теперь богатый, солидный человек: заказывает
фрак, ходит на званые обеды. Так что поздние произведения романистов,
добившихся литературного признания, как правило, отмечены пусть
небольшим, но все же очевидным продвижением вверх по общественной лестнице.
Их героями все чаще и чаще делаются люди преуспевающие и влиятельные,
и, наоборот, старые крысоловы и конюшие шекспировских времен
оказываются не у дел, или, того хуже, их жалеют, им дивятся, как какому-то
курьезу9. Отныне они - фон для богатеев. Подсветка для картины, изображающая
общественное зло. Они уже больше не самодостаточны, как, бывало, во
времена Чосера. Видно, писать о самих себе и писать по-своему, на свой лад у
людей трудящихся не получается. Едва взявшись за писательское дело, они
сразу зацикливаются на своем «Я», на классовой принадлежности или вовсе
забывают о том, откуда они вышли. Получается, один только средний класс и
обеспечивает писателю то состояние желанной анонимности, которое
позволяет ему творить освобожденно. Не случайно именно из этой среды -
представителей среднего класса - и рождаются писатели: ведь для них писать так
же естественно, как для рабочих строить дома, а для крестьян - мотыжить
землю. Байрону наверняка труднее было состояться как поэту, чем Китсу10,
а уж представить себе, что какой-нибудь герцог сделается великим
романистом, и вовсе невозможно: это то же самое, что вообразить на месте автора
«Потерянного рая» какого-нибудь торгаша из магазина.
Впрочем, все меняется. Так и нынешние классовые перегородки,
которые мы наблюдаем в обществе и которые кажутся нам излишне жесткими,
вовсе не всегда были такими: несравненно более гибкой в этом смысле была
елизаветинская эпоха, а мы, в свою очередь, куда менее зашорены, чем вик-
торианцы. Означает ли это, что мы стоим на пороге небывалых,
невиданных изменений, сказать трудно, но вполне возможно, что через лет эдак сто
сегодняшние различия попросту исчезнут. Может статься, что ни герцогов,
ни крестьян в том виде, в каком мы их когда-то знали, не останется - они
вымрут, как вымерли в свое время дрофа и дикая кошка. И - как знать? -
возможно, наступит время, когда мы будем отличаться друг от друга только
характером и интеллектом. Тогда уж точно нашему генералу Оплу (если
генералы вообще останутся как вид) больше не придется поправлять мундир
(если, конечно, таковые еще будут в моде) перед визитом к племяннице (если
их не ликвидируют) графа (будущее этой категории покрыто мраком тайны).
Но если такую перемену еще можно каким-то образом предвидеть, то
представить, что произойдет с английской литературой, когда ее лишат
генералов, племянниц, графов и мундиров, не возможно. Ясно одно: литература
станет неузнаваемой. Может, она вообще отдаст Богу душу. Или роман
отомрет за ненадобностью, или потомки изгадят его точно так же, как мы в свое
время испортили драму в стихах11? В общем, остается только гадать, каким
оно будет - искусство подлинно демократической эпохи?
Джордж Гиссинг
351
ДЖОРДЖ гиссинг
«А известно ли вам, что в Лондоне обитает такая порода людей -
торговцы керосином?»1 - это сказано Джорджем Гиссингом в 1880 году, и
поскольку это его слова, читатель моментально откликается, рисуя в воображении
окутанный туманом город, редкие пролетки, сварливых хозяек и их вечно
голодных постояльцев; нищие окраины, убогие часовни, а в вышине над всей
этой жалкой действительностью - горы под шапками лесов, колонны
Парфенона и Рим, раскинувшийся на семи холмах... Гиссинг делает явный крен
в сторону самовыражения - такой поворот встречается у романистов: когда
сквозь легкий флер писательского вымысла проглядывает сермяжная правда
жизни. С такими писателями читатель обычно на короткой ноге - с ними
ему не надо держать дистанцию, предполагаемую произведением искусства,
поскольку он знает их и по жизни, и по книгам. Вот и письма Гиссинга -
сильные, умные, без внешнего блеска и острот - оставляют у читателя
впечатление, будто он закрашивает пустоты внутри контуров, которые впервые
набросал, читая «Демос», «Новую Граб-стрит» и «Потусторонний мир»2.
Пустот, впрочем, немало, и многие из них так и остаются белыми
пятнами. Иные подробности до сих пор держат в секрете, иные факты просто
утеряны. Гиссинги ведь были бедными, глава семейства умер, когда дети были
еще маленькими; семья многодетная, поэтому детям пришлось самим
заботиться о своем образовании, собирая знания по крупицам. Сестра Гиссинга
рассказывает3, что Джордж был страшно охоч до ученья: однажды он так
торопился на занятия, что подавился за обедом рыбной костью, так с костью в
горле и помчался в школу, настолько боялся пропустить уроки. Еще он завел
специальную тетрадку и выписывал в нее из брошюры «Ну и ну!» разные
поразившие его сведения: например, объем яйцекладки у линя, у
морского языка, у карпа, и на вопрос - зачем это ему? - отвечал: «По-моему, эти
факты достойны внимания»4. Ей на всю жизнь запомнилось, с каким
«безмерным пиететом» относился он к интеллектуальной деятельности; с каким
бесконечным терпением этот высоколобый рослый юноша, сидя рядом с ней,
близоруко щурясь над книгой, помогал ей с уроками латыни, «по многу раз
кряду повторяя одно и то же объяснение, хотя другой на его месте уже давно
вспылил бы и бросил это неблагодарное дело»5.
Возникает вопрос: если Гиссинг превыше всего ставил факты, а
впечатления, судя по всему, оставляли его равнодушным (пишет он скупо, без
прикрас), то не ошибся ли он в выборе профессии? Перед ним простирался
огромный мир науки, кажется, только обрати к нему свой пытливый ум и
тебе обеспечена стезя ученого - историка ли, критика литературы; так нет
же! почему-то он обязательно должен пропадать в меблирашках и плести
романные небылицы про то, как «серьезные молодые люди стремятся к
самосовершенствованию в мире, стоящем на пороге новой эры в истории
цивилизации»6.
352
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
Как бы то ни было, в 1880-м году литература с распростертыми
объятиями - что может быть радушнее этой музы? - приняла в свое лоно писателя,
который жаждал стать «рупором прогрессивной партии радикалов»7 и
намеревался самым решительным образом обнажить всю правду о вопиющем
положении неимущих и о несправедливости общественного устройства. Иначе
говоря, литература вполне созрела, чтобы признать такие книги романами;
другой вопрос - найдут ли они своего читателя? Сомнение в читательской
заинтересованности точно выразил в своем отзыве внутренний рецензент
издательства Смит Элдер8, отметивший, что книга м-ра Гиссинга «настолько
трудна, что едва ли привлечет любителей романов; подписчиков же Мудиз
она попросту отпугнет»9. Гиссингу ничего не оставалось, как потуже
затянуть ремень, перейти на чечевичную похлебку и переехать на окраину в Из-
лингтон, где на улицах торговали керосином, - зато ему удалось издать на
свои деньги свой первый роман. Именно в те голодные годы он приучился
вставать ни свет ни заря и топать через весь Лондон, чтобы успеть до
завтрака позаниматься с м-ром М. Бывало, урок откладывался - ученик
присылал ему накануне записку, предупреждая, что утром будет занят, когда такое
случалось, можно было заранее предположить, что в английском романе
появится еще одна мрачная страница, рисующая проблемы современной
жизни. Шутку ли сказать, писатель перебивается с хлеба на воду, питается
чечевицей; поднимается затемно, в пять утра; идет пешком, чуть ли не через весь
город, а ученик его, оказывается, в это время преспокойно спит, в ответ на
такую несправедливость писатель разражается гневной инвективой против
искусства, приукрашивающего действительность, и провозглашает принцип:
уродство - истина, все истинное - безобразно, и ничего другого знать нам не
дано10. Впрочем, судя по некоторым признакам, роману такое обращение не
шло на пользу. Одно дело, когда воспоминание об обжигающем чувстве
стыда за свое униженное положение, испытанном в детстве, писатель
претворяет в ненасытную жажду жизни, как то делает, например, Диккенс, создавая
из грязи, окружавшей его в детстве, блистательный образ какого-нибудь м-ра
Микобера или миссис Гамп11, и совсем другое дело, когда писатель сыплет
соль на раны, стараясь таким способом вызвать сочувствие читателя и
привлечь внимание к собственной персоне: последнее - это катастрофа. Лишь
оторвавшись от частностей, мысль художника парит свободно; стоит же ей
только зациклиться на конкретном случае вопиющей несправедливости, как
она на глазах скукоживается и мельчает.
Зато писателю, отождествляющему себя с героем, читатель
сопереживает гораздо охотнее: страницы так и летят, а чисто человеческое сострадание
заставляет читателя закрыть глаза на художественные просчеты.
Помилуйте, - сокрушаемся мы про себя, - у Биффена и Рирдона на ужин только хлеб
и селедка, и то же самое у Гиссинга. Биффену пришлось заложить теплое
пальто, и Гиссингу тоже. Рирдону не пишется в воскресные дни, и у
Гиссинга тоже не идет. К концу мы уже забываем, кто есть кто - то ли это Рир-
Джордж Гиссинг
353
дон любитель кошек, то ли Гиссинг обожает шарманку. Но в одном они
точно схожи: оба купили у букиниста полное собрание сочинений Гиббона12 и,
невзирая на сильный туман, перетащили к себе домой тяжелые увесистые
тома. Наше чтение, таким образом, превращается в поиск совпадений между
событиями жизни героев романов и письмами автора, и всякий раз, когда
нам удается обнаружить сходство, мы чувствуем себя немного
победителями, точно чтение романов - это игра в жмурки, и выигрывает тот, кто сумеет
«угадать», где автор.
Выходит, мы знаем Гиссинга иначе, чем Гарди или Джордж Элиот.
Великие романисты подобны некой стихии: они, как волна, подхватывают героев,
несут их на гребне, придавая им общечеловеческие черты, - так океан,
накатывая на берег, обтачивает голыши. Гиссинг же не таков: он стоит одиноко,
будто скала, возвышаясь над морской гладью; как маяк, он высвечивает
ближний круг, а все, что за пределами круга, тонет в тумане. Зато узкая
направленность этого «луча» с лихвой окупается яркостью и проникающей мощью
писательской мысли. Притом что кругозор Гиссинга невелик и фантазия его
бедновата, он из тех редчайших писателей, чьи герои живут умом, а не
эмоциями: это романисты-интеллектуалы. У их героев всегда слегка смещенная,
относительно общепринятой, шкала ценностей, и это кардинально отличает
их от большинства вымышленных персонажей. Во-первых, в их поведении
отсутствует снобизм, вызываемый разницей в социальном положении13; во-
вторых, деньги им требуются почти исключительно на приобретение хлеба
насущного; наконец, любовь вовсе не стоит у них на первом месте. Зато
постоянно кипит мозговая работа, и одно это наделяет героев Гиссинга
поразительным чувством свободы. Ведь что такое «мыслить»? На самом деле это
означает очень многое: развиваться в разных направлениях; превышать
отведенные тебе границы; забыть о том, что ты «персонаж» и играешь
назначенную роль. Наконец, сделать свою личную жизнь частью жизни
политической, творческой, интеллектуальной. Строить свои отношения с женщинами
не на одном только сексуальном влечении, а на многих других
основаниях. Получается, что в гиссинговской системе координат внеличной стороне
жизни отведено подобающее место. «Почему никто не пишет о самом
важном в жизни?»14, - спрашивает Гиссинг устами одного из героев, и вопрос
этот кажется настолько непривычным для литературы, что он действует на
нее раскрепощающим образом. В самом деле - почему мы пишем только о
любви? Никто не спорит, любовь - это очень важно, и все же... Почему нас
интересуют одни лишь великосветские обеды? Что и говорить, перспектива
заманчивая, но... Почему мы все время обходим самые важные вопросы?
Когда такое слышишь от Гиссинга, невольно ловишь себя на мысли: конечно,
ведь именно в то время жил Дарвин, бурно развивалась наука, люди много
читали, интересовались искусством, велись раскопки древнегреческих
городов... И поскольку нам все время приходится думать, читая Гиссинга, книги
его, естественно, кажутся трудными для восприятия: потому-то они, кстати,
12. Вирджиния Вулф
354
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
и «отпугивают подписчиков Мудиз». Еще бы! В них настойчиво
повторяется мысль о том, что в основе разумного, взвешенного взгляда на вещи чаще
всего лежит пережитое человеком страдание. Боль проходит, а мысль все
живет и живет. Людское горе предстает у Гиссинга событием более значимым,
нежели личное счастье: оно определяет взгляд на мир. Наверное, поэтому из
его романов мы выносим не образ героя или впечатление о событии, а
вдумчивый взгляд писателя, многое повидавшего на своем веку.
Но Гиссинг не просто интеллектуал в литературе - он необыкновенно
гибкий писатель. И этим он нам особенно интересен. В молодые годы он
мечтал написать книги, которые обличали бы «всю вопиющую
несправедливость нашего общественного устройства»15. Потом его взгляды изменились:
то ли задача оказалась непосильной, то ли обнаружились другие интересы,
отвлекавшие его внимание, трудно сказать. Но как бы ни было, он пришел к
окончательному убеждению, что «единственная абсолютная ценность,
которую нам дано постичь, - это художественное совершенство... (и что - Н.Р.)
произведения искусства... остаются для человечества источниками
здоровья»16. Поэтому любой, возжелавший исправить мир, парадоксальным
образом должен уйти от мира, уединиться и сосредоточиться на том, чтобы
довести до совершенства каждое слово, каждую фразу. Писательский труд,
полагал Гиссинг, требует полной самоотдачи: может быть, когда-нибудь в
конце жизни он и сумеет «более или менее правильно и ясным языком
написать страницу»17. На самом деле, он скромничал - у него таких страниц
немало. Например, описание кладбища в лондонском Ист-Энде: «Бродить
среди могил на самом окоеме этого Богом забытого места в восточной части
Лондона- все равно, что гулять под руку с безглазой: душа меркнет при
мысли о жалкой участи и неотвратимом холоде. Вокруг покоятся те, кто
пришел в этот мир трудиться в поте лица своего; и вот труд пожрал их с
потрохами, не оставив им ничего, только последний вздох, с которым они и отошли
в мир забвения. Что такое их жизнь, без единого просвета? - Короткий час
между зимними сумерками и ночью. Все - отмаялись! И некому помянуть их
добрым словом, некому позаботиться о прахе - дети их сломлены той же
силой забвения. Стертые единички - отец, мать, дитя, сбитые в одну огромную
кучу трудового люда, они беззвучно взывают, прося любви и тепла, которых
не было у них в жизни. В ответ лишь раздается завывание ветра над тесными
рядами узких плит, да ложится под ноги прибитая дождем земля, пополам
с песком, похожая на необъятную посмертную маску, принявшую в себя их
пот и слезы и тут же растворившую всякий след их пребывания»18.
Такие картины, будто каменные таблички с письменами, четко
выбитыми твердой рукой, снова и снова всплывают в памяти, и в сравнении с ними,
многое в литературе просто меркнет, оказываясь на поверку кучей хлама.
А Гиссинг все совершенствовался. Вопреки обстоятельствам - вопреки
пыхтевшим у него под окном на Бейкер-стрит паровозам, вопреки разным
мелким пакостям соседа снизу, вопреки обнаглевшей хозяйке, галантерей-
Романы Джорджа Мередита
355
щику, отказавшемуся доставить ему сахар, за которым ему пришлось
самому тащиться в лавку; вопреки колючему туману, простуде, уложившей его в
постель на целых три недели, вопреки всему на свете, он все равно
продолжал упорно исписывать страницу за страницей. И пусть у него над головой
раздавался гром семейных ссор, пусть давили со всех сторон убогий быт и
серая рутина, в которых он винил одного себя и собственную мягкотелость,
повторяю, всему этому вопреки, сквозь сырость и туман, сквозь вонь и чад
рыбных лавок на Юстон-роуд, где-то далеко на горизонте высились колонны
Парфенона и зеленели холмы вечного города. Он мечтал увидеть Грецию,
Рим, и мечту свою осуществил: побывал в Афинах, увидел Рим; перед
смертью, на Сицилии, читал Фукидида. Жизнь вокруг потихоньку менялась, и он
уже не был столь категоричен в своих наблюдениях, как раньше. Он готов
был признать, что реальность не исчерпывается лишь нищетой, туманом,
керосином и подвыпившей хозяйкой; уродство - еще не вся истина; в мире
есть место и прекрасному. Прошлое укрепляет настоящее, и в этом ему
помогают литература и культура прошлого. Во всяком случае, свои дальнейшие
писательские планы Гиссинг связывал с римской историей времен Тотилы19,
а вовсе не с Излингтоном в эпоху правления королевы Виктории. В своих
непрерывных размышлениях он постепенно пришел к мысли о
«необходимости различать два способа понимания»20; интеллект - это еще не все. И
только собрался было отметить на воображаемой карте ту линию горизонта,
до которой дошел своим умом, как его постигла та же участь, что он
напророчил своему герою Эдвину Рирдону: тот умер. «Терпение, мой друг,
терпение»21, - сказал Гиссинг перед смертью приятелю, неотлучно дежурившему
у его постели: так может сказать только истинно просвещенный человек,
который на собственном опыте познал, насколько трудно достичь в творчестве
художественного совершенства.
РОМАНЫ ДЖОРДЖА МЕРЕДИТА
Еще лет двадцать назад* Джордж Мередит1 купался в лучах славы.
Романы его к тому времени обрели долгожданное признание у публики, а ореол
победителя, превозмогшего силой своего таланта все тернии на своем пути,
лишь добавлял блеска его литературной славе и упрочивал положение
мэтра. Сам же мэтр, как обнаружили поклонники его таланта, оказался
восхитительным старым чудаком: еще интереснее, чем его книги! Побывавшие в
гостях у писателя в местечке Бокс-Хилл читатели рассказывали, что их сразу
поразил его голос: они еще не успели войти в дом - крошечный загородный
коттедж, только направлялись к нему по дорожке, а оттуда им навстречу уже
* Написано в январе 1928 г. {Примеч. Вулф).
12*
356
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
неслись громоподобные раскаты, перебиваемые взрывами хохота. Войдя в
гостиную, посетители обомлели: из глубокого кресла, утопая среди
множества мелких безделушек, на них смотрела голова Еврипида, то бишь сам
романист, Джордж Мередит, собственной персоной. Время его не пощадило:
когда-то прекрасные черты лица увяли, обозначились глубокие складки, но
чеканная линия носа и насмешливый взгляд слегка прищуренных голубых
глаз оставались прежними. Сидя недвижно в кресле, он излучал уму не
постижимые энергию и сосредоточенность. В те годы он уже почти потерял
слух, но глухота, в отличие от других физических недугов, доставлявших
ему массу страданий, не мешала его полету мысли. Он нашел отличный
выход из положения: хорошо, пусть он не слышит собеседника, зато сам-то он
может говорить, сколько душе угодно! И, следуя этому правилу, старик
отводил душу в монологах, угощая ими своих гостей, независимо от звания и
возраста: с одинаковой учтивостью обращаясь что к герцогине, что к малому
ребенку. Для него не существовало языка простого человеческого общения -
златоуст, вития, он знал только одну манеру выражения: искусное плетение
словес, сопровождаемое - и это самое удивительное - постоянно журчащим
смехом. Он посмеивался и похохатывал на каждом слове, будто смакуя
слетавшие с языка небылицы, чувствовалось, что он в своей стихии, он купается
в потоке слов. Постепенно об обитателе загородной виллы под Бокс-Хиллом
сложилась легенда: чудак, напоминающий ожившую голову Еврипида, мечет
словесные громы и молнии, захлебываясь в потоке красноречия, и голос его
разносится далеко окрест. Эта молва только добавляла блеску и
загадочности и без того блестящим и удивительным книгам Мередита.
Но все это осталось в прошлом. За минувшие двадцать лет его слава
златоуста сильно поблекла, как и следовало ожидать, а писательская звезда
закатилась. Его ученики не спешат сегодня воздавать должное учителю,
скорее, наоборот, когда кому-то из них случается высказаться по этому поводу,
мнения звучат самые нелестные, а поскольку бывший ученик ныне
пользуется репутацией маститого писателя, к его суждению прислушиваются:
«Мередит [пишет м-р Форстер2 в своей книге «Аспекты литературы»] (скобки
Вулф. - Н.Р.). нынче уже не та величина, какой он был двадцать лет назад...
Его философия не выдержала проверку временем. Сегодня его
тяжеловесные выпады против сентиментальности только навевают скуку на молодое
поколение... Когда же он переходит на серьезный и возвышенный тон, в
голосе появляется напряженная патетическая нота - она раздражает... Вообще
весь этот ложный пафос, пустое морализаторство, представление о матушке
Англии как о пупе земли и в прежнее-то время коробили, а нынче и вовсе
отталкивают. Чего ж удивляться, что его известность сегодня равна нулю?»3
Конечно, это критическое суждение - не истина в последней инстанции; но
оно достаточно точно, емко и без экивоков выражает сегодняшнее
общественное мнение о Мередите: да, соглашаются многие - Мередит не выдержал
проверку временем. Но тем юбилеи и ценны, что они заставляют нас прояс-
Романы Джорджа Мередита
357
нить наши мимолетные впечатления. Ведь что греха таить - разговоры,
помноженные на полузабытые воспоминания и слухи, накапливаясь, создают
туман, сквозь пелену которого мало что можно разглядеть. Поэтому,
возможно, лучший подарок, который мы можем преподнести писателю в
столетнюю годовщину со дня его рождения, - это открыть и заново перечитать его
книги, попытавшись снять с них нагар изменчивой моды и освободив их от
случайных превратностей судьбы.
И поскольку первый роман у писателя обычно выходит ненароком, как
бы помимо его воли, от переизбытка творческих сил, которые тот еще и сам
толком не осознает, давайте-ка начнем с начала и откроем самый первый
роман Джорджа Мередита - «Ричард Феверель»4. По нему невооруженным
глазом видно, что автор - новичок в литературном деле. Пишет очень неровно:
то зажмет себя в кулак, то рассиропится, хоть выжимай. Похоже, он не очень
представляет, чего он хочет. Пространные описания перемежаются
краткими ироническими репликами. Его заносит то в одну, то в другую сторону, и в
целом вся его постройка выглядит довольно шаткой. Закутанный в плащ
баронет; старинное семейство поместных кровей; родовое гнездо; сыплющие
эпиграммами дядья - завсегдатаи гостиных; выступающие павами
надменные титулованные дамы; подвыпившие фермеры, от избытка чувств
лишившиеся дара речи и хлопающие себя по бокам; по большому счету это такая
сборная солянка, каких свет не видывал, да еще и густо приправленная
слегка подкисшими афоризмами от этой старой перечницы - «Мути паломника».
Но не во внешней несообразности дело: если бы речь шла только о
вышедших из моды жилетах и шляпках мередитовской эпохи, то и говорить о них
не стоило бы. Нет, вопрос глубже: он касается самого существа авторского
замысла, того, что задумал и стремился осуществить в своем первом
романе Мередит. А задумал он - это ясно - ни больше ни меньше как разрушить
конвенциальную форму романа. Это видно уже по тем небрежности и
равнодушию, с какими он подходит к взвешенной картине мира, выстроенной
в романах Остен и Троллопа5: берет и сметает одним махом ставшие для
нас привычными подпорки. А ведь известно: если что-то делается
нарочито, делается с умыслом. Открытая неприязнь к обыденной стороне вещей,
все это важничанье, дистанция, которую держат между собой его герои,
обращаясь друг к другу исключительно на «Вы», все это призвано создать
атмосферу, совершенно не похожую на знакомую, примелькавшуюся картину,
и заложить тем самым основу для свежего и самобытного взгляда на
человеческие отношения. Сразу вспоминается Пикок6, у которого Мередит, между
прочим, многому научился, - тот тоже сильно своевольничает, правда, его
капризы искупаются тем, что мы безоговорочно принимаем его героев, всю
эту честную компанию, м-ра Скионара7 и остальных. Мередитовские же
персонажи в «Ричарде Февереле» явно не в ладах с окружающей обстановкой.
Нам сразу же бросается в глаза их манерность, ненатуральность, полная
неестественность. Это какие-то ходульные типы, восклицаем мы, а не яркие
358
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
индивидуальности, - все эти его баронеты и дворецкие, герои и героини,
добродетельные женщины и женщины порочные! Зачем ему вообще
понадобилось рушить добротную постройку реалистического романа, возведенную
на твердом фундаменте здравого смысла? - зачем крушить этажи и отбивать
штукатурку?.. А вот зачем! - проникаем мы по мере чтения в писательский
замысел: Мередита на самом деле не интересовали психологические
тонкости, зато у него, как у батального живописца, был особый талант на
панорамные сцены. Именно этим он занят в своей первой книге - создает одно за
другим грандиозные полотна на отвлеченные темы: «Юность», «Рождение
любви», «Сила природы». Они и есть та желанная цель, к которой он, сметая
на своем пути все возможные и невозможные препятствия, мчится во весь
опор, нахлестывая своего конька - риторическую прозу: «К черту все
Системы! К черту продажный мир! Давайте глубже вдохнем воздух Очарованного
Острова! Перед нами расстилаются, отливая золотом, луга; текут золотистые
реки; в багрянце и золоте стоят сосны»8.
Дойдя до этого места, мы успеваем благополучно позабыть о том, что
есть живые Ричард и Люси - нам хватает того, что они являют собой
воплощенную юность, и мир вокруг них струится золотоносной рекой. Выходит,
Мередит - особый писатель: он - поэт, ритор. Но и это еще не все. Судя
по первому роману, он из тех авторов, с кем нельзя не считаться. У него
ума палата, в ней тесно от идей, и он изголодался по спору. Может, этого и
не скажешь по его барышням и юношам, которые все больше пропадают в
поле - собирают ромашки, но атмосфера, которой они дышат, сами того не
замечая, насыщена интеллектуальными вопросами и спорами. «Плотность»
обсуждения настолько велика, что в некоторых эпизодах накал доходит до
предела, грозя взорвать книгу изнутри, - это происходит в тех случаях, когда
автор размышляет о двадцати предметах одновременно, и тогда роман
становится похож на раскаленный кратер вулкана, который от перегрева пошел
трещинами. Тем не менее обвала не происходит - роман выдерживает
напряжение, и все благодаря колоссальному интеллектуальному напору и
лирической стихии: заметьте, обрисовка характера здесь ни при чем.
Итог таков, что нас разбирает любопытство: что дальше? Надо
посмотреть, подождать вторую книгу - сумеет ли автор выровнять шаг, избавиться
от ложной патетики... И вот мы открываем «Гарри Ричмонда»9, и что же мы
видим? Совсем не то, что ожидали: куда подевалась прежняя незрелость?
Где беспокойный дух авантюризма, которым пропитан «Ричард Феверель»? -
от них не осталось и следа. Рассказ ровненько катится, будто на мягких
рессорах, по дорожке, давно протоптанной Диккенсом в его
автобиографической прозе10. Все подано через призму восприятия ребенка: речь подростка,
его мысли, его приключения. Без сомнений, автор именно по этой причине
умерил собственную прыть и «причесал» свой стиль. На темп это не
повлияло - рассказ идет ходко, как по маслу, без единой запинки. Чувствуется,
что Стивенсон11 многое почерпнул для себя в этой богатой, «вкусной» мере-
Романы Джорджа Мередита
359
дитовской прозе, построенной на точных поворотах фраз, на коротких, как
вспышка, образах: «По ночам растворяться в темно-зеленой листве и вдыхать
запах леса; утром открывать глаза и видеть залитый солнцем мир, и смотреть
в даль, и намечать те горы вдалеке, где ты встретишь завтрашний рассвет, и
послезавтрашний, и так день за днем, зная, что однажды утром тебя разбудит
самый дорогой в мире человек: вот, думал я, истинная благодать»12.
Браво написано, хотя чуть-чуть напряженно: так бывает, когда человек
говорит и слышит самого себя. С этого самого места нас начинает разбирать
сомнение, и чем дальше, тем все больше, пока мы наконец не упираемся,
как и раньше в «Ричарде Февереле», в фигуры людей. Мы вглядываемся в
лица мальчиков и вдруг понимаем, что они такие же «всамделишные», как
муляжи в корзине с фруктами, украшающей витрину. Вроде бы все при них:
и простодушие, и смелость, и жажда приключений, и все же им чего-то не
хватает - если хотите, живой неправильности, какая есть, например, у
Дэвида Копперфилда. Ненастоящие, получается, мальчики у Мередита- это
скорее лекала с писательского верстака. Выходит, мы наступаем на те же
грабли, что и с первым его романом: ничего не подозревая, наталкиваемся на
поразительную конвенциальность авторского взгляда на вещи. Кажется, вот
уж кто не остановится перед любым экспериментом в прозе (вполне
возможно, это просто впечатление, умело созданное Мередитом) - тогда почему же
он довольствуется не раз и не два на протяжении романа самыми что ни на
есть ходульными образами героев? Его юноши предсказуемы от первого до
последнего слова, так называемые приключения, выпадающие на их долю,
давно набили оскомину- до чего все плоско! восклицаем мы в сердцах и
уже приготовились захлопнуть книгу, как вдруг, откуда ни возьмись,
большая волна - нас накрывает с головой, и мы летим вместе с Ричмондом Роем
и принцессой Оттилией13, увлекаемые вихрем романтической интриги, в
пучину вымысла, где все, наконец, встает на свои места, и мы безоговорочно
сдаемся на милость победителя, покорно следуя полету его фантазии.
Сказать, что мы только того и ждали - сдаться с восторгом на волю победителя,
что у нас вырастают крылья и нам хочется летать, что холодный скепсис
остался в прошлом и с мира спала пелена и он заиграл перед нами
радужными красками, повторяю, сказать это - значит ничего не сказать, а уж
анализировать собственные чувства и вовсе бессмысленно: не тот случай. Только
такой могучий талант, как Мередит, способен вызвать у читателя подобное
потрясение. Правда, разворачивается он в полную силу редко и ненадолго.
Обычно страницы тянутся, ничего не происходит: фразы - чирк-чирк! А
искры нет! А потом вдруг - мы только собрались захлопнуть книгу - где-то
заискрило, зашипело, ухнуло, точно в небе разорвалась огромная хвостатая
шутиха, и все моментально осветилось: сцена стоит перед глазами как
живая. Пройдут годы, а книга так и останется в памяти, отпечатавшись одной
этой роскошной картиной.
360
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
А если так, если загадка мередитовского таланта спрятана именно в этих
нежданно-негаданно возникающих вспышках - к ним стоит присмотреться
внимательнее. Первое, что бросается в глаза, - самые яркие
запоминающиеся сцены всегда статичны; они проясняют положение вещей, но откровения
не несут; они ничего не прибавляют и нашему знанию о героях - Ричарде и
Люси, Гарри и Оттилии, Кларе и Верноне, Бьючемпе и Рене14.
Примечательно, что героям Мередита всегда сопутствует некий фон - вот они на борту
яхты, вот стоят под цветущей вишней, вот расположились на берегу реки:
пейзаж, таким образом, неотделим от того чувства, которое владеет героем.
Часто природа - будь то море, или небо, или лес - выступает символом
переживаний: «Небо бронзовело, поднимаясь ввысь необъятным
золотисто-багряным куполом. На все легли густые тени, лоснясь и переливаясь, как
дорогой атлас. В воздухе стояло гудение шмелей - повеяло прохладой и близкой
грозой»15. Это, конечно, описание состояния души.
А вот другой пример: «Какая благодать - эти поздние осенние утра. Они
наступают так незаметно. Земля замерла, будто ждет чего-то. Вот тенькнул
крапивник, перелетая с ветки на ветку, упали тяжелые капли дождя, и - снова
тишина. Местами еще лежит зеленая трава; везде туман, все в ожидании»16.
Это лицо женщины. Но ведь далеко не каждое душевное движение или
выражение лица, как в этом примере, можно описать через пейзаж, пожалуй,
только самые очевидные состояния, не имеющие «двойного дна», легко
поддаются словесному оформлению. Так что на самом деле это ограниченность
мередитовской прозы: мы, может, и видим его героев при ярком свете, в
момент истины, но никакой динамики в них нет - они не меняются. И как
только гаснет свет, мы остаемся в полном неведении относительно их
состояния. Мередитовские герои от нас закрыты - они совсем не похожи на героев
Чехова, Стендаля, Джейн Остен: с теми мы сроднились настолько, что нам
не нужно никаких подсказок в виде патетических сцен. Ведь что там греха
таить? - самые проникновенные эпизоды в литературе - самые негромкие.
Нас, может быть, тысячу раз готовили к предстоящей развязке, однако, когда
она действительно наступает в тысячу первый раз, нам кажется, мы ее не
замечаем, хотя на самом деле переживаем подлинное потрясение. Мередит
же не знает полутонов - он не любитель готовить сцену исподволь, он лепит
наотмашь, и поэтому с его героями у нас знакомство скорее шапочное.
Другими словами, Мередит не из тех великих писателей-сердцеведов,
которые терпеливо, шаг за шагом, забыв о себе, вживаются в человеческую
душу, стремясь понять в мельчайших подробностях, чем один характер
отличается от другого. Нет, Мередит - поэт; для него, как и для других
романистов этого свойства, характер человека тождествен владеющей им
страсти или идее, такие писатели обычно любят символы и обобщения. Однако
в полной мере лирическим прозаиком Мередит все-таки не был - то есть
он не был им в подлинном смысле слова, как, например, Эмили Бронте, и,
возможно, именно этим обстоятельством объясняются его проблемы. Дело
Романы Джорджа Мередита
361
в том, что он не любитель причесывать мир под одну гребенку, создавать
одно общее настроение явно не по нему: для этого он слишком себялюбив и
интеллектуален - ему скучно держать лирический тон от первой страницы
до последней. Ведь он не только певец, но и анатом. Поэтому даже в самой
проникновенной лирической сцене он обязательно «подпустит»
язвительную ноту и обратит все сказанное в смех. Этот дух комического17 чем
дальше, тем все больше берет верх в его романах, и там, где он побеждает, мир
действительно преображается. Взять «Эгоиста»18 - по этому роману совсем
не скажешь, что Мередит - великий мастер создавать патетические сцены.
Здесь нет и намека на ту прыть, с которой когда-то пришпоривал конька
писатель, штурмуя на своем пути одну кульминацию за другой. Теперь все
иначе: здесь требуются холодная голова и взвешенные доводы; доводы в свою
очередь требуют логики - под этим перекрестным огнем разума и критики
стоит, пытаясь увернуться от выстрелов, сэр Уиллоуби, «наш прародитель,
наш исполин»19, да так, что на его лице не дрогнет ни один мускул. Мишень,
правда, больше напоминает манекен, чем живого человека. Впрочем, мы это
уже проходили, а вот тот комплимент, который делает нам Мередит и к
которому мы, читатели романов, совсем не готовы, действительно представляет
собой новое слово. Писатель приглашает нас вместе с ним понаблюдать за
комедией человеческих отношений: «Мы же все цивилизованные люди», -
обращается он к нам молча. Что может быть интереснее человеческих
отношений? Ведь мужчины и женщины - это не собаки и не мартышки,
каждый человек по-своему значителен и многогранен. Иначе говоря, Мередит
предполагает в нас тот же интерес к поведению людей, что движет им самим
при создании романа. Такое в литературе случается крайне редко - обычно
романисты не видят в читателях союзников, поэтому мы смущены,
растеряны и только постепенно понимаем, как все это здорово. Действительно,
его муза комедии во сто крат умнее и сильнее его лирики: это она
отсекает все лишнее, наносное, не переставая удивлять нас глубиной, с которой
ею подмечается любая мелочь; это ее руками сотворен мередитовский мир,
исполненный достоинства, серьезности и огромной жизненной силы. Так и
хочется воскликнуть: слава Богу, что Мередиту не довелось жить в ту
эпоху или в той стране, где комедия была нормой жизни, ведь в этом случае он
едва ли создал бы атмосферу интеллектуального превосходства и
выспренний стиль, которые, по его словам, и надлежит исправлять с помощью духа
комедии.
Впрочем, эпоха была во многих отношениях враждебна Мередиту
(насколько вообще можно судить о таких отвлеченных материях), точнее
сказать, она не способствовала его успеху у нынешнего поколения, то есть
живущих сегодня- в 1928 году. Современный читатель скорей находит в его
учении слишком много натяжек, ложного оптимизма, плоских утверждений.
А то, что «философия» у Мередита существует отдельно от его романа -
идеи автора не растворяются в произведении, а, наоборот, выпирают на каж-
362
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
дом шагу, так что можно пройтись по тексту с карандашом, отчеркнуть
основные положения, потом вырезать их ножницами и попытаться найти в них
систему, говорит не в пользу автора: философия у него явно подкачала, а
может, подкачал сам роман, а скорей всего и то и другое. Главное, все подается
с нажимом: у Мередита на все существует особое мнение, и он спешит его
высказать, несмотря на обещание держать вопрос в секрете. А ведь для
героев литературного произведения это - чума! Они сразу начинают роптать: как,
мы созданы только для того, чтобы быть рупором идей г-на Мередита, так
зачем нам жить в таком случае? И они начинают один за другим умирать, а
когда роман превращается в некрополь, согласитесь, это уже не роман, а что-то
совсем другое, возможно, философский трактат или проповедь. И вот тут,
неожиданно для себя, современный читатель может найти некоторые
точки соприкосновения с творчеством Мередита! Дело в том, что в семидеся-
тые-восьмидесятые годы девятнадцатого века, на которые как раз пришелся
пик его писательской деятельности, роман в своем развитии достиг такого
предела, когда дальнейшее его существование было возможно только при
условии движения или обновления. Очень может быть, что наличие двух
безупречно написанных романов - «Гордости и предубеждения» и
«Домика в Аллингтоне»20 - заставляло английскую литературу невольно уходить
от совершенства в сторону художественного опыта, точно так же, как
английская поэзия стремилась вырваться из-под влияния образцовой поэзии
Теннисона21. И у того же Мередита, у той же Джордж Элиот, у Гарди мы
находим не что иное, как попытки привить роману философию и лиризм,
которые, наверное, плохо поддаются скрещиванию, во всяком случае,
совершенными произведения этих писателей не стали. Но могло ли быть иначе?
Замри литература в той же позе, в какой ее оставила сначала Остен, затем
Троллоп, и сегодня она была бы не жилец. И то, что этого не случилось,
произошло во многом благодаря Мередиту: одно это должно будить в нас
интерес к его новаторству. Мы же, наоборот, мнемся, не знаем, что сказать,
сомневаемся на его счет - обычная реакция на творческий эксперимент,
который не завершился созданием гармонического целого: слишком много в
экспериментальном романе Мередита противоречивых свойств, при
отсутствии объединяющего стержня. Поэтому, если мы хотим оценить Мередита
по достоинству, нам придется пойти на уступки и отказаться от
предвзятых суждений. Забыть, если мы не хотим обмануться в своих ожиданиях,
об устоявшемся стиле, о привычной психологической обрисовке характера.
Тем более что заявки Мередита вовсе не остаются втуне: они
оправдываются самым серьезным образом. «Мой метод состоял в том, чтобы сначала
подготовить читателя к кульминационному раскрытию персонажей, и потом
уже дать всю картину во всем блеске и драматизме психологической и
интеллектуальной коллизии»22, - и, словно в ответ на эти его слова, в памяти
вспыхивают один эпизод, другой... И что с того, что путь к
«кульминационной коллизии» он уснащает всевозможными па в виде эвфемизмов: «заиграл
Романы Джорджа Мередита
363
легкими» вместо «засмеялся», «прошлась стремительной иголкой» вместо
«прошила»23, - таким способом Мередит создает атмосферу, которая
помогает нам настроиться на нужную эмоциональную волну! Там, где реалист,
скажем, Троллоп, предпочтет уйти в тень и «не высовываться», лирик,
подобный Мередиту, наоборот, распустит перья и впадет в патетику; конечно,
второй грех не только заметнее первого, но он еще и представляет известную
пощечину литературному вкусу, согласно которому проза, по природе своей,
флегматична и однотонна. Возможно, Мередит и зря не отказался от
романа и не сосредоточился целиком на поэзии24. Только вот не перекладываем
ли мы вину с больной головы на здоровую? Ведь что греха таить: мы так
долго сидели на русской диете, забывая о том, что перевод несказанно
обеднил и обесцветил русскую литературу25; мы так увлеклись
психологическими изысками французов26, что, похоже, забыли и об исконной природе
английской речи - такой сочной, богатой оттенками, и об английском характере,
которого хлебом не корми - дай похохотать да почудачить! Нет, Мередит не
одинок в своей пламенной прозе - за ним великая традиция: один Шекспир
чего стоит!
Вообще чтение Мередита вызывает такое обилие вопросов и оговорок,
что пора бы вспомнить о фактах и оценить реальное положение дел, а оно
таково: мы уже не настолько близки по времени к Мередиту, чтобы
чувствовать его притяжение, но мы и не настолько далеко от него ушли, чтобы
увидеть его в общей перспективе. Поэтому бесполезно даже пытаться прийти к
окончательному выводу. И, тем не менее, уже сегодня очевидно, что чтение
Мередита сопряжено с определенным мыслительным усилием,
необходимостью постичь сложную работу ума большого художника; и если мы
сегодня что-то не слышим из-за разделяющей его и нас стенки, то это еще не
значит, что мы не должны вслушиваться в обертоны его оглушительного голоса,
который не спутаешь ни с каким другим. Вчитываясь в его книги, мы
проникаемся чувством, будто беседуем с греческим богом, хотя сидим в
обыкновенной провинциальной гостиной, заставленной безделушками. И будто бог
этот - златоуст, пусть он и чужд земных человеческих забот. И будто бы он
жив каждой своей клеточкой и все-все подмечает, все видит, несмотря на
физическую немощь и недвижность. Место этой блестящей личности, не
вписывающейся в привычные рамки, безусловно, среди небожителей: среди
великих небожителей-чудаков, нежели великих мастеров слова. Какая судьба
его ждет? - Скорее всего переменчивая: откроют, почитают, закроют,
позабудут на какое-то время, снова откроют, и так без конца - как это происходит
с Донном, Пикоком, Джерардом Хопкинсом. Но если английской литературе
и дальше суждено иметь читателей, то время от времени романы Мередита
будут непременно появляться на горизонте - как предмет неизбывных
разночтений и споров.
364
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
«Я- КРИСТИНА РОССЕТТИ»
Нынче пятого декабря* Кристине Россетти исполняется сто лет, хотя
правильнее сказать - это мы, в ее отсутствие, празднуем столетие со дня ее
рождения1. Второй вариант празднования годовщины, наверное, устроил бы ее
больше - как человек стеснительный, она чувствовала бы себя неловко,
присутствуя при разговорах о своей персоне. Впрочем, таковы правила игры -
неумолимые правила юбилеев: без разговоров и речей в адрес виновницы
торжества обойтись никак нельзя. Впереди у нас много открытий: «Жизнь
Кристины Россетти», ее опубликованные письма; галерея ее портретов;
история ее болезни, благо недугов у нее было предостаточно, и полная опись
содержимого ее письменного стола, до последнего потайного ящичка,
правда, список будет короткий. А посему начнем с самого занимательного - с
биографии. Каждый читатель знает по себе: оторваться от жизнеописания
невозможно, оно тебя завораживает. Еще не разрезаны пахнущие
типографской краской страницы «Жизни Кристины Россетти», написанной некой
мисс Сэндарс и опубликованной издательством Хатчинсон2, - книги
наверняка добротной и точной во всех деталях, а ты уже развесил уши и
приготовился слушать старую сказку. Вот оно, прошлое, прямо перед тобой, словно
аквариум, подсвеченный волшебным фонарем: за стенкой толстого
зеленоватого стекла видны как на ладони все его обитатели; кажется, прильни к
экрану, смотри во все глаза и слушай, слушай и смотри, и скоро коротышки тени
оживут, заговорят, и ты сможешь двигать ими как пешками, составляя из них
разные фигуры, а они про то и знать не будут, ведь при жизни казалось, им
никто не указ - шли куда хотели, поступали как им вздумается. А стоит им
только открыть рот, как ты обнаружишь в их словах тысячу разных значений,
о которых они не думали, ведь при жизни им казалось, - они выпаливали
первое что приходило на ум. Но в биографии, а мы, не забывай, попали с
тобой в биографию, там все не так, как в жизни.
Итак, перенесемся мысленно в 1830 год в дом на Халам-стрит в Порт-
ленд-Плейс3, где живет семья Россетти, переселенцы из Италии: муж, жена
и четверо детишек. Место непритязательное, обстановка бедноватая, но, как
говорится, бедность не порок: эти иностранцы Россетти не очень-то и
пеклись о соблюдении кодекса правил, принятых в типичной английской семье
среднего класса. Держались замкнуто, одевались скромно, помогали
беженцам - кто только из земляков у них не перебывал! даже горе-органисты и те
находили у них кров; жили случайными заработками - уроками, переводами,
словом, не гнушались никакой работы. Кристина в семье всегда держалась
особняком. Девочкой она росла тихой, сосредоточенной - она всегда про
себя знала, что будет писать стихи, но это не только не умаляло, а, наоборот,
* Т.е. 5 декабря 1930 г. (Примеч. Вулф).
«Я - Кристина Россетти»
365
укрепляло ее глубокое восхищение старшими сестрой и братьями4. Дальше -
больше: мы представляем, как в ее жизни появились первые друзья;
пытаемся из обрывочных воспоминаний ее близких составить ее образ. Она терпеть
не могла ездить на балы. Наряжаться не любила, зато обожала домашнюю
компанию: когда у них в доме собирались друзья и приятели братьев, она
сидела в сторонке и слушала, как юные поэты и художники грозятся
перестроить мир - их разговоры ее забавляли, и она время от времени вставляла
какую-нибудь шпильку: не по вредности характера- нрава она была
спокойного, а просто, чтобы остудить горячие головы и разбавить поток
самовлюбленной риторики. Сама она, хоть и мечтала о славе поэта, тщеславие и
фразерство собратьев по цеху не жаловала: чуждо ей это было. Про себя она
знала, что стихи приходят на ум сами собой, от первого слова до последнего,
будто их кто-то диктует, и ее не очень волновало, что о них скажут другие: в
душе она знала им цену. Еще у нее была поразительная способность ценить
и восхищаться талантами других людей: так, она безмерно уважала свою
мать, в которой было столько кротости, ума, простоты и искренности. Она
восхищалась своей старшей сестрой Марией: та, может быть, не понимала
стихов и живописи, зато на ней держался весь дом. Ту же Марию, например,
нельзя было затащить в египетский зал Британского музея - она наотрез
отказывалась под предлогом, что не хочет оказаться среди праздной публики
в тот момент, когда протрубят ангелы, возвещая Страшный суд, и мумиям
придется на виду у всех напяливать на себя белые одежды. Кристине такое
соображение не приходило в голову, и она была потрясена сестринской
мудростью. Нам это «объяснение» кажется жуткой наивностью, и мы от души
хохочем, тыча пальцем в аквариум, а вот Кристина, не знавшая другой
жизни, кроме той, что шла «за стеклом», была уверена, что поведение сестры
заслуживает всяческого уважения. Тут, пожалуй, первый раз за все время,
пока мы наблюдаем за Кристиной через стекло, мы чувствуем в ней какую-то
«стенку», что-то неподдающееся, какой-то «камешек» - иначе говоря,
внутренний стержень.
Конечно, стержнем этим была вера. Еще девочкой она подчинила всю
свою жизнь духовному общению с Богом. Это только со стороны кажется,
что она тихо прожила отпущенные ей шестьдесят четыре года в доме на Ха-
лам-стрит, потом на Эндслей-гарденс и Торрингтон-сквер5; на самом же деле
она обитала в той неведомой части света, где дух человеческий страждет
невидимого Бога - Бога Судию (так решила для себя Кристина), Бога,
проклявшего все земные удовольствия. Поэтому театр - это грех, опера - грех,
обнаженное тело - грех, и нечего ее подруге мисс Томпсон убеждать ее в
обратном: де обнаженные фигуры на ее новой картине - это феи;
Кристина сразу поняла, что та лукавит. Словом, все в ее жизни определялось этим
главным внутренним стержнем, средоточием муки и ликования. Вера, как
камертон, все расставляла по своим местам: шахматы - занятие вредное, а
вист и крибедж6- вполне невинные игры. Но одно дело - развлечение и со-
366
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
всем другое - влечение сердца. Ей повстречался молодой художник Джеймс
Коллинсон7, они полюбили друг друга, а потом оказалось, что он папский
католик, и все распалось: она ему отказала. Тогда он пошел на решительный
шаг - ради нее вступил в лоно англиканской католической церкви, и после
этого она передумала: приняла его предложение. Но потом он, слабый
человек, опять заколебался, поехал в Рим, и тогда Кристина, зная, что сердце ее
разбито и счастья ей не видать, расторгла их помолвку. Прошло несколько
лет, и последовало другое интересное предложение: свои руку и сердце ей
предложил Чарлз Кейли8. И все бы ничего - ну что ж с того, что он -
рассеянный с улицы Бассейной, ходит неряхой, зато он - ходячая энциклопедия,
переводит Евангелие на язык ирокезов, смущает хорошеньких барышень во
время бала вопросом о том, «интересуются ли они Гольфстримом», а
Кристине подарил на день рождения заспиртованную морскую свинку, - но вот
беда: он атеист! Естественно, Кристина дала ему отставку: «...видит Бог, я
любила его так, как не любила мужчину ни одна женщина», но выйти замуж
за безбожника было выше ее сил. Как говорится, дружба дружбой, а табачок
врозь: Кристина хоть и обожала «пушистые и круглые мордочки», всяких
вомбатов, жаб, бурундучков - она и Чарлза Кейли ласково звала «ненаглядный
мой соколик, крот ты мой единственный», но когда дело доходило до
небесной кельи, вход туда был заказан: ни кроты, ни вомбаты, ни соколы, ни даже
Кейли в ее святая святых не допускались...
Так и сидел бы целую вечность перед «аквариумом», в котором, как в
кунсткамере, собрано прошлое: диковинные фигуры, странные речи - им
нет конца и края, сиди себе, смотри, слушай. А не заглянуть ли мне теперь
в-о-н в тот уголок этого удивительного подводного царства? - спрашиваешь
себя, прильнув к экрану, и вдруг в страхе отшатываешься: перед тобой встает
в полный рост главная фигура. Словно та маленькая золотая рыбка, за
которой ты полулениво наблюдал через стекло, сновала себе среди водорослей,
тыкалась туда-сюда возле камешков, вдруг разом превратилась в чудо-кита,
ударила хвостом и разбила вдребезги «стекляшку». Это произошло за
чаепитием. Как-то однажды Кристина отправилась на вечер, который устраивала
миссис Вертью Тебз. Почему она туда пошла - неизвестно, что там
происходило - никто не знает, скорей всего за чаем разговор зашел о поэзии, и кто-то
что-то сказал, как обычно бывает, в шутку, небрежно. И тут вдруг
«поднимается со стула маленького роста женщина в черном, становится посередине
комнаты и громко, во весь голос объявляет: "Я - Кристина Россетти!" - и с
этими словами возвращается на свое место». Все: после этих слов возврата
к аквариуму нет - старой сказке пришел конец. Своими словами Кристина
Россетти расставляет все точки над «i»: «Я - поэт», - говорит она. Вы
можете хоть сто раз праздновать ваши юбилеи - вы все равно ничем не
отличаетесь от той праздной публики, что собралась за чаем у миссис Тебз. Чем
вы здесь занимаетесь? - копаетесь в мелочах, перетряхиваете ящики моего
рабочего стола, потешаетесь над мумиями, Марией, а заодно над моими сер-
«Я - Кристина Россетти»
367
дечными привязанностями? Глупцы! Разве ради этого я старалась? Разве в
этом суть? Суть - она вот: этот зеленый томик. В нем собраны мои стихи.
Книжка стоит четыре шиллинга шесть пенсов9. Пожалуйста, прочтите. И с
этими словами Кристина Россетти возвращается на свое место.
Да, ничего не поделаешь - поэтам не угодишь! В самый неподходящий
момент кто-нибудь обязательно встанет и брякнет: поэзия и жизнь
несовместны. Все это полная чушь: все эти ваши мумии, вомбаты, Халам-стриты,
омнибусы, Джеймсы Коллинсоны, Чарлзы Кейли, морские свинки, госпожи
Вертью Тебз, Торрингтон-скверы, Эндслей-гарденсы, вкупе с
накладываемыми на себя веригами, постами и прочими религиозными штучками, - все
это пустое, никчемное, не имеет никакого отношения к реальности. Все не
важно - кроме поэзии: она одна имеет смысл. Единственный вопрос,
который имеет значение, - это хорошие стихи или плохие? Правда, это самый
трудный вопрос (торопимся мы вставить слово, чтобы успеть хоть что-то
сказать): со времен начала мира о поэзии по существу сказано очень мало.
Современники почти всегда ошибаются. Например, большинство
стихотворений Кристины Россетти, напечатанных в этом зеленом томе - посмертно
изданном собрании сочинений, при жизни поэта редакторы отвергли.
Долгие годы публикация стихотворений приносила ей не более десяти фунтов
в год. Тогда как опусы Джин Ингелоу10, - замечала она с сухим смешком, -
переиздавались по восемь раз. Конечно, не все современники отличались
близорукостью: были один-два поэта, один-два критика, к чьим мнениям
она прислушивалась. Но даже и они настолько по-разному воспринимали ее
творчество, что непонятно было, какими критериями они руководствуются!
Так, рассказывают, что Суинберн, познакомившись с ее стихами,
воскликнул: «По-моему, выше этого в поэзии ничего нет!»11, и, послушайте дальше,
как он расписывает ее «Новогодний гимн»12: «...опаленный, омытый
лучами солнечного света, он подобен музыке сфер, величественным аккордам
и каденциям морских приливов и отливов, что неподвластны рукотворным
арфе и органу»13. Затем появляется профессор Сейнтсбери14 во всеоружии
теоретического знания, наводит свой монокль на «Гоблин Маркет»15 и
делает следующее заключение: «Центральное стихотворение сборника [Гоблин
Маркет] (скобки Вулф. - Н.Р.) написано метром, который можно
охарактеризовать как эклектическое сочетание приведенного к общему знаменателю
скелтонического стиха с разнообразными ритмическими формами, которые
возникли в послеспенсоровскую эпоху, придя на смену деревянному
эпигонству последователей Чосера. Наблюдается также некоторое тяготение к
неравномерной строке, которое временами проявлялось в пиндарической
поэзии конца семнадцатого - начала восемнадцатого века, а также, на более
раннем этапе, в нерифмованной поэзии Сэйерса, а на более позднем, - у м-ра
Арнолда16». А вот что по тому же поводу говорит сэр Уолтер Рэлей17:
«Полагаю, она самый сильный из современных поэтов... Беда заключается в том,
368
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
что о чистой поэзии говорить в лекции по большому счету нечего, точно так
же, как бесполезно разбирать составляющие чистой воды. Лекцию о поэзии
хорошо читать тогда, когда в стихотворениях полно грязи, примесей, осадка:
тогда есть что разбирать, и получается интересная лекция. А что сказать о
стихах Кристины Россетти? Когда я их читаю, мне хочется плакать, а не
рассуждать, стоя за кафедрой»18.
Получается, что существуют по крайней мере три школы литературной
критики: одна - это школа «музыки сфер»; вторая - школа неравномерной
строки; и третья - школа, предписывающая не критический анализ, а слезу.
Все это выглядит очень странно и не вызывает доверия: ясно, что если мы
последуем такой методе, дело обернется провалом. Поэтому будет лучше,
если мы просто откроем книгу и начнем читать, мыслями открываясь
навстречу поэзии, а про себя попутно отмечая скорописью тот мгновенный
отклик, что рождают в нас ее стихи. И запишется у нас примерно вот что: О,
Кристина Россетти! Не судите строго: признаемся, мы не прочитали вашу
книгу от начала до конца, хотя многие стихи помним наизусть. Мы не
прошли ваш творческий путь и не проследили ваше становление поэта. Честно
говоря, нам кажется, вы не сильно менялись. На наш взгляд, вы родились
поэтом и всегда смотрели на мир одними и теми же глазами. Ни годы, ни
интеллектуальное общение в мужской компании, ни прочитанные книги не
оказали на вас и малейшего влияния. Вы предусмотрительно избегали
читать то, что могло бы поколебать вашу веру, и с той же предосторожностью
вы не пускали в свой мир никого, кто мог бы смутить ваши чувства. Ну что
же, возможно, вы и правы - вам виднее. В поэзии вас вело настолько
безошибочное чувство слова, что стихи рождались на слух, как музыка - как мо-
цартовская «Волшебная флейта» или ария Глюка. Но гармоничность ваших
песен вовсе не означала их простоту. Вы трогали струны - и в ответ каждый
аккорд, как арпеджио, отзывался разными голосами и тонами. Как истинный
прирожденный поэт, вы были зорки к цветам и краскам бытия. Ваши
стихи золотятся пыльцой и ласкают глаз «матовой киноварью герани»19;
сколько раз, надо думать, ваш пытливый глаз отыскивал в прибрежных зарослях
«бархатные набалдашники»20 камышей, различал на спинке ящерицы
«неземную вязь кольчуги»21! То, с какой жадностью прерафаэлитки вы
упивались оттенками цветов наверняка изумляло вашу сестру - другую Кристину,
прихожанку англиканской церкви. Та тоже внесла свою лепту в ваши стихи,
добавив вашей музе строгости и сосредоточенной печали. Безграничная
немыслимая вера обвивает и закольцовывает ваши песни в невиданный
красоты венок. Возможно, именно ей обязаны они своей нетленностью. Ваша
грусть - конечно, от нее; ваш Бог - это суровый Судия, и ваш венок поэта
больно колется терновыми шипами. Глаз радуется красоте, а мысль
отрезвляет, нашептывая: красота - это тлен, все проходит, все суета сует. В
музыку ваших песен вплетается колыбельная, навевающая сон, забвение, покой.
«Я - Кристина Россетти»
369
Потом внезапно, ни с того ни с сего все приходит в движение, раздается
смех, кто-то порскает в разные стороны, улепетывая со всех ног. Слышно,
как возятся зверушки; резко кричат грачи, издавая странный гортанный
звук; тычутся во все углы смешными мохнатыми мордочками, забавно
похрюкивая, четырехпалые увальни. Вам ведь не чуждо ничто человеческое -
и вы любили посмеяться, показать нос. На дух не переносили фальшь и
притворство. Скромность не мешала вашей самодисциплине, убежденности в
своем таланте, уверенности в своей точке опоры. Не дрогнувшей рукой
прореживали вы строчку за строчкой, убирая лишнее; вслушивались в каждое
слово, проверяя его на чистоту звучания. Никакой воды, ваты, ничего
сырого в вашей книге нет. Вы - Мастер, одним словом. Разбуди вас ночью,
застань за виршами, за утренними гаммами - вы вся как натянутая струна:
готовы к встрече с тем единственным осиянным суженым, что, являясь
всегда нежданным гостем, сплавлял ваши стихи, будто в тигле, в один
нерасторжимый слог:
Но дай мне маки, до краев напитанные сном,
И вьюн, прильнувший к ветке жадным ртом,
И первоцвет, луны печальной око 22.
Да, странная это штука - природа вещей, и столь непредсказуемо чудо
поэзии, что - как знать? - может, иные из ваших стихов, которые вы когда-
то писали в стол в вашей крохотной спальне под крышей, переживут века и
уцелеют в их первозданной свежести даже тогда, когда от Музея Виктории и
Альберта останутся одни руины23. Как знать, может, наши далекие потомки
будут петь ваше знаменитое:
Когда, мой брат, умру я...24
или это:
Мое сердце ликует, как птица25, -
даже тогда, когда Торрингтон-сквер превратится в коралловый риф и в том
месте, где была когда-то ваша спальня, заснуют туда-сюда косяки рыб. А
может, случится так, что со временем лес отвоюет городской асфальт,
перегородки зарастут травой, и в ней закопошится всякая живность, запрыгает
на мягких упругих лапах зверье - разные вомбаты, бурундучки, мыши
полевки... Чего только не бывает! Поэтому, возвращаясь к вашей биографии,
я скажу так: окажись я за столом в гостиной миссис Вертью Тебз, я бы не
упустила момент - едва со стула поднялась немолодая женщина в черном,
вышла на середину зала и сказала: «Я - Кристина Россетти!», я бы не
постеснялась - грохнула бы об пол чашку в знак восхищения или, на худой
конец, сломала бы перочинный ножик.
370
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
РОМАНЫ ТОМАСА ГАРДИ*
Когда мы говорим, что со смертью Томаса Гарди английская
литература лишилась своего духовного лидера1, этими словами мы хотим сказать,
что никто из современных писателей не может претендовать на это
высокое звание - только он один: ему одному должны по праву достаться лавры
победителя. Собственно, никто и не сомневается в значимости Гарди: разве
что сам писатель - большой скромник и человек не публичный - был бы
смущен и даже обескуражен всей риторикой в свой адрес, без которой не
обходится ни одна знаменательная дата - даже если это дата смерти. И, тем
не менее, это не пустые слова: действительно, пока Гарди был жив, можно
было надеяться, что существует хотя бы один романист, который не уронит
высокого достоинства литературы, при котором просто стыдно писать плохо.
Такова уж особая природа его таланта - таланта гениального. Но не только
в таланте, даже гениальном, дело: заражала его личность -
безукоризненность художника, его равнодушие к успеху, скромная жизнь в
провинциальном Дорсетшире, без всяких поползновений сделать из литературы карьеру
или привлечь внимание к своей персоне. Как художник, он мог вызывать
только уважение собратьев по писательскому цеху; как человек - любовь и
понимание ближних. Но сегодня речь не о нем, а о его творчестве: о романах,
написанных так давно, что, кажется, дальше и быть не может от нынешнего
состояния литературы, - собственно, точно так же далек от злободневности,
суеты и мелочности был и сам Гарди.
Чтобы проследить его путь романиста, нам придется вернуться на
несколько десятилетий назад. В 1871 году Гарди исполнился тридцать один
год, он закончил свой первый роман «Отчаянные средства»2, но
уверенности в том, что он на правильном пути, у него не было. По его собственным
словам, в то время он лишь «нащупывал свой путь к овладению методом»3,
он словно находился на развилке: его влекли самые разные устремления,
которые он в себе осознавал, но какого они свойства и куда их наилучшим
образом направить - этого он тогда не знал. И, читая тот первый роман, мы
невольно заражаемся чувством раздвоенности, которое владело автором.
Богатое воображение и - сардонический смех. Книжный кругозор и - местеч-
ковость. Умение лепить характеры и при этом полное непонимание, что с
ними делать. В общем, ему не хватало техники, и - самое поразительное -
в нем глубоко сидело убеждение в том, что человек - это игрушка в руках
высших сил, и он был готов, рискуя впасть в мелодраму, эксплуатировать
до бесконечности прием случайных, а на самом деле закономерных
совпадений. Он уже тогда знал, что роман не забава и не довод в споре, а способ
высказать, пусть неприятные, неудобные, но выстраданные впечатления о
* Написано в январе 1928 г. (Примеч. Вулф).
Романы Томаса Гарди
371
жизни взрослых людей, мужчин и женщин из плоти и крови. Но самое
замечательное в книге даже не это, а тот неотчетливый мощный гул, который,
подобно шуму водопада, сопровождает действие. Он и есть первая ласточка
могучего таланта, который со временем развернется в полную силу. Уже в
этой первой пробе пера видна рука тонкого и вдумчивого любителя
природы, который знает не по книгам, как идет дождь, как шумит в деревьях ветер:
вот застучали по корням градины дождя, вот упали первые тяжелые капли
на свежевспаханную полосу, вот ветер тронул верхушки сосен, вот загудел
в кронах дубов, вот засвистел в редкой рощице... - у Гарди всему есть свое
точное название. Но природа выступает у него не только в качестве объекта
наблюдения - она и та надличная сила, что взирает на потуги человеческие
то с сочувствием, то с насмешкой, то с полным равнодушием. Уже в первом
романе звучит эта тема страстей, разыгрывающихся среди роскошной
природы на глазах у равнодушно внимающих богов, - она-то и спасает в глазах
читателей довольно-таки сырую повесть о мисс Олдклиф и Цитерии4.
Итак, поэтическое дарование Гарди после выхода в свет его первого
романа доказательств не требовало, а вот его судьба романиста оставалась под
вопросом. Но уже следующий роман «Под деревом зеленым»5,
опубликованный годом позже, ясно показал: «...путь к овладению методом» Гарди
в основном преодолел. Правда, не без потерь. Насколько первая книга
отличалась упрямой самобытностью, настолько вторая была «беззубая»: «Под
деревом зеленым» - это очаровательная, отточенная идиллия, не более того.
Отныне, казалось, прямая дорога Гарди в пейзажисты: зарисовывать
коттеджи, яблоневые сады, пожилых крестьянок, их нравы, быт, говор - словом,
стремительно исчезающие приметы старины. Только стал бы
краевед-любитель или натуралист, не расстающийся с карманной лупой, тем паче ученый-
языковед, изучающий диалекты и изменения в языке, разве стали бы они
напряженно вслушиваться в крик растерзанной совой пташки, доносящийся из
соседнего леса? Как пишет Гарди, птица вскрикнула, и крик ее «будто
камнем ухнул в воду, при общем окружающем безмолвии»6. И снова - в который
раз! - мы слышим тревожные глухие раскаты где-то далеко-далеко, точно
эсминец дал предрассветный залп из бортовых орудий, а потом снова тишина.
И, тем не менее, ранние романы Гарди оставляют общее впечатление даром
потраченных усилий. Невозможно отрешиться от мысли, что его талант
писателя - это дух строптивый и непредсказуемый: то одна наклонность в нем
взыграет, то другая, а ладу между ними нет. Ну что ж, это обычная судьба
писателя с задатками и поэта, и прозаика: преданный своему краю сын полей
и холмов - и он же терзаемый сомнениями и отчаянием книжник; любитель
старины и простых сельчан - и он же трезвый реалист, на глазах у которого
эта самая милая его сердцу сельская Англия превращается в мираж.
А тут еще и Природа постаралась, добавила к его и без того
противоречивой натуре дополнительный бродильный элемент. Дело в том, что иные
писатели рождаются сложившимися художниками, тогда как другим еще многое
372
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
предстоит в себе открыть. Первые - например Генри Джеймс или Флобер,
прекрасно знают не только, как поставить свои разнообразные таланты на
службу искусству, но и как ввести творческий процесс в нужное русло: им
не надо объяснять, чем чреват каждый новый поворот сюжета, и застать их
врасплох практически невозможно. Писатели же, творящие по наитию, как
Диккенс или Вальтер Скотт, кажется, против своей цели, благодаря какой-то
неведомой силе, отрываются от земли и взмывают ввысь. Почему? Что за
волна подхватила их и понесла? Спроси у них - они только пожмут
плечами в ответ. Так вот, Гарди принадлежит ко второй группе писателей: в
этом и сила его, и слабость. Его собственное выражение - «мгновения
прозрения»7 - вот точное определение тех пронзительно прекрасных и сильных
сцен, которые случаются в каждой его книге. Подобно землетрясению, они
начинаются ни с того ни с сего, с мелкого подрагивания почвы под ногами,
когда вдруг, кажется, неожиданно для самого автора, вся картина
выламывается из общего действия - и застывает у тебя перед глазами раз и
навсегда. Так раз и навсегда движется по дороге, задевая сырые ветки, повозка, в
которой лежит мертвая Фанни; так раз и навсегда бродят, спотыкаясь среди
клевера раздувшиеся овцы; так раз и навсегда скачущий бесом с
обнаженной шпагой Трои делает круги все уже и уже вокруг застывшей недвижно
Батшебы, пока, наконец, не отхватывает у нее локон и не пронзает живую
гусеницу у нее на груди8. Сцены эти стоят перед глазами как живые - на
них откликаешься всем своим существом, не только зрением. Но вот эпизод
закончился, а с ним спала и волна: за «мгновением прозрения» идет долгая
полоса безветрия и штиля, когда, кажется, ничто не способно вернуть и
поставить на службу делу ту первородную дикую стихию, что прорвалась так
неожиданно. Словом, в ранних романах Гарди полно, условно говоря, кочек
и ям: читателя то подбрасывает вверх, то бросает вниз, то убаюкивает, как на
ровной дороге, но чего-чего, а пустыни в них точно нет9. Есть иное: легкая
дымка забытья, некий ореол чего-то небывалого, дрожащее марево
невысказанного, а это часто в литературе дорогого стоит. Гарди словно намеренно
сохранял какую-то недоговоренность, а может быть, наоборот, - им владело
безотчетное желание побудить читателя самому додумать, довоображать,
договорить, исходя из собственного опыта.
Так или иначе, гений Гарди с переменным успехом, через тернии побед
и поражений, нащупывал свой путь, неуклонно двигаясь к вершине. И вот
наконец вершина была взята, безусловно и безоговорочно: ею стал его роман
«Вдали от обезумевшей толпы». В нем сошлось все: тема, метод, так сказать,
конь и трепетная лань - все удалось впервые впрячь в телегу авторского
замысла, впервые был достигнут лад между Гарди-поэтом, Гарди-любителем
природы, Гарди- чувственным человеком, созерцателем, ученым... И вот
итог: получилась книга, которая, при любых изменениях литературной моды
и конъюнктуры, навсегда вошла в число великих английских романов. Чем
она притягивает, так это прежде всего картиной природы: ты понимаешь, что
Романы Томаса Гарди
373
рядом с тобой дышит могучая, независимая от тебя стихия, кстати, никому
из романистов не удается в такой степени создать эту осязаемую картину,
как Гарди: именно она и ставит предел краткому людскому веку, и делает
прекрасной разворачивающуюся на ее фоне драму страстей человеческих.
Темный склон, утыканный надгробными камнями и шалашами пастухов,
напоминает палицу, дерзко поднятую к небу, которое выгнулось волной и
застыло - гладкое, неприступное, вечное, а вокруг, сколько хватит глаз,
рассыпаются, укрывшись в оврагах да долинах, тихие деревеньки - днем видны
мирные струйки дыма, поднимающиеся к небу из труб, а по ночам, среди
кромешной тьмы, теплятся там и сям огни. Там, на задворках мира, пасет
спокон веку своих овец Габриэл Оук - вечный пастух; как встарь,
определяет путь по звездам, и нет у него другой правды, кроме его отары.
Зато внизу, в долине, разогретой солнцем, кипит жизнь: на фермах
спорится работа, в амбары свозят зерно, кругом блеют овцы и мычат буренки.
Природа, Мать-прародительница, сыплет щедрыми дарами как из рога
изобилия - Мать-покровительница, она пока еще благоволит своим детям,
труженикам земли. Здесь Гарди первый раз дает волю юмору, подслушанному
им у земляков: сочной шутке пополам с соленым словцом. Закончен
трудовой день, и вот в местной солодовне под вечер собираются приятели - Джон
Когген, Генри Фрэй и Джозеф Пурграсс10, и отводят они душеньку за
разговором, который зрел-вызревал в голове целый день, пока наконец не вылился
за кружкой пива в поток дружеских признаний, сдобренных меткой
прибауткой, собственно, такие речи вели еще паломники во времена их
путешествия к святым местам11; их привечали и Шекспир, и Скотт, и Джордж
Элиот, но больше всего любил и знал им цену Гарди. Впрочем, персональных
ролей у крестьян в Уэссекских романах12 нет: они олицетворяют народную
мудрость, шутку, смекалку, неиссякаемый источник жизни. Заглавные роли
принадлежат не им - они только наблюдают со стороны за главными
персонажами: Троем, Оуком, Фанни, Батшебой, и, тем не менее, герои и
героини приходят и уходят, а эти, казалось бы, эпизодические фигуры остаются.
Вечером кружка пива, а с утра снова в поле - пахать, и так всю жизнь. Они
бессмертны - эти Коггены, Фрэи, Пурграссы. Они кочуют из романа в
роман, и во всех них есть что-то типическое - словно они вышли из одного
корня, а личные черты как бы стерты. Великий кладезь здравого ума -
крестьяне, земля - последнее прибежище счастья. Исчезнут они, и пиши пропало:
некому будет занять их место.
Другое дело Оук, Трои, Батшеба и Фанни Робин: это образы мужчин и
женщин, взятых, так сказать, в полный рост. В каждой книге выделяются
три-четыре такие высокие фигуры, которые, кажется, созданы для того,
чтобы притягивать высшие силы - если хотите, некие громоотводы для гнева
богов. Одна триада - это Оук, Трои и Батшеба; другая - Юстасия, Уайлдив и
Венн; третья - Хенчард, Люсетта и Фарфри; четвертая - Джуд, Сью Брайт-
хед и Филлотсон13. Группы разные, но между ними есть сходство. Каждый
374
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
из героев - индивидуальность, у каждого своя, не похожая ни на кого, жизнь,
и они же являют некие общие типы, и этим общим, типическим они схожи.
Кажется, кто может быть неповторимее Батшебы? Но по-женски она родная
сестра Юстасии, Люсетты и Сью; точно так же неповторим Габриэл Оук,
но по своим мужским повадкам он - родной брат Хенчарда, Венна и Джу-
да. Прелестная и очаровательная Батшеба, - тем не менее слабое создание,
а строптивый, как сто чертей, и своенравный Хенчард, несмотря ни на что,
человек сильный. Такой взгляд Гарди на человека лежит в основе его миро-
видения, он - краеугольный камень многих его книг. Женщина, существо
более слабое и приземленное, ищет защиты у того, кто сильнее, и спутник
ее теряет ясность цели: вот неизменный, повторяющийся из книги в
книгу сюжет. Но при этом насколько же вольно жизнь бьет ключом в его
лучших произведениях! Вот мы видим сидящую в повозке с зеленью Батшебу,
и, следя за тем, как она любуется на себя в зеркальце, мы отчетливо
понимаем - в том-то и сила Гарди, что он дает нам это ясно понять! - что девушка
в жизни сильно настрадается и заставит других страдать вместе с ней, и
ничем хорошим это не кончится. Но пока до конца еще далеко, и мы во власти
упоительного сладкого мгновения. И так каждый раз! Видно, что для Гарди
его персонажи, мужские ли, женские, были все равно что живые существа -
полны бесконечной притягательности. К женщинам, правда, он относится
чуть более трепетно и заботливо - возможно, они ему интереснее, чем
мужчины, и он принимает в них большее участие. Ну и что с того, что их красота
тщеславна, а судьба жестока, - до тех пор, пока идут пружинистой
походкой, беззаботно улыбаясь, выбор за ними: либо слиться с Природой, утонув
в ее торжественном безмолвии, либо подняться, уподобившись плывущим
облакам и буйному цветению полей и лугов. У мужчин, в отличие от
женщин, страдающих по вине других, своя Голгофа: они бросают вызов судьбе,
и, сопереживая им, мы сдержанны в своих эмоциях. Такие люди, как
Габриэл Оук, не нуждаются в сочувствии - уважать их мы уважаем, но любить
не любим. Габриэл твердо стоит на земле, держит удар, и, если соперник его
вынудит, он первым сделает выпад. Кажется, он все знает наперед и редко
обманывается в ожиданиях: такой уж у него характер, а вовсе не потому, что
он всезнайка. Его трудно вывести из себя, своих симпатий он не меняет и, не
дрогнув, смотрит в лицо опасности. Ни дать ни взять типичный супермен,
но на самом деле это не так. В житейской обстановке он обычный
деревенский парень. Такой пройдет по улице - никто на него не оглянется. Словом,
Гарди - настоящий мастер романной прозы: он умеет сделать так, чтоб мы
поверили в его вымысел, в то, что его герои - такие же люди, как мы с вами,
со своими привычками и причудами; и при этом, как истинный поэт, он
достигает такой степени обобщения, что мы понимаем: и они, и мы одного
поля ягоды.
И вот когда мы так сидим, задумавшись над удивительной способностью
Гарди лепить мужские и женские образы, только тогда нам приходит в голову
Романы Томаса Гарди
375
мысль, насколько же они непохожи на фигуры у других романистов.
Мысленно перебираем в памяти его героев: чем запомнилась нам такая-то героиня,
чем запал в душу такой-то герой? Конечно, прежде всего накалом
обуревавшей их страсти. Мы вспоминаем их глубокую любовь и преданность друг
другу; как трагически все закончилось. Воскрешаем в памяти верную
любовь Оука к Батшебе, бешеную и быстро угасшую страсть Уайлдива, Троя,
Фитцпирса14; вспоминаем, как по-сыновнему обожал свою мать Клим15,
какую отцовскую ревность испытывал Хенчард к Элизабет-Джейн16. Только,
как они любили, мы совсем не помним. У нас не отложилось в памяти то,
как они впервые заговорили друг с другом, почувствовали взаимный
интерес, начали понемногу сближаться, выведывать друг о друге то-се. Ничего
этого у Гарди нет: его влюбленные пары чужды интеллектуальных сомнений
и тонких психологических материй, которые, при всей их внешней
ажурности, и придают роману глубину. Во всех книгах Гарди любовь предстает,
без преувеличения, событием судьбоносным. Это всегда потрясение: любовь
обрушивается на человека внезапно, захватывая его целиком, и не оставляет
места словам. Даже если двое влюбленных у него беседуют, то их разговор
(если только он не касается страстных признаний и клятв) идет на самые что
ни на есть житейские темы или, наоборот, носит отвлеченный, философский
характер, будто бытовая сторона жизни побуждает их больше задумываться
о смысле существования, нежели копаться в собственных чувствах. Жизнь
не ждет, и даже самокопание - это непозволительная роскошь. А поскольку
силы человеческие не безграничны, и они все уходят на то, чтобы
противостоять ударам судьбы, дьявольской хитрости и изворотливости враждебных
человеку сил, то влюбленным просто некогда, да и неохота, тратить время на
ненужные перипетии взаимоотношений.
Вот тут-то и обнаруживается отсутствие у Гарди таких сторон, которые в
творчестве других романистов оказываются самыми притягательными. Так,
мы не находим в его прозе и следа художественного совершенства, каким
исполнены романы Джейн Остен; у Гарди нет ничего от мередитовского
остроумия, от той широты охвата событий, какая есть у Теккерея, ни грана
интеллектуальной мощи, какая так поражает в произведениях Толстого. Кого бы
из великих классиков мы ни взяли, творчество каждого из них несет на себе
печать завершенности, благодаря которой некоторые сцены в том или
другом произведении, независимо от сюжета, обретают свойство нетленности:
переменам такие эпизоды неподвластны. Как они соотносятся с основным
повествованием, можно ли их применить в качестве ключа к вопросам,
выходящим за рамки самих этих сцен, - для нас не важно. Нам достаточно того,
что сцены эти стоят как живые у нас перед глазами: чья-то улыбка, чья-то
робость, одна-две невзначай брошенные реплики - всё! Мы радуемся им, как
дети, - они навсегда с нами. У Гарди же ничего и близко нет: ничего такого,
что врезалось бы в память законченной сценой - ни убавить ни прибавить.
Такое впечатление, будто ему мало человеческого сердца: мысль его влечет-
376
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ся дальше, в темноту вересковой пустоши, к деревьям, сотрясаемым бурей.
То, что в доме у камина остались люди, - он об этом и думать забыл.
Главное в другом: каждый человек, мужчина ли, женщина, в какой-то момент
оказывается один на один со стихией, и нигде так не проявляется характер
человека, как в этой одинокой схватке, когда вокруг ни души. Потому-то мы
и не знаем героев Гарди так же глубоко, как мы понимаем Пьера, Наташу,
Бекки Шарп. Тех мы изучили вдоль и поперек. Чьими только глазами мы на
них не смотрели: и случайного гостя, и чиновника, и титулованной дамы, и
генерала на поле боя! Герои же Гарди от нас закрыты: что творится в их
душах, мы не знаем и можем только догадываться об их сомнениях и тревогах.
К тому же они всегда привязаны к одному месту на карте: это сельская
Англия. А стоит только Гарди забросить своих любимых йеменов и фермеров и
взяться описывать людей сословием повыше, как жди неудачи: он не знает,
как толком вести себя в гостиной, в клубе, на балу, среди праздной толпы
образованных щеголей, хотя именно в их среде рождается комедия и
обнажаются характеры. Все это так! Но в таком случае верно и обратное. Пусть
мы не знаем, каковы его герои и героини с точки зрения людских
взаимоотношений, зато мы знаем, что они такое с точки зрения вечности, смерти,
судьбы. Пусть мы никогда не видим их на фоне городской суеты или в
толпе разодетых прохожих, зато мы хорошо знаем, как они смотрятся на фоне
земли, бури, смены времен года. Нам не нужно объяснять, что они думают
об иных из наиболее серьезных вопросов, которые стоят перед
человечеством, - нам ли этого не знать? Мы на всю жизнь запомнили их, так сказать,
крупным планом: не отдельными штрихами, а цельно, во весь рост, в
полный масштаб личности. Вот Тэсс, расхаживая по комнате в ночной
рубашке, «с почти королевским чувством собственного достоинства» читает
проповедь по случаю крещения17. А вот Марти Саут кладет цветы на могилу
Уинтерборна, и мы видим в ней «человека, отринувшего соображения пола
ради более возвышенных ценностей абстрактного гуманизма»18. Их речь по-
библейски торжественна и поэтична. В них чувствуется сила, которую
сразу не определишь, - то ли это сила любви, то ли ненависти, мужчин такая
сила обычно заставляет бунтовать против жизненного уклада, а женщин
толкает на самопожертвование: как бы ни было, именно она задает тон всему
образу и «гасит» мелкие детали как посторонние и несущественные. Имя
этой силе - трагедия, и соответственно Гарди, если уж так хочется найти
определение, - величайший ее мастер среди английских романистов всех
времен.
Однако не будем торопиться с выводами насчет философии Гарди: это
зыбкая почва. Когда читаешь писателя с таким богатым воображением, как
у него, самое важное - это держаться на правильном расстоянии от
страницы. Ведь соблазн наклеить ярлычок, «вывести» писательское кредо очень
велик, когда имеешь дело с ярким автором: «пригвоздить» его намертво к
определенной точке зрения, которую он якобы последовательно проводит в
Романы Томаса Гарди
311
своем творчестве, - это пара пустяков. Особенно при том чисто
художническом складе ума, что отличает именно Гарди, - его феноменальной
восприимчивости к впечатлениям и нежелании делать выводы. Поэтому во всех
отношениях будет правильнее предоставить право судить читателю: он
получил мощный заряд впечатлений, и теперь настал его черед сказать свое слово.
Только он один способен решить, где в романе видно сознательное
намерение автора, а где проявляется та мера художественной правды, о которой тот
и не подозревал, создавая произведение. Гарди сам прекрасно это понимал.
Роман, - не уставал он предостерегать читателей, - «это впечатление, но не
довод в споре»19: «Отклики могут быть самыми разными, и этим они ценны:
пожалуй, именно тогда, когда мы смиренно подмечаем в себе разнообразные
толкования, которые рождают в нас явления жизни в их бесконечной смене и
случайности, именно тогда мы действительно продвигаемся по пути
постижения философии бытия»20.
Выходит, самое сильное у Гарди - это впечатления, которыми он
заражает читателя, а самое слабое - это высказываемые им идеи. Лучшие его
романы - «В краю лесов», «Возвращение на родину», «Вдали от
обезумевшей толпы» и особенно «Мэр Кэстербриджа» - представляют собой живой,
развернутый во времени и пространстве образ бытия, в том виде, в каком он
явился Гарди без всякого сознательного усилия с его стороны. Там же, где
он начинает подправлять впечатления, он моментально проигрывает. «Ты
говорила, что звезды - это миры, Тэсс?» - спросил маленький Абрэхем свою
сестру, когда они вдвоем тряслись в повозке, вместе с ульями, спеша
доставить их к началу субботнего базара. В ответ Тэсс сказала, что «иногда они
похожи на яблоки с нашей яблони. Почти все красивые, крепкие, но есть и
подгнившие». «А мы на какой живем - на красивой или подгнившей?» «На
подгнившей»21, - ответила Тэсс, точнее, не Тэсс, а разочарованный философ,
который на минуту прикинулся девушкой. Кажется, только что мы слышали
живую речь, и вдруг нас точно окатили ушатом холодной воды: эти слова
«на подгнившей» царапают слух, будто непонятно откуда взявшаяся
металлическая конструкция. Мы чувствуем, что нас вышибли из седла, - былого
сочувствия к героям как ни бывало, и только спустя какое-то время, когда
повозку Тэсс сильно тряхнуло и мы воочию убедились в том, что планета
наша действительно с гнильцой, мы снова проникаемся состраданием к
нашим героям.
Так стоит ли удивляться тому, что из всех романов Гарди самая тяжелая
судьба выпала на долю его «Джуда незаметного»? Это, пожалуй,
единственная книга, которую можно, не кривя душой, обвинить в пессимизме. Идея
здесь правит бал, подминая под себя впечатление, и вот итог: горше судьбы,
чем судьба Джуда, невозможно себе представить, а трагедии не получилось!
Беды преследуют героя, но мы, вместо того чтобы сострадать ему всей
душой, сомневаемся в справедливости выдвигаемых им в адрес общества упре-
378
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ков и в трезвости его взгляда на вещи. Здесь и не ночевала критика
общества, хоть сколько-то похожая на ту, которую предъявляет общественному
устройству Толстой, - картины шире, мощнее и глубже по проникновению в
самую подноготную человечества и вообразить нельзя: от приговора
Толстого становится по-настоящему страшно. В «Джуде» же мы сталкиваемся с
людской низостью и жестокостью, но высшая несправедливость богов
остается втуне. А ведь именно она составляет подлинную силу Гарди-художни-
ка: чтобы понять это, не надо далеко ходить, - достаточно просто сравнить
«Джуда незаметного» с «Мэром Кэстербриджа». Если Джуд ведет
заведомо проигрышную войну с деканами колледжей и условностями
рафинированного общества, то Хенчард схлестывается с некой высшей силой,
противостоящей таким, как он, - личностям волевым и дерзким. Люди ему не
враги. Даже те, кого он обидел, и кто, казалось бы, должен был желать ему
зла, - Фарфри, Ньюсан, Элизабет-Джейн, - все они под конец испытывают
к нему чувство жалости и восхищаются его решительностью. Он бросает
вызов судьбе, и Гарди так организует роман, что Хенчард борется за
старого мэра, которого своими же руками довел до поражения, - получается, что
писатель берет нас в союзники: мы чувствуем, что это мы в неравной схватке
боремся за человека. В этом нет ни малейшего пессимизма. На протяжении
всей книги тебя не оставляет ощущение серьезности происходящего, хотя
выражается оно в самых что ни на есть конкретных формах. Рассказ
захватывает тебя с самой первой страницы, когда Хенчард на ярмарке продает
свою жену матросу, и до последней, когда он гибнет на Эгдон-Хилл, причем
все работает на это впечатление: действие - свободное, раскованное; юмор -
ненатужный, сочный; интрига - невероятная, сулящая массу возможностей.
Роман уже растащили на эпизоды: верховая прогулка, рукопашная между
Хенчардом и Фарфри на чердаке, надгробная речь миссис Каксом по случаю
смерти миссис Хенчард, разговор бродяг на Питерс-Фингер среди
притихшей или, наоборот, загадочно-назойливой Природы навсегда вошли в
золотой фонд английской литературы. Пусть недолог век человеческого счастья,
но до тех пор пока человек восстает против фатума, как Хенчард, а не
против законов, установленных людьми, пока борьба идет в открытую, на
кулаках, а не обманом и хитростью, повторяю, до тех пор пока это так,
поединок человека велик, достоин и прекрасен, и смерть разорившегося торговца
зерном в собственном доме на Эгдон-Хилл - событие того же порядка, что
гибель Аякса, покровителя Саламина22. А мы - участники древней как мир
трагедии.
Перед таким талантищем обычные критерии, которые мы применяли к
литературе, просто бледнеют. Например, мы заявляем, что каждый великий
романист - непременно мастер лирической прозы. Однако Гарди вовсе не
таков. Каждый раз он мучительно нащупывает путь к искомой фразе,
используя весь отпущенный ему арсенал мудрости и непреклонной искренности, и
часто он ее находит: тогда мы плачем над страницей. Иногда она ему не да-
Романы Томаса Гарди
379
ется в руки, и тогда он пускает в ход любое подручное средство: местный ли
говор, устаревшее выражение, грубое ли слово, книжный оборот - все идет
в дело. Это самый трудный литературный стиль со времен Вальтера
Скотта: он практически не поддается анализу. На первый взгляд он не лезет ни
в какие ворота - настолько он плох, но если приглядеться, бьет в цель без
промаха. Пытаться его разбирать - это все равно, что искать очарование в
грязной проселочной дороге или в неубранном картофельном поле. Стиль
Гарди словно повторяет пейзажи Дорсетшира: описание тянется страница за
страницей, как ровная скучная колея миля за милей, а потом вдруг в какой-то
момент преображается до неузнаваемости: начинает звучать торжественно и
важно, с чеканной поступью латыни, будто вторя округлым линиям
окрестных ложбин и холмов... Или взять другое требование, часто предъявляемое
к романисту: не выходить за рамки возможного, держаться ближе к
действительности. Как быть с этим? Ведь по запутанности и «кровожадности»
сюжеты Гарди сравнимы разве что с елизаветинской драмой. И, тем не менее,
мы им верим! Более того, вчитываясь в его, казалось бы, абсолютно
неправдоподобные истории (мы, конечно, не говорим о чертовщине, отражающей
любовь деревенских жителей ко всему сверхъестественному), мы понимаем
вдруг, что они подсказаны тем яростным духом поэзии, что смотрит в самый
корень бытия, без больших иллюзий, ибо знает, что никакие попытки
истолковать жизнь не сделают ее менее странной, чем она есть на самом деле,
и никакие причуды фантазии не смогут объять непредсказуемые повороты
существования.
Впрочем, цепляться за мелочи по меньшей мере странно, когда речь идет
о целом архитектурном ансамбле уэссекских романов. Ведь не горстку же
декоративных деталей оставил нам в наследство Гарди, пусть даже этими
деталями являются образ героя, или сцена, или фраза, исполненная
глубокого смысла и гармонии. Он завещал нам нечто более масштабное. Уэссекских
романов не один и не два - их много. Они занимают огромное пространство;
разумеется, они не без изъяна - что-то не получилось, что-то оказалось не с
руки мастеру. Но одно несомненно: когда мы охватываем взором весь
масштаб им созданного, отдаваясь целиком открывшейся перед нами картине,
мы испытываем восторг и глубокое удовлетворение. С нас будто спали оковы
суетной и мелкой жизни. Горизонт воображения раздвинулся - открылась
высота. Мы высмеяли все наши чудачества. Впервые за долгое время
испили из родника земных красот. А еще - над нами распростер свою сень дух
скорби и печали, который никогда, даже в минуты величайшей грусти, не
терял решимости и твердости; который никогда, даже в минуту
величайшего гнева, не забывал обласкать мужчин и женщин за их страдания. Словом,
Гарди оставил нам больше, чем просто слепок с жизни в известном месте в
известный час: он оставил нам образ мира и судьбы человека, какими они
явились могучему воображению художника, глубокому поэту, душе
человечной и чистой.
380
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
КАК ЧИТАТЬ КНИГИ?*
Прежде всего хочу обратить ваше внимание на вопросительный знак в
конце: он подчеркивает, что вам предлагается не совет, а вопрос. Потому
что даже если бы я знала ответ на этот вопрос, - а я его не знаю, - все
равно он был бы моим ответом, а не вашим. Что же касается советов по части
чтения книг, то, пожалуй, единственный дельный совет - это не слушаться
ничьих рецептов, доверять своему чутью, работать собственной головой и
делать самостоятельные выводы. Если такое предложение вам по нраву,
тогда я готова, без боязни нарушить вашу независимость суждений, без которой
не бывает настоящего читателя, поделиться с вами некоторыми
соображениями и идеями. В конце концов, разве можно вывести относительно книг
какие-то непреложные законы? По отношению к историческим событиям,
безусловно, да: никто не усомнится в том, что битва при Ватерлоо
произошла в определенный день и час. А кто скажет, какая пьеса лучше - «Гамлет»
или «Лир»? Никто. Каждый решает это сам. Поэтому недопустимо, чтобы
к нам в комнату, где мы сидим за книгой, пожаловали маститые господа
законодатели, при степенях и званиях, и стали поучать нас, что и как читать
и как оценивать прочитанное, случись такое, это означало бы конец
свободе, которой дышат эти стены, уставленные книгами. В любом другом
месте правило для нас закон - здесь же, среди книг, не существует ни правил,
ни законов.
Но, разумеется, чтобы наслаждаться царством свободы, надо уметь -
прошу прощения за трюизм - владеть собой. Нельзя попусту, вслепую
разбазаривать силы, громоздя гору, чтобы в итоге родить мышь: нет, нам нужно
с этой самой минуты, здесь и сейчас, заняться самовоспитанием, не давая
себе никаких поблажек и послаблений. И вот здесь нас подстерегает
первая трудность, с которой сталкивается каждый, кто останавливается перед
книжной полкой. Что значит «здесь и сейчас»? Здесь столько всего, что
глаза разбегаются - не знаешь, на чем остановиться: бок о бок теснятся стихи,
романы, исторические книги, воспоминания, словари, правительственные
отчеты, книги на иностранных языках, древние, новые, созданные
мужчинами, женщинами, представителями разных народов. А за окном столько всего
интересного! Кричит осел, у колодца собираются местные кумушки, в поле
резвятся молодые жеребцы... Итак, с чего начнем? За какую ниточку надо
потянуть, чтобы этот тугой клубок начал, по мере чтения, распутываться,
доставляя нам истинное наслаждение самим процессом?
Кажется, нет ничего проще: поскольку книги подразделяются на
классы - беллетристику, жизнеописания, поэзию, нужно все их рассортировать,
а потом из каждой группы извлечь то особое, что отличает ее от других.
* Лекция, прочитанная в школе {Примеч. Вулф).
Как читать книги?
381
На самом деле, мало кто знает, как лучше подойти к книгам и что у них
просить, потому что редкие люди знают, что те могут дать читателю.
Обычно мы подходим к книжной полке с очень туманным представлением,
лелея смутную надежду получить от прозы - правду, от поэзии - обман, от
жизнеописаний - лесть, от исторических книг - дополнительную пищу для
предрассудков. Так вот, для начала хорошо бы выбросить из головы всю эту
чепуху и подойти к книгам без всякой задней мысли. Забудьте о себе,
постарайтесь не навязывать автору свои взгляды: лучше попытайтесь в него
перевоплотиться. Попробуйте стать ему верным товарищем и помощником.
Поймите: если начать знакомство с того, чтобы отойти в сторону, напустить на
себя строгий вид, настроиться на критику, то вы этим самым закроете перед
собой дорогу к величайшему богатству, дарованному чтением. Не
запирайтесь - откройтесь автору умом и сердцем, и вы сами не заметите, как
первые же фразы знакомства, по едва уловимым признакам и намекам, введут
вас в мир человека, абсолютно не похожего на всех других. Отдайтесь
этому чувству новизны, постарайтесь в нем освоиться, и скоро вы поймете, что
автор сообщает нам или пытается сообщить, что-то гораздо более
определенное. В своих тридцати двух главах романист - как видите, мы начали с
романа - пытается соорудить что-то вроде зримой и законченной постройки:
только слова - не кирпичи, они не так плотны и осязаемы1, а чтение -
процесс более долгий и сложный, чем зрительское восприятие. Возможно,
быстрей всего понимаешь, с какой материей имеет дело романист, если начать
не с чтения, а с пробы пера: самому попробовать поупражняться в опасном
и трудном деле писательства. Попытайтесь припомнить какой-нибудь
случай, врезавшийся в память, положим, вы шли по улице, и на углу вам
встретились двое: они о чем-то разговаривали. Ветер, дерево, фонарь, обрывки
фраз, вроде бы смешных и одновременно рвущих душу: кажется,
законченная картина, целостный образ, запечатленное мгновение - так и просится на
бумагу.
Да не тут-то было! Едва попробуешь выразить увиденное словами, как
все разлетается на тысячи мелких раздробленных впечатлений. Что-то надо
приглушить, что-то, наоборот, выделить - глядишь, от того первоначального,
пригрезившегося тебе образа к концу вообще ничего не осталось. Не горюй!
Отложи в сторону свои жалкие исчерканные листочки и открой кого-нибудь
из великих - Дефо, Джейн Остен или Гарди. Видишь? Теперь ты можешь
лучше оценить их мастерство. Перед нами не просто другой человек - Дефо
ли, Джейн Остен или Томас Гарди: нет, с каждым из них мы попадаем в
другой мир. В «Робинзоне Крузо» мы шагаем по каменистой тропе, события
следуют одно за другим - этот мир определенно построен на правде факта.
Стихия и приключения - вот альфа и омега в мире Дефо, а Джейн Остен
за них не даст и ломаного гроша: в ее мире все по-другому. Ее мир - это
382
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
гостиная, разговоры, характеры людей, которые в беседе отражаются как в
зеркале. Только-только мы освоились в гостиной среди зеркал -
открываем Гарди, и тут нас снова разворачивает на сто восемьдесят градусов: ночь,
на сотни миль вокруг безлюдная вересковая пустошь, над головой -
звездное небо. Здесь уже верх берет изнанка человеческой души - ее темная,
оборотная сторона: сестра одиночества, противница шумной компании.
До людей нам дела нет- нас влекут Природа и судьба... Три разных мира,
однако в каждом из них налицо своя логика. Ни один из создателей не
пойдет на разрушение перспективы, лежащей в основании его мира, и, хотя
нам порой бывает трудно выдержать эту оптику до конца, сам он никогда
не спутает карты и не введет нас в заблуждение, предложив в одной и той
же книге две разные реальности, как это сплошь и рядом бывает у
писателей менее крупных. Так что в действительности это безумная морская
качка - браться за чтение великих романистов, переходить от Джейн Остен к
Гарди, от Пикока к Троллопу, от Скотта к Мередиту2 - это все равно, что
оказаться в открытом море, где тебя бросает из стороны в сторону,
подбрасывает вверх и ты судорожно глотаешь воздух. Если ты стремишься взять
от романа все то, что в него вложил и чем готов поделиться с тобой его
автор - большой художник, пощады не жди: оттачивай слух и раскрепощай
воображение.
Впрочем, возвращаясь к разношерстной компании на книжной полке, -
среди писателей очень редко попадаются «большие художники»: чаще всего
книга вообще не претендует на звание произведения искусства. Так что же,
нам отказываться читать те книжки, что стоят бок о бок с высокородными
соседями - романами и стихами, под тем предлогом, что так называемые
биографии, автобиографии, жизнеописания людей великих и маленьких,
давным-давно умерших и позабытых, - все это «не искусство»? А может,
все-таки читать, но по-другому и с другой целью? Почему не попытаться
удовлетворить с их помощью то чувство любопытства, какое порой
охватывает нас, когда наступают сумерки и в доме напротив зажигаются огни,
ставни еще не закрыли, и на ярко-освещенных этажах в разных комнатах
идет своя жизнь3? Нам становится страшно интересно, как живут эти люди:
о чем судачат слуги, как проходят обеды в благородном семействе, как
наряжается к вечеру девушка, о чем думает старуха, сидя с чулком у окна? Кто
они, что собой представляют? Как их зовут, чем занимаются, о чем думают,
мечтают?
Именно этими вопросами занимаются жизнеописания и мемуары,
освещая комнату за комнатой, дом за домом: рассказывают, как люди живут день
изо дня, трудятся, терпят неудачи, добиваются успеха, любят, ненавидят, и
так до самой смерти. Бывает, стены тают у нас на глазах, железные решетки
улетучиваются, и мы оказываемся в открытом море за тридевять земель от
Как читать книги?
383
родных берегов; охотимся, плаваем, сражаемся; встречаем туземцев, воюем
бок о бок с солдатами; участвуем в исторических событиях. А бывает,
никуда не едем - остаемся дома, в Англии, в Лондоне, правда, пейзаж вокруг
меняется: узкие зловонные улочки; тесные домики с ромбовидными
окошечками. И вдруг на наших глазах из дверей одного дома выбегает человек - ба, да
это же Джон Донн: не выдержала душа поэта детского визга и шума, от
которых некуда деться, невозможно сосредоточиться - стены тонкие, все
слышно. И куда он теперь? Давайте пойдем следом, протоптанными на страницах
книг дорожками, прямиком в Туикнем, в Бедфорд-парк к леди Бедфорд,
знаменитое место встреч вельмож и поэтов; потом свернем к Уилтону, глянем
одним глазком на роскошное поместье у подножия холмов, где Сидни
читает сестре «Аркадию» - слышите? - пройдем теми самыми заболоченными
местами, увидим тех самых цапель, что воспеты в его знаменитом романе4;
потом возьмем снова на север и посетим, в компании с другой леди Пемброк,
Энн Клиффорд, ее любимые дикие пустоши; а захотим - свернем в город
и первым же встречным на нашем пути окажется Габриэл Харви в черном
бархатном камзоле: он о чем-то спорит со Спенсером - вот заметил нас,
посуровел, и мы сразу скисли... Как это здорово- бродить по
елизаветинскому полосатому Лондону, попеременно попадая в полосу то ослепительного
света, то беспросветной темноты! Но, увы, нам здесь нельзя задерживаться:
нас уже призывают Темплы, Свифты, Харли и Сент-Джоны. Нам предстоит
потратить много часов, распутывая их хитроумные интриги, ссоры,
докапываясь до самой сути их характеров, а когда нам наскучит вся эта возня, мы
отправимся на прогулку: отвесив поклон даме в черном, увешанной
бриллиантами5, нанесем визит Сэмюэлу Джонсону, Голдсмиту, Гэррику; захотим -
сядем на корабль, пересечем Ла-Манш, повстречаемся с Вольтером и Дидро,
с мадам дю Деффан6, а потом назад, в родную Англию, в Туикнем, -
какова, однако, магия известных мест и имен! - туда, где когда-то жила в своем
поместье леди Бедфорд, а после живал Поуп; туда, в дом Уолпола, в Стро-
берихилл. Но с Уолполом мы оказываемся вхожи в такой широкий круг
новых знакомств, перед нами открывают двери столько новых домов и столько
хозяев ждут не дождутся, когда мы позвоним у их подъезда, что нам,
пожалуй, стоит чуточку замешкаться на пороге дома, например мисс Берри7, - ба!
А вот и Теккерей собственной персоной: оказывается, здесь живет его
знакомая, в которую был когда-то влюблен Уолпол... Круги расходятся все шире
и шире - получается, что, просто обходя друзей, гуляя садами, переходя
из дома в дом, мы прошли английскую литературу от края до края и
снова очутились в настоящем, если, конечно, вообще возможно отделить
настоящий момент от всего предшествовавшего. Вот так, если хотите, можно
подойти к биографиям и письмам - и это, разумеется, только один из
способов: используя их как факел или вспышку для освещения темных окон
384
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
прошлого; заглядывая с их помощью внутрь и замечая, скажем, у стола
знаменитую тень, завидев которую мы уже мысленно потираем руки от
удовольствия - мол, застал врасплох, теперь выведаю все секреты! - во всяком
случае, иногда нам действительно везет, и мы успеваем выхватить из-под
руки только что законченную пьесу или стихи и посмотреть, как они
читаются в присутствии автора. Но тут встают уже другие вопросы, и грех ими
не задаться: а какова мера влияния авторской биографии на произведение
искусства? Насколько вообще мы вправе допустить, чтобы биографический
автор «объяснял» художника? Следует ли сдерживать личные эмоции
сочувствия и неприязни, которые вызывает у нас сам человек, или, наоборот,
надо дать им волю - ведь слова так восприимчивы, в них наверняка
запечатлелось что-то от авторского характера? От таких вопросов не уйти, если
уж взялся за жизнеописание или письма, и отвечать на них придется
самому - не станешь же ты руководствоваться чужими вкусами в таком
частном деле, как это: иначе тебе пришлось бы поставить на себе крест как на
читателе.
Но и это не все. Помимо просветительской и ознакомительной целей -
вызвать к жизни прошлую литературу, ближе узнать замечательных людей -
книги решают еще одну задачу: они помогают освежить и развить наши
собственные творческие силы. Взгляните: справа, рядом с книжной полкой,
открытое окно - как хорошо бывает оторваться от книги и посмотреть, что
делается на улице! А за окном идет своим чередом обыкновенная, как всегда,
немножко несуразная жизнь - в поле резвятся жеребцы, женщина у
колодца набирает воду, вон осел задрал голову и ну давай кричать свое заунывное
резкое «и-а, и-а!». Картина моментально освежает и взбадривает. Так вот,
книги по большей части представляют собой не что иное, как попытки
застенографировать такие мгновения в жизни мужчин, женщин и ослов. Судьба
каждой литературы - накапливать подле себя кучу мусора, куда сваливают
всякий хлам: позабытые описания утраченных мгновений и повести о
промелькнувшей жизни, рассказанные скороговоркой, с запинками, по-графо-
мански беспомощно. И все же, если вы дадите себе труд хоть немножко
покопаться в этой бумажной куче, вас ждет много интересного - вы откроете
для себя такие раритеты, такие обломки человеческой жизни, какие вам и не
снились! Это может быть всего одно письмо - зато какие оно открывает
горизонты! Всего несколько строк - зато в них заключен целый мир. А иногда
складывается целый рассказ - не рассказ, а игрушечка! Написанный с таким
юмором и огоньком, что, кажется, работал большой мастер, а на самом деле,
оказывается, это воспоминания старого актера Тейта Уилкинсона об одной
странной истории, приключившейся с капитаном Джоунзом. Один
маленький фактик - о том, что в Лиссабоне под началом Артура Уэлзли служил
молодой младший офицер, и он влюбился в хорошенькую девушку; один
Как читать книги?
385
беглый штрих - про то, как Мария Аллен8, сидя в пустой гостиной,
всплеснула руками, уронив на колени рукоделие: зря, мол, не послушалась
доброго совета д-ра Бёрни и убежала со своим Риши; сказать, что все эти мелкие
подробности дорогого стоят, было бы неправдой: так, прах, не более того;
хлам, выброшенный на свалку прошлого... И все же порой стоит покопаться
в старой куче мусора - глядишь, авось, вытянешь на свет божий колечко, или
ножницы, или отбитый нос: сидишь себе, пытаешься склеить что-то внятное
из обломков, а за окном резвятся в поле молодые жеребцы, женщина идет по
воду, кричит осел.
Но потом в какой-то момент становится тошно. Неохота больше
домысливать за Уилкинсонов, Банбериз и Аллен их полусырые истории, а ведь
большего из них не выжмешь: нет у этих любителей ни художнической
хватки, ни гибкости, ни глазомера, уж если они даже о своей жизни всей
правды не скажут, переврут и скомкают ее так, что от доброго замысла не
останется и следа, то что еще от них прикажете ждать? Голые факты,
больше ничего, а от фактов до литературы, как известно, - дистанция
огромного размера. В общем, устали мы от половинчатости, «воды», переливания
из пустого в порожнее: нас потянула какая-то иная стихия - более
отвлеченная, более вдохновенная. Мы настраиваемся на высокую волну, на
чистый звук, на ровный слог, на отбиваемый кем-то ритм - словом,
настраиваемся на поэзию. Если нам захотелось писать стихи, значит, пришло время
их читать:
Западный ветер, подуй скорей
И дождик с неба пролей!
Ах, если бы вновь моя любовь
Спала на груди моей!9
Мы оглушены, сбиты с ног - единственное чувство, заслонившее все
остальное, это сами стихи. Мы и не ведали о глубинах, которые таит в себе
поэзия; а прочли - и утонули с головой! Испытали мгновенное и полное
погружение в стихию лирики. Здесь нет никаких зацепок - мы в свободном
полете. В прозе все иначе: художественная иллюзия создается медленно, плавно;
никаких экспромтов - все повороты готовятся заранее... А здесь - скажите,
на милость, кому из прочитавших это четверостишие, придет в голову
спрашивать, кто написал эти стихи, или рисовать в своем воображении домик
Донна или писаря Сидни? Кого волнуют позабытые имена, кому есть дело
до прошлых поколений? Никого и никому: читателю поэт - всегда
современник. Встреча с поэзией на мгновение переворачивает наше существование,
действуя как мощный заряд или катализатор. Но душа отходчива, и со
временем пережитое потрясение становится пищей для ума: вовлекаются
другие, более опосредованные чувства - так все шире и шире расходятся «круги
по воде», порождая новые отклики, раздумья, комментарии. Эмоциональ-
13. Вирджиния Вулф
386
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
ное воздействие поэзии необыкновенно глубоко и обширно. Только сравните
обезоруживающую ясность этих строк -
Я, как дерево, рухну и в могилу сойду,
Лишь подумаю - в сердце тоска10,
с мерной поступью октавы:
Текут минуты, как крупицы праха
В часах песочных; время тратит нас,
К могиле постепенно приближая;
Мы видим, как веселье наше сякнет
В печали поздней; и, устав от буйства,
Вздыхает жизнь над каждою песчинкой,
Пока последняя не упадет,
Чтоб исцелить все горести покоем11;
философскую медитативность
...Будь мы молоды иль стары,
Наш дом родной, душа и цель скитаний -
Лишь там, где пребывает бесконечность,
В обители немеркнущей надежды,
Куда стремятся наши ожидания
В предощущенье вести небывалой12,
с музыкой стиха:
Луна вплывала в небеса,
Сияя все сильней:
И пара звездочек, дрожа,
Мигала рядом с ней 13;
или вдохновенным полетом фантазии -
И мечтатель, в чаще
Допоздна бродящий,
Видит за листвой
В жарком рыжем блеске
В дальнем перелеске,
Не пожар вселенский,
А шафран лесной14, -
и вы поймете, что искусство поэзии разнообразно, как никакое другое:
только поэту дано превращать нас сразу и в актеров, и в зрителей; влезать в
чужую шкуру, представая то Фальстафом, то Лиром; уплотнять слова,
создавать между ними воздух, творить себе памятники.
«Только сравните» - в этом весь секрет: в умении сравнивать
сосредоточена вся сложность чтения. Мало прочитать, насытиться впечатлениями и
по возможности глубоко и полно в них вжиться - это только половина дела!
Если мы хотим сполна насладиться книгой, нам необходимо довершить
процесс, обобщив все множество мимолетных впечатлений и увязав их в
единое целое. Но не сразу! Сразу не получится: дайте впечатлениям отстояться;
Как читать книги?
387
пусть уляжется буря чувств, поднятая несогласием и желанием поспорить
с автором, - отложите книгу в сторону, отправляйтесь гулять, беседуйте с
друзьями, займитесь букетом роз - оборвите засохшие лепестки, или, на
худой конец, поспите. Предоставьте это дело природе, и, поверьте, вы сами
не заметите, как книга вернется к вам - но уже в другом качестве: всплывет
в памяти как целое. А книга, воспринятая как целое, это совсем не то, что
книга, проглоченная частями или даже за один присест. Теперь уже мозаика
впечатлений более или менее отстоялась; постройка открылась со всех
сторон: мы видим теперь, что это амбар, или свинарник, или собор. Вот теперь
можно сравнивать: как порой мы соотносим архитектурные сооружения, так
теперь мы можем сопоставлять между собой книги. И сразу меняется
отношение: если раньше мы были заодно с писателем, то теперь мы ему судьи,
и судьи очень строгие, настоящие зоилы, точно так же, как раньше, в пору
дружбы с писателем, мы были не разлей вода. Да и как иначе? Книги - те
же преступники, ведь мы убиваем на них столько времени и душевных сил!
К тому же они представляют опасность для общества, они злейшие его
враги, - подрывают устои, выливают грязь, плодят обман, отравляют воздух
нездоровыми и вредоносными бациллами! Нет, с ними надо по всей строгости,
если сравнивать, то устанавливать планку надо повыше: соотносить
только с самыми крупными величинами. А величины - вот они, далеко ходить
не надо: просто вспомнить прочитанное, образы, которые мы держим в
памяти, благодаря составленному впечатлению: «Робинзона Крузо», «Эмму»,
«Возвращение на родину». Вот с ними-то и нужно сравнивать романы, даже
самые свежие или самые никудышные: с образцами, с лучшими
произведениями своего жанра. И то же самое с поэзией: как только мы почувствуем,
что больше не пьяны ритмом, что магнетизм слов поослаб, стихи всплывут
у нас в памяти как образ, как видение, и вот его-то нам и надо сравнивать с
«Лиром», «Федрой», «Прелюдией»15, - словом, с лучшей поэзией или с той
поэзией, которую мы полагаем лучшей в своем роде. Только так мы поймем,
что новизна новейшей поэзии и прозы - это самая поверхностная их черта,
и что критерии оценки прошлой литературы работают и сегодня: их можно
только слегка подкорректировать, но никак не упразднять.
Так что было бы глупо притворяться, будто второй этап чтения -
строгий отбор и сравнение - ничуть не труднее первого, состоящего в открытом
и широком впитывании разнообразных впечатлений. Конечно, это трудно -
продолжать читать, когда, собственно, книга уже закончена; трудно
соотносить один «архитектурный» образ с другим; еще труднее - опираясь на свой
книжный багаж и понимание, вдохнуть в эти сравнения живой смысл.
Однако самый трудный момент наступает тогда, когда ты пытаешься сделать
следующий шаг и говоришь себе: «Да, эта книга такого-то свойства, она ценна
тем-то и тем-то; вот ее слабая сторона, а вот сильная; то-то не получилось, а
13*
388
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
это вышло здорово». Такой поступок требует от читателя огромных усилий
воображения, обширных знаний и исключительной интуиции, что, вообще
говоря, редко когда сходятся в одном человеке; даже абсолютно уверенный
в себе читатель едва ли будет претендовать на обладание всеми этими
достоинствами сразу - скорее речь может идти о каких-то задатках. В таком
случае, не правильнее ли будет освободить читателя от этого бремени и
предоставить решать вопрос об абсолютной ценности той или иной книги
критикам, вкупе с учеными, этими маститыми законодателями, облаченными в
шапочки и мантии магистров и докторов философии? Однако же, нет, нет и
еще раз нет! Пусть мы преувеличили меру сопереживания в процессе чтения,
пускай мы излишне приглушили роль собственного «Я» - мы все равно
знаем, что всецело сопереживать или полностью стушеваться мы не можем: это
не в природе читателя. Все равно в нас сидит бесенок, нашептывающий
«ненавижу, люблю», и унять его невозможно. Именно из-за этих личных
«люблю», «ненавижу» наши отношения с поэтами и романистами такого частного
свойства, что мы не выносим присутствия чужих лиц. Мы можем
ошибаться, плодить, с точки зрения критиков, жуткую ересь, но нам порукой наш
вкус и будоражащий нерв интереса - они освещают нам дорогу. Мы
постигаем чувством: для читателя подавить свое «Я» - значит обеднить самое себя.
И потом, время работает на нас: мы оттачиваем вкус; возможно, в будущем он
станет больше нам послушен, чем теперь. Во всяком случае, когда видишь,
с какой жадностью начинающий читатель набрасывается на книги, стремясь
перепробовать все на свете - поэзию, прозу, исторические документы,
жизнеописания, а затем возвращается к ним после долгой передышки,
«насладившись» абсурдной картиной мира, хочется верить, что вкус понемногу
меняется: уже нет той всеядности, появляется разборчивость. Теперь ему мало
высказаться об отдельных книгах - ему подавай обобщение. Послушай, а
что ты думаешь об этом? - начинает теребить тебя и не унимается до тех
пор, пока не прочитает «Лира», а после, обратившись к «Агамемнону»16, не
отыщет в них то общее, что не давало ему покоя. Так пойдем же на поводу у
собственного вкуса - пусть ведет нас туда, где кончаются вопросы о том, что
отличает одно произведение от другого и начинается поиск общих свойств:
попробуем назвать их, обобщить в виде правила и тем самым внести
порядок в наши несколько сумбурные впечатления. Нашему вкусу такая
тренировка только пойдет на пользу. Ведь правила на то и существуют, чтобы их
нарушали: так и наше «правило» живет лишь до того момента, пока его не
разобьют в пух и прах реальные живые книги - туда ему и дорога! Нечего
создавать правила на пустом месте, скажем мы без сожаления, и, в надежде
укрепиться в сложном деле осмысления прочитанного, обратимся за
просвещенным советом к тем немногим редким из редких писателей, кто
понимает толк в искусстве литературы: Колриджу, Драйдену, Джонсону17. Удиви-
Как читать книги?
389
тельно, как часто их критические замечания, оброненные как бы невзначай,
мимоходом, попадают в точку - не потому ли, что они сами писали стихи и
прозу? Те смутные идеи, которые мы с таким трудом пытаемся извлечь из
общей каши впечатлений, - в их изложении предстают ясными и чистыми,
как стекло. Но для того чтобы это случилось - чтобы их помощь не осталась
втуне, нужно соблюсти маленькое условие: сначала попотеть над книгами,
докопаться до трудных вопросов, и только потом идти к консультантам за
советом. Иначе, если мы собьемся в стаю и будем смотреть им в рот
послушными овечками, ничего не выйдет. Чтобы оценить по достоинству их взгляд
на вещи, мы должны противопоставить им собственную точку зрения:
только так рождается истина.
Получается, что читать книги - дело весьма ответственное: оно требует
таких редких качеств, как богатое воображение, интуиция, трезвость
суждений; из чего вы можете заключить, что литература - очень сложное
искусство, которому учатся всю жизнь, и все равно нет никакой гарантии, что, даже
положив жизнь на чтение книг, мы сумеем добавить новое слово к
литературной критике. Нет, действительно, нам не стоит добиваться лавров, по праву
принадлежащих тем немногим редким личностям, которые, занимаясь
литературой, обладают еще и даром критика. Нет, мы останемся читателями. Тем
более что быть читателем - не менее почетная и ответственная обязанность,
чем быть критиком. Те критерии, которые мы вольно или невольно задаем,
те мнения, которые высказываем, создают ту общую атмосферу, в которой
работают и которой дышат писатели. Напечатают наши отклики, не
напечатают - это не важно: главное, мы задаем тон, и не учитывать его
писатели не могут. Чем просвещеннее, активнее, самостоятельнее, искреннее этот
общий тон читательской аудитории, тем более ценен он, особенно сегодня,
когда критика вынужденно молчит; когда книги проходят стройными
рядами по колонкам ревьюеров, и у критика на все про все есть одна секунда -
зарядил, прицелился, выстрелил - все! Отстрелялся, а что уж там
получилось в конечном итоге никого не интересует: ну обознался - принял кролика
за тигра, орла за курицу, а может, вообще промазал и всадил пулю не в
мишень, а в мирную буренку, что пасется на соседнем поле, - что с того? Так
вот, если бы за беспорядочными выстрелами прессы автор слышал
другую критику - читательскую, то есть мнения людей, которые читают, так
сказать, из любви к искусству - искусству чтения; читают без спешки, не
профессии ради; чей суд доброжелателен, а приговор суров, разве не
сказалось бы это на состоянии литературы, не обогатило бы ее, не укрепило,
не разнообразило? Помочь книгам - что может быть лучше, благороднее
такой цели?
Впрочем, кто ж читает книги с какой-то целью, пусть самой что ни на
есть похвальной? Ведь не все же в человеческих устремлениях определяется
390
В. Вулф. Обыкновенный читатель. Серия 2. 1932
целью - есть занятия, которые интересны сами по себе, удовольствия ради,
и разве чтение - не одно из таких бесцельных и приятных
времяпрепровождений?.. Мне часто снится сон: и вот грянул Судный день, и выстроились в
очередь за наградами великие мира сего - завоеватели, законники,
государственные мужи, все жаждут получить из рук Всевышнего причитающиеся
им венцы, лавровые венки, мраморные таблички с их именами на вечную
память, для потомков. И тут Господь замечает нас, скромно стоящих в
сторонке - у каждого под мышкой книга; поворачивается он к святому Петру и
говорит с легкой завистью: «Смотри, эти не требуют наград, и мы для них
ничего не припасли. Наградой им - любовь к чтению».
Дополнения
«КАЗАКИ» ТОЛСТОГО
В нашем полку прибыло - к серии «Мировая классика» добавились
«"Казаки" и другие кавказские повести»1 Толстого. Что и говорить, отрадное
пополнение. В своем предисловии к книге г-н и г-жа Мод называют Льва
Толстого «величайшим русским писателем»2. С этим определением трудно не
согласиться: думаю, никто из читавших (или перечитывавших) повести
Толстого не усомнится в его праве на столь высокое звание. В последнее время,
правда, англичане увлеклись Достоевским и Чеховым3, и споры вокруг
Толстого поутихли, да и читают его не так жадно, как раньше. Но потрясение,
что мы заново испытываем при встрече с могучим талантом Толстого,
оказывается, не только не притупилось после нескольких лет «разлуки», а,
наоборот, сделалось острей и глубже. Трудно представить, чтобы кто-то
превзошел Толстого на литературном поприще. Если сравнить повесть «Казаки»,
написанную в 1863 г., с английскими романами того же периода, сравнение
будет явно не в пользу последних, и английский читатель, который
гордится родной литературой, может даже усмотреть в нем что-то унизительное
для своего национального достоинства. Это все равно, что сравнить милые
детские поделки с произведениями зрелого мастера. И еще одна интересная
подробность: у Диккенса и Теккерея сегодня многое кажется далеким от нас
и устаревшим4, а эта повесть читается свежо, будто вышла из-под пера
Толстого всего пару месяцев назад.
На самом же деле, это ранняя вещь, к тому же несколько лет она
пролежала без движения и явно предвосхищает его главные романы5. Материал
для книги Толстой собирал в течение двух лет, когда служил юнкером на
Кавказе, и главным героем в ней выступает все тот же хорошо знакомый нам
по более поздним произведениям молодой человек, которого не спутаешь ни
с каким другим персонажем - настолько он толстовский. Зовут его Оленин:
юноша наделал долгов, - и уезжает из Москвы, чтобы подкопить немного
денег и встряхнуться. В Москве он вел бурную жизнь, но, вспоминая в дороге
свои любовные увлечения и кутежи, он повторяет про себя: «не то, не то»6.
Это повесть о возмужании - духовном и нравственном - молодого человека,
волею судеб заброшенного в кавказскую станицу, причем, как обычно в
повестях Толстого, сюжет рассказа незатейлив. Оленин живет один в избе,
любуется издали красотой казачки Марьянки, но заговорить с ней стесняется, и
все больше слушает рассказы дяди Брошки, да охотится на фазанов. Посте-
394
Дополнения
пенно, далеко не сразу, он ближе знакомится с девушкой и наконец
предлагает ей выйти за него замуж. Она вроде бы и не против, но в этот самый момент
на границе ранят молодого казака, с которым она обручена, и она наотрез
отказывается продолжать знакомство с Олениным. Понимая безвыходность
положения, тот подает прошение о переводе в штаб и уезжает из станицы. В
день отъезда, уже попрощавшись со всеми, он оборачивается и видит: «Дядя
Ерошка разговаривал с Марьянкой, видимо, о своих делах, и ни старик, ни
девка не смотрели на него»7. Рассказ на этом обрывается, конца нет, - жизнь
идет своим чередом.
Однако какая жизнь! Возможно, больше всего в этом рассказе нас
поражает необыкновенно острый глаз Толстого. От него невозможно укрыться.
Он, как волшебный луч, проникает всюду и все подмечает: синий ли, алый
цвет детского платьица, взмах лошадиного хвоста, судорожные движения
человека, который пытается спрятать руки в карманы, забыв, что они
зашиты, - все эти и другие жесты машинально запечатлеваются в мозгу Толстого,
и мысль его тотчас же увязывает их с каким-то скрытым мотивом поведения,
являя самые потаенные уголки человеческой души. И поэтому нам,
читателям, кажется, что мы знаем всю подноготную его героев. Нам ведомы не
только внешние их повадки - как они покашливают и чихают, но и сложные
душевные движения: их думы о любви и бессмертии. В этой книге собраны
повести, написанные Толстым в молодые годы, действие в них происходит
вдали от городской цивилизации, среди дикой природы, возможно, этим
обстоятельством объясняется большая, по сравнению с романами, свобода, с
которой он позволяет проявиться своей необыкновенной способности
передавать физические ощущения во всей остроте. Перед нашими глазами встают
как живые горы. Мы видим молодых казаков, вдыхаем жаркий аромат
виноградных гроздьев; слышим смех казачек, следим за движениями их крепких
стройных тел. Упиваемся свежестью румяных лиц, будто вылепленных из
солнца и студеного горного воздуха. Красота жеребцов, опьянение охотой
воспеты Толстым в «Казаках», как нигде, восторженно и точно. Хочешь не
хочешь, а ощутишь, с каким бешеным желанием открывает для себя мир
физически сильный молодой человек. Толстой и нас заражает этой ненасытной
жаждой жизни - и, как всегда, мы не в силах ему противиться. Связующей
же нитью в повести выступает мысль, безостановочно работающая у
Оленина в мозгу: она оттеняет события, придавая им какую-то пронзительную
глубину. Во время охоты Оленин падает обессиленный в кусты в чаще, где
вчера лежал олень и:
«...ему ясно стало, что он нисколько не русский дворянин, член
московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар, или
такой же фазан, или олень, как те, которые живут теперь вокруг него. "Так
же, как они, как дядя Ерошка, поживу, умру. И правду он говорит: только
трава вырастет".
В. Вулф. «Казаки» Толстого
395
"Да что же, что трава вырастет? - думал он дальше. - Все надо жить,
надо быть счастливым; потому что я только одного желаю - счастия. ...Как
же надо жить, чтобы быть счастливым, и отчего я не был счастлив прежде?"
...И вдруг ему как будто открылся новый свет. "Счастие - вот что, - сказал
он сам себе, - счастие в том, чтобы жить для других". ...Он так обрадовался
и взволновался, открыв эту, как ему показалось, новую истину, что вскочил
и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой,
кому бы сделать добро, кого бы любить. "Ведь ничего для себя не нужно, -
все думал он, - отчего же не жить для других?"»8
Он и пытается жить для других: отдает Лукашке одну из двух своих
лошадей, а тот, вместо благодарности, начинает подозревать в щедром барине
какие-то скрытые дурные помыслы. С Брошкой они друзья, Оленин дарит ему
ружье, но стоило им попрощаться, и Брошка его уже не помнит. Может,
ошибся в чем-то Оленин? Но Толстой не подсказывает ответа: он уже занят другими
персонажами, поглощен чтением мыслей других героев. Он с такой же
легкостью щелкает людские характеры, с какой мы считаем пуговицы на пальто.
Впрочем, удовлетворения от этих маленьких побед он не испытывает.
Иначе с чего бы он стал подавать внезапное проникновение в суть человеческой
натуры как открытие того же Оленина, Пьера или Левина9, которые
пытаются - каждый по-своему - найти ответ на вопрос куда более сложный и
мучительный. Мы можем не сомневаться в том, что сам Толстой мучился тем же
вопросом до конца дней своих. Поэтому его повести и не спутаешь ни с какими
другими произведениями, что в центре их стоит одинокая личность, занятая,
как и сам он, поиском разгадки, личность, вечно не удовлетворенная
окружающим миром. Поэтому-то с Толстым у нас и не возникает ощущения до конца
прочитанной книги, как бывает с новеллами Мопассана или Мериме10. У
толстовских рассказов нет конца. И в душу они нам западают не из-за описанных
в них событий, а благодаря все той же непрерывно ищущей мысли Толстого.
Вот какие размышления посещают его, например, в самый разгар боя:
«Зрелище было истинно величественное. Одно только для меня, как
человека, не принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще
впечатление, было то, что мне казалось лишним - и это движение, и
одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча
топором рубил бы воздух»11.
Дочитав эту сентенцию, читатель наверняка еще раз поразится тому,
насколько мы, англичане и русские, разные. И как знать? - может, позавидует
редкостному сочетанию простоты и необычайной душевной тонкости,
которое обнаруживает русский человек, - неважно, интеллигент он или
крестьянин. Конечно, русским далеко до нас в искусстве комедии нравов12, зато
всякий раз, читая Толстого, мы испытываем искушение пожертвовать нашим
великим национальным достоянием в этой области ради хоть малой толики
психологической глубины и потрясающей искренности, столь органичных в
русском писателе.
396
Дополнения
БОЛЬШЕ ДОСТОЕВСКОГО
Каждый раз, когда миссис Гарнет прибавляет новый красный том к
своим чудесным переводам Достоевского, мы сильнее ощущаем влияние этого
гения, так удивительно вошедшего в нашу жизнь. Его книги можно сегодня
найти на полках самых непритязательных английских библиотек: они стали
неразрушаемой частью нашего жилища, навсегда заняв место в духовном
багаже. Новое добавление к переводам миссис Гарнет1 - «Вечный муж»
вместе с ранними рассказами «Двойник» и «Слабое сердце». «Вечный муж» - не
самое сильное произведение писателя, хотя и написано, быть может, в самый
плодотворный период, между «Идиотом» и «Бесами». Никогда не читавший
Достоевского, наверное, закрыл бы книгу с чувством, что этот человек
напишет когда-нибудь большой роман, и еще, наверное, с мыслью, что
произошло нечто странное и значительное. Это ощущение странности и того,
что случилось нечто важное, не проходит, хотя мы знакомы с его книгами и
имели достаточно времени освоиться.
Из всех великих писателей ни один, кажется, так не удивляет и не
озадачивает, как Достоевский. И хотя «Вечный муж» не более чем длинный
рассказ, который не надо равнять с великими романами, в нем тоже есть эта
необычная сила. Увлеченные, мы и не думаем о тех или иных просчетах
автора - с глубиной ли изображения, достоверностью ли, мастерством; нам не
приходит в голову, читая, сравнивать рассказ с другими вещами
Достоевского или других писателей. Даже и когда мы прочитали рассказ, нам
трудно разобраться в своих впечатлениях. Это история о некоем Вельчанинове,
когда-то соблазнившем жену некоего Павла Павловича из города Т. Он уже
почти забыл ее и живет в Петербурге. Но вот, бегая по делам, он сталкивается
с человеком в траурной шляпе, смутно напоминающим ему кого-то. Встречи
повторяются, и когда, наконец, Вельчанинов уже на грани бреда, незнакомец
появляется у него в два часа ночи, объясняя, что он муж его прежней
возлюбленной и что она умерла. Наутро Вельчанинов идет к нему и застает его
в тот момент, когда он мучает маленькую девочку, в которой Вельчанинов
сразу признает своего ребенка. Ему удается увезти ее к друзьям, поскольку
Павел пьет и вообще человек сомнительный, но она очень быстро умирает.
Вскоре Павел объявляет, что женится на шестнадцатилетней девушке, но
когда Вельчанинов по его настоянию встречается с нею, та признается, что
ненавидит Павла и уже помолвлена с молодым человеком. Вместе они
спроваживают Павла в деревню, и он появляется под конец мужем провинциальной
красавицы, у которой, как и ожидалось, есть любовник.
Таковы маленькие пробочные поплавки - ориентиры на поверхности, в
то время как глубоко закинутая сеть шарит по дну, захватывая таких
странных уродищ, какие еще, пожалуй, и не извлекались на дневной свет. Вся
книга об отношениях Вельчанинова с Павлом. Павел - это, по выражению пер-
В. Вулф. Больше Достоевского
397
вого, «вечный муж». «"Такой человек рождается и развивается единственно
для того, чтобы жениться, а женившись, немедленно обратиться в
придаточное своей жены, даже и в том случае, если б у него случился и свой
собственный, неоспоримый характер..." Трусоцкий (Павел Павлович. -Н.Р.) мог
быть всем тем, чем был прежде, только при жизни жены, а теперь это была
только часть целого, выпущенная вдруг на волю, то есть что-то
удивительное и ни на что не похожее»2. Особенность вечного мужа в том, что он всегда
влюблен наполовину в любовников своей жены и при этом бессознательно
хочет их убить. Подталкиваемый этими смешанными чувствами, он не
может отстать от Вельчанинова, вызывая в нем как бы отражение собственной
привязанности и антипатии. Прямо обвинить Вельчанинова он не решается,
и тот также не может ни уличить его, ни совсем освободиться от подозрений.
Иногда он готов биться об заклад, что Павел подкрался с целью убить его, но
тот вдруг заставляет его поцеловаться и кричит исступленно: «Так
понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!»3 Ночью Вельчанинову
стало плохо, и Павел преданнеише ухаживает за ним, а под утро, очнувшись от
кошмара, Вельчанинов находит его у своей постели с бритвой. Павла легко
обезоруживают, и на рассвете он ускользает. Но действительно ли он хотел
меня убить, думает Вельчанинов или же это ему самому не было ясно?
«Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал:
"поквитаемтесь"? Да, со злобы любил, эта любовь самая сильная... Любопытно бы
знать, чем именно (я его. -Н.Р.) поразил? Право, может быть, свежими
перчатками и умением их надевать... Он приехал сюда, чтоб "обняться со мной и
заплакать", как он сам подлейшим образом выразился, то есть он ехал, чтоб
зарезать меня, а думал, что едет "обняться и заплакать"... А что: если б я с
ним заплакал, он, может, и в самом бы деле простил меня, потому что
ужасно ему хотелось простить!.. Ух как был рад, когда заставил поцеловаться с
собой! Только не знал тогда, чем он кончит: обнимется или зарежет?.. Самый
уродливый урод - это урод с благородными чувствами... Но вы не виноваты,
Павел Павлович, не виноваты: вы урод, а потому и всё у вас должно быть
уродливо - и мечты и надежды ваши»4.
Возможно, цитата и дает представление о том лабиринте души, по
которому приходится пробираться ощупью. Но, как во всякой цитате,
мысли в ней могут показаться мало связанными, хотя в книге Вельчанинов без
единой запинки идет по петляющей нити своих размышлений, точь-в-точь
как мы, когда сталкиваемся с каким-то страшным фактом, падающим нам в
душу, будто в омут. Мы начинаем выбирать из поднявшейся сутолоки
вопросов один, другой, вплетая их в свою мысль как придется; возможно, какая-
нибудь случайная ассоциация уведет нас в сторону, мысль запетляет, потом
опять перескочит на главное; а в целом весь процесс кажется логичным и
совершенно ясным. Но попытайся мы позднее восстановить его, окажется, что
логические связи утоплены. Цепочка исчезла, и лишь узловые точки торчат
над водой ориентирами. Достоевский единственный среди писателей обла-
398
Дополнения
дает способностью реконструировать эти молниеносные и сложнейшие
движения души, заново продумывать всю цепочку мысли в ее нетерпении, когда
она то пробивается на свет, то гаснет в темноте; ибо он успевает не только
следить за яркой полоской деятельной мысли, но и намекать на темное и
густонаселенное дно человеческой души, где желания и импульсы бродят под
толщей дерна. И как мы иногда пробуждаемся от подобного транса,
ударившись о стул или стол, обретая спасительное чувство реальности, так
Достоевский дает нам ясно увидеть на мгновение лицо своего героя или какой-то
предмет в комнате.
Это путь обратный тому, каким чаще всего идут наши романисты. Они
детальнейше воспроизводят все наружное - особенности воспитания героя,
среду, одежду, авторитет у друзей, но в его душевную смуту заглядывают
крайне редко, и то мельком. Тогда как у Достоевского вся книга из такой
материи. Для него ребенок или нищий полон тех же бешеных и нежных чувств,
что и поэт или утонченная светская женщина, и он из сложного лабиринта
их страстей строит свою версию жизни. Естественно, мы часто в
недоумении, ибо приходится наблюдать мужчин и женщин с совершенно
непривычной точки зрения. Старая мелодия назойливо звучит у нас в ушах - пора от
нее освобождаться и понять наконец, что в ней очень мало человеческого.
В который раз мы оказываемся сбиты со следа, раскручивая психологию
Достоевского; в который раз ловим себя на вопросе - знакомо ли нам то
чувство, что он показывает? И каждый раз убеждаемся изумленно: то наше
давнее чувство, мы знаем его по себе или по другим. Только мы никогда о нем
не говорили, потому и удивляемся. Пожалуй, слово «интуиция» точнее
всего выражает гений Достоевского во всей его силе. Когда она им овладевает,
для него нет тайн в глубинах темнейших душ - он читает любую, самую
загадочную тайнопись. Но когда интуиция оставляет его, вся его
удивительная техника как бы повисает бесплодно в воздухе. Рассказ «Двойник» с его
блистательной выдумкой как раз пример такого рода изощренной неудачи.
И напротив, «Слабое сердце» написано от начала до конца с такой силой, что
поставь мы рядом любую вещь, она превратится в бледную банальность.
МАЛЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Лучшей критикой шедевров великого писателя часто оказываются его же
произведения второго ряда, поэтому читать последние всегда полезно: по ним
видно, как бывает растерян прозаик, как он топчется на одном месте,
начинает что-то придумывать на ходу, пока случайно не попадет в верный тон - так
наездник попадает, не глядя, ногой в стремя - и, приняв желаемое за
действительное, пришпоривает своего коня, мчится сломя голову, не разбирая дороги.
По большому счету получается пародия на самого себя, зато и раскрывается
В. Вулф. Малый Достоевский
399
писатель при этом как ни в каком другом своем произведении. Именно
такой случай, нам кажется, представляет собой последний из переводов миссис
Гарнет1 - сборник повестей «Игрок», «Бедные люди» и «Хозяйка»2: он
многое проясняет в творческой лаборатории писателя, разобраться в которой, если
мы основываемся исключительно на таких мощных романах, как «Идиот» и
«Братья Карамазовы», практически невозможно. Называя вновь переведенные
произведения «второстепенными», мы лишь подчеркиваем, что, в сравнении с
шедеврами того же автора, они выглядят набросками, которые, что называется,
выдал одной левой великий художник слова, и такова мощь его таланта, что
все что ни выйдет из-под его пера - любой пустячок - освящено и овеяно
пламенем гения - пусть даже на этот раз и пламя сбито, и вся картина оставляет
впечатление некоторой спешки и сумбура.
Начать с того, что все герои, а это целая толпа народу, говорят во весь
голос, не стесняясь, о вещах самых что ни на есть интимных. Представьте:
генералы, домашние учителя, падчерицы генералов, их приятельницы и
приятели и еще с десяток людей, о чьем родстве с главными лицами можно только
догадываться, - и все они во всеуслышание заявляют о своих чувствах. По
крайней мере, первое впечатление именно такое. Поначалу мы не
понимаем: где мы? - в отеле или в каком-то другом месте? - что заставило сойтись
всех этих людей? Отчего они в таком возбуждении? - обо всем этом остается
лишь гадать. Затем, точно по волшебству, в обстановке надвигающейся бури
и первых раскатов грома, нам бросают спасательный круг: ухватившись за
монолог, летя на бешеной скорости, мы судорожно пытаемся уследить за
действием, и в какой-то момент наступает прозрение - так бывает в жизни, когда
на пике бешеного напряжения сил, в самые драматические минуты, внезапно
открывается истина3. Всплывают первые факты: оказывается, главный герой
служит учителем в генеральском доме, влюблен в Полину, падчерицу
генерала; ту же связывают какие-то отношения с французом le comte Де-Грие; ее
отчим сильно задолжал господину графу, да еще воспылал страстью к
француженке авантюрных наклонностей. Все надежды на спасение генерал
связывает со скорой смертью своей семидесятипятилетней тети, которая вот-вот
умрет и оставит ему состояние, а та, вместо долгожданного известия о
кончине, сама объявляется в городе, без предупреждения, в полном здравии,
садится за игорный стол и за несколько дней проигрывается в пух и прах.
Происходит действие в Рулетенбурге, и соответственно каждый может рассчитывать
поправить дела, сорвав банк в рулетку. Что и делает учитель: пытаясь
вызволить из беды Полину, он садится играть, втягивается и - пропал человек! Всех
бьет лихорадка, все на грани срыва - и это с самой первой минуты нашего
знакомства с героями! Вдобавок за каждым персонажем тянется шлейф
былых историй, отношений, наклонностей, сложившихся в результате
неизвестных нам обстоятельств, поэтому нам приходится лихорадочно додумывать,
что же произошло до описываемых событий, и одновременно пытаться
предположить, что будет после поставленной Достоевским точки.
400
Дополнения
Даже просто попытаться применить такой метод на странице под силу
одному лишь Достоевскому, и то в «Игроке» ему до конца это сделать не
удалось; зато по роману хорошо видно, какие подводные камни
подстерегают всякого, кто решит двинуться вслед за мастером. Например, он стремится
с лету поймать психологическое состояние своего героя, однако очень часто
промазывает - это при его-то интуиции! Еще - он часто использует свой
излюбленный прием взвинчивания действия, но порой бывает так, что, доведя
ситуацию до эмоционального накала, он срывается на откровенную грубость
или мелодраму, а у его персонажей либо мутится рассудок, либо начинается
припадок. Каждый эпизод поставлен на грань - еще минута, и все
закончится или бредом, или исступленностью, которые наступают всякий раз, когда
мозг, перенапрягшись, вскипает и отказывается думать. Например:
«Она и плакала, и смеялась - всё вместе. Ну что мне было делать? Я сам
был как в лихорадке. Помню, она начинала мне что-то говорить, но я почти
ничего не мог понять. Это был какой-то бред, какой-то лепет, - точно ей
хотелось что-то поскорей мне рассказать, - бред, прерываемый иногда самым
веселым смехом, который начинал пугать меня»4.
В отличие от Толстого, у которого картина всегда самонастраивается,
благодаря главной организующей мысли, Достоевскому, который не имеет
такой точки отсчета, с ситуацией справиться сложнее. Читая повести, то и
дело ловишь себя на мысли, что ему трудно сосредоточиться на главном -
настолько он душевно измотан теми отрывочными бессвязными картинами,
что населяют его воображение: случайно встретившиеся прохожие,
носильщики, извозчики, все они хотят выговориться, облегчить душу, вроде бы они
ему и не нужны по сюжету, но поскольку он все про них знает, грех не
поделиться этим с читателем.
Наверное, можно было бы и дальше выискивать недостатки, только все
равно любая книга Достоевского оставляет впечатление такой необъятной
перспективы, что, кажется, на твоих глазах рождается новое представление
об искусстве романиста. На этот раз мы задумываемся над таким его
качеством, как юмор. В «Игроке» есть эпизод, когда генерал и Де-Грие пытаются
отвлечь старуху от рулетки, соблазняя ее поездкой за город:
«-Там деревня... там будем чай пить... - продолжал генерал с полным
отчаянием.
- Nous boirons du lait, sur l'herbe fraîche*, - прибавил Де-Грие с зверскою
злобой»5. Всего две реплики - больше ничего, но когда перечитываешь заново,
поражаешься, насколько комична вся сцена. Будь на месте Достоевского
английский романист, он развернул бы две эти строчки в целую комедию, а
русский писатель отметил факт и пошел дальше, наведя тебя на мысль о том, что,
хотя жизнь наша пронизана юмором, по большому счету смешного в ней мало.
* Мы будем пить молоко на свежей траве (фр.).
В. Вулф. Русский школьник
401
РУССКИЙ школьник
Первые тома этой автобиографии - «Семейная хроника» и «Детские
годы»1 - заронили в нас чувство интимной дружбы к Сергею Аксакову; нам
посчастливилось узнать его и семью его так, словно мы пожили с ними
запросто в деревне. Сам Аксаков занял в наших думах место, больше
привычное живому человеку, чем лицу, просто встреченному в книге. Со времени
чтения первой части перевода м-ра Даффа мы прочитали уйму разных книг;
множество ясных, острых характеров прошло перед глазами, однако редкие
из них оставили что-то, кроме ощущения более или менее удачной игры.
А вот Аксаков не забылся - человек исключительной свежести и
внутреннего здоровья, обильная натура, купающаяся в солнце и тени невыдуманной
жизни, он может невольно прийти на память в спокойную минуту, как мы
убедились за последний год или два. Подобные слова едва ли можно отнести
к иным, очень великим, произведениям искусства; но любая книга,
рождающая это чувство полноты и тепла, не может не таить в себе редчайших и, на
наш взгляд, драгоценных свойств. Об Аксакове - герое хроники - мы
говорим непроизвольно как о зрелом человеке, хотя в книге он только мальчик
и в конце последней, третьей, части ему едва исполняется пятнадцать лет.
Здесь хроника кончается, сообщает м-р Дафф, и острое чувство сожаления и
жажда прочесть хотя бы еще три тома - лучшая награда ему от читателей за
муки перевода. Когда мы думаем о редком достоинстве этих книг, кажется,
никогда нам не отблагодарить переводчика сполна. Мы можем только
надеяться, что ему повезет и он найдет не меньшее сокровище.
Мы так мало читали Аксакова, что было бы неосторожно считать эту
автобиографию самым характерным его произведением; и все же чувствуется:
воспоминания детства были ему особенно близки. Еще совсем маленьким
мальчиком он мог погружаться в «неисчерпаемое хранилище памяти»2. Он,
пожалуй, не так полно счастлив в последней книге, ибо понемногу удаляется
от детства. Дальше от деревни, и уже нет того волшебства - быть мальчиком
с пальчик среди людей безмерной величины, когда родители кажутся
намного романтичнее братьев и сестер. В школе мальчики с ним наравне; фигуры
мельчают, все более принимая очертания, которые мы придаем им,
становясь старше. И особый дар Аксакова заключается в его умении опять стать
ребенком. Он способен очень точно передать детское ощущение детали, ее
огромности, ее абсолютного существования и уже потом дать всю
перспективу, где эта же деталь только часть привычного уклада. Он заставляет нас
признать, что жизнь ребенка несравнимо эмоциональней и чудесней жизни
взрослого. Он заставляет нас вспомнить - что гораздо труднее - как
удивительно уживаются в детской душе одержимость «разными глупостями» (для
нас, взрослых) с чутким вниманием к иной жизни, идущей рядом, и с
моментами поразительной интуиции. Ему удается таким образом дать очень ясное
402
Дополнения
представление о своих отце и матери, хотя мы все время видим их глазами
ребенка. Этот замечательный эффект живой правды в его книгах происходит
из-за того, что он пишет не с точки зрения взрослого, а как бы опять
становясь ребенком, ибо никакая, даже самая цепкая память не удержит миллионы
деталей, из которых сложились эти книги. Мы должны предположить, что
Аксаков до конца дней сохранил способность возвращаться - по
внутреннему толчку памяти - в другой возраст, так что это скорее процесс
переживания заново, чем просто воспоминание. Психологически это любопытное
свойство человеческой природы - смотреть на пруд или дерево бесстрастно
и холодно, но загореться вдруг от той же картины, вспомнив, как
взволновала она тебя пятьдесят лет назад. Видно, Аксакову с его щедрой,
восторженной натурой дано было изведать свое детство во всей полноте и сохранить
навсегда чистую радость его воскрешения.
«Ты, золотое время детского счастия, - пишет он, - память которого так
сладко и грустно волнует душу старика! Счастлив тот, кто имел его, кому
есть что вспомнить! У многих проходит оно незаметно или нерадостно, и
в зрелом возрасте остается только память холодности и даже жестокости
людей»3.
Безусловно, он был человеком редкой силы чувств, а его
недисциплинированность в сравнении с английскими юношами феноменальна. «Его
занятия в университете вызывают изумление, - пишет переводчик, - он не учил
ни греческого, ни латыни, ни математики, только русский, французский и
кое-что из естественных наук»4. Возможно, потому он и остался чуток ко
всем крохотным впечатлениям, что стираются и пропадают у большинства
еще до того, как созреет умение их выразить. Кого, например, не посетят с
обновленной силой его давние воспоминания о возвращении домой при
чтении описания приезда в родное Аксаково:
«Опять начал я спать со своей кошкой, которая так ко мне была
привязана, что ходила за мной везде, как собачонка; опять принялся ловить птичек
силками, крыть их лучком и сажать в небольшую горницу, превращенную
таким образом в обширный садок; опять начал любоваться своими
голубями, двухохлыми и мохноногими, которые зимовали без меня в подпечках
по разным дворовым избам... (К острову. - Н.Р.) бегал я по нескольку раз в
день, сам не зная зачем; я стоял там неподвижно, как очарованный, с сильно
бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием...»5
Или история с собиранием бабочек - ее невозможно читать, не
вспоминая о своей похожей фанатической увлеченности. В самом деле, мы не
читали ничего близкого по точному, будничному и вместе с тем захватывающему
описанию всех этапов ребячьей страсти. Все начинается ненароком, через
минуту это единственное, ради чего стоит жить, затем внезапное
охлаждение и конец вроде бы без всякой причины. Любой подтвердит, как по
старому дневнику, каждый шаг Аксакова, когда он идет с сачком по оврагу в
палящий зной и вдруг видит в двух ярдах от себя «пересевшего с одного цветка
В. Вулф. Русский школьник
403
на другой великолепного Кавалера...»6. И потом поездка домой, где
сестренка, оказывается, тоже начала собирать бабочек для брата и опрокинула вверх
дном все стаканы и банки в комнате и даже подняла фортепьянную доску
и положила бабочек живыми внутрь. И все равно через несколько месяцев
страсть прошла, и «все свободное время от учебных занятий мы
посвятили литературе, с великим жаром издавая письменный журнал... Я же, сверх
того, сильно увлекся театром»7.
Детство всегда безудержно, но, если мы, англичане, сравним детство
Аксакова с нашими воспоминаниями и опытом, нас поразит обилие и сила его
восторгов. Когда мать оставила его в школе, он сел на кровать, уставившись
в одну точку в каком-то столбняке; и пришлось уложить его в постель,
растереть суконками, пока сильный нервный озноб не привел его в сознание.
Он и ребенком был настолько чувствителен к воспоминаниям прошлого, что,
бывало, услышит звук голоса или жужжание мухи на окошке или увидит
солнечное пятно на стене - как в детстве - и падает в обморок. Он так
разболелся, что пришлось забрать его из школы. Эти обмороки и экстазы, часто
вдохновляемые матерью, не могут не напомнить читателю многие похожие
сцены у Достоевского, отметаемые как неправда. Сдается, в этой «неправде»
больше виновата русская натура, чем художник. Мы знаем теперь и по
Аксакову, как мало порядка в русском воспитании, но чего мы не знали, по
Достоевскому: это - какой все-таки здоровой, естественной и счастливой может
быть такая жизнь. Из-за любви ли Аксакова к природе, этой бессознательной
тяги к красоте, стоявшей за его охотой, ловлей рыбы и собиранием бабочек,
или из-за щедрого и великодушного характера, но книги его внушают
чувство изобилия и счастья. Как у него в прекрасном описании дяди и тети: «Как
будто в воздухе было нечто успокоительное и живительное, отчего и
животному и растению было привольно...»8 И при этом стоит лишь сравнить его с
Гилбертом Уайтом9, с которым его привыкли сравнивать, и сразу заметна в
Аксакове чисто русская стихия, стихия самосознания и самоанализа. Не
может быть простоватым тот, кто так полно осознает происходящее с ним или
чутко угадывает момент, когда уже «не так светлы и радостны... некоторые
предметы» и появляется «чувство неиспытанной... грусти»10. По его умению
улавливать эти движения души видно, какую хронику зрелых лет мог бы он
написать.
Он описывает в книге весенний спуск воды в пруду. На берегу
столпились крестьяне. «Русский народ любит смотреть на движение воды...».
«Радостными восклицаниями приветствовал народ вырвавшуюся на волю из
зимнего плена любимую им стихию...»11. Ликовать и наблюдать
зачарованно - видно, особый дар русских людей. Можно надеяться, что с такой
счастливой комбинацией они напишут в будущем величайшую из автобиографий,
как создали они, может быть, самый великий из романов12. Но Аксаков
больше, чем прелюдия. Его работа - в ее индивидуальности и красоте -
самостоятельная книга.
404
Дополнения
ЧЕХОВСКИЕ ВОПРОСЫ
В своем предисловии к «Девяти юмористическим историям» Чехова
безымянный американский критик так представляет своим
соотечественникам русского писателя: «Если, по сравнению с де Мопассаном, Чехов
больше проявляет свои человеческие достоинства, то по сравнению с О. Генри,
Чехов в целом кажется глубже. Если про О. Генри можно сказать, что это
американский Чехов "в натуре", то Чехова с тем же успехом можно назвать
ласковым русским О. Генри»1. Смотришь на эти перлы и чувствуешь себя
бараном: поставили перед тобой рекламный щит с изображением призового
теленка, а натуральных коров оставили пастись в поле. Критик взялся
«причесать» Чехова, но ножницы он для этого выбрал, прямо скажем, огромные
и вдобавок - тупые. Вид получился самый уродливый - ни сном ни духом не
похожий на тот образ Чехова, который запомнился по прошлым книгам, что
вдвойне обидно, поскольку Чехов до сих пор остается для нас загадкой - он,
как новая таинственная планета, ждет своего открытия.
Кажется, кто сегодня не знает Чехова? - все читали, наверняка за пятым
и шестым томами его рассказов выстроится очередь2, и все же маловероятно,
что весь этот читательский ажиотаж породит столь же единодушный отклик,
какой за очень короткое время вызвал Достоевский3. Возможно, за
нашими сомнениями стоит подозрение, что Чехов все же уступает самым
великим русским писателям. Во всяком случае, нам трудно причислить его к той
блистательной плеяде гениев, которые заставляют тебя плясать под их дуду,
хочешь ты того или не хочешь. Он к нам ближе, чем они, - он свой; в нем,
как и в нас, нет ничего героического; как и мы, он знает, что современная
жизнь - грустная штука, люди мучаются, между ними порой завязываются
странные отношения, их обуревают разные чувства, иногда смешные, часто
горькие, и обычная жирная точка в конце рассказа совершенно не
соответствует ощущению неопределенности и неразрешимости, которое
сопровождает всю эту маету, именуемую жизнью. Чехов - наш единомышленник, и
поначалу создается впечатление, что у него, как и у нас, нет ответа на
вопросы, которые ставит перед нами жизнь. Даже внимательный читатель,
которого на мякине не проведешь, - он сидит, как на иголках, ловя малейшие знаки
приближающегося финала, - даже он, повторяю, читая Чехова, оказывается
застигнут врасплох неожиданно наступающей развязкой. А развязка может
быть, например, такая: «На кого он сердился? На людей? На нужду, на
осенние ночи?»4 Так - вопросом - заканчивается рассказ «Почта»5. По сюжету
почтальона попросили подвезти до железнодорожной станции студента; всю
дорогу молодой человек пытался разговорить почтальона, но тот
отмалчивался; потом студенту надоело это дело, и он замолк. И вдруг перед самой
станцией почтальон взорвался: «Посторонних не велено возить... Да. Мне,
положим, все равно, а только я этого не люблю и не желаю»6. И «со зло-
В. Вулф. Чеховские вопросы
405
Страница рукописи эссе Вулф «Чеховские вопросы» (1918)
406
Дополнения
бой на лице» почтальон зашагал по платформе. Но почему он сердился - вот
вопрос?
Ответа нет, и то, что вопрос возникает снова и снова, - причем
необязательно в форме вопросительного предложения, часто он подразумевается
самим сюжетом и концовкой рассказа, - все это поначалу вызывает неприятное
ощущение, точно у тебя выбили почву из-под ног, и ты висишь в воздухе,
задаешь бессмысленные вопросы. От этого голова идет кругом, ты чувствуешь
неловкость положения, не знаешь, что будет дальше. Но мало-помалу все
становится на свои места, зато какая открывается перспектива, когда теперь
смотришь на все с иной точки зрения! Раскрепощение полное! Получается,
что метод, который сперва казался скучным и бесцельным, банальным и
заземленным на читателя, на самом деле сложился в недрах абсолютного
художественного слуха и проверен камертоном такой честности, равную которой
не найти - разве что только среди самих русских. Да, возможно, ответа на
вопросы мы не найдем, но давайте не будем притворяться, давайте не будем
подделывать, подмазывать, подкрашивать наши наблюдения, теша свое
самолюбие. Сказали себе так - и половины наших устоявшихся представлений
о мире как не бывало! Отныне мы всему открыты, все подвергаем сомнению,
смотрим реальности в лицо.
Впрочем, всегда есть опасность увлечься собственным прочтением
авторской идеи, которое на минуту может показаться самым верным, и
принять его за философию писателя. Конечно, философия Чехова неотделима
от всего, им написанного, и прежде всего от той бьющей через край стихии
в его рассказах, которая напоминает фонтанирующий источник: это его дар
прирожденного рассказчика. Куда бы он ни посмотрел, что бы ни увидел,
куда бы ни пошел, рассказы рождаются сами собой без всякого усилия с его
стороны, и эта поразительная легкость пера заставляет вспомнить более
ранний этап мировой литературы, когда сочинительство было делом
привычным. Под пером Чехова вся Россия выглядит огромной кадушкой с тестом,
поднявшимся на могучей закваске духа, и выпекают из этой опары, надо
думать, не одни только бублики да коржики. Часто в чеховских рассказах
кто-то из крестьян просит другого рассказать ему историю, и его приятель,
такой же крестьянин, как он сам, не задумываясь, закручивает не просто
анекдот или интересный случай, а ни больше ни меньше чем историю своей
жизни, и пусть его рассказ грубоват, но он изложен так страстно и
замысловато, что мы ему верим, хотя расскажи что-то подобное любой английский
фермер, и мы бы рассмеялись ему в лицо: настолько это невозможно.
«Любопытно! - потянулся Савка (сторож и пугало общественных огородов7). -
Про что ни говори, все любопытно. Птица таперя, человек ли... камешек ли
этот взять - во всем своя умственность!»8 Или взять сцену обеда в одном
небольшом имении, куда приглашен местный доктор9. Он дни и ночи напролет
проводит с больными и поэтому рад случаю плотно поесть и выспаться. Но,
едва заморив червячка, он сразу заводит разговор о жизни: «Да! Если, пони-
В. Вулф. Чеховские вопросы
407
маете ли, хорошенько вдуматься, вглядеться да разобрать эту, с позволения
сказать, кашу, то ведь это не жизнь, а пожар в театре!»10 И начинает
рассказывать, как ему живется в этом охваченном пламенем театре, и, слушая
его, мы понимаем, что это не Чехов говорит устами своего героя, а простой
сельский врач описывает свою жизнь - вот он, перед нами, мы слышим его
голос, он обо всем судит по-своему, называет вещи прямо, в лоб, в нем
чувствуется нерв и сила личности: да, жизнь обжигает его, но и он ей платит той
же монетой!
Чеховских героев - не один и не два, их море, и все они очень разные, а
поскольку рассказ порой занимает страничку или две- не разбежишься! -
характер, как правило, дается несколькими точными, твердыми мазками.
И опять же, какой целью руководствуется мастер, уверенно кладя мазок за
мазком? - спрашиваем мы. Зачем ему понадобилось рисовать десятки и даже
сотни мужчин и женщин, которые большей частью недовольны собой или
унижены жизнью? Неужели он так и оставит свои беспросветно грустные
обыкновенные истории без всякого связующего стержня, без объединяющей
идеи, существование которой само по себе уже внесло бы в рассказы
гармоничную и примиряющую ноту? Такие вопросы напрашиваются, но
предположить заранее, какими будут ответы, очень трудно: мысль Чехова работает
необычайно тонко и без нажима. Он может одним легким щелчком сломать,
как карточный домик, наши самые, казалось бы, незыблемые нерушимые
понятия о жизни, оставив от них кучку бесполезных бумажек. Вспомните:
вы прочитали «Скучную историю»11, и что - разве ваш душевный комфорт
это не поколебало? Даже у самого банального сюжета есть двойное дно, и с
ним рассказ читается по-другому. Так, может, Чехов - это просто холодный
блестящий циник, не оставляющий камня на камне от привычных иллюзий?
Но если бы это было так, то не задавали бы мы эти вопросы: ответ был бы
заведомо ясен. Нет, цинизм здесь ни при чем: никакому цинику не под силу
разбередить душу так, как это удается сделать Чехову, писателю, богато и
разносторонне одаренному. Те, кто видит в нем бытописателя скуки и
отчаяния, не замечают, по крайней мере, трех сторон его таланта. Чехов, как
никакой другой прозаик, обостренно чувствует красоту - это видно даже через
мутное стекло перевода12. В некоторых рассказах чувство красоты заслоняет
все прочее. Еще - он порой настолько самобытен в выборе элементов
сюжета, что рассказ получается совершенно не похожим на то, что мы читали
раньше, и даже возникает мысль, уж не намекает ли Чехов на существование
какой-то небывалой, неслыханной грани бытия, намеренно оставляя ее не до
конца раскрытой. Пример тому - рассказ «Гусев»13. И наконец, не
скрывается ли за жесткой, суровой правдой его рассказов, особенно о крестьянах и
крестьянской жизни, указания на единственный, по-настоящему творческий
источник сопереживания?
408
Дополнения
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
Интересно, можно ли догадаться по каким-то неуловимым признакам -
писательскому складу мысли, стилю, авторской точке зрения, что эту
книгу1 написал русский или во всяком случае не англичанин? Думаю, что нет.
По словам м-ра Грэма, Валерий Брюсов - это «своего рода
итальянизированный русский, он привязан к Франции и Италии гораздо сильнее, чем к своей
родной стране»2; и потом, судя по этому сборнику рассказов, великим
писателем его не назовешь: он не вызывает ощущения чего-то недосказанного
или многообещающего. Так что он вполне мог бы сойти за одного из наших
соотечественников, если бы не одно маленькое «но»: у Брюсова на все своя
точка зрения, и это обстоятельство делает его непохожим на подавляющее
большинство здешних мастеров добротного английского рассказа. Свое
кредо Брюсов выражает так: «...нет определенной границы между миром
реальным и воображаемым, между "сном" и "явью", "жизнью" и "фантазией"»3,
и в общем рассказы в настоящей книге с большим или меньшим успехом
развивают мысль писателя о том, что явления, традиционно принимаемые
всеми за игру воображения, на поверку оказываются реальными, и,
наоборот, реальность может обернуться миражом. Конечно, идея эта не нова, по
крайней мере для английской литературы, хотя мы обычно связываем ее -
возможно, излишне поспешно - с теми писателями, которые занимаются
сверхъестественными явлениями и которые, стремясь подчеркнуть их
непохожесть на обыкновенную жизнь, создают вокруг них мистическую ауру.
У Брюсова же прямо противоположный метод. Как отмечает м-р Грэм, ему
«мало эмоциональных доказательств правоты того, о чем он пишет, - нет, он
настойчиво, упрямо ищет интеллектуальные подтверждения существования
нереальности и свою позицию отстаивает с чисто мужской
принципиальностью»4.
Поскольку против мужского интеллекта, как говорится, не попрешь,
остается принять на веру утверждение Брюсова о том, что самая богатая, самая
наполненная жизнь у большинства людей протекает скрыто от посторонних
глаз - для окружающего мира она невидима. Например, юная римлянка по
имени Мария большую часть своей сознательной жизни прожила,
представляя себя живым воплощением Реи Сильвии5, и настолько уверовала в свое
предназначение, что бросилась в Тибр и утонула. Другая женщина живет
тем, что разговаривает с собственным отражением в зеркале6. Третья видит
в писчебумажных принадлежностях - перьях, пресс-папье - живые
существа и испытывает к ним самые нежные чувства7. Вот где, нам кажется,
проявляется внутреннее сродство Брюсова с русским народом - в стремлении
непременно дойти до точки! Разобраться самым серьезным образом, без
всякой сентиментальщины с любым вопросом, даже если речь идет о такой эфе-
В. Вулф. Валерий Брюсов
409
мерной материи, как греза или видение. Он не склонен усматривать в
странных завихрениях, рождающихся в головах его героев, проявление каких-то
сверхъестественных сил или обостренную чувствительность - нет, он
сообщает как о доказанном факте, что людей этих считали сумасшедшими,
держали в сумасшедшем доме. Разве это не помешательство - не знать, спишь
ты или бодрствуешь? Не понимать, кто ты - реальное лицо или отражение
в зеркале? Больше радоваться своим грезам, чем происходящему в
действительности? Но для Брюсова это, конечно, не объяснение. «Не лучше ли наше
безумие, - вопрошает он устами своих героев, римских любовников, - чем
разумная жизнь всех других людей?»8 В конце концов, где грань,
отделяющая одно сочинение от другого? Кто решает, что реально, а что нет? Что
считать рассудком, а что - безумием?
Впрочем, подлинно художественного зерна в этой теме - особенно
интересной у прозаика, лишенного всякой сентиментальности и веры в
мистику, рационалиста и материалиста, - такого зерна в теме нет, и она быстро
приедается. Опять же, если выбирать, то рассказы, в которых речь идет о
пограничных состояниях между рассудком и безумием, представляются
более ценными хотя бы потому, что они тоньше выписаны и в них нет
удобной концовки типа cul-de-sac* в виде сумасшедшего дома. По крайней мере
они вводят нас в зыбкий мир героев, балансирующих на грани мечты и яви,
и мы оказываемся свидетелями их безотчетных попыток выглядеть и
вести себя, как все прочие люди. Например, в одном рассказе описывается,
как старый бродяга украл мраморную женскую головку, напомнившую ему
женщину, в которую он когда-то был влюблен. Когда его спросили, не
собирается ли он настаивать на оправдательном приговоре, тот ответил: «К
чему?.. Не все ли равно, где я буду думать о Нине - в ночлежном доме или
в тюрьме?» «Одно меня смущает (добавляет он): что если Нины никогда
не было?»9 Вот та дилемма, которая не дает покоя писателю: что такое
реальность и почему мы так охочи до вещей, которые большей частью есть
всего лишь плод нашего воображения? Дальше этого вопроса и намека на
иррациональное начало, которое, если разобраться, неразрывно связано с
самыми что ни на есть разумными стремлениями обыкновенного человека,
Брюсов не идет - возможно, не хочет или не может. Но уже одно то, что
он не удовольствовался избитой дорожкой, а пошел неизведанной,
нехоженой тропой психологии, делает его книгу, безусловно, достойной внимания
читателя.
* Тупик (фр.).
410
Дополнения
ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИЮ
В РОССИИ
В своем коротком предисловии к этой книге1 м-р Хью Уолпол2, как нам
кажется, оказывает ее автору медвежью услугу, употребляя в качестве
характеристики слово «атмосфера». Слово это ко многому обязывает, и
получается, что м-р Уолпол делает за автора громкую заявку, на которую сама мисс
Бьюкенен едва ли претендует. «Полагаю, - пишет м-р Уолпол, - я не
преувеличиваю, говоря о том, что в своей книге мисс Бьюкенен первой среди
иностранных журналистов попыталась дать мировой общественности
представление о царящей в России атмосфере смуты и террора в условиях событий
мирового масштаба»3, то есть войны и революции4. Как поясняет м-р
Уолпол, «под "атмосферой" в данном случае он имеет в виду взгляд на
происходившие события, как мы говорим у себя в Англии, "человека с улицы"»5.
Ничего подобного, по нашему мнению, нет в откровенном и живо
написанном дневнике дочери «сэра Бьюкенена»6. В книге описана, с точки зрения
барышни, вращавшейся в дипломатических кругах, жизнь в Петрограде в
течение последних четырех лет - не более того.
Когда началась война7, мисс Бьюкенен добровольно пошла работать
сестрой милосердия в один из петроградских госпиталей; учила русский язык,
чтобы ей было легче ориентироваться среди персонала - правда, судя по
нескольким фразам, приведенным в книге, далеко в изучении русского языка
она не продвинулась. Вообще первая часть вся посвящена описанию
начала войны: в ней мисс Бьюкенен довольно живо воспроизводит свои
собственные впечатления и впечатления своих подруг от встреч с ранеными,
беженцами, детьми: «"Мериэл, посмотри, а голова-то у него совсем
живая!" - только и сумела она выдохнуть»8; они идут вперемешку с
рассказами о жизни российского императорского двора и светских раутах, какими
они ей запомнились. Вот один из типичных примеров ее проникновенно-
трогательной манеры описания, со всеми плюсами и минусами: «Смотрю
на запись в дневнике и вспоминаю, что именно в ту зиму я встретилась с
генералом Поливановым, вновь назначенным министром военных дел.
Накануне мы обедали у Сазоновых, и я сидела рядом с Поливановым. О его
политической деятельности я тогда ничего не знала и, тем не менее,
сразу же прониклась к нему огромным уважением и симпатией. Эдакий
русский богатырь, в годах, высоченного роста, обаятельный - поневоле
заслушаешься. Изборожденное морщинами лицо, небольшая темная бородка и
глубоко посаженные серые глаза: смотрит на тебя с прищуром и в то же
время очень ласково. Он дотошнейшим образом расспросил меня о
госпитале, о моей работе, а когда я сказала ему, что мне нравится ухаживать за
ранеными солдатиками, он так и просиял: пообещал непременно наведаться
в госпиталь»9.
В. Вулф. Взгляд на революцию в России
411
Рассказ о революции10 мисс Бьюкенен начинает с истории смерти
Распутина, причем с одной из самых страшных версий его гибели. Она
подробно описывает, как «священник»11 (здесь автор ошибается: Распутин не был
священником12) выпил почти целую бутылку отравленного вина, съел блюдо
отравленных пирожных, в него выстрелили; как в чаду, превозмогая
беспамятство, он бросился на князя Юсупова, оттолкнул его и попытался
убежать через сад. Потом мисс Бьюкенен уехала на каникулы, а когда спустя
три месяца вернулась в Петроград, там уже начиналась революция: так что
она поспела к самому началу. «Я оказалась запертой в здании посольства,
мне запретили выходить на улицу, и, как сейчас помню, я в основном
проводила время на парадной лестнице: останавливала каждого встречного и
собирала по крохам информацию о происходящем»13. Ее рассказ о событиях
лета и зимы 1917 года повторяет известную схему: вслед за многими
другими очевидцами, она отмечает беспорядочный энтузиазм, с которым русские
солдаты и крестьяне приветствовали самые разные, порой прямо
противоположные политические платформы, и хитрость, с которой опытные ораторы
добивались сочувствия народа. Здание Британского посольства
располагалось прямо напротив штаб-квартиры Ленина, и всякий раз, когда возникал
слух о начинающемся восстании, сотрудников посольства заставляли либо
покинуть здание, либо укрыться в самых дальних, хорошо
забаррикадированных комнатах. Но мисс Бьюкенен так не терпелось увидеть все
собственными глазами, что генерал Нокс14 даже подшучивал над ней, говоря, что
«она доставляет ему больше хлопот, чем вся русская армия»15. Самые яркие
эпизоды в книге - это как раз зарисовки большевистских émeutes*,
увиденных из окна посольства.
Здесь бы автору и остановиться, но мисс Бьюкенен не удержалась и
ступила на зыбкую почву политических оценок прошлогодних революционных
событий в России. Нет, разумеется, роль судьи она на себя не берет - это
было бы слишком самонадеянно с ее стороны, но по ее высказываниям о
политической смуте видно, что она полагается больше на слухи, чем на факты.
Например, упомянув о деле Корнилова, мисс Бьюкенен допускает
несправедливость по отношению к месье Керенскому (чьими намерениями она на
словах вроде бы восхищается), указав на якобы «опубликованную в газетах
телеграмму Керенского, в которой он объявляет себя диктатором и
приказывает Корнилову немедленно сложить с себя полномочия»16. В
действительности приказ подавить корниловский мятеж был отдан не самим Керенским,
а Временным правительством, которое наделило Керенского особыми
полномочиями, так что диктатором он себя ни при каких обстоятельствах не
объявлял. В другом месте мисс Бьюкенен пишет: «Представляется
доказанным, что, боясь большевистского восстания, правительство вело
переговоры с Корниловым о посылке войск в Петроград для подавления мятежа под
* Мятежные драки (фр.).
412
Дополнения
руководством генерала Крымова»17. Однако автору следовало бы вспомнить,
что одним из главных пунктов обвинения, выдвинутых Временным
правительством против генерала Корнилова, было не то, что он направил войска
в Петроград, а то, что он направил их, вопреки просьбе Временного
правительства, именно под командованием генерала Крымова18. Мисс Бьюкенен
сама не замечает, как своей фразой о том, что ей «представляется
доказанным», она только подливает масла в огонь при обсуждении одного из самых
сложных политических вопросов. К сожалению, чтобы разбираться в
политике, одной интуиции мало - это в человеческих отношениях дар
физиономиста еще может помочь, что мисс Бьюкенен и доказывает с блеском в чисто
описательных главах своей книги.
РУССКИЙ взгляд
В недавно опубликованном рассказе м-ра Голсуорси один герой
называет другого «братом»1, дойдя до этого эпизода, ты долго не веришь своим
глазам и заглядываешь на обложку: уж не попался ли тебе перевод с
русского? Конечно, всегда можно сказать, что по сюжету обоих героев страшно
жалко - они дошли до ручки, и все же согласитесь: слово «брат» в
рассказе англичанина об англичанах кажется не к месту. «Дружище» - еще куда
ни шло, но слово «дружище» и слово «брат» по смыслу не одно и то же,
поэтому, наверное, разумнее было бы не заставлять своего героя называть
первого встречного словом «брат», подражая русским, а задуматься на тем,
что в Англии такое обращение не принято. Это у русских мы встречали его
много раз, и по старой памяти перелистываем книгу Елены Милицыной и
Михаила Салтыкова2, ища заветное слово «брат». Однако как раз его-то мы
и не находим. Видимо, все дело в атмосфере: слово выражает не только
отношение героев друг к другу, но и мироощущение самого писателя.
Салтыков-Щедрин умер в 1889 г., а Елена3 Милицына, судя по всему, автор
молодой: между их литературными дебютами пролегает полоса в пятьдесят лет,
и тем не менее, как отмечает д-р Райт, «эти писатели двух разных
поколений - единомышленники, у них общая боль, и это лишний раз доказывает
тот факт, что чаяния, впервые высказанные в 1847 г., и спустя пятьдесят лет,
в начале века двадцатого, оставались неосуществленными... (Рассказы)
помогают нам понять (добавляет д-р Райт4), что смена власти в России была
неизбежна»5. Но, как нам кажется, этих писателей объединяет не просто
политическое единомыслие, а нечто более глубокое и долговременное,
независимое от смены власти: чувство братства, сродство, если хотите. Если
бы не такого рода единомыслие, зачем бы мы стали переводить, печатать и
читать с интересом рассказы, не представляющие большой художественной
ценности?
В. Вулф. Русский взгляд
413
Этот особый взгляд на вещи, который мы моментально угадываем в
произведениях русских писателей, и рассказы Милицыной и
Салтыкова-Щедрина не исключение, русский взгляд, если угодно, английской литературе не
свойствен. В английской литературе вообще нет какого-то одного главного,
самого характерного источника писательской деятельности: толчком к ней
может послужить едва ли не все что угодно. В этом смысле ситуация с
русскими писателями кажется проще: все они движимы одним всеобъемлющим
стремлением - стремлением выразить всю меру человеческого страдания и
высказать свое беззаветное сочувствие ближнему, причем у писателей
второго ряда оно даже заметнее, чем у великих мастеров слова. Представим
на секунду, что за тему рассказа Елены Милицыной «Идеалист»6 взялся бы
опытный английский прозаик - что получилось бы? В рассказе наверняка
была бы развернута картина нравов разных общественных сословий, суть
религиозного вопроса была бы сформулирована со всей ясностью, и уж,
конечно, писатель постарался бы придать своей хорошо продуманной истории
хотя бы некоторую достоверность. Русская же писательница все эти
соображения начисто отметает. Ее волнует один-единственный вопрос: что
творится в душе священника? Что переживает в душе крестьянин на пороге смерти
или когда молится? - вот что пытается представить автор. В рассказе нет по
большому счету ни сюжета, ни картины нравов - все разъезжается, а
писательницу, похоже, не очень-то беспокоит концовка. И тем не менее, вопреки
тому, что рассказ получился сырым и плоским, надо отдать должное автору:
духовный смысл происходящего она выразила. Каким образом? - у нее за
каждым героем как будто установлена лампа, и оттого фигуры кажутся
прозрачными: сквозь покровы одежды и бренную оболочку словно
просвечивает внутренняя человеческая суть. Писательница не очень даровита, иначе
она не стала бы останавливаться на достигнутом, а, высветив духовную суть
своих героев и заронив в нас тем самым ожидание какого-то грядущего
открытия, описала бы, что же происходит в душе, когда с нее снят покров. Увы,
этого не получилось. Может быть, Салтыков-Щедрин, художник не в
пример более глубокий и тонкий, подойдет к своему предмету с любопытством,
юмором или чисто познавательным интересом? Нет, он тоже движим духом
сочувствия к человеческим бедам - именно из чувства сострадания создает
он в одном коротком рассказе замечательную притчу о русском
крестьянине, который пашет и пашет на необъятных просторах России: «Нет конца
полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и
поперек, и все-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и
цепенеющее под белым саваном - оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на
борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни
покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас опять народилось.
Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. ...Поле давит его, отнимает у него
последние силы и все-таки не признает себя сытым»7. Похоже, оба
писателя в один голос говорят нам устами священника из рассказа Милицыной:
414
Дополнения
«...сумей почувствовать себя близким людям... необходимым для них...
Но почувствуй это не умом - умом это не трудно, а сердцем, любовью к
ним...»8 Эти слова, как нам кажется, более или менее выражают суть того
важного урока, который нам преподали русские писатели. Они как никто
глубоко прониклись состраданием к человеческому горю, а ведь именно на
почве сострадания чужим бедам рождается братство: ни общее счастье, ни
совместный труд, ни единый порыв не способны породить братское
чувство. В русском народе, как пишет д-р Райт, живет «глубокая грусть»9. Не
берусь сказать, что русские грустят больше других, но они определенно не
пытаются скрыть свою печаль. Типичная черта англичан - приукрашать свое
материальное положение - русским не свойственна: для них, как
говорится, бедность и несчастье не порок, - недаром юродивых русские именуют
«рабами Божьими»10. Опять же, такое отношение русских совершенно
расходится с инстинктивным желанием англичанина или француза
воспротивиться грусти, развеселиться, расхрабриться, блеснуть умом, отдаться страсти, о
котором с таким упоением говорит вся французская и английская
литература. Стоит нам попытаться подражать русским, и нас ждет провал: слишком
велика разделяющая нас пропасть. Мы моментально делаемся неуклюжими,
робкими или, того хуже, изображаем деланную простоту и доброту, впадая в
чуждые нам слащавость и попугайство. Все дело в том, что если уж называть
кого-то «братом», то звучать это должно убедительно, а быть убедительным
совсем не просто. У русских это получается благодаря их безоглядной вере
в существование души, а вовсе не из-за смирения, покорности или отчаяния.
Как у Салтыкова-Щедрина: сколько бы ни били, ни гоняли едва живого
Конягу, измочаленную клячу, олицетворяющую русское крестьянство, все
равно «целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая.
Нет конца жизни - только одно это для этой массы и ясно»11. Нет ничего
важнее этой живой страдающей, трудовой массы, что у всех у нас одна. Обычно
мы ее прячем или приукрашиваем, а вот русские в нее верят, докапываются
до нее, разгадывают, распутывают, сострадают ей, и вот итог: не просто
самые одухотворенные - самые глубокие книги в современной литературе
создали именно русские.
РУССКИЙ ФОН
Спасибо миссис Гарнет1 за ее труды: сегодня мы чувствуем себя гораздо
уверенней, принимаясь читать новый перевод из русской литературы.
Вообще-то говоря, хвалиться нам особенно нечем: «Архиерей» - уже седьмой
том рассказов Чехова в английском переводе, так что чувство относительной
уверенности, которое мы испытываем, говорит скорее о том, что мы большие
тугодумы. Во всяком случае, одно мы твердо усвоили: с этими странными
В. Вулф. Русский фон
415
русскими не проходит обычная метода, когда читаешь вприглядку, а левой
рукой набрасываешь схему национального характера, и читательскому
самодовольству здесь тоже не место - это только кажется, что схема простая и
ясная от начала и до конца.
И все же к седьмому тому мы кое-чему научились: теперь уже никому не
придет в голову сетовать на то, что рассказ «Архиерей»2 - де вовсе не
рассказ, а довольно невнятное, скомканное описание одного архиерея, который
сильно расстраивался из-за того, что мать обращается к нему почтительно на
«Вы», а потом вскоре заболел брюшным тифом и умер. Теперь мы уже знаем,
что незаконченные рассказы имеют право на существование: иначе говоря,
несмотря на грусть и чувство неуверенности, которым заражается читатель,
они дают ему некую точку душевной опоры - если угодно, основу3, со своим
ореолом воспоминаний и раздумий. Может показаться, что составляющие
этой основы сошлись случайно: в самом деле, часто создается впечатление,
будто Чехов пишет рассказы на манер квочки, собирающей по зернышку, - и
почему, спрашивается, она клюнет то здесь, то там, без всякой видимой
причины, ведь зерна-то везде одни и те же? Да, отбор деталей у Чехова может
показаться странным, но сегодня уже никто не сомневается в том, что
отбор этот произведен самым пристальным образом. Чехов вроде крестьянина
Васи из рассказа «Степь»: тот видит дальше всех - ему доступно увидеть
далеко-далеко в степи лисичку, которая легла на спину и играет, словно
собачка. У Чехова такое же поразительно острое зрение, как у Васи, у которого,
«кроме мира, который видели все... был еще другой мир, свой собственный,
никому не доступный и, вероятно, очень хороший»4.
Итак, отпали последние колебания - теперь уже ничто не отравит нам
радость общения с Чеховым, а раз так, давайте углубимся еще на один шаг.
Представим, что мы с Чеховым на одной ноге - так обычно бывает, когда
читаешь соотечественника, и попробуем посмотреть его глазами на то, что
он держит в памяти, то, что составляет его эмоциональный фон: если у нас
это получится, тогда и фигуры на переднем плане - иначе говоря, авторский
замысел - станут гораздо понятнее. Наш собственный фон представляет
собой (в той мере, в какой мы можем мысленно от него дистанцироваться и
посмотреть со стороны) многосложную и при этом упорядоченную
цивилизацию. За любым крестьянином из английской глубинки закреплен
особый общественный статус, и он тысячами административных нитей связан
с Лондоном, а кроме того, в Англии практически нет ни одного места,
откуда не был бы виден город: днем ты видишь его по клубам дыма из
фабричных труб, а ночью - по огням. Так вот, все это сразу вспоминается во всех
подробностях и тонкостях, когда Чехов описывает все то, что «на память
приход[и]т», «все то, что сам сумел увидеть и постичь душою»5, другими
словами, свой эмоциональный фон, отличный от нашего: «О необъятной
глубине и безграничности неба можно судить только на море да в степи ночью,
когда светит луна. Оно страшно, красиво и ласково...»6 «Все представляется
416
Дополнения
не тем, что оно есть. Едешь и вдруг видишь, впереди у самой дороги
стоит силуэт, похожий на монаха... Фигура приближается, растет, вот она
поравнялась с бричкой, и вы видите, что это не человек, а одинокий куст или
большой камень...»7 «Едешь час-другой... Попадается на пути молчаливый
старик-курган или каменная баба, поставленная бог ведает кем и когда...»8
«...Душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над
степью вместе с ночной птицей»9. Здесь Чехов очень поэтично, насколько
можно догадаться по дырявой сети перевода, описывает, как действует на
небольшую группу путешественников степь. Итак, действие этого
рассказа разворачивается на фоне степи, однако чем дальше едут по необъятному
степному простору путники, то заезжая на постоялый двор, то нагоняя
пастуха, то едва разминувшись с возом, тем все больше путешествие их
напоминает странствие русской души, а пустынное пространство, неизъяснимо
печальное и вдохновенное, оказывается фоном авторского повествования.
Сами вставные новеллы - короткие, откровенные, естественно
складывающиеся по ходу действия - рождаются, кажется, из случайных дорожных
встреч: судьба послала нам этих попутчиков - почему же не остановиться,
не потолковать, не открыться этим людям, как, бывает, и другу не
откроешься, ведь когда еще встретимся? Англичане подобное переживают разве что
на корабле во время морского плавания: эти случайные короткие встречи
путников, затерянных в безбрежной стихии, встречи, которые, ты знаешь,
больше никогда не повторятся, надолго оседают в памяти, сохраняя яркость
и свежесть красок, точно картина, нарисованная кистью художника. «Все
это, - описывает Чехов беседу подводчиков, собравшихся вокруг
небольшого костра, - все это само по себе было так чудесно и страшно, что
фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью»10. Представьте,
что за окном больше нет цивилизации: перед вами расстилается пустынная
степь, и к каждому, кто бы вам ни встретился по дороге, вы относитесь как
к попутчику, с которым вас свела на минуту судьба, - так вот, если это
представить, то жизнь «сама по себе» окажется такой чудесной и страшной, что
не понадобятся никакие сказки... Воздействие этого общего пустынного и
безлюдного фона настолько пронзительно, что каждый герой в книге, даже
самый никчемный и жестокий, а почти все рассказы в этом томе
повествуют о крестьянах, словно надышал маленькое прозрачное «окошко», через
которое виден свет души. Вот и осужденный за убийство Яков приходит к
убеждению, что «он, наконец, узнал настоящую веру... Все уже он знал и
понимал, где бог и как должно ему служить»11. Этими словами не просто
заканчивается один из рассказов - ими высвечивается, будто неровным пламенем
свечи, целостность и единство общего замысла Чехова: помыслы его героев
устремлены к цели более значительной и отдаленной, чем личный успех или
личное счастье, - и это не фигура речи.
В. Вулф. Достоевский в Крэнфорде
417
ДОСТОЕВСКИЙ В КРЭНФОРДЕ
Иногда в своих размышлениях о великом, полулегендарном писателе
полезно оторваться от его родной почвы и мысленно перенестись вместе с ним
на другие берега, в другой век, в другой провинциальный городок: это всегда
действует освежающе. Интересно, как повел бы себя Достоевский на
лужайке перед домом английского приходского священника? - спрашиваешь себя и
в шутку и всерьез, тем более что повесть «Дядюшкин сон», самое объемное
произведение в новом томе переводов миссис Гарнет1, располагает к
такому капризу читательской фантазии. Чисто внешне Мордасов очень похож на
Крэнфорд2. Его жительницы только тем и занимаются, что пьют чай да
перемывают косточки соседям. Стоит объявиться в Мордасове богатому жениху,
например князю К., как местные дамы тут же готовы разорвать его в клочья -
так ведут себя хищницы, прожорливые морские чайки: брось им поживу, и
от нее вмиг ничего не останется. Вот вам, кстати, и первое отличие Морда-
сова от Крэнфорда: сравнение с хищными чайками не годится для описания
закулисных интриг и тщательно скрываемого любопытства английских
матрон. Поэтому вероятнее всего, что, покружив по английской лужайке, наш
воображаемый гость не вытерпит подобной скуки, топнет сердито ногой,
выругается про себя со злости, и только мы его и видели. «Инстинкт
провинциальных вестовщиков доходит иногда до чудесного... Вас знают наизусть,
знают даже то, чего вы сами про себя не знаете. Провинциал уже по натуре
своей, кажется, должен быть психологом и сердцеведом. Вот почему я
иногда искренне удивлялся, весьма часто встречая в провинции вместо
психологов и сердцеведов чрезвычайно много ослов. Но это в сторону; это мысль
лишняя»3. С него довольно: неужели мы так наивны, чтобы вообразить, что
его может чем-то заинтересовать центральная улица Крэнфорда или
местный магазин тканей? Нет, игра полутонов английской провинциальной
жизни явно не для него.
То ли дело - Мордасов! Местные дамы балуются, судя по глубокому
послеобеденному сну, не только чайком, а злоба, с которой они чешут языками,
больше уместна на базарной площади, чем в зашторенной гостиной. Грешки,
которым они предаются, вполне невинны: подглядеть в замочную скважину,
подслушать, стащить сахар из сахарницы, пока не видит хозяйка, но
проделывают они все эти мелкие пакости настолько бесстыже, что просто диву
даешься! Страшно подумать - а что было бы, окажись ты наедине с одной
из этих хищниц? Но Достоевскому все нипочем: его этот подлый и жалкий
мордасовский спектакль искренне забавляет - во всяком случае поначалу.
В кои-то веки можно посмеяться над людскими нравами! Он даже диалоги
приспосабливает под речь провинциальных кумушек: «Это - танец! Я сама
танцевала с шалью, при выпуске из благородного пансиона мадам Жарни, -
так я благородный эффект произвела! Мне сенаторы аплодировали! Там кня-
14. Вирджиния Вулф
418
Дополнения
жеские и графские дочери воспитывались!.. Представьте себе (сыплет она
скороговоркой, на манер мисс Бейтс4): всем шоколад подают, а мне нет, и всё
время со мной хоть бы слово. Ведь это она нарочно... Кадушка этакая! Вот
я ж ей теперь!»5 Только вся эта канитель быстро наскучивает Достоевскому,
и он переходит на бранный тон и резкие выражения. Так что его комедия
больше смахивает на пьесу Уичерли6, чем на роман Джейн Остен7: действие
стремительно набирает обороты, и чем дальше, тем все больше напоминает
разнузданный фарс. Держать дистанцию и быть над схваткой, как это делают
все великие комедиографы, - это не для Достоевского. Да и объем повести
не позволяет ему развернуться в полную силу. Его «Дядюшкин сон»,
«Крокодил» и «Скверный анекдот» производят впечатление коротких виртуозных
дивертисментов, который великий маэстро, что называется, выдал между
делом. На них лежит печать некоторой усталости, почему и кажется, что все
немного разъезжается; к тому же взятый с самого начала разгон не позволяет
автору вовремя остановиться. Вот и вываливается все скопом и сразу - без
разбору, взахлеб, скороговоркой.
И все равно нас не покидает ощущение, что если Достоевский и не умеет
держаться в положенных рамках, то только по одной причине: гениальному
писателю в них тесно. Мера его сочувствия своим героям такова, что его
смех перерождается на наших глазах в свою противоположность: из
веселья он превращается в злую насмешку, от которой совсем не смешно. Ему
не дают покоя людские судьбы, и он ни за что не откажет во внимании
случайно встретившемуся человеку, даже если рассказ потребует пространного
отступления. Так, например, в какой-то момент по ходу действия он вдруг
замечает, что несчастный отставной чиновник не в состоянии заплатить за
бутылку вина, и, объясняя, как такое могло случиться, он без всякого
перехода начинает описывать, во всех подробностях, историю рождения и
воспитания чиновника, а это в свою очередь заставляет его вспомнить про жестокого
отчима, а за этой историей тянется другая - о пяти несчастных женщинах,
ставших жертвами пропойцы-отца8. Короче, если не отгораживаться от
жизни, в ней все так сложно переплетено, настолько трудно отделить несчастье
и боль от самой плоти нашего существования, что чем глубже
пытаешься вникнуть, тем туманнее и запутанней все становится. Возможно,
именно наше незнание семейной подноготной жительниц Крэнфорда позволяет
нам всякий раз, когда мы дочитываем книгу до конца, пребывать в иллюзии
счастливого финала. Но не будем грешить на комедию только потому, что
рядом с Достоевским совершенство английского романа кажется не более чем
компенсацией за то, что все самое важное вынесено за скобки. Это старый
извечный спор о том, что лучше: крошечный кусочек слоновой кости или
грубый зернистый холст размером два метра на два?9
В. Вулф. «Вишневый сад»
419
«ВИШНЕВЫЙ САД»
Хотя каждый из аудитории «Арт Тиетр», наверное, и читал «Вишневый
сад» Чехова не раз, многие никогда не видели его на сцене1. Поэтому и были
вначале так возмущены и раздосадованы прежние читатели, а ныне зрители.
Прекрасная, отчаянная драма, разыгрываемая мною часто в неясных
глубинах моей души, теперь висела в нескольких футах от меня, плоская и
утрированная, точно дешевая линогравюра вместо подлинника. Но вправе ли я
называть свое представление о пьесе подлинным? Что я под этим
подразумеваю? Возможно, следующее...
В английской литературе нет ничего похожего на «Вишневый сад». То ли
мы более передовые, то ли менее или же двигаемся совсем в другом русле...
Как бы то ни было, попав в детскую дома госпожи Раневской на рассвете,
англичанин чувствует себя в ней чужим, иностранцем, с совершенно
иными традициями. Но традиции не настолько въедаются (хотя, конечно, у всех
по-разному), чтобы их нельзя было безболезненно и даже с облегчением
отставить. Верно, после долгого путешествия по железной дороге из Парижа в
Россию человеку привычней сказать «спокойной ночи» и пойти спать. Но на
этот раз все так удивительно: светает, птицы проснулись в вишневом саду -
давайте соберемся за столом, будем пить кофе и, как у Чехова, говорить о
целом мире. Мы все в том необычно взволнованном состоянии, когда, кажется,
мысли прорастают в слова сами собой. Путешествие кончено, и мы достигли
крайних пределов, где будто и нет границ, и время длится вечность. Читая, я
представляла себе (не совсем верно, ибо в постановке, одобренной Чеховым,
действительно поют птицы и цветут вишни), будто душа свободна от всех
упряжек и окрылена думами и чувствами, летящими отсюда, оттуда, из
отдаленнейших далей, - и я пыталась это выразить, воображая просторный вид
из окна, розовый сад, и даже снежные горы, и синий туман вдалеке.
Мысленно рисовалась комната, где персонажи говорили откровенно и всегда
неопределенно, будто думая вслух. То не было «комедией нравов»; мысли едва
сцеплялись, чуть высекая искру; не было и конфликта индивидуальностей.
При этом характеры совершенно конкретны и не сентиментальны. Ни
минуты не думалось, что госпожа Раневская вкладывает в свои слова какой-то
таинственный намек. Она целиком погружена в свои переживания. Возможно,
разговор казался символичным оттого, что подразумевалось гораздо больше,
нежели случай в жизни одного человека. А в финале, хотя мысли и шли как
бы зигзагами, вызывая ощущение опасной качки, все несхожие речи и лица
соединялись, творя одно переполняющее тебя впечатление.
Это представление актеры «Арт Тиетр»2 разрушили прежде всего
неестественностью интонаций, затем упрямым подчеркиванием отдельных фраз,
что давало им контакт со зрителями, но разбивало их ансамбль, и наконец,
всем своим видом прекрасно обученных англичан и англичанок, попавших
14*
420
Дополнения
в абсурднейшую ситуацию, из которой им надо с честью выпутаться. Один
образец неукротимого английского юмора ударил меня довольно сильно.
Случилось это в середине странной речи Шарлотты в начале второго акта.
«У меня нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все
кажется, что я молоденькая», - начинает она. И продолжает: «Я выросла,
потом пошла в гувернантки. А откуда я и кто я - не знаю... Кто мои родители,
может, они не венчались... не знаю»3. При словах, которые я выделила, Ду-
няша отскочила на другой конец скамейки с лукавой миной, вызвавшей, как
и ожидалось, в зале смех. Мисс Хелена Мийе, казалось, была рада случаю
откреститься от всей этой болезненной чепухи и подтвердить, что старые
шутки все еще в цене в здравомыслящем мире за углом. Но задавала этот тон
мисс Этель Ирвинг, которая вела себя как подобает настоящей британке в
затруднительной ситуации. Как она это сумела, не отступив от роли, трудно
сказать, но уже одно присутствие ее на сцене создавало иллюзию покойной
и благочинной жизни английского дворянства, где в любую минуту ее
ожидание на скамейке может вежливо прервать слуга с серебряным подносом:
«Епископ в гостиной, миледи». - «Благодарю, Паркер4. Передайте его
светлости, что я иду». В такой пьесе, я имею в виду пьесы Шеридана или
Оскара Уайльда5, мисс Ирвинг и мисс Мийе очаровали бы своим остроумием,
выдержкой и хорошей школой. Да и нет причин смеяться над английской
комедией или традицией игры, преобладающей на нашей сцене (хотя моя
цитата едва ли это подтверждает). Вопрос лишь в том, идут ли к «Вишневому
саду» методы, пригодные в «Школе злословия»6.
Но у «Вишневого сада» четыре действия. Как было с другими
читателями, не знаю, но еще до конца второго действия между моей читательской
версией пьесы и актерской сложилось нечто вроде компромисса.
Возможно, в чтении вся пьеса представилась слишком туманной, слишком
сумасшедшей и таинственной. Возможно, втянувшись, актеры забыли о
нелепости такого поведения в Англии. А может, сама пьеса восторжествовала над
слабостями обеих сторон. В общем, я чувствовала, что игра в целом
раздражает меня все меньше и меньше, и, наоборот, я все лучше и лучше понимаю
индивидуальную игру м-ра Чэнселора, м-ра Додда, м-ра Пиерсона и мисс
Эдит Эванс. А с каждым словом м-ра Феликса Эйлмера, игравшего Пищика,
представление об этой роли расправлялось, точно сморщенная кожа,
ожившая каким-то чудом. Но сама пьеса - вот что побороло все препятствия, хотя
и стены ходили ходуном от затворяемой двери, и солнце падало и
поднималось с энергичной прямотой плотницкого кулака, и декорации являли собой
скорее рекламу Сарри Хиллз7, чем Россию в ее нецивилизованности, -
атмосфера пьесы окутывала нас, оставляя за порогом все чуждое. Как
правило, критик ссылается на атмосферу, когда ему неохота утруждать себя или
говорить напрямую. И в другой раз можно было бы побеседовать
подробнее о том, что создает эту особую чеховскую атмосферу - странные,
оборванные фразы, такие зыбкие и одновременно в самую точку, о реализме и
В. Вулф. Горький о Толстом
421
юморе, о художественном единстве... Но давайте без околичностей о самом
главном - Чехов осенил нас озаряющим облаком8, в котором жизнь
предстала как она есть, без пелены, ясная и видимая до самых глубин. Задолго до
окончания пьесы мы, казалось, ушли глубоко за поверхность вещей и
осторожно нащупываем путь среди неявных, но узнаваемых эмоций. «У меня
нет настоящего паспорта, я не знаю, сколько мне лет, и мне все кажется, что
я молоденькая» - как поют в душе эти слова, как вся пьеса наполнена этими
откровениями и как, слившись, они затем уносятся далеко за пределы
обозримого! Короче, если говорить о чувстве в конце «Вишневого сада», я бы
сказала о нем в чеховском духе, что оно выносит тебя волной в гущу улицы и
ты полон музыки, как рояль, на котором сыграли наконец не только на
средних октавах, но и по всей клавиатуре, и оставили его открытым во всем полно-
звучии.
А раз так, хочется вычеркнуть всю критику и умолять мадам Донне
дарить нам спектакль за спектаклем, пока чтение пьес у себя дома не сделается
занятием лишь для страдальцев, и нам останется только пожалеть их, как
жалеем мы тех слепых мужей, что по буквам разбирают Шекспира, пытаясь
извлечь из своих картонных страниц музыку.
ГОРЬКИЙ о толстом
Бывает иногда - неизвестный любительский снимок великого человека
выскользнет из альбома или из старого ящика стола, и рядом с ним тотчас
блекнут и вянут известные офорты, гравюры и портреты Уотса и Милле1.
Таков эффект заметок Горького о Толстом. Любые наши портреты Толстого
после них кажутся условными и мертвыми. И поскольку Горький не
фотограф, а писатель огромного проникновения и искренности, картина эта не о
плоти, но духе Толстого, и она заставляет нас открыть снова «Крейцерову
сонату» или «Войну и мир» и посмотреть: не изменилось ли и наше
представление о его книгах от нового освещения?
Вообще изображение часто потрясает вначале, ибо фигурка так явно
смахивает на других людей. Мы обнаруживаем, что у великого человека
короткие ноги, или он отличался странным безвкусием в выборе галстуков, или
что руки, сжимающие палку, толстые и неловкие. Так и Горький потрясает
нас вначале своим Толстым - таким человеческим в его нетерпимости,
порой неискренности, тщеславии или в мстительном желании отплатить
словами за какие-то личные обиды.
«Мне всегда не нравились его суждения о женщинах - в этом он был
чрезмерно "простонароден", и что-то деланное звучало в его словах, что-то
неискреннее, а в то же время - очень личное. Словно его однажды
оскорбили, и он не может ни забыть, ни простить»2. Горький прежде всего дает нам
422
Дополнения
почувствовать мощь Толстого. Впервые мы оказываемся к нему столь
близко, что ощущаем его силу как нечто первородное. И есть даже что-то
пугающее в близости к такой глыбе, когда она недоброжелательна:
«Во Льве Николаевиче есть много такого, что порою вызывало у меня
чувство, близкое ненависти к нему, и опрокидывалось на душу угнетающей
тяжестью. Его непомерно разросшаяся личность - явление чудовищное,
почти уродливое, есть в нем что-то от Святогора-богатыря, которого земля
не держит. Да, он велик!»3 Но он велик целым, что представляется гораздо
значительней его выдающегося дарования писателя. Кажется, у него перед
глазами всегда стоит человеческая жизнь, и он вглядывается в нее, пытает ее,
стремится проникнуть в самую ее суть, случайно роняя, точно искры,
высеченные его умом в столкновении с некой реальностью, ведомой только ему,
глубокие, необкатанные, мудрые изречения.
«"Человек переживает землетрясения, эпидемии, ужасы болезней и
всякие мучения души, но на все времена для него самой мучительной трагедией
была, есть и будет - трагедия спальни". Говоря это, он улыбался
торжественно - у него является иногда такая широкая, спокойная улыбка человека,
который преодолел нечто крайне трудное или которого давно грызла
острая боль, и вдруг - нет ее»4. Конечно, в такие мгновения не было буквально
камушка на дороге, листка на дереве, или пьяной бабы, коршуна, или двух
гвардейцев, шагающих по улице, которых он не увидел бы раз и навсегда,
заражая и нас волнением, отвращением, восторгом - словом, всем, что
вызвала в нем картина. Но Горький также рисует очень запоминающе и
другого Толстого, жившего как бы отдельно от своих высказываний - безмолвно,
пустынно и одиноко. Словно всегда вне ловушки рутинного существования,
представляясь другим странником, «до ужаса бесприютным и чужим всем
и всему» или только что пришедшим «откуда-то издалека, где люди иначе
думают, чувствуют, иначе относятся друг к другу, даже - не так двигаются
и другим языком говорят». «Хотя и много он говорит на свои обязательные
темы, но чуется, что молчит еще больше. Иного - никому нельзя сказать.
У него, наверное, есть мысли, которых он боится»5. В последней фразе
Горького, возможно, заложен ключ к пониманию очень многого в Толстом.
Но хотя мы и выбираем одно, другое место, увлеченные книгой
Горького, понятно, почему он пишет во вступлении: «И не доканчиваю... этого
почему-то нельзя сделать»6. Ибо, едва сказав об одиночестве и отчужденности
Толстого, мы сразу вспоминаем, как очаровывал он целую комнату разных
людей, словно был «какой-то необыкновенный человек-оркестр»7,
способный играть на различных инструментах, звучавших в нем по очереди.
Он редко говорил о литературе, но заметим: обо всех писателях говорил так,
будто они были его дети, и страстный интерес к искусству у него, вместе с
собственным торжеством художника, прорывался то и дело, точно
выплеснувшееся пламя. И тогда нашу картину Толстого, маленького, ссохшегося,
серого, в крестьянской рубахе, надо дополнить другой, где он предстает со-
В. Вулф. Мимолетный взгляд на Тургенева
423
зданием чистейшей крови, благородным, полным достоинства,
выражающимся сдержанно и изысканно точно.
Жизнь Толстого нельзя «докончить». Но картина Горького ближе других
к полноте, ибо он не пытается включить все, дать всему объяснение или
свести все в одно завершенное полотно. Что-то у него освещено очень ярко, а
что-то остается темным и пустым. И, наверное, именно так видим мы людей
в действительности.
МИМОЛЕТНЫЙ взгляд
НА ТУРГЕНЕВА
Интересно, что б мы сказали, если это был бы не шестнадцатый том
классика1, а первая книга неизвестного писателя? Наверное, начали бы с того, что
месье Тургенев - наблюдательный молодой человек, научись он еще
сдерживать свою страсть к деталям, и со временем, возможно, у него будет что
сказать людям. «У ней была привычка гнуть голову направо, поднося ко рту
кусок слева, словно она заигрывала с ним». «...(Они. -H.R) успокоили
разъярившихся собачонок, а одну из них... вошедшая девка принуждена была...
унести в спальню, причем потерпела укушение в правую руку»2. И то и
другое превосходно подмечено, но мы сейчас же указали б на рискованность
такого мелкого плавания: детали опасны, поскольку их под рукою пропасть.
Сколькие разбились из-за того, что упрямо твердили о том, как укушенная в
правую руку, она взяла вилку левой. И вдруг - мы еще не договорили
фразу - детали расплываются и исчезают. Остается сцена: она живет сама по
себе, не нуждаясь в подпорках или заверениях автора. Отец, мать, две
дочери, молодые люди, пожаловавшие с визитом, те самые овчарки и угощение
на столе - каждая маленькая подробность будто невольно работает на общее
впечатление, которое с окончанием визита перерастает в убежденность, что
ничто на свете не заставит Бориса Андреича жениться на Эмеренции. Это
главное, а за этим главным, как сквозь исчезающий вдалеке дом,
проступает и другое - самодовольно улыбающаяся Эмеренция в гостиной, рыдающая
Поленька, которая бежит наверх жаловаться горничной на ненавистных
гостей с их разговорами о музыке, и сердитая маменька.
Эта сцена выполнена не подмастерьем: тут одного острого глаза и
блокнота с наблюдениями было бы мало. И все же по одному этому эпизоду еще
нельзя сказать, что мы угадываем руку мастера и можем сказать с
уверенностью: да, этот неизвестный русский писатель и есть знаменитый
романист Тургенев. Но рассказ еще не закончен: к немалому удивлению
приятеля Борис женится на простой Верочке Барсуковой. Молодые поселяются в
деревне; жизнь всем хороша, но скучновата: Бориса тянет путешествовать.
Он едет в Париж; словно во сне, знакомится с молодой женщиной, дальше
внезапная дуэль, и его убивают. В далекой России по нему плачет вдова.
424
Дополнения
Но, в конце концов, Борис «не принадлежал к числу людей незаменимых
(да и есть ли такие люди?)». Вдова тоже «не была способна посвятить себя
навек одному чувству (да и есть ли такие чувства?)»3. Она выходит за
старого приятеля мужа, они мирно живут в деревне, у них дети, и они счастливы,
«потому что на земле другого счастия нет»4. Так первая, очень живая и емкая
сцена вызвала к жизни другие - те расширили первое впечатление, создали
контраст, задали перспективу, все уплотнили. К концу кажется, - здесь есть
все: это мир, способный существовать сам по себе. Теперь можно увереннее
говорить о мастерстве: у нас не отдельный, блестяще написанный эпизод,
который тут же забывается, а серия сцен, связанных чувствами, близкими
каждому человеку. Выяснять, какими художественными средствами достигнуто
это общее впечатление, заняло бы в рецензии слишком много места; к тому
же у Тургенева есть вещи более показательные. Повести, собранные в этом
томе5, - не самые лучшие его произведения. Но в них налицо главный
признак большого мастера: они живут самостоятельной жизнью. По ним можно
судить о том, что за мир создал Тургенев и чем его видение отличалось от
представлений других писателей.
Подобно многим русским прозаикам, его взгляд печален: кажется, за
светлым кругом его сцены лежат необъятные пустынные пространства, они
подступают к окнам, давят на людей, разъединяют их, заставляют их
бездействовать, махнуть на все рукой, быть искренними и откровенными. Это
общий фон русской литературы. Но Тургенев в эту картину вводит нечто
совершенно новое. Да, люди сидят, как обычно, вокруг самовара, идет
тихий грустный тургеневский разговор, и вдруг кто-то из собеседников
поднимается и смотрит в окно. «Однако, - прибавила она... - луна, должно быть,
взошла, это ее отблеск над тополями»6. Мы смотрим, и точно - лунный свет
лежит на тополях. Или другой, столь же сильный пример - описание сада в
«Трех встречах»: «Все дремало. Воздух, весь теплый, весь пахучий, даже не
колыхался; он только изредка дрожал, как дрожит вода, возмущенная
падением ветки... Какая-то жажда чувствовалась в нем, какое-то мление... Я
нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал из заглохшей
травы свой прямой стебелек...»7 и так далее. Но вот женщина запела, и голос
ее зазвенел в ночи, где все притихло в едином желании слиться с ним,
отозваться ему и умчаться вдаль. Выборочные цитаты не передают впечатления,
описание - часть всей повести. Вдобавок, мы чувствуем, что Тургенев не
дается переводчику, и это не вина миссис Гарнет: просто английский язык - не
русский. Описать настоящий лунный сад может только художник, без этой
неизбежной в переводе тщательности: картина должна петь, в ней должна
быть музыка, прозрачность... А так, хотя настроение и передано, но красота
пропала. Итак: Тургенев обладает необыкновенной силой эмоционального
воздействия: у него и луна, и люди, сидящие за самоваром, и голос, и цветы,
и тепло сада - живут одним ослепительно прекрасным мгновением, а кругом
расстилается, покуда хватит глаз, равнодушное пространство, и все
кончается тем, что, слегка пожав плечами, он отворачивается8.
В. Вулф. Достоевский в воспоминаниях дочери
425
ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ
ДОЧЕРИ
Читать эту книгу1 как жизнеописание Достоевского было бы ошибкой:
мадемуазель Достоевская права, назвав ее «очерком» - очерком дочери, мог
бы, наверное, добавить дотошный читатель. Ведь в книге нет положенных
для настоящей биографии писем, фактов, свидетельств друзей и даже дат, а
если они кое-где и попадаются, то лишь по прихоти автора. А какая прихоть
может быть у дочери, взявшейся за очерк об отце, представить нетрудно:
поделиться с читателем своими воспоминаниями, и если по
воспоминаниям выходит, что отец был справедливым, нежным, непогрешимым и даже
те маленькие слабости, которые за ним водились, были всего лишь
издержками великого таланта, то это еще не повод строго судить пристрастного
автора. Да, бывало, отец шиковал, поигрывал в карты, случалось, давал
слабину и, поддавшись женским чарам, сбивался с пути истинного: эти милые
эвфемизмы, продиктованные дочерним чувством, вполне простительны, тем
более что чувство искренней любви и гордости за отца, которым дышат
страницы этой книги, с лихвой окупает подобные мелочи и действительно
расширяет наше знание о Достоевском. Другое дело, что м-ль Достоевская
берется в том же ключе излагать свою версию ссоры между Достоевским и
Тургеневым: вот здесь мы уже ей не союзники. Одно дело представить
своего отца героем, и совсем другое - пытаться представить дело так, будто
окружавшие его враги - все сплошь злодеи. А по книге получается именно
так: кругом виноват один Тургенев - он-де и завидовал, и высокомерничал,
и вообще «больше всех проявлял жестокость и злобу»2. Автор
пренебрегает свидетельствами, которые в избытке содержатся в произведениях самого
Тургенева, и, что еще более досадно, она оставляет без внимания аргументы
другой стороны, не знать о которых не могла. Естественно, это только
настораживает читателя, и он начинает с повышенной пристальностью въедаться
в описание личности Достоевского, чего при другом освещении событий
делать бы не стал. Что же это за человек такой, если его дочь поднимает шум и
бросается на его защиту? Собственно, поиск ответа на этот вопрос и
составляет главный интерес книги, в которой собраны ранее неизвестные, хотя и
противоречивые сведения о Достоевском.
Так вот, если следовать логике м-ль Достоевской, любое исследование
творчества ее отца должно строиться на том факте, что по отцовской линии
Достоевский был из литовцев. М-ль Достоевская явно читала Гобино3,
поскольку она выказывает почти иезуитскую изощренность и огромное усердие,
стремясь обосновать этнической наследственностью чуть ли не каждую
духовную и нравственную букву в характере писателя. У Достоевского
литовские корни, и поэтому-де он был чистюля. Как же, раз он литовец, он,
конечно, платил по долгам своего брата. Он и по-русски потому плохо писал, что
426
Дополнения
был литовского происхождения. У него литовская кровь, поэтому он и был
набожным католиком. Он часто сетовал на свой чудной и дурной характер,
сам не понимая того, что не в характере дело, а в том, что он литовец.
Впрочем, сам Достоевский не придавал особого значения своему происхождению,
поэтому и нам, если мы хотим приблизиться к нему, а не отдалиться, стоит
последовать его примеру и не забираться в этнические дебри. Тем более что
в своей книге м-ль Достоевская сообщает нам куда более интересные и
тонкие подробности. Жить в отцовском доме и не совать свой маленький носик
куда не положено - говорите это о ком угодно, только не об умненькой
зоркой девочке! Ей известно все, что делается в доме: и когда ворчит кухарка,
и кого из гостей родители за глаза называют занудой, и с какой ноги сегодня
встал папа, и не назревает ли в доме очередная семейная гроза. Если учесть,
что Эми4 была совсем маленькой, когда отец умер, то трудно ожидать, что
она запомнит еще что-то, кроме этих мелких бытовых деталей. Но мы
забываем об одном важном обстоятельстве: она же русский ребенок! Ее детская
искренность и непосредственность, как всегда в таких случаях, наверное,
сильно осложняли жизнь ее родителям. Отца она слушалась - его
авторитет был для нее непререкаемым (кстати, эти фрагменты воспоминаний
несколько смазаны), зато больше ничью власть она над собой не признавала.
«Ее самовлюбленность была почти безграничной, до болезненности;
обижалась по любому пустяшному поводу, а на лесть была падка, до
самоунижения»5, - это дочь пишет о живой матери6. Столь же откровенно и
беспощадно судит она о родственниках и близких отца: о своих дядюшках и тетях, о
своем сводном брате, о первой жене отца7, его любовнице 8 - им всем от нее
достается на орехи, если не считать отдельных смягчающих оговорок по
адресу тех из ее родственников, у кого ей удается отыскать славянские ли,
нормандские, украинские, негритянские, монгольские или шведские корни. Вот
тут-то и обнаруживается ее настоящий вклад в наши познания о
Достоевском. Ясно, что она перегибает палку, но почему она это делает - вот что
интересно! Несомненно, ее горечь - это отрыжка былых семейных ссор: ссор
унизительных, мерзких, прерываемых лишь затем, чтобы вспыхнуть с
новой силой, - ссор, терзавших Достоевского до самой его смерти. Страницы
книги буквально пышут жаром взаимных обвинений, брани, жалоб на
безденежье, требований уплатить по все новым и новым долгам и признаний в
финансовой несостоятельности. Вот, оказывается, в какой обстановке писал
Достоевский.
Отец его был врачом, пил и из-за пьянства вынужден был оставить
должность; пьянство же и подвело его под монастырь - не выдержав пьяных диких
выходок барина, его крепостные устроили ему «темную», задушив
подушками прямо в карете по пути в имение9. Пьяницами были и оба брата
Достоевского10, а его сестра, до безумия скупая, тоже плохо кончила: ее убили из-за
денег11. Сын же ее «был настолько глуп, что производил впечатление идиота.
Сын моего дяди Андрея, молодой ученый, подававший блестящие надежды,
В. Вулф. Достоевский в воспоминаниях дочери
427
умер от паралича. В роду Достоевских все страдали неврастенией»12. К
этому семейному «пунктику» остается добавить чисто национальный, на взгляд
английского читателя, фатализм типа «господь не выдаст, свинья не съест»:
можно быть уверенным, что если Достоевскому удалось избежать смерти на
виселице и выжить на каторге в Сибири, то ему на роду написано
жениться на женщине, влюбленной в молодого, приятной наружности учителя, а в
любовницы взять девушку, которая поднимет его в семь утра воплями, что
она сейчас зарежет француза, и в доказательство эта особа будет
размахивать у него перед носом огромным ножом. Достоевскому удастся отговорить
барышню, и они вместе отправятся в Висбаден, где «мой отец с огромным
увлечением сел за рулетку, страшно радовался выигрышу, а проиграв, впадал
в уныние»13. Безумная, отчаянная свистопляска! Не прекратилась она и
тогда, когда Достоевский был уже счастливым отцом семейства: ему все равно
приходилось поддерживать неродного сына, который ни на что не годился;
все равно приходилось платить по долгам своих братьев; все равно сестры
пытались поссорить его с женой; а когда внезапно скончалась богатая
родственница Куманина и оказалось, что она оставила свое состояние именно ему,
тлевшая дотоле среди бедных родственников семейная обида вспыхнула с
удесятеренной силой. «Достоевский потерял терпение и, не закончив обед,
вышел из-за стола, показывая, что не намерен продолжать тяжелый
разговор»14. Ровно через три дня он умер. Читаешь такое и думаешь: нет, Фаринг-
форд случается не только в Англии15, и Мэтью Арнолд, страсть как не
любивший раздоры в семействе Шелли16, наверняка нашел бы что сказать и по
поводу дрязг в семье Достоевского.
Хотя, при чем здесь Достоевский? Все описываемое напоминает скорее
грохот и звон посуды, которую на кухне колошматит вошедшая в раж
служанка, или шепот родни, шушукающейся по углам в гостиной, а к
Достоевскому это не имеет никакого отношения: он сидит один наверху в своей
комнате и пишет. Ясно, что у него была поразительная способность отвлекаться
от окружающей обстановки и уходить в себя. Кажется, от одних только
материальных затруднений можно было сойти с ума, а он, в отличие от жены,
похоже, не сильно из-за них волновался. Дочь вспоминает, как однажды он
сказал ей спокойно и уверенно: «Запомни, мы никогда не будем сидеть без
денег»17. Такое впечатление, что его силуэт все время мелькает перед нами,
кажется, мы вот-вот встретимся, но каждый раз он проходит мимо, - это
немного напоминает рассказ о том, как он ежедневно в четыре часа пополудни
совершал прогулку, всегда одним и тем же маршрутом, погруженный в свои
мысли, и «никогда не узнавал случайно встретившихся по пути знакомых»18.
Описываются путешествие по Италии, посещение картинных галерей,
прогулки по садам Боболи19, «неизгладимое впечатление, произведенное на его
воображение северянина, тамошними роскошными розами»...20 Только
почему-то не очень верится в то, что после «Идиота», над которым он трудился
целое утро, он стал бы восторгаться розами: нет, нам явно предлагают, вмес-
428
Дополнения
то жизни Достоевского, жалкие маргиналии. Лишь иногда, забывшись, м-ль
Достоевская приоткрывает дверь в отцовский кабинет, и мы видим
писателя глазами маленькой девочки, чей взор не застит ни злоба текущего
политического момента, ни озабоченность нормандским влиянием на литовский
национальный характер. Оказывается, он ни за что не садился писать, если
находил у себя на одежде пятнышко капнувшего воска. Любил сушеные
финики - у него в шкафчике всегда стояла коробка с этим лакомством, и он
угощал финиками детей. Душился одеколоном. Ему нравилось, когда
девочек одевали в платья бледно-зеленого цвета. Еще люб>ил с ними танцевать
и читал им вслух Вальтера Скотта и Диккенса. Но про свое детство не
рассказывал никому и никогда. Она думает - он боялся обнаружить в себе
признаки дурной наследственности отца- недаром он желал одного: «...быть
как все»21. А для нее самой в детстве не было большей радости, чем сидеть
вместе с ним за завтраком и разговаривать о его книгах. А потом все это враз
оборвалось: и вот она видит отца во фраке, лежащим в гробу, рядом с
гробом стоит художник и быстро рисует в альбоме, на лестнице толпятся
великие князья и простой люд, они с братом раздают незнакомым людям цветы и
предвкушают поездку на кладбище.
СИЛАЧ БЕЗ КРЕПКИХ КУЛАКОВ
В книге г-на Ярмолинского1 собрана обширная информация о
Тургеневе, но затрудняет то, что приводятся высказывания, не известные западным
читателям, а ссылок не дается. Вообще г-н Ярмолинский - биограф строгий,
если не сказать скептический: он очень хорошо видит слабые стороны
своего предмета. И все же мы благодарны ему за вновь поднятый вопрос о
Тургеневе и за возможность проверить новыми фактами свою точку зрения.
Из всех великих русских писателей в Англии, пожалуй, менее всего
оценен по достоинству именно Тургенев. Причина понятна: новая страна, ее
литература, если она настоящая, должна быть не похожа на литературу других
народов, - рассуждали иные читатели, находя и смакуя в Чехове и
Достоевском такие свойства, которые представлялись им чисто русскими, особой
национальной пробы. Они радовались, встречая в сочинениях русских
писателей поток эмоций, самоанализ, незавершенность - качества, которые они
ни за что не потерпели бы у французов или англичан. Русских неизменно
представляли сидящими за самоваром в темной непроглядной комнате и
спорящими без конца о душе.
А Тургенев был совсем другим. Космополит, бездомный, он жил на
довольно двусмысленном положении то в Англии, то во Франции. Семейные
обстоятельства не очень привязывали его к родине. Мать его была настоящей
самодуркой: в российской глуши она устроила порядки, напоминавшие, как в
В. Вулф. Силач без крепких кулаков
429
кривом зеркале, французский двор накануне революции; деспотична была до
маниакальности - наказывала крепостных за малейшую провинность; кашу
ей привозили на перекладных из дальней деревни за полтора десятка верст
лишь потому, что именно там, как ей казалось, умели готовить по ее вкусу.
Речку повернули только потому, что шум воды мешал ей спать. Правда это
или нет, но сыновей своих она из дому выжила - будущему писателю нрав
матери-помещицы был ненавистен и, будучи человеком, как он выражался, без
крепких кулаков, он предпочел уйти из родного дома. Ушел - и попал к
Полине Виардо. Там ему отвели место на одной из позолоченных лап
медвежьей шкуры, на которой сидели ее поклонники и в перерывах между
действиями спектакля курили ей фимиам. Другого жилища Тургенев так и не сыскал.
В конце жизни он с горьким смехом советовал молодым людям найти себе
дом и не лепиться с «краю чужого гнезда»2. Говорят, мадам Виардо так и
не предложила ему места в гнезде. «Крупный мужчина, мягкотелый, судя
по слабовольному подбородку и оплывшему черепу»3, он сидел подле нее
до самой смерти. Но, несмотря на горечь и одиночество, возможно, такая
жизнь, сочетавшая в себе свободу и близость, более всего подходила к его
темпераменту. Он не выдержал бы строгих семейных правил: добрейшая
душа, он вечно опаздывал к столу, был страшный неряха, и, самое главное,
он беззаветно любил искусство.
Эта страсть художника и делает его таким непохожим на «обычного»
русского в представлении англичан. Тургеневские романы под стать
поздним зрелым плодам на старом-престаром дереве. Чем еще, как не трудами
нескольких поколений писателей, можно объяснить эту поразительную
емкость его прозы, этот продуманный отбор каждой детали? Любая из его книг
настолько плотна и насыщенна, что ее можно запросто носить с собой в
кармане, а прочитаешь - кажется, будто это целый огромный мир, где хватает
воздуху мужчинам и женщинам в полный рост, и небу над головой, и полям
во всю ширь. Тургенев - экономнейший из писателей. Он не занимает
пространство своей персоной, не комментирует поведение героев - он просто
ставит их перед читателем, а сам отходит в сторону. Так, например, с
Базаровым мы сразу находим общий тон: он говорит без всякого пафоса или
нажима. Зато воображение читателя постоянно в действии, оттого и каждый
характер, каждая сцена только прибавляют в значительности. Здесь же
проявляется и другая особенность почерка Тургенева: он пишет так, что никогда
нельзя сказать с полной уверенностью, что смысл состоит именно в том или
в другом. Возвращаешься к нужной, казалось бы, странице, а весь смысл,
вся сила, которые находил раньше, словно бы улетучились. Как в подлинной
живописи, суть высокого поэтического искусства Тургенева заключается в
том, что эффект достигается тысячами мелких, накладывающихся друг на
друга мазков, не сводимых к какому-то одному яркому описанию или
драматической сцене. Потому-то Тургеневу и удается спокойно и во всей
глубине и полноте обсуждать такие жгучие вопросы, как отношения отцов и
430
Дополнения
детей, взаимодействие старого и нового, и делать это с немыслимыми для
наших романистов широтой и беспристрастностью: обсуждение не задевает
наших симпатий, мы не держим на писателя зла и не взрываемся по каждому
пустяку. Спустя столько лет «Отцы и дети» притягивают нас по-прежнему:
в ясности этой книги скрыта большая глубина, за немногословностью
угадывается целый мир. Возможно, и прав современный биограф, утверждая,
что Тургенев-де был и слаб, и подавлен сознанием тщетности земного, но
согласитесь: взгляд его на литературу оставался неизменно суровым. Будьте
честными в своих чувствах, - советовал он, - углубляйте опыт познанием,
свободно подвергайте любую мысль или факт сомнению и, главное, не
попадайтесь в ловушку догматизма. Сидя с краю чужого гнезда, он блистательно
разрабатывал это трудное искусство. Силач без крепких кулаков,человек, не
очень опрятный в быту, он был, вопреки всему, великий художник.
РОМАНЫ ТУРГЕНЕВА
Более чем пятьдесят лет назад Тургенев умер во Франции, а похоронен
в России - справедливо, думается, если мы вспомним, сколько дала ему
Франция и как неизменно все же принадлежал он родной земле. Достаточно
еще до чтения его книг взглянуть на фотографию - и сразу почувствуется
влияние обеих стран. Величественная фигура в сюртуке парижского
образца, кажется, смотрит пристально поверх домов на какую-то более широкую
панораму. В нем есть что-то от степного зверя, пойманного, но не
забывшего, откуда он родом. «C'est un colosse charmant, un doux géant aux cheveux
blancs, qui a l'air du bienveillant génie d'une montagne ou d'une forêt... -
писали братья Гонкур после встречи с ним на обеде в 1863 году. - Il est beau,
grandement beau, énormément beau, avec du bleu du ciel dans les yeux, avec
le charme du chantonnement de l'accent russe, de cette cantilène où il y a un
rien de l'enfant et du nègre»1. И Генри Джеймс отмечал позднее огромное
физическое благородство, славянскую безмятежность и «дух пренебрежения
к собственной силе, точно он из скромности решил никогда не вспоминать
о том, что он сильный. Он иногда краснел, как шестнадцатилетний
юноша»2. Возможно, кое-что из подобного соединения черт мы найдем и в его
книгах.
Оттого ли, что их давно не раскрывали, они вначале покажутся нам
тонковатыми, простыми и эскизными по исполнению. Возьмите «Рудина»,
например, - читатель наверняка отнесет его к французской школе, и скорее не
к оригиналам, а к копиям. Подозревая, что писатель в чем-то пожертвовал
своим характером и силой, увлекшись прекрасным образцом. Но
поверхностное впечатление сменяется по ходу чтения другим, более глубоким и
В. Вулф. Романы Тургенева
431
точным. Короткая сцена имеет удивительно широкую перспективу. Она как
бы раздвигается в сознании и живет самостоятельной жизнью, рождая
новые идеи, эмоции и картины - так реальное мгновение порой открывает свой
тайный смысл лишь много времени спустя. Мы замечаем, что люди говорят
очень живо и естественно, их речи всегда неожиданны; звук давно замер, а
смысл сказанного живет. Часто им даже не надо говорить, чтобы мы уловили
их настрой. «Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его
разбудили»3, - он не сказал ни слова, но мы его поняли. А когда, отвлекаясь на
минуту, мы смотрим в окно, чувство оживает в нас с новой глубиной, ибо было
передано через другую среду - деревья, облака, лай собаки или пение соловья.
Так мы окружены со всех сторон - разговором, молчанием, взглядом вещей4.
Картина необыкновенно полная.
Легко сказать, что, добиваясь столь многозначительной ясности,
Тургенев прошел долгий и трудный путь отбрасывания лишнего. Он знает все о
своих людях и поэтому, когда пишет, выбирает только самое выпуклое без
видимых усилий. Но вот прочитаны «Рудин», «Отцы и дети», «Дым»,
«Накануне» и другие романы, и встают вопросы, на которые нелегко найти ответ.
Книги короткие, а вмещают удивительно много. Чувство очень сильное, и
в то же время ровное. Форма в одном смысле совершенна, в другом -
сбивчива. Они о России 50-60-х годов прошлого века, и они же о нас самих в
настоящую минуту. Нельзя ли тогда узнать от самого Тургенева, какие
принципы вели его, была ли у него при всей кажущейся простоте и легкости своя
неистовая теория искусства? Романист, конечно, живет гораздо глубже
критика, и утверждения его часто противоречивы и беспорядочны; они
словно разбиваются в процессе выхода на поверхность и не очень связываются
в свете разума. И все же Тургенева интересовало искусство литературы, и
одно или два из его высказываний помогут прояснить наши впечатления от
знаменитых романов. Однажды молодой писатель принес ему почитать свою
рукопись. Тургенев заметил ему, что героиня у него говорит не то. «Как же,
по-вашему, следует сказать?» - спросил автор. Тургенев взорвался: «А я
почему знаю, как?., ваше дело придумать подходящее выражение». Юноша
ответил, что он не смог. «Вы должны придумать... Не думайте, что я знаю, да
не хочу сказать; подыскать выражение нельзя, оно должно само вылиться,
иногда приходится даже употребить новое выражение или выдумать слово».
И он посоветовал ему отложить рукопись на месяц или более, и,
возможно, тогда выражение найдется. Если же нет - «значит, от вас мало толку
будет»5. Может показаться, что Тургенев из тех писателей, для кого верное
выражение есть самое главное - оно не приходит с наблюдением, а
всплывает из глубин бессознательно. Его нельзя найти изучением. Но затем он
снова говорит об искусстве романиста, и теперь уже необходимость
наблюдения у него на первом месте. Писатель обязан наблюдать все точно в
себе самом и в других. «Горе пройдет, а превосходная страница
останется»6. Надо наблюдать постоянно, отстраненно, беспристрастно. И все рав-
432
Дополнения
но ты только в самом начале. «Нужно еще читать, учиться беспрестанно,
вникать во все окружающее, стараться не только уловлять жизнь во всех ее
проявлениях - но и понимать ее, понимать те законы, по которым она
движется и которые не всегда выступают наружу...»7 Именно так работал он
сам, пока не стал, по его выражению, стар и ленив. Но для этого надо иметь
крепкие мышцы, добавлял он; и, подумав, мы едва ли упрекнем его в
преувеличении.
Тургенев требует от романиста делать не только многое, но и нечто
взаимно несовместимое. Писатель должен видеть факты беспристрастно, и он
же обязан их толковать. Многие писатели делают первое, многие - второе: у
нас есть фотография и поэма. Но немногие соединяют факт и образ, и
редкий дар Тургенева есть результат этой двойной сложной работы. В коротких
главах он управляется сразу с двумя очень разными делами. Безошибочным
глазом наблюдает все до мелочи. Соломин берет пару перчаток; это были
«только что вымытые замшевые белые перчатки, каждый палец которых,
расширенный к концу, походил на бисквит»8. Но, точно показав нам
перчатку, он останавливается, и уже толкователь тут как тут - настаивает, чтобы
даже перчатка соответствовала характеру или идее. Но толкователю никогда
не позволяют уноситься беспрепятственно в царство воображения. Снова
наблюдатель оттаскивает его назад, напоминая о другой правде, правде
факта. Даже героический Базаров уложил в чемодан лучшую пару брюк, желая
произвести впечатление на даму. Напарники работают в теснейшем союзе.
Мы смотрим на одну и ту же вещь под разными углами, и, в частности,
поэтому короткие главы так емки - они вмещают столько контрастов. На одной
и той же странице есть ирония и страсть, поэтическое и обыденное, капает
кран и поет соловей. И хотя картина вся из контрастов, она не нарушается,
ни одно из впечатлений не заслоняет другие.
Такая уравновешенность двух очень разных сил встречается крайне
редко, в английской литературе особенно, и требует известных жертв. Великие
характеры, столь хорошо знакомые нам по нашей литературе, - Микоберы,
Пекснифы, Бекки Шарп9, не смогли бы процветать под таким надзором.
Они как будто требуют для себя больше прав, им надо позволить
преобладать над соперниками и даже сокрушать их. У Тургенева же ни один
характер, исключая разве Базарова или Харлова в «Степном короле Лире»,
не стоит выше или ниже других так, чтобы мы помнили его отдельно от
книги. Рудины, Лаврецкие, Литвиновы, Елены, Лизы, Марианны
высвечивают друг друга, создавая скорее, со всеми их оттенками, некий тонкий и
глубокий человеческий тип, чем несколько крупных и очень самобытных
личностей мужского и женского пола. Романисты же поэтического склада -
Эмили Бронте, Гарди или Мелвилл, для кого факты суть символы,
конечно, дают нам примеры более драматических коллизий и сильных страстей
в «Грозовом перевале», «Возвращении на родину» или в «Моби Дике», чем
В. Вулф. Романы Тургенева
433
предлагает Тургенев в любом своем романе. И все же его книги не только
часто действуют на нас как поэзия, но и, пожалуй, больше удовлетворяют,
чем другие. Они загадочно близки нашему времени, не потеряли свежести и
полноты.
Ибо Тургенев обладает в огромной степени еще и редким даром
пропорции, равновесия. Он дает нам в сравнении с другими романистами
обобщенную и гармоничную картину мира. И не только благодаря широте
охвата - показывает нам разные слои общества: и крестьян, и интеллигенцию,
дворян, купцов. Но мы осознаем и какой-то последующий контроль и
порядок. Хотя, как подсказывает чтение «Дворянского гнезда», они идут вовсе
не от мастерства рассказчика. Наоборот, Тургенев часто никудышный
рассказчик. Его повествование полно петляний, отступлений. «...Мы должны
попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего
рассказа»10, - скажет он, и затем на пятидесяти страницах мы втянуты в историю
прабабушек и прадедушек, путаемся в ней, пока наконец не возвращаемся
обратно к Лаврецкому в О... «где мы расстались с ним и куда мы просим
теперь благосклонного читателя вернуться вместе с нами»11. Настоящий
рассказчик, который свою книгу видит как последовательное развитие событий,
не потерпел бы такого обрыва. Но в том и дело, что Тургенев свои книги
видел не чередой событий, а как развитие переживания, сосредоточенного
в главном характере. Какой-нибудь Базаров или Харлов, увиденный раз в
жизни, возможно, в углу железнодорожного вагона, становится важнейшей
эмоциональной точкой и действует как магнит, способный притягивать
тайно близкие, хотя наружно и несовместимые вещи. Здесь связь не событий, а
чувств. И мы, наверное, потому испытываем в конце книги ощущение
полноты, что слух Тургенева на чувство, несмотря на его огрехи рассказчика,
поразительно верен, и даже если он использует резкий контраст или
переходит от героев к описанию неба или леса, все объединяется правдой его
внутреннего видения. Он никогда не отвлечет нас чем-то несообразным -
фальшью или произвольным переходом.
Именно поэтому романы его не просто соразмерны, но и заставляют нас
так глубоко сопереживать. Его герои и героини принадлежат к тем немногим
вымышленным лицам, в чьей любви не сомневаешься. Это чувство
необыкновенной чистоты и силы. Любовь Елены к Инсарову, ее мука, когда он не
пришел, ее отчаяние, когда она ищет укрытия в часовне под дождем; смерть
Базарова и горе его стариков остаются в душе как действительно пережитое.
И все же странно - личность никогда не преобладает, многое другое,
кажется, продолжает свершаться в это же время. В полях не умолкает жизнь,
лошадь грызет мундштук, бабочка делает круг и садится. И замечая безотчетно
жизнь, продолжающую идти своим ходом, мы сильнее сочувствуем мужчинам
и женщинам, поскольку они не вся жизнь, а лишь частица ее. Во многом,
конечно, из-за того, что тургеневские люди глубоко осознают свою связь с
миром вне их «Я». «К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, за-
434
Дополнения
чем все это?»12 - спрашивает Елена в дневнике. Вопрос всегда готов сорваться
с их губ.
Это дает разговору глубину, в других отношениях легкому, занятному,
полному точных наблюдений. Тургенев никогда не был, как могло бы с ним
случиться в Англии, просто блестящим летописцем нравов. Его герои не
только задаются вопросом о цели их жизни, но и размышляют над судьбой
России. Интеллигенты всегда работают для России, они спорят о ее
будущем, пока рассвет не встает над вечным самоваром. «Жуют, жуют они этот
несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика...»13 - замечает Поту-
гин в «Дыме». Тургенев, по сути дела, изгнанник, не может душой
оторваться от России - в нем ощущается почти болезненная чувствительность от
сознания ущемленности и подавления. И все же он никогда, хотя это и трудно,
не позволяет себе стать чьим-то сторонником, глашатаем каких-либо идей.
Ирония никогда не покидает его, всегда есть другая сторона, контраст.
Среди политического жара нам показывают Фомушку и Фимушку, «пухленьких,
опрятненьких, настоящих попугайчиков-переклитков»14, которые живут себе
счастливо, распевая дуэтом, и дела им нет до своей родины. Другая
трудность, напоминает нам Тургенев,- не просто изучать крестьян, а
по-настоящему знать их. «Яне умел опроститься...»15 - напишет интеллигент
Нежданов накануне самоубийства. И хотя Тургенев мог бы сказать вместе с
Марианной: «Я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси...»16,
он знал, что для пользы дела и ради его искусства лучше не
распространяться, не объяснять. «Нет, по-моему: дал факт, и уходи, не разжевывай, пусть
читатель сам его обсудит и поймет. Поверьте, для идеи это лучше»17. Он
заставлял себя стоять в стороне, смеялся над интеллигентами, показывал
шумную пустоту их споров, впечатляющую несостоятельность их попыток.
И все же его чувство и их неудача сегодня действуют на нас с еще большей
силой из-за его отстраненности. Но если отношение это и было в какой-то
мере выработано им в себе, то в творчестве, как сполна доказывают его
романы, никакие теории не могут дойти до основы и стереть самого
художника. Его характер остается неискоренимым. Никто, повторяем мы вновь и
вновь, читая его даже в переводе, не мог этого написать, кроме Тургенева.
Его происхождение, национальность, впечатления детства пронизывают все,
что он писал.
Но если в выборе характера писатель не волен - он дан ему судьбой, то
распорядиться им писатель вправе. Художник - это всегда «Я». Но в
человеке много разных «Я». Будет ли это непременно личность, страдающая от
пренебрежения, обид, с желанием самоутвердиться, завоевать популярность
и власть для себя и своих взглядов, или же писатель будет подавлять это «Я»
ради другого, наблюдающего все как можно более честно и беспристрастно,
без соблазна отстаивать какое-нибудь дело или оправдываться? У Тургенева
не было сомнения в выборе, он отказался излагать «красиво и горячо... то,
что Вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека»18. Он развивал
В. Вулф. «Дядя Вайя»
435
другое «Я», отринувшее все лишнее и в своей индивидуальности почти
невидимое. Он говорит о нем, описывая актрису в «Накануне»:
«Она отбросила все постороннее, все ненужное и нашла себя: редкое,
высочайшее счастие для художника! Она вдруг переступила ту черту,
которую определить невозможно, но за которой живет красота»19.
Вот почему его романы и сейчас так близки нашему времени. Они не
измельчали, не истлели под воздействием горячего личного чувства. Мы
слышим не прорицателя, мечущего громы, но мыслителя, пытающегося понять.
Конечно, есть слабости, - как он говорил, - стареешь и ленишься; порой его
книги легковаты, смутны и, может быть, сентиментальны. Но в них «живет
красота», потому что он стремился писать самой сутью своего Я художника,
и, несмотря на иронию и отстраненность, мы никогда не усомнимся в
искренности его чувства.
«ДЯДЯ ВАНЯ»
«Каковы эти русские, а? - все видят насквозь; мы-то все драпируем:
дырка - мы туда цветочек, бедность - мы ее позолотим да прикроем бархатом;
сады вишневые, яблони, - а их не проведешь», - думала она, следя за игрой
актеров. Потом хлопнул выстрел.
«Ага! Выстрелил-таки. Слава Богу! Не попал? Даже не задел? Вон он,
старый хрыч с крашеными бакенбардами, в клетчатой паре, разгуливает как
ни в чем не бывало... Ну что же, попытка не пытка... А как поднялся-то! Как
взбежал по ступенькам! Как красиво выхватил пистолет! Взвел курок. А
пуля-то мимо - то ли в стену, то ли в ножку стола. В общем промазал. "Давай
обо всем забудем, милый Ваня. Останемся друзьями"1, - вот ведь как. Все.
Уехали. Только и слышно, как бубенчики звенят вдалеке. А мы - мы тоже
так же?» - она сидит, подперев рукой голову, и смотрит на девушку на
сцене. «Мы тоже слышим звон удаляющихся бубенчиков?» - спрашивает, а сама
думает о такси и омнибусах на Слоун-стрит, о своем доме на Кэдоган-сквер,
просторном особняке.
«Мы отдохнем», - говорит девушка и обнимает дядю Ваню. Потом
снова повторяет: «Мы отдохнем». Слова падают, как тяжелые капли - сначала
одна, за ней другая. «Мы отдохнем», - опять повторяет. И еще раз: «Мы
отдохнем, дядя Ваня». Занавес опускается.
«Ну а мы? - шепчет она мужу, пока тот помогает ей надеть пальто, - мы
ведь ружье не заряжали. И от чего нам отдыхать - мы совсем не устали».
Еще секунду они стоят в проходе под звуки «Боже, храни Короля»2. «Нет,
от русских тошнит, правда?» - и берет мужа под руку.
436
Дополнения
М-Р БЕННЕТ И МИССИС БРАУН*
Среди собравшихся в этой комнате я, наверное, единственная поддалась
искусу сочинительства и написала роман: полагаю, именно эта-
возможно, неудачная - попытка объясняет, почему сегодня я здесь. Получив ваше
приглашение прочитать доклад о современной литературе1, я задала себе
вопрос, который, как мне кажется, читается между строк вашего послания:
какой бес тебя попутал, внушив эту идею - написать роман? А вместо
ответа передо мной замелькал, наподобие солнечного зайчика, чей-то образ -
то ли мужской, то ли женский, точно дразня меня: «А я Браун! Спорим, не
поймаешь?!»
Чувство это знакомо многим романистам: вдруг, откуда ни возьмись,
является какой-нибудь Браун, Смит2 или Джонс и начинает вкрадчиво
нашептывать3: «Вот он, я - попробуй, догони!» И, послушные воле этого живчика,
серьезные люди исписывают том за томом в надежде настичь сие перекати-
поле; тратят лучшие годы жизни на погоню за ускользающей тенью, а в
награду за свои муки получают обычно весьма умеренную плату Лишь
единицам удается поймать жар-птицу - прочим же приходится довольствоваться
перышком или пушинкой, упавшей с ее хвоста.
Вы спросите: откуда у меня такая уверенность, что романы пишутся
оттого, что человек испытывает непреодолимый соблазн воплотить в
характере героя тот образ, который неотвязно его преследует? Я вам отвечу: в этой
мысли меня укрепил м-р Арнолд Беннет4. В статье, на которую я буду не раз
ссылаться, он пишет: «В основании добротной прозы лежит создание
характера... Разумеется, роман строится не только на нем, многое другое имеет
значение: стиль, сюжет, оригинальный взгляд на вещи, но ничто не может
перевесить главного - убедительных образов героев. Есть в романе
реальные характеры - значит, есть вероятность, что роман останется в литературе,
нет жизненных характеров - о таком романе никто не вспомнит...»5 И дальше
автор статьи делает вывод о том, что сегодня среди молодых писателей нет
первоклассных романистов, поскольку у них не получается создавать живые,
правдивые и убедительные характеры.
Вот тут я предлагаю остановиться и рассмотреть высказанное суждение
без привычных оговорок и уклончивости. Я намерена прояснить, что
имеется в виду, когда заходит речь о «характере» в литературе; ответить на
замечание м-ра Беннета по поводу «жизненности» характеров; наконец, я
попытаюсь объяснить, почему молодому поколению писателей, как утверждает м-р
Беннет, не удается создать характеры - впрочем, последнее еще надо
доказать. Боюсь, в обсуждении этой темы мне не обойтись без общих
отвлеченных утверждений: вопрос крайне запутанный. Если подумать, что мы знаем
""Доклад, прочитанный 18 мая 1924 года перед членами общества «Херетикс» (Примеч.
Вулф).
В. Вулф. М-р Беинет и миссис Браун
АЪ1
о характере? - очень мало, об искусстве и того меньше... И еще одно
предварительное замечание: предлагаю разделить современных писателей на два
лагеря: эдвардианцев - это м-р Уэллс, м-р Беннет и м-р Голсуорси, и георги-
анцев - это м-р Форстер, Лоуренс, Стречи, Джойс и м-р Элиот6. И не сочтите
за проявление гордыни, если я буду «якать»: просто не хочу навязывать
общественности частное мнение плохо осведомленного и запутавшегося
одиночки, выдавая его за коллективное «наше».
Итак, думаю, с первым моим тезисом согласятся все сидящие в этой
комнате: каждый из вас - знаток человеческой натуры. В самом деле,
представьте, что у кого-то нет опыта общения и он совсем не разбирается в людях - да
он и года не проживет, чтоб не попасть в какую-нибудь переделку. От того,
насколько хорошо ты видишь людей, зависит твое счастье в браке, друзьях;
твое деловое партнерство, наконец, да мало ли возникает каждый день
вопросов, решение которых целиком определяется твоей проницательностью в
человеческих отношениях! А теперь мой второй - пожалуй, более спорный -
тезис: примерно в декабре 1910 года в человеке что-то изменилось.
Заметьте: этими словами я вовсе не хочу сказать, что перемена случилась
в одночасье, как бывает, когда наутро выходишь в сад и видишь
раскрывшийся розовый бутон или свежее яйцо под курицей-несушкой. Нет! Резкой
или внезапной ту перемену назвать нельзя, только от этого она не
становится менее ощутимой, и, чтобы не быть голословной, предлагаю датировать ее
1910 годом. Первым из писателей ее подметил в своих книгах - и в первую
очередь в «Пути всякой плоти» - Сэмюэл Батлер7, а потом ее много раз
подтверждал своими пьесами Бернард Шоу8. В жизни она заметнее всего
проявилась - прошу прощения за бытовую подробность! - в поведении
домашней кухарки. Вспомним викторианскую матрону: та обитала в недрах кухни,
подобно Левиафану, лишь изредка поднимаясь наверх и наводя ужас на
домочадцев своим непроницаемым безмолвным видом. А современная
барышня-кухарка? Ее в кухонный подвал не загонишь, она любит греться на
солнышке и дышать свежим воздухом, она постоянно в гостиной: то присядет
почитать свежий номер «Дэйли Хералд», то вертится перед зеркалом в новой
шляпке. Это ли не доказательство изменчивости человеческой натуры? Если
же этот пример вас не убеждает, перечитайте «Агамемнона»9 и посмотрите,
на чьей стороне окажутся ваши симпатии к концу трагедии - ручаюсь, на
стороне Клитемнестры. А мысль о супружеской жизни Карлайлов10- разве
не вызывает она у вас чувство бессильной ярости от того, что два взрослых
человека оказались заложниками абсурдного ритуала совместной жизни, в
угоду которому талантливейшая женщина, писательница от Бога, жизнь
положила на то, чтоб драить до блеска кастрюли и бороться с домашними
насекомыми? А раз так, значит, людские отношения - отношения между
хозяевами и прислугой, мужьями и женами, родителями и детьми - изменились,
а изменение человеческих отношений, как известно, не происходит
изолированно - вместе с ним сразу приходят в движение религия, нормы поведения,
438
Дополнения
политика, литература... Поэтому за точку отсчета одного из таких сдвигов я
предлагаю взять 1910 год.
Повторю свою мысль о необходимости быть психологом для каждого,
кто стремится без потрясений прожить хотя бы год: науку эту постигают в
молодости. В зрелом же и пожилом возрасте люди редко пускаются в
авантюры и эксперименты по разгадыванию тайн человеческой природы. Но
романисты - народ особый: интерес к тайнам души разбирает писателя даже
тогда, когда и тайн-то, кажется, никаких нет, и собеседник виден насквозь
как стеклышко. Романист все равно не унимается, все ему чудится какая-то
неразрешимая загадка в самом существе характера, словно есть в человеке
некая ипостась, не связанная с практической стороной жизни, романисту она
представляется наиважнейшей, притом что он прекрасно знает: открытие не
сулит ему ни счастья, ни денег, ни благополучия. Тем не менее все ставится
на карту ради главного: схватить суть характера, выразить образ, поймать
неуловимый призрак - для романиста это становится делом жизни. Почему так
происходит, объяснить очень трудно: непонятно вообще, что имеет в виду
романист, когда толкует о характере, и что за сила обрекает его на эту муку -
пытаться снова и снова воплотить свой замысел в художественном слове.
Поэтому я лучше расскажу вам, без долгих предисловий и объяснений,
об одном случае, который произошел со мной в поезде, направлявшемся из
Ричмонда11 в Лондон: в этой истории, может, и нет глубокого смысла, зато
она достоверная и поможет мне, надеюсь, объяснить вам, что я имею в виду
под собственно характером, какие обличья он порой принимает и что за
трудности подстерегают всякого, кто попытается описать характер на бумаге.
Итак, дело было около месяца назад: я торопилась на вечерний поезд и,
боясь опоздать, впрыгнула в первый попавшийся вагон. Села на свободное
место в купе и тут же кожей ощутила неловкость создавшегося положения:
в купе ехали двое, и я своим вторжением явно помешала их разговору. Нет,
они не были влюбленной парочкой, совсем наоборот - люди в годах:
женщине за шестьдесят, мужчине около пятидесяти. Сидели они друг против
друга, и, судя по тому, как резко откинулся назад и умолк мужчина, он до
моего появления сидел, наклонившись вперед, чуть не нос к носу с
женщиной, и что-то с жаром доказывал ей: он даже раскраснелся от возбуждения.
Наверняка он чертыхнулся про себя, увидев третье лицо: он этого не ожидал
и был раздосадован. А его спутница - назовем ее миссис Браун - наоборот,
вроде обрадовалась. Такая аккуратница-чистюлечка: все-то у нее в порядке,
каждая пуговичка застегнута, ни один шнурок не болтается, обувь
вычищена, все подштопало, залатано - словом, тот случай, когда доведенная чуть
не до абсурда чистоплотность говорит о такой нищете, какая и не снилась
«беднякам», выставляющим напоказ свои грязные лохмотья. Чувствовалось,
что ей не по себе - в ее взгляде застыло что-то страдальческое, испуганное,
и, потом, она была очень маленькая: носками едва доставала до полу. Я тут
же представила себе: вот, наверное, мается одна-одинешенька, поддержать
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
439
ее некому, все приходится решать самой; муж бросил, а может, она овдовела
много лет назад и все эти годы выбивалась из сил, стараясь поднять на ноги
единственного ребенка - скорей всего сына, а он, негодяй, пошел по дурной
дорожке... На какую-то секунду я забылась, воображая картину ее жизни,
стремясь безотчетно избыть чувство неловкости, которое охватывает тебя,
когда ты остаешься наедине со случайными попутчиками. Стряхнув
наваждение, кошусь краешком глаза на мужчину: не родня ли часом миссис
Браун? - здоровяк, широкая кость, полнотелый... нет, не похоже. Коммивояжер,
решаю про себя: темно-синяя двойка из плотной саржи, перочинный ножик,
шелковый платок в верхнем кармашке пиджака, солидный кожаный
саквояж - не иначе как оптовик из Йорка или Шеффилда, какие-нибудь
«Поставки зерна». Что-то ему нужно от миссис Браун, - мелькнула у меня мысль:
видно, хочет провернуть какое-то темное дельце, потому и замялся при моем
появлении - не хочет выносить сор из избы.
- Да, не повезло Крофтам с прислугой, - слышу, задумчиво произнес м-р
Смит (так я про себя окрестила его), делая вид, что возвращается к теме
предыдущего разговора, а на самом деле стараясь заполнить неловкую паузу.
- Сами виноваты, - как бы нехотя отозвалась миссис Браун. - Почему-то
у моей бабушки (выпалила вдруг с чувством уязвленной гордости, словно
желая произвести впечатление на нас обоих) горничная как пришла в дом в
пятнадцать лет, так и прожила до восьмидесяти!
- Ну, сегодня такое редко встретишь, - примирительным тоном ответил
м-р Смит.
Снова воцарилось молчание.
- Я все жду, - прервал тишину м-р Смит, - когда они откроют клуб для
игры в гольф, уж молодые-то могли бы расстараться, - ему явно хотелось
разговорить свою спутницу.
Но та и ухом не повела, будто не слышала.
- Да, как быстро все меняется в мире! - не унимался м-р Смит, то
взглядывая в окно, то косясь украдкой в мою сторону.
Чувствовалось по ее упорному молчанию и его деланно-ласковому тону,
что она от него зависима, а он пользуется ее слабостью. Что же
произошло? - гадала я: сын оступился? Или вышла наружу какая-то старая история?
А может, дочка попала в беду? Уж не едет ли мать в Лондон подписывать
бумаги о передачи собственности? Да, попалась рыбка на крючок м-ру Смиту.
Я уже почувствовала, как у меня где-то внутри вскипает волна сострадания
к несчастной, и вдруг слышу, она задает ни с того ни с сего очень странный
вопрос:
- Скажите, если два года подряд гусеницы объедают листья на дубе,
дерево умрет или нет?
Спрашивает четко, ясно, с неподдельным интересом любознательного
человека.
440
Дополнения
Вижу: напрягся м-р Смит, но виду не подает, наоборот, показывает, что
рад представившейся возможности поговорить на нейтральную тему. И
начинает издалека рассказывать про нашествия насекомых: как у его брата
садовода из Кента каждый божий год беда - полчища гусениц атакуют
фруктовые посадки, и из года в год они с фермерами собираются и устраивают то-то
и то-то... В общем, во всех подробностях расписывает меры борьбы с
пожирателями яблонь, и тут вдруг на наших глазах происходит нечто
невообразимое: миссис Браун, слушавшая его до этого очень внимательно, достает
из сумки белый платочек и подносит к глазам - она плачет! Представляете:
слушает с кротким видом, а сама то и дело вытирает слезы, а м-р Смит, будто
не замечая, только знай, еще жарче наяривает про борьбу с насекомыми,
точно много раз оказывался свидетелем ее слез и терпеть не может эту вредную
привычку. Но в конце концов терпение у него лопается, он сердито
замолкает, отворачивается к окну, а потом, резко наклонившись вперед и оказавшись
с ней нос к носу - именно в этой позе я застала его, войдя в купе, басит
угрожающим тоном «мол, шутки в сторону»:
- Так как насчет нашего дела? Все будет в порядке? Джордж точно
явится во вторник?
- Мы себя ждать не заставим, - выпрямив спину, с достоинством
отвечает миссис Браун.
Вместо ответа м-р Смит вскакивает с места, рывком сдергивает с полки
саквояж и, застегиваясь на ходу, не попрощавшись, пулей летит к выходу: до
прибытия на станцию Клэпем оставались считанные секунды. Ну что ж, в
конце концов, он добился своего, пусть не лучшими средствами, - ему
стыдно, и он хочет побыстрее исчезнуть с горизонта.
И вот мы остаемся с ней одни в купе: она сидит в углу, нахохлившись, -
такая маленькая, ни пылинки, ни пятнышка, немного нелепая и до ужаса
бесприютная. Не поддаться чувству жалости, не откликнуться на ее горе
невозможно: такое впечатление, будто стоишь на сквозняке или откуда-то тянет
дымом, точно где-то пожар. Откуда же берется это смятенное,
необъяснимое чувство беды, от которой хочется бежать, куда глаза глядят? Когда такое
случается, мысли возникают самые невероятные и несуразные: какие только
картины ни бродят в голове, но в центре их всегда оказывается личность -
она, миссис Браун. Почему-то мне представился домик у моря: по стенам
небольшой гостиной под стеклом разложены заморские штуковины -
раковины, модели кораблей, на камине красуются боевые награды мужа. Самой ее
не видно, она словно дичится: заглянет в комнату и тут же скроется, а если
войдет, то бочком, - присядет на край стула, пощиплет что-нибудь на
тарелке, примостится в сторонке и смотрит, ничего не говорит. (Наверное, на эти
мысли меня навел ее вопрос про гусениц и дубовые листья.) А потом в эту
тихую спящую заводь ворвался м-р Смит: я живо представила себе, как
однажды ненастным днем он вломился в ее жизнь, пыхтя на всех парах. Двери
настежь, дом заходил ходуном; на полу в прихожей образовалась непросыха-
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
441
ющая лужа от его сырого зонта. Деваться стало некуда: он поселился у нее
навсегда.
Когда до миссис Браун дошел весь ужас создавшегося положения, она, не
мешкая, решилась на героический поступок: утром на рассвете упаковала в
сумку свой нехитрый скарб и отправилась на станцию. Она наотрез
отказалась от помощи м-ра Смита; он наплевал ей в душу, с сапогами влез в ее дом,
лишил крыши над головой - ее, женщину благородных кровей, выросшую в
родительском доме с прислугой... - впрочем, бог с ними, с подробностями:
детали обождут. Главное сейчас- схватить характер, уловить настроение...
Я ужасно торопилась - поезд уже подходил к конечному пункту, объяснять,
почему в ее облике читалось все разом - и трагизм, и бесстрашие, и детская
беззаботность, и блеск- было совершенно некогда... И тут, у меня на
глазах, она подхватила свой багаж, сошла с поезда и вмиг растворилась в лучах
багрового закатного солнца, затопившего вокзальные своды. Такой я ее и
запомнила: маленькой, решительной, хрупкой и бесстрашной... Больше я ее не
видела, и что с ней стало, уже никогда не узнаю.
Вот и весь рассказ - вроде бы ни о чем. Но, конечно, рассказала я вам
эту историю не ради красного словца или из желания поделиться приятными
воспоминаниями о путешествии из Ричмонда в Лондон. Нет, у меня другая
цель: вот посмотрите - повстречалась вам такая миссис Браун и вы
машинально начинаете сочинять о ней роман. Что происходит? Это значит, что
один человек заражает другого интересом к своей личности. Все романы, я
полагаю, начинаются со старушки, сидящей в углу напротив. Другими
словами, роман всегда связан с характером, - я в этом убеждена, - и пишется
он с одной-единственной целью: воплотить характер в слове; все же
прочее - доктринерство, лирика, славословие Британской империи - не имеет
никакого отношения к тому, ради чего создавалась романная форма: кажется,
такая неуклюжая, тяжеловесная, скучная и при этом столь гибкая,
насыщенная и живая. Итак, повторяю, воплотить характер, но, согласитесь, слова эти
можно понимать очень по-разному. Так, например, в зависимости от того,
сколько вам лет и в какой стране вы родились, вы по-своему воспримите
образ пожилой миссис Браун. Можно даже попробовать написать три разные
версии случившегося в поезде - английскую, французскую и русскую.
Романист-англичанин наверняка постарается создать «литературный портрет»
нашей дамы, тщательно выписав каждую черточку ее внешнего и
душевного облика: все до последней складочки, пуговки, морщинки, бородавки
на шее - образ ее, ручаюсь, будет главенствовать в книге. Французский же
писатель вымарает все эти подробности за ненадобностью и создаст более
отвлеченное, стройное и ясное целое, пожертвовав в угоду своему замыслу
индивидуальными характеристиками миссис Браун, зато подчеркнув в ее
образе общечеловеческое начало. А русский? Тот просверлит взглядом нашу
спутницу и явит нам ее душу - глядь, и вот уже не миссис Браун, а
обнаженная душа человеческая сходит на перрон вокзала Ватерлоо, ища ответ на
442
Дополнения
вопрос о смысле жизни, и долго еще вопрос ее будет звучать у тебя в голове,
хотя, кажется, и книга давно уже прочитана и имя героини стерлось из
памяти... И потом, кроме возраста и культурной принадлежности писателя, надо
еще учитывать его индивидуальность: каждый писатель по-своему
«прочитывает» характер - один видит одно, другой другое; истолкования бывают
самые разные. И решения, которые писатель принимает на странице, тоже
чаще всего не совпадают с представлениями собратьев по цеху, поскольку
подсказаны они его и только его предпочтениями! Выходит, в зависимости
от возраста, культурной принадлежности и индивидуальности писателя,
характер миссис Браун можно выразить разными способами.
И тут я вспоминаю слова м-ра Беннета: только тот роман имеет шанс
остаться в литературе, в котором есть реальные характеры, - в противном
случае роман обречен на забвение. Но что такое «реальность»? - задаю себе
вопрос. И кто имеет право судить о том, что реально, а что нет? Ведь сплошь
и рядом бывает так, что м-ру Беннету характер представляется реальным,
а мне - нет. Не надо далеко ходить за примерами: в той же статье он
сообщает, что, на его взгляд, д-р Ватсон из «Шерлока Холмса»12 - это реальный
образ, а по мне так это чучело, набитое соломой, манекен, шут гороховый.
И так любой персонаж, любая книга: какой бы роман - особенно
современный - мы ни взяли, самым спорным оказывается вопрос о том, реальны
выведенные в нем характеры или нет. Но если посмотреть на проблему шире,
думаю, м-р Беннет абсолютно прав. Назовите любой великий роман -
«Войну и мир», «Ярмарку тщеславия», «Тристрама Шенди», «Госпожу Бовари»,
«Гордость и предубеждение», «Мэра Кэстербриджа», «Городок»13 - и у вас
в памяти моментально всплывет образ, образ настолько реальный
(заметьте, я не говорю о жизнеподобии), что не поддаться ему просто невозможно:
ты сразу начинаешь смотреть на все новыми глазами - на религию, любовь,
войну, мир, семейную жизнь, провинциальные балы, закаты, рассветы,
бессмертие души... Кажется, нет такой грани человеческого опыта, которую бы
не высветил своими «Войной и миром» Толстой! И что знаменательно: какой
бы великий роман мы ни взяли, каждый великий мастер открывает нам глаза
на то, что он хотел выразить, непременно через тот или иной характер.
Потому-то он и романист! А будь иначе, он занимался бы чем-то другим: писал
стихи, изучал историю, сочинял памфлеты...
Но вернемся к м-ру Беннету: он ведь сказал еще кое-что - дескать,
великих романистов среди писателей георгианцев он не видит, поскольку у
тех не получается создать реальные, правдивые и убедительные характеры.
И вот тут я с ним не соглашусь. Не соглашусь в силу определенных причин,
обстоятельств, возможностей, которые, как мне кажется, придают
обсуждаемому вопросу несколько иной поворот. По крайней мере, я это так вижу,
хотя прекрасно понимаю, что моя точка зрения наверняка покажется кому-
то пристрастной, неоправданно оптимистичной или ограниченной. Ну что
ж, надеюсь, что, выслушав меня, вы придадите моим словам необходимые
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
443
объективность, взвешенность и широту обзора. Итак, почему у современных
романистов не получается создать такие характеры, которые убеждали бы в
своей реальности не только м-ра Беннета, но и человечество в целом?
Почему наступает очередной октябрь - сезон урожая на книжном рынке, а
шедевров как не было, так и нет?
Одна причина очевидна - это трудность, которая встала перед
писателями, пришедшими в литературу в 1910 году с идеей написать роман: им не у
кого было учиться из современников. Конрад - не англичанин, он поляк, в
литературе стоит особняком14, - позиция, прямо скажем, не лучшая для
учителя, даже самого талантливого. Гарди после 1895 года романов не писал;
остаются Уэллс, Беннет и Голсуорси - в 1910 году это была тройка, пожалуй,
самых заметных и влиятельных прозаиков. Вот только идти к этим господам
и просить их объяснить, как пишутся романы, иначе говоря, научить
создавать реальные характеры, было все равно, что пойти к сапожнику и
попросить его научить тебя не сапоги тачать, а смастерить часы. Нет, не
подумайте, я ничего не имею против их творчества: помилуйте, их книги кажутся
мне очень ценными и даже жизненно необходимыми. Бывают времена,
когда важнее быть обутым, чем иметь часы. Впрочем, долой метафоры!
Скажу прямо: викторианцы так потрудились на творческой ниве, что не только
в литературе, но и в жизни ощущалась потребность в книгах иного рода, и
именно эту брешь и заполнили своими опусами уважаемые мэтры. Что и
говорить, странные произведения! Порой я даже сомневаюсь, можно ли
вообще назвать их книгами: такое тревожное чувство незаконченности вызывают
они у читателя! Так и подмывает в качестве финального жеста пойти и
совершить какой-нибудь благой поступок - записаться в члены общества или,
на худой конец, выписать чек в виде пожертвования. Глядишь, и на душе
стало спокойнее, и книга обрела долгожданный конец: можно закрыть ее,
поставить на полку и больше никогда-никогда не перечитывать. Только почему-то
с другими романами совсем не так: взять «Тристрама Шенди» или «Гордость
и предубеждение» - и тот и другой роман самодостаточен, он един,
неделим, не требует никакого завершающего действия, кроме единственного
желания - перечитать книгу заново, чтобы глубже вникнуть в ее смысл...
Пожалуй, разница в том, что если Стерна и Остен что-то интересовало, интерес их
исчерпывался самим предметом: положим, интересен им характер, значит,
все внимание они направляли на него; интересовала их книга, значит,
именно ей и только ей был подчинен их интерес. Вот и получается
самодостаточная книга, которую не надо ничем дополнять. Эдвардианцев же никогда не
интересовал сам по себе характер; и до книги как таковой им тоже дела не
было: интерес их всегда лежал где-то на стороне. Потому так называемые
романы их лишены цельности, какая должна быть присуща книге, и
закончить их может только сам читатель, причем самым прямым практическим
способом.
444
Дополнения
Позвольте мне для ясности вернуться к случаю на железной дороге и
вместе с вами пофантазировать о том, как в одном купе с миссис Браун
оказались трое - Уэллс, Беннет и Голсуорси: все едут до конечного пункта
назначения - вокзала Ватерлоо. По-моему, я уже говорила, что одета миссис
Браун была крайне бедно и ростом не вышла; в глазах у нее застыло
выражение тревоги и страха. В ней было очень мало от интеллигентной, как сейчас
принято говорить, женщины... Как вы думаете, что сделал бы Уэллс, увидев
вжавшуюся в сиденье старушку? Могу поспорить, он тотчас же увязал бы
внешний облик случайной попутчицы с неудовлетворительным состоянием
английской образовательной системы, указал бы на болячки начальной
школы и тут же, не сходя с места, набросал бы если не на манжете, как записной
журналист, то на оконной раме проект создания нового мира - мира, где
легко дышится, где люди веселые, здоровые, счастливые, где есть место
приключениям, романтическим опасностям; где в вагонах нет этого затхлого
запаха и тебе не подсовывают в попутчицы всяких нищенок. Где каждое утро
чудо баржи доставляют в Кэмбервилл15 ровно в восемь, прямо к завтраку,
тропические фрукты; где строятся общественные ясли, парки с фонтанами,
публичные библиотеки, организуются открытые столовые, гостиные,
празднуются гражданские свадьбы; где все жители великодушны, искренни,
подтянуты и моложавы - словом, все немного смахивают на самого м-ра Уэллса.
Но вот кого там точно нет, так это миссис Браун. Таким в Утопии не место.
Нет, правда, я очень сильно сомневаюсь, чтобы Уэллс, в порыве
реформаторского энтузиазма, уделил ей хоть толику своего внимания - такой, какая
она есть, а не той, которую он хотел бы видеть на ее месте... А Голсуорси? -
на что он устремил бы свой взор? Думаю, он, не отрываясь, смотрел бы всю
дорогу в окно и думал о цехах долтонской фабрики16- ведь там трудятся
бедные женщины, выдавая по полторы сотни глиняных горшков за смену!
А сколько голодных ртов ждут этих работниц дома на Майл-энд-роуд - ведь
кормить их приходится на эти самые, потом и кровью заработанные гроши!
А в это самое время владелец фабрики, удобно устроившись в кресле на
террасе загородной виллы в Сарри17, преспокойно курит дорогие сигары и
наслаждается пением соловья... Негодование душит Голсуорси, голова пухнет
от статистических данных, состояние цивилизации не дает ему покоя - какая
тут, к черту, миссис Браун! Он на нее даже не взглянет: ему и так понятно,
кто там жмется в углу вагона - черепок, выброшенный на обочину истории.
Остается м-р Беннет: он единственный из эдвардианцев постарается не
спать, не мечтать в вагоне, а, наоборот, шире открыть глаза. Уж он-то,
поверьте, не упустит ни малейшую подробность: все подметит опытный глаз!
И рекламные объявления, и виды Суониджа и Портсмута18 на стенах купе, и
потрескавшуюся вокруг крепежных шляпок кожу на мягких сиденьях, и
дешевую заколку на кофте миссис Браун (такие на базаре в Уитворте продают
по три шиллинга тринадцать пенсов), и даже не поленится, высмотрит
шовчики на старых лайковых перчатках: вон большой палец на левой перчатке
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
445
точно был подставлен вместо старого! Тут Беннет задумается, даст задний
ход, вспоминая, что это экспресс «Виндзор - Лондон»: остановка в
Ричмонде устроена для удобства пассажиров второго класса, которые могут себе
позволить поехать в Лондон на вечернее представление в театре, однако их
социальное положение не настолько высоко, чтоб они могли позволить себе
такую роскошь, как собственный автомобиль; впрочем, бывают случаи (и
будьте уверены, Беннет сообщит вам, какие именно это случаи), когда
машину берут напрокат (и он обязательно даст вам справочку о том, какая
компания этим ведает). Вот так, не спеша, покружив вокруг да около, Беннет
наконец займется миссис Браун: начнет с того, что заметит, как бы между
прочим, что ей по завещанию досталась небольшая собственность в Дэтче-
те19, причем досталась на условиях аренды, а не в личное пользование, а
закладная на дом находится в руках местного стряпчего м-ра Банджи... -
впрочем, чего это я сочиняю за м-ра Беннета? Словно он сам романов не пишет.
Еще как пишет! - беру, не глядя, с полки: ага, «Хильда Лессуэйз»...20 Вот
теперь поглядим, каким образом Беннет, как и подобает настоящему
романисту, позволяет нам прочувствовать реальность, правдивость и убедительность
образа Хильды...
Девушка прикрыла за собой дверь, стараясь не производить шума - жест
этот призван указать на напряженность ее отношений с матерью... - и
углубилась в чтение обожаемой «Мод»21: сразу видно - поэтическая натура. Ну
что ж, не плохо для начала: Беннет опытной рукой мастера отбирает детали,
с первой же страницы стремясь задать характер героини. И все было бы
ничего, если б он вдруг не перескочил с описания девушки на пейзаж,
открывающийся из окна ее спальни, под предлогом того, что в эту самую минуту,
когда она сидит у окна, по дорожке к дому направляется сборщик арендной
платы м-р Скеллорн. Дальше повествование развивается так:
«Сразу за домом начинался Тёрнхилл - самый северный из районов
"Файв Таунс", располагавшихся к югу. Из окна открывался вид на
городской канал: обогнув низину на противоположном берегу, за которой чернел
небольшой лесок Чэтерли, поток нес свои мутные воды дальше, к чистым
лугам Чешира, откуда рукой подать до моря. На ближнем же берегу канала,
ровно против окна Хильды, раскорячилась мукомольня - дыму от нее было
столько же, сколько от всех вместе взятых домов в округе. От мукомольни
прямо к Лессуэйз-стрит, к дому миссис Лессуэйз вела выложенная кирпичом
дорожка - она отделяла новые коттеджи от садовых участков, и вот по этой-
то проторенной дорожке и наведывался к Лессуэйзам живший в самом
дальнем доме м-р Скеллорн»22.
Пространное описание, правда? Его можно было бы легко уплотнить до
одной строчки, ну да бог с ним - спишем этот ляп на обычную
тяжеловесность прозы. Нас интересует Хильда- кстати, где она? Увы, она все там
же- смотрит в окно. Какая, однако, любознательная барышня! - при всей
своей поэтичности и несмотря на натянутые отношения с матерью, она явно
446
Дополнения
разбирается в недвижимости. Сколько раз сравнивала она их старый дом с
новенькими коттеджами, которые из окна видны как на ладони. Ну, как их
после этого не описать? Вот Беннет и старается, описывает:
«В городе новые дома прозвали "Личными особняками" - это
горделивое название плохо вязалось с промышленным районом, где землю в
основном арендовали и где съемщики жилья долго не задерживались из-за частой
задолженности по оплате аренды, а еще потому, что земельные участки
находились в ведении местного суда, подчинявшегося, как при феодализме,
управляющему эсквайра, хозяина поместья. На этом фоне полноправные
хозяева новых построек, которые по вечерам копались на своих задымленных
участках среди сохнущего на веревках белья, казались просто властелинами
мира! "Личные особняки" служили вещественным доказательством
торжества викторианского уклада, венцом индустриального общества. Они
воплощали мечту секретаря местного отдела муниципального строительства о рае
на земле. И действительно, то была победа: ощутимая, зримая. И, тем не
менее, ничто не могло побороть необъяснимый скепсис Хильды по отношению
к новостройкам»23.
Боже правый, наконец-то! - Хильда, дорогая, - мы чуть не плачем, так
соскучились по нашей героине. Впрочем, рано обрадовались: главное ведь
не в том, как Хильда смотрит на дома и что она о них думает, а ее
собственное благосостояние - где она живет? Какой у нее дом? И вот Беннет нам
рассказывает:
«Жила она в одном из двух домов, стоявших в центре усадьбы,
образованной четырьмя постройками на две семьи, которые возвел еще ее дед,
хозяин фабрики по производству фаянсовых чайников: их дом был
центральным, в нем жил с семьей владелец всех четырех зданий. В крайнем флигеле
помещалась бакалейная лавка, а прилегавший к ней садовый участок
когда-то урезали, расширяя сад, что примыкал к центральной усадьбе. Вся
цитадель представляла собой солидный квартал - не чета лепившимся друг
к другу коттеджам! - из нескольких домов с отдельными подъездами,
причем аренда каждого такого дома оценивалась от двадцати пяти до тридцати
шести фунтов в год: цена неподъемная не только для фабричных служащих,
но и мелких страховых агентов и даже судебных приставов. Кроме того,
дом был построен, как говорится, на века, а в архитектурном отношении
даже чем-то напоминал стиль эпохи Регентства, хотя и сильно
подпорченный эклектикой. Считалось, что лучше этих домов в новой промышленной
части города ничего нет. Так что Скеллорн, наверное, каждый раз
испытывал чувство удовлетворения, оказавшись у миссис Лессуэйз в ее покойной
усадьбе, и начисто забывал о тесных домиках под громким названием
"Личные особняки". Внезапно раздавшийся голос матери отвлек Хильду от ее
раздумий...»24
Хильду-то он, может быть, и отвлек, а вот нас, читателей, по-моему, уже
ничем нельзя отвлечь от голоса, который, как заведенная пластинка, повто-
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
447
ряет одну и ту же мелодию: про арендную плату, задолженность,
приватизированную и неприватизированную собственность... Интересно, зачем Беннет
это делает? А я вам скажу зачем: он хочет, чтобы за него поработал
читатель - дорисовал в своем воображении то, что он, писатель, не потрудился
создать сам. Мы, видите ли, обязаны поверить ему на слово, что в доме,
который он выстроил, непременно обитает живая душа. Сам же он - писатель,
исключительно внимательный к деталям, даже дотошный, художник
редкостной человечности и сострадания - за все это время ни разочка не взглянул
на миссис Браун. Она как сидела в углу вагона, так и сидит; а поезд мчится, и
за окнами вагона мелькают не железнодорожные станции, расположенные в
направлении от Ричмонда до Ватерлоо, а вехи в развитии английской
литературы, в которой миссис Браун пребудет вечно, ибо миссис Браун - это
человеческая природа, и меняется она лишь наружно, а если кто-то и
впрыгивает в вагон, где она сидит, и сходит через какое-то время, так это романисты,
она же не двигается с места. Вот только почему-то писатели-эдвардианцы в
ее сторону не смотрят. Чем только они не занимаются! - и за окном успели
все-все до последней буквочки высмотреть, и фабричные здания разобрали
по косточкам, и Утопию создали, и даже про обивку сидений в вагоне не
забыли; единственное, что они упорно отказываются замечать - это ее, миссис
Браун, иначе говоря, саму жизнь, самого человека. Да, они разработали
технику романа под стать своим творческим задачам, определили себе роли,
установили правила игры. Только к нам их роли и их игра не имеют никакого
отношения: для нас они смерти подобны.
Возможно, мои слова покажутся кому-то туманными. Какие,
спрашивается, роли, какая игра? И вообще, что имеется в виду под словами о том, что
правила, установленные в литературе Беннетом, Уэллсом и Голсуорси, геор-
гианцам представляются ложными? Вопрос не простой, но я попробую
ответить на него прямо. Правила в литературе не сильно отличаются от правил
поведения в обществе: и тут и там всегда важно с самого начала установить
контакт, с одной стороны, между хозяйкой дома и незнакомцем,
пожаловавшим к ней в гости, а с другой - между писателем и читателем, первый раз
открывшим его книгу. Хозяйка, недолго думая, начнет с темы, проверенной
многими поколениями женщин, в чьи обязанности входит прием гостей, -
с погоды. Она заметит, между прочим, что май нынче стоит холодный, и
постепенно, слово за слово, растопит ледок недоверия, всегда возникающий
между незнакомыми людьми, а дальше разговор, естественно, пойдет о
более увлекательных вещах. Так и в литературе: писателю очень важно с
самого начала «зацепить» читателя, наведя его на интересную, будоражащую
воображение тему, и вовлечь как бы исподволь в откровенный свободный
диалог. Главное - чтобы «встреча» писателя и читателя шла легко,
ненатужно, как по маслу. Именно этот первый момент знакомства мы и застали в
процитированном выше отрывке из Беннета. В чем там была загвоздка?
Писателю нужно было расположить нас к себе, убедив в достоверности Хильды
448
Дополнения
Лессуэйз, и как истый эдвардианец он начал с подробного описания дома, в
котором та живет, и пейзажа, открывающегося из окна. Для эдвардианцев
недвижимость - это самая подходящая тема для разговора, верный способ
растопить лед недоверия и вызвать читателя на откровенность. Это нам, геор-
гианцам, такое начало кажется диким, а для них это доброе старое правило,
оправдавшее себя на сто процентов, - вспомнить, сколько тысяч подобных
«Хильд», оперенных именно таким макаром, разлетелось по миру. Да, для
того времени, того поколения правило работало.
А теперь, с вашего позволения, я выверну собственный рассказ
наизнанку, чтобы вы поняли, с какой остротой ощущала я в момент встречи с
миссис Браун зияющую пустоту на месте старых добрых правил эдвардианского
времени и как все не просто складывается, когда решения, привычные для
одного поколения, оказываются абсолютно бесполезными для тех, кто идет
следом. Положим, встреча меня потрясла - как это передать? Я сажусь и как
можно точнее записываю разговор моих случайных попутчиков; во что они
были одеты; судорожно вспоминаю нахлынувшие в момент той встречи
фантазии - одну, другую, третью, они нарастают, как девятый вал, и мне ничего
не остается, как сравнить живое, обжигающее, мгновенное впечатление с
зябким чувством, когда стоишь на сквозняке, или паническим страхом:
«Пожар! Горим!» Признаться, меня тоже подмывало плюнуть на все мои
мучения и выдать пухлый трехтомный роман25 обо всем на свете: о сыне миссис
Браун, его плавании через Атлантику, о дочке, у которой шляпный магазин
в лондонском Вестминстере, о прошлом м-ра Смита и о том, какой у него в
Шеффилде дом и т.д. и т.п.
Понятно, писать такое - скукотища и глупость, но удерживало меня даже
не это, а опасность навсегда утратить смысл. Ведь докопаться до сути можно
лишь одним способом: ввинчиваясь все глубже и глубже в образ, беззаветно
экспериментируя, пробуя одно предложение, отбрасывая его, находя новое;
каждое слово проверяя на общую правду видения, сопрягая одно с другим
как можно точнее, и все время помня о том, что мне позарез нужно найти
общую для нас тему, место, где мы встретились бы без тягостного
ощущения, что все это уже много раз было, и все это неправда, и притянуто за уши.
Наверное, мне не удалось довести рассказ «до ума», и где-то на полдороге
я «потеряла» миссис Браун: рассказ о ней у меня не получился. Вот только
вину за это не стоит валить на меня одну - ведь большая доля
ответственности лежит на великих эдвардианцах. Сколько раз обращалась я к ним за
советом: «Скажите, - вы же старше и опытней меня, - с чего лучше начать
описание женского характера?» И каждый раз они бубнили в ответ одно и то
же: «Начни с отца, владельца лавки в Хэрроугейте26. Точно установи уровень
арендной платы. Смотри, не ошибись с окладом младшего продавца -
проверь по тарифам 1878 года. Узнай, от чего умерла ее мать. Дай
клиническую картину рака. Опиши кисею на окнах. Нарисуй...» пока я не зажимала
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
449
уши: «Довольно! Хватит!» Кончилось тем, что я не выдержала - взяла да
и вышвырнула из окна этот никчемный мерзкий рецепт: ведь понятно, что
если начать описание миссис Браун с диагноза раковой опухоли и с
кисейных занавесок, то мне уже никогда не передать тот образ, что засел у меня
в голове и просится на бумагу: он просто скукожится, сдуется, только его
и видели.
Надеюсь, теперь понятно, что я имею в виду, говоря о бесполезности эд-
вардианских рецептов: в них явно «переложено» материального. Перед
тобой ставят дом и просят поверить на слово, что в нем живут люди. Дом,
правда, основательный - ничего не скажешь, однако если исходить из того,
что романы в первую очередь пишутся о людях и только, во-вторых, о домах,
где они живут, то, согласитесь, что такой перевернутый с ног на голову
способ вреден. Так что писателю-георгианцу волей-неволей пришлось начать с
чистого листа, отказавшись от старого доброго правила, которым в тот
момент пользовались все без исключения романисты. В итоге он остался один
на один с миссис Браун, не представляя, каким образом передать ее образ
читателю. Впрочем, это не совсем так: писатель ведь не изолирован от мира;
всегда где-то рядом находится публика - если не в одном с ним вагоне, то в
соседнем. А это очень своеобразная пассажирка - английская читательская
публика: легко внушаема, в дороге чаще дремлет, клюет носом, но если ее
растормошить, она спросонок согласится со всем, о чем ей поведают,
особенно если это старые прописные истины. Стоит только несколько раз
непререкаемым тоном повторить при ней: «Все женщины рождаются с
хвостами, а мужчины - двугорбыми», - и она поверит! Она убедит себя в том, что
действительно встречала в жизни женщин с хвостами и двугорбых мужчин и
постепенно приучит себя к этой мысли и ни в каком другом качестве
воспринимать людей не станет, и, в конце концов, дойдет до того, что если кто-то в
ее присутствии заявит: «Чепуха! Не бывает двугорбых людей с хвостами -
хвосты есть у обезьян, а двугорбыми рождаются верблюды. У человека же
есть голова и сердце, он мыслит и чувствует», - то наша попутчица
обидится, приняв эти слова за грубый и неприличный розыгрыш, и, того гляди,
испугается подобных революционных заявлений.
Но вернемся к нашей теме. Итак, едет в одном вагоне с писателем такая
пассажирка и бубнит себе под нос: «Бабушки живут в приличных домах.
У них у всех есть родители. Они люди со средствами. В доме имеется
прислуга. И у каждой бабулечки есть грелка - потому мы их и не путаем с другими
обитателями. Нас всегда так учили м-р Уэллс, м-р Беннет и м-р Голсуорси,
и я им верю: они знают, как правильно. А вы мне подсовываете вашу миссис
Браун и требуете, чтобы я в нее поверила! Да я даже не знаю толком
название дома, где она живет, - то ли "Альберт", то ли "Бэлморал"27? Где покупает
перчатки? От чего точно умерла ее матушка - от рака или от чахотки? И пос-
15. Вирджиния Вулф
450
Дополнения
ле этого вы еще хотите, чтоб я поверила в ее существование? Да это просто
ваши бредни! Не ждите, не поверю, - дудки!»
И никак публике не объяснить, что образ пожилой женщины - вовсе не
обязательное приложение к приватизированному особняку или арендуемой
усадьбе.
Да, в сложный переплет попал романист-георгианец: прямо перед ним
сидит миссис Браун и взывает к нему всем своим видом- «Я же другая!
Я совсем не та, какой меня обычно представляют!» - и подбивает,
подговаривает его прийти ей на выручку - взглянуть хоть одним глазком на ее
несметные сокровища... А рядом, тут же в купе, раздают свои универсальные
руководства эдвардианцы, по которым что романы писать, что дома строить,
что стены крушить... И здесь же в вагоне бьется в истерике наша родная
английская публика, требуя первым делом грелку - без грелки она ни за что
ничему не поверит! А поезд тем временем стремительно приближался к
конечному пункту назначения, где нам всем предстояло сойти.
Вот в каком положении оказались в 1910 году начинавшие тогда георги-
анцы. И если первые книжки у многих из них вышли комом - говорю в
первую очередь о Форстере и Лоуренсе28, то это результат их нерешительности:
им бы взять и выбросить из окна старые рецепты, а они замялись, дай,
думаем, попробуем использовать. В общем, старались угодить «и нашим и
вашим». Надеялись, у них как-то получится увязать в одно целое вещи
несовместимые: мгновенное мощное потрясение от встречи с чем-то небывалым,
живым, ни на кого не похожим лицом - и знание трудового законодательства
«по голсуорси» или жизни английской провинции «по беннету». Пробовать-
то они пробовали, но ничего не получалось: несмотря на острый и
всеобъемлющий интерес к миссис Браун и особым черточкам ее характера, они не
могли к ней пробиться. Нужно было срочно что-то делать! Успеть, удержать
любой ценой - эскизом, намеком, фантазией, чего бы это писателю ни
стоило: жизни, здоровья, священного права собственности! Главное, успеть до
остановки поезда - потом будет поздно, ее уже не вернуть. Так начались
работы по спасению миссис Браун: застучали топорики, писатели взялись
расчищать завалы... Так стоит ли удивляться, что к желанной цели они приходят
не в лучшей форме, непричесанные, бледные? А до конца еще далеко:
слышите, лес рубят - щепки летят? - по мне так лучше этот здоровый звонкий
стук, чем дружный храп читателей над книгой, который ревностно
оберегает целый сонм блюстителей романа, которых хлебом не корми, дай уважить
тягу публики к невинному сладкому сну.
Таков мой ответ на заданные в самом начале вопросы: боюсь, он занял
больше времени, чем я рассчитывала. Я попыталась встать на место писате-
ля-георгианца и в меру своих способностей описать те трудности, с
которыми он сталкивается в своем творчестве. Наверное, я была пристрастна - не
скрою, мне хотелось его защитить... Как бы ни было, мое напутственное
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун
451
слово обращено непосредственно к вам, соучастникам процесса создания
книг, - так сказать, соседям по вагону, попутчикам миссис Браун: «под
занавес» я хочу напомнить вам о ваших прямых обязанностях и святом
долге.
В отличие от нас, сочиняющих истории про миссис Браун, вы
сохраняете молчание, но от этого ее образ не становится менее очевидным: он
един - что для вас, что для нас, людей пишущих. Вспомните, сколько раз за
прошлую неделю вы столкнулись с чем-то непривычным и куда более
увлекательным, нежели описанная мною встреча? Разве не изумили вас своей
откровенностью невольно подслушанные реплики прохожих? Не лишил сна
запутанный клубок чувств? Не промелькнули за день в голове тысячи идей?
Не сменяли друг друга в душе тысячи разных настроений, да так и пропали,
подобно яркой комете?.. И помня об этом, вы все равно смотрите писателю
в рот и глотаете жвачку в виде трафаретного образа миссис Браун, который
не имеет ничего общего с той жар-птицей, что вам привиделась. Неужели
вы из скромности полагаете, что писатели - люди другой закваски, другого
замеса, не такие, как вы? Что они больше вашего знают про миссис Браун?
Если так, вы глубоко ошибаетесь; я даже больше скажу - по-моему, вы
делаете фатальную ошибку. И это не фигура речи: ведь если задуматься - как
получилось так, что книга сегодня стала товаром и предметом борьбы
мускулов? Причина кроется именно в том, что читатель и писатель разделены - вы
скромничаете, писатели важничают, вместо того чтобы быть на равных. Вот
и выскакивают сотнями, неизвестно откуда, гладенькие прилизанные
романчики; парадные, застегнутые на все пуговицы жизнеописания; беззубая
критика; стихи, воспевающие розы без шипов и овечье послушание, будто и нет
сегодня настоящей литературы.
Кому как не вам поставить перед писателями вопрос ребром: откажитесь
от котурнов и пьедесталов! Перестаньте лгать про то, какая она, наша миссис
Браун! Ведь только вы можете возвысить голос в защиту ее неограниченных
возможностей и бесконечно разнообразных проявлений. Ее вездесущности.
Свободы. Свободы перевоплощаться. Свободы говорить, что думает.
Свободы вести себя, как хочет. Ведь это самое интересное - что и как она говорит,
что делает, как смотрит, как морщит нос, как молчит! И знаете почему? Это
наша душа, ею мы живы, это и есть сама жизнь.
Только не требуйте от художника сразу полной и гармоничной
картины. Проявите терпимость: резкость, дробность, мрачные тона - еще не
провал. Поверьте, ваша поддержка окупится сторицей: ведь мы стоим в
преддверии великой литературной эпохи, позволю себе сделать «под занавес»
такое смелое заявление. Только наступит она при одном условии: если мы
будем тверды в своей решимости - что бы ни случилось - не бросать миссис
Браун.
15*
452
Дополнения
письмо к молодому ПОЭТУ
Дорогой Джон!
Встречал ли ты одного старого джентльмена или уже не застал,
забыла его имя... он еще любил затевать разговоры о смерти эпистолярного
искусства, особенно за завтраком и свежей почтой? Дешевая марка, говаривал
почтенный господин, убила искусство письма. Уже никто, заводил он,
разглядывая конверт через очки, не удосужится поставить запятые. Сыплем что
попало несвязными фразами в открытке. Грей умер, Хорас Уолпол умер,
мадам де Севинье...1 - тоже умерла, хотел, видно, провозгласить он, но
захлебнулся и поспешил оставить нас, так и не дочитав отходную. Когда же сегодня
утром пришла почта и я открыла твой конверт, набитый голубыми листками,
исписанными очень густо, но разборчиво - правда, несколько запятых ты
пропустил и одна фраза вышла, по-моему, нескладной, я ответила
почтенному некрофилу спустя все эти годы - чепуха: искусство письма только сейчас
начинает жить. Оно - дитя дешевой почтовой марки. И, думаю, это не пустые
слова. Когда марка стоила полкроны, письмо считалось важным документом.
Его читали вслух, перевязывали зеленой шелковой лентой, а по истечении
определенного срока публиковали к безмерному наслаждению потомков.
Твоему же письму - только сгореть в огне. Оно стоило тебе всего полтора пенса.
Поэтому ты и мог быть таким открытым, вольным, неосторожным. Чего
стоит один только твой рассказ о нашем дорогом К. и об истории,
приключившейся с ним на пароме через Ла-Манш! А твои смелые шутки в адрес М.?
Если он о них узнает, вашей дружбе конец. И вообще я сомневаюсь, сумеют
ли потомки уследить за твоей скачущей, как блоха, мыслью (хотя они могут
оказаться живей, чем я предполагаю): то ты пишешь о протекающей крыше
(«кап, кап, кап в мыльницу»), то о миссис Ошарашиш, местной поломойке
(меня позабавило, как она отбрила зеленщика), то про странное признание
мисс Кюртис на подножке омнибуса; то о сиамских кошках («как говорит
моя тетя, если они орут, обвяжи им морды старыми чулками, сразу
успокоятся»); то о ценности критики для писателя; то о Донне, то о надгробьях, то о
золотых рыбках, и затем вдруг со всего разгону, «под занавес», -
выпаливаешь вопрос: «Ответьте мне и скажите, куда идет поэзия или это конец?» Нет,
у тебя настоящее живое письмо - такие не читают вслух, не публикуют через
полсотни лет... Такие письма обычно сжигают. Так что потомкам, видимо,
придется удовольствоваться Уолполом и госпожой де Севинье. Великая
эпоха слова, а это, разумеется, наш век, не прославит себя искусством письма.
И только на один вопрос могу ответить публично - о поэзии и ее конце.
Но прежде хочу оговориться: за мной водится несколько врожденных
и усвоенных грешков, которые, возможно, в твоих глазах обесценят любые
мои соображения о поэзии, так что лучше признаться заранее. К моему
стыду, я не обладаю основательной университетской подготовкой, и для меня
всегда было загадкой, как отличить ямб от дактиля, - наверное, за один этот
В. Вулф. Письмо к молодому поэту
453
грех можно заслужить вечное проклятие, только это не всё: как и многим
собратьям по писательскому цеху, деятельность прозаика внушила мне
чувство глупого соперничества, помноженное на праведный гнев, если угодно,
словом, такое расположение духа, от которого критик должен быть свободен.
Ведь как мы, презренные ремесленники прозы, рассуждаем, сойдясь
вместе, о поэзии и главной ее дилемме - выражении поэтического смысла при
соблюдении правил стихосложения? Представить, что ты должен написать
«морозы» только потому, что выше в строфе у тебя стоят «розы», или же
срифмовать «грусть» с «пусть», - это не просто наивно, это
безответственно! - сокрушаемся мы, прозаики, по поводу рифмы. А что говорить о других
правилах стиха? Да это просто детский лепет! Затверди несколько заповедей
и - вперед! Да я лучше сразу перейду в младшую группу детского сада и
буду ходить гуськом за воспитательницей по дорожкам, чем писать стихи, -
так оно честнее будет! - обычные жалобы прозаиков. И вообще, дисциплина
стиха, налагаемая строгим метром и ритмом, - это от монашеского поста, от
схимы. Потому-то поэты и повторяют одно и то же по многу раз: они
служители обряда! То ли дело мы, прозаики! - бьют себя в грудь писатели (сколько
раз сама наблюдала этот спектакль): мы - не вассалы слова, как некоторые,
мы- короли! Самородки; мы- сама неподкупность; сама прямота; жизнь
сама идет к нам в руки... мы демиурги, мы открыватели... и так далее в том
же духе трогательной самовлюбленности.
Теперь ты знаешь про мои недостатки, и давай продолжим. Итак, ты
считаешь - это ясно из твоего письма, что поэзия сегодня в кризисе, и как
поэту тебе приходится намного тяжелей в эту осень 1931 года, чем Шекспиру,
Драйдену, Поупу или Теннисону2. Действительно, тебе труднее, чем когда-
либо. Но здесь ты даришь мне зачин, который я охотно снабжу скромным
советом: никогда не считай себя исключительным, никогда не думай, что
твоя судьба тяжелее других. Я допускаю, что наше время мешает
настроиться таким образом. Впервые в истории появилась масса читателей -
людей, спешащих по делам, занятых спортом, больными дедушками,
покупками, они все сегодня читают и ждут, чтобы им сказали, как и что читать.
А их великодушным учителям - рецензентам, лекторам, дикторам -
надлежит во всем помочь им, облегчить им чтение. Убедить их, что литература
полна сильных страстей и захватывающих событий, героев и негодяев,
враждующих между собою сил, полей, усеянных костями, и
одиночек-победителей в черных одеждах, которые мчатся на белых лошадях к поджидающей за
поворотом смерти. Гремит пистолетный выстрел. «Кончилась
романтическая эпоха. Наступил век действительности» - тебе известна обстановка.
Конечно, писатели хорошо про себя знают, что здесь нет и слова правды - нет
никаких баталий, убийств, поражений, побед. Но поскольку сегодня самое
главное - развлечь читателей, писатели вынужденно мирятся с этим
положением. Принимают должный вид. Каждый вносит свое. Кто-то спешит задать
тон, кто-то подхватывает. У одного романтично, у другого жизненно. У этого
454
Дополнения
современно, у того старомодно. В общем-то безобидные вещи, если
относиться к ним как к шутке. Но стоит только раз поверить в них, всерьез
вообразить себя лидером или последователем, модернистом или консерватором,
и тут же ты превращаешься в мелкого, зудливого и подкусывающего зверька,
чья деятельность не имеет ни малейшей ценности или человеческого
интереса. Не лучше ли представить себя кем-то попроще, понеприметней, хотя
это, по-моему, гораздо увлекательней - ты один из поэтов, в ком
продолжаются поэты прошлого и берут начало поэты будущего. В тебе есть немного
Чосера3 и что-то от Шекспира; Драйден, Поуп, Теннисон - называя лишь
самых благородных из твоих предков - бродят у тебя в крови и порой дают
твоему перу чуть более левый или, наоборот, правый наклон. Короче, ты -
бесконечно сложный, древний и меняющийся характер, поэтому, пожалуйста,
относись к себе с уважением и не поддавайся первому желанию нарядиться
Гаем Фоксом и напасть из-за угла на пожилых робких леди, угрожая
прикончить их, если тебе не дадут два с половиною пенса4.
Но раз ты говоришь, что тебе туго, позволь мне, пока не ушла почта,
немного пофантазировать о твоих делах и поделиться в письме одной или
двумя догадками, которые не надо принимать чересчур серьезно или сразу
отрицать. Дай мне попытаться представить твое состояние, вообразить по твоему
письму, каково быть молодым поэтом осенью 1931 года. И уж не обессудь,
если в твоем лице я буду обращаться не только к тебе лично, но и к
нескольким другим поэтам5. Итак, на дне твоего «Я» неумирающе бьет ритм - не им
ли ты жив как поэт? Порой он в тебе затухает, давая есть, спать, вести
обычные разговоры. Но затем снова поднимается, нарастает и готов уже
выплеснуть в танце все содержимое души. Сегодня именно такой вечер. Ты один,
раздеваешься, уже снял башмак и приготовился развязать другой, но вдруг
все бросаешь - тебе надо срочно писать по велению музыки. Хватаешь перо,
листок - ничего, что бумага лежит косо, а ручка идет криво. Ты пишешь, и
пока связываются первые такты, я отойду в сторону и посмотрю в окно.
Проходит женщина, идет мужчина, такси плавно останавливается и... - но об
увиденном в окне не стоит рассказывать, да и некогда, ибо внезапный крик
ярости ли, отчаяния вернул меня к действительности. Листок твой скомкан,
перо стоит в полу торчком. Вот когда отшвыривают кошку или
расправляются с женой - угадываю я по твоему злому выражению. Ты раздражен,
взвинчен, выведен из себя. И наверное, я не сильно ошибусь, сказав, что эта
пляска, захватившая тебя всего, от головы до кончиков пальцев, - встретилась на
бегу с чем-то твердым и чуждым и вмиг вся распалась. Обнаружилось нечто,
не укладывающееся в поэзию, какое-то инородное тело, жесткое и
угловатое, будто камешек, - оно отказалось кружиться в общем танце. Конечно,
подозрение сразу падает на миссис Ошарашиш - она требовала написать с
нее поэму. Затем на мисс Кюртис с ее неслыханными вольностями, также на
К., заразившего тебя желанием рассказать его историю - кстати, очень
забавную - в стихах. Но почему-то ты не можешь следовать порыву. Чосер мог,
В. Вулф. Письмо к молодому поэту
455
Шекспир мог, то же самое Крабб и Байрон, и, возможно, Роберт Браунинг6.
Но сегодня октябрь 1931 года, и давно уже поэзия сторонится... - чего? как
мы это назовем? Будем ли по-прежнему кратко и условно называть это
«жизнью»? А может быть, ты сам расшифруешь, что значит - жизнь? Ведь до сих
пор поэзия предоставляла это право романисту. Теперь ты понимаешь, как
легко мне было бы написать два или три тома во славу прозы и в осмеяние
поэзии, расписать широкие и обильные владения одной и чахлую,
заморенную рощицу другой. Но, наверное, самое простое и надежное - проверить
эти теории на одном из сборничков современной поэзии, что лежат у тебя
на столе. Открываю - а там все другое! У поэта целый воз всякой всячины.
Он явно заставляет свою музу считаться с фактами. Слушай:
Встающие с зарей, свидетели рассвета,
Вы знаете, как дух захватывает от
Шального, брызнувшего света, зачинщика и заводилы,
Семи разбившихся лучей на мостовой,
Веселого щенка, гонителя ночных теней,
Хрустальной чаши у ободка ресниц,
Что судит в наших профилях следы порока,
Колотит неуемно и настойчиво по жалюзи,
Будя заспавшийся отживший мир, нащупывая
В гнилом полу железный остов фабрики -
Отживший безвозвратно мир?
Да, но как он с этим справится? Читаю дальше и натыкаюсь:
Он засвистит, запрет
За собой дверь, отправится подземкой на работу,
Бывает, зайдет в парк справить нужду,
и через несколько строк опять:
Как мальчик, перебравшийся в столицу,
Едет на выходной в деревню в дорогих ботинках,
и дальше:
Он ищет безуспешно земную благодать,
Растрачивая капитал и мужество на то,
Что составляет цель яхтсменов, альпинистов, изыскателей и б а б7.
Вижу по этим строчкам и отдельным словам, что не так уж я ошиблась в
своих догадках. Поэт пытается включить в свою поэму миссис Ошарашиш.
Чувство справедливости подсказывает ему, что ее нужно вести в поэзию, и
она будет там очень кстати. Поэзия, предполагает он, выиграет от
настоящего, обиходного. Но хотя попытка и делает ему честь, сомневаюсь в полной
ее удаче. Я чувствую натяжку, сбой. Точно ударилась носком об угол шкафа.
Покоробили ли меня сами слова? - спрашиваю себя. Едва ли. Произошел
буквальный сбой. Поэт напрягся, пытаясь выразить нечто далекое от поэзии,
и - не удержался, потерял равновесие! Я уверена, что он вновь попытается
456
Дополнения
восстановить утраченные позиции, ввернув что-то лирическое... И точно! -
переворачиваю страницу и утыкаюсь в луну или соловья. Вот и получается,
что стихотворение треснуло в середине. Смотри: оно распадается в руках на
две половины - одна зовется красотой, другая реальностью. И я, не обретя
целого в его полноте и завершенности, стою с разбитыми половинками и
разглядываю их холодно, трезво, с неприязнью - так всегда бывает, когда
разум разбудят, а воображение не спит.
Во всяком случае, такое впечатление складывается при чтении... но меня
снова прерывают. Вижу, ты уже вышел из затруднения, того или иного, перо
опять в действии, и, разорвав первое стихотворение, ты трудишься над
новым. И если я по-прежнему хочу разобраться в твоем состоянии, мне надо
будет как-то объяснить твое второе дыхание. Думаю, ты отставил все, что
само собой ложилось бы под перо, пиши ты прозу, - поломойку, девушку,
эпизод с паромом. Обзор строго очерчен - судя по твоему
сосредоточенному и углубленному выражению лица. Держу пари, ты сейчас думаешь не о
всечеловеческом, а лично о себе. Некая суровая пристальность и внутренняя
просветленность говорят о том, что ты обращен в себя, а не вовне. Но
чтобы это не оставалось лишь мимолетными догадками по выражению лица,
позволь мне открыть еще один сборничек на твоем столе и проверить свои
предположения. Снова открываю наугад, читаю:
Мечтаю разгадать ту комнату,
Самую дальнюю каморку моей души,
Что над последним лестничным пролетом.
Стихами удается. Они - те же ключи.
Любовью тоже можно (только ненадежно).
Я знаю, там бушует пламя, там истина
Под внешней трескотней. Порой я приближаюсь,
Но ветер гасит спички, и я теряюсь.
Бывает, что везет, и найден верный тон,
Я прохожу один-два дюйма - но в то мгновение,
Когда я только начинаю что-то видеть,
Звенит звонок, заходят, кричат «горим!»,
Моя рука дрожит, и я в унынии с верхов спускаюсь8.
И дальше:
В мире есть темная комната,
Утроба глухая и тайная,
Там позитив с негативом химичат.
И есть другая темная комната,
Могила слепая, глубокая,
В ней белое снова становится черным.
Мы бессильны избежать этой доли, оборвать пуповину,
Жизнь и смерть заключены в нас самих.
Ничего не поделаешь,
Надо принять неизбежное,
Стиснув зубы, пройти до конца горький путь9.
В. Вулф. Письмо к молодому поэту
457
И дальше:
Всегда лишь жалкий слепок вместо Жизни,
Мое лицо как маска Смерти, на ярком Солнце.
На лбу печатью тень застыла.
Руками ли чего-нибудь касаюсь, губами ли тянусь,
Я вечно остаюсь снаружи,
Хотя душа готова соединиться с миром...10
Поскольку мне встретились три разных поэта, занятые лишь собой,
ничем другим, - цитаты взяты случайно, - я допускаю, что и ты можешь писать
о том же. Видимо, с «Я» у поэта не возникает препятствий. «Я» вступает в
танец, отдается ритму. Очевидно, легче написать о себе, нежели о чем-то
другом. Но что понимает каждый под своим «Я»? Определенно не ту личность,
что описывали Вордсворт, Ките и Шелли, - в любви к женщине, или
ненависти к тирану, или в раздумьях о тайне мироздания. Нет, то «Я», на котором
сосредоточен ты... сидит одно ночью в комнате с задернутыми шторами.
Другими словами, поэта гораздо меньше интересует наше общее, чем его,
особое. Полагаю, поэтому так трудны эти стихи - и мне, признаться, ни за что
не сказать, о чем они, даже если я перечитаю их несколько раз. Поэт
пытается со всей присущей ему честностью описать мир, который, видимо,
существует лишь для него одного и в данную минуту, всматриваясь изо всех сил в
очертания розовых кустов и кочанов капусты у себя в палисаднике... А мы
от его потуг все больше и больше впадаем в состояние прострации: мы - это
горстка несчастных пассажиров на крыше омнибуса, неизвестно почему и
зачем согласившихся поехать посмотреть на цветы в его огороде. Поэт
силится изобразить - мы до рези в глазах всматриваемся в изображение; вот
поэт поднял горящий факел, но нам, увы, достается лишь слабый отблеск...
Никто не спорит, занятие увлекательное и даже поучительное, только вот
что это перед нами - дерево или старуха на обочине нагнулась зашнуровать
ботинок?
А если есть хоть немного правды в моих словах, - если действительно у
тебя не получается писать легко, без натуги о прозе жизни, о той же миссис
Ошарашиш, или о пароме через Ла-Манш, или о мисс Кюртис на подножке
омнибуса, и ты поневоле углубляешься в свой внутренний мир, пытаясь
заставить читателя увидеть то, что очевидно лишь для тебя одного, - ну что
ж, тогда и впрямь у тебя трудный случай; и хотя поэзия еще дышит -
свидетельством эти сборнички, дыхание у нее резкое, учащенное. Но рассмотрим
симптомы. Они отнюдь не говорят о смерти. В литературе смерть - стоит ли
рассказывать, сколько раз умирала литература у нас или где-то! - всегда
приходит изящно, ровно, без шума. Старые замыслы копируются с такой охотой
до каждой детали, что только эта самая словоохотливость мешает принять
их за оригиналы. Здесь же происходит прямо противоположное. В первой
цитате поэт разбивает свою машину о целину сырых фактов. В другом слу-
458
Дополнения
чае он непонятен из-за отчаянной решимости сказать о себе правду.
Поэтому пусть даже ты и прав, говоря о трудном времени, - все равно
отчаиваться рано.
Разве нет, увы, добрых оснований для надежды? Говорю «увы», потому
что придется их назвать, а они заведомо смешны и даже кощунственны для
обширного и уважаемого общества некрофилов во главе с господином
Каркало, которые, видно, так свыклись с мыслью о смерти, что и сегодня
выкликают священные удобные слова: Ките мертв, Шелли11 мертв, Байрон мертв.
Но уже поздно: некрофилия клонит в сон, старые господа давно позасыпали
над своей классикой, и если мои слова прозвучат оптимистично - а я не верю
в смерть поэзии, для меня Ките, Шелли, Байрон живы здесь сегодня в вас,
в вас и в вас, - я могу быть спокойна: своими надеждами я не нарушу их
спячку. Итак, продолжая, - раз поэзия честно освободилась от фалыпивос-
тей, этих пережитков великой викторианской эпохи12, исследовала сознание
поэта и закрепила его контуры, почему бы ей снова не повернуться к миру,
не выглянуть в окно и начать писать о других людях? Ведь ты писал о них
два-три века назад. Твои страницы населяли самые разные и неожиданные
личности - Гамлет, Клеопатра, Фальстаф13. Нас влекли к тебе не только
драма и тонко разработанный характер, но и возможность посмеяться - сейчас
это кажется невероятным. Мы у тебя ревели от хохота. Затем, позднее,
каких-нибудь сто лет назад, ты высмеивал нашу глупость, разил лицемерие и
выдавал блистательнейшие из сатир. Ты был Байроном, вспомни, ты
написал «Дон Жуана»14. Был Краббом - какие жуткие подробности крестьянской
жизни брал ты для своей темы. Определенно в тебе есть потребность
широкого, человеческого разговора, лишь временная необходимость держит тебя
сегодня взаперти.
Но как собираешься ты выйти наружу, в мир людей? Вот в чем твоя
проблема - рискну предположить: найти верную связь познанного тобою «Я» с
окружающим миром. Это трудная проблема. Думаю, ни один современный
поэт не разрешил ее целиком. И вокруг тысячи голосов пророчат
безнадежность. Говорят: наука не оставляет места прекрасному. Нет поэзии в
машинах и радиоприемниках. И у нас нет религии. Все сумбурно и призрачно.
Поэтому, заключают, у поэта не может быть связи с современным миром. Что,
конечно, чепуха. Это поверхностные помехи, они не могут проникнуть
глубоко в сознание и разрушить основной и естественнейший из инстинктов -
инстинкт музыки. Все, что тебе сейчас надо, это встать у окна и дать своей
ритмической стихии выплеснуться и отхлынуть, выплеснуться и отхлынуть,
свободнее, смелее, пока одно не растворится в другом, и такси не
затанцуют с нарциссами15, и не сложится целое из отдельных этих половин. Знаю,
я говорю вздор. Я хочу сказать - собери всю смелость, напряги зорче глаза,
призови все таланты, сообщенные тебе Природой. Затем дай своему
ритмическому чувству пробиться ростком средь улицы - мужчин, женщин, ворон,
омнибусов, всей круговерти, пока все не свяжется в гармоническое целое.
В. Вулф. Письмо к молодому поэту
459
Не в этом ли твоя задача? - отыскивать связь между вещами, внешне вроде
бы несовместимыми, но тайно близкими. Идти навстречу любому опыту и
впитывать его целиком, чтобы творение твое не дробилось на кусочки... Вот
чего мы ждем от тебя сегодня. Но поскольку я не знаю, что понимается под
ритмом или жизнью, и не могу дать тебе готовый рецепт, из чего
складывается поэма, - это целиком твое дело, к тому же не забывай: ямб и дактиль
для меня темный лес, в секреты твоего старинного таинственного
искусства я не посвящена и поэтому ведать не ведаю, как ими можно
пользоваться, то уж позволь, я спущусь на бренную землю и еще раз взгляну на эти
сборники.
Итак, я возвращаюсь к ним, как уже признавалась, не с предчувствием
смерти, но с надеждой на будущее. Однако нужно ли всегда думать только
о будущем, если, как водится, живешь лишь в настоящем? Читая сегодня
стихи - а это, знаешь, все равно что впустить в дверь ораву с улицы,
начинающую лупить тебя по всем слабым местам сразу, - я бываю поражена,
проветрена, прочищена, вывернута наизнанку, так что кажется, жизнь
стремительно несется, затем опять темнота, удар по голове. Все это для читателя
ощущения приятные (куда хуже - открыть дверь и не получить ответа), они
убеждают, что поэт жив и не сдается. И все же, чем дальше я читаю, тем
отчетливее сознаю примешивающееся к ликованию и восторгу недовольство -
словно кто-то повторяет на низких нотах одно слово. Наконец, заглушив
остальные чувства, обращаюсь к этому смутьяну: «Ну, а тебе чего не хватает?»
И - к смущению моему - слышу: «Красоты!» Повторяю, я не ответственна за
свои чувства, когда читаю, просто отмечаю факт, что во мне сидит некто
недовольный. Ему странно, что с таким богатым, многослойным, редкостным
по звучности, силе образов и подтекста языком, как английский,
современные поэты обращаются так, словно они всегда при перчатках, словно у них
нет ни ушей, ни глаз - одни лишь честные, предприимчивые, закниженные
мозги, однополые тела и... но тут я заставляю свой внутренний голос
смолкнуть. Ибо когда дело доходит до андрогинности поэта - а я не сомневаюсь,
что именно эту мысль собирался высказать сидящий глубоко во мне
напарник16, даже я, далекий от науки человек, ставлю точку.
И все же, если закрыть глаза на очевидные нелепицы, насколько
оправдан мой внутренний ропот? Сейчас, когда я отложила чтение и могу
взглянуть на стихи более или менее в целом, мне кажется, что глазу и уху тут и
впрямь нечем поживиться: эти выверенные до буквы строчки не оставляют
впечатления бездонного смысла, который угадывается, например, в емком
стихе м-ра Йейтса17. Сегодня поэт держится за одно слово, свое
единственное слово, как утопающий за мачту. А раз так, я охотно поделюсь своей
догадкой, почему это происходит, тем более что догадка эта в строку нашего
разговора. Искусству писать, что, вероятно, и имел в виду мой недовольный
под «красотой», то есть искусству быть на «ты» с каждым словом в
языке, знать его вес, цвет, звучание, связи и, что особенно важно в английском,
460
Дополнения
уметь сказать им больше, чем оно означает, конечно, этому искусству можно
в какой-то мере научиться чтением: тут никак не переборщишь. И все же
гораздо действенней и плодотворней - если слышать не только себя, но и
другого. Как можно научиться писать, занимаясь только одной персоной? Взять
хотя бы очевидный пример. Почему Шекспир знал каждый звук и слог языка
и мог делать с грамматикой и синтаксисом именно то, что хотел? Да
потому что Гамлет, Фальстаф и Клеопатра толкнули его в эту стихию, а
бесчисленные лорды, офицеры, прихлебатели, убийцы и простые рядовые драмы
требовали, чтобы он точно выражал в словах их чувства. Это они научили
его писать, а вовсе не отец сонетов18. Поэтому если ты хочешь
удовлетворить все то, что оживает в нас роем с каждой каплей поэзии - разум,
воображение, слух, глаза вместе с лозою рук и уходящими вглубь корнями ног,
не говоря про миллион других ощущений, еще не названных психологами,
ты не ошибешься, начав длинную поэму, где совершенно непохожие на тебя
люди разговаривают в полный голос. Только ради бога, не печатай ничего до
тридцати.
Убеждена, это очень важно. Большинство слабостей в известных мне
стихах происходят, по-моему, оттого, что стихи эти увидели свет, когда они
еще не совсем для этого созрели. Это иссушило их до состояния
скелетного аскетизма и в чувствах и в словах, чего не должно быть у молодости.
Поэт пишет очень хорошо, пишет для строгого и умного читателя. Но разве
не лучше бы он писал, если б десять лет сам был читателем своих стихов?
В конце концов, годы от двадцати до тридцати (позволь мне снова сослаться
на твое письмо) - это годы душевного волнения. Закапал дождь, сверкнуло
крыло, кто-то прошел мимо - помнится, обычнейшие звуки и картины могут
сбросить с вершин восторга в бездну отчаяния. И если в реальной жизни все
так бурно, то, видимо, и воображению надо раскрепоститься и не отставать.
Исписывай горы чепухи, пока молод. Дурачься, сентиментальничай,
подражай Шелли, Сэмюэлю Смайлзу19, пиши порывом, пиши безвкусицу,
ошибайся в стиле, в грамматике - вылейся весь, перекувырнись... И дай выход гневу,
любви, сатире - любыми подвернувшимися, привязанными или
сотворенными словами, любым размером, прозой ли, поэзией, абракадаброй, если тебе
угодно. Так ты научишься писать. А начнешь публиковать свои стихи -
потеряешь свободу, будешь думать, что скажут люди, начнешь писать с
оглядкой на других. Да и какой смысл перекрывать безудержный поток
спонтанной чепухи, этот талант, тебе отпущенный всего на несколько лет, и взамен
печатать аккуратные книжечки экспериментальной поэзии? Для денег? Мы
оба знаем, это исключено. Узнать мнение критики? Но твои друзья
подперчат твои рукописи куда более серьезными и въедливыми замечаниями, чем
любой рецензент. Что же до славы, умоляю тебя, посмотри на
знаменитостей - какая волна скуки разливается при их появлении, обрати внимание на
их помпезность, пророческий вид: вспомни, что великие поэты всегда были
анонимны - Шекспир ни во что не ставил славу, а Донн20 швырял в мусор-
В. Вулф. Письмо к молодому поэту
461
ную корзину свои стихи. Проведи небольшое исследование, описав
психологию любого современного английского писателя, выжившего среди учеников
и обожателей, интервьюеров и любителей автографов, среди нескончаемых
банкетов, завтраков, юбилеев и чествований, которыми английское общество
так умело затыкает рты своим певцам и обрывает их песни.
Но довольно. При любых обстоятельствах я отказываюсь быть
некрофилом. Пока вам, и вам, и вам ровно двадцать три, достойные
продолжатели Сапфо21, Шекспира и Шелли, и вы рассчитываете следующие пятьдесят
лет писать стихи - о, завидная доля! - я отказываюсь думать, что
искусство умерло. А если когда-нибудь на вас найдет желание понекрофильство-
вать, пусть предостережением вам будет судьба того старого джентльмена,
чье имя я забыла, но вроде его звали Каркало. Читая отходную
современному искусству, он подавился большим куском горячего жирного пирога, и
говорят, даже перспектива скорой встречи с тенью Плиния Старшего22 его не
обрадовала.
А сейчас - к тому сокровенному, неудержимому и, в общем-то, самому
важному из всего, что пишешь.
462 Дополнения
Страница рукописи «Своей комнаты» (1929)
В. Вулф. Своя комната
463
СВОЯ КОМНАТА
ГЛАВА 1
При чем здесь своя комната? - спросите вы - мы же просили рассказать
о женщинах и литературе. Я попытаюсь объяснить. Когда мне предложили
выступить с темой «Женщины и литература»1, я села у реки и задумалась,
что понимать под этими словами. Несколько замечаний о Фанни Бёрни и о
Джейн Остен, дань уважения сестрам Бронте и история заснеженного Хоу-
орта, пара остроумных высказываний о мисс Митфорд, почтительный
намек на Джордж Элиот, ссылка на госпожу Гаскелл2 - и вопрос исчерпан?
Но если вдуматься, проблема женщин и литературы куда сложней. Под ней
можно понимать, как вы, наверное, и предполагали, разные вещи: какие они,
женщины, или о чем они пишут, или что пишут о них, или же все эти три
вопроса хитро переплетены, и вы ждете от меня разбора темы во всей
полноте. Последний путь казался самым заманчивым, и я уже было задумалась
над ним - но тут мне открылась непреодолимая пропасть. Идя этим путем,
я никогда не смогу прийти к окончательному выводу. Не смогу исполнить
первую обязанность лектора - вручить вам драгоценный слиток истины,
который вы унесли бы в своих блокнотах и положили навсегда на мрамор
камина. Я могу только высказать свое мнение об одной стороне дела: у каждой
женщины, если она собирается писать, должны быть средства и своя
комната - но и это, как вы убедитесь, не ответ на фундаментальный вопрос об
истинной природе женщин и сути литературы. Я так и не пришла к
окончательному выводу - женщины и литература остаются у меня по-прежнему
открытой проблемой. Но, чтобы как-то оправдать ваши ожидания, я постараюсь
показать вам, что привело меня к этому мнению о своей комнате и деньгах.
Проведу вас без утайки по всему лабиринту моей мысли. И может быть,
когда раскроются стоящие за этим мнением идеи и предрассудки, вы решите,
что не так уж они далеки от женщин и литературы. В спорных вопросах - а
проблемы пола все таковы - в одиночку не найти истины. Можно только
показать, как сложилось собственное мнение. И пусть слушатели сами делают
выводы, подмечая за оратором его непоследовательность, его пристрастия,
слабинки. Вымысел в этом случае может оказаться ближе к правде, чем факт.
Поэтому я и хочу воспользоваться правами и всей свободой романиста и
рассказать, как незадолго до прихода сюда я мучилась два дня поставленным
вопросом, поворачивая его так и эдак в свете будней. Нужно ли говорить, что
описанного ниже нет на самом деле, Оксбридж и Фернхем3 - выдумка, как и
«я» - безымянное, вымышленное лицо. С моих губ то и дело будут
срываться небылицы, но в них может оказаться и доля правды: вы сами найдете ее и
решите, стоит ли из нее что-то оставить. Если нет - вы просто бросите все в
мусорную корзину и забудете.
464
Дополнения
Итак, неделю или две назад ясным октябрем сидела я в раздумье у реки
(кто «Я» - не важно, зовите меня Мери Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайкл4
или как угодно). Проклятый вопрос, на который я должна ответить -
женщины и литература, этот объект столкновения людских предубеждений и
страстей, притянул, словно хомут, мою голову к земле. Справа и слева от меня
жгуче пламенели багрянцем и золотом какие-то кусты. На дальнем берегу
застыли в вечном плаче ивы, распустив волосы. Река своевольно отражала
что-то от неба, и моста, и горящего дерева, а когда по отражениям прогреб в
лодке студент-выпускник, воды сомкнулись, словно никого и не было... Там,
на берегу, любой сидел бы себе целый день и думал. А дума (хотя это
слишком громко сказано) уже забросила свою ниточку в струю. Долго качалась
туда и сюда среди отражений и водорослей, всплывая и снова уходя под воду,
как вдруг... знаете легкий толчок, внезапность блеснувшей мысли? И затем
осторожное извлечение ее на свет и придирчивый осмотр? Увы, при свете
дня она оказалась пустяком, мелочью - хороший рыбак такую не возьмет, а
пустит обратно в воду, чтоб нагуляла вес. Сейчас я вас не буду беспокоить
этой мыслью, но если вы приглядитесь, то сами выудите ее из рассказа.
При всей малости в ней было что-то таинственное - стоило ей
вернуться в свою стихию, как она вмиг стала значительной, захватывающей,
устремилась вперед, ушла вглубь, сверкнула там и здесь - в общем, подняла во
мне такую бурю идей, что не усидеть. И в следующую минуту я уже
стремительно шла через газон. Незамедлительно навстречу мне поднялась
мужская фигура. Правда, вначале я не поняла, к кому обращены жестикуляции
курьезного субъекта в визитке и фрачной рубашке. Его лицо выражало ужас
и возмущение. И тут во мне сработал инстинкт: он же педель5, а я женщина.
Здесь трава, там дорожка. По лужайкам разрешается гулять членам
Университетского совета, мне же - исключительно по дорожке. Эти мысли
пронеслись в голове в одну секунду. Я вернулась назад - педель сразу опустил руки,
лицо его приняло обычное скучающее выражение, и, хотя по траве ходится
лучше, чем по гравию, лужайка почти не пострадала. Одно жаль: защищая
свой клочок травы, который, кстати, холят уже три столетия подряд,
университетские мужи расстроили мне рыбалку.
Сейчас уже не вспомнить, повинуясь какой мысли я шагнула на газон.
На меня вдруг сошел благодатью дух умиротворения, обитающий
исключительно на четырехугольных дворах Оксбриджа в ясные октябрьские утра.
Среди этих древних университетских стен шероховатости жизни как бы
сглаживаются. Тело словно упрятано в чудесный звуконепроницаемый
футлярчик из стекла, и освобожденная от постороннего вмешательства фактов
мысль вольна предаться любой игре, созвучной настроению (пока
кого-нибудь опять не занесет на газон). В памяти всплыло старинное эссе о том, как
кто-то давно (уж не Чарлз ли Лэм?) посетил в каникулы Оксбридж6.
«Святой Чарлз», - говорил Теккерей, благоговейно поднося ко лбу его письмо.
В самом деле, среди мертвых (я передаю мысли, как они приходили мне в
В. Вулф. Своя комната
465
голову) Лэм один из самых близких: любой захочет спросить его - как же
вы писали свои эссе? С ними не сравнятся даже безупречные бирбомовс-
кие7, а все из-за бешеного фейерверка фантазии, тех гениальных озарений
Лэма, которые светом поэзии наполняют его, пусть в чем-то
несовершенные, эссе. Лэм приезжал в Оксбридж сто лет назад. И точно написал эссе -
не помню названия - о рукописи одного стихотворения Милтона, которую
увидел там в библиотеке. Кажется, это был «Ликид»8, и Лэм писал, какой
священный ужас вызывала у него мысль, что в рукописи этого
бессмертного творения могли сначала стоять другие слова. Ему казалось святотатством
представить Милтона за правкой этого стихотворения. От нечего делать я
попробовала вспомнить что-нибудь из «Ликида» - интересно, какое слово
мог бы переправить Милтон и почему? Но зачем гадать? Рукопись,
которую держал в руках Лэм, всего в нескольких ярдах от меня; можно спокойно
пройти по его следам через двор к библиотеке, где хранится это сокровище.
Кстати, там же, вспомнила я, осуществляя свой план, и рукопись теккереевс-
кого «Эсмонда»9. Критики часто говорят, что «Эсмонд» - его лучший роман.
Но, по-моему, претенциозность стиля, подражание манере восемнадцатого
века затрудняют читателя, хотя, возможно, для Теккерея стиль
восемнадцатого века естествен - просто нужно взять его рукопись и посмотреть,
стилевые там поправки или смысловые. Только прежде надо решить, что такое
стиль и что такое смысл... впрочем, я уже у двери в знаменитую библиотеку.
Видимо, я машинально ее открыла, потому что в ту же секунду передо мной
возник, словно ангел-хранитель, преграждая путь взмахами черной мантии,
добренький седой старичок: выпроваживая меня, он ласково объяснял, что
дамы в библиотеку допускаются только в обществе члена Университетского
совета или с рекомендательным письмом.
Для знаменитой библиотеки пустой звук, что какая-то женщина послала
ее к черту. Спокойная за свои сокровища, надежно спрятанные в подземельях,
она благодушно спит и с этой минуты заснула для меня навсегда. Ноги моей
здесь больше не будет, сердито клялась я, сходя с крыльца. И все же еще
целый час до завтрака и чем заняться? Гулять? Сидеть у реки? Нет ничего
проще: все то же чудесное осеннее утро, листья падают красными перышками
на землю. Но тут я услышала музыку. Видно, в часовне10 начиналась служба
или какая-то церемония. Когда я подошла, орган многоголосо взывал, но в
ясном воздухе даже многовековая скорбь христианства растворялась
воспоминанием, - казалось, и древний инструмент вздыхает как-то
умиротворенно. Входить в часовню не хотелось: здесь тоже мог остановить служка,
прося показать свидетельство о крещении или рекомендацию декана. И потом,
фасады этих грандиозных построек не менее великолепны, чем их интерьер.
Да и занятно понаблюдать за прихожанами, как они собираются, входят,
выходят, хлопочут у двери часовни, точно пчелы перед летком улья. Многие в
мантиях и шапочках, кое-кто с кисточками. Некоторые в инвалидных
колясках, другие - помоложе - уже сплюснуты и втиснуты в формы настолько ред-
466
Дополнения
костные, что невольно вспоминались гигантские крабы и лангусты, с трудом
передвигающиеся по дну аквариума. Я прислонилась к стене - университет
и в самом деле казался заповедником редких экземпляров, которые давно
вымерли бы, оставь их бороться за жизнь на общей мели. Вспомнились старые
истории о деканах, о профессоре, который, услыхав свист, моментально
переходил на галоп... и мне страшно захотелось засвистеть, но только я собралась
с духом, как почтенная паства скрылась за дверями старой часовни. Теперь
постройка была видна мне вся. Вы знаете - ее освещенные ночью купола
и башни стоят над холмами, точно мачты застывшего парусника. Когда-то
на месте этого четырехугольного двора с ровными клумбами, монолитными
зданиями и часовней было болото, заросшее травой, изрытое кабанами.
Потом из дальних графств потянулись воловьи и лошадиные упряжки со
строительным камнем, и затем эти серые блоки, в тени которых я сейчас стояла,
начали устанавливать с великим тщанием один на другой. Художники
изготовили стекло для окон, и вот уже наверху застучали мастерками, засновали
с цементом и замазкой каменщики. Каждую субботу чья-то рука, наверное,
отсыпала им в истертые ладони серебро и золото из кожаного кошелька -
должны же они были вечером иметь свои пиво и кости. В этот двор
нескончаемым потоком сыпалось золото, подумала я, чтобы камень подвозили без
задержки, чтобы строители работали: ровняли, окапывали, рыли и осушали.
То был век веры, и денег на закладку прочного фундамента не жалели, и,
когда наконец стены были возведены, из кофров королей, королев, вельмож
посыпалось еще больше золота - в этих стенах должны были петь гимны и
изучать латынь. Короли жаловали земли, монастыри платили десятину.
Потом век веры истек, наступил век разума, но поток золота и серебра не
оскудел, стипендии и лектуры жаловались по-прежнему щедро. Только изливался
весь этот блеск уже не из королевской казны, а из сундуков купцов и
фабрикантов, из кошельков людей, которые, скажем, сколотили себе состояние
в промышленности, а потом в своих завещаниях воздали сторицей родному
университету за науку - новыми стипендиями, новыми кафедрами и
лектурами. Отсюда библиотеки и лаборатории, обсерватории, великолепные
кабинеты с тончайшими дорогими приборами в стеклянных шкафах - хотя всего
несколько веков назад на этом самом месте колыхалось море травы и рылись
кабаны. Конечно, фундамент из золота и серебра выглядит внушительно,
думала я, обходя университетский двор, из-под асфальта не видно дикой
травы. По лестницам бегали мужчины с подносами. На окнах в ящиках рдели
пышные цветы. Из внутренних комнат неслись звуки граммофона. Я
подумала было... но тут пробили часы, и я потеряла свою мысль. Пора было идти
завтракать.
Все же любопытно, как романисты всегда стараются внушить нам,
будто главное на званом завтраке - чьи-то блестящие остроты или умные речи.
Редкий писатель обмолвится о еде. Такое впечатление, что они никогда не
курили сигар, не пили вина и настолько привыкли к супу из семги и жар-
В. Вулф. Своя комната
467
кому, что договорились не упоминать о них. Сегодня я нарушаю этот
молчаливый договор и объявляю, что торжество началось с большого блюда
морских языков под белоснежным покрывалом сливок, опаленным там и
сям коричневыми пятнышками, как у пятнистого оленя. Затем подали
куропаток, но, если при этом слове вам почудилась пара тощих
пережаренных птиц на тарелке, вы ошиблись. Куропатки разных пород достойно
шествовали, сопровождаемые свитой салатов, острых и сладких соусов, строго
по этикету. Рассыпчатый картофель нарезан не толще монеты, сочные
головки брюссельской капусты уложены розанчиками. И едва мы одолели
жаркое с его пышной свитой, как вышколенный слуга - уж не двойник ли того
педеля? - поставил перед нами завернутое в салфетки сладкое: оно
вскипало розовой глазурью. Назвать его пудингом, поставив в один ряд с
низкородными рисом и тапиокой, было бы оскорблением. Тем временем
бокалы успели уже несколько раз вспыхнуть желтым, малиновым, осушиться и
снова наполниться. И постепенно там, внутри, где у человека душа,
затеплился свет - не напряженный, наэлектризованный блеск, а ровное,
глубокое тепло духовного общения. Не надо горячиться, блистать. Быть собой - и
только. Мы все на верху блаженства, и нам улыбается Ван Дейк -
другими словами, жизнь кажется прекрасной, ее награды - чудесными, обиды и
зависти - таким пустяком в сравнении с дружбой и человеческим
общением, когда, закурив хорошую сигарету, откидываешься на мягкие подушки
у окна.
К сожалению, под рукой не оказалось пепельницы и пришлось украдкой
стряхивать пепел в окно - если бы не это маленькое обстоятельство, никто,
наверное, не заметил бесхвостую кошку. Внезапное появление этого куцего
зверька на университетской лужайке изменило разом мой праздничный
настрой. Точно на все легла тень. Или отличное вино постепенно ослабляло
чары? Не знаю, но, когда я увидела в центре газона застывшую бесхвостую
кошку, будто о чем-то вопрошающую мир, я ощутила какую-то пустоту,
потерю. Но с чего вдруг? - спросила я, прислушиваясь к разговору гостей.
И чтобы ответить себе на этот вопрос, я должна была выйти мысленно из
комнаты и вернуться в прошлое - в довоенные годы - и вспомнить
атмосферу тех прошлых званых завтраков. Комнаты были вроде этих, но все
остальное, казалось мне, было другим. Сейчас рядом со мной шумела молодая
компания, мужчины, женщины, разговор шел гладко, свободно, как бы шутя.
Я невольно сравнивала сегодняшнюю беседу с теми довоенными встречами
и в какую-то минуту решила, что мои сомнения напрасны: тот разговор и
нынешний - родные братья. Все по-старому, только вот... и я стала напряженно
вслушиваться в журчащий за словами поток. Да, вот оно, вот что
изменилось. До войны на таких званых завтраках люди говорили вроде то же самое,
но звучало это иначе из-за мелодичного, волнующего, невнятного напева,
который был дороже любых слов. Можно ли его выразить? Думаю, что да -
с помощью поэтов. Я открыла лежащую рядом книгу и случайно попала на
468
Дополнения
Теннисона. Он пел:
С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада,
Ко мне, мой день, моя судьба.
Роза кричит: «Она ближе, ближе»,
И плачет другая: «Ушла».
Шпорник кивает: «Я слышу, слышу»,
И лилия шепчет: «Сюда»11.
Неужели мужчины напевали это на званых завтраках перед войной?
А женщины?
Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, - низко
Клонит ветви с плодами литыми,
Мое сердце - как теплая раковина,
Что играет радугой в море,
Мое сердце - воля и радость
От любви, нахлынувшей полно12.
Неужели женщины это напевали на званых завтраках перед войной?
Это показалось мне до того забавным, что я рассмеялась и, чтобы как-то
объяснить свой смех, показала гостям на бесхвостую кошку за окном -
бедняга и в самом деле выглядела нелепо. Она уродилась такой или это
несчастный случай? На острове Мэн есть бесхвостые кошки, но они редкостней, чем
мы думаем. Это странное животное, больше чудное, чем красивое.
Все-таки удивительно, как много значит «хвостик» - слова, что люди говорят друг
другу на прощание, одеваясь в передней.
В этот день завтрак у гостеприимных хозяев затянулся. Чудесный
октябрьский день уже увядал, когда я шла по аллее к выходу. За моей спиной
смыкались ворота, повсюду щелкали хорошо смазанные замки: педели
прятали свою сокровищницу на ночь. Сразу за аллеей начинается дорога - если
пойти по ней и не спутать поворот, попадешь в Фернхем. Впрочем, куда
спешить, обед будет не раньше половины восьмого. Да и вряд ли захочется есть
после такого сытного завтрака. А клочок поэзии все бьется в памяти, и ноги
невольно попадают в такт. Душа моя пела:
С гелиотропа у ограды
Упала светлая слеза.
Ко мне, моя любовь, отрада, -13
подгоняя меня вперед. А потом в другом ритме, над бурными водами плотины:
Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, - низко...14
Какие поэты, вырвалось у меня в темноте, какие были поэты!
В. Вулф. Своя комната
469
Обидевшись за наш век, я стала сравнивать, хотя это глупо и
бессмысленно, прошлую поэзию с современной. Можно ли сегодня назвать двух
поэтов, равных Теннисону и Кристине Россетти? Но их и сравнивать нельзя,
отвечала я самой себе, глядя в водоворот плотины. Поэзия Россетти и Тен-
нисона будит в нас такой порыв и восторг потому, что чувство, которое она
празднует, знакомо каждому человеку (не по довоенным ли завтракам?).
В нем не сомневаешься, его не сравниваешь со своими новыми
впечатлениями. На такую поэзию откликаешься легко, привычно. И совершенно иное -
у современных поэтов. Они как бы выхватывают у нас еще не остывшее
чувство. Его трудно узнать, часто почему-то его пугаешься. Пристально
следишь за ним, ревниво и недоверчиво сравниваешь со старым, знакомым.
В этом трудность современной поэзии, из-за нее не вспомнить у хорошего
поэта более двух строк... И из-за моей забывчивости вопрос повис в воздухе.
И все же почему, настаивала я, шагая напрямик, мы больше не напеваем тихо
на званых завтраках? Почему умолк Альфред:
Ко мне, моя любовь, отрада?15
И Кристина не отзывается:
Мое сердце - воля и радость
От любви, нахлынувшей полно?16
Обвинять ли войну? Пушки ударили в августе 1914-го - и лица мужчин и
женщин предстали такими подурневшими в глазах друг друга, что романс
оборвался? Конечно, было страшным ударом увидеть лица наших
законодателей при свете рвущихся бомб, особенно женщинам с их иллюзиями
относительно культуры, цивилизованности и пр. Какими безобразными они
показались - немцы, англичане, французы, какими тупыми! Но как бы то ни
было, иллюзия, вдохновлявшая Теннисона и Кристину Россетти так
страстно петь о любви, ныне редкость. Достаточно оглянуться вокруг, почитать,
прислушаться, вспомнить. Но зачем «обвинять», если то была иллюзия?
Почему не оправдывать катастрофу, если она покончила с иллюзиями и
установила истину? Ибо истина, подумала я, и... проскочила, в поисках истины,
поворот на Фернхем. Нет, в самом деле, как отличить истину от иллюзии? -
задавала я себе вопрос. Скажем, вон те дома - в сумерках праздничные,
манят маяками окон, а наутро хозяева их, опухшие, неряшливые, копошатся за
выпивкой и мелкой торговлей - какое из этих лиц истинное? А ивы, река,
сады по берегам, вечерами серые, а на солнце золотые и багряные - где тут
истинное, где мнимое?.. Но я не буду утомлять вас рассказом о том, как
петляла в потемках моя мысль: дорога эта не имела конца, и вскоре я поняла
свою ошибку и вернулась к Фернхему.
Стоял, как я уже сказала, октябрь, и мне не к лицу менять время года и
описывать сирень, шафран, тюльпаны и другие весенние цветы: так я
рискую потерять ваше уважение и запятнать честное имя литературы. Все гово-
470
Дополнения
рят, литература должна придерживаться фактов, и чем факты точнее, тем она
правдивее. Поэтому пусть - стояла осень, и листья желтели и падали, разве
чуть быстрее, чем раньше, наступил вечер (точнее, семь часов двадцать три
минуты), и подул ветер (не какой-нибудь, а юго-западный). Но что-то
странное творилось вокруг...
Мое сердце ликует, как птица,
Что свила гнездо у стремнины,
Мое сердце, как яблоня, - низко
Клонит ветви с плодами литыми17.
Поэзия ли Кристины Россетти виновата в проделках фантазии (то, конечно
же, фантазия) - но, когда я подошла к садовой ограде, за нею цвела сирень,
мелькали бабочки-белянки, и в воздухе пахло пыльцой. Дул ветер, из
какой части света, не знаю, но он поднимал ранние листья, и те вспыхивали
серебристо-серым. Был сумеречный час, когда цвета острее и пурпур и
золото бьют в стекла окон ударами взволнованного сердца. Когда непонятно,
почему красота мира, открывшаяся и уже обреченная (я вошла в сад:
калитка настежь и вокруг ни педеля), - обреченная красота оттачивается смехом,
оттачивается болью, разрывая сердце. Сады Фернхема лежали передо мной
в весенних сумерках, дикие и просторные; в высокой траве будто
разбрызганы, небрежно выплеснуты нарциссы и колокольчики: непокорные, как в
лучшие свои часы, они волновались и бились под ветром, обнажая корни. Окна
дома - крошечные иллюминаторы в толще красного кирпича - то желтели,
то серебрились под быстро проплывавшими весенними тучами. Кто-то
качался в гамаке - или мне только померещилось в сумраке? - кто-то рванулся
по траве к дому - неужели некому остановить? И затем на террасе
возникла - точно вырвалась глотнуть воздуху, взглянуть на сад - женская согнутая
фигура, грозная и смиренная. Высокий лоб, изношенное платье - ужели это
она, знаменитый ученый, сама Дж. X.?18 Все притихло и напряглось;
казалось, газовый шарф лежавших над садом сумерек разорвала, сверкнув, то ли
звезда, то ли сабля - словно ударила какая-то жуткая реальность,
предательски вывернувшаяся из самого сердца весны. Ибо юность...
«Ваш суп». Я сижу в столовой. Идет обед. Весна только померещилась,
на самом деле октябрьский вечер. Всех собрали в огромном зале. Время
обедать. Есть суп. Простой бульон. На нем не пофантазируешь. Можно,
конечно, поискать рисунок на дне тарелки - налитая жидкость прозрачна как
слеза. Но рисунка нет. Простая тарелка. Дальше говядина с картошкой и
зеленью - вечная постная троица, напоминающая о говяжьих крестцах,
грязном базарном прилавке, увядшей капусте, торговле из-за каждого пенса и
женщинах с кошелками утром по понедельникам. Никто не ропщет, пища
здоровая, всем хватает - у семей английских шахтеров наверняка и того нет.
Дальше чернослив с драченой. Нет, все-таки есть на свете люди, способные
расщедриться хотя бы на чернослив, пусть он и черств, и черен, как сердца
В. Вулф. Своя комната
471
скупцов, экономивших всю жизнь на вине и тепле камина и ни гроша не
уступивших бедняку. Затем бисквиты и сыр, и по столу пошел гулять кувшин с
водой: бисквиты вообще сухие, а эти были просто камень. Всё. Еда
окончена. Отодвинули стулья, заходила взад и вперед турникетная дверь, и вот уже
зал стоит чистенький, приготовленный для утренней трапезы.
По коридорам и лестницам колледжа, распевая и хлопая дверями, шла
юность Англии. И поскольку я чужая в Фернхеме, как, впрочем, и в любом
другом колледже, у меня язык не повернулся сказать Мери Сетон19 (мы
поднялись к ней в комнату): «Невкусный обед, почему было не пообедать здесь,
одним?» Не пристало гостю копаться в хозяйственных уловках этого
приветливого, неунывающего дома. Нельзя обижать хозяев. И я замялась, разговор
повис в воздухе. Таков человек - сердце, тело, мозг у него вперемешку, а не
разложены по ящичкам, как, несомненно, будет через миллион лет, и потому
без хорошего обеда разговор не клеится. Пообедал плохо - плохо думается,
плохо любится, не спится. От говядины и чернослива в душе не
затеплится свет. Мы вроде бы на верху блаженства, и нам, может быть,
улыбнется когда-нибудь Ван Дейк - неопределенные и несмелые мысли порождают
съеденные на ночь чернослив с драченой. К счастью, у моей подруги, она
естественник, была припасена бутылка вина (правда, неплохо было бы
начать с морских языков и куропаток, но где они?!) - так что, устроившись с
рюмкой у камина, можно отыграться за прожитый день. Через минуту мы
уже порхали вокруг тех интересных тем, что приходят в голову за время
отсутствия некоторых персон и, естественно, обсуждаются при встрече, - кто-
то женился, кто-то нет, один думает так, другой иначе, один неузнаваемо
переменился к лучшему, другой на удивление испортился - со всеми
вытекающими выводами о человеческой природе и нашем удивительном мире. Но
скоро я смущенно заметила, что мысли мои бродят далеко, словно какой-то
властный, могучий поток отвлекает меня от разговора. Испания,
Португалия, книги, бега - все это было очень интересно, но меня задевала за живое
только маленькая картина пятисотлетней давности: на крыше часовни
копошатся каменщики, а внизу короли и знатные вельможи подносят мешки с
золотом и ссыпают его под стены. И рядом - другая картина: тощие коровы,
грязный рынок, увядшая зелень, стариковские жилистые сердца. Почему-то
в моем воображении они всегда оживали вместе, кажется, без всякой связи,
и я ничего не могла с собой поделать. Еще немного, и разговор зашел бы в
тупик. Оставалось одно - высказаться немедленно, чтобы наваждение
исчезло, испарилось, рассыпалось трухой, как череп короля, чей гроб вскрыли в
Виндзоре20. И я рассказала Мери о каменщиках на крыше часовни, о королях
и вельможах, не жалевших золота на фундамент, о нынешних финансовых
магнатах, которые вкладывают в дело уже не самородки и грубые слитки,
а чеки с бонами. В Оксбридж вложены несметные сокровища, сказала я, а
что же Фернхем? Что лежит под его славным кирпичом и диким, заросшим
472
Дополнения
садом? Откуда простая посуда, из которой мы ели? Говядина (вырвалось у
меня невольно), чернослив с драченой?
Видишь ли, начала Мери, в 1860 году... да ты знаешь эту историю,
заметила она с неохотой. Сняли женщины комнаты, выбрали комитет,
организовали подписку, разослали письма. Потом на собраниях зачитывали ответы
подписчиков: такой-то дает столько-то, такой-то ни пенса. В «Сэтерди ре-
вью» назвали все это глупой затеей! Чем будем расплачиваться за услуги?
Может, устроить благотворительный базар? Есть у кого-нибудь на примете
хорошенькая девушка для первого ряда? А как на это посмотрел бы Джон
Стюарт Милль?21 Кто возьмется уговорить редактора N напечатать
письмо? Кто поедет заручиться поддержкой леди N? Но она в отъезде. Примерно
так - медленно, преодолевая сопротивление, тратя силы, здоровье, время -
действовали женщины шестьдесят лет назад. И все-таки после долгой
борьбы им удалось насобирать те тридцать тысяч*. Сама понимаешь, улыбнулась
Мери, мы не можем позволить себе вина, куропаток и слуг с подносами. Не
говоря уже о диванах и отдельных комнатах. «С удобствами придется
обождать»**, - прочитала она по какой-то книге.
На минуту мы с Мери задумались о женщинах, которые никогда не
держали в руках две тысячи фунтов, а тридцать тысяч собирали годами, и нам
стало горько от такой постыдной нищеты. Чем же занимались наши
матери? Носы пудрили? Разглядывали витрины? Щеголяли под солнцем в
Монте-Карло? В комнате у Мери на камине стояли фотографии. Возможно, ее
мать - если это она - и любила развлечься на досуге (тринадцать детей от
приходского священника!), только на ее лице почему-то не осталось следов
беззаботной и веселой жизни. Скромная пожилая женщина в клетчатой шали
с брошью; сидя на плетеном стуле, она с доброй, напряженной улыбкой
смотрит на спаниеля, словно знает заранее, что он дернется в самый
неподходящий момент. А если бы она зарабатывала деньги - скажем, на
производстве искусственного шелка - или играла бы на бирже и оставила Фернхему
двести или триста тысяч? Мы чувствовали бы себя вольготно этой ночью,
обсуждали бы проблемы физики, или археологии, или ботаники,
антропологии, строение атома, астрономию, теорию относительности, географию.
Если бы только наши матери научились в свое время великому искусству
делать деньги и завещали их потом своим дочерям на звания и стипендии, как
это делали для своих сыновей отцы, мы бы сегодня отлично поужинали
птицей и бутылкой вина одни; и будущее представлялось бы нам надежным и
* «Нам сказали, что потребуется не меньше тридцати тысяч фунтов... Если учесть, что это
будет один колледж на всю Великобританию, Ирландию и колонии, не такая уж большая
сумма - столько ли обычно собирают на мужские гимназии? Но сторонников женского
образования так мало, что и эта сумма велика». — Леди Стивен. Эмили Дэйвис и Гэртонский
колледж {Примеч. Вулф).
** «Каждый пенс, который удавалось наскрести, шел на постройку здания - до удобств ли тут
было?» - Р. Стречи. Дело (Примеч. Вулф).
В. Вулф. Своя комната
473
безоблачным под сенью какой-нибудь высокооплачиваемой профессии. Мы
бы исследовали, писали, бродили по древним уголкам земли, сидели у
подножия Парфенона или шли бы к десяти на службу и в половине пятого
возвращались пописать стихи. Только... здесь в наших рассуждениях возникла
заминка - если бы наши матери с пятнадцати лет пошли работать... не было
бы Мери. Что Мери думает об этом, спросила я. За окном стоит октябрьская
ночь, ясная, тихая, только одна или две звездочки мерцают в желтеющих
ветвях. Готова ли Мери отказаться от настоящего? Пожертвовать ради Фернхе-
ма своими детскими воспоминаниями об играх и ссорах в горах Шотландии,
об ее чистейшем воздухе и коврижках (у них была большая, счастливая
семья)? Потому что, если женщины начнут вкладывать деньги в колледжи,
семьям придет конец. Делать деньги и рожать дюжину детей - ни один человек
такое не вынесет. Рассмотрим факты, сказали мы. Сначала девять месяцев до
рождения ребенка. Затем три или четыре месяца его надо кормить, а дальше
лет пять с ним надо заниматься. Вы же не предоставите ребенка улице. Те,
кто бывал в России и видел, как бегают без присмотра русские дети, говорят,
что картина эта не из приятных. Еще говорят, человеческая природа
оформляется между годом и пятью. Так если б твоя мать делала деньги,
спросила я Мери, разве тебе было бы что вспомнить о детских ссорах и играх, о
Шотландии, ее чудесном воздухе, коврижках и всем остальном? Праздные
вопросы - тебя бы просто не существовало. Как и без толку размышлять о
том, что было бы, если б наши матери накопили деньги и вложили их в
строительство колледжа или библиотеки: женщинам ведь негде было
зарабатывать, а если кому-то и случилось бы заработать, эти деньги по закону им не
принадлежали. Только в 1880 году, то есть сорок восемь лет назад, женщина
стала законной хозяйкой своих пенсов. Во все предыдущие века ее деньги
были собственностью мужа - уже из-за одного этого она не стала бы играть
на бирже. Раз выигранные деньги все равно будут не мои, а его, рассуждала
она, и пойдут на учреждение стипендии или звания в мужском колледже,
какой мне интерес зарабатывать? Пусть он этим и занимается.
Но кто бы ни был виноват, ясно, что наши матери по какой-то причине
дело загубили. Ни пенса на «удобства», на куропаток и вино, газоны с
педелями, книги и сигары, библиотеки и досуг. Самое большее, что они сумели, -
это возвести голые кирпичные стены.
Так мы разговаривали с Мери, как беседуют вечерами тысячи людей у
окна, глядя на купола и башни прославленного города. В осеннем лунном
свете он был таинствен, прекрасен. Старые, точно убеленные сединою,
камни. Думалось о бесценных собраниях книг, о портретах прелатов и
вельмож на панелях красного дерева. О витражах, отбрасывающих на асфальт
странные круги и полумесяцы; фонтанах, траве, о тихих комнатах окнами в
квадратные оксбриджские дворики. И еще - простите мне эту прозу - о
восхитительных сигаретах, винах, глубоких креслах и мягких коврах. О той
атмосфере цивилизованности, радушия, достоинства, которая приходит только
474
Дополнения
с комфортом, с роскошью, привычкой к уединению. Разумеется, наши
матери не дали нам ничего подобного - наши нищие матери, еле добывшие
тридцать тысяч фунтов, обремененные дюжиной детей от приходских
священников.
Я пошла назад в гостиницу и, идя темными аллеями, перебирала в
памяти события дня, как всякий после работы. Почему у миссис Сетон не
оказалось для нас денег? Как действует на сознание человека нищета? Как влияет
на его развитие достаток? Вспомнила ученых старцев в шляпах с
кисточками, которые, услышав свист, немедленно пускаются в галоп. И гудевший в
часовне орган, и запертые двери библиотеки. Думала о том, что неприятно,
когда тебя выставляют, но гораздо хуже, если держат взаперти. О том, что
один пол процветает, а другой нищ и неуверен в завтрашнем дне. Что у
одних традиция, а за другими - пустота, и как это может сказаться на
развитии писателя... Пока наконец не решила: «Хватит!»- и, скомкав измятую
оболочку дня со всеми спорами, насмешками, обидами, запустила ею в
изгородь. В ночном пустынном небе вспыхивали тысячи звезд. Казалось, ты
один среди непостижимого людского общества. Все давно спали - кто
вытянувшись, кто ничком. Ни души на улицах Оксбриджа. Даже дверь в
гостиницу некому открыть, спят коридорные - и тут она сама, точно по волшебству,
передо мной отворилась.
ГЛАВА 2
А теперь попрошу вас представить другую картину: лондонский
листопад, мы поднимаемся мысленно над уличным потоком шляп, машин,
автофургонов и заглядываем в одну из тысяч обыкновенных лондонских комнат,
окнами выходящую в такие же окна напротив, и в глубине ее видим на столе
пустой листок, на котором выведено крупно: «ЖЕНЩИНЫ И ЛИТЕРАТУРА»,
и ни слова больше. После Оксбриджа поход в библиотеку Британского музея
казался неизбежным. Надо профильтровать свои впечатления, отделив все
случайное, наносное, и дойти до драгоценных крупиц истины. Столько
вопросов зароилось в голове после тех памятных завтрака и обеда в Оксбрид-
же! Почему мужчины пьют вино, а женщины воду? Почему они процветают,
а мы остались нищими? Как влияет на литературу нищета? Какие условия
необходимы для создания произведений искусства? Но все ищут ответы, а
не вопросы. За ответами же идут к ученым, к тем умудренным и
беспристрастным, что, поднявшись над бренной суетой, оставили человечеству плоды
своего разума в трудах, собранных в библиотеке Британского музея. Если
истины нет на полках Британского музея, то где ж ее искать? - спросила я,
беря блокнот и карандаш.
И с этими вопросами я пустилась за истиной. День был не сырой, но
унылый, и на улицах рядом с музеем уже зияли угольные ямы, куда
сгружали мешки с углем. У дверей пансионов прямо на асфальте лежали сваленные
В. Вулф. Своя комната
475
грудой коробки со скарбом итальянского или швейцарского семейства,
заехавшего в Блумсбери22 то ли в поисках счастья, то ли просто перезимовать.
Со всех сторон неслись выкрики торговцев. Одни кричали наперебой,
предлагая свой товар, другие пели. Лондон был похож на цех или станок. Мы все
сновали челноками туда и сюда, словно выделывая на его простой основе
какой-то немудрящий узор. Британский же музей был цехом особым.
Открывается входная дверь, и человек, встав под громадный музейный
купол, чувствует себя ничтожной мыслью в гигантском лбу, обвитом
пышной вязью прославленных имен. Идет к конторке, берет бланк, открывает
томище каталога - и Это пятиточие означает пять долгих минут столбняка,
удивления и, наконец, озадаченности. Представляют ли женщины, сколько
о них ежегодно пишут мужчины? Известно ли им, что они самый
обсуждаемый на свете зверь? Я пришла в библиотеку с блокнотом и карандашом,
рассчитывая: почитаю всё утро, и в полдень истина будет у меня. Но я вижу,
надо быть стадом слонов, скопищем пауков, чтобы все это осилить, - в
ужасе я представила самых выносливых и многоглазых животных. Чтобы только
отделить зерна от плевел, мне понадобились бы стальные когти и железный
клюв. Искать крупицы истины среди этой бумажной массы? - спросила я
растерянно и пробежала глазами длинный список книг. Названия - и те
ставили в тупик. Понятно, когда вопросами пола занимаются биологи и
медики, но, к моему неизъяснимому удивлению, женским полом интересовались
все, кому не лень: эссеисты и ловкие писаки, молодые люди со степенью
магистра искусств и люди без степени, все достоинство которых только в
том, что они мужчины. Некоторые заглавия были с виду легкомысленными и
шутливыми, но большинство серьезными и назидательными. В воображении
рисовались строгие директора школ и священники на трибунах и амвонах,
рассуждающие о женщинах с таким красноречием, что никаких регламентов
не хватит. Странное явление, причем свойственное лишь мужчинам, - я
специально проверила на букву «ж». Женщины не пишут о мужчинах,
вздохнула я облегченно, потому что, если бы мне пришлось прочитать все, что те и
другие написали друг о друге, боюсь, что кактус, который расцветает раз в
столетие, успел бы дважды отцвести, а я бы все сидела. И вот, выбрав наугад
несколько книг, я отослала заполненные бланки и стала ждать за своим
столиком среди таких же, как я, охотников до истины.
И все же чем объяснить эту разницу? - думала я, черкая каракули на
чистых бланках. Почему, судя по каталогу, женщины больше интересуют
мужчин, чем мужчины женщин? Очень странный факт, и я попробовала себе
представить, кто пишет о женщинах. Старики или молодые, женатые или
холостяки, алкоголики, горбатые... В каком-то смысле лестно оказаться в
центре внимания, если, конечно, его оказывают не одни лишь уроды и калеки, -
предавалась я вольным мыслям, пока на мою конторку не обрушилась
лавина книг. И начались мучения. Разумеется, оксбриджский студент умеет
прямо гнать вопрос, пока не найдет ответ, словно баран - загончик. Рядом,
476
Дополнения
например, сидел студент и старательнейше списывал с учебника.
Чувствовалось, что он каждые десять минут извлекает не крупицы - слитки
благородного металла. Он даже покряхтывал от удовлетворения. А тот, кто не прошел
университетской выучки? Его вопрос не побежит овцой в загон, а
шарахнется в сторону, как стадо, перепуганное сворой гончих. Профессора,
директора, социологи, священники, романисты, эссеисты, журналисты,
господа, все достоинство которых только в том, что они мужчины, - все травили
мой простой вопрос: «Почему женщины нищие?» - пока он не рассыпался
на пятьдесят вопросов и все пятьдесят не бросились очертя голову в поток
и сгинули. Мой блокнот был весь исписан. Чтобы вы лучше поняли мое
состояние, я зачитаю страничку. Она называлась ясно и просто «Женщины и
бедность», но дальше шло нечто такое...
Положение в Средние века...
Амазонки Фиджи...
Были предметом культа...
Морально неустойчивы...
Идеалистки...
Более ответственны...
Половая зрелость у жительниц тихоокеанских
островов...
Хороши собой...
Приносились в жертву...
Малый объем черепной коробки...
Большая активность подсознания...
Меньший волосяной покров...
Моральная, умственная и физическая
неполноценность...
Любовь к детям...
Дольше живут...
Более слабая мускулатура...
Сила привязанности...
Тщеславны...
Легче поддаются воспитанию...
Мнение Шекспира...
Мнение лорда Беркенхеда...
Мнение декана Айнджа...
Мнение Лабрюйера...
Мнение д-ра Джонсона...
Мнение г-на Оскара Браунинга...
Здесь я перевела дух и приписала на полях: «И почему это Сэмюэл Бат-
лер23 говорит: "Умный мужчина никогда не скажет, что он думает о
женщинах"? По-моему, умные мужчины ни о чем другом и не говорят». Но главное,
что они думают все по-разному, - я откинулась на спинку стула, уже обо-
В. Вулф. Своя комната
477
зленно глядя в необъятный купол библиотеки. Например, Поуп24: «У
большинства женщин нет ни капли характера». А вот Лабрюйер25: «Les femmes
sont extrêmes, elles sont meilleures ou pires que les hommes»*. Явное
противоречие y проницательнейших наблюдателей-современников. Способны
женщины к наукам? Наполеон считал, что не способны. Д-р Джонсон был
другого мнения**.
Есть ли у женщины душа? Находятся дикари, которые говорят: нету.
Другие, наоборот, считают женщин чуть не святыми и поклоняются им***. Одни
мудрецы заявляют, что женщины неразумнее мужчин, другие - что они
глубже. Гете чтил их, Муссолини презирает. Кажется, во все времена мужчины
думали о женщинах, и думали по-разному. Ничего не поймешь - с досадой я
глядела на соседа, аккуратненько выводившего итог под А, В и С, тогда как
мой блокнот бунтовал противоречивыми цитатами. Неприятно, глупо,
обидно. Истина прошла сквозь пальцы как песок. Вся до крупинки.
Нельзя же мне пойти домой, размышляла я, и выдать за серьезное
изучение проблемы женщины и литературы рассуждения о том, что у женщин
волосяной покров меньше, чем у мужчин, или что у жительниц тихоокеанских
островов половая зрелость наступает в девять... или девяносто лет? - даже
почерк совсем развинтился. Стыдно после целого утра работы показывать
какую-то чепуху. И если я не откопала истину о Ж в прошлом (так я
сокращенно стала называть женщину), то зачем беспокоиться о ее будущем? Нет,
видно, пустая это трата времени - обращаться к многочисленным ученым,
крупным специалистам в области женского вопроса и влияния женщин на
политику, детей, зарплату, нравственность и так далее. Их книг и раскрывать
не стоило.
Размышляя, я рассеянно водила карандашом по бумаге вместо того,
чтобы писать заключение, как мой сосед. Вырисовывалось чье-то лицо, чья-то
фигура. Да ведь это же профессор фон X, высиживающий свой
монументальный опус «Умственная, нравственная и физическая неполноценность
женского пола». Профессор вышел у меня очень некрасивым. Толстый, с
огромной челюстью, глазки узкие, лицо багровое. По его выражению было
видно - он рассержен; всаживает перо в листок, словно хочет прикончить
одну зловредную букашку - и уже прикончил, да показалось мало, требует
новой жертвы, и все равно у него, видно, оставался повод сердиться и
раздражаться. Может, из-за супруги? - подумала я, разглядывая набросок. Она
* «Женщина сама крайность - она либо хуже, либо лучше мужчины» (фр.).
** «Мужчины чувствуют в женщинах слишком сильного соперника и поэтому выбирают
глупеньких или невежественных. Иначе чего бы им было бояться образованных женщин?
...Справедливости ради добавлю, что впоследствии, возвращаясь к этому разговору,
Джонсон уверял меня, что вовсе не шутил». — Босуэлл. Дневник одного путешествия на
Гебридские острова (Примеч. Вулф).
*** «Древние германцы верили, что в женщинах есть что-то священное, они для них были чем-
то вроде оракулов» (Фрейзер. Золотая ветвь) (Примеч. Вулф).
478
Дополнения
влюбилась в кавалериста? Стройного, элегантного, в каракулевой бурке?
А может, если принять Фрейда, над его колыбелью расхохоталась
прелестная шалунья? Потому что и в детстве, наверное, профессор на всех дулся.
Как бы ни было, у меня он вышел очень злым и очень гадким со своей
книгой об умственной, нравственной и физической неполноценности женского
пола. Рисовать картинки - конечно, праздный способ подводить итоги. Но,
бывает, именно в минуту праздности, полудремы правда и выходит наружу.
Простейшее психологическое действие - не сравнить с психоанализом -
открыло мне, что своего профессора я набросала осерчав. Моим карандашом
незаметно овладел гнев. Только откуда он взялся? Интерес, растерянность,
веселье, скуку- все эти чувства я хорошо помню. Но гнев?.. Неужели он
затаился гадюкой? Да, отвечал рисунок. Он ясно указывал, откуда исходил
этот злой дух: из безоговорочного заявления профессора о моей умственной,
нравственной и физической неполноценности. И - заколотилось сердце,
запылали щеки. Я вспыхнула от гнева. Естественная человеческая реакция,
хотя, может, и глупая. Кому понравится, если про него за глаза сказать, что
он от природы ниже самого скромного представителя человеческого рода?
Я взглянула на сопящего рядом студента, в мятом галстуке, две недели не
бритого. В каждом сидит какое-то глупое тщеславие. Так уж устроен
человек, подумала я, быстро зачеркивая свой набросок сердитого профессора.
И вот он уже не профессор, а неопалимый куст или хвост пылающей
кометы - словом, призрак, лишенный смысла и человеческого подобия. Вязанка
хвороста, зажженная на Хемстед-Хит26. Итак, я нашла причину своего гнева,
и его как рукой сняло. Но любопытство осталось. Чем объяснить
негодование профессоров? Чего они сердятся? Когда доходило до анализа их
сочинений, в них всегда оказывалась примесь пыла. Эта запальчивость
принимала различную окраску - сатирическую, сентиментальную, прорывалась то в
излишней строгости, то в любопытстве. И был еще один элемент, который
сразу не распознаешь. Гнев - так я его определила. Только он давно уже
перекипел и смешался с разными другими чувствами. Судя по странным
последствиям, то был каверзный и замаскированный гнев, а вовсе не праведный
и искренний.
Как бы ни было, все эти книги мне ни к чему, подумала я, оглядев кипу
на моем столе. Они никчемны, так сказать, в научном плане, хотя
житейски в них очень много поучительного, развлекательного, скучного и очень
странного насчет островитянок Фиджи. Они написаны в запальчивости, а не
в холодном свете истины. Поэтому пусть лучше возвращаются на стол
библиотекаря и разбегаются по своим ячейкам в громадном улье
книгохранилища. Я же из утренних поисков вынесла один-единственный факт:
профессора сердятся. Но почему - я уже вернула книги и стояла под колоннадой
среди голубей и доисторических каноэ, - почему они сердятся? И, не
переставая задавать себе этот вопрос, побрела завтракать. Что в
действительности скрыто за профессорским гневом? Над этой задачкой поломаешь голову,
В. Вулф. Своя комната
479
пока тебя обслуживают в кафе неподалеку от музея. Кто-то из посетителей
забыл на стуле утренний выпуск вечерних новостей, и скуки ради я начала
его просматривать, дожидаясь своего заказа. Через всю страницу заголовок:
кому-то повезло в южноафриканской партии. Буквочки помельче сообщали,
что Чемберлен прибыл в Женеву. В подвале мясника найден топор с
присохшими человеческими волосами. Г-н судья по делам разводов выступил
вчера в суде с речью против бесстыдного поведения женщин. Мелькали и
другие новости. Где-то в Калифорнии с головокружительной высоты
спустили кинозвезду - она повисла в воздухе. Погода сохранится пасмурная.
Попадись газета инопланетянину, он даже из этих разрозненных фактов понял
бы, что Англия под башмаком у патриарха. Только безголовые не
замечали повсеместного засилья профессора. Ему принадлежат власть, и деньги, и
влияние. Он - владелец этого утреннего выпуска, его редактор и замредакто-
ра. Он - министр иностранных дел и судья. Он - удачливый игрок в крокет и
хозяин яхт. Он стоит во главе компании, что выплачивает пайщикам двести
процентов прибыли. Он завещает миллионы на нужды богаделен и
колледжей, в которых сам же председательствует. Он подвесил в воздухе
киноактрису. И он будет решать, человеческие ли волосы на топоре, виновен или
невиновен подсудимый, казнить его или оправдать. Ему подвластно все, кроме,
разумеется, погоды. И, тем не менее, он сердится. И я знаю почему. Читая
его книгу о неполноценности женщин, я невольно думала о нем самом, а не о
предмете разговора. Там, где спор ведется беспристрастно, спорящий думает
лишь о сути, и тогда читатель тоже начинает думать о сути. Напиши
профессор бесстрастно о женщинах, приведи он неопровержимые доказательства
их неполноценности, не пожелай он с самого начала представить результат
именно таким, а не другим, никто и не вспылил бы. Принял бы за факт, как
то, что горох зеленый, а канарейки желтые. Быть посему, ответила бы я. Но
я рассердилась, ибо он горячился. Нелепо все-таки, - думала я, читая
обратную сторону газеты, у человека столько власти, а он сердится. А может,
гнев - это бес в услужении у власти? Например, богатые часто гневаются,
потому что видят в нищих угрозу своему богатству. Профессора, или
точнее назвать их патриархами, возможно, сердятся поэтому же или по другой
причине, спрятанной чуть глубже. Они могут быть и не гневливы - часто,
наоборот, восторженны, преданны, безупречны в личной жизни. Возможно,
нажимая на неполноценность женщин, профессор фон X пекся не столько об
истине, сколько о своем личном первенстве. Для него это бесценный алмаз,
потому он защищал его с такой запальчивостью. Людская жизнь - вон за
окном идут прохожие, выставив вперед плечо, - это борьба, напряженная,
бесконечная. Она требует гигантской силы и отваги. А еще больше, при нашей
привязанности к иллюзиям, - уверенности в самом себе. Без
самоуверенности мы как младенцы в колыбели. А как быстрей развить в себе это
загадочное, бесценнейшее свойство? Считать других ниже себя. Чувствовать за
собой врожденное превосходство - скажем, богатство, или титул, или римский
480
Дополнения
нос, или дедушкин портрет кисти Ромнея - фантазия человеческая
неистощима на всевозможные уловки самовозвышения. Так и патриарху, чтобы ему
и дальше подчинять себе других, дальше властвовать, жизненно необходимо
ощущение, что огромная масса людей, фактически половина человечества,
ниже его патриаршего высочества. Должно быть, это и вправду один из
главных источников его силы. Но перейдем от этого наблюдения к реальной
жизни. Не послужит ли оно ключом к ежедневно отмечаемым психологическим
загадкам? Например, недавний случай с Z - культурнейший, скромнейший
из мужчин листал книгу Ребекки Уэст27, и вдруг вскочил как ужаленный:
«Отъявленная феминистка! Она считает мужчин снобами!» Восклицание
изумило меня - если мисс Уэст и отозвалась нелестно по адресу другого
пола, отчего сразу «отъявленная»? Это не просто крик уязвленного
самолюбия, это протест против малейших нарушений его веры в себя. Все эти века
женщина служила мужчине зеркалом, способным вдвое увеличивать его
фигуру. Без такой волшебной силы земля, наверное, и по сей день оставалась
бы джунглями. Мир так никогда бы и не узнал триумфов бессчетных наших
войн. Мы по-прежнему сидели бы в пещерах и царапали фигурки оленей
на обглоданных костях либо меняли кремень на овчину или какое-нибудь
другое незатейливое украшение, пленившее наш детский вкус. История не
знала бы ни Суперменов, ни отмеченных Перстом Судьбы. Некого было бы
короновать и обезглавливать. Не знаю, как в цивилизованных галактиках, а
в мире жестких и сильных личностей без зеркал не обойтись. Потому
Наполеон и Муссолини и настаивают на низшем происхождении женщины: ведь
если ее не принижать, она перестает возвеличивать. Отчасти это объясняет,
почему мужчинам так необходима женщина. И почему им так не по себе от
ее критики. Почему ей нельзя сказать им: это скучная книга, это слабая
картина. Любое ее слово обидит и разгневает их куда больше, чем если бы то
же самое сказал критик-мужчина. Слово правды - и господин в зеркале
съеживается; он уже не столь жизнеспособен. Как же ему дальше жить, слыть
знатоком, сеять свет среди непросвещенных, издавать законы, писать книги
и, вырядившись, говорить спич на торжественном банкете, если дома за
завтраком и обедом ему не дали вырасти в собственных глазах по крайней мере
вдвое? Так думала я, катая хлебный мякиш, помешивая кофе, глядя на людей
за окном. Зеркальный призрак жизненно необходим, он подстегивает
мужчину, стимулирует его нервную систему. Отставьте зеркало, и мужчина, того
гляди, умрет, как наркоман без дозы кокаина. Половина прохожих шагает на
работу под властью этой иллюзии, думала я. Утром под ее теплыми лучами
надевают они пальто и шляпы. На улицу выходят бодрые, уверенные, что
будут желанными гостями на званом чае у мисс Смит; они, еще стоя на пороге
гостиной, внушают себе: «Здесь каждый второй ниже меня» - и вступают в
разговор с тем самомнением, с той самоуверенностью, которые так глубоко
сказываются на жизни общества и наводят человека на любопытные мысли.
В. Вулф. Своя комната
481
Эти размышления на опасную и увлекательную тему психологии другого
пола - я надеюсь, вы исследуете ее, когда у вас будет пятьсот фунтов в год, -
прервал официант со счетом. С меня пять шиллингов и девять пенсов. Даю
официанту десятишиллинговую банкноту, и он идет за сдачей. А в
кошельке лежит еще одна купюра. Я ее потому заметила, что до сих пор дивлюсь
способности своего кошелька автоматически выдавать банкноты.
Общество кормит меня, поит, дает мне постель и крышу над головой в обмен на
известное число бумажек, оставленных мне тетей - тоже Мери Бетон.
Дело в том, что моя тетя свернула себе шею, гарцуя перед изумленной
бомбейской публикой. Известие о наследстве дошло до меня ночью,
почти одновременно с принятым законом об избирательном праве женщин. По
почте пришло письмо поверенного, из которого я узнала, что мне завещано
пятьсот фунтов в год. Из двух этих событий - обретения наследства и права
голоса - деньги казались куда важнее. На что я раньше жила?
Попрошайничала по редакциям, тут сообщишь о выставке ослов, там о бракосочетании,
конверты надписывала, слепым старушкам читала, искусственные цветы
делала, детишек азбуке учила за гроши. Вот, собственно, почти все занятия,
доступные женщинам до 1918 года. Описывать этот поденный труд нет
надобности, - вероятно, вы знали женщин, которые им занимались; рассказывать
о трудностях жизни на такой заработок тоже, думаю, нет смысла, возможно,
вы пробовали. Но что меня до сих пор преследует хуже любых напастей, так
это ад страха и озлобленности, который постепенно во мне вызрел. Все
время делать работу, противную себе, и делать по-рабски, льстя и заискивая, -
тогда это казалось необходимым, и ставки слишком высоки, чтобы рисковать.
И постоянная мысль, что твой дар - невелик он, но скрывать его
самоубийственно, - дар твой гибнет, и с ним ты, твоя душа - все это словно ржой
поедало весенний яблоневый цвет, точа у дерева самую сердцевину. Впрочем,
как я сказала, тетя умерла, и отныне с каждой разменянной банкнотой
ржавчина понемногу сходит, нет уже того страха и той озлобленности. Удивительно,
подумала я, пряча серебро в кошелек и вспоминая былую горечь, какую
перемену настроения вызывает надежный годовой доход. Никакая сила в мире
не сможет отнять у меня моих пятисот фунтов - моей свободы. Еда, дом и
одежда навсегда мои. Покончено не только с напрасными усилиями, но и с
ненавистью, горечью. Мне незачем ненавидеть мужчин, они не могут задеть
меня. Мне незачем им льстить, они ничего не могут дать мне. И незаметно
во мне вырабатывался новый взгляд на другую половину рода
человеческого. Винить класс или пол в целом бессмысленно. Огромные массы людей не
ответственны за свои поступки. Все движимы силами, обуздать которые в
одиночку никто не в состоянии. Патриархам и профессорам тоже приходится
бороться с бесконечными трудностями. Их воспитание столь же ущербно,
как и мое. Развило в них не меньшие изъяны. Да, они имеют деньги и власть,
но слишком дорогой ценой: вскармливая в себе хищника, терзающего им
печень и легкие, - инстинкт обладания, страсть добычи, порождающие нена-
16. Вирджиния Вулф
482
Дополнения
сытное желание отбирать у людей землю и добро, устанавливать границы и
вешать флаги, строить линкоры и изобретать отравляющие газы, жертвовать
своей жизнью и жизнями своих детей. Пройдите под Адмиралтейской
аркой (а я как раз подошла к ней) или любой другой дорогой, прославляющей
пушки и трофеи, и подумайте, что за доблесть там увековечена. Или
понаблюдайте на весеннем солнце за маклером и знаменитым адвокатом, как
прячутся они в тень делать деньги, деньги, деньги, хотя известно: человеку для
жизни нужно всего пятьсот фунтов в год. Воспитанный человек не стал бы
вынашивать в себе эти дикие инстинкты. Их порождают условия жизни.
Недостаток цивилизованности, подумала я, глядя на статую герцога
Кембриджского, особенно на его петушиный плюмаж. Я открывала эти недостатки, и
мало-помалу мои горечь и страх уступили место жалости и терпимости; а
через год-другой и они прошли, и наступило величайшее освобождение,
свобода думать о сути вещей. То здание, скажем, - нравится мне или нет? А та
картина - она прекрасна или нет? А эта книга - как, на мой взгляд,
интересная или так себе? Воистину, тетино наследство открыло для меня горизонты,
научив видеть мир свободно, без страха перед милтоновским судией28.
С этими мыслями возвращалась я вечером в мой дом у реки. Зажглись
фонари, и нечто неописуемое охватило Лондон. Словно огромная эта
машина создала за день с нашей помощью нечто захватывающее и прекрасное -
огненно-рыжее, искристое чудище заката в клубах дыма. Даже ветер
кидался, будто флаг, стегая дома и шатая заборы.
А на моей тихой улочке все было по-домашнему. Спускался с лесенки
маляр, няня катала детскую коляску, угольщик складывал в стопку пустые
мешки, зеленщица в красных митенках подсчитывала дневную выручку.
Но, увлеченная проблемой, я и эти будничные сцены не могла не связывать
с главным. Я думала о том, насколько сегодня труднее решить, какая
профессия выше, полезнее. Угольщика или няни? Разве уборщица, поднявшая
восьмерых детей, меньше значит для человечества, чем адвокат,
состряпавший сто тысяч фунтов? Бесполезно задавать эти вопросы, на них нет
ответа. И дело не только в относительности оценок уборщиц и адвокатов - они
разные у каждого поколения, но мы даже не можем измерить, каковы они в
данный момент. Глупо было просить у профессора «неопровержимых
доказательств», подтверждающих его мнение о женщинах. Даже если кто-то и
установил бы ценность какого-то таланта, оценки эти вскоре изменятся, а о
следующем столетии и говорить нечего. Более того, думала я, подходя к
двери, через сто лет женщины уже не будут огражденным полом. И наверняка
примут участие во всех делах и трудах, прежде для них закрытых. Няня
станет грузить уголь. Зеленщица водить паровоз. Изменятся все представления,
основанные на фактах того времени, когда женщины еще были огражденным
полом, - например, то, что женщины, садовники и священники живут
дольше всех. Разрушьте у женщин их защиту, уравняйте их в делах с мужчинами,
сделайте из них солдат, матросов, машинистов, докеров, и разве не станут
В. Вулф. Своя комната
483
женщины вымирать с такой угрожающей быстротой, что однажды кто-то
заметит: «Я сегодня женщину видел», как бывало говорили: «А я сегодня
видел аэроплан». Все может случиться, если женщины потеряют свое лицо,
подумала я, открывая дверь. Но какое это имеет отношение к теме моего
доклада «Женщины и литература»? - и с этим вопросом я вошла в дом.
ГЛАВА 3
Досадно вернуться домой с пустыми руками, не найдя за целый день ни
одного веского мнения или точного факта. Женщины бедней мужчин,
почему - неизвестно. Так не лучше ли оставить мои поиски истины и поберечь
голову от потока мнений, горячих, как лава, и мутных, как застойная вода?
Задернуть шторы, сосредоточиться, зажечь лампу, уточнить вопрос и
спросить у историка, которого интересуют факты, а не мнения, - в каких
условиях жили англичанки, скажем, в елизаветинскую эпоху?29
Удивительная загадка, почему у них слова не вырвалось при том
исключительном состоянии литературы, когда, кажется, каждый второй мужчина
мог сложить песню или сонет. В каких же условиях они жили? - задалась я
вопросом, ибо литература, плод воображения, не возникает с
непреложностью научной истины. Литература словно паутина - пусть легче легкого, но
привязана к жизни, ко всем ее четырем углам. Порой связь едва ощутима:
например, пьесы Шекспира, кажется, держатся сами собой. Когда же нить идет
вкось, цепляется, рвется, вспоминаешь, что сотканы эти паутины не на
облаках бестелесными созданиями, а выстраданы людьми и привязаны к грубой
прозе: здоровью, деньгам, жилью.
Я подошла к полке с книгами по истории и взяла «Историю Англии»
профессора Тревельяна30. Отыскиваю в оглавлении «Положение женщины»
и открываю указанные страницы. «Считалось, - цитирую, - что муж вправе
бить свою жену, и этим правом пользовались без стеснения». «Собственно,
то же наказание, - продолжает автор, - ожидало и дочь, если она
отказывалась выйти замуж по воле родителей. Как правило, ее запирали, били и
таскали за волосы, и это никого не ужасало. Брак был вопросом семейной
выгоды, а не личной симпатии, особенно в высших, "рыцарских", слоях
общества. ...Помолвки часто заключались между младенцами, а браки -
между детьми». Так было в 1470-е годы, уже после Чосера. Следующая справка
о положении женщины дается лишь спустя два столетия. «Выбор супруга
по-прежнему остается привилегией женщин высшего и среднего сословия,
и по-прежнему супруг - это бог и господин, по крайней мере в рамках
общепринятого и дозволенного в обществе». «Но даже и в этих условиях, -
заключает профессор, - женщины не страдают бесхарактерностью и
безликостью; взять хотя бы героинь Шекспира или реальные лица из мемуаров
семнадцатого века, скажем семейство Верни или Хатчинсон»31. Конечно,
если приглядеться, Клеопатра - женщина с характером, леди Макбет умела
16*
484
Дополнения
добиваться своего, да и в Розалинде была своя девичья прелесть. Профессор
Тревельян сказал лишь правду, заметив, что шекспировские героини не
лишены ума и не страдают бесхарактерностью и безликостью. Неисторик
пошел бы еще дальше и заявил, что у поэтов всех времен женщины горят как
маяки: Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида,
Розалинда, Дездемона, герцогиня Мальфи32 - у драматургов; у прозаиков:
Милламант, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, госпожа
де Германт33 - не счесть имен, и никто «не страдает бесхарактерностью и
безликостью». Если бы женщина существовала только в литературе,
созданной мужчинами, ее, наверное, приняли бы за страшно важную персону,
многогранную личность: возвышенную и низкую, блестящую и жалкую,
бесконечно прекрасную и крайне уродливую, во всех отношениях ровню мужчине
и даже более значительную, чем он, как считают некоторые*. Но это в
литературе. А в жизни, констатирует профессор Тревельян, женщину запирали,
били и таскали за волосы.
Вырисовывается очень странное и сложное существо. Представить - нет
значительнее, на деле - совершенный нуль. Она переполняет поэзию и
полностью вычеркнута из истории. В ее руках жизнь королей и завоевателей -
но это в литературе; фактически же она - рабыня мальчика с той минуты, как
его родные наденут ей обручальное кольцо. Вдохновеннейшие слова,
глубочайшие мысли слетают с ее уст; в реальной жизни она едва ли читала и
писала, являясь мужниной законной собственностью.
Дичь страшная, если читать сначала историков, а потом поэтов, - червяк
с орлиными крыльями, светлый и прекрасный ангел на кухне за рубкой
говяжьих потрохов. В жизни этих монстров не существует, как бы ни тешили
они воображение. Если мы хотим приблизиться к реальности, нам надо
исходить одновременно из прозы и поэзии жизни, то есть держаться фактов: вот
это миссис Мартин, ей тридцать шесть, она в синем платье, на голове черная
шляпа, на ногах коричневые туфли, - но и о душе не забывать, этом
вместилище вечно пульсирующих чувств и мыслей. Однако подойди мы с этой мер-
* «Вообще загадочный и необъяснимый факт, почему в Древних Афинах, где положение
женщин мало чем отличалось от положения восточных рабынь или наложниц, театр сумел
создать неповторимые женские образы Клитемнестры, Кассандры, Атоссы34, Антигоны, Фед-
ры, Медеи и других героинь, безраздельно царящих в пьесах "женоненавистника" Еврипи-
да. Этот парадокс - когда женщина на сцене играет равную или ведущую роль по
отношению к мужчине, а в действительности не может выйти одна на улицу - нигде не получил
удовлетворительного объяснения. Это преобладание есть и в современной драме. Во всяком
случае, у Шекспира (и в равной степени у Уэбстера, но никак не у Марло или Джонсона)
ведущая роль, инициатива принадлежит именно женщине, начиная от Розалинды и кончая
леди Макбет. Картина повторяется у Расина: шесть его трагедий названы именами героинь,
и разве кто-то из его героев мог бы стать достойным соперником Гермионы, Андромахи, Бе-
реники, Роксаны, Федры, Аталии?35 И снова у Ибсена: кто из его мужчин сравним с
Сольвейг, Норой, Геддой, Хильдой Вангель, Ребеккой Вест36?» (Люкас Ф.Л. Трагедия, с. 114-115)
(Примеч. Вулф).
В. Вулф. Своя комната
485
кой к женщине елизаветинской эпохи, и у нас ничего не выйдет. Мы не знаем
о ней никаких подробностей, ничего точного и веского. История о ней
молчит. И я снова обратилась к книге профессора Тревельяна, чтобы выяснить,
а что, собственно, понимает он под историей. Смотрю названия разделов:
«Поместье лорда-мэнора37 и система неогороженных полей...
Цистерцианцы38 и овцеводство... Крестовые походы... Создание университета...
Палата общин... Столетняя война... Война Алой и Белой розы... Ученые эпохи
Возрождения... Распад монастырей... Борьба за землю... Религиозная война...
Создание военно-морского флота... Непобедимая армада...»- вот что такое
история для профессора Тревельяна. Иногда мелькнет женское имя Марии
или Елизаветы, королевы или знатной дамы. Но чтобы женщины среднего
класса лишь силой своего ума и характера стали участницами хотя бы
одного из великих событий истории - это исключено. Не найдем мы
женщину и у публицистов. Обри39 о ней едва упоминает. Мемуаров она не пишет,
дневник - едва ли; уцелела только горстка писем. Как нам судить о ней, если
она не оставила после себя ни пьес, ни стихов? У нас нет информации - и
почему бы какой-нибудь умнице студентке из Гэртона или Ньюнхема40 не
восполнить этот пробел? - во сколько лет женщина выходила замуж,
сколько обычно имела детей, что у нее был за дом, была ли своя комната, сама
ли готовила или могла нанять служанку. Эти сведения, наверное, пылятся в
приходских метриках и бухгалтерских архивах; жизнь средней елизаветин-
ки, должно быть, рассыпана где попало - вот бы восстановить ее по крохам!
Я не предлагаю студенткам знаменитых колледжей переписать историю,
хотя она мне и кажется несколько нереальной, призрачной, однобокой,
подумала я, тщетно ища на полках нужные книги... Но почему бы им не написать
приложение к истории? Разумеется, с каким-нибудь неброским названием,
как и подобает женщинам. Ибо биографии великих не удовлетворяют: в них
женщина только мелькнет и тут же скрывается в тень, пряча намек, улыбку
и иногда, мне кажется, слезу. Я не говорю о Джейн Остен - ее биографий как
раз достаточно; едва ли нужно пересматривать влияние трагедий Джоанны
Бейли41 на поэзию Эдгара По; готические романы Мери Митфорд42 можно
вообще не переиздавать еще лет сто. Скверно другое, продолжала я обводить
глазами полки, мы с вами ничего не знаем о женщинах до восемнадцатого
века. Не от чего оттолкнуться. Я спрашиваю, почему в елизаветинскую
эпоху не было женщин-поэтов, а сама толком ничего не знаю об их воспитании,
образе жизни: учили ли их писать, был ли у них свой угол в общей комнате,
у многих лиц к двадцати годам были дети - короче, чем они занимались
целый день? Денег у них точно не было; по словам профессора Тревельяна, их
выдавали замуж против воли прямо из детской - вероятно, лет пятнадцати.
Уже поэтому было бы странно, если б одна из них писала, как Шекспир,
решила я - и вспомнила о старом джентльмене, епископе, ныне покойном,
который заявил, что у женщины не может быть шекспировского гения ныне и
присно и во веки веков. И даже написал об этом в газеты. Даме, обратившей-
486
Дополнения
ся за разъяснениями, он сказал, что кошек на небо не берут, хотя, добавил, у
них есть что-то вроде души. Как привыкли думать за женщин старые бесы!
Как безграничен человеческий мрак! Кошек на небо не берут. Женщинам не
написать шекспировских пьес.
И все же в одном, я поглядела на полку, заставленную пьесами
Шекспира, его преосвященство, пожалуй, прав: не могла современница Шекспира
создать шекспировские пьесы. Раз с фактами туго, позвольте мне
представить, что могло бы произойти, будь у Шекспира на редкость одаренная
сестра, скажем, по имени Джудит. Сам он, видимо, ходил в грамматическую
школу (у его матери были средства) и там наверняка познакомился с
латынью - Овидием, Вергилием, Горацием и с началами грамматики и логики.
Как известно, он был безудержный малый, браконьерствовал, таскал
кроликов, может, даже раз подстрелил оленя и рановато женился на женщине из
своей округи, родившей ему ребенка быстрее, чем предписано приличиями.
Эта эскапада заставила его попытать счастья в Лондоне. Ему понравился
театр, начинает конюхом при сцене. Вскоре добивается работы в труппе,
становится любимцем публики, все это время живя в гуще событий, кого
только не зная, с кем не встречаясь, разрабатывая свое искусство на подмостках,
оттачивая остроумие в толпе, даже имея доступ во дворец ее величества.
А одаренная его сестра все это время, представьте, оставалась дома. Она была
такая же авантюристка, такая же выдумщица и путешественница в душе, как
ее брат. Но в школу ее не отдали. У нее не было возможности учить
грамматику и логику, читать Горация или Вергилия. Возьмет, бывало, книгу, скорей
всего брата, прочтет две-три страницы, и вдруг входят родители и говорят:
чем мечтать над книжками, поштопай-ка чулки или посмотри жаркое. Они
были, вероятно, к ней строги - для ее же блага, ибо люди были здравые,
понимали, что такое жизнь женщины, и дочку свою любили - отец, наверное,
в ней души не чаял. Кто знает, может, забравшись на чердак, тайком ото всех
она и царапала какие-то странички, а после со всей предосторожностью
прятала их или сжигала. Но вот ее, несовершеннолетнюю, просватали за сына
торговца шерстью из их округи. Мне ненавистен брак! - крикнула она отцу,
за что была им жестоко бита. Потом, правда, он перестал бранить ее. Умолял
пощадить, не позорить старика своей строптивостью. Он ей юбку тонкую
подарит или бусы, говорит ей, а у самого на глаза навертываются слезы. Как
она может его не слушаться? Как может терзать родительское сердце? Сила
собственного дара - что же еще? - заставила ее решиться. Связала в узелок
вещи, летней ночью выпрыгнула в сад и зашагала в Лондон. Ей было всего
шестнадцать, а музыкальности - не меньше, чем у птиц в придорожных
яблонях. Она могла взять любую ноту этого мира и - как ее брат - с ходу
начать импровизировать. Ей тоже нравился театр. Толкнула дверь: хочу,
говорит, играть на сцене. Мужчины покатились со смеху. Толстяк хозяин, брызжа
слюной, громко заржал. Он что-то проревел - она не поняла - насчет
танцующих собак и лицедействующих женщин - ни одна из вас, сказал он ей,
В. Вулф. Своя комната
487
не может быть актрисой. Намекнул - догадываетесь на что. С этой минуты
двери театра были для нее закрыты. Ей нельзя было даже зайти в таверну
пообедать или бродить ночью одной по улице. И все-таки ее стихией была
литература, гений ее изголодался по жизни людей, их характерам. В конце
концов, она ж молоденькая, лицом до странного похожа на поэта Шекспира,
те же серые глаза и круглые брови, - Ник Грин, хозяин актерской труппы,
сжалился над ней. Она забеременела по его милости и зимней ночью - кто
измерит отчаяние таланта, попавшего в вечные женские силки? - покончила
с собой, бросившись под колеса проезжавшего экипажа, - напротив
гостиницы «Слон и замок».
Так примерно мог бы пойти рассказ, я думаю, если бы у современницы
Шекспира обнаружился шекспировский гений. Только не могло его у нее
быть - тут я согласна с его покойным преосвященством. Такой талант не
вырастает среди батрачества, темноты, холопства. Не расцвел он у древних
саксов с бриттами. Не видно и сегодня у трудящихся. Так мог ли он
развиться среди женщин, если за работу они принимались, по словам профессора
Тревельяна, чуть ли не с порога детской, принуждаемые родителями и всей
властью закона и уклада? И все же таилась в женщинах, как и в трудовом
люде, искра гения. Нет-нет да и вспыхнет какая-нибудь Эмили Бронте или
какой-нибудь Роберт Берне и подтвердит ее существование. Когда читаешь
о ведьме, обмакнутой в воду, о женщине, в которую вселился бес, о
знахарке, лечившей травами, или каком-то одареннейшем человеке, сыне
своей матери, - я думаю, мы с вами выходим на след погибшего прозаика или
потаенного поэта, безвестной Джейн Остен, безгласной Эмили Бронте, что
надрывала ум на вересковых пустошах или бродила, гримасничая, по
дорогам, обезумев от пытки, на которую обрек ее талант. Я даже рискну угадать -
неизвестным автором стольких безымянных наших стихов часто была
женщина. Это ей, по мнению Эдварда Фитцджеральда43, мы обязаны нашими
балладами и песнями, ими баюкала она свое дитя, коротала долгие зимние
сумерки за прялкой.
Правда это или нет - а кто скажет? - но, проверив свою историю об
одаренной сестре Шекспира, я нашла ее правдоподобной в том смысле, что,
уродись в шестнадцатом веке гениальная женщина, она наверняка
помешалась бы, или застрелилась, или доживала свой век в домишке на отшибе,
полуведьмой, полузнахаркой, на страх и потеху всей деревне. Не нужно быть
большим психологом, чтобы знать: попробуй только одаренная душа заявить
о своем таланте, ее так одернули бы и пригрозили, она была бы так
измучена и раздираема противоречивыми инстинктами, что почти наверняка
потеряла бы здоровье и рассудок. Пойти пешком без провожатых в Лондон,
стать на пороге сцены и заговорить о себе в присутствии господ актеров -
для девушки в те времена это значило бы совершить над собой насилие и
обречь себя на душевные муки. И пусть они напрасны - фетиш безгрешия
создается обществом на неразумных основаниях, но целомудрие для жен-
488
Дополнения
щины - святыня, оно так срослось со всем ее существом, что лишь
отчаянно смелая женщина может заговорить о нем вслух. Вести открытую жизнь
художника в Лондоне в шестнадцатом веке для женщины было равносильно
самоубийству. А если бы она все-таки выжила, все из-под ее пера вышло бы
скомканным и изуродованным от сдавленного истеричного сознания. И уж,
конечно, свою работу - я оглянулась на полку, где нет женских пьес, - она б
не подписала. Этим убежищем она бы обязательно воспользовалась.
Живучее чувство целомудрия и в девятнадцатом веке требовало от женщин
безымянное™. Каррел Белл, Джордж Элиот, Жорж Санд44 - все жертвы
внутренней борьбы, судя по произведениям, тщетно пытались скрыться за мужским
именем. Этим они отдавали дань условности, которую мужчины постоянно
исподволь внушали: гласность для женщины отвратительна (главное
достоинство женщины - не давать повода для сплетен, говорил всеми цитируемый
Перикл45). И поэтому безымянность, желание закрыться вуалью у женщин
в крови. Они и сейчас не так обеспокоены своей славой, как мужчины. Во
всяком случае, мимо надгробных плит проходят довольно спокойно. Их не
тянет вырезать свои имена - в отличие от Альфа, Берта или Чеса46, чей
древний инстинкт не пропустит ни одной хорошенькой женщины - да что там
женщины! - ни одной собаки, чтобы не поворчать: «Ce chien est à moi»*.
Разумеется, масштабы бывают разные, подумала я, вспомнив Парламентскую
площадь, берлинскую Аллею победы и другие улицы. Вместо собаки это
может быть чужая земля или курчавый африканец. И в этом, кстати,
заключается одно из преимуществ женщины - уметь пройти мимо даже очень
красивой негритянки, не пожелав сделать из нее леди.
Выходит, та, что родилась поэтом в шестнадцатом веке, была
несчастной, ей приходилось воевать с самой собой. Все ее жизненные условия и все
внутри нее противилось тому состоянию, когда свободно излагается любая
тема. А что это за особое состояние, которое вызывает и поддерживает
творческую активность в художнике? - спросила я. Можно ли его очертить? И я
открыла трагедии Шекспира. В каком состоянии духа писал Шекспир «Лира»
или «Антония и Клеопатру»? Оно было, безусловно, самым благоприятным
для творчества за все время существования поэзии. Хотя сам Шекспир
ничего о нем не сказал. Мы знаем только, что он «не вымарал ни строчки».
Впрочем, художники ничего о себе не рассказывали вплоть до восемнадцатого
века. Руссо был первый47, и уже к началу девятнадцатого века самосознание
писателей обострилось настолько, что для них стало привычным
изливаться в исповедях. Параллельно писались их биографии, и после смерти
публиковались письма. И хотя мы не знаем, через что прошел Шекспир со
своим «Лиром», но нам известно, как мучился Карлайл со своей «Французской
* «Подходящая сучка» (фр.).
В. Вулф. Своя комната
489
революцией», Флобер - с «Госпожой Бовари» и через что пробивался Ките,
пытаясь писать поэзию наперекор холодному миру и смерти.
Из бесчисленных исповедей и самоанализов узнаешь, что написать
гениальное произведение - дело почти всегда неимоверно трудное. Всё против
того, чтобы оно вышло из-под пера полным и невредимым. Обычно
материальная сторона против. Собаки лают, люди вмешиваются, деньги нужно
делать, здоровье ни к черту. И вдобавок ко всем невзгодам - пресловутое
равнодушие мира. Он никого не просит писать стихи, романы, исторические
хроники: мир в них не нуждается. Миру все равно, найдет ли Флобер нужное
слово, проверит ли со всей дотошностью тот или иной факт Карлайл.
Разумеется, за ненужное он не станет и платить. И вот художник - Ките, Флобер,
Карлайл - страшно мучается, особенно в самые творческие годы молодости,
из-за всяческих помех и безнадежья. Проклятием, криком боли отзываются
их исповеди. «Могучие поэты в невзгодах погибают»48 - их певческая ноша.
Прорваться же можно только чудом, и, наверное, все книги выходят в чем-то
недоношенными, недодуманными.
Но для женщин - я вглядывалась в пустые полки - эти трудности были
неизмеримо страшнее. Женщина среднего класса даже в начале девятнадцатого
века не могла и мечтать о своей комнате, не говоря о тихой или запертой от
посторонних. Раз карманных денег милостью ее отца хватало лишь на платье,
у нее никогда не наступало облегчения, которое приходило даже к Китсу, Тен-
нисону, Карлайлу - людям бедным - с прогулкой за город, с короткой поездкой
во Францию, наконец, с отдельным жилищем, худо ли бедно укрывавшим их от
тяжб и ссор с домашними. Уже материальные трудности непреодолимы,
нематериальные были в сто раз хуже. Каменное равнодушие мира к Китсу, Флоберу
и другим гениальным писателям - к женщине оборачивалось враждебностью.
Ей мир не говорил, как им: «Пишите, если хочется, разницы никакой». Он
гоготал: «Писать? Глупости придумала!» И тут необходима помощь
студенток-психологов, подумала я, снова всматриваясь в пустоты на книжных полках. Давно
пора измерить действие холода на ум художника - видела же я, как на одной
ферме определяли влияние разных сортов молока на крысу. Поставили рядом
две клетки - и вот результат: в одной маленькое, робкое, забитое существо, а в
другой матерый, ловкий, крупный зверь. Чем же мы кормим женщин в храме
искусства? Я задала вопрос, припоминая тот обед из чернослива и драчены.
А вместо ответа мне достаточно было открыть вечерний выпуск и прочитать,
что лорд Беркенхед считает, - впрочем, меня мало интересует мнение лорда
Беркенхеда о женщинах и об их творчестве. Декан Айндж говорит - бог с ним,
с деканом. Специалисту-медику с Гарли-стрит49 я сразу скажу, что он может
поднять на ноги всю Гарли-стрит своими воплями - во мне ни один нерв не
дрогнет. Но г-на Оскара Браунинга50, пожалуй, стоит процитировать, ибо он
был одно время заметной фигурой в Кембридже и обычно экзаменовал
студенток женских колледжей. Он любил заявлять, что «после проверки
экзаменационных работ складывается впечатление, что независимо от
поставленных оценок самая умная женщина интеллектуально ниже самого последнего
490
Дополнения
мужчины». И с этими словами г-н Браунинг уходит к себе в комнаты и застает
на диване спящего конюха - чистый скелет, лицо испитое, желтое, зубы
черные, казалось, он не мог двинуть ни рукой, ни ногой. «Это Артур, - говорит
г-н Браунинг. - Славный мальчик, возвышенная натура». Не правда ли, это
вторая, закулисная часть умиляет, даже придает фигуре г-на Браунинга
некоторое величие? Мне всегда казалось, что две половинки этого портрета нужно
соединить. И к счастью, это совсем не трудно сделать в наш век биографии и
документа. Теперь мы можем оценивать мнения великих не только по их
высказываниям, но и по их поступкам.
Теперь это возможно, а еще пятьдесят лет назад подобные мнения в устах
какого-нибудь важного лица звучали устрашающе. Положим, отцу из самых
добрых побуждений не хочется, чтобы его дочь ушла из дому и сделалась
писателем, художником или ученым. «Послушай умного человека», -
скажет он, зачитывая вслух мнение г-на Оскара Браунинга. А ведь, кроме этого
господина, были еще и «Сэтерди ревью», и г-н Грег, который подчеркивал,
что «жизнь женщин зиждется на том, что мужчины их поддерживают, а они
им в этом помогают», - целый хор авторитетных мнений об умственной
безнадежности женщин. Прочитает женщина такое, и у нее руки
опускаются, не идет работа. Перед ней всегда стояло барьером - «не возьмешь», «не
сможешь», - и ей нужно было это опровергнуть, доказать свое. Возможно,
на женщину-прозаика этот микроб сегодня уже не так действует после
великих романисток девятнадцатого века. Но для художников он и сейчас еще не
безопасен, и представляю, насколько он должен быть вреден и ядовит для
музыкантов. В наше время женщина-композитор находится на положении
актрисы времен Шекспира. Ник Грин из моего рассказа о сестре Шекспира
сказал: женщине играть на сцене что псу плясать. Через двести лет Джонсон
повторил его слова относительно женских проповедей. И сегодня я
открыла книгу о современной музыке - прежние слова, в цивилизованном 1928-м,
о женщинах, сочиняющих музыку. «Собственно, о м-ль Жермен Тайфер
достаточно будет повторить крылатые слова д-ра Джонсона о женщине в роли
проповедника, конечно, применительно к музыке. "Сэр, женщине сочинять
музыку - это все равно что псу ходить на задних лапах. Не получается, но
удивительно, что кто-то вообще пробует"»*. История повторяется слово в слово.
Итак, в девятнадцатом веке женщине тоже не давали заниматься
творчеством, сказала я, захлопнув биографию Оскара Браунинга и иже с ним.
Наоборот, ее всячески осаживали, оскорбляли нотациями и проповедями.
Ее сознание было в постоянном напряжении, и она тратила силы и время,
отвечая на тычки, уколы, опровергая одно, парируя другое. Здесь мы опять
сталкиваемся с очень интересным мужским комплексом, который так
сильно повлиял на женское движение. Я говорю об этом подспудном желании не
столько подчинить ее, сколько самому быть первым, - оно ставит мужчину
стражем на каждом шагу в искусстве, политике, даже когда он ничем, кажет-
* Сесил Грей. Обзор современной музыки, с. 246 (Примеч. Вулф).
В. Вулф. Своя комната
491
ся, не рискует, а проситель покорен и предан. Даже леди Бесборо51, я
вспомнила, при всей ее страсти к политике, смиренно склоняется и пишет своему
мужу лорду Гренвиллу Ливзон-Гауэру: «...хотя я одержима политикой и
много говорю о ней, но я совершенно с Вами согласна, что вмешиваться в это
и любое другое серьезное дело женщина может не более чем высказав свое
мнение (и то, если ее спросят)». И она продолжает расточать свой
энтузиазм, зная, что не встретит никаких препятствий, на страшно важную тему -
первое выступление лорда Гренвилла в палате общин. Странный спектакль,
подумала я. Пожалуй, история борьбы мужчин против женской эмансипации
интереснее рассказа о самой эмансипации. Забавная могла бы выйти книга,
если б студентка из Гэртона или Ньюнхема собрала достаточно примеров и
вывела теорию. Только ей пришлось бы работать в рукавицах (чтоб не
испачкать руки) и найти себе надежную защиту (от возможных судебных исков).
Сейчас это забавно, я закрыла леди Бесборо, а раньше воспринималось
с жуткой серьезностью. Мнения, которые сегодня собираешь как
анекдотичные и пересказываешь летним вечером друзьям, - когда-то эти мнения
доводили до слез, уверяю вас. Многие среди ваших бабушек и прабабушек из-
за них глаза выплакали. Флоренс Найтингейл52 криком кричала, мучилась*.
И потом, хорошо вам - когда вы поступили в колледж и у вас есть своя
комната (или лишь спальная?) - говорить, что гений должен презирать подобные
мнения, что гений должен быть выше мнений. К несчастью, как раз
гениальных больше всего и задевают чужие мнения. Вспомните Китса. Вспомните
те слова, что завещал он высечь на своем надгробье53. Подумайте о Тен-
нисоне, о... впрочем, вряд ли нужно доказывать неопровержимый и очень
горький факт, что так устроен художник - его ранят чужие мнения.
Подобно рифу, о который разбиваются суда, литература полна разбитых судеб тех,
кого слишком задевали людские толки.
Для художника эта зависимость от мнений вдвойне пагубна, подумала я,
снова возвращаясь к вопросу о полноценном творческом состоянии. Ибо
сознание художника в попытке излить постигнутое должно быть пламенным,
как у Шекспира, - я взглянула на книгу, раскрытую на «Антонии и
Клеопатре». В нем любое препятствие, все чужеродное должно перегореть дотла.
Вот мы говорим, что ничего не знаем о творческом состоянии Шекспира,
но этим уже многое сказано. Возможно, мы потому знаем о нем так мало -
в сравнении с Донном, Беном Джонсоном или Милтоном, - что его зависть
и злоба скрыты от нас. Автор нигде не напоминает о своей персоне. Любое
«откровение», желание возразить, обличить, обнародовать обиду, отплатить,
обнажить перед миром свою рану или язву поглощено творческим огнем без
остатка. И поэзия его течет свободно и беспрепятственно. Если кто
состоялся полностью как художник, так это Шекспир. Вот уж действительно
пламенный, всепоглощающий ум, подумала я, снова подходя к книжному шкафу.
* См. «Кассандру» Флоренс Найтингейл в книге Р. Стречи «Дело» (Примеч. Вулф).
492
Дополнения
ГЛАВА 4
Итак, в шестнадцатом веке едва ли могла появиться женщина
шекспировской свободы мысли. Задумайся любой о елизаветинских надгробьях
с обычными фигурками младенцев на коленях, о ранней смерти женщин;
взгляни на их дома с темными, тесными клетушками - могла ли хоть одна
из них заниматься поэзией? Скорее какая-нибудь вельможная дама много
позднее воспользуется своей относительной свободой, покоем и напечатает
что-то под своим именем, рискуя прослыть чудовищем. Мужчины не снобы,
продолжала я мысль, стараясь в поэзии не касаться «отъявленного
феминизма» мисс Ребекки Уэст, но они сочувствуют в основном аристократкам.
Наверняка титулованная леди нашла бы более солидную поддержку, чем
неизвестная Джейн Остен или мисс Бронте того времени. Но и, конечно,
поплатилась бы за свою попытку губительным чувством страха и горечи,
которое обязательно отпечаталось бы в ее стихах. Леди Уинчилси54 - я достала с
полки томик. Она родилась в 1661 году, принадлежала к аристократическому
роду, муж тоже происходил из знатной семьи, детей у них не было, писала
стихи, а раскроешь - она вспыхивает от гнева против рабского положения
женщин:
Как пали мы! В плену у образца,
От воспитанья дуры - не Творца;
Всех благ ума лишенные с рожденья,
В опеке глохнем мы, теряем разуменье;
И если ввысь поднимется одна,
Души стремлением окрылена,
Грозой объявится пред ней противник,
Надежда расцвести в сомненьи гибнет55.
Ум ее отнюдь «не всепоглощающий и пламенный», как у Шекспира.
Напротив - она изводит себя обидами и горечью. Человечество расколото для нее
на два лагеря. Мужчины - «противник», они вселяют в нее страх и ненависть
тем, что закрывают ей путь к желанному делу - писать.
Увы! лишь женщина возьмет перо,
Вмиг выскочкой ее объявят,
И никакая честь не оправдает.
Твердят: забыли мы обычай, пол,
Манеры, моды, танцы, платья, дом -
Предел и образец нам воспитанья;
Науки ж, книги, думы и писанье
Нам красоту лишь омрачат не в срок,
Поклонникам не быть у наших ног,
Меж тем блюсти порядок в доме рабском -
Вершина мастерства в искусстве дамском56.
Она ободряет себя мыслью, что написанное останется неопубликованным,
В. Вулф. Своя комната
493
утешается печальной песнею:
В утеху другу пой, моя свирель,
Не ликовать тебе в лесах лавровых:
Смирись, и да сомкнутся глуше своды57.
Но нет сомнений, поэтический пламень в ней бушевал бы вовсю, освободись
она от страха и ненависти, не копи в душе негодования и горечи. Нет-нет да
и вырвется настоящая поэзия:
Так с блекнущей парчой всегда не в лад
Непревзойденной розы дивный склад58.
Критики справедливо восторгаются этим двустишием; говорят, другую
пару ее строк присвоил себе Поуп:
Вдруг овладеет разумом жонкиль,
Душистый плен, и вырваться нет сил59.
Невыносимо, что женщина, способная так писать, мыслями настроенная на
созерцание и размышление, была доведена до гнева и горечи. А что она
могла сделать? - спросила я, представив хохот и издевки, лесть приживалов,
скептицизм профессионального поэта. Вероятно, заперлась в деревне, в
отдельной комнате, - писать, а сердце у ней разрывалось от горечи или
раскаяния, хотя у нее был добрейший муж и жили они душа в душу. Я говорю
«вероятно», потому что мы почти ничего не знаем о леди Уинчилси. Только,
что она страдала глубокой меланхолией, и этому есть объяснение, по
крайней мере в тех случаях, когда она рассказывает:
Стих высмеян, в занятии узрет
Каприз никчемный, самомненья бред60.
Занятие же было самое невинное - бродить в полях и предаваться грезам:
Рука - затейница созвучий странных,
Привычные пути ей не желанны,
Так с блекнущей парчой всегда не в лад
Непревзойденной розы дивный склад61.
Разумеется, если она находила в этом наслаждение, над ней могли только
смеяться; и, правда, Поуп или Гей62 выставили ее «синим чулком с
чернильным зудом». Но прежде, говорят, она посмеялась над Геем: сказала, что, судя
по его «Тривии»63, «ему больше подходит сопровождать портшез, нежели в
нем ехать». Впрочем, все это темные слухи - «неинтересные», говорят
критики. Но здесь я с ними не согласна, мне хотелось бы побольше «темных
слухов» о печальной леди, любившей бродить в полях и думать о
необычном. Хочется представить женщину, которая так опрометчиво и
неблагоразумно отвергла «порядок в доме рабском». Но она начинает заговариваться,
утверждают критики. Ее талант заглох, подобно гвоздике среди сорной
травы. У него не было шанса показать себя во всей красе. И, убрав леди
Уинчилси в шкаф, я обратилась к другой благородной даме - герцогине, любимице
494
Дополнения
Чарлза Лэма, фантазерке и оригиналке Маргарет Ньюкасл64, ее старшей
сестре и современнице. При всем их несходстве обе были аристократки, без
детей, нежно любимы своими мужьями. Обе одержимы одной страстью к
поэзии, а значит, покалечены и изуродованы одним и тем же бесплодным
протестом. Раскрой герцогиню, и она взорвется той же яростью: «Женщины
живут, как Мыши или Совы, пашут, как рабочая Скотина, и умирают, словно
Твари...»65 Маргарет тоже могла быть поэтом; в наши дни ее деятельность
что-то бы да сдвинула. А тогда - какой уздой, в какую упряжь было запрячь
горячую, дикую, необузданную фантазию? Она неслась без дороги, наобум,
сплошным потоком стихов и прозы, философии и поэзии, застывшим в
неразрезанных фолиантах. Вложить бы ей в руку микроскоп. Научить
всматриваться в звезды и думать строго математически. Она же рехнулась от
уединения и свободы. Никто ее не сдерживал. Не учил. Профессора перед ней
лебезили. При дворе говорили колкости. Сэра Эджертона Бриджеса66
оскорбляла грубость из уст «женщины высшего общества, воспитанной при
дворе». Она заперлась в своем поместье.
Какая жуткая картина одиночества и произвола встает при мысли о
Маргарет Ньюкасл! Словно в саду рядом с гвоздиками и розами вымахал
гигантский лопух и заглушил их. Какая трата: прийти к мысли, что «самые
воспитанные женщины - те, у кого просвещенный ум», и заниматься всякой
ерундой, все глубже и глубже впадая во мрак и безумие, пока наконец не
испустила дух на глазах у толпы, собравшейся вокруг ее кареты. Очевидно,
помешанная герцогиня служила пугалом для умных девочек. Я отложила ее
книги и раскрыла письма некой Дороти Осборн67, где она пишет своему
будущему мужу о новой книге герцогини. «Конечно, бедная женщина немного
не в себе, иначе зачем бы она стала писать, да еще стихи, делая из себя
посмешище; я б до такого позора никогда не дошла»68.
И раз воспитанной женщине не пристало писать книги, Дороти, тонкая,
тихая Дороти, прямая противоположность герцогини по темпераменту,
ничего и не написала. Письма не в счет. Письма женщина может писать и сидя
у постели больного батюшки. Или у камина, пока мужчины за столом
беседуют и она их не очень раздражает. Самое странное, задумалась я,
перелистывая письма Дороти, что у этой невыученной и одинокой девочки было
поразительное чутье на контур фразы, на зарисовку происходящего.
Вслушайтесь:
«После обеда мы сидим и разговариваем, а потом разговор переходит на
г-на Б., и я ускользаю. Жаркий день проходит за чтением или за работой, и в
шестом или седьмом часу я иду на выгон, где молодые девки пасут скотину
и, укрывшись в тени, поют баллады; я присаживаюсь и сравниваю их пение
и красоту с греческими пастушками, про которых я читала, и нахожу
огромную разницу, но, уверяю тебя, простоты в них ничуть не меньше. Я
заговариваю с ними и вижу, что это счастливейший народ, но они этого не знают.
Обычно в разгар нашей беседы одна вдруг оборачивается и видит, что ее
В. Вулф. Своя комната
495
корова идет к хлебам, и тогда все бросаются бежать, словно за ними кто-то
гонится. Я же, тихоня, смотрю им вслед и, видя, что они погнали скотину к
дому, решаю, что и мне пора. Поужинав, выхожу в сад, там у нас небольшой
ручей - сижу и жалею, что тебя нет рядом...»69
Поклясться можно, в ней были задатки писателя. Но читаешь ее «я б
до такого позора никогда не дошла» - и сразу понимаешь, как трудно
приходилось пишущей женщине: даже талантливая Дороти убедила себя, что
написать книгу - значит превратиться в посмешище, предстать чуть ли
не умалишенной. И тут мы встречаемся (я убрала томик писем Дороти) с
миссис Бен70.
С миссис Бен мы проходим труднейший участок на всем пути. Мы
оставляем в парках одиноких леди наедине с их фолиантами, написанными не
для аудитории и критики, а лишь в свое удовольствие. Мы входим в город и
толкаемся в обычной уличной толпе. Миссис Бен была женщиной среднего
класса и обладала всеми его плебейскими достоинствами - чувством юмора,
цепкостью и решительностью. Из-за смерти мужа и собственных неудачных
авантюр ей пришлось сильно поизворачиваться. Она трудилась наравне с
мужчинами. И зарабатывала достаточно, чтобы не нищенствовать. Факт этот
по значению перевешивает любую ее вещь, даже великолепные стихи «Я
тысячу сердец заставила страдать...» или «Любовь царицей восседала...», ибо
отсюда начинается свобода мысли женщины или, вернее, надежда, что с
течением времени ее сознание разговорится. Теперь уже любая девушка могла
пойти к родителям и заявить: «Вам не нужно давать мне на расходы, я сама
заработаю пером». Конечно, еще долгие годы перед ней захлопывали дверь
с криком: «И жить будешь, как эта Афра Бен? Только через мой труп!» Здесь
напрашивается интереснейшая тема - высокая цена женской добродетели в
глазах мужчин и ее последствия для образования женщин. При желании у
английских студенток могла бы выйти неплохая книга. В качестве
фронтисписа предлагаю портрет леди Дадли, увешанной бриллиантами и в тучах
шотландской мошкары. Ее муж лорд Дадли, писала недавно «Тайме» в связи
с ее смертью, «был украшен многими добродетелями и достоинствами,
щедрый благотворитель, но при всем том капризнейший деспот. Он настаивал,
чтобы его жена даже в отдаленнейших уголках Северной Шотландии, куда
он уезжал охотиться, надевала парадное платье, он увешивал ее
бриллиантами, ни в чем ей не отказывал - за исключением и малой доли
самостоятельности». А потом с лордом Дадли случился удар, и она нянчилась с ним и
отлично управляла его поместьями до конца дней своих. Капризный деспотизм
процветал и в девятнадцатом веке.
Но вернемся к Афре Бен. Она доказала, что пером можно зарабатывать,
жертвуя кое-какими придуманными женскими свойствами; и постепенно
женщины начали браться за перо уже не по «безумию» или «в
беспамятстве», а из чисто практических соображений. Положим, умер муж или на
семью обрушилось какое-то несчастье. Сотни женщин с наступлением во-
496
Дополнения
семнадцатого века начали помогать родным, выручая деньги за переводы,
за тьму слабых романов, ныне всеми позабытых, которые можно раскопать
только у букинистов за четыре пенса. Так что широкая активность среди
женщин в конце восемнадцатого века - беседы, встречи, эссе о Шекспире,
переводы классиков - имела уже под собой твердую почву: женщины
стали зарабатывать своим творчеством. Деньги придали вес «пустому вздору».
И хотя их еще можно было уколоть «синим чулком с чернильным зудом»,
но их практическую жилку отрицать уже было нельзя. Итак, к концу
восемнадцатого века произошел сдвиг, который на месте историков я описала бы
подробнее, чем крестовые походы или войну Алой и Белой розы. Женщины
среднего класса взялись за перо. Повторяю: не уединенные аристократки в
загородных виллах среди фолиантов и обожателей, а обыкновенные
женщины. И весомейшее доказательство тому - романы Джейн Остен, сестер Брон-
те и Джордж Элиот. Ибо без этой предварительной работы у великих
английских романисток написалось бы не больше, чем у Шекспира без Марло, а у
того - без Чосера, а у Чосера - без тех канувших поэтов, которые наметили
дороги и укротили природную стихию языка. Шедевры не рождаются сами
собой и в одиночку; они - исход многолетней мысли, выношенной сообща,
всем народом, так что за голосом одного стоит опыт многих. Джейн Остен
должна была бы возложить венок на могилу Фанни Бёрни, а Джордж Элиот -
поклониться борцовской тени Элизы Картер71: мужественная старуха
привязывала к кровати колокольчик, чтоб встать спозаранок и сесть за греческий.
Дождем цветов должны осыпать женщины надгробие Афры Бен, которое со
скандалом, но весьма точно оказалось в Вестминстерском аббатстве, ибо это
она, авантюристка и любовница, добилась для них права говорить в полный
голос. Это она позволяет мне сегодня предложить вам: попытайтесь-ка
зарабатывать самостоятельно пятьсот фунтов в год.
Наконец, рубеж девятнадцатого века. И здесь я впервые обнаружила
несколько полок с книгами женщин. Но почему - пробежала их глазами - всё
романы? Ведь первый толчок обычно бывает к поэзии? «Первым среди
лириков» была женщина72. И во Франции, и в Англии женщины-поэты
появились раньше прозаиков. Наконец, подумала я о четырех знаменитостях, что
общего у Джордж Элиот с Эмили Бронте? Разве у Шарлотты Бронте нашлась
хоть точка соприкосновения с Джейн Остен? Более несовместимые
личности трудно представить в одной комнате (и тем интереснее было бы свести их
для разговора!). И все же почему-то они все писали романы. Не оттого ли,
что они вышли из среднего класса? - спросила я. А у семьи среднего класса,
как объяснила позднее мисс Эмили Дейвис73, в начале девятнадцатого века
была одна общая комната. Если женщина решала писать, она писала в
общей комнате. И как потом горько сетовала мисс Найтингейл («у женщин и
тридцати минут нет... которые они могут назвать своими»), ее постоянно
отрывали. И все-таки писать прозу было легче, чем пьесы или стихи. Не
нужно большой сосредоточенности. Собственно, Джейн Остен так писала всю
В. Вулф. Своя комната
497
жизнь. «Как она все сумела написать, - пишет ее племянник в мемуарах, -
вообще удивительно, ведь у нее не было своего кабинета, и большей частью
ей приходилось работать в общей комнате, где все время возникали какие-
нибудь помехи. Она зорко следила, чтобы о ее занятии не догадалась
прислуга или кто-нибудь из гостей - словом, люди чужие»*. Джейн Остен прятала
свои рукописи или прикрывала их листком промокашки. Кроме того,
единственным литературным коньком женщины в начале девятнадцатого века
было наблюдение характеров, анализирование чувства. Ее чувствительность
не один век развивалась под влиянием общей комнаты. Женщина
воспитывалась на чувствах людей, их взаимоотношения все время были у нее перед
глазами. Естественно, когда женщина среднего класса садилась писать, у нее
выходила проза, хотя Эмили Бронте и Джордж Элиот по своей природе не
только романистки. Первая могла бы писать поэтические пьесы; энергия же
Джордж Элиот должна была перекинуться, когда творческий импульс иссяк,
на биографию или историю. И тем не менее они всю жизнь писали романы,
и, сказать больше (я сняла с книжной полки «Гордость и предубеждение»
Джейн Остен), хорошие писали романы. Без хвастовства или желания задеть
другой пол любая из нас может сказать: «Гордость и предубеждение» -
превосходная книга. Во всяком случае, ни одна не устыдилась бы, поймай ее за
работой над рукописью. А вот Джейн Остен - та прислушивалась к скрипу
дверной петли и скорее прятала листки, пока кто-нибудь не вошел. Она
стеснялась. А интересно - как сказывалась на ее работе эта вынужденная игра в
прятки?
Читаю страницу, другую, но нет, не замечаю, чтобы ее работа хоть
малейшим образом страдала от обстоятельств. И это, пожалуй, самое
удивительное. 1880 год, и женщина пишет без всякой ненависти, без страха, без
горечи, без осуждения, без протеста. Так Шекспир писал, подумала я,
взглянув на «Антония и Клеопатру»; и, возможно, сравнивая Шекспира и Джейн
Остен, люди хотят сказать, что сознание обоих поглотило все препятствия и
мы поэтому так мало о них знаем: как и Шекспир, Джейн Остен свободно
живет в каждом своем слове. Если она и страдала от обстоятельств, то лишь
от узости навязанной ей жизни. Женщине нельзя было ходить одной. Она
никогда не путешествовала, не ездила по Лондону в омнибусе, не
завтракала одна в кафе. Но, может, не в природе Джейн Остен было требовать иного.
Ее дар и ее образ жизни не противоречили друг другу. А вот для Шарлотты
Бронте это едва ли справедливо, и я открыла «Джейн Эйр» и положила ее
рядом с романом Джейн Остен.
Открыла я на 12-й главе, и в глаза бросилась фраза: «Пусть меня кто
угодно упрекнет». В чем же, интересно, упрекали Шарлотту Бронте? И я прочла,
как Джейн Эйр заберется, бывало, на чердак, пока миссис Фэрфекс74 варит
* «Воспоминания о Джейн Остен», написанные племянником писательницы Дж.Э. Остен-
Леем (Примеч. Вулф).
498
Дополнения
варенье, и смотрит на поля, вдаль. Тогда она мечтала - за это ее и упрекали -
«тогда я мечтала обладать такой силой воображения, чтоб разорвать
границы, проникнуть в кипучий мир, в города, страны, полные жизни, о которых
я слышала, но никогда не видела: как мне тогда хотелось иметь больше
жизненного опыта, больше общаться с моими сверстницами, познакомиться с
самыми разными характерами, а не только с теми, кто был рядом. Я ценила
все доброе в миссис Фэрфекс и Адели75, но я верила в существование другой,
более яркой формы добра, и мне хотелось видеть то, во что я верила.
Кто меня упрекнет? Знаю, многие назовут меня неудовлетворенной. Я же
не могла иначе: нетерпение было у меня в крови, оно обжигало меня иногда
до боли...
Напрасно говорят - люди должны удовольствоваться безмятежностью:
им необходимо действие, и, если им не найдется дела, они его сами
выдумают. Миллионы обречены на более неподвижное существование, чем я, и
миллионы молчаливо борются со своим жребием. Никто не знает, сколько
бунтов вызревает в толщах людской породы. Женщин вообще считают очень
уравновешенными, но они так же чувствуют, как и мужчины; так же
нуждаются в постоянном упражнении своих способностей и в поле деятельности,
как и их братья; точно так же страдают от слишком жестких колодок, от
полного застоя, как и мужчины наверняка страдали бы... Лишь от узости
сознания наши более привилегированные ближние советуют нам ограничиться
пудингами, штопкой чулок, игрой на фортепьяно и рукоделием. Глупо
осыпать проклятиями или высмеивать тех, кто старается сделать больше или
научиться большему, чем предписано обычаем.
Оставшись одна, я не раз слышала смех Грейс Пул...»76
Неуклюжий обрыв, подумала я. Ни с того ни с сего вдруг натолкнуться
на Грейс Пул - беспорядок, нарушено целое. Любой скажет, продолжала я
свою мысль, в женщине, написавшей эти страницы, больше заложено, чем в
Джейн Остен, а вчитается - здесь рывок, там взрыв негодования - и поймет,
что никогда ей не добиться полноты и цельности. Ее книги прежде
перекосит и изломает. Она будет бушевать там, где требуется спокойствие.
Заторопится вместо того, чтобы действовать обдуманно. Напишет о себе, когда
надо о своих героях. Она воюет со своей судьбой. Как было ей не умереть в
молодости, вконец издерганной?
Остается увлечься на секунду мыслью, что случилось бы, имей
Шарлотта Бронте триста фунтов в год - но безрассудная женщина отдала свое
авторское право за полторы тысячи фунтов! - приобрети она каким-то образом
больше знаний о кипучем мире, городах и странах, полных жизни, больший
жизненный опыт и общение с единомышленниками, знакомство с разными
характерами. Своими словами она прямо указывает не только на
собственные минусы романистки, но и на уязвимые стороны всего женского пола
того времени. Она лучше других знала, как выиграл бы ее талант, если б не
тратилась на миражи, если бы у нее была возможность общаться, путешест-
В. Вулф. Своя комната
499
вовать, набирать опыт. Но ей не дали такой возможности, и мы должны
принять за факт, что все эти добрые книги - и «Городок», и «Грозовой перевал»,
и «Миддлмарч» - написаны женщинами, чей жизненный опыт был
ограничен четырьмя стенами родительского дома, женщинами, настолько бедными,
что им приходилось буквально по дестям77 покупать бумагу, чтобы закончить
тот же «Грозовой перевал» или «Джейн Эйр». Правда, одна из них, Джордж
Элиот, вырвалась после долгих метаний, но и то лишь на загородную
виллу в Сент-Джонз-Вуд78, где и засела изгнанницей. «Я хочу быть правильно
понятой, - пишет она, - я никого к себе не приглашаю, кроме тех, кто сам
пожелал прийти»79. Разве не известно, что она состояла в греховной связи с
женатым мужчиной и один вид ее мог осквернить целомудрие миссис Смит
при случайной встрече? Оставалось одно - подчиниться условности и
«перестать существовать для так называемого света». А в это самое время на
другой стороне Европы совершенно свободно жил молодой человек, сегодня
с цыганкой, завтра с княгиней; ходил воевать; познавал без помех и надзора
все разнообразие человеческой жизни, что блестяще сослужило ему службу,
когда он начал писать книги. Если бы Толстой жил в монастырской келье с
замужней женщиной, перестав «существовать для так называемого света»,
то, как бы ни поучительна была такая практика, вряд ли он написал бы
«Войну и мир».
Но можно, наверное, еще немного углубить вопрос о романе и влиянии
пола на романиста. Закрыть глаза и представить роман вообще - увидится
строение, зеркально схожее с жизнью, разумеется, со многими
упрощениями и искажениями. И уж само строение фиксируется в нашем сознании то
в образе квадратов либо пагоды, то раскинувшихся крыльев и аркад, то
монолита под куполом, подобного собору Св. Софии в Константинополе. Эти
образы, подумала я, оглядываясь на знаменитые романы, вызывают у нас
соответствующую реакцию. Но поскольку строится роман из отношения не
камня к камню, а человека к человеку, впечатление сразу смешивается с
другими нашими переживаниями. Роман поднимает целую бурю
противоречивых чувств. Жизнь спорит с чем-то, что не является жизнью. Договориться
о романах поэтому всегда трудно, и влияние личных пристрастий очень
велико. С одной стороны, мы чувствуем: Джон, герой, ты должен жить, иначе
мне будет очень плохо. И одновременно - увы, Джон, тебе придется умереть,
этого требует склад романа. Жизнь спорит с чем-то, что не является жизнью.
Но коль скоро роман все же связан с жизнью, мы о нем так и судим. «Джеймс
из тех людей, которых я не выношу», - скажет иной. Или - «абсурдная
мешанина, такое невозможно почувствовать». В целом же, если мысленно
окинуть любой знаменитый роман, это сложнейшая постройка, собранная из
множества разных суждений. Удивительно, как вообще держатся романы
более года или двух и могут иметь для английского читателя тот же смысл,
что для русского или китайца. Но иногда они держатся просто замечательно.
И выстаивают в редких случаях (я раздумывала над «Войной и миром») бла-
500
Дополнения
годаря так называемой безукоризненности писателя (что не связано с
оплатой счетов или благородным поведением в критической ситуации).
Безукоризненность художника - это ощущение правды, которое он дает каждому
из нас. Да, чувствует иной, никогда не думал, что так может быть, ни разу
не встречал людей, которые вели бы себя подобным образом. Но вы меня
убедили в этом - значит, случается. Ибо, читая, мы каждую фразу, каждую
картину как бы смотрим на свет - чудно, но Природа снабдила нас
внутренним светом, чтобы судить о безукоризненности писателя. Или, может быть,
в приливе безудержной фантазии она лишь обозначила на стенах нашего ума
симпатическими чернилами некое предчувствие, подтверждаемое великими
художниками, некий набросок, который нужно поднести к пламени гения,
чтобы он проявился. И вот он на глазах оживает, и тебя охватывает восторг:
я же всегда это чувствовал, знал и стремился к этому! И не унять волнения,
и, перевернув страницу, книгу ставят на полку уже с благоговейным
чувством, словно это что-то очень драгоценное, опора, к которой возвращаются
всю жизнь, сказала я, держа «Войну и мир» и убирая в шкаф. Если, с
другой стороны, бойкие предложения, что берешь и смотришь на свет, в первую
минуту увлекают яркой окраской и смелыми жестами, а потом - стоп, что-то
их удерживает в развитии или если с ними проступают лишь слабые
царапины и пятна по углам сознания, а целого и законченного не возникает, тогда
вздыхаешь разочарованно и говоришь: очередная неудача. И этот роман не
устоял.
И так очень многие романы. Воображение сдает под непосильным
напряжением. Притупляется взгляд, уже не различить правду и ложь; нет силы
ежеминутно сосредоточиваться. А интересно, как влияет на работу
романиста его пол, - я думала о «Джейн Эйр» и ее сородичах. Не вредит ли он
безукоризненности женщины-прозаика - тому, что я считаю спинным хребтом
писателя? По отрывку, что я процитировала из «Джейн Эйр», ясно видно:
гнев смещал писательские позвонки Шарлотты Бронте. Она бросила свой
рассказ совсем беспомощным и занялась личной обидой. Она вспомнила,
как изголодалась по настоящему опыту - как коснела в доме приходского
священника за штопкой, когда ей хотелось вольно бродить по свету. От
негодования мысль ее занесло в сторону, и мы это почувствовали. Но было и
множество других помех плодотворному развитию ее фантазии.
Невежество, например. Портрет Рочестера сделан вслепую, в нем проглядывает страх.
Еще мы постоянно ощущаем едкость - результат угнетения, и подспудное
страдание, тлеющее под ее страстью, и затаенную вражду, которая сводит
эти великолепные книги мучительной судорогой.
А раз роман согласуется с реальной жизнью, его ценности - в какой-то
мере жизненные. Только ценности женщин очень часто не совпадают с
расценками, установленными другим полом, и это естественно. Однако
превалируют мужские ценности. Грубо говоря, футбол и спорт - «важно», покупка
одежды - «пустое». Неизбежно этот ценник из жизни переносится в лите-
В. Вулф. Своя комната
501
ратуру. «Значительная книга, - серьезно рассуждает критик, - она
посвящена войне». «А эта - ничтожная, про женские чувства в гостиной». Батальная
сцена важнее эпизода в магазине - всюду и гораздо тоньше различие в
оценках утверждается. И, следовательно, все здание женского романа начала
девятнадцатого века было выстроено слегка сдвинутым сознанием,
вынужденным в ущерб своему развитию считаться с чужим авторитетом. Перелистай
давно позабытые романы и сразу угадаешь между строк постоянную
готовность женщины ответить на критику: здесь она нападает, а здесь соглашается.
Признает, что «она всего лишь женщина», или возражает: «ничем мужчины
не хуже». Отвечает, как ей подсказывает темперамент, послушно и робко или
гневно и с вызовом. И дело даже не в оттенках - она сосредоточена на
постороннем, а не на самом предмете. И вот ее книга падает на наши головы, как
неспелое яблоко с червоточиной. И я подумала обо всех женских романах, что
валяются, словно падалица в саду, по второсортным букинистическим лавкам
Лондона. Их авторы изменили своим ценностям в угоду чужому мнению.
Но и как трудно было женщинам стоять, не шелохнувшись ни вправо
ни влево! Какой самостоятельностью надо было обладать, чтобы перед
лицом всей этой критики, среди исключительно патриаршей публики
держаться твердо своего взгляда на вещи. Только Джейн Остен выдержала и Эмили
Бронте. И это, возможно, самая главная их победа. Они писали как женщины,
а не как мужчины. Из тысячи писавших тогда женщин одни они полностью
игнорировали вечную директорскую указку - пиши так, думай эдак. Одни
они остались глухи к настойчивому голосу, то ворчливому, то
милостивому, то жесткому, то искренне опечаленному, то шокированному, то гневному,
то добренькому дядюшкиному. Голосу, навязанному женщинам как
слишком ревностная гувернантка, что пилит и пилит их, заклиная интонациями
сэра Эджертона Бриджеса80 быть леди, даже в критику поэзии влезая с
критикой пола*, увещевая их, если будут хорошо вести себя и выиграют, надо
понимать, какой-нибудь мишурный приз, и впредь держаться рамок,
указанных господином критиком: «...Романистки должны добиваться мастерства
исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола»**.
Коротко и ясно, и, если я, к вашему удивлению, скажу, что сентенция
написана в августе не 1828-го, а 1928 года, полагаю, вы согласитесь, что при
всей ее сегодняшней трогательности она представляет достаточно массовое
мнение - я не собираюсь волновать старое болото, я только подняла случай-
* «[Она] (Вулф. - Н.Р.) пытается говорить об абстрактном, а это опасное увлечение,
особенно для женщины, ибо в редкой женщине есть мужская здоровая любовь к риторике.
Странный недостаток у пола, в остальном более примитивного и здравого». - «Нью крайтирион»,
июнь, 1928 г. {Примеч. Вулф).
** «Если вы разделяете авторское убеждение, что романистки должны добиваться
мастерства исключительно путем смелого признания ограниченности своего пола (у Джейн Остен,
например, это получалось с необыкновенным изяществом)...» - «Лайф энд летерс», август,
1928 г. (Примеч. Вулф).
502
Дополнения
но выплывшее под ноги, - мнение, которое век назад высказывали намного
энергичнее и громче. Нужно было быть очень стойкой молодой женщиной в
1828 году, чтобы устоять против всех щелчков по носу, отчитываний и
обещаний призового места. В любой должно быть что-то от горящей головни,
чтобы сказать себе: литературу им не купить. Литература открыта для всех.
Я не позволю вам, господа педели, согнать меня с травы. Запирайте свои
библиотеки, если угодно, но на свободу моей мысли никаких запоров,
никаких запретов, никаких замков вам не наложить.
Но как бы ни страдало писательское дело женщин от окрика и критики,
это не шло в сравнение с другой их трудностью; я еще вглядывалась в
романисток девятнадцатого века: за ними не было традиции или была, но до того
короткая и случайная, что не помогала. Женщины в литературе всегда
мысленно оглядываются на матерей. Идти за помощью к великим писателям-
мужчинам им бесполезно, с какой бы радостью они к ним ни обращались.
Лэм, Браун, Теккерей, Ньюмен, Стерн, Диккенс, Де Квинси81 - кто угодно -
никогда еще не помогли женщине, хотя она, может, и переняла у них пару
приемов и приспособила к своей руке. Весом, шагом, ритмом мужской ум
слишком отличается от ее собственного, чтобы ей удалось скопировать что-
то существенное. Мартышкин труд, сколько ни старайся. Возможно, первое,
что обнаружила женщина, взяв перо, - ей не от чего оттолкнуться в
языке. Все великие прозаики, подобные Теккерею, Диккенсу, Бальзаку,
писали естественной прозой - ходкой, выразительной, без вычурности и
излишеств, принадлежащей именно им, и притом общей. За основу ее они брали
ходовую сентенцию времени. В начале девятнадцатого века она звучала в
таком духе: «Грандиозность создаваемого не останавливала их, но
побуждала к действию. Ничто не могло дать им большего импульса или
удовлетворения, чем разработка своего искусства, бесконечное возведение истины
и красоты. Успех окрыляет, усилие же вознаграждается успехом»82. Это
чисто мужское суждение - за ним видишь Джонсона, Гиббона83 и остальных.
Куда с ним женщине? Шарлотта Бронте, при всем ее таланте, спотыкалась
и падала с этим нескладным оружием. Джордж Элиот натворила с ним бед.
А Джейн Остен посмотрела, улыбнулась и придумала свое, очень
естественное, ловкое, - и никогда от него не отступала. В итоге: таланта меньше, чем
у Шарлотты Бронте, а сказать сумела несравнимо больше. Если свобода и
полнота высказывания - плоть искусства, то отсутствие традиции, скудость
и несообразность средств должны были серьезно сказаться на писательском
деле женщин. А кроме того, книга ведь складывается не из образов,
поставленных в ряд, а, так сказать, из архитектуры образов в форме аркад или
куполов. Но и эта форма тоже дело мужских рук. Нет основания считать, что
форма эпической или поэтической пьесы более удобна женщине, чем
проза. Просто, когда она стала писателем, все более старые литературные
формы успели отвердеть и застыть. Роман - единственный - был достаточно
молод и мягок под ее пальцами, - возможно, еще поэтому она писала романы.
В. Вулф. Своя комната
503
Но кто сейчас скажет - «роман молод»? И что даже эта наиподатливейшая
из форм не стесняет ее руку? Мы еще увидим, нет сомнений, как она
обкатает ее по-своему, - дайте ей только научиться свободно владеть пером, и она
найдет новый выход своей поэзии, и не обязательно в стихах. Ибо именно
поэзию до сих пор держат под спудом. И я задумалась над тем, как бы
женщина в наши дни написала поэтическую драму в пяти актах. Стихами? Или
все-таки прозой?
Впрочем, все это непростые вопросы, скрытые в потемках будущего.
Я, пожалуй, их оставлю, ибо они побуждают меня уклониться от нашего
предмета в нехоженые чащи, где, того гляди потеряюсь и меня разорвут
дикие звери. Я не хочу - и вы, надеюсь, тоже не хотите - обсуждать эту очень
туманную тему, будущее литературы, и я только на минуту остановлю ваше
внимание на той огромной роли, которую тогда будут играть физические
условия, во всяком случае, у женщин. Книгу нужно так или иначе
приспособить к своему существованию, и можно заранее сказать, что у женщин
книги должны быть емче, короче, посжатей, чем у мужчин, и рассчитаны на
немногочасовое непрерывное сидение. Ибо отрываться женщине все равно
придется. Кроме того, нервная система у мужчин и женщин не одинакова, и,
если вы хотите, чтобы ваша работала с полной отдачей, нужно выяснить, что
вам подходит - эти лекции, придуманные монахами тысячу лет назад, или
все же что-то другое? Как лучше женщине чередовать труд и отдых, понимая
под отдыхом не безделье, а тоже занятие, только иного рода, и какое
сочетание занятий будет самым плодотворным? Все надо обсудить, до всего
доискаться; все это входит в проблему женщин и литературы. Я снова потянулась
к книжному шкафу: где найти мне у женщин искусный анализ женской
психологии? Если из-за неумения играть в футбол им не дадут заниматься
медициной... К счастью, мои мысли приняли новый оборот.
ГЛАВА 5
Я подошла, наконец, к полкам с книгами современных писателей -
точнее, писателей и писательниц, ибо женщины сегодня пишут почти наравне
с мужчинами. А если они все-таки пишут меньше и мужчины по-прежнему
многоречивы, то уж, во всяком случае, не ограничиваются лишь романами.
Есть книги Джейн Хэррисон по греческой археологии, Верной Ли по
эстетике, Гертруды Белл о Персии84. Женщины пишут на различнейшие темы,
которых еще предыдущее поколение не смело бы коснуться. А сегодня: и
стихи, и пьесы, и критика, исторические, биографические книги, описания
путешествий и исследования, есть даже несколько трудов по философии,
естественным наукам, экономике. И хотя романы по-прежнему преобладают,
но они, наверное, тоже изменились в содружестве с иными жанрами.
Первая угловатость и эпический век женского творчества, наверное, прошли.
Благодаря чтению и критике появилась большая широта и продуманность.
504
Дополнения
Преодолена наконец тяга к биографиям. И женщина начинает разрабатывать
литературу как искусство, а не только как метод самовыражения. Пожалуй,
новые романы ответят на некоторые предположения.
Беру, не глядя, с конца полки: роман Мери Кармайкл85 «Наступление
жизни» или что-то в этом роде, опубликованный в октябре. Ее первая
книга, подумала я, но читать ее всякий будет как последнюю, продолжающую
довольно длинный ряд отмеченных мною произведений - поэзию леди Уин-
чилси, пьесы Афры Бен, романы четырех великих романисток. Ибо книги
продолжают друг друга, вопреки нашей привычке судить их порознь. И в
ней - совершенно незнакомой женщине - я должна буду видеть преемницу
других женщин, чьи судьбы я здесь мельком оглядела, чтоб разобраться в ее
непростом наследстве. И вздохнув - ибо романы чаще действуют как
валерьянка, усыпляют, вместо того чтобы обжечь, как головней, - я принялась
читать, с блокнотом и карандашом, первый роман Мери Кармайкл
«Наступление жизни».
Прежде всего пробежала взглядом страницу. Сначала узнаю, как ложатся
фразы, сказала себе, а затем уже утону в голубых и карих очах Хлои и
Роджера и взаимоотношениях героев. Прежде надо выяснить - перо у нее в руке
или мотыга. Пробую фразу, другую. Не в порядке что-то. Нет плавного
перехода. Что-то рвется, царапает, отдельные слова бьют в глаза. Мери Кармайкл
«забывается», как говорили в старых пьесах. Словно человек, чиркающий
сломанной спичкой. Но чем тебе не угодили фразы Джейн Остен? -
спрашивала я ее, точно она сидела рядом. Неужели их надо комкать только потому,
что Эммы и м-ра Вудхауза86 больше нет? Жаль, если так, вздохнула я. Ибо
Джейн Остен идет от мелодии к мелодии, как Моцарт от пьесы к пьесе, а
нынешнее чтение напоминает плавание в открытом море на простой лодке. То
летишь вверх, то ухаешь в пропасть. Эти сжатость и короткое дыхание - уж
не от страха ли прослыть сентиментальной? Или она вспомнила, что
женский слог назвали цветистым, и заготовила избыток колючек? Но пока я
внимательно не прочитаю сцену, я не смогу сказать, искренна она или
притворяется. Во всяком случае, живое настроение читателя она не понижает, думала
я, вчитываясь. А вот фактов нагромождает лишку Ей и половины не
использовать в таком объеме (роман был примерно вдвое короче «Джейн Эйр»).
И все же ей как-то удалось усадить нас всех - Роджера, Хлою, Оливию, Тони
и м-ра Бигема - в один челнок у истока. Минуту - откинулась я на стуле, -
мне надо хорошенько все обдумать, прежде чем пуститься дальше.
Я почти уверена, что Мери Кармайкл нас разыгрывает. Чувствуешь себя
как на русских горках, когда вагончик вместо ожидаемого нырка взмывает
снова вверх. Мери играет предполагаемым ходом действия. Сначала
скомкала фразу, теперь нарушила ход. Конечно, она имеет на это полное право,
если ее цель - не разрушение, а создание нового. Точно не определю, пока
она не выйдет на конфликт, на препятствие. И тут я даю ей полную свободу
выбора, она может выстроить его хоть из консервных банок и старых чай-
В. Вулф. Своя комната
505
ников, но ей надо убедить меня, что это действительно препятствие. И когда
она его подготовит, она должна взять его. И дав себе слово быть ей верным
читателем, если, конечно, и она не подведет, я перевернула страницу и
прочла... Извините за резкий обрыв. Здесь нет мужчин? Вы уверены, что за той
красной портьерой не прячется сэр Шартр Бирон87 собственной персоной?
Только женщины? Тогда я скажу вам, что дальше я прочитала: «Хлое
нравилась Оливия». Не спешите пугаться. Краснеть. Давайте признаемся в своем
кругу, что случается и такое. Иногда женщинам нравятся женщины.
Итак, «Хлое нравилась Оливия». И тут до меня дошло, какое громадное
изменение крылось за этими словами. Оливия понравилась Хлое, возможно,
первый раз за всю литературу. Клеопатре, например, не нравилась Октавия.
А как изменились бы «Антоний и Клеопатра», случись наоборот! А так,
думала я, немного отвлекаясь от романа Мери Кармайкл, положение
действующих лиц упрощается, осмелюсь сказать, до глупой условности. У
Клеопатры к Октавии единственное чувство - ревность. Она выше меня? Какая
у нее прическа? Возможно, пьеса и не требовала большего. Но как все
оживилось бы, будь их взаимоотношения сложнее. Все эти отношения между
женщинами, я подумала, пробегая в памяти пышную галерею женских
образов прошлого, слишком однообразны. Столько интересного осталось
неосвещенным. И я попробовала вспомнить хотя бы случай из своей
читательской практики, когда две женщины изображались подругами. У Мередита в
«Диане с перепутья»88 есть попытка. У Расина и в греческой трагедии
женщины часто наперсницы. Иногда матери и дочери. Но все они неизменно
изображаются по отношению к мужчинам. Странно подумать, что все
великие женские образы до Джейн Остен рисовались лишь в отношении к
другому полу. А какая это малая часть жизни женщины и как мало может знать
о ней мужчина, когда он ее видит через черные или розовые очки, которые
надевает ему на нос его положение! Отсюда и своеобразие женского образа:
эти озадачивающие крайности красоты и уродства, превращения из
божественной добродетели в исчадие ада - ибо такой видел женщину влюбленный,
в зависимости от того, росла его любовь или чахла, была взаимной или
оставалась безответной. Разумеется, это не совсем так у романистов
девятнадцатого века. У них женщина уже более сложна и интересна. Возможно, из
стремления писать о женщинах мужчины постепенно отошли от
поэтической драмы с ее резкостью и теснотой и придумали роман как более
подходящее выразительное средство. Но и в романе, даже у Пруста89, остается
очевидным, что мужчина очень узко и однобоко смотрит на женщину, как,
впрочем, и она на него.
И, кроме того, продолжала я, снова заглядывая в книгу, интересы
женщин не ограничиваются только домом: сегодня это уже очевидный факт.
«Хлое нравилась Оливия. Они работали в одной лаборатории...» Хотя одна
из них была замужем и с двумя маленькими детьми. И дальше я узнаю, что
героини занимались препарированием печени, говорят, это помогает при
506
Дополнения
злокачественной анемии. Мужчины, конечно, все эти подробности
опускали, и пышный образ выдуманной женщины упрощался и скучнел на
глазах. Представьте, если бы мужчин изображали только возлюбленными и
никогда - друзьями, солдатами, мыслителями, мечтателями; им почти нечего
было бы играть в пьесах Шекспира, какая потеря для литературы! Да, у нас
осталась бы большая часть Отелло, добрая половина Антония, но ни Брута,
ни Цезаря, Гамлета, Лира, Яго - литература невероятно обнищала бы, как,
впрочем, она и так веками нищенствовала из-за того, что перед женщинами
вечно закрывали двери. Мог ли драматург полно и интересно, правдиво их
описать, если их еще девочками выдавали замуж и запирали в четырех
стенах, усадив за пяльцы? Любовь была единственным мостиком. Поэт
поневоле становился влюбленным, либо насмешником или на худой конец объявлял
себя женоненавистником, что чаще всего означало, что он не пользуется у
женщин успехом.
Если же Хлое нравится Оливия, они вместе работают и их дружба
складывается интереснее и крепче былых женских ревностей и если Мери Кар-
майкл, которая начинает мне уже нравиться, сумеет это описать и докажет
свою самостоятельность - но это мы еще посмотрим! - тогда я скажу:
действительно произошло нечто очень существенное.
Это значит, что Мери Кармайкл первая зажгла факел в просторной
палате, где до нее еще никто не бродил. Там все полусвет и глубокие тени, как
в лабиринте, когда идут со свечой и смотрят сразу вверх и под ноги, боясь
оступиться. И я продолжала читать дальше: Хлоя следит, как Оливия ставит
кувшин на полку, и говорит, что ей пора домой, к детям. Картина, невиданная
со дня творения! - воскликнула я. И стала тоже с любопытством наблюдать.
Мне хотелось посмотреть, как Мери Кармайкл начнет угадывать эти
неведомые жесты, эти невымолвленные или полувымолвленные слова, что
возникают не более осязаемо, чем тени мотыльков на потолке, когда женщины
остаются одни и на них не падает окрашенный и капризный свет другого пола.
Ей придется затаить дыхание, подумала я, читая дальше: ведь женщины так
подозрительны к любому нечаянному интересу, так ужасающе привыкли к
молчанию и подавлению, что стоит только повести бровью в их сторону, как
они тут же прячутся. Единственный способ, сказала я ей, точно она
сидела рядом, - отвернуться к окну и говорить о другом, а самой тем временем
записывать, да не карандашом в записной книжке, а надежнейшим
стенографом, словами, еще не выговоренными, о том, что происходит, когда
женщина - этот организм, миллионы лет чахнувший в тени скалы, - чувствует
прояснение и видит совсем новую пищу: знание, дорогу, искусство. И она
уже тянется к ней, подумала я, снова отрывая глаза от книги, и ей придется
заново комбинировать свои возможности, столь сильно развитые для
другого дела. Чтоб новое вошло в старое, не нарушая сложное и искуснейше
выработанное целое.
В. Вулф. Своя комната
507
Но, увы, я нарушила обещание: незаметно для себя начала расхваливать
свой пол. «Сильно развитые возможности», «сложное и искуснейше
выработанное целое» - разумеется, это хвалебные слова, а похвала в свой адрес
всегда выглядит подозрительно, часто просто смешна, ибо чем ее в данном
случае оправдаешь? Никто из нас не может подойти к карте и указать -
Америку открыл Колумб, а Колумб, как известно, был женщиной; или взять
яблоко и заметить, что закон притяжения нашел Ньютон, а Ньютон, между
прочим, был женщиной; или поднять голову и сказать: аэропланы летают, а
кто их изобрел? - женщины. Не определяется высота женщины по дверному
косяку. Не измерить ростомерами с аккуратными делениями в доли дюйма
доброту матери, или преданность дочери, или верность сестры, или талант
хозяйки. Очень немногие женщины даже сегодня удостоены ученой
степени; великие испытания многих профессий в армии, флоте, торговле,
политике, дипломатии едва изведаны ими. Женщины и сейчас почти не оценены.
Но если я захочу узнать все подробности о сэре Холи Батсе, например, стоит
мне только открыть справочник, и я найду, что у него такие-то степени, что
он владелец поместья, имеет наследника, занимал в такие-то годы пост
секретаря, был послом Великобритании в Канаде и в общей сложности получил
столько-то званий, орденов, постов и разных других знаков отличия,
несмываемым блеском покрывших его персону. Разве что Провидению больше
известно о сэре Холи Батсе.
Итак, мне не подтвердить своих хвалебных слов в адрес женщин
никакими энциклопедиями и справочниками. Как же выйти из затруднения? И я
снова взглянула на книжные полки. Там стояли биографии Джонсона, Гете,
Карлайла, Стерна, Шелли, Каупера, Вольтера, Браунинга90 и многих,
многих других. И я задумалась обо всех этих великих людях, которые по той
или иной причине восхищались женщинами, искали дружбы с ними, вместе
жили, делились секретами, любили, посвящали им стихотворения, верили в
них, нуждались - в общем, по-своему зависели от них. Не скажу, что все это
были чисто платонические увлечения, а сэр Уильям Джойнсон-Хикс91 - тот,
наверное, прямо сказал бы, что ничего платонического в них не было. Но мы
погрешили бы против правды, если бы стали настаивать, что великие люди
искали в этих связях лишь лести, комфорта и плотских утешений.
Всякому ясно, они искали в них то, чего не мог им дать их собственный пол, и я,
пожалуй, попытаюсь определить это точнее, без возвышенных поэтических
цитат - как некий стимул, обновление творческой силы, одаривать
которыми дано лишь другому полу. Какой-нибудь Джонсон открывал дверь детской
или гостиной, подумала я, а там сидела она, может, окруженная детьми или
с рукоделием на коленях, всегда в центре совсем иной системы ценностей,
иного жизненного порядка, и контраст между его и ее миром - а его
миром был зал суда или палата общин - моментально освежал и взбадривал; а
дальше следовала, даже за самым пустяковым разговором, такая
естественная разница взглядов, что ссохшийся его ум оказывался опять взрыхленным;
508
Дополнения
и образ ее, создающей что-то свое своими средствами, так возбуждающе
действовал на творческую силу, что, само собой, его стерильный ум
принимался опять выдумывать, творить и приходила, наконец, та фраза или эпизод,
который никак ему не давался, когда он надевал шляпу перед встречей с нею.
У каждого Джонсона есть своя Трэйл, и ему страшно потерять ее из-за чего-
то такого, и, когда его Трэйл выходит замуж за итальянца, учителя музыки,
у Джонсона от бешенства темнеет в глазах, и не потому, что ему жаль милых
вечеров на Стретхеме, а потому, что из его жизни точно «ушел свет»92.
Да и вовсе не обязательно быть Джонсоном, Гете, Карлайлом или
Вольтером, чтобы почувствовать - пусть не так, как они, по-своему - всю
сложность и силу творческой способности у женщин. Нам надо войти в свою
комнату... только прежде, чем мы войдем и расскажем, что происходит,
когда женщина оказывается в своей стихии, английской речи придется
сначала сильно порастянуться и пробить потолок пролетами новых понятий.
Комнаты такие разные: спокойные, грозные, с окнами на море или в
тюремный двор, завешанные бельевыми веревками, в шелку и опалах, жесткие
как конский волос или мягкие словно пух, - достаточно переступить порог
любой комнаты на любой улице, и в лицо ударит вся многосложная сила
женского. Как же иначе? Миллионы лет женщины просидели взаперти, так
что сегодня самые стены насыщены их творческой силой, которая уже
настолько превысила поглощающую способность кирпича и извести, что
требует выхода к кистям и перьям, делу, политике. Но это совсем иная
творческая сила, чем у мужчин. И мы должны понять всю невосполнимость потери,
если будем сдерживать ее или растрачивать впустую, - она завоевана веками
наистрожайшей самодисциплины, и заменить ее нечем. Ужасно жаль, если
женщины начнут писать, или жить, или будут выглядеть как мужчины - два
пола с их различиями совсем немного на огромный и разнообразный мир, а
как же мы станем обходиться одним? Не призвано ли воспитание более
выявлять и поддерживать различия, нежели сходство? У нас уже много
сходного, и, если бы вернулся кто-то из путешествия и рассказал о существовании
иных полов, что смотрят из-за ветвей иных деревьев на иные небеса, - какая
польза была бы человечеству! И сколько удовольствия доставил бы нам
профессор X, который тут же рванулся бы озабоченно к линейкам доказывать
свой «приоритет».
Похоже, Мери Кармайкл уготована роль простого наблюдателя,
подумала я, мыслями еще витая над страницей. Боюсь, она поддастся искушению
стать тем, что я считаю менее интересной разновидностью писателя, -
романистом-натуралистом, а не мыслителем. Вокруг так много новых
объектов для изучения. Ей уже не придется ограничиваться благопристойными
домами среднего класса. Она войдет по-дружески - без одолжения и
снисходительности - в душные комнаты, где сидят куртизанка, гулящая и дама
с мопсом. Сидят в уродливых, заранее готовых платьях, напяленных на них
мужчиной-писателем. Но Мери Кармайкл достанет ножницы и точно выре-
В. Вулф. Своя комната
509
жет каждую впадинку и выступ. Любопытно будет увидеть, какие на самом
деле женщины, - правда, сначала Мери надо справиться со своим
смущением, этим наследством нашего сексуального варварства. Она и теперь еще
опутана искусственными оковами сословности.
Впрочем, большинство женщин не куртизанки и не гулящие и вряд ли
просиживают летние дни напролет, прижимая мопсов к пронафталиненным
бархатным платьям. Чем же они тогда заняты? И моему мысленному взору
предстала одна из длинных улиц к югу от реки с бесконечными перенаселенными
кварталами. Силой воображения я различила древнюю старушку, которая
переходит через улицу, опираясь на руку пожилой женщины, похоже дочери:
обе так благопристойнейше укутаны в мех и зашнурованы в ботинки - я так и
вижу их ежедневный обряд выхода на улицу и как потом они убирают платья в
шкафы с нафталином - год за годом, из лета в лето. Они переходят через улицу,
когда зажигают фонари (их час - сумерки), день за днем, год за годом.
Старшей около восьмидесяти, но, если спросить ее о жизни, она вспомнит уличный
фейерверк в честь победы при Балаклаве или пушечную пальбу в Гайд-парке
по случаю рождения короля Эдуарда VII93. А начнешь расспрашивать, желая
пригвоздить мгновение с календарной точностью - 5 апреля 1868 года что вы
делали? а 2 ноября 1875-го? - она посмотрит рассеянно и скажет, что ничего ей
не припоминается. Еще бы, обедов готовить больше не надо, посуда вымыта,
дети давно окончили школы и разбрелись по свету. Все куда-то ушло. Ничего
не осталось. Ни одна биография или история не добавит к ее рассказу и слова.
И так, вопреки себе, романы оказываются ложью.
Эта беспросветная жизнь ждет своего исследователя, обратилась я к
Мери Кармайкл, точно она стояла рядом; и пошла мысленно по
лондонским улицам, чувствуя тяжесть немоты и непроглядный сумрак жизни - от
женщин ли с кольцами на опухших толстых суставах, что стояли на углу
подбоченясь, жестикулируя в ритме Шекспира, от продавщиц ли спичек и
цветочниц, от старых кляч, изваянных в дверном проеме, от девушек ли на
улицах, чьи лица, как солнечная или затуманенная гладь, ловили
приближение мужчины или женщины, мерцание огней витрин. Все это ты
должна будешь исследовать, твердой рукой держа факел, говорила я мысленно
Мери Кармайкл. Главное же, ты должна высветить свою душу с ее
глубинами и мелководьем, тайниками тщеславия и великодушия. Сказать, что для
тебя значит твоя красота или уродливая внешность и как ты относишься к
вечному круговороту вещей, туфель, перчаток, лаков - этому миру
приторных запахов, что, просачиваясь из флаконов с химией, стекают по аркадам
занавесей на пол, отделанный «под мрамор». Оказывается, замечтавшись,
я попала в магазин, пол там был выложен белыми и черными плитами, все
изумительно украшено цветными лентами. Мери Кармайкл вполне могла
заглянуть сюда дорогой, подумала я, и здешний пейзаж под ее пером засверкал
бы с неменьшим блеском, чем какой-нибудь заснеженный пик или скалистое
ущелье в Андах. А вот и девушка за прилавком - я куда охотнее выслушаю
510
Дополнения
ее искренний рассказ, чем прочитаю стопятидесятое жизнеописание
Наполеона или семидесятый анализ Китса94 об использовании им милтоновской
инверсии в сочинительствах старого профессора X и компании. И уже
шепотом, очень осторожно, чуть слышно (а все из-за моего малодушия, боязни
окрика за спиной) я продолжала говорить Мери Кармайкл: еще тебе нужно
научиться смеяться по-доброму над суетностью другого пола - или, лучше
сказать, над их странностями, это звучит не так оскорбительно. Ибо у
каждого на затылке есть пятно не больше шиллинга, которого самому не
рассмотреть. Хороший случай, когда один пол полезен другому, - описать это
темное пятно на затылке. Вспомните, какую огромную пользу извлекли
женщины из замечаний Ювенала, критики Стриндберга95. Подумайте, с какой
человечностью и юмором мужчины испокон веков указывали женщинам на
это темное пятно в их родословной. И будь Мери Кармайкл очень смелой и
честной, она б не побоялась - зашла бы за спину другого пола и рассказала о
том, что она там увидела. Жизненно правдивый мужской портрет лишь тогда
сложится полностью, когда женщина опишет это шиллинговое пятно.
М-р Вудхауз и м-р Кейсобон96 - как раз пятнышки такого рода.
Разумеется, ни один здравый человек не посоветует ей смеяться со злым умыслом -
литература показывает тщетность таких попыток. Пиши правду, хочется ей
сказать, и результат может выйти самый неожиданный. Обогатится комедия,
откроются новые факты.
Впрочем, мне давно пора вернуться к странице романа. Чем думать о
том, что могла и должна писать Мери Кармайкл, лучше посмотреть, о чем
она пишет. И я снова взялась за книгу. Ага, вспомнила я свою досаду, она
скомкала фразу Джейн Остен, не дав мне случая продемонстрировать мой
безупречный вкус и тонкость критика. Что толку говорить «неплохо, очень
неплохо, но, согласитесь, у Джейн Остен получалось гораздо лучше», если
я и сама вижу: между ними нет точек пересечения. Затем она еще спутала
ход - предполагаемый порядок действия. Возможно, у нее это вышло
бессознательно, по-женски, чтобы внести живую струю. Но неожиданный
результат: не угадываешь назревающую волну, перелом за очередным поворотом.
И мне уже не покичиться тонкостью своих чувств, глубоким знанием
человеческой натуры. Только я настроюсь, кажется, на верные представления
о любви, о смерти, как неуемное существо дергает меня, увлекая дальше,
словно самое важное не в этом. С ней невозможно произнести
внушительно фразы о «запредельных чувствах», об «исконно человеческом», «тайнах
души» и все другие, поддерживающие в нас уверенность, что, какие мы ни
искусственные снаружи, внутри мы сама серьезность, глубина и
человечность. Напротив, она дала мне ощутить вместо серьезности, глубины и
человечности в каждом из нас - мысль малособлазнительная - возможную
леность души и ограниченность в придачу.
Но продолжаю читать и отмечаю другие факты. Она не «гений» - это
очевидно. Ни любви к природе, ни пламенной фантазии или необузданности
В. Вулф. Своя комната
511
стиха у нее нет; она не блещет остроумием и философской глубиной мысли
своих великих предшественниц - леди Уинчилси, Шарлотты Бронте, Эмили
Бронте, Джейн Остен, Джордж Элиот. Нет в ней и мелодичности и
достоинства Дороти Осборн - словом, просто талантливая девушка, чьи книги
через десять лет будут выжаты издателями. И все-таки у нее есть то, что еще
полвека назад и не снилось великим писательницам. Для нее мужчины уже
не «противники», и ей не надо тратить время на препирательства с ними; не
надо лезть на чердак и выходить из равновесия при мысли о недоступных
путешествиях, опыте, всем кипучем и разнообразном мире. В ней уже
почти не осталось страха и ненависти - только следы их видны в слегка
подчеркнутом упоении своей независимостью, в склонности к насмешливому
и сатирическому изображению другого пола, вместо прежнего,
романтического. И еще она, без сомнения, обладает очень важными для романиста
природными задатками. У нее очень щедрая, широкая и свободно чувствующая
натура. Она отзывается на малейший толчок извне. Как народившийся
цветок - празднует каждый новый цвет и звук. Исследует осторожно и пытливо
явления неизвестные, но традиционно отвергнутые как незначительные, и
показывает, что, возможно, это и не мелочи вовсе. Выносит на свет давно
забытое, вызывая удивление - зачем надо было хоронить? Пусть у нее нет того
внутреннего наследства, которое облагозвучивает малейший штрих Текке-
реев или Лэмов, но она усвоила первый большой урок: она пишет, как
женщина, забывшая о своей принадлежности к женскому полу, и от этого ее
страницы обретают тот особый тон, удающийся, лишь когда человек
держится естественно.
Все это было в ее пользу. Но никакая гибкость чувства или отточенность
восприятия не спасут, если она не выстроит из личных и мимолетных
наблюдений прочной, неразрушаемой постройки. Я говорила: подожду, пока
она не выйдет на конфликт, не создаст коллизию. То есть пока не докажет -
сведя воедино все намеки и подробности, - что не по поверхности скользит,
а и вглубь заглядывает. Теперь пора, скажет себе в известную минуту, теперь
я могу наконец, не совершая ничего сверхъестественного, показать, что все
это значит. И начнет - как понятно это крещендо! - собирать и увязывать, и
вот уже в памяти встают, казалось бы, полузабытые, случайно оброненные
мелочи из разных глав. И обнаружит она их как можно более естественно, за
каким-нибудь обычным занятием героев - она шьет, он курит трубку, и
возникает чувство, чем дальше читаешь, словно ты достиг вершины мира и он
открылся тебе во всей красоте и величии...
Во всяком случае, она пыталась. И наблюдая, как она вытягивается в
прыжке, я знала, но не подавала виду, что к ней со всех сторон лезут деканы
и епископы, профессора и доктора, педагоги и законодатели с
предупреждениями и советами. Этого не сможешь, этого не должна! По траве
разрешается ходить только членам университета! Дамам вход только по
рекомендациям! Особо увлекающихся романисток с изящным слогом просим сюда! Они
512
Дополнения
дразнили ее, точно псы за барьером ипподрома, а для нее было делом чести
взять барьер, не взглянув ни вправо ни влево. Смотри, мысленно говорила я
ей, остановишься послать их к черту или высмеять, и ты пропала. Минутное
колебание или растерянность, и ты погибнешь. Думай только о прыжке, я ее
умоляла, словно все свои деньги на нее поставила, и она взмыла над
барьером как птица. А впереди еще барьер и еще. Достанет ли у нее
выносливости? Стоял оглушительный лай и треск, казалось, лопаются нервы. Но она
держалась молодцом. Учитывая, что Мери Кармайкл не гений, а неизвестная
девушка, которая в однокомнатной квартирке, без денег, урывками пишет
свой первый роман, у нее вышло, думала я, не так плохо.
Дайте ей сотню лет, заключила я, дочитывая последнюю главу, где
людские носы и голые плечи предстали в их наготе на фоне звездного неба, ибо
кто-то отдернул занавес в гостиной, - повторяю, дайте ей сотню лет, свою
комнату и пятьсот фунтов в год, возможность думать открыто и избавиться
от лишних слов, и, уверяю вас, она напишет очень скоро лучшую книгу. Она
будет поэтом, сказала я, ставя роман Мери Кармайкл на самый конец полки,
будет - через сотню лет.
ГЛАВА 6
Наутро в незанавешенные окна падал пыльными колонками октябрьский
свет и с улицы доносился гул машин. Лондон опять завелся, фабрика
ожила, станки пошли. Заманчиво после всего прочитанного выглянуть в окно и
узнать, что делал Лондон утром 26 октября 1928 года. И что же? «Антония
и Клеопатру» никто, похоже, не читал. Лондон, казалось, был совершенно
равнодушен к шекспировским пьесам. Никого не заботили - и я не
осуждаю - будущее литературы, исчезновение поэзии или развитие прозы
средней женщиной в направлении полного выражения ее мысли. Кажется,
напиши об этих проблемах на тротуаре - взглядом не удостоили бы. В полчаса
затерли бы спешащие безразличные подошвы. Пробежал посыльный,
прошла женщина с псом на поводке. На лондонской улице не встретишь двух
одинаковых лиц, тем она и завораживает: такое впечатление, будто каждый
идет по своему, сугубо частному делу. Деловые с папочками, праздные,
барабанившие тростью по ограде, любезные, обо всем осведомленные личности,
окликавшие людей в повозках, точно приятелей по клубу. Шли также и
похоронные процессии, перед которыми мужчины снимали шляпы, вдруг
осознав скорый уход своих бренных тел. И наконец, со ступеней сошел важный
господин и остановился, избегая столкновения с суматошной дамой - в шубе
и с букетиком пармских фиалок. В то утро, казалось, все были разобщены,
заняты собой, своими делами.
И вдруг, как часто бывает в Лондоне, улица стихла и замерла. Ни
машины, ни души. Только в дальнем конце от платана оторвался лист и,
покружившись в воздухе, упал. Точно символ, знак незамечаемой связи явлений.
В. Вулф. Своя комната
513
Той реки, что течет, невидимая, рядом, через людской водоворот, выхватывая
и затягивая людей, как в Оксбридже поток унес студента и мертвые листы.
Сейчас, увлекаемая этим потоком, через улицу летела девушка в лаковых
туфельках и следом за ней молодой человек в темном пальто. Навстречу им
плыло такси. И вот в какое-то мгновение все трое сошлись в одной точке под
моим окном: машина остановилась, остановились и девушка с молодым
человеком, сели в такси, и оно умчалось, словно подхваченное потоком.
Обычная картина, но почему в моем воображении она предстала с
ритмической четкостью? Почему привычные двое в кэбе заражают своей
радостью другого? Очевидно, встреча двух молодых людей на углу освободила
сознание от напряжения, подумала я, глядя вслед отъезжающему такси. Все-
таки это усилие - мысленно отделять два дня подряд один пол от другого.
Нарушается целостность сознания. И только сейчас, когда я увидела, как
двое на углу встретились и сели в такси, я ощутила, что напряжение спало
и мысль ожила. Загадочная штука - человеческий ум, подумала я, убирая
голову из окна, ничего о нем не известно, хотя мы всецело от него зависим.
Почему, например, я так же остро чувствую внутренние разрывы и
разногласия, как и вполне объяснимые физические нагрузки? Что вообще такое
«целостность сознания»? - раздумывала я. Ибо мысль, при ее необыкновенной
способности сосредоточиваться на чем угодно, очевидно, не имеет единого
состояния. Она, например, может отделиться от людей на улице и вообразить
себя независимой, как человек на балконе, глядящий на все сверху. Или,
наоборот, может слиться стихийно с мыслями других людей, как бывает в
толпе, застывшей в ожидании известия. Она может обращаться к своим отцам
или матерям - так женщина-писатель, я говорила, мысленно отталкивается
в своем творчестве от матерей. Сознание женщины неожиданно
раздваивается, скажем, во время прогулки по Уайтхоллу97, когда из естественной
преемницы цивилизации женщина становится ей посторонней, отчужденной и
несогласной. Действительно, сознание постоянно меняет фокус и
показывает мир с разных точек зрения. Правда, некоторые из этих состояний менее
естественны, чем другие. В них приходится себя удерживать, пока не
становится невмоготу. Но есть такие психологические состояния, в которых
пребываешь без всяких усилий, легко и непринужденно. И вот это, подумала я,
отходя от окна, одно из них. При виде пары, севшей в кэб, я вновь ощутила
свою мысль естественным целым, как будто прежде она была разъята на две
половинки. Что объясняется очень просто - полам свойственно
сотрудничать. В каждом сидит глубокое, пусть интуитивное знание, что союз
мужчины и женщины приносит самое полное удовлетворение и счастье. И еще
одна догадка мелькнула у меня при виде пары, остановившей кэб: а может,
в человеческом сознании тоже есть два пола и им тоже необходимо
соединиться для полного удовлетворения и счастья? И я схематично представила
себе, как в человеческой душе уживаются два начала - мужское и женское;
в мужском сознании тон задает мужчина, а в женском - женщина. Нормаль-
17. Вирджиния Вулф
514
Дополнения
ное, спокойное состояние приходит, лишь когда эти двое живут в гармонии,
духовно сотрудничая. Пусть ты мужчина, все равно женская половина
твоего сознания должна иметь голос; так и женщина должна прислушиваться
к своему напарнику. Не это ли имел в виду Колридж, когда говорил, что
великий ум - всегда андрогин? Только при полном слиянии мужской и
женской половин сознание зацветает и раскрывается во всех своих способностях.
Видимо, чисто мужское сознание не способно к творческой деятельности,
как, впрочем, и чисто женское, подумала я. Но не мешало бы остановиться и
уточнить понятия мужественно-женственного и, наоборот,
женственно-мужественного типов сознания на одной или двух книгах.
Разумеется, когда Колридж говорил, что великий ум - всегда андрогин,
он и не думал подчеркивать различия между полами: их неравноправие или
неверное толкование в литературе. Такому сознанию вообще несвойственно
мыслить различиями. Андрогинный ум - тот, что на все отзывается, все
впитывает, свободно выражает свои чувства; ум насквозь творческий,
пламенный и неделимый. Собственно, таким был шекспировский ум - андрогин-
ным, мужественно-женственным по складу, хотя трудно сказать, что именно
думал Шекспир о женщинах. И если действительно свобода от вражды
полов - один из признаков зрелого сознания, то выходит, мы сейчас, как
никогда, далеки от состояния зрелости. Я как раз подошла к книгам современных
писателей и остановилась в раздумье - не это ли обстоятельство лежит в
корне удивляющих меня явлений? Нет века более ожесточенно
себялюбивого, более яростно сосредоточенного на своем мужском или женском
достоинстве, чем наш; бесчисленные опусы мужчин о женщинах в
Британском музее - доказательство. Виновницей этому, безусловно, суфражистская
кампания. Она разожгла в мужчинах страсть к самоутверждению, вынудив
их подчеркивать в пику женщинам свои достоинства. Сами они бы никогда
этого не сделали. Но когда тебя подвергли сомнению, пусть несколько злых
чепчиков, следует отплатить с лихвой, даже если раньше и не трогали.
Возможно, это объясняет кое-какие странности в новом романе м-ра А. - я
достала его с полки. Сейчас он в расцвете лет и, похоже, на очень хорошем счету у
рецензентов. Открываю. Все-таки удовольствие после женщин читать
мужской слог. Прямой, открытый, без лишних слов. А какая свобода, широта,
уверенность в себе! Физически приятно находиться в обществе столь
ухоженного, вышколенного ума, который с пеленок имел полную свободу выбора, ни
разу не был сбит со своего пути. Все было чудесно. Но через одну или две
главы на страницы легла темным препятствием тень, напоминающая чем-то
букву «Я». Ее пытаешься обойти, чтобы хоть мельком схватить задний план.
Что там - дерево или женщина идет? Не разберу. Сзади постоянно
окрикивала буква «Я». Она начинала меня уже раздражать. Нет, это в высшей
степени достойное «Я», честное и логичное, крепкое как дуб, отполированное
веками хорошей школы и добротной пищи. Я уважаю его и восхищаюсь им
от всего сердца. Но - я недоуменно перелистнула страницу или две... нехоро-
В. Вулф. Своя комната
515
шо, что в тени этого замечательного «Я» все остальное расплывается
туманом. Это дерево? Нет, это, оказывается, женщина. Но... она же безжизненна,
подумала я, наблюдая, как Фиби - так звали героиню - выходит на пляж. Тут
Ален встает и своей тенью стирает Фиби. Еще бы: у него на все собственный
взгляд, и Фиби захлебывается в потоке его речей. И потом, по-моему, Алену
не чужды страсти; чувствуя близость развязки, я залистала книгу быстрее и
не обманулась. Это случилось на пляже, под солнцем. И было сделано очень
свободно. Очень по-мужски. Непристойнее не бывает. Но... сколько можно
говорить «но»? На них не уедешь. Доведи свою мысль до конца,
упрекала я себя. «Но - мне скучно!» Но от чего? Слишком уж сильно давит буква
Я - она, как баобаб, сушит все живое вокруг. Тут ничего не растет. И потом,
по-моему, есть еще одна причина. Похоже, у м-ра А. имеется внутренний
барьер, затор, который сковывает его творческую энергию, не дает ей
выхода. И, вспомнив разом званый завтрак в Оксбридже, сигаретный пепел,
бесхвостую кошку, Теннисона и Кристину Россетти, я поняла, кажется, в чем у
него затор. Раз он больше не напевает про себя: «С гелиотропа у ограды...»,
когда Фиби идет по пляжу, и она не отвечает: «Мое сердце ликует как
птица...», когда Ален подходит, что ему остается делать? Честному, как
сегодняшний день, и логичному, как пляжное солнце, ему остается лишь одно.
И он это делает, надо отдать ему должное, еще, и еще (я перелистала книгу),
и еще раз. А это, учитывая ужасающую суть такого кредо, довольно тупо.
Шекспировская непристойность рвет с корнем тысячу сорняков в
читательском сознании, и в ней нет ничего скучного. Потому что Шекспир делает это
ради удовольствия, а м-р А., как сказала бы няня, нарочно, назло. Он
выступает против другого пола, утверждая собственное превосходство. Оттого-то
и скован, зажат и неловок, чего не избежал бы и Шекспир, будь он знаком с
мисс Клоф и мисс Дейвис98. Елизаветинская литература, конечно, выглядела
бы совершенно иначе, если бы борьба женщин за равноправие началась
тремя столетиями раньше.
Выходит, что мужская половина сегодня скована - если следовать
теории о двух сторонах сознания. Мужчины пишут только одной гранью своего
ума. Женщине читать их бесполезно, это все равно что блуждать в пустоте.
Я взяла критику м-ра В. и попыталась очень внимательно и
добросовестно вчитаться в его замечания об искусстве поэзии. И что же?
Высокоученейшие, умные, проницательные суждения - одно плохо: автор не наводит
на размышления, его чувства не передаются, точно его сознание разбито на
камеры, разделенные глухой стеной. И поэтому, когда начинаешь
размышлять над его высказыванием, оно лопается как мыльный пузырь, а возьмешь
суждение Колриджа - оно взрывается и рождает всевозможные мысли, и это
единственный род литературы, про который можно сказать - он обладает
секретом бессмертия.
Как бы то ни было, это грустный факт. Он означает, что первоклассные
произведения наших великих современников - я как раз подошла к шерен-
17*
516
Дополнения
гам книг м-ра Голсуорси и м-ра Киплинга" - наталкиваются на
непонимание. Женщине при всем желании не найти в них того фонтана вечной жизни,
о котором ей твердят критики. И не только из-за того, что в них
прославляются мужские добродетели, навязываются чужие оценки и расписывается
мир мужчин. Просто их книги по своему духу чужды женщине. Задолго до
конца романа начинаешь говорить себе - сейчас, сейчас это произойдет,
обрушится на голову. Эта картина таки свалится на старика Джолиона100, он не
переживет удара, старый слуга помянет его добрым словом, и разольется над
Темзой прощальная лебединая песнь. Но ты ее уже не услышишь - сбежишь,
усевшись где-нибудь под кустом крыжовника, ибо чувство, столь глубокое
и символичное для мужчины, женщину - оглушает. Как и Гордые Офицеры
Киплинга, и его Сеятели, сеющие Ростки Нового, и его Серьезные Деловые
Мужчины, и его Имперский Флаг - от всех этих заглавных букв
становится неловко, точно случайно подслушал разговор расхваставшихся мужчин.
Дело в том, что ни в м-ре Голсуорси, ни в м-ре Киплинге нет и капли
женского. Потому все их свойства и кажутся женщине грубыми и незрелыми.
Не в их власти будить читательскую мысль. Такие книги могут поражать, но
до мысли и сердца им не достучаться.
И уже обеспокоенно и в тревожном ожидании - так бывает, когда берешь с
полки книги и ставишь обратно, не раскрыв, - я попробовала представить
недалекую эпоху чисто мужского, агрессивного сознания, что маячит в письмах
профессоров (сэра Уолтера Рэлея101, например) и уже воплощена правителями
Италии. Ибо в Риме трудно не поразиться этой жесткой мужественности; но,
какую бы ценность ни представляла она для государства, на искусство поэзии
ее влияние сомнительно. Во всяком случае, судя по газетам, в Италии
озабочены состоянием литературы. Уже прошло заседание академиков,
призванное ни больше ни меньше как «развивать итальянский роман». На днях этот
вопрос обсуждался «представителями знати, финансовых, промышленных и
партийных кругов», и была послана телеграмма дуче, выражавшая твердую
надежду, что «фашистская эра скоро породит достойную ее поэзию». Мы все,
конечно, можем присоединиться к упованиям, только вряд ли поэзию
вырастишь в инкубаторе. Поэзии нужны родители - и мать не меньше, чем отец.
Боюсь, как бы «достойное» детище фашизма не оказалось ошибкой природы,
какие случается видеть в склянках в провинциальном музее. Долго они,
известно, не живут, - во всяком случае, еще никто не видел, чтобы это чудо
природы резвилось на зеленом лугу. Две головы - еще не залог бессмертия.
Виноваты же в создавшемся равно и тот и другой пол. Все, кто
пускался в обольщения и реформы: и леди Бесборо, солгавшая лорду Гренвиллу,
и мисс Дейвис, выпалившая правду м-ру Грегу. Виноваты все, кто
разжигал самолюбие и раздувал достоинства своего пола. И именно они толкают
меня, когда хочется поразмять мысли, к той счастливой поре до мисс Клоф
и мисс Дейвис102, когда художник одинаково свободно владел обеими
сторонами своего сознания. И опять приходишь к Шекспиру, андрогину по духу,
В. Вулф. Своя комната
517
какими были и Ките, и Стерн, и Каупер, и Лэм, и Колридж. Шелли, пожалуй,
был бесполым. Милтон и Бен Джонсон слишком мужчины. Как и Вордсворт,
и Толстой. В наше время можно считать андрогином Пруста, если б не
излишек женского. Но это слишком редкий недостаток, так что грех жаловаться.
Обычно, если мужское и женское начала не уравновешены в сознании, верх
берет интеллект в ущерб другим внутренним потенциям. Впрочем, утешала
я себя, и это преходяще. Многое из того, что я здесь сказала, делясь своими
мыслями, покажется завтра устарелым; многому из того, что очевидно для
меня, вряд ли поверят сегодняшние несовершеннолетние.
И все равно первым предложением, подумала я, подходя к столу и берясь
за листок «Женщины и литература», я бы поставила следующее: губительно
человеку пишущему думать односторонне. Нельзя быть просто женщиной
или просто мужчиной по складу мысли: нужно быть
женственно-мужественным или же мужественно-женственным. Губительно женщине писать с
обидой, затевать любую, даже справедливую защиту, о чем бы то ни было
говорить, сознавая свою принадлежность к женскому полу. И это не пустые
слова. Все, написанное с внутренней несвободой, обречено на смерть. Оно
бесплодно. Блестящее и действенное, мощное и совершенное, как может
казаться день или два, оно завянет - придет ночь, не прорастая в людских умах.
Какой-то союз мужчины и женщины должен сложиться в сознании, прежде
чем произведение будет закончено. Противоположностям нужно
пожениться. Сознание должно стать ненарушаемой гладью, чтобы чувствовалось:
художник сообщает целиком свой опыт. Здесь должны быть свобода и мир.
Ни шороха колес, ни огонька. Шторы плотно задернуты. Едва же все отдано,
подумала я, писателю нужно отойти в сторону, и пусть мысль празднует свою
свадьбу втайне от всех. Не надо вновь заглядывать или сомневаться в
сделанном. Лучше обрывать розовые лепестки или смотреть на лебедей, спокойно
плывущих по реке. И я снова увидела поток, унесший лодку со студентом и
мертвые листы; такси подхватило мужчину с женщиной, и поток унес их -
подумала я, слыша рев лондонского движения, - в эту грохочущую лавину.
И здесь Мери Бетон103 умолкает. Она рассказала вам, как пришла к той
прозаической мысли, что каждый, кто думает писать, должен иметь
пятьсот фунтов в год и комнату на замке. Она попыталась обнажить перед вами
мысли и наблюдения, заставившие ее так думать. Приглашала вас броситься
с ней в руки педеля, позавтракать, поужинать, рисовать картинки в
Британском музее, брать с полки книги, смотреть в окно. Все это время, держу пари,
вы отмечали ее слабости, родинки и думали, как они отразились на ее
суждениях. Возражали ей, вносили дополнения и делали важные для себя выводы.
Так и должно быть, в сложных вопросах правду не найти иначе, как
сложением разнообразных ошибок. Закончу я уже от своего имени, предвосхищая
два критических замечания в свой адрес.
518
Дополнения
Мы так и не услышали, скажете вы, какой пол одареннее хотя бы в
литературном отношении. Я об этом нарочно не заговаривала, так как считаю,
что сейчас гораздо важнее знать, сколько у женщин средств и комнат, чем
теоретизировать об их талантливости. Но даже если я ошибаюсь и
настало время обсудить этот вопрос, я не верю, что человеческую одаренность
можно взвешивать, как масло или сахар. Даже в Кембридже, где столь
умело классифицируют людей, надевают им на головы шапочки и метят имена
буквами. Я не верю, что даже табель о рангах Уитеккеровского альманаха104
представляет конечную систему ценностей и есть разумная причина, почему
все же капитан ордена Бани105 должен идти к обеду за приставом комиссии
по умалишенным. Вся эта суета - противопоставление полов, достоинств,
претензии на превосходство и приписывание неполноценности - из
школьного этапа жизни, где всегда есть «две стороны» и одной нужно побить
другую, и высший смысл заключается в том, чтобы подойти к высокой трибуне
и получить из рук самого директора необыкновенно раскрашенный горшок.
С возрастом люди перестают верить в директоров и раскрашенные
горшки. Во всяком случае, к книгам прочные ярлыки клеить невероятно трудно.
Не вечный ли пример тому обзоры текущей литературы? «Великая книга»,
«пустая книжонка» - говорится об одной и той же вещи. Что могут значить
после этого чья-то похвала или хула? Нет, как ни увлекательно строить
оценки, это бесполезнейшее из занятий, а подчиняться оценкам или указам -
наиболее рабская из всех позиций. До тех пор пока вы пишете, как думаете,
только ваши мысли и чувства и имеют значение, а на века ли пишете или на
несколько часов, этого никто не знает. Но поступиться хотя бы волоском с
головы своего образа, тенью его есть самое низкое предательство, рядом с
которым обычные страшные людские жертвы собственностью или
добродетелью покажутся просто темным пятнышком.
Затем вы можете возразить, что я слишком преувеличила значение
материальных условий. Даже со скидкой на символы - что пятьсот фунтов в год -
это способность думать, а замок на двери - самостоятельность мыслей - все
равно, скажете вы, человеческий ум должен быть выше всего материального,
недаром же многие великие поэты были нищими. Позвольте в таком случае
процитировать вам мнение профессора литературы, который знает лучше
меня, откуда берутся поэты. Сэр Артур Квиллер-Куч106 пишет:
«Назовем крупнейших английских поэтов последнего столетия: Кол-
ридж, Вордсворт, Байрон, Шелли, Лэндор, Ките, Теннисон, Браунинг, Ар-
нолд, Россетти, Суинберн - пожалуй, достаточно. Из них все, кроме Китса,
Браунинга и Россетти, имели университетское образование, а из этих троих
один Ките не был состоятельным человеком - Ките, который умер молодым
в самом расцвете! Возможно, я излишне прямолинеен - мне больно обо всем
этом говорить, - но суровая действительность опровергает теорию, будто
поэтический гений дышит одинаково вольно что в бедном, что в богатом.
Жестокая действительность такова, что из двенадцати поэтов девять окончи-
В. Вулф. Своя комната
519
ли университет: а это значит, что они смогли каким-то образом обеспечить
себе лучшее образование, какое могла в то время дать Англия. Из остальных
троих Браунинг, вы знаете, был человеком со средствами, и я готов
поспорить, что в противном случае ему б не удалось написать своего "Саула" или
"Кольцо и книгу", как, впрочем, и Рескину своих "Современных
художников", если бы его отец не преуспел в торговле. У Россетти (Данте Габриэл. -
Н.Р.) же был небольшой капитал, и, кроме того, он мог зарабатывать
живописью. Остается нищий Ките, павший жертвой Атропос107, как позднее это
случилось с Джоном Клером108, кончившим в сумасшедшем доме, и с
Джеймсом Томсоном109, принявшим с отчаяния опиум. Страшные факты, позор
для нашей нации! Но давайте посмотрим им в лицо. Совершенно ясно, что
из-за какого-то изъяна в нашем государственном устройстве у нищего
английского поэта уже двести лет нет никаких шансов выжить. Поверьте моему
опыту - за десять лет я побывал в более чем трехстах начальных школах, -
мы только болтаем о демократии. А в действительности у сына английского
бедняка шансов на духовную свободу, в которой и рождаются великие
произведения, не больше, чем у афинского раба»*.
Яснее не скажешь. «...У нищего английского поэта уже двести лет нет
никаких шансов выжить. ...У сына английского бедняка шансов на
духовную свободу, в которой и рождаются великие произведения, не больше, чем
у афинского раба». Вот так. Духовная свобода зависит от материальных
вещей. Поэзия зависит от духовной свободы. Женщины же были нищими не
только два последних столетия, а испокон веков. Они не имели даже той
духовной свободы, какая была у сыновей афинских рабов. То есть у женщин не
было никаких шансов стать поэтами. Почему я и придаю сегодня такой вес
деньгам и своей комнате. Правда, стараниями тех безвестных женщин
прошлого, о которых нам надо бы знать больше, и, кстати говоря, двум войнам -
Крымской войне, выпустившей Флоренс Найтингейл из ее гостиной, и
войне 14-го года, распахнувшей двери перед средней женщиной, - дела наши
поправляются. Иначе не сидели бы вы здесь, и ваши ненадежные шансы на
пятьсот фунтов в год сократились бы до предела.
И все-таки, усомнитесь вы, стоит ли так настаивать на женском
творчестве, если оно требует стольких усилий, доводит до убийства тетушек,
опозданий к званому завтраку и может даже вовлечь в неприятные споры с
авторитетными персонами? Признаться, отчасти мною движут личные
мотивы. Как и многие неученые англичанки, я люблю читать все. Но в последнее
время мой стол стал скучен и однообразен. Исторические книги все о
войне, биографии сплошь о великих личностях, поэзия, по-моему, склоняется к
стерильности, а проза - но я уже убедилась на романе Мери Кармайкл,
насколько трудно быть критиком современной прозы, и говорить о ней
больше не буду. Я прошу вас писать любые книги, не заботясь, мала ли, велика
* Артур Квиллер-Куч. Писательское искусство (Примеч. Вулф).
520
Дополнения
ли тема. Правдами и неправдами, но, надеюсь, вы заработаете денег, чтобы
путешествовать, мечтать, и размышлять о будущем или о прошлом мира, и
фантазировать, и бродить по улицам, и удить в струях потока. И я вас вовсе
не ограничиваю прозой. Как вы порадуете меня - и со мною тысячи простых
читателей, - если будете писать о путешествиях и приключениях, займетесь
критикой, исследованиями, историей, биографией, философией, науками.
Ибо книги каким-то образом влияют друг на друга, и искусство прозы
только выиграет от содружества с поэзией и философией. Кроме того, если вы
обратитесь к любой крупной фигуре прошлого - Сапфо, госпоже ли Мураса-
ки110 или Эмили Бронте, - вы увидите, что она не только новатор, но и
преемница и своим существованием обязана развившейся у женщин
привычке писать. Поэтому даже в качестве прелюдии к поэзии ваша деятельность
была б неоценимой.
И все же мои мотивы не узколичные: сейчас я это вижу, когда еще раз
мысленно взвешиваю ход моих рассуждений. За всеми замечаниями и
наблюдениями стоит убеждение - или инстинкт? - что литература - дело полезное
и что хорошие авторы при всех их разнообразных грехах - люди нужные.
И, предлагая вам сегодня писать больше книг, я подталкиваю вас к делу для
вашей же и общечеловеческой пользы. Как оправдать этот инстинкт или
веру, я не знаю, неученых философские термины часто подводят. Что такое
«реальность»? Нечто очень рассеянное, непредсказуемое - сегодня находишь
в придорожной пыли, завтра на улице с обрывком газеты, иногда это
солнечный нарцисс. Словно вспышкой освещает она людей в комнате и
отчеканивает брошенную кем-то фразу. Переполняет душу, когда бредешь домой под
звездами, делая безгласный мир более реальным, чем словесный, - а потом
снова обнаруживается где-нибудь в омнибусе среди гвалта Пикадилли.
Порой гнездится в таких далеких образах, что и не различишь их природу. Но
все, отмеченное этой реальностью, фиксируется и остается. Единственное,
что остается после того, как прожита жизнь и ушла вся наша любовь и
ненависть. И мне кажется, никому так не дано жить в постоянном ощущении этой
реальности, как писателю. Отыскивать ее, и связывать с миром, и сообщать
другим - его задача. Во всяком случае, в этом убеждает чтение и «Лира», и
«Эммы», и «В поисках утраченного времени»111. Эти книги словно снимают
с глаз катаракту: видишь яснее все впереди; кажется, с мира спала пелена, и
он зажил ярче. Можно только позавидовать враждующим с нереальностью и
пожалеть разбивших лоб по собственному равнодушию или невежеству. Так
что, прося вас зарабатывать пятьсот фунтов в год и добиваться своей
комнаты, я убеждаю вас жить в ощущении реальности - захватывающая будет
жизнь! Даже если и не передать ее.
Здесь самое время кончить, но, по обычаю, во всякой речи должно быть
заключение. И согласитесь, заключительное слово, обращенное к
женщинам, должно быть особенно торжественным и возвышенным. Мне следовало
бы умолять вас быть выше, духовнее, помнить о возложенной на вас ответст-
В. Вулф. Своя комната
521
венности, о том, как много от вас зависит и какое влияние вы можете оказать
на будущее. Впрочем, оставим эти высокие слова мужчинам, они
произнесут их гораздо красноречивее. Я же тщетно ищу в себе возвышенные фразы
о братстве, равенстве, продвижении человечества к вершинам. Вместо этого
говорю коротко и буднично - будьте самими собой, это куда важнее. Не
мечтайте изменить других - жаль, не умею произнести это возвышенно.
Думайте о сути вещей.
И снова газеты, романы, биографии напоминают мне: если женщины
обращаются друг к другу, значит, жди какого-то подвоха. Женщины
беспощадны друг к другу. Женщины терпеть друг друга не могут. Женщины... но
неужели вам еще не надоело это слово? Мне лично - до смерти. В конце
концов, ладно: пусть обращение женщины заканчивается какой-нибудь
шпилькой.
Но какой? В каком духе? По правде сказать, мне нравятся женщины.
Нравятся своей необычностью. Отточенностью. Своей безымянностью. Своей...
но так дальше не пойдет. В том буфете, по-вашему, лежат чистые салфетки?
А если я сейчас вытащу оттуда сэра Арчибальда Бодкина112? Позвольте мне
лучше взять более суровый тон. Разве мало я передала вам угроз и
мужского неодобрения? Я указала в докладе, сколь низкого мнения о вас был
м-р Оскар Браунинг. Что о вас думал в свое время Наполеон, а сегодня
заявляет Муссолини. На случай же, если кто-то мечтает о литературе, выписала
совет критика о том, что женщинам следует держаться границ своего пола.
Я сослалась на утверждение профессора X, что женщины интеллектуально,
морально и физически ниже мужчин. Я передала вам все, что попалось на
пути, долго не отыскивая, и вот последнее предупреждение - от м-ра Джона
Дейвиса113. Он считает, что «с исчезновением потребности в потомстве
отпадет и всякая необходимость в женщинах»*. Надеюсь, вы это себе отметили.
Как еще мне заставить вас всерьез заняться жизнью? Молодые
женщины - скажем так, и прошу не отвлекаться, начинается заключительное
слово, - вы, по-моему, погрязли в невежестве. Вы ничего не открыли стоящего.
Не покачнули ни одной империи, не бросили в бой ни одной армии. Пьесы
Шекспира по-прежнему принадлежат не вам, и не вы приобщаете
варварские народы к благам цивилизации. А оправдание ваше? В ответ обведете
рукою улицы, площади и леса планеты, кишащие черным, белым и цветным
народом, занятым в общем круговороте - кто делом, кто любовью, и
скажете: у нас много другой работы. Без наших рук моря остались бы
нехожеными, а благодатные земли пустыми. Мы выносили, выкормили и дали детство
этому миллиарду шестистам двадцати трем миллионам человек,
насчитывающихся сегодня по статистике, а на это, согласитесь, нужно время.
Ну что ж, в ваших словах есть правда - не отрицаю. Но напомню, что с
1886 года в Англии существуют два женских колледжа. С 1880 года замуж -
* Дж.Л. Дейвис. Краткая история женщин (Примеч. Вулф).
522
Дополнения
ней женщине позволено иметь личную собственность, а в 1919 году - целых
девять лет назад - ей дали и право голоса. И уже почти десять лет для вас
открыто большинство профессий. Если вы обдумаете грандиозные привилегии
и сроки пользования ими и тот факт, что уже сейчас около двух тысяч
женщин в Англии зарабатывают в год пятьсот фунтов, вы согласитесь, что
оправдываться отсутствием условий, подготовки, поддержки, времени и денег
уже нельзя. Кроме того, экономисты говорят, что тринадцать детей у миссис
Сетон114 - лишек. Рожать женщинам, разумеется, все равно придется, но по
два, по три, а не десятками и дюжинами.
А раз так, то, выгадав немного свободного времени и имея в голове кое-
какой книжный багаж - знаний другого рода у вас достаточно, надеюсь, не
за софистикой послали вас в колледж, - вы должны будете ступить на
следующий этап вашего очень долгого, очень трудного и неисследованного пути.
Тысячи перьев берутся подсказать, куда вам плыть и что из этого получится.
Мое предложение чуть фантастическое, прибегаю поэтому к вымыслу.
Помните, я говорила, что у Шекспира была сестра? Только не ищите ее
в биографиях поэта. Она прожила мало - увы, не написав и слова. Ее
похоронили там, где сегодня буксуют омнибусы, напротив гостиницы «Слон и
замок». Так вот, я убеждена - та безымянная, ничего не написавшая и
похороненная на распутье женщина-поэт жива до сих пор. Она живет в вас, и во
мне, и еще во многих женщинах, кого сегодня здесь нет, они моют посуду и
укладывают детей спать. Она жива, ибо великие поэты не умирают,
существование их бесконечно. Им только не хватает шанса предстать меж нами
во плоти. Придет ли такая возможность к сестре Шекспира, думаю, теперь
зависит от вас. Я уверена: если мы проживем еще сотню лет - я говорю о
нашей общей жизни, реальной, а не о маленьких отдельных жизнях, что у
каждого своя. Зарабатывая пятьсот фунтов в год и обживая свои комнаты.
Развивая в себе привычку свободно и открыто выражать свои мысли. Видя
людей, какими они есть, а не только в отношениях друг с другом, и небо, и
деревья, и все существующее. Без страха перед милтоновским пугалом, ибо
никому не позволено заслонять простор. Признав, наконец, факт, что опоры
нет, мы идем одни и связаны не только с миром мужчин и женщин, но и с
миром реальности... Тогда - случай представится, и тень поэта, сестры
Шекспира, обретет наконец плоть, которой так часто жертвовали. Вобрав в себя
жизни безвестных предшественниц, как прежде ее брат, она родится.
Рассчитывать же, что придет сама, без наших приготовлений и усилий, и выживет,
и сможет писать свои стихи - нельзя, ибо это невозможно. Но я убеждена:
она придет, если мы станем для нее трудиться, и труд этот, даже в нищете и
безвестности, все же имеет смысл.
Приложения
Н.И. Рейнгольд
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
И ЕЕ «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ»
Последние двадцать пять лет имя английской писательницы
Вирджинии Вулф (1882-1941) у русского читателя на слуху. И это не случайно-
именно за эту четверть века на русский язык были переведены почти все ее
романы: «По морю прочь» («The Voyage Out», 1915), «Комната Джейкоба»
(«Jacob's Room», 1922), «Миссис Дэллоуэй» («Mrs. Dalloway», 1925), «На
маяк» («То the Lighthouse», 1927), «Орландо» («Orlando», 1928), «Волны»
(«The Waves», 1931), «Годы» («The Years», 1937) и «Между актов» («Between
the Acts», 1941). Непереведенным остается лишь один роман, с легкой руки
критиков окрещенный «традиционным» (и потому-де менее интересный,
чем экспериментальная проза писательницы-модернистки), - это «День
и ночь» («Night and Day», 1919). Опубликована половина «русских эссе»
Вулф - собственно, с них и началась русская вулфиана1, отдельные рассказы
и эссе2.
Но так было не всегда. Названная Д.С. Мирским еще в 1934 г.
«несомненно великим художником», создавшим «свой собственный метод,
представляющий собой лирическое изображение характеров - своеобразную
эстетизацию чеховского метода в "Трех сестрах"», «искусство, действующее
как наркотик»3, модернистка Вулф на долгие десятилетия оказалась в роли
пугала для здорового советского читателя (как, впрочем, и другие
модернисты - Дж. Джойс, Т.С. Элиот, Д.Г. Лоуренс): на ее книги был наклеен ярлычок
изощренного до болезненности психологизма и принципиальной аисторич-
ности, импрессионистических фантазий и гиперэстетизма; понятно, что
такая «репутация» не способствовала ее известности в стране «победившего
социализма». Перед возможными переводчиками Вулф оказались закрыты
двери всех советских издательств и литературных журналов. Лишь в 1978 г.
был чудом напечатан первый перевод коротенького эссе Вулф «Льюис Кэрол»
1 См.: Вулф В. Русская точка зрения / Пер. Кс. Атаровой // Писатели Англии о литературе. М.,
1981; Вирджиния Вулф о русской литературе. Эссе: Больше Достоевского. Русский
школьник. Вишневый сад. Горький о Толстом. Романы Тургенева / Пер. Н. Бушмановой // Вопр.
лит. 1983. №11; Вирджиния Вулф о русской литературе / Вступ. ст., пер., примеч. Н.
Бушмановой // В мире отечественной классики: Сб.ст. М., 1998. Вып. 2. С. 260-282.
2 Вулф В. Избранное / Под ред. Е.Ю. Гениевой. М., 1988.
3 Mirsky D. The Intelligentsia of Great Britain / Trans. A. Brown. L., 1935. P. 117, 118. Ср.:
Мирский Д.С. Интеллиджентсиа. M., 1934.
526
Приложения
(1939)4, и только в перестройку, когда произведения писательницы вышли
общим тиражом в 2,5 млн экземпляров, дело сдвинулось с мертвой точки.
Сегодня русский читатель, особенно читатель молодой, не помнит и не
знает о советском «катке», что прошелся по литературе модернизма. И
слава богу! И все же, боюсь, не ошибусь, если скажу, что и в сегодняшнем
незамутненном идеологическими аберрациями взгляде русского читателя в
сторону Вирджинии Вулф сохраняются следы той запоздалой встречи. Они
видны в трафаретности мнений и почти нулевом градусе личного интереса:
«Вулф?» - переспросят одни. «Скукотища, элитарная литература, женская
болтовня!..» Другие разведут руками: «Вулф?! Да что тут говорить-
великий классик!»
Стоит сравнить этот образ с аналогичным представлением о Вулф в
западной и восточной культурах, и мы увидим разительное несовпадение.
Сегодня творчество Вирджинии Вулф воспринимается как неотъемлемая часть
мировой литературы, ее имя входит в десятку крупнейших писателей XX в.
В Японии каждые десять лет появляются новые переводы ее произведений.
В Южной Корее с середины 1990-х годов действует издательская
программа перевода всего литературного наследия писательницы, включая критику,
ей посвященную. Во Франции, в Швеции, Португалии, США (список
можно расширить до трех десятков стран по всему миру) существуют научные
общества по изучению творческого наследия Вулф. Ее книги - такая же
обязательная часть университетского курса «Мировая литература», как
произведения Толстого или Достоевского. Ее эссе «Своя комната» («A Room of
One's Own», 1929) издавалось сотни раз. «Еще бы! - скажет иной
обыкновенный читатель в Париже или в Осло, Сеуле или Порто - это настольная
книга современной женщины» (заметьте, отнюдь не только англичанки или
американки). Ее романы «Миссис Дэллоуэй», «Орландо» экранизированы,
давно разошлись на цитаты, иные из которых знает даже школьник. Волны
забвения и моды, хулы и хвалы, которые периодически накатывали на
творчество Вулф в 1930-1950-е годы, отступили, и сегодня без ее книг
невозможно представить мировую классику XX в.
Мы же до сих пор путаемся в датах ее рождения и смерти5 и толком не
знаем, кто она, Вирджиния Вулф, и почему ее надо или не надо бояться6.
Итак, несколько слов об авторе литературного памятника, предлагаемого
вниманию читателя.
4 См.: Кэрролл Л. Алиса в стране чудес / Пер. Н.М. Демуровой. М., 1978. С. 248-250.
5 В «Краткой литературной энциклопедии» 1962 г. сохраняется досадная неточность: Вулф
ушла из жизни не 31 марта 1941 г. во Франции, как сказано в статье, а 28 марта 1941 г. в
Сассексе (Англия).
6 В 1960-е годы имя Вирджинии Вулф неожиданно «разрекламировал» (как сказали бы мы
сегодня) Эдвард Олби своей знаменитой пьесой «Кто боится Вирджинии Вулф?», блестяще
переведенной Натальей Волжиной.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 527
* * *
Вирджиния Аделаин Стивен родилась 25 января 1882 г. в семье видного
английского историка Лесли Стивена и Джулии Принсеп (Дакворт по
первому мужу). Вирджиния была младшей дочерью из четырех общих детей
Стивена и г-жи Принсеп (для обоих это был второй брак): старших -
Ванессы и Тоби, и младшего - Адриана. Дом был типично викторианский: под
одной крышей жили родители и дети, близкие и дальние родственники;
летом уезжали из душного Лондона и спасались в Корнуолле, на взморье, в
местечке Сент-Айвз, где родители снимали на летний сезон загородный дом
«Тэланд-хаус». Дети жили полной жизнью: едва успев научиться читать и
писать, издавали свой домашний журнал, рисовали, пели... Первым ударом
для всей семьи стала смерть в 1895 г. Джулии - дом «треснул», детство
кончилось; отныне, вплоть до своей смерти в 1904 г., Лесли Стивену,
интеллектуалу, ученому, пришлось «хлопотать по хозяйству». Точнее, хлопотали его
дочери, а он пытался ими руководить; понятно, что ничего путного из этого
не могло выйти - лишь конфликты да взаимные обиды. Разумеется, все дети
Лесли Стивена получили образование: сыновья учились в Кембридже,
старшая дочь Ванесса, рано обнаружившая наклонности к рисованию, - в школе
живописи Королевской академии искусств; одна только Вирджиния
оставалась дома - отчасти из-за слабого здоровья, отчасти из-за тогдашнего
устройства системы образования: университет для подавляющего большинства
женщин в те годы был закрыт. Уроки древнегреческого, латыни
Вирджиния Стивен проходила с домашними учителями, зато у нее было одно
колоссальное преимущество перед школьной выучкой: отец открыл перед ней
свою домашнюю- огромную! - библиотеку и, самое главное, обсуждал с
ней прочитанное. (Впоследствии Вирджиния Вулф много раз «пройдется»
по несправедливости общества, лишающего женщин равных с мужчинами
интеллектуальных возможностей, и хотя она, безусловно, права в своем
демократическом недовольстве, нельзя не заметить, что энциклопедичностью
своих знаний и свободой мысли она во многом обязана домашнему
воспитанию под крылом Лесли Стивена.)
Отец умер в 1904-м, и в тот же год Вирджиния сделала первые шаги на
литературном поприще, начав с рецензий для периодических изданий,
одновременно ища себя в прозе: ее первый роман «По морю прочь» (1915)
вырос из той ранней пробы пера под названием «Мелимброзия». В 1912 г. она
вышла замуж за Леонарда Вулфа (1880-1969), кембриджского однокашника
своего старшего брата Тоби; как она писала, «еврея без гроша», и с этого
времени началась их совместная с Вулфом, в чем-то тернистая, но в целом
счастливая, деятельная и успешная жизнь, особенно если вспомнить, что
жить им выпало между двумя мировыми войнами.
Судите сами: за 30 лет супружества Вулфы затеяли издательство «Хо-
гарт Пресс», которое и сегодня занимает прочное место на издательском
рынке.
528
Приложения
Оба они состоялись как творческие личности: Леонард Вулф вошел в
историю общественной мысли XX в. как публицист, политик, идеолог Лиги
Наций.
Вирджиния Вулф, автор 9 романов, более 400 эссе и т.д., еще при жизни
пользовалась славой создательницы современной психологической прозы.
Философом женского и мужского начал в человеке. Мыслителем,
убежденным в изменчивости любых суждений, оценок, взглядов и мнений... И это
далеко не все «звезды» в ее послужном списке.
Так, на мозаичном панно, выполненном Борисом Анрепом в 1930 г. по
заказу Лондонской национальной галереи, Вирджиния Вулф увековечена в
образе Клио, древнегреческой музы истории. Ожидаемый вопрос: как,
модернистку, «ниспровергательницу традиции» изобразили в облике
богини истории? Не может быть! Может, ответят все, кто знаком с двухтомным
собранием эссе Вулф «Обыкновенный читатель» (1925, 1932). Что же стоит
за признанием современниками заслуг Вирджинии Вулф на почве истории
английской литературы?
* * *
Обратимся к конкретным фактам и цифрам.
Подавляющее большинство эссе Вулф7 представляли собой книжные
обозрения или рецензии на произведения самых разных жанров:
художественную прозу, поэзию, исторические труды, мемуары, биографии и т.д.
Исключение составляет буквально дюжина эссе, опубликованных отдельными
книжками в издательстве «Хогарт Пресс»8.
С 1904-го по 1940-е годы Вулф сотрудничала с ведущими периодическими
изданиями Великобритании и США: газетами «Гардиан» («The Guardian»),
«Тайме» («The Times»), литературным приложением к «Тайме» («The Times
Literary Supplement»), «Нейшн энд Атенеум» («Nation and Atheneum»),
«Нью-Йорк геральд трибюн» («The New York Herald Tribune»), «Ти Пиз Уик-
ли» («T.P.'s Weekly»), «Уикли диспетч» («Weekly Dispatch»), «Дэйли Уоркер»
(«The Daily Worker»)9 и журналами «Спикер» («The Speaker»), «Лиснер» («The
Listener»), «Нью стейтсмен» («The New Statesman»), «Нью репаблик» («New
Republic»), «Стейтсмен энд Нейшн» («The Statesman and Nation»), «Hay энд
Тен» («Now and Then»), «Форум» («The Forum»), «Тайм энд Тайд» («Time
7 Начиная с первой ее публикации 1904 г. и заканчивая последними, такими как «Джорджиана
и Флоренс» («Лиснер». 1940. 31 окт.).
8 Таковы «Жизнь, как мы ее знали» (вступительная статья Вулф к изданию воспоминаний
членов кооператива трудящихся женщин, опубликованных под редакцией Маргарет Льюлин в
1931 г.), «Письмо к молодому поэту» (1932), «Уолтер Сиккерт: беседа» (1934) и несколько
других.
9 Воспроизводится традиционное, знакомое читателю по советской прессе название газеты.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 529
and Tide»), «Сэтерди ревью оф литрече» («Saturday Review of Literature»),
«Иейл ревью» («Yale Review»), «Лайф энд летерс» («Life and Letters»), «Бук-
мен» («The Bookman»), «Фортнайтли ревью» («The Fortnightly Review»),
«Корнхил мэгэзин» («The Cornhill Magazine»), «Дайл» («The Dial»), «Крайти-
рион» («The Criterion»), «Атлантик мантли» («The Atlantic Monthly»), «Bor»
(«The Vogue»)10, «Космополитен» («The Cosmopolitan»)11. Даже простой
перечень изданий, в которых сотрудничала Вулф на протяжении 37 лет, и число
опубликованных ею рецензий, книжных обзоров, литературно-критических
эссе и открытых писем к редакторам, которые составляют сотни названий12,
не оставляет у читателя сомнений: Вирджиния Вулф - профессиональный
эссеист, литературный критик, книжный обозреватель и рецензент с
огромным опытом сотрудничества как в старейших английских периодических
изданиях, например в литературном приложении к «Тайме», так и в
новейших литературно-критических журналах вроде «Крайтирион» (1922-1939).
Она годами работала и с солидными академическими изданиями, такими как
«Атенеум» (1828-1921), и не чуралась популярных «глянцевых», как
сказали бы сегодня, журналов типа «Вог» или «Космополитен». Сотрудничала и
с частными политически нейтральными изданиями вроде «Уикли диспетч»,
10 См. примеч. 9. Современный русский читатель знает этот американский журнал именно
как «Вог».
11 В количественном отношении сотрудничество Вулф с периодическими изданиями
выглядит так: 200 эссе (1904-1940) опубликованы в литературном приложении к «Тайме»; более
70 эссе (1923-1930)- в «Нейшн энд Атенеум»; 10 эссе (1926-1929) в «Нью-Йорк
геральд трибюн»; по 6 эссе- в «Нью стейтсмен» (1920-1921) и в «Атенеум» (1919-1920);
5 эссе- в «Нью репаблик» (1924-1929); по 4 эссе- «Корнхил мэгэзин» (1908), «Лиснер»
(1928-1940) и «Вог» (1925-1926); по 3 эссе - в «Гардиан» (1904-1905), «Форуме» (1926-
1928), в «Тайме» (1916-1938), в «Нью стейтсмен энд Нейшн» (1933-1939) и в
ежемесячнике «Атлантик» (1927-1939); 2 эссе- в «Йейл ревью» (1926-1927) и по одному эссе в
«Спикер» (1906), «Дайл» (1923), в «Крайтирион» (1924), в «Сэтерди ревью оф литрече»
(1925), в «Hay энд Тен» (1927), «Тайм энд Тайд» (1928), «Ти Пиз уикли» (1927), «Уикли
диспетч» (1927), в «Лайф энд летерс» (1928), «Букмен» (1929), в обозрении
«Фортнайтли ревью» (1931), в «Дэйли Уоркер» (1936) и в «Космополитен» (1938). Составлено по
библиографии Кёркпэтрик Браунли Джин (см.: KirkpatrickB.J. A Bibliography of Virginia
Woolf. L., 1957; revised éd. 1967; 2nd revised éd. Oxford, 1980) и материалам «Appendix VI:
Notes on the Journals» в: The Essays of Virginia Woolf/ Ed. A. McNeillie. L., 1994. Vol. IV.
P. 611-619.
12 Их не полное количество составляет более 400 эссе. Причем истинный масштаб
деятельности Вулф-эссеиста открылся лишь в 1986 г. с изданием полного собрания ее
эссе, которое предпринял крупнейший английский вулфовед, автор библиографии
критических работ о творчестве В. Вулф и многотомного издания ее эссе,
«душеприказчик» наследия писательницы Эндрю Мак-Нейли (см.: McNeillie A. An Annotated Critical
Bibliography of Virginia Woolf. Totowa; New Jersey, 1983; The Essays of Virginia Woolf: 6
vols. L., 1986-2011; и др.) Опубликованный шеститомник эссе Вирджинии Вулф
представляет собой собранные в английской и американской периодической печати 1904—
1940 гг. работы, перепечатанные в хронологической последовательности и снабженные
комментариями.
530
Приложения
и с политически ангажированными газетами, например с «Дэйли Уоркер» -
органом коммунистической партии Великобритании.
Интересно, что «до 1925 г. Вулф главным образом появлялась в
литературном приложении к "Тайме", в еженедельниках "Нейшн" и "Нью стейт-
смен". Начиная же с 1925 г., она расширяет круг периодических изданий:
все больше пишет для солидных американских газет и журналов ("Нью ре-
паблик", "Форум", "Йейл ревью", ежемесячника "Атлантик", "Нью-Йорк
геральд трибюн"). В 1924 г. "Вог" заказывал ей по четыре статьи из расчета
10 фунтов стерлингов за 1000 слов; в 1927 г. она могла выбирать - спокойно
отказаться от 10 фунтов, которые ей платили за статью в литературном
приложении к лондонской "Тайме" и спокойно напечатать ее в американской
прессе, где ей платили за тот же материал в шесть раз больше: она как-то
даже похвасталась Вите Сэквилл-Уэст, что нью-йоркский "Трибюн"
заказывает ей четыре эссе за 120 фунтов стерлингов, и что она может смело
попросить "Йейл ревью" о прибавке. Все эти факты говорят о высокой
профессиональной репутации и независимости, которыми пользовалась в 1920-е годы
Вирджиния Вулф как эссеист, книжный обозреватель и литературный
критик. Так будет не всегда: в 1930-е годы ее отношение к литературному рынку,
его требованиям, компромиссам, сопровождавшим заказы, изменится, и она
будет печатать все меньше и меньше рецензий и эссе»13.
Как тут не вспомнить «Современное эссе» («The Modern Essay», 1922) из
первой серии «Обыкновенного читателя» 1925 г., где писательница
рассуждает о задачах эссеиста в связи с изменениями интересов и вкусов
читательской аудитории? Читая его, понимаешь, что едва ли не самым ярким
явлением англоязычной периодики 1920-1930-х годов были эссе самой Вирджинии
Вулф (о чем в эссе она, разумеется, не говорит ни слова). Успех не пришел
сам собой: за ним стояла многолетняя титаническая работа художника-пер-
фекциониста и над материалом - рецензируемой книгой, темой, проблемой,
и над текстом (рукописи эссе наглядно показывают многократную правку,
которой подвергалось каждое эссе), и над той художественной формой,
которая едва ли не каждый раз представала перед ней как поле исканий, но
отнюдь не устоявшийся шаблон или трафарет.
РАМКИ ЖАНРА
Что же такое классическое английское эссе? И чем оно отличается (если
отличается вообще) от привычного для нас очерка? В чем состоит
своеобразие этой художественной формы, возникшей в Европе в XVI в. и обретшей
на английской почве свое неповторимое лицо? Наконец, как смотрится на
фоне традиции эссе нашей героини?
13 Lee Я. Virginia Woolf. L., 1996. P. 559.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 531
Читатель не найдет среди исследователей творчества Вулф единодушия
относительно того, что именно составляет своеобразие ее эссе. Вот и одна из
последних монографий на эту тему - исследование канадской ученой Мель-
бы Кадди-Кин14 - не проясняет суть дела. С точки зрения автора, жанровая
форма эссе Вирджинии Вулф представляет собой развитие монтеневского,
психологического, типа эссе. Вся же эссеистика писательницы - это пласт
многолетней публицистики, создававшейся в диалоге с читательской
аудиторией, по большей части женской, о чем свидетельствует переписка, отклики
читателей и читательниц на эссе, статьи, лекции Вирджинии Вулф.
Согласитесь, есть определенное противоречие между представлением М. Кадди-Кин
о психологическом рисунке эссе Вулф и ее деятельности публициста,
работающего на «передовой» читательского интереса, противоречие, которое
сама исследовательница выносит за скобки обсуждения. Не снимает вопрос
и Джулия Бригз своим проницательным суждением о подчеркнуто
современном повороте эссе у Вулф15, а Э. Мак-Нейли еще сильнее заинтриговывает
читателя, когда говорит о том, что Вулф применяла к эссе художественные
критерии ясности и логики организации повествования едва ли не в большей
степени, чем к роману или рассказу. (В связи с этим вспоминается раннее
высказывание Э.М. Форстера о том, что в своих эссе Вулф часто проявляет
себя больше романистом, чем в прозе16.)
На мой взгляд, своеобразие эссеистики Вулф проявляется в контексте
традиции английского эссе: на фоне и в сравнении с эссеистами прошлого.
Заглянем в историю и попробуем провести сравнение.
Как известно, английское эссе возникло на рубеже XVI-XVII столетий
и развивалось в двух основных направлениях:
исповедально-психологическом, восходящем к «Опытам» Монтеня (1533-1592), и философско-нраво-
учительном, начатом Фрэнсисом Бэконом (1561-1626). Границы между ними
не были жесткими, и две эти линии часто соединялись в творчестве одного
автора.
В целом английское эссе XVII в. сохраняло связь с культурой Ренессанса
и прежде всего с традицией Монтеня.
Так, не случайна заключительная фраза в эссе «О советах» («On Counsel»)
английского эссеиста сэра Уильяма Корнуоллиса (ок. 1579-1614): «Я пишу,
следовательно, самому себе, и мое «Я» извлекает пользу из моих сочинений»17.
Первые его эссе были опубликованы в 1600 г. и затем регулярно (многие, увы,
посмертно) появлялись в течение почти 30 лет («Essayes», 1610, 1616; «Эссе
14 Cuddy-Keane M. Virginia Woolf, the Intellectual and the Public Sphere. Cambridge [etc.]:
Cambridge Univ. Press, 2005.
15 См.: Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. L., 2005. P. 109-129.
16 См.: Forster EM. [On Virginia Woolf (1942)] // Recollections of Virginia Woolf by Her
Contemporaries / Ed. by Joan Russell Noble. L., 1972. P. 191.
17 Cp. «I write therefore to myself, and my self profits by my writing». Цит. no: MacDonald W.L.
The Earliest English Essayists // English Studies. 1929. Bd. 64. Hf. 1. P. 37.
532
Приложения
об известных парадоксах» - «Essays on Certain Paradoxes», 1617; «Эссе, или
Панегирики» - «Essays or Encomiums», 1616, 1626). Как и у Монтеня,
большинство эссе Корнуоллиса представляло собой обращение автора к самому
себе или подробное описание своего внутреннего состояния. С тем
различием, что они носили характер философский, при полном отсутствии
светского тона непринужденной беседы, свойственного Монтеню18. Сказалась ли в
этом национальная традиция философско-дидактического эссе Ф. Бэкона? -
вопрос открытый.
Своеобразно преломилась ренессансная традиция и у Ричарда Джонсона
(1573 - ок. 1659), чьи первые эссе увидели свет в 1607 г.19 В них не было и
намека на самоанализ, зато широко воспроизводилась культура античности.
Впрочем, при всех достоинствах, эссе Уильяма Корнуоллиса,
Ричарда Джонсона, Дэниэла Тьювила (автора «Эссе правоучительные и
богословские» - «Essayes Morall and Theologicall») не стали явлением литературы.
Художественных достоинств в них нет - они лишь повторяли отдельные
стороны эссе Монтеня и Бэкона. Из эссеистов XVII в. по-настоящему самобытны
двое - Томас Браун (1605-1682) и Роберт Бэртон (1577-1640). Томас Браун
известен как создатель медитативной психологической прозы в форме
драматизированного повествования, где авторское «Я» скрыто за масками нескольких
рассказчиков. Образцами подобной прозы выступают у Брауна «Кредо
врачевателя» («Religio Medici», 1630-е) и «Кипарисовый сад» («The Garden of Cyprus»,
1658). Роберт Бэртон, автор социально-психологического трактата «Анатомия
меланхолии» («The Anatomy of Melancholy», 1621), привил английскому эссе
культуру анализа психологии в связи с общественными вопросами.
Во второй половине XVII столетия из эссе выделилась собственно
литературная критика. «Отцом» английской критики выступил Джон Драйден
(1641-1700), автор предисловий к своим драматическим произведениям.
А в начале XVIII в. от литературного эссе отпочковалось эссе
публицистическое. Своим возникновением оно обязано бурному развитию английской
журналистики после отмены цензуры в 1695 г., а также благодаря
деятельности ранних английских просветителей.
В публицистическом эссе начала XVIII в. выделяются две главные
линии: воспитательная и сатирическая. Как известно, создателем
воспитательного эссе стали Джозеф Аддисон (1672-1719) и Ричард Стил (1672-1729),
а сатирическое памфлетное эссе расцвело под пером Даниеля Дефо (1660—
1731) и Джонатана Свифта (1667-1745). Просветительское эссе Аддисона и
На эту особенность английского эссе XVII в. указывал Лесли Стивен: «В сравнении с
французами, нам больше привычны такие способы выражения, которые сложились в процессе
чтения проповеди за кафедрой, нежели во время оживленной беседы. Эссе после Бэкона
не застыло в форме блестящих афоризмов, а приобрело большую последовательность и
ясность изложения» (Stephen L. English Literature and Society in the Eighteenth Century. L.,
1940. P. 61).
«Приятные прогулки по Мурфилдз» («The Pleasant Walks of Moorefields», 1607).
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 533
Стила занималось воспитанием нравов. Позднее Сэмюэл Джонсон
справедливо укажет на итальянских предшественников Аддисона на поприще
воспитательного очерка - Джованни делла Казу (1503-1556) и Бальдассаре Кас-
тильоне (1478-1529). Как отмечал С. Джонсон, «...научить минимальным
приличиям и житейским обязанностям, внести порядок в ежедневное
общение, уметь поправлять те огрехи, которые скорее смешны, чем пагубны, и
устранять те мелкие огорчения, которые, может быть, и не приносят
большого несчастья, но, тем не менее, вызывают ежечасное раздражение, - все это
впервые попытался изложить в своей книге "Манеры" Каза, а Кастильоне - в
своем "Придворном": две эти книги среди итальянцев в большой чести за их
ясность и светский тон, и если сегодня их стали читать реже, то лишь
оттого, что исправление вкусов, за которое ратовали авторы, уже состоялось - во
многом, благодаря их усилиям... Лучшим доказательством пользы, которую
они в свое время принесли, выступают многочисленные переводы их на
языки народов Европы, которые поспешили "заказать" почти во всех
европейских странах»20. В основе аддисоновского эссе лежала традиция Ф. Бэкона,
А. Каули, У. Темпла и других моралистов XVII в., хотя нельзя не отметить
и то, что английской культуре с самых ранних древнеанглийских ее основ
была присуща морально-дидактическая линия: она проявлялась и в
гномических назиданиях, и в сюжетных поворотах, связанных с советами герою,
которые находим уже в англосаксонском эпосе «Беовульф», позднее
подхваченными поэтами и драматургами елизаветинской эпохи (ср. традиционный
раннесредневековый мотив «совета» и обращение Полония к Лаэрту в I акте
«Гамлета»21).
Возвращаясь к непосредственным источникам просветительского эссе, -
новациями Аддисона и Стила стали открыто гуманистический характер
воспитательного эссе, который они разрабатывали на страницах «Болтуна»
(«The Tatler») и «Зрителя» («The Spectator»), а также интонация живой
беседы с просвещенным и вдумчивым рассказчиком. Аддисон и Стил первыми в
английской литературе создали тип эссе с вымышленным повествователем,
сторонним наблюдателем - словом, «зрителем» (оценим обобщенный образ
в основе названия затеянного ими периодического издания). Для них
вымышленный рассказчик явился средством выразить просветительскую идею
разумности, умеренности. Их кредо - быть противником любых воинствен-
20 Johnson S. The Lives of the Most Eminent English Poets: 2 vols. Philadelphia, 1870. Vol. 1.
P. 544.
21 Ср. «С детства наследник добром и дарами дружбу дружины должен стяжать, дабы, когда
возмужает, соратники стали с ним о бок, верные долгу, если случится война, - ибо мужу
должно достойным делом в народе славу снискать!» (Беовульф / Пер. В. Тихомирова //
Беовульф: Старшая эдда: Песнь о нибелунгах. М., 1975. С. 30. (Б-ка всемирной лит.); «И в
память запиши мои заветы: / ...будь верен сам себе; / Тогда, как вслед за днем бывает ночь, /
Ты не изменишь и другим. Прощай; / Благословеньем это все скрепится» (Шекспир.
Гамлет // Шекспир. Поли. собр. соч.: В 8 т. / Пер. М. Лозинского. М., 1960. Т. 6. С. 26).
534
Приложения
ных крайностей, в политике ли, жизни, в литературе. Кроме того, их эссе
фиксировали общие взгляды на образование, религию, политику, искусство.
Другим важным открытием прозаиков явилась новая форма эссе -
периодической статьи или очерка. «Болтун» издавался с 1709 по 1711 г., «Зритель» -
с 1711 по 1714 г. С начала XVIII в. эссе стало неотъемлемой частью
периодического издания. Объем эссе был отныне строго регламентирован.
Авторы «Болтуна» и «Зрителя» выдвинули критерии краткости и художественной
завершенности, которые являются определяющими для этого жанра до сих
пор. (В связи с этим отмечу попутно характерное замечание Вулф в
«Современном эссе» по поводу состояния эссеистики в 1910-1920-е годы:
«...наблюдается явное возрождение классического эссе: современное эссе
подобралось, подсохло, в нем поубавилось былой риторики, и сегодня оно сильно
смахивает на эссе Аддисона и Лэма»22).
Свое второе рождение просветительское эссе пережило с творчеством
Оливера Голдсмита (1730-1774), издававшего в 1759 г. сатирический листок
«Пчела» («The Bee»), и Сэмюэла Джонсона (1709-1784), редактировавшего
журналы «Рассеянный» («The Rambler», 1750-1752), «Искатель
приключений» («The Adventurer», 1753-1754) и «Досужий» («The Idler», 1758-1760).
Сэмюэл Джонсон не только сыграл большую роль в развитии английской
просветительской литературы - с его именем также связан новый этап в
развитии английской литературной критики и становлении
литературно-биографического эссе. Его главный литературно-критический труд -
«Жизнеописания выдающихся английских поэтов» («The Lives of the Most Eminent English
Poets», 1779-1781) - представляет собой цикл эссе о больших и малых
поэтах предшествующей эпохи. И хотя, как верно заметил Т.С. Элиот, у
Джонсона «общие взгляды на природу поэзии и правила искусства лишь вкраплены
в биографические заметки о конкретных поэтах»23, в целом в
«Жизнеописаниях» складывается общая картина английской поэзии XVI-XVIII вв. Сэмюэл
Джонсон явился создателем первого исторического цикла
литературно-биографических эссе в английской культуре: в XIX в. эту традицию продолжит
Лесли Стивен в «Национально-биографическом словаре»... а в XX
столетии эту линию подхватит, какой бы натяжкой это ни казалось
литературоведам феминистской направленности (например, Джулии Бригз или Гермио-
не Ли), Вирджиния Вулф в цикле литературно-критических и
биографических эссе «Обыкновенный читатель».
Итак, к концу XVIII столетия сложились все основные разновидности
английского классического эссе - литературно-критическое,
биографическое и публицистическое. Обновление же эссе, наступившее в начале
XIX в., было связано с радикальными изменениями в журнально-издатель-
См. эссе «Современное эссе» на с. 166-176 наст. изд.
Элиот Т.С. Драйден-критик // Вопр. лит. 1988. № 8. С. 171.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 535
ской практике, когда ведущие мастера эссе и литературные критики того
времени получили возможность активно и широко сотрудничать в печати. Из
дежурного раздела газеты эссе и литературная критика постепенно
превратились в полноценный литературный жанр, стали средством выражения
эстетической и общественной позиции автора.
Так, например, в постоянном сотрудничестве с органом «Эдинбургская
ежегодная хроника» («The Edinburgh Annual Register») сложилось истори-
ко-социальное эссе Вальтера Скотта. В многочисленных журнальных
статьях оттачивалось романтическое эссе Ч. Лэма, У. Хэзлита, Т. Де Квинси, Ли
Ханта. В «Эссе Элии» Чарлз Лэм (1775-1834) возродил исповедальную
традицию Монтеня, внеся в нее личное, неповторимое начало: разговор от
имени обыкновенного человека, мысль о значимости «несерьезного», «малого»
в жизни, свежий, внешне парадоксальный взгляд на общепринятое, тонкую
иронию, умение зримо описать «воображаемое» путешествие.
Уильям Хэзлит (1778-1830) углубил психологическую линию эссе,
исследовав тайное, «невероятное» (incredible) в душе человека и создав
особый тип прозы, который найдет выражение в так называемой
одухотворенной прозе (impassioned prose) Томаса Де Квинси - явления, очень значимого
для эссеистики Вулф, предмете ее частых размышлений. Расширил Хэзлит
и круг тем английского эссе, включив в него и обсуждение политики
(«О духе монархии», «Французская революция»), и тонкости самоанализа
(«О том, как жить в ладу с самим собой»).
Ли Хант (1784-1859) развил линию воспитательного эссе, обратив
читателя к радостям существования («И вот теперь», «Весна и маргаритки»,
«Чаепитие»).
Просветительско-сатирическая тенденция английской эссеистики,
которая у романтиков не играла первой скрипки, вновь вышла на поверхность в
«Книге снобов» (1846) Уильяма Теккерея (1811-1863). Вслед за
просветителями начала XVIII в. он высказал убеждение в способности литературы
служить исправлению и воспитанию нравов.
Итак, этот краткий исторический экскурс в историю английского эссе не
оставляет сомнений в том, что эссеистическая традиция не прерывалась на
протяжении трех столетий, постоянно обновлялась и порождала новые
жанровые модификации.
Начало же XX в. отмечено журналистским бумом 1900-1920-х годов и,
конечно же, бурным развитием эссе как пограничной художественной
формы, существующей на стыке литературы и вопросов экзистенциальных,
философских, общественных.
Все крупные прозаики и драматурги старшего поколения, задававшие
тон в английской литературе начала прошлого века, - Бернард Шоу, Герберт
Уэллс, Арнолд Беннет, Джон Голсуорси, Дж.К. Честертон и другие - отдали
щедрую дань эссе. Примечательно, что в их многолетней творческой
практике эссе обрело остро социальную направленность. Они вернули английскому
536
Приложения
эссе его публицистический заряд, памфлетную окраску, сатирический тон,
характерные для эссеистики XVIII в. Благодаря их деятельности, в
английской литературе начала XX в. утвердился тип эссеиста-журналиста. На эту
общую черту эссеистики писателей указывает, в частности, Джеймс Стивене
в статье «Талант Дж.К. Честертона, созвучный эпохе» («The 'Period Talent'
of G.K. Chesterton», 1946): «Все трое, о ком я говорю (Уэллс, Шоу,
Честертон), были журналистами по своему дарованию и роду занятий... они писали
каждый день, писали с огромной охотой - писали на злобу дня. Они могли
писать о чем угодно - о хорошем, о плохом, словом, обо всем, о чем узнавали
из газет. ... Честертон выпускал по шесть-семь книг в год; он выступал
критиком всех и вся: записной журналист, одним словом!»24
Своими публицистическими эссе писатели старшего поколения - «эдвар-
дианцы», как будет называть их Вулф в своих эссе, - ввели в широкий оборот
литературы вопросы политики, судопроизводства, науки, социологии,
экономики. Все они в большей или меньшей степени затрагивали
общественно-политические темы. Даже такой «литературный» эссеист, как Дж.К. Честертон,
по словам Д. Конлона, «представлял собой тип либерального реформатора,
который относился с огромным недоверием к государственной машине,
бюрократии и чиновникам... Как в прошлом для Диккенса, так и для
Честертона, государство служило выражением общественной несправедливости»25.
Неудивительно, что эдвардианцы внесли в английскую эссеистику
рубежа веков мощный социально-критический заряд. Задолго до Литтона Стре-
чи с его пародийной книгой «Великие викторианцы» («Eminent Victorians»,
1918) ниспровергателями викторианской общественной идеологии и морали
выступили писатели старшего поколения: по словам Дж. Стивенса, «великая
четверка» - Уэллс, Шоу, Честертон и Беллок - «во всем обвиняла недавнее
прошлое... все они стремились полностью разрушить то, что называли
"Викторианским веком"»26.
Как жанр литературной критики эссе предполагает диалогическую связь
автора с читателем. Адресатом же открыто публицистической эссеистики
писателей-эдвардианцев стал средний человек, лишенный элементарных
социальных прав, доступа к образованию, - к нему-то и обращался в
своих рецензиях 1890-1900-х годов Герберт Уэллс (1866-1946), стремившийся
расширить социальный и научный кругозор читателей, сформировать
«научное» мышление, воспитать умы.
Соответственно выдвигалось и новое назначение литературного эссе,
точнее, очерка - оно должно стать воспитательным,
научно-популяризаторским: «Уэллс относился к своим статьям в периодической печати как к
24 Цит. по: G.K. Chesterton: A Half-century of Views / Ed. by D.J. Conlon. Oxford; New York,
1987. P. 65, 67.
25 Ibid. P. 107.
26 Ibid. P. 68.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 537
инструменту воспитания и образования - он одновременно и наставлял, и
развлекал своими научно-популярными статьями публику, еженедельно
читавшую "Сэтерди ревью"»27.
Разумеется, такой взгляд на литературное эссе и критику мог казаться
крайностью даже единомышленникам Уэллса- Арнолду Беннету (1867—
1931) и Дж.К. Честертону (1874-1936). Однако все они разделяли его
убеждение в том, что литература - это «способ социального общения»28, а вовсе
не особая самодостаточная духовная сфера. С известными оговорками, все
они могли бы подписаться под определением литературы, которое
предложил Уэллс в эссе «Человечество на стадии становления» («Mankind in the
Making», 1903): «Литература вбирает в себя все лучшее, что есть в
журналистике: все спекулятивные и философские сочинения* все новое и
интересное, что происходит в драме, поэзии, беллетристике и в любом другом
художественном жанре, равно как и всю научно-популярную продукцию, за
исключением лишь чисто технической, особенно ту, что имеет дело с
общенаучными идеями»29.
Что лежало в основе такого представления о литературе? Очевидно,
общая позитивистская вера писателей старшего поколения в силу интеллекта.
Вера в науку, социальное реформирование как средство общественного
прогресса. Эти идеологические установки определяли и форму «эдвардианско-
го» эссе. Она была интеллектуальной: под пером Уэллса она становилась
инструментом научно-социологического анализа; а у Шоу и Честертона
превращалась в отточенный парадокс. Идейно-эстетические взгляды писателей
старшего поколения, высказываемые в эссе, равно как и сама
публицистическая его форма, совершенно определились и устоялись к 1900-1910-м
годам, ко времени появления на литературной сцене молодого поколения
английских писателей - Э.М. Форстера, Д.Г. Лоуренса, В. Вулф и др.
Эссе - и шире литературная критика - неизбежно стали полем
острейшей полемики между старшим и новым поколениями. Предметом споров
оказались литература и искусство, их назначение и место в обществе,
задачи литературной критики, проблема романа, вопросы творчества, положения
художника, взаимоотношений искусства и этики, социальных проблем и т.д.
Острота противоречий, естественных при смене литературных
поколений и эпох, усугублялась кризисом, который переживала европейская
культура с войной 1914 года- «Великой войной» (the Great War), как принято
называть ее у англичан. В свете трагического опыта Первой мировой
войны взгляды, выпестованные позитивизмом второй половины XIX в. и в
целом принятые писателями рубежа веков, оказались для многих художников
27 H.G. Wells's Literary Criticism / Ed. by P. Parrinder and R.M. Philmus. Sussex, 1980. P. 11.
28 Ibid.
29 Ibid. P. 12.
538
Приложения
Нового времени (а среди них было немало тех, кто прошел окопы Первой
мировой) несостоятельными и ложными.
Впрочем, между двумя литературными поколениями не было
непроходимой пропасти. Английской литературе исторически присущи
преемственность и непрерывность развития. Так, у молодых писателей, громко
отвергавших творчество «старших», - «материалистов», используя определение
Вирджинии Вулф в эссе «Современная литература» («Modern Fiction», 1919,
1925), - как «неискусство», обнаруживаются глубокие связи с ближайшими
предшественниками. Все они вобрали в себя социальный критицизм
Бернарда Шоу и Герберта Уэллса - доказательством тому воспоминания
современников, высказывания самих писателей, наконец, эссеистика Вулф. Тем
не менее преемственность поколений, очевидная для потомков, молодыми
писателями чаще веего не осознавалась. Наоборот, они всячески
отталкивались от наследия старших и, стремясь обрести новую эстетическую
почву, обращались к литературной и культурной традиции прошлых столетий.
Деятелям английской культуры свойственно возвращаться к истокам,
пересматривать явления прошлого и их оценки в периоды смены поколений,
серьезных социальных сдвигов. Обращение же к традиции английских
писателей 1910-х годов носило особенно активный характер, принимало форму
подчас яростной переоценки явлений с одновременным поиском живых и
плодотворных тенденций в пластах прошлой культуры. Тот же процесс
наблюдался и в эссеистике.
Площадкой для разыгравшихся баталий и переоценок стали газеты и
литературно-критические журналы 1910-1920-х годов, а эссе- тем
инструментом, который использовали участники споров тех лет, отстаивая свои
позиции.
Бурная деятельность журналов и писателей в 1920-е годы в Англии не
была лишь следствием общественно-политических событий конца 1910-х-
начала 1920-х годов. Ей предшествовали многолетние искания
литературных групп, большинство из которых сложилось еще в начале века. Причем
деятельность их отличалась рядом особенностей, отчего литературный
пейзаж Англии оказался несколько иным, чем во Франции или других странах
континентальной Европы.
Русскому читателю важно увидеть эту разницу: только так можно по
достоинству оценить английскую эссеистику начала прошлого века.
Интересно, что у англичан мы не найдем того духа манифестационности
и соответственно жестких рамок эстетической доктрины, какие характерны,
например, для итальянских и русских футуристов. Хотя эстетические
расхождения существовали и весьма остро осознавались сторонниками разных
групп, но и внутри одной группы могли уживаться художники разных
платформ. Например, к группе Блумсбери принадлежали и критик формально-
эстетической школы Клайв Белл, и Вирджиния Вулф, для которой
вопросы техники письма никогда не были приоритетными в обсуждении проблем
литературы.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 539
Но, пожалуй, самым интересным было то, что каждая группа сохраняла
в той или иной мере связь с ближайшей традицией: так, для поэтов-ворти-
цистов образцом служила поэзия итальянца Ф.Т. Маринетти, а для идеолога
Блумсбери, искусствоведа и художника Роджера Фрая - постсимволистская
поэзия Стефана Малларме и кубистическая живопись Пикассо; вортицисты
учитывали опыт Форда М. Форда и Генри Джеймса, выразившийся в теории
«литературного импрессионизма», а блумсберийцы «оглядывались» на
прерафаэлитов в искусстве и в поэзии.
ОПТИКА ТРАДИЦИИ
В ТЕНИ ОТЦА. ЛЕСЛИ СТИВЕН
Литературный дебют Вирджинии Стивен в жанре эссе состоялся 14
декабря 1904 г., с опубликованием в еженедельнике «Гардиан» неподписанной
рецензии под названием «Сын королевского Лэнгбрита» («The Son of Royal
Langbrith») об одноименной книге У.Д. Хоуэлса. Спустя неделю тот же
«Гардиан» - «один из самых популярных и читаемых литературных журналов
того времени»30, пусть «ныне благополучно всеми позабытый»31, - напечатал
вторую статью Вирджинии Стивен «Хоуорт, ноябрь 1904 года» («Haworth,
November, 1904»), также неподписанную. Мак-Нейли не случайно обращает
наше внимание на то, что дебют этот состоялся спустя год после смерти ее
отца, сэра Лесли Стивена (1832-1904).
Имя это русскому читателю ни о чем не говорит, а вот для английской
культуры Лесли Стивен - фигура во многих отношениях замечательная.
Известный историк, эссеист, литератор и один из составителей
«Национально-биографического словаря», специалист по истории и философии
XVIII в. Л. Стивен - один из тех достойных викторианцев, чья жизнь и
профессиональная деятельность определяла интеллектуальный и литературный
климат в Англии второй половины XIX в. Отметим и мы примечательный
факт выхода в свет Вирджинии Стивен вскоре после смерти отца. Среди
исследователей творчества Вирджинии Вулф, особенно феминистского
направления, стало уже общим местом указывать на подавляющий характер
влияния Лесли Стивена и толковать относительно позднее начало
писательской деятельности Вулф как доказательство наличия мужского
авторитарного начала. Однако не будем спешить с оценками.
Мак-Нейли подчеркивает, что тот дебют в «Гардиан» не был
обещающим - скорее, обыкновенное начало журналистской деятельности никому не
известной барышни, пусть дочери известного отца. Необычность же
начавшейся так скромно литературной карьеры он видит в другом: как показало
0 Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. P. 113, fn 14.
1 Из «Вступления» к комментированному изданию 1983 г. «Обыкновенного читателя» 1925 г.
См.: McNeillie A. Introduction // Woolf V. The Common Reader. L., 2003. Vol. 1. P. i.
540
Приложения
время, Вирджиния Стивен, а впоследствии Вирджиния Вулф, оказалась
донельзя усердной ученицей, которая входила во все подробности
рецензируемых книг и оттачивала до бесконечности каждое эссе, выходившее из-под
ее пера. На то, чтобы составить себе имя в литературном мире, пишет Мак-
Нейли, у Вулф ушло почти 20 лет. Слава пришла к ней, как и к другим
писателям ее поколения, лишь в начале 1920-х годов.
Что-то от ее непарадного отношения к литературе как скромного
служения видно уже в том раннем эссе «Хоуорт, ноябрь 1904 года»: Вулф с
ностальгической тоской обращается после смерти отца к любимым
писательницам Шарлотте и Эмили Бронте. Она описывает свое путешествие на их
родину, любовно отмечает милые подробности их жизни. Пробует
воскресить в воображении живую Шарлотту Бронте - не великую писательницу, а
тоненькую женщину на обочине проезжей дороги в Кейли: «...единственной
нашей заботой было нарисовать незаметную фигурку Шарлотты, шагающей
по улицам в накидке на рыбьем меху, то и дело вынужденной сходить с
мостовой на обочину и в канаву, уступая дорогу здоровякам прохожим»32.
Эссеистическая деятельность Вулф, которая началась, кажется, так
незаметно и скромно в 1904 г., обнаруживает в исторической ретроспективе
многообразные связи с литературно-критической практикой Лесли Стивена.
Уже по первым пробам пера в «Гардиан» видно, что начинала Вулф-эс-
сеист не на пустом месте. Заметны по крайней мере четыре важных
источника ее эссеистики: литературно-критические эссе ее отца Лесли Стивена,
литературная критика Сэмюэла Джонсона, сатирическое эссе УМ. Теккерея
и эссе Уолтера Пейтера. Влияние этих и некоторых других эссеистов и
философов определило и некоторые существенные черты формы ее эссе.
Сильнее всего сказалось на эссеистике Вулф и ее взглядах влияние отца:
в первую очередь от него и через него унаследовала она культурную
традицию. И было бы удивительно, если бы этого не произошло. Ведь Лесли
Стивен вошел в национальную историю Англии как первый составитель
академического «Национально-биографического словаря» ( 1882—189033);
маститый литературный критик, он был пионером социокультурной школы
в английском литературоведении34. Будучи редактором журнала «Корнхил» в
1871-1882 гг., он оказывал поддержку многим начинавшим в то время
писателям - Томасу Гарди, Роберту Стивенсону, Эдмунду Госсу, Генри Джеймсу.
В его доме бывали видные деятели американской культуры того времени -
Роберт Лоуэлл, Оливер У. Холмс и многие другие. Атмосфера наполненной
интеллектуальной и духовной жизни окружала Вирджинию Вулф с самого
детства, была ее «бытом» (см. ранний дневник Вирджинии Стивен «Вдохно-
Books and Portraits: By Virginia Woolf/ Ed. by Mary Lyon. L., 1977. P. 167.
После смерти Л. Стивена в 1904 г. пост главного редактора занял сэр Сидни Ли,
завершивший издание словаря в 1917 г.
См.: Encyclopaedia Britannica: 24 vols. Chicago; London; Toronto, 1961. Vol. 21. P. 386.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 541
венная ученица»35, куда вошел домашний журнал, который она «издавала»
вместе с братьями и сестрами). Естественно, что рано обнаружившая
писательскую жилку дочь Лесли Стивена и Джулии Дакворт не могла не впитать
интеллектуальную и читательскую культуру второй половины XIX в.
Многие воззрения отца стали фундаментом ее мироощущения. Обычно,
освещая вопрос об отношении Вулф к отцу, литературоведы ссылаются на ее
дневниковую запись 1928 г.: «День рождения отца. Да, сегодня ему
исполнилось бы 96: он вполне мог бы дожить до этого возраста... Слава богу, не
дожил. Ведь что было бы, случись такое? Ничего: ни творчества, ни книг...»36
Но едва ли объективно оценивать роль Лесли Стивена в формировании
писательницы по одной этой фразе или по образу суховатого, самовлюбленного
м-ра Рэмзи из романа «К маяку». К тому же дневниковую запись Вирджинии
Вулф 1928 г. можно истолковать и по-другому. Скорее Вулф имеет в виду то,
что ей трудно было бы добиться творческой самостоятельности, если бы она
жила, так сказать, в тени духовного авторитета отца. Во всяком случае,
факты свидетельствуют о большом влиянии Стивена на будущую писательницу.
Это и известное эссе Вулф «Лесли Стивен: философ в домашней
обстановке...» («Leslie Stephen, the Philosopher at Home: a Daughter's Memories», 1932)
и ее воспоминания «Очерк прошлого» («A Sketch of the Past», 1939) и,
главное, - ее эссеистика.
Влияние Лесли Стивена сказалось прежде всего на отношении Вулф к
литературе и искусству, духовной деятельности в целом. Мировоззрению
Стивена была присуща жизненная широта. Он был убежден в том, что
развитие личности не должно быть сковано узким, специальным образованием.
Он выступал за систему образования, развивающую разнообразные
способности человека: «Добротное литературное образование ни в коей мере не
ограничивается образованием собственно литературным. (...) Образование,
которое накапливаешь посредством жизненного опыта, развития
определенных чувств и стремлений, - вот самое желанное из всех направлений.
Поспешу, впрочем, уточнить, что я не выступаю против образования как
такового: мне лишь претит натаскивание, не способное пробудить в человеке
все его недюжинные способности»37. Вирджиния Вулф воспримет этот
широкий взгляд отца на образование38, в своих эссе она не раз потом
выскажется против засилия сухих дисциплин и муштры в английской школе (см. эссе
«Русский школьник», «Женский колледж со стороны» - «A Women's College
from Outside», 1926; «Своя комната»; «Три гинеи» - «Three Quineas», 1938).
Woolf V. A Passionate Apprentice: The Early Journals, 1897-1909 / Ed. by Mitchell A. Leaska.
L., 1990.
Woolf V. A Writer's Diary. L., 1969. P. 138.
Stephen L. Men, Books and Mountains. L., 1956. P. 36.
См.: Woolf V. Leslie Stephen, the Philosopher at Home: a Daughter's Memories: Published on the
Centenary of Sir Leslie Stephen's Birth // The Times. 1932. Nov. 28. P. 15-16.
542
Приложения
Неудивительно, что Стивен с его широким свободным взглядом на
образование придавал значение духовной деятельности, ставил ее выше
политических заслуг или воинской доблести: «...моя бы воля, я бы лучше написал
"Гамлета", чем победил испанскую Армаду... Когда бедный историк
девятнадцатого века начинает свой нечеловеческий труд, мне хочется верить, что
он как добросовестный философ уделит больше внимание двум-трем
английским писателям последних десятилетий, нежели всем английским
государственным деятелям, вместе взятым» («Часы в библиотеке»)39. От этого
высказывания один шаг до замечания Вулф о том, что маленькая
историческая подробность - творческая активность женщин среднего сословия в
XVIII в. - перевешивает значение Крестовых походов и войн Алой и Белой
розы («Своя комната»)40.
Да, взгляды Вулф на историю очевидно питались идеями ее отца.
Широта мысли Л. Стивена, его умение видеть относительность
устоявшихся мнений проявляются также в его оценке мужского интеллекта,
рационализма и женской интуиции. В «Мавзолейной книге» - духовном
завещании своим детям - Стивен часто сравнивает свой способ мышления с
психологией жены и отмечает, что мужская логика проигрывает в сравнении
с женской интуицией: «Ее (Джулии Дакворт. - Н.Р.) инстинктивному
знанию можно было доверять гораздо больше, чем моим рационалистическим
построениям»41. Размышления о мужском и женском типах сознания,
относительности оценок деятельности мужчин и женщин, встречающиеся на
страницах «Мавзолейной книги», станут одной из тем романов и эссе
Вирджинии Вулф. Таким образом, в ее раздумьях о «мужественно-женственном»
или «женственно-мужественном», «андрогинном» типах сознания в эссе
«Своя комната»42 нет ничего фантастического: то было развитие идей,
имевших хождение на рубеже веков. Во взглядах на литературу Лесли Стивен
придерживался позиций социокультурной школы. Убежденный в огромной
значимости общеинтеллектуальной деятельности, он рассматривал
литературу лишь как один из видов ее, во многом определяемый материальными и
социальными условиями. По словам Р. Уэллека и А. Уоррена, «Лесли Стивен
определял литературу как "особую функцию всего социального организма",
своего рода "побочный продукт" социальных изменений»43. Но это не
значит, что Стивен подходил к литературе утилитарно, как вульгарный
социолог. В его взглядах было много от позитивизма, а также от викторианского
умения обобщенно оценить то или иное явление, от интереса к различным
сторонам материальной и общественной жизни. Позднее Вирджиния Вулф
39 См.: Stephen L. Hours in a Library: 3 vols. L., 1928. Vol. I. P. 98-99.
40 См.: HW/KARoom of One's Own. L., 1978. P. 62.
41 Stephen L. Mausoleum Book. L., 1977. P. 95-96.
42 См.: Woolf V. A Room of One's Own. P. 94.
43 WellekR., Warren A. Theory of Literature. N.Y., 1956. P. 252.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 543
с симпатией отметит эту черту у многих писателей XIX в.: Томаса Гарди,
Уолта Уитмена, Льва Толстого.
По мнению Л. Стивена, изучение литературы с точки зрения общих
социальных изменений важно потому, что позволяет полнее и точнее понять
литературу и лучше представить положение писателя в обществе, условия
его творчества. Он подчеркивает в своей книге «Английская литература и
общество в восемнадцатом веке» реальные недостатки формального
подхода к литературе, от которых несвободно и современное литературоведение:
«Когда из рассмотрения исключается социальный фактор, - и
соответственно единомыслие современников, занятых одной и той же проблемой,
разделяющих одни и те же верования, - то каждая отдельная школа предстает
независимой единицей, предполагающей разрыв с традицией или просто
отношение к прошлому из духа противоречия, и в итоге мы объясняем явление
риторической фразой "реакция". ...Подходить к развитию литературы как к
изолированному феномену, значит, заведомо упускать из виду то
основополагающее единство, которое составляет его суть»44.
Анализ любого литературного явления Стивен начинает с вопроса, как
настоящие социальные условия влияют на состояние литературы и
положение писателя? Его влечет исследовательский интерес историка, ему важно
точно обрисовать историко-культурный фон, чтобы лучше оценить
творчество конкретного писателя.
Во множестве подробностей, с цифрами в руках Стивен обсуждает
материальное положение писателей эпохи. Он исходит из практических
соображений: насколько условия существования писателя обеспечивали ему
свободу творчества. С этой точки зрения он оценивает, например,
перспективы молодого Сэмюэла Джонсона: «Такие суммы гонораров доказывают,
что лишь некоторые авторы могли достичь материальной независимости на
писательском поприще и то не иначе как благодаря литературному успеху у
публики: рассматривая с этой практической точки зрения условия жизни и
литературную деятельность Джонсона, мы понимаем, что его шансы на
материальную обеспеченность были равны нулю»45.
Стоит ли удивляться элементам социологического анализа в эссе
Вирджинии Вулф? Недоумевать, почему потомственная леди дотошно обсуждала
вопросы социального и духовного положения художника в разные эпохи?
От отца она унаследовала и трезвый практический взгляд на писательскую
профессию, и общую культуру обсуждения явлений духовной жизни в связи
с социальными проблемами. Даже такая чисто вулфовская тема, как
положение женщин в культуре, частично уходит корнями в систему представлений
Лесли Стивена. Вот одно из характерных его высказываний о положении
английских писательниц в XVIII столетии: «...(тогда. - Н.Р.) на писательниц
Stephen L. English Literature and Society in the Eighteenth Century. P. 212.
Stephen L. Samuel Johnson. N.Y., 1878. P. 23.
544
Приложения
смотрели во многом так же, как сегодня воспринимают женщину на охоте.
...Знаменитое сравнение, которое провел Джонсон между проповедницами
и пуделями, танцующими на задних лапах, передает общее умонастроение
эпохи»46. (Позднее в эссе «Своя комната» Вулф не раз вспомнит это
изречение Джонсона.)
Лесли Стивен заразил дочь интересом к истории, привил ей привычку,
исследуя творчество писателя, очерчивать историко-культурный фон эпохи.
От него же она, видимо, восприняла и некоторые эстетические
представления и высокие критерии оценки литературного произведения.
Стивен выдвигал свое понимание «реалистического» в литературе.
«Реалистическим» он называл новаторское искусство, выражающее живые
и общезначимые устремления людей данной эпохи. Вот как он
сформулировал это понятие в книге «Английская литература и общество в
восемнадцатом веке»: «Каждый великий художник должен быть опять-таки в каком-то
смысле "реалистическим". Это понятие приобрело сегодня неуместную
коннотацию, но я хочу сказать этим определением, что его видение мира
должно соответствовать подлинным живым умонастроениям времени. Художник
тогда перестает быть реалистом в этом широком смысле слова, когда он
намеренно эксплуатирует верования, утратившие свою жизнеспособность, и
использует старую мифологию в качестве удобной техники, хотя она давно
уже обессмыслилась в глазах современников»47.
Такое понимание реалистического в искусстве было близко Вирджинии
Вулф: оно вполне могло послужить зародышем ее своеобразного
представления о реальности, воплощенного в «Обыкновенном читателе».
Среди эстетических представлений Стивена выделяется понятие
полноты и завершенности литературного произведения. «Есть всего несколько
великих книг или великих художников, которые не оставляют у нас горькое
чувство незавершенности. Чаще мы понимаем: писатель лучше своего
произведения. Он только иногда являет себя в полную силу»48. У художника
идеал завершенного произведения часто неосуществим либо из-за
отрицательных материальных и социальных условий, либо из-за пагубного
действия страстей: в своем эссе о У. Хэзлите Стивен приводит в качестве
примера Байрона, Шелли, Китса, Колриджа - все они могли бы написать великие
поэмы и тем самым открыть великую эпоху в литературе, чего, однако, по
его мнению, не произошло, и в итоге «сегодня у нас есть лишь
незавершенные наброски»49.
Здесь не место говорить об издержках социокультурного метода
Стивена, важно подчеркнуть другое: Вирджиния Вулф восприняла от Стивена и
46 Stephen L. Men, Books and Mountains. P. 58.
47 Stephen L. English Literature and Society in the Eighteenth Century. P. 165-166.
48 Stephen L. Hours in a Library. Vol. I. P. 63-64.
49 Ibid.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 545
высокий критерий полноты и завершенности литературного произведения
(разумеется, переосмыслив его по-своему), и убеждение в глубокой связи
социальных условий эпохи и творчества художника.
Сходны также некоторые принципы их критического подхода к
литературе. Речь идет, в частности, о стремлении оценивать современную
литературу с точки зрения высоких образцов прошлого. Для Лесли Стивена было
привычным рассматривать современную ему поэзию с позиций Сэмюэла
Джонсона50. Дело, конечно, не в сходстве самих оценок литературных
произведений - они заведомо различны: Лесли Стивен - последователь Мэтью
Арнолда в критике, Вирджиния Вулф - критик Нового времени. Но
объединяет их сам принцип подхода к современной литературе с позиции высоких
критериев, заданных культурой прошлого. Так что, скорее всего, не
случайным был выбор названия и оптики «Обыкновенного читателя»: джонсонов-
ский подход у Вулф - и критерий оценки литературы, и оценка роли
читателя, и определение места литературы прошлого, и дань памяти отцу.
Другая черта Стивена-критика, воспринятая Вулф, - это его умение
увидеть ограниченность какого-либо автора или даже целого жанра в
историческом контексте эпохи. Так, в книге «Английская литература и общество
в восемнадцатом веке» он тонко указал на внутреннюю ограниченность
английской комедии периода Реставрации, потерявшей связь с широкой
аудиторией, как на причину деградации самого жанра. Сходную мысль о
появлении и упадке литературных жанров выскажет позднее и Вирджиния
Вулф в эссе «Своя комната», предположив, что закат поэтической драмы в
XVIII в. был вызван ограниченностью ее сюжетных возможностей и
состава действующих лиц51. Этот и другие примеры проясняют существо
подхода Вулф к литературе: ее нестандартные оценки определенных явлений - не
«причуды» оригинального автора, частью они унаследованы от отца, частью
принадлежат традиции английской литературной критики.
Эта сторона стивеновской критики интересна в связи с характерным
для модернистов утверждением относительности любых критических
суждений. Заявление Т.С. Элиота о закономерной относительности суждений в
критике - «Каждый новый серьезный критик полезен уже тем, что у него
не такие ошибки, как у его предшественника; и чем длиннее у нас
критическая традиция, тем больше уточнений возможно»52 - было логичным в
атмосфере пересмотра культуры прошлого в 1910-1920-е годах. Но не надо
забывать и о другом: высказывания, подобные элиотовскому, были общим местом
в английском литературоведении второй половины XIX в. Так, Лесли
Стивен, убежденный агностик, отмечал в эссе «Размышления о критике» (1876):
50 Stephen L. Samuel Johnson. P. 179-180.
51 Woolf V. A Room of One's Own. P. 79.
52 Т.С. Элиот о классике // Вопр. лит. 1988. № 8. С. 171.
18. Вирджиния Вулф
546
Приложения
«Мы смеемся над слепотой наших предшественников (речь о критиках. -
Я.Р.), но и мы сами не без греха... Разве не станет XX век потешаться над
XIX? Разве не отправят на свалку наши внуки многих из сегодняшних
кумиров и не откопают такие гениальные произведения, о которых мы и не
догадывались?»53 Пророческие слова! В 1919 г. в эссе «Современные романы»
(«Modern Novels»), которое войдет в книгу «Обыкновенный читатель» (1925)
под названием «Современная литература», Вулф повторит мысль Стивена
уже применительно к литературе: «И если представить на секунду, что на
поле брани, где мы теснимся, сошла сама богиня литературы - вот она, стоит
живая рядом с нами - можете не сомневаться: уж она нашла бы, как
раздразнить нас и вызвать на беспощадный бой против нее, всеобщей любимицы и
госпожи, ибо в этом вечном соперничестве и скрыт секрет ее обновления и
безраздельного торжества»54. В этом полемическом заявлении слышится не
только призыв писателя модерниста пересмотреть культуру прошлого, но и
излюбленная мысль критиков XIX в. об исторической относительности
людских суждений.
Это еще одно свидетельство влияния Стивена-историка. Оно
чувствуется и в историко-литературном цикле эссе «Обыкновенный читатель», и в
художественных произведениях Вулф, и в ее жадном интересе к дневникам,
письмам, документам минувших эпох. Сам Лесли Стивен полагал
дневники и документы бесценным подспорьем исследователя литературы. Так, в
лекции «Изучение английской литературы» историк отмечал: «...скажу
сразу, что следует учиться понимать дух эпохи (...) Вам требуется не только
научный анализ, но и живое представление о данном историческом периоде
(...) Если говорить о периоде современной истории, то нет более ценных
документов, чем дневники Пипса или мемуары Грамо (...) Ни из каких
других свидетельств вы не сумеете почерпнуть столь же ясное представление
о разнородных элементах, составлявших тогдашнее английское общество, и
понять, какой именно была читательская аудитория»55. Неудивительно, что
Вулф уже в ранних эссе декларировала необходимость изучения литературы
не только по «вершинным» произведениям, но и по документам,
описывающим жизнь обыкновенных людей. Круг ее чтения с детских лет включал
дневники, письма, воспоминания людей, чья жизнь канула в Лету, однако, с
ее точки зрения, представляет бесценное свидетельство человеческих
попыток противостоять мраку. Впоследствии Вулф включит именно такие
жизнеописания в состав своего «Обыкновенного читателя» - это эссе «Забытая
жизнь» об Эджвортах и Пилкингтонах, «Джеральдина и Джейн» о Джераль-
дине Джусбери, подруге Джейн Уэлш, супруге Томаса Карлайла, и др., а в
заключающем обе серии «Обыкновенного читателя» эссе «Как читать книги?»
Stephen L. Men, Books and Mountains. P. 219.
См. с 123 наст. изд.
Stephen L. Men, Books and Mountains. P. 26.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 547
(«How Should One Read a Book?», 1926, 1932) она соберет жизнеописания
и мемуары, дневники и письма людей замечательных и безвестных в
отдельный, очень важный, круг чтения: «...что же, нам отказываться читать те
книжки, что стоят бок о бок с высокородными соседями - романами и
стихами, под тем предлогом, что так называемые биографии, автобиографии,
жизнеописания людей великих и маленьких, давным-давно умерших и
позабытых, - все это "не искусство"? А может, все-таки читать, но по-другому и с
другой целью? Почему не попытаться удовлетворить с их помощью то
чувство любопытства, какое порой охватывает нас, когда наступают сумерки и в
доме напротив зажигаются огни, ставни еще не закрыли, и на ярко
освещенных этажах в разных комнатах идет своя жизнь? Нам становится страшно
интересно, как живут эти люди - о чем судачат слуги, как проходят обеды в
благородном семействе, как наряжается к вечеру девушка, о чем думает
старуха, сидя с чулком у окна? Кто они, что собой представляют? Как их зовут,
чем занимаются, о чем думают, мечтают?
Именно этими вопросами занимаются жизнеописания и мемуары,
освещая комнату за комнатой, дом за домом: рассказывают, как люди живут день
изо дня, трудятся, терпят неудачи, добиваются успеха, любят, ненавидят, и
так до самой смерти»56.
Собственно, именно из раннего увлечения чтением книг о жизни
обыкновенных людей выросла центральная идея Вулф о том, что в литературе
«шедевры не рождаются сами собой поодиночке; что за голосом одного
стоит опыт многих»57 и что забытая жизнь, выброшенная на свалку
истории, порой и составляет самое существо истории человечества как
усилий человеческого духа и плоти противостоять стирающему их мраку
невежества, несправедливости и неравенства. Так называемый женский миф,
или вулфовский образ «анонима», вырос из раннего убеждения Вулф в том,
что каждый человек стремится к тому, чтоб «о нас помнили» («Миссис
Дэллоуэй»).
На многих самостоятельных и самобытных суждениях Вулф лежит
отпечаток воззрений Лесли Стивена. Подчеркнем и то, что, готовя своего
«Обыкновенного читателя», Вулф едва ли не в каждом эссе о той или иной фигуре
литературы прошлого использовала - прямо или опосредованно -
биографические очерки отца. Так, например, ее «Свифтовский "Дневник для
Стеллы" ("Swift's Journal to Stella"», 1925, 1932) во множестве документальных
свидетельств опирается на жизнеописание «Свифт», принадлежащее перу
Лесли Стивена.
См. с. 382 наст. изд.
Woolf V. A Room of One's Own. P. 63.
18*
548
Приложения
ДЖОНСОН, ПЕЙТЕР И ТЕККЕРЕЙ
Думается, влияние отца сказалось и на отношении Вирджинии Вулф к
Сэмюэлу Джонсону (1709-1784), чьи литературно-критические эссе оказали
значительное воздействие на ее творчество.
Прежде всего будущей писательнице была близка просветительская
позиция Джонсона, полагавшего подлинным адресатом и ценителем
литературы обыкновенного читателя. Недаром заглавие и эпиграф к историко-
литературному циклу эссе «Обыкновенный читатель» она возьмет из джон-
соновского «Жизнеописания Грея»: «...мне доставляет радость общаться с
обыкновенным читателем, ибо в конечном итоге это благодаря его
здравому смыслу, его не испорченному литературными пристрастиями вкусу судят
люди о праве поэта на поэтические лавры: за ним последнее слово, после
того как умолкнет суд тонких ценителей художественности и несгибаемых
приверженцев науки»58. Парадокс, но эта «трудная» писательница была
солидарна с рационалистом Джонсоном, полагавшим, в соответствии с
прагматическим пониманием цели искусства, что литература должна приносить
удовольствие и пользу широкому читателю.
У Сэмюэла Джонсона Вирджиния Вулф находила подтверждение своей
мысли о том, что чрезмерная сосредоточенность на своем «Я» вредит
художнику: «Сочинения (Авраама Каули. -Н.Р.) таковы, что их вполне мог бы написать,
покаяния ради, какой-либо отшельник, или рифмоплет-философ,
польстившийся на заказ и знать не знающий, что есть такое противоположный пол: ибо они
направляют мысль читателя только на самого писателя»59. Вслед за
Джонсоном, полагавшим, что поэзия требует естественности в описании чувств,
молодая писательница ищет в стихах органичное и свободное выражение эмоций.
Ей не нравится искусственность, «сделанность» стихотворений Литтона Стре-
чи, о чем она пишет в 1908 г. Клайву Беллу: «Но... есть в них какая-то
искусность, которая не дает мне увлечься ими так, как хотелось бы»60.
Источники эссеистики Вулф не исчерпывались лишь просветительской,
«классической» традицией. Определенное влияние на ее эссе оказал
писатель и критик, основатель английского эстетизма Уолтер Пейтер (1839—
1894)61. Чем же привлекал Пейтер молодую писательницу? Ей,
по-видимому, были близки искания Пейтера в области «воображаемой» прозы, а также
тонкий психологизм, с каким он описывал, в частности, мир детской души.
В программном эссе «Стиль» (1889) Пейтер изложил свою теорию «прозы
58 Johnson S. Gray // The Lives of the Most Eminent English Poets: Four volumes in one. Aberdeen,
1847. P. 637. См. c. 7 наст. изд.
59 Johnson S. Abraham Cowley // The Lives of the Most Eminent English Poets: 3 vols. L., 1854.
Vol. I. P. 39-40.
60 BellQ. Virginia Woolf: A Biography: 2 vols. L., 1972. Vol. LP. 130.
61 На эту тему см.: Osawa M. Virginia Woolf and Pater // New English and American Literature.
1948. N 1; Meisel P. Without Pater: Virginia Woolf and Pater. New Haven; London, 1979.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 549
воображения», «одухотворенного» факта как плодотворного пути развития
современной литературы. Писателя не удовлетворяло ортодоксальное
разграничение прозы и поэзии как двух противоположных способов описания
«души» и «факта». Он предлагал описывать «факт в единстве с
изображением жизни души»62 и предвещал расцвет литературы, если она будет
развиваться в этом направлении: «Это будет достойная литература не в силу того,
что она демонстрирует блеск или здравость мысли, богатство или
спонтанность языка, или же суровый дидактизм, нет, достоинство такого искусства
литературы будет прямо зависеть от ее умения правдиво изображать этот
смысл, эти факты душевной жизни... (в этом случае. - Н.Р.) проза
воображения станет особым и значимым искусством современного мира»63.
Размышления Пейтера о расширении границ прозы, о «воспроизведении факта,
окрашенного своеобразием личности, осененного ее симпатиями,
стремлениями и силой»64, безусловно, повлияли на эстетические взгляды Вулф.
В частности, на ее идею о создании в литературном произведении
гармоничной картины мира, схваченной в единстве факта и психологии.
Но, пожалуй, еще сильнее повлияли на жанровую форму эссе
Вирджинии Вулф пейтеровские «Воображаемые портреты» («Imaginary Portraits»,
1887). Читаешь ее «Неизвестных елизаветинцев» («The Strange Elizabethans»,
1932), «Забытую жизнь» («The Lives of the Obscure», 1923-1925),
«Силуэты» («Outlines»), «"Письма" Дороти Осборн» («Dorothy Osborne's "Letters"»,
1928), «Свифтовский "Дневник для Стеллы"», «Двух священников» («Two
Parsons», 1927, 1932) «Вечер у д-ра Бёрни» («Dr. Burney's Evening Party»,
1929), «Джека Митна» («Jack Mython», 1926), «Четыре фигуры» («Four
Figures», 1929), «Джеральдину и Джейн» («Géraldine and Jane», 1929) -
список можно продолжить! - и понимаешь, насколько виртуозно владела
писательница жанром вымышленной биографии или «воображаемого портрета»,
истоки которого обнаруживаются в эссеистике Пейтера.
Еще Вулф привлекала тонкая обрисовка психологии ребенка в его
автобиографических книгах, например «Дитя в доме» («The Child in the House»,
1878). Ей были близки его мысли о силе и неуничтожимости детских
впечатлений (позднее она найдет созвучные мотивы у С. Аксакова, о чем напишет
в эссе «Русский школьник»), об открытии ребенком красоты мира через
восприятие цвета и звука. Много позже в романе «Волны» она опишет рождение
первых движений в детской душе как острого ощущения звука и цвета, а в
эссе «Автобиография Де Квинси» («De Quincey's Autobiography», 1932)
подчеркнет значимость для развития английской литературы «одухотворенной
прозы» Де Квинси, замешанной на глубоких впечатлениях детства.
62 Pater W. Style // Selected Writings. N.Y., 1974. P. 106-107.
63 Ibid.
64 Ibid.
550
Приложения
И наконец, сатирическая, памфлетная линия, без которой
невозможно представить эссе Вулф. Писательницу всегда интересовала
общественная психология, и в духе сатиры У.М. Теккерея (с которым, к слову сказать,
по отцовской линии она была в родстве), его знаменитой «Книги снобов»
(«The Book of Shobs», 1846-1847) она впоследствии едко высмеет и
современный снобизм65, и претензии ученых мужей и интеллектуалов66, и другие
«пятнышки»67 современного ей английского общества.
Между эссеистикой предшественников и эссе Вулф обнаруживаются
интереснейшие связи и различия. Вот как пишет о ее эссе в сравнении со
Стивеном Э. Мак-Нейли: «Если сравнивать "Часы в библиотеке" Лесли Стивена
и "Обыкновенного читателя" Вирджинии Вулф, очевидно, что между двумя
этими мирами - историческими, нравственными и эстетическими -
пролегает целая пропасть (говоря фигурально, "часы" Лесли Стивена превращаются
в эссе Вулф в "мгновения"), тем не менее две эти книги связывает
литературное и интеллектуальное сходство. Прежде всего оно налицо в
преимущественно биографическом повороте литературной критики обоих - и Лесли
Стивена и Вирджинии Вулф. Во-вторых, и тот и другой в своей эссеисти-
ке отталкиваются от практики чтения: достаточно сравнить эссе Стивена о
Стерне, чтобы понять, откуда в эссе Вулф подход с точки зрения "читателя".
В-третьих, ни отец ни дочь ни во что не ставят конъюнктуру, или Табель о
Рангах, устоявшуюся в мире литературных репутаций. В-четвертых,
достаточно познакомиться с записями, которые Вулф делала по ходу чтения
произведений того или иного автора, о котором писала в конкретном эссе, чтобы
увидеть, каким обычным делом для нее было заглядывать в "Национально-
биографический словарь", справляясь о фактах жизни и творчества своего
"героя" в эссе Лесли Стивена: ярким примером служит работа Вулф над эссе
"Вдохновленная проза" о Томасе Де Квинси. Наконец, сохранились и
непосредственные высказывания и оценки самой Вулф об эссеистике отца. По
ее словам, она неизменно обнаруживала в его очерках то, что следовало бы
"развить", "скорректировать" или что "стреноживало полет (ее) мысли". Она
подчеркивала, что Стивен - писатель от нее далекий: "ей не нравится, как он
пишет", тем не менее она испытывала к его творчеству не только дочернее
чувство неприязни или симпатии. Как она писала, она "по-читательски его
65 Эссе «Что я, сноб?» («Am I a Snob?», 1936). См.: Woolf V. Moments of Being: Unpublished
Autobiographical Writings / Ed., Introd. by Jeanne Schulkind. L.; N.Y., 1976. P. 181-199.
66 В эссе «Своя комната»: «...занятно понаблюдать за прихожанами, как они собираются,
входят, выходят, хлопочут у двери часовни, точно пчелы перед летком улья. Многие в мантиях
и шапочках, кое-кто с кисточками. Некоторые в инвалидных колясках, другие - помоложе -
уже сплюснуты и втиснуты в формы настолько редкостные, что невольно вспоминались
гигантские крабы и лангусты, с трудом передвигающиеся по дну аквариума. Я
прислонилась к стене - университет и в самом деле казался заповедником редких экземпляров,
которые давно вымерли бы, оставь их бороться за жизнь на общей мели» (с. 465-466 наст,
изд.).
67 Там же. С. 510 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 551
любила: за смелость суждений, простоту, силу и беззаботность и полное
пренебрежение внешними приличиями"68»69.
То, что объединяло Стивена и Вулф, - это общее представление о
литературе как социально и исторически обусловленной деятельности, несмотря на
декларации Вулф о «пуризме» и «независимости» литературы.
Парадоксально, но и замысел романа «Орландо», сложившийся параллельно второй
серии «Обыкновенного читателя» (роман был опубликован 11 октября 1928 г.),
и во многих отношениях близкий по проблематике, нес такую историческую
и социальную нагрузку, которой мог бы позавидовать сам Стивен - критик,
историк и эссеист, во всяком случае, он наверняка бы одобрил ту
социально-историческую концепцию, которая лежит в основе и романа «Орландо»,
и второй серии «Обыкновенного читателя». (Что он, скорее всего, не
принял бы - это идею андрогинности, в силу традиционного взгляда на роль и
функции полов в обществе.) Не забудем также о чувстве гордости, которое
Вулф испытывала, осознавая себя, как и прежде ее отец, профессиональным
литератором, журналистом, еженедельно, если не ежедневно пишущим для
газет и журналов.
Отметим и общую для них обоих демократическую убежденность в том,
что любая писательская деятельность - в жанре ли биографии, мемуаров,
дневников и литературно-биографических эссе - только во благо: любое
литературное творчество ценно как таковое, вне зависимости от его
художественного достоинства «по высшим меркам». Редактор
«Национально-биографического словаря» разделял энтузиазм дочери по отношению к тому, что
он, как и она, привык называть «кучами мусора» в литературе70.
Примечательно, что, собственно, находясь при смерти и составляя завещание, Лесли
Стивен высказал пожелание, чтобы каждый разумный гражданин общества,
выдающийся человек или самый обыкновенный, был обязан написать свое
жизнеописание: можно предположить, что его дочь - окажись у нее
возможность обсудить с отцом эту мысль - с удовольствием пообщалась бы с ним
на эту тему, высказав собственные «за» и «против»71. Во всяком случае, одна
из магистральных линий всего корпуса эссеистики Вулф и уж тем более ее
68 Цит. по: Woolf V. A Sketch of the Past // Moments of Being: Unpublished Autobiographical
Writings. P. 115-116.
69 McNeillieA. Introduction // Woolf V. The Essays. Vol. IV: 1925-1928. L., 1994. P. xii.
70 В завершающем вторую серию «Обыкновенного читателя» эссе «Как читать книги» Вулф
обобщает: «Судьба каждой литературы - накапливать подле себя кучу мусора, куда
сваливают всякий хлам; позабытые описания утраченных мгновений и повести о
промелькнувшей жизни, рассказанные скороговоркой, с запинками, по-графомански беспомощно. И все
же, если вы дадите себе труд хоть немножко покопаться в этой бумажной куче, вас ждет
много интересного - вы откроете для себя такие раритеты, такие обломки человеческой
жизни, какие вам и не снились!» (см. с. 385 наст. изд.).
71 См.: McNeillie A. Introduction. P. xiii.
552
Приложения
«Обыкновенного читателя» проходит по направлению широкого, открытого
творческого самовыражения каждого человека.
Стоит ли подчеркивать, что деятельность Л. Стивена - историка и
эссеиста - укоренена в традиции английского эссе и широкой книжной культуры,
сложившейся в Англии к середине XIX в.? И что Вирджиния Вулф как
наследница идей отца с ранних лет оказалась приобщена и к викторианской
читательской традиции, и к интеллектуальной книжной культуре, и, наконец, к
самой традиции жанра эссе в английской литературе XVII-XX вв.?
О жанровой преемственности говорит сама форма эссе Вулф. Их
композиция, особенно ранних, близка эссе Лесли Стивена. Обычно в первой части
его эссе дается общий взгляд на предмет разговора и здесь же заявлена
позиция автора. Вторая часть представляет собой развитие авторской мысли.
Примером такого композиционного решения может служить практически
каждое эссе Стивена. Вот как, например, звучит «общий зачин» в эссе
«Этика Вордсворта» («Wordsworth's Ethics»): «Говорят, в основе творчества
любого крупного поэта лежит философия. Скорее, правильнее было бы сказать,
что любая поэзия - это и есть философия. Поэт и философ сосуществуют в
одном и том же мире, и их обоих интересуют одни и те же вопросы:
какова природа человека и мира, в котором он живет, и как, следовательно, нам
нужно вести себя? Это основополагающие вопросы бытия, и ответы на них
могут принимать религиозный, поэтический, философский или
художественный оттенок. Различие состоит лишь в том, что поэт живет по наитию, а
философ выстраивает систему представлений»72.
Ту же композицию находим и в литературно-критических эссе
Вирджинии Вулф. Возьмем ли мы ранние тексты или более поздние, везде
обнаруживается «классическая» композиция - общий зачин, за которым
следует развитие темы. Возьмем наугад - например, эссе «Больше Достоевского»
(«More Dostoevsky», 1917). Оно начинается с общей оценки места
произведений Достоевского в английской литературе: «Его книги можно сегодня
найти на полках самых непритязательных английских библиотек: они стали
неразрушаемой частью нашего жилища, навсегда заняв место в духовном
багаже...» И далее следует вторая часть - развитие темы: «И хотя "Вечный
муж" не более чем длинный рассказ, который не надо равнять с великими
романами, в нем тоже есть эта необычная сила. ... Это история о некоем
Вельчанинове...»73 и т.д.
Стройная логичная композиция, ясность выражения мысли сочетались
у Вулф с тоном непринужденной беседы с читателем. Отчасти это было
естественным выражением ее общительной натуры («Вирджиния Вулф -
существо общественное», - скажет о ней позднее Леонард Вулф; шеститомное
собрание писем - одно из многих тому доказательств). А главное - то был ее
Stephen L. Hours in a Library. P. 250.
См. с. 396 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 553
прирожденный талант эссеиста, принявшего эстафету великих европейцев-
собеседников»: Монтеня, Аддисона, Лэма.
Небольшое уточнение.
Эссе Вулф - это не импрессионистическая или застольная «болтовня»,
как часто думают у нас иные читатели, приверженцы высокой науки и
литературной теории. Ведь для русской культуры эссе - жанр, в целом не
привычный, и нам трудно представить, насколько своеобразно воспринимают
англичане хорошо написанное эссе. А для них оно, как иные диалоги
Платона, равносильно состязанию блестящих умов - это проверка интеллекта,
оригинальности мысли в атмосфере непринужденной беседы. Вступить в
такой разговор далеко не просто - если хотите, это сравнимо с участием в
общей импровизации выдающихся джазменов - в действе, далеком от
непритязательных споров. К тому же Вирджиния Вулф все подвергала сомнению,
в том числе и «викторианскую» многозначность смыслов, которые сама же
стремилась создать в своем «Обыкновенном читателе»74, и такая
самоирония художника, размышляющего о золотой мере искусства, тоже входит в
понятие английского эссе.
Как тонко заметил Э. Мак-Нейли, никто лучше самой Вирджинии Вулф
не определил существо той художественной формы, которой она так
мастерски владела; и сделала она это, по его мнению, в «Современном эссе», уже не
раз процитированном в этой статье: «Эссе, - пишет Вулф, - не годится для
чистосердечных признаний и публичного осуждения преступника ради его
же блага, - в том и дело, что пишется (оно. - H.R) исключительно во благо
читателя и еще для вечности, но никак не для мартовского выпуска "Форт-
найтли ревью"»75. «Эссе, - продолжает писательница, - должно сохранять
прозрачность - оно должно быть чистым, как слеза, как вино без осадка»76.
Такая трактовка жанра близка, на взгляд Мак-Нейли, к эстетизму Пейтера и
художественной практике группы Блумсбери.
Действительно, как опытный книжный обозреватель, Вулф очень
хорошо осознавала, что «с журналистикой всегда так: перепечатанная в книге,
она не интересна»77. Вулф же всегда добивалась художественной
завершенности как отдельного эссе, так и собрания эссе, объединенных в книгу: еще
задолго до обретения репутации профессионального колумниста в
литературном приложении к «Тайме» в 1917-1920 гг. Вулф на страницах журнала
«Корнхил» в 1908 г. оттачивала перо в еженедельных рецензиях и эссе, не
позволяя себе выпустить полусырой материал.
Перечитывая «Обыкновенного читателя» в 1930-е годы, Вулф заметит со свойственной ей
самоиронией, что в ее эссе видна викторианская выучка вести вежливую беседу за
чашкой чая. См.: Woolf V. A Sketch of the Past // Moments of Being: Unpublished Autobiographical
Writings. P. 129.
См. с 168 наст. изд.
Там же.
Из эссе «Покровитель и подснежники» («The Patron and the Crocus», 1924). См. с. 165 наст,
изд.
554
Приложения
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:
ОГЛЯДЫВАЯСЬ НАЗАД
Знакомясь с эссеистикой Вулф, читатель наверняка захочет уточнить
свои знания об истории английской периодики и особенно такого ее сектора,
как книжное обозрение.
Так вот, практика рецензирования имела давнюю традицию в Англии,
восходящую к XVIII в. Если раньше, до XVIII столетия, писатель творил для
узкой, образованной аудитории читателей и экономически зависел от
одного или нескольких покровителей, а книги были предметом роскоши, то во
второй половине XVIII в. в литературном и издательском деле произошли
радикальные изменения. Значительно расширились границы читающей
публики. Расширение же читательской аудитории повлекло за собой создание
новой системы. У издателя появилась экономическая возможность издавать
книги для «публики», продавать достаточное количество экземпляров,
чтобы оплачивать расходы, включая гонорар писателя и, кроме того, делать это с
выгодой для себя. Эта новая система неизбежно породила рецензента,
книжного обозревателя. Поскольку читательский спрос увеличивался, а с ним и
число книг, писателей и издателей, то постепенно писательское и
издательское дело стало профессией. Вследствие этого возникла необходимость
предоставить значительной аудитории читателей информацию о содержании и
количестве публикуемых названий с тем, чтобы читатель мог выбрать из
сотен издаваемых книг то, что ему по душе. Отсюда проистекает главная
задача рецензента: описать и оценить книгу, дабы читатель мог определиться
в своих интересах. Таким образом, практика книжного обозрения во
многих отношениях совершенно отлична от литературной критики, эссеистики.
В отличие от критика, рецензент, или ревьюер, как сегодня принято
говорить, обращается не к автору или искушенным ценителям, а к широкой
читательской аудитории. В его задачу не входят веские анализ и оценка книги
как литературного произведения.
Поскольку литературные отделы журналов оставались едва ли не
единственным каналом публикации критики и эссеистики, то на всем протяжении
существования института рецензирования периодически вставал вопрос о
повышении качества книжных рецензий, о «подтягивании» их до уровня
полноценной литературной критики. Очень остро стоял этот вопрос в начале
XIX в., когда состояние литературно-критических обзоров было плачевно,
по мнению английского исследователя Джона О. Хейдена: «...обозреватели,
как правило, не шли дальше того, чтобы дать читателю самое общее
представление о содержании и относительных художественных достоинствах
недавно изданных книг, что составляет самую простейшую функцию
книжного обозрения»78. Поворот произошел с началом деятельности двух ведущих
HaydenJ.O. The Romantic Reviewers: 1802-1824. L., 1969. P. 7.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 555
периодических изданий - «Эдинбург ревью» («Edinburgh Review») и «Куо-
терли ревью» («Quarterly Review»), этих «двух величайших периодических
изданий, - как пишет Дж.О. Хейден, - в истории английской журналистики,
оказавших сильнейшее критическое воздействие на литературу английского
романтизма»79. В тот период книжные обзоры новинок печатались и в 60
других периодических изданиях, таких как «Мантли ревью» («Monthly Review»,
1749-1845), «Критикл ревью» («The Critical Review», 1756-1817), «Ландон
мэгэзин» («London Magazine»), «Икземинер» («The Examiner») и др. В ту
пору в редакциях сотрудничали уже первоклассные эссеисты и
литературные критики. Так, в «Ландон мэгэзин» в 1820-е годы печатались знаменитые
«Эссе Элии» (1823, 1833) Чарлза Лэма, «Застольные беседы» (1821-1822)
Уильяма Хэзлита, «Исповедь англичанина, употреблявшего опиум» (1822)
Томаса Де Квинси. В еженедельнике «Икземинер» печатались
талантливейшие эссеисты: Ли Хант, те же Уильям Хэзлит и Чарлз Лэм, Томас Варне, Хо-
рас Смит и др. Именно благодаря участию этих блестящих эссеистов и
критиков, английская литературная эссеистика завоевала в первой трети XIX в.
подлинно художественную высоту.
И в начале XX в. развитие литературной эссеистики было теснейшим
образом связано с журнально-издательской практикой. Одним из каналов
публикации были литературные отделы и рубрики книжных обозрений ряда
журналов и газет - как устоявшихся, солидных изданий, например
еженедельного приложения к лондонской «Тайме» или «Гардиан», так и новых,
например «Инглиш ревью» («The English Review»), главным редактором
которого в 1908-1911 гг. выступил видный английский прозаик и эссеист Форд
Мэдокс Форд (1873-1939). В 1920-е годы круг литературных журналов,
печатавших книжные обозрения, рецензии, собственно эссе, расширился -
появились «Нейшн энд Атенеум», «Форум», «Лиснер», «Нью репаблик» и
многие другие. В подавляющем большинстве случаев в 1900-1910-е годы -
до так называемой журнальной революции 1920-х годов (определение
Малькольма Брэдбери) в периодике печатались не собственно литературные эссе,
а рецензии, обзоры текущей литературной продукции.
В 1910-1920-е годы возникла проблема соотношения литературной
критики, эссеистики и практики рецензирования книг. Появление массовой
читательской аудитории, расширение книжного рынка неизбежно вели к
девальвации литературно-критического эссе. Об этом положении писал Леонард
Вулф: «Современные читатели не интересуются литературной критикой, и
потому "продать" ее вы не можете. Те ежемесячные и ежеквартальные
периодические издания, которые надеются печатать литературную критику,
обречены на провал. Поэтому большинство из них пытается совместить полезное
с приятным, публикуя книжные обозрения. Однако публика, которой инте-
79 Ibid. Р. 38.
556
Приложения
ресны обзоры новинок, не будет платить по два шиллинга и шесть пенсов...
если она может прочитать обзоры в газете»80.
Перед английскими эссеистами начала прошлого века стояла двоякая
задача: не снижая художественный уровень эссе, найти формы
демократического диалога с современным читателем. (О трудности этой задачи Вулф
напишет в «Современном эссе».) Во многом вопреки сложившейся практике
рецензирования, и преодолевая, с одной стороны, литературное эстетство, а
с другой - штампы массового развлекательного чтива, проблему эту
успешно решали такие блестящие мастера жанра, как Дж.К. Честертон -
публицист, бессменный корреспондент популярных изданий «Дейли ньюс» («Daily
News»), «Иластрейтид Ландон ньюс» («Illustrated London News»); Арнолд
Беннет - яркий колумнист «Ивнинг стэндард» («The Evening Standard»,
1926), автор известных эссе «Книги и личности» («Books and Persons»),
«Правда об авторе» («The Truth about an Author») и др.
К их числу принадлежит и Вирджиния Вулф, писательница поколения
1910-1920-х годов. Один из крупнейших эссеистов и литературных
критиков XX в. - сегодня в исторической ретроспективе это очевидно - она на
протяжении своей 40-летней без малого писательской деятельности
стремилась сохранить за жанром литературного эссе его художественную ценность
и общечеловеческую значимость, искала пути плодотворного диалога с
современным «обыкновенным читателем».
Подчеркнем, что диалог этот не сложился, если бы Вулф не нашла
каналы публикации и книжных рецензий, и обзоров, и
литературно-критических эссе, многие из которых имели программный характер для литературы
английского модернизма, и собственно литературного эссе.
МЕСТО ДЕЙСТВИЯ:
СРЕДИ СОВРЕМЕННИКОВ
Каково же значение новых литературно-критических журналов в
становлении литературы модернизма?
Без преувеличения, оно огромно. Ведь именно народившиеся в
начале XX в. журналы отдали свои страницы новому поколению писателей и
поэтов - без них невозможно представить ни новое искусство, ни новую
читательскую аудиторию, с отличными от викторианской публики вкусами,
запросами и культурными ориентирами. Это и «Нью эйдж» («New Age»)
Э.О. Орэджа, и «Инглиш ревью» Форда М. Форда, и «Эгоист» («The Egoist»)
Ричарда Олдингтона, и «Бласт» («Blast») Эзры Паунда и Уиндема Льюиса, и
«Эними» («Enemy») У. Льюиса, и «Кэлендер оф модерн летерс» («Calendar
of Modern Letters») Э. Рикуорда, и «Атенеум» («Athenaum») и «Адельфи»
Woolf V. The Collected Essays: 4 vols / Ed. by L. Woolf. L., 1966-1967. Vol. 2. P. 216-217.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 557
(«Adelphi») Джона М. Мэрри, и «Крайтирион» («The Criterion») Т.С. Элиота,
и «Скрутини» («Scrutiny») Ф.Р. Ливиса, и др.
«В предыдущее десятилетие (1910-е годы.- H.R) разнообразная
деятельность небольших журналов совершила революцию в литературе
(курсив мой. - Я.Р.)»81 - это утверждение М. Брэдбери тоже не кажется сегодня
преувеличением. В литературных журналах и журнальчиках того времени
молодые писатели стремились сформулировать и обосновать свои
художественные идеи. «На той стадии характерной формой критики была скорее
статья или эссе (курсив мой. - //.Р.)»82.
Вот как пишет о роли журналов и критики в формировании литературы
английского модернизма Питер Фолкнер в предисловии к «Антологии
модернизма: 1910-1930»: «Шедевры этого периода справедливо продолжают
привлекать наше внимание. Мы не найдем у других писателей того
времени достижений, сопоставимых с модернистскими, такими как "Дань Сексту
Проперцию" (1917) и "Хью Селуин Моберли" (1920); "Пруфрок" и другие
наблюдения" (1917) и "Бесплодная земля" (1922); "Радуга" (1915) и
"Влюбленные женщины" (1920); "Портрет художника в юности" (1916) и "Улисс"
(1922); "Комната Джейкоба" (1922), "Миссис Дэллоуэй" (1925), "На маяк"
(1927); "Башня" (1928)». «Эти творческие успехи сопровождались, -
развивает мысль П. Фолкнер, - небывалым подъемом литературной критики.
Новые художественные методы неустанно пропагандировались и отстаивались
в многочисленных литературных журналах, больших и малых, а старые -
подвергались сомнению и нападкам»83.
Возможно, кому-то из читателей покажется спорной попытка
английского литературоведа связать зрелое состояние литературы модернизма со
зрелостью критики того времени, однако, безусловно, факт взаимодействия
модернистской литературы и критики говорит кое-что о самом характере
литературы модернизма, о ее значительном критическом потенциале, уровне
саморефлексии и самосознания писателей.
Бросается в глаза существенная разница между критическими работами
1910-х и 1920-х годов. Ее точно уловил в своем анализе литературной
ситуации Малькольм Брэдбери: «Тон большинства изданий (1910-х годов. -H.R)
был авангардным: тираж их был невелик, адресованы они были в основном
читателям, представлявшим довоенную интеллектуальную богему.
Критикой, печатавшейся в журналах той поры, занимались такие писатели, как
Паунд и Элиот, Форд Мэдокс Форд и Ф.С. Флинт, и посвящена она была
главным образом тому, что Паунд называл «Создай новое» («Making It New»).
81 Bradbury M. Introduction to «The Calendar of Modern Letters». I (1966). P. vii. Цит. no:
Faulkner P. Introduction// A Modernist Reader: Modernism in England: 1910-1930/ Ed. by
P. Faulkner. L., 1986. P. 14.
82 Ibid.
83 Ibid. P. 3.
558
Приложения
Их критика носила главным образом реформаторский характер,
продуманностью и взвешенностью суждений не отличалась, зато ею было предложено
столько интересных откровений, что их хватило на последующее
десятилетие. Двадцатые же годы стали периодом революции в самой литературной
критике»*4.
Есть своя польза в сегодняшнем обращении к литературно-критическим
журналам 1910-1920-х годов. Она состоит в здоровом опыте деканонизации
текста эссе, «изъятого» из новенького тома университетского издательства и
вновь помещенного в журнал со страницами, разрезанными когда-то ножом.
Сегодняшнему читателю невредно знать социокультурный контекст той
эпохи.
Знаком перемен в мире английской журналистики и литературной
критики, начавшихся в середине 1900-х годов, явился лондонский
ежемесячный журнал «Инглиш ревью»: история его с тех пор стала одним из мифов
XX столетия.
Первый номер журнала вышел в декабре 1908 г. Главным автором
издания был Джозеф Конрад (1857-1924), главным же редактором, лидером и
вдохновителем нового предприятия стал уже упомянутый Форд М. Форд, его
друг и единомышленник. В первой же редакционной статье Форд объявил,
что журнал «посвящен искусству, литературе и идеям»85, и, надо сказать,
первый выпуск журнала сполна это подтвердил. Номер открывало
стихотворение Томаса Гарди «Трагедия воскресного утра», далее следовали рассказ
Генри Джеймса «Веселый уголок» и «Воспоминания» Дж. Конрада,
печатавшиеся в нескольких номерах журнала, проза Джона Голсуорси «Ловец
душ», «Стоунхендж» У. Хадсона, рассказ Л.Н. Толстого «Мятеж» в
переводе Констанс Гарнет и первая часть романа Герберта Уэллса «Тоно-Бенге».
Не были забыты и социально-политические вопросы: симпатии редакции
ясно проявились в положительной оценке, которая дана была статье
Стивена Рейнолдса «Дом бедняка», и в опубликовании наблюдений «Каково быть
безработным» УД. Дэвиса, вместе с предложениями Артура Марвуда
(генерального директора и финансового спонсора журнала) относительно
пенсионного обеспечения.
Состав второго выпуска включал таких авторов, как Анатоль Франс,
Верной Ли, Теодор Уоттс-Дантон (последний выступил комментатором не
публиковавшегося ранее стихотворения Данте Габриэла Россетти «Ян ван
Ханке»). Профессиональный уровень авторов журнала был настолько высок,
что когда в июне 1911 г. Остину Хэррисону, сменившему Форда М. Форда
на посту главного редактора, потребовалось отвести нападки газеты «06-
сервер», обвинившей журнал в том, что тот «выносит сор из национальной
избы», ему ничего не стоило собрать в защиту журнала более 90 подписей
Bradbury M. Op. cit. P. vii-viii. Цит. по: Faulkner P. Introduction. P. 17.
The English Review. 1908. N I. P. 158.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 559
лучших прозаиков и поэтов, сотрудничавших с «Инглиш ревью», кроме
названных выше, - это Бернард Шоу, У.Б. Йейтс, Арнолд Беннет, М. Горький,
Уолтер де ла Map, молодой Д.Г. Лоуренс и др. Никакой другой английский
литературный журнал тех лет не мог похвастаться таким блестящим
составом имен.
Притом что журнал не был чисто литературным изданием: у него была
своя политическая и социальная линия. Хотя Форд М. Форд и заявил, что
«партийного поворота»86 у журнала не будет, фактически такой поворот
присутствовал, а именно левый. Не случайным было и то, что большое
внимание в редакционных материалах уделялось России и Восточной Европе.
В течение целого ряда лет Форд М. Форд был дружен с русскими
политическими деятелями - Кропоткиным, Степняком-Кравчинским; его сестра была
замужем за Дэвидом Соскисом, бежавшим из Сибири. Журнал
поддерживали такие кембриджские академики, как профессор Эдвард Г. Браун,
специалист по арабскому языку: этот выдающийся ученый полагал необходимым
поддерживать «такое независимое издание», поскольку «оно служит
рупором для выражения разумных взглядов на внешнюю политику»87. Браун
рассматривал журнал как средство выражения смелых мнений передовыми
интеллектуалами того времени.
Не чурался журнал и развлекательной литературы: так, в «Приложении»
печатались модные пьесы, например в 1909 г. вышла четырехактная пьеса
А. Беннета «На вкус публики».
Внешний вид журнала- это объемистый том с рекламными
объявлениями в начале и с индексом имен авторов на обложке. Кроме собственно
литературного раздела, журнал печатал ежемесячный обзор
социально-политических вопросов, а также подборку литературно-критических статей
и книжных рецензий - что было позднее подхвачено и развито журналами
1920-х годов.
Что касается литературной критики, то журнал сразу обозначил
редакционную линию в области литературы и искусства серией статей
«Назначение искусства в Республике». В ней отразилось многое из эстетических
ориентиров того времени, и, как становится ясно в исторической перспективе,
была даже задана линия развития на десятилетие вперед.
Особенно интересен, для нашего обсуждения эссеистики Вулф,
редакционный взгляд на драму: речь, разумеется, идет не столько о собственно
драматическом искусстве, сколько о своеобразном понимании роли автора в
повествовании, которое условно можно назвать «драматическим методом»:
отныне автор выступал не только как создатель характеров, но и как
возможный герой собственных произведений - при условии, что он, автор, предста-
86 Ibid. Р. 159.
87 Письмо Брауна Соскису от 9 июля 1909 г. Цит. по: Boulton J.T. Introduction // The Letters of
D.H. Lawrence: 7 vols. Cambridge, 1979-1993. Vol. I. P. 13.
560
Приложения
вит себя интересным персонажем. Толчком для подобного поворота
послужило стремление освободиться от стереотипа всеведающего автора, который
превращает текст в «пропаганду» собственных идей. «Очевидно, - отмечал
критик, - что автор, будучи создателем своих героев, может, если пожелает,
судить и себя самого. Пока он создает собственный образ так, чтобы он был
интересен и вписался бы в схему произведения, он может позволить этой
"частичке себя" проповедовать любые доктрины. На страницах своего
произведения он волен блуждать туда-сюда среди других персонажей,
рассуждая об их поступках; он может свободно вмешиваться в действие»88.
Предложение автору стать персонажем собственного произведения,
посмотреть на себя отстраненно, обобщить какую-либо черту своего характера
до художественного образа и заставить его «играть» в ансамбле других
персонажей - модернистское по сути. Становятся возможны ирония и
самоирония. И хотя в журнале новый подход лишь заявлен, о конкретном
произведении или авторе речь не идет, примеры напрашиваются: это роман «Солдат
всегда солдат» («The Good Soldier», 1915) Форда M. Форда и роман Д.Г. Лоу-
ренса «Белый павлин» («The White Peacock», 1911) и, пожалуй, самое
интересное, в связи с нашей темой, - эссе Вирджинии Вулф. Действительно,
очень часто писательница использует прием «маски»: в эссе «Подслушано
на равнине: Рождение мифа» («Heard on the Downs: The genesis of Myth»,
1916)89, в «Письме к молодому поэту» («A Letter to a Young Poet», 1932), в
«Своей комнате», в «Трех гинеях» и др. Так, в эссе «Своя комната» Вулф
«на глазах у читателя» выбирает себе маску рассказчицы - героини
будущего эссе, тем самым обнажая прием, иронически его обыгрывая: «Нужно ли
говорить, что описанного ниже нет на самом деле, Оксбридж и Фернхем -
выдумка, как и "я"- безымянное, вымышленное лицо. ...Неделю или две
назад ясным октябрем сидела я в раздумье у реки (кто "я" - не важно, зовите
меня Мери Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайкл или как угодно)». А затем
«под занавес» она снимет маску, представ самой собой: «Здесь Мери Бетон
умолкает. ...Закончу я уже от своего имени, предвосхищая два критических
замечания в свой адрес»90.
Для всех модернистов рецептивный аспект писательской техники весьма
существен; так и Вирджиния Вулф, работая неустанно над техникой эссе,
искала свои способы диалога, игры, сотворчества с читателем. Но интересно,
что едва ли не первым о значимости роли читателя в современной
литературе заговорил журнал «Инглиш ревью»: «Единственное ограничение этой
форме пропаганды, - развивает критик свое предложение о драматическом
приеме повествования, - установлено читателем, единственное
сдерживающее начало для автора-персонажа - это его совесть. Если он действует и
The English Review. 1909. N 5. P. 319.
См.: The Essays of Virginia Woolf. Vol. II. P. 10-12.
См. c. 463, 517 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 561
впрямь как deus ex machine, сам решая все проблемы, заданные сюжетом,
тогда книгу можно считать примитивной утопией. Но если автор
рассматривает себя как великодушное, хотя и навязчивое, прекрасное, пусть вредное,
доброжелательное, пусть и ненадежное существо... тогда, конечно, этот
автор-пропагандист даст нам такое изображение современной жизни, точнее
которого и пожелать нельзя. Он попытается показать нам мир, как он его
видит, - мир, тем более интересный, чем более персональной будет его точка
зрения. Он будет описывать, но не приукрашивать жизнь»91. Для русского
читателя, хорошо знакомого с Тургеневым, эти размышления критиков «Ин-
глиш ревью» не покажутся откровением. В Англии же начала века в
литературе и эссеистике царил другой тон разговора с читателем - «менторский,
поучающий, осуждающий», как напишет Вулф в «Современном эссе». Даже
в 1933 г., когда Тургенева в Англии уже прочитали и благополучно забыли,
Вулф посчитает необходимым подчеркнуть ту меру свободы, которую
русский писатель оставляет читателю92.
Итак, в журналах 1910-х годов складывался новый стиль литературной
критики, оттачивались новые подходы к обсуждению литературы. Найденные
в те годы язык и приемы критики составили общий
литературно-критический дискурс. Как писать о новой поэзии? О прозе старших современников? -
эти и многие другие вопросы решала журнальная критика. Формулировки
той поры, высказанные в эссе и книжных рецензиях, часто откладывались
«багажом» английской критики и эссеистической мысли. Что доказывает
неслучайность многих критических поворотов и приемов у модернистов.
Это, может быть, лишает их ореола первооткрывателей, зато выявляет
динамику саморазвития модернизма в общем контексте английской культуры
начала XX в.
Так, одной из критических формул, устоявшихся благодаря журнальным
эссе 1900-1910-х годов, стало наигранно наивное сопоставление
произведений молодого «нового» поэта с предшественниками по принципу «от
противного»: «Нет у него ни...» В критических обзорах «Инглиш ревью» такая
формула использована, например, в рецензии на сборник Эзры Паунда
«Маски» («Personae», 1909): «Сказать, чего у этого поэта нет, очень легко- это
поможет точнее определить существо его поэзии. Итак, в его стихах нет ни
изящества, ни благозвучия; ни гладкой размеренности эпигонов Теннисона,
ни ровного наката поэтов новой волны - словом, ничего из положительных
качеств современных стихоплетов... В нем нет ни модной меланхоличности,
ни чувства обреченности, ни усталости от жизни; нет и того чувства
природы, которое заводит поэта в дебри описательности и орнаментальности. Его
бесполезно сравнивать с любым из ныне живущих поэтов, хотя У.Б. Йейтса
91 The English Review. 1909. N 2. P. 319-322.
92 См. перевод эссе «Романы Тургенева» («The Novels of Turgenev») на с. 430-435 наст. изд.
562
Приложения
он наверняка читал...»93 По существу, к такой же критической формуле будет
часто прибегать в эссе и Вирджиния Вулф, описывая реальных и
вымышленных писателей прошлого и настоящего времени. Вот как она характеризует,
например, современную писательницу Мери Кармайкл, которая
представляет собой собирательный обобщенный образ в эссе «Своя комната»: «Она не
"гений" - это очевидно. Ни любви к Природе, ни пламенной фантазии или
необузданности стиха у нее нет; она не блещет остроумием и философской
глубиной мысли своих великих предшественниц - леди Уинчилси,
Шарлотты Бронте, Эмили Бронте, Джейн Остен, Джордж Элиот. Нет в ней и
мелодичности и достоинства Дороти Осборн... И все-таки у нее есть то, что еще
полвека назад и не снилось великим писательницам...»94 Как видим, Вулф
использует привычный для английского эссе ход, вошедший в оборот
литературной критики в 1900-1910-е годы.
Сходную популярность, благодаря тем ранним эссе и обзорам,
печатавшимся в «Инглиш ревью», приобрел и способ выражения самоиронии
критика, который видит неадекватность своего критического инструментария
предмету обсуждения. Читаем в рецензии на сборник Эзры Паунда
«Маски»: «Как будто бы очевидно, что современная критика не справляется с
поэзией Эзры Паунда... мы хотели бы ...извиниться перед ним за собственную
ущербность, а заодно и принести извинения читателям за эту ненадежность
современной критики, чьей жертвой и одновременно скромным орудием
которой мы себя ощущаем»95. Собственно тот же жест критика, вынужденного
констатировать свою неспособность оценивать новую литературу старыми
методами, находим в эссе Вирджинии Вулф, например в характеристике уже
названной героини «Своей комнаты» - молодой писательницы Мери
Кармайкл: «И мне уже не покичиться тонкостью своих чувств, глубоким
знанием человеческой натуры. Только я настроюсь, кажется, на верные
представления о любви, о смерти, как неуемное существо дергает меня, увлекая
дальше, словно самое важное не в этом. С ней невозможно произнести
внушительно фразы о "запредельных чувствах", об "исконно человеческом",
"тайнах души" и все другие, поддерживающие в нас уверенность, что, какие
мы ни искусственные снаружи, внутри мы сама серьезность, глубина и
человечность. Напротив, она дала мне ощутить вместо серьезности, глубины
и человечности в каждом из нас - мысль малособлазнительная, - леность
души и ограниченность в придачу»96.
Встречается у авторов «Инглиш ревью» и еще один прием, который
возьмет на вооружение эссеистика 1920-х годов: разговор с точки зрения
«инопланетянина», постороннего, не посвященного в круг обсуждаемых вопро-
93 The English Review. 1909. N 2. P. 374.
94 См. с. 510-511 наст. изд.
95 The English Review. 1909. N 7. P. 630.
96 См. с. 510 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 563
сов. Например, «действительно, существо из другого мира, которое захотело
бы оценить сегодняшний уровень интеллектуальной жизни в Англии, и с
этой целью отправилось бы, как все мы отправляемся вечером, в "места
лондонских развлечений", было бы поражено тем, что у этой гордой, богатой...
цивилизации... нет и следа желания пробудить в ком-то мысль»97. Сравним с
высказыванием рассказчицы в эссе «Своя комната»: «Попадись газета
инопланетянину, он даже из этих разрозненных фактов понял бы, что Англия
под башмаком у патриарха»98. Этот привычный для философской прозы
XVIII в. прием - оценить явление свежим глазом постороннего или
простака - в эссе Вулф мы готовы воспринять как некую оригинальность или
стилизацию. Хотя, очевидно, что подобная оптика была общим местом в языке
тогдашней критики (возможно, еще и потому, что 1920-е годы - время
первых космических проектов и бурного самолетостроения).
И еще в одном, по крайней мере, отношении интересен отдел книжных
рецензий «Инглиш ревью», в связи с обсуждаемой здесь темой: в первом
выпуске журнала было сказано о низком художественном уровне
современной английской поэзии и прозы. Так, в обзоре «Истории английской
просодии» («A History of English Prosody», 1906-1910) Джорджа Сейнтсбери
(1845-1931) рецензент отмечал: «Профессор Сейнтсбери предлагает нам,
возможно, самую ценную - во всяком случае, самую необходимую -
книгу, которая только могла быть написана в этот период развития
английской литературы. Ибо никогда прежде технической стороной писательского
искусства не пренебрегали так беззастенчиво, как это делают сейчас. Автор
"Английской просодии" пытается восстановить нарушенное равновесие.
Ведь история литературы, можно сказать, - это серия летописей,
свидетельствующих о том, что великая литература выросла из дискуссий о технике
письма. Елизаветинцы стали великими писателями потому, что их
творческой деятельности предшествовали жаркие споры о поэтическом
мастерстве. Школа кокни в поэзии только потому и достигла замечательных
вершин, что основывалась на знании классической традиции XVIII века.
Современное же состояние литературы плачевно, поскольку у нас нет
писателей, знающих писательское ремесло, нет мастеров, которые, ломая
границы условностей, на которых их учили, выработали бы новые формы
искусства»99.
Одно из ключевых понятий в редакционных статьях «Инглиш ревью» -
это «художник воображения» (imaginative writer): «В широком смысле
литература сегодня разделилась на два четко обозначившихся типа - литература
"воображения" и литература "факта"; есть еще третий тип,
"изобретательный"... назначение которого состоит в том, чтобы отвлекать, восхищать,
The English Review. 1909. N 2. P. 320.
См. с. 479 наст. изд.
The English Review. 1909. N 2. P. 374.
564
Приложения
щекотать нервы, возбуждать аппетит читателя; тогда как "литература
воображения" призвана описывать жизнь глазами автора - будить мысль»100.
Писателем «воображения» в статье назван Генри Джеймс (1843-1916), чье
повествование строится на безличной точке зрения, начала которой восходят
к писательской практике Г. Флобера и И.С. Тургенева: «Каковы бы ни были
его (Г. Джеймса. - Н.Р.) личные взгляды, у нас нет возможности узнать о
них. Сам он никогда не появляется перед читателем, не подавляет нас своим
авторитетом, не читает нам наставлений. Мы не знаем, каковы его
политические и религиозные взгляды. Но мы знаем, что он никогда, ни на йоту, не
изменит картину жизни в угоду своему желанию или мечте. Мы закрываем
его книги с таким чувством, будто участвовали во многих событиях,
повстречали множество людей и теперь легко узнаем их при встрече. В
современной жизни так редко можно встретить задушевность, общественные
связи настолько запутаны, времени писать длинные письма почти никогда
не хватает - пишем записки, и поэтому нам сегодня жизненно необходима
цельная картина существования. Создать ее под силу только писателю
воображения, ибо ни набор фактов, ни схема не могут дать нам ощущение
единства и перспективы»101.
Оценка модернистами творчества Генри Джеймса была, разумеется,
намного более сдержанной, чем у рецензента «Инглиш ревью»,
издававшегося Фордом М. Фордом, учеником, единомышленником и почитателем
таланта Джеймса. И все же отметим очевидное: понятия - «литература
воображения», «литература факта», «писатель воображения» - вошли в
лексикон писателей, эссеистов, критиков 1910-1920-х годов и стали ключевыми
словами целой литературной эпохи. И спустя почти 20 лет в своем
«Апокалипсисе» («Apocalypse», 1930) Д.Г. Лоуренс будет задаваться вопросом
значимости воображения для существования современного человека102, а
Вирджиния Вулф в эссе будет постоянно оперировать определениями
«правда факта» и «правда видения», «проза воображения» и «проза бытописа-
тельская».
Другими словами, в формировании литературы модернизма и в
развитии современного эссе журнал «Инглиш ревью», наряду с другими, сыграл
конкретную практическую роль. Повороты обсуждения, оптика восприятия
явлений современной литературы, приемы, образы, введенные в оборот
обозревателями и рецензентами журнала, - все это служит наглядным
свидетельством развития эссе как гибкой и полноценной жанровой формы в
контексте английской литературы и критики начала XX в.
100 Ibid. Р. 160.
101 Ibid.
102 См.: Lawrence D.H. Apocalypse and The Writings on Revelation I Ed. by Mara Kalnins.
Cambridge, 1980.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 565
ВЫСОТА ОБЗОРА
В создании программных для модернизма эссе Вирджиния Вулф
выступила активнейшим лицом, наряду с такими писателями, как Д.Г. Лоуренс,
Т.С. Элиот и Э.М. Форстер. Ее эссе «Современная литература» (1919, 1925),
«М-р Беннет и миссис Браун» («Mr. Bennett and Mrs. Brown», 1923, 1924),
«Своя комната» и др. - признанные манифесты английского модернизма.
Самый же корпус ее эссеистики, и в первую очередь ее «двухсерийный» цикл
«Обыкновенный читатель», - это памятник модернистской эстетики,
сравнимый с «Лирическими балладами» (1798) Вордсворта и Колриджа, как
выражением эстетики романтизма, или «Жизнеописаниями выдающихся
английских поэтов» Сэмюэла Джонсона - памятником классицистической мысли.
Попробуем прочертить этапы эссеистической деятельности Вулф,
сделав небольшое предварительное замечание.
К эссеистике Вулф не следует относиться как к застывшей системе,
откуда можно смело цитировать «взгляды» автора на тот или иной предмет. Вулф
писала эссе в течение почти 40 лет, с 1904 по 1941 г., и в них естественно
отразились многолетние искания крупного романиста, требовательного
художника и профессионального литературного критика, мастера эссе. Вулф
-редкий автор, у нее верность принципиальным взглядам на вещи соединялась с
постоянным развитием идей, убежденностью в относительности любых
оценок и суждений. Каждая мысль продумывалась ею до конца и получала
законченное художественное выражение. Причем развитие идей шло рука об
руку с ее исканиями в области формы, которые завершились созданием
историко-литературного цикла эссе «Обыкновенный читатель». Другими
словами, эссе Вирджинии Вулф - произведения художника, который и в открыто
публицистических, и в собственно литературно-критических произведениях
мыслит образами, создает свой мир и свой язык. Очевидно, что для
понимания эссеистики Вулф принципиально важен вопрос проблематики ее эссе.
Разобраться в обсуждаемых ею проблемах и проследить логику изменения
взглядов писательницы на центральные вопросы - значит попытаться
сформулировать замысел или первоначальный проект, определяющий
композицию ее «Обыкновенного читателя» (при всех оговорках, связанных с
сомнениями теоретиков в возможности реконструкции «авторской интенции»103).
Первый этап в деятельности Вулф-эссеиста с 1904 по 1916 г.
представляет собой десятилетие напряженной работы рецензента, пишущего для
узкого круга литературных журналов104. Ранняя эссеистика составляет
приблизительно одну пятую часть всех эссе писательницы. В ней можно найти
См.: Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина. М.,
2001. С. 85.
Редактор «Полного собрания эссе Вирджинии Вулф» Эндрю Мак-Нейли, очевидно,
исходит из другой периодизации эссе Вулф: ранние эссе- эссе 1904-1912 гг., средние эссе-
работы 1912-1918 гг.; третий этап- эссе 1919-1925 гг.; четвертый- эссе 1925-1928 гг.;
пятый - эссе 1929-1932 гг.; заключительный - эссеистика 1933-1941 гг. В более дробном
566
Приложения
истоки многих вопросов, которые позднее станут центральными темами в
ее романах и в цикле «Обыкновенный читатель». В этих эссе Вулф часто
раскрывается эмоционально - чувством, личным отношением к предмету
разговора, что позволяет исследователю ее творчества уточнить направление
мысли писательницы. Это особенно важно потому, что позднее в своих романах
Вулф будет стремиться к сознательному замалчиванию писательского «Я».
В ранних эссе встречаются образы, которые в более поздних ее
произведениях воспринимаются как фантастические, надуманные, например,
образ комнаты, подземелья-лабиринта и т.д. В первом же своем появлении они
естественны, объяснимы, поскольку обычно имеют реальную основу в
биографии или воспоминаниях того или иного исторического лица. Так что
ранние эссе подчас служат ключом и к художественному творчеству Вулф, и
(что особенно важно в нашем случае) к циклу «Обыкновенный читатель».
Практически каждое эссе, вошедшее в состав изданий 1925 и 1932 гг.,
сложилось на основе ранее написанной рецензии или обзора какой-либо
книги. Таковы эссе «Елизаветинский сундук» («The Elizabethan Lumber Room»,
1925), «Герцогиня Ньюкасл» («The Duchess of Newcastle», 1925), «Забытая
жизнь», «Леди Дороти Невил» («Lady Dorothy Nevill», 1919), «Современное
эссе», «Аркадия графини Пемброк» («The Countess of Pembrokes Arcadia»,
1932), «Сентиментальное путешествие» («The "Sentimental Journey"», 1928),
«Джеральдина и Джейн», «Дороти Вордсворт» («Dorothy Wordsworth»,
1929), «Джордж Гиссинг» («George Gissing», 1927), «Я - Кристина Россетти»
(«I am Christina Rossetti», 1930) и др., «выросшие» из рецензий 1904—
1912 гг.105 Конечно, связь между рецензией Вирджинии Стивен (как
правило, неподписанной) устанавливается скорее по материалу, который
писательница использует много позднее в своем tour de force - в эссе, включенном в
окончательную редакцию «Обыкновенного читателя». Но нельзя, по-моему,
недооценить важную особенность эссе Вулф: каждое эссе
«Обыкновенного читателя» имеет историко-культурную основу в виде обширного пласта
жизнеописания ли, хроники эпохи, мемуаров, дневников и т.д. В этом
смысле каждое эссе «Обыкновенного читателя» подобно верхушке айсберга, тол-
представлении о корпусе эссе Вулф учитывается, на наш взгляд, количественный состав
эссе, нежели динамика художественных идей писательницы.
Ср., соответственно, с ранними эссе «Путешествия и открытия» («Trafncks and Discoveries»,
1906); «Герцог и Герцогиня Ньюкасл-на-Тайне» («The Duke and Duchess of Newcastle-upon-
Tyne», 1911); «Мария Эджворт и ее круг» («Maria Edgeworth and Her Circle», 1909);
«Воспоминания леди Дороти Невил» («The Memoirs of Lady Dorothy Nevill», 1908); «Упадок
искусства эссе» («The Decay of Essay Writing», 1905); «Филип Сидни» («Philip Sidney»,
1907); «Стерн» («Sterne», 1909); «Письма Джейн Уэлш Карлайл» («The Letters of Jane Welsh
Carlyle», 1905) и «Еще о письмах Карлайла» («More Carlyle Letters», 1909); «Вордсворт и
Озерный край» («Wordsworth and the Lakes», 1906) и «Письма Вордсворта» («Wordsworth's
Letters», 1908); «Романы Джорджа Гиссинга» («The Novels of George Gissing», 1912);
«Письма Кристины Россетти» («Letters of Christina Rossetti», 1908).
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 567
щу которого составляет многолетний опыт чтения писательницы по
выбранной теме. Кстати, по этой причине далеко не просто комментировать эссе,
включенные в состав «Обыкновенного читателя»: источники, цитируемые
Вулф, - это, как правило, «следы» ее весьма обширного круга чтения,
уходящие в практику книжного рецензента и обозревателя (не говоря, конечно, об
опыте детского чтения).
Темы ранних эссе различны: современная литература, литература
прошлого, жизнеописания общественных деятелей, философов, поэтов,
жизнь людей обыкновенных, чаще женщин; история, критика, зарисовки
житейских историй.
Почти все ранние эссе - обзоры книг, присылавшихся издательством или
журналом на рецензию. Материал чаще случайный, в выборе которого Вулф
была не вольна. Можно ли в таком случае называть ранние работы «эссе»?
Действительно, значительная часть каждой статьи - обзор
рецензируемой книги. И все же ранние эссе больше, чем просто рецензии. В них
видна попытка Вулф каждый раз увязать рецензируемую книгу с более общими
вопросами. Главные из них - современная литература в сравнении с
литературой прошлого; назначение и форма литературной критики; литература и
человек, пути развития личности; память и забвение.
Связи с литературными журналами, где Вирджиния Стивен начала
сотрудничать как рецензент, образовались постепенно - поначалу, благодаря
знакомым и родственникам. Так, заказы из женского приложения к
англо-католической церковной газете «Гардиан» Вирджиния Стивен начала получать
с легкой руки своей сводной сестры Виолетты Дикинсон, которая была
знакома с Маргарет Литлтон, выпускавшей приложение к «Гардиан». «Странное
место для Вирджинии Стивен - не могу понять, как они смогли заполучить
в ряды своей паствы сию козочку», - замечает Г. Ли, со ссылкой на письмо
Виолетты Дикинсон от середины февраля 1905 г.106 Сотрудничеством же в
1910-е годы с политическим изданием «Нэшнл ревью» Вулф была обязана
своей знакомой Кити Маркс: ее муж был главным редактором газеты.
Заказы из литературного приложения к «Тайме» Вулф стала получать от первого
редактора Брюса Ричмонда, а в журнале «Корнхил» ее заказчиком выступил
Реджиналд Смит, редактор издания, начинавший еще при жизни Лесли
Стивена. Уточним: речь идет о довольно жесткой практике рекомендаций,
принятой в издательских кругах Англии. Хотя для дочери уважаемого историка
литературы, издателя, составителя «Национально-биографического
словаря» двери литературных журналов не были закрыты, но составить себе
репутацию профессионального рецензента, книжного обозревателя и эссеиста
могла только сама Вирджиния Вулф. Чего она и добилась упорным
ежедневным трудом в течение многих лет, причем печатая обзоры и рецензии, как
Lee H. Op. cit. P. 215, fn 61. В семействе Стивенов было принято ласково называть
Вирджинию «козочкой» (goat).
568
Приложения
правило, анонимно, не подписывая. Вспоминается совет, который она даст
молодому поэту через тридцать лет: «Только ради бога, не печатай ничего до
тридцати. Убеждена, это очень важно. Большинство слабостей в известных
мне стихах происходят, по-моему, оттого, что стихи эти увидели свет, когда
они еще не совсем для этого созрели. Это иссушило их до состояния
скелетного аскетизма и в чувствах и в словах, чего не должно быть у молодости.
Поэт пишет очень хорошо, пишет для строгого и умного читателя. Но разве
не лучше бы он писал, если б десять лет сам был читателем своих стихов?
В конце концов годы от двадцати до тридцати (позволь мне снова сослаться
на твое письмо) - это годы душевного волнения. Закапал дождь, сверкнуло
крыло, кто-то прошел мимо - помнится, обычнейшие звуки и картины могут
сбросить с вершин восторга в бездну отчаяния. И если в реальной жизни все
так бурно, то, видимо, и воображению надо раскрепоститься и не отставать.
Исписывай горы чепухи, пока молод. Дурачься, сентиментальничай,
подражай Шелли, Сэмюэлю Смайлзу, пиши порывом, пиши безвкусицу,
ошибайся в стиле, в грамматике - вылейся весь; перекувырнись. И дай выход гневу,
любви, сатире - любыми подвернувшимися, привязанными или
сотворенными словами, любым размером, прозой ли, поэзией, абракадаброй, если тебе
угодно. Так ты научишься писать. А начнешь публиковать свои стихи -
потеряешь свободу, будешь думать, что скажут люди, начнешь писать с
оглядкой на других»107. Зная творческую биографию Вулф, понимаешь, что это не
совет доброхота, а выношенный взгляд писательницы, которая по крупицам
выстраивала свое кредо.
Единственные «подписные» эссе среди ранних публикаций 1904—
1916 гг. - это короткие очерки в духе того времени об «уличной музыке», о
«смехе»: в них Вирджиния Стивен позволяла себе больше свободы
самовыражения, чем в заказных рецензиях и обзорах.
Очень быстро, по мнению Г. Ли, Вирджиния Стивен обрела силу и
уверенность пера: «Написанные в 1907-1910 гг., ее эссе об откровенных ли
мемуарах восемнадцатого века, принадлежащих леди Фэншоу, или о
ярких дневниках леди Холланд, блестящей хозяйки светского салона, о
ненасытной любознательности и фантазии Стерна, о гениальности ли Босэулла
или эксцентричной леди Эстер Стенхоуп - все они исполнены потрясающей
уверенности и мастерства»108. Под писательским мастерством
литературовед понимает ярко выраженный индивидуальный стиль ранних эссе (в
подтверждение цитируется письмо Вирджинии Стивен Виолетте Дикинсон
от 4 августа 1906 г.: «Прочитай внимательно свежий номер "Гардиан", да
не забудь заглянуть в статью о Генри Джеймсе: бьюсь об заклад, что
первые же слова скажут тебе, кто их автор»109); умение стилизовать собствен-
107 Из эссе «Письмо к молодому поэту». См. с. 460 наст. изд.
mLeeH.Op. cit. P. 216-217.
109 Woolf V. The Letters: 6 vols. / Ed. by Nigel Nicolson. L., 1975-1980. Vol. 1. P. 234.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 569
ную манеру под почерк писателя, о котором идет речь (в качестве
примера Г. Ли называет рецензию Вулф на письма г-жи Карлайл110); безличный
тон, который она принимает всякий раз, когда рецензирует слабые книги,
отсутствие всякой комплиментарности (например, в оценке книг Л. Мел-
вилла «Страна Теккерея» и Ф.М. Коттона «Страна Диккенса» как далеких
от литературы) и, наоборот, увлеченность интересным материалом,
богатым фактами и сочными историческими подробностями (таковы,
например, эссе о письмах Элизабет Бэррет Браунинг, о «Путеводителе по
Озерному краю» Вордсворта или обзор сочинений Хаклита, изданных Уолтером
Рэйли111).
С самого начала Вулф проявляла исключительную добросовестность в
роли рецензента. Как отмечает Г. Ли, профессиональная осторожность
сочеталась в ней с огромной внутренней самодисциплиной. Она писала о себе:
«Каждый шаг я делаю с внутренним трепетом - шаг вперед, шаг назад -
стараясь не ошибиться ни в одной фразе». «Жаль, что не могу позволить себе
быть смелой и откровенной в моих обозрениях»112. Спустя годы, вспоминая
о первых шагах на поприще ревьюерной критики, Вулф создаст иронический
образ «Домашнего Ангела», взяв за основу известные строки викторианского
поэта Кавентри Пэтмора (1823-1896) и наделив его обобщенными чертами
викторианской матушки, которая ни на минуту не оставляет в покое
пишущую дочь, стоя у нее за спиной и нашептывая: «пиши так!», «думай эдак!»113
Вулф признается, что долго училась тому, чтобы освободиться от внутреннего
цензора: «Он умирал тяжело»114. Но, пожалуй, самое показательное
состоит в том, что со временем Вулф сформулировала общий подход писателя к
своему предмету, независимый от принадлежности к тому или другому полу:
либо человек пишет по существу предмета, либо «кланяется». Именно этот
критерий, наряду с другими, читается между строк таких эссе
«Обыкновенного читателя», как «Мисс Митфорд» («Miss Mitford», 1920), «Я - Кристина
Россетти», «Романы Тургенева» и др.
110 См.: The Essays of Virginia Woolf. Vol. I. P. 54-58.
111 «Письма поэта» («Poet's Letters»). Рецензия на книги «Elizabeth Barrett Browning in Her
Letters» Перси Лаббока и «Robert Browning and Alfred Domatt» Ф.Дж. Кениона,
подписанная А.В. Стивен (A.V Stephen), опубликованная в «Спикере» 21 апреля 1906 г.; «Вордсворт
и Озерный край» («Wordsworth and the Lake»). Рецензия на книги У. Вордсворта
«Путеводитель по Озерному краю» («Guide to the Lakes») с предисловием Эрнеста де Селинку-
ра и «Месяцы, проведенные в Озерном краю» («Months at the Lakes») преп. Х.Д. Ронсли,
опубликованная в приложении к «Тайме» 15 июня 1906 г.; эссе «Путешествия и открытия»
(«Trafficks and Discoveries», 1906) см. в: The Essays of Virginia Woolf. Vol. I. P. 120-124.
112 Woolf V. A Passionate Apprentice: The Early Journals, 1897-1909 / Ed. by M.A. Leaska. L.,
1990. P. 270.
113 См. с 501 наст. изд.
114 Woolf V. Professions for Women // The Death of the Moth and Other Essays by V Woolf. L.,
1942. P. 237.
570
Приложения
Всего в 1904-1916 гг. Вулф опубликовала 128 эссе в периодических
изданиях. К слову, одно из лучших эссе того периода - «Впечатления о сэре
Лесли Стивене» («Impressions of Sir Leslie Stephen, 1906») для книги
воспоминаний, выпущенной Фр.У. Мэйтлендом115. Этап «ученичества» остался
позади, ив 1917 г. Вулф пустилась в свободное плавание ведущего
обозревателя сразу нескольких английских периодических изданий: литературного
приложения к «Тайме», «Атенеума» и др.
Средний период эссеистики Вулф - с 1917 по 1924 г. - это период
создания программных эссе-манифестов модернизма, период
литературно-критического осмысления русской литературы и выработки собственной
писательской позиции, эстетической платформы и художественного языка.
Именно в 1917 г. возобновляется ее сотрудничество с приложением к
«Тайме», прерванное в августе 1913 г.116, причем событие это совпало с
другой вехой в семейной жизни Вулфов: приобретением собственного
типографского станка, на котором в июле того же года они напечатали свою
первую книжку «Два рассказа» - «Пятно на стене» Вирджинии Вулф и «Три
еврея» Леонарда Вулфа, с четырьмя офортами художницы Доры Карринг-
тон (1893-1932)117. Оба события имели прямое отношение к писательской
деятельности Вулф: отныне она зарабатывала профессиональным трудом
эссеиста в крупнейших периодических изданиях и одновременно получала
возможность печатать свои произведения в независимом, вновь созданном
издательстве «Хогарт Пресс».
Два слова об этом издательстве.
Как правило, судьбы издательств, особенно зарубежных, известны лишь
узкому кругу специалистов - тех, что заняты собственно издательским
делом или же интересуются издательской стороной литературного процесса.
Поэтому названия английских издательств (за исключением крупнейших,
таких как «Оксфорд Юниверсити Пресс» или «Пенгуин») мало о чем
говорят широкому русскому читателю. Однако для читающего англичанина
издательство «Хогарт Пресс» - это легендарная страница в истории культуры
XX в. Не только потому, что его основателями были
писательница-модернистка Вирджиния Вулф и один из идеологов Лиги Наций Леонард Вулф.
Но главное - с момента возникновения в 1917 г. «Хогарт Пресс»
ориентировался на выдающиеся в художественном отношении произведения
современной литературы. Причем часто это были первые публикации произведений
мало кому известных в то время, а ныне прославленных авторов, и Вулфы
собственноручно набирали тексты на своем типографском станке - сейчас
эту подробность принято отмечать в авторитетных западных справочниках
как некую литературную экзотику. Так, только с 1917 по 1927 г. в «Хогарт
115 MaitlandF.W. The Life and Letters of Leslie Stephen. L., 1906.
116 См.: McNeillie A. Introduction // The Essays of Virginia Woolf. Vol. II. P. X.
117 См.: Woolf L., Woolf V. The Mark on the Wall (Three Jews): Two stories. Richmond, 1917.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 571
Пресс» вышли: сборник «Стихотворения» («Poems»), поэма «Бесплодная
земля» («The Waste Land»), эссе «Похвала Джону Драйдену» («Homage to
John Dryden») ТС. Элиота, рассказы и эссе Э.М. Форстера, статьи Г. Рида,
Р. Грейвза, Г. Стайн, проза самой В. Вулф, политические статьи Л. Вулфа
и др. В 1930-1940-е с издательством сотрудничали известные поэты,
философы, экономисты: У.Х. Оден, С. Спендер, У. Льюис, Ж.-П. Сартр, М. Кейнс.
С конца 1910-х издательство печатало переводы трудов Фрейда и Лафорга.
Умение нащупать приоритеты новой, тогда еще только складывавшейся
культуры, подбор лучших современных авторов, безупречный литературный
вкус - это особая издательская марка «Хогарт Пресс».
Книги оформляли художники круга Блумсбери - Ванесса Белл, Дункан
Грант, Дора Каррингтон и др. У издательства была не просто особая книжная
графика - его рано определившийся дизайн со временем стал одним из
артефактов английской культуры XX в. У него свой интертекст, рифмующийся
и с европейским изобразительным искусством 1910-1920-х годов -
Матиссом, Браком, и с чисто английским элитарным художественным комплексом
Чарлстон118, и с макетами таких изданий, как, скажем, «Оксфордский
словарь английской литературы» под редакцией Маргарет Дрэбл, выходящий
массовым тиражом и знакомый русскому филологу по московским книжным
витринам. Читатель узнает этот стиль по некоторым иллюстрациям,
сопровождающим настоящее издание.
В портфеле «Хогарт Пресс» постоянно находились переводы
произведений европейских писателей и поэтов первой трети прошлого века,
преимущественно русских119: Бунина, Толстого, Чехова...
Именно в те годы Вулф жадно читала русскую литературу, писала
рецензии на публиковавшиеся переводы из русской классики - Л.Н. Толстого,
Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова, И.С. Тургенева, СТ. Аксакова, М.Е.
Салтыкова-Щедрина, а также современных русских писателей - В.Я. Брюсова,
М. Горького, Е.М. Милицыной и др. Она начала учить русский язык и даже
попробовала себя на переводческом поприще120.
18 Чарлстон - загородный дом в графстве Сассекс на юго-востоке Англии, где с 1916 г.
спасались сначала от тягот войны (и от мобилизации), а впоследствии - от городской суеты
многие известные лондонские художники и писатели: Ванесса Белл, Дункан Грант, Дэвид
Гарнет, Вирджиния Вулф, Роджер Фрай и др. Перестроенный и декорированный руками
самих художников, Чарлстон сегодня представляет английский аналог нашего музея
«Абрамцево».
19 Подробнее о «русском портфеле» издательства «Хогарт Пресс» см. главу 3 в монографии
Дж.Х. Уиллиса-младшего «Издательская деятельность Леонарда и Вирджинии Вулф:
"Хогарт Пресс" с 1917 по 1941 г.» {Willis J.H., jr. Leonard and Virginia Woolf as Publishers: The
Hogarth Press, 1917-41. Charlottesville; London, 1992. P. 80-101) и статью Н.И. Рейнгольд
«Русское путешествие Вирджинии Вулф» на с. 627-651 наст. изд.
20 Подробнее о русской главе в творчестве Вулф см. «Русское путешествие Вирджинии
Вулф».
572
Приложения
Ее деятельность обозревателя в те годы поражает: с 1917 по 1924-1925 гг.
она опубликовала около 200 эссе, если точнее - 78 эссе в 1917-1918 гг. и
около 100 эссе в период с 1919 по 1924 г. В 1917-1918 гг. Вулф сотрудничала
почти исключительно с литературным приложением к «Тайме», и
сотрудничала очень успешно: заказы сыпались, как из рога изобилия, бывало, ей
приходилось рецензировать по «две-три книги в неделю». «...Не успеешь от
одной волны отбиться, следом другая. Время идет, а "День и ночь"121 лежит
себе без движения»122. «Когда заказ шлют телеграммой, и м-ру Джилу
приходится под проливным дождем топать за книгой в Глинд (местечко в миле
от дома Вулфов. -Н.Р.), и он возвращается не раньше десяти вечера и стучит
в окно, чтоб получить свой шиллинг и вручить мне книгу, меня переполняет
ощущение собственной значимости»123.
1917-1924 гг. - самый плодотворный и экспериментальный период
деятельности Вулф, прозаика и эссеиста. В 1917 и 1919 гг., уже опубликовав
свой первый роман «По морю прочь», Вулф печатает в только что затеянном
издательстве «Хогарт Пресс» рассказы, по словам Э.М. Форстера,
поразившие всех своей необычностью. В 1917 г. она начинает работать над романом
«День и ночь», который критики дружно сочли
традиционно-реалистическим, а через четыре года, в 1922 г., выходит роман «Комната Джейкоба», где
непривычно, по-новому, изображены психология молодого человека и
английское общество накануне Первой мировой войны.
Через ее стол обозревателя проходят десятки произведений современной
английской литературы. По-прежнему в поле ее зрения и литература
прошлого, викторианская культура. Но появился характерный поворот
разговора о прошлом - оно неизменно рассматривается с точки зрения проблем
современного искусства. Центральные темы в эссеистике Вулф тех лет-
современная и прошлая литература; критика; предмет литературы и ее
назначение.
Важнейшая тема ее эссе о литературе в те годы - переоценка
викторианской литературы и культуры с позиций своего поколения. Сегодняшнему
русскому читателю приходится делать усилие воображения, чтобы хоть как-
то представить себе своеобразное отношение Вулф к викторианству. Ведь
для ее поколения и для нее самой викторианская Англия была не историей,
а жизнью их родителей, собственным детством124. При этом их поколение
иронически взирало на «святыни» викторианского прошлого: королевскую
семью, религию, мораль. Нескрываемые скепсис и ирония читаются в
заглавии книги «ВЕЛИКИЕ викторианцы» («Eminent Victorrans», 1918) (выделено
121 Роман «День и ночь» (1919), над которым Вулф работала в 1917-1919 гг.
122 The Diary of Virginia Woolf: 4 vols / Introduction by Q. Bell; Ed. by A.O. Bell. L., 1977-1982.
Vol. I. P. 224.
123 Ibid. P. 197.
124 См.: Woolf V. Moments of Being: Unpublished Autobiographical Writings. P. 64-137.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 573
мной. - Н.Р.) Литтона Стречи (1880-1932) - друга и соратника Вулф по эс-
сеистическому цеху. Молодые стремились пересмотреть ценности,
внушенные человеку как истинные, - именно это имеет в виду Теренс Хьюит, герой
первого романа Вулф «По морю прочь», когда заявляет, что хочет «говорить
о том, о чем обычно молчат». Им хотелось «судить о людях не только по их
«высказываниям, но и по их поступкам»125, ибо мнения, как оказалось,
часто расходились с действительностью. Позднее Вулф не раз обобщит свой
взгляд на викторианство - и в романе «Орландо», и в биографическом эссе
«Флаш» («Flush: A Biography», 1933), и в одном из последних своих романов
«Годы» (1937).
В эссе же 1917-1924 гг. Вулф с позиций своего поколения - не забудем,
поколения, прошедшего Первую мировую войну, - критически
«перечитывает» сочинения недавних кумиров: Мередита, Гиссинга, Генри
Джеймса, Батлера, Гарди, Стивенсона, Киплинга и др. Она особо выделяет среди
писателей-викторианцев Сэмюэла Батлера (1835-1902)- живого,
своеобразного художника. В эссе «Человек со своим взглядом на вещи» («A Man
with a View», 1916) и «Путь всей плоти» («The Way of All Flesh», 1919) она
подробно разбирает взаимоотношения Батлера с викторианским веком.
По своим творческим и жизненным ориентирам писатель расходился с
большинством литераторов своего времени. В литературе стоял особняком, с
насмешкой отзывался о «ценностях» века- «века... ложных ценностей и
пустых увлечений, предрассудков, художественного невежества и редкой
непрактичности»126. Батлер подчеркнуто называл себя в письмах
любителем, был чужд сковывающего профессионализма. Недаром Вулф
сравнивает его с вольным мальчиком, отправляющимся ловить сачком бабочек, а его
современников - со школьниками, зубрящими арифметику в душном классе.
И это не просто фигура речи: писательница видит в Батлере «творческого»
художника, стремящегося поймать «бабочку» прекрасного. Свобода Батлера-
художника состоит, по ее мнению, в умении освободиться от условностей,
«добиться... душевного раскрепощения, что он и демонстрировал в одной
книге за другой»127. Конечно, в условиях ложного пуританства
викторианской эпохи образ жизни свободного художника неминуемо обрекал Батлера на
положение изгоя или, по меньшей мере, чудака, а позиция непрофессионала
делала его заведомым неудачником при общей установке на «дело»,
«профессию», «материальный успех». Но и в положении изгоя Батлер не уставал
высмеивать пороки общества - этого «чудовища», выражаясь языком Вулф.
Ей симпатичны и батлеровская сатира, и критицизм Бернарда Шоу. Чисто
по-человечески эти писатели казались ей единственными живыми фигурами
125 См. эссе «Своя комната». С. 490 наст. изд.
126 The Essays of Virginia Woolf. Vol. II. P. 34-40.
127 Ibid.
574
Приложения
в викторианском мире, полном запретов, как она отметит в своем
программном эссе «М-р Беннет и миссис Браун»128.
Часто обращалась Вулф и к творчеству Томаса Гарди (1840-1928), хотя,
кажется, написано было всего два эссе, оба поздних, - «Романы Томаса
Гарди» («Novels of Thomas Hardy», 1928), вошедшее в состав второй серии
«Обыкновенного читателя», и «Половина Томаса Гарди» («Half of Thomas
Hardy», 1928), представлявшее собой рецензию на книгу «Ранние годы
жизни Томаса Гарди»129. Для Вулф проза Гарди- «Великого викторианца»-
своего рода исключение из правил: только его романы из множества
викторианских сочинений выдерживают проверку на общечеловеческую глубину.
Ведь именно «содержательный, общечеловеческий» роман, а не роман
совершенной формы определяет традицию английской литературы, - отмечает
она в эссе «Английская проза» («English Prose», первоначальное название «А
Treasury of English Prose», 1920). Романы, как она выражается, пишутся «для
каждого - мужчины ли, женщины, ребенка, живущих на Британских
островах»130, и именно таковы, по ее мнению, романы Гарди.
А романы Р.Л. Стивенсона (1850-1894), другого прозаика викторианской
эпохи, наоборот, представляются ей «отточенными безделушками». Она не
находит в них общезначимых идей. Современному русскому читателю,
воспитанному на переводах, экранизациях романов и рассказов Стивенсона, с
таким мнением согласиться трудно. Тем не менее понять логику Вирджинии
Вулф можно: она рассматривает творчество Стивенсона с точки зрения
традиции психологического романа, поэтому в сравнении с Лоренсом Стерном
или Джейн Остен его произведения представлялись ей бессодержательными
и «выпадающими» из традиции.
Нарушение преемственных связей прошлой и современной
литературы было особенно заметно, по мнению Вулф, у писателей начала XX в., так
называемых эдвардианцев: к их творчеству она относится резко
критически. Во многих эссе 1917-1924 гг., чаще представлявших собой «текущие»
обзоры, рецензии последних литературных новинок - романов Голсуор-
си, Уэллса, Беннета и других писателей старшего поколения («Философия
в литературе», «Philosophy in Fiction», 1918; «Роман м-ра Голсуорси», «Mr.
Galsworthy's Novel», 1917; «Flumina Ahem Silvasque», 1917; «Зеленое
зеркало», «The Green Mirror», 1918; «Права молодости», «The Rights of Youth»,
1918) - отмечала она ходульность, стереотипность, «безжизненность» и
героев, и сюжетов современной прозы. В произведениях современников Вулф
не находила полнокровного героя и, следовательно, желанной полноты
жизни. Для нее они «материалисты», как назовет она Голсуорси, Беннета и Уэл-
См. перевод «М-ра Беннет и миссис Браун» на с. 436-451 наст. изд.
Опубликованы 19 января 1928 г. в литературном приложении к «Тайме» и 24 ноября 1928 г.
в «Нейшн энд Атенеум».
Books and Portraits: By Virginia Woolf/ Ed. by Mary Lyon. L., 1977. P. 14, 17.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 575
лса в другом своем программном эссе «Современная литература»,
включенном позднее в состав «Обыкновенного читателя». О чем речь?
В «Английской прозе» писательница определяет задачу романиста как
«лакейскую»- описывать жизнь обыкновенных людей131. Большая
литература прошлого, подчеркивает Вулф, всегда стремилась к постижению
главной реальности - жизни обыкновенного человека, «миссис Браун», как она
обобщит в «М-ре Беннете и миссис Браун». Писатели прошлого добивались
значительных художественных побед, прежде всего через создание живых
образов героев, подсказанных судьбами людей настоящей эпохи.
«Материалисты» же, по ее мнению, упускают эту духовную цель литературы. Они
либо разрабатывают идеи социального переустройства, как Уэллс, либо,
подобно Беннету, заняты «частностями» - подробным описанием быта,
житейской стороны существования героев. Поэтому образы людей в их
сочинениях, полагает она, ходульны, в сравнении с живыми персонажами Дж. Остен,
Э. Бронте, Т. Гарди.
Понятно, почему в эссе «Перечитывая романы» («On Re-reading
Novels», 1922) Вулф назвала писателей старшего поколения «смутьянами»:
они «взорвали», по ее мнению, духовную традицию английской литературы.
В этом эссе писательница дает интересную общую оценку литературной
ситуации 1910-1920-х годов: ее поколение - «георгианцы» - оказалось в
сложном положении из-за того, что их предшественники - «эдвардианцы» -
писали вопреки национальной традиции, представленной в XIX в. романами
Остен, сестер Бронте, Мередита. В итоге ее поколение оказалось в духовном
вакууме и вынуждено было обратиться к иной национальной литературе -
к русской: «Вопрос, который стоит сегодня на повестке дня, касается
провала эдвардианцев, провала сокрушительного, хотя, возможно, и не самого
страшного. Почему 1860 год оказался годом неурожайным на литературные
таланты? Как могло получиться, что в эпоху правления Эдварда VII не было
ни крупных поэтов, ни романистов, ни критиков? Отчего вдруг георгианцы
бросились читать русские романы в переводах?..»132 Упреки Вулф писателям
старшего поколения в целом справедливы: Вулф права в своем стремлении
вернуть литературе ее подлинное назначение - быть летописцем жизни
людей обыкновенных. В ее позиции есть также здоровое сопротивление
процессу интеллектуализации литературы, когда герой литературного
произведения оказывается голой проекцией авторской идеи.
К произведениям современной литературы Вулф подходит с критерием
целостной картины действительности. Позднее этот взгляд послужит
основой для ее своеобразного понятия «реальности», которое она сформулирует
См.: Ibid. Р. 17.
Woolf V. On Re-reading Novels // «The Moment» and Other Essays / With an Editorial Note by
L. Woolf. L., 1947. P. 126.
576
Приложения
в эссе «Своя комната», и станет основной ее мерой в вопросах искусства.
Ее привлекает целостный взгляд на жизнь, который она находила в поэзии
Дж. Китса, в произведениях Э. Бронте и Т. Гарди. Эти художники казались
Вулф верными правде жизни, а не букве. И если отвлечься от некоторых
существенных различий в творческих позициях этих писателей, то с
обобщенной оценкой Вулф можно согласиться: жизнь, схваченная в единстве факта
и психологии, - вот та творческая традиция, та дорога, ведущая «в
плодородные края»133, которая может служить хорошим горизонтом для писателя.
Свои взгляды на современную литературу Вулф обобщила в эссе
«Современная литература» и «М-р Беннет и миссис Браун». В истории и теории
литературы эти эссе считаются манифестами английского модернизма. Задержимся
на них подробнее, тем более что эссе про «м-ра и миссис Б» прежде никогда
не публиковалось по-русски.
Ключевое положение ее эстетики, сформулированное в этих
программных эссе, - это представление о литературном процессе и традиции.
Русскому читателю, хорошо знакомому с идеей прогресса, может
показаться непривычным и странным то, что в историческом процессе развития
литературы Вулф не находила никакого поступательного движения. Однако
это именно так. Современное состояние литературы представлялось Вулф
весьма спорным на фоне достижений классики: собственно, с этого
скептического взгляда на современное положение дел в литературе начинает она
свое эссе «Современные романы», позднее обобщенное в «Современную
литературу» и включенное ею в состав «Обыкновенного читателя». «Пусть за
последние столетия мы очень много узнали о том, как работают механизмы,
но как создается литература, для нас по сей день остается загадкой. Лучше
писать мы не стали, и если задаться вопросом, чем же мы в таком случае
занимаемся, то правильней будет сказать, что мы с завидным постоянством
двигаемся по кругу, то в одном направлении, то в другом, и если посмотреть
на это круговращение сверху, с какой-нибудь высокой точки обзора, то оно
покажется простым топтанием на месте»134. И все же эссе «М-р Беннет и
миссис Браун» она закончила мажорной нотой: «...мы стоим в преддверии
великой литературной эпохи»135. Эта оценка связана с общим взглядом Вулф
на литературную традицию как предмет постоянного и дерзкого
оспаривания и обновления. «И если представить на секунду, - завершает она эссе
"Современная литература", - что на поле брани, где мы теснимся, сошла
сама богиня литературы, - вот она, стоит живая рядом с нами, - можете не
сомневаться: уж она нашла бы, как раздразнить нас и вызвать на
беспощадный бой против нее, всеобщей любимицы и госпожи, ибо в этом вечном со-
См. с. 117 наст. изд.
Там же.
См. с. 451 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 511
перничестве и скрыт секрет ее обновления и безраздельного торжества»136.
Свое время Вулф видела эпохой резких изменений.
Ради чего необходимы, по мысли Вулф, эти постоянные переоценка и
обновление традиции, проясняется с ее пониманием предмета литературы.
Она находила разные определения: жизнь, реальность, правда, дух. В разные
годы, отдавая предпочтение то одному, то другому названию, она уточняла и
углубляла их смысл. Но самое общее значение оставалось приблизительно
тем, какое она сформулировала в эссе «М-р Беннет и миссис Браун»: образ
человека («миссис Браун», говоря ее языком), или явление, в котором
сосредоточена суть бытия в ту или иную эпоху. Такое понимание предмета
литературы частью восходило к эстетической теории Уолтера Пейтера, частью
совпадало с «наукой о духе» Вильгельма Дильтея, но во многом оно было
самостоятельным. Заметим, что именно это понимание предмета
литературы как самого яркого явления, в котором сосредоточена суть бытия в ту или
иную эпоху, станет организующим принципом цикла эссе «Обыкновенный
читатель».
Быть «современным» художником на языке Вулф, означало
интересоваться тем, что «скрыто, вероятнее всего, в темных глубинах психологии»,
как писала она в эссе «Опыт критики»137. Соответственно, предметом
современной литературы становится «лучащийся ореол, матово-прозрачное
облако, окутывающее нас с первой искры сознания до конца»138, другими
словами, обширная неисследованная область чувств, мыслей, настроений людей.
И современным художником, по мысли Вулф, становится тот, кто, осознавая
непостижимую реальность психологии, признает и то, что «возможности
искусства... безграничны»139, стремится познать менталитет человека в его
связи с миром.
Так проясняется своеобразный смысл понятий метода и художественной
формы у Вулф. Огромная неисследованная область психологии как главный
интерес современного искусства предполагает, по ее мнению, плюрализм
художественных подходов: («Любой "метод"... имеет право на
существование... изображения достойно абсолютно все - любое чувство, любая, самая
малая мыслишка)»140. Сосредоточенность же художника на одном методе
чревата опасностью ограничить разговор о самом предмете. Современный
писатель не может не быть бесконечно мобильным в вопросах
художественной формы. Он должен уметь, полагает Вулф, гибко и свободно
отказываться от устоявшихся композиции, сюжета, жанра, если они не отвечают его
См. с. 123 наст. изд.
Woolf V. An Essay in Criticism // The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV. P. 449-457.
См. с 120 наст. изд.
См. с. 123 наст. изд.
См.: Там же.
19. Вирджиния Вулф
578
Приложения
замыслу, и находить все новые жанровые модификации, соответствующие
предмету современной литературы.
Особое значение вкладывала Вулф и в понятие характера в литературном
произведении. Подлинно живым ей представлялся такой характер, в котором
сходятся разнообразные стороны жизни, вопросы бытия и который
выражает как непреходящее в человеческой природе, так и те умонастроения, что
порождены веком.
Своеобразно и понятие «духовного» в литературе, под которым Вулф
имела в виду именно сосредоточенность современного художника на
описании «ореола» сознания, ментальности.
Еще одна важная сторона эстетики Вулф - это взаимоотношения между
автором и читателем. Полагая, что принятые в литературе XIX в. отношения
«автор - читатель» превратились в условность, Вулф подчеркивала
необходимость создания нового диалога, нацеленного на высвобождение
творческого потенциала читателя. Об этом она рассуждает в эссе «Покровитель и
подснежник», «Современное эссе», «Как читать книги?» и др.
И наконец, принципиальный момент в подходе Вулф-критика к
литературному тексту, который сложился в эссе среднего периода и задал очень
важную линию композиции «Обыкновенного читателя»: любой текст Вулф
рассматривает как движение мысли автора. В анализе каждого частного
произведения любого писателя она следит за развитием авторской мысли. Этим
и определяется своеобразие ее литературной критики: она психологична в
том смысле, что предметом анализа у нее выступает позиция писателя,
оценивается степень духовной свободы, новизны и плодотворности его
художественного решения, или «предложения», «мелодии», говоря языком Вулф.
Блестящими образцами такого подхода критика можно считать эссе
«Робинзон Крузо» («Robinson Crusoe», 1926, 1932) и «Джон Донн триста лет
спустя» («Donne after Three Centuries», 1932).
К середине 1920-х годов все очевиднее стремление Вулф писать циклы
эссе или работать с крупной жанровой формой. 1925-1932 гг. - это зрелый
период в ее творчестве эссеиста, время создания цикла эссе «Обыкновенный
читатель», второй его серии 1932 г. и крупной жанровой формы в эссе «Своя
комната». У этого семилетия есть своя динамика: от первой серии
«Обыкновенного читателя» 1925 г. как истории глазами своего поколения («Жаль, не
бывает новой истории для каждого нового поколения», - обмолвилась Вулф
в дневнике141) и литературно-философского манифеста своего поколения, ко
второй серии «Обыкновенного читателя» 1932 г. как попытке создания
биографии нового типа, попытке оценить самые значимые вехи и персонажи в
истории английской литературы с точки зрения своего времени и поколения;
попытке развернуть на материале истории национальной литературы и куль-
141 Ср. дневниковую запись от 2 ноября 1917 г.: "It seems a pity there can't be a new history for
each new generation" (The Diary of Virginia Woolf. Vol. I. P. 70).
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 579
туры выношенные идеи писателя как собственно литературно-эстетические,
так и шире - экзистенциальные.
Заключительным периодом в деятельности Вулф-эссеиста - 1933-
1941 гг. - можно назвать время создания жизнеописаний («Флаш»; «Роджер
Фрай», «Roger Fry: A Biography», 1940), политических и социокультурных
эссе («Три гинеи», «Three Quineas», 1938; «Накренившаяся башня», «The
Leaning Tower», 1940).
Итак, наметим предварительные оценки: первая и вторая серии
«Обыкновенного читателя» представляют собой собрание лучших, отобранных и
переработанных рецензий или же эссе, написанных специально для этого
цикла. За каждым «классическим» эссе «Обыкновенного читателя» стоит
от одного до трех или четырех, а то и пяти журнальных очерков разных
лет. Собственно же собрание эссе в двух сериях «Обыкновенного читателя»
имеет свою композицию, начало и конец, цикличность, рамку. Концептуаль-
ность обоих циклов видна в том, что к обширному историко-литературному
материалу писательница применила свое понимание традиции как
предмета оспаривания, развития и обновления. Последнее становится явным при
соположении эпиграфа из «Жизнеописания Грея» Сэмюэла Джонсона,
украшающего форзац «Обыкновенного читателя» 1925 г. и посвящения книги
«Литтону Стречи». В этом смысле «Обыкновенный читатель» задуман как
обобщение и развитие традиции английского литературно-критического эссе
«от Джонсона к Стречи», от середины XVIII в. к первой трети века XX.
Выдержана классичность самой формы эссе, унаследованной Вулф от
Лесли Стивена, в соединении с новым содержанием: модернистским
пониманием вопросов существования, человека, истории, места человека в
истории, вопроса материальной и социальной справедливости, культуры и т.д.142
Не случаен читательский пафос ее эссе - оно обращено к каждому
обыкновенному человеку, и выражается этот «доверительный» поворот в
разговорном стиле беседы, которая исподволь развивает главную мысль: культура
есть сопротивление человека «мраку», хаосу, небытию. В «Обыкновенном
читателе» словно заложена обратная связь - это свободный,
индивидуальный, неангажированный отклик на книгу. Так что Вулф в каком-то смысле
продолжает просветительскую традицию XVIII в.143
«Обыкновенный читатель» 1925 г. и вторая серия 1932 г.- это циклы
эссе, по цельности и завершенности близкие к книге с отдельными
главами. Обе серии - плод сложившейся у писательницы техники работы в жанре
эссе. Реконструировать ее можно следующим образом: каждые пять-семь
См.: McNeillie A. Introduction // Woolf V. The Common Reader. Vintage, 2003. Vol. I. P. ii.
См. о сравнении «Обыкновенного читателя» со «Священным лесом» T.C. Элиота и
работами А. Ричардса в статье Э. Мак-Нейли: McNeillie A. Introduction // The Essays of Virginia
Woolf. Vol. IV P. xx.
19*
580
Приложения
или десять лет у Вулф накапливался обширный корпус рецензий, обозрений,
литературно-критических статей, собственно эссе. Она привыкла отбирать
из него наиболее значимые произведения. Исходя из главной, стержневой
идеи продумывалась композиция цикла, отобранные эссе переписывались,
расширялись, редактировались, также дописывались новые - как
недостающие звенья целой книги. С годами этот метод эссеистской работы
оттачивался, композиция сборника становилась все более органичной, цикл эссе
превращался в завершенную по форме, увлекательную книгу об истории
английской литературы.
Другими словами, вопрос композиции оказывается одним из самых
значимых для историка литературы, изучающего этот литературный памятник,
а для читателя - обыкновенного читателя книги Вулф - некой интригой или
драматургией.
ПЕРВЫЙ ТОМ:
С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННИКА
Каждый критик собирает свои статьи в книгу - это обычная практика, -
но далеко не у каждого получается создать программное для своего времени
произведение. У Вирджинии Вулф - особый случай: ее «Обыкновенный
читатель», опубликованный в издательстве «Хогарт Пресс» 23 апреля 1925 г.,
вошел в литературу XX в. как сборник программных эссе, содержащих
эстетику модернизма.
Определение «программный» не означает «систематический» или
«абстрактный». Вулф с неизменной иронией и насмешкой относилась к
формализму в литературной критике. Любая попытка критика «расчленить
литературное произведение на отдельные части, назвать эти части и классифицировать
их, вывести подчинение и соподчинение частей»144, представлялась ей делом
совершенно бесполезным и вредным. В эссе «Анатомия литературы» («The
Anatomy of Literature», 1919) об американской формальной критике она
одной фразой сформулировала свое отрицательное отношение к формализму в
искусстве: «Вы можете препарировать лягушку, но как научить ее скакать?
В литературе без жизни нельзя»145. В этом смысле писательская критика
Вулф, ее художественное эссе существуют в той же системе координат, что
и творчество Джона Фаулза, с нескрываемым подозрением относившегося к
любой критике, порожденной верой в Логос146.
История создания цикла «Обыкновенный читатель» восстанавливается
по дневникам и письмам самой Вирджинии Вулф; она проясняется при
соотнесении его с традиционными для английской литературы идеями и форма-
144 Woolf V. The Anatomy of Fiction // Granite and Rainbow. L., 1958. P. 54.
145 Ibid. P. 55.
146 См.: FowlesJ. The Tree. St. Albans, 1992. P. 30-31, 36.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 581
ми издательской практики; наконец, она уточняется при сравнении книги с
близкими на первый взгляд проектами современников в английской и в
других национальных литературах.
Судя по дневниковым записям писательницы, в которых запечатлелся
процесс работы над циклом «Обыкновенный читатель», самые первые
упоминания о замысле книги относятся к весне 1921 г.: задумывая «Книгу
чтения» («Reading book») - таково первоначальное рабочее название, Вулф уже
задается вопросом композиции, или, по ее выражению, «очертания» (shape)
будущего сборника147. В августе 1922 г. Вулф наметила первый
предполагаемый состав148, а через год в августе 1923 г. она уточнила и общую
концепцию, и содержание книги: «Возможно, будет вступительная глава. Семья за
чтением книг. Каждое эссе окружено своей собственной атмосферой. Все
объединить потоком жизни и таким образом связать все в книгу; прочертить
главную линию - что это может быть за линия, станет ясно, когда я закончу
и прочитаю все эссе»149. Очевидно, что замысел складывался постепенно, и
если первоначальный вариант был скорее близок к художественному
произведению, то окончательный вписывается в жанр литературной критики.
Подчеркнем особый интерес Вулф к композиции ее «Обыкновенного
читателя»: он останется для нее первостепенным и в работе над вторым томом.
Вот, например, характерная запись от 20 октября 1931 г.: «Вторник, 20
октября. Вчера продвинулась, написала задел про елизаветинцев. Хочу
написать главу (курсив мой. - H.R), что-то вроде "Некоторые е-тинцы" в
качестве предисловия ко второму Обыкновенному читателю»150. Очевидно, что
запись отражает размышления Вулф над общей концепцией и композицией
второй серии цикла: Вулф решает начать его не с «Чосера», не со
Средневековья, а с шекспировской эпохи - открывает вторую серию «Читателя» эссе
«Неизвестные елизаветинцы».
В целом история создания «Обыкновенного читателя», тесно связанная
с практикой книжных обозрений (это подчеркивают и Эндрю Мак-Нейли, и
Гермиона Ли, и Джулия Бригз151), развивает традиционную для английской
литературы XIX в. практику издания в книжной форме статей, ранее
опубликованных в газетах и журналах. Собственно, первой на эту связь
указала сама Вулф в «Современном эссе», как бы вслух размышляя о
собственных эссе в составе «Обыкновенного читателя»: «...викторианских эссеистов
трудно перепутать - настолько они яркие - и тем не менее у них было
много общего: во-первых, большой объем текста - во всяком случае, больший
147 Запись от 23 мая 1921 г. См.: McNeillie A. Introduction // The Essays of Virginia Woolf.
Vol. IV. P. xvi.
148 Запись от 3 августа 1922 г. См.: Ibid.
149 Запись от 17 августа 1923 г. См.: Ibid.
150 Ibid. P. 49-50.
151 См.: Ibid. P. xi; Lee H. Virginia Woolf. L., 1996. P. 414-417; Briggs J. Virginia Woolf: An Inner
Life. P. 111-129.
582
Приложения
относительно сегодняшнего, и, во-вторых, аудитория, у которой не только
хватало свободного времени для того, чтобы вдумчиво прочитать журнал, но
которую отличали высокие культурные запросы, независимо от того, что они
были узковикторианскими. Тогда не считалось зазорным обсуждать в эссе
серьезные вопросы, и никого не смущало то обстоятельство, что, работая для
журнала, эссеист должен выложиться сполна, поскольку через месяц-другой
та же самая публика, которая познакомилась с эссе в журнальном варианте,
будет с не меньшим интересом читать твое эссе в составе книги»152. И то, что
в другом эссе - «Покровитель и подснежник» - того же цикла Вулф
скептически отзывается о практике перепечатывания газетных и журнальных
статей в книге или сборнике, делает понятнее ее озабоченность тем, как
лучше организовать собственную книгу, придать ей внутреннюю связанность и
логику: «Так и самые блестящие статьи: стоит им только покинуть родную
гавань газеты, как от них в одночасье остается одна лужа и пена»153.
«Обыкновенный читатель» - редкая книга, очень английская, хотя и для
английской литературы не обычная, в силу ее концептуальности и авторской
организации эссе по нескольким смысловым линиям154.
В первом томе «Обыкновенного читателя» изложена оценка истории и
настоящего английской литературы. Она интересна как общей концепцией
традиции, выдвинутой Вулф, так и множеством верных, тонких наблюдений
над творчеством писателей разных эпох.
Композиционно цикл составляют несколько тем или линий, проходящих
через все «главы», т.е. эссе сборника. Наметим их пунктиром.
Первая линия - подход к литературе прошлого с точки зрения проблем
современной культуры и предполагаемая таким подходом переоценка
отдельных явлений в литературе предшествующих эпох. Именно эта оптика
задает линию обсуждения модернизма в литературе. Она оказывается
магистральной в эссе «Современная литература», где Вулф вводит ключевые
понятия модернистской эстетики (понятия «ореола», точки обзора и др.), в
других же главах книги она присутствует в качестве предмета для
сравнения (например, в эссе «Заметки на полях елизаветинских пьес» («Notes on
an Elizabethan Play», 1925), «Джейн Остен» («Jane Austen», 1923), «Дефо»
(«Defoe», 1919) и т.д.).
Особый смысл придается в связи с этим линии своего поколения -
поколения 1910-1920-х годов. Эта тема видна в таких эссе, как «Силуэты»
(«Outlines») о четырех «знаменитостях» XVII-XX вв. - писательнице Мери
См. с. 170 наст. изд.
См. с. 165 наст. изд.
Ср. со сборниками эссе Л. Стречи, Т.С. Элиота, Э.М. Форстера: серией биографических
эссе «Великие викторианцы» («Eminent Victorians», 1918) Л. Стречи, сборниками
литературно-критических эссе «Священный лес» («The Sacred Wood», 1919) Т.С. Элиота и
«Аспекты романа» («The Aspects of the Novel», 1927) Э.М. Форстера.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 583
Рассел Митфорд, ученом-классике д-ре Ригарде Бентли, аристократке леди
Дороти Невил и архиепископе Томсоне. Эти эссе читаются как комментарий
к «Великим викторианцам» Стречи. Но не только! Вулф идет дальше,
подчеркивая своей книгой особенность позиции своего поколения - не
просто развенчать былых кумиров викторианской эпохи, но критически подойти
к опыту прошлого и настоящему английской литературы. Цель собственно
просветительская - заразить современного «обыкновенного» читателя
желанием не принимать на веру авторитеты, судить о явлениях культуры и
литературы свободно и по возможности широко.
Здесь выделяется «русская» тема. Почти в каждом эссе «Обыкновенного
читателя» Вулф обращается к русской литературе либо для сравнения, либо
для уточнения или обобщения той или иной мысли. Это особенно заметно по
эссе первой серии цикла: в «Глухоте к греческому слову» («On Not Knowning
Greek», 1925) обращает на себя внимание соотнесение Эсхила с
Достоевским по глубине проникновения художника в смысл; так, в «Елизаветинском
сундуке», - эссе о елизаветинской эпохе, - где описываются «хождения
англичан за моря», Вулф вспоминает путешествие в Московию; в эссе «Заметки
на полях елизаветинских пьес» идут постоянные ссылки на русскую
литературу, приглашающие читателя к сопоставлению образов елизаветинской
драматургии XVI-XVII вв. с «Анной Карениной» Толстого - кому-то такое
соотнесение может показаться безосновательным или взятым с потолка, но
оно на самом деле лишь доказывает значимость русской литературы для
английского писателя и читателя 1920-х годов, а главное, отражает, само
понимание Вулф существа культуры как единого пространства, если угодно,
текста, «читая» который не возбраняется сравнивать эпохи, явления свободно
и широко. И конечно, «русская» тема подчеркнуто звучит в эссе о
литературе XIX - XX вв.: «Современная литература», «Русская точка зрения» («The
Russian Point of View», 1925), "Джейн Эйр" и "Грозовой перевал"» («"Jane
Eyre" and "Wuthering Heighls"», 1916, 1925) и др.
Постоянное и весомое присутствие русской темы в первой серии
«Обыкновенного читателя» объясняется главным поворотом книги: вся оптика ее
задана точкой зрения современного читателя, современника. Именно этим
определяются ссылки на русскую литературу - с переводами из которой
английские читатели познакомились на рубеже веков, - яркое событие
английской культурной жизни 1910-1920-х годов, а также звучащие в подтексте и
иногда выходящие на поверхность воспоминания о Первой мировой войне
(«О глухоте к греческому слову»).
Вторая линия - это пространство читателя в книге, взгляд на
литературу прошлого в соотнесенности с современным обыкновенным
читателем: что живо? что ушло? что не читается сегодня? Об этом - «Предисловие»
Вулф; эссе «Покровитель и подснежник», «На взгляд современника» («How
it Strikes a Contemporary», 1923); «Робинзон Крузо»; «Как читать книги?».
Интересно, что традиция Джонсона и шире - XVIII века, видна не только в
584
Приложения
понятии обыкновенного читателя, которое Вулф заимствует и развивает, но и
в энциклопедизме ее книги: хотя в каждом эссе высвечивается одна фигура,
в обсуждение вовлечен густонаселенный мир эпохи.
С воображаемым адресатом «Обыкновенного читателя» связана и
прагматическая линия книги. Она проясняется при соотнесении сборника Вулф,
пожалуй, с единственным близким к нему примером - «Этюдами о
классической американской литературе» («Studies in Classic American Literature»,
1923) Д.Г. Лоуренса. Обе эти книги можно рассматривать как отклик
писателей на новую культурную и общественную ситуацию 1920-х годов. О чем
речь? Именно в 1920-е годы английскую литературу начали преподавать и
изучать в университетах, чего раньше не было. Это значит, что появилась
аудитория студентов, занятых новым предметом. Так что со стороны Вулф
(и Лоуренса!) - это практическое предложение, хороший писательский и
издательский проект. Есть студенты - нужны книги! Плюс новая идеология
истории литературы: новое поколение читателей демократического века скорее
всего ждет и нового подхода - во всяком случае, и Вулф и Лоуренс, каждый
по-своему, такой подход сформулировали.
Каков «обыкновенный читатель» Вулф? Если, говоря языком Вулф,
«знать, для кого пишешь, равносильно умению писать»155, то ответ на
вопрос, для кого написана эта книга, становится ключом к разгадке ее замысла
и стиля.
Третья линия, проходящая подтекстом через весь сборник, - вопрос о
том, насколько полно описывала литература прошлого жизнь
обыкновенных людей? Вопрос адекватного описания литературой жизни людей
прошлых эпох - это едва ли не центральная тема, которая проходит как нить
Ариадны по всему творчеству Вирджинии Вулф. Толкований этой темы в
трудах и исследованиях критиков и историков литературы на сегодняшний
день предложено несколько.
Одна интерпретация подчеркивает художественную сторону интереса
Вулф к окололитературным материалам той или иной историко-культурной
эпохи. Как отмечает в своей вступительной статье к 4-му тому «Полного
собрания эссе» Э. Мак-Нейли: «Достаточно просмотреть оглавление
"Обыкновенного читателя", и мы сразу увидим огромное число неизвестных (или
почти неизвестных) фигур и личностей: Пэстоны, Герцогиня Ньюкасл,
семейство Исаака Тэйлора, семья Ричарда Лавла Эджворта, Летиция Пилкинг-
тон, мисс Ормерод156, мисс Митфорд, д-р Бентли, леди Дороти Невил, архи-
См. с. 165 наст. изд.
Эссе «Мисс Ормерод» вошло в американское издание первой серии «Обыкновенного
читателя» в качестве третьей части эссе «Забытая жизнь». Оно было перепечатано в
современном комментированном издании «Обыкновенного читателя» (2003), а также в 4-м
томе Полного собрания эссе Вирджинии Вулф, хотя в прижизненном английском издании
отсутствовало. См.: Woolf V. The Common Reader. Vol. I. P. 122-134; The Essays of Virginia
Woolf. Vol. IV. P. 131-146.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 585
епископ Томсон - все они благополучно соседствуют с Чосером, Монтенем,
Дефо, Джейн Остен, сестрами Бронте, Джордж Элиот, Джозефом Конрадом
и великими русскими писателями. Почему это так, становится понятно, если
вспомнить, что, начиная с самого первого рассказа "Пятно на стене" и
заканчивая "Своей комнатой" и "Тремя гинеями", да и вообще на протяжении
всей своей писательской деятельности, Вулф постоянно ссорилась с
английской табелью о рангах, которая внушает очень ограниченную мысль:
«...самое главное в жизни - это знать, кто есть кто и кто за кем следует"157.
Кроме того, забытая жизнь обыкновенных людей прошлого привлекала Вулф
как романиста. Она находила богатейший материал в воспоминаниях,
письмах, дневниках никому не известных, всеми забытых Джейн и Джона Мил-
тон: "...педанту-историку изобразить их не под силу - тут требуется талант
художника"158»] 59.
По-другому прочитывают тему «забытой жизни» в эссеистике Вулф
феминисты: они подчеркивают, что эссе о неизвестных обыкновенных людях в
составе «Обыкновенного читателя» - это большей частью эссе о женщинах,
которые были «забыты» историками прошлого, поскольку сами историки -
представители мужского пола. Таким образом, исследователи
феминистской направленности убеждены в том, что тема «забытой жизни» в
«Обыкновенном читателе» Вулф - не что иное, как извод более важной «женской»
темы. В доказательство своей правоты они приводят такие эссе, как «Тэйло-
ры и Эджворты» («Taylors and Edgeworths», 1924), «Летиция Пилкингтон»
(«Laetitia Pilkington», 1923), «Дороти Вордсворт», «Джеральдина и Джейн»
и некоторые другие. По мнению Джулии Бриге и Гермионы Ли, изначальный
замысел Вулф состоял в создании «другой» истории английской
литературы - альтернативы привычной летописи достижений, принадлежащих
представителям мужского пола, и следовательно, обращенной к «обыкновенному
читателю», которого, по их предположению, олицетворяла женщина. Так,
Дж. Бриге подробно останавливается на эссе «Байрон и м-р Бриге» («Byron
and M. Briggs»), над которым Вулф работала в марте 1922 г., заканчивая роман
«Комната Джейкоба»: оно должно было стать первой главой будущей книги
эссе, и, судя по рукописи, некий зародыш женского образа обыкновенного
читателя присутствует в тексте. Впрочем, эссе не было закончено, и в
сборник 1925 г. не вошло160. Тем не менее Дж. Бриге справедливо указывает на
значимость женской проблематики в тексте «Обыкновенного читателя». Так,
в качестве прелюдии к «женской линии» всего цикла эссе она рассматривает
Woolf V. Phases of Fiction // Woolf V. Collected Essays: 4 vols / Ed. by L. Woolf. L., 1966-1967.
Vol. 2. P. 57.
Woolf V. Lives of the Obscure: I. Taylors and Edgeworths // Woolf V. The Common Reader. L.,
1925. P. 155.
McNeillie A. Introduction // The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV P. xiii.
См.: Briggs J. Op. cit. P. 116, 121-122.
586
Приложения
первую главу «Пэстоны и Чосер» («The Pastons and Chaucer», 1925),
аргументируя свою мысль тем, что в описании семейства Пэстонов упор сделан
на фигуре Маргарет Пэстон. Однако уже в коротком комментарии ко второму
эссе «О глухоте к греческому слову», следующему за эссе о Пэстонах и Чо-
сере и также написанному специально для серии «Обыкновенный читатель»,
исследовательница отмечает, что намеченная женская тема не получила, по
ее мнению, развития в книге. Примечательно, что Г. Ли объясняет
неосуществившийся замысел создания «другой» истории литературы - с точки
зрения женщин и для женщины - внутренними противоречиями писательницы.
По ее мнению, Вулф, признавая доминирование на литературном и книжном
рынке писателей, но не писательниц, при этом определяла свою позицию как
«андрогинную» - т.е. безличную и никак не связанную с тендерными
характеристиками. Все это, с точки зрения Г. Ли, не позволило Вулф в
«Обыкновенном читателе» реализовать первоначальный проект сборника. Он был, по
утверждению английской исследовательницы, осуществлен позднее,
сначала в эссе «Своя комната», а затем в «Трех гинеях»161.
На наш взгляд, оценить «Обыкновенного читателя» по достоинству
можно в том случае, если не предполагать заранее, что «женская» тема у Вулф
является ведущей и что ее интерес к творчеству людей, забытых историей,
определялся исключительно их принадлежностью к женскому полу. В этом
случае, нам кажется, у нас появляется возможность открыть гораздо более
интересные повороты в эссе Вулф и о «забытой жизни», и в ее
размышлениях о судьбе женщины в истории. Позволим себе высказать предположение,
что тема обыкновенного человека, забытого историей, связана с
представлением писательницы о смысле существования и о путях более полного
развития личности, полноты жизни. Вулф неизменно (в этом нас убеждают ее
ранние дневники и эссе) привлекала яркая наполненная жизнь, мужчины ли,
женщины, каждого, любого ("one" - станет ключевым словом ее эссе «Своя
комната»): подобно солнцу, человек должен полно и горячо встречать любое
воздействие окружающего мира, как писала она в эссе «Мемуары Сары Бер-
нар» («The Memoirs of Sarah Bernhardt», 1908), видя в такой позиции путь
сопротивления человека «потоку забвения», смерти162. Художник, по мысли
Вулф, тот, кто пытается своим искусством отстоять жизнь у небытия.
Четвертая линия - оценка явления литературы в связи с
историко-культурной проблематикой эпохи. Подход Вулф к описанию литературы
прошлого отчасти совпадает с социокультурным методом Лесли Стивена, отчасти же
напоминает работы немецкого философа Вильгельма Дилтея (1833-1911),
основоположника духовно-исторического, или культурно-философского
направления в эстетике и литературоведении. Подобно Ницше, Дилтей не
доверял науке, полагая, что наука слишком расчленяет человеческое существо;
161 См.: Lee Я. Op. cit. Р. 416-417.
162 Books and Portraits: By Virginia Woolf. L., 1997. P. 207.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 587
позитивистская фактография нарушает целостность сознания и провоцирует
подмену органического единства духовной жизни механической
организацией. Восстановить жизненную целостность, полагал Дилтей, можно лишь
путем исторического изучения человека, раскрывающегося в летописи
своих свершений. Погружение в историю духовной жизни возвратит
человека самому себе.
В работе «Введение в науки о духе» («Einleitung in die Geisteswissen-
schaften», 1880) Дилтей сформулировал такой метод исследования природы
и общества, который учитывал бы фактор свободы творческой воли и
поэтому не был бы простым переносом приемов естественнонаучного познания в
гуманитарную область, но, с другой стороны, не уступал бы по своей
строгости естественным наукам. «Строгий метод» дилтеевской науки о духе -
это герменевтика с ее главным инструментом - «пониманием», т.е. умением
исследователя видеть за событиями движение ищущего духа, постигающей
мысли. Проникнуть в переживание исторического человека позволяет, по
Дилтею, лишь такое же «переживание» исследователя. В основе
человеческой истории скрывается тайна, и приоткрыть ее дано лишь подобному ей же
началу; творческая стихия в науке ведет беседу с творческой стихией в
человеке и истории.
Чтобы исследователю не потеряться в море исторических фактов,
Дилтей отбирал из них памятники наиболее яркой жизненной полноты.
Такими для него были создания творческой мысли, и прежде всего
произведения поэтов, «органов понимания жизни». Этим объясняется внимание
Дилтея к художественному творчеству в статье «Воображение поэта» («Die
Einbildungskraft des Dichters», 1877), в трактате «Материал для построения
поэтики» («Bausteine fur eine Poetik», 1887), в книге «Переживание и
творчество» («Erlebnis und Dichtung», 1905), а также в исследованиях о Новалисе
(1865), Лессинге (1867), Диккенсе (1877)163.
Отметим соответствия философии и эстетики Дилтея исканиям
модернистов, и в частности Вирджинии Вулф. Его концепция предвещала смену
рационализма и позитивизма второй половины XIX в. принципиально
иными способами постижения, что в начале XX в. нашло подтверждение в
явлении модернистского художественного сознания, обращенного к познанию
персональной, общественной психологии средствами художественного
слова. (Недаром Э. Гуссерль признавал, что работы В. Дилтея содержат
гениальное предвидение и первую ступень феноменологии.) Кроме того, для
модернистской эстетики оказался весьма плодотворным дилтеевский метод
погружения в историю духовной жизни. Так, Т.С. Элиот, критик, на
протяжении многих лет занимавшийся вопросами изменений европейской культу-
Dielthey W. Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe. Novalis. Leipzig, 1991.
588
Приложения
ры и европейской ментальное™164, полагал углубление в историю вплоть до
античных и иных истоков одним из способов развития культуры165.
Для Вулф же исторический подход к человеку, психологии, культуре стал
принципом ее литературной критики и языком ее эссе. Само существо ее
историко-литературного эссе, обращенного к современному обыкновенному
читателю и реконструирующего образ обыкновенного человека в истории,
как особого метода вживания в культурное сознание определенной эпохи
имеет общее с установкой Дилтея на обязательное «сопереживание»
исследователя. Равно и вулфовское понятие «реальности» как полноты жизни и ее
принцип отбора наиболее ярких или характерных (при этом не обязательно
вершинных) явлений, фигур эпохи, воплощающих реальность,
перекликаются с эстетикой Дилтея.
Помимо композиционных линий в сборниках «Обыкновенный читатель»
выявляются сквозные темы.
Одна из них жанровая - это состояние и роль прозы и поэзии, романа и
эссе, биографии и драмы в истории английской литературы. Не пользуясь
определением «литературный род» или «жанр», Вулф тем не менее ведет
подспудный разговор о становлении целого ряда художественных форм,
начиная с XIV в. и «заканчивая» (последнее, конечно, условно, если мы знаем
язык Вирджинии Вулф) началом XX столетия. В этом смысле
«Обыкновенный читатель», предваряя такие собственно литературно-критические
работы писательницы, как «Фазы развития литературы» (1929), вовлекает
читателя в интереснейшее обсуждение процесса формирования в английской
словесности поэтического нарратива («Пэстоны и Чосер»), стихотворной
драмы («Заметки на полях елизаветинских пьес»), поэмы в прозе («Аркадия
графини Пемброк»), различных модификаций романа («Робинзон Крузо»,
«Сентиментальное путешествие», «"Джейн Эйр" и "Грозовой перевал"»,
«Джейн Остен», «Джордж Элиот» («Geogre Eliot», 1919) и т.д.
Особое внимание Вулф уделяет литературной биографии. Известно, что
биография - это «конек» англичан; начала биографии восходят к XVIII в.,
к «Жизнеописаниям английских поэтов» Сэмюэла Джонсона. В английской
же литературе Нового времени биография - это поле поисков, споров,
интереса. В обеих сериях «Обыкновенного читателя» есть биографические эссе
разных модификаций: биографии-эссе; «ненаписанные» биографии (по
аналогии с рассказом «Ненаписанный роман» - «An Unwritten Novel», 1921) -
например «Джеральдина и Джейн»; эссе-полемика о биографии, например
«Силуэты: Мисс Митфорд» или «Я - Кристина Россетти». Задачи
биографического жанра, «за» и «против» биографии; как писать биографию; биогра-
См. эссе «Традиция и индивидуальный талант» («Tradition and the Individual Talent», 1919),
«Поэты-метафизики» («Metaphysical poets», 1921), «Современное сознание» («Modern
Consciousness», 1933) в: Элиот T.C. Назначение поэзии. Киев; Москва, 1997.
См.: Там же. Ср. эссе «Что такое классик?» («What is a Classic?», 1944).
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 589
фия «старая» и биография «новая»; биография женщины - эти и другие
вопросы (многим из них Вулф посвятит в дальнейшем отдельные эссе - «Новая
биография» («The New Biography», 1927), «Искусство биографии» («The Art
of Biography», 1939) и т.д.) обсуждаются в живой, шутливой, иронической
беседе с «обыкновенным читателем».
Отметим и еще одну тему, которая проходит по обеим книгам и
представляет собой дополнительный сюжет: это рефлексия Вулф о переводе, его
подводных камнях и аберрациях.
Собственно, именно историко-литературной темой и открывается
первая серия эссе: стремясь очертить «составляющие» английской литературы,
которые живы и по сей день, Вулф обращается к чосеровской эпохе
позднего Средневековья (эссе «Пэстоны и Чосер»). В творчестве Джеффри Чосера
(1340-1400) писательница находит начала, которые, по ее мнению, составят
в дальнейшем основу английской словесности. Это разнообразие характеров
в соединении с обобщенным представлением автора о человеке; это умение
поэта ввести в поэзию обыденную реальность; это описание людей, их
нравов, жизненных ценностей через прозу бытия, без назиданий и пророчеств.
Пафос эссе состоит в утверждении, что английская литература с самых своих
истоков была романной, нарративной, прозаической в своей основе
(сколько раз в XX в. литераторы и литературоведы повторят эту мысль
Вирджинии Вулф о лежащем в основе английской литературы нарративе!166): «...он
(Чосер. - Н.Р.) дает нам полную свободу действий и выбора- мы сами
решаем, что нам делать, с кем общаться. Его философия заключается в
описании взаимоотношений обыкновенных мужчин и женщин. Мы присутствуем
на их застольях, пируем вместе с ними, наблюдаем, как они ведут себя в
постели, и постепенно все это складывается в общую картину, мы
невольно проникаемся их образом мысли и без всякого указания сверху
постигаем их нравственный кодекс. Трудно вообразить более убедительную
проповедь, чем эта: когда перед тобой как на ладони развернута мозаика людских
поступков и страстей и ты волен поступать, как хочешь - подойти ближе,
всмотреться в отдельную деталь, отвлечься, задуматься о своем, не опасаясь
грозного окрика из-за плеча. Это и есть свобода диалога, искусство романа, а
сей запретный плод, как хорошо известно родителям и сотрудникам
библиотек, будет посильнее поэзии»167.
Важно подчеркнуть и композиционную роль «Пэстонов и Чосера» в
составе всей книги: с самого первого эссе Вулф настраивает «оптику»
обыкновенного читателя, развивая главную тему, вынесенную в название. Причем
не женщины, а именно неискушенного читателя, о чем она пишет во
вступлении. Что значит точка зрения «обыкновенного читателя»? Вулф «разводит»
См. «Предисловие» Джона Фаулза к новелле «Элидюк»: Fowles J. A Personal Note to
«Eliduc» // The Ebony Tower. L., 1974. P. 120-122.
См. с 20-21 наст. изд.
590
Приложения
ее и точку зрения критика - чаще посредством сравнения реакций читателя с
понятными каждому наблюдениями (например, играть на музыкальном
инструменте с западающими клавишами).
Одновременно Вулф усложняет задачу уже как критик. Выстраивая по
письмам образ жизни и поведения англичан середины XV в., она незаметно,
без нажима вводит десятки перекличек, схождений и различий между
образом мысли и поведением обыкновенных людей XV в., как они отразились в
письмах, и «Кентерберийскими рассказами» Чосера, шире - его
творчеством. Это схождения в языке, в темах, в ментальности; Вулф пишет и о
чосеровском юморе. Собственно, именно этот взгляд на литературу и творчество
Вулф так сформулирует в «Своей комнате»: «за голосом одного стоит опыт
многих».
В «Пэстонах» видна и другая идея Вулф, унаследованная ею от Лесли
Стивена: каковы материальные и социальные условия жизни людей, такова
и литература данного времени. Именно поэтому она подробно
восстанавливает быт, ландшафт, взаимоотношения людей. Чосер - часть общего фона,
пусть и гениальная его часть.
Видна в эссе и «толстовская идея»: смерть не отменяет жизни, жизнь
идет своим чередом168.
При этом Вулф держит в поле зрения как послечосеровскую
литературу, так и современную. Говоря о юморе Чосера, она намечает последующие
вехи этой традиции, называя Шекспира, Дефо, Стерна, Джойса... Стоит ли
за этим общее для модернистов представление о литературной перекличке?
Элиотовская мысль о том, что поэт держит в памяти всю традицию вплоть
до Гомера? Похоже, да.
Интересно наблюдение Вулф о том, что современная поэзия «забыла» о
существовании «скотного двора», или «низа», и либо исключает его напрочь
из списка тем, либо поэтизирует, стилизуя его под древность, превращая в
миф. Снижение, проза, «прямая речь» вместо поэтических обобщений и
интонаций - по мнению Вулф, этого не хватало в литературе 1920-х. Как тут не
вспомнить о поэзии, прозе, живописи Д.Г. Лоуренса?
Налицо дилтеевская идея о выражении духа времени в каком-то ярком
явлении - в данном случае это письма Пэстонов и «Кентерберийские
рассказы» Чосера.
Еще одно важное измерение эссе - и, пожалуй, всего «Обыкновенного
читателя» - это разговор, который ведет исподволь Вулф, о себе и о своем
поколении. Подобно Пэстону, жившему на разломе эпох и так и не
сподобившемуся поставить памятник отцу, ей и ее поколению тоже выпало жить на
сломе истории, и они тоже не поставили «памятники» своим отцам.
Возможно, «Обыкновенный читатель» задуман как дань Лесли Стивену - историку
Возможный «след» параллельной работы Вулф над романом «Миссис Дэллоуэй», который
был опубликован 14 мая 1925 г.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 591
и эссеисту, биографу, или же в основе замысла лежит желание объясниться
насчет «отцов».
Другой источник английской литературы Вулф обнаруживает в
греческой античности. В следующем за «Пэстонами и Чосером» эссе «О глухоте
к греческому слову» она отмечает, что греческие драма, искусство,
греческие цивилизация и язык - писательница обобщает эти ипостаси в
«греческое слово» - остаются для XX в. идеалом, каким они были со времен Чосе-
ра. «...Несмотря на все эти препятствия, - пишет Вулф в начале эссе, - мы
рвемся к знанию древнегреческого, стремимся постичь его тонкости, он
неизменно притягивает нас, заставляя все снова и снова уточнять свое
видение предмета»169. Образцом художественной емкости писательница
полагает «Электру» Софокла, подчеркивая, что греческая трагедия в целом задает
английской литературе высокий критерий первоклассного искусства. По
художественной емкости только романы Джейн Остен сравнимы с драмой
Софокла, как по глубине проникновения в смысл экзистенциальных вопросов
с трагедией Эсхила сравнятся лишь романы Достоевского. Последнее - не
натяжка: речь в эссе идет не о влиянии греческой драматургии на
литературу XIX в., но о художественном образце, заданном греческой классикой, к
которому каждая культура стремится по-своему. Художественные средства,
открытые греческими трагиками, могут быть интересны и сегодня, замечает
Вулф. Например, хор в древнегреческой трагедии может стать интересным
способом увязывания общего и частного планов в произведении. Культура
Древней Греции видится Вулф вечно манящим идеалом полноты развития
искусства и самого человека. Она служила источником и образцом
английской литературе прошлого, и все же, подчеркивает автор, «мы глухи к
греческому слову»170, т.е. далеки от этого полноценного идеала, - современной
культуре есть чему поучиться у греков.
Оценим композиционную связность цикла: с первых эссе Вулф
связывает «главы» между собой - возникает дополнительная интрига, рождаются
связки, «мостики». Так, в самом начале эссе «О глухоте к греческому слову»
читателю напоминают о Джоне Пэстоне и Нориче: «Между нами, условно
говоря, между Джоном Пэстоном и Платоном, Норичем и Древними
Афинами, пролегают несколько столетий пустоты». Она сравнивает явления,
находя схождения и различия, в данном случае между Чосером и греками -
причем на основе читательской рецепции этих явлений: «Ведь что происходит,
когда мы читаем Чосера? Незаметно для нас самих, нас подхватывает поток
памяти- открываются шлюзы воспоминаний о жизни предков... Греки же
навсегда остались сами в себе, как бы по ту сторону Леты»171.
169 См. перевод эссе "О глухоте к греческому слову» на с. 25 наст. изд.
170 Сама Вулф знала древнегреческий: она учила его сначала под руководством д-ра Уорра и
Клары Пейтер, сестры Уолтера Пейтера, а позднее брала уроки у Дженет Кейс.
171 См. с. 25 наст. изд.
592
Приложения
Именно в эссе о «Глухоте к греческому слову» возникает впервые
образ ореола - «ореола ассоциаций» (в оригинале «its nimbus of association») -
ключевого образа программного эссе «Современная литература», которое
еще ждет читателя (это, кстати, к вопросу о том, как работает
«Обыкновенный читатель»: похоже, и вперед и назад), образ этот усложняет,
«нагружает» явление последующими связями, ассоциациями и т.д.
В этом эссе, как и в «Пэстонах», виден параллельный сюжет -
параллельный, собственно, анализу древнегреческой драматургии и литературы
в восприятии воображаемого обыкновенного читателя: его, по-видимому,
можно полагать основным. Параллельный же сюжет, местами в подтексте,
местами эксплицированный, связан с наблюдениями и оценкой Вулф своего
поколения - и своего времени - не то чтобы на фоне, но в связи с историей
литературы, особенностями английской культуры. Этот параллельный
сюжет - и особый поворот всей книги, и оправдание «истории», и аргумент в
пользу модернистского восприятия прошлого как части современной
идентичности художника.
В этом сюжете проглядывает и индивидуальность самой Вулф, ее
воспоминания, как бы вплетается в оба эти сюжета мемуарная нить, о которой
знает только посвященный. Так, после анализа языка древнегреческой
драматургии, начинается разговор о философии Платона, Сократа, о
«Диалогах» Платона. Эта часть напоминает описание Вулф «посиделок» молодых
друзей в 1904-1907 гг. в эссе «Старый Блумсбери» («Old Bloomsbury», 1921—
1922)172. В целом же в эссе, безусловно, отложились и «уроки греческого»,
о которых Вулф вспоминала и в мемуарах173, и в дневниках, и в письмах.
Можно сказать, что первая половина эссе «О глухоте...» написана по следам
ее собственных «уроков греческого». Если оценивать эту мемуарную линию
критически, то можно, вслед за Д. Урновым174, увидеть в ней узость и
субъективность, расценить ее как эзотерический сюжет или некую тайнопись, а
можно увидеть в этом и модернистский прием, «спрессовывающий»
«молодость» английской литературы XV-XVI вв. в ее предренессансный период
знакомства с античностью, с «молодостью» поколения начала XX в., которое
проходило свои «уроки греческого».
В эссе есть следы размышлений Вулф о переводе. Тема эта, как уже
говорилось, подводным течением проходит по обеим сериям
«Обыкновенного читателя», иногда выходя на поверхность, часто угадываясь в подтексте.
172 См.: Woolf V. Old Bloomsbury // Woolf V. Moments of Being: Unpublished Autobiographical
Writings. N.Y., 1976. P. 157, 165-168.
173 Cp. Woolf V. Reminiscences, a Sketch in the Past// Ibid. P. 25-40, 102-104, 107-109, 136-
137.
174 Урнов Д.М. Литературное произведение в оценке англо-американской новой критики. М.,
1982. С. 49-50.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 593
Собственно, здесь эта тема задана «впервые» в связи с переводами из
древнегреческого.
Высказывание Вулф о том, что в переводе пропадает юмор, комическое
напоминает суждение Элиота о переводимости поэзии и о том, что переводу
не поддаются чувства, память - область эмоционального. (Примечательно,
что замечание Элиота сделано позже по времени, чем у Вулф175.)
Знаменательно, что Вулф любые свои замечания о переводе делает в
связи с культурными, историческими и языковыми различиями, т.е. ее
подход построен не на адекватности/точности, но на аксиоме глубоких и
множественных различий между языком перевода и языком оригинала, между
текстом перевода и текстом источника. «Ведь с английским как? -
схватываешь на лету, а с греческим так не получается, сколько ни пытайся. Нам
недоступно звучание, а ведь в языке это едва ли не главное: следить за тем,
как меняются от строки к строке модуляции голоса, звучащего то резко, то
плавно. Естественно, мы не улавливаем нюансы, благодаря которым
живет, дышит, танцует фраза». И дальше, в сравнении: «...у Шелли уходит
целых двадцать одно слово на то, что в оригинале составляет всего
тринадцать...»176
Вулф заключает, что читать греков в переводе бесполезно, и объясняет
почему: язык перевода - это «язык, полный эхо и ассоциаций». «Так что в
переводах с древнегреческого нет никакой особой пользы. Все, что могут
предложить переводчики - это лишь приблизительное подобие, и понятно
почему: в языке перевода, как в колодце, малейшее слово отдается отзвуком или
вспоминанием. Положим, обронил слово "тусклый" профессор Макэйл, а
оно моментально вызывает у нас в памяти эпоху Бёрн-Джонса и Морриса»177.
«Эхо и ассоциации», разумеется, историко-социального свойства.
По Вулф, язык перевода осложнен многими разными коннотациями,
уводящими в сторону от оригинала - в другую эпоху, в другой языковой слой,
в ассоциации с другими видами искусств. Такими наблюдениями Вулф
явно оспаривает знаменитые лекции Мэтью Арнолда «Переводя Гомера»
(«Translating Homer», 1860).
Она убеждена: перевод может дать лишь приблизительное (vague)
соответствие - художественная точность невозможна.
Еще, похоже, основой скептического отношения к переводу у Вулф
выступает сомнение в возможности восстановить прошлое. (Это сравнимо с
сомнением Хайдеггера в способности человека освободиться от «собствен-
175 Ср. в эссе «О глухоте к греческому слову» у Вулф: «...первое, чем мы жертвуем, переходя
на иностранный язык: чувство юмора...» (с. 36 наст. изд.).
176 Там же. С. 35.
177 Там же. С. 36.
594
Приложения
ной исторической ситуации и понять другого»178.) Вулф пишет: «И тут
снова- в который раз! - у нас закрадывается сомнение в верности трактовки.
Каждый раз, когда читаем эпитафию с обломка надгробной плиты или
разбираем строфу из утраченного хора... - повторяю, каждый раз, когда такое
случается, задаешь себе вопрос: а не ошибаемся ли в смысле прочитанного? Не
плутаем ли в дебрях ассоциаций? Не привносим ли в греческую поэзию свое,
полагая, что это и есть исконное значение, да только мы его утратили?»179
Говоря о читательском восприятии греческой литературы, Вулф
затрагивает тему юмора, смеха: без смеха нет отклика, нет чтения. Обобщая, она
даже предлагает что-то вроде типологии смеха: «...непроизвольно смеяться
получается только по-английски (и еще, пожалуй, с Аристофаном), и в этом
нет ничего удивительного: в конце концов, комическое тесно связано с
ощущением телесности»180.
Она полагает, что у такого смеха по крайней мере два источника: тело -
тело англосакса, Фальстафа, силача, и способность смеяться непроизвольно,
над всем и вся, всем миром.
Знаменательно, что тему смеха и читателя Вулф затронет не раз. Так,
сравнивая в «Современной литературе» русскую и английскую культуры,
она подчеркнет эту важнейшую сторону английского и европейского
менталитета - наслаждение жизнью, радость бытия.
Для Вулф вся литература - общее пространство, не поделенное на
сегменты периодов, веков, национальных границ. Такое представление,
поданное «под маской» всеядности обыкновенного читателя, позволяет ей
проводить параллели между Эсхилом и Достоевским, Достоевским и Шекспиром:
«Смысл этой фразы (из "Агамемнона" Эсхила. - Н.Р. ) лежит у самой
линии горизонта языка. Лишь в самые вдохновенные или отчаянные мгновения
нам дано проникать, потрясенно, без слов, в сокровенный смысл изречений,
подобных эсхиловскому: с Достоевским (жаль, что его сковывает проза, а
нас - перевод!), который один умеет перемахнуть через все барьеры чувства
и явить сокровенное, не называя; и еще с Шекспиром, который мысль ловит
налету»181.
У эссе открытый финал: открытый по смыслу - человечество, англичане,
читатели обращаются к грекам в периоды неудовлетворенности, и открытый
по форме - последний абзац написан в настоящем времени: будто греки жи-
8 Цит. по: Компаньон А. Демон теории: Литература и здравый смысл / Пер. с фр. С. Зенкина.
М., 2001. С. 74.
9 См. с. 35 наст. изд. Эссе «О глухоте к греческому слову».
10 Любопытно, что, сравнивая смех англичан со смехом французов, итальянцев,
американцев, Вулф замечает, мол, те - «другой породы». Ср.: «А вот француз, итальянец,
американец - тот другого замеса, - он так смеяться не станет; он, наоборот, помедлит, проверяя, не
совершил ли какой оплошности, - точь-в-точь, как мы, когда читаем Гомера, и это
промедление смерти подобно: оно убивает смех» (Там же. С. 36).
1 Там же. С. 31 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 595
вые- живое настоящее: «...укладывается спать Телемак; Навсикая берется
сама выстирать белье - кажется, будничные дела, машинальные движения,
но они исполнены красоты, поскольку именно потому, что люди поступают
по наитию, они такими уродились, они, как дети, не задумываются, почему
себя так ведут, и, тем не менее, жившие тысячи лет назад, на затерянных в
море островах, эти люди знают все, что ведомо человеку. Они даже острее,
чем мы, осознают неотвратимость судьбы - ведь у них в ушах постоянно
шумит море, их окружают виноградники, луга, ручьи. Они видят суровую
изнанку жизни и принимают ее такой, какая она есть - без паллиативов. Свое
теневое положение они представляют как никто ясно, но оно не мешает им
наслаждаться всеми красками и оттенками бытия, - тем греки и живут, а мы
всякий раз к ним обращаемся, когда нам тошно от царящей вокруг
неопределенности, смуты, от подслащенных пилюль христианской веры, от времени,
наконец, в которое нам выпало жить»182.
В таком открытом финале содержится критический заряд, сравнимый с
отношением Д.Г. Лоуренса к грекам: греки создали более цивилизованное
общество, чем христиане. Возможно, на такой сравнительной оценке
отразился трагический опыт Первой мировой войны, который Вулф вспоминает
в эссе открытым текстом: «Всеобщее потрясение, вызванное Первой
мировой войной, было настолько внезапным, что мы еще опомниться не успели,
никто из поэтов, писателей даже пикнуть не сумел, а наши чувства
превратились в груду обломков, а сами мы - в безмолвных свидетелей...»183 Налицо
актуальность - автором движет не эстетический интерес, а боль и стыд
современника за неспособность, в отличие от древних греков, к прямому
действию и открытому разговору в минуту военной опасности.
Важный мотив эссе представляет так называемый «женский миф»,
который Вулф создает посредством аллюзии на миф о Филомеле,
«любительнице пения», которую боги обратили в соловья и чей образ сродни английской
литературе, в которой многие анонимные стихи были созданы женщинами, -
эту мысль писательница затем не раз подчеркнет в «Своей комнате». Ср.:
«здесь в первый раз поет соловушка, чей отзвук мы будем напряженно
ловить потом в английской поэзии, - поет на женский лад»184. И дальше Вулф
развивает женский миф, осложняя его христианскими импликациями,
которые можно выразить так: мы забыли древнегреческий, забыли, что созданы
петь: «И вдруг эта прекрасная солнечная картина, что стоит у тебя в глазах,
начинает плыть, дробиться, а потом и вовсе исчезает, будто сон: это Электра
закрывает вуалью лицо и, словно припомнив того соловушку, приказывает
нам забыть, молчать: "Птица пугливая - Зевсова вестница!.. / Ты мне боги-
182 Там же. С. 37.
183 Там же. С. 34.
184 Там же. С. 29.
596
Приложения
ней отныне пребудь, Ниобея-страдалица, - / Что там, во гробе каменном, - /
Увы, увы, - все слезы льешь..."»185
Логика и образы, созданные Вулф в эссе о «греческом слове», говорят о
том, что, согласно ее представлению о развитии литературы, одна из
возможных линий связана с поэтическим творчеством женщины. Осуществится ли
эта возможность в истории? Насколько позволят ей реализоваться условия,
социальные, материальные и иные? - эти вопросы Вулф задает между строк
своего эссе. Забегая вперед, скажем, что ответ читатель получает в
последних эссе второй серии.
Такая «актуальность» книги - бесспорно, ее художественная сторона.
Признак связанности и единства.
Логичным представляется то, что после эссе «О глухоте к греческому
слову» идут два эссе о елизаветинской эпохе - «Елизаветинский сундук» и
«Заметки на полях елизаветинских пьес»: общеизвестно, что европейская и
английская эпохи Возрождения наследовали античность.
Насколько сегодня интересно и полноценно искусство елизаветинской
драмы? - задается вопросом Вулф. В сравнении с греческой трагедий -
образцом соединения частного и общечеловеческого - елизаветинская
драматургия кажется Вулф односторонней, чрезмерно увлекающейся
поэтическими фантазиями. Зато она открыла английской литературе ее национальное
своеобразие: метафорический язык, по-раблезиански широкое наслаждение
телесным началом; первые попытки углубиться в психологию, что Вулф
связывает с сочинениями Томаса Брауна (1605-1682). Подлинным же
родоначальником психологического направления в европейской литературе Вулф
полагает французского философа-гуманиста Мишеля де Монтеня, о чем она
пишет в следующем эссе «Монтень» («Montaigne», 1924): «Искусство...
самораскрытия, самообнажения, картография души смятенной, бездонной,
грешной - вплоть до указания точного масштаба, глубины, рельефа
сокровеннейшего из душевных движений, - это искусство ведомо лишь одному
человеку: Монтеню»186. Вирджиния Вулф подчеркивает, что с «Опытами»
Монтеня в европейской культуре утверждалась ценность личности, ее право
на самостоятельное существование, свободу от диктата авторитетов. Она
отмечает, что Монтень не просто разработал новый жанр - эссе, но он одним
из первых ввел в литературу Нового времени светскую культуру общения,
открытого, свободного обсуждения идей, мыслей и чувств: «Так вот о чем
эти эссе, если отвлечься от многих оговорок и противоречий: это опыт
самораскрытия, опыт передачи сокровенного. И, надо сказать, свое намерение
Монтень высказывает со всей определенностью. Он не ищет популярности,
Там же. С. 29. Слова Электры цит. по: Софокл. Электра // Греческая трагедия. М, 1956.
С. 190.
См. эссе «Монтень» на с. 33 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 597
он не озабочен посмертной славой, воздвигать себе памятник на рыночной
площади он тоже не собирается, у него единственное желание: раскрыть
перед собеседником душу. Опыт сообщения самого сокровенного делает нас
чище, он прививает нам привычку говорить правду, он делает нас
счастливыми. Мы созданы для того, чтобы делиться своими открытиями: если уж мы
решились заглянуть в самые потаенные уголки своего сердца, то надо не
побояться и вынести на свет все то болезненное, что накопилось на дне души,
не надо ничего скрывать, не надо притворяться...»187 Нетрудно заметить, что
Вулф выделяет те черты личности и творчества Монтеня, которые близки
ей самой, в том числе и как эссеисту: психологизм описания и
непринужденный диалог, беседа с читателем. Кстати, любопытно, что, начав
цитировать «Опыты» Монтеня в английском переводе (эссе сложилось из рецензии
на свежий перевод сочинений Монтеня188), писательница постепенно, будто
незаметно для себя и для читателя, переходит на цитирование оригинала, и
поскольку мы уже знаем ее отношение к переводу - по предыдущему эссе о
древнегреческой трагедии, то можно не сомневаться: такая созвучность
оригиналу говорит о конгениальности искусства Монтеня ее собственному
пониманию и существа эссе, и психологизма изображения. Так что в каком-то
смысле это эссе - мгновение саморефлексии...
Как проявляются в современной литературе - и проявляются ли
вообще? - повествовательная поэзия Чосера, греческая классика,
елизаветинская фантазия, психологизм Монтеня? - эти вопросы читаются между строк в
следующих за «Монтенем» эссе.
XVII столетие видится Вулф неким литературным «межсезоньем», как
напишет она в эссе «"Письма" Дороти Осборн» из второй серии
«Обыкновенного читателя»: «читатель, которому случается забрести на ниву
английской литературы, не может не удивляться, попадая в полосу межсезонья, -
такое бывает у нас в деревне ранней весной, когда деревья сквозят голые,
холмы лежат без привычного зеленого покрова и каждая впадинка и ветка
видны как на ладони. И все бы ничего, только не хватает нам напоенных
птичьим гомоном и лесными шорохами июньских деньков, когда все
вокруг, до самой реденькой рощицы, приходит в движенье: остановись, замри
и ты услышишь, как в подлеске шуршат и возятся проворные неугомонные
зверушки. Примерно такая же полоса тянется и в английской литературе, и
нам приходится ждать, когда закончится шестнадцатый век, наступит
семнадцатый, и только где-то к середине столетия пустоты между отдельными,
редко стоящими шедеврами заполнят людские голоса, подобно тому как
зарастают зеленой порослью просветы между деревьями»189. Примечательно,
что «полосу межсезонья» Вулф рассматривает на материале судеб и творчес-
Там же. С. 58-59.
См. примеч. 5 к эссе «Монтень» на с. 663.
См. эссе «"Письма" Дороти Осборн» на с. 230 наст. изд.
598
Приложения
тва двух женщин- английской поэтессы Маргарет Ньюкасл (1623-1673) и
Дороти Осборн (1627-1695), автора яркого эпистолярного памятника
середины столетия; таким образом, прочитывая английский литературный XVII
век под углом создаваемого ею «женского мифа» и обнаруживая судьбы
талантливых женщин, которые, вместо того чтобы развернуться в поэзии и в
прозе, в условиях той поры оказались в изоляции и творческом тупике («ее
добрые феи, - пишет она о лирике Маргарет Ньюкасл, - начали
потихоньку увядать, а те, что сохранились и выжили, превратились в баобабы»190),
писательница развивает «женскую тему» книги. Недаром и то и другое
эссе кажутся черновиками 4-й главы «Своей комнаты», где Вулф
восстанавливает историю творчества женщин. Во всяком случае, мысль о том,
что единственные женщины, которые могли писать и печатать свои стихи
в XVII в. - это титулованные дамы, она, безусловно, вынесла из эссе о
герцогине Ньюкасл. Отметим и другое: настоящее эссе - возможный источник
образа «великих леди», сидящих за высокой стеной Элведона, который Вулф
использует позднее, преобразив в женский миф, в романе «Волны» (1931).
Маргарет Ньюкасл - такая дама, великая Герцогиня за высокой стеной
замка. Как и образ сдвинутого сознания, искривленного ума у женщины,
который встречаем в «Своей комнате», - он также вырос из «баобабов» Маргарет
Ньюкасл.
Другой пример забвения творческой стихии в жизни человека
писательница находит в дневниковой литературе XVII в.: обратившись к дневникам
Джона Ивлина (1620-1706) - одного из самых просвещенных англичан
эпохи, она находит интересные подробности. Оказывается, что, отражая
психологию человека того времени, дневник, тем не менее, описывает лишь
внешнюю - пусть яркую и содержательную - сторону жизни: «Местами он
напоминает мемуары, местами - календарь, но никак не исповедь: чего-чего,
а сердечных излияний мы здесь не найдем...»191
Возникает вопрос: что, - Вулф строит свою историю английской
литературы по принципу наличия или отсутствия в ней явлений психологического
искусства?
Думается, такой взгляд схватывает лишь внешнюю канву - у Вулф
скорее работает «дилтеевский принцип» отбора персонажей ее книги: стремясь
вжиться в атмосферу эпохи (чаще всего вживание происходит через
соотнесение ценностей и психологии современника с представлениями того или
иного исторического лица, как это видим в эссе об Ивлине), писательница
руководствуется не собственной теорией, но достаточно сложным
сочетанием признаков, по которым отбирается наиболее яркий и репрезентативный
для данного историко-культурного периода текст. Так что, описывая
английскую литературу первой половины XVII в. через призму поэзии Маргарет
См. эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 67 наст. изд.
См. эссе «Бродя по Ивлингу» на с. 70 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 599
Ньюкасл, дневников Ивлина и писем Дороти Осборн, Вулф использует по
крайней мере два подхода - дилтеевский принцип работы с историческим
материалом и оптику «женской темы».
Новый толчок развитию английской литературы дал, по мнению Вулф,
Даниель Дефо (1661-1731) - с ее точки зрения, бесспорный родоначальник
английского романа. Его «Робинзон Крузо» - нетленное, вечное
произведение, сопоставимое с великими безымянными творениями народа:
«...книга эта скорее сродни безымянному народному эпосу, нежели беллетристике,
написанной конкретным автором, а что до празднования двухсотлетней
годовщины "Робинзона", так оно сравнимо с юбилеем Стоунхенджа: явления
одного порядка!»192 На другие романы Дефо привыкли смотреть как «на
произведения не для гостиной» из-за запретных с точки зрения викторианской
морали тем. И в своем эссе Вулф пересматривает сложившееся
представление о Дефо как об авторе одного романа, утверждая, что его «Молль Флен-
дерс» и «Роксана» позволяют точнее определить творческую позицию
романиста. Дефо, подчеркивает Вулф, является основателем литературы факта,
«он принадлежит к школе великих мастеров прозы жизни, чье творчество
основано на знании наиболее характерных и - что там говорить! -
малоприятных свойств человеческой природы»193.
Поэтому нельзя согласиться с мнением литературоведов о том, что Вулф
произвольно и субъективно представила Дефо автором психологического
романа, поскольку сама-де тяготела к психологической прозе194. Как уже
говорилось, внимание к психологии - общее место «Обыкновенного читателя»,
однако ни в коей мере взгляды Вулф и ее концепция традиции не сводимы
только к этому положению. Вулф поясняет: новаторство Дефо состоит в том,
что он впервые после Чосера обратился к реальности обыденного
существования; почему ему и удалось описать женщину убедительно - не как предмет
обожания, а как личность, самоутверждающуюся вопреки тяжелым
обстоятельствам и несправедливым условиям. Его герои ведут себя независимо от
воли автора; проза Дефо и в начале XX в. звучит современно и свежо -
недаром Вулф подчеркивает чуть ли не фрейдистские повороты в его романах.
Словно продолжая тему пересмотра отживших представлений о
литературе и писателях прошлого, Вулф в следующем за «Дефо» эссе «Аддисон»
(«Addison», 1919) заявляет о необходимости критически взглянуть на оценку
творчества знаменитого эссеиста Джозефа Аддисона (1672-1719), данную
Томасом Маколеем. По мнению писательницы, если что-то и делает эссе
Аддисона живыми для читателей XX в., так это его позиция просветителя,
отстаивавшего разум, здравый смысл, цивилизованность, культуру: «В таких
вопросах Аддисон был неизменным приверженцем здравого смысла, вкуса
См. эссе «Дефо» на с. 76-77 наст. изд.
Там же. С. 83.
См.: УрновД.М. Дефо. М., 1979.
600
Приложения
и светскости. Каждое столетие порождает особое маленькое братство
единомышленников - сообщество строгих и преданных ценителей искусства,
литературы, музыки, эти люди редко на виду, зато без них ни одно общество не
обходится. Так вот Аддисон как раз из такого цеха: проницательный,
вдумчивый, принципиальный и увлеченный, он на удивление современен»195.
Восстанавливая по романам Дефо, просветительским эссе Аддисона196
историю жизни людей XVIII в., - более оживленной, цивилизованной,
многообразной, Вулф задается вопросом, который проходит подтекстом через
всю книгу, - насколько полно описывала литература прошлого жизнь
обыкновенных людей?
Эссе «Забытая жизнь» вводит осевую тему всего творчества Вулф: это
мысль о забвении, постоянной повседневной утрате памяти о людях, их
судьбах, опыте, творческих порывах, - эти и другие импликации
выражает ее излюбленное словечко "the obscure", т.е. безвестные, пребывающие в
тени, канувшие в Лету. Извлечь из небытия судьбы живших когда-то людей,
собрать и вынести на свет их опыт - такую задачу Вулф ставит перед собой
и в «Забытой жизни» о «Тэйлорах и Эджвортах» и о «Летиции Пилкингтон»,
и в «Джеральдине и Джейн», и в некоторых других.
По сути, это дантовская тема - разговор с умершими, с их душами, пусть
«души» - лишь условное имя для всеми забытых мемуаров и дневников: «По
стенам, прислоняясь друг к дружке, валясь с ног от усталости, спят
неизвестные: корешки потрескались, позолота стерлась, названий не разобрать.
Стоит ли нарушать их покой? Зачем ворошить прошлое? - смотрит с
недоумением, поверх очков, библиотекарь, - пусть себе спят спокойно в своем
колумбарии на полках! Потом, вздохнув, подчиняется с видимым
неудовольствием своему и впрямь нелегкому служебному долгу и начинает искать
среди безымянного праха три урны под номерами 1763, 1080 и 606»197.
Эссе написано в жанре «воображаемой биографии»: опираясь на
немногие извлеченные из забвения факты о жизни Эджвортов, Тэйлоров, Пилкин-
гтонов Вулф домысливает судьбы обыкновенных людей XVIII в. из
английской «глубинки».
Переход от «Забытой жизни» к «Джейн Остен»198 кажется логичным: Ос-
тен едва ли не первая в английской литературе бытописательница провинци-
См.: эссе «Аддисон». С. 89 наст. изд.
См.: Левин Ю.Д. Английская просветительская журналистика в русской литературе XVIII
века // Эпоха Просвещения: Из истории международных связей русской литературы / Под
ред. акад. М.П. Алексеева. Л., 1967. С. 3-109. Прил. I. Неопубликованные переводы
«Зрителя». № 139. С. 80-83. Прил. II. Материалы к библиографии английской журналистики в
русских переводах XVIII в. С. 84-109.
См. эссе «Забытая жизнь». С. 93 наст. изд.
Это одно из нескольких эссе и многочисленных высказываний Вулф о Джейн Остен. Ср.
4-ю главу «Своей комнаты», эссе «Джейн Остен и гуси» («Jane Austen and the Geese»), ре-
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 601
альных судеб, и к тому же у нее общая женская судьба - пребывать в тени,
поскольку свидетельств ее жизни почти не сохранилось.
Впрочем, Вулф интересен другой поворот: в прозе Остен налицо
шекспировское умолчание о себе (хотя Шекспир в эссе не назван, и параллель эту
Вулф проведет позднее в «Своей комнате») - умолчание в художественном
отношении продуктивное, подчеркивает Вулф.
Задержимся, читатель, на этом модернистском повороте мысли Вулф:
сродство литературы прошлой и современной - а именно современной
литературе посвящено следующее эссе (кажется, в нарушение наивной
хронологии) - проходит по линии имперсональности, стертости личного Я, за
счет которых и достигается свобода художника. Это магистральная тема в
критике Вулф.
Другая важная ее мысль - о взаимодействии текста с читателем.
Многозначность остеновской прозы, расширение ее «текста» в восприятии
читателя как признак художественной полноты произведения, - эти качества
Вулф обобщает до значения критериев в оценке современной литературы.
В связи с этим интересна мысль о мере, о границах таланта и следовании им,
которая заставляет читателя вспомнить предшествующее эссе «О глухоте к
греческому слову».
В художественном отношении эссе достойно мастера, каким была Остен:
Вулф виртуозно оперирует тремя-четырьмя обрывками воспоминаний,
чтобы создать образ писательницы.
Другая тема эссе о Джейн Остен - женская судьба: не иметь своей
комнаты, быть ущемленной в праве на творчество, в материальных условиях -
будет развернута Вулф позднее в «Своей комнате».
Интересно эссе и в смысле «критики критики»: хотя некоторые
литературоведы полагают, что «Обыкновенный читатель» строится субъективно,
«под Вулф» - любит Вулф психологическую прозу и, следовательно,
подверстывает под свой интерес всю историю английской литературы - на
самом деле, это не так, и эссе об Остен - еще одно тому доказательство. Вулф
подчеркивает, что проза Остен - не психологическая: соотнесение «Остен -
Джеймс», «Остен - Пруст» проведено по линии «точки зрения»,
имперсональности, поворота от индивидуализации характера к его типизации,
обобщению.
В творчестве Джейн Остен писательница находит интересные
возможности для современной английской литературы. Не случайно в следующем
эссе «Современная литература», представляющем переработку эссе
«Современные романы» («Modern Novels»), впервые напечатанного в приложении
к «Тайме» в 1919 г., Вулф назовет творческий путь Остен дорогой «в
плодородные края»199.
цензию на «Черты личности Джейн Остен» («Personal Aspects of Jane Austen») Мери
Августы Остен-Лей (1920) и др. См.: Books and Portraits: By V. Woolf. P. 134-136.
См. эссе «Современная литература». С. 117 наст. изд.
602
Приложения
«Современная литература» - это манифест английского модернизма.
Остановимся на нем подробнее.
Не вдаваясь в дебри литературоведческих споров200, зададимся вопросом
о месте этого программного эссе в составе первой серии «Читателя»: почему
эссе, где Вулф резко разошлась с эдвардианцами и где она рассуждает о
свободе художника и о русских писателях, следует сразу за эссе «Джейн Остен»
и почему за ним идет эссе, хронологически близкое к Остен - «"Джейн Эйр"
и "Грозовой перевал"»? Другими словами, как истолковать композиционно и
содержательно место «Современной литературы» в первой серии
«Обыкновенного читателя»?
Эссе начинается и заканчивается образом поля битвы современных
писателей, совмещенным с обобщенным взглядом «сверху», выраженным, во-
первых, через гетевский образ вершины горы, с которой писатель оглядывает
пейзаж и, во-вторых, через образ богини, или музы литературы, восходящий,
по-видимому, к Гомеру, к «Илиаде» (не без аллюзии на «Улисса» Джойса):
очевидно, что вневременная перспектива не менее важна для Вулф, чем
современность. Это «классическое» измерение эссе сродни модернистской идее
развития искусства «от Гомера», от самых основ; сопоставления
современности с самыми высокими образцами и критериями. Плюс ассоциации,
подсказанные Первой мировой войной, связанные с восприятием масштаба
недавних событий (эссе написано в 1919 г.).
Обратит читатель внимание и на модернистский релятивизм: «Лучше
писать мы не стали...» - такое понимание настоящего в литературе
определяется по крайней мере двумя принципиальными сторонами позиции Вулф: ее
скепсисом по отношению к позитивизму конца XIX в. и общим ее
представлением о культуре как о тексте (последнее станет, на наш взгляд, главным
связующим элементом во второй серии «Обыкновенного читателя»).
И, конечно, особый интерес вызывают образы, которыми Вулф
выражает свое понимание «жизни» в литературе. В ее знаменитом определении -
«жизнь - это не цепочка слепящих прожекторов, симметрично
расставленных по краю рампы; нет, это лучащийся ореол, матово-прозрачное облако,
окутывающее нас с первой искры сознания до конца» - обращают на себя
200 По мнению некоторых литературных критиков, вулфоведов и историков романа, известный
пассаж «жизнь - это...» имеет сходство с описанием потока сознания в работе У. Джеймса
«Научные основы психологии», тогда как Пери Майзел находит следы влияния концовки
«Ренессанса» Пейтера, а, по мнению Сюзетт Хенкс, «Современную литературу» следует
рассматривать в связке с «М-ром Беннетом и миссис Браун», поскольку в этих двух эссе
«Вулф поднимает вопрос о новой эстетике психологического реализма». См. также: Буш-
манова Н.И. Английский модернизм: психологическая проза. Ярославль, 1992. С. 17-19;
Hussey M. Virginia Woolf: A - Z. The Essential Reference to Her Life and Writings. New York,
Oxford, 1995. P. 162.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 603
внимание три образа: образ ореола, восходящий к У. Джеймсу201, образ
облака (Вулф использовала его в эссе «Вишневый сад» 1920 г.), восходящий
к библейскому символу Преображения, и, по контрасту с ними, образ «gig
lamps» (букв, «шары», остолбенелый взгляд202, сленговое выражение в
английском языке конца XIX в.). Последний, очевидно, связан с ее отношением
к романам Беннета и Уэллса: они рисуют ослепительный мир роскоши,
будто жизнь - это серия картин светской комфортной жизни, которые
остолбеневшие зрители разглядывают в бинокли. (Прежде в русских переводах
этого эссе образ "gig lamps" передавали неверно словом «фонари», что вдобавок
неправильно и в языковом отношении, и вовсе не передает идею Вулф.)
Едва ли не главным поворотом в эссе выступает сравнение английской и
русской литератур, культур, ментальности. Кое-что Вулф, по-видимому,
заимствовала у Джейн Харрисон (в частности, идею ученой о
незавершенности русского образа мысли203). Вообще греческий «элемент» в эссе налицо:
Ср. понятие «психического ореола» в системе представлений о психологии
американского психолога, профессора Гарвардского университета Уильяма Джеймса (1842-1910).
В работе «Научные основы психологии» ученый сформулировал его таким образом:
«Рассуждения психологии доброго старого времени можно уподобить тому, как если бы кто-
нибудь стал доказывать, что река состоит исключительно из стаканов, кварт, ведер,
бочек и иных мер емкости. Если бы все эти ведра и бочки и были погружены в реку, тем не
менее в промежутках между ними текучая вода преспокойно катилась бы по-прежнему.
С такою же решительностью психологи проглядели и текучую воду сознания, а ведь любой
определенный образ описывается и окрашивается текучею водою сознания,
окружающего все такие образы. Вместе с образом возникает осознание его соотношений к прочему
близкому и дальнему, известная окраска, знаменующая его первоначальное
происхождение, и смутное сознание того, что куда данный образ нас ведет. Всё значение и истинная
ценность образа именно и заключается в этом ореоле, или смутном сиянии, окружающем
и сопровождающем его... Вот сознание-то этого ореола, отношений, окружающих образ,
мы и обозначим термином «психический ореол» (курсив мой. - Н.Р.) (Джемс В. Научные
основы психологии / Под ред. Л.Е. Оболенского. СПб., 1903. С. 126). Возможно, в
разработке понятия ореола как невысказанных чувств и мыслей в душе каждого Вулф опиралась
и на романы Гарди. Во всяком случае, в «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» есть такой пассаж:
«А затем эти дети природы, которым даже чрезмерное количество спиртного не причиняло
большого вреда, побрели по тропинке, пересекающей луг, и вместе с ними двигались их
тени, а головы теней обведены были опаловым кругом - лунным сиянием на сверкающей
росе. Каждый видел только свой ореол, который не покидал его тени, как бы вульгарно она
ни раскачивалась из стороны в сторону, - наоборот, тем теснее казался он с ней связанным,
украшая ее и преображая...» (Гарди Т. Тэсс из рода Д'Эрбервиллей / Пер. А. Кривцовой.
М., 1987. С. 56).
См.: Briggs J. Op. cit. P. 117, fn 34.
Известный антрополог и специалист по греческой культуре Дж. Харрисон отмечала в
своей кембриджской лекции 1915 г.: «Исключительная и характерная черта русского языка
состоит не в том, что у русского глагола есть совершенный вид - нас этим не удивить,
в английском он тоже есть, а в том, что русский глагол всеми правдами и неправдами
тяготеет к несовершенному виду, даже ценой создания новой морфологической формы.
...Завершенность действия словно ставит русского перед зияющей пропастью, и он тут
же инстинктивно начинает громоздить новые и еще более сложные суффиксы - лишь бы
604
Приложения
образ души-психеи, музы, сравнение русской и английской литературы,
греческой и латинской в своих основах - эта неочевидная «греческая» тема
поддерживает вневременную ось всей книги, перебрасывая мостик от
«Греческого слова» к «Современной литературе».
Собственно, на сравнении с высокими образцами строится и
критика Вирджинией Вулф романа Джойса. В этом программном для
модернизма эссе особое значение придается идее свободы воображения,
многозначности текста и полноты читательского восприятия. Знаменитая
формула Вулф - в подлинном произведении искусства жизнь схвачена в единстве
факта и воображения, действительности и психологии - это отсюда, из эссе
о «Современной литературе».
Главную мысль эссе - о беспредельных возможностях искусства в связи
с традициями литературы - Вулф развивает в эссе «"Джейн Эйр" и
"Грозовой перевал"» и «Джордж Элиот»204.
Эссе о романах сестер Бронте следует сразу за «Современной
литературой», и такая последовательность ставит вопрос о возможных связях,
логике, которые Вулф имела в виду, так компонуя книгу. Рискнем сделать
несколько предположений.
Первое. Обращение к романам Шарлотты (1816-1855) и Эмили Бронте
(1818-1848) связано с поиском таких писателей и произведений прошлого,
которые не укладывались в прокрустово ложе условностей, а нарушали их,
предлагая самостоятельные формы видения. Интересно, что Вулф такие
явления находит в творчестве женщин: у сестер Бронте, Джордж Элиот, и,
возможно, в творчестве русских, поскольку вслед за этим эссе идет «Русская
точка зрения». Возможно, Вулф находит альтернативу условным английским
формам в явлениях маргинальных по отношению к литературному и
культурному истэблишменту: у женщин - социальных изгоев по определению, и
у русских - носителей другой культуры.
Второе. Нельзя исключить оценочность в такой организации эссе: ближе
всего к свободным, глубоким русским писателям оказываются английские
романтики-женщины и писательницы нравственно-философского
императива типа Джордж Элиот. Вулф как бы ищет в багаже английской культуры
явления, параллельные русской литературе.
Третье. Объективно, на уровне историко-литературных фактов, между
творчеством Л. Толстого и Дж. Элиот имеются связи: переписка,
читательские отклики и т.д. Возможно, Вулф отталкивается от эссе М. Арнолда «Граф
Лев Толстой» (1887), где сказано об эмоциональной, чувственной славянс-
сохранить незаконченность, незавершенность действия. Русские испытывают голод по
durée» (продолжительность, время (фр.) - Н.Р.) {Harrison J.E. Russia and The Russian Verb:
A Contribution to the Psychology of the Russian People. Cambridge, 1915. P. 10).
Высказанные в них положения она обобщит позднее в эссе «Фазы развития литературы»
(1929).
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 605
кой душе205, и соотносит это утверждение - этот стереотип! - с близкими на
первый взгляд явлениями в английской литературе -
женщинами-романтиками, корректируя такое представление дополнением в виде эссе о
философской дидактической прозе Дж. Элиот.
И наконец, как не вспомнить о главном наблюдении Вулф: английской
литературе надо уходить от материализма в изображении человека.
Примером такого шага могут служить как раз романы сестер Бронте: в них
рисуется либо повышенно-эмоциональный мир, выражающий «Я» художника и как
бы отменяющий любую повседневную и иную действительность, либо, как в
«Грозовом перевале», описываются фантастический мир, фантастически
небывалые персонажи, и, тем не менее, сила писательского убеждения
заставляет читателя поверить в этот невиданный мир.
Важно обратить внимание на художественную сторону эссе о Бронте:
оно написано так же поэтично, как и романы, о которых идет речь.
Следующее эссе «Джордж Элиот» отличается основательностью - под стать прозе
самой писательницы-героини. В этом смысле Вулф верна своему подходу
создавать амальгаму смысла и формы: так что, по самой фактуре письма в
«Обыкновенном читателе» она модернистка.
Следующее эссе о Джордж Элиот (1819-1880) оставляет у читателя
впечатление, будто Вулф чего-то не хватает в современной прозе, и она
ностальгически обращается к ранним романам писательницы: «Сценам из
клерикальной жизни», «Адаму Биду», «Мельнице на Флоссе», обнаруживая в них
утраченное литературой - естественную, непринужденную атмосферу
повседневности, в которой свободно дышится и думается читателю.
Интересный поворот получает здесь сквозная для «Обыкновенного
читателя» тема перевода. Если в эссе о греках или Монтене Вулф обсуждает
ее в связи с иноязычным текстом (что логично), то в эссе о Джордж Элиот
процесс перевода всплывает как метафора: через метафору перевода Вулф
выражает свой взгляд на характер в романе. Характер может получиться
живым - такой она называет «оригиналом», «подлинником», а может -
плоским: тогда это копия, репродукция. Послушаем Вулф: «О достоинствах Пой-
зеров, Додсонов, Гилфилов, Бартонов, их родственных связях, домочадцах,
обстановке и т.д. можно говорить часами, а все потому, что они живые, как
мы с вами, - из плоти и крови: мы живем с ними одной жизнью, иногда нам
делается скучно, иногда мы им сочувствуем до глубины души, ни минуты не
сомневаясь в том, что это именно их слова, их поступки, - согласитесь, это
верный признак подлинности!»206
Arnold M Count Leo Tolstoi // Arnold M. Essays in Criticism. L.; N.Y., 1964. P. 352-370.
См. перевод: Арнолд M. Граф Лев Толстой // Яснополянский сб. / Публ., вступ. ст., пер.
Н.И. Рейнгольд. Тула, 2010. С. 436-469.
См. эссе «Джордж Элиот» на с. 132 наст. изд.
606
Приложения
Эссе о Джордж Элиот подводит читателя к следующей за ним «Русской
точке зрения», обнаруживая не только глубокие различия между английской
и русской литературой, но и общую тему страдания, социальной
несправедливости, тяжелой судьбы изгоя; философские вопросы, кризис веры,
наконец, такие подробности биографии Дж. Элиот, которые имеют отношение к
русской литературе, к Л. Толстому. Такая свободная и многозначная
композиция эссе создает впечатление, что книга Вулф - это скорее пространство
«обыкновенного читателя», свободы чтения и множественности
интерпретаций207. Если хотите, открытое пространство.
Эссе «Русская точка зрения» обобщает серию «русских статей»
Вирджинии Вулф, написанных в 1917-1920 гг.: это видно по тем характеристикам,
вплоть до цитат из произведений, которые «перекочевали» сюда из ранних
рецензий.
Само название эссе - «Точка зрения» - наводит на вопрос: нет ли здесь
намека на Генри Джеймса (к слову сказать, упомянутого в начале статьи)?
Как известно, именно Джеймс ввел понятие точки зрения, утвердив в
английской литературе относительность угла зрения, что, собственно, и
подчеркивается постоянно в эссе: понимаем ли мы русскую литературу? Адекватна
ли наша оценка?
Любопытно, что, подводя итоги своим размышлениям о русской
литературе, Вулф ни разу не упоминает Тургенева, хотя в 1920-е годы написала о
нем две статьи, а в 1933 г. большую статью, где Тургенев назван едва ли не
крупнейшим русским писателем XIX в. Умолчание же о нем в «Русской
точке зрения» вызывает вопрос: «выпустила» ли она Тургенева как слишком
европейца, как не вполне характерного для русской литературы писателя? Или
в 1925 г. он казался ей наименее новаторским? Впрочем, вероятнее другое:
выстраивая книгу, Вулф ориентировалась на обыкновенного английского
читателя, а его интересовали прежде всего всем известные Чехов, Толстой и
Достоевский.
После «Русской точки зрения» читатель сразу попадает в полную
блеска и иронии атмосферу «Силуэтов» - эссе о четырех выдающихся
деятелях недавнего прошлого. Открывает Вулф этот «парад» убийственной
критикой на книгу Констанс Хилл «Мери Рассел Митфорд и ее эпоха»: этим
эссе Вулф стреляет сразу по двум целям - современной трафаретной
биографии и викторианскому веку лжи, паллиативов, неравенства, развивая тему
модернистской критики викторианских условностей, заявленную Л. Стре-
См. об «Обыкновенном читателе» Вулф в связи с особенностью авторского письма,
когда «ненаписанный» текст побуждает читателя к творческому участию, работу В. Изе-
ра «Процесс чтения: феноменологический подход» в: Iser W. The Reading Process:
A Phenomenological Approach// Modern Criticism and Theory/ Ed. David Lodge. L.; N.Y.,
1991. P. 213.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 607
чи в его «Великих викторианцах»: в этом смысле «Силуэты» - параллель
к его книге.
Эти четыре литературных портрета, особенно последний -
«Архиепископ Томсон», читаются как продолжение предыдущего эссе о русских
писателях. Во всяком случае, русские читатели (как, пожалуй, и современники
Вулф) не могут не соотносить биографию архиепископа Томсона с критикой
церкви Льва Толстого, современника английского архиепископа. Слова о
самоотречении, сказанные им в молодости и впоследствии забытые, кажется,
получают дополнительный смысл, ввиду деятельности Толстого.
Рискнем высказать и другое предположение: в четырех предвикторианс-
ких и поствикторианских судьбах Вулф стремится разглядеть первые толчки
будущего XX века. Если так, то выбор писательницы, фрейлины, ученого и
священника не случаен и с сословной, и с общественно-культурной точки
зрения: здесь проглядывает дилтеевское понимание истории. В духе «новой
биографии» Литтона Стречи Вулф высветила характерные черты эпохи.
Но в 1920-е годы они кажутся уже далеким прошлым - мир изменился,
меняется «пейзаж» литературы. Расширилась и стала демократичнее
читательская аудитория. Вырос книжный рынок, сильнее чувствуется
наступление масскультуры. Как все это сказывается на положении современного
художника?
В эссе «Покровитель и подснежник» Вулф называет две стороны жизни
художника: необходимость зарабатывать на жизнь своим творчеством и
потребность в бескорыстном заинтересованном читателе. Первое - это средство
существования художника, второе - цель, смысл его деятельности.
В прошлом, полагает Вулф, художнику приходилось раздваиваться:
выбирать себе в покровители богатого вельможу, а симпатии отдавать
читателю или зрителю. В эпоху Шекспира писали и для титулованных особ, и для
театральной галерки. В XVIII в. аудиторией писателя стали
остроумцы-завсегдатаи кофеен, а средства существования ему перепадали от издателя с
Граб-стрит208. В XIX столетии писатели жили тем, что писали для дешевых
журналов, а аудиторией их был «праздный класс» (leisured classes), по
выражению Вулф.
А для кого пишет современный художник? И как зарабатывает на жизнь? -
задает вопрос писательница. Она рисует изменившуюся картину: в XX в.
общество делится не только на имущих и неимущих, как в прошлом, но и по
иным, идеологическим градациям - на элиту и простой народ; одни читают
бестселлеры, другие - то, на что «мало ходят» или «мало покупают». «Есть
любители бестселлеров - пожалуйста, пиши для них, - замечает Вулф, - а
В переносном смысле район Лондона, где обитают графоманы, литературные поденщики,
нечистоплотные журналисты; выражение происходит от названия лондонской улицы Граб-
стрит (позже она переименована в «Милтон-стрит»), где в XVII в. жили «джентльмены
пера», писаки, литературные рабы.
608
Приложения
претит тебе писать на потребу дня, пиши для строгих ценителей
литературы, которые презирают коммерческий успех. Есть аудитория
читателей-интеллектуалов, и есть такая, которая требует хлеба и зрелищ»209. Часть
публики - носители английской культуры, другая - американской. Сама пресса
изменилась, стала многоступенчатой - пресса ежедневная, еженедельная,
ежемесячная. Современный писатель, полагает Вулф, уже не стоит перед
выбором: либо возвыситься над публикой, стать «духовным
законодателем», подобно Дж. Мередиту, Г. Джеймсу, либо писать на потребу
публике, служить массовой культуре; обе позиции, по ее мнению, доказали свою
несостоятельность: первая - элитарна, вторая - равносильна самоубийству
художника.
Что же предлагает Вулф? Образ современного «покровителя», который
она набрасывает в эссе, строится скорее как образ идеального читателя, чем
некий социальный или культурный прототип, существующий в
современном обществе. Вулф подчеркивает: «На самом деле, найти такого очень не
просто: это настоящая проверка на прочность самого автора, поскольку
образ покровителя меняется от века к веку, и от писателя требуются
огромная выдержка и твердость духа, чтоб не польститься на внешний блеск и
не поддаться соблазну толпы, соревнующейся наперегонки за его,
писателя, внимание и интерес. Ведь знать, для кого пишешь, равносильно умению
писать»210. И описание этого идеального «конструкта», которое Вулф
развертывает в заключительной части эссе, наводит на мысль о том, что идеальный
читатель, этот умозрительный покровитель, мыслится ею как некое второе
«Я» самого писателя, его близнец, его соавтор. Образ подснежника
приобретает более широкий и драматический смысл: «подснежником»
оказывается сам художник и вопрос о том, состоится или нет его судьба в
литературе, зависит от его «союза» с идеальным читателем, т.е. исключительно от
него самого. Такой взгляд на положение писателя в современном мире - без
иллюзий, без ретуши - принадлежит художнику-модернисту: позицию Вулф
подтвердят впоследствии многие английские писатели, от Джона Фаулза до
Мартина Эмиса.
Так что, пожалуй, именно «Покровитель и подснежник» оказываются
важнейшими для понимания и замысла всей книги, и особенно вулфовской
трактовки образа «обыкновенного читателя».
Заканчивает первую серию знаменательное эссе «На взгляд
современника»: оно подводит черту под историей английской литературы,
написанной, «с точки зрения современного обыкновенного читателя», и
осложненной всеми теми множественными смыслами, которыми у Вулф нагружены
понятия и «истории», и «прошлого», и «современности», и «английской
литературы», и «обыкновенного читателя».
209 См. эссе «Покровитель и подснежник». С. 164 наст. изд.
210 Там же. С. 165.
Вирджиния с матерью Джулией Стивен.
1884 г.
Вирджиния с братом Адрианом.
1900 г.
Вирджиния с сестрой Ванессой.
1890-е годы
Тэланд-хауз в Сент-Айвз, Корнуолл
Сад перед домом
Портрет Лесли Стивена Вирдэ/синия Стивен. 1902 г.
работы Ванессы Белл. 1901 г.
Вирджиния с матерью и отцом. 1892 г.
Леонард и Вирджиния Вулф. 1912 г.
Хогарт-хауз в Ричмонде. Типографский станок Вулфов.
1910-е годы Хогарт-хауз
Леонард и Вирджиния Вулф. 1939 г.
Облоэюка первого издания «Обыкновенного читателя» (1925)
работы Ванессы Белл
Титульный лист «Обыкновенного читателя» 1925 г. с экслибрисом Вулфов
Обложка первого издания эссе
«М-р Беннет и миссис Браун» (1924)
работы Ванессы Белл
Ололска первого издания
«Своей комнаты» (1929)
работы Ванессы Белл
Страница из «Нэйшн энд Атенеум»
с эссе Вулф «Половина Томаса
Гарди» (1928)
Оложка второй серии
«Обыкновенного читателя» (1932)
работы Ванессы Белл
Обложка первого издания рассказов
Вулф «Сады Кью» (1917),
выполненная Ванессой Белл
Облолска первого издания
романа Вулф «На маяк» (1927),
выполненная Ванессой Белл
Облооюка первого издания эссе
Вулф «О болезни» (1931),
выполненная Ванессой Белл
Обложка первого издания
эссе Вулф «Три гинеи» (1938),
выполненная Ванессой Белл
Вирджиния Вулф
и Т.С. Элиот. 1920-е годы
Вирдэюиния Вулф
и Литтон Стречи.
1920-е годы
Вирджиния Вулф в платье матери
позирует для журнала «Вог». 1926 г.
Вирдлсиния Вулф в Манкс-хаузе.
1932 г.
Вирджиния Вулф. Фотография Мана Рея. 1934 г.
Вирдлсиния Вулф. 1939 г.
Лондон во время фашистских
бомбежек. 1939 г.
Манкс-хауз под снегом
Мост через реку Уз в Сассексе
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 609
ВТОРОЙ ТОМ:
УБЕГАЮЩИЙ ГОРИЗОНТ ВООБРАЖЕНИЯ
Публикация «Обыкновенного читателя» вызвала многочисленные
отклики: рецензию Десмонда Мак-Карти в «Нью стейтсмене» от 30 мая 1925 г.,
статью Хью А. Фоссета в манчестерском «Гардиане» от 14 мая 1925 г.,
рецензию в «Кэлендер оф модерн летерс» за 1925 г. и др. Оглядываясь назад, мы,
естественно, обращаем внимание не столько на комплиментарность
отзывов, сколько на характер суждений авторов. В этом смысле картина
получается пестрая: если Фоссет тонко определил точку зрения современника в
качестве организующего начала в книге211, то рецензент «Кэлендер оф модерн
летерс», пожалуй, проявил критическую близорукость, не найдя никакого
связующего звена между отдельными эссе сборника212. В целом критика
приняла книгу Вулф благожелательно, и публика заговорила об успехе (в записи
27 июня 1925 г. Вулф даже отметила, что «книгу слишком расхвалили»213).
Среди вулфоведов бытует мнение, что замысел второй серии
«Обыкновенного читателя» возник у писательницы на волне успеха первой книги.
Повторяться она не любила, и повторное обращение к тому или иному
сюжету, как и использование раз найденной жанровой модификации
произведения, для Вирджинии Вулф не характерны214.
Как бы ни было, работа над главами будущей второй серии «Читателя»
началась в июле 1931 г.215: судя по дневниковым записям, в
сентябре-октябре потихоньку складывается эссе «Неизвестные елизаветинцы», которое
Вулф предполагала «в качестве предисловия ко второму
Обыкновенному читателю»216. Любопытно, что работа над эссе о елизаветинцах - Джоне
Донне, Сидни - шла параллельно «Письму к молодому поэту»217: образно
говоря, в тот год на рабочем столе Вирджинии Вулф рукописи глав
«Обыкновенного читателя» лежали вперемешку с поэтическими сборниками и
письмами Джона Лемана, Стивена Спендера, Уистона Хью Одена, Мак-Ниса и
других молодых поэтов начала 1930-х- такая «синхронность» отражает и
характерный для писательницы современный поворот в обсуждении любого
211 См. статью Х.А. Фоссета в: Fausset H.Г A. The Art of Virginia Woolf// Manchester Guardian.
1925. 14 May; переиздание в: Virginia Woolf: The Critical Heritage / Ed. by Robin Majumdar
and Allen McLaurin. London; Boston, 1975. P. 151-152.
212 См. переиздание рецензии в: Towards Standards of Criticism: Selections from «The Calendar
of Modern Letters», 1925-1927 / Ed. F.R. Leavis. L., 1976. P. 142-146.
213 См.: The Diary of Virginia Woolf. Vol. III. Ссылка приводится no: McNeillie A. Introduction //
The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV P. xxii, fn 25.
214 Это наблюдение высказывает Джулия Бригз в своей последней монографии, см.: Briggs J.
Op. cit. P. 276.
215 См.: Lee H. Op. cit. P. 621.
216 The Diary of Virginia Woolf. Vol. IV P. 49-50. Запись от 20 октября 1931 г.
217 См.: Briggs J. Op. cit. P. 275.
20. Вирджиния Вулф
610
Приложения
вопроса, связанного с литературой и искусством. В этом Вулф всего лишь
верна себе.
Творческий процесс омрачило трагическое событие: 22 января 1932 г.
умер от рака Литтон Стречи, с которым Вирджинию Вулф связывала,
пожалуй, самая большая человеческая и творческая дружба, и трагедия эта на
какое-то время обессмыслила для нее литературную деятельность. В феврале
1932 г., работая над эссе о Донне, Вулф пишет в дневнике: «...просыпаюсь
ночью с чувством полного одиночества в пустой комнате: Литтон умер.
Какой смысл продолжать?»218 В феврале же Вулф пишет эссе об «Аркадии»,
полное элегической грусти по поводу смерти молодого Филипа Сидни (1554—
1586): в элегической интонации текста сквозит чувство утраты, которое, как
ни пыталась избыть его Вулф, - поездкой ли в Грецию в апреле 1932 г.,
отложенной до осени публикацией второй серии «Обыкновенного читателя» - не
оставляло ее до самого конца. Тем не менее 11 июля 1932 г. рукопись была
готова, и, как пишет Вулф в дневнике, она «связала зеленой резинкой вторую
серию Обыкновенного читателя, не испытав при этом никакого
удовлетворения - только облегчение от сброшенной с плеч ноши... думаю, я больше
никогда не напишу ничего подобного»219. Лето прошло в подготовке рукописи
к изданию, вычитывании корректуры, и, наконец, 13 октября 1932 г. вторая
серия «Обыкновенного читателя» увидела свет.
По первому впечатлению вторая книга мало чем отличается от первой -
кажется, те же елизаветинцы, Дефо, однако при более пристальном чтении
становится очевидно, что и общий замысел книги, и подход Вулф в каждом
конкретном эссе иные, нежели в сборнике 1925 г. В этом отличии состоит,
пожалуй, главная интрига и, конечно, самая большая привлекательность
второй серии «Читателя». Попробуем же определить эту разницу.
То, что за первой и второй сериями книги 1925 и 1932 гг. стоят два разных
замысла, видно по совпадающим «персоналиям»: «Елизаветинский сундук»
и «Заметки на полях елизаветинской пьесы» из первой серии и
«Неизвестные елизаветинцы» из второй; «Дефо» из первой серии и «Робинзон Крузо»
из второй. Даже простое сравнение выявляет разницу: первая серия - это
история формирования английской литературы и повлиявших на ее развитие
явлений греческой, французской, русской культуры с точки зрения
обыкновенного английского читателя и для современного английского читателя, т.е.
читателя 1910-1920-х годов. Вторая же серия более почвенническая:
описывая, как литература вырастает из усилий многих обыкновенных людей («за
голосом одного стоит опыт многих»220), как складывается отношение
«время - художник», вторая книга идеологически заострена и подчеркнуто
биографична.
218 The Diary of Virginia Voolf. Vol. IV P. 74. Запись от 8 февраля 1932 г.
219 Ibid. P. 115. Запись от 11 июля 1932 г.
220 См. эссе «Своя комната». С. 496 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 611
И еще: книга 1932 г. более сосредоточена на истории английской
литературы Нового времени - от елизаветинцев до Гарди. Она итоговая по
замыслу: определить вехи в английской литературе, оценив предложения, или,
говоря языком Вулф, «перспективы», созданные художниками разных
столетий, а также выявив самые значительные в художественном отношении
явления литературы последних 50 лет.
Наконец, - и это главное - в основе второй книги лежит очень
своеобразное представление Вулф о культуре и судьбе как художника, так и
обыкновенного человека, творчески себя не проявившего. Такой общечеловеческий и
экзистенциальный поворот задает книге интереснейшую драматургию.
Прежде чем обратиться к ней, позволим себе пояснить то представление Вулф о
культуре и существовании человека, которое, по-видимому, составило
основу второй серии «Обыкновенного читателя» и определило биографическую
форму большинства эссе в ее составе.
Опубликованию второго тома предшествовали три очень важные книги:
это роман-биография «Орландо», эссе «Своя комната» и роман «Волны». Они
заставляют вернуться к интересному замечанию об истории, которое Вулф
обронила еще в 1917 г., когда шла Первая мировая война: «Жаль, что каждое
новое поколение не пишет свою версию истории (буквально: жаль, не
бывает для каждого нового поколения новой истории. - Н.Р.)», - записала Вулф в
дневнике от 2 ноября 1917 г.221 Как это понимать - «новую историю для
каждого нового поколения»? Похоже, писательница имела в виду не только
каждый раз новую, свою версию истории, но и - что особенно важно - общий
гибкий подход к истории, который выражается в том, что в зависимости от
меняющихся социальных, экономических, политических, общекультурных
условий меняется и сама история как некая летопись или хроника явлений и
жизни общества. «Я не предлагаю студенткам знаменитых колледжей
переписать историю, хотя она мне и кажется несколько нереальной, призрачной,
однобокой, подумала я, тщетно ища на полках нужные книги... Но почему
бы им не написать приложение к истории? Разумеется, с каким-нибудь
неброским названием, как и подобает женщинам», - размышляет рассказчица
в «Своей комнате»222. Ее ироническая полушутливая интонация намекает на
то, что существующая история в том виде, в каком она сложилась к XX в.,
не включает события, связанные с духовным, материальным и социальным
положением женщин в прошлом. И пусть слова «написать приложение к
истории» сказаны в шутку, но они приобретают очевидный, вполне серьезный
смысл: историю следует переписать или даже переделать. Впрочем, не
вдаваясь в импликации рассуждений рассказчицы, отметим главное: под
«историей» Вулф понимает факты и их интерпретацию. То, что любая
интерпретация относительна, не требует в ее случае доказательств: как современный
1 The Diary of Virginia Woolf. Vol. I. P. 70.
2 См. эссе «Своя комната». С. 485 наст. изд.
20*
612
Приложения
писатель, как модернист, Вулф исходила из релятивизма понятий. Факты же
имеют в глазах Вулф огромную ценность, поскольку именно в фактах
заключены сведения о жизни людей, их судьбах, личностях, поступках - словом,
их опыт. Историки работают с фактами по-разному: выявляют или, наоборот,
умалчивают о них, скрывают, выносят на свет или искажают,
фальсифицируют - подход зависит от историка. Нет и не может быть, утверждает Вулф,
истинной истории, данной раз и навсегда. Существует определенное число
версий истории, предложенных историками разных эпох и разных взглядов.
Основательный историк - тот, кто принимает во внимание возможно
большее число фактов, используя их как основу своего толкования исторического
события. Изучение истории, по мысли Вулф, это процесс открытия и
анализа разнородных исторических фактов. Таким образом, общий взгляд Вулф на
историю базируется на концептах относительности и рецепции. При
оценке «истории той или иной эпохи» мы должны учитывать позицию историка.
Под фактами же истории она понимала эмпирику существования,
человеческого опыта - «историю снизу», как сказали бы мы сегодня. В ее
представлении об истории, таким образом, видна и викторианская школа Лесли
Стивена, и подход писателя-модерниста. Инструментальной задачей историка
становится открытие фактов жизни, опыта, творческих поступков людей.
Такой своеобразный - релятивно-рецептивный подход Вулф к истории -
соединялся у нее с постпозивистским убеждением в отсутствии какой-либо
поступательности и уж тем более прогресса в движении культуры. Культура
в ее исторической динамике - это текст, который с переменным успехом
пишут сменяющие друг друга поколения. Такой взгляд на культуру сложился у
Вулф в романе «Орландо»: примечательно, что главный андрогинный герой,
выступая на протяжении четырех столетий то в образе мужчины, то
женщины, пишет одну и ту же поэму «Дуб», один и тот же поэтический текст.
То, что эта подробность не полностью ироническая, подтверждается
репликой Бернарда из романа «Волны»: «Сидели, болтали, прогуливались по
бульвару - широкой дорожкой вившемуся под деревьями, с густыми
кронами, шелестящими на ветру, увешанными фруктами; сколько раз
прогуливались мы той дорогой все вместе, - посмотри, вокруг одного, другого дерева,
вокруг иных пьес и стихов, любимцев наших (курсив мой. - Н.Р.), трава вся
вытоптана - аж дерн виден - вот как бесконечно долго, бесшабашно топтали
мы ту дорожку»223.
Понятие культурного артефакта, или текста, над которым веками
трудится не одно поколение, причем не только художников, но и людей
обыкновенных, - афористично сформулировано в «Своей комнате»: «Шедевры не
рождаются сами собой и в одиночку; они - исход многолетней мысли,
выношенной сообща, всем народом, так что за голосом одного стоит опыт
многих. Джейн Остен должна была бы возложить венок на могилу Фанни Бёрни,
Woolf V. The Waves / The 2. Holograph drafts trans, and ed. by J.W. Graham. L., 1976. P. 298.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 613
а Джордж Элиот - поклониться борцовской тени Элизы Картер:
мужественная старуха привязывала к кровати колокольчик, чтоб встать спозаранок и
сесть за греческий»224. Метафора культуры как текста, который пишется,
уточняется, аккумулируется, переписывается, кажется близкой к
постмодернистскому представлению. У Вулф же она, бесспорно, проистекает из
модернистской эпистемологической эстетики, где полнота значимости
придана литературе, искусству, «тексту» в самом широком смысле слова как
достижению культуры и цивилизации в условиях невежества, варварства,
вандализма, о которых свидетельствует история, и - самое главное - вопреки
этим условиям. Похожий взгляд на художническую позицию Вулф высказал
английский литературовед Бернард Бергонзи в своей кембриджской лекции
1982 г., посвященной столетию со дня рождения писательницы: «Полагаю, в
творчестве Вирджинии Вулф мы находим то, что обнаруживаем в творчестве
крупных мастеров искусства: попытку спасти что-то от потопа. ...Возможно,
в этом и состоит великий смысл литературы... Так что в "Маяке" она
создает - да, именно так, создает - форму вопреки распаду, потопу и т.д.»225 При
внешнем сходстве определений позиции Вулф подчеркнем момент
активного противостояния и противодействия человека множащимся мраку и
дикости посредством развития «текста» культуры, под которым Вулф
(разумеется, никогда не употреблявшая сам термин «текст») понимала разнообразие
творческих форм и полноту существования.
Рискнем предположить, что комплекс подобных представлений Вулф
об истории, культуре и человеке лег в основу композиции второй серии ее
«Обыкновенного читателя».
Композиция сборника продумана до мелочей; причем связи между эссе
чаще всего не линейны, не лежат на поверхности. Как полноценное
художественное произведение, книга наводит читателя на размышления, заставляет
возвращаться в начало, отыскивать связи между явлениями, привычно
считающимися далекими друг от друга.
В основе композиции книги лежит своеобразное понятие
реальности, обобщенное писательницей в эссе «Своя комната»: «Что такое
"реальность"? Нечто очень рассеянное, непредсказуемое - сегодня находишь в
придорожной пыли, завтра на улице с обрывком газеты, иногда это
солнечный нарцисс. Словно вспышкой освещает она людей в комнате и
отчеканивает брошенную кем-то фразу. Переполняет душу, когда бредешь домой
под звездами, делая безгласный мир более реальным, чем словесный, - а
потом снова обнаруживается где-нибудь в омнибусе среди гвалта Пикадилли.
Порой гнездится в таких далеких образах, что и не различишь их природу. Но
все, отмеченное этой реальностью, фиксируется и остается. Единственное,
См. эссе «Своя комната». С. 496.
Virginia Woolf: A Centenary Perspective/ Ed. by Eric Warner. London; Basingstoke, 1985
[orig.1984]. P. 143.
614
Приложения
что остается после того, как прожита жизнь и ушла вся наша любовь и
ненависть. И мне кажется, никому так не дано жить в постоянном ощущении этой
реальности, как писателю. Отыскивать ее, и связывать с миром, и сообщать
другим - его задача. Во всяком случае, в этом убеждает чтение и "Лира", и
"Эммы", и "В поисках утраченного времени". Эти книги словно снимают
с глаз катаракту: видишь яснее все впереди; кажется, с мира спала пелена,
и он зажил ярче»226. Главной темой второй серии «Обыкновенного
читателя» становится реальность, понимаемая Вулф как полнота жизни,
воссозданной художником в единстве повседневного и духовного начал: в каждом
эссе писательница стремится обнаружить, собрать по крохам и оживить это
«нечто рассеянное, непредсказуемое» в истории и культуре
предшествующих эпох.
Обращаясь к елизаветинцам в первом эссе книги, автор обнаруживает
странную вещь: полнотой жизни отмечена не елизаветинская поэзия, далекая
от существования и опыта людей XVI в., а дневники кембриджского
литератора Габриэла Харви (ок. 1550-1631): именно в его записях и «Marginalia»
(«Заметки на полях») читатель, убеждает Вулф, встречает живого
человека той эпохи - подверженного слабостям, страстям, с хорошими и дурными
привычками... «Реальность» открывается не в произведениях елизаветинцев,
появляющихся перед читателем на котурнах поэзии, а в отрывочных
дневниковых записях обыкновенного человека: «И когда мы говорим, что
Харви всех их пережил, мы имеем в виду жизнь в прямом смысле слова: жил,
то есть спорил до изнеможения, досаждал, ссорился, набивал себе шишки,
не боялся казаться шутом, боролся, терпел неудачи, словом, встречал жизнь
без забрала, с открытым лицом. Лицом живым, переменчивым, как у нас с
вами, самым что ни на есть человеческим»227.
Это эссе задает тон всей книге: оно насыщено историческими
подробностями, побуждает читателя вглядеться в прошлое «через деталь» (через
тексты Харви), обнаружить, вслед за Дилтеем, самое яркое событие эпохи,
поверить в то, что порой «большое» лучше видно в «малом» (недаром в
качестве героя выбран не Сидни, не Спенсер, а Харви - фигура второго плана,
в сравнении с мэтрами).
В том, как работает эссе, видна сверхзадача Вулф: приблизить XVI век
к современному читателю; эскизно наметить за фигурой Харви судьбы
других поэтов: того же Шекспира, Сидни, Спенсера, Грина, Нэша и тем самым
заставить работать воображение читателя, домысливая, делая собственные
предположения. Например, Шекспир - такой же провинциал, как и Харви,
тоже попал в столицу, а под конец жизни вернулся в родные места, впрочем,
дневник не вел, хотя чем «Сонеты» - не диалог с самим собой?.
См. эссе «Своя комната». С. 520 наст. изд.
См. эссе. «Неизвестные елизаветинцы». С. 204 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 615
Налицо иные принципы организации сборника: историзм, крепкая связь
одного эссе с другим, внутренние переклички, рефрены, аллюзии.
В следующем эссе о Джоне Донне Вулф высказывает предположение о
том, что реальность явлена у поэта в драматичном ощущении
мгновенности бытия, неизбежной смене настроения, противоречиях, колебаниях,
контрастах, разногласиях: «Поэт, который клялся в верности всем напропалую -
принцам, плоти, королю, англиканской церкви, - невозможно, чтобы такой
поэт обрел состояние цельности и внутренней гармонии: для этого он был
слишком земным, слишком человеком. Его откровения - и те лихорадочны,
торопливы, сумбурны и мучительны... Не потому ли духовные стихи Донна
до сих пор находят читателя - читать их местами интересно, местами
противно, мы то ужасаемся, то восхищаемся по ходу чтения?»228.
Но настоящее не всегда продуктивно для литературы: каждому
знакомо, говорит Вулф, желание уйти от настоящего, от окружающей
действительности: «...хочется забыть о настоящем, уйти от окружающей
действительности с ее мелочностью и рутиной и, закрыв за собой плотно двери,
задернув шторы, чтоб не слышать городского шума, не отвлекаться на блеск
и мерцание огней за окном, уйти с головой в чтение. Так и иные книги
пишутся с желанием уйти от насущных забот»229. Этим элегическим зачином
Вулф открывает читателю фантастический гетерокосм Филипа Сидни,
утверждая мысль, кажущуюся парадоксальной, о том, что реальность может
скрываться в самых невероятных небылицах и что в своем незаконченном
прозаическом произведении елизаветинский поэт открыл сразу несколько
возможностей будущего развития английской литературы: «В "Аркадии",
как в каком-то полупрозрачном светящемся сосуде, лежат и ждут своего часа
все семена английской литературы. (...) и любовно-авантюрный роман, и
роман реалистический...»230 Об одной из таких возможностей- следующее
эссе «Робинзон Крузо».
Это едва ли не центральное эссе всей книги. Именно в «Робинзоне»
Вулф вводит основное понятие «перспективы» писателя как смыслового и
художественного стержня литературного произведения, складывающегося
из трех ипостасей: человека, природы, Бога. По мысли Вулф, каждый
большой романист по-своему организует три эти смысла относительно друг
друга. Степень «плотности», «увязанности» смыслов определяет, по ее мнению,
значимость произведения. Интересно, что постижение «перспективы»
писателя Вулф целиком «отдает» читателю, полагая, что ни критика, ни
биография не помогают читателю разобраться в самом произведении.
Получается, что Вулф обобщает смысловую структуру романа в виде подвижной
трехмерной оптики «человек-природа-Бог» и персонализирует ее понима-
228 См. эссе «Джон Донн триста лет спустя». С. 215 наст. изд.
229 См. эссе «Аркадия графини Пемброк». С. 216 наст. изд.
230 Там же. С. 223.
616
Приложения
ние как прерогативу читателя. Интересно, что сомнений в способности
читателя постичь писательскую «перспективу» Вулф не высказывает,
предполагая, пожалуй, единственным условием понимания свободу читательского
восприятия. Это наводит на мысль о том, что Вулф потому отдает «право»
понимания «перспективы» писателя читателю, а не критику, что критик
зашорен теориями; и еще о том, что Вулф в духе традиции XIX в. полагает
познание «первоначального проекта» возможным, что в принципе не
противоречит модернистскому настрою на познание и шире - идее просвещения о
возможностях и границах познания. Не исключено, что отсутствие сомнений
у Вулф вызвано совпадением самого текста «Робинзона» с верой
просветителей в силу познания.
Впрочем, одно сомнение есть, и связано оно с самой «перспективой»
Дефо, по выражению Вулф, перспективой «простого глиняного котелка»,
который неустанно «варит», - другими словами, жизненной
философией постоянных мысли и дела и художественным реализмом изображения.
В конце эссе это сомнение выливается в заключительный вопрос: «Так
почему же, спрашиваем мы, захлопнув книгу, нас не удовлетворяет в полной мере
та перспектива231, которую, как мы поняли, налагает на нас простой
глиняный котелок, как, впрочем, не удовлетворяет нас и образ сына человеческого,
возвышающегося во всем его величии до самых звездных небес, среди
разрушенных до основания гор и взбаламученного океана?»232 Риторический
вопрос выражает сомнение Вулф в существе той «перспективы», т.е.
организации романа, которую, по ее мнению, читатель находит у Дефо в
«Робинзоне», а именно, «перспективу глиняного котелка». Эту метафору Вулф
строит вначале как художественную, изобразительную перспективу, лежащую в
основе «Робинзона» и подчиняющую себе все стороны произведения, -
реализма простого действия и здравого смысла. Но в конце эссе, уже оценив
значительность перспективы Дефо, она ставит вопрос шире - о перспективе
развития литературы и даже человека. В этом, более широком смысле роман
Дефо, по мнению Вулф, не удовлетворяет читателя «в полной мере», и она
сама же отвечает на вопрос, почему так происходит: в основе замысла Дефо
лежит представление о человеке (возможно, мужчине), который, как царь и
бог, возвышается над природой и мирозданием. Такой взгляд кажется ей
ограниченным: своим «Робинзоном» Вулф осторожно подводит историческую
черту под представлением Ренессанса о человеке как о господине
мироздания, венце природы.
По следующему за «Робинзоном» эссе о Дороти Осборн хорошо видно,
как крепко - гораздо крепче, чем в первой серии «Обыкновенного
читателя», - связывает Вулф в единое целое одно эссе с другим. На эту связь
работает многое: общая логика движения литературы, биографические связки,
1 Здесь слово «perspective» приобретает дополнительный смысл «перспективы будущего».
2 См. эссе «Робинзон Крузо». С. 229 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 617
пересечения, совпадения, «встречи» (например, Свифт встретил миссис
Дороти Осборн уже зрелой женщиной, и следующее эссе посвящено Свифту),
линия проявления творческих возможностей и женщин и мужчин, жанровая
картина, полнота жизни.
В этом эссе она подчеркивает ущемленность судьбы талантливой
женщины в сравнении с успешной, но пустой в творческом отношении карьерой
мужчины. Вулф намеренно выделяет материальное и духовное неравенство
полов, вносит модернистскую ноту расколотого Я в заключительный
пассаж о двух Дороти - молодой, талантливой создательнице неповторимых
писем, и дородной практичной хозяйки дома, и, что называется, «захваливает»
письма юной Дороти: последнее бросается в глаза при сравнении эссе с
коротким рассказом о Дороти Осборн в 4-й главе «Своей комнаты», где Вулф
говорит о нежелании и боязни Дороти заниматься литературой («письма не
в счет»). Вполне возможно, что такое «укрупнение» фигуры Осборн вызвано
логикой книги: сейчас для писательницы важнее установить меру таланта и
противостояния личности обстоятельствам, нежели определять ее «место» в
истории творчества женщин.
Как влияла на человека, на литературу салонная культура XVIII в.?
В эссе «Свифтовский "Дневник для Стеллы"» и «Письма лорда Честерфилда
к сыну» Вулф отмечает общие для тогдашнего общества скованность
человека светскими условностями и несвободу в выражении чувств.
Первое эссе написано с двух точек зрения - Свифта и Стеллы, хотя
писем Стеллы в дневнике нет. Ее точка зрения скорее реконструируется Вулф
по письмам Свифта «между строк» и по вспомогательным материалам.
В этом стремлении дать голос другой стороне - безмолвному адресату -
виден, пожалуй, не столько феминизм Вулф, сколько желание равных условий
для «него» и для «нее», стремление встать на точку зрения ущемленного
в правах существа. Здесь угадывается что-то общее с Джин Рис, которая в
1966 г. напишет «Широко Саргассово море» («Wide Sargasso Sea») с точки
зрения второстепенной героини «Джейн Эйр» - безумной Берты, и,
возможно, даже что-то из постмодернизма: нет эпизодических персонажей, каждый
имеет право быть услышанным.
Раздвоенность мужского «Я» и связанный с ним комплекс вины и
женщины и мужчины, их фрустраций и фобий Вулф возводит, судя по эссе о
Свифте, к рационализму XVIII в., не оставившему свободы человеческому «Я» и
«отыгравшемуся» на женском сознании, которое в условиях неравенства и
несвободы оказывалось подмятым и сдавленным. Дело совсем не в том, что
Свифт плох или хорош, - век, общество, состояние умов вызывали, по
мысли Вулф, сдвиги в сознании и культуре. На примере судьбы Свифта
писательница прослеживает, как живые чувства писателя, под нажимом светских
условностей «загонялись», точно в потайную комнатушку, в дневники,
письма, тайнопись. Человек раздваивается, теряет полноту и цельность сущее-
618
Приложения
твования, и горькая ирония заключается в том, что сбросить маску Свифту
удалось, будучи уже глубоким стариком, полусумасшедшим.
Полноту жизни, свободу от правил светской игры, стеснявших, хоть и
по-разному, Дороти Осборн и Свифта, писательница видит в романах
Лоренса Стерна (1713 1768). В эссе «Сентиментальное путешествие» она рисует
его редким художником, сумевшим вырваться из системы жестких канонов,
светских приличий, благодаря исповедуемой им философии наслаждения.
Под «убеждением» Стерна Вулф понимает его стоическое сопротивление
обывательскому мнению, вроде того что священнику не пристало писать
«такие» книги. Главным же открытием Стерна в литературе она полагает не
столько психологизм, сколько редкостную полноту постижения
действительности, достигаемую благодаря созданию картины внешнего мира,
совмещенной с авторскими мыслью и настроением. Именно этими сторонами своего
творчества - сопротивлением жестким канонам, самостоятельной позицией
художника, стремлением соединить реальность факта и описание
внутреннего мира, Стерн, по мнению Вулф, близок литературе XX в.
Похоже, к XVIII столетию Вулф испытывала смешанные чувства: она
не принимала жесткую регламентацию жизни в рамках придворно-светской
культуры, но при этом эпоха Просвещения виделась ей своего рода
альтернативой как XIX, викторианскому веку с его лицемерной моралью,
шовинистической идеологией и многообразными проявлениями социальной
несправедливости, так и веку XX, когда реальность войн и общественных катаклизмов,
казалось, отрицала разумные основы бытия. В эссе «Письма лорда
Честерфилда к сыну» писательница отмечает, что XVIII век «сегодня, в 1930 году,
видится уже не таким чужим и далеким от нас, как те ранние викторианские
годы, - во всяком случае, по своему укладу, он более рационален и завершен,
чем цивилизация образца лорда Мэона и его современников»233. «Письма»
Честерфилда - замечательный памятник эпистолярной прозы, своеобразный
светский кодекс просветительского мировоззрения, отмечены, по ее
мнению, духом рационализма, умеренности, терпимости. Но при всей
разумности существования и системы воспитания, выработанной светской культурой
в лице лорда Честерфилда, им грозит вырождение в пустой набор правил
поведения, в «искусство лести», в науку «возвышения в мире», а главное, -
система ценностей «по Честерфилду» не соответствует жизни людей:
свидетельством тому - судьба сына лорда, сложившаяся ровно наоборот по
отношению к советам своего «идеального воспитателя».
Исподволь сравнивая вторую половину XVIII в., эпоху кануна Великой
французской революции, с настоящим- 1930-ми годами, когда человек не
может уйти от политических событий дня234, Вулф останавливается на судь-
См. эссе «Письма лорда Честерфилда к сыну». С. 250 наст. изд..
См.: Woolf V. The Leaning Tower// WoolfV. Collected Essays / Ed. by L. Woolf. L., 1966-1967.
Vol. 2. P. 162-181.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 619
бах двух ничем, казалось бы, не примечательных личностей - пастора Вуд-
форда (1740-1803) и преподобного Джона Скиннера (1772-1839): первый
жил во второй половине века, второй - на рубеже XVIII-XIX столетий. Если
в дневнике Вудфорда запечатлелась спокойная, размеренная жизнь
удовлетворенного человека, наслаждающегося радостью бытия, общением с
природой, не знающего внутренних противоречий, - кажется, Джеймс Вудфорд
будет жить вечно, настолько полно существование этого обыкновенного
человека XVIII в., - то в дневниках Скиннера, его младшего современника,
покончившего самоубийством, нет ни радости, ни покоя: сплошные мука,
терзания и боль. Динамика истории, движение времени, - констатирует между
строк эссе Вирджиния Вулф, - трудноуловимая материя, и порой постичь ее
можно скорее через судьбы обыкновенных людей, запечатлевшихся в
дневниках и письмах, чем в произведениях литературы.
Последней крупной фигурой уходящего XVIII в. писательнице видится
Сэмюэл Джонсон: описывая в «Званом вечере у д-ра Бёрни», казалось бы,
пустяшный эпизод из жизни мэтра, она буквально несколькими штрихами
дает читателю ощутить масштабность личности С. Джонсона. Окружавшие
его люди отмечены духовным измельчанием, самовлюбленностью,
тщеславием, которые Вулф будто по умолчанию связывает с завершением старой
эпохи и наступлением новой.
Остальные эссе второй серии «Читателя» посвящены явлениям культуры
и литературы XIX столетия.
Насколько осуществимы полнота существования, полнота развития
самой литературы? - через призму этого невысказанного вопроса Вулф
вчитывается в судьбы обыкновенных людей и художников первой половины XIX в.
в эссе «Джек Митн», «Автобиография Де Квинси», «Четыре фигуры»,
«Уильям Хэзлит» и «Джеральдина и Джейн».
Открывает эту «серию в серии» эссе о Джеке Митне (1796-1834);
переработанное из рецензии Вулф на «Жизнеописание Джека Митна»235, это яркое
эссе о псевдоромантическом типаже, характерном для конца XVIII - начала
XIX в., приобретает в составе «Обыкновенного читателя» более широкий и
обобщенный смысл. И происходит это «расширение» семантики благодаря
тому что Вулф связывает биографию Митна сразу с несколькими вопросами:
с современной оценкой идеи родового человека, введенной в оборот XVIII в.,
и с проблемой интереса публики к героизму отдельной личности.
Вспомним, что идея «Тарзана» витала в воздухе в 1920-1930 гг. Не
исключено, что эссе о Митне - это и комментарий Вулф по поводу
«естественного» человека Д.Г. Лоуренса, Герберта Рида и, может быть, Юнга. Своим
рассказом о Джеке Митне Вулф словно задает читателю вопрос: выбирая
яркий (скажем, романтический или экзистенциалистский) способ поведения,
Первоначально опубликовано в «Вог» в начале марта 1926 г. под названием «Жизнь Джека
Митна».
620
Приложения
в противоположность серому существованию обыкновенных людей, какие
цели мы ставим? И еще: какова реакция окружающих? В первом случае,
замечает Вулф, человек гибнет, как Митн, или же получает от общества мизер
в виде двухпенсовой тарелки супа - вот цена персонального героизма.
Причем в выигрыше оказываются политики да чиновники (читай: дама в
шезлонге, рассказом о которой начинается и заканчивается эссе).
Но и это не все! Примечательно, что, вспоминая через призму судьбы
Джека Митна идею органического человека, введенную в оборот
Просвещением, Вулф делает это, так сказать, и линейно, в соответствии с
хронологическим принципом организации своей книги, и нелинейно, если иметь
в виду динамику идеи «родового человека» в начале XX в. Что называется,
оценим уровень саморефлексии писательницы, соотнеся ее оптику
восприятия истории культуры с относительно недавними работами теоретиков, где
«впервые» постулируется идея о том, что ряд положений культуры XVIII в.
был воспроизведен и заново поставлен в начале XX в.236
Главной темой следующих за «Джеком Митном» эссе -
«Автобиографии Де Квинси», «Четырех фигур», «Уильяма Хэзлита», «Джеральдины и
Джейн» - выступает вопрос создания литературной биографии. Вообще
искусство жизнеописания - это отдельная страница в наследии Вулф, предмет
ее постоянных раздумий и творческих мук, взять ли «Новую биографию»,
или «Искусство биографии», или «Разговор о мемуарах» («A Talk about
Memoirs», 1920)237, извечное поле жарких споров с Литтоном Стречи. С
конца 1920-х годов и все 1930-е годы Вулф работала над созданием новых
жанровых модификаций биографии и автобиографии: в романе «Орландо»,
пародийном жизнеописании «Флаш», биографии «Роджер Фрай», в собственных
мемуарах и автобиографических эссе238 и др. В ее творческой лаборатории
проблема «как писать биографию и автобиографию?» не существует
отдельно от критерия художественной полноты произведения в единстве
психологии и факта и понимания реальности как со-общения писателя и мира.
Мерилом повествования о жившем когда-то человеке у нее всегда оказывается
степень совпадения версии биографа с той полнотой существования, следы
которой отрывочно, фрагментарно присутствуют в письмах, записях,
дневниках, разрозненных фактах.
См.: Habermas J. Modernity - an Incomplete Project // Modernism/postmodernism / Ed., introd.
by Peter Brooker. L., N.Y., 1992. P. 125-139.
См.: Woolf К The New Biography // New York Herald Tribune, 1927. 30 Oct.; Idem. The Art
of Biography // The Atlantic Monthly. 1939. Apr.; Idem. Talk about Memoirs // New Statesman.
1920. 6 March.
См.: «Воспоминания» («Reminiscences»), «Очерк о былом» («A Sketch of the Past»), «Дом
22 на Гайд-парк Гейт» («22 Hyde Park Gate»), «Старый Блумсбери» («Old Bloomsbury»),
«Что я, сноб?» («Am I a Snob?»). Опубликованы в: Woolf V. Moments of Being: Unpublished
Autobiographical Writings. N.Y., 1976.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 621
Высшим мастерством в искусстве жизнеописания писательница
полагает абсолютную раскрепощенность воображения - только свободное
вдохновение, по ее мнению, позволяет художнику создать образ жизни, адекватный
самой жизни. Таким уникальным мастером ей видится Томас Де Квинси,
которому Вулф посвятила «Автобиографию Де Квинси», вобравшую в себя и
другие эссе: «Вдохновленную прозу» («Impassioned Prose», 1926),
«Английский почтовый дилижанс» («The English Mail Coach», 1912)239.
Эссе о Джордже Браммеле (1778-1840) в составе «Четырех фигур»
развивает тему критического отношения Вулф к «точным» биографиям,
построенным на достоверных фактах, однако лишенным человеческого
содержания, чем, собственно, и объясняется иронический характер авторского
«Примечания», завершающего эссе. Подчеркнем, что за иронической нотой
скрывается целая концепция современной биографии, которая, как полагала
Вулф, при всем скепсисе современной мысли, заставляющей усомниться в
любом «точном» знании или информации, не должна быть плодом
беспочвенной фантазии.
Плодотворным направлением развития английской литературы в XIX в.
Вулф полагает описание жизни и психологии обыкновенных людей, и важным
шагом на этом пути ей видится стихотворный роман «Аврора Лей» («Aurora
Leigh», 1857) английской поэтессы Элизабет Бэррет Браунинг (1806-1861),
посвященный теме равноправия женщин. Писательница называет
гениальной идею Элизабет Бэррет: «...истинная задача поэта, рассуждает Аврора в
пятой книге, состоит (...) в обращении к современности»240. В эссе, таким
образом, обсуждаются проблема стихотворного романа и те сложности,
которые поджидают поэта, решившегося взяться за современную тему.
Заканчивается эссе неутешительным выводом о том, что форма стихотворного
романа не получила развития в современной английской литературе241. Ну а
русский читатель наверняка вспомнит в связи с этим и пушкинского
«Евгения Онегина», и «Кому на Руси жить хорошо?» Некрасова, и другие
стихотворные произведения о современности.
Развивая тему, писательница задается вопросом социальной
адекватности и полноты викторианского романа в следующих за «Авророй Лей» эссе
«Племянница графа» («The Niece of an Earl», 1928) и «Джордж Гиссинг».
За долгие века социального и материального неравенства представление о
классовой иерархии укоренилось, по ее мнению, в английской литературе,
став ее неотъемлемой чертой: «...классовые градации пронизывают английс-
См.: The Essays of Virginia Woolf. Vol. I. P. 365-369.
См. эссе «Аврора Лей» на с. 343 наст. изд.
См. также первоначальную редакцию эссе под названием «Поэзия, проза и будущее»
(«Poetry, Fiction and The Future»), опубликованного в «Нью-Йорк геральд трибюн» 14 и
21 августа 1927 г., позднее переизданного под названием «Узкий мостик искусства» («The
Narrow Bridge of Art») в посмертно изданном сборнике «Гранит и радуга» («Granite and the
Rainbow», 1958).
622
Приложения
кую литературу сверху донизу - попробуйте на секунду представить, что их
нет, и вы ее не узнаете»242. Вулф даже выделяет два типа романистов: одни,
подобно Джейн Остен, ограничиваются «той социальной группой, к
которой принадлежат... сам[и] и в описании которой ... наход[я]т бесконечные
краски и оттенки»243; другие, как Джордж Мередит, исследуют разные
социальные типы, стремясь создать «комедию, какую собой являет жизнь в
английском цивилизованном обществе»244. Об этой национальной черте -
безусловном признании писателем жесткой сословной иерархии - Вулф писала
в эссе «Достоевский в Крэнфорде», «Вишневый сад», «Своя комната»245
и др. Здесь же она впервые прямо заявляет о том, что классовые
перегородки обедняют литературу, сковывают писателя, не давая возможности полно
и глубоко описать жизнь как низов, так и верхушки общества, предваряя
обсуждение творчества Джорджа Гиссинга (1857-1903), писателя «из
низов» (разночинца, как сказали бы мы, если бы речь шла о русской
литературе XIX в.), пробившегося в большую литературу исключительно благодаря
своему уму и стремлению к образованию, писателя-интеллектуала, фигура
которого станет более привычной для литературы XX, как полагает Вулф.
Плодотворным шагом в развитии английской прозы видится Вулф
творчество Джорджа Мередита (1828-1909), одного из родоначальников
интеллектуальной и поэтической прозы XX в. Для нее он «великий обновитель
романа», создатель метафорической прозы: обобщая эту оценку, Вулф
высказывает предположение о том, что английская литература и в дальнейшем
будет обращаться к творчеству Мередита в периоды исканий и обновления
(как раз таким периодом видится ей первая треть XX в.). Здесь впервые в
«Обыкновенном читателе» звучит тема подведения итогов:
художественной оценки «по гамбургскому счету» тех произведений, что были созданы в
английской литературе приблизительно к концу XIX в., т.е. за 50 лет до
«Обыкновенного читателя». Итак, что останется в культуре через энное
количество лет?
Лавры нетленного искусства Вулф отдает поэту Кристине Россетти
(1830-1894) и прозаику Томасу Гарди: для нее это две вершины современной
английской литературы, сравнимые с Чосером и древнегреческими
трагиками. Такое «кольцо», или рамка, в заключение второй серии «Обыкновенного
читателя» возвращает нас к первой книге 1925 г. и заставляет вновь
задуматься о двух сериях книги как едином целом.
Говоря о художественной полноте поэзии К. Россетти, писательница
ведет речь о музыкальности, гармонии стиха, смысловой наполненности,
способности поэтического слова выразить красоту мира, природы. Все это Вулф
См. эссе «Племянница графа». С. 347 наст. изд.
Там же. С. 348.
Там же.
См. эссе «Достоевский в Крэнфорде», «Вишневый сад», «Своя комната» на с. 417-418,
419-421,463-522.
Н.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 623
отмечает в воображаемом диалоге с поэтом: «В поэзии вас вело настолько
безошибочное чувство слова, что стихи рождались на слух, как музыка - как
моцартовская "Волшебная флейта" или арии Глюка. Но гармоничность
ваших песен вовсе не означала их простоту. Вы трогали струны - и в ответ
каждый аккорд, как в арпеджио, отзывался разными голосами и тонами. Как
истинный прирожденный поэт, вы были зорки к цветам и краскам бытия»246.
И Вирджиния Вулф предрекает стихам Россетти долгую жизнь у читателя,
поскольку в лучших из них достигнута такая полнота выражения, когда
чувство и мысль поэта созвучны остальному миру: «...столь непредсказуемо
чудо поэзии, что - как знать? - может, иные из ваших стихов, которые вы
когда-то писали в стол в вашей крохотной спальне под крышей, переживут
века и уцелеют в их первозданной свежести... даже тогда, когда Торрингтон-
сквер превратится в коралловый риф и в том месте, где была когда-то ваша
спальня, заснуют туда-сюда косяки рыб»247.
Печатью полноты жизни и долговечного искусства отмечены, на взгляд
Вулф, и романы Гарди, написанные «так давно, что, кажется, дальше и быть
не может от нынешнего состояния литературы,(...) от злободневности,
суеты и мелочности»248. Они - живая традиция, связующая нить между
литературой прошлого и творчеством молодого поколения249, воплощенная мечта
каждого писателя и читателя - «сделать так, чтоб мы поверили в его
(писателя. - Н.Р.) вымысел, в то, что его герои - такие же люди, как мы с вами,
со своими привычками и причудами; и при этом как истинный поэт, он
достигает такой степени обобщения, что мы понимаем: и они, и мы одного
поля ягоды»250. В представлении Вулф Гарди - не только реалист, но и поэт,
осмысляющий судьбы людей в общем движении времени, в связи с
общечеловеческими вопросами бытия: в его романах, пишет Вулф, слышится «шум
водопада», поток времени, - жизнь застигнута художником в «мгновение
бытия», в ее связи с прошлым и, возможно, будущим. И в изображении
характеров романист достиг полноты соединения индивидуального с типическим:
полнота постижения человека в произведениях Гарди - следствие глубокого
осмысления судьбы личности в контексте общечеловеческих проблем,
«последних вопросов».
Уподобляя широту и драматизм бытия у Гарди античной трагедии или
елизаветинской драме, Вулф наводит читателя на мысль, что в творчестве
«последнего викторианца» английская проза осуществила заложенные в ней
предшественниками богатые возможности; обрела полноту художествен-
См. эссе «Я - Кристина Россетти». С. 368 наст. изд.
Там же. С. 369.
См. эссе «Романы Томаса Гарди». С. 370 наст. изд.
См. письмо Вирджинии Вулф Томасу Гарди от 17 января 1915 г. в: Woolf V. The Letters.
Vol. II. P. 58-59.
См. эссе «Романы Томаса Гарди». С. 374 наст. изд.
624
Приложения
ного выражения, способность обобщенно и глубоко, в единстве чувства и
факта, постичь реальность, приблизилась тем самым к возрожденческому
и античному пониманию искусства. Почему характер и масштаб дарования
Гарди и несоизмеримы, полагает Вулф, с привычными оценками стиля или
правдоподобия. Лучшим доказательством художественной силы романов
Гарди служит их раскрепощающее воздействие на читателя, освобождение
его от стереотипов мысли, оков условностей и рутины: «...когда мы
охватываем взором весь масштаб им созданного, отдаваясь целиком
открывшейся перед нами картине, мы испытываем восторг и глубокое удовлетворение.
С нас будто спали оковы суетной и мелкой жизни. Горизонт воображения
раздвинулся - открылась высота. Мы высмеяли все наши чудачества.
Впервые за долгое время испили из родника земных красот»251. Вулф завершает
эссе о романах Гарди и в определенном смысле весь цикл эссе об истории
английской литературы словами о долговечности произведений писателя,
подразумевая победу художника над сиюминутным и преходящим.
Мысль о свободе читателя и свободе чтения подхватывает и развивает
заключительное эссе «Как читать книги?»
Вместе с предисловием к первой книге 1925 г. это эссе составляет рамку
для обеих серий и одновременно служит своеобразным авторским
комментарием: Вулф как бы «сверху» резюмирует основные темы, организуя книгу в
единое целое. Так, говоря о чтении романов и называя Дефо, Остен и Гарди,
она подчеркивает, насколько трудно переходить, переключаться с одного
романа на другой, поскольку в каждом романе создан свой, абсолютно не
похожий на все другие книги мир; и это замечание звучит как наблюдение со
стороны и над собственным процессом работы эссеиста, историка, критика над
столь разными книгами. Или другой пример: поясняя значимость биографий
и мемуаров в книжном багаже читателя, она вводит образ литературы как
умозрительной местности, которую можно обойти, следуя тропами поэтов,
воссоздавая литературный рельеф.
Здесь же Вулф вручает читателю и ключи к некоторым загадкам,
оставшимся непроясненными. Например, что стало с Марией Аллен из эссе
«Званый вечер у д-ра Бёрни»? Мы не узнаём об этом до самого конца, пока она не
расскажет об этой истории в последнем эссе. Или другой пример: молодой
офицер, влюбившийся в девушку в Лиссабоне, возможно, и есть последняя
любовь подруги Мери Уолстоункрафт? А капитан Джоунз, рассказавший
актеру Уилкинсону о странном приключении? - уж не он ли участник истории
о той же Мери, плывшей в Англию и заставившей капитана помочь
французскому судну? Такими интригующими намеками Вулф побуждает нас
перечитать эссе, вернуться к началу, обдумать все заново...
Возможно, кто-то усмотрит в таком приеме организации книги и
иронический жест модерниста: словно на десятилетия вперед Вулф задает работу
1 Там же.
H.И. Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 625
профессорам - пожалуйста, ищите связки, коннотации, аллюзии, источники
цитат и проч.
Как истый рассказчик, писательница «сшивает» все в один плотный
текст, стягивая последним эссе, как шнурком, всю рукопись (50 эссе) в
единую книгу.
* * *
«...Думаю, я больше никогда не напишу ничего подобного»,- с этими
словами Вирджиния Вулф завершила работу над рукописью второй серии
«Обыкновенного читателя»252. И действительно, больше ничего подобного
она не написала.
После 1932 г. Вулф не выпустила ни одного сборника своих эссе, хотя
работать в этом жанре не перестала. Все те «Избранные», что появились после
ее смерти, были составлены уже не ею, а Леонардом Вулфом и другими
редакторами, и все они представляли собой тот вариант журналистики,
который Вулф не жаловала: перепечатку очерков и эссе, опубликованных в
журналах. Таковы «"Смерть мотылька" и другие эссе» («"The Death of the Moth'
and Other Essays», 1942), «"Мгновение" и другие эссе» («"The Moment"
and Other Essays», 1947), «"Смертное ложе капитана" и другие эссе» («"The
Captain's Death Bed" and Other Essays», 1950), «Гранит и радуга» («The Granite
and the Rainbow», 1958), «Современные писатели» («Contemporary Writers»,
1965), 4-томное «Собрание эссе» («Collected Essays», 1966-1967), «Книги и
портреты» («Books and Portraits», 1977), «Женщины и литература» («Women
and Writing», 1979) и, наконец, 6-томное «Полное собрание эссе Вирджинии
Вулф» («The Essays of Virginia Woolf», 1986-2011).
Все эти посмертно изданные сборники радикальным образом
отличаются от «Обыкновенного читателя» Вулф: за ними не стоит никакой
художественной, культурно-исторической, читательской концепции - кроме
тематического принципа. Это в высшей степени полезный материал для историка
литературы, исследователя творчества Вулф, - особенно 6-томное издание
Полного собрания эссе писательницы, однако ни одна из публикаций не
способна заменить или подменить собой «Обыкновенного читателя», поскольку
не является тем художественным целым, которое стремилась создать - и
создала! Вирджиния Вулф.
Другое важное отличие книги Вулф от посмертно изданных сборников
эссе можно определить как жанрово-стилевое: в духе модернистской
литературы начала прошлого века читателю предлагается самодостаточное
художественное произведение в форме живой беседы о серьезном в
полушутливом, полуироническом ключе, без примечаний, сносок, комментариев и
пояснений. Если угодно, многозначное искусство, сочетающее свободную
См. примеч. 215.
626
Приложения
беседу, биографический очерк, литературную критику, книжное обозрение,
экскурс в историю, собственно эссе...
«Обыкновенный читатель» - современный памятник европейской
читательской традиции и книжной культуры: сегодня он приобретает, возможно,
особый смысл сохранения и развития культуры чтения, культуры книги,
слова как источника познания и свободы мысли.
Это произведение сильного общечеловеческого заряда - и сегодня, ввиду
много раз оспоренных в XX в. гуманизма и гуманистических ценностей, оно
представляется не слабым аргументом в пользу творческой свободы каждого
обыкновенного человека в условиях исторически сложившегося духовного,
материального и социального неравенства.
Для русского читателя книга Вулф, впервые переведенная на русский
язык и сопровождаемая переводом всех ее эссе о русских писателях,
по-видимому, имеет особое значение: открывается интереснейшая страница
англо-русских литературных и культурных связей, межкультурного
взаимодействия. У русской аудитории появляется возможность проследить, как одна
из крупнейших английских писательниц XX в. читала русскую литературу
XIX-XX вв., откликалась на русские книги и события русской истории, как
вырабатывала собственное представление о литературе «в диалоге» с
Чеховым, Тургеневым, Достоевским, Толстым... Интересно и то, что, создавая
свою историю английской литературы в «Обыкновенном читателе» 1925 г.,
Вулф практически в каждом эссе «вспоминает» русскую классику,
сравнивает с ней английских писателей разных веков, тем самым утверждая высокий
статус русской литературы в мировом культурном пространстве и
осуществляя не абстрактно, а практически, вживе тот принцип, который много
позже сформулирует в своем эссе «Что такое классик?» Т.С. Элиот: «...зрелость
ума: она требует истории и осознания истории. Историчность же сознания у
поэта может пробудиться полностью лишь в том случае, если в его сознании
наряду с прошлым его родного народа живет еще и прошлое другой
цивилизации - это нужно для того, чтобы видеть свое место в истории.
Представление об истории хотя бы одного высокоразвитого народа другой цивилизации
необходимо, как и знание истории народа, достаточно нам близкого, чтобы
мы могли воспринять его влияние и усвоить его культуру»253.
Такая рецептивно-сравнительная позиция Вулф представляется
плодотворной и даже поучительной.
Элиот Т.С. Назначение поэзии. С. 249.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
627
Н.И. Рейнгольд
РУССКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ВИРДЖИНИИ ВУЛФ1
Слово «путешествие» в заглавии имеет метафорический смысл
воображаемого приключения Вулф в мире русской литературы. Перекликаясь
с ее первым романом «Путешествие» («The Voyage Out», 1915 в рус. пер.
«По морю прочь»), оно как бы подсказывает: русская литература занимает в
творческом опыте Вирджинии Вулф особое место. Откуда эта уверенность?
Публикация в 1970-1990 гг. полного корпуса произведений Вулф,
включая прежде не печатавшиеся ее эссе, письма, дневники, воспоминания,
рукописи и иные текстологические материалы, записные книжки и т.д.,2 -
открыла в творческом наследии писательницы «русскую главу», о величине
и содержании которой мало кто из вулфоведов догадывался. Когда
открылся настоящий масштаб творческого наследия Вулф - и художественного, и
литературно-критического, и эссеистического, и эпистолярного,
обнаружились поразительные факты: писательница постоянно читала русскую
литературу в переводе и десятки раз выступала с обозрениями книжных новинок
русских писателей на страницах английской периодики, преимущественно
литературного приложения к «Тайме». То, что она делала это, как
говорится, не службы ради, видно по ее письмам и дневнику: в иные годы бывало
так, что чуть ли не в каждом письме Вулф задевала «русскую» тему,
упоминала русских знакомых, события в России и т.д. Она даже участвовала в
переводах трех произведений русской классики на английский язык, выступив
соавтором С.С. Котельянского, у которого брала уроки русского языка. Эти
факты невозможно объяснить лишь общим интересом английской
читательской аудитории к русским искусству и литературе в первую четверть XX в.
Среди английских писателей 1910-1920-х годов мы не найдем ни одного
писателя такого масштаба (исключение составляет лишь Д.Г. Лоуренс),
который так же активно работал бы с произведениями русской литературы как
1 Переработанная и дополненная редакция статьи: ReinholdN. Virginia Woolf s Russian Voyage
Out//Woolf Studies Annual. N.Y., 2003. N 9. P. 1-29.
2 См.: Woolf V. The Waves. 2. Holograph drafts / Trans, and ed. J.W. Graham. L., 1976; Books and
Portraits: By Virginia Woolf/ Ed. Mary Lyons. L., 1977; The Diary of Virginia Woolf: 5 vols /Ed.
Anne Olivier Bell; Introd. Quentin Bell. L., 1977-1984; The Letters of Virginia Woolf: 6 vols /
Ed. Nigel Nicolson and Joanne Trautmann. L., 1975-1980; Melymbrosia: An Early Version of The
Voyage Out By Virginia Woolf/ Ed. with an Introd. Louise A. De Salvo. N.Y., 1982; Pointz Hall:
The Earlier and Later Typescripts of Between the Acts: By Virginia Woolf/ Ed. with an Introd.,
Annot., and an Afterword Mitchell A. Leaska. N.Y., 1983; The Essays of Virginia Woolf/ Ed.
Andrew McNeillie and Stuart N. Clarke: 6 vols. L., 1986-2011; Woolf V. A Passionate Apprentice:
The Early Journals, 1897-1909 / Ed. Mitchell A. Leaska. L., 1990; Women and Fiction: The
Manuscript Versions of A Room of One s Own: By Virginia Woolf/ Ed by S.P. Rosenbaum. Oxford,
1992; Virginia Woolf s Jacob s Room I Trans, and ed. Edward L. Bishop. N.Y, 1998.
628
Приложения
критик, переводчик и эссеист. Без преувеличения можно утверждать: среди
английских модернистов Вулф чаще других обращалась к русской культуре.
Но не только это имеет значение в истории продолжительного диалога
Вулф с русской литературой. Ее деятельность критика, эссеиста и
рецензента переводов литературных произведений с русского языка не была «работой
писателя в стол» или расширением исключительно собственного
кругозора. Вулф сыграла выдающуюся роль посредника при знакомстве
английских читателей с русской литературой и общественной жизнью. Известно,
что первыми познакомили англичан с творчеством русских писателей, и
прежде всего Л.Н. Толстого и И.С. Тургенева, викторианский критик и поэт
Мэтью Арнолд и американский прозаик Генри Джеймс3, и затем по их стопам
пошло поколение английских переводчиков и критиков русской литературы
рубежа столетий: Констанс Гарнет, Эдвард Гарнет и др4. Угол восприятия
русской литературы, который сложился, благодаря их переводам и критике,
просуществовал в Англии приблизительно до конца 1910-х годов, и только
в первые послевоенные годы был пересмотрен, преодолен и получил новый
импульс развития в работах английских модернистов, в первую очередь
Вирджинии Вулф.
Есть у «русских уроков» Вирджинии Вулф и более широкий смысл:
увлеченно знакомясь с новыми именами в литературе, английская
писательница-модернистка открывала для себя совершенно иную культуру, иной образ
мысли - русскую культуру, и это открытие побуждало ее постоянно
сравнивать себя с «другим», позволяя ей лучше увидеть исторические, социальные,
ценностные различия между своей и чужой культурой, расширить
собственный горизонт познанием непривычных общечеловеческих и эстетических
ориентиров. Такая широкая культурологическая перспектива делает
«русское путешествие» Вулф особенно интересным.
Насколько изучена эта сторона ее писательской деятельности? Одним из
первых на значимость русской темы в творчестве Вулф указал канадский ло-
уренсовед Джордж Дж. Зитарук в своей монографии «Отклик Д.Г. Лоуренса
на русскую литературу», где ученый заговорил о влиянии русской классики
XIX в. на прозу Вирджинии Вулф: «...чтение русских, безусловно,
наложило отпечаток на (ее. - H.R) собственные романы»5. Мысль продуктивная,
чего нельзя сказать о другом утверждении автора монографии, касающем-
3 См.: Arnold M. Count Leo Tolstoi [1887] // Essays in Criticism. L.; N.Y., 1964. P. 352-370; De
Maistre's Lettres et opuscules inédits [1879] // Essays, Letters, and Reviews: By Matthew Arnold /
Coll. and éd. Fraser Neiman. Cambridge (Mass.), 1960. P. 216-336; James H. Ivan Turgénieff
[1884] // Partial Portraits. L.; N.Y., 1970. P. 291-323; The Notebooks of Henry James / Ed.
F.O. Matthiessen and Kenneth B. Murdock. N.Y., 1961. P. 101.
4 См., например: Garnett R.D. Constance Garnett: a Heroic Life. L., 1991. P. 361-362; Garneit E.
Turgenev: a Study/With a Foreword by Joseph Conrad. L., 1917; MurryJ.M. Fyodor Dostoevsky:
a Critical Study. L., 1916.
5 Zytaruk G.J. D.H. Lawrence's Response to Russian Literature. The Hague; Paris, 1971. P. 108.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
629
ся его оценки отношения Вулф к русской литературе как неизмеримо более
высокой в художественном отношении, чем английская: «другие писатели,
например Вирджиния Вулф, чувствовали, что после русских писать больше
не о чем»6. Заявление спорное, хотя внешне оно не более чем повторение
оценок русской литературы, высказанных самой Вулф в «Обыкновенном
читателе»: «настоящий праздник ума и сердца»; «русская литература встречает
у английских читателей самый горячий отклик»7; «даже в самом беглом
обзоре современной английской литературы нельзя не коснуться русского
влияния, а стоит только русских назвать, как появляется чувство
раздосадованное™: зачем понапрасну тратить слова, когда писать надо только о русской
литературе!»8 И дело не в приписывании Вулф некритического отношения к
литературным произведениям, а в нарушении фактов: анализ «русских эссе»
писательницы 1917-1933 гг.9 выявляет не вспышку восхищенного интереса,
а многолетний «диалог» с русской литературой. Попытаемся же
разобраться в динамике восприятия Вирджинией Вулф русской литературы,
обратившись к ее читательским и критическим отзывам, комментариям, совместным
переводам.
Известны 17 опубликованных эссе Вулф о русской литературе и
вопросах общественной и культурной жизни в России: «"Казаки" Толстого» (1917),
«Больше Достоевского» (1917), «Малый Достоевский» (1917), «Русский
школьник» (1917), «Чеховские вопросы» (1918), «Валерий Брюсов» (1918),
«Взгляд на революцию в России» (1918), «Русский взгляд» (1918), «Русский
фон» (1919), «Достоевский в Крэнфорде» (1919), «Вишневый сад» (1920),
«Горький о Толстом» (1920), «Мимолетный взгляд на Тургенева» (1921),
«Достоевский в воспоминаниях дочери» (1922), «Русская точка зрения» (1925),
«Силач без крепких кулаков» (1927) и «Романы Тургенева» (1933). Как
видим, написаны они в период с конца 1910-х годов, когда Россия и события, в
ней происходившие, были у всех на слуху, по начало 1930-х годов, когда
русская тема уже не имела большого общественного и культурного резонанса
в Англии, а писательница, тем не менее, продолжала свой «воображаемый»
диалог с русской литературой, и это, конечно, говорит о ее устойчивом и не
зависимом от общественной конъюнктуры интересе к русским. Именно в эти
годы становления и творческой зрелости Вулф написала самые значительные
свои произведения: рассказы «Пятно на стене» и «Сады Кью» (1917),
«Понедельник ли, вторник» (1921), романы «Комната Джейкоба», «Миссис Дэл-
лоуэй», «На маяк», «Орландо», «Волны» и свои программные эссе
«Обыкновенный читатель» и «Своя комната». Помимо опубликованных текстов,
6 Ibid. Р. 37.
7 См. эссе В. Вулф «Русская точка зрения». С. 137-138 наст. изд.
8 Там же. С. 122.
9 Русскому читателю впервые предлагается полный свод эссе Вирджинии Вулф о русской
литературе. См. раздел «Дополнения» наст. изд.
630
Приложения
существует ряд рукописных и машинописных материалов, относящихся к
русской теме: это неопубликованная рецензия «Чехов о Поупе: "Похищение
локона"»10, три рукописные страницы эссе «Чеховские вопросы»11, две
машинописные версии эссе «Дядя Ваня»12 и три рукописные страницы
упражнений Вулф по русскому языку в ее записной книжке с первым наброском
романа «Миссис Дэллоуэй», датированные февралем 1921 г.
По перечисленным выше эссе о русских видно, что список русских книг,
которые читала Вирджиния Вулф, включал в себя не только Л.Н. Толстого
и Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева и А.П. Чехова, но и сравнительно
малоизвестных в Англии начала прошлого века СТ. Аксакова и В.Я. Брюсова.
Причем ее знание русской литературы не ограничивалось одним или
двумя произведениями того или иного писателя, как часто бывает. Она читала
и перечитывала всего Тургенева, всего Толстого и Достоевского: это видно
по эссе «Романы Тургенева», где комментируются и ранние и поздние
романы писателя; это видно по эссе «Русская точка зрения», где Вулф
оперирует чеховскими рассказами разных лет13, романами, повестями и
рассказами Достоевского и свободно цитирует из разных мест Толстого. Интерес
ее к русской культуре не ограничивался только литературой. На страницах
ее дневника то и дело попадаются комментарии по поводу споров
славянофилов и западников, биографий русских писателей, нравственных вопросов
Толстого, как, например, в следующей записи от 6 января 1918г.: «Разговор...
зашел о совести: общественном долге и Толстом. Джералд (Шоув. - Н.Р.)
читал на днях Толстого... Всерьез думает, как только закончится война,
открыть ясли и собирается отдать под это дело весь их семейный капитал (свой
и жены, Фредегонд Мейтлэнд. - Н.Р.).
"Какая от этого польза? - спросил Л. (Леонард Вулф. - Н.Р). - Мы же не
хотим, чтобы люди считали каждую копейку".
"Психологически это важно, если мы хотим отказаться от капитализма", -
заметила я.
"Я против, - сказала Алекс. - И потом, кому он отдаст свои деньги?"
"В идеальном государстве каждый будет иметь 300 фунтов в год", -
продолжал Л.
...Мне все равно не по себе от того, что мой достаток слишком велик для
одной персоны. Я из тех, кто стыдится своего капитала»14.
10 Хранится в архиве В. Вулф в библиотеке университета Сассекс (Великобритания). См.: The
Virginia Woolf Manuscripts / From the Henry W. and Albert A. Berg Collection at the New York
Public Library, research publications, 1993 // Sussex Virginia Woolf archive. M 121.
11 Ibid. См.: Тетр. Bl. Черновик, факсимиле 36; факсимиле 37; факсимиле 37 об.
12 См.: Woolf Studies Annual. N.Y., 2003. Issue 9. P. 22-26.
13 Порой ставя в тупик комментаторов первой серии «Обыкновенного читателя». См. Woolf V.
The Common Reader. Vintage, 2003. Vol. I. P. 258, fn 6.
14 The Diary of Virginia Woolf. Vol. I. P. 100-101.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
631
Русскому читателю такие признания могут показаться странными (в силу
межкультурных различий), но сам факт, что англичанка соотносит свое
поведение с нравственным кодексом Толстого, лишний раз подтверждает, что для
Вулф и ее друзей по кружку Блумсбери русская культура не была лишь
модным увлечением или непродолжительным заморским поветрием. Скорее, их
интерес к русскому искусству шел в русле общеевропейского и
национального процесса расширения границ культуры - вспомним слова Т.С. Элиота о
«мосте через Ла-Манш»15. В том же направлении двигался, например,
Роджер Фрай: изучая фольклорные традиции в искусстве различных народов, он
заинтересовался русской культурой16. Его особенно увлекала русская
живопись начала XX в., и он даже попытался организовать совместную выставку
английских и русских живописцев в лондонской Графтон-гэлери в октябре
1912г.: «...мне пришла в голову замечательная идея - отдать 2 зала
английской группе, а другие 2 - под работы молодых русских художников, которые
заслуживали того, чтоб о них больше узнали в Англии: мне казалось, это
будет очень интересно и полезно для англичан»17. Интерес не ограничивался
областью литературы и искусства: он распространялся и на экономику. Так,
известный английский экономист Джон Мейнард Кейнс (1883-1946),
которого связывала с членами Блумсбери многолетняя дружба по университету,
написал в 1925 г., после поездки в Советский Союз, любопытную брошюру
«Беглый взгляд на Россию», где отметил, что в современной России
рождается небывалый экономический эксперимент18.
Вирджинию Вулф же интересовали главным образом русская литература,
вопросы творчества и исторические различия между культурами двух стран.
Она была явно поражена, обнаружив в произведениях русских писателей
огромный общечеловеческий заряд, не ограниченный никакими ханжескими
рамками социальный и душевный опыт человека, который русские писатели
изображали откровенно, без прикрас. Особенно удивляло ее в
произведениях Достоевского и Чехова то, как вольно, казалось ей, русский писатель
пренебрегает общественной табелью о рангах и думает лишь о полноте
существования человека. Свобода же, с какой русский писатель нарушает, казалось,
15 Ср. «До тех пор, пока Великобритания остается островом (а мы не более приблизились к
континенту, чем современники Арнолда), его работа будет иметь вес. Она по-прежнему
служит мостом через Ла-Манш...» («Безупречный критик» - «The Perfect Critic»). Впервые
опубликовано в сборнике «Священный лес» (1919) (Элиот Т.С. Избранное: Стихотворения
и поэмы. Убийство в соборе. Эссе, лекции, выступления / Пер. Н.И. Рейнгольд М., 2002.
С. 305-306).
16 Фрай Роджер (1866-1934), английский искусствовед, художник, друг и единомышленник
Вирджинии Вулф и ее сестры Ванессы Белл. См.: Woolf V. Roger Fry: A Biography. L., 1940.
P. 171.
17 Фрай осуществил свой проект выставки, но только в его «английской» половине:
«...большинство русских картин опоздали к открытию» (Ibid. Р. 178).
18 См.: Keynes J.M. A Short View of Russia. L., 1925.
632
Приложения
незыблемые условности содержания и формы художественного
произведения, отвечала ее собственным представлениям об искусстве.
Другими словами, обращение Вулф к творчеству русских писателей,
которых она открыла для себя в 1908 г. с «Войной и миром» Л.Н. Толстого, а
позднее, в 1912 г., с романом Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание»19,
было вызвано чувством неудовлетворенности от состояния своей родной
литературы20. В эссе «Перечитывая романы» она отметила, что у английских
писателей рубежа веков нет и малейшего стремления к поиску новых
художественных идей и форм21. Английский же «хорошо сделанный рассказ»,
полагала она, способен в лучшем случае воспроизвести хронологическую
последовательность событий, а бытописательский роман начала XX в.
далек от стремительно менявшейся реальности. На этом фоне русская
литература виделась Вулф своеобразной альтернативой ее собственным
художественным исканиям. Важно отметить, что именно этот интерес писательницы,
всецело принадлежавшей английской литературной традиции, направлял ее
чтение и критическое осмысление русской прозы. Именно поэтому она
стала изучать русский язык под руководством С.С. Котельянского22 и
согласилась на совместный перевод писем Л.Н. Толстого к В.В. Арсеньевой и книги
А.Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого».
Итак, на какое-то время русская литература стала для Вирджинии Вулф
отправной точкой в размышлениях о новом искусстве и о собственных
ориентирах в писательской деятельности. В эссе «Больше Достоевского» она
выделила авторский способ реконструирования определенных
эмоциональных состояний: «Достоевский единственный среди писателей обладает
способностью реконструировать эти молниеносные и сложнейшие движения
души, заново продумывать всю цепочку мысли в ее нетерпении, когда она то
пробивается на свет, то гаснет в темноте»23. По ее мнению, метод
Достоевского освобождает литературу от «старой мелодии», иначе говоря, от плоских
19 В письме к Вите Сэквилл-Уэст от 29 декабря 1928 г. Вулф вспоминает о том, как 20 лет
назад, в 1908 г., впервые прочла «Войну и мир»: «...я неделями пребывала в состоянии
совершеннейшего восторга - я просто парила по воздуху! С тех пор живу тем давним
воспоминанием и называю Толстого величайшим из романистов. Чосер не идет ни в какое
сравнение! И ничего тут не поделаешь - ничего!» (The Letters of Virginia Woolf. Vol. III. P. 570.
О чтении «Преступления и наказания» Достоевского во французском переводе "Le Crime
et le Châtiment" см. письмо В. Вулф к Литтону Стречи от 1 сентября 1912 г. в: Ibid. Vol. II.
P. 5.
20 См.: Рейнгольд (Бушманова) Н. Английский модернизм: психологическая проза. Ярославль;
1992. С. 48-53.
21 См.: Woolf V. On Re-reading Novels // Woolf V. Collected Essays: 4 vols. L., 1966-1967. Vol. 2.
P. 122.
22 См.: ReinholdN. Aspects of Modernism in the Writing Techniques of D.H. Lawrence and Virginia
Woolf: Identity, Writing, and Myth. Exeter, 2000. P. 100-103.
23 Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 118-119. См. перевод эссе «Больше Достоевского»
на с. 397-398 наст. изд.
H. И. Рейнгольд. Русское путешествие
633
схем и ходульных решений. Он ломает и стереотипы читательского
восприятия и в этом смысле развивает самого человека, поскольку раскрепощает в
нем те чувства, что были подавлены, скованы неписаными запретами,
чувства, которые не принято было называть и обсуждать в литературном
произведении: «Старая мелодия назойливо звучит у нас в ушах — пора от нее
освобождаться и понять, наконец, что в ней очень мало человеческого. В который
раз мы оказываемся сбиты со следа, раскручивая психологию Достоевского;
в который раз ловим себя на вопросе — знакомо ли нам то чувство, что он
показывает? И каждый раз убеждаемся изумленно: то наше давнее чувство,
мы знаем его по себе или по другим. Только мы никогда о нем не говорили,
потому и удивляемся»24.
Таким образом, если бы Вулф перефразировала свое наблюдение о том,
что «георгианцы бросились читать русскую литературу в переводе», в вопрос
«отчего вдруг георгианцы бросились читать русские романы в переводах?»25,
то она, наверное, указала бы на выражение полноты жизни, полноты бытия,
которое в избытке находила у русских и которого в помине не было, по ее
мнению, в произведениях соотечественников. Именно этим ценен для нее
Сергей Аксаков и его «Детские годы Багрова внука», как писала она о нем в
эссе «Русский школьник»: «...человек исключительной свежести и
внутреннего здоровья, обильная натура, купающаяся в солнце и тени невыдуманной
жизни»26. Полноту аксаковского «Я» Вулф объясняла его вольготной жизнью
среди природы и свободным выражением всех струн детской души.
Самыми сильными сторонами его автобиографии писательница полагала живость,
искренность и эмоциональную раскрепощенность.
Недаром и в горьковском портрете Льва Николаевича Толстого27 Вулф
подчеркнула характерную, с ее точки зрения, деталь: образ Толстого как
«человека-оркестра». Следует отметить, что из семнадцати литературно-
критических эссе Вирджинии Вулф о русских писателях, опубликованных
Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 119. Перевод см. на с. 398 наст. изд.
См.: Woolf V. On Re-reading Novels. Vol. 2. P. 122.
Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 101. Перевод см. на с. 401 наст. изд.
Первый английский перевод воспоминаний Горького о Толстом был выполнен С.С. Котель-
янским и вышел в 1920 г. в издательстве Вулфов «Хогарт Пресс». Неподписанная рецензия
Вулф на это издание была напечатана в «Нью стейтсмен» 7 августа 1920 г. Перевод был
сделан на основе издания Гржебина 1919 г. Ср.: «Впервые в неполном виде (произведение
М. Горького "Лев Толстой". - Н.Р.) напечатано в газете "Жизнь искусства", 1919, № 241,
13 сентября; № 242, 11 сентября; № 273, 21 октября; № 274, 22 октября и № 275, 23
октября. ...В 1919 г. М. Горький объединил первые тридцать шесть заметок о Толстом с
письмом к В.Г. Короленко в одной книжке, озаглавив ее "Воспоминания о Льве Николаевиче
Толстом" и снабдив предисловием (издание З.И. Гржебина, Петроград, 1919)» (М Горький.
Поли. собр. соч.: В 30 т. М., 1951. Т. 14. С. 331). Перевод очерка М. Горького «Лев Толстой»
стал самым успешным из русских проектов «Хогарт Пресс». Благодаря этой небольшой
книжке, начинающее издательство составило себе репутацию, а английские читатели
узнали «из первых рук» множество интересных живых подробностей о личности великого
русского писателя.
634
Приложения
в английской периодической печати в 1917-1933 гг., творчеству и личности
Л.Н. Толстого посвящены два - «Казаки» («The Cossacks») и «Горький о
Толстом» («Gorky on Tolstoy»). Их дополняют десятки комментариев и
высказываний о произведениях Толстого в других эссе В. Вулф 28, в ее дневниках 29
и письмах30. Спектр замечаний писательницы широк: от наблюдений над
общественными, нравственными и философскими взглядами Толстого до его
оценки роли женщин в обществе, их занятий, образования. Ее интересовало
все - и склад ума автора «Войны и мира», и форма романа, созданная
Толстым, и жизненный опыт писателя, полученное им образование, его
взаимоотношения с С.А. Толстой («Автобиографию» Софьи Андреевны
издательство «Хогарт Пресс» опубликовало в 1923 г.). Следы глубокого внимания к
вопросам, поднятым Толстым в его произведениях, - о смысле жизни,
социальном и материальном неравенстве, униженности крестьян, о фальши норм
и привычек, принятых в светском обществе, - видны в прозе самой
Вирджинии Вулф, например в романах «День и ночь» и «Комната Джейкоба»31.
Возвращаясь к эссе Вулф «Горький о Толстом», отметим и другую
сторону: Вулф интересен очерковый способ описания человека, который она
нашла у Горького. Метод коротких записей, не претендующих на полноту
описания человека и этим близких к тому, как мы воспринимаем человека
в действительности, казался ей продуктивным. Ведь в жизни наши
впечатления о людях складываются отрывочно, как в дневнике: «Но картина
Горького ближе других к полноте, ибо он не пытается включить все, дать всему
объяснение или свести все в одно завершенное полотно. Что-то у него
освещено очень ярко, а что-то остается темным и пустым. И, наверное, именно
так видим мы людей в действительности»32. В этом наблюдении Вулф уже
можно увидеть прообраз того способа повествования, сочетающего
фрагментарность и многоголосие, с которым она выступит в романе «Комната
Джейкоба».
У Чехова Вулф находила более глубокое постижение жизни, чем в
«хорошо сделанных» рассказах современных английских писателей. Так, в эссе
«Русский фон» («The Russian Background») она отмечала, что чеховские
рассказы кажутся на первый взгляд незаконченными, набором случайных
деталей; на самом же деле, в своих «незавершенных» рассказах русский
прозаик достигает редких обобщенности и многозначности. «Воздействие этого
общего пустынного и безлюдного фона настолько пронзительно, - пишет
Вулф, - что каждый герой в книге, даже самый никчемный и жестокий, - а
28 См. «Русскую точку зрения». С. 143-145 наст, изд.; «Свою комнату». С. 499 наст, изд.;
«Романы Томаса Гарди». С. 375 наст. изд.
29 The Diary of Virginia Woolf. Vol. 5. P. 249, 255.
30 The Letters of Virginia Woolf. Vol. 1. P. 442; Vol. 2. P. 433.
31 См.: ReinholdN. "A railway accident": Virginia Woolf translates Tolstoy // Woolf across Cultures /
Ed. by N. Reinhold. N.Y., 2004. P. 237-249.
32 The Essays of Virginia Woolf. Vol. III. P. 254. Перевод см. на с. 423 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
635
почти все рассказы в этом томе повествуют о крестьянах, - словно надышал
маленькое прозрачное "окошко", через которое виден свет души»33. Взгляд
Чехова «поверх» классовых перегородок, свобода от стереотипов восприятия
личности кажутся ей неслыханной новостью на фоне традиционных форм
английской прозы и драматургии, и поэтому она радуется каждому случаю
преодоления английскими читателями или актерами жесткой регламентации,
под влиянием раскрепощающего искусства Чехова. В своем эссе «Вишневый
сад» («The Cherry Orchard») о постановке на лондонской сцене одноименной
комедии Чехова она дважды процитировала реплику Шарлотты о том, что у
той нет паспорта и она не помнит, сколько ей лет; такой «вольный» взгляд
на человека вне социальной «клетки», по мысли Вулф, заражает английского
зрителя ощущением свободы и полноты жизни: «...если говорить о чувстве
в конце "Вишневого сада", я бы сказала о нем в чеховском духе, что оно
выносит тебя волной в гущу улицы и ты полон музыки, как рояль, на котором
сыграли, наконец, не только на средних октавах, но и по всей клавиатуре и
оставили его открытым во всем полнозвучии»34.
Иной читатель решит, что правы те, кто пишет о некритичном
восхищении Вулф русской литературой, но, пожалуй, точнее говорить об интересе
Вулф к «другой» литературе, «другому» культурному опыту и сознанию.
Однако, при всей увлеченности русской литературой, Вулф никогда не
теряла чувство дистанции и ясного представления о том, что имеет дело с
очень своеобразной культурной и социальной средой. Собственно, поэтому
она так часто сопоставляла русскую и английскую точки зрения в своих эссе
или же «помещала» русского писателя в непривычную для него среду35.
Абсолютно во всех своих эссе о русской литературе Вулф полагала
необходимым ввести точку зрения английского читателя: «...мы часто в недоумении,
ибо приходится наблюдать мужчин и женщин с совершенно непривычной
точки зрения»36; «... новая страна; ее литература, если она настоящая,
должна быть не похожа на литературу других стран, - рассуждали иные читатели,
находя и смакуя в Чехове и Достоевском такие свойства, которые
представлялись им чисто русскими, особой национальной пробы. Они радовались,
встречая в сочинениях русских писателей поток эмоций, самоанализ,
незавершенность - качества, которые они ни за что не потерпели бы у французов
или англичан. Русских неизменно представляли сидящими за самоваром в
темной непроглядной комнате и спорящими без конца о душе»37.
33 Цит. по: Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 125. Перевод см. на с. 416 наст. изд.
34 The Essays of Virginia Woolf. Vol. III. P. 248. Перевод см. на с. 421 наст. изд.
35 См. эссе «Русский школьник», «Русский фон», «Достоевский в Крэнфорде» и др.
36 Book and Portraits: By Virginia Woolf. P. 119. Перевод см. на с. 398 наст. изд.
37 Woolf V. A Giant with Very Small Thumbs // Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 109.
Перевод см. на с. 428 наст. изд.
636
Приложения
Многое из размышлений Вулф о различиях между английской и русской
литературами отложилось в эссе «Перечитывая Мередита» («On Re-reading
Meredith», 1918). Хотя в 1910-1920-е годы Мередит мог казаться
английским читателям старомодным на фоне «новых переводов» романов
Достоевского и прозы Чехова, которыми тогда все увлекались, Вулф, тем не
менее, советовала глубже вчитываться в произведения английского прозаика
и поэта конца XIX в. Соотнося творчество Мередита с русскими романами,
писательница обратила внимание на одно существенное отличие
английского романиста от Достоевского: если русский писатель полностью захвачен
своей идеей, и в этом смысле не свободен, ограничен, то Мередит создает
художественную правду вдохновенно, как поэт. Тем самым Вулф
подчеркивает такие стороны культурной идентичности англичан, которые, по ее
мнению, плодотворны для литературного творчества - это воображение и сила
интеллекта38.
Зная серьезный интерес Вирджинии Вулф к русской литературе,
понимаешь, почему она стала изучать русский язык под руководством С.С. Ко-
тельянского39 и согласилась на совместный перевод писем Л.Н. Толстого
В.В. Арсеньевой, книги А.Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого» и фрагмента
из романа Ф.М. Достоевского «Бесы». Их сотрудничество началось в 1916 г.40
и продолжалось, в основном через «Хогарт Пресс», в течение последующих
20 лет41. О дружеском характере их взаимоотношений и переводческом со-
38 См.: Woolf V. Granite and Rainbow: Essays. L., 1958. P. 50-51.
39 О Самуиле Соломоновиче Котельянском (1880-1955), соавторе-переводчике Д.Г. Лоуренса,
Кэтрин Мэнсфилд, Леонарда и Вирджинии Вулф писали Н.А. Берберова в «Железной
женщине», канадский литературовед Дж. Зитарук в изданном им собрании писем Д. Лоуренса
и С. Котельянского и др. См.: Zytaruk G.J. The Quest for Rananim: D.H. Lawrence's Letters
to S.S. Koteliansky, 1914-1930. Montreal; London,1970; Fetzer L. The Bunin - Koteliansky -
Lawrence - Woolf version of "The Gentleman from San Francisco" // The Virginia Woolf
Quarterly. San Diego, 1973 (Summer). P. 32-33; Willis J.H., Jr. Leonard Woolf and Virginia Woolf
as Publishers: The Hogarth Press, 1917-41. Charlottesville; London, 1992. P. 80, 83-84, 91-93,
95, 99; Хьюитт К. Д.Г. Лоуренс и С.С. Котельянский // Пуришевские чтения. М., 1993.
С. 122; Бушманова Н. Переводчик и межкультурное пространство (Неизвестные страницы
англо-русских литературных связей) // Взаимосвязи и взаимовлияние русской и
европейской литератур. СПб., 1999. С. 71-77; Rogachevskii A. Samuel Koteliansky and the Bloomsbury
Circle (Roger Fry, E.M. Forster, Mr. and Mrs. John Maynard Keynes and the Woolfs) // Forum
for Modern Language Studies. 2000. N 36 (4). P. 368-385; ReinholdN. Virginia Woolfs Russian
Voyage Out; Рейнгольд H. Бунин и модернисты: загадка ноттингемской рукописи // Вопр.
лит. 2007. Вып. 5. С. 211-213.
40 См. письмо В. Вулф С.С. Котельянскому от 4 апреля 1919 г. в Отделе рукописей библиотеки
Британского музея (T. MS48974. Ед. хр. 285). Первая их встреча произошла 15 января 1918 г.
в доме Вулфов. См.: The Diary of Virginia Woolf. Vol. I. P. 106, fn 24.
41 См. переписку в отделе рукописей библиотеки Британского музея: MS48974. Ед. хр. 286
(от марта 1921); Ед. хр. 287 (от 25 июня 1921 (?) г.); Ед. хр. 124 (от 27 ноября 1927 г.); Ед.
хр. 159 (от 9 апреля 1932 г.); Ед. хр. 164 (от 10 июля 1933 г.); Ед. хр. 166 (от 13 июля 1933 г.);
Ед. хр. 168 (от 21 августа 1933 г.); Ед. хр. 249 (от 19 июля 1937 г.); Ед. хр. 251 (от 23 июля
1937 г.); Ед. хр. 284 (от 8 января, б.г.).
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
637
юзе можно судить по отрывку из письма Котельянского Леонарду Вулфу от
14 февраля 1923 г.: «...к концу этой недели постараюсь выслать вам
несколько страниц дневника Гольденвейзера. Если они вам понравятся (а я думаю,
что может получиться очень интересная книжка, если сократить оригинал,
скажем, наполовину) и если, кроме того, вам понравится книга Розанова 42, -
тогда, может быть, Вирджиния стала бы делать со мной розановскую
книжку, а вы - Гольденвейзера?43 В этом случае примерно через месяц-полтора
обе книги были бы готовы к изданию - Ваш Кот»44.
При большом количестве вспомогательных материалов, точных
сведений и свидетельств о том, как осуществлялась совместная работа над
переводом с русского языка, практически не сохранилось.
Единственное описание принадлежит Леонарду Вулфу: «Миссис Вулф не знала
русского языка. Мы с ней немного познакомились с русской грамматикой,
для того чтобы лучше представлять те трудности, с которыми Котель-
янский сталкивался при переводе на английский. Обычно делалось так:
Котельянский готовил подстрочник, оставлял двойной пробел между
строчками, после чего они вдвоем садились и проходили весь текст,
предложение за предложением; затем на основе уточненного подстрочника делался
перевод»45.
В этом кратком описании есть две подробности, которые важно
учитывать при изучении переводов, выполненных Котельянским совместно с
Вирджинией Вулф. Это указание на подстрочник (буквально «очень плохой
английский язык») и упоминание о знакомстве Вулф с русской грамматикой.
Наличие подстрочника представляется совершенно оправданной
практикой при переводе на неродной язык, каким для Котельянского,
украинского еврея, уехавшего в Англию в 1911году, был английский: обычно в таких
случаях переводчик готовит пословный подстрочный перевод для
напарника, который тот, будучи носителем языка перевода, «доводит» до
хорошего уровня. С этой точки зрения сотрудничество в области перевода
Котельянского и Вирджинии Вулф выглядит привычным и нормальным делом.
Вулф не была переводчиком, зато она могла существенно помочь Котель-
янскому как профессиональный писатель - не просто носитель английского
языка. Вторая же подробность о «русских уроках» Вулф выглядит
интригующе. Что означает фраза Леонарда Вулфа «мы немного познакомились с рус-
Имеется в виду книга В.В. Розанова «Опавшие листья» (1913-1915).
В действительности вышло иначе - Вирджиния Вулф перевела вместе с Котельянским
Гольденвейзера, а книгу Розанова Котельянский перевел сам.
Архив «Хогарт Пресс» в библиотеке университета Рединг (Великобритания). № 38. Ед.
хр. 7. См. там же другие письма Котельянского Л. Вулфу: № 595. Ед. хр. 2 (от 23 февраля
1923 г.); № 493. Ед. хр. 2 (от 22 марта 1923 г.); № 130. Ед. хр. 2 (от 14 апреля 1934 г.). См.
также письмо Л. Вулфа Котельянскому: № 595. Ед. хр. 1 (от 22 февраля 1923).
KirkpatrickBJ. A Bibliography of Virginia Woolf. Rev. éd. L., 1967. P. 85.
638
Приложения
ской грамматикой»? Среди рукописей Виржинии Вулф удалось найти ее
записную книжку, датированную февралем 1921 г.46, в которой содержатся три
страницы с записями по-русски, сделанными ее рукой47. Эти записи в
блокноте идут после «Первого наброска "Миссис Дэллоуэй"» («First sketch of
"Mrs. Dalloway"»), предваряя рукописную версию романа «Миссис
Дэллоуэй», датированную 9 ноября 1922 г. Первые две страницы записей и часть
третьей сделаны карандашом, остальное - чернилами. Содержание записей
таково: упражнение на правописание русских букв «й» и «н»; фонетические
правила произношения русских гласных; упражнение на грамматику из
какого-то учебника с транслитерированными рукой Вулф заголовками "pervoe
uprazhnenie" (первое упражнение) и "uchebnik" (учебник), а также
грамматические правила об употреблении отрицательной частицы «не» и сведения
о падежах. Очевидно, что Вулф получила начальные сведения о русском
алфавите, фонетике, морфологии и синтаксисе. Ее учителем, судя по письмам,
был С.С. Котельянский; в письме от марта 1921 г. Вирджиния Вулф пишет
ему: «Дорогой г-н Котельянский! ...Мы занимаемся русским. Виды
(глагола) очень интересны - правда, это не значит, что я в них разбираюсь!»48 В
письме от 15 июня того же года Вулф снова ссылается на занятия русским
языком: «Надеюсь, мы вас увидим: только русский я не выучила»49. В
целом, сотрудничество Котельянского и Вирджинии Вулф50 полностью
соответствует английской и европейской практике работы двух авторов:
переводчика текста источника и автора целевого текста, или текста перевода. И то,
что Вулф полагала необходимым иметь представление о языке оригинала, с
которым она собиралась работать, участвуя в переводах Котельянского
(записи предшествуют по времени их переводам из Достоевского, Толстого и
Гольденвейзера), означает, что она прекрасно понимала стилистические и
социокультурные импликации такого сотрудничества51.
46 См.: The Letters of Virginia Woolf. Vol. II. P. 459, fn 3.
47 The Virginia Woolf Manuscripts / From the W. Henry and A. Albert // Berg Collection at the New
York Public Library, research publications. 1993. Manuscripts. Reel 6. M15-M 26.
48 The Letters of Virginia Woolf. Vol. II. P. 459.
49 Ibid. P. 476.
50 Подобную же схему переводческой работы Котельянский применял в совместной работе с
Леонардом Вулфом, Д.Г. Лоуренсом, Кэтрин Мэнсфилд и др.
51 См. совместные переводы С.С.Котельянского и Вирджинии Вулф: Dostoevsky RM. Plan of
the Novel "The Life of a Great Sinner" / Trans, by S.S. Koteliansky and Virginia Woolf// The
Criterion, 1922-1939: 18 vols / Ed. by T.S. Eliot. L., 1967. Vol. 1. October 1922-July 1923.
P. 16-33; Dostoevsky KM. Stavrogin's Confession and the Plan of the Life of a Great Sinner
/ With Introductory and Explanatory Notes; Trans, from the Russian by Virginia Woolf and
S.S. Koteliansky. Richmond, 1922; Tolstoi's Love Letters /With a Study on the Biographical
Elements in Tolstoi's Work by Paul Biriukov; Trans, from the Russian by S.S. Koteliansky and
Virginia Woolf. Richmond, 1923; GoldenveiserA.B. Talks with Tolstoi/Trans, by S.S. Koteliansky
and Virginia Woolf. Richmond, 1923; Архив «Хогарт Пресс». № 493. Ед. хр. 1-6; № 595. Ед.
хр. 1-1.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
639
Очевидно, что без сравнительного изучения текстов оригиналов и
переводов исследование «русской темы» в творчестве Вирджинии Вулф не будет
полным. Открытие же рукописных материалов, связанных с этой стороной
ее творчества, позволяет начать текстологическое изучение ее переводов и
эссе о русских писателях. Вообще такая идея давно интересовала вулфове-
дов: провести сравнительный анализ текста источника, рукописных или
машинописных вариантов (со следами писательской правки) и
опубликованного текста перевода. Единственным препятствием оказывалось отсутствие
рукописей переводов52. И все же текстологическое изучение некоторых
материалов из «русской главы» Вулф сегодня уже предпринимается
исследователями. В частности, автором настоящей статьи опубликован сравнительный
анализ черновых вариантов эссе «Дядя Ваня»53, а также проведено
сопоставление перевода книги Б.А. Гольденвейзера «Беседы с Толстым» с текстом
оригинала54. Польза такого компаративного изучения очевидна: оно
позволяет уточнить, как складывался процесс работы Вулф над межкультурными
темами, вовлекавшими сравнение английской и русской точек зрения по
определенным вопросам.
Обратимся к рукописям эссе «Дядя Ваня».
Хотя точная дата написания Вулф «Дяди Вани» не известна (С. Дик,
составитель сборника «Полное собрание малой прозы В. Вулф» («The
Complete Shorter Fiction of V. Woolf»), где опубликована окончательная
версия эссе, указывает 1926-1941 гг. для всех включений), вероятно, эта
зарисовка относится к 1926-1933 гг.: именно тогда Вулф пересматривала свой
взгляд на русскую литературу и в нескольких критических обзорах
отметила Тургенева как наиболее плодотворного русского писателя. По форме
емкое лапидарное эссе «Дядя Ваня» о том, как англичанка в театре
смотрит пьесу Чехова, кажется очень близким тургеневским «Стихотворениям
впрозе»(1882)55.
Известный вулфовед и текстолог СП. Розенбаум в ответном письме автору
настоящей статьи от апреля 1997 г. на просьбу указать имеющиеся рукописи переводов,
выполненных Вирджинией Вулф вместе с Котельянским, высказался отрицательно: «Не
представляю, где такие рукописи могут быть, если они сохранились. Подозреваю,
что нет».
См. черновые варианты: Архив В. Вулф в библиотеке университета Сассекс
(Великобритания). Тетр. В. 10b. Два машинописных варианта эссе «Дядя Ваня» объемом 6 стр. с
исправлениями В. Вулф. См. окончательную редакцию эссе «Дядя Ваня»: The Complete Shorter
Fiction of Virginia Woolf/Ed. by S. Dick. L., 1985. P. 241.
См.: Reinhold N. Virginia Woolf s Russian Voyage Out. P. 12-15, 22-26; Рейнгольд H.И.
Английские переводчики и издатели Л.Н.Толстого: Архивные находки // Яснополянский
сборник. 2002. С. 379-390.
См. один из английских переводов «Стихотворений в прозе» И.С. Тургенева в:
Poetry in Prose: Russian Reader / Ed. B.A. Rudzinsky. Glasgow and Edinburgh; London,
1916(7).
640
Приложения
Сравнительное изучение двух машинописных версий и опубликованного
текста эссе56, анализ решений Вулф в пользу того или иного образа, фразы,
слова позволяют проследить, как, благодаря тщательному отбору деталей,
картина в окончательном тексте получается объемной и многозначной.
Английская точка зрения на пьесу выражена через призму устоявшихся мнений
англичан о русских: русские-де смотрят в суть вещей, а англичане не любят
смотреть правде в глаза; русские решительны; английская цивилизованная
жизнь не имеет ничего общего с крестьянским бытом в России. Таким
образом, эссе выстраивается как диалог двух точек зрения: одна принадлежит
русским и выражена словами чеховских персонажей, звучащими со сцены,
а другая - это взгляд дамы-англичанки, сидящей в ложе и комментирующей
про себя действие на сцене. Заканчивают воображаемый диалог нота
самоутверждения англичанки, ее же снисходительное замечание о русских,
которые, судя по пьесе, вовсе не столь прозорливы и решительны, как ей
показалось вначале, и чеховский рефрен, звучащий со сцены: «Мы отдохнем...»
Авторское же отношение угадывается разве что по иронической интонации,
заставляющей предположить, что автор «слушает» молчаливый спор со
стороны и не спешит судить о том, кто прав, а кто нет. Так сравнительный
анализ вариантов эссе позволяет проследить, как буквально в рамках одной
страницы эссе прорисовывается безличный модус модернистского
повествования.
Обратимся теперь к совместному переводу Вирджинии Вулф и С.С. Ко-
тельянского книги Гольденвейзера о Толстом.
Судя по переписке между С.С. Котельянским и Леонардом Вулфом,
сохранившейся в архиве «Хогарт Пресс», работа над переводом шла зимой и
весной 1923 г. Впервые Котельянский упоминает о своем замысле перевести
«дневник» А. Б. Гольденвейзера в письмах к Леонарду Вулфу от 14 и 16
февраля 1923 г.
«16 февраля 1923 г.
Посылаю первые страницы книги А. Гольденвейзера "Вблизи
Толстого". Если перевести этот новый, никогда прежде по-русски не
публиковавшийся материал, получилась бы книжка объемом около двухсот
страниц. Без купюр она потянула бы на все четыреста. Я просил бы вас
прочитать этот материал как можно быстрее и сказать мне, подойдет он
или нет, поскольку, боюсь, его перехватят, если будем долго тянуть с
переводом. Лично я думаю, что «Вблизи Толстого» - ценная вещь; кроме
того, я вижу, что она написана честно и автор- достойный человек...
Ваш Кот»57.
См. опубликованные варианты рукописи и текстологический анализ в: Reinhold N. Virginia
Woolf s Russian Voyage Out. P. 12-15, 22-26.
Архив «Хогарт Пресс». № 38. Ед. хр. 8.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
641
В конце февраля издательство приняло решение опубликовать книгу
воспоминаний А.Б. Гольденвейзера о Л.Н. Толстом. Между Леонардом Вулфом и
С.С. Котельянским завязалось обсуждение практических условий издания.
«22 февраля 1923 г.
Дорогой Кот,
после некоторых колебаний мы решили, что будем издавать
Гольденвейзера на следующих условиях: Вирджиния будет переводить вместе с
вами, и за вами сохраняется право окончательного отбора материала. Вы
не должны включать в текст ничего из того, что уже было опубликовано
по-английски. Издательство обязуется выплатить вам 25% чистой
прибыли от продажи английского издания. За издательством остается
право продать или передать права на издание книги в Америке и в
колониях; "Хогарт Пресс" получает 10% прибыли от продажи вышеназванных
прав. Если вы согласны с данными условиями, пожалуйста, срочно
вышлите рукопись.
Ваш Леонард Вулф»58.
23 февраля следует ответ С. С. Котельянского:
«Я получил ваше письмо относительно книги Гольденвейзера.
Поскольку вы предложили новые условия сотрудничества, позвольте внести
некоторые изменения и уточнения.
Если у вас есть какие-то сомнения насчет публикации книги,
полагаю, лучше вовсе за нее не браться. Если же вы, т.е. "Хогарт Пресс", все-
таки решили ее печатать, то в этом случае я не могу принять условие о
праве "окончательного отбора материала". Это право должно
оставаться за переводчиками - это их взаимная договоренность. Я нисколько не
сомневаюсь в тонкости вкуса Вирджинии. Я просто не могу согласиться
с тем, чтобы мне в таких вопросах диктовали. Тем более что не требую
для себя в этом деле никаких особых условий; я вовсе не хочу, чтобы все
из того, что переведу, вошло в окончательный вариант. Я только
настаиваю на том, что право отбора материала должно остаться за
переводчиками, по их взаимной договоренности.
Хочу добавить, что задержки с моей стороны не будет. Я даже могу
связать себя обязательством представить готовый текст через две недели
(а львиную долю материала уже сейчас).
Ваш Кот»59.
58 Там же. № 595. Ед. хр. 1.
59 Там же. Ед. хр. 2.
21. Вирджиния Вулф
642
Приложения
К концу апреля верстка перевода была готова. У английского варианта
книги Гольденвейзера появилось новое заглавие - «Беседы с Толстым»
(возможно, не без влияния европейской традиции «Разговоров с Гете» Эккерма-
на60):
«25 апреля 1923 г.
Дорогой Кот,
вот полная корректура «Бесед с Толстым». Пожалуйста, прочитайте и
верните верстку как можно скорее.
Ваш Леонард Вулф»61.
В августе 1923 г. между Л. Вулфом и С.С. Котельянским
возобновилась переписка по поводу продажи права на издание перевода в Америке,
и в октябре книга Гольденвейзера вышла в Лондоне в издательстве «Хогарт
Пресс».
К сожалению, ни в архиве издательства, ни в бумагах Вирджинии Вулф62,
ни в личном архиве С.С. Котельянского63 не сохранилось никаких замечаний
переводчиков о принципах отбора материала для английского издания
воспоминаний А.Б. Гольденвейзера. Мы можем лишь попытаться восстановить
на основе знания литературных интересов Вирджинии Вулф логику, которой
руководствовались соавторы, точнее, один из соавторов. Сравнение
оригинала с текстом английского перевода64 позволяет истолковать некоторые
фрагменты, включенные в английское издание книги, как безусловно интересные
для Вулф писателя и литературного критика.
Так, для Вулф было интересно и важно получить «из первых рук»
подробности суждений Л. Н. Толстого о современном искусстве. В частности,
подчеркнутая в переводе критическая оценка Толстым современной
литературы, в которой, по его мнению, ценится, прежде всего модное «последнее
слово», заставляет нас перечитать начало программного эссе Вулф -
«Современная литература». Сравните у Гольденвейзера: «(Толстой. - H.R)... -
60 Ср. русский перевод: Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни / Пер. с
нем. Наталии Манн. М., 1981; английский перевод: Eckermann J.P. Conversations of Goethe
with Eckermann and Soret. Rev. ed. / Trans, from the German by John Oxenford. L., 1883; и
оригинал: Eckermann J.P. Gespràche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens. Leipzig,
1823-1832. Bd. 1-3.
61 Архив «Хогарт Пресс». № 595. Ед. хр. 2.
62 Основная часть писательского архива Вирджинии Вулф, так называемые «Бумаги Манке -
хауз» («Monks House Papers»), находится в отделе рукописей библиотеки университета Сас-
секс (Великобритания).
63 С 1955 г. хранится в отделе рукописей библиотеки Британского музея (vols. MS 48966,
MS 48967, MS 48968, MS 48969, MS 48974).
64 Ср. здесь и далее по текстам: Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. М., 1959; и Goldenveiser А.В.
Talks with Tolstoi /Trans, by S.S. Koteliansky and Virginia Woolf. Richmond, 1923.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
643
Теперь пишут книги люди, которым нечего сказать. Читаешь и не видишь
того, кто писал. Всегда они стараются сказать какое-то "последнее слово".
Они закрывают собою настоящих писателей и говорят, что те устарели. Это
какое-то нелепое понятие - устареть»65, и в эссе «Современная литература»
Вулф: «Почему-то принято считать, что современное состояние искусства
непременно является шагом вперед относительно прошлого, и от этого
мнения трудно отрешиться даже в самом беглом и вольном обзоре
современной литературы. ...Но так может показаться лишь на первый взгляд, а если
присмотреться, то лучше писать мы не стали...»66 Равно и мнение Толстого
о будущем художественной прозы, в которой, как он предполагал, все
меньшую роль будет играть вымысел, - мнение, «до точки» воспроизведенное
переводчиками, заставляет внимательнее отнестись к прогнозу рассказчицы
из «Своей комнаты» о том, что литература может стать в будущем сугубо
описательной. Сравним отрывок из Гольденвейзера: «...мне кажется (сказал
Толстой. - Я.Р.), что со временем вообще перестанут выдумывать
художественные произведения. Будет совестно сочинять про какого-нибудь
вымышленного Ивана Ивановича или Марью Петровну. Писатели, если они будут,
будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное,
что им случалось наблюдать в жизни»67, с эпизодом 5-й главы «Своей
комнаты», где рассказчица рассуждает о будущем литературы на примере
вымышленной писательницы Мери Кармайкл: «Похоже, Мери Кармайкл уготована
роль простого наблюдателя, подумала я, мыслями еще витая над страницей.
Боюсь, она поддастся искушению стать тем, что я считаю менее интересной
разновидностью писателя, - романистом-натуралистом, а не мыслителем.
Вокруг так много новых объектов для изучения...»68
Писательница, создавшая в английской прозе новые модификации
романа, разумеется, не могла пройти мимо взглядов Л.Н. Толстого о значимости
художественной формы, и опять-таки в силу того, что суждения классика
слово в слово воспроизведены в переводе Котельянского-Вулф, они
приобретают особый вес в свете программного эссе Вулф «Современная
литература». Сравните у Гольденвейзера: «-Я думаю (заметил Толстой. - Н.Р.),
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С. 176. Ср. с переводом Котельянского-Вулф: «Now
books are written by people who have nothing to say. You read, but you do not see the writer.
They always try to give "the last word". They reject the real writers and say that they have become
obsolete. It is an absurd notion- to become obsolete. ...These purveyors of "the last word" do
enormous harm, they make people unused to thinking independently» (Goldenveiser A.B. Talks
with Tolstoi. P. 150-151).
См. с 117 наст. изд.
Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С. 181. Ср. с переводом Котельянского-Вулф: «...It
seems to me that in time works of art will cease to be invented. It will be a shame to invent a story
about a fictitious Ivan Ivanovich or Marie Petrovna. Writers, if such there be, will not invent, but
will only describe the significant or interesting things which they have happened to observe in
life» (Goldenveiser A.B. Talks with Tolstoi. P. 152).
См. с 508 наст. изд.
21*
644
Приложения
что каждый большой художник должен создавать и свои формы. Если
содержание художественных произведений может быть бесконечно
разнообразным, то так же и их форма»69, и у Вулф в «Современной литературе»:
«...возможности искусства (...) поистине безграничны, горизонт поиска
беспредельно широк; любой "метод", любой, даже самый бредовый
эксперимент имеет право на существование - единственное, чему нет места в
искусстве, это фальшь и притворство»70.
Зная идеи Вулф о полноте жизни, реальности в романе, мы можем
представить, с каким удовлетворением она должна была прочитать сходные
суждения у Толстого, ссылавшегося на мнение Гете71. Порой даже кажется -Вулф
«проговаривается» в тех фрагментах книги Гольденвейзера, переведенных и
включенных в английское издание, где описываются «вольные»
рассуждения Толстого об университетском образовании: для сторонницы женского
творчества то была острая тема. Или размышления Л.Н. Толстого о безумии
и сознании - они не могли не занимать создательницу модернистского
психологического романа. Писательнице, оставившей после себя «Дневник»72,
конечно же, были интересны мельчайшие детали описания Толстым
процесса работы над новой книгой. Тонкий ценитель музыки, Вирджиния Вулф
должна была обратить внимание и на признание русским классиком
огромного значения музыки.
Подчеркну, что речь идет не о влиянии или заимствовании у Толстого тех
или иных суждений, а о «параллельных местах», которые устанавливаются
при сопоставлении эссеистики Вулф и записей А.Б. Гольденвейзера,
переведенных ею совместно с Котельянским. В связи с этим напомню, что ее эссе
«Современная литература» было впервые опубликовано в 1919 г., задолго до
того как Вулф взялась за перевод. Сам факт перевода книги
Гольденвейзера о Л.Н. Толстом говорит о глубоком интересе Вулф к личности и
творческой лаборатории русского писателя. Возвращаясь к данным архива,
остается добавить, что отрывок из книги А.Б. Гольденвейзера «Вблизи Толстого»
в переводе С.С. Котельянского и Вирджинии Вулф прозвучал по Би-би-си
30 сентября 1947 г.
В связи с многочисленными «русскими» материалами в литературном
наследии писательницы, возникают вопросы: а каков, собственно, источник ее
69 Гольденвейзер А.Б. Вблизи Толстого. С. 116. Ср. с переводом Котельянского-Вулф: «I think
that every great artist necessarily creates his own form also. If the content of works of art can be
infinitely varied, so also can their form» {Goldenveiser A.B. Talks with Tolstoi. P. 81).
70 См. с 123 наст. изд.
71 Ср.: «Писатель, как справедливо заметил Гете, должен уметь все описать»
{Гольденвейзер Н.Б. Вблизи Толстого. С. 115-116); в переводе Котельянского-Вулф: «A real writer, as
Goethe justly observed, must be able to describe everything» {Goldenveiser A.B. Talks with
Tolstoi. P. 80).
72 Woolf V. A Writer's Diary. L., 1953.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
645
интереса к русской культуре? кто мог быть ее «вожатым» в «межкультурном
пространстве»73, соединяющем Англию и Россию? Котельянский, негласно
руководивший русским отделом издательства «Хогарт Пресс», безусловно,
сыграл значительную роль в ознакомлении Вирджинии Вулф с русской
литературой: достаточно указать на тот факт, что он был автором шести из
одиннадцати публикаций переводов с русского, осуществленных
издательством74. Тем не менее один лишь Котельянский едва ли смог бы вдохновить
Вирджинию Вулф на перевод с неизвестного для нее языка, если бы не было
какого-то мощного «родного» стимула.
Представляется весьма вероятным, что интерес Вирджинии Вулф к
русской литературе подогревала ее знакомая, известный кембриджский ученый,
антрополог, специалист по древнегреческому языку, мифологии и культуре
Джейн Эллен Хэррисон (1850 1928). На эту мысль наводят многообразные
«русские связи» самой Дж. Хэррисон, открывающиеся с изучением
переводов Вирджинии Вулф и издательского архива «Хогарт Пресс». Леонард Вулф
опубликовал две работы Хэррисон, имеющие отношение к русской истории
и культуре: это английский перевод 1924 г. «Жития протопопа Аввакума»,
выполненный Дж. Хэррисон с церковно-славянского оригинала при участии
ее ученицы, поэтессы Хоуп Мэрлиз75, и «Воспоминания о студенческой
жизни» (1925), в которые вошли главы, посвященные русским семейным
связям Хэррисон, описание ее встречи с И.С. Тургеневым в Кембридже, а также
поездки в Санкт-Петербург76. Письма Вирджинии Вулф и архив
издательства «Хогарт Пресс» указывают и на другие биографические и литературные
параллели между Вулф и Хэррисон, которые могут служить аргументами в
пользу высказанного предположения. Имя Джейн Хэррисон встречается еще
в письмах Вирджинии Стивен77, а в 1910-е годы личность Джейн Хэррисон
прочно ассоциируется у Вулф с блестящим кембриджским ученым. В 1919 г.
Термин Вольфганга Изера. См.: her W. On Translatability: Variables of Interpretation // The
European English Messenger. 1995. Vol. IV, N 1. P. 32-38.
Рассказ И.А. Бунина «Господин из Сан-Франциско» (1922); фрагмент «Признание Ставро-
гина» из романа Ф.М. Достоевского «Бесы» (1923); «Беседы с Толстым» А.Б.
Гольденвейзера (1923); «Воспоминания» М. Горького (1920); «Записные книжки» А.П. Чехова (1920);
«Письма Л.Н. Толстого к В. Арсеньевой» (1923). См. архив «Хогарт Пресс» в архиве
библиотеки университета Рединг (Великобритания): Hogarth Press archives: 1922-1955: N38
(Bunin I. The Gentleman from San Francisco. 1922-1951); N 72 (Dostoevsky KM. Stavrogin's
Confession. 1947-1952); N595 {Goldenveiser A.B. Talks with Tolstoi. 1923-1943); N130
{Gorky Maxim. Reminiscences. 1928-1953); N 483 {Chekhov A. Notebooks. 1944-1948); N 493
{Tolstoi L. N. Tolstoi's Love Letters. 1923).
См.: The Life of the Archpriest Avvakum by Himself/ Trans. Jane Harrison and Hope Mirrlees.
L., 1924; repr. 1963. См. также: Архив «Хогарт Пресс». № 7 «Avvakum Life of Archpriest».
Ед. xp. 1-16.
См.: Harrison J. Reminiscences of a Student's Life. L., 1925. P. 44, 125-126.
См. письмо Виолетте Дикинсон от 22 октября 1904 г.: The Letters of Virginia Woolf. Vol. I.
P. 145.
646
Приложения
Вирджиния Вулф опубликовала рецензию на поэму Хоуп Мэрлиз «Париж»78,
зная, что автор - талантливая студентка Дж. Хэррисон, и, встретившись с
Джейн Хэррисон в Париже в июле 1923 г., Вулф была заворожена «этой
смелой пожилой седовласой дамой, очень почтенной, в кружевной накидке...»,
«частью из-за ее агностицизма, частью из-за ее внешности», как призналась
она Жаку Равера в письме от 30 июля 1923 г.79 Так что нет ничего
удивительного в том, что Вулф дважды ссылается на Джейн Хэррисон в «Своей
комнате»80: для нее эта женщина воплощала новый стиль жизни и - что еще
важнее - новый образ мысли. Женщина-агностик, посвятившая себя науке,
интеллектуальному общению, знаток древнегреческого языка и культуры, -
можно себе представить, насколько притягательна была эта фигура для
Вирджинии Вулф, известной своим бережным вниманием к любым
проявлениям в человеке самостоятельности, творческого порыва и свободы. Можно
даже предположить, что две кембриджские лекции, с которыми Вулф должна
была выступать весной 1928 г. перед студентками женских колледжей Ньюн-
хема и Гэртона и которые были отложены до осени и состоялись лишь 20
и 25 октября81, она написала и прочитала перед кембриджской аудиторией
не без мысли о покойной Джейн Хэррисон: та скончалась 15 апреля 1928 г.
Возможно, Вулф хотелось по-своему «помянуть» выдающуюся личность,
воздать ей должное: вполне вероятно, что она чувствовала некий моральный
долг перед ее памятью - в том же письме Ж. Равера она отметила, как во
время их встречи в Париже в 1923 г. Хэррисон воскликнула: «Увы... из молодых
только вы и ваша сестра82 и еще, может быть, Стречи вызывают у меня
уважение. Вы одни продолжаете наши традиции»83. Во всяком случае, такое
намерение Вулф, никак не выраженное вслух или на бумаге, очень близко идее,
высказанной рассказчицей «Своей комнаты»: «Женщины в литературе
всегда мысленно оглядываются на матерей»84. Хэррисон же никогда не скрывала
своего глубокого интереса к русской культуре, вобравшей в себя опыт
греческих культуры и религиозных верований; она была тесно знакома и дружна с
8 См.: Mirrlees H. Paris // Архив «Хогарт Пресс». № 282.
9 The Letters of Virginia Woolf. Vol. III. P. 58-59.
0 См. главу 1 : «И затем на террасе возникла — точно вырвалась глотнуть воздуху, взглянуть
на сад - женская согнутая фигура, грозная и смиренная. Высокий лоб, изношенное
платье - ужели это она, знаменитый ученый, сама Дж. X.?» (см. с. 470 наст, изд.); см. главу 5:
«А если они (женщины) все-таки пишут меньше и мужчины по-прежнему многоречивы, то,
уж во всяком случае, не ограничиваются лишь романами. Есть книги Джейн Хэррисон по
греческой археологии...» (см. с. 503 наст. изд.).
1 См. неопубликованное письмо Вирджинии Вулф от 3 августа 1928 г. мисс Фэр, которое
хранится в семейном архиве мисс Кэтрин Данкн-Джонс, профессора Сомервил-колледжа в
Оксфорде, любезно разрешившей мне процитировать его: «Дорогая мисс Фэр, я могла бы
приехать и выступить в Ньюнеме в субботу, 20 октября, если эта дата устраивает и вас».
2 Ванесса Стивен, в замужестве Ванесса Белл (1879-1961), английская художница, график.
3 The Letters of Virginia Woolf. Vol. III. P. 58.
4 См. с 502 наст. изд.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
647
Д.С. Мирским и Ремизовыми. Именно по ее совету Леонард Вулф заказал
предисловие к переводу «Жития Протопопа Аввакума» Д.С. Мирскому85,
который в свою очередь составил список английских подписчиков на
готовящееся издание, включив в него нескольких выдающихся английских ученых86.
В 1915 г. Дж. Хэррисон выступила в кембриджском обществе «Херетикс» с
докладом на тему «Россия и русское слово: вклад в психологию русского
народа», который затем был опубликован отдельным изданием87.
Даже судя по этим отрывочным фактам, Джейн Хэррисон, горячо
увлеченная русским языком, культурой России, историей, имевшая свой
«русский» круг общения, в который входили видные философы и писатели,
историки литературы, критики, не могла не внушать уважения к России и
не заражать своим интересом близких ей людей, и в первую очередь
Вирджинию Вулф, писательницу, очень чуткую к новым веяниям. И, конечно,
такая авторитетная для англичан фигура, как Джейн Эллен Хэррисон,
наверняка оказывала на нее вдохновляющее действие, укрепляя ее интерес к
русской теме.
Итак, в творчестве Вулф - эссеиста и литературного критика - имеется
очень интересная русская «глава», в которой обнаруживаются
разнообразные связи с модернистской эстетикой писательницы. Притом что опыт
читательской, писательской, переводческой работы Вулф с русской литературой
был направлен на расширение, обогащение - словом, развитие собственного
писательского арсенала, тем не менее именно в произведениях Достоевского
и Тургенева, но не Беннета и Уэллса, Вулф открыла для себя «удивительное
многоголосие» («a wonderful compass of voices»)88, которое она стремилась
создать в романе. И та открытость русскому влиянию, которая поражает
читателя в ее эссе о русской литературе, та готовность, с которой она вводит в
свой текст парафразы из Толстого и Чехова, - все это «флаги» модернизма,
под которыми она осуществляла свое воображаемое русское путешествие.
Трудно назвать роман Вулф, в котором не встречались бы русские
аллюзии или реминисценции. Следы общественных, историко-культурных,
собственно литературных вопросов, обсуждавшихся в произведениях
Толстого, Достоевского, Чехова и других русских писателей, видны практически
См. письмо Хоуп Мэрлиз Леонарду Вулфу от 8 августа 1924 г.: «Князь Мирский дал нам
твердое согласие написать предисловие. Он не уточнил объем, но рассчитывает закончить
статью и отдать ее нам в течение этой недели... Мы сейчас вместе с ним работаем в Пон-
тиньи над рукописью» (Архив «Хогарт Пресс». № 7. Ед. хр. 3). См. письмо Д.С. Мирского
Л. Вулфу от 3 октября 1924 г. (Там же. Ед. хр. 14), а также письмо Джейн Хэррисон Л.
Вулфу от 10 декабря 1924 г. (Там же. № 164. Ед. хр. 1).
См. список подписчиков, составленный рукой Мирского, в качестве приложения к его
письму от 3 октября 1924 г. (Там же. № 7. Ед. хр. 14).
См.: Harrison J. Russia and The Russian Verb: A Contribution to The Psychology of The Russian
People. Cambridge, 1915.
Woolf V. A Passionate Apprentice. P. 205.
648
Приложения
в каждом ее романе. Отчасти то был отзвук огромного интереса европейцев
к культуре Серебряного века, к русскому балету, к Дягилеву и т.д. Однако не
только и не столько этот «популярный» интерес читается в прозе Вулф. Это
становится очевидным, когда мы начинаем анализировать «русскую тему» в
ее художественных произведениях. Здесь напрашиваются по крайней мере
два подхода: во-первых, идентификация цитат, высказываний, аллюзий на
русские тексты и интерпретация этих «включений» в контексте целого
произведения писательницы; во-вторых, выявление таких сторон писательской
техники Вулф, которые имеют своим возможным источником прозу того или
иного русского писателя.
Обращаясь к вопросу о реминисценциях из русской литературы, отметим
скрытые аллюзии на образ Пьера Безухова из «Войны и мира» Л.Н.Толстого
и на гоголевскую «Шинель» в «Мелимброзии», первоначальной редакции
романа «По морю прочь» (1915)89. Появление в 11-й главе Теренса Хьюита -
«круглолицего, щурившего глаза за толстыми стеклами очков,
розовощекого, гладко выбритого», «полноватого, быстрого в движениях»90 - вызывает у
читателя ассоциации с героем «Войны и мира», а рассказ Хьюита о том, что
он пишет роман о молодом человеке, которого во всех его похождениях и
передрягах сопровождает его пальто - главное его достояние91, не может не
напомнить читателю, знакомому с русской литературой, знаменитую повесть
Гоголя. (Замечу в скобках, что в окончательной редакции первого романа эти
«русские» аллюзии затушеваны - верный признак осознанной писательской
правки!)
Не менее интересны комментарии по поводу «Идиота» Достоевского и
«Войны и мира» Толстого во втором романе Вулф «День и ночь» (1919)92:
так, споря о современном искусстве, герои романа - молодой поэт Уильям
Родни и Кассандра, сестра главной героини Кэтрин Хилбери, - в пылу
полемики бросают друг другу:
«- Как, вы не читали "Идиота"?! - воскликнула она.
- Зато я читал "Войну и мир", - с вызовом бросил Уильям.
- Подумаешь, "Война и мир"! - презрительно хмыкнула Кассандра.
- Признаться, я не понимаю русских.
- Мир! Мир! - забасил дядюшка Обри, сидевший напротив. - Я тоже не
понимаю. Боюсь, они сами себя не понимают»93.
Здесь важно отметить даже не столько то, что в споре молодых
англичан начала XX в. о современной литературе и классических принципах ис-
89 См.: Melymbrosia: An Early Version of The Voyage Out: by Virginia Woolf. N.Y., 1982. P. 78-79,
153.
90 Ibid. P. 79, 78.
91 Ibid. P. 153.
92 См.: Woolf V. Night and Day. Harmondsworth, 1974. P. 323, 196-199, 257, 331-332.
93 Ibid. P. 323.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
649
кусства в качестве доводов у спорщиков выступают романы Достоевского и
Толстого, сколько подтекст, многозначность такой «отсылки» к русской
литературе в принципе: дело в том, что интрига романа состоит в постижении
героями самих себя, прояснении собственных чувств, жизненной позиции,
кредо, если угодно, и своих взаимоотношений с другими людьми. В таком
контексте апелляция к русским писателям, - признанным сердцеведам,
знатокам души, повышает психологическую напряженность конфликта.
Прямые и скрытые ссылки на произведения Чехова двояко обыграны в
романе «Комната Джейкоба» (1922)94: с одной стороны, как внутренний
монолог главного героя (Джейкоба), с другой - как прием самообнажения
персонажа. Русскому читателю, возможно, льстит то обстоятельство, что свое
чувство разобщенности, разочарования от душевной черствости близких
ему людей молодой англичанин выражает что называется «по Чехову»: «Нас
старят и убивают не стихийные бедствия, не преступления, не смерть или
болезнь - нет, нас убивает другое: смешок, косой взгляд, брошенный с
подножки омнибуса»95. В других эпизодах романа упоминание о Чехове
действует подобно камертону, выявляя внутреннюю пустоту и фальшь
персонажа, как в случае с Сандрой Уильяме: «Она стояла у открытого окна отеля,
вся в белом, - в руках у нее была изящная книжечка - такие удобно брать с
собой в дорогу: рассказы Чехова»96.
На уровне же писательской техники «параллельные места» видны в
повествовании «без предисловий», «с середины», - Вулф использовала этот
прием и в «Комнате Джейкоба», и в романе «Миссис Дэллоуэй»: он
напоминает манеру Чехова или, скажем, Толстого в «Войне и мире», и вполне
возможно, что этот ход сложился у Вулф как альтернативный русской
прозе. Разумеется, современного читателя такой повествовательной манерой не
удивишь, однако стоит вспомнить о том, что в начале XX в. никто из
английских романистов не решился бы огорошить читателя, бросив его «в
горнило событий» без всяких предисловий или пояснений. А вот для Вулф было
принципиально важно с первой же фразы ввести читателя в мир ее героев,
поскольку именно такое начало - без вступлений и преамбул - передает,
казалось ей, ощущение жизни: «Так что, конечно, - написала Бетти Фландерс,
вдавливая каблуки поглубже в песок, - оставалось только уезжать»97, или:
«Миссис Дэллоуэй сказала, что сама купит цветы»98.
См.: Woolf V. Jacob's Room. L., 1935. P. 133, 230-231.
Ibid. P. 133. Ср. у Чехова: «...люди обедают, только обедают, а в это время слагается их
счастье и разбиваются их жизни» (цит. по: Аре Г. Из воспоминаний о Чехове // Театр и
искусство. 1904. №28. С. 521).
Woolf V. Jacob's Room. Р. 230.
Ibid. P. 7. См. перевод M. Карп в: Иностр. лит. 1991. № 9.
Woolf V. Mrs. Dalloway and Essays. Moscow, 1984. P. 33. См. перевод E. Суриц в: Вулф В.
Избранное. M., 1989. С. 25.
650
Приложения
Равно и намеренная отрывочность, дробность повествования в
«Комнате Джейкоба», которые несут большую смысловую нагрузку и представляют
собой чисто модернистскую технику письма, - такая фрагментарность
вполне могла сложиться у Вулф как прием в русле ее размышлений об очерковой
манере Горького, удивившей писательницу интересными
изобразительными возможностями". Наконец, прием опущенных связей между эпизодами
в том же романе «Комната Джейкоба» мог быть подсказан чтением прозы
Достоевского, о которой Вулф писала в эссе «Больше Достоевского» как об
опыте, раскрепощающем человека и освобождающем искусство от «старых
мелодий».
Новые же мелодии, сложившиеся в прозе Вулф второй половины 1920-х
годов, содержат интересные вариации на русскую тему. Так, в романе
«Орландо» (1928) Я главного героя изображено амбивалентно: в нем живет
романтический идеал, воплощенный в «юной, стройной, соблазнительной»
Саше100, и одновременно отчуждение от идеала, осознаваемое в момент встречи
с «раздобревшей», «сонной» «поседевшей матроной в мехах» - «призраком»
Саши, «которая, сидя на волжском берегу и глядя на тонущих мужчин,
лениво поедает бутерброды»101. Раздвоенность сознания описывается в
«Орландо» в духе модернистского критического представления о культуре и о
человеке в истории культуры. Столетиями положение женщины в обществе было
двойственным: воспетые в произведениях искусства, они существовали в
условиях несвободы и неравенства. Отсюда распухшие монстры, или
двойники в ущемленном сознании женщины. И то, что такой историко-культурный
комментарий обращен в романе к русскому персонажу, представляется
особенно интересным: вполне возможно, что «русское путешествие» повлияло
на модернистское представление Вулф о культуре. Справедливо и обратное
наблюдение: в 1920-е Вулф наверняка пересмотрела свой опыт чтения
русской литературы с позиций модернизма. Так что отход Вулф от прежнего
увлечения русской литературой предсказуем: он есть логическое следствие ее
модернистской эстетики.
Эта тенденция, наметившаяся еще в середине 1920-х годов и
отразившаяся, в частности, в «Русской точке зрения» (1925)102, окончательно взяла верх
в творчестве Вулф к концу 1920-х годов. Проявилась она в первую очередь
в переоценке места и роли Тургенева в мировой литературе: если в 1920 г.
Вулф называла его «самым незаметным из великой русской троицы»103, то
в начале 1930-х годов И.С. Тургенев рисовался ее воображению редким
художником, соединившим в себе и европейца, и русского, цивилизацию и сво-
99 См. эссе «Горький о Толстом» на с. 421-423 наст. изд.
100 См.: Woolf V. Orlando: A Biography. N.Y., 1929. P. 303.
101 Ibid. P. 303.
102 См. перевод на с. 137-145 наст. изд.
103 См.: Books and Portraits: By Virginia Woolf. P. 16.
H.И. Рейнгольд. Русское путешествие
651
боду, человечность и высокое искусство: «...его романы и сейчас так близки
нашему времени, - писала Вулф в эссе "Романы Тургенева" (1933). - Они не
измельчали, не истлели под воздействием горячего личного чувства.
...потому что он стремился писать самой сутью своего "Я" художника, и, несмотря
на иронию и отстраненность, мы никогда не усомнимся в искренности его
чувства»104.
Главная же причина охлаждения Вулф к русской теме и наступившей в
конце 1920-х переоценке ценностей была социально-политическая:
послереволюционный террор, ссылки, вынужденная эмиграция русских
писателей, философов, ученых, близившиеся репрессии - все это сказалось на ее
отношении к России и русским «урокам». В этом смысле показательна, на
мой взгляд, дневниковая запись Вирджинии Вулф о ее последней встрече с
Д.С. Мирским в 1932 г. перед его отъездом в Советскую Россию: «Мирс-
кий... прожил в Англии, мотаясь по меблирашкам, целых 12 лет, и вот он
"навсегда" уезжает назад в Россию. Я вдруг подумала, заметив, как
вспыхнул и затуманился его взгляд, - а ведь скоро тебе пустят пулю в лоб»105.
Дурное предчувствие Вулф сбылось: в 1937 г. Мирский был арестован, сослан в
ГУЛАГ, где он умер в начале июня 1939 г.106
Подведем итоги.
У русской темы в творчестве Вулф два поворота: один состоит в
стремлении преодолеть границы английской литературы и вжиться в «другую»
культуру, а другой побуждает ее искать точки пересечения между эстетикой
модернизма и национальной литературной традицией. Иными словами,
метафора русского путешествия Вирджинии Вулф - это плавание в открытом
море с мыслью о возвращении назад, домой, к истокам.
См. перевод на с. 435 наст. изд.
The Diary of Virginia Woolf. Vol. 4. P. 112.
См.: Бирюков А. Последний Рюрикович. Магадан, 1991. С. 47-61; Мирский Д.С.
Стихотворения; Статьи о русской поэзии / Сотр. and ed. by G.К. Perkins and G.S. Smith; with an
Introd. G.S. Smith. Oakland (California), 1997. P. 14.
ПРИМЕЧАНИЯ
Русский перевод «Обыкновенного читателя» представляет собой первое полное издание
литературного памятника, хотя единичные разрозненные эссе из «Обыкновенного
читателя» 1925 и 1932 гг. публиковались ранее: «Современная литература», «Русская точка
зрения», «Сентиментальное путешествие» («Писатели Англии о литературе», 1982); «Как
читать книги?» («Человек читающий», 1983); «Монтень», «"Джейн Эйр"» и "Грозовой
перевал"», «Джейн Остен» (В. Вулф. Избранное, 1989), а ряд эссе вышел на английском языке в
составе сборника «Миссис Дэллоуэй. Эссе» («"Mrs. Dalloway" and Essays», 1984): это «The
"Sentimental Journey"», «Jane Austen», «"Jane Eyre" and "Wuthering Heights"», «The Russian
Point of View», «Modern Fiction», «How It Strikes A Contemporary».
Разрозненный, часто случайный характер отечественных публикаций эссе вне состава
книги как целого, естественно, ставит вопрос о необходимости академического издания
памятника с полным и точным научным аппаратом примечаний и комментариев.
Вопрос комментированного издания требует отдельного пояснения.
Как известно, все прижизненные и последующие издания «Обыкновенного читателя»
выходили по-английски без каких-либо примечаний составителя или издательства. В 1983 г.
Эндрю Мак-Нейли, литературный редактор оксфордского издательства «Блэкуэлз» и
душеприказчик творческого наследия Вирджинии Вулф, предпринял первое комментированное
издание «Обыкновенного читателя» 1925 г. В 1986 г. Э. Мак-Нейли выступил составителем
и первого комментированного шеститомного издания всего корпуса эссе Вирджинии Вулф,
печатавшихся в англоязычной периодике с 1904 по 1941 г.: «Эссе Вирджинии Вулф» (The
Essays of Virginia Woolf: 6 vols. / Ed. by A. McNeillie. L., 1986-2011), в том числе четвертый
и пятый тома с включенным в них «Обыкновенным читателем» 1925 и 1932 гг. Наличие
комментированных изданий, а также второго дополненного издания библиографии произведений
Вулф, составленной Б. Дж. Кёркпэтрик (1919-2007) (Kirkpatrick В. J. A Bibliography of Virginia
Woolf. L., 1957; revised éd., 1967; 2nd revised éd. Oxford, 1980), делает академическое издание
русского перевода «Обыкновенного читателя» 1925 г. и второй серии 1932 г. и возможным, и
необходимым.
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
1925
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Предисловие В. Вулф к книге «Обыкновенный читатель», опубликованной
издательством «Хогарт Пресс» в 1925 г. На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по:
Woolf V. The Common Reader. 2nd ed. L., 1925. P. 11-12.
1 ...в его «Жизнеописании Грея»... - Под «Жизнеописанием Грея» Сэмюэла Джонсона
(1709-1784), или доктора Джонсона, как привыкли называть его англичане, имеется в виду
Примечания
653
биография английского поэта Томаса Грея (1716-1771), вошедшая в книгу С. Джонсона
«Жизнеописания выдающихся английских поэтов» («The Lives of the Most Eminent English Poets»,
1779-1781).
2 «...мне доставляет радость ~ приверженцев науки».- Цитата из эссе Джонсона
«Грей» в составе «Жизнеописаний выдающихся английских поэтов» приводится в
переводе по: Johnson S. Gray // The Lives of the Most Eminent English Poets: Four volumes in one.
Aberdeen, 1847. P. 637.
ПЭСТОНЫ И ЧОСЕР
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Pastons and
Chaucer // The Common Reader. 2nd ed. L., 1925. P. 13-38. Примечания к выдержкам из
«Писем Пэстонов», которые Вулф цитирует в эссе, приводятся в переводе по: The Paston Letters:
2 vols / Ed. by Norman Davis. Oxford, 1971-1976.
1 ...сын Клемента Уильям... - Уильям Пэстон купил в 1427 г. поместье «Грешем Мэнор»
у Томаса Чосера, сына английского поэта Джефри Чосера.
2 ...участника битвы при Ажинкуре... - Эпизод (1415 г.) Столетней войны, воспетый
Шекспиром в «Генрихе V».
3 ...великана «с медвежьей лапой в руке». - Эти подробности взяты из «Описи вещей сэра
Джона Фэстолфа» от 1459 г., воспроизведенной в трехтомном издании «Писем Пэстонов» под
редакцией Дж. Гэрднера, которое Вулф также использовала при работе над эссе.
4 «В малых трудах много покоя». - Ср. «Лучше горсть с покоем, нежели пригоршни с
трудом и томлением духа» (Экклезиаст, 4 : 6).
5 «Помните, все суета сует ™ мы берем с собой лишь наши добрые или дурные
поступки». - Цитата из «The Paston Letters». Письмо 300. Цит. по: Woolf V. The Common Reader. L.,
2003. Vol. I. P. 243).
6 «торговать свечами и горчицей на Фрэмлингеме». - Ibid. Письмо 332. Торговать
свечами и горчицей на Фрэмлингеме - то же самое, что торговать на рынке: Фрэмлингем -
старинный англо-саксонский город в графстве Саффолк, строился вокруг замка и рыночной
площади.
7 «...пока пчелы трудятся ~ зато полакомиться готовым медом куда как горазд». - Ibid.
Письмо 72.
8 «При матери скромничай ^ дома я надеюсь быть самое позднее через одиннадцать
дней». - Ibid. Письмо 236.
9 «хотя никогда не командовала солдатами» - Ibid. Письмо 199.
10 «как подумаю об этом, так жить не хочется» - Ibid. Письмо 212.
11 ...вместе со стихами Лидгейта... - Лидгейт Джон (ок. 1370-1449)- один из самых
плодовитых английских поэтов; почти всю жизнь прожил в монастыре Бери (Bury); самая
известная его поэма - «Жалоба черного рыцаря» ("The Complaint of the Black Knight",
датируется первым десятилетием XV в.) - написана в подражание «Книге Герцогини» («The Book of
the Duchess», 1370) Дж. Чосера.
12 ...вместе со стихами... Чосера... - Чосер Джефри (ок. 1340-1400) - великий
английский поэт, «отец английской поэзии», автор «Кентерберийских рассказов» («The Canterbury
Tales», 1387-1400) и др.
13 ...прирожденные рассказчики, такие как г-н Гарнет... - Речь идет о Дэвиде Гарнете
(1892-1981), авторе повестей с захватывающим сюжетом: в «Женщине-лисице» («Lady into
Fox», 1922) главная героиня, миссис Тэбрик, замужняя женщина, превращается в лису, а в
«Человеке в зоологическом саду» («Man in the Zoo», 1924) главный герой Кромарти
добровольно заключает себя в клетку в Лондонском зоопарке.
654
Приложения
14 ...беллетристы, вроде г-на Мейсфилда... - Мейсфилд Джон (1878-1967), автор
эпической поэмы «Лис Ренар» («Reynard the Fox», 1919).
15 ...у Вордсворта ощущается что-то болезненное в том, с каким благоговейным
трепетом относится он к Природе, а человеческим общением пренебрегает. - Речь идет о стихах
английского поэта-романтика Уильяма Вордсворта (1770-1850).
16 И травы мягче, и цветы душистей... - Цитата из «Рассказа монастырского капеллана»
(«Nun's Priest's Tale») в составе «Кентерберийских рассказов» Чосера. Здесь и далее цитаты
из перевода «Кентерберийских рассказов» Дж. Чосера приводятся по: ЧосерД. Кентерберий-
ские рассказы. М, 1988. С. 238.
17 Искусно сплоенное покрывало ~ Все взор в ней радовало и влекло. - Там же. С. 33. Из
«Общего пролога» («General Prologue») к «Кентерберийским рассказам» Чосера.
18 В твоей я свите (знаешь хорошо ты) ^ И не ищу я близости к мужчине. - Там же.
С. 88. Из «Рассказа рыцаря» («Knight's Tale») Чосера.
19 Она, хотя умом не уступала ~ Проникнутая прелестью природной. - Там же. С. 248.
Из «Рассказа врача» («Physician's Tale») Чосера.
20... создать Батскую ткачиху... - Батская ткачиха, или женщина из Бата (Бат - город на
юго-западе Англии, основанный кельтами) - один из самых сочных образов в
«Кентерберийских рассказах» Чосера, ей принадлежат «Пролог» и «Рассказ батской ткачихи», в которых
она делится откровенными подробностями своих любовных похождений.
21 ...кормилицу Джульетты... - Речь идет о кормилице в пьесе У. Шекспира «Ромео и
Джульетта».
22 Молль Флендерс - героиня одноименного романа Даниеля Дефо («Moll Flanders»,
1722).
23 Свежий пример того же отношения к комическому - «Улисс» Джойса... - Вулф имеет
в виду вольное отношение к изображению непристойности у средневекового поэта Чосера и у
модерниста Джойса; как известно, роман Джеймса Джойса (1882-1941) «Улисс» («Ulysses»),
впервые опубликованный в журнальном варианте в «Литл ревью» в 1918 г. и в парижском
частном издательстве в 1922 г., оставался запрещенным в Англии вплоть до 1936 г.
24 Но, видит бог, как вспомню я про это ~ Что жизнь свою недаром прожила я. - Там
же. С. 292. Из пролога к «Рассказу батской ткачихи» («Wife of Bath's Prologue») Чосера.
25 Гуляли две свиньи у ней и хряк ~ козочка, любимица всех, Молли. - Там же. С. 227. Из
«Рассказа монастырского капеллана» Чосера.
26 Плетнем свой двор она огородила, / Плетень сухой канавой окружила. - Там же.
С. 228.
27... Щетинистой своей щекой, /На рыбью чешую весьма похожей. - Там же. С. 404. Из
«Рассказа купца» («Merchant's Tale») Чосера.
28... Все громче пел он, хрипло голося, /А шея ходуном ходила вся. - Там же. С. 405.
29 ...во вторник 16 апреля 1387 года. - 1387 год считается годом создания «Общего
пролога» к «Кентерберийским рассказам» Чосера.
30Пусть богослов на это даст ответ, / Одно я знаю: полон муки свет. - Там же. С. 64.
Из «Рассказа рыцаря» Чосера.
31 Что жизнь? И почему к ней люди жадны? ~ Один как перст схожу в могилу я. - Там
же. С. 99.
32 «Богиня, злой кумир ~ Толпа овец, толкущихся в загоне». - Там же. С. 64.
33 Прощай, уединенная душа... - Цитата приводится в переводе В. Рогова по: Вордсворт
У. Избранная лирика / Сост. Е. Зыкова. М, 2001. Из «Элегических строф, внушенных
картиной сэра Джорджа Бомонта, изображающей Пилский замок во время шторма» («Elegiac
Stanzas Suggested by a Picture of Peele Castle», 1805) У. Вордсворта.
34 Когда ты молишься за них /За всех, и малых и больших... - Цитата приводится в
переводе В. Левика по: Колридж СТ. Стихи. М., 1974. С. 30. Из «Сказания о старом мореходе»
(«The Rime of the Ancient Mariner», 1798) Сэмюэла Колриджа (1772-1834).
Примечания
655
35 Вы знаете: наряд презренный мой ~ Мой господин, я принесла когда-то. - Там же.
С. 375. Из «Рассказа студента» («Clerk's Tale») Чосера.
36... тотчас же в сени ~ Она пред ним упала на колени... - Там же. С. 359.
37 «Ничего, подождут!» - Цитата из «The Paston Letters». Письмо 291.
38 «Смотри ~ клянусь, не будет тебе моей веры до конца дней моих». - Ibid.
Письмо 228.
39 «Душу ее волокут черти в ад, и поделом ей!» - Ibid. Письмо 23.
40 «Сэр, снизойдите ~ нечем прикрыться, кроме того платья, что дарит мне мой
господин». - Ibid. Письмо 753.
41 «Здешнему человеку ничего не стоит заживо сожрать соседа ^ а по мне так лучше
кость в горле». - Ibid. Письма 190, 216, 209.
О ГЛУХОТЕ К ГРЕЧЕСКОМУ СЛОВУ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. On Not Knowing
Greek // The Common Reader. L., 1925. P. 39-59.
На английском языке эссе было впервые опубликовано в 1925 г. в первой серии
«Обыкновенного читателя».
1 ...между Джоном Пэстоном и Платоном, Норичем и Древними Афинами... - Здесь Вулф
использует иносказание, подчеркивая огромную дистанцию, отделявшую семейство Пэсто-
нов, живших в Нориче на юго-востоке Англии в XV в., от Древних Афин времен Платона
(428 г. до н.э. - 348 г. до н.э.).
2 Еврипидаразорвали собаки, Эсхила убило камнем, Сапфо бросилась со скалы в море... -
Согласно традиционным версиям, Эсхил (525-456 гг. до н.э.) умер в городе Геле на острове
Сицилия, где и погребен; Еврипид (484-406 до н.э.), по одной версии, был растерзан
собаками, по другой - женщинами; Сапфо (VII в. до н. э.), по одной версии, умерла в преклонном
возрасте на Сицилии; по другой, апокрифической, передаваемой, в частности, Овидием, она
покончила с собой, бросившись с Левкадской скалы в Ионийском море из-за неразделенной
любви к прекрасному юноше Фаону.
3 О сын вождя ахейцев - Агамемнона, /Водившего полки на Трою некогда... - Цитата из
трагедии Софокла (496-406 гг. до н.э.) «Электра». Строки 1-2. Здесь и далее цитаты из
перевода «Электры» Софокла приводятся по: Греческая трагедия / Под ред. А.И. Белецкого и
А.А. Тахо-Годи. М., 1956. С. 185.
4 ...вспомним, например, «Вакханок» ... - «Вакханки» (405 г. до н.э.)- трагедия
Еврипида.
5 ...прежде чем погубить Пенфея... - Пенфей (Пентей) - фиванский царь, основатель
Фив, внук Кадма; он пытался запретить женщинам чествовать Диониса, и за это его
растерзали вакханки, среди которых была его мать.
6 oï 'yœ xàXaiv', ôXcoXa rfjô ' êv rj/uéga. Jiaiôov, et oOéveiç, àuikrjv. - «Пропала я - и вновь
не жить, злосчастной, мне!» (др.-греч.). Цитата из «Электры» Софокла. Строка 652.
7 « -С кем ~ отвечала она» - Цитата из романа Дж. Остен (1775-1817) «Эмма» («Emma»,
1816) приводится в переводе М. Кан по: Остен Дж. Эмма / Остен Дж. Собр. соч.: В 3 т. / Под
ред. Е. Гениевой. М., 1989. Т. 3. С. 294.
8 «Поверь, стыжусь я слов, во гневе сказанных» - Цитата из «Электры» Софокла.
Строка 591.
9 «ôeivôv та tlhtslv èoxiv» - «Нелегок труд родителей» (др.-греч.). - Там же. Строка
745.
10 «Повтори удар!» - Там же. Строка 1389.
656
Приложения
11.. .перечитайте пьесы Аддисона, Вольтера... - Аддисон Джозеф (1672-1719) -
английский эссеист и поэт эпохи раннего Просвещения. Под «пьесами» Аддисона Вулф имеет в
виду, вероятно, неоклассицистическую трагедию Аддисона «Катон» («Cato», 1713). Из пьес
Вольтера (псевдоним Франсуа-Мари Аруэ, 1694-1778) на сюжеты древнегреческой
мифологии Вулф, очевидно, имеет в виду трагедию «Орест» (1750).
12 ...поет на женский лад... - Вулф намекает на древнегреческий миф о Филомеле, по
одной из версий, превращенной Зевсом в соловья (надругавшийся над девушкой Терей вырезал
ей язык, чтобы скрыть преступление); используя образ Филомелы-соловья, Вулф развивает
мысль о том, что литературное творчество женщин исторически сложилось как безымянное,
сродни судьбе несчастной Филомелы, лишившейся дара речи, однако не утратившей своей
природной музыкальности.
13 «- Птица пугливая - Зевсова вестница!.. ^~> Увы, увы, - все слезы льешь...» - Цитата из
«Электры» Софокла. Строки 146-149.
14 ... сценическое действие сведено к минимуму... - Речь, видимо, идет о поздних пьесах
Шекспира «Цимбелин» («Cymbeline», ок. 1609-1610), «Зимняя сказка» («The Winter's Tale»,
1610-1611) и «Буря» («The Tempest», 1611), для которых характерны барочные
музыкальность и камерность действия.
15 ...от белого Колона... - Место действия в трагедии Софокла «Эдип в Колоне»
(401 г. до н.э. - год посмертной постановки).
16 âjujudrœv ô' èv à%rjvicuç eqqel тсао' 'AygooCra. - «Если скрылась услада глаз, / Что
дары Афродиты?» {др.-греч.). Цитата из трагедии «Агамемнон» (458 г. до н.э.) Эсхила (525-
456 гг. до н.э.). Строки 427-428. Здесь и далее цитаты из перевода трагедии «Агамемнон»
Эсхила приводятся по: Эсхил. Трагедии. М., 1978.
17 ...ÔTOTOTOL полос ôà. со 'jïoXXov, со 'jioAAov... - «О, горе мне, о, горе мне! / Аполлон!
Аполлон!» {др.-греч.). Это первые слова, сказанные Кассандрой при появлении перед
дворцом Клитемнестры. Цитата из «Агамемнона» Эсхила. Строки 1056-1057.
18 ...важен не счет, не результат, а то, каким образом мы пришли к истине. -
Описание метода Сократа заставляет вспомнить рассказ Вулф об атмосфере первых встреч и бесед
ее будущих коллег по кружку Блумсбери - Литтона Стречи, Клайва Белла, Леонарда Вулфа,
Сэкстона Сидни-Тернера и др. - в доме на Гордон-сквер в лондонском Блумсбери в 1907 г.,
который вошел в ее эссе «Старый Блумсбери» («Old Bloomsbury», 1921-1922),
опубликованное в: Woolf V. Moments of Being (Unpublished Autobiographical Writings) / Ed. by J. Schulkind.
N.Y.;L., 1976. P. 167-168.
19 ...голову «этого удивительного человека»... - Цитата из диалога «Пир» Платона (427-
347 гг. до н.э.) в переводе английского поэта-романтика Перси Биши Шелли (1792-1822):
Shelley Р.В. The Banquet: Translated from Plato // Essays, Letters from Abroad, Translations and
Fragments: by P.B. Shelley: 2 vols. / Ed. by Mrs. Shelley. L., 1852. Vol. 1. P. 124.
20 «Наружная красота ~ любому слову Сократа следует подчиняться, как голосу одного
из верховных Богов». - Ibid. Р. 129.
21 Всеобщее потрясение, вызванное Первой мировой войной, было настолько
внезапным... - Это редкий для Вулф прямой комментарий о последствиях Первой мировой войны:
по точности описания изменений в психологии человека он предвосхищает «открытие»,
сделанное гораздо позже теоретиком и критиком модернизма Д. Лукачем, что модернисты
описывают чувства человека фрагментарно, без той целостности, какая присуща описаниям
психологии в произведениях писателей XIX в.
22 ...кто писал на манер Уилфреда Оуэна и Зигфрида Сассуна... - Оуэн Уилфред (1893—
1918)- выдающийся поэт так называемого «окопного поколения» английских поэтов,
воевавших на фронтах Первой мировой войны, впервые его стихи увидели свет в 1931 г., а
в 1963 г. вышло Полное собрание его стихотворений; Бенжамен Бриттен (1913-1976)
использовал произведения У. Оуэна в своем «Реквиеме о войне» («War Requiem», 1962); Сас-
Примечания
657
сун Зигфрид (1886-1967)- поэт и прозаик военного поколения, известен сборниками
стихов «Старый охотник» («The Old Huntsman», 1917) и «Контратака» («Counter-Attack»,
1918) и др.
23 «Пусть мертвые, они не умерли». - Цитата из 99-й эпиграммы-надписи Симонида
Кеосского (ок. 556-468 гг. до н. э.) - представителя древнегреческой хоровой лирики,
известного прежде всего яркими эпиграммами, в которых он прославил победы греков и
геройскую смерть защитников родины, павших во время освободительной греко-персидской
войны.
24 «Если слава героя требует пасть на поле брани ~ так не увянет же наша доблесть в
веках!» - Цитата из 100-й эпиграммы Симонида.
25 ...мы сразу представляем лес и в глубине его - иссиня-темные фиалки. - Вулф
вспоминает строки 670-677 из «Эдипа в Колоне» Софокла.
26 Ttâç yovv jioirjrrjc уiyvexai, xàv âjuovooç rjrô jïqlv, ov âv "Eçcoç агрщси («...ибо
каждый, даже тот, у кого раньше один ветер гулял в голове, становится поэтом, едва он
ощутит дыхание любви»). - Цитируется реплика Агафона из «Пира» Платона в переводе П.Б.
Шелли. Shelley Р.В. The Banquet. P. 97.
27 ваХаооа, Odvaroç, âvOoç, dorrjg, oeXrjvrj...- Море, смерть, цветок, звезда, луна
(др.-греч.).
28 ...в переводах с древнегреческого нет никакой особой пользы. - Здесь Вулф, возможно,
полемизирует с известными оксфордскими лекциями Мэтью Арнольда (1822-1888)
«Переводя Гомера» («Translating Homer», 1860), в которых Арнольд доказывал огромную важность
переводов Гомера для английского языка и просодии.
29 ...профессор Макэйл... - Макэйл Джон Уильям (1859-1945) - профессор классической
филологии в Оксфорде, автор жизнеописания Уильяма Морриса (1834-1896), крупнейшего
английского поэта и художника, романиста и переводчика, дизайнера и издателя, чьи
эстетические идеи были близки движению прерафаэлитов, а политические убеждения носили
социалистический характер.
30...вызывает у нас в памяти эпоху Бёрн-Джонса и Морриса. - Бёрн-Джонс Эдвард Коули
(1833 - 1868), английский художник и дизайнер младшего поколения прерафаэлитов,
витражных дел мастер. О У. Моррисе см. выше примеч. 29.
31... Что там, во гробе каменном - Увы, увы, - все слезы льешь... - См. примеч. 13.
32 dr' èv хафсо JCETçaicp I aiei ôaxgvetç... - См. примеч. 13 и 31.
33 ...хохочешь над смешными сценами Уичерли... - Уичерли Уильям (1641-1715),
драматург эпохи Реставрации, его пьесы - это комедии положений: «Любовь в лесу, или Парк Сент-
Джеймс» («Love in a Wood, or, St. James's Park», 1672), «Джентльмен танцмейстер» («The
Gentleman Dancing-Master», 1673), «Провинциалка» («The Country Wife», 1675),
«Прямодушный» («The Plain-Dealer», 1677).
24...счастливый Периклов век... - Под «веком Перикла», или «золотым веком» имеется
в виду период расцвета Афин в середине V в. до н.э. при правлении Перикла (490-429 гг. до
н.э.) - афинского политического деятеля, создателя афинской демократии, знаменитого
оратора и полководца.
35 ...лапидарный, подобный пружине Фукидид... - Фукидид (ок. 460 - ок. 400 г. до н.э.) -
афинский историк, автор «Истории», незавершенного труда, посвященного Пелопоннесской
войне между Афинами и Спартой (431-404 до н.э.).
36 ...укладывается спать Телемах... - Здесь Вулф вспоминает эпизод «Собрание богов.
Увещание Афины Телемаху» из первой песни «Одиссеи».
37 ...Навсикая берется сама выстирать белье... - Здесь Вулф вспоминает эпизод
«Прибытие Одиссея к феакам» из шестой песни «Одиссеи», где рассказывается о том, как дочь
царя феаков Навсикая отправляется вместе с служанками на берег стирать белье и случайно
обнаруживает в прибрежных кустах Одиссея, выброшенного волной на берег.
658
Приложения
ЕЛИЗАВЕТИНСКИЙ СУНДУК
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Elizabethan
Lumber Room // The Common Reader. L., 1925. P. 60-71.
Эссе было написано специально для «Обыкновенного читателя». Тем не менее ему
предшествовало несколько эссе на сходную тему: «Путешествия и открытия» («Trafficks and
Discoveries», 1906); «Сэр Уолтер Рэйли» («Sir Walter Raleigh», 1917); «Путешествия и
открытия» («Trafficks and Discoveries», 1918) и др.
1 ...Хаклита не столько читаешь... - Хаклит Ричард (1552-1616)- английский
летописец елизаветинской эпохи, хроникер географических путешествий и открытий. Человек
духовного звания, Хаклит в 1583-1588 гг. оказался в составе английского посольского корпуса
в Париже. Собственно, там он узнал о морских плаваниях и походах в разные части света и
решил посвятить свою жизнь собиранию материалов и свидетельств географических
открытий англичан. В 1582 г. он опубликовал труд «Разнообразные морские плавания и открытие
Америки» («Divers voyages touching the discoverie of America»), а в 1587 г. увидела свет его
«Замечательная история, содержащая описания четырех морских путешествий французских
капитанов во Флориду» («A notable historié, containing four Voyages made by certain French
Captains into Florida»), представлявшую собой перевод сочинения Рене де Лодоньера (René
de Laudonniére). В 1589 г. появился труд «Главные морские плавания, путешествия и
открытия представителей английской нации» («Principall Navigations, Voiages, and Discoveries of the
English Nation»), а в 1598-1600 гг. вышло его расширенное трехтомное издание. Сочинения
Хаклита, богатые дотоле неизвестными подробностями, разожгли интерес англичан к
освоению новых земель и немало способствовали начавшейся колонизации территорий.
Неопубликованные записки Хаклита попали после его смерти в руки Сэмюэла Перчаса (ок. 1577-1626),
который в 1625 г. опубликовал сочинение «Посмертный Хаклит, или паломничество Пэрчаса,
с Историей Мира, рассказанной на основе путешествий англичан и не только их, по суше и
по морю» («Hakluytus Posthumus or Purchas his Pilgrimes, containing a History of the World in
Sea Voyages and Land Travell by Englishmen and others»). В книге, основанной на
неопубликованных рукописях Хаклита, содержались описания экспедиций в Индию, Китай, Японию,
Африку, Средиземноморье, Московию и Северную Америку. Именно над книгой Пэрчаса, как
гласит легенда, заснул Сэмюэл Колридж, а когда проснулся, написал свою знаменитую поэму
«Кубла Хан». Именно содержательную сторону книг Хаклита, изобилующих экзотическими
подробностями, имеет в виду Вулф, когда говорит, что «Хаклита не столько читаешь, сколько
рассматриваешь» - рассматриваешь, подобно дивным заморским вещицам.
2 ...Фрауд пишет... - Вулф воспроизводит описание английских кораблей XVI в. по
знаменитому циклу оксфордских лекций «Английские мореплаватели XVI века» («English Seamen
in the Sixteenth century», 1895) английского историка Фрауда Джеймса Энтони (1818-1894).
3 «Стоило королевским советникам ~ казалось, им отвечает само небо». - Здесь и далее
цитаты из сочинений Р. Хаклита приводятся в переводе по: Hakluyt's Collection of the Early
Voyages, Travels, and Discoveries of the English Nation: 5 vols. / Ed. by R.H. Evans. L., 1809-
1812. Vol. l.P. 272.
4 «слова здравого не скажешь ™ наш Господь всем Богам Господь...» - Ibid. Vol. 2.
P. 250.
5 «Батюшка мой сэр Уильям и матушка ~ не отыскали им одним известную отметку: -
родинку на колене». - Ibid. Vol. 3. P. 169.
6 «их по нескольку человек в день вздергивают на виселице» - Ibid. Vol. 3. P. 45.
7 ...животных, растениях и пряностях, «без коих наша жизнь была бы варварской»... -
Ibid. Vol. 2. P. 284.
Примечания
659
8 ...посчастливилось лицезреть императора, который, «держа в левой руке золотой
жезл тончайшей работы, восседал, увенчанный короной, на государевом троне». - Ibid.
Vol. l.P. 352.
9 ...картина эта, увиденная глазами купца-англичанина... - Вулф ссылается на компанию
английских купцов в Москве в 1560-1570-е годы.
10 ...красота Москвы, красота Константинополя цвели столетиями на окраине земли, а
мы о них и не ведали. - Здесь Вулф впервые касается темы знакомства европейцев в XVI в. с
Московией и Османской империей, Русью и Византией, темы, которую развернет в первых
главах романа «Орландо: биография» (1928).
11 ...письмо от королевы Елизаветы, «писанное чернилами на бумаге, распространявший
тончайший аромат камфары, амбры и мускуса». - Вулф воспроизводит факт
дипломатических сношений Ивана Грозного и Елизаветы I. Ср. Скрынников Р.Г. Государство и церковь на
Руси XIV-XVI вв. Новосибирск, 1991. С. 296-297, 335.
12 ...дома ждут трофеев из удивительного нового мира... - Слова «удивительный новый
мир» («amazing new world») заставляют вспомнить ироническую реплику Миранды из пьесы
У. Шекспира «Буря» (Акт 5, сцена 1).
13 ...дикаря, пойманного где-нибудь у берегов Лабрадора... - Лабрадор - район
Атлантического побережья Канады; назван по имени португальского исследователя Жуао Фернандеса
Лаврадора, побывавшего там впервые после викингов в 1498 г.
14 «Фрегаты с палубами из сандала,/С шатрами из ливанских шкур» - Реплика принца
Эдварда из пьесы Роберта Грина (1558-1592) «Достойная история монаха Бэкона и
монаха Бангэя» («The Honourable History of Friar Bacon and Friar Bungay», ок. 1589). Сцена VIII.
Строки 53-54.
15 Вот, например, у Верни... - «Мемуары семейства Верни, составленные на протяжении
XVII века» («Memoirs of the Verney Family during the Seventeenth Century», 1904) - настольная
книга Вулф об истории, нравах и быте людей XVII в.
16 «писали собственные сочинения, или переводили чужие на английский или латынь». -
Цитата из сочинения Уильяма Хэррисона (1535-1593) «Описание Англии времен юности
Шекспира» (1577, 1587) приводится по: Harrison W. Description of England in Shakespeare's
Youth: 2 vols. / Ed. by Frederick J. Furnivall. L., 1877. Vol. 1. P. 272.
17 ...скачкообразные переходы в пьесах Грина... - Речь идет о пьесах елизаветинского
драматурга Роберта Грина.
18 ...о старинных танцах «козликом» и «дельфинчиком»... - «Козлик» - от английского
слова «lavolt», обозначавшего старинный танец, наподобие современного вальса, только с
высокими прыжками; то же касается «дельфинчика» (dolphin).
19 ...гиперболы Бена Джонсона... - Под «гиперболами Джонсона» Вулф имеет в виду не
гиперболу как прием, а средство создания комических характеров в том широком смысле, о
котором пишет Т.С. Элиот в эссе «Бен Джонсон»: «..."искусство карикатуры" у Б. Джонсона
сравнимо с почерком Рабле или Диккенса» {Eliot T.S. Ben Jonson // Eliot T.S. The Sacred Wood.
L., 1921).
20 «Ах, моя Америка! Земля моя обетованная!» - Цитата из 20-й «Элегии» Джона Донна
«На раздевание возлюбленной» («То His Mistress Going to Bed», ок. 1593-1598) приводится
no: Poems of John Donne / Ed. by E.K. Chambres; with an Introduction by G. Saintsbury: 2 vols.
L.;N.Y., 1896. Vol. I. P. 149.
21 «Поэт приходит к вам не с туманными определениями ~ Они радуются рассказам
о Геракле» - Цитата из трактата «Защита поэзии» («Defence of Poésie or The Apologie for
Poetrie», 1595) Филипа Сидни приводится в переводе по: Сидни Ф. Астрофил и Стела: Защита
поэзии. М, 1982. С. 173-174.
22 «...ils l'ont faicte et glisser parmy ~ et des vers amoreux». - «...вынужденные покончить
с собой, они приняли смерть, как бы предварительно усыпленную роскошью и изяществом, с
какими они приготовились ее встретить. И они принудили ее неприметно подкрасться к ним
в самый разгар привычного для них разгульного пира, окруженные девками и добрыми сво-
660
Приложения
ими приятелями; тут не было никаких утешений, никаких упоминаний о завещании, никаких
суетных разглагольствований о том, что ожидает их в будущем; тут были только забавы,
веселье, острословие, общий и ничем не отличающийся от обычного разговор, и музыка, и стихи,
прославляющие любовь» (фр.). Цитата из эссе М. де Монтеня «О суетности» приводится по:
Монтень М. Опыты: В 3 кн. М., 1979. Кн. 3, т. 2. С. 189-190.
23 «К л ер им он. Чтоб оспа изрыла ее увядшее лицо ~ завлекать и влюблять в себя. -
Цитата из пьесы Бена Джонсона «Андрогин, или Безмолвная женщина» («Epicoene, or the
Silent Woman», 1609-1610) приводится в переводе по: Jonson В. Epicoene, or the Silent Woman
(Act One, scene 1) // The Plays of Ben Jonson. 6 vols / Ed. by C.H. Herford and Percy Simpson.
Oxford, 1937. Vol. V. P. 164-170.
24 ... пока не обрели выражение в возвышенной, боговдохновенной прозе сэра Томаса
Брауна. - Браун Томас (1605-1682) изучал медицину в Монпелье и в Падуе, получил
докторскую степень в университете Лейдена и около 1637 г. осел в Нориче в качестве
практикующего врача. В 1642 г. было опубликовано (без его ведома) его сочинение «Кредо врачевателя»
(«Religio Medici»), сделавшее его литературной знаменитостью. В 1646 г. появился ученый
трактат «Pseudodoxia Epidemica», известный также под названием «Грубые ошибки» («Vulgar
Errors»), а в 1650-е годы - трактаты «Гидриотафия, или погребальная урна» («Hydriotaphia, or
Urn Burial»), «Сад Цирцеи» («The Garden of Cyrus») и «Письмо другу» («A Letter to a Friend»),
которое по содержанию совпадает с посмертно опубликованным сочинением «Христианские
нравоучения» («Christian Morals», 1716).
25 «Я изучаю мир ^ я развлекаюсь иногда, вращая его вокруг оси». - Цитата из трактата
Т. Брауна «Кредо врачевателя» приводится в переводе по: Browne Th., Sir. Religio Medici // The
Works of Sir Thomas Browne: 4 vols. / Ed. by Geoffrey Keynes. Chicago, 1964. Vol. 1. P. 87.
26 «Порой внутри у меня кипит яд ™ имя ему - легион, и он во мне». - Ibid. Vol. I. P. 62
(ср. Мрк: 5 : 9; Лк: 8 : 30).
27 «Темен я ~ самые близкие друзья видят меня будто бы сквозь облако». - Ibid. Vol. И.
Р. 77.
28 «Мы ищем чудеса ~ душа - Африка с ее несметными сокровищами». - Ibid. Vol. I.
P. 24.
29 «Мои речь и слух ~ с одинаковым дружелюбием светит и добрым и плохим». - Ibid.
Vol. И. Р. 85.
30 «знает ^ мало что видел на свете, кроме своего родного Чипсайда». - Ibid. Vol. IL
P. 82.
31 ...от хандры бывают мозоли, и ты невольно улыбнешься. - Здесь Вулф ссылается на
следующее высказывание Т.Брауна в трактате «Гидриотафия, или погребальная урна»: «От
горя кожа твердеет» («Afflictions induce callosities»). Ibid. Vol. 1. P. 168.
ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ ЕЛИЗАВЕТИНСКИХ ПЬЕС
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Notes on an
Elizabethan Play // The Common Reader. L., 1925. P. 72-83.
Впервые это эссе Вулф опубликовала в литературном приложении к «Тайме» в 1925 г., а
затем включила его в отредактированном виде в книгу «Обыкновенный читатель».
1 ...пьесы елизаветинцев «поменьше» - Грина, Деккера, Пила, Чэпмена, Бомонта и Флет-
чера? - Грин Роберт - драматург елизаветинской эпохи, известны 37 опубликованных
произведений автора, начиная от нравоучительных диалогов до любовных романов в прозе, от
романтических пьес до реалистических описаний преисподней; самая известная из его
ранних пьес - «Неистовый Роланд» («Orlando Furioso», 1594), а также «Достойная история
монаха Бэкона и монаха Бангэя», «Яков IV» («James the Fourth», 1598); в наше время Грин более
всего известен своими нападками на Шекспира, которого он прозвал «мешком остроумия»,
а также тем, что пьеса Грина «Пандосто» («Pandosto»,1588) навела Шекспира на сюжет его
Примечания
661
«Зимней сказки». Деккер Томас (ок. 1570 - 1632), автор многих пьес, написанных в
соавторстве с Дрейтоном, Джонсоном, Уэбстером и др., большая часть которых утрачена; самые
известные - комедии «Каникулы сапожника» («The Shoemaker's Holiday», 1600), «Старый Фор-
тунатус» («Old Fortunatus», 1600); «Честная проститутка» («The Honest Whore», 1604-1605);
«Ведьма из Эдмонтона» («The Witch of Edmonton», 1621), написанная в соавторстве с Фордом
и Роули; памфлет Деккера «Удивительный год» («The Wonderfull Yeare», 1603),
описывающий Лондон во время чумы, был использован Дефо в его «Дневнике чумного года» (1722).
Пил Джордж (1556-1596), драматург и поэт, автор поэм «Полигимния» («Polyhymnia», 1590)
и «Честь Подвязки» («The Honour of the Garter», 1591). Чэпмен Джордж (ок. 1559-1634),
поэт и драматург, до нас дошли семь его комедий; из трагедий известны две дилогии:
«Бюсси Д'Амбуа» («Bussy D'Ambois», 1607) и «Месть Бюсси Д'Амбуа» («The Revenge of Bussy
D'Ambois», 1613); «Заговор Чарлза, герцога Байрона» («The Conspiracy of Charles, Duke of
Byron») и «Трагедия Байрона» («The Tragedy of Byron», 1608); Чэпмен прославился своими
переводами «Илиады» и «Одиссеи» Гомера (The Whole Works of Homer, Prince of Poets, 1616).
Бомонт Френсис (1584-1616) и Флетчер Джон (1579-1625), английские драматурги,
сотрудничавшие в период 1605-1613 гг. и написавшие в соавторстве пьесы «Филастр» («Philaster»,
1609), «Трагедия девушки» («The Maid's Tragedy», 1610-1611), «Король и не король» («A King
and No King», 1611 ) и др.
2 В горах Армении ~ И рогом царственным пронзил обидчика... - Реплика Нунция из
пьесы Дж. Чэпмена «Бюсси Д'Амбуа» приводится в переводе по: Chapman G. Bussy D'Ambois /
Ed. by Nicholas Brooke. L., 1964.
3 ...всех этих Гонзало и Беллимпирий... - Гонзало - персонаж из «Бури» («The Tempest»,
1611) Шекспира; Беллимпирия - героиня «Испанской трагедии» («The Spanish Tragedy»,
1592) Томаса Кида (1558-1594), автора утраченной трагедии «Гамлет», среди шекспироведов
известной как «Пра-Гамлет».
4 ...сравнить елизаветинскую пьесу с драмой девятнадцатого века, скажем пьесами Тен-
нисона... - Перу Альфреда Теннисона (1809-1892), выдающегося викторианского поэта,
принадлежат драмы «Королева Мери» («Queen Mary», 1875) и «Гарольд» («Harold», 1876), а
также пьесы 1884 года «Сокол» («The Falcon»), «Чаша» («The Cup») и «Беккет» («Becket»).
5... или Генри Тэйлора... - Тэйлор Генри (1800-1886) опубликовал несколько
стихотворных драм, среди них самая известная - «Филипп ван Артевельде» («Philip van Artevelde»,
1834).
6 ...что происходит в «Белом дьяволе» или в «Трагедии девушки»? - Речь идет о полной
хитросплетений трагедии Джона Уэбстера (ок. 1578 - ок. 1632) «Белый дьявол, или Трагедия
Бракиано, вместе с описанием жизни и смерти Виттории Коромбоны» («The White Devil: or
the Tragedy of... Brachiano, with the Life and Death of Vittoria Corombona», 1612) и «Трагедии
девушки» («The Maid's Tragedy», 1610-1611) Бомонта и Флетчера.
7 ...«Испанская трагедия» - не более чем первая грубая заготовка будущих великих
трагедий... - Шекспироведы полагают, что в своих великих трагедиях 1600-1608 гг. Шекспир
использовал элементы так называемой трагедии мести, созданной Т. Кидом в «Испанской
трагедии» и в «Пра-Гамлете». Из современников Вулф такого взгляда придерживался Т.С.Элиот в
эссе «Гамлет и его проблемы» («Hamlet and His Problems», 1920).
8 Говорят, Форд принадлежит к школе Стендаля и Флобера... - Здесь налицо
двусмысленность: Вулф имеет в виду елизаветинского драматурга Джона Форда (1586 - после 1639),
автора 18 драм, 7 из которых считаются утраченными; одновременно своим замечанием она
намекает на Форда Мэдокса Форда (1874-1939), предтечу модернистов, продолжателя
флоберовской традиции точного слова в английской литературе начала XX в.
9 «это настоящий знаток женской души ~ сердцевед, изучивший все их потаенные
уголки»... - Цитата из предисловия Хэвлока Эллиса к сочинениям Джона Форда приводится в
переводе по: rordJ.The Best Plays of the Old Dramatists / Ed. by Havelock Ellis. L., 1888. P. xvii.
10 ...вывод критик делает на основе пьесы «Жалко, она шлюха»... - Речь о пьесе Форда
«Жалко, она шлюха» (« 'Tis pity She's a Whore», 1633).
662
Приложения
11 О, милорды! ~ Смерть! Смерть! Я шла навстречу ей, танцуя. - Реплика Каланты из
пьесы Дж. Форда «Разбитое сердце» («The Broken Heart», 1633) цитируется в переводе по:
Ford J. The Best Plays of the Old Dramatists. P. 279.
12 С двух лепестков сих сладких губ ~ знай, они все те же, не поблекли. - Реплика
Изабеллы из пьесы Дж. Уэбстера «Белый дьявол» (1612) цитируется в переводе по: Webster J. The
White Devil / Ed. by John Russell Brown. L., 1966.
13 На катафалк из молодого mucca ~ Из непорочной ивы... - Песнь Аспасии из «Трагедии
девушки» (1610-1611) Бомонта и Флетчера цитируется в переводе по: Beaumont and Fletcher.
The Maid's Tragedy / Ed. by Howard B. Norland. L., 1968.
14 ...душа, как парус в бурю,/ ...всервется. Неведомо куда! - Реплика Виттории из
«Белого дьявола» Дж. Уэбстера цитируется в переводе по: Webster J. The White Devil.
15 Боже, Боже, зачем не умер я! - Реплика Джиованни (Ibid).
16 О ты, нежнейшая сестра / Сладчайшей дреме, - смерть... - Реплика Бракиано (Ibid).
17 Что слава <^> Суетности на пороге сна... - Реплика Пентеи из пьесы Дж. Форда
«Разбитое сердце» цитируется в переводе по: Ford J. The Broken Heart //The Best Plays of the Old
Dramatists. P. 240-241.
18 Что наша жизнь? ~ где кров - там наша смерть. - Реплика Фрэнка из пьесы
Томаса Деккера «Ведьма из Эдмонтона» (1621) цитируется в переводе по: Dekker Th. The Witch of
Edmonton // Th. Dekker / Ed. by Ernest Rhys. L., 1887. P. 453.
19 ...мозги павлинов и кретонское вино. - Определение «кретонское» происходит от
названия местечка «Кретон» (Creton) в Нормандии.
20 Человек что древо ~ А зачем - не знает, горе лишь хлебает. - Реплика Тамиры из
пьесы Дж. Чэпмена «Бюсси Д'Амбуа» (1607) цитируется в переводе по: Chapman G. Bussy
D'Ambois / Ed. by Maurice Evans. L., 1965.
21 ...страдания маленькой мушки в повести Толстого. - Речь идет о повести Л.Н.
Толстого «Детство» (1857). См. главу 1. «Учитель Карл Иваныч» в: Толстой Л.Н. Детство.
Отрочество. Юность. М, 1955. С. 5-6.
МОНТЕНЬ
Это эссе переводилось на русский язык {Вулф В. Избранное. М., 1989. С. 529-536).
Новый, публикуемый ниже перевод в составе «Обыкновенного читателя» выполнен по: Woolf V.
Montaigne // The Common Reader. L., 1925. P. 84-97.
Впервые на английском языке эссе «Montaigne» было напечатано в литературном
приложении к «Тайме» в 1924 г. и затем, в переработанном виде, включено Вирджинией Вулф в
состав «Обыкновенного читателя».
1 «...подобно тому как этот король нарисовал себя карандашом?» - Цитата из эссе Мон-
теня «О самомнении». Здесь и далее цитаты приводятся по: Монтень М. Опыты. В 3 кн. М.,
1979. Кн. 2. Т. 1.С. 583.
2 ...Пипсу и еще, быть может, Руссо. - Пипе Сэмюэл (1633-1703), автор знаменитого
«Дневника» («Diary», 1660-1669), в котором Пипе, лондонский служащий, записывал все
хоть сколько-то яркие события городской и частной жизни, свидетелем которых оказывался;
дневник был зашифрован, впервые его прочитал Джон Смит, а опубликовал лорд Брейбрук в
1825 г. Руссо Жан-Жак (1712-1778), великий французский писатель, автор посмертно
опубликованных автобиографических произведений «Исповедь» («Les confessions», 1781-1788)
и «Размышления одинокого путешественника» («Les Rêveries du promeneur solitaire», 1782).
С точки зрения Вулф, названные авторы дневников оказались настоящими психологами,
способными описать подноготную души.
3 Знаменитое «Кредо врачевателя»... - См. примеч. 24 к эссе «Елизаветинский сундук»,
с. 660 наст. изд.
Примечания
663
4 ...известная биография Босуэлла... - Под биографией Джеймса Босуэлла (1740-1795),
известного английского биографа и литератора, имеется в виду «Дневник путешествия по
Гебридским островам» («Journal of a Tour of the Hebrides», 1785) - путешествие это Босуэлл
совершил вместе с Сэмюэлем Джонсоном в 1773 г.
5 ...пятитомник «Опытов» Монтеня в переводеКоттона... - Вулф имеет в виду
английское издание «Опытов» Монтеня, которое она рецензировала в эссе «Монтень»,
опубликованном в 1924 г. в приложении в «Тайме»: Essays of Montaigne: 5 vols. / Trans, by Charles Cotton;
ed. by William Carew Hazlitt. Navarre, 1923.
6 .. .подредакцией и с критическими комментариями д-ра Арменго... - Речь идет об
издании: Oeuvres complètes de Michel de Montaigne / Ed. by Dr. Arthur Armaingaud. L.; P., 1924.
7 «Так писали о себе ~ от наиболее общепринятых дел». - Цитата из эссе Монтеня «Об
упражнении» приводится по: Монтень М. Опыты. Кн. 2. Т. 1. С. 331.
8 «Столько городов ~ бессмысленная победа!» - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 122. Из эссе
Монтеня «О средствах передвижения».
9 «Что я мог им сказать? ~ Ничто на свете не несет на себе такого тяжелого груза
ошибок, как законы». - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 269, 271. Из эссе Монтеня «Об опыте».
10 «...я нахожу в себе ™ щедрость, и скупость, и расточительность». - Там же. Кн. 2.
Т. 1.С. 296. Из эссе Монтеня «О непостоянстве наших поступков».
11 «jusques à ses verrues et à ses taches». - «Я люблю его со всей нежностью, даже его
бородавки и родимые пятна» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 178. Из эссе Монтеня «О суетности».
12 «Мать невежества ~ в зависимость от суда глупцов и невежд?» - Там же. Кн. 2. Т. 1.
С. 554. Из эссе Монтеня «О славе».
13 «l'âme bien née». - «Высокородная душа» {фр.). Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 38; гл. VIII. Т. 2.
С. 136. Из эссе Монтеня «О трех видах общения» и «Об искусстве беседы».
14 «Je n'enseigne poind; je raconte».- «Я отнюдь не поучаю; я только рассказываю»
(фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 20. Из эссе Монтеня «О раскаянии».
15 «просто, цельно и основательно... единым словом, без сочетания
противоположностей». - Там же. Кн. 2. Т. 1. С. 296. Из эссе Монтеня «О непостоянстве наших поступков».
16 Этьен де Ла Боэси - Ла Боэси Этьен (1530-1563) - французский поэт, гуманист,
близкий друг Монтеня.
17 «C'est estre, mais ce n 'est pas vivre, que de se tenir attaché et obligé par nécessité a un seul
train». - «Неуклонно придерживаться по собственной воле или в силу необходимости
одного и того же образа жизни - означает существовать, но не жить» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2.
С. 32. Из эссе Монтеня «О трех видах общения».
18 «C'est une vie exquise, celle qui se maintient en ordre jusque en son privé». - Ср.
«Великолепна та жизнь, которая даже в наиболее частных своих проявлениях всегда и во всем
безупречна» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 22. Из эссе Монтеня «О раскаянии».
19 Эпаминондас - фиванский генерал и государственный деятель (ок. 418-362 г. до н.э.),
часто упоминаемый в «Опытах» Монтеня.
20 «...il faut vivre entre les vivants». - «...надо жить среди живых» (фр.) - Там же. Кн. 3.
Т. 2. С. 138. Из эссе Монтеня «Об искусстве беседы».
21 «...car, comme je scay par une trop certaine expérience, il n 'est aucune si douce consolation
en la perte de nos amis que celle que nous aporte la science de n 'avoir rien oublié a leur dire et
d'avoir eu avec eux parfaite et entière communication». - «...ибо хорошо знаю по опыту, что
когда умирают наши друзья, то нет для нас лучшего утешения, чем сознание, что мы ничего не
забыли им сказать и находились с ними в полнейшей и совершенной близости» (фр.). - Там
же. Кн. 2. Т. 1. С. 346. Из эссе Монтеня «О родительской любви».
22 «se défendans de la contagion d'un air incogneu». - «оберегаясь от заразы, носящейся в
незнакомом им воздухе» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 191. Из эссе Монтеня «О суетности».
23 «Le plaisir est des principales espèces du profit». - «Удовольствие - один из главных
видов пользы» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2. С. 286. Из эссе Монтеня «Об опыте».
664
Приложения
24 «parmy les jeux, les festins, facéties, entretiens communs et populaires, et la musique, et des
vers amoureux». - «тут были только забавы, веселье, острословие, общий и ничем не
отличающийся от обычного разговор, и музыка, и стихи, прославляющие любовь» (фр.). - Там же.
Кн. 3. Т. 2. С. 190. Из эссе Монтеня «О суетности».
25 «...plus je те hante et connois, plus ma difformité m'estonne, moins je m'entens en moy». -
«...чем больше я сам с собою общаюсь и себя познаю, тем больше изумляюсь своей диковин-
ности, тем меньше разбираюсь в том, что же я, собственно, такое» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2.
С. 233. Из эссе Монтеня «О хромых».
26 «sans cesse et sans travail». - «безостановочно и без устали» (фр.). - Там же. Кн. 3. Т. 2.
С. 152. Из эссе Монтеня «О суетности».
27 «Que scais-je?» - «Откуда мне знать?» (фр.). - Там же. Кн. 2. Т. 1. С. 392. Из эссе
Монтеня «Апология Раймунда Сабундского».
ГЕРЦОГИНЯ НЬЮКАСЛ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Duchess of
Newcastle // The Common Reader. L., 1925. P. 98-109.
1 ...несколько строк роскошной эпитафии, посвященной ей Лэмом... - Известно
несколько отзывов Чарлза Лэма (1775-1834) о герцогине Ньюкасл, самый щедрый из которых
оставлен Лэмом в его эссе «Мэкери-энд в Хертфордшире» из «Эссе Элии» («Essays of Elia», 1823):
«Маргарет Ньюкасл... любимица... трижды благословенная, целомудренная, достойнейшая,
немножко чудачка, оригиналка, - души необыкновенной!» Цитата из эссе «Mackery End in
Hertfordshire» приводится в переводе по: Lamb Ch. The Essays of Elia. Oxford, 1906. P. 106.
2 Маргарет родилась (предположительно!) в 1624 году... - Ныне установлены точные
даты жизни Маргарет Кэвендиш, герцогини Ньюкасл, второй жены Уильяма Кэвендиша, -
1623-1673 гг.
3 ...в семье некоего Томаса Лукаса... - Здесь и далее Вулф, видимо, цитирует указанные
ею в собственном, авторском примечании книги: «Жизнь Уильяма Кэвендиша, герцога
Ньюкасла», изданную Ч.Х. Фэртом («The Life of William Cavendish, Duke of Newcastle, etc.», edited
by C.H. Firth), и «Стихотворения и безделицы» герцогини Ньюкасл («Poems and Fancies», by
the Duchess of Newcastle; «The World's Olio»; «Orations of Divers Sorts Accommodated to Divers
Places»; «Female Orations»; «Plays»; «Philosophical letters», etc. etc.). Примечательно,
однако, что комментированное издание первой серии «Обыкновенного читателя» под редакцией
Э. Мак-Нейли ссылок на источник не приводит. См. Woolf V. The Common Reader. Vol. I. P. 69-
72, 248-249.
4 ...с самого начала гражданской войны... - Речь идет о гражданской войне в Англии в
1642-1651 гг.
5 «Сен-Жермен - очень лживое место...» - Сен-Жермен - аристократический квартал
Парижа.
6 Начались долгие годы изгнания... - Речь идет об изгнании роялистов во Францию после
1648 г.
7 ...ездила в Англию просить за герцога у лорда-протектора... - Имеется в виду Оливер
Кромвель (1599-1658).
8 ...известен снисходительный отзыв Хораса Уолпола... - Уолпол Хорас (1717-1797),
политический деятель, издатель, автор готического романа «Замок Отранто» («The Castle
of Otranto», 1764), нескольких исторических произведений, трагедии «Таинственная мать»
(«The Mysterious Mother», 1768), а также писем, написанных в подражание французской
писательнице мадам де Севинье (1626-1696), мастеру эпистолярного жанра. Несколько желчных
отзывов о чете Ньюкаслов содержатся во втором томе его «Каталога английских литераторов
королевских кровей и благородного происхождения» («A Catalogue of the Royal and Noble
Authors of England», 1758), например: «Какое жалкое зрелище являет собой эта удалившаяся
Примечания
665
на покой в свое карликовое королевство чванная парочка бездарностей благородного
происхождения, которые льстят друг другу, не понимая, что губят они лестью только самих себя!»
Цитата из «Каталога...» X. Уолпола приводится в переводе по: Woolf V. The Common Reader.
Vol. I. P. 249.
9 «Самые воспитанные женщины - me, у кого просвещенный ум». - Интересно, что Вулф
придавала этому высказыванию Маргарет Ньюкасл (источник его не установлен) важное
значение: недаром она воспроизвела его в другом своем эссе «Своя комната» (1929), где
обсуждаются вопросы, связанные с литературным творчеством женщин. См. с. 494 наст. изд.
10 ...за стенами Уэлбека... - Уэлбек - родовой замок герцога Ньюкасла.
11 Ipse dixit- категоричное утверждение, основанное только на репутации его автора;
букв, «сам так сказал» (лат.).
12 ...в пересказе г-на Стенли... - Стенли Томас (1625-1678), автор трехтомного труда по
греческой философии «История философии» («History of Philosophy», 1655-1662).
13 ...из Декарта читала всего одну работу о Страсти... - Вероятно, речь о сочинении
«Страсти души» («Les passions de l'âme», 1649) Рене Декарта (1596-1650), французского
философа, математика, физика.
14 ...из Гоббса- «маленькую книжечку под названием De Cive». - Трактат английского
философа Томаса Гоббса (1588-1679) «De Cive» («О гражданстве») был впервые
опубликован в Европе в 1642 г., английское же издание вышло впервые в 1651 г. под названием
«Наброски философии государства и общества» («De Cive. Philosophical Rudiments Concerning
Government and Society»).
15 Замок феечки в глуши ~ А подушкой - цветик алой... - Здесь Вулф цитирует из
существенно переработанной и исправленной версии поэмы Маргарет Ньюкасл «Замок королевы
Фей» («The Palace of the Fairy Queen») из второго издания 1664 г. книги «Стихотворения и
безделицы» («Poems and Phancies of 1664»), но не первого издания 1653 г. Цит. по: Woolf V. The
Common Reader. Vol. I. P. 249.
16Даруй мне стиль свободный, во всю ширь, /Пусть будет дик он и размашист. -
Цитата из книги «Стихотворения и безделицы» М. Ньюкасл приводится по изданию 1653 г. Цит.
по: Ibid.
17 Джентри - люди неблагородного звания, в английском языке слово «gentry» имеет
слегка презрительный оттенок.
18 ...любопытный Пипе... - Речь идет о Сэмюэле Пипсе (1633-1703), авторе знаменитого
дневника 1660-1669 гг. «Любопытным» Вулф называет его не только из-за рода его занятий:
узнавать городские новости и заносить их в свой дневник; она также обыгрывает фамилию
Пипса: «pepys» по-английски произносится точно так же, как глагол «peeps», т.е.
подглядывает, любопытствует.
19 ...дважды наведывался в Парк... - Речь идет о Гайд-парке в Лондоне.
БРОДЯ ПО ИВЛИНУ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Rambling around
Evelyn // The Common Reader. L., 1925. P. 110-120.
Впервые на английском языке это эссе В. Вулф было опубликовано под названием «Джон
Ивлин» в литературном приложении к «Тайме» в 1920 г. и представляло собой рецензию
на книгу, изданную под редакцией Х.М. Смита «Ранние годы и воспитание Джона Ивлина:
1620-1641 гг.» («The Early Life and Education of John Evelyn, 1620-1641», 1920).
1 ...это все благодаря его дневнику. - Ивлин Джон (1620-1706), член английского
Королевского общества, человек разносторонних интересов, знаток садоводства, был дружен с
Джереми Тэйлором и Сэмюэлом Пипсом. Сегодня он известен главным образом как автор
«Мемуаров», или «Дневника», впервые опубликованного в 1818 г., а в 1955 г. вышедшего в
666
Приложения
полном академическом шеститомном издании под редакцией Э.С. де Вира. В дневнике Ивлин
описывает события общественной и личной жизни, многих знаменитых современников,
путешествия за границей и т.д. Его дневник - бесценное свидетельство эпохи.
2 ...при виде красного адмирала... - Красный адмирал (Vanessa atalanta) - вид бабочки.
3 ...ни один здравомыслящий ботаник в двадцатом веке на такое не решится. - Этим
ироническим замечанием Вулф, возможно, намекает и на короля Карла I, обезглавленного в
1649 г., и на трагическую судьбу известных монарших особ в начале XX в.
4 «и именно в тот год умер Кромвель». - Запись в дневнике Ивлина от 26 марта 1699 г.
Здесь и далее цитаты из «Дневника» Дж. Ивлина приводятся в переводе по: Evelyn J. Now first
printed in full from the Manuscripts belonging to Mr. John Evelyn: 6 vols / Ed. by E.S. de Beer.
Oxford, 1955.
5 «...Вначале ему крепко-накрепко сввязали руки ™ единственным его одеянием...» -
Запись в дневнике Ивлина от 11 марта 1651 г.
6 ...в клетку, подобную тем, что есть в Уайтчэпл ... - Уайтчэпл (Whitechapel) - район в
восточной части Лондона в районе Чэринг-кросс; в XVII в. это был район пивоварен,
красильных мастерских и скотобоен; в конце XIX - начале XX в. там селились в основном приезжие,
именно в тех местах в конце 1880-х годов орудовал Джек Потрошитель.
7 «всё в руках мятежников». - Запись в дневнике от 9 марта 1652 г. Под «мятежниками»
Ивлин имеет в виду сторонников Оливера Кромвеля.
8 «В новолуние, при западном ветре я посадил в Сэз-Корте сад». - Запись в дневнике
Ивлина от 19 февраля 1653 г.
9 Джулио Романо - настоящее имя Джулио Пиппи (1492 или 1499-1546) - итальянский
художник, архитектор и рисовальщик, самый талантливый и знаменитый ученик Рафаэля.
10 Полидор- Полидоро да Караваджо (ок. 1499-1543)- итальянский
живописец-маньерист, известный своими настенными росписями.
11 Гвидо - Рени Гвидо (1575-1642) - итальянский живописец эпохи барокко,
представитель итальянского академизма.
12 ...вместе с д-ром Реном... - Рен Кристофер (1632-1723) - выдающийся английский
архитектор эпохи барокко и неоклассицизма, автор смелых инженерных решений, в
частности проекта перестройки Лондона после пожара 1666 г. и возведения нового здания Собора
Св. Павла (1675-1711).
13 ...его поразило, «насколько обветшал старинный досточтимый храм». - Запись в
дневнике Ивлина от 27 августа 1666 г.
14 ...увенчать собор «благородным куполом, придав храму изысканную форму, дотоле не
известную в Англии»... - См. примеч. 13.
15 ...в Лондоне случился пожар... - Имеется в виду лондонский пожар 1666 г.,
бушевавший в центральной части столицы со 2 по 5 сентября; пожар спалил средневековый город,
уничтожил 13 200 зданий, 87 церквей, а также знаменитый собор Св. Павла.
16...Ивлин наткнулся на «ветхий домик под соломенной крышей, стоявший на
отшибе»... - Запись в дневнике Ивлина от 18 января 1671 г.
17 Гринлинг - Гиббоне Гринлинг (1648-1721) - талантливейший мастер резьбы по дереву,
уроженец Роттердама, переселившийся в Англию около 1667 г.
18 ...показал бы с нескрываемым презрением на новые кварталы тогдашних окраин
-Бэйзуотера и Клэпема... - Бэйзуотер (Bayswater) - район в западной части Лондона,
прилегающий к Вестминстеру; изначально в XII в. принадлежал Вестминстерскому аббатству. Сегодня
Бэйзуотер, расположенный около Чэринг-кросс, северной части Гайд-парка и садов
Кенсингтона, является, по сути, центром Лондона, а в середине XVII в. это была окраина, которую
начали застраивать жилыми домами как раз при жизни Ивлина. Очевидно, он полагал, что в
архитектурном отношении «новостройки» Бэйзуотера и Клэпема (Clapham) - южной части
Лондона - существенно уступают классическим зданиям прошлого.
Примечания
667
19 ...уполномочили написать историю войны в Голландии... - Известны три
англо-голландские войны XVII в.: 1652-1654 гг., 1665-1667 гг., 1672-1674 гг. - все они были вызваны
торговым и колониальным соперничеством двух экономически наиболее развитых
европейских государств XVII столетия.
20 ...он затмил эсквайра из «Принцессы»... - «Принцесса» («The Princess») - поэма
известного поэта Альфреда Теннисона (1809-1892); полное ее название «Принцесса: пестрая
смесь» («The Princess: A Medley», 1847); поэма легла в основу сатирической оперы Гилберта
и Салливана «Принцесса Ида».
21 Рачительный хозяин призовых бычков ~ К тому же дока в мировых делах... - Цитата
из «Заключения» к поэме Теннисона «Принцесса: пестрая смесь» приводится в переводе по:
Tennyson A. The Princess: A Medley. L., 1847.
22 Портрет сэра Уолтера... - Сэр Уолтер Вивиан, эсквайр, главный герой поэмы А.
Теннисона «Принцесса: пестрая смесь».
23 ... с нескрываемым отвращением писавший о «расточительности погрязшего в
увеселениях и праздности двора». - Цитата представляет собой парафраз записи в дневнике
Ивлина от 4 февраля 1685 г.
24 ...в «очень вольной беседе»... - Запись в дневнике Ивлина от 1 марта 1671 г.
25 ...г-жи Годолфин- создания трогательного и чистосердечного... - «Жизнеописание
г-жи Годолфин» («Life of Mrs. Godolphin») Ивлина было впервые опубликовано в 1847 г.
26 ...что за жизнь была у этого ангелоподобного существа. - Маргарет Годолфин (1652-
1678) служила фрейлиной при дворе; в письме к Ивлину призналась ему в «нерушимой
дружбе» и выдавала себя за его приемную дочь.
27 «Если коротко ~ это простительно человеку, на несколько голов превосходящему
окружающих». - Цитата из «Дневника» С. Пипса, представляющая собой запись от 5 ноября
1665 г., приводится в переводе по: The Diary of Samuel Pepys: 11 vols / Ed. by R. Latham and
W. Matthews. L., 1972. Vol. VI. P. 289-290.
28...e его изгородь въехал своей тачкой царь... - Петр I останавливался в Сэз-Корте в
1698 г.
29 «После вечерней панихиды ~ моими нежно любимыми детками». - Запись в дневнике
Ивлина от 27 января 1658 г.
30 ...как он представляет нам сэра Томаса Брауна... - Запись в дневнике Ивлина от 17
октября 1671 г.
31 ...подобно старому подслеповатому маркизу Арджайлу... - Запись в дневнике Ивлина
от 28 мая 1656 г.
32 ...капитан Рэй, который все медлит с отъездом из Женевы... - Запись в дневнике
Ивлина от 23 марта 1646 г.
ДЕФО
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Defoe / The
Common Reader. L., 1925. P. 121-131.
На английском языке эссе было первоначально опубликовано под названием «Романы Да-
ниеля Дефо» («The Novels of Daniel Defoe») в приложении к «Тайме» в 1919 г.
1 ...на новом мраморном постаменте было увековечено имя автора именно
«Робинзона Крузо». - Здесь и далее цитаты из «Жизнеописания Даниеля Дефо» («The Life of Daniel
Defoe») Томаса Райта приводятся в переводе по: Wright Th. The Life of Daniel Defoe. L., 1894.
P. 386.
1 ...но никак не «Молль Флендерс». - Роман Даниеля Дефо (1660-1731) «Молль Флен-
дерс» («Moll Flanders») был опубликован в 1722 г.; «Приключения капитана Синглтона»
668
Приложения
(«Adventures of Captain Singleton») - в 1720 г.; роман «История полковника Жака» («The
History <...> of Colonel Jack») вышел в 1722 г.
3 ...задолго до Ричардсона и Филдинга... - Дефо «опередил» своих младших
современников на поприще романа примерно на 20 лет. Свой первый роман «Робинзон Крузо» он
опубликовал в 1719 г., тогда как первый роман Сэмюэля Ричардсона «Памела» («Pamela») увидел
свет в 1740 г., и в ответ на эту публикацию Генри Филдинг разразился своим первым
пародийным романом «В защиту жизни миссис Шамелы Эндрюс» («An Apology for the Life of Mrs.
Shamela Andrews») в 1741 г.
4 «...эти новомодные выдумки ^ человек открывает сердце для лжи и постепенно вранье
входит в привычку». - Цитата из «Глубоких размышлений в течение жизни и удивительных
приключений Робинзона Крузо», написанных Д. Дефо в продолжение романа
«Приключения Робинзона Крузо», приводится в переводе по: Defoe D. Serious reflections during the life
and surprising adventures of Robinson Crusoe: with his vision of the angelick world / written by
himself. L., 1720 (цит. no: Woolf V. The Common Reader. Vol. I. P. 250).
5 «...я недавно обобщил ^ Никто не падал и не возносился чаще моего, -/ Тринадцать раз
я богател и разорялся». - Цитата из «Предисловия» Дефо к 8-му тому ежемесячной газеты
«Ревью» («Review»), которую он издавал с 1704 по 1713 г., приводится в переводе по: Preface
to the 8th volume of Defoe's «Review» (1712). Цит. no: Woolf V. The Common Reader. P. 250.
6 Нъюгейт - тюрьма в Лондоне.
7 ...полковник Джек... волей обстоятельств оказался в учениках у карманника... - Здесь
Вулф обыгрывает подзаголовок первого издания романа Дефо «Полковник Жак», звучавший
так: «Рожденный джентльменом, отданный в ученики к карманнику» («Born a Gentleman, Put
'Prentice to a Pick-pocket»).
8 «в таком жутком положении, что никакими словами не опишешь». - Здесь Вулф
перифразирует строчку из романа Дефо «Роксана». Здесь и далее цитаты из «Роксаны» Д. Дефо
приводятся в переводе по: Defoe D. Roxana / Ed. by Jane Jack. Oxford, 1964. P. 13.
9 ...ей с первой минуты появления на свет... приходится воевать с «беспощаднейшим из
зол - нищетой». - Здесь и далее цитаты из романа Дефо «Молль Флендерс» приводятся в
переводе по: Defoe D. Moll Flanders / Ed. by Juliet Mitchell. L., 1978. P. 186.
10 «шальная мысль ™ ведь я еще молода, кровь кипит, хочется разгуляться». - Ibid. Р. 126.
11 «В нем чувствовалось внутреннее благородство ~ благородный разбойник». - Ibid.
Р. 154.
12 «придать ему вид истинного джентльмена, каким он и был на самом деле». - Ibid.
Р. 315-316.
13 «совершеннейшее угнетение духа ~ и малодушие, со стороны неимущих». - Ibid.
Р. 241.
14 ...готова была отдать за ее книжку всю свою дневную выручку. - Об этом эпизоде
писал в автобиографическом романе «Лавенгро» («Lavengro», 1851) Джордж Борроу: Borrow G.
Lavengro: The Scholar, the Gipsy, the Priest. L., 1922. Ch. 31 and 40. Борроу Джордж Генри
(1803-1881)- известный английский литератор, путешественник, переводчик-полиглот,
автор первого английского перевода «Цыган» А.С. Пушкина и таких сочинений, как «История
цыган в Испании» («The Zincali, or An Account of the Gypsies in Spain», 1841), «Библия в
Испании» («The Bible in Spain», 1834), «Знаменитые процессы и судебные ошибки» («Celebrated
Trials and Remarkable Cases of Criminal Jurisprudence», 1825) и др.
15 ...тот сидит у детской колыбели, «любуясь спящим сынишкой», как замечает
Роксана. - Цитата из романа Дефо «Роксана» приводится в переводе по: Defoe D. Roxana. P. 80.
16 ...пассаж: звучит свежо и современно... - Вулф намекает на популярные в 1920-е годы
работы Зигмунда Фрейда (1856-1939) о психологии сновидений, например «Толкование
сновидений» (1900), многие из которых вышли в переводе на английский язык в издательстве
Вулфов «Хогарт Пресс» в 1920-1930-е годы.
17 ...обратимся к его эссе «Образование женщин». - Речь идет об эссе Дефо
«Образование женщин» («The Education of Women», 1697).
Примечания
669
18 «Мы полагаем ~ впадали бы в грех непослушания и упрямства». - Цитата из эссе Дефо
«Образование женщин» приводится в переводе по: Defoe D. The Education of Women // Later
Stuart Tracts / Ed. by George A. Aitken. L., 1903.
19 «не уступить ни пяди». - Цитата из романа Дефо «Молль Флендерс» приводится в
переводе по: Defoe D. Moll Flanders. P. 88.
20 «Вы предложили нечто новое, противоположное тому, что делают все». - Цитата из
романа Дефо «Роксана» приводится в переводе по: Defoe D. Roxana. P. 153.
21 «поначалу y меня и в мыслях не было, что я делаю что-то благородное» - Ibid. Р. 147.
22...это позволило ему добиться такой психологической правды, с какой не сравнится
никакая документальная достоверность. - Здесь Вулф использует для характеристики
творческой манеры Дефо два основных понятия, выработанных ею для описания эстетических
установок прозаика: «правда факта» (the truth of fact) и «правда видения» (a truth of insight),
или «психологическая правда» и «документальная достоверность».
23 ...внутреннееродство между его произведениями и видом Лондона, открывающимся с
моста Хангефорд... - Хангефорд - лондонский мост через Темзу, располагается между
мостами Ватерлоо и Вестминстер; был открыт в 1845 г.: другое название - Чэринг-Кросс бридж.
Интересно, что в контексте эссе этот топоним неожиданно обнаруживает свою внутреннюю
форму: Hungerford Bridge - букв, «голодный мост».
24 Он -романист той же школы, что Крабб... - Крабб Джон (1754-1832), английский
поэт, автор знаменитого стихотворения «Деревня» («The Village», 1783), которое, по мнению
историков литературы, повлияло, в частности, на стихотворение А.С. Пушкина «Деревня»
(1819). В эпоху предромантической и романтической поэзии Крабб придерживался строгого
слога, суровой правды фактов.
25 Он - романист той же школы, что... Гиссинг... - Вулф «перекидывает мостик» от
Дефо к Джорджу Гиссингу (1857-1903), английскому романисту натуралистической школы.
О Гиссинге см. эссе Вулф «Джордж Гиссинг» на с. 351-355 наст. изд.
АДДИСОН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Addison // The
Common Reader. L., 1925. P. 132-145.
На английском языке эссе Вулф «Аддисон» представляет собой слегка
переработанный вариант эссе «Джозеф Аддисон» («Joseph Addison»), опубликованного в приложении к
«Тайме» в 1919г.
1 лорд Маколей - Маколей Томас Бэбингтон (фамилия «Macaulay» читается «Маколи», но
в русской традиции закрепилось с XIX в. иное написание - Маколей) (1800-1859),
английский политик, историк, публицист.
2 Джозеф Аддисон - Аддисон Джозеф - английский литератор, журналист, эссеист. См.
примеч. 11 на с. 656 наст. изд.
3 «которые не умрут, пока жив английский язык». - Цитаты из статьи Т.Б. Маколея
«Жизнь и сочинения Аддисона» приводятся в переводе по: Macauley Т. The Life and Writings
of Addison // Edinburgh Review. 1843. July.
4 ...современное состояние «Болтуна» и «Зрителя»... - «Болтун» («The Tatler») - газета,
которую три раза в неделю издавал английский журналист Ричард Стил (1672-1729) с апреля
1709 г. по январь 1711 г. и с которой Аддисон сотрудничал в качестве автора эссе, начиная с
81-го выпуска 15 октября 1709 г.; «Зритель» («The Observer») - периодическое издание,
которое Стил и Аддисон выпускали совместно, начиная с марта 1711 г. и заканчивая декабрьскими
номерами 1712 г.
5 ...возьмемся за самого Аддисона - за его... «Катона»... - «Катон» («Cato», 1713) -
неоклассицистическая трагедия Аддисона.
670
Приложения
6 Когда в пустыне аравийской ~ Там, где стоял ты, - пыли шквал. - Данная реплика Сай-
фекса завершает 2-й акт трагедии «Катон».
7 Хёрд - Хёрд Ричард Д.Д. (1720-1808), епископ Вустерский, выступивший редактором
шеститомного издания сочинений Дж. Аддисона, опубликованного в 1811 г.
8 «бесспорно возвышеннейшее творение аддисоновского гения» - Цитата из эссе С.
Джонсона «Аддисон» приводится в переводе по: Johnson S. Addison // Chief Lives of the Poets / With
Preface and Notes by M. Arnold. N.Y., 1889. P. 206.
9 о «молодом господине не глубокого, но живого склада ума ~ чтобы стать философом
или человеком здравомыслящим». - Цитата из «Болтуна» приводится в переводе по: The Tatler.
1709. N 108 (17 December).
10 «просвещать недалеких домочадцев ~ вскоре дослужился до чина старшего члена
Судебной палаты в Мидл-Темпле». - Ibid. Мидл-Темпл - одна из двух судебных палат,
расположенных в историческом районе Лондона Темпл, основанном рыцарями ордена тамплиеров.
11 ...мог жениться на графине... - Аддисон женился на графине Уоррик в 1716 г.
12 «заниматься потихоньку бумагами сената» - Цитата из «Пролога к "Катону"» (1713)
Александра Поупа (1688-1744) приводится в переводе по: Pope A. Prologue to Cato / Pope A.
Complete Poetical Works. Boston, 1931. L. 23-24. Посредством этой цитаты Вулф описывает
деятельность Аддисона на служебном поприще: в 1706 г. Аддисон был назначен помощником
государственного секретаря, а с 1708 г. до своей смерти был членом парламента; в 1709 г. он
отправился в Ирландию в должности первого секретаря лорда Уортона, а в 1711 г. потерял
место из-за падения партии вигов. Карьера Аддисона возобновилась в 1715 г. с возвращением
к власти вигов: Аддисон был вновь назначен первым секретарем в Ирландии.
13 ...произнести... свою знаменитую реплику о том, как подобает умирать
христианину... - Эту реплику воспроизвел С. Джонсон в своем жизнеописании Дж. Аддисона. В
пересказе С. Джонсона предсмертные слова Аддисона, обращенные к молодому лорду Уоррику,
звучат так: «...я послал за вами, чтобы вы увидели, как умирает христианин» {Johnson S.
Addison. P. 198).
14 ...следствие разлившейся желчи Поупа... - Здесь Вулф, очевидно, намекает на
желчные замечания А. Поупа в адрес Аддисона, содержащиеся в поэме Поупа «Аттик» («Atticus»,
1715), увидевшей свет в 1722 г., уже после смерти Аддисона, а также в письмах Поупа.
15 ...критики обсуждали единства. - Вулф имеет в виду классические единства места,
времени и действия в драме.
16 «В моем представлении женщина - это прекрасное романтическое животное ~
только одного я не могу и не хочу допустить: нижнюю юбку, с которой сегодня я начал». - Цитата
из «Болтуна» приводится в переводе по: The Tatler. 1709. N 116 (5 January).
17 ...с какой энергичностью отстаивал Аддисон балладу «Чеви Чэйз». - Вулф имеет в
виду апологию «Баллады Чеви Чэйз» («The Ballad of Chevy Chase»), с которой Аддисон
выступил в «Зрителе» в мае 1710 г. (№ 70 и 71 от 21 и 25 мая). «Баллада Чеви Чэйз»- одна
из старинных английских баллад XV в., вошла в собрание «Реликвий английской поэзии»
(«Reliques of Ancient English Poetry»), опубликованное Т. Перси (1729-1811) в 1765 г.,
наряду со многими другими балладами, сонетами, лирическими песнями. В балладе описывается
вражда двух соседей - Перси и Дагласов, которая заканчивается гибелью обоих родов.
Аддисон в своем эссе выступил с пересмотром этой и другой старинной баллады «Дети леса»
(«The Children of the Wood»), также недооцененной предшествующими поколениями, тем
самым внеся существенный вклад в литературную критику и историю английской литературы.
18 ...для него не составляло труда увидеть эти качества в старинной темной балладе
или открыть их заново в «Потерянном рае» - «этом божественном сочинении». - В январе-
мае 1712 г. Аддисон, стремившийся просвещать широкую публику, опубликовал в «Зрителе»
18 эссе о поэме Дж. Милтона «Потерянный рай» («Paradise Lost», 1667).
19 По свидетельству Поупа, «Аддисон говорил так, что невольно заслушаешься». -
Цитата из эссе С. Джонсона «Аддисон» приводится в переводе по: Johnson S. Addison. P. 199.
Примечания
671
20 «Лютня - это инструмент, во всем противный барабану ^ оценить его игру по
достоинству могут лишь... те, кто знает цену столь восхитительной и неоюной мелодии». -
Цитата из «Болтуна» приводится в переводе по: The Tatler. 1710. N 153 (1 April).
21 «Прежде всего, следует обратиться к его стихам~Поэт мыслит тонко, но робко». -
Цитата из эссе С. Джонсона «Аддисон» приводится в переводе по: Johnson S. Addison. P. 202-
203.
22 ...записки сэра Роджера de Каверли. - Роджер де Каверли - это вымышленный
персонаж, описанный в «Зрителе», в основном в 15 выпусках за июль 1711 г.: Addison J., Steele R.
Coverley Papers from «The Spectator». L., 1911. Роджер де Каверли - член клуба, родом из
Вустершира, потомок древнего рода, баронет. Стил и Аддисон обращаются к своему герою
постоянно, а в № 517 за 1711 г. Аддисон даже запечатлел смерть своего любимого героя.
23 «Ипохондрус - этот верный друг печали ~ живи он в те далекие времена, когда
христианство подвергалось гонениям». - Цитата из «Зрителя» приводится в переводе по: The
Spectator. 1711. N 494 (26 September).
24 ...статья не подписана именем Макса Бирбома... - Бирбом Генри Максимилиан (1872—
1956), английский критик, карикатурист рубежа веков, пользовавшийся у современников
славой блестящего эссеиста.
25 ...как превратить мешок, наспех набитый всякой всячиной, в серебряную каплю
безупречной формы... - Вулф намекает на то, что публикации Аддисона в «Зрителе» часто
оформлялись как каллиграммы в виде вазы, капли и т.д.
26 «Я заново перезарядил орудия сатиры». - Здесь и ниже цитаты из «Зрителя»
приводятся в переводе по: The Spectator. 1712. N 445 (31 July).
21 ...к его эссе будут относиться как «к старой посуде, которую используют в
хозяйстве, но чтобы любоваться ею как произведением искусства - нет уж, увольте». - Ibid. N 435
(19 July).
ЗАБЫТАЯ ЖИЗНЬ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Lives of the
Obscure // The Common Reader. L., 1925. P. 146-167.
На английском языке первая часть этого эссе Вулф (в первом прижизненном издании
«Обыкновенного читателя» подзаголовок «Тэйлоры и Эджворты», появившийся в
современных изданиях, отсутствовал) была первоначально опубликована под названием «Забытая
жизнь» («The Lives of the Obscure») в «Ландон Меркьюри» в 1924 г.; в состав
«Обыкновенного читателя» 1925 г. оно вошло в слегка переделанном виде. Вторая часть эссе «Петиция Пил-
кингтон» была впервые напечатана в «Нейшн энд Атенеум» в 1923 г.
1 ...сидят, склонившись, над старыми номерами «Иллюстрированных лондонских
новостей» и «Хроники Уэсли». - «Иллюстрированные лондонские новости» («The Illustrated
London News») - журнал, основанный в 1842 г. Гербертом Ингрэмом и Марком Лемоном,
редактором журнала «Панч»; «Хроника Уэсли» («The Wesleyan Chronicle») - христианский
журнал.
2 ...с первого дня открытия библиотеки в 1854 году. - Вероятно, речь идет о публичной
библиотеке в Брайтоне.
3 ...наконец, мрак рассеивается, и миссис Гилберт... - Вулф имеет в виду Гилберт Энн
(1782-1866) - детскую писательницу, дочь известного мастера гравировального дела Исаака
Тэйлора. Здесь и далее приводятся ссылки на ее автобиографию и мемуары: Autobiography
and Other Memorials of Mrs. Gilbert: 2 vols / Ed. by Josiah Gilbert. L., 1874.
4 Она живет в Колчестере... - Колчестер - столица графства Эссекс, легендарный
римский город Камолодунум.
672
Приложения
5 ...был «самым настоящим Элизиумом»... - Элизиум, или Элисий, или Елисейские поля -
в древнегреческой мифологии - поля блаженных, загробный мир, куда попадают праведники,
в поэзии Элизиум - синоним царства красоты, счастья, вечного покоя. У Вулф этот образ
имеет двойной смысл: в устах ее героини миссис Гилберт топоним «Элизиус» означает «рай на
земле», а для Вулф он равнозначен утопленной, безвестной жизни.
6 Кенсингтон - район в центре Лондона.
7. ..были призерами конкурса Дартона и Харви... - Дартон и Харви, издатели так
называемой «малой карманной книги» (Minor's Pocket Book).
8 Джеймс Монтгомери - Монтгомери Джеймс (1771-1854) - поэт, шотландец по
происхождению.
9 ...Мойра и Бетеа пристрастились к стихам... - Бетеа (Bithia) - еврейское имя
женщины, вскормившей Моисея.
10 ...его попутчик - Ньюмен. - Ньюмен Джон Генри (1801-1890) - выдающийся
английский теолог, ученый, университетский деятель.
11 ...понаблюдаем за миниатюрной мисс Френд, которая вместе с отцом гуляет по
Стрэнду. - Вероятно, речь идет о Софии Элизабет Френд, старшей дочери реформатора
униатской церкви и члене партии вигов Уильяма Фрейда (1757-1841); упомянутая ниже миссис
Дайер вышла замуж за Джорджа Дайера (1755-1841), литератора, друга Чарлза Лэма; вместе
с мужем они едва сводили концы с концами.
12 ...это мать сэра Джорджа Ньюнза. - Ньюнз Джордж (1851-1910), сын преподобного
Томаса Ньюнза и Сары Урхарт, чье эксцентрическое поведение, на которое ссылается Вулф,
описано в биографии Дж. Ньюнза, опубликованной в 1911 г.; издатель и владелец журналов,
основавший в 1881 г. журнал «Тит битс» («Tit-Bits», букв, лакомые кусочки), а в 1890 г., на
паях с У.Т. Стэдом, затеявший издание «Ревью оф ревьюз» («The Review of Reviews»). В этом
эпизоде видна заветная мысль Вулф о том, что «за каждым выдающимся человеком стоит
великая мать» («Своя комната», 1929).
13 ...такие личности, как Хейдон, Марк Пэттисон и преп. Бланко Уайт. - Хейдон
Бенджамин Роберт (1786-1846)- художник, автор картин на исторические темы, прославился,
впрочем, посмертно опубликованными автобиографией и дневниками («Autobiography and
Journals»), отрывки из которых были опубликованы Томом Тэйлором в 1853 г., а полностью
пятитомное издание вышло в 1960 и 1963 гг.; Пэттисон Марк (1813-1884) - сторонник
Ньюмена и Оксфордского движения, ректор Линкольн-колледжа в Оксфорде, известен как автор
классической биографии «Исаак Кейсобон, 1559-1614» («Isaac Casaubon, 1559-1614», 1875);
его семейная жизнь породила легенду о том, что Джордж Элиот использовала образы
Марка Пэттисона и его жены, леди Дилк, в качестве прототипов Кейсобона и Доротеи в романе
«Мидлмарч»; Уайт Джозеф Бланко (1775-1841)- католический священник, перешедший в
англиканскую церковь, был дружен с Ньюменом, Пьюзи, Фраудом; писал стихи - Колридж
объявил его сонет «Ночь и смерть» («Night and Death», 1828) лучшим английским сонетом.
14 Эджворт- Эджворт Ричард Лавл (1744-1817), богатый ирландский землевладелец,
литератор, отец писательницы Марии Эджворт (1768-1849), оказавший на свою дочь от
первого брака сильнейшее влияние: их совместный труд, трактат «Практическое образование»
(«Practical Education», 1798) написан под влиянием идей Ж.-Ж. Руссо. Другой совместный
труд отца и дочери - «Воспоминания» Р.Л. Эджворта («Memoirs of Richard Lovell Edgeworth...
begun by himself, and concluded by his Daughter, Maria Edgeworth», 1820).
15 ...приятель Байрона, друг Дэя... - Дэй Томас (1748-1789)- восторженный
последователь Руссо в вопросах воспитания, автор известных книг для детей «История Сэндфорда и
Мертона» («The History of Sandford and Merton», 1783-1789) и др.
16 ...однотомное издание трехтомных «Мемуаров миссис Пилкингтон». - Речь идет о
«Мемуарах миссис Летиции Пилкингтон...» («Memoirs of Mrs. Laetitia Pilkington, Wife to the
Rev. Matthew Pilkington, Written by Herself. Wherein are occasionally interspersed all her poems,
with anecdotes of several eminent persons living and dead»). Впервые мемуары были опублико-
Примечания
673
ваны в двух томах в 1748 г., в 1749 г. вышло второе, а в 1751 г. третье издание. Третий том
мемуаров был впервые опубликован в 1754 г. Здесь и далее цитаты из «Мемуаров» Л. Пилкин-
гтон приводятся в переводе по: Memoirs of Mrs. Laetitia Pilkington. L., 1928.
17 «Интересно, я почему-то думал, что ты потому упираешься, что у тебя чулки
дырявые ~ и хотел вывести тебя на чистую воду». - Ibid. Р. 410.
18 «Вот-те раз! - денежки-то улетели!» - Ibid. Р. 50.
19 ...цитирует «Гудибрас»... - «Гудибрас» («Hudibras», 1663) - сатирическая поэма Бат-
лера Сэмюэла (1613-1680), литератора, поэта, служившего секретарем в домах английской
знати; Батлера часто называли «Гудибрасом» - настолько прославил он себя своим
сочинением.
20 ...у нее на руках умер отец - дорогой батюшка... - Летиция Пилкингтон была дочерью
голландского акушера д-ра Ван Лёвена, осевшего в Дублине ок. 1710 г.; в 1729 г. она вышла
замуж за Метью Пилкингтона, проповедника и поэта.
21 «Приветствую тебя, мой Делвилл, мой приют отрадный!»; «Найдется ль где-то муле,
чей твердый и бесстрашный взгляд...» - Цитаты из стихотворений Л. Пилкингтон «На день
рождения Флавии, 16 мая: К мисс Хоудли» («Flavia's Birthday, May the 16th: To Miss Hoadley»);
«К Делвиллу, имению преп. д-ра Делани» («Delville, the Seat of the rev. Dr. Delany»); «Совет
жителям Дублина, выбирающим летописца» («Advice to the People of Dublin in Their Choice of
a Recorder») приводятся в переводе no: Memoirs of Mrs. Laetitia Pilkington. P. 93, 47-48, 91.
22 «Осторожно, милорд, за мной, пожалуйста» - Ibid. P. 184.
23 «Рассказала бы я вам, как умер, понося Всевышнего, ваш отец». - Ibid. Р. 184.
24 «Как я тоскую по сладкоголосым херувимам!» - Ibid. Р. 382.
25 ...домовладелицы упекли-таки ее за долги в Маршалси... - Маршалси - тюрьма в Са-
утарке. Саутарк (Southwark) - район на берегу Темзы, примыкающий к Лондону, со времен
Чосера известный злачными заведениями.
26 ...кроткой «домашней голубицей». - Цитата из «Мемуаров» Л. Пилкингтон
приводится в переводе по: Memoirs of Mrs. Laetitia Pilkington. P. 289.
27 «Ешь, дурочка, это яйцо ржанки, когда-то король Уильям платил крону за штуку...». -
Ibid. Р. 372.
ДЖЕЙН ОСТЕН
На русском языке публиковалось в переводе И. Бернштейн в: Вулф В. Избранное. М.,
1989. С. 507-517. В настоящем издании публикуется в переводе Н. Рейнгольд, выполненном
по: Woolf V. Jane Austen // The Common Reader. L., 1925. P. 168-183.
На английском языке эссе Вулф «Джейн Остен» было впервые опубликовано в
составе «Обыкновенного читателя». Впрочем, это не единственное эссе писательницы о жизни
и творчестве Джейн Остен: она посвятила ей эссе «Джейн Остен и гуси» («Jane Austen and
the Geese»), опубликованное в литературном приложении к «Тайме» в 1920 г., а также эссе
«Джейн Остен в шестьдесят» («Jane Austen at Sixty»), которое было опубликовано в «Нейшн
энд Атенеум» в 1923 г.
1 Джейн «вовсе не хороша собой и очень надменна ~ капризна и жеманна». - Здесь и
далее цитаты из книги «Джейн Остен: жизнеописание и переписка. Семейная хроника» («Jane
Austen. Her Life and Letters. A Family Record») У. и P.А. Остен-Лей приводятся в переводе по:
Austen-Leigh W., Austen-Leigh R. A. Jane Austen. Her Life and Letters. A Family Record. 2nd ed.
L., 1913. P. 58-59.
2 ...своими воспоминаниями делится миссис Митфорд. - Из письма миссис Митфорд,
матери писательницы Мери Митфорд, сэру Уильяму Элфорду от 3 апреля 1814 г. (Ibid.).
3 ...чистейшей воды «одинокая невинность»... - Слова «одинокая невинность»
заставляют вспомнить реплику Тезея из комедии Шекспира «Сон в летнюю ночь» (акт 1, сцена 1, стро-
1/2 22. Вирджиния Вулф
674
Приложения
ка 78): «Но роза, в благовонье растворясь, / Счастливей той, что на кусте невинном / Цветет,
живет, умрет - все одинокой». Цитата приводится по: Шекспир У. Сон в летнюю ночь / Пер.
Щепкиной-Куперник // Шекспир У. Собр. соч.: В 8 т. М., 1958. Т. 3. С. 135.
4 ...братья «души не чаяли в сестре и очень ею гордились ~ что полного сходства все равно
не добиться». - Цитата из «Воспоминаний о Джейн Остен» («A Memoir of Jane Austen», 1870)
Дж.Э. Остен-Лея, племянника писательницы, приводится в переводе по: Austen J. Persuasion,
with a memoir... / Ed. by D.W. Harding. L., 1965. P. 388. Цит. no: Woolf V. The Common Reader.
P. 255.
5 ...повесть под названием «Любовь и друшба»... - Раннее произведение Дж. Остен
«Любовь и друшба» («Love and Freindship») - вполне зрелое по художественному исполнению
(ошибка в заглавии умышленно допущена автором и воспроизводится при переиздании
произведения), наряду с тремя другими: «Историей Англии» («A History of England»), «Связкой
писем» («A Collection of Letters») и «Замком Лесли» («Lesley Castle») - представляет собой
пародию на «чувствительные» романы конца XVIII в. См.: Гениев Е.Ю. Обаяние простоты //
Остен Дж. Собр. соч.: В 3 т. М., 1988. Т. 1. С. 18.
6 «Несчастная страдалица, я умираю от горя, не вынеся потери Огастеса. ...только
прошу тебя - в обморок не падай - пощади!..» - Здесь и далее цитаты из «Любви и друшбы»
Дж. Остен приводятся в переводе по: Austen J. Love and Freindship // The Works of Jane Austen /
Ed. by R.W. Chapman. Oxford, 1954. Vol. VI. P. 102.
7 «Она представляла собой обыкновенную молодую женщину - в меру воспитанную,
милую, любезную ~ таких можно только презирать». - Ibid. Р. 100-101.
8... Джейн Остен дает, скажем, замечательную зарисовку разговора Леди Гревилл. -
Ibid. Р. 156-160.
9 «Героическая личность», - писала она о королеве Шотландии... - Цитата приведена из
«Истории Англии» Дж. Остен по: Austen J. The History of England // The Works of Jane Austen.
Vol. VI. P. 142.
10 «...В жизни у нее был один верный друг ~ м-р Уитекер, миссис Лефруа, миссис Найт
и я». -Ibid. Р. 145.
11 ...славословие герцогу Веллингтону... - Вулф имеет в виду воспоминания преп.
Патрика Бронте, отца сестер-писательниц, процитированные Элизабет Гаскелл (1810-1865) в ее
«Жизнеописании Шарлотты Бронте» («The Life of Charlotte Bronte», 1857): Gaskell E. The Life
of Charlotte Brontë. Harmondsworth, 1975. P. 93-94.
12 ...под прикрытием скрипевшей входной двери... - Опубликование «Воспоминаний о
Джейн Остен» («A Memoir of Jane Austen», 1870) племянника писательницы Дж.Э. Остен-Лея
прояснило некоторые обстоятельства творческого процесса Джейн Остен, в частности
отсутствия комфортных условий, возможности уединиться, робость перед посторонними («под
прикрытием скрипевшей входной двери») и т.д. Позднее Вулф использует обнародованные факты
в эссе «Своя комната» (1929) в качестве одного из доказательств, во-первых, трудных условий
и неравенства творческих возможностей, с которыми на протяжении столетий сталкивались
женщины и неимущие художники, а во-вторых, доказательства уникальности таланта Джейн
Остен, ее исключительной способности сосредоточиться на своем сочинении, поскольку
романы, писавшиеся урывками, в состоянии напряженного ожидания какой-нибудь внешней
помехи, тем не менее, не несут следов обрывочности или спешки.
13 ...рукопись этого романа... много лет пролежала без движения. - Роман Дж. Остен
«Гордость и предубеждение» («Pride and Prejudice»), опубликованный в 1813 г., был написан
в 1796-1797 гг.
14 «Уотсонов» не закончила... - Роман Дж. Остен «Уотсоны» («The Watsons») был
начат около 1804 г., отложен, как полагают, в 1805 г., в год смерти отца писательницы, и впервые
опубликован посмертно в 1871 г.
Примечания
675
15 «Чарльзу дали пару перчаток и строго сказали не снимать их, пока не закончится
бал». - Цитата из романа Остен «Уотсоны» приводится в переводе по: Austen J. The Watsons /
Ed. by A.B. Walkley. L., 1923. P. 46-47.
16 ...столкнуться с Мери... - Здесь у Вулф вкралась неточность: служанку Эдвардсов
зовут Нэнни, а не Мери.
17 ...они «ехали, без остановок до самого Нъюбери, где их ждал роскошный стол ~ так и
закончился этот хлопотный, полный радостных треволнений день». - Цитата из романа
Остен «Мэнсфилд-парк» («Mansfield Park», 1814) приводится по: Austen J. Mansfield Park: 2 vols.
Toronto, 1899. Vol. 2. P. 185.
18 «сюсюкающей над своим мопсом, который то и дело норовит испортить цветочную
клумбу». - Ibid. Р. 103.
19...любитель нежной гусятины «не перенес апоплексического удара, наступившего
вследствие трех обильнейших званых обедов в течение одной недели». - Ibid. Р. 453.
20 ...соблазняться «предложениями изменить свою писательскую манеру». - Цитата из
книги «Воспоминания о Джейн Остен» Дж.Э. Остен-Лея приводится по: Austen J. Persuasion,
with a memoir... P. 350-359.
21 ...несколько скупых фраз о «прозрачности ясного ночного неба и на его фоне черного,
как тень, леса» являют ночь «во всей ее красе, торжественности и покое». - Цитата из
романа Остен «Мэнсфилд-парк» приводится по: Austen J. Mansfield Park: 2 vols. Toronto, 1899.
Vol. l.P. 149.
22 ...ее последний законченный роман - «Доводы рассудка»... — Роман «Доводы рассудка»
(«Persuasion») был начат в 1815 г., опубликован посмертно в 1818 г.
23 ...тщеславие очередного сэра Уолтера или снобизм мисс Элиот.- Речь идет о
героях романа Дж. Остен «Доводы рассудка»: сэре Уолтере Эллиоте и его старшей дочери
Элизабет.
24 ...он категорично заявил, что это «самое прекрасное ее произведение». - Цитата, в
которой воспроизведено мнение Уильяма Уэвелла (1794-1866), из книги «Воспоминаний
о Джейн Остен» Дж.Э. Остен-Лея приводится в переводе по: Austen J. Persuasion, with a
memoir... P. 369.
15«В молодости она ™ неестественного хода вещей». - Цитата из романа Дж. Остен
«Доводы рассудка» приводится в переводе по: Austen J. Persuasion, with a memoir... P. 58.
26 «осенние месяцы в деревне действуют на душу умиротворяюще и печально». - Ibid.
Р. 61.
27 «рыжие листья и поникшие живые изгороди» - Ibid. Р. 107.
28 «Ты помнишь, как страдал, живя в этом доме, но любовь твоя к дому остается
прежней». - Ibid. Р. 193.
29 «...сомневаюсь, чтобы кто-то из выдающихся писателей так же долго оставался в
полной безвестности, как это случилось с ней». - Цитата из книги «Воспоминаний о Джейн
Остен» Дж.Э. Остен-Лея приводятся в переводе по: Austen J. Persuasion, with a memoir...
P. 348.
30«она только-только почувствовала уверенность в успехе». - Ibid. Р. 387.
СОВРЕМЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
На русском языке публиковалось в разных переводах: Писатели Англии о литературе.
М, 1981. С. 276-281; Называть вещи своими именами. М., 1986. С. 470-476. В настоящем
издании публикуется в переводе Н. Рейнгольд, выполненном по: Woolf V. Modern Fiction // The
Common Reader. L., 1925. P. 184-195.
Оригинал представляет собой основательно переработанную статью «Современные
романы» («Modern Novels»), опубликованную в литературном приложении к «Тайме» в 1919 г.
1/2 22*
676
Приложения
1 ...если посмотреть на это круговращение сверху, с какой-нибудь высокой точки
обзора... - Образ вершины, высокой точки обзора- один из осевых в прозе Вулф. Настоящий
критик, по ее мнению, тот, кто умеет подняться над суетой современности и дать
обобщенную и взвешенную оценку состояния литературы. Писатель тогда добивается
художественной полноты, с ее точки зрения, когда он «с вершины холма» может окинуть взором жизнь,
реальность, судьбу и проч. Сам этот образ - горы или холма, с которой открывается широкая
картина, и шире - подход к искусству - восходят через «Войну и мир» Л.Н. Толстого к Гете.
2 ...сердца наши отданы м-ру Гарди, м-ру Конраду и в значительно меньшей мере м-ру
Хадсону, автору «Багровой земли», «Зеленых усадеб» и «Давным-давно, далеко отсюда». -
«Багровая земля» («The Purple Land», 1885), «Зеленые усадьбы» («Green Mansions», 1904),
«Давным-давно, далеко отсюда» («Far Away and Long Ago», 1918) - романы Уильяма Генри
Хадсона (1841-1922), уроженца Буэнос-Айреса, осевшего в Лондоне в 1874 г., прозаика, а
также автора нескольких популярных книг по орнитологии.
3 ...против их масштабного, поражающего воображение своей массой и уймой
достоинств и недостатков творчества. - Возможно, это иронический комментарий Вулф по
поводу программной статьи Герберта Уэллса (1866-1946) «Масштаб романа» («The Scope of the
Novel», 1911).
4 ...автор «Повести о старых женщинах»... - Речь идет о романе Арнолда Беннета
(1867-1931) «Повесть о старых женщинах» («The Old Wives' Tale», 1908).
5 ...создавший Джорджа Кэннона, Эдвина Клейхенгера... - Джордж Кэннон - персонаж
романа А. Беннетта «Хильда Лессуэйз» («Hilda Lessways», 1911), Эдвин Клейхенгер - герой
романа Беннетта «Клейхенгер» («Clayhanger», 1910), представляющих собой первую и
вторую части беннетовской тетралогии о семейном клане Клейхенгеров: «Клейхенгер», «Хильда
Лессуэйз», «Эти двое» («These Twain», 1916) и «Перекличка» («The Roll-Call», 1918).
6 ...чтобы, уехав из своей цитадели в Пяти Городах, сесть в вагон первого класса... -
Здесь Вулф иронически намекает на роман Беннета «Анна из Пяти Городов» («Anna of the
Five Towns», 1902), в котором писатель воссоздал родные места своей молодости, известные
как «Поттериз» («Potteries»), букв, гончарни, в Хенли, графстве Стаффорд.
7 ...ходульные Джоаны и Питеры... - Здесь Вулф повторяет собственную отрицательную
оценку романа Г. Уэллса «Джоан и Питер» («Joan and Peter», 1918), который
отрецензировала в эссе «Права юности» («The Rights of Youth»), опубликованном в приложении к «Тайме»
в 1918 г.
8 ...доказать достоверность и жизнеподобиерассказанной тобой истории, - это не
просто мартышкин труд... - Возможно, это заявление Вулф - ее выпад против установки в
романах писателей-«импрессионистов»: Форда М. Форда (1873-1939), позднего Джозефа Конрада
(1857 - 1924) и др. на создание достоверной истории, рассказанной от первого лица.
9 ...очередной прожитый понедельник ли, вторник... - Здесь Вулф вольно или невольно
вспоминает свой рассказ «Понедельник ли, вторник» («Monday or Tuesday»), давший
название сборнику рассказов, опубликованному в 1921 г.
10 Жизнь... лучащийся ореол, матово-прозрачное облако, окутывающее нас с первой
искры сознания до конца. - Ключевой у Вулф образ ореола имеет сложный генезис: он связан и с
представлением У. Джеймса об «ореоле сознания», о «текучей воде сознания», высказанном в
его лекциях «Основы психологии», и явно сплетается с библейским образом облака как
символа преображения господня.
11 Такой вывод напрашивается у всякого, кто читал «Портрет художника в юности»... -
Роман Джеймса Джойса «Портрет художника в юности» («The Portrait of an Artist as a Young
Man») был первоначально опубликован в журнале «Эгоист» в 1914-1915 гг.
12 «...Улисса»... отрывок из которого недавно появился в «Литлревью». - Нью-йоркский
журнал «Литл ревью» (Little Review) опубликовал в марте 1918 г. - декабре 1920 г. первые 13
(включая частично и 14) эпизодов романа Джойса «Улисс» («Ulysses», 1922). В записных
книжках Вулф сохранились комментарии к роману, которые она делала с марта по октябрь 1918г.
Примечания
677
13 ...«Улисс», тем не менее, не идет в сравнение ни с «Юностью»... - Под «Юностью»
Вулф имеет в виду ранний роман Дж. Конрада «Юность» («Youth», 1902).
14 ...с «Мэром Кэстербриджа»... - Имеется в виду роман Томаса Гарди (1840-1928) «Мэр
Кэстербриджа» («The Mayor of Casterbridge», 1886).
15 ...перечитать после этого «Тристрама Шенди»... - Вулф советует перечитать «Жизнь
и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» («The Life and Opinions of Tristram Shandy the
Gentleman», 1759-1767), роман Лоренса Стерна (1713-1768), построенный на намеренных
нарушениях литературных условностей.
16 ...или «Пенденниса»... - Вулф говорит о романе Уильяма Теккерея (1811-1863)
«История Пенденниса» («The History of Pendennis», 1848-1850).
17 ...случай, описанный Чеховым в рассказе «Гусев». - Рассказ А.П. Чехова «Гусев» был
впервые напечатан в газете «Новое время» в 1890 г. На английском языке он был
опубликован в переводе Констанс Гарнет в сборнике « "Ведьма" и другие рассказы» (« 'The Witch' and
Other Stories», 1918).
18 «...сумей почувствовать себя близким людям ~ а сердцем, любовью к ним...». - Цитата
из рассказа Е.М. Милицыной «Идеалист» (впервые опубликован в издании: Милицына Е.
Рассказы: В 3 т. М., 1910-1913) приводится по: Милицына Е. Рассказы. СПб., 1920. Т. 1. С. 317.
На английском языке рассказ Милицыной был опубликован в составе сборника «"Сельский
священник" и другие рассказы» («"The Village Priest" and Other Stories») в 1918 г.
«ДЖЕЙН ЭЙР» И «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ»
На русском языке публиковалось в издании: Вулф В. Избранное. М., 1989. С. 501-506.
В настоящем издании публикуется в переводе Н. Рейнгольд, выполненном по: Woolf V. «Jane
Eyre» and «Wuthering Heights» // The Common Reader. L., 1925. P. 196-204.
На английском языке данное эссе было впервые опубликовано в «Обыкновенном
читателе» 1925 г. При написании его Вулф использовала свое раннее эссе «Шарлотта Бронте»
(«Charlotte Bronte», 1916).
1 ...прожила она- ныне легендарная личность, предмет поклонения, законодательница
литературы, всего тридцать девять. - Бронте Шарлотта (1816-1855) - выдающаяся
английская писательница, автор романов «Учитель» («The Professor», 1846), «Джейн Эйр» («Jane
Eyre», 1847), «Шерли» («Shirley», 1849), «Городок» («Villete», 1853) и других произведений:
«Стихотворения Каррера, Эллиса и Актона Белов» («Poems by Currer, Ellis and Acton Bell»,
1846), фрагмент «Эмма» («Emma», 1860).
2 ...подобно некоторым своим знаменитым современникам... - Возможно, Вулф имеет
в виду Чарльза Диккенса (1812-1870), Уильяма Теккерея (1811-1863), Альфреда Теннисона
(1809-1892)и др.
3 «Справа вид закрывали алые складки портьеры ~ порывы ветра хлестали струями
нескончаемого дождя». - Здесь и далее цитаты из романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» приводятся
в переводе по: Brontë Ch. Jane Eyre. L.; N.Y., 1992. P. 2.
4 «белые ковры, с гирляндами цветов», камин «бледного паросского мрамора»,
уставленный богемским «рубиновым» стеклом, «вся эта смесь огня и снега». - Ibid. Р. 99.
5 ...читаем мы «Джуда незаметного»... - Речь идет о романе Томаса Гарди «Джуд
незаметный» («Jude the Obscure», 1896).
6 «Мне всегда с трудом давалось общение с умными ^ их жарких гостеприимных
сердец». - Цитата из романа Ш. Бронте «Джейн Эйр» приводится в переводе по: Bronte Ch. Jane
Eyre. P. 376.
7 .. .свой лучший роман «Городок»... - См. примеч. 1.
8 «Черное, набрякшее небо висело низко - точно парус под ветром, и тучи принимали
причудливые формы» - Цитата из романа Ш. Бронте «Городок» приводится в переводе по:
22. Вирджиния Вулф
678
Приложения
Brontë Ch. Villette // Life and Works of the sisters Bell / with the Preface by Mrs. H. Ward: 7 vols.
N.Y.;L., 1899. Vol. III. P. 593.
9 «Если погибнет всё, но он останется, жизнь моя не прекратится; ~ и мне нечего
будет в ней делать».- Цитата из романа Эмили Бронте (1818-1848) «Грозовой перевал»
(«Wuthering Heights», 1847) приводятся в переводе по: Brontë Е. Wuthering Heights / Introd. by
J.S. Whitley. Hertfordshire, 2000. P. 59.
10 « Я вижу покой ^ а радость - в своей полноте». - Ibid. P. 120.
ДЖОРДЖ ЭЛИОТ
Впервые опубликовано в журнале «Вопросы литературы»: Вулф В. Джордж Элиот.
Романы Томаса Гарди / Пер. и примеч. Н. Рейнгольд // Вопр. лит. 2010. № 4. С. 228-243. Перевод
выполнен по: Woolf V. George Eliot // The Common Reader. L., 1925. P. 205-218.
На английском языке эссе было впервые опубликовано под тем же названием в
литературном приложении к «Тайме» в 1919 г. к столетней годовщине со дня рождения Джордж
Элиот (псевдоним Мери Энн - позднее Мэриан Эванс, 1819-1880).
1 ...кто-то связывает последнюю с появлением ее «Жизнеописания». - Видимо, речь идет
о следующей биографии Дж. Элиот: George Eliot's Life. As Related in Her Letters and Journals:
3 vols / Arranged and Edited by Her Husband J.W. Cross. Edinburgh; London, 1884. В эссе Вулф
цитирует издание 1886 г.
2 ...Джордж Мередит... неосторожной репликой о появлении на публике «живчика
антрепренера» и «странницы, сбившейся с пути»... - Цитата из письма Джорджа Мередита
Лесли Стивену от 18 августа 1902 г. приводится в переводе по: Letters of George Meredith / Ed. by
W.M. Meredith. N. Y., 1912.
3 ...лорд Эктон отозвался о Джордж: Элиот как о современном Данте... а Герберт
Спенсер, потребовавший убрать из Лондонской библиотеки всю беллетристику, ... сделал
исключение только для ее романов...- Д.Э.Э.Д. Эктон (1834-1902)- английский историк.
Ср. упомянутое Вулф высказывание Эктона о Дж. Элиот: «Но стоит мне только заговорить о
Шекспире, как я моментально вспоминаю о событии, случившемся в прошлую среду (смерти
Джордж Элиот. - Н.Р.), и меня охватывает чувство, что солнце наше закатилось. Вы не
можете себе представить, скольким я ей обязан. Я знаю, что из тех восемнадцати или двадцати
писателей, которые оказали на меня влияние, ее воздействие было определяющим... Ни один
из писателей прошлого не сравнится с нею по силе многообразного, бескорыстного и чуткого
сопереживания. Живи Софокл или Сервантес в наш просвещенный век, благоденствуй,
подобно Манцони, Данте, все они нашли бы своего соперника в лице Джордж Элиот» (Letters of
Lord Acton to Mary, Daughter of the Right Hon. W. Gladstone / Ed. with an Introductory Memoir
by Herbert W. Paul. L., 1904. P. 57).
Спенсер Герберт (1820-1903)- основатель эволюционной теории в философии,
автор трактатов «Основные принципы» («First Principles», 1862), «Принципы социологии»
(«Principles of Sociology», 1876-1896), «Принципы этики» (Principles of Ethics, 1873-1893);
был дружен с Джордж Элиот, с которой познакомился в 1851 г.; был членом лондонского
библиотечного комитета; известно, что Спенсер противился приобретению библиотеками
современных романов, но запрещать беллетристику, разумеется, был не вправе - Вулф явно
преувеличивает.
4 «...грузная, дородная сивилла ~ огромным страусовым пером». - Цитата из статьи
Э. Госса «Джордж Элиот» приводится в переводе по: Gosse Е. George Eliot // London Mercury.
1919. November.
Примечания
679
5«Она сидела у камина, ~ доверительности не было». - Цитата из президентского
обращения леди Ричи к ежегодному собранию Английской ассоциации от 10 января 1913 г.
приводится в переводе по: Lady Ritchie. A Discourse of Modern Sibyls // From the Porch. L., 1913.
6 ...пользуясь тем, что она работает помощником редактора в одном
высокоинтеллектуальном лондонском издании... - Мэриан Эванс работала в 1851-1853 гг. помощником
редактора «Вестминстер ревью» («Westminster Review»).
7 ...к тому времени семья их, заняв более респектабельное положение в табели о рангах
среднего класса, уехала из эюивописной сельской местности. - Отец Джордж Элиот Роберт
Эванс, сын строителя и плотника, стал агентом по недвижимости в графствах Дерби и Уор-
рик.
8 В печальном автобиографическом очерке, который она позднее напишет по настоянию
м-ра Кросса.... - Дж.У. Кросс- муж писательницы, составитель биографии Дж. Элиот. См.
примеч. 1.
9 ...ей прочили «судьбу хозяйки дамских пошивочных мастерских»... - Цитата приводится
в переводе по: George Eliot's Life... P. 27.
10 ...она взялась за перевод Штрауса... - Штраус Дэвид Фридрих (1808-1874), немецкий
критик, теолог, автор «Жизни Иисуса» (1835-1836), оказавший огромное влияние на всю
религиозную мысль XIX в. Мэриан Эванс сменила в 1844 г. мисс Брабант в должности
переводчицы «Жизни Иисуса» Штрауса.
11 «Я ходила по дому крадучись, как сова, - моего брата это просто бесило». - Цитата
приводится в переводе по: George Eliot's Life... Vol. 1. P. 127.
12 «Бедняжка, ~ беспокойством о больном отце». - Ibid. P. 139. Из письма Кэролин Брэй
Саре Хеннел от 14 февраля 1846 г.
13 ...вдвоем с Джорджем Генри Льюисом она отправилась в Веймар. - Льюис Джордж
Генри (1817-1878), плодовитый литератор, автор пьес, эссе, популярной истории философии;
его гражданский брак с Джордж Элиот начался в 1854 г., но он так и не смог добиться развода
со своей женой Агнесс, с которой расстался еще до встречи с Дж. Элиот.
14 ...она сначала написала «Сцены из клерикальной жизни», а не «Миддлмарч»... - Цикл
из трех повестей («Печальная судьба преподобного Амоса Бартона», «История любви м-ра
Гилфила» и «Раскаяние Дженет») был опубликован в «Блэквудз мэгэзин» в 1857 г. под
общим названием «Сцены из клерикальной жизни» («Scenes of Clerical Life»), а роман
«Миддлмарч: картины провинциальной жизни» («Middlemarch, A Study of Provincial Life») - в 1871-
1872 гг.
15 «Яхочу быть правильно понятой... -я никого к себе не приглашаю, кроме тех, кто сам
пожелал прийти». - Цитата из письма Джордж Элиот к Кэролин Брэй от 5 июня 1857 г.
приводится в переводе по: George Eliot's Life. Vol. 1. P. 329.
16 ...me первые ее книги: «Сцены из клерикальной жизни», «Адам Вид», «Мельница на
Флоссе»! - Роман «Адам Бид» был опубликован в 1859 г., «Мельница на Флоссе» - в 1860-м.
Уже первая публикация привлекла к себе внимание и породила догадки о личности автора,
скрывавшегося под псевдонимом Джордж Элиот.
17 довериться, без долгих размышлений, стихии воспоминаний о земляках-миддленд-
цах... - Миддленд- центральная часть Англии к северу от Лондона между Ноттингемом и
Йорком.
18 ее личность... в образе Дины... Мэгги... Дженет, она же Ромола... Доротея...
обретающая лишь ей одной ведомое счастье в браке с Ладиславом. - Дина - героиня романа «Адам
Бид» (1859); Мэгги Талливер - героиня романа «Мельница на Флоссе» (1860); Ромола-
героиня одноименного романа (1863); Доротея Брук и Уилл Ладислав - герои романа
«Миддлмарч».
19 «Представители добропорядочного общества пьют кларет ~ Зачем же приличному
обществу вера и принципы?» - Цитата из романа Джордж Элиот «Мельница на Флоссе»
приводится в переводе по: Eliot G. The Mill on the Floss. New York; Boston, 1900. P. 268.
22*
680
Приложения
20 «"С кем вы пойдете танцевать?"- спросил мистер Найтли... "С вами, - отвечала
Эмма, - если вы меня пригласите "». - Цитата из романа Джейн Остен «Эмма» приводится в
переводе М. Кан по: Остен Д. Эмма // Собр. соч.: В 3 т. М., 1989. Т. 3. С. 294.
21 «Помню, как я истово молилась, а сейчас у меня и молитв не осталось. Я стараюсь
ни о чем не мечтать, если только эти желания связаны со мной одной...» - Цитата из
романа Джордж Элиот «Миддлмарч» приводится в переводе по: Eliot G. Middlemarch: A Study of
Provincial Life: 2 vols. Boston, 1887. Vol. I. P. 408.
22 ...а сама при этом тянется «душой, изголодавшейся и тонко чувствующей» ... -
Цитата из письма Дж. Элиот к миссис Ричард Конгрив от 2 декабря 1870 г. приводится в переводе
по: George Eliot's Life. Vol. 3. P. 90.
РУССКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ
На русском языке публиковалось в: Писатели Англии о литературе. М., 1981. С. 282-288.
В настоящем издании публикуется в новом переводе Н. Рейнгольд, выполненном по: Woolf V.
The Russian Point of View // The Common Reader. L., 1925. P. 219 - 231.
На английском языке эссе впервые опубликовано в 1925 г. в «Обыкновенном читателе».
1 ...под конец жизни даже становились законными подданными короля Георга. - Речь
идет о короле Георге V (1865-1936), правившем Британской империей с 1910 г. до своей
смерти в 1936 г. Поколение английских писателей 1910-1920-х годов называло себя «георгианца-
ми», по известной привычке отождествлять периоды в истории литературы с периодами
правления того или иного монарха.
2 ...ведь из них только один, в лучшем случае, два человека читали по-русски. - Трудно
сказать, кого именно имеет в виду Вулф: возможно, переводчицу Констанс Гарнет (1862 —
1946) или кембриджского ученого, специалиста по древнегреческому языку Джейн Эллен
Хэррисон (1850-1928).
3 «сумей почувствовать себя близким людям... Но почувствуй это не умом... а сердцем,
любовью к ним...» - См. примеч. 18 к эссе «Современная литература» на с. 677 наст. изд.
4 У м-ра Голсуорси есть рассказ ^~> {оба они бедствуют). - Речь идет о рассказе Дж. Гол-
суорси «Первый и последний» («The First and the Last», 1914). См. примеч. 1 к эссе «Русский
взгляд» на с. 750 наст. изд.
5 Верно заметил д-р Хэгберг Райт - «глубокая грусть» живет в русском народе, она-то
и питает их литературу. - Райт Чарлз Хэгберг (1862-1940), специалист по русской
литературе, секретарь и сотрудник Лондонской библиотеки. Цитата из предисловия Ч.Х. Райта к
английскому переводу рассказов Е. Милицыной и М. Салтыкова-Щедрина приводится в переводе
по: Militsina Е., Saltikov M. «The Village Priest» and other Stories. L., 1918.
6 «"Как? Как?"- спрашивал он, хватая себя за голову ~ и тогда начнется новая,
прекрасная жизнь». - Цитата из рассказа А.П. Чехова «Дама с собачкой» (1899) приводится по:
Чехов АЛ. Собр. соч.: В 12 т. М., 1961. Т. 8. С. 410.
7 «На кого он сердился? На людей, на нужду, на осенние ночи?» - Цитата из рассказа А.П.
Чехова «Почта» (1887) приводится по: Чехов А.П. Собр. соч.: В 12 т. М., 1955. Т. 5. С. 353.
8 «...у родителей наших был бы немыслим такой разговор, как вот у нас теперь; ^ все
решаем, правы мы или нет». - Цитата из рассказа А.П. Чехова «Случай из практики» (1898)
приводится по: Чехов А.П. Собр. соч. Т. 8. С. 349.
9 «...вы... и в чинах рукой до вас не достанешь, но, голубчик, у вас душа не настоящая...
Силы в ней нет...» - Цитата из рассказа А.П. Чехова «Жена» (1892) приводится по: Чехов А.П.
Собр. соч. Т. 7. С. 46.
10 ...русские генералы, гувернеры, падчерицы... - Очевидно, Вулф имеет в виду героев
романов Ф.М. Достоевского «Игрок», «Идиот» и др.
11 ...у Полины вышла какая-то история с маркизом Де-Грие... - Вулф имеет в виду одну
из сюжетных линий романа Ф.М. Достоевского «Игрок» (1866).
Примечания
681
12 Ему все равно - из благородных ты или из простых, бродяга или великосветская
дама. - Здесь Вулф почти слово в слово цитирует свое эссе «Больше Достоевского» (1917).
См. с. 396-398 наст. изд.
13 ...история об отставном чиновнике... о почтальоне, прачке, о княжнах, снимающих
квартиру в этом же доме...- Очевидно, Вулф обобщает несколько эпизодов из романов
Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», «Идиот», «Игрок».
14 Кажется, он подмечает абсолютно все ™ всю ненасытную жажду жизни и
бешеное желание, с какими открывает для себя мир физически сильный молодой человек. - Здесь
Вулф воспроизводит, с незначительными изменениями свое эссе «Казаки» Толстого» (1917).
См. с. 393-395 наст. изд.
15.. .внешние их повадки - как человек откашливается... - Возможно, здесь Вулф
вспоминает Позднышева из «Крейцеровой сонаты»: «...он изредка издавал странные звуки, похожие
на откашливанье...» (Толстой Л.Н. Собр. соч.: В 20 т. М., 1961. Т. 12. С. 133).
16 «Вдруг что-то странное случилось со мной; ~ которые производил во мне этот
взгляд...» - Цитата из «Семейного счастья» (1859) Л.Н. Толстого приводится по: Толстой Л.Н.
Собр. соч. В 20 т. Т. 3. С. 114.
СИЛУЭТЫ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Outlines: I. Miss
Mitford. II. Dr. Bentley. III. Lady Dorothy Nevill. IV. Archbishop Thomson // The Common Reader.
L., 1925. P. 232-260.
На английском языке эссе «Леди Дороти Невилл», включенное в состав «Силуэтов»,
было впервые опубликовано в «Атенеуме» в 1919 г. под названием «В клетке» («Behind the
Bars»). Эссе «Архиепископ Томсон» было опубликовано под названием «Душа архиепископа»
(«The Soul of an Archbishop») в «Атенеуме» в 1919 г. Остальные два эссе «Мисс Митфорд» и
«Д-р Бентли» были впервые опубликованы в 1925 г. в «Обыкновенном читателе».
/. Мисс Митфорд
1 ...книга «Мери Рассел Митфорд и ее эпоха»... - Речь идет о книге Констанс Хилл «Мери
Рассел Митфорд и ее эпоха» («Mary Russell Mitford and Her Surroundings»). О Мери Митфорд
(1787-1855) - английской поэтессе, драматурге, которая прославилась как автор очерков и
рассказов «Наша деревня» («Our Village», 1832) о жизни местечка Три-Майл-Кросс неподалеку от
Рединга, Вулф писала трижды: в эссе «Несовершенная леди» («An Imperfect Lady»),
опубликованном в литературном приложении к «Тайме» в 1920 г.; в эссе «Хорошая дочь» («A Good
Daughter»), напечатанном в «Дейли Херальд» («Daily Herald») в 1920 г., и в эссе «Неправильный
способ чтения» («The Wrong Way of Reading»), опубликованном в «Атенеуме» в 1920 г.
2 «Элресфорд оказался местом рождения той, что любила природу ~ цветущими
лугами "». - Цитата из книги К. Хилл «Мери Рассел Митфорд и ее эпоха» приводится в переводе
по: Hill С. Mary Russell Mitford and Her Surroundings. L., 1920.
3 ...у Кавентри Пэтмора. - Пэтмор Кавентри Керзи Дайтон (1823-1896) - викторианский
поэт, автор известного цикла стихов «Домашний ангел» («The Angel in the House», 1854-1863);
образ «домашнего ангела» стал предметом пародии у Вулф и писательниц ее поколения.
4 ...дистанция огромного размера. То же самое- между «Лирическими балладами»,
опубликованными в 1798 году, и «Нашей деревней», появившейся в 1824-м. - Полное
название первого памятника «Лирические баллады и несколько других стихотворений» («Lyrical
Ballads with a Few Other Poems», 1798): это программное произведение английского
романтизма, созданное У. Вордсвортом и С. Колриджем; в него вошли «Сказание о старом мореходе»
(«The Rime of the Ancient Mariner») Колриджа, его же «Соловей» («The Nightingale»),
«Темница» («This Lime Tree Bower My Prison») и некоторые другие произведения, а также баллады и
682
Приложения
стихотворения Вордсворта - «Терн» («The Thorn»), «Слабоумный мальчик» («The Idiot Boy»),
«Строки, написанные раннею весной» («Lines Written in Early Spring») и «Строки,
написанные на расстоянии нескольких миль от Тинтернского аббатства» («Lines Written a Few Miles
Above Tintern Abbey»). Второе произведение, упомянутое Вулф, - произведение Мери Мит-
форд «Наша деревня: зарисовки сельской жизни, сельчан и природы» («Our Village: Sketches
of Rural Life, Character and Scenery», 1832).
5 ...Мери Митфорд занималась поиском окаменелостей в Лайм-Риджисе... - Лайм-Рид-
жис - курортное местечко на южном берегу Англии, известное окаменелостями и так
называемым Коббом (the Cobbe), молом, каменной грядой, выходящей на 500-700 м в открытое море.
6 ...он, недолго думая, предложил ей поехать с ним в Пинни... - Пинни - живописное
местечко неподалеку от Лайм-Риджиса, упомянутое в романе Джейн Остен «Доводы рассудка».
7 Училась она, конечно, в одной школе с Джейн Остен и миссис Шервуд... - Шервуд Мери
Марта (1775-1851), автор многочисленных книг для детей, самая известная из которых -
«История семейства Фэрчайлд» («The History of the Fairchild Family», 1818-1847).
8 Кобб - см. примеч. 5.
77. Д-р Бентли
9 ...нам случается бродить на досуге по зеленым лужайкам и внутренним галереям
знаменитого университета... - Вулф имеет в виду Кембридж, где преподавал Ричард Бентли
(1662-1742), ученый-классик.
10 ...в свое время безраздельно властвовал д-р Бентли... - Среди сочинений Р.
Бентли «Письмо к Миллу» («Letter to Mill», 1691), написанное по-латыни и содержащее
критический анализ древнегреческой драмы; «О глупости и неразумии атеизма» («The Folly and
Unreasonableness of Atheism», 1693) - так называемые лекции Бойля, и др. В 1699 г. ученый
получил должность ректора Тринити-колледжа в Кембридже. Бентли считается последним
выдающимся английским ученым-классиком, после которого латынь и древнегреческий
стали преподавать раздельно.
11 ...недостаток образования не позволяет... - Вулф имеет в виду тех, кто не получил
классического университетского образования: женщин, малоимущих и себя, в частности, так
что в подтексте скрыты критика Вулф социального и материального неравенства, а также ее
скептическая оценка системы образования, основанной на неравенстве.
12 . ..цветут амаранты и растет в изобилии моли... - Амарант - растение с
ярко-красными или пурпурными цветами - у древних греков считался символом бессмертия; моли -
мифическая волшебная трава, которую, по легенде, Гермес дал Одиссею, чтобы тот уберегся от
чар Кирки.
13 ...например «Жизнь д-ра Бентли» епископа Манка. - Речь идет о «Жизнеописании д-ра
Бентли» («The Life of Richard Bentley... with an Account of His Writings, and Anecdotes of Many
Distinguished Characters During the Period in which He Flourished», 1830) Джеймса Генри
Манка (1784-1856), епископа Глостера.
14 ...под сенью Гомера, Горация и Манилия... - Манилий (I в. до н.э. - I в. н.э.), автор
латинской дидактической астрологической поэмы «Астрономика» («Astronomica») в 5
книгах, посвященной императору Тиберию. Произведение включает описание неба, объясняет
основные астрологические понятия, рассказывает среди прочего о гороскопах,
зависимости человеческой жизни от знаков Зодиака и астрологической географии. Манилий был при
этом хорошим поэтом, хорошо знавшим Лукреция, Вергилия и Овидия. О Манилии писал
М.Л. Гаспаров: «"Если для вас Эсхил дороже Манилия, вы - не настоящий филолог", -
говорил А.С. Хаусмен, английский поэт и сам филолог, больше всего любивший Эсхила, но
жизнь посвятивший именно всеми забытому Манилию» {Гаспаров М.Л. Записки и выписки.
М., 2000. С. 308).
15 ...он великолепно проявил себя в острейшей полемике, развернувшейся вокруг писем
Фалариса... - «Письма Фалариса» приписываются Фаларису, тирану Акраганта в Сицилии
Примечания
683
(VI в. до н.э.). Впервые были изданы Чарлзом Бойлем (1676-1731) в 1695 г.; Ричард Бентли
доказал, однако, что письма апокрифические и относятся скорей всего ко II в. н.э. Отголоски
той полемики содержатся в памфлете Дж. Свифта «Битва книг» («The Battle of the Books»,
1697, опубл. 1704).
16 ...Бентли удалось поправить фрагмент поэмы Каллимаха... - Каллимах (ок. 310 —
ок. 246 до н.э.) - эллинистический поэт, ученый, работавший в Александрийской библиотеке.
Большая часть его наследия была утрачена в XIII в., сохранились только 6 гимнов, 60
эпиграмм и несколько отрывков. До XVII в. Каллимаха мало читали; реминисценции из него
можно найти позднее у А. Теннисона в драматическом монологе «Тиресий» («Tiresius», 1885) и у
Р. Бриджеса в «Прометее, дарующем огонь» («Prometheus the Firegiver», 1883).
17 ...в окружении друзей, которые могли часами слушать его теорию дигаммы... -
Дигамма - шестая буква древнегреческого алфавита (букв, «двойная гамма») исчезла раньше
всего (к началу классического периода, VI-V вв. до н.э.) в Аттике (ионийский диалект), но
еще сохранялась в дорийском и беотийском диалектах; обозначала лабиализованный звук;
наличием дигаммы предлагалось объяснять некоторые спорные вопросы в критике гомеровских
текстов (например, отсутствие в некоторых случаях элизии в гекзаметре у Гомера).
18 «Et tunc magna mei sut terris ibit imago» - «И вот теперь моя величественная тень
пойдет под землей» {Вергилий. Энеида, IV, 654); в общепринятом переводе С. Ошерова: «В
царство подземное я нисхожу величавою тенью» {лат.).
19 ...Бентли замахнулся на «Потерянныйрай»... - Имеется в виду поэма Джона Милтона
(1608-1674) «Потерянный рай» («Paradise Lost», 1667), едва ли не самая значительная
эпическая поэма в английской литературе XVII в.
III. Леди Дороти Невил
20 ...в настоящем томе ничего не говорится о матери леди Невил... - Под словами
«настоящий том» Вулф имеет в виду книгу Ральфа Невила «Жизнь и письма леди Дороти Невил»
(«The Life and Letters of Lady Dorothy Nevill», 1919).
21 ...читали Боссюэ... - Боссюэ Жак Бенинь (1627-1704)- французский писатель,
церковнослужитель, автор сочинений на исторические и политические темы «Рассуждение о
всеобщей истории» (1681), «Политика, извлеченная из священного писания» (1709, посмертно),
позднее подвергшиеся резкой критике со стороны просветителей середины XVIII в. за
редкостный консерватизм.
22 Даун - место проживания Чарлза Дарвина (1809-1882).
23 ...Музей Виктории и Альберта. - Музей искусств в Лондоне, основан королевой
Викторией (1819-1901) в честь ее покойного супруга, принца Альберта. Музей представляет
собой собрание гипсовых слепков с произведений мировой скульптуры; произведений
живописи, графики, пластики и т.д.
IV. Архиепископ Томсон
24 Густав III- король Швеции Густав III (1746-1792) правил страной с 1771 по 1792 г.;
был убит в результате дворцового заговора.
25 .. .зарекомендовал себя отличным гребцом. - Вулф, очевидно, указывает на
традиционное соперничество между студентами Оксфорда и Кембриджа в состязаниях по спортивной
гребле.
26 Кузен - французский философ Кузен Виктор (1792-1867).
27 ...он из епископов переходит в архиепископы и автоматически становится приматом
Англии... - Должность примата Англии, или архиепископа Йорка, уступает лишь должности
примата всей Англии (Primate of all England), означающей пост архиепископа Кентерберий-
ского, главы англиканской церкви.
28 Чартерхауз - лондонская богадельня на территории картезианского монастыря, там же
находится и привилегированное учебное заведение.
684
Приложения
29 Пребендарии - церковные земли и налоговые сборы.
30 ...нужно было что-то делать с семью коровами... - Здесь содержится аллюзия на
библейскую притчу об Иосифе Прекрасном и сне фараона о семи тучных коровах (Бытие, 41 : 2).
Образ семи тучных коров стал символом периода благополучия и процветания.
31 ...он «обратит острое копье» присущей ему «здоровой логики против софистики»
авторов «Очерков и рецензий»... - «Очерки и рецензии» («Essays and Reviews», 1860) -
сборник эссе на религиозные темы, написанных с позиций так называемой Свободной церкви,
получившей распространение в Англии во второй половине XIX в., сторонники которой
держались широкой и либеральной трактовки христианских догматов. В круг авторов входили
преп. Х.Б. Уилсон, М. Пэттисон, Фр. Темпл и др. Книга подверглась осуждению
епископальной англиканской церкви в 1861 г., а в 1864 г. была осуждена и синодом.
32 Фенианизмы - фенианизм (от ирл. Fenian) - Ирландская лига, борющаяся за победу
революции в Ирландии и освобождение ее от власти английского правительства. Слово
происходит от древнеирландского «féne» - название древнего ирландского народа.
33 Ритуалисты - приверженцы строжайшего соблюдения мельчайших деталей церковной
службы.
ПОКРОВИТЕЛЬ И ПОДСНЕЖНИК
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Patron and the
Crocus // The Common Reader. L., 1925. P. 261-266.
На английском языке это эссе Вулф было впервые напечатано в «Нейшн энд Атенеум» в
1924 г.
1 ...книжный лоточник с Граб-стрит. - Согласно Сэмюэлу Джонсону, лондонская Граб-
стрит (Grub Street) первоначально представляла собой название улицы неподалеку от Мур-
филдс и была заселена писательской братией - хроникерами и рифмоплетами. Отсюда и
пошло название литературной продукции низкого качества - grubstreet. Название же самой улицы
изменилось в XIX в. - теперь она Милтон-стрит. В современном английском языке слово
«Граб-стрит» приобрело переносное значение: «литературная поденщина».
2 ...великие викторианцы все как один бросились писать для журналов по подписке... -
Система распространения журналов по подписке через систему библиотек оформилась в
Англии в середине XIX в.; она получила название «Мудиз» (Moodie's) по имени своего создателя.
3 ...прежде чем броситься к письменному столу, пылая восторгом по поводу первого
проклюнувшегося в Кенсингтон-гарденс подснежника... - Образ подснежника- раннего
весеннего цветка - встречается у Вирджинии Вулф в обобщенном значении творческого порыва,
первого хрупкого и оттого особенно ценного замысла художника, с очевидными
коннотациями особой атмосферы, поэтического ореола, которые, собственно, и составляют смысл
литературного творчества. Возможный источник образа подснежника неожиданно
подсказывает эссе «Как читать книги?» («How Should One Read a Book?»), завершающее вторую серию
«Обыкновенного читателя» в настоящем издании: это стихотворение Э. Джоунза «Когда мир
в огне». См. примеч. 13 на с. 742 наст. изд.
4 ...судя по произведениям Сэмюэла Батлера... - Батлер Сэмюэл (1835-1902)- автор
антиутопии «Едгин» («Erewhon», 1872); полемического сочинения «Справедливые небеса»
(«The Fair Haven», 1873), содержащего критику христианской идеи воскресения, и многих
других произведений.
5 Джордж Мередит - Мередит Джордж (1828-1909) - английский поэт и романист.
6 Генри Джеймс - Джеймс Генри (1843-1916), американец по происхождению, осел в
Европе в 1875 г., большую часть жизни прожил в Англии. В число «американских»
романов Джеймса входят «Родрик Хадсон» («Roderick Hudson», 1876), «Дейзи Миллер» («Daisy
Miller», 1879), «Женский портрет» («Portrait of a Lady», 1881) и др. Романы об английской
жизни включают «Трагическую музу» («The Tragic Muse», 1890) и др. Джеймс - мастер пси-
Примечания
685
хологического романа, предложивший новую, относительно викторианцев,
повествовательную технику - роман, написанный с точки зрения одного персонажа.
7 ...если за дело берется... м-р Линд... - Линд Роберт Уилсон (1879-1949), литературный
редактор «Дейли Ньюс» с 1912 г., автор лестной, хотя и неподписанной, рецензии на роман
Вулф «Ночь и день» (1919), опубликованной в «Нейшн» в 1920 г. См.: The Diary of Virginia
Woolf: 4 vols. L., 1977-1982. Vol. II. P. 38. Запись от 15 мая 1920 г.
8 ...он сожалеет о том, что в свое время заставил Карлайла метать громы и молнии... -
«Мечущий громы и молнии» Томас Карлайл (1795-1881)- такая характеристика историка,
видимо, подсказана фактом его биографии: серия лекций Карлайла «О героях, поклонении
героям и героическом в истории» («On Heroes, Hero-Worship and The Heroic in History», 1840-
1841) привлекла внимание модной блестящей аудитории и укрепила Карлайла в собственной
«проповеднической, лицедейской манере» письма.
9 ...Теннисона - петь пастушком... - Альфред Теннисон известен своими «Королевскими
идиллиями» («The Idylls of the King», 1859); У.Х. Оден не случайно назвал Теннисона поэтом
по преимуществу лирическим.
10 ...Рескина вверг в безумие. - Рескин Джон (1819-1900) - искусствовед, автор
пятитомного сочинения «Современные художники» («Modern Artists», 1834), многочисленных статей
о средневековой европейской архитектуре и др. В 1860-1870-е годы Рескин вел ожесточенную
полемику с научными теориями, в частности с политической экономией Дж.С. Милля и Д. Ри-
кардо; в 1870-е годы был избран первым профессором искусств в Оксфорде: из-за обвинений в
слишком свободных взглядах на мораль ему пришлось несколько раз уходить с этой должности
и снова возвращаться; умер Рескин в одиночестве, полусумасшедшим затворником.
СОВРЕМЕННОЕ ЭССЕ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Modern
Essay // The Common Reader. L., 1925. P. 267-281.
1 ...история происхождения эссе- восходит ли оно к Сократу или к Сиранни
Персидскому... - Сиранни Персидский (Siranney the Percian) - возможно, шутливая игра слов,
означающая некое растительное семейство типа «персидской сирени», что поддерживается
приводимыми ниже уподоблениями разнообразных модификаций эссе подвидам одного семейства.
2 ...на задах Флит-стрит. - Флит-стрит - улица в Лондоне, где расположены редакции
крупнейших газет; в переносном смысле - лондонские газеты и журналы, цех журналистов.
3...есть про черепах и Чипсайд. - Эссе о прогулке по Чипсайду («Ramblings in Cheapside»)
принадлежит Сэмюэлу Батлеру.
4 ...чем глубже мы вчитываемся в эти пять небольших томиков... - Здесь и далее Вулф
имеет в виду пятитомное издание «Современное английское эссе: 1870-1920» («Modern English
Essays: 1870-1920», 1922). Его составитель и редактор- Рис Эрнест Персивал (1850-1946),
основатель известной книжной серии «Библиотека для каждого» («The Everyman Library»).
5 Читая Лэма... - Речь идет, видимо, об «Эссе Элии» Чарлза Лэма, первая серия которого
публиковалась в 1820-1823 гг. в «Лондон мэгэзин», а вторая серия вышла отдельной книгой
в 1833 г.
6 ...погружаясь в чтение Бэкона... - «Эссе» («Essays») Фрэнсиса Бэкона (1561-1626),
английского философа конца XVI- начала XVII в., создававшиеся на протяжении 1597—
1626 гг., представляют собой собрание афоризмов, объединенных общим предметом - наукой
философии.
7 Никакая образованность - даже та, что отличала Марка Пэттисона... -ОМ. Пэтти-
соне см. примеч. 13 к эссе «Забытая жизнь» на с. 672 наст, издания.
8 Маколей - См. примеч. 1 к эссе «Аддисон» на с. 669 наст, издания.
9 Фрауд - См. примеч. 2 к эссе «Елизаветинский сундук» на с. 658 наст, издания.
686
Приложения
10 ...ужимать свой рассказ о Монтене... - В своем эссе «Монтень», напечатанном в
первом томе «Современного английского эссе», Марк Пэттисон обсуждает книгу Альфонса Грю-
на «Публичная жизнь Мишеля де Монтеня» («La vie publique de Michel Montaigne», 1855).
11 ...известного переводчика Спинозы...- Эссе Метью Арнольда «Слово о Спинозе»
(«A Word about Spinoza») напечатано в первом томе антологии Э.П. Риса. Первоначально
оно было опубликовано в «Макмиллан мэгэзин» в 1863 г. под названием «Еще одно слово о
Спинозе» («A word more about Spinoza»), а позднее перепечатано под названием «Спиноза»
(«Spinoza») в первом издании «Критических опытов» («Essays in Criticism», 1865) M. Арнол-
да. Переводчиком «Tractatus theologico-politicus» на английский язык, чьи имя Арнолд не
упоминает в своем эссе, был Роберт Уиллис.
12 ...не для мартовского выпуска «Фортнайтлиревъю»... - «Фортнайтли ревью» (1865-
1934)- периодическое издание, основанное на началах позитивизма. Почти в каждом
номере журнала печатался роман; в число постоянных авторов журнала входили У. Теккерей,
Дж. Элиот, М. Арнолд, Т.Х. Гексли, Дж. Мередит, Л. Стивен, У. Пейтер, Т. Гарди и др.
Позднее в круг постоянных авторов вошли Г. Джеймс, Д. Гиссинг, Г. Уэллс, Э. Паунд и др.
Ироническая ссылка Вулф на обозрение «Фортнайтли ревью», скорей всего, подсказана ее выпадом
против викторианцев и старших современников, которые, по логике ее статьи, подлинными
эссеистами не были.
13 Хаттон - Хаттон Ричард Холт (1826-1897) - соредактор газеты «Спектейтор».
14 «Добавьте к этому то, что ~ карьера м-ра Милля была отнюдь не безоблачной». -
Цитата из эссе Р.Х. Хаттона «Автобиография Джона Стюарта Милля» («John Stuart Mill's
Autobiography») приводится в переводе по: Modern English Essays, 1870-1920: 5 vols / Ed. by
E.P. Rhys. L., 1922. Vol. 1. P. 124-125.
15 ...задача оказалась no плечу только Уолтеру Пейтеру с его «Заметками о Леонардо да
Винчи»... - «Заметки о Леонардо да Винчи» («Notes on Leonardo Da Vinci») Уолтера Пейтера
(1839-1894) были впервые опубликованы в 1869 г., позднее они составили главу в его книге
«Ренессанс» («The Renaissance», 1873).
16 «изведала тайны ~ в образе святой Анны прародительницей Марии...». - Цитата
приводится в переводе по: Modern English Essays, 1870-1920. Vol. 1. P. 185.
17 «женской улыбке и о равнодушно катящих волны бездонных водах». - Ibid. Р. 166.
18 «скорбном достоинстве мертвых, восседающих в одеждах землистого цвета,
оттененных дымчатыми камнями». - Ibid. Р. 173.
19 ...англичанин польского происхождения... - Речь идет о Джозефе Конраде (наст, имя
Теодор Джозеф Конрад Корженовский, 1857-1924), чье творчество представлено в
четвертом томе «Современного английского эссе» Э.П. Риса работой «Сказки моря» («Tales of the
Sea»).
20 ...Стивенсон и Сэмюэл Батлер и придумали, как это сделать, причем совершенно
разными способами. - Речь идет об эссе «Прогулки пешком» («Walking Tours») Р.Л.
Стивенсона и «Блуждая по Чипсайду» С. Батлера; оба эссе приведены во втором томе антологии
Э.П. Риса.
21 «Посидеть спокойно ~ всегда и везде оставаться собой» - Цитата из
«Современного английского эссе» приводится в переводе по: Modern English Essays, 1870-1920. Vol. 2.
P. 191.
22 Тотнем-корт-роуд - улица в центре Лондона.
23 ...двенадцать страниц, заказанные автору «Юниверсал ревью»...- Эссе Батлера
«Блуждая по Чипсайду» было впервые напечатано в 1890 г. в «Юниверсал ревью».
24 ...эссе м-ра Берэла... - «Эссе Элии» («The "Essays of Elia"») Августина Берэла (1850—
1933), который прославился сборником эссе «К слову сказать» («Obiter Dicta», 1884).
25 ...эссе... м-ра Бирбома. - Речь идет об эссе «Туча фартучков» («A Cloud of Pinafores»)
Макса Бирбома. См. примеч. 24 на с. 671 наст. изд.
Примечания
687
26 ...эссем-ра Берэла о Карлайле... - Эссе А. Берэла «Карлайл» («Carlyle») напечатано во
втором томе антологии Э.П. Риса.
27 ...между «Тучей фартучков» Макса Бирбома и «Апологией циника» Лесли Стивена. -
Речь идет об эссе «Апология циника» («A Cynic's Apology») Лесли Стивена. О Л. Стивене см.
статью «Вирджиния Вулф и ее "Обыкновенный читатель"» на с. 539-547 наст. изд.
28 ...например Хенли... - Эссе «Уильям Хэзлит» («William Hazzlitt») У.Э. Хенли (1849—
1903), английского поэта и эссеиста, друга Р.Л. Стивенсона, опубликовано в третьем томе
антологии Э.П. Риса.
29 Беллок - Беллок Хилэр (1870-1953)- английский поэт, прозаик и журналист
французского происхождения, литературный редактор «Морнинг пост» («Morning Post») в 1906—
1910 гг.
30«Мои маленькие друзья ~ говор, не такой, как у всех остальных людей». - Цитата из
эссе X. Бэллока «О незнакомой стране» («On an Unknown Country») приводится в переводе по:
Modern English Essays, 1870-1920. Vol. 4.
31 . ..исключение для таких писателей, как м-р Конрад и м-р Хадсон... - Об эссе Дж.
Конрада см. примеч. 19; эссе «Сборщик солероса» («The Samphire Gatherer») британского
прозаика У.Г. Хадсона напечатано в пятом томе антологии Э.П. Риса. Об У. Хадсоне см. примеч. 2
на с. 676 наст. изд.
32 ...когда читаешь подряд м-ра Люкаса, м-ра Линда и м-ра Сквайера... - Эссе
«Философ, потерпевший неудачу» («A Philosopher that Failed») английского литератора Э.В. Люкаса
(1868-1938) напечатано в четвертом томе антологии Э.П. Риса; эссе «Готорн» («Hawrthorne»)
Р. Линда и эссе «Мертвец» («A Dead Man») и «Одинокий автор» («The Lonely Author»)
Дж.К. Сквайера (1884-1958) представлены в пятом томе антологии.
33 ...например, м-р Клаттон Брок... - Клаттон-Брок Артур (1868-1924),
критик-искусствовед; в пятом томе антологии Э.П. Риса представлено его эссе «Волшебная флейта»
(«A Magic Flute»).
34 ...переместился из гостиной в Альберт-холл. - Альберт-холл - концертный зал в
Лондоне.
35 «Нет, люди не уходят на покой ~ покрывая презрением нынешний Век...» - Цитата
из эссе Фрэнсиса Бэкона «О великом месте» («Of Great Place») приводится в переводе по:
Bacon F. Essay XI // Bacon's Essays and Colours of Good and Evil / With Notes by W.A. Wright.
L., 1872. P. 39.
36 «Цинично улыбаясь сквозь зубы, он подумал ~ о жарких портовых городах,
великолепных и благоухающих...» - Цитата из эссе Дж.К. Сквайера «Мертвец» («A Dead Man»)
приводится в переводе по: Modern English Essays, 1870-1920. Vol. 5. P. 79.
37. ..неизменно вывозили... Верной Ли... - Речь идет об эссе «Гений места» («Genius Loci»)
английской писательницы Ли Верной (1856-1935), напечатанном в пятом томе антологии
Э.П. Риса.
ДЖОЗЕФ КОНРАД
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Joseph Conrad //
The Common Reader. L., 1925. P. 282-291.
На английском языке эссе впервые опубликовано в литературном приложении к «Тайме»
в 1924 г., вскоре после кончины Джозефа Конрада 3 августа 1924 г. О творчестве Дж. Конрада
Вулф писала не раз: в эссе «Лорд Джим» («Lord Jim», 1917); в эссе «"Юность" м-ра Конрада»
(«Mr. Conrad's 'Youth'», 1917); в эссе «Кризис м-ра Конрада» («Mr. Conrad's Crisis», 1918); в
эссе «Разочаровавшийся романтик» («A Disillusioned Romantic», 1920); в эссе «Король
прозы» («A Prince of Prose», 1921); в эссе «М-р Конрад: беседа» («Mr. Conrad: A Conversation»,
1923).
688
Приложения
1 ...разумеется, за одним исключением... - Вулф, скорее всего, имеет в виду Томаса Гар-
ди, «последнего великого викторианца», которого она, к слову, посетила 25 июля 1926 г.,
незадолго до смерти писателя в январе 1928 г.
2 ...вместе с томами Мариата... - Мариат Кэптен Фредерик (1792-1848), морской
капитан, автор популярных детских книг, таких как «Поселенцы в Канаде» («The Settlers in
Canada», 1844), «Дети Нью Форреста» («Children of the New Forrest», 1847).
3 Хенти - Хенти Джордж Альфред (1832-1902), автор военно-приключенческих романов
для подростков: «В пампасах» («Out in the Pampas», 1868), «Юные горнисты» («The Young
Buglers», 1880), «Под флагом Дрейка» («Under Drake's Flag», 1883) и др.
4 .. .ранние романы Конрада - те, что были написаны до «Ностромо». - Роман Дж.
Конрада «Ностромо» («Nostromo») вышел в 1904 г.
5 «Они были сильны ~ Они вечно оставались детьми таинственного моря». - Цитата из
романа Дж. Конрада «Негр с "Нарцисса"» («Nigger of the "Narcissus"», 1897) приводится по:
Конрад Дж. Сочинения: В 3 т. M., 1996.Т. I. С. 462-463.
6 ...сказано о героях его ранних книг- «Лорда Джима», «Тайфуна», «Негра с
"Нарцисса"», «Юности»... - Речь о романах Дж. Конрада «Лорд Джим» («Lord Jim», 1900), «Тайфун»
(«Typhoon», 1903), «Юность» («Youth», 1902).
7 «в высшей степени осторожный и проницательный человек» - Цитата из
предисловия Конрада к роману «Юность», написанного в 1917 г., приводится в переводе по: Conrad's
Prefaces to His Works / With an Introductory essay by Edward Garnett. L., 1937. P. 72.
8 «Ничто ~ как не видел раньше». - Цитата из 13-й главы романа «Лорд Джим»
приводится в переводе А. Кривцовой по: Конрад Дж. Лорд Джим: Романы. М., 2007.
9 «...автор не должен терять голову». - Цитата из эссе Конрада «Книги» («Books»)
приводится в переводе по: Conrad J. Notes on Life and Letters. L., 1970. P. 9.
10 «Что-то во мне надломилось ~ не осталось». - Цитата из предисловия Дж. Конрада
к роману «Ностромо», написанного в 1917 г., приводится в переводе по: Conrad's Prefaces to
His Works. P. 9.
11 ...эссе о мастерстве Джеймса. - Имеется в виду эссе Дж. Конрада «Похвальное слово
Генри Джеймсу» («Henry James: An Appreciation», 1905).
12 ...создание подлинных шедевров... «Случая», «Золотой стрелы». - Речь идет о поздних
произведениях Дж. Конрада- «Случай» («Chance», 1913), «Золотая стрела» («The Arrow of
Gold», 1919).
13 «Он крепко держал штурвал, зорко всматриваясь вдаль». - Цитата из романа Дж.
Конрада «Негр с "Нарцисса"» приводится по: Конрад Дж. Негр с «Нарисса» // Конрад Дж.
Зеркало морей: В 3 т. М., б.д. Т. 3.
НА ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННИКА
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. How It Strikes a
Contemporary // The Common Reader. L., 1925. P. 292-305.
1 ...со времен «Роберта Элсмера»... - «Роберт Элсмер» («Robert Elsmere», 1888)-
книга, прославившая английскую писательницу Хамфри Уорд (наст, имя Мери Августа Уорд,
1851-1920).
2 Стивен Филлипс - Филлипс Стивен (1864-1915)- английский поэт, автор
стихотворных драм, согласно «Национально-биографическому словарю», пользовавшийся «огромной
славой» на рубеже веков: в 1898 г. он опубликовал сборник «Стихотворения», а впоследствии
и ряд стихотворных драм: «Франческа» («Francesca», 1900), «Ирод» («Herod», 1901), «Улисс»
(«Ulysses», 1902) и «Нерон» («Nero», 1906).
3 ...Драйден ли, Джонсон, Колридж или Арнольд... - Выдающиеся английские критики
XVH-XIX вв.: Сэмюэл Джонсон, Джон Драйден (1631-1700), Сэмюэл Колридж, Мэтью Ар-
Примечания
689
нолд. О С. Джонсоне см. примеч. 1 на с. 652 наст, изд.; о С. Колридже см. примеч. 34 на с. 655
наст. изд.
4 ...были опубликованы «Уэйверли», «Прогулка», «Кубла Хан», «Дон Жуан», эссе Хэзли-
та, «Гордость и предубеэюдение», «Гиперион» и «Освобожденный Прометей». - «Уэйверли»
(«Waverley», 1814) - первый опубликованный роман Вальтера Скотта (1771-1832);
«Прогулка» («The Excursion», 1814) - поэма Уильяма Вордсворта; «Кубла Хан» («Kubla Khan: a Vision
in a Dream», 1816)- стихотворение С. Колриджа; «Дон Жуан» («Don Juan», 1819—1824) —
незаконченная эпическая поэма Дж.Г. Байрона; первые эссе Уильяма Хэзлита (1778-1830)
«О принципах человеческих поступков» («On the Principles of Human Action», 1805);
«Гордость и предубеждение» («Pride and Prejudice», 1813)- роман Джейн Остен; «Гиперион»
(«Hyperion», 1820) - фрагмент эпической поэмы Джона Китса (1795-1821); «Освобожденный
Прометей» («Prometheus Unbound», 1820) - поэма П.Б. Шелли (1792-1822).
5 ...несколько стихотворений Йейтса, Дейвиса, Де ла Мара. - Иейтс Уильям Батлер
(1865-1939) - крупнейший ирландский поэт-символист; Дейвис Уильям Генри (1871-1940) и
Де ла Map Уолтер (1873-1956) - английские поэты рубежа веков.
6 ...озарения у Лоуренса... - Лоуренс Дэвид Герберт (1885-1930) - крупнейший
английский романист, поэт, драматург и эссеист первой половины XX в.; легкая ирония Вулф по
поводу «озарений» у Лоуренса, возможно, вызвана тем, что Лоуренс частенько прибегал к этому
слову, описывая понравившиеся ему произведения современного искусства. Так, «озарением»
назвал Лоуренс картину «Карусель» в письме к ее создателю, художнику Марку Гертлеру (The
Letters of D.H. Lawrence: 7 vols / Ed. by George J. Zytaruk and J.T. Boulton. Cambridge, 1979-
1993. Vol. 2: 1913-1916. P. 660-661).
7 По-своему блестящ Бирбом... - О Максе Бирбоме см. примеч. 24 на с. 671 и примеч. 25
на с. 686 наст. изд.
8 «Давным-давно, где-то далеко»... - О романах У.Г. Хадсона см. примеч. 2 на с. 676 наст,
изд.
9 ...пример из недавно опубликованных «Уотсонов»... - О «Уотсонах» - незаконченном
романе Джейн Остен см. примеч. 14 на с. 674 наст. изд.
10 «Когда ~ мнения, высказанные с пристрастием». - Цитата из «Общего
предисловия» («General Introduction») M. Арнольда к изданию «Английские поэты...» («The English
Poets...», 1880) приводится по: The English Poets: selections with critical introductions by various
writers and a general introduction by Matthew Arnold: 5 vols / Ed. by Т.Н. Ward. L., 1880-1918.
Vol. I. P. xlvi.
11 ...помните о леди Эстер Стенхоуп... - Речь идет об английской аристократке, яркой
личности, женщине самостоятельных и независимых суждений леди Эстер Люси Стенхоуп
(1776-1839).
690
Приложения
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Серия 2. 1932
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЕЛИЗАВЕТИНЦЫ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Strange
Elizabethans // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 9-23.
1 ...случай с леди Сидни... - Леди Сидни, она же леди Мэри Сидни, урожд. Дадли
(ум. 1586), супруга сэра Генри Сидни (1529-1586), мать поэта Филипа Сидни (1554-1586).
2 Сэр Генри Уоттон... сыплет помпезностями и эвфемизмами. - Уоттон сэр Генри (1568-
1639) служил секретарем и секретным агентом графа Эссекса в 1595 г. С 1604 по 1624 г.
выполнял разные дипломатические поручения. В 1651 г. вышли собрание его сочинений - стихов
и прозы - под названием «Реликвии Уоттона» («Reliquiae Wottonianae») и его
«Жизнеописание» И. Уолтона.
3 Газеты той поры... - Первая английская газета, называемая «broadsheet», вышла в
1618 г.
4 Габриэл Харви, друг Спенсера и Сидни... - Спенсер Эдмунд (ок. 1552-1599), великий
елизаветинский поэт, сочинитель сонетов, создатель поэмы «Королева фей» («The Faerie
Queene», 1596), изобретатель знаменитой спенсеровой строфы; Сидни Филип, великий поэт
шекспировской эпохи, автор романа «Аркадия» («Arcadia», посмертно опубл. в 1598 г.),
трактата «В защиту поэзии» («Defence of Poetry», 1579-1580); Харви Габриэл (ок. 1550-1631),
гуманист, ученый, друг Спенсера; в «Переписке» (Letters) со Спенсером Харви указал на
трудности и ограничения, связанные с использованием в английской поэзии классических
размеров. Известна также оценка Харви «Королевы фей» Спенсера: «...украл бесенок венок
Аполлона» («...hobgoblin runne away with the garland from Apollo»).
5... писать о риторике, о Томасе Смите... - Смит Томас, покровитель Г. Харви, которому
тот посвятил серию элегий «Смитус» («Smithus», 1578). Полагают, что эти элегии повлияли
на поэтическую форму стихотворения Спенсера «Слезы муз» («Tears of the Muses»).
6 ...непременно no-латыни. - Судя по воспоминаниям современников, Г. Харви любил
подчеркнуть собственную ученость. См. ниже примеч. 31.
7 ...вдруг его записи...- Знаменитая записная книжка Харви называется «Letter-book»
(букв.: книга писем). Собрание сочинений Г. Харви в 3-х томах было издано А.Б. Гросартом
в 1884-1885 гг.
8 «она чудо как разрумянилась». - Здесь и далее цитаты из собрания сочинений Габриэла
Харви приводятся в переводе по: The Works of Gabriel Harvey: 3 vols / For the first time collected
and edited, with memorial-introduction, notes and illustrations, etc. by Alexander B. Grosart. N.Y.,
1966. Vol. 3. P. 77. Цит. no: Woolf V. The Common Reader. L., 2003. Vol. II. P. 272.
9 «опозоренные и уставшие». - Ibid. P. 80.
]0«...без плаща, в одном камзоле, с распущенным шнурком, в торчащей навыпуск
рубахе». - Ibid. Р. 87-88.
и«К черту! Разрази меня, господь!» - Ibid. Р. 88.
12.. .недавний выпускник Пемброк-холла... - Пемброк-холл - один из трех старейших
колледжей в Кембридже.
13 «Навеки твой, собственноручно, Фил». - Цитата приводится в переводе по: The Works
of Gabriel Harvey. Vol. 3. P. 94-95.
14 «...я насилу себя сдерживал и с трудом мог разобраться во внезапно нахлынувших
чувствах». - Ibid. Р. 95.
15«Пусть-ка вспомнит английскую пословицу: не спросясь броду, не суйся в воду». - Ibid.
Р. 96.
Примечания
691
16 ...нашел ей место горничной в доме леди Смит на Одли-стрит - что может быть
лучше для «трудолюбивой, исполнительной, порядочной девушки»? - Цитата из письма
Харви леди Смит, супруге своего покровителя сэра Томаса Смита, приводится в переводе по:
Letter-book of Gabriel Harvey / Ed. from the original ms. Sloane 93, in the British Museum, by
Edward John Long Scott. Westminster, 1884. P. 171. Цит. no: Woolf V. The Common Reader. Vol. II.
P. 272.
17 «Уступи я Вам, милорд ~ честь - она как время: пропала, не воротишь». - Цитата
приводится в переводе по: The Works of Gabriel Harvey. Vol. 3. P. 81, 83.
18 «Милорд, зачем ехать ^ такая красота - король позавидует!» - Ibid. Р. 85.
19 «Что сталось бы со мной ~ одна погибель, да горе неизбывное для моих близких!» -
Ibid. Р. 85.
20 .. .жене сэра Генри Сидни, дочери герцога Нортамберленда... - Речь идет о леди Мэри
Дадли Сидни. См. выше примеч. 1.
21 «Никогда еще Англия не видывала таких умников, смельчаков, тружеников и остряков,
как мы!» - Цитата из собрания сочинений Г. Харви приводится в переводе по: The Works of
Gabriel Harvey. Vol. 2. P. 95, а также no: Gabriel Harvey's Marginalia / Collected and edited by
G.C. Moore Smith. Stratford-upon-Avon, 1913. P. 66.
22«Bce самое презренное, низкое, подлое в мире приписывается именно англичанам». -
Цитата из письма Харви приводится в переводе по: Letter-book of Gabriel Harvey. P. 66.
23 ...сродниувлеченности, с которой нынешнее поколение английских писателей,
отличающееся пылким воображением, относится к науке. - Вероятно, Вулф имеет в виду
Нормана Дугласа (1868-1952), Олдоса Хаксли (1894-1963), Дэвида Гарнета (1892-1981) и других
английских писателей 1920-1930-х годов, которые увлекались естественными науками и
использовали естественно-научные знания в своем творчестве.
24 «Разве бывают ~ Выгода без никчемности?» - Цитата из сочинения Г. Харви
«Воздаяние Пирса, или Новая похвала старой глупости» («Pierce's Supererogation, or a New Prayse of
the Old Asse», 1593) приводится в переводе no: The Works of Gabriel Harvey. Vol. 2. P. 288.
25...в его диатрибах, направленных против Нэша... - В 1592 г. Харви опубликовал так
называемые «Четыре письма» («Four Letters»), представлявшие собой атаку на скончавшегося
к тому времени Роберта Грина (см. примеч. 14 к эссе «Елизаветинский сундук» и примеч. 1
к «Заметкам на полях елизаветинских пьес»), которого он обозвал «мартышкой Эвфуса» и
«Патриархом подмастерьев сцены» (Patriarch of shifters). Публикация ввергла Харви в
яростную полемику, после того как в нее вступил, защищая память Роберта Грина, Томас Нэш
(1567-1601), опубликовавший в том же 1592 г. свой ответ обидчику «Странные новости, или
Перехваченные письма» («Strange Newes, of the Intercepting certaine Letters»), а в 1596 г. -
сатиру на Харви «Убирайся в Сэфрон Уолден. Или игра кончена, Габриэл Харви» («Have with
you to Saffron-walden. Or, Gabriell Harveys hunt is up»). Ссора двух литераторов имела и
религиозную подоплеку: Нэш был врагом пуританизма и в известном памфлетном диспуте
авторов под вымышленным именем «Мартина Марпрелата» выступал, в частности, и против
Ричарда Харви, астролога, брата Габриэла. В итоге полемика Харви - Нэша закончилась не в
пользу первого в 1599 г., когда в ссору вынужден был вмешаться архиепископ Уитгифт.
26 ...в его письмах Спенсеру, где обсуждается поэзия. - Известны так называемые «Три
письма» (1580) Г. Харви к Э. Спенсеру. Полное название «Трех писем»: «Три доподлинных
письма, три образца остроумия и непринужденности, которыми недавно обменялись два
университетских однокашника: начиная с апрельского землетрясения и заканчивая реформой
английской просодии» («Three proper and wittie, familiar Letters: lately passed betweene two
Universitie men: touching the Earthquake in Aprill last, and out English refourmed Versifying»)
(см.: Duncan-Jones K. Sir Philip Sidney: Courtier Poet. L., 1991. P. 191).
27 Перн - Перн Эндрю (ок. 1519-1589) - ректор Кембриджского университета,
избиравшийся на эту должность пять раз, начиная с 1551 г.; богослов, викарий прихода Брэй,
отличавшийся редкой гибкостью в трактовке вопросов веры и легко переходивший с позиции католи-
692
Приложения
ка на позиции протестантства, с одинаковой убежденностью читавший проповеди по случаю
осуждения на сожжение еретиков и речи в их оправдание. Умение Перна «перекрашиваться»
вошло в поговорку, и университетские умы придумали каламбур, переделав фамилию «Перн»
в глагол «to perne», т.е. многократно перелицовывать. Э. Перн служил мишенью для нападок
Г. Харви.
28 «Ваше последнее письмо ^ напились до положения риз». - Цитата из «Книги писем»
Г. Харви приводится в переводе по: Letter-book of Gabriel Harvey. P. 82.
29 ...его похороны на новом церковном кладбище под Бедламом обошлись в шесть
шиллингов четыре пенса... - Роберт Грин умер 3 сентября 1592 г., как выразился Т. Нэш, «перепив
рейнского и объевшись маринованной селедки»; по легенде, перед смертью Грин написал
записку жене, прося простить его и расплатиться по долгам.
30 «Еще тот был красавчик в молодые годы». - Цитата из сатиры Томаса Нэша
приводится в переводе по: The Works of Thomas Nashe: 5 vols / Ed. from the original texts by Ronald B.
McKerrow. L., 1904-1910. Vol. III. P. 88.
31 ...no случаю приезда в Одли-Энд королевы Елизаветы... - Как отмечает К. Данкн-Джо-
унс: «...в конце июля 1578 г. королева Елизавета прибыла в Одли-Энд в графстве Эссекс, где
ее ждали пышные торжества, устроенные учеными мужами Кембриджа. Среди
приглашенных со стороны устроителей был и Габриэл Харви, принимавший участие в диспутах.
...Харви постарался извлечь как можно больше личной пользы из представления монаршей особе:
он приготовил в честь королевы сборник латинских стихов и вручил превосходно
переписанный экземпляр распорядителю королевской свиты, а также одарил копиями вельмож. Так
поступали все, в этом не было ничего предосудительного. Но уже осенью 1578 г. он выступил
с пьесой "Gratulationes Valdinenses", в которую он ввел стихи, написанные в честь королевы,
и не постеснялся упомянуть в ней о том, как он "приложился к ручке" королевы и как она
отметила его "итальянскую внешность". Это было уже слишком» (Duncan-Jones К. Sir Philip
Sidney... P. 155).
32 «Смуглый, похож: на итальянца». - Цитата из «Маргиналий» («Marginalia») Г Харви
приводится в переводе по: Gabriel Harvey's Marginalia... P. 19-20.
33 ...вырядившись «в бархатный камзол, он начинал бахвалиться»... - Ibid. Р. 19.
м«задирал нос перед сэром Филипом Сидни»... - Ibid.
Ъ5«отпускал по их адресу площадные шуточки»! - Ibid.
36 ...его не приняли на службу к лорду Лестеру... - Лорд Лестер, или Роберт Дадли
(ок. 1532-1588), фаворит королевы Елизаветы I, дядя сэра Филипа Сидни, щедрый меценат.
37 ...должность официального представителя университета... - Имеется в виду
официальный представитель Оксфорда и Кембриджа на торжественных церемониях.
38 ...возглавить Тринити-холл... - Тринити-холл - колледж в Кембридже.
39 Вот Харви, счастливец из счастливцев ~ поддевает/Кончиком пера/Малейшую
шероховатость слога... - Цитата из сонета Эдмунда Спенсера «Достойному поклонения, моему
наилучшему из друзей, м-ру Габриэлу Харви, доктору права» («То the Right Worshipful My
singular Good friend, M. Gabriel Harvey, Doctor of the Lawes», 1586) приводится в переводе по:
The Works of the British Poets with Lives of the Authors / Ed. by E. Sanford. Philadelphia, 1819.
Vol. II. P. 252.
40 ...оставил после себя на первый взгляд ничем не примечательную книжку. - Под
«ничем не примечательной книжкой» Вулф имеет в виду «Маргиналии» («Marginalia») Габриэла
Харви, изданные в 1913 г. На «Маргиналии» Харви ссылается К. Данкан-Джоунс:
«"Маргиналии" Харви... включают девиз Plus in recessu quam in fronte... (Лучше в глубине, чем на виду),
источник которого находим у Квинтилиана в первой книге его "Institutio Oratoria"
("Наставлениях оратору"), где он применен к тайнам, скрытым в поэзии». (Duncan-Jones К. Sir Philip
Sidney... P. 127.)
Примечания
693
41 ...Вспомни об Александре, Юноше Незрелом... - Ibid. Р. 90. Речь идет об Александре
Македонском, которого нелестным образом охарактеризовал его учитель Аристотель.
42 «малец, а одолел силача великана» - Ibid. Речь о Давиде и Голиафе.
43 ...о Юдифи, о папе Иоанне и их героических деяниях... - Ibid. Р. 92.
44 «доблестной воительнице... Жанне д 'Арк ~разве есть такая сила, которая
остановила бы умного энергичного мужчину?» - Ibid.
4Ь «Прерви свои занятия, они съедают слишком много времени... Ты уже от них
очумел». - Ibid. Р. 89.
4Ь«Выучи правила хорошего тона в общении с титулованными дамами и женщинами
благородного звания. И запомни: никакой фамильярности в обращении». - Ibid. Р. 99.
41«Мы, ученый народ, низводим свои плоть и дух до мерзкого состояния». - Ibid. Р. 177.
48 «Нельзя позволять себе валяться по утрам в кровати - нужно вспрыгивать как
огурчик». -Ibid. Р. 196.
49 ...как N, «который хотя бы раз в день обязательно выгуливает свою собаку». - Ibid.
Р. 90.
50«попойках и схоластике» - Ibid. Р. 142.
51 Возьми себе «за правило каждый день ездить верхом, проводить время в приятной
компании - словом, радоваться жизни». - Ibid. Р. 155.
52«обезоруживающая Ирония» - Ibid.
53«Это большая глупость и верный признак ребячества - обижаться. На обиженных
воду возят». - Ibid. Р. 88.
54«Бедность - не порок». - Ibid. Р. 105.
55«Не жизнь, а сплошная борьба». - Ibid. Р. 147.
56 ...если «сердце сдавливает тяжесть» и в жизни не осталось ничего, кроме «капли
надежды»... - Ibid. Р. 95.
57 «носи платье - не складывай, терпи горе - не сказывай». - Ibid. Ср. другой вариант
перевода: «Беды научают человека мудрости».
58 О власти, о славе, о Стьюкли и Дрейке... - Стьюкли Томас (ок. 1525-1578), по
легенде, внебрачный сын Генриха VIII, искатель приключений, присоединившийся к экспедиции
в Марокко, снаряженной королем Португалии, и павший в сражении при Альказаре. Джордж
Пил вывел его под именем «Стьюкли» в пьесе «Битва при Альказаре» («Battle of Alcazar»,
1594); Дрейк сэр Френсис (ок. 1540-1596), знаменитый путешественник и адмирал, в 1577 г.
он совершил путешествие на корабле «Пеликан» (позднее переименованном в «Золотую
шкуру») по реке Плэйт, прошел пролив Магеллана, разграбил Вальпараисо, обогнул мыс Доброй
Надежды и совершил полукругосветное путешествие, за что, по возвращении в 1581 г. в
Англию, был посвящен Елизаветой I в рыцари. В 1587 г. он разбил испанский флот в гавани Ка-
диса, а также участвовал в битве против Армады.
59 о «золотом Эльдорадо и о купающихся в золоте владыках»... - Цитата из
«Маргиналий» Харви приводится в переводе по: Gabriel Harvey's Marginalia... P. 198. Описание
«золотого Эльдорадо и купающихся в золоте владык» у Харви, очевидно, подсказано
историческими фактами: «золотая лихорадка», т.е. поиски золота, охватила весь елизаветинский двор
в 1570-е годы. Англичане связывали надежды с поиском золота на севере Канады,
известном под названием «Meta Incognita». В 1576 г. королева Елизавета снарядила корабль «Эйд»
(букв, «помощь»), вложив в предприятие 2000 фунтов, а Филип Сидни, с которым был
знаком Г. Харви, вложил 50. Надежды на открытие драгоценных металлов, прежде всего
золота, были огромные. Как писал Сидни X. Лангэ: «...остров (т.е. североамериканский
континент. - Н.Р.) настолько богат металлом, что богатством превосходит Перу» {Duncan-Jones К.
Sir Philip Sidney. P. 117).
694
Приложения
60«...если не обновлять и не восстанавливать события в памяти, то воспоминания о
лучших днях скоро сотрутся». - Цитата из «Маргиналий» Харви приводится в переводе по:
Gabriel Harvey's Marginalia... P. 101.
61«...есть только одно время: настоящее». - Ibid. Р. 151.
62«я подолгу с ними беседую, думаю о них, принимаю их душой и телом». - Ibid. Р. 146.
63«...есть только один способ чему-то научиться - учиться без напряжения и в
радость». - Ibid. Р. 151.
64 ...кожа «сморщилась и съежилась, как кусок обуглившегося пергамента». - Ibid.
Р. 69.
ДЖОН ДОНН ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Donne after Three
Centuries // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 24-39.
Эссе написано в 1931 г., в юбилейный год празднования трехсотлетия со дня смерти
Джона Донна (1574-1631), английского поэта, главы метафизической школы в поэзии XVII в.
1 Любовники былых времен, возвысьте голос! - Цитата из стихотворения Донна
«Божество любви» («Love's Deity») из цикла «Песни и сонеты» («Songs and Sonnets», 1635)
приводится в переводе по: The Poems of John Donne: 2 vols / Ed. by E.K. Chambers; with an Introduction
by George Saintsbury. L.; N.Y., 1896. Vol. 1. P. 56.
2 Кто скажет, что горел любовью / Часами, тот бесстыдный враль. - Ibid. Р. 50. Из
стихотворения Донна «Разбитое сердце» («The Broken Heart»).
3 Постой - и краткой лекции внемли, /Любовь моя, о логике любви. - Цитата из
стихотворения Донна «Лекция о тени» («A Lecture Upon the Shadow») в переводе Г. Кружкова
приводится по: Донн Дж. Алхимия любви. М., 2005. С. 144.
4 ...как «сияет браслет живого локона». - Цитата из стихотворения Донна «Реликвия»
(«The Relic») приводится в переводе по: The Poems of John Donne. Vol. 1. P. 66.
5 взять, например, Браунинга... - Поэзия Роберта Браунинга (1812-1889), автора
«Драматических масок» («Dramatis Personae», 1864), поэм «Кольцо и книга» («The Ring and the
Book», 1868) и других произведений, отличается психологической и философской глубиной.
6 Мередит - Мередит Джордж (1828-1909) преимущественно известен своими
романами, однако не менее интересна его поэзия - богатая и сложная по языку. Таковы сборники
«Современная любовь и стихотворения английских предместий» («Modern Love, and Poems of
the English Roadside», 1862), «Книга земли» («A Reading of Earth», 1888) и др.
7 ...произведения «важных Богословов»... - Цитата из «Сатиры I» («Satire I») Донна
приводится по: Донн Дою. Алхимия любви. С. 53.
8 «политиков, объясняющих мытарства мистического тела государства» - Там же.
9 ...наверняка читал Спенсера, «Аркадию» Сидни, «Сад райских наслаждений» и «Эв-
фуэса» Лили. - О поэме «Королева фей» Э. Спенсера и «Аркадии» Ф. Сидни см. примеч. 4
к эссе «Неизвестные елизаветинцы» на с. 690 наст, изд.; «Сад райских наслаждений» («The
Paradise of Dainty Devices», 1576) - собрание произведений елизаветинских поэтов 1560-1570-
х годов, составленное Р. Эдвардсом; под «Эвфуэсом» Лили имеется в виду роман
елизаветинского драматурга Джона Лили (ок. 1554-1606) «Эвфуэс и анатомия остроумия» («Euphues. The
Anatomy of Wit», 1578) и «Эвфуэс и его Англия» («Euphues and His England», 1580): вычурный
стиль этого произведения дал жизнь понятию «эвфуизм».
10 ...видел на сцене пьесы Марло... - Марло Кристофер (1564-1593), елизаветинский
драматург, автор «Трагедии Дидоны, царицы Карфагена» («The Tragédie of Dido, Queene of
Carthage», 1594), написанной в соавторстве с Т. Нэшем, и «Тамерлана» («Tamburlaine», 1590),
пьес «Мальтийский еврей» («The Jew of Malta», 1633), «Эдуард Второй» («Edward II», 1594),
«Д-р Фауст» («Dr Faustus», 1604) и др.
Примечания
695
11 Бен Джонсон- Джонсон Бенжамен (ок. 1572-1637)- английский драматург рубежа
XVI-XVH вв.
12 «Его джеркин и черный и простой ~ Пока совсем не истончится в дым». - Цитата из
«Сатиры IV» («Satire IV») Донна приводится по: Донн Дж. Алхимия любви С. 65-66.
13 «Сэр!- лопнувшей струною взвизгнул он ~ Он бесподобно врет, когда в ударе».-
Там же.
14 Моей любимой неоюные персты — Как два пучка растрепанной морковки... - Там же.
С. 28. Из элегии Донна «Сравнение» («The Comparison»).
15 Помните у Деккера... - Имеется в виду Деккер Томас (ок. 1570-1632), английский
драматург, автор комедий, трактатов и памфлетов. Многие пьесы Деккера написаны в
соавторстве с Б. Джонсоном, Дж. Уэбстером и др. См. выше примеч. 1 к эссе «Заметки на полях
елизаветинских пьес» на с. 660-661 наст. изд.
16 «...весь день куковала Кукушка ~ как хрупок и недолог твой век!» - Цитата из
памфлета Т. Деккера «Удивительный год» («The Wonderful Year», 1603) приводится в переводе по:
Dekker Т. The Wonderful Year: The Gull's Horn-Book... Selected Writings / Ed. by E.D. Pendry.
L., 1967. P. 32-33.
17 ...ланиты - что жемчуга с Востока. - Здесь Вулф вспоминает элегию Донна
«Анаграмма» («The Anagram»).
18 «Разнообразие» не «самый сладкий плод любви»? - Цитата из стихотворения Донна
«Равнодушный» («The Indifferent») из цикла «Песни и сонеты» приводится в переводе по: The
Poems of John Donne. Vol. I. P. 10.
19 «Изменчивость - источник всех отрад, /Суть музыки и вечности уклад?» - Цитата из
элегии Донна «Изменчивость» («Change») приводится по: Донн Дж. Алхимия любви. С. 45.
20 Но с той поры закон сей не в чести, - / Обеты верности храним мы. - Цитата из
элегии Донна «Разнообразие» («Variety») приводится в переводе по: The Poems of John Donne.
Vol. I. P. 142.
21 «пока не научил... премудростям любви». - Ibid. Из элегии Донна «Разнообразие»
(«Variety»).
22 «в кресле перед очагом». - Цитата из элегии Донна «Ревность» («Jealousy») приводится
по: Донн Дж. Алхимия любви. С. 33.
23 ...автора «Любовной войны» или «Нараздевание возлюбленной». - Имеются в виду две
элегии Донна: «Любовная война» («Love's War») и «На раздевание возлюбленной» («Going to
Bed») из сборника «Элегии» («Elegies», 1593-1596).
24 Рви нас в клочки - не разлучишь ~ Записок, сладких дум и грез... - Цитата из 13-й
«Элегии» Донна «На расставание с нею» («His Parting from Her») приводится в переводе по: The
Poems of John Donne. Vol. I. P. 130.
25 Тех двоих, что живы лишь друг другом, / Не разлучить вовек. - Ibid. Р. 18. Из
стихотворения Донна «Песня» («Sweetest love, I do not go»).
26 Теперь одним нас именем зови ~ Благодаря любви. - Цитата из стихотворения Донна
«Канонизация» («The Canonization») приводится по: Донн Дж. Алхимия любви. С. 138.
27 Тела застыли, где легли ~ Но плоть -ужели с ней разлад?.. - Цитата из стихотворения
Донна «Экстаз» («The Ecstasy») приводится по: Горбунов А.H. Английская лирика первой
половины XVII века. М., 1988. С. 91.
28.. .его принимали у себя леди Бедфорд, леди Хантингтон, г-жа Герберт. - Графиня
Бедфорд - титул Люси Рассел (1581-1627), влиятельнейшей покровительницы искусства и
литературы конца XVI - начала XVII в.; леди Хантингтон - титул Елизаветы Стенли (1586-1632);
г-жа Герберт - графиня Пемброк, см. ниже примеч. 30.
29 Друри - семейство покровителей поэта. См.: Горбунов А.H Английская лирика первой
половины XVII века. С. 20.
30 Леди Пемброк - графиня Пемброк - титул Мери Герберт (1555-1621), принадлежавшей
к высшим кругам английской аристократии елизаветинской эпохи. Сестра Филипа Сидни и
696
Приложения
племянница графа Лестера, талантливая поэтесса и переводчица: вместе с Филипом Сидни
она осуществила перевод Псалмов на английский язык; переработала, дополнила и издала
«Аркадию» Ф. Сидни. Графиня Пемброк оказывала покровительство и поощряла многих
поэтов и литераторов, в частности Э. Спенсера и С. Дениела (ок. 1562-1619), английского поэта,
драматурга, историка, друга Шекспира и Марло.
31 ...ей не «разрешали учить иностранные языки, потому что этого не одобрял отец»... -
Цитата из дневника (1603-1619) леди Энн Клиффорд (1590 -1676) приводится в переводе по:
Clifford A. Life, Letters and Work / Ed. by George С. Williamson. L., 1922. P. 66. (Цит. no: The
Essays of Virginia Woolf. L., 2009. Vol. V. P. 364). Ученые полагают, что под «запрещенными»
иностранными языками имеются в виду латынь и греческий.
32 Дениел - см. выше примеч. 30.
33 ...читала «Королеву фей» и «Аркадию» Сидни... - Имеются в виду поэма Э.
Спенсера «Королева фей» и пасторальный роман Ф. Сидни «Аркадия». См. примеч. 4 на с. 690 наст,
изд.
34 .. .играла у Джонсона в знаменитых балетах-масках... - Бен Джонсон написал и
поставил при дворе короля Иакова около 30 спектаклей-балетов, или «масок», оформлением
которых занимался выдающийся английский архитектор эпохи барокко Иниго Джонс (1573-
1652).
35 ...став полновластной хозяйкой поместья в Ноуле... - Ноул (Knole), старинное
поместье XVI в. в графстве Кент, ныне памятник архитектуры. Вирджиния Вулф не понаслышке
знала о поместье Ноул, благодаря дружбе с родовитой Витой Сэквил-Уэст, и даже воспела его
в своем романе «Орландо» (1928).
36 «Как славно, что у меня есть Чосер ~ свет его души осеняет и меня, несчастную». -
Цитата из дневника Энн Клиффорд приводится в переводе по: Clifford A. Life, Letters and
Work. P. 197.
37 ...она была «воплощением добродетели, сравняться с коей невозможно». - Цитата из
стихотворения Донна «Графине Хантингтон» («То the Countess of Huntingdon») приводится в
переводе по: The Poems of John Donne. Oxford, 1929. P. 178. (Цит. no: The Essays of Virginia
Woolf. Vol. V P. 364).
38 ...его часто приглашали погостить у нее в Туикнеме... - Поместье Туикнем
расположено в историческом месте в районе Темзы к юго-западу от Лондона.
39 ...леди Бедфорд- это «творение рук самого Господа»... - Цитата из стихотворения
Донна «Графине Бедфорд» («То the Countess of Bedford») приводится в переводе по: The
Poems of John Donne. L., 1896. Vol. II. P. 16.
40 ...яркий пример - «Королевские идиллии» Теннисона... - Стихотворный цикл «Idylls of
the King», стилизованный пересказ средневековых легенд о короле Артуре и рыцарях
Круглого стола, был впервые опубликован Альфредом Теннисоном в 1859 г. и впоследствии
дополнен рядом других идиллий. Титул поэта-лауреата А. Теннисон получил в 1850 г.
41 Он, сгубивший «много сил» «на сорняки сонетов», «вдохнувший немало пыла в репьи
сатир»... - Цитата из послания Донна «Роланду Вудворду» приводится по: Донн Дж.
Алхимия любви. С. 174.
42«охладевший к виршам» - Цитата из послания Донна «М-ру Б.Б.» приводится в
переводе по: The Poems of John Donne. Oxford, 1929. P. 187.
43 Взмываем вверх и достигаем звезд, и бег их ~ Всплывет чудовище с копытом. - Цитата
из поэмы Донна «Анатомия мира, где представлена, по случаю безвременной кончины
Элизабет Друри, вся хрупкость и тленность этого мира» («An Anatomy of the World, wherein, by
occasion of the untimely death of mistress Elizabeth Drury, the frailty and the decay of this whole
world is represented»), или «Первая годовщина» из цикла «Годовщины» («The Anniversaries»,
1611) приводится в переводе по: The Complete Poems by John Donne: 2 vols / Ed. by Alexander
B. Grosart. L., 1872. Vol. 1. P. 117.
Примечания
697
44 «Эфир ее не увлекает ^ И он ей тоже не предел...» - Ibid. Р. 194-195. Из поэмы
Донна «Вторая годовщина» из цикла «Годовщины» («The Anniversaries», 1612). Полное название
поэмы: «О движении души, где поэт размышляет, в связи с кончиной Элизабет Друри, о
неуспокоенности души в этом мире и об обретении ею покоя за гробом» («Of the Progress of the
Soul wherein, by occasion of the religious death of Mistress Elizabeth Drury, the incommodities of
the soul in this life, and her exaltation in the next, are contemplated»).
45 ...подошли к последнему разделу книги: к «Священным сонетам» и «Духовным
стихам». - Имеются в виду «Священные сонеты» («Holy Sonnets») и «Духовные стихи» («Divine
Poems») Донна. А.H. Горбунов отмечает: «Исследователи полагают, что первые 16 сонетов
Донн сочинил в 1609-1611 гг., а последние три - в конце второго десятилетия XVII в., после
принятия сана и смерти жены» (Горбунов А.Н. Указ. соч. С. 305).
46 ...его собратьев по перу - Гербертов и Вогенов... - Здесь Вулф вспоминает
поэтов-метафизиков Джорджа Герберта (1593-1633) и Генри Вогена (1622-1695).
47 «похотью и завистью» - Цитата из 5-го сонета цикла «Священные сонеты»
приводится в переводе по: The Poems of John Donne. Oxford, 1929. P. 295.
48 «Коль та, что я любил», мертва, «умерло то, чем дорожил я». - Ibid. Р. 301. Из 17-го
сонета цикла «Священные сонеты».
49 ...этот «ничтожный мир, вместилище стихий». - Ibid. Р. 295. Из 5-го сонета цикла
«Священные сонеты».
50 «Назло два полюса во мне сошлись ^ Клятву не храню; грешу, поклявшись»... -
Цитата из 19-го, заключительного стихотворения цикла «Священные сонеты» приводится в
переводе по: The Poems of John Donne / Ed. from the Old Editions and Numerous Manuscripts, with
Introduction and Commentary by Herbert J.C. Grierson: 2 vols. Oxford, 1912. Vol. I. P. 331. Cp.
в другом переводе: «Я весь - боренье: на беду мою, / Непостоянство - постоянным стало...»
(Горбунов А.H. Указ. соч. С. 8).
51 «Сомнение сомненью рознь - / Застыть на перепутьи - благо;/Зарыться в книги -
зло...» - Цитата из «Сатиры III» («Satire III») Донна приводится в переводе по: The Complete
Poems by John Donne. Vol. 1. P. 25-26.
52 «Я благочестьем болен, как матрос, трясомый малярийной лихорадкой». - Цитата из
19-го сонета цикла «Священные сонеты» приводится в переводе по: The Poems of John Donne.
Oxford, 1929. P. 302.
53 «обследуем каждую мелкую частичку», «сами не зная зачем». - Цитата из
стихотворения Донна «Влага» («The Damp») приводится в переводе по: The Complete Poems by John
Donne. Vol. 1. P. 67.
«АРКАДИЯ ГРАФИНИ ПЕМБРОК»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. «The Countess of
Pembroke's Arcadia» // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 40-50.
Написано в 1930 г. специально для второй серии «Обыкновенного читателя».
1 ...подобно тому как это произошло с «Аркадией графини Пемброк»... - «Аркадия
графини Пемброк», или «Аркадия» («Arcadia», 1581, 1590) - пасторальный роман Филипа Сидни
(см. примеч. 4 к эссе «Неизвестные елизаветинцы» на с. 690 наст. изд.). Имя графини Пемброк
в заглавии романа Ф. Сидни указывает на Мери Герберт (1555-1621), сестру поэта,
талантливую поэтессу и переводчицу, которой и посвящен роман. См. примеч. 30 на с. 695-696 наст,
изд.
2 ...на лужайке, среди уилтонских холмов... - Уилтон, месторасположение родового
поместья графов Пемброк, находится в южной Англии, известной своими меловыми дюнами и
холмами.
3 «из желтого камня сложены в форме звезды»- Цитата из главы 13.8 «Первой
книги» «Аркадии» Ф. Сидни. Здесь и далее цитаты из «Аркадии» приводятся в переводе по: The
698
Приложения
Countess of Pembroke's Arcadia, Written by Sir Philip Sidnei / Printed for William Ponsonbie.
Anno Domini, 1590. B. I, II, III.
4 «Читайте на досуге ~ Ваш светлый ум». - Цитата из «Посвящения» Ф. Сидни графине
Пемброк приводится в переводе по: The Countess of Pembroke's Arcadia... В. I.
5 «то зальются радостным смехом ~ не признались бы». - Ibid.
6 «против острова Цитеры» - Ibid. Название острова Кифера от имени «Цитера», «Ци-
терия» или «Киферия» - одного из имен Афродиты.
7 «будь он обнажен, прекрасней не было бы платья, чем нагота» - Ibid.
8 «В общем, полный разгром ^ даром траченный пожар в открытом море». - Ibid.
9 «На лицах их застыло ожидание печали». - Ibid. В. I. Ch. 10.
10 «Куда не кинешь взор, везде виднелись пастбища, ~ пальцы двигались в такт
мелодии». - Ibid. В. I. Ch. 2.
11 .. .знаменитое описание в «Письмах» Дороти Осборн. - См. эссе «"Письма" Дороти
Осборн», в котором Вулф вспоминает это «знаменитое описание». Полностью же этот эпизод
из письма Дороти Осборн будущему мужу Уильяму Темплу Вулф приводит в «Своей
комнате»: «После обеда мы сидим и разговариваем, а потом разговор переходит на г-на Б., и я
ускользаю. Жаркий день проходит за чтением или за работой, и в шестом или седьмом часу я
иду на выгон, где молодые девки пасут скотину и, укрывшись в тени, поют баллады; я
присаживаюсь и сравниваю их пение и красоту с греческими пастушками, про которых я читала, и
нахожу огромную разницу, но, уверяю тебя, простоты в них ничуть не меньше. Я заговариваю
с ними и вижу, что это счастливейший народ, но они этого не знают. Обычно в разгар нашей
беседы одна вдруг оборачивается и видит, что ее корова идет к хлебам, и тогда все бросаются
бежать, словно за ними кто-то гонится. Я же, тихоня, смотрю им вслед и, видя, что они
погнали скотину к дому, решаю, что и мне пора. Поужинав, выхожу в сад, там у нас небольшой
ручей - сижу и жалею, что тебя нет рядом...» (См. эссе «Своя комната», с. 464-495 наст,
издания).
12 «оглашают окрестности тонким блеянием ^расчесывая свои зеленые кудри». -
Цитаты приводятся в переводе по: The Countess of Pembrone's Arcadia... В. II. Ch. 11.
13 «Ирухнул наземь юноша могучий ~ забирать его молодую страждущую душу». - Ibid.
В. HI. Ch. 8.
14 «...сколько раз, прислонившись к той Пальме, я восхищался ее терпением ~ мы же
терзаемся понятием чести и угрызениями совести». - Ibid. В. H. Ch. 2.
15 подобно крабу, который «смотрит в одну сторону, а пятится в другую». - Ibid. Ch. 3.
16 «Она делает это с безмятежной беспечностью ^ с истинно королевской
невозмутимостью, - точно нож: в сердце...» - Ibid.
17 «Всё лучше, чем эта ее ледяная невозмутимость ~ ее небесный взор...» - Ibid.
18 «вдруг зарыдав: "Зельмана, помоги мне! О Зельмана, сжалься надо мной!"»- Ibid.
Ch. 1.
19 «то и дело смотрясь в зеркало, охорашиваясь и прыгая козликом, словно давая понять,
что есть еще порох в пороховницах». - Ibid. Ch. 1.
20 «насвистывая и считая на пальцах, сколько сена съедают в год семнадцать хорошо
откормленных бычков». - Ibid. Ch. 4.
21 «покачиваясь»... -Ibid.
22 «изящно поводя головой и отфыркиваясь». - Ibid. Ch. 11.
23 Кому нужна такая доблесть, коль неприступна крепость? ~ Как лицедеи на
продажной сцене... - Ibid. Ch. 12.
24 Кусок стыда, пустая книга -/Вот что такое ваше тело... /Этот двуногий говорящий
зверь, ходячий ствол... - Ibid.
25 «пчелином рое, мудро обороняющемся злыми жалами» - Ibid. Здесь Вулф цитирует
слова Герона из диалога «Второй эклоги», подчеркивая умение Ф. Сидни подмечать живые
детали.
Примечания
699
26 «как живут пастухи: они либо едят, либо играют в кошки-мышки, либо упиваются до
положения риз». - Ibid. Цитируются слова Мэстикса из того же диалога. См. примеч. 25.
27 «На что она охотно согласилась ^ И вот, один за другим, они пали в объятия
старшего брата смерти - попросту говоря, предались сну». - Ibid. В. I. Ch. 19.
«РОБИНЗОН КРУЗО»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. «Robinson
Crusoe» // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 51-58.
В основу эссе легла статья под тем же названием, опубликованная в 1926 г. в «Нейшн энд
Атенеум».
1 ...Сидни, который умер в Зутфене... - Сидни Филип (см. примеч. 4 к «Неизвестным
елизаветинцам» и примеч. 1 к эссе «Аркадия графини Пермброк») последний год своей
жизни провел на военной службе в Голландии; 22 сентября 1586 г. он атаковал испанский конвой,
подвозивший провизию жителям осажденного города Зутфен, был ранен из мушкета и
скончался. Его похоронили в соборе Св. Павла в Лоизоне.
2 ...оставил свою «Аркадию» незавершенной... - Существует так называемая «Старая
Аркадия», которую Сидни завершил в 1581 г. и большая часть которой писалась в Уилтоне.
Рукопись «Старой Аркадии» была обнаружена в 1907 г. Бертрамом Добеллом. Вторая же редакция
«Аркадии», так называемая «Новая Аркадия», представляет собой существенно
переработанный в 1583-1584 гг. текст первоначальной «Аркадии» - он, однако, остался незавершенным.
Тем не менее именно незавершенная редакция была опубликована впервые в 1590 г., а затем
перепечатана в 1593 г. с включением III и IV книг «Старой Аркадии», т.е. в контаминирован-
ном виде. Таким образом, до начала XX в. читатели знали гибридный текст, составленный из
незавершенной «Новой Аркадии», со вставками из первоначальной редакции.
3 ...дату рождения Дефо- точно она не установлена: одни говорят, он родился в
1660году, другие- в 1661-м. - Сегодня историки литературы сходятся во мнении, что Дефо
родился в 1660 г.
4 ...фамилия - тоже непонятно, как ее писать: в одно слово или в два? - Дефо Даниель
(1660-1731), английский писатель (см. примеч. 2, 3 к эссе «Дефо» на с. 667-668 наст,
издания); урожденный Фо, сын Джеймса Фо (Foe - букв, «враг»), мясника по роду деятельности;
изменил фамилию на «Дефо» около 1695 г.
5 ...вошел в круг доверенных лиц Уильяма Третьего... - Уильям Третий - принц Оранж-
ский (1650-1702). В 1688 г. Дефо присоединился к его армии, а в 1701 г. опубликовал памфлет
«Законнорожденный англичанин» («The True-born Englishman»), направленный против
общественного предрассудка иметь в качестве монарха особу иностранного происхождения.
6 ...за один из своих памфлетов был поставлен к позорному столбу... - Гражданская
казнь у позорного столба последовала в наказание за памфлет «Кратчайший способ расправы
с вольнодумцами» («The Shortest Way with Dissenters», 1702 г.).
7.. .заключен под стражу в Нъюгейт... - Ньюгейт - знаменитая лондонская тюрьма, куда
Дефо был заключен с мая по ноябрь 1703 г. за упомянутый выше памфлет.
8 ...он работал на Харли, позднее на Годолфина... - С 1703 по 1714 г. Дефо был тайным
агентом для сбора информации при Роберте Харли (1661-1724), графе Оксфорде, тори в
политике, библиофиле. Годолфин Сидни (ок. 1645-1715), ведущий английский политик конца
XVII - начала XVIII в.
9 Пикок - Пикок Томас Лав (1785-1866), сатирик, эссеист, поэт, автор сатирических
романов «Хедлонг-холл» («Headlong Hall», 1816), «Мелинкорт» («Melincourt», 1817), «Найтмерс-
кое аббатство» («Nightmare Abbey», 1818) и др.
700
Приложения
10 ...с выходом «Джуда незаметного»... - «Джуд незаметный» («Jude the Obscure»,
1896) - роман Томаса Гарди.
11 ...нового тома Пруста... - Последние шесть томов романа французского писателя
Марселя Пруста (1871-1922) «В поисках утраченного времени» (À la recherche du temps perdu,
1913-1927) были опубликованы посмертно, в частности том «Альбертина» вышел почти
одновременно с выходом эссе Вулф на новое издание романа Дефо «Робинзон Крузо».
12 «...нераз недоумевал я... Но всякий раз внутренний голос быстро останавливал во мне
эти мысли» - Здесь и далее цитаты из романа Дефо «Робинзон Крузо» приводятся в переводе
М. Шишмаревой по: Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо... / Под
ред. А. Франковского, с предисл. Д. Мирского. М.; Л., 1935. С. 29.
13 «...везде пестреющие цветами луга, красивые рощи» - Там же. С. 48.
14 «чтобы избежать зловония, которое не замедлило бы распространиться от них при
жаркой погоде» - Там же. С. 69.
15 «Яродился в 1632 г. в городе Йорке в зажиточной семье». - Там же. С. 3.
16 «они поворачивают назад и плывут к берегу» - Там же. С. 13.
17 ...он «так крепко стискивал зубы, что потом не сразу мог их разжать». - Там же.
С. 78.
18 «Пускай ученые доискиваются до причины этого рода явлений, я же только описываю
факт...» - Там же.
19 ...пару слов о «серенькомутре»... - Там же. С. 10.
20 «...никого из этих людей я больше не увидел ~ выброшенных морем на берег» - Там
же. С. 22.
21 «Нужно было видеть, с каким королевским величием я обедал, окруженный моими
верными слугами»... - Там же. С. 63.
«ПИСЬМА» ДОРОТИ ОСБОРН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Dorothy Osborne's
«Letters» // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 59-66.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1928 г. в «Нью репаблик» и
в литературном приложении к «Тайме» под названием «Дороти Осборн».
1 ...попав в полосу межсезонья - такое бывает у нас в деревне ранней весной... - Как
явствует из эссе, под «полосой межсезонья» Вулф имеет в виду елизаветинскую литературу и
ранний XVII век.
2 ...пишет же сэр Эдмунд Госс о непроницаемости Донна... - Речь идет о
«Жизнеописании и письмах Джона Донна» («Life and Letters of John Donne», 1899) Эдмунда Уильяма Госса
(1849-1928), первого переводчика Ибсена на английский язык, литературного критика,
историка литературы, автора жизнеописаний Т. Грея («Gray», 1882), У. Конгрива («Life of William
Congreve», 1888), Дж. Тейлора («Jeremy Taylor», 1904), Г. Ибсена («Ibsen», 1907) и др.
3 ...что Донн думал о леди Бедфорд... -О Люси Рассел, графине Бедфорд (1581-1627) см.
примеч. 28 к эссе «Джон Донн триста лет спустя» на с. 695 наст. изд.
4 Босуэлл или Хорас Уолпол... - Босуэлл Джеймс (1740-1795), сподвижник Сэмюэ-
ла Джонсона, автор «Дневника путешествия на Гебридские острова» ("Journal of a Tour of the
Hebrides", 1785); о Хорасе Уолполе см. примеч. 8 к эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 664 наст,
изд.
5 «...конечно, бедная женщина немного не в себе ~ Я б до такого позора никогда не
дошла». - Цитата из письма Дороти Осборн Уильяму Темплу от 14 апреля 1653 г. Здесь и
далее письма Д. Осборн приводятся в переводе по: The Letters of Dorothy Osborne to William
Temple / Ed. by G.C. Moore-Smith. Oxford, 1928. P. 37.
Примечания
701
6 ...Дороти Осборн родилась... в 1627 году... - В «Национально-биографическом словаре»
Л. Стивена указана другая дата рождения Дороти Осборн: 1625 г. Вулф же, очевидно,
опирается на уточненную датировку, предложенную Муром-Смитом в издании писем Д. Осборн
1928 г. Осборн Дороти (1627-1695) вышла замуж за Уильяма Темпла (1628-1699) (см.
примеч. 8 к эссе «Свифтовский "Дневник для Стелы"») в 1654 году. Ее письма жениху,
написанные в 1652-1654 гг., были впервые опубликованы Пэрри в 1888 г. (Letters from Dorothy
Osborne to Sir William Temple: 1652-1654/ Ed. by E.A. Parry. L., 1888). В 1928 г. появилось
академическое издание Дж.С. Мура-Смита: The Letters of Dorothy Osborne to William Temple /
Ed. by G.C. Moore-Smith. Именно на последнее издание писем Д. Осборн опирается Вулф в
своем эссе, и, возможно, именно оно побудило писательницу обратиться к эпистолярному
творчеству Дороти Осборн сначала в эссе «Дороти Осборн», а затем и в эссе «Своя комната»
(1929). На это предположение указывает и то, что Вулф придала «Письмам» Дороти Осборн
значение эпистолярного памятника, взяв слово "letters" в кавычки.
7 ...письма по наблюдательности, легкости и остроумию вовсе не уступают
«Эвелине» и «Гордости и предубеждению»... - Имеются в виду эпистолярный роман Фанни Бёрни
(1752-1840) «Эвелина, или Начало светской жизни молодой леди» ("Evelina, or a Young Lady's
Entrance into the World", 1778) и «Гордость и предубеждение» Джейн Остен.
8 «...великие Ученые - не самые лучшие авторы ~ по-моему, письма всегда пишутся
свободно и легко, как течет речь». - Цитата приводится в переводе по: The Letters of Dorothy
Osborne... P. 90. Письмо от сентября 1653 г.
9 «навострить перо». - Ibid. Р. 91.
10 «...много красивостей, сваленных в одну кучу»... - Ibid. Р. 153. Письмо Д. Осборн от
25 февраля 1653-1654 г.
11 «Господи, как жаль ~ поддержать его разговор». - Ibid. Р. 15. Письмо Д. Осборн от
29 января 1652-1653 г. Сэр Юстиниан Ишем (1610-1674) - в период Реставрации член
Парламента от графства Нортемптоншир; г-н Ишем овдовел в 1638 или 1639 г.
12 ...ее страшно мстительный кузен Молл... - Молл Генри (1597-1658), член ученого
совета Кингз-колледжа в Кембридже, автор легких стихов «на случай».
13 ...запах «Жасминна»... - Ibid. Р. 66. Письмо от 16 июля 1653 г. Здесь Вулф
воспроизводит слово «жасмин» (jasmine, jessamine) так, как оно написано у Дороти: "Jessomin".
14 «право, горько такое слышать». - Ibid. Р. 16. Письмо Д. Осборн от 29 января 1652-
1653 г.
15... «женщина мудрая, на то и англичанка»... - Речь идет о матери Дороти- в
девичестве Дороти Дэнверс (она умерла в 1650 или 1651 г.) и (выше) о сестре Дороти - Элизабет
Осборн (1610-1642), в замужестве леди Пейтон.
16 «Я достаточно долго живу на свете ~ Поживи с мое, и ты в этом сама убедишься». -
Ibid. Р. 150, 151. Письмо от 19 февраля 1653 (1654?) г.
17 ее «гумор»... - Теория «гуморов», или гуморальная теория темперамента основана на
положении о доминирующей в организме жидкости (гумора) и соответственно типа
темперамента: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Впервые теория была предложена
Гиппократом (ок. 460 г. до н.э. - ок. 370 г. до н.э.) и получила широкое хождение в Европе в
начале XVII в.
18 «Куда бы от них деться ~ хоть в дупло полезай»; «позора не оберешься»; «не все ли
равно, как тебя зовут: Элиз или Дор». - Ibid. Р. 43. Письмо Д. Осборн от 14 мая 1653 г.; Ibid.
Р. 95. Письмо от октября 1653 г.; Ibid. Р. ПО. Письмо от 23 октября 1653 г.
19 «Боюсь ~ выставить себя на всеобщее посмешище я не могу». - Ibid. Р. 128. Письмо
Д. Осборн от 8 января 1653-1654 г.
20 ...называя «гордецом, властолюбцем, грубияном, каких свет не видывал». - Ibid. Р. 157.
Письмо Д. Осборн от 2 апреля 1654 г. Речь идет о брате Дороти сэре Генри Осборне (1619—
1675).
702
Приложения
21 «теперь ее имя полощут все, кому не лень, от лакеев до посыльных». - Ibid. Р. 118.
Письмо Д. Осборн от 16 декабря 1653 г. Речь идет о леди Энн Блаунт, которая обратилась в
апреле 1654 г. с прошением на имя Кромвеля о признании недействительным ее брака с
Уильямом Блаунтом, диссидентом, активным сторонником Папы.
22 ...она замужем «за Синей Бородой в его замке»? - Ibid. Р. 100. Письмо Д. Осборн от
октября 1653 г. Леди Изабелла Рич была замужем за сэром Джеймсом Тинном.
23 ...лучше «рано и незаметно сойти в могилу»... - Ibid. Р. 119. Письмо Д. Осборн от
16 декабря 1653 г.
24 «...домовитую, умиротворенную, мудрую, великую Доротею» - так описал ее в ту пору
Свифт. - Свифт Джонатан (1667-1745) сперва жил в доме сэра Уильяма Темпла в 1689 г.,
исполнял роль секретаря, а в 1696 г., вернувшись в Мур-парк из Ирландии уже в сане
священника, помогал Темплу с изданием его переписки. Дороти Осборн Свифт встретил, скорее всего,
в 1689 г., посвятив ей «Оду» («Ode...», 1693), в которой описал «Доротею» Осборн
«домовитой, умиротворенной, мудрой» и «великой» («mild, peaceful, wise and great»).
25 ...блага, дарованные Тройственным союзом вкупе с Нимвегенским договором... - Речь
идет о роли сэра Уильяма Темпла (1628-1699) в заключении Тройственного союза между
Англией, Голландией и Швецией в 1666 г.; Нимвегенские мирные договоры были заключены в 1678-
1679 гг., в голландском городе Нимвегене для завершения Голландской войны 1672-1678 гг.
СВИФТОВСКИЙ
«ДНЕВНИК ДЛЯ СТЕЛЛЫ»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Swift's "Journal
to Stella" // The Common Reader. Second series. L., 1935. P. 67-77.
На английском языке эссе впервые опубликовано в 1925 г. в литературном приложении
к «Тайме».
1 ...на «вам двоим понятном языке»... - Цитата из письма Дж. Свифта от 28 апреля
1711 г. (4 мая). Здесь и далее (кроме специально оговоренных случаев) цитаты из «Дневника
для Стеллы» Свифта приводятся в переводе по: The Prose Works of Jonathan Swift: 12 vols/
Ed. by Temple Scott. L., 1897-1908. Vol. II. P. 170. «Дневник для Стеллы» («Journal to Stella»,
1710-1713) состоит из 65 писем, адресованных Джонатаном Свифтом (см. примеч. 24 к эссе
«"Письма" Дороти Осборн» на с. 702 наст, изд.) его близкой знакомой Эстер Джонсон, или
«Стелле» (1681-1728), с которой он познакомился в доме сэра Уильяма Темпла на Мур-парк.
«"Письма", составившие "Дневник", относятся к самому длительному пребыванию Свифта
в Англии- с сентября 1710 г. по июнь 1713 г.» (Ингер А.Г. Доктор Джонатан Свифт и его
«Дневник для Стеллы» // Свифт Дж. Дневник для Стеллы. М., 1981. С. 467). Эстер Джонсон
приехала в Ирландию вместе с Ребеккой Дингли в 1701 г. и с тех пор стала близкой
приятельницей Свифта: исследователи полагают, что, возможно, Свифт и Эстер заключили какой-то
брак, хотя история эта покрыта тайной.
2 ...строчить письма «двум моим мартышкам», «дорогим моим сударушкам»,
«безобразницам»... - Эти ласкательные прозвища рассыпаны по всему «Дневнику» Свифта, см.,
например, письмо Свифта от 31 октября 1710 г. или его же письмо от 9 декабря 1710 г.
3 «...а сейчас, дерзкие девчонки, так и быть, примусь отвечать на ваше письмо ~я
чрезвычайно рад, что вы много гуляете». - Цитата из письма Свифта от 25 ноября 1710 г. (30
ноября) приводится по: Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 52.
4 «...у меня такое чувство -А за каракулями можно чудно спрятаться...». - Цитата
приводится в переводе по: The Prose Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 44. Письмо Свифта от
3 ноября 1710 г.
5 ...некто Presto - его другое «Я». - Ibid. Р. 231. Письмо Свифта от 25 августа 1711 г.
Примечания
703
6 ...по поводу тех самых податей, отменить которые он тщетно упрашивал вигов. -
Ирландское духовенство поручило Свифту похлопотать об отмене двух податей, взимаемых
с церкви в пользу английской короны - так называемых первин, или первых плодов, т.е.
первого урожая, собранного во вновь полученном приходе, и двадцатины с любого церковного
дохода. Такой налог, исчислявшийся 2500 фунтов в год, был уже несколько лет как отменен
в Англии. В 1707-1709 гг. Свифт несколько раз ездил в Лондон, добиваясь отмены податей в
пользу ирландской церкви.
7 «безумного священника» - Цитата из эссе Лесли Стивена «Свифт» ("Swift") в книге
«Английские литераторы» ("English Men of Letters", 1882) приводится в переводе по: Stephen L.
English Men of Letters. L., 1909. P. 56. Л. Стивен так поясняет источник нелестной
характеристики Свифта: «Одно время прошел слух (впрочем, не проверенный), будто Аддисон и другие
завсегдатаи лондонских кофеен прозвали его (Свифта - Н.Р.) "безумным священником" за его
привычку ходить по полчаса туда-сюда по залу с умным видом, набрав воды в рот, а потом
удалиться, так и не проронив ни слова».
8 ...сидеть за одним столом с сэром Уильямом Темплом... - См. примеч. 24, 25 к эссе
«"Письма" Дороти Осборн» на с. 702 наст. изд.
9 Самому Аддисону... - См. примеч. 11 к эссе «О глухоте к греческому слову» на с. 656 и
примеч. 2 к эссе «Аддисон» на с. 669 наст. изд.
10 «я страшно польщен тем, что лорды все как один подошли ко мне
засвидетельствовать свое почтение». - Цитата приводится в переводе по: The Prose Works of Jonathan Swift.
Vol. II. P. 215. Письмо Свифта от 19 июля 1711 г.
11 «впредь не выказывать мне подобной неучтивости ~ я отклонил его предложение.
Может, напрасно, но отклонил». - Ibid. Р. 148.
12...выбирает из камина недогоревшие куски угля... - Эпизод из письма Свифта («Я
раздобыл полбушеля угля, так этому безалаберному щенку Патрику взбрело в голову загодя
растопить камин, но перед тем, как лечь спать, я все равно выбрал оттуда угли») воспроизводится
по: Свифт Дж. Дневник для Стеллы. С. 23.
13 ...снабдил малышку Пэтти Ролт «пистолетом, чтоб ей было не страшно в случае
нападения - ведь она перебирается за город». - Цитата приводится в переводе по: The Prose
Works of Jonathan Swift. Vol. И. Письмо Свифта от 19 июля 1711 г. Р. 214; Пэтти Ролт, в
замужестве миссис Ланселот, была кузиной Свифта.
14 ...отнес двадцать гиней юному поэту Хэррисону... - Хэррисон Уильям (1685-1713)
окончил Оксфорд, где с 1706 г. был членом совета Нового колледжа; не обладая особым
литературным дарованием, он пользовался расположением некоторых лондонских литераторов,
в частности Свифта, который в «Дневнике» часто называет своего протеже «малыш
Хэррисон».
15 Найтсбридж - больница в Лондоне.
16 «Такое горе! ~ Только к вечеру немного поел». - Цитата приводится в переводе по: The
Prose Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 428. Письмо Свифта от 25 января 1712-1713 гг.
17 «Герцогиня тронула меня до глубины души». - Ibid. Р. 393. Письмо Свифта от 15
ноября 1712 г. Выше речь идет о Джеймсе Дагласе, герцоге Гамильтоне (1658-1712), который был
убит на дуэли 15 ноября 1712 г.
Х%«К черту жизнь! ~ нет, Бог создал жизнь не благословения ради!» - Ibid. Р. 410.
Письмо Свифта от 18 декабря 1712 г.
19 «люди больше делают вид, чем по-настоящему страдают, истинного горя они не
знают». - Ibid. Р. 415. Письмо Свифта от 4 января 1712-1713 г.
20 «А помнишь, как я ~ заставлял растапливать камин и пыхать "Уф-ф! Уф! Уф!"» -
Ibid. Р. 106. Письмо Свифта от 16 января 1710-1711 гг.
21 ...непристойные каламбуры Стеллы, по сравнению с которыми его шутки- просто
невинные забавы. - Ibid. Р. 162. См. письмо Стеллы от 14 апреля 1711 г., где она вспоминает
недовольство, с каким Свифт воспринял один из ее каламбуров.
704
Приложения
22 «повеселит от души метким словцом». - Ibid. Vol. IX. P. 283. Из произведения Свифта
«На смерть миссис Джонсон (Стеллы)» ("On the Death of Mrs. Johnson") приводится в
переводе no: The Works of Jonathan Swift: 19 vols. Edinburgh, 1814. Vol. IX. P. 283-284.
23 «пять малюсеньких чуть-чуть на пяти тарелках дельфтского фаянса». - Ibid. Vol. XIV.
P. 525. Из стихотворения Свифта «Стелла в Вуд-парке» ("Stella at Wood Park").
24 «щепетильнейшем и деликатнейшем деле почти государственной важности». - Ibid.
Vol. IX. P. 289. Из стихотворения Свифта «На смерть миссис Джонсон».
25 ...она была искренняя, а для Свифта это качество равнозначно «чести». - Ibid.
26 Ларакор - приход в 20 милях от Дублина, насчитывавший 15 прихожан, который Свифт
получил около 1699 г.
27 ...он про себя давно решил, «нисколько не убоявшись»... - Цитата приводится в переводе
по: The Prose Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 265. Письмо Свифта от 9 октября 1711 г.
28 «...ты убиваешь меня своим великодушием ~ загоняешь меня в угол, а?» - Ibid. Р. 150.
Письмо Свифта от 24 марта 1710-1711 г.
29 «Прощайте, дорогие сударушки ~ пишу или думаю о МД». - Ibid. Р. 230. Письмо
Свифта от 11 августа 1711 г.
30 «...Вы, как рубашка ~ как хотелось бы, ради МД». - Ibid. Р. 181. Письмо Свифта от
12 мая 1711 г.
31 «двоих, созданных друг для друга» - Письмо Свифта от 15 июля 1726 г. приводится в
переводе по: The Works of Jonathan Swift. Vol. XVII. P. 43.
32 «Ни у кого!» ~ О чем вы, сударушка?» - Письмо Свифта от 31 октября 1710 г.
приводится в переводе по: The Prose Works of Jonathan Swift. Vol. И. P. 48.
33 ...о ней, о вдове миссис Ваномри, его соседке, и про дочь ее Эстер... - Эстер Ваномри,
или Ванесса (ок. 1689-1723), Свифт впервые встретил в 1708 г.; известно его стихотворение
«Каденус и Ванесса» (1713), написанное в ее честь.
34 «И что с того? ~ У них сегодня были обе леди Бетти». - Цитата приводится в
переводе по: The Prose Works of Jonathan Swift. Vol. II. P. 128. Письмо Свифта от 24 февраля 1710—
1711 гг.
35 Теперь он мечтал о какой-нибудь «грязной дыре»... - Цитата приводится по: The Works
of Jonathan Swift. Vol. XIX. P. 318-319. Из письма Свифта Эстер Ваномри без даты.
36 ...быть Presto, а не тем «другим Я». - См. примеч. 5 на с. 702 наст. изд.
37 «поступать следует по правде, не заботясь о том, что скажет герцогиня такая-
то?» - Цитата из письма Эстер от 1714 г. Свифту приводится в переводе по: The Works of
Jonathan Swift. Vol. XIX. P. 344.
38 «Я- это я». - Цитата из эссе Лесли Стивена «Свифт» приводится в переводе по:
Stephen L. English Men of Letters. P. 208.
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
На русском языке впервые опубликовано в 1981 г. в: Писатели Англии о литературе. М.,
1981. С. 289-294.
Новый, публикуемый ниже перевод выполнен по: Woolf V. The «Sentimental Journey» //
The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 78-85.
На английском языке эссе было впервые опубликовано в 1928 г. в «Нью-Йорк трибюн»; во
вторую серию «Обыкновенного читателя» оно вошло в слегка переработанном виде.
1 Свой первый роман «Тристрам Шенди»... - Имеется в виду роман Лоренса Стерна
(1713-1768) «Жизнь и мнения Тристрама Шенди джентльмена» («The Life and Opinions of
Tristram Shandy», 1759-1767).
2 ...она покинула его, отправившись в Бомбей к мужу. - Стерн встретил Элизабет Дрей-
пер в 1767 г. и в том же году начал писать «Дневник Элизе» («Journal to Eliza»).
Примечания
705
3 «это скромное путешествие сердца ~ больше, чем мы любим теперь». - Цитата из
романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие по Франции и Италии». Здесь и далее
цитаты приводятся в переводе А. Франковского по: Стерн Л. Сентиментальное путешествие по
Франции и Италии. Санкт-Петербург, 2000. С. 146.
4 «Во Франции, - сказал я, - это устроено лучше». - Там же. С. 35.
5 ...лучится матово-прозрачным ореолом -мы вплотную приблизились к жизни. - В
своей характеристике метода и стиля Стерна Вулф использует одно из ключевых понятий
модернистской эстетики: образ ореола, матово-прозрачного покрова или облака, который, по мысли
Вулф, выражает стремление художника постичь жизнь в ее полноте. См. эссе «Современная
литература» на с. 120 наст. изд.
6 «так спешил, ~ тогда вели с Францией». - Цитата из романа Л. Стерна
«Сентиментальное путешествие по Франции и Италии» приводится по: Стерн Л. Сентиментальное
путешествие... С.123.
7 ...девушка с зеленым атласным кошельком... - Здесь Вулф вспоминает эпизод из главы
«Париж», где описывается встреча Йорика с девушкой в лавке книгопродавца на набережной
Конти.
8 ...в его памяти мелочи запечатлевались гораздо отчетливей, чем крупные величины. -
Вулф разделяла интерес Стерна к «малым», с точки зрения устоявшейся в литературе шкалы
ценностей, темам: например, в романе «К маяку» («То the Lighthouse», 1927) вместо
ожидаемого эпического полотна в духе викторианского романа рисовала эпизод из детских
воспоминаний, когда мать вяжет носок, а сын вырезает картинки из журнала.
9 «Мне кажется ~ я не дал бы девятипенсовика за выбор между ними». - Цитата из
романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» приводится по: Стерн Л. Сентиментальное
путешествие... С. 99-100.
10 «Лично я ~ мог бы в точности записать, поклявшись, что ничего в них не сочинил». -
Там же. С. 109.
11 ...ближе, чем кто-либо из его великих современников- разных Ричардсонов и Фил-
дингов.- Ричардсон Сэмюэл (1689-1761)- автор эпистолярных романов «Памела», «Сэр
Чарлз Грэндисон» («Sir Charles Grandison», 1753-1754), известный русскому читателю
главным образом по роману А.С. Пушкина «Евгений Онегин»; Филдинг Генри (1707-1754) -
знаменитый английский романист, драматург, журналист первой половины XVIII в., создавший в
романе «Том Джонс, найденыш» («Tom Jones the Foundling», 1749), новую литературную
форму - «комический эпос в прозе» {Fielding H. Preface // The History of the Adventures of Joseph
Andrews...Oxford, 1990. P. 3-9).
12 ...no сравнению с сегодняшними мастерами этой сидячей школы... - Вулф шутливо
намекает на модернистскую школу психологического романа Д. Ричардсон, Дж. Джойса и др.,
для которой характерны бессюжетность повествования и воображаемые («сидячие») нежели
реальные путешествия.
13 «Я чинно подошел ~ как некогда зачарованные рыцари на турнирах бросались за
славой и любовью». - Цитата из романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» приводится
по: Стерн Л. Сентиментальное путешестие... С. 97-98.
14 «Из-за того, что я написал "Тристрама Шенди" ~ ведь воображение у них и вправду
пылкое!» - Цитата из письма Стерна лорду Шелберну от 28 ноября 1767 г. приводится в
переводе по: Letters of Laurence Sterne. Selected with an Introduction by R.B. Johnson. L., N.Y.,
1927. P. 182.
15 «...мне показалось, что он благодарен мне больше, чем все остальные»... - Цитата из
романа Л. Стерна «Сентиментальное путешествие» приводится по: Стерн Л.
Сентиментальное путешествие... С. 82.
16 «в сочинениях Стерна нет ни ~ намека на непристойность». - Цитата из лекции
У. Теккерея «Стерн и Голдсмит» («Lecture 6: Sterne and Goldsmith») приводится в переводе по:
Thackeray W. The English Humorists of the 18th century. A Series of Lectures... L., 1853. P. 291.
706
Приложения
17 «почти всю жизнь был влюблен то в одну, то в другую принцессу ~ случится в
промежуток между моими увлечениями». - Цитата из романа Л. Стерна «Сентиментальное
путешествие» приводится по: Стерн Л. Сентиментальное путешествие... С. 77.
18 «Mais vive la joie... Vive l'amour! et vive la bagatelle!» - «Да здравствует радость... Да
здравствует любовь и да здравствуют интрижки!» (фр.). - Там же. С. 96.
19 «Другими словами, мне казалось, я вижу саму Религию, кружащуюся в танце». - Там
же. С. 195.
20 «Хвала вам, милые маленькие обыденные услуги, ибо вы облегчаете дорогу жизни!» -
Там же. С. 100.
ПИСЬМА ЛОРДА ЧЕСТЕРФИЛДА К СЫНУ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Lord Chesterfield's
Letters to His Son // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 86-92.
На английском языке первоначально опубликовано в 1928 г. в литературном приложении
к «Тайме» под названием «Английский аристократ» («An English Aristocrat») и в «Нью репаб-
лик» под заголовком «Лорд Честерфилд и грации» («Lord Chesterfield and the Graces»).
1 Издавая в свое время письма лорда Честерфилд а... - «Письма» лорда Филипа Дормера
Стэнхоупа Честерфилда (1694-1773), видного государственного деятеля и дипломата,
обращены к его внебрачному сыну Филипу Стэнхоупу (1732-1768). Письма писались почти
ежедневно, начиная с 1739 г. и не предназначались для печати. Впервые их опубликовала вдова
сына лорда Честерфилда в 1774 г., и с тех пор они стали руководством по воспитанию и
обучению хорошим манерам.
2 ...лорд Мэон... - Лорд Мэон, или Филип Генри Стэнхоуп (1805-1875), английский
историк и государственный деятель.
3 «чтение это требует зрелого ума и разборчивого вкуса» ~ «тот, кто укрепился
мыслью и утвердился в принципах, проверенных опытом жизни». - Цитата из предисловия
лорда Мэона к изданию «Писем» 1845 г. приводится в переводе по: Lord Mahon. Preface // The
Letters of Lord Chesterfield: 5 vols. L., 1892. Vol. I. P. xxxii.
4 ...мы читаем «Похищение локона»... - «Похищение локона» («The Rape of the Lock»,
1714) - поэма Александра Поупа. О Поупе см. примеч. 12, 14 к эссе «Аддисон» на с. 670 наст,
изд.
5 «Об искусстве красноречия забывать негоже ~ везде красноречие служит самым
верным способом обратить на себя внимание». - Письмо Честерфилда от 1 ноября 1739 г.
приводится в переводе по: The Letters of Philip Dormer Stanhope, Earl of Chesterfield: 5 vols. L.,
1845-1853. Vol. I. P. 4.
6 .. .культивирование Граций. - Грации, или Хариты, - первоначально в древнегреческой
мифологии божества плодородия. Позднее Хариты - богини красоты, радости,
олицетворение женской прелести. Иносказательно Хариты-Грации - красавицы, обладающие всеми
совершенствами. Ср. у Пушкина: «Младые грации Москвы / Сначала молча озирают / Татьяну с
ног до головы...» (Пушкин А.С. Евгений Онегин // Поли. собр. соч.: В 10 т. Л., 1978. Т. V VII,
XLVI). Именно в этом, переносном, значении употребляет слово «Грации» Вулф,
характеризуя взгляды Честерфилда.
1 «...в обществе м-ра Аддисона и м-ра Поупа, я чувствовал себя осчастливленным:
будто все короли Европы удостоили меня своим вниманием». - Цитата приводится в переводе по:
The Letters of Philip Dormer Stanhope... Vol. I. P. 80. Письмо Честерфилда от 9 октября 1747 г.
8 ...еще нужно уметь резать мясо, сидя во главе стола... - Намек на старинную
английскую традицию полагать совершеннолетним мужем того, кто, сидя во главе стола, умеет
нарезать мясное блюдо так, чтобы досталось всем, согласно этикету. На этот обычай указывает
Дж. Чосер в описании сквайра, сына рыцаря, в «Прологе» к «Кентерберийским рассказам»:
Примечания
707
«...он был приятным, вежливым соседом: / Отцу жаркое резал за обедом...» (ЧосерДж. Кен-
терберийские рассказы. М., 1988. С. 31).
9 «...честь тебе и хвала: будешь знать, какую насаживать на крючок наживку, чтоб
подловить человека». - Ibid. Vol. I. P. 179. Письмо Честерфилда от 5 сентября 1748 г.
10 «развалиться на стуле» - Ibid. Vol. H. P. 158. Письмо Честерфилда от 10 июня 1751 г.
11 ...воспитание, позволившее лорду Честерфилду написать свои «Характеры»... - Речь
идет о произведении лорда Честерфилда «Характеры» («Characters», 1777), написанном в
духе «Характеров» Жана де Лабрюйера. О Лабрюйере см. примеч. 15.
12 «Одни преуспели, другие сдулись»... - Речь идет о своеобразных вкусах короля Георга I,
описанных Честерфилдом в главе «Любовницы короля Георга I» («The Mistresses of George
the First») из его «Характеров». Цитата приводится по: Lord Chesterfield's Characters. L., 1927.
P. 13.
13 «Он похоронил себя в этой богадельне - палате лордов». - Речь идет о м-ре Палтни
(«Mr. Pulteney», 1763), описанном в «Характерах». Цитата приводится по: Lord Chesterfield's
Characters. P. 35.
14Беркли- Беркли Джордж, или епископ Беркли (1685-1753), английский философ,
постулировавший в трактате «О принципах знания» («A Treatise Concerning the Principles of
Human Knowledge», 1710) способность индивида постигать опытным путем лишь ощущения
и идеи объектов внешнего мира, но не их материю.
15 Лабрюйер - Лабрюйер Жан де (1645-1696), французский писатель, автор книги
«Характеры и нравы этого века» («Les caractères ou les mœurs de ce siècle», 1688).
16 Ратисбон - или Регенсбург, город в Баварии (Германия).
17 «Подайте Дэйролзу стул» - Цитата из предисловия лорда Мэона к изданию «Писем»
1845 г. приводится в переводе по: Lord Mahon. Preface // The Letters of Lord Chesterfield. Vol. I.
P. xxiv.
ДВА СВЯЩЕННИКА
/. Джеймс Вудфорд
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Two Parsons:
I. James Woodforde. II. The Rev. John Skinner// The Common Reader. Second Series. L., 1935.
P. 93-107.
Первая часть эссе «I. Джеймс Вудфорд» («James Woodforde») была первоначально
опубликована как самостоятельное произведение под названием «Сама жизнь» («Life Itself») в
1927 г. в «Нью репаблик» и в «Нейшн энд Атенеум». Вторая часть эссе «Преподобный Джон
Скиннер» («The Rev. John Skinner») впервые увидела свет в 1932 г. в составе второй серии
«Обыкновенного читателя».
1 «Обращение, которому я, вежливый человек, подвергался все нынешнее Рождество,
для меня непереносимо». - Цитата из «Дневника приходского священника» («The Diary of а
Country Parson») представляет собой запись от 3 января 1789 г. «Дневник» Джеймса Вудфор-
да (1740-1803) был впервые издан Дж. Бирсфордом в 1924-1931 гг. Здесь и далее цитаты из
«Дневника Вудфорда» приводятся в переводе по: The Diary of a Country Parson: The Reverend
James Woodforde: 5 vols. / Ed. by John Beresford. L., 1924-1931. Vol. HI. P. 77.
2 «дал ему понять, что на доброе отношение он рассчитывать не вправе». - Ibid. Vol. IL
P. 145. Запись от 4 августа 1784 г.
3 «решиться на смелый поступок» - Ibid. Vol. LP. 111. Запись от 25 сентября 1771 г.
4 «при первой возможности» - Ibid. Vol. I. P. 132. Запись от 28 мая 1774 г.
5 «...она для меня просто бездушная кокетка». - Ibid. Vol. I. P. 168. Запись от 16
сентября 1775 г.
6 «Назад возвращались с песнями». - Ibid. Vol. I. P. 75. Запись от 11 июля 1765 г.
708
Приложения
7 «Прекрасны труды Твои, о Господь, в каждой малой твари». - Ibid. Vol. I. P. 86. Запись
от 9 мая 1768 г.
8 «Словно на прекрасном лице женщины образовалось черное пятно». - Ibid. Vol. I. P. 15.
Запись от 3 июня 1769 г.
9 «сквозь которое просвечивал пейзаж:». - Ibid. Vol. И. Р. 15. Запись от 28 марта 1782 г.
10 «это получалось очень нежно» - Ibid. Vol. I. P. 235. Запись от 9 сентября 1778 г.
11 «признаться, мне гораздо приятней находиться среди равных по положению». - Ibid.
Vol. И. Р. 104. Запись от 7 ноября 1783 г.
12 Нъю-колледж. - колледж в Оксфорде, основан в 1379 г.
13 «...чу дом у спел! - старик был при смерти. ~ Обедали вареной говядиной и кроликом». -
Ibid. Vol. IV P. 20. Запись от 5 апреля 1793 г.
14 Где-то далеко идет стрельба, казнят короля... - Речь идет о короле Франции
Людовике XVI (1754-1793) из династии Бурбонов; при нем в 1789 г. началась Великая
Французская революция; 21 сентября 1792 г. король был низложен, предан суду Конвента и казнен на
гильотине.
15 «...скучно в моем захолустье, где нет ничего интересного, никто не ездит к нам с
визитами и нам не к кому ездить и т.д. и т.п.» - Ibid. Vol. IV P. 90. Запись от 19 января 1794 г.
16 ...дядя рассказывал, что ему приснилась шляпа... - Вероятно, Вулф указывает на
изменения стереотипов восприятия: в XVIII в. увидеть во сне шляпу было дурным знаком, а в
начале XX в. сон про шляпу толковался фрейдистами как знак сексуального влечения.
II. Преподобный Джон Скиннер
17 Билль о реформах - законодательный акт 1832 г. о предоставлении более широких
выборных прав промышленным городам с большим населением; его действие распространялось
только на Англию и Уэльс.
18... законом о свободе вероисповедания католиков... - Речь идет о законодательном акте
1829 г., согласно которому католики получали представительство в парламенте. Принятие
этого акта было главным образом заслугой ирландского юриста и католика Дэниэла О'Коннела.
19 ...когда он взялся за дневник... - Под «он» Вулф имеет в виду Джона Скиннера ( 1772—
1839) - выпускника Тринити-колледжа в Кембридже, принявшего сан в 1799 г. и получившего
приход в Кэмертоне, графство Сомерсет, куда переехал с женой и детьми. Супруга преп.
Скиннера и большинство детей безвременно умерли от чахотки. Скиннер известен как автор
«Дневника сомерсетского священника» («Journal of a Somerset Rector»). Далее цитаты из «Дневника»
Скиннера приводятся в переводе по: Journal of a Somerset Rector: John Skinner. Parochial Affairs
of the Parish of Camerton, 1822-1832 / Ed. by H. Coombs and A.N. Bax. L., 1930.
20 «у него все тело изъели черви». - Ibid. P. 67. Запись от 6 ноября 1823 г.
21 ...угощение больше напоминало Гросвенор-сквер, чем трапезу священника, -все больше
французские блюда да вина в изобилии»... - Ibid. Р. 69. Запись от 18 ноября 1823 г. Здесь
иносказательно говорится о том, что угощение больше напоминало стол аристократа, чем
скромную трапезу священника: Гросвенор-сквер - фешенебельный квартал в центре Лондона начал
бурно развиваться с 1721 г., после того как его приобрел в 1710 г. сэр Ричард Гросвенор.
22 Камалодунум - предполагаемая столица Римской Британии.
23 Карактакус - или Каратакус (ок. 51 г. н.э.) - полулегендарный герой, сын бриттского
короля Кунобелинуса, боровшийся против римлян.
24 Осториус - Осториус Публиус Скапула (ум. 52 г. н.э.) - римский военачальник,
наместник в Британии.
25 ...где Артур вызвал на поединок предателя Модреда... - Речь идет о легендарном
кельтском короле Артуре и рыцарях Круглого стола.
26 Альфред - король Альфред, или Альфред Великий (ок. 849 г. - 899 г.), правил Уэссек-
сом, королевством англов и саксов, с 871 по 899 г.
Примечания
709
27 ...Кэмертон - это и есть Тацитов Камалодунум. - Речь идет о римском периоде в
истории Британии (55 г. до н.э. - середина V в. н.э.); Тацит Публий Корнелий (ок. 56 - ок. 117 г.
н.э.) - римский сенатор и историк, автор «Анналов», «Истории», «Германии» и др.
28 «каждая буква в составе кельтских имен»... - Цитата из «Предисловия» к «Дневнику»
Скиннера приводится в переводе по: Journal of a Somerset Rector... P. xviii.
29 ...выписки из Сенеки, из Диодорума Сикула, из «Географии» Птолемея... - Сенека Лу-
ций Эней (ок. 4 г. до н.э. - 65 г. н.э.) - римский философ-стоик, государственный деятель,
драматург; Сикул Диодор (ок. 60 г. - 30 г. до н.э.) - греческий историк; Птолемей Клавдий
(ок. 90 г. - ок. 168 г. н.э.), знаменитый астроном и географ античности, усилиями которого
геоцентрическая система мироздания (именуемая часто Птолемеевой) приобрела
окончательную форму. Одна из двух наиболее известных его работ - «География», ставшая высшим
достижением древней науки в области географии.
30 Колчестер - столица графства Эссекс; считается исторической родиной римского
города Камалодунума.
31 Бат - город на юго-западе Англии, основанный еще римлянами.
32 «я сумасшедший, и нужно созвать психиатрическую комиссию для проверки моей
вменяемости». - Цитата из «Дневника» Скиннера приводится в переводе по: Journal of a Somerset
Rector... P. 278. Запись от 9 октября 1831 г.
33 «мои вирши никому не интересны, а что до приза, ~ только дураки участвуют в
университетских конкурсах». - Ibid. Р. 309. Запись от 17 ноября 1832 г.
34 Оуэн заявил отцу, что тот ничем не лучше деистов или социниан. - Деизм -
религиозно-философское воззрение, согласно которому Бог, сотворив мир, не принимает в нем участия
и не вмешивается в течение событий; социнианство - рационалистическое движение,
признающее Св. Писание как не противоречащее разуму; получило свое название по имени Лелия и
Фавста Социнов; социниане отвергали догмат Св. Троицы, полагали Иисуса Христа
человеком, одаренным божественными свойствами, в таинстве причащения видели простой обряд.
ЗВАНЫЙ ВЕЧЕР У Д-РА БЁРНИ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Dr. Burney's
Evening Party // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 108-125.
На английском языке впервые опубликовано в 1932 г. в составе второй серии
«Обыкновенного читателя».
1 Фанни Бёрни - нашему главному информатору... - Бёрни Фрэнсис, в замужестве мадам
Д'Арблэ (1752-1840), дочь д-ра Бёрни, писательница, автор романов «Эвелина» («Evelina»,
1778), «Цецилия» («Cecilia», 1782), «Камилла» («Camilla», 1796). В 1832 г. Фанни Бёрни
издала «Мемуары» («Memoirs of Doctor Burney») - воспоминания об отце. Ее «Ранний дневник:
1768-1778» («The Early Diary of Frances Burney, 1768-1778», 1889) содержит воспоминания о
С. Джонсоне, Гэррике и т.д., а «Дневник и письма г-жи Д'Арблэ: 1778-1840» («The Diary and
Letters of Madame d'Arblay, 1778-1840», 1842-1846) дают яркое представление о ее жизни при
дворе (в 1786 г. Фанни Бёрни была назначена фрейлиной королевы Шарлотты).
2 Одно время их семья жила в Кингз-Линне... - Кингз-Линн - город в графстве Норфолк,
где д-р Чарлз Бёрни жил с семьей с 1751 по 1760 г.
3 «...у меня нет слов выразить удовольствие ~ только познакомилась». - Здесь и далее
цитаты из дневников и писем Фанни Бёрни приводятся в переводе по: The Early Diary of
Frances Burney, 1768-1778: 2 vols / Ed. by A.R. Ellis. L., 1889. Vol. I. P. 13.
4 ...ее обожаемый батюшка... - Бёрни Чарлз, или д-р Бёрни (1726-1814), английский
музыкант, органист и композитор; отец Фанни Бёрни.
5 ...уважаемый папочка Крисп... - Папочка Крисп из Чезингтона - приятель д-ра Бёрни, в
чьей усадьбе - Чезингтон-холл - в окрестностях Эпсома часто гостили его дети. Ссылка при-
710
Приложения
водится в переводе по: Hill С. A Rendevous of Certain Illustrious Personages during the French
Revolution Including Alexandre D'Arblay and Fanny Burney. L., N.Y., 1904. Ch. XV. P. 146-147.
6 Стоило ей прочитать «Расселаса»... - Полное название философской повести Сэмю-
эла Джонсона - «Расселас, принц Абиссинии» («The History of Rasselas, Prince of Abyssinia»,
1759). В этой повести о «жизненном выборе» Джонсон обратился к характерной для
просветительства теме разрыва между человеческим стремлением к счастью и реальной
невозможностью его осуществления.
7 ...она очень рано научилась обходить при письме фамилию «Томкинс»... - Речь о Том-
кинсе Томасе (1572-1656), известном композиторе конца XVI - начала XVII в., выдающемся
деятеле английской школы мадригала. Его музыкальное наследие, включающее мадригалы,
гимны, литургии и др., было сохранено, благодаря изданию «Musica Deo Sacra" («Боговдох-
новенная музыка» -лат.), осуществленному в 1668 г. его сыном Натаниэлем. Очевидно, что
Фанни избегала упоминания о Томкинсе, чтобы не наступать, так сказать, на больную мозоль
своего отца, сочинителя и учителя музыки, д-ра Бёрни.
8 Поулэнд-стрит - улица в Лондоне, район Сент-Джайлз.
9 Чарлз занимался классической филологией... - Бёрни Чарлз (1757-1817), младший сын
д-ра Чарлза Бёрни, ученый-классик. После его смерти Британский музей приобрел его
библиотеку, насчитывавшую более 13 000 наименований, включая самое полное собрание первых
английских газет.
10 «...его обаянию и обходительным манерам» - Здесь Вулф цитирует в своем пересказе
мнение Сэмюэла Джонсона о д-ре Бёрни, которое вошло в книгу Piozzi H.L. The Anecdotes
of the Late Samuel Johnson during the Last Twenty Years of His Life. L., 1786. P. 141 (цит. no:
Woolf V. The Common Reader. L., 2003. Vol. II. P. 289).
11 «не могу не записывать разные случайные мысли ~ это сильнее меня». - Цитата
приводится в переводе по: The Early Diary of Frances Burney. Vol. I. P. 304.
12 ...великийГэррик... -Гэррик, или Гаррик Дэвид (1717-1779), - великий драматический
актер. Потомок гугенотов, ученик д-ра Джонсона в частной школе в Эриол под Личфилдом,
Гэррик последовал за своим учителем в Лондон и в 1741 г. дебютировал в Ипсвиче в пьесе
Сазерна «Оруноко» (полное название пьесы, написанной по роману Афры Бен «Оруноко, или
История королевского раба» («Oroonoko, or the History of the Royal Slave», 1688). Тогда же
состоялся и дебют Гэррика на лондонской сцене - он играл Ричарда III. Помимо комических и
трагедийных ролей, Гэррик написал несколько легких фарсов «Bon Ton, или Светская жизнь в
мансарде» («Bon Ton, or High Life Above Stairs», 1775) и выступил соавтором Колмена в
сочинении пьесы «Тайный брак» («The Clandestine Marriage», 1766). В 1747 г. он стал соруководи-
телем лондонского театра «Друри Лейн», где поставил много шекспировских пьес -
последний раз он вышел на сцену в 1776 г. В 1773 г. он был избран членом клуба С. Джонсона. Его
переписка со многими выдающимися современниками была издана в 1831-1832 гг. и в 1963 г.
Его актерская слава не имеет равных.
13 в «младенческом возрасте ее покалечила свинья, и ей вынуждены были приставить
серебряный бок». ~ Цитата приводится в переводе по: The Early Diary of Frances Burney. Vol. II.
P. 31-32. Речь идет о певице Лукреции Агьяри, известной также под именем «Ла Бастаделла».
14 «Стоило ему заговорить ~ как желудок его приходил в сильнейшее волнение, что
гости не на шутку встревожились». - Ibid. Vol. II. P. 14. Речь идет о Джеймсе Брюсе (1730-
1794), путешественнике, исследователе истоков Нила в Абиссинии.
15 Особенно интересовали Криспа «м-р Гревил и его идеи». - Гревил Фьюк (1554-1628) -
первый барон Брук, которому в 1621 г. за многолетнюю службу при дворе король Яков I
пожаловал титул пэра, замок Уоррик и поместье Ноул-парк.
16 «черты и цвет его лица дышали мужской красотой» ~ «сдержанности и
изящества». - Цитаты приводятся в переводе по: Burney F. Memoirs of Doctor Burney: 3 vols. L., 1832.
Vol. 1. P. 24-25.
17 ...молодой Бёрни... - Вероятно, речь о Чарлзе Бёрни-младшем.
18 «fogrum» - человек старых правил (англ.); слово «fogrum» возникло в 1765-1775 гг.
Примечания
711
19 ...в водоворот Уайтса и Нъюмаркета... - Традиционное место скачек недалеко от
Кембриджа.
20 «его ум рожден для метафизики». - Неточная цитата Вулф приводится в переводе по:
Memoirs of Doctor Burney. Vol. 1. P. 43.
21 ...он «с достоинством ждал, когда же его осияет слава- ждал спокойно, без
волнения». -Ibid. Vol. 2. P. 112.
22 ...о доме на Стретхеме, принадлежавшем некой миссис Трэйл... - Миссис Трэйл, она
же Эстер Линч Пьоцци (1741-1821)- хозяйка светского салона в Лондоне в 1870-е годы, в
котором часто бывали Сэмюэл Джонсон, Эдмунд Бёрк, Дэвид Гэррик, Оливер Голдсмит,
Джошуа Рейнолдс, Фрэнсис и Чарлз Бёрни и др. Это она издала «Случаи из жизни покойного Сэ-
мюэла Джонсона» (1786).
23 «это звезда первой величины среди женщин по остроумию ~ выходящим далеко за
пределами ее круга». - Цитата приводится в переводе по: Memoirs of Doctor Burney. Vol. 2. P. 75.
24 Хэралдз-колледж - в прошлом колледж, ныне корпорация, устанавливающая
родословную и присуждающая титулы.
25 Брайтон - морской курорт в графстве Сассекс на юго-востоке Англии.
26 «Помнится, однажды я всплакнула о кузене -мир от этого стал бы хуже?» - Цитата
приводится в переводе по: Piozzi H.L. (Mrs. Thrale). The Anecdotes of the Late Samuel Johnson
during the Last Twenty years of His Life. L., 1786. P. 63.
27 ...выскочку Босуэлла... - О Босуэлле Джеймсе см. примеч. 4 к эссе «"Письма"
Дороти Осборн» на с. 700 наст. изд.
28 Брайтельмстоун Даунз - окрестности Брайтона, см. выше примеч. 25.
29 ...поздравил его с выходом словаря. - Имеется в виду «Словарь английского языка»
(«A Dictionary of the English Language», 1755) С. Джонсона. План создания словаря,
первого в своем роде в Англии, возник у Джонсона в 1747 г., вместе с идеей посвятить будущий
словарь лорду Честерфилду (посвящение, впрочем, не состоялось). Джонсон так определил
цель: создать «словарь, который помог бы закрепить произношение в нашем языке и
способствовал бы его скорейшему усвоению; сохранил бы чистоту языка, утвердил бы его
использование в речи и продлил бы его существование». Джонсон дал определения приблизительно
40 000 слов, снабдив их примерами в виде 114 000 цитат, почерпнутых из разных областей
знаний и литературы, начиная с елизаветинского периода. «Словарь» Джонсона не имел себе
равных, вплоть до появления «Оксфордского словаря английского языка» (1884-1928).
30 Пьоцци - итальянский музыкант, второй супруг Эстер Линч Пьоцци («миссис
Трэйл»).
31 «напустил на себя надменный отрешенный вид ~ встал, подобно римской статуе, у
камина, спиной к жаркому огню». - Цитата приводится в переводе по: Memoirs of Doctor
Burney. Vol. 2. P. 106-107.
32 «молча, не скрывая саркастической усмешки, наблюдал за всей честной компанией». -
Ibid. Vol. 2. Р. 109.
33 «обсуждали по всему Лондону, в каждом салоне, с добавлением все новых и новых
пикантных подробностей». - Ibid. Vol. 2. P. 111.
34 «совершенно потрясающей любовной драме» - Ibid. Vol. 2. P. 111.
35 ...то было завязкой неблаговидной и необъяснимой страсти миссис Трэйл к заезжему
музыканту. - Миссис Трэйл бросила мужа и убежала с синьором Пьоцци.
36 «как послушный ребенок» - Цитата приводится в переводе по: Memoirs of Doctor
Burney. Vol. 2. P. 111.
37 «скучнейшего вечера в ее жизни» - Ibid.
38 Его так называемые «прозрения»... - Ibid. Vol. 2. P. 112.
39 «Если я из вежливости уступил теплое местечко дамам» ~ «это не значит, что при
других обстоятельствах я не занял бы его сам!» - Ibid.
40 «зазвонил что было мочи» - Ibid. Vol. 2. P. 113.
41 «Так закончился тот вечер, и более ничего подобного не повторялось, да и не сказать,
чтобы кому-то очень хотелось». - Ibid.
712
Приложения
ДЖЕК МИТН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Jack Mytton // The
Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 126-131.
На английском языке впервые опубликовано в 1926 г. в «Вог» под названием «Жизнь
Джека Митна» («The Life of Jack Mytton").
1 ...кто расположился рядом в шезлонге на брайтонской набережной... - О Брайтоне см.
примеч. 25 к эссе «Званый вечер у д-ра Бёрни» на с. 711 наст. изд.
2 ...мадам Розальба... - Розальба (Rosalba), букв, бело-розовая.
3 ...дай только почитать про Беркли, Кэтисток, Куорн и Белвуар. - Беркли, Кэтисток,
Куорн и Бельвуар - традиционные места английской охоты: Кэтисток расположен в Дорсете,
Куорн - в Лестершире, Белвуар - между южным Линкольном и Нотингемом.
4 ...ласкающие слух англичанам географические названия: какой-нибудь Хамблби, Додлз-
хилл, Кэролайн-Бог, Уиниатс-Брейк. - Географические реалии, связанные с традиционной
английской охотой.
5 Нимрод - о Чарлзе Нимроде см. ниже примеч. 12. Кстати, Нимрод - библейское имя
(Быт. X : 8-9), ставшее нарицательным в английском языке со значением «охотник,
зверолов».
6 Джек Митн - Митн Джон (1796-1834)- английский аристократ времен Регентства и
правления короля Георга IV, член парламента от графства Шрусбери, прожигатель жизни,
прослывший «безумным Джеком».
7 ...происходил из старинного шропширского рода... - Шропшир - графство в западной
части центральной Англии, сравнительно малонаселенный сельский район.
8 Матн - букв, «матн» (mutton); означает «баранина».
9 ...Бронте изначально звались Пранти... - Шотландская фамилия «Пранти» (Prunty)
имеет разновидности: Пранток (Pruntoch), Пранто (Prunto), Пронток (Prontoch), Бранти (Brunty),
Бронте (Bronte) и др. Восходит к XI в.
10 ...унаследовал славное поместье... - Родовое поместье Холстон-холл в Уитингтоне
неподалеку от Шрусбери, графство Шропшир.
11 Георг IV- полное имя Георг Август Фридрих (1762-1830), король
Великобритании и Ирландии, регент с 1811 г. по причине неизлечимой душевной болезни отца, короля
Георга III; взошел на престол в 1820 г.
12 Нимрод - Нимрод Чарлз Джеймс Эпперли, сосед Митна, близкий друг, автор
«Воспоминаний о жизни покойного Джона Митна» («The Memoirs of the Life of the Late John Mytton»,
1837).
13 ...на картинах Олкена и Ролинза? - Олкен Генри Томас (1785-1851) - английский
художник, рисовавший сцены из охотничьей жизни; Ролинз Т. Дж. участвовал в оформлении
книги «Воспоминаний о жизни (покойного) Джона Митна» Ч. Нимрода.
14 «...его глодало беспокойство, и он напоминал загнанную в угол гиену». - Здесь и далее
цитаты из «Воспоминаний о жизни покойного Джона Митна» Ч. Нимрода приводятся в
переводе по: Nimrod Ch. Memoirs of the Life of the Late John Mytton. L., 1925. P. 35.
15 «Его точно гнал внахлест какой-то дух саморазрушения». - Ibid. Р. 131.
16 «...сломался г-н Митн из-за собственной широты души, помноженной на
гордость благородного человека, которому претят мелочность и осмотрительность». - Ibid.
Р. 30.
17 «ссутулившийся, опухший от пьянства ~ безнадежно истаскавшийся тип». - Ibid.
Р. 92.
18 «пронзительный отрывок из Софокла, когда Эдип поручает Креонту позаботиться о
его детях». - Ibid. Р. 106.
19 «кисточкой для ногтей, смоченной в уксусе». - Ibid. Р. ПО.
Примечания
713
20 «...тот, кому еще недавно целый земной шар казался малостью... теперь был
счастлив, как дитя». - Ibid.
АВТОБИОГРАФИЯ ДЕ КВИНСИ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. De Quincey's
Autobiography // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 132-139.
На английском языке это эссе представляет собой переработанный вариант эссе
«Вдохновленная проза» («Impassioned Prose»), опубликованного в 1926 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 К таким чудесам света, безусловно, принадлеэюит Де Квинси. - Квинси Томас Де
(1785-1859), автор знаменитой автобиографии «Исповедь англичанина, употреблявшего
опиум» («Confessions of an English Opium Eater», 1821; 1822) и многочисленных эссе,
публиковавшихся при жизни писателя в журналах «Блэквудз», «Тейтс» и др. Среди его
журналистских опусов выделяются работы, в которых он описывал психологию сновидений, например
«Вздохи из бездны» («Suspiria de Profundis», 1845), а также воздействие детских
впечатлений на будущую личность посредством кристаллизации их в форме снов и символов,
которые могут дать толчок к созданию литературных, поэтических произведений, по Де Квинси,
«вдохновленной прозы» («impassioned prose»). В последнем исследователи усматривают
новаторство Де Квинси, на 30 с лишним лет опередившего Фрейда в изучении психологии
сновидений.
2 «"Конец всему!" подсказывало мне сердце ~ "не бывать больше радости жизни"». -
Здесь и далее цитаты из «Автобиографических набросков» («Autobiographie Sketches») Де
Квинси приводятся в переводе по: De Quincey Th. The Works: 15 vols. L., 1853. Vol. LP. 1.
3 . ..стоя в летний день «у раскрытого окна, а за спиной у него лежит мертвое тело». -
Ibid. Vol. I. Р. 17.
4 ...все, кроме образа «одинокого ребенка, в одиночку пытающегося противостоять
горю - этой черной бездне, этой бездонной печали, которую никогда не выплакать». -
Цитата из «Предисловия» к «Автобиографическим наброскам» Де Квинси приводится в переводе
по: Ibid. Vol. I. P. xi.
5 ...обращается к Милтону, Джереми Тейлору и сэру Томасу Брауну... - Милтон Джон,
английский поэт-неоклассицист XVII в., автор поэм «Потерянный рай» («Paradise Lost»,
1667), «Рай обретенный» («Paradise Regained», 1671), ранней элегии «Ликид» («Lycidas»,
1637) и маски «Комус» («Cornus», 1637) и др.; Тейлор Джереми (1613-1667) - капеллан
Карла I, пострадавший в эпоху Кромвеля и вернувшийся к обязанностям священнослужителя
после Реставрации; литературной славой Тейлор обязан простому и торжественному стилю
лучших своих произведений: «Как свято жить» («The Rule and Exercise of Holy Living», 1630)
и «Как свято умереть» («The Rule and Exercise of Holy Dying», 1651); о Томасе Брауне см.
примеч. 24 к эссе «Елизаветинский сундук» на с. 660 наст. изд.
6 «Если бы он действительно мог разорвать пелену тумана ~ настолько она
притягательна в своей непосредственности». - Цитата из «Предисловия» к «Автобиографическим
наброскам» Де Квинси приводится в переводе по: De Quincey. The Works. Vol. I. P. xii.
7 «...огромное большинство людей- просто не способны избавиться от
стыдливости». - Ibid. Vol. I. P. xi.
8 «Именно из-за того ~ он не может с ними и достойно совладать». - Ibid. Vol. I. P. xii.
9 Рескин - о Рескине см. примеч. 10 на с. 685 наст. изд.
10 Карлайл - Карлайл Томас (1795-1881), общественный деятель, критик, историк,
автор книг «Сартор Резартус» («Sartor Resartus", букв. «Заштопанный портной», 1833-1834),
«История французской революции» («History of the French Revolution», 1837), «Чартизм»
23. Вирджиния Вулф
714
Приложения
(«Chartism», 1839), «Прошлое и настоящее» («Past and Present», 1843) и др. См. примеч. 8 на
с. 685 наст. изд.
11 ...ни дать, ни взять Король Крючкотвор Заоблачный... - Возможно, данная
характеристика Томаса Де Квинси восходит к «Жизнеописанию Томаса Де Квинси» А.Х. Джэппа:
Japp А.Н. Thomas De Quincey: His Life and Writings: 2 vols. L., 1877.
12 «желание выделиться и страсть к буквоедству». - Цитата из «Автобиографических
набросков» Де Квинси приводится в переводе по: De Quincey. The Works. Vol. I. P. 60.
13 «въедливое внимание к чужому слову, в котором он всегда выискивал какой-то
скрытый смысл» - Ibid. Р. 61.
14 «Вечная моя беда - я слишком много размышляю и слишком мало вижу». - Цитата из
«Исповеди англичанина, употреблявшего опиум» Де Квинси приводится в переводе по: De
Quincey Th. Confessions of an English Opium Eater / Ed. with an Introduction by Alethea Hay ter.
Harmondsworth, 1971. P. 82.
15 «...с юных лет я гордился ~ неважно, мужчине ли, женщине, ребенку». - Ibid. Р. 50.
16 ...его однокашник лорд Олтамон... - Граф Олтамон, друг Де Квинси по Итону,
упомянут в «Исповеди англичанина...» (Ibid. Р. 246).
17 «Нет ничего более оскорбительного выставляющего напоказ свои душевные раны и
нравственные язвы». - Цитата из обращения «К читателю» Де Квинси, предваряющего
«Исповедь англичанина...», приводится в переводе по: De Quincey Th. То the Reader // Confessions
of an English Opium Eater. P. 29.
18 ...остается непревзойденным образцом самоанализа в литературе
девятнадцатого века. - Очевидно, Вулф имеет в виду именно английскую литературу XIX в.
19 «И, перебирая в памяти прошлое, ~ одинокую темную старость...». - Цитата из
«Вздохов из бездны» Де Квинси приводится в переводе по: De Quincey Th. Suspiria de Profundis //
Confessions of an English Opium Eater with its sequels «Suspiria de Profundis» and «The English
Mail Coach» / Ed. by M. Elwin. L., 1956. P. 465-466, 470. Интересно, что в оригинале
заключительные слова цитируемого фрагмента звучат иначе, чем в тексте Вулф: «old age» (p. 470)
вместо «declining years».
20 «тайные пружины собственных поступков и умолчаний» - Цитата из «Предисловия»
Де Квинси к «Автобиографическим наброскам» приводится в переводе по: De Quincey. The
Works. Vol. I. P. xii.
21 ...например, о дилижансах... - В качестве примера Вулф приводит произведение
Томаса Де Квинси «Английский почтовый дилижанс» («The English Mail Coach», 1849).
22 ...об ирландском восстании... - Имеется в виду восстание 1798 г., которое подняла
против владычества Британии группа ирландских республиканцев-революционеров,
вдохновленных идеями Великой Французской революции и революции в Северной Америке.
23 Георг III - Георг Вильгельм Фридрих (1738-1820), король Великобритании и
Ирландии, курфюрст (с 1814 г.) Ганновера.
ЧЕТЫРЕ ФИГУРЫ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Four Figures:
I. Cowper and Lady Austen. II. Beau Brummel. III. Mary Wollstonecraft. IV. Dorothy Wordsworth //
The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 140-172.
На английском языке первая и четвертая части эссе - «Каупер и леди Остен» («Cowper
and Lady Austen») и «Дороти Вордсворт» («Dorothy Wordsworth») - были написаны для
второй серии «Обыкновенного читателя» и опубликованы в 1932 г.; вторая часть «Beau Браммел»
(«Beau Brummel») впервые опубликована в 1929 г. в «Нейшн энд Атенеум»; третья часть эссе
«Мери Уолстоункрафт» («Mary Wollstonecraft») опубликована в 1929 г.
Примечания
715
/. Каупер и леди Остен
1 Каупер- Каупер Уильям (1731-1800), английский поэт-предромантик; соавтор
«Гимнов Олни» («Olney Hymns»), написанных вместе с Дж. Ньютоном в 1779 г., автор сатир
«Застольные беседы» («Table Talk», 1782), «Путь ошибок» («The Progress of Error», 1782),
«Правда» («Truth», 1782). Самым известным произведением Каупера считается поэма «Поручение»
(«The Task», 1785), тему которой предложила его знакомая леди Остен. Центральные темы
творчества Каупера: богооставленность - она звучит в его «Воспоминаниях» («The Memoir of
the Early Life of William Cowper»), написанных около 1767 г. и опубликованных в 1816 г., во
многих его письмах («The Life and Works of Cowper»); сострадание к бедным и униженным;
критика процветавшей в то время работорговли.
2 ...в Вохолле и Мэрилебо-гарденс... - Вохолл - район южного Лондона; Мэрилебо-гар-
денс - лондонский увеселительный парк, был открыт в качестве официального места для
проведения концертов и развлечений в 1731 г.
3 Жил он уже несколько лет подряд в доме некой миссис Ануин... - Ануин Мери (ум.
1796) - вдова священника Морли Ануина, долгие годы поддерживавшая морально и
материально Уильяма Каупера; многие письма Каупера адресованы сыну миссис Ануин, преп.
Уильяму Ануину.
4 Преподобный Джон Ньютон... - Ньютон Джон Генри (1725-1807) - священник
англиканской церкви, в прошлом капитан работоргового судна; автор многих христианских гимнов.
5 «Дни мои проходят в пустом тщеславии...»; «душа, раз загубленная, ожить не
может». - Первая цитата из письма У. Каупера преп. Дж. Ньютону от 20 апреля 1783 г.
Вторая - из письма от 13 января 1784 г. Здесь и далее цитаты из писем У. Каупера приводятся в
переводе по: The Correspondence of William Cowper: 4 vols / Ed. by Thomas Wright. L., 1904.
Vol. 2. P. 60, 147.
6 «...она так заразительно смеется, что ты тоже невольно начинаешь смеяться, и
беседа с ней течет непринужденно». - Ibid. Vol. 1. P. 326. Письмо Каупера преп. Джону Ньютону
от 7 июля 1781 г.
7 «люди очень простодушны». - Ibid.
8 ...они отправлялись веселой компанией в Спинни... - Об этом эпизоде упоминается в
письме Каупера преп. Дж. Ньютону от 29 июля 1781 г. См.: The Life and Works of Cowper:
8 vols / Ed. by T.S. Grimshawe. 2nd ed. L., 1836. Vol. I. P. 277.
9 ...это она вдохновила Уильяма на создание стихотворения про диван... - Под
«стихотворением про диван» имеется в виду поэма «Поручение», написанная У. Каупером по
подсказке и просьбе леди Остен.
10 ...про Джона Гилпина рассказала ему тоже она... - Речь идет о комической поэме
У Каупера «Смешная история о Джоне Гилпине» («The Diverting History of John Gilpin»,
1782), которую Каупер упоминает в письме к У. Ануину от 4 ноября 1782 г. См.: The Life and
Works of Cowper. Vol. II. P. 87.
11 «в ней уживаются и веселость, и мудрость»... - Цитата приводится в переводе по: The
Correspondence of William Cowper. Vol. 1. P. 443. Письмо Каупера от 9 февраля 1782 г.
12 Олни - городок в графстве Букингем.
13 «модную, ладную ~ не то что какой-нибудь круглый плоский блин». - Цитата
приводится в переводе по: The Correspondence of William Cowper. Vol. 2. P. 181. Письмо Каупера от
21 марта 1784 г.
14 ...дни тянулись «точно вата»... - Ibid. Vol. 1. P. 217. Письмо У. Каупера от 20 июля
1780 г.
15 ...воображая себя в составе команды Кука или Эпсона... - Кук Джеймс (1728-1779) -
английский исследователь, мореплаватель, капитан Королевского флота; Энсон, или Ансон
Джордж (1697-1762) вошел в историю как один из первых кругосветных мореплавателей,
реформатор британского флота и боевой адмирал.
23*
716
Приложения
16 ...на самом деле дальше Сассекса и Букингема он нигде никогда не бывал. - То есть
Каупер нигде не бывал дальше городка Олни и ближайшего графства Сассекс на юго-востоке
Англии.
17 «Мне знаком каждый камешек в саду...»; «Я смотрю вдаль -радостное в тысячу раз
виденном ручье или раскидистом дереве». - Первая цитата приводится в переводе по: The
Correspondence of William Cowper. Vol. 2. P. 85-86. Письмо Каупера от 27 июля 1783 г. Вторая
цитата - Ibid. Р. 121. Письмо Каупера от 10 ноября 1783 г.
18 «Рядя человека в красивые одежды ~ только отравляет нас осознанием совершенной
ошибки». - Ibid. Vol. 1. P. 443. Письмо Каупера от 9 февраля 1782 г.
19 ...Каупер, в благодарность за понимание, послал ей в подарок свою книгу. - Этой
книгой стала первая опубликованная книга стихов У. Каупера, в которую вошли сатиры,
небольшие стихотворения, а также «Стихи, предположительно написанные Александром Сэлкир-
ком» (1782). Об этом подарке Каупер упомянул в письме к У. Ануину от 24 февраля 1782 г.
См.: The Life and Works of Cowper.Vol. II. P. 36-37.
20 «Мы втроем с леди Остен проводим время ~ а днем тружусь, не покладая рук». -
Цитата приводится в переводе по: The Correspondence of William Cowper. Vol. 2. P. 36. Письмо
Каупера от 19 февраля 1783 г.
21 ...нет, кажется, места «чертополоху печали»... - Из поэмы У. Каупера «Поручение»
(«The Task») цитируется в переводе по: Cowper W. The Task // The Life and Works of Cowper.
Vol. VII. P. 46.
22 ...обнаружила стихотворение, посвященное «сестре» Анне... - Имеется в виду
стихотворение У Каупера «К Леди Остен» («То Lady Austen»).
23 «ни дать, ни взять Герцогиня...» - Цитата приводится в переводе по: The Correspondence
of William Cowper. Vol. 1. P. 53. Письмо У Каупера от 25 октября 1765 г.
24 ...Анна пришла и разрушила «ту идиллию»... - Ibid. Vol. 1. P. 448. Письмо Каупера от
24 февраля 1782 г.
25 «Все суета сует...»; «Тело живет, но душа, раз загубленная, ожить не может». - См.
примеч. 5 на с. 715 наст. изд.
7/. Beau Браммел
26 Герцогиня Девоншир - Кэвендиш Джорджиана, урожденная Джорджиана Спенсер
(1757-1806), герцогиня Девоншир, первая супруга Уильяма Кэвендиша, герцога Девоншира,
хозяйка светского салона, красавица и знаменитость; изображена на портретах кисти Т. Гейн-
сборо и Дж. Рейнолдса.
27 «Вы, сударыня, увидите ~ у себя на голове - лысину» - Источник цитаты не
установлен, предположительно цитируется письмо У Каупера преп. Дж. Ньютону от 31 мая 1783 г.
28 ...в Кане... - Речь идет о городе Кан (Caen) в Нормандии (Франция).
29 Beau Браммел... - Браммел Джордж Брайан (1778-1840), известный под именем Beau
Браммел, друг принца-регента (будущего короля Георга IV) и законодатель лондонской моды.
В России его знали под именем Брюмеля, которое стало к концу XIX в. нарицательным;
например, Александр Бенуаписал в своих «Воспоминаниях»: «...был период в моей жизни,
когда я захотел, под влиянием всяких романов, сделаться элегантным денди, чуть ли не вторым
Брюмелем» (БенуаА. Мои воспоминания: В 2 кн. М., 2003. Кн. I. С. 218). Beau- красавец,
франт, щеголь (фр.). Здесь и далее цитаты из высказываний Браммела приводятся в переводе
по: Jesse W. The Life of George Brummel, esq. commonly called Beau Brummel: 2 vols. L., 1886.
30 Олмэкс - один из первых лондонских клубов, которые могли посещать и мужчины и
женщины. Был открыт в 1765 г.; его патронировали великосветские дамы.
31 Уиндермир - красивейшее озеро в Озерном крае в Шотландии.
Примечания
111
32 «изысканное чувство меры» - Цитата, представляющая собой высказывание Дж. Г.
Байрона о Браммеле, приводится в переводе по: Jesse W. The Life of George Brummel. Vol. 1. P. 70.
Полностью высказывание Байрона, по словам биографа Браммела капитана Уильяма Джесси,
звучит так: «По моей просьбе м-р Ли Хант любезно записал несколько историй о Браммеле, в
частности мнение лорда Байрона, который, как пишет Ли Хант, "как-то раз заметил мне, что
не находит ничего примечательного в манере Браммела одеваться, кроме 'особого
изысканного чувства меры' "».
33 Хэриет Уилсон - Уилсон Хэриет (1786-1846) - куртизанка, запечатлевшая
воспоминания о своих похождениях в Англии времен Регентства в «Мемуарах Хэриет Уилсон, писанных
ею самой» («Memoirs of Harriette Wilson, Written by Herself», 1825), где описаны ее отношения
с Браммелом, князем Эстерхази, герцогом Веллингтоном и др.
34 А тут закончилась война... - Имеются в виду наполеоновские войны времен империи
Наполеона I (1804-1814, 1815 гг.).
35 Ватъе - лондонский клуб, где собирались светские игроки.
36 Лорд Олвэнли - Арден Уильям (1789-1849), барон Олвэнли, друг Beau Браммела,
завсегдатай Ватье, или «клуба денди», названного так лордом Байроном.
37 ...местные подмастерья за глаза прозвали его «Георг, позови прислугу»... - Соль
шутки в том, что под «Георгом» остряки имели в виду короля Георга IV (1762-1830).
III. Мери Уолстоункрафт
38 «Вновь Франция в зените Золотого века, /И, кажется, природа человечества
воспрянула». - Цитата из поэмы У. Вордсворта «Прелюдия» («The Prelude», 1850) приводится в
переводе по: Wordsworth W. The Prelude, or Growth of a Poet's Mind: An Autobiographical Poem /
Ed. by Ernest de Selincourt. 2nd ed. Oxford, 1959. B. VI. P. 194.
39 Сомерс - район Лондона вблизи Хемстеда, Панкрасс-роуд и Юстон-роуд.
40 ...и правах человека... - «Права человека» («The Rights of Man», 1791-1792)-
название политического трактата Томаса Пейна (1737-1809). Первая часть трактата представляет
собой ответ на «Размышления о революции во Франции» («Reflections on the Revolution in
France», 1790) Эдмунда Бёрка (1729-1797). Вторая часть трактата посвящена сравнению
новых американской и французской конституций с политическими институтами в Англии - не
в пользу последних.
41 ...у него тщедушное тело и несоразмерно большая голова, довольно мелкие черты лица
и очень длинный нос. - Так Вулф описывает внешность Уильяма Годвина (1756-1836),
философа, атеиста, литератора; автора нескольких сочинений: «Исследование, касающееся
политической справедливости» («Enquiry concerning Political Justice», 1793), «Приключения Кале-
ба Уильямса» («The Adventures of Caleb Williams», 1794) и др.
42 Мери Уолстоункрафт - Уолстоункрафт Мери (1759-1797) - английская писательница,
публицист, борец за права женщин; среди ее сочинений выделяются «Мысли о воспитании
дочерей» («Thoughts on the Education of Daughters», 1787), роман «Мери» («Mary», 1788),
«Защита прав мужчин» («A Vindication of the Rights of Men», 1790) и «Защита прав женщины»
(«A Vindication of the Rights of Woman», 1792).
43 Темпл - средневековое подворье в центре Лондона, учрежденное рыцарями ордена
Тамплиеров.
44 Крайстс Хоспитл - школа для одаренных, но неимущих детей, мальчиков и девочек,
учрежденная в 1552-1553 гг. в Ньюгейте (Лондон) по указу короля Эдварда VI и при
поддержке Николаса Ридли, епископа Лондона, а также Ричарда Даббса, мэра лондонского Сити.
Самым знаменитым директором этого учебного заведения был Джеймс Бойер, который
руководил им с 1778 по 1799 г., в пору учебы в нем Ли Ханта, Чарлза Лэма и Сэмюэла Тейлора
Колриджа.
718
Приложения
45 «Каждая новая обязанность ~ ограничивая данную нам природой свободу и унижая
ум». - Здесь и далее цитаты из «Воспоминаний Мери Уолстоункрафт», изданных У.
Годвином в 1798 г., приводятся в переводе по: Godwin W. Memoirs of Mary Wollstonecraft / Ed. by
W.C. Durant. L., 1927. P. 172-173. Цит. no: Woolf V. The Common Reader. Vol. II. P. 297.
46 «Никто не заставит меня заниматься тем, к чему у меня самой не лежит душа». -
Ibid. Р. 172.
47 Тогда Мери организовала школу ... - Мери Уолстоункрафт открыла школу в Ньюингтон
Грин в 1784 г.
48 ...заставила капитана их судна оказать помощь терпящему бедствие французскому
паруснику. - То был период войны за независимость в США (1775-1783), и Англия и Франция
находились в состоянии вражды друг с другом.
49 Фузели - Фузели Генри, или Фюсли Иоганн Генрих (1741-1825) - британский
художник швейцарско-австрийского происхождения, рисовальщик и автор книг об искусстве.
Известен его портрет Мери Уолстоункрафт. Женой Фузели была София Ролингз, его бывшая
натурщица.
50 «Ответ Бёрку» - неофициальное название памфлета Мери Уолстоункрафт «Защита
прав мужчин». См. выше примеч. 42.
51 «Защита прав женщины» - самое знаменитое произведение писательницы. См. выше
примеч. 42.
52 ...стоило ей собственными глазами увидеть презираемого ею короля... - Речь идет о
короле Людовике XVI.
53 «Сама не знаю, почему ~ первый раз в жизни мне страшно загасить свечу». - Цитата
из письма М. Уолстоункрафт от 26 декабря 1792 г. приводится в переводе по: Wollstonecraft M.
Letters to Imlay / With Prefatory Memoir by C. Kegan Paul. L., 1879. P. xxxiv-xxxv.
54 «Яне святая и не жду поклонения» - Цитата из письма М. Уолстоункрафт от 1-2
января 1794 г. приводится в переводе по: Wollstonecraft M. Letters to Imlay.
55 Имли - Гилберт Имли (1754-1822) - американский бизнесмен и литератор, с которым
Мери Уолстоункрафт познакомилась в Париже в 1792 г. и от которого родила в 1794 г. дочь
Фанни.
56 «Мне нужно только одно: стать для тебя необходимой». - Цитата приводится в
переводе по: Wollstonecraft M. Letters to Imlay. P. 26. Письмо от 1-2 января 1794 г.
51 «Брак - это взаимное чувство, и если любовь умирает, брачные узы не властны, значит,
такова судьба». - Цитата из «Воспоминаний» У. Годвина приводится в переводе по: Paul С.
Kegan. William Godwin: His Friends and Contemporaries. In 2 vols. L., 1876. Vol. I. P. 214.
58 «Мне нравится слово "привязанность ", оно такое домашнее». - Цитата приводится в
переводе по: Wollstonecraft M. Letters to Imlay. P. 3. Письмо от августа 1793 г.
59 Саути - Саути Роберт (1774-1843) - английский поэт-романтик.
60 Имли ее бросил, одну, с ребенком - их общим ребенком! - Речь идет о дочери Мери
Уолстоункрафт Фанни.
61 «Дорогая, посмотри- Эти переходы, переливающиеся цвета...»- Мери
Уолстоункрафт иногда гостила в парижском доме четы Швейцеров. Описание их совместной прогулки
относится к 1794 г. Цитата из «Дневника» М. Швейцер (1751-1814) приводится в переводе
по: Godwin W. Memoirs... P. 247.
62 Барон de Вольцоген. - Вольцоген, барон Людвиг Юлий Адольф Фридрих фон (1774—
1845) - прусский офицер, в 1807 г. переехал в Петербург, где поступил на службу при
Генеральном штабе; в 1812 г. состоял при Главном штабе генерала Барклая-де-Толли, позже при
Кутузове; в 1813 г. - при штабе императора. На поле битвы под Лейпцигом он был произведен
в генерал-майоры за совет послать на помощь Клейсту австрийские резервы. В 1815 г.
Вольцоген снова перешел на службу в прусскую армию.
Примечания
719
63 «Должна признаться ~ мне сразу расхотелось любоваться пейзажем». -
Цитата из «Воспоминаний» У. Годвина приводится в переводе по: Godwin W. Memoirs of Mary
Wollstonecraft. P. 247.
64 «навсегда исчезнуть из твоей жизни» - Цитата из письма Мери Уолстоункрафт к
Г. Им л и приводится в переводе по: Wollstonecraft M. Letters to Imlay. P. 86. Письмо от 30
декабря 1974 г.
65 «мой покой в первую очередь зависит от тихих житейских радостей». - Ibid. Р. 95.
Письмо от 30 января 1795 г.
66 Путни - мост через Темзу, построенный в ноябре 1729 г.; расположен между Ландон-
бридж и Кингстон-бридж.
67 «ее неукротимая воля к жизни» - Источник цитаты не установлен.
68 «брак - это закон, причем из всех законов он наихудший ~ самый несправедливый». -
Цитата из «Воспоминаний» У. Годвина приводится в переводе по: Paul С. Kegan. William
Godwin. His Friends and Contemporaries. Vol. I. P. 113.
69 «это не беда ~ чувственная сторона любви - не главное». - Ibid.
70 «чувство пришло само собой» - Цитата приводится в переводе по: Wollstonecraft M.
Letters to Imlay. P. liv.
71 «Наша дружба незаметно переросла в любовь». - Ibid.
72 «Когда в конце концов мы признались друг другу, то поняли, что знали об этом
всегда». - Ibid.
73...и они с Годвином поженились. - Событие произошло в 1797 г.
74 «Муж: - такая же необходимая часть дома, как и мебель». - Цитата из письма М.
Уолстоункрафт У. Годвину от 6 июня 1797 г. приводится в переводе по: Paul С. Kegan. William
Godwin. His Friends and Contemporaries. Vol. I. P. 251.
75 ... «сочетало в себе приятную неожиданность встреч с чувством дома...» - Godwin W.
Memoirs of Mary Wollstonecraft. P. 110.
76 «его трогает до глубины души ~ ты не одинок в своем счастье». - Цитата из
письма У. Годвина М. Уолстоункрафт Годвин от 10 июня 1797 г. приводится в переводе по: Paul
С. Kegan. William Godwin. His Friends and Contemporaries. Vol. I. P. 255.
11 «наше счастье не праздное, мы отнюдь не купаемся в мелком эгоистическом
удовольствии». - Godwin W. Memoirs of Mary Wollstonecraft. P. 109.
78 ...она напишет книгу «Бесправие женщины». - Книга «Мария, или бесправие
женщины» («Maria, or The Wrongs of Woman», 1798), над которой Мери Уолстоункрафт работала
незадолго до смерти, - работала, по словам У. Годвина, «непривычно медленно» - осталась
незавершенной.
79 ...скончалась природах. - Мери Уолстоункрафт умерла при родах дочери Уильяма
Годвина Мери, в замужестве Мери Шелли (1797-1851), будущего автора романа «Франкенштейн,
или Современный Прометей» («Frankenstein, or the Modern Prometheus», 1818).
80 ...умереть в тридцать шесть... - Здесь в даты жизни Мери Уолстоункрафт, указанные
Вулф, вкралась неточность: умерла Уолстоункрафт (1759-1797) в тридцать восемь лет.
81 ... с «мыслью о том, что меня больше не будет ~ что я перестану существовать». -
Цитата из письма М. Уолстоункрафт, написанного во время короткой поездки по Швеции,
Норвегии и Дании, приводится в переводе по: Wollstonecraft M. Letters Written during a Short
Residence in Sweden, Norway and Denmark, [s.l.], 1889. P. 78.
IV. Дороти Вордсворт
82 Дороти Вордсворт - Вордсворт Дороти (1771-1855), сестра Уильяма Вордсворта,
автор нескольких дневников, впервые изданных У. Найтом в 1896 и 1904 гг. Речь идет об «Аль-
фоксденском дневнике» («Alfoxden Journal»), описывающем события января-апреля 1798 г.;
«Грасмирском дневнике» («Grasmere Journal»), посвященном событиям 1801-1803 гг., а также
720
Приложения
о дневниковых записях Дороти Вордсворт, в которых отразились их совместные с братом
путешествия в Европу: «Воспоминания о поездке в Шотландию» («Recollections of a Tour Made
in Scotland», 1803), «Дневник путешествия на остров Мэн» («A Journal of a Tour in the Isle of
Man», 1828) и др. Известно, что с 1795 г. и до смерти поэта Дороти Вордсворт жила с братом
одним домом и в то время, когда он был холост, и после его женитьбы. Взаимоотношения
брата и сестры оставляют впечатление удивительного творческого союза: сравнение записей
и стихотворений Уильяма Вордсворта с дневниками Дороти убеждает в том, что поэт
пользовался наблюдениями сестры, которой посвящены несколько стихотворений и заключительная
строка поэмы о Тинтерском аббатстве («...Ты не позабудешь, / Что после многих странствий,
многих лет/Разлуки, эти чащи и утесы / И весь зеленый край мне стал дороже... / Он сам тому
причиной - но и ты». Цит. в переводе В. Рогова). Здесь и далее ссылки на дневники Д.
Вордсворт приводятся по изданию: Journals of Dorothy Wordsworth. 2 vols: Ed. by E. de Selincourt.
L., 1941.
83 Мери с дочкой... - Речь идет о дочери Мери Уолстоункрафт- Фанни, родившейся в
1794 г.
84 Алыпона-на-Эльбе - город в Пруссии (Шлезвиг) на реке Эльбе, примыкает к Гамбургу.
85 «Жизнь, что ты такое? ~ для кого станет источником жизни?» - Цитата из письма
Мери Уолстоункрафт приводится в переводе по: Wollstonecraft M. Letters Written during a Short
Residence in Sweden, Norway and Denmark, [s.l.], 1889. P. 73.
86 ...она смотрела прямо на барона Волъцогена. - См. примеч. 62 к эссе «Четыре фигуры.
III. Мери Уолстоункрафт» на с. 718 наст. изд.
87 «Дорога от Гамбурга до Алътоны очень приятная ~ Противоположный берег Эльбы
выглядит заболоченным». - Цитата из «Дневника» Д. Вордсворт приводится в переводе по:
Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 23-24. Запись в «Дневнике» Д. Вордсворт от 23
сентября 1798 г.
88 ... «тирании, у которой из-под платья торчит раздвоенное копыто Люцифера»... -
Крылатое выражение середины 1780-х годов. См.: Schings H.-J. Die Brtider des Marquis Posa.
Schiller und der Geheimbund der Illuminaten. Tubingen, 1996. P. 169.
89 «серебрится, как идущая на нерест сельдь»... - Цитата приводится в переводе по:
Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 70. Запись от 31 октября 1800 г.
90 «Долечено же быть в душе что-то нетленное, ни за что не поверю, что жизнь -
только сон!» - Цитата из письма М. Уолстоункрафт, написанного во время короткой поездки по
Швеции, Норвегии и Дании, приводится в переводе по: Wollstonecraft M. Letters Written during
a Short Residence... P. 78. См. примеч. 81 к эссе «Мери Уолстоункрафт» на с. 719 наст. изд.
91 Альфоксден - местечко в графстве Сомерсет, где в 1798 г. жили брат и сестра
Вордсворт и куда часто приезжал Сэмюэл Колридж, позднее вспоминавший, что их общение
напоминало беседу «троих людей с одной душой».
92 «Зацвел терн, зазеленел боярышник ~ и все это за последние два-три дня». - Цитата
приводится в переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 15. Запись от 9 апреля
1798 г.
93 «вечером был сильный ветер, мы остались дома. Получили жизнеописание Мери
Уолстоункрафт и проч.» - Ibid. Запись от 14 апреля 1798 г.
94 «Природа преуспела в украшении -развалин, хижин и др.». - Ibid. Запись от 15 апреля
1798 г.
95 «К счастью, нам не дано перекраивать ландшафт в угоду нашей фантазии». - Ibid.
96 Грасмир - местечко в Озерном крае, где Дороти и Уильям Вордсворты жили в 1799-
1803 гг.
97 ...брат с сестрой обрели собственную крышу над головой... - Брат Вордсворта Джон,
служивший капитаном, дал деньги на постройку или приобретение дома, и в 1799 г. Уильям
и Дороти поселились в своем доме, известном под названием «Голубиный домик», в селении
Грасмир, неподалеку от озера с тем же названием. Так они обрели почву под ногами и осели.
Примечания
721
А в 1802 г. Вордсворты получили наконец отцовское наследство, и Уильям смог жениться на
Мери Хатчинсон.
98 .. .пусть сначала докукует кукушка... - Здесь Вулф, возможно, вспоминает
стихотворение У. Вордсворта «Кукушка» (в переводе Д. Мина и С. Маршака) или «К кукушке» (в
переводе Г. Иванова) («То the Cuckoo», 1802).
99 «в рубашке без воротничка, в расстегнутом жилете»... - Цитата приводится в
переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 123. Запись от 14 марта 1802 г.
100 ...так было с мотыльком... - Здесь Вулф указывает на стихотворение У. Вордсворта
«К бабочке» («То a Butterfly», 1802; «Stay near me - do not take thy flight...»).
101 «Буренка посмотрела ~ она тут лее прекращала жевать». - Цитата приводится в
переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 126. Запись от 18 марта 1802 г.
102 ...попался ей навстречу старик, шагавший с двумя палками... - Ibid. Р. 37. Запись от
14 мая 1800 г.
103 «Не хочу разлада с собой ~ ему будет приятно послушать». - Ibid.
104 «Горные склоны выбелило лунным светом, будто снегом»; «Воздух замер ~ Вокруг
тишина»; «Все водопады звучали в унисон - в воздухе стоял несмолкаемый водяной звон -
воздух пел». - Первая из цитируемых записей из «Дневника» Д. Вордсворт от 2 октября 1800 г.
(Ibid. Vol. 1. P. 63); вторая запись от 13 апреля 1802 г. (Ibid. Vol. 1. P. 130-131); третья запись
от 29 апреля 1802 г. (Ibid. V. 1. Р. 139).
105 «блестящую серебристую змейку, бегущую по спинам овец» - Ibid. Vol. 1. P. 140.
Запись от 29 апреля 1802 г.
106 «вороны ~ будто кто воду расплескал над зеленым лугом». - Ibid. Р. 134. Запись от
16 апреля 1802 г.
107 Дамбартон Касл - замок Дамбартон - самый древний из известных историкам
замков-крепостей в западной Шотландии; расположен на скале вулканической базальтовой
породы, недалеко от шотландского городка Дамбартон.
108 ...солдаты больше походили на кукол. - Этим сравнением Вулф, возможно, намекает на
С. Колриджа - тот был сыном солдата, и как следствие на отношение Дороти к Колриджу.
109 «они чернели, как утесы под шапками льда на солнце». - Цитата из дневника
приводится в переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. I. P. 276.
110 «переплелись почти так лее плотно ~ Так и не заснула». - Ibid. Vol. 1. P. 277-278.
Запись о второй неделе путешествия по Шотландии в августе 1803 г.
111 ...по воспоминаниям Де Квинси... - Томас Де Квинси посетил Вордсвортов в 1807 г.
и оставил воспоминания о нескольких днях, проведенных в Озерном крае. De Quincey Th.
Autobiographie Sketches. Edinburgh, 1804. Ch. HI. P. 104-142.
112 «Райдэл великолепен ~ Смирись, душа! Мне по-прежнему грустно». - Цитата
приводится в переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 38-39. Запись от 16 мая 1800 г.
113 «около десяти вечера ~ перевернул страницу...» - Ibid. Р. 128. Запись от 23 марта
1802 г.
114 «Мы оба лежали тихо ~ только одна рыбачья лодка». - Ibid. Р. 139-140. Запись от
29 апреля 1802 г.
115 ...увидит кто-то один нарциссы или спящий город... - Здесь Вулф вспоминает два
стихотворения У. Вордсворта: «Как тучи одинокой тень, / Бродил я, сумрачен и тих»
(известное как «Нарциссы») («I wandered lonely as a cloud / That floats on high o'er vales and hills» ,
1804); и «Сонет, написанный на Вестминстерском мосту 3 сентября 1802 г.» («Composed upon
Westminster Bridge, September 3, 1802»).
116 Уильям садился править своего «Собирателя пиявок»... - Имеется в виду
стихотворение У. Вордсворта «Собиратель пиявок, или Твердость и независимость» («The Leech-Gatherer
or Resolution and Independence», 1807).
117 . ..катит открытое ландо ~ в прогулочные костюмы дамы. - Об этом эпизоде Д.
Вордсворт вспоминает в дневниковой записи от 9 июня 1800 г. (См.: Journals of Dorothy Wordsworth.
Vol. l.P. 46).
722
Приложения
118 «в тех местах, где пришиты пуговицы, подставлены три заплаты темно-синего
цвета в форме колокола» - Ibid. Р. 94. Запись от 22 декабря 1801 г.
119 «серый ворс» - Ibid. Vol. 1. P. 165. Запись от 30 июня 1802 г.
120 ... про маркиза Грэнби... -Имеется в виду Джон Мэннерс, маркиз Грэнби (1721-1770),
английский военачальник, участник сражения при Вильгельмстале 24 июня 1762 г.,
когда 57-тысячная союзная армия (Англия, Пруссия и их союзники) под началом Фердинанда,
принца Брауншвейгского, нанесла поражение 72-тысячной французской армии,
возглавляемой маршалами Субизом и д'Эстре.
121 «Что, на запад путь держите?»; «Конечно, девственницам многое уготовано на
небесах»; «Она с легкой душой обходила могилы тех, кто умер молодым». - Первая запись от
11 сентября 1803 г.; вторая запись от 13 сентября того же года приводится соответственно по:
Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. 1. P. 367, 382. Третья запись от 3 июня 1802 г. приводится
по: Grasmere Journal. Vol. 1. P. 153.
122 ...Вордсворт случайно уронил в воду хлеб и цыпленка, специально зажаренного им в
дорогу... - Об этом эпизоде упоминается в записи от 26 августа 1803 г., сделанной Дороти
в ее «Воспоминаниях о путешествии по Шотландии» (См.: Journals of Dorothy Wordsworth.
Vol. l.P. 259).
123 ...счастливейшую пору жизни в Рейсдауне... - В Рейсдауне, графство Дорсет,
Уильям и Дороти Вордсворт жили в 1795 г. поначалу в совершенном одиночестве. «Наша
теперешняя жизнь вовсе лишена событий, которые заслуживали бы даже краткого
упоминания в случайном письме, - сообщал Вордсворт другу. - Мы сажаем капусту, и если
абсолютнейшее уединение окажется столь же способным совершать превращения, как Ови-
диевы боги, то можешь быть уверен, мы превратимся в капусту» (См.: The Early Letters of
William and Dorothy Wordworth / Arranged and edited by Ernest de Selincourt. Oxford, 1935.
P. 100. Цит. по предисловию E. Зыковой к изданию: Вордсворт У. Избранная лирика.
М., 2001).
124 ...когда Колридж читал «Кристабель»... - Балладу «Кристабель» («Christabel»)
С. Колридж начал писать в 1798 г., в пору дружбы с Уильямом и Дороти Вордсворт.
125 «Мы смотрели во все глаза и чувствовали себя счастливыми». - Цитата приводится в
переводе по: Journals of Dorothy Wordsworth. Vol. l.P. 101. Запись от 24 января 1802 г.
УИЛЬЯМ хэзлит
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. William Hazlitt //
The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 173-185.
В работе над эссе «Уильям Хэзлит» Вулф опиралась на свою раннюю публикацию 1929 г. -
«Уильям Хэзлит во весь рост» («William Hazlitt the Man») - в «Нью-Йорк геральд трибюн».
1 «не бывает так, чтоб в человеке все было противно». - Цитата из эссе У. Хэзлита
«Почему нам приятно то, что от нас далеко» («Why Distant Objects Please», 1821-1822)
приводится в переводе по: Hazlitt W. Table Talk: 2 vols. 3rd ed. L., 1845-1846. Vol. II. P. 155.
1 Хэзлит- Хэзлит Уильям (1778-1830), плодовитый журналист, политический
обозреватель, литературный и театральный критик, эссеист, лектор; автор «Лекций об английской
философии» («Lectures on English Philosophy», 1812), «Характеров в шекспировских пьесах»
(«Characters of Shakespeare's Plays», 1817), сборника эссе «Круглый стол» («Round Table»,
1817), написанного совместно с Ли Хантом (1784-1859), «Лекций об английских поэтах»
(«Lectures on English Poets», 1818) и книги эссе «Застольные беседы: эссе о людях и нравах»
(«Table Talk: Essays on Men and Manners», 1821-1822).
3 ...представляем его «нелюдимым, вечно насупившимся, уставившимся в пол чудаком». -
Цитата из письма С. Колриджа Томасу Веджвуду от 16 сентября 1803 г. приводится в переводе
по: Howe P.P. The Life of William Hazlitt. Harmondsworth, 1949. P. 96-97.
Примечания
723
4 «Он очень дурно воспитан» - Ibid.
5 Расплевался... со всеми своими друзьями, за исключением разве что Лэма. - Речь идет о
Чарлзе Лэме, английском эссеисте, друге СТ. Колриджа, У. Вордсворта, У. Хэзлита;
переписка У. Хэзлита и Ч. Лэма была впервые издана в 1899 г., впоследствии переиздана с
дополнениями: Lamb and Hazlitt. Further Letters and Records Hitherto Unpublished. N.Y., 1973.
6 «не пошел на поклон к правительству». - Цитата из эссе У. Хэзлита «Осознает ли
гений свое могущество?» («Whether Genius is Conscious of Its Powers?») из сборника эссе
Хэзлита «Называя вещи своими именами» («The Plain Speaker», 1826) приводится в переводе по:
Hazlitt W. The Plain Speaker: Opinions on Books, Men and Things: 2 vols. L., 1826. Vol. I. P. 29.
7 дразнили его «прыщавым Хэзлитом»... - Цитата из неподписанной рецензии на
«Сочинения Чарлза Лэма» приводится в переводе по: Memoirs of William Hazlitt by W.C. Hazlitt:
2 vols. L., 1867. Vol. 2. P. 26.
8 «To, чего мы так страшимся ~ есть единственно верные». - Цитата из эссе У Хэзлита
«Почему нам приятно то, что от нас далеко» приводится в переводе по: Hazlitt W. Table Talk.
Vol. И. P. 157.
9 «до последнего сохраняют ясный ум» - Цитата из эссе Хэзлита «О жизненном
поведении, или Совет школьнику» («On the Conduct of Life; or, Advice to a School-boy») приводится
в переводе no: Memoirs of William Hazlitt... Vol. 2. P. 19.
10 ...Униатская церковь - одна из протестантских церквей; возникла в Англии в XVII в.;
ее название связано с тем, что ее приверженцы верят в догму «единосущности» бога, а не в
его «триединство».
11 «тот случай перевернул мою жизнь, определив всю дальнейшую судьбу»; «взглянуть
по-новому... на систему политических прав и общего законодательства»; «разобраться в
причинах положения вещей». - Цитаты из «Литературных реликвий» («Literary Remains»)
Хэзлита приводятся в переводе по: Memoirs of William Hazlitt... Vol. 1. P. 25.
12 «Эссе о принципах человеческих поступков», которое он писал одновременно с
портретом... - Речь идет об «Эссе о принципах человеческих поступков: аргумент в
пользу естественной незаинтересованности человеческого ума» («An Essay on the Principles of
Human Action: Being an Argument in favour of the Natural Disinterestedness of the Human Mind»,
1805).
13 «книга вышла из печати мертворожденной». - Цитата приводится в переводе по:
Memoirs of William Hazlitt... Vol. 1. P. 131. Сама фраза У. Хэзлита об опубликованной книге,
возможно, представляет собой цитату из «Исповеди» Ж.-Ж. Руссо (книга IX).
14 «Письма Юниуса» - сборник из 69 писем («The Letters of Junius», 1772). Письма
печатались с 21 января 1769 г. по 21 января 1772 г. в периодическом издании «Общественный
советник». Юниус - псевдоним автора писем, оставшегося неизвестным.
15 ...он ничего другого не ждал от своей уродливой фигуры, рожденной на всеобщее
посмешище». - Цитата из произведения У. Хэзлита «Книга любви» («Liber Amoris», 1823)
приводится в переводе по: Hazlitt W. Liber Amoris and Dramatic criticisms / Introd. by Charles Morgan.
L., 1948. P. 73.
16 «Он говорит, что я всегда с презрением относилась к нему и к его таланту». - Цитата
приводится в переводе по: Memoirs of William Hazlitt... Vol. 2. P. 40.
17 «легким слогом разговорной прозы» - Цитата из Шестой лекции об английских
поэтах (Свифте, Юнге, Грее, Коллинзе и т.д.). У Хэзлита приводится в переводе по: Hazlitt W.
Lectures on the English Poets. 2nd ed. L., 1819. P. 208.
18 ...заруку и сердце Сары Уокер. - Историю своей любви к Саре Уокер, дочери хозяина
гостиницы, Хэзлит описал в произведении «Liber Amoris» (1823), за что был подвергнут
публичному остракизму.
19 «Любовь за любовь» - комедия Уильяма Конгрива («Love for Love», 1695).
724
Приложения
20 ...как наслаждался «Новой Элоизой»... - Имеется в виду «Юлия, или Новая Элоиза»
(«La Nouvelle Héloïse», 1761)- роман Ж.-Ж. Руссо (1712-1778), французского мыслителя,
представителя французского Просвещения, реформатора педагогики, писателя.
21 «лица, бледнее первоцвета, в обрамлении гиацинтовых кудрей» - Цитата из эссе
Хэзлита «О прошлом и будущем» («On the Past and Future») приводится в переводе по: Hazlitî W.
Table Talk. Vol. II. P. 6-7.
22 Тъюдерли - местечко в графстве Хемпшир.
23 «Саутгемптон Билдингз» - гостиница в Холборне (Лондон), где снимал квартиру Хэз-
лит.
24 Уинтерслоу - деревня в шести милях от Солсбери, графство Уилтшир, на юго-востоке
Англии.
25 ...в «Эссе Элии» или «Сэре Роджере де Каверли»... - Имеются в виду эссе Чарлза Лэма
«Эссе Элии» (1823, 1833), см. примеч. 1 к эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 664 наст, изд.;
Роджер де Каверли - персонаж, описанный в эссе Дж. Аддисона, публиковавшихся в «Зрителе».
См. примеч. 22 к эссе «Аддисон» на с. 671 наст, издания.
26 «Здесь я намерен ~ наиболее подходящими». - Цитата из эссе Хэзлита «О гении и
здравом смысле» («On Genius and Common Sense») приводится в переводе по: Hazlitt W. Table Talk.
Vol. I. P. 26.
27 «О чем только ни передумаешь ~ пережевывая горькие мысли!» - Ibid.
28 «Лед и пламень», «О зависти», «О жизненном поведении», «О живописном и
идеальном» - эссе «Лед и пламень» («Hot and Cold»), «О зависти» («On Envy») опубликованы в
книге «Называя вещи своими именами» в 1826 г.; эссе «О жизненном поведении, или Совет
школьнику» опубликовано в «Литературных реликвиях У. Хэзлита» в 1836 г.; эссе «О
живописном и идеальном» («The Picturesque and the Ideal») вошло в книгу «Застольные беседы:
эссе о людях и нравах» (1822).
29 «Нет - посредственности, душевной вялости и скуке!» - Цитата из эссе Хэзлита «О
гении и здравом смысле» приводится в переводе по: Hazlitt W. Table Talk. Vol. I. P. 57.
30 «Все, что есть ценного в жизни, - это ее поэзия». - Цитата из эссе Хэзлита «О поэзии
в общем» («On Poetry in General»), служащего вступлением к его «Лекциям об английских
поэтах» приводится в переводе по: Hazlitt W. Lectures on the English Poets. P. 3.
31 «Знать бы правду, так самые неприятные личности показались бы ангелами». -
Цитата из эссе Хэзлита «О добродушии» («On Good-Nature») из книги «Круглый стол» (1816)
приводится в переводе по: Hazlitt W. The Round Table: a Collection of Essays on Literature, Men
and Manners: 2 vols. Edinburgh, 1817. Vol. 2. P. 75.
32 «Сидя на запятках дилижанса ~ прославленного университета». - Цитата из эссе
Хэзлита «О невежестве ученых людей» («On the Ignorance of the Learned») приводится в переводе
no: Hazlitt W. Table Talk. Vol. I. P. 93.
33 «отразить цветовую гамму, игру света и тени, душу и плоть литературного
произведения» - Ibid. II. Р. 60. Из эссе Хэзлита «О критике» («On criticism»).
34 «Оно опьяняет ~ в чашечке первоцвета». - Цитата из лекции Хэзлита «О Свифте,
Юнге, Грее и др.» приводится в переводе по: Hazlitt W. Lectures on the English Poets. P. 232.
35 «глубокое, внутреннее, широкоохватное чувство» - Ibid. P. 57. Из эссе Хэзлита «О Чо-
сере и Спенсере» («On Chaucer and Spenser»).
^«единственный из поэтов, кто попробовал себя в жанре трагедийного натюрморта и
сделал это успешно». - Ibid. Р. 192-193. Из эссе Хэзлита «О Томсоне и Каупере» («On
Thomson and Cowper»).
37 «У Бёрка зигзагообразный ~ стиль». - Цитата из эссе У. Хэзлита «О чтении
древних книг» («On Reading Old Books») приводится в переводе по: Hazlitt W. The Plain Speaker:
Opinions on Books, Men and Things. Vol. II. P. 80.
Примечания
725
38 «Какое это отдохновение ~ дуновение ангельских крыльев». - Ibid. Vol. IL P. 292-293.
Из эссе Хэзлита «О древних английских писателях и ораторах» («On Old English Writers and
Speakers»).
39 ...ни «Жизнью Наполеона», ни «Беседами Норткота»... - Имеются в виду сочинения
У. Хэзлита: «Жизнь Наполеона» («The Life of Napoleon Buonaparte», 1828-1830) и
посвященный художнику Дж. Норткоту очерк «Беседы Джеймса Норткота, члена Королевской
академии художеств» («The Conversations of James Northcote RA», 1830).
40 ...жив Хэзлит... небольшим томиком эссе... - Вероятно, Вулф имеет в виду сборник
эссе У. Хэзлита «Застольные беседы: эссе о людях и нравах» (1821-1822).
41 «такого блаженного покоя, который никогда никому не придет в голову нарушить» -
Цитата из книги П.Дж. Пэтмора «Мои друзья и знакомые» приводится в переводе по:
Patmore P.G. My Friends and Acquaintance: 3 vols. L., 1854. Vol. 2. P. 344.
42 «Я смотрю в окно и вижу ~ я жив и здоров». - Цитата из эссе У. Хэзлита «Осознает
ли гений свое могущество?» из сборника эссе Хэзлита «Называя вещи своими именами»
приводится в переводе по: Hazlitt W. The Plain Speaker... Vol. I. P. 295-296. Блэквуд Уильям
(1776-1834), шотландский издатель, основал издательство «У. Блэквуд энд Сан» и «Журнал
Блэквудз», в котором должность главного редактора в середине 1810-х годов занимал Локхарт
Джон Гибсон (1794-1854), в открытую называвший Хэзлита «ничтожным подголоском» («а
mere quack») и публиковавший разносные статьи о «школе кокни в поэзии», направленные
против Ли Ханта, Китса и Хэзлита. Крокер Джон Уилсон (1780-1857), секретарь
Адмиралтейства и видный политический деятель партии тори. Знаток истории XVIII в., а также автор
разгромных статей о поэзии Китса, в частности, поэмы «Эндимион» («Endymion», 1818 г.).
Шелли и Байрон полагали, что именно Крокер - из-за разносного характера его критики -
был повинен в скорой смерти Китса. Мор Томас (1779-1852), английский поэт, ирландец по
происхождению, друг Байрона.
43 «Да, я был счастлив]» - Цитата приводится в переводе по: Memoirs of William Hazlitt...
Vol. 2 P. 238.
ДЖЕРАЛЬДИНА И ДЖЕЙН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Géraldine and
Jane // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 186-201.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1929 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 Джералъдина Джусбери - Джусбери Эндзор Джеральдина (1812-1880), английская
писательница, автор романов «Зуи: две судьбы» («Zôe: The History of Two Lives», 1845),
«Сводные сестры» («The Half Sisters», 1848) и др. В 1850 г. Чарлз Диккенс пригласил ее в качестве
автора журнала «Хаусхолд уордз»; в течение многих лет она писала статьи для «Атенеума» и
других газет и журналов. Ее связывала многолетняя дружба с Джейн Уэлш Карлайл, супругой
Томаса Карлайла, и многие факты семейной жизни четы Карлайлов оказались впоследствии
известны именно благодаря Джеральдине Джусбери.
2 ...она была «в чем-то беззащитной и нежной, а в чем-то несгибаемой и твердой, как
кремень» - Цитата из «Предисловия» Александер Айрленд к «Избранным письмам Джераль-
дины Джусбери Джейн Уэлш Карлайл» приводится в переводе по: Selections from the
Letters of Géraldine Endsor Jewsbury to Jane Welsh Carlyle /Ed. by Mrs Alexander Ireland. L., 1892.
P. viii.
3 «умом мужчина, а сердцем - истинная дочь Евы». - Ibid. P. vii-viii.
4 «Нет, лучше не вспоминать, это страшно ~ я целых два года приходила в себя». - Ibid.
Р. 166. Письмо 45 от 14 июля 1845 г.
726
Приложения
5 «затяжной пасмурный ноябрь ~ и никакого просвета». - Ibid. Р. 410. Письмо 115 от
13 июля 1851 г.
6 «все выло без толку». - Ibid. Р. 166. Письмо 45.
7 Кадворт - Кадворт Ральф (1617-1688) - один из так называемых «кембриджских
платоников», группы англиканских богословов, имевших тесные связи с Кембриджским
университетом и стремившихся разработать рациональную линию христианства. В группу входили
Бенжамен Уичкоут (1609-1683), Джон Смит (1618-1652), Генри Мор (1614-1687) и Ральф
Кадворт, автор программного трактата «Истинно рациональная система мироздания» («The
True Intellectual System of the Universe», 1678). Целью деятельности кембриджских
платоников было противодействие материализму Т. Гоббса и реформирование христианского
вероучения посредством освобождения его от фанатизма и мелких разногласий через обращение
к философской традиции Платона и Плотина.
8 ...она не сдавалась и уходила с головой в вопросы «материи, духа, происхождения
жизни». - Цитата приводится в переводе по: Selections from the Letters of Géraldine Endsor Jews-
bury... P. 103. Письмо 27 от 12 февраля 1844 г.
9 «грязь, слякоть, туман, белесое поле в кочках - и пробирающая до костей сырость». -
Ibid. Р. 100. Письмо 26 от 10 января 1844 г.
10 Карлайл - Карлайл (Карлейль) Томас, английский историк, общественный деятель,
критик (см. примеч. 8 на с. 685 наст. изд.). Первая публикация Карлайла - жизнеописание
Шиллера в «Ландон мэгэзине» в 1823-1824 гг. Далее последовали английские переводы из Гете:
«Годы ученичества Вильгельма Мейстера» и «Путешествия Вильгельма Мейстера» (1824,
1827). В 1833-1834 гг. увидело свет центральное сочинение Карлайла «Сартор Резартус»
(«Sartor Resartus» - букв, «заштопанный портной»), а в 1837-м - его «История Французской
революции»; в 1841 г. был опубликован цикл лекций «О героях, прославлении героев и
героическом в истории» и др. В XIX в. Карлайл пользовался непререкаемым авторитетом среди
историков и общественных деятелей. В XX же столетии слава его пошатнулась, и причин тому
несколько: в его внимании к сильным личностям в истории углядели зародыш идеологии
нацизма; риторический стиль его сочинений воспринимался как безнадежно устаревший. Кроме
того, его отношения с женой, Джейн Байли Уэлш Карлайл, прояснившиеся после
опубликования писем Джейн в 1883 г., а также «Воспоминаний» Т. Карлайла в 1881 г. и четырехтомной
биографии в 1882-1884 гг., значительно испортили его репутацию в глазах историков.
11 Миссис Карлайл - урожденная Уэлш Джейн (1801-1866) - мастер эпистолярного
жанра, талантливый автор блестящих остроумных писем, чьими адресатами были Маззини,
Браунинг, Теннисон и мн. др. Письма Дж. Уэлш, супруги Т. Карлайла (они поженились в 1826 г.),
много раз публиковались и полностью, и выборочно: например, Фраудом в 1883 г., Л. Хаксли
в 1924 г., Скаддером в 1931 г.
12 «Как однажды обронил в разговоре со мной ~ человек тонкого поэтического вкуса...» -
Цитата приводится в переводе по: Selections from the Letters of Géraldine Endsor Jewsbury to
Jane Welsh Carlyle. P. 5. Письмо 1 от 15 апреля 1841 г.
13 «Возможно, мы, женщины, созданы ~ я ничего не вижу». - Ibid. Р. 6-7. Письмо 1.
14 ...в ней родилось «неясное безотчетное стремление служить Вам». - Ibid. Р. 16.
Письмо 4 от 15 июня 1841 г.
15 «Позвольте мне быть при Вас, прошу Вас, распоряжайтесь мной!» - Ibid.
16 «Я молюсь на Вас, как католик молится на святыню» - Ibid. Р. 30. Письмо 7 от 4
августа 1841 г.
17 «Вы будете смеяться, но я люблю Вас ~ как молодой пылкий влюбленный!» - Ibid. Р. 39.
Письмо 10 от 29 октября 1841 г.
18 ...это даже «внесет оживление в их жизнь» - Цитата приводится в переводе по: Jane
Welsh Carlyle: Letters to Her Family, 1839-1863 / Ed. by Leonard Huxley. L., 1924. P. 83. Письмо
31 Джейн Уэлш Дженни Уэлш от 18 января 1843 г.
19 «несмотря на все ее замечательные душевные качества» - Ibid.
Примечания
727
20 «вошло в привычку ~ а изменять своим привычкам, даже в угоду страсти, не в его
правилах». - Ibid.
21 Джералъдину ждут в гости в Челси. - Чета Карлайлов жила в Челси -
респектабельном районе Лондона.
22 Приехала она к Карлайлом 1 или 2 февраля и загостилась у них до субботы 11 марта. -
Описываются события 1843 г.
23 «мягко стелет, да жестко спать» - Цитата приводится в переводе по: Jane Welsh Car-
lyle: Letters to Her Family... P. 89. Письмо Джейн Уэлш Карлайл Дженни Уэлш от 24 февраля
1843 г.
24 Нельзя было быть такой «холодной, черствой, насмешливой, - нелюбезной,
наконец!» - Ibid. Р. 97. Письмо 37 Дж. У. Карлайл Дженни Уэлш от 12 марта 1843 г.
25 «Дай Бог, чтоб моя глупость не обернулась серьезными последствиями, а уж со скукой
я как-нибудь справлюсь». - Ibid. Р. 120. Письмо 44 Дж. У. Карлайл от 18 апреля 1843 г.
26 «в ссорах Джеральдина вела себя на редкость благородно» - Ibid. Р. 348. Письмо 147
Дж. У. Карлайл от 4 марта 1850 г.
27 «с утроенным рвением и обезоруживающим великодушием». - Ibid. Р. 165. Письмо 63
Дж.У. Карлайл Хелен Уэлш от декабря 1843 г.
2%«Рядом с вами нет человека, который о вас заботился бы» - Цитата приводится в
переводе по: Selections from the Letters of Géraldine Endsor Jewsbury to Jane Welsh Carlyle. P. 75.
Письмо 19 Дж. Джусбери Дж. У. Карлайл от 17 октября 1843 г.
29 «Вы все терпите ~ Черной неблагодарностью!» - Ibid. Р. 76.
30 «Небожитель! -Да никогда!» - Ibid. Р. 93. Письмо 25 (без даты, предположительно,
1843-1844 гг.).
31 «чем больше любишь, тем яснее понимаешь свою беспомощность». - Ibid. Р. 92.
32 «надоело до смерти писать в пустоту ~ не надеясь на дружеский отклик» - Ibid.
Р. 128. Письмо 33 от 11 июня 1844 г.
33 Мудиз - собирательный образ, имя нарицательное для английских барышень из
приличных семей джентри, оставшихся после смерти отца или обоих родителей без наследства,
без практических навыков; их обычно пристраивали горничными в богатые дома. Слово
«Мудиз» происходит от названия лондонской фирмы «Moodie's» и имени ее основателя,
затеявших публичную библиотеку по подписке; в переносном же смысле «Мудиз» - барышни,
воспитанные на благопристойных романах XIX в. См. также примеч. 2 на с. 684 наст. изд.
34 «...толстые, лупоглазые, флегматичного вида гордячки» - Цитата из комментария
Томаса Карлайла к письму 60 Дж.У. Карлайл приводится в переводе по: Letters and Memorials of
Jane Welsh Carlyle: 3 vols / Ed. by James Anthony Froude. L., 1883. Vol. I. P. 263.
35 Данди - четвертый по величине город в Шотландии, расположенный в устье реки Тэй,
впадающей в Северное море.
36 она «прошила черный фартук белыми нитками ~ ее выставили без долгих
разговоров». - Цитата приводится в переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 165.
Письмо 63 Дж. У. Карлайл Хелен Уэлш от декабря 1843 г.
37 «Эти несчастные ~ и пропадали без надежды на спасение». - Цитата приводится в
переводе по: Letters and Memorials of Jane Welsh Carlyle. Vol. I. P. 263. Письмо 60, запись
Томаса Карлайла от марта 1873 г., в которой он вспоминает о «Мудиз», судьбой которых
занимались Джейн Уэлш Карлайл и Джеральдина Джусбери.
38 .. Джеральдину- эту ветреницу, этот «пучок перьев»... - Цитата приводится в
переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 89. Письмо 34 Дж.У. Карлайл Дженни
Уэлш от 24 февраля 1843 г.
39 «приняла судьбу девочек близко к сердцу, как свою: даже я так не смогла». - Ibid.
Р. 134. Письмо 51 Дж.У. Карлайл Дженни Уэлш от 21 июня 1843 г.
40 ...хлопотать об издании «Зуи», первого романа Джеральдины... - «Зуи: две судьбы» -
первый роман Джеральдины Джусбери, опубликованный в 1845 г.
728
Приложения
41 «...если сейчас не помочь бедняжке, потом будет поздно ~ у нее опустятся руки». -
Цитата приводится в переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 193. Письмо 74
Дж.У. Карлайл Дженни Уэлш от 16 марта 1844 г.
42 «прочитал рукопись на одном дыхании». - Ibid. Р. 194.
43 «с чувством, близким к панике, - такой талантище, а на что потрачен,
неизвестно!» - Ibid. Р. 66. Письмо 27 Дж.У. Карлайл Дженни Уэлш от 25 декабря 1842 г.
44 «Прямо скажу ~ неприлично!» - Ibid.
45 «излишнюю вольность в вопросах духовных» - Ibid.
46 «нет у меня склонности к приличиям» - Цитата приводится в переводе по: Selections
from the Letters of Géraldine E. Jewsbury... P. 145. Письмо 40 (без даты, предположительно,
1845 г.) Дж. Джусбери Дж.У. Карлайл.
47 «В "Реформ клубе" развизжались и стар, и млад - ах, какая непристойность!» -
Цитата приводится в переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 236. Письмо 95 Дж.У.
Карлайл Дженни Уэлш от 26 февраля 1845 г.
48 «Несчастный! И зачем я только родился!» - Здесь и далее цитаты из романа Дж.
Джусбери «Зуи» приводятся в переводе по: Jewsbury G.E. Zôe: The History of Two Lives: 3 vols. L.,
1845. Vol. LP. 220.
49 «Как здорово жить правильно без религии!»; «Не понимаю, как это священники могут
верить в то, что проповедуют ~ спокойно спать в своей постели?»; «Безнадежно только
одно - слабость»; «Высшая мораль ~ бескорыстная любовь»; «аккуратненькие разумненькие
теории, придуманные мужчинами»\ - Ibid. Vol. IL P. 71-72; Vol. IL P. 68; Vol. III. P. 4; Vol. II.
P. 261; Vol. LP. 220.
50 «надо сказать, ~ почти заставила меня поверить в свою старую сказку». -
Цитата приводится в переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 134. Письмо 51
Дж.У. Карлайл Дженни Уэлш от 21 июня 1843 г.
51 «которая потрясла меня ~ какую бешеную любовную ревность может испытывать
женщина к женщине». - Цитата приводится в переводе по: New Letters and Memorials of Jane
Welsh Carlyle: 2 vols. L., 1903. Vol. I. P. 143. Письмо Джейн Уэлш Томасу Карлайлу от 12 июля
1844 г.
52 «Представляете! -рассчитывала, что я ей это спущу!» - Ibid. Vol. I. P. 146. Письмо
Дж.У Карлайл Томасу Карлайлу от 17 июля 1844 г.
53 «никто в целом свете не любит меня сильнее, чем она» - Ibid. Vol. L P. 163. Письмо
Дж.У. Карлайл Томасу Карлайлу от 20 августа 1845 г.
54 «Ну когда, Джеральдина, вы научитесь держать себя в рамках!» - Ibid.
55 «в их многотрудной, обремененными столькими обязанностями жизни». - Цитата
приводится в переводе по: Selections from the Letters of Géraldine E. Jewsbury to Jane Welsh
Carlyle. P. 426. Письмо 121 Дж. Джусбери Дж.У Карлайл от 6 октября 1851 г.
56 «...не ищите ~ отстаивайте свою позицию». - Ibid.
57 ...свой новый роман «Сводные сестры»... - См. примеч. 1 на с. 725 наст. изд.
58 ...вместеходили слушать «Мессию»... - Имеется в виду оратория 1742 г. Георга
Фридриха Генделя (1685-1759).
59 «ну и пусть дешевая, зато подарок от м-ра Барлоу!» - Цитата приводится в переводе
по: New Letters and Memorials of Jane Welsh Carlyle. Vol. II. P. 234. Письмо Дж.У. Карлайл
Томасу Карлайлу от 12 сентября 1860 г.
60 «греша против ваших представлений о хорошем вкусе» - Цитата приводится в
переводе по: Selections from the Letters of Géraldine Jewsbury to Jane Welsh Carlyle. P. 244. Письмо
64 от марта 1848 г. Дж. Джусбери Дж.У Карлайл.
61 «До чего же гадкое... положение у женщин! ~ Это я со злости - разрядка у меня
такая». - Ibid. Р. 279. Письмо 74 от 12 января 1849 г.
Примечания
729
62 «Нет, неудачницами нас не назовешь ~ не бывает развития без проб и ошибок!» - Ibid.
Р. 347-348. Письмо 96 (без даты, предположительно, 1849 г.).
63 .. .Джеральдине «народу написано одно из двух -либо пан, либо пропал». - Цитата
приводится в переводе по: Jane Welsh Carlyle: Letters to Her Family. P. 66. Письмо 27 Дж.У.
Карлайл Дженни Уэлш от 25 декабря 1842 г.
64 Маркэм-сквер - район Кенсингтона, Челси и Слоан-сквер - сегодня это центр
Лондона.
65 ...на пороге появился м-р Фрауд... - О Джеймсе Энтони Фрауде см. примеч. 2 к эссе
«Елизаветинский сундук» на с. 658 наст. изд.
66 «с миссис Карлайл что-то стряслось». - Цитата из книги А. Айрленд «Жизнь Джейн
Уэлш Карлайл» (1891) приводится в переводе по: Ireland A. Life of Jane Welsh Carlyle. L., 1891.
P. 303.
67 «лежала на кровати, словно она только что вошла с улицы после прогулки ~
онемела». - Цитата из книги Дж. Фрауда «Томас Карлайл: Рассказ о его жизни в Лондоне в 1834—
1881 гг.» приводится в переводе по: FroudeJ.A. Thomas Carlyle: A History of His Life in London,
1834-1881: 2 vols. L., 1884. Vol. II. P. 313.
68 Севноукс - небольшой городок в графстве Кент.
69 ...перед смертью стала вдруг рвать на мелкие кусочки письма Джейн ~ уцелело
одно-единственное. - Речь идет о письме Джейн Уэлш Карлайл Джеральдине Джусбери от 8-9
января 1866 г. Впервые полный текст этого письма был опубликован в: Ireland A. Life of Jane
Welsh Carlyle. P. 299-300. Возможно (это не более, чем наше предположение), Джеральдина
Джусбери сохранила его как признание Джейн Уэлш Карлайл в нежном чувстве дружбы,
которое та к ней питала. Приведем отрывок из письма: «О моя дорогая юная подруга! Бога ради,
не пропадайте надолго. Знайте: вас "разыскивают"! Не полиция, разумеется, ал вас ищу
денно и нощно! Мне вас так не хватает - я совсем упала духом, самой противно... Стыдно
сказать, но мне так нужно, чтобы меня кто-нибудь погладил по головке, почитал мне, поговорил
со мной, подбодрил, наконец! ...Умоляю, напишите мне, когда вас ждать, - и не вздумайте
отнекиваться! Мне столько всего нужно рассказать вам!» Еще при жизни Джейн Уэлш Карлайл
Джеральдина писала ей о том, что она «сожгла все ее письма, которые могли стать поводом
для кривотолков» (письмо 92, предположительно от 1849 г.). Цитата приводится по: Selections
from the Letters of Géraldine Jewsbury to Jane Welsh Carlyle. P. 337.
70 «Дорогая моя! <^> Какую великолепную, чепуху напридумывает о нас "правдивый
летописец ", совсем не похожую на то, что мы есть или чем когда-то были!» - Ibid.
71 леди Морган - титул Сидни Овенсон (ок. 1776-1859), ирландской писательницы,
похороненной на Бромптонском кладбище.
72 Бромптон - Бромптонское кладбище в Лондоне, в районе Кенсинтона и Челси,
находящееся под юрисдикцией королевской семьи.
«АВРОРА ЛЕЙ»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. «Aurora Leigh» //
The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 202-213.
Впервые это эссе Вулф было опубликовано в 1931 г. в литературном приложении к
«Тайме».
1 Если бы Браунинги... - Речь идет о Браунинге Роберте и Бэррет Элизабет, в замужестве
Бэррет Браунинг Элизабет (1806-1861), чете английских поэтов. Их романтическое
знакомство началось с переписки в январе 1845 г.: тогда Браунинг, уже известный поэт, с восторгом
откликнулся на сборник Элизабет Бэррет «Стихотворения» («Poems», 1844). Встреча
состоялась в 1845 г., какое-то время они скрывали свое знакомство от отца Элизабет, а затем
тайно поженились и уехали в сентябре 1846 г. в Италию. Элизабет Бэррет Браунинг известна
730
Приложения
произведениями «"Серафим" и другие стихи» («"The Seraphim" and Other Poems») (1838),
упомянутым выше сборником «Стихотворения» - современники сравнивали его с лучшими
произведениями Вордсворта, а также «Сонетами из португальского» («Sonnets from the
Portuguese», 1850) - и своим magnum opus, поэмой «Аврора Лей» («Aurora Leigh», 1857).
Считается, что при жизни Элизабет Браунинг пользовалась более широким признанием у читателей,
чем Роберт Браунинг.
2 . ..профессора из американских университетов... хотя бы раз в год заглядывают в
«Историю сватовства к леди Джералъдине»... - Имеется в виду стихотворение Элизабет Бэр-
рет Браунинг «Lady Geraldine's Courtship», опубликованное в сборнике «Стихотворения»
(«Poems», 1844).
3 Кристина Россетти- Россетти Кристина Джорджина (1830-1894), английский поэт,
сестра Данте Габриэла и Уильяма Майкла Россетти (первый - художник-прерафаэлит,
второй - литератор и искусствовед, оба члены Братства прерафаэлитов). Автор нескольких
прижизненных сборников стихов: «'Тоблин-маркет" и другие стихи» («"Goblin Market" and Other
Poems», 1862), «"Путь князя" и другие стихи» («"The Prince's Progress" and Other Poems»,
1866), «Книжка детских стихов» («Sing-Song, a Nursery Rhyme Book», 1872), «"Шествие" и
другие стихи» («"A Pageant" and Other Poems», 1881); по достоинству Кристина Россетти
была оценена лишь посмертно, после опубликования в 1904 г. ее «Поэтических
произведений» («Poetical Works»). В жанровом отношении ее творчество богато и разнообразно: от
произведений «фэнтези» для детей до баллад, любовной лирики, сонетов, духовной поэзии,
а в смысле поэтического мастерства, особенно в области просодии, Кристине Россетти нет
равных среди современников, за исключением Дж. Мэнли Хопкинса.
4 «чисто исторический интерес. Несмотря на хорошее образование и общение с мужем,
она так и не научилась понимать самоценность поэтического слова и смысл
художественной формы». - Цитата из книги С.А. Брука «Английская литература в период с 670 г. н,э. по
1832 г.» приводится в переводе по: Brooke S.A. English Literature from A.D. 670 to A.D. 1832.
L., 1935. P. 173 (цит. no: Woolf V. The Common Reader. Vol. 2. P. 307).
5 ...в одной компании с миссис Хименс, Элизой Кук, Джин Ингелоу, Александром Смитом,
Эдвином Арнолдом и Робертом Монтгомери... - Хименс Фелиция Доротея (1793-1835) -
поэтесса, опубликовавшая первый сборник стихов в 15 лет; другие ее произведения, очень
популярные в Англии в XIX в., - «Домашние привязанности» («Domestic Affections», 1812) и
«Переводы из Камоэнса и других поэтов» («Translations from Camoens and Other Poets», 1818);
Кук Элиза (1818-1889) - поэт-самоучка, опубликовавшая свой первый сборник в 17 лет - это
были «Песни безыскусной арфы» («Lays of a Wild Harp», 1835); ее стихи отличают
простодушие и незатейливость, сделавшие их популярными среди неискушенной читательской
публики; Ингелоу Джин (1820-1897), автор нескольких сборников стихов, в том числе для
детей: наиболее известно ее стихотворение «В разлуке» («Divided», 1863); Смит Александр
(ок. 1830-1867), автор сборника «Стихи» («Poems», 1853), куда вошла и его поэма «Трагедия
жизни» (A life-drama») - эту последнюю за высокопарность, «жестокие» страсти, притворное
«чайльд-гарольдство» высмеял в своей поэме «Фирмилиан» («Firmilian») Эйтоун, автор
желчного определения творчества А. Смита как «спазматической школы» в поэзии; Арнолд Эдвин
(1832-1904), английский литератор и переводчик азиатской литературы; занимал должность
директора британского правительственного колледжа в Пуне (Индия), затем, по возвращении
в Англию, работал сотрудником «Дейли телеграф», а с 1873 г. - главным редактором этой
газеты; автор поэмы в восьми томах, написанной белым стихом, - «Свет Азии, или Великое
отречение» («The Light of Asia, or the Great Renunciation», 1879); Монтгомери Роберт ( 1707—
1755), поэт, священник шотландской епископальной церкви, автор религиозных стихов.
6 ...вот там пусть себе и возится, гремит кастрюлями да поедает с ножа горох в
огромных количествах. - Возможно, это парафраз известного уничижительного отзыва Байрона
на стихи Дж. Китса: «Назад, м-р Ките! Возвращайтесь к своим пластырям и мазям!» («Back
Примечания
731
to the plasters and ointments, Mr. Keats!»). Цит. no: The Cockney school of poetry // Blackwood's
Edinburgh Magazine. 1818. Vol. III. August. P. 519-524.
7 «Аврора Лей» - роман в стихах «Aurora Leigh» (1857) Элизабет Бэррет Браунинг.
8 Тадж-Махал - мавзолей-мечеть в Агре, Индия, на берегу реки Ямун. Памятник
построен по приказу императора Великих Моголов Шах-Джахана в память о жене Мумтаз-Махал,
умершей при родах (позже здесь был похоронен и сам Шах-Джахан). Время строительства
относится примерно к 1630-1652 гг. В викторианской Англии существовала мода на
изображения мавзолея Тадж-Махал в виде домашних сувениров, как сказали бы мы сегодня.
9 ...ценит свою поэму, называя ее «самым зрелым своим произведением», в которое
«вошли мои заветнейшие мысли о Жизни и Искусстве». - Цитата из «Посвящения Джону Кеньо-
ну» («Dedication to John Kenyon», 1856) Элизабет Браунинг приводится в переводе по:
Browning Е.В. Aurora Leigh. L., 1857. P. 1. Джон Кеньон - кузен Э. Браунинг. Полностью фраза из
«Посвящения» звучит так: «...с трепетом вручаю Вам эту книгу ( «Аврору Лей». -HP.) -
самое зрелое свое произведение, в которое вошли мои заветнейшие мысли о Жизни и
Искусстве» (Ibid).
10 «...я всерьез намереваюсь ~Вот о чем я сейчас мечтаю». - Цитата приводится в
переводе по: The Letters of Robert Browning and Elizabeth Barrett Browning, 1845-1846. N.Y.; L.,
1898. P. 32. Письмо Э. Бэррет Роберту Браунингу от февраля 1845 г. В своем письме Элизабет
Бэррет цитирует ставшее крылатым высказывание Александра Поупа из его «Эссе о критике»
(«An Essay on Criticism», 1711), которое полностью звучит так: «Ибо дураки врываются туда,
куда боятся ступать ангелы» («For fools rush in where angels fear to tread»).
11 ...кажется, уж не попал ли ты в «Сказание о старом мореходе»... - Вулф сравнивает
впечатление от чтения первых эпизодов «Авроры Лей» с магнетическим эффектом, который
описан в начале поэмы С. Колриджа «Сказание о старом мореходе» (1798), когда рассказ
старого моряка надолго задерживает внимание молодого слушателя, торопившегося на свадьбу.
12 «чьи голубые очи навсегда погасли, едва девочке исполнилось четыре» - Цитата из первой
книги «Авроры Лей» Э. Браунинг приводится в переводе по: Browning Е.В. Aurora Leigh. P. 2.
13 «англичанина очень строгих правил ~ которого на склоне лет настигла неведомая
страсть». - Ibid. Р. 3.
14 цветка, ... «хранимого больше для воспоминания, нежели услады, нестареющий знак
ушедшей молодости». - Ibid. Р. 8.
15 «...ведь нам, в конце концов, много не надо - одно тело, одна рубашка». - Ibid.
16 ...быть осведомленной о законодательстве в королевской Бирме... - В 1885 г.
Бирма стала частью Британской империи. Здесь и далее пересказывается первая книга «Авроры
Лей» (примеч. 16-19).
17 ...знать, какая судоходная река впадает в Лар... - Видимо, речь идет о реке Лар в
северной Персии.
18 Клагенфурт - Клагенфурт-ам-Вёртерзее - город на юге Австрии.
19 ...благодаря «связи с невидимым миром духов»... - Цитата из первой книги «Авроры
Лей» Э. Браунинг приводится в переводе по: Browning Е.В. Aurora Leigh. P. 17.
20 «Секрет чердачной комнаты разгадан! ~ подобно мышке юркой, что спряталась в
подшерстке мамонта» - Ibid. Р. 22.
21 «только забывшись ~ обрящем в слове мы добро» - Ibid. Р. 19.
22 «сердиться на него нельзя, ~ душа, он говорит, приложится». - Ibid. Р. 28.
23 ...здоровье надломилось, она слегла... - В 1838 г. у Элизабет Бэррет случился разрыв
кровеносного сосуда, вызвавший болезнь, приковавшую ее к постели; в 1840 г. больную
Элизабет вместе со старшим братом Эдвардом отправили на юг Англии в городок Торки, где
Эдвард утонул, купаясь в море.
24 «Я жила, как улитка ~ за небольшую толику общения и житейского опыта, за....... -
Цитата из письма Элизабет Бэррет Роберту Браунингу от 20 марта 1845 г. (цит. по: Woolf V.
The Common Reader. Vol. IL P. 308).
732
Приложения
25 Она обожала Бальзака, Жорж: Санд и других «бессмертных бесстыдников»... -
Цитата приводится в переводе по: The Letters of Elizabeth Barrett Browning / Ed. by F.G. Kenyon:
2 vols. L., 1898. Vol. I. P. 363. Письмо Элизабет Бэррет Джону Кеньону от 1 мая 1848 г.
26 «они не дают тебе окончательно увянуть». - Ibid.
27 «смело вторгнуться в обыденную жизнь людей ~ называя вещи своими именами,
просто и ясно» - См. примеч. 10 на с. 731 наст. изд.
28 ...в ущелье Ронсенваля, где когда-то билась кучка рыцарей во главе с Роландом. -
Аллюзия на французский средневековый эпос «Песнь о Роланде».
29 «Если поэт бежит от модниц ~ то это путь погибельный и - глупый». - Цитата из
пятой книги «Авроры Лей» Э. Бэррет приводится в переводе по: Browning Е.В. Aurora Leigh.
P. 133.
30 «во всеуслышание со сцены ~ душа - вот наша авансцена!» - Ibid. Р. 137.
31 «Позволь мне меньше думать о внешних формах. ~ Пока горит огонь, да не иссякнет
щедрое тепло». - Ibid. Р. 134.
32 ...поэмы «Домашний ангел» Кавентри Пэтмора и «Бози» Клау. - «Домашний ангел»
(«Angel in the House», 1854-1861)- цикл стихов в четырех частях о супружеской жизни
К. Пэтмора (1823-1890) - викторианского поэта, автора нескольких сборников стихов на
матримониальные и религиозные темы; сентиментальная история, рассказанная в «Домашнем
ангеле», о двух супружеских парах, Феликсе и Гонорее, Фредерике и Джейн, пользовалась
огромной популярностью у викторианской публики, тогда как Э. Суинберн, например,
относился к ней крайне скептически. «Бози», точнее, «Бози из Тобер-на-Вуолихе» («The Bothie
of Tober-on-Vuolich», 1848) - поэма Артура Хью Клау (1819-1861), написанная гекзаметром.
В ней описывается, как студент по имени Филип влюбляется в крестьянскую девушку Элспи,
и, поскольку им двоим нет места в викторианском кастовом обществе, они объезжают земной
шар и в конце концов добираются до Новой Зеландии.
33 ...четыреромана о современности: «Джейн Эйр», «Ярмарка тщеславия», «Дэвид Коп-
перфилд» и «Ричард Феверел». - «Джейн Эйр» - роман Шарлотты Бронте; «Ярмарка
тщеславия» («Vanity Fair», 1847-1848)- роман Уильяма Теккерея; «Дэвид Копперфильд»
(«David Copperfield», 1849-1850)- роман Чарлза Диккенса; «Ричард Феверел» (полное название
«Испытание Ричарда Феверела») («The Ordeal of Richard Feverel», 1859) - роман Джорджа
Мередита.
34 ...белым стихомрапсодировала она про Шордич и Кенсингтон... - Шордич и
Кенсингтон - районы в центре современного Лондона. Читатель наверняка обратит внимание на
легкую иронию, скрытую в этой фразе Вулф: поэтесса воспевала лондонские кварталы,
носившие имя «Шордич» (shoreditch), что в буквальном переводе означает «прибрежная канава».
35 «В печали я прощаюсь с ней ~ Я зван к обеду завтра в семь». - Цитата из «Домашнего
ангела» К. Пэтмора (см. примеч. 32) приводится в переводе по: Patmore С. The Angel in the
House: 2 vols. L., 1863. Canto V.
36 «Дай Бог такой же мне любви ~ За мать и няньку я ему...» - Цитата из девятой книги
«Авроры Лей» Э. Бэррет приводится в переводе по: Browning Е.В. Aurora Leigh. P. 269.
37 И Ром ни, конечно, ей под стать ~ основавший, на свою голову, коммуну в Шропшире. -
Под коммуной в графстве Шропшир имеется в виду проект Фурье о социалистической
коммуне из 1880 человек. Фурье Франсуа Мари Шарль (1772-1837) - французский
социалист-утопист. В 1808 г. он опубликовал свой главный труд - «Теорию четырех движений и всеобщих
судеб» («Théorie des quatre mouvements et des destinées générales»). Согласно Фурье, стержнем
идеальной социальной организации является фаланга. Она заключает в себе идею всеобщего
братства и основывается на соответствии частных и общих интересов. Фаланга строится на
сельскохозяйственной основе, но предполагает взаимодействие с промышленным
производством. В ней объединяются от 1700 до 2000 человек.
Примечания
733
38 ...не хуже, чем Троллопу или Гаскелл в их лучших романах... - Речь идет о
викторианских романистах-бытописателях Троллопе Энтони (1815-1882) и Гаскелл Элизабет.
39 .. .вспомнить сцены на рынке, в храме, при закате солнца... - Указанные сцены в
романе Э. Бэррет «Аврора Лей» описываются соответственно в книге шестой, книгах третьей и
четвертой, книге седьмой.
40 Это вам не пьесы Бердоуза или сэра Генри Тэйлора... - Бердоуз Томас Лавл (1803—
1849), автор трагедий в духе елизаветинской драмы и барочного макабра, таких как
«Импровизатор» («The Improvisator», 1821), «Трагедия невесты» («The Bride's Tragedy», 1822) и
самой значительной его пьесы «Шутовская книга смерти, или Трагедия шута» («Death's Jest
book, or the Fool's Tragedy», 1850); Тэйлор Генри (1800-1886), английский поэт и
политический деятель.
41 ...классически правильные драмы Роберта Бриджеса... - Имеются в виду восемь пьес
английского поэта Роберта Бриджеса (1844-1930), написанные по канонам классической
драмы в 1885-1894 гг.
42 ...об эпохе Георга Пятого. - Под «эпохой Георга Пятого» Вулф имеет в виду
современность: король Георг V (1865-1936) правил после короля Эдварда с 1910 по 1936 г. Недаром
поколение Вулф называло себя «георгианцами».
ПЛЕМЯННИЦА ГРАФА
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Niece of an
Earl //The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 214-219.
На английском языке впервые опубликовано в 1928 г. в «Лайф энд Литрече».
1 ...врассказе Мередита «Дело генерала Опла и леди Кемпер»... - Рассказ «Дело генерала
Опла и леди Кемпер» («The Case of General Ople and Lady Camper», 1898) вошел в
одноименный сборник рассказов Джорджа Мередита, опубликованный в 1898 г. См.: Memorial Edition
of the Works of George Meredith. L., 1910. Vol. XXI. Fn 2.
2 «Он послал сказать леди Кемпер ~ Леди Кемпер - племянница графа...». - Цитата из
рассказа Мередита «Дело генерала Опла и леди Кемпер» приводится в переводе по: Memorial
Edition of the Works of George Meredith. Vol. XXI. P. 130. Цит. no: The Essays of Virginia Woolf.
Vol. IV P. 563. Далее цитаты из произведений Мередита приводятся в переводе по
указанному изданию.
3 ...к Георгу Пятому... - О правлении короля Георга V см. примеч. 42 к эссе «Аврора
Лей» на с. 733 наст. изд.
4 ...той социальной группы... в описании которой она находит бесконечные краски и
оттенки. - Под «социальной группой», изображенной в романах Дж. Остен, имеется в виду
сословие провинциальных английских джентри (или, если перевести на язык русских понятий,
сельские помещики). См. также примеч. 17 к эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 665 наст. изд.
5 ...только и разговоров, что о бездонной душе и всеобщем братстве - никакой тебе
комедии. - О различиях в психологии русских и англичан, о врожденном чувстве комического,
присущем англичанам, и сострадании к ближнему, характерном, по мнению Вулф, для
русских, писательница размышляет в эссе «Современная литература» на с. 122-123 наст. изд.
6...у Джейн Остен сплошь одни дамы - все эти ее Элизабеты и Эммы. - Скорее всего,
Вулф имеет в виду Элизабет Беннет, героиню романа Дж. Остен «Гордость и предубеждение»
(1813), и Эмму Вудхауз, героиню романа «Эмма» (1816).
7 ...нам уже никогда не узнать, каким рисовался воображению Людовика XIVего
собственный двор...- Речь идет о периоде правления короля Франции Людовика XIV (1643-
1715).
8 ...почему, собственно, и могли с таким знанием дела описывать привычки и нравы
титулованных особ разные Теккереи, Дизраэли, Прусты. - Вулф приводит в пример евро-
734
Приложения
пейских писателей, которых можно назвать летописцами общественной верхушки: Дизраэли
Бенжамена (1804-1881), политика, премьер-министра и автора нескольких романов, среди
которых наиболее известны так называемые политические романы «Сивилла» («Sybil», 1845)
и «Танкред» («Tancred», 1847); Пруста Марселя (1871-1922), французского писателя,
автора многотомного романа «В поисках утраченного времени»; в романах последнего «У Гер-
мантов» (1920-1921) и «Содом и Гоморра» (1921-1922) изображены жизнь и нравы высшего
французского общества.
9 . ..старые крысоловы и конюшие шекспировских времен оказываются не у дел, или, того
хуже, их жалеют, им дивятся, как какому-то курьезу. - В свойственной ей иронической
манере Вулф говорит о двух явлениях одновременно: об исчезновении низовых типов из
современного романа и об усиливающейся коммерциализации в литературе, когда основные
литературные герои - «крысолов», т.е. музыкант-бюрец с буржуазной посредственностью, «конюх»,
т.е. самоучка, самородок, каким, кстати, и был Шекспир, - становятся объектами осмеяния.
Таким образом меняется, по мнению Вулф, отношение к писательскому делу: оно трактуется
сегодня функционально - с точки зрения социального заказа. И ту же плоскую
функциональность наблюдает Вулф в самом литературном произведении: герои «обслуживают» тему.
10 Байрону наверняка труднее было состояться как поэту, чем Китсу... - Соль
иронического замечания Вулф заключается в том, что именно Джордж Байрон (1788-1824)
известен своими резкими нападками на Джона Китса (1795-1821), основанными исключительно
на соображениях родословной и социального происхождения. Потомственный лорд ставил на
место ученика аптекаря: мол, не суйся в поэзию, плебей!
11 ...мы в свое время испортили драму в стихах?- Возможно, Вулф адресует этот
упрек Т.С. Элиоту (1885-1965), который начинал писать в 1930-е годы стихотворные драмы: в
1932 г. опубликован его «Суини Агонистес» («Sweeney Agonistes») с так называемым «арис-
тофановским фрагментом» - сатирическим изображением серой жизни пролетариата, и др.
Впрочем, ирония Вулф может быть адресована и Б. Дизраэли с его неудавшейся стихотворной
драмой «Трагедия графа Аларкоса» («The Tragedy of Count Alarcos», 1839).
ДЖОРДЖ гиссинг
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. George Gissing //
The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 220-225.
На английском языке впервые опубликовано в 1927 г. в «Нейшн энд Атенеум» и в «Нью
репаблик».
1 «А известно ли вам, что в Лондоне обитает такая порода людей - торговцы
керосином?» - Цитата из письма Гиссинга сестре Маргарет от 13 января 1880 г. Далее цитаты из
семейной переписки Дж. Гиссинга приводятся в переводе по: Gissing G. Letters to Members of
His Family / Ed. by A. and E. Gissing. L., 1927. P. 55.
2 ...читая «Демос», «Новую Граб-стрит» и «Потусторонний мир». - Романы
английского писателя Гиссинга Джорджа Роберта (1857-1903): «Демос» («Demos», 1886), «Новая
Граб-стрит» («New Grub Street», 1891), «Потусторонний мир» («The Nether World», 1889).
Помимо указанных, перу Гиссинга принадлежат романы «Рабочие на рассвете» («Workers in
the Dawn», 1880), «Изабелл Клэрендон» («Isabel Clarendon», 1886), «Тирза» («Thyrza», 1887),
«Заря жизни» («A Life's Morning», 1888) и др. При жизни критика оценивала Гиссинга как
натуралиста европейского толка; после смерти Гиссинг был забыт приблизительно до 1960-х
годов, но последние 40-50 лет его имя снова на слуху: в Англии и США состоялось
несколько переизданий его произведений, а также вышли в свет ранее не публиковавшиеся
произведения, дневники и переписка, в частности «Записная книжка Джорджа Гиссинга» («George
Gissing's Commonplace Book», 1962), «Дневник романиста» («The Diary of George Gissing,
Novelist», 1978) и др.
Примечания
735
3 Сестра Гиссинга рассказывает... - Имеются в виду воспоминания сестры Гиссинга
Эллен в книге: Gissing G. Letters to Members of His Family. P. 403.
4 «По-моему, эти факты достойны внимания». - Ibid. P. 6. Письмо Гиссинга от 15
сентября 1870 г.
5 «безмерным пиететом ~ это неблагодарное дело». - Ibid. Р. 404.
6 «серьезные молодые люди ^ в истории цивилизации». - Ibid. Р. 53. Письмо Гиссинга
брату Уильяму от 2 января 1880 г.
7 «рупором прогрессивной партии радикалов» - Ibid. Р. 73. Письмо Гиссинга брату
Уильяму от 8 июня 1880 г.
8 ...внутренний рецензент издательства Смит Элдер... - Издательство «Смит Элдер»
основано Джорджем Смитом (1824-1901) в 1846 г. В нем печатались произведения Дж. Рёс-
кина, Ш. Бронте («Джен Эйр» вышла именно в издательстве «Смит Элдер» в 1848 г.) и У. Тек-
керея («Ярмарка тщеславия» была опубликована в 1852 г.). В 1859 г. Смит основал,
совместно с партнером Х.С. Кингом, журнал «Корнхил», в котором место главного редактора занял
Теккерей, а в 1865 г. - издание «Полл Молл газет» («The Pall Mall Gazette»). В круг авторов
последнего входили Р. Браунинг, М. Арнольд, Л. Стивен и др. В 1882 г. издательство «Смит
Элдер» осуществило грандиозный проект по выпуску «Национально-биографического
словаря», редактором которого был сэр Лесли Стивен, отец Вирджинии Вулф.
9 «настолько трудна ™ подписчиков же Мудиз она попросту отпугнет» - Ibid. Р. 119.
Письмо Гиссинга брату Уильяму от 20 сентября 1882 г. В письме Гиссинга речь идет о его
романе «Демос: рассказ об английском социализме»: несмотря на его опасения, что
издатель не станет рисковать и печатать роман, который, скорей всего, «не пойдет» у публики,
роман был-таки опубликован в издательстве «Смит Элдер», но за счет автора. О библиотеке
Мудиз см. примеч. 33 к эссе «Джеральдина и Джейн» на с. 727, а также примеч. 2 на с. 684
наст. изд.
10 .. .уродство - истина, все истинное - безобразно, и ничего другого знать нам не дано. -
Возможно, это суждение есть парафраз известного высказывания Дж. Китса из его «Оды
греческой вазе» («Ode to a Grecian Urn»): «Beauty is truth, truth beauty, - that is all/ Ye know on
earth, and all ye need to know». Ср. в переводе Г. Кружкова: «В прекрасном - правда, в
правде - красота? / Вот все, что знать вам на земле дано». Цит. по: КитсДж. «Гиперион» и другие
стихотворения. М., 2004. С. 47.
11 ...м-ра Микобера или миссис Гамп... - Уилкинс Микобер, персонаж из романа Чарлза
Диккенса «Дэвид Копперфилд»; миссис Гамп, или Сара Гамп, персонаж из романа Ч.
Диккенса «Мартин Чазлвит», чье имя стало нарицательным для повитух; интересно, что словом
«gamp» англичане стали называть и большой видавший виды зонт, по аналогии с тем
тряпичным уродцем, которым пользовалась миссис Гамп.
12 Гиббон - Гиббон Эдвард (1737-1794), английский историк эпохи Просвещения, автор
шеститомного труда «История упадка и падения Римской империи» («The History of the
Decline and Fall of the Roman Empire», 1776-1788).
13 ...в их поведении отсутствует снобизм, вызываемый разницей в социальном
положении... - Типологию снобизма своего времени, равно как и само понятие «сноб», развернул
в своей «Книге о снобах» («The Book of Snobs», 1848) английский романист второй трети
XIX в. Уильям Теккерей.
14 «Почему никто не пишет о самом важном в жизни?» - Цитата из романа Гиссинга
«Новая Граб-стрит» (1891) приводится в переводе по: Gissing G. New Grub Street: 3 vols. S.I.,
1986. Vol. 3. P. 395-396.
15 «всю вопиющую несправедливость нашего общественного устройства». - Цитата
приводится в переводе по: Gissing G. Letters to Members of His Family. P. 83. Письмо Гиссинга
брату Уильяму от 3 ноября 1880 г.
736
Приложения
16 «единственная абсолютная ценность ~ остаются для человечества источниками
здоровья». - Ibid. Р. 126. Письмо Гиссинга сестре Маргарет от 12 мая 1883 г.
17 «более или менее правильно и ясным языком написать страницу» - Ibid. Р. 317. Письмо
Гиссинга брату Уильяму от 26 марта 1891 г.
18 «Бродить среди могил ~ всякий след их пребывания» - Цитата из романа Гиссинга
«Демос: рассказ об английском социализме» приводится в переводе по: Gissing G. Demos: A Story
of English Socialism. Harvester, 1972. P. 221.
19 Тотила- король остготов с 541 г., завоевал Рим в войне против византийцев, пал в
552 г. в битве против Нарзеса при Тагине.
20 ...о «необходимостиразличать два способа понимания» - Цитата приводится в
переводе по: Gissing G. Letters to Members of His Family. P.v.
21 «Терпение, мой друг, терпение» - Ibid. P. 398. Из воспоминаний «друга» Гиссинга,
священника, который поделился ими с сестрами писателя.
РОМАНЫ ДЖОРДЖА МЕРЕДИТА
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Novels of
George Meredith // The Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 226-236.
На английском языке впервые опубликовано в 1928 г. в литературном
приложении к «Тайме» и в «Нью-Йорк трибьюн» под названием «Джордж Мередит»
(«George Meredith»).
1 Джордж Мередит - Мередит Джордж (1828-1909). См. примеч. 6 к эссе «Джон Донн
триста лет спустя» на с. 694 наст. изд.
2 Форстер ~ Форстер Эдвард Морган (1879-1970), романист и литературный критик,
переработал лекции, с которыми выступал в 1927 г. в Кембридже, в литературно-критический
опус «Аспекты романа» («The Aspects of the Novel», 1927).
3 «Мередит ~ его известность сегодня равна нулю?» - Цитата из «Аспектов романа»
Э.М. Форстера приводится в переводе по: Forster Е.М. Aspects of the Novel. L., 1927. P. 120-
121. Цит. no: The Essays of Virginia Woolf. Vol. IV P. 535.
4 «Ричард Феверель» - имеется в виду роман Дж. Мередита «Испытание Ричарда Февере-
ля» («The Ordeal of Richard Feverel», 1859).
5 ...вроманах Остен и Троллопа... - О романах Джейн Остен см. эссе Вулф «Джейн Ос-
тен» на с. 106-116 наст, изд.; о Троллопе Энтони см. примеч. 38 к эссе «Аврора Лей» на с. 733
наст. изд.
6 Пикок - о Томасе Пикоке см. примеч. 9 к эссе «Робинзон Крузо» на с. 699 наст. изд.
7 Скионар - герой романа Т. Пикока «Замок Крочет» («Crochet Castle», 1831).
8 «К черту все системы! ~ в багрянце и золоте стоят сосны». - Здесь и далее цитаты из
романа Мередита «Испытание Ричарда Февереля» приводятся в переводе по: Meredith G. The
Ordeal of Richard Feverel: 3 vols. L., 1859. Vol. II. P. 41.
9 «Гарри Ричмонд» - полное название романа Мередита «Приключения Гарри Ричмонда»
(«The Adventures of Harry Richmond», 1871).
10 ...no дорожке, давно протоптанной Диккенсом в его автобиографической прозе. -
Вероятно, Вулф имеет в виду «Американские заметки» («American Notes», 1842) и «Картины из
Италии» («Pictures from Italy», 1846) Чарлза Диккенса.
11 Чувствуется, что Стивенсон многое почерпнул для себя в... мередитовской прозе... -
Речь идет о Стивенсоне Роберте Льюисе (1850-1894). Здесь Вулф высказывает мысль о том,
что задолго до Г. Джеймса (1843-1916), предложившего подавать события в романе с точки
зрения определенного персонажа, именно Мередит наметил подобный способ изображения в
английской литературе второй половины XIX в., а Р.Л. Стивенсон не преминул им восполь-
Примечания
1Ъ1
зоваться, описав события в "Острове сокровищ" («The Treasure Island", 1883) через призму
восприятия подростка Джима Хокинса.
12 «По ночам растворяться ~ истинная благодать». - Здесь и далее цитаты из романа
Мередита «Приключения Гарри Ричмонда» приводятся в переводе по: Meredith G. The
Adventures of Harry Richmond: 3 vols. L., 1871. Vol. I. P. 103.
13 ...с Ричмондом Роем и принцессой Оттилией... - Персонажи романа Мередита
«Приключения Гарри Ричмонда»: Ричмонд Рой - отец главного героя, и принцесса Оттилия Эппен-
вельцен-Саркелд.
14 ...Ричарде и Люси, Гарри и Оттилии, Кларе и Верноне, Бьючемпе и Рене. - Ричард
Феверел и Люси Десборо - действующие лица романа «Испытание Ричарда Феверела»;
Гарри Ричмонд и принцесса Оттилия - герои романа «Приключения Гарри Ричмонда»;
Клара Мидлтон и Верной Уитфорд - герои романа Мередита «Эгоист» («The Egoist», 1879);
Невил Бьючемп и Рене де Круанел - герои романа «Карьера Бьючемпа» («Beauchamp's
Career», 1876).
15«Небо бронзовело- повеяло прохладой и близкой грозой». - Цитата из романа
«Приключения Гарри Ричмонда» приводится в переводе по: Meredith G. The Adventures of Harry
Richmond. Vol. II. P. 101.
16 «Какая благодать ~ все в ожидании». - Ibid. P. 145.
17 Этот дух комического... - Вероятно, Вулф вспоминает эссе Дж. Мередита «Идея о
комедии и способах использования комического духа» («The Idea of Comedy and the Uses of the
Comic Spirit», 1897).
18 Взять «Эгоиста»...- Имеется в виду роман Дж. Мередита «Эгоист». См. выше
примеч. 14.
19 «наш прародитель, наш исполин» - Цитата из романа Мередита «Эгоист» приводится в
переводе по: Meredith G. The Egoist: 3 vols. L., 1879. Vol. HI. P. 108.
20 ...наличие двух безупречно написанных романов - «Гордости и предубеждения» и
«Домика в Аллингтоне»... - «Гордость и предубеждение» - роман Джейн Остен; «Домик в Аллинг-
тоне» («The Small House at Allington», 1864) - роман Энтони Троллопа.
21 ...точно так же, как английская поэзия стремилась вырваться из-под влияния
образцовой поэзии Теннисона. - Под попытками поэтов преодолеть влияние викторианского
поэта-лауреата Альфреда Теннисона Вулф, вероятно, имеет в виду экспериментальную поэзию
Джерарда Менли Хопкинса (1844-1889), философскую лирику А. Суинберна (1837-1909) и
др.
22 «Мой метод ~ во всем блеске и драматизме психологической и интеллектуальной
коллизии» - Цитата из письма Дж. Мередита Дж. П. Бейкеру от 22 июля 1887 г. Приводится в
переводе по: The Letters of George Meredith: 3 vols. Ed. by C.L. Cline. Oxford, 1970.
23 ...путь к «кульминационной коллизии» он уснащает всевозможными па в виде
эвфемизмов: «заиграл легкими», вместо «засмеялся», «прошлась стремительной иголкой»,
вместо «прошила»... - Цитаты из романа Мередита «Испытание Ричарда Февереля» приводятся в
переводе по: Meredith G. The Ordeal of Richard Feverel. Vol. LP. Ill, 202.
24 Возможно, Мередит и зря не отказался от романа и не сосредоточился целиком на
поэзии. - О поэзии Дж. Мередита см примеч. 6 к эссе «Джон Донн триста лет спустя» на
с. 694 наст. изд.
25 ...перевод несказанно обеднил и обесцветил русскую литературу... - О пагубном
воздействии чтения русской литературы в переводе, а не в оригинале Вулф пишет в эссе «Русская
точка зрения». См. с. 138 наст. изд.
26 ...мы так увлеклись психологическими изысками французов... - Вероятно, Вулф имеет
в виду произведения Густава Флобера (1821-1880), Ги де Мопассана (1850-1893) и Марселя
Пруста (1871-1922).
738
Приложения
«Я- КРИСТИНА РОССЕТТИ»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. «1 am Christina
Rossetti» // The Common Reader. Second Series L., 1935. P. 237-244.
На английском языке впервые опубликовано в 1930 г. в «Нейшн энд Атенеум».
1 ...это мы, в ее отсутствие, празднуем столетие со дня ее рождения. - Здесь Вулф,
возможно, невольно намекает на известное стихотворение К. Россетти «День рождения»
(«A Birthday», 1857), которое она процитирует в конце своего эссе. О Кристине Джорджине
Россетти (1830-1894) см. примеч. 3 к эссе «Аврора Лей» на с. 730 наст. изд.
2 ...страницы «Жизни Кристины Россетти», написанной некой мисс Сэндарс и
опубликованной издательством Хатчинсон... - Речь идет о книге Мери Сэндарс «Жизнеописание
Кристины Россетти» («Life of Christina Rossetti», 1930).
3 Халам-стрит в Портленд-Плейс... - район в центральной части Лондона.
4 ...ее глубокое восхищение старшими сестрой и братьями. - Старшая сестра Кристины
Россетти Мария Франческа (р. 1827) и два старших брата: Данте Габриэл Россетти (1828—
1882), выдающийся художник-прерафаэлит и поэт, и Уильям Майкл Россетти (1829-1919),
литератор и критик.
5 .. .она тихо прожила отпущенные ей шестьдесят четыре года в доме на Халам-стрит,
потом на Эндслей-гарденс и Торрингтон-сквер... - В дом на Торрингтон-сквер, 30 Кристина
Россетти переехала с матерью в 1876 г. Об этом пишет в своих «Воспоминаниях» УМ.
Россетти: Rossetti W.M. Memoir of Christina Rossetti // The Poetical Works of Christina Georgina
Rossetti. L., 1911. P. lvii.
6 Крибедж - карточная игра.
I Ей повстречался молодой художник Джеймс Коллинсон... - О художнике Джеймсе Кол-
линсоне (ум. в 1881 г.) пишет в своих «Воспоминаниях» УМ. Россетти: См.: Rossetti W.M.
Memoir of Christina Rossetti. P. Hi.
8 Чарлз Кейли - литератор Чарлз Бэгет Кейли (1823-1883). О нем сообщает в своих
«Воспоминаниях» УМ. Россетти. См.: Ibid. P. liii.
9 Книжка стоит четыре шиллинга шесть пенсов. - Очевидно, речь идет о посмертно
изданном собрании сочинений К. Россетти: Rossetti Ch. Poetical Works / Ed. by W.M. Rossetti.
L., 1904.
10 Тогда как опусы Джин Ингело... переиздавались по восемь раз. - О стихах Джин Инге-
лоу см. примеч. 5 к эссе «Аврора Лей» на с. 730 наст. изд.
II «По-моему, выше этого в поэзии ничего нет!»- Цитата из письма Э.Ч. Суинберна
УМ. Россетти, брату Кристины Россетти, от 25 января 1904 г. приводится в переводе по: The
letters of Algernon Charles Swinburne with Some Personal Recollections / Ed. by Th. Hake and
A. Compton-Rickett. L., 1918.
12 ...как он расписывает ее «Новогодний гимн»... - Имеется в виду стихотворение
Кристины Россетти «Passing away, saith the world, passing away...», впервые опубликованное в
сборнике 1862 г. в разделе «Песенки к Старому и Новому году» («Old and New Year Ditties»).
13 «опаленный, омытый лучами солнечного света ~ неподвластны рукотворным
арфе и органу» - Цитата из эссе Суинберна о Метью Арнольде приводится в переводе по:
Swinburne Al. Essays and Studies. L., 1897. P. 175.
14 Сейнтсбери - Сейнтсбери Джордж Эдвард (1845-1933) - критик и историк
литературы, автор «Истории литературы XIX века» («A History of Nineteenth Century Literature», 1887),
«Истории английского стихосложения» («A History of English Prosody», 1906-1910).
15 «Гоблин Маркет» - сборник стихотворений К. Россетти «"Гоблин маркет" и другие
стихи» (« 'Goblin Market' and Other Poems»), опубликованный в 1862 г.
16 «Центральное стихотворение сборника ~ у м-ра Арнолда» - Цитата из «Истории
английского стихосложения» Дж. Сейнтсбери приводится в переводе по: Sandars M.F. The Life
Примечания
739
of Christina Rossetti. L., 1930. Определение «скелтонический стих» происходит от имени
Джона Скелтона (ок. 1460-1529), университетского поэта-лауреата конца XV- начала XVI в.
Под «нерифмованной поэзией Сэйерса» Дж. Сейнтсбери имеет в виду нерифмованные стихи
Фрэнка Сэйерса (1763-1817), а сравнение с «м-ром Арнолдом» указывает на Мэтью Арнол-
да (1822-1888), выдающегося викторианского поэта и влиятельнейшего английского критика
второй половины XIX в.
17 Уолтер Рэлей - Рэлей Уолтер Александр (1861-1922), профессор английской
литературы в Оксфорде, знаменитый лектор, автор монографий «О стиле» («Style», 1897), «Милтон»
(«Milton», 1900), «Шекспир» («Shakespeare», 1907).
18 «Полагаю, она самый сильный из современных поэтов ~ мне хочется плакать, а не
рассуждать, стоя за кафедрой». - Цитата из письма У.А. Рэлея сестре Элис от 11 января 1892 г.
приводится в переводе по: The Letters of Sir Walter Raleigh: 2 vols. L., 1926. Vol. I. P. 164. Цит.
no: Woolf V. The Common Reader. Vol. 2. P. 313.
19 Ваши стихи золотятся пыльцой и ласкают глаз «матовой киноварью герани». -
Цитата из стихотворения К. Россеттти «Лето» («Summer», 1845) приводится в переводе по: The
Poetical Works of Christina Georgina Rossetti / With Memoirs and Notes by W.M. Rossetti. L.,
1904. P. 86.
20 «бархатные набалдашники» - Ibid. P. 21. Из стихотворения «Из дома домой» («From
House to Home», 1858).
21 «неземную вязь кольчуги»! - Ibid.
22 «Но дай мне маки ~ луны печальной око» - Ibid. Р. 293-294. Из стихотворения К. Рос-
сетти «Желание» («Looking Forward», 1849).
23 ...когда от Музея Виктории и Альберта останутся одни руины. - Здесь Вулф,
вероятно, намекает на то, что стихи К. Россетти переживут многие памятники викторианской
эпохи (как известно, Музей Виктории и Альберта был сооружен в Лондоне по приказу королевы
Виктории в честь ее супруга принца Альберта в 1852 г.).
24 Когда, мой брат, умру я... - Из стихотворения К. Россетти «Песня» («Song», 1848)
приводится в переводе по: The Poetical Works of Christina Rossetti. P. 290-291.
25 Мое сердце ликует, как птица... - Ibid. P. 335. Из стихотворения К. Россетти «День
рождения» («A Birthday», 1857).
РОМАНЫ ТОМАСА ГАРДИ
На русском языке опубликовано в журнале «Вопросы литературы»: Вулф В. Романы
Томаса Гарди / Пер. и примеч. Н. Рейнгольд // ВЛ. 2010. № 4. С. 243-259.
Публикуемый ниже перевод выполнен по: Woolf V. The Novels of Thomas Hardy // The
Common Reader. Second Series. L., 1935. P. 245-257.
В работе над этим эссе Вулф опиралась на свою более раннюю публикацию 1928 г.
«Романы Томаса Гарди» («Thomas Hardy's Novels»).
1 ...со смертью Томаса Гарди английская литература лишилась своего духовного
лидера... - Томас Гарди (Харди) родился в 1840 г. и умер 11 января 1928 г.
2 «Отчаянные средства» - роман «Отчаянные средства» («Desperate Remedies») - «с
острым сюжетом», или «роман изобретательный», по собственному определению Гарди, он
написал по совету Дж. Мередита; роман был издан анонимно в 1871 г. То была вторая попытка
Гарди: роман «Бедняк и дама» («The Poor Man and the Lady», 1868) не получил издательской
поддержки у Макмиллана и Чэпмена.
3 «нащупывал свой путь к овладению методом» - Цитата из авторского предисловия
1889 г. к роману «Отчаянные средства» приводится в переводе по: Hardy Th. Desperate
Remedies: The Wessex Novels // The Novels of Thomas Hardy in Prose and Verse / With Prefaces and
Notes. L., 1912. Vol. XV P.vii. Здесь и далее цитаты из произведений Гарди приводятся по
указанному изданию.
740
Приложения
4 ...о мисс Олдклиф и Цитерии. - Мисс Олдклиф и Цитерея Грэй - героини романа
«Отчаянные средства».
5 «Под деревом зеленым» - роман Т. Гарди «Под деревом зеленым» («Under the
Greenwood Tree. A Rural Painting of the Dutch School», 1872).
6 «будто камнем ухнул в воду, при общем окружающем безмолвии». - Цитата из романа
Гарди «Под деревом зеленым» приводится в переводе по: Hardy Th. Under the Green wood
Tree: The Wessex Novels // The Novels of Thomas Hardy. L., 1896. Vol. XVI. P. 207.
7 «мгновения прозрения» - Выражение Гарди «moments of vision» происходит от
названия стихотворения и одноименного поэтического сборника, который он опубликовал в 1917 г.
Интересно, что Вулф определяла свой метод, что называется, по Гарди: «мгновения бытия»
(«moments of being»).
8 ...повозка, в которой лежит мертвая Фанни... Трои делает круги... вокруг застывшей
недвижно Батшебы... - Фанни Робин, сержант Трои и Батшеба Эвердин - герои романа
Гарди «Вдали от обезумевшей толпы» («Far from the Madding Crowd», 1874), третьего из так
называемых романов «характера и среды».
9 ...пустыни в них точно нет. - Здесь Вулф использует образ пустыни для
характеристики состояния литературы. Похожий прием мы находим в ее эссе «Современная литература»:
«...иные дороги, похоже, ведут в плодородные края, а другие кончаются суховеем и
пустыней...» (см. с. 117 наст. изд.).
]0Джон Когген, Генри Фрэй и Джозеф Пурграсс - персонажи романа «Вдали от
обезумевшей толпы».
11 ...такие речи вели еще паломники во времена их путешествия к святым местам... -
Здесь Вулф, вероятно, вспоминает «Путь паломника» («The Pilgrim's Progress», 1678, 1684)
Джона Беньяна и «Кентерберийские рассказы» (1387-1400) Дж. Чосера. Как известно, в
основе обоих произведений лежит сюжет о паломничестве.
12 ...в Уэссекскихроманах... - Вулф использует определение «Уэссекские романы» Гарди,
образованное по аналогии с названием сборника стихов. «Уэссекские стихи» («Wessex
Poems», 1898). В обоих случаях основанием заглавия послужило название местности - Уэссекс
на юго-востоке Англии.
13 Одна триада- это Оук, Трои и Батшеба; другая - Юстасия, Уайлдив и Венн;
третья - Хенчард, Люсетта и Фарфри; четвертая - Джуд, Сью Брайтхед и Филлотсон. -
Юстасия Вэй, Джон Уайльдив, Диггори Венн - герои романа «Возвращение на родину» («The
Return of the Native», 1878); Майкл Хенчард, Люсетта Ле Сюер, Доналд Фарфри - герои
романа «Мэр Кэстербриджа» («Mayor of Casterbridge», 1886); Джуд Фоули, Сью Брайтхед, Ричард
Филлотсон - герои романа «Джуд незаметный» («Jude the Obscure», 1896).
14 Фитцпирс - Эдред Фитцпирс - герой романа Гарди «В краю лесов» («The Wood-
landers», 1887).
15 Клим Иобрайт - герой романа Гарди «Возвращение на родину».
16 Элизабет-Джейн - героиня романа «Мэр Кэстербриджа».
17 «с почти королевским чувством собственного достоинства» - Цитата из романа Гарди
«Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» приводится в переводе по: Hardy Th. Tess of the D'Urbervilles:
A Pure Woman // The Wessex Novels. L., 1895. Vol. I. P. 119.
18 «человека, отринувшего соображения пола ради более возвышенных ценностей
абстрактного гуманизма» - Цитата из романа Гарди «В краю лесов» приводится в переводе
по: Hardy Th. The Woodlanders // The Wessex Novels. 1896. Vol. VII. P. 459.
19 «это впечатление, но не довод в споре» - Цитата из «Предисловия 1892 г.» Т. Гарди к
5-му изданию романа «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» приводится в переводе по: The Essays of
Virginia Woolf. Vol. IV P. 519.
20 «Отклики могут быть самыми разными, и этим они ценны ~ именно тогда мы
действительно продвигаемся по пути постижения философии бытия». - Ibid. Из «Предисловия
1901 г.» Т. Гарди к сборнику «Стихов о прошлом и настоящем» («Poems of the Past and
Present», 1901).
Примечания
741
21 «Ты говорила, что звезды - это миры, Тэсс?» ~ «На подгнившей» - Цитата из романа
Гарди «Тэсс из рода Д'Эрбервиллей» приводится в переводе А. Кривцовой по: Гарди Т. Тэсс
из рода Д'Эрбервиллей: Чистая женщина, правдиво изображенная. М., 1987. С. 23-24.
22 ...смерть разорившегося торговца зерном в собственном доме на Эгдон-Хилл -
событие того же порядка, что гибель Аякса, покровителя Соломина. - Речь идет о Большом, или
Великом Аяксе, сыне саламинского царя Теламона, который отличался силой и большим
ростом. Участник Троянской войны, Аякс сразился с Гектором и свалил его на землю. Поединок
прервали боги. Герои обменялись дарами - Аякс подарил Гектору пояс, получив от него меч.
Аякс отличился и в схватке за доспехи павшего Ахиллеса: Фетида, мать Ахиллеса,
предложила вооружение сына храбрейшему из греческих героев. Одиссей подкупил пленных троянцев,
и те заявили, что не Аякс, а Одиссей убил больше защитников Трои. Одиссей получил
доспехи Ахиллеса (Вулф имеет в виду эти хитрость и обман Одиссея, говоря о том, что борьба
прекрасна тогда, когда идет в открытую, а не обманом и хитростью). Разгневанный
несправедливостью, Аякс пришел в исступление и закололся. Одиссей, посетивший Аид, встретил
там тень Аякса, которая, помня обиду, отказалась с ним разговаривать. На острове Саламин
имелось святилище Аякса, или Эанта, и в честь героя ежегодно происходили игры - эантейи.
Разбор «Мэра Кэстербриджа» оставляет впечатление некоторого вызова Джойсу, поскольку
пафос его в возведении романа Гарди на вершину, сравнимую с созданиями древних греков, -
собственно, на такую оценку из современников Вулф мог претендовать только автор «Улисса».
КАК ЧИТАТЬ КНИГИ?
Это эссе переводилось на русский язык («Как читать книгу?» // Человек читающий: Homo
Legens. M., 1983). Новый, публикуемый ниже перевод в составе второй серии
«Обыкновенный читатель» выполнен по: Woolf V. How Should One Read a Book? // The Common Reader.
Second Series. L., 1935. P. 258-270.
На английском языке впервые опубликовано в 1926 г. в «Иейл ревью»; вошло в состав
второй серии «Обыкновенного читателя» в существенно переработанном виде.
Первоначальным же источником эссе Вулф послужила ее лекция, с которой она выступила в 1926 г. перед
учащимися частной женской гимназии Хэйес-Корт в Бромли, графство Кент.
1 ...слова- не кирпичи, они не так плотны и осязаемы... - Здесь Вулф, возможно,
полемизирует с Флобером, который, как известно, уподоблял слова камням, подчеркивая, что
настояющий мастер плотно подгоняет одно к другому. В том же духе полемики с
флоберовским определением писательского искусства Вулф пишет в эссе «Своя комната»:
«...поскольку строится роман из отношения не камня к камню, а человека к человеку, впечатление сразу
смешивается с другими нашими переживаниями» (см. с. 499 наст, изд.)
2 ...это безумная морская качка- браться за чтение великих романистов: переходить
от Джейн Остен к Гарди, от Пикока к Троллопу, от Скотта к Мередиту... - О многих из
перечисленных здесь английских романистах XIX в. Вулф пишет в «Обыкновенном читателе»:
эссе «Джейн Остен», «Романы Томаса Гарди», «Романы Джорджа Мередита».
3 ...чувство любопытства, какое порой охватывает нас ^ идет своя жизнь? - Образ
литературы как дома со многими окнами восходит к Генри Джеймсу (1843-1916).
4 ...в его знаменитом романе... - Речь идет о романе Ф. Сидни «Аркадия», см. с. 216-223
наст. изд.
5 ...поклон даме в черном, увешанной бриллиантами... - Имеется в виду герцогиня
Маргарет Ньюкасл, изображенная Вулф в эссе «Герцогиня Ньюкасл». См. с. 61-69 наст. изд.
6 Мадам дю Деффан - известна как корреспондентка Хораса Уолпола: в 1765 г. он
первый раз поехал в Париж, где встретил мадам дю Деффан, с которой его связала многолетняя
дружба и переписка. Письма Уолпола к дю Деффан были уничтожены по распоряжению авто-
742
Приложения
pa, а ее письма к Уолполу были обнародованы в 1912 г. О Хорасе Уолполе см. примеч. 8 к эссе
«Герцогиня Ньюкасл» на с. 664 наст. изд.
7 ...нам, пожалуй, стоит чуточку замешкаться на пороге дома, например, мисс Бер-
ри... - Речь идет о сестрах Агнессе и Мери Берри, которых Хорас Уолпол встретил в 1787-
1788 гг., и они стали его близкими приятельницами на старости лет. В 1791 г. они поселились
по соседству с его домом «Строберихилл» (букв, «клубничный холм») в домике под
названием «Литл Строберихилл».
8 ...про то, как Мария Аллен ~убежала со своим Риши... - Мария Аллен, сводная сестра
Фанни Бёрни, упоминается вскользь в эссе Вулф «Званый вечер у д-ра Бёрни» в связи с некими
драматическими событиями ее жизни (она выскочила замуж за Мартина Риштона и т.д.). См.
с. 268 наст. изд. Здесь же Вулф словно возвращается назад и сообщает читателю
подробности той давней истории. Подробнее о Марии Аллен см. эссе Вулф «Сводная сестра Фанни
Бёрни» («Fanny Burney's Half-sister»), впервые опубликованное в 1930 г. в литературном
приложении к «Тайме»: Woolf V. Fanny Burney's Half-sister/ The Granite and the Rainbow. L., 1958. P. 192.
9 Западный ветер, подуй скорей ~ Спала на груди моей! - Цитата из стихотворения
«Западный ветер, подуй скорей» («Western wind when wilt thou blow») из так называемой
«Оксфордской книги поэзии XVI в.» приводится в переводе Г. Кружкова по: Poems on the
Underground / Ed. by G. Benson et al. L., 1993. P. 40.
10 Я, как дерево, рухну и в могилу сойду,/Лишь подумаю - в сердце тоска. - Цитата из
трагедии Бомонта и Флетчера «Трагедия девушки» («The Maid's Tragedy», 1610-1611)
приводится в переводе по: Beaumont F, Fletcher J. The Maid's Tragedy //The Best Plays of the Old
Dramatists: 2 vols. L., 1887. Vol. I. P. 66.
11 Текут минуты, как крупицы праха ~ Чтоб исцелить все горести покоем. - Цитата из
пьесы Джона Форда «Меланхолия любовника» («The Lover's Melancholy», 1628) приводится
в переводе по: Ford J. The Lover's Melancholy // The Best Plays of the Old Dramatists. L., 1888.
Vol. II. P. 72.
12 ...Будь мы молоды иль стары ~ В предощущенъе вести небывалой... - Цитата из
шестой книги поэмы У. Вордсворта «Прелюдия» («The Prelude», 1850) приводится в переводе
Г. Кружкова по: Wordsworth W. The Prelude, or Growth of a Poet's Mind. An Autobiographical
Poem. L., 1850. P. 160.
13 Луна вплывала в небеса ~ Мигала рядом с ней... - Цитата из «Сказания о старом
мореходе» (1798) Сэмюэла Колриджа приводится в переводе Г. Кружкова по: Coleridge S. Rime of
the Ancient Mariner / Introd. by F.H. Underwood. Boston, 1893. P. 33.
14И мечтатель, в чаще ~ А шафран лесной...- Цитата из стихотворения Э. Джоун-
за (1820-1860) «Когда мир в огне» («When the World is Burning») приводится в переводе
Г. Кружкова по: The Oxford Book of English Verse, 1250-1900 / Ed. by A. Quiller-Couch. Oxford,
1900. P. 883. Нельзя не отметить, впрочем, отсутствие полного соответствия между образом
подснежника в оригинале стихотворения Джоунза и в приведенном переводе, где на месте
подснежника («crocus in the glade») появляется образ «лесного шафрана»; из-за такого
несоответствия пропадает важная связующая линия между настоящим эссе Вулф, завершающим
вторую серию «Обыкновенного читателя», и эссе «Покровитель и подснежник» из
«Обыкновенного читателя» 1925 г. См. с. 163-166 наст. изд.
15 ...его-то нам и надо сравнивать с... «Федрой», «Прелюдией»... - «Федра»
(«Phèdre», 1677) - трагедия Жана Расина (1639-1699); «Прелюдия» («The Prelude») -
автобиографическая поэма У. Вордсворта, написанная белым стихом, адресованная С. Колриджу, была
посмертно опубликована в 1850 г.; полное ее название «Прелюдия, или Развитие мысли
поэта» («The Prelude or, Growth of a Poet's Mind»). См. выше примеч. 12.
16 «Агамемнон» - первая часть трилогии «Орестея» (458 г. до н.э.) древнегреческого
драматурга Эсхила (ок. 525 г. - 456 г. до н.э.).
17 Колридж:, Драйден, Джонсон - крупнейшие английские литературные критики XVII-
XIX вв.: Колридж Сэмюэл Тэйлор (1772-1834), Драйден Джон (1631-1700), Джонсон Сэмюэл
(1709-1784).
Примечания
1АЪ
ДОПОЛНЕНИЯ
В раздел «Дополнения» включены следующие эссе В. Вулф: 17 эссе о русской литературе
(1917-1933), эссе «М-р Беннет и миссис Браун» (1924), «Письмо к молодому поэту» (1932) и
«Своя комната» (1929).
Из эссе Вулф о русских писателях в переводе ранее издавались «Больше Достоевского»,
«Русский школьник», «Вишневый сад», «Горький о Толстом», «Романы Тургенева» («В мире
отечественной классики», 1987) и «Казаки» Толстого» (Яснополянский сборник, 2006).
Программное для модернизма эссе «М-р Беннет и миссис Браун» издается по-русски
впервые.
Эссе «Письмо к молодому поэту» (1932), которое примыкает по времени создания ко
второй серии «Обыкновенного читателя» и представляет в обобщенной форме взгляд Вулф
на поэзию У.Х. Одена, Дж. Лемана, С. Спендера, С. Дэй-Льюиса, Л. Макниса, Р. Грейвза и
других художников 1930-х годов, печаталось с сокращениями («Литературная учеба», 1986).
Здесь оно впервые публикуется в полном объеме.
Завершает раздел «Дополнения» перевод эссе «Своя комната» (1929). Хотя оно дважды
издавалось по-русски ( «Эти загадочные англичанки», 1992, 2003), его присутствие в
составе «Обыкновенного читателя» представляется логичным и оправданным. В «Своей комнате»
Вулф в полной мере воплотила одну из линий «Обыкновенного читателя» - линию истории
литературного творчества женщин. Без этого эссе наше представление о взглядах Вулф на
историю английской литературы и культуры не было бы адекватным, поскольку именно в
произведениях крупной формы, написанных в 1925-1932 гг., воплотился взгляд модерниста
на историю европейской цивилизации.
«КАЗАКИ» ТОЛСТОГО
Это эссе публиковалось на русском языке в 2006 г. {Вулф В. «"Казаки" Толстого» (1917) /
Публ., пер. с англ. и примеч. Н.И. Рейнгольд // Яснополянский сборник, 2006. Тула, 2006.
С. 257-262). Перевод выполнен по: Woolf V. The Essays: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. III. P. 77-79.
На английском языке эссе «"Казаки" Толстого» («Tolstoy's 'The Cossacks' ») впервые
опубликовано в 1917 г. в литературном приложении к «Тайме».
1 ...к серии «Мировая классика» добавились «"Казаки" и другие кавказские повести»
Толстого. - В оксфордское издание 1916 г. вошли повести «Набег» (1853), «Рубка леса» (1855),
«Из кавказских воспоминаний. Разжалованный» («Встреча в отряде с московским знакомым:
Из Кавказских записок князя Нехлюдова») (1856), «Казаки» (1863).
2 ...г-н и г-жа Мод называют Льва Толстого «величайшим русским писателем». -
Цитата из «Предисловия» английских переводчиков Л. и Э. Модов приводится в переводе по:
Tolstoy L. Preface // «The Cossacks» and Other Tales of the Caucasus / Trans, by Louise and Aylmer
Maude. Oxford, 1916. P. viii.
3 В последнее время, правда, англичане увлеклись Достоевским и Чеховым... - О Ф.М.
Достоевском Вулф писала в эссе «Больше Достоевского» («More Dostoevsky», 1917), «Малый
Достоевский» («A Minor Dostoevsky», 1917), «Достоевский в Крэнфорде» («Dostoevsky in
Cranford», 1919) - см. с. 396-400, 417-418 наст. изд. О А.П. Чехове Вулф писала в эссе
«Чеховские вопросы» («Tchekov's Questions», 1918), «Русский фон» («The Russian Background»,
1919), «Вишневый сад» («The Cherry Orchard», 1920), в эссе «Дядя Ваня» («Uncle Vanya») -
см. с. 404-407, 414-416, 419-421, 435 наст. изд. Свой взгляд на восприятие английской
читательской аудиторией творчества Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А.П. Чехова Вулф
обобщила в одном из самых известных своих эссе «Русская точка зрения» («The Russian Point of
View», 1925) - см. с. 137-145 наст. изд. Увлечение Достоевским и Чеховым, о котором пишет
744
Приложения
в эссе «"Казаки" Толстого» Вулф, отразилось в творчестве многих английских прозаиков и
критиков начала XX в.: А. Беннета, Д.Г. Лоуренса, Дж.М. Мэрри, Э. Гарнета и др. Впервые в
отечественной критике о «русском влиянии» как о заметном явлении английской литературы
1910-1920-х годов заговорил Дм. Святополк-Мирский в своих работах 1920-1930-х годов.
См. его статью «Чехов и англичане» («Chekhov and the English»), опубликованную в журнале
«Крайтирион» (Criterion. 1927. Oct. Vol. VI. N 4. P. 292-305), а также его книгу: Мирский Д.
Интеллиджентсиа. М., 1934.
4 ...у Диккенса и Теккерея сегодня многое кажется далеким от нас и устаревшим... -
Вулф часто высказывала критические замечания в адрес английских романистов XIX в.,
полагая, что они были стеснены в своем творчестве многими общественными условностями; так,
в своем позднем эссе «Накренившаяся башня» («The Leaning Tower», 1940) Вулф отмечала:
«Писатели девятнадцатого века никогда не рассказывали такую правду, и поэтому многое в
литературе прошлого столетия сегодня воспринимается как бессмыслица. Именно поэтому
Диккенс и Теккерей, несмотря на всю их природную одаренность, пишут, на наш взгляд, о
куклах и марионетках, а не о взрослых мужчинах и женщинах, и, словно избегая говорить о
главном, развлекают нас отступлениями. Если ты не говоришь правду о себе, ты и о других
людях ее не скажешь» (Цит. по: Woolf V. Collected Essays: 4 vols. L., 1966-1967. Vol. 2. P. 177).
5 .. .это ранняя вещь -явно предвосхищает его главные романы. - Вулф имеет в виду
романы Л.Н. Толстого «Война и мир» (1867) и «Анна Каренина» (1877).
6 ...он повторяет про себя: «не то, не то»... - Цитата из повести Л.Н. Толстого «Казаки»
приводится по: Толстой Л.Н. Казаки // Собр. соч.: В 20 т.. М., 1960-1965. Т. 3. С. 169.
7 «Дядя Ерошка разговаривал с Маръянкой, видимо о своих делах, и ни старик, ни девка
не смотрели на него». - Там же. С. 323.
s«... ему ясно стало ~ отчего же не жить для других?» - Там же. С. 244-245.
9 ...Оленина, Пьера или Левина... - Дмитрий Оленин, герой повести «Казаки» (1863);
Пьер Безухов, герой романа «Война и мир» (1867); Константин Левин, герой романа «Анна
Каренина» (1877).
10 ...с новеллами Мопассана или Мериме. - Мопассан Ги де (1850-1893), Мериме Проспер
(1803-1870) - французские прозаики, мастера новеллистического жанра.
11 «Зрелище было истинно величественное~Неволъно приходило сравнение человека,
который сплеча топором рубил бы воздух». - Цитата из повести «Набег» Л.Н. Толстого
приводится по: Толстой Л.Н. Набег // Собр. соч.: В 20 т. М., 1960. Т. 2. С. 28.
12 ...русским далеко до нас в искусстве комедии нравов... - Речь идет о пьесах Уильяма
Конгрива (1670-1729), Ричарда Шеридана (1751-1816), Оскара Уайльда (1854-1900) -
английских авторов блестящих светских комедий нравов.
БОЛЬШЕ ДОСТОЕВСКОГО
Это эссе публиковалось на русском языке {Вулф В. Больше Достоевского // В мире
отечественной классики. М., 1987. Вып. 2. С. 262-266). Перевод выполнен по: Woolf V. More
Dostoevsky // Books and Portraits: Some Further Selections from the Literary and Biographical
Writings of Virginia Woolf/ Ed. by Mary Lyon. L., 1977. P. 116-119.
На английском языке это эссе было впервые напечатано в 1917 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 Новое добавление к переводам миссис Гарнет... - Под «новым добавлением» Вулф
имеет в виду английское издание повестей Ф.М. Достоевского: « 'The Eternal Husband' and Other
Stories» by F. Dostoevsky / Trans, by C. Garnett. L., 1917. В этот сборник переводов 1917 г.
вошли повести «Вечный муж» (1870), «Двойник» (1846), «Слабое сердце» (1876).
Примечания
745
2 «Такой человек рождается и развивается ~ ни на что не похожее». - Цитата из повести
Ф.М. Достоевского «Вечный муж» приводится по: Достоевский Ф.М. Вечный муж // Полное
собр. соч.: В 30 т. Л., 1974. Т. 9. С. 27.
3 «Так понимаете ли, какой вы теперь друг для меня остались?!» - Там же. С. 49.
4 «Но любил ли он меня вчера, когда изъяснялся в любви и сказал: "поквитаемтесь "? ~ все
у вас должно быть уродливо - и мечты и надежды ваши». - Там же. С. 102-103.
МАЛЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. A Minor Dosto-
evsky // The Essays of Virginia Woolf: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. II. P. 165-167.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1917 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 ...последний из переводов миссис Гарнет... - Гарнет Констанс (1862-1946)-
английская переводчица русской классической литературы, познакомившая английских читателей с
центральными произведениями Л.Н. Толстого, И.С. Тургенева, Ф.М. Достоевского, И.А.
Гончарова, А.П. Чехова и др. Просветительская роль К. Гарнет поистине неоценима. Под
«последним переводом» Вулф имеет в виду, разумеется, последний по времени опубликования к
1917 г.: Dostoevky F. «The Gambler» and Other Stories / Trans, by C. Garnett. L., 1917.
2 ...сборник повестей «Игрок», «Бедныелюди» и «Хозяйка»... - Речь идет о
произведениях Ф.М. Достоевского: романе «Игрок (Записки молодого человека)» (1866); повестях
«Бедные люди» (1846) и «Хозяйка» (1847).
3 ...так бывает в жизни, когда на пике бешеного напряжения сил, в самые
драматические минуты, внезапно открывается истина. - Описывая воздействие романа Достоевского
на английского читателя, Вулф использует понятие и образ «мгновения прозрения» (moments
of vision), восходящие к Томасу Гарди, которые она сама отчасти заимствовала в своей
концепции «мгновений бытия» (moments of being). См. примеч. 7 к эссе «Романы Томаса Гарди»
на с. 740 наст. изд.
4 «Она и плакала, и смеялась - всё вместе ~ бред, прерываемый иногда самым веселым
смехом, который начинал пугать меня». - Цитата из романа «Игрок» Ф.М. Достоевского
приводится по: Достоевский Ф.М. Игрок // Полное собр. соч.: В 30 т. Л., 1973. Т. 5. С. 297.
5 «Там деревня ~ с зверской злобой». - Там же. С. 275.
РУССКИЙ школьник
Это эссе переводилось на русский язык {Вулф В. Русский школьник // В мире
отечественной классики. М., 1997. Вып. 2. С. 266-270). Перевод выполнен по: Woolf V. A Russian
Schoolboy // Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1997. P. 101-105.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1917 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 Первые тома этой автобиографии - «Семейная хроника» и «Детские годы»... -
Первые два перевода Дж.Д. Даффа «Семейной хроники» и «Детских лет» СТ. Аксакова были
опубликованы в 1916 и 1917 гг. Третий том, о котором идет речь в этом эссе Вулф,
представляет собой английский перевод «Воспоминаний» (1856) СТ. Аксакова: A Russian Schoolboy
by Serge Aksakoff/ Trans, from the Russian by J.D. Duff. L., 1917. Дж. Д. Дафф (ум. 1940) был
членом ученого совета Тринити-колледжа в Кембридже.
2 «неисчерпаемое хранилище памяти» - Цитата из «Воспоминаний. Гимназия. Период
первый» СТ. Аксакова приводится по: Аксаков СТ. Собр. соч.: В 3 т. М., 1986. Т. 2. С. 29.
24. Вирджиния Вулф
746
Приложения
3 «Ты, золотое время детского счастия ~ в зрелом возрасте остается только память
холодности и далее жестокости людей». - Там же. Т. 2. С. 10.
4 «Его занятия в университете вызывают изумление ~ только русский, французский и
кое-что из естественных наук». - Цитата из предисловия переводчика к английскому
изданию «Воспоминаний» СТ. Аксакова приводится по: A Russian Schoolboy by Serge Aksakoff.
P. vii. Цит. по: The Essays of Virginia Woolf/ Ed. by A. McNeillie. Vol. II. P. 183.
5 «Опять начал я спать с своей кошкой ~ стоял там неподвижно, как очарованный,
с сильно бьющимся сердцем, с прерывающимся дыханием...» - Цитата из «Воспоминаний.
Гимназия. Период первый» СТ. Аксакова приводится по: Аксаков СТ. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2.
С 9-10.
6 «пересевшего с одного цветка на другой великолепного Кавалера...» - Там же. С 176.
7 «все свободное время от учебных занятий мы посвятили литературе ~ сильно увлекся
театром» - Там же. С. 200.
8 «Как будто в воздухе было нечто успокоительное и живительное, отчего и животному
и растению было привольно...» - Там же. С 101.
9 ...стоит лишь сравнить его с Гилбертом Уайтом... - Уайт Гилберт (1720-1793) -
английский натуралист XVIII в., автор известной «Естественной истории и древностей Сель-
бурна», сложившейся из многолетней переписки Уайта, уроженца и жителя Сельбурна, с
его лондонскими друзьями. В ней он бесхитростно и просто делится своими
наблюдениями, открытиями, удовольствием от общения с природой. Эту книгу знает каждый английский
школьник.
10 «не так светлы и радостны ^ неиспытанной... грусти». - Цитата из «Воспоминаний.
Год в деревне» СТ. Аксакова приводится по: Аксаков СТ. Собр. соч.: В 3 т. Т. 2. С. 65.
11 «Русский народ любит смотреть на движение воды... Радостными восклицаниями
приветствовал народ вырвавшуюся на волю из зимнего плена любимую им стихию...» - Там
же. С. 66.
12 ...самый великий из романов... - Судя по другим высказываниям Вулф о русской
литературе, она, скорее всего, имеет в виду и конкретное произведение - роман Л.Н. Толстого
«Война и мир», и роман как художественную форму. См. главу 4 эссе «Своя комната» на
с. 499-500 наст. изд.
ЧЕХОВСКИЕ ВОПРОСЫ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Tchehov's
Questions // The Essays of Virginia Woolf: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. II. P. 244-247.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1918 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 «Если, по сравнению с де Мопассаном, Чехов больше проявляет свои человеческие
достоинства ^ то Чехова с тем же успехом можно назвать ласковым русским О. Генри». -
Предположительно, это цитата из американского издания произведений А.П. Чехова «Девять
юмористических рассказов»: Tchehov A. Nine Humorous Tales. Boston, 1918 (?). К сожалению,
установить точные выходные данные источника не удалось. Как отмечает Э. Мак-Нейли, «ни
одного экземпляра "Девяти юмористических рассказов" обнаружить не удалось» (The Essays
of Virginia Woolf. Vol. II. P. 247).
2 ...наверняка за пятым и шестым томами его рассказов выстроится очередь... -
Имеются в виду 5-й и 6-й тома13-титомного собрания сочинений А.П. Чехова в переводе К. Гар-
нет: «The Wife» and Other Stories by Anton Tchehov/ Trans, by C. Garnett// Tchehov A. The
Works: XIII vols. L., 1916-1922. Vol. V 1918; «The Witch» and Other Stories by Anton Tchehov /
Trans, by С Garnett // Ibid. Vol. VI. 1918.
Примечания
141
3 ...единодушный отклик, какой за очень короткое время вызвал Достоевский. - К 1918 г.
в Англии были опубликованы следующие переводы произведений Ф.М. Достоевского: «The
Brothers Karamazov», 1912; «The Idiot», 1913; «The Possessed», 1913; «Crime and Punishment»,
1914; «The House of the Dead», 1915; «The Insulted and Injured», 1915; «A Raw Youth», 1916; «The
Eternal Husband» and Other Stories, 1917; «The Gambler» and Other Stories, 1917; «White Nights»
and Other Stories. 1918. Цит. no: Garnett R. Constance Garnett: A Heroic Life. L., 1991. P. 361. Из
критических работ 1900-1910-х годов о Достоевском следует отметить сочинение Дж.М. Мэр-
ри, опубликованное в 1916 г.: Murry J.M. Fyodor Dostoevsky: A Critical Study. N.Y., 1966.
4 «На кого он сердился? На людей? На нужду, на осенние ночи?» - Цитата из рассказа
А.П. Чехова «Почта» приводится по: Чехов А.П. Почта// Собр. соч.: В 12т. М., 1955. Т. 5.
С.353.
5 Так - вопросом - заканчивается рассказ «Почта». - Рассказ «Почта» Чехова был
впервые напечатан в «Петербургской газете» в 1887 г. Вулф подчеркивает вопросительную
концовку рассказа как доказательство абсолютной непривычности чеховской манеры для
английского читателя: согласно норме английской литературной речи начала XX в. (которая и
сегодня соблюдается в публицистике), художественный или публицистической текст нельзя
заканчивать вопросом.
6 «Посторонних не велено возить... Да. Мне, положим, все равно, а только я этого не
люблю и не желаю». - Цитата из рассказа Чехова «Почта» приводится по: Чехов АЛ. Собр.
соч.: В 12 т. Т. 5. С. 352.
7 ...{сторож: и пугало общественных огородов). - Примечание в скобках добавлено
Вулф.
* «Любопытно! - потянулся Савка. ~ во всем своя умственность! » - Цитата из рассказа
Чехова «Агафья» приводится по: Чехов А.П. Агафья / Собр. соч.: В 12 т. Т. 4. С. 131. Рассказ
«Агафья» впервые напечатан в газете «Новое время» в 1886 г.
9 ...взять сиену обеда в одном небольшом имении, куда приглашен местный доктор. -
Имеется в виду доктор Соболь из рассказа Чехова «Жена». Рассказ впервые опубликован в
журнале «Северный вестник» в 1892 г.
10 «Да! Если, понимаете ли, хорошенько вдуматься ~ то ведь это не жизнь, а пожар в
театре!» - Цитата из рассказа Чехова «Жена» приводится по: Чехов А.П. Жена // Собр. соч.:
В 12 т. Т. 7. С. 44.
11 ...вы прочитали «Скучную историю»... - Имеется в виду рассказ Чехова «Скучная
история (Из записок старого человека)». Впервые рассказ напечатан в журнале «Северный
вестник» в 1889 г.
12 ...это видно даже через мутное стекло перевода. - Один из многих примеров
отрицательной оценки Вулф перевода как ограниченного и грубого средства передачи оригинала.
13 Пример тому - рассказ «Гусев». - Впервые рассказ Чехова «Гусев» напечатан в
газете «Новое время» в 1890 г. Именно с этим рассказом сравнивает Вулф отрывок из романа
Джойса «Улисс» в эссе «Современная литература» (см. с. 120-122 наст, издания) - не в
пользу последнего. Под «самобытностью в выборе элементов сюжета», «небывалой
неслыханной гранью бытия», изображенных в рассказе «Гусев», Вулф, вероятно, имеет в виду
сочетание экзотической обстановки (Ближний Восток), крестьянских дум Гусева, экзистенциальной
темы смерти человека, выбрасываемого за борт, как морковка, и таинственных сказочных
рыб, то ли обитающих в море, то ли приснившихся Гусеву в горячечном бреду.
ВАЛЕРИЙ БРЮСОВ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Valéry Brussof//
The Essays of Virginia Woolf.: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. II. P. 317-319.
На английском языке это эссе впервые опубликовано в 1918г. в литературном
приложении к «Тайме».
24*
748
Приложения
1 ...эту книгу... - Имеется в виду английское издание рассказов В.Я. Брюсова (1873-1924)
«"The Republic of the Southern Cross" and Other Stories» («Республика Южного Креста» и
другие рассказы») с предисловием Стивена Грэма: BrussofV. «The Republic of the Southern Cross»
and Other Stories. L., 1918.
2 «своего рода итальянизированный русский, он привязан к Франции и Италии
гораздо сильнее, чем к своей родной стране». - Цитата из предисловия С. Грэма к английскому
изданию рассказов В.Я. Брюсова приводится в переводе по: Brussof V. «The Republic of the
Southern Cross» and Other Stories. P. v. (Цит. no: The Essays of Virginia Woolf. Vol. II. P. 319).
ъ«...нет определенной границы между миром реальным и воображаемым, между "сном"
и "явью", "жизнью" и "фантазией"»... - Цитата из «Предисловия» В.Я. Брюсова ко
второму изданию сборника «Земная ось» (1910) приводится по: Брюсов В. Земная ось: Рассказы и
драматические сцены, 1901-1907 гг. Изд. второе, доп. М., 1910. С. vii. Вот как комментирует
вопрос изображения мира реального и мира воображаемого в прозе Брюсова В.Б. Муравьев:
«Разновидностям фантастики как литературного жанра посвящена незаконченная и
неопубликованная статья Брюсова "Пределы фантазии"». Эта статья, написанная не ранее 1911 г.
... не только является свидетельством глубокого интереса Брюсова к жанру фантастики, но и
содержит интересные теоретические обобщения. Брюсов перечисляет «три приема, которые
может использовать писатель при изображении фантастических явлений: 1. Изобразить иной
мир - не тот, где мы живем. 2. Ввести с наш мир существо иного мира. 3. Изменить условия
нашего мира». Муравьев В.Б. Неопубликованные и незавершенные повести и рассказы //
Литературное наследство: Валерий Брюсов. Т. 85. М., 1976. С. 70.
4 ...ему «мало эмоциональных доказательств ~ отстаивает с чисто мужской
принципиальностью». - Цитата из предисловия С. Грэма приводится в переводе по: BrussofV. «The
Republic of the Southern Cross» and Other Stories. L., 1918. P. xi.
5 ...Мария большую часть своей сознательной жизни прожила, представляя себя
живым воплощением Реи Сильвии... - Речь идет о рассказе В. Брюсова «Рея Сильвия» (1916).
По легенде, Рея Сильвия, дочь царя Альба Лонги Нумитора, родила от Марса близнецов Ро-
мула и Рема. По одной из версий, была брошена (или бросилась сама) в Тибр, была спасена
богом реки Тиберином и стала его супругой. Интересно, что рассказ Брюсова «Рея Сильвия»
не вошел в состав ни первого, ни второго сборников «Земная ось», поскольку был написан
позднее и опубликован впервые на русском языке в 1916г.; кроме того, на русском языке не
издавалось собрание рассказов В.Я. Брюсова под названием «"Республика Южного Креста" и
другие рассказы». Таким образом, английский перевод 1918 г. с предисловием С. Грэма
представляет собой так называемый гибридный текст, переведенный с несуществующего русского
оригинала или же с перевода, выполненного первоначально на какой-либо другой
европейский язык.
6 Другая женщина живет тем, что разговаривает с собственным отражением в
зеркале. - Здесь Вулф вспоминает рассказ Брюсова «В зеркале (Из архива психиатра)» (1903).
Рассказ был опубликован в сборнике: Брюсов В. Земная ось: Рассказы и драматические сцены.
Изд. первое. М, 1907. С. 95-106.
7 Третья видит ~ испытывает к ним самые нежные чувства. - Речь идет о рассказе
«Бемоль (Из жизни одной из малых сих)» (1903). См. Брюсов В. Земная ось... Изд. второе, доп.
С. 38-43.
8 «Не лучше ли наше безумие, чем разумная жизнь всех других людей?» - Цитата из
рассказа Брюсова «Рея Сильвия» приводится по: Брюсов В. Рея Сильвия, Элули, сын Элули. М,
1916. С. 35.
9 «К чему?.. Не все ли равно, где я буду думать о Нине - в ночлежном доме или в
тюрьме?» «Одно меня смущает: что если Нины никогда не было?» - Цитата из рассказа Брюсова
«Мраморная головка: рассказ бродяги» приводится по: Брюсов В. Земная ось... Изд. первое.
С. 113.
Примечания
749
ВЗГЛЯД НА РЕВОЛЮЦИЮ В РОССИИ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. A View of the
Russian Revolution // The Essays of Virginia Woolf: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. II. P. 338-340.
На английском языке это эссе было впервые напечатано в 1918 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 В своем коротком предисловии к этой книге... - Речь идет о книге Мериэл Бьюкенен
«Петроград в смутное время: 1914-1918» {Buchanan M. Petrograd: The City of Trouble: 1914—
1918. L., 1918).
2 м-р Хью Уолпол- Уолпол Хью (1884-1941), популярный английский романист,
выходец из Новой Зеландии, автор романов «М-р Перин и м-р Трейл» («Mr Perrin and Mr Traill»,
1911), исторического «сериала» «Хроника Херриз» («Herries Chronicle», 1930-1933) и др. Во
время Первой мировой войны X. Уолпол служил в составе Русского Красного Креста, а
Февральскую революцию 1917г. встретил в должности главы английского корпуса журналистов
в Петрограде. Его знакомство с Россией нашло отражение в ряде произведений, в частности в
романе «Зеленое зеркало» («The Green Mirror», 1918), который Вулф рецензировала для
приложения к «Тайме» в одноименной статье 1918г. Хью Уолпол - друг и корреспондент
Вирджинии Вулф.
3 «Полагаю ^ царящей в России атмосфере смуты и террора в условиях событий
мирового масштаба. - Цитата из «Предисловия» X. Уолпола к книге М. Бьюкенен
приводится в переводе по: Buchanan M. Petrograd... P. 1 (Цит. по: The Essays of Virginia Woolf. Vol. II.
P. 340).
4 то есть войны и революции. - Речь идет о Первой мировой войне 1914-1918 гг. и о
Февральской революции в России.
5 взгляд ~ «человека с улицы». - Цитата из «Предисловия» X. Уолпола к книге М.
Бьюкенен приводится в переводе по: Buchanan M. Petrograd... P. 1.
6 ...в откровенном и живо написанном дневнике дочери «сэра Бьюкенена». - Сэр
Бьюкенен Джордж Уильям (1854-1924) - британский посол в С.-Петербурге с 1910 по 1918 г. Взяв
словосочетание «сэр Бьюкенен» в кавычки, Вулф, видимо, показывает, что находит
амикошонством сокращенное употребление имени титулованного дипломата, отсюда нота иронии,
звучащая в этой фразе. Впрочем, непонятно, кто именно употребляет сокращение: в книге
М. Бьюкенен такого словоупотребления нет.
7 Когда началась война... - Имеется в виду Первая мировая война, начавшаяся в августе
1914 г.
8 « "Мериэл, посмотри, а голова-то у него совсем живая! " - только и сумела она
выдохнуть» - Цитата из книги М. Бьюкенен «Петроград в смутное время...» приводится в переводе
по: Buchanan M. Petrograd... P. 49.
9 «Смотрю на запись в дневнике ~ пообещал непременно наведаться в госпиталь». -
Ibid. Р. 51.
10 Рассказ о революции... - Речь идет о Февральской революции 1917 г.
11 Она подробно описывает, как «священник»... - Цитата из книги М. Бьюкенен
«Петроград в смутное время...» приводится в переводе по: Buchanan M. Petrograd... P. 82.
12 ...здесь автор ошибается: Распутин не был священником... - Вулф демонстрирует
большую осведомленность в русском вопросе и в политических реалиях России, чем автор
книги о Петрограде в 1914-1918 гг. Распутин Григорий Ефимович (1872-1916) был убит в
декабре 1916 г.
13 «Я оказалась запертой ~ собирала по крохам информацию о происходящем». -
Цитата из книги М. Бьюкенен «Петроград в смутное время...» приводится в переводе по:
Buchanan M. Petrograd... P. 97.
750
Приложения
14 Генерал Нок - английский военный атташе (General Knox). См. о нем в: Керенский А.
Потерянная Россия. М., 2007. С. 87.
15 «она доставляет ему больше хлопот, чем вся русская армия» - Цитата из книги М. Бью-
кенен приводится в переводе по: Buchanan M. Petrograd... P. 152.
16 «опубликованную в газетах телеграмму Керенского ^ Корнилову немедленно сложить
с себя полномочия» - Ibid. Р. 165. Интересно, что в своих воспоминаниях А. Керенский
отмечает, что английская военная миссия поддерживала мятеж Корнилова (см. «Заговорщики в
столицах» в: Керенский А. Потерянная Россия. С. 87); возможно, это обстоятельство
объясняет и позицию мисс Бьюкенен, дочери английского дипломата.
17 «Представляется доказанным ~ для подавления мятежа под руководством генерала
Крымова». - Цитата из книги М. Бьюкенен приводится в переводе Buchanan M. Petrograd...
P. 169.
18 ...он направил их, вопреки просьбе Временного правительства, именно под
командованием генерала Крымова. - Здесь Вулф высказывает точку зрения, близкую к той, что изложена
в воспоминаниях А. Керенского. См. главу «Лавр Корнилов. Наступление Ставки. Политика
Временного Правительства» в: Керенский А. Потерянная Россия. С. 72-112.
РУССКИЙ взгляд
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Russian
View // The Essays of Virginia Woolf: 6 vols. L., 1986-2011. Vol. II. P. 341-344.
На английском языке это эссе впервые опубликовано в 1918г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 В недавно опубликованном рассказе м-ра Голсуорси один герой называет другого
«братом»... - Речь идет о рассказе Джона Голсуорси (1867-1933) «Первый и последний» («The
First and The Last»), опубликованном в сборнике «Пять историй»: Galsworthy J. Five Tales. L.,
1918. В эссе Вулф вспоминает следующий эпизод рассказа: «Лауренс почувствовал, как его
обожгло сострадание к этому несчастному, с которым жизнь обошлась еще хуже, чем с ним.
"Да, брат, - сказал он, - по тебе не видно, чтоб ты сильно процветал!"» ( Ibid. Р. 18. Цит. по:
The Essays of Virginia Woolf. VIL P. 343).
2 ...по старой памяти перелистываем книгу Елены Милицыной и Михаила
Салтыкова... - Речь идет об английском издании рассказов Е.М. Милицыной и М.Е.
Салтыкова-Щедрина: «The Village Priest» and Other Stories from the Russian of Militsina and Saltikov / Trans, by
Beatrix L. Tollemache; with an Introduction by C. Hagberg Wright. L., 1918. Цит. no: The Essays
of Virginia Woolf. VII. P. 343). В комментарий к эссе «Русский взгляд» вкралась ошибка:
русская писательница названа «Еленой Дмитриевной», не указаны даты ее жизни. В
действительности же под «Еленой Милицыной» имеется в виду Милицына Елизавета Митрофановна
(1869-1930), русская писательница, печатавшаяся с 1898 г. в «Русской мысли», автор
рассказов, составивших трехтомник: Милицына Е. Рассказы: В 3 т. М., 1910-1913. В английский
сборник переводов вошли две ее повести: «Идеалист» (в английском переводе «The Village
Priest») и «Нянька» («The Old Nurse»), первоначально опубликованные на русском языке в:
Милицына Е. Рассказы. СПб., 1910. С. 295-330, 191-200. Под «Михаилом Салтыковым»
имеется в виду Салтыков-Щедрин Михаил Евграфович (1826-1889), русский писатель-сатирик,
публицист; в английском сборнике опубликованы три его рассказа: «Коняга» («Konyaga»),
«В остроге» («A visit to a Russian Prison») и «Глава» («The Governor»).
3 Елена... - Читай: Елизавета. См. примеч. 2.
4 ...{добавляет д-р Райт)... - Цитата из «Предисловия» Ч.Х. Райта приводится в переводе
по: Wright С.Н. Introduction // «The Village Priest» and Other Stories from the Russian of Militsina
and Saltikov. P.viii. Цит. no: The Essays of Virginia Woolf. VII. P. 344. О Чарлзе Хэгберге Райте
см. примеч. 5 на с. 680 наст. изд.
Примечания
751
5 «эти писатели двух разных ~ смена власти в России была неизбежна». - Ibid. P. xxii.
6 ...за тему рассказа Елены Милицыной «Идеалист»... - На английский язык название
этого рассказа было переведено как «The Village Priest» (в букв. пер. «сельский священник»),
что могло вызвать некоторую путаницу, поскольку один из рассказов Салтыкова-Щедрина так
и называется - «Сельский священник».
7 «Нет конца полю, не уйдешь от него никуда!.. ~ не признает себя сытым». - Цитата
из сказки Салтыкова-Щедрина «Коняга» (впервые опубликована в «Русских ведомостях» в
1855 г., вместе со сказкой «Кисель», за подписью «Н. Щедрин») приводится по: Салтыков-
Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. М., 1974. Т.16 (I). С. 172-173.
8 «...сумей почувствовать себя близким людям ^ сердцем, любовью к ним...»- Слова
о. Андрея своему сыну Павлу. Цитата из рассказа Е. Милицыной «Идеалист» приводится по:
Милицына Е. Идеалист // Милицына Е. Рассказы. СПб., 1910. С. 317. Интересно отметить, что
именно эти слова священника Вулф воспроизводит в эссе «Русская точка зрения» и
«Современная литература», см. примеч. 18 к эссе «Современная литература» на с. 677 и примеч. 3 к
эссе «Русская точка зрения» на с. 680 наст. изд.
9 « глубокая грусть». - Цитата из «Предисловия» Ч.Х. Райта приводится по: Wright С.H.
Introduction. P. xxii. См. примеч. 4 на с. 750 наст. изд.
10 ...недаром юродивых русские именуют «рабами Божьими». - Это замечание Вулф,
видимо, основано на рассказе Е.М. Милицыной «Идеалист», где изображены две «старые
девы» - Фекла и Мокрина. См. Милицына Е. Рассказы. С. 299.
11 «целая масса живет в нем, неумирающая, нерасчленимая и неистребимая. Нет
конца жизни - только одно это для этой массы и ясно» - Цитата из сказки Салыткова-Щедри-
на «Коняга» приводится по: Салтыков-Щедрин М.Е. Собр. соч.: В 20 т. Т. 16 (I). С. 172-173.
Интересно отметить, что в английском переводе сказки Салтыкова-Щедрина
словосочетание «целая масса» переведено оценочно: «a sound core» (букв, «здоровое ядро», «стержень»).
(«The Village Priest» and Other Stories... P. 77).
РУССКИЙ ФОН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. The Russian
Background // Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1977. P. 123-125.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1919 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 Спасибо миссис Гарнет за ее труды... - См. примеч. 1 к эссе «Малый Достоевский» на
с. 745 наст. изд. В 1919 г. лондонское издательство «Чатто энд Уиндус» опубликовало в
переводе К. Гарнет 7-й том из 13-томного собрания прозы А.П. Чехова: Tchehov A. «The Bishop»
and Other Stories / Trans, from the Russian by Constance Garnett. L., 1919. Именно об этом
сборнике переводов рассказов Чехова, в который вошли «Архиерей», «Степь», «Убийство» и др.,
идет главным образом речь в эссе Вулф «Русский фон».
2 «Архиерей» - рассказ А.П. Чехова «Архиерей» был впервые напечатан в «Журнале для
всех» в 1902 г.
3 ...они дают ему некую точку душевной опоры - если угодно, основу... - У Вулф в
оригинале «основе» соотвествует сочетание «a solid object», что почти полностью совпадает с
названием рассказа Вулф «Solid Objects», над которым она начала работать в 1918 г. и который
был опубликован в «Атенеуме» в 1920 г. Ср. с русским переводом названия рассказа
«Реальные предметы» в: Вулф В. Избранное. М., 1989. С. 452-458.
4 «кроме мира, который видели все ~ вероятно, очень хороший». - Цитата из
рассказа Чехова «Степь (История одной поездки)» (1888) приводится по: Чехов А.П. Степь // Собр.
соч.: В 12 т. М., 1955. Т. 6. С. 61.
752
Приложения
5 «на память приход[и]т», «всё то, что сам сумел увидеть и постичь душою»... - Там
же. С. 51.
6 «О необъятной глубине и безграничности неба ~ красиво и ласково...» - Там же.
7 «Все представляется не тем, что оно есть ~ одинокий куст или большой камень...» -
Там же. С. 50.
8 «Едешь час-другой ~ поставленная бог ведает кем и когда...» - Там же. С. 51.
9 «...душа дает отклик прекрасной, суровой родине, и хочется лететь над степью
вместе с ночной птицей». - Там же.
10 «Все это ~ фантастичность небылицы или сказки бледнела и сливалась с жизнью». -
Там же. С. 79.
11 «он, наконец, узнал настоящую веру ~ где бог и как должно ему служить». - Цитата из
рассказа Чехова «Убийство» (1895) приводится по: Чехов А.П. Убийство // Собр. соч.: В 12 т.
М, 1955. Т. 8. С. 60.
ДОСТОЕВСКИЙ В КРЭНФОРДЕ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Dostoevsky in
Cranford // Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1977. P. 120-122.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1919 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 «Дядюшкин сон», самое объемное произведение в новом томе переводов миссис Гар-
нет... - Под «новым томом переводов миссис Гарнет» имеется в виду книга: Dostoevsky F.
«An Honest Thief» and Other Stories / Trans, by Constance Garnett. L., 1919. В это английское
издание вошли следующие произведения Ф.М. Достоевского: «Дядюшкин сон» (1859) («Uncle's
Dream»), «Сон смешного человека» (1877) («The Dream of a Ridiculous Man»), «Честный вор»
(1848) («An Honest Thief»), «Чужая жена и муж под кроватью» (1848) («Another Man's Wife»),
«Крокодил. Необыкновенное событие, или Пассаж в Пассаже» (1865) («The Crocodile»),
«Роман в девяти письмах» (1847) («A Novel in Nine Letters»), «Елка и свадьба» (1848) («The
Heavenly Christmas Tree»), «Скверный анекдот» (1862) («An Unpleasant Predicament»),
«Мужик Марей» (1876) («The Peasant Marey») и «Бобок» (1873) («Bobok»).
2 ...внешне Мордасов очень похож: на Крэнфорд... - Действие повести Ф.М. Достоевского
«Дядюшкин сон (Из мордасовской летописи)» происходит в вымышленном провинциальном
городке Мордасов. Крэнфорд - название вымышленного английского городка в одноименном
романе английской писательницы Элизабет Гаскелл («Cranford», 1853).
3 «Инстинкт провинциальных вестовщиков ~ эта мысль лишняя». - Цитата из повести
Достоевского «Дядюшкин сон» приводится по: Достоевский Ф.М. Дядюшкин сон // Собр.
соч. В 30 т. Л., 1972. Т. 2. С. 336.
4 (сыплет она скороговоркой, на манер мисс Бейтс) - Замечание в скобках - вводная
фраза Вулф, развивающая основную тему эссе: сравнение писательской манеры Достоевского
с английскими романистами. Мисс Бейтс - второстепенный персонаж из романа Джейн Остен
«Эмма» («Emma», 1816).
5 «Это - танец! ~ Кадушка этакая! Вот я ж ей теперь!» - Цитата из повести
Достоевского «Дядюшкин сон» приводится по: Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 30 т. Т. 2 С. 329-330.
6 ...его комедия больше смахивает на пьесу Уичерли... - Об Уильяме Уичерли см. примеч.
33 к эссе «О глухоте к греческому слову» на с. 657 наст. изд.
1 ...роман Джейн Остен... - Остен Джейн - английская романистка, мастер
художественной иронии, автор романов из провинциальной жизни «Эмма», «Гордость и предубеждение»,
«Чувство и чувствительность» и др. См. примеч. 1, 12 к эссе «Джейн Остен» на с. 673, 674
наст. изд.
Примечания
753
8 ...в какой-то момент по ходу действия он вдруг замечает ~ о пяти несчастных
женщинах, ставших жертвами пропойцы-отца. - Здесь Вулф, видимо, вспоминает рассказ Мар-
меладова из второй главы «Преступления и наказания»: «Бывают иные встречи, совершенно
даже с незнакомыми нам людьми, которыми мы начинаем интересоваться с первого взгляда,
как-то вдруг, внезапно, прежде чем скажем слово. Такое точно произвел на Раскольникова тот
гость, который сидел поодаль и походил на отставного чиновника». Достоевский Ф.М.
Преступление и наказание // Собр. соч.: В 30 т. Т. 6. С. 12.
9 ...что лучше: крошечный кусочек слоновой кости или грубый зернистый холст
размером два метра на два? - Слова о «кусочке слоновой кости» - буквальная цитата из
высказывания Джейн Остен о своем писательском кредо, содержащегося в ее письме
племяннику Эдварду Остену от 16 декабря 1817г.: «Что до меня, то я никак не сумела бы уместить
их (две последние главы его романа. - Н.Р.) на крохотной пластинке слоновой кости
(шириной в два дюйма), по которой я обычно работаю тонюсенькой кисточкой, - овчинка
выделки не стоит» {Austen-Leigh W. Jane Austen: Her Life and Letters. L., 1913. P. 378. Цит. no:
The Essays of Virginia Woolf. V. III. P. 115). Включенное Вулф в ее эссе о повестях
Достоевского, данное высказывание Остен в соединении с другим образом Вулф («грубый холст
размером два метра на два») приобретает смысл метафоры о двух различных подходах
художника к искусству: минималистском и обобщенном; искусстве детали и искусстве
широкого полотна. Эту метафору можно принять за одну из ранних попыток Вулф
сформулировать собственное писательское кредо, смысл и границы которого со временем прояснятся как
стремление достичь цельного соединения фактической достоверности и психологической
глубины. Примечательно, что именно в эссе о Достоевском Вулф ставит вопрос о методе
романиста.
«ВИШНЕВЫЙ САД»
Это эссе публиковалось на русском языке {Вулф В. «Вишневый сад» // В мире
отечественной классики. М., 1987. Вып. 2. С. 270-273). Перевод выполнен по: Woolf V. «The Cherry
Orchard» // New Statesman. 1920. 24 July. P. 446-447.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1920 г. в «Нью стейтсмен».
1 Хотя каждый из аудитории «Арт Тиетр», наверное, и читал «Вишневый сад»
Чехова не раз, многие никогда не видели его на сцене. - Поводом для написания этого эссе Вулф
послужила постановка комедии Чехова «Вишневый сад» труппой «Арт Тиетр» в лондонском
театре «Сент-Мартинс», состоявшаяся 11 и 12 июля 1920 г. Судя по рецензии в «Тайме» от
1 июля 1920 г., труппа исполняла пьесу в переводе К. Гарнет (The Essays of Virginia Woolf.
Vol. III. P. 249).
2 ...актеры «Арт Тиетр»... - Роли в постановке «Вишневого сада» распределились
таким образом: Раневская - Этель Ирвинг, Аня - Ирен Рэтбоун, Варя - Марджери Брайс,
Леонид Андреевич - Лейтон Чэнселор, Лопахин - Джозеф А. Додд, Петя Трофимов - Хескет
Пиерсон, Симеонов-Пищик - Феликс Эйлмер, Шарлотта Ивановна - Эдит Эванс, Епиходов -
Уильям Армстронг, Дуняша - Хелена Мийе, Фирс - Эрнест Пэтерсон, Яша - Дж. М. Роберте,
бродяга - Метью Форсит.
3 «У меня нет настоящего паспорта ~ Кто мои родители, может, они не венчались ~
не знаю». - Цитата из второго действия комедии А.П. Чехова «Вишневый сад» приводится по:
Чехов АЛ. Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 9. С. 425.
4 Паркер - имя дворецкого из пьесы О. Уайльда «Веер леди Уиндермер» («Lady
Windermere's Fan», 1892).
5 ...пьесы Шеридана или Оскара Уайльда... - Шеридан Ричад Бринсли (1751-1816),
Уайльд Оскар (1854-1900) - мастера английской светской комедии нравов.
754
Приложения
6 «Школа злословия» - пьеса Р. Шеридана («The School for Scandal», 1777).
7 Сарри Хиллз... - курортное место недалеко от Лондона.
8 ...Чехов осенил нас озаряющим облаком... - Восходит к евангелическому образу: «И
явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел глас...» (Мрк, 9 : 7); «Когда он еще говорил се,
облако светлое осенило их...» (Мтф, 17:5).
ГОРЬКИЙ о толстом
Это эссе публиковалось на русском языке (Вулф В. Горький о Толстом // В мире
отечественной классики. М., 1987. Вып. 2. С. 273-276). Перевод выполнен по: Gorky on Tolstoy
(unsigned) // New Statesman. 1920. 7 Aug. P. 505-506.
На английском языке эссе было впервые опубликовано (без подписи автора) в 1920 г. в
«Нью стейтсмен».
1 ...известные офорты, гравюры и портреты Уотса и Милле. - Уотс Джордж Фредерик
(1817-1904) - английский живописец и скульптор; Милле Джон Эверетт (1829-1896) -
английский художник и иллюстратор.
2 «Мне всегда не нравились его суждения о женщинах ~ он не может ни забыть, ни
простить». - Цитата из очерка М. Горького «Лев Толстой», который Вулф анализирует в
переводе С.С. Котельянского («Reminiscences of Leo Nicolayevitch Tolstoi». L., 1920), приводится no:
M Горький. Собр. соч.: В 30 т. М., 1951. Т. 14. С. 291.
3 «Во Льве Николаевиче есть ^ Да, он велик!» - Там же. С. 279-280.
4 « "Человек переживает землетрясения ~ трагедия спальни " ~ и вдруг - нет ее». - Там
же. С. 263.
5 «Хотя и много он говорит на свои обязательные темы ~ есть мысли, которых он
боится». - Там же. С. 259.
6 «Ине доканчиваю... этого почему-то нельзя сделать». - Там же. С. 253.
7 «какой-то необыкновенный человек-оркестр». - Там же. С. 287.
МИМОЛЕТНЫЙ ВЗГЛЯД НА ТУРГЕНЕВА
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. A Glance at
Turgenev // Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1977. P. 106-108.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1921 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 ...если это был бы не шестнадцатый том классика... - Эти слова Вулф не следует
понимать буквально, однако их смысл очевиден: творчество И.С. Тургенева в Англии в начале
1920-х годов было довольно хорошо известно. В данном эссе Вулф речь идет о сборнике
повестей И.С.Тургенева « "Два приятеля" и другие рассказы» в переводе К. Гарнет: Turgenev I.
«Two Friends» and Other Stories / Trans, by Constance Garnett. L., 1921.
2 «У ней была привычка ~ заигрывая с ним»; «...успокоили разъярившихся собачонок ~
потерпела укушение в правую руку». - Обе цитаты из повести И.С. Тургенева «Два приятеля»
(1853) приводятся по: Тургенев КС. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 5. С. 284.
3 «не принадлежал к числу людей незаменимых ~ (да и есть ли такие чувства?)». - Там
же. С. 312.
4 «потому что на земле другого счастия нет». - Там же. С. 313.
5 Повести, собранные в этом томе... - Кроме повестей, упомянутых Вулф в эссе, в
английский сборник входит «Рассказ отца Алексия» (1877).
Примечания
755
6 «Однако, - прибавила она... - луна, должно быть, взошла, это ее отблеск над
тополями». - Цитата из повести Тургенева «Затишье» (1854) приводится по: Тургенев И.С. Собр.
соч.: В Ют. М, 1961. Т. 6. С. 23.
7 «Все дремало ~ Я нагнулся через плетень: передо мной красный полевой мак поднимал
из заглохшей травы свой прямой стебелек...» - Цитата из повести Тургенева «Три встречи»
(1852) приводится по: Там же. Т. 5. С. 181-182.
8 ...и все кончается тем, что, слегка пожав плечами, он отворачивается. - Это
высказывание Вулф напоминает эпизод из повести И.С. Тургенева «Довольно» (1865): «Тогда одно
остается человеку, чтобы устоять на ногах и не разрушиться в прах, не погрязнуть в тине
самозабвения... самопрезрения: спокойно отвернуться ото всего, сказать: довольно! - и,
скрестив на пустой груди ненужные руки, сохранить последнее, единственно доступное
достоинство, достоинство сознания собственного ничтожества; то достоинство, на которое намекает
Паскаль, когда он, называя человека мыслящим тростником, говорит, что если бы целая
вселенная его раздавила - он, этот тростник, был бы все-таки выше вселенной, потому что он бы
знал, что она его давит - а она бы этого не знала» (Тургенев И.С. Собр. соч.: В 10 т. Т. 7. С. 34).
ДОСТОЕВСКИЙ В ВОСПОМИНАНИЯХ ДОЧЕРИ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Dostoevsky the
Father//Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1977. P. 112-115.
На английском языке это эссе впервые опубликовано в 1922 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 Читать эту книгу... - Речь идет о книге Любови Федоровны Достоевской (1869-1926)
«Фёдор Достоевский (1821-1881): Биографический очерк»: (Fyodor Dostoevsky (1821-1881):
A Study. L., 1921). В комментарий к этому эссе Вулф (The Essays of Virginia Woolf. Vol. III.
P. 330) вкралась неточность: Любовь Федоровна Достоевская, дочь писателя от второго брака
с Анной Григорьевной Сниткиной, названа «Aimée», или Эмилией, по имени жены брата
Достоевского, Эмили Федоровны Достоевской, урожденной Дитмар (1822-1879). Кроме того, в
комментарии отсутствуют даты жизни Л.Ф. Достоевской.
2 «больше всех проявлял жестокость и злобу». - Цитата из книги Л.Ф. Достоевской
приводится в переводе по: Fyodor Dostoevsky... P. 213.
3 Гобино - Гобино Жозеф Артюр де (1816-1882), литератор, дипломат, автор сочинения
«О неравенстве человеческих рас» («Essai sur l'inégalité des races humaines», 1853-1855), в
котором нашла выражение его теория о превосходстве нордической расы.
4 Если учесть, что Эми... - Речь идет о Любови, или Лилии Федоровне Достоевской. См.
выше примеч. 1.
5 «Ее самовлюбленность была почти безграничной ~ до самоунижения». - Цитата из
книги Л.Ф. Достоевской приводится в переводе по: Fyodor Dostoevsky... P. 133.
6 ...это дочь пишет о живой матери... - Речь идет о Достоевской (рожд. Сниткиной) Анне
Григорьевне (1846-1918), авторе «Дневника А.Г. Достоевской 1867 г.» (1923) и
«Воспоминаний А.Г. Достоевской» (1925). См.: Гроссман Л.П. А.Г. Достоевская и ее «Воспоминания» //
«Воспоминания А.Г. Достоевской». М.; Л., 1925. Здесь в эссе Вулф, возможно, вкралась
неточность: А.Г. Достоевская, мать Л.Ф. Достоевской, умерла в 1918 г. Если воспоминания
дочери были написаны после 1918 г., то здесь ошибка: матери уже не было в живых.
1 ...о первой жене отца... - Первая жена Ф.М. Достоевского - Достоевская (рожд.
Исаева) Мария Дмитриевна.
8 ...его любовнице... - Речь либо о Сусловой Аполлинарии Прокофьевне (1840- после
1916), либо о Корвин-Круковской А.В. (в замужестве Ковалевской СВ.)
9 Отец его был врачом, пил ~ задушив подушками прямо в карете по пути в имение. -
Отец Ф.М. Достоевского - Достоевский Михаил Андреевич (1789-1839).
756
Приложения
10 ...оба брата Достоевского... - Братья Ф.М. Достоевского - старший брат Михаил
Михайлович Достоевский (1820-1864), младший брат Андрей Михайлович (1825-1897) или
Николай Михайлович, архитектор (1831-1883).
11 ...его сестра, до безумия скупая, тоже плохо кончила: ее убили из-за денег. -
Сестры Ф.М. Достоевского- Варвара Михайловна (1822-1893) (по мужу Карепина); Вера
Михайловна (по мужу Иванова) (1828-1896); Александра Михайловна (по мужу Голеновская)
(1835-1889).
12 «был настолько глуп ~ В роду Достоевских все страдали неврастенией». - Цитата из
книги Л.Ф. Достоевской приводится в переводе по: Fyodor Dostoevsky ... P. 37.
13 «мой отец с огромным увлечением сел за рулетку ~ впадал в уныние». - Ibid. Р. 108-
109.
14 «Достоевский потерял терпение ~ не намерен продолжать тяжелый разговор». -
Ibid. Р. 272.
15 ...Фарингфорд случается не только в Англии... - Фарингфорд - дом Альфреда Тенни-
сона во Фрешуотер на острове Уайт, где он жил с начала 1850-х годов, после женитьбы на
Эмили Селлвуд, с которой был помолвлен в течение 20 лет. Примечательно, что о перипетиях
частной жизни английских литераторов в викторианской Англии Вулф написала в своей
комедии «Фрешуотер» («Freshwater», 1923), где среди действующих лиц выведен и А. Теннисон.
16 ...Мэтью Арнолд, страсть как не любивший раздоры в семействе Шелли... - См. эссе
«Шелли («Shelley») M. Арнолда в.: Essays in Criticism. Second Series. L., 1888. P. 205-252.
17 «Запомни, мы никогда не будем сидеть без денег». - Цитата из книги Л.Ф. Достоевской
приводится в переводе по: Fyodor Dostoevsky... P. 172.
18 «никогда не узнавал случайно встретившихся по пути знакомых» - Ibid. Р. 194.
19 ...прогулки по садам Боболи... - Знаменитый парк во Флоренции, один из лучших
парковых ансамблей итальянского Ренессанса. Сады Боболи находятся на склонах холма Боболи
за палаццо Питти, главной резиденцией великих герцогов Тосканы Медичи и представляют
собой одно из самых известных произведений садово-паркового искусства XVI в. Ф.М.
Достоевский с женой жили во Флоренции в 1868 г. неподалеку от палаццо Питти.
20 «неизгладимое впечатление, произведенное на его воображение северянина,
тамошними роскошными розами». - Цитата из книги Л.Ф. Достоевской приводится в переводе по:
Fyodor Dostoevsky... P. 158.
21 «быть как все» - Ibid. Р. 177.
СИЛАЧ БЕЗ КРЕПКИХ КУЛАКОВ
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. A Giant with Very
Small Thumbs // Books and Portraits / Ed. by M. Lyon. L., 1977. P. 109-111.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1927 г. в «Нейшн энд
Атенеум».
1 В книге г-на Ярмолинского... - Речь идет о книге Абрама Ярмолинского «Тургенев:
человек, писатель и его время» (Yarmolinsky A. Turgenev: The Man - His Art - And His Age. L.,
1926).
2 «краю чужого гнезда» - Цитата из книги А. Ярмолинского приводится в переводе по:
Yarmolinsky A. Turgenev... Р. 360. Цит. по: The Essays of Virginia Woolf. Vol. III. P. 418.
3 «Крупный мужчина, мягкотелый, судя по слабовольному подбородку и оплывшему
черепу»... -Ibid. Р. 118.
Примечания
151
РОМАНЫ ТУРГЕНЕВА
Это эссе публиковалось на русском языке {Вулф В. Романы Тургенева // Вопросы
литературы. 1983. № 11. С. 201-207; В мире отечественной классики. М., 1987. Вып. 2. С. 276-282;
Вулф В. Изрбранное. М., 1989. С. 551-557). Настоящий перевод выполнен по: Woolf V. The
Novels of Turgenev // «The Captain's Deathbed» and Other Essays. L., 1950. P. 53-61.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в 1933 г. в литературном
приложении к «Тайме».
1 «C'est un colosse charmant ^~> de cette cantilène où il y a un rien de Г enfant et du nègre». -
«Это обворожительный великан, спокойный исполин с седой головой, похожий на доброго
духа гор или лесов... Он прекрасен, благородно прекрасен, чрезмерно прекрасен, с голубыми
как небо глазами, с очаровательным напевом русского акцента, этой кантилены, где есть что-
то от ребенка и негра». - Неточная цитата из «Дневника» де Гонкуров приводится в
переводе по: Goncourt Е. et J. de. Journal: Mémoires de la wie littéraire... Les Editions de L'imprimerie
Nationale de Monaco, 1863.T. 6. P. 36.
2 «дух пренебрежения к собственной силе ~ как шестнадцатилетний юноша». -
Цитата из статьи Г. Джеймса «Иван Тургенев» (1884) приводится в переводе по: James H. Ivan
Turgénieff// James H. Literary Criticism: 2 vols. N.Y., 1984. Vol. 2. P. 1016.
3 «Волынцев вздрогнул и поднял голову, как будто его разбудили». - Цитата из романа
И.С. Тургенева «Рудин» (1855) приводится по: Тургенев И.С. Собр. соч.: В 10 т. М., 1961. Т. 2.
С. 44.
4 Так мы окружены со всех сторон -разговором, молчанием, взглядом вещей. - Это
высказывание Вулф связано с ее эстетическими воззрениями и взглядами ее ближайших
современников. В частности, у ТС. Элиота в «Четырех квартетах» читаем (дословный перевод):
«И невидимый луч взгляда пронизал сад, ибо у роз был взгляд цветов, открывшихся глазам»
(Eliot Т. S. Four Quartets. N. Y., 1943. P. 4).
5 «Как же, по-вашему, следует сказать? ~ значит, от вас мало толку будет». -
Цитата на французском языке из «Воспоминаний о Тургеневе» И.Я. Павловского (Pavlovsky Is.
Souvenirs sur Tourgueneff. P., 1887) приводится по: Павловский И.Я. Воспоминания о
Тургеневе//Русский курьер. 1884. № 137. Автор примечаний выражает благодарность покойному
д-ру И.С. Зильберштейну за неоценимую помощь в установлении данного источника.
6«Горе пройдет, а превосходная страница останется». - Цитата в переводе с
французского языка из «Воспоминаний о Тургеневе» И.Я. Павловского (Pavlovsky Is. Souvenirs sur
Tourgueneff) приводится по: Павловский И.Я. Воспоминания о Тургеневе // Русский курьер.
1884. № 164.
7 «Нужно еще читать ~ понимать те законы, по которым она движется и которые не
всегда выступают наружу...» - Там же.
8 «только что вымытые замшевые белые перчатки, каждый палец которых,
расширенный к концу, походил на бисквит». - Цитата из романа Тургенева «Новь» (1877) приводится
по: Тургенев НС. Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 266.
9 Микоберы, Пекснифы, Бекки Шарп... - Обобщающая ссылка на героев романов Ч.
Диккенса и У. Теккерея: Уилкинс и миссис Микоберы - герои романа Диккенса «Дэвид Коппер-
филд» (1849-1850); м-р Пексниф - герой романа Диккенса «Мартин Чаззлвит» (1843-1844);
Бекки Шарп - главная героиня романа У. Теккерея «Ярмарка тщеславия» (1847).
10 «Мы должны попросить у читателя позволение перервать на время нить нашего
рассказа». - Цитата из романа Тургенева «Дворянское гнездо» (1858) приводится по:
Тургенев НС. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2. С. 124.
11 «где мы расстались с ним и куда мы просим теперь благосклонного читателя
вернуться вместе с нами». - Там же. С. 145.
758
Приложения
п«К чему молодость, к чему я живу, зачем у меня душа, зачем все это?» - Цитата из
романа И.С. Тургенева «Накануне» (1859) приводится по: Тургенев КС Собр. соч.: В 10 т. Т. 3.
С. 60.
п«Жуют, жуют они этот несчастный вопрос, словно дети кусок гуммиластика...» -
Цитата из романа И.С. Тургенева «Дым» (1867) приводится по: Тургенев КС Собр. соч.:
В Ют. Т. 4. С. 24.
14 «пухленьких, опрятненьких, настоящих попугайчиков-переклитков» - Цитата из
романа И.С. Тургенева «Новь» приводится по: Тургенев КС Собр. соч.: В 10 т. Т. 4. С. 232.
Х5«Янеумел опроститься...» - Там же. С. 357.
16«Я страдаю за всех притесненных, бедных, жалких на Руси...» - Там же. С. 212.
11 «Нет, по-моему: дал факт, и уходи, не разжевывай, пусть читатель сам его обсудит и
поймет. Поверьте, для идеи это лучше». - Цитата на французском языке из «Воспоминаний
о Тургеневе» И.Я. Павловского (Pavlovsky Is. Souvenirs sur Tourgueneff) приводится по:
Павловский И.Я. Воспоминания о Тургеневе //Русский курьер. 1884. № 199.
х%«красиво и горячо... то, что Вы ощущаете при виде этой вещи или этого человека». -
Там же.
19«Она отбросила все постороннее ~ за которой живет красота». - Цитата из романа
Тургенева «Накануне» приводится по: Тургенев КС Собр. соч.: В 10 т. Т. 3. С. 113.
«ДЯДЯ ВАНЯ»
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: The Complete Shorter
Fiction of Virginia Woolf/ Ed. by Susan Dick. L., 1985. P. 241.
На английском языке это эссе было впервые опубликовано в «Полном собрании малой
прозы Вирджинии Вулф» («The Complete Shorter Fiction of Virginia Woolf», 1985).
Предположительно в начале 1930-х годов.
1 «Давай обо всем забудем, милый Ваня. Останемся друзьями». - Неточная цитата из
четвертого действия пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» (ср. Серебряков Войницкому: «Кто старое
помянет, тому глаз вон... Я охотно принимаю твои извинения и сам прошу извинить меня»).
См.: Чехов АЛ. Дядя Ваня // Собр. соч.: В 12 т. М., 1956. Т. 9. С. 329.
2 ...под звуки «Боже, храни Короля». - Подтверждением иронического отношения Вулф
к символам Британской империи, которое угадывается в заключительной части эссе, служит
дневниковая запись Вулф от 3 января 1915 г.: «...полную внутреннюю опустошенность (я
ощутила. - Н.Р.) в себе и в каждом из слушателей при исполнении национального гимна на
концерте в Куинз-Холл в 1915 г.» {Woolf V. The Diary. Vol. I).
М-Р БЕННЕТ И МИССИС БРАУН
На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен по: Woolf V. Mr. Bennett and
Mrs. Brown // Woolf V. «The Captain's Deathbed» and Other Essays. N.Y., 1950. P. 94-119.
1 Получив ваше приглашение прочитать доклад о современной литературе... - Впервые
этот доклад Вирджинии Вулф, прочитанный ею в Кембридже в мае 1924 г., был опубликован
под названием «Характер в художественном произведении» («Character in Fiction») в
июльском выпуске журнала «Крайтирион» в 1924 г.; вскоре писательница переработала его в эссе
«М-р Беннет и миссис Браун» («Mr. Bennett and Mrs. Brown»), и в октябре 1924 г. оно вышло
отдельным изданием в «Хогарт Пресс», открыв серию так называемых «Хогартовских эссе»
(цит. по: The Essays of Virginia Woolf. Vol.III. P. 436). Как отмечали библиографы
писательницы Робин Мэджамдер и Ален Маклорин, это эссе стало «программным и в творчестве Вулф,
и в литературе XX века» (цит. по: Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. L., 2005. P. 432).
Примечания
759
Первоначальная же версия эссе, которая легла в основу кембриджского доклада, также
называлась «М-р Беннет и миссис Браун» и была опубликована в нескольких периодических
изданиях: в «Литерари ревью» американской «Нью-Йорк ивнинг пост» в ноябре 1923 г., в
лондонской «Нейшн энд Атенеум» в декабре 1923 г., а затем в бостонской «Ливинг эйдж» в
феврале 1924 г. (последнее цит. по: The Essays of Virginia Woolf. Vol. III. P. 384-388).
2... является какой-нибудь... Смит... - Фамилия «Смит» считается одной из самых
распространенных у англичан, подобно русским фамилиям «Иванов» или «Петров».
Примечательно, что героя романа «Миссис Дэллоуэй», над которым Вулф в то время работала, зовут
«Смит», Септимус Смит.
3 ...начинает вкрадчиво нашептывать... - Здесь Вулф воспроизводит в пересказе эпизод
из статьи английского романиста и эссеиста Арнолда Беннета (1867-1931) «Жив ли
современный роман?» (Bennettt A. «Is the Novel Decaying? // Cassell's Weekly. 1923. 28 March.
4 ...в этой мысли меня укрепил м-р Арнольд Беннет. - Вулф несколько раз откликалась на
публикации А. Беннета, в ее дневниках и письмах встречаются десятки комментариев,
воспоминаний, критических замечаний о нем и его творчестве; дневниковая запись, сделанная
Вулф в день смерти Беннета, давно стала хрестоматийной: «Странное чувство сожаления,
когда уходит тот, кто казался - как сказать? - настоящим, живым: ну, ругал он меня иногда и
пусть бы и дальше ругал, а я ему не спускала бы. Целый пласт жизни... исчез. Вот что обидно»
{Woolf V. A Writer's Diary. L., 1969. P. 170). Именно А. Беннет дал Вулф два прямых повода к
написанию эссе-памфлета «М-р Беннет и миссис Браун» (1924). Первый - это его статья
«Неоимпрессионизм и литература» («Neo-Impressionism and Literature»), опубликованная сначала
в «Нью эйдж», а затем в сборнике «Книги и личности» («Books and Persons». L., 1917. P. 281).
В этой статье Беннет, доброжелательно отозвавшись о живописи постимпрессионистов,
высказал предположение о скором появлении нового поколения писателей, которые воспримут
его творчество и творчество его современников как безнадежно устаревшее прошлое -
подобно той реакции, которую у него самого вызвали картины постимпрессионистов. Кстати,
первая лондонская выставка постимпрессионистов, устроенная Роджером Фраем, проходила
в 1910 г., так что, возможно, с оглядкой на то яркое событие культурной жизни Вулф и
обронила в своем эссе: «...примерно в декабре 1910 года что-то в человеке изменилось». Вторым
же, непосредственным поводом к написанию эссе «М-р Беннет и миссис Браун» стал
критический отзыв А. Беннета о романе Вирджинии Вулф «Комната Джейкоба» («Jacob's Room»,
1922) в упомянутой выше статье с полемическим названием «Жив ли современный роман?»
В ней Беннет язвительно заметил: «На редкость умная книга - давно таких не читал. В
оригинальности автору не откажешь, да и написана она превосходно. Вот только характеры не
живые - в голове не задерживаются. По-моему, это типично для новых романистов» (цит. в
переводе по: Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. P. 427). Спустить такое Вулф не могла, и
к концу 1923 г. она разразилась ответом: им стала первоначальная версия эссе «М-р Беннет и
миссис Браун» (1923). Беннет, однако, на памфлет не ответил. В мае 1924 г. Вулф выступила
с докладом «Характер в художественном произведении» в кембриджском обществе «Хере-
тикс», который представлял собой расширенную редакцию эссе 1923 г. «М-р Беннет и миссис
Браун». См. примеч. 1.
5 «В основании добротной прозы лежит создание характера ~ о таком романе никто
не вспомнит...» - Цитата из статьи А. Беннетта «Жив ли современный роман?» приводится в
переводе по: Bennett A. Is the Novel Decaying? //Cassell's Weekly. 1923. 28 March.
6...предлагаю разделить современных писателей на два лагеря: эдвардианцев — это м-р
Уэллс, м-р Беннет и м-р Голсуорси, и георгианцев - это м-р Форстер, Лоуренс, Стречи,
Джойс и м-р Элиот. - Речь идет о традиционном для английской культуры наименовании
эпохи и поколения в соответствии с именем правящего монарха: например, под
«елизаветинским периодом» подразумевают период правления королевы Елизаветы I (1533-1603), с 1558
по 1603 г.; «викторианский век»- это период правления королевы Виктории (1819-1901) с
1838 по 1900 г.; «эдвардианцы» - поколение, жившее в эпоху правления короля Эдварда VII
760
Приложения
(1841-1910) с 1901 по 1910 г.; «георгианцы», или поколение, чья литературная деятельность
пришлась на годы правления короля Георга V (1865-1936) с 1910 по 1936 г. Уэллс Герберт -
английский романист, публицист, общественный деятель, родоначальник жанра научной
фантастики и так называемого «романа идей» в английской литературе XX в.; Голсуорси Джон -
английский прозаик, автор «Саги о Форсайтах» («The Forsyte Saga», 1922) и др.; Форстер
Эдвард Морган (1879-1970) - романист, эссеист, литературный критик, автор романов «Комната
с видом» («A Room with a View», 1908), «Путь в Индию» («A Passage to India», 1922-1924)
и др.; Лоуренс Дэвид Герберт (1885-1930) - прозаик, поэт, драматург, эссеист, критик,
переводчик, автор романов «Сыновья и любовники» («Sons and Lovers», 1913), «Радуга» («The
Rainbow», 1915), «Влюбленные женщины» («Women in Love», 1920), «Пернатый змей» («The
Plumed Serpent», 1926) и др.; Стречи Литтон (1880-1932) - создатель литературных
биографий, эссеист, автор книг «Вехи в истории французской литературы» («Landmarks in French
Literature», 1912), «Великие викторианцы» («Eminent Victorians», 1918) и др.; Джойс Джеймс
Августин Алоизиус (1882-1941)- ирландский прозаик, автор романов «Портрет художника
в юности» («A Portrait of the Artist as a Young Man», 1914-1915), «Улисс» («Ulysses», 1922),
«Поминки по Финнегану» («Finnegans Wake», 1939) и др.; Элиот Томас Стерне (1888-1965) -
англо-американский поэт, литературный критик, издатель, автор поэтических сборников
«Пруфрок и другие наблюдения» («Prufrock and Other Observations», 1917), поэмы
«Бесплодная земля» («The Waste Land», 1922) и др.
7 ...подметил в своих книгах -ив первую очередь в «Пути всякой плоти» - Сэмюэл Бат-
лер... - Батлер Сэмюэл- английский прозаик, публицист, автор романа «Едгин» (1872),
полуавтобиографического романа «Путь всякой плоти» («The Way of All Flesh», 1903),
переводов «Илиады» (1898) и «Одиссеи» (1900) Гомера и произведения «Создательница "Одиссеи"»
(«The Authoress of the "Odyssey"», 1897). См. также примеч. 4 к эссе «Покровитель и
подснежник» на с. 684 наст. изд.
8 ...много раз подтверждал своими пьесами Бернард Шоу. - Шоу Джордж Бернард
(1856-1950)- английский драматург, ирландец по происхождению, театральный критик,
общественный деятель, активный участник фабианского движения начала XX в.; автор более
50 пьес, в том числе «Человек и сверхчеловек» («Man and Syperman», 1903), «Майор Барбара»
(«Major Barbara», 1905), «Пигмалион» («Pygmalion», 1914), «Дом, где разбиваются сердца»
(«Heartbreak House», 1921), «Назад, к Мафусаилу» («Back to Methuselah», 1923) и др.
9 ...перечитайте «Агамемнона»... - Речь идет о трагедии «Агамемнон» (458 г. до н.э.)
древнегреческого драматурга Эсхила (525-456 гг. до н.э.).
10 ...мысль о супружеской жизни Карлайлов... - Имеются в виду Томас Карлайл (1795-
1881) и его жена Джейн Уэлш Карлайл (1801-1866). См. примеч. 10 к эссе «Джеральдина и
Джейн» на с. 726 наст. изд.
11 Ричмонд - западное предместье Лондона, расположен на правом берегу Темзы.
12 ...д-р Ватсон из «Шерлока Холмса»... - Персонаж романа английского писателя Дойля
Артура Конана (1859-1930) «Приключения Шерлока Холмса» («The Adventures of Sherlock
Holmes», 1892).
13 Назовите любой великий роман - «Войну и мир», «Ярмарку тщеславия», «Тристрама
Шенди», «Госпожу Бовари», «Гордость и предубеждение», «Мэра Кэстербриджа»,
«Городок»... - «Война и мир» (1863-1869) - роман Л.Н. Толстого; «Ярмарка тщеславия» (1847) -
роман УМ. Теккерея; «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» (1759-1767) -
роман Л. Стерна; «Госпожа Бовари» (1857)- роман Г. Флобера; «Гордость и предубеждение»
(1813) - роман Дж. Остен; «Мэр Кэстербриджа» (1886) - роман Т. Гард и; «Городок» (1853) -
роман Ш. Бронте.
14 Конрад - не англичанин, он поляк, в литературе стоит особняком... - См. примеч. 19 к
эссе «Современное эссе» на с. 686, а также эссе «Джозеф Конрад» на с. 176-181 наст. изд.
15 Кэмбервилл - район в юго-восточной части Лондона.
Примечания
161
16 ...долтонской фабрики... - Речь идет о фабрике, находящейся в Долтоне - городке в
Девоншире на юге Англии.
17 Сарри - графство к югу от Лондона, центральный город - Гилфорд, расположен в
получасе езды от столицы.
18 ...виды Суониджа и Портсмута... - Суонидж - небольшой приморский городок на
юго-востоке Англии в графстве Дорсет, в XIX в. был известен рыбным промыслом, позднее
Суонидж превратился в курорт для состоятельных клиентов, сегодня это популярное место
отдыха туристов; Портсмут - густонаселенный портовый город в графстве Хемпшир на юге
Англии.
19 Дэтчет - деревня на берегу Темзы в районе Виндзора.
20 «Хильда Лессуэйз» - имеется в виду роман А. Беннета «Хильда Лессуэйз» («Hilda
Less way s», 1911).
21 ...чтение обожаемой «Мод»... - Речь идет об одноактной драме в стихах Альфреда
Теннисона «Мод» («Maud», 1856), которая на рубеже веков была очень популярна, благодаря
нескольким проникновенным лирическим монологам рассказчика.
22 «Сразу за домом начинался Тёрнхилл ~ живший в самом дальнем доме м-р Скеллорн». -
Цитата из первой главы первой книги романа А. Беннета «Хильда Лессуэйз» приводится в
переводе по: Bennett A. Hilda Lessways. 7 éd. L., 1911. P. 8-9.
23 «В городе новые дома прозвали "Личными особняками "» ~ необъяснимый скепсис
Хильды по отношению к новостройкам». - Ibid. Р. 9.
24 «Жила она в одном из двух домов, стоявших в центре усадьбы ^ Внезапно
раздавшийся голос матери отвлек Хильду от ее раздумий...» - Ibid. Р. 9-10.
25 ...пухлый трехтомный роман... - Вулф намекает на викторианскую практику издания
романа в виде трехтомника, которая просуществовала вплоть до начала 1890-х годов, когда,
вопреки всем писаным и неписаным правилам, молодой английский издатель Лейн выпустил
роман Сары Грэнд (1854-1943) «Божественные близнецы» («The Heavenly Twins», 1893) в
однотомном формате, выражаясь современным языком.
26 Хэрроугейт - сельская местность в Йоркшире, примерно в 250 км от Лондона.
27 ....то ли "Альберт ", то ли "Бэлморал "? - Названия дорогих отелей: известна сеть
отелей «Альберт» в Англии, например «Альберт-отель» в Глостере; «Бэлморал» же - это замок в
области Абердиншир, частная резиденция английских королей в Шотландии.
28...первые книжки у многих из них вышли комом - говорю в первую очередь о Форстере и
Лоуренсе...- Под ранними - «половинчатыми» - произведениями Э.М. Форстера и Д.Г. Лоу-
ренса Вулф имеет в виду, вероятно, романы Форстера «Там, где боятся ступать ангелы»
(«Where Angels Fear to Tread», 1905) и «Комнату с видом» («A Room with a View», 1908), а
также «Белого павлина» («The White Peacock», 1911), «Нарушителя» («The Trespasser», 1912)
и «Сыновей и любовников» («Sons and Lovers», 1913) Лоуренса: в этих произведениях и тот
и другой писатель еще только искали свою тему, оставаясь скованными в своем творчестве
многими литературными условностями викторианской поры.
ПИСЬМО К МОЛОДОМУ ПОЭТУ
Это эссе публиковалось на русском языке в сокращенном виде {Вулф В. Письмо к
молодому поэту// Литературная учеба. 1986. № 1. С. 207-213). Перевод выполнен по: Woolf V.
A Letter to a Young Poet // The Collected Essays: 4 vols. L., 1966-1967. Vol. 2. P. 182-232.
На английском языке это эссе впервые было опубликовано в 1932 г. в «Йейл ревью», и в
том же году оно вышло отдельным изданием в «Хогарт Пресс».
1 Грей умер, Хорас Уолпол умер, мадам де Севинье... - Грей Томас - английский поэт
XVIII в., см. примеч. 1 к «Предисловию» Вулф, предваряющему «Обыкновенного читателя»
на с. 652-653 наст, изд.; Уолпол и мадам де Севинье (наст, имя Мари де Рабютен-Шанталь,
762
Приложения
1626-1696)- признанные мастера эпистолярного жанра в английской и французской
литературе.
2 ...как поэту тебе приходится намного тяжелей в эту осень 1931 года, чем Шекспиру,
Драйдену, Поупу или Теннисону... - Вулф подтрунивает над своим молодым современником,
предлагая ему сравнить свою долю с судьбами великих предшественников: Уильяма
Шекспира (1564-1616) - английского драматурга и поэта конца XVI - начала XVII в., Джона Драй-
дена (1631-1700)- поэта, драматурга и критика XVII в., Александра Поупа (1688—1744) —
поэта-классициста эпохи Просвещения, Альфреда Теннисона (1809-1892)- викторианского
поэта-лауреата.
3 В тебе есть немного Чосера... - Чосер Джефри - средневековый поэт, «отец
английской поэзии», автор «Кентерберийских рассказов» (1387-1400), «Книги герцогини» (ок. 1370),
«Троила и Крессиды» (ок. 1385) и других произведений, создатель так называемой
королевской рифмы (rhyme royal), пятистопной строфы из семи строк, рифмующихся по схеме:
ababbcc. См. эссе «Пэстоны и Чосер» на с. 8-24 наст. изд.
4 ...не поддавайся первому желанию нарядиться Гаем Фоксом ~ требуя два с половиною
пенса. - Заговорщик Гай Фокс был схвачен при попытке взорвать здание английского
парламента в ноябре 1605 г. И с тех пор англичане ежегодно празднуют спасение своей
национальной святыни торжественным сжиганием чучела Гая, которое обычно сооружается на пенсы,
собранные у прохожих.
5 ...не обессудь, если в твоем лице я буду обращаться не только к тебе лично, но и к
нескольким другим поэтам. - Под «Джоном» и «несколькими другими поэтами» в его лице
Вулф имеет в виду своих молодых современников, английских поэтов 1930-х годов, с
которыми была хорошо знакома: Лемана Джона (1907-1987), Спендера Стивена (1909-1995), Одена
Уистана Хью (1907-1973) и Дэй-Льюиса Сесила (1904-1972).
6 ...Крабб и Байрон, и, возможно, Роберт Браунинг.- Крабб Джордж (1754—1832) —
поэт-реалист и сатирик, автор поэмы «Деревня» («The Village», 1783); Байрон Джордж
Гордон (1788-1824)- поэт-романтик, глава романтической школы в английской поэзии начала
XIX в.; Браунинг Роберт (1812-1889) - поэт и драматург викторианской эпохи, см. примеч. 1
к эссе «Аврора Лей» на с. 729-730 наст. изд.
7 Встающие с зарей, свидетели рассвета ~ цель яхтсменов, альпинистов, изыскателей
и баб. - Цитаты из «Стихотворения II» («Роет II») У.Х. Одена приводятся в переводе по:
Auden W.H. Poems. L., 1930. P. 39, 40, 40-41.
8 Мечтаю разгадать ту комнату ~ Моя рука дрожит, и я в унынии с верхов
спускаюсь. - Цитата из стихотворения «Мечтаю разгадать ту комнату...» («То penetrate that room...»)
Дж. Лемана приводится в переводе по: New Signatures: Poems by Several Hands. L., 1932. P. 75.
(Цит. no: The Essays of Virginia Woolf. Vol. V P. 323).
9 В мире есть темная комната ~ пройти до конца горький путь. - Цитата из
«Стихотворения XI» («PoemXI») С. Дэй-Льюиса приводится в переводе по: Day-Lewis С. Feathers to
Iron. L., 1931. P. 24.
10 Всегда лишь жалкий слепок вместо Жизни ~ Хотя душа готова соединиться с
миром... - Цитата из стихотворения «На острие бытия» («At the Edge of Being») С. Спендера
приводится в переводе по: Spender S. Twenty Poems. 1930(?). P. 2.
u...Kumc мертв, Шелли мертв... - Ките Джон (1795-1821), Шелли Перси Биши (1792—
1822) - поэты-романтики.
п...раз поэзия честно освободилась от фальшивостей, этих пережитков великой
викторианской эпохи... - По мнению Вулф, английская поэзия в конце XIX в. утратила жизненность
и психологическую глубину, что отрицательно сказалось на литературе начала XX в.
13 Твои страницы населяли самые разные и неожиданные личности -Гамлет,
Клеопатра, Фальстаф. - Гамлет, Клеопатра, Фальстаф - персонажи шекспировских пьес: трагедий
«Гамлет» («Hamlet», 1602) и «Антоний и Клеопатра» («Anthony and Cleopatra», 1606-1607);
Примечания
763
исторической хроники «Генрих IV» («Henry IV», 1584) и комедии «Виндзорские кумушки»
(«The Old Wives of Windsor», 1602).
XA ...вспомни, ты написал «Дон Жуана». - «Дон Жуан» («Don Juan», 1819-1824) -
незаконченная эпическая поэма Дж.Г. Байрона, написанная десятисложной октавой,
рифмующейся по схеме: abababcc.
[5...пока одно не растворится в другом, и такси не затанцуют с нарциссами... - Вулф
соединяет здесь классический образ английской поэзии — нарциссы (вспомним знаменитое
стихотворение Вордсворта «Нарциссы» (см. примеч. 115 к эссе «Четыре фигуры. IV Дороти
Вордсворт на с. 721 наст, изд.) -с автомобилем, символом XX века, полагая, что все в
литературе должно гармонично связываться.
17 ...когда дело доходит до андрогинности поэта- а я не сомневаюсь, что именно эту
мысль собирался высказать сидящий глубоко во мне напарник... - Об андрогинности в
творчестве см. главу 6 эссе «Своя комната» на с. 512-522 наст. изд.
18 ...эти выверенные до буквы строчки не оставляют впечатления бездонного смысла,
который угадывается, например, в емком стихе м-ра Йетса. - Иейтс Уильям Батлер (1865-
1939) - ирландский поэт-символист; высокая оценка его поэзии Вирджинией Вулф основана,
в частности, на поэме «Башня» («The Tower», 1928).
18 Это они научили его писать, а вовсе не отец сонетов. - Под «отцом сонетов» Вулф,
вероятно, имеет в виду либо Гиттоне из Ареццо (ум. 1294), который узаконил сонет, введя
твердые правила его построения, либо Франческо Петрарку (1304-1374).
19 Сэмюэл Смайлз - Смайлз Сэмюэл (1812-1904)- шотландский журналист и писатель
XIX в.
20 ...Донн швырял в мусорную корзину свои стихи. - Речь идет о Донне Джоне -
поэте-метафизике. См. эссе «Джон Донн триста лет спустя» на с. 204-216 наст. изд.
21 Сапфо - эолийский (лесбосский) поэт (сер. VII в. до н.э.), современница и
соотечественница Алкея (конец VII - начало VI в. до н.э.).
22 Плиний Старший - Гай Плиний Секунд (ок. 23-79 гг. н.э.) - римский государственный
деятель, ученый энциклопедист и историк.
СВОЯ КОМНАТА
Это эссе публиковалось на русском языке (Вулф В. Своя комната // Эти загадочные
англичанки. М., 1992. С. 80-154). Перевод выполнен по: Woolf V. A Room of One's Own. Herts;
London, 1978.
На английском языке эссе впервые опубликовано в 1929 г. издательством «Хогарт
Пресс».
1 Когда мне предложили выступить с темой «Женщины и литература»... - В основу
эссе легли два доклада, с которыми писательница выступила в октябре 1928 г. перед
студентками английских колледжей Ньюнем и Гэртон.
2 Несколько замечаний о Фанни Бёрни и о Джейн Остен, дань уважения сестрам Бронте
и история заснеженного Хоуорта, пара остроумных высказываний о мисс Митфорд,
почтительный намек на Джордж Элиот, ссылка на госпожу Гаскелл... - Здесь Вулф шутливо
воспроизводит привычный набор имен и литературных легенд, всплывающих в разговоре,
как только заходит речь об английских писательницах. Это Бёрни Фрэнсис (1752-1840), автор
романов «Эвелина» («Evelina», 1778), «Цецилия» («Cecilia», 1782), «Камилла» («Camilla»,
1796). (См. примеч. 1 к эссе «Званый вечер у д-ра Бёрни» на с. 709 наст. изд.). Это
легендарная Джейн Остен (1875-1817), см. примеч. 1-30 к эссе «Джейн Остен» на с. 673-675 наст,
изд. Это знаменитые писательницы первой половины XIX в. Шарлотта, Эмили и Анна
Бронте, чье детство прошло в доме отца Патрика Бронте, священника в местечке Хоуорт на севере
Англии, графство Йоркшир (одно из самых первых эссе Вирджинии Вулф, «Хоуорт, ноябрь
764
Приложения
1904 г.», было посвящено описанию ее поездки в Хоуорт), о Шарлотте и Эмили Бронте см.
примеч. 1 и 9 к эссе «"Джейн Эйр" и "Грозовой перевал"» на с. 677 и 678 наст. изд. Это Мери
Митфорд (1787-1855), см. примеч. 1 к эссе «Силуэты. I. Мисс Митфорд» на с. 681 наст. изд.
Это Джордж Элиот (1819-1980), см. примеч. 1-22 к эссе «Джордж Элиот» на с. 678-680 наст,
изд. И это, наконец, Элизабет Гаскелл (1810-1865), английская писательница второй
половины XIX в., см. примеч. 11 к эссе «Джейн Остен» на с. 674 наст. изд.
3 ...Оксбридж и Фернхем... - Оксбридж - сокращенное название двух старейших
английских университетов Оксфорда и Кембриджа; впервые его употребил УМ. Теккерей в романе
«Пенденнис» («Pendennis», 1849) для обозначения вымышленного университета. Название
«Фернхем» (букв, «заросли папоротника») придумано Вирджинией Вулф как обобщенное
название колледжей для женщин. Как известно, первые женские колледжи «Ньюнхем» и
«Гэртон» появились в Англии в 1860-е годы. В первой главе этого эссе читатель найдет
немало отголосков истории создания первых женских образовательных учреждений в Англии.
4 ...зовите меня Мери Бетон, Мери Сетон, Мери Кармайкл... - Здесь Вулф вводит трех
вымышленных персонажей, которые пройдут через все эссе «Своя комната»: Мери Бетон -
рассказчица, Мери Сэтон - преподавательница в Фернхеме, она же многодетная мать, и Мери
Кармайкл - молодая начинающая писательница, автор вымышленного романа «Наступление
жизни». Интересно, что для создания обобщенных образов женщин и женских судеб Вулф
использовала старинную английскую балладу о четырех Мери, известную как «Мери
Гамильтон», или «Четыре Мери», и т.д.: «Вчера у королевы было четыре Мери, /Сегодня осталось
только три,/ А были у нее Мери Сетон, Мери Бэтон, / Мери Кармайкл и еще я» («Yestreen
Queen Mary had four Maries,/ Today she'll hae but three; /She had Mary Seaton, and Mary Beaton, /
And Mary Carmichael, and me»). Цитата из баллады приводится по: English and Scottish Popular
Ballads / Ed. by F.J. Child. Boston and New York, 1904. P.421-423.
5 педель - университетский надзиратель.
6 ...старинное эссе о том, как кто-то давно (уж не Чарлз ли Лэм?) посетил в каникулы
Оксбридж... - Здесь Вулф, вероятно, вспоминает эссе английского романтика Чарлза Лэма
(1775-1834) «Оксфорд в каникулы» («Oxford in the Vacation»), которое вошло в его книгу
«Эссе Элии» (1823, 1833). См. примеч. 5 к «Современному эссе» на с. 685 наст. изд.
7 С ними не сравнятся даже безупречные бирбомовские ... - Вулф предлагает сравнить
эссе Ч. Лэма с очерками Максимилиана Генри Бирбома (1872-1956), своего старшего
современника. См. примеч. 24 к эссе «Аддисон» на с. 671 наст. изд.
8 Кажется, это был «Ликид»... - Речь идет об элегии Дж. Милтона (1608-1674) «Ликид»
(«Lycidas», 1637) на смерть молодого поэта, выпускника Кембриджа Джона Кинга,
утонувшего во время плавания. Элегия Милтона служила образцом для подражания многих поэтов
XVII-XIX вв.
9 ...рукопись теккереевского «Эсмонда»... - Речь идет о романе УМ. Теккерея «История
Генри Эсмонда» («The History of Henry Esmond», 1852).
10 Видно, в часовне... - Прототипом часовни, изображенной в первой главе эссе Вулф,
могла служить часовня Кингз-колледжа в Кембридже, построенная в 1446-1547 гг.
11 С гелиотропа у ограды /Упала светлая слеза ~ И лилия шепчет: «Сюда». - Цитата из
поэмы Альфреда Теннисона «Мод: монодрама» («Maud», 1855) приводится в переводе Н.
Рейнгольд по: Tennyson A. The Works of Alfred Tennyson. L., 1878. P. 346-347.
12 Мое сердце ликует, как птица ^ От любви, нахлынувшей полно. - Цитата из
стихотворения Кристины Россетти «День рождения» («A Birthday», 1857) приводится в переводе
Н. Рейнгольд по: Rossetti Ch. The Poetical Works of Christina Georgina Rossetti. L., 1904. P. 335.
13 С гелиотропа у ограды ~ Ко мне, моя любовь, отрада... - См. примеч. 11.
14 Мое сердце ликует, как птица ^ Мое сердце, как яблоня, - низко... - См. примеч. 12.
15 Ко мне, моя любовь, отрада? - См. примеч. 11.
16 Мое сердце - воля и радость / От любви, нахлынувшей полно? - См. примеч. 12.
17 Мое сердце ликует, как птица ~ Клонит ветви с плодами литыми. - См. примеч. 11.
Примечания
765
18 ...знаменитый ученый, сама Дою. X.? - Вероятно, Вулф имеет в виду Джейн Эллен Хэр-
рисон (1850-1928), кембриджского ученого-классика. См. статью Н. Рейнгольд «Русское
путешествие Вирджинии Вулф» на с. 645 наст. изд.
19 Мери Сетон - См. выше примеч. 4.
20 ...череп короля, чей гроб вскрыли в Виндзоре. - Речь идет о случае, описанном в книге
Ч.У. Койта, когда в 1813 г., во время раскопок в часовне Св. Георгия в Виндзоре, резиденции
английских монархов, вскрыли склеп с останками короля Карла I. См.: Coit Ch.W. The Royal
Martyr. L., 1924.
21 A как на это посмотрел бы Джон Стюарт Милль? - Речь идет о Милле Джоне
Стюарте (1806-1873), английском философе, написавшем трактат «Подчинение женщин» («The
Subjection of Women», 1869).
22 ...семейства, заехавшего в Блумсбери... - В начале XX в. этот район Лондона
неподалеку от Британского музея считался демократическим, там селились писатели и художники.
Сегодня Блумсбери - респектабельный район, центр столицы.
23«И почему это Сэмюэл Батлер говорит: "Умный мужчина никогда не скажет, что он
думает о женщинах"»? - Речь идет о Батлере Сэмюэле, английском романисте второй
половины XIX в. См. примеч. 7 к эссе «М-р Беннет и миссис Браун» на с. 760 наст. изд.
24 Поуп - Поуп Александр, английский поэт-классицист. См. примеч. 12, 14 на с. 670 наст,
изд.
25 Лабрюйер - о Лабрюйере см. примеч. 15 к эссе «Письма лорда Честерфилда к сыну»
на с. 707 наст. изд.
26 Вязанка хвороста, зажженная на Хемстед-Хит. - Известно, что в доме на Хемстед-
Хит (в XIX в. этот район Лондона считался рабочей окраиной) жил английский
поэт-романтик Джон Ките. Возможно, Вулф создает здесь образ яркой и трагической жизни
талантливейшего поэта, умершего в 27 лет, непризнанного, затравленного критиками.
27 ...культурнейший, скромнейший из мужчин листал книгу Ребекки Уэст... - Речь идет
об Уэст Ребекке (наст, имя Фэрфилд Сесили Изабелла, 1892-1983), журналистке, известной
своими феминистскими взглядами, писательнице, авторе романа «Возвращение солдата»
(«The Return of the Soldier», 1918) и многих других произведений.
28 ...видеть мир свободно, без страха перед милтоновским судией. - Здесь Вулф
высказывает критическое отношение к излишнему ригоризму Джона Милтона в отношении к
женщинам, который проявился в его супружеской и семейной жизни.
29 ...в каких условиях жили англичанки, скажем, в елизаветинскую эпоху? -Под
елизаветинской эпохой имеется в виду эпоха правления королевы Елизаветы I (1533-1603), с 1558 по
1603 г. См. примеч. 6 к эссе «М-р Беннет и миссис Браун» на с. 759 наст. изд.
30 ...«Историю Англии» профессора Тревельяна. - Речь идет об английском историке Тре-
вельяне Джордже Маколи (1876-1962) и его труде «История Англии» («History of England»,
1926).
31«Выбор супруга по-прежнему остается привилегией женщин высшего и среднего
сословия ~ из мемуаров семнадцатого века, скажем семейство Верни или Хатчинсон». -
Цитата из «Истории Англии» Дж.М. Тревельяна. Интересно, что «Мемуары семейства Верни,
составленные на протяжении XVII века» («Memoirs of the Verney Family during the Seventeenth
Century», 1904) служили Вулф настольной книгой об истории, нравах и быте людей XVII в.
О семестве Верни см. примеч. 15 к эссе «Елизаветинский сундук» на с. 659 наст. изд.
32 ...Клитемнестра, Антигона, Клеопатра, леди Макбет, Федра, Крессида, Розалинда,
Дездемона, герцогиня Малъфи... - Здесь перечислены героини древнегреческой,
елизаветинской и классицистической драмы: Клитемнестра - главная героиня трагедии Эсхила (525-
456 гг. до н.э.) «Агамемнон», первой части трилогии «Орестея», Антигона - главная героиня
одноименной трагедии Софокла (496-406 гг. до н.э.); Клеопатра - героиня трагедии
Шекспира «Антоний и Клеопатра» (1606-1607); леди Макбет - героиня трагедии Шекспира «Макбет»
(1606); Федра - героиня одноименной трагедии (1677) французского драматурга Жана Расина
766
Приложения
(1639-1699); Крессида - героиня трагедии Шекспира «Троил и Крессида» (1602, опубл. 1609);
Розалин да- героиня шекспировской комедии «Как вам это понравится» (1600);
Дездемона - героиня трагедии Шекспира «Отелло» (1604, опубл. 1622); герцогиня Мальфи - героиня
«Трагедии герпогини Мальфи» (1612 или 1613, опубл. 1623) Джона Уэбстера (ок. 1578 —
ок. 1632).
33 ...Милламант, Кларисса, Бекки Шарп, Анна Каренина, Эмма Бовари, госпожа де Гер-
мант... - Милламант- героиня комедии «Пути светской жизни» («The Way of the World»,
1700) У. Конгрива (1670-1729); Кларисса - героиня одноименного романа (1747-1749) С.
Ричардсона (1689-1761); Бекки Шарп- героиня романа УМ. Теккерея «Ярмарка тщеславия»
(1847); Анна Каренина - героиня одноименного романа (1873-1877) Л.Н. Толстого; Эмма
Бовари - героиня романа Г. Флобера (1821-1889) «Госпожа Бовари» (1856); госпожа де Германт-
героиня романа М. Пруста (1871-1922) «В поисках утраченного времени» (1913-1927).
34Атосса - супруга Дария, мать Ксеркса из трагедии Эсхила (525-456 гг. до н.э.) «Персы».
35 ...достойным соперником Гермионы, Андромахи, Береники, Роксаны, Федры, Ата-
лии? - Здесь перечислены героини трагедий Ж.Расина: «Андромаха» (1667), «Береника»
(1670), «Баязет» (1672), «Федра» (1677), «Аталия» (1691).
36 ...сравним с Сольвейг, Норой, Геддой, Хильдой Вангель Ребеккой Вест... - Здесь
перечислены героини пьес норвежского драматурга Генрика Ибсена (1828-1906): «Пер Гюнт»
(1867), «Кукольный дом» (1879), «Гедда Габле» (1890), «Женщина с моря» (1888), «Росмер-
схольм» (1886).
37 лорд-мэнор - крупный землевладелец.
38 Цистерцианцы - монахи ордена, основанного в 1098 г. в аббатстве Сито (Citeaux).
39 Обри о ней едва упоминает. - Имеется в виду известный биограф и собиратель XVII в.
Обри Джон (1626-1697), автор «Собрания историй» («Miscellanies», 1696) и
«Жизнеописаний» («Lives», 1693), которые послужили источником знаний о людях XVII в., их быте,
нравах и т.д.
40 ...студентке из Гэртона или Ньюнхема... - Имеется в виду один из двух женских
колледжей, в которых представительницы женского пола могли получить университетское
образование в 1920-е годы. См. выше примеч. 3.
41 ...трагедий Джоанны Бейли... - Речь идет о шотландском драматурге и поэте Бейли
Джоанне (1762-1851).
42 ...готическиероманы Мери Митфорд... - См. выше примеч. 2.
43 ...по мнению Эдварда Фитцджеральда... - Имеется в виду известный литератор и
переводчик Омара Хайама, трагедий Эсхила и Софокла Фитцджеральд Эдвард (1809-1883).
44 Каррел Белл, Джордж Элиот, Жорою Санд - Здесь названы псевдонимы известных
английских и французской писательниц XIX в.: под именем «Каррел Белл» скрывались
Шарлотта, Эмили и Анна Бронте; Джордж Элиот - псевдоним Мери Энн (позднее Мэриан) Эванс;
Жорж Санд - это псевдоним Авроры Дюдеван.
45 Перикл - афинский военный и политический деятель (ок. 495-429 гг. до н.э). Под
«веком Перикла», или «Золотым веком» имеют в виду 30 лет его правления с 461 по 429 г.
до н.э., между Персидской и Пелопонесской войнами, отмеченные расцветом афинской
культуры. См. примеч. 34 к эссе «О глухоте к греческому слову» на с. 637 наст. изд.
46 ...в отличие от Альфа, Берта или Чеса... - Английский аналог выражения «Иванов,
Петров, Сидоров».
47 Руссо был первый... - Вулф, видимо, имеет в виду «Исповедь» («Les Confessions»,
1781-1788) и «Прогулки одинокого мечтателя» («Les Rêveries du premeneur solitaire», 1782)
Жан-Жака Руссо (1712-1778).
4S«...Могучие поэты в невзгодах погибают» - Цитата из поэмы У. Вордсворта
«Решимость и независимость» («Resolution and Independence», 1802) приводится в переводе по:
Wordsworth W. Selected / With an Introduction and Notes by D. Ferrry // The Laurel Poetry Series /
Gen. ed. K. Wilbur. N.Y., 1973. P. 94.
Примечания
767
49 Специалисту-медику с Гарли-стрит... - На лондонской Гарли-стрит традиционно
размещаются приемные кабинеты врачей, работающих на условиях частной практики.
50 ...г-на Оскара Браунинга... - Речь идет о кембриджском преподавателе истории
Браунинге Оскаре (1837-1923).
51 Даже леди Бесборо... - Имеется в виду Генриетта, графиня Бесборо (1761-1821), мать
писательницы леди Каролайн Лэм (1785-1828), возлюбленная Дж.Г. Байрона.
52 Флоренс Найтингейл - Найтингейл Флоренс (1820-1910), литератор, реформатор
больничной системы в Англии во второй половине XIX в.
53 Вспомните те слова, что завещал он высечь на своем надгробье. - «Здесь покоится тот,
чье имя писано было на воде» («Here lies the one whose name was writ in water») - авторская
эпитафия Дж. Китса.
54 Леди Уинчилси- Финч Энн, герцогиня Уинчилси (1661-1720), поэт, автор сборника
стихов «Разные стихи на случай» («Miscellany Poems on Several Occasions», 1713).
55 Как пали мы! В плену у образца ~ Надежда расцвести в сомненьи гибнет. - Цитата из
стихотворения леди Уинчилси «Вступление» приводится в переводе по: Finch А.К. The Introduction //
The Poems of Anne Countess of Winchilsea / Ed. by Myra Reynolds. Chicago, 1903. P. 6.
56 Увы! лишь женщина возьмет перо ~ Вершина мастерства в искусстве дамском. -
Ibid. Р. 4-5.
57 В утеху другу пой, моя свирель ~ Смирись, и да сомкнутся глуше своды. - Ibid. Р. 6.
58 Так с блекнущей парчой всегда не в лад /Непревзойденной розы дивный склад. - Цитата
из стихотворения леди Уинчилси «Сплин» приводится в переводе по: Finch А.К. The Spleen:
A Pindaric Poem // The Poems of Anne Countess of Winchilsea. P. 250.
59 Вдруг овладеет разумом жонкиль, /Душистый плен, и вырваться нет сил - Ibid. Р. 249.
Это двустишие леди Уинчилси использовал А. Поуп в своей поэме «Эссе о человеке» («Essay
on Man», 1733-1734).
60 Стих высмеян, в занятииузрет /Каприз никчемный, самомненья бред. - Ibid. Р. 250.
61 Рука - затейница созвучий странных ^ Непревзойденной розы дивный склад. - Ibid.
Р. 250.
62 ...Поуп или Feu... - Речь идет об Александре Поупе, см. выше примеч. 25, и о его
сподвижнике Гее Джоне (1685-1732), драматурге и поэте-классицисте.
63 ...судя по его «Тривии»... - «Тривия» («Trivia», 1716) - сатирическая пьеса Дж. Гея.
64...герцогине, любимице Чарлза Лэма, фантазерке и оригиналке Маргарет Ньюкасл... -
См. примеч. 1 к эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 664 наст, издании.
65«Женщины живут, как Мыши или Совы, пашут, как рабочая Скотина, умирают,
словно Твари...» - См. примеч. 9 к эссе «Герцогиня Ньюкасл» на с. 665 наст. изд.
66 Сэр Эджертон Бриджес - Бриджес Сэмюэл Эджертон (1762-1837) - издатель,
библиограф, опубликовавший автобиографию и стихи Маргарет Кэвендиш, герцогини Ньюкасл.
67 ...письма некой Дороти Осборн... - Имеется в виду Осборн Дороти (1627-1695), автор
эпистолярного памятника XVII в. См. эссе «"Письма" Дороти Осборн» на с. 230-235 наст. изд.
^«Конечно, бедная женщина немного не в себе, иначе зачем бы она стала писать, да еще
стихи, делая из себя посмешище; я б до такого позора никогда не дошла». - Цитата из письма
Дороти Осборн Уильяму Темплу от 14 апреля 1653 г. приводится в переводе по: The Letters of
Dorothy Osborne to William Temple / Ed. by G.C.Moore-Smith. Oxford, 1928. P. 37. См. примеч.
5 к эссе «"Письма" Дороти Осборн» на с.700 наст. изд.
69«После обеда мы сидим и разговариваем ~ сижу и жалею, что тебя нет рядом...» -
См. примеч. 11 к эссе «Аркадия графини Пемброк» на с. 698 наст. изд.
70 миссис Бен - речь идет о Бен Афре (1640-1689), сочинительнице пьес, стихов и
романов, самое известное ее произведение - философский роман «Оруноко, или История
королевского раба» («Oroonoko, or the History of the Royal Slave», 1688).
71 ...поклониться борцовской тени Элизы Картер... - Речь идет о Картер Элизабет (1717-
1806) - английском поэте-классицисте и переводчице.
768
Приложения
12«Первым среди лириков» была женщина. - Вулф, очевидно, имеет в виду Сапфо (VII в.
до н.э.), названную Платоном десятой музой Эллады.
73 мисс Эмили Дейвис - Дейвис Сара Эмили (1830 - 1921) - английская суфражистка,
боровшаяся за права женщин, в первую очередь за их право на университетское образование.
Дейвис - одна из основательниц женского колледжа Гэртон в Кембридже (именно его Вулф
часто упоминает в своем эссе) - первого в Англии высшего образовательного учреждения для
женщин, и первый его глава.
74 миссис Фэрфекс - второстепенный персонаж романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»,
экономка в доме Рочестера.
75 Аделъ - персонаж романа «Джейн Эйр», воспитанница Рочестера.
1в«тогда я мечтала обладать такой силой воображения ~ Оставшись одна, я не раз
слышала смех Грейс Пул...» - Цитата из 12-й главы романа Ш. Бронте «Джейн Эйр»
приводится в переводе по: Bronte Ch. Jane Eyre. N.Y., 1994. P. 112-113.
11 ...им приходилось буквально по дестям покупать бумагу... -Десть - мера писчей бумаги.
78 ...на загородную виллу в Сент-Джонз-Вуд... - См. эссе «Джордж Элиот» на с. 129-137
наст. изд.
79Я хочу быть правильно понятой... я никого к себе не приглашаю, кроме тех, кто сам
пожелал прийти». - См. примеч. 15 к эссе «Джордж Элиот» на с. 679 наст. изд.
80 ...интонациями сэра Эджертона Бриджеса... - См. выше примеч. 66.
81 Лэм, Браун, Теккерей, Ньюмен, Стерн, Диккенс, Де Квинси... - Вулф называет
английских писателей XVII-XIX вв., чье творчество стало вехой в развитии английской литературы
и литературного языка.
82«Грандиозность создаваемого не останавливала их ~ усилие же вознаграждается
успехом». - Данное высказывание - обобщение Вулф.
83 ...видишь Джонсона, Гиббона... - Речь идет о двух выдающихся деятелях XVIII в.:
английском критике, поэте, драматурге, составителе словаря Джонсоне Сэмюэле (1709-1784),
см. примеч. 1 к «Предисловию» Вулф на с. 652 наст, изд., и о Гиббоне Эдварде (1737-1794),
выдающемся английском историке, авторе труда «История упадка и падения Римской
империи» («The History of the Decline and Fall of the Roman Empire», 1788).
84 ...книги Джейн Хэррисон no греческой археологии, Верной Ли по эстетике, Гертруды
Белл о Персии. - Хэррисон Джейн Эллен (1850-1928), автор трудов по антропологии и
культуре Древней Греции, см. примеч. 18; Ли Верной (наст, имя Виолетта Паже, 1856-1935),
плодовитый эссеист, романист, автор многих сочинений о культуре и искусстве Италии, см. примеч.
37 к «Современному эссе» на с. 687 наст, изд.; Белл Гертруда (1868-1926),
путешественница, знаток Ближнего востока, автор книги «Сафар Намех: Картины Персии» («Safar Nameh:
Persian Pictures», 1894) и др.
85 ...роман Мери Кармайкл ... - Мери Кармайкл - вымышленный персонаж, обобщенный
образ молодой писательницы 1920-х годов. См. выше примеч. 4 на с. 764 наст. изд.
86 ...Эммы и м-ра Вудхауза... - Герои романа Дж. Остен «Эмма». См. эссе Вулф «Джейн
Остен» на с. 106-116 наст. изд.
87 сэр Шартр Бирон - судья, принявший решение в ноябре 1928 г. запретить публикацию
романа «Источник одиночества» («The Well of Loneliness», 1928) английской писательницы
Холл Рэдклиф (1883-1943) как не соотвествующего традиционному канону изображения
отношений между двумя женщинами. Судебный процесс, инициированный журналистом
Джеймсом Дугласом, вызвал острую полемику среди писателей, а судья Бирон стал мишенью для
критики.
88 У Мередита в «Диане с перепутья»... - Речь идет о романе Мередита Джорджа
«Диана с перепутья» («Diana of the Crossways», 1885). См. эссе «Джордж Мередит» на с. 355-363
наст. изд.
Примечания
769
89 ...в романе, даже у Пруста... - Вулф имеет в виду современный роман в целом и в
частности романы Пруста Марселя (1871-1922), французского писателя, автора семитомного
романа «В поисках утраченного времени» («À la recherche du temps perdu», 1913-1927).
90 ...биографии Джонсона, Гете, Карлайла, Стерна, Шелли, Каупера, Вольтера,
Браунинга... -Здесь перечислены английские, немецкие и французские писатели XVIII-XIX вв.
91 сэр Уильям Джойнсон-Хикс - Джойнсон-Хикс Уильям (1865 - 1932), прозванный
современниками Джиксом, - политик-консерватор, министр внутренних дел с 1924 по 1929 г.,
занявший сторону обвинения в деле о запрете на публикацию романа «Источник одиночества»
Р. Холл. См. выше примеч. 87.
92 У каждого Джонсона есть своя Трэйл ^ из его жизни точно «ушел свет». - Об
истории взаимоотношений Сэмюэля Джонсона и миссис Трэйл см. примеч. 22-34 к эссе «Званый
вечер у д-ра Бёрни» на с. 711 наст. изд.
93 Эдуарда VII - король Великобритании Эдуард VII (1841-1910).
94 ...семидесятый анализ Китса... - Здесь Вулф иронизирует над эпигонами от
науки. Р. Якобсон, определяя синхронию и диахронию в литературе, указал, что
синхроническое изучение литературы должно включать не только современные тексты, но и
произведения прошлого. Характерно, что в качестве примера последних Якобсон приводит
поэзию Китса, отмечая, что она присутствует в сознании англоязычных читателей середины
XX в., тогда как поэзия Байрона - уже нет.
95 ...замечаний Ювенала, критики Стриндберга. - Ювенал (Juvenalis Decimus Junius) (ок.
60 - ок. 136 гг. н.э.) - римский поэт, прославился 16 сатирами, высмеивавшими пороки своего
века; ему подражали многие английские поэты XVII-XVIII вв., Драйден написал предисловие
(1693 г.) к своему переводу из «Сатир» Ювенала. Стриндберг Август (1849 - 1912), шведский
драматург и писатель, автор пьес «Мисс Жюли» («Miss Julie», 1888), «Пляска смерти» («The
dance of Death», 1901) и др.
96 М-р Вудхауз и м-р Кейсобон... - Герои романов «Эмма» Дж. Остен и «Миддлмарч»
Дж. Элиот соотвественно.
97 Уайтхолл - улица в Лондоне, где находятся правительственные учреждения.
98 ...будь он знаком с мисс Клоф и мисс Дейвис. - Клоф Энн Джемайма (1820-1892),
основательница колледжа Ньюнхем в Кембридже и первый его глава; об Эмили Дейвис см. выше
примеч. 72.
99 ...к шеренгам книг м-ра Голсуорси и м-ра Киплинга... - Имеются в виду
многочисленные сочинения английских писателей начала XX в., старших современников Вулф, Голсуорси
Джона (1867-1933) и Киплинга Редьярда (1865-1936).
100 ...старика Джолиона... - Герой романа Дж. Голсуорси (1867-1933) «Сага о
Форсайтах» («The Forsyte Saga», 1922), глава семейства Форсайтов.
101 Уолтер Рэлей - Рэлей Уолтер Александр (1861-1922), профессор английской
литературы в Оксфорде. См. примеч. 17 к эссе «Я - Кристина Россетти» на с. 739 наст. изд.
102 ...к той счастливой поре до мисс Клоф и мисс Дейвис... -Иносказательно о том
времени, когда женщины еще не начали борьбу за университеское образование и за свои права.
См. выше примеч. 98.
103 Мери Бетон -см. выше примеч. 4.
104 ...табель о рангах Уитеккеровского альманаха... - Имеется в виду «Альманах Уитек-
кера» (1868) - энциклопедический справочник по вопросам государственного устройства,
учреждений, финансов и т.д., составленный Уитеккером Джозефом (1820-1895).
105 ...капитан ордена Бани... - Почетный орден Бани - рыцарский знак отличия,
установленный Георгом I в 1725 г. Название ордена происходит от средневековой церемонии
посвящения в рыцари, элементом которой было омывание (символ очищения). Рыцари, прошедшие
обряд омывания, именовались рыцарями Бани.
770
Приложения
106 Сэр Артур Квиллер-Куч - Квиллер-Куч Артур Томас (1863-1944), писавший под
псевдонимом «Q», плодовитый литератор, критик, профессор английской литературы в
Кембридже, автор «Нового кембриджского издания Шекспира» (1921).
107 ...Ките, павший жертвой Атропос... - Иносказательно о ранней безвременной
смерти Джона Китса, см. выше примеч. 26. Атропос (букв, неотвратимая), или Мойра, -
древнегреческая богиня судьбы, перерезающая нить жизни.
108 ...с Джоном Клером... - Речь идет о Клере Джоне (1793-1864), поэте трагической
судьбы: он провел в доме для умалишенных более 20 лет.
109 ...с Джеймсом Томсоном... - Имеется в виду английский поэт Томсон Джеймс (1834—
1882), начавший писать стихи после службы в армии, автор поэмы «Город тьмы» («The City
of Dreadful Night», 1874).
110 ...госпоже ли Мурасаки... - Речь идет о Мурасаки Шикибу (конец X - начало XI в.) -
японской писательнице, поэте, авторе «Повести о Генжи», которую иногда называют
средневековым романом.
111 ...чтение и «Лира», и «Эммы», и «В поисках утраченного времени». - Речь идет о
произведениях, созданных в разные исторические эпохи: трагедии У. Шекспира «Король Лир»
(1606), романе Дж. Остен «Эмма» (1816), романе М. Пруста «В поисках утраченного
времени» (1913-1927).
112 сэр Арчибальд Бодкин - речь идет о сэре Бодкине Арчибальде (1862 - 1957),
английском адвокате, в 1920-1930 гг. возглавлявшем службу надзора за общественными
нарушениями; нетерпимом противнике публикации «непристойных» произведений литературы. См.
выше примеч. 87.
113 Джон Дейвис- Лэнгдон-Дейвис Джон Эрик (1897-1971), британский литератор и
журналист, воевавший в Испании во время гражданской войны. Примечательно, что именно
Дейвис, которого Вулф поддела за его высказывание о детях и женщинах, после Второй
мировой войны стал учредителем международного фонда помощи испанским детям, потерявшим
родителей и оказавшимся в положении беженцев.
114 ...тринадцать детей у миссис Сетон... - См. выше примеч. 4.
СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
фронтиспис
Вирджиния Вулф. Фотография 1925 г.
альбом
Вирджиния с матерью Джулией Стивен. 1884 г.
Вирджиния с братом Адрианом. 1900 г.
Вирджиния с сестрой Ванессой. 1890-е годы
Тэланд-хауз в Сент-Айвз, Корнуолл
Сад перед домом
Портрет Лесли Стивена работы Ванессы Белл. 1901 г.
Вирджиния Стивен. 1902 г.
Вирджиния с матерью и отцом. 1892 г.
Леонард и Вирджиния Вулф. 1912 г.
Хогарт-хауз в Ричмонде. 1910-е годы
Типографский станок Вулфов. Хогарт-хауз
Леонард и Вирджиния Вулф. 1939 г.
Обложка первого издания «Обыкновенного читателя» (1925) работы Ванессы
Белл
Титульный лист «Обыкновенного читателя» 1925 г. с экслибрисом Вулфов
Обложка первого издания эссе «М-р Беннет и миссис Браун» (1924) работы
Ванессы Белл
Обложка первого издания «Своей комнаты» (1929) работы Ванессы Белл
Страница из «Нэйшн энд Атенеум» с эссе Вулф «Половина Томаса Гарди» ( 1928)
Обложка второй серии «Обыкновенного читателя» (1932) работы Ванессы
Белл
Обложка первого издания рассказов Вулф «Сады Кью» (1917), выполненная
Ванессой Белл
Обложка первого издания романа Вулф «На маяк» (1927), выполненная Ванессой
Белл
Обложка первого издания эссе Вулф «О болезни» (1931), выполненная Ванессой
Белл
Обложка первого издания эссе Вулф «Три гинеи» (1938), выполненная Ванессой
Белл
Вирджиния Вулф и Т.С. Элиот. 1920-е годы
Вирджиния Вулф и Литтон Стречи. 1920-е годы
Вирджиния Вулф в платье матери позирует для журнала «Вог». 1926 г.
772
Список иллюстраций
Вирджиния Вулф в Манкс-хаузе. 1932 г.
Вирджиния Вулф. Фотография Мана Рея. 1934 г.
Вирджиния Вулф. 1939 г.
Лондон во время фашистских бомбежек. 1939 г.
Манкс-хауз под снегом
Мост через реку Уз в Сассексе
в тексте
Страница рукописи эссе Вулф «Чеховские вопросы» (1918) 405
Страница рукописи «Своей комнаты» (1929) 462
на суперобложке
Вирджиния Вулф. Фотография 1902 г.
Обложка первого издания эссе «М-р Беннет и миссие Браун» (1924) работы
Ванессы Белл
В издании использованы иллюстрации
из следующих книг:
The Letters of Virginia Woolf/ Ed. by Nigel Nicolson and Joanne Trautmann. N.Y.;
L., 1976.
Lee К Virginia Woolf. L., 1996.
Briggs J. Virginia Woolf: An Inner Life. L., 2005.
Hussey M. Virginia Woolf: A-Z. The Essential Reference to Her Life and Writings.
New York; Oxford, 1995.
СОДЕРЖАНИЕ
ВИРДЖИНИЯ ВУЛФ
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. 1925
(перевод Н.И. Рейнгольд)
Текст
Примечания
Обыкновенный читатель 7 652
Пэстоны и Чосер 8 653
О глухоте к греческому слову 25 655
Елизаветинский сундук 38 658
Заметки на полях елизаветинских пьес 45 660
Монтень 53 662
Герцогиня Ньюкасл 61 664
Бродя по Ивлину 69 665
Дефо 76 667
Аддисон 83 669
Забытая жизнь 92 671
Джейн Остен 106 673
Современная литература 117 675
«Джейн Эйр» и «Грозовой перевал» 123 677
Джордж Элиот 129 678
Русская точка зрения 137 680
Силуэты 145 681
I. Мисс Митфорд 145 681
II. Д-р Бентли 150 682
III. Леди Дороти Невил 155 683
IV. Архиепископ Томсон 159 683
Покровитель и подснежник 163 684
Современное эссе 166 685
Джозеф Конрад 176 687
На взгляд современника 182 688
774 Содержание
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ. Серия 2. 1932
(перевод Н.И. Рейнгольд)
Текст
Примечания
Неизвестные елизаветинцы 193 690
Джон Донн триста лет спустя 204 694
«Аркадия графини Пемброк» 216 697
«Робинзон Крузо» 224 699
«Письма» Дороти Осборн 230 700
Свифтовский «Дневник для Стеллы» 236 702
«Сентиментальное путешествие» 243 704
Письма лорда Честерфилда к сыну 250 706
Два священника 255 707
I. Джеймс Вудфорд 255 707
II. Преподобный Джон Скиннер 261 708
Званый вечер у д-ра Бёрни 267 709
ДжекМитн 280 712
Автобиография Де Квинси 285 713
Четыре фигуры 291 714
I. Каупер и леди Остен 291 715
П. Beau Браммел 297 716
III. Мери Уолстоункрафт 304 717
IV. Дороти Вордсворт 309 719
Уильям Хэзлит 315 722
Джеральдина и Джейн 325 725
«Аврора Лей» 337 729
Племянница графа 347 733
Джордж Гиссинг 351 734
Романы Джорджа Мередита 355 736
«Я - Кристина Россетти» 364 738
Романы Томаса Гарди 370 739
Как читать книги? 380 741
ДОПОЛНЕНИЯ
Эссе
(перевод Н.И. Рейнгольд)
В. Вулф. «Казаки» Толстого 393 743
В. Вулф. Больше Достоевского 396 744
В. Вулф. Малый Достоевский 398 745
В. Вулф. Русский школьник 401 745
В. Вулф. Чеховские вопросы 404 746
В. Вулф. Валерий Брюсов 408 747
В. Вулф. Взгляд на революцию в России 410 749
В. Вулф. Русский взгляд 412 750
Содержание 775
Текст
Примечания
В. Вулф. Русский фон 414 751
В. Вулф. Достоевский в Крэнфорде 417 752
В. Вулф. «Вишневый сад» 419 753
В. Вулф. Горький о Толстом 421 754
В. Вулф. Мимолетный взгляд на Тургенева 423 754
В. Вулф. Достоевский в воспоминаниях дочери 425 755
В. Вулф. Силач без крепких кулаков 428 756
В. Вулф. Романы Тургенева 430 757
В. Вулф. «Дядя Ваня» 435 758
В. Вулф. М-р Беннет и миссис Браун 436 758
В. Вулф. Письмо к молодому поэту 452 761
В. Вулф. Своя комната 463 763
ПРИЛОЖЕНИЯ
Н.И Рейнгольд. Вирджиния Вулф и ее «Обыкновенный читатель» 525
Н.И. Рейнгольд. Русское путешествие Вирджинии Вулф 627
Примечания (составила Н.И. Рейнгольд) 652
Список иллюстраций 771
Вулф Вирджиния
Обыкновенный читатель / Вирджиния Вулф ; подгот. Н.И. Рейнгольд ; [Отв.
ред. А.Н. Горбунов]. - М. : Наука, 2012. - 776 с. - (Литературные памятники). -
ISBN 978-5-02-037542-0
Предлагаемая книга является академическим изданием собрания эссе Вирджинии Вулф
«Обыкновенный читатель» 1925 и 1932 гг. Это выдающееся произведение европейского модернизма, крупнейший
памятник английской эссеистики XX в., публикуется на русском языке впервые. Книга включает
переводы «Обыкновенного читателя», осуществленные по прижизненным изданиям. В состав ее входят 50
очерков, организованных хронологически и композиционно как история английской культуры от Чосера до
Конрада. В разделе «Дополнения» публикуются все эссе Вирджинии Вулф о русских писателях, а также
ее программные литературно-критические эссе «М-р Беннет и миссис Браун», «Письмо к молодому
поэту», и «Своя комната». Раздел «Приложения» включает статьи «Вирджиния Вулф и ее "Обыкновенный
читатель"» и «Русское путешествие Вирджинии Вулф». Книга иллюстрирована редкими фотографиями.
Для широкого круга читателей.
Научное издание
Вирджиния Вулф
ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧИТАТЕЛЬ
Утверждено к печати редколлегией серии
«Литературные памятники»
Редактор О.В. Гречухина. Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Ю.И. Духовская. Технический редактор ТА. Резникова
Корректоры Г.В. Дубовицкая, Е.А. Желнова, Т.А. Печко, Е.Л. Сысоева
Подписано к печати 15.10.2012. Формат 70 * 90'/]6. Гарнитура Тайме
Печать офсетная. Усл.печ.л. 58,0. Усл.кр.-отт. 60,2. Уч.-изд.л. 67,0
Тип. зак.1781
Издательство «Наука». 117997, Москва, Профсоюзная ул., 90
E-mail: secret@naukaran.ru www.naukaran.ru
ППП «Типография «Наука»
121099, Москва, Шубинский пер., 6